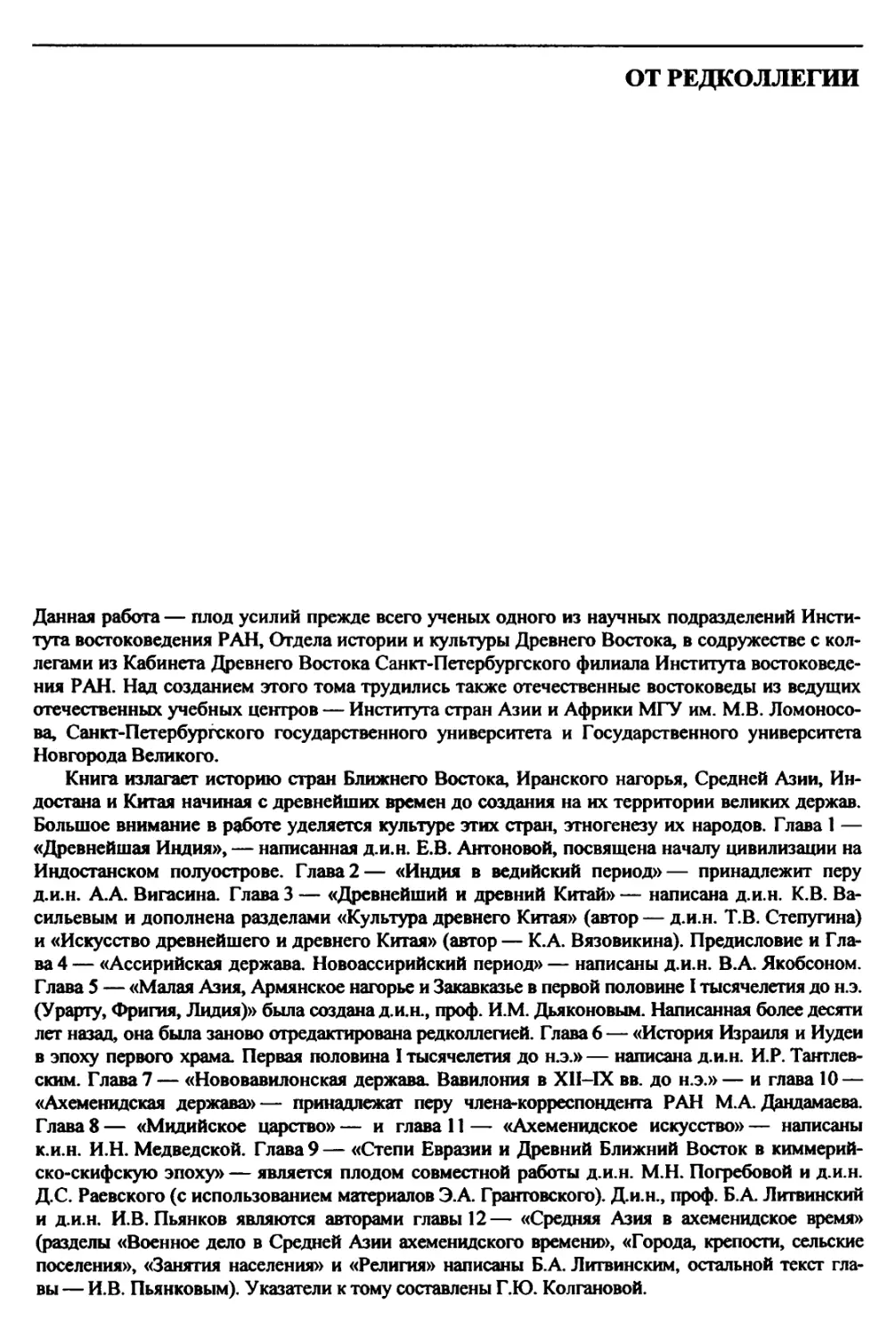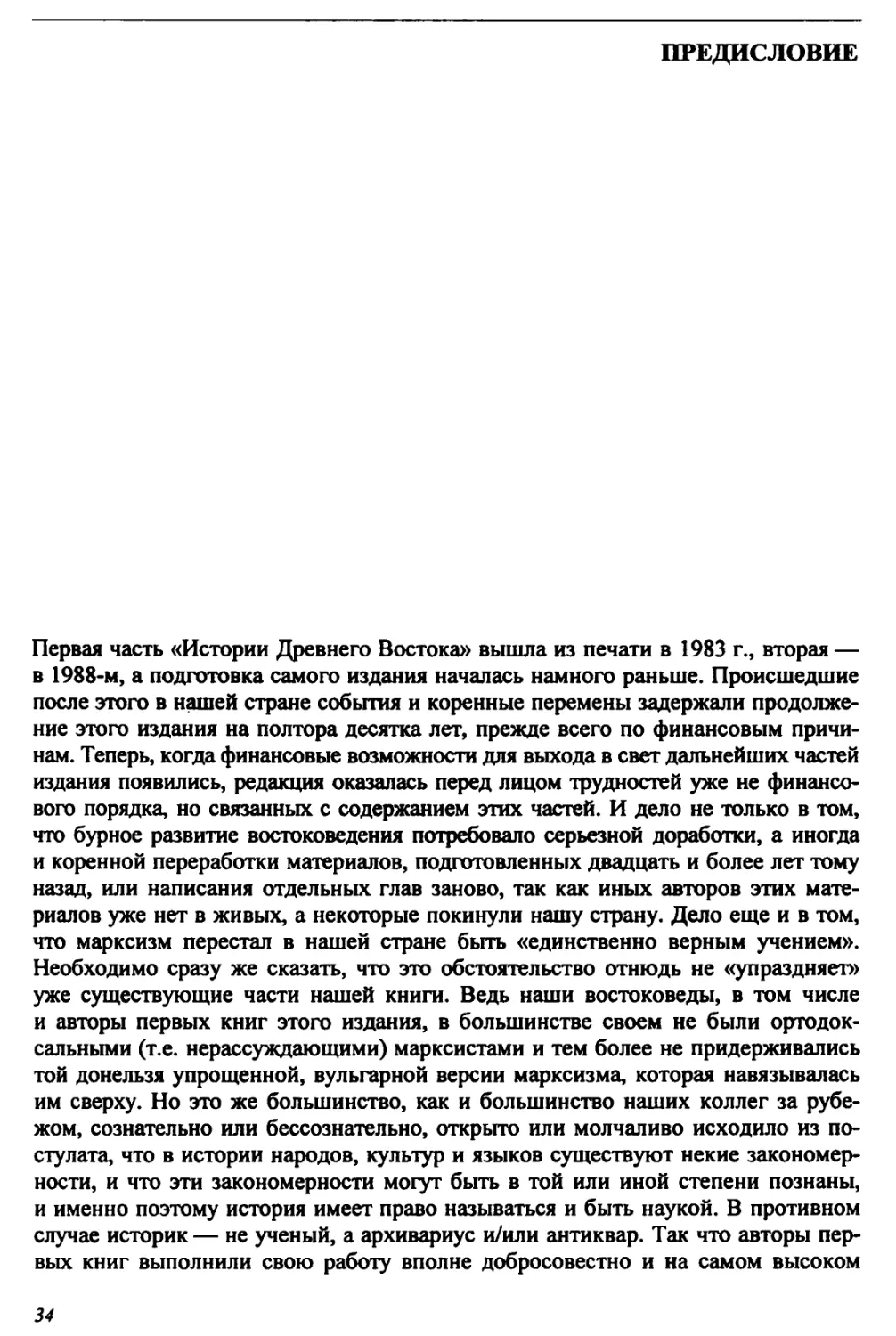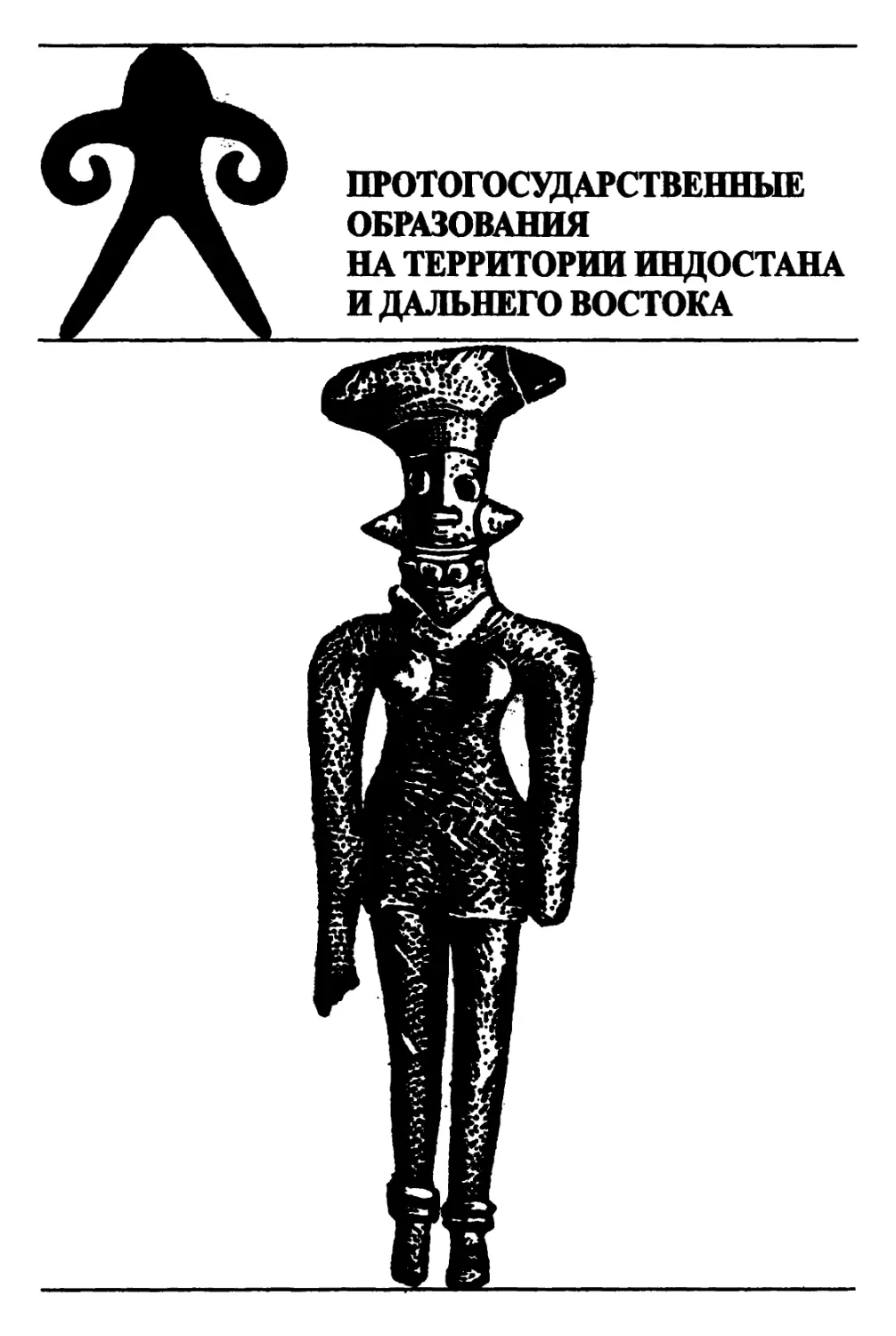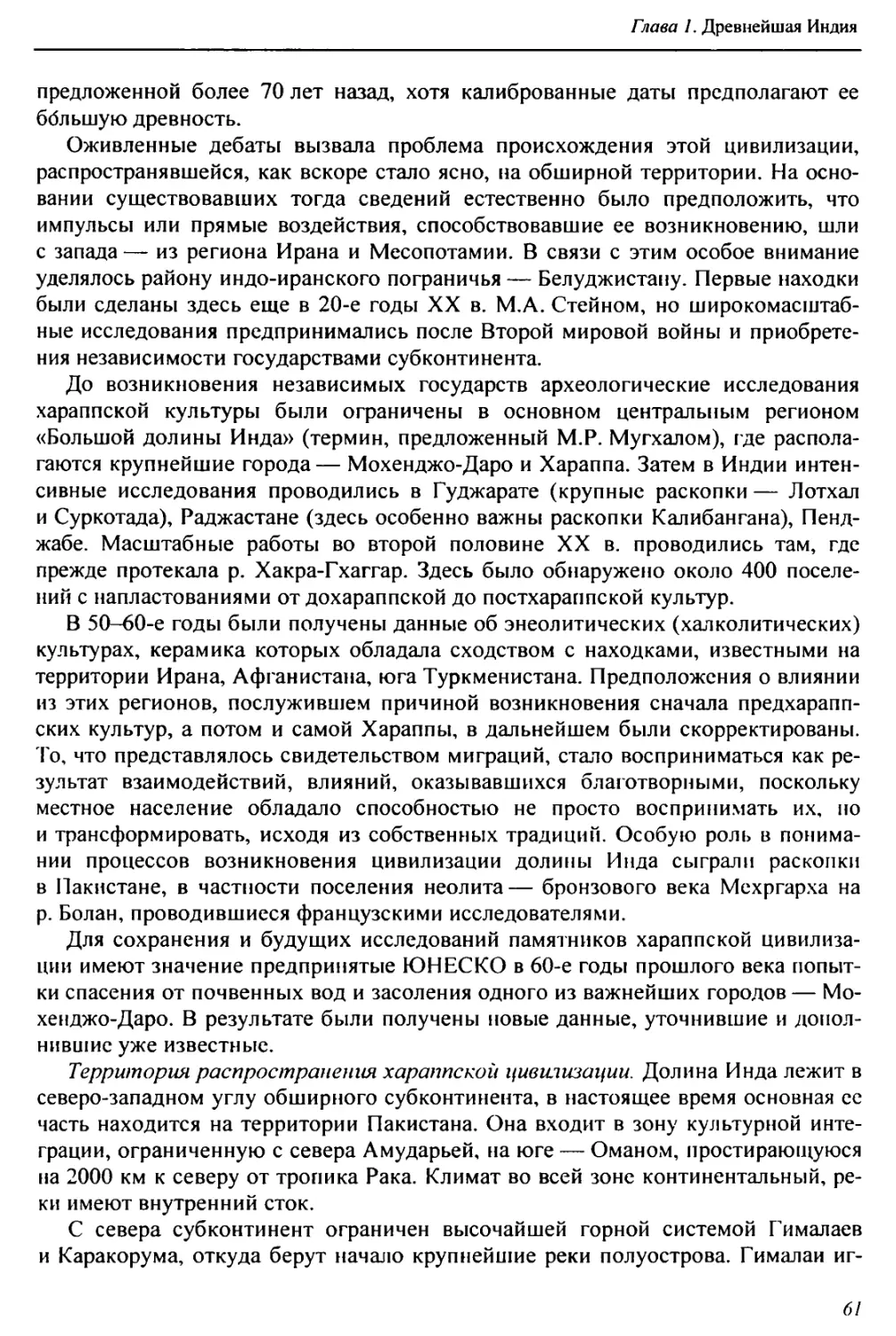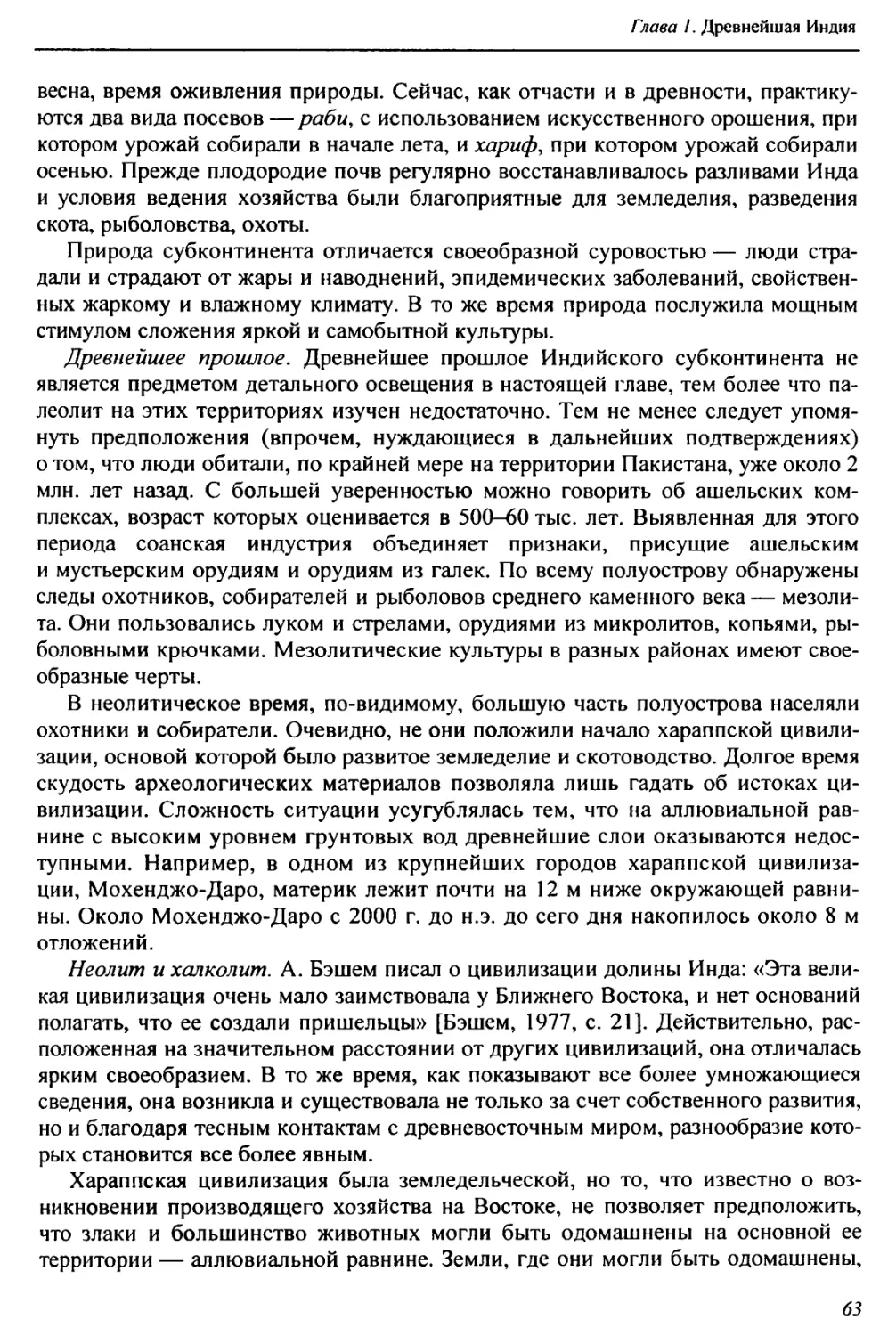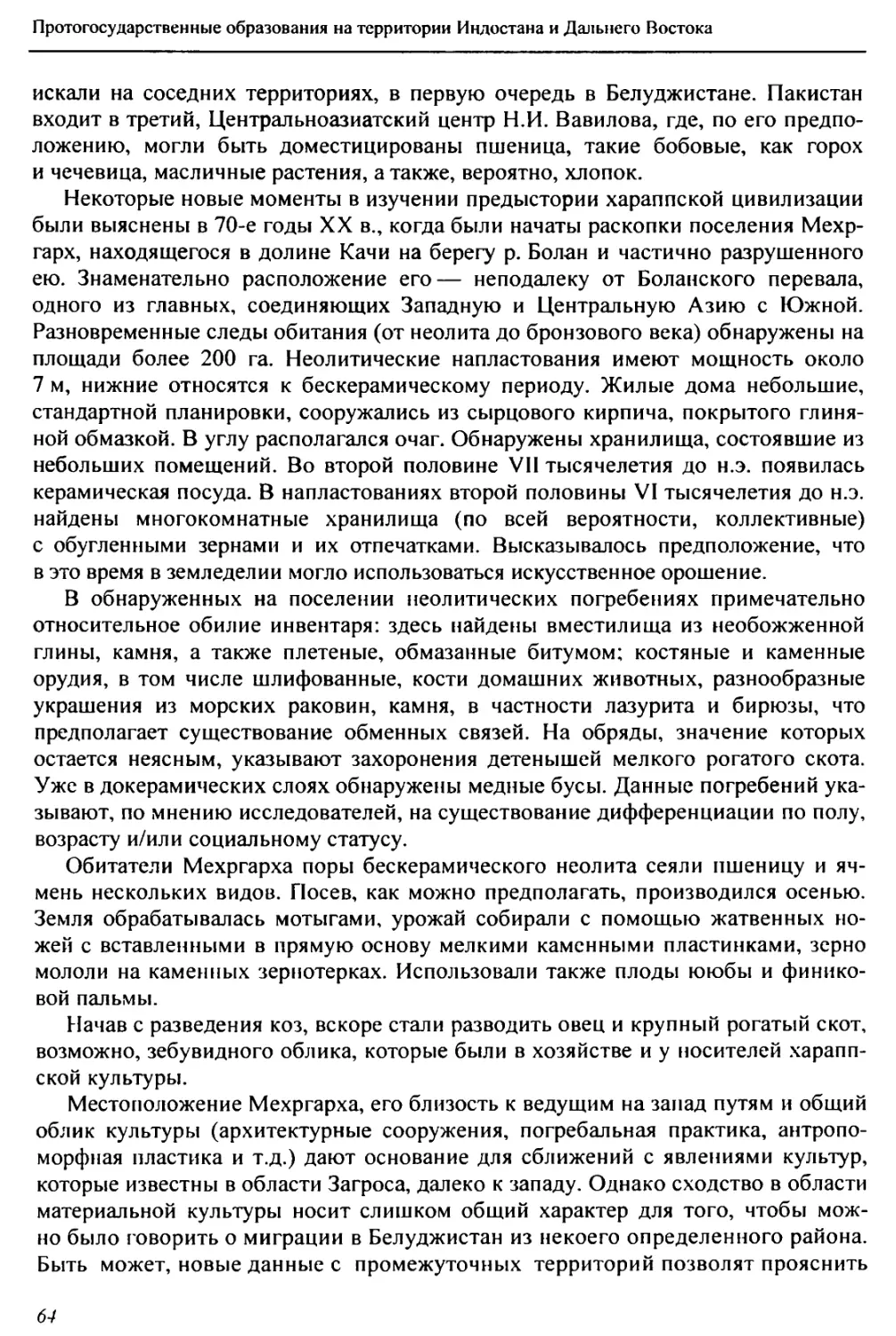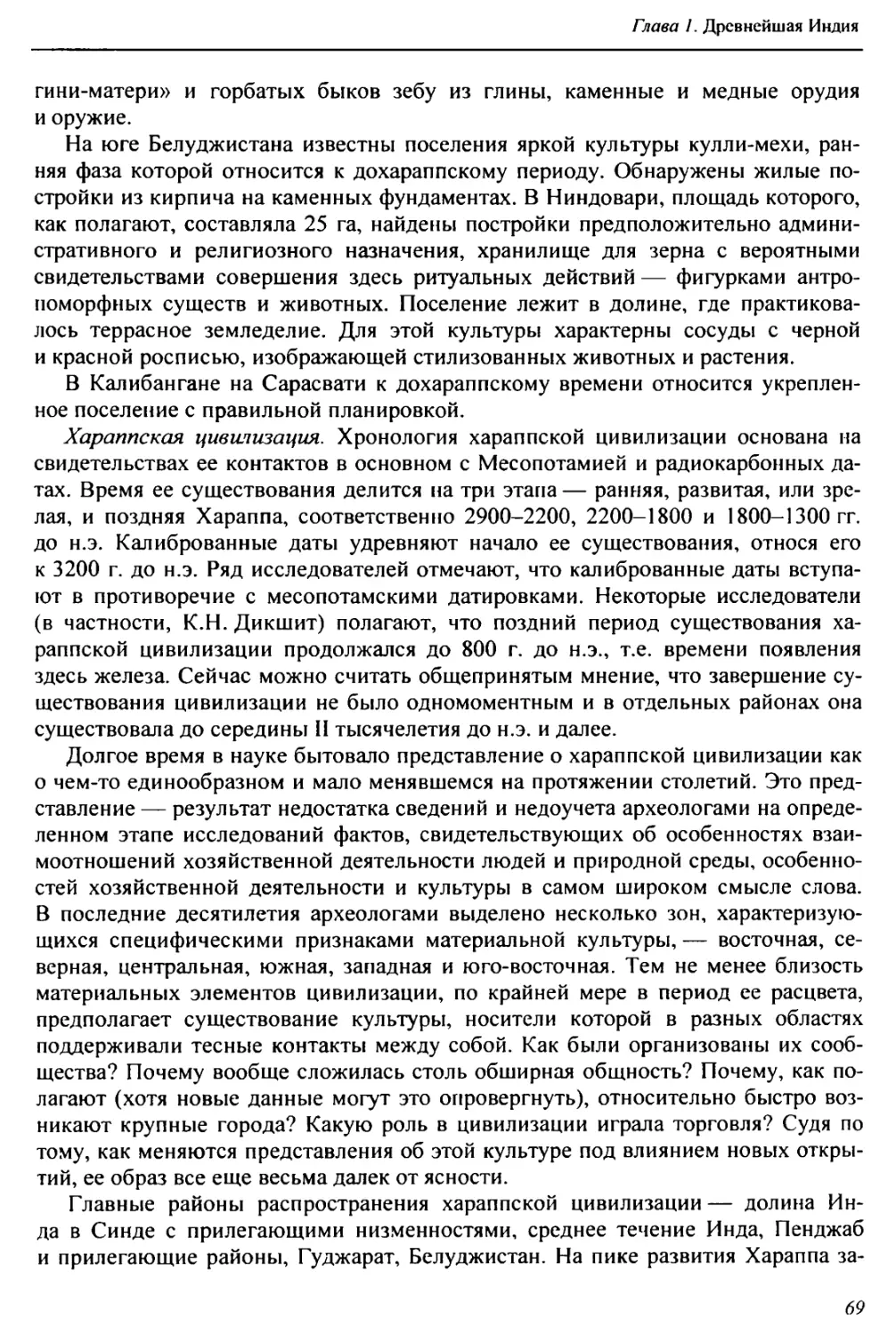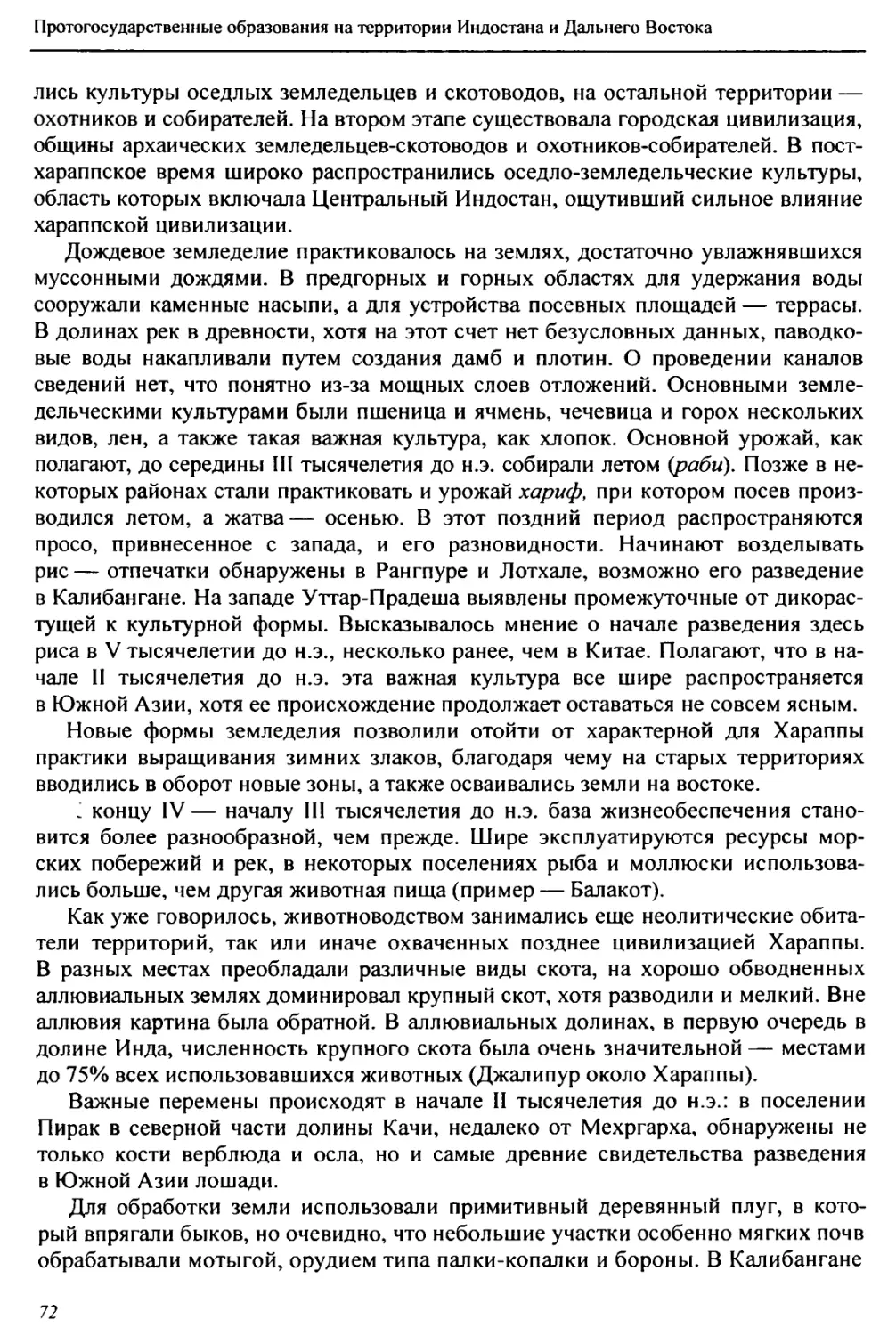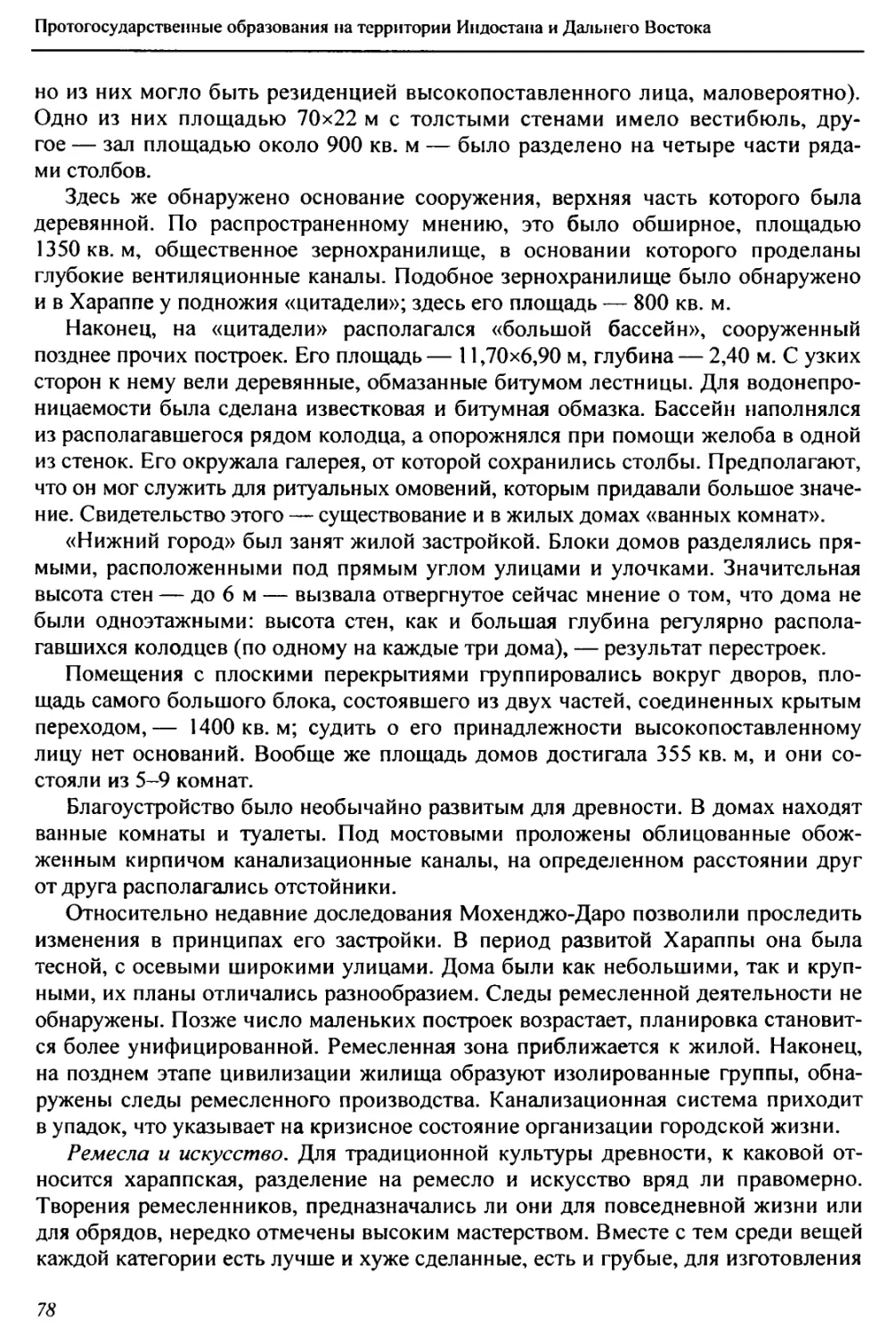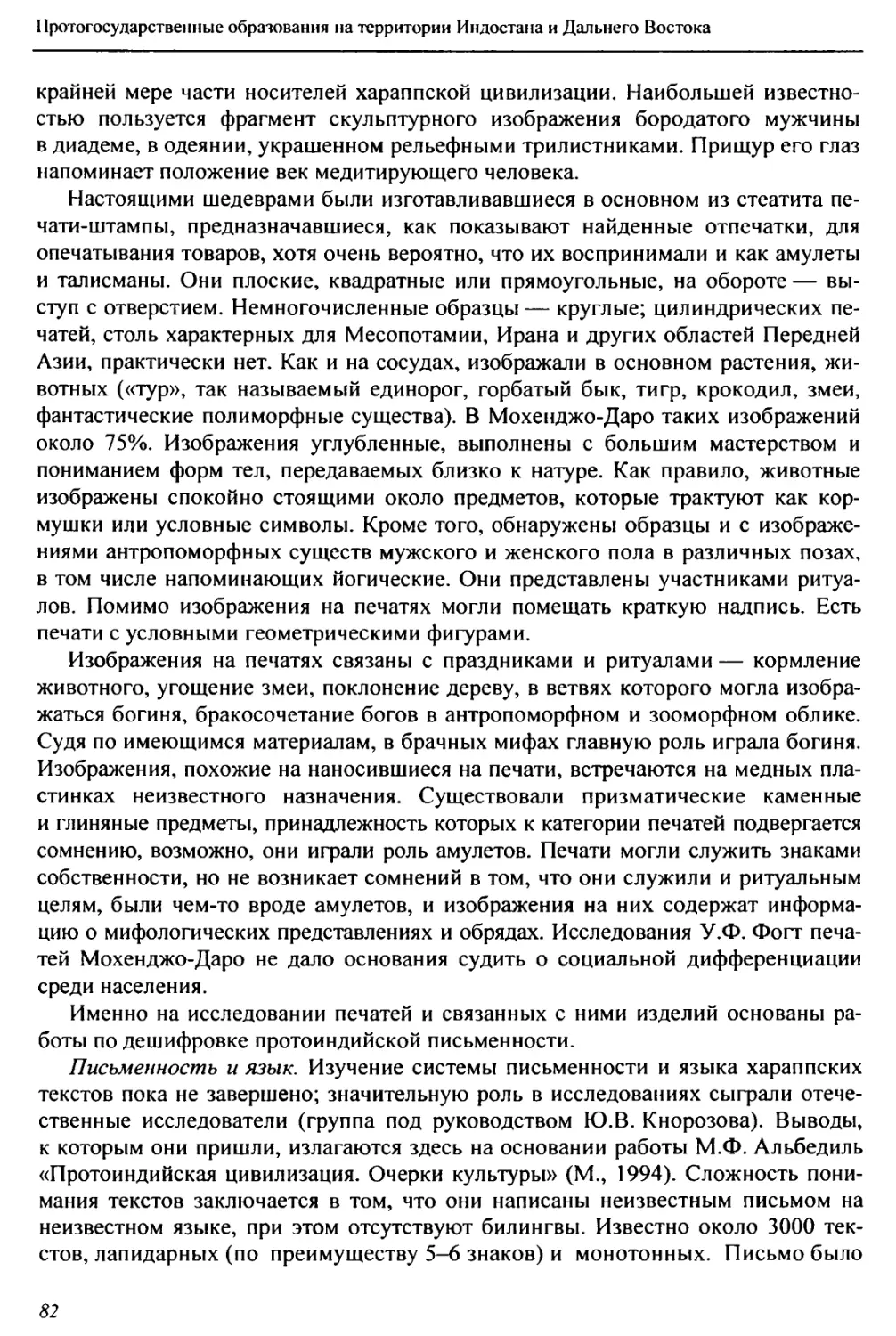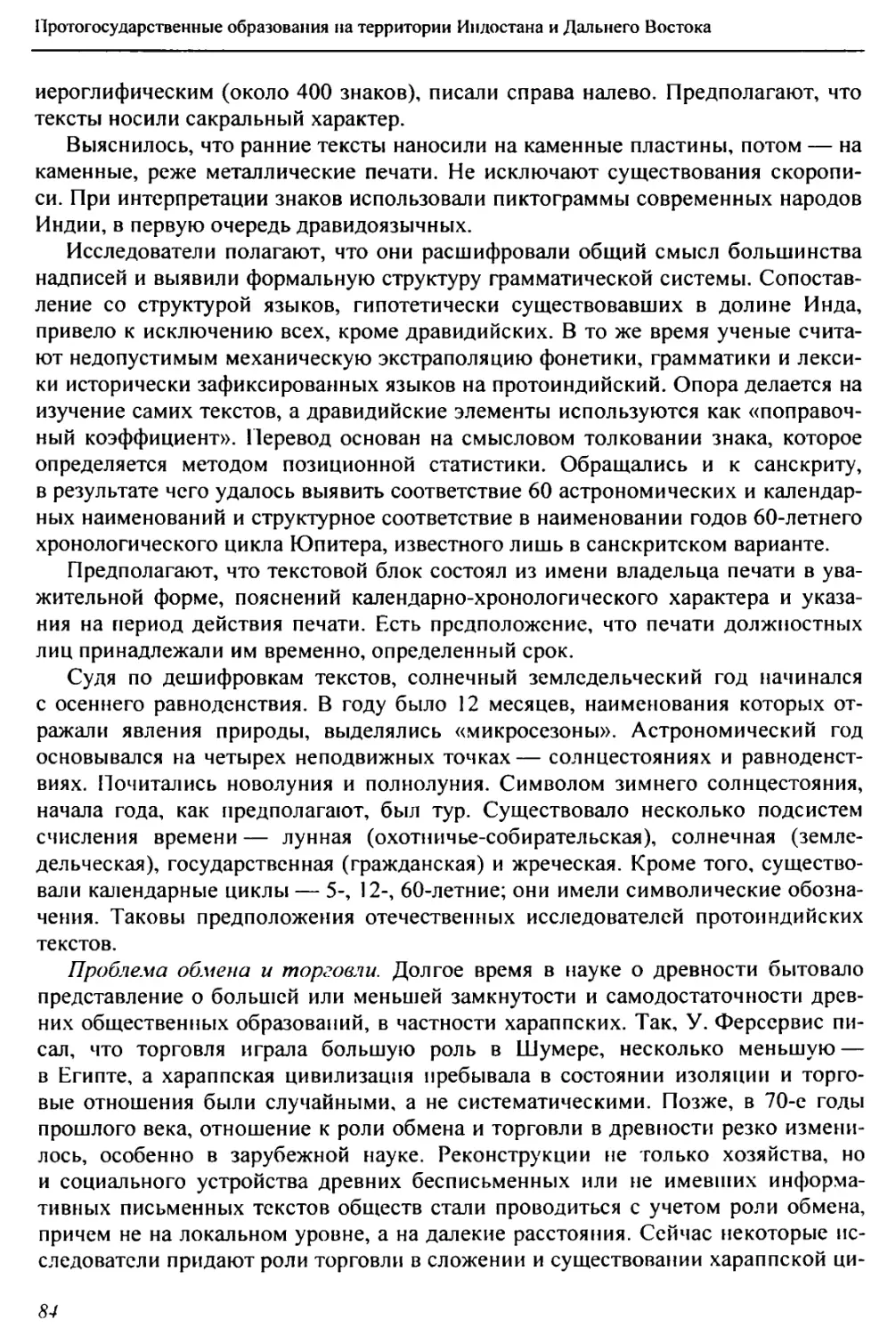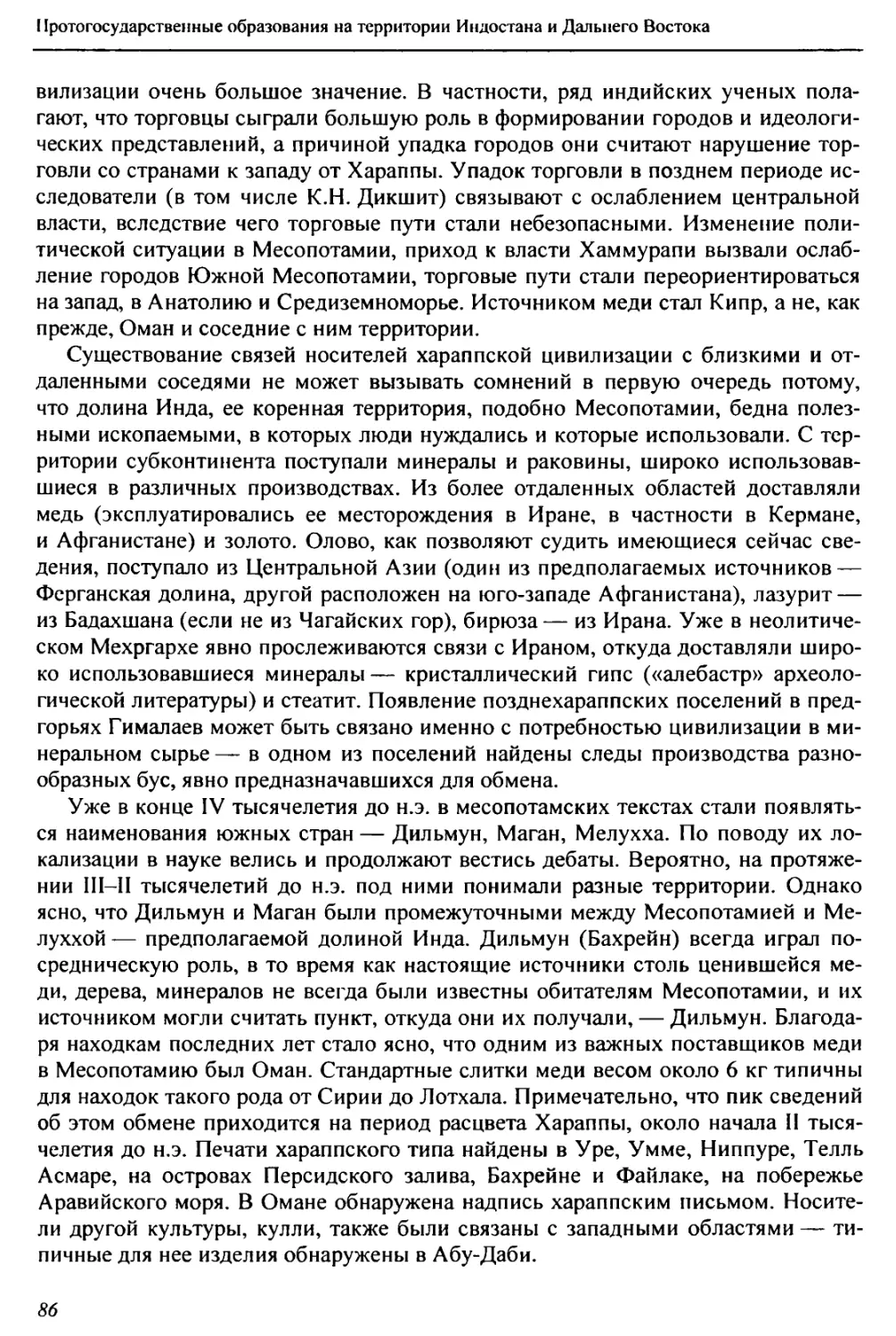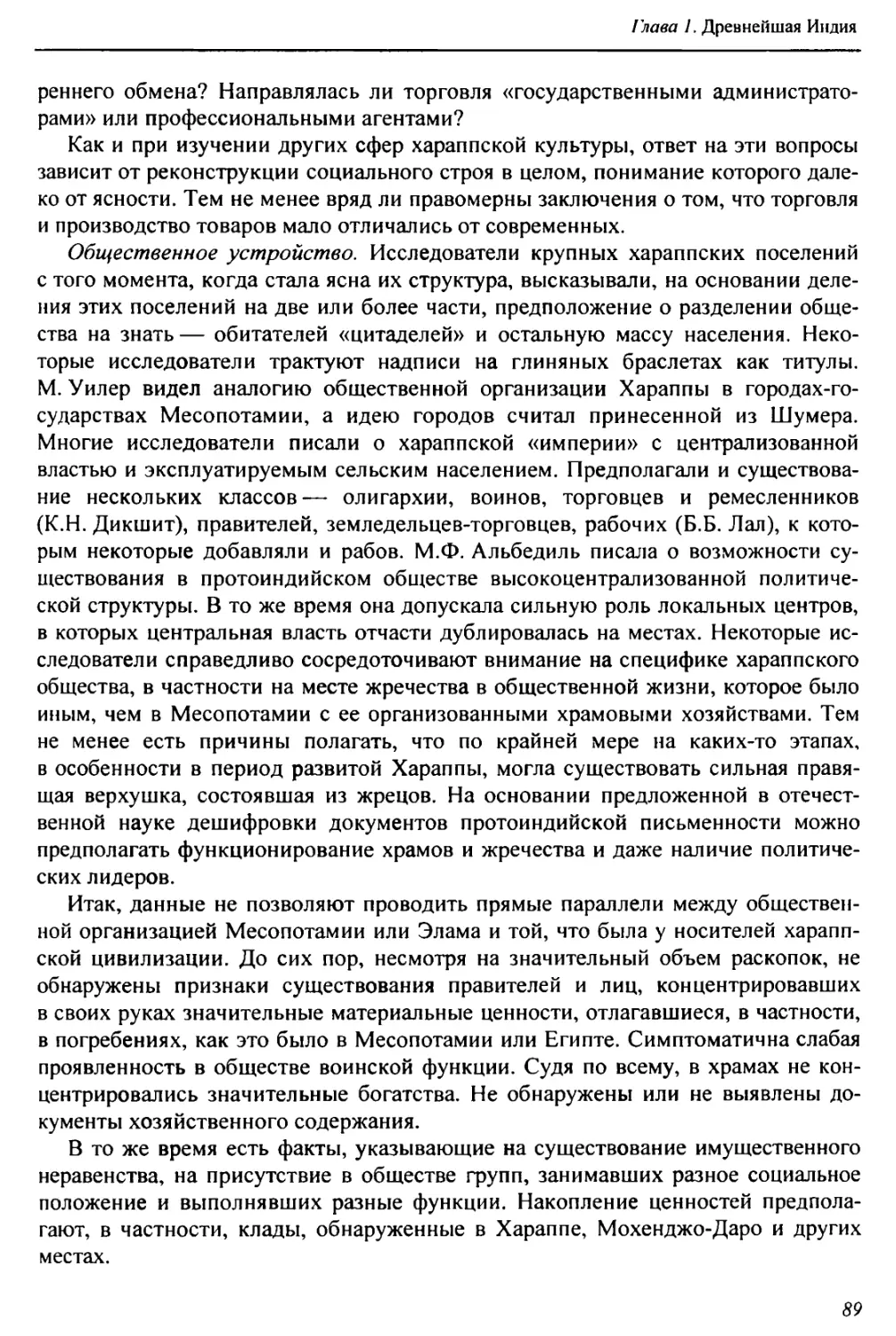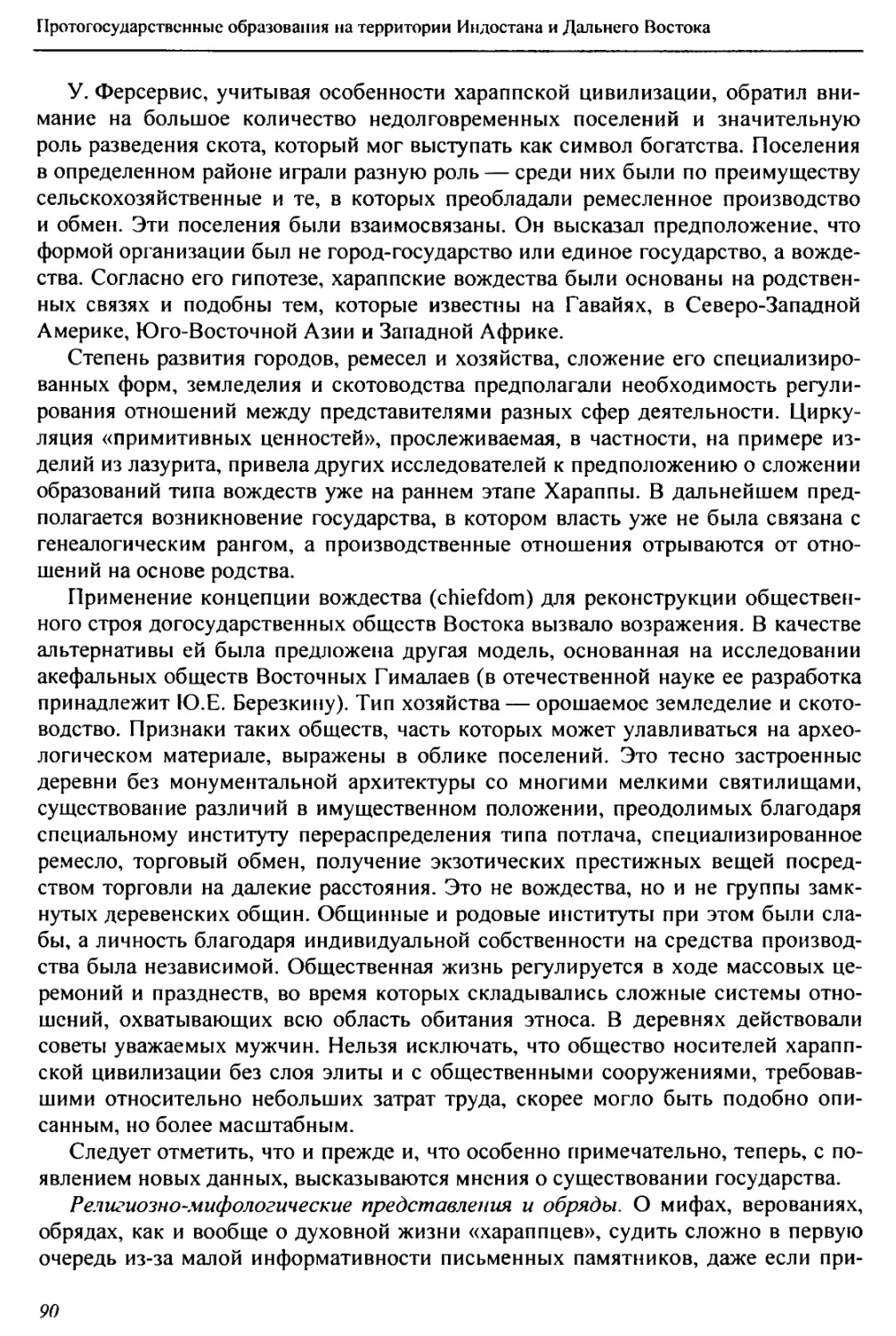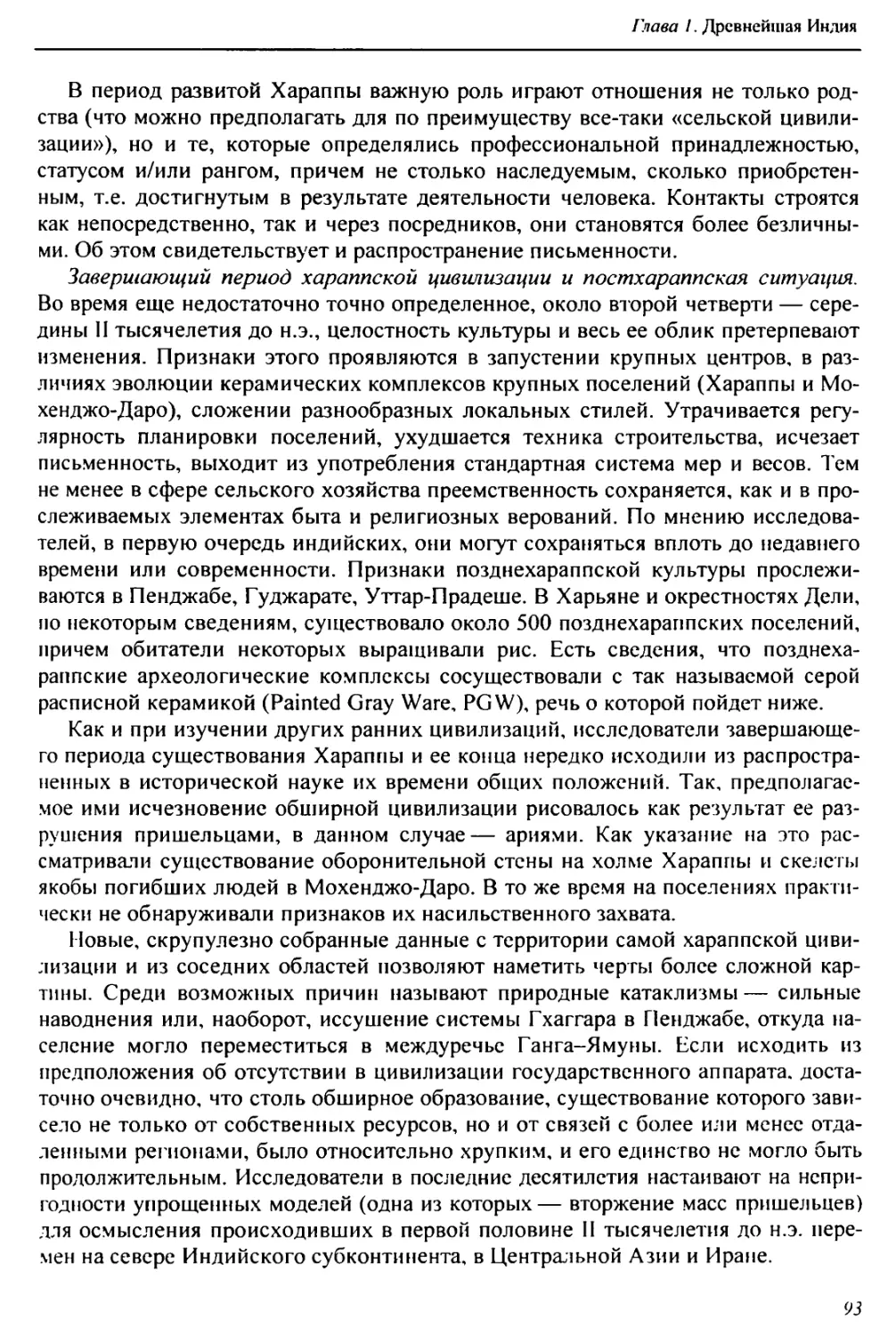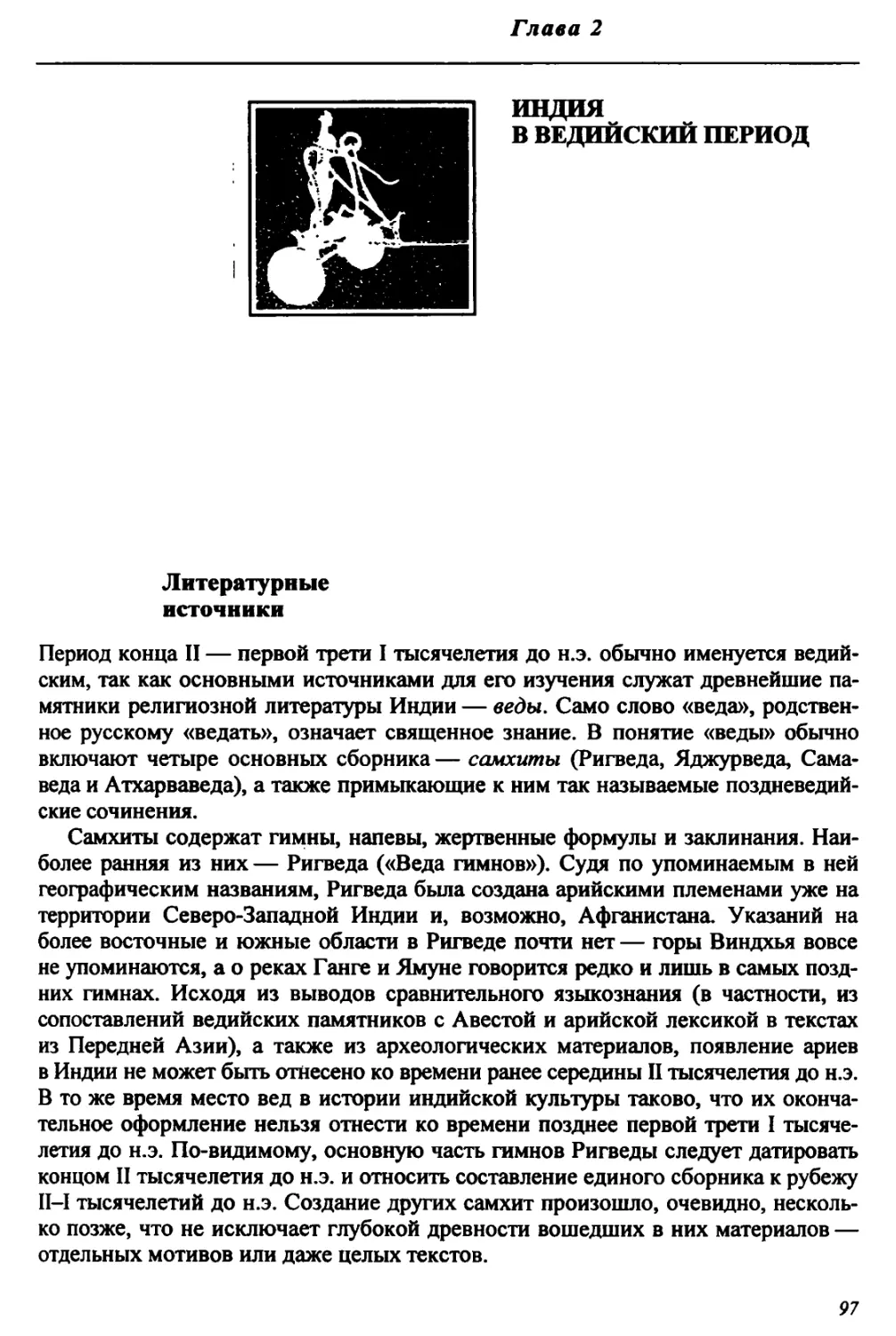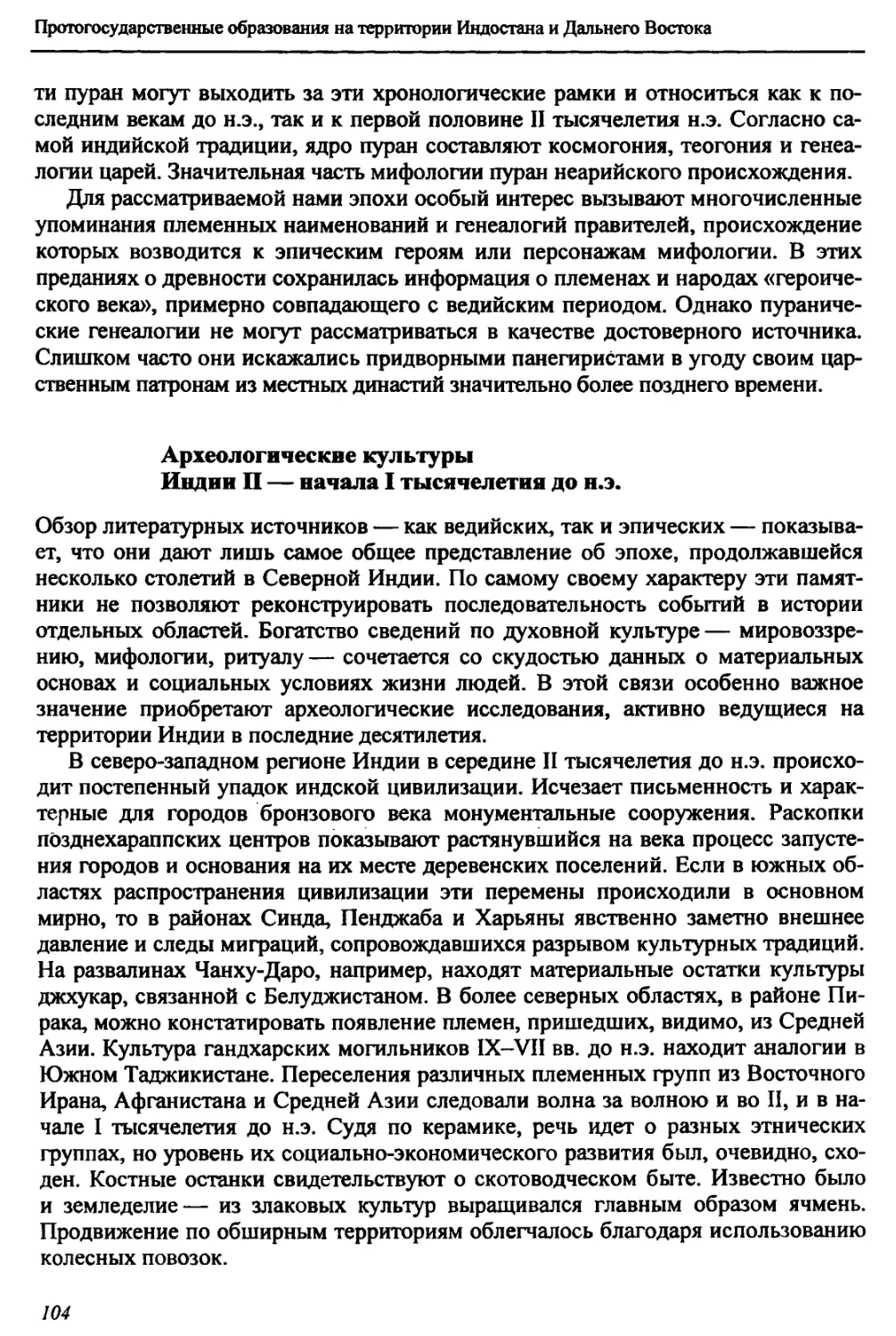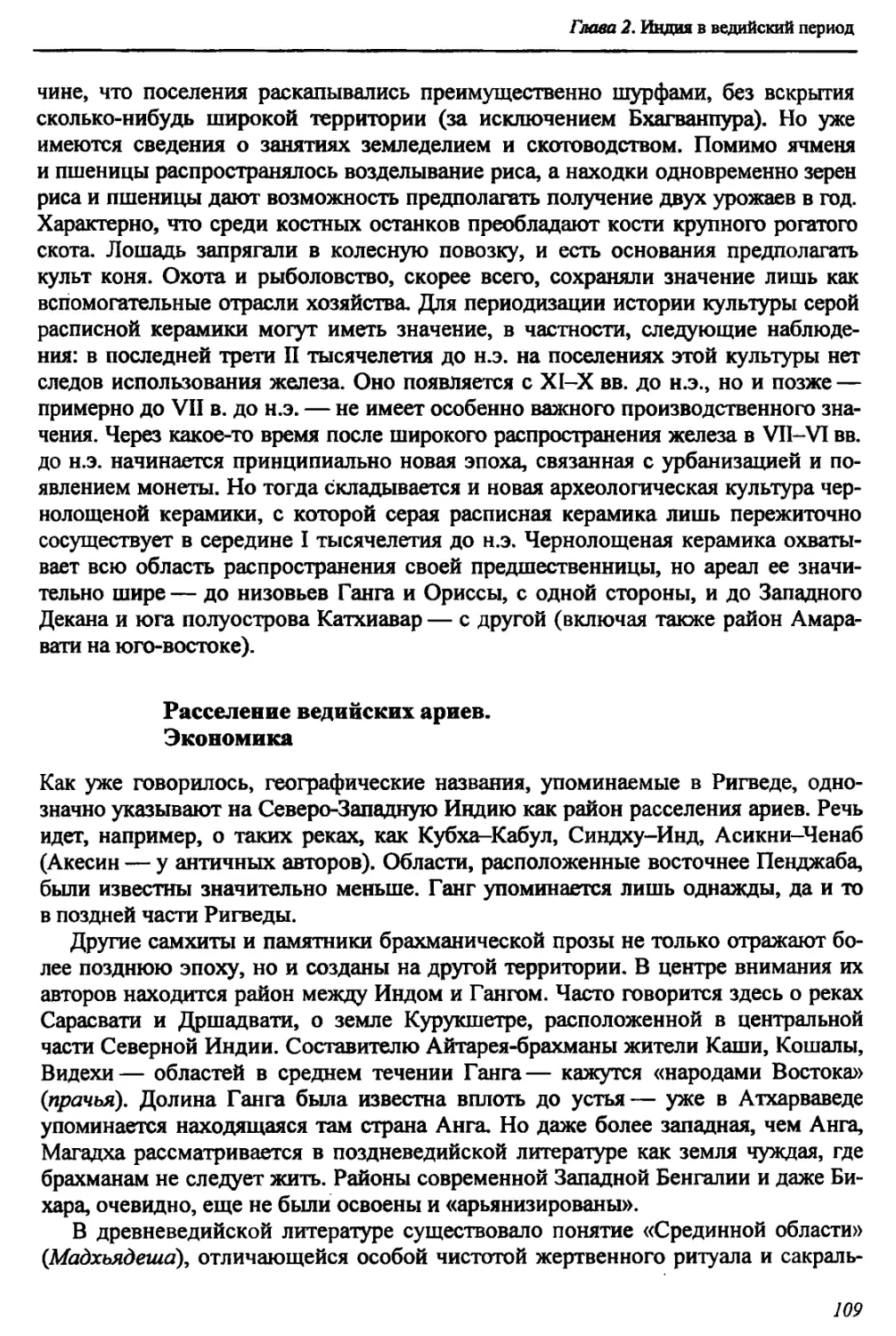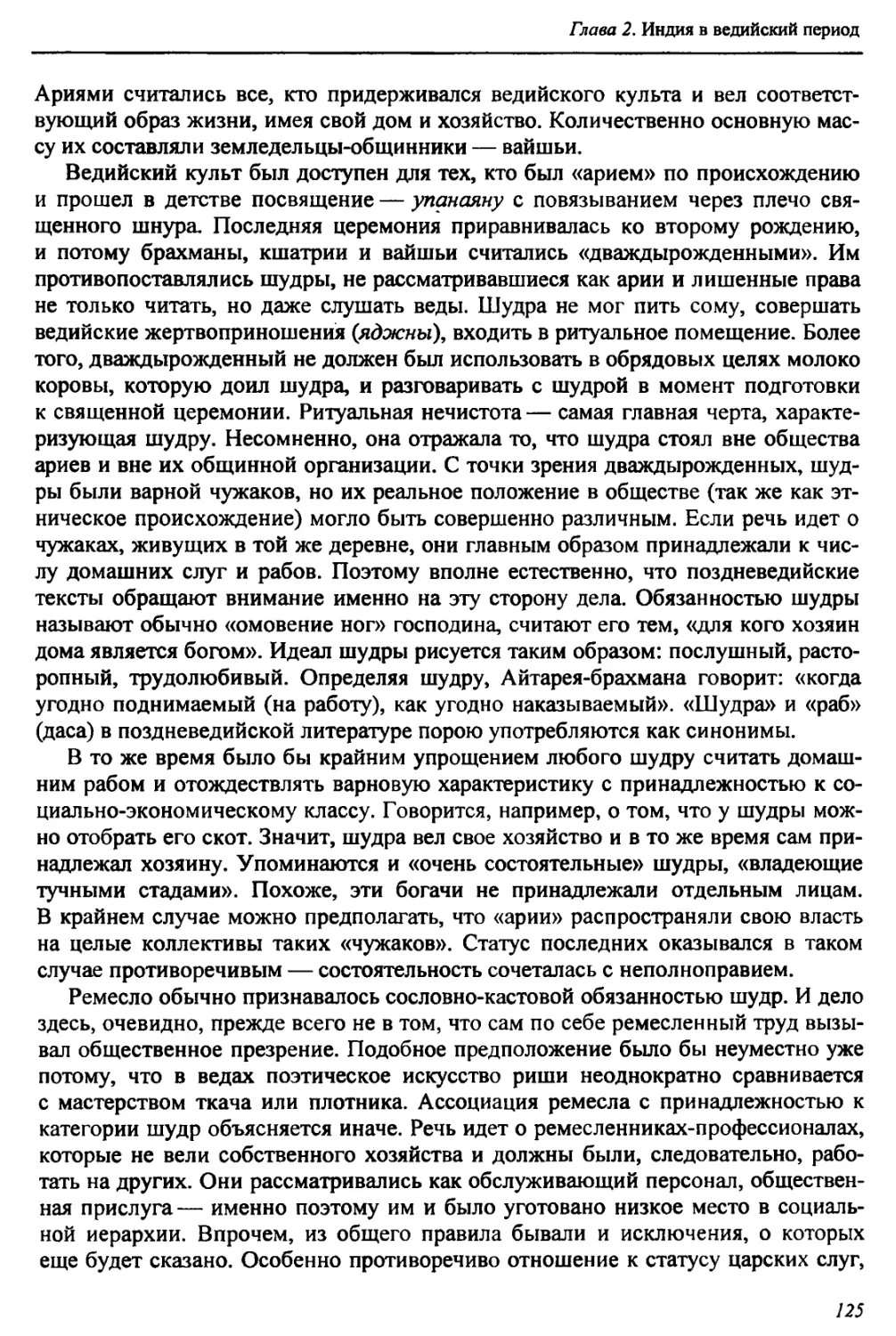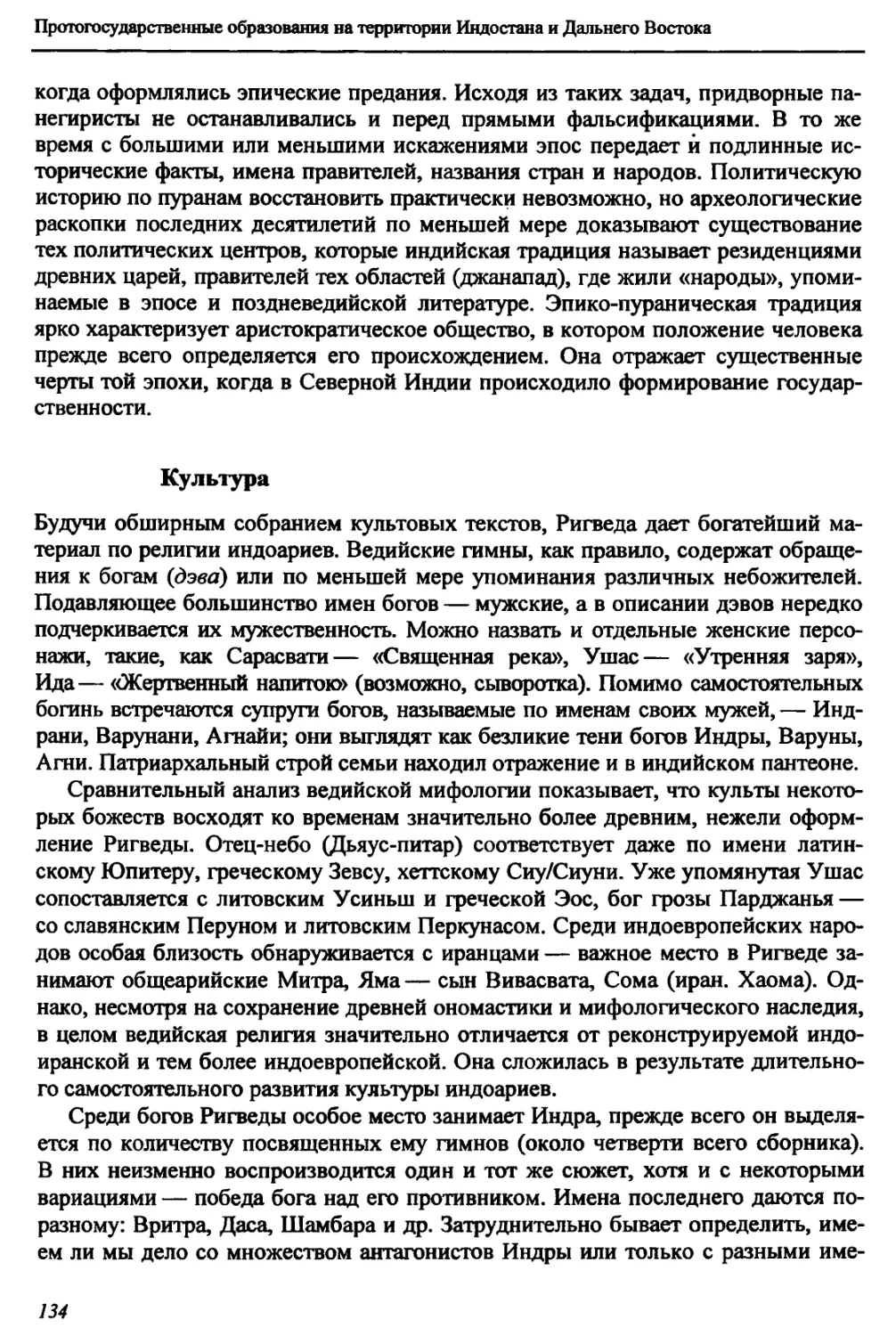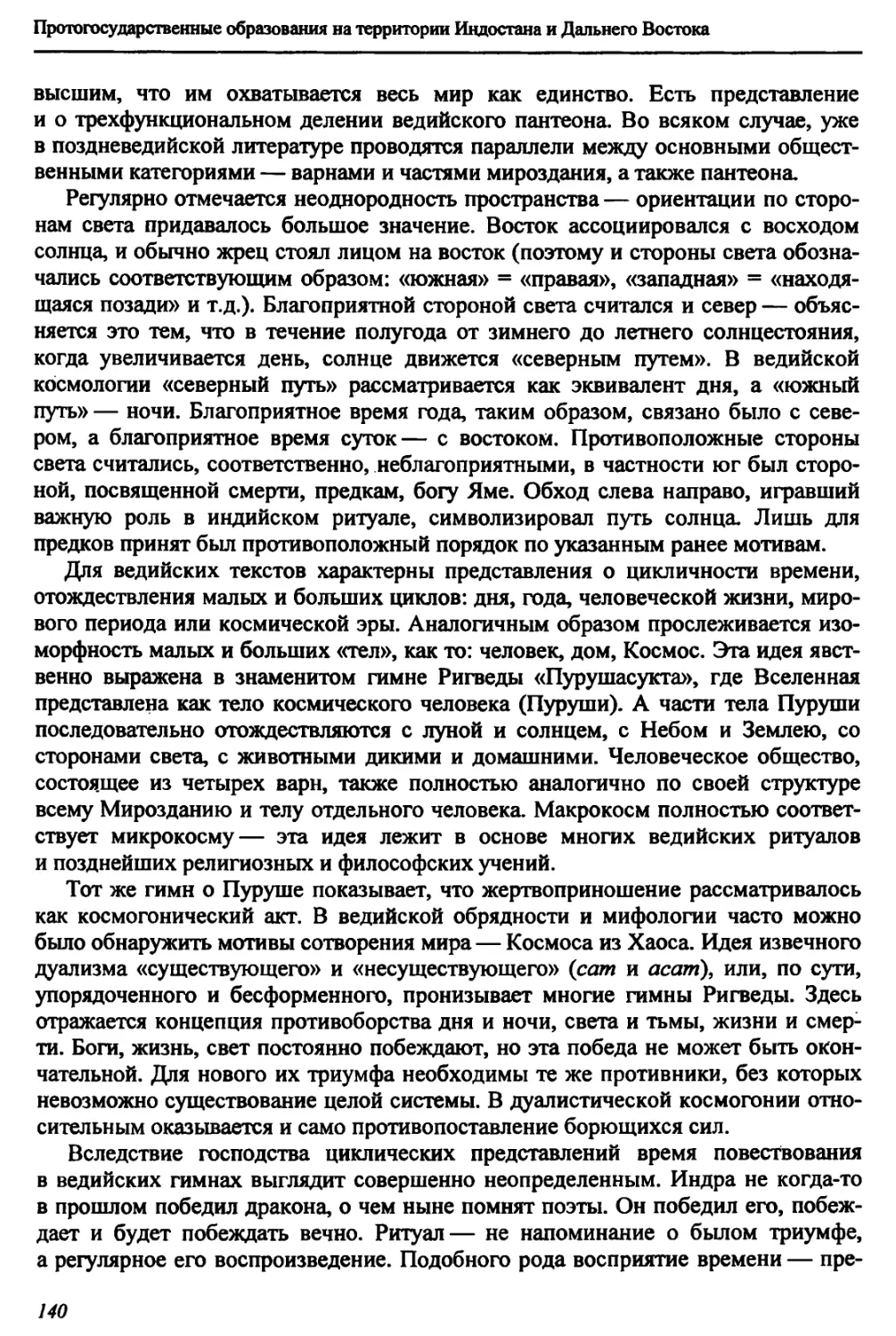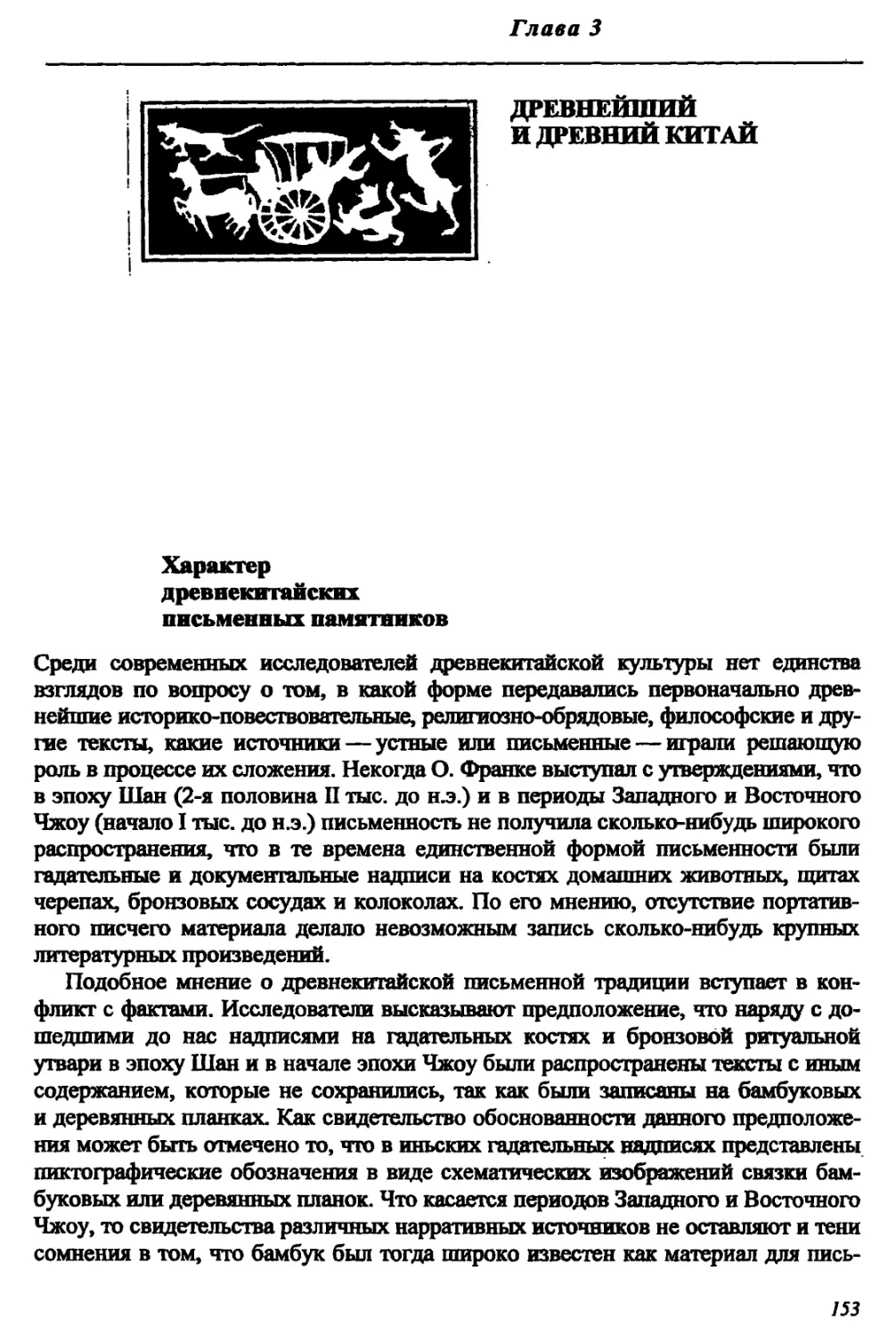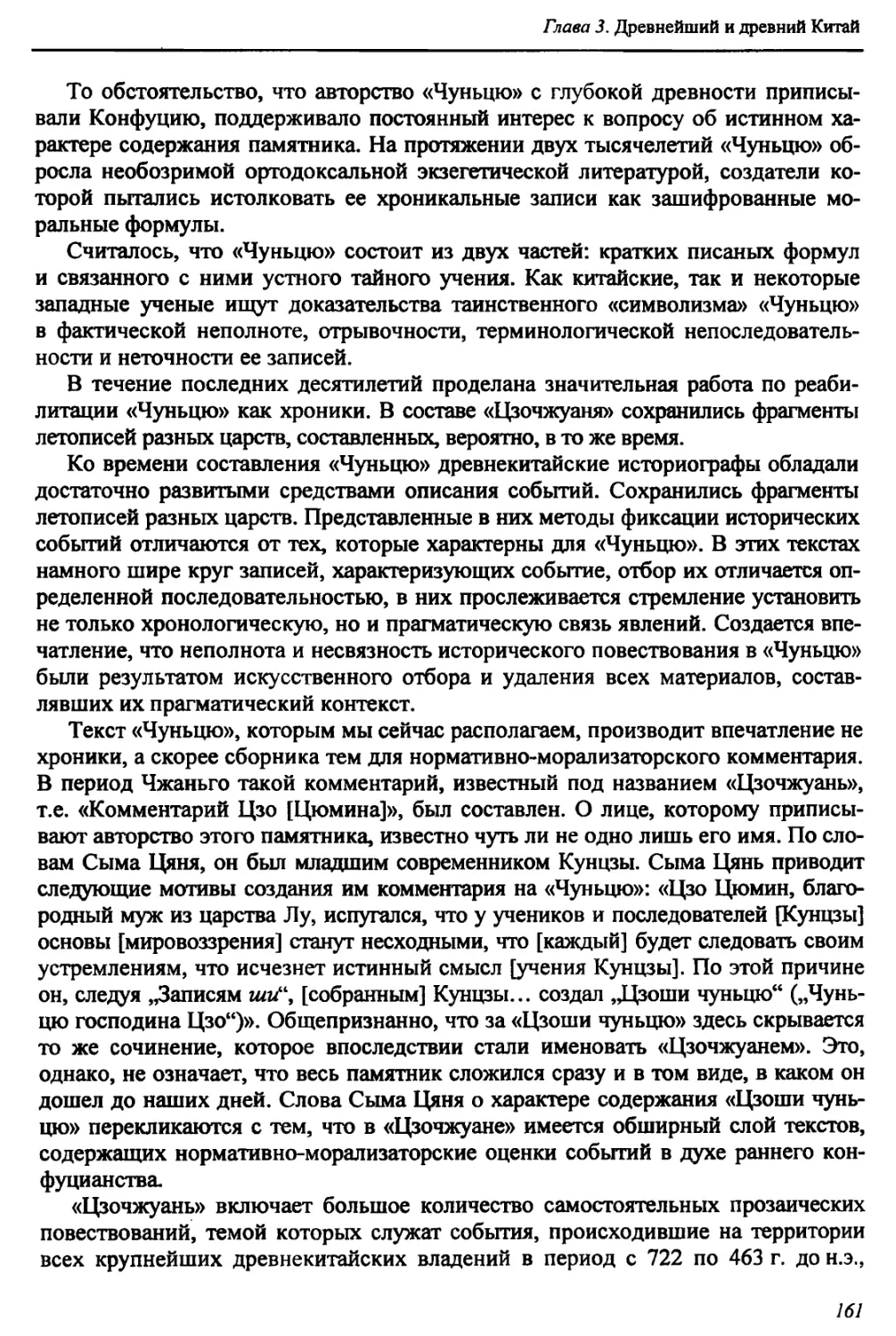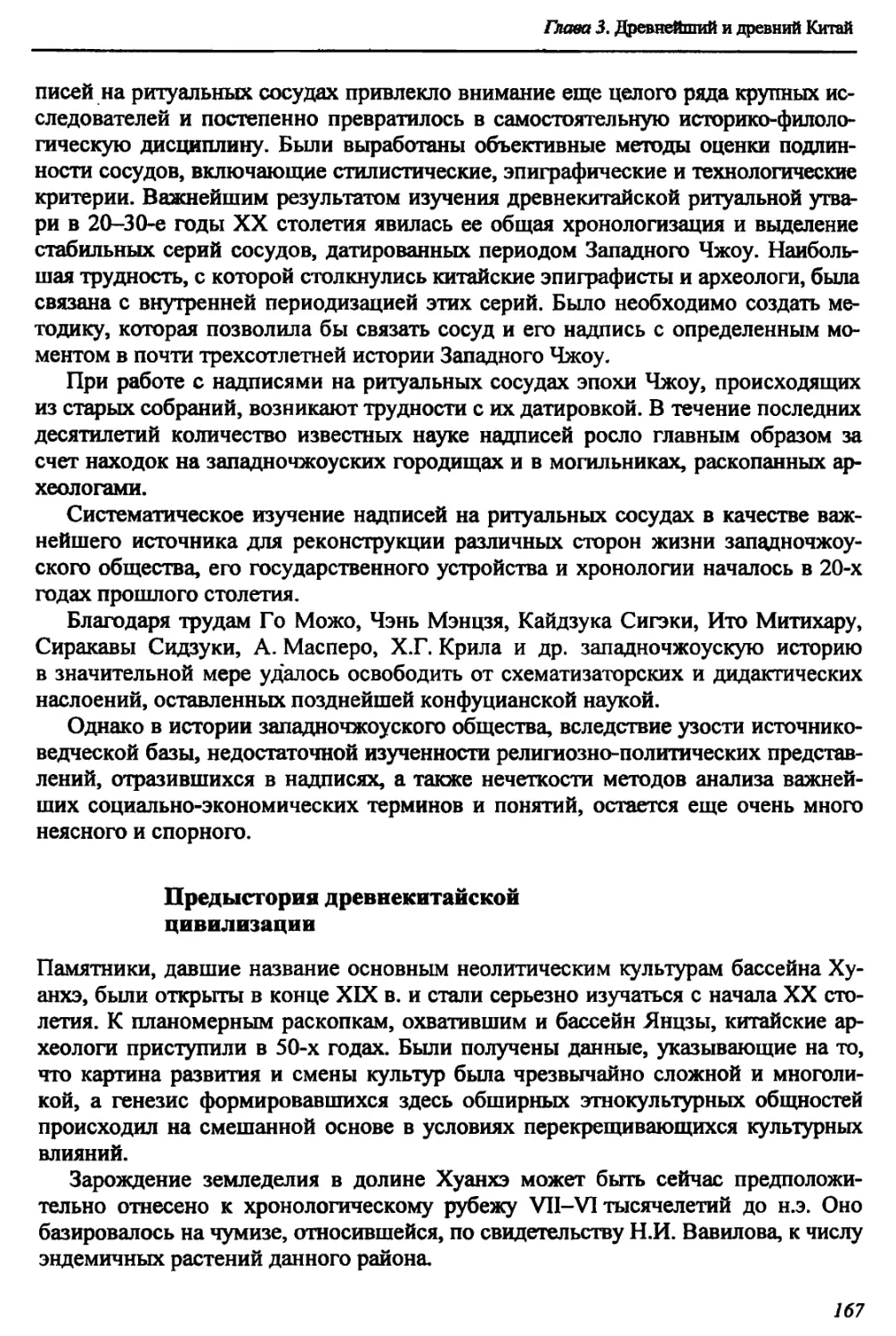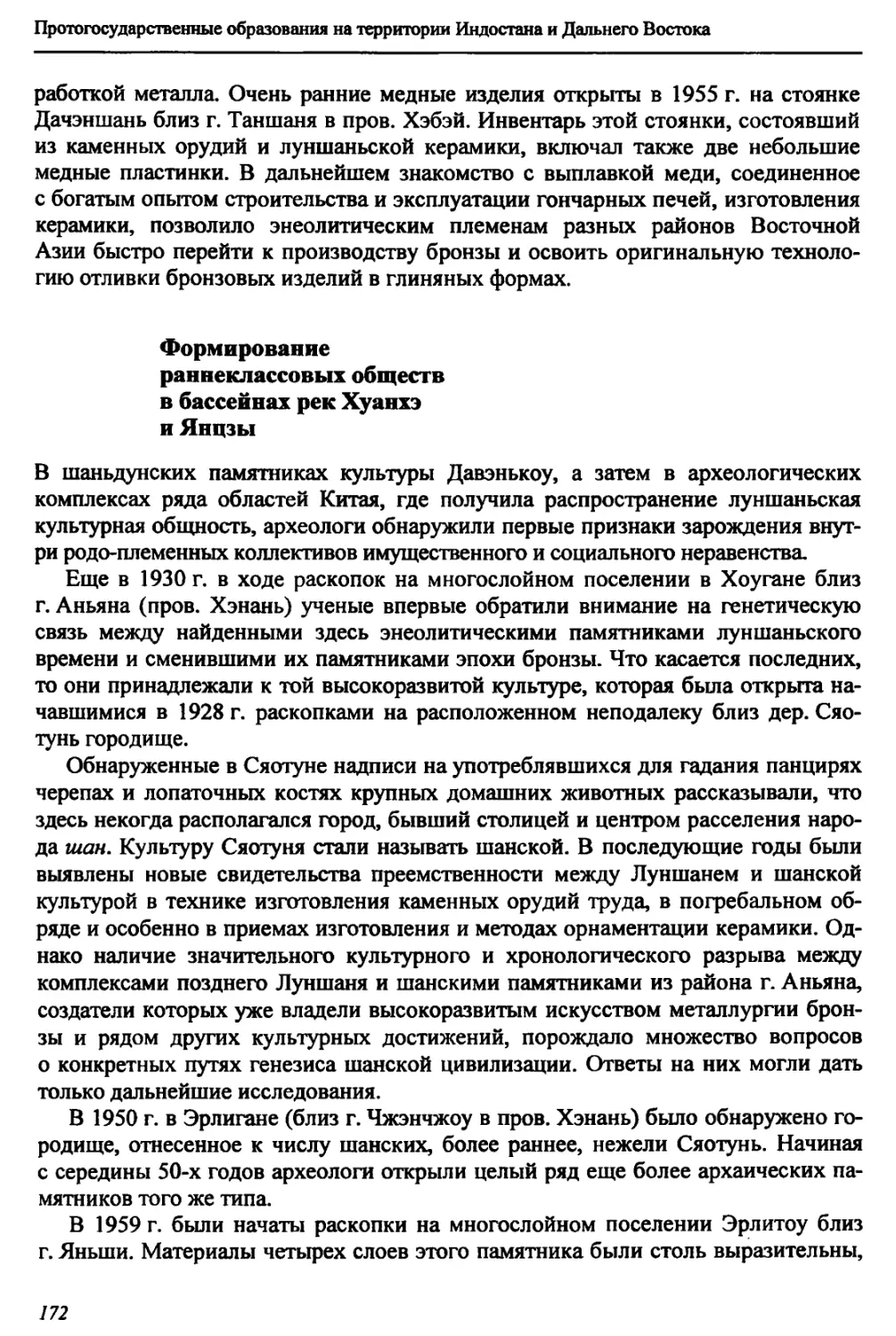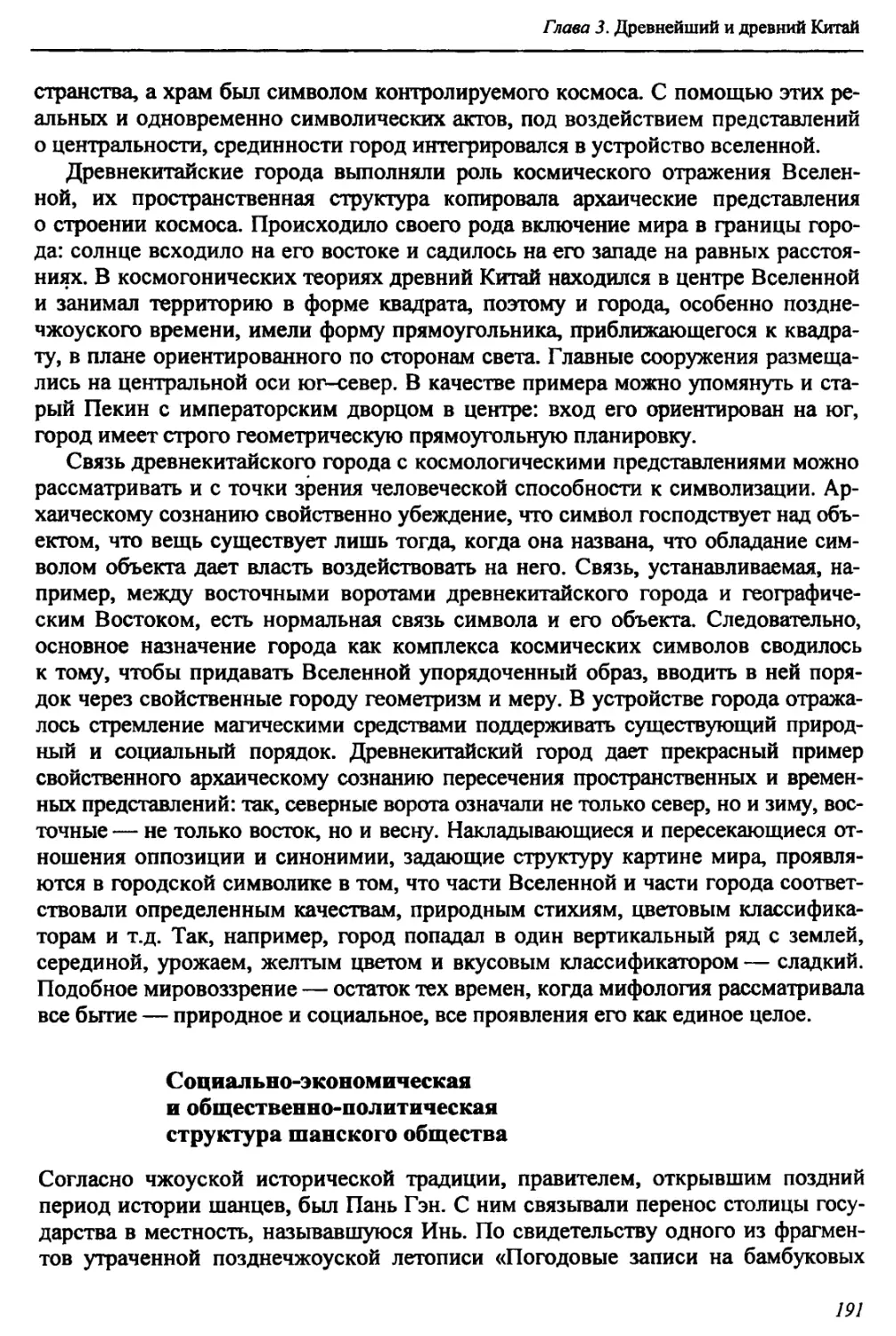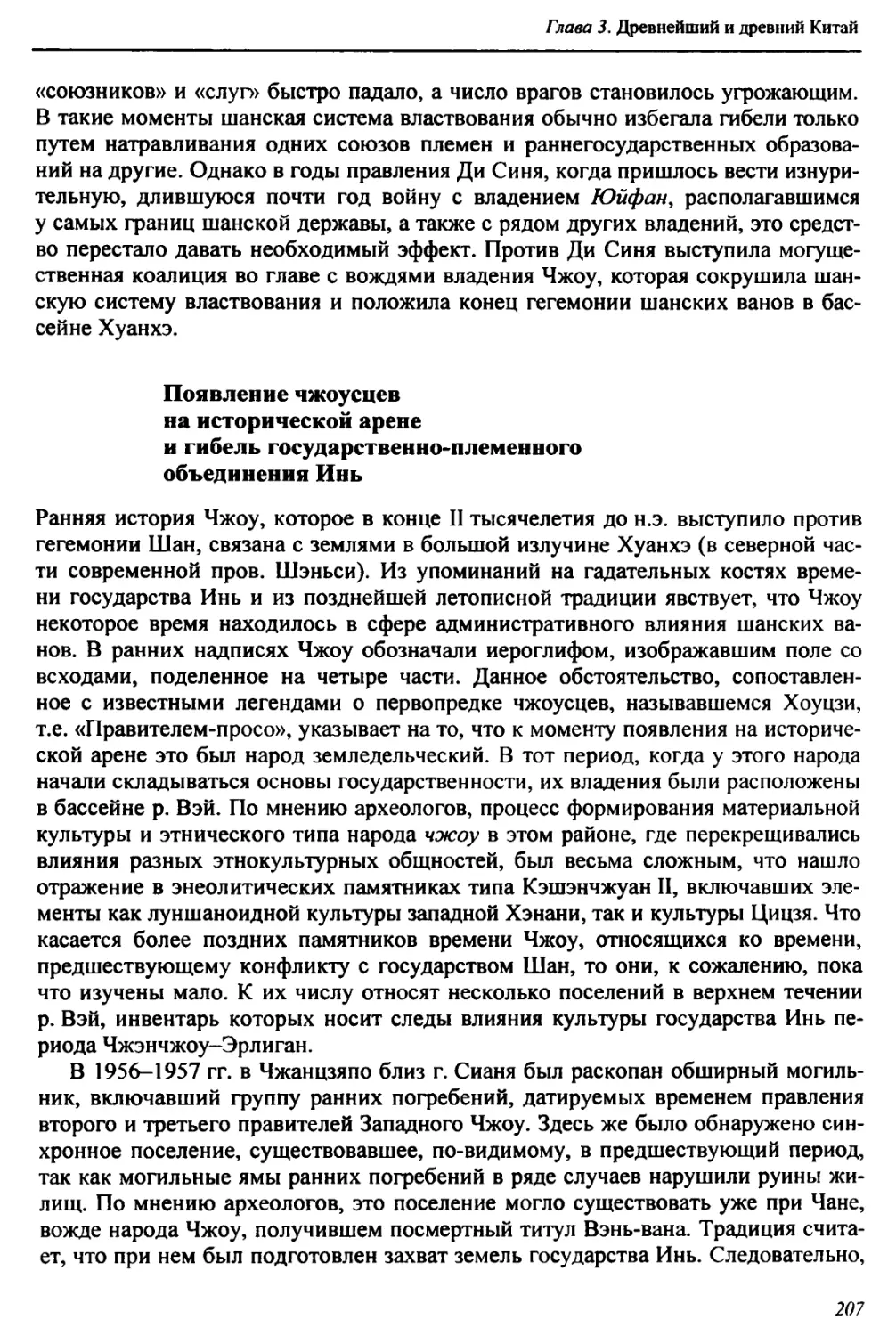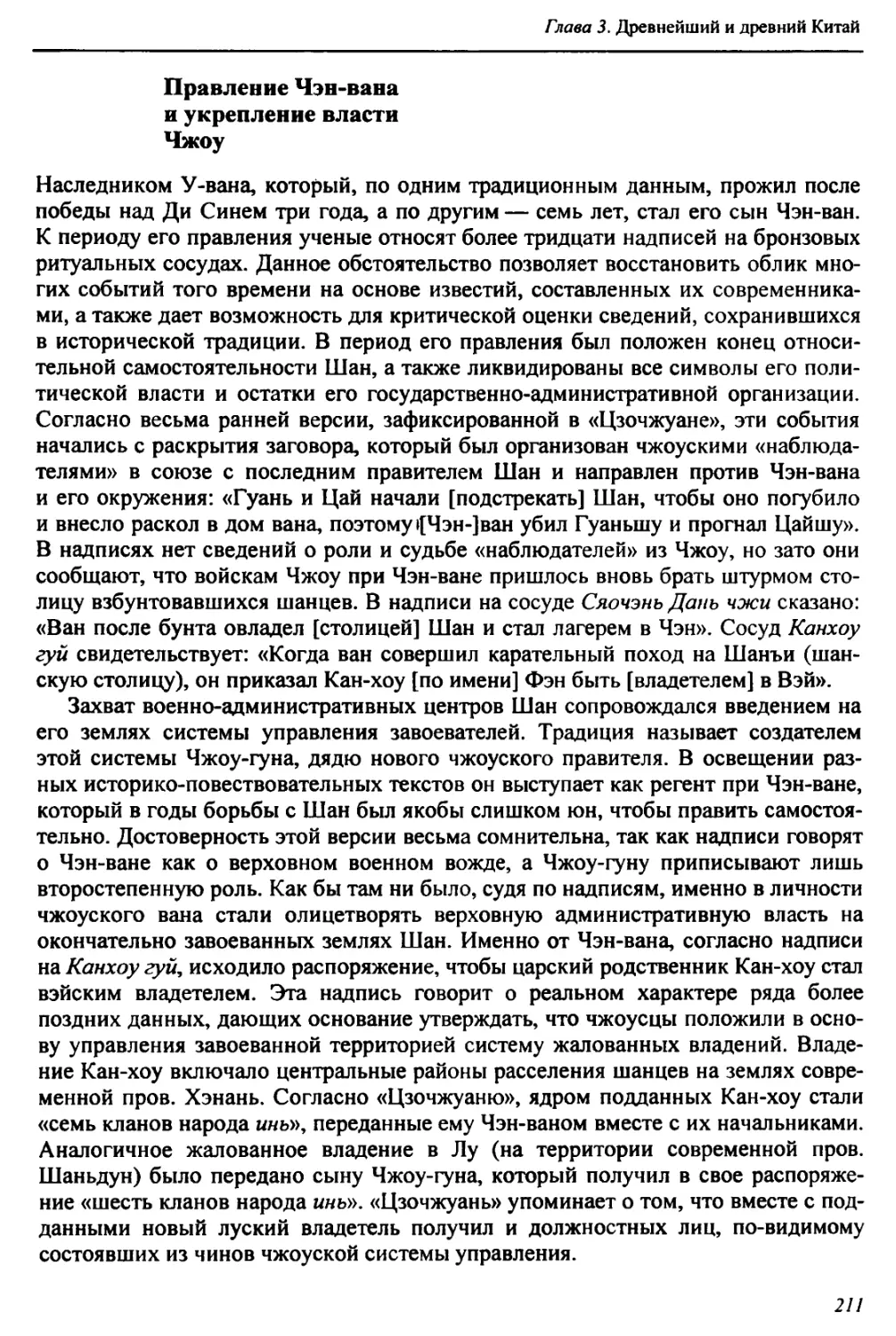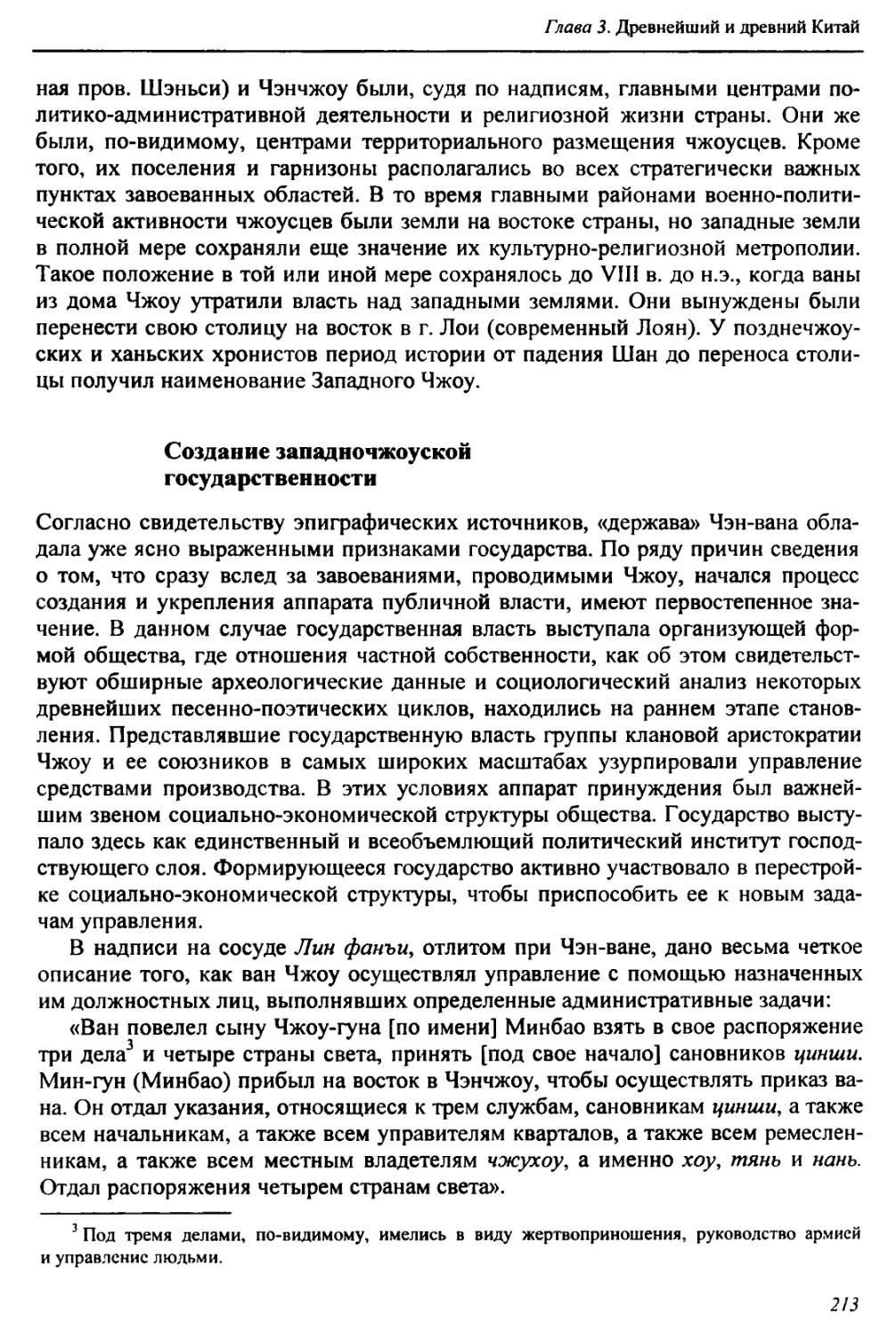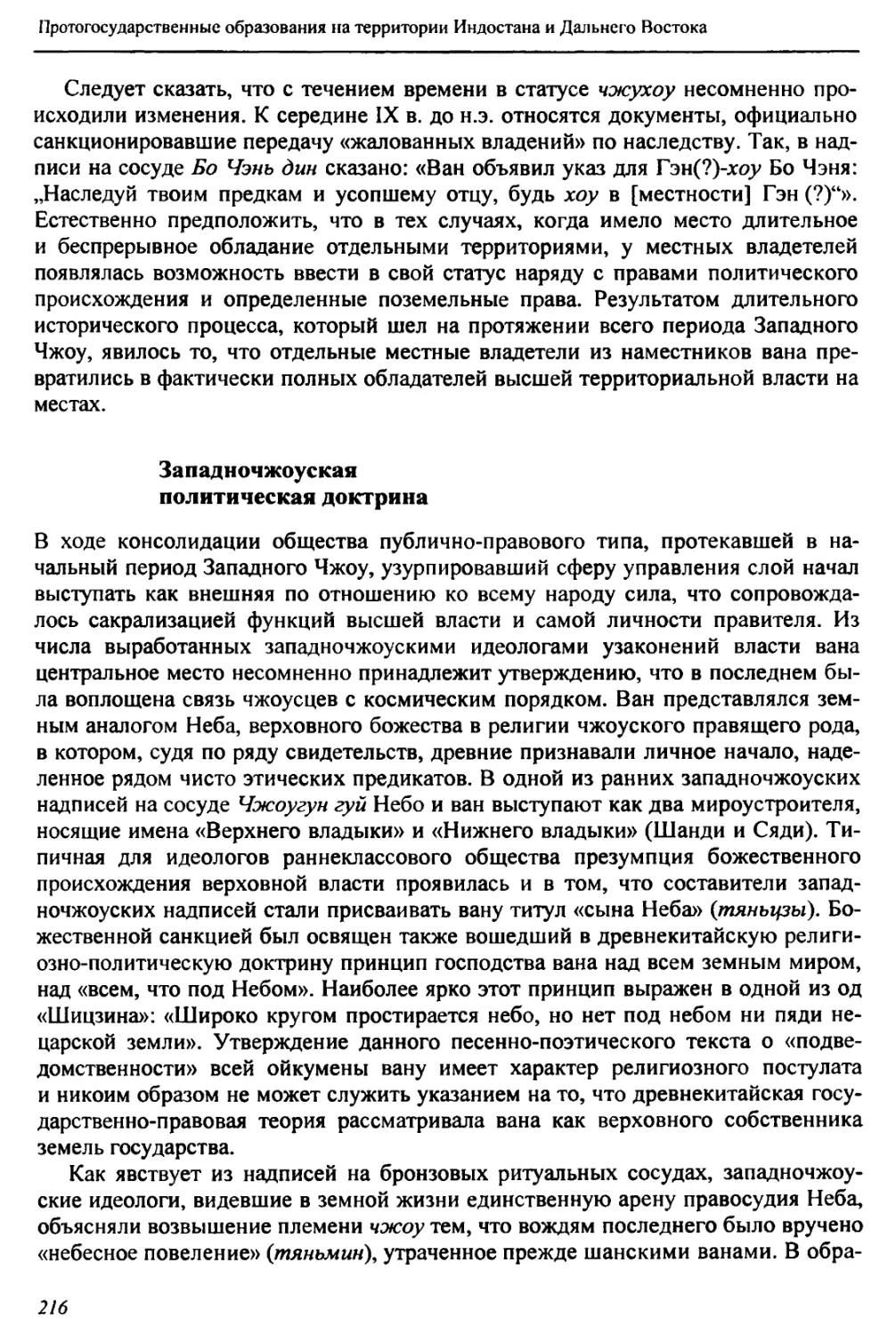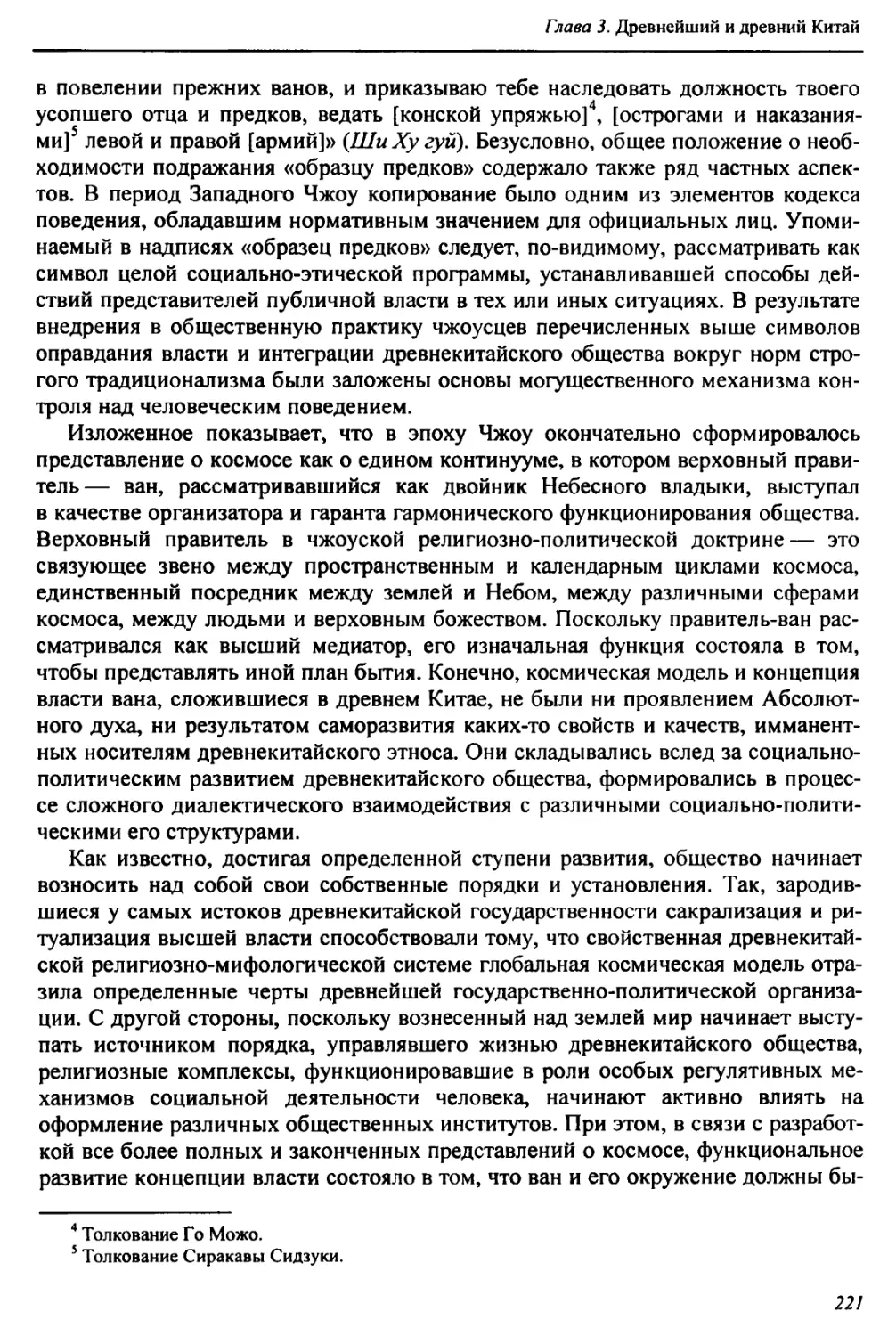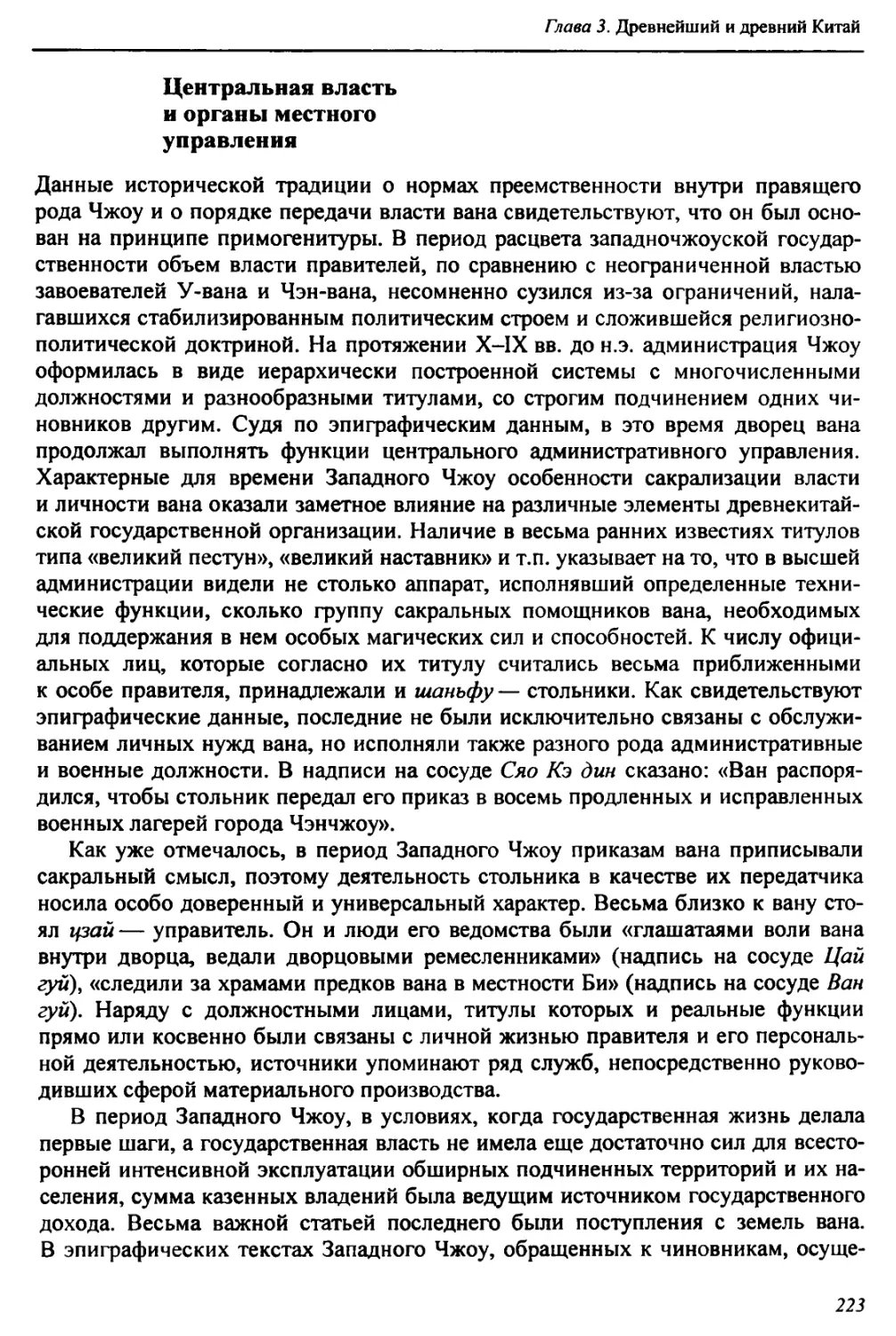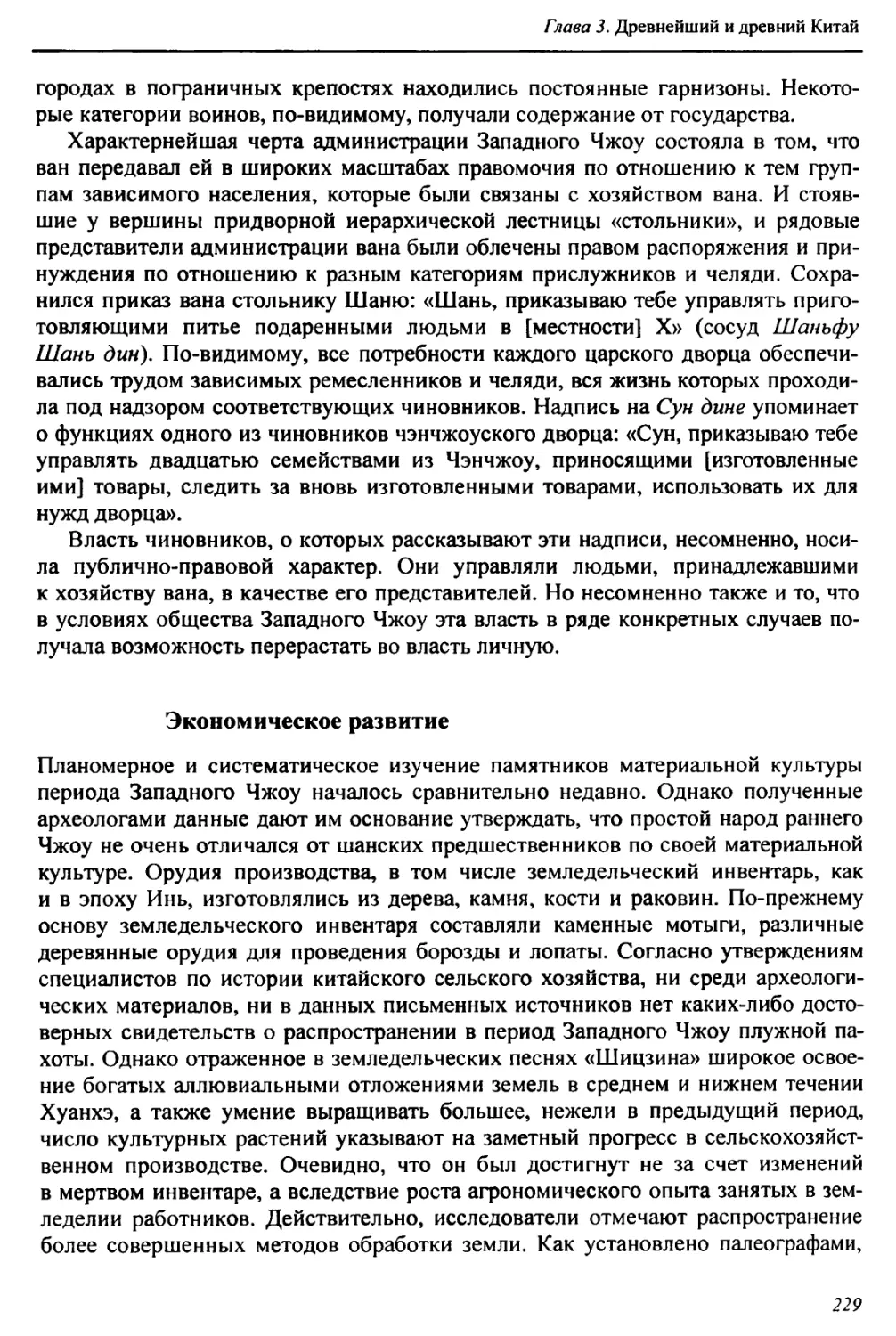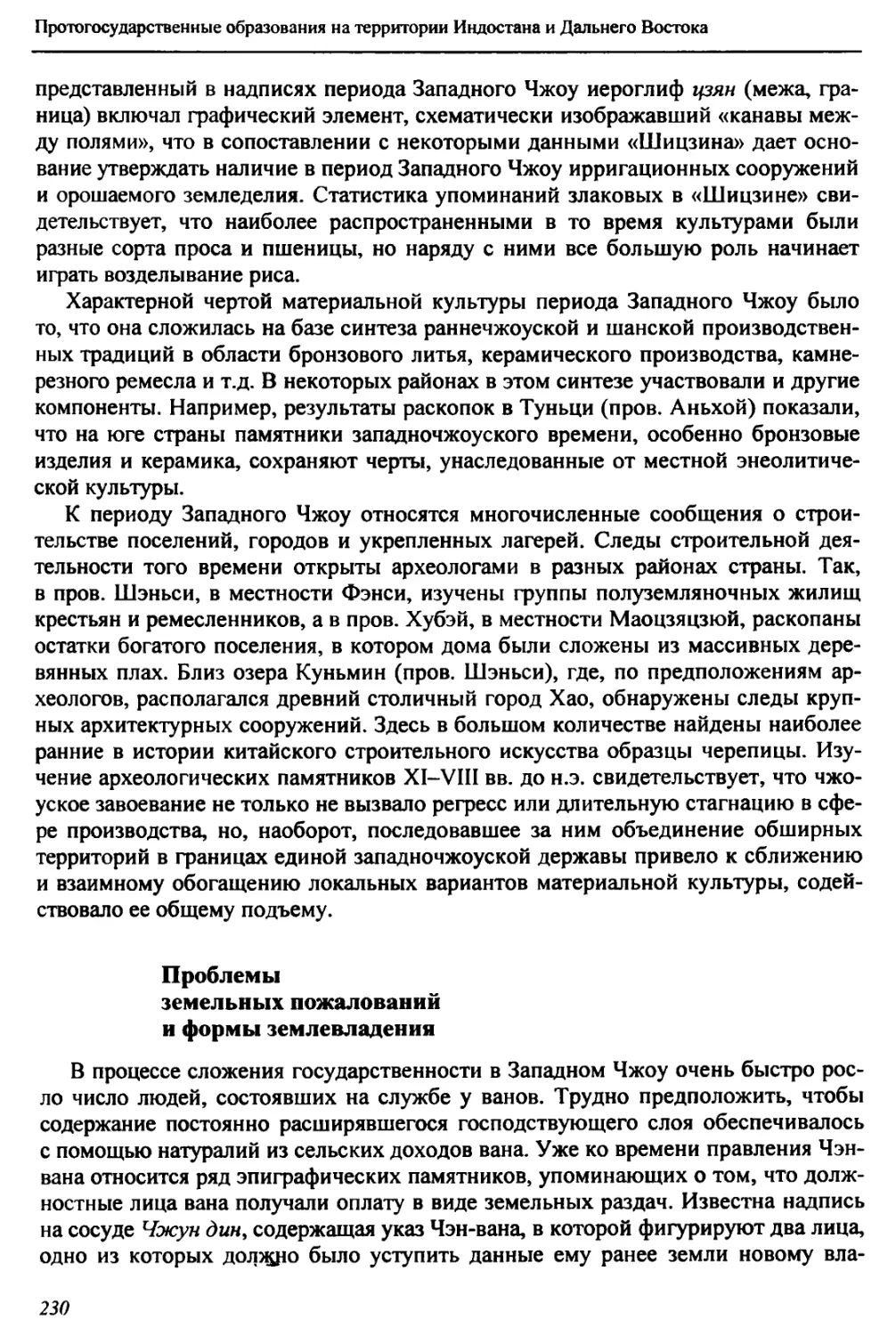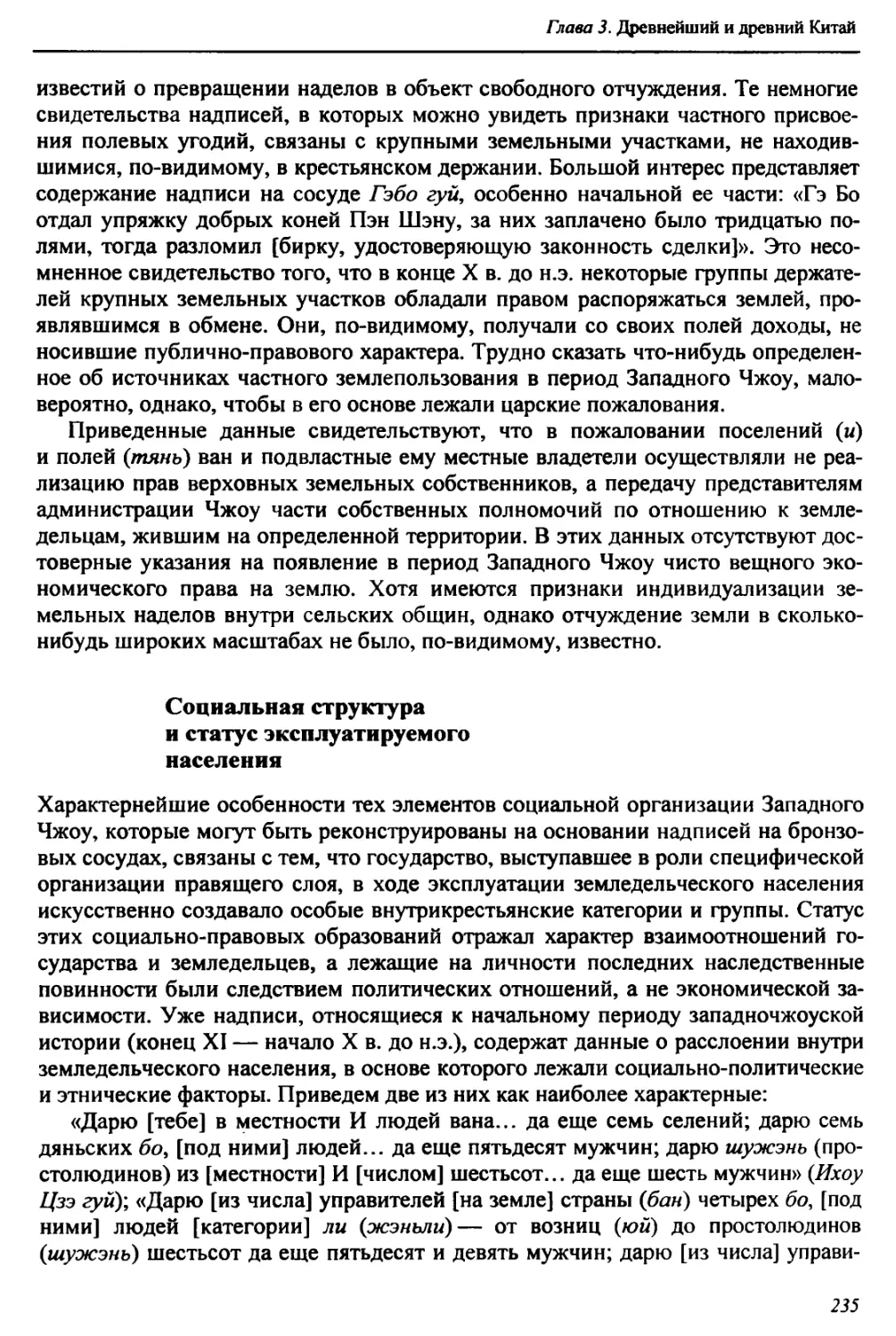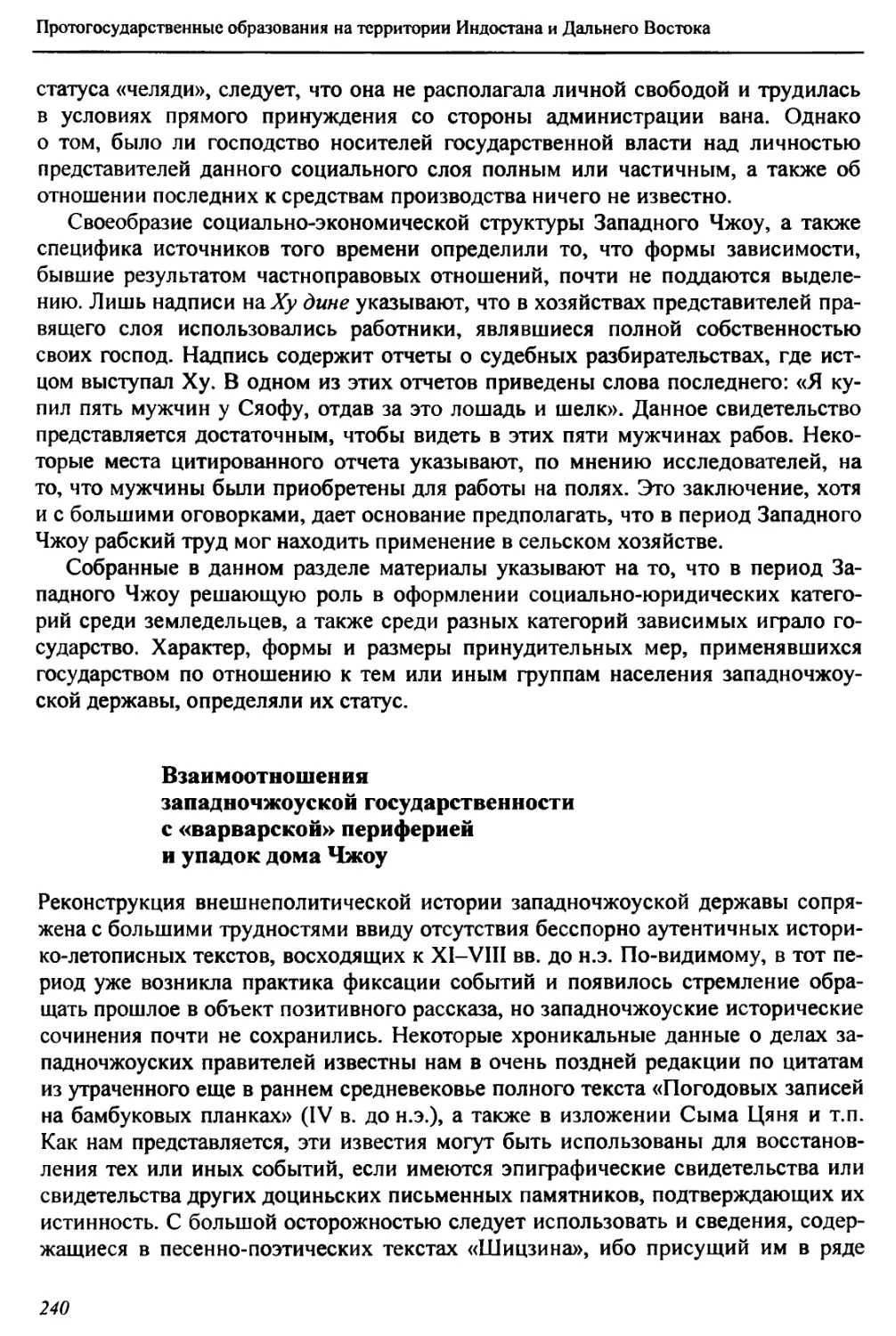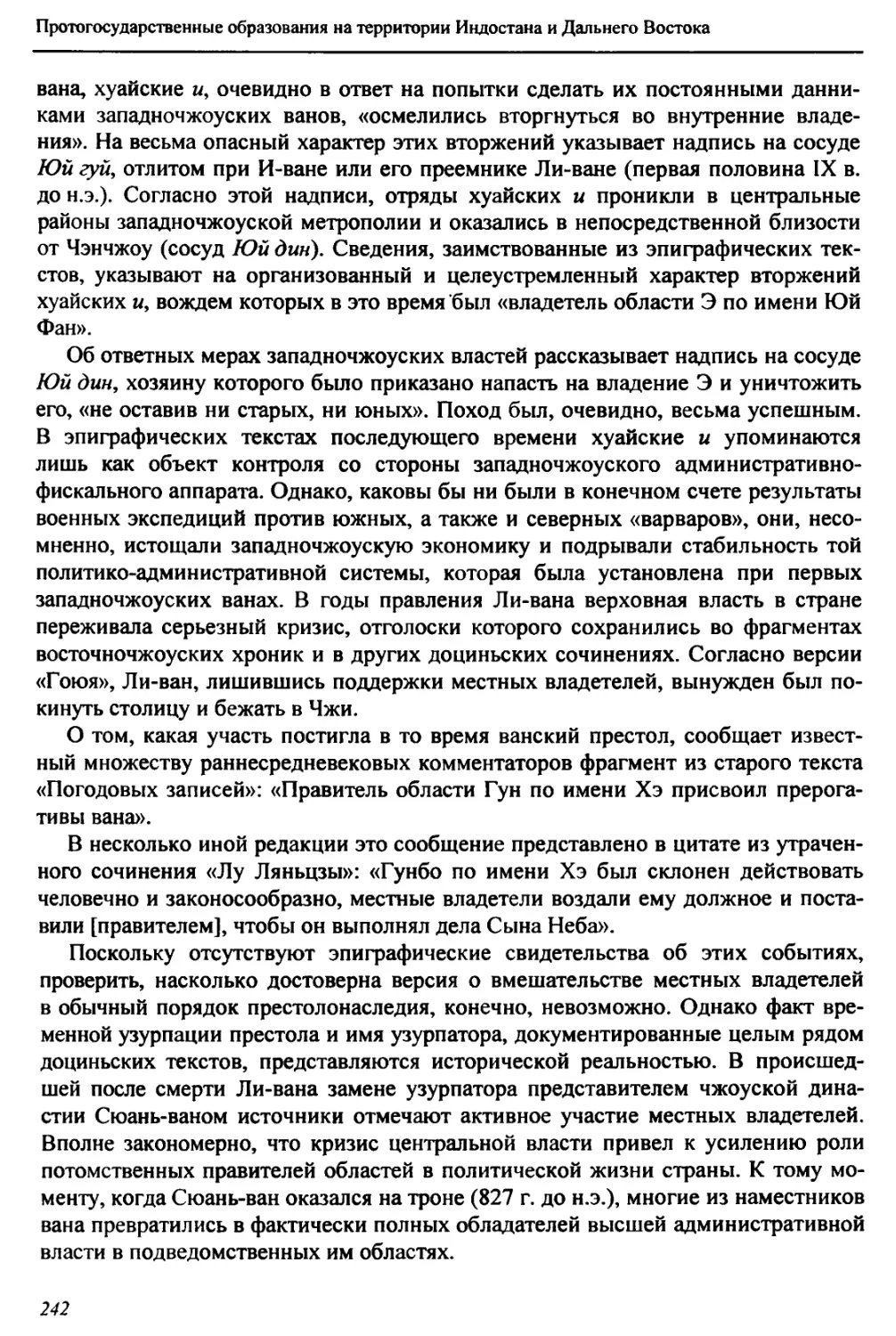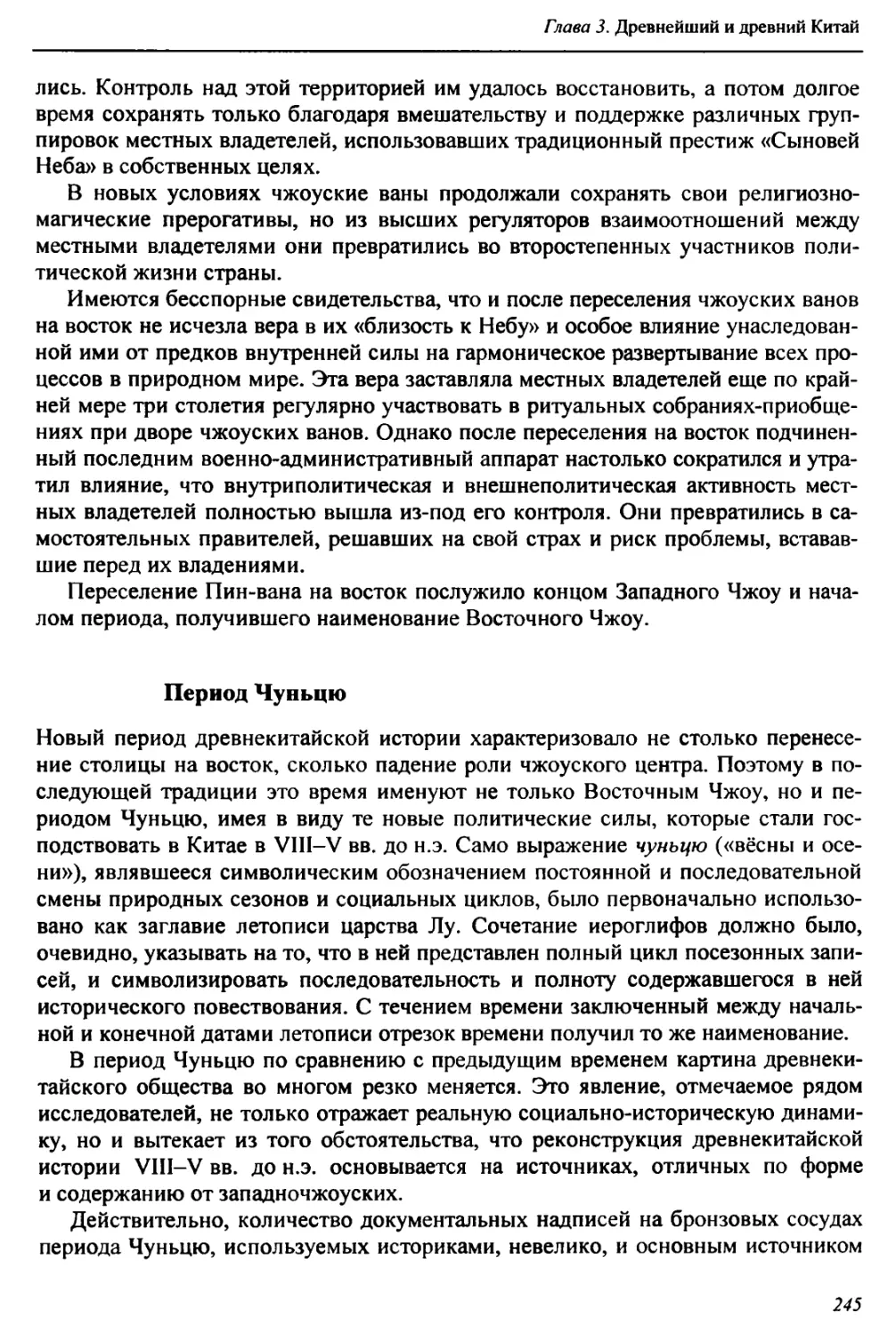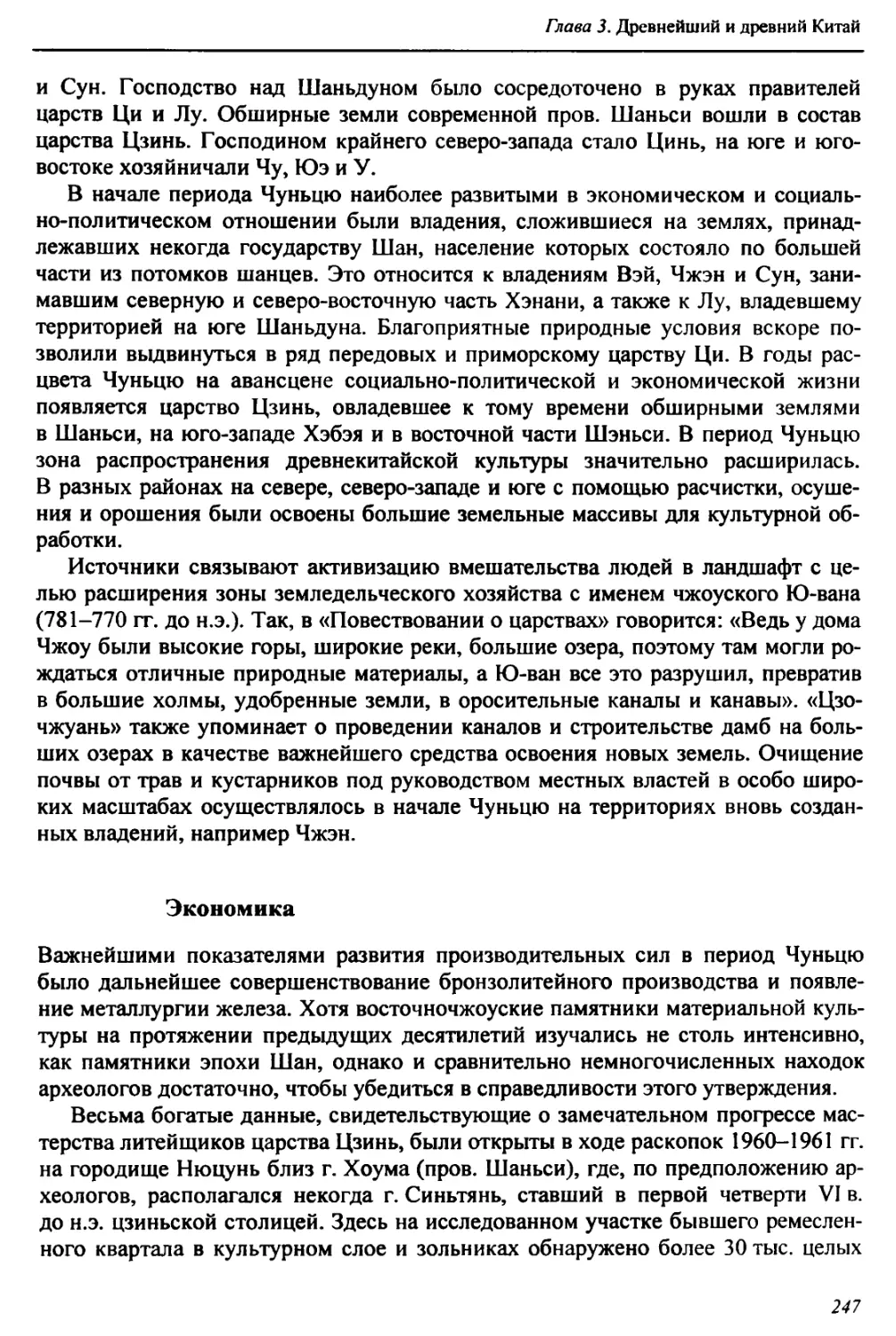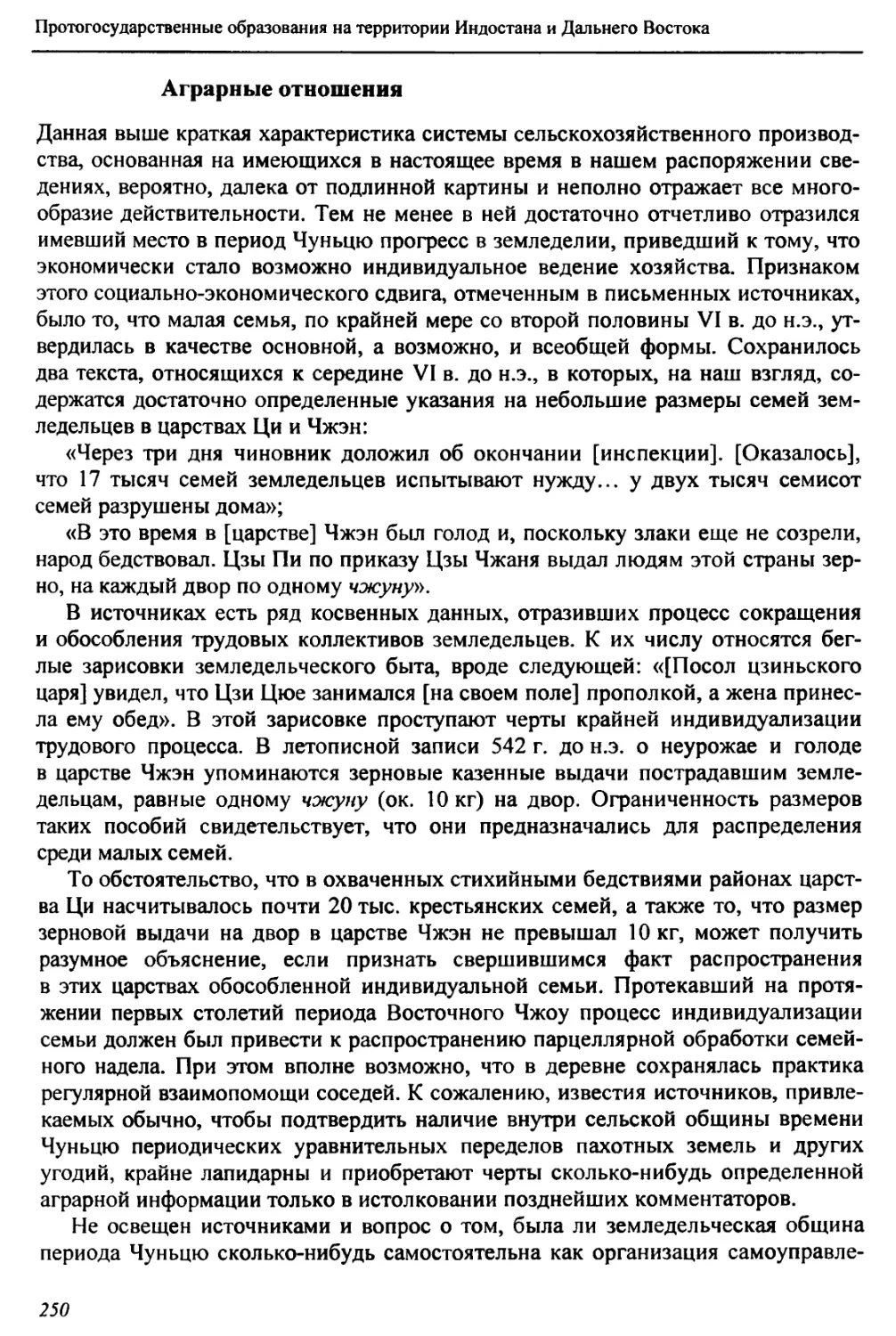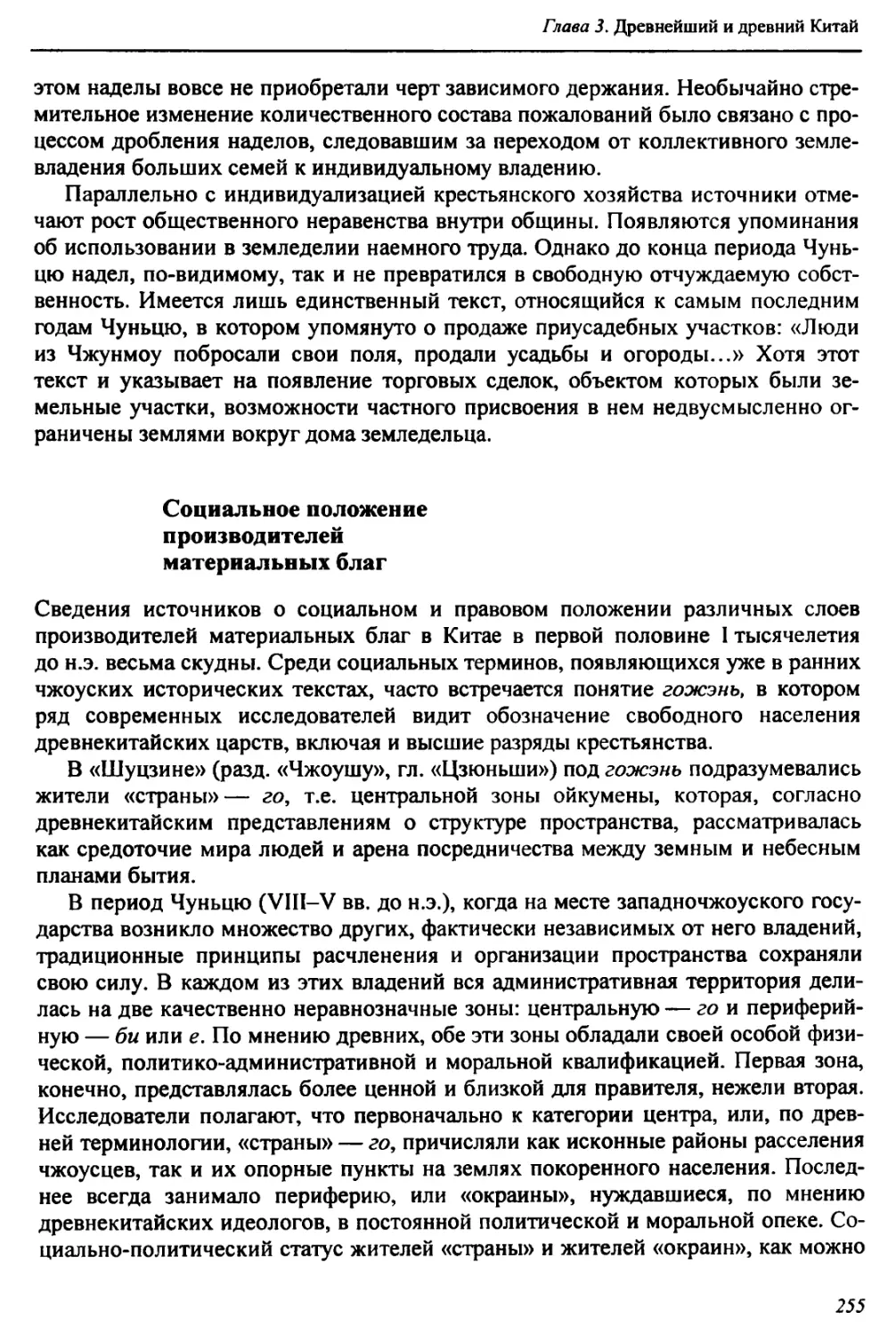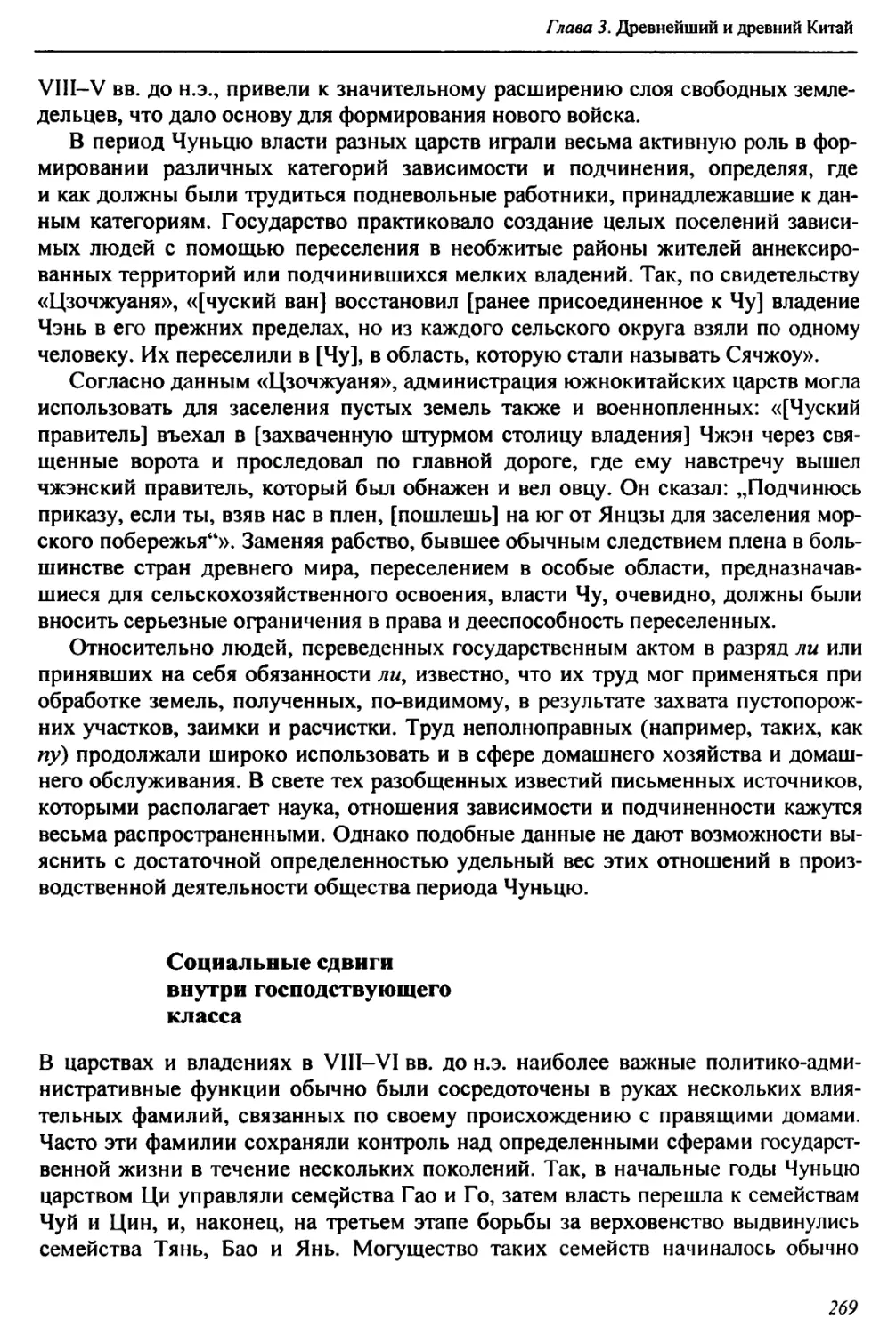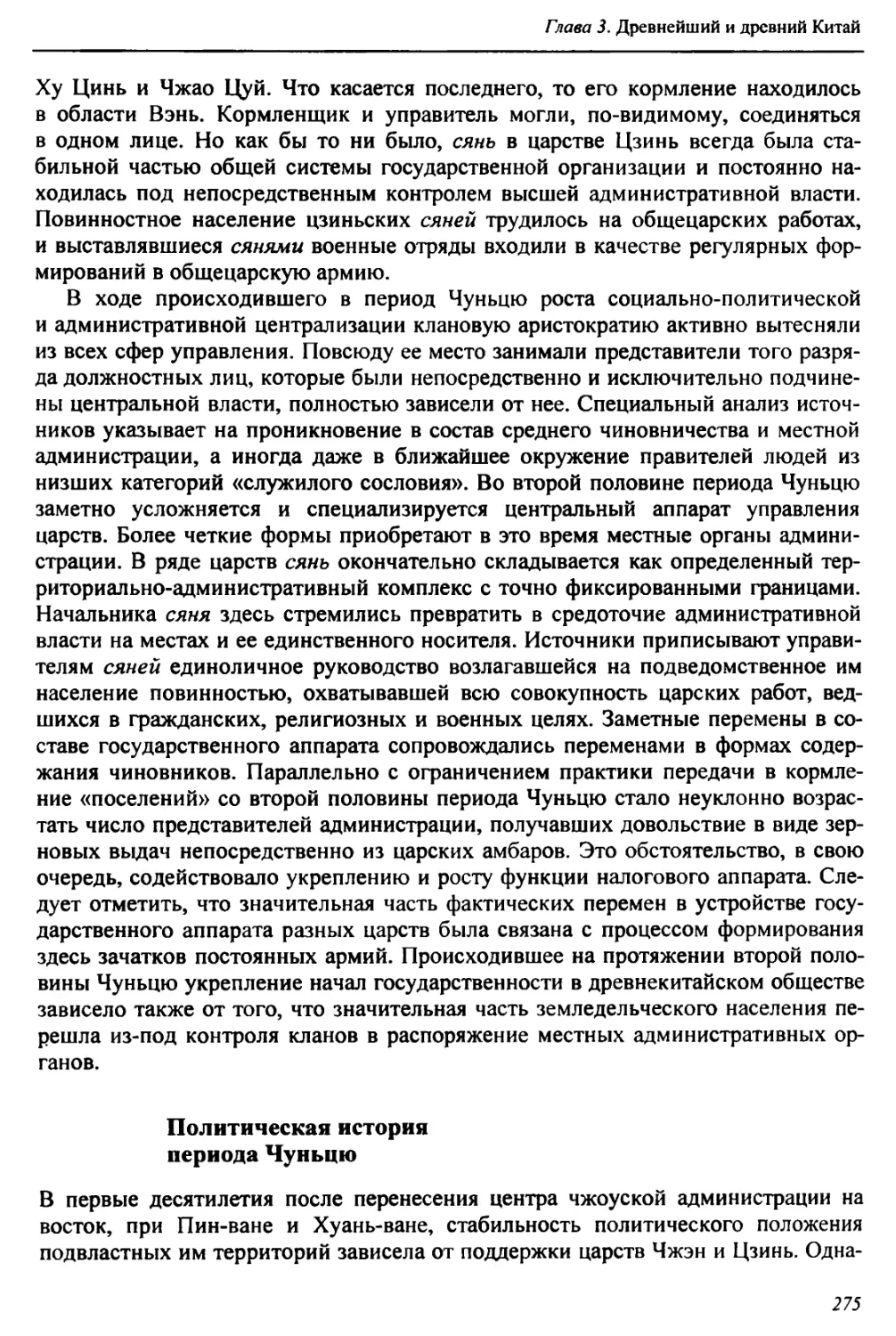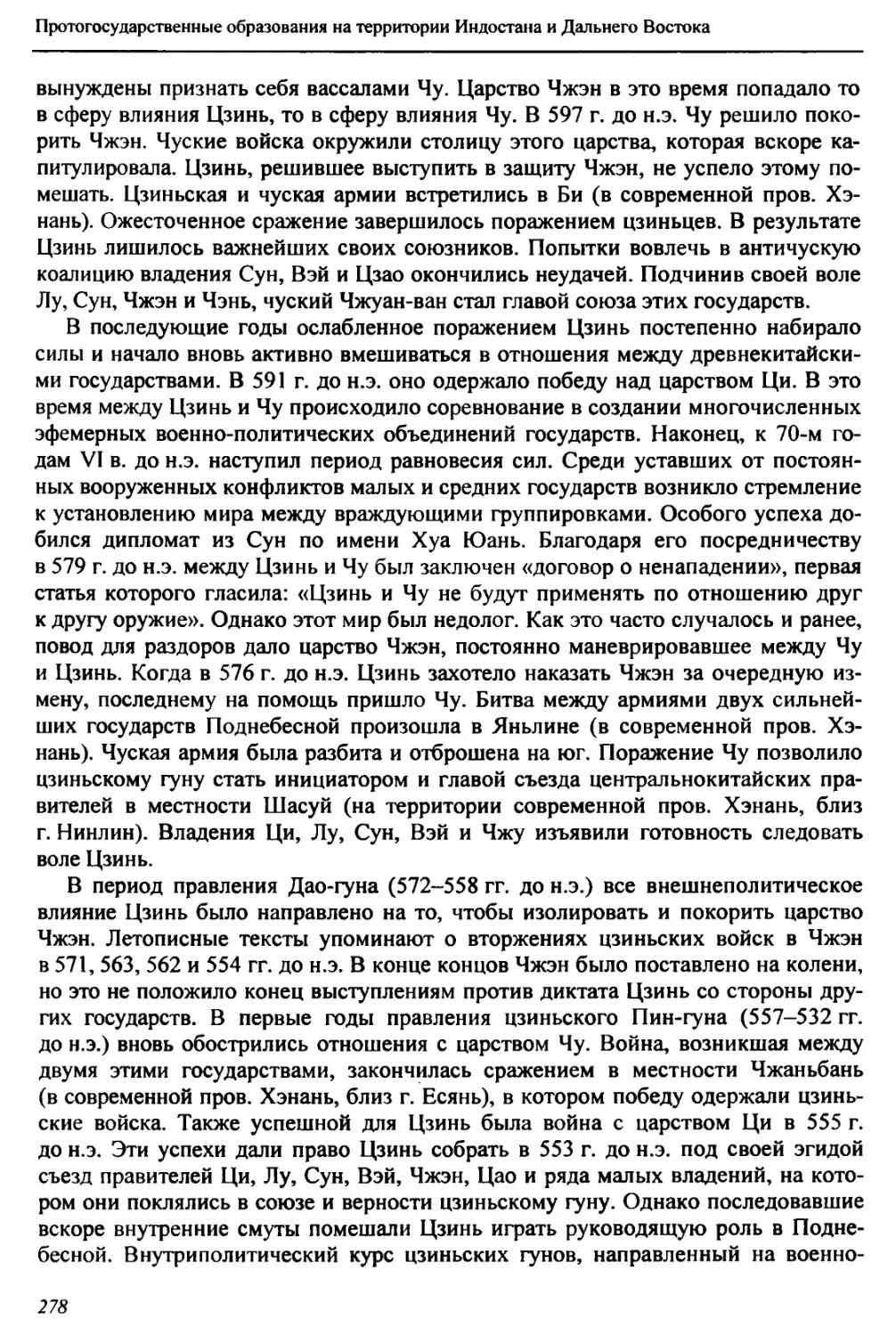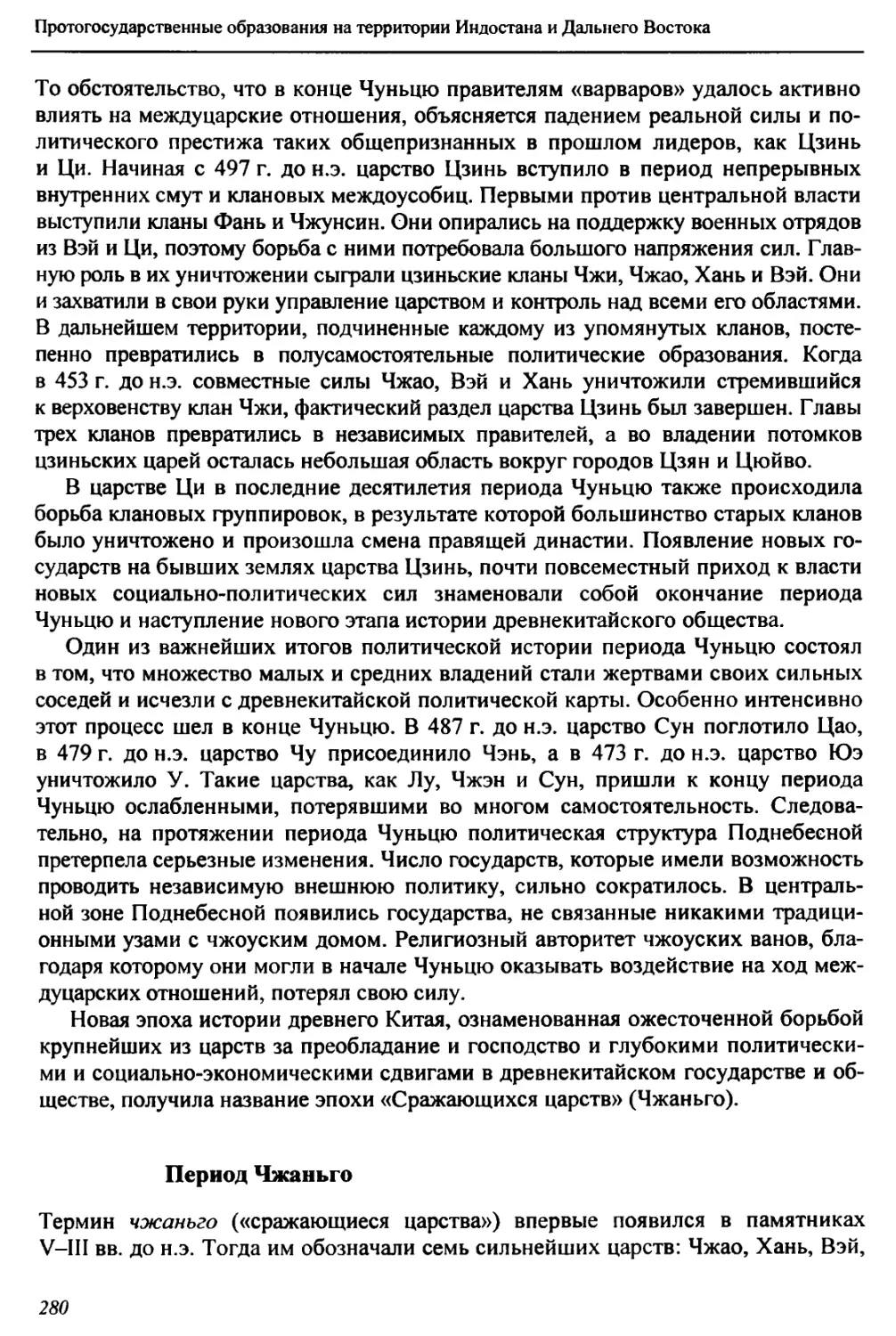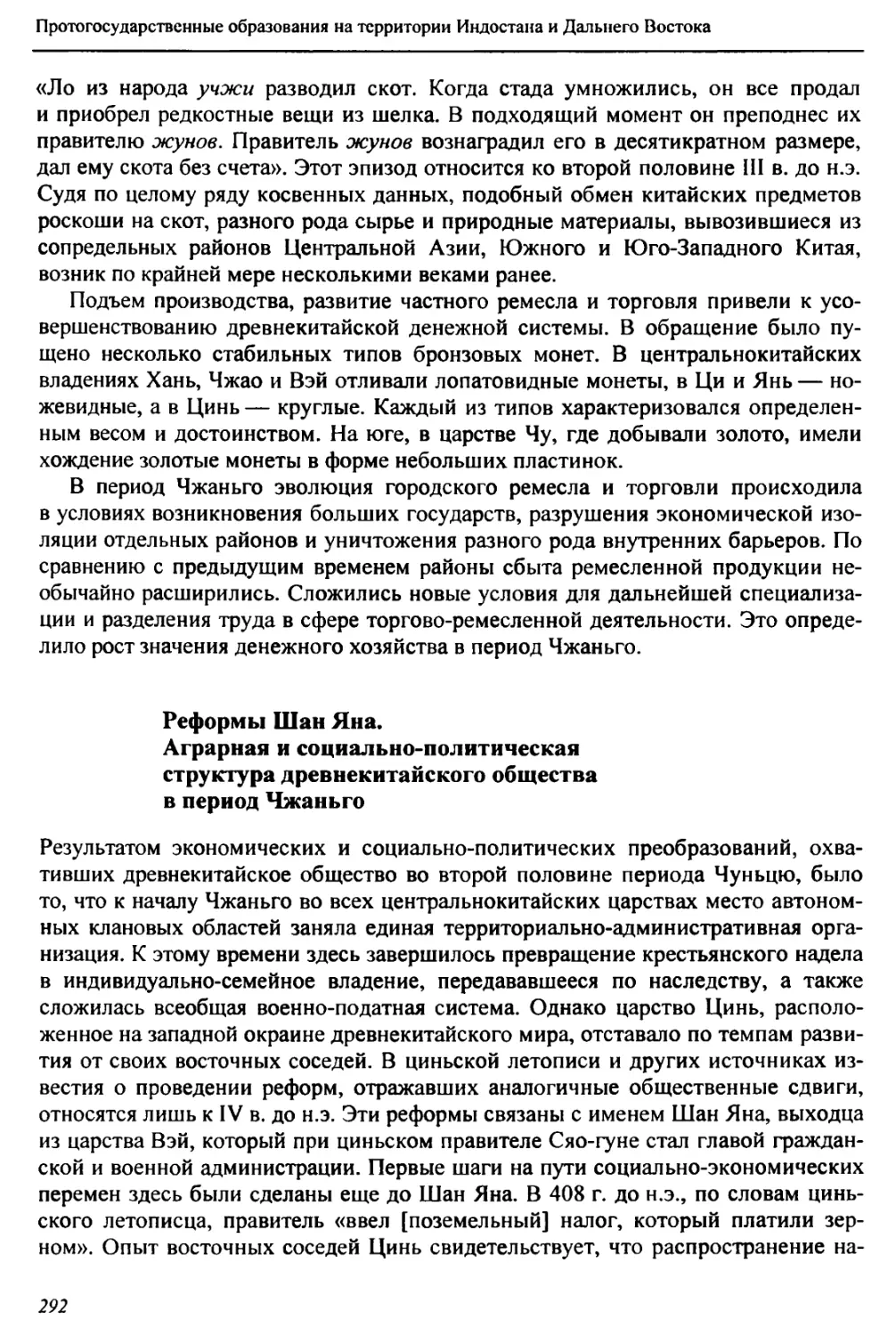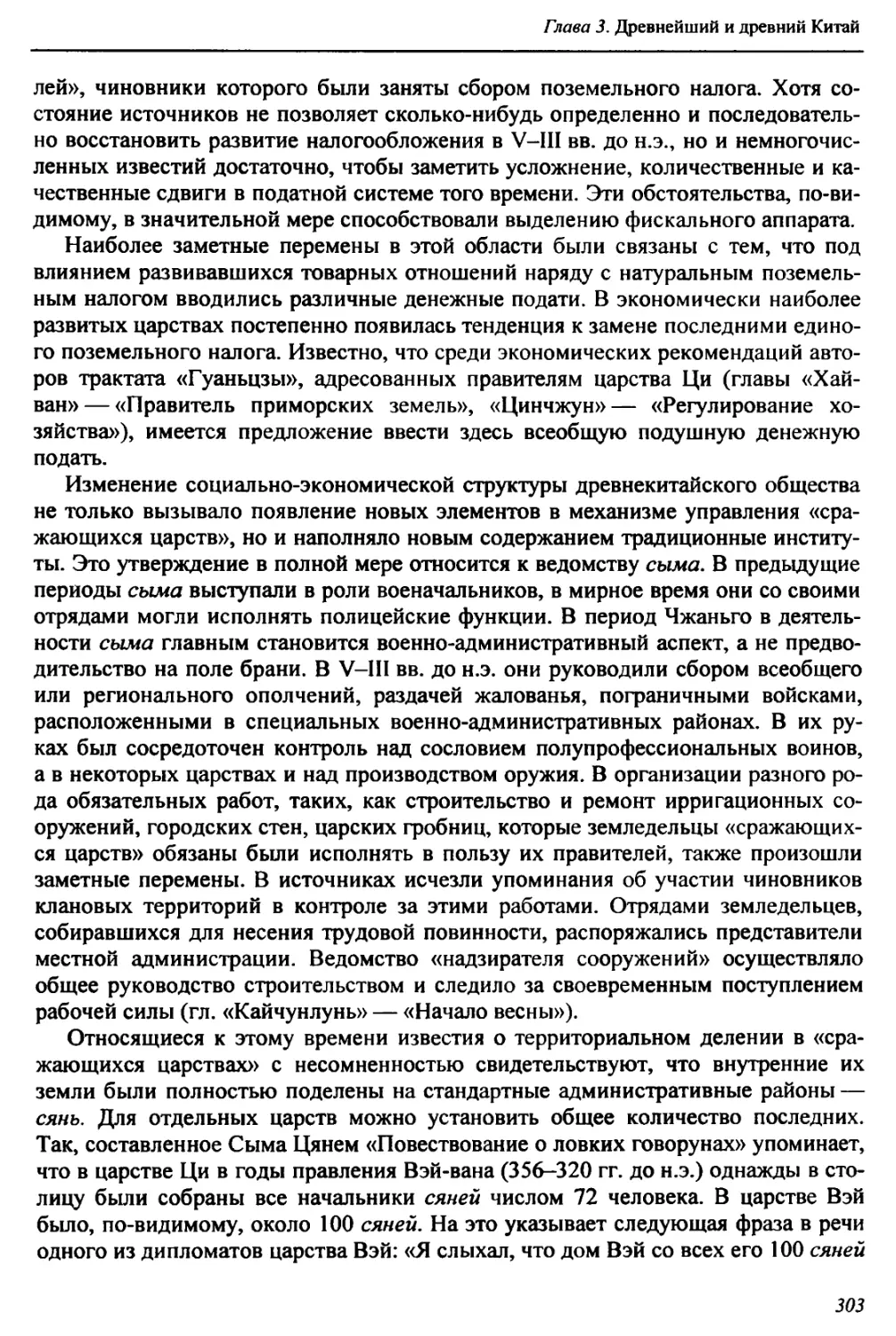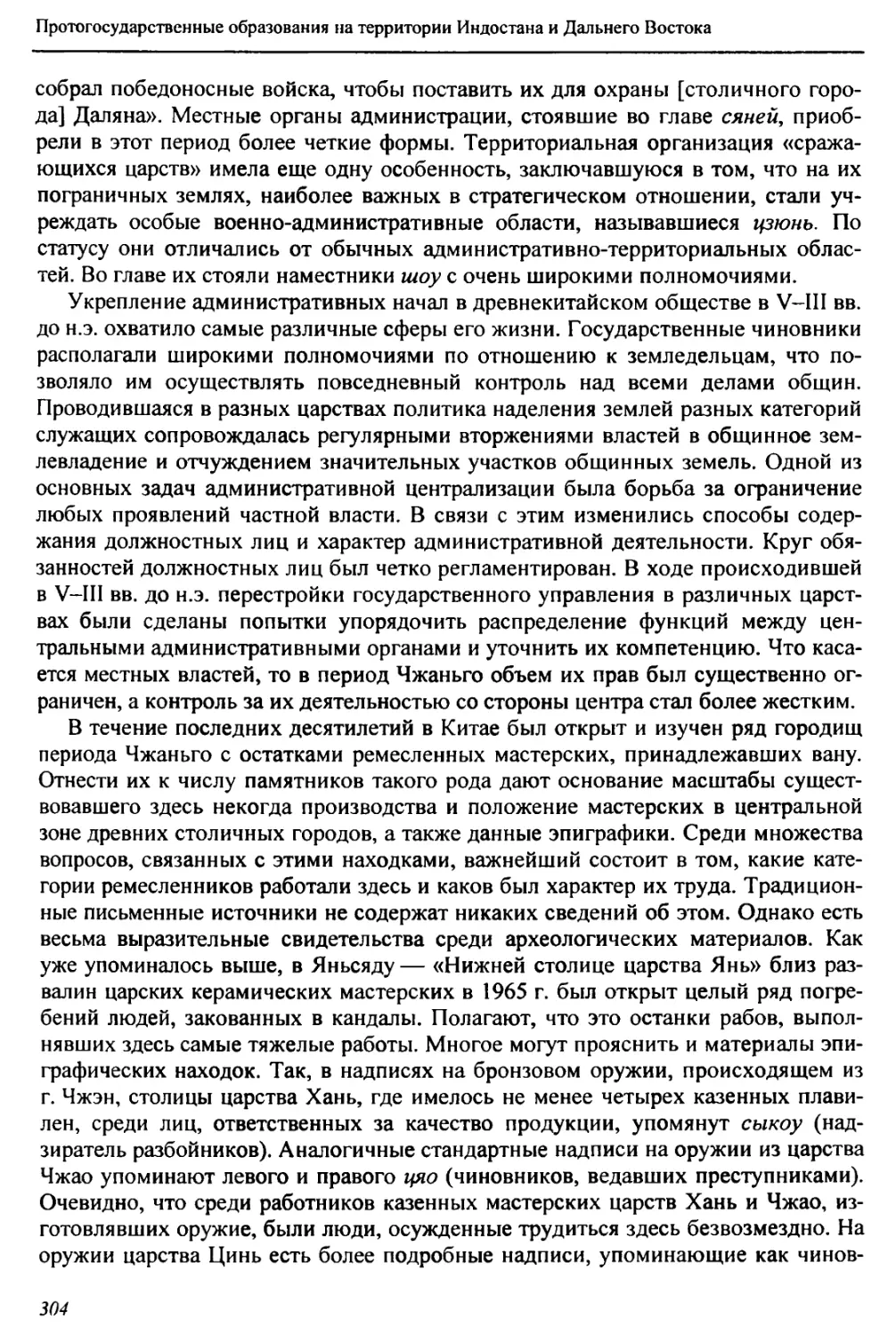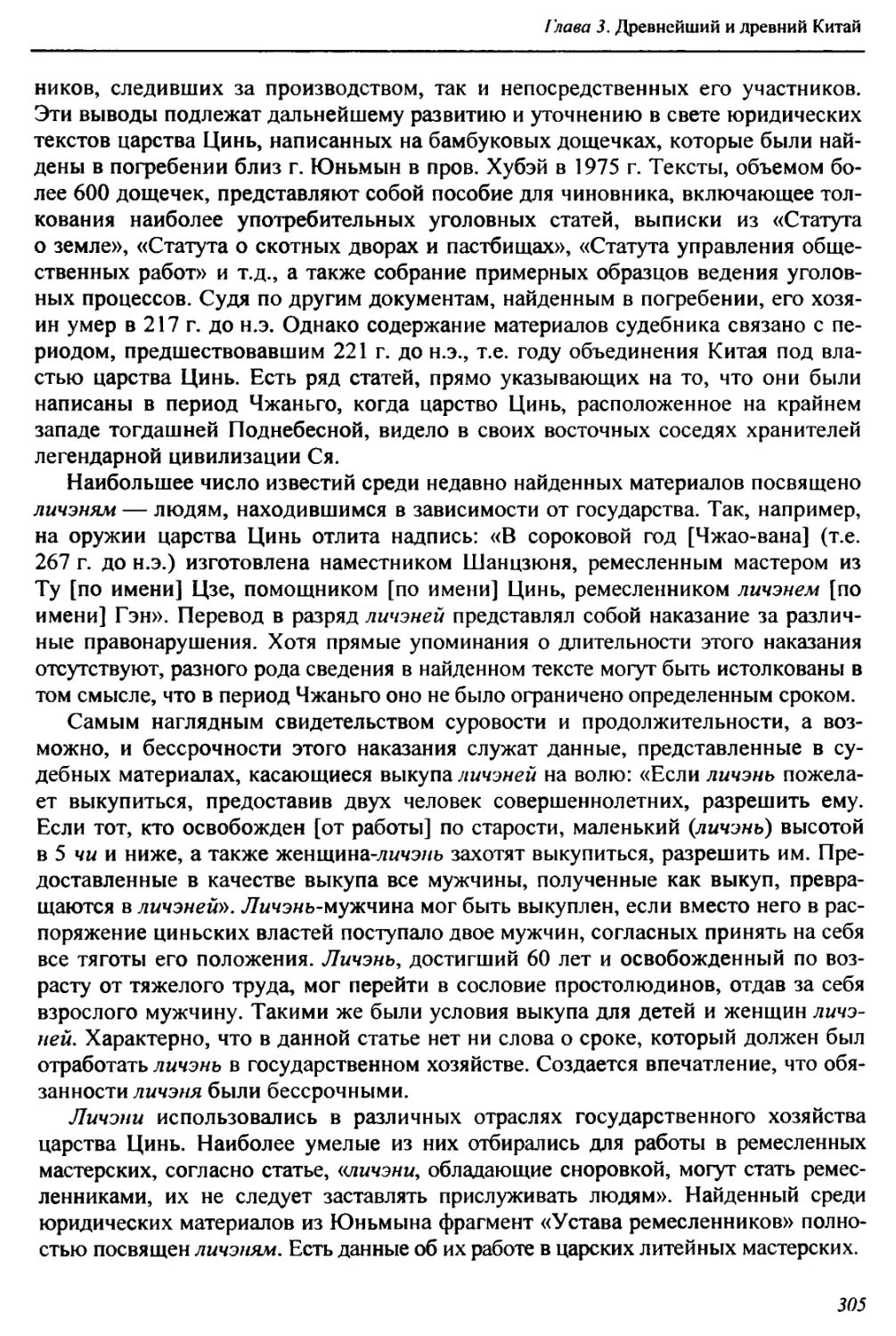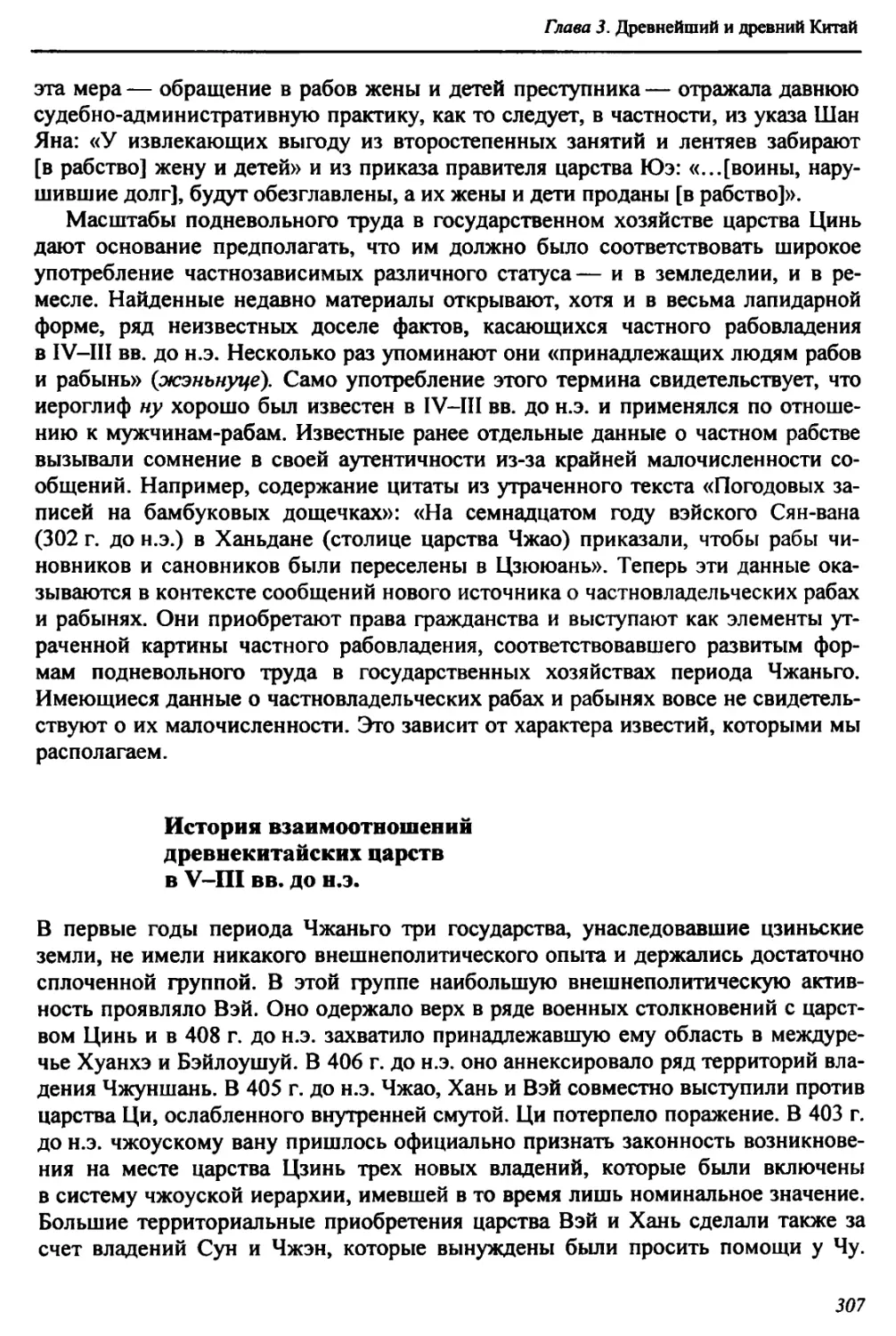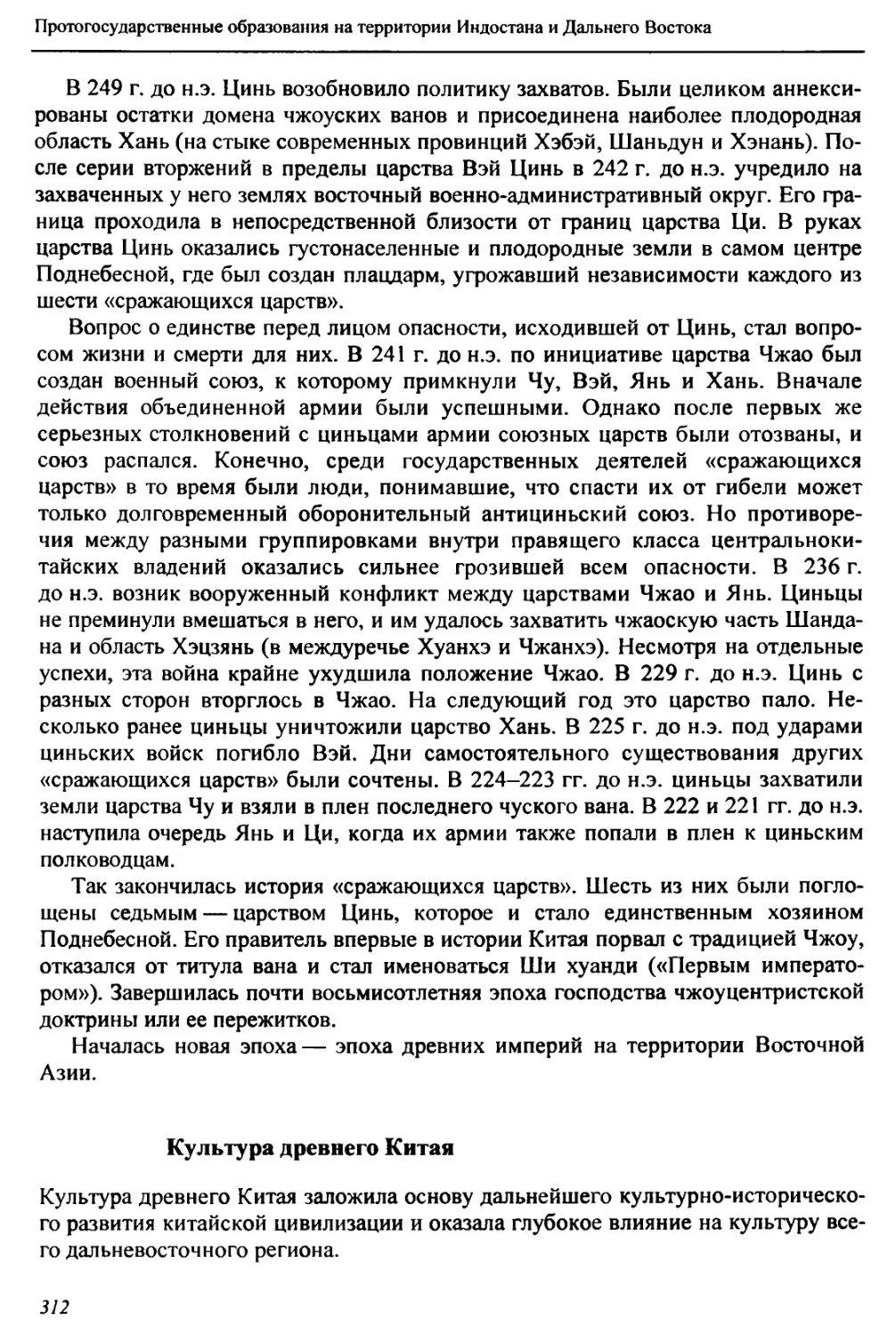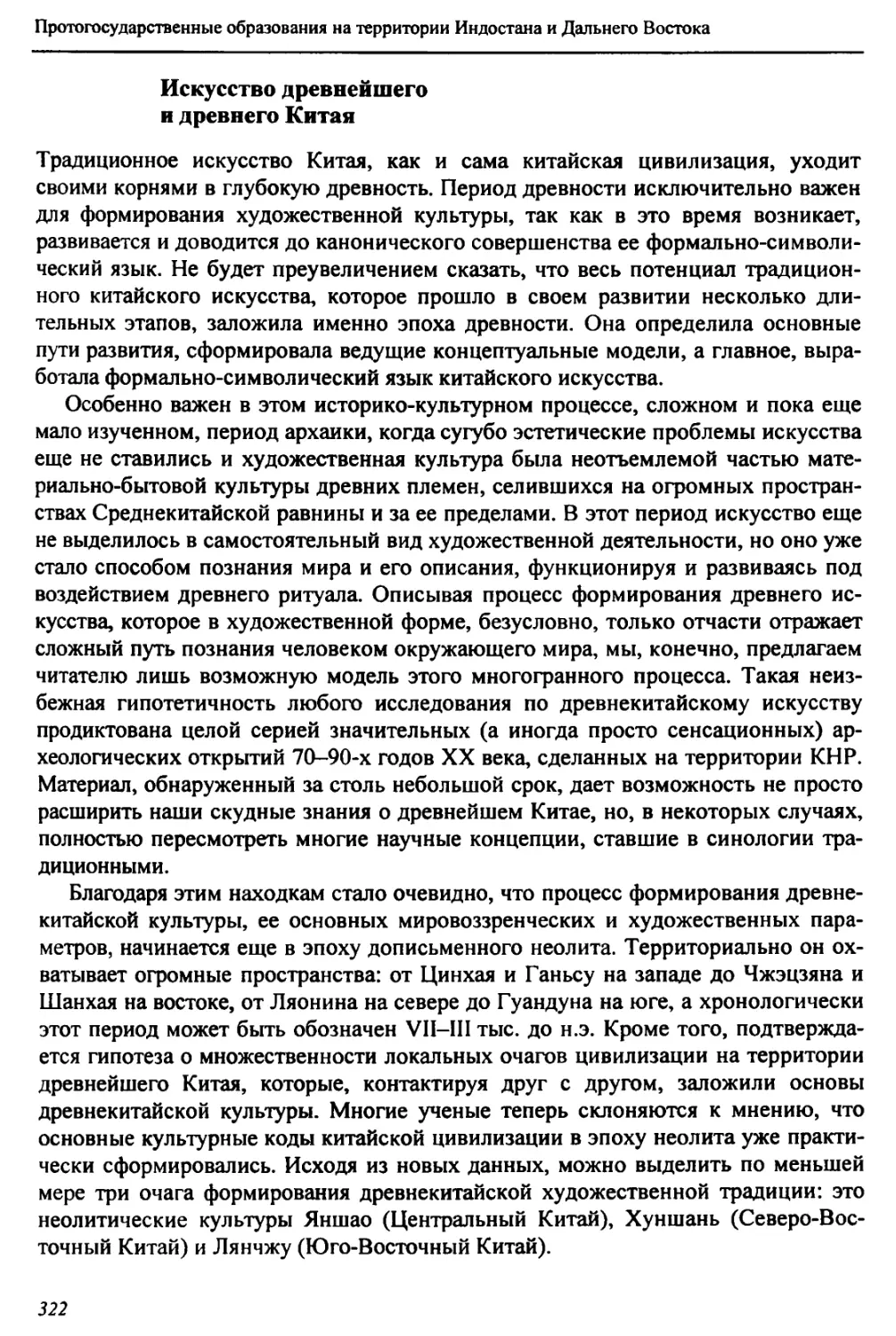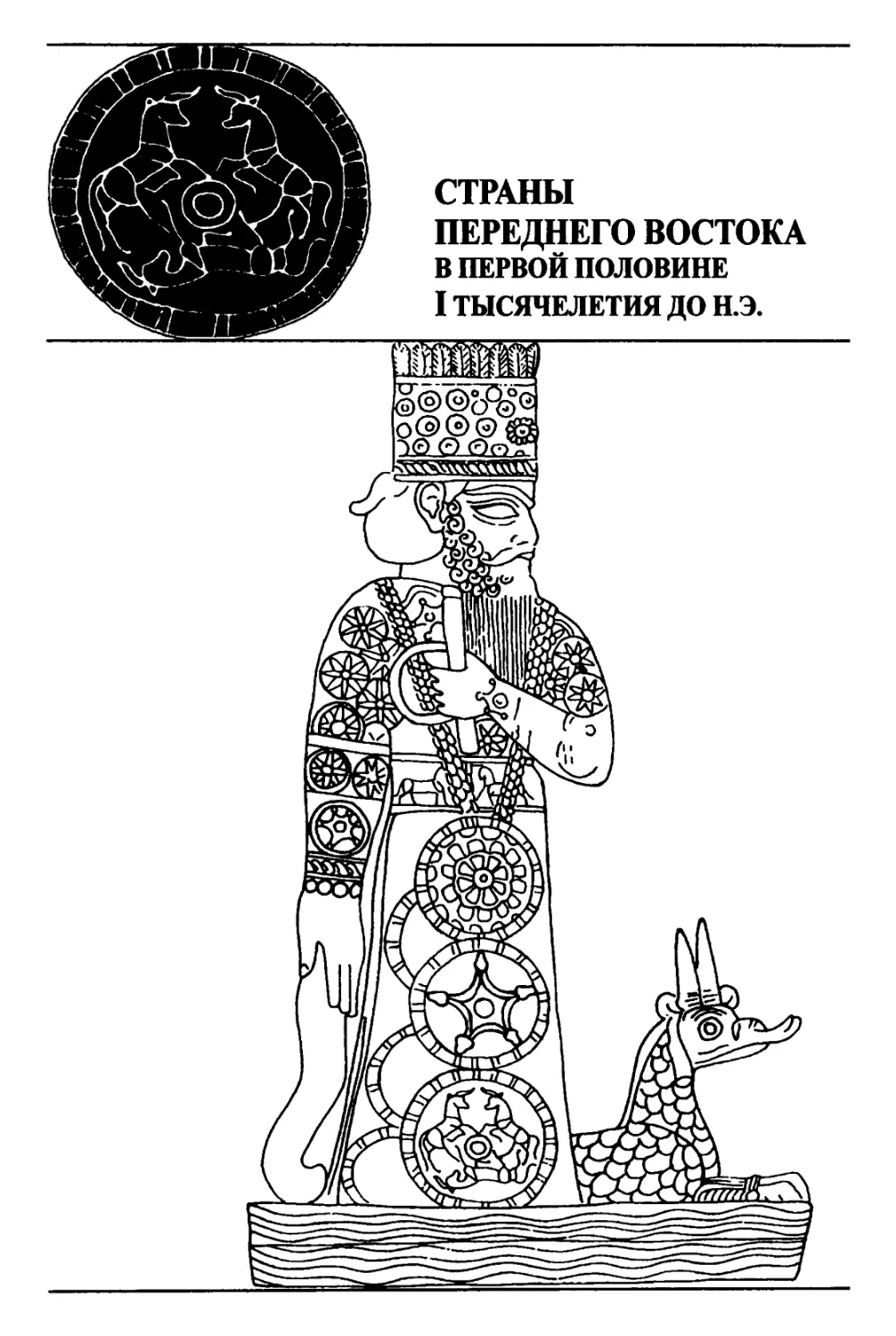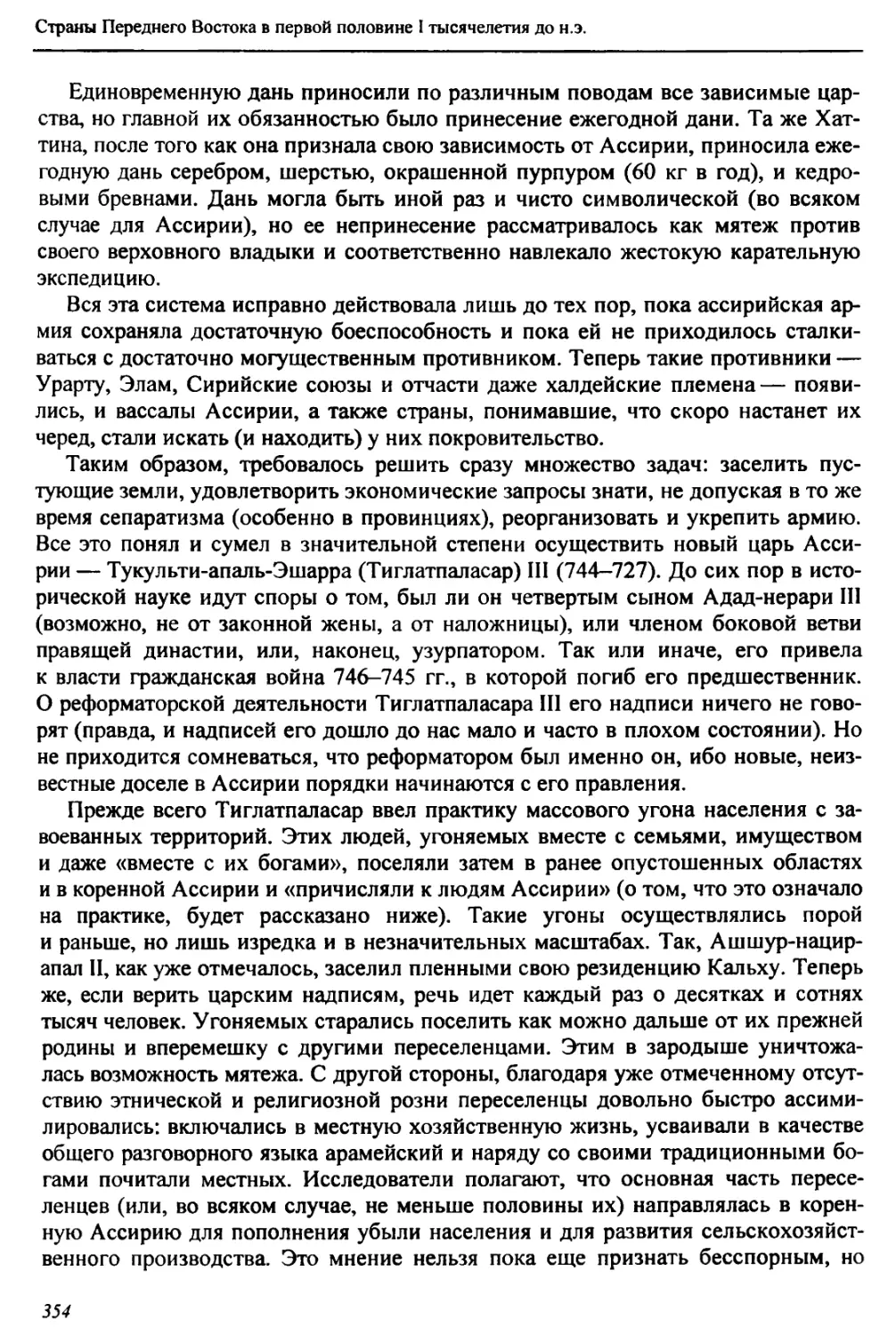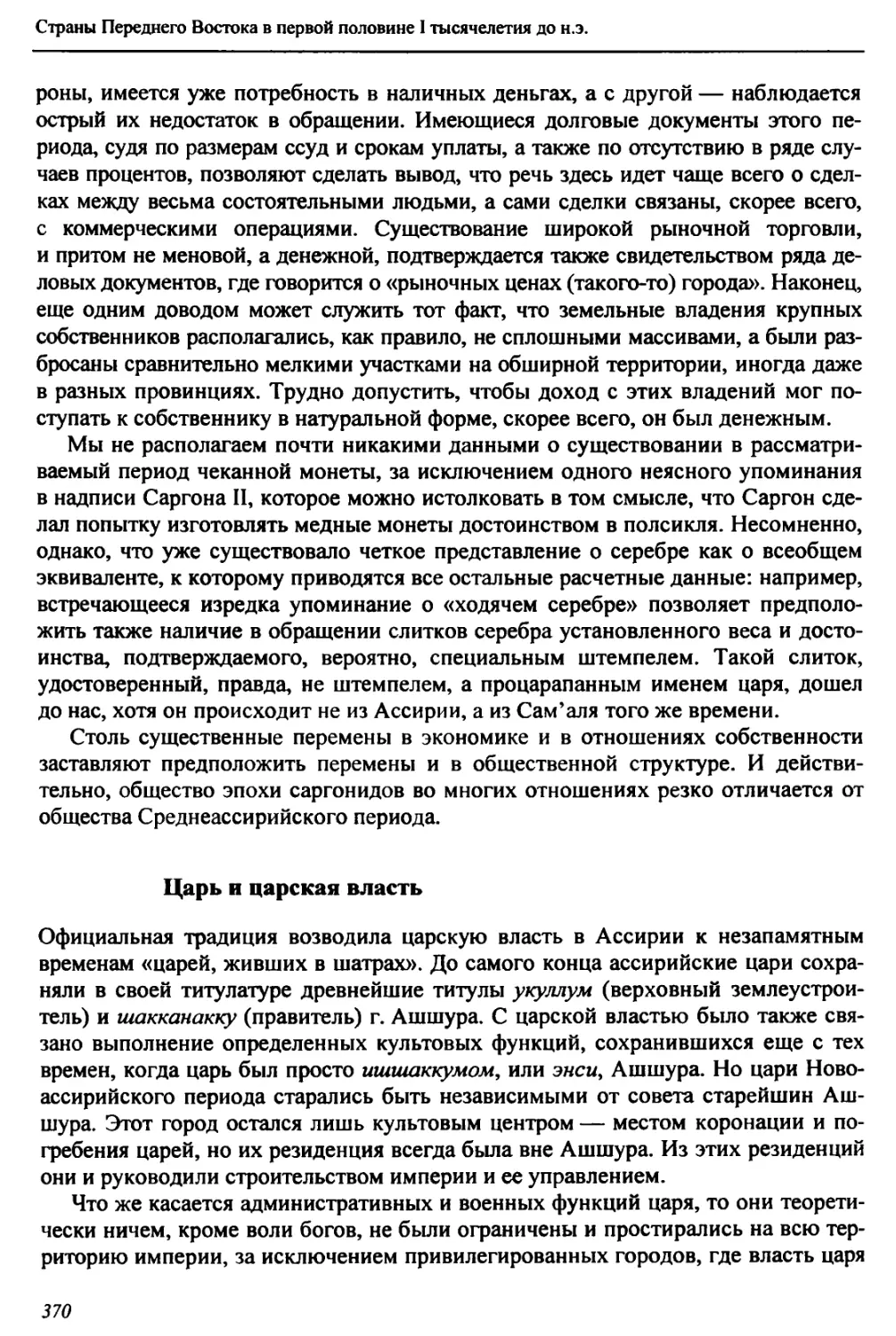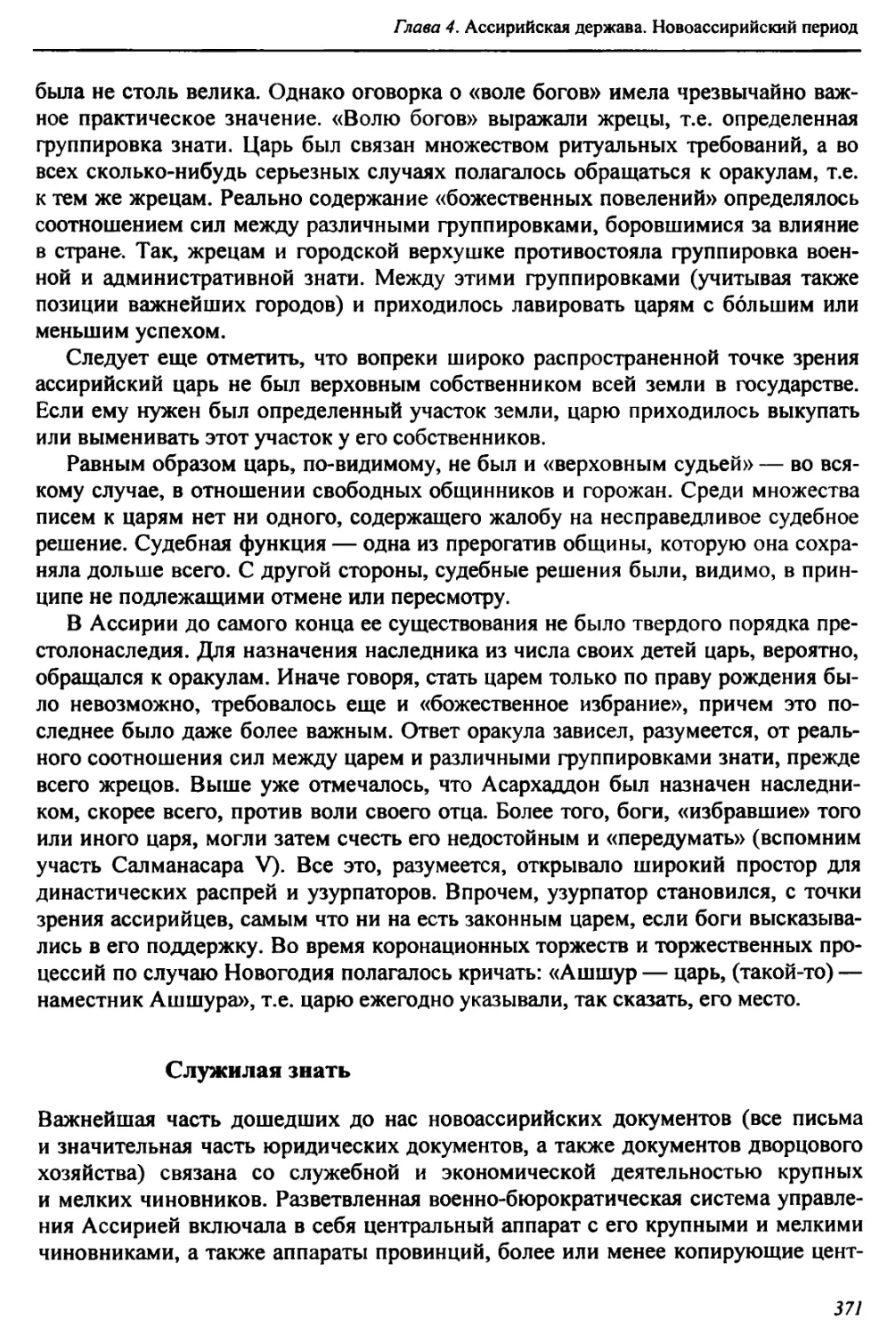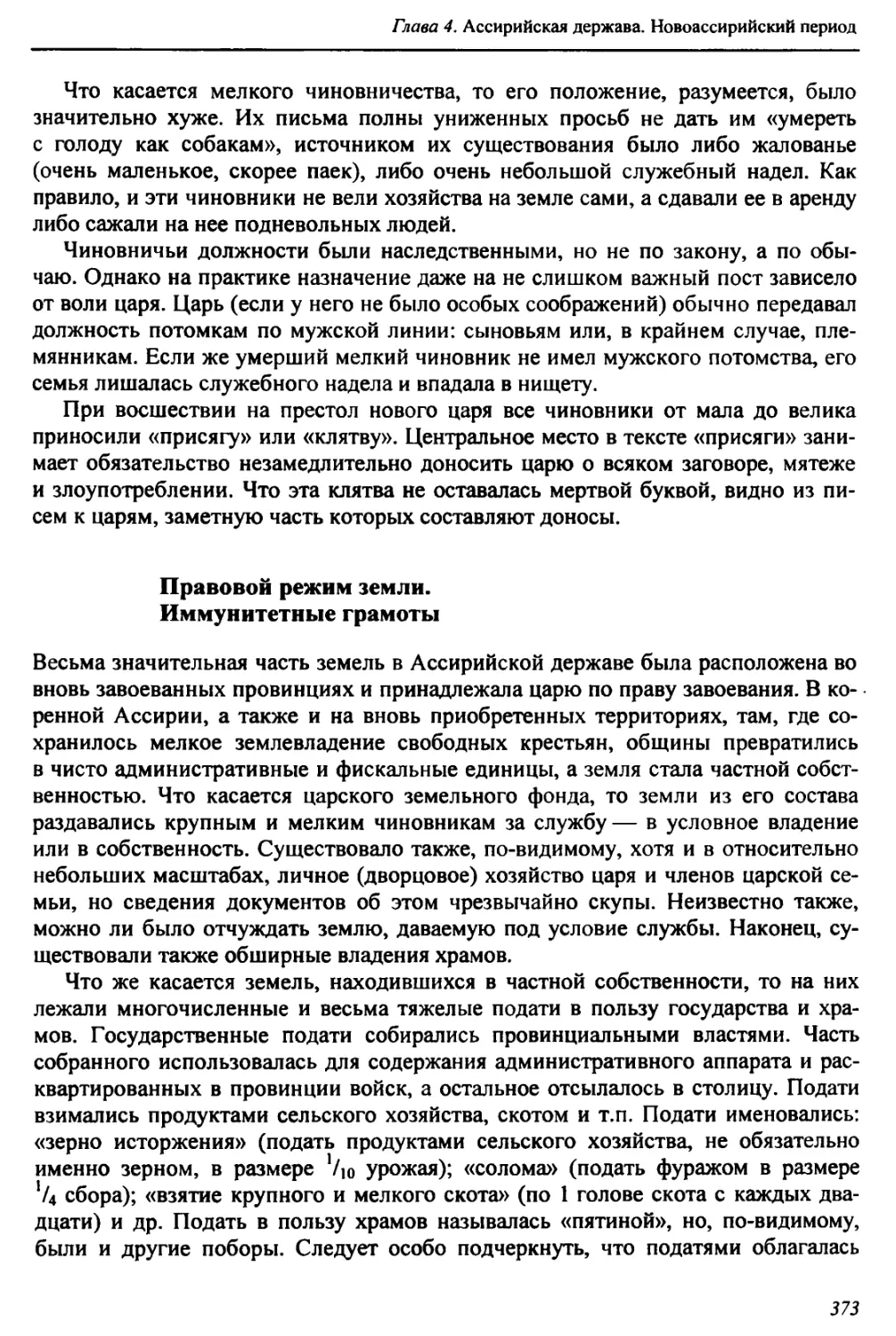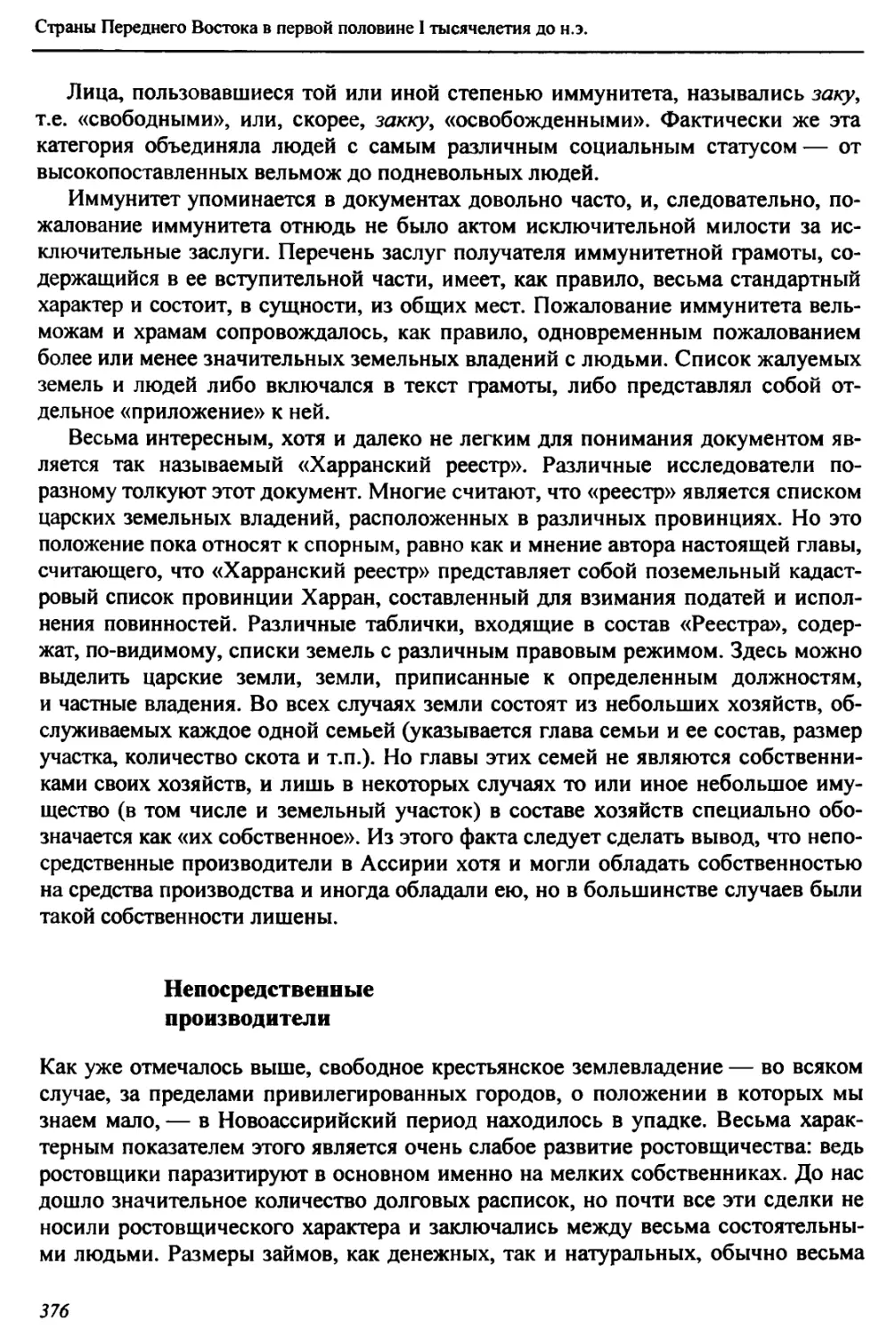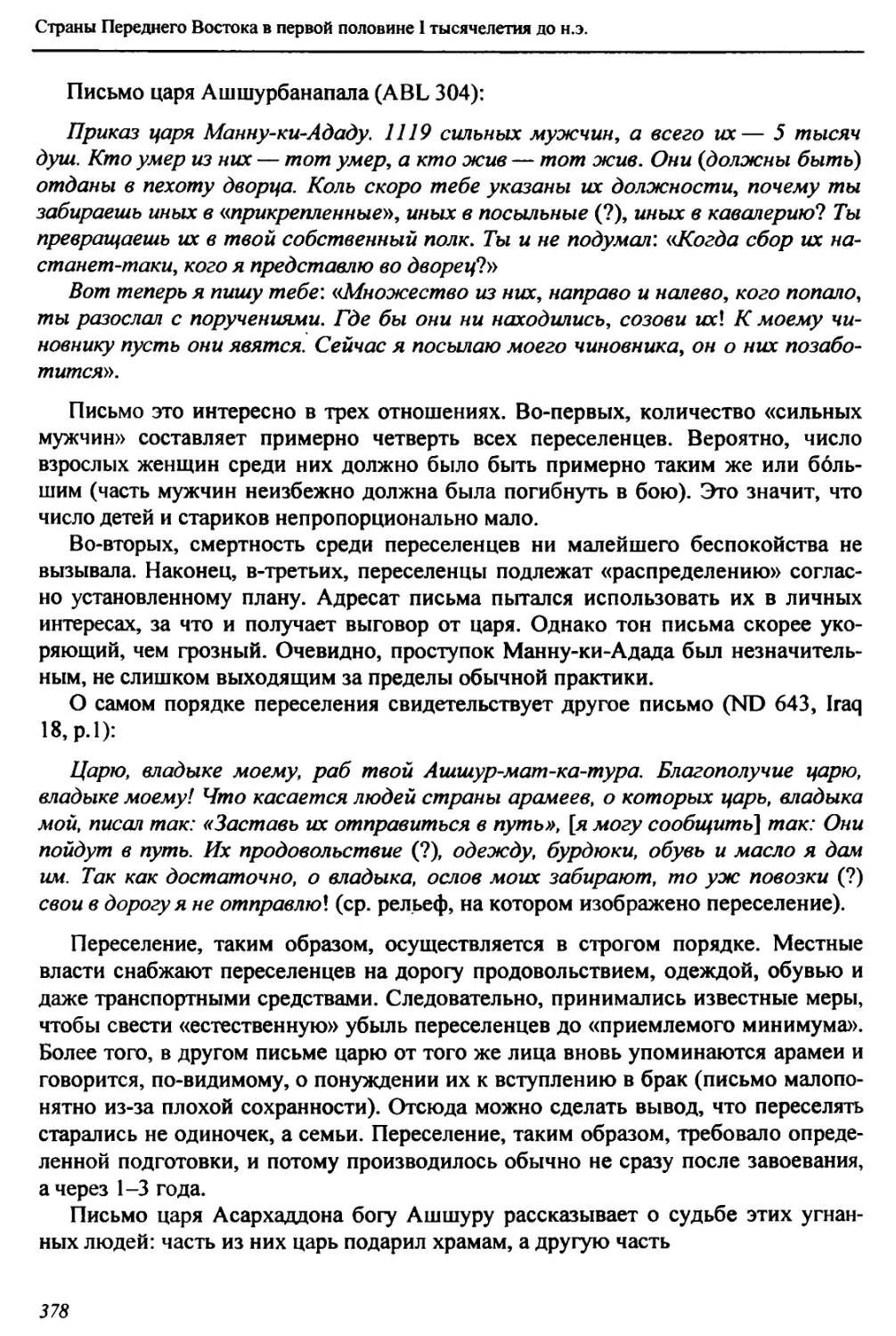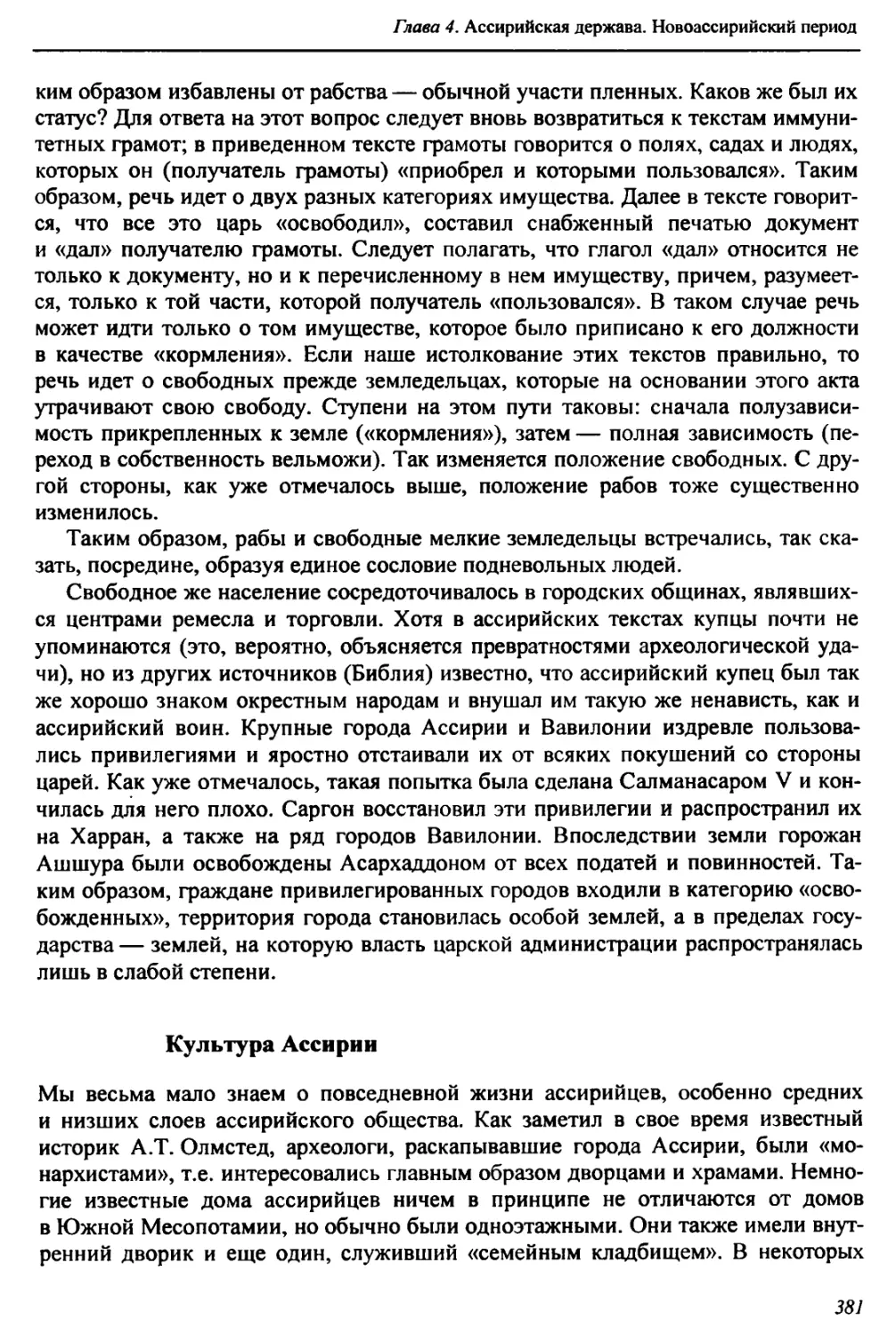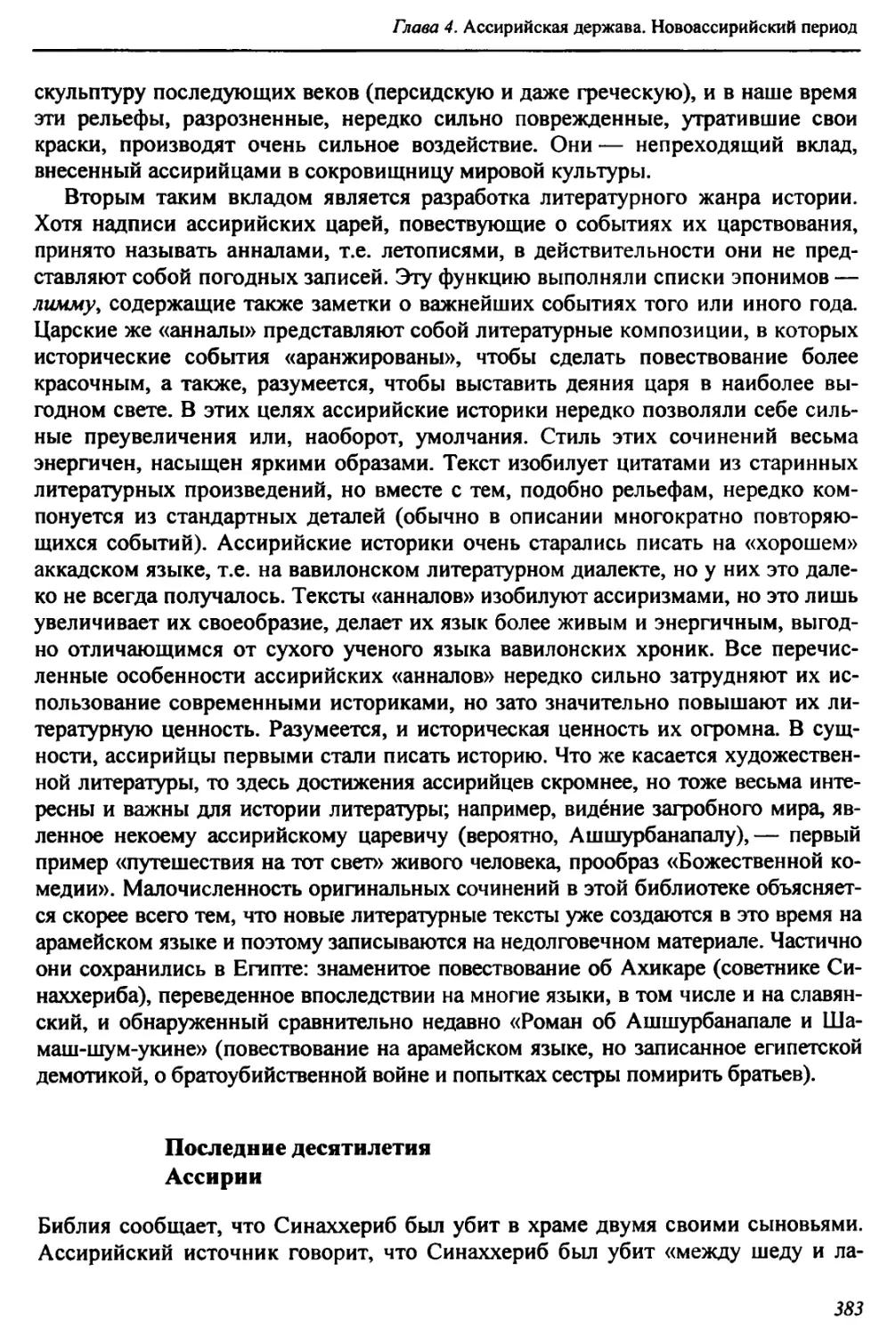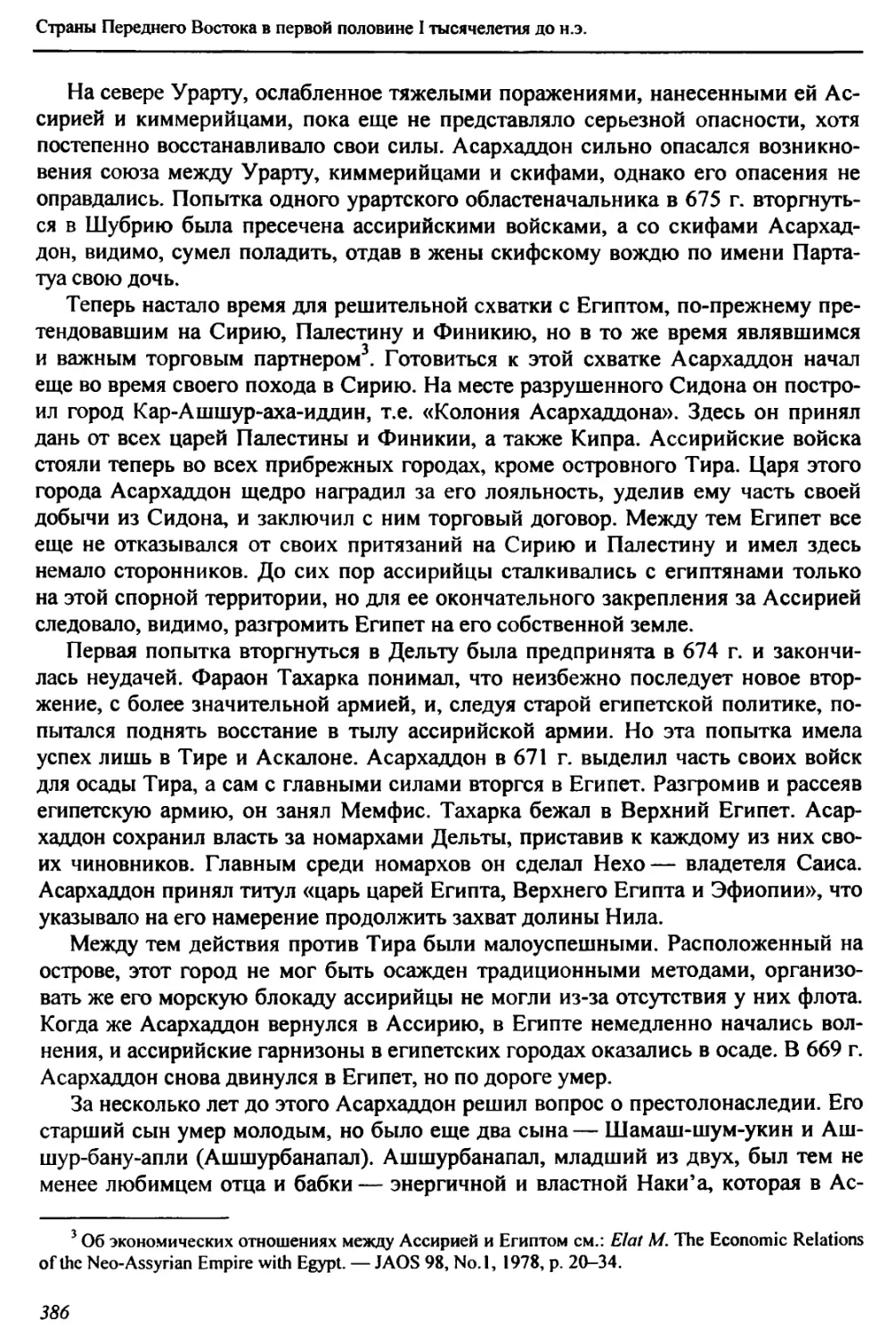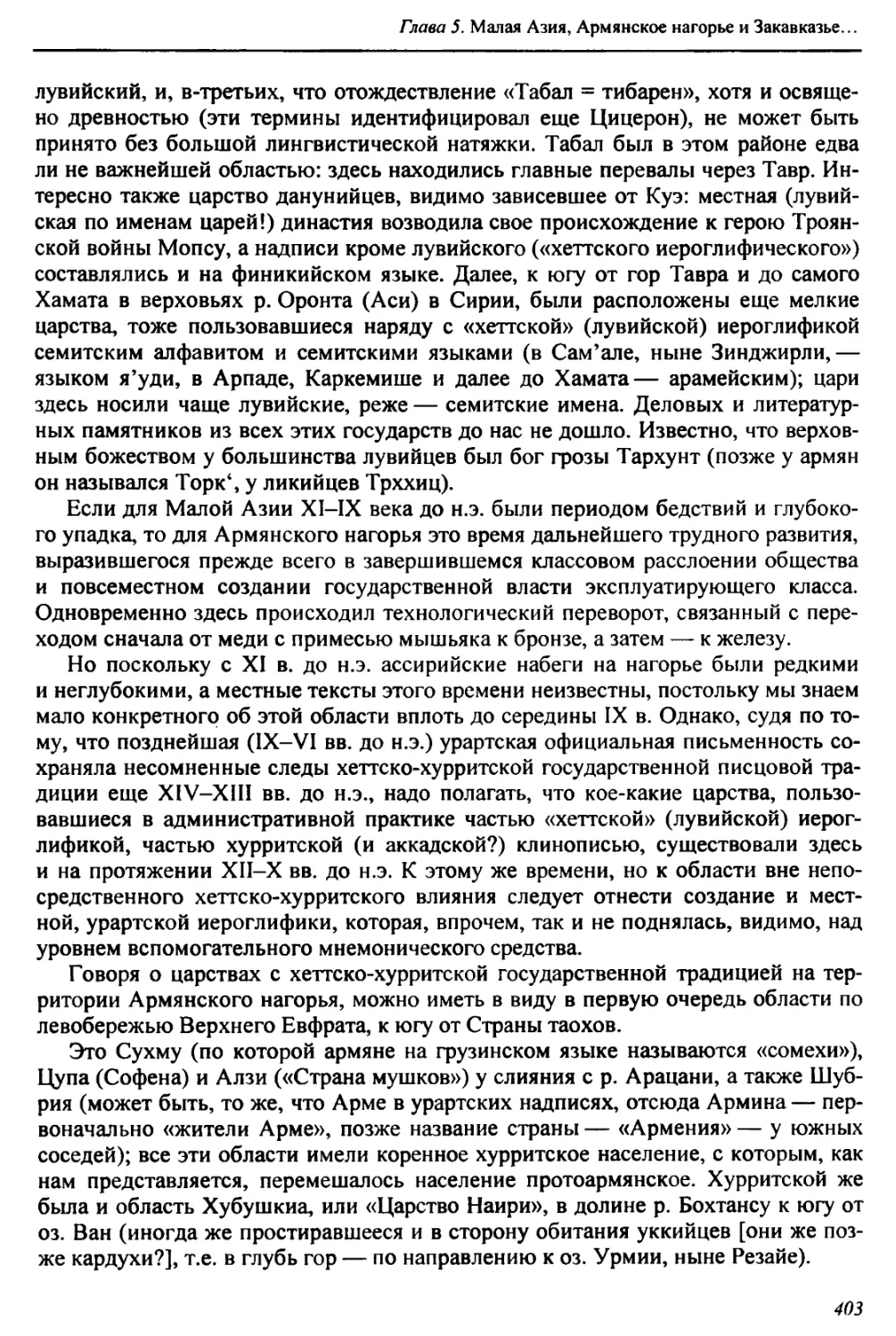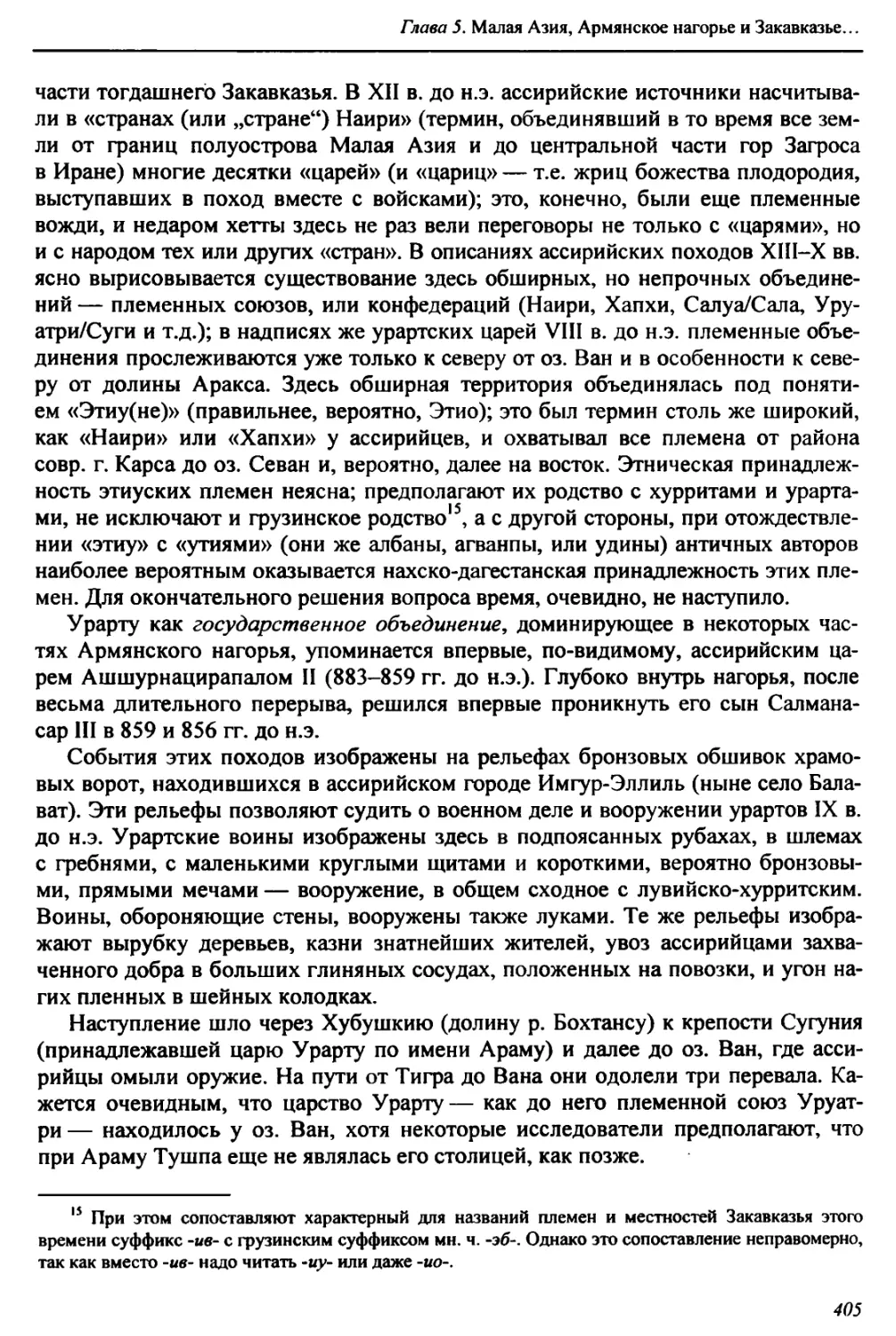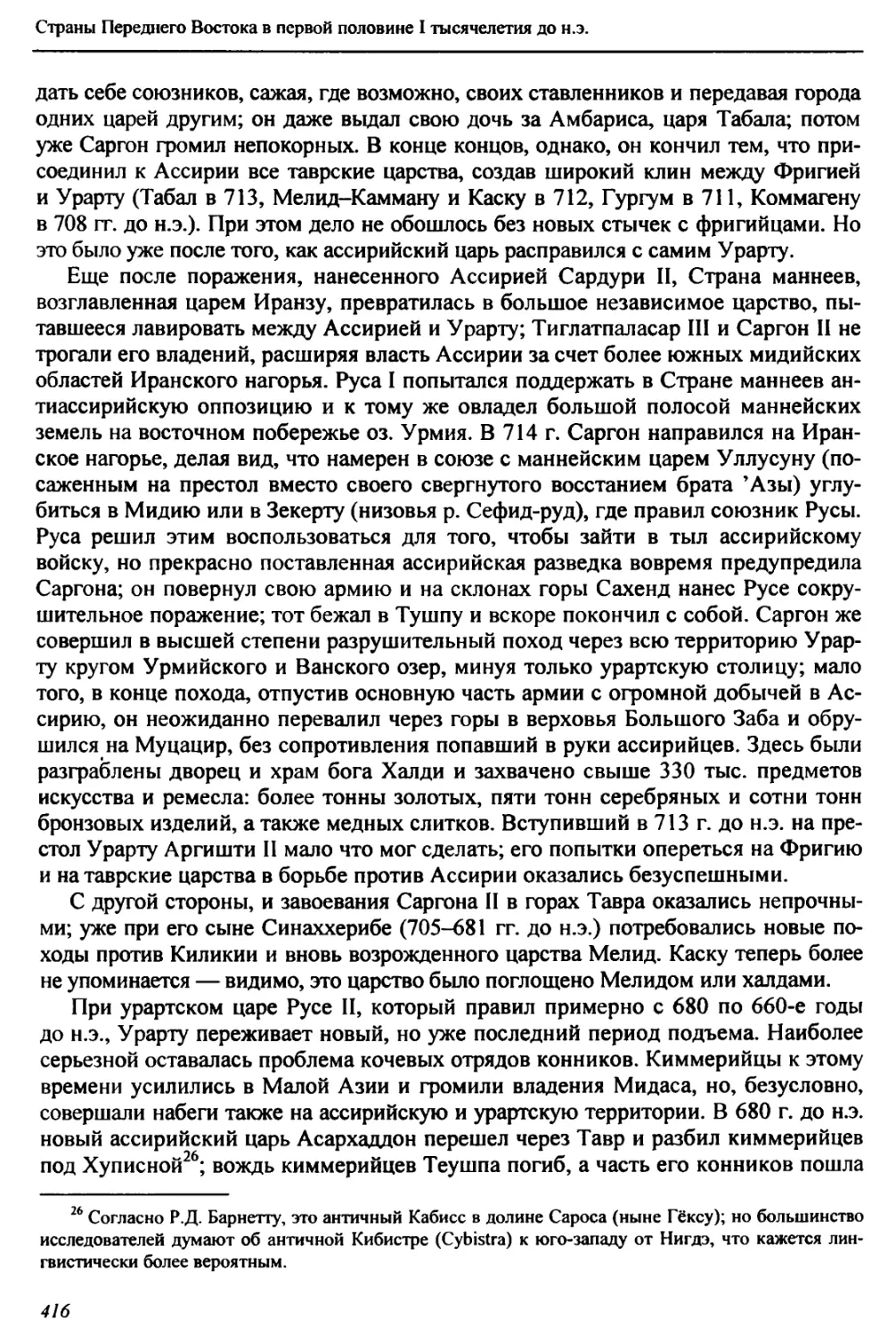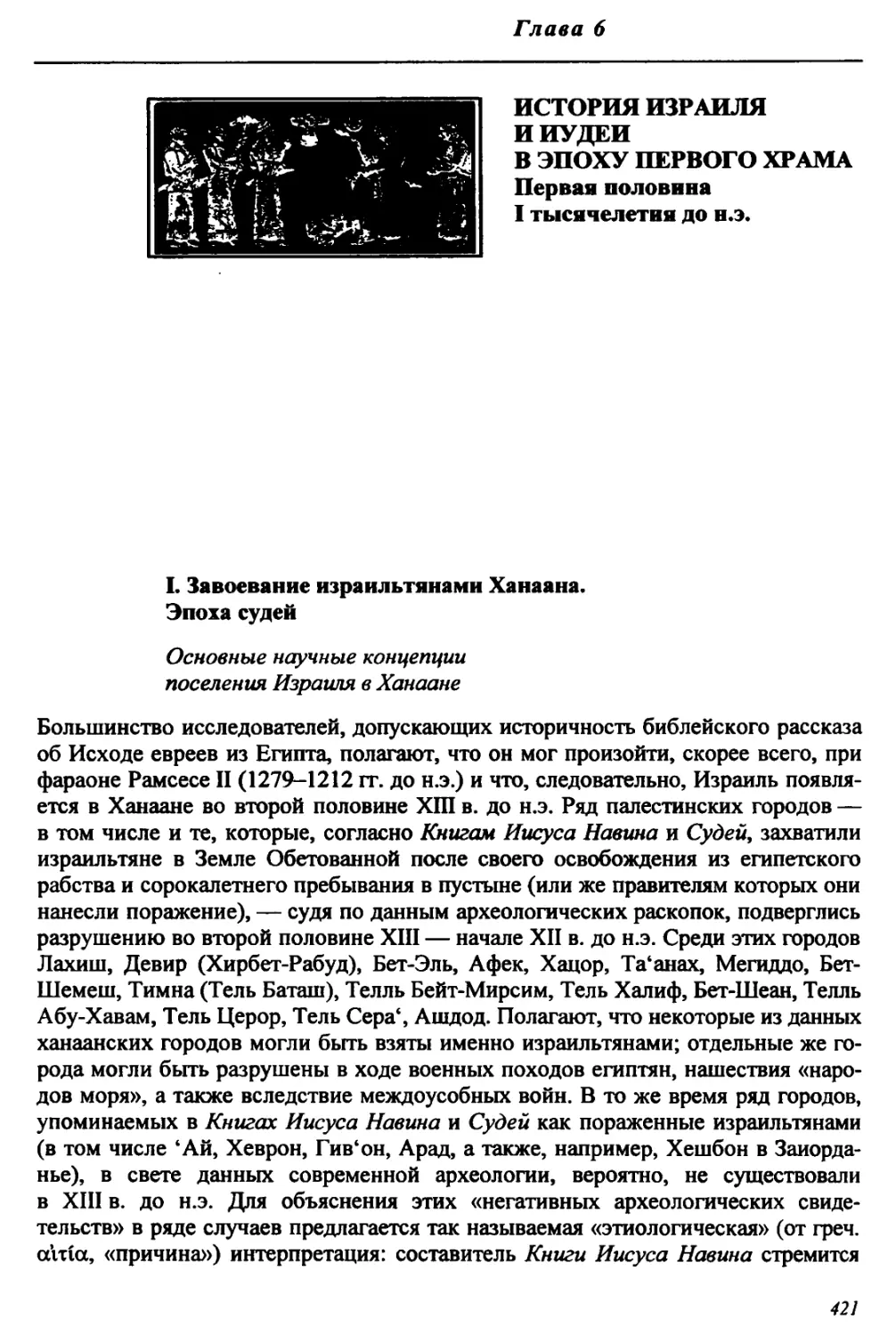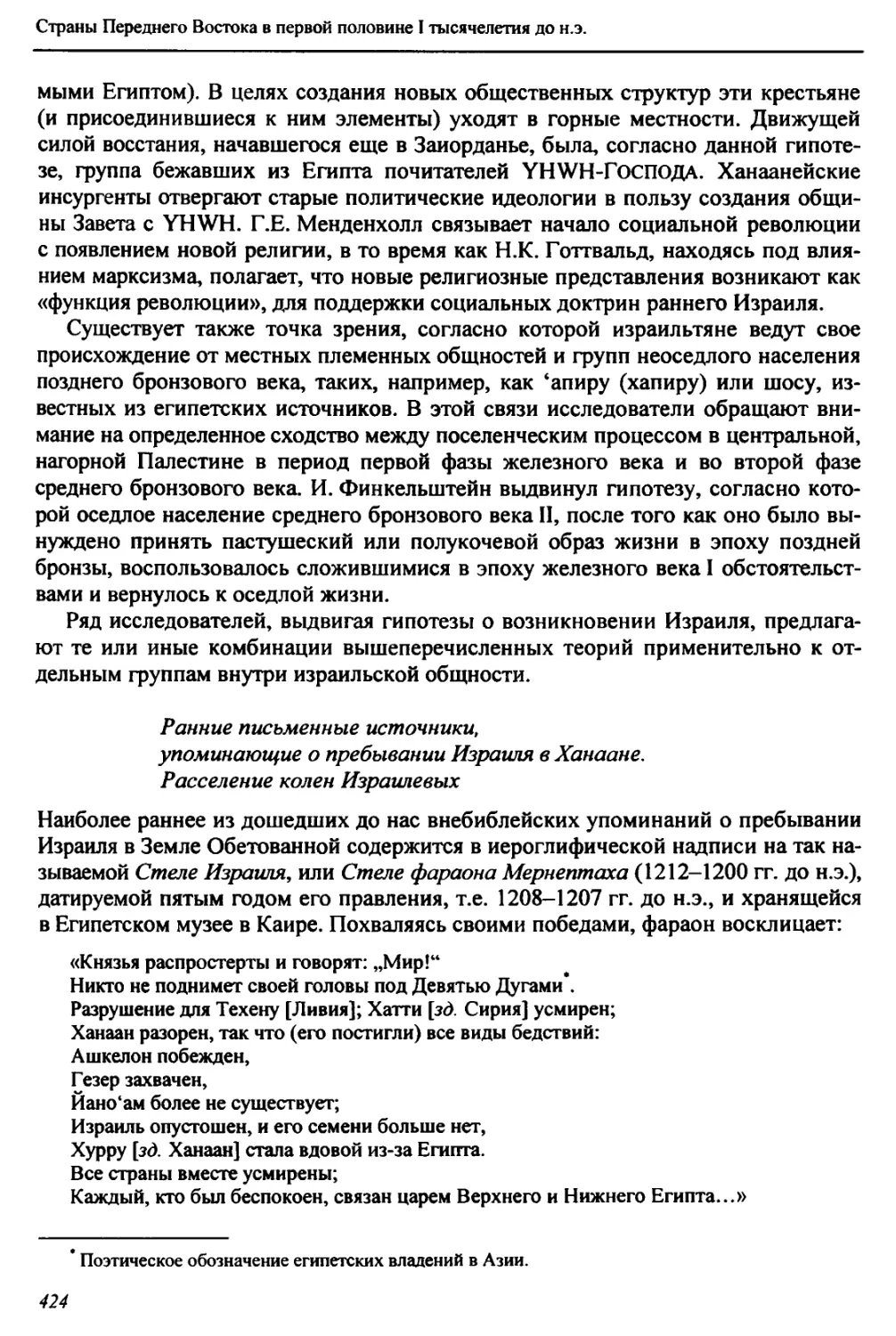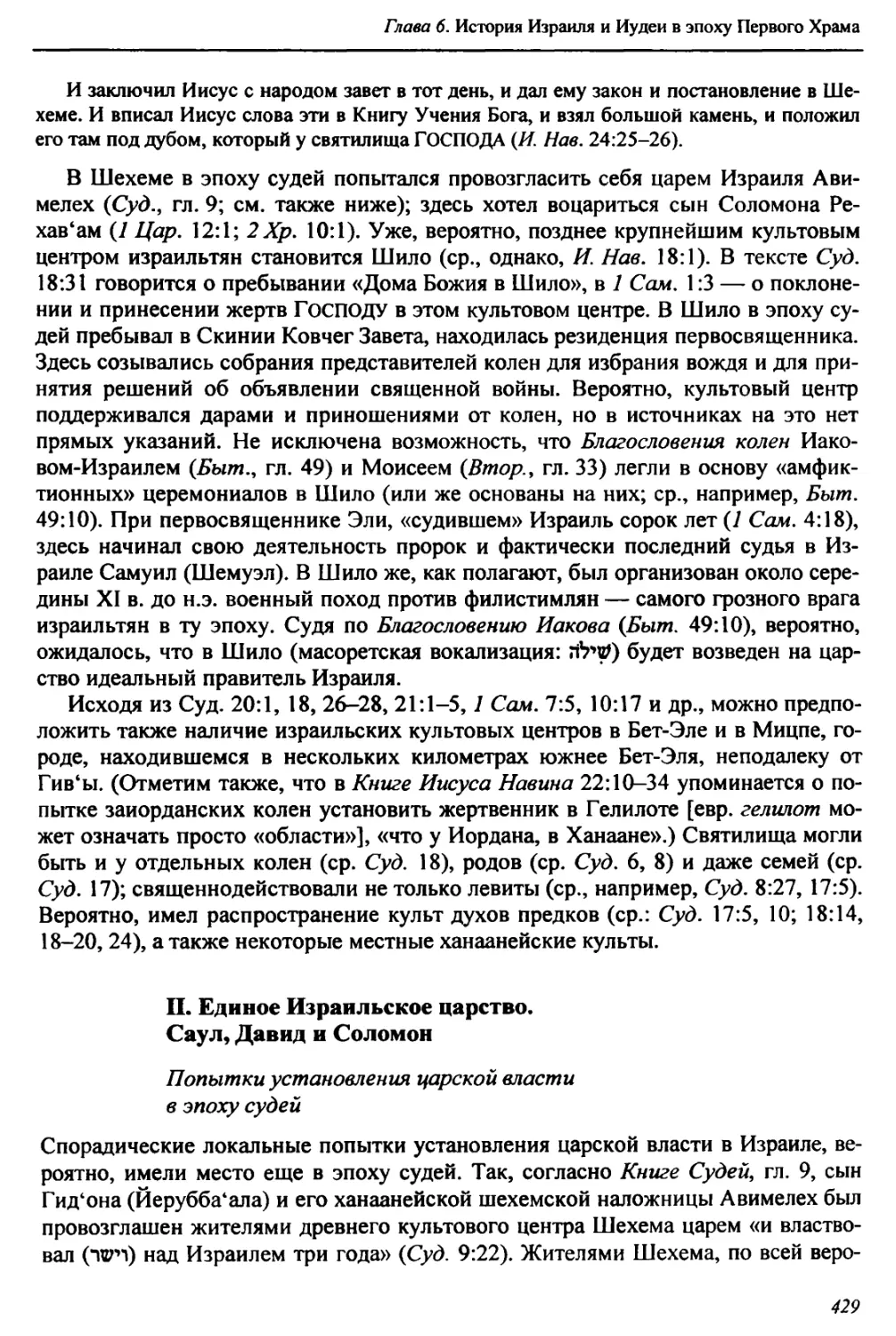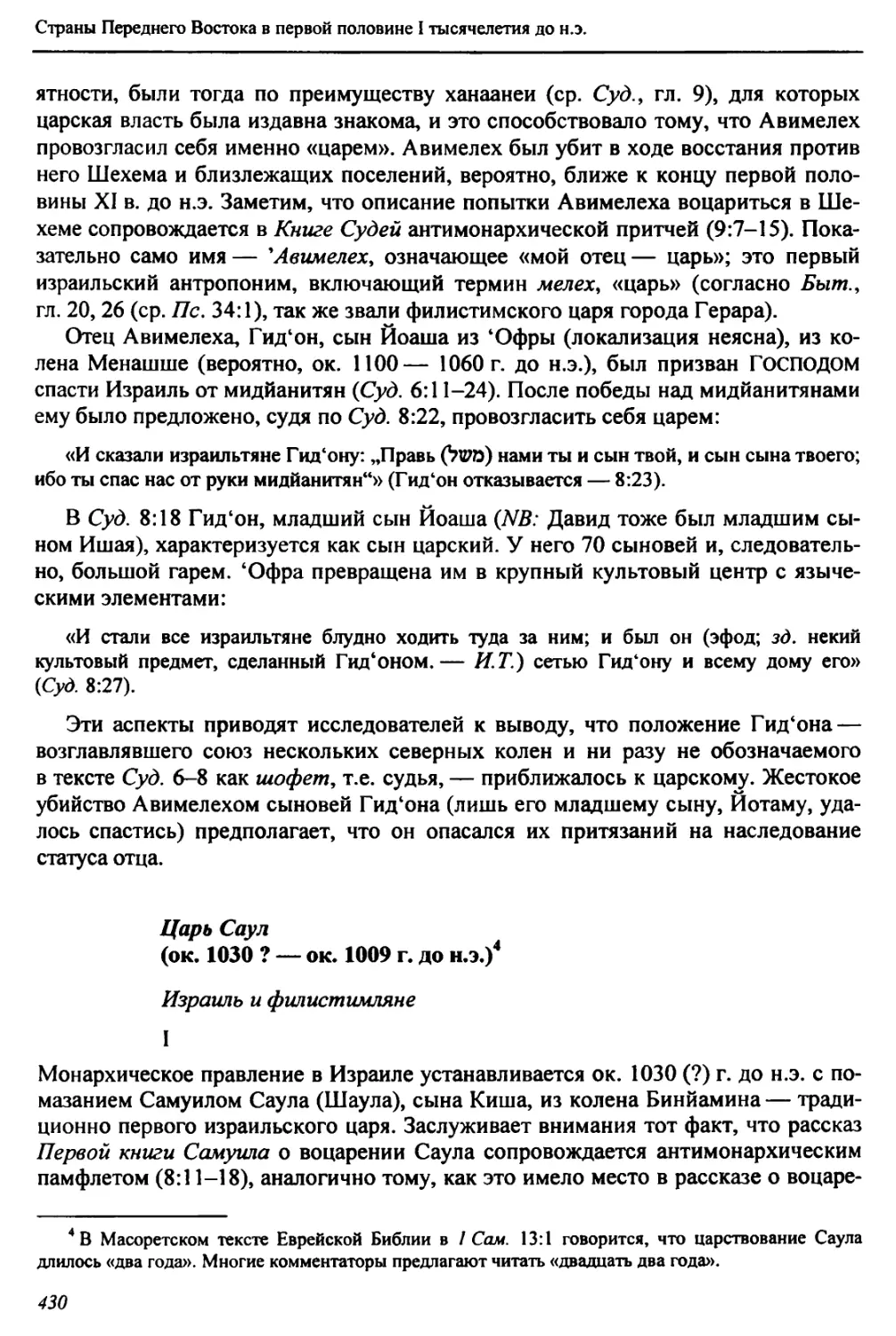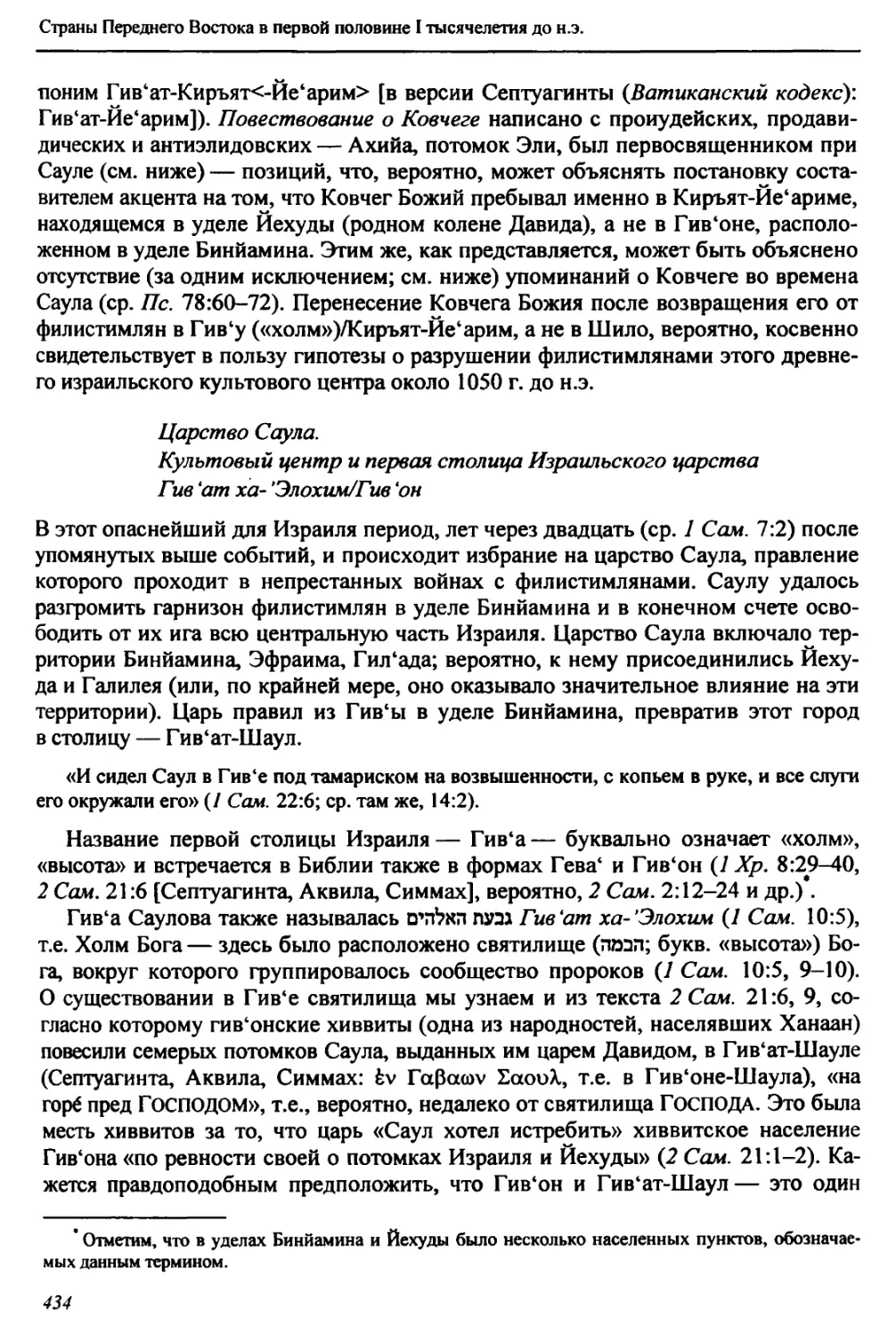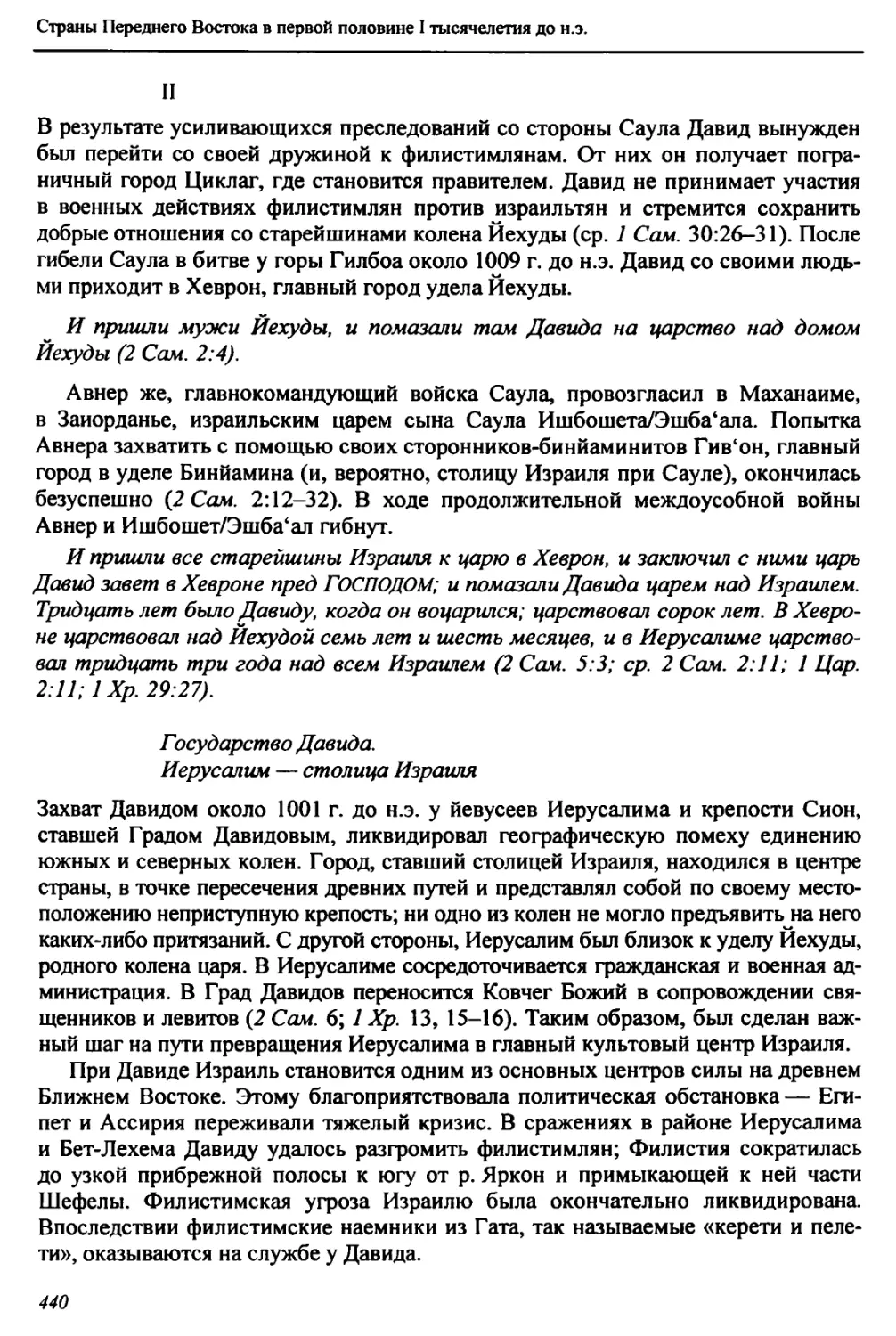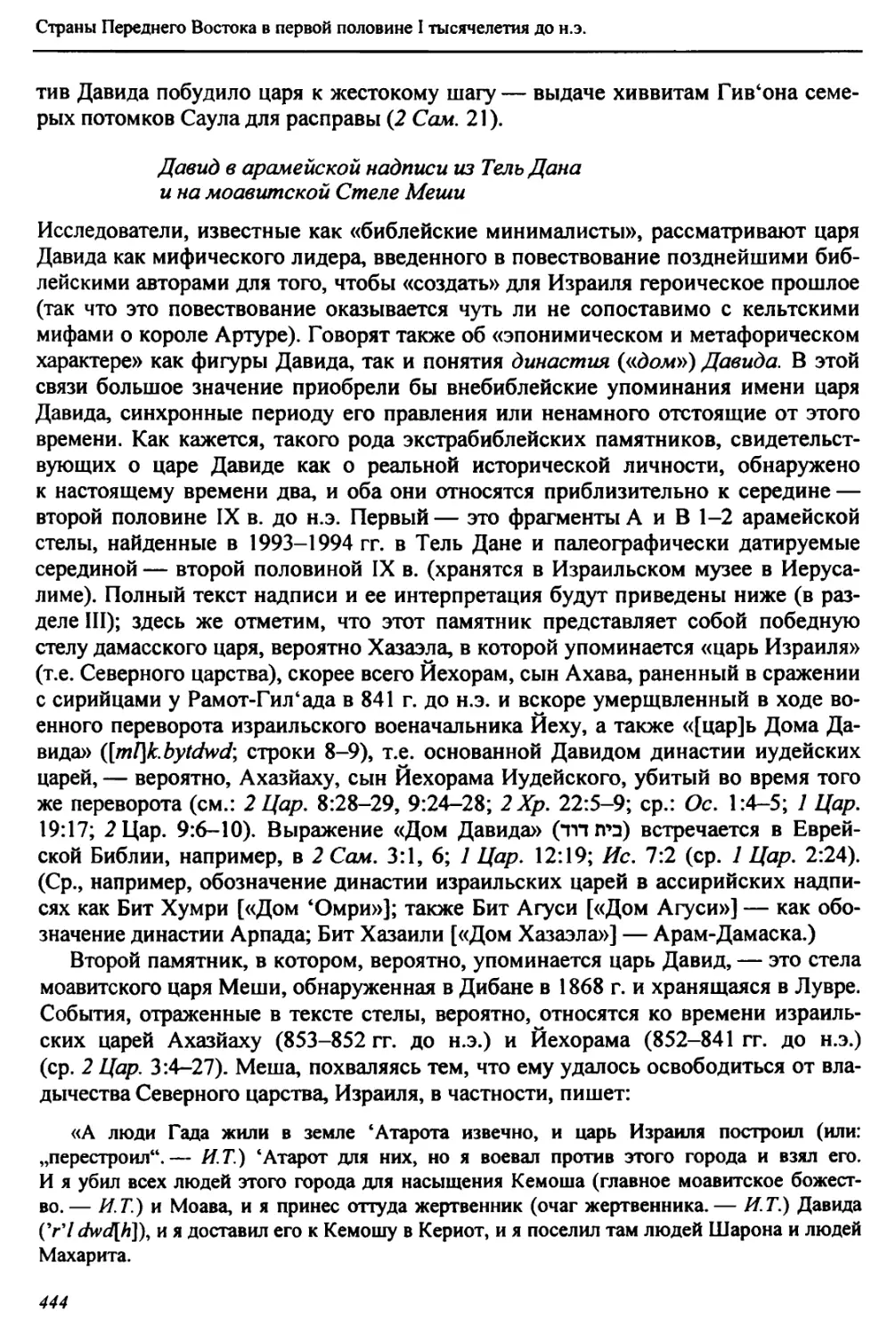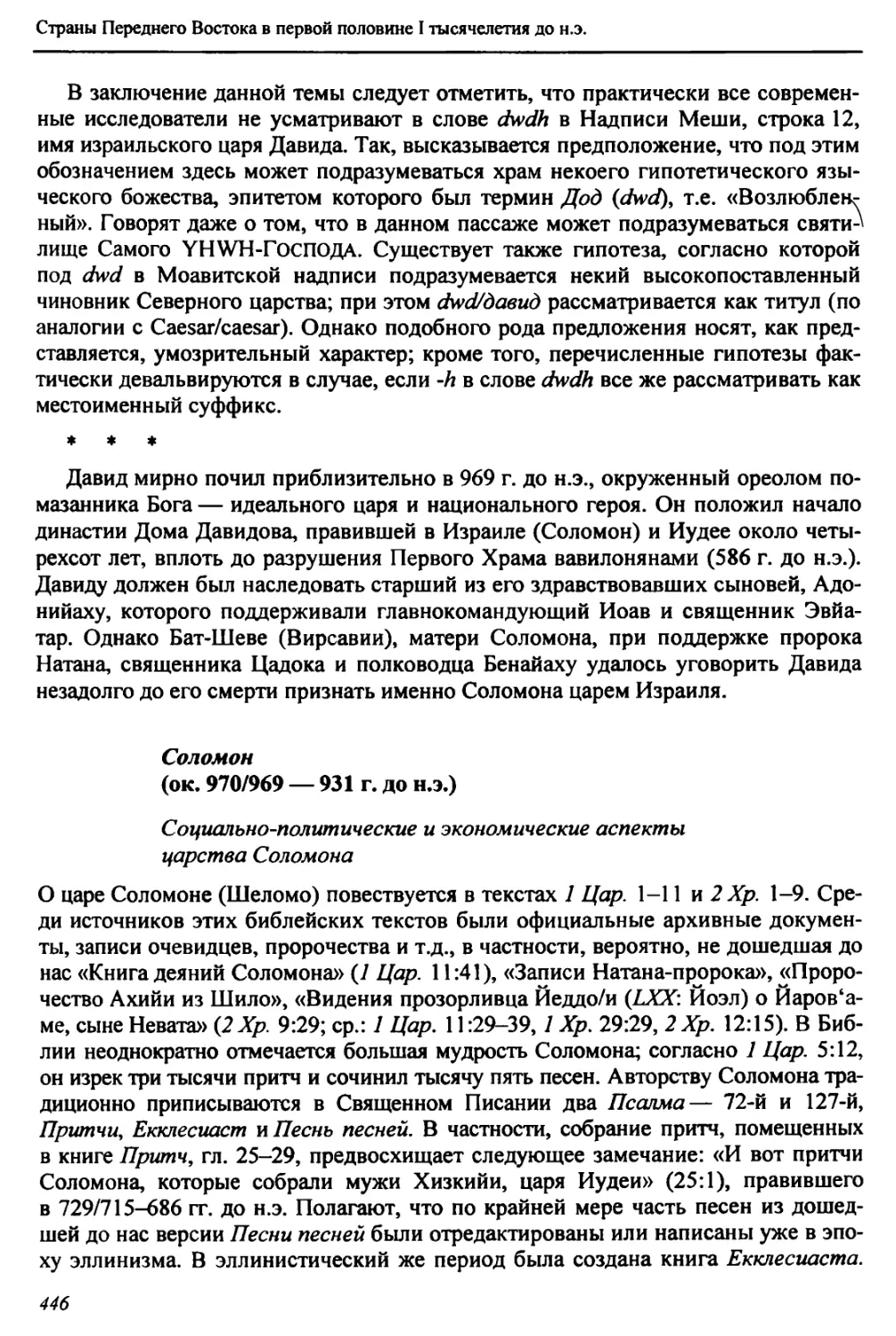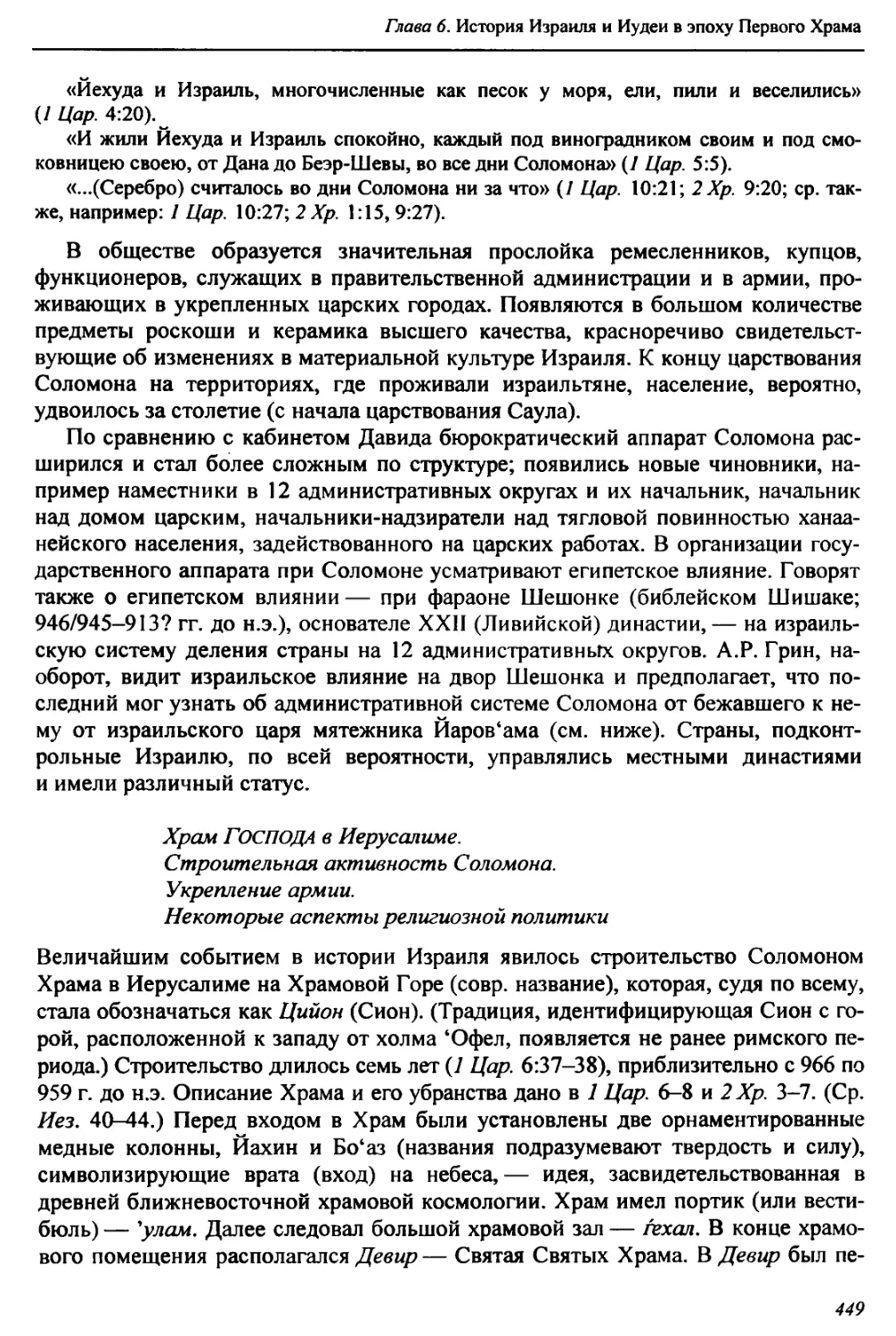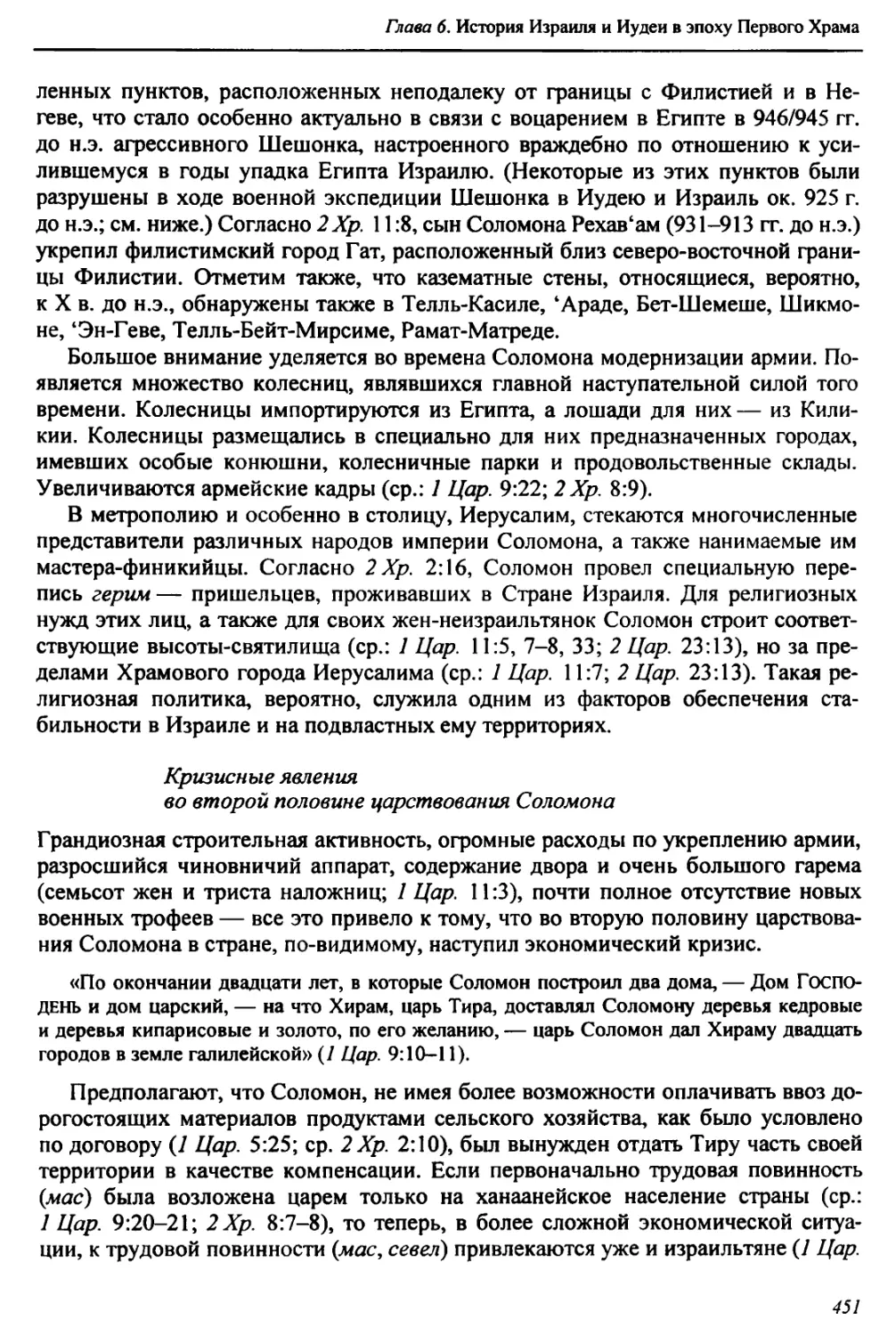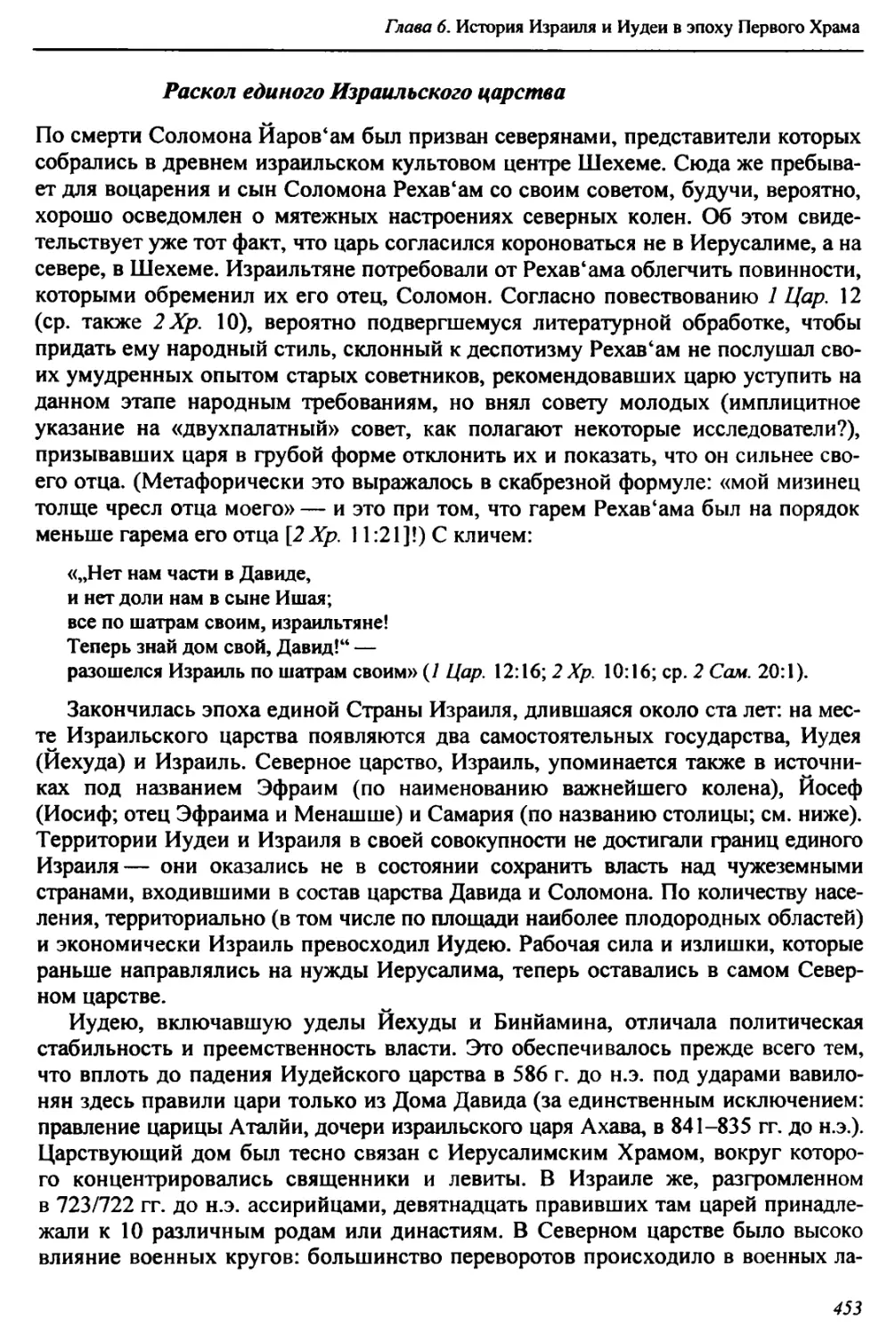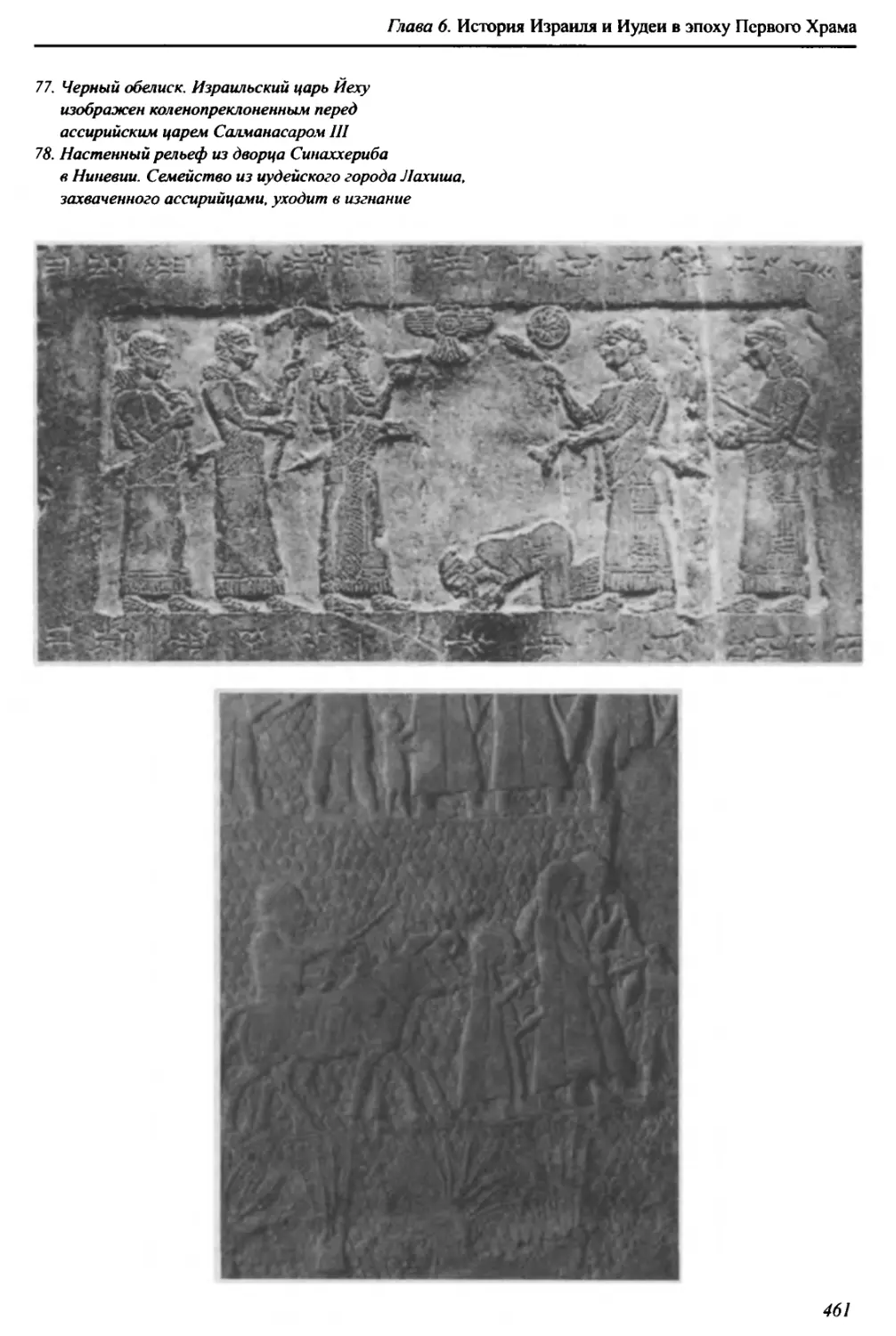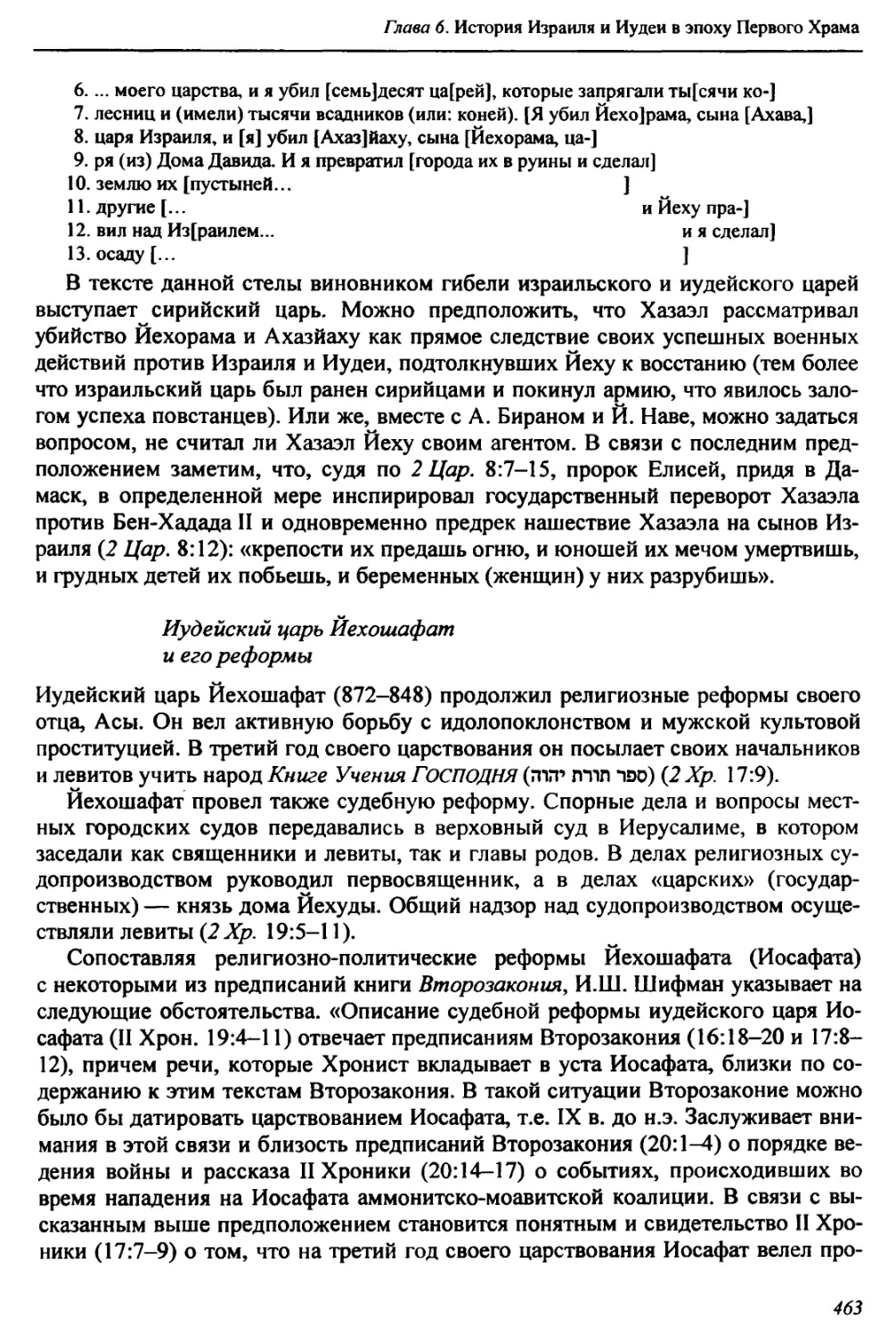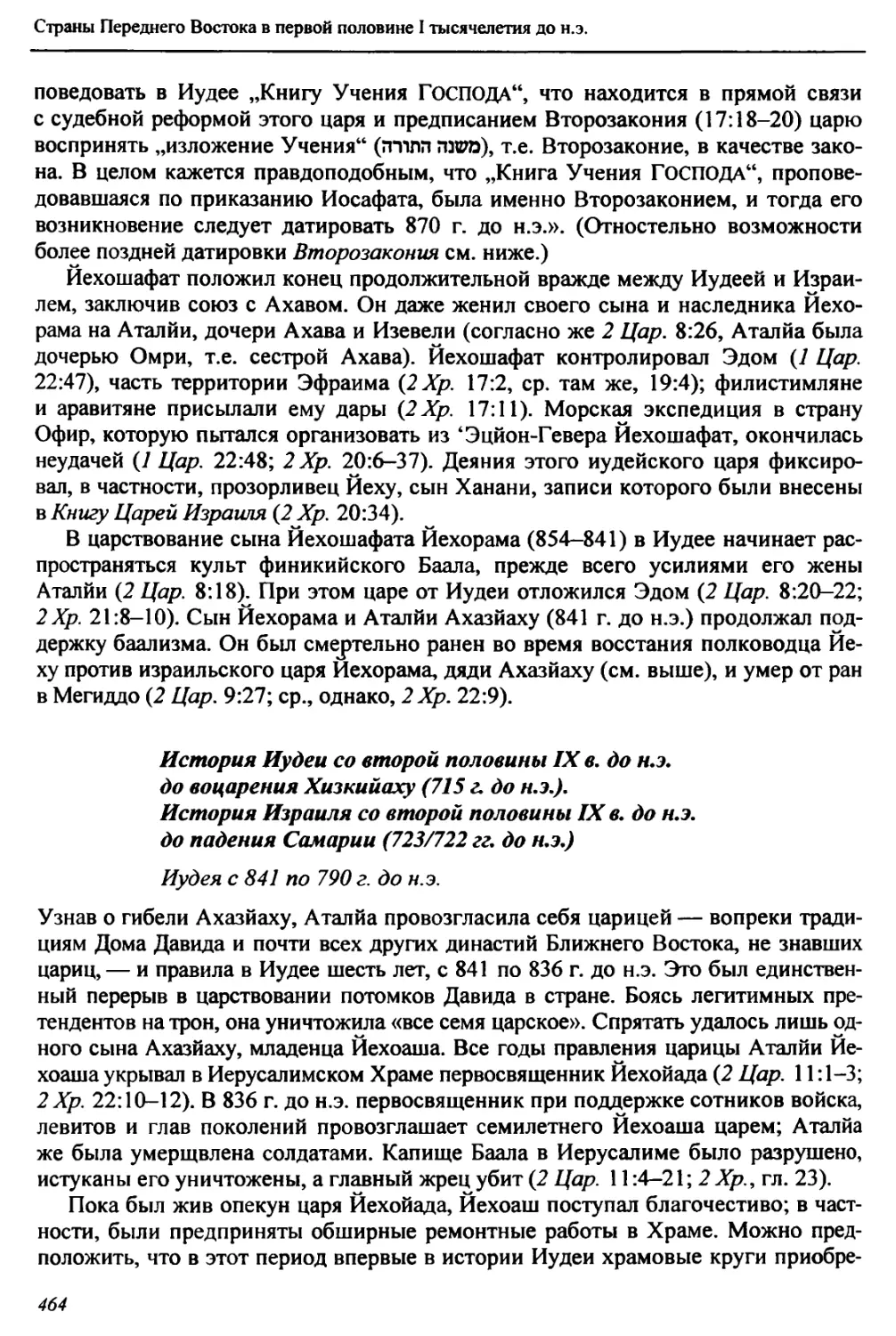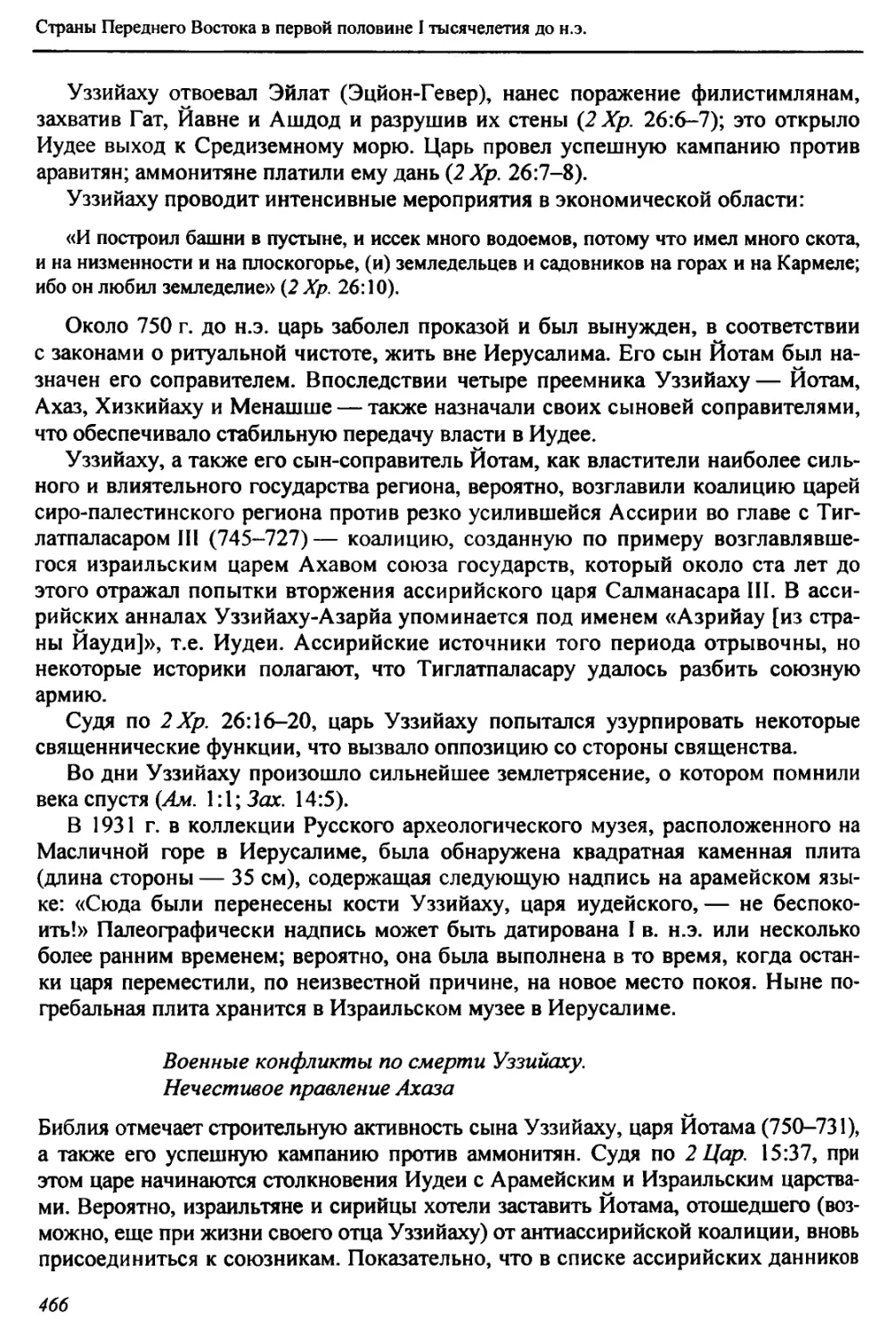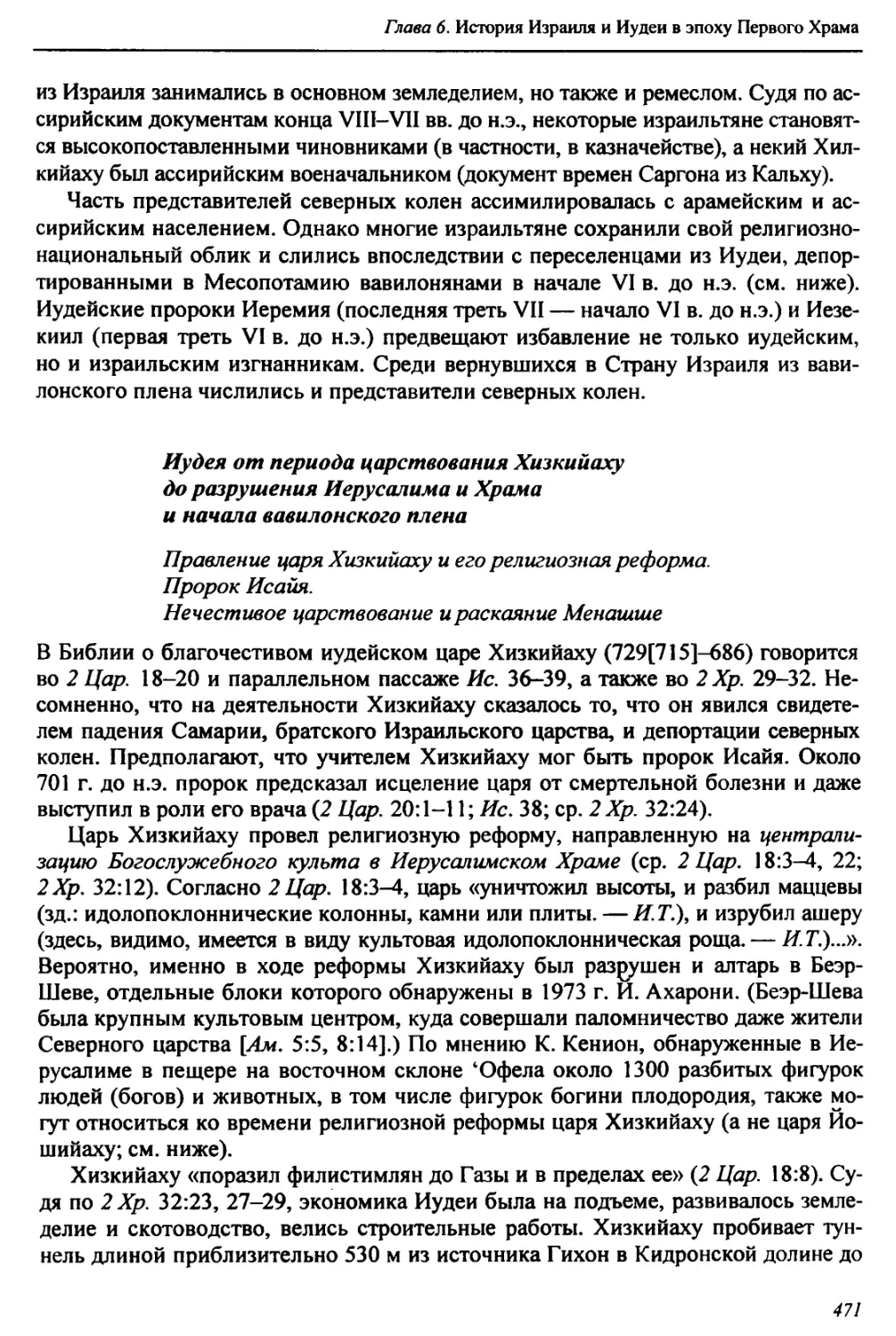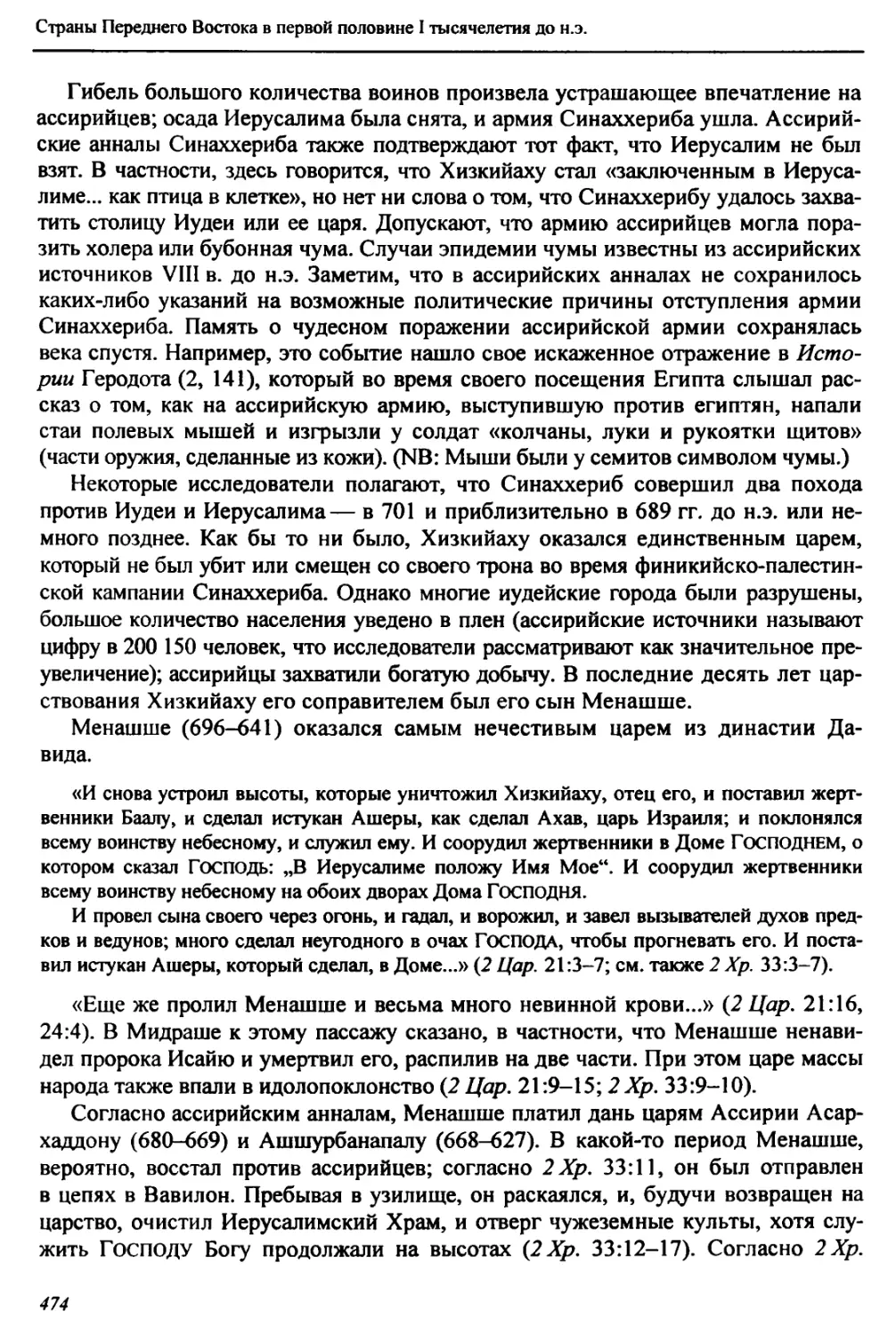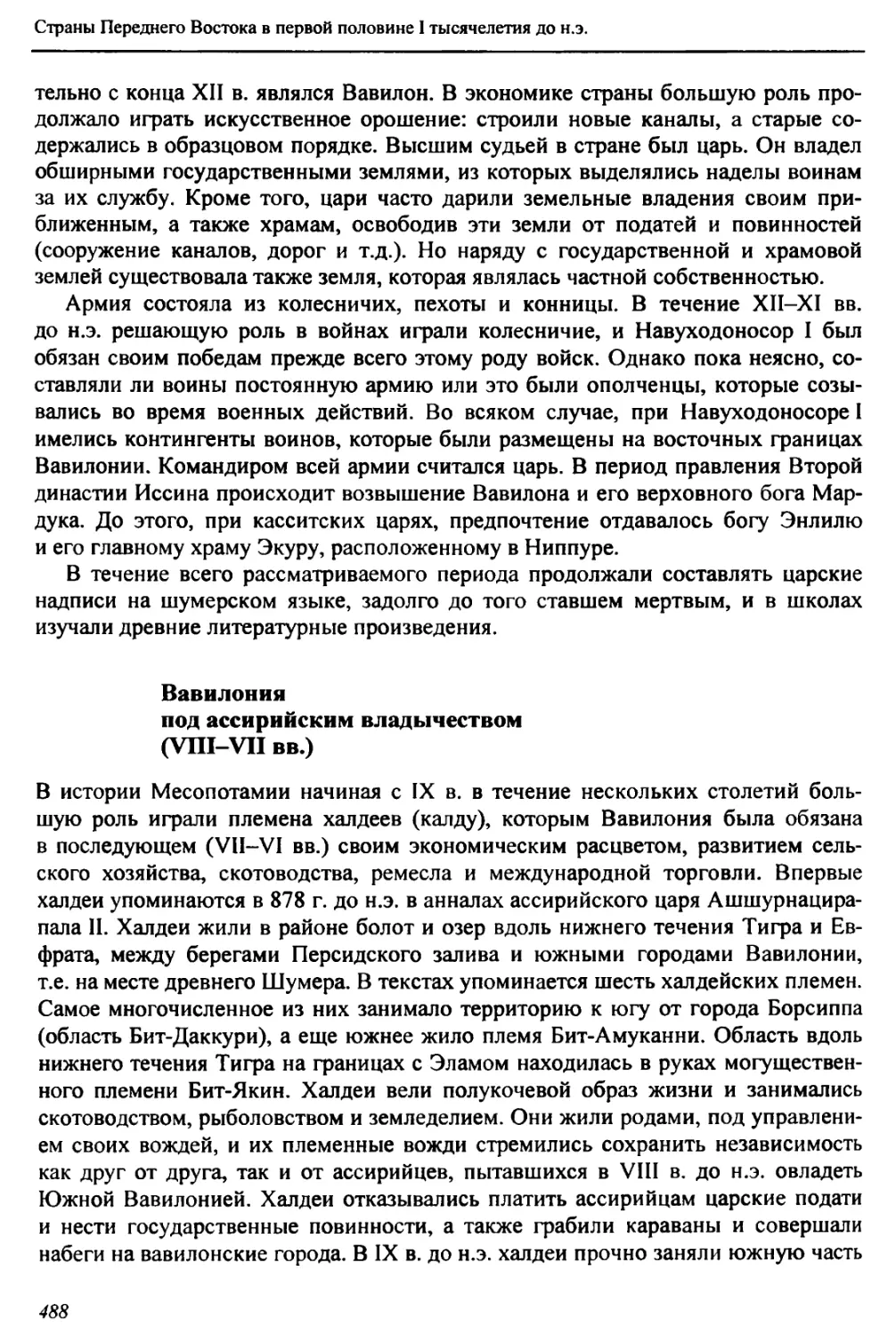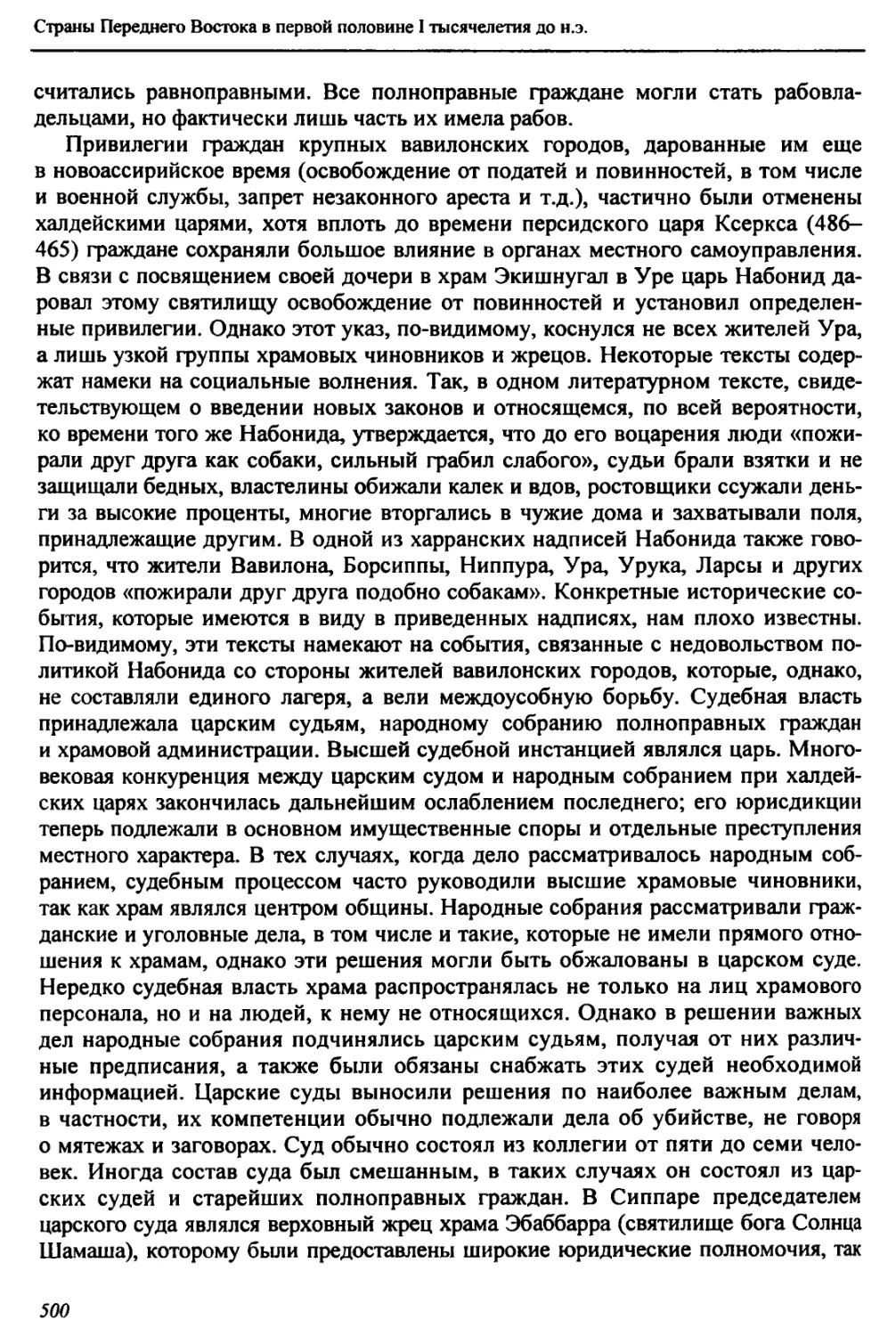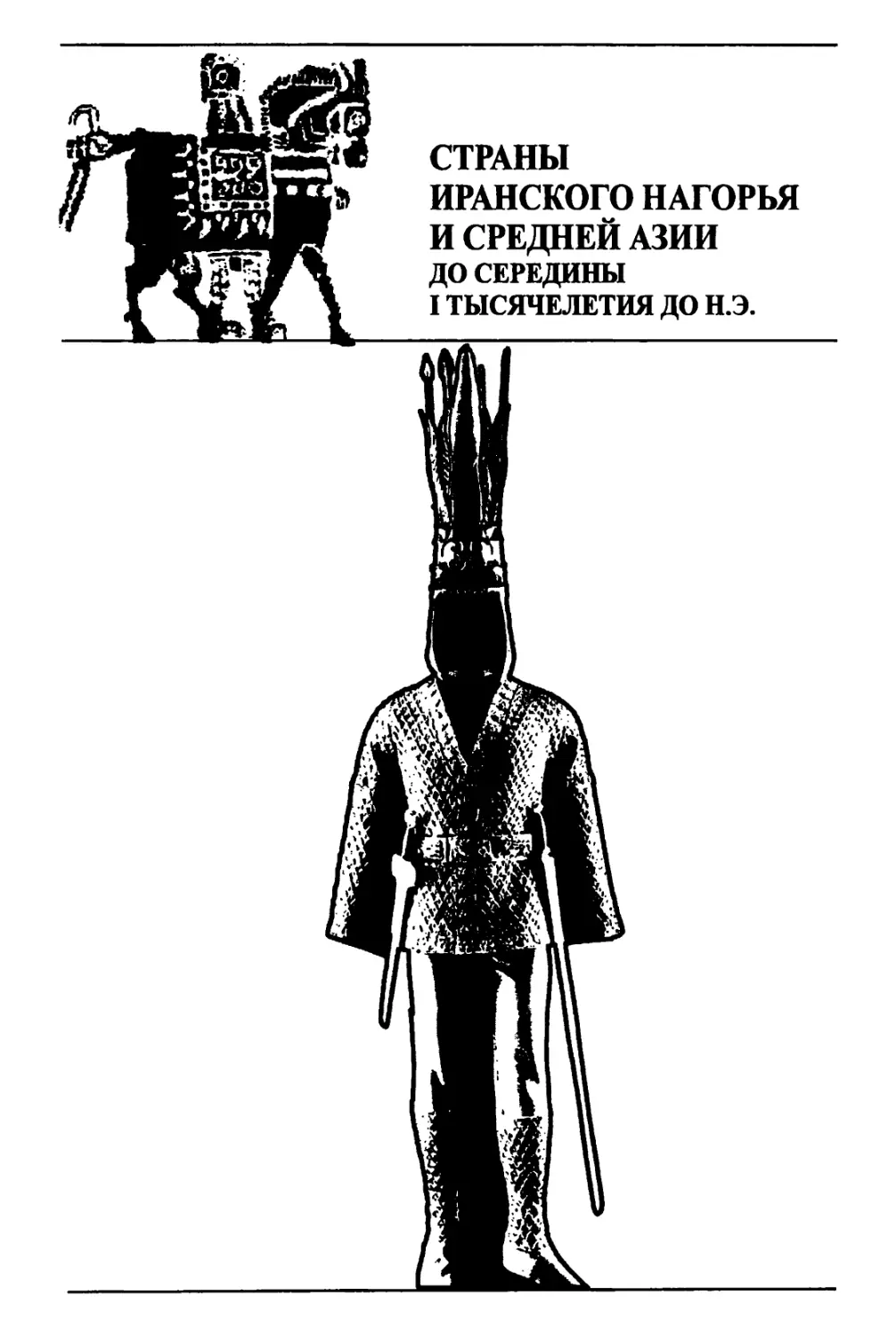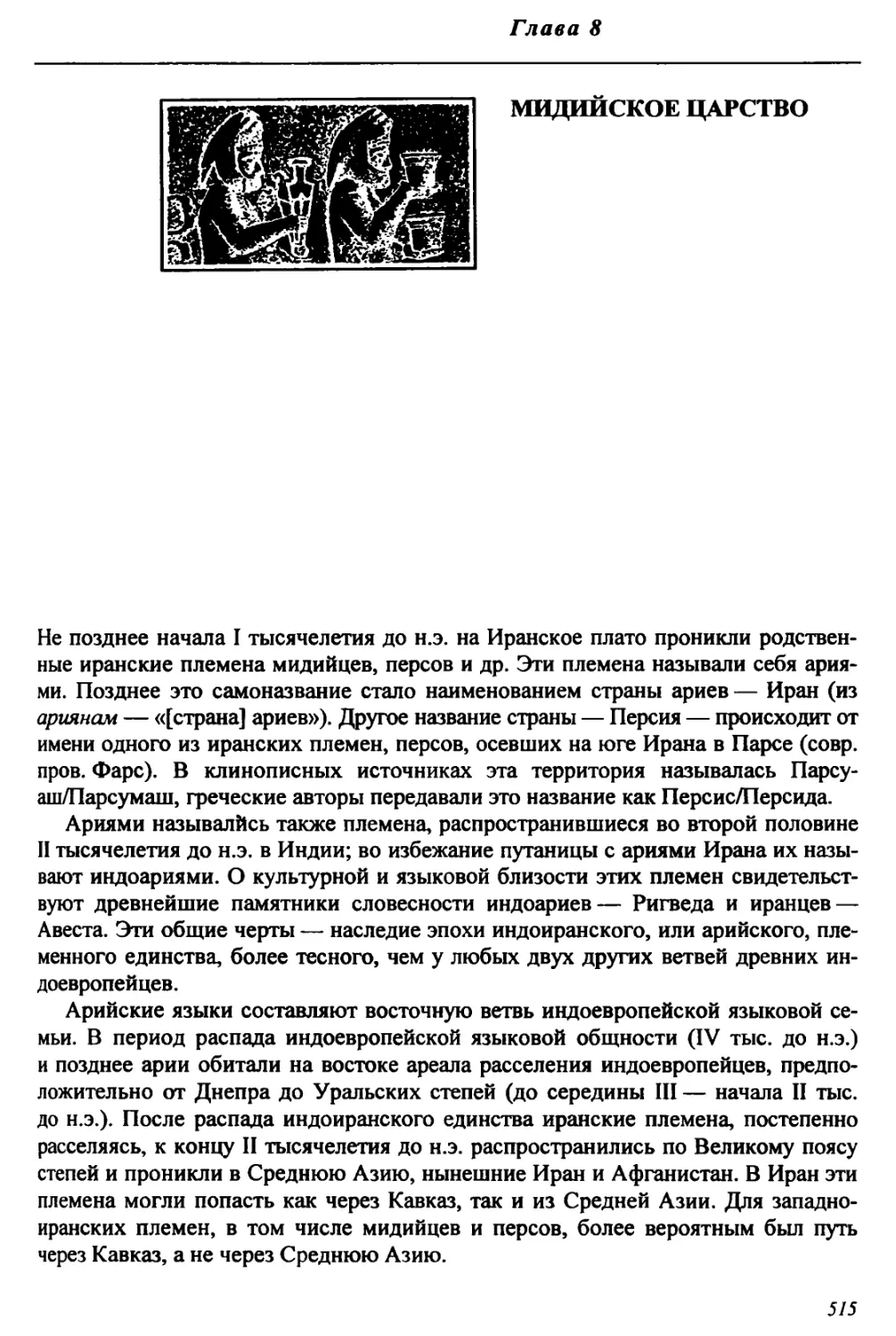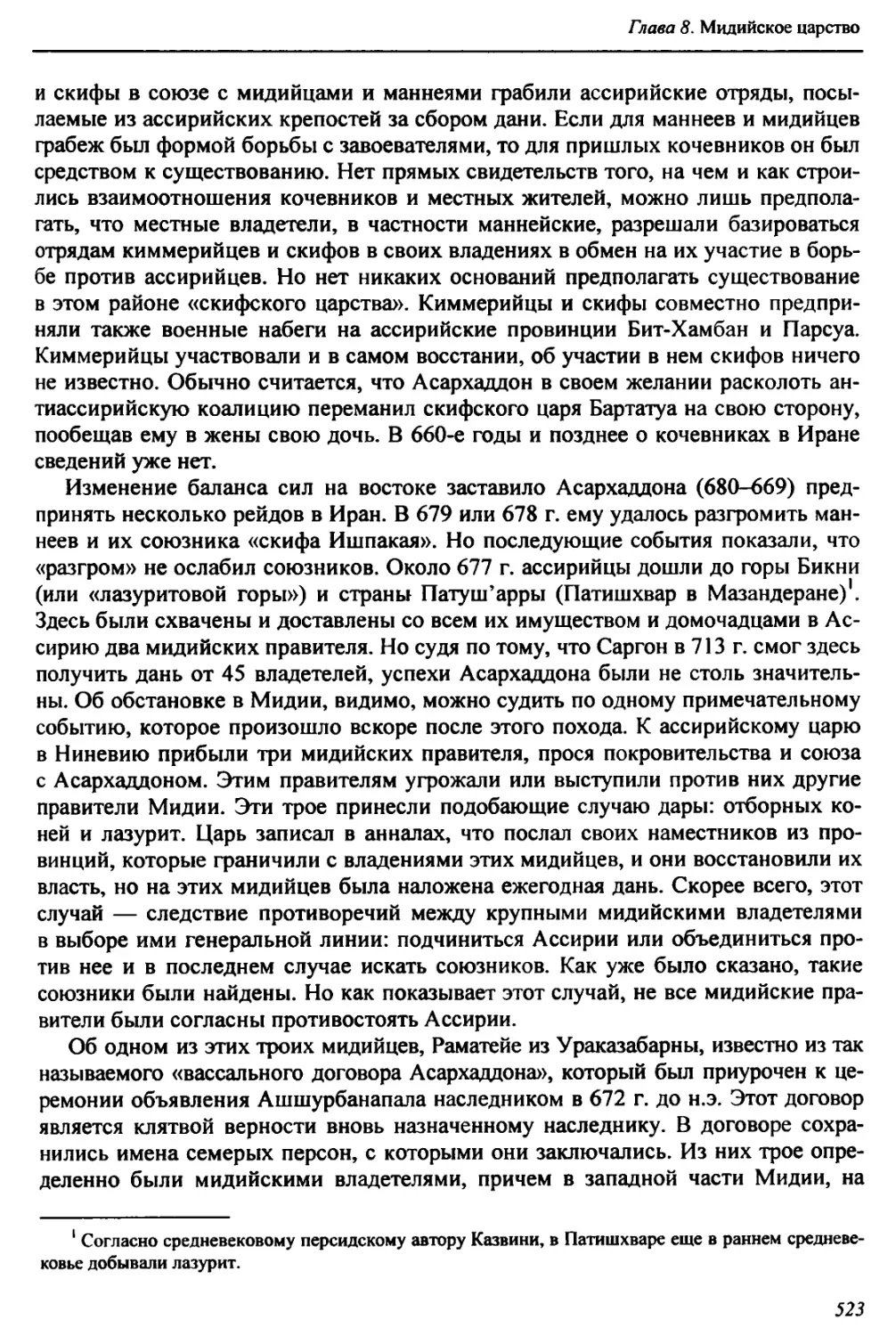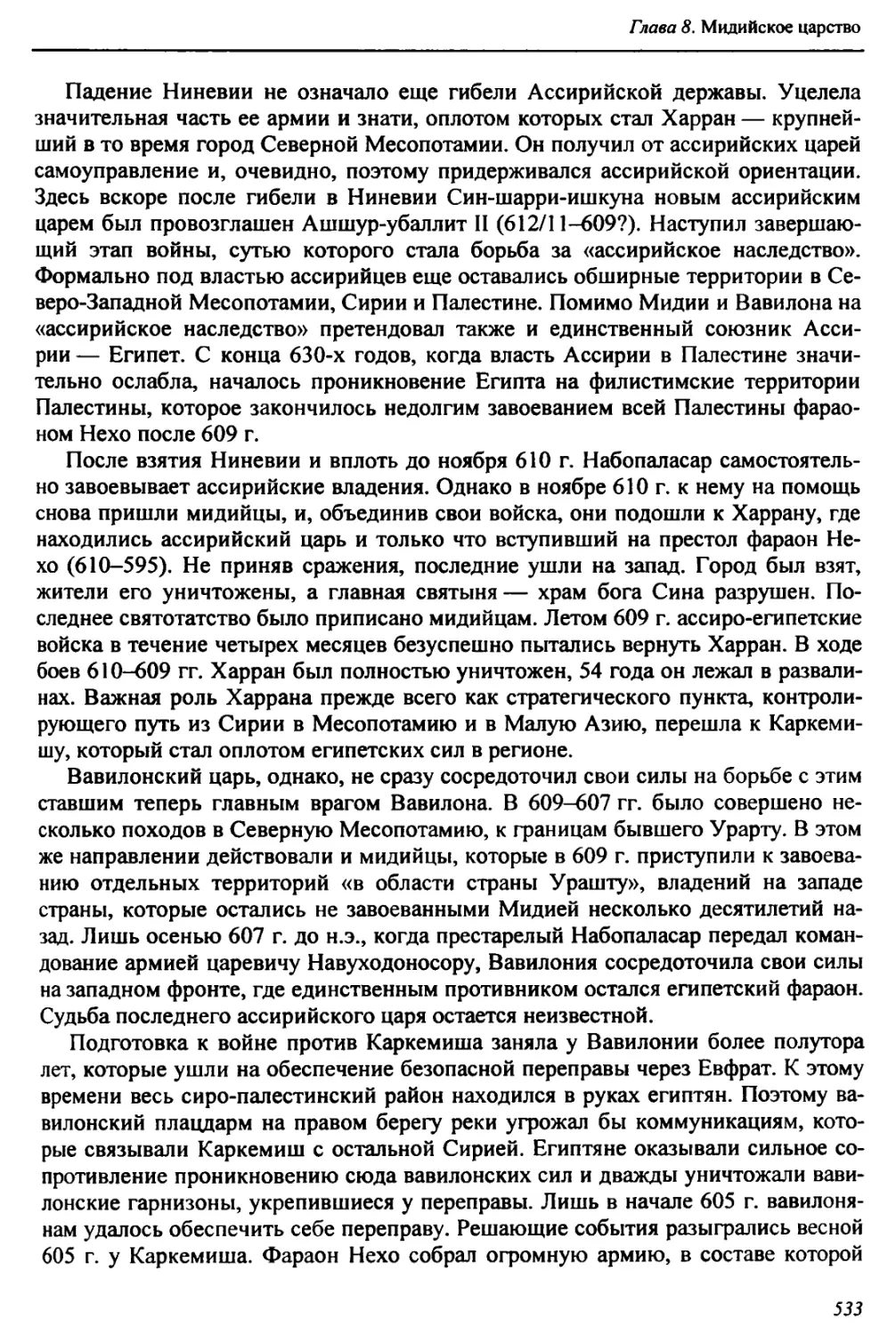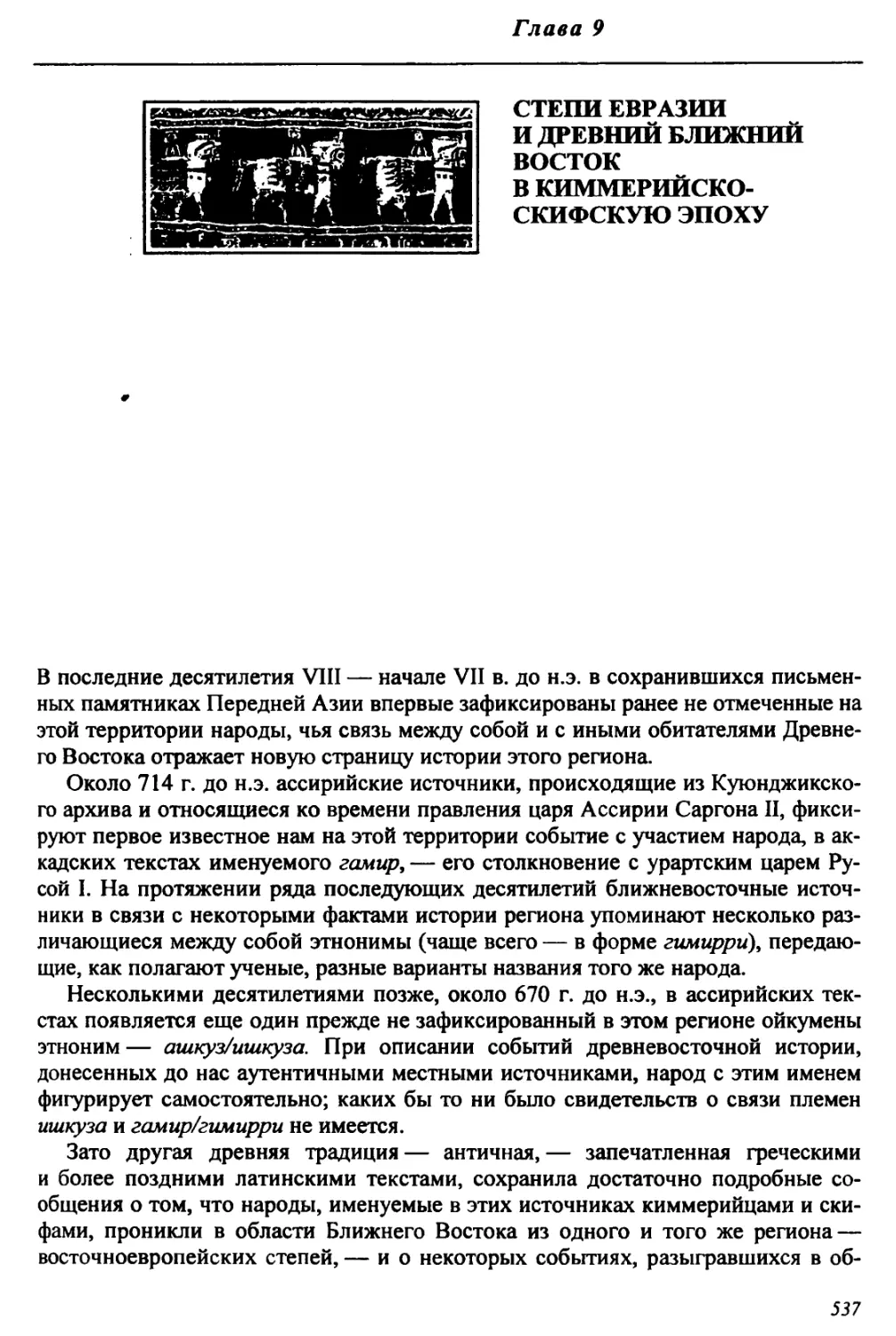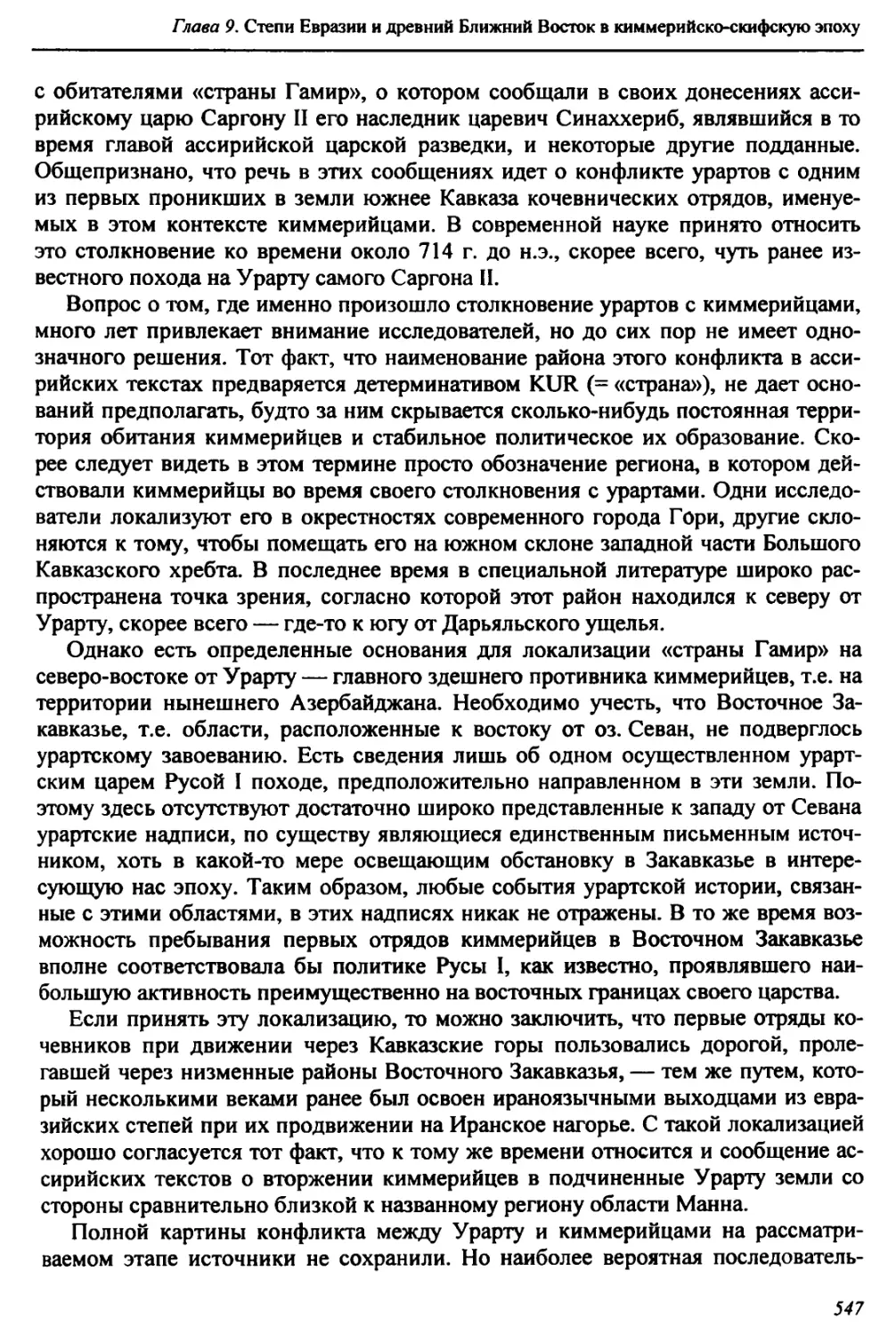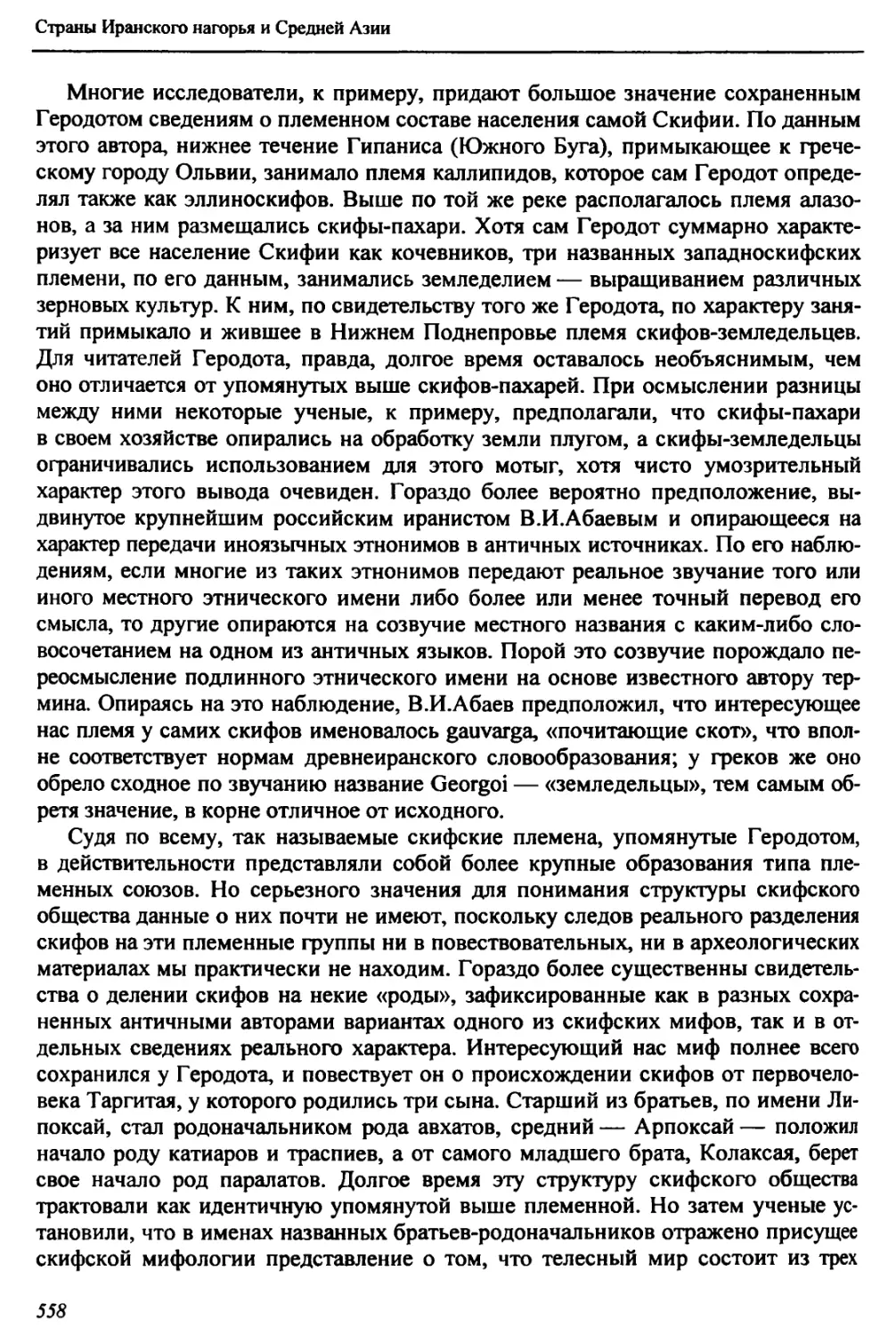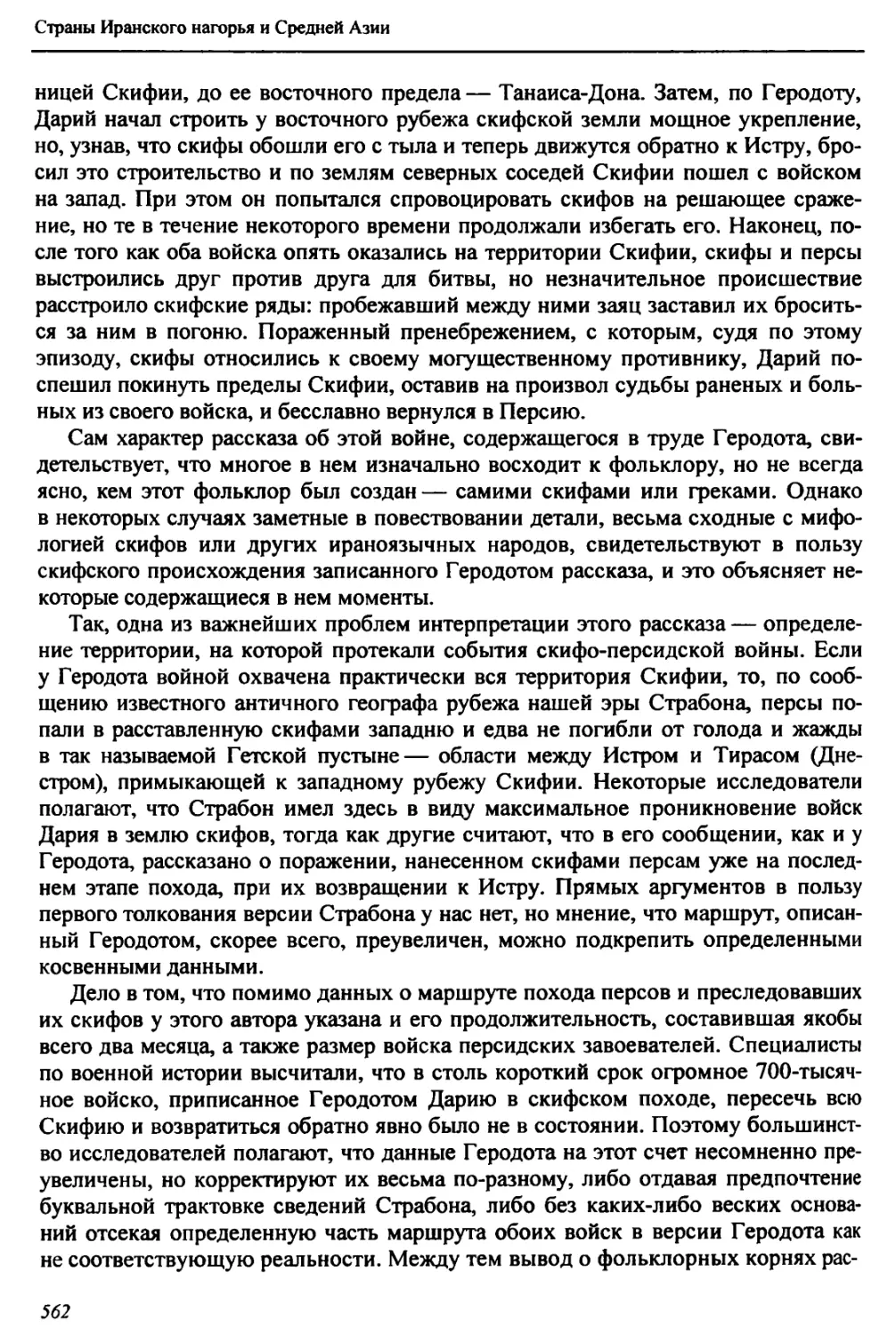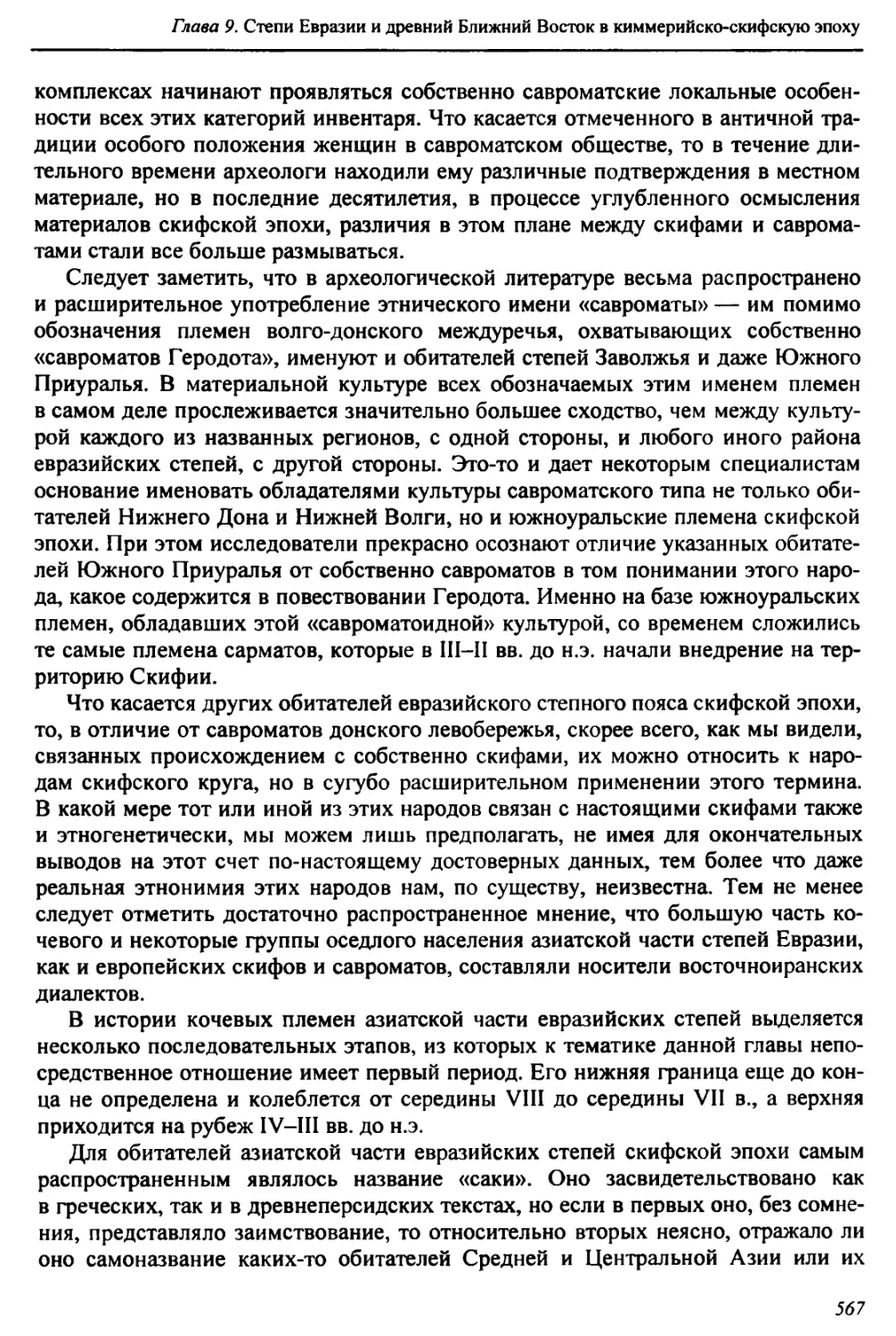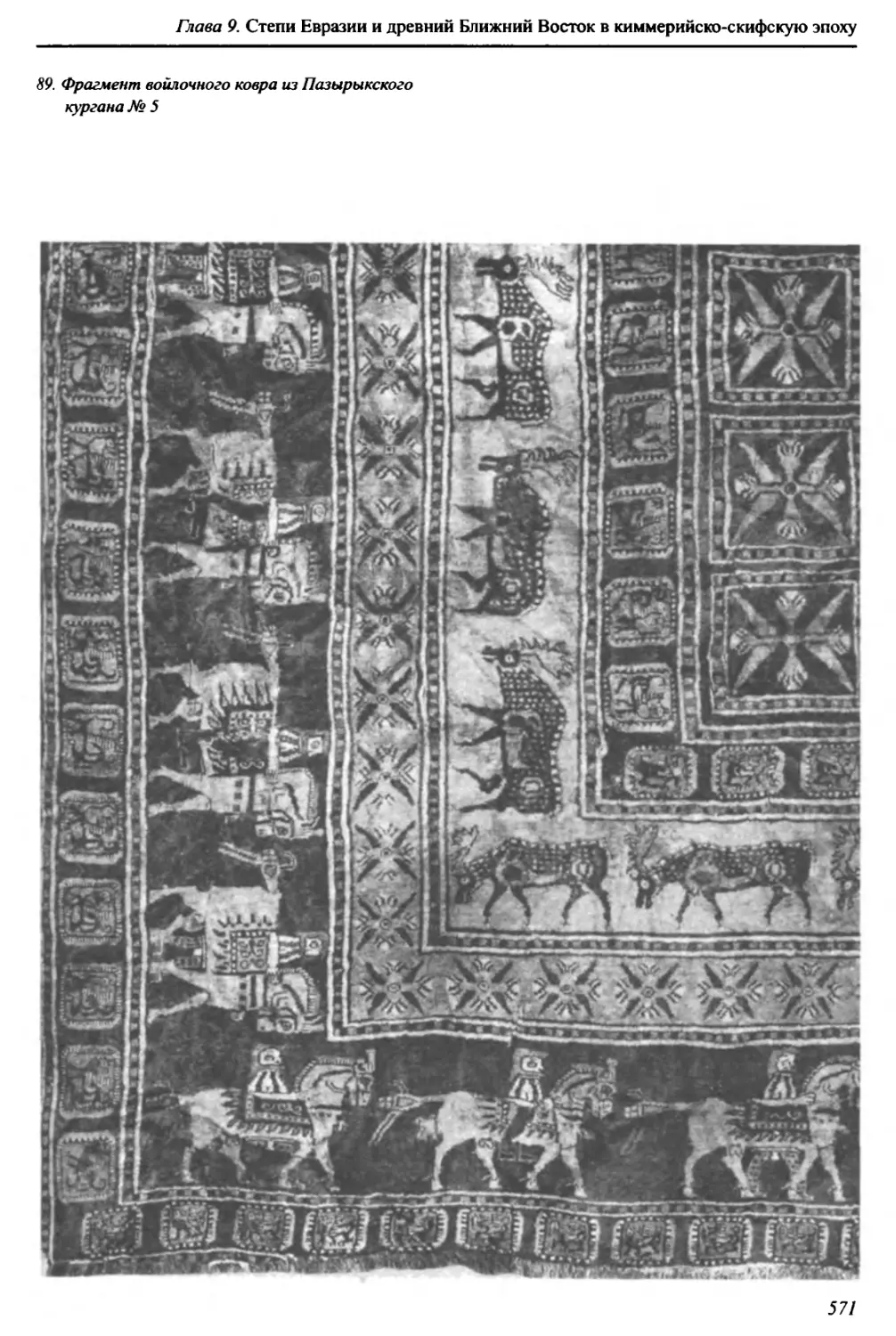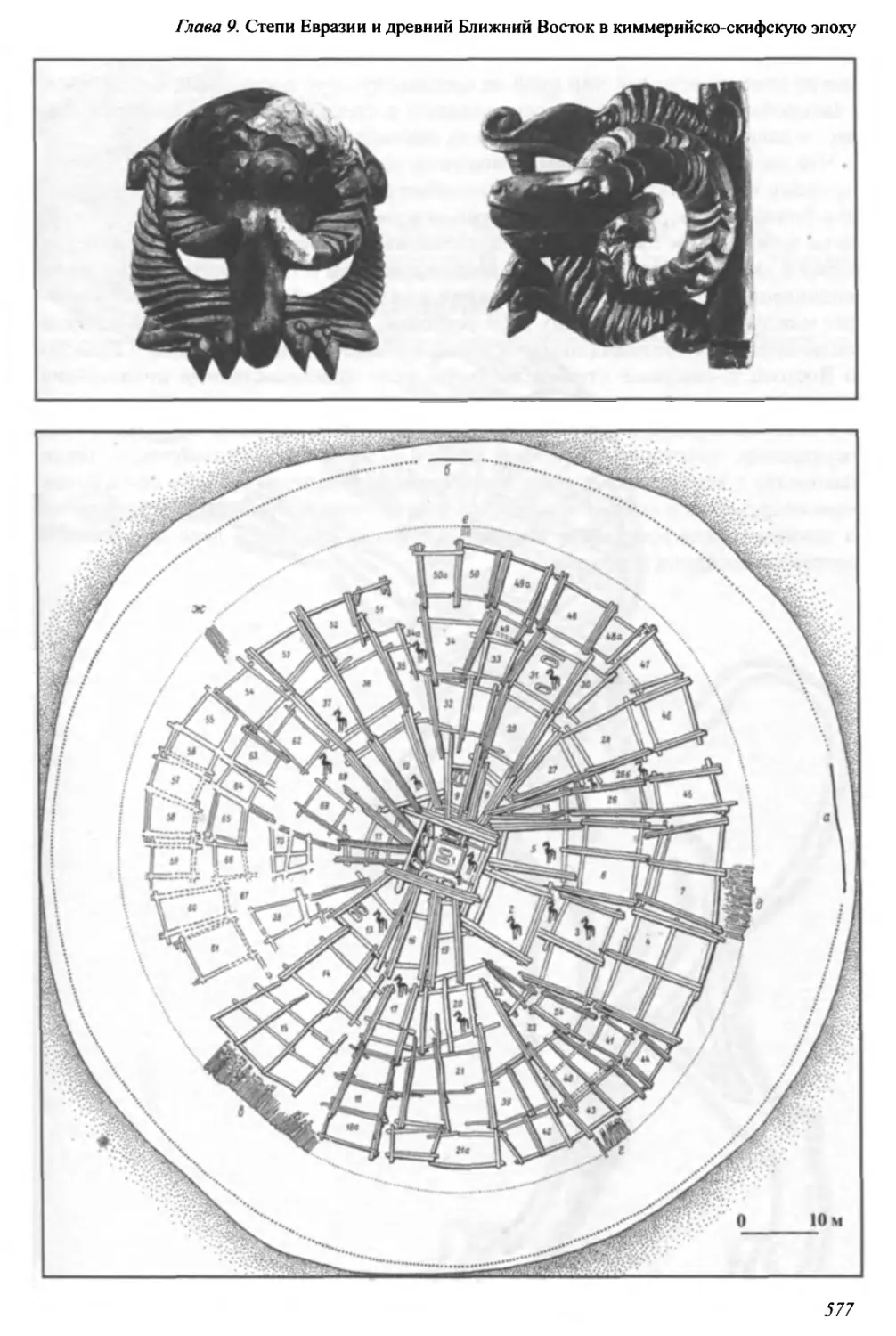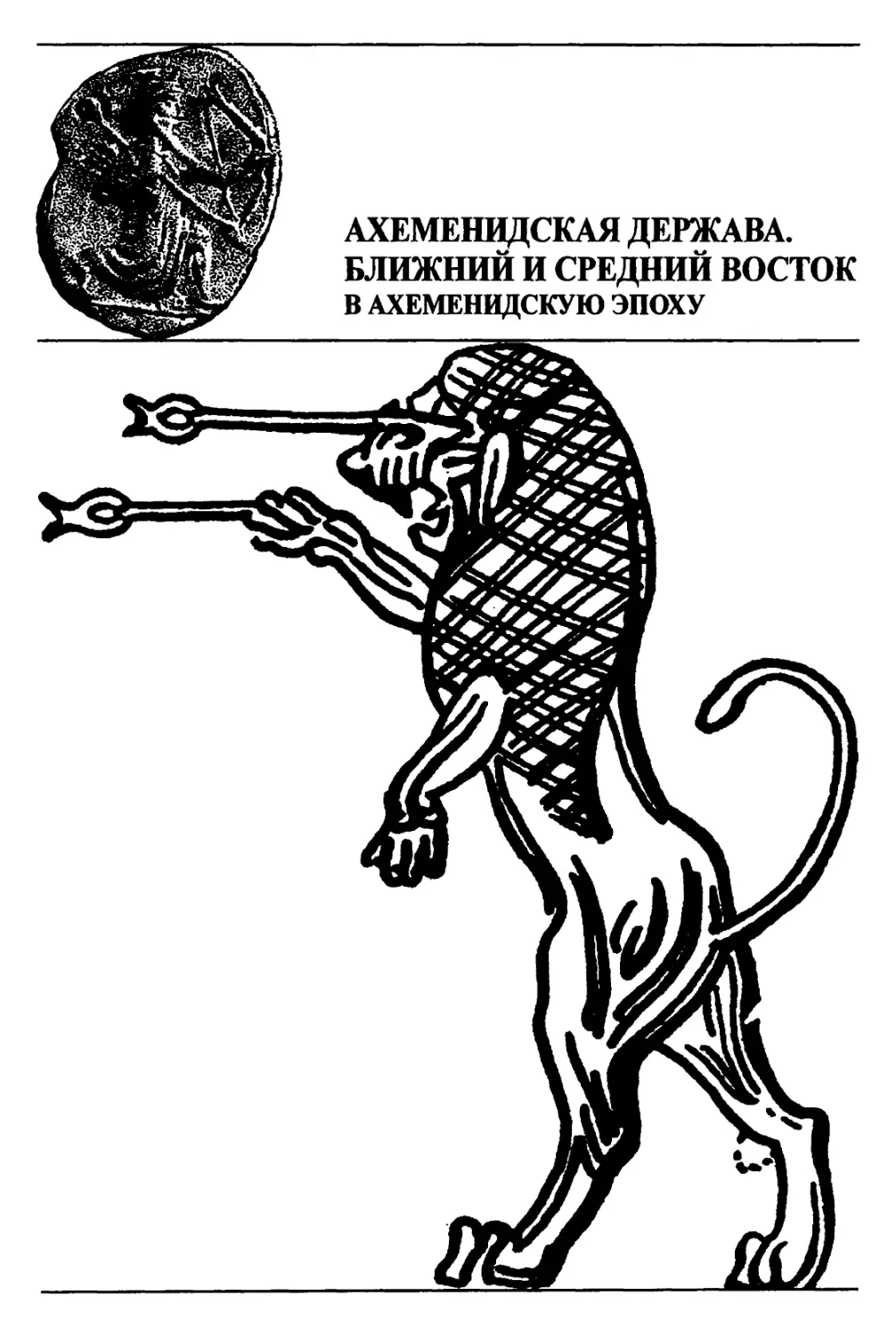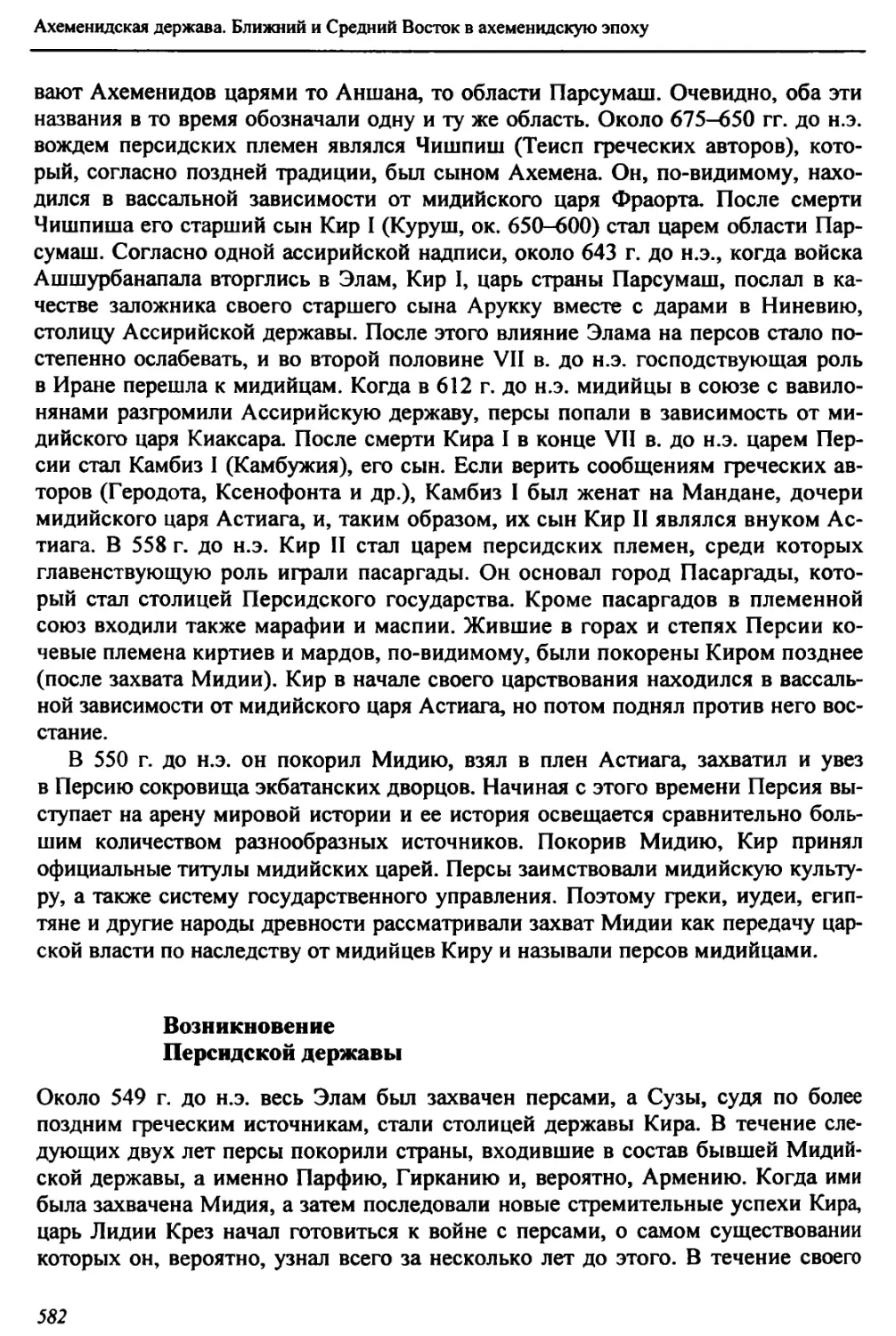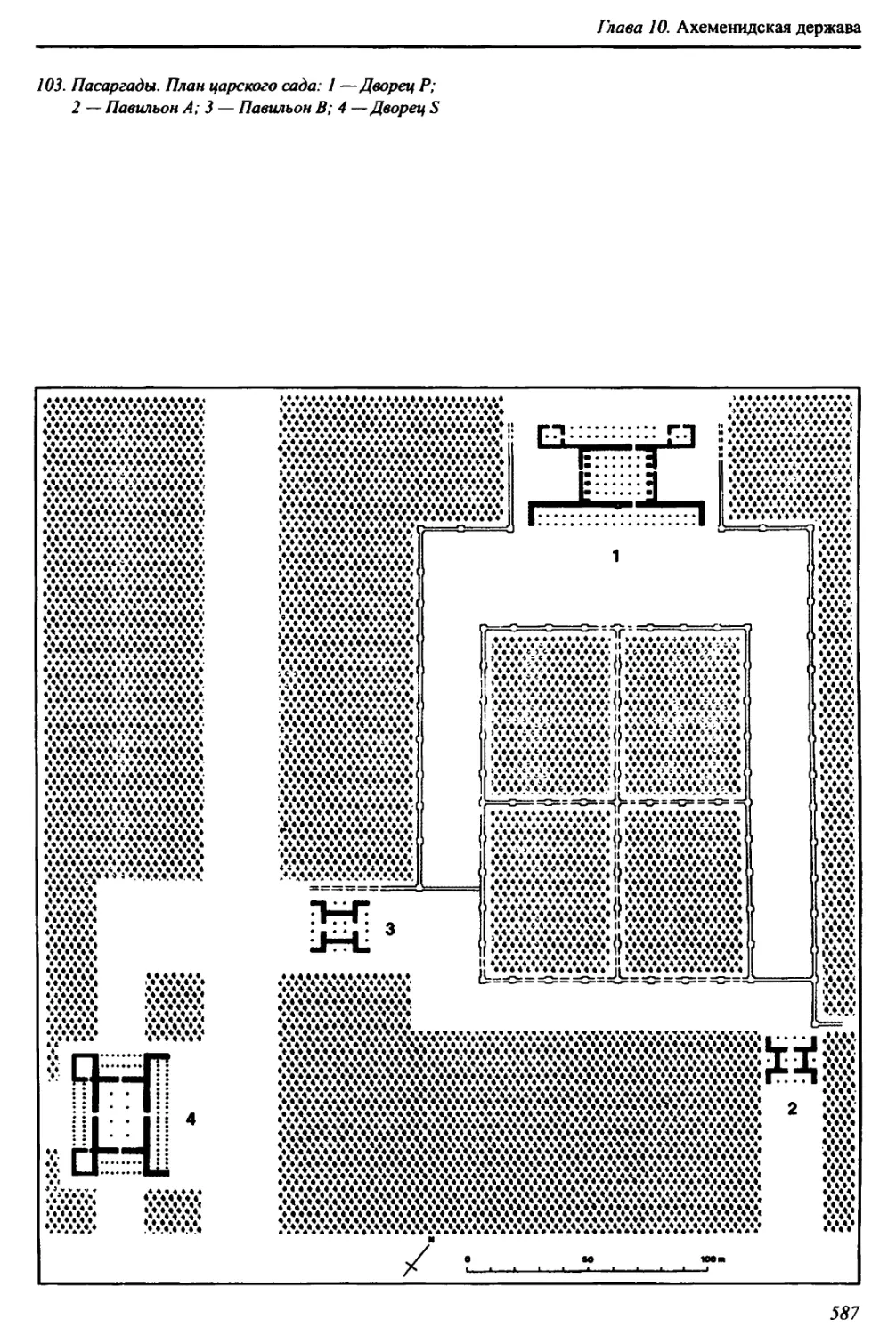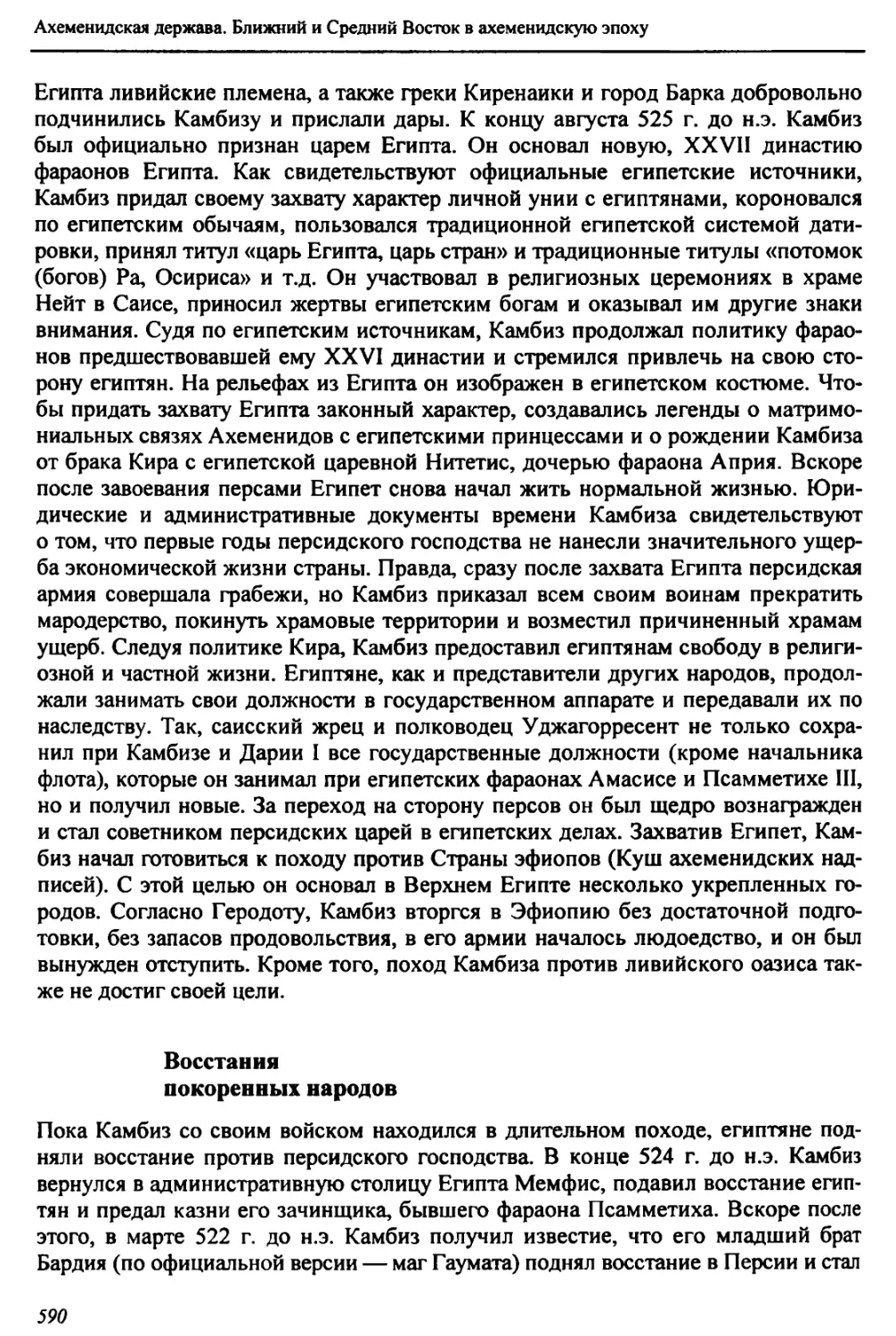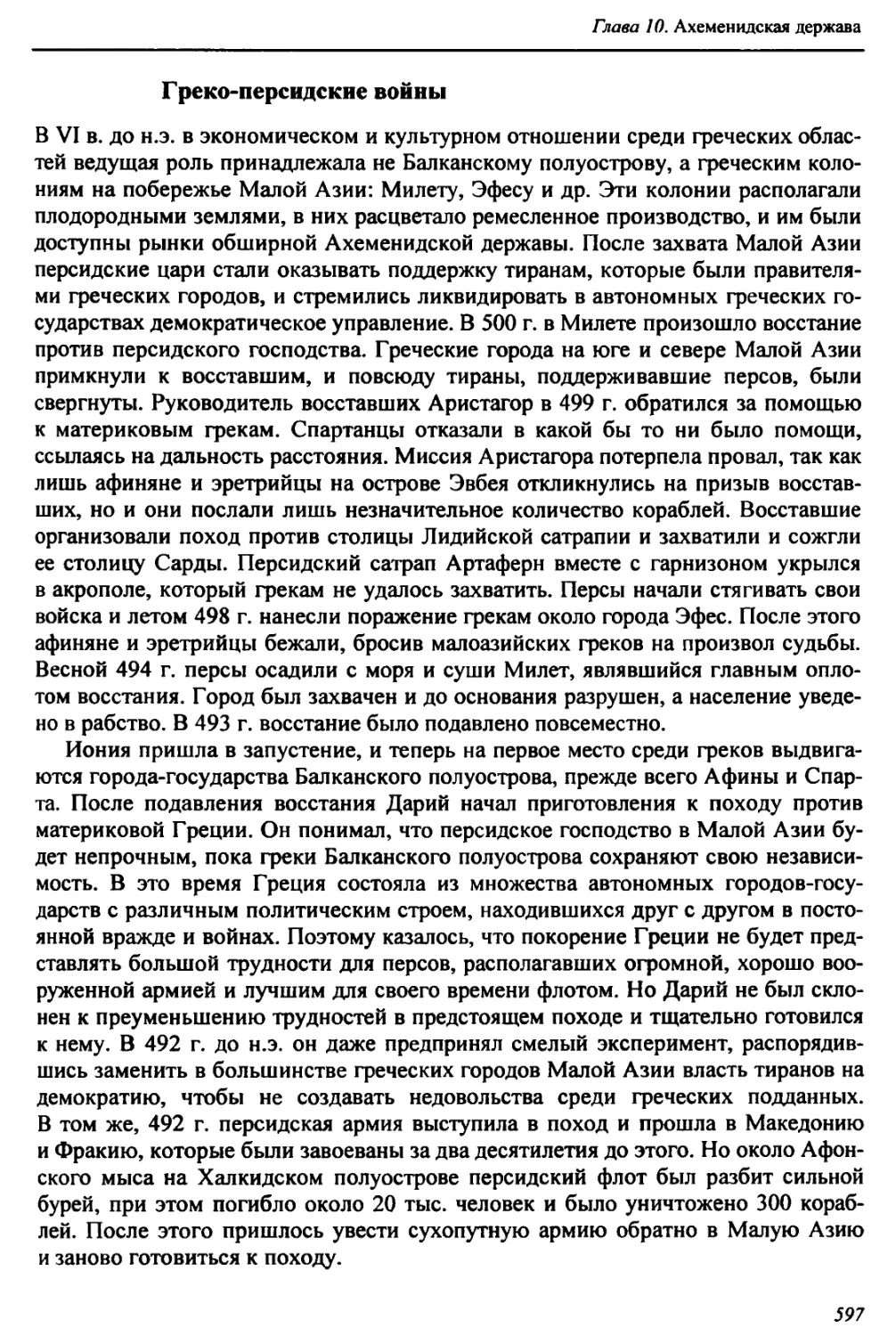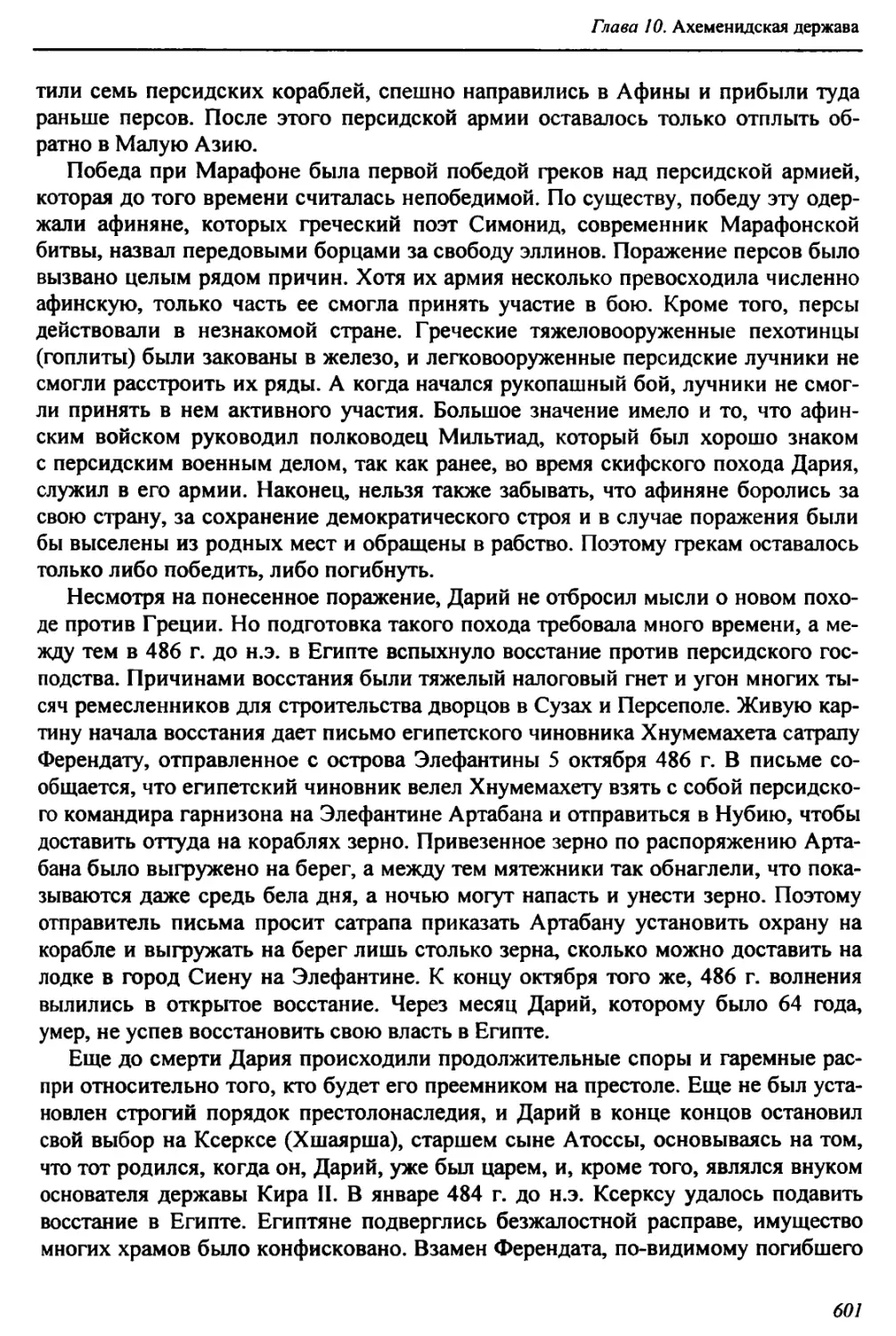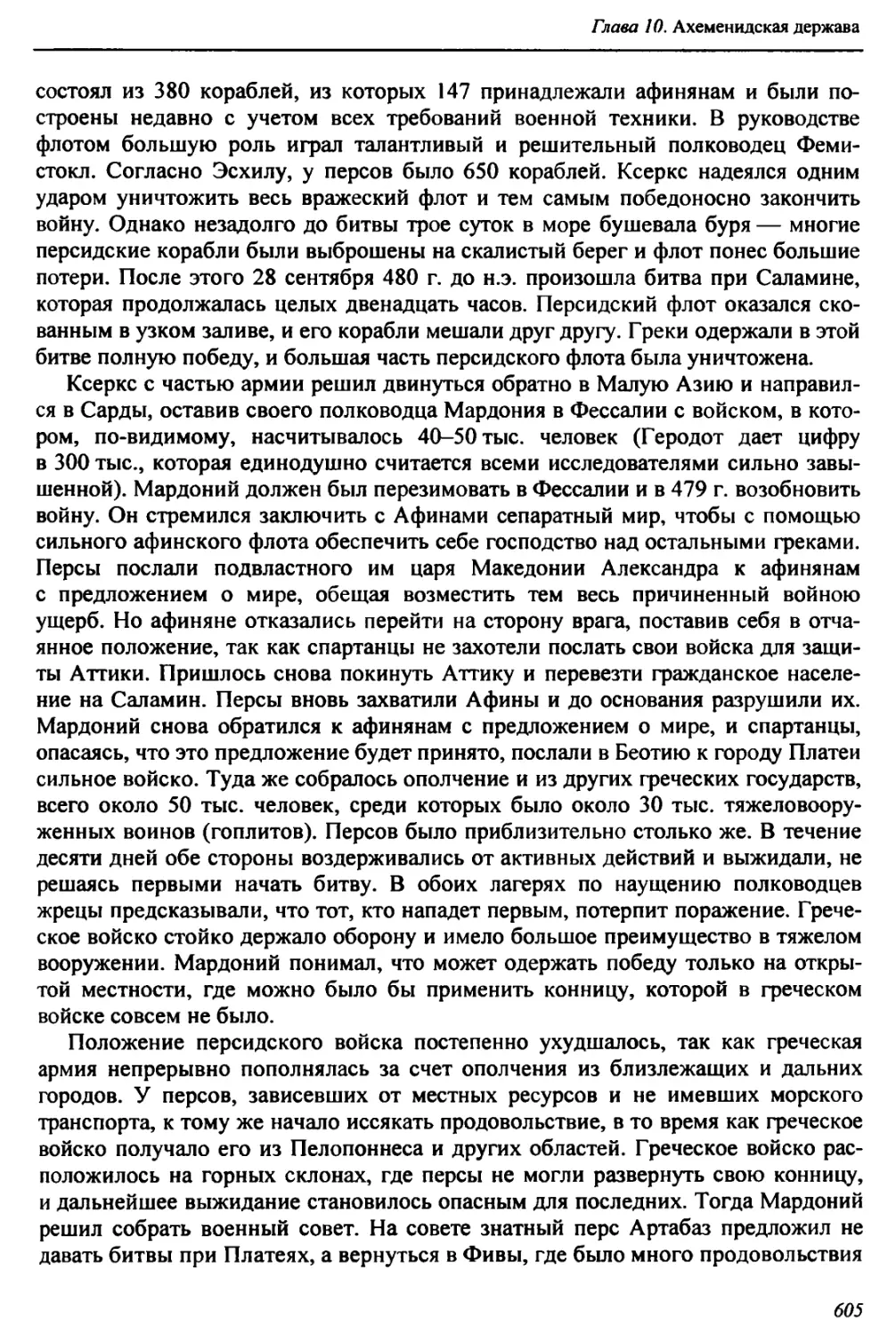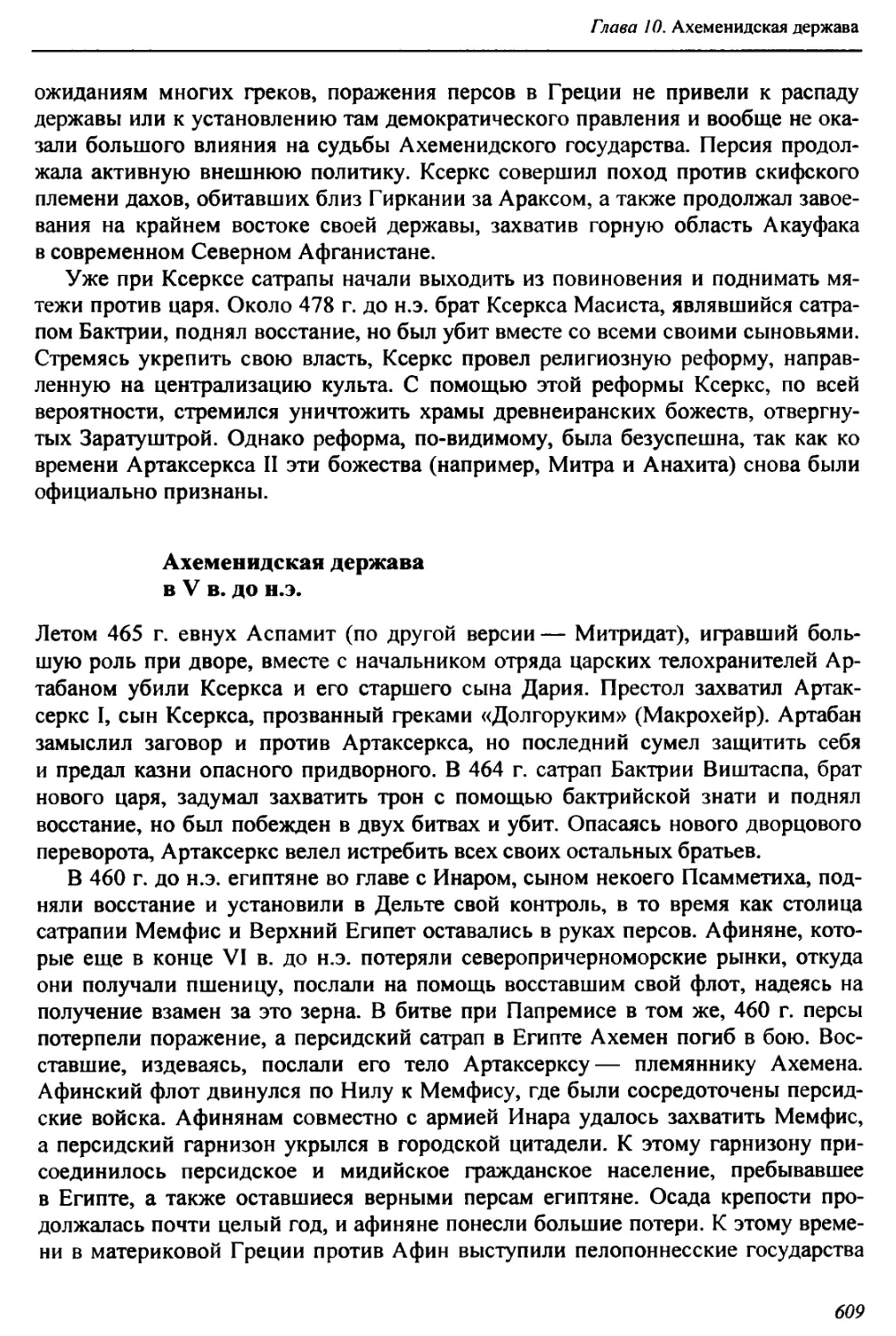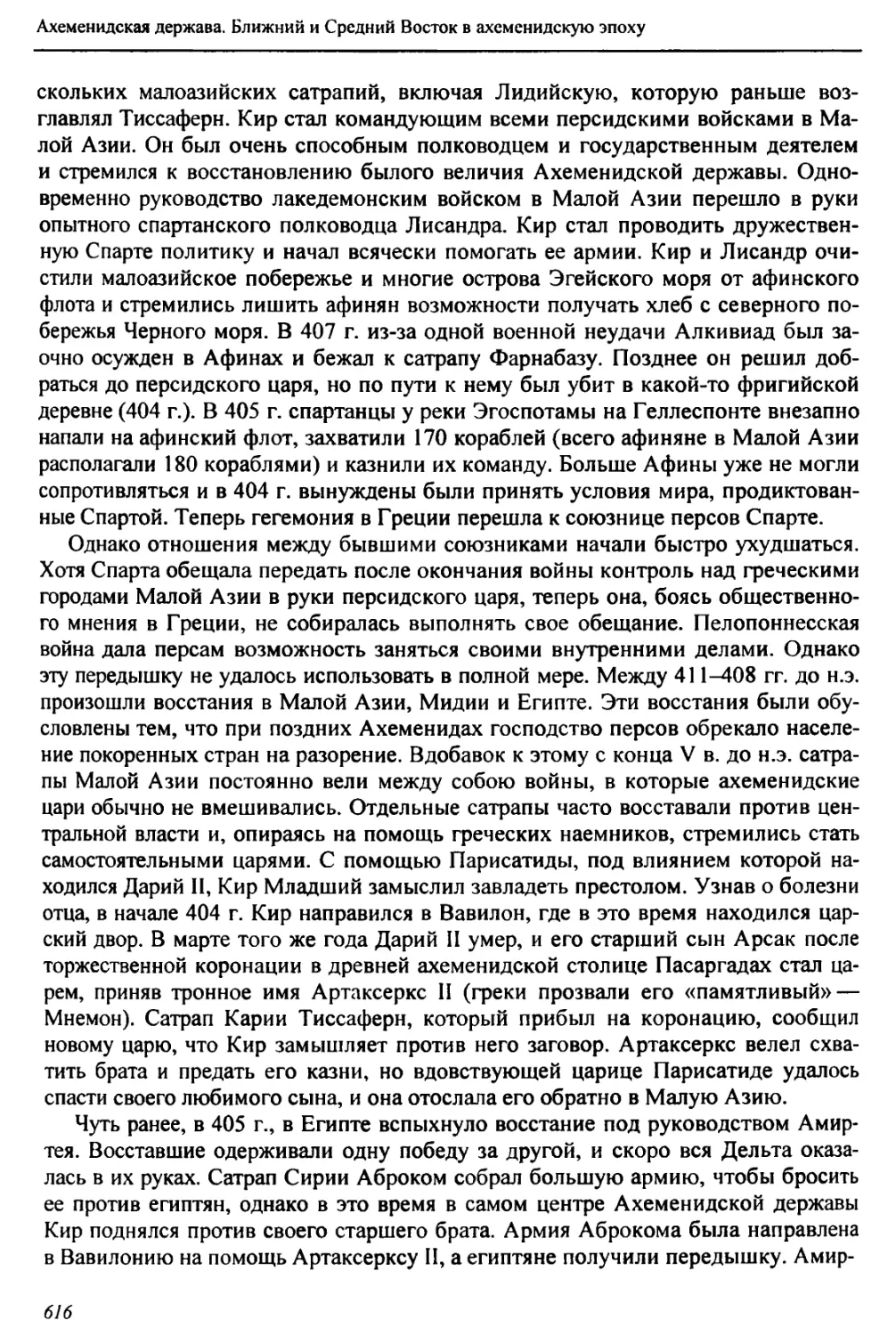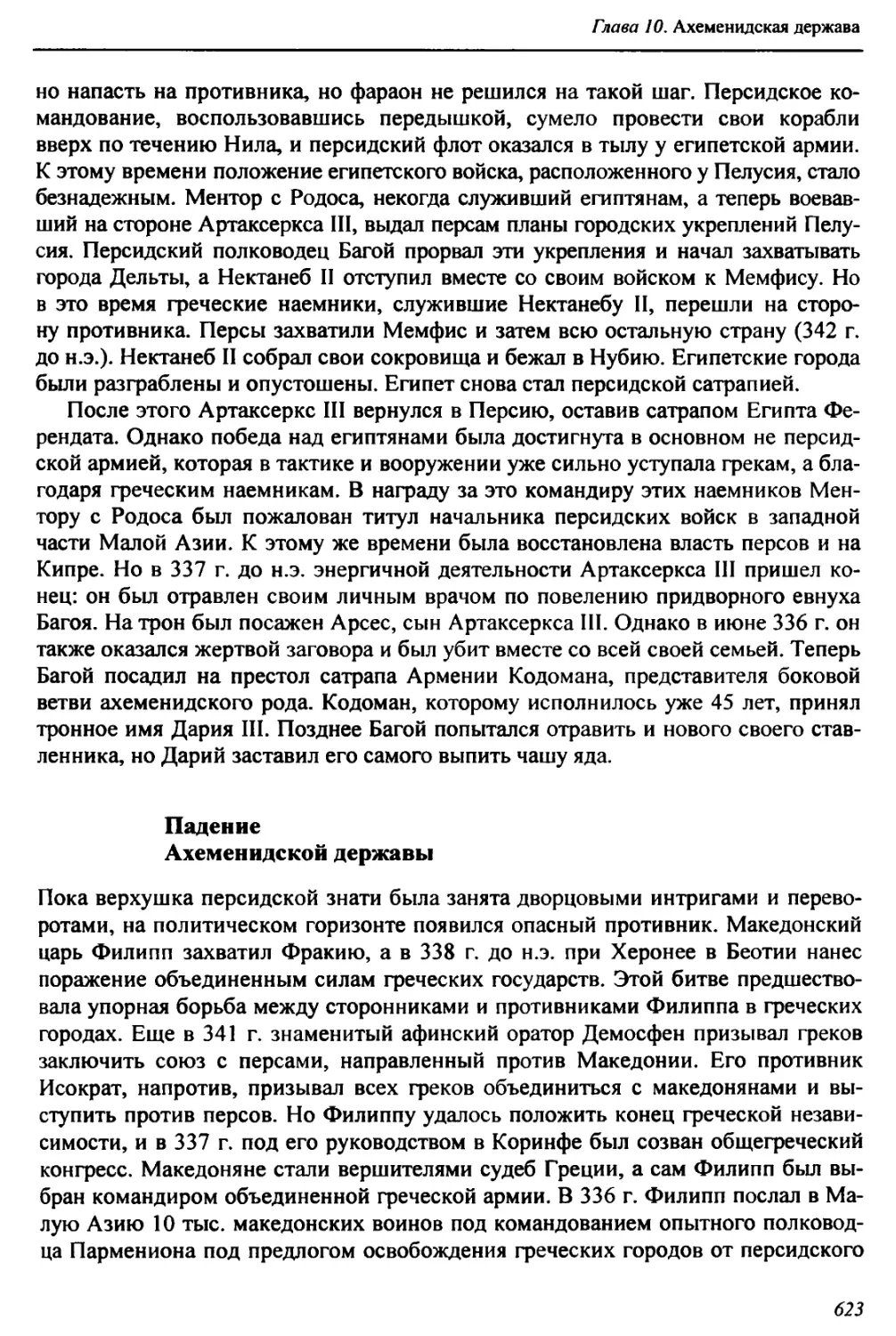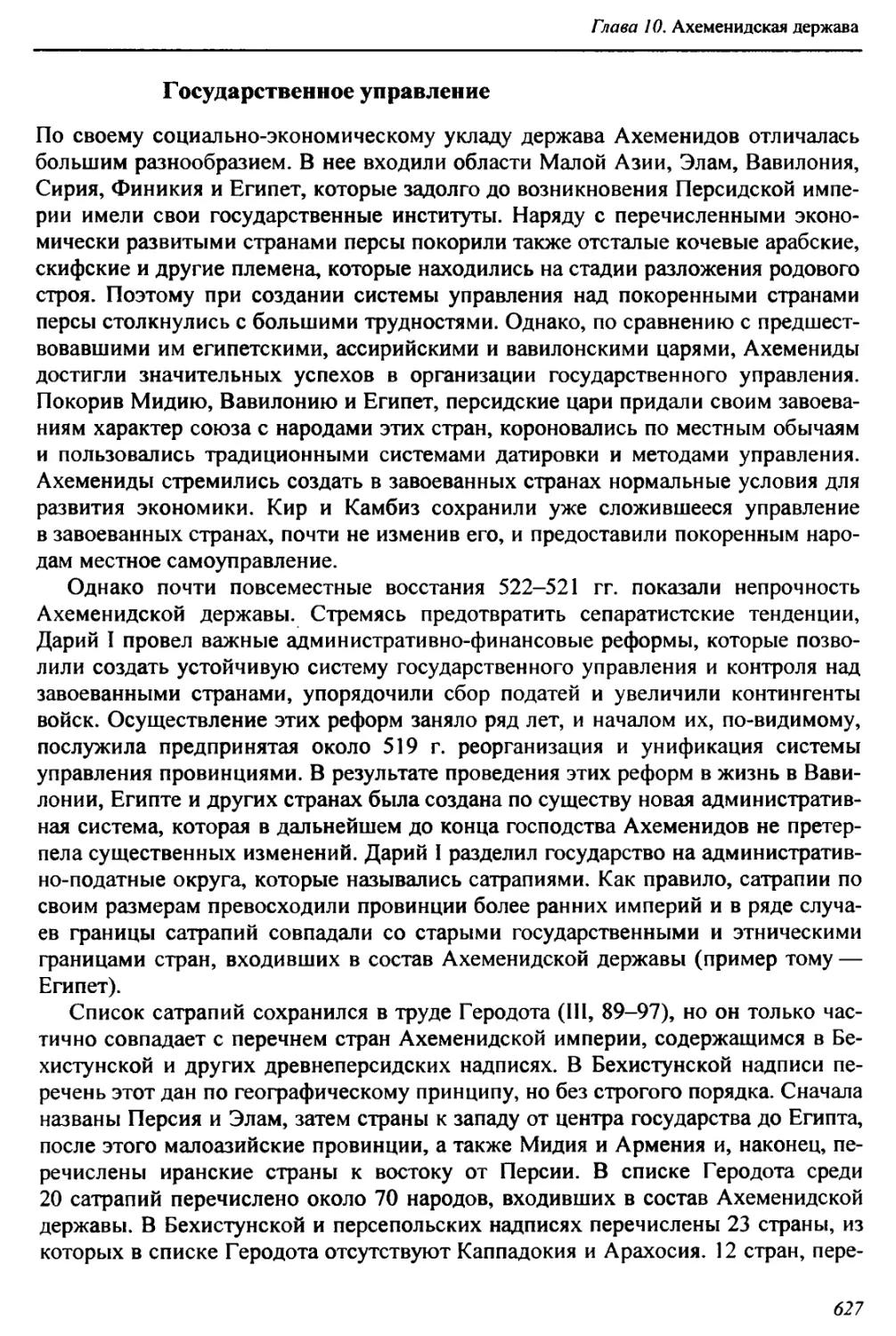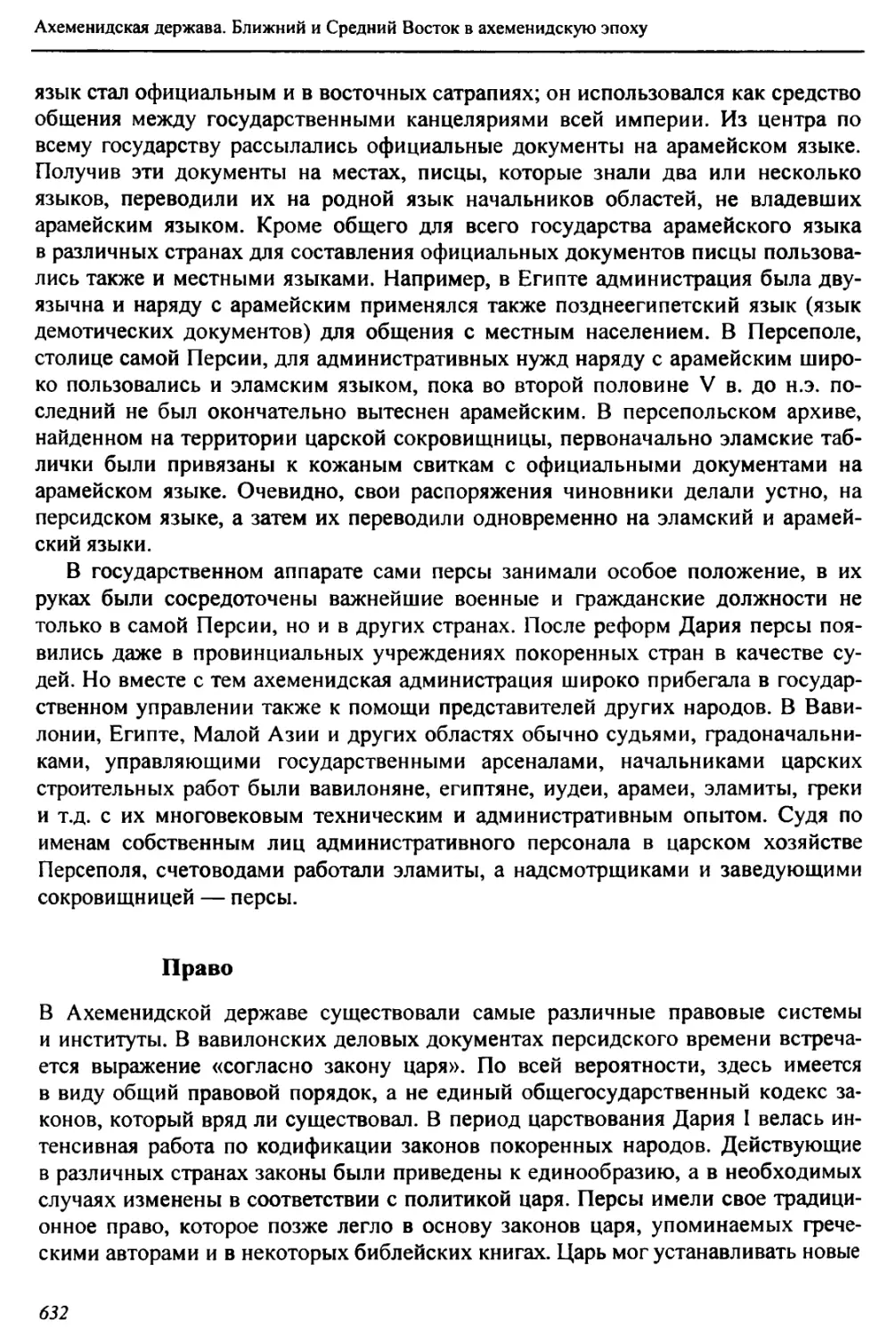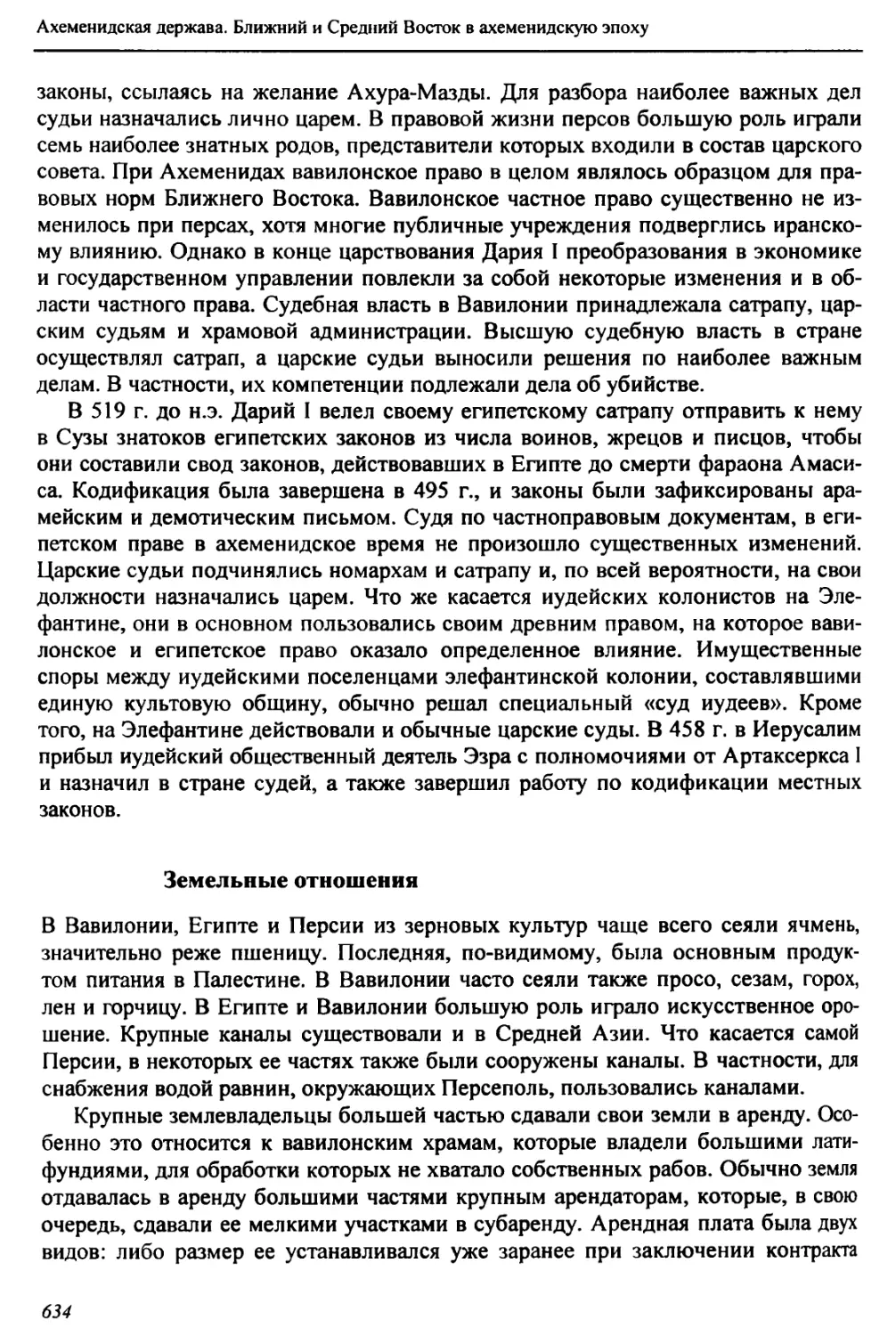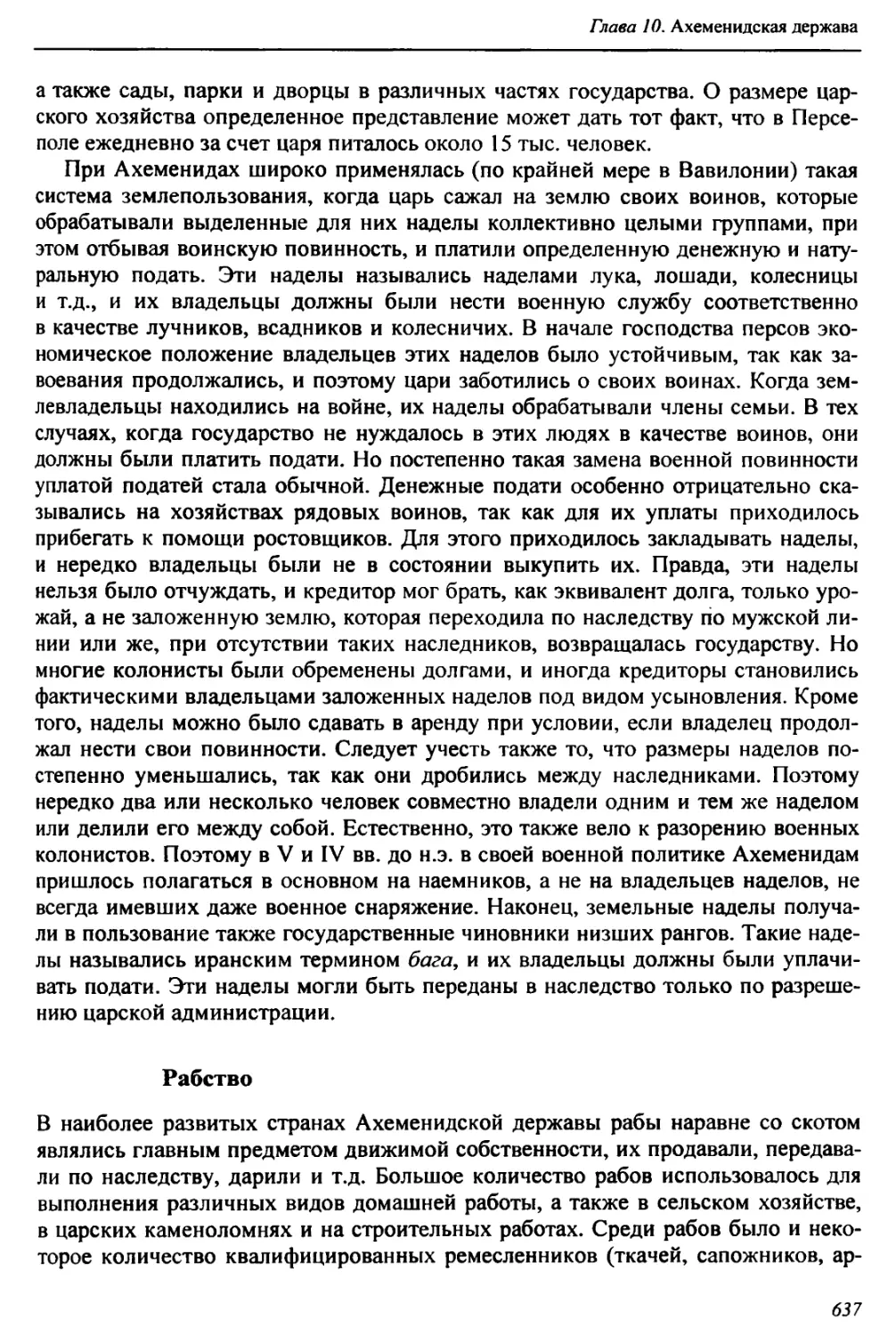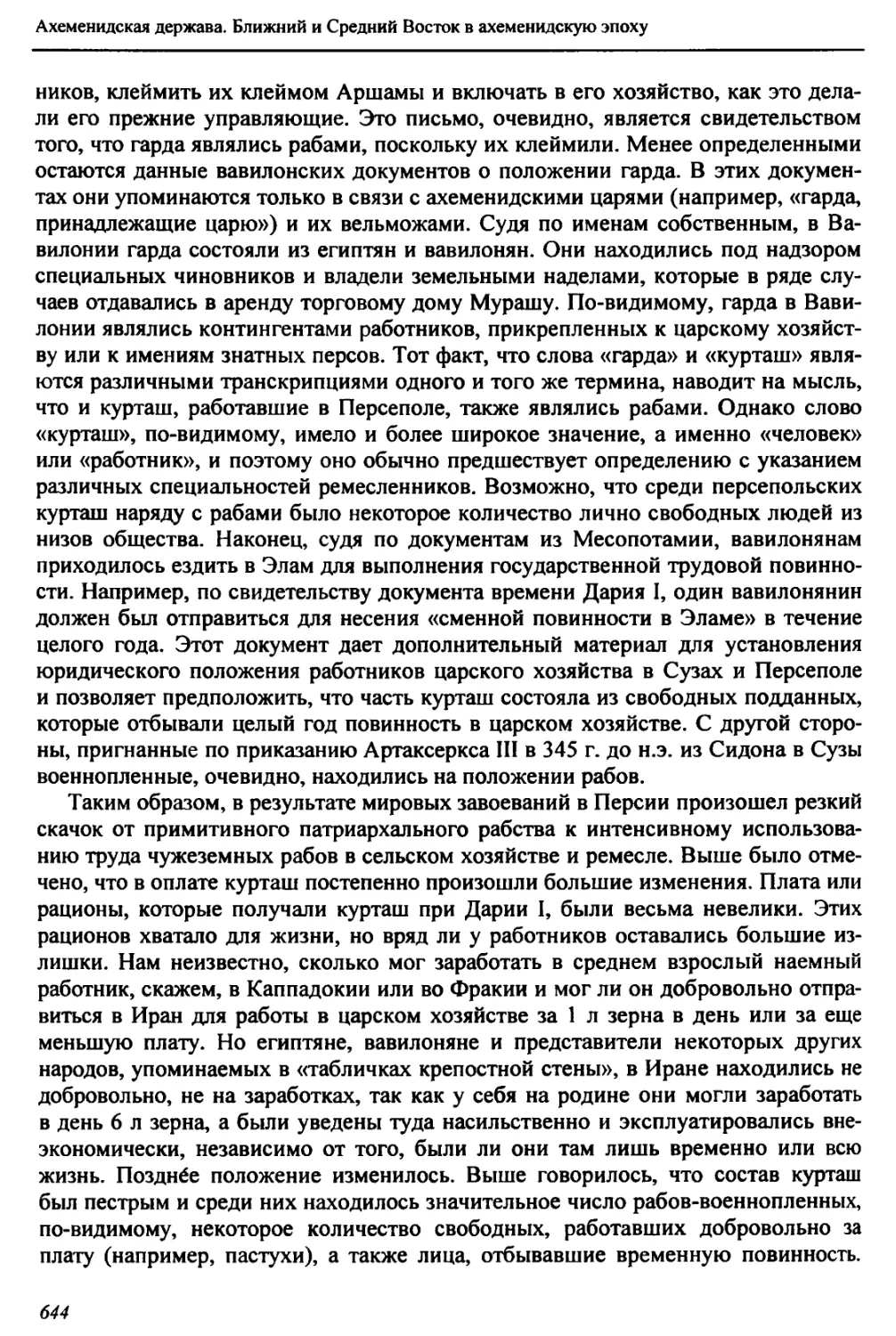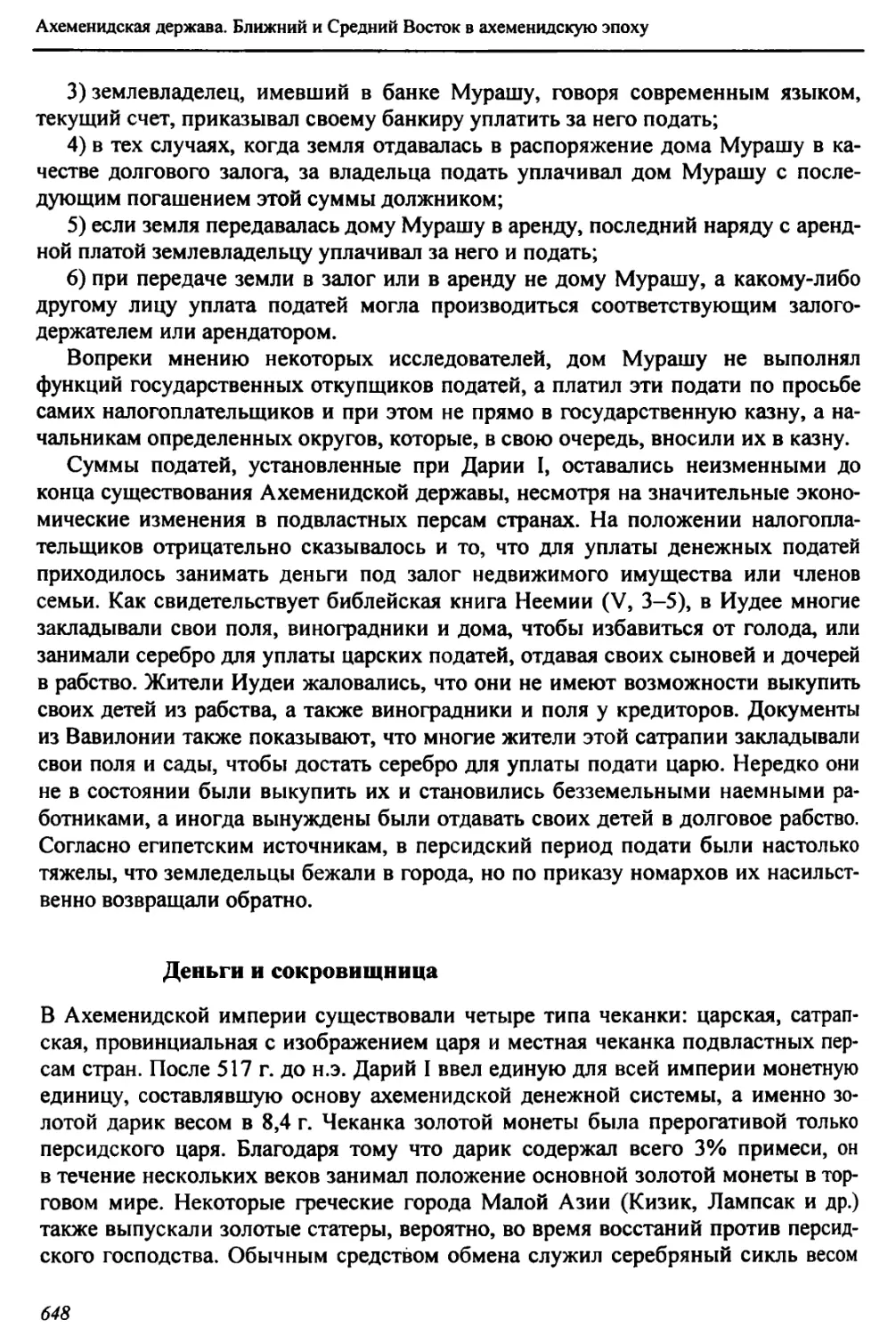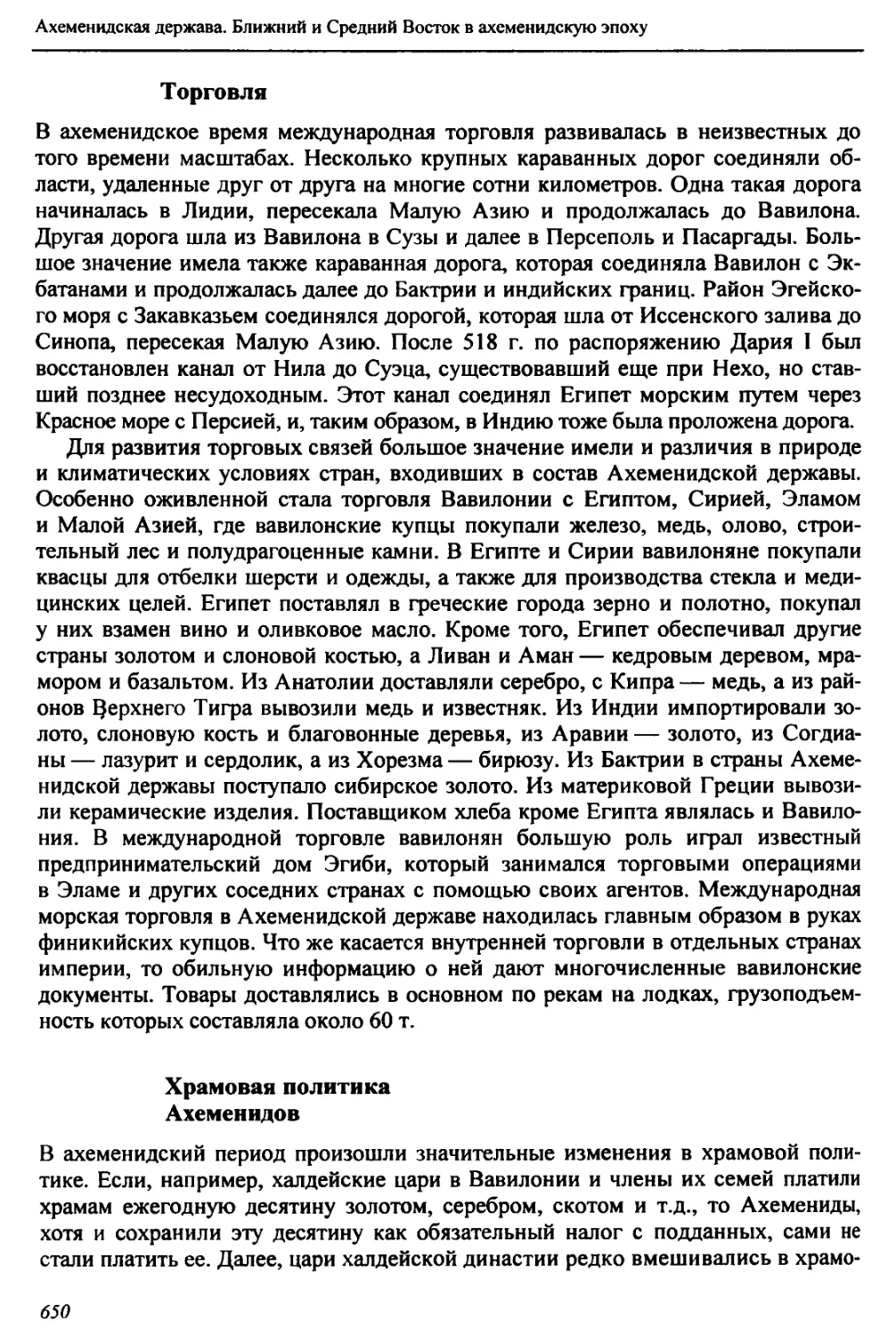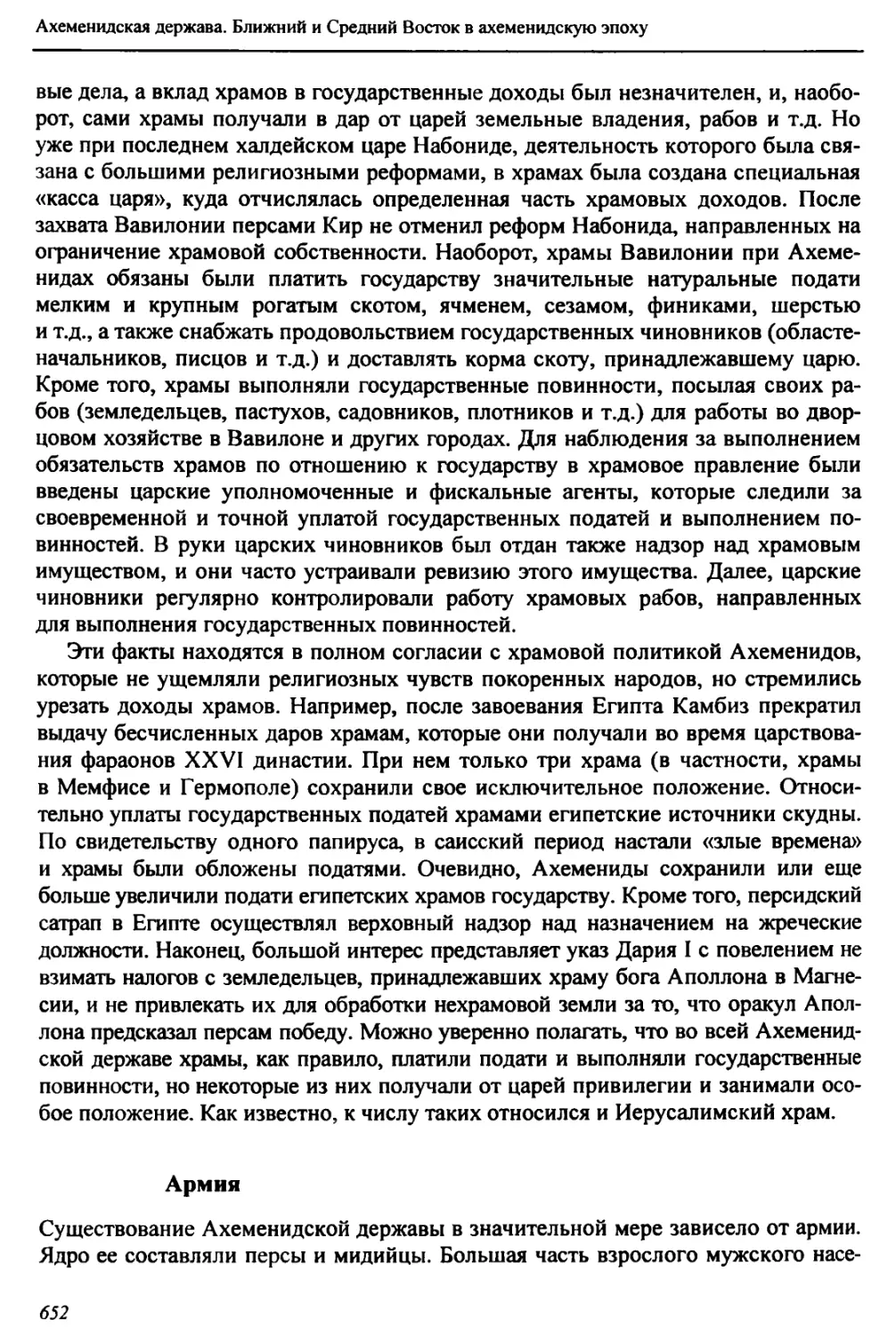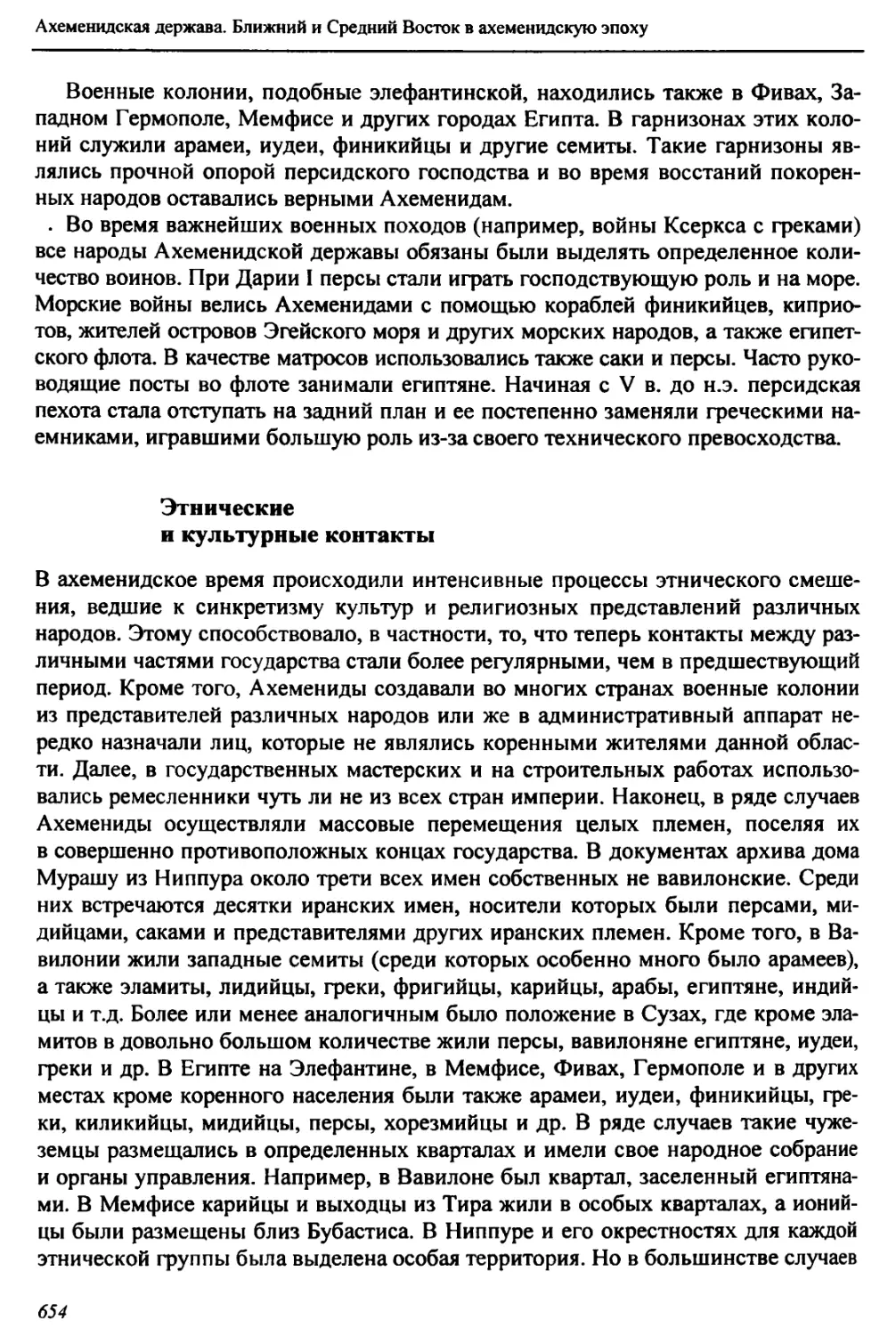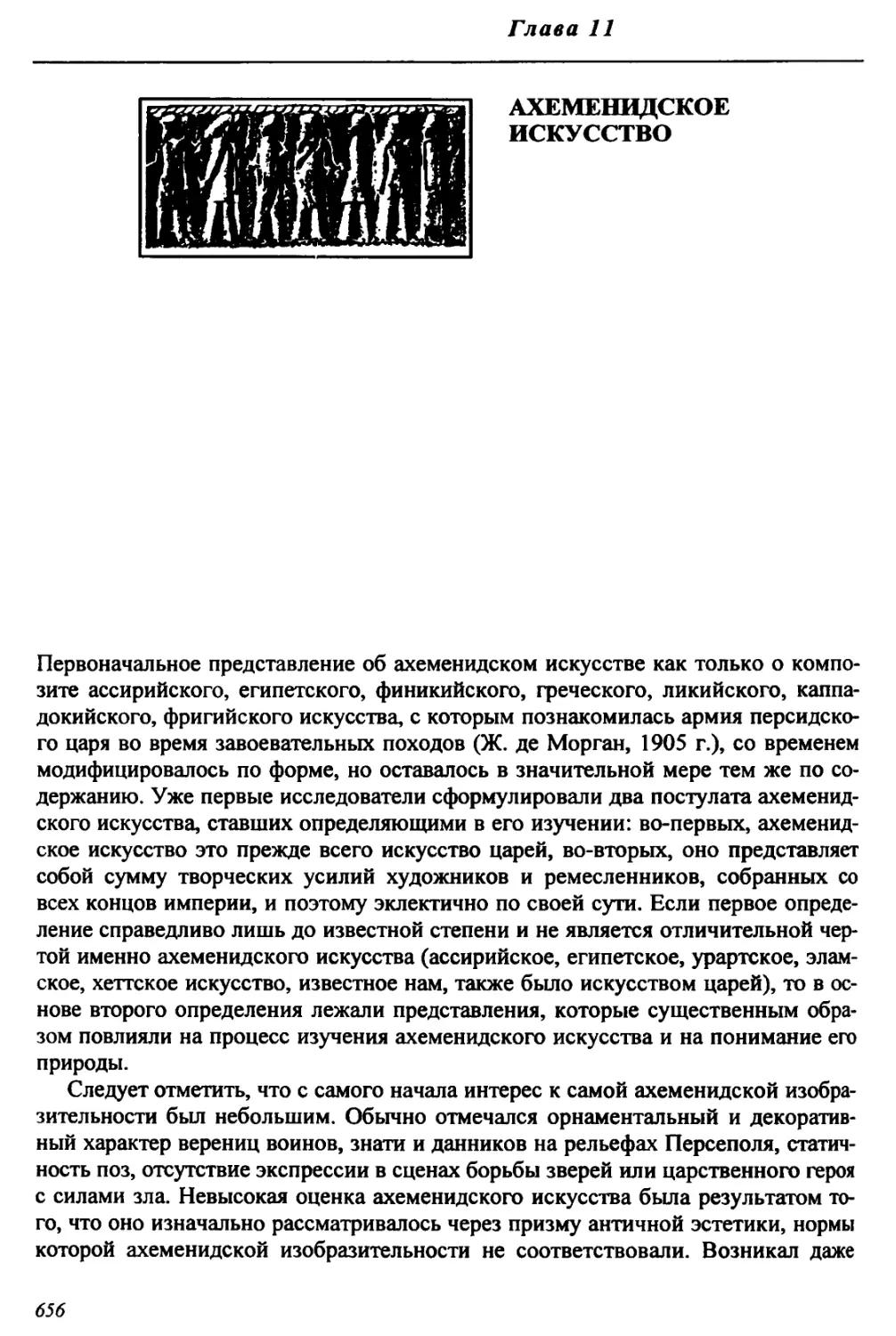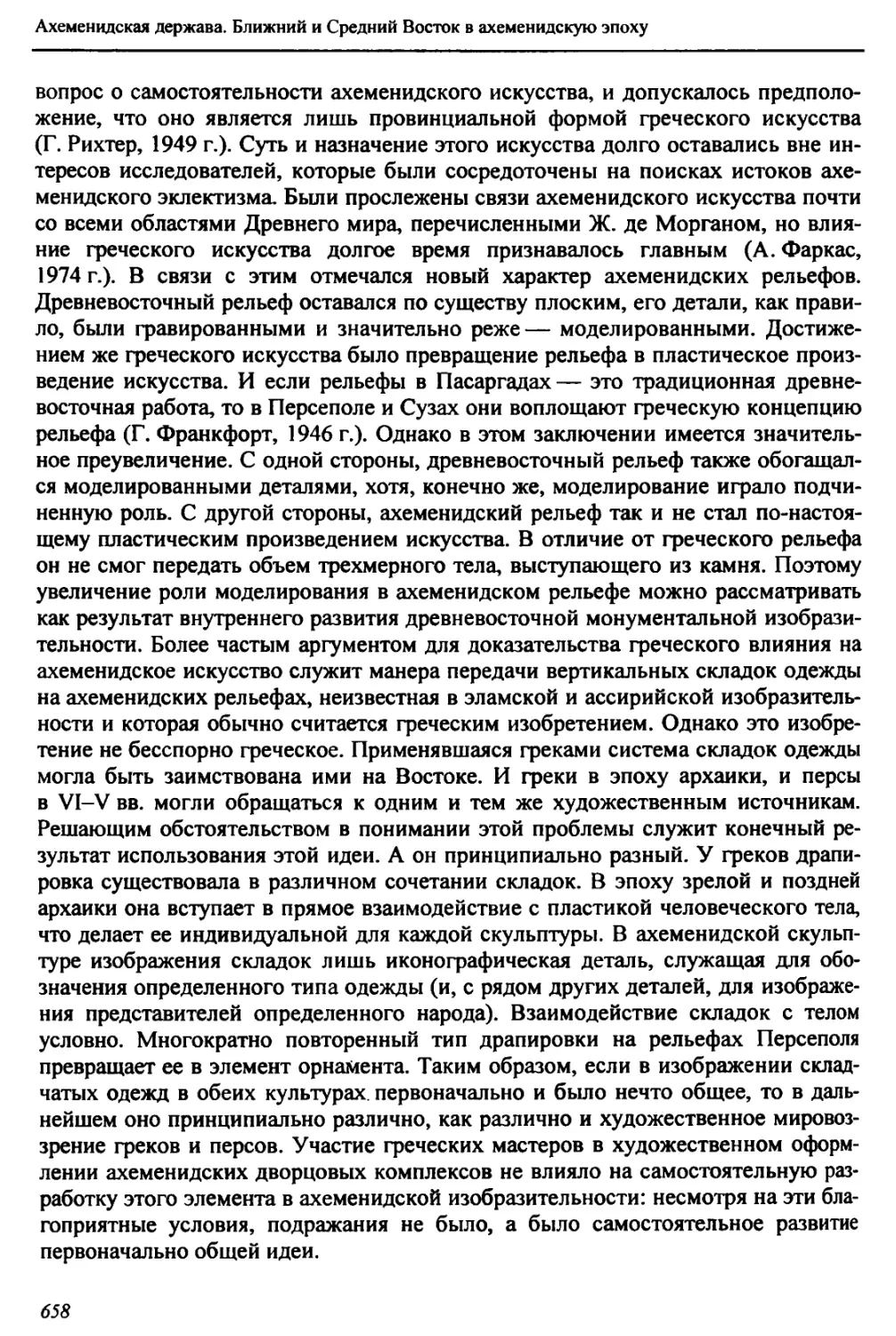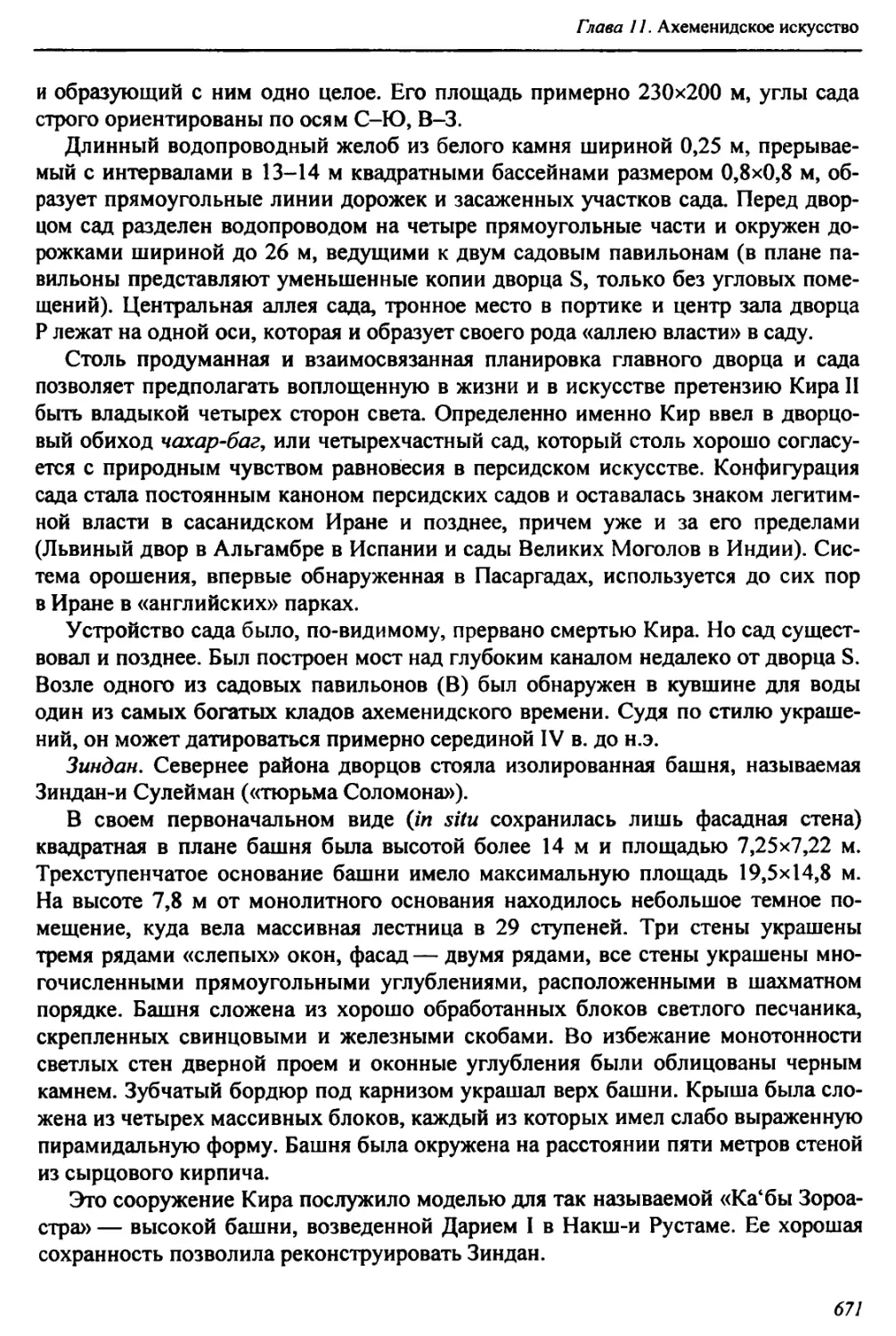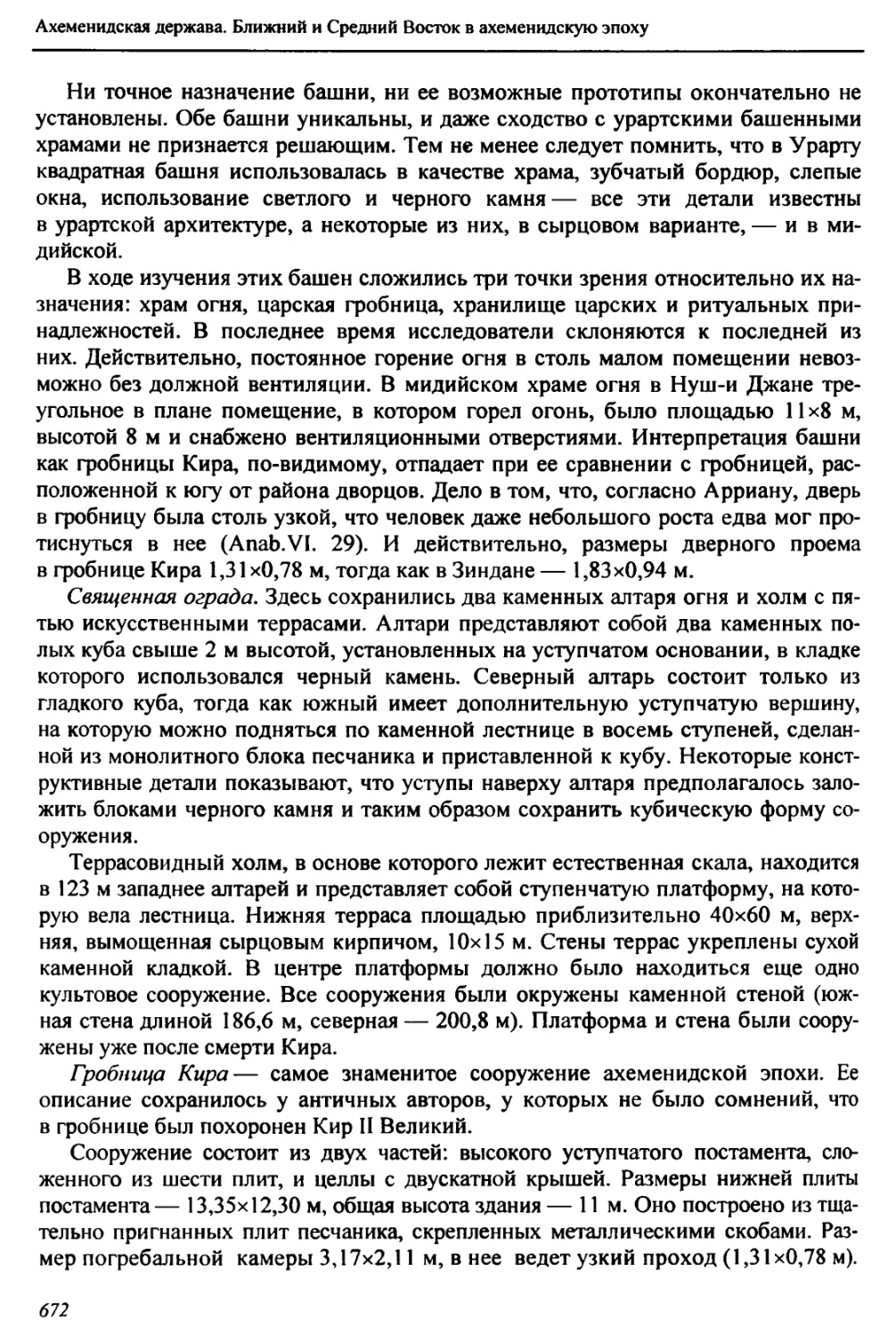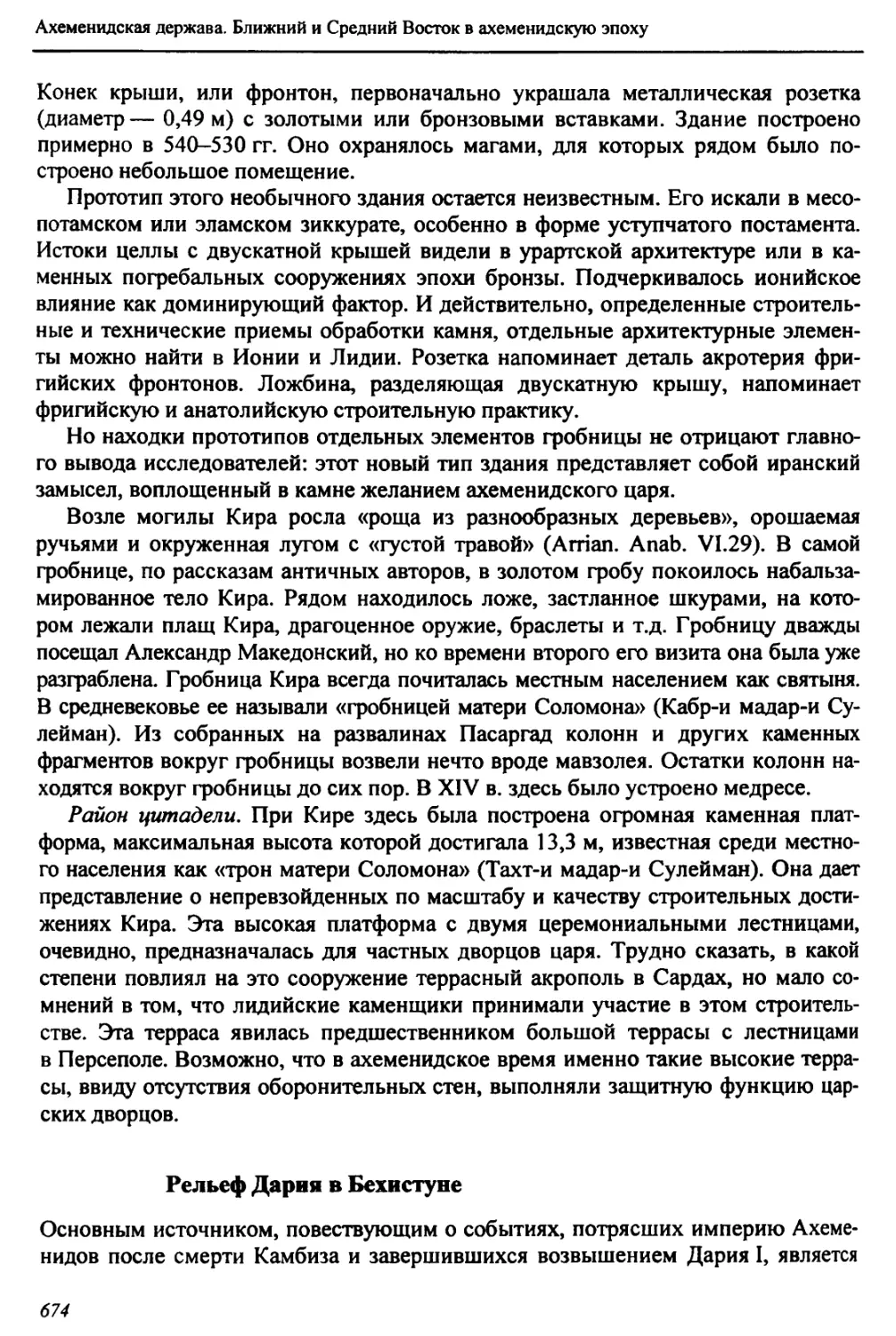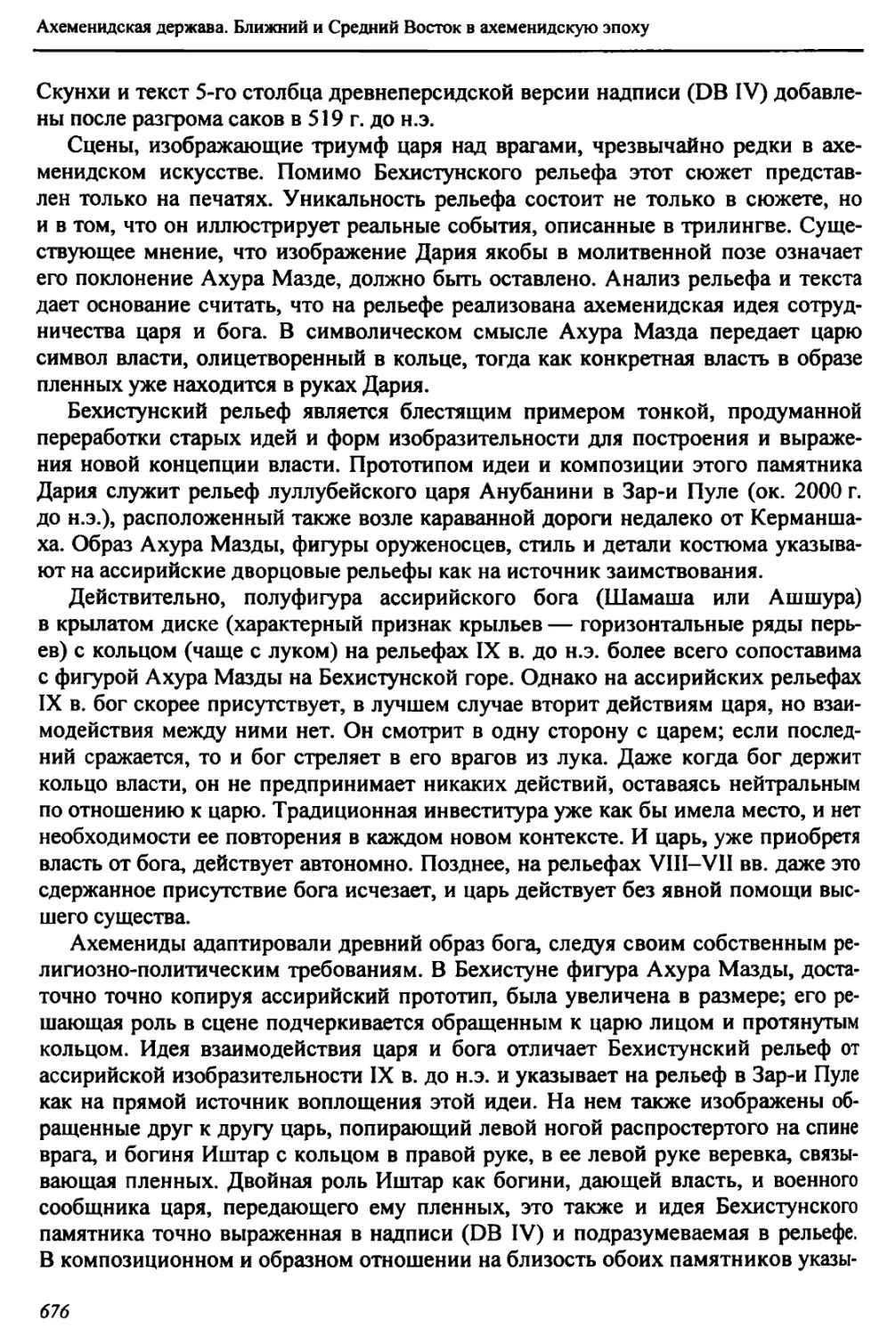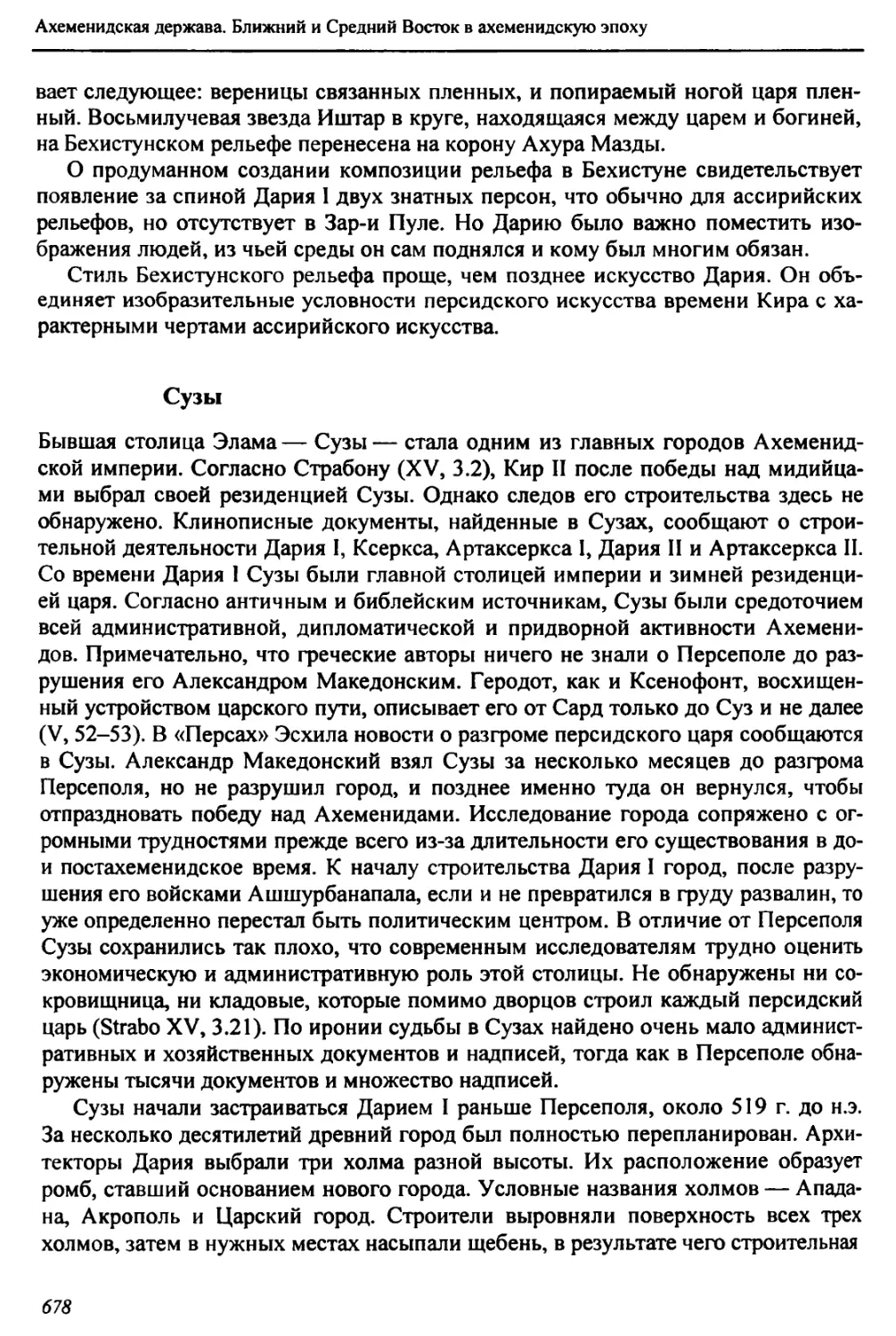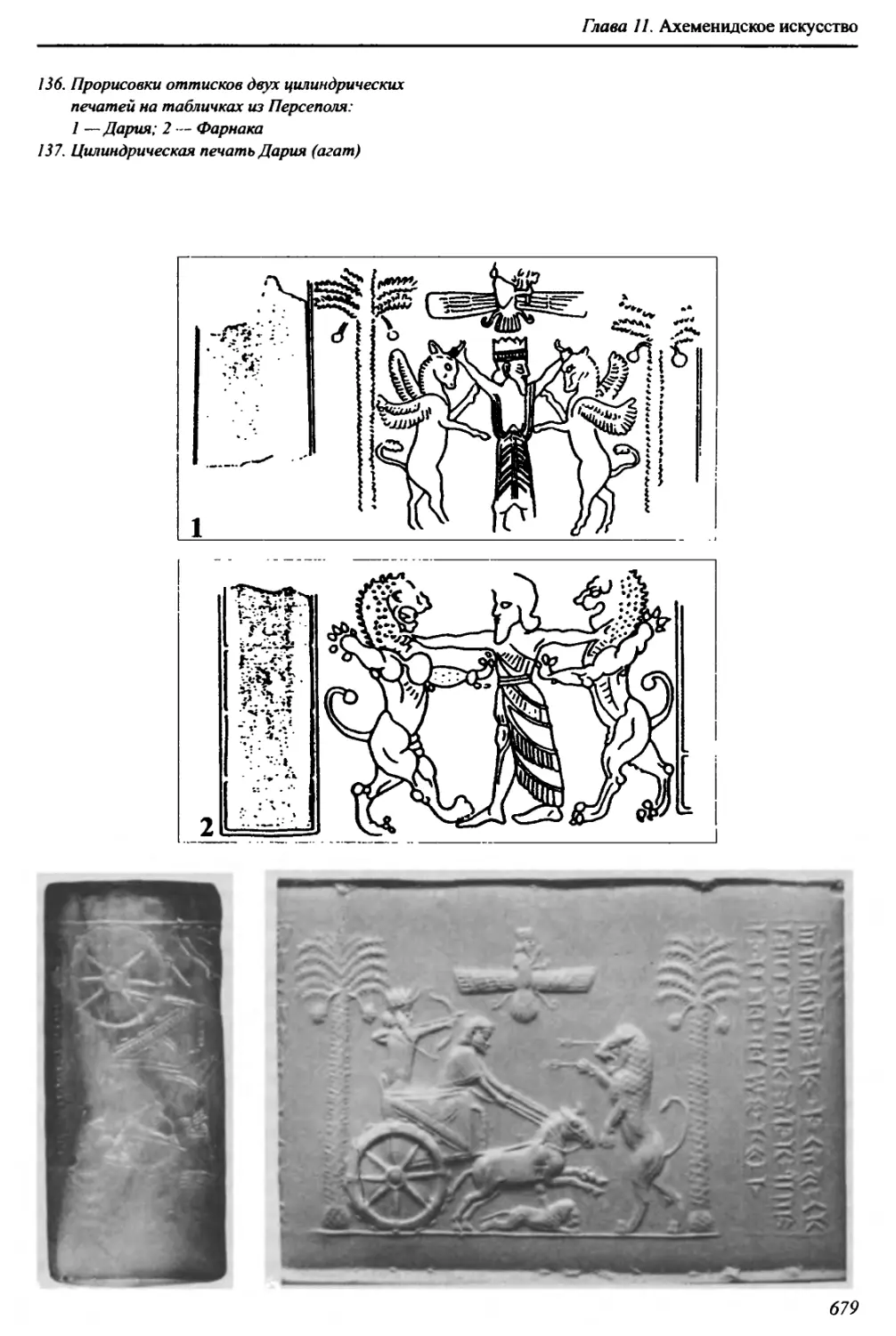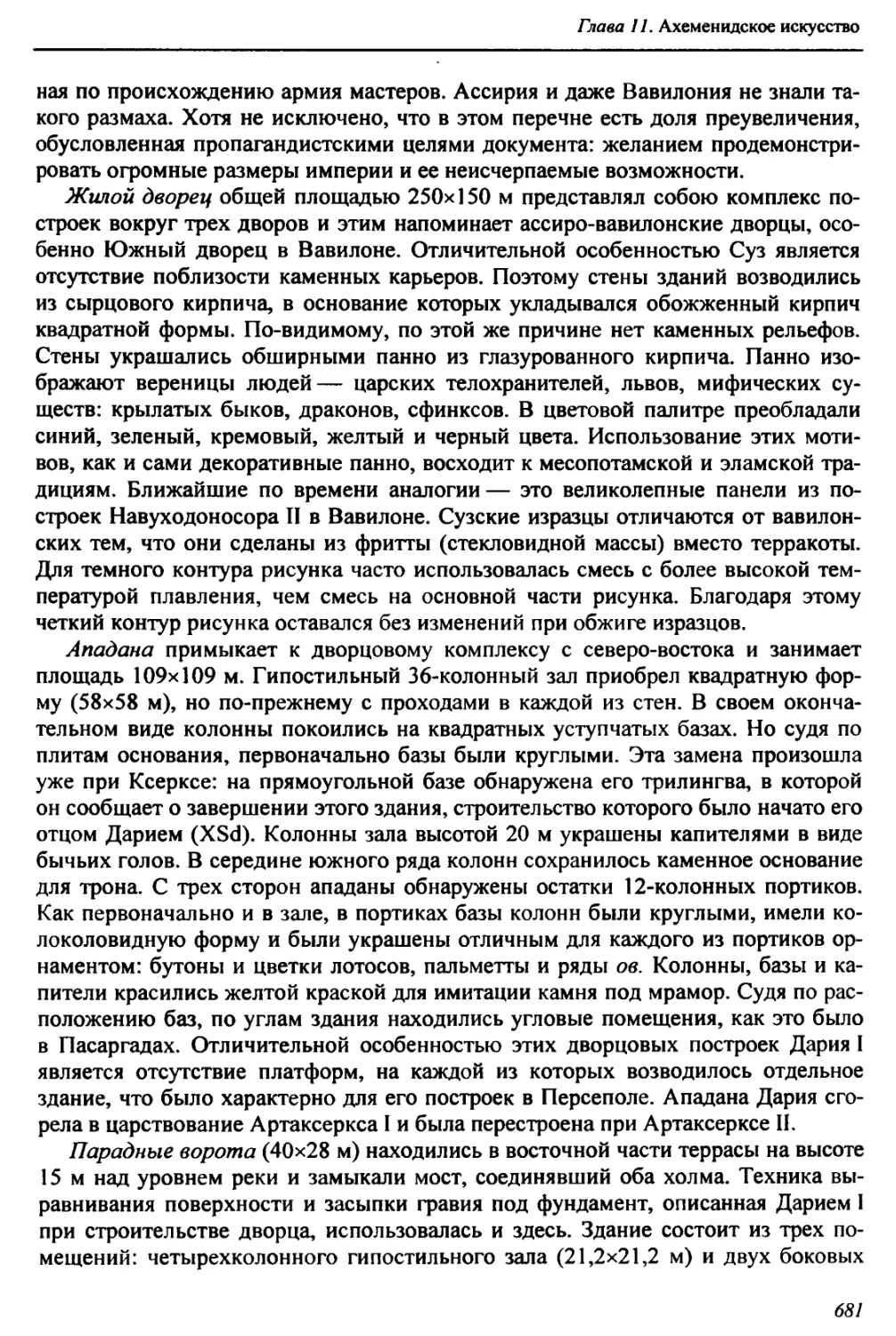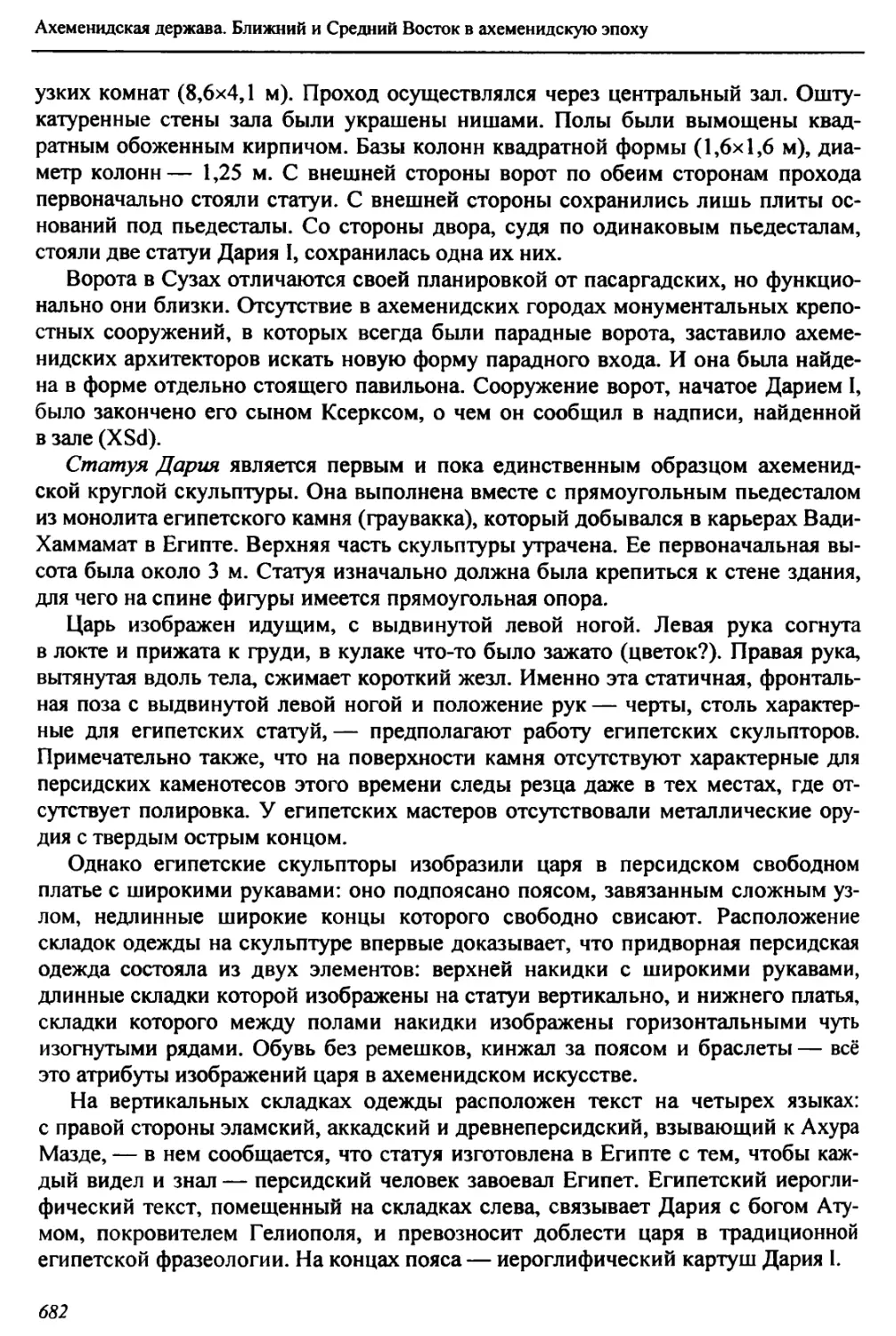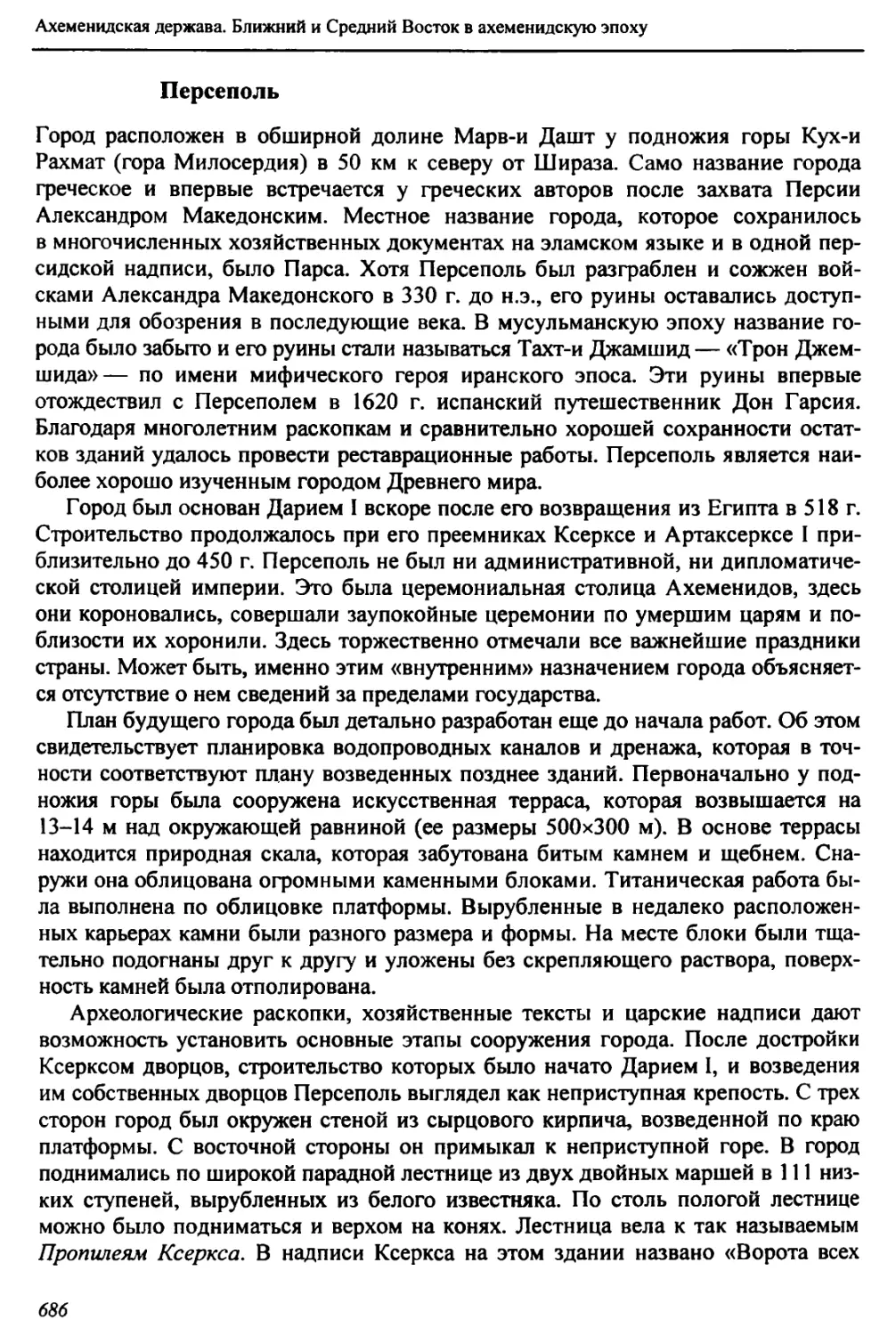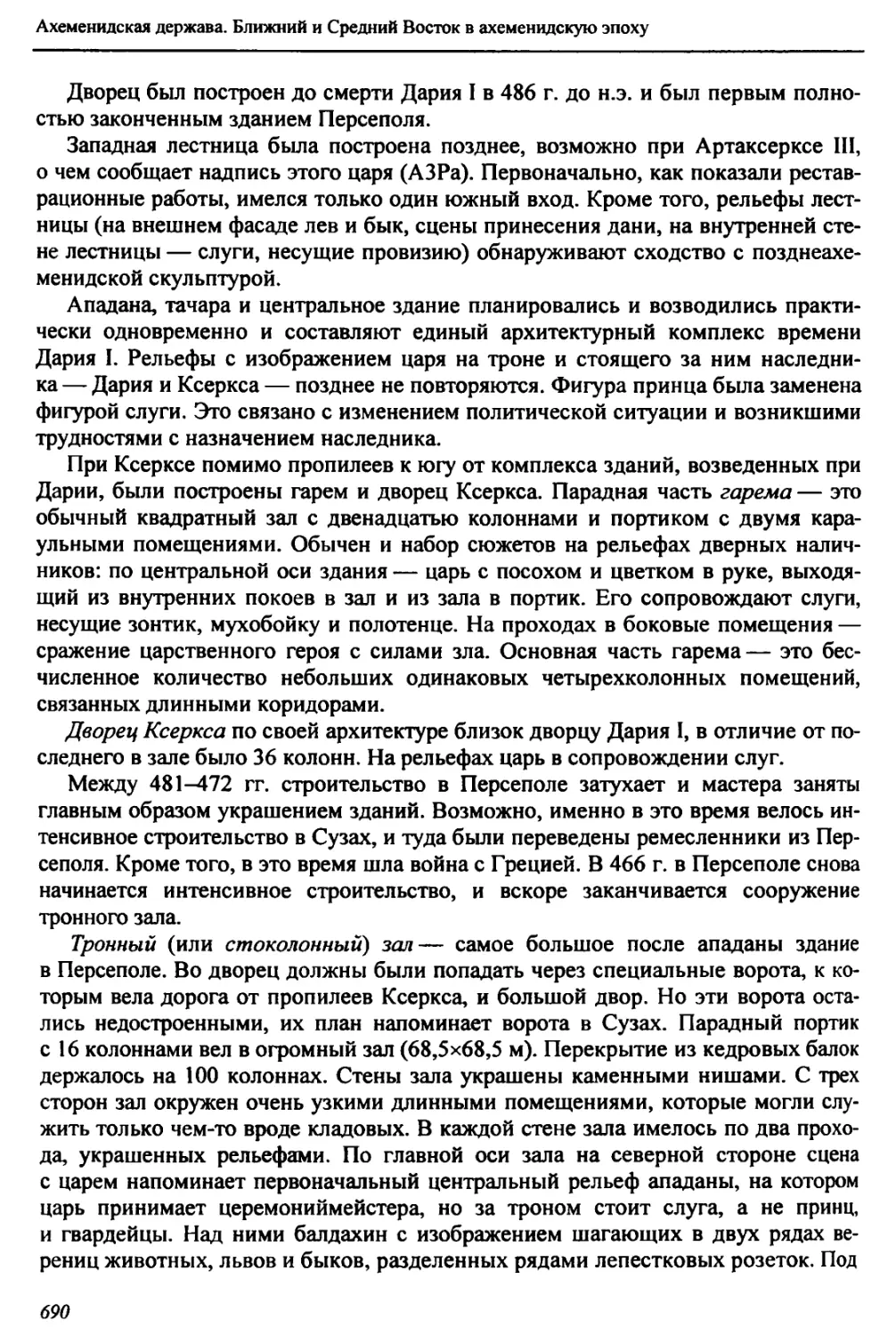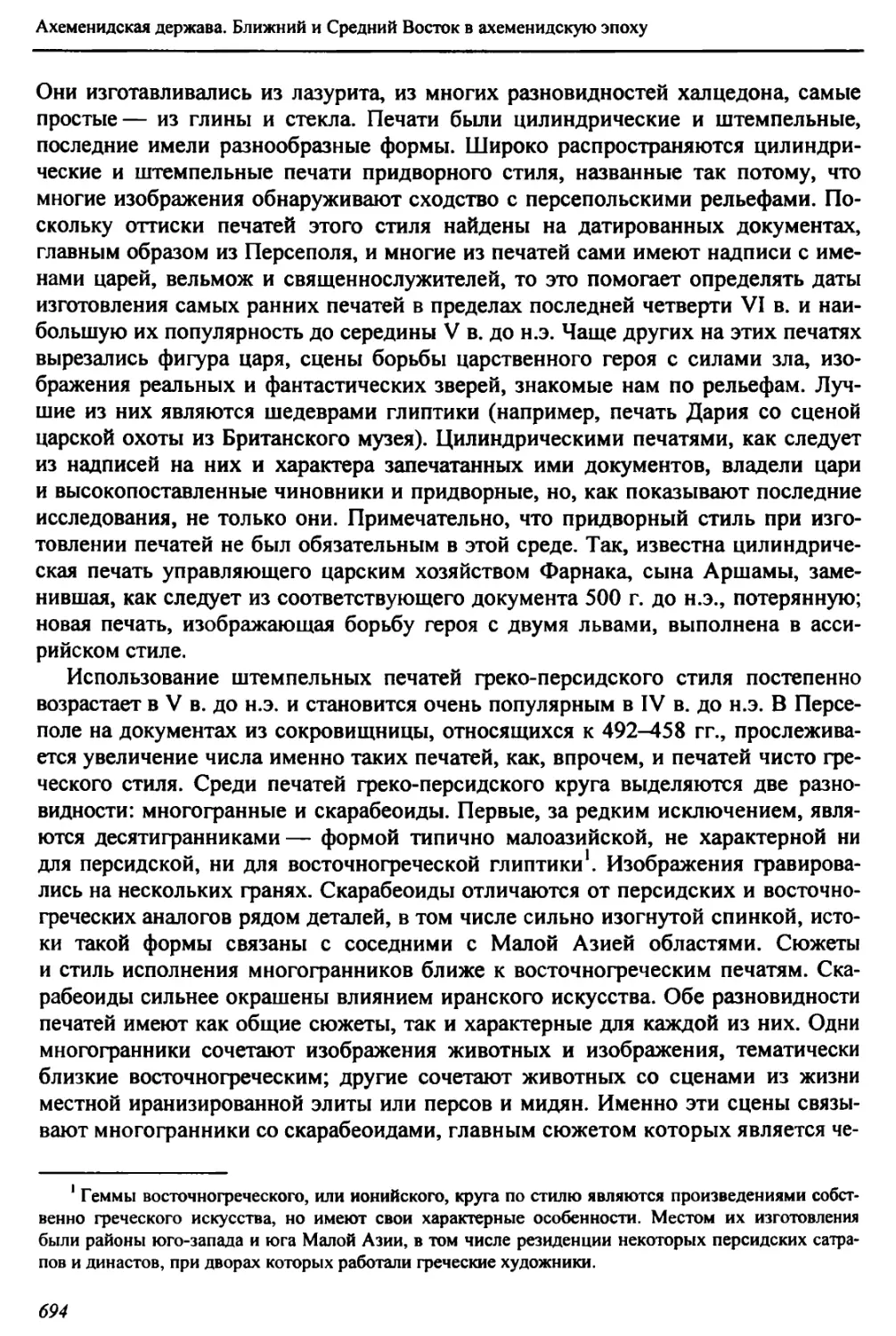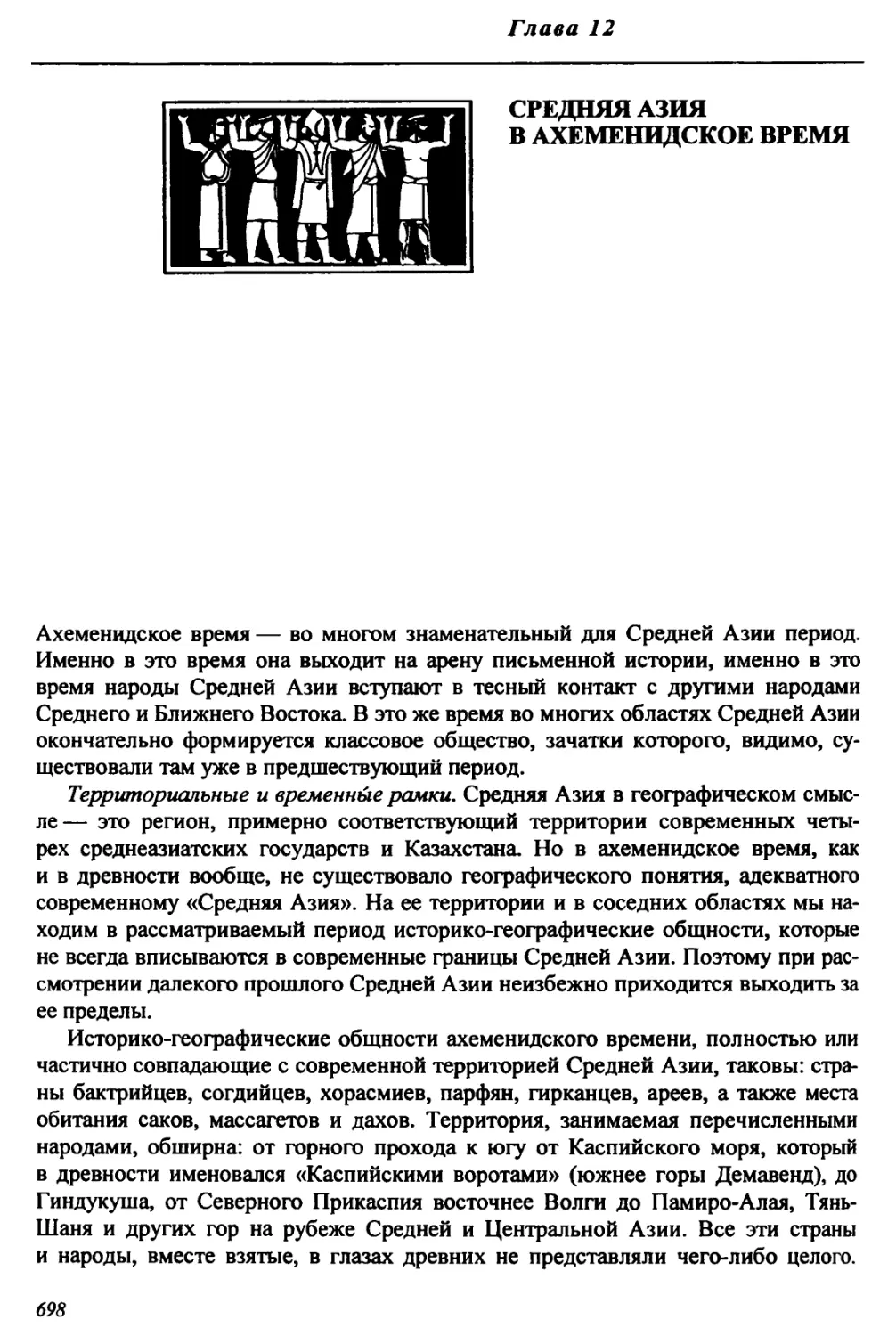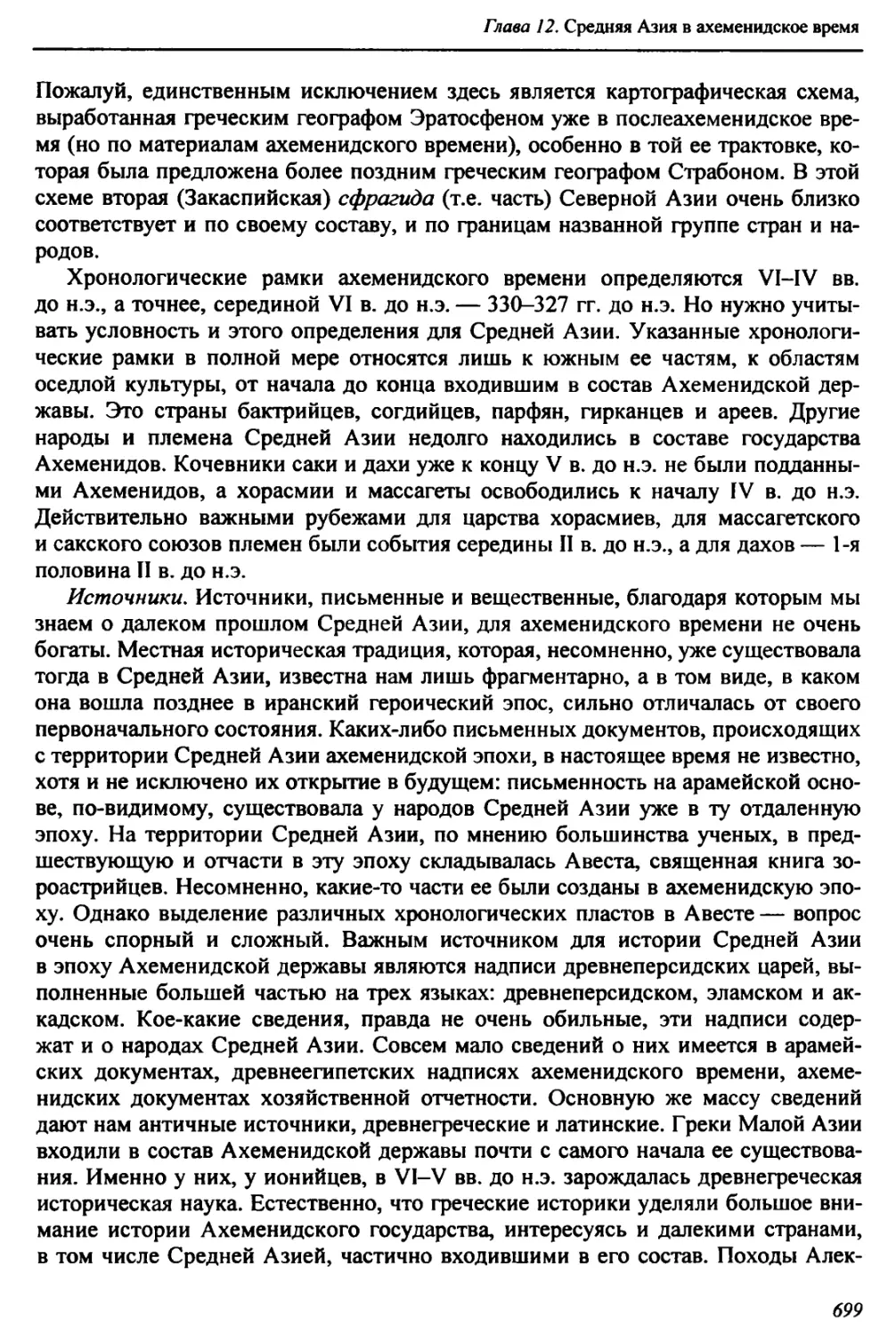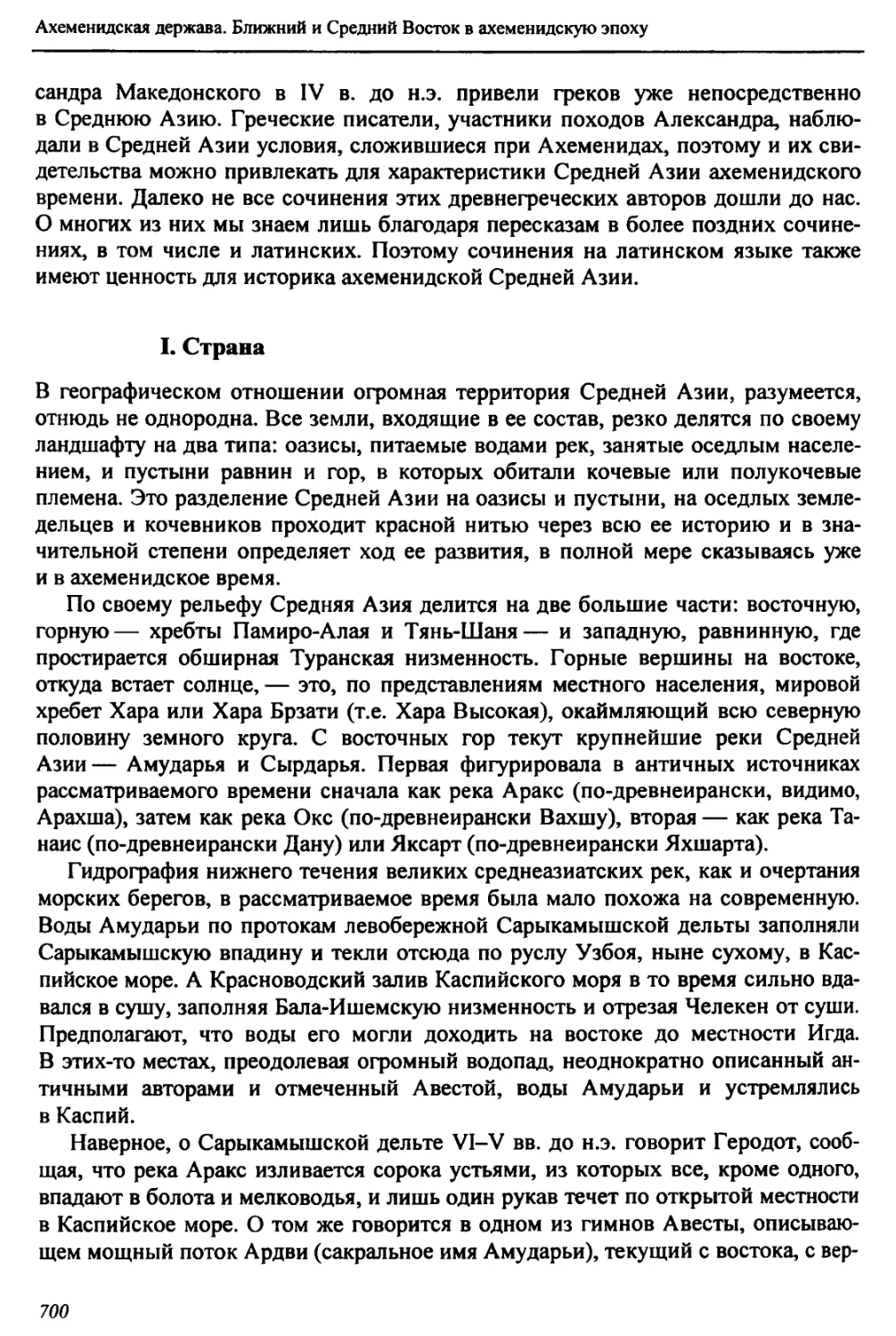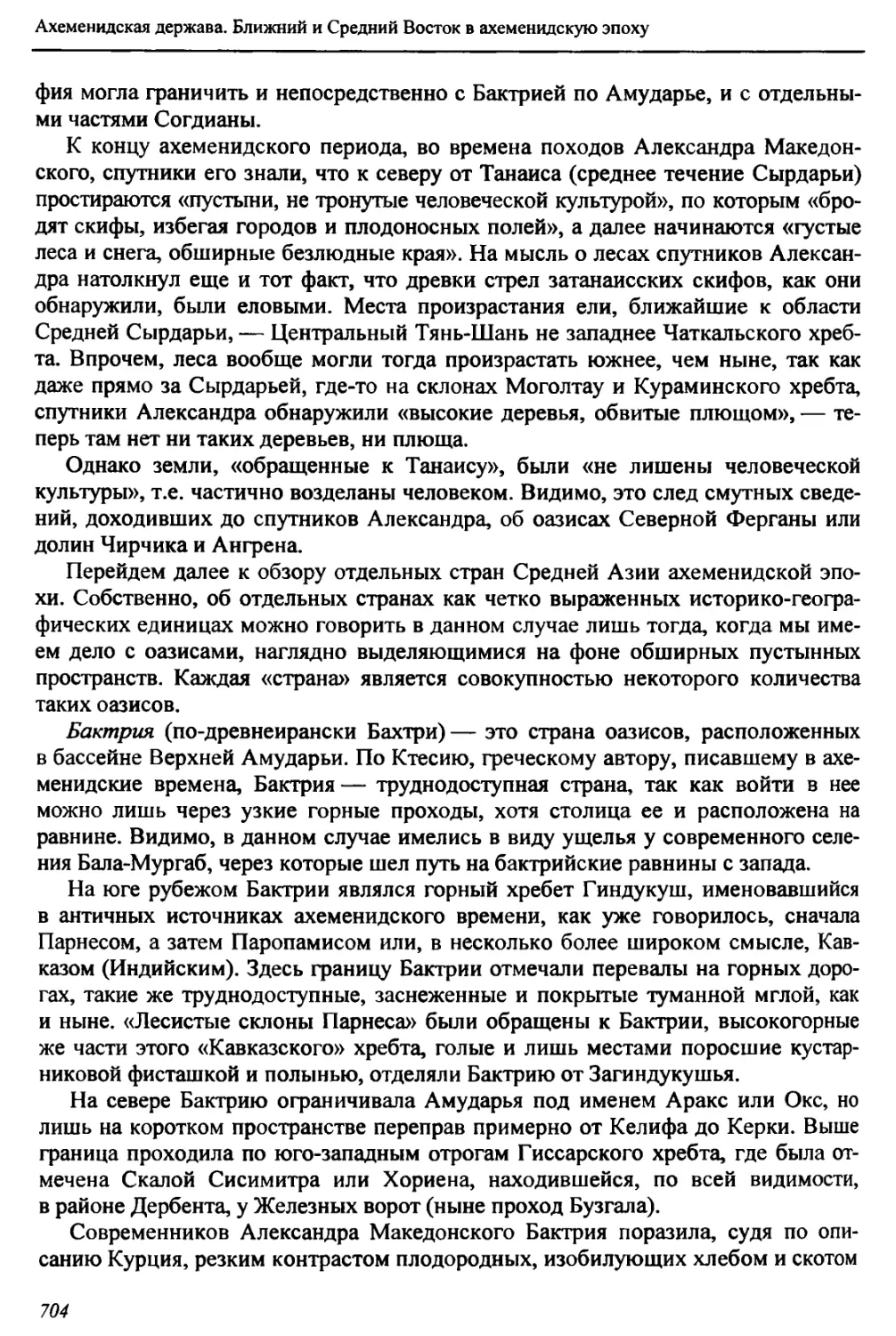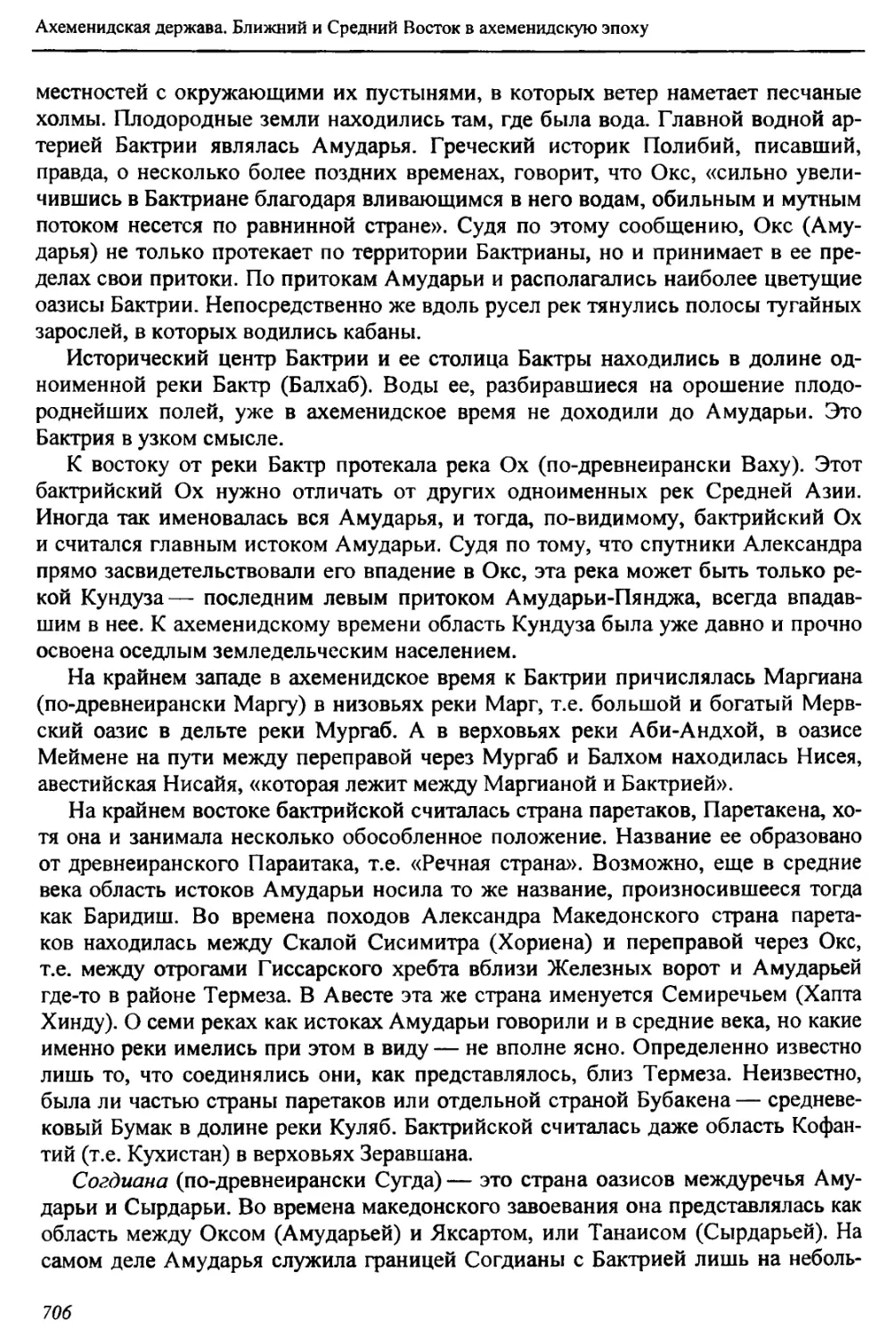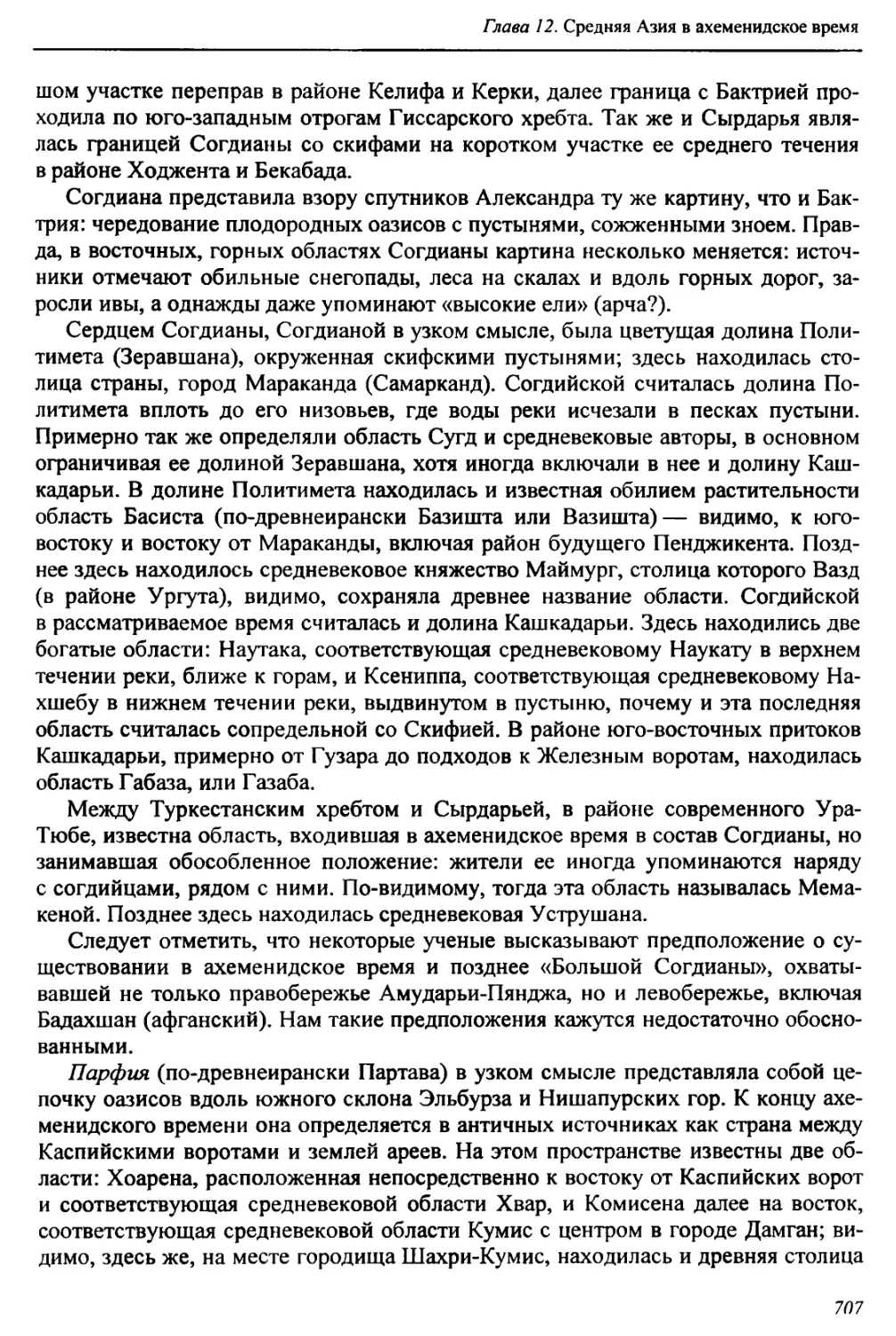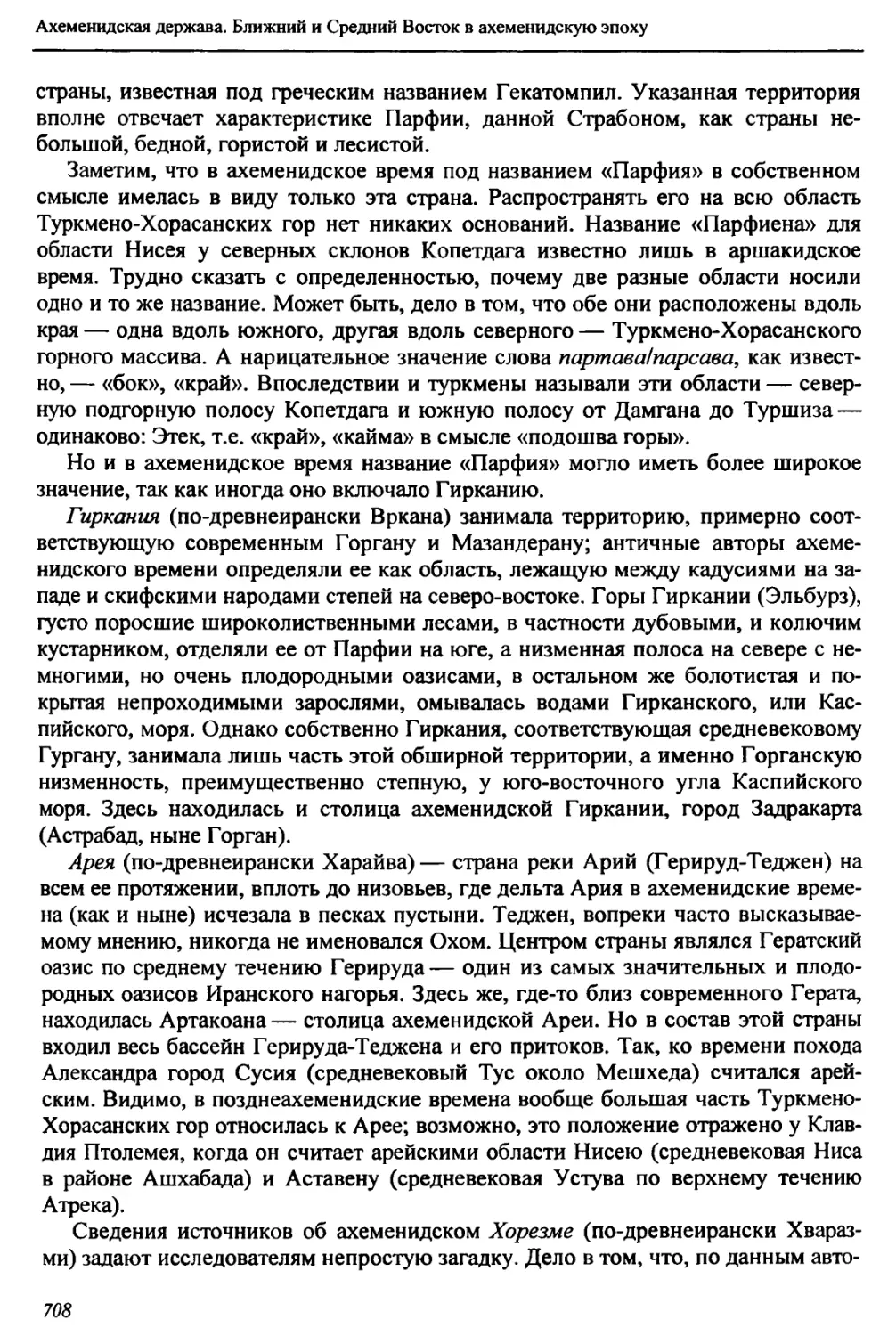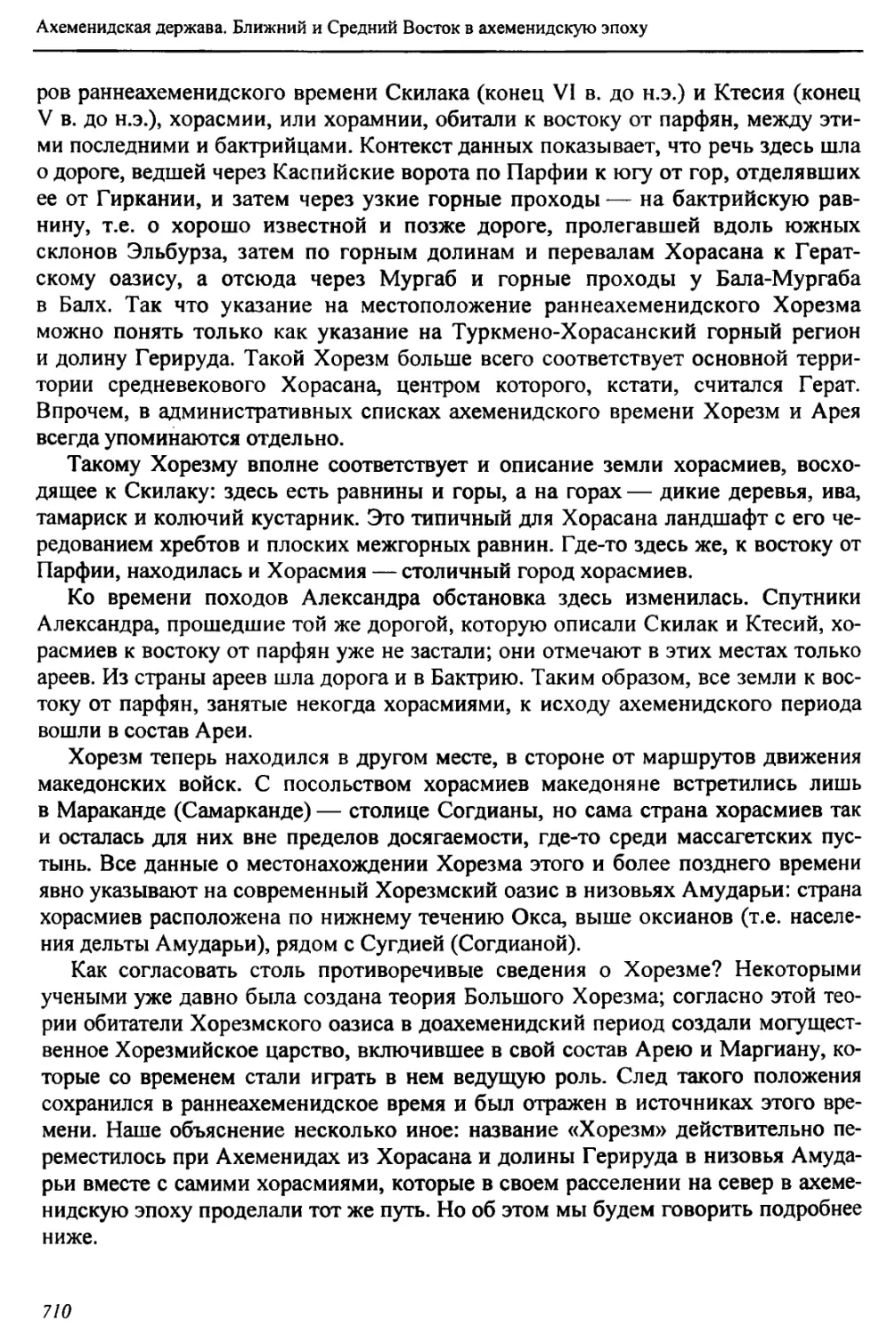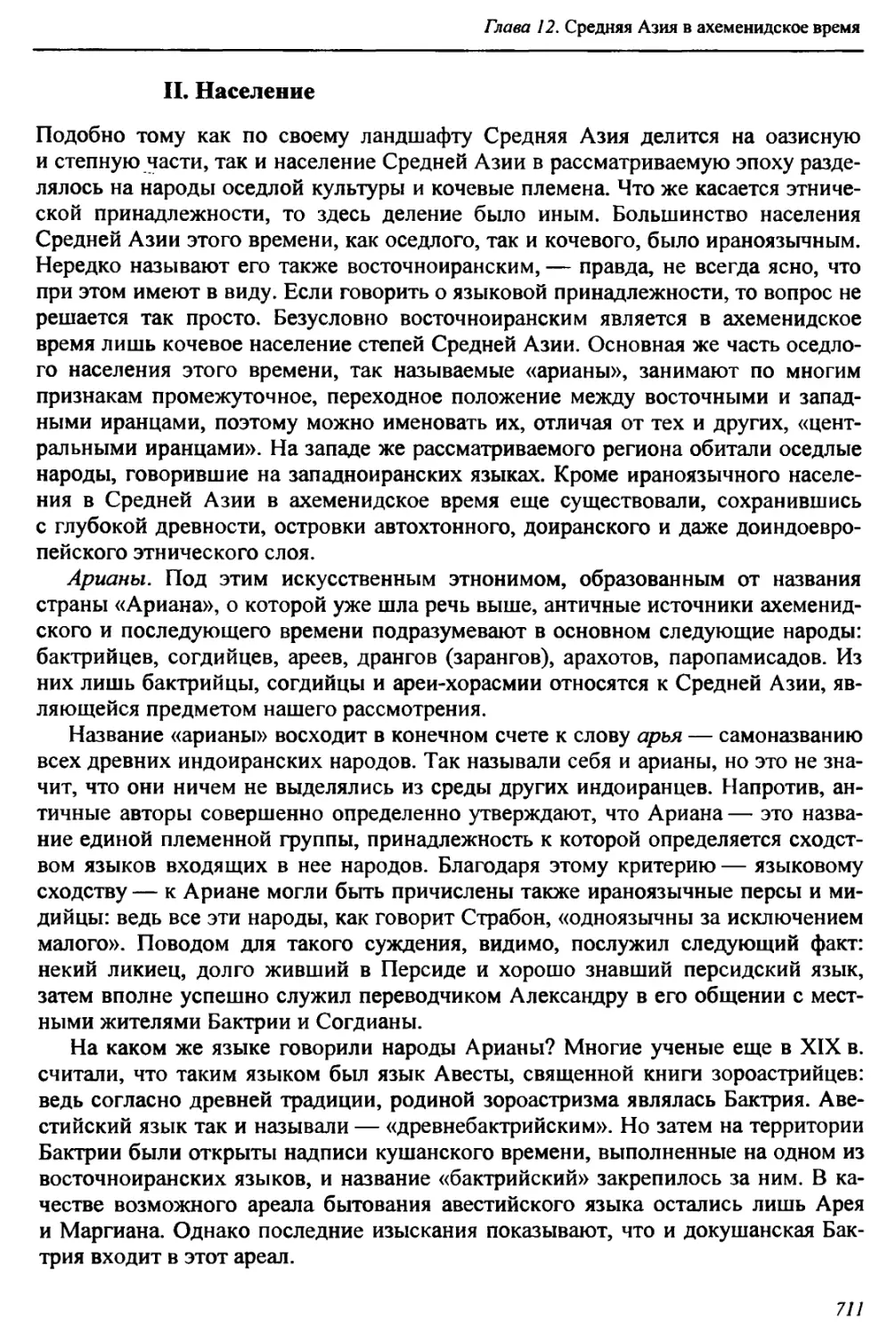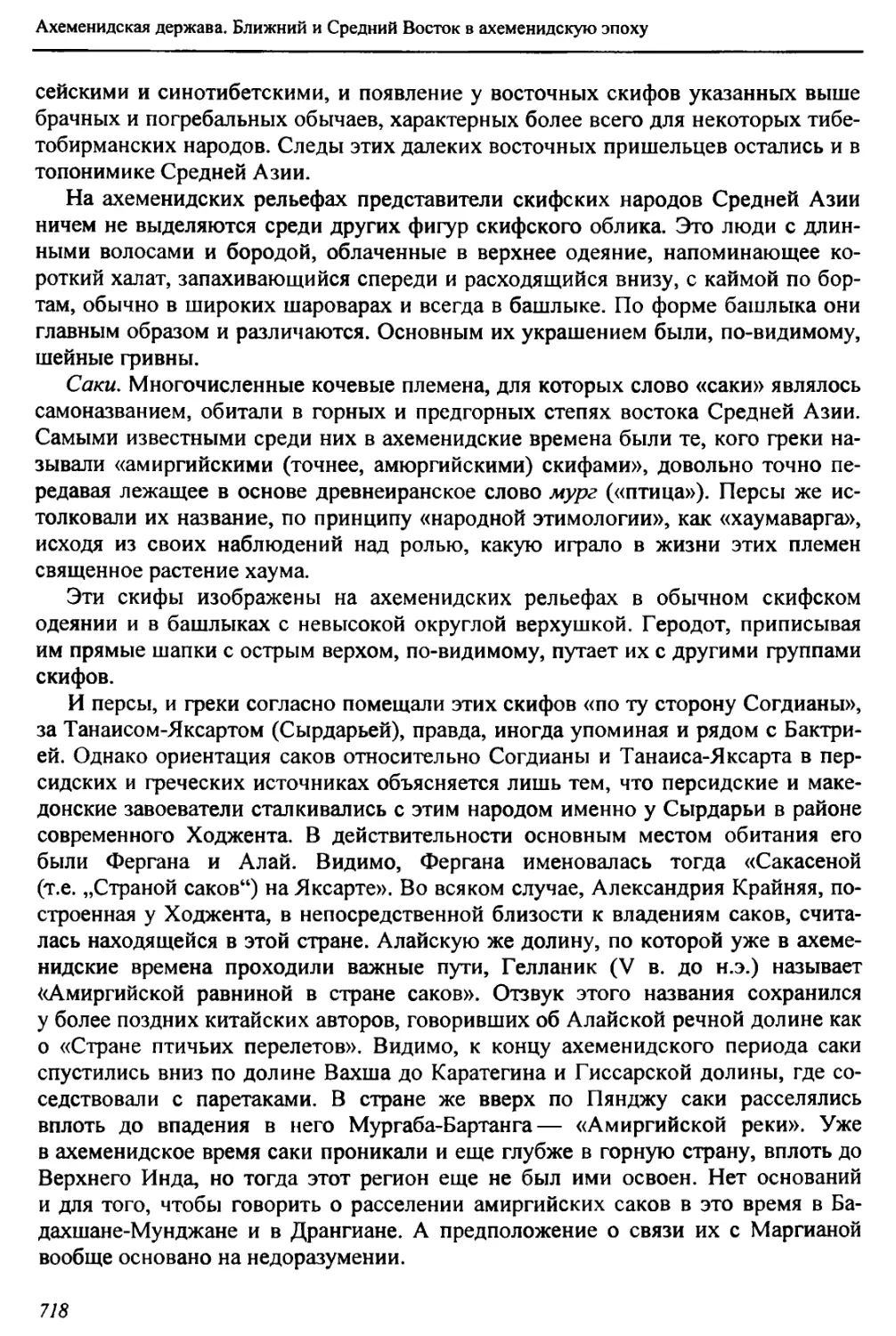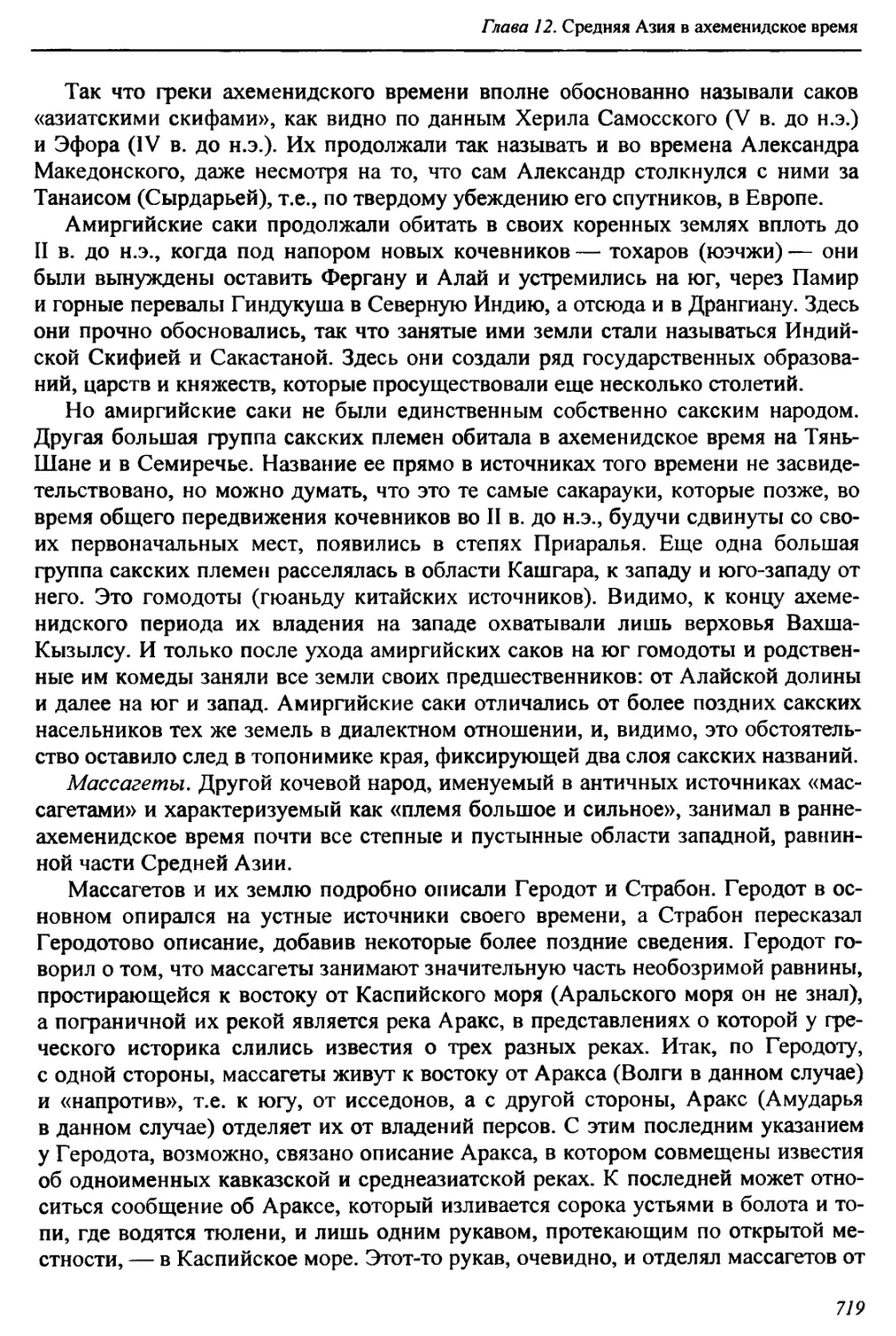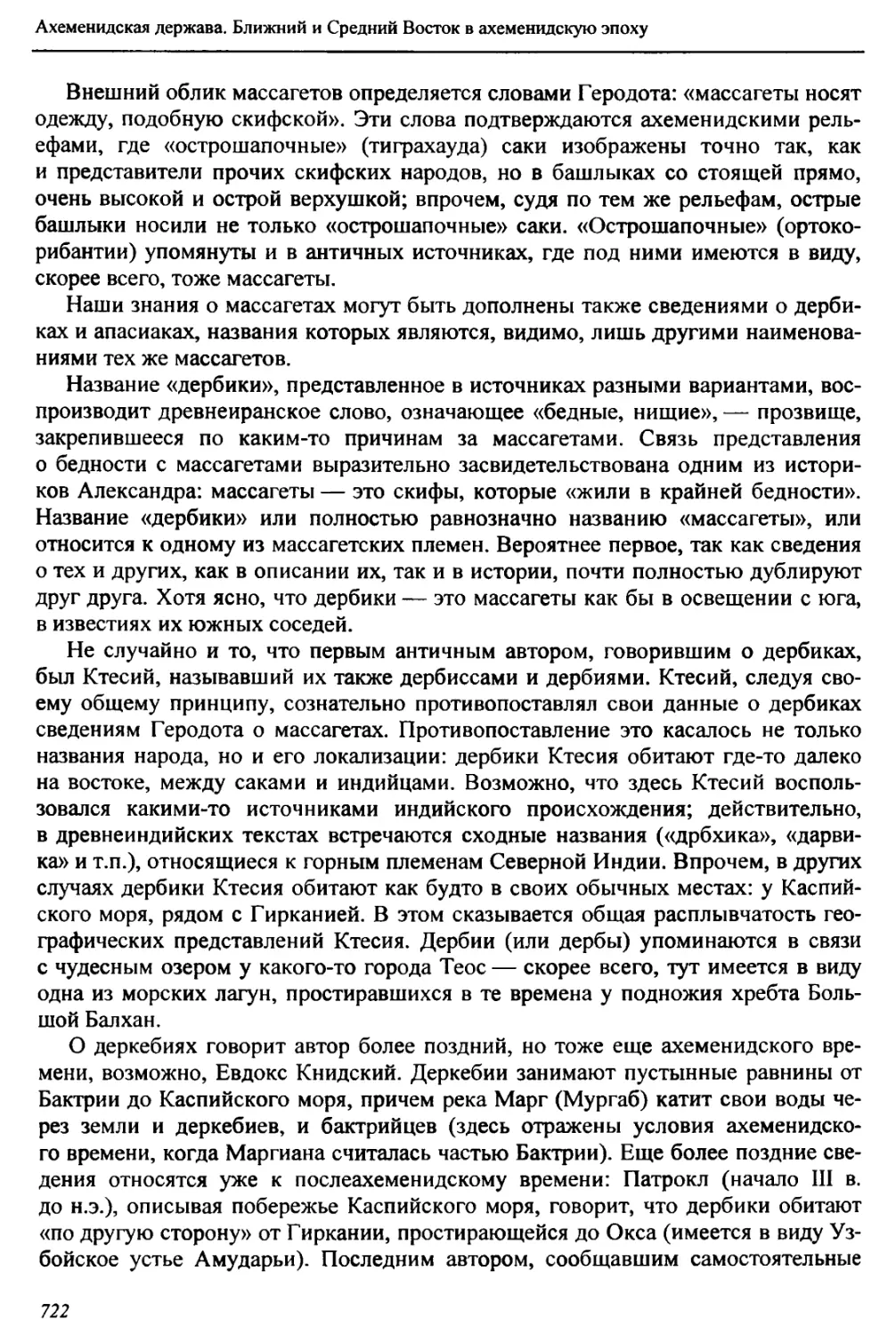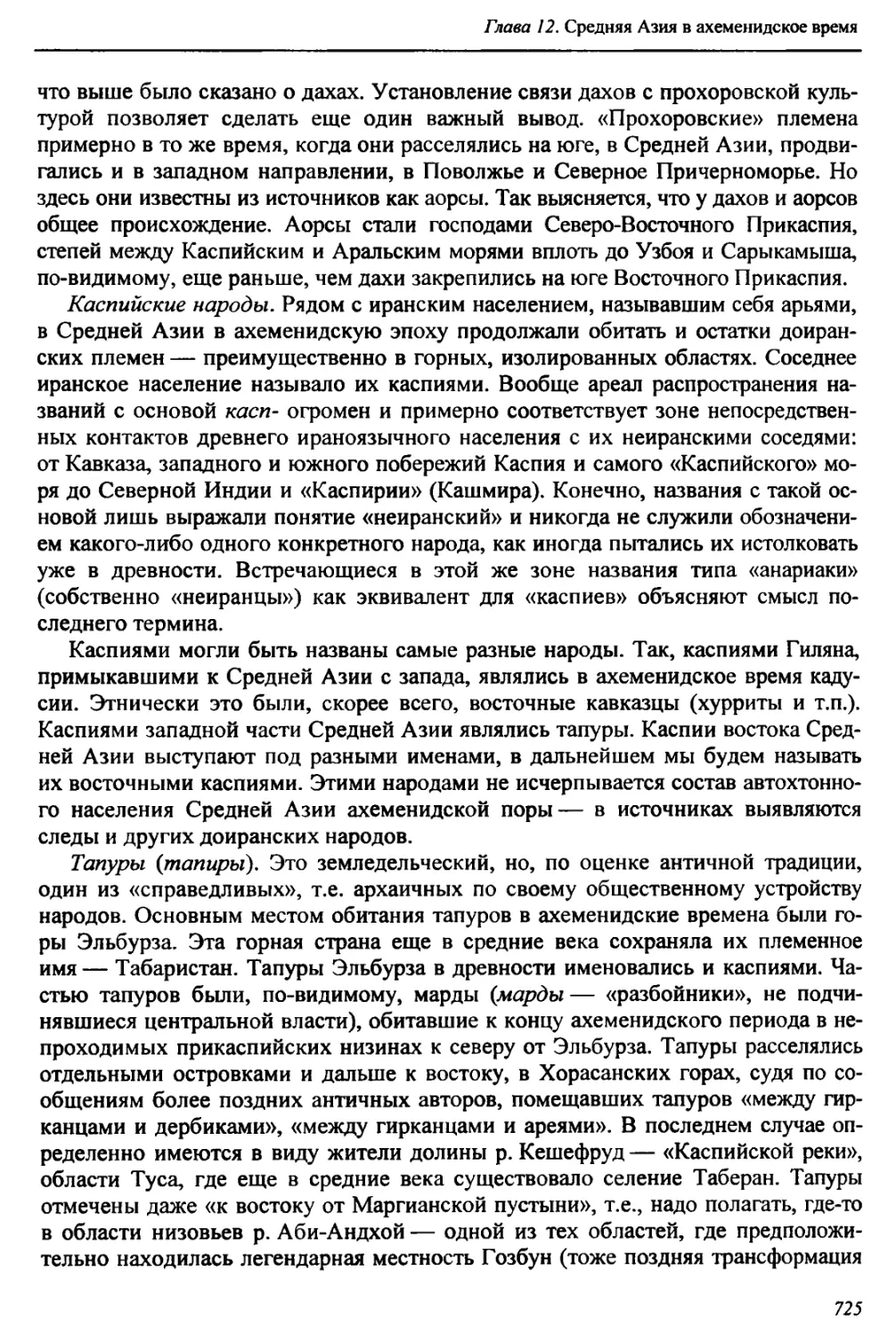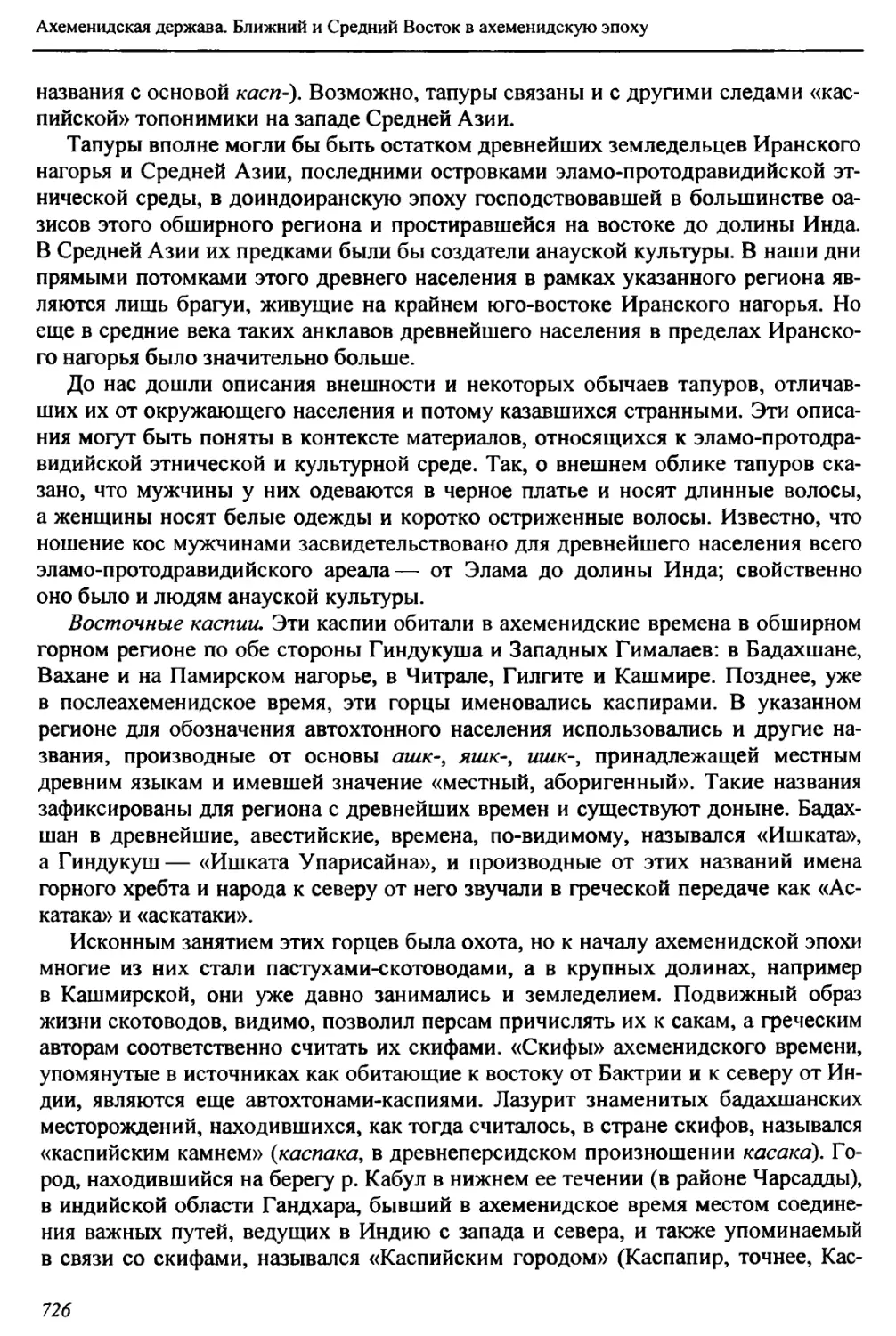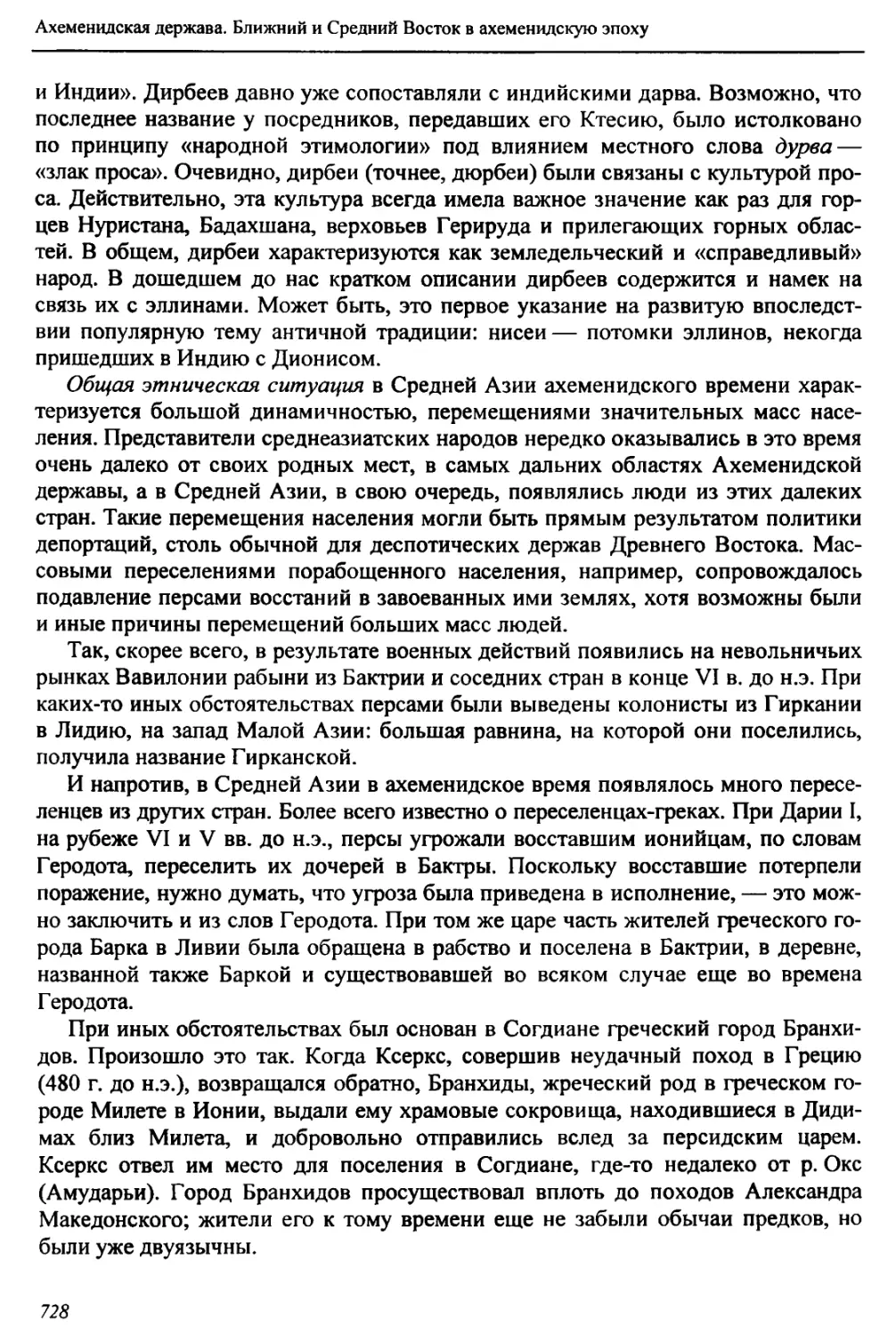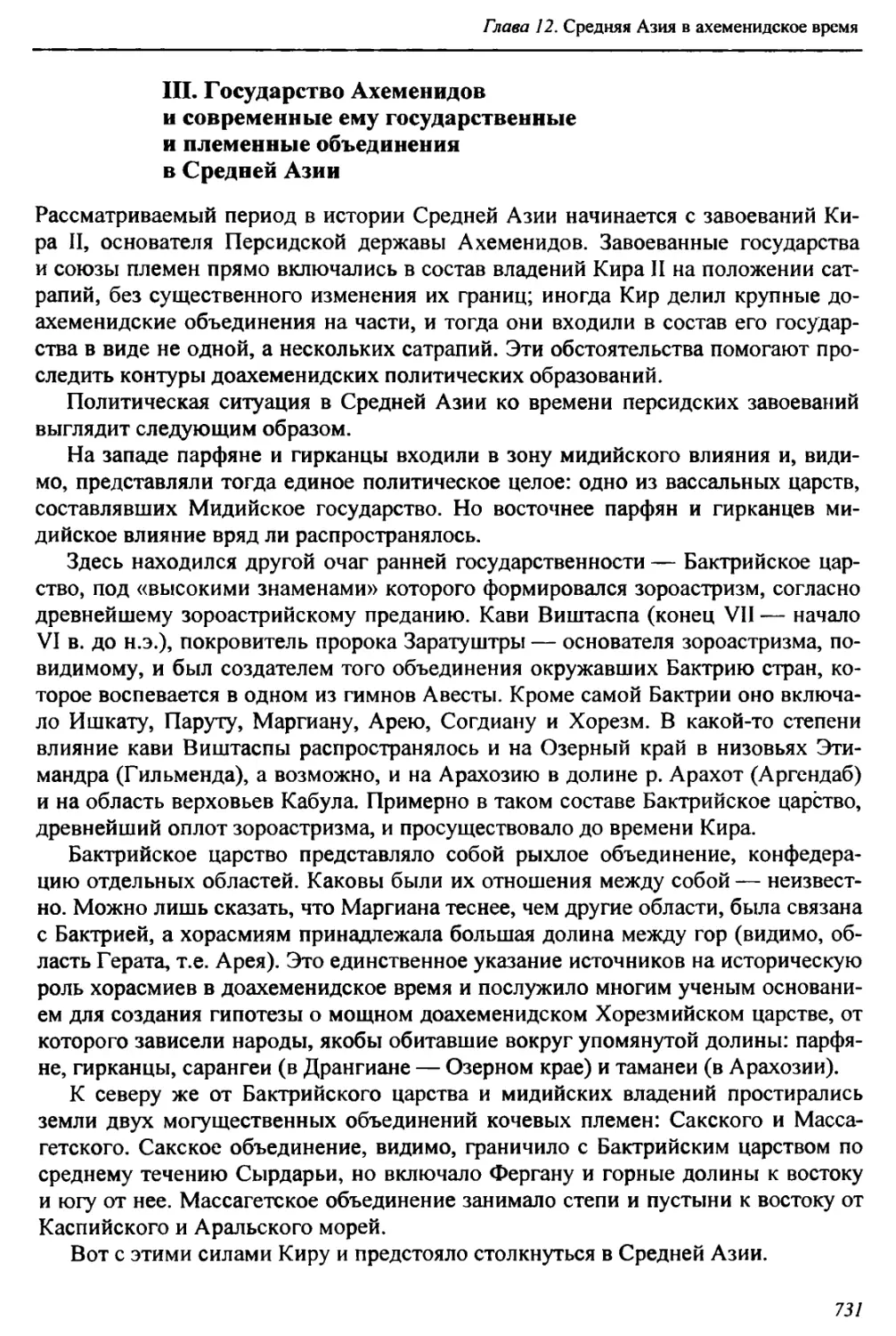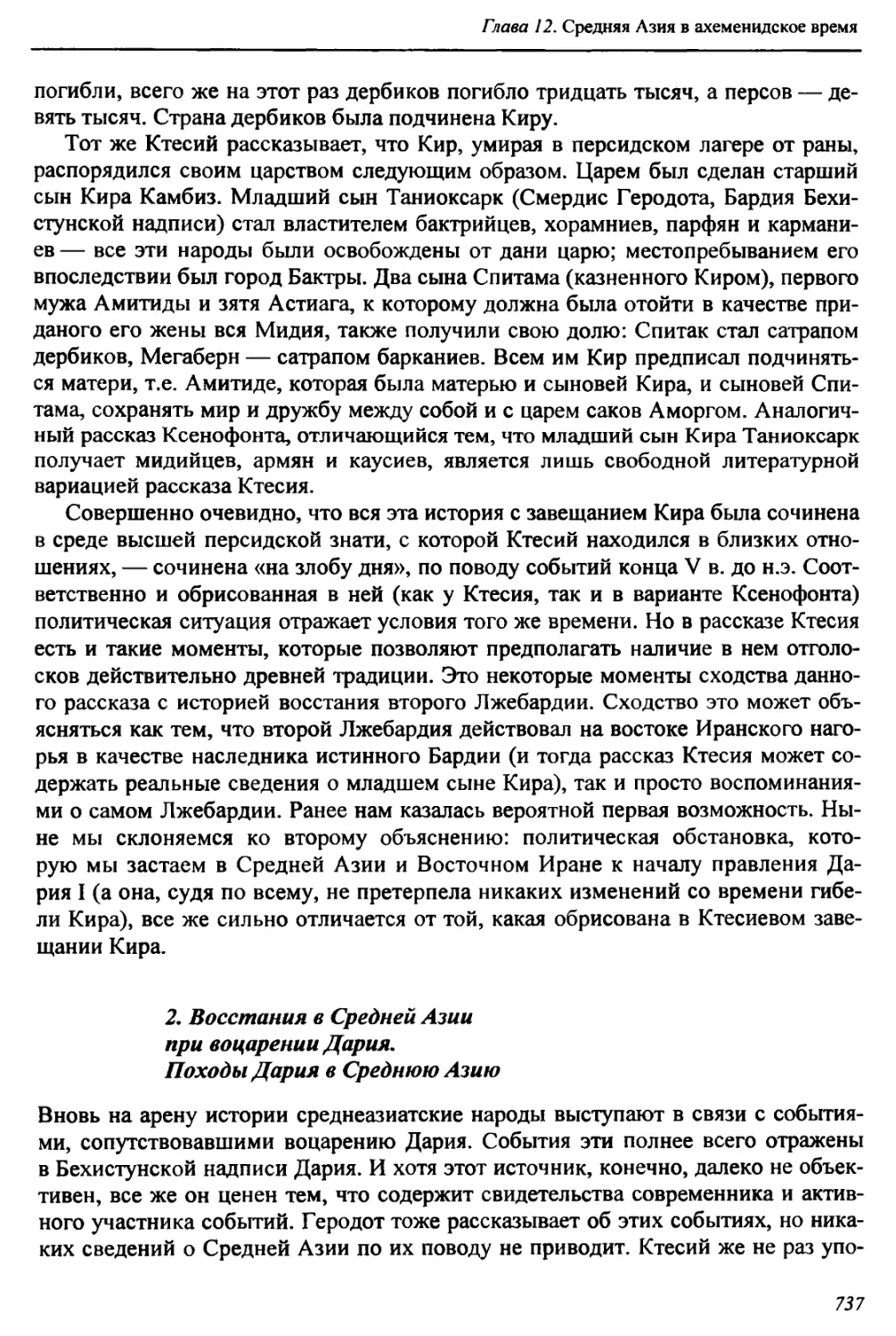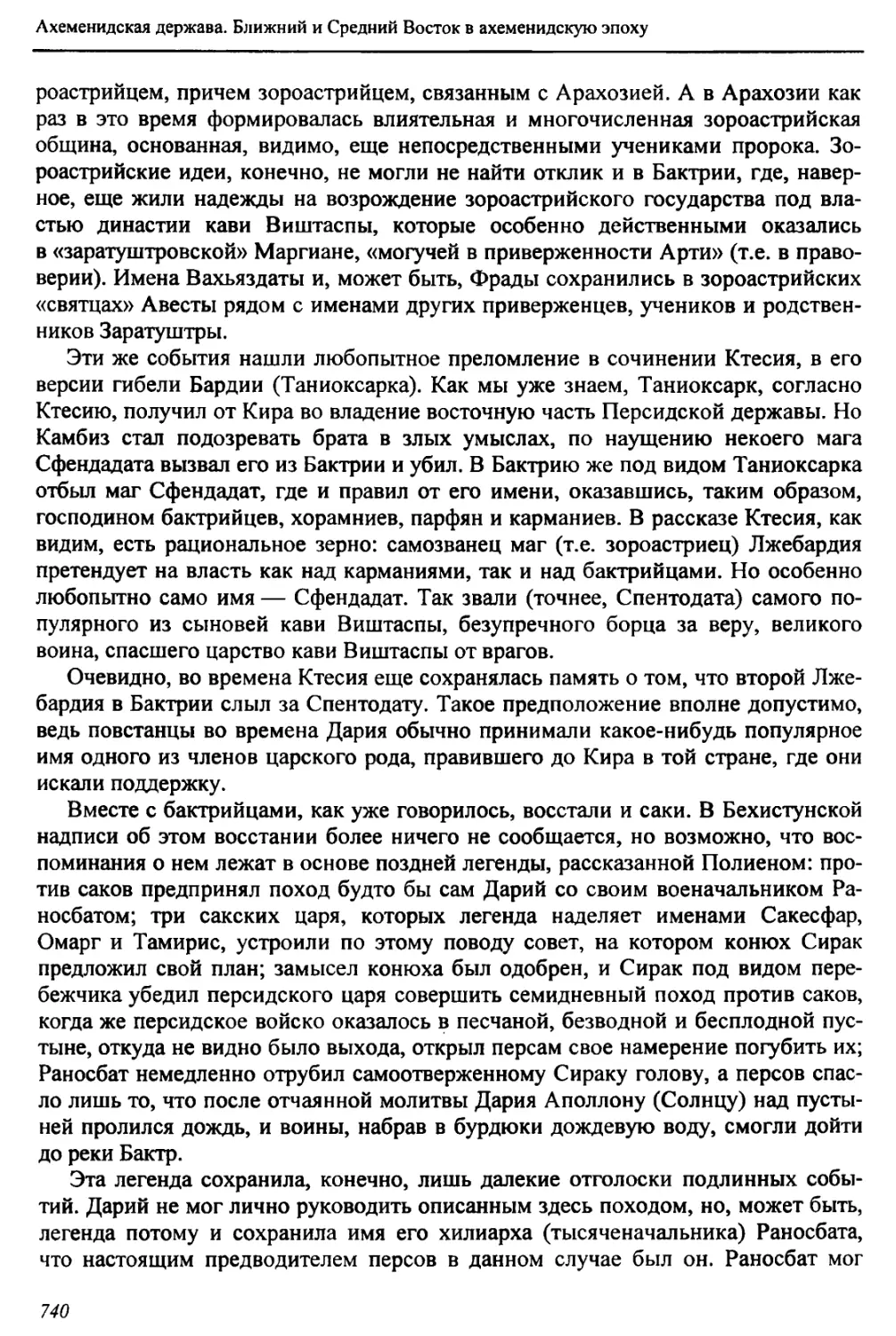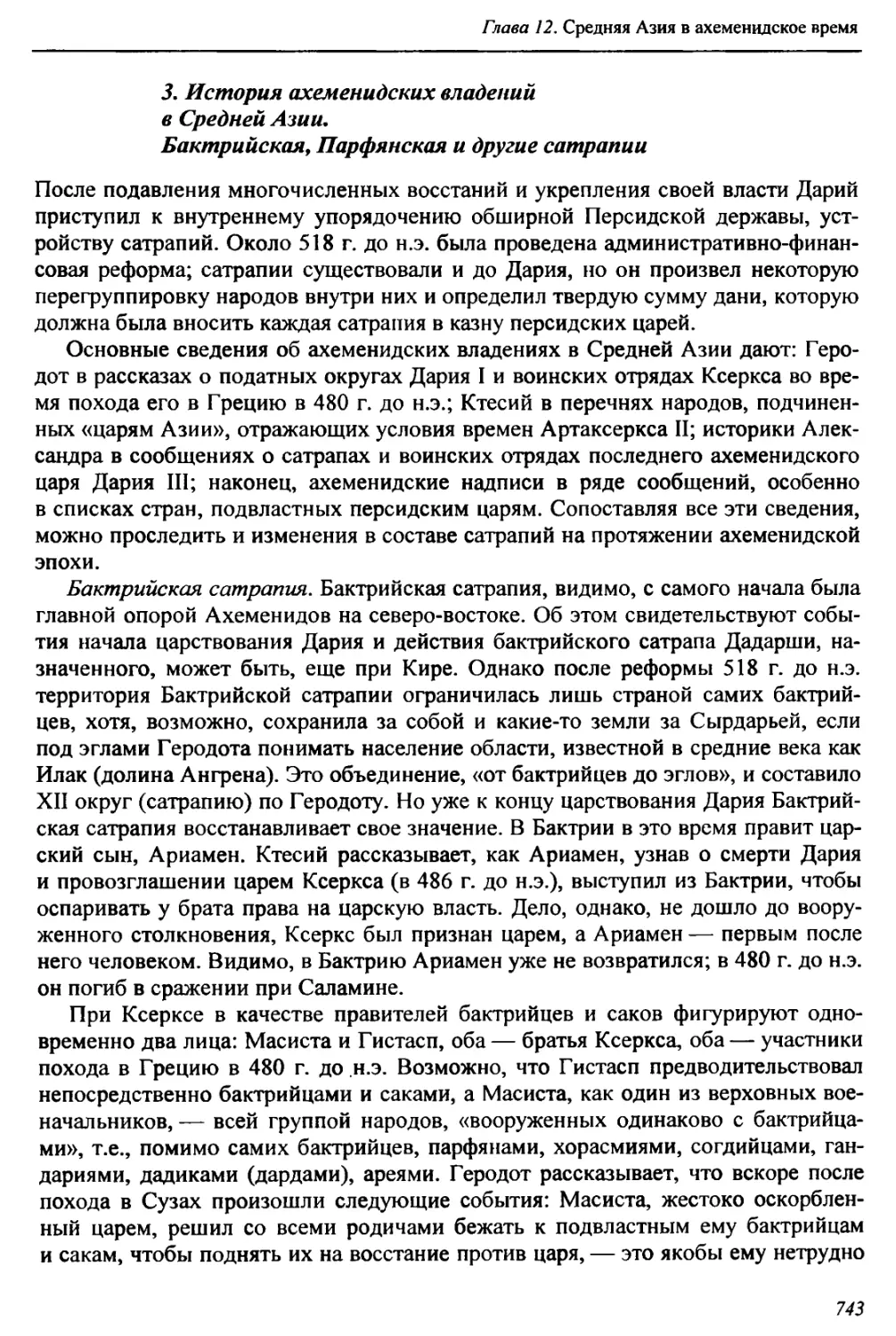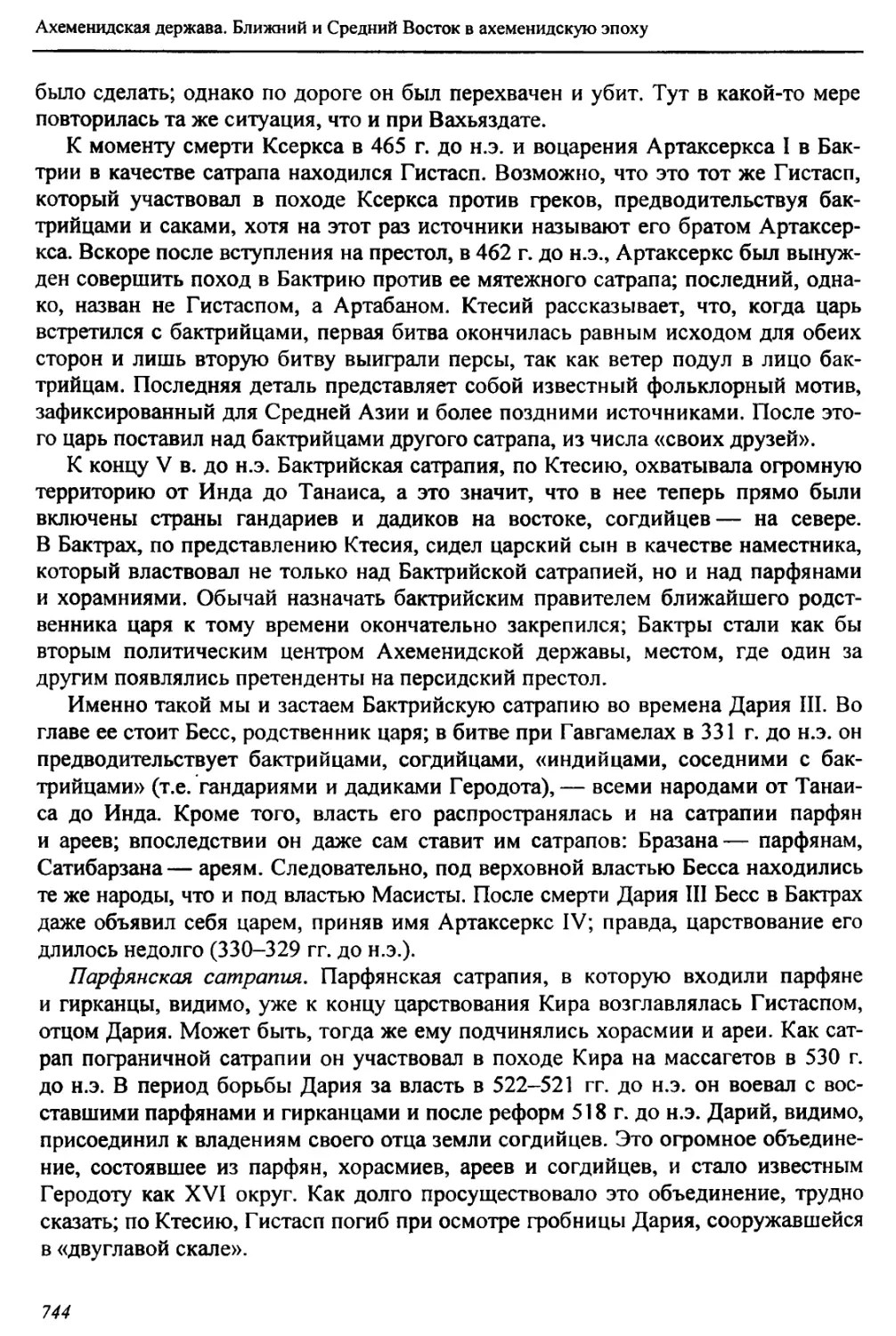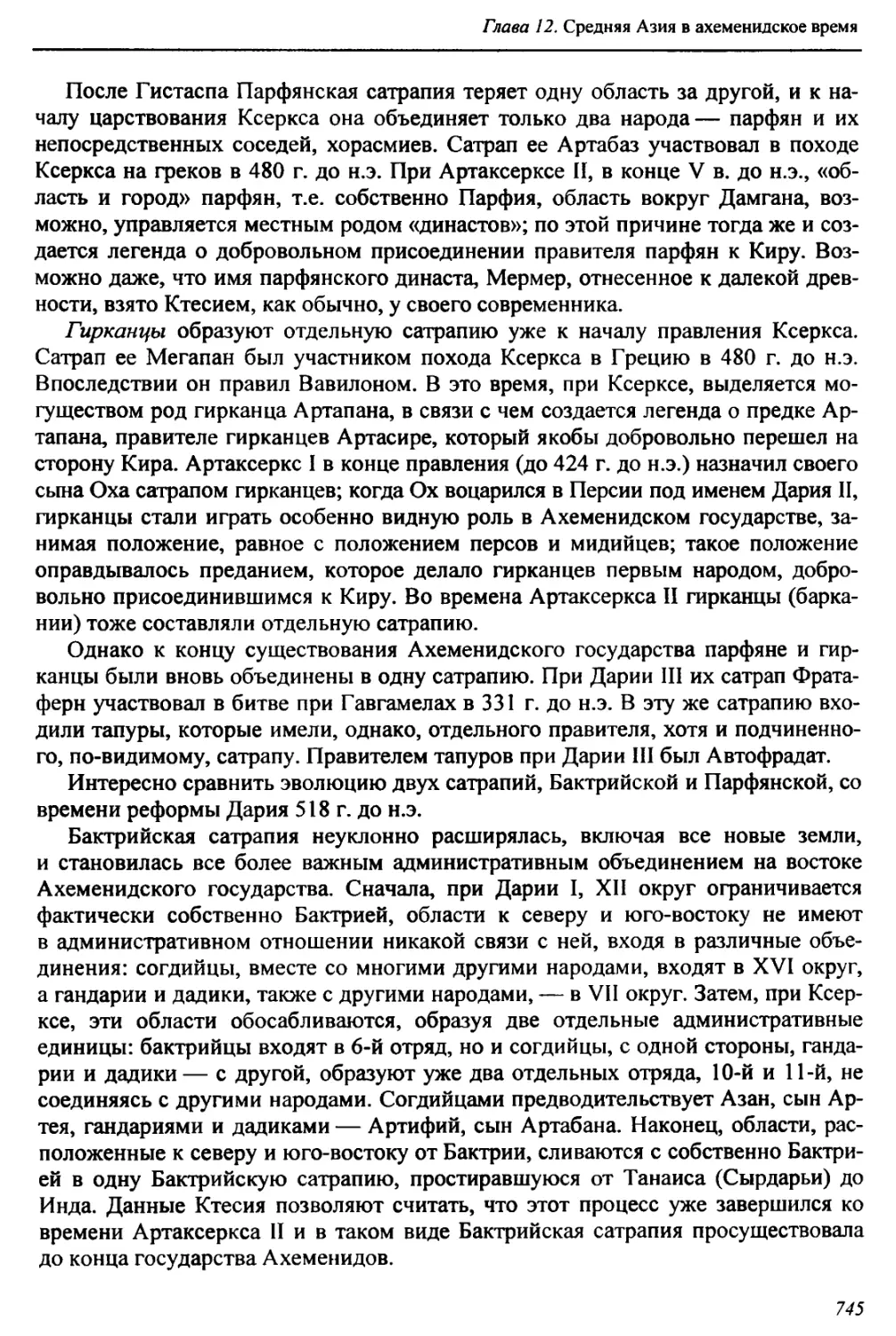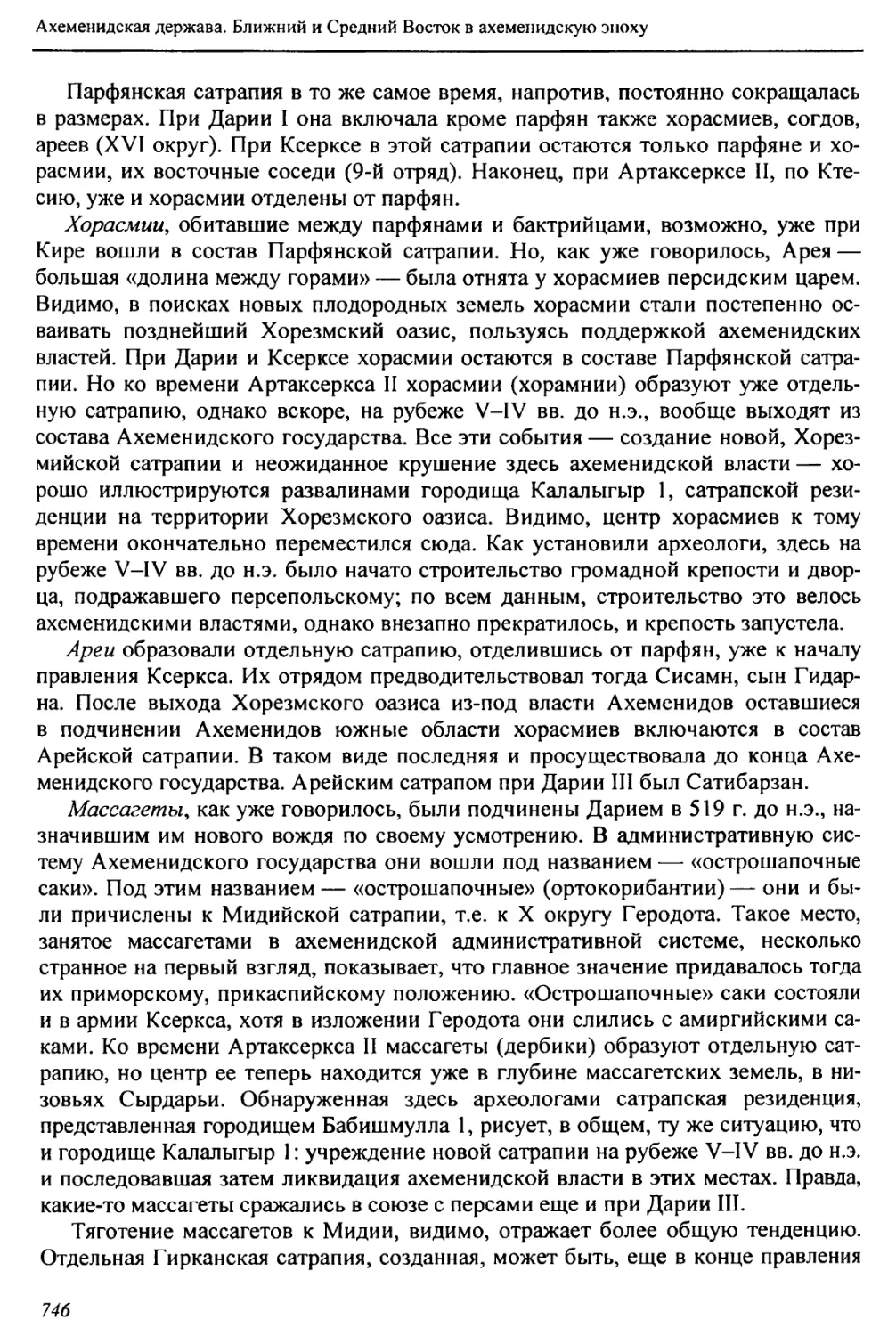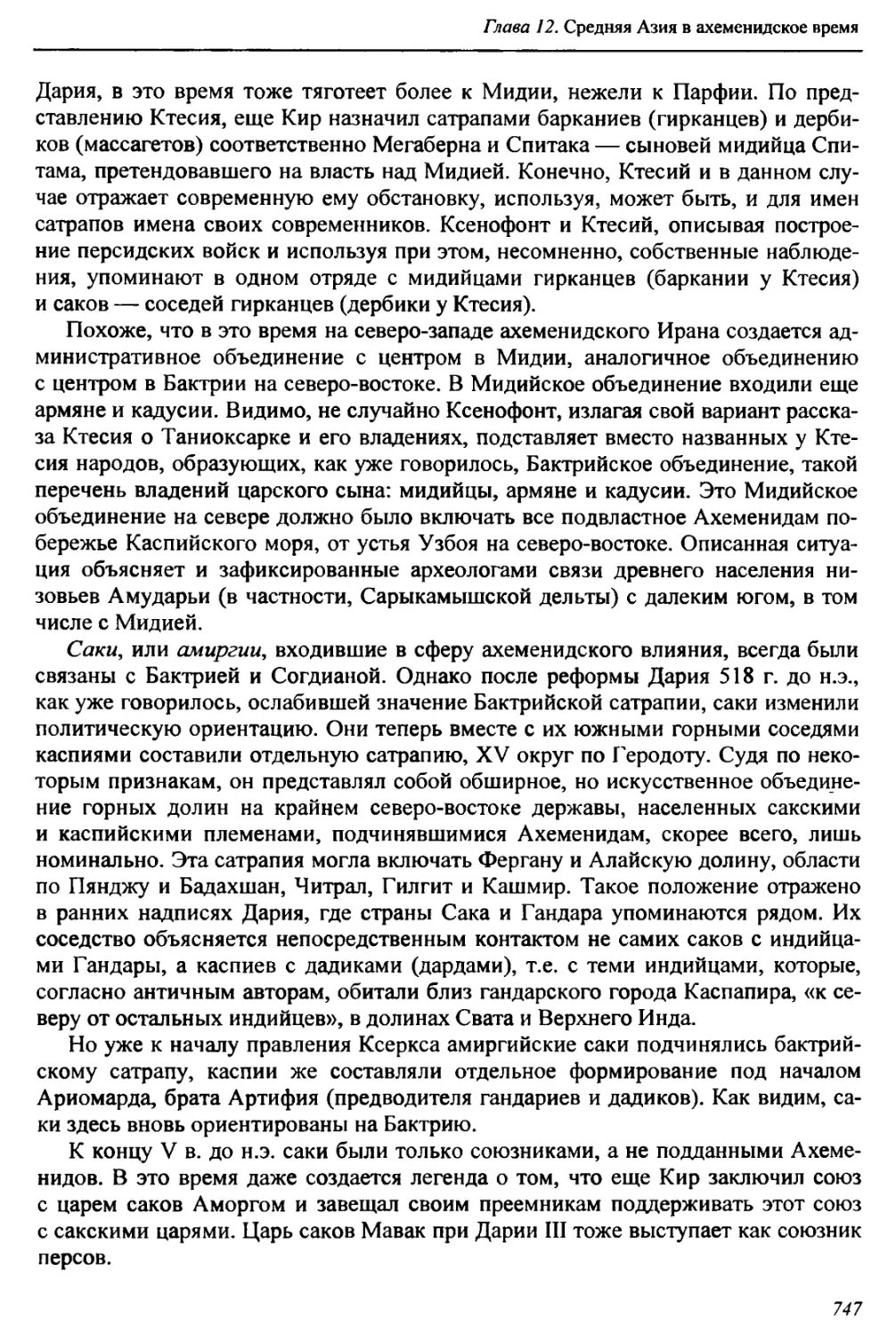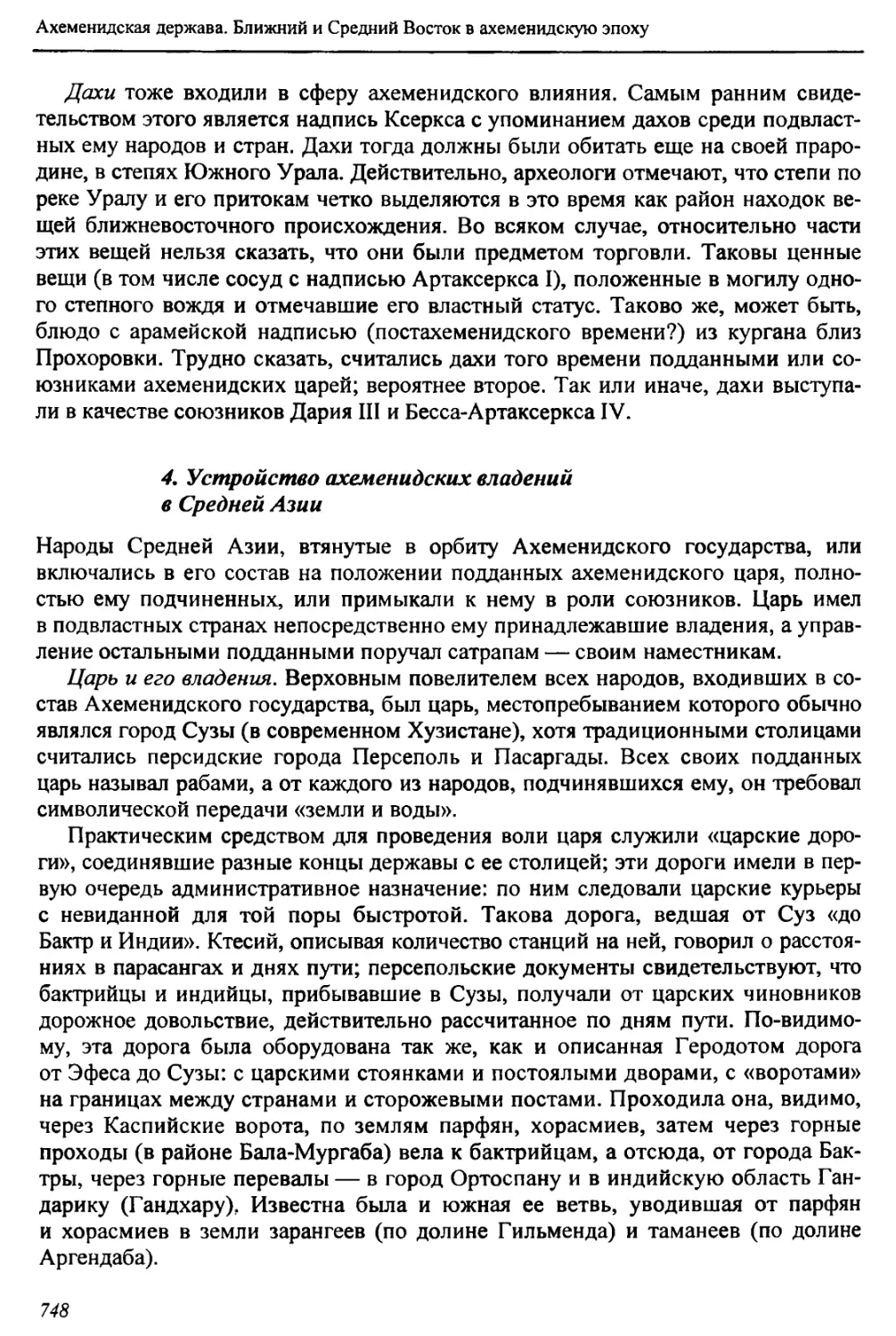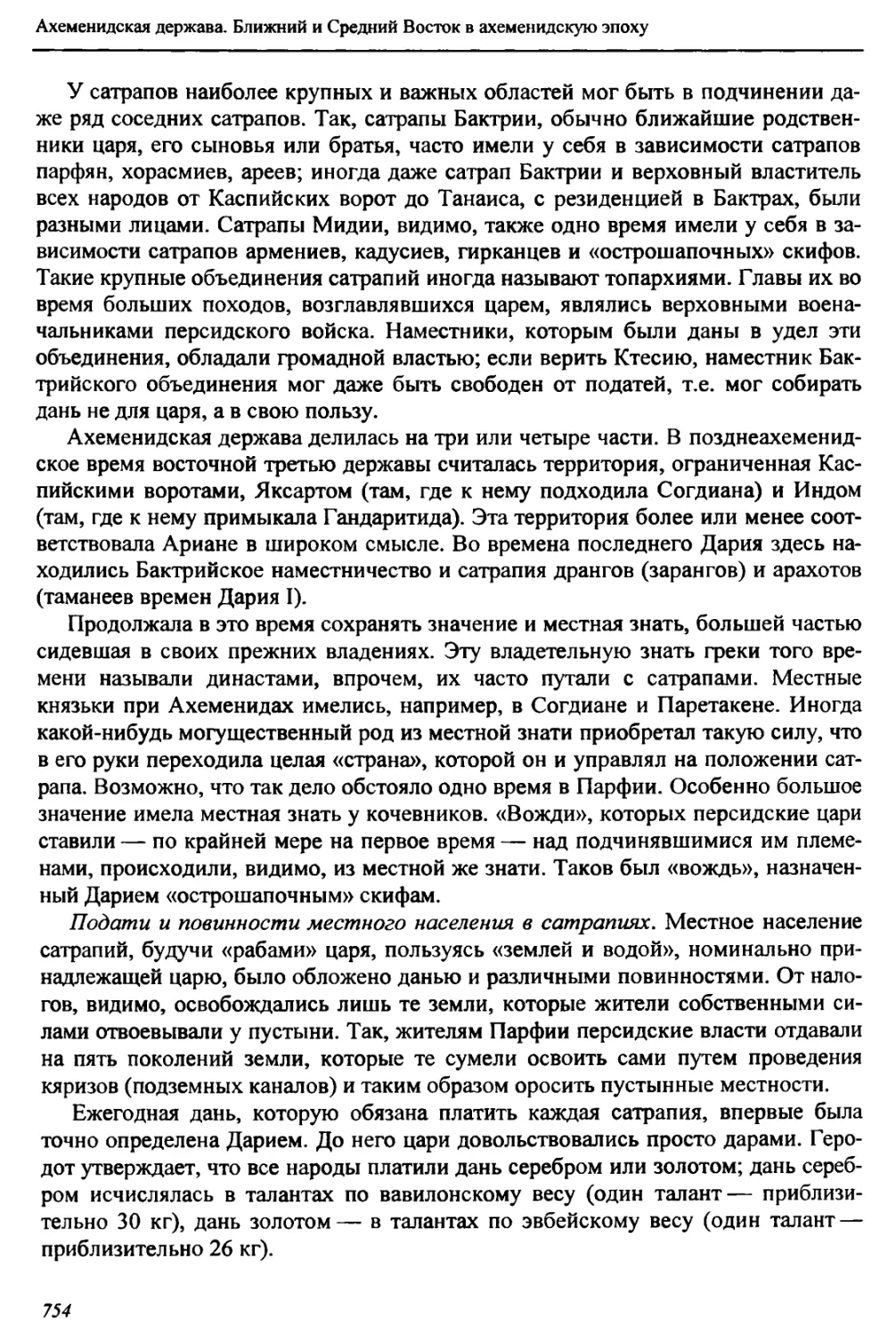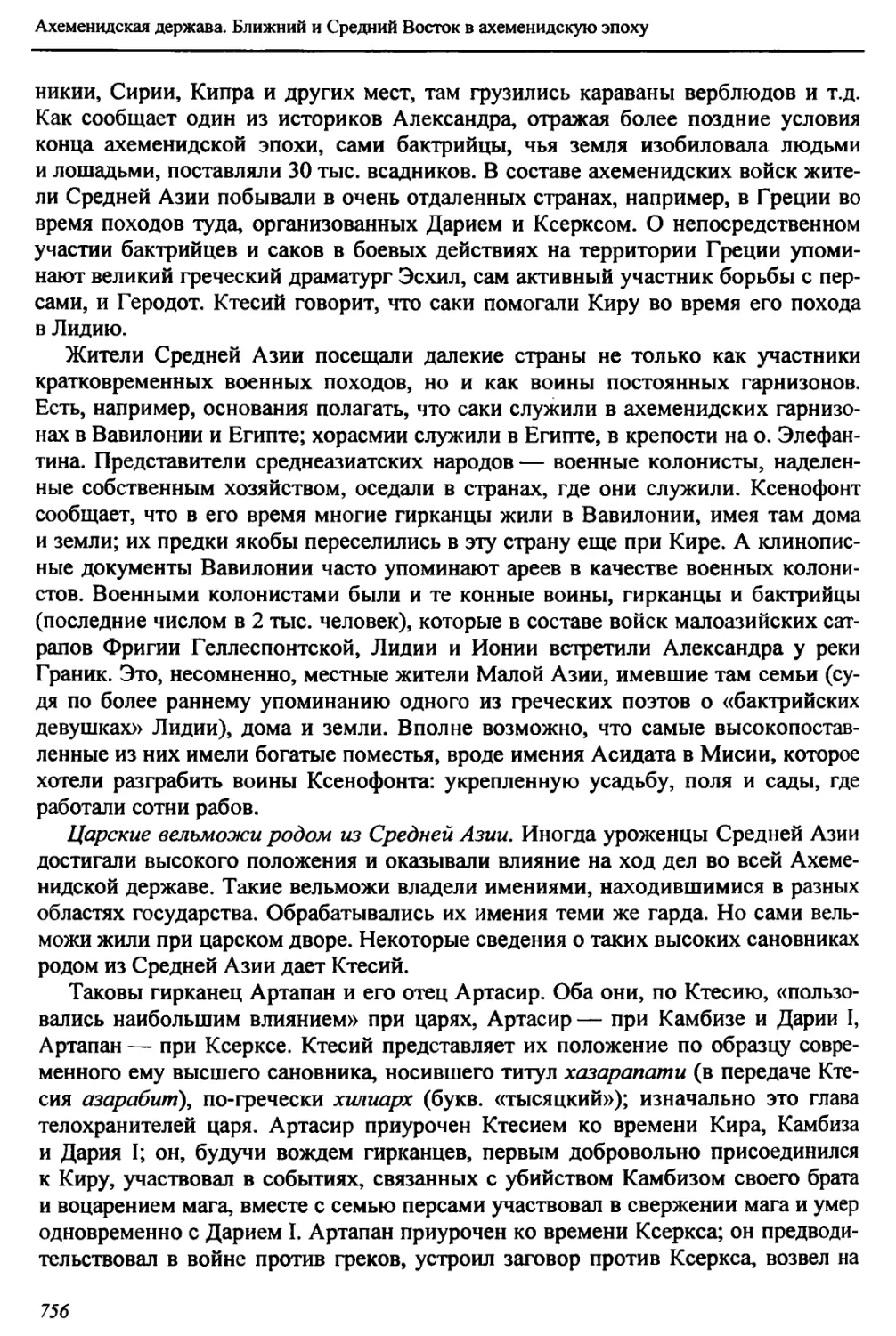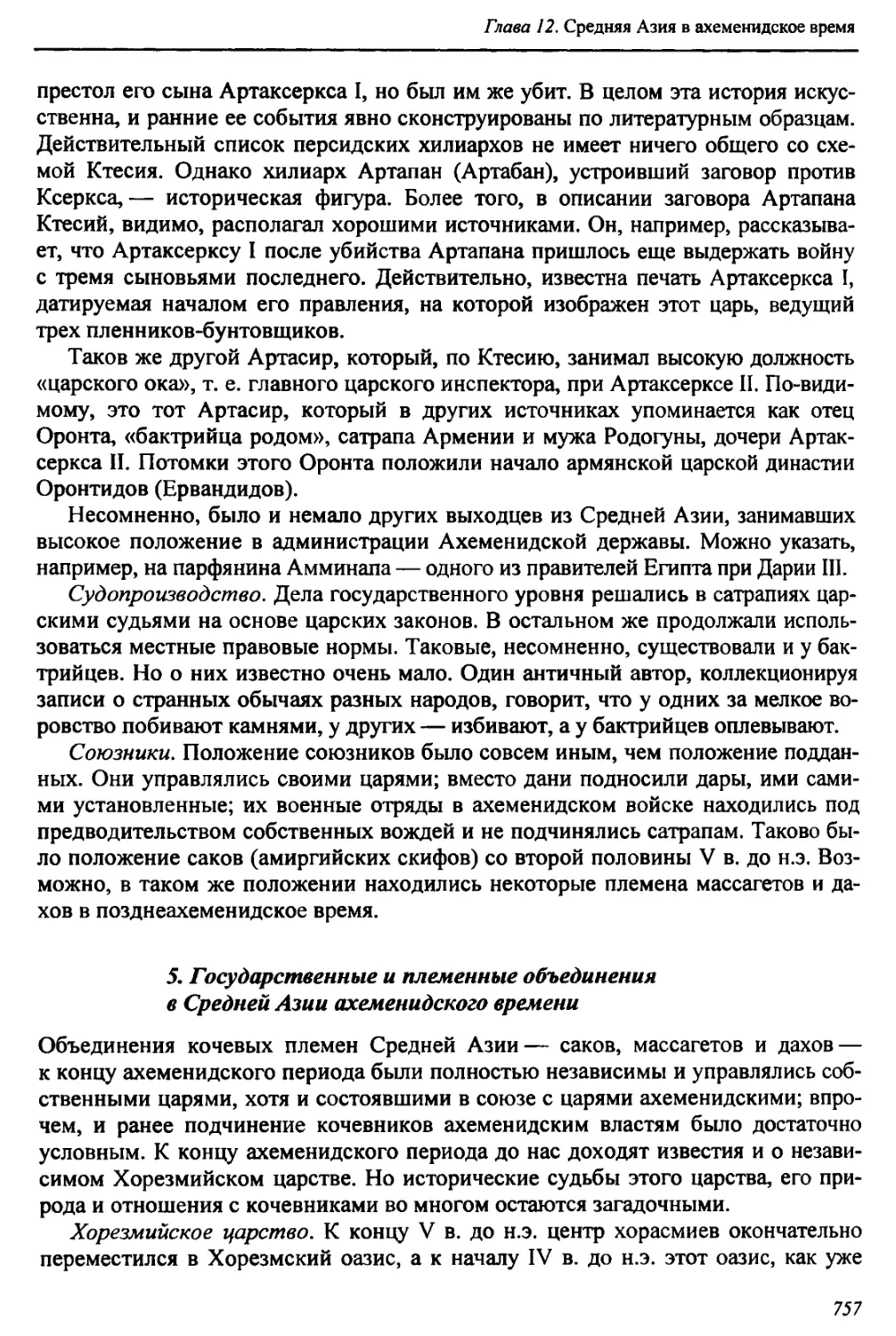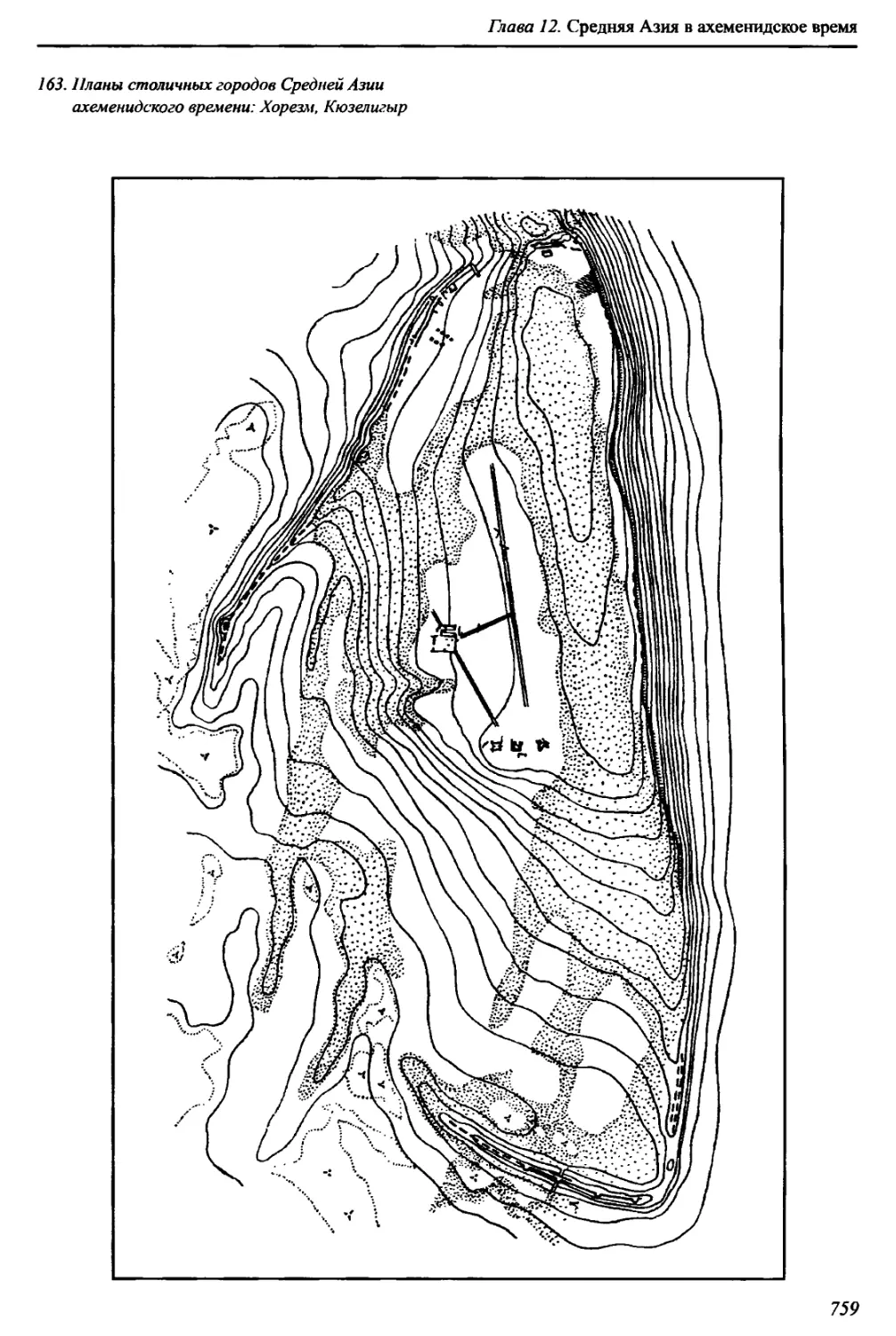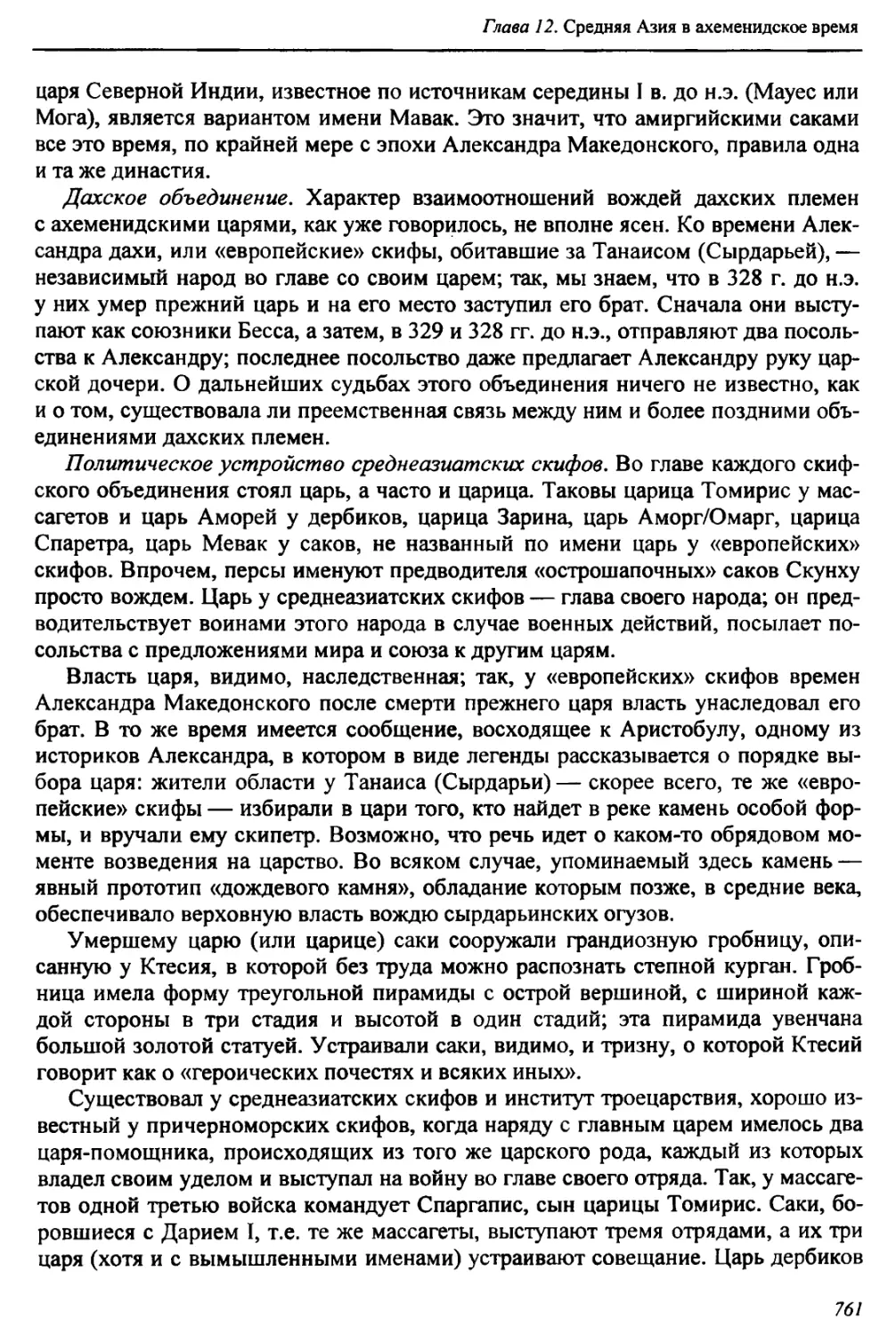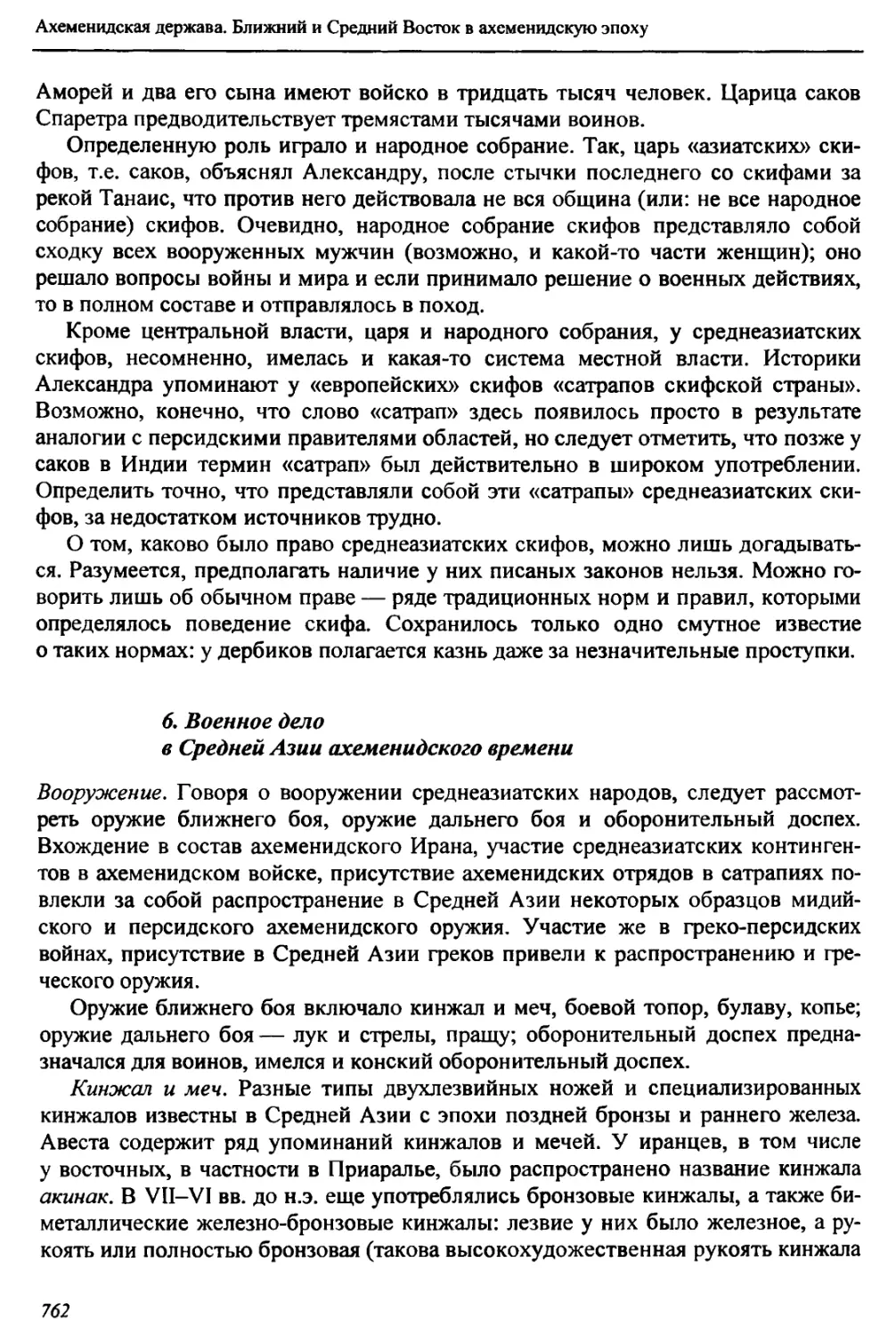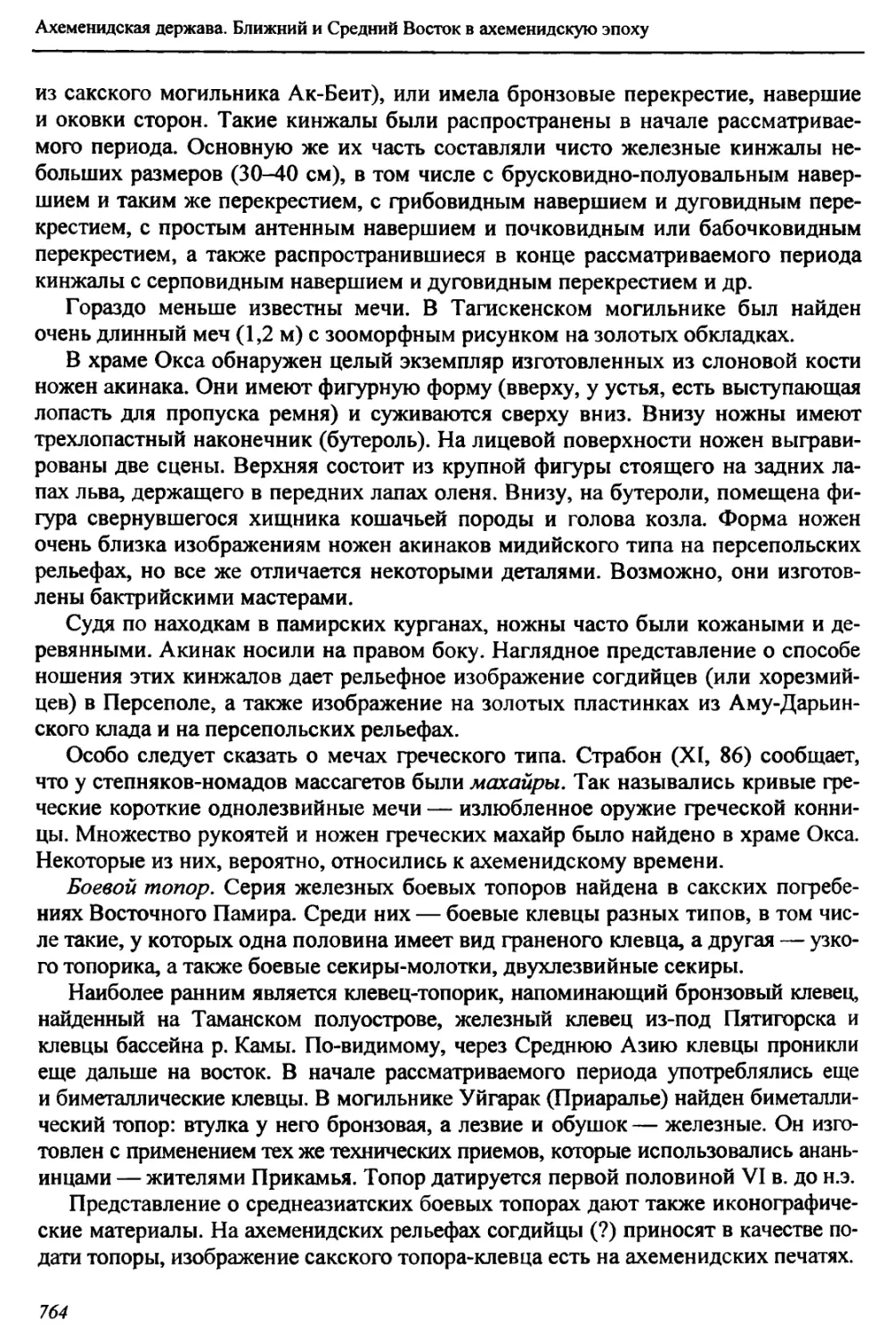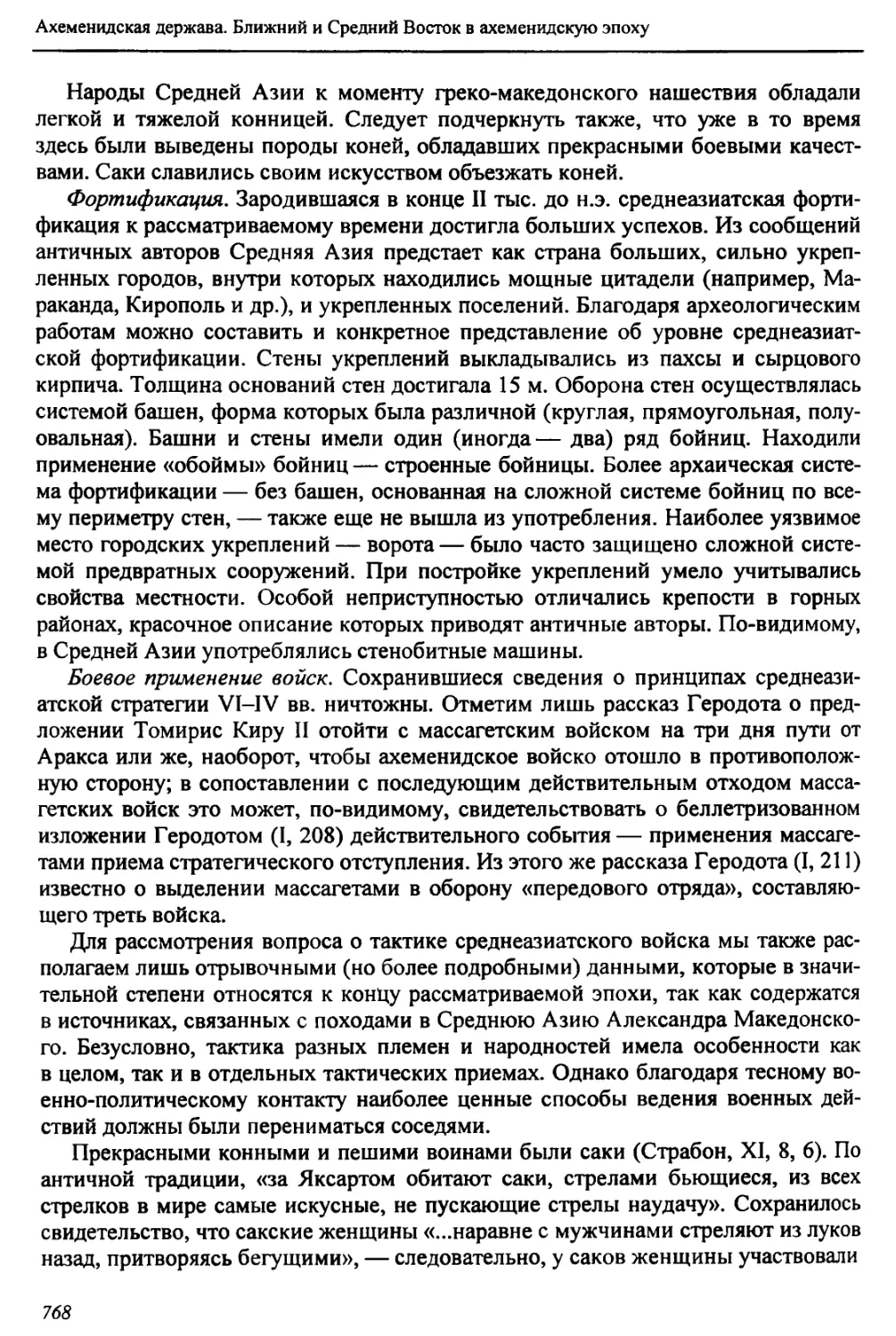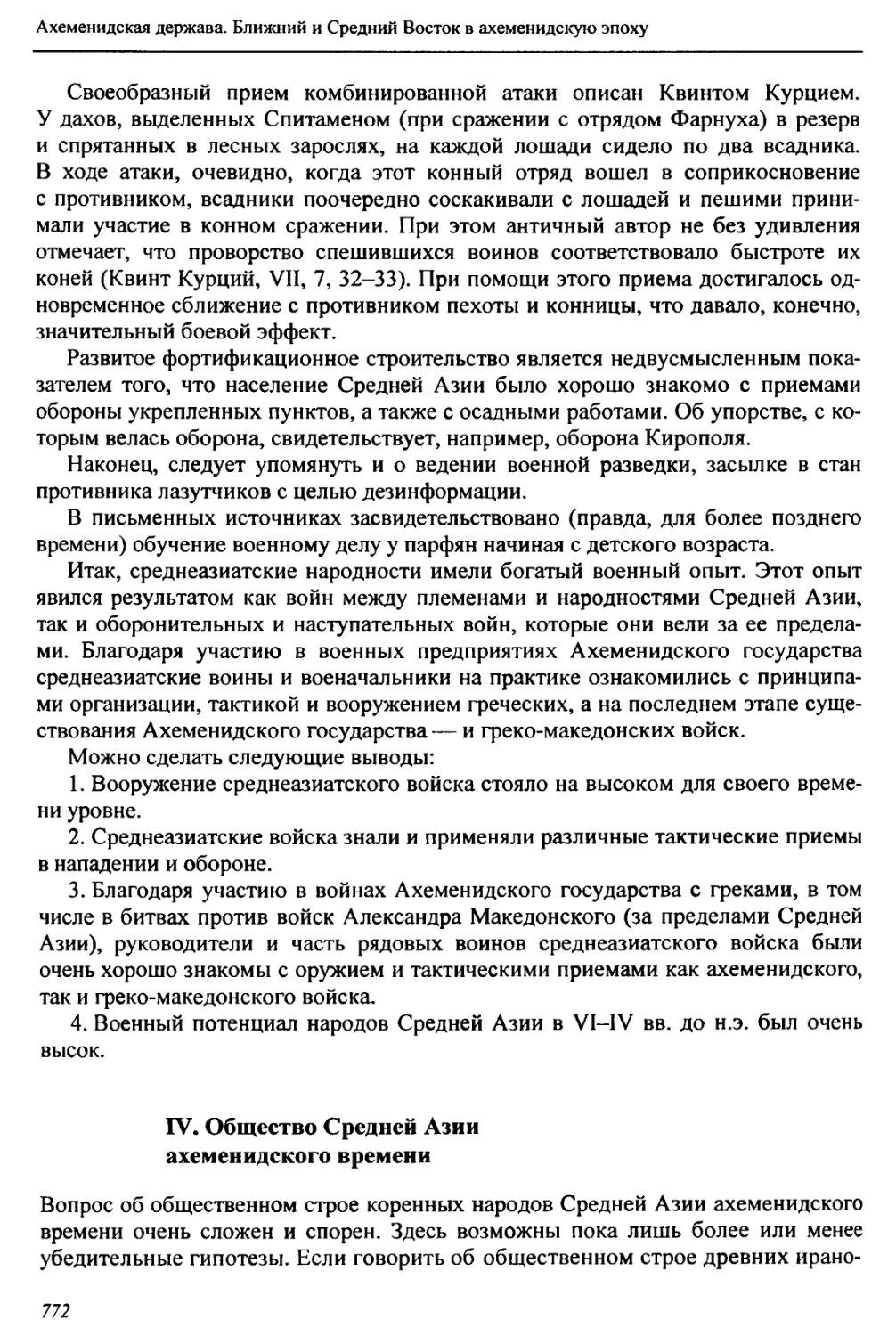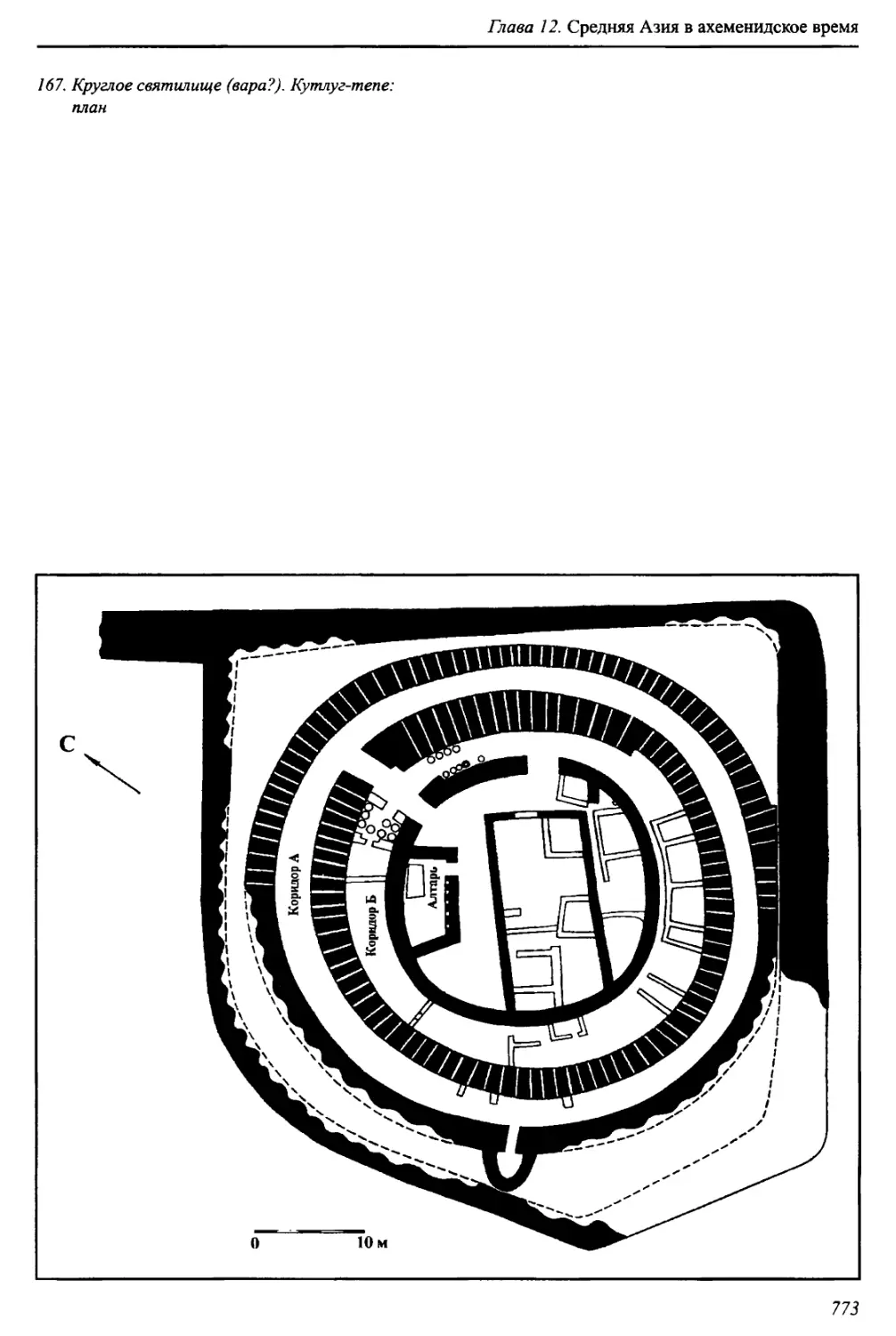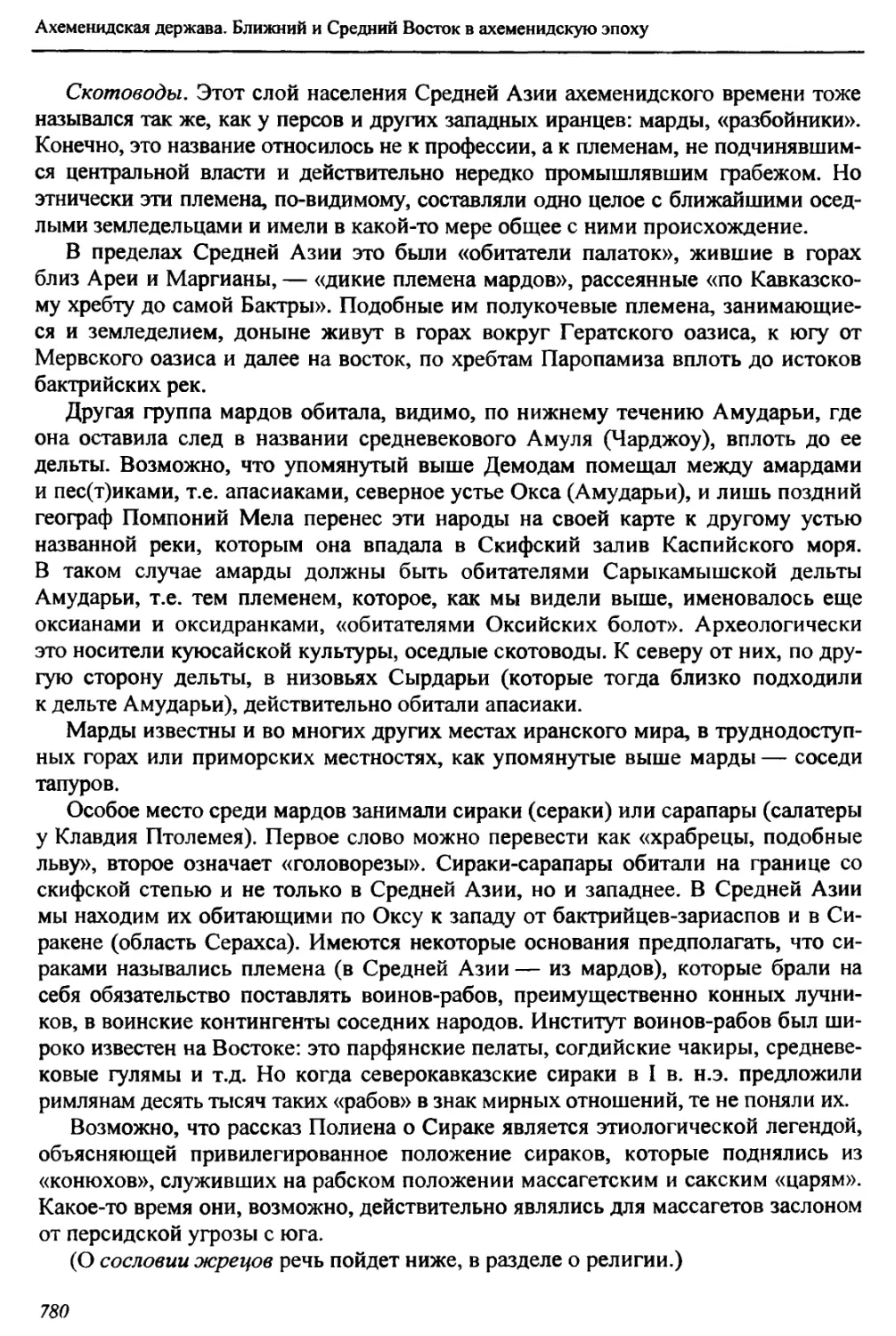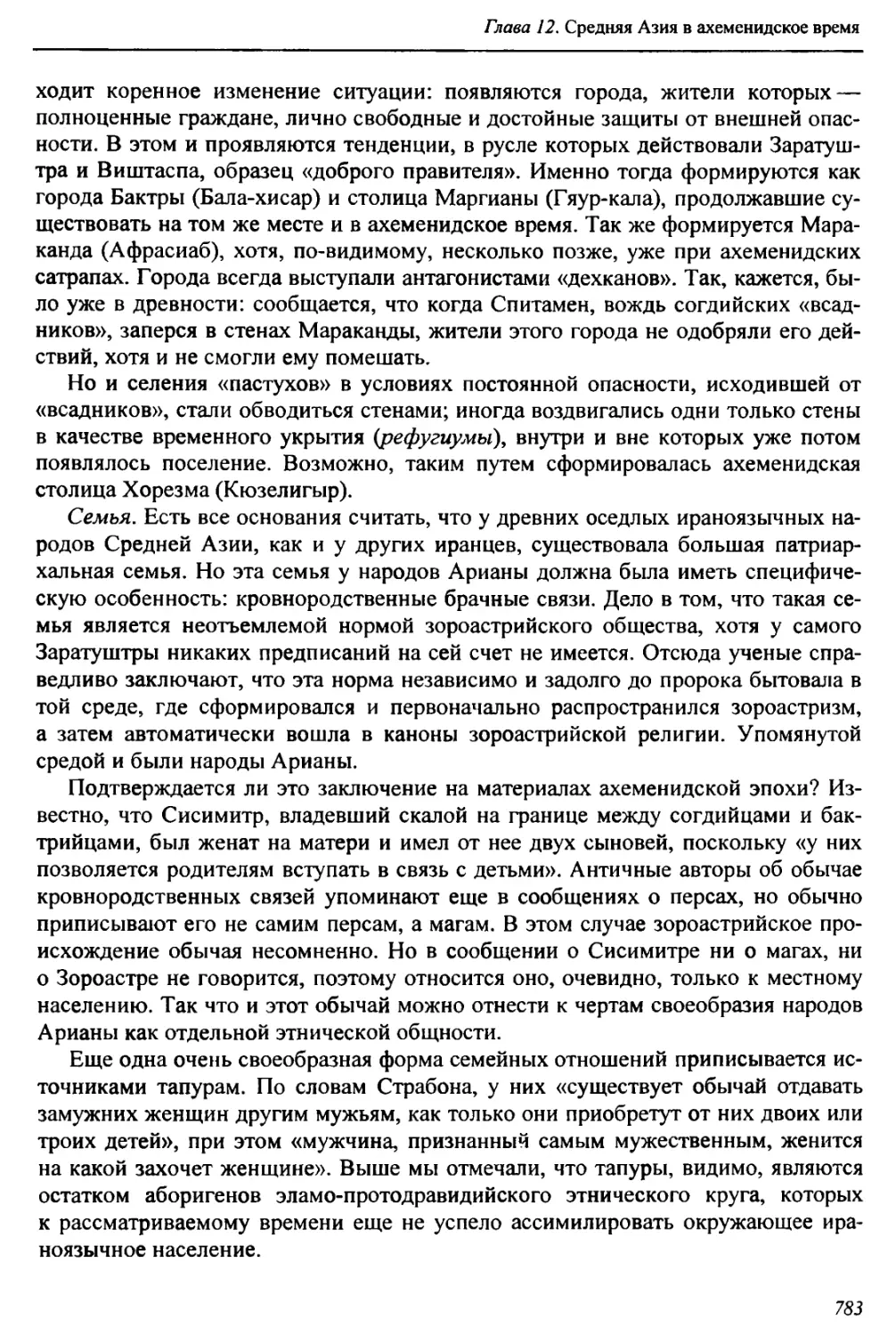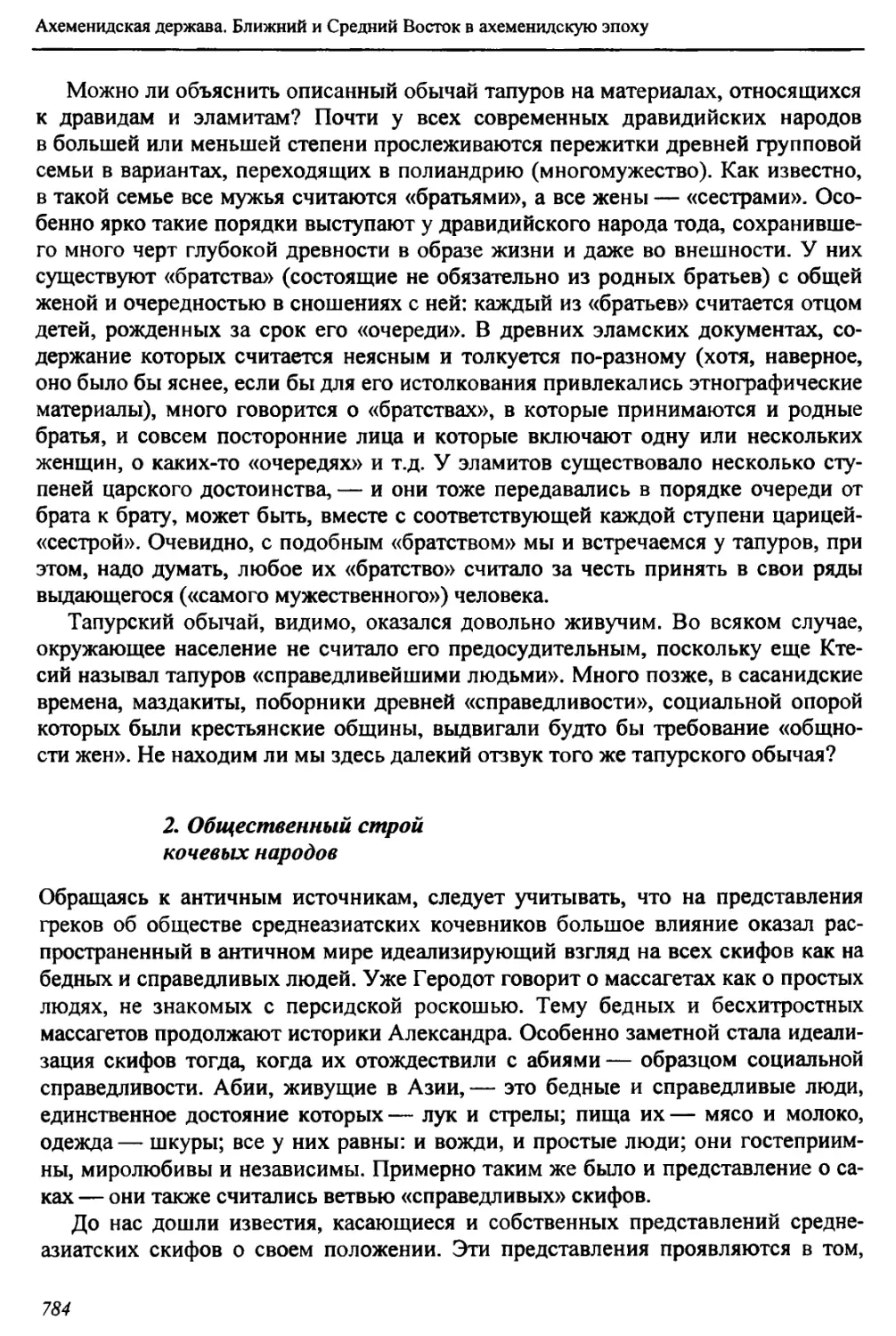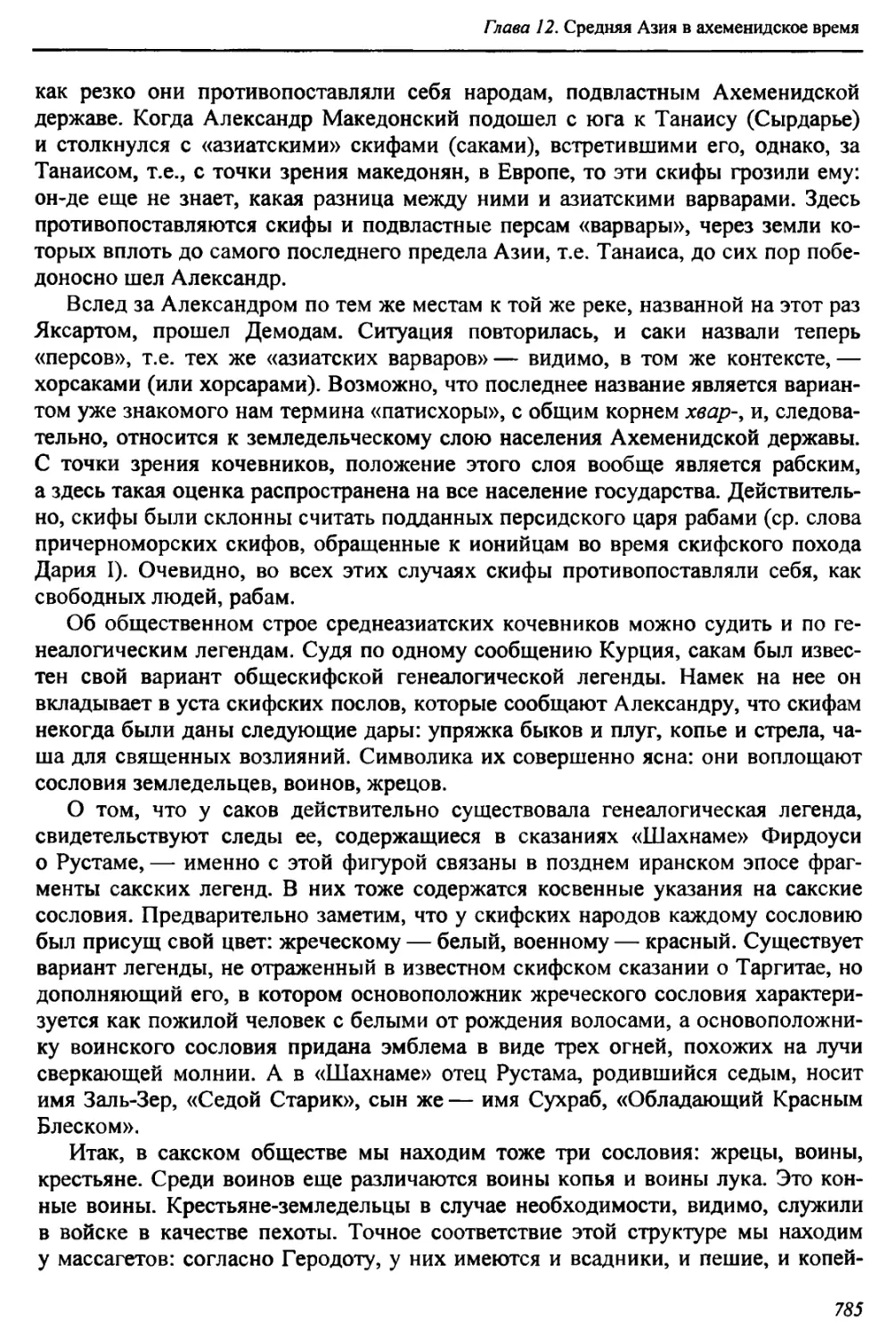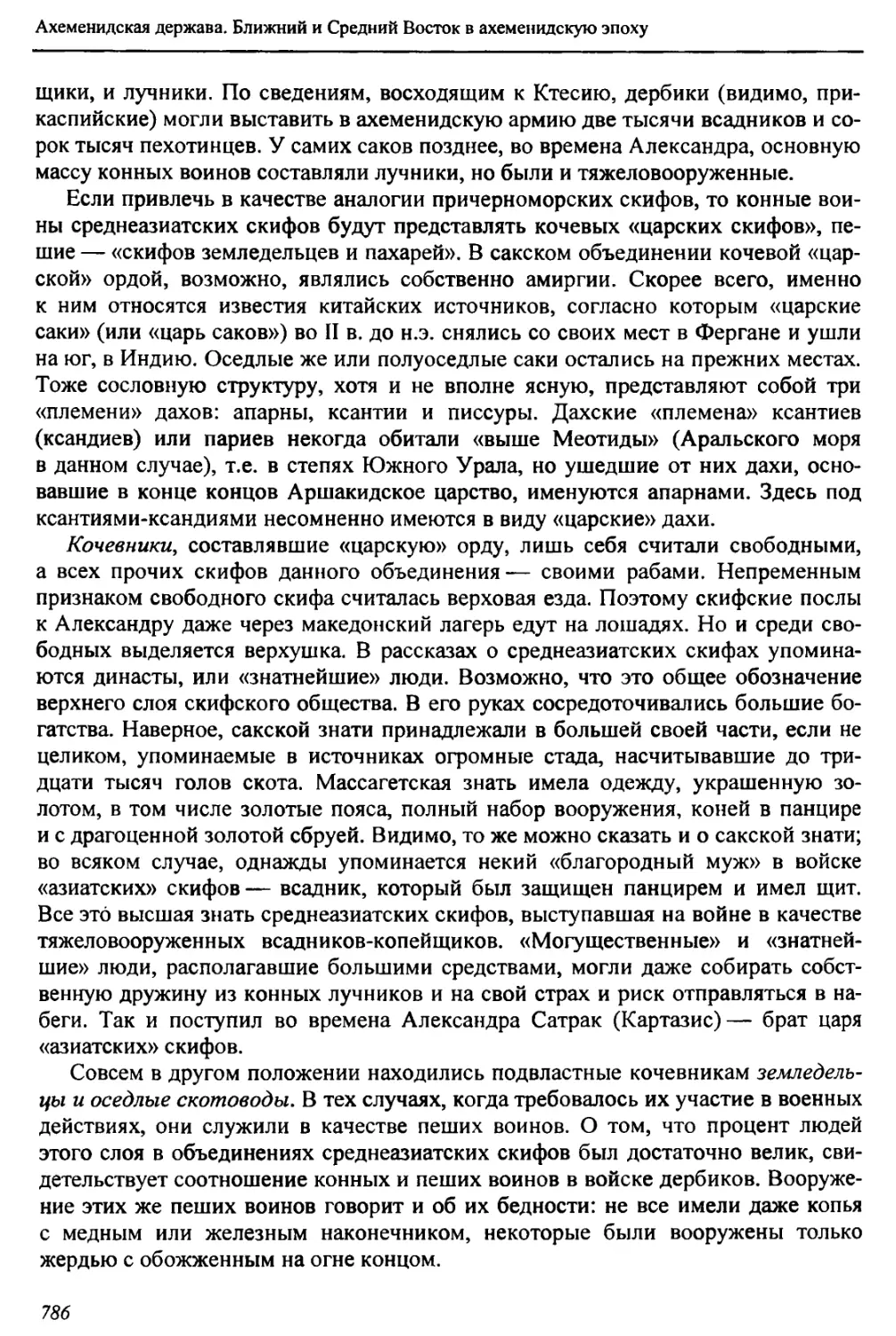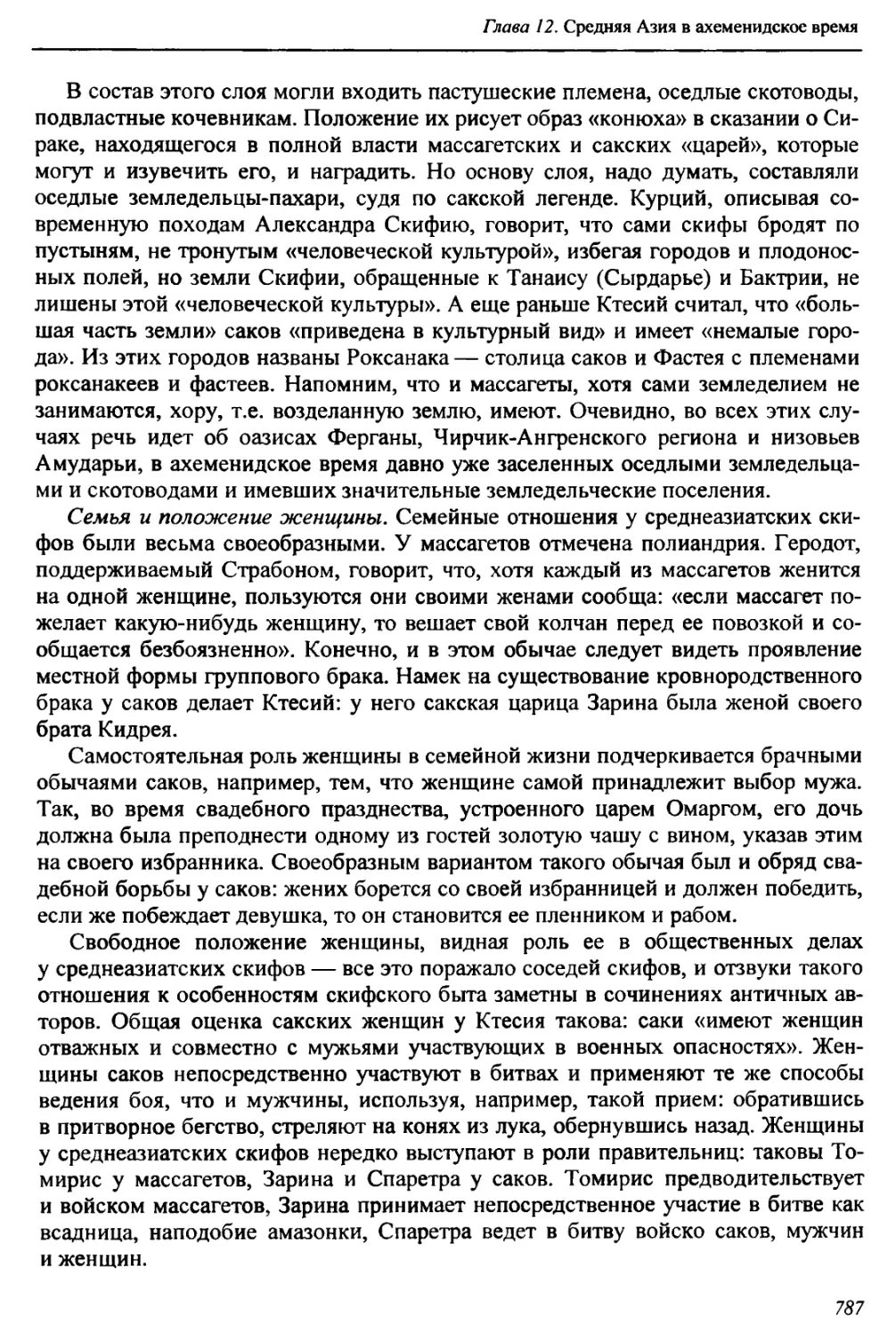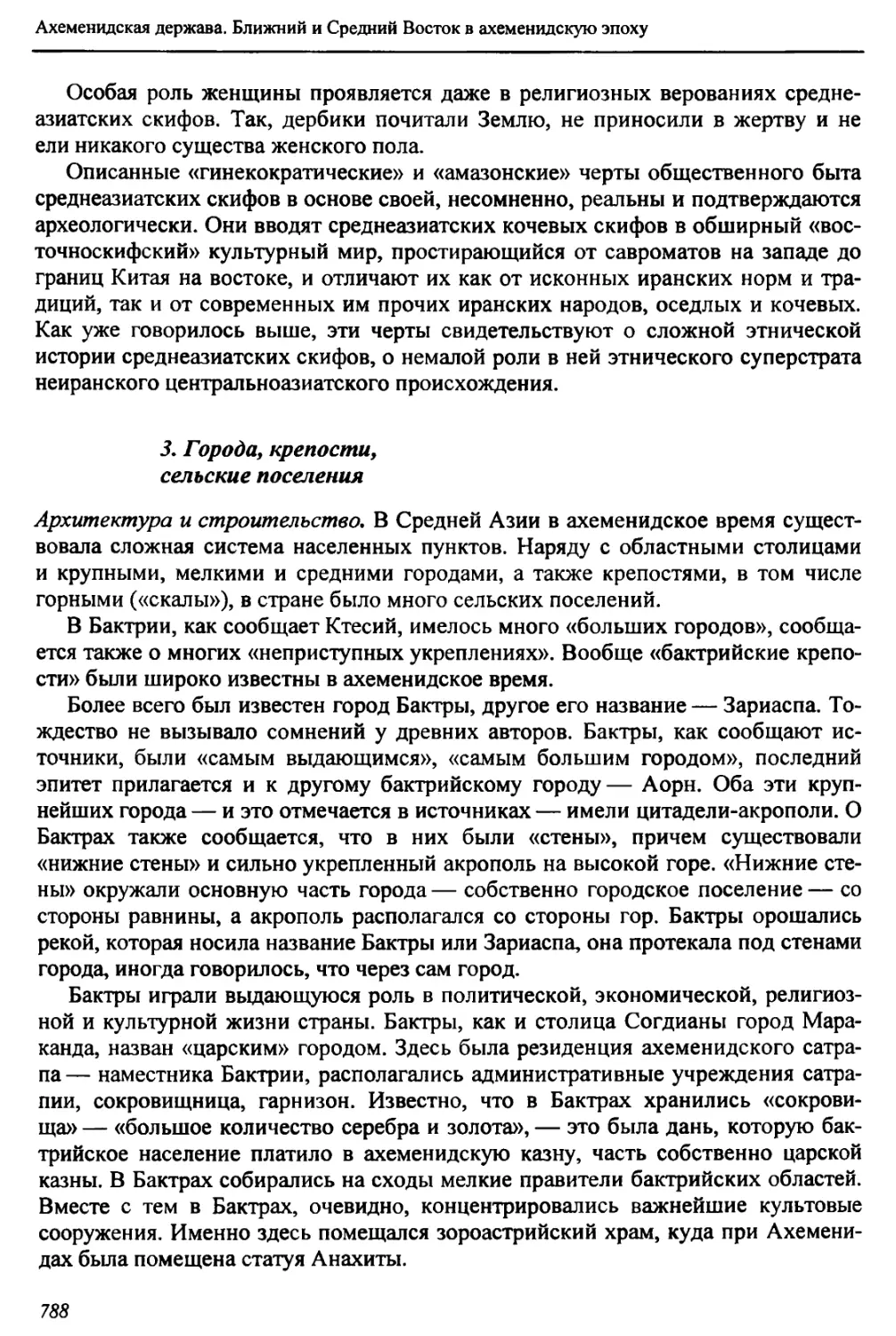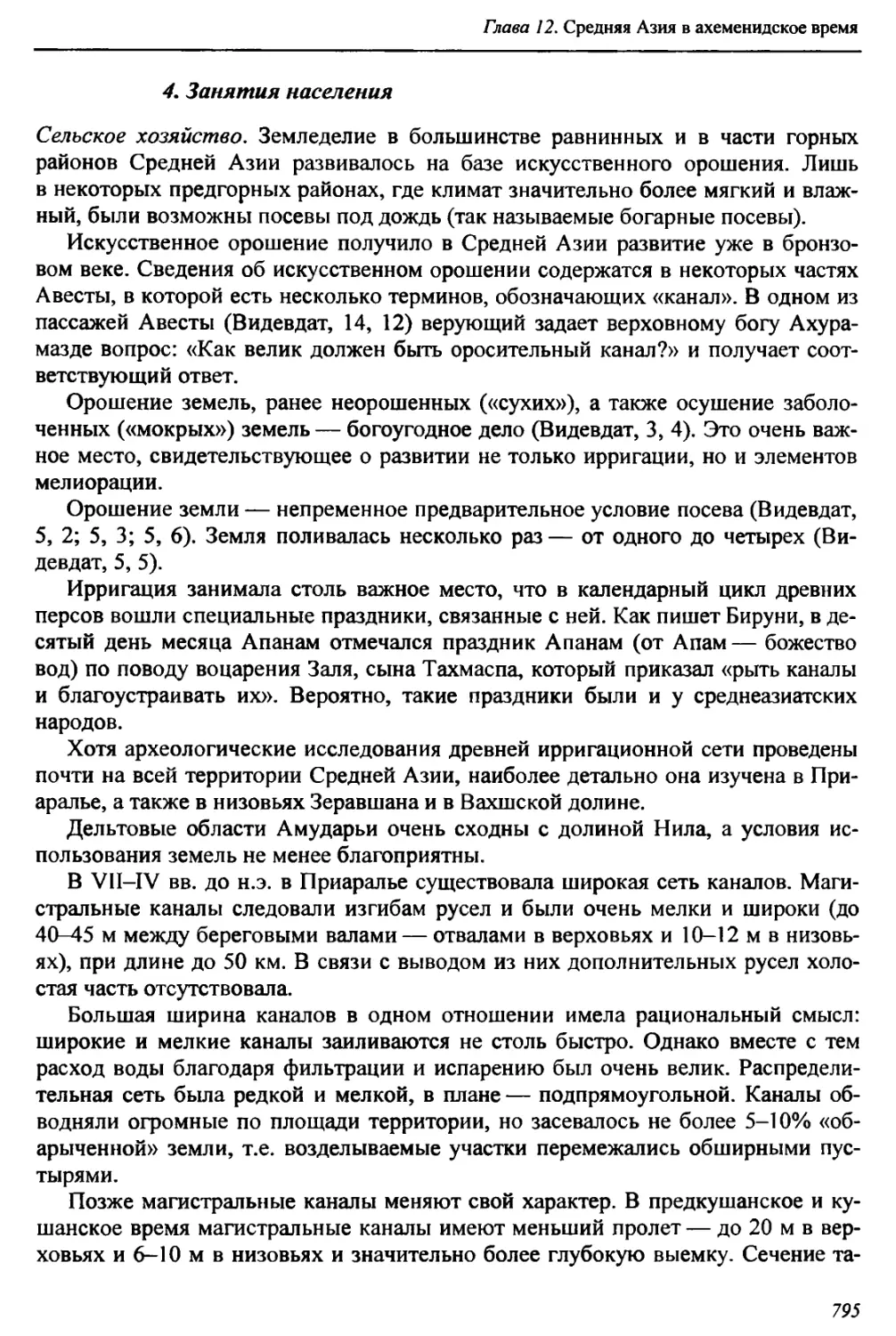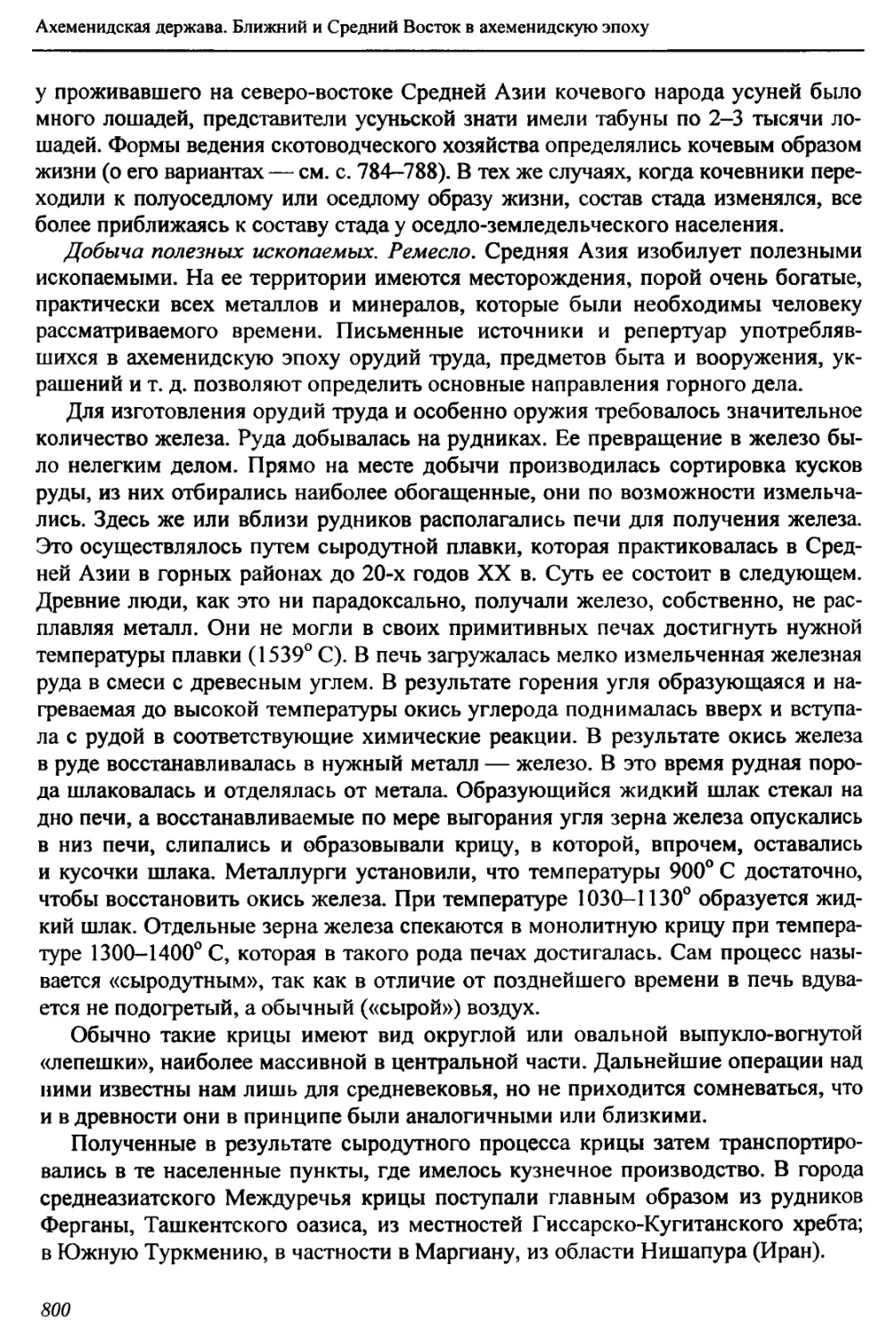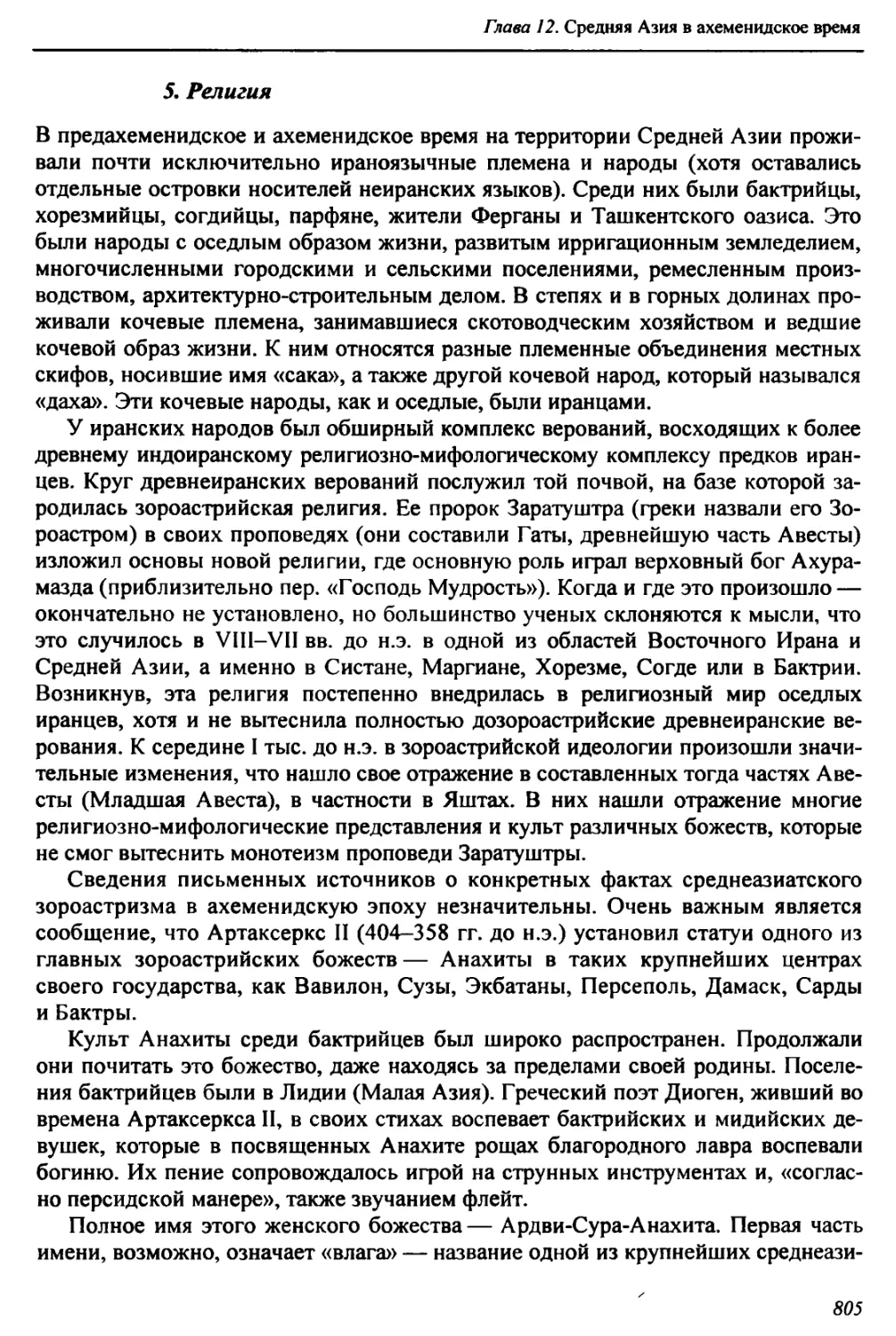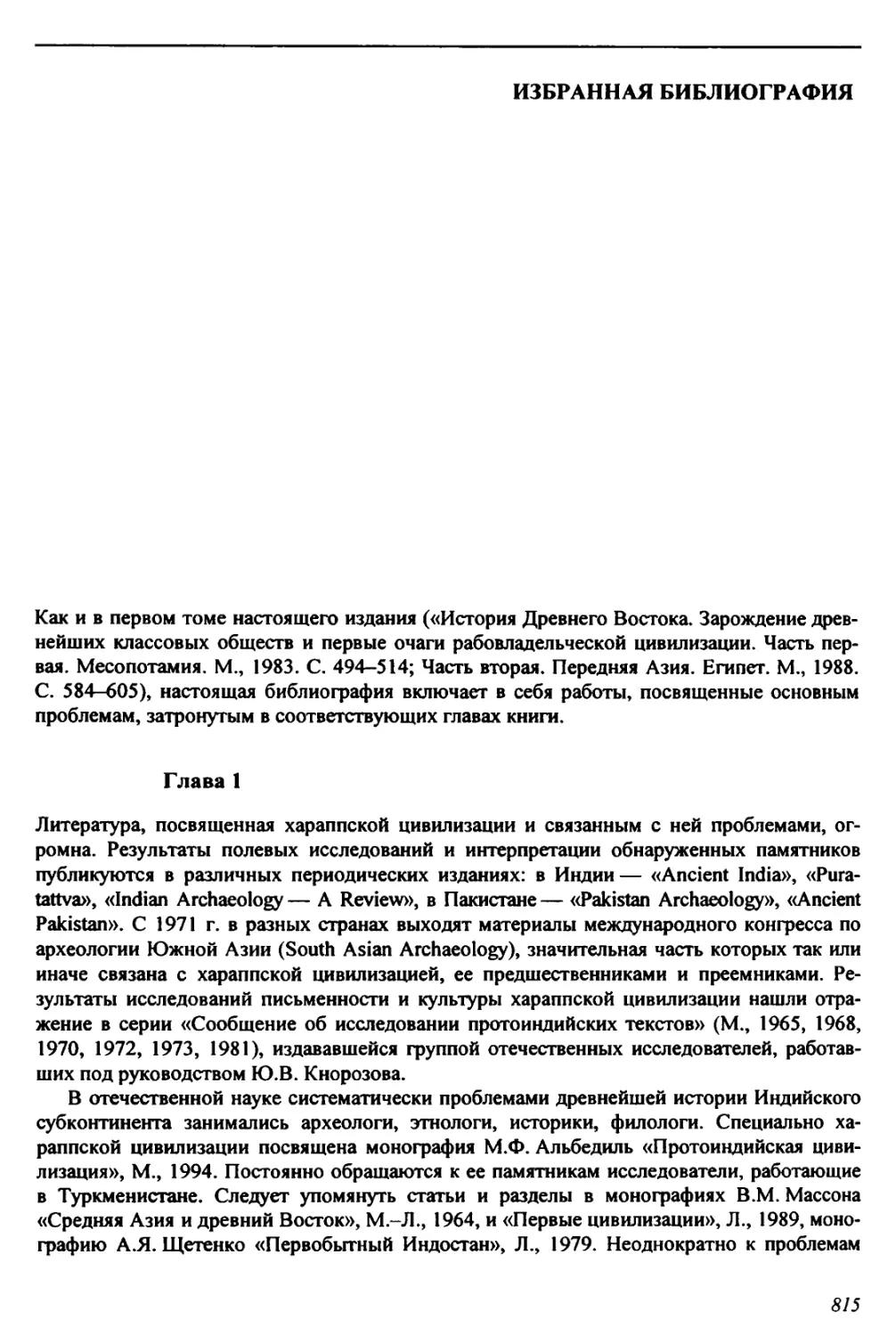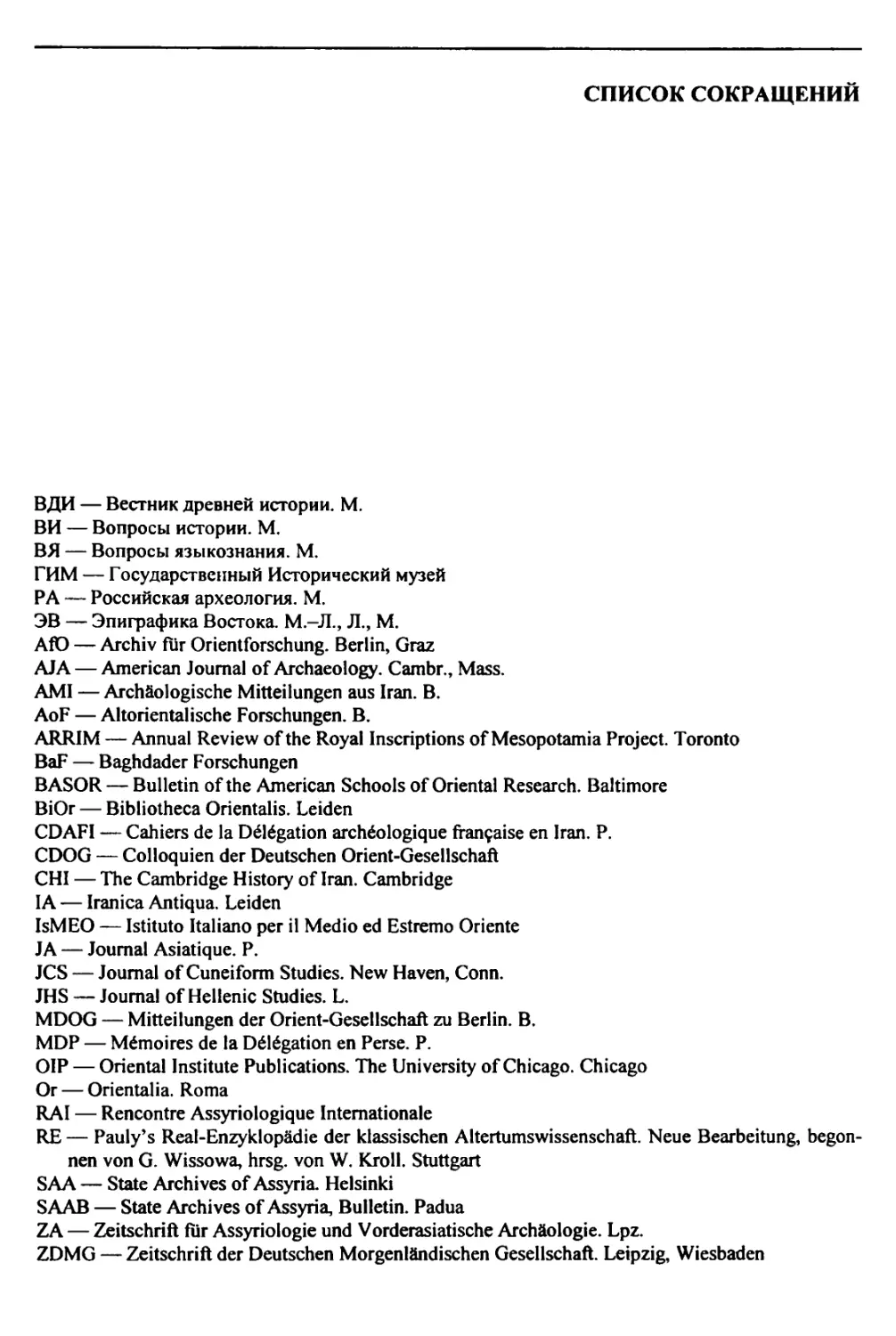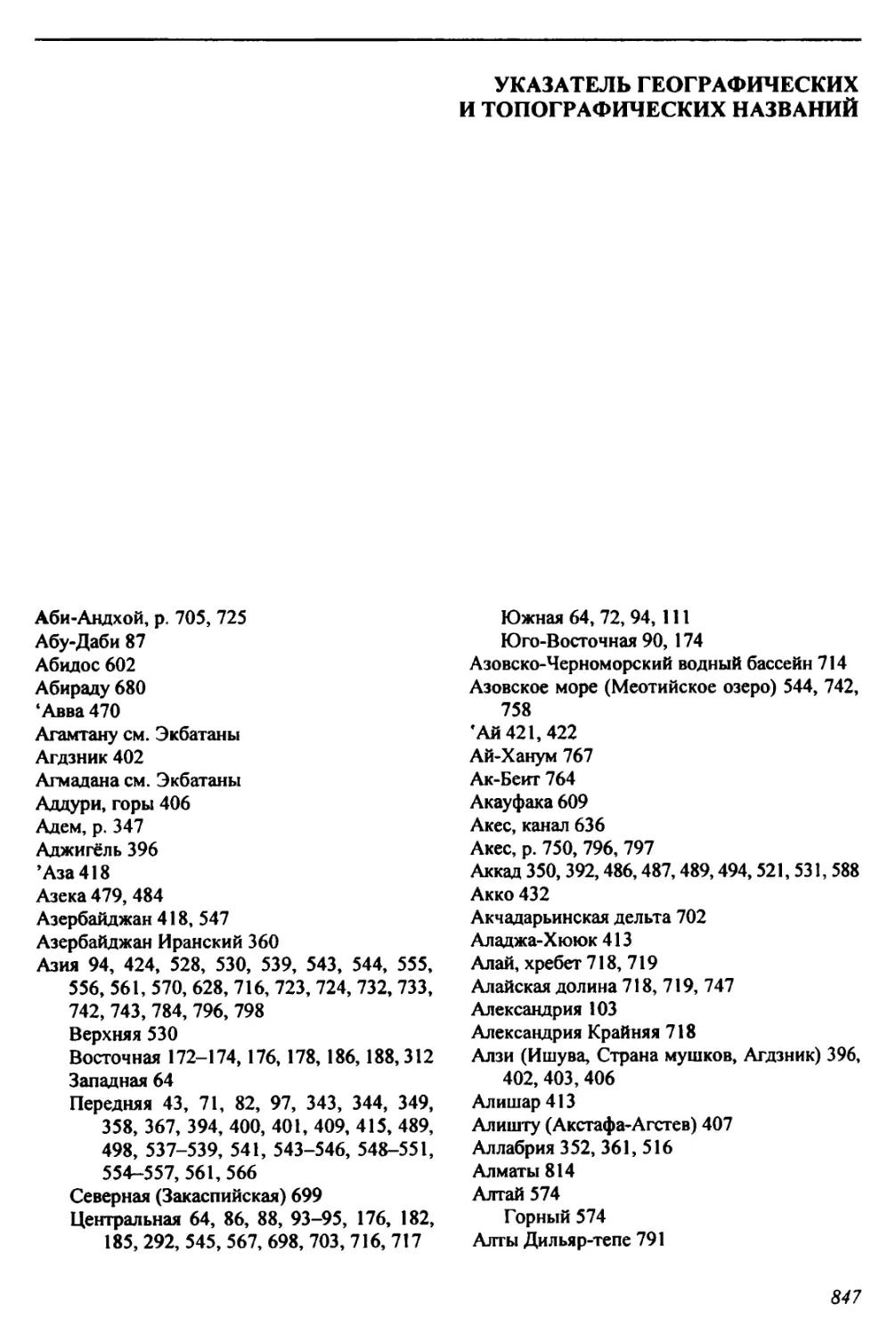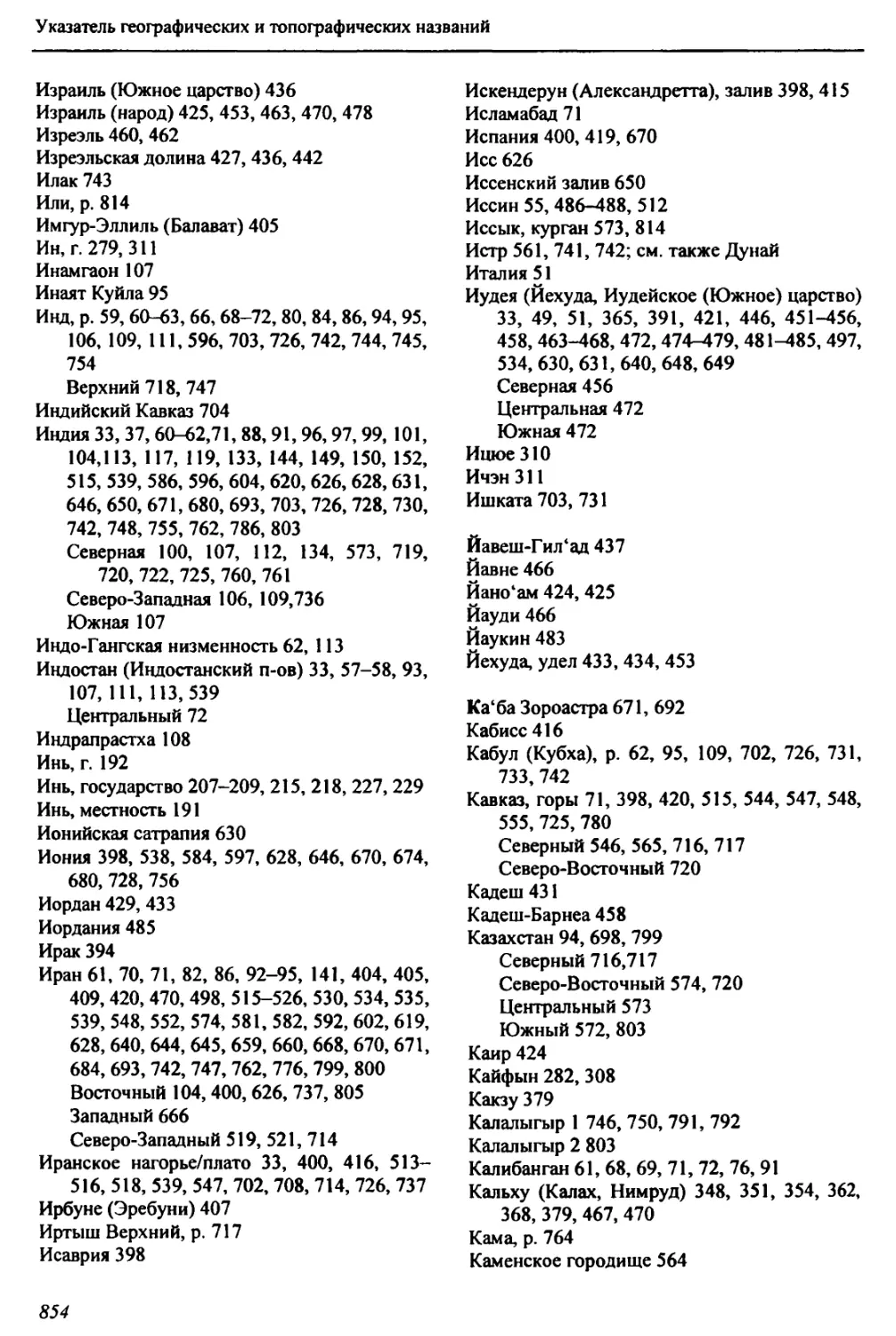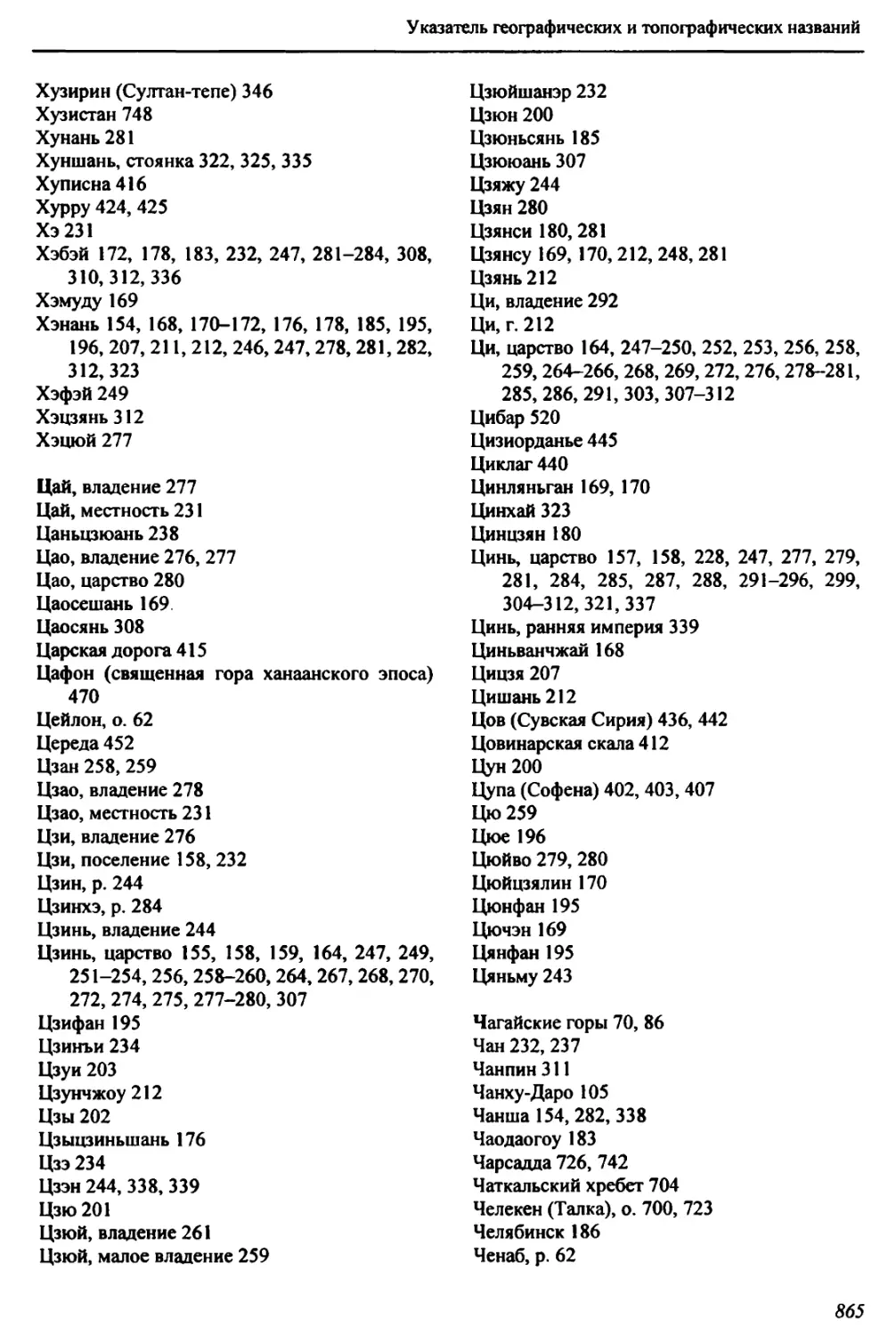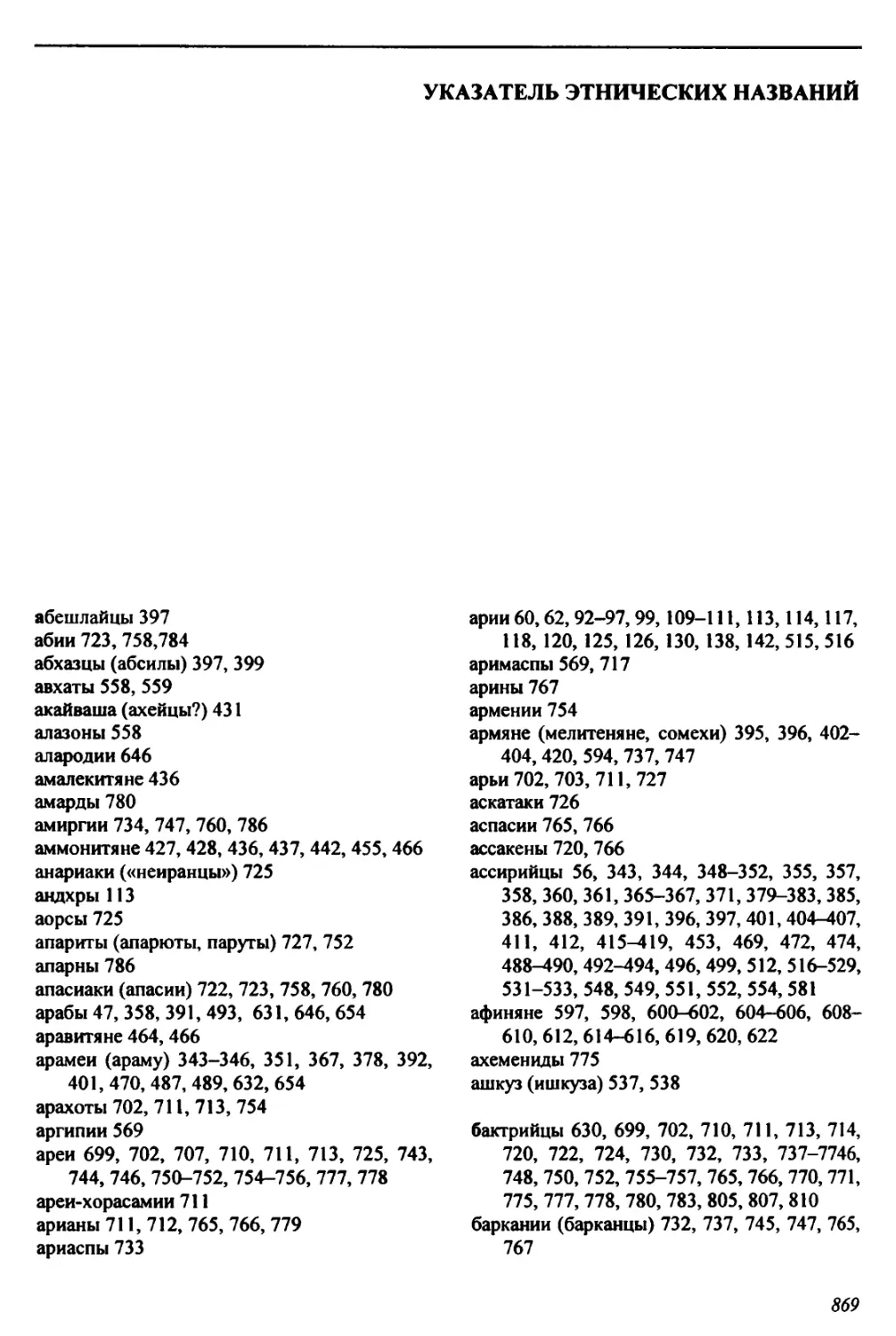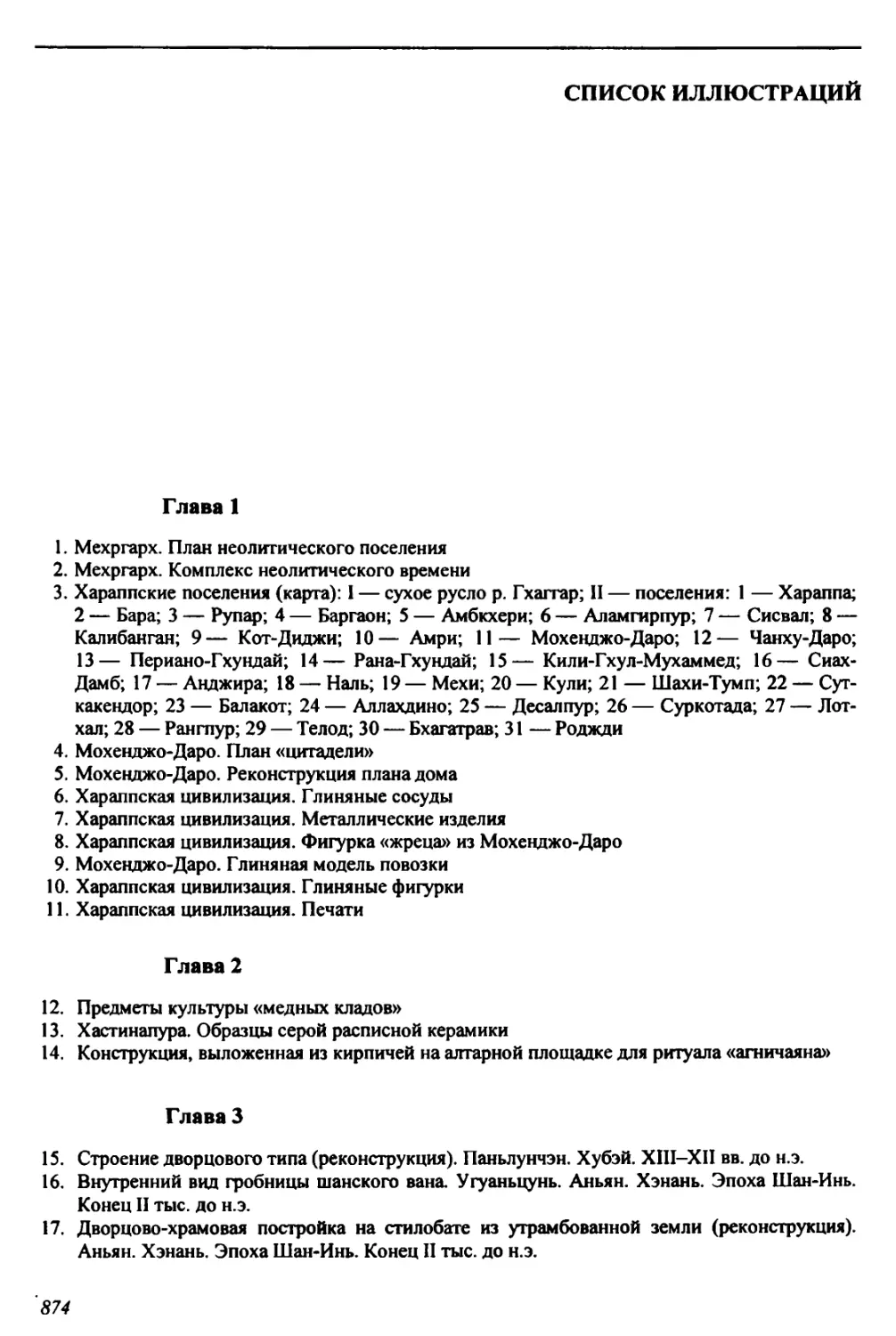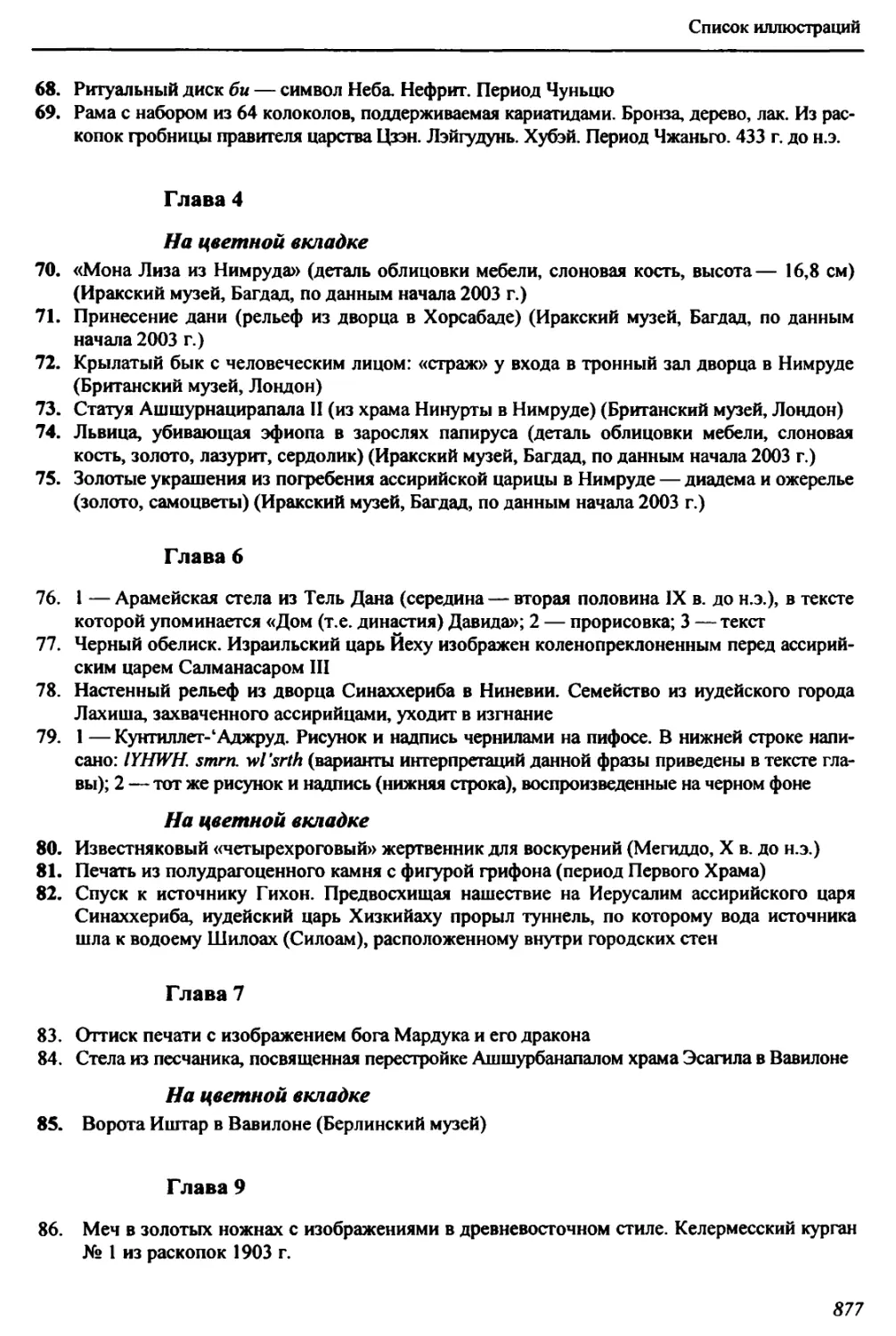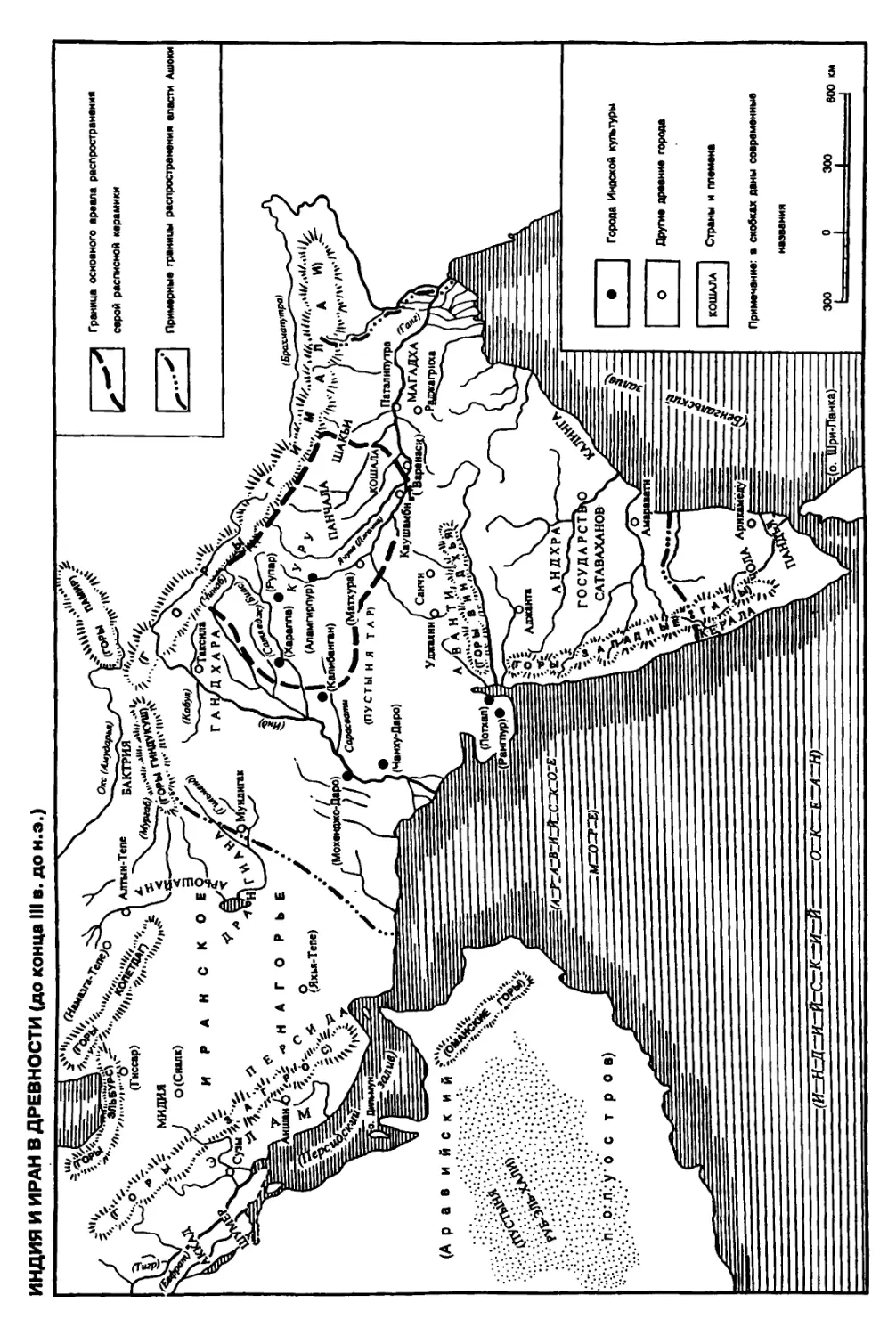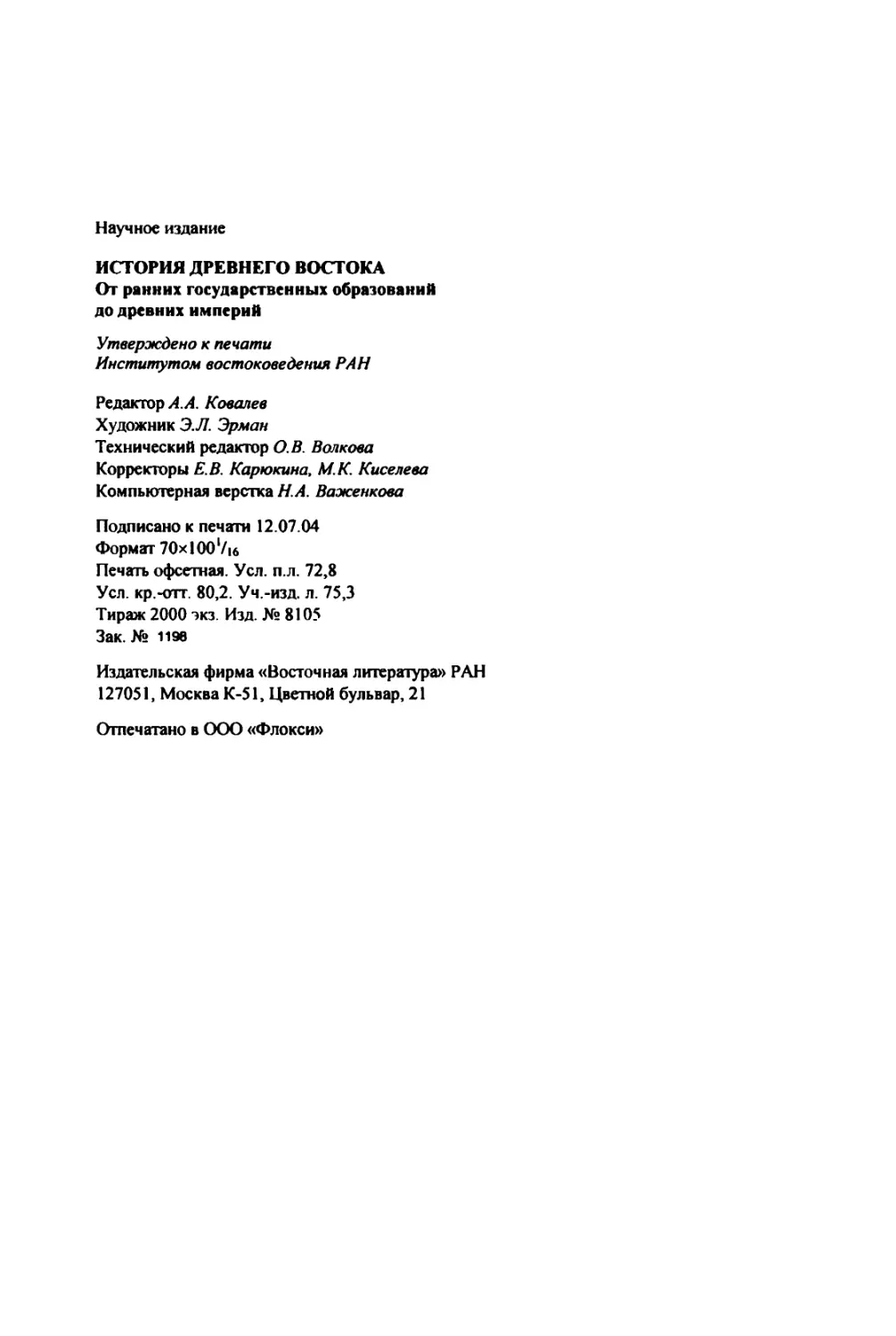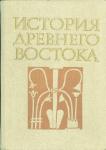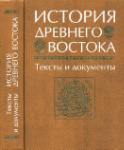Author: Седов А.В.
Tags: всеобщая история древний и античный мир история история востока древний восток
ISBN: 5-02-018388-1
Year: 2004
Text
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА От ранних государственных образований до древних империй
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА
РЕДКОЛЛЕГИЯ
академик РАН член-корреспондент РАН доктор исторических наук академик АН Таджикистана член-корреспондент РАН доктор исторических наук доктор исторических наук доктор исторических наук доктор исторических наук
Г.М.БОНГАРД-ЛЕВИН (председатель)
М.А.ДАНДАМАЕВ
Е.И.КЫЧАНОВ
Б.А.ЛИТВИНСКИЙ
М.Б.ПИОТРОВСКИЙ
Р.Б.РЫБАКОВ
А.В. СЕДОВ
Т.В.СТЕПУГИНА
В.А.ЯКОБСОН
От ранних государственных образований до древних империй
£
Под редакцией А.В.Седова
Издательская фирма
«Восточная литература» РАН Москва • 2004
УДК 94(3) ББК 63.3(0)31
И90
Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГИФ) согласно проекту № 03-01-00415
Издательство благодарит за содействие в издании книги Институт практического востоковедения (г. Москва)
История древнего Востока : От ранних государственных образований до И90 древних империй / Под ред. А.В. Седова ; Редкол.: Г.М. Бонгард-Левин (пред.) и др. ; Ин-т востоковедения. — М. : Вост, лит., 2004. — 895 с. : ил., карты. — ISBN 5-02-018388-1 (в пер.).
Публикуемая монография— продолжение обобщающего междисциплинарного исследования ранних этапов политической, социокультурной и этнической истории древних цивилизаций Азии и Северной Африки, основанного на новейших открытиях в области древней истории, археологии, лингвистики и литературоведения. В «Истории древнего Востока» (в 2-х ч.), опубликованной в 1983 и 1988 гг., анализировались процессы зарождения древнейших классовых обществ и первых очагов рабовладельческой цивилизации. В данной книге исследуется история стран Востока от ранних государственных образований до древних империй, изложены накопленные к настоящему времени знания об истории древних цивилизаций.
ББК 633(0)31
ТП-2004-1-276
ISBN 5-02-018388-1
© Российская академия наук
Институт востоковедения
Издательская фирма «Восточная литература», 2004
Данная работа — плод усилий прежде всего ученых одного из научных подразделений Института востоковедения РАН, Отдела истории и культуры Древнего Востока, в содружестве с коллегами из Кабинета Древнего Востока Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН. Над созданием этого тома трудились также отечественные востоковеды из ведущих отечественных учебных центров — Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета и Государственного университета Новгорода Великого.
Книга излагает историю стран Ближнего Востока, Иранского нагорья, Средней Азии, Индостана и Китая начиная с древнейших времен до создания на их территории великих держав. Большое внимание в работе уделяется культуре этих стран, этногенезу их народов. Глава 1 — «Древнейшая Индия», — написанная д.и.н. Е.В. Антоновой, посвящена началу цивилизации на Индостанском полуострове. Глава!— «Индия в ведийский период»— принадлежит перу д.и.н. А.А. Вигасина. Глава 3 — «Древнейший и древний Китай» — написана д.и.н. К.В. Васильевым и дополнена разделами «Культура древнего Китая» (автор — д.и.н. Т.В. Степугина) и «Искусство древнейшего и древнего Китая» (автор — К.А. Вязовикина). Предисловие и Глава 4 — «Ассирийская держава. Новоассирийский период» — написаны д.и.н. В.А. Якобсоном. Глава 5 — «Малая Азия, Армянское нагорье и Закавказье в первой половине I тысячелетия до н.э. (Урарту, Фригия, Лидия)» была создана д.и.н., проф. И.М. Дьяконовым. Написанная более десяти лет назад, она была заново отредактирована редколлегией. Глава 6 — «История Израиля и Иудеи в эпоху первого храма. Первая половина I тысячелетия до н.э.» — написана д.и.н. И.Р. Тантлев-ским. Глава? — «Нововавилонская держава. Вавилония в X1I-IX вв. до н.э.» — и глава 10 — «Ахеменидская держава»— принадлежат перу члена-корреспондента РАН М.А. Дандамаева. Глава 8 — «Мидийское царство» — и глава 11 — «Ахеменцдское искусство» — написаны к.и.н. И.Н. Медведской. Глава 9— «Степи Евразии и Древний Ближний Восток в киммерийско-скифскую эпоху» — является плодом совместной работы д.и.н. М.Н. Погребовой и д.и.н. Д.С. Раевского (с использованием материалов Э.А. Грантовского). Д.и.н., проф. Б.А. Литвинский и д.и.н. И.В. Пьянков являются авторами главы 12— «Средняя Азия в ахеменцдское время» (разделы «Военное дело в Средней Азии ахеменидского времени», «Города, крепости, сельские поселения», «Занятия населения» и «Религия» написаны Б.А. Литвинским, остальной текст главы — И.В. Пьянковым). Указатели к тому составлены Г.Ю. Колгановой.
Первая часть «Истории Древнего Востока» вышла из печати в 1983 г., вторая — в 1988-м, а подготовка самого издания началась намного раньше. Происшедшие после этого в нашей стране события и коренные перемены задержали продолжение этого издания на полтора десятка лет, прежде всего по финансовым причинам. Теперь, когда финансовые возможности для выхода в свет дальнейших частей издания появились, редакция оказалась перед лицом трудностей уже не финансового порядка, но связанных с содержанием этих частей. И дело не только в том, что бурное развитие востоковедения потребовало серьезной доработки, а иногда и коренной переработки материалов, подготовленных двадцать и более лет тому назад, или написания отдельных глав заново, так как иных авторов этих материалов уже нет в живых, а некоторые покинули нашу страну. Дело еще и в том, что марксизм перестал в нашей стране быть «единственно верным учением». Необходимо сразу же сказать, что это обстоятельство отнюдь не «упраздняет» уже существующие части нашей книги. Ведь наши востоковеды, в том числе и авторы первых книг этого издания, в большинстве своем не были ортодоксальными (т.е. нерассуждающими) марксистами и тем более не придерживались той донельзя упрощенной, вульгарной версии марксизма, которая навязывалась им сверху. Но это же большинство, как и большинство наших коллег за рубежом, сознательно или бессознательно, открыто или молчаливо исходило из постулата, что в истории народов, культур и языков существуют некие закономерности, и что эти закономерности могут быть в той или иной степени познаны, и именно поэтому история имеет право называться и быть наукой. В противном случае историк — не ученый, а архивариус и/или антиквар. Так что авторы первых книг выполнили свою работу вполне добросовестно и на самом высоком
тогдашнем уровне. Но в тогдашних условиях они не могли открыто излагать свои теоретические взгляды, да и сами эти взгляды были еще не оформлены, и оформление это продолжается до сих пор. Происходившая в 70-80-е годы дискуссия об «азиатском способе производства» вовсе не была схоластическим упражнением, как представляется теперь иным журналистам. В ходе этой дискуссии делались попытки сформулировать основные понятия истории древнего мира и принципы ее периодизации. Тогда участникам дискуссии не удалось прийти к единому мнению, нет его и до сих пор. Видимо, срок для единого мнения еще не настал или оно вообще невозможно. Но договориться о некотором наборе общепринятых терминов и понятий необходимо, без этого историки перестают понимать друг друга. Кроме того, необходимо понять, что даже в таких науках, как физика или биология, не существует единой общепринятой основной теории, и ученые, работающие в этих науках, вынуждены пользоваться частными теориями исходя из того, какая именно теория оказывается работоспособной для того или иного конкретного случая. Предмет истории неизмеримо более сложен, чем предмет любой другой науки, и потому теоретический эклектизм здесь необходим и долго еще останется необходимым. Марксизм сильно скомпрометирован в нашей стране теоретическим убожеством его советского варианта и страшными последствиями его навязывания в теории и применения на практике. Но на Западе он всегда оставался и остается до сих пор вполне респектабельной социологической теорией, одной из многих, столь же респектабельных, с которыми мы тоже знакомы и которые мы можем использовать. У каждого из авторов этого тома есть свои теоретические взгляды, но все эти авторы так или иначе являются членами «невидимого колледжа» Игоря Михайловича Дьяконова, начинателя и фактического руководителя работы над первой и второй книгами. Поэтому существенные теоретические расхождения между ними невозможны. Вместе с тем от советских времен осталась и все еще жива страсть к «простым и ясным, все сразу объясняющим» теориям, примером которых могут послужить все еще очень популярные среди дилетантов теории Л.Н. Гумилева. Они уже неоднократно анализировались специалистами, неизменно приходившими к выводам об их полной несостоятельности. Работы Л.Н. Гумилева не цитируются и практически даже не упоминаются профессионалами-востоковедами, а его приверженцы за пределами нашей науки представляют собой не какое-либо подобие научной школы, а скорее нечто вроде религиозной секты. Так что писать еще одно опровержение нет смысла, с верой спорить бесполезно. Но предупредить читателя-непрофессионала, разумеется, необходимо, тем более что разгул паранаучных «теорий» стал в последние годы сущим бедствием. В нем принимают активное участие авторы, украшенные учеными степенями и даже высокими академическими титулами, как, например, академик-математик Фоменко и его приверженцы. Они пытаются ниспровергнуть общепринятую историческую хронологию, а заодно изобретают самодельные этимологии имен собственных, не имея ни малейшего понятия о языках и о лингвистике. Их построения многократно и убедительно опровергались, но доводы их не интересуют: по существу, мы и здесь имеем дело с некоей паранаучной сектой, а их сочинения, навлекающие позор на российскую науку, выходят огромными тиражами
и в роскошном оформлении. По всем этим причинам приходится поместить здесь предисловие, излагающее некоторые основные теоретические принципы и формулирующее основные понятия и термины и для данного тома, и для предыдущих книг, а также уделить некоторое место разъяснению принципов и методов исторической хронологии (последнее — не для специалистов, разумеется, а для читателей-неспециалистов).
I
Вообще говоря, понятие «древность» не совпадает с принятой в Европе хронологией и тем более не совпадает с хронологическими системами, принятыми в других культурах. Согласно принятому у нас счету, каждый год обозначается как «такой-то год нашей (или „до нашей") эры», он же «от (или ,,до“) Рождества Христова» или «христианской (дохристианской) эры». Существуют и другие способы летоисчисления: «от Сотворения мира», принятый иудаистами и некоторыми христианскими конфессиями (конкретная дата «сотворения мира» определяется разными конфессиями по-разному, так как подсчеты по разным вариантам Библии дают разные результаты, один из них применялся в России до реформ Петра Первого; понятно, что этот способ является «абсолютным» и не имеет никакого «до»); «от Хиджры», т.е. от переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, а также ряд других (они будут упомянуты ниже). Эра — это способ счета лет начиная от какого-либо реального или предполагаемого события. Ясно, что все применяемые эры никак не зависят друг от друга, никак не согласованы между собой и для правильного перевода дат из одной эры в другую, для правильной датировки событий далекого прошлого (т.е. для создания абсолютной хронологии) необходимо понимать древние способы датировки и найти способ (а еще лучше — несколько взаимопроверяемых способов) их сопоставления и создания абсолютной шкалы исторического времени.
Представление о времени — это, возможно, первое и самое важное отличие человека от животного. Именно на основе этого представления устанавливаются причинно-следственные связи, что и является началом мышления. Именно из этого представления возникает понимание неизбежности смерти каждого живого существа и все связанные с этим эмоциональные и мыслительные процессы. А на этой основе возникает представление человека о самом себе, о прошлом и будущем, возникают мифология, эпос и религия, календарь, летоисчисление и история. Календарь и летоисчисление оказываются необходимыми для планирования и учета, и потому возникают довольно сложные и весьма совершенные календарные системы, основанные на астрономических наблюдениях. Календарные записи встречаются уже в самых ранних письменных памятниках, но для их правильного понимания необходимо вкратце ознакомиться с древнейшими способами датировки и понять, как удается извлекать абсолютные даты из древних памятников.
В этом деле очень многое зависит от случайных обстоятельств, например от принятого там и тогда в той или иной древней стране способа счета лет, от обы
чая и способа датировать документы и, наконец, но не в последнюю очередь, от количества сохранившихся и дошедших до нас документов. По всем этим параметрам первое место занимает древняя Месопотамия, почему и вся хронология древнего Ближнего Востока устанавливается через посредство хронологии Месопотамии. Здесь время первоначально считали по поколениям, затем (в Южной Месопотамии)— по годам правления энси, или царя. Составлялись Царские списки, куда последовательно заносились цари данного государства с указанием, сколько лет правил каждый из них. Документы датировались текущим годом правления царя. На севере, в Ассирии, счет годов и датировка документов производились по именам особых чиновников-эпонимов, каждый из которых занимал этот пост ровно один год и заносился в особые списки, содержавшие полный перечень всех эпонимов в хронологическом порядке, и при этом иногда отмечались важнейшие события того или иного года. Каждый эпоним воздвигал также памятную стелу со своим именем. В Ассирии такой способ счета сохранялся до самой гибели этого государства. В Вавилонии же способ датирования со временем изменился. Теперь каждый год получал особое наименование по важнейшему событию предшествовавшего года, например: Год, когда (такой-то) воцарился, или: Год, когда (такой-то царь) построил (такой-то) канал или храм или одержал (такую-то) победу. Наряду со списками царей стали составляться и списки этих «датировочных формул». Как списки эпонимов и их памятные стелы, так и списки царей и «датировочных формул» дошли до нас, но, к сожалению, нс полностью и со вкравшимися при переписке или преднамеренными искажениями. Понятно, что и в таком виде они являются важнейшими историческими источниками, но главная проблема состоит в том, как соотнести все эти материалы с нашей системой летоисчисления. Здесь на помощь пришла астрономия. Так, в ассирийском списке эпонимов упоминается солнечное затмение, которое, согласно астрономическим расчетам, имело место 15 июня 763 г. до н.э., что и позволило увязать месопотамскую хронологию с нашей. Имеются в месопотамских текстах и данные о наблюдениях других астрономических явлений (например, гелиакального восхода Венеры), но эти наблюдения не могли быть точными. С учетом всех возможных погрешностей допустимая ошибка для I тысячелетия до н.э. составляет не более чем 10 лет в ту или иную сторону. Для II тысячелетия до н.э. она составляет около 50 лет, а для III тысячелетия до н.э. примерно 120— 150 лет. Соответственно, применяются три хронологические системы— короткая, средняя и длинная, отличающиеся друг от друга на указанные величины. В нашей стране принята средняя хронология, согласно которой, например, вавилонский царь Хаммурапи правил в 1792-1750 гг. до н.э. Поскольку для других государств древнего Ближнего Востока хронологические опорные точки для большей части периода древности практически отсутствуют, даты для них устанавливаются по синхронизмам с известными событиями или лицами в Месопотамии. Для древней Индии дело с хронологией обстоит совсем плохо, поскольку индийцы хронологией почему-то не интересовались, во всяком случае, не оставили нам хронологических записей, а синхронизмы с Ближним Востоком известны здесь только для очень ранней и очень поздней древности. Напротив, от
древнего Китая осталось достаточно много исторических сочинений и астрономических наблюдений, так что его хронология, за исключением самого раннего периода, достаточно надежна.
Что касается хронологических эр, т.е. систем непрерывного счета лет начиная от какого-либо реального или предполагаемого (например, сотворения мира) события, то первая попытка такого счета, продержавшаяся всего несколько десятков лет, была сделана еще во II тысячелетии до н.э. в Месопотамии. Но долговечные эры появляются лишь в следующем тысячелетии. Наиболее известной из них является Селевкидская эра, счет по которой идет с 312 г. до н.э. Она употребляется некоторыми восточными христианскими церквами до сих пор и потому просто и точно сопоставляется с нашей эрой. Важное значение имеет также эра Диоклетиана (с 284 г. н.э.). Она тоже употребляется в наше время коптской церковью в Египте. У евреев в древности и в средние века употреблялись одновременно несколько эр: от Сотворения мира, от разрушения Иерусалима, Селевкидская эра и некоторые другие, включая, например, исламскую. Существуют средневековые еврейские рукописи, датированные сразу по нескольким эрам, что и решает окончательно вопрос о соотношениях этих эр и об их непротиворечивости. Эр от Сотворения мира известно несколько, ибо все они были вычислены «задним числом» по оригинальному тексту Библии и по ее переводам, где хронологические сведения несколько различны. Что же касается эры от Рождества Христова (т.е. нашей эры), то дата этого события была вычислена лишь в V в. н.э. и с ошибкой примерно в шесть-семь лет. Так или иначе, все способы летоисчисления не противоречат друг другу, равно как и летоисчислениям древней Европы, например принятому в древней Греции счету годов по Олимпиадам начиная с первой или принятой в древнем Риме эре «от основания Рима». Эти европейские эры, в свою очередь, подкрепляются дошедшими до нас списками афинских архонтов-эпонимов и римских консулов (и те и другие известны также из древних надписей и других источников, и потому невозможно усомниться в их подлинности), что и позволяет признать их адекватность. Но существуют и физические способы датировки, среди которых центральное место занимает радиоуглеродный анализ. Этот анализ позволяет определять абсолютный возраст органических материалов с очень большой точностью. Объективность и точность получаемых этим методом данных подтверждены обнаруженными в последние десятилетия живыми деревьями возрастом более 5 тыс. лет и анализом их годичных колец. Таким образом, была получена калиброванная шкала, с которой и сравнивают результаты всех радиоуглеродных анализов. Кроме всех вышеперечисленных существуют еще лингвистические (анализ языка текстов и глоттохронология — методы, позволяющие прослеживать и датировать изменения в языке), палеографические (анализ изменений, которые обязательно происходят в любой письменности), искусствоведческие (анализ художественного стиля и технических приемов) и другие методы датирования. Комплексное применение всех возможных в каждом отдельном случае методов и дает нам уверенность в правильности полученных результатов.
II
Термином «цивилизация», употребляемым в самом общем смысле, обозначается такая стадия развития общества, на которой возникает классовое общество и государство со всеми их основными атрибутами. Этот же термин употребляется и в более конкретном смысле, когда говорят о географически и исторически конкретных человеческих обществах. Конкретная цивилизация охватывает, как правило, множество различных и имеющих разное происхождение, но обладающих сходными культурами народов, т.е. под цивилизацией понимается определенный тип культуры. Культура же понимается здесь как органическая совокупность общественных условий и способов создания, распространения и сохранения духовных и материальных ценностей, а также самих этих ценностей, созданных данным народом (этносом). Иначе говоря, культура есть то, что отличает человека от животного и наследуется не генетически, а через подражание и обучение, т.е. в процессе социализации. Так, люди, подобно всем живым существам, кроме микроорганизмов, размножаются половым путем. Но только у людей существуют брак, любовь, секс, отделенный от деторождения, связанные со всем этим ритуалы, приличия и моральные предписания, а также отступления от них, осуждаемые общественным мнением или даже караемые. Люди, как и все живые существа, питаются, но только у людей существует приготовление пищи, кулинария, гастрономия, застольный этикет и опять-таки связанные со всем этим приличия и моральные предписания. Можно поэтому сказать, что культура есть все то, что не есть природа, и это — самое правильное и исчерпывающее определение, хотя наука логика отрицательные определения запрещает; культура, подобно Богу, лучше всего может быть определена апофатически. Необходимо еще добавить, что культура— не оценочное понятие, и потому такие, например, отвратительные для нас явления, как каннибализм или пьянство, тоже относятся к культуре (культура— это не обязательно «хорошо», и словечко «некультурный» относится к разговорной речи, а не к научной терминологии). Культура, следовательно, существует уже на стадии первобытности. Цивилизация же возникает лишь на таком уровне развития общества, когда оно становится способным производить достаточно средств существования, чтобы содержать усложнившуюся и разросшуюся культуру со всеми ее атрибутами— государством, аппаратом управления, войском, служителями религиозных культов, писцами, учеными, художниками и т.д. Раньше всего такая возможность появилась именно на Древнем Востоке в долинах великих рек субтропической зоны, а также примыкавшей к ней южной части зоны умеренного климата. Именно здесь природные условия позволили обеспечить резкий подъем производительности труда. Следовательно, на заре цивилизаций географический фактор играет очень важную роль. Им определяется характер хозяйства (для первичных цивилизаций — ирригационное земледелие), а в некоторых случаях даже государственная идеология и форма государственного устройства (например, в Египте). Но не следует и преувеличивать роль географического фактора. Так, например, вопреки все еще распространенной точке зрения, необходимость искусственного орошения не стала причиной создания крупных территориальных государств. В до
линах великих рек не было тогда возможности создать единую, управляемую из одного центра систему ирригации, там существовали только многочисленные местные системы, которые (кроме систем, находившихся на одном канале) не зависели друг от друга. Равным образом следует признать устаревшей и бессодержательной позаимствованную из марксизма концепцию «восточной деспотии», т.е. ничем не ограниченной царской власти на Древнем Востоке: древневосточные тексты (кроме египетских) уделяют гораздо больше внимания обязанностям царя, чем его правам, а борьба между гражданскими общинами и царями — один из важнейших факторов всей древневосточной истории (опять-таки кроме египетской).
В последнее время идут оживленные дискуссии о том, как лучше изучать историю— по стадиям, т.е. как единый процесс, делящийся на определенные стадии, которые разные народы проходят с различной скоростью, зависящей от целого ряда объективных условий, или по цивилизациям, существующим каждая свой срок и никак не зависящим друг от друга. Более модным в настоящее время стал второй подход, поскольку первый считается чисто марксистским. Однако стадии исторического процесса придумал не Маркс, они являются эмпирическим фактом. Эмпирическим фактом является также существование отдельных цивилизаций, проходящих через эти стадии исторического процесса и не имеющих какого-либо предопределенного срока существования. Кроме того, первичные цивилизации возникают независимо друг от друга, но нс независимо от окружающих культур. В дальнейшем они вступают в многообразные контакты также и друг с другом, и эти контакты являются необходимым условием их последующего развития. Без таких контактов, без взаимного обмена культурными достижениями развитие прекращается. Справедливость этого утверждения хорошо видна на примере древней цивилизации Центральной и Южной Америки. Будучи географически изолированной от других цивилизаций, она, несмотря на ряд замечательных достижений, двигалась как бы по кругу. Исходя из всего сказанного выше, следует сделать вывод, что при изучении истории необходимо сочетание обоих подходов — стадиального и цивилизационного.
Но прежде всего следует определить основные понятия: что такое цивилизация и сколько всего насчитывается цивилизаций. Но этим вопросам между историками существуют большие разногласия. Здесь нет возможности дать подробный разбор необъятной литературы по проблемам цивилизаций, поэтому упомянем лишь наиболее популярных как среди историков, так и среди широкой публики авторов: О. Шпенглера, А. Тойнби и С. Хантингтона. Все они дают не совпадающие друг с другом перечни цивилизаций, а у А. Тойнби эти перечни различны в разных его работах. Кроме того, составляя свои перечни, каждый автор крайне субъективен и не исходит из какого-либо единого, объективного и последовательно применяемого критерия. По этой причине все предложенные ими перечни не операциональны, т.е. не могут быть положены в основу каких-либо логических построений. О. Шпенглер очень оригинально характеризирует взаимоотношения между культурой и цивилизацией, определяя цивилизацию как последнюю стадию «состарившейся» или даже «умирающей» культуры, когда
продуктивность сменяется бесплодием, становление— косностью, деяние (как акт самовыражения)— работой, творчество— спортом и политикой. При этом каждая культура есть в некотором роде живой организм, существующий лишь определенное время и биологически несовместимый (как мы бы это сформулировали в наше время) с другими, не допускающий никаких заимствований, а культурного прогресса не существует. Он называл свою теорию «коперниковским переворотом» в изучении истории, но нетрудно увидеть, что все это — критика современной О. Шпенглеру европейской культуры, критика с позиций реакционного неоромантизма (нс случайно эта теория была столь популярна среди германских нацистов). Очевидно, что она неверна даже и в отношении европейской культуры, знавшей за прошедшее с тех пор столетие и блистательные взлеты, и жестокие провалы. Тем более она неверна в отношении других культур, однако у псе и до сих пор еще есть множество эпигонов, особенно среди литераторов и журналистов. Эпигоном ее был и Л.Н. Гумилев (претендовавший тем не менее па оригинальность): он тоже утверждал, что любая культура или цивилизация (он применял эти термины как синонимы) существует строго определенный срок, а затем гибнет и что разные культуры несовместимы. При этом он, разумеется, хорошо знал, что, например, китайская и индийская культуры (цивилизации) имеют непрерывную более чем трехтысячелетнюю преемственную историю, но утверждал, что «на самом деле» там имеет место последовательная смена разных культур. А тот факт, что золотой век русской культуры был создан людьми мульти культурным и (только два примера из великого множества: Ломоносов создал теорию русского стихосложения, творчески переработав немецкую просодию, а Пушкин свои первые стихи написал по-французски), Л.И. Гумилев просто игнорировал. Термины «культура» и «цивилизация» употреблял как синонимы также и А. Тойнби, и он тоже считал, что культура (цивилизация) имеет определенный срок существования и что культурные заимствования невозможны, обходя неудобные факты таким же способом. В действительности же, как показал IO.M. Лотман, любая культура может существовать лишь в диалоге, обмене культурными достижениями с другими культурами, а культурная изоляция неизбежно ведет к вырождению культуры. Как показывает история человечества, культуры погибают лишь насильственной смертью, что бывает чрезвычайно редко. Обычно же преемственность в той или иной степени сохраняется, а за гибель культуры часто принимают гибель государства или перемены языка и стиля.
Исходя из всего сказанного выше, можно считать, что цивилизация есть комплекс однотипных культур классовых обществ, возникших, с выходом из первобытности, на очень обширных территориях вокруг одного или двух-трех первоначальных центров. Создателями и носителями таких однотипных культур всегда являются этносы различного происхождения, говорящие па различных и часто неродственных языках. Всего в мире существуют и всегда, с самого начала существовали следующие цивилизации: Ближневосточная, Европейская (первоначально— античная), Индийская, Дальневосточная, цивилизация Черной Африки и цивилизация Доколумбовой Америки. Существовали также и «несостояв-шиеся» цивилизации, вроде, например, Индской (Мохенджо-Даро и Хараппа).
По линиям соприкосновения соседствующих цивилизаций возникают промежуточные культуры, и некоторые из них сыграли и играют важную роль в истории, например эллинизм, махаянический буддизм, христианство и ислам. Однако длительное пребывание в таком промежуточном положении невозможно, и в конце концов носители этих культур оказываются вынужденными определить свою цивилизационную принадлежность, сохраняя при этом все или большую часть культурных приобретений, пусть даже и в неизбежно измененном виде, и нередко распространяя эти приобретения на всю свою цивилизацию. Так в Европу с Ближнего Востока пришло христианство.
Итак, история Древнего Востока есть начало мировой истории, именно на Древнем Востоке берут свое начало такие важнейшие явления мировой истории, как город, государство, письменность, наука, философия, литература, право, все существующие ныне религии, одним словом — все составные части любой современной культуры. Оттуда же (и даже из времен первобытности) происходят многие предрассудки, суеверия, обычаи и особенности менталитета отдельных людей и целых народов. Мы — наследники не только достижений людей Древнего Востока, но и их бедствий и заблуждений. Именно первым цивилизациям Востока принадлежат те важнейшие культурные достижения человечества, которые сделали возможным его дальнейшее развитие и в значительной степени предопределили характер и направление этого развития. Понятно, что все это было подготовлено достижениями предыдущего периода— первобытнообщинного, когда были освоены земледелие, животноводство, начатки металлургии и других ремесел, возникли представления о календаре и многое другое. Все это, разумеется, было усовершенствовано в период древности, но Древний Восток сделал сюда добавления решающей важности. К их числу относятся, во-первых, изобретение, усовершенствование и широкое распространение письменности. Человечество обрело, таким образом, бессмертную коллективную память, способную вместить практически неограниченный объем информации. Раньше знания передавались из уст в уста и хранились в индивидуальной памяти обладателей этих знаний. Однако индивидуальная память имеет ограниченные возможности, а цепочка изустной передачи знаний может легко прерваться из-за гибели их обладателя по тем или иным причинам. Теперь же стало возможно бесконечное накопление знаний, в связи с чем возникла новая профессия открывателя, накопителя, хранителя и распространителя знаний, разделившаяся затем на группы конкретных профессий. Но дело не только в бесконечном количественном накоплении знаний. Появление и развитие письменности привело к качественным изменениям в характере знаний и даже в самом мышлении. Именно отсюда берет свое начало абстрактное мышление, нашедшее свое выражение в систематизации знания (появление всевозможных справочников и компиляций) и в математике (позиционные системы записи чисел поначалу без нуля, а затем и с нулем, до которого додумались индийские математики, создание различного рода вычислительных таблиц и т.п.). Можно наблюдать первые проявления свободной игры ума— получение удовольствия от умственной деятельности без всякой прагматической цели. Так, древние вавилоняне умели решать квадратные уравнения, но невозможно указать такую практическую задачу, для решения которой это могло
бы понадобиться. В результате во всех цивилизациях появляется осознающая себя и гордящаяся собой умственная элита общества, занявшая в нем не менее важное место, чем доблестные воины и умелые мастера. Глубокое уважение к знанию — характерная черта всех древних цивилизаций. Образ «культурного героя», снабдившего людей знаниями, которые он открыл или похитил у богов, присутствует в любой древней мифологии. Для этих же мифологий типично превращение реальных исторических лиц в божественных мудрецов. Наконец, в связи с изобретением письменности появляется новое общественное учреждение — школа, а также хранилище знаний — библиотека. Древнейшие письменности были очень сложны, изучение их осуществлялось путем переписывания и заучивания большого комплекса текстов— так называемого школьного канона. Заимствовались они вместе с этим школьным каноном, благодаря чему и распространялся ареал цивилизации, создавшей данную письменность и данный канон: Китая— на весь Дальний Восток, Месопотамии— на всю Переднюю Азию. Все современные письменности и календарные системы происходят с Древнего Востока.
Вторым важнейшим достижением первичных цивилизаций следует признать опыт организованного коллективного труда значительных человеческих коллективов. Хотя коллективный труд применялся и во времена первобытнообщинного строя (например, для сооружения курганов и мегалитических построек), только цивилизации сделали коллективный труд основой своего существования. Именно коллективный труд свободных людей (а не труд рабов, как об этом написано в старых учебниках и как до сих пор полагают отдельные литераторы) создавал оросительные системы, храмы, гробницы, дворцы и городские стены. С коллективным трудом связано появление новых профессий — организаторов, планировщиков, управителей, учетчиков. Принцип организации совершил переворот и в военном деле: война из массовой драки или серии поединков превратилась в схватку единообразно экипированных и построенных в четкие боевые порядки воинов, что резко увеличило силу любого военного отряда, а ополчение превратилось в войско. И здесь появились новые профессии — профессии воина и полководца.
Наконец, именно на Древнем Востоке возникли все существующие до сих пор формы политической организации: гражданская община, государство и его основные типы (государство-город, территориальное государство, империя), формы правления (республика и монархия). Там же возникли и существующие до сих пор формы общественного сознания — религиозные и философские учения.
Итак, повторим еще раз, цивилизации — это особые типы культуры значительных человеческих масс на значительных пространствах. Каждая цивилизация охватывает собой многочисленные этносы и этнические общности, имеющие, как правило, разное происхождение, и многочисленные государства. Государства же охватывают на первых порах либо часть этноса, либо целый этнический и культурный регион или являются многоэтничными с одним господствующим этносом (империя). Основной тип государства для ранней древности — номовое государство (город-государство). Оно охватывает собой территорию одной гражданской общины, состоящую из одного (реже двух-трех) город
ского центра и сельскохозяйственной округи. Городом мы будем называть населенный пункт со свободным населением, где осуществляется концентрация, перераспределение и реализация прибавочного продукта. Это и есть основная или, как теперь принято говорить, системообразующая функция города (предлагаемое определение города разработано совместно О.Г. Большаковым и В.А. Якобсоном). Город, следовательно, появляется только вместе с цивилизацией и с государством. Прочие его функции (религиозный, культурный, политико-административный, торгово-ремесленный центры) проистекают из названной выше основной функции. Номовое государство всегда имеет небольшие размеры и совпадает с гражданской общиной, хотя предшествующие государству союзы племен и «вождества» могут быть весьма обширными. Новорожденное государство нуждается в непрерывном увеличении объема используемого для его нужд прибавочного продукта. Между тем, после резкого первоначального скачка производительности труда благодаря освоению ирригационного земледелия производительность труда в дальнейшем почти не растет вплоть до I тысячелетия до н.э., когда было освоено производство железа. Более того, она снижается из-за истощения и засоления орошаемых земель (Египет и здесь— исключение). Увеличивать поборы с трудового населения тоже оказывается невозможным, ибо оно и так получает лишь необходимый физиологический минимум средств существования. Наиболее простым и «естественным» выходом из положения является грабеж, т.е. отнятие накопленного прибавочного продукта у соседнего города-государства, а также захват рабов— своего рода концентрата прибавочного продукта. Это можно осуществить лишь с помощью войны, и поэтому войны, которые ранее были лишь эпизодическими, становятся постоянным фактором жизни древнего общества, а вокруг городов появляются оборонительные стены. Более надежным способом увеличения абсолютного объема прибавочного продукта является расширение территории государства и, соответственно, увеличение количества населения. Это достигается насильственным объединением нескольких (или многих) родственных по культуре и языку общин (номовых государств). Не следует упускать из виду в качестве побудительной причины завоевательных войн также и честолюбие правителей. Таким образом (а не, как уже говорилось, из-за несуществовавшей потребности в централизации оросительных систем) возникает территориальное государство. Был еще и третий способ увеличения объема прибавочного продукта— контроль над международной торговлей посредством установления его над торговыми путями и торговыми городами, что дает возможность взимать пошлины и облагать налогами доходы от торговли. Это, разумеется, тоже предполагало войну. Попытки создания территориальных государств начинаются еще в III тысячелетии до н.э., но встречают упорное сопротивление со стороны городов-государств. Ведь каждое из таких номовых государств имело одинаковые права и основания стать метрополией и лишь силой удерживалось на положении провинции. Поэтому существование территориальных государств в III-II тысячелетиях до н.э. — скорее исключение, чем правило. Особый случай представлял собой древний Египет. Здесь особые географические условия (собственно Египет— это узкая полоска обитаемой земли по берегам огромной реки, проложившей путь через всю страну, а какие-
либо естественные границы между общинами отсутствовали) очень рано привели к созданию мощного территориального государства в масштабе всей нильской долины. Альтернативой этому было бы взаимное истребление первоначальных номовых общин. Столь раннее появление сильно централизованного территориального государства, фактически — прыжок из первобытнообщинного строя, было, как заметил А.О. Большаков, причиной ряда весьма своеобразных явлений в египетской культуре и в ментальности египтян (у народов других речных цивилизаций этот путь занял тысячелетия, и они успели привыкнуть). В I тысячелетии до н.э. начинаются попытки объединить все три способа увеличения прибавочного продукта, поступающего в распоряжение государства и его правящей верхушки. Так создаются государства, выходящие далеко за пределы одного этнокультурного региона, объединяющие в своем составе множество этносов, нередко находящихся на различных ступенях общественного развития. Это — империи, или мировые державы. Первой в истории человечества империей была Ассирийская держава. Составные части таких держав должны в идеале экономически дополнять друг друга (торговля должна идти главным образом внутри империи), а имперский мир — обеспечивать безопасность и устойчивость внутренних экономических связей. Империи, конечно, складываются стихийно, а внутренняя прочность их зависит от того, насколько удачно подобрались их составные части и насколько сильны внешние враги. А это, в свою очередь, зависит от географических условий и политических обстоятельств. Идеальным местом для создания империи было Средиземноморье, стык Европейской и Ближневосточной цивилизаций, где и возникла Римская империя. Своего рода «черновиком» средиземноморской империи была Афинская морская держава, а Пунические войны были войнами за то, кому— Карфагену или Риму — создавать эту империю. Победа Карфагена в этих войнах изменила бы, вероятно, всю этническую, языковую, политическую и культурную историю и Ближнего Востока и Европы. Империя может, разумеется, погибнуть от внешнего нападения, и потому важно, чтобы, по крайней мере до тех пор, пока она не встанет прочно на ноги, у нее не было сильных соседей. Но внутренний ее распад неизбежно начинается тогда, когда более или менее выравнивается уровень экономического и культурного развития ее составных частей. Тогда эти составные части из партнеров становятся соперниками, а правящая элита на местах перестает нуждаться в поддержке со стороны имперского центра, не хочет больше эту поддержку оплачивать и восстает против него; либо, во избежание таких восстаний, имперская верхушка сама соглашается на раздел империи. Из империй древности такой «естественной смертью» умерла только Римская империя. Империи древности имели довольно сложную административную структуру. Они состояли из метрополии, т.е. территории того народа, который создал империю и где находилась центральная администрация, а также провинций или областей, непосредственно подчиненных центральной администрации. Кроме того, обычно по окраинам империи располагались вассальные области (царства), где продолжали существовать традиционные местные органы власти. Эти области могли входить в состав провинций и фактически подчиняться наместникам провинций либо сохранять формальную самостоятельность, но находиться под контролем наместника
ближайшей провинции. Империя обеспечивала своим провинциям и вассалам имперский мир, свободу торговли на огромных территориях и защиту от «варварской» периферии. Культура метрополии, если империя существовала достаточно долго, постепенно распространялась и на другие части имперской территории, образуя местные варианты этой культуры и обеспечивая таким образом определенную степень культурного единства. Имперские власти, как правило, вполне лояльно относились к местным религиозным культам, от имени имперских властей совершались жертвоприношения в местных храмах (разумеется, все это было возможно лишь в эпоху до победы догматических религий, а с их победой ситуация сильно усложнилась). Все это до поры до времени обеспечивало известную заинтересованность разноплеменного и разноязычного населения в сохранении империи. Но, как уже сказано выше, такая заинтересованность не может быть вечной.
III
Для правильного понимания того, каким образом происходило в древности возникновение этносов и государств, необходимо иметь в виду, что ранняя древность не знала национальной, религиозной и культурной розни. Прежде всего отметим, что человек этого времени лишь очень смутно сознавал свою этническую принадлежность. Решающей для него была принадлежность к определенной общине, а всякий принадлежащий к чужой общине был потенциальным и во многих случаях реальным врагом. Но это, как правило, не возбуждало вопроса о том, «кто лучше». В литературе древней Месопотамии, например, мы не встречаем брани по адресу других народов, даже тех, с кем постоянно велись войны, например эламитов. Единственное исключение составляют кутии: у создателей первых цивилизаций существовало все-таки пренебрежительное отношение к народам, находившимся еще на уровне первобытнообщинного строя. Из-за того, что было множество самостоятельных общин (номовых государств), говоривших на одном и том же или на весьма близких языках, язык не был отличительной особенностью конкретной общины, хотя и могла осознаваться общность происхождения и культуры различных общин. Так, в той же Месопотамии общины (города-государства), говорившие на одинаковых или разных языках, но имевшие общую культуру, общий пантеон и общий культовый центр, вели между собой войны и заключали союзы, отнюдь не руководствуясь при этом этнической принадлежностью врагов или союзников. Это же обстоятельство облегчало и взаимную ассимиляцию, а побежденные общины лишь в редчайших случаях уничтожались: происходило слияние, и возникал новый этнос. Любой из современных или древних этносов возник в свое время в результате слияния (по различным причинам) нескольких (иногда — многих) этносов-предков («чистокровность» существует только в животноводстве и в националистических бреднях). Но слияния языков при этом не происходило, один из языков всегда брал верх, вытесняя остальные вследствие численного, политического или культурного преобладания его первоначальных носителей или по религиозным причинам (так
арабский язык вытеснил многие древние языки Ближнего Востока), по причинам удобства (так языки кочевников нередко вытесняли языки оседлого населения), а также и по некоторым другим причинам. Но вытесненные языки не исчезают бесследно, следы их сохраняются в языке-победителе в виде заимствованных слов, а иногда в виде особенностей грамматики и даже фонетики. Обнаружение этих следов (своего рода лингвистическая палеонтология)— важный источник по истории любого этноса. Необходимо еще заметить, что язык может передаваться от одного этноса к другому также и без физического слияния этих этносов. Культура же любого этноса есть результат сложного взаимодействия культур-предков, саморазвития и взаимного обмена с соседними культурами. Чем больше составляющих компонентов, чем активнее обмен, тем интереснее и жизнеспособнее культура, а культурная изоляция, порождаемая стремлением к «культурной чистоте», неизбежно приводит к застою и в конечном счете к вырождению культуры. Существует и представляется весьма правдоподобной точка зрения, согласно которой все важнейшие изобретения на заре человечества (использование огня, обработка камня, лук, ткацкий станок, изготовление керамики и др.) были сделаны только один раз и затем быстро распространились по всему тогдашнему миру. Этому, разумеется, способствовало отсутствие межплеменной и межкультурной вражды, готовность к восприятию «чужих» культурных достижений. Таким образом, происхождение любого этноса должно рассматриваться в трех отдельных и не зависящих друг от друга аспектах: генетическое (биологическое) происхождение, происхождение языка и происхождение культуры. При этом следует помнить, что язык того или другого этноса может и не быть языком одного из этносов-предков, а получен, так сказать, по эстафете от совсем иного языка, без прямых контактов с его первоначальными носителями. Все сказанное выше и объясняет тот факт, что на родственных языках могут говорить народы, принадлежащие даже к различным расам: на индоевропейских языках говорят белокурые, белокожие и голубоглазые норвежцы и черноволосые, чернокожие и темноглазые сингальцы (жители Шри-Ланки), а на семитских языках — негроидные эфиопы и европеоидные арабы и евреи.
Межэтническая и межкультурная вражда появляется в поздней древности с возникновением нового типа государства— империи, т.е. такого многоэтнич-ного государства, где существует противопоставление между народом, создавшим империю, и покоренными народами. Теперь на одном полюсе существует своего рода национальное чванство («мы всех победили, значит, мы лучше всех»), а на другом — комплекс национальной ущемленности («они нас победили, но мы все равно лучше их, нам просто не повезло»). С этого времени вопрос «кто лучше?» норовит занимать центральное место в межэтнических и межкультурных взаимоотношениях даже и за пределами империй. Различие между имперским и доимперским периодом становится очень наглядным при сравнении двух замечательных древнегреческих историков, Геродота и Плутарха. Геродот посетил Ближний Восток вскоре после того, как греки выиграли войну против Персии (заметим, что в этой войне некоторые греческие города-государства держали сторону Персии). Свободные и независимые греки не имели никаких
причин для того, чтобы испытывать комплекс неполноценности, но зато, казалось бы, имели достаточно причин для того, чтобы испытывать комплекс превосходства. Однако в отношении Геродота к народам и странам, которые он посетил, видно лишь благожелательное любопытство, и слово «варвары» он употребляет не как презрительную кличку, а в его первоначальном смысле, т.е. как общее обозначение негреческих народов. Именно эта благожелательная объективность Геродота вызвала крайнее раздражение у жившего на пять веков позднее Плутарха. Он обозвал Геродота «персолюбом» и даже написал специальный трактат— «О злокозненности Геродота». Плутарх жил в иные времена— времена, когда Греция находилась под властью Римской империи,— и тяжело переживал это национальное унижение, но, разумеется, не осмеливался называть римлян «варварами». Свои знаменитые «Сравнительные жизнеописания» он и написал для того, чтобы показать, что греки ничуть не хуже римлян.
Ранняя древность не знала также и религиозной розни. Дело в том, что боги древних политеистических религий были олицетворениями сил природы, общественных явлений или даже абстрактных понятий, и потому у всех народов это были, в сущности, одни и те же боги, только с разными именами на разных языках. Так примерно они и воспринимались, и каждый человек легко отождествлял любого чужого бога с соответствующим своим. Если же иной раз аналогии не находилось, и это никого не смущало: существует бесчисленное множество богов, и именно этого бога я до сих пор не знал, теперь приму к сведению. Каждый человек, разумеется, поклонялся богам своей страны, но, приехав в чужую страну, поклонялся тамошним богам или, вернее, называл богов принятыми там именами и совершал принятые там обряды, а «недостающие» боги легко заимствовались из других пантеонов. Именно поэтому вторгшиеся в Грецию персы первым делом принесли жертвы греческим богам, отловив для этого нескольких греческих жрецов. Затем они, разумеется, разграбили храмы греческих богов. Можно поэтому сказать, что в ранней древности существовала единая синкретическая политеистическая религия. Завоеватели обычно включали местных богов в свой пантеон либо усваивали местный пантеон и дополняли его своими богами. Ранняя древность не знала попыток навязывания своих богов другим народам — ни путем проповеди, ни тем более насильственно. Однако это не следует, как иногда делают, называть «терпимостью». Терпимость —• это когда терпят то, что неприятно. Люди же этого времени рассматривали наличие у разных народов разных или различно называемых богов как само собой разумеющееся. (Древней Руси очень повезло, что покорившие ее татаро-монголы были еще язычниками, и потому наличие у разных народов разных богов они считали, как уже сказано, само собой разумеющимся, а когда завоеватели стали мусульманами, их отношения с Русью уже прочно сложились, да и силы у Орды были уже не те. Иначе Русь была бы, скорее всего, исламизирована.) Религиозная же рознь возникает с появлением в поздней древности новых, догматических религий, каждая из которых утверждала (и до сих пор утверждает), что есть только одна правильная вера— «наша», а приверженцы других религий суть приспешники зла или в лучшем случае заблудшие, и их надлежит обращать на путь истинный если возможно, то добровольно, через проповедь, а если невозможно — то и си
лой. При этом еретик, т.е. человек, в целом придерживающийся данной религии, но отклоняющийся в некоторых деталях от официального учения, считается более опасным, чем даже иноверец: ведь последнего до известной степени извиняет его невежество, в то время как еретику была явлена истина, но он злонамеренно от нее отклоняется.
Возникновение догматических религий (религий спасения) было огромным и необходимым шагом вперед в духовном развитии человечества, но этот шаг достался человечеству не даром: появились такие неизвестные ранней древности явления, как ханжество, фанатизм, религиозные войны и казни еретиков. Первыми религиозными войнами в истории человечества были Маккавейские войны в Иудее, о которых будет рассказано в соответствующей главе. Именно тогда впервые выяснилась невозможность взаимопонимания между политеистами и монотеистами. Политеисты Селевкиды, в чью империю входила тогда Иудея, совершенно искренне не понимали, почему иудеи не могут, продолжая поклоняться своему Богу, приносить также и жертвы Зевсу Олимпийскому, и воспринимали их отказ делать это как злостное упрямство и неуважение к властям, вследствие чего принимали жестокие карательные меры и в конце концов запретили иудейский культ. А монотеисты иудеи столь же искренне удивлялись, почему Селевкиды этого не понимают, и воспринимали их попытки заставить иудеев это делать как гнусную тиранию, на которую они ответили восстанием и свержением власти Селевкидов. Интересно, что при персидском владычестве ничего подобного не было. Персидские цари сами были почти монотеистами, с Библией были незнакомы, а Яхве рассматривали как Бога Небесного, некую ипостась Ахурамазды, и посылали в Храм свои жертвы. Во времена римского владычества имперские власти тоже присылали жертвы в Храм и всячески старались нс дразнить «фанатиков». Но культ императора, столкнувшийся к тому же с ростом мессианских настроений среди иудеев, и тут сыграл роковую роль. Две Иудейские войны привели к гибели Иудеи, Иерусалима и Храма. Невозможность или крайняя затруднительность взаимопонимания между приверженцами различных догматических религий принесла в дальнейшем человечеству множество бед.
IV
Характерной чертой периода цивилизаций является, как уже было сказано, возникновение города и государства— новой формы общественного устройства, пришедшей на смену первобытным родо-племенным структурам. Переходным этапом к этой новой форме было превращение родовой общины в соседскую. В ходе этого превращения, которое само представляло целую эпоху, семейнородовые связи между людьми были оттеснены на второй план связями экономическими, политическими и идеологическими. Разделение труда, имущественное неравенство, зарождение сословий привели к столь сильному усложнению общества, что управлять им прежними способами стало невозможно. Первобытное общество управлялось обычаем и моральным авторитетом его вождей. Каждый член такого общества в процессе воспитания (социализации) как бы автоматиче
ски узнавал основные правила общежития, а некоторые из них дополнительно сообщались при совершении обряда инициации, но и эти правила были одинаковы для всех. Теперь же общество разделилось на сословия и классы, а также и на более мелкие группировки (например, профессиональные) с различными и трудносовместимыми интересами и вследствие этого с различными представлениями о правилах общежития. Сохранять целостность и внутренний мир в таком обществе было трудно, для этого требовались теперь профессионалы и специальные учреждения, состоящие из профессионалов, а харизматические вожди становятся царями или магистратами республик. Эта новая структура общества и есть государство. Оно осуществляет следующие основные функции: законодательную (формулирует и обеспечивает принудительной силой некоторый минимальный набор основных правил общежития); занимается хозяйственно-организаторской деятельностью (объем этой деятельности в различных государствах древности различен), ведет войны, поддерживает религиозные культы и традиционную структуру общества. Наиболее типичной для древности формой государственного устройства была монархия, но существовали также и республики. К концу древности, однако, республики были повсеместно вытеснены монархиями. Модная еще недавно и до сих пор имеющая хождение теория «восточной деспотии», т.е. абсолютной власти древневосточного царя, должна быть, как уже говорилось, отброшена по причине ее бессодержательности и несоответствия действительности. Цари на Древнем Востоке были еще в значительной мере племенными вождями, обязанными в одинаковой степени заботиться обо всех членах общества, особенно же о сирых и убогих. Единственным исключением здесь, по указанным выше причинам, является Египет, где царь всегда был богом и потомком бога. В остальных же древних обществах можно наблюдать то скрытую, то явную борьбу царской власти с общинами, в которой цари далеко не всегда берут верх. Живучесть общины, просуществовавшей в различных формах до нашего времени, и ее нередкое противостояние государству объясняется тем, что община есть прямая наследница первобытной стаи и в этом смысле представляет собой явление природы, государство же есть явление культуры, вследствие чего они плохо ладят между собой. Точнее говоря, в номовом государстве община и государство совпадают. С появлением территориального государства общины постепенно утрачивают самоуправление, но очень долго сохраняют память о своих прерогативах и пытаются их отстаивать. Представление о гражданстве в древности всегда предполагает гражданство в определенной общине, а не в территориальном государстве. И широко распространенное представление о том, что основное различие между Западом и Востоком состоит в более длительном сохранении общины на Востоке, нуждается в значительных уточнениях. В действительности община гораздо дольше и целостнее сохранялась на Западе — в виде античного полиса. И даже в Римской империи городские общины (и городское гражданство) продолжали сохраняться. На Востоке же, где территориальное государство возникло значительно раньше, оно повсюду в той или иной степени деформировало общинные структуры, вплоть до их практического исчезновения в Египте. Но повсеместно же община вновь и вновь возрождалась как наиболее
естественная форма социальной организации, несмотря на все усилия государства, а иногда и при его содействии — как наиболее удобное учреждение для взимания податей и повинностей* Именно в этом своем последнем качестве община и сохранилась на Востоке до нашего времени. На Западе же полисы были в конце концов поглощены империями и длительное время сохранялись лишь формально (испрашивая разрешение у императора даже на постройку городской бани), а затем и вовсе перестали существовать, но очень скоро были заменены общинами новых вольных городов (в Священной Римской империи) и городских коммун (в Италии и во Франции), впрочем, здесь сохранилась сельская община. Следует еще отметить, что все государства надо разделять на первичные и вторичные. Первичными мы будем называть такие государства, которые возникают лишь в результате внутреннего развития, а вторичными — такие, которые возникают не только в результате внутреннего развития, но и под влиянием примера соседей. Понятия «первичное» и «вторичное» не являются здесь оценочными, но лишь указывают на особую роль этих двух факторов. Вторичное государство, таким образом, возникает несколько быстрее, чем оно возникло бы в данном обществе под влиянием одного только внутреннего развития, и по этой причине сохраняет пережитки первобытнообщинного строя (например, племенные структуры, которые невозможно обнаружить в первичных государствах Месопотамии или Египта). А этим, в свою очередь, объясняются некоторые особенности дальнейшей истории вторичных государств, и в частности их непрочность (например, распад Израильского царства на два отдельных царства— Израильское и Иудейское).
V
Выше уже упоминалось о двояком подходе к изучению истории древности и вообще истории, т.е. о цивилизационном и стадиальном подходах. Основные проблемы цивилизационного подхода были сформулированы и вкратце рассмотрены выше. Этот подход позволяет выявить и в той или иной степени объяснить индивидуальные особенности древних цивилизаций и конкретных обществ. Но полнота исследования требует также и исследования общих закономерностей исторического развития, т.е. стадиального подхода. Как уже было сказано выше, наличие определенных стадий общественного развития не является чьей-то выдумкой или тем более иллюзией, но представляет собой эмпирический факт. Этот факт сам по себе требует объяснений, но и учет этого факта в историческом исследовании позволяет правильно понимать многие явления, которые при ином подходе остаются просто необъяснимыми либо списываются на случайность или волю Провидения. Случайность в истории, разумеется, присутствует. Еще А.С. Пушкин говорил, что, если отвергать случайность, история была бы чем-то вроде астрономии, которая, как известно, в принципе способна предсказать движение любого небесного тела на любой срок вперед, а также вычислить его движение на любой срок в прошлом. Что же касается воли Провидения, то это — вопрос веры и поэтому обсуждению не подлежит. Но если мы исходим из того,
что существует наука история, нам необходимо обнаружить в ней некие общие закономерности. В естественных науках обнаруженные закономерности проверяются и подтверждаются или опровергаются экспериментально. История, как и другие общественные науки, имеет дело с объектами неизмеримо более сложными, чем объекты естественных наук. К тому же эксперименты с прошлым невозможны, а эксперименты с будущим, т.е. попытки повлиять на будущее, требуют крайней осторожности, ибо человечество стало чрезвычайно могущественным, но способностью предвидеть хотя бы в самых общих чертах результаты своей деятельности так и не обзавелось и поэтому может натворить непоправимых бед. Следует, однако, заметить, что в истории (как и, например, в физике) возможен мысленный эксперимент. Одним из примеров такого мысленного эксперимента в истории являются утопические и антиутопические произведения литературы, и в частности научная фантастика (чтение хорошей научной фантастики полезно для историка). В каждодневной же своей работе историк проверяет реальность обнаруженных им закономерностей по их объяснительной силе, т.е. по тому, в какой степени они помогают понимать и систематизировать конкретные факты истории. Применительно к нашему предмету можно, видимо, говорить о некоторых общих закономерностях.
Такие закономерности в истории реально существуют, они обладают различной силой, различной направленностью и различным характером, они очень сложным образом взаимодействуют («интерферируют») между собой и со всевозможными случайностями. Происходящие в природе и социумах закономерные процессы время от времени достигают точки бифуркации, когда дальнейшее развитие может идти по двум (или больше) различным направлениям, а реальный выбор направления определяется нередко незначительными и случайными факторами. Но когда выбор осуществился, дальнейшее развитие (до новой точки бифуркации) идет (в общем и целом) с железной закономерностью. То, что на свет появился Наполеон Бонапарт, величайший полководец всех времен и народов, да к тому же еще и административный гений, и то, что он появился там и тогда, где и когда все это и произошло, разумеется, случайность. То, что все революции заканчиваются личной диктатурой — видимо, закономерность. То, что Великая Французская революция завершилась диктатурой именно Наполеона, — опять-таки случайность (он мог и не дожить, погибнуть в сражении или угодить на гильотину) и в то же время — закономерность, как и то, что эти два факта в очень значительной степени определили собой всю дальнейшую историю Европы, включая даже историю литературы и искусства, а значит— и историю мира. Наука история (повторим еще раз) тем и отличается от всех других наук, что ее предмет неизмеримо сложнее, чем предметы всех прочих наук, в том числе и гуманитарных. В частности, и потому, что выявить точки бифуркации и релевантные факторы выбора конкретного направления, как правило, чрезвычайно трудно, хотя иногда они очевидны. Так, случайная смерть Александра Македонского в возрасте 33 лет изменила, видимо, характер всей последующей истории, то же самое произошло и в результате уже упоминавшейся победы Рима в Пунических войнах, но сколько в истории случаев менее очевидных и совсем неочевидных... Если же говорить о закономерностях более или менее кон
кретных, то общество древности можно охарактеризовать как общинно-гражданское, т.е. как общество, где правящим классом являются полноправные свободные граждане, объединенные в общины. Распространенное до сих пор определение этого общества как рабовладельческого следует считать устаревшим. Рабовладение почти нигде в древности не играло решающей экономической роли, а рабовладельцами могли быть неполноправные или чужеземцы и даже сами рабы. С другой стороны, рабство и рабовладение не исчезают с концом древности и существуют до сих пор. Переход к следующей стадии (или формации) был связан не с гибелью рабства, а с гибелью свободы, с превращением граждан в подданных. В целом период древности следует делить на два подпериода — раннюю древность и позднюю древность. Для ранней древности характерны следующие основные черты:
1. Полноправные свободные граждане объединены в соседские общины. Этим общинам принадлежит право собственности на землю, находящее свое выражение в различных формах— от периодических переделов земли или общего пользования всей или частью общинной земли до контроля над ее отчуждением. Сами эти свободные составляют единое сословие или разделены на сословия второго порядка. Соседская община состоит из большесемейных общин или парных семей (нередко встречается и полигамия) и пользуется в той или иной мере самоуправлением (народное собрание, старейшины, выборные магистраты).
2. Существует общинная социальная психология взаимной помощи и коллективной ответственности, круговой поруки.
3. Религии ранней древности представляют собой политеистические ритуали-стические религии, в которых этика находится на втором плане (грех понимается прежде всего не как этический проступок, а как нарушение ритуала, нарушение неких табу, пусть даже и невольное). Эти религии называют также естественными, поскольку они являются прямым, хотя и сильно переосмысленным продолжением первобытных верований и представлений. Переход от первобытности к ранней древности, видимо, оставил след в мифологиях многих древних народов в виде мифов о смене поколений богов и о борьбе светлых богов с мрачными хтоническими чудовищами, о победе порядка над хаосом.
4. Государство ранней древности представляет собой государство-город (но-мовое государство) или территориальное государство.
Для поздней древности характерны следующие перемены:
1. Общинная земельная собственность распадается и в значительной степени или полностью вытесняется частной собственностью на землю.
2. В составе территориального государства или империи соседские общины (кроме храмовых городов) утрачивают самоуправление и превращаются в чисто административные и фискальные единицы.
3. Возникает новый тип государства— упомянутые выше империи (особо крупные империи в науке называют также мировыми державами).
4. Происходят важные перемены в социальной и индивидуальной психологии — рост индивидуализма, появление новых представлений о человеческой личности. Эти новые представления находят свое выражение, в частности, в праве: кровная месть, основывающаяся на принципе коллективной вины и коллек
тивной ответственности, заменяется наказанием по судебному приговору, основывающемуся на принципе индивидуальной вины и индивидуальной ответственности.
5. Возникают и распространяются новые религии и философские учения, в которых центральную роль играет этика. Эти новые религии именуются мировыми, поскольку они, как правило, переходят общинные и этнические границы. Их именуют также религиями спасения и религиями откровения. Первое наименование связано с тем, что эти религии ставят во главу угла проблему личного взаимоотношения между человеком и божеством и достигаемого посредством такого взаимоотношения спасения от зла. Второе наименование указывает на то, что новые религиозно-философские учения имеют, как правило, реальных исторических основоположников, чьи высказывания (более или менее подлинные) составляют основу священного писания этих религий. Наконец, наличие этих священных писаний позволяет определять такие религии как догматические. Все эти религии возникают, разумеется, не на пустом месте. Они, как и религии ранней древности, восходят так или иначе к религиям-предшественницам, но складываются в полемике со своими предшественницами, которые в результате оказываются сильно преобразованными, иногда до почти полной неузнаваемости.
Ранняя и поздняя древность иногда рассматриваются в современной науке как самостоятельные стадии. Поздняя же древность именуется нередко «осевым временем». Этот термин означает, что именно это время (охватывающее примерно I тысячелетие до н.э. и первые века н.э.) определило собой направление всего дальнейшего хода истории. Именно в это время сложился современный тип человека как неповторимой, самоценной и суверенной личности, а не почти безличной составной части племени, рода, сословия, государства. В сущности, это была перемена не менее важная и радикальная, чем становление человека разумного. Но произошла она неизмеримо быстрее и была не биологической, а психологической: Homo sapiens — Человек разумный — стал также Человеком этическим. Начиная с этого времени все религиозные и философские учения во главу угла ставят этические проблемы, формулируют этические идеалы и настаивают на том, что мир должен быть изменен в соответствии с этими идеалами, что в конце концов и произошло на исходе древности, хотя результат и получился существенно иным, чем тот, о котором мечтали тогдашние пророки, проповедники и философы. По этой причине позднюю (имперскую) древность иногда рассматривают как самостоятельную формацию. По-видимому, это неверно, ибо на обеих стадиях древности основным классом общества остается все тот же класс свободных полноправных граждан. Конец древнего общества, как уже говорилось выше, связан не с гибелью рабства, а с гибелью свободного гражданства. Понятно, что это был длительный процесс, занявший многие века и в разных частях тогдашнего цивилизованного мира происходивший не одновременно. Можно, однако, указать некоторые даты, отмечающие важнейшие этапы этого процесса. Приведем их для двух краев тогдашней ойкумены. В конце III в. до н.э. в Китае один из вождей крестьянского восстания, Лю Бан, сверг последнего императора династии Цинь, устранил всех соперников и сам сделался императором Китая, основателем новой династии (Старшая Хань). Своим ука
зом он даровал всем свободным главам семейств младшую степень знатности, сделав их таким образом составной частью государственно-бюрократической системы. Через четыре века практически то же самое, но в соответствии с местными социальными и политическими условиями было проделано на Западе, в Римской империи. Император Каракалла своим эдиктом 212 г. даровал римское гражданство всем свободным жителям империи. Так гражданство перестало быть привилегией, и все граждане превратились в подданных. Необходимо еще раз подчеркнуть, что все эти процессы происходили в разных обществах по-разному и в течение длительного времени. Но результат во всех случаях был один и тот же: существенные перемены в структуре общества, в способах управления обществом и в социальной психологии. Теперь высшим слоем общества является военно-бюрократическое сословие, состоящее на службе у государства (за жалованье, за земельные пожалования или за то и другое вместе), в ряде случаев присваивающее себе также и некоторые прерогативы государства (налоги, повинности, суд). Все это и означает, что наступила новая историческая фаза — Средневековье. Эту стадию можно также именовать феодальной, но не следует забывать, что характерная для Западной Европы иерархическая структура вассальных отношений не является обязательным признаком феодализма и не присуща большей части других стран. Но и в Европе такая структура возникла не случайно, что и подтверждается удивительно похожей структурой, возникшей на другом конце Евразийского материка — в Японии.
VI
Тесные связи между основными цивилизациями на всем протяжении их существования иллюстрируются многими примерами, приведенными уже в тексте этого Предисловия. Можно привести еще множество таких примеров— от любопытных, но более или менее очевидных до весьма неожиданных. К первым из них относится, например, двуглавый орел, геральдический символ, впервые возникший у древних хеттов, а затем ставший символом (не гербом!) Византии, а еще позднее — гербом династии Габсбургов, а также Московского княжества, Российского царства, Российской империи и — после перерыва— Российской Федерации. Об одном из примеров, относящихся ко второй группе, стоит рассказать более подробно. В первой части нашей «Истории Древнего Востока» рассказывается о любопытном шумерском документе, который в современной науке носит название «Шумерский царский список». Он был составлен (или, во всяком случае, завершен) при Первой династии Иссина, и современные исследователи более или менее единодушны в определении его назначения: он представляет собой идеологическое обоснование единой царской власти во всей Месопотамии. Для этой цели авторы «Списка» перечисляют существовавшие в Месопотамии параллельно династии правителей различных городов-государств как существовавшие последовательно и составлявшие непрерывную (кроме времени Всемирного потопа) преемственность. Власть («царственность»), следовательно, всегда была единой и лишь меняла свою резиденцию, т.е. города были столицами поочередно, и некоторые — не по одному циклу. Изменение резиденции, согласно
«Списку», имело насильственный характер. Вавилонский царь Хаммурапи, однако, объявил в Прологе к своим знаменитым Законам, что Вавилон является вечным обиталищем «царственности». Это идеологическое нововведение имело большой успех, и престиж Вавилонского царства был чрезвычайно высок вплоть до времени Селевкидов, несмотря на периоды политического упадка. Даже ассирийцы, завоевав Вавилонию (об этом будет рассказано в этом томе), не решились превратить ее в провинцию своей империи, как они обычно поступали с захваченными странами. Вместо этого ассирийские цари стали короноваться также и вавилонской короной, объединив, таким образом, две страны личной унией. По-видимому, именно этим они подорвали основу своей империи. Персидские цари, включившие Вавилонию в свою державу, тоже титуловали себя царями Вавилона. Последним, кто получил вавилонскую корону, совершив древний обряд «касания рук Владыки-Мардука», был Александр Македонский, намеревавшийся сделать Вавилонию центром своей державы, а Вавилон — ее столицей. Вавилония и далее, вплоть до новейшего времени, неизменно оставалась самой важной частью всех переднеазиатских империй до Оттоманской включительно, и не только из-за ее экономического значения, но также и из-за связанного с ней престижа. Но идея верховенства получила тем временем дальнейшее развитие, превратившись из идеи верховенства города в идею верховенства царства, идею вселенской власти. Согласно библейской Книге Даниила (датируется примерно III—II вв. до н.э.), власть над миром последовательно принадлежит вавилонянам, персам, грекам и римлянам. С победой христианства эта идея была перенесена в Европу и там превратилась в историко-политическую концепцию translatio imperii, т.е. переноса верховной власти. Эта идея стала идеологическим обоснованием империи Карла Великого и Священной Римской империи германской нации. За эту идею, давно уже ставшую фикцией, упорно держались императоры вплоть до того момента, когда Наполеон заставил их довольствоваться впредь более скромным титулом австрийского (позднее — австро-венгерского) императора. С этой же фикцией связана и идея Москвы — Третьего Рима и еще одна идея, о которой не хочется даже вспоминать.
Связь времен видна, таким образом, и в большом и в малом. Можно, если угодно, назвать это сохранением традиций. За верность традициям во что бы то ни стало ратуют сейчас многие. Но необходимо понимать, что, неуклонно следуя традициям, люди и сейчас жили бы на деревьях или в пещерах... Из сказанного вовсе не следует, однако, что традиции вредны. Просто необходимо соблюдать золотую середину. При засилье традиции культуру постигает застой, а при засилье новаторства культура теряет основу. В этом, видимо, и состоит главный урок истории.
ПРОТОГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ш Ж НА ТЕРРИТОРИИ ИНДОСТАНА Ж X И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Глава 1
Одна из древнейших цивилизаций сформировалась в середине III тысячелетия до н.э. или несколько ранее в долине Инда. Ее открытие и дальнейшее изучение — из числа тех, что перевернули сложившиеся представления о ходе истории на Древнем Востоке. Оказалось, что на территории древнеиндийской цивилизации, которая считалась «молодой» по сравнению с другими древневосточными цивилизациями, в Ш-П тысячелетиях до н.э. существовали многочисленные поселения, в том числе хорошо спланированные города с монументальными сооружениями, обитатели которых обладали высокоразвитым ремеслом и искусством, письменностью. Они вели оживленный обмен и торговлю с государствами Месопотамии; они основывали поселения в столь отдаленных областях, как север современного Афганистана.
Настоящий раздел отличается от других, составляющих' эту книгу: здесь читатель не найдет имен правителей, описаний военных походов, политической истории. Причина— характер источников, которые представлены памятниками материальной культуры, обнаруженными при раскопках археологами. Вещественность этих памятников отнюдь не означает, что они не несут признаков культуры в широком смысле слова, что они не могут восприниматься, в частности, как свидетельства мировосприятия людей, их представлений об окружающем мире, их реакций на природу и себе подобных. Вещи своими материалами, формами, способами обращения с ними их создателей говорят о породившей их культуре. В отличие от древних письменных текстов эти вещественные тексты повествуют, если попытаться их прочесть, о тех сторонах жизни людей, которые не могли быть зафиксированы письменно. Идеальная для проникновения в мир
древних ситуация — использование свидетельств письменных и материальных, археологических текстов, дополняющих друг друга. К сожалению, известные письменные тексты хараппской цивилизации, большие усилия для дешифровки которых предпринимались и продолжают предприниматься, в частности, отечественными исследователями, крайне лаконичны и немногочисленны, а их содержание ограничивается, как есть основания полагать, календарной и ритуальной сферами.
Название реки «Инд» послужило основой наименования страны — «Индия», под которой в древности понимали пространства к востоку от Инда, где в настоящее время находятся государства Пакистан, Индия, Непал, Бангладеш. До относительно недавнего времени (несколько более ста лет назад) первыми создателями цивилизации на Индийском субконтиненте считались пришельцы-арии. Общепринятым было мнение, что в письменных текстах не сохранилось сведений о великой предшествующей культуре. Сейчас можно сказать, что они все же распознаются, хотя и с трудом. В частности, в «Географии» Страбона со ссылкой на грека Аристобула говорится об обширной, покинутой жителями из-за изменения русла Инда стране (Страбон, XV, 19). Такие сведения единичны, и источники, характеризующие культуру Хараппы, или цивилизацию долины Инда, добыты и продолжают добываться в ходе археологических раскопок.
История изучения. Цивилизация Хараппы в отличие от большинства других древних цивилизаций стала исследоваться относительно недавно. Первые ее признаки обнаружены в 60-е годы XIX в., когда близ Хараппы — в Пенджабе были найдены образцы столь характерных для этой цивилизации печатей-штампов. Они обнаружены при сооружении дорожных насыпей, для каковой цели использовались огромные массы древнего культурного слоя. На печати обратил внимание офицер инженерных войск Д. Каннингхэм, впоследствии первый глава Археологической службы Индии. Его считают одним из основателей индийской археологии. Однако лишь в 1921 г. сотрудник Археологической службы Р.Д. Ба-нерджи при исследовании буддийского памятника в Мохенджо-Даро («Холм мертвых») обнаружил здесь следы значительно более древней культуры, которую он определил как доарийскую. В это же время Р.Б. Сахни начал раскопки Хараппы. Вскоре главой Археологической службы Дж. Маршаллом в Мохенджо-Даро были начаты систематические раскопки, результаты которых произвели столь же ошеломляющее впечатление, что и раскопки Г. Шлимана в Трое и материковой Греции: уже в первые годы найдены монументальные сооружения из обожженного кирпича и произведения искусства (в том числе известная скульптура «царя-жреца»). Относительный возраст цивилизации, следы которой стали встречать в различных регионах севера полуострова, был определен благодаря находкам характерных печатей в городах Месопотамии, сначала в Кише и Лагаше, потом и в других. В начале 30-х годов XX в. дата бытования цивилизации, существование которой не распознавалось в древних письменных текстах ее соседей, было определено как 2500-1800 гг. до н.э. Примечательно, что, несмотря на новые методы датирования, в том числе радиокарбонный, датировка хараппской цивилизации периода расцвета в настоящее время ненамного отличается от
предложенной более 70 лет назад, хотя калиброванные даты предполагают ее ббльшую древность.
Оживленные дебаты вызвала проблема происхождения этой цивилизации, распространявшейся, как вскоре стало ясно, на обширной территории. На основании существовавших тогда сведений естественно было предположить, что импульсы или прямые воздействия, способствовавшие ее возникновению, шли с запада — из региона Ирана и Месопотамии. В связи с этим особое внимание уделялось району индо-иранского пограничья — Белуджистану. Первые находки были сделаны здесь еще в 20-е годы XX в. М.А. Стейном, но широкомасштабные исследования предпринимались после Второй мировой войны и приобретения независимости государствами субконтинента.
До возникновения независимых государств археологические исследования хараппской культуры были ограничены в основном центральным регионом «Большой долины Инда» (термин, предложенный М.Р. Мугхалом), где располагаются крупнейшие города— Мохенджо-Даро и Хараппа. Затем в Индии интенсивные исследования проводились в Гуджарате (крупные раскопки— Лотхал и Суркотада), Раджастане (здесь особенно важны раскопки Калибангана), Пенджабе. Масштабные работы во второй половине XX в. проводились там, где прежде протекала р. Хакра-Гхаггар. Здесь было обнаружено около 400 поселений с напластованиями от дохараппской до постхараппской культур.
В 50-60-е годы были получены данные об энеолитических (халколитических) культурах, керамика которых обладала сходством с находками, известными на территории Ирана, Афганистана, юга Туркменистана. Предположения о влиянии из этих регионов, послужившем причиной возникновения сначала предхарапп-ских культур, а потом и самой Хараппы, в дальнейшем были скорректированы. То, что представлялось свидетельством миграций, стало восприниматься как результат взаимодействий, влияний, оказывавшихся благотворными, поскольку местное население обладало способностью не просто воспринимать их, но и трансформировать, исходя из собственных традиций. Особую роль в понимании процессов возникновения цивилизации долины Инда сыграли раскопки в Пакистане, в частности поселения неолита— бронзового века Мехргарха на р. Болан, проводившиеся французскими исследователями.
Для сохранения и будущих исследований памятников хараппской цивилизации имеют значение предпринятые ЮНЕСКО в 60-е годы прошлого века попытки спасения от почвенных вод и засоления одного из важнейших городов — Мохенджо-Даро. В результате были получены новые данные, уточнившие и дополнившие уже известные.
Территория распространения хараппской цивилизации. Долина Инда лежит в северо-западном углу обширного субконтинента, в настоящее время основная се часть находится на территории Пакистана. Она входит в зону культурной интеграции, ограниченную с севера Амударьей, на юге — Оманом, простирающуюся на 2000 км к северу от тропика Рака. Климат во всей зоне континентальный, реки имеют внутренний сток.
С севера субконтинент ограничен высочайшей горной системой Гималаев и Каракорума, откуда берут начало крупнейшие реки полуострова. Гималаи иг-
рают важную роль, встречая летний муссон, перераспределяя его ход, конденсируя избыток влаги в ледниках. Важно, что горы богаты деревом, в том числе ценных пород. С юго-запада и юго-востока полуостров омывается Аравийским морем и Бенгальским заливом. Индо-Гангская низменность образует полумесяц шириной 250-350 км, ее протяженность от Аравийского моря до Бенгальского залива— 3000 км. Пять притоков Инда орошают равнину Пенджаба-Пяти-речья — это Джелам, Ченаб, Рави, Беас и Сатледж. Западная часть долины Ганга и область между Гангом и Джамной (Доаб)— место формирования классической культуры Индии, Арьяварта (Страна ариев). В районе Карачи отложения Инда образуют шельф протяженностью 200 км. Сейчас долина Инда— голая низменность с руслами высохших рек и песчаными дюнами, хотя еще при Моголах ее покрывали густые леса, изобиловавшие дичью.
К югу от равнины лежат возвышенность и горы Виндхья, южнее — засушливое плоскогорье Декан, обрамленное с запада и востока горными цепями — Западными и Восточными Гатами. Большинство рек плоскогорья текут с запада на восток, исключение представляют только две из значительных— Нармада и Тапти. Географическое продолжение полуострова— остров Цейлон. Прибрежная часть узкая, с немногочисленными хорошими портами. Общая протяженность субконтинента от Кашмира до мыса Коморин — около 3200 км.
На северо-западе значительную часть Пакистана занимают горы и долины Белуджистана. Это район, сыгравший важную роль в сложении цивилизации долины Инда.
Источники использовавшихся в древности полезных ископаемых находились как за пределами (о чем специально будет говориться ниже) субконтинента, так и на нем самом. Вероятно, медь поступала, в частности, из месторождений между Кабулом и Курратом, из Белуджистана и Раджастана (месторождение Ганеш-вар-Кхетри). Одним из источников олова могли быть месторождения в Бенгалии, не исключено, что оно шло и из Афганистана. Золото и серебро могли поступать из Афганистана и с юга Декана. Полудрагоценные и поделочные минералы доставляли из Хорасана (бирюза), с Памира, из Восточного Туркестана, с Тибета, из Северной Бирмы (лазурит, нефрит). Месторождения поделочных камней, из которых так любили делать бусы, находились на субконтиненте.
Климат, в целом тропический муссонный, отличается в то же время разнообразием. В индо-иранской пограничной области он аридный и полуаридный с преимущественно летними осадками. В Восточном Синде в год выпадает 7 мм осадков. На севере, в Гималаях, зимы холодные, на равнинах они мягкие, а лето жаркое, температура до +43°. На плоскогорье Декан колебание температур в разные сезоны менее резкое.
Географическое положение Индийского субконтинента определяет специфику его климата, а значит— и особенности хозяйства. С октября по май дожди редки, за исключением районов западного побережья и отдельных областей Цейлона. Пик жары приходится на апрель, к концу которого выгорает трава и с деревьев опадают листья. В июне наступает сезон муссонных дождей, длящийся около двух месяцев. В это время деятельность за пределами жилищ затруднена, тем не менее оно воспринимается индийцами, как европейцами —
весна, время оживления природы. Сейчас, как отчасти и в древности, практикуются два вида посевов — раби, с использованием искусственного орошения, при котором урожай собирали в начале лета, и хариф, при котором урожай собирали осенью. Прежде плодородие почв регулярно восстанавливалось разливами Инда и условия ведения хозяйства были благоприятные для земледелия, разведения скота, рыболовства, охоты.
Природа субконтинента отличается своеобразной суровостью — люди страдали и страдают от жары и наводнений, эпидемических заболеваний, свойственных жаркому и влажному климату. В то же время природа послужила мощным стимулом сложения яркой и самобытной культуры.
Древнейшее прошлое. Древнейшее прошлое Индийского субконтинента не является предметом детального освещения в настоящей главе, тем более что палеолит на этих территориях изучен недостаточно. Тем не менее следует упомянуть предположения (впрочем, нуждающиеся в дальнейших подтверждениях) о том, что люди обитали, по крайней мере на территории Пакистана, уже около 2 млн. лет назад. С большей уверенностью можно говорить об ашельских комплексах, возраст которых оценивается в 500-60 тыс. лет. Выявленная для этого периода соанская индустрия объединяет признаки, присущие ашельским и мустьерским орудиям и орудиям из галек. По всему полуострову обнаружены следы охотников, собирателей и рыболовов среднего каменного века— мезолита. Они пользовались луком и стрелами, орудиями из микролитов, копьями, рыболовными крючками. Мезолитические культуры в разных районах имеют своеобразные черты.
В неолитическое время, по-видимому, большую часть полуострова населяли охотники и собиратели. Очевидно, не они положили начало хараппской цивилизации, основой которой было развитое земледелие и скотоводство. Долгое время скудость археологических материалов позволяла лишь гадать об истоках цивилизации. Сложность ситуации усугублялась тем, что на аллювиальной равнине с высоким уровнем грунтовых вод древнейшие слои оказываются недоступными. Например, в одном из крупнейших городов хараппской цивилизации, Мохенджо-Даро, материк лежит почти на 12 м ниже окружающей равнины. Около Мохенджо-Даро с 2000 г. до н.э. до сего дня накопилось около 8 м отложений.
Неолит и халколит. А. Бэшем писал о цивилизации долины Инда: «Эта великая цивилизация очень мало заимствовала у Ближнего Востока, и нет оснований полагать, что ее создали пришельцы» [Бэшем, 1977, с. 21]. Действительно, расположенная на значительном расстоянии от других цивилизаций, она отличалась ярким своеобразием. В то же время, как показывают все более умножающиеся сведения, она возникла и существовала не только за счет собственного развития, но и благодаря тесным контактам с древневосточным миром, разнообразие которых становится все более явным.
Хараппская цивилизация была земледельческой, но то, что известно о возникновении производящего хозяйства на Востоке, не позволяет предположить, что злаки и большинство животных могли быть одомашнены на основной ее территории — аллювиальной равнине. Земли, где они могли быть одомашнены,
искали на соседних территориях, в первую очередь в Белуджистане. Пакистан входит в третий, Центральноазиатский центр Н.И. Вавилова, где, по его предположению, могли быть доместицированы пшеница, такие бобовые, как горох и чечевица, масличные растения, а также, вероятно, хлопок.
Некоторые новые моменты в изучении предыстории хараппской цивилизации были выяснены в 70-е годы XX в., когда были начаты раскопки поселения Мехр-гарх, находящегося в долине Качи на берегу р. Болан и частично разрушенного ею. Знаменательно расположение его— неподалеку от Боланского перевала, одного из главных, соединяющих Западную и Центральную Азию с Южной. Разновременные следы обитания (от неолита до бронзового века) обнаружены на площади более 200 га. Неолитические напластования имеют мощность около 7 м, нижние относятся к бескерамическому периоду. Жилые дома небольшие, стандартной планировки, сооружались из сырцового кирпича, покрытого глиняной обмазкой. В углу располагался очаг. Обнаружены хранилища, состоявшие из небольших помещений. Во второй половине VII тысячелетия до н.э. появилась керамическая посуда. В напластованиях второй половины VI тысячелетия до н.э. найдены многокомнатные хранилища (по всей вероятности, коллективные) с обугленными зернами и их отпечатками. Высказывалось предположение, что в это время в земледелии могло использоваться искусственное орошение.
В обнаруженных на поселении неолитических погребениях примечательно относительное обилие инвентаря: здесь найдены вместилища из необожженной глины, камня, а также плетеные, обмазанные битумом; костяные и каменные орудия, в том числе шлифованные, кости домашних животных, разнообразные украшения из морских раковин, камня, в частности лазурита и бирюзы, что предполагает существование обменных связей. На обряды, значение которых остается неясным, указывают захоронения детенышей мелкого рогатого скота. Уже в докерамических слоях обнаружены медные бусы. Данные погребений указывают, по мнению исследователей, на существование дифференциации по полу, возрасту и/или социальному статусу.
Обитатели Мехргарха поры бескерамического неолита сеяли пшеницу и ячмень нескольких видов. Посев, как можно предполагать, производился осенью. Земля обрабатывалась мотыгами, урожай собирали с помощью жатвенных ножей с вставленными в прямую основу мелкими каменными пластинками, зерно мололи на каменных зернотерках. Использовали также плоды ююбы и финиковой пальмы.
Начав с разведения коз, вскоре стали разводить овец и крупный рогатый скот, возможно, зебувидного облика, которые были в хозяйстве и у носителей хараппской культуры.
Местоположение Мехргарха, его близость к ведущим на запад путям и общий облик культуры (архитектурные сооружения, погребальная практика, антропоморфная пластика и т.д.) дают основание для сближений с явлениями культур, которые известны в области Загроса, далеко к западу. Однако сходство в области материальной культуры носит слишком общий характер для того, чтобы можно было говорить о миграции в Белуджистан из некоего определенного района. Быть может, новые данные с промежуточных территорий позволят прояснить
7. Мехргарх. План неолитического поселения
происхождение этого яркого, но пока обособленного поселения. В настоящее время можно предполагать как восприятие отдельных элементов культуры из западных регионов, так и существование местной среды, готовой к восприятию воздействий потому, что в них ощущалась настоятельная потребность.
На уровне современных сведений Мехргарх— самое выразительное неолитическое раннеземледельческое поселение неподалеку от долины Инда, давшее материал, позволяющий предполагать, что оно— одно из тех, которые стояли у истоков хараппской цивилизации. Ситуация меняется в халколите (V-IV тыс. до н.э.), в эпоху, от которой в Белуджистане и в самой долине Инда дошло значительное число поселений. Мехргарх снова дал важные материалы, свидетельствующие о состоянии культуры в эту эпоху. Удалось установить, что в середине V — начале IV тысячелетия до н.э. люди обитали в многокомнатных домах площадью 20x15 кв. м с небольшими помещениями. Мастерские группировались в одном месте, что указывает на существование специализированного ремесла. Уже в начале IV тысячелетия до н.э. или, согласно другому мнению, на полтысячелетия позднее керамика изготавливалась на круге медленного вращения, на смену которому в следующем тысячелетии пришел более совершенный круг. Кремово-оранжевую поверхность сосудов покрывали темно-красной росписью, сначала геометрической, потом фигуративной (изображали животных и птиц, антропоморфные существа). При обжиге посуды в керамических горнах удавалось получать высокие температуры. Это достижение было связано и с развитием медеплавильного производства. Из меди в это время делали шилья, ножи, топоры, булавки. С распространением меди, как полагают, связано сокращение количества каменных изделий (применялись микролиты и пластины); обнаружены слитки меди, как и в хараппское время, сферической формы. В эту пору пользовались украшениями из различных минералов, раковин и даже золота. Материалом служил и столь распространенный на соседних территориях стеатит, использовавшийся также позднее, в хараппское время. В конце IV тысячелетия до н.э. появляются печати-штампы из обычной и слоновой кости, камня.
Из глины в Мехргархе, как и в других халколитических поселениях Белуджистана, делали фигурки сидящих женщин, которых со временем стали изображать в пышных прическах, с ожерельями и браслетами.
Халколитические культуры Белуджистана относятся к культурам расписной керамики, на изучении которой часто строятся гипотезы о происхождении тех или иных культур, связях между ними. Во второй половине IV тысячелетия до н.э. на севере распространяется керамика «стиля Кветты», сосуды которой наряду с листьями пипала, изображениями животных, рыб и птиц орнаментировались геометрическими фигурами в виде крестов и полукрестов с зубчатыми краями. Орнаментальные мотивы имеют сходство с теми, что обнаружены на сосудах анауской культуры Южного Туркменистана (период Намазга III), что наряду с близостью облика антропоморфных статуэток и печатей послужило основанием для предположения о миграции населения из Туркменистана в Белуджистан. Сейчас эти сходные явления склонны рассматривать как результат разнообразных контактов, среди которых и перемещения отдельных групп людей, но отнюдь не массовые миграции.
2. Мехргарх. Комплекс неолитического времени
В халколитических поселениях Белуджистана обнаружены постройки из сырцового кирпича, орудия из камня и меди, в том числе предметы вооружения, глиняные фигурки женщин с налепными деталями и украшениями и фигурки животных. Полагают, что на протяжении этого и отчасти более раннего периодов люди определили отношения человек-вода-почва и освоили методы примитивной ирригации. Есть мнение, что обитатели Мехргарха умели проводить каналы.
В IV—III тысячелетиях до н.э. в керамических изделиях, печатях, погребальных обрядах в равнинных и горных районах Белуджистана прослеживаются как своеобразные, так и общие черты, позволяющие предполагать существование взаимодополняющих форм хозяйствования, земледелия и подвижного скотоводства.
Хотя многое в предыстории хараппской цивилизации продолжает оставаться неясным, исследования последних десятилетий дают все больше материалов для понимания этапов, предшествовавших сложению этого феномена в его зрелых формах. Среди них— культура Кот-Диджи, получившая название от поселения, расположенного на берегу Инда, в 40 км от одного из крупнейших городов хараппской цивилизации — Мохенджо-Даро. Нижние слои этого поселения исследовавший его Ф.А. Хан отнес к дохараппским, верхние — к хараппским. Керамика с черной, красной, реже — белой росписью встречается не только здесь, но и в Северном Белуджистане, Джалипуре — около Хараппы, в Калибангане. Этот культурный феномен распространен на обширной территории и по имеющимся калиброванным датам на 800 лет предшествует периоду зрелой Хараппы. В поселениях этого типа обнаружены вещи, которые в других стратиграфических условиях могли быть сочтены хараппскими, — большинство форм сосудов и элементы их декора, стеатитовые печати, признаки письменности, кубические гирьки. Ряд исследователей склонны на основании этих сходств именовать культуру Кот-Диджи не дохараппской, а раннехараппской. Таким образом, начало процесса, достигшего кульминации около середины III тысячелетия до н.э., должно быть отнесено ко второй половине IV тысячелетия до н.э. Следует заметить, что высказывалось мнение и о сосуществовании культур Кот-Диджи и Хараппы на определенном этапе, после чего первая оказалась вытесненной более мощной хараппской. К подобным феноменам принадлежит культура Амри, относимая исследователями к раннехараппскому времени.
Один из крупнейших исследователей дохараппских и хараппской культур, У. Ферсервис, полагал, что носители культур типа Кот-Диджи и Амри (Синд, Пакистан) в предхараппское время достигли высокого уровня хозяйственного и социального развития. Они обитали в деревнях, которыми управляли старейшины, и в городах, окруженных стенами, в Кот-Диджи построенными из известняковых блоков и необожженного кирпича. В поселениях предполагают существование построек культового характера. Обнаружены признаки специализированных производств и развитого обмена. В обществах реализовались симбиотические отношения пастухов и земледельцев, городов и деревень.
В Северном Белуджистане выделены халколитические культуры зхоб и квет-та, для которых характерны своеобразные стили росписи сосудов, фигурки «бо
гини-матери» и горбатых быков зебу из глины, каменные и медные орудия и оружие.
На юге Белуджистана известны поселения яркой культуры кулли-мехи, ранняя фаза которой относится к дохараппскому периоду. Обнаружены жилые постройки из кирпича на каменных фундаментах. В Ниндовари, площадь которого, как полагают, составляла 25 га, найдены постройки предположительно административного и религиозного назначения, хранилище для зерна с вероятными свидетельствами совершения здесь ритуальных действий— фигурками антропоморфных существ и животных. Поселение лежит в долине, где практиковалось террасное земледелие. Для этой культуры характерны сосуды с черной и красной росписью, изображающей стилизованных животных и растения.
В Калибангане на Сарасвати к дохараппскому времени относится укрепленное поселение с правильной планировкой.
Хараппская цивилизация. Хронология хараппской цивилизации основана на свидетельствах ее контактов в основном с Месопотамией и радиокарбонных датах. Время ее существования делится на три этапа— ранняя, развитая, или зрелая, и поздняя Хараппа, соответственно 2900-2200, 2200-1800 и 1800-1300 гг. до н.э. Калиброванные даты удревняют начало ее существования, относя его к 3200 г. до н.э. Ряд исследователей отмечают, что калиброванные даты вступают в противоречие с месопотамскими датировками. Некоторые исследователи (в частности, К.Н. Дикшит) полагают, что поздний период существования хараппской цивилизации продолжался до 800 г. до н.э., т.е. времени появления здесь железа. Сейчас можно считать общепринятым мнение, что завершение существования цивилизации не было одномоментным и в отдельных районах она существовала до середины II тысячелетия до н.э. и далее.
Долгое время в науке бытовало представление о хараппской цивилизации как о чем-то единообразном и мало менявшемся на протяжении столетий. Это представление — результат недостатка сведений и недоучета археологами на определенном этапе исследований фактов, свидетельствующих об особенностях взаимоотношений хозяйственной деятельности людей и природной среды, особенностей хозяйственной деятельности и культуры в самом широком смысле слова. В последние десятилетия археологами выделено несколько зон, характеризующихся специфическими признаками материальной культуры, — восточная, северная, центральная, южная, западная и юго-восточная. Тем не менее близость материальных элементов цивилизации, по крайней мере в период ее расцвета, предполагает существование культуры, носители которой в разных областях поддерживали тесные контакты между собой. Как были организованы их сообщества? Почему вообще сложилась столь обширная общность? Почему, как полагают (хотя новые данные могут это опровергнуть), относительно быстро возникают крупные города? Какую роль в цивилизации играла торговля? Судя по тому, как меняются представления об этой культуре под влиянием новых открытий, ее образ все еще весьма далек от ясности.
Главные районы распространения хараппской цивилизации— долина Инда в Синде с прилегающими низменностями, среднее течение Инда, Пенджаб и прилегающие районы, Гуджарат, Белуджистан. На пике развития Хараппа за
нимала необычайно обширную для ранней цивилизации территорию— около 800 000 кв. км, значительно превосходящую территорию ранних государств Месопотамии и Египта. Вероятно, не все территории были заселены одновременно и осваивались с одинаковой интенсивностью. Можно предполагать, что освоение долины Инда происходило и с территории Белуджистана, именно обитатели этого региона могли заложить основы хараппской цивилизации. Вместе с тем появляется все больше материалов, свидетельствующих о существовании доха-раппских обитателей в долине Инда. Гуджарат приобретает важное значение лишь на позднем этапе, тогда же осваивается Макран (его побережье удобно для судоходства), признаки хараппской цивилизации указывают на постепенное распространение ее носителей на юг (в частности, в Каче наряду с местной керамикой появляется хараппская) и восток. В климатическом отношении эти зоны различаются: на равнине Пакистана ощущается влияние летних муссонов. На побережье Макрана климат средиземноморский. В Белуджистане в долинах рек с постоянными или сезонными водотоками располагаются небольшие оазисы, на склонах гор — пастбища. В некоторых районах (долина Кветты), где уровень осадков относительно высок (более 250 мм в год), в ограниченных масштабах возможно неполивное земледелие. В этом районе существуют месторождения различных минералов, меди; недавно в Чагайских горах обнаружен лазурит, однако вопрос об использовании этого месторождения в древности до сих пор остается открытым.
Белуджистан важен как относительно хорошо изученный регион, где динамика распространения поселений прослеживается с эпохи неолита (Мехргарх). В начале III тысячелетия до н.э. население на севере и в центральной части становится редким и только на юге продолжает существовать культура кулли. Возможно, что причина— в нарушении старых хозяйственных связей населения горных зон и долин. В это же время возрастает население долины Инда, хотя относительное запустение Белуджистана не означает, что лишь из этого региона был приток населения, более того— весьма вероятно, что по разнообразным и пока неясным причинам в области хараппской цивилизации пришли люди и из других соседних регионов. Примечательно, что хараппские поселения находились и на краю долины Инда, на путях, ведущих в Иран и Афганистан.
Возникновение столь обширной цивилизации— результат экономической и культурной интеграции, при которой сохранялись региональные особенности. Преемственность развития с соседними районами и с дохараппскими культурами долины Инда прослеживается по многим признакам. В конце концов сформировалась совершенно своеобразная культура. Важнейшие ее черты— широкое освоение долин крупных рек, появление больших городов (свидетельство существования сложноструктурированного общества или обществ), обмен на далекие расстояния, развитие ремесел и высокохудожественного искусства, возникновение письменности, существование сложных религиозных представлений, календаря и т.д. Вряд ли продуктивно полагать, что «идея цивилизации» была принесена в долину Инда извне, из Месопотамии или Ирана. Напротив, все имеющиеся данные говорят о ее глубоких местных корнях, хотя нельзя не учитывать роль контактов с другими культурными образованиями, мера предполагаемого воздействия которых, однако, остается неясной. Так, А. Дани полагал, что в сосед
нем Иране три района играли чрезвычайно важную роль в формировании Хараппы— это юго-восток (Бампур, Тепе Яхья и побережье), регион Гильменда, посредника в перенесении северо- и юго-восточноиранских культурных элементов, и район Дамгана на северо-востоке. Оттуда связи распространялись через Афганистан и Белуджистан. Дальше еще придется говорить, какую роль в истории Хараппы играли отдаленные связи.
Центральная часть хараппской цивилизации располагалась в долине Инда, огромной реки с изменчивым руслом, глубина и ширина которой летом в результате таяния снегов и муссонных ливней удваиваются. Его воды приносят плодородные отложения, но непостоянство реки создавало и продолжает создавать большие трудности для освоения земель. В Синде, где находится один из крупнейших городов хараппской цивилизации, Мохенджо-Даро, в прибрежных районах господствовали буйные заросли тростника и влаголюбивых растений, далее простирались леса, в которых в древности обитали рептилии, носороги и слоны, тигры, кабаны, антилопы, олени. До относительно недавнего времени, как говорилось выше, эти места изобиловали дичью. Многих представителей местной фауны и флоры носители хараппской культуры изображали на своих изделиях.
Другой важнейшей территорией цивилизации был Пенджаб, где находится город, давший имя всей культуре,— Хараппа. Природная ситуация здесь близка той, что существует в Синде, флора и фауна мало отличаются от синдских. В районе Исламабада возможно дождевое земледелие. На холмах и в горах, обрамляющих Пенджаб и прилегающие районы, распространены леса. Есть основания предполагать, что в древности в Пенджабе, в особенности в соседнем Раджастане, немалую роль играли подвижные формы скотоводства.
Географические условия Гуджарата близки характерным для Южного Синда. В недавнее время обнаружены признаки существования здесь дохараппских поселений.
Данные антропологии, по мнению некоторых исследователей, говорят о неоднородности антропологического типа носителей хараппской цивилизации. Среди них были представители средиземноморского и альпийского типов, согласно некоторым исследователям происходившие с запада, монголоиды из горных районов и протоавстралоиды, предполагаемое автохтонное население. В то же время В.П. Алексеев полагал, что основным был тип длинноголовых узколицых европеоидов, темноволосых и темноглазых, родственный населению Средиземноморья, Кавказа, Передней Азии. Не исключено, что о полиэтнично-сти носителей хараппской культуры говорит разнообразие погребальных обрядов самой Хараппы, Мохенджо-Даро, Калибангана, Рупара, Лотхала, Белуджистана. Примечательно появление в поздней Хараппе трупосожжений в урнах (одновременных погребениям в Свате).
В хозяйстве в связи с разнообразием экологических условий доминировали две его формы — земледелие и животноводство и подвижное скотоводство, играли свою роль также собирательство и охота, использование ресурсов рек и моря. По мнению Б. Суббарао, в ранней истории Индии могут быть выделены три этапа, с которыми связаны преобладающие формы хозяйствования, — дохарапп-ский, хараппский и постхараппский. На первом этапе на северо-западе находи
лись культуры оседлых земледельцев и скотоводов, на остальной территории — охотников и собирателей. На втором этапе существовала городская цивилизация, общины архаических земледельцев-скотоводов и охотников-собирателей. В пост-хараппское время широко распространились оседло-земледельческие культуры, область которых включала Центральный Индостан, ощутивший сильное влияние хараппской цивилизации.
Дождевое земледелие практиковалось на землях, достаточно увлажнявшихся муссонными дождями. В предгорных и горных областях для удержания воды сооружали каменные насыпи, а для устройства посевных площадей — террасы. В долинах рек в древности, хотя на этот счет нет безусловных данных, паводковые воды накапливали путем создания дамб и плотин. О проведении каналов сведений нет, что понятно из-за мощных слоев отложений. Основными земледельческими культурами были пшеница и ячмень, чечевица и горох нескольких видов, лен, а также такая важная культура, как хлопок. Основной урожай, как полагают, до середины III тысячелетия до н.э. собирали летом (раби). Позже в некоторых районах стали практиковать и урожай хариф, при котором посев производился летом, а жатва— осенью. В этот поздний период распространяются просо, привнесенное с запада, и его разновидности. Начинают возделывать рис— отпечатки обнаружены в Рангпуре и Лотхале, возможно его разведение в Калибангане. На западе Уттар-Прадеша выявлены промежуточные от дикорастущей к культурной формы. Высказывалось мнение о начале разведения здесь риса в V тысячелетии до н.э., несколько ранее, чем в Китае. Полагают, что в начале II тысячелетия до н.э. эта важная культура все шире распространяется в Южной Азии, хотя ее происхождение продолжает оставаться не совсем ясным.
Новые формы земледелия позволили отойти от характерной для Хараппы практики выращивания зимних злаков, благодаря чему на старых территориях вводились в оборот новые зоны, а также осваивались земли на востоке.
2 концу IV — началу III тысячелетия до н.э. база жизнеобеспечения становится более разнообразной, чем прежде. Шире эксплуатируются ресурсы морских побережий и рек, в некоторых поселениях рыба и моллюски использовались больше, чем другая животная пища (пример — Балакот).
Как уже говорилось, животноводством занимались еще неолитические обитатели территорий, так или иначе охваченных позднее цивилизацией Хараппы. В разных местах преобладали различные виды скота, на хорошо обводненных аллювиальных землях доминировал крупный скот, хотя разводили и мелкий. Вне аллювия картина была обратной. В аллювиальных долинах, в первую очередь в долине Инда, численность крупного скота была очень значительной — местами до 75% всех использовавшихся животных (Джалипур около Хараппы).
Важные перемены происходят в начале II тысячелетия до н.э.: в поселении Пирак в северной части долины Качи, недалеко от Мехргарха, обнаружены не только кости верблюда и осла, но и самые древние свидетельства разведения в Южной Азии лошади.
Для обработки земли использовали примитивный деревянный плуг, в который впрягали быков, но очевидно, что небольшие участки особенно мягких почв обрабатывали мотыгой, орудием типа палки-копалки и бороны. В Калибангане
3. Хараппские поселения (карта): I—сухое русло р, Гхаггар; II — поселения: 1 — Хараппа; 2 — Бара: 3 — Рупор; 4 — Баргаон; 5 — Амбкхери;
6 — Аламгирпур; 7 — Сисвал; 8 — Калибанган;
9 — Кот-Диджи; 10 — Амри; 11 — Мохенджо-Даро; 12 — Чанху-Даро; 13 — Периано-Гхундай;
14 — Рана-Гхундай; 15 — Кили-Гхул-Мухаммед; 16 — Сиах-Дамб; 17 — Анджира; 18 — Ноль;
19 — Мехи; 20 — Кули; 21 — Шахи-Тумп; 22 — Суткакендор; 23 — Балакот; 24 — Аллахдино; 25 —Десалпур; 26 — Суркотада; 27 — Лотхал; 28 — Рангпур; 29 — Телод; 30 — Бхагатрав; 31 — Роджди
4. Мохенджо-Даро. План «цитадели»
обнаружены следы перекрестной пахоты — еще одно свидетельство высокоразвитого земледелия. Не исключено применение севооборота.
Очевидно существование разных способов хозяйствования; есть основания предполагать, что они играли взаимодополняющую роль. В то же время нет данных о том, каким образом регулировались отношения между, например, по преимуществу рыболовами и земледельцами или животноводами.
Исследование динамики распространения культуры Хараппы затруднено из-за малой доступности ранних напластований. Системы взаимосвязанных поселений разного размера и функций также выявляются с трудом из-за скрытости многих поселений, в первую очередь мелких, под слоями наносов. Несмотря на трудности изучения динамики расселения, в этой области достигнуты определенные успехи. Так, полагают, что более трети поселений культуры типа амри в Синде в хараппское время были покинуты, но остальные продолжали существовать в юго-западной части.
Большинство поселений небольшие, от 0,5 до нескольких гектаров, это — сельские поселения. Население было в основном деревенским. В настоящее время обнаружено более 1000 поселений. Известно четыре крупных поселения (помимо двух давно известных, Хараппы и Мохенджо-Даро, Ганверивала и Ракхи-гархи в Пенджабе), площадь которых насчитывает многие десятки гектаров, хотя точно обжитую территорию определить бывает трудно. Так, раскапывавшийся в Мохенджо-Даро холм DK имеет площадь 26 га, в то время как общую площадь определяют в 80 и даже в 260 га, холм Е в Хараппе — 15 га, хотя здесь находятся и другие всхолмления.
Для ряда крупных поселений выявлена трехчастная структура — части получили условные названия «цитадель», «средний город» и «нижний город». В Дхо-лавире обнаружен еще и четвертый район застройки. И крупные, и некоторые относительно небольшие поселения имели обводные стены, окружающие территорию подпрямоугольной формы. Их строили из обожженного кирпича и сырца (в Хараппе, Мохенджо-Даро и некоторых других поселениях), камня и других доступных материалов. Предполагают, что главное назначение обводных стен не оборонительное, они должны были служить средством защиты от наводнений. Быть может, их сооружение было следствием стремления ограничить территорию обитания определенных социальных организмов. Так, в Банавали, Суркотаде и Калибангане территория была разделена стеной на две части. Есть мнение, что собственно фортификация была необходима лишь на окраинах хараппской тер-
ритории, на аванпостах, созданных на чужих землях. Регулярная застройка ха-раппских поселений резко отличает их от хаотичной планировки городов других цивилизаций Древнего Востока и может способствовать реконструкции особенностей социальной организации, все еще остающейся далекой от ясности.
В благоприятных для изучения условиях удается установить, что поселения располагались группами — «кластерами». Вызывает удивление немногочисленность поселений в окрестностях Хараппы. Скопление поселений обнаружено в 200 км к югу от Хараппы, у Форт Аббаса. Раннехараппское поселение Гоманва-ла имело площадь 27,3 га, быть может, почти такую же, как современная ему Хараппа. Другое скопление обнаружено выше по течению Гхаггара в Раджастане— это Калибанган, Сисвал, Банавали и др.; здесь вскрыты и дохараппские слои (комплекс Сотхи-Калибанган, имеющий сходство с Кот-Диджи). С началом Хараппы в системе Хакра-Гхаггар происходят существенные изменения: число поселений увеличивается в четыре раза и достигает 174. В кластере у Форт Де-равара самым крупным было Ганверивала (81,5 га), расположенное в 300 км от Мохенджо-Даро и Хараппы.
В 320 км от Хараппы, на Дршадвати находится поселение Ракхигархи, площадь которого предполагают в 80 га, хотя раскопки его не производились.
В Гуджарате хараппские поселения небольшие. В поздней Хараппе здесь было более 150 поселений, среди них много маленьких и сезонных. Выделяется приморский Лотхал — предполагаемый порт, осуществлявший торговлю медью, сердоликом, стеатитом, раковинами, поддерживавший связи с охотничье-собира-тельскими общностями и, быть может, теми, кто занимался специализированным скотоводством.
В последнее время высказано предположение, что на территории хараппской цивилизации от предшествующего ей периода до позднего существовало 7 или 8 крупных поселений — «столиц», окруженных городками и деревнями. В строгом смысле это не были центральные поселения, так как они могли находиться и на окраинных территориях, осуществляя контакты между разными в экологическом и хозяйственном отношении зонами.
Особенности крупных поселений целесообразно рассматривать на примере давно изучаемого Мохенджо-Даро. Точные размеры его неизвестны из-за накопившихся отложений, но показательно, что следы построек были обнаружены в 2 км от предполагаемой границы города. В период расцвета максимальное число жителей определяют в 35-40 тыс. человек. Мощность культурного слоя очень значительна— фрагменты глиняных сосудов обнаружены на глубине от 16 до 20 м от уровня современной поверхности, при этом материк не был достигнут. И сейчас хорошо видно древнее деление города на две части — «цитадель» и «нижний город», разделенные незастроенным участком. Строительным материалом служили обожженный и сырцовый кирпич, дерево. По всей вероятности, обожженный кирпич применяли из-за его способности противодействовать разрушительному воздействию влаги.
Сооружения «цитадели» находились на пятиметровой кирпичной платформе. Здесь раскопано два крупных сооружения не вполне ясного назначения, которые, скорее всего, предназначались для собраний (предположение о том, что од-
5. Мохенджо-Даро. Реконструкция плана дома
но из них могло быть резиденцией высокопоставленного лица, маловероятно). Одно из них площадью 70x22 м с толстыми стенами имело вестибюль, другое — зал площадью около 900 кв. м — было разделено на четыре части рядами столбов.
Здесь же обнаружено основание сооружения, верхняя часть которого была деревянной. По распространенному мнению, это было обширное, площадью 1350 кв.м, общественное зернохранилище, в основании которого проделаны глубокие вентиляционные каналы. Подобное зернохранилище было обнаружено и в Хараппе у подножия «цитадели»; здесь его площадь — 800 кв. м.
Наконец, на «цитадели» располагался «большой бассейн», сооруженный позднее прочих построек. Его площадь— 11,70x6,90 м, глубина — 2,40 м. С узких сторон к нему вели деревянные, обмазанные битумом лестницы. Для водонепроницаемости была сделана известковая и битумная обмазка. Бассейн наполнялся из располагавшегося рядом колодца, а опорожнялся при помощи желоба в одной из стенок. Его окружала галерея, от которой сохранились столбы. Предполагают, что он мог служить для ритуальных омовений, которым придавали большое значение. Свидетельство этого — существование и в жилых домах «ванных комнат».
«Нижний город» был занят жилой застройкой. Блоки домов разделялись прямыми, расположенными под прямым углом улицами и улочками. Значительная высота стен — до 6 м — вызвала отвергнутое сейчас мнение о том, что дома не были одноэтажными: высота стен, как и большая глубина регулярно располагавшихся колодцев (по одному на каждые три дома), — результат перестроек.
Помещения с плоскими перекрытиями группировались вокруг дворов, площадь самого большого блока, состоявшего из двух частей, соединенных крытым переходом,— 1400 кв.м; судить о его принадлежности высокопоставленному лицу нет оснований. Вообще же площадь домов достигала 355 кв. м, и они состояли из 5-9 комнат.
Благоустройство было необычайно развитым для древности. В домах находят ванные комнаты и туалеты. Под мостовыми проложены облицованные обожженным кирпичом канализационные каналы, на определенном расстоянии друг от друга располагались отстойники.
Относительно недавние доследования Мохенджо-Даро позволили проследить изменения в принципах его застройки. В период развитой Хараппы она была тесной, с осевыми широкими улицами. Дома были как небольшими, так и крупными, их планы отличались разнообразием. Следы ремесленной деятельности не обнаружены. Позже число маленьких построек возрастает, планировка становится более унифицированной. Ремесленная зона приближается к жилой. Наконец, на позднем этапе цивилизации жилища образуют изолированные группы, обнаружены следы ремесленного производства. Канализационная система приходит в упадок, что указывает на кризисное состояние организации городской жизни.
Ремесла и искусство. Для традиционной культуры древности, к каковой относится хараппская, разделение на ремесло и искусство вряд ли правомерно. Творения ремесленников, предназначались ли они для повседневной жизни или для обрядов, нередко отмечены высоким мастерством. Вместе с тем среди вещей каждой категории есть лучше и хуже сделанные, есть и грубые, для изготовления
6. Хараппская цивилизация. Глиняные сосуды
которых не требовалось большого мастерства. Различия в качестве изделий указывают на существование профессионалов высокого класса, резчиков по камню, ювелиров, скульпторов. В разных поселениях обнаружены мастерские, где изготавливали посуду, украшения (в том числе из раковин) и др. Произведения ха-раппских мастеров отличаются глубоким своеобразием, и попытки обнаружить аналогии им в других регионах, в частности в Месопотамии, как правило, сводятся к небольшому числу вероятных импортов из долины Инда и труднодоказуемым сходствам отдельных изобразительных мотивов.
Итак, производство орудий, утвари, строительных материалов было высокоразвитым и специализированным. Один из важных показателей — уровень металлообработки. Примечательна немногочисленность предметов вооружения, хотя найдены медные и бронзовые кинжалы и ножи, наконечники стрел и копий. Орудия труда в значительной мере связаны с обработкой дерева (это топоры, долота, тесла), с домашним хозяйством (иглы, проколки). Из меди и серебра, редко — свинца делали сосуды. Было известно литье в открытых формах, холодная и горячая ковка; некоторые изделия отливали в технике утраченного воска. Использовали сплавы меди с мышьяком, свинцом и оловом, причем примечателен большой процент— около 30 — оловянистых бронз. Украшения (браслеты и бусы) делали из камня, раковин, меди, серебра, редко— золота. Браслетов, как и в более позднее время, носили много; по всей вероятности, этот обычай имел ритуальный характер. В особых случаях использовали сосуды из меди и даже золота.
Из употребления не вышли и каменные орудия, причем с течением времени уменьшается разнообразие типов, растет качество сырья и технология обработки. Из мягких сортов камня делали сосуды, в том числе фигурные, имевшие ритуальное назначение, из различных минералов— бусы, печати. Материалы как для металлических, так и для каменных изделий нередко доставлялись издалека.
Еще один показатель высокоразвитого ремесла— керамическое производство. Посуду изготавливали на круге быстрого вращения и обжигали в двухъярусных горнах. Формы разнообразны и в целом стандартны— чаши, кубки, блюда, жаровни, сосуды с заостренным дном и подставки, сосуды для изготовления молочных продуктов. Сохраняется, хотя и угасает, традиция расписывать сосуды: роспись черная по красному фону, геометрическая и фигуративная — изображения животных, растений, рыб. Хотя керамика хорошего качества, сосуды тяжелые и отличаются от более изящных изделий дохараппского времени, что случается в керамическом производстве не только древних культур, когда оно становится массовым.
Из глины лепили женские статуэтки, реже — мужские фигурки, в том числе персонажей в рогатых головных уборах. Они, несомненно, связаны с мифологическими представлениями и ритуалами. Эти фигурки довольно условны, с на-лепными деталями, передающими части тела и многочисленные украшения. Из глины и камня делали весьма выразительные фигурки быков, иногда впряженных в повозки, диких и домашних животных. По крайней мере некоторые из них могли быть игрушками.
Большим жизнеподобием отличаются небольшие каменные и металлические скульптуры мужчин и женщин, хорошо передающие антропологический тип по
7. Хараппская цивилизация. Металлические изделия
крайней мере части носителей хараппской цивилизации. Наибольшей известностью пользуется фрагмент скульптурного изображения бородатого мужчины в диадеме, в одеянии, украшенном рельефными трилистниками. Прищур его глаз напоминает положение век медитирующего человека.
Настоящими шедеврами были изготавливавшиеся в основном из стеатита печати-штампы, предназначавшиеся, как показывают найденные отпечатки, для опечатывания товаров, хотя очень вероятно, что их воспринимали и как амулеты и талисманы. Они плоские, квадратные или прямоугольные, на обороте — выступ с отверстием. Немногочисленные образцы— круглые; цилиндрических печатей, столь характерных для Месопотамии, Ирана и других областей Передней Азии, практически нет. Как и на сосудах, изображали в основном растения, животных («тур», так называемый единорог, горбатый бык, тигр, крокодил, змеи, фантастические полиморфные существа). В Мохенджо-Даро таких изображений около 75%. Изображения углубленные, выполнены с большим мастерством и пониманием форм тел, передаваемых близко к натуре. Как правило, животные изображены спокойно стоящими около предметов, которые трактуют как кормушки или условные символы. Кроме того, обнаружены образцы и с изображениями антропоморфных существ мужского и женского пола в различных позах, в том числе напоминающих йогические. Они представлены участниками ритуалов. Помимо изображения на печатях могли помещать краткую надпись. Есть печати с условными геометрическими фигурами.
Изображения на печатях связаны с праздниками и ритуалами — кормление животного, угощение змеи, поклонение дереву, в ветвях которого могла изображаться богиня, бракосочетание богов в антропоморфном и зооморфном облике. Судя по имеющимся материалам, в брачных мифах главную роль играла богиня. Изображения, похожие на наносившиеся на печати, встречаются на медных пластинках неизвестного назначения. Существовали призматические каменные и глиняные предметы, принадлежность которых к категории печатей подвергается сомнению, возможно, они играли роль амулетов. Печати могли служить знаками собственности, но не возникает сомнений в том, что они служили и ритуальным целям, были чем-то вроде амулетов, и изображения на них содержат информацию о мифологических представлениях и обрядах. Исследования У.Ф. Фогт печатей Мохенджо-Даро не дало основания судить о социальной дифференциации среди населения.
Именно на исследовании печатей и связанных с ними изделий основаны работы по дешифровке протоиндийской письменности.
Письменность и язык. Изучение системы письменности и языка хараппских текстов пока не завершено; значительную роль в исследованиях сыграли отечественные исследователи (группа под руководством Ю.В. Кнорозова). Выводы, к которым они пришли, излагаются здесь на основании работы М.Ф. Альбедиль «Протоиндийская цивилизация. Очерки культуры» (М., 1994). Сложность понимания текстов заключается в том, что они написаны неизвестным письмом на неизвестном языке, при этом отсутствуют билингвы. Известно около 3000 текстов, лапидарных (по преимуществу 5-6 знаков) и монотонных. Письмо было
8. Хараппская цивилизация. Фигурка «жреца» из Мохенджо-Даро
9. Мохенджо-Даро. Глиняная модель повозки
иероглифическим (около 400 знаков), писали справа налево. Предполагают, что тексты носили сакральный характер.
Выяснилось, что ранние тексты наносили на каменные пластины, потом — на каменные, реже металлические печати. Не исключают существования скорописи. При интерпретации знаков использовали пиктограммы современных народов Индии, в первую очередь дравидоязычных.
Исследователи полагают, что они расшифровали общий смысл большинства надписей и выявили формальную структуру грамматической системы. Сопоставление со структурой языков, гипотетически существовавших в долине Инда, привело к исключению всех, кроме дравидийских. В то же время ученые считают недопустимым механическую экстраполяцию фонетики, грамматики и лексики исторически зафиксированных языков на протоиндийский. Опора делается на изучение самих текстов, а дравидийские элементы используются как «поправочный коэффициент». Перевод основан на смысловом толковании знака, которое определяется методом позиционной статистики. Обращались и к санскриту, в результате чего удалось выявить соответствие 60 астрономических и календарных наименований и структурное соответствие в наименовании годов 60-летнего хронологического цикла Юпитера, известного лишь в санскритском варианте.
Предполагают, что текстовой блок состоял из имени владельца печати в уважительной форме, пояснений календарно-хронологического характера и указания на период действия печати. Есть предположение, что печати должностных лиц принадлежали им временно, определенный срок.
Судя по дешифровкам текстов, солнечный земледельческий год начинался с осеннего равноденствия. В году было 12 месяцев, наименования которых отражали явления природы, выделялись «микросезоны». Астрономический год основывался на четырех неподвижных точках— солнцестояниях и равноденствиях. Почитались новолуния и полнолуния. Символом зимнего солнцестояния, начала года, как предполагают, был тур. Существовало несколько подсистем счисления времени — лунная (охотничье-собирательская), солнечная (земледельческая), государственная (гражданская) и жреческая. Кроме того, существовали календарные циклы — 5-, 12-, 60-летние; они имели символические обозначения. Таковы предположения отечественных исследователей протоиндийских текстов.
Проблема обмена и торговли. Долгое время в науке о древности бытовало представление о большей или меньшей замкнутости и самодостаточности древних общественных образований, в частности хараппских. Так, У. Ферсервис писал, что торговля играла большую роль в Шумере, несколько меньшую — в Египте, а хараппская цивилизация пребывала в состоянии изоляции и торговые отношения были случайными, а не систематическими. Позже, в 70-е годы прошлого века, отношение к роли обмена и торговли в древности резко изменилось, особенно в зарубежной науке. Реконструкции не только хозяйства, но и социального устройства древних бесписьменных или не имевших информативных письменных текстов обществ стали проводиться с учетом роли обмена, причем не на локальном уровне, а на далекие расстояния. Сейчас некоторые исследователи придают роли торговли в сложении и существовании хараппской ци-
10. Хараппская цивилизация. Глиняные фигурки
вилизации очень большое значение. В частности, ряд индийских ученых полагают, что торговцы сыграли большую роль в формировании городов и идеологических представлений, а причиной упадка городов они считают нарушение торговли со странами к западу от Хараппы. Упадок торговли в позднем периоде исследователи (в том числе К.Н. Дикшит) связывают с ослаблением центральной власти, вследствие чего торговые пути стали небезопасными. Изменение политической ситуации в Месопотамии, приход к власти Хаммурапи вызвали ослабление городов Южной Месопотамии, торговые пути стали переориентироваться на запад, в Анатолию и Средиземноморье. Источником меди стал Кипр, а не, как прежде, Оман и соседние с ним территории.
Существование связей носителей хараппской цивилизации с близкими и отдаленными соседями не может вызывать сомнений в первую очередь потому, что долина Инда, ее коренная территория, подобно Месопотамии, бедна полезными ископаемыми, в которых люди нуждались и которые использовали. С территории субконтинента поступали минералы и раковины, широко использовавшиеся в различных производствах. Из более отдаленных областей доставляли медь (эксплуатировались ее месторождения в Иране, в частности в Кермане, и Афганистане) и золото. Олово, как позволяют судить имеющиеся сейчас сведения, поступало из Центральной Азии (один из предполагаемых источников — Ферганская долина, другой расположен на юго-западе Афганистана), лазурит — из Бадахшана (если не из Чагайских гор), бирюза— из Ирана. Уже в неолитическом Мехргархе явно прослеживаются связи с Ираном, откуда доставляли широко использовавшиеся минералы— кристаллический гипс («алебастр» археологической литературы) и стеатит. Появление позднехараппских поселений в предгорьях Гималаев может быть связано именно с потребностью цивилизации в минеральном сырье — в одном из поселений найдены следы производства разнообразных бус, явно предназначавшихся для обмена.
Уже в конце IV тысячелетия до н.э. в месопотамских текстах стали появляться наименования южных стран — Дильмун, Маган, Мелухха. По поводу их локализации в науке велись и продолжают вестись дебаты. Вероятно, на протяжении III—II тысячелетий до н.э. под ними понимали разные территории. Однако ясно, что Дильмун и Маган были промежуточными между Месопотамией и Ме-луххой — предполагаемой долиной Инда. Дильмун (Бахрейн) всегда играл посредническую роль, в то время как настоящие источники столь ценившейся меди, дерева, минералов не всегда были известны обитателям Месопотамии, и их источником могли считать пункт, откуда они их получали, — Дильмун. Благодаря находкам последних лет стало ясно, что одним из важных поставщиков меди в Месопотамию был Оман. Стандартные слитки меди весом около 6 кг типичны для находок такого рода от Сирии до Лотхала. Примечательно, что пик сведений об этом обмене приходится на период расцвета Хараппы, около начала II тысячелетия до н.э. Печати хараппского типа найдены в Уре, Умме, Ниппуре, Телль Асмаре, на островах Персидского залива, Бахрейне и Файлаке, на побережье Аравийского моря. В Омане обнаружена надпись хараппским письмом. Носители другой культуры, кулли, также были связаны с западными областями — типичные для нее изделия обнаружены в Абу-Даби.
//. Хараппская цивилизация. Печати
В Лагаше в конце III тысячелетия до н.э. жили хараппские торговцы с семьями. Высказывались и предположения о существовании месопотамских колоний на территории Хараппы, хотя прямых данных на этот счет все еще недостаточно. Всеобщее удивление вызывает крайне небольшое количество характерных для цивилизации Месопотамии вещей на хараппской территории. Обычно это связывают с тем, что они могли изготавливаться из недолговечных материалов; среди вероятных импортов упоминают ткани. Возможно, отсутствие чужеземных вещей— следствие твердой приверженности «хараппцев» своим традициям: исследователи вспоминают, что в домах индийских купцов и в XIX в. редко можно было встретить вещи иностранного производства.
Морской путь, скорее всего, использовался — известны изображения парусных судов, которые строили из дерева и тростника. Плавание было каботажным, моряки не выпускали из виду берег. Есть мнение, разделяемое, правда, не всеми исследователями, что портом был Лотхал в Гуджарате, где обнаружено сооружение, похожее на док. В Лотхале найдена печать, характерная для региона Персидского залива.
Обмен с близкими территориями мог быть непосредственным, с отдаленными — опосредованным. В то же время симптоматично обнаружение настоящей хараппской колонии в Северном Афганистане, неподалеку от слияния Кокчи и Амударьи. Полагают, что Шортугай был «торговым пунктом» на пути, связывавшем Хараппу с территорией Туркменистана и другими соседними областями. Один из вероятных объектов интересов «хараппцев»— лазурит, а возможно, и олово. Обитатели Шортугая принесли из Индии чечевицу и сезам, местными возделываемыми ими культурами были виноград, пшеница, рожь и люцерна; они разводили зебу и буйволов из родных им мест. На поселениях анауской культуры Южного Туркменистана обнаружены печати хараппского типа, изделия из слоновой кости, есть признаки, характерные для хараппских изделий, в формах и декоре керамических сосудов.
Сухопутные маршруты пролегали на север через горные перевалы, в обход пустыни Деште-Лут в долину Диялы, вдоль речных долин внутри своей территории, возможно по побережью — хараппские поселения найдены на побережье Макрана. Вряд ли для далеких странствований использовали повозки, запряженные быками, модели которых из глины и бронзы найдены в разных поселениях. Но уже в период развитой Хараппы стали использовать двугорбых верблюдов, как предполагают, одомашненных в Центральной Азии, данные о чем получены в Южном Туркменистане, где верблюд, по существующим предположениям, был приручен еще в IV тысячелетии до н.э.
В обменных операциях применяли в основном кубической формы каменные гирьки весом 8, 16, 32, 64, 160, 200, 320, 640, 1600, 3200, 6400, 8000 г. Использовали и конические, шарообразные, бочкообразные гири. Применяли также линейки с мерными делениями.
Дискуссионным остается вопрос о месте внешней торговли в хозяйственной жизни «хараппцев». Была она существенной или периферийной частью экономики? Представляла ли она собой более или менее регулярный обмен или была планируемой торговлей? Каким образом реализовались в ней продукты внут
реннего обмена? Направлялась ли торговля «государственными администраторами» или профессиональными агентами?
Как и при изучении других сфер хараппской культуры, ответ на эти вопросы зависит от реконструкции социального строя в целом, понимание которого далеко от ясности. Тем не менее вряд ли правомерны заключения о том, что торговля и производство товаров мало отличались от современных.
Общественное устройство. Исследователи крупных хараппских поселений с того момента, когда стала ясна их структура, высказывали, на основании деления этих поселений на две или более части, предположение о разделении общества на знать— обитателей «цитаделей» и остальную массу населения. Некоторые исследователи трактуют надписи на глиняных браслетах как титулы. М. Уилер видел аналогию общественной организации Хараппы в городах-государствах Месопотамии, а идею городов считал принесенной из Шумера. Многие исследователи писали о хараппской «империи» с централизованной властью и эксплуатируемым сельским населением. Предполагали и существование нескольких классов— олигархии, воинов, торговцев и ремесленников (К.Н. Дикшит), правителей, земледельцев-торговцев, рабочих (Б.Б. Лал), к которым некоторые добавляли и рабов. М.Ф. Альбедиль писала о возможности существования в протоиндийском обществе высокоцентрализованной политической структуры. В то же время она допускала сильную роль локальных центров, в которых центральная власть отчасти дублировалась на местах. Некоторые исследователи справедливо сосредоточивают внимание на специфике хараппского общества, в частности на месте жречества в общественной жизни, которое было иным, чем в Месопотамии с ее организованными храмовыми хозяйствами. Тем не менее есть причины полагать, что по крайней мере на каких-то этапах, в особенности в период развитой Хараппы, могла существовать сильная правящая верхушка, состоявшая из жрецов. На основании предложенной в отечественной науке дешифровки документов протоиндийской письменности можно предполагать функционирование храмов и жречества и даже наличие политических лидеров.
Итак, данные не позволяют проводить прямые параллели между общественной организацией Месопотамии или Элама и той, что была у носителей хараппской цивилизации. До сих пор, несмотря на значительный объем раскопок, не обнаружены признаки существования правителей и лиц, концентрировавших в своих руках значительные материальные ценности, отлагавшиеся, в частности, в погребениях, как это было в Месопотамии или Египте. Симптоматична слабая проявленность в обществе воинской функции. Судя по всему, в храмах не концентрировались значительные богатства. Не обнаружены или не выявлены документы хозяйственного содержания.
В то же время есть факты, указывающие на существование имущественного неравенства, на присутствие в обществе групп, занимавших разное социальное положение и выполнявших разные функции. Накопление ценностей предполагают, в частности, клады, обнаруженные в Хараппе, Мохенджо-Даро и других местах.
У. Ферсервис, учитывая особенности хараппской цивилизации, обратил внимание на большое количество недолговременных поселений и значительную роль разведения скота, который мог выступать как символ богатства. Поселения в определенном районе играли разную роль — среди них были по преимуществу сельскохозяйственные и те, в которых преобладали ремесленное производство и обмен. Эти поселения были взаимосвязаны. Он высказал предположение, что формой организации был не город-государство или единое государство, а вожде-ства. Согласно его гипотезе, хараппские вождества были основаны на родственных связях и подобны тем, которые известны на Гавайях, в Северо-Западной Америке, Юго-Восточной Азии и Западной Африке.
Степень развития городов, ремесел и хозяйства, сложение его специализированных форм, земледелия и скотоводства предполагали необходимость регулирования отношений между представителями разных сфер деятельности. Циркуляция «примитивных ценностей», прослеживаемая, в частности, на примере изделий из лазурита, привела других исследователей к предположению о сложении образований типа вождеств уже на раннем этапе Хараппы. В дальнейшем предполагается возникновение государства, в котором власть уже не была связана с генеалогическим рангом, а производственные отношения отрываются от отношений на основе родства.
Применение концепции вождества (chiefdom) для реконструкции общественного строя догосударственных обществ Востока вызвало возражения. В качестве альтернативы ей была предложена другая модель, основанная на исследовании акефальных обществ Восточных Гималаев (в отечественной науке ее разработка принадлежит IO.E. Березкину). Тип хозяйства — орошаемое земледелие и скотоводство. Признаки таких обществ, часть которых может улавливаться на археологическом материале, выражены в облике поселений. Это тесно застроенные деревни без монументальной архитектуры со многими мелкими святилищами, существование различий в имущественном положении, преодолимых благодаря специальному институту перераспределения типа потлача, специализированное ремесло, торговый обмен, получение экзотических престижных вещей посредством торговли на далекие расстояния. Это не вождества, но и не группы замкнутых деревенских общин. Общинные и родовые институты при этом были слабы, а личность благодаря индивидуальной собственности на средства производства была независимой. Общественная жизнь регулируется в ходе массовых церемоний и празднеств, во время которых складывались сложные системы отношений, охватывающих всю область обитания этноса. В деревнях действовали советы уважаемых мужчин. Нельзя исключать, что общество носителей хараппской цивилизации без слоя элиты и с общественными сооружениями, требовавшими относительно небольших затрат труда, скорее могло быть подобно описанным, но более масштабным.
Следует отметить, что и прежде и, что особенно примечательно, теперь, с появлением новых данных, высказываются мнения о существовании государства.
Религиозно-мифологические представления и обряды. О мифах, верованиях, обрядах, как и вообще о духовной жизни «хараппцев», судить сложно в первую очередь из-за малой информативности письменных памятников, даже если при
знать точность их интерпретации. Источниками служат в первую очередь изображения на печатях и других вещах, образцы глиняной, каменной, металлической скульптуры, следы отправления обрядов. Храмы — одни из главных свидетельств почитания богов — не существовали или не определяются. Одно из оснований для реконструкций — сравнение известных данных с представлениями и обрядами предполагаемых исторических преемников носителей хараппской цивилизации или, как склонны думать многие исследователи, родственных им по языку дравидоязычных народов Индии.
Изображавшиеся на печатях и металлических табличках животные: горбатый индийский бык, бык-гаур, буйвол, животное, похожее на быка, но изображаемое с одним рогом («единорог»), тигр, носорог, крокодил, слон, редко— кролик, птицы, фантастические многоглавые животные, по предположению отечественных исследователей, служили символами, некоторые из них— сторон света и/или сезонов. Изображали также деревья — пипал, ашваттху. Дерево иногда изображается поднимающимся из кольцевидной оградки — вероятно, оно служило объектом поклонения, воплощая представление о «мировом дереве» (оградки такого облика обнаружены при раскопках). В позднейшее время почитаемые деревья украшали, в частности, для того, чтобы иметь детей. Важную роль играли жертвенные ритуалы.
Известны изображения антропоморфных существ женского и мужского пола, встречающихся, в частности, в сценах поклонения им. На одной печати изображен рогатый мужской персонаж, поза которого, по мнению Дж. Маршалла, напоминает ту, в которой изображали Шиву. Е. Дьюринг Каспере указывала на изображения рогатого и хвостатого персонажа с луком, свидетельствующие, по ее мнению, о существовании охотничьих обрядов. Женские существа, изображения которых известны и в мелкой пластике, обычно связывают с образами «богинь-матерей». Видимо, таких мифологических существ было много, они, по крайней мере отчасти, были связаны с культами плодородия, представлениями о жизни и смерти. Среди богов предполагают предшественников Сканды, богов-творцов, духов— предшественников якшей, гандхарвов, апсар. Существовали обряды священного брака, возможно осуществлявшиеся сезонно.
Исследования Ю.В. Кнорозова, М.Ф. Альбедиль и других отечественных ученых позволяют предполагать почитание небесных светил, основанное на глубоких познаниях в области астрономии и наблюдениях явлений природы.
Известные скульптуры мужчин и женщин изображали скорее всего жрецов и исполнительниц обрядовых танцев. Есть сведения, что обряды осуществляли в открытых дворах; в Калибангане на «цитадели» обнаружено что-то вроде алтарей огня около платформы. Найдены подиумы с признаками жертвоприношений крупного скота. Очень вероятно существование обрядов шаманского типа и соответствующих представлений. С древними представлениями, присущими охотникам, могут быть связаны образы охотников на быка; любопытно изображение прыгающих через буйвола людей (У. Ферсервис предположил возможность критского влияния на это выполненное в необычном линеарном стиле изображение, что требует новых подтверждений). Культовыми объектами были кониче
ские и цилиндрические камни — нечто вроде лингамов и кольцевидные предметы — возможные предшественники йони.
У многих исследователей нет сомнений в глубоком воздействии религиозной практики и представлений носителей хараппской культуры на позднейшие, принесенные ариями. К ним, в частности, относят практику йоги.
Вообще трактовка свидетельств хараппской религии, как и общественного строя, зависит от позиции исследователя: если предполагать, что общество было организовано иерархически, а цивилизация представляла целостное образование, можно говорить о пантеоне, жречестве с иерархией и т.д. Если же полагать, что организация общества была архаической, то придется говорить о разнообразии представлений и религиозной жизни, пусть и обладающих определенной общностью.
Итак, хараппская цивилизация предстает сейчас как достаточно динамичная, облик которой менялся на протяжении многих столетий. Для реконструкции протекавших в ней процессов привлекают данные палеоэкономики, теории информации и др. Построенные на них предположения, безусловно, заслуживают внимания, хотя корректировка их в результате появления новых данных весьма вероятна.
На раннем этапе культура, регион которой весьма широк, не предстает гомогенной — признаки своеобразия материальной культуры заставляют думать, что они отражают особенности в области традиций, хозяйственной жизни, этноса и языка. Высказывают предположение, что циркуляция информации в широком смысле слова осуществлялась на уровне родственных связей представителями отдельных сообществ. Можно предполагать конкуренцию между различными общественными группами, обладавшими разным статусом, при этом складывались условия для развития групп высокого статуса. На стадии развитой Хараппы картина меняется. Интенсифицируется производство, в том числе сельскохозяйственное, также резко возрастает роль ремесла и, вероятно, обмена. Высказано предположение, что в городах было сосредоточено до 50% населения. Разнообразие хозяйственных, культурных и этнических зон, между которыми поддерживались отношения, могло привести к сложению большой централизованной системы.
Меняются отношения между регионами. В Белуджистане жизнь сохранилась на относительно немногих поселениях, в том числе сосредоточенных на стратегически важных путях в Иран и Афганистан. В то же время есть основания говорить об усилении роли морской торговли и обмена или торговли, которая осуществлялись по побережью Макрана, а также южного прибрежного региона. Создание системы прямой торговли на далекие расстояния вызвано стремлением избавиться от «посредников». Период зрелой Хараппы — время территориальной экспансии на юг и восток, осуществлявшейся, насколько позволяют судить данные, не путем военной силы, а за счет экономического роста и способности поддержания сбалансированных социальных отношений. В то же время знаменательно существование укреплений в больших и небольших городах (в небольшом Суркотаде на «цитадели» найдены метательные ядра).
В период развитой Хараппы важную роль играют отношения не только родства (что можно предполагать для по преимуществу все-таки «сельской цивилизации»), но и те, которые определялись профессиональной принадлежностью, статусом и/или рангом, причем не столько наследуемым, сколько приобретенным, т.е. достигнутым в результате деятельности человека. Контакты строятся как непосредственно, так и через посредников, они становятся более безличными. Об этом свидетельствует и распространение письменности.
Завершающий период хараппской цивилизации и постхараппская ситуация. Во время еще недостаточно точно определенное, около второй четверти — середины II тысячелетия до н.э., целостность культуры и весь ее облик претерпевают изменения. Признаки этого проявляются в запустении крупных центров, в различиях эволюции керамических комплексов крупных поселений (Хараппы и Мохенджо-Даро), сложении разнообразных локальных стилей. Утрачивается регулярность планировки поселений, ухудшается техника строительства, исчезает письменность, выходит из употребления стандартная система мер и весов. Тем не менее в сфере сельского хозяйства преемственность сохраняется, как и в прослеживаемых элементах быта и религиозных верований. По мнению исследователей, в первую очередь индийских, они могут сохраняться вплоть до недавнего времени или современности. Признаки позднехараппской культуры прослеживаются в Пенджабе, Гуджарате, Уттар-Прадеше. В Харьяне и окрестностях Дели, по некоторым сведениям, существовало около 500 позднехараппских поселений, причем обитатели некоторых выращивали рис. Есть сведения, что позднеха-раппские археологические комплексы сосуществовали с так называемой серой расписной керамикой (Painted Gray Ware, PGW), речь о которой пойдет ниже.
Как и при изучении других ранних цивилизаций, исследователи завершающего периода существования Хараппы и ее конца нередко исходили из распространенных в исторической науке их времени общих положений. Так, предполагаемое ими исчезновение обширной цивилизации рисовалось как результат ее разрушения пришельцами, в данном случае— ариями. Как указание на это рассматривали существование оборонительной стены на холме Хараппы и скелеты якобы погибших людей в Мохенджо-Даро. В то же время на поселениях практически не обнаруживали признаков их насильственного захвата.
Новые, скрупулезно собранные данные с территории самой хараппской цивилизации и из соседних областей позволяют наметить черты более сложной картины. Среди возможных причин называют природные катаклизмы— сильные наводнения или, наоборот, иссушение системы Гхаггара в Пенджабе, откуда население могло переместиться в междуречье Ганга-Ямуны. Если исходить из предположения об отсутствии в цивилизации государственного аппарата, достаточно очевидно, что столь обширное образование, существование которого зависело не только от собственных ресурсов, но и от связей с более или менее отдаленными регионами, было относительно хрупким, и его единство нс могло быть продолжительным. Исследователи в последние десятилетия настаивают на непригодности упрощенных моделей (одна из которых— вторжение масс пришельцев) для осмысления происходивших в первой половине II тысячелетия до н.э. перемен на севере Индийского субконтинента, в Центральной Азии и Иране.
При рассмотрении изменений в поздней Хараппе нельзя исключать возможности широкомасштабных воздействий, перемен в исторической ситуации на обширных территориях Азии. Как уже говорилось, в первой половине II тысячелетия до н.э. меняются направления торговых связей между Месопотамией и окрестными странами. С возникновением государства Хаммурапи торговые связи переориентируются на запад. Не исключено, что и эти процессы сыграли роль в нарушении традиционного баланса, сложившегося в долине Инда и в прилегающих к ней областях Центральной Азии.
Во второй четверти II тысячелетия до н.э. в Центральной и Южной Азии имеют место процессы, которые в археологическом выражении предстают как нарушение преемственности развития существовавших здесь культур. Люди покидают свои поселения, в которых жизнь продолжает лишь теплиться. Исчезают крупные города. Налицо картина разрушения прежних связей и формирования новых. Осваиваются прежде малозаселенные области. Признаки инокультурных явлений в разных областях становятся все более частыми.
Широко распространено мнение, что язык носителей хараппской культуры принадлежал к протодравидийским. Предполагаемый пояс распространения дравидийских языков в древности — Белуджистан, Синд, Раджастан, Мальва и Махараштра, а также Пенджаб и долина Ганга (отметим, что дравидоязычное население, по мнению некоторых исследователей, могло обитать и на юге Ирана, и на юге Туркменистана). Согласно языковым свидетельствам, дравиды рано вошли в контакт с пришельцами-ариями, столкнулись с ними, быть может, до того, как те достигли севера субконтинента.
Около середины II тысячелетия до н.э. складывается величайший комплекс религиозных текстов, Ригведа, созданный этими пришельцами. Они были подвижными скотоводами и земледельцами, значительно уступавшими в области развития материальной культуры «хараппцам». Несколько поколений исследователей предпринимали попытки проследить путь индоариев и ариев с их предполагаемой прародины в Центральную и Южную Азию и Иран, связывая его, в частности, с характерной серой, или лепной, керамикой «степного» облика (распространенной в степном поясе Евразии и в Казахстане). Попытки эти, хотя давшие интересные результаты, все же пока не увенчались успехом потому, что события, имевшие место в интересующем нас регионе во II тысячелетии до н.э., были чрезвычайно сложными, а процессы— многообразными и их детали или не отражаются в археологических памятниках, или, скорее, пока не распознаются исследователями.
Принимая во внимание то обстоятельство, что арии, по крайней мере отчасти, были подвижными скотоводами и что есть признаки их долговременного «знакомства» с носителями хараппской цивилизации, правомерно обратить самое пристальное внимание на общности, ведшие такой образ жизни на тех территориях, откуда могли прийти арии. В связи с этим возникает вопрос об этнической принадлежности по крайней мере отчасти подвижных общностей на северо-западной границе хараппской цивилизации на поздней стадии развитой и поздней Хараппы, т.е. в начале— середине II тысячелетия до н.э. В Центральной Азии в конце III и во II тысячелетии до н.э. существует чрезвычайно яркая археологи
ческая культура, получившая условное название «Бактрийско-маргианский археологический комплекс». Характерные для нее вещи — медно-бронзовое оружие, бытовые предметы, перегородчатые печати, предметы культа — обнаружены на обширной территории, далеко выходящей за пределы территории позднейших Бактрии и Маргианы. Найдены они и в Белуджистане, в Сибри около Мехргарха и в Кветте, где характерные для этой культуры вещи составляли часть погребального инвентаря. В настоящее время трудно сказать, связаны ли эти памятники с миграцией групп населения: оставили ли их сезонно кочевавшие скотоводы или в район Боланского прохода— важного пункта на путях обмена — устремились обитатели Центральной Азии, стараясь установить контроль над этими путями. Представляется, что с еще большей осторожностью можно предполагать в носителях комплексов такого рода индоариев.
Признаки контактов с отдаленными северными областями, севером Афганистана, северо-востоком Ирана, югом Туркменистана и Таджикистана обнаруживают в памятниках II тысячелетия до н.э. долины Свата. Наилучшим образом они изучены по могильникам, распространенным от Инаят Куйла у пакистаноафганской границы на западе до Инда на востоке и от Читрала на севере до р. Кабул на юге. Обнаруживается некоторое сходство в захоронениях, формах керамических сосудов, изделиях из металла. Эти могильники и поселения принадлежали земледельцам и скотоводам. Их жилища сооружались из камня и глины, реже — сырцового кирпича. В могильниках наряду с останками полных скелетов обнаружены трупосожжения в урнах. На позднем этапе была известна лошадь. Население принадлежало к нескольким антропологическим типам — средиземноморскому, протоавстралоидному и монголоидному. Такие явления, как применение кремации и использование лошади, как и связи с регионами к северу и северо-западу, дали основания для идентификации этой культуры как принадлежавшей индоариям или предкам одного из народов Восточного Афганистана и Северного Пакистана, дардов (К. Йеттмар).
На основании данных Ригведы было высказано предположение о возможной области расселения ариев периода сложения гимнов в Северо-Восточном Пенджабе. Здесь и в соседних областях искали свидетельства их присутствия.
Предпринимались попытки отождествления с ариями носителей нескольких археологических культур севера субконтинента. Одна из них — культура джху-кар, существовавшая в Синде во второй половине II тысячелетия до н.э. Керамика ее несколько отличается от позднехараппской, появляется роспись черного и красного цвета, своеобразные печати-штампы, характерные бронзовые топоры и булавки. Сейчас полагают, что эта культура — местный вариант позднехараппской, отмеченный влиянием со стороны Белуджистана.
Б.Б. Лал в 50-е годы прошлого века высказал предположение о принадлежности ариям так называемой культуры серой расписной керамики, выявленной в Пенджабе, Харьяне, Северном Раджастане и на западе Уттар-Прадеша, основанием для чего послужила территория ее распространения и предполагаемая датировка: конец II — начало I тысячелетия до н.э. Носители этой культуры строили жилища из плетенок, обмазанных глиной, или из сырца, разводили буйволов, свиней, лошадей, сеяли рис. Помимо захоронения останков практикова
лась и кремация, что соответствует представлениям о погребальном обряде ари-ев. Однако эта атрибуция вскоре была подвергнута сомнению. Оказалось, что серая расписная керамика не столь характерна для выделенных комплексов — она составляет всего около 10% и встречается на поселениях разного времени, в том числе хараппского типа. Само возникновение такой керамики связывают со специфическим обжигом, свидетельствующим о распространении технологии использования железа. Отмечалось также, что она не встречается на предполагаемом пути продвижения ариев, а хозяйство ее носителей имеет скорее восточное, чем западное происхождение.
Предполагали принадлежность ариям и культуры охристой керамики, отличающейся плохим обжигом и охристой поверхностью. Она распространена в Хастинапуре. Сейчас полагают, что эта культура— местная и относится к позднехараппскому времени. Еще одна культура II тысячелетия до н.э. — культура медных кладов, признаки которой встречаются от Западной Бенгалии и Ориссы до Гуджарата и Харьяны и от Уттар-Прадеша до Андхра-Прадеша. Для нее характерны изделия из почти чистой меди — плоские топоры-кельты, мечи с антенными навершиями, гарпуны, наконечники копий, антропоморфные фигурки, отлитые в одно- или двусторонних формах. Предполагают, что носители этой культуры были охотниками и воинами, некоторые орудия предназначались для расчистки джунглей; земледелием они не занимались. Происхождение этой культуры остается неясным, не исключено, что она принадлежала мигрантам с территории Хараппы. Есть мнение, что она принадлежала предкам современных мунда.
Все более расширяется круг памятников, позволяющих думать, что на исходе II тысячелетия до н.э. на территории хараппской цивилизации в связи с появлением носителей нового языка не возник культурный вакуум. Проникновение ариев не было одномоментным событием, оно происходило в целом постепенно, вероятно, они заимствовали многие элементы культуры местного населения. Столкновения между ними и местными обитателями, очевидно, имели место, но происходили они не обязательно на ранних этапах проникновения. В заключение можно согласиться с Ф.Р. Оллчином и другими исследователями в том, что «индоарианизация» Индии была динамическим процессом в преемственно-культурном развитии, продлившемся несколько столетий.
Роль хараппской цивилизации в истории Индии до сих пор по-настоящему трудно определить, хотя вслед за многими исследователями ее можно расценивать как чрезвычайно важную. Среди сохранившегося наследия выделяют формы традиционного образа жизни, социальной структуры, значительный массив религиозных представлений и обрядов. Предполагают, что чстырехварновое деление и система каст сформировались под влиянием неарийских этнокультурных субстратов.
Глава 2
ИНДИЯ
В ВЕДИЙСКИЙ ПЕРИОД
Литературные источники
Период конца II — первой трети I тысячелетия до н.э. обычно именуется ведийским, так как основными источниками для его изучения служат древнейшие памятники религиозной литературы Индии — веды. Само слово «веда», родственное русскому «ведать», означает священное знание. В понятие «веды» обычно включают четыре основных сборника — самхиты (Ригведа, Яджурведа, Сама-веда и Атхарваведа), а также примыкающие к ним так называемые поздневедийские сочинения.
Самхиты содержат гимны, напевы, жертвенные формулы и заклинания. Наиболее ранняя из них — Ригведа («Веда гимнов»). Судя по упоминаемым в ней географическим названиям, Ригведа была создана арийскими племенами уже на территории Северо-Западной Индии и, возможно, Афганистана. Указаний на более восточные и южные области в Ригведе почти нет — горы Виндхья вовсе не упоминаются, а о реках Ганге и Ямуне говорится редко и лишь в самых поздних гимнах. Исходя из выводов сравнительного языкознания (в частности, из сопоставлений ведийских памятников с Авестой и арийской лексикой в текстах из Передней Азии), а также из археологических материалов, появление ариев в Индии не может быть отнесено ко времени ранее середины II тысячелетия до н.э. В то же время место вед в истории индийской культуры таково, что их окончательное оформление нельзя отнести ко времени позднее первой трети I тысячелетия до н.э. По-видимому, основную часть гимнов Ригведы следует датировать концом II тысячелетия до н.э. и относить составление единого сборника к рубежу II—I тысячелетий до н.э. Создание других самхит произошло, очевидно, несколько позже, что не исключает глубокой древности вошедших в них материалов — отдельных мотивов или даже целых текстов.
Ригведа содержит 1028 гимнов разной величины (от 1 до 58 стихов), общее количество стихов— 10 642. Древними редакторами она была разделена на 10 циклов—мандал. Мандалы со II по VII традицией приписываются отдельным риши (мудрецам, основателям жреческих родов, таким, как Вишвамитра, Атри, Бхарадваджа, Васиштха и др.). Эта традиция находит опору в самих гимнах, в тексте которых сочетаниями звуков иногда обыгрываются имена этих риши. «Фамильные мандалы» обычно считаются древнейшей частью Ригведы. IX мандала содержит только гимны, обращенные к богу (а также священному напитку) Соме. Они расположены по формальным признакам — в зависимости от стихотворных размеров и по порядку убывания числа стихов в гимнах. Вероятно, эта мандала представляет относительно позднее собрание гимнов, хотя сами гимны Соме могут быть весьма древними. Принципы выделения I, VIII и X мандал неясны. X мандала по языку и содержанию — самая поздняя часть Ригведы и представляет собой пестрый конгломерат текстов, добавленных к уже законченному собранию.
Самаведа по своему содержанию лишена самостоятельного значения, поскольку лишь 75 «напевов» ее (саман} не являются повторением гимнов Ригведы. Яджурведа («Веда жертвенных формул») сохранилась в пяти редакциях, из которых четыре (Катхака, Капиштхала-Катха, Тайттирия и Майтраяни) именуются Черной Яджурведой, а пятая — Ваджасанея-самхита— Белой. Белая Яджурведа состоит из двух тысяч «формул» (яджус), в значительной мере заимствованных из Ригведы и Атхарваведы и расположенных в соответствии с порядком их чтения при совершении ритуала. Черная Яджурведа помимо стихотворных формул содержит составленные в прозе объяснения ритуала и в этом отношении близка поздневедийской литературе брахман.
С точки зрения содержания наряду с Ригведой наиболее интересна Атхарва-веда. Она сохранилась в двух редакциях— Шаунакия и Пайппалада. Шаунакия (или Вульгата) состоит из 20 книг (канда\ включающих 731 заклинание общим объемом около 6 тыс. стихов. Примерно % часть ее текста представляет собой не стихи, а ритмизованную прозу (XV книга целиком, большая часть XVI и некоторые другие). Около % части Атхарваведы совпадает с Ригведой, причем в основном заимствуются гимны из X, а также I и VIII мандал (гимны-заклинания, стоящие в самой Ригведе особняком). В I—XII книгах Атхарваведы тексты объединяются по формальному признаку (по количеству стихов), а в XIII—XVIII книгах— тематически (в XIV — свадебные, в XVIII — похоронные и т.д.). Старинные комментарии нередко игнорировали XX или XIX и XX книги, возможно не принадлежавшие первоначальному собранию. Из 143 заклинаний XX книги 128 заимствованы из Ригведы. Вторая редакция Атхарваведы — Пайппалада (или Кашмирская) нередко значительно отличается от Вульгаты; она состоит из 6500 стихов, и около % части ее совершенно оригинально.
Большинство текстов Ригведы и Атхарваведы связано с совершением тех или иных жертвенных ритуалов. Впрочем, некоторые из гимнов и заклинаний, хотя и использовались при обрядовых действиях, не были составлены именно с этой целью. По содержанию они весьма разнообразны. Гимны Ригведы обычно об
ращены к тому или иному божеству и содержат его восхваление, а также просьбу (последняя не всегда выражена прямо, но иногда подразумевается в тех эпитетах, которыми наделяется божество). Встречаются также космогонические гимны, гимны-заговоры и заклинания, гимны-загадки.
Атхарваведа состоит в основном из заклинаний, но нередки в ней и обычные гимны, сходные или совпадающие с Ригведой. Это — заговоры против злых духов и болезней, молитвы о долгой жизни, обретении детей, власти или богатства. Религия Атхарваведы обнаруживает ряд черт, позволяющих говорить о сравнительно позднем оформлении памятника (почитание абстрактных божеств, таких, как Скамбха-Опора, Кала-Время и пр.). Упоминания риса и тигровой шкуры свидетельствуют о том, что ко времени создания Атхарваведы арии уже значительно продвинулись к югу и востоку от Пенджаба.
Однако основное различие между Ригведой и Атхарваведой лежит не в области хронологии. Они освещают два разных аспекта ведийской религии. Ригве-да— памятник высокой жреческой поэзии, связанной с великими жертвоприношениями (шраута), в частности с возлиянием сомы. Предполагают, что ее основой послужили тексты, читавшиеся во время празднования начала нового календарного цикла — Нового года. Атхарваведа в большей степени ориентирована не на крупные жертвоприношения общественного характера, а на домашний, неофициальный ритуал (грихъя), она содержит тексты, созданные не только в жреческой (брахманской) среде. Возможно, именно этот, более «народный» характер Атхарваведы долгое время препятствовал причислению ее к «троице священного знания», «трем ведам» (траи). Если неарийские элементы выявляются даже в языке и мифологии Ригведы, то анализ Атхарваведы с этой точки зрения обещает еще более плодотворные результаты.
Важным историческим источником является сам ведийский язык, поскольку исследование его помогает установить территорию первоначального расселения ариев и возможный путь их продвижения в Индию. Лексика вед, эпитеты, просьбы к богам и восхваления дарений, содержащиеся в гимнах, общий характер ведийской религии позволяют составить представление о хозяйстве, социальном и политическом строе создавших их племен. При этом, однако, необходимо учитывать известную традиционность описаний и вытекающую отсюда архаизацию отношений. В нескольких гимнах Ригведы содержатся исторические предания, например о славной битве предводителя племени Бхаратов, царя Су-даса, с племенами Куру и их союзниками.
Конечно, первостепенным источником являются веды для истории религии, мифологии и в целом культуры индоариев. Поскольку каждое событие повседневной жизни в древности сопровождалось специальными магическими обрядами и чтением соответствующих заклинаний, Атхарваведа содержит обширный материал о быте, обычаях и верованиях индийцев.
Гимны Ригведы представляют собой поэтические тексты, созданные на особом, сакральном языке во время озарений, связанных, очевидно, с экстатической практикой. Они вызывают ряд картин, соединенных не столько логическими, сколько ассоциативными связями. Тексты их насыщены метафорами, символами,
намеками на нечто хорошо известное исполнителям и слушателям. Ведийские штудии давно уже стали одной из особых и детально разработанных отраслей индологии, но интерпретация самхит доныне представляет множество сложных проблем. При анализе вед исследователи исходят как из сравнительного материала (и прежде всего наиболее близкого — Авесты), так и из средневековых комментариев, самым значительным из которых является написанный Саяной в XIV в.
В состав поздневедийской литературы входят памятники так называемой «брахманической прозы» — брахманы, аранъяки, упаншиады. Брахманы посвящены преимущественно истолкованию символики жертвенного ритуала и объяснению связи между ритуальным действием и текстом жертвенных формул (мантр). В брахманах господствует представление об одушевленности всех вещей, о всеобщей взаимосвязанности, благодаря чему возможно магическое воздействие на Космос посредством особых церемоний и священных слов, произносимых при жертвоприношении. Знание сокровенной их сути составляет прерогативу жрецов — брахманов, которые приобретают таким образом власть над миром, над людьми и богами. Составители этих поздневедийских текстов центральное место уделяют отождествлениям явлений и понятий различных уровней: абстрактного и конкретного, природного и общественного, божественного и человеческого. Основой подобных сопоставлений может служить магия чисел (например, совпадение количества частей или слогов в словах, обозначающих разные предметы), близость звучания слов (так называемая «народная этимология», обычно не имеющая никакого отношения к действительному происхождению лексики), миф (иногда подлинный, но чаще— придуманный специально для данного случая).
Брахманы содержат и пересказы старинных легендарно-мифологических преданий, частично раскрывающие глухие намеки ведийских гимнов: например, о Всемирном потопе, о царе Пуруравасе и небесной деве (апсаре) Урваши, о том, как Шунахшепу его отец намеревался принести в жертву, и многие другие. В религии поздневедийского периода происходит дальнейшее развитие тех черт, которые заметны уже в Атхарваведе. В частности, на первый план выдвигаются обожествляемые общие понятия (как Речь и Вера) и преимущественно Творец— Праджапати, отождествляемый с космическим принципом — Брахманом. Последний выступает и как конкретный мифологический персонаж — бог Брахма.
С брахманами сходны араньяки («лесные книги»), содержащие, однако, еще больше спекулятивных рассуждений. Завершением этого жанра ведийской литературы служат упанишады, нередко называемые в индийской традиции словом веданта, т.е. «конец веды». Появление упанишад связывают с практикой обучения эзотерическим доктринам в обителях лесных отшельников. В то же время не подлежит сомнению, что эти тексты продолжают традиции умозрительного истолкования ритуала в брахманической прозе.
Брахманы в целом несколько позднее самхит и могут быть условно датированы первой третью I тысячелетия до н.э. Создавались они в Северной Индии на территории между Сатледжем и верхним течением Ганга. Примерно к VI в.
до н.э. относятся и наиболее ранние упанишады, начиная с Брихадараньяки и Чхандогьи, хотя произведения этого жанра продолжали составлять и многими столетиями позже.
Произведения, входящие в состав поздневедийской литературы, складывались в кругах жрецов — брахманов и нередко в самих цитатах из самхит обнаруживают принадлежность к той или иной «школе» ритуала. Согласно традиционной классификации ведийских текстов, к Ригведе примыкают две брахманы — Айтарея и Каушитаки — вместе с дополняющими их араньяками и упанишада-ми. Несколько брахман принадлежат Самаведе (Панчавимша, Джайминия и др.). Наиболее обширная брахмана (в английском переводе составившая пять томов) относится к Белой Яджурведе. Это — Шатапатха-брахмана («Брахмана ста путей»), сохранившаяся в двух редакциях, Канва и Мадхьяндина. Заключительные главы ее составляет древнейшая из упанишад — Брихадараньяка. К Атхарваведе причисляется лишь Гопатха-брахмана, текст очень поздний и мало связанный с самхитой.
Поздневедийская литература интересна главным образом с точки зрения религии и культуры, поскольку она, с одной стороны, позволяет на огромном материале исследовать особенности архаического мировоззрения, а с другой — содержит основы важнейших религиозно-философских концепций древней Индии. Сведения поздневедийских текстов об экономике, социальной и политической структуре Индии отрывочны и в большинстве случаев крайне лаконичны. Вследствие того что произведения ее посвящены ритуалу или умозрительным построениям, они не могут достаточно полно и равномерно отразить все стороны жизни общества.
Колоссальный объем лексики ведийских текстов позволяет в общих чертах представить различные стороны материальной культуры и быта. В своеобразной системе понятий находят отражение важнейшие социальные и политические институты. Наконец, особенно важным представляется вопрос о целях создания этих памятников. Решение проблемы о причинах их появления, их общественной значимости должно способствовать пониманию сути породившей их эпохи.
Наряду с поздневедийской литературой источниками по данному периоду являются произведения, именуемые в индийской традиции итихаса («былое») и пурана («древнее»). Принадлежащие к этому жанру Махабхарату и Рамаяну обычно называют эпическими поэмами, хотя и форма их, и содержание имеют известные отличия от эпоса других народов. Махабхарата состоит примерно из 100 тыс. двустиший-ииок (в критическом издании несколько меньше— около 78 тыс.) и разделена на 18 разных по объему книг. Иногда поэму Харивамша («Родословие Хари», т.е. Вишну) рассматривают как обширную девятнадцатую ее книгу. Основной сюжет Махабхараты — лишение власти потомков царя Панду (Пандавов) их двоюродными братьями из рода Куру — Кауравами и возвращение царства после кровопролитной братоубийственной битвы на поле Куру (Курукшетре). Однако не более половины текста посвящено изложению непосредственно основного сюжета. Махабхарата изобилует вставными эпизодами как повествовательного, так и стихотворно-дидактического характера. Часто эти
эпизоды являются вполне самостоятельными произведениями, вставленными в поэму посредством различных «рамочных» конструкций. Некоторые из них содержат мифы, древние легенды и предания. Дидактические части представляют собой философские трактаты в стихах (например, знаменитая Бхагавадгита) или наставления.
Рамаяна почти в четыре раза короче Махабхараты и является более цельным произведением, содержащим меньше отступлений, вставных эпизодов и дидактики. Текст ее почти целиком посвящен изложению основного сюжета— похищения Ситы, жены царевича Рамы, демоном Раваной и последующего ее возвращения. Рамаяна традиционно считается «первой поэмой» (кавъя), и, действительно, ее стиль часто близок классической индийской поэзии.
Махабхарата дошла в сотнях рукописей (преимущественно позднего Средневековья — XV-XVIII вв.), передающих десятки версий поэмы, значительно отличающихся друг от друга объемом, содержанием, последовательностью изложения и вариантами чтения. Принято выделять две основные группы версий — северную (которая, в свою очередь, подразделяется на северо-западную и центральную) и южную, представленную рукописями на малаялам, телугу и грантха. Также многочисленны и версии Рамаяны, подразделяемые на три группы, из которых лишь две — бенгальская и западноиндийская — могут быть определены географически. Как для всякого памятника устного творчества, для Махабхараты и Рамаяны принципиально невозможно установить «подлинный», «авторский» или «первоначальный» текст. Записи восходят к разным сказителям, а исполнение являлось творческим процессом, при котором неизбежны вариации изложения (вариации, впрочем, по определенным правилам и с помощью более или менее устойчивых, «формульных» оборотов).
В связи с этим невозможно определить и дату составления каждой поэмы, но правомерно говорить лишь о широких хронологических пределах ее оформления и записи. Упоминания отдельных эпизодов поэм или их названий встречаются в памятниках индийской литературы примерно с середины I тысячелетия до н.э. Древнейший перечень книг Махабхараты относится к началу н.э. Она уже была записана, но еще не в той форме, в какой дошла до нас. Некоторые детали (например, упоминание гуннов) свидетельствуют о том, что доступный нам текст мог быть зафиксирован не ранее середины I тысячелетия н.э. С гуптской эпохи появляются многочисленные изображения героев и сюжетов эпоса. В целом время оформления обеих поэм условно определяется в границах середины I тысячелетия до н.э. — середины I тысячелетия н.э. Относительная хронология поэм неясна. Обычно считается, что основной сюжет Рамаяны мог быть несколько более древним, но окончательное оформление ее произошло позже, чем Махабхараты.
Разным временем должны датироваться отдельные книги Махабхараты и Рамаяны. Из семи книг Рамаяны, например, первая и последняя считаются наиболее поздними. Отдельные эпизоды внутри книг представляют самостоятельные произведения, существовавшие задолго до создания поэмы в целом, а некоторые сюжеты мифов и легенд могут восходить к глубочайшей древности, притом не только арийской (или индоевропейской), но и местной (доарийской).
Махабхарата и Рамаяна многослойны не только в аспекте «чистой» хронологии. По содержанию и по форме они представляют собою конгломерат разных элементов: архаичных мифов и военных сказаний, легенд и притч, трактатов и басен, обширных перечней имен богов, народов, городов, генеалогий, мест паломничества и т.п. Они не только принадлежат к разному времени и разным народам Индии, но и создавались в различной социальной среде. Первоначально героико-эпическая поэзия была связана с военной аристократией — кшатриями, она развивалась параллельно со жреческой, ведийской литературой. Однако дошедшие до нас своды, несомненно, отражают позднейшую, брахманскую редакцию эпоса.
Как во всяком эпическом произведении, отражение действительности в Махабхарате и Рамаяне весьма сложное, и следует постоянно учитывать то, что история в них тесно сплетается с мифом. Ядро эпического повествования, видимо, относится к рубежу П-1 тысячелетий до н.э. Сказания Махабхараты часто отражают социальную и политическую обстановку, очень близкую той, которую можно восстановить по ведийским источникам. В ведийской литературе упоминаются и некоторые из персонажей эпоса, которые могли иметь исторические или полуисторические прототипы (Джанамеджая, Парикшит). Однако материальная культура и Махабхараты и Рамаяны (цветущие города, пышные дворцы) должна быть отнесена к концу I тысячелетия до н.э. — началу н.э. Махабхарата изобилует анахронизмами (например, упоминания о Риме, Антиохии и «городе греков»— Александрии, якобы покоренных Пандавами, должны относиться к первым векам н.э.). В области духовной культуры происходит такое же смешение разных напластований, и если на политической карте Махабхараты племена «героического века» Куру и Панчала соседствуют с греками и гуннами, то в религиозной ее картине культы ведийских богов уживаются с индуистской триадой, Скандой и Дургой.
В историографии неоправданно большое место занимает проблема историчности основного сюжета Махабхараты, битвы между Пандавами и Кауравами на Курукшетре. Поскольку в ведийской литературе есть упоминания об эпических героях и о поле Куру, но нет сведений о великой битве на этом поле, можно предполагать, что во всяком случае она не имела ни масштабов, ни значения, придаваемых ей эпосом. Эпические поэмы важны прежде всего как собрание памятников древней устной словесности (причем разных племен и народов Индии), как воспроизведение преимущественно кшатрийских военных сказаний, освещающих индийское общество, государство, культуру и религию иначе, чем ведийские (брахманские) источники.
Во многих отношениях с Махабхаратой и Рамаяной сходны так называемые пураны. Сама индийская традиция признает это сходство, иногда причисляя эпические поэмы (прежде всего Махабхарату) к пуранам. Пураны — также обширные произведения, включившие в себя весьма разнородный материал и ставшие священными книгами индуизма. Обычно называют восемнадцать больших пуран (из них наиболее важны Вишну, Ваю, Матсья, Бхагавата, Агни) и несколько десятков малых (упапуран). Некоторые пураны вишнуитские, другие шиваитские. Оформление их происходило в основном в I тысячелетии н.э., но отдельные час
ти пуран могут выходить за эти хронологические рамки и относиться как к последним векам до н.э., так и к первой половине II тысячелетия н.э. Согласно самой индийской традиции, ядро пуран составляют космогония, теогония и генеалогии царей. Значительная часть мифологии пуран неарийского происхождения.
Для рассматриваемой нами эпохи особый интерес вызывают многочисленные упоминания племенных наименований и генеалогий правителей, происхождение которых возводится к эпическим героям или персонажам мифологии. В этих преданиях о древности сохранилась информация о племенах и народах «героического века», примерно совпадающего с ведийским периодом. Однако пураниче-ские генеалогии не могут рассматриваться в качестве достоверного источника. Слишком часто они искажались придворными панегиристами в угоду своим царственным патронам из местных династий значительно более позднего времени.
Археологические культуры
Индии П — начала I тысячелетия до н.э.
Обзор литературных источников — как ведийских, так и эпических — показывает, что они дают лишь самое общее представление об эпохе, продолжавшейся несколько столетий в Северной Индии. По самому своему характеру эти памятники не позволяют реконструировать последовательность событий в истории отдельных областей. Богатство сведений по духовной культуре— мировоззрению, мифологии, ритуалу — сочетается со скудостью данных о материальных основах и социальных условиях жизни людей. В этой связи особенно важное значение приобретают археологические исследования, активно ведущиеся на территории Индии в последние десятилетия.
В северо-западном регионе Индии в середине II тысячелетия до н.э. происходит постепенный упадок индской цивилизации. Исчезает письменность и характерные для городов бронзового века монументальные сооружения. Раскопки позднехараппских центров показывают растянувшийся на века процесс запустения городов и основания на их месте деревенских поселений. Если в южных областях распространения цивилизации эти перемены происходили в основном мирно, то в районах Синда, Пенджаба и Харьяны явственно заметно внешнее давление и следы миграций, сопровождавшихся разрывом культурных традиций. На развалинах Чанху-Даро, например, находят материальные остатки культуры джхукар, связанной с Белуджистаном. В более северных областях, в районе Пи-рака, можно констатировать появление племен, пришедших, видимо, из Средней Азии. Культура гандхарских могильников IX-VII вв. до н.э. находит аналогии в Южном Таджикистане. Переселения различных племенных групп из Восточного Ирана, Афганистана и Средней Азии следовали волна за волною и во II, и в начале I тысячелетия до н.э. Судя по керамике, речь идет о разных этнических группах, но уровень их социально-экономического развития был, очевидно, сходен. Костные останки свидетельствуют о скотоводческом быте. Известно было и земледелие— из злаковых культур выращивался главным образом ячмень. Продвижение по обширным территориям облегчалось благодаря использованию колесных повозок.
12. Предметы культуры «медных кладов»
13. Хастинапура. Образцы серой расписной керамики
В более восточных областях Северной Индии была распространена так называемая «культура медных кладов». Давшие название этой культуре медные изделия представлены характерными мечами с антеннообразными рукоятками, гарпунами, наконечниками копий с шипами, кольцами, возможно, служившими мерилом стоимости. С ними ассоциируется керамика охристого цвета. Наряду с «желтой» керамикой встречается также серая, черно-красная с белым рисунком или черным орнаментом по красноватому фону. Качество ее изготовления и обжига обычно невысокое.
Основная область распространения культуры медных кладов и желтой керамики — район между Гангом и Ямуной и еще более восточные области по долине Ганга— Бихар, Западная Бенгалия. Находки подобного типа встречаются и несколько южнее, например в Нохе (Раджастан). Памятники этой культуры датируются главным образом первой половиной II тысячелетия до н.э. — таким образом, они хронологически совпадают с хараппскими и позднехараппскими. Есть данные о связях между регионами распространения той и другой культур. В долине Ганга поселения нередко располагались неподалеку от месторождений меди, и, по всей видимости, именно отсюда металл вывозился в хараппские города. Однако в самих поселениях культуры желтой керамики типично харапп-ских предметов практически не находят, и вполне возможно, что связи городов долины Инда с более восточными областями носили односторонний характер. Во всяком случае, культура медных кладов и желтой керамики относится к более низкой ступени общественного развития, нежели индская цивилизация.
Твердые почвы в долине Ганга представляют значительные сложности для обработки, а повышенная влажность способствовала появлению густых тропических лесов. Поселения II тысячелетия до н.э. были весьма небольшими, с тонким культурным слоем. Видимо, в эпоху «медных кладов» не сложилось еще традиций прочной оседлости. Несмотря на знакомство носителей этой культуры с металлом, в их хозяйстве большое значение сохранили изделия из камня— характерны, в частности, обильные находки микролитов. Важнейшими отраслями оставались охота и рыболовство. Вероятно, с помощью мотыги местные племена выращивали злаковые культуры: ячмень, рис, в некоторых районах — пшеницу. На занятия скотоводством указывают терракотовые фигурки домашних животных.
Другой важнейшей областью развитого неолита и энеолита являлся Западный Декан. Наиболее известные культуры региона: Ахар (первая половина II тысячелетия до н.э.), Малва (середина II тысячелетия до н.э.), Джорве (вторая половина II— начало I тысячелетия до н.э.). Между основными археологическими культурами удается обнаружить некоторую преемственность, и потому можно утверждать, что корни энеолита и ранней бронзы на этой территории уходят в эпоху неолита.
Энеолитические поселения в Западной Индии находились в непосредственной близости от провинциальных центров позднехараппской культуры (таких, как Даймабад), поддерживали с ними связи и, очевидно, могли испытывать некоторое влияние своих северных соседей, стоявших на более высокой ступени социально-экономического развития.
Наиболее известные поселения культуры Малва— Навдатоли, Насик, Нева-са— располагались по берегам рек, и, видимо, их хозяйство было связано с примитивной ирригацией. Жилые дома по остаткам фундамента реконструируются как прямоугольные в плане. Были и крупные мазанковые хижины с конической крышей. Население занималось выращиванием главным образом ячменя, в некоторых местах — пшеницы, кое-где был известен рис. Встречаются каменные орудия труда (шлифованные топоры) и медные изделия (мечи, кинжалы). Черно-красная керамика изготавливалась преимущественно на гончарном круге. В Невасе найдены остатки шелкового шнурка— древнейшее свидетельство о шелководстве в Индии в ХШ в. до н.э.
Недавние раскопки в Инамгаоне показывают наличие в самом конце II тысячелетия до н.э. ирригационных сооружений— каналов, а также насыпей для предохранения от наводнений. Археологи определяют один из кварталов поселения как принадлежавший ремесленникам-профессионалам.
Для южной части полуострова Индостан во II тысячелетии до н.э. приходится говорить преимущественно о неолите. Находят, впрочем, некоторое количество изделий из меди: мечи, ножи, наконечники копий — главным образом в слоях второй половины II тысячелетия до н.э. Часть из них напоминает произведения североиндийского ремесла, например мечи с антеннообразной рукояткой. Первое тысячелетие до н.э. представлено прежде всего культурой мегалитов. В Брах-магири раскопано кладбище из нескольких сот захоронений, обнесенное каменными плитами.
В Южной Индии хорошо засвидетельствовано скотоводство, находки конских удил говорят об использовании лошади. Земледелие — разведение ячменя, пшеницы, ююбы — прослеживается довольно слабо. Развитой бронзы этот регион не знал. В Халлуре обнаружены следы знакомства с железом в слоях конца II тысячелетия до н.э., однако широкое использование этого металла относится к значительно более позднему времени. Культура индийских мегалитов исчезает лишь с наступлением «исторического периода» — в конце I тысячелетия до н.э., когда в этих регионах уже правят царские династии Сатаваханов, Икшваков и др.
Первые находки из железа в Северной Индии относятся также к концу II тысячелетия до н.э. (Атранджикхера). Они связаны с культурой серой расписной керамики (а также с культурой черно-красной керамики в восточных областях — Западной Бенгалии, Бихаре, Уттар-Прадеше). Ареал распространения культуры серой расписной керамики, известной в настоящее время по раскопкам на нескольких сотнях памятников, охватывает прежде всего Харьяну, междуречье Ганга и Ямуны, Восточный Пенджаб, а также Северо-Восточный Раджастан (район Уджайна). Наиболее ранние памятники в Пенджабе, Кашмире и Харьяне датируются последней третью П и началом I тысячелетия до н.э. Культура эта постепенно распространялась в восточном и юго-восточном направлениях, большинство поселений относится к VIII-VII вв. до н.э.
На северо-западе слои с серой расписной керамикой порой (в Бхагванпуре, Сангхале) непосредственно следуют за позднехараппскими, и, таким образом,
носители той и другой культуры какое-то время жили бок о бок. В более восточных районах по течению Ямуны и Ганга культуре серой расписной керамики предшествовала другая — медных кладов и желтой керамики.
Культура серой расписной керамики известна по находкам в таких центрах, как Бхагванпур на берегу р. Сарасвати (совр. Гхаггар), Атранджикхера, Хасти-напура, Рупар, на территории современного Дели (Пурана-кила — видимо, древняя Йндрапрастха), Ахиччхатра, Каушамби. Поселения эти не имели характера городских. Речь идет о небольших деревеньках, расположенных обычно на берегу реки на расстоянии 10-12 км друг от друга. Средний размер их около 2-3 га, но есть и крупные — до 13 га. Очевидно, о последних можно говорить как о центрах управления определенными территориями.
Дома представляли собой глинобитные хижины, круглые или прямоугольные в плане. Строительная техника была следующей: в земле укрепляли толстые стволы бамбука, а между ними натягивался веревочный каркас. Затем тростниковая плетенка обмазывалась глиной, для прочности смешанной с рисовой шелухой. Внешне мало отличались от рядовых домов и более значительные сооружения, состоявшие из дюжины помещений (комнат и кладовых)— вероятно, резиденции правителей поселения. Такие сооружения, как насыпь, обнаруженная в Атранджикхере, требовали коллективных усилий — очевидно, труда всех общинников. Судя по размеру очагов и кухонной утвари, семьи, как правило, были большими — 7-10 человек. Рядом с глинобитными постройками находят обожженные кирпичи — прямоугольные и клинообразные. Можно предполагать, что они использовались при строительстве алтарей. Имеются и другие свидетельства совершения обрядов жертвоприношения.
Домашняя утварь, как и весь быт населения, представляется весьма скромной. Предметом роскоши может считаться сама серая расписная керамика, давшая название всей культуре. Она изготавливалась из тонко отмученной глины на гончарном круге и расписывалась черными геометрическими узорами: спиралями, свастиками и крестами, пересекающимися и концентрическими кругами (нанесенными с помощью циркуля). Керамика стандартизирована по формам и размерам — кувшины для питьевой воды, блюда с полукруглым основанием и пр. Подобная изящная и тонкая посуда составляет, однако, не более 1/10 керамического материала. Наряду с нею встречается и более грубая серая керамика без росписи, красная, черно-красная и коричнево-красная. Самые ранние образцы выполнены вручную, без гончарного круга.
На местах раскопок культуры серой расписной керамики встречаются изделия из металлов. В Бхагванпуре и других поселениях последней трети II тысячелетия до н.э. это медные орудия труда и оружие: наконечники копий, мотыга, топор. В Атранджикхере и более поздних памятниках (с XI-X вв. до н.э.) встречается и железо: гвозди, булавки, ножи и т.п. Следует отметить также предметы, изготовленные из кости, из рогов оленя, а также стеклянные бусы и браслеты. Небольшие терракотовые фигурки изображают людей и домашних животных (лошадь, бык, баран).
Всякие суждения о характере социально-экономического развития племен, создавших данную культуру, имеют предварительный характер уже по той при
чине, что поселения раскапывались преимущественно шурфами, без вскрытия сколько-нибудь широкой территории (за исключением Бхагванпура). Но уже имеются сведения о занятиях земледелием и скотоводством. Помимо ячменя и пшеницы распространялось возделывание риса, а находки одновременно зерен риса и пшеницы дают возможность предполагать получение двух урожаев в год. Характерно, что среди костных останков преобладают кости крупного рогатого скота. Лошадь запрягали в колесную повозку, и есть основания предполагать культ коня. Охота и рыболовство, скорее всего, сохраняли значение лишь как вспомогательные отрасли хозяйства. Для периодизации истории культуры серой расписной керамики могут иметь значение, в частности, следующие наблюдения: в последней трети II тысячелетия до н.э. на поселениях этой культуры нет следов использования железа. Оно появляется с XI-X вв. до н.э., но и позже — примерно до VII в. до н.э. — не имеет особенно важного производственного значения. Через какое-то время после широкого распространения железа в VII-VI вв. до н.э. начинается принципиально новая эпоха, связанная с урбанизацией и появлением монеты. Но тогда складывается и новая археологическая культура чернолощеной керамики, с которой серая расписная керамика лишь пережиточно сосуществует в середине I тысячелетия до н.э. Чернолощеная керамика охватывает всю область распространения своей предшественницы, но ареал ее значительно шире— до низовьев Ганга и Ориссы, с одной стороны, и до Западного Декана и юга полуострова Катхиавар — с другой (включая также район Амара-вати на юго-востоке).
Расселение ведийских ариев. Экономика
Как уже говорилось, географические названия, упоминаемые в Ригведе, однозначно указывают на Северо-Западную Индию как район расселения ариев. Речь идет, например, о таких реках, как Кубха-Кабул, Синдху-Инд, Асикни-Ченаб (Акесин — у античных авторов). Области, расположенные восточнее Пенджаба, были известны значительно меньше. Ганг упоминается лишь однажды, да и то в поздней части Ригведы.
Другие самхиты и памятники брахманической прозы не только отражают более позднюю эпоху, но и созданы на другой территории. В центре внимания их авторов находится район между Индом и Гангом. Часто говорится здесь о реках Сарасвати и Дршадвати, о земле Курукшетре, расположенной в центральной части Северной Индии. Составителю Айтарея-брахманы жители Каши, Кошалы, Видехи— областей в среднем течении Ганга— кажутся «народами Востока» (прачья). Долина Ганга была известна вплоть до устья— уже в Атхарваведе упоминается находящаяся там страна Анга. Но даже более западная, чем Анга, Магадха рассматривается в поздневедийской литературе как земля чуждая, где брахманам не следует жить. Районы современной Западной Бенгалии и даже Бихара, очевидно, еще не были освоены и «арьянизированы».
В древневедийской литературе существовало понятие «Срединной области» (Мадхьядеша), отличающейся особой чистотой жертвенного ритуала и сакраль-
ного языка. В Шатапатха-брахмане говорится, что само Слово (Вач) родилось именно здесь. Границы Мадхьядеши обычно определялись между горами Винд-хья на юге и Гималаями на севере, рекой Сарасвати на западе и местом слияния рек Ямуны и Ганга на востоке. Это довольно точно соответствует той территории, где оформлялась поздневедийская культура. Если для певцов Ригведы район Гандхары, например, был одним из центральных, то для составителей упани-шад Гандхара— уже далеко на западе. И напротив, Видеха, совсем неизвестная авторам гимнов, область периферийная даже для ранних памятников брахманической прозы, является тем районом, где разворачивается действие диалогов упанишад. В ведийской литературе можно обнаружить недвусмысленные упоминания о переселении ариев в восточном и юго-восточном направлениях. Результатом этих миграций явилось распространение индоарийских языков, постепенное освоение долины Ганга и смещение основных центров формирования древнеиндийской культуры.
Процесс расселения индоарийских племен порою изображался в историографии как разрушительное завоевание, сопровождавшееся порабощением туземного населения. Основания для подобной концепции весьма шатки. Наиболее существенным служит то, что в гимнах Ригведы ариям и арийским богам противостоят враждебные дасью. Религии ведийских ариев— как и их иранских собратьев — свойствен дуализм. Борьба между главным богом-воителем Индрой и его противником — змеем, драконом (Даса, Вритра, Шамбара и т.п.) олицетворяет установление мирового порядка. Победа Индры означает торжество света над тьмой и смену календарных сезонов. Битвы, изображаемые в гимнах, происходят главным образом в сфере мифологии, хотя и земные арии помогают уничтожению сил тьмы и зла, одолевая своих врагов.
Противники племен, создавших Ригведу, естественно, характеризуются отрицательными чертами. Они не приносят жертв и не совершают обрядов, не поклоняются богам (адева) и лишены духовной силы (абрахман), не соблюдают ведийских обетов (аврата). В последнем случае употребляется и синонимичное выражение анъяврата, т.е. «соблюдающие иные обеты». Аналогичным образом надлежит интерпретировать, конечно, все подобного рода эпитеты. Дасью не просто «безбожные» — они поклоняются другим богам, совершают иные обряды и т.д. Иначе говоря, мы имеем дело с обобщенным образом противников ариев (когда речь вообще идет о земных, а не мифических существах). И эти дасью не принадлежали к той религиозной общности, в которой создавалась Ригведа, — вряд ли указанные выше эпитеты позволят сделать выводы более содержательные, чем это несколько тавтологическое утверждение.
Неоднократно делались попытки показать, что противники ариев — аборигены, отличавшиеся от светлокожих индоевропейцев по расе. Особое значение придавалось таким встречающимся в Ригведе определениям, как кришнатвач — «черная кожа», анас — «безносый» (т.е. будто бы плосконосый) и мридхравач — «тот, чья речь враждебна». Однако сейчас исследователи склоняются к совершенно иным интерпретациям названных терминов. Кришнатвач толкуется как «темное покрывало» ночи, которое спадает с земли благодаря победе богов над своими противниками. Слово анас — в полном соответствии с традиционными
ПО
комментариями— вообще не содержит корня нас («нос») и не указывает на какую-либо антропологическую черту. Наконец, было бы натяжкой последний эпитет трактовать как «тот, чья речь непонятна» (типа «немец»). Возможно, речь идет не о языке бытового общения, а о сакральном языке, и тогда слово «мридхравач» должно быть поставлено в один ряд с такими, как «приносящий иные жертвы» и «поклоняющийся иным богам».
Особый интерес вызывает появление в ведах такой категории людей, как вратъи, отличающиеся от ариев по религии и образу жизни, но близкие к ним по языку и достойные обращения в ведийскую веру. В литературе последних лет вратьев рассматривают как од ну из групп индоарийских племен, расселявшихся по долине Ганга раньше, нежели народ, создавший Ригведу. Черты доригведий-ской культуры удается проследить у современных племен кафиров и дардов на северо-западе Индостана. Появление индоевропейцев в Южной Азии не было единовременным событием— так называемым «арийским завоеванием». Речь идет о весьма длительном процессе. Создатели Ригведы представляли лишь одну из волн в этих этнических перемещениях, и вполне вероятно, что отношения между собою разных групп индоевропейцев — в том числе и ригведийских ариев — были не менее сложными, чем с местным населением. Нет никаких оснований полагать, будто сходство расового облика и близость языков сами по себе обеспечивали «арийскую» солидарность, а с другой стороны, провоцировали военные конфликты с аборигенами.
Точка зрения о том, что арии разрушили городскую цивилизацию бронзового века в долине Инда, должна быть оставлена даже по чисто хронологическим соображениям. Хараппа и Мохенджо-Даро пришли в запустение до появления ариев в Пенджабе. Те военные столкновения, которые упоминаются в гимнах Ригведы, велись между племенами, стоявшими на сходной стадии общественного развития. Нередко можно видеть, что с обеих сторон сражались племена и предводители, имена которых указывают на их индоевропейское происхождение. Некоторая «воинственность» ранневедийской поэзии должна объясняться скорее характером социально-политического строя ариев в данный период, нежели противоборством рас.
Социальная и этническая терминология Ригведы отличается крайней неопределенностью. Один из наиболее часто встречающихся и характерных для этого памятника терминов — джана — означает «народ, люди». Несколько раз в тексте употребляется понятие «пять народов» (панчаджана). Среди конкретных племен (или племенных союзов), упоминаемых в Ригведе, чаще других называются такие, как Друхью, Яду, Турваша, Ану, Пуру, Криви, Тритсу, Бхарата. Но поскольку речь о них идет в разных гимнах Ригведы, возможно, и существовали они не в одно и то же время, и сами наименования могли отчасти дублировать друг друга.
Слово «джана», несмотря на ясную этимологию (от глагола джан — «рождаться»), отнюдь не обязательно должно означать именно родо-племенной коллектив. Речь может идти обо всех, кто подчиняется единому предводителю, вождю (последний именуется «пастырем народа»— гопа джанасья). Выражение «пять народов» может быть устойчивым архаичным словосочетанием. Делались
попытки интерпретировать его как указание на четыре стороны света и центр. Уже в поздневедийских текстах оно комментировалось самым фантастическим образом — то находили здесь четыре варны с добавлением племени нишадов, то обнаруживали различные разряды живых существ (боги, предки, змеи, полубо-жественные небожители — гандхарвы и апсары, а также люди).
В литературе брахман конкретные племенные наименования иные, чем в сам-хитах. Из примерно сорока названий, встречающихся в самхитах, в брахманах сохраняется лишь пятнадцать. В то же время появляются три десятка новых, многие из которых не имеют индоевропейской этимологии. Уже это отчетливо характеризует происходившие в первой трети I тысячелетия до н.э. перемены, в частности процесс культурной ассимиляции. Центральным для поздневедийской литературы являлся район по верхнему течению Ганга, область, именуемая Куру-Панчала. Здесь формировались основы древнеиндийской цивилизации, и отсюда распространялись культурные влияния — не только на восток или юг, но и на северо-запад, откуда шла первоначальная миграция.
Трудно сказать, каково соотношение этих знаменитых племен — Куру и Панчала— с теми, что упоминаются в Ригведе. Куру встречается в гимнах лишь эпизодически, в составе сложных слов типа имени «Слава Куру». Судя по тому, что в Шатапатха-брахмане встречается персонаж Крайвья Панчала, возможно, что этноним Панчала связан с ригведийским Криви. Конечно, древние «народы» Ригведы не исчезли, но вряд ли следует думать и о простой смене племенных названий. Освоение Мадхьядеши приводило к существенным переменам и в хозяйственном укладе, и в Общественном строе, и в межплеменных отношениях — распаду прежних и созданию новых союзов и общностей. Каково бы ни было происхождение поздневедийских Куру и Панчалов, они сильно отличались от тех индоариев, в среде которых создавалась Ригведа.
Интересно, что в источниках относительно редко говорится о Куру и Панчала в отдельности — очевидно, они составляли объединение. Это же объединение порою трактовалось и как Бхараты (в Белой Яджурведе). Несколько восточнее Куру-Панчалов находилось другое объединение — Каши-Кошала. Характер того и другого союза определить нелегко, но есть основания думать, что весьма важную роль играли не чисто политические, а культовые связи. Во всяком случае, традиция говорит о том, что у Каши-Кошала было множество «царей» — раджей, но лишь один общий верховный жрец — пурохита.
Как известно, основной сюжет древнеиндийского эпоса— Махабхараты — также связан с племенами Куру и Панчалов, с потомками Бхараты, с центральным районом Северной Индии. «Поле Куру»— Курукшетра, где разворачивалась великая битва Бхаратов, считалось священным и в поздневедийской литературе. Повествования об эпических героях находят параллели даже в Ригведе и, очевидно, содержат какие-то отголоски древнейших устных преданий — о генеалогиях племен, родов и династий.
Археологические раскопки, упомянутые прежде, показывают, что те политические центры, в которых происходит действие Махабхараты, в начале I тысячелетия до н.э. действительно были связаны определенным единством — это область распространения культуры серой расписной керамики. Территориально
и хронологически с культурой серой расписной керамики в основном совпадает и та древнеиндийская цивилизация, которая находит отражение в памятниках поздневедийской литературы.
Единство складывающейся цивилизации было относительным— в самой брахманической прозе неоднократно подчеркиваются и диалектные различия (главным образом между «западными» и «восточными» народами), и особенности тех и других в осуществлении священных обрядов. Тем не менее можно сказать, что наиболее существенные черты позднейшей индийской культуры определились именно в ту эпоху. В литературе последних лет справедливо подчеркивается, что цивилизация древней Индии имела не только индоарийское происхождение, она возникла при значительном участии местных субстратов. Влияние языков дравидийских и мунда прослеживается уже в Ригведе, но особенно в поздневедийских текстах. Дело не ограничивается только лексикой, связанной с местной флорой и фауной, речь идет о заимствованиях в различных областях материальной и духовной культуры. Формирование индийской цивилизации происходило в условиях синтеза целого ряда этнических традиций.
В то же время часть племен и народностей Индостана оставалась на ее периферии или за ее пределами. Речь идет в основном о местных племенах, стоявших на более низкой ступени социального развития. В поздневедийской и эпической литературе встречается множество наименований тех этносов, которые рассматривались как чуждые и враждебные «ариям», — это пулинды и шабары, иногда также чандалы, кираты, андхры и многие другие. Они получают обобщающее определение «дасью». Последнее трактовалось тогда скорее как «лесной разбойник», нежели просто «противник». Понятие же «арий» с тех пор прилагается к основному населению Индо-Гангской равнины, занятому сельским хозяйством и осуществляющему ведийский культ.
Даже беглое знакомство с гимнами Ригведы показывает большое значение, которое в жизни ариев и их представлениях о мире придавалось скотоводству. Молитвы к богам нередко завершались просьбами о приумножении стад. Крупный рогатый скот считался, очевидно, мерилом богатства. Нередко упоминаются пастбища и стойла. В состав священных книг включались заклинания против болезней домашних животных. В жертву богам приносили молоко, топленое масло, простоквашу и различные виды молочной каши (часто с топленым маслом или творогом). Богато представлена в ведах фразеология, связанная с разведением скота. Вождя называли буквально «коровьим пастухом» (гопа), состоятельного человека — «обладателем коров» (гомат), войну — «поисками коров» (гавишти), род — «коровьим загоном» (готра) и т.д. В ведийской поэзии широко представлены соответствующие образы, сравнения и метафоры: потоки рек текут как стадо коров, бегущее к водопою. Индра — это неутомимый бык, способный оплодотворить множество коров. Он ведет борьбу со своими противниками с целью освободить похищенные теми стада коров.
Значительно реже встречаются упоминания о других домашних животных, но разведение коз и овец достаточно хорошо засвидетельствовано. Речь идет и об одежде, изготовленной из шерсти (урна-руно), и об употреблении молока и мяса мелкого рогатого скота. Отраженные в ряде гимнов страхи перед волками явно
навеяны скотоводческим бытом. В качестве тягловых животных использовались преимущественно волы, ослы и мулы. В боевые колесницы впрягали коней. Эта их важнейшая роль в военном деле лежала в основе того культа коня, который являлся характерной чертой ведийской религии.
Традиционная терминология и образность, мифологические сюжеты Ригведы, очевидно, способствуют известной архаизации той картины жизни индоариев, которая складывается при чтении памятника. Видеть в ариях только кочевые пастушеские племена у нас нет оснований. Даже в ранних частях источника, в так называемых «фамильных мандалах», упоминается обрабатываемая земля (урвара), противопоставляемая пустоши (кхила). Возможно, даже использовалась примитивная система орошения полей посредством колодцев, искусственных протоков и прудов — соответствующие обозначения известны в языке Ригведы. Вспашка почвы производилась не только с помощью простой мотыги (кха-нитра), но и плугом. Последний обозначается преимущественно термином лан-гала, очевидно заимствованным у местного населения. Не вполне ясно, идет ли речь о простой сохе или уже известен был плужный лемех с металлическим наконечником. Наиболее вероятным кажется применение лемеха, изготовленного из твердых пород дерева. Даже позднее о лемехе из дерева удумбара говорит Шатапатха-брахмана. Пахарь, ведущий борозду с помощью упряжки тучных волов, не менее характерный образ для поэзии Ригведы, чем пастырь со стадом коров. Покровителем земледельческого труда считался бог Пушан.
Из злаковых культур чаще всего в гимнах упоминается ява. По всей видимости, речь должна идти о ячмене. Выращивались и масличные — а именно сезам. Ведийским богам приносили в жертву очищенные и неочищенные зерна, особую смесь ячменя и сезама, напитки с мукой, кашицу или мучные изделия, жаренные на масле. Для размола зерен служили пестик и ступка. В качестве повседневного питья приготавливался опьяняющий напиток— сура. Вероятно, в старину это слово обозначало ячменное пиво, хотя впоследствии так называли рисовую водку. Встречаются упоминания о спелых плодах, но вряд ли можно на этом основании говорить о садоводстве — речь могла идти и о дарах леса. Большое значение (в том числе и в религиозном культе) имел медовый напиток, но, судя по всему, речь также идет лишь о сборе дикого меда.
Для поздневедийского периода с еще большей уверенностью можно говорить, что земледелие являлось основной отраслью хозяйства. Значительно шире, чем в самхитах, в брахманах представлена сельскохозяйственная терминология, связанная как с выращиванием, так и с обработкой зерна. Мы встречаем упоминания о срезании колосьев посредством серпов, обмолоте снопов, провеивании с помощью корзин, хранении зерна в мешках и муки в специальных сосудах. Довольно много сведений о различных земледельческих культурах. Среди зерновых необходимо отметить помимо ячменя пшеницу (начиная с поздних самхит) и рис. Вероятно, в отдельных районах в зависимости от природных условий предпочтение отдавалось той или иной культуре. Рис выращивался нескольких сортов.
Особенно важно то, что последний можно чередовать с ячменем, собирая таким образом два урожая в год. Об этом прямо говорится в Тайттирия-самхите: «дважды в год поспевает зерно». Несмотря на то что рис, по всей видимости, не
был особенно урожайным, это существенно увеличивало сборы зерновых, могло способствовать росту населения и накоплению излишков продовольствия. Впрочем, не стоит представлять сельское хозяйство того времени в излишне идиллических тонах. Неурожаи и голод, очевидно, были нередким явлением. По крайней мере в литературе брахман неоднократно говорится о голоде: голод — это смерть, голод — тьма, голод — враг людей и т.п.
Помимо зерновых выращивали бобовые, сезам, овощи (огурцы, ююба), технические культуры (в источниках упоминаются льняные ткани). В упанишадах неоднократно,говорится о тропических фруктах, таких, как манго. И природа, и хозяйственный уклад, отраженные в брахманической прозе, отличаются от того, что можно видеть в Ригведе.
Создатели поздневедийской литературы жили преимущественно в деревнях и занимались сельским хозяйством. Противопоставление деревни (грома) необработанной земле (аранъя) ассоциировалось для них с противоположностью культуры и дикости, даже жизни и смерти. Впрочем, леса находились поблизости от распаханных полей. На опушках деревенские жители пасли скот, в лес ходили охотиться, собирать плоды и топливо для очага. Лес казался опасным из-за хищных животных и разбойничавших дикарей. Народная фантазия населяла его множеством демонических существ. Любопытно отраженное в брахманах представление о вратпьях. Панчавимша-брахмана, например, говорит, что они не знают ни благочестия, ни земледелия. Данная оценка отчетливо показывает то значение, которое составитель придавал земледелию как одной из определяющих характеристик той ведийской культуры, к которой он сам принадлежал.
Немалое место в хозяйстве сохранило и скотоводство. Скот принадлежал отдельным семьям, хотя обычно его выгоняли на общие пастбища. Упоминаются специальные пастухи — «коровьи, козьи, овечьи». Навоз сушили и широко использовали как топливо и удобрение, а также при священных церемониях домашнего ритуала. Дойку коров производили дважды и трижды в день. Молоко, простокваша, творог, масло шли на жертвоприношения и в пищу. Очевидно, поэтому в брахманах говорилось: «Корова— кормилица всего этого (мира)». По торжественным случаям — во время жертвенного ритуала, праздников, приема почетного гостя — питались и мясом. Несмотря на ряд табу, связанных с употреблением мяса, прежде всего говядины, обычай вегетарианства еще не сложился.
Нетрудно заметить, что скоту придавалось большое значение в брахманах. Это выражалось в таких формулах, как «скот — это дом» или «богатство — это скот». Легендарное повествование о разделе наследства между потомками Ману свидетельствует о том, что реальное богатство действительно заключалось не в земле, а в домашних животных. Свободной земли еще было много, необходимо было лишь расчистить ее от леса. Кроме того, пахотная земля долгое время рассматривалась как — до известной степени — общее достояние. Развитие частной собственности ярче всего выражалось в увеличении поголовья домашнего скота, принадлежавшего отдельной семье.
Отмеченная уже неопределенность терминологии Ригведы вызывает разноречивые суждения о том, было ли в то время уже известно железо. В гимнах неоднократно упоминается металл, называемый аяс. Зубами бога Агни, сделанными
из аяс, называет поэт языки пламени жертвенного костра. Это заставляет предполагать, что аяс — желтого или рыжего цвета, т.е. медь или бронза. Иногда в этом значении слово употреблялось и позднее. Атхарваведа, например, говорит, что начищенный сосуд из аяс блестит как золото. Из драгоценных металлов было известно золото, которое использовалось для изготовления украшений и амулетов. Оно называлось, в частности, суварна (букв, «прекрасного цвета»). Очевидно, в силу того что золото не подвержено коррозии, с ним связывались магические представления о бессмертии.
О ремеслах в эпоху Ригведы известно мало. Профессионалами могли быть главным образом оружейники и ювелиры. Для создания боевых колесниц требовались искусные плотники (такшан)ь специалисты по изготовлению колес со спицами и тому подобные мастера. Мы встречаем упоминания в гимнах о различных видах стрел — с оперением, с наконечниками металлическими или из особым образом обработанного оленьего рога, о чешуйчатых панцирях, сделанных из кожи или из веревочных петель. Относительно сложные технические приемы в этих отраслях производства заставляют предполагать общественное разделение труда. Напротив, изготовление тканей и одежды, используемых в быту, явно оставалось занятием женщин в каждой семье.
В ритуале широко применялись деревянные сосуды, разного рода ковши и ложки, но в быту посуда была обычно глиняной. Встречаются упоминания горшков из обожженной и необожженной глины, с крышками и без крышек, с ручками для подвешивания над очагом, больших кувшинов для воды и т.д. Поскольку речь идет о традиционно сакрализованных предметах, брахманическая проза рисует, видимо, несколько архаизированную картину материальных условий жизни. Даже в поздневедийской литературе встречается представление о том, что богам полагаются сосуды, изготовленные вручную, а асурам — противникам богов — на гончарном круге. Вряд ли это можно отнести к бытовой керамике того времени.
Уже в Белой Яджурведе проводятся различия между двумя видами аяс — красным и черным. Если первый может означать медь или бронзу, то последний — явно железо. Слово «аяс», таким образом, становится общим наименованием металла. «Черный аяс» встречаем мы и в Шатапатха-брахмане, отличающей его от просто аяс — очевидно, меди. Упоминаются и другие металлы, прежде всего свинец. В Атхарваведе свинцу приписываются магические свойства, изделия из него использовались в качестве амулетов.
В поздневедийской литературе есть специальный термин для горшечника-профессионала, и можно предполагать наследственность занятия этим ремеслом. Большое значение придавалось ритуальной чистоте, в частности чистоте занятий, источников существования. С этой точки зрения земледелие и разведение скота рассматривались как дела благочестивые и безупречные — напротив, ремесленники считались «нечистыми», некоторым из них прямо запрещалось присутствовать при ведийских жертвоприношениях. В широком смысле к ремесленникам (или «мастерам») причисляли и других профессионалов, очевидно не ведших своего земледельческого хозяйства, — врачей и брадобреев, акробатов и прачек, танцоров и изготовителей благовоний.
Сведений о торговле в Ригведе очень мало. Она имела меновой характер, причем обычной мерой стоимости были коровы. В коровах давалась оценка при любых крупных платежах: от свадебных даров до виры — возмещения за убитого (др.-инд. вайра). Постепенно появляется и иной эквивалент — золотые шейные украшения (нишка). Так можно, в частности, относиться к сообщениям о том, что цари одаривали певцов многочисленными нишками-гривнами.
В поздневедийской литературе отражено дальнейшее развитие торговли. Встречаются специальные обозначения купцов, которые, к примеру, «за соль выменивают металл (аяс)». Есть термины для жадных ростовщиков. Нишки остаются предметом престижа и мерой стоимости наряду с коровами. Но для торговых операций использовались более мелкие и практичные меры, а именно золото на вес, начиная с самых малых долей. Уже тогда появляются те наименования золотых крупиц (кршинала) или слитков (шатамана — «сто мер»), которые хорошо известны в санскритской литературе более позднего времени.
Но в целом надо сказать, что богатство и в поздневедийское время редко могло быть накоплено в результате успешной коммерции. Сами термины купли-продажи довольно часто встречаются в источниках только в связи с ритуальным обменом. По-настоящему состоятельны, очевидно, были лишь те, кто обладал властью, правами распоряжаться имуществом и трудом своих соплеменников.
Социальные отношения
Самые ранние памятники древнеиндийской литературы содержат многочисленные упоминания терминов родства — таких, как мать и отец, свекор и свекровь, деверь, золовка и многих других. Большая часть их по происхождению восходит ко временам значительно более древним, чем эпоха появления ариев в Индии. Свадебный гимн Ригведы отражает важнейшее значение, придававшееся семье. Несомненно, семья и была основной ячейкой ведийского общества.
Речь идет, как правило, о большой семье, включавшей несколько поколений родственников по мужской линии вместе с их женами. Вхождение женщин в семью мужа (во главе которой обычно стоял свекор) сопровождалось различными обрядами, обеспечивающими ее принятие в чужой коллектив, приобщение к семейно-родовому культу. В этой новой семье женщина оставалась и после смерти мужа, поступая под опеку деверя. По обычаю левирата она нередко причислялась к его женам. Хотя семья была, как правило, моногамной, каких-либо запретов полигамии не существовало. Легендарные персонажи ведийской литературы имели порою по нескольку жен (у Ману, например, их было десять, согласно Майтраяния-самхите). Полигамные браки могли быть богаты потомством, что особенно ценилось со времен Ригведы, когда обычным пожеланием было рождение «десяти сыновей». И напротив, страшной бедой считалось отсутствие мальчиков в семье.
Значение, которое придавалось сыновьям, определялось, конечно, не только чисто экономическими причинами, необходимостью ведения хозяйства и наследования имущества. На сыновьях лежала обязанность продолжения рода, совер
шения семейных обрядов, и прежде всего поддержания культа предков («отцов»). Семьи, происходившие от одного предка, поддерживали тесные связи между собою, составляя своего рода кланы. Циклы гимнов Ригведы, именуемые по традиции «фамильными мандалами», вероятно, возникли и передавались именно в пределах подобных родовых или клановых групп.
Если в отношении Ригведы еще правомерно говорить о полукочевом быте ариев, то в памятниках поздневедийской литературы мы видим появление прочной оседлости. Описания многочисленных обрядов позволяют представить материальные условия жизни семьи. Традиционная конструкция дома выглядела следующим образом: центр постройки занимал деревянный столб, вкопанный в землю. На этом столбе укреплялась балка, ориентированная по сторонам света, и далее укладывалась крыша из тростника и бамбука. Все сооружение имело «вагонообразную» форму. Стены состояли из плетенок, натянутых между угловыми столбами. В поздневедийское время их нередко обмазывали глиной, а затем белили. На земляном полу раскладывали траву и циновки, а связки травы или камыша служили сиденьями.
Имеющийся материал позволяет говорить о местных традициях строительства и разнообразии форм жилища во времена составления брахманической прозы. Упоминаются, например, дома круглые или прямоугольные в плане, с глинобитной платформой или без нее. Многое здесь зависело, конечно, не только от этнических обычаев, но и от природных условий каждого региона. В брахманах можно заметить тенденцию постепенного усложнения быта, появления все новых и новых элементов материальной культуры — от мебели (сиденье и ложе из прочного дерева удумбара) и вплоть до встречающихся в упанишадах металлических зеркал.
Дому и месту его строительства придавалась особая, сакральная значимость. Свою хижину люди персонифицировали как женское божество, они искали поддержку у владыки дома — Вастошпати. Жилище со всеми его конструктивными особенностями воспринималось как некий образ Вселенной. Соответствующие представления отражались и в похоронном ритуале (строительство дома для покойного), а позднее в создании курганообразных буд дийских ступ.
Основной термин для семьи в брахманической прозе — куда — употребляется для всей совокупности лиц, живущих в одном доме и ведущих совместное хозяйство. Порою речь прямо идет об общем имуществе. Так, в Джайминия-брахмане говорится: кто из членов кулы что-либо приобретет, это принадлежит всей семье. Чаще всего принадлежность к куле определяется через трапезу: пищу варят отдельно в каждом доме — сотрапезники и составляют семью.
В Ригведе сам термин «кула» не засвидетельствован, но он встречается в сложных словах типа кулапа (букв, «защитник кулы», т.е., очевидно, старший в ней). Семья известна по имени ее главы— домохозяина. Последний порою выглядит как суровый патриархальный владыка. Например, в Шатапатха-брах-мане есть такие строки: «Когда после долгого отсутствия возвращается домохозяин, то все домочадцы трясутся: что он скажет, что сделает». Отношения между отцом и сыновьями характеризуются прежде всего подчеркиваемым в брахманах
принципиальным тождеством: отец воплощается в облике сына, он продолжает существование на земле в виде собственного наследника.
Патриархальная власть зависела не только от старшинства, но и от физической способности вести дела семейства. В одной из брахман сказано: пока отец в силах, он руководит семьей, а сыновья от него зависят. Когда же наступает старость, отец подчиняется сыну как главе семьи. После смерти отца возможен был и раздел наследства между сыновьями (дочери, уходившие в другую семью, не имели никаких прав на семейное имущество). При разделе лучшая доля принадлежала старшему из братьев, ибо на нем лежала наибольшая ответственность, осуществление культа предков, обязанность продолжения рода. Младшим братьям надлежало почитать старшего как отца. Строго осуждались такие браки, которые нарушали семейную иерархию. Как младший брат, женившийся прежде старшего, так и старший, допустивший подобное нарушение своих прав, рассматривались как ритуально нечистые, грешники.
Судя по известной легенде о Шунахшепе, отец должен был спрашивать согласия своих сыновей на то, чтобы принять в дом нового, приемного «родственника». Очевидно, это было связано с правами (хотя бы и ограниченными) усыновленных на долю в семейном имуществе. Судя по всему, последнее отнюдь не рассматривалось как личная собственность главы семьи, которой он мог бы распоряжаться по своему усмотрению.
Главная супруга именовалась «хозяйкой дома» (пашни), она была неизменной помощницей мужа в отправлении домашнего культа и пользовалась большим авторитетом. Другие жены занимали значительно более низкое положение, хотя их сыновья тоже считались законными и имели права на наследство. Женщина нередко характеризуется в брахманах как существо слабое, ритуально нечистое, неспособное к самостоятельности. В большой патриархальной семье, объединенной принадлежностью к одному роду, она рассматривается как человек чуждый и потому не имеющий прав на долю общей собственности. Отсутствие у нее права наследования после мужа неоднократно упоминается в ведийской литературе. Старшим мужчинам в семье — в особенности свекру — женщина должна демонстрировать почтительность. Уже в Шатапатха-брахмане мы находим характерный для Индии обычай, согласно которому женщина не должна принимать пищу вместе с мужем.
В поздневедийских текстах и эпосе встречаются такие сюжеты и характеристики, которые свидетельствуют о самых широких полномочиях главы семейства. Последний может проиграть жену в кости, продать детей или принести сына в жертву (как в упомянутой выше легенде о Шунахшепе). Жену и сына древние индийцы могли в каких-то контекстах поставить рядом с домашним рабом — и это равным образом характеризует как положение домочадцев, так и степень развития рабовладельческих отношений.
Основным термином для раба со времен Ригведы было слово даса. Поскольку «даса» обозначало первоначально чужака или противника, позволительно предположить, что рабы обычно не принадлежали к соплеменникам. Их число могло пополняться за счет военнопленных или покоренных, приобретенных на чужбине или вынужденных поступить на рабскую службу. Даса систематически
противопоставлялся арию как человек, лишенный свободы, а потому не принадлежащий к «народу». Слово «даса» употреблялось и в переносном смысле — как указание на службу, зависимость, покорность чужой воле. Так его приходится толковать, например, в описаниях соперничества и столкновений царей, когда потерпевший поражение раджа становится даса победителя.
О женщинах-дасы говорится значительно чаще, чем о мужчинах-рабах. Иногда указывается и количество их— например, в Айтарея-брахмане говорится о том, что царь подарил своему домашнему жрецу тысячи даси. Едва ли следует понимать текст буквально— «тысячи», очевидно, значит просто «несметное множество». Но и статус этих девушек не может трактоваться однозначно. По крайней мере о них говорится, что они были «дочерьми почтенных людей (адхъя)». Вероятно, даси сопровождали этого жреца, были у него в услужении, использовались как наложницы. Обилие женщин— наложниц и прислуги — в доме считалось престижным.
Рабство имело домашний характер. Помимо даса в источниках встречается множество других слов, относящихся к домашним слугам и другим зависимым лицам,— большинство их имеют весьма неопределенный смысл: «человек», «подчиненный», «слуга», «сопровождающий» и т.п. Значение терминов может определяться контекстом, иногда они кажутся взаимозаменяемыми, и трудно определить, в каком случае речь идет о людях, работающих по договору, в каких— по принуждению или в силу обязанности повиноваться, установленной неписаным обычаем, традицией. В семьях знатоков вед, жрецов-брахманов, годами жили ученики, выполнявшие различные виды домашних работ и составлявшие существенную часть круга домочадцев. Они рассматривались как младшие члены фамилии, будучи близки, с одной стороны, родным сыновьям брахмана, с другой — его слугам и рабам.
Все многочисленные разновидности патриархально зависимых лиц охватывались одним словом — дасабхарья. Слово бхарья означает «получающий содержание, пищу» и в санскритских текстах обычно относится к женам. Но в брахманической прозе дасабхарья может соответствовать обычному для более поздних памятников выражению дасакармакара или дасакармакрит — «рабы и работники». Оно может означать вообще всех тех, кто живет в семье домохозяина и «ест его пищу», как выражается Шатапатха-брахмана.
В Чхандогья-упанишаде перечисляются основные разновидности того, что считается богатством: домашний скот и кони, слоны и золото, дасабхарья, поля и постройки. Все это соответствует понятию шри — «благо», «имущество» домохозяина. Однако место людей, принадлежащих семье (бхарья), в этом списке противоречиво. Можно встретить в текстах и такое утверждение (Шатапатха-брахмана): шри особенно велико там, где много скота, но мало бхарья — иждивенцев. Наличие прислуги в доме— признак престижа, но с их помощью не столько накапливается, сколько потребляется семейное имущество.
Родственники главы семьи по мужской линии именовались словом джнатпи. По всей видимости, джнати, приносящие поминальные жертвы одним и тем же предкам, поддерживали между собой тесные связи и обычно жили рядом, оказывая помощь друг другу. Более обширную категорию лиц охватывает термин
«готра». В нее включаются все потомки по мужской линии одного родоначальника. Готры засвидетельствованы прежде всего у жрецов-брахманов, предками которых считались риши — составители ведийских гимнов. Во многих случаях родство могло быть фиктивным, да и в качестве прародителей фигурировали, видимо, не только исторические, но и совершенно мифические персонажи. Лиц, принадлежащих к одной и той же готре, порою бывало чрезвычайно много, и сколько-нибудь сплоченного коллектива эти «роды» не составляли. Но готра указывала на происхождение, имевшее важное значение в ведийскую эпоху. С готрой считались при отправлении культа, брак в пределах готры запрещался.
С учетом готр, родовой принадлежности, складывались объединения жрецов — ганы. Брахманы, обращаясь к жертвенному огню во время исполнения ритуала, последовательно перечисляли своих предков (так называемую провару). Правило экзогамии распространялось не только на сородичей, но и на тех, у кого хотя бы частично совпадала правара. Само слово «готра» в значении «род» впервые упоминается только в Атхарваведе — и то лишь в составе сложного слова «барабан, принадлежащий всем пирам». Однако само наличие так называемых «фамильных мандал» в Ригведе наталкивает на мысль о существовании подобного института и в ранневедийскую эпоху.
Произведения брахманической прозы создавались в рамках определенных школ ритуала. Священное предание передавалось в устной форме ученикам, и при совершении определенных обрядов почтительно воспроизводились списки преемственности древних учителей. «Духовное» родство для брахманов значило не меньше, чем физическое, — да и само формирование ведийских школ проходило не только на местной, но и на родовой основе, в соответствии с принадлежностью к тем или иным готрам.
В ведийскую эпоху индийцы жили поселениями деревенского типа. Все попытки найти в источниках свидетельства знакомства их с городской жизнью не увенчались успехом. Термин пур, переводимый в санскритских памятниках как «город», в Ригведе относился, видимо, к временным убежищам, а главным образом к оградам для содержания скота. Другое слово — армака, в котором тоже пытались найти указание на город, скорее всего, означало лишь руины поселения, что-то вроде ближневосточного тепля.
Основной термин для сельского населения — «грама» — в некоторых контекстах сохраняет более архаичное значение. Иногда можно сделать заключение о подвижности грамы— очевидно, она рассматривалась и как подразделение народа-войска. Сравнения грамы со свернувшейся змеей или с ожерельем вызывают ассоциации со стоянками скотоводов, которые свои повозки ставят в круг, в середину загоняя скот.
Возможно, из таких стоянок и развивались деревенские поселения, но в эпоху создания брахманической прозы это был в основном пройденный этап. В поздневедийских источниках встречается противопоставление грама и аранья. Последнее слово означает «лес», но в данном случае имеется в виду все, что находится за пределами деревни-грамы. Граница между грама и аранья — это черта, отделяющая освоенную человеком землю от мира естественной природы, цивилизацию от дикости. Такого рода восприятие мира могло сложиться только
у вполне оседлых земледельцев. Сразу же стоит отметить, что слово грамъя, в первой половине I тысячелетия до н.э. противопоставлявшееся аранья (соответственно «культура» и «природа»), в текстах рубежа н.э. приобрело совершенно иной оттенок. В новую эпоху оно воспринимается как противоположность городскому, утонченному. Грама и производные от него становятся синонимом неотесанности, деревенщины.
Данные о коллективной обработке земли всей деревней или о переделах земли в поздневедийских источниках отсутствуют. И напротив, есть несколько указаний на владельческие права отдельных семей или хозяев. Так, например, в Джайминия-брахмане говорится о том, что поле после покупки переходит к новому хозяину. Тайтгирия-самхита упоминает поземельные споры. Впрочем, в последнем случае рядом с тяжбой между соседями ставится конфликт с «сородичами» (саджата). Хотя деревня представляла собой прежде всего территориальную общину, несомненно, важнейшую роль играли и родственные (клановые) связи между односельчанами.
Глава деревни, ее предводитель — грамани, упоминается уже в Ригведе. Чему обязан был грамани своим положением: выбору общинников или правам наследования— нельзя определить. Деревенский староста в последующие периоды порою назначался государственными властями. Скорее всего, такая практика в ведийскую эпоху еще не сложилась. Высказывание Тайттирия-самхиты о том, что все общинники-домохозяева хотели бы стать грамани, свидетельствует как будто в пользу его выборности. В то же время, очевидно, выборы могли превратиться в формальное утверждение наследственной власти или быть ограничены узким кругом претендентов из одного господствующего клана. «Предводители деревень» принимали активное участие в коронации правителя-раджи, и при этом в качестве их помощников выступали сородичи-односельчане (саджата).
В ведийскую эпоху фиксируется наличие всевозможных собраний и сходок. Не следует, однако, ожидать от источников терминологической точности — вполне вероятно, что один и тот же общественный институт именовался по-разному или одно название прилагалось к различным явлениям. Чаще всего употребляется слово сабха, означающее «собрание», «совет». Помещение, где собиралась сабха, стояло обособлено от жилищ и принадлежало общине в целом. В нем зажигали особый огонь, служивший символом единства сабхи. Собрания были чисто мужскими, на них не допускали ни чужаков, ни зависимых лиц. Право на участие в сабхе всегда имело значительные ограничения. Не случайно поэтому развиваются такие понятия, как «речь, достойная сабхи» или «человек, который может участвовать в сабхе». Здесь проводилось обсуждение общественных дел, устраивались диспуты и состязания. Очень часто сабха ассоциируется и с игрой в кости. Последняя служила развлечением, а иногда рассматривалась и как испытание судьбы, способ решения споров по жребию.
Сам термин «сабха» сохранился и в последующую эпоху для обозначения самых различных институтов— игорного дома, царского совета, суда и т.п. Но кажется вполне вероятным, что все эти значения являются производными от
древнего института, игравшего важную роль в общественной и религиозной жизни ведийской эпохи.
Слово самити в литературе часто понимается как общая народная «сходка». По происхождению это, видимо, действительно так, но трудно было бы доказать реальность существования подобного института в ведийский период. Судя по упоминаниям ученых-брахманов, имевших доступ на самити, последняя мало отличалась по своей сути от сабхи. Исследователи нередко пытались найти значение «народное собрание» в ведийском видатха, но, кажется, последнее связано преимущественно с религиозными празднествами и ритуальными раздачами.
Более обширным, чем деревня, образованием можно считать вши. Значение его, впрочем, несколько неопределенное, близкое к понятию «род, народ» (впрочем, народ, расселившийся на определенной территории и включавший ряд деревень — грама). Судя по тому, что упоминаются «главы виш» (вишпатw), наличие общего руководства могло быть важнее для виш, чем сами по себе кровнородственные связи.
Наиболее крупное объединение составляли джана (букв, «народы, племена»). Народ (джана) занимал обширную территорию, имел самоназвание и сознавал себя как единое целое (племена Куру, Матсья, Шурасена и др.). Эти названия были перенесены и на целые области распространения «племен». На основе джана формировались более или менее обширные государства— джанапады (букв, «земли, занятые джана»).
В среде деревенского населения резкого имущественного расслоения не чувствуется, хотя даже в Ригведе говорилось о долговой кабале (правда, возникшей в результате неудачной игры в кости). Имущество в ведийской литературе фигурирует не столько в коммерческих аспектах (хотя обогащение торговцев известно), сколько в качестве добычи, приза в игре, награды в соревновании, разнообразных даров и раздач. Существенное значение имеет то, что «благосостояние» (шри) отнюдь не сводится к накоплению материальных средств, оно всегда связано в большей мере с властью и социальным престижем — даже на уровне деревенского старосты. Пожалуй, лишь для конца поздневедийской эпохи мы вправе говорить как об углубляющихся различиях в бытовых условиях жизни тех или иных слоев населения, так и о том, что эти различия связаны с состоятельностью, независимой от социально-политического статуса.
В поздневедийской литературе основные общественные градации выражаются в характерных терминах шреяс и папияс. Первый происходит от шри — «благо», второй от папа — «грех». Шреяс обычно относится к брахманам и царям. И те и другие богаты, так как находятся под покровительством богов. Их благосостояние заключается не просто в имуществе— сам материальный достаток зависит от социального престижа и проявляется во власти над другими людьми. Перед тем, кто является «лучшим (шреяс)», другие склоняются, трепеща от страха, они сопровождают его и садятся ниже, чем он, — так говорится в брахманах.
Представители знати, ведийские «цари» имеют право на получение бапи. Бали — это приношения, пища, то, что люди жертвуют духам и другим сверхъестественным существам. Иногда в историографии подчеркивается, что бали царю следует рассматривать не в качестве налогов, а в качестве добровольных подно
шений. Конечно, законом установленных ставок налогообложения в ведийскую эпоху не было, но есть все основания полагать, что неписаный обычай достаточно жестко регламентировал размеры подношений радже.
Когда в ведийских текстах делается попытка определить отношение между народом и «царями», прежде всего говорится о бали: «лучшие» (шреяс) получают бали, «худшие» (папияс) его платят, «цари» собирают бали, народ его приносит. Со взиманием бали связано, очевидно, и принуждение — поэтому, определяя сословие народа (виш), Айтарея-брахмана говорит: не только «тот, кто платит другому бали», но и «тот, кого можно угнетать по желанию». Возможно, последнее выражение относится к трудовым повинностям (тому, что позже называлось вишти — «принудительный труд»). Приходилось думать о повиновении народа — некоторые ведийские ритуалы и магические заклинания предназначены специально для этой цели.
Есть и еще специфический для брахман терминологический ряд — противопоставление «едока» и «еды». В этой системе к первой категории (едок) принадлежат все люди, а ко второй — животные. Едоком считается также муж по отношению к жене и правитель по отношению к подданным. Айтарея-брахмана поэтому говорит о народе-ваышьях: «он — пища другого» (имея в виду под «другим» царя или царя и брахмана).
Собираемые с народа взносы шли на общие жертвоприношения с угощением участников, на вознаграждения жрецам, на разнообразные дарения. Они предназначались для раздач и перераспределения между приближенными ведийских «царей». Эти жертвы и раздачи должны были служить для целого коллектива залогом будущего урожая и всяческого благополучия, а для раджи оборачивались увеличением «славы», укреплением его поддержки народом, ростом числа подданных и, соответственно, размеров собираемого бали.
Термин «виш» первоначально обозначал свободный и полноправный народ. Однако в поздневедийскую эпоху речь идет о деревенских жителях, земледельцах, которые уже рассматриваются главным образом как податное население. Понятие «народ» отходит на второй план, заменяясь «подданными». Последние именуются, правда, «потомством, детьми» (праджа) правителя, который должен относиться к ним по-отечески. Но само такое покровительство еще более подчеркивает неравенство в положении рядовых общинников и носителей власти.
Военная аристократия, так называемые «цари», их родичи и приближенные составляют особую сословную группу— варну кшатриев. Такую же варну образуют и жрецы-брахманы. Основная же часть трудового населения страны рассматривается как варна «народа» — вайшьев (виш). В поздневедийских текстах последнюю иногда именуют и словом «арья». Для брахмана и кшатрия важнее их специфическая связь с магическими субстанциями молитвы, «духа» (брахма) или «власти» (кшатра), термин же «арья» мог остаться преимущественно за вайшьей. При этом речь вряд ли идет о тех и только тех племенах, говоривших на индоевропейском языке, которые столетиями ранее появились в Пенджабе. В процессе их расселения по территории Северной Индии создавалась новая этническая общность, хотя и сохранявшая священный язык арийских пришельцев.
Ариями считались все, кто придерживался ведийского культа и вел соответствующий образ жизни, имея свой дом и хозяйство. Количественно основную массу их составляли земледельцы-общинники — вайшьи.
Ведийский культ был доступен для тех, кто был «арием» по происхождению и прошел в детстве посвящение — упанаяну с повязыванием через плечо священного шнура. Последняя церемония приравнивалась ко второму рождению, и потому брахманы, кшатрии и вайшьи считались «дваждырожденными». Им противопоставлялись шудры, не рассматривавшиеся как арии и лишенные права не только читать, но даже слушать веды. Шудра не мог пить сому, совершать ведийские жертвоприношения (яджны), входить в ритуальное помещение. Более того, дваждырожденный не должен был использовать в обрядовых целях молоко коровы, которую доил шудра, и разговаривать с шудрой в момент подготовки к священной церемонии. Ритуальная нечистота— самая главная черта, характеризующая шудру. Несомненно, она отражала то, что шудра стоял вне общества ариев и вне их общинной организации. С точки зрения дваждырожденных, шудры были Варной чужаков, но их реальное положение в обществе (так же как этническое происхождение) могло быть совершенно различным. Если речь идет о чужаках, живущих в той же деревне, они главным образом принадлежали к числу домашних слуг и рабов. Поэтому вполне естественно, что поздневедийские тексты обращают внимание именно на эту сторону дела. Обязанностью шудры называют обычно «омовение ног» господина, считают его тем, «для кого хозяин дома является богом». Идеал шудры рисуется таким образом: послушный, расторопный, трудолюбивый. Определяя шудру, Айтарея-брахмана говорит: «когда угодно поднимаемый (на работу), как угодно наказываемый». «Шудра» и «раб» (даса) в поздневедийской литературе порою употребляются как синонимы.
В то же время было бы крайним упрощением любого шудру считать домашним рабом и отождествлять варновую характеристику с принадлежностью к социально-экономическому классу. Говорится, например, о том, что у шудры можно отобрать его скот. Значит, шудра вел свое хозяйство и в то же время сам принадлежал хозяину. Упоминаются и «очень состоятельные» шудры, «владеющие тучными стадами». Похоже, эти богачи не принадлежали отдельным лицам. В крайнем случае можно предполагать, что «арии» распространяли свою власть на целые коллективы таких «чужаков». Статус последних оказывался в таком случае противоречивым — состоятельность сочеталась с неполноправием.
Ремесло обычно признавалось сословно-кастовой обязанностью шудр. И дело здесь, очевидно, прежде всего не в том, что сам по себе ремесленный труд вызывал общественное презрение. Подобное предположение было бы неуместно уже потому, что в ведах поэтическое искусство риши неоднократно сравнивается с мастерством ткача или плотника. Ассоциация ремесла с принадлежностью к категории шудр объясняется иначе. Речь идет о ремесленниках-профессионалах, которые не вели собственного хозяйства и должны были, следовательно, работать на других. Они рассматривались как обслуживающий персонал, общественная прислуга— именно поэтому им и было уготовано низкое место в социальной иерархии. Впрочем, из общего правила бывали и исключения, о которых еще будет сказано. Особенно противоречиво отношение к статусу царских слуг,
в том числе и ремесленников. С одной стороны, они связаны с фигурой царя, не только носителя власти, но и сакральной персоны. С другой — общественным идеалом остается свободный и самостоятельный хозяин, а всякая зависимость от чужой воли рассматривается как нечто дурное и влекущее за собой ритуальную нечистоту.
Если мы вправе говорить о брахманах, кшатриях и даже о вайшьях как о замкнутых сословно-кастовых категориях, принадлежность к которым определяется рождением и совершенным в детстве обрядом посвящения, то шудры выглядят как аморфная масса с размытыми границами. Она может быть охарактеризована по преимуществу негативными определениями, подчеркивающими отличие шудр от дваждырожденных— ариев. К шудрам могли относиться как низкие слои деревенского населения, зависимых работников, не принадлежавших к числу общинников, так и вполне независимые «чужаки», жившие на периферии формирующейся древнеиндийской цивилизации. Процессы миграций, завоеваний, социального развития и культурных влияний вносили постоянные изменения в варновую структуру, изображаемую в древнеиндийской литературе в качестве вечной и неизменной. Этнические и социальные группы — наиболее развитые, могущественные, а также культурно близкие к «ариям»— бывали приняты в их среду, а иные оказывались в положении порабощенных и обездоленных. Они причислялись к шудрам, находившимся в зависимости либо от частных хозяев, либо от целых общинных коллективов.
С самого начала шудры составляли значительную часть трудового населения. В связи с освоением новых территорий и ассимиляцией местных народов категория шудр умножалась и становилась все более пестрой. Так как одновременно шел процесс превращения вайшьев из свободного народа в подданных, обязанных платить налоги, происходило известное сближение этих двух варн. В ритуальных контекстах, в соответствии со старинной традицией, шудры решительно противопоставлялись ариям. Во время ритуала махаврата, например, устраивался поединок шудры и ария, олицетворявший борьбу света и тьмы и заканчивавшийся, естественно, победой ария. Но военного противоборства с шудрами в более реальных ситуациях мы не видим. Характерно и то, что шудре, хоть и в виде противника, уделяется роль в индийской обрядности. Богом шудр порою объявляется Пушан — покровитель сельскохозяйственного труда. Исходя из этого можно считать, что их функции вряд ли ограничивались «омовением ног» хозяина даже в поздневедийскую эпоху. Не случайно и ведийский «царь» не рассматривал себя как владыку только ариев. Уже в Атхарваведе содержится заклинание, которое «царь» произносит с целью быть угодным и ариям и шудрам. Шатапатха-брахмана объединяет вайшьев и шудр как находящихся под властью брахманов и кшатриев. Такая тенденция сближения двух низших категорий — варн становится весьма распространенной в последующую эпоху.
Вместе с тем оформление древнеиндийского общества, состоящего из четырех варн, в поздневедийский период делает затруднительным включение в него новых племенных групп, далеко отставших в своем развитии. Последние рассматриваются как особые касты, стоящие вне варновой системы и отличающиеся особой ритуальной нечистотой. Аморфность понятия «шудры» позволяет
причислить к ним даже неприкасаемых, но все же последние резко отличаются от «чистых» шудр. Собственно шудры живут в деревне и заняты в основных отраслях хозяйства (хотя обычно не имеют политических прав, устранены от общинного культа и не владеют собственной землей). Лица вневарновых категорий — как правило, происходящие из племен «дикарей», — строят свои хижины за пределами населенных пунктов и приходят в деревню лишь для того, чтобы выполнить самые низкие и оскверняющие работы по уборке мусора, падали, нечистот и т.п. Они не являются собственностью какой-либо отдельной семьи, но, будучи обязаны обслуживать всю общину, до известной степени могут рассматриваться как принадлежащие ей в целом.
С точки зрения религиозных представлений на противоположном конце иерархической лестницы находятся брахманы. Чистоте их происхождения придается особое значение, и брахманы в наибольшей степени стремятся сохранить кастовую замкнутость. Браки должны у них заключаться лишь в их собственной среде (жен, впрочем, можно брать и из более низких варн), поддерживается традиция ведения родословных. Брахман с гордостью может назвать своего далекого предка — риши и сказать, что деды и прадеды его до десятого колена пили священную сому. В то же время сведения о родоначальниках некоторых брахманских готр кажутся довольно сомнительными и дают основания считать, что и брахманы не всегда отличались «чистотой крови». Очевидно, в процессе распространения ведийской культуры жречество местных племен частично было включено в состав брахманской варны.
Основной функцией брахманов было выполнение жертвенного ритуала на благо всей общины. Они рассматривались как посредники между миром людей и богов. Только брахманы знали все детали обрядов и те заклинания, которые необходимо произносить для того, чтобы боги услышали просьбы людей. Священные тексты они держали в тайне от непосвященных и передавали в устной форме, опасаясь их осквернения. Ведийские молитвы читали все «дваждырожден-ные», и каждый домохозяин сам совершал ведийские обряды. Однако для более значительных ритуалов требовалось присутствие брахманов, и только они могли быть религиозными учителями. В среде знатоков вед культивировалось сакральное знание самого ритуала и всех дисциплин, так или иначе с ним связанных.
Брахманам приписывалась магическая сила воздействия на мир. Их сверхъестественные способности поддерживались посредством соблюдения разнообразных обетов воздержания и аскетизма. Вполне вероятно, что среди них практиковалась своего рода шаманская практика, и одно из обозначений брахманов (еиира) происходит от глагола вип — «трястись, впадать в транс».
Крайне трудно составить объективное представление о положении брахманов в ведийском обществе— слишком настойчиво источники, составленные в их среде, подчеркивают сословные привилегии. Брахман считался лицом, не подлежащим телесному наказанию, а тем более смертной казни. Это, конечно, вполне соответствует его роли в ритуале как особо сакральной персоны. Убийство брахмана рассматривалось как страшный грех, искупаемый такими дорогостоящими ритуалами, которые доступны лишь для великого правителя. Однако историческая традиция сохранила некоторые предания о «царях», казнивших
брахманов. Очевидно, сам грозный тон предупреждений на этот счет, содержащихся в поздневедийской литературе, объясняется именно тем, что брахманы обращались к «царям», защищая свою неприкосновенность.
Другой привилегией брахманов считалось то, что они освобождались от уплаты податей и не могли быть «угнетаемы» (вероятно, в целях привлечения к общественным работам). В целом это утверждение тоже заслуживает доверия, ибо значительная часть бали, собираемого с народа, поступала именно в руки брахманов в виде пищи для жертвоприношений, даров и раздач. Поэтому кажется вполне естественным, что сами они так же не должны были платить бали, как и «цари». Брахману полагалось оказывать всевозможные знаки внешнего почтения. Айтарея-брахмана определяет его как «принимающего дары», «получающего питье» (сому?) и «живущего где угодно». Последнее, видимо, означает, что брахман, свободный от уплаты налогов, вправе поселиться в земле любого правителя. В ведийской литературе неоднократно встречаются разного рода «восхваления даров» правителей брахманам. В качестве объекта дарения сначала выступают коровы, золото, драгоценности, одежды, девушки-рабыни, потом — земля для поселения и целые деревни, подати с которых идут на религиозные нужды и содержание брахмана.
Связи брахмана с его клиентами не рассматривались как отношения найма. Древнеиндийские источники с негодованием отзываются о наемных жрецах и учителях. Правда, в конце периода обучения наставник-гуру получал от семьи своего воспитанника дар (обычно корову), но размер этого «дара» с ним не обсуждался. Считалось, что без подобного вознаграждения становилось бесплодным и само обучение. Точно так же после совершения жертвоприношения брахманы получали вознаграждение-дакш«ну. Однако последнее не считалось платой за выполненную работу. Достаточно сказать, что дакшину получали не только совершавшие обряды, но и те брахманы, которые только присутствовали при ритуальных действиях. Полагают, что первоначально дакшина представляла собой всеобщее распределение имущества среди общинного коллектива и лишь впоследствии раздачи были ограничены кругом брахманов.
Особенно важное место среди брахманов уделялось пурохите. Последний считался домашним жрецом правителя, однако фактически его функции были гораздо шире. Он не только следил за исполнением обрядов в царском доме, но и обеспечивал магическими средствами успех и личную безопасность раджи в сражениях, выступал в роли его ближайшего доверенного лица и советника. В Атхарваведе заключение союза между царем и брахманом-пурохитой описывается как свадебный ритуал, и, очевидно, эта связь считалась нерушимой. Судя по тому, что порою пурохита сохранял свое положение при сыне царя, можно предполагать и наследственность складывавшихся отношений. Особенно интересно, что в брахманах говорится о нескольких царях, имевших общего пурохи-ту. Создавались таким образом объединения царей, не имевшие чисто политического характера.
Отношения между правителем и брахманом были далеко не безоблачными. Вероятно, усиление царской власти в процессе формирования государственности приводило к некоторому умалению значения брахманов как племенных жрецов
и хранителей традиций. Им предстояло занять новое место в обществе при дворах местных правителей — в качестве крупных землевладельцев.
Ведийский жертвенный культ требовал большого количества участников. Многодневные сложные ритуалы проводились группами жрецов по шестнадцать человек, у каждого из которых была своя роль и тщательно разработанная «партия». Специализация жрецов способствовала развитию так называемых ведийских «школ». Несмотря на известное единство поздневедийского ритуала, наличие «школ» позволяло учитывать также родовые и местные особенности обрядовой практики.
Сложилась система ученичества, при которой после посвящения мальчики из числа «дваждырожденных» должны были жить несколько лет в доме наставника-гуру. У него они получали знание ведийских текстов и ритуальных правил. Ученики помогали вести хозяйство — пасли скот, собирали сучья, сушили навоз и поддерживали огонь в очаге. Кроме того, их религиозной обязанностью было собирать милостыню и приносить ее гуру. Лишь после окониания ученичества юноши могли вернуться домой и вступить в брак. Трудно сказать, насколько широко и полно этот обычай получил распространение среди «дваждырожденных», но в брахманских семьях, несомненно, стремились его соблюдать.
После ученичества начиналась вторая стадия жизни {ашрама), заключавшаяся в обзаведении семейством, ведении хозяйства и совершении всех необходимых домашних обрядов. И согласно сложившимся к концу ведийского периода представлениям, в старости «дваждырожденный», желавший достичь духовного освобождения, должен был стать лесным отшельником и предаваться аскетизму. Обычаи ученичества, с одной стороны, и аскетизма— с другой, сыграли важнейшую роль в истории индийской культуры.
Основные сословные категории общества представлены в древнеиндийской традиции как четыре варны, о которых уже говорилось прежде, — брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Впервые эта схема фигурирует в одном из самых известных (и самых поздних) гимнов Ригведы— в Пурушасукте. Четыре варны здесь изображены как части единого космического тела — Пуруши. Брахманы соответствуют его рту, ибо им принадлежит сакральное слово, кшатрии — мышцам, вайшьи — туловищу, а шудры — ступням ног. Варновая теория стала излюбленной темой рассуждений в брахманической прозе. Как основная модель ведийского общества, она использовалась в качестве того образа, следуя которому можно было рассматривать и целую Вселенную.
Согласно литературе брахман, принадлежность к той или иной варне определяла весь внешний быт человека— от одежды и формы обращения до размеров погребального сооружения. .Все материальные объекты, абстрактные понятия и сверхъестественные существа распределялись по тем же четырем категориям. В принципе варновый строй основан на неравенстве прав и обязанностей, ему присуща жесткая стабильность социальной стратификации. Принадлежность к той или иной варне зависела от рождения и считалась неизменной. Такие социальные категории, как варны, могли возникнуть лишь в том обществе, где все определялось происхождением, а частная собственность еще не получила достаточного развития.
Власть в ведийском обществе осуществляли так называемые «цари». Соответствующий термин «раджа» часто встречается уже в Ригведе, хотя там он обычно относится не к земным владыкам, а к богам. Раджой по преимуществу именуется бог Индра, воитель, который теснит своих врагов, стоя на колеснице. Для той эпохи вообще весьма показательны ассоциации правителей с воинскими подвигами — главным образом с победами на боевых колесницах.
По материалам ведийской литературы (а отчасти и эпоса, несмотря на свойственные ему анахронизмы) нетрудно в общих чертах восстановить облик легкой, обычно двухколесной колесницы. Уже в гимнах Ригведы упоминается множество деталей колесницы — ось, дышло, спицы, ступица и пр. Обилие технических терминов подобного рода в религиозных гимнах — показатель того, какую важную роль играли колесницы не только в жизни, но и в мировоззрении ариев. То же самое можно сказать о запряженных в колесницу (ратху) конях, культ которых играл заметную роль в ведийской религии. Слова, обозначавшие коней и колесницу, нередко входили в состав имен легендарных героев. Образы, связанные с колесницей и упряжкой быстрых коней, широко представлены в ведийской поэзии. Колесо стало важнейшим мифологическим образом, и прежде всего для небесных светил, а также царской власти. Даже лексика позднейших ученых сочинений, например о политике, формировалась под огромным воздействием технической терминологии, связанной с ратхой.
Состязания в гонках на колесницах являлись не только любимым развлечением знати, но и ритуалом, которому уделялось важное место в ведийской литературе. Победители, получавшие призы и награды, очевидно, рассматривались как любимцы богов. Боевые колесницы составляли существенную часть войска. Различие между «царями» и «народом» явственно проявлялось именно в военном деле: вожди и предводители сражались на колесницах, народ составлял пехоту. Судя по описаниям в эпосе, битвы в значительной мере сводились к единоборству колесничных воинов, осыпавших друг друга стрелами, — лишь за их спинами угадывались ряды пеших бойцов. Не случайно ратха и колесо (чакра) символизировали власть — в ведийскую эпоху колесницы имели важнейшее социальное значение.
Перевод слова «раджа» как «царь» совершенно условен. Речь идет первоначально о вождях и военных предводителях, но и главы появившихся позднее территориальных государств именовались таким же образом. Прерогатива власти принадлежала отдельным знатным родам— поэтому слова, обозначавшие рядовых аристократов и правителей царств, либо близки по значению, либо полностью тождественны.
Положение знатного человека— кшатрия — должно было определяться его происхождением и родственными связями. Но в то же время приходится, так же как и в отношении брахмана, сделать известные оговорки. Мы встречаем в брахманической прозе такие понятия, как «кшатрий только по рождению», а с другой стороны, «те, кто ложным образом присваивает себе наименование кшатриев». Очевидно, процессы социально-политического развития, меняющееся соотношение сил между различными родами и племенами приводили к тому, что некоторые знатные прежде кланы теряли всякую реальную власть, а возвы
шались иные, не только не принадлежавшие к ведийской аристократии, но, возможно, и вообще к арийской общности.
Власть вождя и правителя осмыслялась как сакральная: «царь» олицетворял всю общину («народ», племя, государство). Если осквернен был, к примеру, его домашний очаг, считалось, что и никто не мог варить пищу в своем хозяйстве. Особо подчеркивалась физическая мощь и мужество раджи. Его часто сравнивали с быком, неустанно стремящимся покрывать коров. Та же символика прослеживается и во многих царских обрядах (трон, покрытый тигровой шкурой, поднятый жезл и т.п.). «Царь» ставился как бы в центр мироздания и уже поэтому должен был обладать землею «в ее четырех пределах», т.е. быть вселенским владыкою. От царя магически зависело плодородие и прежде всего выпадение дождя (последний рассматривался как оплодотворение земли).
Характерным образом при знаменитом «жертвоприношении коня» — ашва-медхе проявляется претензия царя не только на военное превосходство и вселенское могущество, но и на обеспечение урожая. Во время этого ритуала специально отобранного коня пускали пастись там, где он пожелает. В течение года его сопровождала вооруженная царская стража, с которой должен был сражаться правитель любой территории, куда ступало конское копыто, если он не признавал верховной власти того, кто совершал ашвамедху. После завершения года раджа признавался владыкой четырех сторон света, а коня приносили в жертву. В заключительной части этой церемонии принимала активное участие главная «царица», и ее обращение к коню как к воплощению мужской силы красноречиво указывает на смысл ритуала, связанного с культом плодородия.
Во время коронации происходило «помазание» водой с зернами различных злаков, что явно должно было обеспечить урожай. Так как это помазание (абхи-шека) совершалось прежде всего для материального благополучия всей земли и народа, понятным становится и возможность повторного проведения церемонии.
Восприятие «царя» как олицетворения всего царства вызывало к жизни и такие ритуалы, которые должны были способствовать омоложению правителя, приданию ему новых сил. Дряхлость и физические недостатки «царя» представляли огромную магическую опасность для его подданных — с ним вместе все царство могло одряхлеть или лишиться каких-либо органов чувств. Примерами подобного рода особенно богат индийский эпос.
Ведийские тексты содержат формулы «избрания» царя народом. Они выражают идею добровольного подчинения всех народов четырех сторон света единому владыке. Если в действительности речь и может идти о каких-то собраниях, созываемых по случаю вступления царя на престол в ведийскую эпоху, скорее следует предполагать утверждение наследника, нежели какие-либо «выборы». Само существование категории знати— кшатриев указывает на то, что лишь из их среды могли выходить правители. Уже Ригведа дает основание считать, что обычно власть передавалась по наследству сыну.
В некоторых случаях для принятия решения требовалось формальное волеизъявление народа — в частности, земля должна была передаваться царем «с согласия виш». Вероятно, с этой целью могла собираться сходка старейшин или глав больших патриархальных семейств. Учитывая характер социальной
структуры, невозможно предполагать какое-либо участие в обсуждении подобных вопросов всего взрослого населения.
Источники содержат сведения и об «изгнании» царя народом-виш. За преобладание над виш соперничали представители кшатрийской знати, и, очевидно, речь шла отнюдь не только о покорении все новых деревень военной силой, но и о приобретении «славы» среди общинников воинской доблестью и щедрыми раздачами.
Выше уже говорилось о том, что идеальный царь должен был проявлять щедрость. Можно предполагать, что первоначально широкие раздачи производились между всеми соплеменниками, но постепенно все более ограничивались брахманами. Уменьшая свое имущество, раджа таким образом распространял свою «славу», обеспечивал себе поддержку, а в конечном счете, расширяя власть над все новыми подданными, имел возможность пополнять казну.
В описаниях царских ритуалов встречаются наименования помощников царя, его окружения, двора. Эти так называемые «носители драгоценности» (ратнины) включают таких лиц, как пурохита, военачальник, царский возница и пр. Упоминание военачальника позволяет считать, что в поздневедийскую эпоху функции военного предводителя уже обычно не выполнял сам раджа. Важное место при дворе занимал брат царя, но он никогда не встречается в тех же списках, что и военачальник, — возможно, речь идет об одном и том же лице. Возница раджи не только правил его колесницей — как ближайший сподвижник в бою он воспевал воинские подвиги своего патрона. Героические предания эпоса и воспроизведение кшатрийских родословий традиция приписывает именно этим придворным бардам.
Еще несколько персонажей принадлежат царской дружине. Их титулы связаны с тем местом, которое они занимают на пиру, и выполняемым при этом ритуальным функциям («режущий мясо», «раздающий доли» и т.п.). Положение на пиру как бы служит моделью иерархии двора. Наиболее низкое, но все же почетное место занимают царские «ремесленники» («колесничный мастер» и «плотник»). Их роль в окружении царя вполне понятна в свете того, что говорилось прежде о социальной значимости колесницы. Относящиеся к ним данные поздневедийских текстов позволяют считать, что в то время соответствующие наименования являлись придворными титулами, а не простыми обозначениями профессий. В списки нередко включается и «тот, кто бросает игральные кости» — выше уже говорилось, что игра не только была излюбленным развлечением ведийской знати, но и имела ритуальное значение. Принадлежность к тому или иному придворному рангу, очевидно, передавалась по наследству. Об этом говорит участие в ритуалах сыновей соответствующих придворных, а также то, что впоследствии сами титулы «возницы», «колесничного мастера» и пр. стали обозначением отдельных каст.
Не принадлежали к царским слугам, но так же, как и они, принимали активное участие в ритуале коронации «деревенские старосты»— упоминавшиеся выше грамани.
Слой знати представляется весьма пестрым в силу разнообразия используемых терминов: раджа, раджанья, раджапутра, кшатрий и т.п. Согласно опреде
лению, данному в Шаталатха-брахмане, раджа — тот, кто совершил ашвамедху (следовательно, «царь»), а все остальные называются «раджанья» (рядовые представители знати). В ведийских текстах «раджанья» обычно синонимично слову «кшатрий» как обозначению варны. Но одно место в Атхарваведе заставляет предполагать, что и «кшатрий» могло противопоставляться слову «раджанья» как «носитель верховной власти».
В среде военной аристократии в особенности большое значение придавалось знатности происхождения, и не всякий раджанья признавал другого равным себе. Это проявлялось очень ясно и в заключении брачных союзов, и в совместных застольях. Правитель рассматривался как «первый среди своих» или «лучший среди равных». О подобном преобладании над родными и людьми того же социального слоя и молили богов ведийские раджи, устраивая пышные жертвоприношения и раздавая богатые дары брахманам.
Борьба между мелкими правителями складывающихся государств приводила к формированию иногда довольно обширных альянсов во главе с наиболее могущественным или удачливым владыкой. Он принимал титулы «великого царя» {махараджа), «верховного царя» {адхираджа), «единоличного царя» {екарадж) или «самодержца» {сварадж). Однако подобные образования не приводили к существенному изменению внутренней структуры отдельного царства и распадались так же быстро, как возникали, поэтому говорить об империях нет ни малейших оснований.
В ведийскую эпоху оформилась государственность у многих «народов» (джа-на), упоминавшихся в эпосе и брахманической прозе, — Пуру и Шурасена, Ко-шала и Магадха и многих других. Территория расселения «племен» составила так называемые «страны» — джанапады. Как правило, они находились под властью той или иной местной кшатрийской династии.
На окраинных землях— главным образом у подножия Гималаев— складывались и иные политические структуры, именуемые в источниках терминами гана или сангха («объединение»). Они известны преимущественно по источникам более позднего периода, но, вероятно, до некоторой степени демонстрируют архаические порядки ведийской эпохи. В ганах и сангхах существовал целый слой знати (раджей), включавший сотни и тысячи человек. На своих собраниях они избирали представителей исполнительной власти и решали голосованием наиболее важные вопросы. Каждый такой союз— гана— назывался по господствующему клану знати, а трудовое население считалось работниками и рабами данного клана знати. Мощь ганы зависела от степени его единства. Некоторые из таких конфедераций играли важную роль в политической борьбе I тысячелетия до н.э.
Уже в Ригведе сохранились крупицы легендарных повествований о подвигах древних царей — в частности, о знаменитой битве царя Судаса с целой коалицией своих противников. Историческая традиция Индии, запечатленная в эпосе и пуранах, сообщает о множестве местных династий, возводимых в конечном счете к мифическим родоначальникам — к Солнцу и Луне, к прародителю человечества Ману и т.д. Основная задача ведения царских генеалогий заключалась, естественно, в том, чтобы дать обоснование претензиям на знатность тех кланов и династий, которые играли важную роль в политической истории того времени,
когда оформлялись эпические предания. Исходя из таких задач, придворные панегиристы не останавливались и перед прямыми фальсификациями. В то же время с большими или меньшими искажениями эпос передает й подлинные исторические факты, имена правителей, названия стран и народов. Политическую историю по пуранам восстановить практически невозможно, но археологические раскопки последних десятилетий по меньшей мере доказывают существование тех политических центров, которые индийская традиция называет резиденциями древних царей, правителей тех областей (джанапад), где жили «народы», упоминаемые в эпосе и поздневедийской литературе. Эпико-пураническая традиция ярко характеризует аристократическое общество, в котором положение человека прежде всего определяется его происхождением. Она отражает существенные черты той эпохи, когда в Северной Индии происходило формирование государственности.
Культура
Будучи обширным собранием культовых текстов, Ригведа дает богатейший материал по религии индоариев. Ведийские гимны, как правило, содержат обращения к богам (дэва) или по меньшей мере упоминания различных небожителей. Подавляющее большинство имен богов — мужские, а в описании дэвов нередко подчеркивается их мужественность. Можно назвать и отдельные женские персонажи, такие, как Сарасвати— «Священная река», Ушас— «Утренняя заря», Ида— «Жертвенный напиток» (возможно, сыворотка). Помимо самостоятельных богинь встречаются супруги богов, называемые по именам своих мужей, — Инд-рани, Варунани, Агнайи; они выглядят как безликие тени богов Индры, Варуны, Агни. Патриархальный строй семьи находил отражение и в индийском пантеоне.
Сравнительный анализ ведийской мифологии показывает, что культы некоторых божеств восходят ко временам значительно более древним, нежели оформление Ригведы. Отец-небо (Дьяус-питар) соответствует даже по имени латинскому Юпитеру, греческому Зевсу, хеттскому Сиу/Сиуни. Уже упомянутая Ушас сопоставляется с литовским Усиньш и греческой Эос, бог грозы Парджанья — со славянским Перуном и литовским Перкунасом. Среди индоевропейских народов особая близость обнаруживается с иранцами — важное место в Ригведе занимают общеарийские Митра, Яма— сын Вивасвата, Сома (иран. Хаома). Однако, несмотря на сохранение древней ономастики и мифологического наследия, в целом ведийская религия значительно отличается от реконструируемой индоиранской и тем более индоевропейской. Она сложилась в результате длительного самостоятельного развития культуры индоариев.
Среди богов Ригведы особое место занимает Индра, прежде всего он выделяется по количеству посвященных ему гимнов (около четверти всего сборника). В них неизменно воспроизводится один и тот же сюжет, хотя и с некоторыми вариациями — победа бога над его противником. Имена последнего даются по-разному: Вритра, Даса, Шамбара и др. Затруднительно бывает определить, имеем ли мы дело со множеством антагонистов Индры или только с разными име
нами-эпитетами. Противник представляется как змей, дракон, часто характеризуется отрицательными определениями как нечто бесформенное— он беспле-чий, безногий, безрукий и т.д.; некоторые его названия могут быть истолкованы как «скала», «препятствие». Сам Индра сравнивается с воином, мчащимся на боевой колеснице. В руке он держит ваджру, которую бросает во врага, раскалывая каменную преграду. Определение ваджры как «гремящей», «многошумной» вызывает ассоциации с громом и молнией. Результатом победы бога является то, что текут потоки вод, реки, освобожденные из заточения. Они рисуются как стадо коров, бегущих к водопою. Индра неоднократно именуется «царем» (раджа) — таким он выглядит в момент своего триумфа.
Сцена битвы и победы Индры нередко изображается в ведийских гимнах как космогонический акт. Победитель Вритры — демиург, разделивший небо и землю и заполнивший пространство между ними. В ритуале он может быть представлен столбом— мировой осью, порою особо подчеркивается в этой связи символика, связанная с культом плодородия. Роль Индры в ведийском пантеоне была весьма значительной. Но, вероятно, она еще больше подчеркивается в Риг-веде вследствие того, что ядро сборника составили гимны, связанные с поклонением именно этому богу и читавшиеся во время праздника Нового года.
Как царь почитался и бог Варуна, хотя ему посвящено совсем немного гимнов. Иногда он выступает в паре с Индрой, и можно обнаружить некоторый дуализм этой божественной пары в обрядах, сопровождающих смену календарного цикла. Основная функция Варуны, обеспечивающая ему видное место в пантеоне, — то, что он хранитель мирового порядка (вед. Рта, Иран. Арта, Аша). Варуна ассоциируется с водной стихией и главным образом с космическими водами, которые служат первоосновой мироздания. Если Индра прежде всего царственный воин, сражающийся на колеснице, то Варуна— миродержец, грозный судия, восседающий на троне. Если атрибутом Индры служит ваджра, то у Варуны— петля, символизирующая наказание и ассоциирующаяся со смертью. Следствием того, что Варуна покровительствует сфере сакрального правосудия, является связь бога с клятвами и колдовством.
Достаточно часто в ведийских гимнах идет речь о боге Агни, воплощении огня — земного и небесного. Обычно к Агни обращаются как к жертвенному пламени, вспыхивающему на алтаре. Его основные функции связаны с посредничеством между людьми и богами. Поэтому Агни именуется в гимнах жрецом, богом жертвы, посланцем богов. Он привозит богов на угощение, жертва с дымом костра поднимается к небесам. Агни царствует при обрядах, но роль его не вполне самостоятельна. Его предварительно кормят и задабривают, чтобы через него воздействовать на другие ведийские божества.
Культ Сомы связан с галлюциногенным напитком, широко употреблявшимся при ведийских жертвоприношениях. Со временем также все явственнее прослеживаются ассоциации Сомы с луной. Возлияние сомы во время крупных жертвенных ритуалов играло столь важную роль для жрецов-брахманов, что они обожествляли Сому как своего покровителя и пели, обращаясь к нему: «Сома — наш царь».
Богу Вишну в Ригведе посвящается относительно мало гимнов, но его функции кажутся чрезвычайно важными. Речь идет о знаменитых «трех шагах», которыми этот бог охватил Вселенную. Таким образом, уже в ранневедийскую эпоху Вишну представляется великим божеством, в «пыльном следе которого сосредоточено все» в этом мире. Отсюда идет и традиция поклонения богу в позднейшем вишнуизме. Другой великий бог индуизма— Шива— отсутствует в Ригведе, но отдельные его аспекты прослеживаются в облике ведийского Рудры, грозного «Ревуна».
Среди божеств Ригведы можно назвать еще Ашвинов, которые объезжают небосклон на колеснице, охватывая таким образом пространство. Имена их связаны с конями (ашва), а эпитеты, которыми они наделяются, указывают на мудрость и покровительство врачеванию. Разные аспекты солнечного культа отражаются в образах сверкающего Сурьи, животворного Савитара, покровителя земледельцев Пушана. Митра представлен как солнечный диск — «глаз богов», его призывают как свидетеля при заключении договоров.
Среди множества небожителей есть и такие, которые непосредственно не связаны с природными феноменами, например бог Тваштар, выточивший ваджру для Индры, или довольно неопределенный Дхатар («Установитель»), имя которого нередко использовалось и как эпитет для иных сверхъестественных существ.
Отдельные детали в именах и определениях богов указывают на их антропоморфный облик. Так, например, то, что Индра стоит на колеснице, свидетельствует о наличии ног, а то, что он в руке держит ваджру — о наличии рук. Эпитеты некоторых солнечных богов (Сурьи, Савитара) типа «златовласый» или «златорукий» могут быть истолкованы как доказательство близости к внешности человека (руки, голова). Однако в большинстве случаев речь идет скорее о сравнениях с людьми, нежели о сколько-нибудь последовательном уподоблении им. Реконструировать внешний вид богов исходя из подобных поэтических образов — и затруднительно и опасно.
Зооморфность в именах богов прослеживается в пережиточной форме. Лишь на самой периферии ведийского пантеона находятся довольно загадочные персонажи: Змей глубин и Одноногий козел. Однако образность, связанная с животными, встречается в Ригведе ничуть не реже, чем сравнения из сферы жизни людей. Индра— не только воин на колеснице, но и бык, стремящийся к коровам, Ушас — красна девица, кокетливо открывающая грудь, но она же и корова, показывающая вымя. Уподобления бесконечны: реки— коровы, кони— птицы, змей — кабан (и он же — вол). Многоликость божества даже особо подчеркивается: тот же Индра с быками бык, а с певцами— певец. Цельных описаний внешности богов в Ригведе нет, и вполне вероятно, что не было их изображений. Во всяком случае, культ изображений для ведийской религии явно был нехарактерен, что, должно быть, связано с отсутствием постоянных мест богопочита-ния — храмов. Можно предполагать поклонение отдельным символам или атрибутам, сакральным предметам, да и то скорее в области народных культов, нежели в той сфере религиозного сознания и обрядовой практики, которые запечатлены в Ригведе.
14. Конструкция, выложенная из кирпичей на алтарной площадке для ритуала «агничаяна»
Исследователи ведийской религии неоднократно делали попытки найти ее корни в натурмифологии. Действительно, в гимнах Ригведы несложно обнаружить поэтические описания природных явлений. Богиня утренней зари Ушас, например, появляется на небосклоне в повозке, запряженной розовыми конями. Бег коней, движение колесницы вызывают красочные образы: расстилается розовое покрывало, а темная материя Ночи сворачивается или распускается. Но обычно ситуация выглядит более сложной, и считать ведийских богов простыми персонификациями явлений природы не приходится. Как явствует, например, из приведенных ранее сведений о солнечных божествах, мифологические персонажи Ригведы олицетворяют скорее отдельные идеи или функции, нежели сами по себе природные феномены.
Боги Ригведы нередко образуют пары — такие, как Митра и Варуна, Индра и Сома, Индра и Агни, — в посвященных им гимнах выражается некая слитность таких персонажей. Иногда пары объединяются по принципу противоположности: Рассвет и Ночь, рассматриваются как супружеские: Небо и Земля. Слияние нескольких божеств или отдельных их аспектов отражает известный синкретизм образов ведийской мифологии. Характерны многочисленные отождествления богов, предметов и явлений: бог Агни и конкретный жертвенный огонь, тот же огонь и солнце, которое представляется как космический шар, а этот шар приравнивается к сакральному Слову и т.д. В ведийском пантеоне отсутствует иерархически организованная система, хотя певцы и награждают некоторых богов особо пышными эпитетами или посвящают им больше внимания, чем другим. Понятие «царь богов» употребляется в гимнах Ригведы, но речь не идет о постоянном владычестве. Бог представляется как «царь» лишь в данный момент — в сцене торжества его. Он не господствует над другими, пользуясь неизменной и непререкаемой властью, а скорее исполняет роль царя, принимая дары и поклонение подобно жениху на свадьбе. Подобное отношение к богам показательно и для религиозного сознания, и для общественных отношений ариев в эпоху Ригведы.
Границы между самим по себе явлением или предметом и его персонификацией, как божеством, обычно смазаны, неопределенны. Певец воспевает Сому как царя и рисует его облик, наделяя бога традиционными атрибутами, и в то же время постоянно помнит о его материальной субстанции, соме— струящемся напитке. Ведийские арии обожествляют различные существа и предметы. Объектами религиозного культа являются реки, горы, скаковые лошади.
Группы второстепенных мифологических персонажей составляют так называемые «множества». Они называются тем же словом «гана», что и объединения самих жрецов-брахманов. Иногда гана образует свиту того или иного бога и, как правило, сама по себе выглядит довольно безлико. Например, за ведийским Руд-рой следуют многочисленные рудры, которые заслуживают поклонения вместе со своим господином. В подобных ситуациях к Рудре может быть отнесено то характерное выражение, которое нередко встречается в ведийской литературе по отношению к знати, — «первый среди своих» или «лучший среди сородичей» (в данном случае — тех же рудр). Окружение Индры составляют маруты — очевидно, бурные ветры при боге-громовержце. Их называют «друзьями» Индры, но это не дает основания говорить ни о равенстве, ни об исключительно лич
ной связи каждого из них с великим божеством. Маруты — соратники убийцы Вритры, второстепенные участники его знаменитых подвигов, его дружина.
Противники богов обрисованы еще менее отчетливо, чем сами ведийские дэвы. В Ригведе это чаще всего безбожные дасью (или даса во главе с упомянутым ранее драконом — Даса), жадные пани, похитившие коров. Богам могут противостоять демоны — Данавы как воплощение тьмы и хаоса (подобно титанам или гигантам в греческой мифологии). Двойственно отношение певцов Ригведы к асурам. Обычно они противники дэвов, но в то же время сам великий Варуна может быть назван именем Асура. Как воплощение низших сил зла выступают злобные ракшасы — богов призывают теснить и давить их.
Отдельные классы небожителей в ведийской религии составляют гандхарвы, гении плодородия, приапические преследователи женщин или хранители их добрачной невинности. Гандхарвы часто рисуются как небесные музыканты, а их супруги (апсары) как танцовщицы. Апсары как по самому имени, так и по связанным с ними мифам— нимфы ручьев и небесных вод, они ассоциируются с водяными птицами. Достаточно неопределенным кажется класс «духов» (бху-та, букв, «существа») — им не приносят жертвы на огне, но оставляют часть пищи в качестве бали. Большой разряд сверхъестественных существ представлен олицетворениями различных болезней.
Значительное место в ведийской религии занимал культ предков (тапаров, букв, «отцов»). Поклонение им в принципе отличалось от жертвоприношений богам, ибо все, что связано с предками, ассоциировалось со смертью. Мир предков казался как бы перевернутым миром, во всем противоположным миру богов. Поэтому все, что можно сделать зеркальным, в ритуале для предков переворачивалось: обход совершался не слева направо, а справа налево, на другое плечо вешали священный шнур, в жертву приносили непременно черную корову или козу (в мире предков она, очевидно, становилась белой) и т.д.
Среди богов выделялся бог смерти Яма (бывший когда-то первым на земле и, следовательно, первым, прошедшим путем смерти). Он считался царем предков (питрираджа), а последние составляли его свиту. Предки, как причастные миру смерти, вызывали ужас — их старались умилостивить, чтобы семью не постигла беда. Если предки оставались довольны поминальными жертвами, они заботились о благополучии семьи и прежде всего о рождении потомства. В религии Ригведы особое место занимали обожествляемые родоначальники брахманских фамилий — создатели и певцы ведийских гимнов, риши.
Среди общих принципов, на которых строилась ведийская Вселенная, следует назвать тройственность мира. Вероятно, и в древности эта тройственность осмыслялась по-разному. Обычно выделяются три сферы: небо, земля и воздушное пространство между ними (или космическая водная стихия). Во время ритуальных действий произносились слова, символизирующие эти три части Космоса: бхур, бхувах, свах. Особая сакральность придавалась центру, очевидно, в его функции связующего звена между двумя крайностями, придающего цельность всей системе. В древнеиндийских текстах отчетливо выражена идея о том, что целое несводимо к составляющим его частям и существует как нечто самостоятельное. Возможно, знаменитый «третий шаг» Вишну потому и считается самым
высшим, что им охватывается весь мир как единство. Есть представление и о трехфункциональном делении ведийского пантеона. Во всяком случае, уже в поздневедийской литературе проводятся параллели между основными общественными категориями — варнами и частями мироздания, а также пантеона.
Регулярно отмечается неоднородность пространства — ориентации по сторонам света придавалось большое значение. Восток ассоциировался с восходом солнца, и обычно жрец стоял лицом на восток (поэтому и стороны света обозначались соответствующим образом: «южная» = «правая», «западная» = «находящаяся позади» и т.д.). Благоприятной стороной света считался и север — объясняется это тем, что в течение полугода от зимнего до летнего солнцестояния, когда увеличивается день, солнце движется «северным путем». В ведийской космологии «северный путь» рассматривается как эквивалент дня, а «южный путь» — ночи. Благоприятное время года, таким образом, связано было с севером, а благоприятное время суток— с востоком. Противоположные стороны света считались, соответственно, неблагоприятными, в частности юг был стороной, посвященной смерти, предкам, богу Яме. Обход слева направо, игравший важную роль в индийском ритуале, символизировал путь солнца. Лишь для предков принят был противоположный порядок по указанным ранее мотивам.
Для ведийских текстов характерны представления о цикличности времени, отождествления малых и больших циклов: дня, года, человеческой жизни, мирового периода или космической эры. Аналогичным образом прослеживается изоморфность малых и больших «тел», как то: человек, дом, Космос. Эта идея явственно выражена в знаменитом гимне Ригведы «Пурушасукта», где Вселенная представлена как тело космического человека (Пуруши). А части тела Пуруши последовательно отождествляются с луной и солнцем, с Небом и Землею, со сторонами света, с животными дикими и домашними. Человеческое общество, состоядцее из четырех варн, также полностью аналогично по своей структуре всему Мирозданию и телу отдельного человека. Макрокосм полностью соответствует микрокосму— эта идея лежит в основе многих ведийских ритуалов и позднейших религиозных и философских учений.
Тот же гимн о Пуруше показывает, что жертвоприношение рассматривалось как космогонический акт. В ведийской обрядности и мифологии часто можно было обнаружить мотивы сотворения мира—Космоса из Хаоса. Идея извечного дуализма «существующего» и «несуществующего» (cam и асат), или, по сути, упорядоченного и бесформенного, пронизывает многие гимны Ригведы. Здесь отражается концепция противоборства дня и ночи, света и тьмы, жизни и смерти. Боги, жизнь, свет постоянно побеждают, но эта победа не может быть окончательной. Для нового их триумфа необходимы те же противники, без которых невозможно существование целой системы. В дуалистической космогонии относительным оказывается и само противопоставление борющихся сил.
Вследствие господства циклических представлений время повествования в ведийских гимнах выглядит совершенно неопределенным. Индра не когда-то в прошлом победил дракона, о чем ныне помнят поэты. Он победил его, побеждает и будет побеждать вечно. Ритуал— не напоминание о былом триумфе, а регулярное его воспроизведение. Подобного рода восприятие времени — пре
жде всего в ведийском культе — сыграло важнейшую роль в процессе формирования всей древнеиндийской культуры.
Основу Ригведы составляют гимны, произносившиеся во время крупных жертвоприношений (яджна). Яджны имели характер общинных ритуалов, связанных, в частности, с праздниками календарного цикла. Наиболее значительные обряды так называемого ритуала шраута продолжались многие дни, недели и даже месяцы, они привлекали множество участников и требовали весьма значительных расходов. Организация такого рода процедур была под силу только состоятельным людям. Устройство разорительных жертвоприношений ведийского ритуала было возможно лишь в обществе, где практически отсутствовали стимулы к накоплению материальных благ. С другой стороны, такого рода культ предполагал наличие людей, имеющих возможности распоряжаться богатством — тратить их на жертвы богам и раздачи людям.
Собственно жертвоприношение происходило на открытом возвышенном месте— участок специально выбирали и тщательно очищали от сорной травы. Устраивали обычно несколько очагов — каждый особой формы и со своей символикой. Огонь возжигали посредством трения двух кусков дерева определенной породы. Один из них рассматривался как мужской, а другой как женский, и само добывание огня приобретало эротическую символику. После «рождения» огня его кормили, подкладывая топливо и подливая топленое масло, чтобы «ребенок» рос быстрее. В костер сыпали также зерна, бросали куски мяса, лили молоко и простоквашу — пища вместе с дымом поднималась к богам на небеса.
Вокруг огня расстилали солому, пучки священной травы служили сиденьями для богов. В позднейших ритуальных текстах говорится, что каждому божеству уделялось особое место, и таким образом происходила организация всего пространства вокруг алтаря. Боги как бы усаживались по соответствующим частям света, и Вселенная мыслилась как некая упорядоченная пространственно совокупность богов. Для ведийского культа с самого раннего времени характерно представление о богах как о гостях, прибывающих на угощение по призыву устроителя ритуала. Гостеприимство, в свою очередь, приобретало религиозную санкцию, а кормление гостя рассматривалось как одна из важнейших разновидностей жертвоприношения.
Существенным элементом ведийских празднеств являлись различные состязания: бег колесниц, скачки верхом, музыка и пение, игра в кости, загадывание загадок, а впоследствии и диспуты. Ритуальное соперничество между группами участников или отдельными героями обрядового представления ассоциировалось с мифологическими мотивами дуалистической космогонии.
Особое место, естественно, уделялось знатокам ритуала — брахманам. Каждый из жрецов читал особую группу текстов и выполнял те манипуляции, которые соответствовали его роли в обрядовом комплексе. Традиция повествует о специализации жречества — особые обозначения разных категорий участников священнодействия встречаются уже в Ригведе (некоторые из них находят соответствие и в религиозных текстах древнего Ирана).
Так называемые «великие приношения» обычно включали в себя различные операции с сомой. В качестве последней использовался, по-видимому, сок коно
пли, мухомора и другие галлюциногенные вещества. Гимны Ригведы содержат многочисленные образы, связанные с выдавливанием сомы при помощи особых давильных камней, ее процеживание через «цедилки» из шерсти или священной травы. Сому подвергали ритуальной «продаже», смешивали с молоком, лили в огонь, пили. Использовались и другие опьяняющие напитки — в частности, из меда, который также смешивался с сомой или отождествлялся с нею. Целью ритуального питья было достижение состояния экстаза, способствующего увеличению как физических, так и духовных сил. Сома и мед ассоциируются с вдохновением, озарением, мудростью, проникновением в суть вещей. Сам Индра совершил свой подвиг и убил змея лишь после того, как напился сомы. Описание состояния, наступающего после его употребления, заставляет предполагать у ведийских ариев своего рода шаманскую практику.
Пышные ритуалы всегда завершались раздачами участникам и угощением присутствующих. Жрецы, в свою очередь, молили богов о даровании богатств их патронам. В ведийскую эпоху человек не мог стать состоятельным, накапливая имущество чисто коммерческими способами. Богатство выражалось не только в обилии скота, но и в многочисленности родни — всех тех людей, которые подчиняются человеку или поддерживают его. Подлинное богатство заключалось в помощи богов, обеспечивающих власть над себе подобными. Не случайно близки в ведийском языке понятия могущества, богатства и щедрости. Богатство и влиятельность обеспечивались славой— военными подвигами, обильными раздачами и жертвоприношениями.
Создателями гимнов Ригведы считались риши, обладающие знанием (ведой). Последнее не является плодом деятельности самого поэта — знание существует извечно, поэт в состоянии экстаза лишь «видит» его. В этом священном трепете вдохновения и заключается особая мудрость певца. Составитель ведийского текста не просто поэт, он — провидец.
Уже говорилось о том, что жрецы и слагатели гимнов составляли своего рода содружества, между которыми устраивались ритуальные состязания. Их деятельность требовала не только талантов, но и глубокого профессионализма. Гимны не являются чистой импровизацией — искусство певца заключается в том, чтобы, используя привычные образы и обороты поэтической речи, «ткать» (как они выражались) все новые и новые узоры. Судя по всему, принадлежность к кругу ведийских поэтов обычно была наследственной. В эту среду принимали после особых инициаций. Сакральное знание считалось сокровенным и оберегалось от непосвященных.
Основное назначение ведийского текста — воздействие на божество. С этой целью прежде всего требуется знать имя бога. Согласно архаическим представлениям, названия не бывают произвольными, они выражают самую сущность личности или предмета. В гимнах часто повторяются различные имена и эпитеты, они обыгрываются сочетаниями звуков, аллитерациями, подвергаются смысловой интерпретации. Тот, кто призывает бога, зная его имя, получает над ним магическую власть. Восхваления божества составляют едва ли не основную часть поэтических текстов. Бога надлежит приглашать должным образом — иначе он просто не придет, не услышит просьб жертвователя, не снизойдет
к ним. Прославление бога рассматривается как своего рода жертва ему — словом! Как и у земных владык, для бога важно не одно лишь потребление материальных благ (жертвенная пища), он тоже жаждет славы.
Изложения мифов в Ригведе, по существу, нет— ведь они были знакомы слушателям, а главное — самому божеству. Для целей составителей гимнов достаточно было намеков, символов, указывающих на известный сюжет. Обычно целый миф сворачивался в метафору, в постоянный эпитет (как «убийца Врит-ры» или «носящий ваджру») — и именно поэтому атрибутика божеств остается неизменной. В гимнах мы находим целые каталоги намеков, калейдоскопы мифологических сюжетов, зачастую для нас не вполне ясных (и, видимо, не всегда возводимых к единому варианту повествования).
Главным инструментом воздействия на богов является слово. Ему придается особое значение, а речь (Вач) фигурирует в ведах как богиня. Сакральный язык должен быть совершенно отличен от профанического. Гимны отличаются чрезвычайным богатством образов, обилием сложных сравнений, намеков, звукоподражаний, синонимов. Слова нередко употребляются в необычных значениях, как метафоры, вызывающие бесконечные цепочки ассоциаций: от дождя к молоку, от молока к топленому маслу или жиру, а затем к меду, соме, мудрости, речи и т.д. При этом привлекаются понятия из совершенно различных сфер бытия и мышления — материальное отождествляется с духовным, человеческое с божественным. В ведийской поэзии появляются «буланые кони, запряженные молитвой», а масло «доится из одухотворенной тучи». В пределах одной фразы происходит совмещение нескольких пластов понятий— чтобы бог услышал и оценил речь певца, последний говорит о нескольких вещах одновременно. Слова его намеренно темны и насыщены сложными ассоциациями. В зависимости от контекста лексике может придаваться не только разное, но и противоположное значение. Поэтическое мастерство для ведийских риши не принадлежит области чистой эстетики— от него зависит успех молитвы, возможность общаться с божеством.
Наряду с довольно монотонными восхвалениями певцы используют многообразные приемы воздействия на бога с целью добиться исполнения желания. То риши произносит какое-либо утверждение, справедливое само по себе, и, таким образом овладевая истиной, прямо диктует свою волю. То он выражает свое желание в утвердительной форме, как бы уже обладая тем, что хочет получить. То богу адресуется прозрачный намек, поскольку после пышной хвалы его щедрости к усердным почитателям поэт скромно заявляет, что он и сам принадлежит к последним.
В процессе окончательного оформления Ригведы в собрание были включены не только собственно гимны, но и поэтические произведения различных жанров— заклинания, ритуальные формулы, перечни реплик участников обряда, восхваления подвигов героев, напоминающие эпическое творчество. В ряде текстов Ригведы встречается обмен вопросами и ответами, загадки (обычно космогонического содержания). Примером такой загадки может служить следующая: «о двенадцати спицах — ведь оно не изнашивается! — вращается колесо Закона по небу. На нем, о Агни, парами сыновья стоят, семь сотен и двадцать». В дан
ном случае отгадка очевидна: год из двенадцати месяцев и составляющие его триста шестьдесят дней и столько же ночей (всего семьсот двадцать). Но встречаются и более сложные задачи, которые заставляли ломать голову как современных исследователей, так и древнеиндийских философов, занимавшихся интерпретацией священного текста вед.
Особый интерес вызывают гимны-диалоги Ригведы, содержащие обмен репликами между царем Пуруравасом и бежавшей от него апсарой Урваши, между первочеловеком Ямой и его сестрой Ями, склонявшей брата разделить с ней ложе. Очевидно, они представляют собой запись ролей участников религиозной мистерии и могут рассматриваться как зародыш позднейшей классической санскритской драмы. В Ригведе можно найти истоки эпоса и драмы, философии и науки, классической поэзии и ритуалистики. Это не только наиболее раннее и самое почитаемое собрание литературных произведений Индии, но и памятник, определивший существенные черты всей древнеиндийской культуры.
Поздневедийская литература связана главным образом с ритуалистикой. Особенно важна с этой точки зрения Яджурведа. Именно в ней мы можем проследить переход к совершенно новому жанру— брахманической прозе. Тексты брахман в основном посвящены таким крупнейшим циклам обрядов, как раджа-суя, ваджапея, ашвамедха, агничаяна. Большая часть этих ритуалов связана с царем, его коронацией, обретением могущества и владычества над землею. Для совершения ритуала порою требовалось соорудить колоссальный алтарь в виде огромной птицы с распростертыми крыльями. Все 10 800 кирпичей (сакральное число) такого алтаря имели определенную форму и размер. Каждый из них отождествлялся с какой-либо частью мироздания, а его укладка сопровождалась чтением специального заклинания. Процесс жертвоприношения включал разнообразные процедуры — гадания, окропления, обкладывания алтаря и его обход, использование разнообразной утвари— ковшей, ложек всевозможной формы, деревянного ножа, специальной корзины и многого другого. Ведийский ритуал требовал соблюдения бесчисленного количества правил. Жертвоприношение уподоблялось сосуду для воды, малейшая трещинка в котором делала его непригодным. Точно так же и ритуал становится бесплодным в результате какой-то оплошности. Обрядам посвящались обширные тексты, которые позволяют проследить эволюцию религиозных идей и представить наиболее существенные черты мировоззрения индийцев поздневедийской эпохи.
Уже в Ригведе встречается ряд довольно абстрактных мифологических персонажей, таких, как Гибель, Счастливая Доля, Несвязанность и т.п. Еще более значительную роль божества типа Веры, Речи, Гнева, Времени играют в литературе брахман. Ведийские дэвы несколько теряют свой ореол, их образы снижаются, боги порою превращаются в мелких гениев, они мало персонифицированы и лишены индивидуальных черт. Это дает возможность с легкостью отождествлять разных небожителей, превращая одних в ипостаси других. Божества считаются взаимозаменяемыми, и их нередко почитают целыми списками. Появляется характерное понятие «все-боги», означающее довольно неопределенную совокупность сверхъестественных существ, достойную почитания наряду с перечисляемыми по именам отдельными божествами.
В космогонии этого времени боги-дэвы противопоставляются асурам. Борьба между ними представляется иначе, нежели битвы Индры с драконом. Боги и асуры являются соперниками, оспаривающими друг у друга жертвоприношение. Космическая схватка превращается в литургическое противоборство. Постепенно асуры начинают восприниматься как воплощение абсолютного зла, неправды, отсутствия благочестия. Но первоначально в самой борьбе противоположностей предполагалось известное единство. Отцом и тех и других считался Праджапати — творец Вселенной, владыка всякой живой твари. Его образ возвышается над сонмом иных сверхъестественных существ. Нередко он отождествляется с Брахмой — олицетворением молитвы и вед, достаточно умозрительным и безличным. Таким образом, Праджапати-Брахма, с одной стороны, был конкретным животворящим богом, с другой — воплощал совершенно абстрактный космический принцип.
Характерной чертой мировоззрения составителей брахманической прозы являлось представление о реальности существования общих понятий. По их мнению, очевидно, не может быть помыслено то, чего не существует в действительности. Если есть отдельные тигры, то можно говорить об общей субстанции «тигровости». И эта субстанция мыслится как нечто материальное и независимое от отдельных тигров. Она кажется даже более реальной, нежели сами тигры — последние являются таковыми лишь постольку, поскольку причастны «тигровости».
Безусловно материально и такое абстрактное понятие, как «грех» — это вид нечистоты, сходной с обыкновенной грязью. И так же как грязь, грех может быть смыт водою, стерт землею, его можно стряхнуть или нейтрализовать. Грех передается прикосновением, он заразен. Отсюда идет и представление о неприкасаемости. Последняя может быть временной — в отношении преступника или женщины в период месячных - или пожизненной (как с отверженными, принадлежащими к низшим кастам).
Могут быть переданы и благие субстанции. Если новобрачная в день свадьбы будет общаться с многодетными женщинами, она сама «заразится многодетностью». Таким же образом можно вынести из дома благополучного человека «материю благополучия», от старца получить «долгий срок жизни» и т.д. Телесность соответствующих понятий очень ярко выражена в языке брахманической прозы.
Каждая из подобного рода абстракций воспринимается как некое «божество» (дэвата). Мир буквально переполнен ими и, так как они одушевленные существа, одушевлен. Воздействие на эти сверхъестественные создания осуществляется посредством жертвоприношения. Отношения между божествами и человеком складываются по принципу обмена: ты — мне, я — тебе. Об этом ясно говорится в брахманах. В Джайминия-брахмане, например, сказано: «Что человек сделает богам, то и они ему сделают». Жертва— еда божества. Шатапатха-брахмана констатирует: «Голод был бы у богов, если бы не жертвоприношение». Та же мысль развивается в Джайминия-брахмане: Боги живут едой отсюда (из этого мира), а люди — едой оттуда (из мира богов). Те и другие, люди и боги, зависят от жертвы. И вновь Шатапатха: «Жертва— душа всех живых существ». В результате взаимного обмена едою пища переходит из одного мира в другой, про
исходит некий круговорот материи. В центре этого круговорота и всей картины мира оказываются уже не сами боги, а жертвоприношение. Из простого средства задобрить небожителей жертва превращается в подлинную основу, душу мироздания.
В представлении ритуалистов, обряд не символизирует космические явления, а вызывает их: солнце не встанет, если жертвователь не зажжет в конце ночи огонь на алтаре. Жертва осмысляется как движущая пружина мировых процессов. Боги ничего не решают по произволу, они лишены свободы воли и в этом смысле даже не отличаются особым могуществом. Ритуалистика менее всего подразумевает живые эмоции. Богов не умоляют, а скорее управляют ими. Иногда они выглядят как простые статисты в литургическом действии.
Для брахманической прозы характерно представление о материальности всего мира (включая область духа и абстрактные понятия) и в то же время оживление этой материи в виде божеств — дэвата. Все в мире взаимосвязано, и потому одно можно сделать орудием воздействия на другое. Необходимо лишь осознать, выразить и использовать эти тождества. Религия брахман отличается практицизмом, педантическим рационализмом, ритуалисты исходят из наличия всеобщих закономерностей, которым подчиняются сами боги. В основе мировоззрения поздневедийской эпохи лежит магия.
В качестве главного действующего лица во всех магических процедурах выступает жрец-брахман. Именно он знает, как подчинить богов своей воле и добиться выполнения требований, боги порою кажутся лишь марионетками в его руках. Происходит обожествление брахманов. Культ жертвы как души этого мира выливается в культ самого жреца.
Жрец должен быть профессионалом, владеющим ритуальной техникой. Но этого мало — ему надлежит обладать и знанием сокровенного смысла производимых действий. Обретает магическую власть не каждый, кто усвоил жертвенные формулы и совершает традиционные манипуляции. Необходимо проникновение в их суть — с этим связано неоднократное в ритуальных комментариях повторение формулы «кто так знает...». Сакральное в конечном счете дает бессмертие, а мудрость сводится к пониманию смысла деталей обряда. Иначе говоря, в брахманической прозе речь идет об осмыслении ритуала.
Главное для ритуалистов— определение связи между действием и словом, между словом и мыслью или психическим состоянием, между обрядовой процедурой в целом и космическим процессом. Священнодействие разлагалось ими на части, таким же образом членился образ Космоса, а затем между теми и другими находили тождество. Отождествления подобного рода казались необходимыми для воздействия на «божественные субстанции», на весь окружающий мир. Сами тексты брахманической прозы, так называемые брахманы, иногда и определялись как сочинения о «связи» (бандху) между жертвой и Космосом. Всё здесь переходит во всё, каждый объект эквивалентен чему-то иному и потому может быть использован как инструмент воздействия на ту или иную часть Вселенной. Случайности исключены. Алтарь состоит из 101 части, чтобы смерть не похитила жертвователя раньше, чем в возрасте ста лет. Каждая часть алтаря отождествляется с годом жизни (а сто первая, очевидно, со всей совокупностью — сотней
как целым). Кирпичи алтаря сопоставляются со сторонами света, последние — с временами года, т.е. с богами, с частями света, животными и растениями, с варнами, органами чувств, жертвенными огнями, стихотворными размерами и так до бесконечности.
Брахманическая проза в значительной мере состоит из подобного рода списков тождеств всего всему. Никакой логики на первый взгляд здесь вовсе нет, и не случайно некоторые индологи прошлого сравнивали брахманы с рисунками слабоумных. Иногда, впрочем, в самих брахманах предлагаются обоснования тождеств — и они отличаются простотой и ясностью. Доказательством равенства может служить, например, «этимология», понимаемая как сходство звучания слов. Ведь имя не считалось произвольным знаком, оно таинственным образом выражало самую суть того, что именовалось. Поэтому близость звучания слов заставляла составителей брахман констатировать родство и самих предметов или явлений. Например, тот, кто повторяет стихи «двустопные» (двипада), обретает потомство. Почему? Потому, что двипада (с другими долготами) означает также «двуногий». Вполне достаточно и малейших созвучий. Так, дается истолкование, что ночь (ратри) эквивалентна серебру (раджата), поскольку оба слова начинаются с одного и того же слога ра. Это, конечно, нисколько не исключает других «этимологических» объяснений — напротив, оно прямо провоцирует их во множестве. Задачей ведь является не обнаружение исторического происхождения слов, единственно верной этимологии, а доказательство тождества несходного. Слово «гусь» (хамса) может быть сопоставлено с выражением ахам са, т.е. «я — тот», где «тот» истолковывается в смысле Абсолюта, высшей реальности. Таким образом, сам «гусь» приобретает символическое значение в качестве знака сокровенной мудрости, отождествления конкретного индивида и мирового духа.
Возможны и другие средства отождествлений. Так, «год» (самватсара) уподобляется «жертвователю» (яджамана) на том основании, что оба слова состоят из четырех слогов. Все, что состоит из одинакового количества частей, имеет общее число в основе— и следовательно, единую природу, единую суть. Это уже средство не «этимологическое», а «нумерологическое», для доказательства того, что так или иначе требуется доказать.
Иногда можно предполагать, что на самом деле ассоциации разных понятий имеют более глубокую основу, чем можно думать по объяснениям самих ритуа-листов. Например, солнце обычно сопоставляется с золотом, а так как солнце и луна, день и ночь, золото и серебро составляют нерасторжимые пары, кажется вполне правомерным в этом направлении искать мотивы отождествления «ночи» и «серебра», а не в сходстве первых звуков слов. Точно так же «жертвователь» и «год» связаны сложной цепью ассоциаций через понятие космической жертвы и образ Праджапати, сопоставляемый и с жертвой, и с годичным циклом. Но для составителей брахман мотивы отождествлений не имели существенного значения. Важно было достижение цели — любыми путями обосновать ассоциации, необходимые для истолкования как отдельных элементов ритуала, так и. сокровенного его смысла в целом. Для этого годились любые средства, присущие данному образу мышления, а споры по поводу самой методики рассуждения были
бы совершенно неуместны. Если недоставало указанных выше инструментов, можно было прибегнуть к такому универсальному объяснению, как миф, сочиненный специально для данного случая. Искусственные мифы этиологического характера, содержащие объяснения происхождения всех на свете вещей и имен, встречаются в брахманах еще чаще, чем подлинные остатки древнейшей мифологии.
Конечный результат нахождения «связей» — приобретение власти над вещами, возможность через одно влиять на другое и в конечном счете через жертву на Космос. Ритуал осмысляется как посредствующее звено между человеком и Вселенной. Смысл жертвенной обрядности — такая же материальная субстанция, овладение которой (т.е. получение «знания») и дает власть над тем, что эту Вселенную составляет.
Поздневедийская ритуалистика сыграла огромную роль в становлении древнеиндийской культуры. Форма брахманической прозы, перемежающей текст с комментарием, стала основой традиции индийского обучения и неизменно воспроизводилась в позднейших «научных» или «философских» трактатах. Брахманы содержат как наставления (видхи), так и разъяснения (артхавада). Конечно, главным образом в последних содержится осмысление ритуальных действий, но, по сути, и сама формулировка наставления, т.е. описание ритуала, уже является совершенно новой умственной процедурой, весьма существенной ступенью познания. В брахманической прозе формировалось сознательное отношение к ритуальной практике, следующим шагом должно было стать осмысление и других аспектов человеческой деятельности. По удачному определению Германа Ольденберга, брахманы представляют «донаучную науку», они отражают становление абстрактного мышления, в них появляется ряд понятий, ставших центральными в классической индийской философии.
Непосредственно к брахманам примыкают — а отчасти и просто включаются в них — араньяки и упанишады, в которых дается все более умозрительная интерпретация ритуала. Начало древнейшей упанишады— Брихадараньяки, составляющей заключительные главы Шатапатха-брахманы, содержит знаменитое истолкование ритуала ашвамедхи: «Поистине, утренняя заря — голова жертвенного коня, солнце— его глаз, ветер— его дыхание, его раскрытая пасть — огонь Вайшванара, год — тело жертвенного коня, небо — его спина, воздушное пространство — его брюхо» и т.д. Традиционный комментарий вполне обоснованно поясняет, что отождествления зиждятся отнюдь не на поэтической образности, а на логических построениях типа «голова — передняя часть коня, а утро — начало дня», и, следовательно, они тождественны.
Упанишады опираются на те представления о «круговороте материи», которые явственно выражены в брахманах. Жертва от людей идет к богам и — в качестве возмещения — вновь возвращается к людям. Но и сам человек осмысляется как своего рода жертва — и он проходит круговорот существований, вращаясь между «тем» и «этим» миром. Складывается понятие сансары — круга перерождений.
Понятие жертвоприношения в упанишадах все чаще употребляется в переносном смысле, становясь метафорой. Говорится о жертве не только пищей, но
и деянием, словом, мыслью. Вся жизнь человека рассматривается как цикл ритуальных процедур — от зачатия до смерти. Сожжение покойника есть последнее жертвоприношение — жертва тела на огне. Повседневное поведение представляется ритуальным действием, а сам человек — совокупностью чистых и нечистых деяний. Формируется важнейшая для индийской религии доктрина кармы — о том, что деяния являются причиной следующего воздаяния.
Возникает и идея освобождения от сансары. Чхандогья-упанишада противопоставляет два пути — «путь богов» и «путь предков». Те, кто ведут жизнь домохозяев, совершают все положенные обряды, исполняют свои обязанности, после смерти с дымом костра идут в мир предков и затем пребывают на луне до тех пор, пока не иссякнут плоды их добрых деяний (карма). Затем они сливаются с ветром и из облака проливаются дождем, прорастая зернами риса и ячменя, сезама и бобов, растений и деревьев. В случае благих дел в прошлом существовании они рождаются брахманами, кшатриями и вайшьями, но те, кто отличался дурным поведением, становятся в этой жизни собакой, свиньей или неприкасаемым. Это— «путь предков». Но не все обречены на подобные перерождения. Обладающие истиной лесные отшельники после смерти становятся светом, днем, попадают на солнце и идут к Брахману. Такое освобождение и составляет «путь богов».
Аскеты, владеющие знанием и уже не совершающие повседневных обрядов, освобождаются от телесной оболочки и достигают бессмертия. Учителя упанишад говорят о тождестве Брахмана и Атмана. Брахман— мировая душа, Ат-ман — тонкая, не воспринимаемая чувствами сущность всего живущего. Осознание тождества Брахмана и Атмана, познающего и познаваемого, микрокосма и макрокосма и есть высшее знание, ведущее к освобождению. Человек, достигший его, уже не подвластен смерти.
Такие понятия упанишад, как круг перерождений, закон воздаяния — кармы, освобождения, стали основными в религиях древней Индии. Впоследствии индуисты и буддисты давали им различные интерпретации, по-своему отвечая на вопросы, которые были поставлены в упанишадах. В индийской традиции упа-нишады называются словом «веданта», т.е. «конец веды». Они действительно завершают ведийский канон и в то же время содержат идеи, послужившие отправной точкой для формирования так называемых неортодоксальных учений середины I тысячелетия до н.э. — главным образом буддизма и джайнизма. Литературная форма упанишад — знаменитые диалоги — послужила образцом для буд дийских сутт. Близка упанишадам порою и самая логика построения в супах, широко используется их терминология и образность. Школы классической индийской философии прямо обращаются к этим текстам как к своему истоку. Знаменитые философские трактаты позднейшего времени нередко создавались в форме комментариев к старинным упанишадам.
Параллельно с упанишадами создавались и собственно ритуалистические произведения. Развитие литературы этого жанра также характеризует существенные процессы становления индийской культуры. Ритуальная дисциплина (кальпа) не входит в понятие шрути (Откровение), она принадлежит области смрити — священного предания. Соответствующие тексты приписываются древ
ним мудрецам, а не считаются существовавшими извечно. Авторитет их значительно ниже, чем самхит или брахман. Наиболее ранние наставления по ритуалу посвящены крупнейшим ведийским обрядам — шраута. Эти тексты (шраутасут-ры) близки брахманам и в какой-то мере служат дополнением к ним: одни преимущественно содержат интерпретацию ритуала, другие — его описание.
В середине I тысячелетия до н.э. шраутасутры дополняются грихьясутрами, посвященными изложению домашних обрядов. Переход от великих ритуалов шраута к домашнему культу имел принципиальный характер. Речь шла уже не о таких общественных или царских жертвоприношениях, как коронация или аш-вамедха, которые предполагали участие больших групп жрецов и питье сомы. Главным действующим лицом обрядов здесь был обычный домохозяин, и речь в грихьясутрах идет о семейных праздниках по случаю брака, рождения сына, первого кормления ребенка, первой стрижки его и т.п. Грихьясутры включают также изложение церемоний, исполняемых в определенные сезоны для приумножения урожая или приплода домашнего скота. Ритуалистика вторгается таким образом в сферу частной жизни. В грихьясутрах происходит обработка домашней обрядности: из народных обычаев в тексты вносятся лишь самые общие элементы, а изложение не просто схематизируется, но и подвергается осмыслению в тех же категориях, которые сложились в описаниях основных ведийских ритуалов шраута. Грихьясутры свидетельствуют об известной унификации индийской культуры в сфере домашней обрядности — и процесс этот совершался под огромным воздействием идей и норм, сложившихся в брахманской среде.
Дальнейшим шагом в том же направлении являлось создание дхармасутр. Последние непосредственно примыкали к грихьясутрам и во многом перекликались с ними по содержанию. Если в ритуальных сутрах жизнь человека описывалась как цикл домашних обрядов, то в сочинениях о дхарме она представала как последовательность исполнения религиозно-нравственных норм. В качестве установлений религиозного долга— дхармы — кодифицировались и некоторые нормы обычного права. Это происходило следующим образом: среди домашних обрядов, изложенных в грихьясутрах, видное место занимал культ предков, осуществляемый главою семьи. Дхармасутры ие проявляют особого интереса к чисто ритуальной стороне этого культа, но их составителей заботит вопрос о том, на ком лежит обязанность организации поминок. Таким образом, ставится проблема определения главы семьи и порядка раздела наследства, ибо семейный культ неразрывно связан с семейным имуществом. Так тема поминок неизбежно влечет за собой изложение наследственного права.
Дхармасутры уже не являются сочинениями, посвященными изложению собственно обрядовых действий, они могут рассматриваться как один из истоков так называемой юридической литературы Индии. Но в то же время они еще не обособились от ритуалистики и не случайно включаются в ритуальные сборники — кальпасутры, составляя их заключительные главы.
Последовательность оформления ритуальных текстов выглядит следующим образом: осмысление ведийского культа шраута постепенно распространяется и на народные домашние обряды (главным образом на так называемые праздники жизненного цикла), сама жизнь человека начинает рассматриваться как цикл
обрядов от зачатия до кремации. Затем ритуализации подвергается и все повседневное поведение. Создание дхармасутр означало нечто большее, чем запись отдельных правовых обычаев, положений обычного права. Формировалось общее понятие дхармы, охватывающее совокупность социальных норм, санкционированных религиозной этикой. Литература о дхарме в конечном счете фиксировала основные заповеди индуизма.
Для середины I тысячелетия до н.э. характерно преимущественное внимание к этической стороне религии. По-разному решались эти проблемы в брахманских дхармасутрах и в буддийских проповедях или притчах, но идеалом и там и здесь объявлялась дхарма.
Кальпа — ритуал, о котором шла речь, в традиционной индийской классификации включается в разряд веданг, т.е. вспомогательных частей веды. Они не входят в собственно ведийский канон, а принадлежат области так называемого предания, основанного на «обычае благочестивых». Называют шесть таких ве-данг, и хотя кальпа— лишь одна из них, остальные так же тесно связаны с ритуалом. Это прежде всего фонетика, метрика, грамматика и этимология — комплекс «филологических» дисциплин, связанных с правильной передачей, воспроизведением и истолкованием сакрального слова вед. Крупнейшие достижения древнеиндийской науки ассоциируются с лингвистикой. Ее вершиной считается грамматика Панини, содержащая глубокий анализ и четкое описание структуры языка. «Восьмикнижие» Панини служило образцом для подражания и основой для комментирования в течение столетий. Зафиксированные в нем правила рассматривались как литературная норма классического санскрита. Панини жил, по-видимому, в IV в. до н.э. и, несомненно, опирался на предшествующую грамматическую традицию. Еще раньше был составлен труд Яски «Нирукта», посвященный этимологии.
Последняя из веданг— джъотиша— наука о движении небесных светил, необходимая для определения времени совершения жертвенного ритуала. В рамках этой дисциплины составлялись каталоги и классификации созвездий, закладывались таким образом основы древнеиндийской астрономии и астрологии. В ритуальные сборники включались шулбасутры, содержащие правила измерений площадки для алтаря, постройки на ней сложных по форме сооружений. В них решались геометрические задачи на построение фигур различной формы, находили практическое применение так называемая теорема Пифагора, арифметические и геометрические прогрессии. Истоки позднейшей индийской математики правомерно искать в этих архаических текстах ведийской эпохи.
Дисциплины, объединяемые в понятие «веданги», были теснейшим образом связаны с совершением жертвоприношений, а методика изложения в соответствующих «трактатах» формировалась под огромным воздействием ведийской ри-туапистики. В процессе обучения ведийским текстам и обрядам в доме наставника-гуру складывался и сам жанр сутр. Сутры представляли собой своды правил, выраженных в максимально лаконичной форме и предназначенных для заучивания наизусть. Чтение сутр должно было сопровождаться устным комментарием учителя, без которого они зачастую оставались непонятными. Система передачи информации, обучения при помощи сутр и комментариев во многом
определила характер традиционных индийских «учебников» и «наук» (июстра) в последующие века.
Уже к концу поздневедийской эпохи можно говорить о выделении целого ряда «доктрин» и «знаний», перечисляемых, например, в заключительных главах Чхандогья-упанишады. Наиболее известны «наука о долголетии» (аюрведа), т.е. медицина, дханурведа — «знание лука», т.е. военное дело, «искусство гандхар-вов» — музыка и т.д. Очевидно, во всех древнейших «знаниях» важное место занимали магические предписания и всякого рода колдовство, а наблюдения и рациональные рассуждения переплетались с мистикой, суевериями. Но именно они послужили основой развития наук и искусств древней Индии. В какой-то мере о их содержании можно судить по медицинским и иным трактатам, записанным в конце древности и в раннем Средневековье.
Литература рассматриваемого периода отнюдь не сводилась только к ведийской. Даже в Ригведе встречаются отдельные упоминания персонажей и сюжетов, известных из эпических поэм. Очевидно, значительная часть индийского эпоса сформировалась в те же века, когда происходило создание памятников брахманической прозы. Конец II и первая треть I тысячелетия до н.э. — время героических сказаний, преданий о царях и предводителях различных племен древней Индии. Несомненно, многие черты религиозных представлений, отраженных в эпико-пуранической традиции конца древности и раннего Средневековья, следует предполагать и для так называемой ведийской эпохи. Почитание богини-матери, истоки культов Кришны или Шивы не уступают по древности ведам.
Несмотря на то что для ведийской религии не свойственно почитание изображений богов, скульптура в Индии была и ранее середины 1 тысячелетия до н.э. На это указывают сообщения античных писателей. Описания чудесных обитателей Индии у Ктесия Книдского порою, видимо, являются интерпретацией местного изобразительного материала. Спутники Александра Македонского в Северо-Западной Индии отметили поклонение богам, отождествленным ими с Дионисом и Гераклом (в том числе и по иконографическим деталям). Имеющийся в распоряжении исследователей материал по изобразительному искусству ведийской эпохи скуден. Все появляется в маурийскую эпоху как бы в готовом виде — но именно это обстоятельство заставляет предполагать длительный период развития, скрытый от наших глаз. Мы вправе, таким образом, считать, что ведийская литература в этих и других аспектах дает неполное и несколько одностороннее представление о характере культуры Индии рассматриваемого времени.
Глава 3
ДРЕВНЕЙШИЙ И ДРЕВНИЙ КИТАЙ
Характер древнекитайских письменных памятников
Среди современных исследователей древнекитайской культуры нет единства взглядов по вопросу о том, в какой форме передавались первоначально древнейшие историко-повествовательные, религиозно-обрядовые, философские и другие тексты, какие источники—устные или письменные — играли решающую роль в процессе их сложения. Некогда О. Франке выступал с утверждениями, что в эпоху Шан (2-я половина II тыс. до н.э.) и в периоды Западного и Восточного Чжоу (начало I тыс. до н.э.) письменность не получила сколько-нибудь широкого распространения, что в те времена единственной формой письменности были гадательные и документальные надписи на костях домашних животных, щитах черепах, бронзовых сосудах и колоколах. По его мнению, отсутствие портативного писчего материала делало невозможным запись сколько-нибудь крупных литературных произведений.
Подобное мнение о древнекитайской письменной традиции вступает в конфликт с фактами. Исследователи высказывают предположение, что наряду с дошедшими до нас надписями на гадательных костях и бронзовой ритуальной утвари в эпоху Шан и в начале эпохи Чжоу были распространены тексты с иным содержанием, которые не сохранились, так как были записаны на бамбуковых и деревянных планках. Как свидетельство обоснованности данного предположения может быть отмечено то, что в иньских гадательных надписях представлены пиктографические обозначения в виде схематических изображений связки бамбуковых или деревянных планок. Что касается периодов Западного и Восточного Чжоу, то свидетельства различных нарративных источников не оставляют и тени сомнения в том, что бамбук был тогда широко известен как материал для пись-
ма. В одной из песен «Шицзина», описывающей дальний поход, сказано: «Разве не думаем мы о возвращении домой? Но страшимся приказа на бамбуковых планках». «Яньцзы чуньцю» упоминает о том, что в VII в. до н.э. при составлении документальных записей использовали шелк и бамбук. В рассказах «Цзо-чжуаня», относящихся к середине VI в. до н.э., встречаются сведения о том, что бамбуковые планки служили писчим материалом для хронистов разных царств. В одном из них говорится: «Я провинился перед моим государем, но раскаянием ничего не достигнешь: ведь мое имя попало в записанные на бамбуковых планках хроники правителей...»
Для истории древнекитайской письменной культуры большой интерес представляет находка в 1957 г. в гробнице чуского правителя в окрестностях Синьяна (пров. Хэнань) нескольких десятков бамбуковых планок, на одной стороне которых вертикальной колонкой были написаны иероглифы. Для синьянской гробницы некоторые историки предлагают достаточно раннюю датировку— VII-V вв. до н.э. По предварительным исследованиям, там был записан связный этикополитический текст конфуцианского направления. Синьянскую находку можно считать первой подлинной бамбуковой «книгой» чжоуского времени, найденной археологами.
По синьянской находке можно судить о некоторых внешних особенностях несохранившихся чжоуских «книг». Каждая бамбуковая «страница» содержала от 30 до 40 иероглифов, выведенных писчей кистью. Возможно, что в поздне-чжоуское время существовал особый тип «книжного» письма. По крайней мере современные исследователи отметили, что начертания иероглифов на синьян-ских бамбуковых планках, на чжаньгоском шелковом свитке из Чанша, содержащем календарно-астрологические тексты, и на нефритовых пластинках из-под г. Хоума (пров. Шаньси) с текстами клятв обнаруживают очевидные черты сходства. Данные археологии и свидетельства древних нарративных источников указывают на то, что изготовление бамбуковых «книг», а также их распространение не требовало, как иногда утверждают, чрезмерных усилий и затрат. Бамбуковые «книги» с их весьма узкими и тонкими «страницами», сброшюрованными в отдельные связки-главы, были достаточно удобны при различных обстоятельствах. В одном из текстов периода Чжаньго сказано, что Су Цинь, известный дипломат того времени, был вынужден в начале своей карьеры носить свои книги «на плече в коробе». Сохранилось также упоминание о том, что философ Моцзы (V-IV вв. до н.э.), собираясь отправиться «в качестве посла в царство Вэй», «сложил в свои повозки весьма много книг».
Искусство составления датированных записей зародилось в эпоху Шан в среде жрецов аньянского оракула. Регулярно составлявшиеся ими гадательные тексты включали наряду с формулой гадания и сведения о том, как проявились сделанные жрецом предсказания.
К шанской эпохе также относятся надписи на костях, лишенные гадательных формул. Они носят чисто «светский» характер и обычно представляют собой весьма лапидарные рассказы о деяниях вана. Очевидно, в подобных случаях результативная часть гадательного текста давала шанскому писцу готовую форму, которой он пользовался в качестве основы для отдельных фактических сообще
ний. На это, в частности, указывает способ датировки последних. Некоторые современные исследователи видят в такого рода надписях свидетельство зарождения практики регулярного составления придворными писцами вана текстов историко-документального характера, своего рода архивов.
Это мнение, по-видимому, соответствует действительности, ибо эпиграфические материалы, относящиеся к периоду, непосредственно следовавшему за падением государства Шан и установлением власти династии Чжоу, — а именно тексты надписей на западночжоуских бронзовых ритуальных сосудах открывают картину необычайного роста общественно-политического значения документальных и исторических записей.
О том внимании, которое в этот период уделялось официальным документам, свидетельствует наличие при дворе специальных архивов для их хранения. Так, в «Цзочжуане» читаем: «Некогда Чжоу-гун и Тай-гун были ближайшими помощниками дома Чжоу, они помогали Чэн-вану». Чэн-ван отблагодарил их и подарил им [текст] клятвенного обещания, который был помещен в «палате договоров (мэнфу)».
На вопрос, в чьем ведении находился весь комплекс специальных функций, связанных с составлением документальных и исторических записей (наблюдение за календарем; определение, на каком году правления, в каком месяце и в какой день свершилось событие; наблюдение за материалами государственных архивов, наконец, точное фиксирование фактов), отвечают свидетельства нарративных источников, относящихся уже к восточночжоускому периоду, когда в древнем Китае произошло заметное ослабление политической власти чжоуских ванов, которое сопровождалось ростом самостоятельности местных правителей.
На основании этих источников современными исследователями было установлено, что регулярное составление календаря, заключавшего в себе программу государственного богослужения, входило в обязанности ши, особой коллегии чиновников-жрецов. Известно, что последние осуществляли также высший надзор за государственными культами, при священнодействиях и церемониях выступали как жрецы и священнослужители, были астрологами, гадали по костям животных и т.д.
Меньше внимания обращали на ту сторону деятельности представителей ши, которая с современной точки зрения носила чисто «светский» характер. Однако свидетельства источников и здесь достаточно выразительны. Начнем с наиболее ранних.
В «Цзочжуане» в речи чжоуского Цзин-вана (правил в 544—519 гг. до н.э.) содержится рассказ о том, каково было происхождение родовых прозваний ши, живших в царстве Цзинь в VIII в. до н.э.: «Сунь Боянь ведал законами (дянъ) и списками (цзи) в Цзинь, участвовал в делах управления [страной], поэтому ему дали родовое прозвище Цзи». В этом отрывке цзиньский ши Сунь Боянь выступает как хранитель архива, причем его особо подчеркиваемое здесь активное участие в политической жизни страны недвусмысленно указывает на то, что находившийся в его ведении архив был государственным, а не религиозным.
Согласно «Планам сражающихся царств» (Чжаньго гр), в Чжао имелась должность чиновника юйши, в обязанности которого входил сбор дипломатических посланий, направлявшихся чжаоскому вану. Чиновники гаи, выступая в качестве советников, в сложных случаях административно-государственной практики подыскивали подходящие к данной ситуации поучительные примеры как из недавнего прошлого своей страны, так и из общечжоуских исторических преданий и генеалогических легенд. Последнее обстоятельство перекликается с сообщениями источников, указывающих на то, что некоторые представители коллегии ши исполняли функции хронистов.
Из нарративных памятников могут быть извлечены и факты иного рода, которые свидетельствуют о том, что в период Восточного Чжоу документальная запись и книга занимали выдающееся место в жизни древнекитайского общества, оттеснив на задний план устное предание. Имеются сведения, что такая важная общественная функция, как поддержание культурной традиции посредством передачи ее от одного поколения к другому, осуществлялась в ряде случаев с помощью книжного образования. Так, в речи, приписываемой чускому сановнику Шэнь Шуши, входящей в состав «Гоюя», среди рассуждений о том, как и чему следует учить наследника Чжуан-вана (конец VII в. до н.э.), неоднократно упоминаются тексты сочинений и государственных документов: «Шуши сказал: „Обучая его по "Чуньцю", побудишь превозносить добро и порицать зло, чтобы сделать воздержанным его сердце. Обучая его родословным, побудишь прославлять свет и добродетель и отвергать мрак и невежество, чтобы он в своих поступках избавился от страха. Обучая его одам, побудишь повсюду прославлять добродетель, чтобы сделать просвещенными его устремления. Обучая его обрядам и установлениям, заставишь узнать о правилах для высших и низших. Обучая его музыке, избавишь от скверны и подавишь в нем легкомыслие. Обучая указам и повелениям, заставишь разбираться в государственных делах. Обучая его речам, сделаешь ясней ему добродетель и побудишь его узнать, что ваны прежних дней занимались разъяснением добродетели среди народа. Обучая его по древним записям, заставишь узнать о тех, кто погибал и кто возвышался, и избавишь его от страха. Обучая его по кодексу наставлений, заставишь узнать, каков порядок поколений, побудишь сопоставлять то, как они исполняли свой долг*4». Нет сомнения в том, что под названием «Чуньцю» скрывалась либо определенная книга, либо серия книг. Говоря об обучении по «древним записям» и по «кодексу наставлений», Шэнь Шуши также, очевидно, имел в виду ознакомление наследника с какими-то известными текстами. «Начитанность» нередко выступала как синоним образованности и компетентности. Так, в «Цзочжуане» читаем: «Ван сказал: „Это хороший историограф... Он в состоянии прочесть о трех усыпальницах, пяти правилах, восьми мерах, десяти холмах44». Интересным указанием на распространенность среди народа письменности и элементарной грамотности служит то, что, согласно «Чжоули», чжоуские власти находили необходимым вывешивать тексты официальных «поучений» для всеобщего обозрения. Имеются также упоминания о том, что в храмах предков государственных деятелей периода Чуньцю выставлялись таблички с описанием их заслуг перед страной. К этому можно добавить одну характерную деталь. Достаточно трафаретная литературная
характеристика государственных деятелей и ученых в позднечжоуских сочинениях обычно содержит упоминание о том, что герой усердно читал книги, пренебрегая сном. Неудивительно, что в условиях роста книжности и книжной культуры среди обязанностей чиновников ши на первое место постепенно выдвигается обязанность «записывать события».
Так, в «Основных записях [царства] Цинь» Сыма Цяня под 763 г. до н.э. сказано: «Впервые учредили [должность] ши, чтобы записывал события». Аналогичные сообщения относятся к периоду Чжаньго. Так, в «Чжаньго цэ» говорится: «[Чжаоский ван] встретился с циньским ваном в Мяньчи. Выпив вина и захмелев, циньский ван сказал: „Я слыхал, что ты, чжаоский ван, хороший музыкант. Прошу тебя, сыграй на гуслях". Когда чжаоский ван коснулся струн, циньский юйши вышел вперед и записал: „В такой-то год, в таком-то месяце, в такой-то день циньский ван и чжаоский ван пировали во время встречи, и [циньский ван] приказал чжаоскому вану сыграть на гуслях"». Таким образом, среди многочисленных обязанностей ши выделяется комплекс, имеющий непосредственное отношение к зарождению и развитию древнекитайской историографии: наблюдение за временем, выполнение функций архивариусов, регистрация фактов.
Действительно, в позднечжоуских нарративных источниках (в частности, в «Люйши чуньцю») имеются ссылки на несохранившиеся сочинения хроникального характера, которые назывались шицзи (записи). О шицзи упоминает и Сыма Цянь: «Кунцзы читал шицзи. Дойдя до того места, где говорилось о восстановлении [владения] Чэнь [царством] Чу, он воскликнул: „Сколь мудр чуский Чжуан-ван!“».
Эти сообщения с несомненностью свидетельствуют, что к V в. до н.э. из отдельных хроникальных записей были уже составлены сводные тексты. Более того, ссылки и цитаты, во множестве встречающиеся на страницах источников VIII—III вв. до н.э., хранят память о десятках книг, утраченных еще в древности и неизвестных составителям ханьских литературных каталогов. Бросается в глаза, что в общей культуре древнего Китая был весьма велик удельный вес исторического знания. Наибольшее число ссылок падает на исторические сочинения. Древние авторы чаще всего упоминают разного рода «записи»: чжи и цзи. Цитаты из этих древних источников, пересказы содержания, а также ряд указаний общего характера дают основание считать, что имелись в виду «записи» об исторических событиях и лицах. В названиях сочинений, упоминаемых в историографических и философских памятниках, слово «записи» часто выступало в сочетании с разными определениями к нему: «Чжоуские записи» (Чжоучжи), «Записи о минувшем» (Цянъчжи), «Древние записи» (Гуцзи), «Записи о глубокой древности» (Шангуцзи), «Записи чиновников-хронистов» (Шицзи). Последняя разновидность древнекитайской исторической письменности была, очевидно, наследницей разновременных, составленных хронистами разных царств летописных историй. Памятником летописания царства Чжэн была известная по данным «Цзочжуаня» «Чжэнская книга» (ЧЬсэишу). Из этого же источника известны другие сочинения, содержавшие, по-видимому, сведения исторического характера: «Записи о ратном деле» (Цзюньчжи) и «Поучения времен Ся» (Сясюнь). В разных источниках встречаются указания на то, что в VIII-Ш вв. до н.э. суще-
ствовали и другие сочинения, прямо или косвенно связанные с историческим знанием, которые впоследствии также были утрачены.
В древнем Китае гадание было возведено на уровень государственного института. Придворные астрологи и специалисты по скапулимантии, нейромантике и т.д. входили в состав той же чиновничье-жреческой коллегии, что и хронисты. Каждое крупное событие в историческом сознании чжоусцев ассоциировалось с теми знамениями и предсказаниями, которые ему предшествовали или сопутствовали. Поэтому-то наряду с регистрацией событий возникла практика регистрации наиболее знаменательных гаданий. Сохранилось упоминание о том, что среди книг периода Чжаньго, найденных в вэйском погребении в Цзи, имелся гадательный сборник Шичунь. По словам раннесредневековых библиографов, он содержал сведения о гаданиях на бирках, связанных с историческими событиями периода Чуньцю. В «Гоюе» приведены две небольшие цитаты из «Записей прорицателей» (Душичжицзи, Душицзи) царства Цзинь. К пророчествам этих «записей» обращались за советом при решении государственных вопросов.
Начиная по крайней мере с периода Восточного Чжоу письменная традиция прочно внедряется в область государственно-правовой практики. Можно считать доказанным наличие примерно с VI в. до н.э. (а может быть, и ранее) письменных законов в ряде центральнокитайских царств.
Точные и систематические записи стали вести не только в чжоуском домене, но и в центрах многочисленных царств, возникших на развалинах западночжоу-ской государственности. В Цинь, так же как и в других древнекитайских государствах VIII-III вв. до н.э., сумма первичных записей чиновников-хронистов составила со временем царский летописный свод, названный «Основными записями [царства] Цинь» (Циньцзи). Он единственный из летописных сводов чжоу-ского времени, который избежал литературной инквизиции Цинь Шихуана. Интересный опыт построения всеобщей древней истории Китая, соединенной с летописью царства Вэй (V—III вв. до н.э.), содержала книга «Погодовые записи на бамбуковых планках» (Чжушу цзинянь), найденная в III в. н.э. в вэйской гробнице в Цзи. В этом своде, известном нам лишь по фрагментам, не удалось обнаружить признаков прагматического изложения событий. По-видимому, древние записи были соединены в нем лишь внешней связью, представлявшей собой хронологии правителей Ся, Шан, Чжоу и Вэй.
Многочисленную группу составляли исторические сочинения типа чуньцю. Следует сказать, что некоторые позднечжоуские авторы видели в этом термине только название летописи царства Лу. Однако сочетание чуньцю в позднечжоу-ское время стали употреблять в обобщенном смысле, превратив его в terminus technicus для многочисленных местных и других историй. Сохранилось утверждение Моцзы: «Я видел чуньцю, происходящие из ста царств».
В трактате «Мэнцзы» говорится: «...После пресечения написания од была создана Чуньцю Чэн [царства] Цзинь, Таоу [царства] Чу и Чуньцю [царства] Лу. Их тексты— это [тексты] ши чиновников-хронистов». В одном из описаний библиотеки, обнаруженной в 280 г. н.э. в вэйском погребении III в. до н.э. в Цзи, упоминается утраченное сочинение «Разные повествования» (Сотой), где «имеется Чуньцю [царства] Цзинь».
Приведенные выше материалы заставляют сделать вывод о бытовании в период Чжаньго одновременно по крайней мере двух историй царства Цзины официальной версии, называвшейся «Чэн» («Колесница»), и какой-то цзиньской чуньцю. Официальный характер летописей царств Лу, Цзинь и Чу, упомянутых в трактате «Мэнцзы», определялся тем, что они были составлены из записей, ведшихся при ванских дворах чиновниками-хронистами. Что касается исчезнувших позднечжоуских чуньцю, память о которых хранят различные источники, то они, по-видимому, были результатом чисто литературных склонностей древнекитайских книжников, писавших их по собственной инициативе, — таковы, например, цитируемые в трактате «Моцзы» чжоуская, яньская, сунская и циская чуньцю.
Чуньцю, по-видимому, включали разного рода исторические предания и прозаические сказания, отражавшие полуфантастические представления разных слоев древнекитайского общества о прошлом.
Фрагменты утраченных сочинений типа чуньцю встречаются как в форме пересказа, так и в форме дословной передачи в речах государственных деятелей V—III вв. до н.э., собранных в «Чжаньго цэ» и в трактате «Хань Фэйцзы».
К сожалению, те сведения, которыми мы располагаем о восточночжоуских чуньцю, весьма неполны и отрывочны, поэтому об их внутренней структуре и других особенностях содержания приходится только догадываться. Можно высказать предположение, что для них был характерен хронологический принцип изложения. Последний позволял включать в них разнородные по характеру исторические рассказы. В ряде случаев в основу этих рассказов было положено историческое предание. Судя по данным «Цзочжуаня» и «Гоюя», вскоре после появления в свет таких преданий они должны были быть зафиксированы письменной традицией, ибо трудно себе представить, что спустя несколько десятилетий или столетий картина отраженных в них событий могла сохраниться в памяти передатчиков так подробно, со столь точными хронологическими указаниями.
VI-IV века до н.э. для древнекитайских царств были знаменательны ростом внутренних социально-экономических противоречий, сопровождавшимся необычайным усложнением общественно-политической жизни. Обострился антагонизм привилегированных семейно-родственных групп и центральной власти.
В этих условиях наряду с хрониками, объединявшими официальные записи о событиях, стали появляться исторические сочинения, проникнутые разноликой и весьма агрессивной тенденциозностью. Одновременно происходила окончательная кристаллизация взгляда на историческое сочинение как на средство воспитания или политическое руководство. Так, по «Гоюю», один из сановников чуского Чжуан-вана (613-590 гг. до н.э.), комментируя дисциплины, на основе которых было построено образование наследника, утверждал: «Преподавая ему (т.е. наследнику. — К.В.) чуньцю, побудишь его почитать добро и порицать зло».
По-видимому, круг чуньцю, упоминаемых в данной цитате, не был ограничен официальными хрониками и включал нравоучительные повествования.
У чжаньгоских авторов можно найти достаточное число свидетельств того, что генеалогические легенды, полупоэтические предания и нравоучительные сказания собирались и записывались в достаточно широких масштабах. Так,
объединявшие их сочинения упоминаются в «Люйши чуньцю» под названием Гуцзи («Записи о былом») и Шангуцзи («Записи о глубокой древности»). Составители трактата «Хань Фэйцзы», неоднократно цитировавшие такого рода тексты, именуют их просто цзи («записи»).
Для создания развернутых и внутренне мотивированных повествований как нельзя лучше подходили и форма, и обширный материал зафиксированного в позднечжоуское время исторического предания.
На протяжении VII-III вв. до н.э. возникли разные жанры исторического рассказа, однако наибольшее распространение получили сочинения типа чуньцю. В период Чжаньго появился ряд чуньцю, в которых вершился суд над правителями прошлых поколений и современными авторам властителями. К их числу относится созданная Юй Цином, сановником из царства Чжао, книга «Юйши чуньцю», которая известна по единственному ее описанию, имеющемуся в труде Сыма Цяня: «[Юй Цин], подымаясь, останавливался [в ней] на [событиях] периода Чуньцю, спускаясь, обозревал ближайшее время. В [книге] говорилось о мере и соразмерности, о соответствии и обозначении, о предположениях и догадках, об управлении и замыслах. Всего было восемь связок, содержавших нападки и насмешки над удачами и неудачами [разных] государств». Судя по цитате, сохраненной Хань Фэйцзы, сходным было и содержание «Таоцзо чуньцю», утраченной еще в древности. В нашем распоряжении имеется лишь один источник, по которому можно судить о внутренней структуре и особенностях изложения исторического материала, присущих восточночжоуским хроникам.
Это «Чуньцю» — известный конфуцианский канон, для которого вышеупомянутый terminus technicus стал именем собственным.
Согласно свидетельству Мэнцзы (гл. «Тэн Вэнь-гун»), создание этого памятника также было связано с нравственной проповедью и стремлением исправлять общественные пороки: «Были такие подданные, которые убивали своих правителей. Были также сыновья, которые убивали своих отцов. Кунцзы устрашился, создал Чуньцю. Чуньцю — это деяния сына Неба. По этой причине Кунцзы сказал: „Познать меня можно только через Чуньцю"».
По словам Мэнцзы и Сыма Цяня, Конфуций составил «Чуньцю» на основе различных «записей ши». Материал расположен в нем по годам правления лус-ких царей, живших в период между 722 и 481 гг. до н.э. Внутри каждого годового комплекса записи распределяются по сезонам, иногда по месяцам и дням. Для собранных в «Чуньцю» хроникальных записей характерны крайняя лаконичность и нечеткость в описаниях, что, как полагают некоторые исследователи, отражает еще достаточную примитивность потребности в фиксации исторических событий. К тому же круг фиксируемых хронистом событий в «Чуньцю» весьма узок, а связь между ними чисто внешняя. Например, под 9-м годом правления луского Инь-гуна сказано: «На девятом году, весной, [чжоуский] ван по воле Неба послал Нань Цзи [в Лу], чтобы тот осведомился [о здоровье луского правителя]. В третьем месяце, в день гуйю шел сильный дождь, был гром с молниями. В день гэнчэнь был большой снегопад. Умер Се. Летом построили стену вокруг Лана. Осень, седьмой месяц. Зимой [луский] гун встретился с циским хоу в [местности] Фан».
То обстоятельство, что авторство «Чуньцю» с глубокой древности приписывали Конфуцию, поддерживало постоянный интерес к вопросу об истинном характере содержания памятника. На протяжении двух тысячелетий «Чуньцю» обросла необозримой ортодоксальной экзегетической литературой, создатели которой пытались истолковать ее хроникальные записи как зашифрованные моральные формулы.
Считалось, что «Чуньцю» состоит из двух частей: кратких писаных формул и связанного с ними устного тайного учения. Как китайские, так и некоторые западные ученые ищут доказательства таинственного «символизма» «Чуньцю» в фактической неполноте, отрывочности, терминологической непоследовательности и неточности ее записей.
В течение последних десятилетий проделана значительная работа по реабилитации «Чуньцю» как хроники. В составе «Цзочжуаня» сохранились фрагменты летописей разных царств, составленных, вероятно, в то же время.
Ко времени составления «Чуньцю» древнекитайские историографы обладали достаточно развитыми средствами описания событий. Сохранились фрагменты летописей разных царств. Представленные в них методы фиксации исторических событий отличаются от тех, которые характерны для «Чуньцю». В этих текстах намного шире круг записей, характеризующих событие, отбор их отличается определенной последовательностью, в них прослеживается стремление установить не только хронологическую, но и прагматическую связь явлений. Создается впечатление, что неполнота и несвязность исторического повествования в «Чуньцю» были результатом искусственного отбора и удаления всех материалов, составлявших их прагматический контекст.
Текст «Чуньцю», которым мы сейчас располагаем, производит впечатление не хроники, а скорее сборника тем для нормативно-морализаторского комментария. В период Чжаньго такой комментарий, известный под названием «Цзочжуань», т.е. «Комментарий Цзо [Цюмина]», был составлен. О лице, которому приписывают авторство этого памятника, известно чуть ли не одно лишь его имя. По словам Сыма Цяня, он был младшим современником Кунцзы. Сыма Цянь приводит следующие мотивы создания им комментария на «Чуньцю»: «Цзо Цюмин, благородный муж из царства Лу, испугался, что у учеников и последователей [Кунцзы] основы [мировоззрения] станут несходными, что [каждый] будет следовать своим устремлениям, что исчезнет истинный смысл [учения Кунцзы]. По этой причине он, следуя „Записям [собранным] Кунцзы... создал ,Дзоши чуньцю66 („Чуньцю господина Цзо66)». Общепризнанно, что за «Цзоши чуньцю» здесь скрывается то же сочинение, которое впоследствии стали именовать «Цзочжуанем». Это, однако, не означает, что весь памятник сложился сразу и в том виде, в каком он дошел до наших дней. Слова Сыма Цяня о характере содержания «Цзоши чуньцю» перекликаются с тем, что в «Цзочжуане» имеется обширный слой текстов, содержащих нормативно-морализаторские оценки событий в духе раннего конфуцианства.
«Цзочжуань» включает большое количество самостоятельных прозаических повествований, темой которых служат события, происходившие на территории всех крупнейших древнекитайских владений в период с 722 по 463 г. до н.э.,
а также летописных цитат того времени. Пока еще точно не установлено, когда эти элементы были слиты в единый текст. Задаваясь вопросом о времени составления «Цзочжуаня», нельзя обойти вниманием некоторые результаты изучения исторических реалий и проделанный лингвистами анализ грамматического строя памятника.
На их основе может быть установлен terminus ante quem non окончательного оформления повествовательных элементов «Цзочжуаня». Это конец IV в. до н.э.
Как и других авторов того времени, составителей «Цзочжуаня» в исторических событиях привлекало не столько человеческое деяние как таковое, сколько проявление в нем космических сил «божественной воли» или нравственного сознания.
Характернейшая особенность входящих в состав «Цзочжуаня» исторических рассказов, резко отделяющая присущий им способ описания событий от хроникальной манеры «Чуньцю», состоит в обильном использовании прямой речи. Появление такого литературного приема легко объяснимо. Наиболее подходящей формой для описания закономерностей отражения космической модели в делах Поднебесной и для характеристики выводимых из нее социально-этических ценностей и норм оказались речи, вкладывавшиеся в уста тех, кому историческая традиция приписывала высшее знание о доктрине.
Как правило, в «Цзочжуане» через речи открывается субъективный мир действующих лиц, в них они выражают свои намерения и побудительные причины своих поступков.
В исторических рассказах «Цзочжуаня» речи использовались в качестве важнейших элементов объяснения причин описываемых в них событий.
Каковы же истоки того пристрастия, которое историографы периода Чжаньго питали к прямой речи?
Очевидно, не последнюю роль здесь играла зависимость от традиций и приемов исторического фольклора. Но был более важный, на наш взгляд, исток, о котором рассказывают материалы древних эпиграфических и нарративных памятников. Мы имеем в виду то влияние, которое оказывали на историографов некоторые стилевые особенности ранней документальной прозы, а также высокая культура посольской, воинской и других типов устной речи. Как известно, приказы и установления первых чжоуских правителей, нанесенные на поверхность бронзовых ритуальных сосудов, составлялись придворными писцами в форме речей, обращенных к владельцу ритуального сосуда. Распространенность подобных документальных текстов, содержание которых, по-видимому, имитировало речи, произносившиеся во время торжественного вручения инвеституры и в других официальных случаях, указывает на то, что речь издревле считалась важнейшим элементом государственного ритуала и политической жизни. В связи с этим особый интерес представляют сообщения источников о том, что уже во времена первых чжоуских ванов существовал обычай записывать содержание устных выступлений.
В источниках периода Восточного Чжоу появляются уже вполне достоверные упоминания о практике письменной фиксации устных выступлений.
В нарративных текстах, сложившихся в V—III вв. до н.э., можно найти упоминания о том, как ученики записывали слова наставников, как придворные писцы записывали понравившиеся правителям высказывания советников.
Весьма важным моментом подготовки дипломатических акций было составление посольских речей. Эти сведения содержатся в следующем отрывке из «Комментария Цзо»: «[Одной из сторон] государственной деятельности Цзы Ча-ня был отбор и использование [людей], наделенных способностями... Фэн Цзяньцзы был способен принимать решения по поводу важнейших дел. Цзы Дашу был красив и образован. Гунсунь Хуй обладал способностью знать обо всем, что делалось в соседних владениях... кроме того, он был искусен в составлении речей и распоряжений. Би Чэнь... добивался успеха, когда не город, а открытое поле становилось ареной [осуществления] его замыслов. Когда в царстве Чжэн намеревались войти в какие-либо сношения с местными владельцами, Цзы Чань справлялся у Цзы Юя о том, что происходит в соседних царствах, и поручал ему составить речи и распоряжения. Би Чэня он посылал в колеснице в поле и повелевал ему поразмыслить, подходят или нет [эти речи и распоряжения для данного случая]. Сообщив об этом Фэн Цзяньцзы, он поручал ему [подготовить] окончательное решение. После этого [все] передавалось Цзы Дашу, обязанностью которого было дать ход [делу] и ответствовать гостю (т.е. послу из другого царства. — К.В.)». Описываемые здесь специальная подготовка и обсуждение содержания речей, предварявшие произнесение их перед послами соседних государств, свидетельствуют о том, что речи имели действительно политическое значение, оказывая заметное влияние на события.
Произнесенные при официальных обстоятельствах, они приравнивались к важным государственным документам. Для тогдашних историографов речи, как и события, должны были в равной мере иметь значения фактов, с которыми необходимо считаться. Данные обстоятельства, очевидно, и породили у позднечжоуских авторов стремление собирать нанесенные на бамбуковые дощечки записи устных выступлений.
Литературная судьба речи мало зависела от «произнесенного» оригинала, ибо контуры ее, сохраненные первоначальной записью, заполнялись содержанием через несколько десятилетий, а может быть, и столетий после того, как была сделана эта запись. Такая обработка первоначальной записи могла быть произведена официальным историографом. Под его кистью запись оживала, заполнялась историческими уподоблениями, цитатами из «Шицзина», извлечениями из преданий, образцами народной мудрости и т.д. Аналогичная операция могла быть проделана и кем-либо из литературно образованных людей позднечжоуско-го Китая, не связанных с официальной историографической школой.
В результате были созданы комплексы самостоятельных исторических рассказов, в которых в ткань повествовательно-летописного изложения введены передаваемые прямой речью устные наставления, увещевания и советы, произнесенные «добродетельными» сановниками при разнообразных обстоятельствах и перед различной аудиторией. Собранные вместе, эти рассказы составили книгу под названием «Повествования о царствах» («Гоюй»). Упоминаемые в ней наиболее ранние исторические события относятся ко времени Западного Чжоу. Од
нако содержание основной массы исторических рассказов в «Гоюе» связано с более поздним периодом — VIII-V вв. до н.э. Текст памятника включает несколько разделов: «Повествования о царстве Чжоу», «Повествования о царстве Ци», «Повествования о царстве Цзинь», «Повествования о царстве Чжэн», «Повествования о царстве Чу», «Повествования о царстве У» и «Повествования о царстве Юэ». Цепь исторических рассказов каждого раздела часто скреплена лишь хронологической последовательностью.
Вопрос о датировке «Гоюя» не был еще предметом специального исследования. Время составления дошедшего до наших дней текста памятника может быть приблизительно определено на основании некоторых частных наблюдений IV-III вв. до н.э., но не раньше.
В общих чертах хронологические рамки «Гоюя» и «Цзочжуаня» совпадают. Поэтому в обоих памятниках весьма часто действуют одни и те же герои, упоминаются одни и те же события, приводятся одни и те же выступления. Видимо, последнее обстоятельство в свое время немало способствовало зарождению версии, приписывающей мифическому Цзо Цюмину авторские права и на «Цзочжуань», и на «Гоюй».
Сопоставление параллельных текстов «Гоюя» и «Цзочжуаня» показывает, что они восходили к какой-то единой версии, однако в дальнейшем были подвергнуты самостоятельной литературной обработке. Отсюда несходство многих исторических деталей и стилистические расхождения.
В отечественном востоковедении получила распространение модификация взгляда на «Повествования о царствах» как на источник «Цзочжуаня». В ее основе лежит утверждение, что первое сочинение является «памятником ораторского искусства», в котором воспроизведены подлинные речи того, кому их приписывает историческое предание.
Исследование параллельных материалов «Цзочжуаня» и «Гоюя» показывает, что характерные расхождения между ними исключают возможность использования «Гоюя» в качестве непосредственной основы для «Цзочжуаня».
В «Гоюе» и в «Цзочжуане» есть достаточное число других примеров, которые, как установили современные исследователи, настолько расходятся по содержанию, что возможность прямой зависимости между ними исключена.
Наши наблюдения, а также данные других исследователей приводят к выводу, что основное содержание речей, введенных в текст «Гоюя» и «Цзочжуаня», не представляет собой воспроизведения слов оратора. Разные версии одних и тех же речей, по-видимому, объясняются тем, что создатели обоих сочинений тенденциозно перерабатывали имеющийся в их распоряжении материал.
В самом содержании речей отчетливо проступают признаки их чисто литературного происхождения. Особенно явственным представляется вымышленный характер речей, содержащих предсказания. Категоричность и точность «предсказаний» в речах «Гоюя» указывают на то, что они несомненно были сделаны задним числом. К числу полностью вымышленных, без сомнения, относятся речи, произнесенные при обстоятельствах, исключающих присутствие третьих лиц, которые могли бы запомнить или записать их содержание. Сомнения в подлинности речей «Гоюя» подкрепляются наблюдениями комментаторов, обнару
живших в них неправдоподобные детали и анахронизмы. Следы тщательной литературной отделки и переделки обнаруживаются в таких особенностях речей «Гоюя», как использование многочисленных цитат из древних, часто утраченных сочинений. Все это свидетельствует о том, что здесь мы скорее имеем дело с письменным авторским творчеством, чем с записями устной традиции. Когда древнекитайские исторические тексты претендуют на воспроизведение речей правителей, государственных деятелей и военачальников, мы, очевидно, чаще всего имеем дело с «литературным вымыслом». Последний вывод не должен заслонять того, что часто целью этих текстов было воспроизведение конкретных исторических событий, а также того, что эти тексты могли сохранять тесную связь с деятельностью определенных исторических лиц.
«Цзочжуань» и «Гоюй» содержат синтез достижений восточночжоуской историографии. В них собрано лучшее, что было выработано официальными хронистами в области упорядочения и обработки исторических материалов, отражены успехи государственного красноречия.
К началу периода Чжаньго среди составителей исторических текстов появляется множество лиц, не связанных с официальным летописанием. Свидетельством перемещения их интересов являются сочинения типа чуньцю, построенные по тематическому принципу, в которых исторический материал был подчинен авторским суждениям о нем. К их числу относится утраченное сочинение чжао-ского сановника Юя, содержание которого известно лишь по библиографическому описанию Сыма Цяня и оглавлению разделов: «Мера и соразмерность», «Название и обозначение», «Политика и замыслы».
Рядом с такими видами исторического повествования продолжала жить и официальная историография. Однако в результате бурных событий, имевших место в ходе объединения Китая под властью Цинь Шихуанди, полные тексты хроник «сражающихся царств» погибли. По приказу Цинь Шихуанди, применившего на деле опыт идеологической борьбы периода Чжаньго, у населения были изъяты и сожжены «Шицзин», «Шуцзин» и различные философские книги. Эта мера отвечала устремлениям «школы закона» и сторонников конфуцианства в толковании Сюнъцзы. Эта кампания не имела в виду изъятия книг по медицине, фармакологии, сельскому хозяйству, не касалась она и сочинений по различным отраслям знаний, имевшихся у чиновников, например юриспруденции. Ярким примером тому является находка 1975 г. в г. Юньмыне пров. Хубэй, где в погребении циньского чиновника было обнаружено 600 бамбуковых дощечек с юридическими текстами.
Как уже говорилось выше, в XI-VIII вв. до н.э. обычным материалом для письма были бамбуковые планки, но они не сохранились. Только в надписях на ритуальных бронзовых сосудах дошли до нас подлинные тексты периода Западного Чжоу. В древности бронзовые сосуды различных типов и форм, предназначенные для жертвенной пищи и вина, были необходимейшей принадлежностью торжественного ритуала жертвоприношений предкам. Они необычайно высоко ценились, тщательно оберегались и в каждой семье передавались из поколения в поколение. Те, для кого отливались сосуды, стремились в надписях на них за
печатлеть самые важные моменты своей военной или административной карьеры, чтобы сохранить их в памяти потомков.
Бронзовые сосуды употреблялись обычно в официальных и торжественных случаях, при заключении договоров, скреплявшихся клятвами, и т.д.
Большую ценность для историка представляют надписи, содержащие подлинные распоряжения и указы чжоуского вана, касающиеся административных назначений, различных наград, пожалований территорий и зависимых людей и даже сообщающие о разборе имущественных тяжб между его подданными. Такого рода тексты на западночжоуских сосудах служат основным источником сведений об организации государственной власти и структуре западночжоуского общества.
Объем надписей в отдельных случаях был достаточно велик. Например, надпись на Да Юй дине содержит 291 иероглиф, на Сяо Юй дине — около 400, на Саньши пань — 350, на Маогун дине — 499 и т.д. Известно более 3 тыс. сосудов с надписями, относящихся к эпохе Чжоу. К сожалению, большинство их найдено при случайных обстоятельствах в разные периоды средневековья и нового времени.
Совершенно особое место занимают надписи на ритуальных сосудах, открытых китайскими археологами в ходе научно организованных раскопок. Здесь не требуется специальной сложной проверки для установления их аутентичности. Их датировка основывается на ряде независимых археологических критериев. Наличие в новонайденных текстах сведений, имеющих параллели в эпиграфических памятниках, оригиналы которых давно утрачены, служит надежным свидетельством подлинности последних.
Интересно, что четыре наиболее ранних из числа западночжоуских документов на бронзовых сосудах сохраняют еще некоторые внешние особенности шанских надписей и имеют датировочную формулу в конце текста, тогда как среди более поздних получает распространение новая форма, согласно которой дату помещали в начале текста. В дальнейшем эта особенность сохраняется на протяжении столетий, ее переносят в свои труды составители хроник.
Надписи часто содержат датировочные формулы, упоминающие месяц, период месяца и обозначенный циклическими знаками день изготовления сосуда, однако в них весьма редко бывает названо имя правителя и год его правления. В области их датировок сложились два подхода. Одни исследователи сопоставляли данные надписей с ханьским календарем как древнейшим из дошедших до нас. Поскольку западночжоуский календарь нам не известен, достоверность результатов этого подхода вызывает большие сомнения. Сторонники второго подхода исходят из содержания надписи, упоминания в ней исторических лиц, храмов, событий, местностей. В тех случаях, когда эти сведения удается уложить в исторический контекст, такой подход несомненно надежен. Хронологизация надписей, не содержащих данных для исторических отождествлений, возможна лишь на основе палеографического анализа.
Китайские ученые разных эпох неоднократно пытались дешифровать надписи бронзовых сосудов. Первые значительные успехи китайской эпиграфики в этой области связаны с именем Ван Говэя (1887-1927). В дальнейшем изучение над
писей на ритуальных сосудах привлекло внимание еще целого рада крупных исследователей и постепенно превратилось в самостоятельную историко-филологическую дисциплину. Были выработаны объективные методы оценки подлинности сосудов, включающие стилистические, эпиграфические и технологические критерии. Важнейшим результатом изучения древнекитайской ритуальной утвари в 20-30-е годы XX столетия явилась ее общая хронологизация и выделение стабильных серий сосудов, датированных периодом Западного Чжоу. Наибольшая трудность, с которой столкнулись китайские эпиграфисты и археологи, была связана с внутренней периодизацией этих серий. Было необходимо создать методику, которая позволила бы связать сосуд и его надпись с определенным моментом в почти трехсотлетней истории Западного Чжоу.
При работе с надписями на ритуальных сосудах эпохи Чжоу, происходящих из старых собраний, возникают трудности с их датировкой. В течение последних десятилетий количество известных науке надписей росло главным образом за счет находок на западночжоуских городищах и в могильниках, раскопанных археологами.
Систематическое изучение надписей на ритуальных сосудах в качестве важнейшего источника для реконструкции различных сторон жизни западночжоу-ского общества, его государственного устройства и хронологии началось в 20-х годах прошлого столетия.
Благодаря трудам Го Можо, Чэнь Мэнцзя, Кайдзука Сигэки, Ито Митихару, Сиракавы Сидзуки, А. Масперо, Х.Г. Крила и др. западночжоускую историю в значительной мере удалось освободить от схематизаторских и дидактических наслоений, оставленных позднейшей конфуцианской наукой.
Однако в истории западночжоуского общества, вследствие узости источниковедческой базы, недостаточной изученности религиозно-политических представлений, отразившихся в надписях, а также нечеткости методов анализа важнейших социально-экономических терминов и понятий, остается еще очень много неясного и спорного.
Предыстория древнекитайской цивилизации
Памятники, давшие название основным неолитическим культурам бассейна Хуанхэ, были открыты в конце XIX в. и стали серьезно изучаться с начала XX столетия. К планомерным раскопкам, охватившим и бассейн Янцзы, китайские археологи приступили в 50-х годах. Были получены данные, указывающие на то, что картина развития и смены культур была чрезвычайно сложной и многоликой, а генезис формировавшихся здесь обширных этнокультурных общностей происходил на смешанной основе в условиях перекрещивающихся культурных влияний.
Зарождение земледелия в долине Хуанхэ может быть сейчас предположительно отнесено к хронологическому рубежу VII-VI тысячелетий до н.э. Оно базировалось на чумизе, относившейся, по свидетельству Н.И. Вавилова, к числу эндемичных растений данного района.
Важнейший этап освоения этой территории связан с открытыми в 1921 г. у дер. Яншао (уезд Мяньчи, пров. Хэнань) памятниками развитой неолитической культуры, названной по месту первых находок. Ее стоянки обнаружены сейчас повсюду в районах верхнего и среднего течения Хуанхэ, а также по соседству с ними. Центральная зона этой культуры связана с землями, лежащими на стыке провинций Хэнань, Шаньси и Шэньси. Яншаоские стоянки располагаются либо на лёссовых террасах, либо в аллювиальных речных долинах. Яншао принадлежит к кругу культур расписной керамики. Яншаоская посуда изготавливалась вручную. До обжига сосуды украшались красным и черным орнаментом: в виде переплетающихся линий, спиралей, решеток, треугольников, ромбов или же в виде зооморфных изображений.
Тип орнамента служит основой для выделения на территории культуры Яншао ряда регионов, обычно концентрирующихся вокруг крупных неолитических поселений, дающих им свое название: Мяодигоу I (в пров. Хэнань), Баньпо (в пров. Шэньси), Циньванчжай (в пров. Хэнань), Хоуган (в пров. Хэнань).
Основой для реконструкции яншаоской палеоэкономики и ее связей с ботанико-географической средой долины Хуанхэ и соседних районов служат обнаруженные здесь комплексы материальной культуры, включающие каменные мотыги, каменные зернотерки, каменные ступки и песты, а также карбонизированные остатки зерен чумизы. В строительстве своих жилищ яншаосцы использовали простейшие каркасно-столбовые конструкции, покрытые ветками и обмазанные глиной с примесью соломы. Господствующим типом строений были прямоугольные или округлые в плане полуземлянки. Вокруг крупных поселений сохранились следы глубоких оборонительных рвов.
Ряд специфических черт инвентаря поселения Баньпо, раскопанного в 1954-1956 гг., в частности стилистические особенности росписи посуды: фигуры рыб, геометрические узоры, послужили для археологов эталоном, с помощью которого удалось выделить обширную серию сходных памятников, найденных в различных местах Северного Китая. Для другой группы поселений культуры Яншао, также связанных между собой отчетливой близостью характерных особенностей инвентаря, эталоном стал нижний слой поселения Мяодигоу I, раскопанного в 1956-1957 гг. Между этими группами существует несомненное единство материальной культуры. Вопрос о хронологическом отношении этих двух групп памятников Яншао был предметом острой дискуссии.
Решающее значение в этом вопросе, по-видимому, следует придавать стратиграфическим данным. Проделанный учеными анализ стратиграфических данных с несомненностью указал на то, что период существования Баньпо относится к более раннему времени, нежели Мяодигоу I. Были определены хронологические границы существования памятников типа Баньпо, основанные на серии ра-диокарбонных дат, которые соответствуют 4770-4290 гг. до н.э. Наиболее же ранний образец из нижнего слоя поселения Мяодигоу I датирован 3910 (±125) г. до н.э. Это, однако, не означает, как полагают некоторые, что долина Вэйхэ была районом, где складывались наиболее ранние яншаоские памятники и откуда брал начало поток переселенцев в другие области. В Хоугане, например, открыты
слои, близкие по типу к Баньпо, которые датированы 2-й половиной V тысячелетия до н.э.
В 1977 г. раскопки на яншаоском поселении Бэйшоулин близ г. Баоцзи открыли нижний слой, несомненно более ранний, чем Баньпо. В результате радио-карбонного анализа получена дата образца из этого слоя, соответствующая концу VI — началу V тысячелетия до н.э. Сейчас, по-видимому, еще рано выделять ту зону, где формировалось ядро культуры Яншао.
На протяжении длительного периода существования культуры Яншао, обнимающего V и IV тысячелетия до н.э., во всех районах обширного ареала ее распространения сохранялось устойчивое типологическое единство каменных орудий труда, форм керамики и ее орнаментации, приемов строительной техники и т.д., что указывает на принадлежность носителей этой культуры к единой этнокультурной общности.
По-видимому, к хронологическому горизонту, проходящему на грани VII и VI тысячелетий до н.э., может быть гипотетически отнесено возникновение земледелия и в бассейне р. Янцзы. Начальные этапы этого процесса только еще начинают изучаться. Сравнительно недавно открыты ранние памятники в южной части приморской зоны (пров. Чжэцзян), которые фиксируют архаический этап сложения здесь производящего хозяйства. Это многослойное поселение Хэмуду близ г. Юйяо. Нижний слой его содержит памятники, не имеющие параллелей среди неолитических находок этого района. Найдены остатки наземных деревянных жилищ, свидетельствующих об их конструктивной оригинальности, сельскохозяйственные орудия из костей животных, кости одомашненных собак, свиней и буйволов. Керамика нижнего слоя Хэмуду черного цвета, изготовлена из глины с примесью толченого угля. В материалах этих слоев открыты следы культивирования заливного риса, интродуцированного, по-видимому, из горного восточногималайского ботанико-географического центра. Имеются даты двух образцов из раннего Хэмуду, подвергнутых радиокарбонному анализу: 5005 (±130) г. до н.э. и 4770 (±140) г. до н.э. В нижнем слое Хэмуду сейчас видят родоначальника неолитических памятников южной части пров. Цзянсу и пров. Чжэцзян, которые ранее объединялись с памятниками северной части пров. Цзянсу в культуру Цинляньган.
Эта культура распадается по крайней мере на две самостоятельные области, центры которых расположены южнее и севернее р. Янцзы. В южной области есть ряд стоянок и могильников, характеризующих разные стороны хозяйственной жизни, социального уклада и идеологических представлений ее неолитического населения, четко делящиеся на три хронологических этапа. К первому относятся такие памятники, как Мацзябинь (пров. Чжэцзян), Цючэн (пров. Чжэцзян) и Цаосешань (пров. Цзянсу), ко второму принадлежит могильник Бэйинь-янъин (близ Нанкина), с третьим связаны могильники в Сунцзэ (близ Шанхая), Цючэне, Юэчэне (близ Сучжоу). Здесь найдены кости буйвола, шлифованные каменные орудия труда: мотыги, топоры, тесла. Керамика поселения, как и керамика других центров этой культуры, изготовлена способом ручной лепки, с последующим лощением поверхности. Преобладают сосуды темно-серого цвета, встречаются и сосуды красного цвета. Основой хозяйства здешних племен было
культивирование заливного риса. Неолитические памятники, расположенные к югу от р. Янцзы, называют культурой Мацзябинь. Хронологические рамки существования этой культуры, основанные на ряде радиокарбонных датировок образцов из разных слоев ее поселений и могильников, определяются 4750-3700 гг. до н.э.
Что касается памятников, расположенных к северу от р. Янцзы, то территория полуострова Шаньдун, представлявшаяся ранее областью, где господствовала самостоятельная неолитическая культура, теперь оказывается одной из провинций культурно-этнической общности, занимающей также северную часть пров. Цзянсу. Памятники пров. Шаньдун и северной части пров. Цзянсу было предложено объединить в одной общей культуре Давэнькоу. Культура делится на четыре этапа, называемых по местам наиболее значительных и памятных находок: Люлинь, Хуатин, Давэнькоу, Цинляньган (все в пров. Цзянсу). Внутренняя эволюция культуры Давэнькоу сопровождалась постепенным вытеснением расписной и расширением производства серой и черной лощеной керамики. Период, охватывающий все четыре этапа существования этих памятников, сейчас ограничивают временем от середины V до середины III тысячелетия до н.э.
Достаточно активная роль принадлежит и неолитической культуре Цюйцзя-лин, открытой в бассейне среднего течения р. Янцзы, в котловине пров. Хубэй. Обнаруженные здесь куски обожженной глины содержат примесь рисовой шелухи. Это свидетельствует, что одним из главных занятий цюйцзялинцев было культивирование заливного риса. Часть принадлежавшей им глиняной посуды была расписной. Она изготовлялась уже на гончарном круге, покрывалась черным или серым ангобом, на который наносился орнамент. Цюйцзялинская керамика и по формам сосудов, и по стилю орнаментации отличалась от лепной расписной керамики Яншао. Полученные три даты по С14 для цюйцзялинских памятников позволяют относить время их существования к первой половине III тысячелетия до н.э.
В III тысячелетии до н.э. эволюция племен, составлявших культурную общность Яншао, значительно усложнилась. В это время область среднего течения Хуанхэ стала объектом вторжения носителей ряда неолитических культур, связанных с иными культурно-хозяйственными традициями. Генезис местного поздненеолитического населения происходил в условиях перекрещивавшихся культурных влияний. Территория пров. Хэнань превратилась в активную контактную зону. Еще в 1962 г. близ г. Яньши были обнаружены могильники с инвентарем культуры Давэнькоу. Развитие яншаосцев в поздненеолитическое время, проходившее в условиях постоянного и длительного взаимодействия с племенами, двигавшимися с территорий Шаньдунского п-ова, привело к формированию на землях пров. Хэнань культуры Мяодигоу II, где ведущей стала керамика серого и красного цвета с простейшим веревочным или плетеным орнаментом, расширился набор каменных сельскохозяйственных орудий, значительно выросло производство продуктов животноводства.
В середине III тысячелетия до н.э. на территорию пров. Хэнань стали вторгаться племена-носители культуры Цюйцзялин. В это же время происходят значительные перемены в жизни племен на территории Шаньдунского п-ова. На
смену культуре Давэнькоу постепенно приходит энеолитическая культура Лун-шань. Начинается широкое проникновение присущих ей черт и особенностей в районы, некогда представлявшие собой центры развития Яншао, где получает распространение такой важный для Луншайя структурный элемент, как черная лощеная и серая глиняная посуда, изготовленная на гончарном круге. Однако выработка качественно новых форм и признаков определялась в ней не только воздействием импульсов, шедших с территории Шаньдуна, но и синтезом местных этнокультурных факторов. В этом убеждает анализ различий между шань-дунским и хэнаньским комплексами луншаньского времени.
Ведущей формой керамики хэнаньского комплекса были триподы ли с полыми ножками. В пров. Шаньдун они неизвестны. В раннелуншаньское время здесь преобладали триподы дин. Позднее главенствующими стали сосуды сугубо местного типа: округлые, на трех конических ножках, с цилиндрическим горлом, снабженным широким сливом. Серьезные различия существовали между двумя этими зонами и в погребальном обряде. В то же время оба комплекса обладали отчетливо выраженными общими чертами, что и позволяет объединять их в рамках луншаньской культурной общности.
Эволюция материальной культуры в пров. Шэньси в период энеолита шла путями, несколько отличными от тех, которые привели к появлению шаньдунского и хэнаньского вариантов развитого Луншаня. Местные племена в периоды позднего неолита и энеолита активно взаимодействовали с племенами, жившими на территории пров. Ганьсу. Сложившаяся здесь энеолитическая культура Кэшэн-чжуан П отличается значительной самобытностью. Однако, несмотря на значительные отличия от синхронных памятников провинций Шаньдун и Хэнань, большинство исследователей склонны видеть в нем модификацию луншаньской культурной общности.
Создатели последней, несмотря на ряд локальных вариантов, сохраняли на протяжении всего периода ее существования определенное хозяйственное и культурное единство. На обширной территории, далеко выходившей за рамки трех упомянутых провинций, в луншаньское время получила распространение сходная в своей основе технология керамического производства, появился гончарный круг, повсюду господствующим стал хозяйственно-культурный тип оседлых земледельцев, выращивавших злаковые культуры. Отчетливо проявилась тенденция к расширению числа видов домашних животных.
В области южнее р. Янцзы, в приморской зоне, также происходит постепенная смена культуры Мацзябинь культурой Лянчжу. Ее памятники обнаружены в районе оз. Тайху. Керамика Лянчжу в основном состоит из лощеных сосудов черного цвета, изготовленных на гончарном круге. Племена культуры Лянчжу продолжали возделывать заливной рис. Время существования культуры сейчас определяется семью датами по С14 — от 3300 до 2300 г. до н.э. Племена культуры Лянчжу наряду с племенами культурной общности Луншань представляли собой среду, в которой вызревали прогрессивные методы производства орудий, приведшие к появлению меди и бронзы, складывались элементы будущей городской цивилизации и формирующегося государства. Луншаньцы и их ближайшие соседи, судя по археологическим данным, первыми овладели производством и об
работкой металла. Очень ранние медные изделия открыты в 1955 г. на стоянке Дачэншань близ г. Таншаня в пров. Хэбэй. Инвентарь этой стоянки, состоявший из каменных орудий и луншаньской керамики, включал также две небольшие медные пластинки. В дальнейшем знакомство с выплавкой меди, соединенное с богатым опытом строительства и эксплуатации гончарных печей, изготовления керамики, позволило энеолитическим племенам разных районов Восточной Азии быстро перейти к производству бронзы и освоить оригинальную технологию отливки бронзовых изделий в глиняных формах.
Формирование
раннеклассовых обществ в бассейнах рек Хуанхэ и Янцзы
В шаньдунских памятниках культуры Давэнькоу, а затем в археологических комплексах ряда областей Китая, где получила распространение луншаньская культурная общность, археологи обнаружили первые признаки зарождения внутри родо-племенных коллективов имущественного и социального неравенства.
Еще в 1930 г. в ходе раскопок на многослойном поселении в Хоугане близ г. Аньяна (пров. Хэнань) ученые впервые обратили внимание на генетическую связь между найденными здесь энеолитическими памятниками луншаньского времени и сменившими их памятниками эпохи бронзы. Что касается последних, то они принадлежали к той высокоразвитой культуре, которая была открыта начавшимися в 1928 г. раскопками на расположенном неподалеку близ дер. Сяо-тунь городище.
Обнаруженные в Сяотуне надписи на употреблявшихся для гадания панцирях черепах и лопаточных костях крупных домашних животных рассказывали, что здесь некогда располагался город, бывший столицей и центром расселения народа шан. Культуру Сяотуня стали называть шанской. В последующие годы были выявлены новые свидетельства преемственности между Луншанем и шанской культурой в технике изготовления каменных орудий труда, в погребальном обряде и особенно в приемах изготовления и методах орнаментации керамики. Однако наличие значительного культурного и хронологического разрыва между комплексами позднего Луншаня и шанскими памятниками из района г. Аньяна, создатели которых уже владели высокоразвитым искусством металлургии бронзы и рядом других культурных достижений, порождало множество вопросов о конкретных путях генезиса шанской цивилизации. Ответы на них могли дать только дальнейшие исследования.
В 1950 г. в Эрлигане (близ г. Чжэнчжоу в пров. Хэнань) было обнаружено городище, отнесенное к числу шанских, более раннее, нежели Сяотунь. Начиная с середины 50-х годов археологи открыли целый ряд еще более архаических памятников того же типа.
В 1959 г. были начаты раскопки на многослойном поселении Эрлитоу близ г. Яныпи. Материалы четырех слоев этого памятника были столь выразительны,
что дали основание для выделения самостоятельной культуры Эрлитоу. Эволюция культуры Эрлитоу не получила еще однозначного объяснения. Качественный сдвиг, наблюдаемый на уровне третьего слоя, ряд исследователей связывают с тем, что памятники первого и второго слоев принадлежали легендарному племени ся, которое в дальнейшем было побеждено племенем шан, резко изменившим культурный облик эрлитоусцев. Внесение в археологический контекст фактов, почерпнутых из преданий, не может служить основанием для бесспорных заключений, но в качестве рабочей гипотезы можно согласиться с интерпретацией содержания третьего и четвертого слоев как раннешанских памятников.
В третьем слое была раскрыта обширная платформа из утрамбованной земли, на которой располагались руины комплекса строений, имевших характер дворцово-храмового центра. Платформа возвышалась на 80 см над поверхностью и была окружена стеной из утрамбованной земли. Ее протяженность с севера на юг— 100 м, а с запада на восток— 108 м. Центр платформы занимает фундамент прямоугольного здания длиной в 30 м и шириной в 11 м. Вдоль стен его, по всему периметру, сохранились следы опорных столбов и их каменные основания. Этот столбовой каркас, по-видимому, поддерживал четырехскатную крышу и ее свисающие края. Раскопаны также остатки окружавшей дворец галереи и ворот. Стены дворца и галереи были сооружены в неолитических традициях и состояли из поддерживаемого столбами плетеного каркаса, обмазанного снаружи глиной с добавлением рубленой соломы. Вокруг центрального комплекса открыты многочисленные основания наземных жилищ, землянки, зольники, колодцы, гончарные печи и следы металлургического производства в виде обломков глиняных тиглей, керамических литейных форм и шлаков. Как и в предыдущих слоях, сельскохозяйственный инвентарь эрлитоусцев состоял из каменных серпов, каменных мотыг и ножей, орудий из рога и раковин. Обнаружены следы употребления деревянного двузубого орудия лэйсы для вскапывания земли. Однако подлинным открытием были найденные здесь металлические орудия труда и оружие: ножи, шилья, долота, наконечники стрел, клевцы. Химический анализ этих предметов и других металлических изделий свидетельствует, что все они были изготовлены из бронзы. Состав металла, из которого отлито долото: Си — 98%, Sn — 1%; сосуд: Си — 92%, Sn — 7%.
Об искусстве эрлитоуских литейщиков можно судить по обнаруженному на территории городища небольшому бронзовому колоколу и бронзовому ритуальному сосуду цзюэ в виде высокой вазы на трех ножках с узким сливом. Аналогичные изделия найдены и в эрлитоуских погребениях. Бронзовые сосуды этого времени копируют формы глиняных сосудов, представленных во всех четырех слоях культуры Эрлитоу. Это самые ранние находки подобных изделий в Восточной Азии. Здесь зародилась одна из наиболее выразительных традиций древнекитайской культуры — изготовление специальных бронзовых сосудов, предназначавшихся для жертвоприношений предкам.
Присутствие среди материалов третьего слоя Эрлитоу (датируемого по С14 XIII в. до н.э.) обломков тиглей, керамических форм, литейных шлаков и достаточно широкого ассортимента бронзовых изделий служит отражением того бесспорного факта, что в это время в долине Хуанхэ уже сложился собственный очаг
75. Строение дворцового типа (реконструкция). Паньлунчэн. Хубэй. XIII-XII вв. до н.э.
16. Внутренний вид гробницы шанского вана. Угуаньцунь. Аньян. Хэнань. Эпоха Шан-Инь. Конец II тыс. до н.э.
17. Дворцово-храмовая постройка на стилобате из утрамбованной земли (реконструкция). Аньян. Хэнань. Эпоха Шан-Инь. Конец II тыс. дон.э.
металлургии и металлообработки. Ранние ступени металлургической эволюции в этом регионе, последовавшей за первым знакомством с медью в позднелун-шаньское время, пока что не документированы археологическими данными.
Последнее обстоятельство породило ряд предположений о том, что источник импульса, под влиянием которого сложился местный металлургический очаг, следует искать за пределами бассейна Хуанхэ и Китая вообще. Как известно, признаки наиболее раннего для Восточной и Юго-Восточной Азии знакомства с металлом археологи обнаружили на поселении Нонноктха, в Северо-Восточном Таиланде. Однако ни в Нонноктха, ни в других местах данного региона не найдено параллелей для раннешанской технологической традиции производства ритуальной бронзовой утвари с помощью многосекционных разборных форм. Отсутствуют и какие-либо данные для гипотезы о воздействии на зарождение и раннюю эволюцию производства бронзы в Эрлитоу с севера, со стороны теоретически реконструируемого центральноазиатского металлургического очага. Таким образом, вопреки предложениям некоторых историков, раннешанская металлургия развивалась в очевидной изоляции от воздействий со стороны соседних очагов металлургии и металлообработки, о существовании которых известно современной науке.
Среди материалов третьего слоя Эрлитоу есть свидетельства оригинальности сложившихся здесь приемов металлообработки, имеется в виду упомянутая выше технология производства бронзовых сосудов, колоколов и других изделий с помощью многосекционных разборных керамических форм. Судя по находке бронзового сосуда, внутри которого сохранились остатки одной из секций такой формы, и ряду других находок, эта технология была хорошо известна эрлитоусцам.
Доказательством того, что раннешанские племена в своем социальном развитии достигли этапа раннеклассового общества, служит наряду с дворцово-храмовым комплексом обнаружение в третьем и четвертом слоях большого числа погребенных людей со следами насильственной смерти. Эти погребения, в отличие от одновременных раннешанских могильников, были совершены в ямах и зольниках без какого-либо сопровождающего инвентаря. Часто головы были захоронены отдельно от тел или же верхние конечности были захоронены отдельно от нижних. Обнаружен ряд ям, где скелеты лежали в несколько слоев. Это, очевидно, останки человеческих жертвоприношений, для которых использовали военнопленных, обращенных в рабство.
Культура Эрлитоу зародилась в недрах хэнаньского Луншаня в начале II тысячелетия до н.э. Местные племена, развивая свою материальную культуру,
18. Черепаховые щитки с гадательными надписями. Из раскопок иньского оракула под Аньяном. Хэнань. Эпоха Шан-Инь. Вторая половина II тыс. до н.э.
19. Раковины каури и их имитация из бронзы. Вторая половина IIтыс. до н.э.
освоили и развили производственные навыки и традиции энеолитического насе-ления бассейна Хуанхэ. Они достигли высокого мастерства в технике литейного дела и в строительном искусстве. Их развитию были присущи быстрые темпы. В течение трех-четырех столетий здесь была проделана эволюция от первобытности к первым ступеням цивилизации. Полученная археологами информация о сдвиге, который произошел во время, соответствующее третьему и четвертому слоям Эрлитоу, отражает принципиальные изменения в социальной организации раннешанского общества, подошедшего, по-видимому, к этапу создания государственности и формирования новой идеологии.
Открытие и изучение памятников более поздних, чем Эрлитоу, характерных, по мнению китайских археологов, для следующего этапа культурной эволюции племени шан (называемого «чжэнчжоуско-эрлиганским»— по местонахождению памятников), связано с раскопками городища в окрестностях г. Чжэнчжоу (пров. Хэнань). Оно представляло собой крупный ремесленный центр. Открытые в местности Наныуаньвай и в Цзыцзиныпань бронзолитейные мастерские содержали тигли того же типа, что и найденные в Эрлитоу. Обнаруженные в Лу-гунлу гончарные печи весьма близки по конструкции к эрлитоуским. Наряду с этим следует отметить значительный прогресс в литейной технике и других областях. Произошло значительное расширение всего состава шанского культурного комплекса. Середина II тысячелетия до н.э. отмечена появлением целого ряда новых видов бронзовых орудий и оружия. Во внутренние районы Восточной Азии проникают втульчатые наконечники копий и кельты, получившие распространение на обширной территории от Урала до Монголии. Бронзовый инвентарь этого времени пополнился также чеканами, возникшими в Центральной Азии. Совершенствование техники местных мастеров металлообработки особенно отчетливо проявилось в найденных в районе чжэнчжоуского городища комплексах ритуальной бронзовой утвари. Среди них были представлены почти все основные формы древнекитайской утвари, употреблявшейся при жертвоприношениях, в частности котлы на трех ножках типа дин, вазы цзюэ, высокие узкие вазы типа гу, низкие чаши с плоским корпусом и легкой ножкой типа пань, сосуды для вина с широким основанием и округлым корпусом и т.д. Облик их весьма архаичен, они невелики по размерам, скупо украшены геометрическим полурельефным орнаментом. В 1974 г. в районе чжэнчжоуского городища были обнаружены бронзовые сосуды, значительно превосходящие и по своим размерам, и по мастерству исполнения все предыдущие среднешанские находки такого рода. Это круглый и квадратный дины. Высота первого — 100 см, вес —
86 кг, высота второго — 87 см, вес — 64 кг. Их поверхность богато орнаментирована. Такие уникальные находки свидетельствуют, что изготовившие их ремесленники достигли вершины в виртуозном искусстве отливки ритуальной утвари.
На чжэнчжоуском городище обнаружены также остатки дворцово-храмового комплекса. В ходе исследований в 1973 г. была раскопана обширная платформа из утрамбованной земли. Ее протяженность с запада на восток — 300 м, а с севера на юг— 150 м. В ряде мест найдены круглые углубления, представляющие собой следы опорных столбов древних дворцовых или храмовых помещений. Здесь же раскрыт 15-метровый ров, содержавший около сотни черепов принесенных в жертву рабов-военнопленных.
Наряду с находками в пров. Хэнань были сделаны интересные открытия в других районах Китая — на севере и на юге. Одна из черт, характеризовавших развитие местных племен в середине II тысячелетия до н.э., состояла в том, что многие из них достигли уже стадии перехода от племенных союзов к раннегосударственным образованиям. Другая заключалась в распространении далеко за пределами пров. Хэнань целого ряда элементов материальной культуры, однотипных с элементами шанского культурного комплекса. Пример этому — поселение и могильник близ дер. Тайси в уезде Гаочэн пров. Хэбэй. Здесь была найдена бронзовая секира с железным лезвием, открывавшая перспективу обнаружения в этом районе одного из древнейших в Восточной Азии центров металлургии железа. В состав инвентаря наряду с оружием и бронзовыми сосудами, сходными с шанскими, входили и отдельные вещи центральноазиатского облика.
Под Тайси была раскопана группа из 11 жилищ, относящихся к среднешанскому периоду. За исключением одного жилища полуземляночного типа, все остальные— наземные, со стенами, сложенными из блоков утрамбованной земли. Размеры самого большого дома— 14,2 х 4,32 м. Кроме того, были раскопаны 58 погребений, датируемых этим же временем. Ряд погребений содержит яркие свидетельства возникающего имущественного и социального неравенства. В некоторых сопровождающий инвентарь кроме многочисленного бронзового оружия и сосудов содержал изделия из нефрита, обрывки шелковых тканей. Были найдены фрагменты лаковых изделий. В пяти могилах вместе с хозяевами были насильственно погребены их рабы. Черепа рабов были обнаружены также во время раскопок строений, у оснований столбов, в фундаментах стен и в углах домов. Имеется одна дата— 1520 (±160) г. до н.э., полученная в результате ра-диокарбонного анализа образца с местонахождения в Тайси.
Комплексы памятников этого времени открыты также в бассейне р. Янцзы и южнее его. Они были созданы обществами, перешагнувшими, как и шанцы, а также как и насельники раннеклассового поселения в пров. Хэбэй, порог цивилизации. К их числу принадлежит городище Паньлунчэн (в 5 км к северу от г. Уханя). Вокруг городища обнаружены остатки древней стены и рва. На территории городища — платформа из утрамбованной земли, протяженностью с севера на юг 100 м, а с запада на восток— 60 м. Некогда она служила основанием дворцово-храмовому комплексу. Размеры одного здания — 39,8 м с запада на восток и 12,3 м с севера на юг. Стены его, как и в Эрлитоу, покоились на деревян-
20. Эстампаж надписи на ритуальном бронзовом сосуде
Маогун дин (см. рис. 21): «Ван сказал: ...во времена величественных и славных Вэнь[-вана] и Урвана] Великое Небо, широко простирая свою благую силу (дэ), сочло наше владетельное Чжоу достойным принять
Великое Повеление...» Период Западного Чжоу. Правление Сюань-вана (82 7 782 гг. до н.э.)
ном каркасе и состояли из плетеной основы, обмазанной глиной. Здание имело, по-видимому, двухъярусную четырехскатную крышу и было окружено галереей. Подобный метод строительства дворцовых и храмовых помещений в зоне, контролировавшейся шанцами, был уже анахронизмом. В среднешанский период стены начинают строить из блоков утрамбованной земли. Некоторое отставание Паньлунчэна в области строительства искупается достижениями в. области металлообработки. Местные мастера оказываются на уровне чжэнчжоуских и даже опережают их. Набор найденных здесь типов и форм бронзового оружия, орудий труда и утвари, включая такие нововведения, как кельты, находит близкие аналогии в продукции чжэнчжоуского металлургического центра. Некоторые расхождения отмечены в ассортименте бронзовых сосудов. В Паньлунчэне представлены такие формы, как комбинированные котлы янь, предназначенные для приготовления жертвенней пищй на огне и на пару, закрытые винные сосуды и др., которые, как до сак пересчитал ось, были изобретены и введены в обиход только в анъянское время. Сугубо местную керамическую традицию представляют сосуды, изготовленные из белой фарфоровидной массы.
Исследования археологов на городище Паньлунчэн свидетельствуют, что во второй половине II тысячелетия до н.э. (примерно на рубеже XIII—XII вв. до н.э.) укрепленные поселения городского типа появились и в долине р. Янцзы. Вопрос о генезисе раннегородской культуры в пров. Хубэй, сходной со среднешанской, как и вопрос о соотношении и синтезе местных основ и компонентов, принесенных из долины Хуанхэ, не был поставлен китайскими авторами. Они считают это городище плодом экспансии государства Шан. Более реалистичным представляется предположение, что здесь мы имеем дело с одним из центров этнополитической консолидации племен-создателей южнокитайского царства Чу, упоминаемого уже в надписи на сосуде Лян гуй, отлитом в начале X в. до н.э.
В 1973 г. близ г. Цинцзяна (пров. Цзянси) был найден еще один очаг древней культуры, поддерживавший постоянные контакты с чжэнчжоу-эрлиганской зоной, а затем с районом Аньяна. Это поселение у дер. Учэн. Время его существ вования разделяется на три периода. Первый соответствует чжэнчжоу-эрлиган-скому этапу, второй— раннеаньянскому и среднеаньянскому этапу, третий — позднеаньянскому этапу. Наибольшее количество находок обнаружено в слое 2-го периода: основание жилища, гончарная печь, зольники. В последних найден инвентарь бронзолитейного производства: каменные формы из песчаника для отливки топоров и тесел, шлаки, древесный уголь. В слое 3-го периода также обнаружены зольники с каменными формами для отливки оружия. При изучении материалов 1-го периода обнаруживается сходство отдельных видов керамики с керамикой из Эрлигана (вблизи Чжэнчжоу). У местной керамики последующих периодов имеется ряд общих черт с керамикой, найденной в разных слоях сяо-туньского городища. Однако есть достаточно свидетельств самостоятельного происхождения керамической традиции Учэна. Здесь представлены сосуды белого цвета из фарфоровидной массы. Чертами самобытности отмечены обнаруженные в Учэне бронзовые орудия труда и оружие. Значительный интерес вызвало открытие в слоях первого, второго и третьего периодов памятников местной письменности. В ходе раскопок обнаружены глиняные сосуды и литейные формы,
21. Ритуальный сосуд Маогун дин с надписью на днище. Бронза.
Период Западного Чжоу. Правление Сюань-вана (82 7 782 гг. до н.э.)
22. Раннешанское строение дворцово-храмового типа (реконструкция).
Эрлитоу. Ок. г. Лояна. Хэнань. Первая половина 11 тыс. до н.э.
на поверхности которых вырезаны как целые надписи, состоящие из 4, 5, 7 и 12 определенных письменных знаков, так и отдельные знаки. Всего обнаружено 66 знаков на 38 предметах. Письмо из Учэна носило, по-видимому, логографический характер и представляло собой начальную фазу письменной культуры, как и гадательные надписи Сяотуня. О контактах учэнской и шанской письменных традиций свидетельствует идентичность большого числа логограмм. Значительную сложность представляет вопрос об этнической принадлежности тех племен, которые во второй половине II тысячелетия до н.э. были изобретателями письменности на юге Китая. Наиболее вероятным представляется мнение, что поселение Учэн — памятник материальной и духовной культуры племен юэ, создателей царства Юэ.
Таким образом, в результате открытий последних десятилетий науке стали известны поселения городского типа, относящиеся к раннешанскому и среднешанскому времени, причем не только в долине р. Хуанхэ, но и в долине р. Янцзы. В ряде мест обнаружены развалины обширных многокомнатных построек, стоявших на больших платформах. Восстановление внешнего облика и планировки таких построек дает основание утверждать, что по своему назначению они являлись храмово-дворцовыми комплексами и резиденциями правителей. Это обстоятельство можно рассматривать как один из важнейших признаков формирующейся государственности. С другой стороны, осуществленный исследователями анализ ряда характеристик погребальных памятников, таких, в частности, как размеры и конструкция могил, количество и качество погребального инвентаря, погребальный ритуал и расположение могильников, наличие сопогребен-ных и принесенных в жертву рабов, указывает на далеко зашедшую трансформацию общественных структур, связанную с перерастанием имущественного неравенства в неравенство социальное. В свете этих наблюдений представляется правомерным рассматривать перечисленные городища и поселения как политические и торгово-ремесленные центры раннегосударственных образований, возникших во второй половине II тысячелетия до н.э. в бассейнах рек Хуанхэ и Янцзы.
Процесс становления однотипной культуры на огромной территории, занятой этими образованиями, был чрезвычайно сложен и отнюдь не ограничивался распространением влияния с севера на юг. Южные области, в свою очередь, оказывали, по-видимому, активное воздействие на шанское общество. Важнейшая сторона этого процесса состояла в постоянных культурно-хозяйственных связях между центрами объединений, проявлявшихся в различных формах обмена, взаимодействий и взаимовлияний.
К северу и к западу от хэнаньского очага племени шан на протяжении II тысячелетия до н.э. также создавались многочисленные центры консолидации других родственных им племен эпохи бронзы, которые активно воспринимали культуру Шан. Это видно на примере поселения и могильника Тайси. В то же время, располагаясь на землях, прилегавших к центральноазиатскому региону, они постоянно вступали в контакты с племенами Центральной Азии, что нашло отражение в их материальной культуре. Так, кроме упомянутых уже вещей центральноазиатского облика аналогичные находки были сделаны близ г. Суйдэ (пров. Шэнь
си) и г. Баодэ (пров. Шаньси). Здесь в составе двух кладов бронзовых вещей шанского типа имелись также большой нож с изогнутым клинком и навершием с изображением зверя на черенке, кинжал с бубенчиковым навершием и вертикальной петелькой под ним. Самая северная находка, по-видимому датируемая второй половиной II тысячелетия до н.э., — это клад бронзовых вещей из Чао-даогоу (на территории пров. Хэбэй) центральноазиатского типа, который содержал нож и кинжал с навершиями в виде головы животного с рогами, нож с бубенчиковым навершием, проушной топор и чекан. Во всех этих находках отразились контакты с племенами-создателями центральноазиатских очагов металлургии бронзы, интенсивность которых возрастала по мере приближения к границам центральноазиатского региона.
Период Шан-Инь
Главным источником, на основании которого современные исследователи реконструируют историю раннегосударственного объединения Шан в периоды его зрелости и заката (XIII-XI вв. до н.э.), являются материалы, обнаруженные на городище близ дер. Сяотунь. В самом конце XIX в. здесь начались грабительские раскопки торговцев древностями. В результате огромное количество костей, на которых, как вскоре было установлено, записывались гадательные формулы шанского оракула, оказалось в частных и государственных коллекциях, рассеянных по всему миру. К началу 20-х годов XX в., после появления трудов Ло Чжэньюя и Ван Говэя, стало очевидным огромное значение гадательных надписей как уникального исторического источника для эпохи Шан, о которой сохранилось ничтожно мало исторических данных, дошедших к тому же в весьма поздней передаче. Поэтому с 1928 по 1937 г., а затем ряд лет начиная с 1950 г. на сяотуньском городище и на расположенных поблизости могильниках проводились планомерные раскопки, давшие значительные результаты.
На протяжении первого тура раскопок был исследован ряд специально устроенных ям, содержавших архивы гадателей. В этих ямах, а также в других местах сяотуньского городища найдено 24 918 целых и фрагментированных щитков черепах и лопаток крупных домашних животных, покрытых надписями. Находки полных гадательных текстов дали возможность воссоздать картину гадательного ритуала, помогли в расшифровке гадательных формул и в датировке надписей. В процессе гадания на внутренней стороне черепашьих щитков и на бычьих лопатках обычно делали глубокие углубления и вводили в них раскаленный металлический стержень, отчего на другой стороне возникали трещины. Истолкование этих трещин и составляло, предмет гадания.
На том месте, где от основной трещины отходила боковая, писцы по приказанию гадателей писали красной или черной краской, а затем вырезали элементы гадательной формулы. Она обычно включала упоминание дня гадания, обозначенного сочетанием двух циклических знаков, имя гадателя, содержание вопроса и ответ оракула, иногда краткие сведения о том, сбылось ли предсказание. В некоторых случаях гадательная формула сопровождалась и упоминанием месяца
гадания. Материалы сяотуньского оракула показали, что официальные специалисты по скапулимантии пытались узнать мнение божества по поводу жертвоприношений, военных походов и охотничьих экспедиций, о начале сельскохозяйственных работ, о видах на урожай, о дожде, ветре и снеге, о приезде представителей подвластных племен, о затмениях солнца, луны и т.д. Этот перечень свидетельствует, что гадательные тексты, если их обрабатывать с помощью специальной методики, могут дать много ценных сведений о шанской идеологии, государственно-административной организации, социальной структуре и т.д.
Не меньшее значение имеют другие открытия археологов. Уже во время первого тура раскопок в районе Аньяна ученым стало ясно, что развалины в излучине р. Хуань близ дер. Сяотунь были некогда столицей шанцев. В юго-восточной части городища было раскопано 56 построенных из утрамбованной земли оснований храмовых и дворцовых построек. Самая крупная из обнаруженных платформ достигала 85 м в длину и 14,5 м в ширину. На поверхности платформ сохранились каменные опоры и следы столбов. При строительстве дворцовых и храмовых зданий поверх этих опор иногда укладывали бронзовые вогнутые диски диаметром 20 см. Археологи полагают, что покоившиеся на опорах деревянные столбы поддерживали стены из блоков утрамбованного лесса и двускатные тростниковые крыши. Исследованные строения были расположены тремя распланированными группами. Вокруг комплексов дворцовых и храмовых фундаментов раскопаны многочисленные землянки и полуземлянки, использовавшиеся для жилья обслуживающего персонала, для хранения припасов, в качестве производственных помещений. Обнаружены здесь и следы дренажных сооружений. Раскопаны многочисленные остатки различных ремесленных мастерских.
В 1960-1961 гг. производились исследования металлургического центра в Мяопубэй, где были найдены жилища ремесленников, обломки глиняных тиглей, форм для литья и погребения с набором литейного инвентаря. В 1958-1959 и 1971-1973 гг. были раскопаны участки в южной части городища, раскрыт ряд фундаментов древних строений и расчищены многочисленные зольники шанского времени. В культурном слое обнаружено большое количество гадательных костей — 60 фрагментов щитков черепах и 4761 фрагмент бычьих лопаток, покрытых надписями.
Вокруг Сяотуня найдено несколько могильников шанского времени. Особый интерес представляют раскопанные близ Сибэйгана гробницы представителей правящего рода Шан. Огромное количество оружия, ритуальной утвари, украшений найдено здесь как в центральных погребальных камерах, достигавших глубины 12-13 м, так и в окружавших их специальных рвах и ямах. Последние предназначались для погребения колесниц и лошадей, а также для многочисленных слуг и воинов, сопровождавших шанского правителя в загробный мир. По подсчетам одного из участников раскопок в Сибэйгане, общее количество убитых и погребенных здесь воинов достигало 1000 человек. Кроме того, вокруг 10 царских гробниц было обнаружено множество индивидуальных захоронений, содержавших богатые наборы погребального инвентаря. По мнению археологов, эти могилы принадлежали тем сановникам из ближайшего окружения шанских ванов, которые входили в посмертную свиту своих повелителей. В ямах были
погребены останки принесенных в жертву рабов. В одних случаях — только головы, в других — обезглавленные тела.
В течение последних десятилетий сделаны новые открытия. Еще в 1950 г. близ дер. Угуаньцунь была раскопана гробница вана. В 1976 г. в 100 м к северо-западу от Сяотуня было открыто большое женское погребение, содержавшее бронзовую утварь с именем и посмертным храмовым титулом умершей. Оказалось, что погребение принадлежало жене вана У Дина. Найденные в нем вещи практически современны вещам из гробницы в Угуаньцуне, что позволяет датировать ее первым периодом заселения шанцами района Сяотуня. Близ Угуаньцу-ня в 1976 г. был раскрыт также большой участок около царских погребений, где раскопана 191 жертвенная яма с 1178 убитыми рабами.
Результаты раскопок шанских памятников в районе Аньяна свидетельствуют о стремительном качественном и количественном прогрессе материальной культуры. Анализ современных археологических данных, позволяющих проследить историю развития металлургии бронзы на протяжении многих столетий, подтверждает, что в аньянское время в результате совершенствования технологии литья, улучшения литейных тиглей и форм технические возможности этого ведущего элемента производительных сил эпохи Шан необычайно возросли. В связи с этим как в ассортименте, так и во всем облике бронзовых изделий этого периода произошли серьезные изменения. В большом количестве появились совершенно новые ритуальные сосуды необычайно усложненных, причудливых форм: огромные прямоугольные сосуды на четырех ножках, украшенные реалистическими изображениями зверей, сосуды для вина в виде тигра, слона, носорога, буйвола, совы и мифических животных. В аньянское время появились колесницы и возникла целая отрасль ремесленного производства по изготовлению бронзовых деталей колесничного снаряжения. Получили распространение новые типы и виды оружия, массовым стало производство бронзовых шлемов. О том, сколь велики были технические возможности металлургии бронзы в позднешанское время, свидетельствует изготовление шанскими литейщиками огромного прямоугольного сосуда Сыму У дин весом в 875 кг, найденного в 1939 г. в могильнике Угуаньцунь. По мнению современных специалистов, при его отливке одновременно было использовано около 80 литейных тиглей позднешанского типа. Следует заметить, что сопоставление химического состава полученного с их помощью сплава (84,77% Си, 11,64% Sn, 2,79% Pb) с составом чжэнчжоуской бронзы (91,29% Си, 7,11% Sn, 1,12% Pb) свидетельствует о характерном возрастании процентного содержания олова.
Присущий аньянскому периоду расцвет металлургии бронзы и увеличение ассортимента изделий шанских литейщиков сопровождались распространением вещей позднешанского типа на землях соседних племен и этнополитических объединений. С другой стороны, расширение влияния шанского государства выразилось в росте его контактов с внешним миром. Происходящие из Центральной Азии ножи с навершием в виде головы зверя найдены в погребениях района Аньяна, а в позднешанском могильнике близ дер. Синцунь в уезде Цзюньсянь пров. Хэнань открыты проушной топор и клевец центральноазиатского типа.
Внутри серии черепов, происходящих из царского могильника в Сибэйгане, существуют серьезные различия, отмеченные исследовавшими ее антропологами. Причина заключается в том, что в эту серию входили черепа из жертвенных ям. Вследствие этого наряду с черепами, относившимися к местным монголоидам северокитайского типа, в ней оказались черепа континентальных и южных монголоидов. Они, очевидно, принадлежали пленным, захваченным в одних случаях во время столкновений на севере и северо-западе, в зоне контактов с центральноазиатскими племенами, в других — на юге, где проживало прото-малайское население.
Очевидно, как результат мирных торговых обменов или как военная добыча в войнах на севере и на северо-западе в долине Хуанхэ появляются боевые колесницы. Они найдены сейчас в районе Аньяна в особых ямах позднешанского времени, связанных с погребениями знати. Колесницы этого времени были открыты в 1953 г. близ дер. Дасыкунцунь, в 1958, 1959 и 1972 гг. — близ дер. Сяо-миньтунь. Сравнение отпечатков от сгнивших деревянных конструкций колесниц показывает, что все они представляли собой запряженную парой лошадей повозку с открытым кузовом, расположенным над соединением дышла с осью колес. Весьма важно то, что их колеса состояли из обода, опиравшегося на 22 круглые спицы. Исследователи, многократно обращавшиеся к вопросу о происхождении позднешанских колесниц, отмечали, что по своим конструктивным особенностям и по форме упряжи они напоминают аналогичные находки, сделанные в других районах Азии. Аньянские колесницы были сопоставлены с колесницами из курганов конца II тысячелетия до н.э. на берету оз. Севан. Повозки того же типа, что и аньянские, с тонкими и прочными колесами, обладающими большим числом спиц, открыты в погребениях середины II тысячелетия до н.э. близ Синташта в районе г. Челябинска. В горах Монголии обнаружены многочисленные древние наскальные рисунки, изображающие колесницы, которые также напоминают аньянские находки. Появление колесниц и лошадей в долине Хуанхэ представляется закономерным следствием расширения внешнеполитических контактов государства Шан. Сам по себе этот факт не давал повода для далеко идущих предположений. Тем не менее им воспользовались некоторые западные историки и высказали мнение, что импульсом, вызвавшим к жизни высокоразвитую шанскую культуру аньянского периода, было завоевание долины Хуанхэ воинственными племенами, сражавшимися на боевых колесницах.
Подобное объяснение прогрессивных перемен в культуре шанцев было продиктовано не содержанием и характером фактического материала, а стремлением следовать за стереотипной фетишизацией момента завоевания, рассматриваемого как необходимая предпосылка создания цивилизации и оформления государственности.
В свете современных данных, основанных на наблюдениях за развитием шанцев и родственных им племен на протяжении периодов Эрлитоу и Чжэн-чжоу-Эрлиган, их культура предстает как результат эволюции местных достижений, обогащенных постоянными связями и непосредственными контактами с племенами на юге и на севере Восточной Азии. Искусство шанских литейщиков аньянского времени, овладевших новыми технологическими приемами, до-
23. Ритуальный сосуд для вина с изображением мифологических сцен. Бронза, инкрустированная серебром. Период Чунъцю-Чжаньго.
Середина I тыс. до н.э.
ведших до совершенства технику литья в разборных глиняных формах, освоивших производство большого числа новых видов и типов бронзовых изделий, было закономерным следствием предыдущего развития металлургии бронзы в долине Хуанхэ. В основе таких отраслей материального производства шанской эпохи, как строительство, камнерезное и косторезное ремесло, изготовление глиняной посуды, достигших расцвета в аньянский период, лежали навыки и традиции, сложившиеся здесь еще в эпоху энеолита.
Земледелие, основа основ шанской экономики, являлось также прямым наследником автохтонной протокитайской культуры. По-прежнему главным сельскохозяйственным растением было просо. Однако гадательные надписи упоминают и участки, засеянные пшеницей. Одно из названий злаков, встречающееся в гадательных текстах, связанных с земледелием, вызывает споры среди эпиграфистов. Речь идет об упоминании в гадательных надписях растения дао. Некоторые исследователи полагают, что это один из видов проса, иные отождествляют его с соей. Чжан Гуанчжи склонен видеть в нем свидетельство знакомства шанцев с рисом. Шанцы обрабатывали землю мотыгообразными и заступообразными орудиями, изготовлявшимися из дерева и камня. Что касается найденных в небольшом количестве на средне- и позднешанских памятниках бронзовых лопат, то распространенность такого рода орудий, а также возможность применения их в земледелии вызывают серьезные сомнения. В качестве жатвенных орудий использовали заостренные каменные серпы, вложенные в деревянную основу. Кроме свиней и собак, одомашненных еще в неолите, шанцы разводили буйволов, лошадей, овец. Ни в археологических материалах эпохи Шан, ни в гадательных надписях не обнаружено пока что признаков строительства каких-либо ирригационных сооружений.
Важнейшим элементом шанской цивилизации, возникшим в связи с углублением общественного разделения труда, были города. На севере Восточной Азии зародыши поселений городского типа, как уже говорилось, появились еще в энеолите, но подлинные города, ставшие религиозно-политическими, административными и торгово-ремесленными центрами, выросли лишь в эпоху Шан. Они были форпостами социально-экономического развития шанского общества, в них в первую очередь проявлялись перемены в его структуре, его образе жизни, его культуре и психологии. Изучение архитектурного строительства в шанских городах, в ходе которого были открыты комплексы заранее спланированных обширных дворцовых и храмовых сооружений, а также сложных по конструкции гробниц, выявило ряд бесспорных признаков становления централизованной государственности и развитой религии. При раскопках городов были получены данные, характеризующие высокий уровень шанской культуры и искусства. Из городов происходят письменные памятники— надписи на гадательных костях, которые служат основным источником реконструкции истории шанского общества.
Содержание понятия «город» необычайно многолико. Оно включает в себя и те социально-экономические функции, которые город выполняет в развитии общества, и специальный состав городского населения, и культурный облик города, и его роль в общественной идеологии. Символизация и сакрализация категории «город» обнаруживаются в идеологических системах разных стран мира,
в том числе и в древнем Китае. Социально-экономическим фоном этого явления служит то, что город отделяет одну часть населения — «горожан» от другой — «жителей деревни», что вполне закономерно в условиях, пока производительные силы общества не могут быть распределены равномерно. Отсюда неизбежное выделение центров, как бы возвышающихся над остальным обществом. Это оказывает наиболее сильное воздействие на совокупность представлений о мире, складывающихся у того или иного древнего коллектива, которая в содержательном плане может быть определена как его культура.
Данные различных древнекитайских текстов дают некоторый материал для восстановления отдельных черт культурного контекста древнекитайского города, в котором тот существовал, дают некоторое, порой весьма слабое, основание восстановить то значение, которое придавалось городу носителями древнекитайской культуры. В таких ранних письменных памятниках, как песенно-поэтические тексты «Шицзина» и надписи на ритуальных бронзовых сосудах, которые сохраняют официальные манифесты первых чжоуских правителей-ванов, содержатся данные о символизации и сакрализации города как единого целого и всей городской материально-пространственной среды. В этих памятниках отразилось восприятие города как определенного рода знаковой системы, элементами которой служит город в целом, его стены, отдельные постройки — кварталы, улицы, весь способ организации городского пространства. Их данные дают возможность в какой-то мере судить, какое значение придавалось древними самому городу, тем или иным элементам городской пространственной структуры.
Архаический китайский город характеризовался атрибутами, связанными с символикой центра и середины. Для шанцев, создателей первой городской цивилизации древнего Китая, было характерно представление, что средоточием мира людей была территория, населенная шанцами, а центром ее был «Великий город Шан» или Чжуншан — «Шан, находящийся в центре». Опыт изучения мифологических систем свидетельствует, что положение в центре обеспечивало городу, по убеждению древних, особую позицию внутри мифического времени, ибо именно в середине начинался процесс творения. Город выступал здесь как модель времени творения, того времени, когда закладывались все обычаи, нормы и т.д., задавался порядок, следование которому в дальнейшем есть единственное условие существования общества. Связь между строительством города и устроением социума, а следовательно, по присущему мифологическому мышлению изоморфизму, и устроением всего космоса, весьма отчетливо выступает в раннечжоу-ских манифестах, сохранившихся в надписях на ритуальных бронзовых сосудах.
Среди значений, придававшихся городу носителями древнекитайской культуры, особо надлежит выделить его осмысление как медиатора и комплекса медиаторов, а также связанное с этим функционирование его в качестве пластической модели космоса. Формирующиеся на этапе сложения городских цивилизаций образцы верования и ценности, с помощью которых осуществляется социальная регуляция, оказываются связанными с описанным в мифах пространством-временем, населенным предками, героями и божествами. В какой-то момент эволюции члены того или иного архаического коллектива возносят этот источник порядка над землей, помещают его на небесах. Поскольку в земной жизни надле-
жит постоянно соотноситься со священными образцами, возникает потребность в точках соприкосновения, в местах, где небеса встречаются с землей, где происходит передача небесной санкции земным делам.
Первоначально медиаторами выступали природные предметы, одинаково принадлежавшие земле и небу, — высокие деревья, холмы, горы и т.д. С течением времени наряду с сакрализацией природных точек и предметов начинается сакрализация и создание искусственных медиаторов. В ранних древнекитайских описаниях находящийся в центре Поднебесной город выступает как комплекс медиаторов, который состоит из множества элементов, самостоятельно выполняющих функции посредника. В «Люйши чуньцю» сказано: «Древние ваны определяли центр Поднебесной, всего, что под Небом, и воздвигали дворец, определяли центр дворца и воздвигали храм». Поскольку в этой схеме город и храм, находящийся в городе, оказываются в центре Поднебесной или мира и небо как бы вращается вокруг него, он есть срединная точка неба и земли. Такое положение города говорит о его посреднической, передающей функции. Здесь, по мнению древних, проходила ось мира, соединяющая разные зоны мифологической вселенной и выполняющая посредническую функцию.
Тексты свидетельствуют, что строительство фокуса городской пространственно-планировочной среды, ядра города, представлявшего храмово-дворцовый комплекс, было привязано к особым медиативным точкам ландшафта. В трактате «Моцзы» сказано: «Когда священномудрые ваны трех эпох начинали созидать столицу, воздвигать главный город, то непременно избирали центральный холм с жертвенником для строительства храма предков, непременно избирали дерево с самой пышной и густой кроной для воздвижения [рядом с ним] алтаря». Очевидно, что именно посредническая функция требовала сооружения городского храма с таким расчетом, чтобы он занимал пространственно и ландшафтно выделенную позицию. Описанный в данном тексте выбор места с холмом в центре города и с деревом недвусмысленно свидетельствует об этом.
Вообще факт строительства города, с современной точки зрения вызванный социально-экономическими потребностями, по-видимому, воспринимался древними как особый акт создания окультуренного, очеловеченного пространства, как момент доместикации мира, вначале хаотического, превращающегося в ходе строительства города в символически упорядоченный и подвластный человеку, в момент создания сферы вполне очеловеченного микрокосма, установления порядка в какой-то части пространства. В таком контексте становится понятной форма и содержание ранних древнекитайских известий о строительстве городов. Такого, например, как в оде, адресованной шэньскому владетелю в «Шицзине»:
В Сэ началися для князя работы. Князю из Шао тут было заботы. Прежде воздвиг он вкруг города вал, И храм с пристройками после создал.
Почему строительство города связывалось здесь, во-первых, с возведением стены или защитного вала, а во-вторых, с сооружением храма? Стена должна была создать рамки социальной жизни, отграничить зону упорядоченного про
странства, а храм был символом контролируемого космоса. С помощью этих реальных и одновременно символических актов, под воздействием представлений о центральности, срединности город интегрировался в устройство вселенной.
Древнекитайские города выполняли роль космического отражения Вселенной, их пространственная структура копировала архаические представления о строении космоса. Происходило своего рода включение мира в границы города: солнце всходило на его востоке и садилось на его западе на равных расстояниях. В космогонических теориях древний Китай находился в центре Вселенной и занимал территорию в форме квадрата, поэтому и города, особенно поздне-чжоуского времени, имели форму прямоугольника, приближающегося к квадрату, в плане ориентированного по сторонам света. Главные сооружения размещались на центральной оси юг-север, В качестве примера можно упомянуть и старый Пекин с императорским дворцом в центре: вход его ориентирован на юг, город имеет строго геометрическую прямоугольную планировку.
Связь древнекитайского города с космологическими представлениями можно рассматривать и с точки зрения человеческой способности к символизации. Архаическому сознанию свойственно убеждение, что символ господствует над объектом, что вещь существует лишь тогда, когда она названа, что обладание символом объекта дает власть воздействовать на него. Связь, устанавливаемая, например, между восточными воротами древнекитайского города и географическим Востоком, есть нормальная связь символа и его объекта. Следовательно, основное назначение города как комплекса космических символов сводилось к тому, чтобы придавать Вселенной упорядоченный образ, вводить в ней порядок через свойственные городу геометризм и меру. В устройстве города отражалось стремление магическими средствами поддерживать существующий природный и социальный порядок. Древнекитайский город дает прекрасный пример свойственного архаическому сознанию пересечения пространственных и временных представлений: так, северные ворота означали не только север, но и зиму, восточные — не только восток, но и весну. Накладывающиеся и пересекающиеся отношения оппозиции и синонимии, задающие структуру картине мира, проявляются в городской символике в том, что части Вселенной и части города соответствовали определенным качествам, природным стихиям, цветовым классификаторам и т.д. Так, например, город попадал в один вертикальный ряд с землей, серединой, урожаем, желтым цветом и вкусовым классификатором — сладкий. Подобное мировоззрение — остаток тех времен, когда мифология рассматривала все бытие — природное и социальное, все проявления его как единое целое.
Социально-экономическая и общественно-политическая структура шанского общества
Согласно чжоуской исторической традиции, правителем, открывшим поздний период истории шанцев, был Пань Гэн. С ним связывали перенос столицы государства в местность, называвшуюся Инь. По свидетельству одного из фрагментов утраченной позднечжоуской летописи «Погодовые записи на бамбуковых
планках» (Чжушу цзинянъ), «Пань Гэн... перенес [столицу] из Янь в Бэймэн, который стал называться Инь». В чжоуских эпиграфических и литературных памятниках этот топоним стал главным обозначением страны Шан и, возможно, самоназванием ее народа. В найденных в 1977 г. близ г. Сианя гадательных текстах владыку этого государства называли ваном (господином) Инь. Судя по надписям на гадательных костях, обнаруженных под Сианем, здесь было место проведения обряда гадания представителями «иньского вана», что может свидетельствовать в пользу того, что в то время этот район (возможно, заселенный чжоу-сцами) находился под контролем шанских ванов. Однако в текстах, составленных писцами сяотуньского оракула, нет упоминаний столичного города Инь. Здесь ему даются описательные названия: Да и Шан, или «Великое поселение Шан», Тянь и Шан, или «Небесное поселение Шан». Территория, сосредоточенная около столицы, в гадательных текстах называется Чжун шан, или «Территория шанцев, расположенная в центре». Вокруг лежали так называемые «земли» (фан), именовавшиеся по странам света. Вся эта обширная область, состоявшая из центра и четырех окрестных «земель», в гадательных текстах выступает как объект вопросов о видах на урожай. Она и составляла, по-видимому, ту зону, где осуществлялся непосредственный контроль шанских властей.
Единственным источником, который, на наш взгляд, дает возможность достаточно адекватной реконструкции ряда аспектов истории позднешанского общества, являются гадательные тексты. Однако их датировка связана со значительными трудностями, так как в них нет упоминаний имен живых правителей. К счастью, в весьма поздней передаче сохранился полный генеалогический перечень всех шанских ванов — а именно в «Записях историографа» Сыма Цяня (145-88 гг. до н.э.). Он, безусловно, достоверен, так как в большинстве случаев находит подтверждение в данных гадательных текстов, упоминающих всех шанских правителей исторического времени и длинный ряд их предков. В основе хронологизации и периодизации гадательных текстов лежит анализ ряда особенностей гадательных формул. Так, по характеру ритуализации имен умерших предков, встречающихся в отдельных текстах, можно установить, при каком из позднешанских ванов было совершено данное гадание. А систематизация имен гадателей и наблюдения над эволюцией письма позволили ученым выделить среди известных науке гадательных текстов пять обширных комплексов, каждый из которых относится к определенному периоду. К первому принадлежат гадательные тексты, составленные при У Дине, ко второму— при Цзу Гэне и Цзу Цзя, к третьему — при Линь Сине и Кан Дине, к четвертому — при У И и Вэнь Дине, к пятому— при Ди И и Ди Сине. Таким образом, сумма годов правлений этих девяти ванов образует время активности аньянского оракула и расцвета позднешанской культуры. Хронологически оно соответствует периоду между XIII и XI вв. до н.э. Ни одна из существующих ныне хронологий эпохи Шан-Инь, берущих за основу 1122 или 1028 г. до н.э., которыми Лю Синь (жил в конце I в. до н.э. — начале I в. н.э.) и «Погодовые записи на бамбуковых планках» датировали гибель этой династии и победу Чжоу, не могут быть признаны научными и приняты в расчет в современных исследованиях. Лю Синь, исходивший из упоминания о положении планеты Юпитер в момент решающей битвы чжоусцев с шан
цами, оперировал фантастическими календарными расчетами и астрономическими данными эпохи Хань. «Погодовые записи» использовали также позднейшие вычисления, относившиеся к периоду Чжаньго. Неоднократные попытки установить абсолютные даты для позднешанского времени с помощью идентификации лунных затмений, упоминаемых в надписях на гадательных костях, пока что нельзя признать успешными. Они исходят из допущений, что надписи хранят память о ряде реальных астрономических явлений, а не о сфабрикованных знамениях, что в употреблявшийся в позднешанское время шестидесятидневный цикл не вкрадывались ошибки и искажения и т.д., подрывающие веру в надежность полученных данных1.
Другой особенностью многих гадательных текстов, значительно снижающей их ценность как источника, является то, что они регистрируют лишь обращение шанского правителя к божеству и ответы оракула о возможных результатах тех действий, которые шанцы собираются предпринять. В некоторых случаях записывались и ответы о результатах действий, предпринятых в итоге гадания. Специфичность источника крайне осложняет процедуру извлечения сведений, необходимых для выработки рабочей модели того или иного элемента позднешанских политических и социальных структур. Очевидно, что преодолеть «субъективность» гадательных текстов и превратить информативные части гадательных формул в объективные известия невозможно без предварительного обзора некоторых основных особенностей религиозных представлений шанцев. Это обстоятельство делает необходимым, чтобы воссозданию важнейших черт позднешанской государственности, связанной с нею территориально-административной организации, методов управления и т.д. было предпослано описание позднешанской концепции божеств и их атрибутов, а также всей структуры организованного поклонения «высшим силам».
В пантеоне шанцев сочетались одушевленные явления и объекты природного мира с духами предков. Одному из богов присвоены были функции верховного распорядителя космоса и устроителя божественного и человеческого планов бытия. Известный по гадательным текстам как Шанди, он был первым в ряду тех высших сверхъестественных существ, которых шанцы обозначали термином ди. Основным и наиболее последовательно проводимым в гадательных текстах атрибутом Шанди было господство над божествами небесной сферы: над восточной и западной матерями, которых отождествляют с солнцем и луной, над божествами облаков, ветра, дождя, снега и над земными божествами, ведавшими сторонами света, горами, потоками, а также предками правящего рода. В то же время Шанди мыслился как центр космоса. По четырем направлениям располагали его периферию, управлявшуюся четырьмя фанами, божествами четырех главных сторон горизонта.
Надо сказать, что ориентированность пространства согласно пяти кардинальным точкам составляла существеннейшую черту структуры мира шанских богов.
1 Сейчас наука располагает тремя датированными с помощью радиокарбонного анализа образцами: из гробницы в Угуаньцуне—1255 (±160) г. дон.э.; из слоя в западной части Сяотуня — 1290 (±105) г. до н.э.; из погребения в Сяоминьтуне—1005 (±105) г. дон.э., которые позволяют уточнить общие черты хронологической ориентации позднешанского периода.
В гадательных текстах владевшие четырьмя сторонами света фаны иногда выступают как властители четырех ветров, игравших столь существенную роль в жизни древних земледельцев.
Согласно шанской религиозной доктрине, Шанди управлял, или, как сказано в гадательных текстах, «отдавал приказания» всем природным стихиям, его воля постоянно проявлялась в человеческих делах, но он был слишком далек от мира людей, и последние не смели прямо обращаться к нему со своими будничными просьбами. Но они могли вступать в контакт с нескончаемым рядом обоготворенных предков правителя, через них передавать Шанди просьбы о ниспослании дождя или мольбы об урожае, просить у них совета, призывать их на помощь. В качестве главнейших посредников между человеческим и сакральным планами бытия люди Шан выделяли группу мифических первопредков правящего рода. В легендарной части родословий шанских ванов они занимали место у самых истоков генеалогического ряда. Древние соединяли в этих сверхъестественных существах черты человеческих предков и природных божеств. В гадательных текстах они чаще всего принимали облик водного потока и горной вершины. Сожжение предназначенных им жертвоприношений указывает, по мнению исследователей, на то, что древние причисляли их к разряду небожителей, единых по своей природе с Шанди. Близость первопредков к Шанди, а также то, что древние видели в них, по-видимому, управителей воды и облаков, объясняет, почему к ним в некоторых случаях обращались как к подателям дождя и урожая. Проявившаяся в гадательных текстах тенденция к взаимному сближению всех обитателей небесной и земной сфер нашла отражение в позднейших генеалогических легендах, известных в чжоуских версиях, где Шанди сливается с мифическими первопредками и превращается в прямого родоначальника шанцев. Отразившиеся в позднешанской религиозной практике процессы совмещения природных божеств с духами предков привели к возникновению представлений о том, что их функции в мире людей в основном совпадали. Однако в некоторых случаях участие духов предков в человеческих делах носило более сокровенный характер и описывалось в специфических терминах. Так, только духам предков приписывалась способность «пестовать», «оберегать» правителя, его поля и урожай проса.
Духи предков, обладавшие, согласно верованиям шанцев, способностью проникать в обитель Шанди и «гостить» у него, служили как бы связующим звеном между миром богов и миром людей. В гадательных текстах сохранились следы представлений о том, что каждый шанский правитель в период своего земного существования через цепь воплощений был неразрывно связан со всей линией своих генеалогических предков. Особая позиция духов предков правителя подчеркивалась тем, что только им, в отличие от богов природного космоса, приносили в жертву, носившую характер таинства приобщения, домашних животных и людей. В распоряжении современной науки пока что нет данных о присутствии нравственного элемента в религиозных представлениях шанцев. Гадательные тексты не содержат указаний на то, что благосклонность высших сил зависела от личных добродетелей правителя или его приближенных.
В гадательных текстах отразилось убеждение шанцев в том, что мир людей был земным аналогом, земной реализацией мира богов. Средоточием мира людей считали населенную шанцами территорию Чжуншан или Шан, персонифицировавшуюся в личности правителя, который носил титул ван и пребывал, согласно религиозной доктрине, в сакральном единстве с кланом обоготворенных предков.
Существенный элемент картины мира составляла окружавшая центр Шан периферия, которая, как и в мире богов, была ориентирована по четырем главным сторонам горизонта и состояла из четырех «земель», или четырех фанов,— «стран света». Дальнейшая детализация этой картины мира, как свидетельствуют гадательные тексты, была следствием слияния полуфантастической систематиза-торской схемы с постоянно расширявшимся реально-географическим кругозором шанцев. На пространстве, занятом «странами света», древние помещали группы малых фанов, представлявших собой как описательно-классификационные единицы (Лунфан — «страна дракона», Юйфан — «страна возниц», Мафан — «страна лошадей»), так и подлинные этнополитические образования — Цюнфан, Цянфан, Цзифан, Туфан, Жэньфан и т.д. Употребление во всех этих случаях термина фан служило лишь указанием на то, что речь идет о районах, составлявших дальнюю и обычно враждебную периферию шанского мира. Очевидно, что термин фан не имел никакого отношения к структуре тех реальных этнополитических образований, в названия которых он был введен шанцами, и поэтому предложенное некоторыми исследователями толкование его как обозначение рода или племени кажется неправомерным.
Схема сложившейся в шанское время модели мира проявлялась в известных по гадательным текстам элементах реальной территориально-административной организации самих шанских земель. Здесь низшей единицей территориальных объединений было и — «поселение». Нет данных об общем числе их в шанских землях. Сохранилась, однако, запись гадания— «В день игуй... не разрушат ли сорок поселений?»,— которая свидетельствует, что количество таких единиц исчислялось десятками. Столица шанцев была центром, вокруг которого располагались четыре периферийные области — би, обозначенные по четырем главным сторонам горизонта. Это утверждение можно проиллюстрировать рядом гадательных текстов: «Гадание в день цзисы, гадатель спросил, приказать ли X2 быть в южном би», «Дайфан напало на двадцать поселений [западного] би, в день гэнъинъ дождь пришел с юга». Следует сказать, что присущее мышлению шанцев стремление к иерархическому членению ойкумены на центр и периферию, к ориентации ее элементов по пяти кардинальным точкам нашло широкое отражение в шанской географической номенклатуре.
Ареал распространения шанских владений занимал земли пров. Хэнань. За его пределами, между собственно землями Шан и поясом фанов, трактовавшимся в гадательных текстах обычно как враждебная сила и источник тревог, лежал ряд областей, над которыми шанские ваны осуществляли прямой или косвенный административный контроль.
2 Латинскими буквами (X и др.) обозначаются не поддающиеся дешифровке иероглифы, относящиеся к именам собственным и географическим названиям.
Все эти области, а также целый ряд местностей с шанским населением современные исследователи склонны рассматривать как территории «родовых коллективов», их начальников при этом считают «главами родов». Несомненно, что некоторые из числа топонимов, ставших известными в шанское время, были теснейшим образом связаны с жизнью определенных кровнородственных объединений. Так, среди иньских (шанских) кланов, упоминаемых чжоускими историографами, есть клан Сяо. В свою очередь, в гадательных текстах встречается обозначенная упрощенной формой того же иероглифа местность Су, населенная, очевидно, представителями этого клана. Вряд ли, однако, при отсутствии какой-либо дополнительной информации допустимо делать окончательные выводы о характере социальной организации всех ее жителей. Что же касается местной администрации, то, по данным гадательных текстов, власть здесь одно время принадлежала посланному из центра наместнику, в роли которого выступал сын вана по имени Цзы Су. Вообще в шанское время практика поручать представителям царского рода управление областями была широко распространена.
Из гадательных текстов известно, что управителем плодородной области Цюе, расположенной, по определению Сиракавы Сидзуки, на месте современного уезда Вэньсянь (пров. Хэнань), был младший брат вана У Дина. Сама область Цюе входила в систему шанского военно-административного контроля, о чем свидетельствует размещение в ней посланных из центра военных отрядов: «Гадание в день моуцзы. Приказать ли... отправиться в Цюэ и стать там лагерем».
Аналогичным было административное положение и ряда пограничных областей. Об этом можно судить по сохранившимся донесениям о вторжениях враждебных фанов. Эти донесения поступали в шанскую столицу и здесь вводились в гадательные тексты, чтобы стать предметом обсуждения с оракулом. В качестве примера можно привести фрагменты гадательных записей, относящихся к области Ю (у северных отрогов хребта Тайхан): «На девятые сутки в день синъмао действительно пришла беда с севера. Из Ю царская жена Жань сообщила: „[Люди из племени] туфан напали на наши поля, [захватили] десять человек... “»; «Гадание в день гуйчоу, гадатель Чжэнь спросил, будут ли утраты и печали в [новой] декаде. На четвертые сутки в день гэншэнъ опять пришла беда с севера. Царский сын X сообщил: „В минувший день цзячэнь [племя] фан вторглось в Ю, захватило пятнадцать человек"».
Следовательно, в период, к которому относятся данные сообщения, власть здесь находилась в руках жены и сына вана У Дина. Материалы из найденной на сяотуньском городище ямы-архива YH 127 указывают на то, что ряд местностей, располагавшихся в непосредственной близости от враждебного шанцам народа жэнъфан, локализуемого на границе провинций Шаньси и Шэньси, в долине р. Вэй, при предпоследнем шанском правителе Ди И также находились в ведении назначенных из центра администраторов.
Среди шанских пограничных областей были и такие, которыми управляли местные владетели. Это относится к Си, которую обычно локализуют на землях уезда Шаньсянь (пров. Хэнань). В гадательных текстах с этой областью связана деятельность Си Чжэня, бывшего центральной фигурой антитуфаньских воен
ных экспедиций при У Дине, и его наследника Си Хо. Судя по их именам, они происходили из местной знати. Определить их политический статус не представляется возможным. Очевидно, что они официально разделяли шанскую религиозно-политическую доктрину и признавали шанскую систему ценностей. Известен фрагмент гадательной надписи, упоминающей об участии Си Чжэня в жертвоприношениях предкам шанского вана. Известны его доклады шанскому вану, которые он, подобно ванским наместникам в Ю, должен был регулярно представлять в столицу: «Си Чжэнь сообщил: „Туфан напало на нашу восточную пограничную территорию, разрушило два поселения. Туфан также напало на поля нашей западной пограничной территории"». Си, в которой административное деление было построено по шанскому образцу, судя по всему, входила в состав шанской государственности не на правах свободного федерата, а как подчиненная структурная единица.
Владетелям территорий, расположенных на периферии шанского мира, которые признали гегемонию шанского вана, участвуя в государственном культе, шанцы присваивали титул хоу. Информация, имеющаяся в распоряжении современных исследователей, не дает основания для вывода о том, что периферийные хоу были главами союзных шанцам родо-племенных образований. Подчиненное положение владетелей пограничных областей выражалось в том, что они были обязаны регулярно присылать шанскому вану дары, предназначавшиеся для жертвоприношений его предкам, а также выставлять военные отряды для участия в походах против враждебных фанов. Среди многочисленных серий гадательных записей, касающихся пограничных областей, вопрос о том, получат ли шанцы в свое распоряжение пограничные отряды, встречается едва ли не чаще всего. Существовала еще одна форма реализации территориального верховенства шанских ванов. Во все периферийные по отношению к шанскому центру области регулярно направлялись посланцы вана, с тем чтобы в специально выбранных пунктах совершать жертвоприношения обожествленным предкам шанского правящего рода. Приведенные выше свидетельства о появлении в позднем Шан первых попыток ориентации на формально классифицированные критерии в географических описаниях (членение земель Шан и пограничных областей на центральные и периферийные районы), а также данные о создании разных форм управляемой из центра местной администрации указывают на то, что процесс формирования территориально-административной структуры, характерной для общества публично-правового типа, уже начался.
Одновременно с этим хорошо известны указания источников на сохранение в позднешанском обществе определенного комплекса патриархальных отношений и кровнородственных уз. Рядом историков, изучавших сведения гадательных текстов, было отмечено, что подавляющее большинство шанских имен совпадает с географическими названиями. Эта закономерность проявлялась на протяжении столетий. Она, как полагают, отражала обычную для общества, сохраняющего элементы родовой организации, устойчивую связь членов рода с определенной местностью. Следовательно, в позднем Шан наряду со складывавшимися территориально-административными объединениями продолжал жить старый, традиционный тип общественных связей. Подобный дуализм отражал про
тиворечивость и многоликость форм социально-политического развития позднешанского общества. Наиболее отчетливо динамические сдвиги и возникновение качественно новых явлений обнаружились в сфере управления этим обществом. На базе серий однозначно интерпретируемых гадательных текстов здесь можно определить ряд уровней, где общественные институты, присущие родовому устройству, были уже заменены коллегиями должностных лиц, представлявших господствующую верхушку во главе с ваном, и где появились совершенно новые органы принудительной власти, обособленные от народа.
Протекавший в позднешанское время процесс организационного оформления господствующего класса, выделившегося в результате роста имущественной и социальной дифференциации, был теснейшим образом связан с формированием древнейшей религиозно-политической доктрины. Так, представление о личности вана как средоточии земного мира, как гаранта его гармонического существования определило ряд характерных особенностей конституирования господствующего слоя, создания корпорации профессиональных управителей в позднем Шан. Восприятие этого идеологического представления было одним из необходимых условий допуска в корпорацию. В позднешанское время большинство должностных лиц, составлявших администрацию вана, обозначались изобразительным иероглифом чэнь, представлявшим собой схематический рисунок широко раскрытого глаза. Он означал не юридическое состояние подданства и не объект власти, как впоследствии, а постоянный надзор за всем, что производилось по приказу вана. Среди этих «надзирателей» наиболее распространенными были два типа титулов: \)сяочэнъ— малые чэнщ шаочэнь— молодые чэни*ь 2) цзючэнъ — давние чэни\ лаочэнь — старые чэни. Очевидно, что содержание данных титулов прямо указывает на характер и продолжительность контакта тех или иных групп представителей господствующего класса с ванами.
Действительно, титулы второго типа применялись по отношению к давно умершим слугам прежних правителей, которые прославились своей преданностью и умом. Согласно поверьям того времени, между ними и рядом обоготворенных представителей ванского рода существовала давняя сакральная близость, что делало их также объектом поклонения. В сравнении с ними все находившиеся в непосредственном подчинении у живого вана, независимо от их реального возраста, считались молодыми слугами, только что вступившими в контакт со своим повелителем. Социальный статус малых чэней был достаточно высок. Надпись на позднешанском бронзовом сосуде Сяочэнь У дин свидетельствует, что в их число входили ближайшие родственники вана. Административные функции малых чэней были многообразны: они руководили сельскохозяйственными работами, участвовали в военных походах, надзирали за колесницами и лошадьми, выступали в роли гадателей и т.д.
По шанским текстам известна еще одна категория профессиональных управителей, тесно связанных с персональным культом вана и его предков. Их обозначали иероглифом я, представлявшим в то время символическое изображение модели мира, погребальной камеры и храма с жертвенником. Записи гадателей упоминают, что их обязанностью было участие в особом ритуале, имевшем целью «пестовать и оберегать вана». Однако в действительности они, как и малые
24. Захоронение колесницы с лошадьми и возничим
Из раскопок жертвенной ямы в Сяоминьтуни.
Аньян. Хэнань. Эпоха Шан-Инь. Конец II тыс. до н.э.
25. Некрополь правителей царства Чжуншань
с погребениями и поминальными храмами-пирамидами.
Реконструкция по плану, найденному в царской могиле 309 г. до н.э.
Пиншань. Хэбэй. Период Чжаньго
чэни, осуществляли от имени вана административный контроль в самых различных сферах социально-экономической жизни позднешанского общества. Имеются известия о том, что им подчинялись отряды подневольных людей, использовавшиеся как на различных работах, так и для военных целей. В одной из надписей читаем: «Гадали в день линъю, следует ли управителю я по имени... с отрядом [подчиненных ему людей] отправиться в Цун? [Божество] согласно».
Характерной чертой централизованной системы управления и надзора в области земледелия, являвшегося основой общественного производства шанцев, была ее теснейшая связь с различными религиозно-магическими ритуалами. Так, наряду с регулярными «инспекциями полей», имевшими целью знакомство на местах с состоянием почвы и других природных факторов, ван и его агенты осуществляли «инспекции быков», в ходе которых наблюдали за подготовкой жертвенных животных к соответствующим обрядам. Возможно, что сама позиция вана в роли верховного распорядителя всех трудовых процессов, связанных с возделыванием земли, посевом или сбором урожая, рассматривалась как атрибут приписывавшихся его личности магических мироустроительных способностей. В целом ряде случаев тексты говорят о ванах как об участниках этих трудовых процессов. Составлявшие тексты гадатели имели, по-видимому, в виду выполнение ванами определенных функций при отправлении соответствующих земледельческих культов и магических обрядов типа сакральной пахоты. Что касается реального руководства полевыми работами, то ваны осуществляли его обычно через подчиненных им должностных лиц — через малых чэней или просто «управителей» без определенного звания. Перед тем как отдать распоряжение о начале очередного цикла работ, в каждой обширной области шанских владений или в каждой местности советовались с оракулом:
«[Гадание] в день гуйхай. Следует ли вану приказать всем управителям мотыжить поля на западе? Соберем урожай».
«[Гадание] в день ичоу. Следует ли вану приказать, чтобы мотыжили поле в Цзин?»
По гадательным записям известно о производившейся под контролем властей «обработке посевов проса» в Дун, Гун и Лунъю, «сборе урожая» в Цзин, «выпасе скота» в Шан, «уборке сена» в Юн и т.д. Данные из архивов гадателей позволяют высказать ряд соображений о характере всех этих работ. Для их выполнения, по-видимому, привлекалось не все земледельческое население указанных местностей, а лишь часть его. Сохранилась запись гадания, в ходе которого с оракулом обсуждался вопрос, настало ли время собирать рабочую силу: «Гадатель X спрашивает, следует ли вану обнародовать великое повеление людям, [приписанным] к чжунам, гласящее: „Трудитесь совместно"? Они соберут урожай». Использованный в этом тексте иероглиф чжун, представлявший собой крайне упрощенный рисунок группы людей, занятых полевыми работами, в позднешанское время выступал как обозначение отряда крестьян, следовавших за должностным лицом. Есть упоминания о том, что в некоторых случаях контроль за работой таких отрядов осуществлял сам ван: «[Гадание] в день моуинь. Гадатель Бинь спрашивает, следует ли вану отправиться с чжунами обрабатывать посевы проса в Цзюн?» Однако обычно в роли надзирателей надписи упоминают малых чэней:
«Следует ли сяочэнъ (малым чэням} приказать, чтобы чжуны обрабатывали посевы проса? Первая луна». Земледельческие чжуны могли включать сотни и тысячи работников. На это указывает, в частности, содержание одного фрагментированного гадательного текста: «[Гадание] в день синъчоу. Гадатель... следует ли три тысячи человек привлечь к полевым работам?»
Централизованный контроль за работой чжунов, по-видимому, предполагал централизованное снабжение их инвентарем. Данное предположение подтверждается материалами сяотунского городища. Сельскохозяйственный инвентарь здесь находят обычно крупными партиями. В одной из землянок-хранилищ Сяо-туня было обнаружено более сотни каменных серпов, а семь зольников, раскопанных в 1929-1932 гг., содержали около 3600 таких серпов. Это, несомненно, остатки того инвентаря, который распределялся между отрядами земледельцев во время уборки урожая. Большие группы чжунжэнъ, т.е. «людей, приписанных к чжунам», трудившиеся, как сказано в одной из надписей, «совместно», должны были обрабатывать достаточно обширные участки земли, которые целиком находились в ведении центральной власти. Косвенным свидетельством существования подобных «казенных полей» в разных районах шанских владений служит следующее обстоятельство. Анализ гаданий о предстоящем урожае показывает, что шанских должностных лиц часто интересовали прогнозы, касавшиеся не всех земель данной местности, а лишь определенных полевых участков, часто имевших собственные названия. Например, фрагменты № 1926, 1932 коллекции университета г. Киото содержат серию однотипных записей:
«[Гадание] в день динхай. Приказать ли чжунам [работать] на поле Гао? Соберут урожай зерна»;
«В Цзю, на поле Юй, соберут урожай зерна. В Нижнем X, на южном поле, соберут урожай зерна».
Поля, являвшиеся предметом особого интереса официальных гадателей, принадлежали, по-видимому, к царскому земельному фонду. Сведения о происхождении и статусе последнего почти полностью отсутствуют. Известен лишь текст, из которого следует, что одному из управителей ван хотел поручить «сделать большое поле». Очевидно, последнее выражение предполагало, что должностное лицо вана должно было вместе с врученным ему отрядом государственных работников освоить какие-то пустые земли и превратить их в «царское поле».
В эпоху Шан в области централизованного ведения земледельческого хозяйства раньше всего появились специализированные должности и ведомства. Тексты упоминают должностных лиц, имевших весьма выразительные названия: сяоцзечэнь— малые чэни, ведавшие теми, кто привлечен к полевым работам, и сяочжунжэньчэнъ— малые чэни, ведавшие людьми, приписанными к чжунам. В разных районах шанской державы они следили за организацией труда земледельцев на казенных полях. В центре и на местах через них, очевидно, осуществлялся непосредственный контроль за сбором рабочей силы, занятой в царском хозяйстве, а также проводилась выдача чжунам орудий труда, семян и продовольствия. Однако объем управленческого труда в царском хозяйстве был настолько велик, что к нему могли привлекаться не только представители специальных ведомств, но и самые различные лица из числа непосредственных
исполнителей воли вана. Так, царские полевые работы в столичной области и в окрестных районах исполнялись с участием представителей ближайшего окружения вана. Сохранился гадательный текст, содержавший вопрос: «Следует ли... призвать царскую жену Цзин, чтобы [обрабатывала] посевы проса в Шан?». По мнению одного из современных исследователей, Цзин, являвшаяся женой шанского правителя У Дина, должна была возглавить своих сородичей для работы на столичных полях. Такое предположение маловероятно. Действительно, упомянутая в цитированном тексте царская жена, судя по ее имени, происходила из области, расположенной к северу от Хуанхэ, далеко от центра шанской цивилизации. Более адекватным представляется истолкование данного текста в том смысле, что царской жене Цзин, выступавшей здесь в роли представителя центральной власти, что было делом обычным в шанское время, хотели поручить руководство отрядом местных земледельцев, выделенных для работ на столичных полях. Именно об этих полях, а не о собственной земле царской жены Цзин, как полагают некоторые авторы, идет речь в следующем гадательном тексте: «[Гадание] в день ичоу. Гадатель спрашивает, будет ли урожай на полях царской жены Цзин».
Много гаданий, относящихся ко времени У Дина, посвящены вопросу о том, будут ли дожди в области Цзы, где, по-видимому, также имелись поля, урожай с которых принадлежал вану. Сохранились упоминания, что надзор за обработкой их осуществляло несколько должностных лиц, один из которых хорошо известен в качестве члена коллегии гадателей У Дина: «[Призвать ли] X да еще Цюэ и Фу для полевых работ в Цзы? Получат урожай. Гадание в день динъю. Гадатель Чжэн спрашивает, призвать ли Фу, чтобы [обрабатывал] посевы злаков в Цзы? Получит обильный урожай». Разумеется, упомянутые здесь люди не сами трудились в царском хозяйстве, а лишь ведали группами сельского населения, связанного системой простых повинностей с домом вана. Аналогичным образом была организована обязательная работа на дом вана и в местности Мин: «[Гадание в день цзимао]. Гадатель Цяо спрашивает, не призвать ли Лэя для полевых работ в Мин».
Приведенные выше сведения отражают одну из древнейших стадий процесса становления государственного аппарата, когда имелись лишь примитивные органы управления, представленные отдельными, мало связанными между собой должностными лицами. Значительное число последних состояло из исполнителей воли вана без определенных постоянных функций. Однако уже появились должности, названия которых отражали обязанности исполнявших их чиновников. Восстанавливаемая по гадательным записям география «царских полей» указывает на распространенность и стабильность контролируемых из центра земледельческих хозяйств. Сбор рабочей силы для этих хозяйств осуществлялся скорее по территориальному, чем по родо-племенному принципу.
Наличие в архивах сяотуньских гадателей большого числа текстов, которые содержали вопросы к богам, посвященные организации обязательных работ для дома вана, свидетельствует о значительности той роли, которую играло в эксплуатации земледельцев позднешанское государство и стоявший во главе его ван.
В гадательных текстах непосредственные производители упоминаются почти исключительно в качестве членов чжунов. Вопрос о социальном содержании работ, выполнявшихся чжунами, привлекал внимание исследователей. Среди них есть немало сторонников той точки зрения, что чжуны были группами рабов. Однако в гадательных текстах неоднократно встречается упоминание о том, что члены чжунов выполняли государственные обязанности свободного населения и использовались как воины, несшие пограничную службу. Это явствует, например, из содержания надписи на фрагменте № 2142 из коллекции университета г. Киото: «Если созовем пограничную стражу для защиты от цянов и фанов в Цзуи, то нанесем ли ущерб цянам и фанам, не потеряем ли чжуны?» Сохранилась фрагментированная надпись, содержащая указание на то, что чжуны во главе со своим начальником участвовали в жертвоприношениях в храме одного из предков шанских ванов. В некоторых случаях гадательные тексты, говоря о чжунах, выступавших как военные отряды, упоминают и те местности, где они были собраны. Например: «[Гадание] в день динхай. Следует ли вану отдать приказ, чтобы Би с чжунами из X выступил против [страны] ЧжаофанЪ» Из подобных сообщений следует, что во главе периферийных чжунов стояли не местные предводители из родо-племенной верхушки, а назначенные сверху военачальники, известные по другим надписям в качестве постоянных исполнителей военноадминистративных поручений вана. Судя по другой надписи, сам сбор чжунов, обсуждавший вопрос, не послать ли военачальника вана, чтобы «отобрал [воинов] в Фу», также проходил под непосредственным контролем властей. Встречающийся в шанских текстах термин ванчжун— «ванские чжуны»— применялся как другое название для цзу, военно-корпоративных объединений, связанных с домом вана. Последние, подобно чжунам, могли быть использованы в качестве самостоятельных военных отрядов или же пограничной стражи. В источниках есть указания, которые могут быть истолкованы как свидетельства совпадения цзу с территориальными подразделениями. Упоминаются, например, поселение Ю и цзу того же названия. Однако вряд ли допустимо из подобных указаний делать вывод о совпадении цзу с какими-либо элементами родо-племенной организации.
Известны случаи, когда воины, входившие в цзу, очевидно, не были связаны родственными узами. Таковы отряды, называвшиеся доцзыцзу, которые объединяли молодых знатных заложников из подвластных владений и юношей из шанского правящего рода. Несомненно, что в подобных случаях за термином цзу не могли скрываться патрилинейные родственные группы. Вообще среди форм военной организации, известных по гадательным надписям, нет таких, которые бы строились на основании родо-племенных принципов. При составлении текстов, связанных с формированием больших ополчений, писцы позднешанского оракула вообще опускали и географические, и любые иные характеристики собиравшихся по всей стране отрядов, давая их воинам обобщенно-обезличенное наименование ванжэнъ — люди вана: «[Гадание] в день динъю. Гадатель X спрашивает, выставить ли этой весной пять тысяч людей вана, чтобы наказать Туфан? Будет им удача?» Таким образом, люди вана входили в состав армии со стабильным числом воинов. В надписях упоминаются и более мелкие подразделения,
также обладавшие постоянным численным составом. Ополчение вана обычно делилось на левый, центральный и правый отряды. Ими предводительствовали не местные вожди, а имевшие особые титулы военачальники вана. В этих особенностях военно-организационной структуры отчетливо выступают черты, присущие армиям раннеклассовых обществ. Такое заключение заставляет с осторожностью отнестись к распространенному мнению, что в позднешанском обществе во всех сферах жизни господствовали первобытно-общинные отношения и родо-племенная организация. В данных надписей историк находит целую иерархию управителей во главе с ваном, представлявшую господствующий класс и захватившую ключевые позиции не только в сфере эксплуатации непосредственных производителей, но и в военном деле.
Меньше ясности в вопросе о положении основной массы населения позднешанской державы. Гадательные тексты из-за специфики своего содержания дают крайне мало для раскрытия социальной сути внеэкономического принуждения, которому оно подвергалось, а также для реконструкции его правового статуса. Анализ гадательных надписей, касающихся организации работ на «царских полях», показывает, что основная тяжесть здесь, по-видимому, ложилась на крестьян-общинников, обязанных трудиться в течение определенного срока в составе чжунов. Это, однако, вовсе не исключало возможность использования в различных работах на дом вана отрядов, состоявших из рабов.
В социальной лексике гадательных текстов нет слова, которое можно было бы с достаточной долей уверенности считать обозначением раба. Однако в известиях о походах шанцев против окружавших их племен сохранились упоминания о захвате в плен вражеских воинов и невооруженных жителей. В некоторых надписях говорится о тысячах захваченных. Плен, как известно, повсюду был самым ранним источником рабства. В шанском Китае пленных в первую очередь приносили в жертву духам предков правящего рода, но какую-то часть этих выходцев из других общественных групп, очевидно, превращали в подневольных работников. Среди гадательных записей, посвященных цянам— скотоводам, жившим на западных границах шанской державы, неоднократно встречаются вопросы об использовании пленных, принадлежавших к этому народу, в качестве конюхов и загонщиков в царском хозяйстве и царской охоте. Например:
«Следует ли многим цянам загонять оленей? Поймают».
«Следует ли многим цянам ходить за лошадьми?»
В 1971 г. в Хоугане близ Аньяна в родовой могиле представителя господствующего класса было обнаружено насильственное сопогребение раба. Состояние костяка последнего свидетельствует, что у него еще при жизни была ампутирована нога. Полагают, что этот раб подвергся особому наказанию, включавшему отрубание ноги, о котором много рассказывают более поздние источники. Данное обстоятельство заставляет вспомнить об одном иероглифе надписи № 1688 коллекции университета г. Киото и надписи № 1178, изданной в «Продолжении [публикации] сохранившихся гадательных костей». Он похож на схематический рисунок человека, которому отрубают ногу. Эпиграфисты считают, что этот иероглиф означал наказание, применявшееся к рабам, и предлагают следующим образом толковать надписи:
26. Клятвенные договоры мэньшу на бамбуковых планках из царства Цзинь. Хоума. Шаньси. Период Чуньцю-Чжаньго. Середина I тыс. до н.э.
«Гадание... Следует ли закопать, [чтобы принести в жертву божеству] сто человек, у которых отрублены ноги?»
«[Следует ли] отрубить ноги ста человекам или же их следует закопать?»
Аналогичные гадания есть среди надписей, изданных еще Ло Чжэньюем. В них предмет гадания обозначен иероглифом грай, впоследствии применявшимся к чиновникам высшего ранга. Здесь он употреблен по отношению к лицам рабского состояния, жизнью которых целиком распоряжалось государство. Так, в гадательных записях читаем:
«[Следует ли] отрубить ноги десяти цзай (рабам)?»
«Не следует ли закапывать грай (раба), у которого отрублена нога?»
Вообще среди позднешанских гадательных надписей, происходящих из Сяотуня, очень большое число было продиктовано заботой властей, не наступил ли подходящий момент для уничтожения очередной группы рабов, предназначенных одному из шанских божеств. Способы уничтожения бывали различными (отрубание головы, сожжение, закапывание), в зависимости от характера божества, которому они предназначались. Последовательность этих жертвоприношений поддерживалась регулярно, независимо от того, вели ли шанцы в это время удачные войны или нет. Следовательно, в распоряжении центральных властей должны были постоянно находиться большие массы рабов, которые обычно, по-видимому, занимались различной производительной деятельностью, а при необходимости приносились в жертву.
Становление шанских военно-административных органов было неразрывно связано с постоянно возраставшей внешней активностью ванов, стремившихся включить в систему своего властвования как можно больше периферийных родо-племенных групп и раннегосударственных образований. Постепенно, круг за кругом, шанцы устанавливали свой контроль сначала над ближней, а затем и над дальней периферией, навязывая соседям свои символы власти, превращая их в регулярных данников и в ударную силу военных походов против непокоренных и отложившихся. Судя по гадательным текстам, были периоды, когда военно-политическая экспансия шанских правителей в землях дальней периферии осуществлялась особенно активно. Например, XIII-XII века до н.э. связаны с превращением в подвластную область владения Чжоу, в районе современной пров. Шаньси. Годы правления ванов У Дина и Линь Синя связаны с грабительскими экспедициями в земли цянов, располагавшиеся на юге пров. Шаньси и на востоке пров. Шэньси. В середине правления У Дина были предприняты военные действия против страны Туфан. Конец его правления отмечен присоединением независимого владения Ю. Во главе этой области был поставлен хоу, целиком подчинявшийся шанцам. Современными исследователями собраны и систематизированы серии гадательных записей, относящихся к двум продолжавшимся по нескольку месяцев походам против страны Жэнъфан (1084-1080 гг. до н.э.). Ведение этих кампаний, имевших целью превращение обширных земель страны Жэнъфан в объект планомерной эксплуатации, разные историки приписывают либо вану Ди И, либо Ди Синю.
В истории позднешанской администрации периоды успешного расширения внешнего влияния обычно сменялись периодами упадка и раздоров, когда число
«союзников» и «слуг» быстро падало, а число врагов становилось угрожающим. В такие моменты шанская система властвования обычно избегала гибели только путем натравливания одних союзов племен и раннегосударственных образований на другие. Однако в годы правления Ди Синя, когда пришлось вести изнурительную, длившуюся почти год войну с владением Юйфан, располагавшимся у самых границ шанской державы, а также с рядом других владений, это средство перестало давать необходимый эффект. Против Ди Синя выступила могущественная коалиция во главе с вождями владения Чжоу, которая сокрушила шанскую систему властвования и положила конец гегемонии шанских ванов в бассейне Хуанхэ.
Появление чжоусцев на исторической арене и гибель государственно-племенного объединения Инь
Ранняя история Чжоу, которое в конце II тысячелетия до н.э. выступило против гегемонии Шан, связана с землями в большой излучине Хуанхэ (в северной части современной пров. Шэньси). Из упоминаний на гадательных костях времени государства Инь и из позднейшей летописной традиции явствует, что Чжоу некоторое время находилось в сфере административного влияния шанских ванов. В ранних надписях Чжоу обозначали иероглифом, изображавшим поле со всходами, поделенное на четыре части. Данное обстоятельство, сопоставленное с известными легендами о первопредке чжоусцев, называвшемся Хоуцзи, т.е. «Правителем-просо», указывает на то, что к моменту появления на исторической арене это был народ земледельческий. В тот период, когда у этого народа начали складываться основы государственности, их владения были расположены в бассейне р. Вэй. По мнению археологов, процесс формирования материальной культуры и этнического типа народа чжоу в этом районе, где перекрещивались влияния разных этнокультурных общностей, был весьма сложным, что нашло отражение в энеолитических памятниках типа Кэшэнчжуан II, включавших элементы как луншаноидной культуры западной Хэнани, так и культуры Цицзя. Что касается более поздних памятников времени Чжоу, относящихся ко времени, предшествующему конфликту с государством Шан, то они, к сожалению, пока что изучены мало. К их числу относят несколько поселений в верхнем течении р. Вэй, инвентарь которых носит следы влияния культуры государства Инь периода Чжэнчжоу-Эрлиган.
В 1956-1957 гг. в Чжанцзяпо близ г. Сианя был раскопан обширный могильник, включавший группу ранних погребений, датируемых временем правления второго и третьего правителей Западного Чжоу. Здесь же было обнаружено синхронное поселение, существовавшее, по-видимому, в предшествующий период, так как могильные ямы ранних погребений в ряде случаев нарушили руины жилищ. По мнению археологов, это поселение могло существовать уже при Чане, вожде народа Чжоу, получившем посмертный титул Вэнь-вана. Традиция считает, что при нем был подготовлен захват земель государства Инь. Следовательно,
раскопанные в Чжанцзяпо жилища были построены либо непосредственно перед установлением власти Чжоу в бассейне Хуанхэ, либо в его период.
Обычным для современной исторической литературы является утверждение, что народ чжоу сильно отставал от народа шан в своем общественно-экономическом развитии, что в первые десятилетия после разгрома Инь чжоусцы были заняты освоением культуры покоренных. Однако изучение найденных в ходе раскопок 11 ранних жилищ в Чжанцзяпо, а также некоторые другие факты указывают на то, что народ чжоу ко времени походов на восток обладал уже достаточно развитыми традициями в области материального производства. Действительно, в одном из жилищ Чжанцзяпо были открыты керамические формы для отливки бронзовых деталей колесниц и другой инвентарь литейной мастерской, а рядом — весьма выразительные следы высокоразвитого косторезного ремесла. Интересны соображения специалистов по поводу сосуда Да фэнгуй, который, судя по надписи, был отлит по приказу правителя государства Чжоу либо перед выступлением против Инь, либо вскоре после победы. Этот бронзовый жертвенный сосуд на квадратной подставке не имеет аналогий среди типологически сходных изделий периода Шан, что указывает на его истинное происхождение из Чжоу. Богатство и сложность орнаментации сосуда свидетельствуют, что он является наследником давней местной традиции бронзолитейного производства. Однако данные об экономическом прогрессе в Чжоу, достигнутом ко времени похода на восток, не могут быть дополнены сколько-нибудь аутентичными известиями о его общественном устройстве и политической организации. Все те сведения о ранней истории Чжоу, которые заимствованы современными авторами из «Записей историографа» Сыма Цяня, представляют собой историзирован-ные и хронологизированные элементы магического ритуала или мифологических схем, содержащих реликты древних моделей поведения.
Весьма незначительно количество разрозненных упоминаний в гадательных надписях периода Шан и в надписях на бронзовых сосудах о событиях, которые могут быть связаны с предысторией чжоуского завоевания. Ведь в той группе упомянутых источников, которая относится ко времени правления последних ванов государства Инь — Ди И и Ди Синя, нет вообще упоминаний о чжоусцах. Внимание исследователей давно уже привлекают бронзовые сосуды периода позднего Шан, найденные в Ляншане (пров. Шаньдун). Особенно интересен сосуд Юй цзунъ. Сохранившаяся на нем надпись сообщает, что на десятом году правления Ди Синя войска государства Шан во главе с правителем заняли земли народа жэнъфан (в современном Шаньдуне). Событие это, по-видимому, играло немаловажную роль в позднешанской истории. Ведь память о нем дожила до времени составления «Цзочжуаня». Было высказано даже предположение, что именно этим событием воспользовался наследник чжоуского вана, известный в надписях времени Западного Чжоу и в позднейшей летописной традиции под именем У-вана, чтобы выступить против иньской гегемонии. Как бы там ни было, тяжелый поход в земли жэнъфанещ несомненно, входит в цепь неизвестных нам обстоятельств, создавших благоприятные условия для успеха воинов Чжоу. Из сообщений весьма поздней традиции, использованной Сыма Цянем, следует, что поход У-вана на столицу государства Инь, долго и тщатель
но готовившийся, был предпринят только после ряда военных акций разведывательного характера»
Взятие столицы государства Шан У-ваном и смерть вана Ди Синя не сопровождались гибелью государственности Шан. По-видимому, чжоусцы не были еще готовы к тому, чтобы полностью взять в свои руки власть и своими силами осуществлять господство над обширной территорией, где размещалось множество полусамостоятельных владений и племенных групп. У-ван был вынужден вернуться на исконные чжоуские земли.
По свидетельству исторической традиции, в остальной части Поднебесной сохранялось старое устройство, отданное под контроль трех родственников вана Чжоу. В «Ичжоушу» об этом сказано: «Когда У-ван одолел Инь, он поставил Лу-фу, сына вана государства Инь, побудив его блюсти жертвоприношения согласно традициям Шан; утвердил Гуань Шу на востоке, утвердил Цай Шу и Хо Шу в Инь, побудив их надзирать за подданными Инь». Таким образом, было достигнуто неустойчивое объединение народов Инь и Чжоу в рамках временного политического образования.
Период
Западного Чжоу
Вопрос о начальной дате эпохи Чжоу. Следует сказать, что упоминания об абсолютной или относительной, помещенной в контекст сколько-нибудь длительного периода, дате победы У-вана над шанским правителем Ди Синем появляются в древнекитайских письменных памятниках весьма поздно, в IV-III вв. до н.э. Это естественно, ибо, несмотря на наличие высокоразвитого календаря, а также фиксации годов правления ванов и связанных с ними событий, у древнекитайских книжников первоначально отсутствовали представления о временнбй перспективе. На протяжении многих столетий это препятствовало превращению разрозненных записей хронистов эпохи Чжоу в сводные прагматические повествования, связанные со «всеобщей историей» Поднебесной.
Только к периоду Чжаньго положение изменилось. Появились хроники, в ряде сочинений того времени отчетливо проявляется стремление к хронологизации событий. Особенно актуальной становится датировка победы У-вана над Ди Синем, с которой начинают связывать распространение и расцвет культурной традиции Чжоу. Так, по словам Мэнцзы (IV—III вв. до н.э.), «с момента прихода Чжоу [к власти] прошло более семисот лет». В «Гоюе» приведена астрономическая дата этого события: «В древности У-ван выступил против Инь, когда [планета] Суй (Юпитер) находилась в созвездии Чуньхо». Во фрагменте утраченного текста «Погодовых записей на бамбуковых планках» (Чжушу цзинянъ), представлявших собой «всеобщую историю» Поднебесной, соединенную с летописью царства Вэй периода Чжаньго, исход У-вана отнесен к году гэнъинъ шестидесятеричного цикла. В конце периода правления Ранней Хань создатель нового календаря Лю Синь (ум. в 23 г. н.э.) по зафиксированному в упомянутом источнике положению планеты Юпитер вычислил, насколько это событие отстояло от «начала
мирового цикла». Полученная Лю Синем дата соответствует 1122 г. до н.э. Ее недостоверность очевидна. Современной наукой установлено, что описания положения планет в позднечжоуских памятниках основаны не на подлинных астрономических наблюдениях древних, а на позднейших циклических расчетах, сделанных не ранее середины IV в. до н.э. Вызывает сомнения и дата «Погодовых записей на бамбуковых планках», соответствующая 1050 г. до н.э. Ряд исследователей видят в ней позднюю интерполяцию, внесенную в текст памятника одним из средневековых ученых, пытавшихся восстановить древнекитайский календарь и хронологию. Что касается сторонников полной подлинности «старого» реконструированного текста «Погодовых записей на бамбуковых планках», то их единственный аргумент в пользу аутентичности более ранней даты начала Западного Чжоу состоит в том, что она соответствует вышеупомянутому свидетельству Мэнцзы и некоторым другим позднечжоуским данным. Однако и в том случае, если первоначальный текст «Погодовых записей на бамбуковых планках» содержал упоминание о годе гэнъинъ, последний был не действительной датой события, сохраненной древней традицией, а результатом вычислений хронистов периода Чжаньго. Поскольку обе хронологические даты не могут считаться достоверными, единственный путь к установлению исходного пункта летосчисления в Западном Чжоу заключается в анализе данных тех надписей на бронзовых сосудах, где представлены обозначения времени по годам правления ванов Западного Чжоу. При этом следует упомянуть о наличии в летосчислении Западного Чжоу «абсолютной» даты, а именно года устранения Ли-вана, который соответствует 841 г. до н.э. Начиная с этой даты, хронологии событий IX—VIII вв. до н.э. в «Погодовых записях на бамбуковых планках» и в «Записях историографа» («Шицзи») Сыма Цяня совпадают. Достоверность этой даты подтверждается и данными хронологий местных владетелей, сохраненными в труде Сыма Цяня. Имена первых восьми правителей Западного Чжоу, известных традиции, а также последовательность их правлений документированы многочисленными надписями.
С шестью раннечжоускими правителями, предшественниками Ли-вана, удалось связать датировочные формулы, представленные в ряде надписей. Нам известны бронзовые сосуды, которые, согласно надписям на них, были изготовлены на 19-м году правления Чэн-вана, на 35-м году правления Кан-вана, на 15-м году правления Гун-вана, на 27-м году правления И-вана и т.д. Сумма засвидетельствованных годов правления раннечжоуских ванов, по-видимому значительно преуменьшающая их действительную продолжительность, составляет 106 лет. Время пребывания на престоле еще четырех ванов, правивших до 841 г. до н.э., с добавлением разницы между засвидетельствованной и действительной продолжительностью правления предыдущих шести может быть крайне условно ограничено периодом в 60-100 лет. В результате этих подсчетов, дающих возможность приблизительно определить время, прошедшее между установлением власти Чжоу в долине Хуанхэ и 841 г. до н.э., оказывается, что начало Западного Чжоу падает на какой-то момент в пределах периода от середины до конца XI в. до н.э.
Правление Чэн-вана н укрепление власти Чжоу
Наследником У-вана, который, по одним традиционным данным, прожил после победы над Ди Синем три года, а по другим — семь лет, стал его сын Чэн-ван. К периоду его правления ученые относят более тридцати надписей на бронзовых ритуальных сосудах. Данное обстоятельство позволяет восстановить облик многих событий того времени на основе известий, составленных их современниками, а также дает возможность для критической оценки сведений, сохранившихся в исторической традиции. В период его правления был положен конец относительной самостоятельности Шан, а также ликвидированы все символы его политической власти и остатки его государственно-административной организации. Согласно весьма ранней версии, зафиксированной в «Цзочжуане», эти события начались с раскрытия заговора, который был организован чжоускими «наблюдателями» в союзе с последним правителем Шан и направлен против Чэн-вана и его окружения: «Гуань и Цай начали [подстрекать] Шан, чтобы оно погубило и внесло раскол в дом вана, поэтому |[Чэн-]ван убил Гуаныпу и прогнал Цайшу». В надписях нет сведений о роли и судьбе «наблюдателей» из Чжоу, но зато они сообщают, что войскам Чжоу при Чэн-ване пришлось вновь брать штурмом столицу взбунтовавшихся шанцев. В надписи на сосуде Сяочэнъ Дань чжи сказано: «Ван после бунта овладел [столицей] Шан и стал лагерем в Чэн». Сосуд Канхоу гуй свидетельствует: «Когда ван совершил карательный поход на Шанъи (шанскую столицу), он приказал Кан-хоу [по имени] Фэн быть [владетелем] в Вэй».
Захват военно-административных центров Шан сопровождался введением на его землях системы управления завоевателей. Традиция называет создателем этой системы Чжоу-гуна, дядю нового чжоуского правителя. В освещении разных историко-повествовательных текстов он выступает как регент при Чэн-ване, который в годы борьбы с Шан был якобы слишком юн, чтобы править самостоятельно. Достоверность этой версии весьма сомнительна, так как надписи говорят о Чэн-ване как о верховном военном вожде, а Чжоу-гуну приписывают лишь второстепенную роль. Как бы там ни было, судя по надписям, именно в личности чжоуского вана стали олицетворять верховную административную власть на окончательно завоеванных землях Шан. Именно от Чэн-вана, согласно надписи на Канхоу гуй, исходило распоряжение, чтобы царский родственник Кан-хоу стал вэйским владетелем. Эта надпись говорит о реальном характере ряда более поздних данных, дающих основание утверждать, что чжоусцы положили в основу управления завоеванной территорией систему жалованных владений. Владение Кан-хоу включало центральные районы расселения шанцев на землях современной пров. Хэнань. Согласно «Цзочжуаню», ядром подданных Кан-хоу стали «семь кланов народа инь», переданные ему Чэн-ваном вместе с их начальниками. Аналогичное жалованное владение в Лу (на территории современной пров. Шаньдун) было передано сыну Чжоу-гуна, который получил в свое распоряжение «шесть кланов народа инь». «Цзочжуань» упоминает о том, что вместе с подданными новый луский владетель получил и должностных лиц, по-видимому состоявших из чинов чжоуской системы управления.
Таким образом, население шанской метрополии оказалось в непосредственном подчинении у наместников вана Чжоу. Ван и его администрация также были активной силой на вновь завоеванных и осваиваемых чжоусцами шанских землях. В долине р. Ло (на территории современной пров. Хэнань) была выстроена новая столица, получившая название Чэнчжоу. Судя по данным «Доши», одной из семи глав «Шуцзина», создание которых современная наука относит к X—VIII вв. до н.э., сюда под контроль чжоуского гарнизона и властей были переселены «строптивые люди из числа шанцев». Начиная с этого времени, на протяжении всей эпохи Чжоу, а также и последующих эпох метод переселения покоренного населения в новые места обитания стал обычным средством разрушения старых социально-политических связей и уничтожения реликтов автохтонных политических институтов. Гибель административного центра Шан, естественно, вызвала стремление к самостоятельности в тех раннегосударственных образованиях и родо-племенных объединениях, которые находились ранее под эгидой шанцев и составляли периферию их державы.
После завоевания шанской метрополии чжоусцы, по свидетельству надписей, начали активные военные действия против Пугу, Гай и других владений «восточных и» в Шаньдуне (сосуды X Фан дин, Цинь гуй и др.), а также вторглись в районы расселения народа чу и хуайских племен и в бассейне р. Хуай (сосуды Мин-гун гуй, Лин гуй и др.). По-видимому, поход против восточных и предшествовал походу на «восточные страны» (так надписи называют владения хуайских и). Действительно, в эпиграфических памятниках, содержащих данные о победах на юге, упоминаются чжоуские наместники (хоу) в Лу и в Ци, в руки которых был передан административный контроль над землями Шаньдуна, включая Гай и Пу-iy. Военные действия на юге носили затяжной характер. По свидетельству надписи на сосуде Бань гуй, потребовалось три года, чтобы умиротворить восточные страны. Памятником продвижения Чжоу на юг при Чэн-ване служит сосуд Ихоу Цзэ гуй, найденный в 1954 г. в Даньту (пров. Цзянсу). Надпись на сосуде содержит указ Чэн-вана, адресованный одному из его приближенных по имени Цзэ, владевшему ранее областью Цзянь. Согласно указу, завоеванная войсками Чжоу в нижнем течении Янцзы область И была передана в руки Цзэ. Таким образом, как в центральных, так и в пограничных районах Чэн-ван осуществлял административный контроль над местным населением с помощью пожалования территорий своим сородичам и соратникам.
Были и несколько иные формы реализации суверенитета Чэн-вана на землях, включенных в сферу влияния Чжоу. Действительно, если в случае с областью И ее правитель из Шан, который упомянут в надписи на сосуде Ицзы дин, был, очевидно, устранен, а взамен его назначен чжоуский наместник, то в других случаях с помощью пожалования оформляли новый статус старых местных владетелей, подчинившихся Чжоу. Вехой, указывавшей пределы продвижения державы Чэн-вана на севере, служит найденный в 1955 г. в Линъюане (пров. Ляонин) бронзовый сосуд, отлитый владетелем области Янь, центр которой, согласно традиции, находился в районе современного Пекина.
При Чэн-ване четыре города — Фэнъи и Хао (близ г. Сианя, к юго-западу от него), Цзунчжоу с храмами предков правящего рода Чжоу (в Цишане, современ
ная пров. Шэньси) и Чэнчжоу были, судя по надписям, главными центрами политико-административной деятельности и религиозной жизни страны. Они же были, по-видимому, центрами территориального размещения чжоусцев. Кроме того, их поселения и гарнизоны располагались во всех стратегически важных пунктах завоеванных областей. В то время главными районами военно-политической активности чжоусцев были земли на востоке страны, но западные земли в полной мере сохраняли еще значение их культурно-религиозной метрополии. Такое положение в той или иной мере сохранялось до VIII в. до н.э., когда ваны из дома Чжоу утратили власть над западными землями. Они вынуждены были перенести свою столицу на восток в г. Лои (современный Лоян). У позднечжоуских и ханьских хронистов период истории от падения Шан до переноса столицы получил наименование Западного Чжоу.
Создание западночжоуской государственности
Согласно свидетельству эпиграфических источников, «держава» Чэн-вана обладала уже ясно выраженными признаками государства. По ряду причин сведения о том, что сразу вслед за завоеваниями, проводимыми Чжоу, начался процесс создания и укрепления аппарата публичной власти, имеют первостепенное значение. В данном случае государственная власть выступала организующей формой общества, где отношения частной собственности, как об этом свидетельствуют обширные археологические данные и социологический анализ некоторых древнейших песенно-поэтических циклов, находились на раннем этапе становления. Представлявшие государственную власть группы клановой аристократии Чжоу и ее союзников в самых широких масштабах узурпировали управление средствами производства. В этих условиях аппарат принуждения был важнейшим звеном социально-экономической структуры общества. Государство выступало здесь как единственный и всеобъемлющий политический институт господствующего слоя. Формирующееся государство активно участвовало в перестройке социально-экономической структуры, чтобы приспособить ее к новым задачам управления.
В надписи на сосуде Лин фанъи, отлитом при Чэн-ване, дано весьма четкое описание того, как ван Чжоу осуществлял управление с помощью назначенных им должностных лиц, выполнявших определенные административные задачи:
«Ван повелел сыну Чжоу-гуна [по имени] Минбао взять в свое распоряжение три дела3 и четыре страны света, принять [под свое начало] сановников цинши. Мин-гун (Минбао) прибыл на восток в Чэнчжоу, чтобы осуществлять приказ вана. Он отдал указания, относящиеся к трем службам, сановникам цинши, а также всем начальникам, а также всем управителям кварталов, а также всем ремесленникам, а также всем местным владетелям чжухоу, а именно хоу, тянъ и нанъ. Отдал распоряжения четырем странам света».
3 Под тремя делами, по-видимому, имелись в виду жертвоприношения, руководство ар.мией и управление людьми.
Очевидно, что сложившаяся в начале периода Западного Чжоу система управления во главе с ваном, в руках которого находилась верховная административная власть, была государственной организацией. Судя по цитированной выше надписи, на вершине служебной иерархии находились сановники цинши. Согласно позднейшим данным, цинши могли получать поручения, связанные с самыми различными сферами государственно-административной деятельности, непосредственно от самого вана и служили при его дворе, бывшем в западно-чжоуское время центральным органом управления. Согласно цитированной надписи, кроме цинши в ведении Минбао оказались и подчиненные дворцовым службам начальники служилого и ремесленного люда крупных городов. Ему же было поручено осуществлять прямой административный контроль над местными владетелями, поддерживавшими чжоускую систему господства в разных районах страны.
Уже в надписях на сосуде Лин фанъи проявляется такая характерная для последующих ступеней развития этой государственной организации черта, как передача должностей по наследству. Власть над коллегией сановников цинши переходит здесь от Чжоу-гуна к его сыну Минбао. Выяснение вопроса о составе самой коллегии представляет весьма сложную задачу, так как касающиеся их сведения в разновременных источниках чрезвычайно отрывочны и лапидарны. В одной из од «Шицзина» [Шицзин, III, III, 9], относящейся ко времени Сюань-вана (конец IX — начало VIII в. до н.э.), упомянут цинши (великий сановник) Хуанфу, носивший титул «великого наставника» тайши, но по приказу вана выполнявший обязанности начальника вооруженных сил страны.
Таити, по-видимому, близок, если не идентичен «великому пестуну» тайбао, о котором надписи раннего периода Чжоу обычно упоминают как о высшем военачальнике. Причины появления таких должностей, как «пестуны» и «наставники» вана, по-видимому, скрыты в первоначальных формах сакрализации власти вана.
В известных нам источниках зафиксирован уже такой этап развития древнекитайской государственной организации, когда память о древних обязанностях этих должностных лиц сохраняется только в этимологии их названий, а реальная деятельность связана с выполнением высших военно-административных функций.
Несомненно, что имевшее место в начале Западного Чжоу выделение сторонникам вана вновь присоединенных областей в управление и владение не было еще регулярной формой содержания должностных лиц при ване. В первые десятилетия после завоевания, когда только лишь складывался центральный аппарат управления, наделение завоеванными территориями имело целью утверждение власти Чжоу на местах. Естественно, что в центре одному из высших должностных лиц было поручено следить за тем, как местные владетели чжу-хоу выполняли свои обязательства по отношению к Чэн-вану. Однако следует сказать, что и для последующих этапов истории Западного Чжоу имеются сведения о подведомственности пожалованных владений правительственным агентам.
Как сообщает надпись периода Западного Чжоу на сосуде Чжун Цзи гуй, чиновник был послан к местным владетелям чжухоу и «наблюдателям» чжуцзянь,
чтобы собрать среди них подношения и сделать драгоценный сосуд для Дина. Это единственное в эпиграфике Западного Чжоу упоминание «наблюдателей».
Из других источников известно, что должность «наблюдателя» была учреждена У-ваном для контроля за наследником последнего вана уничтоженного государства Шан и теми из числа местных владетелей из Инь, которые подчинились Чжоу. В позднейшие времена, к которым относится цитированная надпись, когда уже не существовало политически активных сторонников династии Шан, «наблюдатели», по-видимому, назначались к тем из чжухоу, которые были менее других связаны с центральной властью. Ко времени правления Ли-вана (середина IX в. до н.э.) относится надпись на сосуде Чу гуй'.
«Чу, приказываю тебе надзирать за людьми кварталов [города] Чэнчжоу, а также местными владетелями чжухоу... разбирать тяжбы и наказывать».
Следовательно, по крайней мере в XI-IX вв. до н.э. чжухоу находились в сфере действия государственной публичной власти. Они могли стать объектами судебно-административной деятельности назначавшихся ваном официальных лиц. Есть указание на то, что местные владетели не избегли и власти царского фиска. В надписи на отлитом в последней четверти IX в. до н.э. сосуде Си Цзя пань упомянуто следующее распоряжение вана:
«Вы, местные владетели чжухоу и члены ста родов-баысын, должны представить собранное добро в [казенные] сборные пункты, никто из вас пусть не посмеет проникать к варварам, чтобы воровать [чужое] добро, иначе он будет также наказан».
Среди исследователей нет единодушия по вопросу о том, как следует толковать выражение «собранное добро». Некоторые считают, что речь идет о какой-то разновидности налога. Но, поскольку это распоряжение было отдано ваном в связи с успешным походом в земли народа сяньюнъ, естественно предположить, что здесь имелась в виду военная добыча, захваченная местными владетелями и клановой аристократией. Согласуется с этим толкованием и нижеследующий запрет на проведение без ведома центральной власти военных экспедиций с целью грабежа соседних территорий с некитайским населением. Следовательно, местные владетели и представители клановой аристократии должны были делиться своей военной добычей с казной вана.
Приведенные данные о взаимоотношениях вана и чжухоу указывают на то, что на начальном этапе становления государственности Чжоу ван смотрел на последних как на своих служащих, которым поручено управлять областями. Древнекитайские чжухоу, осуществлявшие административное управление подвластным им населением, собиравшие среди него в свою пользу дань, заставлявшие его нести повинности, обладавшие собственным аппаратом власти, являлись царьками по отношению к этому населению и наместниками по отношению к вану. Некоторые исследователи склонны трактовать характерную для начала Западного Чжоу практику создания жалованных областей в терминах условного землевладения. Очевидно, однако, что здесь мы имеем дело не с формами наделения землей на правах условной собственности, а со своего рода «отчуждением» в пользу отдельных местных владетелей царского суверенитета.
Следует сказать, что с течением времени в статусе чжухоу несомненно происходили изменения. К середине IX в. до н.э. относятся документы, официально санкционировавшие передачу «жалованных владений» по наследству. Так, в надписи на сосуде Бо Чэнь дин сказано: «Ван объявил указ для Гэн(?)-хоу Бо Чэня: „Наследуй твоим предкам и усопшему отцу, будь хоу в [местности] Гэн (?)“». Естественно предположить, что в тех случаях, когда имело место длительное и беспрерывное обладание отдельными территориями, у местных владетелей появлялась возможность ввести в свой статус наряду с правами политического происхождения и определенные поземельные права. Результатом длительного исторического процесса, который шел на протяжении всего периода Западного Чжоу, явилось то, что отдельные местные владетели из наместников вана превратились в фактически полных обладателей высшей территориальной власти на местах.
Западночжоуская политическая доктрина
В ходе консолидации общества публично-правового типа, протекавшей в начальный период Западного Чжоу, узурпировавший сферу управления слой начал выступать как внешняя по отношению ко всему народу сила, что сопровождалось сакрализацией функций высшей власти и самой личности правителя. Из числа выработанных западночжоускими идеологами узаконений власти вана центральное место несомненно принадлежит утверждению, что в последнем была воплощена связь чжоусцев с космическим порядком. Ван представлялся земным аналогом Неба, верховного божества в религии чжоуского правящего рода, в котором, судя по ряду свидетельств, древние признавали личное начало, наделенное рядом чисто этических предикатов. В одной из ранних западночжоуских надписей на сосуде Чжоугун гуй Небо и ван выступают как два мироустроителя, носящие имена «Верхнего владыки» и «Нижнего владыки» (Шанди и Сяди). Типичная для идеологов раннеклассового общества презумпция божественного происхождения верховной власти проявилась и в том, что составители западночжоуских надписей стали присваивать вану титул «сына Неба» (тяньцзы). Божественной санкцией был освящен также вошедший в древнекитайскую религиозно-политическую доктрину принцип господства вана над всем земным миром, над «всем, что под Небом». Наиболее ярко этот принцип выражен в одной из од «Шицзина»: «Широко кругом простирается небо, но нет под небом ни пяди нецарской земли». Утверждение данного песенно-поэтического текста о «подведомственности» всей ойкумены вану имеет характер религиозного постулата и никоим образом не может служить указанием на то, что древнекитайская государственно-правовая теория рассматривала вана как верховного собственника земель государства.
Как явствует из надписей на бронзовых ритуальных сосудах, западночжоу-ские идеологи, видевшие в земной жизни единственную арену правосудия Неба, объясняли возвышение племени чжоу тем, что вождям последнего было вручено «небесное повеление» (тянъмин), утраченное прежде шанскими ванами. В обра-
27. Военные, охотничьи, хозяйственно-бытовые и ритуальные сцены. Гравированные изображения с бронзового сосуда для вина (прорисовка).
Чэнду. Сычуань. Период Чжаньго. Vв. дон.э.
щении к владельцу сосуда Да Юй дин (начало X в. до н.э.) сказано: «Юй, величественному и славному Вэнь-вану Небо вручило великое повеление. Когда У-ван наследовал Вэню, он создал державу. Он устранил сотворенное ими (иньцами) зло, распространил власть Чжоу на четыре страны света... Я слыхал, что Инь потеряло повеление Неба». Подобные утверждения имеются и в надписи на сосуде Маогун дин: «Почтенный родственник Инь, во времена величественных и славных Вэня и У великое Небо, широко простирая свою благую силу (дэ), сочло наше владетельное Чжоу достойным принять великое повеление и повести за собой непокорные владения...» Одним из важнейших атрибутов деятельности Неба в этой цитате оказывается «благая сила» — дэ, упоминания о которой появляются впервые в ранних западночжоуских надписях. Здесь она имеет отчетливые черты упорядочивающего мир активного начала.
С другой стороны, согласно утверждениям, встречающимся в официальных гимнах дома Чжоу, а также в других ранних текстах, первые чжоуские ваны стали избранниками Неба потому, что их отношение к высшим силам было проникнуто дэ: «Ведь этот Вэнь-ван был осторожен и почтителен, с открытой душой служил Верхнему владыке (т.е. Небу. — К.В.) и тогда обрел большое благополучие. Его дэ была без порока, и поэтому он получил владения четырех стран света». Наличие дэ и делало вана тождественным Верхнему владыке.
Судя по данным западночжоуских надписей, а также тех семи глав «Шу-цзина», создание которых современная наука относит к X-VIII вв. до н.э. («Да-гао», «Кангао», «Цзюгао», «Логао», «Доши», «Цзюньши» и «Дофан»), древние приписывали магической силе дэ способность пространственного распространения, сопровождавшегося благотворными переменами в обществе и природе: «Твоя дэ проявляется в виде сияния, [освещающего] верхние и нижние [сферы], ты с усердием распространяешь ее на четыре страны света». Убеждение в том, что применение этой силы при посредстве соответствующих чиновников могло привести к умиротворению непокорных наместников в пограничных землях, отражено в обращении Ли-вана (середина IX в. до н.э.) к владельцу сосуда Фань Шэн гуй: «Будь почтительным с утра до вечера, постоянно старайся, чтобы не была сокрытой благая сила дэ, необходимая для исправления четырех стран света, дающая возможность дальних сделать близкими».
Весьма интересны те аспекты дэ, которые раскрываются, если рассматривать ее как элемент древнекитайской концепции сохранения традиционного порядка в мире. Уже тексты, составленные через несколько десятилетий после победы чжоусцев над Инь-Шан, отражают становление окрашенной в тона этиологического мифа концепции, согласно которой начало чжоуского правления было результатом деятельности двух лиц— Вэнь-вана, мирного правителя, и У-вана, военного вождя и завоевателя, бывших обладателями полной дэ. Стереотипная формула, с помощью которой описывали задачи деятельности последующих правителей, содержала требование сохранять небесное повеление, полученное Вэнь-ваном и У-ваном. Исполнение этого требования представлялось западно-чжоуским идеологам делом весьма сложным.
У чжоуского правителя был еще один титул — «единственный в [мире] человек», который он позаимствовал у шанских ванов. Утверждая вана в роли «един
ственного», через кого только и возможен прямой контакт с Небом, доктрина считала, что для этого необходимо не только определенное происхождение, но и наличие достаточных персональных способностей. Данное требование вносило во все рассуждения западночжоуских идеологов об отношении Неба к правителю ноты напряженности и трагизма. Если, с одной стороны, в Небе воплощался высший авторитет, то, с другой стороны, судя по утверждению ранних псевдо-документальных текстов, собранных в «Шуцзине», испытывался постоянный страх перед бесстрастием и неисповедимостью небесного правосудия: «Небесное повеление нелегко сохранять. Небу трудно доверять. На Небо нельзя полагаться» и т.д. В условиях примитивности и противоречивости религиозно-этических воззрений приходилось искать выход не в достижении правителем неких абстрактных достоинств, основанных на внутреннем нравственном самоопределении, а в приобщении к магической силе основателей династии и в ритуале, который должен был содействовать ее консервации: «Наш путь в том, чтобы лишь сохранить дэ вана-умиротворителя, тогда Небо не будет иметь случая изменить повеление, полученное Вэнь-ваном». Смысл и цели этого приобщения очевидны. В то же время в дэ прежних ванов видели магическое начало, связывавшее правителя с космическими силами.
Считалось, что для правителя единственная возможность сохранить благосклонность Неба состоит в культивировании магической силы дэ, полученной от предков. В связи с этим родилась практика при помощи различных психофизических действий, например магического молчания, постоянно возбуждать это начало в правителе. Был выработан ритуал «уведомления Неба» о том, что правитель обладает достаточной магической силой. Эти особенности чжоуской религиозно-политической доктрины нашли отражение в надписи на сосуде Маогун дин, составленной в форме обращения правителя к одному из сановников: «Будь почтительным с утра до вечера, окажи мне, единственному [в мире] человеку, услугу. Вноси умиротворение в большие и малые замыслы [сановников] моей державы. Не срывай печати молчания [с моих уст]. Рассказывай о дэ прежних ванов и моей магической силе, чтобы я с надеждой смотрел ввысь на великое Небо, сохранил бы небесное повеление (тяньмин), смог бы умиротворить четыре страны света, чтобы я не принес беспокойства прежним ванам». Источники рассказывают о разработке целой системы подобного рода психофизических действий, целью которых было постоянно поддерживать активность магического начала в правителе. Для иллюстрации можно привести запись несомненно легендарного предания, сохранившегося в «Повествованиях о царствах» («Гоюй»): «В древности иньский У Дин мог возбуждать в себе силу дэ до такой степени, что вступал в контакт с духами». Один из приемов, которым это достигалось, — трехлетнее молчание.
Весьма часто в качестве средства приобщения к магической силе прежних ванов надписи упоминают метод копирования: «Я только лишь копирую и преклоняюсь перед управлением и силой дэ Вэнь-вана» (сосуд Да Юй дин). Сама личность первых правителей дома Чжоу была канонизирована, превратилась в идеальный образец, определявший способ и характер социального поведения
представителей западночжоуского правящего слоя. Так, в наставлении владельцу сосуда Му гуй (конец X в. до н.э.) сказано: «Му, ты не смеешь пренебрегать светлыми образцами, которые установлены прежними ванами».
Вообще в период Западного Чжоу копирование, подражание образцам в среде представителей государственно-административного аппарата становится одним из основных социально-психологических механизмов, проявлявшимся в ряде стереотипных форм общественного поведения. Подобно тому как для правителя не было ничего важнее сохранения «приказа Неба» {тпянъмин), чего стремились достигнуть, помещая его жизнь в замкнутом кругу традиционных действий, так для члена правящего слоя жизненная программа сводилась к необходимости постоянно обладать «повелением вана». В надписях на бронзовых ритуальных сосудах сохранились заклинательные формулы, смысл которых состоял в том, чтобы обеспечить владельцу сосуда вечное обладание повелением вана: «Юй, тебе надлежит десять тысяч лет вечно сохранять [повеление вана], быть подданным сына Неба» {Ши Юй гуй); «Сун, тебе надлежит в течение десяти тысяч лет, без предела, ежедневно осуществлять повеление вана» {Ши Сун гуй). Идеологи Западного Чжоу видели важнейшее условие, необходимое для достижения этой цели, в копировании, типизации поведения, которые были характерной чертой жизни не только правителей, но и других групп правящего слоя. Подтверждением служит то, что одним из наиболее распространенных элементов правил и предписаний для официальных лиц, встречающихся в западночжоуских надписях, были призывы к подражанию.
В этой системе социально-психологической регламентации использовались стандарты разных уровней. Кроме первых западночжоуских ванов, бывших главными объектами подражания, часто в качестве образцов выступали и предки тех лиц, к которым обращены надписи на ритуальных сосудах: «Приказываю тебе, Юй, следовать образцу и быть преемником твоему предку Нань-гуну» {Да Юй дин). В надписи на сосуде Фань Шэн гуй сказано: «Фань Шэн не смеет не брать за образец своих усопших предков». Копирование образца предка, получившего повеление от первых «совершенномудрых» правителей, представляло собой магический ритуал, который на основе присущего древнему сознанию механизма мифологического отождествления должен был способствовать возрождению данного повеления для последующих поколений. Одним из институтов, поддерживавших внутри правящего слоя установку на сохранение и передачу заданного образца, было наследственное замещение официальных должностей. Так, в надписи на сосуде Тун гуй читаем: «Ван повелел: „Тун, будь помощником У Дайфу, ведай надзирателями заповедников, лесниками, надзирателями гор и болот, а также пастухами [на землях] от [реки] Ху на восток до [Хуан]хэ, а на север до Сюаньшуй. [Передавая должность] по наследству, из поколения в поколение помогайте У Дайфу“». Подобные примеры находим и в надписях на сосудах Ху дин, Ху ху, Ши Ю гуй, Ши Дуй гуй и др.
Каждое звено в цепи основанного на кровном родстве наследования должностей начиналось специальным указом вана, но этот указ считался лишь возобновлением древнего образца: «Я только руководствуюсь образцом, заключенным
в повелении прежних ванов, и приказываю тебе наследовать должность твоего усопшего отца и предков, ведать [конской упряжью]4, [острогами и наказаниями]5 левой и правой [армий]» {Ши Ху гуй). Безусловно, общее положение о необходимости подражания «образцу предков» содержало также ряд частных аспектов. В период Западного Чжоу копирование было одним из элементов кодекса поведения, обладавшим нормативным значением для официальных лиц. Упоминаемый в надписях «образец предков» следует, по-видимому, рассматривать как символ целой социально-этической программы, устанавливавшей способы действий представителей публичной власти в тех или иных ситуациях. В результате внедрения в общественную практику чжоусцев перечисленных выше символов оправдания власти и интеграции древнекитайского общества вокруг норм строгого традиционализма были заложены основы могущественного механизма контроля над человеческим поведением.
Изложенное показывает, что в эпоху Чжоу окончательно сформировалось представление о космосе как о едином континууме, в котором верховный правитель— ван, рассматривавшийся как двойник Небесного владыки, выступал в качестве организатора и гаранта гармонического функционирования общества. Верховный правитель в чжоуской религиозно-политической доктрине— это связующее звено между пространственным и календарным циклами космоса, единственный посредник между землей и Небом, между различными сферами космоса, между людьми и верховным божеством. Поскольку правитель-ван рассматривался как высший медиатор, его изначальная функция состояла в том, чтобы представлять иной план бытия. Конечно, космическая модель и концепция власти вана, сложившиеся в древнем Китае, не были ни проявлением Абсолютного духа, ни результатом саморазвития каких-то свойств и качеств, имманентных носителям древнекитайского этноса. Они складывались вслед за социально-политическим развитием древнекитайского общества, формировались в процессе сложного диалектического взаимодействия с различными социально-политическими его структурами.
Как известно, достигая определенной ступени развития, общество начинает возносить над собой свои собственные порядки и установления. Так, зародившиеся у самых истоков древнекитайской государственности сакрализация и ритуализация высшей власти способствовали тому, что свойственная древнекитайской религиозно-мифологической системе глобальная космическая модель отразила определенные черты древнейшей государственно-политической организации. С другой стороны, поскольку вознесенный над землей мир начинает выступать источником порядка, управлявшего жизнью древнекитайского общества, религиозные комплексы, функционировавшие в роли особых регулятивных механизмов социальной деятельности человека, начинают активно влиять на оформление различных общественных институтов. При этом, в связи с разработкой все более полных и законченных представлений о космосе, функциональное развитие концепции власти состояло в том, что ван и его окружение должны бы-
4 Толкование Го Можо.
5 Толкование Сиракавы Сидзуки.
ли все более полно и подробно его моделировать. Всякий акт государственной власти считался направленным на поддержание гармонии в космосе. Согласно утверждениям древнекитайских идеологов, социальный порядок нельзя себе представить вне связи с тем порядком, который царит в природе, так как вся природа считалась не чем иным, как символом трансцендентных реальностей. Вся жизнь правителя была построена так, чтобы подать подданным пример жизни, соответствующей естественному порядку и не рискующей нарушать естественный ход событий.
В реальной государственной практике, о которой можно судить по свидетельствам эпиграфических источников и исторических текстов, эта концепция власти проявлялась в обширнейшей системе магических действий, исполнявшихся ваном, целью которых было поддержание существующего природного и социального порядка. Следует заметить, что тотальный характер концепции власти правителя-вана вовсе не свидетельствовал о том, что, по представлениям западночжоуских идеологов, он спонтанно, всегда и в равной мере обладал необходимым всемогуществом. Обширность и тяжесть обязанностей, возлагавшихся на правителя религиозно-политической доктриной, имели и обратную сторону. Параллельно с пиететом складывался принцип, согласно которому супранатуральные свойства правителя, его особые персональные качества нуждались в постоянной внутренней стимуляции и во внешней опеке и поддержке.
В разного рода ранних памятниках встречаются рассуждения, как трудно наследникам сохранять магическую силу предка-первоправителя, ставшего некогда избранником Неба.
Если рассматривать концепцию власти правителя-вана сквозь призму древнекитайской истории периодов Шан и Западного Чжоу, то она по сути своей очень точно отражала реальную социально-политическую ситуацию. Действительно, полнота власти древнекитайских правителей встречала ограничения в таких реальных обстоятельствах, как засилье ближайших родственников и глав сильных кланов, из числа которых выходили «пестуны», «сакральные помощники». Без них, согласно доктрине, ван не мог обойтись. Они фактически делили высшую власть в государстве с опекаемым ими ваном. С другой стороны, культурная традиция долгое время поддерживала политическое влияние и высокое общественное положение кланов, из поколения в поколение имевших привилегии на близость и личные контакты с правителем. Таким образом, ни шанская, ни запад-ночжоуская «монархии» по своему политическому режиму не подходят под определение деспотии, в которой, по словам Монтескье, все должно было двигаться волей и произволом одного лица. К середине I тысячелетия до н.э., когда в государствах, возникших на развалинах западночжоуской монархии, систему «сакральных помощников» правителя вытесняет аппарат технической бюрократии, происходит уже заметная эрозия традиционной религиозно-политической доктрины.
Центральная власть и органы местного управления
Данные исторической традиции о нормах преемственности внутри правящего рода Чжоу и о порядке передачи власти вана свидетельствуют, что он был основан на принципе примогенитуры. В период расцвета западночжоуской государственности объем власти правителей, по сравнению с неограниченной властью завоевателей У-вана и Чэн-вана, несомненно сузился из-за ограничений, налагавшихся стабилизированным политическим строем и сложившейся религиознополитической доктриной. На протяжении X-IX вв. до н.э. администрация Чжоу оформилась в виде иерархически построенной системы с многочисленными должностями и разнообразными титулами, со строгим подчинением одних чиновников другим. Судя по эпиграфическим данным, в это время дворец вана продолжал выполнять функции центрального административного управления. Характерные для времени Западного Чжоу особенности сакрализации власти и личности вана оказали заметное влияние на различные элементы древнекитайской государственной организации. Наличие в весьма ранних известиях титулов типа «великий пестун», «великий наставник» и т.п. указывает на то, что в высшей администрации видели не столько аппарат, исполнявший определенные технические функции, сколько группу сакральных помощников вана, необходимых для поддержания в нем особых магических сил и способностей. К числу официальных лиц, которые согласно их титулу считались весьма приближенными к особе правителя, принадлежали и шанъфу— стольники. Как свидетельствуют эпиграфические данные, последние не были исключительно связаны с обслуживанием личных нужд вана, но исполняли также разного рода административные и военные должности. В надписи на сосуде Сяо Кэ дин сказано: «Ван распорядился, чтобы стольник передал его приказ в восемь продленных и исправленных военных лагерей города Чэнчжоу».
Как уже отмечалось, в период Западного Чжоу приказам вана приписывали сакральный смысл, поэтому деятельность стольника в качестве их передатчика носила особо доверенный и универсальный характер. Весьма близко к вану стоял цзай — управитель. Он и люди его ведомства были «глашатаями воли вана внутри дворца, ведали дворцовыми ремесленниками» (надпись на сосуде Цай гуй), «следили за храмами предков вана в местности Би» (надпись на сосуде Ван гуй). Наряду с должностными лицами, титулы которых и реальные функции прямо или косвенно были связаны с личной жизнью правителя и его персональной деятельностью, источники упоминают ряд служб, непосредственно руководивших сферой материального производства.
В период Западного Чжоу, в условиях, когда государственная жизнь делала первые шаги, а государственная власть не имела еще достаточно сил для всесторонней интенсивной эксплуатации обширных подчиненных территорий и их населения, сумма казенных владений была ведущим источником государственного дохода. Весьма важной статьей последнего были поступления с земель вана. В эпиграфических текстах Западного Чжоу, обращенных к чиновникам, осуще
ствлявшим верховный надзор и управление этими землями, они носят название «цзетянъ»— «поля цзе». Так, в надписи на сосуде Цзай гуй, отлитом в годы правления Сюань-вана (827-782 гг. до н.э.), сказано: «Цзай, приказываю тебе стать сыту (надзирателем земель) и управлять полями цзе». Если судить по датированной началом Западного Чжоу надписи на Лин дине: «Ван величественно участвовал в земледельческих работах цзе на поле Цитянь», то термин цзе должен был определять своеобразие труда на землях вана. В цитированной надписи на первый план выступает обрядовая сторона этого труда, который здесь включает сакральную пахоту вана и сопровождается жертвоприношениями и ритуальной стрельбой из лука. Было высказано мнение, что поля цзе создавались на землях, бывших ранее коллективным владением земледельческих общин, посвященным местным божествам земли и посевов. Однако сакральная пахота вана в эпоху Чжоу была связана с весенними жертвоприношениями цзяо, обращенными к Хоуцзи, тотемному предку правящего рода Чжоу, выступавшему в роли высшего покровителя земледелия и подателя плодородия. Нет никаких оснований, чтобы в обрядовой стороне земледельческих работ на полях цзе видеть реликты местных общинных традиций. Очевидно, она являлась элементом государственного культа Хоуцзи. Поскольку с точки зрения официальной запад-ночжоуской идеологии власть вана выступала как фактор, обеспечивающий благополучие всего народа, то с помощью его участия в ритуале в честь Хоуцзи стремились обеспечить плодородие не только казенных, но и всех остальных полей страны.
Нет свидетельств, которые могли бы подтвердить и то мнение, что поля цзе появились в результате присвоения центральной властью прав на коллективные общинные угодья. Как нам представляется, казенные владения могли возникать вследствие оккупации государством любых свободных земель. Об их распространенности свидетельствуют надписи, обращенные к чиновникам, ведавшим ими. Так, из текста указа Сяо-вана (начало IX в. до н.э.) — «Вслед за предками и покойным отцом стань главным надзирателем земель в восьми военных поселениях Чэнчжоу» (сосуд Ху ху) — следует, что казенные владения были созданы на территории одного из центров расселения чжоусцев в бывших иньских землях. Упоминает смотрителей царских полей и надпись на колоколе Цзо чжун.
Полю вана, о котором идет речь в надписи на сосуде Ян гуй (середина IX в. до н.э.), присущи черты своеобразного территориально-хозяйственного комплекса: «Ян, будь надзирателем ремесленников (сыгун), управляй смотрителями поля Лянтянь, а также смотрителями жилища вана, а также [смотрителями шатров , смотрителями фуража6 7], а также надзирателями преступников (сыкоу), а также мастерами ремесленников». По мнению Сиракавы Сидзуки, все перечисленные здесь чиновники во главе с Яном управляли разными отраслями хозяйства домена Лянтянь. Здесь наряду с земельными угодьями был расположен «путевой дворец» вана, а также обслуживающий его штат ремесленников и работников, привлеченных к участию в принудительном труде в пользу государства. «Дворцо
6 Толкование Чэнь Мэнцзя.
7 Толкование Сиракавы Сидзуки.
вый» уклон хозяйства Лянтяня, по-видимому, и явился причиной того, что во главе его был поставлен не «надзиратель земель» (сыту), а «надзиратель ремесленников». В источнике, отразившем историческую традицию Западного Чжоу, упомянуто и третье поле вана, называвшееся цянъму. Обработка этих полей представляла одну из повинностей, которую земледельцы отбывали в хозяйстве вана. Об этом свидетельствует приписываемое Конфуцию высказывание, являющееся частью древнего апокрифического текста, сохранившегося в составе «Гоюя»: «Прежние ваны управляли землями, обрабатывали поля цзе силами крестьян, выравнивали их [повинности] в соответствии с тем, далеко или близко [они жили]». Контекст подтверждает, что в этом высказывании имелись в виду ваны периода Западного Чжоу. Отмеченная древним автором необходимость регулировать раскладку государственной барщины среди земледельцев в зависимости от расстояния между местом их жительства и полями вана указывает на то, что для обработки каждого такого поля привлекалось повинностное население с обширной территории. В период Чуньцю в малых владениях к работам на поле вана привлекалось все трудоспособное население. Это видно из следующего свидетельства «Цзочжуаня», относящегося к VI в. до н.э.: «Все жители владения Юй участвовали в земледельческих работах цзе на рисовом поле правителя».
Таким образом, термином цзе в древности обозначали не только ритуальную пахоту, связанную с государственным культом Хоуцзи, но и способ организации земледельческих работ, требовавший одновременного участия большого числа работников. Обширное хозяйство полей вана велось руками подневольных земледельцев, которые в период отбывания трудовой повинности попадали в распоряжение ведомства «надзирателя земель». К сожалению, то обстоятельство, что мы располагаем небольшим числом разобщенных и разновременных известий, крайне ограничивает возможность уточнения социальной сущности работ на «полях цзе». Можно лишь высказать предположение, что отношение земледельцев к хозяйству вана, по-видимому, выходило за пределы простых публично-правовых повинностей.
Во всех районах, где были расположены казенные земли, создавались местные ведомства «надзирателя земель». Есть данные, что в период Западного Чжоу под контролем последнего находились и такие традиционные источники фискальных доходов, как леса и воды. Не сохранилось известий о том, как проходил процесс, в ходе которого государство овладевало ими. До нас дошли лишь памятники второй четверти IX в. до н.э., в которых леса, водные пространства и пастбища уже оказываются объектами забот особых чиновников, подчиненных «надзирателю земель». Так, в надписи на сосуде Мянъ гуй читаем: «[Ван] распорядился изготовить указ для Мяня: „Приказываю тебе, Мянь, надзирать за лесом"».
На другом сосуде — Мянъ фу о том же лице говорится:
«Приказываю тебе, Мянь, стать надзирателем земель (сыту) и управлять смотрителями заповедников, лесниками в Чжэн, а также смотрителями вод, а также смотрителями пастбищ в [местности] Дянь».
Большая надпись на сосуде Саныии панъ упоминает среди чиновников, представлявших клан Цзэ в его территориальном споре с кланом Сань, «смотрителя
вод» из Доу, «смотрителя гор» (?) из Као и «смотрителя вод» из Юаня. Организации ведомства «надзирателя земель» были присущи весьма архаические черты, характерные для раннего этапа развития государственности, когда не умели еще четко отличать публично-правовые функции правителя от его частноправовых функций как собственника.
Действительно, наряду с лесами, горами и водами в ведении надзирателя находились и разного рода заповедные территории, принадлежавшие вану. Можно лишь догадываться о том, как власти Западного Чжоу использовали свой контроль над природными богатствами страны. В одном небольшом дидактическом повествовании, героями которого являются Ли-ван и его советники, все природные богатства названы «источниками выгоды» для государства. По-видимому, данный факт следует расценивать как указание на то, что власти Западного Чжоу установили практику взимания платы за пользование лесами, пастбищами, водоемами и т.д.
Если в надписях имеются определенные указания на то, кто осуществлял контроль над землями вана и природными богатствами страны, то многие из вопросов, связанных со сбором налогов, остаются без ответа. Неясно, например, находился ли он в руках представителей центрального аппарата или местных административных органов. Известно лишь, что термин чжу— «накопленное добро» — мог означать подать, взимавшуюся преимущественно в натуральной форме, а также сам процесс сбора этой подати должностными лицами вана. Так, в надписи на Маогун дине, обращенной к одному из советников Сюань-вана, сказано: «Не стесняй простой люд. При сборе подати чжу не обременяй его слишком. Когда слишком обременяют, то обижают вдов и сирот». Если повинности по обработке царских полей несли, по-видимому, и соплеменники вана, то государственные подати связаны только с завоеванным населением. На сосуде Си Цзя панъ читаем: «Ван приказал, чтобы Цзя ведал поступлениями из подчиненных Чэнчжоу четырех стран света вплоть до южнохуайских [варваров] и. Хуайские и — это люди, издавна платящие мне дань шелком и раковинами. Они не смеют не представить их шелк и раковины, а также собранные у них продукты, а также причитающихся с них людей и их подать. Они не смеют не доставить [все это] в [военные] лагеря (?) и на казенные сборные пункты. Если они осмелятся не внять приказу, то следует немедля покарать, напав на них». Большой интерес представляет содержащееся в данном тексте упоминание о том, что для приема натуральных поставок государством были устроены специальные склады («казенные сборные пункты»). Известий о способах сбора подати и точном составе ее не сохранилось, но можно предположить, что государство и местные владетели стремились получить доход с покоренного населения в наиболее простой и удобной для них форме, в такой, как оброк натурой из доли урожая.
Судя по немногим дошедшим до нас сведениям, к середине IX в. до н.э. в древнем Китае имелись уже элементы стабильной территориально-административной организации. Исследователи давно уже обратили внимание на следующее место в надписи на сосуде Ши Дуй гуй: «Ван позвал начальника придворных писцов, чтобы изготовили приказ для Ши Дуя, в котором ему велено было помогать Ши Хэфу управлять кучерами левой и правой [конюшен], куче
рами пяти поселений». Пять поселений как некое терминологическое единство и объект контроля со стороны агентов центральной власти известны также и в другом контексте: «Чуан, покойный ван уже приказывал тебе основать поселения и ведать (?) молитвами в пяти поселениях» (сосуд Чуан гуй). Было высказано мнение, что пять поселений — это обозначение западночжоуской административной единицы. Оно подтверждается находками последних лет. Надпись на колоколе Цзо чжун, найденном в 1960 г., упоминает о том, что владельцу этого колокола было приказано «управлять смотрителями полей вана пяти поселений». Таким образом, пять поселений — это определенный территориальный комплекс, внутри которого административную власть осуществляли назначенные ваном должностные лица. Наряду с такими искусственными образованиями, как пять поселений, создавшимися, по-видимому, во вновь освоенных и заселенных пунктах, надписи упоминают об использовании в качестве административных районов земли естественно сложившихся клановых территорий с точно фиксированными границами. Так, на землях кланов Сань и Цзэ, по свидетельству надписи Саныии панъ, исполнение административно-фискальных функций было связано только с представителями государственного аппарата. Все важнейшие аспекты управления местными делами были сосредоточены в руках разных агентов центральной власти: сыту — «надзирателя земель», сыгун— «надзирателя ремесленников», сыма — «надзирателя коней» и т.д. По данным надписи на сосуде Саныии панъ, десять чиновников образовывали на клановой территории единоличные органы местной администрации.
С момента становления Западного Чжоу как державы существовали также административные округа, зависевшие от военной организации. Последняя по материалам надписей представляется в следующем виде: уже самые ранние надписи Западного Чжоу упоминают военные формирования «шести западных лагерей», «восьми лагерей города Чэнчжоу» и «восьми лагерей Инь». Территориальное размещение военных лагерей было обусловлено исторически: они были сконцентрированы на западе, в исконных землях клана Чжоу, и в районах, прилегавших к новой столице, много их было также в стратегически важных пунктах отвоеванных у Инь областей. Из отрядов «шести западных лагерей» формировалась охрана и эскорт вана. Армии «восьми лагерей Чэнчжоу» и «восьми лагерей Инь» выставляли гарнизоны для крупнейших поселений на востоке страны, а также несли караульную и полицейскую службу в землях и — восточных и южных «варваров». Не сохранилось указаний, создавались ли эти воинские части на основе системы вербовки или какой-нибудь разновидности регулярного набора. Можно лишь утверждать, что в распоряжении военных лагерей имелись определенные комплексы земельных угодий, служившие для них хозяйственной базой.
Так, в надписи на Наньгун Лю дине сказано: «Ван велел начальнику придворных писцов изготовить для Лю приказ о том, что ему [надлежит] управлять пастухами в Ян и Да... принадлежащими шести [военным] лагерям, управлять смотрителями [царских] полей в Си, И и Ян». Аналогичен текст надписи на сосуде Ху ху\ «Ван велел начальнику придворных писцов изготовить для Ху приказ: „Вслед за предками и покойным отцом стань главным надсмотрщиком зе
мель в восьми лагерях Чэнчжоу44». Отсюда следует, что военные лагеря образовывали неразрывное единство со своей земледельческо-скотоводческой округой, представлявшей собой элемент общегосударственной территориально-административной организации. Эпиграфические упоминания о земледельческо-скотоводческой округе, принадлежавшей военным лагерям, наводят на мысль, что комплектование размещенных в этих лагерях войск происходило за счет способных к ратному делу людей, специально поселенных поблизости с обязательством защиты границ и военной службы.
Во главе военных лагерей вана стояли ши — наставники. По свидетельству надписей, последние руководили пограничной службой и карательными операциями в землях варваров, которые осуществляли войска, выставлявшиеся лагерями. «Наставники» возглавляли также полицейскую службу в столичных городах, отряды телохранителей вана и дворцовой стражи. Им передавались права распоряжения и принуждения по отношению к большим группам людей разного социального статуса, для которых дополнительной повинностью или постоянной обязанностью было несение гарнизонной и полицейской службы в качестве воинов или обслуживающего персонала. Сохранился ряд памятников, которые рассказывают о том, что наставники распоряжались многочисленными отрядами, включавшими как привилегированную придворную стражу, так и военнопленных-рабов. Такова надпись на сосуде Ши Ю гуй, обращенная к наставнику Ю: «Вослед предкам по наследству управляй ижэнъ („людьми поселений44) и хучэнь („слугами-храбрецами44), варварами западных ворот... столичными варварами...»
В 1959 г. в пров. Шэньси был найден сосуд с надписью, сделанной для сына Ю — наставника Хуна (или, по другим толкованиям, Сюня): «Ван сказал: „Хун, великие и славные [ваны] Вэнь и У получили повеление [Неба], тогда вослед предкам стали утверждать чжоускую державу. Ныне я приказываю тебе по наследству принять управление "людьми поселений”, а также идущими впереди "слугами-храбрецами” и идущими сзади юн ("прислужниками"), варварами Западных ворот, варварами из Чун, столичными варварами... пограничными людьми из Цинь, сдавшимися людьми и покорившимися варварами44» (сосуд Хун гуй). Возглавляли иерархию тех, кто был подчинен Ю и Хуну, «люди поселений». Ито Митихару видит в них свободных жителей поселений, привлекавшихся к воинской повинности на определенный срок. Что касается «слуг-храбрецов», то это были телохранители вана, вербовавшиеся из представителей покоренных народов. Низшими по своему социальному статусу, несомненно, были «прислужники». Набранные из числа военнопленных и подчинившихся «варваров», они составляли одну из основных групп зависимого населения, находившегося в непосредственном и постоянном подчинении у представителей администрации вана. Значение их как военной силы, несомненно, было ничтожно по сравнению с теми многообразными обязанностями, которые они исполняли в хозяйстве вана.
Таким образом, известные нам по эпиграфическим данным различные отряды воинов, дворцовой и пограничной стражи, а также обслуживавших их государственных работников, находившиеся в подчинении у наставников, представляли собой зачатки постоянной армии. Сохранились свидетельства, что в некоторых
городах в пограничных крепостях находились постоянные гарнизоны. Некоторые категории воинов, по-видимому, получали содержание от государства.
Характернейшая черта администрации Западного Чжоу состояла в том, что ван передавал ей в широких масштабах правомочия по отношению к тем группам зависимого населения, которые были связаны с хозяйством вана. И стоявшие у вершины придворной иерархической лестницы «стольники», и рядовые представители администрации вана были облечены правом распоряжения и принуждения по отношению к разным категориям прислужников и челяди. Сохранился приказ вана стольнику Шаню: «Шань, приказываю тебе управлять приготовляющими питье подаренными людьми в [местности] X» (сосуд Шанъфу Шанъ дин). По-видимому, все потребности каждого царского дворца обеспечивались трудом зависимых ремесленников и челяди, вся жизнь которых проходила под надзором соответствующих чиновников. Надпись на Сун дине упоминает о функциях одного из чиновников чэнчжоуского дворца: «Сун, приказываю тебе управлять двадцатью семействами из Чэнчжоу, приносящими [изготовленные ими] товары, следить за вновь изготовленными товарами, использовать их для нужд дворца».
Власть чиновников, о которых рассказывают эти надписи, несомненно, носила публично-правовой характер. Они управляли людьми, принадлежавшими к хозяйству вана, в качестве его представителей. Но несомненно также и то, что в условиях общества Западного Чжоу эта власть в ряде конкретных случаев получала возможность перерастать во власть личную.
Экономическое развитие
Планомерное и систематическое изучение памятников материальной культуры периода Западного Чжоу началось сравнительно недавно. Однако полученные археологами данные дают им основание утверждать, что простой народ раннего Чжоу не очень отличался от шанских предшественников по своей материальной культуре. Орудия производства, в том числе земледельческий инвентарь, как и в эпоху Инь, изготовлялись из дерева, камня, кости и раковин. По-прежнему основу земледельческого инвентаря составляли каменные мотыги, различные деревянные орудия для проведения борозды и лопаты. Согласно утверждениям специалистов по истории китайского сельского хозяйства, ни среди археологических материалов, ни в данных письменных источников нет каких-либо достоверных свидетельств о распространении в период Западного Чжоу плужной пахоты. Однако отраженное в земледельческих песнях «Шицзина» широкое освоение богатых аллювиальными отложениями земель в среднем и нижнем течении Хуанхэ, а также умение выращивать большее, нежели в предыдущий период, число культурных растений указывают на заметный прогресс в сельскохозяйственном производстве. Очевидно, что он был достигнут не за счет изменений в мертвом инвентаре, а вследствие роста агрономического опыта занятых в земледелии работников. Действительно, исследователи отмечают распространение более совершенных методов обработки земли. Как установлено палеографами,
представленный в надписях периода Западного Чжоу иероглиф цзян (межа, граница) включал графический элемент, схематически изображавший «канавы между полями», что в сопоставлении с некоторыми данными «Шицзина» дает основание утверждать наличие в период Западного Чжоу ирригационных сооружений и орошаемого земледелия. Статистика упоминаний злаковых в «Шицзине» свидетельствует, что наиболее распространенными в то время культурами были разные сорта проса и пшеницы, но наряду с ними все большую роль начинает играть возделывание риса.
Характерной чертой материальной культуры периода Западного Чжоу было то, что она сложилась на базе синтеза раннечжоуской и шанской производственных традиций в области бронзового литья, керамического производства, камнерезного ремесла и т.д. В некоторых районах в этом синтезе участвовали и другие компоненты. Например, результаты раскопок в Туньци (пров. Аньхой) показали, что на юге страны памятники западночжоуского времени, особенно бронзовые изделия и керамика, сохраняют черты, унаследованные от местной энеолитиче-ской культуры.
К периоду Западного Чжоу относятся многочисленные сообщения о строительстве поселений, городов и укрепленных лагерей. Следы строительной деятельности того времени открыты археологами в разных районах страны. Так, в пров. Шэньси, в местности Фэнси, изучены группы полуземляночных жилищ крестьян и ремесленников, а в пров. Хубэй, в местности Маоцзяцзюй, раскопаны остатки богатого поселения, в котором дома были сложены из массивных деревянных плах. Близ озера Куньмин (пров. Шэньси), где, по предположениям археологов, располагался древний столичный город Хао, обнаружены следы крупных архитектурных сооружений. Здесь в большом количестве найдены наиболее ранние в истории китайского строительного искусства образцы черепицы. Изучение археологических памятников XI—-VIII вв. до н.э. свидетельствует, что чжо-уское завоевание не только не вызвало регресс или длительную стагнацию в сфере производства, но, наоборот, последовавшее за ним объединение обширных территорий в границах единой западночжоуской державы привело к сближению и взаимному обогащению локальных вариантов материальной культуры, содействовало ее общему подъему.
Проблемы
земельных пожалований и формы землевладения
В процессе сложения государственности в Западном Чжоу очень быстро росло число людей, состоявших на службе у ванов. Трудно предположить, чтобы содержание постоянно расширявшегося господствующего слоя обеспечивалось с помощью натуралий из сельских доходов вана. Уже ко времени правления Чэн-вана относится ряд эпиграфических памятников, упоминающих о том, что должностные лица вана получали оплату в виде земельных раздач. Известна надпись на сосуде Чжун динь содержащая указ Чэн-вана, в которой фигурируют два лица, одно из которых долидю было уступить данные ему ранее земли новому вла
дельцу: «Ван дал Сюну земли в Ли. Ван сказал: „Чжун, люди из Ли... пришли, чтобы служить, и отдали себя У-вану, став его подданными. Ныне Сюн отдает тебе земли в Ли, чтобы ты обратил их в [свой] Владельцу цая вручали земли для получения с них доходов8. По-видимому, в первый период Западного Чжоу он пользовался своими правами временно. Хронологически близкая к предыдущей надпись на сосуде Тайбао гуй сообщает, что по приказу Чэн-вана были «подарены» земли одному из «великих пестунов» (тайбао). Есть свидетельство, что Чэн-ван подарил земли в местности Би, которую локализуют неподалеку от ранних чжоуских столиц Фэн и Хао: «Благосклонный ван послал [чиновников] из [местности] Гу, чтобы мне подарили земли в Би, которые охватывают вдоль и поперек пятьдесят ли» (сосуд Шао юанъци). Древнекитайские писцы, составлявшие тексты документов на бронзе, всюду употребляют термины, которые могут быть адекватно переданы словами «дарение» и «дарить». Однако при изложении фактов и анализе их эти слова надлежит взять в кавычки, ибо в надписях речь идет не о пожаловании комплекса вечных прав на определенные земли, а о передаче права на доходы с них. Известна формула документа, составленного в середине X в. до н.э.: «В виде милости дать Чэньцзы поля в Чжао, а также взносы и продукты, собираемые [на землях] в X и в Ню» (Чэньцзы гуй). Она свидетельствует, что все отношения официальных лиц вана к переданным им территориям сводились к сбору в свою пользу натурального оброка. Параллельно с «землями» эпиграфические источники упоминают «поселения» в качестве объекта царских раздач и держаний представителей высшей администрации вана. Держатели поселений, по-видимому, обладали аналогичными правомочиями. Характерно сообщение надписи на отлитом в начале IX в. до н.э. сосуде Да гуйь свидетельствующее, что, реализуя присущую ему высшую территориальную власть, чжоуский ван отобрал поселение у старого держателя и передал его новому. Очевидно, что приведенные факты говорят не о земельных пожалованиях на условиях службы, а скорее о ранних формах «кормления».
Известен ряд документов, относящихся к первой половине IX в. до н.э., в которых речь идет о пожаловании представителям администрации вана полей (тянъ\ расположенных обычно в разных местах. Так, в надписях на сосудах читаем: «Жалую тебе десять голов лошадей и десять быков, жалую одно поле в [местности] X, одно поле в [местности] У, жалую одно поле в [местности] Дуй, жалую одно поле в [местности] Цай» (Мао гуй); «[Ван] пожаловал в [местности] Хэ пятьдесят полей, в [местности] Цзао пятьдесят полей» (Юй гуй).
Некоторые документы упоминают о пожаловании одновременно с полями групп подневольных работников. В частности, о таком пожаловании говорится в надписи на сосуде Бу Ци гуй: «Бу Ци, ты указал, как привести в порядок ратные дела. Жалую тебе один лук, связку стрел, подданных (чэнь) — пять семей, земель — десять полей (тянь)». Было высказано предположение, что в тех случаях, о которых упоминают цитированные документы, ваны жаловали свободные необработанные земли, а «подаренные» одновременно с «полями» работники
8 Ранние формы иероглифа цай представляют собой схематическое изображение руки, срывающей плоды с дерева. Очевидно, цаем в древности называли все то, что приносило доход, служило источником прибыли.
предназначались для их освоения. Однако истолкование рассматриваемых поощрительных мер центральной власти как раздач земельных владений, в которых новым хозяевам предстояло заводить самостоятельные хозяйства, близкие по типу либо к латифундии, либо к манору, кажется лишенным основания. Во-первых, судя по имеющимся в нашем распоряжении надписям, упоминание о передаче полей в ряде случаев не сопровождалось упоминанием о передаче работников. Во-вторых, земельные участки, о которых идет речь в надписях, никогда не представляли цельного массива, а складывались обычно из отдельных «полей», разбросанных по многим местам. Об этом сообщается, например, в надписи на сосуде Да Кэ дин: «Жалую тебе поле в [местности] Е, жалую тебе поле в [местности] Бэй, жалую тебе поле X в [местности] У, находящееся [в ведении] семейства Цзин, вместе с его челядью (чэнъце) жалую тебе поле в [местности] Кан, жалую тебе поле в [местности] Янь, жалую тебе поле в [местности] Фуюань, жалую тебе поле в [местности] Ханьшань, жалую тебе писца, чиновника (сяочэнъ), флейтистов и барабанщиков, жалую тебе списки людей из [местностей] Цзин, Чан и X. Жалую тебе людей из [поселения] Цзин, бежавших в [местность] Лян». Что касается взаимного расположения упомянутых здесь полей, то есть основание считать, что некоторые находились на очень большом расстоянии друг от друга. Один из комментаторов надписи на Да Кэ дине отождествил Фуюань со сходным топонимом в «Шицзине», связанным с деятельностью легендарного чжоуского героя Гун Лю и зафиксированным в пределах ран-нечжоуского ареала, т.е. на землях современной пров. Шэньси. Янь — другой в какой-то мере поддающийся локализации топоним этой надписи. В эпиграфических памятниках начала Чжоу он был связан либо с землями Шаньдуна, либо с землями Хэбэя и Северо-Восточного Китая. Таким образом, относительно двух полей из надписи на Да Кэ дине можно с известной долей уверенности сказать, что они располагались в разных концах западночжоуской державы. Подобная разбросанность пожалований находится в логическом несоответствии с утверждением, что владелец полей должен был сам организовывать их обработку с помощью труда рабов. При этом, судя по приведенной выше надписи, люди, которых передавали по списку, происходили часто не оттуда, где расположены поля, а из других мест. Это наводит на мысль, что возложенная на них государством повинность заключалась не в обработке полей, а в чем-то ином. Специфические черты, которые были присущи актам раздачи полей, заставляют предположить, что суть этих пожалований состояла в передаче не вещных прав на земельный участок, а каких-то иных привилегий, связанных с землей.
Есть документы, которые могут быть истолкованы в качестве указания на однотипность методов присвоения материальных благ, применявшихся как теми, кому были пожалованы поля, так и владельцами прав на поселения. В надписи на отлитом при Ли-ване (897-842 гг. до н.э.) сосуде Гэ Цун сюй, текст которой был составлен официальным представителем центральной власти, зарегистрировавшим сделку, сказано: «Служащий Чжана выменял поля у Гэ Цуна, [тремя] поселениями Чжана, а именно: X, Хь Х2, [он] заплатил за поля Гэ Цуна. Его поселения Х3 и Х4, два поселения, передать их Гэ Цуну. Служащий [некоего] У выменял поля у Гэ Цуна, его поселения Цзи, также Цзюйшанэр, также Чоу...
да еще его поселения Цзин, Z, Цай, три поселения, Чжоу и Лу, два поселения, — все они служат платой. Оплачены поля Гэ Цуна в один день 13 поселениями». Один из комментаторов этой надписи заметил, что суть сделки сводилась к обмену полей на те дани и повинности, которыми жители 13 поселений были обязаны в пользу Чжана и У. Поскольку доходы с поселений были реализацией пожалованных ваном прав, которыми он сам как носитель территориального суверенитета располагал по отношению к земледельцам, то естественно предположить, что и доходы с полей, упомянутых в этой сделке, также должны были носить публично-правовой характер.
Это заставляет нас вспомнить о полях вана, обрабатывавшихся с помощью государственной барщины. Гэ Цун, иждивением которого был отлит Гэ Цун сюй, оставил еще один интересный документ, рассказывающий о его тяжбе с неким Ю Вэйму. Формулировка обвинения Гэ Цуна в адрес последнего в современной науке имеет два толкования. По мнению Го Можо, обвинение Гэ Цуна сводилось к следующему: «Ты присвоил мои поля и выпасы, не мог достигнуть согласия со мною». В интерпретации Ян Шуда оно выглядит так: «Ты... исполнял для меня надзор за полями, не слушал моих [распоряжений]». Оба толкования сходятся в том, что вина Ю Вэйму заключалась в нарушении интересов Гэ Цуна, связанных с полями. В тяжбу по приказу вана вмешался его официальный представитель, который, по словам надписи, заставил Ю Вэйму дать клятву: «Если я не верну Гэ Цуну принадлежащие ему подати и повинности (цзу), если не выделю ему в виде компенсаций поля (тянъ) и поселения (и), то пусть меня накажут» (Гэ Ю Цун дин). Следовательно, конфликт из-за полей можно было уладить при помощи возвращения цзу, присвоенной Ю Вэйму. Не вызывает сомнения, что под цзу подразумевалась одна из существовавших в период Западного Чжоу разновидностей платежей или повинностей земледельцев. В цитированной надписи в качестве наименования для нее был избран иероглиф, обозначавший мужских предков и их культы. Это, по-видимому, следует толковать в том смысле, что цзу первоначально подразумевался как принудительный труд на полях, посвященных предкам вана, а также как собранное на них зерно, предназначавшееся для жертвоприношений.
В середине IX в. до н.э. поля, обрабатывавшиеся с помощью повинности цзу и бывшие, очевидно, разновидностью полей вана, упоминаются уже как объекты, находящиеся в ведении частных лиц. Анализ документов Гэ Цуна показывает, что существо прав на поля состояло в праве на цзу. Отсюда можно заключить, что тот, кому жаловали поля, был не господином над землей, а человеком, присваивавшим результаты труда земледельцев на полевых участках, принадлежавших вану. В связи с этим вполне объяснимым оказывается тот постоянный контроль со стороны государства за находившимися в ведении сановников полями и приписанными для их обработки земледельцами, который весьма ярко отражен в надписи на сосуде Кэ сюй: «Ван приказал помощнику придворного писца Ши Цзиню составить документ о полях и людях стольника Кэ».
Таким образом, приведенный выше материал о пожалованиях, сделанных от имени вана или подвластных ему местных владетелей, свидетельствует, что ни
одно из передававшихся владельцам прав и полномочий не было связано с правом частной собственности на землю.
Отсутствие источников заставляет исследователя в вопросе об общинном землевладении в период Западного Чжоу ограничиваться рядом общих соображений. Очевидно, что в то время уровень развития производительных сил был настолько низок, что возможность существования полностью индивидуализировавшихся хозяйств была исключена: ни один земледелец не мог обойтись без простейшей кооперации со своими соседями. Значит, наличие в период Западного Чжоу общины, которая в ряде случаев должна была выступать как определенное производственное целое, диктовалось особенностями древнекитайской экономики и законами товарного хозяйства. Это утверждение, однако, не дает оснований для объявления любого из известных нам по надписям и другим источникам типов поселений общиной, ибо полностью отсутствуют адекватные данные, которые позволили бы убедиться в их общинной структуре. Далеко не безупречными представляются и попытки некоторых исследователей установить характер древнекитайской общинной организации, а также ее эволюцию на протяжении периода Западного Чжоу, исходя из прямолинейной и однозначной интерпретации фактов древнекитайского фольклора, собранного в «Шицзине». Подобно тому как нельзя прямо отождествлять имена и исторические события, известные в русской летописной традиции, с соответствующими именами былинных героев и их полусказочными подвигами, невозможно без специального анализа, который бы установил характер и соотношение фактов и поэтического вымысла, принимать традиционные мотивы и фольклорные формулы песен «Шицзина» за действительные отношения. Лишь одно заключение, сделанное на основании фольклорных данных о том, что период между X и VIII вв. до н.э. был временем постепенного перехода от коллективного землевладения больших семей к индивидуальному владению, находит отчасти подтверждение и в документальных источниках.
Имеются в виду данные надписи на сосуде Саныии панъ, рассказывающие о решении территориального спора между малыми владениями Сань и Цзэ. Сосуд был изготовлен в середине IX в. до н.э. В текст документа введено подробное описание земель пограничного поселения Цзинъи, часть полей которого была передана владению Сань. Судя по описанию, территория Цзинъи состояла из ряда участков, разделенных межами. Клятва двух местных чиновников, наблюдавших за передачей земли, содержит дополнительные сведения о характере землепользования в этом поселении: «Тогда заставили Сигун Сяна и У Фу дать клятву: „Мы передаем клану Сань орошаемые поля и огражденные поля. Если обнаружатся ошибки и искажения, да постигнет нас тысяча наказаний в тысячекратном [размере]"» (сосуд Цзэ Жэнъ панъ).
Содержащиеся в надписи на Саныии панъ данные о межах и межевых знаках, роль которых исполняли специально посаженные деревья, а также об оградах вокруг полей указывают на то, что уже к середине IX в. до н.э. имели место разделы земель и шел процесс постепенного выделения земельных наделов внутри сельских общин. Данное наблюдение следует рассматривать, однако, на фоне того обстоятельства, что ни в одном из источников периода Западного Чжоу нет
известий о превращении наделов в объект свободного отчуждения. Те немногие свидетельства надписей, в которых можно увидеть признаки частного присвоения полевых угодий, связаны с крупными земельными участками, не находившимися, по-видимому, в крестьянском держании. Большой интерес представляет содержание надписи на сосуде Гэбо гуй, особенно начальной ее части: «Гэ Бо отдал упряжку добрых коней Пэн Шэну, за них заплачено было тридцатью полями, тогда разломил [бирку, удостоверяющую законность сделки]». Это несомненное свидетельство того, что в конце X в. до н.э. некоторые группы держателей крупных земельных участков обладали правом распоряжаться землей, проявлявшимся в обмене. Они, по-видимому, получали со своих полей доходы, не носившие публично-правового характера. Трудно сказать что-нибудь определенное об источниках частного землепользования в период Западного Чжоу, маловероятно, однако, чтобы в его основе лежали царские пожалования.
Приведенные данные свидетельствуют, что в пожаловании поселений (м) и полей (тянъ) ван и подвластные ему местные владетели осуществляли не реализацию прав верховных земельных собственников, а передачу представителям администрации Чжоу части собственных полномочий по отношению к земледельцам, жившим на определенной территории. В этих данных отсутствуют достоверные указания на появление в период Западного Чжоу чисто вещного экономического права на землю. Хотя имеются признаки индивидуализации земельных наделов внутри сельских общин, однако отчуждение земли в сколько-нибудь широких масштабах не было, по-видимому, известно.
Социальная структура и статус эксплуатируемого населения
Характернейшие особенности тех элементов социальной организации Западного Чжоу, которые могут быть реконструированы на основании надписей на бронзовых сосудах, связаны с тем, что государство, выступавшее в роли специфической организации правящего слоя, в ходе эксплуатации земледельческого населения искусственно создавало особые внутрикрестьянские категории и группы. Статус этих социально-правовых образований отражал характер взаимоотношений государства и земледельцев, а лежащие на личности последних наследственные повинности были следствием политических отношений, а не экономической зависимости. Уже надписи, относящиеся к начальному периоду западночжоуской истории (конец XI — начало X в. до н.э.), содержат данные о расслоении внутри земледельческого населения, в основе которого лежали социально-политические и этнические факторы. Приведем две из них как наиболее характерные:
«Дарю [тебе] в местности И людей вана... да еще семь селений; дарю семь дяньских бо, [под ними] людей... да еще пятьдесят мужчин; дарю шужэнъ (простолюдинов) из [местности] И [числом] шестьсот... да еще шесть мужчин» (Ихоу Цзэ гуй); «Дарю [из числа] управителей [на земле] страны (бан) четырех бо, [под ними] людей [категории] ли (жэнъли)— от возниц (юй) до простолюдинов (шужэнъ) шестьсот да еще пятьдесят и девять мужчин; дарю [из числа] управи
телей инородцев, подданных вана (ванчэнъ), тринадцать бо. [под ними] людей категории ли тысяча и еще пятьдесят мужчин» (Да Юй дин).
Как уже было отмечено современными исследователями (Л.С. Васильев, М.В. Крюков), то обстоятельство, что в надписях люди выступают в качестве объекта пожалования или дарения, вовсе не указывает на их рабское состояние. Такова была характерная для документов Западного Чжоу формула передачи государственных повинностей тех категорий контролировавшихся центральной властью трудящихся людей, которые поступали в личное распоряжение отдельных представителей правящего слоя. Нельзя только на основании одной этой формулы делать заключение, что все те, кого дарили, находились по отношению к вану в особой зависимости, выходившей за пределы обычного подданства древневосточного типа. Ведь одновременно с большим числом простых подданных вана дарили и управлявших ими представителей местной администрации. Во втором из приведенных выше отрывков передаваемые Юю группы людей отчетливо делятся по территориально-этническому признаку на выходцев из районов расселения чжоусцев (из земель «страны» или «державы» — бан) и на жителей окраинных территорий, которые согласно древнекитайской этнографической номенклатуре принадлежали к народу и. Что касается первого отрывка, то в нем, хотя и в менее отчетливой форме, также имеются признаки подобного расслоения. Опорой нового владетеля области И должны были стать «люди вана», т.е. чжоусцы, поселенные в этом пограничном крае для несения гарнизонной службы. Люди, не подчиненные дяньским бо, и «простолюдины» из местности И, по-видимому, относились к числу покоренных инородцев.
К сожалению, нет прямых и недвусмысленных данных, указывавших на то, в чем проявлялось неполноправие последних. Можно лишь утверждать, что, согласно данным известных нам надписей Западного Чжоу, натуральные дани и подати взимались только с представителей покоренного народа и. Так, в надписях на сосудах Си Цзя панъ и Ши Юань гуй о населении бассейна р. Хуай, которое считалось частью народа и, говорится как о «подданных [вана], издавна платящих ему дань шелком и раковинами». Есть ряд косвенных указаний на то, что трудовые повинности были для инородцев многочисленнее и труднее, чем для чжоусцев.
Следует отметить, что подчиненные многочисленным бо отряды земледельцев, о которых идет речь в цитированных надписях, передавались государством их новым патронам вовсе не для того, чтобы последние могли по собственному усмотрению воспользоваться их трудом, а в первую очередь как военная сила. На это указывает присутствие среди «подаренных» мужчин начальников бо. связанных с чжоуской военной организацией. Существует мнение, что термин бо по своему происхождению восходит к слову «сотня».
Действительно, если исходить из надписи на Да Юй дине, подразделения, которыми командовали сотники бо. содержали примерно от 80 до 160 человек. Поскольку в этой же надписи перечень чжоусцев, обязанных нести воинскую повинность во владениях Юя и под его командой, возглавляют возницы, естественно предположить, что наиболее привилегированных из чжоусцев привлекали для службы в конно-колесничных отрядах. Что же касается чжоусцев, относив
шихся к категории «простолюдинов», а также «инородцев», то они, по-видимому, использовались в пешем войске и в различных вспомогательных частях.
В цитированных отрывках группы мужчин, происходящих как из числа чжо-усцев, так и из числа инородцев, названы «простолюдинами». Следует отметить, что при характеристике статуса этой категории населения Чжоу в ходе дискуссии между сторонниками рабовладельческой и феодальной концепций был выдвинут ряд положений, выходящих за рамки точных и недвусмысленных указаний источников. К их числу надлежит отнести все попытки найти в положении «простолюдинов» признаки их принадлежности к сословию рабов.
Что касается периода Западного Чжоу, то, если постулировать идентичность терминологического содержания семантически сходных иероглифов шу и чжун, существенное значение для определения места простолюдинов в социальной иерархии имеют лишь данные одной записи, которая извлечена из судебного заключения, сохранившегося на сосуде Ху дин: «Некогда был неурожай, двадцать мужчин [из числа] слуг (чэней), простолюдинов чжун, [подчиненных] Куану, украли 10 мер зерна, принадлежавшего [его соседу] Ху»9. Из дальнейшего изложения явствует, что одному из этих «простолюдинов» вместе с его чэнями велено было работать на поле в пользу потерпевшей стороны. Как видим, «простолюдины» выступают здесь в качестве подчиненных местному владетелю (наместнику западночжоуского вана) рядовых сельских жителей, имевших собственные хозяйства и даже слуг.
В надписи на Да Юй дине те группы древнекитайского населения, которые подвергались прямому принуждению со стороны администрации вана, отнесены к разряду ли. Смысловое содержание этого термина неясно. Исследователями был предложен ряд толкований. Наибольшее признание получила точка зрения Кайдзука Сигэки, согласно которой иероглиф ли надписей на бронзе был идентичен его омофону ли, употреблявшемуся в ритуально-нормативных текстах периода Чжоу в значении «перечислять в определенном порядке». Отсюда ли надписей было предложено понимать как обозначение того разряда людей, которые были перечислены в государственных реестрах. Это толкование согласуется со свидетельством надписи на Да Кэ дине о пожаловании «списков людей из [местностей] Цзин, Чан и X».
Следовательно, в период Западного Чжоу действительно существовала категория населения, каждый представитель которой по достижении им определенного возраста вносился в списки, определявшие размеры и характер его повинностей. Согласно приведенным данным, для мужчин принадлежность к разряду ли означала обязанность нести в течение определенного срока военную службу в частях, правовое и фактическое положение которых в государстве Западное Чжоу было различным. Несмотря на отсутствие известий об использовании людей разряда ли в различных принудительных работах, не вызывает сомнения то, что они участвовали в производстве, находившемся под контролем государства, хотя, по-видимому, размеры и специфика этого участия отличались большим разнообразием социально-правового и местного характера. В сохранившихся
9 В интерпретации содержания этой фразы мы следуем за комментарием Юй Синъу.
документах о передаче государством в руки частных лиц людей, приписанных к разряду ли, счет их производился по числу душ. Это вполне объяснимо, так как их дарили либо в качестве военной силы, либо для выполнения каких-то строго регламентированных повинностей.
Наряду с ли в Западном Чжоу имелась категория людей, обозначавшаяся столь обычным для древнекитайской социальной лексики термином чэнъ (подданные, слуги), которых государство передавало представителям господствующего слоя целыми семьями. Так, надпись на сосуде Лин гуй, отлитом еще при Чэн-ване, сообщает, что владельцу сосуда одновременно с сотней ли было пожаловано и «десять семей чэней». Аналогичны упоминания других надписей о том, что в виде награды приближенным вана были переданы: «чэней— пять семей», «чэней — десять семей», «чэней [из народа] и — десять семей», «чэней из [местности? народа?] Чжэхуа— двести семей». Следует сказать, что словоупотребление чэнь в эпиграфических памятниках Западного Чжоу чрезвычайно неустойчиво: древнекитайские писцы обозначали этим термином как военнопленных и слуг, так и привилегированных представителей администрации вана. Поэтому анализ самого термина ничего не дает для выявления личного статуса той категории древнекитайского населения, представители которой становились объектом пожалования в составе своих семейных коллективов. По-видимому, привлечению к принудительным работам всего семейства в полном составе должно было предшествовать переселение его из района первоначального местообитания. Поскольку в одних случаях подаренные семейства прямо причислены в надписях к народу и, а в других их «инородческое» происхождение может быть установлено из контекста, естественно заключить, что они были переселены во внутренние районы Западного Чжоу из окраинных областей, население которых только переходило от доклассового общества к классовому. В цитированных выше надписях дарение семей чэней оказывается прямым следствием карательных экспедиций западночжоуских войск в районы внутренней и внешней племенной периферии.
В распоряжении историков есть весьма яркие эпиграфические данные, подтверждающие, что в ходе таких экспедиций западночжоуская администрация осуществляла массовый захват военнопленных и увод населения, не участвовавшего в военных действиях. Надпись на Сяо Юй дине, отлитом в конце XI в. до н.э., содержит отчет о походе на страну Гуйфан (в юго-западной части современной пров. Шаньси), где был захвачен и уведен 13 081 человек. Время от времени военные отряды племенных объединений, существовавших на периферии западночжоуской державы, вторгались в ее пределы, чтобы освободить своих сородичей. Надпись на сосуде Юйгуй, отлитом столетием позже предыдущего, рассказывает о таком вторжении и его последствиях: «В десятый месяц [правления] вана ван был в Чэнчжоу. Южнохуайские и переместились в Шу, вторглись и атаковали... Мао, Цаньцзюань, Юй, Миньинь, Янло. Ван приказал, чтобы Юй прогнал их. Он дал им отпор в Шанго и в Сигу, дошел до И, а затем вернулся. [Его воины] несли на древках сто отрубленных голов, было схвачено и допрошено 40 человек, захвачено 400 человек, бывших [ранее] в плену, их поместили в резиденции жунского бо, перевели в Си, где им дали одежду и переписали, [затем] вновь отдали их хозяевам». Судя по содержанию приведенного
фрагмента, в данном случае южнохуайские и дошли почти до стен столичного города Чэнчжоу и им, вероятно, удалось выпустить на волю множество порабощенных инородцев. В результате ответных военных мер чжоусцы вновь захватили часть освобожденных и вернули их прежним хозяевам.
Исходя из приведенных фактов можно заключить, что государство Западное Чжоу обращалось с покоренными инородцами в одних случаях как со своими подданными, в других — как с рабами. К первой категории относились, по-видимому, члены тех племенных объединений, которые вошли в систему западно-чжоуского государства на основе «договора». Ко второй относились все те, кто был порабощен или попал в более или менее тяжелую зависимость от администрации вана в процессе завоевания его земель чжоускими войсками. Те формы зависимости, о которых мы знаем по надписям, возникли в результате целенаправленных акций западночжоуского государства.
В результате подобных акций в непосредственном распоряжении администрации вана оказались многочисленные контингенты неполноправных людей, называвшихся ипу — «челядь из народа и» (Хай гуй, Цзин гуй и др.), которых как направляли на различные государственные службы и работы, так и распределяли по приказу вана и чинов дворцового управления между представителями правящего слоя. Несмотря на то что, по свидетельству надписей, некоторые группы «челяди» (пу) обучались стрельбе из лука и входили в состав войска вана (Цзин гуй, Ши Люй дин), все представители данного социального слоя относились к числу тех, чьим трудом государство могло распоряжаться по собственному усмотрению. Очевидно, что дальнейшее накопление эпиграфического материала поможет выделить внутри «челяди» категории, находившиеся в разной степени подчинения и зависимости от администрации вана. Сейчас известно, что была «челядь», которую передавали для работы в частных хозяйствах в составе семейно-родственных групп (Цзифу ху). К этой категории неполноправных принадлежали, по-видимому, и упоминавшиеся ранее «подданные (чэни) [из народа] и», которых также дарили целыми семьями.
Источники содержат крайне мало данных, которые позволяли бы судить о характере использования труда «челяди» (пу) в частных хозяйствах. Весьма определенно можно лишь утверждать, что нет ни одного прямого упоминания о пу-земледельцах. В надписи на сосуде ШиХуй гуй, которая обращена к управляющему одного из сановников Ли-вана (вторая четверть IX в. до н.э.), упоминается о профессиональном составе подчиненной ему «челяди»: «Я приказываю тебе служить моему семейству, управлять челядью (пу) западного и восточного флигелей: возницами, ремесленниками, пастухами, слугами и служанками».
Отсюда создается впечатление, что «челядь» не сажали на пустые земли, а использовали в домашнем хозяйстве и в домашних ремесленных мастерских. Главам знатных семейств, получившим «челядь» от государства, предоставлялось право передавать представителей этого слоя своим подчиненным и сторонникам. Свидетельством об осуществлении подобного рода акций может служить и надпись на сосуде Мэн гуй'. «Мао-гун подарил моему покойному отцу подданных (чэнь) из числа своих ремесленников». Исходя из весьма немногочисленных указаний надписей, которые можно использовать для характеристики правового
статуса «челяди», следует, что она не располагала личной свободой и трудилась в условиях прямого принуждения со стороны администрации вана. Однако о том, было ли господство носителей государственной власти над личностью представителей данного социального слоя полным или частичным, а также об отношении последних к средствам производства ничего не известно.
Своеобразие социально-экономической структуры Западного Чжоу, а также специфика источников того времени определили то, что формы зависимости, бывшие результатом частноправовых отношений, почти не поддаются выделению. Лишь надписи на Ху дине указывают, что в хозяйствах представителей правящего слоя использовались работники, являвшиеся полной собственностью своих господ. Надпись содержит отчеты о судебных разбирательствах, где истцом выступал Ху. В одном из этих отчетов приведены слова последнего: «Я купил пять мужчин у Сяофу, отдав за это лошадь и шелк». Данное свидетельство представляется достаточным, чтобы видеть в этих пяти мужчинах рабов. Некоторые места цитированного отчета указывают, по мнению исследователей, на то, что мужчины были приобретены для работы на полях. Это заключение, хотя и с большими оговорками, дает основание предполагать, что в период Западного Чжоу рабский труд мог находить применение в сельском хозяйстве.
Собранные в данном разделе материалы указывают на то, что в период Западного Чжоу решающую роль в оформлении социально-юридических категорий среди земледельцев, а также среди разных категорий зависимых играло государство. Характер, формы и размеры принудительных мер, применявшихся государством по отношению к тем или иным группам населения западночжоу-ской державы, определяли их статус.
Взаимоотношения
западночжоуской государственности с «варварской» периферией и упадок дома Чжоу
Реконструкция внешнеполитической истории западночжоуской державы сопряжена с большими трудностями ввиду отсутствия бесспорно аутентичных историко-летописных текстов, восходящих к XI—VIII вв. до н.э. По-видимому, в тот период уже возникла практика фиксации событий и появилось стремление обращать прошлое в объект позитивного рассказа, но западночжоуские исторические сочинения почти не сохранились. Некоторые хроникальные данные о делах западночжоуских правителей известны нам в очень поздней редакции по цитатам из утраченного еще в раннем средневековье полного текста «Погодовых записей на бамбуковых планках» (IV в. до н.э.), а также в изложении Сыма Цяня и т.п. Как нам представляется, эти известия могут быть использованы для восстановления тех или иных событий, если имеются эпиграфические свидетельства или свидетельства других доциньских письменных памятников, подтверждающих их истинность. С большой осторожностью следует использовать и сведения, содержащиеся в песенно-поэтических текстах «Шицзина», ибо присущий им в ряде
случаев историзм подвергся влиянию художественной логики, лежащей в основе такого рода литературы.
На границах западночжоуской державы и внутри ее, как и в эпоху Шан, имелись многочисленные этнополитические образования, которые отказывались признавать западночжоускую систему властвования. Согласно традиции, достоверные истоки которой сейчас можно обнаружить в текстах, связанных с периодом Чуньцю, создателей всех этих этнополитических образований считали «варварами», отличными по языку и культуре от шанцев, чжоусцев и других «истинно китайских» племен.
Тех «противников» западночжоуской государственности, районы обитания которых находились в непосредственной близости к домену западночжоуских ванов в долине р. Вэй, разновременные источники обычно именуют жунами™. Несомненно, что это условное обозначение, служившее элементом древнекитайской схематизированной картины мира, не было передачей какого-либо определенного этнонима. Когда древнекитайские авторы стремились уточнить ситуацию, складывавшуюся на «варварской» периферии чжоуского домена, они различали отдельные группы жунов с помощью дополнительных обозначений, содержавших топонимы, названия правящих родов и т.д.
Первую значительную по своим масштабам и, очевидно, важную по своим последствиям кампанию против жунов традиция связывает с именем вана Му. Он, по словам одного текста из «Погодовых записей», «захватив пять их вождей, заставил жунов переселиться в Тайюань». С этого времени население области Тайюань, расположенной, по-видимому, где-то в северной части пров. Шэньси, в течение ряда столетий то оказывалось в сфере административного контроля западночжоуских властей, то ускользало из-под него. Сохранилось упоминание, что при И-ване, правнуке Му-вана, туда была послана большая армия во главе с Го-гуном. Полководец этот известен не только по пересказанному здесь летописному фрагменту. По мнению современных исследователей, он идентичен некоему Го цзи, к которому обращена надпись на сосуде Гоцзи Цзыбо панъ. В надписи сказано, что ее герой «выступил в поход против сянъюней на восток от реки Ло». Этноним сянъюнъ встречается только в надписях на бронзовых сосудах и в одах «Шицзина», а летописная традиция его не знает. Поскольку песеннопоэтические тексты связывают сянъюней с областью Тайюань, в них, очевидно, следует видеть одно из этнополитических объединений, входивших в состав «тайюаньских жунов».
Примечательно то, что попытки административного освоения ближней «варварской» периферии, предпринимавшиеся первыми западночжоускими ванами, встречали ожесточенное сопротивление не только на севере, но и на юге. Сохранились надписи, рассказывающие о регулярных столкновениях чжоуских военных отрядов с племенами, составлявшими коренное население бассейна р. Хуай, которое в эпиграфических текстах называли южными или хуайскими и. Последнее обозначение носило столь же условно-систематизаторский характер, что и термин жун. Судя по надписи на сосуде Лу цзунь, датируемом временем Му-
10 Первоначальное значение иероглифа жун — воин, воинственный.
вана, хуайские w, очевидно в ответ на попытки сделать их постоянными данниками западночжоуских ванов, «осмелились вторгнуться во внутренние владения». На весьма опасный характер этих вторжений указывает надпись на сосуде Юй гуй. отлитом при И-ване или его преемнике Ли-ване (первая половина IX в. до н.э.). Согласно этой надписи, отряды хуайских и проникли в центральные районы западночжоуской метрополии и оказались в непосредственной близости от Чэнчжоу (сосуд Юй дин). Сведения, заимствованные из эпиграфических текстов, указывают на организованный и целеустремленный характер вторжений хуайских и, вождем которых в это время был «владетель области Э по имени Юй Фан».
Об ответных мерах западночжоуских властей рассказывает надпись на сосуде Юй дин, хозяину которого было приказано напасть на владение Э и уничтожить его, «не оставив ни старых, ни юных». Поход был, очевидно, весьма успешным. В эпиграфических текстах последующего времени хуайские и упоминаются лишь как объект контроля со стороны западночжоуского административнофискального аппарата. Однако, каковы бы ни были в конечном счете результаты военных экспедиций против южных, а также и северных «варваров», они, несомненно, истощали западночжоускую экономику и подрывали стабильность той политико-административной системы, которая была установлена при первых западночжоуских ванах. В годы правления Ли-вана верховная власть в стране переживала серьезный кризис, отголоски которого сохранились во фрагментах восточночжоуских хроник и в других доциньских сочинениях. Согласно версии «Гоюя», Ли-ван, лишившись поддержки местных владетелей, вынужден был покинуть столицу и бежать в Чжи.
О том, какая участь постигла в то время ванский престол, сообщает известный множеству раннесредневековых комментаторов фрагмент из старого текста «Погодовых записей»: «Правитель области Гун по имени Хэ присвоил прерогативы вана».
В несколько иной редакции это сообщение представлено в цитате из утраченного сочинения «Лу Ляньцзы»: «Гунбо по имени Хэ был склонен действовать человечно и законосообразно, местные владетели воздали ему должное и поставили [правителем], чтобы он выполнял дела Сына Неба».
Поскольку отсутствуют эпиграфические свидетельства об этих событиях, проверить, насколько достоверна версия о вмешательстве местных владетелей в обычный порядок престолонаследия, конечно, невозможно. Однако факт временной узурпации престола и имя узурпатора, документированные целым рядом доциньских текстов, представляются исторической реальностью. В происшедшей после смерти Ли-вана замене узурпатора представителем чжоуской династии Сюань-ваном источники отмечают активное участие местных владетелей. Вполне закономерно, что кризис центральной власти привел к усилению роли потомственных правителей областей в политической жизни страны. К тому моменту, когда Сюань-ван оказался на троне (827 г. до н.э.), многие из наместников вана превратились в фактически полных обладателей высшей административной власти в подведомственных им областях.
Сохранившиеся фрагменты хроникальных текстов и надпись на сосуде Си Цзя панъ рисуют 45-летнее правление Сюань-вана как время постоянных изнурительных столкновений с многочисленными племенами, отнесенными древнекитайскими комментаторами к числу жунов'.
«На четвертый год после того, как Сюань-ван занял престол, он послал Цинь Чжуна против жунов. Спустя 27 лет ван послал войска в поход на тайюаньских жунов, но не смог их одолеть. Прошло пять лет, ван напал на жунов из Тяо и на жунов из Бэнь. Армия вана была разбита. Спустя два года жуны уничтожили поселение, принадлежавшее Цянхоу. На следующий год ван решил покарать жунов из Шэнь и нанес им поражение»;
«В пятый год, в третьем месяце... [Сюань-]ван впервые напал на сянъюней в X». «На тридцать девятом году [правления] Сюань-вана произошла битва в Цяньму. Армия вана была разбита жунами из клана Цян».
Отразившееся в этих записях упорное стремление Сюань-вана покорить многочисленные племена на севере и превратить их в своих подданных следует, по-видимому, объяснять исходя из контекста усилившегося в это время сепаратизма центральнокитайских хоу и гунов. Целью продолжавшихся несколько десятилетий походов в земли жунов, надо думать, было создание обширной зоны, целиком подчиненной западночжоуским правителям.
Судя по сохранившимся данным о многочисленных поражениях войск Сюань-вана, попытки широкого освоения «варварской» периферии встречали ожесточенное сопротивление. Однако некоторые владения жунов все же оказались в это время под прямым контролем западночжоуских властей. Так, один из текстов «Гоюя» содержит упоминание о том, что в последние годы правления Сюань-вана по его приказу стали проводить подсчет численности населения в Тайюане. Проведение переписи тайюаньских жунов агентами Сюань-вана указывает на включение их в военно-податную организацию западночжоуского государства. Следствием этого должно было быть появление жунских отрядов в западночжоуской армии.
Характерное для периода правления Сюань-вана сосредоточение внешнеполитической активности в районах жунской периферии сопровождалось известными переменами во внутриполитической сфере. С жунами не только воевали. Их пытались привлечь с помощью династических браков. Действительно, дочь вождя жунов из области Шэнь (в современной пров. Шэньси), упомянутых в одном из хроникальных текстов как объект военных экспедиций чжоусцев, стала главной женой наследника Сюань-вана. Это привело к появлению при за-падночжоуском дворе влиятельной прожунской группировки. В годы правления Ю-вана, занявшего западночжоуский престол в 781 г. до н.э., столкновение его с центральнокитайскими владетелями стало причиной нового продолжительного кризиса центральной власти. Борьба, происходившая при дворе Ю-вана, обросла великим множеством легенд, но все же в исторической традиции можно выделить ядро, отражающее, по-видимому, подлинные события. Вскоре после вступления на престол Ю-ван попытался удалить дочь Шэньхоу и лишить ее сына прав наследника. В результате «законный» наследник вынужден был бежать в Западное Шэнь, а Ю-ван объявил своим преемником сына одной из наложниц.
Положение дел в стране в этот период весьма ярко обрисовано в «предсказании», вложенном в уста Ши Бо, историографа первого правителя области Чжэн, современника Ю-вана: «...у Шэнь, Цзэн и западных жунов силы повсюду растут, а дом вана повсюду окружает смута, если [ван] будет своевольничать, то сможет ли он избежать опасностей? Ван хочет убить наследника, чтобы утвердить Бофу, он потребует [выдачи наследника] у Шэнь, а когда шэньцы откажут, пойдет на них войной. Если он пойдет войной на Шэнь, а последнее в союзе с Цзэн и западными жунами нападет на Чжоу, то Чжоу окажется беззащитным... Не пройдет и трех лет, как все Чжоу погибнет». Действительно, в 770 г. до н.э. западночжоуская армия, вторгшаяся в Западное Шэнь, потерпела поражение, а сам Ю-ван был убит. Гибель вана послужила сигналом к расширению междоусобицы. Местные владетели и бывшие вассалы из числа «варваров», воспользовавшись смутным временем, стали присваивать территории, находившиеся до этого во владении западночжоуского дома. В разных концах страны двух сыновей убитого правителя одновременно провозгласили ванами. В смуту, продолжавшуюся два десятилетия, были вовлечены большинство центральнокитайских правителей и множество жунских вождей. О событиях того времени рассказывает фрагмент древней хроники, сохранившийся в комментарии к тексту «Цзочжуаня»: «Шэньхоу, Цзэнхоу и Вэнь-гун из [владения] Сюй поставили Пин-вана в Шэнь; поскольку он с самого начала был наследником престола, его стали титуловать ваном, [поставленным] Небесами. Когда Ю-ван умер, Го-гун Хань тоже возвел на престол сына ванской наложницы в [местности] Се; в Чжоу стало одновременно два вана. Через двадцать один год Вэньхоу из [владения] Цзинь убил Се-вана...»
И Пин-ван, признаваемый исторической традицией «законным» преемником Ю-вана, и его соперник были марионетками в руках представителей враждующих группировок. Конец двоевластия был связан с какой-то неизвестной нам перестановкой сил, которая заставила центральнокитайских владетелей отказаться от своей креатуры и признать Пин-вана единственным правителем западночжоуской державы.
Согласно «Цзочжуаню», «Се-ван нарушил повеление [Неба], и местные владетели, сместив его, поставили [правителем] истинного наследника вана, который перенес [столицу] в Цзяжу...»
Перенос столицы при Пин-ване на восток страны в г. Цзяжу или, согласно другой версии, в г. Лои (Чэнчжоу) был вызван тем, что земли западночжоуского домена вместе с их древними столичными городами в результате смуты оказались во власти «варваров». Согласно «Повествованию о сюнну» Сыма Цяня, после смерти Ю-вана все пространство между реками Вэй и Цзин было занято жунами. Спустя несколько лет большая часть этого района была отобрана у них циньскими правителями Сян-гуном и Вэньчуном. Последний возвратил некоторые земли бывшего западночжоуского домена Пин-вану, но они уже никогда более не играли никакой роли в управлении страной и в ее культурной жизни.
Перенос центра управления на восток был лишь внешним проявлением целого ряда серьезнейших перемен в социально-политической позиции чжоуских ванов. Размеры территории, подчиненной непосредственно им, сильно сократи
лись. Контроль над этой территорией им удалось восстановить, а потом долгое время сохранять только благодаря вмешательству и поддержке различных группировок местных владетелей, использовавших традиционный престиж «Сыновей Неба» в собственных целях.
В новых условиях чжоуские ваны продолжали сохранять свои религиозномагические прерогативы, но из высших регуляторов взаимоотношений между местными владетелями они превратились во второстепенных участников политической жизни страны.
Имеются бесспорные свидетельства, что и после переселения чжоуских ванов на восток не исчезла вера в их «близость к Небу» и особое влияние унаследованной ими от предков внутренней силы на гармоническое развертывание всех процессов в природном мире. Эта вера заставляла местных владетелей еще по крайней мере три столетия регулярно участвовать в ритуальных собраниях-приобщениях при дворе чжоуских ванов. Однако после переселения на восток подчиненный последним военно-административный аппарат настолько сократился и утратил влияние, что внутриполитическая и внешнеполитическая активность местных владетелей полностью вышла из-под его контроля. Они превратились в самостоятельных правителей, решавших на свой страх и риск проблемы, встававшие перед их владениями.
Переселение Пин-вана на восток послужило концом Западного Чжоу и началом периода, получившего наименование Восточного Чжоу.
Период Чуньцю
Новый период древнекитайской истории характеризовало не столько перенесение столицы на восток, сколько падение роли чжоуского центра. Поэтому в последующей традиции это время именуют не только Восточным Чжоу, но и периодом Чуньцю, имея в виду те новые политические силы, которые стали господствовать в Китае в VIII—V вв. до н.э. Само выражение чуньцю («вёсны и осени»), являвшееся символическим обозначением постоянной и последовательной смены природных сезонов и социальных циклов, было первоначально использовано как заглавие летописи царства Лу. Сочетание иероглифов должно было, очевидно, указывать на то, что в ней представлен полный цикл посезонных записей, и символизировать последовательность и полноту содержавшегося в ней исторического повествования. С течением времени заключенный между начальной и конечной датами летописи отрезок времени получил то же наименование.
В период Чуньцю по сравнению с предыдущим временем картина древнекитайского общества во многом резко меняется. Это явление, отмечаемое рядом исследователей, не только отражает реальную социально-историческую динамику, но и вытекает из того обстоятельства, что реконструкция древнекитайской истории VHI-V вв. до н.э. основывается на источниках, отличных по форме и содержанию от западночжоуских.
Действительно, количество документальных надписей на бронзовых сосудах периода Чуньцю, используемых историками, невелико, и основным источником
для этого времени служит «Цзочжуань» — обширный свод исторических текстов, соединяющий погодные перечни событий от 722 до 468 г. до н.э. с разного рода попытками их прагматического описания. Как уже говорилось выше, характерная особенность таких описаний состоит в обилии речей, вложенных в уста исторических лиц того времени: правителей, государственных деятелей, полководцев. Еще большую роль играют речи и беседы в «Гоюе» («Повествованиях о царствах») — сборнике исторических текстов, посвященных в основном событиям периода Чуньцю. Он является вторым важнейшим историческим источником, нередко дающим событиям иную интерпретацию, нежели «Версия Цзо [Цюмина]».
По мнению некоторых современных исследователей, в обоих текстах воспроизведены подлинные речи, долгое время хранившиеся в народной памяти и изустно передававшиеся из поколения в поколение. Однако некоторые историко-филологические данные указывают на вымышленный характер высказываний героев этих двух памятников. К тому же высказывания обнаруживают следы тщательной литературной отделки и переделки. В каждом из памятников они нередко представлены в разных вариантах. Большинство исторических известий, содержащихся в них, нуждается в специальной дешифровке, основанной на всесторонней реконструкции тех принципов моделирования природных и социальных процессов, которыми руководствовались их авторы. Это единственный путь к выяснению характера и степени соответствия между явлением и его отображением в восточночжоуских исторических текстах.
Несомненно, что с изменением характера источников меняются и особенности отражения в них исторической действительности. В поле зрения официальных хронистов периода Чуньцю, оставивших регулярные и синхронные записи, и авторов историко-повествовательных текстов, вошедших в состав «Цзочжуаня» и «Повествований о царствах», попал целый ряд аспектов социальноисторической реальности, ускользнувших от составителей документальных записей времени Западного Чжоу. Так, например, увеличивается объем информации, отражающей важнейшие черты социально-политической структуры общества. Материалы зарождавшихся в период Чуньцю местных историографических школ, сохранившиеся на страницах первого древнекитайского летописного свода, дают возможность для реконструкции ряда исторических явлений VIII—V вв. до н.э. в их локальных вариантах.
К середине VIII в. до н.э. завершился распад государственно-административной организации Западного Чжоу. Политическое влияние ванов Чжоу сузилось до крайних пределов, реальной властью они обладали только в границах небольшой территории вокруг восточной столицы. Это сопровождалось постепенным ослаблением их идеологического престижа и эрозией традиционной религиозно-политической доктрины. К этому времени многочисленные местные владетели из представителей вана превратились в обладателей высшей административной власти в границах контролируемых ими земель и стали главами фактически самостоятельных государственных образований. Большая часть территории современной пров. Хэнань, традиционного центра формирования древнекитайской цивилизации, оказалась поделенной между владениями Чжэн, Вэй, Чэнь
и Сун. Господство над Шаньдуном было сосредоточено в руках правителей царств Ци и Лу. Обширные земли современной пров. Шаньси вошли в состав царства Цзинь. Господином крайнего северо-запада стало Цинь, на юге и юго-востоке хозяйничали Чу, Юэ и У.
В начале периода Чуньцю наиболее развитыми в экономическом и социально-политическом отношении были владения, сложившиеся на землях, принадлежавших некогда государству Шан, население которых состояло по большей части из потомков шанцев. Это относится к владениям Вэй, Чжэн и Сун, занимавшим северную и северо-восточную часть Хэнани, а также к Лу, владевшему территорией на юге Шаньдуна. Благоприятные природные условия вскоре позволили выдвинуться в ряд передовых и приморскому царству Ци. В годы расцвета Чуньцю на авансцене социально-политической и экономической жизни появляется царство Цзинь, овладевшее к тому времени обширными землями в Шаньси, на юго-западе Хэбэя и в восточной части Шэньси. В период Чуньцю зона распространения древнекитайской культуры значительно расширилась. В разных районах на севере, северо-западе и юге с помощью расчистки, осушения и орошения были освоены большие земельные массивы для культурной обработки.
Источники связывают активизацию вмешательства людей в ландшафт с целью расширения зоны земледельческого хозяйства с именем чжоуского Ю-вана (781-770 гг. до н.э.). Так, в «Повествовании о царствах» говорится: «Ведь у дома Чжоу были высокие горы, широкие реки, большие озера, поэтому там могли рождаться отличные природные материалы, а Ю-ван все это разрушил, превратив в большие холмы, удобренные земли, в оросительные каналы и канавы». «Цзо-чжуань» также упоминает о проведении каналов и строительстве дамб на больших озерах в качестве важнейшего средства освоения новых земель. Очищение почвы от трав и кустарников под руководством местных властей в особо широких масштабах осуществлялось в начале Чуньцю на территориях вновь созданных владений, например Чжэн.
Экономика
Важнейшими показателями развития производительных сил в период Чуньцю было дальнейшее совершенствование бронзолитейного производства и появление металлургии железа. Хотя восточночжоуские памятники материальной культуры на протяжении предыдущих десятилетий изучались не столь интенсивно, как памятники эпохи Шан, однако и сравнительно немногочисленных находок археологов достаточно, чтобы убедиться в справедливости этого утверждения.
Весьма богатые данные, свидетельствующие о замечательном прогрессе мастерства литейщиков царства Цзинь, были открыты в ходе раскопок 1960-1961 гг. на городище Нюцунь близ г. Хоума (пров. Шаньси), где, по предположению археологов, располагался некогда г. Синьтянь, ставший в первой четверти VI в. до н.э. цзиньской столицей. Здесь на исследованном участке бывшего ремесленного квартала в культурном слое и зольниках обнаружено более 30 тыс. целых
и фрагментированных глиняных литейных форм и других остатков литейного производства. Изучение этого материала указывает на то, что ремесленники периода Чуньцю значительно усовершенствовали конструкции сложносоставных разборных форм и способы скрепления их частей, ввели практику многофазового литья. Особый интерес представляют находки глиняных литейных форм, предназначенных для изготовления лопат, топоров, тесел. Взятые в сопоставлении с некоторыми данными, полученными при раскопках соседних могильников, они могут свидетельствовать о заметном, по сравнению с предыдущим периодом, расширении масштабов производства бронзовых орудий труда.
Тезис о появлении металлургии железа в период Чуньцю долгое время основывался лишь на недостоверном указании испорченного летописного текста и вызывал естественное недоверие у ряда историков. Только раскопки последних десятилетий принесли бесспорные свидетельства того, что по крайней мере со второй половины периода Чуньцю древнекитайские ремесленники стали осваивать производство орудий труда и оружия из железа. Весьма примечательная находка была сделана в 1957 г. на городище Бэйсичжуан, расположенном неподалеку от Хоума. В ходе исследования остатков жилищ и землянок-кладовых периода Чуньцю здесь в числе другого инвентаря археологи обнаружили фрагментированный железный лемех. Однако пока что железные предметы представлены в инвентаре городищ и могильников этого времени единичными находками. Так, в 1972 г. в пров. Цзянсу близ г. Люхэ раскопаны погребения царства У, относящиеся к последнему этапу периода Чуньцю. Здесь среди многочисленного бронзового инвентаря, куда входили мотыги, лопаты, серпы, имелось всего одно железное орудие. Такое же соотношение бронзовых и железных орудий обнаружено при раскопках в 1973 г. позднечуньцюских копей в пров. Хубэй. Это соотношение показывает, что железо еще не вошло достаточно широко в обиход.
Лемех из Бэйсичжуана, а также бронзовый лемех, датированный издателем периодом Чуньцю, происходящий из частной коллекции, указывают на появление в это время пашенного земледелия. Деревянный плуг приводился в движение, очевидно, с помощью воловьей упряжки. В письменных источниках сохранились упоминания об использовании быков при полевых работах. Предсказывая скорую гибель членам одного из цзиньских кланов, автор периода Чуньцю писал: «Жертвенные быки из храма их предков будут отданы для работы на полях». К сожалению, этих единичных данных явно недостаточно, чтобы судить о распространенности в VIII-V вв. до н.э. нового способа обработки земли. Тем не менее письменные известия, свидетельствующие о появлении в период Чуньцю более совершенной земледельческой техники, заслуживают внимания. К числу таковых относятся следующие строки сохранившегося в летописном тексте куплета народной песни: «Плодородны поля на равнине. Оставил старое [поле], надо думать о новом». По мнению специалистов, они свидетельствуют о том, что общинники в равнинных районах обрабатывали постоянные участки пашни с применением тех или иных форм паровой системы земледелия.
В чуньцюском тексте-поучении, автор которого рассуждает об обязанностях земледельцев царства Ци, говорится о необходимости «глубже вскапывать и бы
стрее рыхлить [землю]». Предлагаемые в этом тексте способы обработки земли были применимы только в случае употребления более совершенных, чем прежде, орудий труда, рассчитанных на индивидуальное производство и требовавших значительных навыков и заинтересованности у работника.
К периоду Чуньцю относятся первые достоверные известия о строительстве ирригационных сооружений, предназначенных для орошения. Так, Суньшу Ао, сановнику чуского Чжуан-гуна (613—591 гг. до н.э.), приписывается строительство канала, с помощью которого были «обводнены поля в Юйлоу» (область к северо-западу от г. Хэфэя в пров. Аньхой). Упоминаются оросительные каналы, принадлежавшие отдельным кланам.
В VIII—V вв. до н.э. древнекитайские земледельцы продолжали выращивать большинство сельскохозяйственных культур, получивших распространение в предыдущие времена. Следует отметить лишь значительное расширение посевов бобовых и риса. По мнению специалистов, в период Чуньцю садоводство и огородничество отделились от полеводства и стали самостоятельными отраслями земледелия. Известны многочисленные упоминания в источниках специализированных садовых и огородных хозяйств, имевших целью производство продуктов для рынка.
В источниках периода Чуньцю отмечается значительная интенсификация обмена как внутри царств, так и между ними, свидетельствующая о росте товарного производства. В это время весьма отчетливо проявляется определенная хозяйственная специализация отдельных областей древнего Китая, возникшая и исторически сложившаяся в связи с различиями в природно-географических условиях. Сохранились упоминания о сельскохозяйственных продуктах, природных материалах и ремесленных изделиях, которыми славилась та или иная область и которые поступали на общекитайский рынок. Например, особые сорта древесины, шкуры, рога и бивни носорога из Чу, белый шелк из У, шкуры черного буйвола, слона из Бапу (на территории современной пров. Сычуань) и т.д.
В летописных текстах неоднократно упоминаются разного рода торговцы, переезжавшие из одного царства в другое. В них сохранились сведения о купцах из центральнокитайского царства Чжэн, торговавших на рынках в Чжоу, в Чу, в Цзинь и в Ци. В Чжэн действовало особое торговое законодательство, начало которому, согласно исторической традиции, было положено в первые годы Чуньцю. Чжэнским купцам «необходимо было извещать [специального] управителя государя» о всех крупных сделках, а также о «выгодах, приобретенных от торговли на рынках, и об имевшихся у них драгоценных предметах». Следует упомянуть о том, что наряду с указаниями на государственный контроль в области торговли имеются данные о развитии в это время государственного ремесленного производства, основанного на подневольном труде. Расширение торговли между различными районами Поднебесной сопровождалось расширением путей сообщения. Особенно эффективным, по словам источников, средством взаимного обмена между царствами были перевозки по рекам. В период Чуньцю выросло число городов, увеличились их масштабы. Важным показателем экономического развития царств в это время служит повсеместное распространение монетной формы денег.
Аграрные отношения
Данная выше краткая характеристика системы сельскохозяйственного производства, основанная на имеющихся в настоящее время в нашем распоряжении сведениях, вероятно, далека от подлинной картины и неполно отражает все многообразие действительности. Тем не менее в ней достаточно отчетливо отразился имевший место в период Чуньцю прогресс в земледелии, приведший к тому, что экономически стало возможно индивидуальное ведение хозяйства. Признаком этого социально-экономического сдвига, отмеченным в письменных источниках, было то, что малая семья, по крайней мере со второй половины VI в. до н.э., утвердилась в качестве основной, а возможно, и всеобщей формы. Сохранилось два текста, относящихся к середине VI в. до н.э., в которых, на наш взгляд, содержатся достаточно определенные указания на небольшие размеры семей земледельцев в царствах Ци и Чжэн:
«Через три дня чиновник доложил об окончании [инспекции]. [Оказалось], что 17 тысяч семей земледельцев испытывают нужду... у двух тысяч семисот семей разрушены дома»;
«В это время в [царстве] Чжэн был голод и, поскольку злаки еще не созрели, народ бедствовал. Цзы Пи по приказу Цзы Чжаня выдал людям этой страны зерно, на каждый двор по одному чжуну».
В источниках есть ряд косвенных данных, отразивших процесс сокращения и обособления трудовых коллективов земледельцев. К их числу относятся беглые зарисовки земледельческого быта, вроде следующей: «[Посол цзиньского царя] увидел, что Цзи Цюе занимался [на своем поле] прополкой, а жена принесла ему обед». В этой зарисовке проступают черты крайней индивидуализации трудового процесса. В летописной записи 542 г. до н.э. о неурожае и голоде в царстве Чжэн упоминаются зерновые казенные выдачи пострадавшим земледельцам, равные одному чжуну (ок. 10 кг) на двор. Ограниченность размеров таких пособий свидетельствует, что они предназначались для распределения среди малых семей.
То обстоятельство, что в охваченных стихийными бедствиями районах царства Ци насчитывалось почти 20 тыс. крестьянских семей, а также то, что размер зерновой выдачи на двор в царстве Чжэн не превышал 10 кг, может получить разумное объяснение, если признать свершившимся факт распространения в этих царствах обособленной индивидуальной семьи. Протекавший на протяжении первых столетий периода Восточного Чжоу процесс индивидуализации семьи должен был привести к распространению парцеллярной обработки семейного надела. При этом вполне возможно, что в деревне сохранялась практика регулярной взаимопомощи соседей. К сожалению, известия источников, привлекаемых обычно, чтобы подтвердить наличие внутри сельской общины времени Чуньцю периодических уравнительных переделов пахотных земель и других угодий, крайне лапидарны и приобретают черты сколько-нибудь определенной аграрной информации только в истолковании позднейших комментаторов.
Не освещен источниками и вопрос о том, была ли земледельческая община периода Чуньцю сколько-нибудь самостоятельна как организация самоуправле
ния и обладала ли она какой-нибудь хозяйственной автономией. Согласно тем данным, которыми мы располагаем, представители административного аппарата царств регламентировали во всех деталях сельскохозяйственные работы— от подготовки к пахоте и севу до сбора урожая. Именно с ними связаны все упоминания источников об исполнении административно-фискальных и религиозных функций в сельской местности.
В источниках, относящихся к годам начала и расцвета Чуньцю, нет упоминаний о каких-либо действиях, связанных с землей, которые были бы вызваны процессом формирования частнособственнических отношений, таких, как заклад, купля-продажа и т.д. Единственный приводимый ниже текст: «От жунов следует пять выгод. Жуны и ди живут на пастбищах, они ценят товары и не дорожат землей. Первая [выгода] состоит в том, что землю у них можно выторговать», привлекаемый обычно как свидетельство о торговых сделках, имевших целью отчуждение земли, по-видимому, имел иной смысл. Речь здесь шла совсем не о приобретении вещных прав на землю, а о возможности выторговать у «варваров» право суверенитета над определенной территорией, которую можно было бы заселить земледельцами.
Одна из основ аграрно-правовых представлений, существовавших в восточ-ночжоуском обществе до периода Чжаньго, была следующим образом сформулирована в обрядово-нормативной книге «Лицзи»: «В древности силы народа использовали не более трех дней в году, поля и селения не продавали». В другом разделе «Лицзи» в качестве единственного критерия, определявшего степень зажиточности простолюдина, упомянут скот. Это, по-видимому, свидетельствует, что земля, находившаяся в руках того или иного земледельца, в дочжаньго-ском правосознании не мыслилась еще как его неотъемлемая принадлежность и постоянное владение.
За пределами этих достаточно расплывчатых и статичных указаний единственным источником сведений о состоянии аграрных отношений в царствах периода Чуньцю служат описания разного рода государственных реформ в области землепользования и налогового обложения земледельцев. Первое упоминание о попытке внести изменения в традиционный порядок землепользования относится к 645 г. до н.э., когда в царстве Цзинь учредили для поощрения воинов «сменные» или «оглобельные (т.е. колесничные) поля». Для того чтобы, по словам источника, «упорядочить налогообложение» в условиях надвигавшейся войны, цзиньские власти «постановили взимать воинское снаряжение и оружие с каждого чжоу»п. Цель этого нововведения заключалась в том, чтобы охватить население царства единым централизованным военным налогом и поставить его под контроль военной администрации. Было высказано мнение, что термином чжоу обозначали только те административные районы, где проживали потомки покоренных некогда племен жунов и ди, и что с помощью вышеупомянутой административной меры стремились включить в военно-податную организацию царства нечжоусцев по происхождению. Несмотря на то что в историческом
11 Небольшое территориально-административное объединение. По данным «Чжоули», на его территории проживало около 500 семейств.
контексте периода Чуньцю этот тезис выглядит достаточно заманчиво, он лишен надежной аргументации. Случайного упоминания о том, что в царстве Вэй имелись чжоу, населенные «инородцами» — жунами, здесь явно недостаточно.
Одновременно происходили перемены, отражавшие эволюцию крестьянского землевладения и землепользования. С начала периода Чуньцю древнекитайское общество вступило в период частичной или полной замены государственной барщины натуральным налогом, связанным с постепенной индивидуализацией крестьянского участка. На землях экономически развитого царства Ци поставки натурой существовали уже при Гуань Чжуне (645 г. до н.э.). Однако первые определенные свидетельства о новом налогообложении, имеющие характер документальных записей, связаны с царством Лу.
В 594 г. до н.э., по словам летописи, здесь «впервые налог (шуй) стали взимать с му». Характерно уже само название налога. В текстах, синхронных этой реформе, иероглиф шуй обычно обозначал освобождение от чего-либо (например, из плена, от одежды или от оков). Следовательно, первоначально натуральный налог шуй мыслился как плата за освобождение от каких-то казенных тягот и повинностей. Под последними подразумевали, по-видимому, труд земледельцев на казенных полях. Действительно, из текста описания реформы следует, что поставки натурой явились на смену системе цзе. Труд земледельцев на царских полях хорошо известен по данным периода Западного Чжоу. В период Чуньцю в ряде царств продолжали сохраняться пережитки прежней системы. Так, к 581 г. дон.э. относится рассказ «Цзочжуаня», упоминающий надсмотрщика царских полей в Цзинь, а под 524 г. до н.э. в этом памятнике сохранилась запись о том, что в малом владении Юй к работам на государственном поле привлекалось все трудоспособное население. Однако уже с конца Западного Чжоу начался процесс частичной или полной замены государственной барщины натуральным налогом. В «Гоюе» есть достаточно неопределенное упоминание о том, что в царстве Ци при Гуань Чжуне его собирались взимать «в соответствии с землей». Согласно одному историческому тексту, сохранившемуся в «Гоюе», в предреформенный период, когда какое-либо царство вступало в войну, его власти облагали земледельцев стабильным «сбором», включавшим просо, фураж и рис. В этом случае единицей налогообложения выступало административное объединение домохозяйств, называвшееся цзин («колодец»).
Закон 594 г. до н.э. вводил совершенно иной налоговый принцип, предполагавший, очевидно, индивидуализацию налоговых ставок. Объектом государственного обложения стало му. Некоторые авторы полагают, что этот термин уже в начале VI в. до н.э. был обозначением единицы земельной площади. Отсюда обычно делают вывод, что луский закон фиксировал появление земельной ренты, отражавшее победу режима частной собственности в аграрном строе царства Лу. Однако в источниках, относящихся к периодам начала и расцвета Чуньцю, нет ни прямых, ни косвенных упоминаний практики геометрического измерения земли. В текстах, синхронных лускому закону, му еще не превратилось в поземельную меру, а обозначало, по-видимому, полосу необработанной земли, с помощью которой отмечали границы полевых участков, т.е. гряду или борозду. Именно в этом значении иероглиф му употреблен в описании мирных перегово
ров между Ци и Цзинь после войны 589 г. до н.э.: «Цзиньцы не согласились [с условиями мира]. Они потребовали, чтобы дочь Сяо Туншу была отдана в заложницы и чтобы внутри границ царства Ци все гряды (му) были направлены на восток». Наряду с этой записью к VI в. до н.э. относится еще ряд известий, указывающих на то, что в разных царствах шел процесс размежевания земельных участков, выделявшихся общинникам в индивидуально-семейное пользование. Следовательно, «налог с му» был «налогом с гряды».
Иными словами, закон 594 г. до н.э. зафиксировал, что основой налоговой системы царства Лу стал индивидуальный надел земледельца. По закону 590 г. до н.э., основанному на цзиньском опыте по организации централизованных военных поставок в казну, в царстве Лу «установили сбор панцирей с каждого цю». В восточночжоуских источниках цю обычно выступает как название небольшого поселения. Значит, согласно этому декрету каждая община цю должна была выставлять для общецарской военной организации определенное количество военного снаряжения. Эта система просуществовала в Лу более ста лет. В конце концов развитие аграрных отношений привело к необходимости изменить как содержание военной подати, так и саму практику ее взимания.
Согласно летописному свидетельству, в 483 г. до н.э. в Лу «ввели подать фу, собиравшуюся с поля». Иероглиф фу первоначально использовали в качестве общего обозначения разных видов вооружения, выступал он также и как название для обязательных поставок боевых колесниц. Со временем он потерял свое конкретно-вещественное содержание и превратился в название для тех поступлений царского фиска, которые предназначались на военные, а иногда и различные экстраординарные нужды. Социально-экономическое расслоение внутри общин цю заставило луское правительство отказаться от системы коллективных поставок военного снаряжения и заменить ее податью фу, представлявшей собой разновидность натурального налога, взимавшегося с индивидуального надела.
Нововведения, осуществленные в Чжэн в середине VI в. до н.э., свидетельствовали, что в аграрном строе этого царства происходили изменения, аналогичные тем, которые были отмечены в Лу. В 543 г. до н.э. по инициативе известного государственного деятеля Цзы Чаня в Чжэн «ввели на полях границы, обозначенные канавами, а хижины с колодцами объединили в пятидворки». Этим актом, очевидно, законодательно оформлялась определенная индивидуализация крестьянского надела и переход от общины как некоего производственно-экономического целого к общине, представлявшей собой сумму налогоплатящих единиц.
Следующей мерой Цзы Чаня, осуществленной в 538 г. до н.э., было «введение [военной] подати фу, которую собирали с цю». Эта подать имела всеобщий характер. Наряду с земледельцами, платившими подать в составе своих общин цю, ее обязаны были вносить и представители знатных родов, по наследству получившие высшие административные должности в царстве Чжэн. Это обстоятельство отражало серьезные сдвиги в социально-политической жизни как Чжэн, так и других царств, в которых были введены единые военно-податные системы. Постепенное уничтожение клановых земель, шедшее параллельно с распространением всеобщей территориально-административной организации, сделало быв-
ших подданных кланов самостоятельными в государственно-правовом отношении.
В дореформенный период войско обычно состояло из вооруженных дружин кланов и колесничных отрядов знати. Реформы были связаны с процессом становления войска, представлявшего собой общецарское ополчение, собиравшееся из полнонадельных крестьян. Отголоском этого процесса являются упоминания источников об упадке методов ведения войны с помощью колесниц и о расширении пехотных отрядов в армиях разных царств. Весьма показательно то, что введение единой военно-податной организации обычно сопровождалось общим увеличением численного состава войск. Так, в царстве Цзинь в 633 г. до н.э., а в царстве Лу в 562 г. до н.э. были сформированы в дополнение к имевшимся новые армии.
Таким образом, известия о реформах, несмотря на свою крайнюю лаконичность, дают некоторый материал для реконструкции тех процессов, которыми были охвачены все многочисленные социально-правовые прослойки древнекитайского крестьянства в VII-V вв. до н.э. Во-первых, следует отметить, что в них, несомненно, отразилась далеко зашедшая индивидуализация земельных наделов внутри сельской общины. Неуклонное увеличение роли надела и падение роли общины в новой системе налогов и повинностей, по-видимому, отражали постепенное изъятие земли, поделенной на участки, из-под контроля общины и переход ее в распоряжение землевладельцев. В связи с этим издревле проникшие в древнекитайскую государственно-правовую и хозяйственную терминологию иероглифы ху и ши начинают означать не только двор или дом, но и все хозяйство земледельца, включая постройки и участок обрабатываемой земли. В упоминаниях источников о всеобщей переписи в царстве Лу в 589 г. до н.э. и о налоговых списках, составлявшихся в других царствах периода Чуньцю, они выступают в качестве главного обозначения налогоплатящих единиц. Во-вторых, в свете известий о реформе военно-податной организации в царствах Цзинь, Лу и Чжэн вполне очевидным представляется факт освобождения по крайней мере части живших на клановых землях крестьян из-под контроля клановой администрации и превращения их в непосредственно подчиненных государству налогоплательщиков, обязанных повинностями и военной службой.
Характерно, что в источниках периода Чуньцю мы вновь сталкиваемся с практикой пожалования «полей». Но если земельные участки, передававшиеся приближенным западночжоуских ванов, исчислялись единицами или десятками, то чуньцюские хоу и гуны дарили своим сановникам по нескольку тысяч «полей». Например, цзиньскому Хуэй-гуну (650-637 гг. до н.э.) один из исторических текстов «Повествований о царствах» приписывает такие обещания, будто бы данные им в период борьбы за престол: «Если сановник Ли Кэ будет на моей стороне, я прикажу дать ему миллион полей в Фэнъяне. Если Пи Чжэн будет на моей стороне, я прикажу дать ему семьсот тысяч полей в Фуцай». Трудно предположить, чтобы упоминаемые здесь земельные массивы, расположенные в густонаселенной местности, могли пустовать. Несомненно, объектом пожалования была здесь не столько земля, сколько люди, которые на ней издавна сидели и ее обрабатывали. Передача их полевых наделов кому-либо в кормление означала передачу права на присвоение установленной государством доли урожая. При
этом наделы вовсе не приобретали черт зависимого держания. Необычайно стремительное изменение количественного состава пожалований было связано с процессом дробления наделов, следовавшим за переходом от коллективного землевладения больших семей к индивидуальному владению.
Параллельно с индивидуализацией крестьянского хозяйства источники отмечают рост общественного неравенства внутри общины. Появляются упоминания об использовании в земледелии наемного труда. Однако до конца периода Чуньцю надел, по-видимому, так и не превратился в свободную отчуждаемую собственность. Имеется лишь единственный текст, относящийся к самым последним годам Чуньцю, в котором упомянуто о продаже приусадебных участков: «Люди из Чжунмоу побросали свои поля, продали усадьбы и огороды...» Хотя этот текст и указывает на появление торговых сделок, объектом которых были земельные участки, возможности частного присвоения в нем недвусмысленно ограничены землями вокруг дома земледельца.
Социальное положение производителей материальных благ
Сведения источников о социальном и правовом положении различных слоев производителей материальных благ в Китае в первой половине 1 тысячелетия до н.э. весьма скудны. Среди социальных терминов, появляющихся уже в ранних чжоуских исторических текстах, часто встречается понятие гожэнъ, в котором ряд современных исследователей видит обозначение свободного населения древнекитайских царств, включая и высшие разряды крестьянства.
В «Шуцзине» (разд. «Чжоушу», гл. «Цзюньши») под гожэнь подразумевались жители «страны»— го, т.е. центральной зоны ойкумены, которая, согласно древнекитайским представлениям о структуре пространства, рассматривалась как средоточие мира людей и арена посредничества между земным и небесным планами бытия.
В период Чуньцю (VIII—V вв. до н.э.), когда на месте западночжоуского государства возникло множество других, фактически независимых от него владений, традиционные принципы расчленения и организации пространства сохраняли свою силу. В каждом из этих владений вся административная территория делилась на две качественно неравнозначные зоны: центральную — го и периферийную — би или е. По мнению древних, обе эти зоны обладали своей особой физической, политико-административной и моральной квалификацией. Первая зона, конечно, представлялась более ценной и близкой для правителя, нежели вторая. Исследователи полагают, что первоначально к категории центра, или, по древней терминологии, «страны» — го, причисляли как исконные районы расселения чжоусцев, так и их опорные пункты на землях покоренного населения. Последнее всегда занимало периферию, или «окраины», нуждавшиеся, по мнению древнекитайских идеологов, в постоянной политической и моральной опеке. Социально-политический статус жителей «страны» и жителей «окраин», как можно
предполагать по некоторым свидетельствам, был неодинаков» Различными, по-видимому, были и действовавшие там правовые и административные нормы, культовые установления и т.п. Несмотря на некоторую неопределенность первоначального словоупотребления термина гожэнъ, несомненно, что под ним подразумевались достаточно привилегированные общественные слои.
В исторических текстах периода Чуньцю, собранных в «Цзочжуане» и в «Повествованиях о царствах», термин гожэнъ уточняется, конкретизируется и приобретает особое социальное содержание. Он обозначает слой лично свободных людей, живших на землях, непосредственно подчиненных администрации вана, хоу или гуна. Они были обязаны своим правителям несением разного рода служб, и прежде всего воинской повинности. Из тех источников, где гожэнъ выступают в публично-правовой сфере или в сфере политики, следует, что они были резервом пополнения «служилых людей» и непосредственно массовой опорой власти правителя, особенно в таких больших владениях, как царство Цзинь.
Сохранился фрагмент адресованного цзиньским гожэнъ указа, с помощью которого Пин-гун (557-532 гг. до н.э.) пытался привлечь их для борьбы с могущественным цзиньским кланом Луань: «Сыновьям и внукам тех [гожэнъ], которые со времен Вэнь-гуна оказывали услуги усопшим государям, но не получили назначения, будут даны должности и награды». Черты гожэнъ как определенного социального слоя еще более конкретизируются в свете известий источников об использовании их во время внутренних междоусобиц в различных царствах периода Чуньцю в качестве главной антиклановой силы. Так, в царстве Сун в 576 г. до н.э. во время конфликта между центральной властью и могущественными кланами один из сановников правителя «послал Хуа Си и Гунсунь Ши во главе гожэнъ против клана Тан». Когда в 546 г. до н.э. Цин Фэн попытался сосредоточить в своих руках власть в царстве Ци, он приказал латникам занять резиденцию клана Чуй. В помощь осаждавшим дворец главы клана «были посланы гожэнъ, и вскоре клан Чуй был уничтожен». Следует сказать, что противопоставление гожэнъ кланам весьма отчетливо выступает в тех немногих летописных рассказах, которые упоминают о совместных действиях этих двух социально-политических сил. Фразеология источника здесь такова, что делает очевидной их структурную самостоятельность. Отсюда следует, что гожэнъ необходимо рассматривать как социальное образование, стоявшее вне клановой организации.
Поскольку в период Чуньцю термином го могли называть столичные города разных царств, то под гожэнъ в некоторых текстах подразумевали только столичных жителей. Об этом могут свидетельствовать некоторые тексты из «Цзочжуаня», как, например:
«Весной чуский правитель окружил столицу царства Чжэн. Осада продолжалась 17 дней. Жители царства Чжэн стали гадать о заключении мира. Ответ был неблагоприятный. Стали гадать о покаянии в большом храме и выставлении колесниц на улицу. Ответ был благоприятный. Гожэнъ очень горевали, защищавшие бойницы плакали. Чуский правитель отвел войска, и жители царства Чжэн отремонтировали стены»;
«Когда армия царства Цзинь вернулась, Фань Вэньцзы последним въехал [в столицу]. Уцзы (его отец. — К.В.} сказал ему: „Разве ты не заставляешь ждать
28. Фрагменты погребальных стягов с изображением усопших в окружении священных животных.
Живопись на шелке. Из раскопок могил царства Чу Чанша. Хунань. Период Чжаньго. V-IHвв. до н.э.
себя?44 Он ответил: „Поход был победоносным, и гожэнь встретили [армию] с радостью. Если бы я въехал первым, то стал бы предметом внимания глаз и ушей [толпы], что положено лишь главнокомандующему. Поэтому я не смел [въехать раньше]44»;
«В 12-м месяце, в 1-й день ихай люди царства Ци перевезли [гроб с останками] Чжуан-гуна из его погребения, уложили в [соответствующий его рангу] гроб в большом зале храма предков, а [старый] гроб они выставили с телом Цуй Чжу на рынке. Похоже, что гожэнь узнали его. Все они говорили: „Это же Цуйцзы44».
Однако иногда речь шла не только о столице. В крупных царствах центральная зона, копировавшая столичную, повторялась во всех значительных городах. Жители их также именовались гожэнь. Так названы, например, горожане одного из луских укрепленных центров, расположенного близ границы, в рассказе о войне между царствами У и Лу в первой четверти V в. до н.э. Об этом свидетельствует «Цзочжуань»:
«В 3-м месяце царство У напало на нас. Цзы Сэ встал во главе армии, была выбрана труднопроходимая дорога неподалеку от [города] Учэна. Еще раньше несколько жителей Учэна во время охоты в пограничных с [царством] У землях схватили жителя [владения] Цзан, который вымачивал тростник. „Это почему [ты здесь]?44 — спросили они и заставили [его] заниматься орошением их земель. Когда войско царства У приблизилось [к городу], схваченный указал им, как напасть на Учэн и взять его. Ван Фань был тогда управителем [Учэна]. Он поддерживал хорошие отношения с отцом Таньтай Цзыюя. Гожэнь испугались, [как бы он не сдал город]».
Как видно из приведенных известий, под гожэнь обычно подразумевали городских жителей; естественно, в их среде могли быть ремесленники и торговцы. Весьма отчетливо это проявляется в следующем отрывке из рассказа о том, как царство Вэй пыталось разрушить неравноправный союз с царством Цзинь:
«Ван Суньцзя [сказал правителю]: „Если у царства Вэй будут трудности, то ремесленники и торговцы всегда выступят и разделят заботы. Дозволь всем принять участие44. Правитель сообщил сановникам, и они пожелали, чтобы все приняли в этом [сражении] участие. Был установлен день выступления. Правитель принял гожэнь и повелел Цзя спросить их: „Если Вэй изменит Цзинь, а Цзинь пять раз нападет на нас, как будет с этой заботой?44 Все ответили: „Пусть пять раз нападет на нас, мы все равно пойдем сражаться44».
В то же время, очевидно, ремесленники и торговцы составляли небольшой процент жителей центральных зон разных царств периода Чуньцю. Основная часть гожэнь занималась земледелием. На непосредственную связь гожэнь с землей указывает содержание следующей записи:
«Когда [царство] У вторглось в чуские [земли], оно послало приглашение [присоединиться к нему] чэньскому Хуай-гуну. Хуай-1ун собрал у себя гожэнь и спросил их: „Желающие союза с Чу пусть станут налево, желающие союза с У пусть станут направо44. Жители Чэнь встали так, как были расположены их поля». Земледельцы гожэнь, несомненно, владели полями и орудиями производства и были обязаны платить подати в казну. Это подтверждается сведениями «Цзочжуаня»:
«Юань Бо из [владения] Чэнь бежал в [царство] Чжэн. Первоначально Юань Бо был надзирателем за исполнением государственных повинностей. Он обложил налогом поля внутри пределов [страны], чтобы дать приданое дочери правителя, а на оставшиеся средства приобрел для себя богатую утварь. Гожэнъ прогнали его, и он покинул [пределы страны]». Значит, слой жителей центральных зон разных царств и владений мог включать как ремесленников и торговцев, так и земледельцев.
В исторической литературе высказывалось мнение, что по своим административным порядкам малые владения в отличие от больших царств не имели деления на центр и окраины, поэтому в них все свободное население должно было принадлежать к числу гожэнъ. Однако известия о гожэнъ малых владений Цзюй, Чжу и Цзан не содержат прямых подтверждений этому. В надписи на колоколе Шу И чжун рассказывается о передаче правителем первому министру земель аннексированного в 567 г. до н.э. малого владения Лай (Ли):
«...дарю тебе столичную область Ли, [а также поселения] Цю и Лай, в них 300 сяней»п.
Этот текст хранит память о разделении территории малого владения на две качественно неравноценные части, чему, по-видимому, соответствовала аналогичная дифференциация населения.
Слой гожэнъ представлял собой силу, которой дорожили власти различных царств. Данные о характере участия гожэнъ во внутриполитических событиях указывают на их известную организованность. Сообщества гожэнъ, по-видимо-му, в случае необходимости могли выделять своих представителей. Известны факты, когда правители царств или руководители влиятельных кланов заключали с гожэнъ соглашения, скрепленные клятвенными обещаниями. Очевидно, в церемонии принимали участие только представители этого слоя. Действительно, когда в 578 г. до н.э. в царстве Чжэн произошли внутренние беспорядки и отряд претендента на власть укрепился на столичном рынке, «Цзы Сы, возглавив гожэнъ, заключил с ними договор в большом храме, после чего полностью сжег [рынок]». В 548 г. до н.э., когда циский Чжуан-гун был убит и власть в царстве Ци захватили представители кланов Чуй и Цин, последние тоже заключили договор с гожэнъ в большом храме.
В 504 г. до н.э. главы влиятельных кланов царства Лу заключили договор с правителем у чжоуского алтаря, а с гожэнъ — у алтаря Бо, древней шанской столицы, так как лусцы состояли в основном из потомков переселенных сюда жителей государства Шан. Очевидно, что во всех этих случаях обстоятельства предполагали отбор и ограничение числа гожэнъ, участвовавших в церемониях. Аналогичное впечатление оставляет относящийся к 632 г. до н.э. эпизод из истории царства Вэй, когда ему приходилось лавировать между царствами Цзинь и Чу. Отказ первого заключить соглашение заставил вэйского правителя искать помощи на юге. Однако этому помешали внутренние раздоры. По данным источника, «гожэнъ не пожелали [союза с Чу], поэтому выгнали своего государя,
12 Сянь — название территориально-административной области, находившейся под контролем царских управлений. Впервые появляется на страницах источников в период Чуньцю.
к удовольствию [царства] Цзинь». Прошло четыре месяца, прежде чем этот конфликт с помощью Цзинь был улажен. Сановник вэйского правителя заключил договор с «людьми из Вэй и Ваньпу». По-видимому, они-то и были представителями гожэнъ. По крайней мере сообщение о реакции вэйских гожэнъ на соглашение с правителем соответствует такому предположению: «Гэжэнъ услышали об этом договоре, и у них не осталось более сомнений [в добрых намерениях правителя]». Следовательно, наличие у гожэнъ какого-то механизма выборности или хотя бы механизма выдвижения представителей кажется вполне доказанным. Однако в источниках нет ни прямых, ни косвенных упоминаний о каких-либо признаках функционирования внутри этого слоя других демократических институтов.
Вершиной социальной активности слоя гожэнъ были собрания его представителей при дворах правителей, созывавшиеся по инициативе властей. Так, в 645 г. до н.э. цзиньский правитель, попавший в плен к циньцам, направил на родину гонца с посланием, передававшим власть в царстве его наследнику. Гожэнъ были созваны ко двору, чтобы услышать волю правителя и поддержать его распоряжение. В 502 г. до н.э. было созвано собрание гожэнъ в царстве Вэй, чтобы одобрить намерение правителя разорвать отношения с царством Цзинь. Роль гожэнъ здесь была строго ограничена. Если раньше во время совещания с сановниками царства обсуждался вопрос о возможности в создавшихся условиях заменить правителя кандидатурой, более угодной царству Цзинь, то теперь от гожэнъ потребовали лишь ответа, согласны ли они следовать политике правителя. Когда в 494 г. до н.э. правитель царства У потребовал у чэньского владетеля присоединения к античускому союзу, в Чэнь во дворце собрали гожэнъ. Им надлежало лишь ответить, желают ли они союза с царством У или с царством Чу. Как видим, собрания гожэнъ во всех упомянутых случаях решали очень ограниченные задачи. Они не обсуждали весь комплекс проблем, встававших перед разными государствами периода Чуньцю, а только подтверждали волю правителя или одобряли сделанный им выбор того или иного союзника. Влияние собраний гожэнъ на судьбы государства было менее значительным, чем совещаний правителей с представителями клановой аристократии.
Существует ряд фактов, прямо или косвенно влияющих на объективную оценку собраний гожэнъ. Обычно с известиями о собраниях гожэнъ при дворе правителей сопоставляют одно место в «Чжоули», где сказано о чиновнике сяо-сыкоу: «Ведает порядком во время внешних аудиенций, доставляя десять тысяч человек из народа и советуясь с ними: во-первых, по поводу опасностей для государства, во-вторых, по поводу переноса столицы, в-третьих, по поводу утверждения на престоле государя». Однако такое сопоставление вряд ли правомерно, поскольку летописные известия, использованные в первом случае, и формализованный текст «Чжоули» — во втором принадлежат к различным историческим этапам. Летопись по горячим следам описывает исчезающую реальность периода Чуньцю. «Чжоули» же, созданная, по-видимому, в конце периода Чжаньго, содержит идеальную модель государственного устройства Западного Чжоу, давно ставшего легендарным. Скудные сведения исторической традиции XI—VIII вв. до н.э. не могли дать материала для данного эпизода. Исходной точкой для него
послужили, очевидно, воспоминания о появлении представителей народа при дворах разных древнекитайских правителей в период Чуньцю. В первом пункте приведенной программы деятельности сяосыкоу также можно отыскать кое-что общее с темами собраний гожэнь. Но ни второй, ни третий пункты не находят параллелей в чуньцюском материале.
Как свидетельствует «Цзочжуань», перенос столицы в средних и небольших владениях правители обсуждали на совещаниях с главами влиятельных кланов, а утверждали на съездах союзов царств, возглавлявшихся «гегемонами» ба. Что касается вопроса о престолонаследии, то в период Чуньцю, а тем более в Чжаньго он всегда составлял исключительную привилегию правящей верхушки разных владений. В реальной политике здесь всегда чувствовалась тенденция ограничить число лиц, причастных к ней, не допускать непосвященных. Конечно, в определенные моменты периода Чуньцю в разных царствах и малых владениях бывали случаи, когда мнение гожэнь по поводу того или иного наследника решительно расходилось с общепринятым и даже попадало на страницы летописей. Например, в «Цзочжуане» под 616 г. до н.э. записано: «Чжужу, старший сын правителя Шэнь, поселился в Фучжуне, гожэнь отказались подчиняться ему». К 528 г. до н.э. относится следующее сообщение: «Чжуцю-гун из владения Цзюй умер. [Сменивший] его Цзяо-гун не выказывал печали, [поэтому] гожэнь отказались слушаться, пожелали, чтобы правителем стал Гэнъюй, младший брат Чжу-цю-гуна».
Однако эти события носили случайный, нерегулярный характер. В записях нет никаких упоминаний об общественных или государственных институтах, целью которых являлся бы сбор сведений о гожэнь. В период Чуньцю в затруднительных случаях прибегали к «распоряжениям прежних ванов», исключавших какое бы то ни было обсуждение темы с народом. В «Цзочжуане» приводится высказывание сяосыкоу о порядке престолонаследия:
«Если у жены вана нет наследников, то избирают [среди детей вана] для утверждения [на престоле] старшего; если есть [несколько] равных годами, то [выбор падает] на обладающего внутренней силой; если есть [несколько] равных по внутренней силе, то гадают на щитах черепах. Ван не может утвердить [наследником] только из-за того, что он любит [кого-то], сановники не могут [делать этого] под влиянием своих собственных чувств, таково древнее установление». Этот пункт в вымышленной программе сяосыкоу появился, по-видимому, под прямым воздействием бурной идеологической атмосферы периода Чжаньго. Природа власти вана, возможность его устранения, если он не отвечал «велению Неба», и избрания на его место другого, проблема передачи власти «мудрецу» нецарского рода — все это многократно обсуждалось в конфуцианской среде того времени и, очевидно, стало благоприятной почвой для возникновения мифа о праве народа участвовать в обсуждении кандидатуры наследника.
Такой же иллюзией оказывается и попытка отыскать «демократические традиции», считая при этом гожэнь основными носителями последних, в некоторых текстах идеологического характера, написанных в период Чуньцю. Это прежде всего относится к тем высказываниям, которые на первый взгляд кажутся содержащими высокую оценку народа и народного мнения. Например: «Если на
род поддержит правителя, то вслед за этим духи пошлют ему благополучие»; «народ для правителя важнее духов»; «закрывать народу рты опаснее, чем преграждать плотиной поток». Однако, несмотря на особые старания некоторых историков, не удалось обнаружить никаких достоверных указаний на то, что в царствах периода Чуньцю наряду с органами власти, назначавшимися ваном, существовала городская община или вообще имелись какие-либо элементы самоуправления. Так что истолкование этих сентенций в терминах полисной демократии не имеет под собой почвы. Очевидно, что и высказывания источников о необходимости «прислушиваться к мнению гожэнъ», «спрашивать у гожэнъ совета» требуют тщательного анализа и критического подхода.
Древнекитайскому мировоззрению было свойственно представлять человека и народ в качестве органического звена природного мира, включенного чжоу-скими идеологами в космогоническую систему с помощью закона всеобщей гармонии, взаимного соответствия и согласованности элементов и сил. Так, в «Цзочжуане» читаем:
«Народ в повседневной жизни берет за образец неизменные [пути] Неба и земли, подражает небесному сиянию, согласует [свою жизнь] с характером земли».
Нравственное и политическое состояние народа рассматривалось как следствие природных процессов, в частности, ставилось в зависимость от гармонии эманаций природных объектов. Эта идея также получила отражение в «Цзочжуане»:
«Ведь эманации Неба и Земли не должны терять порядок своего проявления. Если в последовательности их проявления происходит ошибка, то среди народа наступает смута».
В идеологических текстах VIII—V вв. до н.э. отношение правителя к народу моделировалось по образцу отношения правителя к природе. Доктрина запрещала ему вторгаться в природные процессы, требовала постоянного надзора за объектами природного мира и согласования с ними государственных мер. Древнекитайское мифологическое мировоззрение не было в состоянии четко дифференцировать действия природы и социальное поведение человека, поэтому упоминания в восточночжоуских источниках акций властей, имевших целью знакомство с мнением народа, по сути своей были идентичны государственной практике наблюдения природных феноменов.
В качестве элементов мироздания и народ, и божества-духи были для древнекитайских мыслителей категориями одного уровня. В ряде случаев они предстают как самостоятельные космические сущности. Мыслители того времени неоднократно обращались к обсуждению вопроса, какой из сущностей правитель должен был отдать предпочтение в своей мироустроительной деятельности. В этой связи высказывалось мнение: «Народ важнее духов, поэтому совершенномудрые ваны [древности] сперва укрепляли народ, а затем отдавали силы духам»; «Жертвоприношения осуществляются для блага народа. Народ важнее божеств».
Некоторые исследователи видят в этих и подобных им высказываниях проявление «веры в силы человека». Однако такая прямолинейная интерпретация про
тиворечит контексту, свидетельствующему, что народ и поклонение духам противостоят здесь не как активные начала, а как объекты управления. В качестве последних они подчинялись сложившейся в древности модели упорядочения мира правителем. В соответствии с ней народ считался тем относительно самостоятельным элементом, первоочередное умиротворение которого должно было приносить наибольший эффект. «Если среди народа наступает мир, то после этого божества посылают [на землю] благополучие». Так же принципиально однородными мыслились социальное поведение человека и жизнь природы.
Приравнение запретов, налагавшихся на те или иные стороны человеческого поведения, к вторжению в природный мир, представленное в одном из цитированных текстов, раскрывает присущее мифологическому мышлению неумение отделять жизнь народа от природной среды. Таким образом, во всех случаях, которые кажутся содержащими высокую оценку народа или народного мнения, мы сталкиваемся с культурными представлениями, порожденными мифологической картиной мира.
Основным принципом и главной категорией древнекитайской космологии была гармония. Концепция гармонического устройства мира, включая природу, природных божеств-духов, народ и весь космос, основывалась на представлении о связи, согласованности, соответствии и соразмерности всех его элементов. Господство подобного мировоззренческого принципа рождало представление о том, что умиротворение народа должно было вызывать медленный соответствующий отклик среди божеств и служить началом очередного цикла упорядочения мира.
Его идеальная парадигма, помещенная во внеисторическое время деятельности культурных героев, сводила этот процесс к последовательному восстановлению естественности и согласованности в природе, к уничтожению следов вмешательства в нее демонических сил, к регуляции космического ритма, к внесению стабильности и соразмерности в жизнь божеств и народа. Она нашла отражение в «Гоюе»: «...Юй, озабоченный тем, что прежде не соблюдали установлений, исправил и изменил порядок и меру, взял образцы вещей у неба и земли, изобразил их в ста образцах, привел их в соответствие с народом и сделал соразмерными всем живым существам. Потомок Гунгуна [по имени] Сы Ю помогал ему. Высокое он сделал высоким, низкое низким, расчистил путь потокам, дал дорогу воде, собрал воду и обогатил природный мир, насыпал вершины девяти гор, соединил воду в девяти потоках, срыл плотины на девяти озерах, сделал цветущими девять лугов, сделал обильными девять источников, сделал обитаемыми девять внутренних областей, соединил между собой четыре моря. Поэтому на небе не собиралось холодное начало инь, на земле не рассеивалось жаркое начало ян, в воде не оседали легкие флюиды ци, в огне не появлялось дурных знамений, божества не оставляли своего места, народ не имел чрезмерных желаний, сезоны не меняли своего порядка, в природе не появлялось вредных созданий». Достигнутая в результате усилий культурных героев космическая гармония объединяла в единое целое разнообразные элементы и явления, связывала различные аспекты бытия, служила источником покоя не только в природном, но и в социальном плане. Поэтому совершенно очевидно, что восточночжоускую
концепцию народа нельзя прямо применять для реконструкции политического режима царств и владений, для выявления того, каков был в них характер связи государственной власти с населением.
Следовательно, проблема слоя гожэнь может быть выяснена только на основании тех исторических свидетельств, которыми мы располагаем. Иллюзорность сведений, привлекавшихся для доказательства влияний «демократизма» или «народности» в жизни древнекитайского общества периода Чуньцю, вовсе не снимает вопроса о том, почему этот слой временами приобретал такое значение, что правители царств или главы кланов заключали с его представителями особые соглашения, скрепленные клятвенными обещаниями. Ответить на него невозможно, не коснувшись некоторых сторон социально-политической обстановки того времени.
С VI в. до н.э. в ряде царств начинается широкое наступление на кланы и их привилегии, превращающееся постепенно в постоянный фактор политической и социально-экономической жизни периода Чуньцю. В этом наступлении в качестве главной социальной опоры центральной власти наряду с бюрократизировавшимися группами внутри правящего рода обычно выступали гожэнь. Так, в 576 г. до н.э. в царстве Сун возник острый конфликт между центральной властью и могущественными кланами. Тан Цзэ, воспользовавшись временным ослаблением центра, убил одного из принцев. Хуа Юань, ставший у власти в царстве, «послал Хуа Си и Гунсунь Ши во главе гожэнь, чтобы напали на клан Тан и убили Цзы Шаня». В 546 г. до н.э. в царстве Ци противником центральной власти выступил клан Чуй. Отряду латников было поручено занять его резиденцию. «Клан Чуй стал обороняться, заняв бойницы в своем дворце. [Латники] не смогли одолеть [обороняющихся]. Тогда послали гожэнь на помощь им, и вскоре клан Чуй был уничтожен». В царстве Цзинь, где к началу V в. до н.э. большинство кланов, связанных родственными узами с семейством гуна, было уничтожено, в 497 г. до н.э. началась длительная вражда между тремя оставшимися сильными домами — Чжао, Чжун и Фан. В 495 г. до н.э. представители двух последних задумали напасть на правителя, поддерживавшего семейство Чжао. Но эта попытка не удалась. Гожэнь помогли гуну. Оба предводителя были разбиты.
Известия источников об использовании гожэнь в разных царствах во время внутренних войн и столкновений в качестве одной из главных антиклановых сил еще более конкретизируют их черты как определенного социального слоя. Даже в тех случаях, когда гожэнь отказывались действовать активно или выступали на стороне того или иного семейства, источники подчеркивали противопоставление этого социального образования клановой организации. В царстве Чу в 515 г. до н.э. глава царской администрации Цзы Чань «приказал напасть на клан Си и поджечь [его дома]. Услышав об этом, Цзы Э покончил с собой. Гожэнь отказались поджигать [строения клана]. Приказ гласил: „Не поджегший [строений] клана Си виноват, как [и] его члены14. Кто-то взял охапки сухой травы, кто-то снопы соломы, но гожэнь вмешались, и [строения] не были подожжены. Глава царской администрации поджег [строения], уничтожил всех членов и сторонников клана Си, убил Ян Линчжуна, его братьев Юаня и Та, с ними еще Цзинь Чэня, его детей и братьев».
Таким образом, руководители царств, активно боровшиеся с засильем кланов, и кланы, в ряде мест сохранявшие до конца периода Чуньцю свои позиции, стремились заручиться поддержкой или нейтралитетом гожэнъ, чему служили заключаемые с ними договоры. В тех царствах, где наследственные привилегии клановой аристократии подвергались постоянному ущемлению со стороны правителей и их окружения, слой свободных ремесленников и торговцев превратился в источник, поставлявший кандидатов для низших категорий разного рода «служилых людей». Об этом свидетельствует указ 552 г. до н.э., имевший целью привлечь цзиньских гожэнъ для борьбы с могущественным кланом Луань: «Затем отдал приказ для гожэнъ: „Детям и внукам тех, кто служил прежним правителям со времен Вэнь-гуна, не получившим назначения [на службу], будут даны должности. Получившим будут даны награды"».
Иногда гожэнъ участвовали на стороне центральной власти в государственных реформах, уничтоживших обширные земельные владения кланов, обрабатывавшиеся с помощью государственной барщины. В царстве Чжэн гожэнъ подавили сопротивление семей, задетых этими мероприятиями: «Пять цзу (кланов, „утративших свои поля". — К.В.\ объединив всех недовольных людей, опираясь на сторонников царского сына, устроили смуту... Цзы Чань, услышав о разбойниках, поставил стража у ворот, закрыл склады с оружием, тщательно запер хранилища, полностью обеспечил оборону, построил по порядку [своих людей] и выступил с 17 колесницами. Взяв труп [убитого отца], он напал на разбойников в северном дворце. Цзы Цзяо во главе гожэнъ помог ему, убил Вэй Чжи, Цзы Шипу, множество разбойников было полностью истреблено».
Участие гожэнъ в важнейших делах государства делало их поведение существенно важным для официальных составителей летописи. Когда в 538 г. до н.э. «Цзы Чань решил взимать с цю военный налог» (налог на приобретение оружия и военного снаряжения), гожэнъ были очень недовольны, так как раньше сбор средств, по-видимому, производился только за счет влиятельных кланов. Летописец приводит их оскорбительные суждения о реформаторе и его ответ, в котором государственные меры ставятся выше любых временных нужд и интересов.
Таким образом, для второй половины периода Чуньцю характерно увеличение числа упоминаний об участии гожэнъ в тех или иных политических событиях. Несомненно, значительна их роль в ряде царств как силы, противостоящей кланам. Однако следует учитывать, что этот слой не выработал собственной линии политического поведения и не обладал собственными политическими идеалами, выступая постоянно как орудие в руках различных сил.
Среди социальных терминов локального значения в текстах VIII—V вв. до н.э. довольно часто встречается категория ман, связанная с территорией царства Ци. Характеристика статуса ман складывается из ряда мелких, часто косвенных упоминаний источников. В мозаике этих разобщенных и разновременных известий наиболее определенную информацию об общественном положении ман в последние годы Чуньцю содержит следующий небольшой текст из «Яньцзы чуньцю»:
«Когда Яньцзы угощал вином [циского] Цзин-гуна (547-491 гг. до н.э.), он приказал, чтобы вся утварь непременно была новой. Староста [поселений, под
чиненных его] семье, сказал: „Средств не хватит, прошу собрать их с земледельцев л/ан“». Из этого свидетельства явствует, что понятие ман включало в себя категорию земледельцев, живших на пожалованных циским сановником территориях, с которых они могли собирать не только учрежденные государством налоги в установленных размерах, но и экстраординарные сборы. Как этот текст, так и другие упоминания источников дают некоторые основания предполагать, что ман находились в зависимости от местных владетелей и были лишены личной или общинной собственности.
Наряду с категориями крестьян, которые были обязаны государству или местному владетелю уплатой налога, различных сборов и несением фиксированных повинностей, в древнем Китае в VI1I-V вв. до н.э. были известны земледельцы, чьим трудом их патроны могли распоряжаться по собственному усмотрению. О таком неполноправном работнике вскользь упомянуто в одном из исторических рассказов «Повествований о царствах»:
«Это напоминает земледельца ли. Пусть он получит хорошее поле и будет прилежно обрабатывать его, но прокормить себя не сможет, ведь он все делает для других». Обычно в этом работнике видят раба. Вообще у исследователей сложилось убеждение, что термин ли, появляющийся впервые в таких памятниках древнекитайской исторической прозы, как «Цзочжуань» и «Гоюй», относится к рабам. В качестве наиболее веского аргумента сторонники такой трактовки обычно используют то обстоятельство, что в одном из текстов «Цзочжуаня» группе людей, в обозначение которых входил иероглиф ли, было обещано мянъ — освобождение. Но в период Чуньцю это слово не было техническим названием юридических актов освобождения рабов. Оно могло означать освобождение от любых форм зависимости, от налогов, от трудовой повинности и т.д. К тому же характер деятельности этих людей и основные черты их социального положения неизвестны, поэтому вряд ли можно с категоричностью утверждать, что зависимость, от которой их обещали освободить, была рабской. Действительно, в ряде известий, где упоминаются люди, относившиеся к категории ли, контекст указывает на то, что этот термин означал не раба, но употреблялся в более широком значении: «обязанный», «зависимый», «подданный». Использование терминали часто было связано с «подданством» какому-либо клану. Так, согласно «Цзочжуаню», Бао Го (или Бао Вэньцзы), один из государственных деятелей царства Ци конца VII в. до н.э., однажды сказал о себе: «Я был некогда ли у [луского] клана Ши». В другом месте памятника есть разъяснение этих слов. Оказывается, Бао Го некогда покинул свой клан и страну, чтобы «стать подданным (чэнь) у [луского] Ши Сяошу». В роли доверенного слуги главы луского клана Ши он быстро выдвинулся и стал обладателем поселения в сто дворов. Некоторое время спустя по приглашению своих соотечественников он возвратился на родину и занял официальный пост.
То обстоятельство, что Бао Го в одном месте «Цзочжуаня» выступает как ли клана Ши, а в другом — как его чэнь, указывает на однозначность обоих терминов. Кроме того, контекст источника уточняет, что термин ли наряду с термином чэнь мог обозначать привилегированного представителя челяди знатного клана, вовсе не являвшегося его рабом. Генезис одной из форм зависимости, обозна
чавшейся термином л и. раскрывается в словах героя одного из рассказов «Гоюя». В нем говорится о преследовании, которому подвергались в Цзинь «подданные клана Дуань», пытавшиеся последовать за главой клана, бежавшим за пределы царства Цзинь. Один из таких «подданных», схваченный стражей на границе и доставленный к Пин-гуну, сказал ему в свое оправдание: «Я слыхал, что для того, кто в течение трех поколений служит [одному] семейству, [глава его] становится господином, а тот, кто в следующем поколении остается под [чьим-либо покровительством], считает [покровителя] своим хозяином. Ведь твой ясный приказ сводится к тому, чтобы служить господину, не щадя жизни, служить хозяину с усердием. С тех пор как мои предки, не имея поддержки от царства Цзинь, стали наследственными ли клана Дуань и до нынешнего времени прошло три поколения. Поэтому я не могу не считать Дуань [Ина] господином...»
В данном случае примитивные отношения господства и подчинения, определявшие статус «наследственных ли», являются результатом того, что некоторые категории лиц в древнекитайском обществе периода Чуньцю были вынуждены искать себе покровительство и защиту в чьем-либо патронате. Внутренняя логика известий, содержащихся в приведенном выше тексте, указывает на то, что эти отношения, выраставшие из простого соглашения сторон, на протяжении жизни двух-трех поколений вызывали постепенное нарастание обязательств семейства, принявшего чье-либо покровительство. Отмеченные здесь особенности статуса «наследственных ли», несомненно, ассоциируются с клиентелой, а не с рабством.
Древнекитайские авторы охватывали термином ли как подневольного земледельца, обязанного работать на чужом поле, так и привилегированного слугу клана, управлявшего всем его хозяйством. В сословии ли, среди представителей которого наблюдались большие имущественные и социальные различия, объединялись люди, утратившие по тем или иным причинам статус, гарантировавший личную свободу, и вынужденные принимать на себя тяготы зависимости от других лиц. В данных восточночжоуских источников о положении той или иной категории ли можно уловить отдельные черты, напоминающие рабство, но нет ни одного текста, в котором бы о них говорилось как о полной собственности их патронов. Следует отметить, что такими патронами могли быть не только кланы или частные лица, но и административные органы царств. Зависимость от государства людей, попавших в число ли, оформлялась в специальных документах, хранившихся у соответствующих чиновников.
Известен рассказ о том, как ли, находившийся в ведении Фань Сюаньцзы, главы администрации царства Цзинь, добивался освобождения: «Некогда Фэй Бао принадлежал к числу ли. Это было засвидетельствовано в „документе, написанном киноварью" (даньшу). А у клана Луань был силач по имени Ду Жун. Фэй Бао сказал Сюаньцзы: „Если сожжешь “документ, написанный киноварью”, я убью Ду Жуна“». По-видимому, переводу в разряд государственных ли подлежали преступники, осужденные за те или иные правонарушения. Комментаторы «Цзочжуаня» неоднократно высказывали вполне правдоподобные предположения, что в истории с Фэй Бао сочетание иероглифов даньшу — «документ, написанный киноварью» — представляет собой позднейшее искажение графически однотипного ему термина синшу, т.е. «документ о наказании».
В позднейшем административном руководстве «Чжоули» термином ли обозначали как особые группы осужденных, так и военнопленных, происходивших из районов обитания «четырех варварских народов», которые были обязаны провести несколько лет на подневольных работах в пользу администрации одного из древнекитайских царств, а затем получали свободу.
Наряду с сословием зависимых людей ли в древнекитайском обществе периода Чуньцю имелись более узкие и, очевидно, менее многочисленные слои подневольных работников, которые, согласно сведениям восточночжоуских текстов, были лишены почти всех прав и какого-либо имущества. К их числу относились, по-видимому, те, кого за преступления по распоряжению административных органов разных царств переводили в разряд ну. Упоминание о том, что этот социальный термин, ставший стандартным обозначением рабского состояния, был известен уже в VI в. до н.э., имеется в «Люйши чуньцю»: «Яншэ Ху, младший брат Шу Сяна, был в хороших отношениях с Луань Ином. Тот провинился перед [царством] Цзинь. Цзиньцы наказали Яншэ Ху, а Шу Сян был превращен в ну».
Одной из самых низших категорий контролируемых царской администрацией людей были пу — «прислужники», «челядь». В этот социальный разряд переводили не только тех, кто совершил преступление, но и определенные группы населения завоеванных территорий. На это указывают данные дарственной грамоты, сохранившейся на колоколе Шу И чжун, который был изготовлен в царстве Ци в середине VI в. до н.э. Эта форма зависимости в период Чуньцю была известна не только в государственном, но и в частноправовом варианте. По свидетельству одного из текстов «Яньцзы чуньцю», превращение в пу могло произойти в результате добровольного заклада личности: «Яньцзы спросил [у слуги]: „Как ты стал иу?“ Тот ответил: „Пришлось испытать мне холод и голод, вот и стал я пу“. Яньцзы спросил: „На какой срок ты стал иу?“ Тот ответил: „На три года44. Яньцзы спросил: „Можно ли тебя выкупить?44 Тот ответил: „Можно44». Следовательно, эта категория включала в себя свободнорожденных, которые для погашения долга, или за жалованье, или еще на каких-либо условиях принимали на себя временно обязанности подневольных людей. В случае с ну, как и в случае с пу, мы, несомненно, имеем дело с рабской формой эксплуатации независимо оттого, государственный или частноправовой вид она принимала.
Таким образом, трудовое население древнекитайских царств периода Чуньцю предстает перед нами разделенным на целый ряд сословно-правовых прослоек и групп. Существенные различия между отдельными группами населения были связаны с той позицией, которую занимало по отношению к ним государство. Весь круг рассмотренных известий о гожэнъ позволяет считать их свободными городскими и сельскими жителями, на которых распространялось «подданство» непосредственно хоу или гуну. Вполне естественно, что городское и сельское население этого времени могло именоваться одним и тем же термином, так как в условиях, когда общественное разделение труда не получило еще достаточного развития, первое было теснейшим образом связано со вторым. Слой гожэнъ был, по-видимому, лишен черт замкнутого сословия. Если исходить из данных периода Чуньцю, то его состав оказывается достаточно текучим, а внешние границы— изменчивыми. Так, социальные сдвиги, отразившиеся в реформах
VIII—V вв. до н.э., привели к значительному расширению слоя свободных земледельцев, что дало основу для формирования нового войска.
В период Чуньцю власти разных царств играли весьма активную роль в формировании различных категорий зависимости и подчинения, определяя, где и как должны были трудиться подневольные работники, принадлежавшие к данным категориям. Государство практиковало создание целых поселений зависимых людей с помощью переселения в необжитые районы жителей аннексированных территорий или подчинившихся мелких владений. Так, по свидетельству «Цзочжуаня», «[чуский ван] восстановил [ранее присоединенное к Чу] владение Чэнь в его прежних пределах, но из каждого сельского округа взяли по одному человеку. Их переселили в [Чу], в область, которую стали называть Сячжоу».
Согласно данным «Цзочжуаня», администрация южнокитайских царств могла использовать для заселения пустых земель также и военнопленных: «[Чуский правитель] въехал в [захваченную штурмом столицу владения] Чжэн через священные ворота и проследовал по главной дороге, где ему навстречу вышел чжэнский правитель, который был обнажен и вел овцу. Он сказал: „Подчинюсь приказу, если ты, взяв нас в плен, [пошлешь] на юг от Янцзы для заселения морского побережья44». Заменяя рабство, бывшее обычным следствием плена в большинстве стран древнего мира, переселением в особые области, предназначавшиеся для сельскохозяйственного освоения, власти Чу, очевидно, должны были вносить серьезные ограничения в права и дееспособность переселенных.
Относительно людей, переведенных государственным актом в разряд ли или принявших на себя обязанности ли, известно, что их труд мог применяться при обработке земель, полученных, по-видимому, в результате захвата пустопорожних участков, заимки и расчистки. Труд неполноправных (например, таких, как пу) продолжали широко использовать и в сфере домашнего хозяйства и домашнего обслуживания. В свете тех разобщенных известий письменных источников, которыми располагает наука, отношения зависимости и подчиненности кажутся весьма распространенными. Однако подобные данные не дают возможности выяснить с достаточной определенностью удельный вес этих отношений в производственной деятельности общества периода Чуньцю.
Социальные сдвиги внутри господствующего класса
В царствах и владениях в VIII—VI вв. до н.э. наиболее важные политико-административные функции обычно были сосредоточены в руках нескольких влиятельных фамилий, связанных по своему происхождению с правящими домами. Часто эти фамилии сохраняли контроль над определенными сферами государственной жизни в течение нескольких поколений. Так, в начальные годы Чуньцю царством Ци управляли семейства Гао и Го, затем власть перешла к семействам Чуй и Цин, и, наконец, на третьем этапе борьбы за верховенство выдвинулись семейства Тянь, Бао и Янь. Могущество таких семейств начиналось обычно
с царского пожалования, заключавшегося в передаче правителем их родоначальнику части собственных полномочий по отношению к земледельцам, жившим на пожалованной им территории. Сохранявшие власть над ней в течение длительного времени наследники первого «местного владетеля», несмотря на непрерывное разрастание и дробление рода, не теряли единства в территориальном, социально-политическом и экономическом отношении, создавая ши (клан), прочно скрепленную общим культом родоначальника патрилинейную группу иерархически соподчиненных семей. Например, формирование главных луских кланов Цзисунь, Мэнсунь и Шусуньцзы было неразрывно связано с «пожалованными территориями» вокруг поселений Би, Чэн и Хоу, где располагались храмы их родоначальника Хуань-гуна.
В источниках периода Чуньцю неоднократно говорится о местностях, длительное время находившихся во власти того или иного клана, центры которых назывались цзунъи («поселение с храмом прародителя семейно-родственной группы»). В свете многочисленных свидетельств эти кланы выступают как привилегированные семейно-родственные коллективы, за представителями которых были закреплены определенные наследственные функции в центральном административном аппарате царств. В «Цзочжуане» неоднократно упоминается о том, что кланы располагали особыми военными и политическими организациями, называвшимися цзу*.
«С помощью цзу сунского клана У был приведен царский сын Чжао, чтобы поддержать Сюя, „надзирателя стен“, в организации мятежа»;
«Цзу [кланов], происходящих от Му и Сяна, возглавили гожэнь, чтобы напасть на правителя Сун»;
«[Кланы] Луань и Фань со своими цзу поддержали отряд правителя, [чьи колесницы] попали в трясину».
Как уже отмечалось выше, в шанских и западночжоуских эпиграфических текстах термин цзу применяли для обозначения больших военных отрядов. Со временем содержание его значительно расширилось. Источники периода Чуньцю использовали его в качестве названия для административных объединений домохозяйств или для профессионально-корпоративных групп ремесленников и воинов. Поскольку под цзу подразумевали собрание людей, объединенных каким-либо общим признаком, то этот термин мог обозначать и родственные связи разных уровней. Однако цзу, создававшиеся государями и многочисленными владетельными семействами разных царств, мало походили на естественно сложившиеся семейно-родственные структуры. Так, в царстве Цзинь в гунцзу (цзу государя), представлявшем центральное формирование цзиньской армии, начальниками назначали представителей кланов, которые не состояли в прямом родстве с правящим домом. Достаточно определенные свидетельства, что цзу государя в Цзинь создавалось как инструмент военно-политического влияния правителей, а не как семейно-родственная организация правящего дома, содержит следующий летописный текст, рассказывающий о событиях конца VII в. до н.э.: «Вначале, после того как Ли Цзи устроил смуту, [государь] дал клятву не держать более в стране царских сыновей. С этого же времени в Цзинь не стало цзу государя. Когда же к власти пришел Чэн-гун, он дал должности главным сы
новьям старших сановников и наделил их полями, чтобы составить из них цзу государя».
В источниках периода Чуньцю создание или воссоздание цзу обычно связано с передачей основателю или традиционному главе клана полномочий и прав на какую-либо территорию: «[Цин Фэн] бежал в У, уский Гоуюй пожаловал ему [город] Чжуфан. Он собрал [членов] своего цзу и поселил их здесь». В свете этих указаний цзу предстают как функционально-корпоративные группы, создававшиеся, чтобы поддерживать военную и судебно-административную власть кланов и отдельных лиц в пределах пожалованных им территорий. Для управления этими территориями учреждался особый аппарат, проводивший в жизнь интересы кланов и независимый от царской администрации. Во главе его стоял цзай (управитель), который, как свидетельствуют источники, часто происходил не из того клана, которому служил: «Некогда Бао Го покинул клан Бао и прибыл [в Лу], где стал подданным Ши Сяошу. Клан Ши гадал об управителе, [оракул] указал на Куан Цзюйсюя. Управителю клана Ши полагалось поселение в сто домов, которое и было передано Куан Цзюйсюю вместе с предложением стать управителем. Он, однако, отказался в пользу Бао Го и отдал ему поселение». Назначенные «местным владетелем» должностные лица ведали как сферой материального производства, так и разными областями общественной жизни.
Сохранилось большое число упоминаний о том, что население пожалованных территорий несло различные повинности в пользу кланов. Среди клановых должностных лиц был специальный надсмотрщик чжэнфу, который ведал организацией обязательных работ: «Клан Мэн готовился строить гробницу и занял работников у клана Цзан. Цзан Сунь послал в помощь [клану Мэн] своего чжэнфу». Жители клановых территорий должны были, по-видимому, нести также военную службу в колесничных и пеших отрядах кланов. Имеются упоминания о том, что численность вооруженных сил кланов была весьма значительной. Известно, что в первой четверти V в. до н.э. луский клан Цзи выставлял отряд из семи тысяч латников. Естественным источником формирования таких отрядов должно было быть подвластное население.
Для характеристики объема прав и привилегий владетельного клана большой интерес представляют утверждения источников, что «подданство» его главе освобождало жителей «жалованных поселений» от обязательств по отношению к государству, хотя очевидно, что «жалованные поселения» нельзя считать полностью не подведомственными правительственным агентам. Сохранилась датированная 479 г. до н.э. летописная запись о чжэнском сановнике Цзы Му, который «был жесток в своем собственном поселении». Жители поселения подали на него жалобу правителю, и это вызвало вмешательство властей и официальное расследование. Хотя данные этой записи, по-видимому, следует толковать в том смысле, что жители «жалованных поселений» продолжали оставаться в подчинении царю, тем не менее «местные владетели», по свидетельству летописных текстов, в ряде случаев могли противопоставлять себя центральной власти и даже переходить вместе с принадлежавшими им территориями из одного царства в другое. Кланы с их постоянным стремлением к сепаратизму, опиравшиеся на
клановые земли и выставлявшиеся ими военные отряды, в период Чуньцю превратились в грозного соперника центральной власти.
Антагонизм кланов и центральной власти неоднократно побуждал последнюю прибегать к различным мерам, имевшим целью воспрепятствовать распространению внутри царств автономных территориальных образований. Так, для целого ряда царств источники второй половины периода Чуньцю отмечают наличие стабильной и четко регламентированной системы раздач в кормление определенных территориально-административных районов на условии службы. Владетель кормления получал в собственность доходы с этих районов, но пользовался своими правами временно, только на тот период, когда занимал определенную должность. Отсюда столь обычная для восточночжоуских летописных текстов формула: «Отдал свои поселения и отказался от должности» или «Отдал свои поселения и вернул печать». Она применялась в сообщениях об отставке крупных сановников разных царств. Сохранились данные о том, что в период Чуньцю размеры кормления строго соответствовали положению чиновника в административной иерархии: «[Вэйский] правитель дал Мянь Юю шестьдесят поселений. Тот отказался: „Только сановнику положено полных сто поселений. Если у меня будет шестьдесят, то окажется, что низший обладает жалованьем высшего44».
В царстве Цзинь в качестве вознаграждения за службу передавали право взимания определенной доли дохода с точно фиксированного количества крестьянских полей: «Хань Сюаньцзы спросил о жалованье, назначенном двум царевичам. [Шу Сян] ответил: „Сановнику большого царства [дают] поля, с которых собирают отряд в 500 человек, высшему управителю (шандафу) дают поля, с которых собирают отряд в 100 человек44». В ряде случаев отношения местных владетелей к переданным им территориям не ограничивались присвоением дохода, ранее причитавшегося правителю. Пожалование территории могло быть связано и с передачей публичной власти над людьми, жившими на ней. Об этом свидетельствует текст дарственной грамоты на колоколе Шу Ижун:
«Я дарю тебе столичную область [владения] Ли, а также [области] X и Y, в них 300 сяней. Я приказываю тебе управлять [владением] Ли и принять его в виде пожалования, четыре тысячи работников будут в твоем распоряжении... Я дарю тебе коней и колесницы, военное снаряжение и оружие, а также 350 семей зависимых (пу) из [владения] Ли, чтобы ты начал оборонительные мероприятия».
Владение Ли, как было установлено современными исследователями, идентично известному по летописным данным владению Лай13, аннексированному царством Ци в 567 г. до н.э. Уступая вновь присоединенную область своему сановнику, циский царь, как об этом свидетельствует текст грамоты, передавал ему полномочия по управлению ее населением. Поскольку в грамоте детально говорится лишь о количестве людей разных категорий зависимости, поступавших в распоряжение Шу И, создается впечатление, что в такого рода пожалованиях на первом месте стояла передача власти над людьми. Между назначенным царем
13 Древние формы иероглифа ли и лай были близки по своему звучанию.
«местным владетелем» и населением переданной ему во временное управление и владение территории устанавливались отношения подданства, подвластности. Реализуя эти отношения, «местный владетель» получал натуральный или денежный доход, который ни фактически, ни по форме не отличался от государственного налога.
Характерно, что сборы с населения, сидевшего на «жалованных землях», носили то же название шуй, что и государственный налог. Об этом говорят приводимые ниже тексты:
«Некогда чжоусцы дали клану Фань поля. [Агент владетеля] Гунсунь Ман собирал с них налог шуй»;
«Ныне земледельцы вносят причитающийся с них налог шуй знатным людям».
Поскольку в период Чуньцю объектом царских пожалований служили определенные комплексы прав и полномочий, которыми сам царь располагал по отношению к своим подданным, в качестве кормления могли выступать не только «поселения» и «поля», но и любые поступления царского фиска. Так, источники упоминают о передаче приближенным вана тех сборов и податей, которыми облагались торгующие на рынках и проезжающие через таможенные заставы:
«[Циский] Цзин-гун дал Яньцзы в качестве жалования Пинъин и Той, а также торгующих на рынках, приписанных к алтарям земли»;
«Сунский гун пожаловал Эр Баню ворота [в стене], чтобы он кормился взимавшейся там податью».
Следует отметить, что ко второй половине периода Чуньцю в кругах, поддерживавших централизаторские тенденции, проявлявшиеся в политической жизни разных царств, складывается убеждение в необходимости всемерно ограничивать и жестче регламентировать передачу в кормление территорий и подданных. Наиболее четко это убеждение отразилось в политической формуле: «Тучные, приносящие выгоду поля не следует обращать в поселения, находящиеся в частных руках, верных и мудрых служилых людей не следует обращать в подданных частных лиц», приписываемой цискому государственному деятелю Яньцзы. Источники полны известий о спорадических мерах верховной администрации царств против клановых территорий, принимавших часто форму прямых отторжений. Например, о циском визире Гуань Чжуне (середина VII в. дон.э.) в одном тексте сказано, что «[он] забрал у клана Бо поселение Пянь в триста [дворов]».
Однако только с середины VI в. до н.э. появляются данные, указывающие на то, что борьба с политическим влиянием кланов на местах становится в разных царствах элементом регулярной административной практики. Так, в царстве Чжэн наступление на привилегии кланов осуществлялось в связи с государственными нововведениями в области землепользования. В летописной записи о первом этапе реформ 563 г. до н.э. сказано: «Вначале Цзы Сы установил [межевые] канавы на полях, кланы Сы, Ду, Хоу, Цзыши утратили поля». Неясно, в чем заключался смысл проведения новых (межевых) канав. Но если иметь в виду те перемены, которые происходили тогда в аграрном строе других царств, вполне обоснованным будет предположение, что за нововведением Цзы Сы скрывалось
уничтожение больших государственных полей, переданных во владение кланам и обрабатывавшихся с помощью государственной барщины. Значительным своеобразием отличались методы борьбы с политической автономией кланов в царстве Цзинь. К середине VI в. до н.э. в государственной жизни страны все большую роль начинают играть сановные семьи, не связанные родством с правящим домом. Политический вес членов этих семей определялся только занимаемой ими должностью, а благосостояние их зависело от размеров служебных кормлений. Длительные распри между разными группировками наследственных обладателей высших административных постов в царстве Цзинь привели к почти поголовному истреблению или изгнанию многих старых родовитых кланов и кланов, основанных представителями правящего дома. По словам цзиньского сановника Шу Сяна, относящимся к 539 г. до н.э., «кланы Луань, Ци, Сюй, Юань, Ху, Цинь и Бо опустились до положения челяди», а из принадлежавших к роду правителей Цзинь «сохранился лишь клан Яншэ». В это время клановые территории занимали еще довольно значительную часть царства Цзинь. Летописный рассказ о посольстве Хань Ци и Ян Си (Шу Сян) в 537 г. до н.э. в царство Чу содержит следующее обращенное к чускому правителю предостережение против посягательств на жизнь цзиньских послов: «[Клан] Хань собирает военный налог с семи поселений, каждое из которых соответствует полному сяню. Четыре цзу [клана] Яншэ представляют собой сильные семьи. Если цзиньцы лишатся [послов] Хань Ци и Ян Си, то [оставшиеся] пять сановников и восемь управителей поддержат [родственников послов] Хань Сюя и Ян Ши. С подчиненных им десяти семей и девяти сяней они получат 900 боевых колесниц. В остальных сорока сянях останется для защиты [царства Цзинь] четыре тысячи колесниц».
Содержание приведенного текста указывает на то, что в царстве Цзинь, где основной массив земель был организован в соответствии со стабильной системой территориально-административных областей сяней, имелись не входившие в эту систему районы, подчиненные кланам. Однако такое положение сохранялось недолго. По словам летописи, «осенью (514 г. до н.э.) умер Хань Сюаньцзы и управление [царством Цзинь] перешло к Вэй Сяньцзы. Он разделил поля клана Ци на семь сяней, а поля клана Яншэ разделил на 3 сяня». Таким образом, клановые территории государственным актом были присоединены к основному массиву земель царства Цзинь. Перевод территорий в разряд обычных административных единиц означал, очевидно, не только изъятие сидевшего на них населения из-под власти кланов, но и вообще перемену их политического статуса. Ся-ни, впервые упоминаемые как элемент территориально-административной организации царства Цзинь в 627 г. до н.э., сначала учреждались на вновь присоединенных землях, но впоследствии их система охватила все царство. Сяни могли быть объектом царских пожалований и кормлений представителей царской администрации. Однако даже в том случае, если эта территориально-административная область передавалась кому-либо в кормление, административную власть в ней осуществлял царский управитель — дафу. Когда еще в 635 г. до н.э. чжоу-ский ван подарил цзиньскому Вэнь-гуну ряд земель, в том числе Вэнь и Юань, ставших впоследствии сянями, управителями их были соответственно назначены
Ху Цинь и Чжао Цуй. Что касается последнего, то его кормление находилось в области Вэнь. Кормленщик и управитель могли, по-видимому, соединяться в одном лице. Но как бы то ни было, сянъ в царстве Цзинь всегда была стабильной частью общей системы государственной организации и постоянно находилась под непосредственным контролем высшей административной власти. Повинностное население цзиньских сяней трудилось на общецарских работах, и выставлявшиеся сянями военные отряды входили в качестве регулярных формирований в общецарскую армию.
В ходе происходившего в период Чуньцю роста социально-политической и административной централизации клановую аристократию активно вытесняли из всех сфер управления. Повсюду ее место занимали представители того разряда должностных лиц, которые были непосредственно и исключительно подчинены центральной власти, полностью зависели от нее. Специальный анализ источников указывает на проникновение в состав среднего чиновничества и местной администрации, а иногда даже в ближайшее окружение правителей людей из низших категорий «служилого сословия». Во второй половине периода Чуньцю заметно усложняется и специализируется центральный аппарат управления царств. Более четкие формы приобретают в это время местные органы администрации. В ряде царств сянъ окончательно складывается как определенный территориально-административный комплекс с точно фиксированными границами. Начальника сяня здесь стремились превратить в средоточие административной власти на местах и ее единственного носителя. Источники приписывают управителям сяней единоличное руководство возлагавшейся на подведомственное им население повинностью, охватывавшей всю совокупность царских работ, ведшихся в гражданских, религиозных и военных целях. Заметные перемены в составе государственного аппарата сопровождались переменами в формах содержания чиновников. Параллельно с ограничением практики передачи в кормление «поселений» со второй половины периода Чуньцю стало неуклонно возрастать число представителей администрации, получавших довольствие в виде зерновых выдач непосредственно из царских амбаров. Это обстоятельство, в свою очередь, содействовало укреплению и росту функции налогового аппарата. Следует отметить, что значительная часть фактических перемен в устройстве государственного аппарата разных царств была связана с процессом формирования здесь зачатков постоянных армий. Происходившее на протяжении второй половины Чуньцю укрепление начал государственности в древнекитайском обществе зависело также от того, что значительная часть земледельческого населения перешла из-под контроля кланов в распоряжение местных административных органов.
Политическая история периода Чуньцю
В первые десятилетия после перенесения центра чжоуской администрации на восток, при Пин-ване и Хуань-ване, стабильность политического положения подвластных им территорий зависела от поддержки царств Чжэн и Цзинь. Одна
ко начиная с 701 г. до н.э., когда Чжэн попадает в полосу внутриполитического кризиса, связанного с борьбой различных претендентов на престол после смерти Чжуан-гуна, это царство выбывает из числа опекунов чжоуского дома. На его место постепенно выдвигается царство Ци. В начальные годы Чуньцю оно быстро распространило свое влияние на непосредственных соседей: аннексировало небольшое владение Цзи, осуществило успешный поход против Вэй и оказывало постоянное давление на Лу. Это давление особенно усилилось после того, как правителем царства Ци стал Хуань-гун, победивший в борьбе за престол одного из своих братьев, ставленника царства Лу. Поддерживавшая его луская армия потерпела поражение, и луский Чжуан-гун вынужден был просить мира у Ци. В 680 г. до н.э. армия царства Ци и присоединившиеся к ней отряды владений Чэнь и Цао вторглись в земли царства Сун и нанесли ему поражение. На следующий год циский Хуань-гун собрал оказавшихся в зависимости от него правителей, узурпировав одну из привилегий чжоуского вана. В дальнейшем подобные съезды правителей стали регулярными.
Объединение ряда государств вокруг Ци и прямой контроль за ними, осуществлявшийся Хуань-гуном во время съездов, явным образом вступали в противоречие с системой старых религиозно-политических представлений о чжоуском ване как центральной фигуре мира людей. Потребность вписать в рамки традиционной доктрины этот совершенно новый тип союза древнекитайских владений, порожденный коренными переменами в соотношении сил в Поднебесной, заставила циских идеологов объявить, что единственной целью внешнеполитической активности Хуань-гуна было «почитание вана и отпор варварам». Создав объединение подчинявшихся его воле государств, Хуань-гун самовластно присвоил себе титул ба (гегемона), указывавший на его претензии быть первым среди правителей Поднебесной. Появление первого ба было связано с формированием нового центра политического контроля в древнем Китае. Однако в интерпретации идеологических текстов периода Чуньцю все содержание деятельности ба сводилось к «усердному умиротворению [правителей], чтобы они выполняли повеления вана». В начале периода Чуньцю, когда у чжоуских ванов сохранялся еще чрезвычайно высокий идеологический статус, невиданная до того времени концентрация военно-политического могущества в руках одного из правителей, естественно, прикрывалась формулами «отпора варварам», «умиротворения нелояльных по отношению к чжоускому центру владений» и т.д. Фактически же ба вмешивался во внутренние дела правителей и направлял их внешнюю политику, исходя из своих собственных интересов, оставив чжоуским ванам только исполнение определенных религиозно-магических функций.
К концу 60-х годов VII в. до н.э. у созданного Хуань-гуном объединения центральнокитайских правителей появились враги на севере и на юге. Сначала подверглись нападению северных варваров ди владения Син и Вэй. Хуань-гуну с большим трудом удалось спасти часть синских жителей, переселив их на новые земли, и восстановить уничтоженную в результате нашествия вэйскую государственность. Более грозной была опасность, исходившая от южнокитайского царства Чу, которое в 659 г. до н.э. напало на царство Чжэн. В ответ на это Хуань-гун в 656 г. до н.э. во главе объединенной армии владений Лу, Сун, Чэнь, Вэй,
Чжэн, Сюй и Цао выступил на юг. Сперва было разгромлено пограничное владение Цай, а затем наступила очередь Чу, которому пришлось просить мира. В последующие годы коалиция, созданная Хуань-гуном, неоднократно оказывалась на грани распада. Серьезным испытанием для нее был конфликт между Ци и Чжэн, улаженный с большим трудом. Наиболее известным из числа событий, относящихся к последнему периоду гегемонии Хуань-гуна, является созванный им в 651 г. до н.э. съезд правителей в Куйцю. Почести, оказанные здесь Хуань-гуну представителем чжоуского вана, послужили своего рода признанием его прав верховенства.
После смерти Хуань-гуна созданная им коалиция разделилась на несколько враждующих группировок. Одним из претендентов на главенствующее положение среди центральнокитайских владений выступило царство Сун. Оно развязало войну с царством Чжэн. Но усилению Сун воспрепятствовало царство Чу, которое выступило на стороне Чжэн и нанесло поражение сунской армии. В это время во взаимоотношения между царствами начало решительно вмешиваться располагавшееся на землях среднего и отчасти верхнего течения Хуанхэ царство Цзинь, не входившее ранее в сферу влияния гегемонии Хуань-гуна. Вокруг царства Цзинь постепенно сложился античуский военный союз, в состав которого вошли Цинь, Сун и Ци. К концу 30-х годов VII в. до н.э. военное давление со стороны Чу на центральнокитайские владения особенно усилилось. Этот момент был выбран цзиньским правителем Вэнь-гуном для решительного отпора чуской агрессии. В 632 г. до н.э. под Чэнпу (на территории современной пров. Шаньдун) объединенные силы союзников полностью разгромили чускую армию. Победа под Чэнпу позволила цзиньскому Вэнь-гуну занять положение гегемона. На состоявшейся вскоре после битвы встрече с чжоуским ваном он был официально провозглашен главой правителей. В последующие годы деятельность Вэнь-гуна, направленная на усиление контроля над центральнокитайскими владениями, встретила сопротивление со стороны царства Чжэн.
После смерти Вэнь-гуна противником гегемонии Цзинь выступило царство Цинь. Столкновение армий этих двух сильнейших владений произошло в 627 г. до н.э. в одном из ущелий гор Яошань (в северной части пров. Шаньси, к югу от г. Тайюань). Циньцы были разбиты. Это, однако, не заставило циньского правителя Му-гуна примириться с верховенством Цзинь. В 624 г. до н.э. он во главе большого войска пересек цзиньскую границу. Циньцы овладели рядом цзинь-ских городов, но им не удалось нанести сколько-нибудь значительного поражения цзиньской армии. Тем не менее в результате этого похода Му-гун добился укрепления своих позиций и расширил сферу влияния на северо-западе страны. Цинь подчинило здесь ряд территорий, населенных варварами, и Му-гун объявил себя «гегемоном» ба западных жунов. После смерти Му-гуна вооруженное противоборство Цинь и Цзинь продолжалось. Особенно ожесточенная битва произошла в 615 г. в местности Хэцюй (близ г. Юнцзи в современной пров. Шаньси), в результате которой циньцам пришлось отступить.
Соперничество Цинь и Цзинь развязало руки усилившемуся к этому времени южному царству Чу. После прихода к власти Чжуан-вана (613 г. до н.э.) Чу повело широкое наступление на центральнокитайские царства. Многие из них были
вынуждены признать себя вассалами Чу. Царство Чжэн в это время попадало то в сферу влияния Цзинь, то в сферу влияния Чу. В 597 г. до н.э. Чу решило покорить Чжэн. Чуские войска окружили столицу этого царства, которая вскоре капитулировала. Цзинь, решившее выступить в защиту Чжэн, не успело этому помешать. Цзиньская и чуская армии встретились в Би (в современной пров. Хэнань). Ожесточенное сражение завершилось поражением цзиньцев. В результате Цзинь лишилось важнейших своих союзников. Попытки вовлечь в античускую коалицию владения Сун, Вэй и Цзао окончились неудачей. Подчинив своей воле Лу, Сун, Чжэн и Чэнь, чуский Чжуан-ван стал главой союза этих государств.
В последующие годы ослабленное поражением Цзинь постепенно набирало силы и начало вновь активно вмешиваться в отношения между древнекитайскими государствами. В 591 г. до н.э. оно одержало победу над царством Ци. В это время между Цзинь и Чу происходило соревнование в создании многочисленных эфемерных военно-политических объединений государств. Наконец, к 70-м годам VI в. до н.э. наступил период равновесия сил. Среди уставших от постоянных вооруженных конфликтов малых и средних государств возникло стремление к установлению мира между враждующими группировками. Особого успеха добился дипломат из Сун по имени Хуа Юань. Благодаря его посредничеству в 579 г. до н.э. между Цзинь и Чу был заключен «договор о ненападении», первая статья которого гласила: «Цзинь и Чу не будут применять по отношению друг к другу оружие». Однако этот мир был недолог. Как это часто случалось и ранее, повод для раздоров дало царство Чжэн, постоянно маневрировавшее между Чу и Цзинь. Когда в 576 г. до н.э. Цзинь захотело наказать Чжэн за очередную измену, последнему на помощь пришло Чу. Битва между армиями двух сильнейших государств Поднебесной произошла в Яньлине (в современной пров. Хэнань). Чуская армия была разбита и отброшена на юг. Поражение Чу позволило цзиньскому гуну стать инициатором и главой съезда центральнокитайских правителей в местности Шасуй (на территории современной пров. Хэнань, близ г. Нинлин). Владения Ци, Лу, Сун, Вэй и Чжу изъявили готовность следовать воле Цзинь.
В период правления Дао-гуна (572-558 гг. до н.э.) все внешнеполитическое влияние Цзинь было направлено на то, чтобы изолировать и покорить царство Чжэн. Летописные тексты упоминают о вторжениях цзиньских войск в Чжэн в 571, 563, 562 и 554 гг. до н.э. В конце концов Чжэн было поставлено на колени, но это не положило конец выступлениям против диктата Цзинь со стороны других государств. В первые годы правления цзиньского Пин-гуна (557-532 гг. до н.э.) вновь обострились отношения с царством Чу. Война, возникшая между двумя этими государствами, закончилась сражением в местности Чжаньбань (в современной пров. Хэнань, близ г. Есянь), в котором победу одержали цзинь-ские войска. Также успешной для Цзинь была война с царством Ци в 555 г. до н.э. Эти успехи дали право Цзинь собрать в 553 г. до н.э. под своей эгидой съезд правителей Ци, Лу, Сун, Вэй, Чжэн, Цао и ряда малых владений, на котором они поклялись в союзе и верности цзиньскому гуну. Однако последовавшие вскоре внутренние смуты помешали Цзинь играть руководящую роль в Поднебесной. Внутриполитический курс цзиньских гунов, направленный на военно
административную централизацию государства, встречал ожесточенное сопротивление со стороны влиятельных семейно-родственных групп, опиравшихся на обширные клановые территории.
В середине VI в. до н.э. главным противником централизации в Цзинь стал клан Луань, вокруг которого объединилось большое число недовольных из других фамилий. В 550 г. до н.э. Луань Ин, собрав армию в принадлежавшей его клану местности Цюйво, напал на цзиньскую столицу. Это выступление клана Луань было подавлено с большим трудом. Аналогичные события в этот период имели место и в ряде других царств.
Ослабленное внутренней борьбой Цзинь стало стремиться к уменьшению напряженности в своих отношениях с Чу и с другими государствами. В 546 г. до н.э. в царстве Сун собрались на «мирную конференцию» представители Цзинь, Чу, Ци и Цинь — четырех сильнейших держав того времени, а также послы из многих средних и малых владений. Несмотря на трудности, возникшие в ходе встречи, она закончилась клятвенным обещанием ее участников не нападать друг на друга. Характернейшей чертой внешнеполитического развития, последовавшего за встречей в Сун, было прогрессировавшее ослабление авторитета царства Цзинь. К концу VI в. до н.э. царство Ци постепенно переманило бывших союзников Цзинь на свою сторону — сначала Чжэн, потом Вэй и, наконец, Лу. Оказавшись в одиночестве, Цзинь стало объектом вторжений со стороны Ци.
На юге в это время также произошли существенные перемены. Усилившееся к концу VI в. до н.э. царство У превратилось в серьезного соперника Чу. Период возвышения У связан с именем правителя Хэлюя (514-496 гг. до н.э.). В период его правления было аннексировано малое владение Сюй, выступавшее обычно в роли вассала Чу. Войска царства У неоднократно пересекали границы Чу и разоряли его города в 511 ив 509 гг. до н.э. Наконец, в 506 г. до н.э. в Боцзюй (на территории современной пров. Хубэй, недалеко от г. Мачэн) они полностью разгромили чускую армию и захватили столичный город Ин. Это поражение подорвало силы Чу. Только вмешательство царств Цинь и Юэ, пославших войска против У, заставило последнее освободить оккупированные чуские земли.
Политическая история юга Китая в последние десятилетия Чуньцю заполнена ожесточенным соперничеством между царствами У и Юэ. В 496 г. до н.э. юэсцы нанесли поражение армии царства У, но два года спустя Фуча, преемник Хэлюя, отомстил за поражение и овладел столицей Юэ. Эта победа развязала Фуча руки для вмешательства в дела центральнокитайских царств, его войска вторглись в Чэнь и нанесли поражение Ци. Ему удалось подчинить своей воле Лу и Сун. Царство Цзинь вынуждено было вступить с ним в переговоры. Встреча двух правителей состоялась в 482 г. до н.э. в Хуанчи. Это был последний успех Фуча. В то время, когда он вел переговоры, на его царство напало Юэ. Армия Фуча потерпела поражение. В 478 г. до н.э. вторжение юэских войск повторилось, и вновь они одержали победу. Спустя три года юэские войска, заняв большую часть территории У, осадили его столицу. С падением столицы и самоубийством Фуча, по существу, закончилась история этого царства.
Южнокитайские царства У и Юэ с их протомалайским населением и своеобразной культурой рассматривались в восточночжоуском Китае как варварские.
То обстоятельство, что в конце Чуньцю правителям «варваров» удалось активно влиять на междуцарские отношения, объясняется падением реальной силы и политического престижа таких общепризнанных в прошлом лидеров, как Цзинь и Ци. Начиная с 497 г. до н.э. царство Цзинь вступило в период непрерывных внутренних смут и клановых междоусобиц. Первыми против центральной власти выступили кланы Фань и Чжунсин. Они опирались на поддержку военных отрядов из Вэй и Ци, поэтому борьба с ними потребовала большого напряжения сил. Главную роль в их уничтожении сыграли цзиньские кланы Чжи, Чжао, Хань и Вэй. Они и захватили в свои руки управление царством и контроль над всеми его областями. В дальнейшем территории, подчиненные каждому из упомянутых кланов, постепенно превратились в полусамостоятельные политические образования. Когда в 453 г. до н.э. совместные силы Чжао, Вэй и Хань уничтожили стремившийся к верховенству клан Чжи, фактический раздел царства Цзинь был завершен. Главы трех кланов превратились в независимых правителей, а во владении потомков цзиньских царей осталась небольшая область вокруг городов Цзян и Цюйво.
В царстве Ци в последние десятилетия периода Чуньцю также происходила борьба клановых группировок, в результате которой большинство старых кланов было уничтожено и произошла смена правящей династии. Появление новых государств на бывших землях царства Цзинь, почти повсеместный приход к власти новых социально-политических сил знаменовали собой окончание периода Чуньцю и наступление нового этапа истории древнекитайского общества.
Один из важнейших итогов политической истории периода Чуньцю состоял в том, что множество малых и средних владений стали жертвами своих сильных соседей и исчезли с древнекитайской политической карты. Особенно интенсивно этот процесс шел в конце Чуньцю. В 487 г. до н.э. царство Сун поглотило Цао, в 479 г. до н.э. царство Чу присоединило Чэнь, а в 473 г. до н.э. царство Юэ уничтожило У. Такие царства, как Лу, Чжэн и Сун, пришли к концу периода Чуньцю ослабленными, потерявшими во многом самостоятельность. Следовательно, на протяжении периода Чуньцю политическая структура Поднебесной претерпела серьезные изменения. Число государств, которые имели возможность проводить независимую внешнюю политику, сильно сократилось. В центральной зоне Поднебесной появились государства, не связанные никакими традиционными узами с чжоуским домом. Религиозный авторитет чжоуских ванов, благодаря которому они могли в начале Чуньцю оказывать воздействие на ход меж-дуцарских отношений, потерял свою силу.
Новая эпоха истории древнего Китая, ознаменованная ожесточенной борьбой крупнейших из царств за преобладание и господство и глубокими политическими и социально-экономическими сдвигами в древнекитайском государстве и обществе, получила название эпохи «Сражающихся царств» (Чжаньго).
Период Чжаньго
Термин чжаньго («сражающиеся царства») впервые появился в памятниках V—III вв. до н.э. Тогда им обозначали семь сильнейших царств: Чжао, Хань, Вэй,
Ци, Янь, Цинь и Чу, внешняя и внутренняя политика которых активно влияла на ход исторических событий. После того как царство Цинь, возвысившись, уничтожило шесть своих соперников и было создано первое в истории Китая централизованное государство, этот политико-географический термин постепенно трансформировался в название исторического периода (453-221 гг. до н.э.). Пределы древнекитайского мира в это время значительно расширились. Уже в начале Чжаньго древнекитайские владения целиком освоили территории провинций Хэбэй, Хэнань, Шаньси, Шаньдун, Шэньси и Хубэй, в пределы этих владений были включены юго-восточная часть Ганьсу, северо-восточная часть Хунани, северные районы пров. Аньхой, север провинций Цзянси и Цзянсу. В центральной зоне этого ареала располагались царства Чжао, Хань и Вэй, на севере его — царство Янь, на западе — Цинь, на юге — Чу, восточными землями, вплоть до побережья Желтого моря, владело царство Ци. Отношения между этими царствами в значительной степени освободились от влияния догмата о чжоуцентризме политической структуры Поднебесной. Гибель традиционной иерархии ярче всего проявилась в том, что правители их начиная с середины IV в. до н.э. стали присваивать титул чжоуских «сыновей Неба» и именовать себя ванами.
Фрагменты летописной традиции Чжаньго сохранились в составе «Историй наследственных домов» V-III вв. до н.э., написанных Сыма Цянем (ок. 146 — 86 г. до н.э.) и вошедших в его «Записки историографа». В разделе биографий этого памятника собраны сведения о государственных деятелях и полководцах периода Чжаньго. Сохранилось также одно историческое сочинение, целиком посвященное событиям, участниками которых были «сражающиеся царства». Это «Чжаньго цэ» («Планы сражающихся царств»). Историческое повествование в книге расчленено в соответствии с политической географией периода: каждому из «сражающихся царств» отведен особый раздел. Во всех них содержится около пятисот автономных законченных рассказов, в основу которых положены речи государственных деятелей «сражающихся царств», выдвигавших и отстаивавших планы различных военных операций, замыслы междуцарских союзов и т.д. Составителем и первым редактором «Чжаньго цэ» (ок. 79— 78 г. до н.э.) был Лю Сян, крупнейший ученый периода Ранней Хань. Согласно его предисловию, в книге были сведены воедино тексты, выбранные из нескольких сочинений, отражающие события периода Чжаньго. Хотя памятник в известном нам виде появился не ранее середины I в. до н.э., он был составлен из материалов, сохранявших, по-видимому, живые связи с действительностью V—III вв. до н.э. В обычных для этого сочинения фрагментарных рассказах об отдельных моментах взаимоотношений между «сражающимися царствами» место религиозно-космологических интерпретаций, характерных для «Версии Цзо [Цюмина]» и «Повествований о царствах», занимают сугубо практические воззрения. Прямолинейное столкновение удачных и неудачных схем внешнеполитических акций и непосредственное воздействие эффекта их немедленной реализации определяет здесь ход событий. В тексте памятника есть достаточно оригинальные сведения, которые подтверждаются другими источниками и, следовательно, представляются вполне достоверными. Однако он содержит и немало рассказов, которые дают искаженное представление об упоминаемых в нем событиях. Интерес
к прошлому отходит здесь на задний план, полностью уступая место определенным политико-публицистическим целям. Это документы политической борьбы, охватившей разные слои древнекитайского общества в конце периода Чжаньго.
Дополнительными историческими источниками для всего периода являются произведения философской литературы V-II1 вв. до н.э., а также многочисленные надписи на бронзовых предметах, включая оружие, и на керамике.
Развитие экономики
В ходе археологических исследований могильников и городищ периода Чжаньго, осуществленных на протяжении второй половины XX в., получены многочисленные данные, свидетельствующие о заметном прогрессе в технической организации производительных сил. Если в материалах памятников периода Чуньцю встречаются лишь единичные находки железных орудий труда, то в материалах периода Чжаньго обнаружены все основные виды сельскохозяйственного инвентаря, изготовленные из железа. Так, из богатых вэйских гробниц, найденных в уезде Хойсянь пров. Хэнань, извлечено 95 железных предметов. Среди них 7 лемехов, 36 мотыг, 10 лопат, а также серпы и топоры. Характерно, что в некоторых комплексах периода Чжаньго (например, в инвентаре яньского городища Шицзячжуан) железные орудия количественно доминируют по сравнению с орудиями, изготовленными из других материалов. Следует отметить, что достаточно многочисленные серии железных изделий найдены в чжаньгоских памятниках самых различных районов Китая: на севере— в могильнике, расположенном в окрестностях яньской столицы, на западе — в циньском могильнике близ г. Сианя, на юге — в чуских погребениях близ г. Чанша. География находок железных изделий V—III вв. до н.э. свидетельствует, что они широко применялись на территории большинства царств того времени.
Подтверждаемая археологическими данными интенсивность процесса внедрения железа в повседневный обиход в период Чжаньго объясняется во многом специфическими особенностями древнекитайского металлургического производства. Замечательная находка, проливающая свет на характер этих особенностей, была сделана в 1953 г. в уезде Синлун пров. Хэбэй. Здесь в ходе строительных работ были обнаружены остатки инвентаря литейной мастерской того времени, включавшие металлические формы для отливки мотыг, серпов, топоров, тесел и т.д. Исследования показали, что все они были изготовлены из чугуна с содержанием углерода 4,45%.
В 1960 г. археологи раскопали аналогичную мастерскую, датируемую концом Чжаньго, близ г. Синьчжэна (в районе г. Кайфына в пров. Хэнань). Оборудование ее состояло из керамических литейных форм. Синлунская находка стимулировала интерес к металлографическому изучению железных изделий периода Чжаньго. Сейчас установлено, что в IV—III вв. до н.э. формовка и отливка чугунных орудий труда были известны во многих районах как на севере, так и на юге. Следовательно, в древнем Китае, по крайней мере уже на грани V-IV вв. до н.э., появились плавильные горны, в которых можно было поддерживать температу
ру, достаточно высокую для получения жидкого металла. Известно, что металлургический процесс получения чугуна намного производительнее прямого восстановления руды в металлическое железо с помощью сыродутного способа. Рождение чугунолитейной техники, дававшей большое количество дешевого металла, очевидно, повлекло за собой быстрое освоение производства всех основных видов сельскохозяйственных орудий посредством отливки их в металлических или керамических формах.
С помощью металлографического анализа установлено, что уже в период Чжаньго древнекитайские металлурги открыли способы придания чугуну большей пластичности и получения так называемого «ковкого чугуна». Однако среди металлического инвентаря городищ и могильников V-III вв. до н.э. представлены не только изделия, отлитые из чугуна, но и орудия труда, выкованные из сварного железа. Вопрос о способе его производства пока что остается предметом дискуссии. Было высказано предположение, что такое железо могли получать в результате передела чугуна в кричных горнах. Одной из основ прогресса древнекитайской черной металлургии была широкая сеть горнорудных разработок, охватывавшая всю страну. Согласно трактату «Гуаньцзы», в Китае поздне-чжоуского времени «гор, на которых добывали железо, было три тысячи шестьсот девять».
Достижения древнекитайских металлургов и кузнецов периода Чжаньго, которые впервые начали в широких масштабах изготовлять железные орудия труда, оказали непосредственное воздействие на развитие сельскохозяйственного производства. Железные лемехи, найденные как на севере, в чжаньгоском слое городища Яньсяду (пров. Хэбэй), так и в центральном районе, в могильнике того же времени близ г. Хойсяня, служат наиболее ранними бесспорными свидетельствами распространения пашенного земледелия. Эти орудия представляют собой небольшие клиновидные наконечники, надевавшиеся на деревянный ползун плуга. Однако из-за того, что лишь ограниченное число крестьянских хозяйств располагало необходимой тягловой силой, пахота с помощью плуга, движимого воловьей упряжкой, очевидно, не могла в V-III вв. до н.э. стать ведущей системой земледелия. Обработка земли по-прежнему в значительной мере основывалась на ручном труде. Но и в этой области применение железных сельскохозяйственных орудий (мотыг, лопат, серпов и т.д.) привело к значительному повышению производительности труда.
Параллельно этому происходили изменения в составе культивировавшихся растений. В большинстве центральных районов с началом Чжаньго посевы обыкновенного проса начали сокращаться и место ведущих культур заняли бобовые и чумиза. По оценкам специалистов, в V-III вв. до н.э. под бобовыми было занято до 40% обрабатывавшихся земель. Распространение бобовых было связано с появлением в древнем Китае первых ростков плодосменной системы земледелия. В условиях характерного для того времени роста народонаселения в центральнокитайских царствах земледельцам приходилось отказываться от паровой системы и искать методы более рационального использования земельных угодий. Для восстановления плодородия почвы они начинают прибегать к определенному чередованию культур, в состав которых входили и бобовые. Это было
связано также с улучшением обработки земли и с применением удобрений. Рост агротехнического мастерства привел к тому, что в некоторых районах земледельцы стали многократно собирать урожай в течение одного хозяйственного года. Одно из первых упоминаний об этом принадлежит Сюньцзы (ок. 313 — ок. 238 г. до н.э.): «Ведь если землю, где произрастает пять злаков, люди обрабатывают с усердием, то каждый му ее дает несколько фэней [зерна], в один год с нее дважды получают [урожай]» (гл. «Фуго» — «Обогащение страны»). В это время значительно шире, чем в предыдущий период, начинает возделываться рис.
Источники периода Чжаньго сообщают о строительстве в ряде царств широкой сети гидроирригационных сооружений самых различных масштабов. В это время строились оросительные системы, охватывавшие обширные территории. Так, в 247 г. до н.э. в царстве Цинь с помощью известного гидростроителя Чжэн Го был вырыт канал длиной более 300 ли. соединивший реки Цзинхэ и Лохэ. Весьма значительным было строительство обводнительного канала между Хуанхэ и оз. Путянь, осуществленное в царстве Вэй в 360 г. до н.э. В 339 г. до н.э. район вэйской столицы и оз. Путянь были также соединены каналом, использовавшимся для нужд орошения. Однако чаще всего упоминается о таких гидротехнических работах, которые охватывали лишь отдельные административные районы царств. В период между 445 и 296 гг. до н.э. управители вэйской области Э (приблизительно соответствует современному уезду Линьчжан в пров. Хэбэй) Симэнь Бао и Ши Ци, используя воды р. Чжаншуй, оросили большую часть крестьянских полей на подведомственной им территории. В годы правления цинь-ского Чжао-вана (306-251 гг. до н.э.) под руководством Ли Бина, наместника пограничной области Шу, на р. Миньцзян была выстроена большая дамба. С ее помощью реку разделили на два потока, что уменьшило опасность разливов и расширило возможности для использования ее в качестве источника орошения. Администрация царств не только руководила строительством гидроирригационных сооружений, но и осуществляла постоянный контроль за их эксплуатацией и ремонтом. По словам Сюньцзы, «чинить плотины и мосты, соединять оросительные каналы и канавы [на полях], направлять потоки воды, поддерживать порядок на водохранилищах, вовремя открывая и закрывая их, чтобы даже в неурожай и засуху у людей было что полоть и жать, — все это обязанности сыкуна— надзирателя сооружений» (гл. «Ванчжи»— «Управление вана»).
Расширение и интенсификация сельскохозяйственного производства, строительство обширных гидроирригационных систем намного, по сравнению с предыдущим периодом, увеличили потребности сельского населения и администрации царств в ремесленной продукции. Земледелие и царские работы во всевозрастающих количествах поглощали железные орудия труда новых и усовершенствованных форм, изготовление которых требовало высокой степени дифференциации металлургического и кузнечного ремесел. Только достаточно развитое городское специализированное производство могло в больших масштабах удовлетворять эти требования. Действительно, из сообщений письменных источников и результатов археологических раскопок известно, что в период Чжаньго города переживали период расцвета, выражавшегося в увеличении их числа, их
размеров, в стремительном росте городского населения. В «Планах сражающихся царств» сказано, что в древние времена «число жителей даже больших городов не превышало трех тысяч семей», а в V-III вв. до н.э. «города с десятью тысячами семей стали столь многочисленны, что смотрели друг на друга». Среди этих «средних» городов выделялись своими размерами столичные центры больших царств. Так, о г. Линьцзы, столице царства Ци, известно, что население ее проживало в «семидесяти тысячах дворов». Поскольку в цитированном тексте упомянуто, что каждый двор в случае осады выставлял в среднем трех мужчин, то, по мнению демографов, семья должна была состоять по крайней мере из 7-8 человек. В этом случае число жителей Линьцзы может быть оценено приблизительно в полмиллиона. Археологическое обследование руин яньской столицы выявило остатки двух поясов стен из утрамбованной земли, окружавших этот город в период Чжаньго. Внешний пояс, представлявший собой неправильной формы четырехугольник, имел протяженность с запада на восток 8 км, а с севера на юг — 4 км. Археологические материалы, полученные в течение последних десятилетий, указывают на концентрацию в крупных городах ремесленного производства. Это в полной мере характерно для Яньсяду, столицы царства Янь. Здесь в центральной части городища на большом участке, огражденном внутренним поясом стен, археологи открыли ремесленный квартал, где были найдены остатки медеплавильной мастерской и «монетного двора», а также следы металлургического производства в виде железных шлаков. При археологической разведке развалин г. Лияна (пров. Шэньси), бывшего в начале периода Чжаньго столицей государства Цинь, также обнаружены остатки железоделательных производственных сооружений.
Район столицы государства Ци г. Линьцзы издавна известен многочисленными находками чжаньгоской глиняной посуды. По мнению специалистов, в тот период он был крупнейшим центром керамического производства. Данные керамической эпиграфики указывают, что это производство было сосредоточено в государственных мастерских. Оттиски специальных штампов на найденных здесь сосудах содержат сведения об именах и месте жительства гончаров, а также о титулах представителей государственной власти, под надзором которых они трудились. Особенно интересны надписи, содержащие сведения о месте жительства и именах работников, изготовивших сосуды, а также о тех предста7 вителях государственной власти, в ведении которых они находились. Эти сведения помогают осветить некоторые стороны организации государственного ремесла в царстве Ци. Так, из надписей типа «У, человек из квартала Бэй города Чэнъян, подчиненный левому бо воинов вана» следует, что работники столичных гончарных мастерских были подчинены чиновнику, представлявшему цис-кую военную администрацию.
Судя по найденным в Шаньдуне многочисленным печатям, принадлежавшим чиновникам бо периода Чжаньго, последние подчинялись, в свою очередь, левому и правому военачальникам — сыма, стоявшим во главе этой военной администрации. Известия источников убеждают нас в том, что участие представителей военной администрации царства Ци в контроле над производствами, весьма далекими от военного дела, было их регулярной функцией. Так, в трактате
«Гуаньцзы», отражающем социально-экономические отношения в древнекитайском обществе в IV-III вв. до н.э., в главе «Регулирование хозяйства» сказано: «Гуаньцзы тем временем... приказал бо [по имени] Гун, подчиненному левому сыма, возглавить бяшиу14 и заняться отливкой монет в горах Чжуан». Следовательно, военный чиновник бо мог выступать в роли надсмотрщика в процессе самых различных работ, исполнявшихся в пользу центральной власти. Хотя подчиненные ему работники в надписях на сосудах названы «воинами вана», а в данном тексте — байту, по-видимому, за разными терминами скрывались представители одной и той же социальной группы жителей царства Ци. Действительно, в одном из диалогов «Гуаньцзы» байту также названы воинами. В армии они занимали весьма низкое положение. Некоторые авторы периода Чжаньго упоминают их среди тех, кто во время войны обслуживал армейский обоз и кого использовали на разного рода подсобных работах. Например: «Искусный в военном деле передает боевой дух каждому из живущих в пределах его страны... даже прислужники, колесничие и байту собираются с округи в сотню ли, чтобы участвовать в сражении». В другом тексте того же времени о байту говорится как о необученном нестроевом контингенте: «По этой причине, когда многочисленное войско... нападает на малочисленное, когда упорядоченное войско... нападает на такое, которое терпит нужду, когда спокойный нападает на неспокойного, когда обученные солдаты и опытные воины бросаются на толпу байту, тогда в десяти сражениях одерживают десять побед».
Согласно данным керамической эпиграфики, в государственных гончарных мастерских г. Линьцзы трудились работники, пришедшие не только из Чэнъяна, но и из многих других городов царства Ци, а также из предместий столицы. Расселенные в разных циских землях байту составляли низший слой той социальной группы жителей царства, которая была постоянно связана с его военной организацией.
Термином байту (необученный пехотинец) обозначали крестьян, мобилизованных для несения военной службы или выполнения других обязанностей. Иногда он употреблялся как общее название для всех военнообязанных. По словам Сюньцзы, «сыма знает количество армий, различного вооружения и панцирей, колесниц и бай[ту]». Однако, когда термин использовали в узком значении, так называли мобилизованных крестьян, занятых в обозе или на различных подсобных работах. В главе «Колесницы и лошади» трактата «Гуаньцзы» байту упомянуты как низшая категория солдат, обслуживавшая лошадей и выполнявшая другие подсобные функции: «На одну колесницу [приходится] четыре лошади. На одну лошадь— семь латников и пятеро прикрывающих. На четыре колесницы — двадцать восемь латников, двадцать прикрывающих, тридцать человек байту». Как истолковать то, что и в мирное время на плечи представителей этого слоя ложились столь обременительные обязанности перед государст
14 Первый иероглиф данного термина, имеющий значение «белый, светлый», указывал, по мнению восточноханьского комментатора Гао Ю, на цвет их одежд. Что касается второго, то в позд-нечжоуских источниках он нередко применялся для обозначения тех или иных категорий челяди или повинностного населения.
вом? Наиболее вероятным нам кажется следующее объяснение: труд байту в царских ремесленных мастерских представлял собой повинность, возлагавшуюся на них как на неполноправных держателей царских земельных участков. Поскольку байту одновременно с трудом в царских ремесленных мастерских регулярно несли военную службу, то они были подчинены особым начальникам, которые объединяли в своем лице гражданскую и военную власть.
Археологические материалы из городища Яньсяду и его окрестностей указывают, что и здесь в период Чжаньго существовало керамическое производство, находившееся под контролем царской администрации. Оттиски штампов, встречающиеся на местной керамике, содержат сведения о дате изготовления сосудов и о тех чиновниках, которые непосредственно надзирали за работой гончаров. Например: «Двадцать третий год, десятый месяц, левый начальник гончаров бо из Чжаояна».
Выразительная находка была сделана на городище Яньсяду в 1965 г. Здесь неподалеку от развалин крупномасштабных керамических печей был обнаружен целый ряд захоронений людей в кандалах. Это свидетельство использования в государственном ремесле царства Янь труда рабов и осужденных.
Представленные в большом числе как в коллекциях китайских антикваров прошлых веков, так и в материалах современных археологических раскопок мечи, секиры, наконечники копий, предметы колесничного снаряжения периода Чжаньго также часто снабжены надписями, рассказывающими о том, когда, где и под чьим наблюдением они были изготовлены. Такого рода эпиграфические данные свидетельствуют, что армии «сражающихся царств» снабжались всем необходимым в основном из государственных мастерских, сосредоточенных в крупных городах. Например, известны различные виды оружия, отлитого в мастерских, находившихся в ведении градоначальника ханьской столицы г. Чжэн, градоначальников чжаоского города Ханьдань, вэйских городов Чжаоян и Гаоду. В некоторых случаях в качестве лица, ответственного за государственное производство оружия в царстве Вэй, надписи упоминают «надзирателя преступников в стране». Последнее, очевидно, связано с тем, что среди царских ремесленников были люди, осужденные по тем или иным причинам на принудительные работы в пользу государства.
В текстах периода Чжаньго есть упоминания о категории подневольных работников из числа осужденных — чэнданъ (букв, «утром на стене»), приговоренных к каторжному труду на строительстве городских стен и оборонительных сооружений. В трактате «Моцзы» (гл. «Команды и распоряжения») приводится уголовная статья из кодекса царства Сун, посвященная обороне городов, где говорится: «Если одному человеку посчастливится захватить замышляющих мятеж, предающих город [врагу], покидающих город и переходящих к врагу, то пусть снимет наказание смертью с двух человек [обращением] в чэнданя четырех человек».
Надписи на бронзовом оружии, изготовленном в царстве Цинь, также содержат сведения о том, что в период Чжаньго в государственном ремесле использовали труд подневольных людей. Судя по различным данным, производство оружия здесь концентрировалось в ряде важнейших пограничных военно-адми
нистративных областей — цзюнъ, являвшихся региональными центрами обороны. Во многих районах Китая были найдены бронзовые секиры, изготовленные в царских мастерских Шанцзюня, одного из таких центров. На секирах сохранились стандартные надписи, упоминающие как тех, кто ведал мастерскими, так и работников, занятых в производстве: «Двадцать пятый год15, изготовлена [по приказу] наместника Шанцзюня [по имени] Мяо, ремесленный мастер из Гаону [по имени] Яо, помощник Шэнь, гуйсинъ [по имени] Цюй, склад оружия в Шан-цзюне, городская плавильня». Роль данных мастерских в военной экономике Шанцзюня и всей страны была, очевидно, весьма значительной. В связи с этим вполне естественным кажется, что надписи называют среди должностных лиц, наблюдавших за производством, самого наместника Шанцзюня. Лицами, которые непосредственно управляли производством и отвечали за него, были, очевидно, «ремесленный мастер» и его помощник. Ниже их располагались ремесленники разных категорий. Среди них надписи выделяют работников, положение которых определялось вышеупомянутым социально-юридическим термином гуйсинъ. Наиболее раннее упоминание о наказании путем перевода в разряд гуйсинъ, содержащееся в составленных Сыма Цянем анналах Цинь Шихуанди, относится к 238 г. до н.э. Со времен первых комментаторов существовало мнение, что работы, которые выполняли гуйсини, были, в соответствии со значением иероглифов (гуй — души усопших и синь — топливо, хворост), составляющих данный термин, ограничены сбором хвороста для храмов предков.
Эпиграфические данные значительно расширяют наши знания как о характере занятий подневольных работников, так и о других связанных с ними вопросах. Действительно, эти данные свидетельствуют, что первоначальный примитивный метод использования труда осужденных, запечатленный в самом термине гуйсинъ, был в конце Чжаньго уже заменен более эффективными формами эксплуатации. В приведенной выше надписи гуйсинъ упомянут среди рабочего персонала царских оружейных мастерских. По-видимому, потребовался известный срок, чтобы термин гуйсинъ из названия конкретного наказания превратился в абстрактное обозначение одной из категорий подневольных работников. К сожалению, мы не располагаем никакими дополнительными данными об обстоятельствах этой эволюции. Тем не менее упоминание в надписях на секирах, изготовленных в III в. до н.э., имен подневольных работников, закрепленных за царскими оружейными мастерскими, служит достаточно определенным свидетельством, что в царстве Цинь в период Чжаньго сложились элементы развитой системы принудительного труда, которая известна по более поздним источникам.
Сохранились данные, что в городах этого времени существовало не только государственное, но и частное производство. Сыма Цянь в главе «Повествование о товарах и приумножении богатства» упоминает ряд современных ему влиятельных в торгово-промышленной сфере кланов, родоначальники которых, по его словам, разбогатели еще в период Чжаньго, занимаясь выплавкой железа. В этой же главе приведена история известного позднечжоуского металлурга Гао
15 Есть основания считать, что имелся в виду 25-й год правления Ин Чжэна (с 221 г. до н.э. Цинь Шихуанди), т.е. 222 г. до н.э.
Цзуна, жителя царства Чжао, владевшего железоделательной мастерской в г. Хань-дане. Частное ремесло не оставило столь выразительных эпиграфических свидетельств, как государственное, но его роль в удовлетворении потребностей внутреннего рынка была, по-видимому, не менее значительной.
Некоторые указания письменных памятников, восходящих к V—III вв. до н.э., заставляют предполагать, что в городах «сражающихся царств» имелся достаточно влиятельный слой свободного торгово-ремесленного населения. В трактате «Моцзы» есть главы, посвященные защите осажденных городов. Их содержание подтверждает бесспорный факт, что в то время главную роль в организации обороны играла государственная и военная администрация. Однако оно также свидетельствует о широком привлечении городских жителей как к оборонным работам, так и к охране города и городских стен. В этих главах в качестве придатка городского административного аппарата и его опоры на местах выступает влиятельная верхушка городского населения — фулао (отцы и старейшие), а также выбранные из числа последних должностные лица. Например, в параграфах 7 и 11 главы «Команды и распоряжения» сказано: «Кварталы внутри стен составляют восемь районов, в каждом районе по одному чиновнику. Чиновника сопровождают четыре человека при обходе дорог внутри квартала. Те из живущих внутри квартала фулао. которые не заняты обороной, принимаются за расчеты, чтобы разделить квартал на четыре части. В каждой части ставят по начальнику, чтобы допрашивал проходящих не вовремя или вызывающих подозрение и задерживал злодеев». Далее говорится: «Староста квартала и фулао охраняют ночью ворота квартала. Когда чиновник, обходя свой район, приближается к воротам квартала, староста отворяет их и встречает чиновника. Вместе они обходят посты фулао и безлюдные места на окраинах». По мнению Л.С. Пе-реломова, фулао, выдвигавшиеся из среды сельских жителей, составляли советы старейшин, которые управляли некоторыми аспектами жизнедеятельности свободных земледельческих общин. По аналогии в городах они, очевидно, должны были представлять какие-то сходные по типу профессионально-корпоративные организации свободных ремесленников и торговцев.
В период Чжаньго изменяются структура и масштабы частного ремесленного производства в городах. Если ранее городские ремесленники работали в основном для удовлетворения нужд двора, войска и клановой аристократии, то в конце периода Чжоу потребителями ремесленной продукции становятся земледельцы. Сюньцзы свидетельствует, что в его время товарообмен между городом и деревней носил уже традиционный и регулярный характер: «Земледельцы не куют лезвий, не обжигают глину и не плавят металл, однако обеспечены всякими орудиями и утварью, ремесленники и торговцы не трудятся на полях, но имеют в достатке бобы и просо» (глава «Ванчжи» — «Управление вана»). Рынки, бывшие, согласно позднечжоуским текстам, непременной принадлежностью городов, превратились в места, где земледельцы сбывали свои товары горожанам и где концентрировались отрасли ремесленной деятельности, рассчитанные на массового потребителя.
В период Чжаньго укрепились и расширились не только местные рынки, но и торговый обмен в масштабах отдельных царств и всего тогдашнего Китая. Су
хопутные и речные торговые пути связали между собой самые различные города и области. На интенсивность торгового обмена внутри царств и между ними указывает развитость и стабильность системы государственного обложения торговых перевозок и торговых операций, что засвидетельствовано в эпиграфических памятниках периода Чжаньго. К их числу относится найденная в 1957 г. близ г. Шоусянь (пров. Аньхой) «проезжая грамота», текст которой был нанесен с помощью инкрустации золотом на бронзовых выпуклых пластинках. Соединенные в вертикальные трубки, они имитировали форму бамбуковых стволов. Текст вырезан на внешней поверхности пластинок и расположен десятью вертикальными строками. Первая часть документа состоит из 165 иероглифов, а вторая— из 150. Это, пожалуй, самая большая надпись на металле периода Чжаньго. Естественно, что она вызвала большой интерес у специалистов по древнекитайской эпиграфике. В результате усилий ученых древние иероглифы надписи были отождествлены с их современными эквивалентами. Несмотря на частные разногласия, предложенные версии прочтения в основе своей совпадают. Этот документ, изготовленный по приказу чуского Хуай-вана (328-299 гг. до н.э.), освобождал торговых агентов одного из чуских местных владетелей от уплаты проездных пошлин при условии провоза товаров на 50 больших лодках и 50 возах. Содержание документа, для которого еще не найдено параллелей в письменных памятниках периода Чжаньго, с достаточной очевидностью свидетельствует о том, что с развитием товарно-денежных отношений в царстве Чу крупные местные владетели получили новую привилегию, состоящую в освобождении их торговых агентов от государственных таможенных сборов.
Даже при поверхностном знакомстве с текстом привлекают внимание не столько данные о финансовых привилегиях для торговых экспедиций местных владетелей, сколько упоминания весьма определенных ограничений, налагавшихся на их торговых агентов. Так, подвергалось строгой регламентации количество беспошлинно провозимых товаров, регламентировались маршруты беспошлинных поездок. Особо оговаривалось, что при перегоне скота и при транспортировке товаров с помощью носильщиков соответственно установленной норме сокращалось число «беспошлинных возов». Срок действия документа был ограничен одним годом. Весьма показательно, что в него включена формула, которая в ряде случаев вообще прекращала действие дарованного ваном освобождения от всех пошлин: «Если суда будут нагружены лошадьми, коровами, овцами, чтобы войти в [порт] с таможней или выйти из него, то брать пошлину в Великую сокровищницу...» Очевидно, ввоз и вывоз скота в чем-то серьезно ущемлял интересы чуского вана (может быть, нарушал какую-нибудь из государственных монополий?), что в данном случае компенсировалось соответствующими выплатами в царскую казну.
Как свидетельствует «проезжая грамота», в последней четверти IV в. до н.э. наиболее жесткими были таможенные правила, которые относились к перевозкам, имевшим, по-видимому, неторговый характер. Ученые единодушны в объяснении причин, вызвавших к жизни следующий запрет: «Нельзя нагружать металл, кожу и бамбуковые стволы». Все они связывают его с тем, что в царстве Чу местным владетелям было запрещено покупать и перевозить материалы, из ко
торых тогда производили оружие и другое воинское снаряжение. Запреты, в свою очередь, вытекали из того обстоятельства, что в период Чжаньго центральная и местная администрации вана обладали исключительной монополией на производство, хранение и транспортировку оружия и различного военного снаряжения.
В грамоте на бронзовых пластинках, изготовленной для казны чуского местного владетеля, поражает та скрупулезная точность, с которой сформулировано освобождение определенного количества возов и судов, определенного числа голов прогонного скота от сбора проездной пошлины при их прохождении через внутренние таможенные заставы царства Чу. Это наводит на мысль о том, что торгово-таможенные установления чуских ванов отражали давнюю и весьма развитую традицию. Нельзя не отметить, что эти установления были, очевидно, важным элементом внутриполитической жизни страны. Как следует из рассмотренного документа, внутренние таможенные заставы царства Чу не только взимали установленные сборы с провозимых через них товаров, но и контролировали перевозки местных владетелей, следя за тем, чтобы в руки последних не попадало оружие и «военные материалы». По-видимому, не только в Чу, но и в других «сражающихся царствах» существовала система таможенных застав, игравшая значительную роль в их экономике.
Развитость и стабильность системы государственного обложения торговых перевозок и торговых операций подтверждают и другие косвенные данные, например упоминание о том, что уже в VI в. до н.э. в царстве Ци пожалование права взимать «рыночный налог» было одной из форм вознаграждения сановников, а в III в. до н.э. совместный контроль над таможенными заставами на границе Вэй и Хань сулил «обогащение обоим царствам». Ряд исследователей уже обращали внимание на ту полемику вокруг вопроса о снижении или об отмене таможенных пошлин, которая велась авторами периода Чжаньго, жившими в цен-тральнокитаиских владениях.
В трактате Мэнцзы (ок. 372 — 289 г. до н.э.) выдвинуто предложение эту радикальную меру осуществить одновременно с отменой рыночных сборов: «Если не облагать налогом лавки на [городских] рынках, запретить [хранить товары] на приусадебных участках, то в Поднебесной торговцы будут довольны и захотят хранить товары на своих рынках. Если на таможенных заставах не брать пошлины [за провоз товаров], а только расспрашивать [проходящих], то в Поднебесной все путешественники будут рады и захотят отправиться в путь». Городские рынки, бывшие важными экономическими центрами «сражающихся царств», в это время процветали. Судя по жизнеописанию полководца Ли Му, составленному Сыма Цянем, в Чжао отчисления в пользу государства с торгового оборота на городских рынках были столь значительны, что покрывали расходы на содержание пограничных гарнизонов, защищавших его от набегов кочевников сюнну.
К периоду Чжаньго относятся первые упоминания неадекватного торгового обмена, происходившего между Китаем и «варварской» периферией, который приносил китайским торговцам огромную прибыль и обогащал пограничные царства Цинь, Чжао, Янь и Чу. В «Повествовании о товарах и приумножении богатства» Сыма Цяня приведен следующий эпизод из истории этого обмена:
«Ло из народа учжи разводил скот. Когда стада умножились, он все продал и приобрел редкостные вещи из шелка. В подходящий момент он преподнес их правителю жунов. Правитель жунов вознаградил его в десятикратном размере, дал ему скота без счета». Этот эпизод относится ко второй половине III в. до н.э. Судя по целому ряду косвенных данных, подобный обмен китайских предметов роскоши на скот, разного рода сырье и природные материалы, вывозившиеся из сопредельных районов Центральной Азии, Южного и Юго-Западного Китая, возник по крайней мере несколькими веками ранее.
Подъем производства, развитие частного ремесла и торговля привели к усовершенствованию древнекитайской денежной системы. В обращение было пущено несколько стабильных типов бронзовых монет. В центральнокитайских владениях Хань, Чжао и Вэй отливали лопатовидные монеты, в Ци и Янь — ножевидные, а в Цинь — круглые. Каждый из типов характеризовался определенным весом и достоинством. На юге, в царстве Чу, где добывали золото, имели хождение золотые монеты в форме небольших пластинок.
В период Чжаньго эволюция городского ремесла и торговли происходила в условиях возникновения больших государств, разрушения экономической изоляции отдельных районов и уничтожения разного рода внутренних барьеров. По сравнению с предыдущим временем районы сбыта ремесленной продукции необычайно расширились. Сложились новые условия для дальнейшей специализации и разделения труда в сфере торгово-ремесленной деятельности. Это определило рост значения денежного хозяйства в период Чжаньго.
Реформы Шан Яна.
Аграрная и социально-политическая структура древнекитайского общества в период Чжаньго
Результатом экономических и социально-политических преобразований, охвативших древнекитайское общество во второй половине периода Чуньцю, было то, что к началу Чжаньго во всех центральнокитайских царствах место автономных клановых областей заняла единая территориально-административная организация. К этому времени здесь завершилось превращение крестьянского надела в индивидуально-семейное владение, передававшееся по наследству, а также сложилась всеобщая военно-податная система. Однако царство Цинь, расположенное на западной окраине древнекитайского мира, отставало по темпам развития от своих восточных соседей. В циньской летописи и других источниках известия о проведении реформ, отражавших аналогичные общественные сдвиги, относятся лишь к IV в. до н.э. Эти реформы связаны с именем Шан Яна, выходца из царства Вэй, который при циньском правителе Сяо-гуне стал главой гражданской и военной администрации. Первые шаги на пути социально-экономических перемен здесь были сделаны еще до Шан Яна. В 408 г. до н.э., по словам цинь-ского летописца, правитель «ввел [поземельный] налог, который платили зерном». Опыт восточных соседей Цинь свидетельствует, что распространение на
турального налога, взимавшегося с земельного участка, отражало далеко зашедшую индивидуализацию крестьянских наделов и происходило обычно параллельно с официальными мерами по размежеванию полей. Аналогичная закономерность имела место и в царстве Цинь. Здесь в 350 г. до н.э. по приказу Шан Яна «для устройства полей страны отрыли продольные и поперечные межевые [канавы], установили границы [земельных участков]». Одновременно с предпринятой циньскими властями фиксацией границ поземельных владений была осуществлена реформа местного управления: «К тому же, собрав малые города, волости и поселения, объединили их в сяни, поставили в них начальников и их помощников, всего образовали 31 сянъ», Таким образом, вся территория царства была поделена на стандартные административные единицы, власти которых непосредственно подчинялись центральному правительству. В 348 г. до н.э. в Цинь был введен единый военный налог.
Проводившиеся Шан Яном в аграрной и административной сфере всеобъемлющая централизация и повсеместное укрепление начал государственности были характерны и для его социальной программы. Ее осуществление было начато опубликованием указов, адресованных земледельцам-общинникам: «Приказал народу разделиться на [группы] по десять и пять [семей], члены которых были связаны взаимным надзором и ответственностью. Тот, кто не донесет о преступнике, будет разрублен пополам, тот, кто донесет о преступнике, будет награжден так же, как [воин], отрубивший голову врага; скрывших преступника наказывать так же, как и [воина], сдавшегося врагу. Те из народа, кто, имея [в семье] двух и более мужчин, не разделили [своего хозяйства], платят двойной налог. Имеющий военные заслуги получает почетный титул в соответствии с установленным порядком». Очевидно, что этими указами Шан Ян пытался ослабить родственные, личные, общинные связи и всячески усилить в жизни земледельцев роль военно-административного начала. Цель указа, поощрявшего искусственное дробление и раздел имущества больших крестьянских семей, вследствие чего должно было возникнуть множество новых домохозяйств, состояла в разрушении традиционных форм общинного землепользования.
Стержнем социальных преобразований Шан Яна в царстве Цинь была введенная им система жаловавшихся за военные заслуги почетных титулов, каждому из которых соответствовали армейские и гражданские чины, а также земельное обеспечение и другие виды поощрений. По идее Шан Яна социальное и имущественное положение большинства жителей царства Цинь, постоянно или временно связанных с военно-административной деятельностью, должно было определяться одним из 20 почетных титулов: «В соответствии с титулом семьи [ей даются] положенные каждому званию поля и усадьбы, слуги и служанки, разные виды одежды».
Введением своего рода «табели о рангах» Шан Ян стремился нанести удар по главной опоре центробежных сил в стране — потомственной аристократии, связанной родственными узами с семейством вана. Со времени опубликования этого документа положение в военно-административной иерархии, а также все виды царских пожалований и раздач стали зависеть от наличия почетного титула, а не от происхождения. Один из указов Шан Яна, который сохранился в биографии
реформатора, составленной Сыма Цянем, подтверждает это: «Тех членов знатных домов, которые не совершили военных подвигов, считают не заслужившими права на включение в списки [получающих пожалование]».
Широкое распространение при Шан Яне мелкого и среднего землевладения среди воинов и командиров, получавших полевые наделы и усадебные участки за военные заслуги, естественно, требовало, чтобы в руках циньских правителей было сосредоточено достаточно большое количество свободных земель. Известно, что во времена Шан Яна царство Цинь вело многочисленные войны со своими соседями. На аннексированных территориях местные жители лишались какой-то доли принадлежавшей им земли, которая сперва переходила в руки вана, а затем распределялась между колонистами. Однако основу государственного земельного фонда в Цинь составили, очевидно, пустующие участки общинных земель, которые были выделены и взяты под контроль в ходе государственного межевания, осуществленного Шан Яном. По мнению Мория Мицуо, одной из задач этого межевания было создание массива земель, окультивированных под контролем чиновников вана. Значит, естественно предполагать, что следствием аграрных преобразований Шан Яна были строгая фиксация, административное ограничение размеров земледельческого надела и официальная регламентация заимки.
Существует несколько иная интерпретация содержания этих преобразований. По мнению Л.С. Переломова, в результате государственного межевания «было узаконено право частной собственности на пахотные земли». Оно основано на известном высказывании Дун Чжуншу (II в. до н.э.), в котором Шан Яну приписывается законодательная отмена неотчуждаемости полей, якобы вызвавшая ускоренную мобилизацию земли при помощи купли-продажи. Обоснованность этого высказывания Дун Чжуншу вызывает серьезные сомнения, ибо в обширной литературе периода Чжаньго нет ни одного упоминания о введении Шан Яном в царстве Цинь частной собственности на землю в качестве юридического принципа. По-видимому, известный конфуцианский ученый перенес во времена Шан Яна аграрные условия, характерные для окружавшего его раннеханьского общества. Это подтверждает содержание раздела «Шаннун» — «Ставить земледелие на первое место» в трактате «Люйши чуньцю», суммировавшего результаты аграрного развития царства Цинь на протяжении 100 лет, прошедших после реформ. Согласно приведенным в нем данным, в середине III в. до н.э., когда создавался трактат, циньский крестьянин был весьма серьезно ограничен в праве распоряжения и пользования своим полевым участком. Следовательно, если бы утверждение Дун Чжуншу, касающееся аграрной политики Шан Яна, было исторично, то пришлось бы признать возможным превращение неограниченного земельного собственника в связанного по рукам и ногам владельца надела. Такое предположение противоречит всей логике исторического развития общества. Тяжесть административной опеки над жизнью циньской деревни и хозяйственная несвобода циньских земледельцев ярче всего проявились в цитируемых на страницах «Люйши чуньцю» сельских запретах, среди которых наибольший интерес вызывают следующие:
«Пока не вспахана земля, нельзя заниматься [обработкой] конопли, нельзя вывозить навоз»;
«Тот, кто годами не стар, не смеет разводить сад»;
«Тот, чьи силы оценены как недостаточные, не смеет обводнять землю с помощью канав и обрабатывать ее»;
«Земледельцу запрещено разъезжать с товарами»;
«Ему запрещено заниматься другими делами».
Здесь мы сталкиваемся с неприкрытыми формами ограничения прав земледельца со стороны государственной администрации царства Цинь. Государство регламентировало сельскохозяйственное производство во всех деталях. Это подтверждается фрагментами циньского «Статута о земле» IV-III вв. до н.э., найденного около г. Юньмын (пров. Хубэй). Из содержания «Статута» мы узнаем, что земледелец был обязан «в письменном виде докладывать [местным властям] о том, как... колосятся хлеба, о количестве полей, где распахана целина и где нет посевов... сообщать... о засухе, ветре, дожде, наводнении, саранче, других вредителях хлебов, также о количестве их надо докладывать, доставляя доклад в ближних уездах пешком, в дальних — с конным вестовым».
При анализе юньмынских материалов обнаруживается, что циньский земледелец мог работать не на своем поле, получая его на срок из казенных хозяйств, мог получать в аренду от местных властей железные орудия.
Там же найден фрагмент статута, регулировавшего соблюдение финансовых обязательств подданных по отношению к государству, в котором говорится: «Человек из народа занял казенные орудия и не вернул долг, в установленный срок их забрали, долг остается за ним».
Государство стремилось сосредоточить силы народа на обработке полей и производстве зерна. Для других видов сельскохозяйственных занятий существовали строгие правила. Примером их служат предписания, относящиеся к фруктовым садам. Особый контроль был установлен над свободными землями. У земледельца, желавшего окультивировать участок земли с помощью мелиорации и распахать новину, «оценивали силы». Естественно, что власти давали землю только тем, кто мог обеспечить обработку ее наилучшим образом. По-видимому, эти меры не были связаны с обычной практикой защиты общинных земель от разбазаривания, а отражали циньскую государственно-правовую доктрину, рассматривавшую свободные земли как органическую часть царского земельного фонда, предназначенного для раздачи отличившимся воинам.
Административная регламентация не только касалась полевых работ, но проникала и в другие сферы жизни земледельца. Он не пользовался свободой передвижения, а также был лишен возможности покинуть надел и переменить занятия. В цитированном разделе «Люйши чуньцю» есть указания на то, что даже право нанимать работника было строго ограниченным. Им пользовались только те земледельцы, которые имели почетные титулы. На фоне подобных ограничений вряд ли возможно в царстве Цинь рассматривать земледельца как собственника. К этому следует добавить, что ни в тексте «Шанцзюньшу», ни в тексте «Люйши чуньцю», ни в других источниках нет упоминаний о каких-либо действиях административных органов царства Цинь, связанных с формированием частнособственнических отношений в деревне.
Естественно, возникает вопрос, не являлось ли столь очевидное вторжение государственной администрации царства Цинь в различные сферы жизни земледельцев отражением того, что государство обладало верховной собственностью на землю? На него следует ответить отрицательно. Эти явления связаны с правами суверенитета циньских правителей над личностью и хозяйством земледельцев, обладавшего к тому же в условиях Китая ярко выраженной спецификой. Нет оснований трактовать индивидуальные владельческие права циньских земледельцев как полную собственность, но нет также и признаков того, чтобы всякую недвижимость рассматривать как принадлежащую государству.
В царствах, расположенных к востоку от Цинь, аграрные отношения были более развитыми. Здесь уже со второй половины периода Чуньцю общинные пахотные земли были поделены на участки, которые постепенно перешли во владение отдельных семей землевладельцев. В это время слова «дом» или «двор» превратились в фискальные термины, обозначавшие такой хозяйственный комплекс, который включал в себя и земельный участок. Тесная внутренняя связь пахотного поля с домохозяйством земледельца выступает особенно ясно в постоянстве терминологического сочетания тянъчжай (поле и усадьба), появляющегося в письменных памятниках периода Чжаньго. В конце эпохи Чжоу небольшие коллективы владельцев наделов группировались вокруг алтарей местных божеств земли (шэ). Вся территория, находившаяся в ведении этих коллективов, была неразрывно связана с алтарем и находилась под его защитой. Сам коллектив в тех случаях, когда он выступал перед центральной властью как некое административно-фискальное целое, регулировавшее платежи и повинности своих членов, именовали шушэ («все приписанное к алтарю местного бога земли»). Как установил Л.С. Переломов, на территории центральнокитайских царств в V—III вв. до н.э. по крайней мере некоторые органы административного управления в деревнях были выборными. Сельское самоуправление находилось в руках влиятельной прослойки «отцов и старейших», выделившихся из числа рядовых общинников. Следует, однако, иметь в виду, что, судя по немногочисленным дошедшим до нас указаниям источников, представители государственной власти осуществляли повседневный контроль над всеми делами общин. Полномочия государственных чиновников по отношению к деревням были чрезвычайно широкими и позволяли им вмешиваться в разные области жизни земледельцев. Например, в царстве Хань, по свидетельству Хань Фэйцзы, защита крестьянских полей от потрав находилась в ведении должностных лиц, назначенных правителем.
Восстановить структуру крестьянского землевладения в V—III вв. до н.э., к сожалению, невозможно из-за недостатка необходимой информации. Известно лишь, что установленный позднечжоускими авторами идеальный стандарт площади полевого надела и приусадебного участка, необходимой для прокормления семейства в 5-8 человек, был равен соответственно 100 му и 5 му. Этот стандарт, очевидно, отражал реальные размеры «полного надела» в центральнокитайских царствах. Подтверждением могут служить данные о нормах землепользования в царстве Вэй, сохранившиеся в передаче «Люйши чуньцю»: «На землях дома Вэй обычные поля были по 100 му, только в области Э из-за того, что почва пло
хая, были по 200 му» (глава «Достижение радости»). Однако имеются указания, что встречались полевые наделы меньших размеров, нежели этот стандарт. К концу Чжаньго постепенно становится актуальным вопрос о неравенстве фиксированных земельных участков, закрепленных во владении за домохозяйствами общинников. В экономических текстах того времени, в частности в главе «Запрет на запасы» трактата «Гуаньцзы», появляются утверждения о прямой зависимости между размерами поля и достатком семьи земледельца. На объединение в позднечжоуской общине экономически разнородных хозяйств указывает то, что здесь наряду с общинниками, обрабатывавшими свои поля собственными силами, имелись такие, которые эксплуатировали труд свободных наемных работников и зависимых людей. Источники отмечают выделение внутри общины зажиточной категории крестьянства, способной к самостоятельному несению военной службы, которую они обозначали термином чжэнху («исправные дворы»). В разных «сражающихся царствах» неоднократно делались попытки превратить хозяев «исправных дворов» в сословие полупрофессиональных воинов, так называемых гэнчжанъчжиши («служилых, занятых земледелием и войной»). Это было вызвано стремительным прогрессом военного искусства и дальнейшим усложнением военно-бюрократического аппарата.
Как известно, на протяжении V--III вв. до н.э. война и военное производство занимали главенствующее положение в общественно-политической и экономической жизни «сражающихся царств». При возникновении военной ситуации создавались огромные армии-ополчения численностью в несколько сотен тысяч человек. Такие армии требовали большого количества специально обученных людей. Кроме того, с наступлением периода Чжаньго появились новые, неизвестные доселе рода войск: арбалетчики и кавалерия. Для службы в них также были необходимы высокая профессиональная выучка и постоянная тренировка. Перечисленные обстоятельства стимулировали выделение в недрах земледельческого класса особой социальной группы служилых, которые в отличие от основной массы ополченцев-общинников были постоянно связаны с военной организацией «сражающихся царств». Власти последних для поощрения полупрофессиональных воинов практиковали наделение их неотчуждаемыми участками земли. По свидетельству «Сюньцзы», в царстве Вэй воинам-арбалетчикам, выдержавшим специальные отборочные испытания, «предоставляют выгодные полевые наделы и усадьбы» (глава «Ибин»— «Рассуждения о военном деле»). В источниках периода Чжаньго имеются упоминания, что и младшим чиновникам местных административных органов, вышедшим из числа представителей общинной верхушки, также жаловали небольшие земельные участки в индивидуальное пользование. Проводившаяся в разных царствах политика наделения землей сопровождалась регулярными вторжениями властей в общинное землевладение и отчуждением значительных участков общинных земель.
В аграрном развитии центральнокитайских царств во второй половине периода Чжаньго исследователи обычно отмечают рост тенденций частного владения землей. Действительно, к этому времени относятся первые определенные свидетельства о продаже земельных участков. В составленном Сыма Цянем жизнеописании одного из чжаоских полководцев сказано, что герой его, «как только
увидит выгодные поля и усадьбы, которые можно купить, сразу же покупает их». Однако при этом следует учитывать, что зависимость земледелия в ряде областей «сражающихся царств» от крупных гидротехнических сооружений, постоянная и всесторонняя опека со стороны государства в значительной мере ограничивали самостоятельность отдельных производителей. Несмотря на появление в древнекитайском обществе таких форм приобретения земельных участков, как наследование, купля, обмен и раздел, общинники в IV—III вв. до н.э. не располагали еще правом полной частной собственности на свои полевые наделы. Есть весьма определенные свидетельства источников об этом. К самому концу периода Чуньцю относится свидетельство Хань Фэйцзы, что частная собственность на полевые наделы земледельцев отсутствовала: «Люди из Чжунмоу побросали свои поля, продали усадьбы и огороды». Периодом Чжаньго датировано другое свидетельство, близкое по содержанию к предыдущему: «Был [у одного человека] дерзкий сосед, [человек] этот хотел продать приусадебный участок и бежать оттуда». Если своими приусадебными участками общинники распоряжались свободно, то очевидно, что о продаже полевых наделов не могло быть и речи. Хотя во втором случае полевой надел вообще не был упомянут, он явно подразумевался.
Наряду со структурными сдвигами внутри класса общинников, проявившимися, например, в создании на базе «исправных» крестьянских хозяйств военнослужилого сословия, происходила серьезная перестройка и в среде господствующего класса. На протяжении предыдущего этапа истории Чжоу все сколько-нибудь значительные административные должности были связаны с правом владеть, управлять определенными территориями и взимать с них в свою пользу государственные налоги, а должностные функции имели характер частного имущества, которое можно было передавать по наследству. Должности жаловались только тем, кто мог претендовать на них по праву рождения. Наследственное замещение должностей было одним из факторов создания замкнутых иерархических семейно-клановых групп, вступивших во второй половине периода Чуньцю в открытый конфликт с центральной властью. Последняя в ходе борьбы с засильем кланов выработала новые способы содержания должностных лиц и новые способы замещения должностей.
Место полунезависимых управителей, влияние которых определялось родственными связями и поддержкой кланов, заняли должностные лица с определенным кругом обязанностей, находившиеся в полной зависимости от воли вана. Эта многочисленная бюрократия, в руках которой было сосредоточено фактическое управление повседневной жизнью царств, пополнялась в значительной степени контингентом из «разночинцев», людей без роду и племени. Характерна в связи с этим анкета для должностных лиц, сохранившаяся в главе «Вэнь» («Вопросы») трактата «Гуаньцзы». Она включает следующий пункт: «Спроси у начальников административных районов чжоу, из служилых людей какого селения они происходят?» Подобный вопрос показался бы совершенно бессмысленным в предыдущий период, когда принадлежность того или иного управителя к определенной патронимии и связь его с определенной клановой территорией были общеизвестными. Даже в среде высшего и среднего чиновничества встре
чались люди, не имевшие собственной земли. На это указывает содержание другого пункта вышеупомянутой анкеты: «Сколько человек из числа сановников имеют должности, но не владеют полями?» Жалованье большинства представителей администрации «сражающихся царств» сводилось к натуральному довольствию, поступавшему непосредственно из амбаров вана. Наряду с этим сохранилась практика наделения высших сановников «жалованными поселениями», которые были центрами стабильных административных районов. Выше уже отмечалось, что в ходе ожесточенной политической борьбы, происходившей в ряде царств в VI-V вв. до н.э., правителям их удалось добиться значительной концентрации власти в своих руках. Это существенным образом повлияло на правовой статус владетелей крупных административных единиц.
В период Чжаньго борьба с сепаратистскими устремлениями «местных владетелей» вступила в новый этап. На страницы исторических и философских сочинений того времени проникли отзвуки законодательных установлений и административных мер, регламентировавших передачу «жалованных поселений» по наследству. Так, до нас дошли высказывания У Ци (ум. в 381 г. до н.э.), известного военного теоретика и государственного деятеля царств Вэй и Чу. Указывая на необходимость реформ в области политической организации царства Чу, он говорил: «Когда сановники слишком влиятельны, а владетели жалованных территорий слишком многочисленны, тогда вверху притесняют государя, а внизу мучают народ. Лучше отбирать содержание и титулы у третьего поколения потомков владетелей жалованных территорий, чтобы распределять их среди избранных служащих». Предложенные У Ци ограничения, по-видимому, были реализованы и получили широкое распространение. В годы расцвета Чжаньго, судя по ряду данных, право наследовать жалованные поселения в некоторых царствах вообще исчезло как юридическая норма. В материалах позднечжоуской историографической традиции содержатся упоминания о том, что территории, пожалованные сановникам, переходили под контроль администрации вана сразу же после смерти их временных владельцев. Так было с «жалованными поселениями» циньского первого министра Вэй Жаня и чжаоского Чжэн Аньпина. Представляет интерес и следующее обстоятельство: из сопоставлений разных источников вытекает, что в IV—III вв. до н.э. владетелями одной и той же области на протяжении сравнительно небольшого периода времени оказывались лица, никоим образом не связанные узами родства. Например, при циньском Хуэйвэнь-ване (337-310 гг. до н.э.) земли Ляньтяня были пожалованы некоему Сянцзы. Спустя несколько десятилетий эти же земли передали сяну Люй Бувэю (249 г. до н.э.). Аналогичный случай имел место в царстве Чу: в начале 70-х годов III в. до н.э. область Хуайбэй царства Чу была по приказу вана отдана во владение Чжуан Синю, но под 262 г. до н.э. источники упоминают о пожаловании ее Хуан Сэ. В одной из речей «Планов сражающихся царств» (существует мнение, что она должна была быть произнесена в 285 г. до н.э.) упоминается о том, что некий сановник дома Хань получил от царства Цинь земли Шаньяна. Под 239 г. до н.э. хроникальные записи сообщают о передаче властями Цинь земель Шаньяна известному авантюристу Лао Аю. Авторы периода Чжаньго приводят записи высказываний своих современников, в которых они отмечают чрезвычайную не
прочность положения «владетелей жалованных поселений», полную зависимость последних от личного произвола правителей царств.
Сановники, владевшие административными районами, теперь не только были лишены возможности передавать свои кормления по наследству, но, судя по целому ряду данных, они утратили право контроля над их военной организацией. В сообщениях источников о проведении общецарских или региональных мобилизаций крестьянского ополчения полностью исчезли упоминания о местных владетелях. Однако последние в ряде случаев пользовались еще правом публичной власти над жителями полученных в кормление территорий. Есть упоминания, что они создавали на этих территориях собственный административный аппарат. Возможно, что они обладали здесь не только административной, но и судебной властью. Следует обратить внимание на то, что публично-правовая активность местных владетелей была объектом неусыпного контроля и постоянного вмешательства со стороны центральной власти. Когда в 296 г. до н.э. одного из сыновей чжаоского Улин-вана сделали «господином Аньяна», административного центра пограничной области Дай, то главное должностное лицо по управлению пожалованной территорией было назначено по выбору самого правителя. По словам позднечжоуских теоретиков, наибольшую опасность для правителей царств представляло то, что крестьяне и воины, желавшие избавиться от гнета государственной налоговой машины, собирались в большом числе на «пожалованных территориях» и обращались к покровительству местных владетелей: «Полностью собирая поземельный налог и сосредоточивая в своих руках силы народа, таким путем предотвращают опасности и наполняют амбары [зерном]. Но воины бегут от своих обязанностей и скрываются. Они вверяют себя покровительству влиятельных домов, чтобы уклониться от трудовой повинности, не платить налога. И таких, кто недоступен [властям], более десяти тысяч». Правители «сражающихся царств», терявшие налогоплательщиков, естественно, всеми силами стремились воспрепятствовать установлению личных патронажных отношений между владельцами «жалованных поселений» и пришлым населением. Поэтому получают распространение такие формы пожалований, которые не давали никаких прав территориального верховенства. Например, при передаче в кормление обширных участков обрабатывавшихся земель, состоявших из полевых наделов земледельцев, государство не выпускало из своих рук публичной власти над последними. Кормленщики в этих случаях не выполняли никаких административных функций на местах, их права распространялись только на налоговые поступления с данных участков.
Проводившаяся правителями «сражающихся царств» политика ограничения любых проявлений частной власти вызвала перемены и в характере административной деятельности должностных лиц, составлявших основной костяк правящего слоя того времени. В период Чжаньго отчетливо проявились признаки секуляризации государственного управления. Центральные органы власти, представлявшие некогда группы полусакральных помощников вана, на которых смотрели как на исполнителей его персональной воли, теперь окончательно конституировались как специализированные управления с определенными функциями. Сам управленческий труд чиновника потерял к тому времени свои сак
рально-кастовые черты, его перестали рассматривать как милость правителя и личное служение ему, он стал результатом свободного соглашения, свободного предложения и принятия услуг. По словам одного из персонажей трактата «Хань Фэйцзы», «правитель продает чины и титулы, подданные [взамен] продают ум и силу». В источниках периода Чжаньго встречаются свидетельства, указывающие, по-видимому, на появление каких-то ранних форм новициата, с помощью которых пытались определять знания и способности поступавших на государственную службу. В административной практике того времени идея личных обязательств по отношению к правителю или его агентам сменилась идеей служебного долга, регламентированного определенными законами, правилами и предписаниями. Деятели и теоретики политической централизации «сражающихся царств», сопровождавшейся централизацией административной, рассматривали законы, правила и предписания для чиновников в качестве важнейшего средства пресечения «частных устремлений» и опасной для правителя «групповщины» в среде бюрократии. Пределы и содержание административной деятельности разных категорий должностных лиц были, по-видимому, достаточно определенно регламентированы.
Позднечжоуские авторы, отнесенные современной наукой к числу «легис-тов», включали обычно в свои идеальные схемы управления царствами рекомендации, как избежать «превышения чиновниками полномочий, положенных им по должности». В административную практику был введен вполне определенный принцип персональной ответственности, основанный на формуле: «Исполнение соответствует порученному делу, дело соответствует докладу — тогда награждают; исполнение не соответствует порученному делу, дело не соответствует докладу — тогда наказывают» (гл. «Эрбин» — «Две рукояти»). Осуществлению этого принципа на практике способствовало распространение персональных печатей, которые в V-III вв. до н.э. стали непременной принадлежностью не только сановников, но и средних и низших категорий служащих вана.
Для поддержания персональной ответственности в «сражающихся царствах» был введен регулярный контроль за административной деятельностью. Источники упоминают о проводившихся в конце года проверках исполнения чиновниками своих обязанностей. Подбор чиновников и назначение на должности, а также проверка результатов их деятельности рассматривались идеологами поздне-чжоуского времени в качестве важнейших условий эффективного управления. Все это, по их мнению, отражавшему, очевидно, реальные тенденции государственной жизни того времени, должно было быть сосредоточено в руках сяна, первого советника правителя и единоличного руководителя административного аппарата «сражающихся царств». Согласно «Сюньцзы», «сян возглавляет оценку и назначение всех чиновников, обобщает решения по всем делам, распределяет [обязанности] среди придворных и младших служащих, взвешивает их достижения и заслуги, устанавливает им поощрения и награды, в конце года составляет доклад о результатах их деятельности, который вручает правителю. Если [результаты] соответствуют [порученному делу], то их можно оставить, в противном случае их следует уволить».
Вообще в условиях позднечжоуского общества, где административные начала повсюду приходили на смену кланово-корпоративным структурам, сян превратился в важнейшую фигуру политической жизни. В его руках администрация должна была служить послушным орудием в борьбе с любыми децентрализатор-скими проявлениями. Если в период Чуньцю сановники, руководившие административным аппаратом больших и малых владений, выдвигались обычно наиболее влиятельными в тот или иной момент их истории клановыми группировками, то в период Чжаньго на должность сяна стали подбирать таких государственных деятелей, которые не были связаны с децентрализаторскими силами внутри «сражающихся царств». В «Планах сражающихся царств» сохранилось следующее свидетельство современника: «Тем из знатных людей, которые имеют титул хоу, не разрешают занять пост сяна, а других, начиная от полководца и выше, не допускают в число ближних сановников [вана]». Обычным стало приглашение на должность сяна сановников из соседних государств. В тех случаях, когда правитель вынужден был искать себе первого советника среди местной бюрократии, его выбор часто падал на чиновников и ученых, не состоявших в родстве со знатными фамилиями страны. Так, из тринадцати сянов царства Чжао, упоминаемых источниками для периода V—III вв. до н.э., восемь могут быть отнесены к категории лиц незнатного или неизвестного происхождения. В царстве Вэй к их числу принадлежала половина всех сянов, известных по летописным данным.
Серьезные структурные сдвиги в системе управления были связаны с появлением различий между военной и гражданской администрацией. На предыдущем этапе истории древнекитайского общества политическое влияние высших сановников обычно определялось тем, что они из поколения в поколение контролировали общецарские и клановые военные формирования. Сяны, в отличие от них, были в первую очередь представителями гражданской власти, хотя им и приходилось вмешиваться во все сферы жизни «сражающихся царств».
В период Чжаньго постепенно возникли определенные организационнобюрократические формы личного участия правителей в контроле за административной деятельностью. К V—III вв. до н.э. относятся сообщения источников о появлении канцелярий при ванах, в состав которых входили юйши, участвовавшие в качестве секретарей и агентов-посредников во внешнеполитических и внутриполитических акциях чжаньгоских ванов. Содержание текстов, восходящих ко второй половине данного периода, указывает на расширение функций должностных лиц категории юйши. Согласно этим данным, они были представлены не только в окружении правителя, но и среди чиновников администрации сяна. По-видимому, в последних случаях они являлись представителями царских канцелярий в местных органах власти «сражающихся царств». С периодом Чжаньго связаны наиболее ранние упоминания о концентрации финансовых функций государства в руках нескольких специальных ведомств. Фискальная администрация, которая обязана была извлекать из хозяйства страны наибольшее количество материальных средств с помощью налогов, сборов и монополий, постепенно конституировалась в виде ряда самостоятельных органов управления. Так, из биографий Лянь По и Линь Сянжу, составленных Сыма Цянем, известно, что в царстве Чжао функционировало тянъбу — особое «ведомство по
лей», чиновники которого были заняты сбором поземельного налога. Хотя состояние источников не позволяет сколько-нибудь определенно и последовательно восстановить развитие налогообложения в V—III вв. до н.э., но и немногочисленных известий достаточно, чтобы заметить усложнение, количественные и качественные сдвиги в податной системе того времени. Эти обстоятельства, по-ви-димому, в значительной мере способствовали выделению фискального аппарата.
Наиболее заметные перемены в этой области были связаны с тем, что под влиянием развивавшихся товарных отношений наряду с натуральным поземельным налогом вводились различные денежные подати. В экономически наиболее развитых царствах постепенно появилась тенденция к замене последними единого поземельного налога. Известно, что среди экономических рекомендаций авторов трактата «Гуаньцзы», адресованных правителям царства Ци (главы «Хай-ван» — «Правитель приморских земель», «Цинчжун» — «Регулирование хозяйства»), имеется предложение ввести здесь всеобщую подушную денежную подать.
Изменение социально-экономической структуры древнекитайского общества не только вызывало появление новых элементов в механизме управления «сражающихся царств», но и наполняло новым содержанием традиционные институты. Это утверждение в полной мере относится к ведомству сыма. В предыдущие периоды сыма выступали в роли военачальников, в мирное время они со своими отрядами могли исполнять полицейские функции. В период Чжаньго в деятельности сыма главным становится военно-административный аспект, а не предводительство на поле брани. В V—III вв. до н.э. они руководили сбором всеобщего или регионального ополчений, раздачей жалованья, пограничными войсками, расположенными в специальных военно-административных районах. В их руках был сосредоточен контроль над сословием полупрофессиональных воинов, а в некоторых царствах и над производством оружия. В организации разного рода обязательных работ, таких, как строительство и ремонт ирригационных сооружений, городских стен, царских гробниц, которые земледельцы «сражающихся царств» обязаны были исполнять в пользу их правителей, также произошли заметные перемены. В источниках исчезли упоминания об участии чиновников клановых территорий в контроле за этими работами. Отрядами земледельцев, собиравшихся для несения трудовой повинности, распоряжались представители местной администрации. Ведомство «надзирателя сооружений» осуществляло общее руководство строительством и следило за своевременным поступлением рабочей силы (гл. «Кайчунлунь» — «Начало весны»).
Относящиеся к этому времени известия о территориальном делении в «сражающихся царствах» с несомненностью свидетельствуют, что внутренние их земли были полностью поделены на стандартные административные районы — сянъ. Для отдельных царств можно установить общее количество последних. Так, составленное Сыма Цянем «Повествование о ловких говорунах» упоминает, что в царстве Ци в годы правления Вэй-вана (356-320 гг. до н.э.) однажды в столицу были собраны все начальники сяней числом 72 человека. В царстве Вэй было, по-видимому, около 100 сяней. На это указывает следующая фраза в речи одного из дипломатов царства Вэй: «Я слыхал, что дом Вэй со всех его 100 сяней
собрал победоносные войска, чтобы поставить их для охраны [столичного города] Даляна». Местные органы администрации, стоявшие во главе сяней, приобрели в этот период более четкие формы. Территориальная организация «сражающихся царств» имела еще одну особенность, заключавшуюся в том, что на их пограничных землях, наиболее важных в стратегическом отношении, стали учреждать особые военно-административные области, называвшиеся цзюнъ. По статусу они отличались от обычных административно-территориальных областей. Во главе их стояли наместники шоу с очень широкими полномочиями.
Укрепление административных начал в древнекитайском обществе в V-III вв. до н.э. охватило самые различные сферы его жизни. Государственные чиновники располагали широкими полномочиями по отношению к земледельцам, что позволяло им осуществлять повседневный контроль над всеми делами общин. Проводившаяся в разных царствах политика наделения землей разных категорий служащих сопровождалась регулярными вторжениями властей в общинное землевладение и отчуждением значительных участков общинных земель. Одной из основных задач административной централизации была борьба за ограничение любых проявлений частной власти. В связи с этим изменились способы содержания должностных лиц и характер административной деятельности. Круг обязанностей должностных лиц был четко регламентирован. В ходе происходившей в V—III вв. до н.э. перестройки государственного управления в различных царствах были сделаны попытки упорядочить распределение функций между центральными административными органами и уточнить их компетенцию. Что касается местных властей, то в период Чжаньго объем их прав был существенно ограничен, а контроль за их деятельностью со стороны центра стал более жестким.
В течение последних десятилетий в Китае был открыт и изучен ряд городищ периода Чжаньго с остатками ремесленных мастерских, принадлежавших вану. Отнести их к числу памятников такого рода дают основание масштабы существовавшего здесь некогда производства и положение мастерских в центральной зоне древних столичных городов, а также данные эпиграфики. Среди множества вопросов, связанных с этими находками, важнейший состоит в том, какие категории ремесленников работали здесь и каков был характер их труда. Традиционные письменные источники не содержат никаких сведений об этом. Однако есть весьма выразительные свидетельства среди археологических материалов. Как уже упоминалось выше, в Яньсяду— «Нижней столице царства Янь» близ развалин царских керамических мастерских в 1965 г. был открыт целый ряд погребений людей, закованных в кандалы. Полагают, что это останки рабов, выполнявших здесь самые тяжелые работы. Многое могут прояснить и материалы эпиграфических находок. Так, в надписях на бронзовом оружии, происходящем из г. Чжэн, столицы царства Хань, где имелось не менее четырех казенных плавилен, среди лиц, ответственных за качество продукции, упомянут сыкоу (надзиратель разбойников). Аналогичные стандартные надписи на оружии из царства Чжао упоминают левого и правого цяо (чиновников, ведавших преступниками). Очевидно, что среди работников казенных мастерских царств Хань и Чжао, изготовлявших оружие, были люди, осужденные трудиться здесь безвозмездно. На оружии царства Цинь есть более подробные надписи, упоминающие как чинов
ников, следивших за производством, так и непосредственных его участников. Эти выводы подлежат дальнейшему развитию и уточнению в свете юридических текстов царства Цинь, написанных на бамбуковых дощечках, которые были найдены в погребении близ г. Юньмын в пров. Хубэй в 1975 г. Тексты, объемом более 600 дощечек, представляют собой пособие для чиновника, включающее толкования наиболее употребительных уголовных статей, выписки из «Статута о земле», «Статута о скотных дворах и пастбищах», «Статута управления общественных работ» и т.д., а также собрание примерных образцов ведения уголовных процессов. Судя по другим документам, найденным в погребении, его хозяин умер в 217 г. до н.э. Однако содержание материалов судебника связано с периодом, предшествовавшим 221 г. до н.э., т.е. году объединения Китая под властью царства Цинь. Есть ряд статей, прямо указывающих на то, что они были написаны в период Чжаньго, когда царство Цинь, расположенное на крайнем западе тогдашней Поднебесной, видело в своих восточных соседях хранителей легендарной цивилизации Ся.
Наибольшее число известий среди недавно найденных материалов посвящено личэням — людям, находившимся в зависимости от государства. Так, например, на оружии царства Цинь отлита надпись: «В сороковой год [Чжао-вана] (т.е. 267 г. до н.э.) изготовлена наместником Шанцзюня, ремесленным мастером из Ту [по имени] Цзе, помощником [по имени] Цинь, ремесленником личэнем [по имени] Гэн». Перевод в разряд личэней представлял собой наказание за различные правонарушения. Хотя прямые упоминания о длительности этого наказания отсутствуют, разного рода сведения в найденном тексте могут быть истолкованы в том смысле, что в период Чжаньго оно не было ограничено определенным сроком.
Самым наглядным свидетельством суровости и продолжительности, а возможно, и бессрочности этого наказания служат данные, представленные в судебных материалах, касающиеся выкупа личэней на волю: «Если личэнъ пожелает выкупиться, предоставив двух человек совершеннолетних, разрешить ему. Если тот, кто освобожден [от работы] по старости, маленький (личэнъ) высотой в 5 чи и ниже, а также женщина-лмчэиь захотят выкупиться, разрешить им. Предоставленные в качестве выкупа все мужчины, полученные как выкуп, превращаются в личэней». Лмчэнь-мужчина мог быть выкуплен, если вместо него в распоряжение циньских властей поступало двое мужчин, согласных принять на себя все тяготы его положения. Личэнъ, достигший 60 лет и освобожденный по возрасту от тяжелого труда, мог перейти в сословие простолюдинов, отдав за себя взрослого мужчину. Такими же были условия выкупа для детей и женщин личэней. Характерно, что в данной статье нет ни слова о сроке, который должен был отработать личэнъ в государственном хозяйстве. Создается впечатление, что обязанности личэня были бессрочными.
Личэни использовались в различных отраслях государственного хозяйства царства Цинь. Наиболее умелые из них отбирались для работы в ремесленных мастерских, согласно статье, «личэни, обладающие сноровкой, могут стать ремесленниками, их не следует заставлять прислуживать людям». Найденный среди юридических материалов из Юньмына фрагмент «Устава ремесленников» полностью посвящен личэням. Есть данные об их работе в царских литейных мастерских.
Широкое использование личэней в государственном хозяйстве отражено в статьях, посвященных подробным правилам выдачи им провианта: «Личэни-мужчины, занятые на казенных работах, [получают] два даня зерна, личэни-женщины — полтора даня. Если не заняты на работах, содержание не выдается... Младенцы, не имеющие матерей, [получают] половину даня. Если имеют матерей и проживают с ними на попечении казны, все равно выдавать каждый месяц половину даня зерна. Личэни, занятые полевыми работами, со второго месяца [получают] месячное содержание в два с половиной даня вплоть до девятого месяца полностью и в конце его половину даня. Обдиралыцицы зерна каждый месяц [получают] полтора даня...»
Материалы о личэнях раскрывают специфическую черту циньской экономики, совершенно неизвестную по тем источникам, которыми мы до недавнего времени располагали.
Теперь установлено, что администрация царства Цинь контролировала земледельческие и скотоводческие хозяйства, принадлежавшие государству. Имелись обширные казенные пастбища, где трудилось большое число личэней. В судебных установлениях отражена развитая система учета и личной ответственности личэней за порученный им скот, а также система контроля за жизнью личэней. Так, в одном из них сообщается: «Что касается личэней — мужчин и женщин, то если у них пропали казенные орудия или скот, то каждый день и месяц вычитать из [денег, предназначенных] на платье и еду, не более трети». К сожалению, мы не располагаем данными о числе казенных хозяйств и размерах их земель, данными о количестве личэней, занятых полевыми работами и работами в животноводстве, однако несомненно, что за этой неполной информацией скрыт целый сектор экономики царства Цинь, основанный на подневольном труде. Столь же затруднительно раскрыть подлинное значение труда личэней для государственного ремесла. В материалах «Устава ремесленников» имеется ряд упоминаний о разных сторонах положения личэней. По некоторым данным, им ставили клеймо на лицо. Но материалы об общем количестве личэней, занятых в ремесле, отсутствуют.
Обнаруженные в Юньмыне фрагменты циньского уголовного кодекса раскрывают юридическую сторону возникновения категории подневольных людей, прямо связанной с рабовладельческими отношениями в древнекитайском обществе. Речь идет об употреблении в судебнике выражения «забрать [в рабство]» по отношению к осужденным преступникам. Так, в статьях говорится:
«Муж совершил преступление, жена первая донесла, „ее не забирать [в рабство]"... Жену, совершившую преступление, следует „забрать [в рабство]". Следует ли „забирать" принадлежащую жене челядь, платье и посуду или же отдать мужу? — Отдать мужу». Содержание одной из статей, по нашему мнению, достаточно определенно свидетельствует о том, что всех «забранных людей» ждало государственное рабство, а большинству грозила даже продажа в частные руки, как то следует из фрагмента: «Личэнъ... сбежал... Его наложницу и детей „забирают". Ребенок мал... Приказывают „забрать" с матерью. Что означает „забрать" с матерью? Когда продают людей, а ребенок не может быть отделен [от матери], то это означает, что мать и ребенка не продают [в частные руки]». По-видимому,
эта мера — обращение в рабов жены и детей преступника — отражала давнюю судебно-административную практику, как то следует, в частности, из указа Шан Яна: «У извлекающих выгоду из второстепенных занятий и лентяев забирают [в рабство] жену и детей» и из приказа правителя царства Юэ: «...[воины, нарушившие долг], будут обезглавлены, а их жены и дети проданы [в рабство]».
Масштабы подневольного труда в государственном хозяйстве царства Цинь дают основание предполагать, что им должно было соответствовать широкое употребление частнозависимых различного статуса— и в земледелии, и в ремесле. Найденные недавно материалы открывают, хотя и в весьма лапидарной форме, ряд неизвестных доселе фактов, касающихся частного рабовладения в IV—III вв. до н.э. Несколько раз упоминают они «принадлежащих людям рабов и рабынь» (жэньнуце). Само употребление этого термина свидетельствует, что иероглиф ну хорошо был известен в IV—III вв. до н.э. и применялся по отношению к мужчинам-рабам. Известные ранее отдельные данные о частном рабстве вызывали сомнение в своей аутентичности из-за крайней малочисленности сообщений. Например, содержание цитаты из утраченного текста «Погодовых записей на бамбуковых дощечках»: «На семнадцатом году вэйского Сян-вана (302 г. до н.э.) в Ханьдане (столице царства Чжао) приказали, чтобы рабы чиновников и сановников были переселены в Цзююань». Теперь эти данные оказываются в контексте сообщений нового источника о частновладельческих рабах и рабынях. Они приобретают права гражданства и выступают как элементы утраченной картины частного рабовладения, соответствовавшего развитым формам подневольного труда в государственных хозяйствах периода Чжаньго. Имеющиеся данные о частновладельческих рабах и рабынях вовсе не свидетельствуют о их малочисленности. Это зависит от характера известий, которыми мы располагаем.
История взаимоотношений древнекитайских царств в V-Ш вв. до н.э.
В первые годы периода Чжаньго три государства, унаследовавшие цзиньские земли, не имели никакого внешнеполитического опыта и держались достаточно сплоченной группой. В этой группе наибольшую внешнеполитическую активность проявляло Вэй. Оно одержало верх в ряде военных столкновений с царством Цинь и в 408 г. до н.э. захватило принадлежавшую ему область в междуречье Хуанхэ и Бэйлоушуй. В 406 г. до н.э. оно аннексировало ряд территорий владения Чжуншань. В 405 г. до н.э. Чжао, Хань и Вэй совместно выступили против царства Ци, ослабленного внутренней смутой. Ци потерпело поражение. В 403 г. до н.э. чжоускому вану пришлось официально признать законность возникновения на месте царства Цзинь трех новых владений, которые были включены в систему чжоуской иерархии, имевшей в то время лишь номинальное значение. Большие территориальные приобретения царства Вэй и Хань сделали также за счет владений Сун и Чжэн, которые вынуждены были просить помощи у Чу.
В ходе начавшейся в 391 г. до н.э. войны между Чу и центральнокитайскими царствами первое потерпело поражение. С этого времени город Далян (в районе современного г. Кайфына) и окружавшие его земли вошли в состав царства Вэй.
На начальном этапе периода Чжаньго царство Вэй, занимавшее плодородные и густонаселенные районы в центре Поднебесной, захватило инициативу в области внешней политики. Большинство перемен на политической карте «сражающихся царств», происходивших в то время, были результатом вторжений его войск и связанных с ними аннексий. В 80-е годы IV в. до н.э. царство Чжао вступило в соперничество с царством Вэй в борьбе за раздел территорий малых владений. В 383 г. до н.э. оно попыталось расширить свои границы за счет Малого Вэй. Последнее прибегло к помощи царства Вэй, и чжаоская армия была разбита. Однако на сторону Чжао встало царство Чу. Войскам союзников удалось одержать ряд побед, и это позволило на некоторое время ослабить внешнеполитическую активность царства Вэй. Воспользовавшись этим, царство Хань лишило Чжэн самостоятельности и присоединило его земли, а царство Чжао захватило обширную область у Малого Вэй.
Стремительное расширение территорий Хань и Чжао обострило соперничество между центральнокитайскими царствами. Они оказались втянутыми в длительный период междоусобиц, принесших значительные политические выгоды их соседям на востоке и на западе. В 362 г. до н.э. вэйскому сяну Гуншу Цзо удалось нанести поражение ханьской и чжаоской армиям. Однако это не ликвидировало опасности их вторжения. В 361 г. до н.э. вэйскому правителю пришлось перенести столицу из г. Аньи (на территории современного уезда Сясянь пров. Шаньси), располагавшегося близ границ царств Цинь и Хань, в более безопасный г. Далян. Война между Вэй и Чжао разгорелась с новой силой в 354 г. до н.э., когда последнее потребовало земельных уступок у Малого Вэй. Армия царства Вэй осадила столицу царства Чжао г. Ханьдань (на территории современной пров. Хэбэй, в уезде Ханьдань). Постепенно этот конфликт вырос в большую войну, в которой приняли участие многие царства. В вэйские земли вторглась циньская армия, осадившая располагавшийся близ границы г. Шаолян. На следующий год против Вэй выступили царства Ци и Чу. Но они стремились к территориальным захватам, а не к спасению Ханьданя. Несмотря на то что цисцам удалось разгромить вэйцев под Гуйлином (на территории современного уезда Цаосянь пров. Шаньдун), действия чуских войск также были успешными. Ханьдань после тяжелой осады капитулировал. Как Вэй, так и Чжао оказались в затруднительном положении. В 351 г. до н.э. между ними было заключено перемирие, оккупационные войска были выведены из Ханьданя. Уладив свои отношения с царствами Чу и Ци, Вэй в 350 г. до н.э. повернуло все свои армии против Цинь. Последнее потерпело поражение.
Победы, одержанные на западе, позволили Вэй укрепить свое пошатнувшееся было внешнеполитическое положение. В 344 г. до н.э. вэйский правитель объявил себя ваном. Утверждению его могущества должна была способствовать встреча правителей в местности Фэнцзэ, на которой он попытался распространить свое верховенство на Хань и группу центральнокитайских малых владений (Сун, Лу, Малое Вэй). Однако обстановка середины IV в. до н.э. коренным обра
зом отличалась от обстановки периода Чуньцю. Она исключала возможность длительного единоличного лидерства. В это время ряд царств были достаточно сильны, чтобы воспрепятствовать гегемонистским претензиям царства Вэй.
В 341 г. до н.э., воспользовавшись просьбой Хань о помощи, против Вэй выступило царство Ци. Его армия нанесла сокрушительное поражение вэйской армии под г. Малином (на территории современного уезда Пусянь пров. Шаньдун). Одновременно с этим Вэй подверглось нападению армий царств Чжао и Цинь. Теснимый со всех сторон, вэйский ван вынужден был униженно просить мира у царства Ци. В 334 г. до н.э. на встрече в г. Сюйчжоу (на территории современного уезда Тэнсянь пров. Шаньдун) он предложил правителю царства Ци также провозгласить себя ваном. Появление в Поднебесной еще одного вана послужило поводом к новой войне. На следующий год войска Чу вторглись в Ци, окружили Сюйчжоу и разбили здесь цискую армию.
Тем временем царство Вэй продолжало испытывать трудности. В войне с царством Цинь в 330-328 гг. до н.э. оно потерпело целый ряд тяжелых поражений. Чтобы добиться мира, ему пришлось пойти на серьезные территориальные уступки в пользу своего западного соседа. Вэй передало Цинь обширные пограничные области, на которых впоследствии был учрежден циньский военноадминистративный округ Шанцзюнь. Этот успех открыл перед циньским правителем возможность активно вмешиваться во внешнеполитические отношения. В 325 г. до н.э. он присвоил себе титул вана. Чтобы ослабить давление со стороны Цинь, царство Вэй в это время предприняло новую попытку создания коалиции с участием царства Хань. Правителя последнего вэйцы убедили также стать ваном.
В последней четверти IV в. до н.э. возросла внешнеполитическая активность правителей всех крупнейших царств. Проявлением этого было быстрое распространение среди них титула «сына Неба» и связанных с ним притязаний. В 323 г. до н.э. по взаимному соглашению его одновременно присвоили себе государи Янь, Чжао и Чжуншань. Несмотря на рост военной мощи ряда «сражающихся царств», ни одно из них в то время не располагало абсолютным превосходством над своими соседями. В этих условиях добиваться своих внешнеполитических целей они могли только в союзе с другими государствами. Наступило время противоборства эфемерных группировок, быстро сменявших друг друга.
В 318 г. до н.э. возникла первая широкая антициньская коалиция, в состав которой вошли царства Вэй, Чжао, Хань, Чу и Янь. Ее военные усилия были малоэффективны, и она вскоре распалась. В 312 г. до н.э. царство Цинь, объединившись в военном союзе с Хань и Вэй, выступило против Ци и Чу. Последние потерпели поражение. В результате Цинь отняло у Чу обширную область, расположенную в верхнем течении р. Ханьшуй.
Наряду с захватами земель друг у друга «сражающиеся царства» в конце IV в. дон.э. начинают широкое освоение дальней «варварской» периферии. В 316г. до н.э. войска Цинь заняли владения Шу и Ба, представлявшие собой раннегосударственные объединения тибето-бирманских племен в центральной части Сычуани. В 306 г. до н.э. царство Чу, воспользовавшись внутренними раздорами в соседнем владении Юэ, полностью аннексировало его территорию. Царство Чжао, после того как по инициативе Улин-вана в составе его войска появились
подвижные кавалерийские части, начало успешное продвижение в глубь территорий на северных границах, занятых кочевыми племенами ху, линъху, лоуфанъ. В период с 300 по 295 г. до н.э. Чжао в союзе с Ци и Янь полностью захватило владение Чжуншань (на западе современной пров. Хэбэй), населенное потомками племен белых ди9 известных по историческим текстам периода Чуньцю.
Характерной особенностью обстановки конца IV в. до н.э. было усиление роли Ци в межгосударственных отношениях. После победоносного похода против ослабленного внутренней междоусобицей царства Янь в 314 г. до н.э. во внешней политике циского Сюань-вана отчетливо проявилось стремление стать во главе сильного военного союза. Ему удалось вовлечь в него царства Вэй и Хань. В 303-301 гг. до н.э. их объединенные силы несколько раз успешно вторгались в земли Чу. Последнее было вынуждено уступить ряд городов и послать в Ци в качестве заложника наследника престола. В 298 г. до н.э. войска трех царств начали военные действия против Цинь. Война продолжалась три года и принесла успех коалиции. Царству Цинь пришлось возвратить ряд захваченных ранее у Хань и Вэй территорий.
С начала III в. до н.э. царство Цинь постепенно стало постоянным участником всех сколько-нибудь крупных военно-дипломатических объединений и междоусобных конфликтов. Это отразилось в восходящей к тому времени классификации военных союзов. Источники упоминают о двух основных типах объединений «сражающихся царств»: «по вертикали» (хэцзун) и «по горизонтали» (лянь-хэн). Первая из противоборствующих группировок создавалась для войны против Цинь, а вторая должна была служить ему орудием вмешательства в дела восточных соседей.
Упорное стремление царства Ци к полной аннексии владения Сун послужило причиной раздоров внутри военного союза Ци, Хань и Вэй. Цинь не преминуло этим воспользоваться, чтобы привлечь Ци на свою сторону. Оставшиеся без поддержки Хань и Вэй стали жертвами агрессии дома Цинь. В 294 г. до н.э. циньские войска захватили ряд пограничных ханьских городов. На следующий год объединенная армия Хань и Вэй была разбита войсками Цинь под г. Ицюе (близ г. Лояна). В последующие годы циньские вторжения в Хань и Вэй продолжались. Только в 290 г. до н.э. был заключен мир, принесший Цинь обширные территориальные приобретения. Успехи циньского оружия породили у государственных деятелей этого царства непомерные внешнеполитические притязания. В 288 г. до н.э. циньский Чжао-ван сделал попытку дипломатическим путем подчинить своему влиянию значительную часть Поднебесной. Он провозгласил себя Западным ди и одновременно предложил цискому вану стать Восточным ди За новыми титулами скрывалось намерение циньцев разделить Поднебесную на две сферы влияния. Однако их планам не суждено было осуществиться. Циский ван не принял нового титула и, объединив вокруг себя ряд центральнокитаиских царств, вынудил Чжао-вана отказаться от претензий на верховенство. В результате царство Ци вновь оказалось на гребне военно-дипломатического успеха.
16 С титулом ди в чжоуское время связывались представления о сверхъестественном могуществе и высшей власти, поэтому его применяли обычно по отношению к божествам.
В 286 г. до н.э. оно целиком поглотило владение Сун. Возникла ситуация, чреватая новыми осложнениями. Циньский Чжао-ван на встречах с правителями Чжао, Чу, Вэй и Хань убедил их совместно выступить против Ци. В 284 г. до н.э. войска царства Янь, присоединившегося к коалиции, оккупировали внутренние районы Ци и захватили его столицу г. Линьцзы. Только в 279 г. до н.э. Тянь Даню, возродившему цискую армию, удалось очистить страну от захватчиков и восстановить в ней власть циских ванов. Несмотря на возрождение государственности в Ци, после этих событий оно постепенно скатилось в число второразрядных царств, лишенных возможности проводить активную и самостоятельную внешнюю политику.
В 280-277 гг. до н.э. циньская армия нанесла сокрушительный удар по военной мощи и престижу царства Чу. Знаменитому циньскому полководцу Бо Ци удалось проникнуть далеко в глубь обширной территории Чу и дойти до оз. Дун-тин. Были захвачены крупнейшие города этого царства, в том числе Ин (на территории современной пров. Хубэй, в уезде Ичэн), его столица. В результате Чу потеряло не менее трети своих земель. Теперь у Цинь остался только один серьезный соперник — царство Чжао. В 70-е годы III в. до н.э. последнее неоднократно приходило на помощь царству Вэй, подвергавшемуся в то время непрерывным вторжениям циньских войск. В 270 г. до н.э. чжаоскому полководцу Чжао Шэ удалось нанести тяжелое поражение циньской армии в местности Яньюй и избавить на некоторое время центральнокитайские царства от опасности.
Однако во второй половине 60-х годов III в. до н.э. военная и дипломатическая активность Цинь вновь усилилась. На этот раз главным объектом агрессии стало царство Хань. В 262 г. до н.э. Цинь вторглось в ханьский район Шандан (гористый район в юго-восточной части современной пров. Шаньси), что таило в себе угрозу не только для Хань, но и для внутренних районов царств Вэй и Чжао. Последнее послало сюда большую армию, которая расположилась близ г. Чан-пина (на территории современной пров. Шаньси, в уезде Гаопин). Военное противостояние в этом районе продолжалось три года и в 260 г. до н.э. закончилось поражением чжаосцев и полной гибелью чжаоской армии.
Чанпинское поражение послужило сигналом для широкого наступления циньских войск на чжаоские земли. В 259 г. до н.э. циньская армия начала осаду чжаоской столицы г. Ханьданя. Длившаяся несколько лет безуспешная осада Ханьданя внесла отрезвление в умы правителей других центральнокитайских царств, которые убедились в том, что Цинь далеко не всесильно. Царство Вэй, одно время поддерживавшее Цинь, к 257 г. до н.э. начало серию военных приготовлений против него. Приготовления эти, впрочем, шли весьма медленно, что раздражало многих вэйских сановников и военачальников, в том числе и сына вана — У Цзи, владетеля Синьлина. Проникнув в один из вэйских военных лагерей, где располагалась стотысячная армия, У Цзи умертвил ее военачальника Цзин Би и с помощью подложного приказа вана увел армию под стены Ханьданя. Циньские войска, осаждавшие город, оказались меж двух огней и были разбиты. Из-за этой неудачи циньцам пришлось на некоторое время приостановить свои нападения на восточных соседей. Последним, однако, не удалось достигнуть прочного единства и перейти в решительное контрнаступление.
В 249 г. до н.э. Цинь возобновило политику захватов. Были целиком аннексированы остатки домена чжоуских ванов и присоединена наиболее плодородная область Хань (на стыке современных провинций Хэбэй, Шаньдун и Хэнань). После серии вторжений в пределы царства Вэй Цинь в 242 г. до н.э. учредило на захваченных у него землях восточный военно-административный округ. Его граница проходила в непосредственной близости от границ царства Ци. В руках царства Цинь оказались густонаселенные и плодородные земли в самом центре Поднебесной, где был создан плацдарм, угрожавший независимости каждого из шести «сражающихся царств».
Вопрос о единстве перед лицом опасности, исходившей от Цинь, стал вопросом жизни и смерти для них. В 241 г. до н.э. по инициативе царства Чжао был создан военный союз, к которому примкнули Чу, Вэй, Янь и Хань. Вначале действия объединенной армии были успешными. Однако после первых же серьезных столкновений с циньцами армии союзных царств были отозваны, и союз распался. Конечно, среди государственных деятелей «сражающихся царств» в то время были люди, понимавшие, что спасти их от гибели может только долговременный оборонительный антициньский союз. Но противоречия между разными группировками внутри правящего класса центральнокитайских владений оказались сильнее грозившей всем опасности. В 236 г. до н.э. возник вооруженный конфликт между царствами Чжао и Янь. Циньцы не преминули вмешаться в него, и им удалось захватить чжаоскую часть Шанда-на и область Хэцзянь (в междуречье Хуанхэ и Чжанхэ). Несмотря на отдельные успехи, эта война крайне ухудшила положение Чжао. В 229 г. до н.э. Цинь с разных сторон вторглось в Чжао. На следующий год это царство пало. Несколько ранее циньцы уничтожили царство Хань. В 225 г. до н.э. под ударами циньских войск погибло Вэй. Дни самостоятельного существования других «сражающихся царств» были сочтены. В 224-223 гг. до н.э. циньцы захватили земли царства Чу и взяли в плен последнего чуского вана. В 222 и 221 гг. до н.э. наступила очередь Янь и Ци, когда их армии также попали в плен к циньским полководцам.
Так закончилась история «сражающихся царств». Шесть из них были поглощены седьмым — царством Цинь, которое и стало единственным хозяином Поднебесной. Его правитель впервые в истории Китая порвал с традицией Чжоу, отказался от титула вана и стал именоваться Ши хуанди («Первым императором»). Завершилась почти восьмисотлетняя эпоха господства чжоуцентристской доктрины или ее пережитков.
Началась новая эпоха— эпоха древних империй на территории Восточной Азии.
Культура древнего Китая
Культура древнего Китая заложила основу дальнейшего культурно-исторического развития китайской цивилизации и оказала глубокое влияние на культуру всего дальневосточного региона.
Характерную особенность древнекитайской цивилизации составлял культ образованности и грамотности. Основные направления философско-теоретического мышления древнего Китая были ориентированы на человеческую личность.
Преодоление мифологизированного сознания было тесно связано с накоплением знаний об окружающем мире. Уже иньцы знали счет до 30 000. Будучи земледельческим народом, предки древних китайцев на протяжении многих столетий вели наблюдения за движением светил. Поскольку лунный год необходимо было согласовать с природными сезонами, связанными с солнечным годом, его продолжительность была вычислена весьма точно. В 613 г. до н.э. древнекитайские астрономы впервые отметили появление кометы Галлея. В V в. до н.э. видимые звезды были сведены в созвездия. Астрономы стали вычислять предстоявшие лунные и солнечные затмения. Развивалась механика, вызванная потребностями ирригации, фортификации, крепостного строительства, о чем, в частности, свидетельствует грандиозное сооружение конца III в. до н.э. — Великая Китайская стена протяженностью 5 тыс. км. С переходом от письма на бамбуковых планках к письму на шелке и от царапающей палочки к кисти размер писчей бумаги перестал лимитировать объем письменного творчества. Развитие естественно-научных знаний способствовало распространению наивно-материалистических и стихийно-диалектических взглядов. Установленная древнекитайскими астрономами периодичность движения светил сыграла важную роль в возникновении одного из основных общемировоззренческих понятий древнекитайской философии — Дао — Пути, которым следует мир вещей.
Ранние натурфилософские представления получили отражение в трактате VIII в. до н.э. «Хунфань» («Великий план»), излагающем учение о пяти «первоэлементах», к которым причислялись вода, огонь, дерево, металл и почва. Наивные стихийно-диалектические идеи несет в себе памятник середины I тысячелетия до н.э. «Ицзин» («Книга перемен»). Его основу составляют восемь триграмм (ба гуа), каждая представляет собой комбинацию из трех параллельных черт — сплошных и прерывистых. Триграммы в определенном сочетании образуют 64 гексаграммы. Сплошная черта означает космическую силу света ян, прерывистая — силу тьмы инь. Первая триграмма, состоящая из сплошных черт, представляет «небо», вторая, включающая лишь прерывистые черты,— «землю», они выступают воплощением активного и пассивного начал, во взаимодействии и взаимопреодолении которых рождается все сущее. Исходя из основной идеи «Книги перемен» об изменчивости, неизвестные авторы трактата середины I тысячелетия до н.э. «Сицы чжуань» развивали мысль о движении как неотъемлемом свойстве объективного мира, истолковывали ицзиновское понятие тайцзи («великий предел») как первоматерию — некую изначально двойственную сущность, порождающую субстанциальные силы инь и ян.
Натурфилософские идеи о пяти «первоэлементах», тайцзи, силах инь, ян и Дао идут от космогонических мифов. В одном из них природные духи Инь и Ян рождались из первозданного хаоса, дух Ян стал управлять небом, дух Инь — землей, они создали людей и привели мир в состояние гармонии.
Известен миф о первочеловеке Паньгу, вылупившемся из первоначального космического яйца, которое он расколол молотком надвое, в результате все легкое и чистое поднялось и образовало небо, все тяжелое и грязное опустилось и образовало землю. Из тела умершего Паньгу возник мир. В другом мифе творцом людей и окружающего мира предстает змеехвостая богиня Нюйва.
Одно из самых ранних мировоззренческих представлений в древнекитайской натурфилософии — понятие ци. Ее сгущение образует женские частицы инъ-ци, разряжение — мужские частицы ян-ци, взаимодействие этих противоположных начал порождает пять «элементов», а они — все сущее.
В середине I тысячелетия до н.э. общественных противоречий выразилось в напряженнейшей борьбе идеологических школ. В эту переломную эпоху вопросы управления, отношений между государством и различными сословиями, проблемы нравственной природы человека становятся доминирующими во многих философских учениях, оттесняя на второй план онтологию и гносеологию. Важнейшие из них — древнее конфуцианство, ранний даосизм, моизм и легизм оказали огромное влияние на последующее развитие китайской духовной культуры.
Конфуцианство возникло на рубеже VI-V вв. до н.э. Его основоположник — странствующий проповедник, Учитель Кун, в латинской транскрипции Конфуций (551-479). Официальная традиция связывала с именем Конфуция исключительный пиетет в Китае к книжной учености. По преданию, Конфуций впервые в истории Китая открыл частную школу. Его учение, излагаемое в трактате «Луньюй» («Беседы и суждения»), называли жуцзя («учением образованных людей). В нем впервые в принципе поднимался вопрос о личном нравственном самосовершенствовании.
Одним из центральных в раннем конфуцианстве было понятие ли («ритуал», «обряд»), означавшее основу должного общественно-государственного устройства и надлежащего поведения человека. С ли неразрывно связана основополагающая конфуцианская категория жэнъ («гуманность», «человеколюбие»), составляющая неотъемлемое, по сути природное, качество, цзюнъцзы («благородного мужа», «совершенного человека»). В школе Конфуция преобладала практическая философия, нацеленная на достижение земных целей. Основным вопросом Конфуций считал проблемы человека и человеческого общества. Впоследствии конфуцианцы создали свою каноническую литературу, в которую включили «Книгу перемен» («Ицзин»), «Книту песен» («Шицзин»), «Книгу преданий» («Шуцзин») и лускую летопись «Чуньцю».
Конфуцианство отличалось архаичностью и огромной ролью в нем культа предков. Неукоснительное следование традиции получило отражение в важнейшем постулате Конфуция: «я передаю, а не создаю». Чрезвычайно сильными оставались в конфуцианстве пережитки мифологического и социоантропоморфно-го сознания. Представления о прямой зависимости природных явлений от добродетельного поведения правителя и духовно-нравственного состояния общества пронизывают всю его мировоззренческую систему. Конфуцианство восприняло традиционные раннечжоуские теистические представления о Небе (Тянь) как верховном божестве и правителе как Сыне Неба (Тяньцзы). Небом предопреде
лено деление людей на «управляющих»— «благородных мужей», способных к нравственному самоусовершенствованию (к ним Конфуций относил лишь аристократов по рождению), и «управляемых» — «мелкий, ничтожный люд» (сяо-минь). Конфуцианство требовало строжайшего социально-иерархического подчинения: низший беспрекословно повинуется высшему, младший — старшему. Кредо Конфуция— «Правитель должен быть правителем, подданный— подданным, отец — отцом, сын — сыном».
В раннем конфуцианстве образовалось восемь школ, среди которых выделились две основные — под руководством Мэнцзы и Сюньцзы.
Мэнцзы (372-289 гг. до н.э.) разрабатывал религиозно-философские проблемы конфуцианства, теоретически обосновывая постулат о Воле Неба (тянъмин), осуществляемой через «гуманное правление» (жэнъчжи) высоконравственного государя, состоящее в неукоснительном следовании заветам предков— идеальных правителей «золотого века» во главе с мифическими Яо и Шунем. Отправление религиозных ритуалов Мэнцзы ввел в систему государственного управления. В культе предков он видел основу власти наследственной аристократии.
Вместе с тем в доктрине «гуманного правления» важное место отводилось народу, за которым признавалось право на свержение правителя, нарушившего Волю Неба. Мэнцзы выдвинул положение об изначальной доброте человеческой природы, которой четыре конфуцианские добродетели («гуманность», «справедливость», «благопристойность», «разумность») изначально присущи.
Аристократическая мораль раннего конфуцианства ярко проявилась в учении Сюньцзы (313-238 гг. до н.э.) об этизированном ритуале, утверждавшем коренное отличие знатных от незнатных. Вопреки Мэнцзы Сюньцзы утверждал, что природа человека изначально зла и «требует исправления и обуздания». В отличие от Конфуция — противника писаного права, Сюньцзы признавал необходимость законов, но отстаивал положение «закон — для народа, ритуал — для аристократии», делая последнюю неподсудной перед законом.
Конфуцианство с его почитанием древних традиций и заветов предков должно было иметь достаточно широкую социальную базу в позднечжоуском обществе, где религиозно-мифологические представления были далеко не изжиты.
В крайней оппозиции к конфуцианству находился даосизм. Его возникновение традиция связывает с именем полулегендарного мудреца Лаоцзы, якобы автора натурфилософского трактата «Даодэцзин» («Книга о дао и дэ»), который записан, очевидно, в IV-III вв. до н.э. Основная категория этого учения — дао трактуется как Путь природы. Даосы выдвинули теорию «недеяния» (увэй), которая призывала к следованию «естественности вещей» (цзыжань). «Дао совершенномудрого — деяние без насилия» — постоянный рефрен «Даодэцзина».
Социальным идеалом древнего даосизма был возврат к внутриобщинному равенству как «естественному» состоянию. Даосы решительно выступали против богатства и роскоши знати, непомерных поборов властей, бичевали жестокость правителей, резко осуждали войны.
Древние даосы признавали объективность мира, отрицали Волю Неба, учили, что небо, так же как и земля, — часть природы. Мир, в их представлении, нахо-
29. Статуэтка аристократа в ритуальной одежде. Нефрит. Из погребения царства Цзинь. Тяньма. Шаньси. Период Западного Чжоу. Первая половина / тыс. до н.э.
30. Фрагмент водосточной трубы в виде головы тигра. Керамика. Яньсяду. Хэбэй. Период Чжаньго. У-Ш вв. до н.э.
31. Встреча Конфуция и Лаоцзы. Каменный рельеф заупокойного храма Улянцы (прорисовка). Шаньдун. Эпоха Хань. И в. н.э.
дится в состоянии постоянного изменения, все переходит в свою противоположность: «Неполное становится полным, кривое — прямым, пустое — наполненным, ветхое — новым». Важнейшее концептуальное понятие дэ даосизм истолковывал как гносеологическую категорию атрибутов всех вещей — в противовес конфуцианской его трактовке как морально-этической категории. По даосскому учению, дао, будучи непознаваемым до конца, материализуется в дэ, обнаруживая себя в мире явлений.
Философские идеи даосизма получили яркое отражение у философов Лецзы (V-IV вв. до н.э.) и Чжуанцзы (369-286 гг. до н.э.).
Точных данных о Лецзы не сохранилось. Трактат, названный его именем, — «Лецзы» дошел в записи начала средневековья, однако в нем в целом достоверно изложены взгляды философа. Лецзы определял дао как «вечное самодвижение материи». Мыслитель утверждал: «Вещи сами рождаются, сами развиваются, сами формируются, сами истощаются, сами исчезают». В качестве материальной субстанции в его учении выступают два первовещества: ци (пневма) и цзин (семена). «Вся тьма вещей выходит из семян и в них возвращается», — заявляет философ.
Лецзы представлял небо «скоплением воздуха», а землю «скоплением твердого вещества», развивал концепцию о вечности и бесконечности вселенной, о множественности миров, одним из которых является земной мир.
Философ отвергал идею о Воле Неба, о предопределенном свыше предназначении человека. Постулируя материальность души, утверждал, что она состоит из тех же частиц, что и тело, заявлял, что повседневный опыт людей, свидетельства их органов чувств не подтверждают существования потустороннего мира.
Лецзы принадлежит наивно-материалистическое учение о происхождении вселенной и эволюции жизни на земле от простейших организмов до человека, которая проходит четыре стадии. На первых двух «вещи еще не отделились друг от друга», пребывая в состоянии хаоса. Тончайшие частицы (ци) поднялись вверх и образовали небо, опустились вниз и образовали землю. В процессе длительной эволюции возникли мельчайшие семена, «подобные икре лягушки». В ходе дальнейших превращений появились животные, из самого совершенного животного — лошади произошел человек, который после смерти возвращается к исходным семенам.
Крупнейшим представителем древнего даосизма являлся блистательный художник слова Чжуанцзы. Философия Чжуанцзы содержит глубокие натурфило-
софские идеи, гениальные догадки о мироздании. Основой учения мыслителя является концепция дао, которая выступает как субстанциальная основа мира, абсолютное единое начало, от которого происходят все вещи в вечном круговороте мироздания. Всеобщность изменений и переход явлений в свою противоположность делают все качества относительными. Мировую стихию мыслитель образно уподобил огромному плавильному котлу, в котором непрестанно переплавляется вся «тьма вещей», приобщаясь к вечному дао.
Чжуанцзы провозглашал природное равенство людей, отстаивал право человека на индивидуальную мораль, отрицал деление людей на «благородных» и «ничтожных», страстно обличал стяжательство и лицемерие правителей и знати. Философ призывал к упразднению государства как арены действия «больших разбойников» и к возвращению человечества к безыскусному, естественному существованию. Он заявлял, что этические принципы конфуцианства — «гуманность», «справедливость», «долг» — чужды истинной природе человека и так же не нужны ему, как «шестой палец на руке».
Исполнены убийственного сарказма притчи Чжуанцзы, разоблачающие культ предков и его ревнителей конфуцианцев.
Он решительно выступал против похоронной обрядности. Уговаривая учеников не хоронить его по ритуалу, мыслитель заявлял: «К чему мне все это?! Считаю землю гробом, небо — саркофагом, луну и солнце дисками нефрита, планеты же и звезды — мелким жемчугом, а тьму существ считаю провожатыми своими». Опасения учеников — его-де вороны и коршуньё склюют — Чжуанцзы парирует с язвительнейшей насмешкой: «На земле стану воронам пищей, под землей муравьев накормлю. Одних лишите, а другим дадите. За что ж такое предпочтение муравьям?!»
Проблема жизни и смерти особенно занимала философа. Не будучи чужд материалистическому к ней подходу, Чжуанцзы вместе с тем решал ее в духе аксиологического релятивизма, развивая идею относительности и нерасчлененно-сти понятий жизни и смерти.
Размышляя об относительности знаний человека, Чжуанцзы говорил: «Учти, что известное человеку не сравнить с тем, что ему не известно, что краткий срок его жизни не сравнить со временем его небытия».
Общая идейная и социальная направленность даосизма отвечала настроениям общинных масс, и в этом кроется причина его популярности. В нем находил выражение протест против эксплуатации общественных низов. Вместе с тем натурфилософские идеи и широта этических принципов привлекали к даосизму представителей верхов, в их интерпретации доктрина недеяния нередко приобретала ярко выраженный индивидуалистический характер.
В идеологическую борьбу периода Чжаньго активно включилась школа мои-стов. Ее основатель Мо Ди (ок. 468 — 376 г. до н.э.) признавал Волю Неба. Однако в отличие от конфуцианцев утверждал, что Воля Неба познаваема, судьба человека не предопределена и зависит от него самого.
Мо Ди выдвинул утопическую программу переустройства общества на основе «всеобщей любви и взаимной пользы». Он проповедовал одинаково гуманное
отношение ко всем людям, независимо от положения в семье и социального статуса. Мыслитель предлагал отменить наследование должностей и рангов знатности, требовал лишить власти «ничтожную родню» правителей и придворную знать, «подобную глухим, которых поставили музыкантами», формировать аппарат управления сверху донизу из мудрых людей независимо от происхождения и характера занятий.
Конфуцианцы считали моистов злейшими врагами, боролись с ними даже более ожесточенно, чем с даосскими «учителями».
Общественно-политические идеи моизма близки интересам городской самоуправляющейся общины. Школа моистов была более многочисленной и однородной по составу, чем другие. Монеты исполнены были сочувствия к народным низам. Однако богатство выступает в их учении как добродетель, а нищета осуждается. «Богатство проистекает от трудолюбия, а бедность — от нерадивости», — утверждал Мо Ди, перекликаясь в этом с легистом Шан Яном.
Мо Ди принадлежит гениальная догадка о социальной роли труда. Основное отличие людей от животных философ видел в способности человека к целенаправленной деятельности. Защищая положение об огромном значении созидательного начала в человеческой деятельности, Мо Ди выступал как против учения Конфуция с его презрением к физическому труду, так и против даосской теории «недеяния». Моисты придавали большое значение естественно-научным наблюдениям. «Знания, которые нельзя применить на практике, ложны», учили они. Источником познания они считали лишь ощущения. Поздние моисты отбросили теистические положения Мо Ди и развивали материалистические идеи в логике и теории познания, считая трудовой коллективный опыт людей источником и критерием достоверности знания.
Политико-философское течение фацзя (легистов— «сторонников закона») зародилось почти одновременно с даосизмом, с которым оно имело некоторые общие мировоззренческие установки, но решительно расходилось в вопросах общественной практики. В отличие от даосов с их отказом от политической деятельности легисты отличались своей причастностью к сфере государственного управления, оказываясь на этом поприще непримиримыми противниками конфуцианцев. Крупнейшими представителями легизма были Шан Ян и Хань Фэй-цзы. Философские концепции легизма стали обоснованием реформ, осуществленных в ряде царств. Легисты выдвинули теорию государственного управления на основе единого писаного юридического закона фа. Выступали против привилегий старой потомственной знати, стояли за политическую централизацию, добивались введения суда царских чиновников. Легисты толковали дао как естественный путь природного развития, считали реальную действительность единственным достоверным критерием истины. Теоретику легизма Хань Фэйцзы (288-233 гг. до н.э.) принадлежит материалистическая теория последовательной исторической смены форм социальной жизни. Исходя из объективных условий материального и социального бытия людей, Хань Фэйцзы постулировал неизбежность возникновения государства и права, равно как и необходимость изменения
методов правления. Концепция политического строя, выдвинутая Хань Фэйцзы, предвосхитила идею будущей имперской государственности.
В русле материалистического направления сложилось атеистическое мировоззрение философа Ян Чжу (440-334 гг. до н.э.). Сам он не принадлежал ни к одной из школ, а его произведения до нас не дошли. Основным источником сведений о его учении является трактат «Лецзы», где сохранилась часть, посвященная Ян Чжу.
В центре философии Ян Чжу стоит учение о человеке. Рассматривая человека как элемент природы, Ян Чжу принципиально не отделяет его от остальных существ. Человек состоит из тех же «пяти элементов», что и вся природа, отличаясь от других живых организмов лишь разумом.
Небу как управляющему людьми высшему началу философ противопоставляет универсальный принцип естественной необходимости, проявляющийся, в частности, в законе жизни и смерти. Решение проблемы жизни и смерти ставит Ян Чжу в один ряд с величайшими материалистами древнего мира. Философ рассматривал смерть как закономерное природное явление. «По закону природы не существует бессмертия, по закону природы нет вечной жизни», — утверждал он. Признать неизбежность смерти — это и значит следовать естественному закону дао. Смерть — полное уничтожение живого существа, уравнивающее всех. В жизни есть умные и глупые, знатные и низкие, после смерти — лишь сгнившие кости. И Конфуций «ныне ничем не отличается от пня или кома земли».
С беспрецедентной резкостью отрицая возможность загробной жизни, Ян Чжу призывал радоваться жизни земной, не уповать на богов и духов, следовать своим желаниям. «Нужно наслаждаться при жизни, а не тревожиться о том, что будет после смерти», — учил он.
Философ развивал мысль, что физическое и духовное состояние человека зависит от функционирования в его организме тончайших материальных частиц ци. Лишь познание и соблюдение естественных законов жизни может обеспечить здоровье и хорошее настроение. Однако жизнь человека зависит не только от него самого, но и от правителя, обязанного заботиться о сохранении «целостности природы человека». «Ныне же, — обличал Ян Чжу, — правители делают все во вред человеку и его природе. Это похоже на то, как войска, первоначально созданные для защиты от разбойников, в наше время используются для нападения друг на друга».
Ян Чжу восстал против традиционных нравственных норм, создав учение о личности, подчиненной лишь собственной природе. Вместе с тем философ считал, что безудержное удовлетворение желаний вредит природе человека. Непременным условием «сохранения жизни во всей полноте» Ян Чжу считал личную свободу индивида, для которого «подчиняться чужой воле— худшее из зол».
В эпоху Чжаньго— впервые в поэзии— появляются произведения индивидуального литературного творчества. Источниками древнекитайской словесности были устная народная традиция и мифы с их сокровищницей сюжетов
и образов. Первым поэтом Китая считается Цюй Юань (ок. 340 — 278) — лирик и трагик. Знаменита его ода «Скорбь отлученного», где поэт глубоко переживает несправедливость царской опалы и изгнания из родной страны за то, что он «летал не в стае».
Эпоха Чжаньго знаменовала собой перелом как в идеологии, так и в социальной психологии. В культурной истории древнего Китая это было по сути первое «осевое время» с присущими ему коренными переменами в мировоззрении общества. Знаменательным для этого времени было, в частности, создание Конфуцием первого в истории Китая философского учения сугубо этического характера.
Успех или неуспех соперничавших между собой древнекитайских философских школ, их жизнеспособность могут объясняться не только и не столько эффективностью их противостояния традиционной идеологии, сколько возможностью сосуществования и взаимодействия с ней, учитывая живучесть в коллективном сознании мифологических представлений и их пережитков.
Показательна в этом отношении судьба конфуцианства и легизма (фацзя). Впечатляющий взлет легизма в государстве Цинь, а затем крах его карьеры вместе с крушением циньской империи объясняются идейными и эмоциональными факторами, пожалуй, не в меньшей мере, чем общественно-политическими. Катастрофическим для легизма, идеология которого в основном носила верхушечный характер, оказалось неприятие его на массовом уровне, где господствовала общинная идеология, — здесь сыграл свою роль принципиальный разрыв легизма с традицией.
В противоположность этому конфуцианство с самого начала не противостояло традиции и всячески подчеркивало свою неразрывную связь с обычаями старины. «Я люблю древность и опираюсь на нее»,— провозглашал Конфуций. Восприняв культ предков и другие архаические верования, конфуцианство получало выход к коллективному сознанию в несравненно большей мере, чем любое другое современное ему учение. Заимствуя некоторые положения даосского учения, используя положительный и отрицательный опыт легизма, конфуцианство сумело приспособиться и к запросам правящих кругов, и к потребностям низов, всегда принимая в расчет общественную психологию. Гарантируя определенную социальную стабильность— хотя и жестко регламентированную в сословноклассовом отношении, конфуцианство своими заповедями воздействовало на общественное сознание, создавая условия для восприятия на массовом уровне своего вероучения. Дальнейшая трансформация конфуцианства, усиление в нем черт религии при сохранении и усилении ее этизации сделали учение Конфуция пригодным к роли государственной религиозной идеологии, но это произошло уже столетием позже— в пришедшей на смену Циньской династии империи Хань.
Искусство древнейшего и древнего Китая
Традиционное искусство Китая, как и сама китайская цивилизация, уходит своими корнями в глубокую древность. Период древности исключительно важен для формирования художественной культуры, так как в это время возникает, развивается и доводится до канонического совершенства ее формально-символический язык. Не будет преувеличением сказать, что весь потенциал традиционного китайского искусства, которое прошло в своем развитии несколько длительных этапов, заложила именно эпоха древности. Она определила основные пути развития, сформировала ведущие концептуальные модели, а главное, выработала формально-символический язык китайского искусства.
Особенно важен в этом историко-культурном процессе, сложном и пока еще мало изученном, период архаики, когда сугубо эстетические проблемы искусства еще не ставились и художественная культура была неотъемлемой частью материально-бытовой культуры древних племен, селившихся на огромных пространствах Среднекитайской равнины и за ее пределами. В этот период искусство еще не выделилось в самостоятельный вид художественной деятельности, но оно уже стало способом познания мира и его описания, функционируя и развиваясь под воздействием древнего ритуала. Описывая процесс формирования древнего искусства, которое в художественной форме, безусловно, только отчасти отражает сложный путь познания человеком окружающего мира, мы, конечно, предлагаем читателю лишь возможную модель этого многогранного процесса. Такая неизбежная гипотетичность любого исследования по древнекитайскому искусству продиктована целой серией значительных (а иногда просто сенсационных) археологических открытий 70-90-х годов XX века, сделанных на территории КНР. Материал, обнаруженный за столь небольшой срок, дает возможность не просто расширить наши скудные знания о древнейшем Китае, но, в некоторых случаях, полностью пересмотреть многие научные концепции, ставшие в синологии традиционными.
Благодаря этим находкам стало очевидно, что процесс формирования древнекитайской культуры, ее основных мировоззренческих и художественных параметров, начинается еще в эпоху дописьменного неолита. Территориально он охватывает огромные пространства: от Цинхая и Ганьсу на западе до Чжэцзяна и Шанхая на востоке, от Ляонина на севере до Гуандуна на юге, а хронологически этот период может быть обозначен VII-III тыс. до н.э. Кроме того, подтверждается гипотеза о множественности локальных очагов цивилизации на территории древнейшего Китая, которые, контактируя друг с другом, заложили основы древнекитайской культуры. Многие ученые теперь склоняются к мнению, что основные культурные коды китайской цивилизации в эпоху неолита уже практически сформировались. Исходя из новых данных, можно выделить по меньшей мере три очага формирования древнекитайской художественной традиции: это неолитические культуры Яншао (Центральный Китай), Хуншань (Северо-Восточный Китай) и Лянчжу (Юго-Восточный Китай).
Следуя традиционной точке зрения, синологи утверждали, что первоисточником формирования древнекитайской цивилизации являлась неолитическая культура Яншао. Ее очаги обнаружены по всему Центральному Китаю, и сейчас название Яншао определяет целую серию культур китайского неолита. У носителей этих культур уже сформировался сложный изобразительно-символический язык, который содержал всю необходимую информацию о мире и передавал ее из поколения в поколение. Основные представления о времени и пространстве яншаосцы воплощали в строительной деятельности. Место, форма и способ поселения соответствовали их представлениям о космосе, который в эпоху неолита мог ограничиваться пространством поселка. Строительные приемы, которые яншаосцы использовали, были достаточно сложными для того времени и, что особенно важно, впоследствии развивались в архитектуре древнего Китая. Технология строительства от эпохи к эпохе, безусловно, совершенствовалась, но планировка наземных построек, пространственное решение и использование определенных строительных материалов, на наш взгляд, остались в древнекитайской архитектуре глубоко архаичными. Яншаосцы жили в землянках или в хижинах, возводили невысокие глинобитные стены, использовали простейшие столбообразные опоры для перекрытий. Землянки отличались некоторым разнообразием форм и планировки, могли состоять из нескольких помещений, разных по назначению. Внутри каждой жилой постройки обязательно сооружалась яма для очага, она могла находиться с северной/южной стороны или в центре дома, ориентируя тем самым жилое пространство и утверждая его сакральность. Вероятно, эти племена возводили и культовые постройки, но такие находки пока редки. Немного больше известно о ритуале погребения яншаосцев. Последние исследования показали, что в основных своих чертах он уже сложился и был гораздо более развитым и художественно оформленным, чем представлялось раньше. Так, в 1980-х годах в провинции Хэнань было открыто погребение, датируемое IV тыс. до н.э. Погребальная яма, которая очень напоминает небольшую гробницу, была ориентирована на юг и имела необычную сложную форму. Южная часть могилы в плане напоминала трилистник. Вероятно, в формах и планировке погребения был использован образ мирового древа, который можно считать традиционным для архаических обществ. Этот образ и синонимичные ему (мировая гора, мировая ось) неоднократно встречаются в орнаменте керамики Яншао, но данное открытие подтверждает универсальный характер художественно-символического языка, выработанного яншаосцами, который функционировал прежде всего в сфере ритуала. В центральной «апсиде» головой строго на юг помещалось тело покойного, в двух боковых «апсидах» и у северной стены располагались останки людей, вероятно сопогребенных умершему. Рядом с покойным, справа и слева от него, находились очень четкие изображения дракона (восточная сторона) и тигра (западная сторона), выложенные из раковин и камней. Животные, в отличие от людей, были ориентированы строго на север. У ног покойного так же рельефно был выложен предмет, по форме напоминающий земледельческое орудие. Таким образом, перед нами сложная антитетическая композиция, в центре которой умерший, а окружающие его погребенные и образы
священных животных — это, вероятно, предстоящие. Все формальные элементы погребения — его расположение, ориентация, форма, образы людей и священных животных — отражают сложную систему древнего культа предков и, возможно, представляют два «противолежащих» мира— мир людей и мир духов (предков). Символика пространства данного погребения много сложнее, но даже эти краткие характеристики позволяют утверждать, что погребальный ритуал, который в древнем Китае станет одним из основных обрядов космического плана, в период неолита уже полностью оформился. Он, без сомнения, имел свою формально-символическую специфику, которая, как нам кажется, впоследствии была принята шанцами, а позже и чжоусцами, и затем уже развивалась ими в соответствии с социально-религиозными доктринами своего времени. Оставаясь по своей Глубинной сути неизменным еще с неолита, погребальный ритуал формально изменялся в период развития древнекитайской государственности. Это, в свою очередь, значительно подтолкнуло процесс развития искусства, художественные формы и образы которого с развитием культуры становились все более разнообразными, сложными и приобретали новые значения.
Наиболее полно и наглядно художественно-символический язык культуры Яншао реализовался в самобытном искусстве расписной керамики, которая демонстрирует высочайшее качество изготовления, обжига и росписи. Керамика разнообразна по форме: это высокие кубки с устойчивым дном, пузатые кувшины и крынки, крупные блюда и миски. Важная особенность глиняных сосудов — идеальные пропорции, четкий силуэт и правильные, в основном округлые, формы, которые соотносились с представлениями о единстве мироздания. Правильность пропорций и форм усиливает замысловатый орнамент. Располагаясь по поверхности предмета в определенном порядке и выделяя вертикальные зоны сосуда (низ, верх, середину), он вносит в керамику необходимую структурность и законченность, которые уже тогда определялись космогоническими представлениями. Орнаменты Яншао можно разделить на абстрактные и фигуративные (напоминающие изображения людей или животных). Безусловно, все они имеют магический смысл и отражают представления древних людей об окружающем их мире. Так, на гладких поверхностях сосудов угадываются изображения солнца, луны, звезд, трав, цветов, деревьев, птиц. Более глубокое изучение орнамента, прежде всего с точки зрения типологии, композиции и повторяемости определенных элементов, позволило установить, что большинство орнаментальных композиций иллюстрируют не просто предметы и явления внешнего мира, а древние мифы. Причем изложение этих мифов формально-символическим языком орнамента может быть очень подробным. В качестве примера приведем комплексы изображений, связанные с мифом об отделении земли от неба, циклы лунарных мифов, которые получат в древнекитайском искусстве приоритетное развитие. Особый интерес представляют антропоморфные и зооморфные изображения. Они не складываются в орнамент, а обычно наносятся на поверхность сосудов единично или попарно, изображая тотемы племенных групп или систему родства. В антропоморфной пластике Яншао основным становится об
раз беременной женщины. Символика этих изображений, связанная с древнейшими культами плодородия, направлена на стимуляцию процессов возрождения природы и человека, поэтому такие статуэтки находят на территориях поселений. Образ рожавшей женщины с ярко выраженными половыми признаками, женщины-матери, продолжательницы рода, распространен у первобытных народов всего мира. Но в древнекитайской мифологии и искусстве женским божествам отводится особая роль— демиургов, прародительниц и хранительниц бессмертия.
Еще один очаг древней цивилизации, который открыл ученым совершенно уникальные и самобытные образцы древней культуры, обнаружен на северо-востоке Китая, в провинции Ляонин. Эта культура, получившая название стоянки Хуншань, была датирована IV—III тыс. до н.э. Ее материально-художественный комплекс совершенно отличается от искусства традиционного китайского неолита, но ее огромная роль в формировании древнекитайской художественной традиции теперь представляется бесспорной. Исследование этого региона только начинается, но уже сейчас можно выделить некоторые основные направления и художественные тенденции культуры Хуншань, которые в эпоху формирования древнекитайской государственности получили особое развитие в искусстве сопредельных областей. Во-первых, это строительная практика; ее, на наш взгляд, можно определить как самобытную архитектурную традицию. В ходе раскопок обнаружены остатки сооружений из необожженного кирпича, которые археологи считают храмами. Все они удалены от поселений, расположены на меловой возвышенности, и неподалеку от них находятся многочисленные погребения — возможно, родовые кладбища. Вероятно, перед нами самый древний из известных на сегодняшний день культовый комплекс, который мог быть крупным религиозным центром этого региона. Находки на месте сохранившегося фундамента показывают, что здесь находилось святилище, связанное с культом плодородия и посвященное, как считают археологи, женским божествам. Сооружение было построено на высоком фундаменте, имело сложную многочастную структуру и глиняные столбообразные опоры для кровли. Вторая важная особенность искусства культуры Хуншань — это монументальная антропоморфная скульптура, которая в китайском неолите аналогов пока не имеет. На территории культового центра были найдены многочисленные фрагменты женских скульптурных изображений. Они, судя по размерам, могли достигать одного метра в высоту. В культуре Хуншань глиняной пластике отводилась какая-то особая роль. В древних обрядах она могла выполнять функцию магического двойника и заместителя божества. Это предположение подтверждает уникальная находка крупной, хорошо сохранившейся головы женского божества, которому, как полагают исследователи, и было посвящено это древнейшее святилище. Керамическую голову богини отличают большие, чуть раскосые глаза, инкрустированные нефритом, крупный нос, пухлые губы, великолепно проработанная пластика и правильный овал лица. Монументальность скульптуры, натурная точность изображения, крупные голубовато-зеленые нефриты, формирующие остановленный магический взгляд, позволяют видеть в ней особое, возможно верховное, боже
ство. Если это предположение верно, то перед нами один из самых древних антропоморфных образов божества не только в китайском, но и в мировом искусстве. По всем формальным признакам это глиняная скульптура очень высокого качества, стиль ее исполнения тяготеет к натурализму. Данное открытие определенно указывает на истоки реалистических образов древнекитайского искусства и полностью опровергает ошибочное мнение о том, что в древнем Китае традиция культовой монументальной скульптуры отсутствовала.
Вероятно, ничуть не меньшее значение для древнейшего Китая имела еще одна культура, чьи художественные традиции были восприняты племенами Шан, а позднее и Чжоу. Она открыта в северо-восточной провинции Чжэцзян и получила название Лянчжу. Эта культура позднего неолита ориентировочно датируется IV-III тыс. до н.э. Погребальный обряд и искусство, которые уже отражали процесс социальной дифференциации общества, отличались здесь специфическими чертами. В погребениях мужчин знатного рода был засвидетельствован очень редкий для древнего Китая обряд кремации покойного. Но прежде чем сжечь усопшего, могилу наполняли многочисленными погребальными дарами, большую часть которых составляли изделия из нефрита. В ритуалах и погребениях других неолитических культур нефрит тоже использовался, но количественный состав и высокое качество его обработки в Лянчжу нельзя сравнить ни с одной художественной традицией. Судя по находкам, у носителей этой культуры нефрит был основным материалом погребального инвентаря, он пользовался исключительным почитанием и был связан с представлениями о потустороннем мире, возможно, символизируя связь человека и божества. Наборы ритуальных нефритов состоят из различных предметов, назначение и символика которых еще до конца не исследованы. Здесь встречаются очень крупные диски би, ритуальные пластины и амулеты с замысловатым декором, а также предметы цун различных размеров и орнаментации. В более позднее время нефрит тоже использовался. Изделия из этого полудрагоценного камня входили в традиционный набор ритуальных предметов, без них не обходился ни один обряд. В погребальном комплексе нефрит связывался с представлениями о жизненной силе человека и, как следствие этого, мыслился предметом, предохраняющим плоть от тления. Потому он и помещался на тело усопшего в виде амулетов, дисков би и даже целых нефритовых одеяний, в которые обряжали покойного. Такое исключительное почитание нефрита, прослеживаемое и в дальнейшем, в культурах Шан, Чжоу и Хань, не может быть случайным. Прежде всего, это открытие демонстрирует местное, «китайское», происхождение традиции ритуальных нефритов. Кроме того, оно может указывать направление культурных контактов и заимствований или на генетическое родство этих культур. Однако очевидное сходство на этом не заканчивается. В погребениях Лянчжу обнаружены нефритовые предметы i/уи, напоминающие цилиндры и сочетающие в себе формы квадрата и круга, связанные с представлениями о небе и земле. Они украшены магическими изображениями необычного божества или шамана в головном уборе из перьев, который держит в руках маску животного с крупными круглыми глазами. Этот сложный мотив, украшающий преимущественно нефриты, пред
ставляет исключительный интерес и может быть признан для данной художественной традиции основным. Расположение на плоскости, композиционное построение и использование определенных элементов изображения, таких, как глаза, пасть, головной убор, роднят его с традиционным орнаментом шанской художественной культуры — маской таоте, символическое назначение и генезис которой до сих пор не выяснены.
Таким образом, мы выделили только несколько основных тенденций развития художественной культуры того периода, который в литературе часто именуется доисторическим. Опираясь даже на предварительные результаты исследований, можно утверждать, что древнекитайское искусство исторического времени (II—I тыс. до н.э.) развивалось на базе устойчивых художественных традиций неолитических культур, многие из которых, безусловно, уже достигли уровня цивилизации.
Следующий этап становления искусства связан с процессом формирования и развития древнекитайской государственности во второй половине II — первой половине 1 тыс. до н.э. Оставаясь по-прежнему художественной системой, тесно связанной с ритуалом и отражающей представления о космосе, искусство приобретает ряд новых черт. Расширяется сфера его действия: будучи тесно связано с ремеслом, оно проникает во все слои общества, маркируя его социальную дифференциацию. Вырабатывается простейшая типология искусства: происходит его разделение на виды (архитектура — прикладное искусство) и группы (архитектура наземная — погребальная). В сфере прикладного искусства, которое в эту эпоху носит преимущественно ритуальный характер, выделяются художественные явления, которые для древнего Китая станут традиционными, например искусство ритуальных бронзовых сосудов. Усложняется формально-символический язык искусства: теперь он не только содержит информацию о мире, но и фиксирует связь всех сфер мироздания, прежде всего человека и божества. На этой программной основе вырабатывается художественный канон, функционирующий во всех видах искусства. Как следствие этих изменений, в древнекитайском искусстве появляется стиль. Это понятие сложное и для древних обществ, безусловно, спорное, но словом «стиль» мы характеризуем набор определенных элементов художественной формы, которые, в отличие от канона, способны к трансформации, так как очень быстро реагируют на изменения в традиционной системе ценностей и культурные контакты.
Первый этап этого большого периода связан с цивилизацией Шан. Архитектура шанской эпохи при всей своей внешней простоте выполняет очень важную роль: она моделирует пространство шанского города, план и структура которого будут восприняты в древнем Китае как канон. Архаический китайский город выполняет роль ведущего медиатора, связывающего земное с небесным и упорядочивающего представления о космосе и социуме. По своим функциям, типологии, конструкции и символике городская архитектура отражает особенности религиозной доктрины шанцев и тесно связанную с ней раннегосударственную структуру шанского общества. Типология шанской архитектуры, которую можно определить как наземные и подземные сооружения, тоже отражает представле
ние о мире людей и мире духов-предков. Самые интересные образцы наземной архитектуры открыты в Аньяне на месте «Великого города Шан». Здесь обнаружены мощные городские стены с несколькими проездными воротами. Стены не только отражали частые нападения врагов, но и сохраняли город во время сильных разливов реки Хуанхэ. Главным сооружением столицы был дворец правителя — шанского вана. Выстроенный в самом центре города, он вознесен на высокую глинобитную платформу и строго ориентирован по сторонам света, отмечая тем самым ось мира и место, наиболее близкое небесной сфере. К центральному входу, расположенному с южной стороны, вела широкая лестница. План дворца имел четкую форму вытянутого прямоугольника, обнесенного по периметру многочисленными колоннами. Шанские мастера использовали систему стоечнобалочных перекрытий. Высокие и стройные колонны изготавливались из стволов молодых деревьев. Стены не только поддерживали двускатную кровлю, но и создавали вокруг дворца обходную галерею, по которой можно было прогуливаться и обходить дворец. Чтобы предохранить дерево от гниения, в основание колонн помещали небольшие бронзовые диски. Использование в дворцовых сооружениях стандартного набора строительных материалов— глины, дерева, бронзовых деталей — наводит на мысль о возможной их связи с космологической системой пяти стихий (первоэлементов), объясняющей происхождение и строение мира, которая формируется как раз в это время. Все элементы этой аскетически строгой архитектурной композиции были четко продуманы, символически и функционально связаны между собой. И план, и внешние формы дворца соответствовали идее сакральной власти правителя, его центральному месту в мире и обществе. Возможно, этим объясняется отсутствие в архитектуре дворца декоративных элементов, которые выходили за рамки четкой, космологической схемы наземной архитектуры.
Хорошо сохранились погребальные сооружения этого времени, в основном могилы шанских ванов и их приближенных. Огромные размеры и совершенная техника подземного строительства указывают на древнюю традицию заупокойного обряда. Погребальный обряд в шанском обществе стал одним из основных ритуалов космического плана, так как в художественной форме отражал культ предков. Для покойного правителя сооружали целый погребальный некрополь, причем порой более масштабный и пышный, чем наземный дворец, так как в своем загробном существовании ван должен был предстать перед верховными духами предков и молиться о своем народе. Самые большие гробницы ванов открыты в районе Аньяна, площадь некоторых из них достигает 500 кв. м. Они состоят из нескольких подземных камер, расположенных друг над другом. Одна предназначена для захоронения тела покойного, другие — для хранения многочисленных погребальных даров и утвари. Форма шанских гробниц представляет собой многоступенчатую перевернутую пирамиду, уходящую вершиной в подземелье. Эта модель восходит к космогоническому образу центра вселенной, которая в архаических культурах воплощается в образах мирового древа, мировой горы, мировой оси или многоступенчатой лестницы в небо. Могилы строго ориентированы по сторонам света, и с каждой стороны вниз ведут длинные тор
жественные лестницы, по которым покойный восходит (вариант: спускается) в царство предков, преодолевая священный путь, который связывает мир людей и мир духов. Среди вскрытых огромных гробниц особой роскошью и богатством отличается усыпальница супруги шанского вана — воительницы Фу Хао, рядом с которой было захоронено большое бронзовое копье. Ритуальная утварь чрезвычайно разнообразна: это небольшая скульптура из камня, изображающая людей и животных; нефритовые диски бы, символизирующие небо; ритуальное и боевое оружие, отдельную группу которого составляют топоры и секиры; погребальные украшения и амулеты из нефрита, яшмы, хрусталя, золота; особым разнообразием и роскошью отличаются бронзовые сосуды.
Все древнекитайские обряды сопровождались приготовлением, освещением и потреблением ритуальной пищи. Этот священный акт сопровождался предварительной отливкой бронзовых сосудов, в которых пища готовилась и хранилась. Поэтому именно бронзовые сосуды стали в древнем Китае традиционным видом ритуального искусства. В эпоху Шан они были универсальным средством общения людей и духов в пространстве ритуала. Ритуалы в древнем Китае связывали в едином акте жертвоприношения богов и людей, они поддерживали порядок в мире и были священным регулятором жизни китайцев. Поэтому бронзовый сосуд как основной культовый объект не только хранил божественную силу и знание, но через форму и орнамент отражал священный образ мира. В обрядах погребения и в ритуалах жертвоприношения предкам они выполняли функцию сакрального медиатора, связывающего мир человека и мир божества. Символика формы и орнаментации сосуда моделировала космогоническую систему трех миров, воплощенную в архетипе мирового древа. Самые простые формы сосудов восходят к кругу и квадрату. С древнейших времен квадрат, обращенный на четыре стороны света, считался диаграммой земли и мира людей, круг же всегда почитался в Китае как символ божественного и всевидящего неба, сферы обитания богов и духов, великой мировой гармонии. Эти же главные космогонические символы образуют и традиционный орнамент ритуальных предметов шанской эпохи, связанный с земледельческой магией. Он называется лэйвэнъ (узор грома) и изображается как завернутый в спираль квадрат. Орнамент отражает древнейшие представления о том, что во время дождя, когда сверкает молния и гремит гром, небо соединяется с землею, оплодотворяя ее, и вместе они дают жизнь всему космосу.
Магическая сила оберега приписывалась зооморфному орнаменту в виде маски таоте, которая украшала не только бронзовые сосуды, но и другие предметы материального комплекса. У таоте обычно оскаленная пасть с большими клыками, крупные, как бы раздутые горячим дыханием ноздри, огромные выпученные глаза, большие уши и обязательно крутые рога, которые составляют порой половину изображения маски. В схематически изображенной морде фантастического чудовища сочетаются характерные признаки нескольких тотемных животных: барана, быка, тигра, дракона. Происхождение и символика этого мотива до конца не исследованы, но, возможно, эта оскаленная, пучеглазая, рогатая морда чудовища представляет собирательный образ духа предка, спо
собный отпугивать силы зла и защищать сородичей от опасностей. В архаических культурах маски звероподобных демонических существ были непременной частью ритуала. Надевание маски участниками ритуала или шаманом было равносильно перевоплощению в другое существо (божество, предка). Похожую роль могла выполнять и маска таоте, превращая предмет, на котором она помещалась, в культовый, переводя его таким образом из мирского пространства в сакральное.
Еще один аспект интерпретации этого мотива позволяет предполагать в маске чудовища образ универсума, семантически близкий античному образу Медузы Горгоны эпохи архаики. Изображенная на античной керамике или помещенная в пространство фронтона греческого храма, оскаленная голова чудовища Горгоны отражает не просто Хаос, но первородное нерасчлененное единство, которое потенциально содержит в себе всю тьму вещей и неминуемо должно завершиться формированием структурированного и упорядоченного космоса. Все элементы художественной формы маски таоте, которая возникла на несколько веков раньше античной, допускают подобное толкование. Принцип нерас-члененного единства формально реализуется в синкретическом соединении частей морды чудовища. Каждая из них демонстрирует характерный признак какого-либо, возможно тотемного, животного (например: пасть тигра, дракона; рога оленя, быка или барана; лапы дракона, птицы; глаза человека и т.д.). Соединенные вместе в образе чудовища, эти элементы символизируют единство мироздания, процесс систематической дифференциации которого только начинается.
По верованиям шанцев, духи предков имели свирепый нрав и отличались ненасытностью и кровожадностью, поэтому ритуалы в их честь носили эксцессив-ный, избыточный характер. Ритуальное пьянство, столь распространенное в Шан, избыточное принесение жертв и потребление продуктов были направлены на то, чтобы задобрить злых, кровожадных божеств и духов, обеспечив таким образом благоприятный земледельческий цикл. Поэтому образ ненасытного чудовища-обжоры становится в шанском искусстве центральным. Показательно, что в искусстве эпохи Чжоу, когда духовно-нравственные нормы культуры изменились, способствовав обновлению ритуала, маска таоте как орнаментальный мотив уже не использовалась, уступив место другим орнаментам и формам.
Поиск истоков образа чудовища с оскаленной пастью приводит нас к целой серии изображений на шанских ритуальных предметах, которые представляют антропофагию, то есть сцену пожирания диким зверем (вариант: чудовищем) человека. Показательно, что этот мотив встречается на ритуальных сосудах для жертвенного вина и на культовых секирах, с помощью которых совершались жертвоприношения животных и людей. Самым распространенным видом таких жертв было ритуальное обезглавливание, которое традиционно сопровождало похороны шанских ванов. Заметим, что все сцены пожирания зверем (духом, предком) человека строятся по определенной
композиционной схеме, которая характеризуется двумя основными чертами: 1) зверь, как правило, направляет свою раскрытую пасть на голову человека, намереваясь откусить и проглотить ее; 2) человек всегда изображается сидящим на корточках с согнутыми в локтях руками (за исключением тех случаев, когда изображается только одна голова или лицо).
Следуя логике неолитических изображений дошанской эпохи, именно голова считалась вместилищем души человека, а в ритуальной и художественной сферах, возможно, даже была ее персонификацией. На это указывают антропоморфные мотивы керамики, изображающие голову или лицо человека с отмеченными или просверленными на нем отверстиями. Не случайно, согласно более позднему, ханьскому погребальному обряду, большинство отверстий, из которых истекала жизненная сила (вариант: душа?) человека, находилось именно на голове, и для них предназначались специальные нефритовые затычки. Кроме того, в нефритовых одеждах эпохи Хань, в которые обряжали человека после смерти, на темени располагался нефритовый диск би с отверстием посередине, через который, вероятно, душа могла вылетать и возвращаться обратно в тело. Согласно космологическим моделям эпохи Чжоу, которые посредством типологических сопоставлений связывали в единое целое мир человека и природы, голова человека, как самая главная, верхняя, «духоносная» часть тела, соотносилась с небом. Поэтому бытование в шанском искусстве изображений головы человека или его лица может быть связано в том числе и с кругом этих представлений. Если наши предположения верны, то сцены, изображающие терзание и пожирание, демонстрируют момент отделения головы от туловища, или расставания души с телом, — другими словами, смерть, которая в данном контексте трактуется как переход в новое жизненное качество. В архаических культурах, основанных на шаманской культовой практике, мотив разрубания, рассекания, разламывания тела или предмета на части означает окончательную смерть, переход в инобытие, другое пространство и качество, смерть как возрожденное заупокойное существование. Поэтому эти изображения в шанском искусстве, на наш взгляд, имеют несколько уровней значений, которые позволяют наметить интерпретацию сцены пожирания следующим образом: 1) человеческая жертва духам предков, акт жертвоприношения, совершающийся в процессе ритуала; 2) смерть человека, ритуальная или физическая, которая трактуется как переход его души из одного мира в другой; 3) момент соединения, интимного общения души человека с предком, вплоть до полного с ним слияния и «растворения» в нем.
Еще одна знаковая особенность ритуальных сцен, к которой стоит присмотреться повнимательнее, — это поза человека в акте поедания. Обычно он изображается с поджатыми к животу ногами и руками, согнутыми в локтях и обращенными вверх. Мы предполагаем, что эта поза носит ритуальный характер и восходит к обрядово-мифологическим традициям доисторического Китая. Не имея возможности в рамках данной работы подробно рассмотреть этот материал, очертим основной круг памятников, которые,
как нам думается, имеют самое непосредственное отношение к шанским сценам.
В неолитическом искусстве, например, можно выделить группы памятников, где встречается похожий мотив. К первой относятся антропоморфные изображения и орнаменты расписной керамики Яншао, где в предельно обобщенной, схематичной форме представлен силуэт человека с согнутыми конечностями, как бы вертикально распластанного по поверхности сосуда. Мотивы могут изображаться как с головой, так и без нее. По мнению исследователей, эти образы связаны с древнейшим космогоническим мифом об отделении земли от неба Первочеловеком (вариант: гигантом, культурным героем, первопредком). Упираясь ногами в землю и подпирая руками свод, невероятными усилиями он разъял, разделил, отодвинул (сравни: растерзать, обезглавить) земную твердь от небес, положив тем самым начало новому существованию, преобразовав хаос (нерасчлененное единство) в космос. Другая группа памятников— это глиняные статуэтки, изображающие беременных женщин с поджатыми к животу, то есть согнутыми, конечностями. Они фиксируют момент исторжения женщиной плода, а значит, рождения новой жизни, появления нового человека, переход из небытия в бытие. Следующая группа— это изображения (на сосудах или ритуальных предметах), обобщив которые можно предположительно связать их с шаманскими комплексами. Одно из них демонстрирует фигуру некоего существа (вероятно, шамана) с круглым, как шар, туловищем и со звериной головой (возможно, маской). Однако конечности, согнутые в локтях и коленях, не оставляют сомнения в том, что это антропоморфный персонаж. Положение его фигуры с обращенными вверх руками может восприниматься либо как поза молящегося, либо как момент исполнения ритуального танца (вариант: камлания), что, впрочем, по значению близко друг другу. Мотив согнутых конечностей можно встретить также в изображениях на некоторых ритуальных сосудах Яншао: это скелеты, которые в разных контекстах могут символизировать душу человека, дух предка или посредника-шамана. Аналогии можно продолжить, но очевидно, что поза, которую в шанском искусстве принимает приносимый в жертву человек, имеет явно культовый характер. Она связана с архаическими обрядами перехода, которые являются прямым отражением таких культурных универсалий, как «жизнь-смерть», «сакральное-про-фанное».
Таким образом, мотив антропофагии в его развернутом (сцена пожирания) или сокращенном (маска таоте) виде для данного периода древнекитайской культуры можно считать архетипическим, так как он связан с обрядово-мифологическим комплексом этого времени. Другими словами, такие сцены нужно рассматривать как достаточно полную художественную реконструкцию шанского обряда, где все элементы изображения являются не просто носителями информации, но кодами культуры. Развернутую схему такого обряда, сцену пожирания, ни в коем случае нельзя считать калькой с мотивов искусства неолита.
Шанские сцены (прежде всего их композиция) отмечают качественно новый этап развития древнекитайской культуры. Перед нами не отдельно взятое, иногда фрагментарно зафиксированное изображение (как в неолите), а подробный развернутый акт сакральной коммуникации между человеком и предком (божеством), которая в это время была основой не только космоса, но и социума. Шанское искусство, еще очень архаичное по своей природе, заимствует и развивает идеи и образы первобытной культуры, но вместе с тем в нем рождается тот специфически китайский художественный потенциал, который полностью раскроет эпоха Чжоу.
В культуре древнейшего Китая по-прежнему остается еще очень много белых пятен. Теперь очевидно, что во II тыс. до н.э. шанский очаг цивилизации был не единственным. Параллельно царству Шан на сопредельных территориях существовали могущественные государственные образования с высокоразвитой культурой и искусством. Раскопки в Западном Китае, в провинции Сычуань, подводят нас к еще одной самобытной и ранее неизвестной культуре — Саньсиндуй. Здесь в 1980-х годах археологи раскопали несколько траншей, доверху наполненных уникальными ритуальными предметами, которые, вероятно, были захоронены после совершения какого-то важного обряда, возможно ритуала поклонения предкам. Форма этого ритуала, специфика его проведения с использованием кремации и ритуальная атрибутика сильно отличаются от традиционных ритуалов шанского государства. Количество магических предметов исчисляется тысячами, а некоторые из них просто уникальны, так как в ранее известных захоронениях не встречались никогда. Это монументальная бронзовая статуя мужчины, возможно правителя-жреца или шамана, с огромными руками, в которых когда-то помещался магический предмет, ныне утраченный; множество бронзовых голов, металлических (в том числе золотых) масок, стилизованных под изображение человеческого лица; десятки крупных бивней слонов; высокое бронзовое дерево с фигурками птиц и много других загадочных предметов, точное назначение которых пока трудно определить. Эти находки были отнесены исследователями к шанскому времени и показали, что по соседству с «Великим городом Шан» существовало еще одно крупное раннегосударственное образование со своей высокоразвитой и самобытной культурой, верованиями и искусством, о существовании которых синологи даже не догадывались. Культура Саньсиндуй дала важный материал для исследования проблемы монументальной скульптуры в древнем Китае, которая, как теперь выясняется, существовала, развивалась, была традиционной. Несмотря на разницу в материале, найденную бронзовую скульптуру типологически нужно соотнести с глиняной монументальной пластикой Хуншаня и маскообразными изображениями культуры Лянчжу. В художественных традициях этих культур много общего, прежде всего присутствие антропоморфного изображения божества, жреца-шамана и правителя, чего традиционный археологический материал просто не давал. Совершенно очевидно, что влияние этих культур было огромно. Памятники подобного рода послужили основой для развития монументального искусства исторического времени — прежде всего
погребальной скульптуры эпохи Цинь из гробницы первого императора Китая — Цинь Шихуана, чего до сих пор рассматривается как неподражаемый феномен древнекитайской культуры.
В эпоху Чжоу, которая приходит на смену периоду Шан, в мировоззрении и религии древних китайцев происходят значительные изменения. Переняв многое у завоеванных шанцев, чжоусцы реформировали древний ритуал, который по-прежнему оставался основным регулятором жизни социума и главным средством сакральной коммуникации. Они открыли для себя его внутреннюю, морально-этическую сторону, перенеся тем самым акцент с объекта (расточительные жертвоприношения) на субъект (сам человек). Этот сложный процесс культурной самоидентификации, который занял не одно десятилетие, привел к кардинальному изменению общественного сознания и, как следствие, социальной психологии этноса древнего Китая. Эти изменения сказывались на всех сферах бытия древних китайцев: постепенно преобразовывалась структура общества, система связей в нем, религиозно-этические нормы и, конечно, художественная культура. Человек эпохи Чжоу заново открывает для себя мир, обнаруживая в нем сложность, многомерность, красоту, которую он стремится воплотить в художественных произведениях. Изображая окружающий мир по-новому, человек уже совершенно иначе смотрит и на самого себя, открывая в себе личностное, субъективное начало. Антропометризм общественного сознания наиболее наглядно проявился в космологической модели «земля—человек-небо», оформление которой относится как раз к эпохе Чжоу. Проблема личности человека, его характера, душевных качеств, культуры и воспитания — словом, того, что можно было бы назвать сочетанием природного и человеческого, объективного и субъективного, становится основным вопросом древнекитайской философии, которая тоже развивается в эпоху Чжоу. И, как следствие этих глубинных процессов, в художественном творчестве возникает самостоятельная тема человека и его бытия. Проблема человека в искусстве Чжоу не сводится только к изучению зафиксированных в художественных памятниках антропоморфных изображений. «Обновленный» человек и специфическое пространство его бытия обнаруживаются во всем предметном мире искусства эпохи Чжоу и его формально-символическом языке.
Картина развития искусства становится очень пестрой, так как каждое царство развивает художественные традиции своего региона и своих предшественников. Для эпохи Чжоу характерны тесные культурные контакты и сближение художественного языка разных самобытных культур, отдельные из которых существовали на территории Поднебесной еще с эпохи неолита. Общим для всех регионов чжоуского Китая является то, что в искусстве вырабатывается новый язык художественных форм и орнамента, расширяется их символика. Бронзовые сосуды перестают играть ведущую роль в ритуалах, но, оставаясь по-прежнему средством коммуникации, приобретают много новых функций. Повышается интерес к украшению быта. Особое место в орнаменте вещей отводится символическим изображениям тигра, дракона, птицы, рыбы. Эти священные животные, почитавшиеся с глубокой древности как тотемы китайских
племен, теперь олицетворяют космический порядок и соотносятся с пятью стихиями, сторонами света и временами года. Космогоническая символика все чаще появляется на ритуальных и светских предметах эпохи Чжоу и осмысливается как магический оберег.
Возникают новые виды ритуальных предметов, такие, как бронзовые зеркала и светильники, музыкальные инструменты. Чжоуские зеркала— свидетельство глубоких преобразований в духовной и материальной культуре. Орнамент оборотной стороны предмета содержит космогоническую и календарную информацию, переданную языком более сложных, чем в эпоху Шан, символов. Архаическая модель единства земли и неба с выделением центра, заложенная в круглой форме зеркал и ориентации его зон по сторонам света, теперь обогащается орнаментальными мотивами плодородия: выпуклыми шишечками (культ гор), листьями, побегами, плодами (мировое древо), зооморфными мотивами (охранительная символика). Откровенный зооморфизм шанского искусства трансформируется в абстрактный орнамент Чжоу, передающий новые социокультурные понятия и идеи.
Одной из центральных космогонических теорий было представление о пяти первоэлементах-стихиях, взаимодействие которых явилось причиной космогенеза и поддерживало порядок мироздания. Эта идея легла в основу нового художественного языка. Его формирование в чжоусском искусстве шло двумя путями. С одной стороны, прежние символы перекодировались в соответствии с новой моделью космоса, получая иные, более расширенные значения. С другой — создавались новые художественные мотивы, несущие универсальный смысл. Примером трансформации символа шанской и даже дошанской культуры служит образ дракона. Функционируя в искусстве глубокой архаики, он соотносился с древнейшими женскими божествами (культура Хуншань), предками-тотемами (культура Яншао), образом мифологического чудовища— дракона Куя (культура Шан). В эпоху Чжоу образ дракона приобрел характер центральной культурной универсалии, синкретически соединив в себе черты священных животных: тигра, птицы, черепахи, рыбы. Возможно, дракон персонифицировал и представления о стихиях, с каждой из которых он мог быть связан. Поэтому закономерно, что в космогонической системе первоэлементов, образующей семантические цепочки, с помощью которых дифференцируется картина мира и передается культурная информация, именно дракон стоит в центре мироздания, маркируя центр земли и обозначая единый годовой цикл.
Развитие образа дракона в искусстве приводит к формированию нового орнаментального мотива, который часто называют «узором облаков». Стилизованные обобщенные формы орнамента изображают пушистые густые облака и парящего в них дракона. Этот мотив приходит на смену шанским орнаментам лэйвэнъ и таоте, демонстрируя глубокую разницу двух культур: зооморфное, хищное, иногда намеренно грубое в своем натурализме искусство Шан подчиняется выверенной логике взаимодействия абстрактных стихий Чжоу.
Еще один феномен чжоуского искусства — бронзовые светильники. Их оригинальные и разнообразные формы позволяют считать эти предметы произведе
ниями пластики. Заметим, что основным компонентом этого искусства становится образ человека, открытого миру и генетически связанного с ним. Эта программная идея воплощена в композиции светильников, которая, как правило, строится по принципу трех зон. Нижняя зона, обозначенная квадратной подставкой или образом священного животного, передает архетип земли. Верхняя часть, предназначенная для разжигания огня, обычно имеет форму круглой чаши, символизирующей небо. Средняя зона в художественном отношении самая выразительная: здесь изображается фигура человека, поддерживающего чашу-небо. Традиционная композиция светильников, безусловно, восходит к модели мирового древа, но в искусстве Чжоу она творчески перерабатывается, утверждая образ священной триады: земля-человек-небо. Следуя логике художественного образа, средняя зона мироздания выделена как центральная и закреплена за человеком, связывающим воедино землю и небо. Этот феномен культуры эпохи Чжоу, вероятно, отразил не только процесс формирования личностного самосознания, но и четко разграничил сферу природы (земля-небо) и культуры (человек).
Архитектура периода Чжоу исследована недостаточно, но по историческим источникам известно, что разрастаются старые и возникают новые города. Видимо, уже в первой половине I тыс. до н.э. формируется традиционная градостроительная система, которая практически без изменений просуществует многие века. Главное в ней — форма и структура общего плана города, которая отражает представления о Поднебесной и ее месте в мире. Поэтому в основе застройки обычно лежал квадрат, строго ориентированный по сторонам света и соответствующий символу земли. Регулярная планировка кварталов символически соотносилась с четкой структурой мира, где, по представлениям древних китайцев, все было взаимосвязано и иерархически подчинено друг другу, поддерживая божественный установленный порядок в космосе. Мощные обходные стены были обязательной частью городов. Они не только защищали поселения, но, возможно, моделировали идею «варваров четырех стран света», которым древние китайцы себя четко противопоставляли.
Погребальный обряд и его художественное оформление по-прежнему занимают ведущее место в сфере материальной культуры. Развитие архитектуры заупокойного культа эпохи Чжоу значительно прояснилось благодаря исследованиям последней четверти XX в. По результатам раскопок могил нескольких столиц можно утверждать, что каждое царство развивалось самобытно и наследовало местные традиции погребальной архитектуры, которые могли существенно отличаться друг от друга. Таким примером может быть заупокойный комплекс правителей северо-китайского царства Чжуншань (Хэбэй), состоящий из пяти ступенчатых пирамид. В планировке и архитектурных формах этого уникального комплекса можно выделить черты традиционные и самобытные. Традиционной для некрополей древнего Китая можно считать систему двойного «кольца» стен с мощными проездными воротами в каждом, которое отделяет архитектурный комплекс от внешнего (профанного) пространства и замыкает его в единый ансамбль. Самобытным и даже уникальным в этом архитектурном проекте стало
соединение в одном комплексе храмовых (поминальные храмы предков) и заупокойных (сами усыпальницы) построек. Пожалуй, впервые в наземном зодчестве древнего Китая мы сталкиваемся со строгой и четкой формой многоступенчатой пирамиды, которая становится архитектурным лейтмотивом всего ансамбля. Форма пирамиды в культовой архитектуре Древнего мира имеет архетипическую природу и восходит к архаическому образу центра мира, мировой горы, лестницы в небо, который в художественных системах манифестировал акт сакральной коммуникации человека и божества и передавал идею связи всех сфер космоса в единое целое. В древнем Китае эта традиция восходит к некрополям эпохи Шан, где отдельные могилы ванов, то есть подземные сооружения, имели форму пирамиды, обращенной вершиной вниз (смотри выше). Но в наземной культовой архитектуре такая форма используется впервые, что тоже, безусловно, говорит о значительных изменениях в самосознании. Комплекс храмов предков и погребений правителей наверняка являлся центральным культовым ансамблем этого царства, поэтому его сооружение, планировка, архитектурный язык носили декларативно-программный характер. Образ горы-пирамиды, возвышающейся в центре мира и соединяющей небо и землю, вероятно, воплощал религиозно-политическую доктрину этого небольшого царства, именовавшегося «Гора, [которая находится в] центре [мира]» (Чжуншань). Это самоназвание в соответствии с социально-политическими традициями того времени могло отражать не только географическое положение княжества, но и его религиозные и политические амбиции. Отсюда образность и эмблематика мировой горы (ступенчатой пирамиды) в культуре царства Чжуншань, которая определяет и художественный язык его искусства.
Форма погребения-холма, впервые освоенная в архитектуре северных областей, находит прямые параллели и в зодчестве северо-западных царств, где недавно были открыты крупные могилы правителей государства Цинь. Развиваясь и совершенствуясь, эта традиция получает завершение в гробничном холме грандиозного некрополя первого императора Китая — Цинь Шихуана, который был ваном самостоятельного циньского царства.
Во второй половине I тыс. до н.э. основные тенденции искусства меняются, что во многом было обусловлено исторической ситуацией этого периода, когда древнекитайские царства вели борьбу за господство в Поднебесной. Тесное взаимодействие самостоятельных государств привело к тому, что в V в. до н.э. культуры разных регионов объединяются вокруг двух основных носителей художественных традиций: царства Цзинь— на севере и царства Чу— на юге. Особенности прикладного искусства северного ареала были связаны с освоением техники инкрустации, нового декоративного стиля и мотивов массовых сцен, которые, по мнению ученых, могли возникнуть в китайском искусстве благодаря контактам с кочевыми народами Евразии. Компоненты культуры кочевников способствовали обогащению и трансформации представлений древних китайцев о мире и о себе. Изображения сюжетов охоты и баталий демонстрируют мир иной художественной культуры, полной динамики, экспрессии, детализации. На бронзовых сосудах разворачиваются картины бурной, многоголосой и очень
подробной жизни целого общества, которое живет, борется, трудится как единый организм.
Южные же области, более самостоятельные и традиционные, специализировались на искусстве лака и шелка.
К V в. до н.э. лаковое производство приобрело характер зрелого и самобытного художественного явления. В этой технике создавались вотивная скульптура, погребальная утварь, ритуальные сосуды. В захоронениях правителей южных царств обнаружены подлинные шедевры этого искусства. Цветовая гамма чуских лаков построена на сочетании красного, черного и желтого цвета, орнаментальные мотивы и фигуративные изображения, покрывающие поверхность изделий, связаны с культами плодородия и древним шаманским комплексом. Среди погребальных даров особой роскошью отделки и изысканным вкусом отличаются сосуды для вина и пищи, различные шкатулки, которые могли использоваться покойным еще при жизни. В погребальной пластике появляются мистические образы птицы (журавля?) и оленя. Связанные с охранительной магией, они, возможно, воплощают вечную жизнь, поиски которой так занимали древнекитайских правителей.
Тема бессмертия человека и поисков этого благодатного дара прочно входит в художественную культуру этого времени и воплощается в живописи. Самая древняя в Китае живопись на шелке, связанная с заупокойным ритуалом, обнаружена в Чанша, на территории царства Чу. Появление в древнем Китае живописи необходимо рассматривать как художественный феномен своего времени. Самостоятельный вид художественного творчества, она не просто отражает окружающий мир, но создает некую квинтэссенцию, образ явления, события, человека и потому всегда несет в себе элемент авторского, субъективного. Возникновение этого искусства свидетельствует о глубоких изменениях в самосознании древних китайцев, о развитии психологии личности. Погребальные шелка изображают покойного в момент его перехода в иной мир. Этот священный акт представлен строго и торжественно. Силуэтный характер живописи напоминает о небесных полетах бессмертных. Покойный помещается в центр композиции, а по сторонам его сопровождают дракон и феникс (журавль?), воплощающие идею вечной жизни, над головой усопшего эскизно изображается полог, который защищает его от мирского, суетного, временного и придает изображению характер небесного путешествия.
Заупокойные комплексы этого времени разнообразны и по планировке, и по погребальному инвентарю. Большинство из них было открыто за последние 20 лет. В провинции Хубэй, например, обнаружена огромная четырехкамерная гробница V в. до н.э., принадлежавшая правителю царства Цзэн, которое долгое время находилось под влиянием более могущественного южного царства Чу. Стены могилы были прочно укреплены деревянными брусьями. В одной камере находился деревянный саркофаг с телом покойного, который состоял из нескольких гробов. Каждый из них был украшен магическим орнаментом и покрыт черным и красным лаком. Магический узор лаковых поверхностей изображает демонических существ с маленькими рожками и выпученными глазами, которые
охраняли усопшего от злых духов подземного мира. В соседних камерах располагались погребальные дары, гробы с останками наложниц и музыкантов, которые сопровождали покойного. Захоронение содержало более 15 тысяч предметов погребальных даров. Среди этих сокровищ бронзовые фигурки животных и священные сосуды необычных форм, украшения из нефрита, золотые кубки и чаши, лакированные изделия из бамбука и дерева, оружие и, наконец, уникальный набор музыкальных инструментов, в который входили колокола, барабаны, цитры, свирели и флейты, традиционные для эпохи Чжоу. Их звучание должно было не только услаждать слух покойного, но и соответствовать основным ритмам древнекитайского космоса, частью которого являлось погребение правителя Цзэн. В специально отведенной камере располагалась деревянная трехъярусная стойка, украшенная орнаментом и покрытая лаком. На поперечных балках в три ряда были развешаны 64 бронзовых колокола. В чжоуской космологии колокол передает музыку небесных сфер. Набор колоколов воплощает космическую мелодию, которая является отражение^ космических ритмов, ее частью становится и жизнь человека. Поперечные балки конструкции поддерживали шесть антропоморфных бронзовых фигур. Выполняя роль кариатиды, скульптура моделировала архаический образ мирового древа. Как бы вырастая из бронзового холма, фигура человека обращает вверх согнутые в локтях руки с зажатыми в них змеями. В чжоуском искусстве этот мотив получает особое развитие, встречаясь в круглой пластике и светильниках. Внешне он может трансформироваться, но его знаковая сущность не изменяется, так как данный сюжет восходит к циклу древнекитайских мифов о божествах плодородия, чье возрождение было частью земледельческих культов и заупокойного ритуала. Поэтому соотношение несущей и несомой частей этой конструкции в ритуале погребения может быть прочитано как нерасторжимое единство пространства и времени. Колокол отражает пространственные параметры космоса, его ритмы и материальную сущность, а бронзовые фигуры-кариатиды передают идею жизненных циклов человека и, более широко, божества и космоса в целом.
Таким образом, при общих тенденциях культурного развития большинство царств древнего Китая обладало самостоятельной и оригинальной художественной культурой. Истоки этого многообразия и самобытности следует искать в архаическом искусстве китайского неолита, который, безусловно, нужно выделить как совершенно самостоятельный этап формирования художественной картины мира древнекитайских племен. Пользуясь образностью китайской культуры, искусство конца II — всей второй половины I тыс. до н.э. можно представить как огромный бурлящий котел, где скрещивались, взаимодействовали, переплетались и вытесняли друг друга художественные традиции разных культур. То общее, что объединяло их, — это процесс формирования личностного самосознания, который активно шел во всех царствах древнего Китая, кардинально меняя традиционную картину мира древних китайцев. Конец этому «творческому» процессу положило объединение Китая в III в. до н.э. Следующий этап развития культуры уже связан с образованием на территории Поднебесной ранних империй Цинь и Хань. В формировании искусства этого времени действовали совсем
иные механизмы, направленные на унификацию, единство, строгую каноничность художественного языка, который бы полностью соответствовал образу единой и сильной империи. В имперском искусстве какие-то традиции древности сохранились, какие-то претерпели значительную переработку и продолжали жить уже в измененном виде, подводя итог развития многовековой художественной традиции.
СТРАНЫ
ПЕРЕДНЕГО ВОСТОКА
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н.Э.
Глава 4
АССИРИЙСКАЯ ДЕРЖАВА. НОВОАССИРИЙСКИЙ ПЕРИОД
Политическая история
Конец II тысячелетия до нашей эры ознаменовался крупными политическими переменами в Передней Азии. Погибло Хеттское царство, Египет и Вавилония переживали упадок. Теперь Ассирия не имела соперников, могущих противостоять ее великодержавным притязаниям, но сбыться этим притязаниям предстояло еще не скоро. Сейчас же Передняя Азия оказалась перед лицом нового, одного из самых крупных, переселения западносемитских племен, на сей раз арамеев.
Пока еще невозможно сколько-нибудь определенно указать отправной пункт этого переселения, но ясно, что им была какая-то область Аравии, а в Ассирию они шли через Сирию и Северную Месопотамию. Толчком для переселения послужило, вероятно, начало нового периода засух. Это продвижение мелких и крупных племен в Сирию и Месопотамию, медленное, но неодолимое, продолжалось два столетия. Вместо возобновления политики экспансии Ассирия пыталась теперь в отчаянной борьбе отстоять границы державы и караванные пути в Сирию и Малую Азию. Но ассирийцам пришлось иметь дело не с вражеским войском, которое можно было попытаться разбить в открытом сражении, а с бесформенным и поэтому практически «неосязаемым» противником: арамейское нашествие представляло собой не завоевательный поход, а медленное и неуклонное просачивание племен, групп и даже одиночек через все без исключения участки границы. Остановить этот процесс силой было, разумеется, невозможно. Хотя степные кочевники не умели брать укрепленные города и, вероятно, даже не пытались это делать, сами города рано или поздно обнаруживали,
что окружены морем арамеев и не имеют иного выбора, кроме «добровольного» подчинения. На новых территориях, представляющих собой древние культурные области, арамеи частично продолжали вести кочевой образ жизни, но в большинстве случаев переходили к оседлости и включались в местную хозяйственную и политическую жизнь. Местные династии при этом, разумеется, заменялись вождями арамейских племен. В результате вся Сирия и Северная Месопотамия оказались арамеизированными. Лишь кое-где как островки сохранились мелкие позднехеттские и позднехурритские царства. Сама Ассирия не оказалась захлестнутой этим потопом, по всей вероятности, лишь потому, что в Месопотамии основное движение арамеев шло вдоль Евфрата, а до Тигра и за Тигр они добрались ниже коренной Ассирии, там, где Тигр и Евфрат сближаются.
Вавилония в это же время подверглась нашествию (с запада?) халдейских племен — одной из ветвей арамеев.
Так или иначе, Ассирии удалось сохранить лишь свои коренные земли — район за Тигром между Большим и Малым Забом и узкую полосу западнее Тигра.
Теперь, к середине XI в. до н.э., политическая карта Передней Азии приобрела совершенно новый вид. В Сирии Халеб и Арпад вошли в состав арамейского княжества Бит-Агуси. Севернее, на рубеже Малой Азии возникло государство Сам’аль (Я’уди). Южнее Сам’аля образовалось множество мелких арамейских княжеств и одно крупное— Дамаск, сыгравшее здесь в дальнейшем видную роль. Сохранились также несколько позднехеттских государств— Каркемиш (Хатти) и Хаттина (Унку, вокруг современного озера Амун). По Евфрату ниже Каркемиша располагались арамейские (или арамеизированные) царства, важнейшими из которых были: Бит-Адини (со столицей Тиль-Барсиб), Бит-Бахиани, стоявшее во главе союза племен и княжеств, который ассирийцы по традиции называли Ханигальбат (Митанни), Лаке, Хиндану, Сухи. В самой Вавилонии некий человек, возможно халдейский вождь, принявший аккадское имя Адад-апла-иддин, захватил (с помощью Ассирии) царскую власть. Далее к югу по западной окраине Вавилонии вплоть до самого Персидского залива, т.е. включая территорию Приморья, расположились халдейские княжества Бит-Даккури, Бит-Аму-канни, Бит-Якин и ряд других. Нижнее течение Тигра оказалось в руках арамейских племен Лита’у, Пукуду, Гамбулу и Гиндару. Следует обратить внимание на то, что многие из этих мелких государственных образований назывались «Бит (т.е. „дом“, династия) такого-то (личное имя)», т.е. по имени основателя династии - вождя или эпонима какого-либо арамейского племени.
Постепенно положение стало изменяться в пользу Ассирии. Движение арамейских племен затихло, они стали устраиваться на захваченных территориях и немедленно занялись междоусобицами, в которых, однако, ни одно из этих государств не смогло выдвинуться на передний план. Вавилония в этот период утратила всякое политическое значение. Зато Ассирия, хотя и чрезвычайно урезанная территориально, почти загнанная за Тигр, униженная политически и находящаяся в отчаянном экономическом положении, сохранила одновременно и ряд преимуществ, которым предстояло выявиться при первом же удобном случае. Прежде всего это было выгодное стратегическое положение, позволившее
Ассирии, когда она вновь начала экспансию на запад и на юг, иметь обеспеченный тыл. Хотя именно с востока предстояло Ассирии получить через несколько столетий смертельный удар, сейчас (т.е. к началу I тысячелетия до н.э.) здесь обитали мелкие разрозненные племена, способные самое большее на разбойничий набег. Но и таким набегам нетрудно было воспрепятствовать, расположив в горных проходах сравнительно небольшие силы. То же самое можно сказать и о севере. Противники же Ассирии на западе и на юге должны были опасаться не только ее, но и друг друга. Объединиться против общего врага они оказались поначалу неспособными. Коалиции против Ассирии стали создаваться лишь тогда, когда было уже поздно. Другим, быть может, еще более важным обстоятельством был тот факт, что Ассирия оставалась важнейшим узлом торговых путей, идущих по Тигру и от Тигра на восток, север и запад. Поддержание этих торговых путей было для Ассирии жизненной необходимостью, а максимальное расширение контроля над ними обещало в перспективе огромные выгоды. Ассирия имела довольно благоприятные условия для сельскохозяйственного производства — полеводства, садоводства и виноградарства. Производились в Ассирии также шерсть и лен — сырье для производства тканей. Однако Ассирия не располагала собственными источниками металлов (кроме железа, да и то в недостаточном количестве), в том числе благородных. Не располагала она и многими другими видами сырья: строительным лесом, ценными породами камня, благовонными растениями (необходимая принадлежность религиозных ритуалов и предмет роскоши), ценными породами дерева, слоновой костью и т.п. Все эти предметы сами по себе представляли выгодные объекты торговли и вместе с тем необходимое сырье для ремесленного производства и строительства (дерево). Географическое положение Ассирии позволяло ей не только получать все необходимое, но и извлекать немалые выгоды из транзитной торговли и торговли своими собственными изделиями. Но для этого необходимо было держать в своих руках контроль над торговыми путями, а по возможности — также и над источниками сырья. Достигнуть этого можно было, разумеется, только с помощью силы, но применять эту силу можно было по-разному. Традиционным методом был «принудительный обмен», т.е. просто грабеж, и военно-бюрократическая знать всегда и в дальнейшем стояла за применение этого «метода». Другим было налаживание «правильной» эксплуатации покоренных земель, поддержание «имперского мира», способствующего нормальным экономическим связям. Таково было желание верхушки горожан и жречества. Ассирийские цари, видимо, действовали в интересах тех или других либо пытались маневрировать между ними.
Важно отметить, что Ассирия сохранила свою превосходную военную организацию и навыки ведения войны в условиях оседлой страны — качества, которых арамеи, вчерашние кочевники, еще не успели приобрести.
Но ждать своего часа Ассирии пришлось довольно долго, и сведений о второй половине XI — первой половине X в. у нас очень мало. Ашшур-раби II (1013-973 гг. до н.э.), Ашшур-реш-иши (972-968 гг. до н.э.) и Тиглатпаласар II (967-935 гг. до н.э.) еще вынуждены уделять основное внимание обороне. Внутри же страны в это время происходит процесс укрепления царской власти и обновление храмов. Вновь восстанавливается обычай датировки по эпонимам —
«лимму», отмененный было Ашшур-нерари IV. Но теперь уже эпонимы назначаются не по жребию, а в строго установленной последовательности, соответствовавшей придворной иерархии, начиная с самого царя. Политическое же значение должности эпонима было сведено к нулю, за ней сохранились лишь ритуальные функции. Дабы укрепить свою независимость от сильной городской общины древней столицы — Ашшура, цари переносят свою резиденцию в другие города, как это делали многие месопотамские правители в период ранней древности. Окончательно устанавливается царская титулатура — «царь великий, царь могучий, царь обитаемого мира, царь Ассирии» (в дальнейшем к ней прибавляется еще и титул «царь четырех стран света»).
Лишь в царствование Ашшур-дана II (934-912 гг. до н.э.) Ассирия предпринимает первые наступательные операции. Они были направлены главным образом на северо-восток и восток и преследовали своей целью, видимо, лучшее обеспечение тыла и сравнительно легкую добычу. Но вместе с тем ассирийцам удалось отнять у арамеев два города. Одновременно Ашшур-дан заботился об орошении и вообще о развитии сельского хозяйства и, по-видимому, сумел до некоторой степени возобновить международную торговлю. Во всяком случае, экономическое положение государства улучшилось, свидетельством чего являются предпринятые Ашшур-даном обширные строительные работы. Наконец, от него до нас дошли первые после длительного перерыва надписи.
В царствование Адад-нерари II (911-891 гг. до н.э.) Ассирия уже решительно переходит в наступление. Как и его предшественник, Адад-нерари совершал походы на север и восток, но основная его цель состояла в том, чтобы вновь проложить путь к Средиземному морю. Здесь ему пришлось столкнуться с куда более серьезными противниками, в частности с уже упоминавшейся федерацией княжества Ханигальбат. Несколько походов и длительные осады городов Хузи-рина (Султан-тепе), Нисибина и Гидара, окончившиеся их взятием и пленением местных царьков, привели к тому, что весь Ханигальбат признал верховенство Адад-нерари над собой. Вся область р. Хабур и ее притоков перешла, таким образом, под контроль Ассирии, и были созданы благоприятные условия для дальнейшего продвижения к переправам через Евфрат, ведущим в Сирию.
Еще раньше Адад-нерари, под каким-то предлогом обвинив вавилонского царя Шамаш-мудаммика в нарушении мира, начал наступление на юг, разбил вавилонское войско и вновь присоединил к Ассирии область, центром которой был город Аррапха. Наследник Шамаш-мудаммика Набу-шум-укин сумел, однако, вновь отодвинуть ассиро-вавилонскую границу на север, и Ассирия должна была с этим смириться. Мирное соглашение было закреплено тем, что цари отдали своих дочерей в жены друг другу. Дополнительным результатом побед Ассирии было то, что страна Сухи (на среднем Евфрате) обязалась платить Ассирии дань.
Но, пожалуй, самым главным результатом деятельности Адад-нерари II было восстановление боевого духа и престижа Ассирии: впервые за многие десятилетия она вела наступательные войны против действительно сильного врага. И хотя не все походы Адад-нерари были одинаково удачными (некоторые имели лишь частичный успех), ассирийское войско ни разу не потерпело серьезного поражения. Теперь громкие титулы ассирийских царей не были уже лишь данью
памяти о былом величии, но указывали цель, к которой все дальнейшие цари этой династии стремились с замечательной последовательностью. Все они были более или менее удачливыми полководцами, а стратегические цели их деятельности диктовались географическим и экономическим положением Ассирии и ее торговыми традициями. Стратегические задачи состояли в том, чтобы, держа в страхе горцев на востоке и на севере при помощи периодических вторжений и отгородившись от ответных рейдов прочными заслонами в горных проходах, упорно и неуклонно продвигаться на юг и на запад, с тем чтобы вновь взять под свой контроль основные источники сырья, центры производства и торговые пути от Персидского залива до Киликии и Средиземного моря. Эти задачи Ассирия и решала на протяжении нескольких последующих десятилетий, не всегда с одинаковым успехом, но каждый раз делая больший или меньший шаг в избранном направлении. Еще не скоро станет ясно, что эта стратегия не имеет под собой прочного основания, что чисто военными средствами задача вообще не может быть решена. Пока же сын и преемник Адад-нерари Тукульти-Нинурта II (890-884) начинает с успешных походов на север, против Наири, и на восток. Затем во главе большого войска он двинулся вниз по правобережью Тигра, около устья Адема повернул к Евфрату, пройдя через Дур-Куригальзу и Сиппар, а затем двинулся вверх по Евфрату. Далее ассирийское войско направилось вверх по долине Хабура и, повернув снова к Тигру, вернулось в Ассирию. По пути Тукульти-Нинурта собирал дань (особенно медью и лошадьми) и захватывал (временно) города, одним из которых, вероятно, был Харран (именно здесь впоследствии был разыгран последний трагический акт ассирийской истории). Страны и города, пытавшиеся оказать сопротивление, подвергались опустошению. Богатая добыча, собранная в этом походе (в том числе тысячи верховых лошадей), позволила Тукульти-Нинурте усилить армию за счет того, что впервые стала применяться в качестве ударной силы регулярная кавалерия. Эта же добыча позволила царю предпринять большие строительные работы, и прежде всего обновить стены Ашшура, не ремонтировавшиеся, кажется, со времен Ашшур-убаллита I. Наконец, были созданы условия для продвижения на западный берег Евфрата.
После смерти Тукульти-Нинурты II трон унаследовал его сын Ашшур-нацир-апал II (883-859 гг. до н.э.). Будучи выдающимся полководцем и дипломатом, чрезвычайно методичный и абсолютно безжалостный в достижении поставленной цели, он за годы своего долгого царствования постарался закрепить за Ассирией уже покоренные или признавшие ее верховную власть территории и присоединить к ним новые.
Начинать царствование с походов на восток и на север стало, видимо, уже традицией, чем-то вроде «пробы пера» для нового властителя. Однако Ашшур-нацир-апалу пришлось начать с подавления антиассирийского мятежа в Бит-Хапупе, где проассирийский правитель был свергнут в результате мятежа и заменен ставленником враждебного Бит-Адини. Быстрое вмешательство Ассирии восстановило прежнее положение, а заодно утвердило господство Ассирии над Лаке. Правитель Сухи, хотя ассирийское войско не дошло даже до рубежей этой страны, почел за благо лично явиться в Ниневию с данью и подарками. Затем Ашшур-нацир-апал перешел горы Кашиари (к северу от истоков р. Хабур) и вел
войну в стране Наири (т.е. Шуприи), опираясь на вновь восстановленные и заселенные ассирийскими гарнизонами города. Этот поход был повторен в еще более широких масштабах три года спустя. В 881 и 880 гг. Ашшур-нацир-апал вел войну на востоке от Аррапхи — в Замуа, горной стране между верховьями Малого Заба и Диялы. Здесь он также создал опорные пункты, действуя с которых подавил попытки к организованному сопротивлению и собрал богатую добычу. Обитающие здесь племена были богаты металлами и скотом, но сколько-нибудь крупные политические объединения у них еще не сложились, что и облегчало ассирийцам их действия, несмотря на трудные условия войны в гористой местности.
Затем была предпринята крупная военная экспедиция на запад— к Хабуру и среднему Евфрату. Расположенные здесь арамейские княжества пытались прибегнуть к покровительству Вавилонии и Бит-Адини. Однако эти последние оказались не в состоянии оказать сколько-нибудь значительную помощь, ограничившись лишь дипломатическими интригами и посылкой незначительных воинских контингентов (Вавилония). Мятежные княжества подверглись жесточайшему разгрому и разграблению, правителями в них были посажены ставленники Ассирии, признавшие ее верховную власть и обязавшиеся платить дань. В следующем году поход был повторен.
Теперь владения Ассирии простирались до самого Каркемиша, а страх перед ней— гораздо дальше, и это создало благоприятные обстоятельства для осуществления грандиозного замысла— похода к Средиземному морю, чего ассирийские цари не делали в течение 200 лет. В 876 г. Ашшур-нацир-апал II переправился через Евфрат у Каркемиша и двинулся на запад, к Средиземному морю, принимая по дороге изъявления покорности и дань от арамейских и хеттских княжеств и присоединяя их контингенты к своему войску. По-видимому, ему нигде не пришлось столкнуться со сколько-нибудь серьезным сопротивлением. Пройдя через долину Оронта и Ливан, Ашшур-нацир-апал достиг Средиземного моря и по древнему обычаю омыл свое оружие в его водах. Учредив ассирийскую колонию на Оронте и нарубив кедров в горах Ливана и Амана, Ашшур-нацир-апал вернулся в Ассирию.
Столицей Ашшур-нацир-апала II был город Кальху (Калах), который он отстроил с неслыханным великолепием и заселил военнопленными. Здесь он и жил в оставшиеся годы своего царствования, не предпринимая больше никаких походов (мелкие карательные экспедиции проходили без его участия).
Основные тактические принципы Ашшур-нацир-апала II заключались главным образом в нанесении молниеносных ударов и создании опорных пунктов на тех территориях, где он намеревался закрепиться всерьез. В ряде случаев при этом он опирался на ассирийских колонистов, поселенных в различных пунктах Месопотамии еще в Среднеассирийский период. В покоренных царствах Ашшур-нацир-апал поддерживал проассирийские течения и сажал в качестве правителей своих ставленников. Нередко местные династы сами подчинялись Ассирии, надеясь таким способом укрепить свою власть.
Но одновременно существовали, разумеется, и антиассирийские тенденции, что приводило время от времени к восстаниям. Среди восстававших против Ашшур-нацир-апала II были и ассирийские колонисты, а причина восстаний бы
ла во всех случаях одна и та же — необходимость уплачивать Ассирии «знатную дань» и тяжкая рука ассирийской администрации. Одинаковой бывала и участь восставших — поголовное истребление людей и разрушение до основания городов и поселений. С предводителей восстания обычно заживо сдирали кожу. Примерно такой же была и участь областей и городов, которые при первом приближении ассирийского войска не спешили изъявить покорность, а оказывали вооруженное сопротивление. Ассирийская армия, как правило, не брала пленных. Под «пленными» здесь подразумеваются не только военнопленные в узком смысле слова, т.е. вражеские воины, но и мирное население. Обычай истреблять всех захваченных «с боем» был, по-видимому, распространен во всей Передней Азии, и свидетельство о его существовании можно обнаружить, например, в Библии. Сдавшиеся же без боя (или после неудачного боя, но избежавшие немедленного плена) лишь облагались данью и оставались либо под властью своих правителей (если таковые были сочтены Ассирией достаточно надежными), либо правителей — ставленников Ассирии, либо, наконец, передавались под власть ассирийских чиновников.
Таким образом, нет оснований обвинять ассирийцев, как это нередко делается, в садистской жестокости. Они разве что лишь более «методично» исполняли предписания вышеупомянутого древнего обычая и сделали его, так сказать, способом ведения войны, полагая, видимо, что внушаемый такими мероприятиями страх будет полезен Ассирии в дальнейшем. Но «методичность» ассирийцев и в самом деле была чрезвычайной. В области, которую намеревались подвергнуть опустошению, вырезалось все население от мала до велика. При этом людей зачастую не просто убивали, а применяли самые устрашающие способы убийства: сожжение живьем, сажание на колья, сооружение пирамид из отрубленных голов или из связанных и обреченных таким образом на медленную смерть пленников. От городов и других поселений не оставлялось камня на камне. Все сколько-нибудь ценное имущество собиралось, тщательно учитывалось и поступало частично воинам, но большей частью — царю. Сады и виноградники вырубали, каналы засыпали. За несколько дней цветущий край превращался в пустыню. Лишь изредка некоторое количество людей, главным образом ремесленников и воинов, переселяли в Ассирию. Но прежде всего в Ассирию перекачивались материальные ресурсы: лошади и рогатый скот, сырье и готовые товары, драгоценные металлы и предметы роскоши.
В результате создалось впечатление, что такой военно-политический метод оправдывает себя, и преемники Ашшур-нацир-апала П действовали в том же духе. Однако скоро стало выясняться, что метод все чаще дает осечку. Прежде всего оказалось, что, хотя Ассирии действительно удалось внушить ужас окрестным странам, этот ужас не всегда приносил Ассирии пользу. Иногда он заставлял противников капитулировать без боя, но нередко побуждал к более ожесточенному сопротивлению, и, что еще хуже, против Ассирии стали создаваться коалиции. Вновь присоединенные территории в значительной части представляли собой пустыню с разбросанными там и сям ассирийскими крепостями. По этой пустыне бродили кочевники и разбойничьи шайки, так что обеспечивать безопасность торговых путей было нелегко. Будучи однажды разоренными дотла, эти
земли более не приносили доходов, а лишь требовали расходов на их удержание. В конце IX в. изменилась к худшему и внешнеполитическая ситуация — на месте разрозненных племен Армянского нагорья возникло сильное государство Урарту. После 810 г. Урарту под энергичным правлением царя Минуа расширило свои границы от Закавказья до Евфрата и Тигра, превратившись таким образом в одну из «великих держав» Ближнего Востока. Мелкие сирийские государства перед лицом грозной опасности тоже отложили на время свои распри и образовали две довольно сильные коалиции— Северный союз и Южный союз (подробнее см. в главе, посвященной Сирии).
Разумеется, все это сказалось не сразу. Салманасар III (858-824) смог повторить поход своего отца к Средиземному морю. Внешне все выглядело так же, как и в первый раз. Салманасар омыл в море свое оружие и нарубил кедров в горах Амана. Но теперь ассирийскому войску пришлось преодолеть сопротивление коалиции северосирийских княжеств, из которых самым сильным было Бит-Адини. Его царь был уведен в плен со всей своей семьей и многими другими людьми. Тиль-Барсиб, переименованный в Дур-Шульману-ашаред («Крепость Салманасара»), был присоединен к ассирийской провинции Харран. Одновременно был вновь покорен Каркемиш, а также предпринимались походы на север, против Урарту. Пройдя от оз. Урмия до оз. Ван, Салманасар собрал дань в странах Гильзану и Хубушкия. В другой раз он добрался до страны Дайени, вероятно в районе нынешнего Эрзурума. Войско урартского царя Араме было разгромлено, а его резиденция Арзашкун разрушена. Затем был совершен поход на восток, в Замуа. Наконец, в 855 г. Салманасар во главе большого войска выступил из Ниневии на запад. Переправившись через Евфрат, ассирийцы двинулись дальше. Им противостоял союз 12 государств Сирии и Палестины во главе с Дамаском. Участниками этой коалиции были также некоторые арабские племена и, вероятно, Египет. Решающее сражение произошло у Каркара на р. Оронт (традиционное место битв за власть над Сирией), и здесь, видимо, коса нашла на камень. Силы соперников были примерно равны, и чрезвычайно кровопролитное сражение закончилось вничью. Но продолжать свой поход Салманасар не смог.
Зато на юге в последующие годы ему удалось вмешаться в династическую распрю в Вавилонии. Он поддержал вавилонского царя против узурпатора, а за это получил от Вавилонии территориальные уступки и сделал вавилонского царя фактически своим вассалом. Салманасар получил дань от халдейских племен юга, но отнесся с уважением к привилегиям священных городов Аккада и принес жертвы богам в их храмах. Этому эпизоду Салманасар, видимо, придавал очень большое значение. Возможно, что он уже подумывал о перспективе нового объединения всей Месопотамии, на этот раз во главе с Ассирией,
Но три его новых похода в Сирию вновь принесли неудачу. Особенно унизительным был неуспех похода 845 г., когда Салманасар явился в Сирию с войском в 120 000 человек— неслыханная дотоле цифра! Для этого ему пришлось собрать всеобщее ополчение, израсходовать огромные материальные средства — и все безрезультатно. Лишь в 841 г., воспользовавшись переворотом в Дамаске и распадом Южносирийского союза, Салманасар смог добиться успеха, хотя взять Дамаск ему не удалось и в этот раз. На побережье Финикии Салманасар
повелел вытесать на скале свое изображение рядом с изображением Тиглатпала-сара I. Тир, Сидон и Израиль принесли ему дань. Однако для поддержания своей власти в Сирии, а также для рубки деревьев в горах Амана и Ливана и сбора дани Ассирии пришлось в последующие годы предпринять еще целый ряд походов.
Теперь Салманасар обратил основное внимание на Киликию. Совершив несколько походов, он разгромил «страны» Сам’аль, Ку’э, Табал и Мелидду, часть их территории опустошил, в других частях посадил царями своих сторонников и принял от них богатую дань, главным образом скотом и металлами.
Походы на север и восток начались, как обычно, с первых же лет царствования Салманасара III. Ассирийское войско несколько раз ходило к истокам Тигра, опустошая Шубрию и Наири (Хубушкию), т.е. юго-западные районы Урарту. Однако здесь ему приходилось сталкиваться со все возраставшим сопротивлением со стороны Урарту.
Начиная с 852 г. постаревший царь перестал сам ходить в походы, передав верховное командование армией своему полководцу Даян-Ашшуру. Тем не менее походы продолжались с неослабевающей энергией.
Тот факт, что столь блестящее царствование завершилось мятежом и длительной гражданской войной, может показаться неожиданным или случайным лишь поверхностному наблюдателю. Тридцать лет беспрерывных войн надорвали силы Ассирии. Множество ассирийцев погибло в походах, а их семьи неизбежно попадали в долговую кабалу. Огромные средства, выкачиваемые из побежденных стран, расходовались на новые военные экспедиции, а оставшиеся оседали в руках горсточки высших чинов. Недовольство в коренной Ассирии приняло, очевидно, очень широкие масштабы. Предводителем мятежа был сын самого царя — Аш-шур-дан-апли, который, как предполагают, был обижен на царя за то, что наследником престола был назначен другой сын. Но дело не в личных амбициях обиженного принца— гораздо важнее, что он получил поддержку в Ниневии, Ашшуре, Арбеле, Аррапхе и еще в двадцати городах, т.е. практически во всей коренной Ассирии. Верными царю остались лишь его собственная столица Кальху и окраинные провинции, вернее, оккупировавшая их действующая армия. Мятеж начался в 827 г., и Салманасар III не смог справиться с ним до самой своей смерти.
Его наследнику Шамши-Ададу V (823-811) потребовалось два года, чтобы взять верх над мятежниками. При этом ради обеспечения нейтралитета Вавилонии ему пришлось пойти на политические уступки, признав верховенство вавилонского царя и возвратив ранее отнятые территории. Последующие годы были заняты походами против Урарту (без особого успеха) и на восток, против манне-ев, мидян и в страну Парсуа (более успешно). Зато Шамши-Ададу удалось свести счеты с вавилонским царем и отомстить ему за былое унижение. В нескольких успешных походах на юг он разбил войска Вавилонии и союзных ей Элама, арамеев и халдеев. Во втором из этих походов вавилонский царь Мардук-балассу-икби был взят в плен. Его преемник был вынужден заключить с Ассирией невыгодный мир. Но никаких попыток вновь продвинуться за Евфрат Шамши-Адад не предпринимал и на гегемонию в Сирии не претендовал.
Когда Шамши-Адад V умер, его сын Адад-нерари III (810-783) был, возможно, еще малолетним. До недавнего времени считалось, что регентшей Ассирии
была его мать — царица Шаммурамат, послужившая впоследствии прообразом для многочисленных легенд о «царице Семирамиде». По-видимому, это была действительно выдающаяся по своему характеру и влиянию женщина (необходимо отметить, что женщины вообще нередко играли выдающуюся роль в делах и судьбах царского рода в поздней Ассирии). Однако в настоящее время преобладает точка зрения, согласно которой Шаммурамат не была регентшей, а ее образ в легендах представляет собой контаминацию образов нескольких очень влиятельных ассирийских цариц. Возможно также, что ее имя в действительности было не аккадским, а западносемитским.
В годы правления Адад-нерари III предпринимались походы против мидян и маннеев, причем ассирийское войско доходило до «моря, где восходит солнце», т.е. до Каспия. К концу IX в. ассирийцы претендовали на господство в Эллипи (верхнее течение р. Керхе и ее притоков, современный Керманшах), Манне, Аллабрии (верховье Малого Заба), Парсуа (верховье Диялы) и ряде других областей. Но трудно сказать, насколько реальным было это господство. Возможно, впрочем, что походы преследовали и другую цель — помешать Урарту проникнуть в тыл Ассирии. Но предпринять широкое и успешное наступление против самого Урарту Ассирия оказалась не в состоянии.
Зато в Сирии Адад-нерари III сумел, казалось, воспользоваться благоприятными обстоятельствами: здесь начались распри между Дамаском и Хаматом по поводу гегемонии в Южносирийском союзе, и Дамаск потерпел поражение. В 805 г. Адад-нерари двинулся в Сирию. Царь Дамаска не смог на сей раз оказать сопротивление и принес дань. Его примеру последовали другие царства Сирии, но закрепиться здесь ассирийцы не смогли и в этот раз.
Лишь в Вавилонии ассирийское верховенство, установленное Шамши-Ада-дом V, было закреплено еще больше. Адад-нерари заключил договор с Вавилоном. В этом договоре ассирийский царь выступает как покровитель Вавилонии. Он также принес богатые дары главным святилищам Вавилонии и вообще всячески подчеркивал культурное и религиозное единство двух народов. Вавилонская культура все шире распространялась в Ассирии. Разбогатевшая верхушка ассирийского общества могла теперь уделять больше внимания искусству, литературе и т.п., а это делало неизбежным обращение к Вавилонии — главной хранительнице общемесопотамских культурных традиций, и в частности литературного языка. Культы вавилонских богов Мардука и Набу стали находить в Ассирии все больше почитателей. Адад-нерари принял меры к тому, чтобы оградить Вавилонию от набегов со стороны кочевников-халдеев. Все эти успехи и полууспехи, однако, не могли скрыть продолжающегося падения царской власти. Новые мятежи потрясли Ассирию в конце его правления. В это же время Урарту, далеко отодвинув свои границы на север, начало энергичную экспансию на юго-восток до Парсуа, заходя таким образом во фланг и тыл Ассирии, и на юго-запад, где подчинило себе государства на Верхнем Евфрате. Северная Сирия попала теперь под влияние Урарту. Три сына Адад-нерари III, царствовавшие один за другим,— Салманасар IV (782-773), Ашшурдан (772-755) и Аш-шур-нерари V (754—745) могли лишь продолжать тяжелую войну с Урарту, в которой они шаг за шагом теряли свои позиции. Походы в другие страны, пред
принимаемые в недолгие периоды передышек, были не более чем грабительскими экспедициями, и даже если удавалось добиться изъявлений покорности от того или иного царька, он забывал об этом, едва только ассирийское войско уходило. Если к этой безрадостной картине добавить еще новые мятежи и эпидемии, то станет ясно, что после многих лет энергичной и успешной завоевательной политики Ассирия вновь оказалась перед лицом тяжелого кризиса.
Как уже отмечалось, вновь присоединенные провинции после энергичных кровопусканий представляли собой в значительной степени пустыню и тем самым — скорее обузу, чем полезное обретение. Менее пострадавшие провинции и сама коренная Ассирия тоже сильно обезлюдели в результате военных потерь и эпидемий. К тому же эти провинции были чересчур велики, а сидящие в них наместники— слишком независимы. В своих провинциях они сами собирали налоги, формировали воинские контингенты, чинили суд и расправу и даже, кажется, на свой страх и риск могли вести войны и заключать мир. Иначе говоря, они были почти царями, и некоторые из них были не прочь отбросить это досадное «почти», причем иногда им это даже удавалось. Возникла реальная угроза распада государства. Мелкое крестьянское землевладение находилось в упадке из-за войн, эпидемий и, вероятно, долговой кабалы — почти неизбежной участи семьи, потерявшей кормильца. Царь и знать владели теперь громадными землями, но их некому было обрабатывать. Между тем в условиях экстенсивного хозяйства увеличить размер прибавочного продукта можно лишь путем увеличения количества работников, у которых изымается этот продукт, ибо усиление эксплуатации очень скоро упирается в естественные пределы. Не выдержало испытания и главное орудие ассирийской политики — армия. Она состояла, по-видимому, из военных колонистов, мобилизовавшихся путем рекрутских наборов и получавших от царя землю за службу, т.е. продолжали действовать порядки Среднеассирийского периода. Такая профессиональная армия, разумеется, намного превосходила ополчение (которое, однако, тоже созывалось в случае необходимости), но вместе с тем страдала неискоренимыми пороками всякой «милиционной» армии. Она не находилась в постоянной боевой готовности, была нередко разношерстно экипирована и лишена того «чувства локтя», которое трудно определимо и которое порождается общей выучкой, общим бытом, общей опасностью и т.п. и составляет, быть может, главную силу регулярной армии.
Что касается взаимоотношений с окрестными странами, то и здесь не все обстояло благополучно. Те страны, куда ассирийские войска вторгались лишь однократно или изредка, обычно приносили ассирийскому царю единовременную дань. Она бывала обычно очень значительной, чтобы правитель этой страны мог удержаться на престоле и откупиться надолго. Так, царь Хаттины принес Аш-шур-нацир-апалу дань из 600 кг серебра, 50 кг золота, 5 тонн свинца и 5 тонн железа, 1000 голов крупного и 10 000 голов мелкого рогатого скота, цветных шерстяных и льняных тканей, ценной мебели, рабынь-музыкантш и т.п. Несколько позже описываемого времени израильский царь, если верить Библии (Reg. II, 15, 19-20) , принес ассирийскому царю дань в 50 т (!) серебра, для чего ему пришлось обложить все зажиточное население страны налогом в 50 сиклей с человека.
Единовременную дань приносили по различным поводам все зависимые царства, но главной их обязанностью было принесение ежегодной дани. Та же Хат-тина, после того как она признала свою зависимость от Ассирии, приносила ежегодную дань серебром, шерстью, окрашенной пурпуром (60 кг в год), и кедровыми бревнами. Дань могла быть иной раз и чисто символической (во всяком случае для Ассирии), но ее непринесение рассматривалось как мятеж против своего верховного владыки и соответственно навлекало жестокую карательную экспедицию.
Вся эта система исправно действовала лишь до тех пор, пока ассирийская армия сохраняла достаточную боеспособность и пока ей не приходилось сталкиваться с достаточно могущественным противником. Теперь такие противники — Урарту, Элам, Сирийские союзы и отчасти даже халдейские племена— появились, и вассалы Ассирии, а также страны, понимавшие, что скоро настанет их черед, стали искать (и находить) у них покровительство.
Таким образом, требовалось решить сразу множество задач: заселить пустующие земли, удовлетворить экономические запросы знати, не допуская в то же время сепаратизма (особенно в провинциях), реорганизовать и укрепить армию. Все это понял и сумел в значительной степени осуществить новый царь Ассирии — Тукульти-апаль-Эшарра (Тиглатпаласар) III (744-727). До сих пор в исторической науке идут споры о том, был ли он четвертым сыном Адад-нерари III (возможно, не от законной жены, а от наложницы), или членом боковой ветви правящей династии, или, наконец, узурпатором. Так или иначе, его привела к власти гражданская война 746-745 гг., в которой погиб его предшественник. О реформаторской деятельности Тиглатпаласара III его надписи ничего не говорят (правда, и надписей его дошло до нас мало и часто в плохом состоянии). Но не приходится сомневаться, что реформатором был именно он, ибо новые, неизвестные доселе в Ассирии порядки начинаются с его правления.
Прежде всего Тиглатпаласар ввел практику массового угона населения с завоеванных территорий. Этих людей, угоняемых вместе с семьями, имуществом и даже «вместе с их богами», поселяли затем в ранее опустошенных областях и в коренной Ассирии и «причисляли к людям Ассирии» (о том, что это означало на практике, будет рассказано ниже). Такие угоны осуществлялись порой и раньше, но лишь изредка и в незначительных масштабах. Так, Ашшур-нацир-апал II, как уже отмечалось, заселил пленными свою резиденцию Кальху. Теперь же, если верить царским надписям, речь идет каждый раз о десятках и сотнях тысяч человек. Угоняемых старались поселить как можно дальше от их прежней родины и вперемешку с другими переселенцами. Этим в зародыше уничтожалась возможность мятежа. С другой стороны, благодаря уже отмеченному отсутствию этнической и религиозной розни переселенцы довольно быстро ассимилировались: включались в местную хозяйственную жизнь, усваивали в качестве общего разговорного языка арамейский и наряду со своими традиционными богами почитали местных. Исследователи полагают, что основная часть переселенцев (или, во всяком случае, не меньше половины их) направлялась в коренную Ассирию для пополнения убыли населения и для развития сельскохозяйственного производства. Это мнение нельзя пока еще признать бесспорным, но
несомненно, что приток переселенцев в коренную Ассирию был значительным. Одним из существенных последствий создавшейся этнической и языковой пестроты была довольно быстрая арамеизация, т.е. переход на арамейский язык всего населения ассирийской державы: сначала арамейский язык стал языком-посредником, затем всеобщим разговорным языком, в конце концов он стал использоваться и как письменный язык, хотя официальные документы и письма продолжали писать также и на аккадском языке.
Проведена была и административная реформа: вместо прежних крупных областей создается большое число мелких во главе с областеначальниками. Наконец, реформируется и армия. Теперь ее основу составляет постоянное войско, находящееся на полном содержании у царя.
Ассирийская армия и раньше представляла собой грозную силу и была во многих отношениях передовой. Теперь же она стала еще сильнее. Так, ассирийцы, видимо, были первыми, применившими в начале I тысячелетия правильную осаду городов. Они окружали вражескую крепость кольцом укреплений — осадным валом. Этим достигалась полная блокада осажденных и одновременно парировалась возможность сколько-нибудь серьезных вылазок. Если город был совершенно неприступен (например, стоял на высокой отвесной скале), его держали в кольце блокады и брали измором. Если же имелась возможность приблизиться к стенам города, в ход пускали тараны, установленные на передвижных платформах и защищенные от вражеских стрел, копий и камней крышей и бортами. Если нужно, для этого засыпали рвы или сооружали насыпи. Метательные орудия (катапульты и баллисты) еще не были изобретены, а для зажигания пожаров в осажденном городе лучники забрасывали его горящими стрелами. Штурм велся одновременно с нескольких сторон, не только через пробитые таранами бреши, но и с применением штурмовых лестниц. И в других видах боевых действий ассирийцы применяли стратегические и тактические принципы, иногда намного опережавшие свою эпоху. Так, греческие теоретики военного искусства предписывали предоставлять разбитому и отступающему противнику «золотой мост», т.е. не препятствовать отступлению. Ведь противник, доведенный до отчаяния, начнет, чего доброго, драться так яростно, что победа может перейти на его сторону. Ассирийские же полководцы руководствовались принципом, общепризнанным в наше время: целью боевых действий является не захват территории, а уничтожение вражеских вооруженных сил, после чего территория сама собой попадает в руки победителя. В соответствии с этим ассирийская армия, как правило, неотступно преследовала разбитого противника, вновь и вновь навязывая ему сражения до тех пор, пока вражеское войско не перестанет существовать как организованная боевая сила. Кроме того, ассирийские полководцы понимали, что внезапный и стремительный удар, нанесенный даже малыми силами застигнутому врасплох противнику, может оказаться эффективнее, чем удар всеми наличными силами по противнику, успевшему изготовиться к бою. Для таких внезапных ударов и для преследования отступающего противника они применяли колесницы и — впервые в массовых размерах и как отдельный род оружия — кавалерию, не боясь при этом далеко отрываться от главных сил. Кроме кавалерии очень большое значение придавалось еще одному новому
роду войск— саперам. Они вели осадные работы, прокладывали дороги и строили переправы (понтонные мосты) в труднопроходимых местах, возводили укрепленные лагеря на стоянках. Благодаря саперам ассирийское войско могло преодолевать такие местности, где его появления никак не ожидали. Наконец, ассирийская армия имела превосходно налаженную службу разведки и связи.
Ассирийские пехотинцы были вооружены мечами, копьями (легкая пехота — дротиками) и луками. Оборонительное вооружение состояло из остроконечного или гребенчатого шлема без забрала, круглого щита и панциря из медных блях, нашитых на шерстяную или кожаную рубаху. Лучники иногда выделялись в отдельные подразделения и действовали совместно с щитоносцами. При осаде щитоносцы прикрывали лучников огромными, в рост человека, щитами. Вооружение конников было похоже на вооружение легкой пехоты. Седло и стремена в этот период еще не применялись. Обычно каждый конник вел в поводу запасную лошадь. Ассирийская колесница была легкой, с большими колесами на восьми или шести спицах, обеспечивавшими ей хорошую проходимость даже на пересеченной местности. Экипаж колесницы состоял из двух-трех человек, один из которых правил лошадьми, а остальные вели бой с помощью луков и дротиков. Колесничные части составляли, видимо, привилегированную часть ассирийской армии — что-то вроде гвардии.
Такая армия в руках хорошего полководца способна на многое, и в дальнейшем она это доказала. Теперь она была постоянной, превосходно экипированной, тренированной и организованной. Но в ней таился порок, пожалуй даже более серьезный, чем в ее предшественнице, — она стала если не по форме, то по существу армией наемников, не имеющих прочных корней в стране, особенно если учесть, что в нее постоянно включали воинов из покоренных стран. Служить в победоносной армии «царя четырех стран света» было почетно и выгодно, но... лишь до тех пор, пока армия оставалась победоносной. Иначе говоря, такая армия была хороша лишь для наступательной войны. В оборонительной же войне, где надо было упорно сражаться, защищая чужую этой армии, в сущности, страну и неудачливого царя, где не предвиделось ни славы, ни добычи, боевой дух такой армии должен был быстро иссякнуть. Проще было перейти на службу к победителю, чем ставить на карту жизнь и уже накопленное добро ради проигранного дела. Все это должно было сказаться и сказалось в будущем, когда Ассирия столкнулась с могучими и грозными противниками и встал вопрос о самом ее существовании. Но пока дело обстояло иначе.
Тиглатпаласар III был не только выдающимся администратором, но и блестящим полководцем. Уже через несколько месяцев после воцарения он выступил в поход на юг. В Вавилонии халдейские и арамейские племена окончательно перестали считаться с центральной властью. Они захватывали земли горожан и даже покушались на южные границы Ассирии. Тиглатпаласар прошел стремительным маршем по междуречью Тигра и Евфрата до самого Персидского залива, сокрушая всякие попытки к сопротивлению и принимая изъявления покорности от тех, кто на такие попытки не решился. При этом он не затронул вавилонских городов и, более того, всячески подчеркивал свою роль защитника этих городов против халдеев. Он посетил важнейшие святилища Вавилонии, где принес
пышные жертвы богам и был весьма торжественно принят жрецами. Вавилонского царя Набу-нацира он пока что не тронул, но, по-видимому, просто игнорировал его существование. Впрочем, на этот раз прямая аннексия Вавилонии не входила, вероятно, в его планы. Пока важнее было обезопасить свою южную границу. На следующий год ассирийское войско двинулось в Загрос. Здешние племена, надеявшиеся было избавиться от ассирийской власти и полагавшиеся на неприступность своих гор, были жестоко разгромлены и ограблены. Здесь были созданы новые провинции Парсуа и Бит-Хамбана. Во время этих двух походов начались и насильственные переселения.
Теперь предстояло самое трудное— борьба с Урарту за Сирию. Государства Северной Сирии заключили союз во главе с Арпадом, куда входил «верхний и нижний Арам», т.е. оба Сирийских союза, а также Куммуху (Коммагена), Гур-гум и Мелид (Малатья), расположенные на рубежах Малой Азия. Этот союз находился под протекторатом Урарту. Поход на Сирию начался в 743 г. Уже на Евфрате ассирийцев встретило урартское войско во главе с царем Сардури II. Ожесточенная битва разыгралась на обоих берегах реки, и урартское войско было разбито и вынуждено поспешно отступить в пределы своей страны. Тиглатпа-ласар продолжил свое продвижение на запад и осадил Арпад. Остальное его войско тем временем дошло до самого Амана. Арпад пал лишь в 740 г., но жестокий урок был усвоен всей Сирией. Арпад стал центром новой провинции, а остальные сирийские цари поспешили сюда, чтобы принести победителю дань. Затем ассирийская армия предприняла в 739 г. кампанию с целью закрыть для урартов горные проходы в Сирию. Этот момент был сочтен благоприятным для создания в Сирии новой коалиции, на сей раз во главе с царством Сам’аль, где правил узурпатор, недавно захвативший трон. В 738 г. Тиглатпаласар вновь явился в Сирию, захватил значительные территории и создал из них новую провинцию. В Сам’але он посадил на престол законного представителя прежней династии, не без основания рассчитывая на его преданность, но отобрав у него часть земель. Убыль территории была восполнена Сам’алю за счет соседнего Гургума. По этому случаю была получена дань от Израиля, Дамаска, Тира, Сидона, Библа, Сам’аля, Гургума, Куммуху, Каркемиша и других стран, включая Табал и арабские племена Сирийской полупустыни. Были также вновь осуществлены массовые переселения.
Затем был предпринят поход на восток, в «страну могучих мидян», и ассирийское войско (контингенты областеначальника Замуа) дошло до горы Демавенд. Оно вернулось с огромной добычей и пригнало 65 000 пленных, которых расселили в долине Диялы.
Теперь Тиглатпаласар решил нанести удар в самое сердце Урарту. 736 год был посвящен «разведке боем», а в следующем году ассирийцы вторглись в пределы Урарту и осадили урартскую столицу Тушпу. Взять ее штурмом не удалось, а тратить время на длительную осаду Тиглатпаласар счел опасным или нецелесообразным. Вместо этого ассирийское войско предприняло шестисоткилометровый марш через всю страну, пройдя ее огнем и мечом. После такого страшного удара Урарту должно было оправиться нескоро. Многие города на его южной границе были захвачены и заселены людьми, угнанными из Сам’аля и других стран.
Следующие несколько лет Тиглатпаласар вновь воевал в Сирии. Он наказывал непокорных, вмешивался в междоусобные распри (разумеется, с выгодой для себя), сажал в местных царствах угодных ему правителей. В 732 г. был взят вечно непокорный Дамаск, а царь его был казнен. Ассирийское войско, двигаясь по филистимскому побережью, дошло до самой Газы, и теперь уже все сирийские и палестинские государи, включая даже «царицу» кочевников-арабов, принесли ему дань. Ассирия получила, кроме того, новые территориальные приращения и новых переселенцев. Гегемония в Сирии была, таким образом, вновь подтверждена и закреплена.
В Вавилонии, тем временем, созрели условия для осуществления того, к чему давно уже стремились Тиглатпаласар III и его предшественники, ради чего они при всяком удобном случае подчеркивали свое благоволение и уважение к вавилонским городам и святилищам. Вавилонский царь Набу-надин-зер был свергнут с престола и убит в результате мятежа, а затем началась грызня между узурпаторами, принадлежавшими к различным халдейским племенам. Ввергнутая в анархию страна должна была радостно приветствовать ассирийского царя как своего избавителя, а халдейские племена— этот вечный источник беспокойства— могли стать источником богатой добычи и новых десятков тысяч невольных переселенцев. Прежде всего было разгромлено племя Пукуду, обитавшее в нижнем течении Тигра. Область на границе с Эламом была присоединена к провинции Аррапха, дабы затруднить халдеям сношения с Эламом. Затем настала очередь других племен, а главное — Бит-Амуканни (в низовьях Евфрата), к которому принадлежал последний узурпатор Набу-укин-зер (ассирийцы пренебрежительно именовали его уменьшительным именем Укин-зер). Он был осажден в своей резиденции Шапиа и после ожесточенного сопротивления взят в плен. Земли Бит-Амуканни и его союзников подверглись опустошению, а 120 тыс. человек угнаны в плен. Бит-Даккури и царство Приморья, где господствовало племя Бит-Якин, изъявили покорность и уплатили дань.
Вавилония была, таким образом, замирена, а династическую проблему Тиглатпаласар решил со свойственной ему энергией, но вместе с тем и весьма благоразумно. Он вновь подчеркнул, что рассматривает Вавилонию не как побежденного врага, но как часть древнего общемесопотамского единства. Поэтому страна не была, как обычно, разделена на области под властью ассирийских областеначальников. Вместо этого Тиглатпаласар сам «коснулся рук Владыки (Мардука)», т.е. короновался в качестве вавилонского царя. В 729 и 728 гг. он, уже в этом качестве, участвовал в ритуале Новогоднего праздника (участие в этом обряде было ежегодной ритуальной обязанностью вавилонского царя; без исполнения новогодних обрядов он не мог считаться законным царем).
После смерти Тиглатпаласара III в 727 г. его сыну и преемнику Салманасару V (726-722) досталась в наследство грандиозная империя, простирающаяся «от Верхнего моря, где закат солнца, до Нижнего моря, где восход солнца», т.е. от Средиземного моря до Персидского залива. Она управлялась хорошо организованной военно-бюрократической системой, и целостность ее поддерживалась войском, равного которому Передняя Азия до сих пор не знала. Это и была первая империя в истории человечества1. 1
1 Наиболее важной книгой о древних империях до сих пор является: Larsen М.Т. (ed.). Power and Propaganda. A Symposium on Ancient Empires. — Mesopotamia 7. Copenhagen, 1979 (хотя в ней возникновение империй относят к более раннему времени). Там же — очень обширная библиография.
Возможно, что все это несколько вскружило голову Салманасару V. Стремясь еще больше усилить царскую власть, он сделал попытку отменить податные и повинностные привилегии священных храмовых городов — Ашшура и Харрана, а также, возможно, и других городов Ассирии и Вавилонии (он тоже короновался в качестве вавилонского царя). Эта мера восстановила против него одновременно горожан, знать и жрецов. Естественно поэтому, что его царствование было недолгим. Салманасар V умер или, скорее, был убит во время осады Самарии, столицы Израильского царства, вызванной тем, что израильский царь отказался признать верховную власть Ассирии. Предположение о насильственной смерти Салманасара подтверждается сообщением одной из надписей Саргона: «...он злобно занес руку на этот город (Ашшур)... за что владыка богов (т.е. бог Ашшур. — Авт.) во гневе своего сердца сокрушил его царствование...».
Происхождение Шарру-кина (Саргона) II (722-705) неясно. В своих надписях, вопреки твердо установившемуся обычаю, он весьма многозначительно воздерживается от какого бы то ни было упоминания о своих предках. Правда, позднее его потомки возводили свой род к древним ассирийским царям, но фальшивые генеалогии — дело довольно обычное. Не исключено, впрочем, что он действительно состоял в каком-то родстве с правящей династией.
Саргону предстояло справиться со множеством проблем. Двуединая монархия оказалась непрочной: халдейский вождь Мардук-апла-иддин II (библейский Меродах-баладан) сумел объединить под своей властью другие халдейские племена и захватил почти всю Вавилонию. На севере вновь усилилось Урарту, и Руса I, урартский царь, готовился к наступательным действиям. В Сирии возник новый союз, а осада самарийской твердыни шла уже третий год. К тому же и в самой Ассирии было неспокойно. Однако Саргон II своей энергией, военным, административным и дипломатическим талантом мало в чем уступал Тиглатпаласару III. Он отложил до лучших дней сведение счетов с Мардук-апла-иддином и прежде всего занялся внутренними делами. Саргон торжественно подтвердил древние привилегии городов, и прежде всего — Ашшура, предоставил новые привилегии храмам. Сам Саргон считал этот акт одним из важнейших своих деяний: в своих надписях он похваляется им многократно и по самым различным поводам. Спокойствие в Ассирии было, таким образом, восстановлено. Но тем временем Мардук-апла-иддин в 721 г. провозгласил себя царем Вавилона и заключил союз с Эламом. Сирийская же коалиция, со своей стороны, заручилась поддержкой Египта. Но Самария наконец пала. Она была разрушена до основания, а почти все население Израиля переселено в Халахху недалеко от Ниневии, в Гузану на р. Хабур (совр. Телль-Халаф) и в мидийские города— по-видимому, в Кишессу и Хар-хар. Существует, впрочем, мнение, что падение Самарии совпало со смертью (убийством?) Салманасара, а Саргон просто присвоил себе честь победы и ее плоды.
Первый поход 720 г. — в Месопотамию — оказался неудачным. Ассирийское войско было разбито в сражении с эламитами и вынуждено было отступить, но
сумело сохранить в своих руках Дер на Тигре. В конце этого же года ассирийское войско выступило в Сирию и столкнулось с объединенными силами коалиции на традиционном месте битв за Сирию — у Каркара на р. Оронт. Ассирийцы выиграли сражение и вернули отпавшие было провинции. Затем победители двинулись в Палестину, где разбили египетское войско, захватили Газу и дошли до самой границы Египта (Рафия).
Но самой грозной опасностью оставалось Урарту. Все более усиливаясь, оно интриговало против Ассирии как на ее северо-восточных, так и на северо-западных границах. Сначала Ассирия главным образом оборонялась, предпринимая лишь небольшие наступательные действия для оказания помощи своим вассалам или для обуздания непокорных. В ходе этих действий принимались меры по укреплению границы и по созданию опорных пунктов для будущих крупных экспедиций. Был захвачен и присоединен к Ассирии Каркемиш, и в нем разместился крупный ассирийский гарнизон (717 г.). Падение Каркемиша и его аннексия Ассирией означали конец «хеттской иероглифической культуры» — позднего ответвления культуры хеттов. Позднехеттские государства Северной Сирии вновь возродили иероглифическую письменность, существовавшую еще в XIV—XIII вв. до н.э., но затем почти вытесненную клинописью.
В это же время усиленно действует разведка, находившаяся в ведении наследника престола Синаххериба. Сведения были малоутешительными. На востоке, на территории Иранского Азербайджана, уже существовало довольно сильное и богатое государство Манна, окруженное целым рядом мелких «буферных» государств. Первоначально зависевшая от Урарту, Манна затем обрела самостоятельность и превратилась фактически в одну из «великих держав». Далее к югу жили мидийские племена, по-видимому объединенные в союз. В VIII в. эти племена начинают переходить к государственному устройству. Возникло множество мелких царств. Но до полного объединения мидийских племен было еще далеко, и потому непосредственной угрозы они не представляли. На севере дела обстояли гораздо хуже. Кроме Урарту там появился новый страшный враг — орды воинственных кочевников киммерийцев. Впрочем, они представляли более непосредственную угрозу для самого Урарту, и эта угроза очень скоро превратилась в реальность. Поражение от киммерийцев и мятежи сильно ослабили Урарту. Есть основания полагать, что Саргон воспользовался удобным случаем и нанес удар уже тяжко пострадавшему противнику. Донесение ассирийских разведчиков сообщает, что урарты потерпели сокрушительное поражение в битве с киммерийцами (к сожалению, эти письма не датированы). В битве пало множество урартских воинов и высших военачальников, а сам царь Руса с остатками войска поспешно отступил в горы. Вероятно, это и было для Ассирии столь долго ожидавшимся удобным случаем.
События этой кампании 714 г. изложены Саргоном в «Письме богу Ашшу-ру» — чрезвычайно интересном документе, написанном на очень большой глиняной таблице. В этом тексте, представляющем собой яркий образец придворной литературы, наполненном реминисценциями из мифологических и литературных текстов и оригинальной, хотя подчас и грубоватой образностью, содержится подробный (нередко сильно приукрашенный) рассказ о деяниях Саргона. Трудно
сказать, предназначалось ли «Письмо» для оглашения или просто для сбережения в храме Ашшура. Начинается оно, как и обычное письмо, обращением, но обращение это весьма торжественно и многозначительно:
«Ашшуру, отцу богов, великому владыке, моему господину, обитающему в Эхурсаггалъкуркурре, своем великом храме, — превеликое благополучие!
Богам судеб и богиням, обитающим в Эхурсаггалъкуркурре, своем великом храме, — превеликое благополучие!
Богам судеб и богиням, обитающим в городе Ашшуре, своем великом храме, — превеликое благополучие!
Граду и людям его — благополучие! Дворцу и обитателям его — благополучие!
Саргон, чистый жрец, раб, чтущий твою великую божественность, и войско его — премного благополучны».
Далее излагаются события самого похода. Маннейский царь Уллусуну был в это время союзником Саргона. Саргон поначалу постарался создать видимость, что он выступает на помощь Уллусуну против враждебных ему мелких соседних царств. Войска Саргона сначала вступили в Манну, где он принял богатые дары. Затем Саргон двинулся в Аллабрию (верховья Малого Заба), а оттуда — в ассирийскую провинцию Парсуа. Очевидно, он хотел создать впечатление, что целью похода является центральная Мидия. Затем Саргон двинул свои войска на прикаспийскую область Зикерту, царь которой бросил свою резиденцию и поспешно отступил на соединение с урартским царем Русой: последний двинулся на восток, с целью зайти в тыл ассирийской армии. Ассирийская разведка, как всегда, была на высоте. Саргон мгновенно повернул свою армию на запад, а так как в гористой, труднопроходимой местности его пехота двигалась слишком медленно, он, взяв с собой своих телохранителей, а также конников и отряды колесниц, стремительным маршем двинулся навстречу врагу. Разведка в урартской армии, видимо, оставляла желать лучшего, и удар ассирийцев оказался совершенно внезапным. После недолгого, но чрезвычайно кровопролитного сражения урартское войско было рассеяно; в «Письме богу Ашшуру» Саргон злорадно отмечает, что Руса едва спасся, ускакав на обозной кобыле — великое бесчестье для мужчины и воина (возможно, впрочем, что это лишь «литературный штамп»). Эта битва состоялась в районе горы Сахенд, после чего ассирийское войско, обогнув Урмийское озеро с севера, вступило на территорию собственно Урарту и двинулось к оз. Ван. Не встречая серьезного сопротивления, ассирийцы сровняли с землей множество поселений и городов и захватили в плен всех, кто не успел укрыться в неприступных горах. Обогнув оз. Ван с севера и запада, армия вступила в Хубушкию (к югу от оз. Ван), где Саргон принял дань от подчиненных Урарту мелких царств. Затем он отправил основную часть армии домой, а сам с небольшими силами двинулся на Муцацир. Этот город был столицей маленького одноименного царства, признававшего над собой верховную власть урартского царя. Но в Муцацире находился храм бога Халди — одно из главных святилищ всех урартских племен. Здесь в течение столетий скапливались несметные богатства, и все они попали в руки ассирийцев.
Все эти ужасающие несчастья сломили Русу. Соответствующее место «Письма богу Ашшуру» можно понять в том смысле, что Руса, видимо, лишился рассудка. В другом ассирийском тексте сообщается, что он покончил с собой. От этих тяжких ударов Урарту уже никогда не смогло полностью оправиться. Хотя это государство существовало еще довольно долго и даже пережило Ассирию, никаких серьезных попыток к экспансии на юг или на юго-запад более не предпринималось. Что же касается киммерийцев, то и здесь счастье сопутствовало Ассирии. Лишь отдельные их группы пытались прорваться через границы империи, а основная масса повернула на запад, в Малую Азию. Таким образом, основная угроза ассирийскому владычеству была устранена.
Следующие три года Саргон провел в своей столице Кальху. Рутинную деятельность по усмирению недостаточно покорных вассалов и по содержанию в должном трепете покорных он предоставил своим полководцам и пограничным областеначальникам. Так, в Палестине пришлось противодействовать интригам Египта, вызвавшим восстание в Ашдоде. Для укрепления здесь ассирийской власти Самария с округом, населенная пленными из разных стран, а также Ашдод с округом были превращены в ассирийские провинции (711 г.). Такая же участь еще раньше постигла Киликию и Табал (715 г.), попытавшихся искать поддержки у Фригии и Урарту, а затем Гургум. На востоке, по соседству с Замуа, тоже были созданы новые провинции. В менее серьезных случаях дело ограничивалось передачей власти преданным Ассирии правителям или возвращением их к власти, если они были свергнуты антиассирийской партией. В знак особого благоволения такие правители иногда получали куски территории соседних царств, чем, разумеется, между ними создавалась атмосфера взаимной неприязни, препятствовавшая образованию антиассирийских союзов. Но в основном на всей гигантской территорий Ассирийской империи царило спокойствие, и Саргон мог наконец уделить надлежащее внимание Мардук-апла-иддину и его союзнику Эламу. Задача Саргона облегчалась тем обстоятельством, что Мардук-апла-иддин, пользовавшийся, очевидно, громадным авторитетом у халдеев и даже у арамейских племен севера Вавилонии, был весьма непопулярен в городах, ибо обращался с ними по методу Салманасара V, т.е. не признавал их привилегий. К тому же он бесцеремонно распоряжался сокровищами храмов, а земли горожан раздавал своим приближенным — халдеям. Что касается Элама, то он был в это время ввергнут во внутренние смуты и на помощь Мардук-апла-иддину прийти не смог, хотя последний и пытался купить эту помощь богатыми подарками.
Поэтому, когда Саргон в 710 г., выставив небольшой заслон против Элама, двинулся на юг, Мардук-апла-иддину не оставалось ничего другого, кроме поспешного отступления в свое родное Приморье. Ассирийские войска, продвигающиеся по восточному берегу Тигра, не встретили здесь эламитов, а сопротивление арамейских племен было сравнительно легко подавлено. Между р. Керхе и Тигром была создана новая ассирийская провинция Гамбулу. Саргон передал доходы от вновь образованной провинции вавилонским храмам и полностью подтвердил привилегии священных городов, а некоторые города получили такие привилегии впервые. Основная же ассирийская армия заняла Бит-
Даккури к югу от Вавилона. Сюда к Саргону явилась делегация вавилонян и преподнесла ему «пищу богов»— часть жертвенной трапезы, которую по древнему обычаю сначала клали перед статуями богов, а затем передавали царю Вавилона. Это означало, что вавилоняне признают Саргона своим законным царем. Саргон вступил в город «при кликах ликования». В следующем году он возглавил в качестве дара торжественную процессию Новогоднего праздника и «коснулся рук Владыки». Своего сына Синаххериба он женил на знатной вавилонянке по имени Наки’а. Затем еще два года Саргон ведет военные действия на крайнем юге Месопотамии, желая, видимо, дать халдеям такой урок, который они запомнили бы надолго. На других границах особых событий не происходит, если не считать превращения вассального царства Куммуху (Коммагена) в ассирийскую провинцию. Даже заморские цари Кипра и Дильмуна (Бахрейна), не полагаясь на отсутствие у Ассирии морского флота, сочли за благо прислать дани.
В 707 г. Саргон с огромной добычей вернулся в свою новую столицу Дур-Шаррукин («Крепость Саргона»), которую он построил к северу от Ниневии. Город был населен людьми, насильственно угнанными из разных стран. Отсюда, из своего великолепного дворца, Саргон правил своей гигантской империей, мощь которой казалась непоколебимой. Но, созданная силой, она могла удерживаться в целости лишь силой, и в ее целостности была заинтересована лишь верхушка военно-бюрократического аппарата и торговых городов. Землепашцу было в конце концов безразлично, кто именно будет драть с него семь шкур, он понимал только, что драть их будут в любом случае. Мелкие чиновники тоже понимали, что без них никакая власть все равно не обойдется. Даже жрецы, хотя они и получали от Саргона богатые жертвы, рассчитывали, видимо, что позиции храмов останутся непоколебимыми, что бы ни произошло. Империя, раздираемая борьбой партий, не имела достаточной социальной опоры внутри. А вне границ Ассирии она распространяла не только страх, но и все растущую ненависть, мечту об отмщении этому «логовищу льва». Можно было, конечно, не обращать внимания на пророков, призывавших на Ассирию громы небесные. Но оставались политические и экономические проблемы, такие, как перемещение торговых путей за пределы империи из-за грабительских пошлин и даней, а также вызванные этими же причинами восстания и, наконец, военные угрозы со стороны сильных соседей. А для их решения Ассирия знала лишь один метод — новые и новые войны. В этих войнах ей суждено было еще не раз одерживать замечательные победы, но после смерти Саргона II чаша весов, на которой лежала судьба Ассирии, начала медленно опускаться вниз. И сама смерть Саргона выглядит поэтому особенно многозначительно: он погиб в сражении во время вполне рутинного похода на Табал, и тело его не было найдено. Столь чрезвычайное событие произвело сильное впечатление на современников (оно отмечено пророком Исаией, хотя Саргон не назван там по имени: пророк говорит о «вавилонском» царе, но, как уже сказано, ассирийские цари этого времени были также и царями вавилонскими). Впечатлен был также и его наследник, обратившийся к оракулу с вопросом: «В чем грех отца моего?»
Син-аххе-эриба (Синаххериб) (704-681) имел уже немалый военный и административный опыт, когда после смерти своего отца сделался царем. Но его по
литика резко отличалась от политики Саргона II. Более того, в своих надписях он даже не упоминает имени своего отца. Синаххериб был сторонником военной партии и потому отказался от поисков поддержки у жречества и торговых городов. Опора исключительно на грубую силу и на устрашение в причудливом сочетании с любовью к искусству и роскоши — вот основные черты его деятельности. Между тем затруднения для него начались сразу же. Как обычно, смерть старого царя оживила надежды и усилила практическую деятельность врагов Ассирии как на присоединенных землях, так и в соседних странах. В Вавилоне, воспользовавшись тем, что Синаххериб не совершил необходимых обрядов интронизации, захватил власть некто Мардук-закир-шуми, но тут на сцену вновь явился неутомимый Мардук-апла-иддин, прогнал его и сам воцарился в Вавилоне. Чтобы приобрести поддержку Элама, Мардук-апда-иддин решился на святотатство — наложил руку на сокровища Эсагилы, храма Мардука. Эламский царь Шутрук-Наххунте II, впрочем, и без того рвался в бой против Ассирии, а богатые подарки, разумеется, подогрели его энтузиазм. Он послал на помощь Мардук-апла-иддину большое войско во главе со своими лучшими полководцами. Синаххериб немедленно выступил в поход, и около Киша состоялось генеральное сражение. Войска вавилоно-эламской коалиции были разбиты, Мардук-апла-иддин бежал, и ему снова удалось ускользнуть от разыскивавших его ассирийцев. Синаххериб в 702 г. разорил земли южных арамейских племен и затем угнал оттуда 200 тыс. человек. Царем в Вавилоне был посажен некий Бел-ибни, которому, очевидно, предназначалась роль ассирийской марионетки.
Но еще раньше Синаххерибу пришлось подавлять восстания на востоке, в Эллипи. Эта территория, расположенная в бассейне притоков Керхе на рубежах Элама, имела важное стратегическое значение и была узлом торговых путей. Результатом похода было присоединение новых территорий и сооружение в захваченных городах ассирийских крепостей.
В 701 г. Синаххериб выступил в Сирию, где тоже делались попытки сбросить ассирийское иго. Египту, который все время не прекращал своих интриг в Сирии и Палестине, золотом и посулами удалось склонить к отпадению от Ассирии ряд государств этого района. Царя Экрона, одного из мелких филистимских государств, который остался верен Ассирии, его собственные подданные «бросили в оковы» и выдали его давнему врагу — иудейскому царю Хизкии (Езекии), тоже участвовавшему в антиассирийском движении. С появлением ассирийского войска большинство государств Сирии и Палестины поспешили изъявить покорность и уплатить дань. Царь Сидона, понимая, видимо, что данью он не отделается, бежал на Кипр. Но Экрон, поддержанный значительным войском, присланным ему на помощь из Египта, оказал сопротивление. Объединенная армия была разбита ассирийцами в долине Эльтеке, а затем пал и Экрон. В руки ассирийцев попала богатая добыча и множество пленных, в том числе египетские полководцы. Хизкия, осажденный в своей столице, мог лишь ожидать своей погибели. Хотя Иерусалим очень непросто было бы взять штурмом, исход длительной осады был предрешен заранее. С этой осадой связан любопытный эпизод, который можно охарактеризовать как первую зафиксированную в истории попытку вести пропаганду среди вражеских войск. В Библии содержится рассказ о том, как ас
сирийский военачальник обратился к стоявшим на стене иудейским военачальникам на их родном языке (возможно, он был одним из угнанных в ассирийский плен израильтян). Описав в весьма сильных выражениях ужасы голода и жажды, к которым приведет осада, он предложил осажденным сдаться по доброй воле. Иудейские военачальники были не прочь вести переговоры, но, дабы они не были понятны воинам гарнизона, предложили перейти на арамейский язык (он играл в Иудее того времени такую же роль, как французский язык в Европе XIX в. н.э.). Но ассириец желал именно быть понятым всеми воинами и поэтому отклонил это предложение. Впрочем, пропаганда не имела успеха и осада продолжалась, а тем временем ассирийцы подвергли страну жестокому опустошению. Однако Синаххериб удовольствовался на сей раз тем, что получил от Хизкии огромную дань и разделил значительную часть его царства между своими «союзниками». В Экроне был возвращен к власти свергнутый проассирийский царь и щедро награжден за преданность. Преданные Ассирии правители были посажены также в Сидоне и Аскалоне, причем многие жители Аскалона были жестоко наказаны за попытку мятежа, а их царь со всей семьей уведен в плен. Ассирийские провинции в Сирии были восстановлены и расширены.
Теперь Синаххериб решил раз и навсегда покончить с Мардук-апла-иддином. В 700 г. ассирийская армия огнем и мечом прошла Бит-Якин. Но схватить этого вечного возмутителя спокойствия не удалось и на сей раз. Мардук-апла-иддин погрузил на корабль часть своей семьи, некоторое количество воинов, статуи богов и даже кости своих предков, флотилия пересекла лагуну, и Мардук-апла-иддин высадился в Эламе, в районе Нагиту. Ему не суждено было вернуться в Месопотамию. Этот человек прожил долгую и бурную жизнь (он появился на политической арене еще во время Тиглатпаласара III). Его биография могла бы послужить сюжетом для авантюрного романа. Несколько раз он возлагал на себя тиару вавилонских царей, интриговал и сражался, спасался бегством и начинал все сначала. Он умер в изгнании, но до этого сумел еще причинить Ассирии изрядные неприятности.
Синаххерибу осталось только выместить свой гнев на населении Бит-Якина, а заодно и на Бел-ибни, не проявившем достаточного рвения на службе Ассирии. Правителем Вавилона Синаххериб сделал своего сына и наследника Ашшур-надин-шуми. Что касается Элама, то очередная династическая распря сделала это государство на некоторое время неопасным. Вероятно, Синаххериб решил использовать это обстоятельство и продолжать преследование Мардук-апла-иддина на эламской территории: неукротимая энергия этого человека делала его опасным даже в изгнании. Речь шла об экспедиции именно против него, а не против Элама как такового, и это хорошо видно из того факта, что экспедиция на сей раз была морской — весьма редкий случай в практике ассирийцев: финикийские, возможно, и греческие мастера построили в Ниневии флот. Команды кораблей состояли также из финикийцев — опытных мореплавателей, флот спустился по Тигру до Упи (Описа), откуда корабли переволокли (или провели по каналу?) к Евфрату. В Халдее на корабли погрузились войска, и флот вышел в Персидский залив. Преодолев шторм, он благополучно достиг Нагиту. Войска высадились на берег и опустошили несколько приморских городков, захватив
добычу и пленных. Но Мардук-апда-иддин еще раз избежал мести: он умер до прибытия ассирийской карательной экспедиции, которая, таким образом, закончилась ничем.
Незначительные мятежи на востоке и северо-западе были легко подавлены полководцами Синаххериба. Сам же он по примеру своих предшественников пожелал обзавестись новой столицей. Но в отличие от них он не стал строить новый город, а перенес столицу в Ниневию. Этот древний город долгое время находился в небрежении, и Синаххериб решил отстроить его со всей возможной пышностью. Строительные работы в Ниневии начались еще при его вступлении на престол и продолжались около десяти лет. Территория города была значительно увеличена и окружена мощными стенами с 50 воротами, башнями и широким рвом. В городе были прямые улицы и широкие площади, а весь город пересекала «Царская дорога» шириной в 50 метров. Она предназначалась для торжественных процессий. Были также обновлены храмы богов, а старый царский дворец снесен до основания и на его месте выстроен новый, в несколько раз больший. У ворот этого дворца при Синаххерибе и его преемниках выставляли напоказ и подвергали всевозможным издевательствам пленных царей. Вокруг города были насажены обширные сады и парки с иноземными растениями (среди них был, например, древовидный хлопчатник), а для орошения и снабжения города питьевой водой проведен акведук с гор на урартской территории.
В Эламе тем временем восстановилось спокойствие, и новый эламский царь Халлутуш-Иншушинак решил осуществить то, к чему его давно подстрекали все тот же Мардук-апла-иддин и собственная амбиция. В 694 г., всего через полгода после ассирийской морской экспедиции, он стремительно вторгся в Северную Вавилонию. Расположенные здесь города обычно были весьма лояльны по отношению к предшественникам Синаххериба, но он, как уже говорилось, опирался лишь на поддержку военных, а отношения с городами сумел сильно испортить. Поэтому серьезного сопротивления эламиты не встретили, наиболее же ярые сторонники Ассирии были перебиты, Ашшур-надин-шуми был уведен пленником в Элам, где вскоре умер или был убит, а царем в Вавилоне эламиты посадили свою марионетку Нергал-ушезиба.
Теперь Синаххерибу предстояло отомстить Эламу за смерть своего сына и наследника, а заодно и вавилонянам — за их фактическое содействие эламитам. В 693 г. эламско-вавилонская армия была разбита около Ниппура, а Нергал-ушезиб попал в плен. Эламскому царю это поражение также стоило трона— он был свергнут в результате дворцового переворота, но и его преемник вскоре был убит. Ассирийское войско вторглось в горы на границе Элама, но наступившая суровая зима заставила ассирийцев отойти. Вавилоняне, не без основания ожидая жестокой расправы, стали готовиться к обороне и, рассчитывая на помощь халдейских племен, сделали своим царем халдея Мушезиб-Мардука, которого Синаххериб в своих надписях пренебрежительно именует уменьшительным именем Шузубу. Мушезиб-Мардук вновь заключил союз с Эламом, а также привлек на свою сторону племена к востоку от Тигра и на вавилоно-ассирийской границе. Мощная эламская армия вступила в Месопотамию и объединилась с вавилонской. Союзники перешли в наступление и были встречены ассирийской
армией на Тигре около Халуле (где-то около устья Диялы). Анналы Синаххериба содержат впечатляющее описание грандиозной битвы, во время которой ассирийские колесницы двигались по ступицу в крови, а на врагов от ужаса напала «медвежья болезнь». Текст не оставляет сомнения в том, что ассирийцы одержали блестящую победу. Вавилонский источник содержит лишь очень краткое сообщение о битве и о том, что Ассирия... потерпела поражение. В действительности исход битвы был, видимо, «ничейным», но обе стороны понесли очень большие потери и вынуждены были на некоторое время прекратить военные действия.
Два года спустя, в 689 г., Синаххериб, воспользовавшись новыми смутами в Эламе, двинулся на Вавилон. Как уже отмечалось, до сих пор ассирийцы, ведя жестокие войны с халдеями, всегда щадили древние храмовые города и уважали их привилегии. Но теперь Синаххериб решил примерно покарать Вавилон. Этот город, не будучи одним из древнейших городов Месопотамии, был тем не менее наиболее почитаемым культовым центром и носил гордые эпитеты «обитель великих богов», «связь небес и земли». Его главное святилище Эсагила— храм Мардука— пользовался почитанием и в Ассирии, а жрецы этого храма были чрезвычайно богаты и влиятельны. Но Синаххериб, как уже отмечалось, не ладил даже с ассирийским жречеством. Тем более он не был расположен считаться со жречеством вавилонским. Вавилон был взят штурмом, а его уцелевшие обитатели изгнаны. Городские стены и все строения Вавилона, включая храмы, были разрушены до основания, а обломки сброшены в Евфрат. Затем речные воды были пущены через то место, где прежде стоял великий город. Статуи богов были увезены в Ассирию, а наскоро сочиненная богословская теория доводила до всеобщего сведения, что великие боги прогневались на свой город за грехи его обитателей и решили покинуть его, отдав на поток и разграбление (Синаххериб, видимо, сам испугался своего поступка). Эта неслыханная и кощунственная расправа привела в ужас всю Переднюю Азию, но вместе с тем усилила враждебность к Ассирии в других странах и породила серьезное недовольство в ней самой. Видимо, это недовольство приняло очень серьезные размеры, ибо Синаххериб счел необходимым сделать уступку жрецам и назначил наследником престола (вместо умершего в плену Ашшур-надин-шуми) своего младшего сына Аш-шур-аха-иддина (Асархаддона) — сына вавилонянки (или арамеянки?) Наки’и и, видимо, ставленника жрецов. Сам Асархаддон в своих анналах сообщает, что его отец «почтил веское слово богов», т.е. подчинился решению оракула, иначе говоря — жрецов. Все ассирийцы от мала до велика, а также и члены царской семьи принесли присягу на верность новому наследнику престола. Разумеется, все это не привело в восторг старших сыновей Синаххериба и их сторонников. Дела на границах тоже шли неблестяще. В Палестине Египту удалось вновь побудить к неповиновению иудейского царя Хизкию. Ассирийское войско снова осадило Иерусалим, и на сей раз его спасла только счастливая случайность, которая была расценена иудеями как Господне чудо. Среди осаждающей армии началась какая-то тяжелая эпидемия, и осаду пришлось поспешно снять. (Следует, однако, заметить, что сведения об этом втором походе на Иерусалим весьма смутны. Многие исследователи считают, что его вообще не было и что библейский рас
сказ о чуде относится к походу 701 г. Возможно, этим и объясняется тот факт, что Синаххериб удовольствовался выкупом, вместо того чтобы забрать все.) Урарту сумело вновь отвоевать Муцацир и некоторые другие пограничные области, а Табал возвратил себе независимость. Все это были события как будто бы и не слишком крупные, но весьма многозначительные.
Синаххериб не любил своего наследника и не доверял ему, так как хорошо понимал, что на Асархаддона возлагает свои надежды жреческая партия, с его же именем связывались и надежды изгнанных вавилонян на восстановление своего города. Асархаддону, видимо, пришлось удалиться в северно-сирийские провинции.
Хозяйство и социальная структура
О состоянии хозяйства и общества Ассирии в начале I тысячелетия до н.э. можно судить лишь по косвенным данным, так как документально этот период освещен очень слабо. Прежде всего следует отметить практическое прекращение транзитной торговли— основного источника богатств ассирийской верхушки. На караванных путях в Сирию и Каппадокию сидели теперь бесчисленные мелкие царьки и вожди кочевых или полукочевых племен. Все они, разумеется, старались урвать свою долю либо посредством пошлин, либо просто с помощью грабежа караванов. Нашествие халдеев и династические распри привели к хаосу в Вавилонии, нанеся тем самым удар и по южной торговле. Ассирия целиком зависела от импорта многих видов сырья, вследствие чего прекращение торговли должно было сильно ухудшить также положение ремесленников и вообще конъюнктуру на внутреннем рынке. Что же касается земледельцев, то и их положение должно было сильно ухудшиться. Вследствие прекращения завоевательных войн знать должна была искать источники обогащения внутри страны, и притом на сильно сократившейся территории. Таким источником могло быть только обезземеление и закабаление крестьян-общинников. Эти процессы начались, как уже отмечалось, еще в Среднеассирийский период, но теперь неизбежно должны были стать более интенсивными. В Новоассирийский период процедура отчуждения недвижимости стала гораздо более простой, чем в Среднеассирийский (подробнее об этом см. ниже). Когда именно произошла эта перемена, сказать трудно, но можно предположить, что она имела место как раз в описываемое «смутное время». Процесс этот продолжался, по-видимому, и тогда, когда Ассирия вновь перешла к политике экспансии (вплоть до времени Тиглатпа-ласара III). Доказательством этого может служить один факт, на который до сих пор исследователи не обращали достаточно внимания: в своих победоносных завоевательных походах ассирийские цари X-IX вв. до н.э. практически не брали пленных. В тех немногих случаях, когда пленных все-таки брали, это были ремесленники (ими, как уже отмечалось, Ашшур-нацир-апал населил Кальху) и воины, включавшиеся в состав ассирийской армии, а также рабы для службы во дворце. Важно отметить, что в сельском хозяйстве пленные в этот период не
употребляются. Люди, как правило, не входили и в состав даней, налагавшихся на покоренные народы. Единственное и притом редкое исключение из этого правила составляют рабыни, из этого можно сделать вывод, что потребности верхних слоев ассирийского общества в рабочей силе полностью или почти полностью удовлетворялись за счет «внутренних ресурсов», а нужда в «привозных» рабах практически отсутствовала. Это неизбежно должно было привести к росту закабаления и экспроприации мелких общинников, к резкому падению численности свободного земледельческого населения в коренной Ассирии и обострению социальной розни. Прямых данных об этом, правда, нет, но косвенным свидетельством этих социальных перемен и являются, вероятно, мятежи, потрясавшие Ассирию изнутри в 827-822, 772-758 и 746-745 гг., а также ряд военных неудач, явившихся следствием того, что с ослаблением крестьянства, из которого составлялось ополчение, была подорвана основа военной мощи Ассирии. Развитие хозяйства и реформы Тиглатпаласара III, о которых говорилось выше, привели к существенным переменам как в экономике, так и в социальной структуре. Эти перемены хорошо отражены в текстах эпохи Саргона II и саргонидов, на них и будет основываться наше описание экономики и общества.
Прежде всего следует отметить, что в Новоассирийский период была выработана простая, универсальная и весьма удобная форма юридического документа, фиксирующего взаимные обязательства сторон по любой сделке— от купли-продажи недвижимости до ссуды. Унификация формы юридических актов зашла так далеко, что даже судебные решения теперь оформляются как частная сделка между сторонами. При этом различного рода формальности, сопутствовавшие заключению сделок в предшествующие периоды, практически сведены на нет.
Уже одно это изменение и упрощение формы юридических актов позволяет сделать важные выводы о степени развития товарно-денежных отношений. Дело в том, что, чем примитивнее общество, чем ниже уровень развития товарно-денежных отношений, тем более формалистично его право, тем сложнее оформление различного рода сделок. И наоборот, ликвидация формализма, упрощение сделок свидетельствуют о значительном развитии таких отношений. Разумеется, одного этого свидетельства для окончательных выводов недостаточно, но в нашем распоряжении имеются и другие.
Наиболее важным из них является факт распада общинной и большесемейной земельной собственности и превращение ее в частную собственность, а большой семьи — в парную семью, в которой возможен такой брак, когда жена попадает в полную зависимость от мужа, и такой, при котором жена не попадает под патриархальную власть мужа и сохраняет также определенную материальную независимость. Земля теперь продается и покупается без каких-либо ограничений со стороны общины или родственников продавца и притом «навечно». Отмена долгов и возвращение проданных земель их прежним собственникам, по-видимому, постепенно исчезают из практики.
Вторым важным свидетельством является почти полное исчезновение кабальных сделок и вообще ростовщической практики. Оба эти явления характерны для слабо развитых товарно-денежных отношений, при которых, с одной сто
роны, имеется уже потребность в наличных деньгах, а с другой — наблюдается острый их недостаток в обращении. Имеющиеся долговые документы этого периода, судя по размерам ссуд и срокам уплаты, а также по отсутствию в ряде случаев процентов, позволяют сделать вывод, что речь здесь идет чаще всего о сделках между весьма состоятельными людьми, а сами сделки связаны, скорее всего, с коммерческими операциями. Существование широкой рыночной торговли, и притом не меновой, а денежной, подтверждается также свидетельством ряда деловых документов, где говорится о «рыночных ценах (такого-то) города». Наконец, еще одним доводом может служить тот факт, что земельные владения крупных собственников располагались, как правило, не сплошными массивами, а были разбросаны сравнительно мелкими участками на обширной территории, иногда даже в разных провинциях. Трудно допустить, чтобы доход с этих владений мог поступать к собственнику в натуральной форме, скорее всего, он был денежным.
Мы не располагаем почти никакими данными о существовании в рассматриваемый период чеканной монеты, за исключением одного неясного упоминания в надписи Саргона II, которое можно истолковать в том смысле, что Саргон сделал попытку изготовлять медные монеты достоинством в полсикля. Несомненно, однако, что уже существовало четкое представление о серебре как о всеобщем эквиваленте, к которому приводятся все остальные расчетные данные: например, встречающееся изредка упоминание о «ходячем серебре» позволяет предположить также наличие в обращении слитков серебра установленного веса и достоинства, подтверждаемого, вероятно, специальным штемпелем. Такой слиток, удостоверенный, правда, не штемпелем, а процарапанным именем царя, дошел до нас, хотя он происходит не из Ассирии, а из Сам’аля того же времени.
Столь существенные перемены в экономике и в отношениях собственности заставляют предположить перемены и в общественной структуре. И действительно, общество эпохи саргонидов во многих отношениях резко отличается от общества Среднеассирийского периода.
Царь и царская власть
Официальная традиция возводила царскую власть в Ассирии к незапамятным временам «царей, живших в шатрах». До самого конца ассирийские цари сохраняли в своей титулатуре древнейшие титулы укуллум (верховный землеустроитель) и шакканакку (правитель) г. Ашшура. С царской властью было также связано выполнение определенных культовых функций, сохранившихся еще с тех времен, когда царь был просто ишшаккумом, или энсиь Ашшура. Но цари Новоассирийского периода старались быть независимыми от совета старейшин Ашшура. Этот город остался лишь культовым центром — местом коронации и погребения царей, но их резиденция всегда была вне Ашшура. Из этих резиденций они и руководили строительством империи и ее управлением.
Что же касается административных и военных функций царя, то они теоретически ничем, кроме воли богов, не были ограничены и простирались на всю территорию империи, за исключением привилегированных городов, где власть царя
была не столь велика. Однако оговорка о «воле богов» имела чрезвычайно важное практическое значение. «Волю богов» выражали жрецы, т.е. определенная группировка знати. Царь был связан множеством ритуальных требований, а во всех сколько-нибудь серьезных случаях полагалось обращаться к оракулам, т.е. к тем же жрецам. Реально содержание «божественных повелений» определялось соотношением сил между различными группировками, боровшимися за влияние в стране. Так, жрецам и городской верхушке противостояла группировка военной и административной знати. Между этими группировками (учитывая также позиции важнейших городов) и приходилось лавировать царям с большим или меньшим успехом.
Следует еще отметить, что вопреки широко распространенной точке зрения ассирийский царь не был верховным собственником всей земли в государстве. Если ему нужен был определенный участок земли, царю приходилось выкупать или выменивать этот участок у его собственников.
Равным образом царь, по-видимому, не был и «верховным судьей» — во всякому случае, в отношении свободных общинников и горожан. Среди множества писем к царям нет ни одного, содержащего жалобу на несправедливое судебное решение. Судебная функция — одна из прерогатив общины, которую она сохраняла дольше всего. С другой стороны, судебные решения были, видимо, в принципе не подлежащими отмене или пересмотру.
В Ассирии до самого конца ее существования не было твердого порядка престолонаследия. Для назначения наследника из числа своих детей царь, вероятно, обращался к оракулам. Иначе говоря, стать царем только по праву рождения было невозможно, требовалось еще и «божественное избрание», причем это последнее было даже более важным. Ответ оракула зависел, разумеется, от реального соотношения сил между царем и различными группировками знати, прежде всего жрецов. Выше уже отмечалось, что Асархаддон был назначен наследником, скорее всего, против воли своего отца. Более того, боги, «избравшие» того или иного царя, могли затем счесть его недостойным и «передумать» (вспомним участь Салманасара V). Все это, разумеется, открывало широкий простор для династических распрей и узурпаторов. Впрочем, узурпатор становился, с точки зрения ассирийцев, самым что ни на есть законным царем, если боги высказывались в его поддержку. Во время коронационных торжеств и торжественных процессий по случаю Новогодия полагалось кричать: «Ашшур — царь, (такой-то) — наместник Ашшура», т.е. царю ежегодно указывали, так сказать, его место.
Служилая знать
Важнейшая часть дошедших до нас новоассирийских документов (все письма и значительная часть юридических документов, а также документов дворцового хозяйства) связана со служебной и экономической деятельностью крупных и мелких чиновников. Разветвленная военно-бюрократическая система управления Ассирией включала в себя центральный аппарат с его крупными и мелкими чиновниками, а также аппараты провинций, более или менее копирующие цент
ральный. Разумеется, социальный престиж и имущественное положение крупных и мелких чиновников различались очень сильно.
Ассирийская знать была служилой знатью, ибо общинная знать к Новоассирийскому периоду уже исчезла. Цари зорко следили за тем, чтобы не возникали слишком могущественные роды, и, вероятно, для предотвращения этого на важные посты нередко назначали евнухов2. Высшие чиновники носили разнообразные титулы, буквальный смысл которых в ряде случаев не совпадает с их действительными функциями. Да и сами эти функции не всегда определенны, они включали в себя как руководство военными делами (вплоть до командования армиями в походах), так и различного рода хозяйственную и административную деятельность. Кроме того, некоторые высшие чиновники были, как правило, еще и наместниками провинций, приписанных к их должностям. Весьма возможно, что фактически они этими провинциями управляли не лично, а через подчиненных им чиновников, сами же постоянно пребывали при царе. Но при этом они пользовались доходами от провинции, и, таким образом, приписка провинций к определенным должностям была формой вознаграждения носителям этих должностей.
Кроме этого, придворные чины получали и непосредственно из царской казны денежные и натуральные выплаты за счет средств, собираемых в виде податей и дани. Выплаты крупным чиновникам были весьма значительны, а выплаты низшему дворцовому персоналу представляли собой по существу пайки. До нас дошло большое количество списков крупных и мелких должностных лиц, представлявших, вероятно, своего рода «штатное расписание», составленное, в частности, для производства выплат.
Наконец, крупные чиновники владели также значительными земельными фондами и большим количеством людей. Дошедшие до нас купчие и «приложения» к иммунитетным грамотам (см. ниже) позволяют составить известное представление о размерах этих владений: количество людей и земли в руках одного лица колеблется от нескольких десятков до многих сотен «душ» и гектаров. Сюда следует добавить также сады, виноградники и многие десятки килограммов серебра.
Как уже отмечалось, земли эти, как правило, не составляли единого массива. В этом факте тоже проявлялась предусмотрительность ассирийских царей, всячески избегавших появления на территории Ассирии крупных владений. Царь мог подарить своему придворному значительные земли, но они были разбросаны по нескольким провинциям. Поэтому такой вельможа сам сельским хозяйством, как правило, не занимался, да и времени для этого не имел. Принадлежащие ему земли либо сдавались мелкими участками в аренду, либо (чаще) обрабатывались сидящими на этой земле подневольными людьми. И в том и в другом случае доход, как указывалось выше, должен был получаться в денежной форме.
2 О роли евнухов в ассирийской бюрократии см.: Grayson А.К. Eunuchs in Power. Their Role in Assyrian Bureaucracy. — Vom Alten Orient zum Alten Testament, Bd. 240, 1995, S. 85-98. Там же подробная библиография. См. также: Tadmor Н. The Role of Chief Eunuch and the Place of Eunuchs in the Assyrian Empire. — RAI 47. Helsinki, 2002, p. 603-611.
Что касается мелкого чиновничества, то его положение, разумеется, было значительно хуже. Их письма полны униженных просьб не дать им «умереть с голоду как собакам», источником их существования было либо жалованье (очень маленькое, скорее паек), либо очень небольшой служебный надел. Как правило, и эти чиновники не вели хозяйства на земле сами, а сдавали ее в аренду либо сажали на нее подневольных людей.
Чиновничьи должности были наследственными, но не по закону, а по обычаю. Однако на практике назначение даже на не слишком важный пост зависело от воли царя. Царь (если у него не было особых соображений) обычно передавал должность потомкам по мужской линии: сыновьям или, в крайнем случае, племянникам. Если же умерший мелкий чиновник не имел мужского потомства, его семья лишалась служебного надела и впадала в нищету.
При восшествии на престол нового царя все чиновники от мала до велика приносили «присягу» или «клятву». Центральное место в тексте «присяги» занимает обязательство незамедлительно доносить царю о всяком заговоре, мятеже и злоупотреблении. Что эта клятва не оставалась мертвой буквой, видно из писем к царям, заметную часть которых составляют доносы.
Правовой режим земли. Иммунитетные грамоты
Весьма значительная часть земель в Ассирийской державе была расположена во вновь завоеванных провинциях и принадлежала царю по праву завоевания. В коренной Ассирии, а также и на вновь приобретенных территориях, там, где сохранилось мелкое землевладение свободных крестьян, общины превратились в чисто административные и фискальные единицы, а земля стала частной собственностью. Что касается царского земельного фонда, то земли из его состава раздавались крупным и мелким чиновникам за службу — в условное владение или в собственность. Существовало также, по-видимому, хотя и в относительно небольших масштабах, личное (дворцовое) хозяйство царя и членов царской семьи, но сведения документов об этом чрезвычайно скупы. Неизвестно также, можно ли было отчуждать землю, даваемую под условие службы. Наконец, существовали также обширные владения храмов.
Что же касается земель, находившихся в частной собственности, то на них лежали многочисленные и весьма тяжелые подати в пользу государства и храмов. Государственные подати собирались провинциальными властями. Часть собранного использовалась для содержания административного аппарата и расквартированных в провинции войск, а остальное отсылалось в столицу. Подати взимались продуктами сельского хозяйства, скотом и т.п. Подати именовались: «зерно исторжения» (подать продуктами сельского хозяйства, не обязательно именно зерном, в размере ’/ю урожая); «солома» (подать фуражом в размере % сбора); «взятие крупного и мелкого скота» (по 1 голове скота с каждых двадцати) и др. Подать в пользу храмов называлась «пятиной», но, по-видимому, были и другие поборы. Следует особо подчеркнуть, что податями облагалась
именно земля (а не люди). Поэтому подати в принципе обязаны были платить все без исключения землевладельцы — как свободные собственники земли, так и держатели и даже сидящие на земле подневольные люди.
С владением землей были связаны также и повинности, их можно разделить на общегосударственные и специальные, т.е. царскую службу. Общегосударственным повинностям в принципе тоже подлежали все землевладельцы. Такими повинностями были военная — ильку (служба в ополчении) и строительная — тупшикку (особенно по ремонту ирригационных сооружений). Специальные повинности были связаны со служебными наделами и заключались в исполнении той службы, за которую и был выдан надел. Такой повинностью могло быть исполнение мелкой чиновничьей должности в одном из центральных или местных ведомств, поставки сельскохозяйственных продуктов или лошадей государству или храмам и т.п. Практиковалось также коллективное наделение землей за службу целых кочевых племен, например племени итуайя, живших неподалеку от Ашшура. Это племя несло полицейскую службу, особенно в пограничных провинциях, и предоставляемая ему земля носила старинное название «земля лука».
В Ассирии этого периода существовали различные виды привилегированного землевладения. Такой привилегией являлся предоставляемый землевладельцу податной и повинностный иммунитет, т.е. освобождение от всех или только некоторых податей и повинностей, а иногда даже и от пошлин. Иммунитет предоставлялся на основе специального документа, который мы условно именуем «иммунитетной грамотой». К сожалению, до нас не дошел полный текст ни одной из этих грамот, все имеющиеся тексты в большей или меньшей степени повреждены и к тому же нестандартны. Тем не менее есть возможность реконструировать их содержание. Вот попытка такой реконструкции:
Ашшурбанапал, могучий царь, царь вселенной, царь Ассирии, укуллум (т.е. верховный землеустроитель — В.Я.), сын Асархаддона, могучего царя, царя вселенной, царя Ассирии, укуллума, сына Синаххериба, могучего царя, царя вселенной, царя Ассирии, укуллума же.
Я — Ашшурбанапал, великий царь, могучий царь, царь вселенной, царь Ассирии, царь четырех стран света, праведный пастырь, творящий добро, царь справедливости, любящий истину, ублаготворяющий своих людей, тот, кто благосклонен к своим придворным, стоящим перед ним, и к блюдущему со страхом его царское слово обращается милостиво. Такому-то (имя и титул), добродетельному и праведному, который от моего пребывания наследником и до воцарения взирал (преданно) на царя, своего господина, и чье сердце пребывало в готовности для его господина, кто пред моим лицом находился постоянно и поступал правильно, кто в моем дворце возвеличился добрым именем и нес мою царскую службу — по желанию моего сердца и собственному разумению о благополучии его я подумал и установил для него (как) подарок', поля, сады и людей, которых он под сенью моей приобрел и которыми пользуется, его личное хозяйство, я освободил, (документ) написал и печатью своей царской запечатал. (Такому-то), почитающему мою царственность, я дал (это).
Эти поля и сады — «зерно исторжения» их не исторгнут, «солому» их не будут взимать, «взятие» со скота их, крупного и мелкого, не возьмут.
С полей и садов эти (люди) на (военную) службу и строительство по призыву не будут гонимы, от пошлин за пристань и переправу они свободны... «отрезки» кож они не будут давать... подобно ему самому, они свободны
<...>
Будущий царь из царей, потомок всех, чье имя назовет Ашшур [для царствования}, потомству их окажи добро и милость, (ибо) добродетельны они по отношению к царю, владыке их. [Если же кто-либо из них} против царя, владыки их, согрешит [или руку сво}ю поднимет против бога, не следуй словам враждебного клеветника, проверь и установи, истинно ли слово это. Не поступай [поспешно} вопреки [этой} скрепляющей печати, но соответственно вине покарай его\
Когда же (такой-то) во дворце моем в доброй славе отойдет к судьбе, там, где он скажет, пусть погребут его, дабы покоился он, где пожелает его сердце. На месте упокоения не тревожь его, не поднимай для злого дела руки свои на негоХ [Вот} воздаяние за то, что добродетелен и праведен он по отношению к царю, владыке своему\
Того же, кто из гробницы, дома упокоения, его заберет — царь, владыка его, да ввергнет в немилость и не окажет благосклонности, вход в храм и во дворец да запретит он ему\ Под гневом бога и царя да носит он постоянно свою голову, непогребенный труп его да растерзают собакиХ
Царь ли, правитель ли, который слова этого документа изменит, — во имя Ашшура, Адада, Бера, ашшурского Эллиля и ашшурской Иштар [да будет он проклятХ}.
Будущий правитель, который слова этого документа не изменит, — Ашшур, Адад, Бер, ашшурский Эллилъ и ашшурская Иштар молитвы твои да услышатХ (Дата).
Мы видим, таким образом, что иммунитетная грамота этого типа освобождает получателя и людей, которых он приобрел (т.е. его работников), от всех податей и повинностей в пользу государства. Но, насколько можно судить, имея в виду лакуны в тексте, здесь ничего не сказано об обязанностях в отношении храмов. Зато другая грамота (к сожалению, плохо сохранившаяся) освобождает, по-видимому, и от этих обязанностей. Наконец, еще одна грамота, устанавливая иммунитет, специально оговаривает, что получатели этой грамоты будут выплачивать определенное количество продуктов храмам Ашшура и Бабы. Из других документов, в частности из писем и юридических актов, видно, что и в отношении государства иммунитет мог быть либо полным, либо частичным. Иммунитетные грамоты выдавались не только частным лицам, но и храмам и городам.
Таким образом, существовали различные степени иммунитета, и наибольшей степенью, как это видно из документов, пользовались высокопоставленные чиновники. Полный иммунитет представлял собой уступку государством всех податей и повинностей в пользу получателя иммунитета. Разумеется, это значительно увеличивало доходы землевладельца, особенно крупного, ибо позволяло ему выколачивать из своих «людей» гораздо больше прибавочного продукта.
Лица, пользовавшиеся той или иной степенью иммунитета, назывались заку, т.е. «свободными», или, скорее, заккуь «освобожденными». Фактически же эта категория объединяла людей с самым различным социальным статусом — от высокопоставленных вельмож до подневольных людей.
Иммунитет упоминается в документах довольно часто, и, следовательно, пожалование иммунитета отнюдь не было актом исключительной милости за исключительные заслуги. Перечень заслуг получателя иммунитетной грамоты, содержащийся в ее вступительной части, имеет, как правило, весьма стандартный характер и состоит, в сущности, из общих мест. Пожалование иммунитета вельможам и храмам сопровождалось, как правило, одновременным пожалованием более или менее значительных земельных владений с людьми. Список жалуемых земель и людей либо включался в текст грамоты, либо представлял собой отдельное «приложение» к ней.
Весьма интересным, хотя и далеко не легким для понимания документом является так называемый «Харранский реестр». Различные исследователи по-разному толкуют этот документ. Многие считают, что «реестр» является списком царских земельных владений, расположенных в различных провинциях. Но это положение пока относят к спорным, равно как и мнение автора настоящей главы, считающего, что «Харранский реестр» представляет собой поземельный кадастровый список провинции Харран, составленный для взимания податей и исполнения повинностей. Различные таблички, входящие в состав «Реестра», содержат, по-видимому, списки земель с различным правовым режимом. Здесь можно выделить царские земли, земли, приписанные к определенным должностям, и частные владения. Во всех случаях земли состоят из небольших хозяйств, обслуживаемых каждое одной семьей (указывается глава семьи и ее состав, размер участка, количество скота и т.п.). Но главы этих семей не являются собственниками своих хозяйств, и лишь в некоторых случаях то или иное небольшое имущество (в том числе и земельный участок) в составе хозяйств специально обозначается как «их собственное». Из этого факта следует сделать вывод, что непосредственные производители в Ассирии хотя и могли обладать собственностью на средства производства и иногда обладали ею, но в большинстве случаев были такой собственности лишены.
Непосредственные производители
Как уже отмечалось выше, свободное крестьянское землевладение — во всяком случае, за пределами привилегированных городов, о положении в которых мы знаем мало, — в Новоассирийский период находилось в упадке. Весьма характерным показателем этого является очень слабое развитие ростовщичества: ведь ростовщики паразитируют в основном именно на мелких собственниках. До нас дошло значительное количество долговых расписок, но почти все эти сделки не носили ростовщического характера и заключались между весьма состоятельными людьми. Размеры займов, как денежных, так и натуральных, обычно весьма
значительны (займы меньше 4-5 сиклей серебра как будто вообще не встречаются, часто речь идет о суммах до 10-12 мин серебра— стоимость нескольких десятков рабов или большого участка земли), в качестве залогов предоставляется весьма ценное имущество (рабы, значительные земельные участки и т.п.), сроки займов, как правило, весьма коротки, в большинстве случаев речь идет, вероятнее всего, о коммерческих сделках, хотя не исключено, что отдельные документы фиксируют разорение какого-нибудь промотавшегося аристократа. Очень характерно также и то, что заклад личности в обеспечение ссуды теперь, в отличие от предшествующего периода, практикуется весьма редко.
В имеющихся текстах не удается также обнаружить крупных ростовщиков, подобных поздневавилонским. По всем текстам удалось пока обнаружить лишь одного мелкого ростовщика по имени Бахиану. Его деятельность отражена в 16 документах, охватывающих период с 704 по 667 г. Если даже предполагать, что до нас дошли не все документы, деятельность Бахиану нельзя признать очень интенсивной. Бахиану выдавал мелкие зерновые и (реже) денежные ссуды, и к его услугам прибегало довольно много людей (некоторые документы представляют собой целые списки должников). В одном случае он «выкупил» (из долговой кабалы?) человека, т.е., вероятно, взял его в кабалу к себе. Клиентами Бахиану, очевидно, как раз и были мелкие собственники. Этими документами и «Харран-ским реестром» (если он правильно здесь истолкован) в сущности и ограничиваются те немногие косвенные данные о свободном крестьянстве, которые удается извлечь из имеющихся документов. Но в рассматриваемый период большинство сельскохозяйственного населения Ассирии уже составляли люди, лишенные личной свободы и, как правило, собственности на средства производства.
Как уже отмечалось, начиная с царствования Тиглатпаласара III, ассирийские цари практикуют массовое переселение жителей завоеванных стран в коренную Ассирию и во вновь образуемые провинции. Царские анналы и другие документы содержат большое количество сведений о таких переселениях, и, если верить приводимым там цифрам, число переселенцев составляет несколько миллионов. Однако к этим цифрам следует относиться критически, так как ассирийские цари любили преувеличивать как масштабы своих побед, так и размеры добычи.
Важно при этом отметить, что все эти тексты сообщают о том, сколько людей было угнано, но ничего не говорят о том, сколько их дошло до места назначения. Между тем путь был всегда неблизкий: переселяли обычно с одного края империи на другой. Так, уведенное в плен население Самарии было поселено в северо-восточных провинциях Ассирии. Ясно, что смертность в пути среди переселенцев должна была быть огромной, особенно среди детей и стариков. В «Хар-ранском реестре» (650-е годы) упоминаются переселенцы-гамбулийцы, и характерно, что в этих семьях нет детей, хотя, как будет показано ниже, принимались меры к тому, чтобы переселение совершалось в порядке и потери были не слишком большими, сам же факт этих потерь никого не смущал. Приведем несколько писем, ярко характеризующих судьбу переселенцев и самую организацию переселения.
Письмо царя Ашшурбанапала (ABL 304):
Приказ царя Манну-ки-Ададу. 1119 сильных мужчин, а всего их— 5 тысяч душ. Кто умер из них — тот умер, а кто жив — тот жив. Они {должны быть) отданы в пехоту дворца. Коль скоро тебе указаны их должности, почему ты забираешь иных в «прикрепленные», иных в посыльные (?), иных в кавалерию! Ты превращаешь их в твой собственный полк. Ты и не подумал: «Когда сбор их на-станет-таки, кого я представлю во дворец?»
Вот теперь я пишу тебе: «Множество из них, направо и налево, кого попало, ты разослал с поручениями. Где бы они ни находились, созови их\ К моему чиновнику пусть они явятся. Сейчас я посылаю моего чиновника, он о них позаботится».
Письмо это интересно в трех отношениях. Во-первых, количество «сильных мужчин» составляет примерно четверть всех переселенцев. Вероятно, число взрослых женщин среди них должно было быть примерно таким же или большим (часть мужчин неизбежно должна была погибнуть в бою). Это значит, что число детей и стариков непропорционально мало.
Во-вторых, смертность среди переселенцев ни малейшего беспокойства не вызывала. Наконец, в-третьих, переселенцы подлежат «распределению» согласно установленному плану. Адресат письма пытался использовать их в личных интересах, за что и получает выговор от царя. Однако тон письма скорее укоряющий, чем грозный. Очевидно, проступок Манну-ки-Адада был незначительным, не слишком выходящим за пределы обычной практики.
О самом порядке переселения свидетельствует другое письмо (ND 643, Iraq 18,p.l):
Царю, владыке моему, раб твой Ашшур-мат-ка-тура. Благополучие царю, владыке моему! Что касается людей страны арамеев, о которых царь, владыка мой, писал так: «Заставь их отправиться в путь», [я могу сообщить} так: Они пойдут в путь. Их продовольствие (?), одежду, бурдюки, обувь и масло я дам им. Так как достаточно, о владыка, ослов моих забирают, то уж повозки (?) свои в дорогу я не отправлю* (ср. рельеф, на котором изображено переселение).
Переселение, таким образом, осуществляется в строгом порядке. Местные власти снабжают переселенцев на дорогу продовольствием, одеждой, обувью и даже транспортными средствами. Следовательно, принимались известные меры, чтобы свести «естественную» убыль переселенцев до «приемлемого минимума». Более того, в другом письме царю от того же лица вновь упоминаются арамеи и говорится, по-видимому, о понуждении их к вступлению в брак (письмо малопонятно из-за плохой сохранности). Отсюда можно сделать вывод, что переселять старались не одиночек, а семьи. Переселение, таким образом, требовало определенной подготовки, и потому производилось обычно не сразу после завоевания, а через 1-3 года.
Письмо царя Асархаддона богу Ашшуру рассказывает о судьбе этих угнанных людей: часть из них царь подарил храмам, а другую часть
...колесничих личной охраныt конников личной охраны, рядовых (?), «посаженных», надзирателей, ремесленников, мастеров, саперов, щитоносцев, разведчиков, пахарей, пастухов, виноградарей я прибавил в большом числе к обширным войскам (бога) Ашшура и к полкам прежних царей, моих предков, и Ассирию до пределов ее я наполнил, словно колчан. Остальных из них я распределил, как мелкий скот, моим дворцам, моим вельможам вокруг (?) моего дворца и людям Ниневии, Калъху, Какзу и Арбелы.
Существовали также и другие категории подневольных людей («прикрепленные» — раксу и т.п.). Установить различия между ними пока не представляется возможным. Общее же состояло в том, что все эти люди были прикреплены к земле, т.е. продавались, как правило, только вместе с землей и всей семьей, т.е. в составе целостного хозяйства. Сами ассирийцы именуют их индивидуально, либо по категории (см. выше), либо по профессиям (пахарь, садовник и т.п.), а обобщенно (целые группы) — «душами» либо «рабами». С точки зрения права они и рассматривались как рабы, т.е. их можно было продавать и покупать. Но вместе с тем их юридический статус приобрел немало новых черт. Так, эти люди могут владеть собственностью (в том числе и земельной), заключают сделки от своего имени, имеют личные печати, вступают в брак и т.п., т.е. во многих отношениях рассматриваются как лица, а не как вещи. На рабском положении в «классическом» смысле этого слова остаются, видимо, лишь домашние рабы, составлявшие прислугу.
Участь пленного была, таким образом, делом случая: он мог попасть либо в «посаженные», либо в состав домовой челяди. С другой стороны, свободные земледельцы-общинники (особенно на вновь завоеванных землях), видимо, проделывают в этот же период путь «навстречу» пленникам, сливаясь с ними в одну общую массу подневольных земледельцев.
Проследить детали этого превращения в подробностях пока невозможно. Однако некоторые документы позволяют представить себе его в общих чертах. Выше уже приводился текст иммунитетной грамоты, где упоминается имущество, «которое он (получатель грамоты) приобрел и которым пользуется», т.е. речь идет о двух разных категориях имущества. По всей вероятности, под второй категорией следует понимать земли и людей, которые приписаны к его должности в качестве кормления. Таким образом, свободные крестьяне, живущие на этих землях, на основании этого акта утрачивают свою свободу. Имеется также документ, фиксирующий пожалование царем Синаххерибом храму Новогоднего праздника большого числа пленных. В другом аналогичном документе царь дарит храму Забабы несколько десятков человек, жителей города Арбелы (коренного ассирийского города!). Здесь, таким образом, утрачивают свободу уже не сельские жители, но горожане (следует, однако, заметить, что документ этот — единственный в своем роде). Имеется еще ряд косвенных свидетельств того, что такая передача свободных людей крупным чиновникам сначала «во временное пользование», а затем и закрепление их за ним навечно действительно имели место. Разумеется, такие действия должны были нередко наталкиваться на сопротивление. Косвенным подтверждением этого может служить приводимое
ниже письмо ABL 610. К сожалению, начало и конец письма отсутствуют. Автор письма (по-видимому, областеначальник) докладывает царю о своих неудачных попытках исполнить распоряжения царя относительно населения. Местные жители отказались дать людей, причем автор заранее предупреждал царя, что так и случится. Далее текст гласит:
Царь, владыка мои, говорил так: Приведи два [или] три поселения из них, Бель-дури я их отдам. (И) так (говорил): Я вместо них дам тебе (других). Я ответил так: Я пойду, с ними поговорю. Если они не послушают меня, царю, владыке моему, я напишу. Теперь пусть царь, владыка мой, своего телохранителя к ним пошлет, (говоря) так: Люди ваши, подобно тому как прежде три дня для Нергал-нацира (и) для Ниниб-илайи (работали?)... (Далее текст обломан).
Весьма возможно, что именно это письмо и отражает процесс превращения свободных (или частично свободных?) людей в подневольных.
При удобном случае эти люди убегали за рубеж, но и это их не всегда спасало. Любопытно в этом смысле другое письмо (ABL 920):
Царю стран, владыке моему, раб твой Син-табни-уцур. Син и Нингалъ к царю, владыке моему, да будут благосклонны! Ежедневно Сина (и) Нингаль о благополучии царя стран, владыки моего, я молю. Что касается пленных, которых из Приморья мы взяли, — они люди города Экуша (Южная Вавилония. — В.Я.), люди прежние дома отца моего, который (был) под сенью царей, отцов твоих. (На) Нингалъ-иддина, отца моего, они работали, пока люди среди них оказались, которые присоединились к своим родственникам. Теперь царь, владыка мой, к областеначалънику пусть отошлет (их), под сень царя, владыки моего. Человек, (разбирающий) их дело, сердца (их) радостными пусть сделает, начальников их пусть он выслушает и людей этих перед лицо царя, владыки моего, пусть представит.
Итак, на отца автора письма «под сенью царей» (ср. текст иммунитетных грамот!) работало много людей. По-видимому, это были целые общины со своими начальниками, что позволяет предположить, что в недавнем прошлом они были свободными. Жили они в Южной Вавилонии и поэтому при первом же удобном случае бежали в Приморье (оно не находилось под властью Ассирии), где и присоединились «к своим родственникам». При очередном походе ассирийцев в Приморье они попали в число пленников и подлежат обычному разделу. Автор, очевидно, желает вернуть их себе, но не уверен, что ему это удастся. В этой связи обращает на себя внимание вступительное славословие, далеко превосходящее обычные размеры, и заискивающий тон письма в целом.
Кто же были эти люди? Ответить на этот вопрос нелегко. Но можно, по-видимому, сказать, кем они не были. Они не были купленными рабами или кабальными: для того чтобы получить обратно беглых рабов, нет надобности прибегать к столь униженным просьбам. Да и автор письма не преминул бы указать на столь важное обстоятельство. Он же говорит лишь о том, что они «работали» на его отца. Наконец, возвращение в прежнее состояние должно «сделать их сердца радостными». Объяснение этому может быть только одно: они будут та
ким образом избавлены от рабства— обычной участи пленных. Каков же был их статус? Для ответа на этот вопрос следует вновь возвратиться к текстам иммунитетных грамот; в приведенном тексте грамоты говорится о полях, садах и людях, которых он (получатель грамоты) «приобрел и которыми пользовался». Таким образом, речь идет о двух разных категориях имущества. Далее в тексте говорится, что все это царь «освободил», составил снабженный печатью документ и «дал» получателю грамоты. Следует полагать, что глагол «дал» относится не только к документу, но и к перечисленному в нем имуществу, причем, разумеется, только к той части, которой получатель «пользовался». В таком случае речь может идти только о том имуществе, которое было приписано к его должности в качестве «кормления». Если наше истолкование этих текстов правильно, то речь идет о свободных прежде земледельцах, которые на основании этого акта утрачивают свою свободу. Ступени на этом пути таковы: сначала полузависимость прикрепленных к земле («кормления»), затем — полная зависимость (переход в собственность вельможи). Так изменяется положение свободных. С другой стороны, как уже отмечалось выше, положение рабов тоже существенно изменилось.
Таким образом, рабы и свободные мелкие земледельцы встречались, так сказать, посредине, образуя единое сословие подневольных людей.
Свободное же население сосредоточивалось в городских общинах, являвшихся центрами ремесла и торговли. Хотя в ассирийских текстах купцы почти не упоминаются (это, вероятно, объясняется превратностями археологической удачи), но из других источников (Библия) известно, что ассирийский купец был так же хорошо знаком окрестным народам и внушал им такую же ненависть, как и ассирийский воин. Крупные города Ассирии и Вавилонии издревле пользовались привилегиями и яростно отстаивали их от всяких покушений со стороны царей. Как уже отмечалось, такая попытка была сделана Салманасаром V и кончилась для него плохо. Саргон восстановил эти привилегии и распространил их на Харран, а также на ряд городов Вавилонии. Впоследствии земли горожан Ашшура были освобождены Асархаддоном от всех податей и повинностей. Таким образом, граждане привилегированных городов входили в категорию «освобожденных», территория города становилась особой землей, а в пределах государства — землей, на которую власть царской администрации распространялась лишь в слабой степени.
Культура Ассирии
Мы весьма мало знаем о повседневной жизни ассирийцев, особенно средних и низших слоев ассирийского общества. Как заметил в свое время известный историк А.Т. Олмстед, археологи, раскапывавшие города Ассирии, были «монархистами», т.е. интересовались главным образом дворцами и храмами. Немногие известные дома ассирийцев ничем в принципе не отличаются от домов в Южной Месопотамии, но обычно были одноэтажными. Они также имели внутренний дворик и еще один, служивший «семейным кладбищем». В некоторых
домах имелись комнаты для омовений с асфальтовым полом и стоком для воды. Стены возводились из сырцового кирпича или были глинобитными. Они покрывались белой штукатуркой. Одежда ассирийцев была более основательной, чем у населения юга Месопотамии, ибо в Ассирии климат более суровый, зимой бывают довольно сильные холода. Она состояла из длинной рубахи, поверх которой надевали еще нечто вроде сари. Обувью служили сандалии из кожаных ремней, а у воинов— сапоги. Материалом для изготовления одежды служили шерстяные ткани. Более состоятельные люди носили одежду из льняных тканей, а очень богатые— даже из виссона. Ткани были белыми или окрашенными в яркие цвета с помощью растительных красок. Импортировалась, а также получалась в виде дани (в небольших количествах) из Финикии шерсть, окрашенная пурпуром, но ткани из нее стоили целое состояние. Богатые одежды отделывались вышивкой и бахромой.
Изготовлявшаяся в Ассирии керамика не отличалась особым изяществом. Но ассирийские мастера умели изготовлять очень красивые сосуды из полупрозрачного алебастра, залежи которого имелись в отрогах Загроса. Мелкая пластика (из металла, терракоты и слоновой кости) нередко была весьма изысканной, в ней ощущается сильное финикийское и египетское влияние, так что трудно отличить местные изделия от привозных.
Если ассирийская архитектура не отличалась особой самобытностью (цари сами отмечали, что их дворцы строились «на хеттский манер»), то украшения этих дворцов представляют собой, пожалуй, высшее достижение в месопотамском изобразительном искусстве. Внутри дворцы украшались огромными скульптурными фризами, выполненными в очень низком рельефе из известняка и ярко раскрашенными минеральной краской. На этих фризах можно увидеть битвы и охоту, пиры и жестокие расправы, торжественные процессии и принесение даней покоренными народами и многое другое. И хотя все изображения скомпонованы из готовых, канонических деталей, они являют нашему взору большое разнообразие композиций, подчас очень сложных. Фигуры людей и животных даны нередко в сильных движениях, натуралистично и подробно. Однако этот натурализм умело сочетается со стилизацией, с изысканной плавностью и смелостью линий и, наконец, с раскраской, не имеющей зачастую ничего общего с натуральным цветом изображаемых предметов, т.е. выполняющей чисто декоративную функцию. То же самое можно сказать и о более редких композициях, выполненных из цветного глазурованного кирпича, и росписях. Можно встретить, например, желтые фигуры на голубом фоне, желтых и синих лошадей и т.п. В своих рельефах ассирийские скульпторы пытались даже передавать пространство, прибегая для этого к кулисной перспективе. Вместе с тем они мало заботились о реальном соотношении размеров, делая наиболее важные фигуры в своих рельефах самыми большими. Главная тема изобразительного искусства Ассирии — это царь и его деяния. Царей же изображают и немногие дошедшие до нас (и, видимо, вообще редко изготовлявшиеся) образцы «круглой» скульптуры. Наиболее интересна статуэтка из янтаря и золота— портрет Ашшур-нацир-апала И. Несмотря на миниатюрные размеры, она внушает впечатление мощи и величия. Искусство ассирийских скульпторов оказало большое влияние на
скульптуру последующих веков (персидскую и даже греческую), и в наше время эти рельефы, разрозненные, нередко сильно поврежденные, утратившие свои краски, производят очень сильное воздействие. Они — непреходящий вклад, внесенный ассирийцами в сокровищницу мировой культуры.
Вторым таким вкладом является разработка литературного жанра истории. Хотя надписи ассирийских царей, повествующие о событиях их царствования, принято называть анналами, т.е. летописями, в действительности они не представляют собой погодных записей. Эту функцию выполняли списки эпонимов — лиммуь содержащие также заметки о важнейших событиях того или иного года. Царские же «анналы» представляют собой литературные композиции, в которых исторические события «аранжированы», чтобы сделать повествование более красочным, а также, разумеется, чтобы выставить деяния царя в наиболее выгодном свете. В этих целях ассирийские историки нередко позволяли себе сильные преувеличения или, наоборот, умолчания. Стиль этих сочинений весьма энергичен, насыщен яркими образами. Текст изобилует цитатами из старинных литературных произведений, но вместе с тем, подобно рельефам, нередко компонуется из стандартных деталей (обычно в описании многократно повторяющихся событий). Ассирийские историки очень старались писать на «хорошем» аккадском языке, т.е. на вавилонском литературном диалекте, но у них это далеко не всегда получалось. Тексты «анналов» изобилуют ассиризмами, но это лишь увеличивает их своеобразие, делает их язык более живым и энергичным, выгодно отличающимся от сухого ученого языка вавилонских хроник. Все перечисленные особенности ассирийских «анналов» нередко сильно затрудняют их использование современными историками, но зато значительно повышают их литературную ценность. Разумеется, и историческая ценность их огромна. В сущности, ассирийцы первыми стали писать историю. Что же касается художественной литературы, то здесь достижения ассирийцев скромнее, но тоже весьма интересны и важны для истории литературы; например, видение загробного мира, явленное некоему ассирийскому царевичу (вероятно, Ашшурбанапалу),— первый пример «путешествия на тот свет» живого человека, прообраз «Божественной комедии». Малочисленность оригинальных сочинений в этой библиотеке объясняется скорее всего тем, что новые литературные тексты уже создаются в это время на арамейском языке и поэтому записываются на недолговечном материале. Частично они сохранились в Египте: знаменитое повествование об Ахикаре (советнике Си-наххериба), переведенное впоследствии на многие языки, в том числе и на славянский, и обнаруженный сравнительно недавно «Роман об Ашшурбанапале и Ша-маш-шум-укине» (повествование на арамейском языке, но записанное египетской демотикой, о братоубийственной войне и попытках сестры помирить братьев).
Последние десятилетия
Ассирии
Библия сообщает, что Синаххериб был убит в храме двумя своими сыновьями. Ассирийский источник говорит, что Синаххериб был убит «между шеду и ла
массу», т.е. между изображениями божеств-охранителей и, следовательно, с ассирийской точки зрения — в присутствии этих божеств. Так или иначе, оба источника видят в смерти Синаххериба небесную кару: нечестивец наказан вдвойне нечестивым деянием — отцеубийством, совершенным перед его богами. Некоторые исследователи не исключают возможности, что вдохновителем убийства был сам Асархаддон. Впрочем, в Месопотамии было очень много людей, у которых имелись причины желать смерти Синаххерибу.
Так или иначе, Ашшур-аха-иддину (Асархаддон, 680-669) пришлось предпринять поход на Ниневию, дабы пресечь попытки своих старших братьев захватить власть. Гражданская война продолжалась шесть месяцев и закончилась победой Асархаддона.
После того как были разбиты и наказаны противники (по свидетельству Библии, братья-отцеубийцы бежали в Урарту, на самом деле, видимо, в Шуприю), настала пора платить долги сторонникам. Немедленно были приняты меры к восстановлению Вавилона, а до всеобщего сведения было доведено, что Мардук сжалился над своим городом и пожелал вернуться туда. Разумеется, Асархаддон не забыл и ассирийских жрецов, поэтому одновременно с восстановлением главного вавилонского храма, Эсагилы, был обновлен и один из главных храмов города Ашшура— Эшарра. Были также одновременно подтверждены и расширены привилегии ассирийских и вавилонских городов, а подати в пользу храмов были увеличены. На пышно разукрашенных кораблях, сопровождаемых войсками, статуи вавилонских богов были отправлены в Вавилонию. Но статуя Мардука еще оставалась в Ассирии.
Впрочем, среди всех этих благочестивых деяний пришлось заняться и делами мирскими. Земли, принадлежавшие раньше гражданам Вавилона, были после его разрушения захвачены халдейскими племенами Бит-Даккури и Гамбулу. Заодно эти племена захватили и земли некоторых других городов. Для возвращения этих земель их прежним собственникам пришлось предпринимать военные действия. По этому случаю царь Приморья, глава племени Бит-Якин, двинулся на север и осадил было Ур. Но он был разгромлен ассирийской армией и по стопам своего отца Мардук-апла-иддина бежал в Элам. Здесь он был убит по приказу эламского царя, брату же его удалось спастись. Он вернулся в Месопотамию, «облобызал стопы» Асархаддона и, признав себя рабом Ассирии, получил под свою власть Приморье. После этого покорились и другие племена, лишь усмирение Бит-Даккури заняло еще несколько лет и потребовало двух новых походов. На северо-западе в это время вновь появились киммерийцы. Теперь они сами отступали перед новой волной кочевников — скифов — и пытались продвинуться на территорию империи. Поход против киммерийцев был вполне удачным, они были разбиты и отброшены. В ассирийской армии даже появился полк киммерийцев (пленных или наемников?). Предпринимались также походы в Сирию и Финикию, в частности против Сидона. В 677 г. Сидон был взят и разрушен до основания, а сидонский царь Абди-милькут бежал на Кипр, где и был схвачен. В Мелитене (Мелид) был также побежден и захвачен Мугаллу, возглавивший здесь антиассирийский мятеж. Этот мятеж, насколько можно судить по многочисленным обращениям ассирийского царя к оракулу, внушал царю большую
тревогу. Вопросы к оракулу, с которыми Асархаддон обращался по различным поводам, представляют разительный контраст с величавой уверенностью тона его официальных надписей. Вопросы эти показывают, что Асархаддон был человек крайне суеверный, неуравновешенный и даже трусоватый. Такое впечатление подтверждается и его официальной перепиской, в которой чуть ли не основное место занимает обсуждение различных предзнаменований, болезней, оракулов и различного рода магические действия для предотвращения возможного зла. С этой же целью он возродил древний обычай назначать в случае дурных предзнаменований «подменного царя», на которого и должно было пасть ожидаемое несчастье.
Впрочем, дела в Сирии завершились вполне благополучно. Абди-милькут и Мугаллу, закованные в цепи, участвовали в триумфальном возвращении Асар-хаддона в Ниневию, после чего были обезглавлены.
Вопросы к оракулу и письма показывают, что Ассирия в этот период испытывает затруднения также и на востоке. Сюда прорвались скифы, а жители этих мест, мидяне, начинают постепенно сплачиваться и оказывать Ассирии все возрастающее сопротивление. Хотя формально на территории Мидии существовало около десятка ассирийских провинций, но лишь в трех из них — Замуа, Парсуа и Аррапхе — власть Ассирии была прочной. В остальных же ассирийцы практически были заперты в своих крепостях, из которых они и предпринимали походы для сбора дани с помощью приходящих из Ассирии подкреплений. Фактическая же власть принадлежала мидийским племенным вождям или «князьям». Правда, единства пока еще не было. Просьба о помощи, с которой обратились к Ассирии три мидийских князя, теснимые своими соседями, дала Асархаддону повод послать в Мидию свои войска, а затем был совершен и второй поход, во время которого ассирийское войско дошло до Демавенда. Манна в это же время разорвала союз с Ассирией и отказалась платить ей дань. Анналы сообщают, что маннеи были побеждены вместе с их союзником, скифским вождем Ишпакайей, но из других упоминавшихся выше источников видно, что и здесь все было не так-то просто. В 673/72 г. восточные провинции Ассирии были охвачены восстанием мидян под руководством Каштариту. Восстание было поддержано скифами и маннеями. Походы против Каштариту имели известный успех, однако большую часть мидийских провинций Ассирия потеряла безвозвратно. Но самым опасным для Ассирии результатом этого восстания было создание около 672 г. независимого Мидийского царства.
Что касается Элама, то и он предпринял неожиданную вылазку. В 675 г. эламское войско, возглавленное самим царем, вторглось в Северную Вавилонию и обрушилось на Сиппар. Город не успел подготовиться к защите, и эламитам удалось ворваться в него и разграбить некоторые храмы. Но жители Сиппара в отчаянном уличном бою сумели отстоять свою главную святыню Эбаббар, храм Шамаша. Эламское войско вынуждено было отойти, но унесло с собой статуи богов и сокровища из разграбленных храмов. Вскоре после возвращения из этого похода эламский царь «умер, не бывши болен» — несомненное свидетельство гнева богов или высокого качества яда. Новый царь почел за благо пока что поддерживать с Ассирией хорошие отношения.
На севере Урарту, ослабленное тяжелыми поражениями, нанесенными ей Ассирией и киммерийцами, пока еще не представляло серьезной опасности, хотя постепенно восстанавливало свои силы. Асархаддон сильно опасался возникновения союза между Урарту, киммерийцами и скифами, однако его опасения не оправдались. Попытка одного урартского областеначальника в 675 г. вторгнуться в Шубрию была пресечена ассирийскими войсками, а со скифами Асархаддон, видимо, сумел поладить, отдав в жены скифскому вождю по имени Парта-туа свою дочь.
Теперь настало время для решительной схватки с Египтом, по-прежнему претендовавшим на Сирию, Палестину и Финикию, но в то же время являвшимся и важным торговым партнером3. Готовиться к этой схватке Асархаддон начал еще во время своего похода в Сирию. На месте разрушенного Сидона он построил город Кар-Ашшур-аха-иддин, т.е. «Колония Асархаддона». Здесь он принял дань от всех царей Палестины и Финикии, а также Кипра. Ассирийские войска стояли теперь во всех прибрежных городах, кроме островного Тира. Царя этого города Асархаддон щедро наградил за его лояльность, уделив ему часть своей добычи из Сидона, и заключил с ним торговый договор. Между тем Египет все еще не отказывался от своих притязаний на Сирию и Палестину и имел здесь немало сторонников. До сих пор ассирийцы сталкивались с египтянами только на этой спорной территории, но для ее окончательного закрепления за Ассирией следовало, видимо, разгромить Египет на его собственной земле.
Первая попытка вторгнуться в Дельту была предпринята в 674 г. и закончилась неудачей. Фараон Тахарка понимал, что неизбежно последует новое вторжение, с более значительной армией, и, следуя старой египетской политике, попытался поднять восстание в тылу ассирийской армии. Но эта попытка имела успех лишь в Тире и Аскалоне. Асархаддон в 671 г. выделил часть своих войск для осады Тира, а сам с главными силами вторгся в Египет. Разгромив и рассеяв египетскую армию, он занял Мемфис. Тахарка бежал в Верхний Египет. Асархаддон сохранил власть за номархами Дельты, приставив к каждому из них своих чиновников. Главным среди номархов он сделал Нехо— владетеля Саиса. Асархаддон принял титул «царь царей Египта, Верхнего Египта и Эфиопии», что указывало на его намерение продолжить захват долины Нила.
Между тем действия против Тира были малоуспешными. Расположенный на острове, этот город не мог быть осажден традиционными методами, организовать же его морскую блокаду ассирийцы не могли из-за отсутствия у них флота. Когда же Асархаддон вернулся в Ассирию, в Египте немедленно начались волнения, и ассирийские гарнизоны в египетских городах оказались в осаде. В 669 г. Асархаддон снова двинулся в Египет, но по дороге умер.
За несколько лет до этого Асархаддон решил вопрос о престолонаследии. Его старший сын умер молодым, но было еще два сына— Шамаш-шум-укин и Аш-шур-бану-апли (Ашшурбанапал). Ашшурбанапал, младший из двух, был тем не менее любимцем отца и бабки — энергичной и властной Наки’а, которая в Ас-
3 Об экономических отношениях между Ассирией и Египтом см.: Elat М. The Economic Relations of the Neo-Assyrian Empire with Egypt. — JAOS 98, No.l, 1978, p. 20-34.
сирин именовалась Закуту, жены Синаххериба и матери Асархаддона. Последний решил разделить царство между двумя сыновьями: наследником ассирийского престола он назначил Ашшурбанапала, вавилонский же предназначил Ша-маш-шум-укину. Верховная власть над обоими царствами должна была принадлежать Ашшурбанапалу. Разумеется, все это было скреплено оракулом. Такое решение вопроса было явно не слишком удачным, и один из вельмож даже осмелился сделать царю выговор, указав в своем письме, что это «нехорошо для Ассирии». Видимо, это понимал и сам Асархаддон, но подчинился чужой воле. Во всяком случае, такая неслыханная дерзость обошлась упомянутому вельможе по тем временам чрезвычайно дешево: он и его сын были удалены от двора.
После смерти Асархаддона Ассирия легко могла бы оказаться жертвой внутренних смут. Но здесь на сцену снова выступила Закуту. Она еще при жизни своего сына заставила всех вельмож, жрецов, военных и чиновников, а также все прочее население Ассирии, не только мужчин, но даже женщин, присягнуть Ашшурбанапалу и торжественно отречься от каких бы то ни было покушений на его жизнь и власть. Ашшурбанапал смог беспрепятственно занять ассирийский престол (669-635 или 629). Через несколько месяцев его старший брат Шамаш-шум-укин стал царем Вавилона. Он «коснулся рук Владыки — Мардука» в Ассирии, но вскоре после этого статуя Мардука в чрезвычайно торжественной и пышной процессии отправилась в Вавилон. После многолетнего плена Мардук вернулся наконец в свой город и вновь водворился в Эсагиле.
Ашшурбанапал был во многих отношениях личностью незаурядной. В своих надписях он сообщает, что получил блестящее образование, пройдя едва ли не весь курс тогдашних наук. Кроме того, он обучался и воинскому делу, владел любым видом оружия и был великим охотником.
Что касается второй части его образования, то здесь возможны некоторые сомнения. Из переписки его отца видно, что Ашшурбанапал был слаб здоровьем или по крайней мере чрезвычайно мнителен. Следует еще заметить, что, в отличие от своих предков, он почти не принимал участия в военных походах, предоставив это хлопотное занятие своим полководцам. Таким образом, рельефы, изображающие единоборство Ашшурбанапала со свирепыми львами, скорее всего лишь выдают желаемое за действительное. Но свою ученость Ашшурбанапал нисколько не преувеличил. В его ниневийском дворце была собрана гигантская по тем временам библиотека — более 20 000 табличек, превосходно выполненных, систематизированных и снабженных колофонами. Эта библиотека представляла собой своего рода энциклопедию знаний. Здесь хранились мифологические и литературные тексты, гимны богам, своеобразные «справочники» для различного рода гаданий, заклинания против злых духов, медицинские справочники с рецептами, руководства по решению математических задач, списки растений, животных и минералов, словари (т.е. списки клинописных знаков с указанием их шумерских и аккадских значений), юридические руководства и многое другое. Эти тексты представляют почти всю историю месопотамской культуры и написаны по-шумерски или по-аккадски (иногда на обоих языках). Можно сказать с уверенностью, что, не будь этой библиотеки, которая, к счастью, хотя и в обломках, сохранилась до наших дней, наши представления об истории
и культуре Месопотамии были бы значительно беднее, а интерпретация шумерского языка (и так очень трудная) была бы еще сложнее. Из официальной переписки видно, что Ашшурбанапал все время заботился о пополнении своей библиотеки, приказывал отыскивать во всех городах Месопотамии редкие тексты и доставлять их в Ниневию либо тщательно копировать. Он сам решал, какие тексты представляют интерес для его библиотеки, и результаты его деятельности показывают, что выбор он производил с полным знанием дела. Не исключено даже, что некоторые компиляции, содержащиеся в библиотеке, составлены им самим, ибо надписи отличаются от надписей его предшественников своеобразным стилем и более «личным» тоном. Возможно, Ашшурбанапал принимал участие в их составлении или редактировании. Он был также и автором нескольких стихотворных молитв.
Еще до своего вступления на престол Ашшурбанапал руководил работой разведки (руководство этим ведомством по обычаю поручалось наследнику престола), а также строительными работами и т.п., что позволило ему приобрести административный опыт.
Вместе с тем, несмотря на свою высокую образованность (или именно благодаря ей), Ашшурбанапал был еще более суеверен и мнителен, чем его отец. Он жил в постоянном страхе перед происками злых духов или немилостью богов. Для предотвращения реальных или предполагаемых бедствий непрестанно совершались гадания, очистительные обряды и жертвоприношения. Ашшурбанапал изнурял себя постами, и сохранилось письмо, в котором жрецы, в ответ на его жалобный вопрос, как долго ему еще поститься, предписывают ему продолжать пост. Вместе с тем он, видимо, отличался мелочной злобностью, ему мало было победить врага или предать его жестокой казни. Побежденные враги подвергались не только самым изощренным пыткам, но и не менее изощренным унижениям. Если позволительно употреблять в этом случае современную терминологию, то можно, пожалуй, сказать, что Ашшурбанапал был умным, образованным и злым тираном с тяжелым комплексом неполноценности. Вместе с тем, как и большинство подобных тиранов, он был нередко безвольной игрушкой в руках своего окружения.
Хронология событий, происходивших в царствование Ашшурбанапала, еще во многих отношениях неясна. Его анналы, как уже отмечалось, очень тщательно отредактированы, вследствие чего порядок походов в них часто является произвольным. К тому же анналы обрываются в 636 г., и о последующих событиях можно судить лишь по косвенным данным.
Прежде всего Ашшурбанапалу пришлось уделить внимание Египту. Здесь дела ассирийцев обстояли плохо: Дельта была вновь отвоевана Тахаркой. В 667 г. ассирийское войско и вспомогательные контингенты, предоставленные царьками Финикии, двинулись на Египет. Тахарка был разбит и бежал на юг. Мемфис был снова захвачен ассирийцами. Номархи Нижнего Египта сохранили, однако, свои владения. Самым сильным из них был саисский номарх Нехо, к которому Ашшурбанапал отнесся особенно благосклонно. Однако все эти милости не помешали новому антиассирийскому восстанию. Оно было подавлено с обычной жестокостью, но Нехо и на сей раз сохранил свои владения и даже приумножил
их. Но тут в 664 г. надвинулась угроза с юга: племянник и наследник Тахарки Танутамун решил вновь попытать счастья и перешел в наступление. Он потерпел сокрушительное поражение после первых удач, во время которых ему удалось даже овладеть Мемфисом. В ходе этой войны многострадальный Мемфис вновь подвергся штурму и грабежу со стороны ассирийцев. Та же участь постигла и Фивы. Но в результате Египет, казалось, был усмирен надолго.
На большинстве остальных окраин империи царило спокойствие. В эти первые годы правления Ашшурбанапала предпринимались лишь мелкие карательные экспедиции — против Тира и Арвада, а также против города Кирбит (в горах к востоку от Дера).
Киммерийская опасность счастливо миновала Ассирию. Киммерийцы, разгромив Фригию, двинулись дальше на запад и угрожали теперь Лидии. В 660 г. лидийский царь Гигес прислал в Ассирию посольство с предложением союза, а практически — с просьбой о помощи. Для Ассирии, однако, как считал Ашшурбанапал, такой союз сулил много хлопот и мало пользы: иметь дело с киммерийцами ему не хотелось. Поэтому посольство было весьма любезно принято и столь же любезно отпущено с пустыми руками: Малая Азия не слишком интересовала ассирийского царя, как и его предшественников. Когда наследник погибшего в борьбе с киммерийцами лидийского царя вновь обратился к Ашшур-банапалу с такой же просьбой, он получил такой же ответ.
Но наиболее беспокойной была восточная граница. Здесь находился древний и пока еще самый страшный и упорный враг— Элам. Здесь жили мидяне, опасные своей многочисленностью и воинственностью, пока что занятые своими собственными делами (войной со скифами) и потому не слишком опасные, но непрерывно причиняющие множество хлопот. Здесь были, наконец, маннеи, которые то покорялись Ассирии, то, полагаясь на неприступность своих горных твердынь, восставали и даже переходили в наступление. Одна из волн киммерийского потока прорвалась в Мидию, и отсюда киммерийцы совершали набеги на ассирийскую территорию. Впрочем, и маннеев, и мидян, и киммерийцев пока еще удавалось вновь и вновь усмирять при помощи сравнительно небольших карательных экспедиций. При этом, разумеется, их поселения предавались огню и мечу, а предводителей привозили в Ниневию. Если их здесь всего лишь обезглавливали, они должны были считать, что дешево отделались: обычным наказанием было сдирание кожи заживо.
С Эламом Ашшурбанапал сначала пытался установить мирные отношения. Были ли его действия искренними или лишь продиктованы желанием дождаться более удобного момента, сказать трудно. Во всяком случае, он зашел в своих попытках так далеко, что во время постигшей Элам катастрофической засухи послал туда продовольствие и разрешил некоторым эламским племенам временно поселиться на ассирийской территории.
Однако недоверие к Ассирии укоренилось в Эламе слишком глубоко. Правитель Суз Темпт-Хумбан-Иншушинак всячески старался настроить эламского царя Уртаки против Ассирии и в конце концов преуспел в этом. Элам оказал поддержку восставшим против Ассирии гамбулийцам и наместнику Ниппура. Ассирийское войско в 665 г. выступило в поход, но не смогло одержать решительной
победы. Однако в том же году Уртаки, предводитель гамбулийцев и наместник Ниппура были «сражены ударом бога Нергала». Неясно, следует ли понимать под этим чуму или просто внезапную смерть, но столь удачное для Ассирии совпадение, конечно, весьма удивительно. Как бы там ни было, на юге Месопотамии вновь водворилось спокойствие, ибо воинственный Темпт-Хумбан-Иншу-шинак (Те-Умман ассирийских анналов) вел теперь борьбу за верховную власть в Эламе, а его соперники вынуждены были искать убежища в Ассирии. Ашшурбанапал им это убежище предоставил, справедливо полагая, что они пригодятся, когда настанет час для расчетов с Те-Умманом.
Следующие несколько лет прошли сравнительно мирно. Но в 655 г. Ассирию постиг тяжкий удар: Египет вернул себе независимость под руководством Псам-метиха I. Лидийский царь Гигес, не забывший равнодушия, с которым Ассирия в свое время встретила его просьбу о помощи, оказал Египту поддержку. Ашшурбанапалу оставалось лишь беспомощно наблюдать за этими событиями, ибо он не мог себе позволить отвлекать войска из-за угрозы со стороны Элама. Эти опасения были ненапрасны, ибо в 655 г. Те-Умман вторгся в Южную Месопотамию. Он потерпел поражение и бежал в Элам, где собрал новое войско, с которым вновь выступил в поход против Ассирии. В ожесточенном сражении эламиты были разгромлены, а сам Те-Умман и его сын пали в бою. В этом же бою погибли и многие эламские полководцы и родичи Те-Уммана. Отрубленная голова эламского царя была отправлена в Ниневию. Сохранился рельеф, на котором изображен пир Ашшурбанапала и его жены в саду: царь, возлежа за столом, с аппетитом выпивает и закусывает, любуясь подвешенной к дереву головой Те-Уммана. Элам был разделен натри части, и эти части розданы эламским царевичам, нашедшим в свое время приют в Ассирии. В Приморье Ашшурбанапал передал власть Набу-бел-шумате, внуку Мардук-апла-иддина.
Надписи и рельефы показывают, что Ашшурбанапал был сильно напуган всеми этими событиями и прибег к обычному своему утешению — слезным молитвам, гаданиям, оракулам. Хотя в своих позднейших надписях он приписывает руководство войной себе, но в действительности он провел это время в Арбеле в непрерывных молитвах. Ответы оракулов были вполне утешительными, да и ход этой войны как будто показывал, что боги по-прежнему благосклонны к Ассирии. Если Ашшурбанапал тем не менее продолжал беспокоить их своими молитвами, то это, возможно, объясняется не только особенностями его характера, но и тем, что он понимал всю непрочность положения Ассирии. События скоро показали, насколько справедливы были его опасения.
Старший брат Ашшурбанапала Шамаш-шум-укин был, разумеется, не слишком доволен дележом царства и своей зависимостью от младшего брата. Его власть была, в сущности, номинальной, но даже и она простиралась отнюдь не на всю Южную Месопотамию, но лишь на Вавилон, Борсиппу, Куту и Сиппар. Впрочем, города эти были очень богатыми и влиятельными — благодаря торговле и своему значению важнейших культовых центров. Поэтому Шамаш-шум-укин мог, затевая борьбу против брата, рассчитывать не только на свое сравнительно немногочисленное войско, но главным образом на союзников, которых можно приобрести с помощью золота, авторитета Вавилона, а главное — общей
ненависти к Ниневии, «кровавому городу». Он сумел привлечь на свою сторону Египет, палестинских трансиорданских и арабских царей и шейхов, Элам и Приморье. Военные действия начались в начале лета 652 г., но следует заметить, что многие города и племена Южной Месопотамии сочли более выгодным сохранить верность Ассирии. Антиассирийская коалиция была весьма грозной, и Ашшурбанапал постарался действовать не только силой, но и хитростью. Вавилония была блокирована, а тем временем ассирийское войско вторглось в Приморье, опираясь на оставшийся на стороне Ассирии город Кисик. Набу-бел-шумате был разбит и бежал в Элам. Эламское же войско, спешившее на помощь Вавилонии, было остановлено ассирийцами у Дера — традиционного места битв между ассирийскими и эламскими армиями. Эламское войско потерпело поражение, и одновременно в самом Эламе вспыхнул поддержанный Ассирией мятеж. Царь Умманигаш был свергнут, а его место занял его племянник Таммариту II. Но так как он продолжал политику своего предшественника, он тоже был свергнут, и на трон вступил полководец Индабигаш. Этот последний постарался помириться с Ассирией и вернул ассирийских пленных, но категорически отказался выдать Набу-бел-шумате. Со своей стороны, Ашшурбанапал предоставил убежище свергнутому Таммариту II, дабы иметь под рукой средство для давления на Ин-дабигаша. Таким образом, Элам был выведен из антиассирийской коалиции. Все же прочие ее участники вообще не смогли оказать Вавилону существенной помощи. После трехлетней осады и ужасающего голода Вавилон пал в 648 г. Ша-маш-шум-укин велел поджечь свой дворец и бросился в пламя. Уцелевшие защитники Вавилона подверглись жестокой расправе. Впрочем, Ашшурбанапал велел похоронить с почестями останки своего брата, а затем объявил о своем благоволении к вавилонянам. В «первом издании» своих «Анналов» он подробно рассказывает о «злодеяниях» вавилонян и своего брата, а также и о постигшей их каре. Но в последующих «изданиях» все некрасивые подробности опущены. Ашшурбанапал даже даровал вавилонянам «царя» — некоего Кандалану, который уже вполне откровенно был ассирийской марионеткой. Оставалось еще окончательно свести счеты с Эламом. Две ассирийские армии в 647 г. одновременно вторглись в Элам с юга и с севера. Вместе с ними явился Таммариту II и, после бегства своего соперника, снова воссел на трон. В 646 г. последовал новый ассирийский поход, в результате которого почти вся территория Элама подверглась разгрому и грабежу. Этим походом Ашшурбанапал руководил лично, и первым из ассирийских царей он вступил победителем в Сузы. Город был разрушен до основания, а неисчислимые сокровища эламских богов и царей, статуи этих богов и царей и даже кости погребенных царей Элама были увезены в Ассирию. Множество пленных было угнано в чужие края. После этого разгрома Элам утратил свое прежнее значение «великой державы», став не более чем вассалом Ассирии.
Последними из союзников, на кого обрушилось мщение Ассирии, были арабы. Ассирийское войско, блокировав подступы к источникам воды, поставило в безвыходное положение кочевые племена, а их лагеря подверглись разгрому. Арабы вынуждены были покориться, а их царь попал в плен. Разгрому подверглись также Набатея и Иудея.
Таким образом, спокойствие в империи было вновь восстановлено, хотя во многих ее частях это было спокойствие кладбища. Во время очередного праздника Нового года, отмечаемого торжественным шествием в Эмашмаш — храм Иштар Ниневийской, Ашшурбанапал воспользовался тем, что у него в плену находились целых четыре царя. Он пишет в своих анналах: «Я запряг их в ярмо моей торжественной колесницы, и они тащили ее подо мной».
«Анналы» Ашшурбанапала обрываются в 636 г. О последних годах его жизни мы знаем очень мало, неизвестно даже, когда закончилось его правление. Если верить сообщению более позднего вавилонского текста, Ашшурбанапал правил 42 года, следовательно, до 627 г. Но большинство исследователей считают это сообщение ошибочным и датируют окончание его правления 2-4 годами раньше. Существует даже предположение, что около 635 г. он был отстранен или отказался от власти и остаток своих дней провел в Харране. В Ассирии происходили смуты и мятежи, попытки узурпировать власть. В конце концов сын Ашшурбанапала Ашшур-этель-илани (по одному из предположений — один из двух его сыновей-близнецов) сумел с помощью полководца Син-шум-лишира утвердиться на троне. За эту помощь Син-шум-лишир был осыпан милостями, но это лишь подстегнуло его честолюбие. По-видимому, вскоре он изгнал (?) своего «благодетеля» и воцарился сам. Но он, в свою очередь, был свергнут вторым сыном Ашшурбанапала— Син-шарри-ишкуном. Точные даты всех этих событий установить пока не удается, и не исключено, что они в какой-то части происходили параллельно, т.е. что эти три царя иногда одновременно правили (или были признаны) в разных частях империи4.
В Вавилонии в 627 г. умер ассирийский ставленник Кандалану. «В продолжение года не было в стране царя», — сообщает вавилонская хроника. Таким образом, на севере и на юге было фактически безвластие. Извне распадающейся империи угрожали скифы, внутри сеяли смуту кочевые племена халдеев и арамеев. В этих условиях на сцену выступил Набу-апал-уцур (Набопаласар). Он был халдей, правитель Приморья и потомок знаменитого Мардук-апла-иддина. Син-шарри-ишкун официально назначил его там своим наместником, но этого ему было мало. После смерти Кандалану Набопаласар стал притязать на вавилонский престол. Впрочем, осуществить это было не так-то легко. Многие города Вавилонии предпочитали сохранить верность Ассирии. Поэтому Набопаласару пришлось начать с разгрома Урука и осады Ниппура. Подоспевшее ассирийское войско сняло осаду с Ниппура и оттеснило Набопаласара на юг, но здесь ему удалось разбить своих преследователей и, в свою очередь, оттеснить их на север. В 626 г. Набопаласар был провозглашен «царем Аккада». Ассирия была еще сильна, и неизвестно, чем бы кончилась ее война о Набопаласаром, если бы над ней не нависла новая, куда более грозная опасность — перешедшее в наступление Мидийское царство. Эта опасность была тем более велика, что Мидия, в от
4 Наиболее подробно этот вопрос и в целом хронология последних десятилетий Ассирии рассмотрены в работе: OelsnerJ. Von Assurbanipal zu Nabopalassar — das Zeugnis der Urkunden. — Alter Orient und Aites Testament, Bd. 267, 1999, S. 644-665. Вопрос тем не менее не может считаться окончательно решенным.
личие от всех прежних противников, могла нанести удар в самое сердце Ассирии, а предводители мидян и многие рядовые воины служили раньше в ассирийской армии и хорошо знали последние достижения военного искусства. Теперь Ассирии оставалось помышлять лишь об обороне. Уже в 625 г. враги появились у самых стен Ниневии. По всей вероятности, это были мидяне во главе с Киакса-ром. На сей раз, однако, их удалось разбить и прогнать, но, несомненно, это было предвестием конца. Вавилонский царь вновь и вновь ведет наступление, не смущаясь временными неудачами, и в 616 г. осаждает Ашшур. Он был отброшен ассирийским контрнаступлением, но тут на сцене вновь появились мидяне. В 614 г. они вторглись в Ассирию, взяли несколько городов и осадили Ашшур. Набопа-ласар тоже двинулся на Ашшур, но опоздал: мидяне успели взять, разграбить и разрушить Ашшур до его прихода. Население города было частично перебито, частично уведено в плен. Здесь же, около развалин Ашшура, Киаксар и Набопа-ласар заключили союз, скрепленный женитьбой сына Набопаласара на дочери Киаксара. Ассирия могла еще временами наносить чувствительные удары, но это была уже агония. В 612 г. объединенное войско мидян и вавилонян осадило Ниневию. Осада длилась всего три месяца, и в августе 612 г. Ниневия пала. Участь ее была обычной: разрушение, грабеж, убийство и плен. Мидяне со своей долей добычи ушли восвояси, а вавилоняне занялись преследованием части ассирийского войска, которое, во главе с неким Ашшур-убаллитом, прорвалось к Харрану. Здесь Ашшур-убаллит был провозглашен «царем Ассирии». Сюда к нему на помощь пришло войско, посланное египетским фараоном Псамметихом, который уже несколько лет с тревогой присматривался к событиям в Месопотамии. Хотя он сам в свое время вел борьбу против Ассирии, чрезмерное усиление Вавилонии ему тоже было невыгодно. В 610 г. вавилоняне и мидяне вновь выступили совместно, на сей раз против Харрана. Они разбили войско Ашшур-убаллита, усиленное египетским отрядом, отбросили его на западный берег Евфрата и взяли Харран. В следующем году Ашшур-убаллит, получив новые подкрепления из Египта, попытался отвоевать Харран. Двухмесячная осада была безуспешной, и еще раньше, чем Набопаласар пришел на помощь своему осажденному гарнизону, тот сам сумел разбить осаждающих. После этого Ашшур-убаллит более не упоминается в текстах.
На этом, собственно, и закончилась история Ассирии как первой в истории человечества «мировой державы». Ее культурные, военные и административные традиции были во многом усвоены ее преемниками. Падение Ассирии не вызвало сколько-нибудь серьезных этнических перемен: погибла лишь верхушка ассирийского общества, знать. Сельское же и в значительной части городское население осталось на своих местах, сменив только хозяев. Руины ассирийских городов оставались почти необитаемыми, видимо, до тех пор, пока эти места не вошли в состав территории Ахеменидской державы5. Вопрос же о правах на «ассирийское наследство» до сих пор остается предметом дебатов.
5 Литература, посвященная территории коренной Ассирии во времена Нововавилонского и Мидийского царств, очень обширна, упомянем лишь некоторые работы: Curtis J.E., Cotton D., Green F.R. British Museum Excavations at Nimrud and Balawat in 1989.— Iraq 55, p. 1-37; DatteyS.
Потомки завоевателей, наводивших ужас на всю Переднюю Азию, до сих пор пашут землю в северном Ираке. Имя Ассирии было для окружающих народов символом беспощадной жестокости, но вместе с тем ее грозная слава не могла не вызывать почтительное удивление. Грохот ее падения потряс обитаемый мир и вызвал различные чувства — от яростного торжества пророка Наума до элегической скорби Иезекиила о павшем величии. Одним из отзвуков этого грохота и этих чувств, дошедшим до наших дней, является основанная на библейской Книге Исаии средневековая легенда об ангеле по имени Денница, сыне Зари (в латинском переводе — Люцифер): возгордившись своей мощью и красотой, он восстал против Бога и был за это низринут с небес.
Nineveh after 612 ВС.— АЮ 20, 1993, р. 134-147; Dandamayev М., Grantovskii Е. The Kingdom of Assyria and its Relations with Iran. Encyclopaedia Iranica. Vol. 2, 1987, p. 806-815; Diakonoffl.M. Media. — Cambridge History of Iran, 2, 1985, p. 36-148.
Глава 5
МАЛАЯ АЗИЯ, АРМЯНСКОЕ НАГОРЬЕ И ЗАКАВКАЗЬЕ в первой половине I тысячелетия до н.э. (Урарту, Фригия, Лидия)
Разрушителями Хеттской державы явились «народы моря» — этнические группы, вероятно, как и сами хетты, индоевропейские по своим языкам. Они включали предположительно греков-ахейцев (данайцев), пеласгов и других жителей бассейна Эгейского моря, а также балканские по происхождению племена, названные в ассирийских источниках «мушками», а в лувийских («хеттских иероглифических») — «мускаями»; мы знаем, что эти племена дошли в XII в. до н.э., вместе с некими «урумейцами», до долины Верхнего Евфрата и здесь перешли к оседлости; этих «восточных» мушков мы предложили отождествить с первыми носителями протоармянского индоевропейского языка. Долины, сходящиеся к Верхнему Евфрату, которые во II тысячелетии до н.э. были еще населены хур-ритами, считались позже, по местным преданиям, очагом сложения армянского народа; и недаром, как след былого долгого двуязычия, в армянском языке ряд социально-бытовых терминов, связанных с горной оседлой жизнью в раннеклассовом обществе, имеет хурритское или хуррито-урартское происхождение (ага-хин— «рабыня», царрай— «раб», агх— «большесемейная община», бургн — «башня»); и хотя армяне засвидетельствованы письменными источниками на нагорье, получившем от них свое название, лишь с VI в. до н.э., в промежутке между XII и VI вв. на границах этого нагорья нам больше не известно ни таких исторических ситуаций, которые позволяли бы думать о значительных этнических перемещениях, ни появления совсем новых этнических групп, которое могло бы объяснить резкое отличие индоевропейского армянского языка от всех других известных индоевропейских и неиндоевропейских древних языков Ма-
лой Азии, Армянского нагорья и Закавказья, кроме, быть может, одного лишь фригийского языка. С другой стороны, нет также данных, которые заставляли бы думать о появлении носителей протоармянского языка на нагорье раньше, чем в XII в. до н.э.; в частности, нередко предполагаемая генетическая связь между армянами и предгосударством Хайаса, существовавшим еще с XV по XIV в. до н.э. в долинах рек Чорохи и Верхнего Евфрата, ничем не подтверждается, если не считать отдаленного и, надо думать, совершенно случайного созвучия между названием этой страны и самоназванием армянского народа {Хайаса — с немецким ch, но Иайо — с придыханием)1 .
Следует заметить, что термин «мушки» применялся не только к племенам, появившимся на Верхнем Евфрате в XII в. до н.э.; тот же самый термин применялся ассирийцами, урартами и древними евреями1 2 также к фригийцам, жившим в долине Верхнего Евфрата, — народу, тоже пришедшему с Балкан, но осевшему не в долине Верхнего Ефврата, а в центре малоазийского плато. Согласно различным античным традициям, фригийцы прибыли в Малую Азию то ли в XIII, то ли в X в. до н.э.; однако первая из этих традиций, датирующая появление фригийцев в долине р. Сангария (Сакарьи) временем непосредственно перед Троянской войной, в действительности относится, вероятно, не к ним, а именно к «восточным» мушкам — народу, несомненно отличному от собственно фригийцев, хотя, может быть, и родственному им.
«Восточные» мушки, по ассирийским данным, имели пять «царей» и, очевидно, состояли из пяти племен; вероятно, одним из них были мигдоны, которых (или их героя-эпонима) греческое предание связывало и с районом оз. Аскания близ устья р. Сангария (совр. оз. Изник), и с районом оз. Аскания на юге Фригии, на границе с Писидией (совр. Аджигёль), и, что особенно интересно, с районом г. Нисибис (Нацибина, Мцбин, Нусайбин) в Верхней Месопотамии, где, по-видимому, еще Тиглатпаласар I в конце XII в. до н.э. поселил плененную им группу «восточных» мушков. Но основным центром оседания последних было, по-видимому, царство Алзи (арм. Агдзник) у слияния рек Арацани (Мурадсу) и Верхний Евфрат; ассирийские источники называют Алзи также «Страной мушков». Вероятно, однако, что территория расселения «восточных» мушков в XII—IX вв. до н.э. была шире, простираясь от Сасунских гор севернее истоков р. Тигра (включая страну Урме) до гор Тавра западнее верхнеевфратской долины. Возможно, что до их оседания тут «восточные» мушки участвовали
1 В Хайасе, безусловно, не говорили на протоармянском языке — этого не утверждают и самые убежденные сторонники «хайасской» гипотезы происхождения армян. В лучшем случае можно было бы предположить, что индоевропейцы-протоармяне, проходя через территорию Хайасы, усвоили себе местное название области как свое самоназвание; но против этого говорит следующее: 1) есть основание думать, что Хайаса погибла значительно раньше, чем Хеттская держава; 2) нет никаких данных о том, что протоармяне проходили именно через территорию Понта и верховьев Евфрата, где, очевидно, локализуется Хайаса; 3) нет никакого объяснения замены окончания -аса на -о в самоназвании армян; 4) есть лучшая этимология армянского самоназвания hayo- (из *Hat Ч-уо-«хетт, хеттский»).
2 В форме *мешек или, вернее, *мошек в древнееврейской Библии, в форме мосох (точнее, *мосок) в ее греческом переводе. Тем же термином обозначались еще и племена мосхов, о которых см. ниже.
в создании так называемой «старофригийской», или «восточнофригийской», археологической культуры, ареал которой простирался от истоков р. Сангария и от равнины Конии до Верхнего Евфрата; во всяком случае, несмотря на полученное ею от археологов название, данных о связи этой культуры с фригийцами, т.е. с «западными» мушками, нет: центр обитания тех находился много западнее.
Если одна из греческих традиций о приходе фригийцев в Малую Азию кажется нам скорее имеющей отношение к «восточным» мушкам (протоармянам), то, очевидно, более достоверной следует признать другую греческую традицию, согласно которой фригийцы пришли в Малую Азию с Балкан значительно позже Троянской войны — вместе с мисами (Mysoi), как утверждает античный историк Ксанф Лидянин, т.е., вероятно, в начале X в. до н.э. Заметим, что если ассирийцы называют «мушками» как «восточных» мушков (протоармян?), так и «западных» мушков (фригийцев), то лувийцы (в «хеттских иероглифических» надписях), по-видимому, различали первых («мускаев») от вторых, называемых также «му-саями». Этническое название мисов (точнее, «мусов», греч. Mysoi, лат. Moesi) сохранялось еще и тысячелетием позже также во Фракии на Балканах; вероятно, именно оттуда прибыли и протоармяне («восточные» мушки, мускаи), и фригийцы («западные» мушки, мусаи)3, и мисы (Mysoi), — но прибывали они последовательными волнами.
По сохранившимся надписям видно, что фригийский язык занимал в индоевропейской языковой семье промежуточное место между древнегреческим и про-тоармянским и, по-видимому, был близок также языку фракийцев (а может быть, и пеласгов).
В течение XI-IX вв. до н.э. Малая Азия очень медленно оправлялась после чудовищного потрясения, испытанного ею при падении Хеттской державы. Эта медленность объясняется не только разрушением большинства городов, сожжением сел и физическим истреблением немалой части населения; она объясняется также тем, что по опустошенной территории еще долго двигались разные племена. С конца XIII по середину XII в. до н.э. через полуостров с запада на восток двигались «народы моря» и «восточные» мушки; за тот же период совершали встречное передвижение, видимо, абхазские4 и, возможно, уже и западногрузинские племена5. Когда же эти движения привели Хеттское царство к падению, в образовавшийся вакуум продолжали устремляться новые племена: с запада — прежде всего фригийцы (греч. Phryges), а затем фракийские племена (греч. Thra[i]kes); однако каждая новая волна продвигалась не столь далеко на восток,
3 Отличие терминов «мускаи» и «мусаи» объясняется, возможно, наличием характерного армянского суффикса множественного числа -к', отсутствующего во фригийском и фракийском.
4 Речь идет о племенах, которые ассирийцы называют то «касками», то «абешлайцами» и которые, видимо, надо отличать от собственно касков, живших на севере Малой Азии, и связывать с абсидами — античным названием абхазцев.
5 К ним с некоторой уверенностью можно относить гомеровских халибов (см. ниже примеч. 11). Но так как гомеровские поэмы сейчас надежно датируются VIII в. до н.э., то нет уверенности, что халибы заняли свои позднейшие места обитания западнее р. Чорохи раньше этого времени, точнее, раньше завоевания низовьев этой долины колхами в середине VIII в. до н.э.
как предшествующая, и «западные» мушки (фригийцы) осели в центре полуострова, а фракийцы — на его северо-западе (мисы — в X-IX вв., битины или ви-фины — в VIII-VII вв. до н.э.)6. Наконец, в VIII в. до н.э. на Малую Азию с запада через Босфор двинулись фракийские же конники-треры, но они, видимо, здесь вообще не осели7. С востока передвижение западнокартвельского населения в Южное Причерноморье продолжалось, видимо, до середины VIII в., а в конце VIII в. до н.э. через западные перевалы Большого Кавказа хлынули конники-киммерийцы8.
Кроме того, в течение этих же столетий шло интенсивное заселение западного побережья Малой Азии мореходами-греками— ионянами в центре побережья, где выросли торговые города Милет, Смирна, Колофон, Эфес и др., к северу от них — эолийцами (о. Лесбос и прилежащее побережье Малой Азии); наконец, на юге — дорийцами по соседству с горной Ликией и напротив острова Крит (о. Родос, г. Галикарнас и др.).
В результате Малая Азия в первой половине I тысячелетия до н.э. оказалась разделенной на следующие области.
От Босфора на юг вдоль западного побережья: Троада и Мисия, с фракоязычным населением, на побережье — греческая Эолида; затем Лидия и Кария с хет-то-лувийским населением, на побережье — греческая Иония, а южнее — греческие же дорийские города. От юго-западного угла полуострова на восток: гористый полуостров Ликия9, затем гористая и озерная страна Писидия, на побережье (в заливе) — греческая Памфилия, Исаврия и горная Киликия; страна у залива Искандерун (Александретта), позже называвшаяся Равнинной Киликией; все эти области, по-видимому, были населены потомками лувийцев. В середине плато, с запада на восток: у Мраморного моря — Малая Фригия, в долине Сангария
6 Переселение битинов в Малую Азию датируется VIII—VII в. до н.э. по античному историку Арриану; ранневизантийская хроника Евсевия, сохранившая важные достоверные данные по истории Малой Азии I тысячелетия до н.э., датирует это же событие 972 г. до н.э., но, вероятно, она смешивает переселение битинов с переселением родственных им мисов, а может быть и фригийцев. Отметим, что гомеровские поэмы знают мисов, но не знают битинов, а также что часто повторяемое в литературе утверждение, будто мисы упоминаются в египетских перечислениях малоазийских народов, неверно: речь идет о стране Маса, вовсе не связанной с мисами.
7 По крайней мере они не оставили по себе следов. Следует отметить, что античные авторы относили нашествия треров, киммерийцев и скифов к одному типу явлений, о скифах же известно и по греческому историку Геродоту, и по характеру археологических находок в Закавказье (разнотипность домашнего инвентаря в могильниках при однотипности оружия и т.п.), что они переваливали через Кавказ без женщин, а потом либо уходили обратно в севернопричерноморские степи, либо бесследно растворялись в переднеазиатском населении.
8 Остаток киммерийцев, видимо, осел на северо-востоке Малой Азии, в Каппадокии (область Гамирк' армянских авторов). Самый термин, бывший первоначально, как кажется, обозначением одного конкретного коневодческого племени, сохранился позже у грузин, осетин и т.п. в значении «богатыри-великаны сказочного прошлого»; ср., по С.Н. Соколову, также рус. гмур, гмырь, хмырь. Судя по Геродоту, это же значение имел термин «киммерийцы» в Причерноморье и в его время (V в. до н.э.).
9 Ликия — Лукка хеттского периода — была в I тысячелетии до н.э. населена тремилами, представлявшими, вероятно, результат слияния переселенцев с Крита эпохи «народов моря» с местным лувийским населением. В Л и кии жили также милии, или труилы.
и вплоть до равнины Конии и излучины р. Галис (Кызыл-Ирмак)— Великая Фригия; независимо от биологического и культурного происхождения местного населения оно говорило на фригийском языке, занесенном с Балкан; к востоку от Фригии, в излучине Галиса находилась Каппадокия, населенная «белыми сирийцами» — вероятно, потомками хеттов или лувийцев; к юго-востоку от Каппадокии греки помещали Катаонию (хеттская Киццувадна), также населенную преимущественно лувийцами. Северное побережье полуострова (Южное Причерноморье), с запада на восток, начиная от Босфора: Битиния, или Вифиния, с фракоязычным населением; затем Пафлагония, с населением неясного происхождения10 11; и Понт, где жили во множестве мелкие, по преимуществу, вероятно, грузиноязычные, но также, возможно, каскские, абхазские и хурритские по языку племена11.
На всей этой территории, к западу от верхнеевфратской долины и перевалов Тавра и к востоку от стен ионийских городов, в XI-IX вв. до н.э. царило запустение. Поселения существовали на старых городищах, но на значительно уменьшившихся площадях; если здесь и возникали в то время какие-либо государства, то мелкие, слабые и неустойчивые, и оставившие мало памятников письменности. Впервые о сильном государстве в центре плато мы узнаем лишь с VIII в. до н.э.; это — царство Фригия, о котором мы расскажем ниже.
Но изменение условий жизни в Малой Азии определялось не только разорением страны при падении Хеттского царства и при последующих длительных племенных передвижениях; не меньшую роль сыграли и коренные экономические перемены (на которые, между прочим, указывает возникновение новых приморских торговых центров): речь идет об изменениях в области международного обмена, что, в свою очередь, было связано с открытием новых сырьевых ресурсов и с иссяканием старых источников сырья.
10 Название страны принадлежит, видимо, индоевропейскому языку, однако связь пафлагонян с фригийцами, предполагаемая О. Хаазом, сомнительна. Возможно, здесь и восточнее сохранялись каскские племена, к которым мы, в частности, склонны относить тибаренов в Понте.
11 Речь идет прежде всего, по терминологии древних греков, о халибах, вероятно, тождественных у Гомера с хализонами, в урартской письменности — с народом страны Халиту, с халдами византийских и с хагтик4 армянских источников. Раньше халдов необоснованно смешивали с урарта-ми, поклонявшимися богу Халди. В действительности потомками халдов является западногрузинская этническая группа лазов, или чанов, сохранившаяся до наших дней к западу от Батуми. Предположительно тот же самый народ обозначается в другой древнегреческой традиции и как мосхи (Moschoi, читай мосхой). Этот последний термин — греческая форма все того же термина «мушки», применявшегося к протоармянам (?) и фригийцам, однако мосхи безусловно не были ни теми, ни другими; принадлежность мосхов к числу грузиноязычных племен вполне вероятна несмотря на то, что мы не можем по лингвистическим соображениям (к, *к, а не х!) отождествлять их с центральногрузинской этнической группой месх — отождествление, восходящее, однако, по крайней мере к Страбону (I в. до н.э.— I в. н.э.). Как курьез отметим средневековое отождествление мосхов с... москвитянами! Возможно, что, будучи грузиноязычными, мосхи были все же связаны с фригийцами либо культурой и образом жизни, либо историческими судьбами (например, они могли входить в состав Фригийского царства VIII—VII вв. до н.э.). К грузиноязычным некоторые исследователи относят и другие мелкие племена Понта, однако вполне определенно грузиноязычными пока можно считать только халдов. О касках и абхазцах см. примеч. 4. Хурриты жили, между прочим, в долине р. Чорохи (см. ниже).
Пожалуй, одним из важнейших факторов, вызвавших наступившие перемены, было открытие испанского, а позже и британского олова. Вероятно, это открытие обусловило создание в начале I тысячелетия до н.э. в Испании государства Тартесс (по-гречески), или Таршиш (по-семитски); посредничество в торговле оловом между Таршишем и Передней Азией, надо думать, немало способствовало росту влияния финикийских городов в переднеазиатской метрополии (сначала приморских— Сидона и Библа, затем островных— Тира и Арвада), а с IX-VIII вв. до н.э. — и финикийских колоний. Между тем восточные места добычи олова, которыми пользовалась ассирийская сухопутная торговля12, теперь либо иссякли, либо с ними были утеряны торговые связи. Находка новых богатых месторождений олова позволила наладить свое производство бронзы не только в Малой Азии, но также и на Армянском нагорье и в Закавказье, где вплоть до последних веков II тысячелетия до н.э. довольствовались медью с примесью мышьяка; но вскоре в Передней Азии началась эра железных орудий.
Очень важным оказалось то обстоятельство, что падение Хеттской державы положило конец хеттской монополии на добычу железа; его начинают широко вывозить с полуострова в различные страны Передней Азии и Эгейского мира. Впервые освоив технологию железа, многие народы смогли затем найти и использовать ранее лежавшие втуне собственные железные месторождения (в том числе на Армянском нагорье), и новый металл из редкости, из материала для ценных поделок стал превращаться в массовое сырье для ремесленной промышленности. Оказалось, что найти железную руду и применить ее для производства металла гораздо легче, чем найти годную для производства медь, и что новый металл, хотя пока во многом и уступает бронзе (из-за более высокой температуры плавления, меньшей твердости и худших литейных и антикоррозийных качеств), имеет то неоценимое преимущество, что не требует очень редко встречающегося в природе дорогого приплава— олова, и поэтому несравненно доступнее и дешевле бронзы. Собственно, только с внедрением железных изделий впервые окончательно выходят из производственного употребления изделия каменные. Но для ряда изделий бронза еще долго продолжала конкурировать с железом (так, для бритв, для оборонительного оружия, долгое время для наконечников стрел продолжала применяться бронза; окончательно она уступила как материал для изготовления орудий и оружия только стали). Железо еще и потому не могло быстро вытеснить бронзу, что многочисленные новые железорудные месторождения были найдены не сразу.
В течение XI-IX вв. до н.э. главным источником железа оставалась Северо-Восточная Малая Азия. Вывозимого отсюда железа было достаточно для того,
12 Как уже упоминалось в 1-й части этого издания, местонахождение восточных центров добычи олова геологами не установлено, хотя в археологической литературе нередко указывают на район г. Тебриза и гору Сахенд к востоку от оз. Урмии, и в ассирийских документах есть упоминание о доставке олова из «страны Наири» (т.е. с Армянского или Иранского нагорья). По данным Н.Б. Янковской, Шубрия к северу от истоков Тигра была еще в IX-V1II вв. до н.э. особенно богата «свинцом», но по уточненным данным следует читать — «оловом». Археологами предполагаются древние месторождения олова также на о. Лесбос и в долине Дуная, а Страбон (XV, 724) в начале н.э. указывает на Восточный Иран (Дрангиану).
чтобы в IX в. до н.э. Передняя Азия перешла к железному веку; к концу VIII в., например, в царстве Урарту (точнее, в Муцацире) скопились огромные склады уже более не использовавшихся бронзовых мечей, кинжалов и секир. Именно на торговле железом в это время расцвели главные наследники Хеттской державы — царство Камману (Комана Катаонская) в долине Верхнего Евфрата, с центром в г. Мелид, или Мелитии (ныне Малатья), принявшее название «Великого Хатти», и царство Каркемиш, с династией, ведшей свою генеалогию от хеттских царей и тоже впоследствии претендовавшее на обозначение «Хатти»13, а также и другие мелкие государства на пути из Малой Азии в Сирию и Финикию (Арпад, Хаттина-Унку, Хамат, Дамаск) и из Малой Азии в Верхнюю и Нижнюю Месопотамию (Харран и др.). Попадая из Финикии, Сирии или Месопотамии в верхнеевфратскую долину, этот торговый путь проходил через царства Каркемиш и Мелид, а также союзные им мелкие царства, и затем разветвлялся: одна ветвь вела через перевалы Тавра на северо-запад— к серебряным копям Понтийского Тавра и к железным рудникам, ревниво охраняемым полусказочними халибами; на северном ответвлении этого же торгового пути, в Понте (Южное Причерноморье), в VIII в. до н.э. возникли греческие торговые колонии — города Синопа и Трапезунд; другая ветвь вела прямо на север— в долину р. Чорохи и далее в Колхиду; третья — на северо-восток, в долину р. Араке. По этим дорогам шли грузы железа, серебра, свинца, меди и бронзы, слюды, охры, полудрагоценных камней, а также золота — вероятно, колхидского. Древняя Колхида, страна, куда, по преданию, еще в незапамятные времена плавали за «золотым руном» на своем корабле «Арго» греческие герои, находилась в долине р. Риони, в Грузии, но о том, что не только в легенде существовало колхидское золото, теперь свидетельствуют лишь два-три ассирийских и урартских упоминания о захвате золота на верхнеевфратском пути и на р. Чорохи. В I тысячелетии до н.э. — вероятно, позже, чем в Колхиде, — были найдены богатейшие золотые месторождения у горы Пактол на западе Малой Азии, в Лидии. Видимо, и с этой находкой связано оживление торговых связей Эгеиды с Малой Азией в первой четверти I тысячелетия до н.э., а также рост благосостояния ионийских приморских городов. Надо полагать, что от этих городов еще до VIII в. до н.э. пролег торговый путь не только в Лидию, но и далее на восток — к рудным месторождениям Тавра и Понта.
Из всех государств Малой Азии XI-IX вв. до н.э. мы осведомлены только о тех, которые лежали в горах Тавра и вдоль чорохско-верхнеевфратского пути. Наши данные происходят отчасти из ассирийских, а позже и урартских военных реляций, отчасти из «хеттских» (лувийских) иероглифических надписей довольно скудного содержания, рельефные рисуночные знаки которых высечены на скалах и каменных сооружениях — воротах, плитах, статуях.
К сожалению, о царстве Колхиды, кроме легенды об аргонавтах, мы до VIII в. до н.э. ничего не знаем из письменных источников; затем о нем дважды упоми
13 В это же время у ассирийцев и у урартов обозначение «хетты» (Хатти, Хате), на которое претендовали эти и другие государства, стало в конце концов применяться ко всем народам к западу от Евфрата, включая евреев, финикийцев, арамеев, лувийцев и, видимо, также протоармян.
нается в урартских надписях — видимо, в связи с тем, что оно к тому времени заняло бывшую территорию хурритского царства— Страны таохов (Дайаэне, иначе Диаухе, Тао и т.д.); последнее, в свою очередь, по крайней мере с XIII—XII вв. до н.э., занимало бывшие земли предгосударственного объединения XV-XIV вв. до н.э. Ацци-Хайаса (в долине р. Чорохи и на Севере Верхнего Евфрата). Предполагается, что сама Колхида была грузиноязычным царством. По соседству, в горах Понта, господствовали еще совершенно первобытные порядки и нравы, красочно описанные в V в. до н.э. проходившим эти места Ксенофонтом.
Южнее и юго-западнее страны таохов, где-то между верховьями р. Галиса или р. Лика (Келькита) и верховьями Евфрата находилось царство Каску, названное по осевшим здесь в XII в. до н.э. «каскским» (в действительности абеш-лайским, т.е., может быть, абхазским) племенам. На тогдашней каскской (а может быть, на мелидской или сухмийской) территории расположено единственное и ныне разрабатываемое в Малой Азии месторождение железа (около совр. г. Дивриги); если бы оно было единственным и в древности, мы должны бы были поместить именно здесь и рудокопов железа — халибов; однако есть данные, что в прошлом железо добывалось и значительно далее к северо-западу, в различных местах Понта— например, еще в XIX в. оно добывалось в Унье, недалеко от Орду. К тому же традиция помещает халибов именно где-то здесь, между р. Келькита (Лика) и р. Чорохи. На юге Каску граничило с верхнеевфратским царством Мелид-Камману («Великим Хатти»). Цари Мелида носили хурритские и лувийские имена, но в составе его населения можно предполагать и протоар-мянский («восточномушкский») компонент; в удачные для него периоды оно имело владения и на левобережье Верхнего Евфрата, где, по-видимому, были расположены обычно самостоятельные области, со смешанным хурритским и протоармянским населением (с севера на юг: Сухму; Цупа, или Софена; Алзи, она же Ишува или Страна мушков, арм. Агдзник и др.).
К югу и юго-западу от Me л и да-Кам ману, в горах и в долинах Малоазийского Тавра был расположен ряд мелких государств, пользовавшихся (как и Мелид) «хеттской» иероглифической (лувийской) письменностью. Имена царей были почти повсеместно также лувийскими, что, конечно, не исключает наличия в составе населения этих царств и других этнических компонентов.
С северо-востока на юго-запад здесь были расположены царства Куммуху (Коммагена), Гургум (у совр. г. Мараша ), Табал, Хилакку (горная Киликия), затем мелкие государства на равнине у северных подножий Тавра, а также на приморской равнине, где находились царство Куэ и царство данунийцев (= данайцев?). Больше всего толков вызывает область Табал с ее «24 царями» — из-за соседства с мушками-фригийцами и из-за соблазнительности параллели «мушки — Табал» и «мосхи — тибарены» (эти два последних племени упоминаются совместно Геродотом); в зависимости от национальности или специальных научных склонностей исследователя обе пары, идентифицируясь, превращаются или в завоевателей индоевропейцев (в качестве «народа господ» для ма-лоазийских «туземцев»!), или в грузин либо армян. В противовес этому следует сказать, что, во-первых, Табал — название области, а не этноса, во-вторых, в ней пока засвидетельствован для интересующего нас времени только один язык —
лувийский, и, в-третьих, что отождествление «Табал = тибарен», хотя и освящено древностью (эти термины идентифицировал еще Цицерон), не может быть принято без большой лингвистической натяжки. Табал был в этом районе едва ли не важнейшей областью: здесь находились главные перевалы через Тавр. Интересно также царство данунийцев, видимо зависевшее от Куэ: местная (лувий-ская по именам царей!) династия возводила свое происхождение к герою Троянской войны Мопсу, а надписи кроме лувийского («хеттского иероглифического») составлялись и на финикийском языке. Далее, к югу от гор Тавра и до самого Хамата в верховьях р. Оронта (Аси) в Сирии, были расположены еще мелкие царства, тоже пользовавшиеся наряду с «хеттской» (лувийской) иероглификой семитским алфавитом и семитскими языками (в Сам’але, ныне Зинджирли,— языком я’уди, в Арпаде, Каркемише и далее до Хамата— арамейским); цари здесь носили чаще лувийские, реже — семитские имена. Деловых и литературных памятников из всех этих государств до нас не дошло. Известно, что верховным божеством у большинства лувийцев был бог грозы Тархунт (позже у армян он назывался Торк‘, у ликийцев Трххиц).
Если для Малой Азии XI-IX века до н.э. были периодом бедствий и глубокого упадка, то для Армянского нагорья это время дальнейшего трудного развития, выразившегося прежде всего в завершившемся классовом расслоении общества и повсеместном создании государственной власти эксплуатирующего класса. Одновременно здесь происходил технологический переворот, связанный с переходом сначала от меди с примесью мышьяка к бронзе, а затем — к железу.
Но поскольку с XI в. до н.э. ассирийские набеги на нагорье были редкими и неглубокими, а местные тексты этого времени неизвестны, постольку мы знаем мало конкретного об этой области вплоть до середины IX в. Однако, судя по тому, что позднейшая (IX-VI вв. до н.э.) урартская официальная письменность сохраняла несомненные следы хеттско-хурритской государственной писцовой традиции еще XIV-XIII вв. до н.э., надо полагать, что кое-какие царства, пользовавшиеся в административной практике частью «хеттской» (лувийской) иероглификой, частью хурритской (и аккадской?) клинописью, существовали здесь и на протяжении ХП-Х вв. до н.э. К этому же времени, но к области вне непосредственного хеттско-хурритского влияния следует отнести создание и местной, урартской иероглифики, которая, впрочем, так и не поднялась, видимо, над уровнем вспомогательного мнемонического средства.
Говоря о царствах с хеттско-хурритской государственной традицией на территории Армянского нагорья, можно иметь в виду в первую очередь области по левобережью Верхнего Евфрата, к югу от Страны таохов.
Это Сухму (по которой армяне на грузинском языке называются «сомехи»), Цупа (Софена) и Алзи («Страна мушков») у слияния с р. Арацани, а также Шуб-рия (может быть, то же, что Арме в урартских надписях, отсюда Армина — первоначально «жители Арме», позже название страны — «Армения» — у южных соседей); все эти области имели коренное хурритское население, с которым, как нам представляется, перемешалось население протоармянское. Хурритской же была и область Хубушкиа, или «Царство Наири», в долине р. Бохтансу к югу от оз. Ван (иногда же простиравшееся и в сторону обитания уккийцев [они же позже кардухи?], т.е. в глубь гор — по направлению к оз. Урмии, ныне Резайе).
Неясна этническая принадлежность мелких городов-государств, окружавших с конца II тысячелетия до н.э. оз. Резайе/Урмия и расположенных на холмистой низменности к югу от него (в «Стране маннеев»); что это были именно города-государства, ясно по сведениям ассирийских анналов в сопоставлении с данными раскопок одного из этих городов — нынешнего Хасанлу; они указывают на существование мощной цитадели, дворцовых и храмовых сооружений, каменных мостовых, типичной городской застройки, городских стен и т.п. Весьма возможно, что и этот район был в основном еще хурритскиМ, хотя сюда еще с первой половины II тысячелетия до н.э. проникали индоиранцы, а к IX в. до н.э. процент ираноязычного населения в этих местах, по всей видимости, был значительным.
Между хурритами запада— таохами (в Дайаэне и в верхнеевфратской долине), юга (в Хубушкии) и востока— матиенами (у оз. Урмии — древней Матиа-ны, или Мантианы) были расположены места обитания близкородственных им по языку племен урартов14. Подобно своим соседям — горным хурритам, урарты с конца II тысячелетия до н.э. образовывали города-государства (или «номовые» государства: такие маленькие государственные единицы были в то время рассеяны на большом пространстве от Верхнего Евфрата через весь Иран и вплоть до Южной Туркмении). Урартскими городами являлись, очевидно, Кум(м)е, или Кумену на Забе, центр культа бога дождя и грома по имени Тейшеба (хур. Теш-шоб), неоднократно упоминаемый в ассирийских источниках вплоть до VIII в. до н.э.; но еще с IX в. Кумену уступает по значению Муцациру (хур.-урарт. Арди-не, «Город», “The City”). Этот город был центром культа бога Халди, или Хал-диа, который позже сделался общеурартским божеством. Еще одним урартским центром был г. Тушпа (арм. Тосп, ныне Ван), известный нам, однако, из источников только со второй половины IX в. до н.э.; здесь был центр культа бога солнца с хеттским (?) именем Шивине.
«Номовые» государства Армянского нагорья были отграничены каждое естественными рубежами отрезка своей долины; и по мере того как от юго-запада к северо-востоку центральные крепости «номов» становились меньше и слабее, общество все более отходило от раннеклассового состояния, характерного для южных и юго-западных частей нагорья, и приближалось к состоянию позднего родо-племенного общества и военной демократии, характерному для большей
14 Впервые упоминаются во второй половине II тысячелетия до н.э. к югу от оз. Ван под названием уруатри (позже уратри), или суги, и в районе верховьев р. Большой Заб под названием кума-нийцев, или укумани. Отметим, что суги или сугир — вариант термина су, субир, т.е. шумерского эквивалента аккадского «шубареи, субареи»: так во II тысячелетии до н.э. в Нижней Месопотамии называли хурритов. Особенно близка к урартскому языку древнехурритская надпись III тысячелетия до н.э. из Уркиша. Собственно урартами искони называлась лишь эта группа «урартских» по языку племен; создавшееся на их территории царство только ассирийцы называли Урарту, сами же его жители называли его Биайнеле, а себя— биайнами, т.е. ванцами; термин «Урарту» сохранился в названии горы Арарат, но лишь через посредство библейской традиции: сами армяне называют эту гору не Арарат, а Масис. Область же коренного обитания племени урартов (в узком смысле слова) сохранила армянское название Рштуник4, что историко-фонетически в точности соответствует термину «Урарту». Но как упоминалось выше, по-урартски говорило также население верхней части долины р. Большой Заб, а может быть, и некоторых других долин.
части тогдашнего Закавказья. В XII в. до н.э. ассирийские источники насчитывали в «странах (или „стране44) Наири» (термин, объединявший в то время все земли от границ полуострова Малая Азия и до центральной части гор Загроса в Иране) многие десятки «царей» (и «цариц» — т.е. жриц божества плодородия, выступавших в поход вместе с войсками); это, конечно, были еще племенные вожди, и недаром хетты здесь не раз вели переговоры не только с «царями», но и с народом тех или других «стран». В описаниях ассирийских походов ХШ-Х вв. ясно вырисовывается существование здесь обширных, но непрочных объединений — племенных союзов, или конфедераций (Наири, Хапхи, Салуа/Сала, Уру-атри/Суги и т.д.); в надписях же урартских царей VIII в. до н.э. племенные объединения прослеживаются уже только к северу от оз. Ван и в особенности к северу от долины Аракса. Здесь обширная территория объединялась под понятием «Этиу(не)» (правильнее, вероятно, Этио); это был термин столь же широкий, как «Наири» или «Хапхи» у ассирийцев, и охватывал все племена от района совр. г. Карса до оз. Севан и, вероятно, далее на восток. Этническая принадлежность этиуских племен неясна; предполагают их родство с хурритами и урарта-ми, не исключают и грузинское родство15, а с другой стороны, при отождествлении «этиу» с «утиями» (они же албаны, агванпы, или удины) античных авторов наиболее вероятным оказывается нахско-дагестанская принадлежность этих племен. Для окончательного решения вопроса время, очевидно, не наступило.
Урарту как государственное объединение, доминирующее в некоторых частях Армянского нагорья, упоминается впервые, по-видимому, ассирийским царем Ашшурнацирапалом II (883-859 гг. до н.э.). Глубоко внутрь нагорья, после весьма длительного перерыва, решился впервые проникнуть его сын Салманасар III в 859 и 856 гг. до н.э.
События этих походов изображены на рельефах бронзовых обшивок храмовых ворот, находившихся в ассирийском городе Имгур-Эллиль (ныне село Бала-ват). Эти рельефы позволяют судить о военном деле и вооружении урартов IX в. до н.э. Урартские воины изображены здесь в подпоясанных рубахах, в шлемах с гребнями, с маленькими круглыми щитами и короткими, вероятно бронзовыми, прямыми мечами — вооружение, в общем сходное с лувийско-хурритским. Воины, обороняющие стены, вооружены также луками. Те же рельефы изображают вырубку деревьев, казни знатнейших жителей, увоз ассирийцами захваченного добра в больших глиняных сосудах, положенных на повозки, и угон нагих пленных в шейных колодках.
Наступление шло через Хубушкию (долину р. Бохтансу) к крепости Сугуния (принадлежавшей царю Урарту по имени Араму) и далее до оз. Ван, где ассирийцы омыли оружие. На пути от Тигра до Вана они одолели три перевала. Кажется очевидным, что царство Урарту— как до него племенной союз Уруат-ри — находилось у оз. Ван, хотя некоторые исследователи предполагают, что при Араму Тушпа еще не являлась его столицей, как позже.
15 При этом сопоставляют характерный для названий племен и местностей Закавказья этого времени суффикс -ив- с грузинским суффиксом мн. ч. -эб-. Однако это сопоставление неправомерно, так как вместо -ив- надо читать -иу- или даже -ио-.
Следующий поход Салманасара III — в 856 г. до н.э. — был еще серьезнее. Ассирийцы прошли перевалом Энзите (арм. Андзит) через левобережье верхнеевфратской долины — сквозь Алзи, Сухму — и вторглись в Страну таохов. Разбив царя таохов, Салманасар повернул и ударил по Урарту с тыла— с северо-запада. Битва с Араму в горах Аддури привела к поражению урартов и большим их потерям; ассирийцы заняли крепость и «царский город» (т.е. столицу одного из урартских округов) Арцашку (арм. Арцкэ?); последовали обычное разорение местности и зверская расправа над населением. Пленных не брали (кроме колесничих и всадников), но угоняли лошадей и мулов и вывозили добычу. Обходя оз. Ван с севера, Салманасар, не спеша, велел соорудить в горах «огромное изображение своего величества» с надписью; миновав затем Армареле (область Тушпы к востоку от оз. Ван: при этом сама Тушпа не упомянута) и омыв оружие в «море Наири» (оз. Ван), ассирийцы прошли далее с боем через владения царей Гильзана (у оз. Урмии) и Хубушкии и вышли в Ассирию через перевал Киррури к Арбеле. Если не считать еще одного похода на Шубрию (в 854 г. до н.э.), ассирийцы четверть века после этого не тревожили горцев.
Урарты воспользовались передышкой для укрепления своего государства. Ко времени после 845 г. до н.э. относятся первые надписи урартского царя Сарду-ри I, сына Лутиври — правда, пока еще не на родном языке, а на ассирийском диалекте аккадского. Эти надписи найдены в Тушпе, и некоторые исследователи полагают, что именно Сардури I сделал ее своей гражданской столицей, оставив Муцацир, где правил полунезависимый царь, культовым центром урартов. Сардури I именует себя не только «царем Биайнеле (т.е. Вана, Урарту), правителем города Тушпа», но и «царем великим, царем сильным, царем воинств, царем Наири». Эта титулатура повторяла ассирийскую с заменой слова «Ассирия» на «Наири»16, что означало вызов Ассирии и претензию на соперничество с ней.
Претензия оказалась небезосновательной. Ассирийцы были в это время связаны тяжелой борьбой за «железный путь», которую им приходилось вести с Северосирийским союзом, возглавлявшимся тогда Мелидом («Великим Хатти»), и Южносирийским союзом во главе с Дамаском. Лишь в 832 г. до н.э. стареющий Салманасар послал против Сардури своего полководца Даян-Ашшура; однако Сардури удалось не допустить ассирийцев в глубь государства. Даян-Ашшур был вынужден повторить поход в 828 г. На этот раз он напал со стороны Муцацира, но снова успехи ассирийцев были умеренными.
Политику Сардури I продолжал его сын Ишпуине. О его наступательных действиях в районе между озерами Ван и Урмия можно заключить из ассирийских источников; урартские надписи самого Ишпуине очень кратки, кроме тех, где он выступает с соправителем— своим сыном Минуа. Очевидно, Ишпуине рано отошел — может быть, по болезни — от активной деятельности, и фактическим правителем страны был Минуа. При их совместном правлении была укреплена урартская власть над Муцациром, которому угрожала было Ассирия (причем правителем был, по-видимому, поставлен брат Минуа), а также занята вся территория вплоть до западного и южного берега Урмии; урарты взяли крепость
16 На титул «царя Наири», но не на остальные титулы претендовал еще и царь Хубушкии.
Мейшта в Стране маннеев (где-то около Хасанлу) и вышли во фланг Ассирии в области Парсуа. Северная граница Урарту при Ишпуине проходила, видимо, по Среднему Армянскому Тавру (между оз. Ван и Араксом); здесь урарты вели упорную борьбу с вторгавшимися с севера, из-за Аракса, племенами витеру, лу-ша и катарза — может быть, сасперскими (т.е. протогрузинскими).
Ко времени Ишпуине и Минуа в Урарту вводится система наместничеств во главе с областеначальниками, упорядочивается пантеон и учреждается общегосударственная система жертвоприношений (надпись на скале Мхери-дур, или Мехер-капусы, около Тушпы).
Незадолго до 800 г. до н.э. начинается единоличное правление Минуа. Вскоре после этой даты ассирийцы потеряли свои верхнеевфратские провинции, и все левобережье Верхнего Евфрата вошло в состав Урарту. Минуа удалось вторгнуться на территорию «Великого Хатти» (Мелид) на правобережье «Мелиайской реки» (Евфрата) и, более того, перевалив через «горы Нала» (Армянский Тавр), совершить набег на ассирийскую Верхнюю Месопотамию. На севере Минуа вторгся в Страну таохов, а также построил новый административный центр на правом берегу Аракса, у подножья горы Арарат— Минуахинеле; отсюда урарты начали набеги за Араке.
Во время правления Минуа по всему царству было воздвигнуто много оборонительных и оросительных сооружений: так называемый «Канал Шамирам» до сих пор снабжает водой г. Ван. Урарты не останавливались перед тем, чтобы прорубать каналы в скале или облицовывать их глыбами камня. Это строительство стало возможным в результате введения железных орудий и распространения обязательных повинностей на новое, довольно многочисленное население царства (случаев постройки больших оросительных сооружений руками рабов-пленных на древнем Ближнем Востоке не известно).
Около 780 г. до н.э. (датировки, предложенные разными исследователями, расходятся в пределах десяти лет) на престол Урарту вступает Аргишти I, сын Минуа. От его правления дошла одна из крупнейших древневосточных надписей — огромная «Хорхорская летопись», высеченная на отвесных склонах Ван-ской скалы, и другие подробные известия о его походах. В начале своего правления (1-й год?) Аргишти повторил поход Минуа в Страну таохов, частично обратив ее в урартское наместничество, а частично обложив данью— золотом, медью, конями и рогатым скотом. (Окончательно царство Утупурши, царя таохов, было сокрушено Аргишти лет через 15-20, причем значительная часть долины р. Чорохи, видимо, тогда же перешла в руки Колхиды и «сасперских» племен.) В тот первый поход, пройдя вдоль юго-западной периферии области кол-хов, Аргишти вышел к верховьям р. Куры и вернулся через долину Аракса. Севернее Аракса он продолжал действовать также во 2, 4 и 12-й (?) годы правления, причем были завоеваны районы верховьев Куры, верховьев Аракса, Чил-дырского и Севанского озер (северная достигнутая точка— Алишту, т.е., как показал С.Т. Еремян, совр. г. Акстафа-Агстев). В 4-м (?) году правления была построена, в непосредственной близости от позднейшего Еревана, крепость Ир-буне (Эребуни), заселенная 6600 воинами, взятыми в плен в «Великом Хатти» и в Софене, по всей вероятности, протоармянами по этнической принадлежно
сти, а также и другими пленными. Все они были теперь взяты на пограничную военную службу; переселенцы ввели здесь, помимо урартских, чуждые культы — бога Иварши и вавилонского Мардука. В 10-м (?) году Аргишти создает на левом берегу Аракса еще более крупную крепость, которая, видимо, должна была стать административным центром всего Закавказья — Аргиштихинили (ныне городище Армавир-блур).
На западе своего царства Аргишти в 3-м (?) году вновь, после отца, ходил походом в верхнеевфратскую долину, в том числе и на правобережье, в царство Мелид («Великое Хатти»), где тогда правил Хиларуандас. Благодаря этому урартскому царю удалось установить свою гегемонию над верхнеевфратским участком «железного пути».
Зайдя таким образом во фланг Ассирии с запада и перерезав ее коммуникации с важнейшими источниками сырья, Аргишти посвятил много лет (с 5-го [?] по 11-й [?] год правления) тому, чтобы обойти Ассирию также и с востока. Основным объектом была Страна маннеев к югу от Урмийского озера и расположенная еще южнее страна Парсуа; Аргишти доходит даже до вавилонской территории в долине р. Диялы. Успехам Аргишти, который неоднократно вторгался на собственно ассирийскую территорию, содействовала господствовавшая в Ассирии разруха, вследствие чего он часто имел дело не с царскими войсками, а с войсками полусамостоятельного наместника и военачальника Шамши-илу. Однако упорные набеги урартов на Страну маннеев привели к сплочению самих маннеев, так что как только могущество урартов в следующее правление пошатнулось, на месте множества разрозненных городов-государств урмийского района возникло большое царство под тем же названием Страны маннеев; оно имело олигархическое управление (рядом с царем стоял совет из царских родичей и местных правителей), хотя народ тоже играл заметную политическую роль.
На время правлений Ишпуине, Минуа и Аргишти I падает первый период расцвета Урарту. О социальном устройстве этого царства у нас пока мало данных.
Урарту было наименее доступной врагам, а потому находившейся в наиболее благоприятных условиях для развития областью нагорья. Для того чтобы сохраниться рядом с могущественной и воинственной Ассирией, Урарту должно было быстро сравняться с ней по уровню развития военной техники, администрирования и масштабности завоеваний. И Урарту этого добилось. С царствования Аргишти I (если не ранее) в урартской армии были, по-видимому, введены ассирийская структура подразделений и обучение и, во всяком случае, ассирийское снаряжение и вооружение (пластинчатые панцири, остроконечные бронзовые шлемы, большие круглые бронзовые щиты, сравнительно длинные железные мечи и лук с колчаном на 36 стрел с железными, реже бронзовыми, наконечниками)17. По ассирийскому образцу организуется царский двор с тысячами евнухов. Что касается урартской административной системы, то Ассирия со второй
17 Одновременно начинает проявляться сильнейшее ассирийское влияние на культуру урартской знати; оно сказывается в утвари, в канонах культовых изображений и характере доминирующей в изобразительном искусстве монументальности, в одежде; облачение знатных урартских женщин и мужчин отличается от ассирийского преимущественно характерным рисунком вышивок в виде квадратов или ромбов.
половины VIII в. до н.э., по-видимому, стала сама копировать ее. Целью как урартских войн, так и «мирной» администрации завоеванных областей был прежде всего захват материальных ценностей, при этом захвату торговых путей придавалось мало значения; ценности скапливались на царских и храмовых складах ради престижа, обмена подарками с другими дворами и содержания придворного штата, чиновничества и армии — ив наименьшей степени поступали в оборот: товарное хозяйство в горных областях Передней Азии было развито настолько низко, что для обеспечения сырьем месопотамского земледелия и ремесла Ассирия (и Урарту) вынуждены были организовать насильственный «обмен» путем завоеваний. В то же время скопление металла и пленных (в том числе ремесленников) в центрах Урарту способствовало высокому развитию литейного и вообще металлургического, а также ювелирного мастерства.
В Урарту не было крупных царских рабовладельческих, земледельческих хозяйств. Принадлежавшие царю земли были сравнительно невелики, и продукты полеводства поступали в урартские «дворцы»-крепости главным образом в виде натурального налога с населения. В этих крепостях находились склады хлеба и фуража для войска, винные кладовые, здесь же были мастерские для первичной переработки поступающего сырья, для изготовления оружия и т.д.; тут же стояли гарнизоны и помещались наместники со своим штатом. Лучше всего такой «дворец»-крепость изучен на материале древнего города Тейшебайне (VII-VI вв. до н.э.), ныне городища Кармир-блур в Ереване; однако за последнее время раскопан ряд подобных крепостей и на территории Турции и Ирана. Одна из них, Алтын-тепе, между современными городами Эрзурум и Эрзинджан (древнее название неизвестно), относится к времени, когда урартские власти сменили здесь при Аргишти 1 власть лувийцев или хурритов-таохов18.
В Тейшебайне— городе, заново построенном урартами в VII в. до н.э.,— дома, по-видимому, строились сразу целыми кварталами, одновременно с основанием крепости. Каждая семья обитала в жилище, имевшем неправильную форму и состоявшем из двух-трех помещений, из которых одно только до половины было крыто кровлей, покоившейся на деревянных столбах. Другая его половина служила двориком. Здесь находился врытый в землю очаг. Жители дома не имели своих постоянных хранилищ для продуктов, не держали при доме скота: видимо, здесь жили люди, работавшие в мастерских цитадели или служившие в гарнизоне либо на низших должностях в администрации. Мебели почти не было; главную утварь составляла глиняная посуда: в ней варили пищу, хранили зерно, масло, пиво, мелкие вещи. Из кости и дерева изготовляли коробочки, ложки, совки, гребни и т.п. В пищу шел ячмень, просо, бобовые, кунжут (на масло), виноград и изюм, а также иногда — выдававшееся из дворца мясо. Известны некоторые орудия урартского земледельца: железные серпы, вилы, лопаты, грубые зернотерки из двух камней, каменные ступки-крупорушки.
Образцом другого, более органично выросшего типа города на нагорьях может служить Хасанлу в Стране маннеев. Здесь вместо прямых, единовременно
18 Здесь, между прочим, имеются надписи на сосудах, сделанные писцами-администраторами «хеттским иероглифическим» письмом... на урартском языке! Очевидно, чиновники еще не успели освоить урартскую клинопись или хотя бы урартскую иероглифику.
проложенных улиц — лабиринт естественно складывавшихся переулков, больше имущественного расслоения, выражающегося в различном богатстве и размерах отдельных строений. В Урарту — а может быть, и у маннеев — были также известны многоэтажные городские дома.
Урартское общество не было этнически однородным. Помимо биайнов, т.е. урартов собственно, жителей бассейна оз. Ван, здесь обитали также «хетты», т.е. лувийцы, и протоармяне, хурриты, а также представители северных грузиноязычных и этиуских племен; возможны и другие (иранские, арамейские, аккадские) компоненты. Разноплеменным и разноязычным должно было быть и войско, и это, скорее всего, сказывалось в периоды военных неудач, да и просто в отсутствие побед.
Урартские надписи и даже титулатура царей объединяют основную массу населения под термином шуреле (букв, «оружия», т.е. «воинства» или «вооруженные племена»). Оно несло воинскую и другие повинности и жило большими общинно-родовыми поселениями типа хурритских II тысячелетия до н.э., сгруппированными вокруг окруженных стенами самоуправляющихся и царских поселений-крепостей. Так, существовали целые поселения из родичей царя. Среди царских людей выделялась высшая группа, мари— аналог марианна у хурритов. Военная и служилая знать, может быть, восходила по происхождению к местным знатным родам различных племен. Важность ее роли сказывается, между прочим, в том значении, которое придавалось в тактике «аристократическим» родам войск — колесничим и всадникам.
Важнейшим культовым центром был муцацирский храм бога Халди; он был местом коронации урартских царей и одновременно их сокровищницей. Наряду с храмами (сусе, под двускатной крышей с колонным залом и иногда с портиком) в культе Халди существовали святилища под открытым небом— перед нишей в скале или каменной стелой («вратами» — шештиле — бога Халди); как храмы, так и «врата» владели огромными стадами, образовавшимися из царских пожалований и обязательных жертв, которые приносили семьи общинников; но нет никаких данных о том, чтобы храмы обладали полевыми хозяйствами. Вообще на территории Урартского царства из непромышленных отраслей хозяйства более всего было развито отгонное скотоводство (разводились главным образом овцы, крупный рогатый скот и кони); но урартские цари уделяли исключительное внимание и развитию земледелия и виноградарства— видимо, страна с трудом обеспечивала себя хлебом и вином.
Из каждого похода урартские войска пригоняли наряду с множеством скота очень много пленных — преимущественно из мирного населения. Судя по данным надписей, в течение жизни каждого поколения перемещались сотни тысяч людей. Большинство пленных предназначалось царю (так же как ему же, очевидно, переходила и опустошенная и вновь заселенная земля), но многие доставались и воинам. Однако хозяйство страны было неспособно использовать такую массу несвободной рабочей силы, поэтому более половины взятых в плен умерщвлялось, а из остальных (преимущественно мальчиков и молодых женщин) далеко не все переносили тяготы угона. Несомненно, рабы использовались в скотоводстве (как и у хеттов, положение рабов-пастухов было наименее кон
тролируемым19) и в ремесле; в какой мере и как они использовались в земледелии — неясно. Есть основания полагать, что с ними поступали так же, как в Ассирии, т.е. в основном сажали на землю в качестве илотов царя или его подданных, и они вели хозяйство индивидуально, отдавая значительную часть продукта своего труда. Многих мальчиков кастрировали, пополняя евнухами штаты не только при дворе царя, но, вероятно, и областеначальников, жриц и т.п. Важно отметить, что пленных воинов часто включали в урартские пограничные части, где простое чувство самосохранения вынуждало их сражаться против врагов Урарту.
Таково было урартское общество, каким оно сложилось к VIII в. до н.э. Весьма сходным, вероятно, было и общество соседних с Урарту стран, хотя мы должны себе представить его более патриархальным.
Около 760 г. до н.э. на урартский престол взошел Сардури И, сын Аргишти. В это время благоприятная для урартов обстановка продолжала сохраняться. Однако Сардури II пришлось неоднократно воевать в Стране маннеев и дальше к югу, вплоть до долины р. Диялы, встречая все более ожесточенное сопротивление. К концу правления Сардури II Страна маннеев и другие области этой окраины добились независимости. Целый ряд походов урартского царя был направлен и в Закавказье. Число пригоняемых пленных все увеличивалось; так, за один лишь год Сардури II привел из трех походов 12 735 мальчиков и 46 600 женщин.
Наиболее важным направлением походов Урарту было юго-западное. Сардури II дважды совершал поход в Коммагену, откуда открывался путь в Сирию. Подчинив и разорив Коммагену, он вступил в сношения с Северосирийским союзом, возглавлявшимся тогда г. Арпадом. Вначале Матиэль, царь Арпада, порвав неравноправный договор с Ассирией, скорее всего, не хотел вступать в союз с Урарту и заключил вместо этого договор с царством Каску; однако позже, видимо, он счел урартского царя меньшим злом по сравнению с ассирийским и присоединился к нему. При помощи союзов влияние Урарту распространилось до самого Дамаска, и сирийцы выступали вместе с Сардури против угрожавшей им всем Ассирии. Сардури II удалось также подчинить страну Арме в Сасунских горах (= Шубрию?)20.
Начиная с 781 г. до н.э. периодически происходили стычки между Урарту и Ассирией, и окраинные области то там, то здесь переходили за это время от ассирийцев к урартам. В середине века решительная схватка между двумя державами стала неизбежной. В 745 г. до н.э. в Ассирии воцарился Тиглатпаласар III, проведший ряд существенных реформ, используя, по-видимому, и достижения урартской государственной практики. В частности, он ослабил власть наместников областей и перестроил по-новому армию: он значительно увеличил ре
19 Так, раб-пастух мог похитить девушку у ее госпожи и увести в горы; потребовалось указание из столицы чиновникам г. Тейшебайне, чтобы был учинен розыск. Возможность похищения девушек рабами-пастухами предусматривают, видимо, и Хеттские законы.
20 Каково соотношение между упоминаемыми в урартских источниках Арме и Урме (последняя страна упомянута уже при Минуа и, вероятно, связана с племенем урумсйцев, пришедшим сюда вместе с «восточными» мушками), а также обеих этих стран с Шубрией ассирийских источников, является еще предметом споров.
гулярную армию (на полном государственном снабжении) за счет контингентов повинностного ополчения (в противоположность распространенному мнению, наемных войск ни в Ассирии, ни в Урарту не было). Военная реформа Тиглатпа-ласара имела прототип в проведенной незадолго до этого военной реформе Сардури: полагаясь на огромное скопление продуктов и ценностей в царских хранилищах, урартский царь сократил более 350 тыс. воинских повинностных единиц в стране (разумеется, столько ополченцев и раньше никогда не призывалось одновременно). Однако Сардури, видимо, переоценил свои возможности и слишком ослабил реформой свою армию. Напротив, в Ассирии реформа Тиглатпала-сара, проведенная после тяжелой полосы неурядиц, разрухи и междоусобных войн, привела к большому притоку боеспособных воинов в перестроенную постоянную армию, и в схватке урартский царь оказался слабее. В битве, которая произошла в 743 г. до н.э. в Коммагене, между Киштаном и Халпой (ныне Хал-фати), ассирийцы нанесли Сардури и его союзникам поражение. Сардури бежал за Евфрат, бросив победителям свой лагерь. Тиглатпаласар вернул Ассирии часть областей к северу от верховьев Тигра и позже подчинил Арпад. Но, по-видимому, только в 735 г. ему удалось вторгнуться в глубь Урарту и даже осадить Тушпу — хотя взять ее цитадель он не смог.
Сардури II умер в конце 30-х годов VIII в. до н.э., и на престол Урарту взошел Руса I. В это трудное для его царства время центробежные силы, сдерживаемые до сих пор оружием урартских царей, получили простор для действия. Местные царьки и даже наместники из высшей урартской знати отлагались от царя Урарту, как мы знаем из дошедших донесений ассирийских шпионов.
По сообщению одного ассирийского источника, Руса воздвиг впоследствии в муцацирском храме статую, изображавшую его на колеснице, с надписью: «С моими двумя конями и одним колесничим рука моя овладела царской властью Урарту». Хотя в этих словах содержится похвальба, они все же передают историческую обстановку: положение Русы было очень тяжелым. Ему, однако, удалось справиться с восстанием наместников и вновь подчинить своей власти маленькое, но политически важное царство Муцацир, где он, как до него Ишпуине и Минуа, оставил двуязычную надпись (на урартском языке и ассирийском диалекте аккадского: видимо, население Муцацира было сильно ассиризо-вано). Как полагают, Руса реформировал и разукрупнил наместничества и построил, в соответствии с новым административным делением, новые крепости — административные центры (в том числе в Закавказье — например, на берегу Севана). Не ограничившись этим, Руса I вышел и в области к востоку от оз. Севан, как можно заключить из надписи на Цовинарской скале над этим озером; по-видимому, он дошел по крайней мере до современного Нагорного Карабаха. Но едва Русе удалось вновь собрать воедино Урартское государство, как он столкнулся с серьезной внешней опасностью— вторжением из степей Северного Причерноморья в Закавказье конных отрядов киммерийцев (вероятно, через Ма-мисон и Клухор); они первоначально обосновались, по-видимому, в Западной Грузии и оттуда совершали набеги на Урартское царство. Опасность киммерийцев, а впоследствии скифов состояла, во-первых, в их новой тактике (они передвигались только чрезвычайно подвижными конными отрядами, без пехоты
и обозов и тем более без женщин, обеспечивая себя грабежом по пути) и, во-вторых, в их вооружении, которое состояло из луков и стрел, с так называемыми «скифскими» наконечниками, баллистически гораздо более совершенных, чем прежние. В течение последующих 100-150 лет все армии взяли на вооружение эти стрелы, но пока меткость, дальнобойность и убойная сила киммерийско-скифских стрел должна была вносить панику в ряды противника и окрестного населения. Однако киммерийцы, как позже и скифы, далеко не сразу научились брать крепости, а крепости были костяком урартской мощи. Руса I справился с киммерийцами, направив их поток преимущественно в Малую Азию. Но по мере нового роста сил Урарту назревала неизбежность и нового столкновения с Ассирией, где тем временем воцарился еще один энергичный царь — Саргон II. Готовясь к борьбе с ним, Руса завязывает отношения с Фригией и мелкими буферными царствами, расположенными в горах Малоазийского Тавра и на правобережье Верхнего Евфрата.
Когда именно в центре Малой Азии возникло Фригийское царство — до сих пор не установлено; расцвет его, связанный с именем знаменитого царя Мидаса, относится ко второй половине VIII в. до н.э. Этому же времени принадлежат раскопанные здания и курганные погребения фригийской столицы Гордион в долине р. Сангария (Сакарья)21. По преданию, Гордион был назван по имени Гордия, основателя если не Фригийского царства вообще (как считали греки)22, то во всяком случае Фригийской великой державы, каковой это царство стало в VIII в. до н.э.
Собственно фригийская территория (если не считать Малой Фригии, выходившей к Мраморному морю) включала лесистый горный массив между современными Эскишехиром и Афьон-Карахисаром, у истоков больших малоазий-ских рек; здесь находились храмовый город Пессинунт и другой, видимо, тоже храмовый город, условно называемый «Городом Мидаса» (древнее название его неизвестно). Но подлинный центр фригийской территории находился в долине р. Сангария, а на восток она заходила за оз. Туз и за р. Галис (Кызыл-Ирмак); здесь фригийские слои имеются на таких древних городищах, как Богазкёй, Аладжа-Хююк, Алишар и Кюльтепе.
Расцвет Фригии при Гордии и Мидасе, сыне Гордия (ассир. Мита), был быстрым и блестящим; причины этого нам не вполне ясны, однако характерна легенда, утверждавшая, будто Мидас мог превращать все в золото одним своим прикосновением. Мидас, несомненно, помимо Фригии господствовал и над Лидией (долиной р. Герм, совр. Гедиз) и над ее богатыми золотыми месторождениями у горы Пактол, открытыми в послехеттское время (может быть, как раз при фригийском владычестве?). На востоке влияние Мидаса доходило до Тавра, а на западе— до эолийских и ионийских городов; женой его была, по преданию, дочь царя г. Кимы в Эолиде, носившего громкое имя Агамемнона. Именно Ми
21 Мнение о якобы двух центрах Фригии — Гордионе и Мазаке (совр. г. Кайсери) ошибочно; оно основано на сопоставлении названия «Мазака» с термином «мушки», «мосхи», но такое сопоставление с лингвистической точки зрения совершенно не выдерживает критики.
22 Впрочем, была и другая греческая традиция, возводившая создание Фригийского царства на Сангарии к Отрею и Мигдону, старшим современникам Троянской войны. Об этом ср. выше в начале этой главы.
дас был первым из негреческих царей, кто принес дар в общегреческое святилище в Дельфах (золотой трон). При Мидасе расцвела фригийская металлургическая, ткацкая, деревообделочная промышленность. Интересно, что во Фригии вплоть до потери ею независимости не наблюдается признаков ввоза товаров ремесленного производства из Греции и вообще с запада; напротив, начиная с VIII в. до н.э. в Греции почти повсеместно встречаются изделия фригийские и, по-видимому, либо прибывшие через Фригию урартские, либо имитированные во Фригии по урартским образцам. Не вполне ясно, что шло из Греции в обмен на фригийские товары? Олово? Некоторые сельскохозяйственные продукты, например оливковое масло? Рабы? Греческие мореходы могли быть естественными поставщиками рабов, точно так же как финикийские (сидонские) моряки, о чьей пиратской деятельности красочно рассказывает греческая поэма VIII в. до н.э.— «Одиссея». По данным древнееврейского религиозно-политического проповедника VI в. до н.э. Езекиила, Фригия и Табал еще и в его время (когда Фригия, будучи сама завоевана, уже не захватывала пленных на войне) продавали финикийцам, наряду с бронзой, также «души человеческие» — скорее всего, как посредники в работорговле Запада.
Есть немало культурных изобретений, перенятых, по преданию, греками, а позже римлянами у фригийцев: таковы цветные фризы (лат. phrygium) под двускатной крышей храмовых и других зданий (подобные же храмовые здания сооружались и в Урарту), настенные ковры (греч. tapetes), искусство вышивки золотыми нитками, фригийский музыкальный лад, двойная свирель и кифара, раз-ведение «ангорских» коз с пушистой «мохеровой» шерстью, декоративных роз и многое другое. О греческом влиянии на Фригию судить труднее: если не считать надгробных надписей римского времени, до нас дошло лишь немного кратких и обычно не поддающихся истолкованию надписей по-фригийски. Однако надлежит заметить, что с VIII в. до н.э. и фригийцы, и греки пользовались практически одним и тем же алфавитом — алфавитом в подлинном смысле слова, т.е. передававшим не только согласные, но и гласные звуки. Внешне он очень близок финикийскому письму начала I тысячелетия до н.э.; гораздо меньше похожи на него (и на греческую азбуку) другие малоазийские алфавиты (лидийский, карийский, ликийский и др.), хотя и они явно финикийского происхождения. Очень раннее влияние греков на фригийцев видно также из надписи на культовой нише в скале23 из «Города Мидаса», где этот царь носит ахейские
23 В настоящее время это высеченное в скале помещение и другие подобные не признаются, как ранее, гробницами, поскольку около Гордиона найдены безусловно царские гробницы курганного типа. Содержание надписи, о которой здесь у нас идет речь (в той мере, в какой она уже может быть понята), указывает, что сооружение было создано в честь царя Мидаса, но не самим царем, а частным или должностным лицом. Фасад его, украшенный геометрическим узором, имитирует фасад здания с двускатной крышей. Назначение его неясно, как и назначение урартских помещений, высеченных в Ванской и других скалах. Последующая армянская традиция (Моисей Хоренский, I, 16) не считала их гробницами, но Б.Б. Пиотровский склонен приписывать погребальный характер по крайней мере некоторым из них. Аналогию фригийским скальным фасадам, может быть, представляют упоминавшиеся выше урартские культовые «двери бога Халди», бывшие либо нишами в скале, либо каменными стелами, воздвигавшимися на специальной площадке-платформе— правда, эти ниши и стелы не имитировали жилых домов. Они были связаны с верованиями об уходе божества в скалу и новом будущем выходе его оттуда в наш мир.
(микенские) титулы ванак и лавагет. Итак, в греко-фригийских взаимоотношениях фригийская сторона, видимо, не была только дающей. Тем не менее в материальной культуре (скальные сооружения, бронзовая утварь и т.п.). Фригийское царство дает больше свидетельств связей с царством Урарту, чем с Грецией; несомненно, оно явилось связующим звеном между Передней Азией и греками; первые участки знаменитой персидской «Царской дороги», соединявшей с VI в. до н.э. страны Эгейского моря с Востоком, были проложены уже при Мидасе.
Главную роль во фригийской религии играл культ великой матери-богини Кибелы (Кубабы — культ, восходящий еще к дохурритским временам)24, а также молодого умирающего и воскресающего бога Аттиса. В этом культе — по крайней мере позднее — были распространены оргиастические обряды и самооскоп-ление жрецов, посвящавших себя культу. По-видимому, во Фригии существовали автономные храмовые города.
Фригийские воины изображаются короткобородыми, с серьгами в ушах, одетыми в длинные полосатые рубахи с кисточками по подолу и высокие сапожки; шлемы они носили плетеные, копья у них короткие, щиты круглые, небольшие. Мода на знаменитые «фригийские колпаки», в будущем ставшие символом свободы, была, видимо, занесена во Фригию позже — киммерийцами или трерами.
Таково было государство, возникшее в VIII в. до н.э. как новый важный фактор в мировой политике и на которое решил ориентироваться Руса I в предстоявшей борьбе Урарту с Ассирией. Ассирийский царь Саргон II был в это время занят окончательным покорением Сирии и осаждал важнейший торговый город на Евфрате — Каркемиш, который после утери своего значения Мелидом стал политическим центром Северосирийского союза. По-видимому, последний царь Каркемиша, Писирис, успел послать гонцов к Мидасу в 718-17 г. до н.э. и призвать его на помощь. Мидас откликнулся и, как можно думать, тогда же вступил в союз и с государствами Тавра: с Атуной25, с объединившимся к этому времени Табалом и с Коммагеной. Заключение союзов было подкреплено делом: фригийские войска перевалили Тавр, и их передовые отряды вышли к Средиземному морю в Куэ, между совр. г. Мерсином и заливом Искендерун в равнинной Киликии. Здесь, однако, они были отражены ассирийцами, и Мидас далее не двинулся, а Каркемиш был взят Саргоном. Однако столкновение в Куэ было слишком незначительным для того, чтобы само по себе задержать фригийцев; можно догадываться, что более важной причиной прекращения их наступления были киммерийцы, около этого времени переставшие тревожить Урарту и через Понт ударившие по Малой Азии. Таким образом, Руса, видимо, связался с Мидасом лишь после того, как тот справился с первым натиском киммерийцев, — во всяком случае, слишком поздно: фригийское наступление во фланг Ассирии сорвалось. Саргон предпринял ряд походов в область Тавра с целью как обезопасить свой фланг, так и овладеть «железным путем». Сначала он старался соз
24 Изображения Кибелы — правда, более поздние, — возможно, позволяют судить о фригийской женской одежде; в некоторых случаях она, кажется, больше напоминала греческую, чем ближневосточную.
25 Атуна, видимо, находилась на равнине у северных подножий Тавра, где-нибудь между Ниглэ и Кайсери.
дать себе союзников, сажая, где возможно, своих ставленников и передавая города одних царей другим; он даже выдал свою дочь за Амбариса, царя Табала; потом уже Саргон громил непокорных. В конце концов, однако, он кончил тем, что присоединил к Ассирии все таврские царства, создав широкий клин между Фригией и Урарту (Табал в 713, Мелид-Камману и Каску в 712, Гургум в 711, Коммагену в 708 гг. до н.э.). При этом дело не обошлось без новых стычек с фригийцами. Но это было уже после того, как ассирийский царь расправился с самим Урарту.
Еще после поражения, нанесенного Ассирией Сардури II, Страна маннеев, возглавленная царем Иранзу, превратилась в большое независимое царство, пытавшееся лавировать между Ассирией и Урарту; Тиглатпаласар III и Саргон II не трогали его владений, расширяя власть Ассирии за счет более южных мидийских областей Иранского нагорья. Руса I попытался поддержать в Стране маннеев ан-тиассирийскую оппозицию и к тому же овладел большой полосой маннейских земель на восточном побережье оз. Урмия. В 714 г. Саргон направился на Иранское нагорье, делая вид, что намерен в союзе с маннейским царем Уллусуну (посаженным на престол вместо своего свергнутого восстанием брата ’Азы) углубиться в Мидию или в Зекерту (низовья р. Сефид-руд), где правил союзник Русы. Руса решил этим воспользоваться для того, чтобы зайти в тыл ассирийскому войску, но прекрасно поставленная ассирийская разведка вовремя предупредила Саргона; он повернул свою армию и на склонах горы Сахенд нанес Русе сокрушительное поражение; тот бежал в Тушпу и вскоре покончил с собой. Саргон же совершил в высшей степени разрушительный поход через всю территорию Урарту кругом Урмийского и Ванского озер, минуя только урартскую столицу; мало того, в конце похода, отпустив основную часть армии с огромной добычей в Ассирию, он неожиданно перевалил через горы в верховья Большого Заба и обрушился на Муцацир, без сопротивления попавший в руки ассирийцев. Здесь были разграблены дворец и храм бога Халди и захвачено свыше 330 тыс. предметов искусства и ремесла: более тонны золотых, пяти тонн серебряных и сотни тонн бронзовых изделий, а также медных слитков. Вступивший в 713 г. до н.э. на престол Урарту Аргишти II мало что мог сделать; его попытки опереться на Фригию и на таврские царства в борьбе против Ассирии оказались безуспешными.
С другой стороны, и завоевания Саргона II в горах Тавра оказались непрочными; уже при его сыне Синаххерибе (705-681 гг. до н.э.) потребовались новые походы против Киликии и вновь возрожденного царства Мелид. Каску теперь более не упоминается — видимо, это царство было поглощено Мелидом или халдами.
При урартском царе Русе II, который правил примерно с 680 по 660-е годы до н.э., Урарту переживает новый, но уже последний период подъема. Наиболее серьезной оставалась проблема кочевых отрядов конников. Киммерийцы к этому времени усилились в Малой Азии и громили владения Мидаса, но, безусловно, совершали набеги также на ассирийскую и урартскую территории. В 680 г. до н.э. новый ассирийский царь Асархаддон перешел через Тавр и разбил киммерийцев под Хуписной26; вождь киммерийцев Теушпа погиб, а часть его конников пошла
26 Согласно Р.Д. Барнетту, это античный Кабисс в долине Сароса (ныне Гёксу); но большинство исследователей думают об античной Кибистре (Cybistra) к юго-западу от Нигдэ, что кажется лингвистически более вероятным.
на ассирийскую службу. Другая часть вошла в союз с Мидасом, и совместно они совершили (или по крайней мере готовили) набег на «железный путь» в районе Мелида. Однако союзы с такой капризной силой, как неоседлые конные отряды киммерийцев и скифов, были всегда делом ненадежным, и, видимо, Русе удалось перетянуть киммерийцев на свою сторону; тогда против Урарту образовался союз Фригии, Мелида («Хате», т.е. Хатти) и халдов-халибов («Халиту»).
Для Русы II в этот момент был существен нейтралитет Ассирии. Асархаддон готовил поход против Шубрии — горного бастиона в Сасунских горах севернее истоков Тигра. Наряду с Мелидом и некоторыми другими стратегически труднодоступными районами Шубрия была убежищем для политических беженцев и беглецов, не желавших нести тяготы повинностей, как из Ассирии, так и из Урарту; в течение всех бурных событий VIII и начала VII в. до н.э. Шубрия (как, в сущности, и Мелид, а также такие буферные государства, как Хубушкия и Му-цацир) почти всегда сохраняла независимость. Есть основания предполагать (хотя официальные тексты Асархаддона об этом умалчивают), что в Шубрию бежали братья Асархаддона, убившие его отца Синаххериба и, конечно, представлявшие для него серьезную политическую угрозу. Поэтому и Асархаддон в этот момент нуждался в союзе с Русой, и походу Русы, совместно с киммерийцами, против Мидаса был обеспечен с ассирийской стороны благожелательный нейтралитет, а скорее даже прямая поддержка. Этот поход против Фригии, Мелида и халдов (675 г. до н.э.27) имел успех; урарты захватили много добычи и пленных, а Фригия была выдана на поток и разграбление киммерийцам. Тогда же погиб престарелый Мидас, и ассирийцы, по-видимому, принявшие участие в войне на ее последнем этапе, могли около 660 г. до н.э. снова числить освободившийся было Табал и даже Фригию среди своих «провинций». Это вмешательство ассирийцев не позволило Русе II полностью развить свой успех, и, в частности, царство Мелид благополучно пережило войну, а в 650-х годах до н.э. его царь Мугаллу, видимо, присоединил и Табал. Поход ассирийцев на Шубрию состоялся несколько позже урартского похода против Фригии, а именно в 673 г. до н.э., и также увенчался полным успехом. Это хурритское царство кончило свое существование, а скрывавшиеся в нем беглецы, после калечащих наказаний, были выданы своим хозяевам; часть шубрийцев была зачислена в ассирийскую армию28. Хотя ассирийские цари претендовали на власть над Фригией, настоящими хозяевами ее остались киммерийцы, опустошавшие, вместе со вторгшимися с запада трерами, несчастную страну в течение более двадцати лет; тяжело пострадали от них и некоторые греческие города Малой Азии.
Окончательный уход основных сил киммерийцев в Малую Азию, гибель Фригии и серьезная война, в которую одновременно вынуждена была ввязаться Ассирия на востоке, в Мидии, а также на юге, в Египте, позволили Русе II посвятить силы развитию земледелия в Урарту, строительству оросительных каналов и новых крепостей и развязали ему руки в Закавказье. Именно ко времени Ру
27 По другим преданиям, 696 год до н.э., но эта дата кажется слишком ранней.
28 В 664 г. до н.э. шубрийцы самостоятельно, без участия ассирийских войск, но уже в качестве подданных Ассирии, отразили нападение урартского областеначальника Андарии.
сы II относится построение нового города и крепости Тейшебайне в области ’Аза около совр. Еревана. Цитадель его почти целиком была занята гигантским административным зданием, расположенным ярусами-уступами в соответствии с рельефом скалы и включавшим многочисленные склады продуктов и мастерские. Усиление положения урартов в Закавказье было важно для них потому, что в 680-670-х годах до н.э.29 вдоль Каспийского моря из придонских степей продвинулась новая группа ираноязычных конников— скифы (здесь этот термин означает скифов в узком смысле слова— сколотое, или шкуда, а не вообще степных кочевников, как позже). Они образовали род кочевого «царства», скорее всего — на просторах современного Азербайджана. Но возможно, что когда, после народного восстания против Ахсери и его гибели, сын его Уалли обратился за помощью к Ассирии (в 659 г. до н.э.?), то именно скифы, выступив как союзники Ассирии, стали осуществлять в Стране маннеев фактическую гегемонию; к этому времени (но не раньше) следует, как нам кажется, отнести перенесение центра переднеазиатских скифов в район оз. Урмии, о чем свидетельствует «клад» из Зивие и другие памятники. В 673-672 гг. до н.э. скифы вмешались в ассиро-мидийскую войну, но затем вступили в союз с ассирийцами и тем самым превратились в важный, часто решающий фактор ближневосточной политики. Страна маннеев первое время оставалась вполне независимым государством и в 670-х годах до н.э., при царе Ахсери, даже захватывала ассирийские земли. В середине 650-х годов до н.э. царь скифов Мадий, сын Прототия (возможно, по матери племянник тогдашнего ассирийского царя Ашшурбанапала), по-види-мому, принял на себя удар союзника Вавилона— Мидии («кутиев») во время серьезнейшей войны 654-652 гг. до н.э. между Ассирией и Вавилоном, подчинил себе мидян, а затем, то ли обойдя, то ли пересекши урартскую территорию, ворвался в Малую Азию, где истребил разложившиеся от долгих беспрепятственных грабежей толпы киммерийцев; остатки их, видимо, осели в Каппадокии. Урартское царство было настолько деморализовано всеми этими событиями, что новый его царь, Сардури III, в 643 или 639 г. до н.э. добровольно признал над собой главенство Ассирии, назвав себя в дипломатическом письме «сыном» ассирийского царя Ашшурбанапала. Но вскоре уже в самой Ассирии начались фатальные события, быстро приведшие ее к гибели, и скифы, оставив Малую Азию, распространили свои набеги на ассирийские владения вплоть до границ Египта.
В Малой Азии Гиг (аккад. Гуггу, др.-евр. Гог, ок. 692-654? гг. до н.э.), царь и основатель новой династии в Лидии, еще вынужден был вести с киммерийцами борьбу с переменным успехом, то тщетно пытаясь найти против них союзника в Ассирии, то сам вступая в союз против Ассирии с Псамметихом I Египетским, и в конце концов погиб в борьбе с кочевниками, которые даже взяли лидийскую столицу Сарды (лид. Сфарт, в Библии — Сефарад). Но уже его сын Ардис (653?-615? гг. до н.э.) смог воспользоваться уходом победителей над киммерийцами — скифов Мадия — в Ассирию и фактически занять большую часть
29 А не в IX в. до н.э., как полагают Сулимирский и за ним многие другие исследователи на основании одного неподписанного ассирийского рельефа, изображающего конников и предположительно датируемого 880-860 гг. до н.э.
Малой Азии. Изгнав остатки киммерийцев из своего государства, Ардис предпринял завоевание ионийских городов-государств на побережье. Он завоевал Приену, но не смог завоевать важнейший город — Милет, и война с ним продолжалась при его преемниках— Садиатте и Алиатге. Последнему удалось взять Смирну. В войнах с Милетом и другими греческими городами лидийские цари использовали ту ожесточенную борьбу, которая уже с VII в. до н.э. происходила там между знатью и остальной массой свободного населения (демосом). Лидяне опирались на аристократическую партию и не имели успеха в борьбе с городами, имевшими демократическое управление: под Клазоменами Алиатг потерпел жестокое поражение, а с Милетом был вынужден довольствоваться заключением мира на условиях дружбы и союза.
Если не считать побережий с их независимыми греческими и ликийскими городами и независимыми же, но отсталыми племенами Понта, в Малой Азии теперь осталось три сильных царства: Лидия, унаследовавшая могущество Фригии, Киликия и «Дом Тогармы» — т.е. бывшее царство Мелид, сменившее, по-видимому, лу-вийскую династию на армянскую; Табал, разгромленный ассирийцами, киммерийцами и снова ассирийцами и скифами, вошел в одно из двух последних царств.
Поскольку Закавказье, видимо, оставалось базой могущества скифов, то царства Урарту и Страна маннеев уже не могли более оправиться. Они не погибли окончательно — сказалась сила «костяка» из царских крепостей, — но уже не могли подняться до прежнего благосостояния и могущества. Последние урартские цари проходят перед нами как бледные тени: Сардури III, Сардури IV, Эри-мена, Руса III30. Решающие события наступили в связи с крушением Ассирийской державы в 616-606 гг. до н.э. под ударами Вавилона и Мидии. В ходе войны мидяне подчинили себе Страну маннеев (ок. 615-613 гг. до н.э.), а затем и Урарту. В 609 г. до н.э. именно мидяне (скорее, чем вавилоняне) совершили первый поход на Урарту, а в 608 г. на «область Урарту» под названием «Дом Ха-нунии», возможно названную так по прежнему правителю. Это предположительно средневековый Хнунис (закономерно из лувийского *Хануни(а)сса(с) — «Принадлежащее Ханунии»), ныне Хнус или Хыныс на дороге из Эрзурума в Муш. Однако вплоть до 593 г. до н.э. или несколько позже как Урарту, так и Страна маннеев продолжали существовать— как вассальные царства Мидии (в качестве таковых они под этим годом упомянуты в библейской «Книге Иеремии»). Продолжало существовать и упомянутое в той же связи Скифское царство (Ашкуз или, в традиционном библейском тексте, Ашкеназ31); вообще, скифы, видимо, принимали самое активное участие в событиях этого времени, хотя исследователи сильно расходятся в оценке характера и значения их действий. Во всяком случае, между 593 и 591 гг. до н.э. все три вассальных царства были
30 Порядок их не вполне ясен. Существовал ли Руса IV, в противоположность мнению Н.В.Арутюняна, как нам кажется, неясно: найденная в Тейшебайне надпись на булле должна читаться: «Русина печать, сына Русы, из крепости» и не свидетельствует, что царевич Руса, сын Русы, находился на престоле.
31 «Ашкеназ» — по Г.Винклеру, очень древняя описка в библейском тексте. Лишь средневековые библейские комментаторы совершенно произвольно отождествили Ашкеназ с Германией, а Се-фарад — с Испанией.
уничтожены мидянами; тогда же пала и урартская крепость Тейшебайне (как полагает Б.Б. Пиотровский — под ударами скифов, как полагает автор этой статьи — под ударами мидян) и погибли другие урартские крепости.
О материальной культуре урартов и ее влиянии на культуру Ирана, Кавказа и Причерноморья (через скифов) существует большая литература на русском языке; об их духовной культуре мы практически ничего не знаем, кроме того, что они пользовались такой разновидностью аккадской клинописи, которая была близка одновременно и хурритской и новоассирийской, а также, как уже упоминалось, особым видам иероглифики. Известен список их богов: в нем наряду с триадой верховных богов — Халди, Тейшеба и Шивине и их супругами — Ва-рубане (Багбарту), Хуба и Тушпуэа, перечисляются также другие космические и местные боги и богини; отдельно приносятся жертвы олицетворенным качествам и атрибутам верховных божеств, а также богам земель, вод, границ (?), жертвоприношений и отвлеченных явлений — Благополучию, Гибели и т.п.
После разгрома скифов мидянами часть их ушла обратно за Большой Кавказ, другая, по Геродоту, бежала в Малую Азию, что послужило в 590 г. до н.э. причиной для большой войны между Мидией (царь Киаксар) и Лидией (царь Али-атт). О ходе ее можно заключить из сообщений «Книги Иезекиила» и некоторых других библейских источников: Лидия возглавляла бывшие территории Фригии (Мешек) и Табала (Тубал); в союзе с ней выступали «Верхний Египет, Эфиопия и Судан» (Патрос, Куш и Пут), остаток киммерийцев в Каппадокии (Гомер) и «Дом Тогармы»; союзники, видимо, перешли Верхний Евфрат и угрожали сирийским и бывшим урартским территориям. Однако Киаксару удалось оттеснить противников до р. Галиса, и после затмения солнца 28 мая 585 г. до н.э. был заключен мир; граница между Лидией и Мидией прошла по Галису; посредниками были царь Вавилонии и царь Киликии Сиеннесий. Но «Дом Тогармы» (арм. Торгом), видимо, не погиб: по некоторым, хотя и не вполне достоверным источникам32, он продолжал существовать в виде зависимого от Мидии Армянского царства, включавшего значительные области на западе Армянского нагорья. Центром этого царства оставался Мелид, судя по тому, что в догеродотовской Греции «армяне» назывались «мелитенянами», а вавилоняне называли Западное и Восточное Армянское нагорье «Мелидом и Урашту» еще в V в. до н.э. Вероятно, и «Дом Ханунии», упомянутый вавилонской хроникой под 608 г. до н.э. как самостоятельный объект похода (мидян?), хотя он и был тогда «областью Урарту», отошел к Мелиду, т.е. к Западной (или собственно) Армении. Сохранила свое существование, вероятно, и Колхида. Восточная Армения (или собственно Урарту), как и царство маннеев, была поглощена Мидией, которая перенесла свои владения и за Араке, где, по поздним преданиям, еще долго существовало среди прочего мидийское население.
Что касается Лидии, то последующее полустолетие, вплоть до ее завоевания в 546 г. до н.э. Киром II Персидским, было для нее периодом процветания, тесных торговых связей с греческим Западом. Именно в Лидии начали чеканить первые в мире золотые монеты, а имя ее последнего царя Креза стало символом богатства.
32 По роману Ксенофонта «Воспитание Кира» (IV в. до н.э.) и весьма малодостоверной в этой части «Истории Армении» Моисея Корейского (V-VI [?] вв. н.э.).
Глава 6
ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ
И ИУДЕИ
В ЭПОХУ ПЕРВОГО ХРАМА
Первая половина
I тысячелетня до н.э.
I. Завоевание израильтянами Ханаана. Эпоха судей
Основные научные концепции поселения Израиля в Ханаане
Большинство исследователей, допускающих историчность библейского рассказа об Исходе евреев из Египта, полагают, что он мог произойти, скорее всего, при фараоне Рамсесе II (1279-1212 гг. до н.э.) и что, следовательно, Израиль появляется в Ханаане во второй половине ХШ в. до н.э. Ряд палестинских городов — в том числе и те, которые, согласно Книгам Иисуса Навина и Судей, захватили израильтяне в Земле Обетованной после своего освобождения из египетского рабства и сорокалетнего пребывания в пустыне (или же правителям которых они нанесли поражение), — судя по данным археологических раскопок, подверглись разрушению во второй половине XIII — начале XII в. до н.э. Среди этих городов Лахиш, Девир (Хирбет-Рабуд), Бет-Эль, Афек, Хацор, Та'анах, Мегиддо, Бет-Шемеш, Тимна (Тель Баташ), Телль Бейт-Мирсим, Тель Халиф, Бет-Шеан, Телль Абу-Хавам, Тель Церор, Тель Сера*, Ашдод. Полагают, что некоторые из данных ханаанских городов могли быть взяты именно израильтянами; отдельные же города могли быть разрушены в ходе военных походов египтян, нашествия «народов моря», а также вследствие междоусобных войн. В то же время ряд городов, упоминаемых в Книгах Иисуса Навина и Судей как пораженные израильтянами (в том числе ‘Ай, Хеврон, Гив‘он, Арад, а также, например, Хешбон в Заиорда-нье), в свете данных современной археологии, вероятно, не существовали в XIII в. до н.э. Для объяснения этих «негативных археологических свидетельств» в ряде случаев предлагается так называемая «этиологическая» (от греч. aixia, «причина») интерпретация: составитель Книги Иисуса Навина стремится
выявить причину разрушения города и «находит» ее в действиях израильтян эпохи завоевания Ханаана. Так, например, относительно ‘Айя (евр. «груда камней», «руины») автор И. Нав. 8:28 замечает:
«И сжег Иисус ‘Ай, и обратил его в вечные развалины (тель. — И.Т.), в пустыню, до сего дня» (курсив наш. — И. Г.).
Что касается Иерихона — который, согласно Книге Иисуса Навина, первым был захвачен израильтянами в Земле Обетованной, — то здесь при раскопках никаких следов фортификационных сооружений позднего бронзового века (ок. 1550/1500— 1200 г. до н.э.) обнаружено не было. Это было интерпретировано как свидетельство неисторичности соответствующего рассказа Книги Иисуса Навина. Однако, с другой стороны, находки в Иерихоне показывают, что в эпоху позднебронзового века там существовало поселение, хотя от него мало что сохранилось. Ряд исследователей допускают, что в этом городе, как и во многих других местах, фортификационные сооружения периода средней бронзы, фазы II В-С (ок. 1750— ок. 1550/1500 гг. до н.э.), заново использовались в поздний бронзовый век (будучи укреплены, где необходимо). Иерихонскому поселению эпохи поздней бронзы (после перерыва) наследовало поселение первой фазы железного века. Таким образом, в случае с Иерихоном на основании археологических свидетельств нельзя отрицать (во всяком случае, однозначно) историчность ядра повествования Книги Иисуса Навина в том, что касается завоевания этого города израильтянами.
Судьба разрушенных к концу XIII в. до н.э. палестинских городов была различной. Некоторые из них после разрушения оказались совершенно заброшенными или же были заселены представителями иной культуры; другие были восстановлены в течение первой половины XII в. до н.э. по старому плану: Мегиддо, Бет-Шеан, Лахиш, Тель Сера4, Ашдод, Телль эль-Фар‘а (южн.). Как замечает А. Мазар, «восстановление этих городов продолжалось около пятидесяти лет и соотносилось с последней фазой египетского контроля над Ханааном во время правления XX династии. Этот короткий период завершился новой волной разрушений, соответствующей концу египетского присутствия в Ханаане (середина XII в. до н.э.)». Причиной этих последних разрушений могли быть и нашествие «народов моря», и военная активность израильтян.
Сопоставляя данные Книг Иисуса Навина и Судей, можно прийти к выводу, что некоторые ханаанейские города, царькам которых израильтяне нанесли поражение, или даже разрушенные Израилем города впоследствии, в эпоху судей (ок. 1200 — ок. 1030 г. до н.э.), восстанавливались и какое-то время мирно сосуществовали с отдельными израильскими коленами, или платили им дань (несли трудовую повинность; ср., например, И Нав. 16:10, 17:11—13; Суд. 1:27-35), или, наоборот, доминировали над ними (ср., например, Суд. 4:2-3).
Данные археологических раскопок говорят также о том, что в эпоху перехода от второй фазы позднего бронзового века В (ок. 1300— ок. 1200 г. до н.э.) к первой фазе железного века А (ок. 1200 — ок. 1150 г. до н.э.), т.е. около 1200 г. до н.э., в центральной, нагорной Палестине (в основном на территории колен Бинйамина, Эфраима и Менашше) происходят существенные изменения в хозяйственной жизни. Здесь появляется значительное количество новых поселенцев,
ведущих главным образом земледельческое хозяйство, но также пасущих овец и коз. На вершинах скалистых холмов, до того малонаселенных либо вообще необитаемых из-за тяжелых условий жизни, в большом количестве строятся поселения. Возможность проживания в этих районах обеспечивается прежде всего двумя новшествами. Первое: владельцы домов, возведенных на вершинах холмов, вытесывают в цельных скалах металлическими долотами колоколообразные цистерны для воды и покрывают их водостойкой известковой штукатуркой. Второе: пришельцам впервые в этих местах удается создать на склонах холмов террасы и выращивать на них пшеницу, ячмень и овощи. Эти данные, по-видимому, могут быть соотнесены с расширением ареала расселения появившихся здесь израильских колен.
В период железного века 1 (ок. 1200 — ок. 1000 г. до н.э.) происходит заселение южных районов Ханаана, Негева, вероятно, представителями различных народов и культур (раскопки в Беэр-Шеве, Тель-Масосе [Хирбет-эль-Мешаше], Телль Эсда-ре, Тель ‘Ире, Телль ‘Араде, Рамат-Матреде, Тель Малхате [Телль эль-Милхе], Мецад-Хатире и других местах). По мнению Й. Ахарони, поселения в районе Беэр-Шевы возникают уже в конце XIII в. до н.э. Раскопки в Телль Масосе и Беэр-Шеве в северном Негеве, как кажется, позволяют допустить попытки продвижения в Ханаан отдельных групп пришельцев с юга. Возможные отголоски этих событий обнаруживаются в Числ. 13:17-33, где рассказывается о посылке израильских разведчиков в Ханаан с юга, а также в тексте Числ. 14:40-45, повествующем о неудачной попытке группы израильтян овладеть Землей Обетованной с юга.
Ряд исследователей вслед за А. Альтом и М. Нотом, говоря о поселении израильтян в Ханаане, рассматривают этот процесс как мирную инфильтрацию кочевых и полукочевых групп, приходящих вместе со своими стадами из Заиорда-нья, постепенно оседающих в центральных, гористых районах страны и строящих здесь свои деревни. Эти пришельцы обозначаются как Израиль и объединяются по типу амфиктионии (греч.; своего рода «священный союз» греческих городов или племен, обычно числом двенадцать, объединявшихся вокруг культового центра). YHWH-ГОСПОДЬ*, неханаанейское Божество, становится Богом этой «амфиктионии» и почитается в особом культовом центре. С течением времени процесс поселения переходит в военную фазу, когда Израиль, расширяя жизненное пространство, вступает в конфронтацию с местным ханаанейским населением (как об этом рассказывается в Книге Судей).
Еще одна гипотеза относительно появления Израиля в Земле Обетованной — теория крестьянского восстания — была выдвинута Г.Е. Менденхоллом и Н.К. Готтвальдом. Согласно Г.Е. Менденхоллу, новыми поселенцами на центральных возвышенностях Ханаана были не кочевники, а местные ханаанейские крестьяне (а также присоединившиеся к ним скотоводы, люди вне закона, наемники и т.п.) — люди, различные по этническому происхождению, которые восстали против своих владык в городах-государствах и ханаанейского общества в целом (по аналогии с восстанием хапиру в середине XIV в. до н.э. против ха-наанейских городов-государств, управляемых вассальными царьками, назначае
* Имя Бога YHWH — Тетраграмматон — передается в тексте данной главы как ГОСПОДЬ.
мыми Египтом). В целях создания новых общественных структур эти крестьяне (и присоединившиеся к ним элементы) уходят в горные местности. Движущей силой восстания, начавшегося еще в Заиорданье, была, согласно данной гипотезе, группа бежавших из Египта почитателей YHWH-ГОСПОДА. Ханаанейские инсургенты отвергают старые политические идеологии в пользу создания общины Завета с YHWH. Г.Е. Менденхолл связывает начало социальной революции с появлением новой религии, в то время как Н.К. Готтвальд, находясь под влиянием марксизма, полагает, что новые религиозные представления возникают как «функция революции», для поддержки социальных доктрин раннего Израиля.
Существует также точка зрения, согласно которой израильтяне ведут свое происхождение от местных племенных общностей и групп неоседлого населения позднего бронзового века, таких, например, как ‘апиру (хапиру) или шосу, известных из египетских источников. В этой связи исследователи обращают внимание на определенное сходство между поселенческим процессом в центральной, нагорной Палестине в период первой фазы железного века и во второй фазе среднего бронзового века. И. Финкельштейн выдвинул гипотезу, согласно которой оседлое население среднего бронзового века П, после того как оно было вынуждено принять пастушеский или полукочевой образ жизни в эпоху поздней бронзы, воспользовалось сложившимися в эпоху железного века I обстоятельствами и вернулось к оседлой жизни.
Ряд исследователей, выдвигая гипотезы о возникновении Израиля, предлагают те или иные комбинации вышеперечисленных теорий применительно к отдельным группам внутри израильской общности.
Ранние письменные источники, упоминающие о пребывании Израиля в Ханаане. Расселение колен Израилевых
Наиболее раннее из дошедших до нас внебиблейских упоминаний о пребывании Израиля в Земле Обетованной содержится в иероглифической надписи на так называемой Стеле Израиля, или Стеле фараона Мернептаха (1212-1200 гг. до н.э.), датируемой пятым годом его правления, т.е. 1208-1207 гг. до н.э., и хранящейся в Египетском музее в Каире. Похваляясь своими победами, фараон восклицает:
«Князья распростерты и говорят: „Мир!“
Никто не поднимет своей головы под Девятью Дугами*.
Разрушение для Техену [Ливия]; Хатти [зд. Сирия] усмирен;
Ханаан разорен, так что (его постигли) все виды бедствий:
Ашкелон побежден,
Гезер захвачен,
Йано‘ам более не существует;
Израиль опустошен, и его семени больше нет, Хурру [зд. Ханаан] стала вдовой из-за Египта. Все страны вместе усмирены;
Каждый, кто был беспокоен, связан царем Верхнего и Нижнего Египта...»
Поэтическое обозначение египетских владений в Азии.
К наименованиям городов Ашкелон, Гезер и Йано‘ам присоединен детерминатив «город-государство». Термин Хурру, обычно обозначающий Ханаан (Палестину) и Южную Сирию или область данного региона, выписан с детерминативом для понятия «страна, земля», в то время как Израиль — с детерминативом «народ»1, т.е. он еще не успел сформироваться как определенное территориальное «конфедеративное» образование. Это предполагает, что израильтяне, вероятно, появились в Ханаане незадолго до написания победной оды Мернептаха. В приведенном фрагменте надписи на стеле обнаруживается явный поэтический параллелизм: Израиль — муж и Хурру — жена/вдова; термин Хурру, в свою очередь, коррелирует здесь с Ханааном, фактически употребляется как его синоним. Иными словами, Израиль рассматривается в тексте стелы как владыка Ханаана.
Ф. Юрко отождествил народ, обозначаемый на Стеле Мернептаха как «Израиль», с противниками фараона, изображенными на одной из батальных сцен в Карнаке; они носят одежду типично ханаанейского стиля (т.е. одежду оседлого населения Ханаана), отличающуюся от одежд кочевников шосу, присутствующих на этом же изображении. Израиль, вероятно, должен был обладать значительными военными силами, дабы противостоять колесницам фараона.
Стела Мернептаха, как кажется, подтверждает рассказ Книги Иисуса Навина о том, что Израиль в основном овладел Ханааном в течение короткого времени — судя по тексту стелы, он пришел недавно, но уже стал владыкой Земли Обетованной (или значительной ее части). (Согласно И. Нав. 14:7, 10, овладение Ханааном израильтянами произошло в течение пяти лет.) И еще один фундаментальный вывод позволяет сделать текст Стелы Мернептаха: к концу XIII в. до н.э. союз колен воспринимал себя и воспринимался окружающими как единый народ, Израиль. Некоторые исследователи полагают, что под «Израилем» здесь подразумеваются только северные колена или даже союз четырех колен — Эфраима (глава союза), Менашше, Бинйамина и Гилеада,— располагавшихся в центральной части страны. В Победной песни пророчицы и судьи Деворы — созданной, вероятно, до 1130-1125 гг. до н.э. и зафиксированной в Книге Судей, гл. 5— с Израилем идентифицируются десять северных колен (5:12-18). Это группа Эфраима: сам Эфраим и его «клиенты» — Бинйамин, располагавшийся к югу от него; Махир, который, вероятно, представляет здесь восточную (заиор-данскую) часть колена Менашше (ср. Быт. 50:23, Числ. 32:39-40 и И. Нав. 13:31, 17:1; Махир— первенец Менашше); и Гил‘ад (сын Махира), располагавшийся напротив Эфраима в Заиорданье (как и колено Гада, не упомянутое в Песни Деворы). Кроме того, в песне упоминаются галилейско-изреэльские колена Ашера, Зевулуна, Иссахара, Нафтали, а также Дан, первоначально поселившийся к юго-западу от Эфраима и включавший средиземноморское побережье в районе Яффы, а затем мигрировавший на крайний север Земли Обетованной, в район Лайта (Дана), и колено Реувена, располагавшееся в Заиорданье, к югу от Гада. В египетском «Сатирическом письме» (папирус Анастаси I), датируемом второй половиной XIII в. до н.э., упоминается номадическая группа i-s-r (l-s-rw\ кото-
1 Следует, впрочем, иметь в виду, что надпись на стеле выполнена недостаточно аккуратно и детерминативы не всегда употребляются с должной точностью.
явить функциональные взаимоотношения, существовавшие между левитами и священниками, потомками Аарона (согласно библейской традиции, Леви был прадедом Аарона). Мы знаем, однако, что только священники-аарониды могли быть иудаистскими священниками в полном смысле этого слова. Левиты же, очевидно, выполняли подчиненные функции, связанные с публичными службами; они были храмовыми служащими, музыкантами, привратниками, судьями и ремесленниками, а также вооруженными стражами Скинии.
Социально-политическая структура древнеизраилъского общества в эпоху судей. Культовые центры израильтян в домонархический период
Эпоха судей, приблизительно соответствующая хронологически археологическому периоду первой фазы железного века (ок. 1200— ок. 1000 г. до н.э.), названа так по характерному для нее образу правления. Судьей (шофет) называли вождя одного из колен или большого рода, который выступал в качестве лидера в сражении с внешним врагом, угрожавшим колену или группе родственных ему колен. Одержав победу на поле брани, полководец становился племенным или областным вождем, судил Израиль. По отношению к судьям употреблялись также титулы «вождь» (кацин) и «глава» (po’ui). Согласно Книге Судей, судья ‘От-ниэл (из кениззитов, которые, вероятно, были инкорпорированы в колено Йеху-ды) спас Израиль от руки некоего Кушан-ришатаима, «царя Арам-нахараима» (Верхняя Месопотамия) (Суд. 3:7—11). Эхуд из колена Бинйамина боролся с моа-витянами (Суд. 3:12-30). Шамгар убил шестьсот филистимлян (Суд. 3:31; ср. 5:6). Пророчица и судья Девора— «жившая под Пальмой Деворы, между Рамой и Бет-Элем, на горе Эфраима» (эфраимитско-бинйаминитский регион) — побудила Барака из колена Нафтали выступить во главе группы израильских племен в войне с союзом ханаанских царей Галилеи и Изреэльской долины во главе с Хацором (Суд. 4-5). Гид‘он из колена Менашше отражал нашествия на Ханаан кочевников-мидйанитян (Суд. 6-8); «и покоилась земля сорок лет во дни Гид‘она». Тола‘ из колена Иссахара был судьей Израиля двадцать три года (Суд. 10:1-2). Йаир из Гил‘ада судил Израиль двадцать два года (Суд. 10:3-5). Иеффай (Йиф-тах) Гил‘адский разгромил аммонитян; он судил Израиль шесть лет (Суд. 10:6— 12:7). Ивцан из Бет-Лехема (наиболее вероятно, иудейского, а не Зевулунова, упоминаемого лишь в И. Нав. 19:15) судил Израиль семь лет (Суд. 12:8-10). Элон из колена Зевулуна судил Израиль десять лет (Суд. 12:11-12). ‘Авдон из Пир‘атона в Эфраиме судил Израиль восемь лет (Суд. 12:13-15). Самсон (Шим-шон) из колена Данова сражался с филистимлянами в тот период, когда они доминировали над Израилем; он судил Израиль двадцать лет (Суд. 13-16). В приводимом в Книге Судей списке судей Израиля присутствуют, по всей видимости, представители и северных и южных колен, что, вероятно, надо понимать как свидетельство определенных консолидационных процессов, происходивших в древнеизраильском обществе в тот период.
В повествованиях Книги Судей мы встречаемся с различными типами предводительства. Пророчица Девора выступает как харизматический лидер большой группы израильских племен. Предводительский статус Толы‘, Йаира, Ивцана,
рая, вероятно, может быть идентифицирована с Ашером. В надписи на Стеле моавитского царя Меши (сер. IX в. до н.э.) говорится, что «люди Гада жили в земле ‘Атарота» (’г$ >/, совр. ‘Атаруц, ок. 23 км к с.-з. от Дибана [библейский Дивон] в Заиорданье) «извечно (ти'/ти)», т.е. с незапамятных времен (строка 10). О строительстве гадитами ‘Атарота и других городов в Заиорданье говорится в Числ. 32:3, 34. (Ср. также Суд. 11:26.)
В Песни Деворы не упоминаются, наряду с заиорданским северным племенем Гада и (западной частью) Менашше, южные колена Йехуды и Шим‘она, а также представители священнического колена/сословия Леви. Вероятно, это может быть объяснено как социально-политическими причинами (например, плохие взаимоотношения северян с южанами в данный период), так и географическими факторами — призыв Деворы восстать против города-государства Хацор, расположенного далеко на севере Земли Обетованной, обращен к северянам, прежде всего к колену Нафтали (непосредственно к этому городу примыкающему) и его соседям Зевулуну и Иссахару (Судьи 4:6 сл., 5:15); но, как кажется, далеко не все колена (а также не все представители внутри колен) откликнулись на призыв «северной» пророчицы Деворы (ср. 5:15-18 о Реувене, Гил‘аде, Дане, Ашере, Зеву-луне и Нафтали).
Йехуда же (включая группы кениззитов, калевитов, корахитов, йерахмеели-тов, кенитов) и его «клиент» Шим‘он располагались к югу от Иерусалима и были отделены от Эфраима и Бинйамина анклавом ханаанейских— хиввитских и йе-вуситских — деревень.
Левитов некоторые исследователи рассматривают как локальную священническую группу из Бет-Лехема (Вифлеема; удел Йехуды; ср., например, Суд. 17:7-9), приобретшую особую значимость со времен царя Давида, сына Ишая, из колена Йехуды. Во всяком случае, левиты, вероятно, были тесно связаны с коленом Йехуды. Существует также точка зрения, согласно которой левиты являлись членами группы родов религиозных функционеров в древнем Израиле, получивших особый религиозный статус предположительно в результате того, что во времена Моисея (Моше) они истребили почитателей золотого тельца (Исх. 32:25-29).
Согласно еще одному предположению, левиты первоначально составляли светское колено, носившее имя Леви, третьего сына Иакова и его первой жены, Леи. В то же время отмечается, что если левиты когда-либо и были членами светского колена, то, во всяком случае, ко времени овладения израильтянами Землей Обетованной его, вероятно, уже не существовало, ибо левитам, в отличие от двенадцати колен Израилевых, была выделена не отдельная собственная территория, а 48 городов, расположенных по всей стране (Числ. 35:1-8). Некоторые исследователи, правда, утверждают, что, образуй даже левиты колено наподобие других колен Израилевых, им все равно не пристало иметь земельного удела, ибо для служителя культа «приношения ГОСПОДУ, Богу Израиля, суть удел его» (И. Нав. 13:14; см. также: Втор. 10:8-9; 18:2; Числ. 18:20-24; И. Нав. 13:3). Полагают также, что при восстановлении истории левитов следует учитывать вероятность того, что в их рядах могли оказываться представители всех израильских колен.
Поскольку культовые функции левитов, очевидно, менялись с течением их многовековой истории, современные исследователи не в состоянии точно вы-
Элона и ‘Авдона, вероятно, был обусловлен их богатством, изначально высоким социальным положением и чрезвычайно большим количеством отпрысков, очевидно поддерживавших главу семьи в его деятельности. Эхуд и Гид‘он представляют собой еще один тип лидеров — мужественные люди, формирующие из своих земляков добровольческие армии для свержения иноземного ига и противостояния агрессии. Самсон же предстает скорее как богатырь, герой народных сказаний, нежели как лицо, осуществляющее функции судии Израиля (или даже функции главы своего колена). В эпоху судей появляется также и своего рода «маргинальное» предводительство, которое не только осуществляется вне рамок патриархально-племенного строя, но порой даже вступает в конфликт с ним. Имеются в виду предводители отрядов «праздных (или „голодных") и своевольных людей», т.е. людей безземельных и неоседлых. Это были люди, оторвавшиеся от своего племени или же изгнанные из него и искавшие средства к существованию подчас в разбое и набегах. Такого типа израильским лидером был Иеффай Гил‘адский, сын блудницы, изгнанный своими братьями из отцовского дома и лишенный земельного надела. Призванный старейшинами Гил‘ада, он со своими людьми отразил нашествие аммонитян, разгромил их и был провозглашен «главой всех жителей Гил‘ада». Аналогичным предводителем отряда был сын судьи Гид‘она Авимелех (см. ниже, раздел II). Давид, до того как он стал царем, был предводителем отряда, состоявшего из беглецов, спасавшихся от социального гнета и преследований царской власти.
Отметим также, что «старейшины общины» или «старейшины города», а также «начальники» (сарим) городов и областей упоминаются в роли судей «у городских ворот» и полномочных представителей народа.
Как явствует из Книги Судей и данных археологических раскопок, основной формой социальной организации израильского общества в эпоху судей была деревня. Доминирующей социально-экономической единицей внутри деревни была семья, бет 'ав («дом отца»), состоявшая из главы семьи и его жены (или жен), их сыновей и не вышедших замуж дочерей, жен и детей сыновей, а также рабов, поселенцев и пришельцев (тошавов и герое). Несколько семей составляли род, миш-паха. Роды же объединялись в колено (племя), шевет, В Книгах Иисуса Навина и Судей весь Израиль предстает как Ъпр кахал «собрание» и ту ‘эда «община»2 3.
Существовало несколько местных израильских культовых центров. Возможно, хронологически первым центром — еще во времена Иисуса Навина — становится Гилгал, близ Иерихона (ср.: И. Нав,, гл. 4-5, 9:6; 10:6, 15, 43; 14:6; ср. также 22:10[LXX]). Согласно одной из традиций, Саул из колена Бинйамина становится царем именно в Гилгале (7 Сам, 11:12-15; ср. 13:2-15а). Еще одним ранним культовым центром израильтян был Шехем (Сихем; И. Нав,, гл. 24; ср. Втор,, гл. 27, и И Нав, 8:30-357
2 Анализ социально-экономической структуры древнееврейского общества можно найти в сборнике: Амусин И.Д. Проблемы социальной структуры обществ древнего Ближнего Востока (I тыс. до н.э.) по библейским источникам. М., 1993.
3 В кумранском фрагменте Книги Иисуса Навина 4Q Josh’, кол. I, 1-2, данный пассаж помещен перед текстом 5:1/2, а в Септуагинте — после 9:2. Вероятно, такое же расположение мы встречаем и у Иосифа Флавия (Древности, V, 16-19).
И заключил Иисус с народом завет в тот день, и дал ему закон и постановление в Ше-хеме. И вписал Иисус слова эти в Книгу Учения Бога, и взял большой камень, и положил его там под дубом, который у святилища ГОСПОДА (И. Нав. 24:25-26).
В Шехеме в эпоху судей попытался провозгласить себя царем Израиля Ави-мелех (Суд., гл. 9; см. также ниже); здесь хотел воцариться сын Соломона Ре-хав‘ам (1 Цар. 12:1; 2 Хр. 10:1). Уже, вероятно, позднее крупнейшим культовым центром израильтян становится Шило (ср., однако, И. Нав. 18:1). В тексте Суд. 18:31 говорится о пребывании «Дома Божия в Шило», в 1 Сам. 1:3 — о поклонении и принесении жертв ГОСПОДУ в этом культовом центре. В Шило в эпоху судей пребывал в Скинии Ковчег Завета, находилась резиденция первосвященника. Здесь созывались собрания представителей колен для избрания вождя и для принятия решений об объявлении священной войны. Вероятно, культовый центр поддерживался дарами и приношениями от колен, но в источниках на это нет прямых указаний. Не исключена возможность, что Благословения колен Иаковом-Израилем (Быт., гл. 49) и Моисеем (Втор., гл. 33) легли в основу «амфик-тионных» церемониалов в Шило (или же основаны на них; ср., например, Быт. 49:10). При первосвященнике Эли, «судившем» Израиль сорок лет (1 Сам. 4:18), здесь начинал свою деятельность пророк и фактически последний судья в Израиле Самуил (Шемуэл). В Шило же, как полагают, был организован около середины XI в. до н.э. военный поход против филистимлян — самого грозного врага израильтян в ту эпоху. Судя по Благословению Иакова (Быт. 49:10), вероятно, ожидалось, что в Шило (масоретская вокализация: rfrtf) будет возведен на царство идеальный правитель Израиля.
Исходя из Суд. 20:1, 18, 26-28, 21:1-5,1 Сам. 7:5, 10:17 и др., можно предположить также наличие израильских культовых центров в Бет-Эле и в Мицпе, городе, находившемся в нескольких километрах южнее Бет-Эля, неподалеку от Гив‘ы. (Отметим также, что в Книге Иисуса Навина 22:10-34 упоминается о попытке заиорданских колен установить жертвенник в Гелилоте [евр. гелилот может означать просто «области»], «что у Иордана, в Ханаане».) Святилища могли быть и у отдельных колен (ср. Суд. 18), родов (ср. Суд. 6, 8) и даже семей (ср. Суд. 17); священнодействовали не только левиты (ср., например, Суд. 8:27, 17:5). Вероятно, имел распространение культ духов предков (ср.: Суд. 17:5, 10; 18:14, 18-20, 24), а также некоторые местные ханаанейские культы.
II. Единое Израильское царство.
Саул, Давид и Соломон
Попытки установления царской власти в эпоху судей
Спорадические локальные попытки установления царской власти в Израиле, вероятно, имели место еще в эпоху судей. Так, согласно Книге Судей, гл. 9, сын Гид‘она (Йерубба‘ала) и его ханаанейской шехемской наложницы Авимелех был провозглашен жителями древнего культового центра Шехема царем «и властвовал (топ) над Израилем три года» (Суд. 9:22). Жителями Шехема, по всей веро
ятности, были тогда по преимуществу ханаанеи (ср. Суд., гл. 9), для которых царская власть была издавна знакома, и это способствовало тому, что Авимелех провозгласил себя именно «царем». Авимелех был убит в ходе восстания против него Шехема и близлежащих поселений, вероятно, ближе к концу первой половины XI в. до н.э. Заметим, что описание попытки Авимелеха воцариться в Ше-хеме сопровождается в Книге Судей антимонархической притчей (9:7-15). Показательно само имя— 'Авимелех, означающее «мой отец— царь»; это первый израильский антропоним, включающий термин мелех, «царь» (согласно Быт., гл. 20, 26 (ср. Пс. 34:1), так же звали филистимского царя города Герара).
Отец Авимелеха, Гид‘он, сын Йоаша из ‘Офры (локализация неясна), из колена Менашше (вероятно, ок. 1100— 1060 г. до н.э.), был призван ГОСПОДОМ спасти Израиль от мидйанитян (Суд. 6:11-24). После победы над мидйанитянами ему было предложено, судя по Суд. 8:22, провозгласить себя царем:
«И сказали израильтяне Гид'ону: „Правь f?W) нами ты и сын твой, и сын сына твоего; ибо ты спас нас от руки мидйанитян"» (Гид‘он отказывается — 8:23).
В Суд. 8:18 Гид‘он, младший сын Йоаша (NB: Давид тоже был младшим сыном Ишая), характеризуется как сын царский. У него 70 сыновей и, следовательно, большой гарем. ‘Офра превращена им в крупный культовый центр с языческими элементами:
«И стали все израильтяне блудно ходить туда за ним; и был он (эфод; зд. некий культовый предмет, сделанный Гид‘оном.— И.Т.) сетью Гид‘ону и всему дому его» (Суд. 8:27).
Эти аспекты приводят исследователей к выводу, что положение Гид‘она — возглавлявшего союз нескольких северных колен и ни разу не обозначаемого в тексте Суд. 6-8 как шофет, т.е. судья, — приближалось к царскому. Жестокое убийство Авимелехом сыновей Гид‘она (лишь его младшему сыну, Йотаму, удалось спастись) предполагает, что он опасался их притязаний на наследование статуса отца.
Царь Саул
(ок. 1030 ? — ок. 1009 г. до н.э.)4
Израиль и филистимляне
I
Монархическое правление в Израиле устанавливается ок. 1030 (?) г. до н.э. с помазанием Самуилом Саула (Шаула), сына Киша, из колена Бинйамина— традиционно первого израильского царя. Заслуживает внимания тот факт, что рассказ Первой книги Самуила о воцарении Саула сопровождается антимонархическим памфлетом (8:11-18), аналогично тому, как это имело место в рассказе о воцаре
4 В Масоретском тексте Еврейской Библии в 1 Сам. 13:1 говорится, что царствование Саула длилось «два года». Многие комментаторы предлагают читать «двадцать два года».
нии Авимелеха. Многие исследователи полагают, что основным фактором, приведшим к установлению монархии в Израиле, явилась угроза со стороны филистимлян, пелиштим, являвшихся основным врагом израильтян в этот период. (От обозначения пелиштим и соответственно названия их территории — Пе-лешет происходит греческое наименование ПаХаютСут] — «Палестина». Наименование Пелешет для обозначения части средиземноморского побережья, где проживали филистимляне, возникает не позднее VIII в. до н.э., что засвидетельствовано у Исайи (14:29, 31) и в ассирийских источниках.) В тексте Числ. 24:24 упоминание о появлении «кораблей от берега киттимского», т.е., по-видимому, с Кипра (или Крита?), является, возможно, аллюзией на одну из волн нашествия так называемых народов моря. Вне Библии филистимляне впервые упоминаются в надписи храма Амона в Мединет-Хабу близ Фив и в Большом Папирусе Харриса, сообщающих о нашествии на Египет на 8-й год правления фараона Рамсеса III (1182-1151 гг. до н.э.), т.е. ок. 1175— 1174 г. до н.э., народов моря. Эти народы мигрировали главным образом из эгейско-малоазийского региона (согласно надписи из Мединет-Хабу, из земель хеттов, Киликии, Западной Анатолии, Кипра; земля Амуру [в Ливане] упоминается в качестве их главной опорной базы). С их экспансией, вероятно, связано падение Хеттской державы. В документах из Телль эль-Амарны встречается наименование шердани для обозначения наемников, служащих в египетской армии, а народ лукку (ликийцы) характеризуется как пиратский. В одном угаритском тексте XIII в. до н.э. сикула характеризуются как «народ, живущий на кораблях». Шердани служили в качестве наемников у Рамсеса II. Известно, например, об их участии в битве при Кадеше (на р. Оронт в Сирии) против хеттов в 1275 г. до н.э. Около 1208 г. до н.э. фараон Мернептах отразил нашествие на Египет коалиции ливийцев и ряда народов моря: акайваша (ахейцы?), турша (тирсены, т.е. этруски?), лукку, шердани и шакалила, или шакарша (?) {сикула). В походе против Рамсеса III участвовали филистимляне и близкие к ним чаккара, дануна (данайцы?), шердани, шакалила, турша, уашаша; при этом филистимляне (вместе с чаккара), вероятно, составляли основную воинскую силу. Фараону удалось не только отбить нашествие народов моря, но и нанести им сокрушительное поражение на восьмом году своего правления. (Согласно надписи Рамсеса от пятого года его правления, народы моря напали на Египет в этом году одновременно с ливийцами.) По-видимому, с позволения египетских властей филистимляне оседают в районе между Газой и Яффой, где образуют Пятиградье: Газа, Ашдод, Ашкелон, Гат и ‘Экрон. Каждый город управлялся сереном. Этот термин сопоставляют с греческим zupavvog, «тиран». Еще ряд терминов, встречающихся в Еврейской Библии в связи с филистимлянами {кова', «шлем»; пил{л)егеш, «наложница»; 'аргаз, «ящик», «сундук»; хермеш, «серп»), а также филистимские имена собственные, такие, как Голйат, Ахиш (правитель Гата) и Ма‘ох (Ма‘аха; отец Ахиша), вероятно, этимологически связаны с анатолийскими языками или греческим (во всяком случае, они не западносемитские). Согласно традиции, многократно зафиксированной в Библии, филистимляне пришли в Ханаан с острова Крит (см. и ср.: Быт. 10:14; 1 Хр. 1:12; Втор. 2:23; Иер. 47:4; Иез. 25-16; Ам. 9:7; Соф. 2:5). В этой связи заметим, что, судя по дошедшим до нас изображениям филистимлян, их украшенные перьями военные шлемы (или прически?) крайне схожи со шлемами критских правите
лей, как они изображены на знаменитом Фестском диске (XVI в. до н.э.). Воин с аналогичным украшенным перьями головным убором изображен на вазе с Кипра (Энкоми, XIII в. до н.э.), а также на одной печати (Энкоми). (Шлемы с перьями носили также чаккара и дануна*, шердани носили шлемы с рогами.) В 1 Сам. 30:14 упоминается Негев хак-Керети, где Керети (т.е., вероятно, «критяне») — один из народов моря (ср. 2 Сам. 8:16, 18, 20:23). Племя чаккара осело в Шаройской долине, в районе города Дор; шердани поселились в долине Акко. В «Ономасти-коне» Аменопе (египетском энциклопедическом перечне, составленном, вероятно, в конце XII в. до н.э.) упоминаются шердани, чаккара и филистимляне, а также три главных филистимских города— Ашдод, Ашкелон и Газа. В сказании Ун-Амона (ок. 1100 г. до н.э.) этот египтянин упоминает о посещении им Дора и его встречах и коллизиях с чаккара. Судя по рассказу Ун-Амона, филистимляне и чаккара контролировали прибрежную торговлю и судоходство вдоль восточного берега Средиземного моря и поддерживали контакты с финикийскими городами Гевалом (Библом), Тиром и Сидоном. Раскопки в Филистии (Тель Ашдоде, Тель Микне (‘Экрон), Тель Ашкелоне, Тимне, Тель Сере4 и т.д.) и к северу от нее (в Телль Касиле, Тель Афеке, Тель Цероре, Доре, Акко и т.д.) свидетельствуют о том, что на территориях, занятых филистимлянами и близкими к ним группами народов моря, в XI в. до н.э. активно развивалась городская культура. Филистимляне использовали самое современное оружие, в том числе из железа, технология производства которого получает развитие в Эгейском регионе, на Кипре и в Ханаане в XII-XI вв. до н.э.
При раскопках городов Ашдод и ‘Экрон в слоях, относящихся к первоначальному периоду пребывания здесь филистимлян, обнаружена посуда, идентичная керамике типа «Микены ШС.1Ь», найденной на Кипре (типично микенские формы и характерные мотивы, изображаемые на светлом фоне одной лишь коричнево-черной краской: спирали, геометрические узоры, птицы, рыбы). Это свидетельствует об общем — микенском («ахейском») — происхождении групп народов моря, поселившихся на Кипре, и филистимлян. Подобная же микенская керамика была обнаружена в Акко и Бет-Шеане, а также вдоль побережья Сирии и Ливана, тогда как в других городах филистимского Пятиградья керамика типа «Микены IlIC.lb» отсутствует. Здесь пребывание филистимлян засвидетельствовано характерной для них двуцветной керамикой, в изготовлении которой заметны и местные ханаанские традиции (особенно в использовании двух цветов, красного и черного), и датируется, по всей видимости, лишь приблизительно с середины XII в. до н.э.
Судя по библейским текстам, особым почитанием у филистимлян пользовался бог Дагон. Во всяком случае, это божество — имя которого, вероятно, связано со словом «зерно» (евр. даган) — упоминается в Библии исключительно в связи с филистимскими городами, в которых находились его храмы (Суд. 16:23,1 Сам. 5:2-7,1 Хр. 10:10; см. также 1 Макк. 10:83-84, 11:4). В то же время известно, что почитание Дагона было распространено в Сирии и Месопотамии уже с III тыс. до н.э.; в угаритских текстах Ба‘ал называется «сыном Дагона».
В Библии филистимляне часто третируются как необрезанные (п^пуп; Суд. 14:3, 15:18;7Сам. 14:6, 17:26, 36, 18:27, 31:4; 2 Сам. 1:20, 3:14; 1 Хр. 10:4).
II
Судя по данным археологических раскопок, Израиль к концу первой фазы железного века— во второй половине XI в. до н.э.— представлял собой по преимуществу сообщество земледельцев и скотоводов без какой-либо реальной централизованной организации и администрации. Численность израильтян к западу от Иордана составляла к концу XI в. до н.э., по приблизительным оценкам, 50 000 человек. Для сравнения, в начале первой фазы железного века, т.е. около 1200 г. до н.э., численность населения, обитавшего на сельскохозяйственных террасах и в деревнях между Шехемом и Хевроном, составляла, судя по данным раскопок, несколько более 38 000 человек. В этой связи уместно вспомнить стихи И. Нав. 4:13: «Около сорока тысяч приготовленных к брани перешло пред ГОСПОДОМ на войну на равнины Иерихона» и Суд. 5:8b из Песни Деворы: «Виден ли был щит и копье у сорока тысяч Израиля?», т.е. у бывших с Иисусом Навином.
Яркая характеристика экономического состояния израильского общества во дни Саула дана в 1 Книге Самуила 13:19-22:
«А кузнецов не было во всей Стране Израиля, ибо говорили филистимляне: „Чтобы не сделали евреи меча или копья“. И ходили все израильтяне к филистимлянам оттачивать каждый орудие свое: и свои заступы, и свои топоры, и свои сошники. Цена была: пим (ок. двух третей шекеля. — И. Т.) — за сошник и заступ и треть (шекеля) — за вилы и топоры, и за поправку рожна. Поэтому в день войны не было ни меча, ни копья ни у кого из всего народа, бывшего с Саулом и Ионатаном, а (только) нашлись они у Саула и Ионатана, сына его».
В результате победы над израильтянами при Афеке-Эвен-‘Эзере филистимляне оккупируют по крайней мере часть Эфраимитского нагорья и устанавливают свои гарнизоны на территории Эфраима, Бинйамина и Йехуды (2 Сам. 23:14; 7 Хр. 11:16), в том числе в городе Саула— Гив‘е (Бинйаминовой/Сауловой). Судя по данным археологических раскопок, израильский культовый центр Шило был уничтожен в результате сильного пожара около середины XI в. до н.э. (ср.: Пс. 78:60; Иер. 7:12, 26:9). Это разрушение связывают с развитием наступления филистимлян после битвы при Афеке-Эвен-‘Эзере. Согласно библейскому Повествованию о Ковчеге, во время битвы при Афеке-Эвен-‘Эзере филистимляне захватили Ковчег, принесенный израильтянами перед сражением из Шило (7 Сам. 4-6). По возвращении филистимлянами Ковчега ГОСПОДА израильтянам, согласно 7 Сам. 7:1, жители Киръят-Йе‘арима переносят его «в дом Авинадава на холме», или «в Гив‘е (пузп)» (ср. также 2 Сам. 6:2-4). Полагают, что Гив‘а, «холм», — это высота, известная ныне как Неби’ Самвил, расположенная между Киръят-Йе‘аримом (совр. Дейр эль-‘Азар) и Гив‘оном (Гаваоном; совр. эль-Джиб); отсюда, вероятно, и название Гив‘он («холм»), соотв. Гив‘а5. (В Книге Иисуса Навина 18:28 при перечислении городов бинйаминитян встречается то-
5 Ряд исследователей, вслед за Е. Робинсоном и У.Ф. Олбрайтом, идентифицируют Гив‘ат-Бинйамин/Шаул с Телль эль-Фулом, холмом, находящимся в 7 км к северу от Иерусалима у главной дороги, ведущей из города. Здесь были обнаружены остатки большой крепости. Другие локализуют Гив‘ат-Шаул на месте совр. Джебы, приблизительно в 9 км к востоку от эль-Джиба (Гив'он) ив 10 км к северу от Иерусалима.
тюним Гив‘ат-Киръят<-Йе‘арим> [в версии Септуагинты (Ватиканский кодекс): Гив‘ат-Йе‘арим]). Повествование о Ковчеге написано с проиудейских, продави-дических и антиэлидовских — Ахийа, потомок Эли, был первосвященником при Сауле (см. ниже) — позиций, что, вероятно, может объяснять постановку составителем акцента на том, что Ковчег Божий пребывал именно в Киръят-Йе‘ариме, находящемся в уделе Йехуды (родном колене Давида), а не в Гив‘оне, расположенном в уделе Бинйамина. Этим же, как представляется, может быть объяснено отсутствие (за одним исключением; см. ниже) упоминаний о Ковчеге во времена Саула (ср. Пс. 78:60-72). Перенесение Ковчега Божия после возвращения его от филистимлян в Гив‘у («холм»)/Киръят-Йе‘арим, а не в Шило, вероятно, косвенно свидетельствует в пользу гипотезы о разрушении филистимлянами этого древнего израильского культового центра около 1050 г. до н.э.
Царство Саула.
Культовый центр и первая столица Израильского царства Гив ‘ат ха- "Элохим/Гив ‘он
В этот опаснейший для Израиля период, лет через двадцать (ср. 1 Сам. 7:2) после упомянутых выше событий, и происходит избрание на царство Саула, правление которого проходит в непрестанных войнах с филистимлянами. Саулу удалось разгромить гарнизон филистимлян в уделе Бинйамина и в конечном счете освободить от их ига всю центральную часть Израиля. Царство Саула включало территории Бинйамина, Эфраима, Гил‘ада; вероятно, к нему присоединились Йеху-да и Галилея (или, по крайней мере, оно оказывало значительное влияние на эти территории). Царь правил из Гив‘ы в уделе Бинйамина, превратив этот город в столицу — Гив‘ат-Шаул.
«И сидел Саул в Гив‘е под тамариском на возвышенности, с копьем в руке, и все слуги его окружали его» (/ Сам. 22:6; ср. там же, 14:2).
Название первой столицы Израиля— Гив‘а— буквально означает «холм», «высота» и встречается в Библии также в формах Гева‘ и Гив‘он (1 Хр. 8:29-40, 2 Сам. 21:6 [Септуагинта, Аквила, Симмах], вероятно, 2 Сам. 2:12-24 и др.) .
Гив‘а Саулова также называлась D’rfjKH пуза Гив*ат ха-'Элохим (1 Сам. 10:5), т.е. Холм Бога — здесь было расположено святилище (пвзп; букв, «высота») Бога, вокруг которого группировалось сообщество пророков (/ Сам. 10:5, 9-10). О существовании в Гив‘е святилища мы узнаем и из текста 2 Сам. 21:6, 9, согласно которому гив‘онские хи ввиты (одна из народностей, населявших Ханаан) повесили семерых потомков Саула, выданных им царем Давидом, в Гив‘ат-Шауле (Септуагинта, Аквила, Симмах: fev Гофасоу SaovX, т.е. в Гив‘оне-Шаула), «на горб пред ГОСПОДОМ», т.е., вероятно, недалеко от святилища ГОСПОДА. Это была месть хиввитов за то, что царь «Саул хотел истребить» хиввитское население Гив‘она «по ревности своей о потомках Израиля и Йехуды» (2 Сам. 2 Г. 1-2). Кажется правдоподобным предположить, что Гив‘он и Гив‘ат-Шаул— это один
* Отметим, что в уделах Бинйамина и Йехуды было несколько населенных пунктов, обозначаемых данным термином.
и тот же город. Превратив древний хиввитский Гив‘он в уделе Бинйамина (совр. эль-Джиб)— «город большой, как один из царских городов» (И. Нав. 10:2) — в столицу Израиля, Саул, вероятно, попытался изменить здесь демографическую ситуацию в пользу евреев, чем и может объясняться его жестокость именно по отношению к гив4онским хиввитам. Подобным образом царь Давид, овладев Иерусалимом йевусеев (одна из древних ханаанейских народностей), вероятно, преследовал их, в том числе и физически (ср. 2 Сам. 5:8, 1 Хр. 11:6; ср. далее Суд. 1:8). Понятно тогда и стремление хиввитов казнить ближайших потомков Саула именно в том городе, где их преследовал царь, — в родном городе Саула. То, что древний Гив‘он не идентифицируется с Гив‘ат-Шаулом эксплицитно, вероятно, может быть объяснено проиерусалимской и продавидической позицией составителя (редактора) книгТТервых Пророков (И. Нав. — 2 Цар.).
Судя по 1 Сам. 14:18-19, можно предположить, что с начала царствования Саула, т.е. около 1030 г. до н.э., в районе Гив‘ы Бинйаминовой пребывал Ковчег Божий (гггЬкп рпк).
«И сказал Саул (пребывавший на окраине Гив4ы (nrain лурэ) Бинйамина; ср. 1 Сам. 14:2, 16-17.— И.Т.) Ахийи: „Принеси Ковчег Божий44,— ибо был Ковчег Божий в то время с сынами Израиля. Саул еще говорил к священнику, как смятение в стане филистимском более и более распространялось (курсив наш. — И.Т.) и увеличивалось. Тогда сказал Саул священнику: „Сложи руки твои44» (т.е. не приноси, ибо ход сражения уже не требует присутствия Ковчега).
Это обстоятельство также может служить подтверждением гипотезы, согласно которой Гив4ат-Шаул, вероятно, следует отождествлять с древним Гив4оном. При Ковчеге ГОСПОДА находился во времена Саула первосвященник Ахийа, священнослужитель из Шило, потомок первосвященника Эли; при последнем в Шило начинал свою деятельность Самуил. Допускают, что традиции Шило могли стать частью официальной религии нового царства. Можно также предположить, что святилище Гив‘ы/Гевы‘/Гив4она Саула тождественно упоминаемому в Первой книге Царей 3:4 святилищу Гив'она, которое квалифицируется как главное культовое место (гЬтпптозп) в Израильском царстве (ср. 2Хр. 1:3 и сл.) вплоть до постройки царем Соломоном Храма в Иерусалиме (строился ок. 966 — 959 г. до н.э.). Согласно же Первой книге Хроник 21:29 и Второй книге Хроник 1:3, 5, на высоте (гюзп; или в святилище) в Гив‘оне находилась Божья Скиния, «которую сделал Моисей, раб ГОСПОДА, в пустыне», а перед ней стоял медный жертвенник, который сделал Бецалел, сын Ури. Именно сюда приходит в начале своего правления царь Соломон вместе со всеми начальниками и старейшинами Израиля, чтобы принести жертву ГОСПОДУ. ГОСПОДЬ является ему в ночном видении и дарует «мудрость и знание»; вторично ГОСПОДЬ является Соломону в Иерусалиме уже после того, как тот построил Храм Божий и царский дворец (7 Цар. 9:2). Таким образом, даже после перенесения Давидом Ковчега Божия из района6 Киръят-Йе‘арима (Ба‘ал<е>-Йехуда), «из дома Авинадава, который в Гив4е (пгао)»
6 Текст 2 Сам. 6:2-3 может быть понят таким образом, что Давид и его люди вышли «из Ба‘але-Йехуды» (стих 2), дабы вывезти Ковчег Божий «из дома Авинадава, который в Гив4е» (стих 3), т.е. Гив4а находилась в районе Киръят-Йе4арима.
(2 Сам. 6:2-4) — т.е. гипотетически на высоте Неби’ Самвил близ Гив‘она/Гив‘ы Саула, — в Иерусалим (после взятия им города ок. 1001 г. до н.э.) и строительства им в цитадели Сион (Цийон)— Граде Давидовом— для Ковчега ГОСПОДА специальной скинии (2 Сам. 6; 1 Хр. 13, 15-16) бинйаминитский Гив‘он оставался главным культовым центром Израиля. Иерусалим в определенной мере становится преемником религиозных традиций Гив‘она; это, вероятно, могло явится одной из основных причин того, что при расколе Израильского царства по смерти Соломона около 931 г. до н.э. колено Бинйамина— вероятно, наиболее мощное в военном отношении израильское колено в конце эпохи судей (ср. Суд. 20) и при царе Сауле — осталось вместе с Йехудой и левитами в Южном царстве с центром в Иерусалиме.
Саул был, вероятно, близок к пророческому движению (ср., например, 1 Сам. 10:9-12; 19:22-24) и, как можно предположить, в определенной мере боролся за чистоту монотеизма, в частности, судя по 1 Сам. 28:3, 9, активно выступил против древнего и широко распространенного в Ханаане культа духов предков (ср. соответствующие запреты, содержащиеся в Пятикнижии: Лев. 19:31, 20:6, 27; Втор. 18:11 [ср. также 2 Цар. 23:24]).
Царь, доблестный воин, предпринимает реорганизацию военных сил и создает постоянную армию, состоящую частью из добровольцев, частью из ополченцев. Войско делится на «тысячи» и «сотни» (см., например, 1 Сам. 22:7). Во главе армии Саула стоит Авнер (J Сам. 14:50, 17:55; 2 Сам. 2:8), его двоюродный брат (или дядя; 1 Хр. 8:33).
Согласно 1 Сам. 14:47-48 и гл. 15, Саул воевал с моавитянами, аммонитяна-ми, эдомитянами, с арамейским царством Цова — Сувской Сирией и амалекитя-нами. Впрочем, некоторые исследователи выражают в этом сомнение, полагая, что данные пассажи являются транспозицией событий времен Давида.
Саул начал одарять своих приближенных земельными наделами («поля», «виноградники»; см., например, 1 Сам. 22:7), что значительно поколебало племенной строй и уклад. Это были, вероятно, земли, по большей части отторгнутые от филистимлян и других соседних народов, так что на них ни одно из колен не могло иметь притязаний. Аналогичная практика засвидетельствована в угарит-ских документах (XIV-XIII вв. до н.э.).
При Сауле начинает складываться административный аппарат. Помимо первосвященника и главнокомандующего армией царя, в тексте 1 Книги Самуила упоминаются «начальник пастухов Сауловых» Доэг (21:8), «рабы» царя (16:7, 22:6-7, 9, 14, 17), т.е., вероятно, чиновники, офицеры, охранники, гвардейцы-телохранители (ср. 22:17) и другие лица при дворе царя.
Около 1009 г. до н.э. после продолжительной подготовки филистимляне, сконцентрировав все свои силы, прорвались в Изреэльскую долину. Дабы воспрепятствовать рассечению территории Страны Израиля надвое, Саул вынужден был спуститься со своей армией с гор на равнину, где у филистимлян, имевших колесницы, было значительное преимущество. Решающее сражение с филистимлянами произошло у горы Гилбоа. В жестокой битве пал Саул и его три сына, израильская армия была разбита; филистимляне же захватили Бет-Шеан и фактически стали контролировать ббльшую часть страны. Обезглавленное тело Сау
ла и тела его сыновей были повешены филистимлянами на стене Бет-Шеана. Но жители заиорданского Йавеш-Гил‘ада, которых Саул когда-то спас от аммонитян (7 Сам. 11:1-11), сняли его тело и тела его сыновей со стены, принесли в свой город, сожгли, а кости их погребли там под тамариском (7 Сам. 31:8—13) .
Заключая краткий очерк о первом израильском царе, Сауле, отметим, что, по мнению многих исследователей, негативные тенденции в описании Саула в Первой книге Самуила (в особенности в гл. 16-27) появились в результате позднейшей продавидической редактуры. Тем не менее из текстов Священного Писания, посвященных царю Саулу, вырисовывается образ сильного правителя, заложившего основы израильской государственности, и великого воина. Именно таким он предстает в Плаче Давида по смерти Саула и его сына Ионатана, содержавшемся в очень древнем поэтическом сборнике— Книге Праведного (упоминается в И. Нав. 10:12-13 и 2 Сам. 1:18, ср. 3 Царств [7 Царей] 8:53а [LXX]; сама книга до нас не дошла) и включенном во Вторую книгу Самуила 1:18-27:
«Краса, о Израиль, на высотах твоих пронзена! Как пали сильные!
Не рассказывайте в Гате, не возвещайте на улицах Ашкелона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы Гилбоа! Ни роса, ни дождь (да не сойдет) на вас, и полей плодородных (да не будет на вас); ибо там повержен щит сильных, щит Саула — как бы и не был он (Саул или щит. — И.Т.) помазан елеем. Без крови раненых, без тука сильных лук Ионатана не отступал назад, и меч Саула не возвращался даром.
Саул и Ионатан — любезные и согласные в жизни своей, и в смерти своей не разлучились — орлов быстрее, львов сильнее.
Дочери Израиля! О Сауле плачьте, который одевал вас в багряницу с украшениями, доставлял уборы золотые на одежды ваши. Как пали сильные на брани!
Ионатан на высотах твоих пронзен. Скорблю о тебе, брат мой Ионатан, любезен ты был мне очень, превыше любовь твоя была мне любви женской.
Как пали сильные, погибло оружие бранное!»
* О перезахоронении в уделе Бинйамина, в родовой гробнице, см. 2 Сам. 21:12-14.
Давид (ок. 1009/1001 — 969 г. до н.э.)
Приход Давида к власти
I
Давиду, сыну Ишая, и его эпохе посвящены часть Первой книги Самуила (с гл. 16), вся Вторая книга Самуила, первые две главы Первой книги Царей и часть Первой книги Хроник (со стиха 10:14). Эти тексты Библии основываются на официальных архивных документах, относящихся к эпохе Давида, эпических повествованиях и записях очевидцев. В 1 Хр. 29:29 упоминаются такие не дошедшие до нас документы, как «Записи (букв. „Речения44. — И.Т.) Самуила-провидца», «Записи Натана-пророка», «Записи Гада-прозорливца», в которых содержались сведения о «делах царя Давида, первых и последних». Текст 1 Сам., гл. 16-2 Сам., гл. 5 обычно обозначают как «История восхождения Давида к власти»; повествование 2 Сам., гл. 9-20, 1 Царей, гл. 1-2 — как «История наследования» (Соломоном трона Давида), или «История двора (Давида)». Кроме того, семьдесят три Псалма (в Масоретском тексте) приписывается авторству этого израильского царя; тринадцать из них (3, 7, 18, 34, 51-52, 54, 56-57, 59-60, 63, 142) содержат подзаголовки, сообщающие об обстоятельствах, при которых Давид написал или исполнил тот или иной Псалом.
К настоящему времени известны также по крайней мере два экстрабиблей-ских документа IX в. до н.э., в которых, по всей вероятности, упоминается личность Давида: это арамейская надпись дамасского царя Хазаэла (?), обнаруженная в Тель Дане, и надпись моавитского царя Меши (см. ниже).
Термин «Давид» (тп; написание то, вероятно, получает распространение не ранее периода вавилонского плена) означает, по всей видимости, «возлюбленный», «друг» (ГОСПОДА). Вероятное вариантное произношение этого имени в допленную эпоху было Дод (написание тп). Показательны в этой связи зафиксированные в Библии имена додавидической и давидической эпох: Додо (тт(1)т, т.е. «Его друг [возлюбленный]»; вариантная форма топ [«Мой возлюбленный»]; Суд. 10:1, 2 Сам. 23:9 [ = 1Хр. 11:12]; 2 Сам. 23:24 [ = 1 Хр. 11:26], 1 Хр. 27:4) и Додийаху (топлптп), т.е. «друг [возлюбленный] ГОСПОДА»; 2Хр. 20:37 [см. £ALV”W]). Сокращенной формой этих имен и могло являться имя Давид/Дод (тп). С другой стороны, существует гипотеза, согласно которой термин Давид (тп) мог первоначально использоваться не как имя собственное, а как своего рода титул, тронное имя или же как прозвище героя, ревностного приверженца религии YHWH-ГОСПОДА. Поскольку в 2 Сам. 21:19 победителем филистимского богатыря Голиафа (Голйата) из Гата назван Элханан, сын Йа‘ре-’Орегима из Бет-Лехема (ср., однако, 1 Хр. 20:5), а 1 Сам. 17 подробно повествует о том, как Давид убил Голиафа, высказывается предположение, что Элханан и было первоначально именем данного израильского царя. (Если же Элханан, сын Йа‘ре-’Орегима из Бет-Лехема [Йа 'ре- 'Орегим, по всей вероятности, не является именем собственным— ’орегим означает «ткачи»], тождествен с упоминаемым в 2 Сам. 23:24 = 1 Хр. 11:26 Элхананом, сыном Додо (n(i)i) из Бет-Лехема, тогда
можно допустить, что Додо/тт или ffodhvt было родовым прозвищем Элханана, под которым он в дальнейшем и стал фигурировать.)
Давид был младшим из восьми сыновей Ишая из Бет-Лехема, из колена Йехуды. Согласно традиции, Самуил помазал Давида елеем еще до того, как тот появился при дворе Саула; «и почивал Дух ГОСПОДА на Давиде с того дня и после» (7 Сам. 16:13). Сохранилось две версии появления юноши Давида у Саула: 1) Давид как искусный арфист, способный рассеивать своей игрой удрученное состояние Саула (в которое последний часто впадал), остается при его дворе и становится оруженосцем царя (7 Сам. 16:16-23); 2) убив метким выстрелом из пращи филистимского витязя Голиафа, пастушок Давид становится воином Саула (7 Сам. 17). Впоследствии юный герой назначается Саулом тысяченачальни-ком. Его успешная военная деятельность и популярность в народе вызывают ревность Саула, который стремится погубить Давида. Последний спасается бегством, скрывается от царя, но к нему начинают стекаться «все притесненные и все должники и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними; и было с ним около четырехсот человек» (7 Сам. 22:2). Как уже отмечалось выше, дружина Давида в этот период отчасти напоминает отряды «праздных (или „голодных") и своевольных людей» израильских лидеров Авимелеха и Иеффая Гил‘адского в эпоху судей (а также отряды хапиру. действовавшие в Ханаане в XIV в. до н.э.). Состав отряда Давида — притесненные и недовольные — возможно, предполагает определенную социальную подоплеку его деятельности в этот период. С другой стороны, среди ближайших сподвижников Давида оказываются в это время священник Эвйатар (судя по 7 Цар. 2:27, потомок первосвященника Эли в Шило) и пророк Гад, что предполагает приверженность будущего царя и его окружения религии YHWH-ГОСПОДА.
В связи с данным периодом деятельности Давида вызывают интерес пять наконечников стрел, обнаруженных неподалеку от эль-Хадра, к югу от Бет-Лехема, родного города Давида, и датируемых XI в. до н.э. (вероятно, второй половиной этого века). На четырех наконечниках написано «стрела *bd lb’t (раба (богини)-львицы?)». на пятом — ‘bd lb't («раб (богини-)львицы?) на одной стороне и имя Бен ‘Анат («сын ‘Анат») — на другой. Имя ‘ Анат (в ханаанейской мифологии — богиня, сестра и возлюбленная бога Ба‘ала) засвидетельствовано в угаритских и египетских текстах, библейских топонимах; в книге Судей 3:31 и 5:6 один из израильских «малых» судей, сражавшийся с филистимлянами, назван Шамгар Бен ‘Анат (имя Бин ‘Анот, т.е. «сын ‘Анат», встречается также в тексте из Хацо-ра XVII или XVI в. до н.э.). Слово же lb’t коррелирует с еврейским 1Ь(у)' «лев»/«львица» и соотносится с наименованием наемных воинов-лучников (чьей эмблемой, вероятно, была богиня-львица), которые пребывали в отряде Давида еще до его восшествия на трон. Псалмопевец — вероятно, сам Давид — так характеризует этих своих воинов-наемников:
«Душа моя среди львов (охЛ);
я лежу (среди дышащих) пламенем — сынов человеческих, зубы которых — копья и стрелы,
а язык которых — меч острый» (77с. 57:5).
II
В результате усиливающихся преследований со стороны Саула Давид вынужден был перейти со своей дружиной к филистимлянам. От них он получает пограничный город Циклаг, где становится правителем. Давид не принимает участия в военных действиях филистимлян против израильтян и стремится сохранить добрые отношения со старейшинами колена Йехуды (ср. 1 Сам. 30:26-31). После гибели Саула в битве у горы Гилбоа около 1009 г. до н.э. Давид со своими людьми приходит в Хеврон, главный город удела Йехуды.
И пришли мужи Йехуды, и помазали там Давида на царство над домом Йехуды (2 Сам. 2:4).
Авнер же, главнокомандующий войска Саула, провозгласил в Маханаиме, в Заиорданье, израильским царем сына Саула Ишбошета/Эшба‘ала. Попытка Авнера захватить с помощью своих сторонников-бинйаминитов Гив‘он, главный город в уделе Бинйамина (и, вероятно, столицу Израиля при Сауле), окончилась безуспешно (2 Сам. 2:12-32). В ходе продолжительной междоусобной войны Авнер и Ишбошет/Эшба‘ал гибнут.
И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред ГОСПОДОМ; и помазали Давида царем над Израилем. Тридцать лет было Давиду, когда он воцарился; царствовал сорок лет. В Хевроне царствовал над Йехудой семь лет и шесть месяцев, и в Иерусалиме царствовал тридцать три года над всем Израилем (2 Сам. 5:3; ср. 2 Сам. 2:11; 1 Цар. 2:11; 1Хр. 29:27).
Государство Давида.
Иерусалим — столица Израиля
Захват Давидом около 1001 г. до н.э. у йевусеев Иерусалима и крепости Сион, ставшей Градом Давидовым, ликвидировал географическую помеху единению южных и северных колен. Город, ставший столицей Израиля, находился в центре страны, в точке пересечения древних путей и представлял собой по своему местоположению неприступную крепость; ни одно из колен не могло предъявить на него каких-либо притязаний. С другой стороны, Иерусалим был близок к уделу Йехуды, родного колена царя. В Иерусалиме сосредоточивается гражданская и военная администрация. В Град Давидов переносится Ковчег Божий в сопровождении священников и левитов (2 Сам. 6; 1 Хр. 13, 15-16). Таким образом, был сделан важный шаг на пути превращения Иерусалима в главный культовый центр Израиля.
При Давиде Израиль становится одним из основных центров силы на древнем Ближнем Востоке. Этому благоприятствовала политическая обстановка — Египет и Ассирия переживали тяжелый кризис. В сражениях в районе Иерусалима и Бет-Лехема Давиду удалось разгромить филистимлян; Филистия сократилась до узкой прибрежной полосы к югу от р. Яркой и примыкающей к ней части Шефелы. Филистимская угроза Израилю была окончательно ликвидирована. Впоследствии филистимские наемники из Гата, так называемые «керети и пеле-ти», оказываются на службе у Давида.
76. 1 —Арамейская стела из Тель Дана (середина — вторая половина IXв. до н.э.), в тексте которой упоминается «Дам (т.е. династия) Давида»;
2 — прорисовка; 3 — текст
( Ппм. ргчх ] .1
П.^)ж.поа.т»рг.р)Ч>.^п^-' .♦
(□«ЛЖКЗХ0Х^-ЛПил'>Пр).ГЖ'>^1ПЛЭ л [^orrvr.pa.vnpnnajHLnjS^Sr^r.’^o л |!LT®ninjuvtorijrvjrw).o#iaTTBrxT л ( pv*j\on.pnmr .ю
[ann )-л5грпж .и
l.omn 'nnjv'.’n.T’j .12
( .0»Л» .13
Давид присоединяет к Израильскому царству ханаанейские города Шаройской и Изреэльской долин и Галилеи. В результате раскопок, проводившихся в Бет-Шеане, Мегиддо, Хацоре, был обнаружен густой слой пепла, который отделяет наслоения конца XI в. до н.э. от наслоений начала X в. до н.э., что интерпретируется как свидетельство разрушительной войны, сопровождавшейся уничтожением большей части зданий в данных городах.
Давид разгромил аммонитян и их союзника, арамейское войско Хададэзера, царя Цова— Сувской Сирии; были взяты Рабба и Дамаск, на покоренных территориях поставлены гарнизоны. Согласно 2 Сам. 10:19, «все цари, покорные Ха-дадэзеру... заключили мир с израильтянами и покорились им»; среди них был Той, царь новохеттского царства Хамат (2 Сам. 8:9-10). Давид покорил также Моав и Эдом. Таким образом, в эту эпоху царство (или империя) Давида распространило свой прямой или опосредствованный политический контроль и влияние на территории от Красного моря на юге до Евфрата на севере. Степень вассальной зависимости того или иного царства от Израиля, а также различия между вассалом и союзником трудно определить. Царство Давида пополняло казну, захватывая военные трофеи, получая дань от своих вассалов, контролируя международные торговые пути. Особое значение для экономики Израиля имел торговый союз с финикийским городом-государством Тир, заключенный, вероятно, в конце царствования Давида. (Некоторые исследователи полагают, что данный союз был заключен, скорее, в начале царствования Соломона; в то же время не исключена возможность, что межгосударственные контакты с Тиром начались уже при Сауле.) По преимуществу земледельческий Израиль поставлял Тиру сельскохозяйственные продукты, получая взамен недостававший ему строевой лес (ливанский кедр, кипарис), помощь искусных финикийских строителей, построивших, в частности, дворец Давида в Иерусалиме (2 Сам. 5:11), художественные изделия.
В ходе археологических раскопок пока не было обнаружено архитектурных строений и артефактов, которые можно было бы однозначно отнести к эпохе Давида. Й. Ахарони пытается выявить строительную активность Давида в Мегиддо, Беэр-Шеве и Дане, однако многие исследователи оспаривают предложенную им датировку. У.Г. Девер полагает, что казематная стена вокруг Бет-Шемеша может быть отнесена к периоду царствования Давида. По мнению А. Мазара, так называемая «ступенчатая структура», возведенная на крутом восточном склоне холма над источником Тихон и представляющая собой остатки огромной подпорной стены (сохранившейся до высоты 16,5 м), поддерживавшей, вероятно, монументальное здание (следы которого обнаружены не были), может быть идентифицирована с Давидовой «крепостью Сион» —мецудат Цийон (1 Хр. 11:5).
Давид провел реформу государственного аппарата. В Библии сохранились подробные списки официальных лиц царства (2 Сам. 8:16-18, 20:23-26; 1 Хр. 27). Во главе армии стоял Иоав; филистимских наемников, керети и пелети, возглавлял Бенайаху. Ядро воинства Давида составляли знаменитые шелошим хаг-гибборйм, «тридцать витязей (героев)». Первосвященником был Цадок, сын Ахитува, но, возможно, и Эвйатар, во всяком случае в течение какого-то периода (ср. 1 Цар. 2:35, особенно LXX). Важную роль при дворе играли «государственный секретарь», софер (букв, «писец»; занимался, вероятно, в основном
иностранными делами), и мазкир— возможно, царский герольд, оглашавший указы, и/или придворный историограф (хронист). Сборщик податей, ’ашер-ал-хам-мас, контролировал выполнение трудовой повинности населением; вероятно, в целях соответствующего надзора была проведена перепись населения. Появляются «советники» и «друзья» царя. Большую роль при дворе играют сыновья царя. Учреждение новых органов и институтов государственной власти приводит к появлению нового сословия— царского чиновничества. Высшие чиновники носят титул «раб царя» (это звание встречается как в Библии, так и на обнаруженных печатях и печатках чиновников вместе с именем соответствующего царя). В 1 Хр., гл. 27 приведен длинный список чиновников, заведующих царским имуществом: полями, виноградниками, оливковыми рощами, скотом и др. Обширные царские угодья в значительной мере обеспечивали независимость царского двора от различных категорий и групп подданных.
В Израиле появляется новая идеология, согласно которой царь в определенной мере оказывается наделенным элементами святости и может выполнять священнические функции. Эта идеология эксплицитно выражена в Псалме 110— интро-низационном оракуле, вероятно сочиненном для Давида пророком Натаном или кем-то из придворных поэтов. В частности, в стихе 4 провозглашается:
«Поклялся Господь и не раскается:
„Ты (т.е. Давид. — И.Т.) священник вовек
по чину Мелхиседека4*» (древний царь-священник Иерусалима, упоминаемый в Быт., гл. 14).
В библейских повествованиях о Давиде сохранились упоминания о волнениях, направленных против царя. В 2 Сам. 15-19 рассказывается о попытке сына Давида Авшалома (Авессалома) захватить власть в государстве. Его поддержали старейшины и широкие народные массы, прежде всего представители северных колен. Не исключена возможность, что особо активное участие в восстании приняли бинйаминитяне во главе с Меривба‘алем (Мефибошетом), сыном Ионатана, сына Саула, который через путч Авшалома, возможно, надеялся захватить власть в Израиле (ср. 2 Сам. 16:1-13, особенно ст. 3). С помощью гвардии, оставшейся верной царю, и родного колена Йехуды Давид сумел подавить восстание. С этих пор Давид, вероятно, начинает отдавать предпочтение племени Йехуды в том или ином отношении (ср. 2 Сам. 19:40-43). Эта новая политика сыграла решающую роль во времена Соломона и в конечном счете привела к расколу единого Израильского царства.
Еще одно восстание против Давида поднял Шева\ сын Бихри, из колена Бинйамина под лозунгом:
«Нет нам части в Давиде, и нет доли нам в сыне Ишая; все по шатрам своим, израильтяне!» (2 Сам. 20:1).
Под этим лозунгом приблизительно через полвека, по смерти Соломона, произойдет раскол единого Израиля (ок. 931 г. до н.э.). Мятеж Шевы‘ был подавлен Иоавом. Возможно, именно активное участие бинйаминитян в восстаниях про
тив Давида побудило царя к жестокому шагу— выдаче хиввитам Гив‘она семерых потомков Саула для расправы (2 Сам. 21).
Давид в арамейской надписи из Тель Дана и на моавитской Стеле Меши
Исследователи, известные как «библейские минималисты», рассматривают царя Давида как мифического лидера, введенного в повествование позднейшими библейскими авторами для того, чтобы «создать» для Израиля героическое прошлое (так что это повествование оказывается чуть ли не сопоставимо с кельтскими мифами о короле Артуре). Говорят также об «эпонимическом и метафорическом характере» как фигуры Давида, так и понятия династия {«дом») Давида. В этой связи большое значение приобрели бы внебиблейские упоминания имени царя Давида, синхронные периоду его правления или ненамного отстоящие от этого времени. Как кажется, такого рода экстрабиблейских памятников, свидетельствующих о царе Давиде как о реальной исторической личности, обнаружено к настоящему времени два, и оба они относятся приблизительно к середине — второй половине IX в. до н.э. Первый — это фрагменты А и В 1-2 арамейской стелы, найденные в 1993-1994 гг. в Тель Дане и палеографически датируемые серединой — второй половиной IX в. (хранятся в Израильском музее в Иерусалиме). Полный текст надписи и ее интерпретация будут приведены ниже (в разделе III); здесь же отметим, что этот памятник представляет собой победную стелу дамасского царя, вероятно Хазаэла, в которой упоминается «царь Израиля» (т.е. Северного царства), скорее всего Йехорам, сын Ахава, раненный в сражении с сирийцами у Рамот-Гил‘ада в 841 г. до н.э. и вскоре умерщвленный в ходе военного переворота израильского военачальника Йеху, а также «[цар]ь Дома Давида» ([ml\k.bytdwd\ строки 8-9), т.е. основанной Давидом династии иудейских царей, — вероятно, Ахазйаху, сын Йехорама Иудейского, убитый во время того же переворота (см.: 2 Цар. 8:28-29, 9:24-28; 2 Хр. 22:5-9; ср.: Ос. 1:4-5; 1 Цар. 19:17; 2 Цар. 9:6-10). Выражение «Дом Давида» (тпггз) встречается в Еврейской Библии, например, в 2 Сам. 3:1, 6; 1 Цар. 12:19; Ис. 7:2 (ср. 1 Цар. 2:24). (Ср., например, обозначение династии израильских царей в ассирийских надписях как Бит Хумри [«Дом ‘Омри»]; также Бит Агуси [«Дом Агуси»] — как обозначение династии Арпада; Бит Хазаили [«Дом Хазаэла»] — Арам-Дамаска.)
Второй памятник, в котором, вероятно, упоминается царь Давид, — это стела моавитского царя Меши, обнаруженная в Дибане в 1868 г. и хранящаяся в Лувре. События, отраженные в тексте стелы, вероятно, относятся ко времени израильских царей Ахазйаху (853-852 гг. до н.э.) и Йехорама (852-841 гг. до н.э.) (ср. 2 Цар. 3:4-27). Меша, похваляясь тем, что ему удалось освободиться от владычества Северного царства, Израиля, в частности, пишет:
«А люди Гада жили в земле ‘Атарота извечно, и царь Израиля построил (или: „перестроил".— И.Т.) ‘Атарот для них, но я воевал против этого города и взял его. И я убил всех людей этого города для насыщения Кемоша (главное моавитское божество. — И.Т.) н Моава, и я принес оттуда жертвенник (очаг жертвенника. — И.Т.) Давида (>7 dwd[h\), и я доставил его к Кемошу в Кериот, и я поселил там людей Шарона и людей Махарита.
И Кемош сказал мне: „Поди, возьми Нево от Израиля"... И я взял его, и я убил все семь тысяч мужчин и мальчиков, и женщин, и девочек, и служанок, потому что я посвятил их ‘Аштар-Кемошу. И я взял оттуда [сосуды7] YHWH, и я доставил их к Кемошу» (строки 10-18).
В связи с приведенным текстом отметим, что, согласно 1 Хр. 26:32, после покорения Израилем заиорданских территорий, в том числе Моава, царь Давид «поставил» две тысячи семьсот левитов «управлять реувенитами и гадитами и половиной колена Менашше по всем делам Божиим и делам царя». Некоторые исследователи относят к этому периоду и учреждение левитских городов (Числ. 35:1-8; И. Нав. 21; 1 Хр. 6:39-66) в Цизиорданье и Трансиорданье. (В ходе археологических раскопок, проводившихся в местах, ассоциируемых с левитскими городами в Заиорданье, пока обнаружено крайне мало керамических изделий, датируемых временем до X в. до н.э.) Левиты, действовавшие по инициативе глубоко религиозного царя Давида, бесспорно, распространяли религию YHWH-ГОСПОДА на присоединенных к Израильскому царству заиорданских территориях, и именно в свете этой деятельности, вероятно, и следует рассматривать установление— в конечном счете по указанию Давида— жертвенника ГОСПОДУ в ‘Атароте у гадитов, жертвенника, который захватил в качестве трофея Меша. В качестве определенной параллели можно указать на тексты 2 Сам. 23:20 и 1 Хр. 11:22, согласно которым полководец Давида Бенайаху поразил два «(очага) жертвенника моавитских» (□к*» сЛхопх). (Ср. Ис. 29:1-2 об Иерусалиме: «О Ариэл, Ариэл (Ък»пк), город, в котором пребывал Давид... И Я притесню Ариэл, и будут вздохи и стоны, и будет он для Меня как (очаг) жертвенника f?irnx)»— здесь игра на одинаковом звучании слов 'Лри'эл/Иерусалим — ’ар(и) ’эл/«очаг жертвенника», «жертвенник».)
Если же в слове dwdh (строка 12) рассматривать -Л как местоименный суффикс и читать dodoh, «Его возлюбленный», т.е. возлюбленный YHWH-ГОСПОДА (ср. последующие строки надписи, 14-18, где говорится о [священных предметах] YHWH в Нево), то тогда можно предположить, что автор надписи все еще воспринимал имя второго израильского царя не как имя собственное, а как своего рода титул-прозвище — дод/«возлюбленный», соотв. додо/«Его возлюбленный». С другой стороны, создатель надписи мог рассматривать имя dwd (Да-вид/Дод) как сокращенную форму от имени dwdw/h (Додо), каковым оно, заметим, вероятно, и являлось на самом деле (см. выше).
Не исключена возможность, что имя Давида/Дода упоминается и в строке 31 Стелы Меши:
«И в Хоронаиме обитал дом [Да]вида (whwrnn.ysb.bh bt[d\wd)... Кемош сказал мне: „Спустись, сражайся против Хоронаима..."» (строки 31-32).
Если приведенная реконструкция строки 31 верна, то это означает, что иудейская династия Давида контролировала на определенном этапе район Хоронаима в Моаве. Большинство исследователей локализуют Хоронаим в центральном или южном Моаве между Арноном (Вади-Муджиб) и Зередом (Вади-Хаса).
7 В тексте лакуна; обычно восстанавливают kly, «сосуды».
В заключение данной темы следует отметить, что практически все современные исследователи не усматривают в слове dwdh в Надписи Меши, строка 12, имя израильского царя Давида. Так, высказывается предположение, что под этим обозначением здесь может подразумеваться храм некоего гипотетического языческого божества, эпитетом которого был термин Дод (dwd), т.е. «Возлюблен^ ный». Говорят даже о том, что в данном пассаже может подразумеваться святи-' лище Самого YHWH-ГОСПОДА. Существует также гипотеза, согласно которой под dwd в Моавитской надписи подразумевается некий высокопоставленный чиновник Северного царства; при этом dwd/давид рассматривается как титул (по аналогии с Caesar/caesar). Однако подобного рода предложения носят, как представляется, умозрительный характер; кроме того, перечисленные гипотезы фактически девальвируются в случае, если -Л в слове dwdh все же рассматривать как местоименный суффикс.
♦ ♦ ♦
Давид мирно почил приблизительно в 969 г. до н.э., окруженный ореолом помазанника Бога — идеального царя и национального героя. Он положил начало династии Дома Давидова, правившей в Израиле (Соломон) и Иудее около четырехсот лет, вплоть до разрушения Первого Храма вавилонянами (586 г. до н.э.). Давиду должен был наследовать старший из его здравствовавших сыновей, Адо-нийаху, которого поддерживали главнокомандующий Иоав и священник Эвйа-тар. Однако Бат-Шеве (Вирсавии), матери Соломона, при поддержке пророка Натана, священника Цадока и полководца Бенайаху удалось уговорить Давида незадолго до его смерти признать именно Соломона царем Израиля.
Соломон
(ок. 970/969 — 931 г. до н.э.)
Социально-политические и экономические аспекты царства Соломона
О царе Соломоне (Шеломо) повествуется в текстах 1 Цар. 1-11 и 2 Хр. 1-9. Среди источников этих библейских текстов были официальные архивные документы, записи очевидцев, пророчества и т.д., в частности, вероятно, не дошедшая до нас «Книга деяний Соломона» (7 Цар. 11:41), «Записи Натана-порока», «Пророчество Ахийи из Шило», «Видения прозорливца Йеддо/и (LXX-. Йоэл) о Йаров‘а-ме, сыне Невата» (2 Хр. 9:29; ср.: 1 Цар. 11:29-39,7^. 29:29, 2 Хр. 12:15). В Библии неоднократно отмечается большая мудрость Соломона; согласно 7 Цар. 5:12, он изрек три тысячи притч и сочинил тысячу пять песен. Авторству Соломона традиционно приписываются в Священном Писании два Псалма— 72-й и 127-й, Притчи, Екклесиаст и Песнь песней. В частности, собрание притч, помещенных в книге Притч, гл. 25-29, предвосхищает следующее замечание: «И вот притчи Соломона, которые собрали мужи Хизкийи, царя Иудеи» (25:1), правившего в 729/715-686 гг. до н.э. Полагают, что по крайней мере часть песен из дошедшей до нас версии Песни песней были отредактированы или написаны уже в эпоху эллинизма. В эллинистический же период была создана книга Екклесиаста.
(Соломону также приписываются созданные в эпоху эллинизма или раннеримский период апокрифические Псалмы Соломона, дошедшие до нас в греческом переводе с еврейского, и Премудрость Соломона, изначально написанная по-гречески, возможно, на основе какого-то еврейского или арамейского текста/тек-стов .) Самые ранние из известных нам нееврейских авторов, упоминающих царя Соломона, — греческие писатели II в. до н.э. Менандр Эфесский и Дий (тексты приводятся в: Иосиф Флавий. Против Апиона, I, 112-120, 126; он же. Иудейские древности, VIII, 147-149).
Согласно 2 Сам. 12:25, по слову ГОСПОДА пророк Натан нарек сыну Давида и Бат-Шевы имя П’ТТ, Йедидейа(х), т.е. «Возлюбленный (друг) ГОСПОДА»; таким образом, мальчик, по сути, был тезкой своего отца Давида (тп; однокоренное слово с тт)— «Возлюбленного (друга) Господа». (Ср. Ис. 5:1, где, возможно, содержится игра слов, связанная с однокоренными именами Давид и Йедидейа(х).) Соломон (пяЛгс; от корня d’juz, «быть цельным, полным, нетронутым, мирным, дружным») — это, вероятно, тронное имя царя.
При первой же возможности Соломон расправился со своими противниками, казнив Адонийаху и Иоава и сослав Эвйатара в ‘Анатот. Главнокомандующим становится Бенайаху, первосвященником служит Цадок, а затем его сын ‘Азарйаху.
В первой половине царствования Соломона контролируемые им территории в целом примерно соответствовали размерам царства Давида.
«И Соломон правил над всеми царствами от Реки [Евфрата] (до) страны филистимской и до границы Египта. Они приносили дары (или „дань“. — И.Т.) и служили Соломону все дни его жизни» (7 Цар. 5:1).
«Он владычествовал над всею землею по эту сторону Реки, от Тифсаха (на Евфрате. — И.Т.) и до Газы (юг филистимского средиземноморского побережья. — И.Т.), над всеми царями по эту сторону Реки, и мир был у него со всеми окрестными странами» (7 Цар. 5:4).
«И пошел Соломон на Хамат-Цова* 8 9 и взял его. И он построил Тадмор (тппп; эллини-стич. Пальмира.— И.Т.) в пустыне (имеется в виду Сирийская пустыня.— И.Т.)\ и все города для запасов, какие возвел в Хамате» (2 Хр. 8:3-4)10.
В 1 Цар. 9:19 и 2 Хр. 8:6 говорится о строительной активности Соломона «в Иерусалиме и в Ливане, и по всей земле его владения». (Ср. также: 1 Цар. 5:20, 28; 2 Хр. 2:8; 8:1-2: «По окончании двадцати лет, в которые Соломон строил Дом Господень и свой дом, Соломон обстроил и города, которые дал Соломону Хирам, и поселил там сынов Израиля».) Согласно 1 Цар. 9:16, египетский фараон,
* Иудеохристианские Оды Соломона, вероятно, были созданы ок. 100 г. н.э.
8 Й. Ахарони, основываясь на вариантном чтении Септуагинты, Бет-Цова (baisoba), предполагает, что здесь может содержаться указание на то, что «Соломон укрепил свои позиции в ливанской Бека‘».
9 В Масоретском тексте в параллельном месте (/ Цар. 9:18) упоминается «Тамар (топ) в пустыне в стране...», который локализуется некоторыми исследователями в Негеве. Однако рецензия Лукиана, Пешитта, Таргум и Вульгата читают: Тадмор; так же и кере ’ в Масоретском тексте: тптп, Тадмор.
10 Историчность сообщения данного пассажа отрицается некоторыми исследователями, усматривающими здесь, как и в ряде других мест, «панизраильскую» тенденцию Хрониста.
вероятно Сиамун (979-960 гг. до н.э.)*, захватил и разрушил Гезер (расположенный на границе Филистии, в какой-то мере находившейся под контролем Египта, и Израильского царства), побив его ханаанейское население; затем он передал город Соломону в качестве приданого за своей дочерью, выданной им — вопреки египетской традиции — за израильского царя (/ Цар. 3:1, 7:8, 11:1; 2 Ар. 8:11). Это обстоятельство, а также тот факт, что фараон не попытался вторгнуться на территорию Соломонова царства, свидетельствуют о первенствующем положении, которое занял в этот период Израиль на Ближнем Востоке. Факт захвата и разрушения Гезера, как кажется, подтверждается археологическими раскопками.
Соломон предпринимает шаги по усилению централизации государства. Он разделил страну на двенадцать административных округов, причем их границы во многом не совпадали с традиционными рубежами уделов колен: по всей вероятности, царь хотел ослабить патриархальную внутриколенную организацию и соответственно центробежные силы. Во главе округов были поставлены наместники (ниццавим), назначаемые царем, двое из которых были зятьями Соломона. Колено Йехуды, как кажется, оставалось под непосредственным управлением самого царя. Наместники поочередно, один месяц в году, должны были доставлять Соломону и его дому продовольствие. Торговля с чужеземными странами была царской монополией, и царь, видимо, мог по собственной воле распоряжаться доходами от торговли. С севера ввозились прежде всего строевой лес, изделия из слоновой кости и железа, медь, с юга и юго-востока — пряности, золото, серебро, слоновая кость, экзотические животные и птицы. Экспортируются главным образом продукты сельского хозяйства (пшеница, оливковое масло и т.п.). Медные копи царя Соломона— если таковые существовали (ср.: 1 Цар. 7:46; 2Хр. 4:17)— пока не обнаружены; одно из основных направлений их поиска — долина Тимны в ‘Араве. Особое значение для экономики царства имело углубление Соломоном союзнических отношений с Тиром, его царем Хирамом! — основоположником финикийской колонизации в различных областях Средиземноморья. Из ‘Эцйон-Гевера в Эйлатском заливе (Красное море) отправлялись совместные израильско-финикийские экспедиции в страну Офир (наиболее вероятная локализация — Эритрея). Визит царицы Савской (Шева’) к Соломону, о котором рассказывается в 1 Цар. 10, выглядит вполне правдоподобным с политической и торгово-экономической точек зрения. В ассирийских текстах VIII— VII вв. до н.э. упоминается царство Шева в Северной Аравии, а также несколько цариц североаравийских царств.
Широкое использование железа в земледелии и кустарных промыслах и неуклонно растущая торговля в X в. до н.э. свидетельствуют о радикальной перемене в экономике Израиля. Библия характеризует время Соломона (по крайней мере первую половину его царствования) как период мира — в отличие от царствования Давида, сопровождавшегося почти постоянными войнами,— и экономического процветания:
* Политически Египет был разделен в это время на два враждующих царства. Север управлялся из Таниса фараонами XXI династии. Южный Египет управлялся фиванской иерократией, сменившей XX династию Рамессидов.
«Йехуда и Израиль, многочисленные как песок у моря, ели, пили и веселились» (7 Цар. 4:20). ~
«И жили Йехуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницею своею, от Дана до Беэр-Шевы, во все дни Соломона» (1 Цар. 5:5).
«...(Серебро) считалось во дни Соломона ни за что» (7 Цар. 10:21; 2 Хр. 9:20; ср. также, например: 1 Цар. 10:27; 2 Хр. 1:15, 9:27).
В обществе образуется значительная прослойка ремесленников, купцов, функционеров, служащих в правительственной администрации и в армии, проживающих в укрепленных царских городах. Появляются в большом количестве предметы роскоши и керамика высшего качества, красноречиво свидетельствующие об изменениях в материальной культуре Израиля. К концу царствования Соломона на территориях, где проживали израильтяне, население, вероятно, удвоилось за столетие (с начала царствования Саула).
По сравнению с кабинетом Давида бюрократический аппарат Соломона расширился и стал более сложным по структуре; появились новые чиновники, например наместники в 12 административных округах и их начальник, начальник над домом царским, начальники-надзиратели над тягловой повинностью ханаа-нейского населения, задействованного на царских работах. В организации государственного аппарата при Соломоне усматривают египетское влияние. Говорят также о египетском влиянии— при фараоне Шешонке (библейском Шишаке; 946/945-913? гг. до н.э.), основателе XXII (Ливийской) династии,— на израильскую систему деления страны на 12 административных округов. А.Р. Грин, наоборот, видит израильское влияние на двор Шешонка и предполагает, что последний мог узнать об административной системе Соломона от бежавшего к нему от израильского царя мятежника Йаров‘ама (см. ниже). Страны, подконтрольные Израилю, по всей вероятности, управлялись местными династиями и имели различный статус.
Храм ГОСПОДА в Иерусалиме.
Строительная активность Соломона.
Укрепление армии.
Некоторые аспекты религиозной политики
Величайшим событием в истории Израиля явилось строительство Соломоном Храма в Иерусалиме на Храмовой Горе (совр. название), которая, судя по всему, стала обозначаться как Цийон (Сион). (Традиция, идентифицирующая Сион с горой, расположенной к западу от холма ‘Офел, появляется не ранее римского периода.) Строительство длилось семь лет (7 Цар. 6:37-38), приблизительно с 966 по 959 г. до н.э. Описание Храма и его убранства дано в 1 Цар. 6-8 и 2Хр. 3-7. (Ср. Иез. 40-44.) Перед входом в Храм были установлены две орнаментированные медные колонны, Йахин и Бо‘аз (названия подразумевают твердость и силу), символизирующие врата (вход) на небеса,— идея, засвидетельствованная в древней ближневосточной храмовой космологии. Храм имел портик (или вестибюль) — 'улам. Далее следовал большой храмовой зал — гехал. В конце храмового помещения располагался Девир — Святая Святых Храма. В Девир был пе
ренесен Ковчег Завета ГОСПОДА (7 Цар. 8:6-9, 21; 2Хр. 5:5-10, 6:11, 41). Все компоненты Иерусалимского Храма располагались на одной оси. Вдоль внешних стен Храма шла пристройка в три этажа с комнатами, которая непосредственно не соприкасалась со стенами Храма. По мнению Э.-М. Лаперрузы, часть возведенной Соломоном подпорной стены Храмовой Горы сохранилась на ее восточной стороне до сих пор.
В строительстве Иерусалимского Храма активное участие принимали финикийские мастера и широко использовались финикийские материалы. Храмы, возведенные по сопоставимым планам, были обнаружены в Телль-Та‘йинате (наиболее близкая параллель), Сам’але (Зинджирли) и Хамате в Сирии (тип храмов с удлиненным помещением), но построены они были уже позже, в IX—VIII вв. до н.э. Единственный обнаруженный археологами финикийский храм, относящийся к периоду второй фазы железного века (VIII—VII вв. до н.э.) и находившийся в Сарафанде (древняя Царефта), несопоставим с Храмом в Иерусалиме.
Некоторые исследователи полагают, что Храм являлся как бы «царской часовней», в которой в дни торжественных праздников служил сам царь. При этом указывается на то, что Соломон отправлял Богослужение в Иерусалимском Храме в день его освящения (7 Цар. 8:22-64; 2 Хр. 6:12-42).
Рядом с Храмом, к югу от него, в течение последующих тринадцати лет (ок. 959 — 946 г. до н.э.) был построен царский дворец (7 Цар. 7:1, 9:10; 2Хр. 8:1), к которому примыкали дома царедворцев и иерусалимской знати. Иерусалим был обнесен массивной стеной с несколькими монументальными воротами. Столица Израиля в определенном смысле уподобилась месопотамским «храмовым городам», в которых большинство населения группировалось вокруг храма и дворца.
Согласно 1 Цар. 9:15, Соломон перестроил и укрепил Хацор, Мегиддо и Ге-зер. При раскопках обнаружены казематные стены (двойные стены с небольшими помещениями между ними) вокруг этих городов, а также характерные городские ворота с тремя маленькими помещениями с каждой из сторон прохода, датируемые X в. до н.э. С учетом того, что ворота Хацора, Мегиддо и Гезера почти совпадают по своим размерам (длина, ширина, толщина стен), И. Йадин выдвинул предположение, поддержанное почти всеми исследователями, что все эти три города были перестроены и фортифицированы царем Соломоном. Аналогичные крепостные ворота, относящиеся к X в. до н.э., обнаружены также в Телль-эд-Дувейре (Лахиш)11 и филистимском Ашдоде11 12. Последнее обстоятельство обращает на себя особое внимание. Судя по вышеприведенным текстам 7 Цар. 5:1 и особенно 5:4, можно предположить, что царь Соломон контролировал территорию Филистии (во всяком случае, на каком-то этапе своего правления) или же по крайней мере управлял частью филистимской территории, примыкавшей к пограничному Гезеру; другая часть Филистии, вероятно, оставалась подвластной Египту. Можно предположить, что город Ашдод (к северо-востоку от филистимских Газы и Ашкелона) находился под управлением Соломона и был фортифицирован им наряду с Гезером, Лахишем и рядом других укреп
11 Согласно 2 Хр. 11:9, Лахиш укрепил сын Соломона Рехав‘ам.
12 По мнению У.Г. Девера, ашдодские ворота можно отнести к XI в. до н.э.
ленных пунктов, расположенных неподалеку от границы с Филистией и в Не-геве, что стало особенно актуально в связи с воцарением в Египте в 946/945 гг. до н.э. агрессивного Шешонка, настроенного враждебно по отношению к усилившемуся в годы упадка Египта Израилю. (Некоторые из этих пунктов были разрушены в ходе военной экспедиции Шешонка в Иудею и Израиль ок. 925 г. до н.э.; см. ниже.) Согласно 2 Хр. 11:8, сын Соломона Рехав‘ам (931—913 гг. до н.э.) укрепил филистимский город Гат, расположенный близ северо-восточной границы Филистии. Отметим также, что казематные стены, относящиеся, вероятно, к X в. до н.э., обнаружены также в Телль-Касиле, ‘Араде, Бет-Шемеше, Шикмо-не, ‘Эн-Геве, Телль-Бейт-Мирсиме, Рамат-Матреде.
Большое внимание уделяется во времена Соломона модернизации армии. Появляется множество колесниц, являвшихся главной наступательной силой того времени. Колесницы импортируются из Египта, а лошади для них— из Киликии. Колесницы размещались в специально для них предназначенных городах, имевших особые конюшни, колесничные парки и продовольственные склады. Увеличиваются армейские кадры (ср.: 1 Цар. 9:22; 2Хр. 8:9).
В метрополию и особенно в столицу, Иерусалим, стекаются многочисленные представители различных народов империи Соломона, а также нанимаемые им мастера-финикийцы. Согласно 2 Хр. 2:16, Соломон провел специальную перепись герим — пришельцев, проживавших в Стране Израиля. Для религиозных нужд этих лиц, а также для своих жен-неизраильтянок Соломон строит соответствующие высоты-святилища (ср.: 1 Цар. 11:5, 7-8, 33; 2 Цар. 23:13), но за пределами Храмового города Иерусалима (ср.: 1 Цар. 11:7; 2 Цар. 23:13). Такая религиозная политика, вероятно, служила одним из факторов обеспечения стабильности в Израиле и на подвластных ему территориях.
Кризисные явления
во второй половине царствования Соломона
Грандиозная строительная активность, огромные расходы по укреплению армии, разросшийся чиновничий аппарат, содержание двора и очень большого гарема (семьсот жен и триста наложниц; 1 Цар. 11:3), почти полное отсутствие новых военных трофеев — все это привело к тому, что во вторую половину царствования Соломона в стране, по-видимому, наступил экономический кризис.
«По окончании двадцати лет, в которые Соломон построил два дома, — Дом Господень и дом царский, — на что Хирам, царь Тира, доставлял Соломону деревья кедровые и деревья кипарисовые и золото, по его желанию, — царь Соломон дал Хираму двадцать городов в земле галилейской» (7 Цар. 9:10-11).
Предполагают, что Соломон, не имея более возможности оплачивать ввоз дорогостоящих материалов продуктами сельского хозяйства, как было условлено по договору (7 Цар. 5:25; ср. 2 Хр. 2:10), был вынужден отдать Тиру часть своей территории в качестве компенсации. Если первоначально трудовая повинность (мае) была возложена царем только на ханаанейское население страны (ср.: 7 Цар. 9:20-21; 2 Хр. 8:7-8), то теперь, в более сложной экономической ситуации, к трудовой повинности (мае, севел) привлекаются уже и израильтяне (7 Цар.
5:27-32, 12:4; 2Хр. 10:4). При этом колено Йехуды оказывается, видимо, в привилегированном положении. Это обстоятельство, а также введенная жесткая воинская повинность (У Цар. 9:22; 2 Хр. 8:9) в конечном счете явятся одними из основных причин раскола государства по смерти Соломона.
Ширится недовольство царствованием Соломона как среди населения вассальных государств, так и среди представителей северных колен. Движения повстанцев поддерживает Египет. Согласно 1 Цар. 11:14-22, одним из «противников» был Хадад, «из царского рода в Эдоме», скрывавшийся с группой своих эдомит-ских сторонников в Египте и пришедший оттуда для борьбы с Соломоном. (Исследователи отмечают, что имя Хадад звучит скорее как арамейское.) Еще одним «противником» Соломона был Резон, сын Элйады, который во главе своего военного отряда захватил Дамаск и сделался царем Арама (У Цар. 11:23-25). Против Соломона восстал и Йаров‘ам, сын Невата, эфраимит из Цереды (У Цар. 11:26-40; 2 Хр. 10:2-3). По версии Септуагинты, он укрепил свой родной город и во главе отряда в 300 колесниц открыто выступил против царя. Будучи разбит, он бежал в Египет к фараону Шешонку и пребывал в Египте вплоть до смерти Соломона.
Соломон почил с миром около 931 г. до н.э., процарствовав сорок лет (У Цар. 11:42; 2 Ар. 9:30).
III. Эпоха двух царств:
Иудея (Йехуда) и Израиль
Хронологическая таблица царей Иудеи и Израиля13
Иудейское (Южное) царство 931-586 гг. до н.э. Израильское (Северное) царство 931-723/722 гг. до н.э.
Рехав‘ам 931-913 Йаров‘ам I 931-910
Авийам (Авийа) 913-911 Надав 910-909
Аса 911-869 Ба‘ша 909-886
Йехошафат 872-848 Эла 886-885
Йехорам 854-841 Зимри 885
Ахазйаху 841 Омри 885-874
Аталйа 841-835 Ахав 874-853
Йехоаш 835-796 Ахазйаху 853-852
Амацйаху 796-790 Йехорам 852-841
Уззийаху (Азарйа) 790-739 Йеху 841-814
Йотам 750-731 Йехоахаз 814-798
Ахаз 735-715 Йехоаш 798-782
Хизкийаху (Йехизкийаху) 729-686 Йаров‘ам II 793-753
Менашше 696-641 Зехарйаху 753-752
Амон 641-639 Шаллум 752
Йошийаху 639-608 Менахем 752-742
Йехоахаз 608 Пекахйа 742-740
Йехойаким (Элйаким) 608-598 Пеках 740-732
Йехойахин 598-597 Хошеа 732-723/722
Цидкийаху (Матанйа) 597-586
13 Хронология правления царей Иудеи и Израиля основывается главным образом на следующей работе: Thiele E.R. The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings. Rev. ed. Grand Rapids, 1983.
Раскол единого Израильского царства
По смерти Соломона Йаров‘ам был призван северянами, представители которых собрались в древнем израильском культовом центре Шехеме. Сюда же пребывает для воцарения и сын Соломона Рехав‘ам со своим советом, будучи, вероятно, хорошо осведомлен о мятежных настроениях северных колен. Об этом свидетельствует уже тот факт, что царь согласился короноваться не в Иерусалиме, а на севере, в Шехеме. Израильтяне потребовали от Рехав‘ама облегчить повинности, которыми обременил их его отец, Соломон. Согласно повествованию 1 Цар. 12 (ср. также 2 Хр. 10), вероятно подвергшемуся литературной обработке, чтобы придать ему народный стиль, склонный к деспотизму Рехав‘ам не послушал своих умудренных опытом старых советников, рекомендовавших царю уступить на данном этапе народным требованиям, но внял совету молодых (имплицитное указание на «двухпалатный» совет, как полагают некоторые исследователи?), призывавших царя в грубой форме отклонить их и показать, что он сильнее своего отца. (Метафорически это выражалось в скабрезной формуле: «мой мизинец толще чресл отца моего» — и это при том, что гарем Рехав‘ама был на порядок меньше гарема его отца [2 Хр. 11:21 ]!) С кличем:
«„Нет нам части в Давиде, и нет доли нам в сыне Ишая; все по шатрам своим, израильтяне! Теперь знай дом свой, Давид!“ — разошелся Израиль по шатрам своим» (/ Цар. 12:16; 2 Хр. 10:16; ср. 2 Сам. 20:1).
Закончилась эпоха единой Страны Израиля, длившаяся около ста лет: на месте Израильского царства появляются два самостоятельных государства, Иудея (Йехуда) и Израиль. Северное царство, Израиль, упоминается также в источниках под названием Эфраим (по наименованию важнейшего колена), Йосеф (Иосиф; отец Эфраима и Менашше) и Самария (по названию столицы; см. ниже). Территории Иудеи и Израиля в своей совокупности не достигали границ единого Израиля— они оказались не в состоянии сохранить власть над чужеземными странами, входившими в состав царства Давида и Соломона. По количеству населения, территориально (в том числе по площади наиболее плодородных областей) и экономически Израиль превосходил Иудею. Рабочая сила и излишки, которые раньше направлялись на нужды Иерусалима, теперь оставались в самом Северном царстве.
Иудею, включавшую уделы Йехуды и Бинйамина, отличала политическая стабильность и преемственность власти. Это обеспечивалось прежде всего тем, что вплоть до падения Иудейского царства в 586 г. до н.э. под ударами вавилонян здесь правили цари только из Дома Давида (за единственным исключением: правление царицы Аталйи, дочери израильского царя Ахава, в 841-835 гг. до н.э.). Царствующий дом был тесно связан с Иерусалимским Храмом, вокруг которого концентрировались священники и левиты. В Израиле же, разгромленном в 723/722 гг. до н.э. ассирийцами, девятнадцать правивших там царей принадлежали к 10 различным родам или династиям. В Северном царстве было высоко влияние военных кругов: большинство переворотов происходило в военных ла
герях. Перевороты сопровождались жестокими кровопролитиями, имели место постоянные административна^ ^фестановки< Разноплеменной состав Израильского царства (десять колен), подчас противоречивые интересы его райойов, ярче выраженное, чем в Иудее, социальное расслоение общества также способствовали усилению неустойчивости внутренней жизни страны. Лозунги партикуляризма, под которыми проходило восстание против Иудеи, вероятно, отражали и интенсификацию патриархально-родовых тенденций.
И наконец, самое главное. Иудея в целом была более предана монотеизму YHWH-ГОСПОДА, ее население в меньшей степени впадало в языческие культы. Несмотря на то что единый централизованный культ YHWH-ГОСПОДА здесь окончательно утверждается только около 621 г. до н.э. (в результате религиозной реформы иудейского царя Йошийаху), Иерусалим со времени постройки Храма YHWH-ГОСПОДА становится главным общепризнанным Святилищем иудеев, консолидирующим народ центром.
Иудея и Израиль в последней трети X— первой половине IX в. до н.э. (931-841 гг. до н.э.)
История Иудеи и Израиля, начиная с раскола единого царства и кончая разрушением вавилонянами Первого Храма в Иерусалиме в 586 г. до н.э., излагается в 1 Цар. 12-2 Цар. и 2 Хр. 10-36. Материалы Книг Царей получили свое окончательное оформление, вероятно, в середине VI в. до н.э., т.е. в последние десятилетия Вавилонского плена. Повествование в них построено по принципу синхронизма, принятому в вавилонской историографии VII—VI вв. до н.э.: рассказ об иудейском царе сопровождается повествованием о современном ему израильском царе или царях. Составители 1-2 Царей часто упоминают не дошедшие до нас книги «Хроник царей Иудеи» и «Хроник царей Израиля». (Во 2 Хроник упоминаются «Книга царей Израиля и Иудеи» [27:7; ср. 2 Цар. 15:36] и «Толкование (Mudpaui) на Книгу Царей» [24:27; ср. 2 Цар. 12:20].) Помимо архивных документов двух царских домов компиляторы Книг Царей имели в своем распоряжении выдержки из записей Иерусалимского Храма, записи речений пророков, сказания о пророках, прежде всего циклы преданий о пророках Илие (Элийаху) и Елисее (Элише). Первая и Вторая книги Хроник были составлены уже в после-пленную эпоху в Иудее (вероятно, до 400-350 гг. до н.э.). Важные сведения о религиозном, моральном, социально-экономическом и политическом положении в обоих царствах содержатся в книгах Последних Пророков (Ис.-Мал.).
* Во 2 Хроник упоминаются, например, «Записи Шемайи-пророка и записи Иддо-прозорливца при родословиях» (12:15; о деятельности сына Соломона, иудейского царя Рехав‘ама; 931—913), «Толкование (Мидраш) пророка Иддо» (13:22; о деятельности иудейского царя Авийи; 913-911), «Речения Йеху, сына Ханани» (20:34; о деятельности иудейского царя Йехошафата; 872-848), пророческий документ, названный «Видением Исайи, сына Амоца» (32:32 [ср. 26:22]; о деятельности иудейского царя Хизкийаху; 729(715]-686), «Записи Хозайи» (33:19; где описаны греховные деяния иудейского царя Менашше (696[686]-641), а также его раскаяние).
Увеличивается число внебиблейских эпиграфических источников: еврейских, арамейских, египетских, ассирийских, вавилонских и др.
Рехав'ам Иудейский и Йаров ‘ам Израильский
После восстания в Шехеме Рехав‘ам спешно вернулся в Иерусалим, а Йаров‘ам был провозглашен северными коленами царем. В первый момент Рехав‘ам, вероятно, прислушался к совету пророка Шемайи и не начал военных действий против Израиля (7 Цар. 12:24); в дальнейшем же практически все его царствование проходит в постоянных войнах с северянами (7 Цар. 14:30, 2 Хр. 12:15). При нем в Иудее процветает идолопоклонство и культовая мужская проституция (в Ханаане ее участников называли «псами»). Возможно, все это происходило под влиянием матери царя, аммонитянки из гарема Соломона.
Йаров‘ам сделал столицей Северного царства сначала Шехем (7 Цар. 12:25), но позднее перенес свою столицу в Тирцу (7 Цар. 14:17), вероятно совр. Телль эль-Фар‘а (сев.). (В Песни песней 6:4 с Тирцой сравнивается краса возлюбленной.) Царь принимается за восстановление древних культовых центров с их традиционной обрядностью и символикой. Дабы предотвратить посещение северянами Храма YHWH-ГОСПОДА в Иерусалиме, Йаров‘ам учреждает на юге Израильского царства, в Бет-Эле, и на севере, в Дане, святилища и устанавливает здесь золотых тельцов (7 Цар. 12:27-31, 7 Хр. 11:15), которые, вероятно, должны были служить, по представлению израильтян, пьедесталами для незримого Присутствия ГОСПОДА. В Иерусалимском Храме роль таких пьедесталов, как полагают некоторые исследователи, выполняли два херувима в Девире, Святая Святых Святилища, под крыльями которых помещался Ковчег Завета ГОСПОДА. При этом указывается на то, что в Библии по отношению к Богу употребляется эпитет «Восседающий на херувимах».
Устанавливая тельцов, Йаров‘ам, по всей вероятности, основывался на некоей традиции, восходящей к эпохе пребывания евреев в Египте и периоду Исхода:
«Вот бог твой (здесь, вероятно, имеется в виду сам телец. — И.Т.\ Израиль, который вывел тебя из земли египетской» (/ Цар. 12:28; ср. Исх. 32:8; тж. Ам. 8:14.).
Определенное представление об образе тельца дает обнаруженная на севере Самарии, в культовом месте, израильская бронзовая фигурка быка, датируемая эпохой судей. Заметим также, что среди надписей на обнаруженных на территории Самарии в 1908-1910 гг. острака. датируемых большинством исследователей первой половиной IX в. до н.э.14, встречается имя ‘glyh (остракон №41), означающее «телец ГОСПОДА». Впоследствии слово «тельцы» превращается в бранное прозвище культа северных колен.
К служению в новых святилищах не привлекаются священники-аарониды и левиты; создается новое сословие священников «из народа» (7 Цар. 12:31; 2 Хр. 11:15, 13:9). Левитское же священство концентрируется в Иудее (2Хр. 11:13-14,13:9).
Йаров'ам перенес праздник Кущей (Суккот) на месяц позже, чем это было принято в Иудее (возможно, в соответствии с древней традицией северных ко
14 Есть и более поздние датировки, вплоть до времени израильского царя Менахема (752-742).
лен). Предполагают, что израильский царь ввел также гражданский календарь, согласно которому год начинался весной, в противоположность иудейскому календарю, в соответствии с которым гражданский год начинался осенью.
В пятый год правления Рехав‘ама, т.е. около 926 г. до н.э., против Иудеи {1 Цар. 14:25-28; 2 Хр. 12:2-4) и Израиля совершил поход египетский фараон Шешонк (Шишак). В надписи на победном рельефе Шешонка на одной из стен Карнакского храма перечислено около 150 городов и селений, разрушенных фараоном в обоих царствах. Фрагмент победной стелы Шешонка был обнаружен и в Мегиддо, одном из важнейших городов Северного царства. Рехав‘ам откупился от Шешонка, отдав ему сокровища Храма и царского дворца; Иерусалим не был атакован фараоном. Возможно, последний вынашивал планы присоединения территории Ханаана к Египетскому государству, как это было в прошлом. Однако влияние данного похода оказалось мимолетным; преемники же Шешонка не продолжали агрессивной политики против Иудеи и Израиля.
Войны между Иудеей и Израилем
Военные действия Иудеи против Израиля продолжались с переменным успехом при сыне Рехав‘ама Авийаме (913-911) и его внуке Асе (911-869). Авийаму, «ходившему во всех грехах отца своего», в военном отношении удалось превозмочь Йаров‘ама и захватить много израильских городов, включая Бет-Эль. Эти поражения приблизили падение династии Йаров‘ама: его сын, царь Надав (910-909), и все его ближайшие родственники были уничтожены военачальником Ба‘шой (909-886) из колена Иссахара, основавшего вторую династию царей Северного царства. Ба‘ше удалось вытеснить иудейские войска с занятой ими израильской территории и даже захватить часть Северной Иудеи. Иудейский царь Аса, известный своей борьбой с мужской культовой проституцией и идолопоклонством, вынужден был обратиться за помощью к арамейскому царю Бен-Хададу I, послав в Дамаск ценные дары из храмовых и дворцовых сокровищниц (за что был сурово осужден прозорливцем Ханани; 2 Хр. 16:7-9). Бен-Хадад принял дары и опустошил ряд израильских городов, включая Дан. В конце жизни Аса из-за плохого здоровья назначил своим соправителем своего сына Йехошафата (872-848).
Сын израильского царя Ба‘ши Эла (886-885) был убит в столице Тирце одним из генералов своего отца, Зимри. Последний, процарствовав всего семь дней в 885 г. до н.э., успел уничтожить весь род Ба‘ши и всех его друзей. Когда армия, участвовавшая в кампании против филистимлян, узнала об убийстве Элы, она провозгласила царем другого генерала, Омри — основателя новой израильской династии. Последний захватил Тирцу, а Зимри поджег царский дворец, в котором пребывал, и погиб в огне.
Израильская династия Омридов.
Культ финикийского Ба'ала в Израиле.
Пророки YHWH-ГОСПОДА Илия и Елисей
Царь Омри (885-874) построил новую столицу Израиля — Самарию (Шомерон), расположенную вблизи важных торговых путей, ведущих на север, и превра-
[ценную в неприступную крепость на холме высотой приблизительно 120 м. То, что царь не избрал один из древних культовых центров, расположенных на территории какого-то колена, а построил именно новый столичный город (что подтверждают археологические раскопки), было крайне важно в многоплеменном Израиле. Интересно, что, хотя династия Омри правила только 44 года (с 885 по 841 г. до н.э.), ассирийские источники продолжают именовать Израиль «страной дома Омри» в течение приблизительно 100 лет. Омри установил дружественные отношения с Тиром и скрепил союз женитьбой своего сына Ахава на Изевели, дочери тирского царя Этба‘ала, правление которого ознаменовалось расцветом этого финикийского города. В конечном счете и союз и брак привели к беспрецедентному распространению в Израиле ханаанейских культов, прежде всего культа тиро-сидонского Ба‘ала, по преимуществу бога грозы и бури (ср., например, 1 Цар. 16:25). Омри разрешил сирийским купцам вести торговую деятельность на самарийских базарах (ср. 1 Цар. 20:34). Согласно Стеле моавитского царя Меши, Омри подчинил себе Моав. Согласно же 2 Цар. 3:4, во времена сына Омри Ахава Меша посылал в Израиль в качестве дани «по сто тысяч овец и по сто тысяч неостриженных баранов», вероятно ежегодно.
При Ахаве (874-853) и его жене, тирянке Изевели, культ тиро-сидонского Ба‘ала достигает в Израиле апогея. По инициативе Изевели жрецы и пророки Ба‘ала получают государственную поддержку (ср., например: 1 Цар. 16:32, 18:19, также 19:18), а пророки и почитатели YHWH-ГОСПОДА подвергаются смертельной опасности (ср., например: 1 Цар. 18:4; 2 Цар. 9:7). Это были чуть ли не первые известные нам в истории гонения по религиозному признаку на государственном уровне. О широком распространении в израильском обществе баализма говорит, как полагают многие исследователи, и ряд теофорных имен, засвидетельствованных на острака из Самарии и включающих компонент ба‘ал. Отметим, с другой стороны, что имена детей Ахава (казалось бы, ревностного сторонника баализма— ср., например, 1 Цар. 16:32) содержат сокращенные формы написания Имени YHWH-ГОСПОДА: Ахазйаху, Яехорам и Аталйа.
В этой связи хотелось бы обратить внимание на следующие аспекты. Поселяющиеся на территории Ханаана израильтяне с самого начала, т.е. приблизительно с 1200 г. до н.э., дают целому ряду культовых центров наименования, включающие имя Ба‘ал (евр. букв, «господин», «владыка», «хозяин»): Ба‘ал-Перацим (2 Сам. 5:20; 1 Хр. 14:11), Ба‘ал-Хацор (2 Сам. 13:23), Ба‘ал-Тамар (Суд. 20:33), Ба‘ал-Шалиша (2 Цар. 4:42), Ба‘ал-Гад (И. Нав. 11:17, 12:7, 13:5), Ба‘ал<е>-Йехуда (согласно эмендации в 2 Сам. 6:2 [ср. 1 Хр. 13:6]; в И. Нав. 18:14: Киръят-Баал); большинство этих мест были расположены в горной части страны, до прихода израильтян практически ненаселенной. Поскольку элемент ба 'ал не засвидетельствован в доизраилъских наименованиях ханаанских местностей, влияние местного населения в данном случае может быть исключено. Сиро-палестинские топонимы, содержащие элемент ба'ал, зафиксированы только в новоассирийских текстах I тысячелетия до н.э. (Что касается топонимов, включающих элемент ’Эл, букв. Бог/бог, то большинство из них доизраильские.) С другой стороны, отметим, что в тот же период, в эпоху первой фазы железного века (ок. 1200 — ок. 1000 г. до н.э.), в Палестине полностью отсутствуют топо-
ними, содержащие Имя YHWH. Нельзя исключить возможности того, что на раннем этапе своей истории израильтяне рассматривали термин 1>а‘аи-Господин (5ю) как один из эпитетов YHWH, наряду с синонимичным обозначением ртх, ’Лдон-«Господин»; термин 'Адон ртх(П)/соотв. чтх, 'Адонай-Vосподь часто употребляется в Библии в качестве обозначения Бога. (’ПК— букв, «мои Господа» — это pluralis majestatis, «множественное величия»; pluralis Divinitatis, «множественное Божественности».) Под тем же углом зрения можно, вероятно, рассматривать и теофорные компоненты имен собственных домонархической эпохи и времен израильских царей Саула и Давида (таких, как (Й)ешба‘ал, Мефиба‘ол, Ме-рибя‘ал, Ахиба‘ал), а также антропонимы, встречающиеся на острака из Самарии, в которых компоненты -йау (yw сокр. от YHWH) и -ба 'ал находятся в соотношении 7:11. (В Иудее обычной сокращенной формой от YHWH было -йаху, yhw.) Показательны, в частности, взаимозамены теофорных компонентов в именах, например: Ахиба‘ал-Ахийа(х)у, (Й)ешба‘ол-(Й)ешйа(х)у, Бе‘ел/Ба‘алнад&-’Элйада (’Эл означает Бог). Среди обнаруженных в 1975-1976 гг. в Кунтиллет-‘Аджруде (букв. «Одинокий холм при колодце») — израильском (?) аванпосту и караван-сарае (по другой интерпретации, религиозном центре), расположенном приблизительно в 50 км к югу от Кадеш-Барнеа, — надписей (датируются приблизительно сер. IX — сер. VIII в. до н.э.) наряду с текстами, в которых присутствуют Имена YHWH и 7 (Эл), обнаружен следующий фрагмент, написанный на косяке двери: «...да будет благословен Ба‘ал в день...». В этой связи вспоминается текст из Второзакония 6:9, предписывающий начертать на косяках дома и на воротах слова о единственности YHWH-ГОСПОДА и любви к Нему. На одной из надписей из Кунтиллет-‘Аджруда Бог (’/) и Ба'ал упоминаются в поэтическом параллелизме, в связи с возможной ссылкой на «день войны» (y(w)m mlh[mh\):
.. .}lbrk.b *1.by(w)m mlh[mh] ...]lsm(.yLby(w)m mlh[mh]
Среди надписей из Кунтиллет-‘Аджруда зафиксированы фразы IYHWH. йпгп. wl’&th и IYHWH. t(y)mn (тж. hty[mri\?). wV&th. В связи с последним термином, присутствующим в каждой из фраз, отметим, что в ханаанейской мифологии Ашера— жена бога Эла. Но термин mwx, 'ашера, также может употребляться в значениях «священная роща», «священное дерево» (например, Втор. 16:21; Суд. 6:25-30) и, шире, культовый символ. Это слово засвидетельствовано в аккадском (a&rtu), финикийском (’&t) и арамейском ('Jr/, от ftrt) языках в значении «святилище», «священное место». В то время как одни исследователи переводят фразу YHWH w’&th как «YHWH и Его священное место (или культовый символ)», другие интерпретируют ее как «YHWH и Его Ашера» и усматривают здесь синкретизм религии YHWH-ГОСПОДА и ба‘ализма. Уместно упомянуть, как кажется, в данной связи фрагмент надписи апотропического характера на колоннообразной перегородке между двумя помещениями в гробнице II Хирбет эль-Кома (в 11 км к востоку-юго-востоку от Лахиша), датируемой приблизительно 700 г. до н.э. (строки 2-3):
brk. ’ryhw. lyhwh
wmsryh. I'srth. hws‘ Ih
Эта фраза может быть переведена так: «Будь благословен Урийаху перед ГОСПОДОМ. И от врагов его посредством Своей ашеры спаси его». Под «врагами» Урийаху подразумеваются потенциальные грабители/осквернители гробницы (или темные силы потустороннего мира); термин же «ашера» может быть интерпретирован здесь как «священный столб». Возможна также следующая интерпретация фразы: «Благословен Урийаху перед ГОСПОДОМ; и от врагов его посредством Своей ашеры Он спас (спасает, спасет) его».
Что касается обозначения YHWH йпт, то возможен такой перевод: «YHWH Самарии (Шомерона)» либо: «YHWH, Хранитель наш». Обозначение же YHWH t(y)mn, вероятно, может быть интерпретировано как «YHWH Темана» (здесь, возможно, этот термин употребляется для обозначения «дальнего юга», т.е. истолковывается таким образом, что ГОСПОДЬ контролирует и дальний юг). Определенную библейскую параллель к обозначению YHWH Темана можно, как кажется, найти в книге Аввакума 3:3: «Бог от Темана грядет и Святой — от горы Паран» (ср. также, например: Втор. 33:2; Суд. 5:4-5; Пс. 68:8-9). В арамейском тексте из Кумрана, условно называемом «Молитва Набонида» (4Q OrNab), говорится о семилетием пребывании в Теме (зЭ. подразумевается оазис в с.-з. части Центральной Аравии) вавилонского царя Набонида (556-539), который «был поражен злой проказой по велению Бо[га небес]». Грех вавилонского царя отпустил иудей-«ясновидец». Набонид воздал «почести и вели[кое прославление] Имени Бо[га небес]» (ср. Дан., гл. 4).
Начинающееся с первой половины IX в. до н.э. интенсивное распространение в Израильском царстве политеистического идолопоклоннического культа и обрядов тиро-сидонского Баала вызывает резкую активизацию борьбы — инициированной пророком Илией и продолженной правоверными Израиля — за очищение религии YHWH-ГОСПОДА от каких бы то ни было элементов баализма, причем не только в сущностных аспектах (ср., например: 1 Цар. 18:21 и сл.; Осия, гл. 2.), но и в обрядности, символике и даже лексике. Это находит свое отражение, например, в резких выпадах против культа «тельца», в виде которого в древней восточносредиземноморской иконографии и литературе изображался Баал (ср., например: Осия 8:5-6, 10:5-6), и в отказе от употребления термина Ба-ал-Господин по отношению к YHWH-ГОСПОДУ. В пользу того, что, с одной стороны, термин Ба‘ал-Господин f?yn) мог употребляться в рассматриваемый период для обозначения YHWH-ГОСПОДА, по крайней мере на севере, а с другой — шел процесс отказа от его использования в культе YHWH-ГОСПОДА, говорят, как кажется, следующие слова пророка Осии, жившего в Израильском царстве в первой половине VIII в. до н.э.:
«И будет в тот день, говорит Господь (YHWH),
ты (имеется в виду община Израиля. — И.Т.) будешь звать меня: „Муж мой“ (^х) и не будешь более звать Меня: „Ба'алгГ CVya; „Господин мой“. — И.Т.)» (Ос. 2:18; ср. там же, 2:19).
В русле этого движения следует рассматривать и замену компонента -ба'ал в теофорных именах домонархического периода и эпохи ранней монархии на -бошет («стыд», «срам») и -тофел («глупость», «недомыслие»?): Ишбоше/и, Мефибошети, кхшпофел.
Роль пророка Илии в возрождении религии YHWH-ГОСПОДА в Северном царстве в определенной мере сопоставима с ролью Моисея в религиозной истории Израиля периода Исхода. Имя тг^х-Элийаху (Илия) представляет собой программу деятельности пророка: мой Бог — ГОСПОДЬ. Сам Илия, по всей вероятности, претендовал на роль пророка, подобного Моисею, появление которого ожидал Израиль (ср. Втор. 18:15-19). Согласно 1 Цар., гл. 19, Илия совершил сорокадневное путешествие из Беэр-Шевы к горе Божией Хореву, на которой стоял пред Лицом ГОСПОДА, и ГОСПОДЬ говорил с ним.
Согласно 1 Цар. 22:39 (ср. также Амос 3:15), Ахав построил в Самарии дворец из слоновой кости. При раскопках царского дворца в Самарии были обнаружены многочисленные искусно сделанные резные плакетки из слоновой кости (в частности, с изображением крылатого сфинкса), что, по всей видимости, свидетельствует о том, что интерьер и мебель дворца были украшены такого рода художественными изделиями. Подобные украшения из слоновой кости были обнаружены и при раскопках древних дворцов в Сирии и Ассирии. Согласно 1 Цар. 10:18 и 2 Хр. 9:17, у царя Соломона был «большой трон из слоновой кости». Ахав устроил и другую, «дополнительную», столицу в Изреэле, смотрящем на одноименную долину.
Ахав дважды разгромил сильную сирийскую армию Бен-Хадада II, захватив богатые трофеи и получив экономические концессии в Дамаске (ср. 1 Цар. 20:21, 34). К концу первой половины IX в. до н.э. резко меняется политическая ситуация в регионе: на Северную и Центральную Сирию обрушиваются ассирийские войска Ашшурнацирапала II (883-859) и его сына Салманасара III (859-824). Оборонительный союз стран Южной Анатолии и Северной Сирии оказался не в состоянии противостоять Ассирии. Армии союза терпят поражения от Салманасара (858-856 гг. до н.э.). Это приводит к созданию коалиции из двенадцати царей, возглавляемой царями Израиля, Дамаска и Хамата. Коалицию поддерживает Египет.
Коалиция двенадцати царей успешно отражала ассирийские попытки вторжения (853, 849, 848 и 845 гг. до н.э.) и не дала Салманасару прорваться в Южную Сирию, Финикию и Израиль и наложить на них дань. В сохранившейся ассирийской исторической надписи на скале (так называемая Монолитическая надпись) в Курхе, в верхнем течении Тигра, перечисляются военные силы, которыми располагала «коалиция двенадцати» в битве с армией Салманасара III в 853 г. до н.э. в окрестностях Каркара на р. Оронт (Северная Сирия). У сирийцев было 1200 колесниц, 1200 всадников и 20 000 пехотинцев; у царя Хамата было 700 колесниц, 700 всадников и 10 000 пехотинцев; у царя Ахава Израильского (А-ха-аб-бу мат Сир-’и-ла-а-а) было 2000 колесниц и 10 000 пехотинцев. По количеству колесниц Израиль превзошел всех своих союзников, вместе взятых (всего в битве участвовало со стороны союзников 3940 колесниц); это служит показателем не только военной, но и экономической мощи Израиля, занявшего в этот период одно из доминирующих мест во всем Восточном Средиземноморье. (Некоторые исследователи подвергают сомнению цифру в 2000 колесниц, предполагая ошибку писца и допуская цифру 200. Однако число колесниц у Ахава в Монолитиче-ской надписи вполне сопоставимо с числом сирийских и хаматских колесниц. А ведь царь Ахав наносил поражения сирийцам. Согласно 1 Цар. 10:26 и 1 Хр. 1:14, у царя Соломона было 1400 колесниц.)
77. Черный обелиск. Израильский царь Йеху изображен коленопреклоненным перед ассирийским царем Салманасаром III
78. Настенный рельеф из дворца Синаххериба в Ниневии. Семейство из иудейского города Лахиша, захваченного ассирийцами, уходит в изгнание
Загадкой остается тот факт, что в надписи на основании трона Салманасара, где в связи с битвой при Каркаре упоминаются сирийский царь Бен-Хадад, царь Хамата Ирхулина и двенадцать царей морского побережья, отсутствует упоминание Ахава.
В результате битвы при Каркаре продвижение Салманасара было остановлено, Ахав же решил совместно со своим союзником, иудейским царем Йехошафа-том, отвоевать у сирийцев пограничный опорный пункт Рамот-Гил‘ад в Северном Заиорданье. Кампания потерпела неудачу, а царь Ахав погиб в ходе сражения с Бен-Хададом II.
Сын Ахава и Изевели Ахазйаху (853-852) поддерживал ба‘ализм в Израильском царстве. Однако его брат Йехорам (852-841), последний представитель династии Омри, судя по 2 Цар. 3:2-3 (ср. также Ос. 1:4, 2:22), начал борьбу с культом финикийского Ба‘ала и сделал попытку вернуться на государственном уровне к культу, установленному Йаров‘амом. Попытка Йехорама возвратить при поддержке иудейского царя Йехошафата Моав, отложившийся от Израиля по смерти Ахава (и восставший, судя по надписи на Моавитском камне, еще при жизни последнего), окончилась неудачей (ок. 850 г. до н.э.). В 841 г. до н.э. израильский царь попытался воспользоваться моментом смены династий в Арам-Дамаске — Бен-Хадад был убит, а его убийца, Хазаэл, провозгласил себя царем — для того, чтобы захватить при поддержке своего племянника, иудейского царя Ахазйаху (сына Аталйи; см. ниже), Рамот-Гил‘ад. Йехорам был ранен сирийцами и возвратился в Изреэль, где дядю навещал Ахазйаху. Войска же продолжали находиться у Рамот-Гил‘ада. Пророк YHWH-ГОСПОДА Елисей — помазанный Илией в пророка вместо себя (7 Цар. 19:16)— повелевает одному из своих учеников и последователей, «сыну пророческому», отправиться в военный лагерь у Рамот-Гил‘ада и помазать там на Израильское царство военачальника Йеху. Целью восстания должно было стать полное искоренение баализма и чужеземного влияния в Израиле. Военный совет и войска признают Йеху в качестве царя. Он и его сторонники убивают Йехорама, Изевел и всю царскую семью, а также иудейского царя Ахазйаху, бывшего в тот момент с больным дядей, и многих близких родственников Ахазйаху (2 Цар. 9:24-28; 2Хр. 22:5-9; ср. Ос. 1:4-5; 1 Цар. 19:17; 2 Цар. 9:6-10). Были умерщвлены все служители и почитатели Баала, разрушено его капище в Самарии, уничтожены его статуи. «И истребил Йеху Ба‘ала с земли Израиля» (4 Цар. 10:28). Но вернулся царь Йеху к религиозной системе, учрежденной Йа-ров‘амом.
События, связанные с умерщвлением Йехорама и Ахазйаху, вероятно, подразумеваются в уже упоминавшейся выше арамейской стеле из Тель Дана (фрагменты А и В 1-2), написанной от лица сирийского царя, гипотетически — Хазаэла:
1. [... ...] и разрезал [... ]
2. [...] мой отец поднялся [против него, когда] он сражался у [...]
3. И почил мой отец, он отошел к [праотцам]. И вторгался царь И[з-]
4. раиля прежде в землю моего отца. [Но] сделал меня царем Хадад .
5. И пошел Хадад предо мной, [и] я ушел от семи... [ ]
’ Хадад — ипостась Баала как бога грозы и бури.
6... . моего царства, и я убил [семьдесят ца[рей], которые запрягали ты[сячи ко-]
7. десниц и (имели) тысячи всадников (или: коней). [Я убил Йехо]рама, сына [Ахава,]
8. царя Израиля, и [я] убил (Ахаз]йаху, сына [Йехорама, ца-]
9. ря (из) Дома Давида. И я превратил [города их в руины и сделал]
10. землю их [пустыней... ]
11. другие [... и Йеху пра-]
12. вил над Из[раилем... и я сделал]
13. осаду [... ]
В тексте данной стелы виновником гибели израильского и иудейского царей выступает сирийский царь. Можно предположить, что Хазаэл рассматривал убийство Йехорама и Ахазйаху как прямое следствие своих успешных военных действий против Израиля и Иудеи, подтолкнувших Йеху к восстанию (тем более что израильский царь был ранен сирийцами и покинул армию, что явилось залогом успеха повстанцев). Или же, вместе с А. Бираном и Й. Наве, можно задаться вопросом, не считал ли Хазаэл Йеху своим агентом. В связи с последним предположением заметим, что, судя по 2 Цар. 8:7-15, пророк Елисей, придя в Дамаск, в определенной мере инспирировал государственный переворот Хазаэла против Бен-Хадада И и одновременно предрек нашествие Хазаэла на сынов Израиля (2 Цар. 8:12): «крепости их предашь огню, и юношей их мечом умертвишь, и грудных детей их побьешь, и беременных (женщин) у них разрубишь».
Иудейский царь Йехошафат и его реформы
Иудейский царь Йехошафат (872-848) продолжил религиозные реформы своего отца, Асы. Он вел активную борьбу с идолопоклонством и мужской культовой проституцией. В третий год своего царствования он посылает своих начальников и левитов учить народ Книге Учения ГОСПОДНЯ (птг ггпп поо) (2 Хр. 17:9).
Йехошафат провел также судебную реформу. Спорные дела и вопросы местных городских судов передавались в верховный суд в Иерусалиме, в котором заседали как священники и левиты, так и главы родов. В делах религиозных судопроизводством руководил первосвященник, а в делах «царских» (государственных) — князь дома Йехуды. Общий надзор над судопроизводством осуществляли левиты (2 Хр. 19:5-11).
Сопоставляя религиозно-политические реформы Йехошафата (Иосафата) с некоторыми из предписаний книги Второзакония, И.Ш. Шифман указывает на следующие обстоятельства. «Описание судебной реформы иудейского царя Иосафата (И Хрон. 19:4-11) отвечает предписаниям Второзакония (16:18-20 и 17:8— 12), причем речи, которые Хронист вкладывает в уста Иосафата, близки по содержанию к этим текстам Второзакония. В такой ситуации Второзаконие можно было бы датировать царствованием Иосафата, т.е. IX в. до н.э. Заслуживает внимания в этой связи и близость предписаний Второзакония (20:1—4) о порядке ведения войны и рассказа II Хроники (20:14—17) о событиях, происходивших во время нападения на Иосафата аммонитско-моавитской коалиции. В связи с высказанным выше предположением становится понятным и свидетельство II Хроники (17:7-9) о том, что на третий год своего царствования Иосафат велел про
поведовать в Иудее „Книгу Учения ГОСПОДА", что находится в прямой связи с судебной реформой этого царя и предписанием Второзакония (17:18-20) царю воспринять „изложение Учения" (ггплп пдоо), т.е. Второзаконие, в качестве закона. В целом кажется правдоподобным, что „Книга Учения ГОСПОДА", проповедовавшаяся по приказанию Иосафата, была именно Второзаконием, и тогда его возникновение следует датировать 870 г. до н.э.». (Отностельно возможности более поздней датировки Второзакония см. ниже.)
Йехошафат положил конец продолжительной вражде между Иудеей и Израилем, заключив союз с Ахавом. Он даже женил своего сына и наследника Йехорама на Аталйи, дочери Ахава и Изевели (согласно же 2 Цар. 8:26, Аталйа была дочерью Омри, т.е. сестрой Ахава). Йехошафат контролировал Эдом {1 Цар. 22:47), часть территории Эфраима (2Хр. 17:2, ср. там же, 19:4); филистимляне и аравитяне присылали ему дары (2Хр. 17:11). Морская экспедиция в страну Офир, которую пытался организовать из ‘Эцйон-Гевера Йехошафат, окончилась неудачей (7 Цар. 22:48; 2 Хр. 20:6-37). Деяния этого иудейского царя фиксировал, в частности, прозорливец Йеху, сын Ханани, записи которого были внесены в Книгу Царей Израиля (2 Хр. 20:34).
В царствование сына Йехошафата Йехорама (854-841) в Иудее начинает распространяться культ финикийского Баала, прежде всего усилиями его жены Аталйи (2 Цар. 8:18). При этом царе от Иудеи отложился Эдом (2 Цар. 8:20-22; 2 Хр. 21:8-10). Сын Йехорама и Аталйи Ахазйаху (841 г. до н.э.) продолжал поддержку баализма. Он был смертельно ранен во время восстания полководца Йеху против израильского царя Йехорама, дяди Ахазйаху (см. выше), и умер от ран в Мегидцо (2 Цар. 9:27; ср., однако, 2 Хр. 22:9).
История Иудеи со второй половины IX в. до н.э. до воцарения Хизкийаху (715 г. до н.э.).
История Израиля со второй половины IX в. до н.э.
до падения Самарии (723/722 гг. до н.э.)
Иудея с 841 по 790 г. до н.э.
Узнав о гибели Ахазйаху, Аталйа провозгласила себя царицей — вопреки традициям Дома Давида и почти всех других династий Ближнего Востока, не знавших цариц, — и правила в Иудее шесть лет, с 841 по 836 г. до н.э. Это был единственный перерыв в царствовании потомков Давида в стране. Боясь легитимных претендентов на трон, она уничтожила «все семя царское». Спрятать удалось лишь одного сына Ахазйаху, младенца Йехоаша. Все годы правления царицы Аталйи Йе-хоаша укрывал в Иерусалимском Храме первосвященник Йехойада (2 Цар. 11:1-3; 2 Хр. 22:10-12). В 836 г. до н.э. первосвященник при поддержке сотников войска, левитов и глав поколений провозглашает семилетнего Йехоаша царем; Аталйа же была умерщвлена солдатами. Капище Баала в Иерусалиме было разрушено, истуканы его уничтожены, а главный жрец убит (2 Цар. 11:4-2Г, 2 Хр., гл. 23).
Пока был жив опекун царя Йехойада, Йехоаш поступал благочестиво; в частности, были предприняты обширные ремонтные работы в Храме. Можно предположить, что в этот период впервые в истории Иудеи храмовые круги приобре
тают решающее влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны. По смерти же первосвященника Йехойады царь впадает в идолопоклонство и даже инициирует убийство пророка Зехарйи, сына Йехойады, который обличал отступничество царя и новые порядки (2 Хр. 24:19-22). Йехоаш потерпел сокрушительное поражение от сирийских войск Хазаэла; царь вынужден был отдать сирийцам сокровища Храма и царского дворца (814 г. до н.э.). В 796 г. до н.э., во время болезни царя, против Йехоаша был составлен заговор, в результате которого он был убит.
Сын Йехоаша Амацйаху (796-790), утвердившись на троне, расправился с заговорщиками. Царь Амацйаху совершил успешный военный поход в Эдом и овладел его столицей Селой (букв, «скала»). Долгое время этот город идентифицировался с Петрой (греч. «скала») в Южном Заиорданье, однако, как показывают раскопки, самое раннее поселение на территории древней Петры возникает в самом конце VIII в. до н.э. После победы над Эдомом в Иудее получают распространение культы богов этой страны, поддерживаемые самим царем (2 Хр. 25:14-15). Амацйаху спровоцировал войну с Израилем— после многих десятилетий мира между братскими государствами,— потерпел сокрушительное поражение при Бет-Шемеше от израильского царя Йехоаша и даже попал на время в плен к нему. Йехоаш вошел в Иерусалим, разрушил в ознаменование своей победы часть городской стены и захватил храмовую и дворцовую сокровищницы. В 790 г. до н.э. в Иерусалиме против иудейского царя был составлен заговор; Амацйаху бежал в Лахиш, где был настигнут заговорщиками и убит. Вместо него воцарился его сын Азарйа, второе — вероятно, тронное — имя которого было Уззийаху (790-739). Отметим, что ни после убийства иудейского царя Йехоаша, ни после умерщвления Амацйаху заговорщики не попытались передать власть своему лидеру или третьему лицу (как это делалось в Северном царстве), но во-царяли легитимного царя из Дома Давидова. Законность власти Давидидов не оспаривалась ни при каких обстоятельствах.
Политический и экономический расцвет Иудеи при царе Уззийаху
Царствование Уззийаху в Иудее отличают значительные военные успехи и экономический подъем. Царь проводит реорганизацию и перевооружение армии, укрепляет города:
«И заготовил для них Уззийаху, для всего войска, щиты и копья, и шлемы и латы, и луки, и пращные камни. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные устройства, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко; потому что он дивно оградил себя, и сделался силен» (2 Хр. 26:14-15).
По мере освоения Негева там возникают новые города и селения. Дабы оградить их, а также проходящие здесь караванные пути от набегов кочевников, на рубежах и скрещениях главных дорог возводятся укрепленные пункты, обнесенные характерными казематными стенами и частично усиленные массивными башнями, что засвидетельствовано проводившимися здесь раскопками.
Уззийаху отвоевал Эйлат (Эцйон-Гевер), нанес поражение филистимлянам, захватив Гат, Йавне и Ашдод и разрушив их стены (2 Хр. 26:6-7); это открыло Иудее выход к Средиземному морю. Царь провел успешную кампанию против аравитян; аммонитяне платили ему дань (2 Хр. 26:7-8).
Уззийаху проводит интенсивные мероприятия в экономической области:
«И построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности и на плоскогорье, (и) земледельцев и садовников на горах и на Кармеле; ибо он любил земледелие» (2 Хр. 26:10).
Около 750 г. до н.э. царь заболел проказой и был вынужден, в соответствии с законами о ритуальной чистоте, жить вне Иерусалима. Его сын Йотам был назначен его соправителем. Впоследствии четыре преемника Уззийаху — Йотам, Ахаз, Хизкийаху и Менашше — также назначали своих сыновей соправителями, что обеспечивало стабильную передачу власти в Иудее.
Уззийаху, а также его сын-соправитель Йотам, как властители наиболее сильного и влиятельного государства региона, вероятно, возглавили коалицию царей сиро-палестинского региона против резко усилившейся Ассирии во главе с Тиг-латпаласаром III (745-727) — коалицию, созданную по примеру возглавлявшегося израильским царем Ахавом союза государств, который около ста лет до этого отражал попытки вторжения ассирийского царя Салманасара III. В ассирийских анналах Уззийаху-Азарйа упоминается под именем «Азрийау [из страны Йауди]», т.е. Иудеи. Ассирийские источники того периода отрывочны, но некоторые историки полагают, что Тиглатпаласару удалось разбить союзную армию.
Судя по 2Хр. 26:16-20, царь Уззийаху попытался узурпировать некоторые священнические функции, что вызвало оппозицию со стороны священства.
Во дни Уззийаху произошло сильнейшее землетрясение, о котором помнили века спустя (Ам. 1:1; Зах. 14:5).
В 1931 г. в коллекции Русского археологического музея, расположенного на Масличной горе в Иерусалиме, была обнаружена квадратная каменная плита (длина стороны — 35 см), содержащая следующую надпись на арамейском языке: «Сюда были перенесены кости Уззийаху, царя иудейского, — не беспокоить!» Палеографически надпись может быть датирована I в. н.э. или несколько более ранним временем; вероятно, она была выполнена в то время, когда останки царя переместили, по неизвестной причине, на новое место покоя. Ныне погребальная плита хранится в Израильском музее в Иерусалиме.
Военные конфликты по смерти Уззийаху.
Нечестивое правление Ахаза
Библия отмечает строительную активность сына Уззийаху, царя Йотама (750-731), а также его успешную кампанию против аммонитян. Судя по 2 Цар. 15:37, при этом царе начинаются столкновения Иудеи с Арамейским и Израильским царствами. Вероятно, израильтяне и сирийцы хотели заставить Йотама, отошедшего (возможно, еще при жизни своего отца Уззийаху) от антиассирийской коалиции, вновь присоединиться к союзникам. Показательно, что в списке ассирийских данников
этого периода— где упоминаются имена Рецина II, царя Дамаска, и «Менахема из Самарии», т.е. израильского царя Менахема, — Иудея не упоминается.
Фраза 2 Хр. 27:2 «только он не входил в Храм ГОСПОДЕНЬ» (чтобы совершить священнодейство?) может быть понята в том смысле, что царь Йотам оставил попытки своего отца Уззийаху выполнять некоторые священнические функции (ср. 2 Лр. 26:16-20).
Сын Йотама Ахаз (735-715) впал в идолопоклонство, в частности в баализм, и даже провел сына своего через огонь (2 Цар. 16:2-4; 2 Хр. 28:1-4). Арамейский царь Рецин II и израильский царь Пеках организовали поход против Иерусалима, дабы не только заставить Иудею и ее царя Ахаза вновь вступить в антиассирий-скую коалицию, но даже попытаться свергнуть династию Давида (ср. Исайя 7:6); этот конфликт получил в литературе название сиро-эфраимитской войны. Царь Иудеи решает обратиться за помощью к Ассирии, послав Тиглатпаласару III дары из сокровищниц Храма и дворца (2 Цар. 16:7-8; 2Хр. 28:16). Ассирийский царь, войска которого находились в Сирии, двинул их на Дамаск; после двухлетней осады город пал, а Арам был превращен в ассирийскую провинцию (732 г. до н.э.). Сокрушительный удар был нанесен ассирийцами и по Израильскому царству (см. ниже).
О подношениях-дарах Ахаза Тиглатпаласару упоминается и в ассирийской надписи последнего. Обращает на себя внимание тот факт, что в этой надписи иудейский царь упомянут под именем Йа-у-ха-зи (евр. Йехоахаз). Полагают, что царь, впавший в идолопоклонство, мог исключить из своего имени первый компонент, представляющий собой сокращенную форму Тетраграмматона— Имени Божьего. После своего пребывания в Дамаске по случаю взятия столицы Арама Тиглатпаласаром Ахаз вводит в Иудее также сирийские (ассирийские) культы.
В 729 г. до н.э. Ахаз назначил соправителем своего сына Хизкийаху, который оказался одним из наиболее благочестивых царей в еврейской истории. (По мнению Бен-Сиры, писавшего в начале II в. до н.э., в Израиле и Иудее все цари тяжко грешили, кроме Давида, Хизкийаху и Йошиайху [49:4].)
Израиль при династии Йеху (841-752).
Последние израильские цари и падение Самарии
Как отмечалось выше, Йеху (841-814), вдохновляемый пророком Елисеем, придя к власти, уничтожил культ баализма в Израиле, однако религиозная система, учрежденная Йаров‘амом I, продолжала функционировать в Северном царстве и при Йеху, и при всех его преемниках (2 Цар. 10:29, 31).
Ввиду военной угрозы со стороны агрессивного дамасского царя Хазаэла Йеху в первый же год своего царствования (841 г. до н.э.) вынужден был в поисках сильного союзника послать обильную дань ассирийскому царю Салманасару III. На так называемом Черном обелиске Салманасара, обнаруженном А.Х. Лэйардом в 1846 г. в Нимруде и хранящемся в Британском музее, Йеху изображен коленопреклоненным перед ассирийским царем, а его слуги — несущими ему дань. После того как Салманасар через несколько лет покинул пределы Южной Сирии, Дамаск, достигший к этому времени необычайной военной мощи, добивается гегемонии над Центральной и Южной Сирией, почти беспрепятственно вторгается в Изра
иль, захватывает Гил‘ад и другие израильские территории в Заиорданье, а также подчиняет себе Аммон, Моав и Эдом. В 814 г. до н.э. Хазаэл совершает поход к берегу Средиземного моря, наносит поражение Израилю и Иудее, берет дань с иудейского царя Йехоаша и, вероятно, порабощает Северную Финикию.
Сын и преемник Хазаэла, Бен-Хадад III, продолжает успешные войны против Израильского царства. При сыне Йеху, Йехоахазе (814-798), Израиль теряет ббльшую часть своей территории и армии; теперь армия Северного царства насчитывает всего 10 колесниц, 50 всадников и 10 000 пехотинцев (2 Цар. 13:7). В эти критические для Израиля годы (805-801 гг. до н.э.) ассирийский царь Адад-нерари III (810-783) наносит дамасскому царю Бен-Хададу III сокрушительное поражение, вступает в Дамаск и взимает с него большую дань. Поражение Дамаска оказалось спасительным для Израиля.
Сын Йехоахаза Йехоаш (798-782) упоминается среди других данников Адад-нерари III под именем Йа-а-су мат Са-ме-ри-на-а-а. Это первая из обнаруженных до настоящего времени ассирийских надписей, в которой Израиль обозначается как Самерина, т.е. Самария/Шомерон. В то же время Йехоашу удалось трижды разбить сирийские войска Бен-Хадада III — что предсказал в конце своего земного пути пророк Елисей — и возвратить Израилю территории, потерянные при его отце, Йехоахазе (2 Цар. 13:25). Как отмечалось выше, Йехоаш нанес также поражение иудейскому царю Амацйаху. С 793 г. до н.э. соправителем Йехоаша был его сын Йаров‘ам.
При Йаров‘аме II (793-753) Израиль занимает первенствующее место в регионе. Ему удается разгромить Арамейское царство, взять Дамаск и Хамат; Аммон и Моав, вероятно, становятся его вассалами (ср. 2 Цар. 14:23-29). Израиль вновь контролирует главные торговые пути, ведущие из Сирии в Египет; израильтяне интенсивно заселяют Башан и северный Гил‘ад. К середине VIII в. до н.э. территории Израиля и Иудеи в своей совокупности чуть ли не достигают размеров Израильского царства при Давиде и Соломоне. Согласно 2 Цар. 14:25, столь впечатляющее расширение пределов Израиля было предсказано пророком Ионой, сыном Амитайя; его авторству приписывается библейская Книга Ионы, утверждающая универсализм, вездесущность и всемогущество YHWH-ГОСПОДА.
Оборотной стороной политического и экономического развития Израиля при Йаров‘аме II явилось обострение социальных противоречий, гневно обличаемых в Северном царстве первыми письменными пророками, Амосом и Осией. Последние, кроме того, резко критикуют культ Северного царства; Осия выступает также против баализма (ср., например, Ос. 2:8, 13, 17), элементы которого, вероятно, вновь стали проявляться в Израильском царстве в первой половине VIII в. до н.э.
Сын Йаров‘амаП Зехарйаху, процарствовав всего шесть месяцев в 753-752 гг. до н.э., был убит в результате заговора Шаллумом. С его гибелью династия Йеху, правившая в Израиле около 90 лет — дольше всех других родов, — прекратилась.
Шаллум правил в Израиле лишь месяц и был убит в Самарии Менахемом из Тирцы. Последний правил с 752 по 742 г. до н.э., жестоко подавляя всякую оппозицию (ср. 2 Цар. 15:16). Как полагают, к этому времени Израиль потерял контроль над сирийскими территориями, хотя этот факт не упомянут в Библии. Ме
нахем вынужден был платить дань ассирийскому царю Тиглатпаласару III (в Библии также обозначается как Пул), введя специальный налог на имущие слои населения Израиля; об этой дани сообщают как Библия (2 Цар. 15:19-20), так и ассирийские источники. Сын Менахема Пекахйа правил в 742-740 гг. до н.э. Он был убит своим приближенным Пекахом прямо в царском дворце в Самарии; в заговоре приняла участие большая группа гил‘адитян.
Пеках (740-732) изменил проассирийскую политику своих предшественников и, как отмечалось выше, вступил в антиассирийский союз с дамасским царем Рецином II. Коалиция потерпела сокрушительное поражение: в 732 г. пал Дамаск, Сирия и захваченные ассирийцами территории Израильского царства — Гил‘ад, Галилея и Шаройская долина— были превращены в ассирийские провинции и управлялись ассирийскими наместниками. Израильское же население захваченных территорий переселялось в Месопотамию (ср. 2 Цар. 15:20). Таким образом, территория Израильского царства практически сократилась до пределов удела Эфраима с центром в Самарии. Результаты археологических раскопок, проводившихся в Хацоре и Мегиддо, выявили огромные разрушения, сопровождавшие ассирийское завоевание.
В 732 г. до н.э. против Пекаха был составлен заговор во главе с Хошеа: Пеках был убит, а Хошеа стал последним царем Северного царства. Хошеа платил огромную дань сначала Тиглатпасару III, а затем его сыну Салманасару V (727-722) (2 Цар. 17:3). Хошеа решается на отчаянный шаг— вступает в союз со слабой XXIV египетской династией (чья резиденция располагалась в Саисе) и прекращает платить дань ассирийцам. (Текст 2 Цар. \ТА, вероятно, следует интерпретировать в том смысле, что Хошеа «отправил посланников в Саис (кто), <к> царю Египта».) Салманасар заключил Хошеа в тюрьму в Ассирии (2 Цар. 17:4) и двинул войска на Самарию. Осада столицы Северного царства длилась три года (2 Цар. 17:5, 18:10). Самария, по всей вероятности, пала в последний год царствования Салманасара V (723/722 гг. до н.э.), незадолго до смерти последнего. То, что именно Салманасар взял Самарию, говорят и Библия (2 Цар. 17:5-6, 18:9-10), и так называемая Вавилонская хроника. С другой стороны, ассирийский царь Саргон II (722-705), преемник Салманасара, в своих надписях, созданных несколькими годами позже рассматриваемых событий, утверждает, что именно он разрушил Самарию в первый год своего царствования. Вероятно, Саргон был командующим армией Салманасара в то время, когда пала Самария. По смерти же Салманасара именно Саргон осуществил в 722 г. до н.э. депортацию населения Самарии (Эфраима), по его собственным словам, 27 290 человек. Израильское царство прекратило свое существование.
Царь Ассирии Саргон II, сыгравший роковую роль в истории Северного царства, рассматривал себя прежде всего как «царя Вавилона», что видно, в частности, из его титулатур. Он укрепил ассирийский контроль над сиро-палестинским регионом в ходе своих филистимских кампаний 720, 716 и 712 гг. до н.э., хорошо освещенных ассирийскими источниками. О взятии Ашдода войсками Саргона упоминает иудейский пророк Исайя (2-я пол. VIII в. до н.э.; Ис. 20:1), единственный библейский текст, в котором этот ассирийский царь упоминается по
имени (ср. Ис. 14:29, 31). Как будто бы находясь на вершине могущества, Саргон бесславно погибает во время похода против киммерийцев в 705 г. до н.э. Труп его даже не был найден. Вероятно, именно этого царя имел в виду Исайя, произнося следующие слова:
«А говорил ты (имеется в виду „царь Вавилона“. — И.Т.)ь сердце своем:
„взойду на небо,
выше звезд Божиих (Ьк
вознесу престол мой.
И сяду на горе в общине (богов),
на краю Севера (pmr)\
Взойду на высоты облачные,
буду подобен Всевышнему"» (Яс. 14:13-14). Однако:
«Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице;
а ты повержен вне гробницы своей,
как презренная ветвь,
как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы, — ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле...» (Яс. 14:18-20).
Израильтяне были поселены в Северной Месопотамии, в Гозане, Хаворе, а также в Мидии, горах Ирана (2 Цар. 17:6, 18:11). Полагают, что на месте были оставлены мелкие крестьяне, между которыми были разделены угодья угнанных во внутренние области Ассирийской империи землевладельцев. Область Эфраима была обращена в ассирийскую провинцию, административным центром которой стала отстроенная с этой целью Самария. В города же Израиля были пригнаны арамеи, а позже халдеи из Вавилона.
«И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из ‘Аввы, и из Хамата, и из Сефарваима, и поселил (их) в городах Самарии вместо сынов Израиля. И они овладели Самарией, и стали жить в городах ее» (2 Цар. 17:24). (Ср. также: Иосиф Флавий. Иудейские древности, X, 184.)
Переселенцы в целом перенимают религиозные представления местного израильского населения, религию YHWH-ГОСПОДА, однако во многом сохраняют и свои языческие обряды и обычаи (ср. 2 Цар. 17:27-41). С течением времени эти народы частично смешиваются с остатком израильтян, и образуется новая, родственная еврейской, народность — самаритяне (шомероним).
Насильственное переселение порабощенных пленников из покоренных стран во внутренние области Ассирийского государства выполняло прежде всего следующие две функции: пополнить население и поднять экономику коренных областей Ассирии, обезлюдевших вследствие многочисленных войн, а также облегчить политическое подчинение аннексированных территорий, наиболее динамичных и влиятельных жителей которых депортировали в другие районы империи. Сведения о судьбах израильтян в Месопотамии крайне скудны. В Ассирии изгнанники
Или: Цафона — священной (зд. космической) горы ханаанейского (угаритского) эпоса.
из Израиля занимались в основном земледелием, но также и ремеслом. Судя по ассирийским документам конца VIII—VII вв. до н.э., некоторые израильтяне становятся высокопоставленными чиновниками (в частности, в казначействе), а некий Хил-кийаху был ассирийским военачальником (документ времен Саргона из Кальху).
Часть представителей северных колен ассимилировалась с арамейским и ассирийским населением. Однако многие израильтяне сохранили свой религиознонациональный облик и слились впоследствии с переселенцами из Иудеи, депортированными в Месопотамию вавилонянами в начале VI в. до н.э. (см. ниже). Иудейские пророки Иеремия (последняя треть VII — начало VI в. до н.э.) и Иезе-киил (первая треть VI в. до н.э.) предвещают избавление не только иудейским, но и израильским изгнанникам. Среди вернувшихся в Страну Израиля из вавилонского плена числились и представители северных колен.
Иудея от периода царствования Хизкийаху до разрушения Иерусалима и Храма и начала вавилонского плена
Правление царя Хизкийаху и его религиозная реформа. Пророк Исайя.
Нечестивое царствование и раскаяние Менашше
В Библии о благочестивом иудейском царе Хизкийаху (729[715]-686) говорится во 2 Цар. 18—20 и параллельном пассаже Ис. 36-39, а также во 2 Хр. 29-32. Несомненно, что на деятельности Хизкийаху сказалось то, что он явился свидетелем падения Самарии, братского Израильского царства, и депортации северных колен. Предполагают, что учителем Хизкийаху мог быть пророк Исайя. Около 701 г. до н.э. пророк предсказал исцеление царя от смертельной болезни и даже выступил в роли его врача (2 Цар. 20:1-11; Яс. 38; ср. 2 Хр. 32:24).
Царь Хизкийаху провел религиозную реформу, направленную на централизацию Богослужебного культа в Иерусалимском Храме (ср. 2 Цар. 18:3—4, 22; 2Хр. 32:12). Согласно 2 Цар. 18:3-4, царь «уничтожил высоты, и разбил маццевы (зд.: идолопоклоннические колонны, камни или плиты. — ИТ.\ и изрубил ашеру (здесь, видимо, имеется в виду культовая идолопоклонническая роща. — Я. Г.)...». Вероятно, именно в ходе реформы Хизкийаху был разрушен и алтарь в Беэр-Шеве, отдельные блоки которого обнаружены в 1973 г. И. Ахарони. (Беэр-Шева была крупным культовым центром, куда совершали паломничество даже жители Северного царства [Ам. 5:5, 8:14].) По мнению К. Кенион, обнаруженные в Иерусалиме в пещере на восточном склоне ‘Офела около 1300 разбитых фигурок людей (богов) и животных, в том числе фигурок богини плодородия, также могут относиться ко времени религиозной реформы царя Хизкийаху (а не царя Йо-шийаху; см. ниже).
Хизкийаху «поразил филистимлян до Газы и в пределах ее» (2 Цар. 18:8). Судя по 2 Хр. 32:23, 27-29, экономика Иудеи была на подъеме, развивалось земледелие и скотоводство, велись строительные работы. Хизкийаху пробивает туннель длиной приблизительно 530 м из источника Тихон в Кидронской долине до
нижнего водоема внутри городских стен (2 Цар. 20:20; 2 Хр. 32:4, 30)— крайне предусмотрительное техническое мероприятие ввиду ожидаемой осады Иерусалима со стороны ассирийцев. До сих пор воды ‘Эн-Гихона текут в Силоамский водоем (Шилоах) в Иерусалиме. В 1880 г. в конце туннеля, ведущего в Силоамский водоем, была обнаружена еврейская надпись (хранится в Археологическом музее в Стамбуле), в которой говорится об обстоятельствах строительства туннеля.
При Саргоне П Иудея платила дань Ассирии, что зафиксировано в ассирийских документах. Однако по смерти Саргона в 705 г. до н.э., когда его сын и преемник Синаххериб (705-681) столкнулся с серией восстаний в различных ассирийских провинциях и вассальных государствах по соседству с Иудеей, Хизкий-аху усмотрел в этом благоприятный момент, чтобы сбросить ассирийское ярмо, и вступил в антиассирийский союз с XXV (Нубийской) египетской династией. Он также поддерживал отношения с Мардук-апал-иддином, библейским Меро-дах-баладаном — проживавшим в изгнании самопровозглашенным царем Вавилона. Против этих антиассирийских альянсов резко выступал пророк Исайя, говоря об их бесперспективности.
В 702 г. до н.э. Синаххериб вновь поработил Вавилонию, а в 701 г. выступил против восставших государств на западе Ассирийской империи. Он покорил Тир, завоевал Яффу с ее окрестностями. Сражение с пришедшей на помощь восставшим египетской армией не дало перевеса ни одной из сторон; египтяне отступили, а Синаххериб обрушился на Иудею, разрушая все на своем пути. Ассирийской армии удалось взять крупнейший и хорошо укрепленный город Южной Иудеи Лахиш. В серии рельефов, украшавших стены одного из залов дворца Синаххериба в Ниневии и хранящихся ныне в Британском музее, изображены жестокие сцены осады города, сдача Лахиша, страшная казнь лидеров обороны города (снятие кожи, сажание на кол), захват добычи, депортация пленных горожан, идущих в изгнание босыми. Следы битвы за Лахиш обнаруживают и археологические раскопки; в частности, был открыт сооруженный горожанами противоосадный вал.
После падения Лахиша Хизкийаху резко изменяет свою позицию и посылает Синаххерибу огромную дань: согласно 2 Цар. 18:14-15 — 30 талантов золота и 300 талантов серебра; согласно ассирийским анналам — 30 талантов золота и 800 талантов серебра. Это, однако, не удовлетворило Синаххериба — он потребовал безоговорочной капитуляции Хизкийаху, что было неприемлемо для иудейского царя. И вот, разрушив остальные города Южной и Центральной Иудеи, ассирийские войска осадили Иерусалим. Однако, как и предсказывал пророк Исайя, столица Иудеи не пала. Согласно 2 Цар. 19:35 и Ис. 37:36, произошло чудо: в одну ночь в стане ассирийцев было поражено 185 000 человек. Цифра представляется чересчур большой — численность самой большой из известных нам ассирийских армий, армии Салманасара III в его походе против Дамаска, составляла 120 000 человек. Предлагается и другое чтение цифры— 5180 (что допустимо как исключение). С этой цифрой в определенной мере согласуется замечание 2 Ар. 32:21, в котором нет упоминания о числе пораженных:
«И послал Господь ангела, и он истребил всех витязей войска, и главнокомандующего, и начальствующих в стане царя Ассирии».
79. 1 — Кунтиллет-'Аджруд. Рисунок и надпись чернилами на пифосе. В нижней строке написано: IYHWH. smm. wl'srth (варианты интерпретаций данной фразы приведены в тексте главы);
2 — тот же рисунок и надпись (нижняя строка), воспроизведенные на черном фоне
Гибель большого количества воинов произвела устрашающее впечатление на ассирийцев; осада Иерусалима была снята, и армия Синаххериба ушла. Ассирийские анналы Синаххериба также подтверждают тот факт, что Иерусалим не был взят. В частности, здесь говорится, что Хизкийаху стал «заключенным в Иерусалиме... как птица в клетке», но нет ни слова о том, что Синаххерибу удалось захватить столицу Иудеи или ее царя. Допускают, что армию ассирийцев могла поразить холера или бубонная чума. Случаи эпидемии чумы известны из ассирийских источников VIII в. до н.э. Заметим, что в ассирийских анналах не сохранилось каких-либо указаний на возможные политические причины отступления армии Синаххериба. Память о чудесном поражении ассирийской армии сохранялась века спустя. Например, это событие нашло свое искаженное отражение в Истории Геродота (2, 141), который во время своего посещения Египта слышал рассказ о том, как на ассирийскую армию, выступившую против египтян, напали стаи полевых мышей и изгрызли у солдат «колчаны, луки и рукоятки щитов» (части оружия, сделанные из кожи). (NB: Мыши были у семитов символом чумы.)
Некоторые исследователи полагают, что Синаххериб совершил два похода против Иудеи и Иерусалима— в 701 и приблизительно в 689 гг. до н.э. или немного позднее. Как бы то ни было, Хизкийаху оказался единственным царем, который не был убит или смещен со своего трона во время финикийско-палестинской кампании Синаххериба. Однако многие иудейские города были разрушены, большое количество населения уведено в плен (ассирийские источники называют цифру в 200 150 человек, что исследователи рассматривают как значительное преувеличение); ассирийцы захватили богатую добычу. В последние десять лет царствования Хизкийаху его соправителем был его сын Менашше.
Менашше (696-641) оказался самым нечестивым царем из династии Давида.
«И снова устроил высоты, которые уничтожил Хизкийаху, отец его, и поставил жертвенники Баалу, и сделал истукан Ашеры, как сделал Ахав, царь Израиля; и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему. И соорудил жертвенники в Доме Господнем, о котором сказал Господь: „В Иерусалиме положу Имя Мое“. И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах Дома ГОСПОДНЯ.
И провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей духов предков и ведунов; много сделал неугодного в очах ГОСПОДА, чтобы прогневать его. И поставил истукан Ашеры, который сделал, в Доме...» (2 Цар. 21:3-7; см. также 2 Хр. 33:3-7).
«Еще же пролил Менашше и весьма много невинной крови...» (2 Цар. 21:16, 24:4). В Мидраше к этому пассажу сказано, в частности, что Менашше ненавидел пророка Исайю и умертвил его, распилив на две части. При этом царе массы народа также впали в идолопоклонство (2 Цар. 21:9-15; 2 Хр. 33:9-10).
Согласно ассирийским анналам, Менашше платил дань царям Ассирии Асар-хаддону (680-669) и Ашшурбанапалу (668-627). В какой-то период Менашше, вероятно, восстал против ассирийцев; согласно 2Хр. 33:11, он был отправлен в цепях в Вавилон. Пребывая в узилище, он раскаялся, и, будучи возвращен на царство, очистил Иерусалимский Храм, и отверг чужеземные культы, хотя служить ГОСПОДУ Богу продолжали на высотах (2Хр. 33:12-17). Согласно 2 Хр.
33:19, греховные деяния Менашше, а также его раскаяние описаны в не дошедших до нас Записях Хозайи.
Экономическое положение Иудеи при Менашше, вероятно, стало катастрофическим: в одном из ассирийских документов говорится, что Аммон платит дань в две мины золота, Моав — одну мину золота, а Иудея — лишь десять мин серебра. В анналах Асархаддона Менашше фигурирует как шар уруЙа уди, «царь города Йехуда»; это, как считают, предполагает, что Иудея в данный период превращается в город-государство, т.е. по сути представляет собой Иерусалим и его окрестности.
Сын Менашше Амон (641-639) впал в те же идолопоклоннические грехи, что и его отец до своего раскаяния. В результате заговора, составленного приближенными Амона, царь был убит в своем дворце.
Царь Йошийаху
и религиозная реформа в Иудее
Иудейский царь Йошийаху (639-608) знаменит прежде всего своей религиозной реформой, в результате которой монотеизм YHWH-ГОСПОДЛ полностью утвердился во всем иудейском обществе и был также установлен единый централизованный культ YHWH-ГОСПОДА в Иерусалимском Храме. В центре реформы стоит обнаруженная в 621 г. до н.э. первосвященником Хилкийаху в Иерусалимском Храме «Книга Учения (Торы)» (ггплп *idd). В связи с личностью Хилкийаху отметим, что в 1987 г. была опубликована еврейская надпись на перстне-печатке, гласящая: «(Принадлежит) Ханану, сыну Хилкийаху-(перво)священника». Палеографически надпись может быть датирована VII в. до н.э., так что, как полагают, владельцем перстня, скорее всего, был сын упомянутого первосвященника. До нас дошли две версии, в которых описываются обстоятельства обнаружения Книги Учения и проведение царем Йошийаху религиозной реформы: тексты Второй книги Царей 22:1-23:25 и Второй книги Хроник 34:1-35:19. В первом пассаже говорится следующее:
«Восьми лет был Йошийаху, когда воцарился, и тридцать один год царствовал в Иерусалиме; имя матери его Йедида, дочь Адайи, из Боцкаты. И делал он правильное в очах ГОСПОДНИХ, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. В восемнадцатый год царя Йошийаху послал царь Шафана, сына Ацалйаху, сына Мешуллама, писца, в Дом Господень, сказав: пойди к Хилкийаху, первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в Дом ГОСПОДЕНЬ, которое собрали от народа стоящие на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к Дому Господню; а те пусть раздают его работающим в Доме Господнем, на исправление повреждений Дома, плотникам и строителям, и каменщикам, и на покупку деревьев и тесаных камней для укрепления Дома; впрочем, не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно. И сказал Хилкийаху, первосвященник, Шафану, писцу: Книгу Учения (пппп *шо) я нашел в Доме Господнем. И подал Хилкийаху книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал: взяли рабы твои серебро, найденное в Доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к Дому Господню. И возвестил Шафан,
писец, царю, говоря: Книгу дал мне Хилкийаху, священник. И читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова Книги Учения, то разодрал одежды свои. И повелел царь Хилкийаху, священнику, и Ахикаму, сыну Шафанову, и Ахбору, сыну Михайи, и Шафану, писцу, и Асайи, слуге царскому, говоря: Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ и за всю Иудею о словах этой найденной Книги; потому что велик гнев ГОСПОДЕНЬ, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов этой Книги, чтобы поступать согласно с предписанным нам. И пошел Хилкийаху, священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Асайя к Хулде, пророчице, жене Шаллума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд, — жила же она в Иерусалиме, во второй части, — и говорили с нею. И она сказала им: так говорит ГОСПОДЬ, Бог Израилев: скажите человеку, который послал вас ко мне: так говорит Господь: наведу зло на это место и на жителей его, все слова Книги, которую читал царь иудейский. За то, что оставили Меня и кадят другим богам, чтобы раздражать Меня всеми делами рук своих, воспылал гнев Мой на это место, и не погаснет. А царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите: так говорит Господь, Бог Израилев, о словах, которые ты слышал: так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что Я изрек на это место и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои, и плакал предо Мною, то и Я услышал (тебя), говорит Господь. За это, вот, Я присоединю тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое Я наведу на это место. И принесли царю ответ. И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иудеи и Иерусалима. И пошел царь в Дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ, от малого до большого, и прочел вслух их все слова Книги Завета (лпэп пэо), найденной в Доме Господнем. Потом встал царь на возвышенное место, и заключил пред Лицом Господним завет („договор".— И.Т.)— последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и постановления Его, и законы Его всем сердцем и всею душою, чтобы выполнить слова этого завета, написанные в этой Книге. И весь народ вступил в завет. И повелел царь Хилкийаху, первосвященнику, и вторым священникам (заместителям. — И. Т,)9 и стоящим на страже у порога вынести из Храма Господня все вещи, сделанные для Баала и для Ашеры, и для всего воинства небесного, и сжег их вне Иерусалима, в долине Кидрона, и отнес прах их в Бет-Эль. И отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершал<и> курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, — и которые воскуряли Баалу, солнцу, и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному; и вынес Ашеру из Дома Господня за Иерусалим, к речке Кидрон, и сжег ее у речки Кидрон, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище сынов народа. И разрушил дома блудилищные , которые (были) при Доме Господнем, где женщины ткали одежды для Ашеры. И вывел всех жрецов из городов иудейских, и осквернил высоты, на которых совершали курение жрецы, от Гевы до Беэр-Шевы, и разрушил высоты (перед) воротами, — ту, которая у входа в ворота Йехошуа, градоначальника, (и) ту, которая на левой стороне у городских ворот. Впрочем, жрецы высот не приносили жертв на жертвеннике Господнем в Иерусалиме, опресноки же ели вместе с братьями своими. И осквернил он тофет, что в долине сынов Хиннома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь (в жертву) молех* 15; и отменил коней, которых ставили цари иудейские солнцу пред входом в Дом Господень близ комнат Натан-мелеха, евнуха, который в Парвариме; колесницы же солнца сжег огнем. И жертвенники на кровле верхней комнаты Ахазовой, которые сделали цари иудей
’ Подразумевается (мужская) культовая проституция.
15 Вид жертвоприношения, подразумевающий сожжение детей, предварительно умерщвленных (см. ниже).
ские, и жертвенники, которые сделал Менашше (иудейский царь. — И.Т.) на обоих дворах Дома Господня, разрушил царь, и низверг оттуда, и бросил прах их в речку Кидрон. И высоты, которые пред Иерусалимом, направо от „горы разложения" (южная оконечность Масличной горы. — И.Т.), которые устроил Соломон, царь Израиля, Астарте, мерзости сидонян, и Кемошу, мерзости моавитской, и Мил кому, гнусности сынов Аммона, осквернил царь; и расколол маццевы, и изрубил ашеры, и наполнил место их костями человеческими. Также и жертвенник, который в Бет-Эле, высоту, устроенную Йаров‘амом, сыном Невата (Йаров'ам I. — И.Т.), который ввел Израиль в грех, — также и жертвенник тот и высоту он разрушил, и сжег эту высоту, стер в прах и сжег Ашеру. И взглянул Йошийаху, и увидел погребения, которые (были) там на горе, и послал, и взял кости из погребений, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший эти события (см. 1 Цар., гл. 13. — Я Г)... И также все капища высот в городах Самарии (т.е. на территории бывшего Северного царства. — И. Т), которые построили цари израильские, гневя ГОСПОДА, разрушил Йошийаху, и сделал с ними то же, что сделал в Бет-Эле; и заколол всех жрецов высот, которые там были, на жертвенниках, и сжег кости человеческие на них, — и возвратился в Иерусалим. И повелел царь всему народу, сказав: „Совершите Пасху ГОСПОДУ, Богу вашему, как написано в этой Книге Завета"; потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиль, и во все дни царей израильских и царей иудейских; а в восемнадцатый год царя Йошийаху была совершена эта Пасха ГОСПОДУ в Иерусалиме. И вызывателей духов предков и ведунов, и терафимов (род домашних идолов.— И.Т.), и идолов, и все мерзости, которые появились в Стране Иудейской и в Иерусалиме, истребил (пуэ; букв, „сжег". — И.Т.) Йошийаху, чтобы исполнить слова Учения (тплп, Закона. — И.Т.), записанные в Книге (пэоп), которую нашел Хилкийаху, священник, в Доме ГОСПОДНЕМ. Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всею душою своею, и всею возможностью своею, по всему Учению Моисееву (пилз mm); и после него не восстал подобный ему».
Согласно тексту Второй книги Хроник 34:3-10, очищение монотеистического культа YHWH-ГОСПОДА царь Йошийаху начинает еще за шесть лет до обнаружения в Иерусалимском Храме Книги Учения ГОСПОДА.
«В восьмой год царствования своего, будучи еще отроком, он начал обращаться к Богу Давида, отца своего; а в двенадцатый год (в 627 г. до н.э. — И.Т.) начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и ашер, и истуканов, и литых идолов. И разрушили пред лицом его жертвенники баалов, и колонны, посвященные солнцу, возвышающиеся над ними, он сокрушил; и ашеры, и истуканы, и литых идолов он сломал, и разбил в прах, и рассыпал на погребениях тех, которые приносили им жертвы. И кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим. И в городах Менашше, и Эфраима, и Шимона, <даже> до (удела) Нафтали, и в опустошенных окрестностях их (т.е. на значительной территории бывшего Северного царства. — И. Т.) он разрушил жертвенники и ашеры, и истуканы разбил в прах, и все колонны, посвященные солнцу, сокрушил по всей Стране Израиля; и возвратился в Иерусалим. В восемнадцатый год царствования своего, по очищении Страны и Дома Господа, он послал Шафана, сына Ацалйаху, и Маасейаху, градоначальника, и Йоаха, сына Йоахаза, дееписателя, укрепить Дом Господа, Бога своего. И пришли они к Хилкийаху, первосвященнику, и отдали серебро, принесенное в Дом Божий, которое левиты, стоящие на страже у порога, собрали из рук Менашше и Эфраима и от всего остатка Израиля, и от всего (колена) Йехуды и Бинйамина, и от жителей Иерусалима; и отдали в руки производителям работ, приставленным к Дому Господню, чтоб они раздавали его работникам, которые работали в Доме ГОСПОДНЕМ, ремонтируя и укрепляя Дом».
Далее во 2 Хроник следует рассказ о том, как во время ремонтных работ Хил-кийаху-первосвященник нашел Книгу Учения ГОСПОДА, (написанную) рукой Моисея (nw та тпт птп пво). Йошийаху утверждает постоянное пребывание Ковчега Завета в Храме (35:3). По его указанию учреждаются жреческие череды в соответствии с предписаниями Давида и Соломона. Царь, а также его князья даруют народу, священникам и левитам мелкий и крупный скот для пасхальных жертвоприношений. И совершали сыны Израилевы Пасху и Праздник опресноков в течение семи дней.
«И не была совершаема такая Пасха у Израиля от дней Самуила-пророка; из всех царей Израиля ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Йошийаху, и священники, и левиты, и все иудеи, и израильтяне, (там) находившиеся, и жители Иерусалима. В восемнадцатый год царствования Йошийаху совершена эта Пасха»16 (2 Хр. 35:18—19).
Как явствует из приведенных текстов, помимо установления единого централизованного культа YHWH-ГОСПОДА в Храме Иерусалима и полного очищения Богослужения от каких бы то ни было атрибутов язычества, Йошийаху также искореняет все языческие культы, пустившие корни в Иудее, и прежде всего культ финикийского Баала, который предполагал и человеческие жертвоприношения (см., например, Иер. 19:5-6, 32:35; ср. также: Втор. 12:31; Иер. 7:31-32; Ис. 57:5; Иез. 16:20-21, 20:26, 30-31, 23:37, 39; 1 Цар. 16:34; 2 Дар. 16:3, 21:6; Пс. 106:37-38). В ханаанейско-финикийской и позднее пунийской среде имело широкое распространение жертвоприношение (в том числе сожжение) детей, обычно мальчиков в возрасте до шести месяцев, часто при угрозе военного поражения. Это подтверждается как письменными источниками, так и археологическими материалами. Например, на египетском изображении захвата южноха-наанейского города Ашкелона египетскими войсками (время фараонов Рамсеса II или Мернептаха; рельеф из храма Амона в Карнаке) двое из осажденных приносят жертву на городской стене: они держат на весу детей, с тем чтобы бросить их навстречу вражеским стрелам. Согласно 2 Цар. 3:27, моавитский царь Меша (сер. IX в. до н.э.) принес в жертву всесожжения своего первородного сына на стене при угрозе поражения от израильтян. Известно также, что, когда армия главы Сицилийского союза городов Агафокла (360-289) подошла в 311-310 гг. до н.э. к стенам Карфагена (основан колонистами из Тира в последней четверти IX в. до н.э.), было сожжено более 500 детей, из которых 200 — сыновья знатных семейств — были определены властями, а около 300 были принесены в жертву богам добровольно {Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, XX, 14). Детей не сжигали живыми; жертву сначала умерщвляли, а затем уже мертвого сжигали — часто на раскаленных бронзовых руках статуи какого-либо бога (как правило, Баала [Баал-Хаммона]), и происходило это обычно ночью под звуки тамбуринов, флейт и лир. Жертвоприношения совершались в своеобразных культовых местах, называвшихся тофетами и располагавшихся неподалеку от городских стен; здесь же в специальных урнах останки хоронились. Язычники и отступники Иерусалима также приносили такого рода жертвы — в долине сына
16 Предписания Пятикнижия о праздновании Пасхи содержатся в: Исх. 12, 13:3-10, 23:15, 34:18; Лев. 23:5-8; Числ. 9:2-14, 28:16-27, Втор. 16:1-6.
(сынов) Хиннома, к югу от города. (Из еврейского названия ге (бен[е]~) Хинном, т.е. «долина (сына/сынов) Хиннома», произошел термин «геенна» (yeevva; ср. Ис. 66:24.) Такое жертвоприношение детей называлось по-финикийски молх (tnlk [латинская передача: mole]; также mlk "dm), евр. молех. Вероятно, вследствие ошибочной интерпретации данного термина, бытовавшей еще в древности, появилось представление о существовании в западносемитском пантеоне жесточайшего бога Молоха, которого на самом деле, по-видимому, не существовало. Тексты Книги Левита 18:21 и 20:2-5 — из так называемого Кодекса святости, содержащего древние священнические материалы, — запрещают жертвоприношения детей под страхом смерти (ср. также Быт. 22).
Йошийаху попытался искоренить также древнейший и широко распространенный культ духов предков. Судя по тексту 2 Цар. 23:24, царь в данном аспекте своих религиозных реформ сообразовывался скорее со священническими законами, зафиксированными в Лев. 19:31, 20:6, 27 и требующими истребления вы-зывателей духов предков и ведунов, чем с предписанием Втор. 18:11, согласно которому таковых следует изгонять из своей среды.
Важно иметь в виду, что религиозная реформа Йошийаху распространялась не только на всю Иудею, но и на значительную — если не ббльшую — часть бывшего Северного царства, которую иудейский царь контролировал в тот период. В частности, был полностью разрушен культовый центр в Бет-Эле, учрежденный еще Йаров‘амом I. Как показывают археологические раскопки, вероятно, именно в ходе реформы Йошийаху в Иудее было разрушено святилище в Араде, существовавшее здесь с X в. до н.э.
Об успехе религиозной реформы Йошийаху красноречиво свидетельствуют так называемые Лахишские письма (острака), обнаруженные в этом городе в 1935 и 1938 гг. Тексты представляют собой сообщения офицера, пребывавшего на сторожевом посту между Азекой и Лахишем, коменданту последнего города. Письма написаны накануне падения Иудеи и Иерусалима (586 г. до н.э.). Язык писем практически идентичен языку Книги пророка Иеремии, встречается целый ряд похожих выражений. В текстах встречается 22 имени собственных, из них 14 содержат Имя YHWH-ГОСПОДА в сокращенной форме. Ни одно из имен собственных не содержит имени какого-то языческого бога. С другой стороны, как свидетельствует пророк Иезекиил, кое-кто в Иудее продолжал тайно совершать языческие обряды (ср., например, Иез. 8:5-16).
Установление монотеистического централизованного культа YHWH-ГОСПО-ДА в Иерусалимском Храме в ходе религиозной реформы Йошийаху сыграло выдающуюся роль в истории еврейского народа. Переселенные в начале Vie. до н.э. в Вавилонию жители Иудеи, а также присоединившиеся к ним представители северных колен в подавляющем большинстве своем уже не мыслили отправление культа YHWH-ГОСПОДА должным образом вне Храма в Иерусалиме, в Иудее. Это консолидировало народ в изгнании и способствовало возвращению его на родину. В Израильском царстве единый централизованный культ YHWH-ГОСПОДА отсутствовал, и это, вероятно, послужило одной из основных— если не основной — причин того, что северяне в большинстве своем не вернулись из изгнания в Страну Израиля.
Многие исследователи — сторонники так называемой «документальной гипотезы» происхождения Пятикнижия, вслед за В.М.Л. де Ветте, полагают, что обнаруженную первосвященником Хилкийаху в Храме в 621 г. до н.э. «Книгу Учения» следует отождествить с книгой Второзакония, утверждающей единый централизованный культ (в «месте, которое изберет ГОСПОДЬ», т.е. в Иерусалимском Храме) и призывающей к борьбе с языческими культами (или же только с Втор., гл. 12-26 [так называемый Девтерономический кодекс] или гл. 5-26), и что, следовательно, Второзаконие (или его первоначальная версия) возникло, вероятно, около этого же времени .
По мнению же И.Ш. Шифмана, Книга Учения (Торы), опубликованная в 621 г. до н.э., — это все Пятикнижие (Тора). При этом российский исследователь рассуждает следующим образом. Пятикнижие было и остается Священным Писанием самаритянской общины, а это доказывает, что оно возникло в своем современном виде до эпохи вавилонского плена, т.е. до 586 г. до н.э. Из текста Второй книги Царей 17:25-41 явствует, что в религиозной жизни самаритян конца VIII — VII в. до н.э. почитание YHWH-ГОСПОДА было одним из элементов их еще во многом синкретической (политеистической) религии. Но Пятикнижие — это манифест монотеизма; так что в указанный период принять его как изложение Учения ГОСПОДА и основ его культа самаритяне не могли.
С другой стороны, как отмечает И.Ш. Шифман, создание в конце VI в. до н.э. иудейской гражданско-храмовой общины с центром в Иерусалиме и восстановление Иерусалимского Храма YHWH-ГОСПОДА вызвало крайнее неудовольствие и противодействие остального населения Палестины, прежде всего самаритян, оказавшихся вне общины, которая должна была стать опорой персидского господства в стране (начавшегося с 539 г. до н.э., когда персидский царь Кир Великий положил конец Вавилонскому царству) и получить политические и налоговые привилегии. Эти опасения были тем более обоснованными, что нееврейское население Палестины не было допущено к строительству Второго Храма (Эзра 4:1-5). Мало того, провозглашение Учения (Торы) в 444 г. до н.э. книжником Эзрой привело к тому, что «отделилось семя Израиля (т.е. члены еврейской общины. — И.Т.) от всех чужаков» (Неемия 9:2). В условиях вражды иудеев с самаритянами, которая заполняет собою всю вторую половину I тысячелетия до н.э., трудно ожидать, чтобы самаритяне могли именно тогда воспринять Пятикнижие как Священное Писание . Очевидно, к тому времени, когда иу-
Многие исследователи считают, что Второзаконие имеет больше общего с книгами Первых Пророков (И. Нав. — 2 Цар.) — историческими книгами Библии, чем с первыми четырьмя книгами Пятикнижия. При этом предполагается, что первые три главы Второзакония следует рассматривать не как введение к девтерономическим («второзаконническим») установлениям, а как начало грандиозного сочинения по истории Израиля, так называемой девтерономической истории, включающей помимо Второзакония также книги Иисуса Навина — 2 Царей. Первоначальная версия девтороно-мической истории, создававшаяся в рамках так называемой девтерономической школы, завершалась описанием религиозной реформы царя Йошийаху и была создана в допленную эпоху, но позднее Второзакония', свой нынешний вид этот исторический цикл приобретает уже в эпоху вавилонского плена (VI в. до н.э.). Книга Второзакония была после соответствующей переработки включена в качестве «предисловия» в девтерономический исторический цикл.
** Некоторые исследователи полагают, что полный разрыв между иудеями и самаритянами произошел только в последней трети II в. до н.э., когда иудейский хасмонейский первосвященник-правитель Иоанн Гиркан I разрушил самаритянский храм на горе Геризим.
деи начали возвращаться из плена и стала складываться ситуация иудейско-самаритянского конфликта, Тора уже была в руках самаритян и уже играла у них роль Священного Писания. Получить ее они могли только до вавилонского плена.
Этот хронологический ориентир ведет нас к царствованию иудейского царя Йошийаху и его религиозной реформе 621 г. до н.э. Пользуясь ослаблением Ассирийского царства, Йошийаху захватил часть Северной Палестины, области, в тот момент населенной самаритянами, и распространил свою реформу также и на них. Осуществление реформы в среде самаритян, бесспорно, сопровождалось проповедью Книги Учения (Торы). Эти события — единственная общественно-политическая ситуация, когда самаритяне реально могли воспринять у иудеев Пятикнижие. А из этого следует, что именно Пятикнижие было той самой Книгой, которую первосвященник Хилкийаху передал царю Йошийаху в 621 г. до н.э. .
Царствование Йошийаху совпало с резким ослаблением Ассирии. В 627-626 гг. до н.э. против Ассирии произошло восстание в Вавилоне, во главе которого стоял халдейский князь Набопаласар. В дальнейшем халдейский Вавилон и Мидия совместно атакуют центральные города Ассирии: в 614 г. пал Ашшур, в 612 г. — столица Ниневия, а в 610 г. до н.э. — Харан. В этот период значительно расширяются границы Иудеи. Судя по 2 Цар. 23:8, территория страны простиралась от Гевы на севере до Беэр-Шевы на юге. Археологические раскопки фиксируют поселения иудеев вплоть до оазисов на берегу Мертвого моря, в том числе в оазисах ‘Эн-Фешха и ‘Эн-Геди (основан во времена Йошийаху). Как отмечалось, при Йошийаху к Иудее отошли и значительные территории бывшего Северного царства.
Фараоны XXVI династии Псамметих I (664-610) и Нехо II (610-595), вероятно, решили попытаться предотвратить полное уничтожение Ассирийского государства, дабы противопоставить его все более усиливающейся Вавилонии. В 609 г. до н.э. фараон Нехо двинулся «путем моря» на помощь остаткам ассирийской армии, сражавшейся с вавилонянами у Харана в верховьях Евфрата (в Северной Сирии). Йошийаху — по неизвестной нам причине, возможно имея какие-то договоренности с Вавилонией, — выступил со своей армией наперерез египетской армии и подошел к Мегиддо. В битве с Нехо Йошийаху был тяжело ранен и скончался от ран. Погребен он был в Иерусалиме, «в гробницах отцов своих» (2 Цар. 23 :29; 2 Хр. 35:20-24).
Любовь народа к царю Йошийаху выразилась в обилии «плачевных песен», сочиненных и пропетых в воспоминание о нем в Иерусалиме и по всей Иудее; среди них была и «плачевная песнь» пророка Иеремии. Эти сочинения были включены в не дошедшую до нас книгу Плачевных песен (2 Хр. 35:24-25). Некоторые исследователи полагают, что при написании Книги Иова — истории страдающего праведника — ее автор мог иметь в виду и трагическую судьбу благочестивого иудейского царя Йошийаху. Деятельность Йошийаху оценивалась иудейской традицией крайне высоко и века спустя. Например, в начале II в. до н.э.
* Большинство исследователей относят оформление Пятикнижия (в современном его виде) ко времени религиозно-политической реформы книжника Эзры (вероятно, ок. 444 г. до н.э.).
благодарный житель Иерусалима Йехошуа Бен-Сира дает следующую красноречивую характеристику иудейского царя:
«Имя Йошийаху — как фимиам благоуханный, искусно приготовленный трудом составителя мастей: для неба как мед сладко упоминание о нем и как песнь на пиру с вином.
Он был опечален (эмендация. — И. Т.) из-за нашего отступничества и истребил мерзости тщеты;
и он всецело обратил к Богу сердце свое
и во дни насилия поступал благочестиво» (49:1-3; Каирская гениза, рукопись В).
Последние цари Иудеи.
Разгром Иудеи, падение Иерусалима и разрушение Храма вавилонянами. Пророк Иеремия
Фараон Нехо, возвращаясь в Египет после одержанной им победы у Харана, сверг с иудейского трона процарствовавшего всего три месяца в 608 г. до н.э. сына Йошийаху Йехоахаза и увел его в плен в Египет, где тот и умер. Вместо него фараон воцарил его старшего брата Йехойакима (Элйакима) (608-598). Иудея вынуждена была выплатить египтянам дань в один талант золота и сто талантов серебра, для чего новый царь ввел особый налог, собираемый с населения (2 Цар. 23:33, 35; 2Хр. 36:1^). Библия характеризует Йехойакима как нечестивого правителя. Согласно тексту Иер. 26:20-23, Иехойаким убил пророка Урийа-ху, сына Шемайаху. Это второй случай, зафиксированный в Библии, когда иудейский царь оказался виновен в смерти пророка ГОСПОДА. Как отмечалось выше, приблизительно за двести лет до Йехойакима его предок, царь Йехоаш, инициировал убийство пророка Зехарйи, сына Йехойады (2 Хр. 24:19-22). Преследованиям со стороны Йехойакима подверглись и пророк Иеремия с его секретарем Барухом за публичное обличение грехов царя. Иеремия и Барух вынуждены были скрываться {Иер. 36:19, 26); для их ареста царь посылает своего сына Йерах-меэла (Иер. 36:26). В 1979 г. были опубликованы буллы, одна из которых принадлежала «Берехйаху, сыну Нерийаху, писцу», т.е., по всей видимости, секретарю Иеремии Баруху (полное имя которого, вероятно, было Берехйаху); в Иер. 36:32 он назван «Барух, сын Нерийаху, писец» (ср. также там же 36:4). Еще одна булла принадлежала «Йерахмеэлу, сыну царя» (именно так он обозначается в Иер. 36:26). Пророку Иеремии и его секретарю удалось спастись от нечестивого гнева царя Йехойакима.
До 605 г. до н.э. Йехойаким, вероятно, оставался вассалом Египта. В этом же году вавилонский «кронпринц» Навуходоносор (605-562), сын Набопаласара, согласно Вавилонской (Халдейской) хронике, вел военные действия против египтян в Северной Месопотамии. В двух битвах, у Каркемиша и в неизвестном месте неподалеку от Хамата в Сирии, Навуходоносор нанес сокрушительные поражения египетским войскам и, преследуя отступающего противника, овладел Сирией, территорией бывшего Израильского царства и, наконец, появился в Иерусалиме, принудив Йехойакима стать вассалом Нововавилонского царства. Наву
ходоносор забирает в качестве трофеев часть сокровищ Иерусалимского Храма и уводит нескольких юношей из царского и княжеских родов в качестве заложников; среди них был Даниил и его друзья (Дан. 1:1-6).
В 601 г. до н.э. вавилонские войска подошли к самой границе Египта, но в решающем сражении понесли очень тяжелые потери и вынуждены были отступить в Вавилонию. Царь Йехойаким, вероятно, усмотрел в этом событии возможность выйти из вассальной зависимости от Вавилона. В декабре 598 г. до н.э. отдельные вавилонские отряды вошли в Иерусалим. Часть священных сосудов Храма была отправлена в Вавилон. Царь Йехойаким был заключен в оковы для депортации (2Хр. 36:6-7); однако он умер или был убит в Иерусалиме еще до отправки в Вавилонию (Иер. 22:18-19, 36:30; см. также: Иосиф Флавий. Иудейские древности, X, 97). Согласно Иер. 52:28, в Вавилон в это время было депортировано 3023 иудея.
Восемнадцатилетний сын Йехойакима Йехойахин процарствовал в Иудее всего три месяца. 15/16 марта 597 г. до н.э. царь, его мать и все приближенные сдаются на милость прибывшему в Иерусалим Навуходоносору. В Вавилонию отправляются все оставшиеся сокровища Храма и царского дворца; депортируются царь, его семья и приближенные, а также 10 000 иудеев, из них 7000 солдат и 1000 ремесленников и кузнецов (2 Цар. 24:10-16; 2 Хр. 36:9-10). Вместо Йе-хойахина царем Иудеи Навуходоносор поставил его дядю Матанйу, получившего тронное имя Цидкийаху (597-586). Тем не менее Йехойахин продолжал считаться некоторыми кругами легитимным царем Иудеи. Согласно Иер. 28:3-4, в Иерусалиме в четвертый год правления Цидкийаху, т.е. около 594 г. до н.э., высказывалась надежда на возвращение всех священных сосудов Храма, Йехой-ахина и иудейских пленников на родину через два года. Те же ожидания, вероятно, были распространены и среди иудейских изгнанников в Вавилонии (ср.: Иер. 29; Иез. 34:20-31, 37:24-28). Пророк Иезекиил датирует свои пророчества годами пленения царя Йехойахина (Иез. 1:2, 40:1). Не исключена вероятность того, что и другие иудейские переселенцы в Вавилонии использовали подобный отсчет времени, не имея возможности (опасаясь) отсчитывать годы царствования Йехойахина. Среди развалин одного из вавилонских дворцов были обнаружены клинописные таблички, представляющие собой рационы лиц, получающих провизию от царя Вавилона. В этих списках Йехойахин систематически именуется как «царь Иудеи». Здесь упоминаются, в частности, и пять его сыновей и их воспитатель Кенайа. Один из таких списков датируется 592 г. до н.э. Йехойахин получал содержание, в 20 раз превосходящее рационы других упоминаемых в списках лиц, что, вероятно, свидетельствует о том, что ему — как высокопоставленной (царской) особе — было дозволено иметь приближенных, которых он должен был содержать. Вероятно, Навуходоносор какое-то время не исключал — при определенных условиях — возможности реставрации Йехойахина на иудейском троне. По мнению некоторых исследователей (начиная с У.Ф. Олбрайта), обнаруженные в различных частях Иудеи буллы с надписью «Принадлежит Элйакиму, управляющему Йаукина», т.е., по всей вероятности, Йехойахина, могут интерпретироваться в том смысле, что царские угодья, принадлежавшие Йе-хойахину, не были до времени конфискованы. Однако позднее по неизвестной
причине — возможно, из-за начавшихся волнений среди иудейских переселенцев в Вавилонии (ср. Иер. 29) или каких-то планов радикалов в восставшей при Цидкийаху Иудее (см. ниже) — Йехойахин был заключен в темницу. Только через тридцать семь лет, при сыне Навуходоносора Амел-Мардуке (562-560; библейский Эвил-Меродах), Йехойахин был освобожден и вновь удостоен почестей, приличествующих бывшему царю (2 Цар, 25:27-30; Иер. 52:31-34).
В первые годы своего царствования— согласно «Иудейским древностям» Иосифа Флавия (X, 108), первые восемь лет, т.е. приблизительно до 589 г. до н.э., — Цидкийаху оставался лояльным Навуходоносору (ср. Иер. 29:3-7, 51:59). Однако в какой-то момент— под давлением радикалов, прежде всего из священнического и светского нобилитета и придворных пророков, предсказывавших скорое падение Вавилона, и вопреки категоричным предупреждениям пророка Иеремии (см., например, Иер. 37:6-10, 38:14-28)— Цидкийаху восстал. Возможно, что непосредственным толчком к принятию этого трагического для Иудеи решения послужил визит в регион в 591 г. до н.э. фараона Псамметиха II (595-589), когда, как полагают, мог быть заключен антивавилонский союз.
Реакция Навуходоносора была решительной. Вавилонские войска методично уничтожали города Иудеи. В одном из так называемых Лахишских писем (см. выше), датируемом временем вавилонского наступления, офицер, пребывающий на сторожевом посту между Лахишем и Азекой (укрепленным городом, располагавшимся приблизительно в 18 км к северу от Лахиша), сообщает, что он видит сигналы из Лахиша (вероятно, дым днем и огонь большого костра ночью), однако сигналы из Азеки он и его люди более не видят (т.е. Азека уже, вероятно, пала). Это письмо, по всей вероятности, было отправлено в Лахиш вскоре после того момента в войне с вавилонянами, который охарактеризован в Иер. 34:7 следующим образом:
«Между тем войско царя вавилонского воевало против Иерусалима и против всех городов Иудеи, которые еще оставались, против Лахиша и Азеки; ибо из городов Иудеи эти только оставались, как города укрепленные».
Осада Иерусалима началась 15 января 588 г. до н.э. и длилась до 19 июля 586 г. до н.э. (2 Цар. 25:1-2; Иер. 39:1-2), когда вавилонянам удалось прорваться через городские стены в столицу Иудеи17. Во время раскопок в еврейском квартале Старого города был открыт фрагмент стены Иерусалима допленного периода, толщина которой достигала почти 7 м; обнаружены также фрагменты одной из защитных башен города данного периода. 30-месячная осада прерывалась лишь однажды, когда египетская армия попыталась отбросить вавилонян от стен иудейской столицы (Иер. 37:5), что не смогло спасти ситуацию. Царю Цидкийаху удалось покинуть Иерусалим, когда в него ворвались вавилоняне, однако он был схвачен на иерихонской равнине и приведен в ставку Навуходоносора в Рив-
17 В приводимых здесь датировках мы основываемся на том предположении, что в Иудейском царстве использовался гражданский календарь, согласно которому год начинался осенью, 1 тишри. Некоторые историки полагают, однако, что на последнем этапе истории допленной Иудеи здесь был принят календарь, согласно которому гражданский год начинался весной, 1 нисана, как это было в Вавилонии.
лу в Северной Сирии. На глазах царя были казнены его сыновья, а сам он был ослеплен и уведен в оковах в Вавилон. Были казнены также ряд высокопоставленных лиц Иудеи (2 Цар. 25:4-7, 19-21; Иер. 52:5-11).
Иерусалим методично разграблялся и разрушался вавилонянами. Археологи обнаруживают следы чудовищных разрушений в соответствующем слое.
«В пятый месяц, в седьмой день месяца — девятнадцатый год Навуходоносора, царя вавилонского — пришел Навузарадан, начальник телохранителей, слуга царя вавилонского в Иерусалим. И сжег Дом ГОСПОДЕНЬ и дом царя, и все дома в Иерусалиме; все дома большие сжег огнем; и стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И прочий народ, оставшийся в городе, и перебежчиков, которые предались царю вавилонскому, и прочий простой народ выселил Навузарадан, начальник телохранителей. (Только часть) из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами» (2 Цар. 25:8-12; см. также Иер. 52:12-16).
Сопоставляя даты, приведенные во 2 Цар. 25:8 и Иер. 52:12, можно предположить, что пожар, уничтоживший Иерусалим, длился три дня — с 15 по 18 августа 586 г. до н.э. Судя по Иер. 52:29, из Иерусалима было депортировано 832 человека.
«Над народом же, оставшимся в земле Иудеи, который оставил Навуходоносор, царь вавилонский, — над ними поставил начальником Гедалйаху, сына Ахикама, сына Шафа-на» (2 Цар. 25:22; 2 Хр. 36:20).
Как полагают, этот Гедалйаху может быть отождествлен с «Гедалйаху, начальствующим в доме», оттиск печати которого был обнаружен в Лахише. Административный центр вавилонского наместника располагался в Мицпе, которую обычно локализуют в Телль эн-Нацбе, приблизительно в 12 км к северу от Иерусалима. В Мицпу пришел и пророк Иеремия. Одним из первых мероприятий правления вавилонского наместника Гедалйаху было закрепление за неимущими крестьянами захваченных ими угодий изгнанных землевладельцев (ср.: 2 Цар. 25:24; Иер. 40:9-12). Через некоторое время, однако, — возможно, около 581 г. до н.э. (ср. Иер. 52:30)— Гедалйаху был убит родственником царя Цид-кийаху и ревностным роялистом Ишмаэлем, сыном Нетанйи, находившимся на службе у аммонитского царя Баалиса (вероятно, сокр. от Ба‘ал-йаша‘, как свидетельствует булла, обнаруженная в Телль эль-‘Умейри в Иордании). Были умерщвлены также многие пребывавшие в Мицпе иудеи и халдейский гарнизон. Группа оставшихся в живых иудеев уходит в Египет, насильно уводя с собой пророка Иеремию и его секретаря Баруха {Иер. 40-44; 2 Цар. 25:25-26). В Вавилонию на этот раз было депортировано 745 человек {Иер. 52:30).
В заключение данного очерка важно отметить, что, в отличие от Северного, Израильского, царства, в Иудею не были переселены представители других народов с территорий Нововавилонского царства, и она находилась в состоянии опустошения и запустения вплоть до возвращения иудеев из вавилонского плена (первая, небольшая группа переселенцев появляется в Иудее ок. 538 г. до н.э.).
Глава 7
НОВОВАВИЛОНСКАЯ ДЕРЖАВА.
ВАВИЛОНИЯ В ХП—VI вв. до н.э.
Вавилония в ХП—IX вв. до н.э.
При последнем царе касситской династии Эллиль-надин-ахи (1159-1157) Вавилония в течение трех лет вела войну с Эламом, где в это время правили сначала Шутрук-Наххунте, затем его сын Кутир-Наххунте. Война окончилась полной победой эламитов: Вавилония была завоевана чужеземцами, многие ее города разграблены, а Эллиль-надин-ахи вместе со знатными вавилонянами уведен в плен. Статуя Мардука, верховного бога вавилонян, была увезена из его храма Эсагила в Вавилоне в Элам. В одном более позднем вавилонском тексте говорится, что Кутир-Наххунте совершил еще более жестокие преступления, чем все его предки вместе взятые, и грехи его были еще более тяжкими, чем грехи его отцов, ибо «подобно потопу он низверг людей Аккада (т.е. Вавилонии) и оставил в руинах Вавилон и все остальные священные города». Так завершилось многовековое царствование касситской династии, и наместником Вавилонии был назначен эламский ставленник. При следующем эламском царе, Шилхак-Иншуши-наке, который был братом Кутир-Наххунте, Элам продолжал контролировать многие области Вавилонии. Шилхак-Иншушинак захватил также район к северу от р. Дияла и предпринял поход в область между Тигром и горами Загрос. При этих обстоятельствах к власти пришла Вторая династия Иосина, названная так по городу Лесину, откуда происходил первый царь этой династии, Мардук-кабит-аххешу (ок. 1156 — 1139). Он объединил вокруг себя вавилонян, боровшихся против эламского господства. Таким образом, благодаря географическому положению Лесина, находившегося на западном краю страны, инициатива в борьбе за независимость перешла в руки царей из этого города. Теперь Вавилония начала постепенно набирать силы, и позднее, при царе Нинурта-надин-шуми (ок. 1132 — 1127),
вавилонская армия даже вторглась в пределы Ассирии. А при его сыне Навуходоносоре I (1126-1105) наступил кратковременный расцвет Вавилонии. Около города Дер произошла ожесточенная битва между вавилонянами и эламитами, царем которых в это время был Хутелутуш-Иншушинак. Победителями оказались вавилоняне, которые затем вторглись в Элам и вернули в храм Эсагила статую бога Мардука, вывезенную оттуда по распоряжению Кутир-Наххунте. Эламу был нанесен такой удар, что после этой битвы в течение трех столетий (до 821 г. н.э.) эта страна вообще не упоминается в текстах из Месопотамии. Одержав решительную победу над Эламом, Навуходоносор стал претендовать на гегемонию над всей Вавилонией и напал на пограничные ассирийские крепости Занку и Иду, но, если верить «Синхронистической истории», написанной с ассирийской точки зрения, война эта была неудачной для вавилонян. Вероятно, именно при Навуходоносоре столица государства была перенесена из Иссина в Вавилон. Навуходоносор, а за ним и его преемники носили титул «царь Вавилонии, царь Шумера и Аккада, царь четырех стран света». Благодаря своей победе над эламитами Навуходоносор добился ореола героя и в глазах последующих поколений сохранял его. При Эллиль-надин-апли (1104-1101), сыне и преемнике Навуходоносора I, вавилонянам удалось сохранить свою независимость. Но когда царем стал Мардук-надин-аххе (1100-1083), ассирийская армия во главе с Тиг-латпаласаром I захватила Вавилон и сожгла царский дворец. Вскоре полукочевые племена арамеев и сутиев, жившие к западу от Евфрата, начали вторгаться в Ассирию и Вавилонию, грабить и разорять месопотамские города и селения. Теперь обе эти страны перед лицом общей опасности стали союзниками и в течение целого столетия (с середины XI до середины X в.) были заняты борьбой с непрерывно вторгавшимися волнами арамейских племен, гонимых в Месопотамию голодом. В результате этого наступил упадок Ассирии и Вавилонии, и история Вавилонии после Адад-апла-иддина (1069-1048) до конца Второй династии Иссина (1027 г. до н.э.) остается почти неизвестной, за исключением имен царей и дат их правления. Как окончилось правление династии Иссина, пока неясно. Поскольку север Вавилонии подвергался непрерывным вторжениям арамеев, гегемония оказалась в руках южан, и в 1026 г. до н.э. к власти пришла Вторая династия Приморья, первым царем которой был Симбар-шипак. Он носил титул «царь Вавилона» и претендовал на власть над всей страной. В 1007 г. до н.э. Симбар-шипак был убит, а его преемник Эа-мукин-зери продержался на троне всего пять месяцев, после чего к власти пришей Кашшу-надин-ахи. В 1004 г. до н.э. окончилось правление Второй династии Приморья. В 1003-984 гг. страной правили последовательно три царя из династии Бази (по названию местности), а затем, с 983 по 732 г., — еще две династии, однако история этого периода очень скупо отражена в источниках.
Структура общества послекасситского времени остается пока малоизвестной, и мы располагаем лишь отрывочными сведениями об отдельных сторонах общественной жизни. Вавилония была разделена на 14 административных областей, которые носили названия своих главных городов (например, область Иссин) или племени (например, Бит-Син-магир). Столицей государства начиная приблизи
тельно с конца XII в. являлся Вавилон. В экономике страны большую роль продолжало играть искусственное орошение: строили новые каналы, а старые содержались в образцовом порядке. Высшим судьей в стране был царь. Он владел обширными государственными землями, из которых выделялись наделы воинам за их службу. Кроме того, цари часто дарили земельные владения своим приближенным, а также храмам, освободив эти земли от податей и повинностей (сооружение каналов, дорог и т.д.). Но наряду с государственной и храмовой землей существовала также земля, которая являлась частной собственностью.
Армия состояла из колесничих, пехоты и конницы. В течение XII—XI вв. до н.э. решающую роль в войнах играли колесничие, и Навуходоносор I был обязан своим победам прежде всего этому роду войск. Однако пока неясно, составляли ли воины постоянную армию или это были ополченцы, которые созывались во время военных действий. Во всяком случае, при Навуходоносоре I имелись контингенты воинов, которые были размещены на восточных границах Вавилонии. Командиром всей армии считался царь. В период правления Второй династии Иссина происходит возвышение Вавилона и его верховного бога Мардука. До этого, при касситских царях, предпочтение отдавалось богу Энлилю и его главному храму Экуру, расположенному в Ниппуре.
В течение всего рассматриваемого периода продолжали составлять царские надписи на шумерском языке, задолго до того ставшем мертвым, и в школах изучали древние литературные произведения.
Вавилония под ассирийским владычеством (Vni-VII вв.)
В истории Месопотамии начиная с IX в. в течение нескольких столетий большую роль играли племена халдеев (калду), которым Вавилония была обязана в последующем (VII—VI вв.) своим экономическим расцветом, развитием сельского хозяйства, скотоводства, ремесла и международной торговли. Впервые халдеи упоминаются в 878 г. до н.э. в анналах ассирийского царя Ашшурнацира-пала II. Халдеи жили в районе болот и озер вдоль нижнего течения Тигра и Евфрата, между берегами Персидского залива и южными городами Вавилонии, т.е. на месте древнего Шумера. В текстах упоминается шесть халдейских племен. Самое многочисленное из них занимало территорию к югу от города Борсиппа (область Бит-Даккури), а еще южнее жило племя Бит-Амуканни. Область вдоль нижнего течения Тигра на границах с Эламом находилась в руках могущественного племени Бит-Якин. Халдеи вели полукочевой образ жизни и занимались скотоводством, рыболовством и земледелием. Они жили родами, под управлением своих вождей, и их племенные вожди стремились сохранить независимость как друг от друга, так и от ассирийцев, пытавшихся в VIII в. до н.э. овладеть Южной Вавилонией. Халдеи отказывались платить ассирийцам царские подати и нести государственные повинности, а также грабили караваны и совершали набеги на вавилонские города. В IX в. до н.э. халдеи прочно заняли южную часть
Вавилонии и начали постепенно продвигаться на север. Они стали воспринимать древнюю вавилонскую культуру и поклоняться верховному богу вавилонян Мардуку. К сожалению, мы не располагаем какими-либо сведениями о халдейском языке. Большинство собственных имен халдеев, упоминаемых в текстах, являются вавилонскими, хотя имеются и некоторые чужеземные имена. По всей вероятности, халдеи говорили на одном из диалектов арамейского языка. Однако в клинописных текстах халдеи всегда четко отличаются от арамейских племен (араму), живших вдоль Евфрата и в особенно большом количестве вдоль Тигра. Арамеи, составлявшие восточную ветвь западносемитских народов, играли большую роль в истории Ближнего Востока XII—IV вв. до н.э. С конца II тысячелетия до н.э. они начали вторгаться из Сирии в Месопотамию, и в последние десятилетия VIII в. до н.э. многие арамейские племена прочно осели на западных и северных границах Вавилонии. Ассирийские цари были бессильны помешать проникновению арамейских племен, да и в самой Ассирии происходил процесс постепенной арамеизации страны, и главный бог арамеев Син (бог Луны) стал самым почитаемым после Ашшура— верховного бога ассирийцев. При Шамши-Ададе V (823—811) ассирийцы часто вторгались в Вавилонию и постепенно захватили север страны. Этим воспользовались халдейские племена, которые завладели почти всей остальной территорией Вавилонии. Позднее, при ассирийском царе Адад-нерари III (810-783), Ассирия и Вавилония находились друг с другом в довольно мирных отношениях. В середине VIII в. до н.э. вавилонский престол занимали халдейские цари Эриба-Мардук и Набу-шума-ишкун, при которых постепенно начался подъем страны. В 747-734 гг. в Вавилонии царствовал Набонасар (Набу-нацир), которому удалось установить в центральной части государства стабильное правление, хотя остальную территорию страны он контролировал слабо. К этому времени Ассирия превратилась в самую могущественную страну Передней Азии. В 747 г. ассирийский царь Тиглатпаласар III под предлогом помощи Набонасару в борьбе против арамеев и халдеев вторгся в Вавилонию и, если верить ассирийским источникам, покорил арамейские племена на широкой территории — от Сиппара на севере до болот Персидского залива на юге, и наложил на них подать. После этого Тиглатпаласар принял титул «царь Шумера и Аккада», и Набонасар признал над собой его верховную власть. В 729 г. Тиглатпаласар захватил Вавилон, и с тех пор Вавилония на целое столетие потеряла свою независимость. Но Тиглатпаласар не превратил Вавилонию в обычную провинцию своей державы. За много веков он был первым ассирийским царем, который получил корону вавилонского царя из рук бога Мардука, исполнив древние священные обряды в день новогоднего праздника. Тиглатпаласар воцарился в Вавилонии под именем Пулу. При нем Вавилония во внутренних делах пользовалась значительной самостоятельностью, и позже некоторые его преемники также торжественно короновались в Вавилоне. В 727 г. Тиглатпаласар умер, и царем стал его сын Салманасар V, который до 722 г. царствовал в Вавилоне под именем Улулай. В северных городах Вавилонии жрецы, чиновники и вообще зажиточные слои городского населения, желавшие прочного мира и безопасности, постепенно превра
тились в опору ассирийского господства, а инициатива в борьбе за независимость перешла в руки халдеев, которых, по-видимому, поддерживали городские низы.
Когда в 721 г. ассирийским царем стал Саргон II, он оказался не в состоянии сохранить свою власть над Вавилонией. Вождь халдейского племени Бит-Якин Мардук-апла-иддин II (библейский Меродах-баладан, первый вавилонский царь, упомянутый по имени в Библии) захватил Вавилон и объявил себя царем всей страны. Это был один из самых выдающихся халдейских вождей, долго и упорно боровшихся против ассирийского господства. Впервые он упоминается при Тиг-латпаласаре III как подвластный ассирийцам царь области Приморья. Позднее, при Саргоне II, он в союзе с эламским царем Хумбанигашем выступил против ассирийцев. В 720 г. у крепости Дер, на границе между Ассирией и Эламом, произошло кровопролитное сражение между эламитами и ассирийцами. Мардук-апла-иддин намеренно явился на поле сражения со своим войском, когда битва уже кончилась и разгромленные ассирийцы начали отступать. После этого на целых десять лет Вавилония получила передышку, и с 721 по 710 г. Мардук-апла-иддин оставался царем этой страны. В 717 г. умер эламский царь Хумбани-гаш. Его племянник Шутрук-Наххунте (717-699), захвативший престол, остался верен военному союзу с халдеями. В 710 г. Саргон вторгся в Элам, и Шутрук-Наххунте бежал в горы. Затем ассирийцы обратились против Мардук-апла-иддина. Последний оказался не в состоянии защитить вавилонские города и начал отступать на юг. В 709 г. Саргон захватил Вавилон и торжественно короновался там. Если верить ассирийским анналам, Мардук-апла-иддин, узнав о победах Саргона, послал дорогие подарки эламскому царю Шутрук-Наххунте, надеясь найти у него убежище. Подарки были приняты, однако эламский царь, боясь гнева Саргона, запретил халдейскому вождю вступить в пределы Элама. В 709 г. Мардук-апла-иддин бежал в свою родную область Бит-Якин и, по-видимому, продолжал там царствовать, временно отказавшись от претензий на вавилонский престол. Саргон продолжал традиционную политику новоассирийских царей, стремившихся получить поддержку вавилонской знати, и в течение трех лет подарил вавилонским храмам 150 талантов золота и 1600 талантов серебра, большое количество меди и одежды для богов. В своих надписях Саргон утверждает, что Мардук-апла-иддин был чужеземцем, незаконно захватившим вавилонский трон. Но сам Мардук-апла-иддин считал себя посланником бога Мардука, освободителем Вавилонии от ассирийского господства. Он строил и ремонтировал храмы в Вавилоне, Ниппуре и других древних городах, дарил храмам земельные владения, и в течение его двадцатилетнего правления страна находилась в состоянии экономического расцвета. Органы государственной власти функционировали нормально, и сам Мардук-апла-иддин с уважением относился к традиционным правам жителей древних вавилонских городов. В 705 г. Саргон II умер, и царем Ассирии стал Синаххериб. К этому времени Мардук-апла-иддин, который контролировал оживленные караванные пути международной торговли, проходившие через область Бит-Якин, смог снова создать могущественную коалицию. Он заключил союз со всеми потенциальными врагами Ассирии и стал побуждать подвластные ассирийцам области к мятежам. С этой целью он, в част-
83. Оттиск печати с изображением бога Мардука и его дракона
ности, посылал письма и подарки иудейскому царю Езекии. Халдейские гонцы были хорошо приняты, и им была обещана поддержка, несмотря на предупреждение пророка Исайи о том, что в результате такой политики сокровища иудейского царя будут увезены в Ассирию, а его дети обращены в евнухов. В коалицию против Ассирии вступили также города Тир, Арад и Аскалон. Синаххериб решил разгромить своих врагов по отдельности и прежде всего обратился против Мардук-апла-иддина, который к 703 г. объединил вокруг себя города Южной Вавилонии, халдейские и частично арамейские племена, разбросанные по огромной территории. Эламский царь Шутрук-Наххунте принял богатые дары золотом, серебром и драгоценными камнями, посланные халдейским вождем, и предоставил в его распоряжение значительную помощь оружием и войсками. В том же, 703 г., Мардук-апла-иддин захватил Вавилон и сверг царя Мардук-закир-шуми II, являвшегося ассирийским ставленником. Тем временем развернулись ожесточенные сражения между ассирийской и эламской армиями, но Мардук-апла-иддин, верный своей политике избегать решающих битв, уклонялся от активного участия в военных действиях. Эламиты были разгромлены и бежали в свою страну. После этого удалось вытеснить и Мардук-апла-иддина из Вавилонии. Он бежал в недосягаемые для ассирийцев болота на юге Вавилонии, и в 702 г. Синаххериб посадил на вавилонский престол марионеточного царя Бел-ибни. В 700 г. Мардук-апла-иддин возобновил свой союз с эламитами. Синаххериб снова вступил в Вавилон, устранил Бел-ибни, который не оправдал его надежд, и затем двинулся против Мардук-апла-иддина. Но последний, опасаясь прямого столкновения с основными силами ассирийцев, бежал в болотистую область на юге Элама и после этого больше не упоминается в текстах. Тем не менее ассирийцам не удалось окончательно покорить занятые халдейскими племенами области. Синаххериб велел финикийским мастерам построить в городе Ниневия корабли, и в 694 г. эти корабли были спущены по Тигру до города Опи-са, а затем на катках доставлены к Евфрату. Там на них были погружены воины и снаряжение, после чего суда были снова спущены на воду. Флот достиг устья р. Керхе, войско, высадившись на сушу, захватило прибрежные эламские города и вернулось с добычей обратно. Но эламский царь ответил на это неожиданным набегом на Вавилонию с севера, захватил Сиппар и сжег его, а затем взял в плен сына Синаххериба, являвшегося наместником Вавилонии, и посадил на трон халдея Нергал-ушезиба. Через год, в 693 г., Синаххерибу удалось нанести у Ниппу-ра поражение объединенным силам вавилонян и эламитов. Нергал-ушезиб был захвачен в плен, а эламское войско отступило в свою страну. В 692 г. эламский царь Кутир-Наххунте был убит в результате дворцового переворота, а престол захватил его брат Хумбан-нимена II, который в ассирийских текстах назван Менану. В том же, 692 г. вавилоняне во главе с халдеем Мушезиб-Мардуком подняли восстание против ассирийцев, предварительно создав коалицию Вавилонии, Элама и всех племен Загроса (Парсуаш, Анзан/Аншан, Эллипи и т.д.), а также халдейских и арамейских кочевников на границах Ассирийской державы. Ядро этой армии составляли эламские и иранские колесничие, пехота и конница, союз которых был обеспечен с помощью золота, серебра и драгоценных камней, взятых из храмовой сокровищницы бога Мардука в Вавилоне. Объединенные силы
вавилонско-эламской коалиции, которыми командовал эламский царь Хумбан-нимена и его полководец Хумбан-унташ, вступили в жестокую битву с ассирийцами у местности Халуле на Тигре, недалеко от современного города Самарра. Ассирийцам не удалось одержать победу, но их противники понесли столь большие потери, что оказались не в состоянии использовать свой успех. В 690 г., воспользовавшись тем, что эламский царь был разбит параличом, Синаххериб двинулся на Вавилон и осадил его. В городе начал свирепствовать голод — за 2 л зерна надо было платить сикль серебра, в 75 раз больше обычной цены. Городские улицы и площади были полны трупами, которых некому было хоронить. В апреле 689 г. Вавилон был захвачен ассирийской армией, и вавилонский царь Мушезиб-Мардук попал в плен. Раздраженный постоянными военными стычками с халдеями, их внезапными атаками и проникновением на север страны, а также гибелью своего сына, Синаххериб решил учинить жестокую расправу. Вавилон был полностью разрушен. Дома частных лиц и храмы разграблены и затем до основания срыты, а население вырезано. Немногие уцелевшие от гибели жители были уведены в плен и проданы в рабство. Затем территорию разрушенного города затопили водой из каналов, чтобы в будущем невозможно было даже найти место, где находился Вавилон. Синаххериб оставил теперь Вавилонию без правителя, присоединив ее к Ассирии в качестве обычной провинции. В 680 г. царем Ассирии стал сын Синаххериба Асархаддон, который велел восстановить Вавилон и вернуть его уцелевших жителей. Перед своей смертью в 669 г. Асархаддон разделил Ассирийскую державу на две части. Ассирией стал править Ашшурбанапал, а Вавилонией — на правах вассального царя Шамаш-шум-укин. Фактически царство последнего включало лишь Вавилон и его ближайшую округу: Сиппар, Куту, Борсиппу и Дилбат. Остальные вавилонские города, в том числе Урук и Ниппур, находились в непосредственном подчинении у Ашшурбанапала. В мае 652 г. Шамаш-шум-укин установил тайную связь с Египтом, арабами и сирийскими правителями и отправил послов к халдейским вождям на юге Вавилонии и к эламскому царю Хумбанигашу II. В Элам были посланы также богатые дары. Халдейский вождь Набу-бел-шумати (внук упомянутого выше Мар-дук-апла-иддина) сразу перешел на сторону вавилонян, его примеру последовал эламский царь. Но ассирийцам удалось разбить вавилонско-эламские силы близ крепости Дер. Затем Ашшурбанапал пустил в ход интриги, и в 651 г. Хумбани-гаш был устранен путем переворота. Три года ассирийское войско осаждало вавилонские города, сохранявшие верность Шамаш-шум-укину. Летом 648 г. пал Вавилон, где во время долгой осады начались эпидемии и людоедство. Последние защитники города сгорели в огне. Добровольно в огонь бросился и погиб также сам Шамаш-шум-укин. Уцелевших жителей города ждала жестокая расправа. Вавилония была захвачена ассирийской армией, и в ее города поставлены крупные ассирийские гарнизоны. В 647 г. наместником Вавилонии был назначен некий Канда-лану, которому был дарован титул царя. Однако его власть распространялась лишь на Вавилон, Борсиппу, Сиппар и Урук, а остальная территория, включая город Ниппур, оставалась в непосредственном подчинении у ассирийского царя. В 627 г. Ашшурбанапал умер, оставив власть Ашшур-этил-илани. Затем в течение короткого времени царями были Син-шум-лишир и Син-шарри-ишкун.
Образование
Нововавилонской державы
Между тем вскоре после смерти Кандалану в Вавилонии вспыхнуло восстание против ассирийского господства. По словам исторической хроники, в течение целого года «в стране не было царя». В то время ассирийским наместником Приморья (или, возможно, просто независимым халдейским вождем) являлся Набопаласар (Набу-апла-уцур), который по происхождению был халдеем. В своих более поздних надписях он подчеркивает, что прежде был «маленьким человеком, неизвестным народу». Набопаласар решил, что настало подходящее время возобновить борьбу халдейских племен против Ассирии, и с начала 626 г. уже действовал как независимый царь. Но вначале он воздерживался от попыток захватить большие города и смог укрепить свою власть лишь на севере Вавилонии, а центр и юг страны сохраняли верность ассирийцам. Набопаласар восстановил традиционный союз халдейских племен с Эламом и затем напал на У рук, где располагался сильный ассирийский гарнизон. Захватить Урук не удалось, но Набопаласар нанес поражение преследовавшему его войско ассирийскому отряду. Осада Ниппура армией Набопаласара также была безуспешна. В городе были сильны проассирийские настроения, и во время многомесячной осады жители Ниппура даже продавали в рабство своих детей, чтобы спасти их от голодной смерти. В октябре 626 г. ассирийцы освободили Ниппур от осады и нанесли поражение войску Набопаласара. Но к этому времени жители Вавилона, выступавшие на стороне Набопаласара, прорвали кольцо блокады и нанесли ассирийцам поражение. 25 октября 626 г. Набопаласар был официально признан в Вавилоне «царем Аккада» и основал новую, халдейскую (или нововавилонскую), династию. Однако еще предстояла долгая и ожесточенная война с ассирийцами.
В 623 г. вавилоняне захватили ассирийскую крепость Дер и окружавшую ее территорию. В 616 г. ассирийцам пришлось оставить Урук, а через год пал и Ниппур, который более десяти лет ценой больших лишений и страданий сохранял верность ассирийскому царю. В 616 г. вавилонские воины поднялись по Евфрату до р. Хабур и затем оттеснили ассирийцев до устья р. Белих. Теперь почти вся территория Вавилонии оказалась в руках Набопаласара. Его успехи встревожили египетского фараона Псамметиха I, опасавшегося чрезмерного усиления Вавилонии. Он проявил готовность заключить военный союз с ассирийцами, бывшими поработителями своей страны, от господства которых египетский народ освободился лишь около 655 г. Но египтяне оказались не в состоянии оказать ассирийцам немедленную и эффективную помощь, а вавилоняне в 616 г. осадили ассирийскую столицу Ашшур. Правда, осада была безуспешной, и вавилоняне отступили от города с большими потерями. Но вскоре на Ассирию обрушился новый сокрушительный удар. В 614 г. мидийцы во главе со своим царем Киаксаром захватили ассирийскую провинцию Аррапху и двинулись в направлении Ниневии, окружив этот город. Ниневию взять не удалось, но мидийцы осадили и захватили Ашшур и истребили его жителей. Набопаласар, верный традиционной политике своих халдейских предков, явился со своим войском, когда битва окончилась и Ашшур был превращен в дымящиеся руины. Мидийцы и вавилоняне заключили
84. Стела из песчаника, посвященная перестройке Ашшурбанапалом храма Эсагила в Вавилоне
союз друг с другом, укрепив его династическим браком между Навуходоносором (Набу-кудурри-уцур), сыном Набопаласара, и Амитидой, дочерью Киаксара.
Падение Ашшура потрясло Ассирийскую державу до основания, но пока победители были заняты разделом добычи, ассирийцы снова смогли собраться с силами. В 613 г. ассирийское войско под руководством Син-шар-ишкуна продолжало военные действия в долине Евфрата и даже сумело нанести поражение вавилонянам. Но вскоре объединенные силы мидийцев и вавилонян осадили Ниневию, и через три месяца, в августе 612 г., город пал главным образом под ударами мидийских воинов, а затем был разграблен и разрушен. Ассирийский царь Син-шар-ишкун, по-видимому, погиб при штурме Ниневии, но часть ассирийского войска сумела пробиться в Харран в Верхней Месопотамии и там под руководством Ашшур-убаллита II продолжала войну. Тем временем мидийцы с львиной долей добычи вернулись к себе домой, предоставив вавилонянам завершить войну с ассирийцами. Фараон Нехо II послал помощь ассирийскому войску, укрепившемуся в Харране, но в 610 г. мидийцы вернулись и обрушились на Харран, а вслед за ними туда направились и вавилоняне, хотя их роль в захвате этого города была второстепенной. В Харране был оставлен вавилонский гарнизон. Через несколько месяцев, в 609 г., Нехо прислал сильное войско, а Ашшур-убаллит, перебив вавилонский гарнизон в Харране, двинулся на восток, намереваясь вернуть себе Ашшур. Однако двухмесячная осада не принесла успеха ассирийцам, и затем появился Набопаласар с основными силами, чтобы помочь осажденному войску. Вскоре после этого ассирийцы прекратили сопротивление, и многовековая борьба халдейских племен за освобождение Вавилонии наконец увенчалась полной победой. Нововавилонская держава стала наследницей Ассирийской империи на обширной части Ближнего Востока. В результате разгрома Ассирийской империи мидийцы захватили коренную территорию Ассирии и область Харран. Вавилоняне же захватили Месопотамию и готовились установить свой контроль над всеми областями к западу от Евфрата. Однако фараон Нехо считал, что территория Сирии и Палестины должна принадлежать Египту. Таким образом, на всем Ближнем Востоке осталось только три могущественных государства: Мидия, Вавилония и Египет. Кроме того, в Малой Азии было два не столь крупных, но независимых государства: Лидия и Киликия.
В первые годы после победы над ассирийцами Набопаласар вел войну в горах к югу от Урарту, которое теперь оказалось под властью Мидии, а весной 607 г. передал командование армией своему сыну Навуходоносору, взяв на себя управление внутренними делами государства. Перед Навуходоносором стояла задача захватить Сирию и Палестину, но сначала необходимо было захватить по пути в Сирию город Каркемиш на Евфрате, где находился сильный египетский гарнизон, часть которого составляли греческие наемники. Весной 605 г. вавилонское войско перешло Евфрат и одновременно с юга и севера напало на Каркемиш. Еще за городскими стенами началась жестокая битва, и скоро город превратился в пылающие руины, а египетский гарнизон был уничтожен до последнего человека. После этого большая часть Сирии и Палестины, т.е. почти все области между Евфратом и Египтом, без сопротивления подчинилась вавилонянам. Будучи в завоеванной Сирии, Навуходоносор в августе 605 г. получил известие о смерти
в Вавилоне своего отца. Он спешно направился домой и 7 сентября был официально признан царем. Той же осенью Навуходоносор вернулся в Сирию, где до февраля 604 г. был занят сбором дани с покоренного населения, а затем осадил и захватил финикийский город Аскалон (до нас дошло письмо на арамейском языке, по-видимому посланное царем Аскалона египетскому фараону, с мольбой о срочной помощи ввиду приближения вавилонской армии). В 601 г. войско Навуходоносора двинулось к египетским границам. В последовавшей битве обе стороны понесли тяжелые потери, после чего до декабря 599 г. Навуходоносор был занят реорганизацией своей армии. В начале 598 г. Навуходоносор совершил поход в Северную Аравию, где он, по-видимому, стремился захватить контроль над караванными путями. К этому времени царь Иудеи Иоаким, побуждаемый фараоном Нехо, отпал от Вавилонии. Навуходоносор осадил Иерусалим и 16 марта 597 г. взял его. Более 3000 иудеев было уведено в плен в Вавилонию, а царем Навуходоносор назначил Седекию. В декабре 595 — январе 594 г. в Вавилонии происходили волнения, вероятно исходившие от армии. Руководители мятежа были казнены, и в стране восстановился порядок. До нас дошел протокол судебного процесса над неким Баба-ах-иддином, одним из заговорщиков, дело которого было рассмотрено военным судом под председательством самого царя. Подсудимый был обвинен в государственной измене, нарушении присяги, данной царю, и казнен, а все его имущество конфисковано. Затем Навуходоносор снова направился в Сирию, чтобы собрать подать с покоренного населения. Вскоре новый египетский фараон Априй решил установить свою власть в Финикии и захватил города Газу, Тир и Сидон, а также уговорил иудейского царя Седекию поднять восстание против вавилонян. Навуходоносор решительными действиями оттеснил египетское войско к прежней границе и в 587 г., после 18-месячной осады, захватил Иерусалим. Теперь Иудейское царство было ликвидировано и присоединено к Нововавилонской державе в качестве рядовой провинции, и более десяти тысяч жителей Иерусалима (главным образом знать и ремесленники) во главе с царем Седекией уведены в плен. После этого Навуходоносор осадил Тир, жители которого в течение 13 лет (до 574 г.) оказывали упорное сопротивление. В 568 г. Навуходоносор во главе своей армии совершил поход против Египта, где в это время к власти пришел Амасис. По-видимому, поход был неудачным, и вавилоняне отступили на свою территорию, но теперь их господству в Сирии и Палестине никто больше не угрожал.
При Навуходоносоре Вавилония превратилась в процветающую страну. Это было время ее подлинного возрождения, экономического расцвета и культурного развития. Вавилон стал центром международной торговли. В стране было сооружено много каналов для орошения. В частности, около Сиппара создан большой бассейн, откуда вытекали каналы, с помощью которых регулировалось распределение воды во время засухи и наводнения. Реставрировались старые храмы и строились новые. В Вавилоне был выстроен новый дворец царя, а также семиэтажный зиккурат («Вавилонская башня», Этеменанки) и сооружены знаменитые висячие сады. Кроме того, вокруг Вавилона были воздвигнуты мощные фортификационные сооружения, чтобы обезопасить столицу от возможных вражеских нападений в будущем. Однако после смерти Навуходоносора II в 562 г. в стране на
чалась борьба между представителями халдейских и арамейских групп населения. Активно стало вмешиваться в политику и жречество, устраняя неугодных царей. В течение пяти лет сменилось три царя. В августе 559 г. Нергал-шар-уцур (Нериг-лиссар) захватил трон — пока неясно, с помощью дворцового переворота или после смерти Авель-Мардука (Эвиль-Меродах Библии), сына Навуходоносора II, как ближайший его родственник. Нергал-шар-уцур был зятем Навуходоносора и владел обширными землями около Вавилона, Урука и Описа. В 556 г. он предпринял поход в Киликию и дошел со своим войском до лидийской границы. В том же году Нергал-шар-уцур умер, и его малолетний сын Лабаши-Мардук после трех лет царствования был убит. Царем стал Набонид, который в отличие от своих халдейских предшественников на вавилонском троне происходил из арамейской среды.
Личность Набонида еще в древности привлекала внимание историков, и до сих пор в научной литературе относительно него продолжаются споры. В Ветхом Завете он назван «сумасшедшим царем», хотя его образ как последнего вавилонского правителя там перенесен на более известного Навуходоносора II. В легенде, сохранившейся в кумранских рукописях I в. до н.э., рассказывается, что Набонид в течение семи лет болел проказой, которая была возмездием, посланным за его грехи. В стихотворном тексте на аккадском языке, составленном вавилонскими жрецами после захвата страны персами, Набонид обвиняется в богохульстве и невежестве. Персидский царь Кир II в своем Цилиндре (надпись на глиняной табличке) на аккадском языке обвиняет Набонида в различных преступлениях против вавилонских храмов и народа. Многие современные исследователи называют Набонида «благочестивым ученым», «тихим археологом» и слабым царем, который в трудные для страны времена был занят восстановлением храмовых зданий по их старым планам. Но известный ассириолог Б. Ландсбергер высказал наиболее правдоподобное мнение, что Набонид стремился создать прочную державу, объединив все арамейские племена Передней Азии перед лицом надвигавшейся со стороны Ирана опасности. Биография Набонида известна плохо. Его отец Набу-балассу-икби, вероятно, был шейхом одного из арамейских племен. Большое влияние на Набонида оказывала его мать Адда-гуппи, которая, по всей вероятности, была жрицей в храме Сина (бог Луны) в Харране и после захвата этого города мидийцами бежала со своим сыном в Вавилон. Судя по некоторым сведениям, при Навуходоносоре II и Нергал-шар-уцуре Набонид выполнял различные дипломатические поручения. После прихода к власти Набонид, как это видно из его надписи, объявил, что он стал царем по призыву бога Мардука и является законным продолжателем политики Навуходоносора и Нергал-шар-уцура, а Лабаши-Мардук и Авель-Мардук были богоотступниками. Таким образом, Набонид изображал себя хранителем традиций наиболее прославленных нововавилонских царей. Он поклонялся традиционным богам вавилонян Мардуку, Набу, Нергалу, Шамашу и т.д., но постепенно на первое место стал выдвигать культ бога Луны Сина, жрицей которого была его мать. Это привело к конфликту с жречеством древних вавилонских храмов в Вавилоне, Борсиппе, Ларсе, Уруке и других городах. Следует также учесть, что бог Луны Набонида в действительности не являлся традиционным вавилонским богом Сином, а был скорее по своей символике и формам поклонения арамейским
считались равноправными. Все полноправные граждане могли стать рабовладельцами, но фактически лишь часть их имела рабов.
Привилегии граждан крупных вавилонских городов, дарованные им еще в новоассирийское время (освобождение от податей и повинностей, в том числе и военной службы, запрет незаконного ареста и т.д.), частично были отменены халдейскими царями, хотя вплоть до времени персидского царя Ксеркса (486-465) граждане сохраняли большое влияние в органах местного самоуправления. В связи с посвящением своей дочери в храм Экишнугал в Уре царь Набонид даровал этому святилищу освобождение от повинностей и установил определенные привилегии. Однако этот указ, по-видимому, коснулся не всех жителей Ура, а лишь узкой группы храмовых чиновников и жрецов. Некоторые тексты содержат намеки на социальные волнения. Так, в одном литературном тексте, свидетельствующем о введении новых законов и относящемся, по всей вероятности, ко времени того же Набонида, утверждается, что до его воцарения люди «пожирали друг друга как собаки, сильный грабил слабого», судьи брали взятки и не защищали бедных, властелины обижали калек и вдов, ростовщики ссужали деньги за высокие проценты, многие вторгались в чужие дома и захватывали поля, принадлежащие другим. В одной из харранских надписей Набонида также говорится, что жители Вавилона, Борсиппы, Ниппура, Ура, Урука, Ларсы и других городов «пожирали друг друга подобно собакам». Конкретные исторические события, которые имеются в виду в приведенных надписях, нам плохо известны. По-видимому, эти тексты намекают на события, связанные с недовольством политикой Набонида со стороны жителей вавилонских городов, которые, однако, не составляли единого лагеря, а вели междоусобную борьбу. Судебная власть принадлежала царским судьям, народному собранию полноправных граждан и храмовой администрации. Высшей судебной инстанцией являлся царь. Многовековая конкуренция между царским судом и народным собранием при халдейских царях закончилась дальнейшим ослаблением последнего; его юрисдикции теперь подлежали в основном имущественные споры и отдельные преступления местного характера. В тех случаях, когда дело рассматривалось народным собранием, судебным процессом часто руководили высшие храмовые чиновники, так как храм являлся центром общины. Народные собрания рассматривали гражданские и уголовные дела, в том числе и такие, которые не имели прямого отношения к храмам, однако эти решения могли быть обжалованы в царском суде. Нередко судебная власть храма распространялась не только на лиц храмового персонала, но и на людей, к нему не относящихся. Однако в решении важных дел народные собрания подчинялись царским судьям, получая от них различные предписания, а также были обязаны снабжать этих судей необходимой информацией. Царские суды выносили решения по наиболее важным делам, в частности, их компетенции обычно подлежали дела об убийстве, не говоря о мятежах и заговорах. Суд обычно состоял из коллегии от пяти до семи человек. Иногда состав суда был смешанным, в таких случаях он состоял из царских судей и старейших полноправных граждан. В Сиппаре председателем царского суда являлся верховный жрец храма Эбаббарра (святилище бога Солнца Шамаша), которому были предоставлены широкие юридические полномочия, так
богом. По-видимому, Набонид стремился создать державу, где место Мардука как верховного бога занял бы Син.
Однако конфликт между Набонидом и жречеством вавилонских городов созрел не сразу. В течение многих лет он был занят активной политикой на западе своей державы, стремясь объединить вокруг себя многочисленные арамейские племена. В 553 г. Набонид, воспользовавшись войной между Мидией и Персией, захватил Харран, принадлежавший мидийцам, и велел восстановить разрушенный во время войны с ассирийцами в 609 г. храм бога Сина Эхульхуль, который вскоре был торжественно освящен. Укрепив свое положение в Сирии, Набонид захватил область Тейма в северной части Центральной Аравии, а в 549 г. перенес туда и свою резиденцию на целых десять лет, оставив власть в Вавилоне своему сыну Бел-шар-уцуру (известному в Библии как Валтасар). Арабские области имели для Набонида большое значение, так как к середине VI в. до н.э. Персидский залив у берегов Месопотамии был занесен песком и морская торговля через гавани города Ура стала невозможной, а перевозка товаров по суше стоила дорого и требовала много времени. Поэтому торговый путь по пустыне через оазис Тейма в Египет имел большое значение для Вавилонии. К 546 г. прекратилось и долгое соперничество между Египтом и Вавилонией, так как правители обеих стран понимали, что им необходимо готовиться к нападению со стороны персов. Однако все усилия Набонида, направленные к отражению персидской опасности, оказались обреченными на неудачу. Вавилонское царство от Средиземного моря до Персидского залива было блокировано персами, которые уже захватили Мидию, Лидию и многие другие страны. Внутри самой Вавилонии влиятельные жреческие круги, недовольные политикой Набонида, готовы были помочь любому врагу последнего и ждали прихода персов как спасителей. В октябре 539 г. Вавилония была захвачена персами и с этого времени навсегда утратила свою независимость (см. подробно в гл. X).
Общество и экономика Нововавилонской державы
В административном отношении Вавилония была разделена на провинции, которые большей частью воспроизводили старую халдейско-арамейскую племенную структуру. Это области Пукуду, Даккуру, Амуканни и т.д. Чиновники государственного аппарата получали от царя жалованье нечеканным серебром, а многим категориям выдавалось также и натуральное довольствие (зерно, финики, растительное масло, шерсть и т.д.).
Вавилонское общество состояло из полноправных граждан (марбани — доел, «сыновья прекрасных»), различных групп зависимого или полусвободного населения и, наконец, рабов. Полноправные граждане являлись членами народного собрания, которое имело судебную власть в решении семейных и имущественных дел. К числу полноправных граждан относилась как знать (высшие государственные и храмовые чиновники, представители крупных деловых домов и т.д.), так и основная часть трудового населения (земледельцы и ремесленники), включая и беднейшие слои свободного населения. В юридическом отношении все они
как он одновременно был и наместником этого города. Продажа домов и земельных владений часто производилась в присутствии храмовых чиновников, а многие частноправовые документы о купле-продаже, аренде и т.д. составлялись в присутствии царских судей.
Нововавилонское право, по-видимому, поощряло письменную фиксацию заключаемых сделок. Контракты составлялись профессиональными писцами в присутствии свидетелей (обычно от трех до десяти и более человек) в двух экземплярах по определенным образцам, и каждая из сторон получала по одному экземпляру. Начиная с нововавилонского времени в документах подчеркивается, что контрагенты вступают в сделку добровольно. В отличие от строгого единообразия старовавилонского времени в I тысячелетии до н.э. появляется много различных шаблонов, в том числе и в форме диалога; последние особенно широко распространились в V в. Документы о продаже движимого (рабы, скот) и недвижимого (в основном поля и дома) имущества составлялись по различным образцам. В контрактах указываются условия сделки, место и дата составления документа и определяется наказание (обычно штраф) за возможное нарушение условий контракта. К документам прилагаются печати свидетелей и контрагентов (последние обычно оставляют оттиски своих ногтей).
Брачное право I тысячелетия до н.э. значительно отличается от старовавилонского. Женщина пользовалась большой независимостью и могла иметь свое имущество, которым распоряжалась свободно (дарила, продавала, обменивала, отдавала в аренду и т.д.). После смерти мужа его вдове, даже если она не родила детей, по закону необходимо было выделить часть имущества покойного. В то же время в качестве свидетеля при заключении контрактов женщина, по-видимому, не могла выступать. В тех случаях, когда речь шла об отчуждении имущества женщины с ее согласия мужем, сыном или другим близким родственником, она часто присутствовала при заключении соответствующей сделки. Однако контрагентом женщина могла выступать, а также, по-видимому, нередко имела и личную печать. Должностными лицами женщины являлись только в единичных случаях. Семья, как и в старовавилонское время, в основном оставалась моногамной, и мужчина, который брал вторую жену, обычно должен был уплатить высокий штраф в пользу первой, если только она не была бездетной.
Храмы являлись крупными землевладельцами и рабовладельцами, занимались ростовщическими операциями и торговлей. Структура храмового управления лучше всего известна по данным архива храма Эанна в Уруке, посвященного богине Иштар. Высшее правление Эанны состояло из царского наместника в Уруке, председателя совета правления храма, его заместителя, управляющего храмом и писцов. Таким образом, функции их носили административный, а не культовый характер. При Набониде в 553 г. до н.э. влияние государства на храмовое управление усиливается, в состав правления были введены царский уполномоченный, а также заведующий царской кассой, который являлся государственным фискальным агентом в храме. В документах часто упоминается также «писец царя, назначенный в Эанну», который контролировал счетное дело в храме. Начиная со времени Набонида большинство дел храма решается совместно тремя лицами: управляющим храмом, его заместителем и царским уполно
моченным. Поэтому они называются в документах «полномочными (представителями)». Наиболее важные вопросы решало собрание полномочных чиновников храма и представителей полноправных граждан. Более или менее аналогичная структура управления была характерна и для таких крупных святилищ, как храм верховного государственного бога в Вавилоне (Эсагила), Шамаша в Сиппаре (Эбаббарра), бога Набу в Борсиппе (Эзида) и т.д.
Крупным источником храмовых доходов были различные подати, самой значительной из которых являлась десятина. В большинстве случаев ее уплачивали ячменем и финиками, но нередко также серебром, полбой, сезамом, шерстью, одеждой, мелким и крупным рогатым скотом, птицей, рыбой, металлическими изделиями и т.д. Десятина приблизительно соответствовала десятой части доходов налогоплательщиков. По-видимому, ее платили все жители страны. Каждый уплачивал ее со своих доходов тому храму, близ которого он имел землю или другие источники дохода. Десятину платили земледельцы, пастухи, садовники, пекари, а также различные чиновники, в том числе и храмовые. Ремесленники тоже обязаны были платить десятину с продажи своих изделий. Остальные жители страны платили десятину с садов и полей, с приплода скота, с овечьей шерсти, с арендованных участков земли и других доходов. Что же касается государственных податей, то мы располагаем о них лишь скудной информацией. Судя по отрывочным данным, граждане должны были платить в царскую казну десятую часть своих доходов.
Во внутренней торговле в Вавилонии расчеты производились не чеканной монетой, а слитками серебра в виде брусочков, стержней, проволоки и т.д. Эти слитки содержали различные доли примеси. Чаще всего в текстах упоминается серебро с % долей примеси, а также «белое серебро» и «очищенное серебро». Гораздо реже упоминается серебро с долей примеси 'л. Чо,1 /24. Слитки сопровождались штампами с указанием пробы и каждый раз при уплате взвешивались. Золото было товаром и не употреблялось в качестве денег. Соотношение золота к серебру составляло приблизительно 1 к 13 !/3. В тех случаях, когда монеты попадали в обращение в Вавилонии, они тоже принимались по весу как нечеканен-ный металл. По-видимому, и частные лица имели право изготовлять слитки серебра, придав им соответствующую форму. Храмы и дворец выработали определенную технику для реализации больших сумм податей, добровольных даров и других доходов. Уплата податей осуществлялась серебром довольно плохого качества. Чтобы достичь необходимого единообразия, серебро направлялось в храмовые и государственные мастерские для очищения и переплавки в слитки стандартного веса и качества, после чего эти слитки отправляли в сокровищницы.
В нововавилонское время торговля лишь частично оставалась в руках профессиональных купцов — тпамкаров. В текстах упоминаются торговцы финиками, скотом и т.д., что свидетельствует о специализации среди них. Некоторые из купцов занимались и международной торговлей, в частности вывозом квасцов из Египта и продажей их в Вавилонии. Внутри страны тамкары занимались работорговлей, куплей-продажей скота, ячменя, фиников, рыбы, фруктов, золота и т.д. На роль купца в вавилонском обществе I тысячелетия до н.э. значительное
влияние оказали большие изменения в экономической жизни страны по сравнению с предшествующим тысячелетием. Теперь торговлей могли заниматься не только профессиональные купцы и их агенты, но и любые частные лица. Это особенно относится к внутренней торговле Вавилонии, о которой мы располагаем весьма обильной информацией. Оживленной стала торговля и между различными частями страны, которая главным образом осуществлялась по рекам на лодках. Большое влияние в торговле имели коммерческие товарищества, когда два или несколько человек совместно занимались торговлей, деля между собой выручку и убытки.
В экономике Вавилонии VII-V вв. до н.э. значительную роль играли могущественные предпринимательские дома, которые владели большими земельными массивами, десятками рабов и многочисленными постройками, расположенными в различных городах. Наиболее древним среди таких предпринимателей был дом Эгиби. Он функционировал еще до персидского завоевания (самое раннее упоминание о нем относится к 715 г.; регулярно фигурирует в документах между 690 и 480 гг.) и продолжал свою деятельность и в VI-V вв., т.е. в период царствования Кира, Камбиза и Дария I, продавая, покупая и обменивая дома, поля, рабов и т.д. Наряду с этим дом Эгиби занимался и профессиональными банковскими операциями, а именно был заимодавцем, принимал на хранение вклады, давал и получал векселя, уплачивал долги своих клиентов, финансировал и основывал коммерческие товарищества. Но члены дома Эгиби, как и другие вавилонские предпринимательские дома, не отдавали в кредит вклады, которые были отданы им на хранение, а оперировали с помощью собственных средств. Вкладчиками дома Эгиби были придворные или лица, с которыми Эгиби были связаны деловыми интересами. Как в халдейское время, так и при Ахеменидах некоторые из членов дома Эгиби находились на царской службе, играя большую роль не только во внутренней, но и во внешней торговле.
Особенно оживленной стала торговля Вавилонии с Египтом, Сирией, Эламом и Малой Азией, где вавилонские купцы покупали железо, медь, олово, золото, серебро, строительный лес, вино, фрукты и т.д. Вавилония наряду с Египтом являлась поставщиком хлеба в страны Ближнего Востока, во всяком случае в Элам. Кроме того, вавилонские города являлись крупными центрами по изготовлению шерстяной одежды, которая пользовалась большим спросом в Эламе.
Что же касается дома Мурашу, занимавшегося торговыми и ростовщическими операциями в Южной и Центральной Вавилонии в V в. до н.э. (в документах засвидетельствованы три его поколения), то характер его деятельности был обусловлен изменениями, внесенными персами в режим функционирования собственности в Вавилонии. Земельные наделы были распределены между персидскими вельможами и коллективами воинов и чиновников, которые сами не являлись земледельцами и поэтому отдавали землю для обработки другим лицам. Дом Мурашу брал в аренду эти наделы, платил их владельцам арендную плату и вносил за них в казну государственные подати. Однако Мурашу редко обрабатывали эту землю силами принадлежавших им рабов, а сдавали ее обычно в субаренду, снабжая арендаторов рабочим скотом, семенами, орудиями производства и водой для орошения. Другими словами, дом Мурашу главным образом являлся учреждением сельскохозяйственного кредита и управлял фондами наделов, бу
дучи посредником между землевладельцами и сельскохозяйственными работниками. Лишь в одном календарном 423/422 году доходы Мурашу одними только финиками равнялись 20 000 кур (ок. 48 200 гектолитров), или в денежном исчислении 350 кг серебра. Как и современные банкиры, дом Мурашу работал с помощью чужих средств. Но между теми и другими имеется поразительная разница: у Мурашу эти средства— недвижимое имущество, а не деньги. Если банк контролирует многочисленные мелкие капиталы, чтобы вложить необходимые средства в коммерческие и промышленные предприятия, то Мурашу делали как раз обратное: брали в аренду большие земельные наделы и сдавали их мелкими участками в субаренду. В отличие от дома Эгиби, который вкладывал капиталы в коммерческие товарищества, Мурашу не играли никакой роли в международной торговле. Однако поступавшие к ним продукты земледелия (финики, ячмень и т.д.) Мурашу продавали внутри страны и уплачивали государственные подати серебром. Таким образом, дом Мурашу одновременно являлся банком, распорядителем земли и коммерческим предприятием. Деятельность Мурашу пагубно отражалась на экономике страны, так как вела к разорению землевладельцев. Если вначале дом Мурашу давал ссуду предпринимателям, то через несколько десятилетий он все более и более стал занимать их место, сосредоточивая в своих руках землю.
В VI в. до н.э. цены на основные предметы потребления в среднем находились на следующем уровне: 1 кур (180 л) ячменя или фиников стоил 1 сикль серебра, 1 кур сезама— 10 сиклей, 1 талант (30 кг) соли— 1 сикль, 1 мина (500 г) шерсти— % сикля. Вол стоил около 40 сиклей, овца— 2 сикля, осел — 30 сиклей. Хотя металл являлся предметом импорта, он стоил сравнительно дешево. Например, 10 талантов меди, привезенной с Кипра, было продано за 3 мины % сикля, 37 мин свинца— за 55 % сикля, 3 таланта 53 мины египетских квасцов— за 1 мину 2/3 сикля. Но цены на строевой лес по-прежнему были высоки. Лодка стоила 1 мину и выше, дом — от 2 до 5 мин. Средняя годовая арендная плата за дом составляла около 12 сиклей. В нововавилонское время цены постепенно повышались, как повышались они и в течение многих веков до этого. После захвата Вавилонии персами в экономической жизни страны не произошло внезапных изменений. Цены на различные товары и продукты питания вначале оставались на прежнем уровне и к концу ахеменидского времени повысились приблизительно в полтора раза. Такое постепенное повышение цен характерно для Вавилонии на протяжении всей ее истории и само по себе вовсе не свидетельствует об упадке экономики или о понижении жизненного уровня, так как оно, в частности, связано с увеличением количества поступавшего в обращение серебра, которое играло роль денег. Нельзя также упускать из виду, что с ростом цен соответственно (или несколько выше) росла и плата за труд. Однако возможно, что на рост цен при Ахеменидах влиял и тот фактор, что административный аппарат стал более многочисленным, чем прежде.
Основной отраслью производства в Вавилонии, как и на всем Древнем Востоке, являлось сельское хозяйство, которое в общих чертах можно охарактеризовать следующим образом. Вся обрабатываемая земля была точно измерена, как об этом свидетельствуют кадастровые тексты, и значительная часть ее принад
лежала храмам, членам царской семьи, крупным предпринимателям, военной знати, чиновникам царской и храмовой администрации, а мелкие землевладельцы (в том числе и ремесленники) обычно имели, особенно близ больших городов, небольшие участки от 1/3 гектара до нескольких гектаров. Земля стоила дорого, и поэтому более рентабельным занятием считалось садоводство (главным образом разведение финиковых пальм). Наиболее распространенной зерновой культурой являлся ячмень, но кроме него сеяли также полбу, пшеницу, сезам, горох, лен и т.д. Плотность посева равнялась в среднем 1 кур (180 л) ячменя на 1 кур (13 500 м2) земли, т.е. 133,3 л, или около 80 кг, на гектар. Урожай ячменя колебался от 935 до 4050 л с гектара, но в среднем составлял приблизительно 1890 л, а сообщения Геродота (I, 193) и Страбона (XVI, 1, 4) о том, что в Вавилонии урожай достигал сам-200-300, являются сильным преувеличением. Урожай собирали с конца апреля до конца июня. Наряду с ячменем главным продуктом питания являлись финики. Средняя урожайность с 1 кура земли составляла около 49 кур фиников. Молодые пальмы начинали плодоносить на шестой год после посадки. Осадков выпадало мало, и поэтому большое значение имело искусственное орошение, при котором благодаря естественным отложениям не было необходимости удобрять землю. В стране было много каналов, которые принадлежали государству, а в некоторых случаях — храмам. За особую плату водой из этих каналов могли пользоваться все землевладельцы.
Мелкие землевладельцы обрабатывали свои участки обычно сами вместе с членами семьи. Храмы, царь и другие крупные землевладельцы сдавали землю полностью или большую ее часть в аренду. Арендная плата была двух видов: либо размер ее устанавливался заранее, при заключении контракта, и зависел от качества земли, а плата вносилась натурой или деньгами, либо же владелец получал % урожая, а арендатор — 2/3. Контракт обычно заключался на один год, а если земля была заброшенной — на три года. С такой земли в первый год арендатор ничего не платил владельцу, на следующий год — только часть обычной платы, а в третий год — нормальную для данной области долю урожая. Часто землю отдавали в аренду большими массивами крупным арендаторам, которые, в свою очередь, распределяли ее мелкими участками между субарендаторами. Нередко два или несколько человек брали землю в аренду совместно. Кроме того, в сельском хозяйстве широко использовался труд наемников, которых обычно нанимали на время уборки урожая.
Новоассирийские цари по своей прихоти меняли режим земельной собственности. Например, Ашшурбанапал отнял у жителей Урука большую часть их земель и передал эти земли храму Эанна, что привело к большим аграрным и экономическим изменениям. Хотя еще оставались и частные владения, наибольшая часть урукских земель перешла Эанне. Часть земель в сельской округе Урука принадлежала лицам, которые проживали в других городах. В свою очередь, Эанна владела латифундиями в Мараде, Сиппаре и в Приморье, а некоторые храмы из других городов (например, храм Эбаббарра в Сиппаре) имели земли в Уруке. Наконец, в Уруке существовали владения, которые обрабатывались непосредственно в пользу царя. В нововавилонское и ахеменидское время земля в большинстве случаев находилась в собственности тех земледельцев, которые
ее обрабатывали, если они не являлись военными колонистами, посаженными царем на землю, или арендаторами. Поэтому, очевидно, в этот период еще не было теории о верховной собственности на землю. Во всяком случае, землю свободно, без разрешения царя, продавали, закладывали, дарили и т.д., как об этом свидетельствуют сотни документов. Тексты не содержат почти никаких данных о применении труда частновладельческих рабов в сельском хозяйстве, за исключением тех случаев, когда рабы выступают в качестве арендаторов. Рабы самостоятельно или вместе со свободными или другими рабами арендуют у своих хозяев, а также у других лиц (включая рабов) поля вместе с необходимыми семенами, рабочим скотом и инвентарем. Условия аренды, естественно, не отличались от тех, которые характерны для контрактов между свободными. Крупные землевладельцы предпочитали обращаться к услугам свободных арендаторов, сдавая им землю по частям небольшими парцеллами, так как применение рабского труда требовало постоянного надзора и соответственно вызывало большие расходы. Поэтому в Вавилонии не было настоящих латифундий, за исключением храмовых, и наличие крупного землевладения сочеталось, что весьма характерно, с мелким землепользованием. В тех случаях, когда крупные землевладельцы прибегали к помощи своих рабов, они либо выделяли им землю для самостоятельного ведения хозяйства на правах пекулия, либо (чаще) сдавали ее в аренду. Интересную картину дают документы о деятельности предпринимательской семьи Эгиби. Мы по именам знаем десятки рабов этой семьи, знаем и основные вехи биографий многих из них. Однако среди них трудно найти таких, которые работали бы на земле как подневольные люди. Очевидно, Эгиби считали, что такое использование рабов было невыгодным либо просто невозможным. Среди рабов Эгиби лишь немногие работают на земле, выделенной им в качестве пекулия, или же как арендаторы. В то же время десятки документов свидетельствуют о том, что Эгиби сдавали свои обширные земли свободным арендаторам. Может, конечно, возникнуть вопрос: чем занимались рабы Эгиби, если они в массе своей не обрабатывали землю? Но ответить на этот вопрос довольно просто: значительная часть рабов находилась на оброке и они имели свое хозяйство, а некоторых рабов отдавали внаем другим лицам. Но еще более существенно следующее. При разделе имущества семьи Эгиби упоминается около ста рабов. Однако не следует переоценивать эту цифру, так как разделу подлежали еще, в частности, 16 домов и других построек, расположенных в Вавилоне и Борсиппе. Для обслуживания этих домов и связанного с ними домашнего хозяйства надо было иметь немало рабов. Таким образом, в крупных частновладельческих хозяйствах Вавилонии рабский труд ввиду его недостаточной эффективности находил лишь ограниченное применение и не мог конкурировать с трудом свободных арендаторов.
Правда, на храмовых полях рабы работали в сравнительно большом количестве. Но, во-первых, этих рабов было явно недостаточно для ведения хозяйства, и они обрабатывали лишь часть храмовых земель. Поэтому храмовой администрации часто приходилось обращаться к услугам сезонных наемных работников, привлекая их даже из других городов. Во-вторых, храмы иногда сдавали землю в аренду частновладельческим или своим рабам. Но нередко они предпочитали пользоваться услугами крупных сборщиков арендной платы. В ряде таких случа
ев речь идет об огромных земельных владениях, откуда выплачивалась арендная плата в сотни тысяч литров зерна и фиников. Сборщики арендной платы частично сдавали эти земли мелкими участками в субаренду, а другую часть их обрабатывали зависимые от храма земледельцы, которые назывались иккару. Они были посажены на храмовую землю и составляли промежуточную между свободными и рабами социальную группу. Таким образом, хотя в храмовых хозяйствах рабы были заняты в земледелии, труд их не мог удовлетворить все запросы храмового производства. К тому же храмовые рабы причиняли много хлопот своими частыми побегами, нежеланием работать, и за ними требовался постоянный надзор. В этом отношении характерны письма храмовых чиновников своим начальникам, в которых они, во-первых, просят прислать деньги для уплаты наемникам, ибо иначе те бросят работу. Во-вторых, отправители писем просят прислать кандалы для храмовых рабов, часть которых уже бежала. Наемники были заинтересованы в работе, когда они своевременно получали плату, а рабы (особенно когда они заняты на тяжелых работах, например на возведении оросительных сооружений) делали все возможное, чтобы уклониться от работы.
Мы не располагаем никакими сведениями о применении труда рабов в царских полевых хозяйствах в Вавилонии. Царские земли, как правило, сдавались в аренду. Да и сами размеры царского хозяйства в Вавилонии этого времени были невелики. В фактической собственности царя находился лишь сравнительно незначительный земельный фонд, управление которым было основано на принципах частновладельческого хозяйства. Царские поля упоминаются лишь в единичных документах, и, судя по имеющимся текстам, их сдавали в аренду.
Все сказанное заставляет прийти к выводу, что в Вавилонии VII-VI вв. до н.э. рабский труд не играл решающей роли в сельском хозяйстве и по сравнению с трудом мелких земледельцев и свободных арендаторов применялся в ограниченных масштабах. Рабов было в несколько раз меньше, чем свободных, и их труд по сравнению с трудом свободных играл второстепенную роль. Этим объясняется и тот характерный факт, что, когда Навуходоносор II после долгой осады захватил Иерусалим и насильственно депортировал в Вавилонию более десяти тысяч жителей этого города, они были посажены на землю, но не были обращены в рабство. Сектор принудительного труда в Вавилонии в отличие от рабовладельческой экономики Рима в эпоху начала империи оказался не в состоянии поглотить такую массу военнопленных.
В текстах нововавилонского времени квалифицированные рабы-ремесленники (формовщики кирпичей, ткачи, кузнецы, медники, пекари и т.д.) упоминаются гораздо чаще, чем в предшествующие периоды. Из этого можно сделать вывод, что в Вавилонии рассматриваемого времени было сравнительно много рабов-ремесленников. Это объясняется ростом производства и международной торговли и соответствующим увеличением количества ремесленников как среди свободных, так и среди рабов. Но даже в нововавилонское время рабский труд не играл решающей роли в ремесле и не был в состоянии вытеснить труд свободных, особенно в области квалифицированного ремесленного производства. Свободные ремесленники заключали с разными лицами контракты на изготовление за соответствующую плату различных изделий из своего сырья или из сырья за
казчика. Они работали дома, в своих мастерских. К ремесленникам обращались с заказами на изготовление мебели, утвари, дверей, одежды, строительство и ремонт домов и лодок, формовку и обжиг кирпичей и т.д. Кроме того, ремесленники нередко продавали свои изделия на рынке. Из документов храмовых архивов видно, что храмы располагали определенным, но довольно ограниченным количеством своих рабов-ремесленников, которые не в состоянии были удовлетворить все потребности храмового производства. Храмовая администрация в течение круглого года вынуждена была часто обращаться к свободному ремесленному труду: ювелиров, пивоваров, пекарей, кожевников, кузнецов, плотников, ткачей и др. Нередко храмы обращались и к ремесленникам из других городов. Это, очевидно, объясняется тем, что в своем городе невозможно было найти достаточное количество ремесленников. Так, например, ряд документов архива храма Эбаббар-ра в Сиппаре фиксирует выдачу продовольствия «ремесленникам, которые прибыли из Вавилона». Относительно статуса этих ремесленников не возникает сомнений: они работали добровольно, по договору, и за свой труд получали плату деньгами и продовольствием — финиками, ячменем, мукой, пивом и т.д. в отличие от храмовых рабов, которые довольствовались пайками. Часть ремесленников выполняла работы на храм в течение определенного периода за доходы, которые выплачивались обладателям храмовых пребенд. Что же касается царского хозяйства, которое в общей структуре экономики Вавилонии рассматриваемого времени не играло большой роли, его потребности в ремесленном труде удовлетворялись отчасти храмовыми работниками, отчасти же царскими ремесленниками, постоянно работавшими на царя за плату. Некоторые ассириологи высказывали мнение, что в Вавилонии ремесленники были объединены в специальные корпорации. Однако упоминаемые в клинописных источниках объединения ремесленников состояли из зависимых государственных работников. Поэтому мнение о существовании в Вавилонии автономных замкнутых корпораций ремесленников, состоявших из определенного числа членов и ставивших перед собой цель монополизировать ту или иную область ремесла, представляется несостоятельным.
Наемный труд стал применяться еще в ранние периоды истории Месопотамии, но именно в нововавилонское время он занял весьма значительное место в общей структуре экономики. Храмы и частные лица вынуждены были широко использовать квалифицированный труд свободных работников в ремесле, сельском хозяйстве и особенно для выполнения трудных видов работы. При этом иногда было очень нелегко найти необходимое количество работников, и в таких случаях приходилось нанимать их по чрезвычайно высоким ставкам. В Вавилонии по временам возникали партии наемных работников численностью до нескольких сот человек. Они часто выступали против несвоевременной оплаты их труда, перебоев в снабжении пищей и не соглашались работать за низкую плату, а в некоторых случаях даже угрожали расправой своим работодателям. Из переписки чиновников видно, что храмовая администрация сознавала необходимость удовлетворения требований наемных работников, так как в случае отказа последних от работы их, очевидно, было невозможно заменить столь же квалифицированными храмовыми рабами. Многочисленные массы наемных работников отчасти состояли из малозе
мельных свободных людей. В документах встречается прозвище «наемный работник», которое стало родовым именем профессиональных наемников.
В связи с этим возникает вопрос о масштабах социального расслоения среди свободных. Как известно, наиболее распространенной формой порабощения свободных являлась долговая кабала, которая в определенных условиях могла привести к деградации неплатежеспособных должников и переходу их в рабское состояние в прямом смысле этого слова. В Вавилонии VII—VI вв. до н.э. по сравнению с предшествующими периодами в этом отношении произошли большие изменения. Кредитор мог арестовать неплатежеспособного должника и заключить его в долговую тюрьму. Однако нет никаких данных, свидетельствующих о том, что в нововавилонское время кредитор мог продать должника в рабство третьему лицу. Обычно должник погашал ссуду антихрезой (т.е. бесплатной работой на кредитора), сохранив свою свободу. Практика самозаклада совершенно исчезла в Вавилонии рассматриваемого времени. Нет также никаких сведений о праве мужа закладывать жену, и почти с полной уверенностью можно предположить, что это запрещалось законом. Тем не менее свободные люди имели право отдавать в залог своих детей, которые находились в патриархальной власти главы семьи. Но родители отдавали детей в залог в весьма редких случаях. Положение детей, отданных в залог-антихрезу, было похоже на рабское, и их работа на кредитора оценивалась в ту же сумму, что и раба. Но после отработки долга и процентов такие заложники теряли всякую связь с кредитором. Однако дети неплатежеспособных должников, взятые в залог, могли быть обращены в рабство. При этом ограничение долгового рабства определенным сроком, установленное Законами Хаммурапи, в нововавилонское время уже не являлось действительным. В частности, это видно из того, что сын одного несостоятельного должника стал храмовым рабом, а таких рабов нельзя было ни выкупить, ни отпустить на свободу. Следовательно, были возможны случаи деградации рабов-должников, составлявших промежуточную социальную группу, в рабов.
Самопродажа в Вавилонии I тысячелетия до н.э. исчезает. Продажа детей родителями, по-видимому, допускалась законом, но к этому прибегали чрезвычайно редко, а именно в случаях исключительной нужды, катастрофического голода в стране, во время войн и осад. Те обстоятельства, при которых была возможна продажа детей свободными, отражены в следующих сообщениях текстов: во время осады в стране был такой голод, что «мать не открывала двери [дома даже своей] дочери». Когда «враг осадил город, в стране был [такой] голод, что за 1 сикль серебра можно было купить [только] 3 ка (3 л) ячменя, [да и то] тайно». Другими словами, зерно стоило в 60 раз дороже обычной цены.
Хотя среди свободных, естественно, протекали процессы социального расслоения, их разорение и порабощение отнюдь не носило массового характера. Очевидно, это объясняется сравнительно высоким жизненным уровнем и широкими возможностями для лишившихся своей земли людей заниматься наемным трудом, арендовать чужую землю вместе со всеми необходимыми орудиями труда и тягловым скотом или же переходить на царскую службу и т.д. Поэтому в отличие от всех предшествующих периодов истории Вавилонии в I тысячелетии до н.э. долговое рабство практически играло незначительную роль. В Вави
лонии VII в. до н.э. и последующего времени было сравнительно большое количество рабов, которые имели семьи, владели землей, домами и значительным движимым имуществом. Тенденции такого использования труда рабов усиливались в течение нововавилонского и ахеменидского периодов, так как рабы, действовавшие самостоятельно, на свой страх и риск, и платящие оброк, стали более выгодны хозяевам, чем те, которые работали из-под палки и были готовы совершить побег. Рабы, имевшие пекулий, в экономической жизни действовали как свободные и, подобно последним, распоряжались своим имуществом. В частности, они брали и давали ссуду деньгами и натуральными продуктами свободным или другим рабам. Далее, рабы занимались торговлей, открывали ремесленные мастерские, обучали других лиц различным ремеслам и т.д. Нововавилонское рабство характеризуется рядом признаков, которые в своей совокупности, по-видимому, не встречаются в другие периоды истории Месопотамии. Во-первых, раб не только мог заложить, купить и продать имущество (в том числе и недвижимое: поля, дома и т.д.), но также выступать в качестве залогодержателя имущества свободных должников и рабов, включая поля и дома, и сдавать в аренду это имущество. Рабы могли брать в долговой залог других рабов. Документально засвидетельствованы случаи, когда рабы покупали, продавали или нанимали других рабов, а также прибегали к найму свободных. Во-вторых, рабы могли выступать свидетелями при заключении свободными или другими рабами различных деловых сделок, иметь свои печати, давать клятвы. Как и свободные, они могли давать свидетельские показания о преступлениях, совершенных другими рабами или свободными, выступать в суде в качестве истцов и ответчиков и даже держать в долговой тюрьме несостоятельных свободных. В-третьих, иногда рабы были должностными лицами, могли иметь семьи и жениться на свободных. В-четвертых, раб мог заключать со своим господином различные контракты, и в этих контрактах подчеркивается добровольность сделки со стороны раба и его господина. Наконец, раб мог ручаться за то, что его хозяин погасит ссуду в тех случаях, когда оба они берут ссуду совместно. Естественно, наряду с рабами, имевшими пекулий, жившими своим трудом и платившими оброк хозяину, а также рабами, эксплуатировавшими труд других рабов и свободных, было во много раз больше рабов, которые работали под присмотром хозяев и не владели никаким имуществом. Возникает вопрос: что общего между рабом, закованным в цепь и работавшим из-под палки, и рабом-эксплуататором, владевшим средствами производства (правда, на правах пекулия) и надзиравшим над тем, как на него работали другие? Раба, закованного в цепь, и раба-эксплуататора объединяло то, что и тот и другой принадлежали к сословию рабов и юридически оба они являлись собственностью хозяина. Даже самый богатый раб не мог выкупиться на свободу, так как право отпуска раба на свободу во всех случаях принадлежало исключительно одному лишь хозяину. Чем богаче был раб, тем менее выгодно было хозяину отпускать его на свободу. Иногда рабы оказывали сопротивление своим хозяевам. Но в основном протест рабов ограничивался тем, что они стремились бежать от своих хозяев и стать свободными людьми. Наиболее непокорных рабов, которые неоднократно совершали побеги или которых подозревали в намерении бежать, держали под особым надзором в специальных
работных домах, где был установлен тюремный режим. Существование института рабства представлялось нормальным явлением не только свободным, но и рабам, которые никогда не выдвигали требования отмены его. Организованных массовых выступлений рабов в Вавилонии не было. Это легко объясняется тем, что там не было ремесленных мастерских или латифундий, где работало бы большое количество рабов. Характерно, что наиболее яркие примеры сопротивления рабов засвидетельствованы в документах из храмовых архивов. Храмовые рабы имели больше возможностей для совместных выступлений, чем частновладельческие, поскольку они нередко работали достаточно большими группами.
Таким образом, в Вавилонии I тысячелетия до н.э. труд рабов использовался главным образом для выполнения тех видов работ, которые не требовали высокой квалификации или дорогостоящего надзора, т.е. там, где их можно было использовать в течение круглого года, а не сезонно. Однако и такое использование труда рабов имело большое экономическое значение, так как это освобождало свободных для выполнения наиболее сложных процессов производства. Существование института рабства накладывало глубокий отпечаток на социальные отношения, идеологию, право и психологию общества, и классовый антагонизм в наиболее неприкрытой и типичной форме проявлялся между рабами и рабовладельцами.
Хронологическая таблица (годы до н.э.)
1157 1156-1085 1024-1004 878 744 729 721 720 — конец господства касситской династии в Вавилонии — период правления Второй династии Иссина — Вторая династия Приморья — первое письменное упоминание о халдейских племенах — установление ассирийского контроля над Вавилонией — захват Вавилона ассирийским царем Тиглатпаласаром III — захват Вавилона халдейским вождем Мардук-апла-иддином II — битва у крепости Дер между ассирийцами и эламско-вавилонской коалицией. Поражение ассирийской армии
709 703 702 693 692 — захват Вавилона ассирийским царем Саргоном II — захват Вавилона Мардук-апла-иддином 11 — захват Вавилона ассирийским царем Синаххерибом — победа ассирийцев у Ниппура над вавилонянами и эламитами — восстание халдейских племен против ассирийского господства. Битва у Халуле между ассирийцами и эламско-вавилонской коалицией
689 680 650-648 626 — разрушение Вавилона Синаххерибом — начало восстановления Вавилона — осада и захват Вавилона армией Ашшурбанапала — восстание вавилонян во главе с Набопаласаром против ассирийского господства
614 612 609 605 597 и 587 586 553 539 — захват мидийцами Ашшура — захват Ниневии мидийцами и вавилонянами — окончательный разгром ассирийского войска вавилонянами — разгром египетской армии вавилонянами в Каркемише — захват Иерусалима вавилонской армией — поход Нергал-шар-уцура в Киликию — захват Харрана вавилонянами — захват Вавилона персами
СТРАНЫ ИРАНСКОГО НАГОРЬЯ И СРЕДНЕЙ АЗИИ ДО СЕРЕДИНЫ
I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н.Э.
Глава 8
МИДИЙСКОЕ ЦАРСТВО
Не позднее начала I тысячелетия до н.э. на Иранское плато проникли родственные иранские племена мидийцев, персов и др. Эти племена называли себя ариями. Позднее это самоназвание стало наименованием страны ариев — Иран (из армянам — «[страна] ариев»). Другое название страны — Персия — происходит от имени одного из иранских племен, персов, осевших на юге Ирана в Парсе (совр. пров. Фарс). В клинописных источниках эта территория называлась Парсу-аш/Парсумаш, греческие авторы передавали это название как Персис/Персида.
Ариями называлйсь также племена, распространившиеся во второй половине II тысячелетия до н.э. в Индии; во избежание путаницы с ариями Ирана их называют индоариями. О культурной и языковой близости этих племен свидетельствуют древнейшие памятники словесности индоариев— Ригведа и иранцев — Авеста. Эти общие черты — наследие эпохи индоиранского, или арийского, племенного единства, более тесного, чем у любых двух других ветвей древних индоевропейцев.
Арийские языки составляют восточную ветвь индоевропейской языковой семьи. В период распада индоевропейской языковой общности (IV тыс. до н.э.) и позднее арии обитали на востоке ареала расселения индоевропейцев, предположительно от Днепра до Уральских степей (до середины III — начала II тыс. до н.э.). После распада индоиранского единства иранские племена, постепенно расселяясь, к концу II тысячелетия до н.э. распространились по Великому поясу степей и проникли в Среднюю Азию, нынешние Иран и Афганистан. В Иран эти племена могли попасть как через Кавказ, так и из Средней Азии. Для западноиранских племен, в том числе мидийцев и персов, более вероятным был путь через Кавказ, а не через Среднюю Азию.
На первых этапах расселения в Иране арии занимали отдельные долины и подгорные области. В одних случаях им удавалось подчинить местное население (в основном луллубейско-кутийское по языку) и, постепенно ассимилируя его, передать ему свой язык, в других местное население оставалось не затронутым влиянием пришельцев. Первые суверенные или полузависимые государственные образования на территории Ирана — Манна, Аллабрия, Эллипи и др. — могли уже, по-видимому, включать в себя ираноязычное население, не претендовавшее до поры на политическую независимость. Возникшие позднее значительные политические объединения во главе с представителями ираноязычного населения создавались лишь там, где иранцы уже численно преобладали. Так, по-видимому, было уже в VIII в. до н.э. в районе долины Хамадан, где веком позже возникло Мидийское царство. Так было и в Парсе, откуда произошла персидская династия Ахеменидов.
Первые иранские государства — Мидия и держава Ахеменидов — способствовали распространению в этом регионе иранских языков и религии зороастризма, реформировавшей верования и культы ариев. В этих царствах происходило внедрение характерных для иранских народов социально-экономических институтов, этических и юридических норм. Что касается материальной культуры иранцев, которая начала складываться уже после прихода сюда иранских племен, то она в значительной степени представляет собой результат взаимодействия культур пришлого и местного населения. В VIII — первой половине VI в. до н.э. центром иранской государственности, материальной и духовной культуры иранцев была Мидия.
Иранское нагорье отделено от низменной Месопотамии широкой полосой (до 200 км) параллельных горных цепей, именуемых в совокупности горами Загрос. Только две реки, Дияла и Нижний, или Малый, Заб, глубоко врезаясь в горные ущелья, позволяют сравнительно легко пересечь эти горы. Вдоль Диялы, немного отклоняясь от ее верховьев на юг, пролегал Великий Хорасанский путь. Пересекая Загрос, через современные Шахабад, Керманшах и горный проход Ассада-бад он выходил в долину Хамадан и через прикаспийские области Ирана уходил к границам Средней Азии и далее на восток.
Анализ описаний маршрутов ассирийских походов на восток обнаруживает последовательное прохождение одних и тех же стран; это показывает, что ассирийцы пользовались двумя или тремя маршрутами для проникновения в Иран. Часто упоминаемые в анналах страны лежали вдоль древних путей торговли, обмена и культурного взаимодействия. Ассирийцы, правда, нередко отклонялись от этих путей, отсюда редко упоминаемые топонимы в их анналах. Из верховьев Нижнего Заба через современные Зардашт и Саккыз можно было попасть на север, в район оз. Урмия. Через современные Сулейманию и Сенендедж попадали в долину Хамадан, откуда также шел путь в сторону Урмии через Биджар, Такаб, Миандуаб. Восточнее долины Хамадан начинался караванный путь на север через современные Зенджан, Мианэ, Тебриз в Закавказье и Малую Азию. Великий Хорасанский путь связывал все эти магистрали: с него можно было свернуть на караванный путь Зенджан-Тебриз; через Керманшах-Павэ-Сулейманию-Ушну
попасть в район Урмии. Эти пути служили тысячелетиями, вдоль них возникали селения и города, они и теперь служат основными магистралями Ирана.
Первоначальная территория Мидии, с которой познакомились ассирийцы в последней трети IX в. до н.э., вплоть до начала ее экспансии в VII в. до н.э. ограничивалась следующими странами. Севернее Мидии находилась Гизильбунда, лежавшая в горах к северу от долины Хамадан, тянущихся до долины р. Зен-джан-руд. Гизильбунда располагалась между Мидией и Манной, локализуемой к юго-востоку от Урмии. На западе и северо-западе Мидия не выходила за пределы долины и ограничивалась горами Загроса. Здесь она граничила со страной Кишессу, локализуемой между отрезками дорог Сенендедж-Бехистун и Сенендедж-Хамадан. Южнее Кишессу, вдоль Хорасанского пути, на его горном отрезке перед выходом в долину Хамадан, находился Хархар. Лишь на юго-западе Мидия занимала долины Загроса к югу от Хархара. Граница Мидии здесь проходила по хребту Кух-и Гарин, отделявшему ее на западе от Эллипи, а на юге этого района Мидия граничила с эламской областью Симашки/Цимаш (долина Хорремабад). На востоке и юго-востоке территория Мидии, по-видимому, ограничивалась пустыней Дешт-и Кевир, которую ассирийцы называли «соляной пустыней», и страной Патуш’арра (средневековый Патишхвар в районе горы Демавенд, известной ассирийцам как Бикни — «лазуритовая гора»). Во всяком случае, это был самый отдаленный район Мидии, куда доходили ассирийцы.
Название столицы Мидии сохранилось в клинописных источниках VI в. до н.э. как Агамтану (вавил.), Агмадана (элам.), Хангматана (др.-перс.), в арамейской версии Бехистунской надписи она названа Ахматана. В V в. до н.э. Геродот именовал столицу Мидии Экбатаны. Современное персидское название города и долины — Хамадан. В ассирийских источниках ни под одним из этих названий столица Мидии не известна. Есть, однако, основания полагать, что многократно упоминаемый ассирийцами город Сагбат/Сагбита и есть будущее название Хангматана. Нужно отметить, что ассирийцы редко упоминают города в Мидии, но Сагбита, названный в конце IX в. до н.э. «царским» городом, постоянно упоминается во всех описаниях походов в Мидию вплоть до 716 г., когда город был завоеван и включен в состав ассирийской провинции Кишессу. Это обстоятельство позволяет говорить о местонахождении Сагбата на пересечении дорог, ведущих в Мидию, на ее западной окраине. Древнеперсидское название города — Ha(n)gmatana — означает буквально «место схождения» (людей, дорог). Хамадан действительно находится на пересечении главных магистралей Ирана и Ближнего Востока, и прежде всего на Великом Хорасанском пути.
Описания маршрутов ассирийских походов в Иран свидетельствуют, что в Мидию ассирийцы попадали двумя путями: с севера через Гизильбунду, очевидно, вдоль современной дороги Биджар-Хамадан, или с северо-запада через Месу (она, находясь на западной границе Гизильбунды, могла включать территорию у дороги Биджар-Хамадан) либо через Кишессу вдоль дороги Сенендедж-Хамадан. Уходили из Мидии ассирийцы всегда по горному отрезку Хорасанского пути, после Мидии проходя Хархар, Аразиаш, северную часть Эллипи, называемую Бит-Барруа, и Бит-Хамбана. Все эти страны локализуются в горах
Загроса от прохода Ассадабад на востоке, у выхода в долину Хамадан, до долины Махидашт на западе. Последняя входила в состав Бит-Хамбаны. На Хорасанский путь ассирийцы попадали не только из Мидии, но и непосредственно с севера из Парсуа и соседних областей. В этом случае, двигаясь вдоль дороги Се-нендедж-Бехистун или Павэ-Керманшах, ассирийцы оставляли по левую руку не только Мидию, но и Хархар и Кишессу.
Ассирийские походы в Иран и Мидию
Последовательность событий истории Мидии и ее хронологические рамки восстанавливаются из ассирийских и вавилонских клинописных источников. Факты, сообщаемые Геродотом и другими античными авторами, лишь в некоторых случаях могут дополнить, подтвердить или разукрасить подробностями канву исторических событий в Мидии. Несмотря на многие лакуны, приоритет клинописных источников, описывающих современные им события, над античными очевиден. Последние отдалены по времени, что само по себе искажает историческую картину; кроме того, античные авторы рассказывают главным образом о событиях поздней истории Мидии. К тому же необходимо иметь в виду идеологическую направленность источников: ассирийцы явно подчеркивали хаотичность образа жизни народов за пределами имперского контроля. Греки, напротив, описывают унифицированное состояние, в частности, Мидийского царства, что, возможно, отражает цели правящей династии Ахеменидов, представители которой были основным источником информации греческих авторов.
В 881 г. до н.э. Ашшурнацирапал II (883-859) путем образования провинции Замуа в верховьях Малого Заба создал плацдарм для проникновения ассирийцев в северо-западные районы Ирана. В 843 г. Салманасар III (858-824) безуспешно пытался расширить территорию этой провинции за счет страны Внутренняя Замуа, расположенной за магистральным хребтом Загроса, в районе между современным Зардаштом и озером Урмия. Поход в эту страну позволил ассирийцам впервые проникнуть в соседнюю с ней Манну. Манна — первое царство на Иранском нагорье — играла в дальнейшем огромную роль в балансе политических сил в этом регионе.
Поначалу ассирийская политика в определенном смысле была нецеленаправленной, «ознакомительной». В Иране Ассирия имела дело в основном с разрозненными небольшими политическими образованиями, хотя их сопротивление ассирийцам было очень сильным. Грабительские походы ассирийцев мало себя оправдывали: облагать эти мелкие страны постоянной данью пока не удавалось, а военная добыча была небогатой, так как местные царьки присылали дары лишь при непосредственной опасности, а чаще всего им удавалось укрывать население, скот и прочее имущество в горах.
Мидия впервые упоминается в 834 г. до н.э. Салманасаром III. Целью похода этого года был Намар (локализуется в предполье Месопотамской низменности, на р. Дияле), который подвергся страшному разгрому. Через верховья Диялы ассирийцы проникли в соседнюю с Намаром Парсуа. Здесь Салманасар получил
дань от 27 ее владетелей, испуганных разгромом в Намаре. Углубившись в области, расположенные восточнее Парсуа, ассирийцы, чтобы вернуться домой по Хорасанскому пути, были вынуждены выйти в долину Хамадан и вступить в западные пределы Мидии. Тогда они ограничились лишь проходом по ее территории.
Завоевательная политика Ассирии на востоке стала коренным образом меняться со времени Шамши-Адада V (823—811) в связи с интенсивным проникновением в Иран Урарту. В период гражданской войны в Ассирии в последние годы правления Салманасара III и в первые два года царствования Шамши-Адада урарты, воспользовавшись сильным ослаблением Ассирии, начали захватывать приурмийские земли к западу и юго-западу от озера и вскоре закрепились здесь. В этой новой ситуации интересы Ассирии обозначились четче, и начала формироваться ее новая политика на востоке, результатом которой стал налаженный контроль над завоеванными здесь землями и получение регулярной дани.
Прежде всего Ассирии было необходимо помешать дальнейшему проникновению в Иран урартов и ослабить их позиции в приурмийской зоне. Подавив мятеж в своей стране, Шамши-Адад сразу направил свои силы на восток, в страны Наири (общее название для стран Северо-Западного Ирана, используемое ассирийцами в своих текстах). Хотя в 819 г. до н.э. была получена дань конями от всех царей Наири, очевидно, результаты похода были неудовлетворительны. В 818 г. маршрут похода был повторен, и помимо вновь полученной дани конями от царей Наири ассирийцам удалось разгромить Внутреннюю Замуа и города урартского царя Ишпуини. Это означало попытку помешать продвижению урартов на берега Урмии. Разгром приурмийских территорий показался ассирийцам существенным, ибо третий поход, в 815 г., был направлен уже в другую сторону, в Мидию. Из стран Наири, разгромив Месу и Гизильбунду, Шамши-Адад с севера вторгся в Мидию, во владения царя Ханацирука. В источниках сообщается, что здесь он разрушил царский город Сагбита/Хангматана и 1200 городков вокруг, которые, следовательно, входили во владения Ханацирука. Шамши-Адад взял в плен 140 всадников и убил 2300 мидийских солдат. Если сравнить с потерями Гизильбунды, где только в одном городе Ураше было убито 6000 воинов, то потери Мидии были не такими уж значительными.
Поход Шамши-Адада в Мидию имел огромные последствия для последней. Ассирийцы увидели, сколь перспективно в экономическом и стратегическом отношении завоевание этих земель: обладая огромным количеством скота и (что было важнее всего) коней, которых потом ассирийцы получали здесь, Мидия к тому же лежала на Великом Хорасанском пути — основной магистрали всего Среднего Востока. Перенос сюда главного фронта был вызван и развитием событий в приурмийской зоне. Урарты к концу IX в. до н.э. овладели западным и южным побережьем Урмии вплоть до района современного Миандуаба, где оставили победную надпись (возле Таш-тепе), в которой сообщалось о строительстве здесь крепости. Они владели этой территорией около ста лет: возведенные здесь многочисленные крепости свидетельствуют, что тут был создан мощный плацдарм, необходимый урартам для дальнейшего продвижения в глубь Ирана. Отсюда они начали завоевание Манны. Ассирия, не сумев военным путем помешать урартскому продвижению в Иран, постепенно превратилась в союзни
ка Манны в ее борьбе против Урарту. В результате Манна так и не была завоевана урартами, были лишь отторгнуты некоторые ее области. Мало того, несмотря на многочисленные походы сюда урартских царей, уже в 776-775 гг. Манна, по-видимому, сама попыталась перейти в наступление: урартский царь Аргишти I (781-760) сообщает, что он отбросил войско Манны.
Пока же, в конце IX в., сообразуясь с этими обстоятельствами, Ассирия меняет направление своих походов из приурмийской зоны в Мидию и соседние с ней страны. Адад-нерари III (810-781) совершил 11 походов в Иран. Один из них в Намар (787 г. до н.э.), шесть походов — в Мидию (809, 793, 792, 789, 788, 787 гг. до н.э.), четыре похода — в Манну (807, 806, 800, 799 гг. до н.э.). Судя по эпоним-ной хронике, в 800 и 799 гт. ассирийцы также побывали в Мидии, очевидно, проникнув туда из Манны через Гизильбунду. Ассирийский царь называет себя завоевателем как Мидии и Манны, так и всех окружающих их стран. Однако, если успехи на этом направлении и были, закрепить и развить их Ассирия не смогла. Лишь в 766 г. до н.э. ассирийцы совершили еще один поход в Мидию, подробности которого неизвестны. Наступление и победы урартов, мятежи внутри царства, центробежные тенденции в ассирийских провинциях довершили крах завоевательной политики на востоке. Кризис Ассирии, начавшийся при Адад-нерари III, длился при трех его преемниках. Мидия, как и ее соседи, выиграла время, что дало ей возможность накопить силы для дальнейшего сопротивления.
Новый подъем Ассирии, наступивший после широких экономических и военных преобразований Тиглатпаласара III (745-728), довольно быстро начал сказываться и на характере завоеваний Ассирии. Видимо, при нем начала складываться новая концепция завоевательной политики. Если раньше Ассирия, за редким исключением, ограничивалась грабительскими походами, то теперь она создавала на завоеванных землях, в том числе и в Иране, провинции. Освоенные таким образом территории превращались в постоянный источник дохода, с одной стороны, и в плацдарм для завоевания соседних территорий — с другой. Акт образования провинции сопровождался назначением ассирийского наместника, который, как правило, назначался из числа евнухов (что исключало возможность создания местных династий и, следовательно, сепаратистских тенденций), а также установкой памятной стелы. В 744 г. ассирийцы находились на западных окраинах Ирана, где и были образованы две провинции — Бит-Хамбан и Парсуа. Это в перспективе позволяло с добавлением новых провинций придвинуть границы Ассирии к Манне и Мидии, что и было осуществлено позднее. Но тогда ассирийцы лишь приняли дань от маннеев и мидийцев. В 737 г. ассирийский поход был направлен против Мидии. Интересные сведения об этом походе сохранились на стеле, найденной в Иране. На ней имеется список мидийских правителей, принесших дань конями, всего 1600 коней (нижняя часть стелы не сохранилась, список мог быть длиннее). В этом списке упомянут владетель города Цибар, который в IX в. до н.э. входил в состав соседней с Мидией Гизильбунды. Включение этого владения в мидийский список, по-видимому, означает, что оно вошло в состав Мидии. Можно предполагать, что мидийцы в период затишья в VIII в. до н.э. настолько укрепились, что начали расширять свою территорию.
Ассирийцы утверждают, что в 737 г, они дошли до отдаленных пределов Мидии, до горы Бикни (Демавенд) и Соляной пустыни (Дешт-и Кевир), и что присоединили владения мидийцев к Ассирии, поставив над ними наместников-евнухов. Тиглатпаласар сообщает, что он поставил в Сильхази (локализуется на западе долины Хамадан) стелу со своим изображением. Это означало образование новой провинции, хотя именно об этом в источниках нет сведений. Нужно признать, что все эти завоевания на востоке оказались эфемерными, ибо не были приоритетными для Тиглатпаласара III. Слишком грандиозные задачи решала Ассирия на юге, где ассирийский царь стал «царем Шумера и Аккада», на западе, где огромные территории вошли в состав Ассирии, и на севере, где разворачивалась борьба с Урарту. Видимо, поэтому, за исключением двух новых провинций, Бит-Хамбан и Парсуа, которые остались в составе Ассирии до ее конца, все остальное позднее пришлось завоевывать заново.
Лишь Саргон II (719-705) смог по-настоящему сосредоточить свои силы на восточном фронте, именно он начал борьбу за передел сфер влияния в этом регионе. Задача завоевания Мидии стала одной из составляющих этой борьбы. И начал Саргон завоевание Мидии как раз с того, что не смог сделать Тиглатпаласар III. Он соединил границы ассирийских провинций с Мидией. В 716 г. до н.э. он завоевал города Хархар и Кишессу и сделал их центрами ассирийских провинций, добавив к ним ряд соседних областей. Саргон подчеркивает в анналах, что укрепление Хархара, переименованного им в Кар-Шаррукин, было необходимо ему для завоевания Мидии. Хархар занимал стратегически важное положение, находясь на горном отрезке Хорасанского пути перед выходом в долину Хамадан, в Мидию. В состав провинции Кишессу, переименованной в Кар-Нергал, вошли западные окраинные мидийские территории, в том числе Саг-бат/Экбатаны. Этим территориальные приобретения в Мидии и ограничились. Углубившись в Мидию, ассирийцы смогли получить дань от 28 начальников поселений. Но уже в 715 г. Хархар восстал, и снова был завоеван; однако не все области, покоренные в 716 г., удалось снова в него включить.
В 714 г. во время похода, направленного против Урарту, ассирийцы прошли по значительной части территории Северо-Западного Ирана. Когда Саргон находился в провинции Парсуа, устрашенные правители ряда стран принесли ему дань, в том числе «начальники поселений» страны мидийцев. По словам Саргона, они устрашились, помня опустошение своих стран в прошлом, т.е. в 715 г. до н.э. Список этих правителей показывает, что среди них названы владетели лишь тех территорий, которые удалось вернуть после восстания 715 г. В 714 г. новых завоеваний в Мидии не было. Все силы Саргона были тогда брошены на борьбу с Урарту, и на этот раз он оказался победителем. Хотя Урарту не было разгромлено, ему удалось подвести черту под периодом политического расцвета Урарту. В Иране приурмийский плацдарм урартов был уничтожен и их владения были отодвинуты к северу от Урмии. Вбив таким образом клин между Урарту и Манной и развязав себе здесь руки, Саргон смог продолжить завоевания в Мидии. В 713 г. он прошел до отдаленных пределов Мидии, до горы Бикни. В этом походе в Мидию ассирийцы получили дань от 45 «начальников поселений», однако окончательного покорения Мидии, вопреки планам Саргона, не случилось. По-
еле 713 г. Саргон сосредоточивается на завоевании Вавилонии. Этот южный фронт становится главным в завоевательной политике и следующего ассирийского царя, Синаххериба (704-681). Мидия вновь получила длительную передышку. Перенесение Ассирией главного фронта на юг, по существу, поставило точку в дальнейшем продвижении ее на восток. Лишь в 702 г. до н.э. ассирийцы приняли дань от мидийцев. Между 713 и 677 гг., когда Асархаддон вновь прошел до восточных пределов Мидии, в Иране произошли столь существенные изменения, что Ассирия уже не смогла справиться с ними. Здесь сформировалась мощная антиассирийская коалиция во главе с Мидией и Манной. Но постепенно именно Мидия становится ведущей политической силой в регионе.
Подводя итоги завоеваниям урартских и ассирийских царей на востоке в IX-VIII вв. до н.э., следует выделить те из них, которые повлияли на дальнейшее развитие событий. Ассирия выполнила предварительную задачу: она соединила свои границы с Мидией и Манной, удерживая в своих руках провинции Замуа, Парсуа, Бит-Хамбан, Хархар и Кишессу. В состав двух последних вошли земли Западной Мидии. Но основной своей цели — завоевания Мидии — она не достигла. Однако эта неудача была восполнена успехом в борьбе с Урарту на восточном фронте. В 714 г. продвижение урартов в Иран было остановлено, чему существенно помог союз Ассирии и Манны.
Все приурмийские владения урартов были ими потеряны. Пообещав манней-скому царю Уллусуне, своему верному другу, наказать «злого урартийца» и вернуть Манне ее земли, Саргон сдержал слово. Он фактически подарил Манне все приурмийские владения урартов, многие из которых никогда ей не принадлежали. Ассирийцы никогда более не бывали в этом районе, и маннеи постепенно проникли на западный берег Урмии. Уже в начале VII в. до н.э. их владения приблизились к границам Хубушкии, крупного государства на юге Урарту в верховьях Большого Заба. Все это очень усилило Манну и вскоре изменило баланс военно-политических сил в регионе. Очевидно, что успешные территориальные приобретения Манны, прекращение урартской угрозы и какие-то другие обстоятельства (неясно, почему Ассирия уступила Манне приурмийские земли) изменили ее политическую ориентацию. Проассирийская партия потерпела поражение, и на несколько десятилетий Манна становится противником Ассирии. Трудно сказать, когда начал складываться антиассирийский союз Манны и Мидии, но уже в 670-е годы до н.э. он существовал. Третьей непобежденной страной в регионе была Эллипи, и она, естественно, была склонна к этому союзу.
Новой антиассирийской силой в Иране стали евразийские кочевники. Киммерийцы появились на Древнем Востоке еще в царствование Саргона II. Тогда они действовали к югу от Закавказья, в пределах северных границ Урарту. Ассирийская разведка внимательно следила за развитием урарто-киммерийского конфликта и сообщила о разгроме Русы I киммерийцами в стране Гамир, где последние базировались. Проникновение тогда киммерийцев южнее, в Иран и, в частности, в Манну, маловероятно. Ситуация изменилась в конце первой четверти VII в. до н.э. Начиная с 670-х годов источники фиксируют киммерийцев на огромной территории от Ирана до Малой Азии. Скифы известны только в Иране. Здесь накануне антиассирийского восстания конца 670-х годов киммерийцы
и скифы в союзе с мидийцами и маннеями грабили ассирийские отряды, посылаемые из ассирийских крепостей за сбором дани. Если для маннеев и мидийцев грабеж был формой борьбы с завоевателями, то для пришлых кочевников он был средством к существованию. Нет прямых свидетельств того, на чем и как строились взаимоотношения кочевников и местных жителей, можно лишь предполагать, что местные владетели, в частности маннейские, разрешали базироваться отрядам киммерийцев и скифов в своих владениях в обмен на их участие в борьбе против ассирийцев. Но нет никаких оснований предполагать существование в этом районе «скифского царства». Киммерийцы и скифы совместно предприняли также военные набеги на ассирийские провинции Бит-Хамбан и Парсуа. Киммерийцы участвовали и в самом восстании, об участии в нем скифов ничего не известно. Обычно считается, что Асархаддон в своем желании расколоть ан-тиассирийскую коалицию переманил скифского царя Бартатуа на свою сторону, пообещав ему в жены свою дочь. В 660-е годы и позднее о кочевниках в Иране сведений уже нет.
Изменение баланса сил на востоке заставило Асархаддона (680-669) предпринять несколько рейдов в Иран. В 679 или 678 г. ему удалось разгромить маннеев и их союзника «скифа Ишпакая». Но последующие события показали, что «разгром» не ослабил союзников. Около 677 г. ассирийцы дошли до горы Бикни (или «лазуритовой горы») и страны Патуш’арры (Патишхвар в Мазандеране)1. Здесь были схвачены и доставлены со всем их имуществом и домочадцами в Ассирию два мидийских правителя. Но судя по тому, что Саргон в 713 г. смог здесь получить дань от 45 владетелей, успехи Асархаддона были не столь значительны. Об обстановке в Мидии, видимо, можно судить по одному примечательному событию, которое произошло вскоре после этого похода. К ассирийскому царю в Ниневию прибыли три мидийских правителя, прося покровительства и союза с Асархаддоном. Этим правителям угрожали или выступили против них другие правители Мидии. Эти трое принесли подобающие случаю дары: отборных коней и лазурит. Царь записал в анналах, что послал своих наместников из провинций, которые граничили с владениями этих мидийцев, и они восстановили их власть, но на этих мидийцев была наложена ежегодная дань. Скорее всего, этот случай — следствие противоречий между крупными мидийскими владетелями в выборе ими генеральной линии: подчиниться Ассирии или объединиться против нее и в последнем случае искать союзников. Как уже было сказано, такие союзники были найдены. Но как показывает этот случай, не все мидийские правители были согласны противостоять Ассирии.
Об одном из этих троих мидийцев, Раматейе из Ураказабарны, известно из так называемого «вассального договора Асархаддона», который был приурочен к церемонии объявления Ашшурбанапала наследником в 672 г. до н.э. Этот договор является клятвой верности вновь назначенному наследнику. В договоре сохранились имена семерых персон, с которыми они заключались. Из них трое определенно были мидийскими владетелями, причем в западной части Мидии, на
1 Согласно средневековому персидскому автору Казвини, в Патишхваре еще в раннем средневе-ковье добывали лазурит.
границе с ассирийскими провинциями» Обычно считалось, что этот документ был вассальным договором, навязанным Мидии вследствие ее недавнего подчинения Ассирии. Асархаддон, мол, стремясь создать опору в северо-западных областях Ирана, должен был заключать договоры с правителями подвластных областей. В этом случае договор гарантировал местным владетелям сохранение за ними власти в своих владениях при условии верности ассирийскому царю и его наследнику. Однако новое изучение этого договора показало, что в нем не содержится ни одной статьи, которую можно было бы ожидать в соглашении, регулирующем обязанность вассалов. Вместо этого мы находим только навязчивое требование защиты назначенного на престол наследника. Из содержания статей вытекает, что мидийцы, которые подчинились клятве, жили в ассирийском дворце, находясь в непосредственной близости от наследника, исполняли службу охранного корпуса и сопровождали его в походах. Они приносили клятву верности по случаю назначения наследника не потому, что они были вассалами, а потому, что были назначены, или, точнее, наняты, в охрану принца. Формально клятву за своих людей, исполняющих службу при ассирийском дворе, давал каждый из вождей, с которыми был заключен договор-клятва. Представленные в договоре мидийцы, в том числе Раматейя, составляли проассирийскую западную часть Мидии, они вынуждены были за оказанную помощь быть лояльными по отношению к ассирийцам. Не исключено, что служба в ассирийской армии дала мидийским наемникам необходимые знания и навыки, которые затем помогли среди прочего сделать мидийскую армию столь боеспособной и обеспечили ей скорые победы.
Несмотря на то что к концу 670-х годов до н.э. Ассирия владела западными территориями Мидии и могла оказывать политическое давление на некоторые ее пограничные владения, большая часть Мидии оставалась независимой. Но ассирийское присутствие представляло постоянную угрозу этой независимости, новые походы в глубь страны казались неизбежными. Все это наконец сформировало антиассирийские силы, и здесь вспыхнуло восстание против Ассирии; его начало следует помещать в пределах 672-670-х годов. Накануне восстания, судя по запросам Асархаддона к оракулу бога Шамаша, обстановка на восточной границе Ассирии накалилась до крайности. Ассирийские отряды, посылаемые за сбором дани и повинностей в Мидию с территории провинций Хархар (точнее, из мидийской Сапарды, которая вошла в состав Хархара в 716 г.) и Кишессу (точнее, из Бит-кари), возвращались в крепости с пустыми руками2. Их грабили мидийские, маннейские, киммерийские и тогда еще скифские отряды. Восстание началось с осады крепостей в провинциях Хархар и Кишессу, но затем фронт значительно расширился. Из всех участников восстания Асархаддон назвал по имени лишь трех мидийских вождей: Каштариту— владетеля города Кар-кашши, Дусанни — правителя Сапарды и Мамитиаршу — «владыки мидийцев». Владение Каштариту Кар-кашши находилось в области Сагбат/Хангматана, которая в 716 г. была включена в провинцию Кишессу. Судя по тому, что ассирийцы не связывали Мамитиаршу с конкретной областью или городом, они имели
2 При Синаххерибе провинции Кар-Шаррукин и Кар-Нергал стали называться по-старому.
о нем смутное представление. Очевидно, поэтому Мамитиаршу назван владыкой вообще мидийцев, по всей видимости неподвластных Ассирии, в отличие от двух других персонажей, которые, возглавив население двух ассирийских провинций, восстали против своего суверена. Можно также полагать, что независимые мидийские вожди помогли восставшим в общей борьбе против ассирийского гнета.
Главным из всех участников восстания, бесспорно, был Каштариту. Из 23 сохранившихся запросов к оракулу бога Шамаша в связи с восстанием в 17 по разному поводу упомянуто его имя. Ответственность за организацию войны против Ассирии Асархаддон возложил на Каштариту, ассирийская армия посылается против него, переговоры о мире также предполагается вести с ним. Из всего этого следует и то, что лидирующей силой в восстании были мидийцы, и, очевидно, именно мидийцы из области Сагбат, которая в дальнейшем стала центром Мидийского царства со столицей Хангматана/Экбатаны.
Эпицентр восстания находился в западной части долины Хамадан: оно, как уже было сказано, началось с осады крепостей в ассирийских провинциях Хар-хар и Кишессу. Основной удар был направлен против Хархара. Восставшим в первую очередь необходимо было перерезать главную ассирийскую коммуникацию на Загросе и тем самым блокировать провинцию Хархар, которая находилась в горах на Хорасанском пути, на подступах к Мидии с запада. Очевидно, поэтому восстание распространилось и на Эллипи, лежавшую юго-западнее Хархара, тоже вдоль Хорасанского пути. Манна, наступая на провинции Замуа и Парсуа, захватила ряд территорий этих провинций.
Этот широкий антиассирийский фронт привел восставших к победе. Об этом свидетельствует многое. Во-первых, в общей сводке завоеваний Асархаддона, составленной в конце его правления, в которой сообщается о завоеваниях первых лет правления, не упомянута ни одна из его побед в Иране. Судя по некоторым аналогиям, можно допустить, что со временем в текстах того или иного царя опускались факты, которые было неуместно упоминать в связи с изменившейся не в пользу Ассирии ситуацией. Вряд ли достойно было бы вспоминать об успехах на востоке, когда мидийцы свергли ассирийское господство, а маннеи захватили часть ассирийских владений. Во-вторых, в одном из донесений Асар-хаддону в 670/69 г. до н.э. сообщается о создании ассирийских охранных постов на границах с независимыми Урарту и Хубушкией, что естественно, но также с Манной и Мидией. Эта оборонительная позиция Ассирии симптоматична. Ведь свыше 45 лет назад Саргон, укрепляя крепости в новой провинции Кар-Шарру-кин (Хархар), заявлял, что делает это для завоевания Мидии. В-третьих, захваченные в ходе восстания Манной ассирийские крепости оставались в ее владении не менее десяти лет.
Развитие взаимоотношений двух главных союзников — Манны и Мидии — также совершенно определенно свидетельствует о результате восстания. Лидерство Мидии, отмечаемое Асархаддоном во время восстания, не угасло в мирное время; она созрела для экспансии. Поведение Манны, которая всегда верно реагировала на расстановку политических сил в регионе и умела извлекать для себя выгоду, свидетельствует о новой политической ситуации в Иране. Действительно, в VIII в. до н.э. Манна была, за небольшими исключениями в царствование
Саргона, верным союзником Ассирии, которая помогала ей в борьбе с Урарту и с сепаратистскими тенденциями в самой Манне. В начале VII в. до н.э., когда Ассирия ослабила свои позиции на востоке, Манна стала союзником Мидии. И этот союз принес ей выгоду, в ходе восстания ей удалось завоевать ассирийские владения. Наступает 669 год до н.э., и на ассирийский престол вступает Ашшурбанапал (669-627). А в Манне продолжает править царь Ахшери — ярый противник Ассирии. Но к концу 660-х годов политическая ориентация Манны резко меняется, здесь снова побеждает проассирийская партия. Союз Манны и Мидии был крепким и плодотворным, более 15 лет он успешно противостоял Ассирии. Но начиная с 660-х годов рост мощи Мидии начал пугать часть ман-нейской правящей верхушки, и боязнь превратиться из союзника в побежденного толкнула Манну вновь в объятия Ассирии. В 660 г. ассирийцы совершают поход в Манну. Поводом к нему послужило желание Ассирии вернуть захваченные более десяти лет назад ассирийские владения. Но целью похода или во всяком случае его результатом было уничтожение мидийско-маннейского союза. Во время похода в Манне вспыхнуло восстание. Ахшери, который оказывал упорное сопротивление Ашшурбанапалу, был зверски убит. На престол вступил его сын Уалли, который признал победу Ассирии и вернул ей земли в провинциях Парсуа и Замуа. И вновь Манна поступила выгодно для себя: союз с Ассирией, которой она оставалась верной до самого конца, спас Манну. Ибо в эти годы Мидия еще не осмеливалась напасть на Манну, за которой стояла Ассирия.
Последний раз ассирийские клинописные источники упоминают Мидию около 658 г. до н.э. Ашшурбанапал сообщает о захвате одного мидийского «начальника поселения», по имени Бирисхадри. По словам царя, он прежде подчинялся ассирийцам, но затем «сбросил ярмо ассирийского владычества». Вероятно, речь шла о какой-то части мидийских владений, входивших в состав Кишессу, территория которой в отличие от Хархара не была полностью отвоевана в ходе восстания мидийцами. Может быть, этот Бирисхадри попытался перейти под власть Мидии и был наказан за это. Сама незначительность этого события, внесенного тем не менее в анналы, показывает, что грандиозные планы ассирийских царей по завоеванию Мидии, которые они вынашивали более 150 лет, так и не смогли осуществиться. Ассирия теперь уже не представляла угрозы для Мидии. Но для того чтобы вступить в борьбу с ней, Мидии необходимо было обезопасить свои тылы, укрепить материальные ресурсы и обрести новых союзников, способных противостоять Ассирии. Мидия вступила в новый этап своей истории.
Возвышение
Мидийского царства
Реальную угрозу для Мидии в эти годы могло представлять царство Урарту. Разгром Русы I в 714 г. до н.э. Саргоном II не означал гибели Урарту. И в начале VII в. до н.э. Урарту продолжает активную политику на востоке. Продолжается проникновение урартов в Закавказье, Аргишти II (714-685) совершает поход в сторону Каспийского моря. Его преемник Руса II (685-645) строит в Закавказье город Тейшебаини/Кармир-блур и сооружает множество крепостей между Арак-
сом и Урмией. Сооружение новых крепостей вместе с уже построенными здесь ранее позволяет предположить создание нового плацдарма взамен приурмийско-го, уничтоженного Саргоном. Урарту продолжает вести наступательную, а не оборонительную политику. Проникновение в Иран, очевидно, оставалось стратегической задачей урартских царей в первой половине VII в. до н.э.
Но все эти урартские крепости погибли в огне или были покинуты. Гибель этих крепостей в середине VII в. до н.э. подтверждает начало территориальной экспансии Мидии в это время. Никакой другой силы в регионе, способной разрушить Урарту, тогда не существовало. Мидии было необходимо уничтожить новый урартский плацдарм и предотвратить новые походы урартов на восток, обезопасив таким образом свои тылы на севере. Удар Мидии должен был быть направлен как раз на крепостной заслон по линии Аракс-Урмия. Это был единственный подступ к Урарту со стороны Мидии, поскольку южное и западное побережья озера Урмия были уже заняты Манной. Очевидно, что этот удар был нанесен не только по этим пограничным крепостям. В 40-е годы VII в. до н.э. Урарту перестает существовать как независимое государство.
Дальнейшие события мидийской истории известны из вавилонских источников, и многие ее эпизоды были описаны Геродотом более чем 150 лет спустя. Данные клинописных источников часто не согласуются с информацией Геродота относительно истории Мидии. Геродот узнавал об истории интересующих его стран путем расспроса случайных и часто некомпетентных лиц. Если он и использовал устную традицию, то не все считал нужным включать в свой рассказ, и отбор материала мог быть очень субъективным. Так, например, он ничего не сообщает ни об Урарту, ни об урарто-мидийских отношениях, ничего не знает и о Манне. Не исключено, конечно, что гибель Урарту не имела того политического резонанса, как, например, гибель Ассирии несколько десятилетий спустя. И об этом государстве просто забыли. Но, по-видимому, история Урарту и Манны была отсечена Геродотом потому, что, уничтоженные в VII в. до н.э., эти государства уже не были связаны с эпохой, предшествовавшей периоду грекоперсидских войн, истории которых и был по существу посвящен его труд. Именно в этой предыстории, которую он реконструировал, Геродот пытался найти причины и объяснения событий, приведших к войнам с персами. В Иране такую предысторию, по мнению Геродота, создали персы, мидийцы и скифы. Именно они в дальнейшем стали современниками или участниками этих войн. Характер сбора информации и отбора фактов для рассказа, исторические реконструкции Геродота привели к искажению и к несогласованности его сведений с данными клинописных источников. Важно подчеркнуть, что проверка соответствующих частей «Истории» Геродота должна проводиться именно на основании клинописных источников, наиболее близких по времени к исследуемым событиям, а не наоборот.
Именно эта проверка обнаруживает как точность ряда сообщений Геродота, так и ошибочность некоторых из них. Он сохранил ряд сведений по ключевым моментам в истории Мидии — прежде всего о мидийском восстании: он сообщает, что первыми от ассирийцев отпали мидийцы. В освободительной борьбе они проявили доблесть и, свергнув рабство, обрели свободу (I, 95). История Ми
дии, по Геродоту, укладывается в царствование четырех царей. Первым был мудрый человек по имени Дейок, бывший первоначально судьей. Он-то и был избран царем Мидии. Он построил столицу Мидии Экбатаны, упрочил государственную власть, объединил все мидийские племена и правил 53 года (I, 96-102). Его сын Фраорт правил 22 года. Он пошел войной на персов, и те первыми подчинились мидийцам. Затем Фраорт начал покорение Азии народ за народом. Он выступил против ассирийцев, именно тех, что владели Нином (Ниневией) и прежде были владыками всей Азии, а теперь, после отпадения своих союзников, остались одни. В этом походе погиб сам Фраорт (1, 102). Его сын Киаксар выступил против Нина со всеми подвластными народами, чтобы отомстить за отца и разрушить город. Но во время осады города в Мидию вторглись огромные полчища скифов. Мидийцы потерпели поражение, и скифы установили господство над мидийцами и над всей «Азией», которое длилось 28 лет. По истечении этого времени Киаксар и мидийцы пригласили скифов в гости и на пиру их всех перебили. Так мидийцы восстановили величие своей державы и, завоевав Нин, покорили ассирийцев. После этого Киаксар умер, процарствовав 40 лет (считая годы скифского владычества). При Киаксаре началась война мидийцев с лидийцами. Царь последних, Алиатт, не захотел выдать скифов, которые бежали от мидийцев, что послужило причиной войны, которая длилась пять лет. На шестом году во время битвы случилось затмение, после чего воюющие стороны заключили мир (I, 73-74). Границей между Мидийским и Лидийским царствами служила р. Галис (I, 72). Последний мидийский царь, Астиаг, правил 35 лет. Его дочь стала женой перса Камбиса, ее сын Кир (будущий Кир Великий), уже в качестве персидского царя, завоевал царство своего деда Астиага. Заканчивает свое повествование о мидийцах Геродот такими словами: «Владычество же мидийцев над Азией по ту сторону Галиса продолжалось 128 лет, исключая время господства скифов» (I, 107-130).
Из четырех названных Геродотом мидийских царей вавилонские источники сохранили имена только двух последних: Уксатар (мид. Хувахшатра) — это Киаксар и Иштувег — Астиаг. Царствования царей отсчитываются от даты поражения Астиага, которое случилось, согласно вавилонской хронике, на шестой год правления вавилонского царя Набонида, т.е. в 550/49 г., другими словами, после марта 550 г. и до марта 549 г. Следовательно, если отсчитывать от 550 г., то мидийские цари правили: Дейок (700/699-647), Фраорт (647/46-625), Киаксар (625/24-585), Астиаг (585/84-550). Если отсчитывать от 549 г., то все цифры уменьшаются на один год. Контрольными датами могут служить: май 585 г. до н.э.— год солнечного затмения, в котором, согласно Геродоту, произошла решающая битва между Киаксаром и Алиаттом. Поэтому, например, 553 год до н.э., иногда предлагаемый как дата покорения Мидии, не может быть принят, поскольку в этом случае затмение должно было бы случиться уже в царствование Астиага. Согласно Геродоту, Фраорт погиб во время похода на Ассирию. Не исключено, что в Вавилонской хронике имеется намек на мидийский поход в 1-й год правления Набопаласара (24.03.625 — 13.03.624). В мае 625 г. ассирийцы напали на вавилонский город Шаллат и разграбили его, но затем наступление
ассирийцев прервалось и возобновилось лишь в конце июля. Предполагается, что именно нападение мидийцев отвлекло ассирийцев, и, лишь разбив мидийцев, они вновь напали на Вавилонию. Если это соответствовало действительности, то отсчет надо вести именно от 550 г., ибо в 624 г. Вавилонская хроника не дает никаких оснований предполагать мидийское вторжение. Поход Фраорта именно против Нина, по-видимому, верно отражает начавшийся распад Ассирии, центрами которой помимо Ниневии были Ашшур и, очевидно, Харран. Этот распад случился вскоре после 630 г. Далее Геродот сообщает о разгроме мидийцами под предводительством Киаксара Нина и покорении ими ассирийцев, не упоминая при этом вавилонян. Согласно же Вавилонской хронике, разгром Ниневии в 612 г. до н.э. (14-й год правления Набопаласара) был осуществлен двумя союзниками — мидийцами и вавилонянами. За два года до этого события, в 614 г., произошла первая осада Нина, действительно, только мидийцами. В данном случае для объяснения разногласия источников, по-видимому, имеются объективные причины. Геродоту была известна персидская историческая традиция, которая, естественно, сохранила официальную версию о главенствующей роли Мидии в разгроме Ассирии. Во всяком случае, как будет показано ниже, Мидия действительно была лидирующей силой в этой войне, а вавилонские хроники принижали ее роль.
Геродот помещает между осадами Нина, бывшими в 614 и 612 гг. до н.э., 28-летнее господство скифов над Мидией, что само по себе невозможно. Кроме того, если в 70-е годы VII в. до н.э., накануне мидийского восстания, скифы, как и киммерийцы, предпочитали быть союзниками Мидии в ее борьбе против Ассирии, то позднее такое господство вообще исключено. Невозможно совместить начавшуюся вскоре после успешного восстания мидийскую экспансию (завоевав Урарту, Персию и другие мелкие владения, соседствовавшие с ней, Мидия вступила в последний этап борьбы с Ассирией) и скифское господство над Мидией. Это «скифское господство», как и вообще важная роль скифов на Древнем Востоке, не более чем умозрительная реконструкция Геродота, с помощью которой он пытался понять и объяснить некоторые события (например, причины вторжения Дария 1 в Скифию или историю киммерийцев). Но такая реконструкция не вписывается в историю, зафиксированную современниками в письменных документах. В действительности мог иметь место военный конфликт или даже локальный успех скифов в какой-то момент их взаимоотношений с мидийцами, который позднее в скифских героических сказаниях преобразовался в гораздо более крупное по масштабам событие. В основу этого сюжета могла также лечь местная традиция Синопы, города на южном берегу Понта Евксинского, о 28-летнем господстве скифов, хотя фольклорная природа самой цифры 28 (период воинской активности от 17 до 45 лет) склоняет исследователей к отказу от использования ее в историко-хронологических построениях.
Царствования Дейока и Фраорта породили множество гипотез и исторических реконструкций. Одна из них, по-видимому, в состоянии согласовать рассказ Геродота об этих царях с развитием событий в Мидии после успешного антиассирийского восстания, восстанавливаемых по данным клинописных источников.
В основу хронологии мидийской династии в этом случае должно лечь сообщение Геродота о 128-летнем владычестве мидийцев над Азией. Давно было отмечено, что это число (53+40+35=128) состоит из суммы лет правления трех мидийских царей из упоминаемых им четырех. Начало этого владычества, отсчитывая от 550 г., приходится на 678 г. до н.э., который может быть связан с приходом к власти мидийского царя или вождя за несколько лет до восстания, в котором он прославился и после которого действительно началось возвышение Мидии. Если это правление второго мидийского царя, которого Геродот назвал Фраортом, длилось 53 года, то оно вместило важнейшие для страны события. Некоторые из них названы Геродотом, и они отчасти подтверждаются и дополняются клинописными источниками. Геродот отмечает два этапа завоевания Азии; его начал Фраорт (помимо Персии было завоевано Урарту), а закончил Киаксар, присоединив к Мидийскому царству «всю Верхнюю Азию по ту сторону Галиса». К этому времени можно отнести попытки Мидии выйти на международную арену в составе антиассирийской коалиции во время восстания вассального царя Вавилонии Шамаш-шум-укина против Ассирии в 652-651 гг. до н.э. А в 625 г. до н.э., в год смерти Фраорта, клинописные источники дают основание предполагать еще одно неудачное выступление Мидии против Ассирии. Тем не менее правление Фраорта положило начало мидийской экспансии и подготовило победу Мидии над Ассирией.
Фраорт идентифицируется с вождем антиассирийского восстания Каштариту, что подтверждается данными Бехистунской надписи Дария I. В ней говорится, что Фравартиш (греч. Фраорт), один из руководителей восстания против Дария I в 522-521 гг. до н.э., называл себя Хшатритой (акк. Каштариту). Это имя, по-видимому, ассоциировалось с именем одного из мидийских царей. Этот Фравартиш ненадолго восстановил власть мидийцев в Иране, став царем значительной части Ахеменидской империи. Ко времени Геродота могла произойти контаминация двух царствований, в результате чего информаторы Геродота спутали имя мидийского царя с именем самозванца Фравартиша.
Хотя Геродот не назвал царя, при котором мидийцы обрели независимость, из его рассказа ясно, что это произошло при Фраорте. Все, чем славен Дейок, это мудростью, которая помогла ему объединить шесть мидийских племен, и обустройством Экбатан. Описание этого идеального правителя делает его скорее эпонимным царем и выводит его правление за рамки 128-летнего периода господства мидийцев над другими народами.
Возвращаясь к военно-политическим планам Мидии после разгрома Урарту, следует подчеркнуть, что, обеспечив безопасность своих северных пределов, Мидия могла обратиться к Персии — своему южному соседу. Персия не представляла угрозы для нее. Это была периферийная территория — колыбель еще далеких от могущества Ахеменидов. Но захват этой территории мог обеспечить материальные ресурсы для Мидии в предстоящей борьбе с Ассирией. Это событие не могло случиться ранее 630-х годов, так как еще около 641 г. до н.э. независимый персидский царь Кир I (Кураш) посылает дары Ашшурбанапалу по случаю его победы над Эламом. Геродот же, не зная о гибели Урарту, утверждает, что первым завоеванным мидийцами народом стали персы.
Союзником Мидии в предстоящей борьбе с Ассирией стала Вавилония. Союз Мидии и Вавилонии, необходимый каждой из сторон, складывался постепенно, вероятно начиная с 652/51 г., и был официально заключен в 614 г. на руинах Ашшура. Кризис в Ассирии способствовал объединению ее врагов. Развал Ассирийской державы ускорил халдейский вождь Набопаласар, возглавивший в 627 г. антиассирийское восстание в Вавилонии и признанный в конце 626 г. царем в Вавилоне. Но поначалу ему удалось укрепить власть только на севере Вавилонии, тогда как центр и юг страны сохраняли верность Ассирии, в некоторых городах находились ассирийские гарнизоны. В 623 г. против Ассирии восстал Дер, с потерей которого Ассирия лишилась территориальной связи с Ниппуром, где стоял ассирийский гарнизон. Владея Дером, Набопаласар получил возможность установить прямой контакт с Эламом и Мидией. Но Элам, не оправившийся после разгрома 641 г., не смог стать союзником Вавилона и в источниках этого времени не упоминается. Мидия же, начавшая территориальную экспансию, согласно Геродоту, уже предприняла попытки противостояния Ниневии. Более десяти лет длилась война Набопаласара с Ассирией за овладение территорией собственно Вавилонии. Но только к 616-615 гг. вся территория Вавилонии оказалась в руках вавилонского царя, и в 616 г. ассиро-вавилонская война перешла на территорию Ассирии.
Набопаласар активно начал боевые действия против Ассирии. Весной 616 г. он двинулся вверх по Евфрату, где две ассирийские провинции, Суху и Хиндану, покорились ему без сопротивления. Только летом ассирийцы смогли послать туда карательную экспедицию. На помощь ассирийцам подошли маннейские войска. Но возле города Габлину ассиро-маннейские войска потерпели поражение, и вавилоняне захватили город. Опираясь на эту базу, Набопаласар поднялся вверх по реке, примерно до места впадения в Евфрат р. Белих, где захватил три города и большую добычу. Не будучи уверенным в своей победе, Набопаласар на обратном пути увел жителей Хиндану. Спустя два месяца объединенные силы ассирийцев и египтян появились на Евфрате, заняли брошенный Габлину, но «царя Аккада» (т.е. Набопаласара) не настигли. Провинция Суху осталась за Вавилонией. Спустя четыре месяца, в марте 615 г., Набопаласар вторгся в ассирийскую провинцию Аррапха и нанес ассирийцам поражение в пригороде города Аррапха. Разбитые войска были сброшены в р. Малый Заб, была захвачена большая добыча. Но когда в мае он попытался захватить священный город ассирийцев Ашшур, то потерпел поражение и был вынужден отступить вниз по течению Тигра, где ему удалось запереться в крепости Такритайн. Десять дней ассирийцы безуспешно штурмовали крепость и отступили ни с чем. Но и Набопаласар после года изнурительных боев тоже остался почти ни с чем: как показали последующие события, его власть в Суху оказалась очень слабой, а в Аррапхе ему не удалось закрепиться.
Ход войны против Ассирии изменился поздней осенью 615 г. до н.э., когда мидийцы начали военные действия в провинции Аррапха, которая, очевидно, по-прежнему принадлежала Ассирии. Начиная войну, Мидия не могла оставить у себя в тылу верного союзника Ассирии Манну. Мидия могла воспользоваться
разгромом маннейских войск возле Габлину летом 616 г., куда маннеи подошли на помощь ассирийцам, и захватить Манну. Как самостоятельное государство после 616 г. Манна больше не упоминается. Бесспорно, если бы Манна и Урарту еще существовали как государства в 612 г., они пришли бы на помощь Ассирии или как-то проявили себя, как это сделал ее последний союзник — Египет.
С вступлением Мидии в войну события стали разворачиваться стремительным образом. В августе 614 г. мидийцы подошли к Ниневии, овладели соседним Тарбицу, форсировали Тигр и спустились к Ашшуру. Город был взят и разграблен, все сокровища Ассирии стали достоянием мидийцев. Когда все было кончено, появился Набопаласар со своими войсками, «которые шли на помощь мидийцу, но сражения не застали». Как ни объяснять причину задержки вавилонского царя, фактом остается его неучастие в военных действиях 614 г. Тем не менее на развалинах священного Ашшура все еще нуждающиеся друг в друге Киаксар и Набопаласар заключили договор о дружбе и союзе. Весной 613 г. в провинции Суху произошло проассирийское восстание. Неудачные действия Набопаласара привели к распространению восстания на территорию Центральной и Южной Вавилонии. Набопаласар почти терял власть, а Ассирия впервые за много лет могла изменить ситуацию в свою пользу. Будущее обоих государств было предопределено интервенцией Мидии, пришедшей на помощь Набопала-сару; она разгромила восставших.
Анализ боевых действий за 616-613 гг. показывает бесплодность побед Набопаласара. Очевидно, что после года изнурительных боев с весны 616 г. по весну 615 г. он и его армия были измотаны. После неудачного штурма Ашшура и отсидки в Такритайне он два года по существу не участвовал в боевых операциях, лишь засвидетельствовав победу мидийцев в Ашшуре, которая не стала его победой за год до этого. Бездействие Набопаласара, очевидно, и послужило толчком к восстанию в Суху, где его власть оказалась слабой, и он не смог самостоятельно справиться с ним. Очевидно, что ведущей силой в этой войне стала Мидия, что и было отражено Геродотом в его «Истории».
Кульминацией войны стали осада и разгром Ниневии соединенными силами Киаксара и Набопаласара в 612 г. до н.э. Осада города длилась около трех месяцев. За это время произошло три сражения, и в августе Ниневия пала. Падение Ниневии произвело огромное впечатление на современников, яркое описание гибели города запечатлено в «Книге Наума», который, вероятно, был очевидцем событий. Согласно Науму, штурм удался благодаря созданию искусственного наводнения, подмывшего, по-видимому, сырцовые стены города. Ассирийский царь Син-шарри-ишкун, не желая попасть в плен, бросился в огонь своего пылавшего дворца. Вот как восприняли современники гибель главного города ненавистной Ассирии: «Все, услышавшие весть о тебе, будут рукоплескать о тебе; ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя?» (Наум 3, 19). Опустошенный и разграбленный город был сожжен и разрушен. В сентябре Киаксар и его войско с громадной добычей удалились в Мидию. Набопаласар оставался в Ниневии, а его войска продолжали разрушать и грабить окружающие ассирийские поселения.
Падение Ниневии не означало еще гибели Ассирийской державы. Уцелела значительная часть ее армии и знати, оплотом которых стал Харран — крупнейший в то время город Северной Месопотамии. Он получил от ассирийских царей самоуправление и, очевидно, поэтому придерживался ассирийской ориентации. Здесь вскоре после гибели в Ниневии Син-шарри-ишкуна новым ассирийским царем был провозглашен Ашшур-убаллит II (612/11-609?). Наступил завершающий этап войны, сутью которого стала борьба за «ассирийское наследство». Формально под властью ассирийцев еще оставались обширные территории в Северо-Западной Месопотамии, Сирии и Палестине. Помимо Мидии и Вавилона на «ассирийское наследство» претендовал также и единственный союзник Ассирии — Египет. С конца 630-х годов, когда власть Ассирии в Палестине значительно ослабла, началось проникновение Египта на филистимские территории Палестины, которое закончилось недолгим завоеванием всей Палестины фараоном Нехо после 609 г.
После взятия Ниневии и вплоть до ноября 610 г. Набопаласар самостоятельно завоевывает ассирийские владения. Однако в ноябре 610 г. к нему на помощь снова пришли мидийцы, и, объединив свои войска, они подошли к Харрану, где находились ассирийский царь и только что вступивший на престол фараон Нехо (610-595). Не приняв сражения, последние ушли на запад. Город был взят, жители его уничтожены, а главная святыня — храм бога Сина разрушен. Последнее святотатство было приписано мидийцам. Летом 609 г. ассиро-египетские войска в течение четырех месяцев безуспешно пытались вернуть Харран. В ходе боев 610-609 гг. Харран был полностью уничтожен, 54 года он лежал в развалинах. Важная роль Харрана прежде всего как стратегического пункта, контролирующего путь из Сирии в Месопотамию и в Малую Азию, перешла к Каркеми-шу, который стал оплотом египетских сил в регионе.
Вавилонский царь, однако, не сразу сосредоточил свои силы на борьбе с этим ставшим теперь главным врагом Вавилона. В 609-607 гг. было совершено несколько походов в Северную Месопотамию, к границам бывшего Урарту. В этом же направлении действовали и мидийцы, которые в 609 г. приступили к завоеванию отдельных территорий «в области страны Урашту», владений на западе страны, которые остались не завоеванными Мидией несколько десятилетий назад. Лишь осенью 607 г. до н.э., когда престарелый Набопаласар передал командование армией царевичу Навуходоносору, Вавилония сосредоточила свои силы на западном фронте, где единственным противником остался египетский фараон. Судьба последнего ассирийского царя остается неизвестной.
Подготовка к войне против Каркемиша заняла у Вавилонии более полутора лет, которые ушли на обеспечение безопасной переправы через Евфрат. К этому времени весь сиро-палестинский район находился в руках египтян. Поэтому вавилонский плацдарм на правом берегу реки угрожал бы коммуникациям, которые связывали Каркемиш с остальной Сирией. Египтяне оказывали сильное сопротивление проникновению сюда вавилонских сил и дважды уничтожали вавилонские гарнизоны, укрепившиеся у переправы. Лишь в начале 605 г. вавилонянам удалось обеспечить себе переправу. Решающие события разыгрались весной 605 г. у Каркемиша. Фараон Нехо собрал огромную армию, в составе которой
наряду с египтянами были ливийцы, нубийцы, лидийские лучники и греческие наемники. На стороне вавилонских сил, есть основания считать, были, как всегда, мидийцы. Каркемиш был осажден, взят штурмом и сожжен. В панике египтяне бежали на юг, в Хамат, но были настигнуты и уничтожены: «Ни один человек не вернулся в свою страну», — отмечает хроника. Дата битвы у Каркемиша не сохранилась, но она, очевидно, произошла в мае или июне 605 г., так как к моменту смерти Набопаласара в августе 605 г. вавилонская армия уже очистила от египтян большую часть владений Ассирии в сиро-палестинском регионе. На этом с остатками Ассирийской державы было покончено. Победа при Карке-мише ознаменовала создание двух новых держав: Мидийского царства и Нововавилонского, или Халдейского, царства.
В результате разгрома Ассирийской державы Вавилония захватила приев-фратские территории, отвоевала у Египта сиро-палестинский регион, в 597-587 гг. завоевала Иудею, в самом начале VI в. до н.э. под контроль Вавилона перешел Элам. Мидийцы завладели ассирийскими провинциями в Иране, коренной территорией Ассирии в Северной Месопотамии и областью Харран в Верхней Месопотамии. Кроме того, Мидия еще раньше завоевала Урарту, Персию и Манну. Граница между Мидией и Вавилонией могла проходить от Каркемиша, находившегося в вавилонском владении, к югу от Харрана, далее приблизительно по горному хребту Джебель Джингар через Тигр южнее Ашшура, вдоль гор Хамрин по долине Диялы и северо-западным границам Элама. Таким образом, вся Северная Месопотамия входила в Мидийское царство, и позднее, когда Кир II пересекал ее, он не нарушал границ владений Вавилона.
Развитие событий в ходе антиассирийской войны, результаты раздела «ассирийского наследства», экспансионистские возможности Мидии показывают, что из двух союзников сильнейшим была Мидия. Ведь даже начиная войну с маленькой Иудеей, Вавилония, по-видимому, обращалась за помощью к Мидии. Решив общую для них задачу по уничтожению Ассирии, обе державы уже не были, как прежде, заинтересованы в союзе. Не исключено, что чувство некоторой зависимости Вавилонии во время войны переросло в неприязнь к сильной Мидии. Во всяком случае, анализ Вавилонской хроники, описывающей события 616-609 гг., так называемой Хроники Гэдда, позволяет сделать такой вывод. Текст хроники не является первоначальной версией событий, ее редакция была сделана позднее, около 596 г. до н.э., когда мидийско-вавилонские отношения начали ухудшаться. Хроника была переписана с целью преуменьшить военную роль мидийцев в кампании против Ассирии.
В конце VII в. до н.э. на Древнем Востоке оставалось четыре крупные державы: Вавилония, Египет, Лидия и Мидия. Попытки изменить это число не увенчались успехом. Навуходоносор был вынужден отказаться от притязаний на Египет и занялся благоустройством своего государства. При нем Вавилония превратилась в процветающую страну. Мидия же в последующие десятилетия не отказалась от завоевательной политики. Киаксар продолжил завоевания в Малой Азии. Здесь его интересы столкнулись с интересами лидийского царя Алиатта. Согласно Геродоту, война между ними длилась пять лет, но ни одна из сторон не могла одержать решающей победы. Во время битвы у р. Галис (совр. Кызыл-Ирмак)
28 мая 585 г. произошло солнечное затмение, воспринятое воюющими сторонами как плохое предзнаменование. Войну прекратили, и при посредничестве вавилонянина Набонида (Лабинет у Геродота) и царя Киликии Сиеннесия был заключен мирный договор, согласно которому границей между Лидией и Мидией стала река Галис. Мирный договор был скреплен браком между детьми обоих царей. Более поздние источники дают основания предполагать, что в рассказе Геродота соединены события двух мидийско-лидийских войн. Вторая война, начатая Астиагом в 577 или 575 г., как раз и могла закончиться свадьбой Астиага и Ариенис. Примечательно участие в мирных переговорах вавилонского посредника: заинтересованность Вавилонии в установлении мира могла быть связана, например, с тем, что из-за многолетней войны нарушилась ее торговля через Малую Азию. О завоеваниях Мидии на востоке имеются лишь косвенные свидетельства Бехистунской надписи, которые предполагают, что мидийцам удалось завоевать Парфию и Гирканию.
В 553 г. до н.э. в зависимой Персии, как сообщает Вавилонская хроника, произошло нечто такое, что заставило Астиага собрать войска и выступить против персидского царька Кира. Далее, согласно хронике, произошли необычайные события. В мидийской армии произошел мятеж, Астиаг был схвачен и выдан Киру. После этого Кир пошел на Агамтану, забрал все сокровища мидийских царей и вернулся к себе. О военных действиях хроника не сообщает, в ней скупо, но точно описан государственный переворот, в результате которого около 550 г. до н.э. власть в Мидии перешла к другому царствующему роду. Что же происходило в Мидийском царстве накануне переворота и кто был в нем заинтересован? Геродот и другие античные авторы, по-разному описывая последние события царствования Астиага, сходятся в одном: Астиаг был предан мидийской знатью.
Свидетельства источников о предательстве мидийского царя знатью имеют рациональное объяснение, которое подтверждается событиями последующих десятилетий в Иране. Долгий период завоевательных войн в царствование Астиага закончился. Как и вавилонский царь несколько ранее, Астиаг не мог не приступить к государственному строительству. Мидия, состоявшая из племенных образований, включила в свой состав множество стран, находившихся на разных этапах развития государственности. Перед Астиагом стояла трудная задача государственного строительства, однако он с нею или не справился, или ему помешали ее выполнить. Права и привилегии военно-родовой знати, состоявшей из потомков независимых мидийских владетелей, в соединении с огромным богатством, приобретенным в ходе войн, сделали мидийскую знать оппозиционной преобразованиям царя. Сильная централизованная власть, способная сохранить от распада огромную державу, могла существовать только в борьбе со знатью и ее центробежными силами. Не исключено, что в этом противостоянии на стороне царской власти находились и религиозные служители. Ведь местные царьки одновременно бывали и жрецами, и на этом во многом основывался их авторитет и влияние. Зороастризм, уже утвердившийся среди восточных иранцев после включения их в состав Мидии, начал распространяться и среди западных иранцев. Согласно Геродоту, маги занимали при дворе Астиага видное положе
ние и он с ними советовался. Маги в это время могли стать врагами местной крупной знати и жречества с их местными культами, не унифицированными и противостоящими учению, которое приписывается Заратуштре.
Борьба мидийской знати против царской политики закончилась победой первой. Она выдвинула на престол своего ставленника — царя маленького владения, которому можно было диктовать свою волю. Им стал Кир из рода Ахемена, царь Персии. Если к тому же он был, как утверждает Геродот, сыном дочери Астиага, у которого не было своих сыновей, то и формально кандидатура Кира устраивала не только мидийскую знать, но и более широкие слои населения, поскольку власть передавалась от деда к внуку.
Таким образом, крушения Мидийского царства не было, а произошел династический переворот внутри одного государства, частью которого была Персия. Геродот и Ксенофонт говорят именно об отнятии власти у мидийцев, но не о разрушении царства (Геродот VII, 8; Ксенофонт. «Анабасис», кн. III, гл. IV, 8,11). Именно поэтому персов продолжали называть мидийцами. О сохранении страны свидетельствует существование мидийской армии, высокое положение мидийцев в государстве и возможность в случае нового переворота или восстания возврата власти к ним. Переворот был осуществлен военно-родовой знатью, боявшейся потерять независимость в процессе централизации страны, и поддержан армией, которая была недовольна прекращением завоевательных походов, обогащавших ее. Власть перешла в руки Кира, который в течение двух лет укрепил свою власть в стране и продолжил расширение границ царства, называемого теперь Ахеменидским.
Глава 9
СТЕПИ ЕВРАЗИИ И ДРЕВНИЙ БЛИЖНИЙ ВОСТОК
В КИММЕРИЙСКО-СКИФСКУЮ ЭПОХУ
В последние десятилетия VIII — начале VII в. до н.э. в сохранившихся письменных памятниках Передней Азии впервые зафиксированы ранее не отмеченные на этой территории народы, чья связь между собой и с иными обитателями Древнего Востока отражает новую страницу истории этого региона.
Около 714 г. до н.э. ассирийские источники, происходящие из Куюнджикско-го архива и относящиеся ко времени правления царя Ассирии Саргона И, фиксируют первое известное нам на этой территории событие с участием народа, в аккадских текстах именуемого гамир, — его столкновение с урартским царем Русой I. На протяжении ряда последующих десятилетий ближневосточные источники в связи с некоторыми фактами истории региона упоминают несколько различающиеся между собой этнонимы (чаще всего — в форме гимирри), передающие, как полагают ученые, разные варианты названия того же народа.
Несколькими десятилетиями позже, около 670 г. до н.э., в ассирийских текстах появляется еще один прежде не зафиксированный в этом регионе ойкумены этноним — ашкуз/ишкуза. При описании событий древневосточной истории, донесенных до нас аутентичными местными источниками, народ с этим именем фигурирует самостоятельно; каких бы то ни было свидетельств о связи племен ишкуза и гамир/гимирри не имеется.
Зато другая древняя традиция— античная,— запечатленная греческими и более поздними латинскими текстами, сохранила достаточно подробные сообщения о том, что народы, именуемые в этих источниках киммерийцами и скифами, проникли в области Ближнего Востока из одного и того же региона — восточноевропейских степей, — ио некоторых событиях, разыгравшихся в об-
ластях обитания названных народов до их вторжения в Переднюю Азию. Сопоставление различных форм этнонимов показало, что «киммерийцы» и «скифы» античной традиции соответствуют вышеупомянутым «гимирри» и «ишкуза» аккадских текстов и сходным этнонимам, передающим оба эти названия в иных языках Передней Азии.
После того как было установлено, что указанные традиции повествуют об одних и тех же народах, в мировой науке сложилась практика при исследовании их истории в равной мере привлекать и восточные и античные свидетельства на эту тему. Дополняя друг друга, эти источники позволяют воссоздать более или менее целостную картину, освещающую взаимоотношения между обоими этими народами и их участие в древней истории евразийских степей и Востока. Следуя традиции, более привычной европейскому уху, мы в дальнейшем будем а. соответствии с античной терминологией именовать эти народы киммерийцами и скифами.
При использовании обеих названных категорий источников — древневосточных и античных — следует учитывать, что каждая из них обладает как достоинствами, так и существенными недостатками. К примеру, восточные тексты, отражающие пребывание киммерийцев и скифов на Ближнем Востоке, имеют прежде всего то преимущество, что в значительной мере синхронны запечатленным в них событиям, а значит, составители этих документов были хорошо о них осведомлены. В то же время набор этих событий достаточно ограничен во времени и пространстве, и потому, отражая лишь некоторые факты киммерийско-скифской истории, он не позволяет составить более или менее полное представление о всей многовековой истории этих народов, по большей части протекавшей в не освещенных клинописными текстами областях ойкумены.
Свидетельства античной традиции, со своей стороны, наиболее достоверны в части описания скифских обычаев, с которыми греческий мир подробно познакомился в основном после возникновения густой сети эллинских колоний на примыкающем к скифским землям северном побережье Черного моря. Достаточно подробно освещены в этой традиции и те события скифской истории, которые относятся к эпохе существования этих колоний. Зато историю скифов в период, предшествовавший появлению эллинов в Северном Причерноморье, в том числе относящиеся к этому этапу взаимоотношения скифов с киммерийцами в Восточной Европе и Передней Азии, а также с обитателями стран Востока, античная традиция освещает преимущественно с чужих слов. Это описание опирается либо на устные рассказы самих скифов, либо на письменную или устную традицию народов Передней Азии, или же, наконец, исходит из собственных домыслов и гипотез античного мира. Киммерийцы, правда, упомянуты в «Одиссее» Гомера как народ, обитающий где-то далеко на севере ойкумены, но их описание там достаточно мифологично и не соотнесено с какими-либо историческими данными. Оно лишь подтверждает, что этот этноним стал известен эллинам уже в столь раннее время. Несколько позже, в VII в. до н.э., некоторые античные города Ионии сами столкнулись с разрушительными действиями киммерийцев и скифов в Малой Азии и сохранили о них яркие и красочные воспоминания. Но это были только отголоски традиции, зафиксированные античной литературой много позже.
Однако, признавая, что описание событий киммерийско-скифской истории, предшествующих возникновению в Северном Причерноморье эллинских поселений, в античных источниках в основном либо несамостоятельно, либо просто недостоверно, необходимо в то же время констатировать, что хоть какие-то представления о начальном этапе истории этих степных племен, позже фигурирующих в древневосточных и античных текстах, сохранились только в античной традиции. Следует лишь иметь в виду, что данные об этом этапе можно получить только путем создания исторической реконструкции, основанной на сопоставлении разнообразных источников, в том числе археологических материалов.
Эти материалы представляют особую категорию данных, без привлечения которых воссоздать интересующие нас аспекты истории Старого Света невозможно. Зачастую они оказываются единственно пригодными для получения представления о жизни каких-то не имевших письменности народов интересующей нас эпохи. Если же речь идет о народах, обладавших письменной историей, то археологические источники, без сомнения, дополняют нарративные данные, но только после этнической атрибуции той или иной археологической культуры или, напротив, после выяснения, какие именно археологические материалы оставлены тем или иным исторически засвидетельствованным народом. Иными словами, здесь требуется всестороннее соотнесение между собой письменных и материальных свидетельств, что далеко не всегда оказывается легко осуществимым.
В предыдущих разделах книги уже шла речь о роли евразийских степей в истории Древнего Востока на более раннем этапе всемирной истории — о проникновении из степей Евразии на территорию Индостана и Иранского нагорья значительных племенных групп, которые принесли в эти регионы Азии ставшие там с тех пор господствующими индоарийские и иранские языки. Но и после этих миграций часть ираноязычного населения осталась в евразийских степях, прежде всего в Северном Прикаспии и Причерноморье, и именно эти племена — носители так называемых восточноиранских языков — продолжали составлять значительную часть населения этого и соседних регионов на протяжении всей древней эпохи. В частности, ираноязычными были, судя по сохранившимся языковым данным, скифы и некоторые соседние с ними степные народы. Эти народы в древности не пользовались письменностью, но исследование оставленных в античных источниках данных о языке скифов и их соседей подтверждает это с достаточной надежностью. Есть основания предполагать ираноязычие и киммерийцев, но окончательные выводы на этот счет пока преждевременны.
Если на этапе расселения из степей Восточной Европы индоарийских и западноиранских народов обитатели этого региона, как было показано в соответствующих разделах, находились на стадии использования комплексного земледельческо-скотоводческого хозяйства, то несколько позже, перед вторжением киммерийско-скифских племен в Переднюю Азию, в жизни обитателей степи произошли достаточно кардинальные изменения— большинство из них перешло к специализированному кочевому скотоводству.
Строго говоря, зарождение такой специализации началось еще на стадии обитания в евразийских степях всей массы индоиранских народов, до переселения части их в Индию и Иран. Уже тогда потребность в обеспечении растущего на
селения степного региона необходимым количеством продовольственных ресурсов заставляла жителей этой зоны осваивать пространства, непригодные для ведения земледельческого хозяйства, но вполне подходящие для сезонного выпаса скота на временных летовках. Поначалу эта новая — отгонная — форма скотоводства оставалась в рамках комплексного хозяйства исключительно подсобной. Для того чтобы она обрела значение, предназначенное ей историей, потребовались серьезные сдвиги в хозяйственной и бытовой сфере жизни общества.
Одним из важнейших условий развития отгонного, а затем и по-настоящему кочевого скотоводства стало освоение нового способа применения лошади, уже ранее, как полагают многие ученые, одомашненной именно в этом регионе ойкумены. Если поначалу лошадь здесь являлась исключительно тягловым животным и частично использовалась на мясо и для получения молока, то, чтобы освоить в массовом масштабе подвижное скотоводство, чтобы быть в состоянии с необходимой мобильностью передвигаться вслед за стадами, перегоняя их на сезонные пастбища, люди должны были освоить использование лошади «под верх», т.е. для верховой езды. Такое употребление лошади явилось основной предпосылкой возникновения кочевого хозяйства. Как археологическое свидетельство такой новации можно трактовать находки в евразийских степных погребениях элементов верховой конской сбруи, прежде всего псалиев, служивших для скрепления удил с ремнями оголовья и поводьями. Они засвидетельствованы в евразийской степной зоне примерно с середины II тысячелетия до н.э.
Расширение сферы использования подвижного скотоводства в хозяйстве степняков привело и к ряду изменений в структуре этого хозяйства, подготовивших переход к стопроцентному номадизму. В их числе, в частности, следует назвать появление определенных новшеств в составе стада— повышение в нем удельного веса мелкого рогатого скота, способного к длительным перемещениям по пространству пастбищ, а также, напротив, практически полное исчезновение из него свиньи, пригодной для разведения только у оседлых племен.
По мере того как в хозяйство и быт обитателей степей внедрялись отмеченные нововведения, отгонное скотоводство начинало играть в их жизни все более заметную роль. Осваивались территории, пригодные только для скотоводства, а продукты этого способа хозяйствования стали приобретать все более заметное место не только в обеспечении самих степняков, но и в отношениях обмена, связывающих их с соседними племенами. Соответственно, с течением времени, отгон стад из эпизодического стал превращаться во все более регулярный способ ведения хозяйства у значительной части населения региона. В итоге многие обитатели евразийских степей перешли к чисто кочевой форме хозяйства, а оседлость и земледелие в этой зоне стали играть в лучшем случае только подсобную роль или даже исчезли полностью.
Многие ученые придерживаются мнения, что одной из главных причин расширения сферы применения в евразийских степях сперва отгонного, а затем и чисто кочевого скотоводства явились климатические изменения в этом регионе, в частности его существенная аридизация, сделавшая многие здешние земли практически непригодными для земледелия. В этих условиях переход к нома
дизму оказывался для степных народов единственным возможным выходом из экологического кризиса.
Обитатели степей, практически целиком перешедшие в своем хозяйстве на кочевое скотоводство, по-прежнему нуждались в товарах, которых отныне их собственная трудовая деятельность уже не обеспечивала, — в продукции земледелия и различных ремесел. Естественно, что при общении с соседними земледельческими общинами и целыми племенами они стали прибегать к обмену излишков собственной скотоводческой продукции на такие не производившиеся ими самими изделия. В результате между кочевниками и их соседями сложилась система разделения труда и устойчивых межплеменных отношений, в которой были заинтересованы обе включенные в этот процесс стороны.
Совершенно по-иному стали строиться у обитателей степей и военные отношения. Быт кочевников теперь во многом определялся конфликтами с соседями из-за права осуществлять на определенных территориях выпас скота. Но еще существеннее, что становление номадизма способствовало превращению скота в имущество, в условиях кочевого уклада наиболее ценное и вместе с тем легко отчуждаемое насильственным путем. Это обстоятельство превращало скотоводов в общество конных воинов, не только готовых при необходимости защитить свое добро, воплощенное преимущественно в стадах, но и способных в случае его утраты восстановить свое богатство за счет ограбления других общин или даже приумножить его. Такая ситуация не только приводила к сложению у кочевников особого воинственного уклада, но и способствовала становлению специфической военной тактики конных воинов и формированию всаднической воинской культуры. Любая кочевая орда превращалась в весьма мобильный коллектив, способный в случае надобности немедленно выставить необходимую подвижную военную силу, обеспечивавшую ей потребную защиту; эта же сила при возможности пользовалась меньшей мобильностью своего соседа, чтобы отбить его собственные богатства.
Со становлением номадизма в евразийских степях все большее значение начинает приобретать объединение смежных племен в более или менее стабильные союзы. На этом этапе даже многие оседлые племена стали прибегать к помощи кочевых соседей при необходимости защиты от военной опасности. В результате во многих регионах евразийского степного пояса возникал симбиоз обеспечивающих взаимные интересы оседлых и кочевых племен. Возникновение союзов племен, во-первых, закрепляло за ними определенные фиксированные территории, а во-вторых, создавало предпосылки для набегов таких союзов на соседние или даже достаточно отдаленные земли с целью грабежа и захвата добычи. Не случайно именно в киммерийско-скифскую эпоху евразийские степи превратились в плацдарм, откуда постоянно совершались вторжения в пределы богатых оседлых обществ Передней Азии. Именно благодаря набегам, совершавшимся степными народами на страны древнего Ближнего Востока, эти народы оказались вовлечены в мировой исторический процесс, попали в число субъектов, фигурирующих на исторической арене.
Археологически становление этого этапа приходится на время перехода от позднебронзового века к эпохе раннего железа, и именно оно ознаменовано
в истории евразийских степей формированием многих категорий инвентаря, до тех пор в этом ареале неизвестных или распространенных не слишком широко. В это время здесь получают распространение двухлопастные, а позже трехлопастные бронзовые наконечники стрел для широко применяемых кочевниками луков, бронзовые, а затем и железные наконечники копий, биметаллические кинжалы (реже — длинные мечи) и т.д. Все эти типы предметов распространялись за пределы ареала какой-либо одной археологической культуры; межкультурные связи, характерные для кочевого мира, обеспечивали унификацию инвентаря на достаточно широком пространстве.
Этот предскифский период в истории евразийских степей, предшествующий распространению здесь характерной скифской культуры, часто условно именуют киммерийским, поскольку античная традиция утверждает, что именно так назывался народ, обитавший в Северном Причерноморье до скифов. Однако в концепциях ряда исследователей такое именование теряет свою условность, и в носителях той или иной предскифской культуры этого региона они видят реальных киммерийцев. Так, на юге Восточной Европы выделены два типа памятников — черногоровский и новочеркасский, которые многие исследователи трактуют как последовательные стадии развития преемников срубной культуры позднебронзового века. По одной из существующих концепций киммерийцами считают носителей обеих этих культур. Другие исследователи полагают, что одна из этих культур оставлена киммерийцами, а другая принадлежала ранним скифам на стадии, предшествовавшей окончательному сложению их собственной культуры. Правда, при этом сторонники последнего толкования расходятся во мнении, какая именно из двух названных культур принадлежит киммерийцам, а какая скифам. Это свидетельствует, насколько недостаточны имеющиеся исторические данные для определения конкретной этнической принадлежности обитателей евразийских степей предскифского времени.
Еще нагляднее, чем в предскифское время, процесс унификации разных археологических культур прослеживается на несколько более поздней стадии, с распространением в евразийских степях так называемых культур скифского типа. Именно в это время на обширном степном пространстве получили широкое распространение определенные категории инвентаря, связываемые с самими скифами или с современными им народами. Особенно характерна для всех этих культур так называемая скифская триада, включающая предметы вооружения специфических форм, определенные детали верховой конской сбруи и произведения прикладного искусства, выполненные в характерном «зверином стиле». Для этих культур типичен и ряд других категорий инвентаря. Все эти изделия настолько единообразны на огромном пространстве евразийских степей, что с начала археологического исследования в степях Евразии памятников скифской эпохи и на протяжении многих десятилетий в науке бытовало убеждение, что речь, по существу, идет о единой археологической культуре, происходящей из некоего общего центра и оставленной одним народом. Подтверждение такого понимания этнокультурной принадлежности евразийских степных памятников скифского времени сторонники этой точки зрения находили в данных многих античных авторов, называвших обитателей большей части евразийского степно
го пояса общим именем «скифы». Правда, у некоторых древних авторов представлено и иное понимание этнической ситуации, существовавшей в степном поясе в скифское время: они полагали, что имя «скифы» можно прилагать к разнообразным племенам степей только как обобщающее, а в действительности каждый народ имел свое наименование; в частности, Геродот, придерживавшийся такого мнения, считал, что скифами правильно именовать лишь обитателей Северного Причерноморья между Дунаем и Доном.
С годами, по мере углубленного изучения степных археологических памятников скифской эпохи, стало ясно, что культура обитателей каждой из конкретных областей, входящих в евразийский степной пояс, имеет свои самобытные корни, как правило восходящие к предыдущей эпохе. В собственно скифское время на эти черты наложились общие для разных культур проявления, придавшие различным группам памятников определенное единообразие, хотя и в них в большей или меньшей степени заметны местные особенности. Такое понимание специалистами процессов культурной эволюции привело их к новому толкованию процессов этногенеза обитателей разных областей степного ареала, в частности к иному представлению о взаимоотношениях между уже упомянутыми киммерийцами и скифами. Первичные данные по этой проблеме содержатся в древних письменных источниках. Однако при всей важности этих данных нужно признать, что для создания полной, целостной картины их явно недостаточно и многие аспекты истории этих народов допускают альтернативные трактовки.
Сведения по ранней истории степных народов, представляющие своего рода предысторию скифских походов в Переднюю Азию, сохранились исключительно в античной традиции, но зато в разных версиях. Один из самых обстоятельных рассказов об этом содержится в «Истории» Геродота. Изложив две версии мифологического рассказа о происхождении скифов, возводившие этот народ к происходящему от богов первочеловеку по имени Таргитай, автор отмечает, что есть, впрочем, и иное повествование на эту тему, которому сам он доверяет более всего, и излагает совершенно иной по своему характеру текст, который правильнее всего охарактеризовать как историческое предание. Согласно этому преданию, скифы некогда обитали в одной из областей Азии, но затем, теснимые напавшим на них народом массагетов, перешли р. Араке и удалились в землю, прежде населенную киммерийцами, которую и завоевали (IV, 11). После этого началась их переднеазиатская эпопея, о чем речь пойдет позже.
С приведенным рассказом весьма схож эпизод «Аримаспеи» — сохранившегося лишь во фрагментах сочинения греческого автора VII в. до н.э. Аристея Проконнесского. По существу, это первое из античных сочинений об обитателях евразийских степей, о которых нам хоть что-либо известно. Интересующий нас фрагмент приводит сам Геродот в подтверждение своей версии рассказа о приходе скифов в Восточную Европу из Азии. По его словам, Аристей описал последовательное вытеснение друг друга с занимаемых ими территорий рядом евразийских народов: обитавшие у края земли одноглазые аримаспы потеснили исседонов, а те изгнали с их земли скифов, которые, в свою очередь, заставили покинуть свою страну живших «у южного моря» киммерийцев. Правда, у Ари-
стея, как мы видим, вытеснение скифов в землю киммерийцев приписано не массагетам, как у Геродота, а исседонам, но сам Геродот фактически игнорирует это расхождение.
Во многих отношениях близок к двум приведенным источникам рассказ позднеантичного автора— Диодора Сицилийского, восходящий, впрочем, к более ранним сочинениям. В нем повествуется, что скифы некогда в небольшом числе обитали у р. Араке, но позже, обретя небывалое прежде могущество, подчинили себе земли в горах до Кавказа, а в низменностях— до р. Танаис. Впоследствии они распространили свою власть на земли за Танаисом вплоть до Фракии, после чего обратились в другую сторону, на завоевание стран Востока. Здесь нет указания, что приход скифов в Восточную Европу был вызван натиском еще какого-то народа, и не упомянуто вытеснение ими из Причерноморья киммерийцев, но, как и у Геродота, скифская прародина локализована у р. Араке. Наиболее детально охарактеризованы у Диодора последовательные этапы расселения скифов на осваиваемой ими территории — сперва на левобережье Танаиса-Дона и в Предкавказье, затем в Северном Приазовье и Причерноморье и лишь после этого — в Передней Азии.
Соотнести описанные в приведенных источниках события с реальной географической и археологической картой можно лишь весьма приблизительно. Указание Геродота о пребывании скифов до их переселения в Причерноморье где-то в Азии имеет чересчур общий характер и в принципе допускает локализацию прародины скифов в любом регионе восточнее Танаиса-Дона— ведь рубежом между Европой и Азией античный мир считал эту реку, а также, в качестве ее продолжения, Азовское море (Меотийское озеро) и Керченский пролив, называвшийся у греков Боспором Киммерийским. К сожалению, недостаточно конкретно и указание Геродота и Диодора о первоначальном обитании скифов у р. Араке. Судя по контексту, этой рекой не могла быть закавказская река, носящая такое же имя и в наши дни. Характер упоминаний этого гидронима в античных источниках позволяет полагать, что в древности он прилагался к разным рекам, и определить, какая из одноименных рек имелась в виду в данном случае, нелегко.
Что касается расхождения между версиями Аристея и Геродота в вопросе о том, каким именно народом — исседонами или массагетами — скифы были изгнаны со своей прародины, то в современной науке выдвинута гипотеза, придающая этому расхождению принципиальное значение. Некоторые ученые полагают, что в этом рассказе Геродот совместил свидетельства о двух разновременных событиях: в пересказе Аристея речь якобы идет о первоначальном появлении скифов в Восточной Европе под натиском исседонов, тогда как данные самого Геродота отражают вторжение в Северное Причерноморье в конце VI в. до н.э. еще каких-то кочевников, потесненных массагетами. Но логика такого соединения в повествовании Геродота рассказа о самом первом появлении скифов в Восточной Европе с описанием переселения, произошедшего якобы гораздо позже, почти на памяти самого «отца истории», небезупречна, да и археологические подтверждения этой версии явно недостаточны. С другой стороны, по данным Геродота (I, 201), исседоны и массагеты суть соседние народы, жившие друг
напротив друга, и вытеснение скифов с их прародины одним из них в принципе могло восприниматься как экспансия другого.
Анализ этих письменных свидетельств показывает, что при всей их важности только на основе текстов, без полноценного учета археологических материалов, воссоздать картину прихода скифов в Восточную Европу невозможно. Поэтому привлечение этих материалов к решению данной проблемы началось на заре изучения евразийских степей средствами археологии. Хотя это и не обеспечило стопроцентного решения названной проблемы, сама она обрела более четкую постановку. В современной скифологии способы ее толкования можно свести к двум основным подходам.
Один из них исходит из представления, что к моменту прихода скифов в Восточную Европу они уже обладали сложившейся особой культурой, которая была присуща этому народу и позже, на всем протяжении скифской истории. Задача в таком случае сводится к определению ареала, в котором данная культура сформировалась ранее всего, и к выявлению пути ее проникновения в зону обитания скифов на историческом этапе. Одно время, к примеру, как наиболее популярная рассматривалась версия о сложении скифской культуры в низовьях Сырдарьи, а в качестве типичных ранних ее памятников трактовались такие тамошние могильники, как Уйгарак и Южный Тагискен. Позже, с открытием в Туве монументального «царского» кургана Аржан, относящегося к раннескифской эпохе, многие исследователи стали рассматривать именно этот регион Центральной Азии как зону сложения той культуры скифов, которая затем была якобы распространена ее носителями в разные области Евразии, в том числе в Северное Причерноморье.
В качестве аргумента в поддержку такого толкования при любом конкретном его наполнении приводят данные, как будто подтверждающие, что в Северном Причерноморье в VII в. до н.э.— в период, считающийся началом скифской эпохи,— произошла замена прежних обитателей региона качественно новым населением. Именно тогда, по мнению сторонников этой версии, в Северном Причерноморье предскифскую культуру раннего железного века сменила скифская культура. Если это толкование справедливо, прослеженную археологическую картину достаточно наглядно можно соотнести с данными, обрисованными в повествовании Геродота: тогда первоначальные обитатели Причерноморья могут трактоваться как киммерийцы, а сменившее их население обоснованно рассматривается как скифы.
Существует, однако, и другой подход к проблеме происхождения скифов и их культуры. Он предполагает, что приход этого народа в Восточную Европу произошел ранее, чем завершилось формирование присущей ему специфической культуры, которое большинство археологов относят к VII в. до н.э. На правомерность такой постановки вопроса указывают хронологические расхождения между античными и клинописными источниками по интересующей нас теме. Античные авторы, и прежде всего Геродот, всю раннюю историю скифов — их приход с азиатской прародины, конфликт с киммерийцами, вторжение в Переднюю Азию и, наконец, возвращение в Северное Причерноморье — трактуют как объединенную во времени цепь событий. О подразумеваемых в этом рассказе хро
нологических рамках в определенной мере позволяет судить содержащееся здесь указание на 28-летнюю продолжительность переднеазиатской эпопеи скифов и на их участие в событиях, связанных с царствованием в Мидии Киаксара. Ассирийские же тексты, документирующие присутствие в Передней Азии киммерийцев по крайней мере в предпоследнем десятилетии VIII в. до н.э., а скифов — около 670-х годов до н.э., предполагают правомерность и иных хронологических привязок.
Если не следовать представлению античной традиции, что скифы появились в Восточной Европе лишь непосредственно перед своим вторжением в области Ближнего Востока, то археологический материал допускает различные варианты толкования этногенеза этого народа. Некоторые исследователи, к примеру, полагают, что с появлением скифов (точнее, праскифов) в Северном Причерноморье следует увязывать приход сюда из Нижнего Поволжья в последние века II тысячелетия до н.э. носителей так называемой срубной культуры позднебронзового века или их прямых потомков, возможно совершившийся даже несколькими волнами. В этом смысле определенный интерес представляет, что одно из названий Волги в античных источниках — Ра — можно соотнести с тем самым Арак-сом, возле которого некоторые античные авторы располагают скифскую прародину, и с данными Диодора, что скифы, придя в Европу, первоначально обосновались в левобережье Дона и в Предкавказье.
Иногда полагают, что скифы выделились из среды преемников срубной культуры на этапе существования уже упоминавшихся предскифских культур эпохи раннего железа. Существует, в частности, весьма основательная концепция, согласно которой племена киммерийцев и скифов на определенной стадии были однокультурны и распознать, кому из них какие памятники принадлежат, практически невозможно. При такой трактовке нет необходимости предполагать коренную смену населения Северного Причерноморья на этапе перехода от киммерийской эпохи к скифской. Речь в рассказе Геродота могла даже идти всего лишь о переходе главенствующего положения в племенном союзе, существовавшем на определенном этапе истории Восточной Европы в каком-то из ее регионов, от одного из этих народов к другому. Если следовать версии Диодора, то можно предположить, что это событие произошло где-то на территории Северного Кавказа и Предкавказья. То, что Геродот описал это событие как тотальное изгнание киммерийцев скифами из Восточной Европы, объясняется, скорее всего, его трактовкой собственно скифского эпоса, на который и должен был опираться греческий историк при описании того, что произошло задолго до внедрения эллинов в Причерноморье. При таком подходе к проблеме следует полагать, что евразийские кочевые народы, первыми проникшие в области Ближнего Востока, были носителями так называемых предскифских культур Восточной Европы и включали в себя как киммерийцев, так и скифов.
Воссоздать этот следующий этап истории евразийских степных народов, ознаменованный их вторжением в Переднюю Азию, мы можем по данным уже обеих упомянутых выше категорий источников — и клинописных, и античных текстов. Первым конфликтом, в котором одной из сторон выступили упомянутые кочевники из Восточной Европы, явилось столкновение государства Урарту
с обитателями «страны Гамир», о котором сообщали в своих донесениях ассирийскому царю Саргону II его наследник царевич Синаххериб, являвшийся в то время главой ассирийской царской разведки, и некоторые другие подданные. Общепризнано, что речь в этих сообщениях идет о конфликте урартов с одним из первых проникших в земли южнее Кавказа кочевнических отрядов, именуемых в этом контексте киммерийцами. В современной науке принято относить это столкновение ко времени около 714 г. до н.э., скорее всего, чуть ранее известного похода на Урарту самого Саргона II.
Вопрос о том, где именно произошло столкновение урартов с киммерийцами, много лет привлекает внимание исследователей, но до сих пор не имеет однозначного решения. Тот факт, что наименование района этого конфликта в ассирийских текстах предваряется детерминативом KUR (= «страна»), не дает оснований предполагать, будто за ним скрывается сколько-нибудь постоянная территория обитания киммерийцев и стабильное политическое их образование. Скорее следует видеть в этом термине просто обозначение региона, в котором действовали киммерийцы во время своего столкновения с урартами. Одни исследователи локализуют его в окрестностях современного города Гори, другие склоняются к тому, чтобы помещать его на южном склоне западной части Большого Кавказского хребта. В последнее время в специальной литературе широко распространена точка зрения, согласно которой этот район находился к северу от Урарту, скорее всего — где-то к югу от Дарьяльского ущелья.
Однако есть определенные основания для локализации «страны Гамир» на северо-востоке от Урарту — главного здешнего противника киммерийцев, т.е. на территории нынешнего Азербайджана. Необходимо учесть, что Восточное Закавказье, т.е. области, расположенные к востоку от оз. Севан, не подверглось урартскому завоеванию. Есть сведения лишь об одном осуществленном урартским царем Русой I походе, предположительно направленном в эти земли. Поэтому здесь отсутствуют достаточно широко представленные к западу от Севана урартские надписи, по существу являющиеся единственным письменным источником, хоть в какой-то мере освещающим обстановку в Закавказье в интересующую нас эпоху. Таким образом, любые события урартской истории, связанные с этими областями, в этих надписях никак не отражены. В то же время возможность пребывания первых отрядов киммерийцев в Восточном Закавказье вполне соответствовала бы политике Русы 1, как известно, проявлявшего наибольшую активность преимущественно на восточных границах своего царства.
Если принять эту локализацию, то можно заключить, что первые отряды кочевников при движении через Кавказские горы пользовались дорогой, пролегавшей через низменные районы Восточного Закавказья, — тем же путем, который несколькими веками ранее был освоен ираноязычными выходцами из евразийских степей при их продвижении на Иранское нагорье. С такой локализацией хорошо согласуется тот факт, что к тому же времени относится и сообщение ассирийских текстов о вторжении киммерийцев в подчиненные Урарту земли со стороны сравнительно близкой к названному региону области Манна.
Полной картины конфликта между Урарту и киммерийцами на рассматриваемом этапе источники не сохранили. Но наиболее вероятная последователь
ность событий выглядит так. Урартский царь Руса I отправился с войском в «страну Гамир»— область, в то время занятую киммерийцами, но потерпел поражение. Ряд урартских военачальников попал в плен, а некоторые, судя по всему, были убиты. Сам Руса I был вынужден бежать в свою страну. Другие сохранившиеся документы повествуют о произошедшем в то же время вторжении каких-то киммерийских отрядов в Урарту с территории Манны, но их сохранность весьма плоха, и из них удается извлечь лишь очень немного ценных исторических свидетельств.
После завершения описанных киммерийско-урартских столкновений имя киммерийцев на протяжении примерно 35 лет в дошедших до нас древневосточных документах не фигурирует. Можно допустить, что на это время кочевнические отряды вернулись на свою исконную территорию к северу от Кавказа и сколько-нибудь заметных вторжений в ареал древневосточных цивилизаций не предпринимали. Нельзя, впрочем, полностью исключить и того, что наши данные о взаимодействии евразийских кочевников и народов Ближнего Востока слишком фрагментарны и не дают сколько-нибудь полной панорамы интересующих нас событий.
Упоминания об этих народах вновь появляются в восточных текстах в царствование ассирийского царя Асархаддона, в 679 г. до н.э. Там сообщается, что Асархаддон разбил киммерийского вождя Теушпу: «И Теушпу киммерийца, умман-манда, место которого отдаленно, [...] со всем его войском я разбил оружием» (термином «умман-манда» в ассирийских источниках обозначались северные народы независимо от их конкретной этнической принадлежности; в начале I тыс. до н.э. так именовали и киммерийцев, и скифов, и мидийцев). В том же тексте мы впервые в сохранившемся древневосточном документе встречаем упоминание скифов. Тот же Асархаддон говорит о них как о союзниках враждебного Ассирии государства Манна: «Я рассеял людей Манны, непокорных гу-тиев, и войско Ишпакая-скифа, союзника, не спасшего их, я убил оружием». Таким образом, на первом этапе своего пребывания в Передней Азии скифы фигурируют там как враги ассирийцев, хотя в дальнейшем порой выступают и как их союзники.
Киммерийцы и скифы, судя по характеру их упоминаний в текстах, явились на древнем Ближнем Востоке достаточно активной политической силой. Их пребывание здесь выступало как важный фактор в развитии политических событий между концом VIII и началом VI в. до н.э., во многом дестабилизировавший устоявшуюся ситуацию. Присутствие киммерийско-скифских племен на севере Передней Азии и западе Ирана, очевидно, существенно способствовало становлению в этих горных районах кочевого скотоводства, с того времени достаточно широко здесь распространившегося. Эти племена оказали безусловное влияние и на распространение у народов Ближнего Востока неизвестных там прежде приемов стрельбы из лука и военной тактики. У самих киммерийцев и скифов совершенствование навыков коневодства и верховой езды, сбруи, стрелкового дела, включая эволюцию форм лука, стрел и их лучше всего известных по археологическим находкам наконечников, создало условия для широкого применения отрядов конных лучников, способных свободно (и самостоятельно, а не с по
мощником-правчим, как ранее) вести стрельбу с коня на скаку. Все названные новшества эти племена принесли с собой на земли древнего Ближнего Востока. Согласно свидетельству Геродота (I, 73), мидяне в VII в. до н.э. отдавали своих юношей скифам для обучения стрельбе из лука. В ассирийских и вавилонских текстах VII — первой половины VI в. до н.э. «киммерийскими» именуются отличные от обычных месопотамских луки и стрелы, элементы конской сбруи и, видимо, тактика боя, применявшаяся оснащенными соответствующим образом отрядами. Итак, те элементы, которые в результате произошедшего со временем распространения на обширных пространствах Ближнего Востока скифов и ввиду их влияния на другие народы стали именоваться скифскими и обычно признаются таковыми в современной науке, ассирийцы и вавилоняне еще в до-ахеменидское время называли киммерийскими. Позже, в вавилоноязычных текстах ахеменидской эпохи, киммерийцами назывались уже все кочевые ираноязычные племена евразийских степей — сами киммерийцы, скифы и их восточные родичи саки. Это словоупотребление, судя по всему, не является простым архаизмом, переносящим известный когда-то этноним на другой северный народ, а восходит ко времени реального знакомства ассирийцев и вавилонян и с киммерийцами, и со скифами, позволившего им убедиться в большой близости этих народов в бытовом, военном, хозяйственно-культурном (и, скорее всего, этноязыковом) отношении.
Факт использования в ахеменидское время имени «киммерийцы» для обозначения всех кочевых народов степной Евразии заставляет остановиться на проблеме соотношения названий киммерийцев и скифов и в более раннюю эпоху. Ряд ученых высказали мнение, что еще в период вторжения северных кочевников на древний Ближний Восток для составителей восточных текстов не существовало четкого различия между двумя этими этнонимами и под каждым из них порой могли пониматься как одни, так и другие. Другие специалисты с этим категорически не согласны и полагают, что ассирийцы различали эти народы достаточно четко. Предпочесть одну из упомянутых версий позволит лишь появление дополнительных источников. Пока что достоверно можно утверждать лишь, что в эпоху Асархаддона ассирийцы знали как киммерийцев, так и скифов и что в отдельных случаях их разграничение оказывалось для них существенным. В то же время очевидно, что близость этих народов, в представлении ассирийцев, следует учитывать при определении характера их взаимоотношений как в ходе переднеазиатских походов, так и на исконной территории их предшествующего обитания.
С учетом представления о близости киммерийцев и скифов необходимо соотнести и степень сходства связываемых с этими народами археологических памятников. Если правильно мнение, что на раннем этапе и киммерийцы и скифы являлись носителями так называемых предскифских культур Восточной Европы, то в дальнейшем и те и другие должны были испытывать определенное воздействие народов Передней Азии, что приводило к их сходной эволюции. Особое значение имело это воздействие на сложение (или при несколько ином понимании процессов культурного развития — на дальнейшую эволюцию) скифского «звериного стиля», что признают многие скифологи. С этой точки зрения весьма
интересен комплекс так называемого клада Зивие, представляющий, скорее всего, разрушенное погребение вождя, найденное на территории Маннейского царства, где, как мы уже убедились, в период вторжений степных племен в Переднюю Азию источниками зафиксировано пребывание киммерийцев и скифов. В инвентаре этого погребения сохранились предметы, принадлежащие к разным культурным традициям и обеспечившие сложение впитавшего разнообразные воздействия специфического художественного стиля. Уже в «кладе Зивие» наряду с изделиями, выполненными в типично древневосточных традициях, мы находим образцы зародившегося, скорее всего, на этой основе собственно скифского искусства. В памятниках же, связанных со временем возвращения основной массы скифов в Восточную Европу, запечатлен вполне сформировавшийся «звериный стиль» евразийских кочевников.
В последние годы все больше исследователей приходят к мнению, что в период заметной активности восточноевропейских племен на Ближнем Востоке и киммерийцы и скифы являлись обладателями уже одинаковой кочевнической культуры, получившей в археологии наименование скифской. Различие в подходе к разным сериям этих памятников состоит в том, что те исследователи, кто склонен максимально доверять содержащимся в клинописных источниках данным о территории активности как скифов, так и киммерийцев, определяют принадлежность каждой серии по тому, соотносится ли ее ареал со сведениями о зоне действий того или иного народа; те же, кто полагает возможным сочетание или взаимозаменяемость двух этнонимов в зависимости от исторического контекста того или иного документа, предпочитают говорить о едином, не поддающемся дифференциации массиве киммерийско-скифских памятников.
Немногочисленные пока что памятники складывавшейся таким образом киммерийско-скифской культуры обнаружены в разных регионах Закавказья и Передней Азии и по мере их накопления уточняют данные о маршрутах движения европейских кочевников на пространстве древнего Ближнего Востока. Так, выразительные предметы интересующего нас облика найдены непосредственно в слоях урартских поселений, что проливает необходимый свет на специфику урарто-скифюких взаимоотношений. Важные памятники обнаружены в восточных районах Малой Азии, например в Норшун-тепе, где кочевническое погребение впущено непосредственно в слой поселения местного облика, чем обеспечивается установление более надежной, чем в других случаях, абсолютной хронологии комплексов раннескифского облика. С годами подобные материалы, без сомнения, будут накапливаться. О некоторых выразительных находках мы еще упомянем, рассказывая о действиях кочевников в странах Востока.
Понятно, что письменные источники не позволяют последовательно изложить историю пребывания в Передней Азии кочевников, пришедших туда из Восточной Европы. Сообщения о киммерийцах и скифах, современные описанным в них событиям, достаточно немногочисленны и фрагментарны. К тому же со времени ослабления Ассирии в 630-х годах до н.э. сведения клинописных текстов о переднеазиатской истории почти иссякают. Античная же традиция о переднеазиатском периоде киммерийско-скифской истории, формировавшаяся много позже, в чем-то, несомненно, искажает ход событий и, что особенно важ
но, не содержит надежных хронологических данных об упоминаемых фактах. То, что в ассирийских текстах после 670-х годов исчезают сведения, упоминающие скифов, позволило некоторым ученым выдвинуть гипотезу, согласно которой именно начиная с этого времени скифы в Передней Азии вообще не находились, а повествующие об их господстве там как раз в этот период античная и библейская традиции не имеют ничего общего с подлинными фактами. В этом суждении есть своя логика, но все же детальное знакомство с античными источниками по этой проблеме позволяет заключить, что их сообщения на данную тему восходят к нескольким независимым версиям, а значит, достаточно самостоятельны. Некоторые из них, судя по всему, опираются на собственно скифский фольклор и соответствующим образом переосмыслены. Но даже если выясняется, что содержащиеся у античных авторов сведения о хронологии переднеазиатской эпопеи скифов преимущественно искусственны и опираются на достаточно поздние умозрительные рассуждения, то сам ход описанных в них событий, скорее всего, в основном достоверен. Об этом говорят, в частности, весьма, к сожалению, немногочисленные содержательные соответствия на этот счет между античной традицией о киммерийцах и скифах в Передней Азии и клинописными свидетельствами.
Поскольку вопрос о степени смешения в источниках данных о киммерийцах и скифах еще далек от разрешения, описание событий, связанных с пребыванием обоих этих народов на Ближнем Востоке, целесообразно все же вести по отдельности. Начнем с рассказа о деяниях киммерийцев. После описанных выше первых столкновений с урартами в восточных районах Передней Азии они воевали в разных областях Малой Азии — во Фригии, Лидии и других областях, вплоть до греческих колоний Эгейского побережья. Видимо, в середине 670-х годов до н.э. они-вторглись во Фригийское царство, сыграв большую, если не главную роль в его разрушении. Сохраненные античными авторами рассказы о разрушении киммерийцами фригийской столицы Гордиона часто сопоставляют с некоторыми раскопанными там курганами. К примеру, в одном из них, датируемом как раз VII в. до н.э., найдены два полных конских скелета, положенных сверху на деревянную погребальную камеру. Такой обряд характерен для ираноязычных народов довольно широкого хронологического диапазона. Правда, другая найденная в Гордионе могила, содержащая скелеты восьми лошадей поверх погребальной камеры, относится к более позднему времени — к VI в. до н.э. — и не связана с описанным киммерийским вторжением. К тому же найденные там предметы конской узды относятся к переднеазиатским, а не евразийским типам. Сама же традиция сооружения деревянных погребальных камер и земляных курганов практиковалась в Гордионе и до появления здесь киммерийцев.
В определенный момент киммерийские отряды вторглись во владения ассирийцев, но потерпели неудачу. Однако и в конце 670-х годов до н.э. они продолжали угрожать Ассирии на ее северо-западных и северных границах. Впрочем, судя по всему, время от времени киммерийцы либо отдельные их отряды вступали в союз с Ассирией или находились у нее на службе. В одном из ассирийских текстов содержится показательное свидетельство, что ассирийцы не доверяли
обещанию киммерийцев придерживаться нейтралитета в войне между Ассирией и Манной, поскольку они «варвары, не ведающие клятвы богом и присяги».
Основным противником киммерийцев в Малой Азии оказалось Лидийское царство, вступившее с ними в долгую и упорную борьбу. Согласно античной традиции, лидийский царь Гиг, поначалу искавший покровительства Ассирии, сумел сдержать их натиск и нанести им поражение. Но позже, когда этот царь примкнул к врагам ассирийцев, а те, в свою очередь, вошли в сношения с киммерийцами, Ассирия нанесла Гигу поражение, и сам он погиб. Его сын Ардис вновь признал верховенство Ассирии, однако и при нем киммерийцы, как полагают многие исследователи, опять нанеся поражение лидянам, взяли и сожгли их столицу Сарды, что подтверждено и археологическими раскопками на месте города. Впрочем, по мнению некоторых ученых, представление о двукратном разгроме Сард киммерийцами — одно из проявлений построения античными авторами искусственной хронологической схемы. Следует добавить, что в столице Лидии Сардах, как и во фригийском Гордионе, при раскопках найдены материалы, рядом ученых соотносимые с киммерийско-скифской культурой и конкретно связываемые с киммерийским разгромом Лидийского царства. Среди них, в частности, имеется ряд произведений, выполненных в традициях евразийского «звериного стиля».
Успехи киммерийцев на обширных территориях от Эгейского моря до Армянского нагорья, а возможно, и на северо-западе Ирана связывают с именем правившего ими, судя по всему, еще с 670-660-х годов до н.э. вождя Туг-дамме (Дугдамме), известного и античным авторам под именем Лигдамис. Его активная деятельность приходится на время правления в Ассирии Ашшурбанапала. Согласно клинописным данным, он заключил союз с некоторыми врагами Ассирии и выступил против этого ассирийского царя. Устрашающие знамения заставили его отказаться от агрессивных намерений и искать мира с Ассирией. Однако затем, в нарушение заключенных с нею договоров, он вновь предпринял против нее агрессию, но не смог осуществить свои планы из-за тяжелой болезни. После его мучительной смерти (ок. 641 г.) его сын Сандакшатру (некоторые ученые полагают, что это имя следует читать как Сандакурру) и в начале 630-х годов до н.э. продолжал угрожать владениям Ассирии. Эти данные и их уточненная датировка показывают, что киммерийцы не утратили своего могущества в областях древнего Ближнего Востока по крайней мере до 630-х годов до н.э.
Согласно распространенному толкованию данных античной традиции, киммерийцы и их предполагаемые союзники в Малой Азии — фракийское племя треров — были разбиты скифами во главе с Мадием. Но и позже они еще удерживались в некоторых областях этого региона, где прочно обосновались в пору своих дальних походов. Из античных свидетельств, в частности, следует, что они около ста лет занимали окрестности города Антандра в Мисии на Эгейском побережье, а также район Синопы на Черном море. Самым же важным из этих мест была Каппадокия на северо-востоке Малой Азии, являвшаяся, очевидно, основной базой киммерийцев и в некоторых восточных языках именовавшаяся по их имени (ср. библейское Гомер или Гамир и армянское Гамирк‘). Не прекращалась и их борьба с Лидией, пока лидийский царь Алиатт в конце VII или, скорее, в на-
86. Меч в золотых ножнах с изображениями в древневосточном стиле. Келермесский курган № 1 из раскопок 1903 г.
87. Парадная секира из Келермеса. Курган № 1 из раскопок 1903 г.
чале VI в. до н.э. не нанес им окончательного поражения. После этого киммерийцы как реальная политическая сила, судя по всему, сходят с политической арены. Их отдельные группы, очевидно, постепенно растворялись в среде местного населения различных районов Малой Азии, Армянского нагорья и Закавказья, где память о них сохранилась в некоторых сюжетах грузинского и армянского фольклора.
Что касается скифов, то, как уже отмечалось, они проникли в Переднюю Азию не позже первой четверти VII в. до н.э. и, как явствует из клинописных текстов, в начале 670-х годов воевали с ассирийцами как союзники маннеев, а затем и мидян. Однако в конце 670-х годов скифский вождь Партатуа, упомянутый и у Геродота под именем Прототий, вступил в переговоры с Асархаддо-ном на предмет своей возможной женитьбы на дочери этого ассирийского царя. Исходя из этого ряд исследователей считают возможным видеть в Мадии — фигурирующем в повествовании Геродота сыне Партатуа-Прототия и одном из самых известных, по античным данным, скифских вождей эпохи их вторжений в Переднюю Азию — сына этой ассирийской царевны, а значит, внука Асархаддона. Между тем никакими данными о том, состоялся этот брак или нет, мы не располагаем, поскольку, как уже говорилось, в это время ассирийские свидетельства о скифах в древневосточной истории обрываются (хотя историю самой Ассирии и соседних с ней областей 660-630-х годов до н.э. эти источники освещают достаточно полно). Реконструировать эти страницы истории пребывания скифов в областях древнего Ближнего Востока удается лишь по античным источникам.
Эти источники и некоторые библейские свидетельства содержат достаточно разнообразные, хотя и несколько односторонние данные об участии скифов в истории древнего Ближнего Востока. Так, в традиции, сохраненной Геродотом, совершенно игнорируется первый этап активности скифов в Передней Азии, связанный с деяниями упомянутых Ишпакая и Прототия, но зато все внимание сосредоточено на действиях сына последнего — Мадия, которому приписано руководство всеми вторгшимися в восточные страны скифами.
Согласно данным античной традиции, в первую очередь все того же Геродота, скифские отряды в это время действовали во многих областях Ближнего Востока, совершали дальние походы по этой территории, разграбили и обложили данью многие народы и страны. Следует, однако, уточнить, что скифы (или, точнее, «войско скифов», все их мужчины-воины, что, собственно, и имеет в виду античная традиция) в действительности никогда все поголовно не покидали европейских степей, хотя некоторые сообщения эллинских авторов создают такое впечатление. На самом деле значительная часть скифской орды оставалась в степях Предкавказья. Походы же оттуда в области древнего Ближнего Востока, как сообщают разные, в том числе не зависящие от Геродота авторы, совершались неоднократно и различными по численности и составу силами — как большими массами взрослых мужчин-воинов, так и отрядами молодежи. Новые группы могли присоединяться к скифам, уже находившимся в Передней Азии, или заступать на место возвращающихся из походов отрядов, но могли действовать и самостоятельно в разных регионах древнего Ближнего Востока.
Существовали, безусловно, и районы, служившие проникшим в Азию скифам относительно постоянной базой и способные быть центрами их временных политических объединений. Однако это вовсе не означает, что скифский племенной союз в то время переместился в районы к югу от Кавказа. Скифские вторжения в области Ближнего Востока не привели и к образованию государства, распространившегося, подобно некоторым более поздним державам, на земли по обе стороны Кавказа — и на северные степи, и на древневосточный земледельческий ареал, хотя некоторые исследователи склонны трактовать в этом ключе античные свидетельства.
Письменные данные оставляют не освещенным вопрос о мере активности связей между скифами, оказавшимися в Азии, и их степной «метрополией» в степях к северу от Кавказа, но археологический материал позволяет в известной мере решить эту проблему, поскольку свидетельствует об общем поступательном развитии скифской культуры на пространстве по обе стороны Кавказского хребта.
Геродот приписывает пребыванию скифов в Передней Азии продолжительность в 28 лет, называя эти годы временем их полного господства в этом регионе. Существенно, однако, что присутствие скифов в переднеазиатском регионе на самом деле было гораздо более длительным, поскольку включает, в частности, и более ранние походы, связанные с именами Ишпакая и Партатуа-Прото-тия. Видимо, Геродот связал все события скифской переднеазиатской эпопеи только с одним из входящих в нее событий — походом, возглавленным вождем скифов Мадием. Правда, у того же Геродота есть не согласованное с остальным его рассказом упоминание о проникновении в Переднюю Азию отдельного скифского отряда, позволяющее предположить, что и античная традиция была прекрасно осведомлена о многократном проникновении скифов в области древнего Ближнего Востока через Кавказ, о чем свидетельствуют, к примеру, посвященные этим сюжетам пассажи Помпея Трога.
Что касается рассказа о походе Мадия, то именно с ним Геродот сопрягает рассказ о преследовании скифами киммерийцев и о том, как скифы на своем пути ошибочно отклонились от той причерноморской дороги, по которой якобы следовали убегавшие от них киммерийцы, и оказались в Восточном Закавказье, на границах Мидии. Конечно, такое представление об однократном появлении скифов в ближневосточных землях не соответствует реальности; разные — прежде всего археологические — данные позволяют полагать, что скифо-киммерийские отряды при движении через Кавказ пользовались разными дорогами, включая обе упомянутые в повествовании Геродота.
Среди важнейших эпизодов действий скифов в Передней Азии, привязанных к походу Мадия, у Геродота названы их вмешательство в борьбу между Ассирией и Мидией, приведшее к прекращению осады мидийцами столицы Ассирии — города Ниневии, а затем скифский поход на Египет. Геродот повествует о том, как царь Египта встретил их на территории Сирии богатыми дарами и таким образом сумел уговорить их отказаться от вторжения в его страну. В этом же рассказе упоминается разграбление скифами храма местной богини в сирийском городе Аскалоне, которое, по версии Геродота, имело важные последствия для
скифского общества: разоривших этот храм скифов разгневанная богиня в наказание якобы поразила некой женской болезнью, и от них-то ведет свое происхождение группа скифских жрецов, именуемых энареями, т.е. «немужчинами».
Многие ученые отнеслись к свидетельствам античных авторов о пребывании скифов в Передней Азии с полным доверием и предпринимают попытки вписать эти сведения в общую хронологию древневосточной истории. При этом существенные разногласия вызывает, в частности, вопрос о том, когда именно предводительствуемые Мадием скифы разбили мидийцев, после чего якобы и установили свое 28-летнее господство на Ближнем Востоке. Основная суть расхождений относительно толкования изложенных прежде всего Геродотом фактов касается места, отводимого этим годам в мидийской хронологии и истории. Некоторые авторы, следуя наиболее многочисленным и самым авторитетным спискам Геродота, включают этот срок в общую, по тому же Геродоту, 40-летнюю продолжительность правления мидийского царя Киаксара, другие, опираясь на другие списки и по-иному их трактуя, прибавляют его к тем же 40 годам. Не вдаваясь в суть каждой из трактовок, отметим, что время начала скифского «владычества» колеблется в основном между 650-620 гг. до н.э., диктуя соответствующее толкование связанных со скифами событий древневосточной истории.
Некоторые исследователи, однако, трактуют свидетельство о 28 годах скифского господства на Востоке как одно из проявлений искусственной хронологической калькуляции. Существует, наконец, мнение, что число «28» в этом контексте восходит к собственно скифскому фольклору и отражает определенные культурные клише скифского общества, связанные с воинскими обычаями. В целом правы, видимо, те ученые, которые считают событийную канву скифской переднеазиатской эпопеи, сохраненную античной традицией, в основном верной, а ее хронологические привязки — плодом различных хронологических спекуляций. Впрочем, ряд авторов скептически воспринимают и содержательную сторону этих рассказов и, в частности, не верят в историчность рассказа о скифском походе на Египет.
Впрочем, как бы ни относиться к конкретным свидетельствам античной традиции о событиях, связанных с пребыванием скифов на Ближнем Востоке, ясно, что они действительно проникали туда на протяжении определенного периода и что в ходе киммерийско-скифских походов в Переднюю Азию и в процессе восприятия этими народами ряда древневосточных культурных элементов завершился процесс формирования специфической культуры скифов.
В рассказе Геродота о переднеазиатской эпопее скифов их возвращение в Причерноморье представлено, как и их вторжение туда, как единовременный акт, обусловленный конкретными обстоятельствами. Там повествуется, что мидийский царь Киаксар, решив избавиться от скифского владычества над Азией, пригласил множество скифов к себе на пир и, напоив допьяна, вместе со своими воинами перебил их. Судя по всему, этот рассказ является полуфольклорной реминисценцией событий, завершивших постепенное возвращение скифских отрядов из Передней Азии в Восточную Европу. В действительности различные отряды, на протяжении нескольких десятилетий приходившие в Восточную Европу из переднеазиатских рейдов, постепенно расселялись по различным регионам
евразийских степей и примыкающим к ним лесостепным областям, способствуя распространению сформировавшейся скифской культуры на достаточно обширных пространствах. Видимо, к первым десятилетиям VI в. до н.э. уже почти все скифское войско вернулось в причерноморско-предкавказский регион, что, скорее всего, было обусловлено изменением этнополитической ситуации в Передней Азии. Сложившаяся за время контактов со странами Ближнего Востока скифская культура внедрилась на всем том пространстве, где расселялись приобщившиеся к ней отряды. Поначалу эта культура была достаточно однородной, а местные особенности того или иного региона, входившего в зону ее распространения, определялись практически исключительно теми культурными чертами, которые восходили к региональной специфике этого региона в предшествующий период. Но с течением времени локальные черты начали оформляться и в элементах «скифской триады», как и в иных культурных проявлениях. В итоге не позднее конца VI в. до н.э. сложилась та разнородная этногеографическая карта степей и лесостепей Причерноморья, которая представлена в сочинении Геродота.
Одна из сформировавшихся к этому времени специфических культур представлена в степной зоне Северного Причерноморья и Приазовья и, судя по всему, принадлежала самим ираноязычным степным скифам, а остальные — в большей или меньшей степени сходным с ними в культурном отношении соседним народам. Некоторые из этих народов, по данным Геродота, были близки к скифам и в языковом отношении, тогда как другие, обладая определенным культурным сходством с ними, имели совершенно неродственный им язык. Однако, при всей важности этих сведений, они все же оказываются недостаточными, чтобы определить языковую принадлежность большей части народов, окружавших Скифию.
Что касается названия самих скифов, то Геродот свидетельствует, что такое название дали им эллины, а самих себя этот народ именует сколотами. Это сообщение вызвало множество разноречивых толкований. Некоторые исследователи отдают имя «скифы» ираноязычным кочевникам причерноморской степи, а название «сколоты» приписывают лесостепным племенам, близким к собственно скифам по культуре, но этногенетически им не родственным и даже, как иногда полагают, принадлежавшим к праславянам. Согласно другому мнению, тоже расходящемуся с толкованием самого Геродота, но, пожалуй, более обоснованному, «скифы» и «сколоты» — это два разновременных варианта одного и того же самоназвания, из которых первое ко времени «отца истории» в обиходе самих степных обитателей не употреблялось, но сохранилось благодаря свидетельствам раннеантичных авторов; потому-то оно и могло быть воспринято Геродотом как чисто эллинское.
Конечно, из всех народов Причерноморья скифской эпохи наиболее детальные сведения у нас имеются о самих скифах, обитавших ближе других к эллинским колониям и полнее всего освещенных в античной литературе. Следует, однако, иметь в виду, что некоторые содержащиеся в этой литературе данные восходят к местному фольклору — либо собственно скифскому, либо созданному причерноморскими греками, и их необходимо отличать от содержащихся здесь же реальных сведений.
Многие исследователи, к примеру, придают большое значение сохраненным Геродотом сведениям о племенном составе населения самой Скифии. По данным этого автора, нижнее течение Гипаниса (Южного Буга), примыкающее к греческому городу Ольвии, занимало племя каллипидов, которое сам Геродот определял также как эллиноскифов. Выше по той же реке располагалось племя алазо-нов, а за ним размещались скифы-пахари. Хотя сам Геродот суммарно характеризует все население Скифии как кочевников, три названных западноскифских племени, по его данным, занимались земледелием — выращиванием различных зерновых культур. К ним, по свидетельству того же Геродота, по характеру занятий примыкало и жившее в Нижнем Поднепровье племя скифов-земледельцев. Для читателей Геродота, правда, долгое время оставалось необъяснимым, чем оно отличается от упомянутых выше скифов-пахарей. При осмыслении разницы между ними некоторые ученые, к примеру, предполагали, что скифы-пахари в своем хозяйстве опирались на обработку земли плугом, а скифы-земледельцы ограничивались использованием для этого мотыг, хотя чисто умозрительный характер этого вывода очевиден. Гораздо более вероятно предположение, выдвинутое крупнейшим российским иранистом В.И.Абаевым и опирающееся на характер передачи иноязычных этнонимов в античных источниках. По его наблюдениям, если многие из таких этнонимов передают реальное звучание того или иного местного этнического имени либо более или менее точный перевод его смысла, то другие опираются на созвучие местного названия с каким-либо словосочетанием на одном из античных языков. Порой это созвучие порождало переосмысление подлинного этнического имени на основе известного автору термина. Опираясь на это наблюдение, В.И.Абаев предположил, что интересующее нас племя у самих скифов именовалось gauvarga, «почитающие скот», что вполне соответствует нормам древнеиранского словообразования; у греков же оно обрело сходное по звучанию название Georgoi — «земледельцы», тем самым обретя значение, в корне отличное от исходного.
Судя по всему, так называемые скифские племена, упомянутые Геродотом, в действительности представляли собой более крупные образования типа племенных союзов. Но серьезного значения для понимания структуры скифского общества данные о них почти не имеют, поскольку следов реального разделения скифов на эти племенные группы ни в повествовательных, ни в археологических материалах мы практически не находим. Гораздо более существенны свидетельства о делении скифов на некие «роды», зафиксированные как в разных сохраненных античными авторами вариантах одного из скифских мифов, так и в отдельных сведениях реального характера. Интересующий нас миф полнее всего сохранился у Геродота, и повествует он о происхождении скифов от первочеловека Таргитая, у которого родились три сына. Старший из братьев, по имени Ли-поксай, стал родоначальником рода авхатов, средний — Арпоксай — положил начало роду катиаров и траспиев, а от самого младшего брата, Колаксая, берет свое начало род паралатов. Долгое время эту структуру скифского общества трактовали как идентичную упомянутой выше племенной. Но затем ученые установили, что в именах названных братьев-родоначальников отражено присущее скифской мифологии представление о том, что телесный мир состоит из трех
зон — небесно-солнечной, горно-земной и подземно-водной, а происходящие от этих братьев роды воплощают деление скифского общества на три сословнокастовые группы. Правда, между специалистами имеются разногласия о значении каждого из родов, но общий смысл описанной в мифе структуры ясен. Наиболее вероятно, что катиары и траспии олицетворяют массу рядовых общинников Скифии — земледельцев и скотоводов, потомки старшего из братьев — ав-хаты — это скифские жрецы, а паралаты, происходящие от младшего из сыновей, положили начало сословию скифской аристократии и их самого высокого ответвления— скифских царей. Подобная структура общества, как выяснили ученые, была вообще свойственна древним индоиранским народам, и в этом отношении скифское общество сохранило общеиранские традиции.
Из рассказа Геродота мы узнаем также, что по крайней мере в первые столетия существования в Северном Причерноморье Скифского царства оно управлялось тремя царями, из которых один считался главным. Скифы рассматривали такое устройство своего общества как восходящее к тем же мифическим временам первотворения и полагали, что оно воспроизводит то его строение, которое установил первый скифский царь, Колаксай, разделивший свою державу между тремя сыновьями. Геродот свидетельствует, что одно из этих царств было гораздо крупнее двух других, но данными о реальных границах этих областей Скифии мы не располагаем. Античные источники сохранили сведения лишь о царях той скифской династии, которая правила этим самым большим из царств, но — за исключением мифологического мотива о происхождении их всех от Колаксая — ничего не говорят о ее отношениях с царями двух других царств.
Описанный порядок троецарствия, если верить рассказу все того же Геродота, существовал по крайней мере до конца VI в. до н.э., когда скифам пришлось отражать нашествие персидского владыки Дария. В этой войне войско скифов состояло из трех отрядов, и во главе каждого из них стоял один из скифских царей. Однако с течением времени, судя по всему, троецарствие у скифов себя изжило, и в середине IV в. до н.э. всем Скифским царством, как сообщал греческий географ Страбон, правил уже единственный самовластный правитель — царь Атей.
Большое значение для понимания культуры скифского общества имеют сохранившиеся в античной литературе данные о почитавшихся в Скифии богах. Античная традиция приводит данные на этот счет в свойственной ей манере воспроизводить сведения об иноплеменных божествах как о вполне адекватных собственно эллинским мифическим персонажам и лишь по-иному именовавшихся. В сведениях о скифской религиозно-мифологической системе при ее сравнении с подобными системами иранских и даже индоиранских народов лучше всего заметны следы единого происхождения разных народов этого круга и их культурного наследия. Не случайно приведенный в сочинении Геродота перечень божеств, почитавшихся всеми скифами, включает общее для практически всех древних индоиранцев количество — семь богов. Как и другие народы этого круга, скифы особенно почитали божество огня, но отличие Скифии заключалось в том, что здесь оно выступало в женской ипостаси. Именовалось оно богиней Табити, и в греческой литературе его отождествляли с эллинской Гестией.
Свое происхождение скифский народ вел от божественной супружеской пары — бога Папая и богини Апи, олицетворявших небо и землю и соответственно отождествленных греками с Зевсом и Геей их собственного пантеона. Из четырех остальных скифских богов только два названы у Геродота и по-скифски (Артимпаса и Ойтосир), и по именам их греческих эквивалентов (Афродита Урания и Аполлон). Двух последних скифских богов историк по неясной причине обозначил лишь эллинскими именами — Геракл и Арес. Правда, под именем Геракла в одном из сохраненных Геродотом вариантов скифского генеалогического мифа фигурирует уже знакомый нам первопредок скифов Таргитай, и не исключено, что именно во избежание повтора историк не назвал скифское имя этого божества еще раз. Что касается «скифского Ареса», то, по мнению ряда исследователей, под этим именем скрывается скифский вариант древнего общеиранского воинского бога Вртрагны. Если это мнение справедливо, то не исключено, что передать подлинное скифское имя Геродоту помешала трудность транскрипции его по-гречески.
При наличии сходства между религиозно-мифологическими системами скифов и иных древнеиранских народов точного соответствия имен скифских богов с богами других народов иранской семьи мы почти не обнаруживаем: помимо уже упомянутого предположительного Вртрагны это всего лишь богиня Артимпаса, которую многие исследователи сопоставляют с иранской богиней Арти (Аши). Это обстоятельство показывает, что скифская религия по сравнению с иными иранскими претерпела достаточно серьезные изменения.
Многие сведения о скифах, содержащиеся в античных письменных свидетельствах, поддаются определенным уточнениям путем привлечения данных археологии. Так, Геродот весьма категорично утверждает, что скифы не допускают того, чтобы их соплеменники приобщались к обычаям иных народов, и жестоко карают тех, кто нарушает подобные запреты. Как примеры подобной практики он упоминает судьбу скифского царевича Анахарсиса и царя Скила, пострадавших из-за того, что они вопреки принятой у их народа традиции приобщились к экстатическим культам греческих богов. Между тем в ряде погребений скифской знати археологи обнаружили изображения, связанные с эллинскими экстатическими культами и свидетельствующие об определенной популярности подобных обычаев и в среде скифов. Приходится предположить, что, объяснив убийство двух скифских персонажей карой за принятие ими чужеземных верований, Геродот неверно истолковал подлинную причину их гибели. Известны и некоторые иные примеры несогласования греческих рассказов о скифских обычаях и археологических материалов.
В других случаях археология, наоборот, подтверждает данные имеющихся письменных источников, отчасти, впрочем, их корректируя. Среди них одним из важнейших является сохраненное Геродотом описание процедуры похорон скифского царя, включающее все обряды, предпринимавшиеся после смерти владыки скифов. Историк рассказывает о том, как усопшего царя его подданные на протяжении долгого времени возили по землям всех подвластных ему племен, чтобы весь народ мог проститься с ним; как за это время в лежащей у северного рубежа Скифии области Герры для умершего сооружали обширную могилу; как
в ней вместе с самим царем хоронили нескольких его подданных, включая конюшего, оруженосца и наложницу, а в пространстве могилы помещали множество драгоценных изделий; наконец, о поминальных церемониях, совершавшихся на царском погребальном кургане по прошествии года после захоронения. Раскопки многочисленных курганов скифской знати, в том числе царей Скифии, во многих пунктах подтвердили точность сохраненного Геродотом описания, хотя некоторые его данные на этот счет не вполне соответствуют накопленным археологическим материалам. Так, в большинстве раскопанных в Причерноморье скифских курганов могила имеет форму не обширной ямы, а катакомбы — подземной пещеры, вырытой под одной из стенок глубокой входной ямы. Не исключено, впрочем, что такое отличие объясняется хронологическим различием между относящимся к V в. до н.э. рассказом Геродота и археологическими данными, датированными по большей части несколько более поздним временем — IV в. до н.э. Помещение в Геродотовом рассказе царских скифских могил в области Герры также, возможно, указывает на хронологическое различие разных эпох скифской истории, поскольку в эту землю царский некрополь переместился, скорее всего, лишь в конце VI — начале V в. до н.э., тогда как поначалу он находился в Предкавказье. Археология подтверждает или, напротив, опровергает и некоторые иные сообщения древних источников об истории и культуре скифов.
Из важнейших событий политической истории Скифии, достаточно подробно освещенных в античной традиции, помимо скифских походов в Переднюю Азию необходимо назвать то, которое опять-таки связывает скифов с древним Ближним Востоком, — вторжение в скифские земли войск царя Персидской державы Ахеменидов Дария I. В современной науке эту войну обычно считают реально происходившим историческим событием и датируют концом предпоследнего десятилетия VI в. до н.э. Как всегда, наиболее подробное ее описание содержится у Геродота, но исследователи учитывают данные и некоторых других авторов, дополняющие или уточняющие его рассказ.
По Геродоту, причиной скифо-персидской войны явилось намерение Дария наказать скифов за предпринятое ими некогда вторжение в Азию, т.е. за уже описанные скифские походы в страны Ближнего Востока. Конечно, такое толкование— плод фантазии самого греческого историка, отражающий его концепцию исторического процесса. В действительности покорение Скифии должно было составить один из этапов подчинения персам значительных областей Старого Света, начатого еще создателем Персидской державы Киром Великим. Но определить, насколько точно описывают источники течение этой кампании, достаточно сложно. В некоторых случаях исследователю приходится выбирать один из вариантов, по-разному представленных у разных авторов, в других же — исходить из общих представлений о достоверности какого-либо конкретного свидетельства.
Повествование о скифо-персидской войне начинается с рассказа о расколе между теми соседями скифов, кто вызвался поддержать их в борьбе с персами, и теми, кто отказал им в поддержке, сославшись на отсутствие между ними и персами причин для вражды. Далее оно включает описание похода Дария, преследовавшего отступавших скифов, от Истра (Дуная), являвшегося западной гра
ницей Скифии, до ее восточного предела— Танаиса-Дона. Затем, по Геродоту, Дарий начал строить у восточного рубежа скифской земли мощное укрепление, но, узнав, что скифы обошли его с тыла и теперь движутся обратно к Истру, бросил это строительство и по землям северных соседей Скифии пошел с войском на запад. При этом он попытался спровоцировать скифов на решающее сражение, но те в течение некоторого времени продолжали избегать его. Наконец, после того как оба войска опять оказались на территории Скифии, скифы и персы выстроились друг против друга для битвы, но незначительное происшествие расстроило скифские ряды: пробежавший между ними заяц заставил их броситься за ним в погоню. Пораженный пренебрежением, с которым, судя по этому эпизоду, скифы относились к своему могущественному противнику, Дарий поспешил покинуть пределы Скифии, оставив на произвол судьбы раненых и больных из своего войска, и бесславно вернулся в Персию.
Сам характер рассказа об этой войне, содержащегося в труде Геродота, свидетельствует, что многое в нем изначально восходит к фольклору, но не всегда ясно, кем этот фольклор был создан — самими скифами или греками. Однако в некоторых случаях заметные в повествовании детали, весьма сходные с мифологией скифов или других ираноязычных народов, свидетельствуют в пользу скифского происхождения записанного Геродотом рассказа, и это объясняет некоторые содержащиеся в нем моменты.
Так, одна из важнейших проблем интерпретации этого рассказа— определение территории, на которой протекали события скифо-персидской войны. Если у Геродота войной охвачена практически вся территория Скифии, то, по сообщению известного античного географа рубежа нашей эры Страбона, персы попали в расставленную скифами западню и едва не погибли от голода и жажды в так называемой Гетской пустыне— области между Петром и Тирасом (Днестром), примыкающей к западному рубежу Скифии. Некоторые исследователи полагают, что Страбон имел здесь в виду максимальное проникновение войск Дария в землю скифов, тогда как другие считают, что в его сообщении, как и у Геродота, рассказано о поражении, нанесенном скифами персам уже на последнем этапе похода, при их возвращении к Истру. Прямых аргументов в пользу первого толкования версии Страбона у нас нет, но мнение, что маршрут, описанный Геродотом, скорее всего, преувеличен, можно подкрепить определенными косвенными данными.
Дело в том, что помимо данных о маршруте похода персов и преследовавших их скифов у этого автора указана и его продолжительность, составившая якобы всего два месяца, а также размер войска персидских завоевателей. Специалисты по военной истории высчитали, что в столь короткий срок огромное 700-тысячное войско, приписанное Геродотом Дарию в скифском походе, пересечь всю Скифию и возвратиться обратно явно было не в состоянии. Поэтому большинство исследователей полагают, что данные Геродота на этот счет несомненно преувеличены, но корректируют их весьма по-разному, либо отдавая предпочтение буквальной трактовке сведений Страбона, либо без каких-либо веских оснований отсекая определенную часть маршрута обоих войск в версии Геродота как не соответствующую реальности. Между тем вывод о фольклорных корнях рас-
88. Реконструкция парадного убранства сакского вождя из кургана Иссык
сказа о скифо-персидской войне помогает по-иному объяснить происхождение преувеличенного представления об этом маршруте: для того чтобы выразить включенность всей Скифии в войну с персами, создатели скифского эпоса провели Дария и скифское войско по всему периметру скифских земель, а то, что их маршрут был направлен против часовой стрелки, в соответствии с индоиранской магической традицией предопределяло будущую победу скифов.
О событиях скифской истории, последовавших за скифо-персидской войной, мы знаем очень немного. Судя по археологическим данным, V и первая половина IV в. до н.э. явились временем максимального расцвета Скифии. Это был период ее активных торговых сношений с греческими колониями северочерноморского побережья, а через них — и с эллинской метрополией. Не исключено, что именно в это время скифские цари добились протектората над некоторыми греческими колониями, в частности над Ольвией. Именно к этому времени относится и большинство найденных в курганах скифской знати изделий греческой торевтики, в том числе тех, что были изготовлены по специальным заказам знатных скифов и изображают сюжеты и мотивы скифской мифологии. Распространение в скифском обществе подобных изделий привело к достаточно кардинальной смене ритуальной практики в скифском обществе, где ранние изображения местных богов практически не имели хождения.
Концом V — началом IV в. до н.э. датируется еще одно существенное изменение в жизни Скифии — появление на левом берегу Нижнего Днепра крупного поселения, в археологической литературе получившего название Каменское городище. За несколько десятилетий оно превратилось в развитой ремесленный, торговый и, судя по всему, политико-административный центр Скифского царства. Функции последнего, видимо, сосредоточивались на дополнительно укрепленном участке городища, игравшем роль своеобразного акрополя, где были расположены наиболее богато украшенные строения. Остальную территорию этого поселения занимали в основном ремесленники— кузнецы, литейщики и т.п., в чьих руках постепенно сосредоточивалось изготовление тех предметов первой необходимости, которые в раннескифское время составляли продукт домашнего ремесла или привозились извне. С годами, когда огромное Каменское городище, как и все обширное Скифское царство, прекратило свое существование, на его «акрополе», ставшем одним из многочисленных нижнеднепровских городищ, жизнь продолжалась еще около 400 лет.
С последним этапом жизни в причерноморских степях Великой Скифии связана деятельность уже упоминавшегося царя Атея. Мы не знаем, принадлежал ли он к той скифской династии, в которую входили все те предыдущие владыки Скифии, о которых рассказано у Геродота, или он захватил власть скифских царей как узурпатор. Но можно, видимо, утверждать, что в годы его правления или несколько ранее у скифов был упразднен обычай троецарствия: Атей фигурирует во всех упоминающих его источниках как единовластный владыка Скифии. Помимо данных этих источников этот царь известен еще и тем, что в его правление в некоторых понтийских городах были выпущены монеты с его именем и с изображением скифского всадника. Судя по всему, они были отчеканены по лично
му распоряжению скифского владыки, чтобы Скифское царство выглядело полноправным партнером эллинских колоний на международной арене»
Внешнеполитическая деятельность Атея включала войны с рядом фракийских племен и серьезный конфликт с отцом Александра Великого македонским царем Филиппом. Этот конфликт завершился сражением, в котором девяностолетний скифский царь потерпел поражение и сам был убит в 339 г. до н.э. Это событие, судя по всему, явилось началом заката истории единой причерноморской Скифии. Мы не можем установить реальную хронологию этого процесса, но косвенные данные позволяют полагать, что он завершился не позднее конца III в. до н.э.
Существует достаточно обоснованное мнение, что распаду Скифского царства, прежде занимавшего все Северное Причерноморье и Приазовье, активно способствовал и натиск, испытанный им в это же время извне — со стороны племен, продвинувшихся из областей, расположенных к востоку от скифов. В античной традиции эти племена обобщенно именовались сарматами. Древние авторы приписывают им разорение некогда процветавшей Скифии. При этом иногда сарматы в античных источниках отождествляются с народом савроматов, который еще Геродот в V в. до н.э. описал как непосредственных соседей Скифии, отделенных от нее лишь рекой Танаис. Так, Диодор Сицилийский, приведя уже упомянутое в нашем рассказе свидетельство о происхождении скифов, заключил его сообщением, что обитавшие у Танаиса савроматы много позже, «сделавшись сильнее, опустошили значительную часть Скифии и, поголовно истребляя побежденных, превратили большую часть страны в пустыню» (II, 43, 7).
Некоторые современные исследователи склонны доверять такому отождествлению, полагая, что «савроматы» — не что иное, как ранняя форма имени «сарматы». Другие же четко разделяют савроматов и сарматов и полагают, что смешение представления об этих народах в значительной мере было обусловлено сходством обозначавших их этнонимов. Сторонники этой точки зрения, опираясь прежде всего на данные археологии, трактуют сарматов как самостоятельную группу ираноязычных племен, сформировавшуюся к IV в. до н.э. в Южном Приуралье, а затем — в III—II вв. до н.э. — продвинувшуюся на запад, в Поволжье, и далее на Северный Кавказ и в Причерноморье и при этом потеснившую, а отчасти и уничтожившую обитавших там прежде скифов. Именно такое толкование картины появления сарматов на исторической арене позволяет достаточно детально согласовать все имеющиеся исторические и археологические свидетельства. С распространением этих племен по степям Восточной Европы в истории этого региона начинается качественно новый период, получивший наименование сарматского.
Что касается савроматов, то с них рационально начать рассмотрение широкого круга народов, в скифскую эпоху обитавших восточнее Скифии, преимущественно в азиатской части евразийских степей и у многих античных авторов в силу отмеченного выше сходства их хозяйственного и культурного уклада обобщенно именовавшихся скифами. При этом достаточно очевидный в настоящее время надэтничный характер входящей в этот круг совокупности народов заставил современных ученых отказаться от такого определения и предпочесть использова
ние для обозначения этой группы народов термина «скифо-сибирское культурноисторическое единство». Но выявленное современной археологией реальное соотношение между разными народами интересующего нас ареала делает более правомерным обозначение этой совокупности племен термином «евразийский континуум степных культур скифской эпохи», наиболее адекватно обозначающим сущность исследуемого культурного явления. Обратимся к его рассмотрению.
Самый западный из входивших в этот континуум народов — уже упомянутых савроматов — часто трактуют как народ, сформировавшийся на базе восточноевропейских культур позднебронзового и раннежелезного периода параллельно со скифами, но на более восточной территории и с этого времени составлявший одну из самостоятельных ветвей населения степей Восточной Европы скифской эпохи. Однако описанная выше история появления в Восточной Европе скифов, восходящая к данным Диодора, просто не оставляет места для такого толкования этногенеза савроматов — ведь именно территория степей между Доном и Волгой, позже принадлежавшая этому народу, согласно такой концепции, являлась ареной становления самого скифского этноса. Зато в этой связи заслуживает пристального внимания сохраненная Геродотом легенда о происхождении савроматов от союзов скифских юношей с амазонками, занесенными морской бурей на азовское побережье. Кстати, именно таким происхождением этого народа античный мир был склонен объяснять зафиксированное современниками достаточно высокое положение в савроматском обществе женщин, в современной литературе часто трактуемое как пережиток матриархата.
По этой легенде, амазонки, вступив в брачный союз со скифскими юношами, якобы уговорили своих новых мужей выселиться из Скифии за Танаис — в те области, которые с тех пор и стали областью обитания возникшего от этих браков народа савроматов. Разумеется, рассказ о связи савроматского этногенеза с амазонками — мотив сугубо мифологический. Но в этой легенде привлекает внимание указание на то, что этот народ на каком-то этапе отделился от скифов, к этому времени уже закрепившихся в причерноморско-приазовских степях. Такая трактовка, во-первых, согласуется с определенными данными археологии: так, известно, что с начала скифской эпохи памятники к востоку от Дона практически ничем не отличались от тех, что известны в других степных областях Восточной Европы. Лишь к концу VI, а скорее к началу V в. до н.э. в характере сав-роматских древностей обозначились определенные отличия от собственно скифских памятников. Во-вторых, существенно, что ряд древних авторов (Диодор, II, 43, 6; Плиний, VI, 19) называют савроматов переселенцами из Передней Азии (конкретно — из Мидии), а это наводит на мысль, что данный народ отпочковался от скифского этноса лишь после возвращения последнего из областей древнего Ближнего Востока. В то же время сказанное позволяет полагать, что происхождение савроматов неразрывно связано с самими скифами.
Сформировавшийся таким образом народ савроматов продолжал сохранять сходство многих особенностей своей культуры с культурой скифов. Оно проявляется в формах предметов вооружения — лука и стрел, мечей и кинжалов, несколько реже встречающихся здесь копий, — а также предметов конского снаряжения и изделий, украшенных в «зверином стиле». Позже в савроматских
комплексах начинают проявляться собственно савроматские локальные особенности всех этих категорий инвентаря. Что касается отмеченного в античной традиции особого положения женщин в савроматском обществе, то в течение длительного времени археологи находили ему различные подтверждения в местном материале, но в последние десятилетия, в процессе углубленного осмысления материалов скифской эпохи, различия в этом плане между скифами и саврома-тами стали все больше размываться.
Следует заметить, что в археологической литературе весьма распространено и расширительное употребление этнического имени «савроматы» — им помимо обозначения племен волго-донского междуречья, охватывающих собственно «савроматов Геродота», именуют и обитателей степей Заволжья и даже Южного Приуралья. В материальной культуре всех обозначаемых этим именем племен в самом деле прослеживается значительно большее сходство, чем между культурой каждого из названных регионов, с одной стороны, и любого иного района евразийских степей, с другой стороны. Это-то и дает некоторым специалистам основание именовать обладателями культуры савроматского типа не только обитателей Нижнего Дона и Нижней Волги, но и южноуральские племена скифской эпохи. При этом исследователи прекрасно осознают отличие указанных обитателей Южного Приуралья от собственно савроматов в том понимании этого народа, какое содержится в повествовании Геродота. Именно на базе южноуральских племен, обладавших этой «савроматоидной» культурой, со временем сложились те самые племена сарматов, которые в III—-II вв. до н.э. начали внедрение на территорию Скифии.
Что касается других обитателей евразийского степного пояса скифской эпохи, то, в отличие от савроматов донского левобережья, скорее всего, как мы видели, связанных происхождением с собственно скифами, их можно относить к народам скифского круга, но в сугубо расширительном применении этого термина. В какой мере тот или иной из этих народов связан с настоящими скифами также и этногенетически, мы можем лишь предполагать, не имея для окончательных выводов на этот счет по-настоящему достоверных данных, тем более что даже реальная этнонимия этих народов нам, по существу, неизвестна. Тем не менее следует отметить достаточно распространенное мнение, что большую часть кочевого и некоторые группы оседлого населения азиатской части степей Евразии, как и европейских скифов и савроматов, составляли носители восточноиранских диалектов.
В истории кочевых племен азиатской части евразийских степей выделяется несколько последовательных этапов, из которых к тематике данной главы непосредственное отношение имеет первый период. Его нижняя граница еще до конца не определена и колеблется от середины VIII до середины VII в., а верхняя приходится на рубеж IV-III вв. до н.э.
Для обитателей азиатской части евразийских степей скифской эпохи самым распространенным являлось название «саки». Оно засвидетельствовано как в греческих, так и в древнеперсидских текстах, но если в первых оно, без сомнения, представляло заимствование, то относительно вторых неясно, отражало ли оно самоназвание каких-то обитателей Средней и Центральной Азии или их
именование персами. Существует мнение, что название «саки» прилагалось к различным степным народам и имело в персидском языке значение «кочевники». Ряд исследователей, напротив, полагают, что по крайней мере для некоторых обозначаемых этим именем народов оно являлось самоназванием, а на остальных распространялось как обобщающий термин. Часто его считают синонимом названия «скифы» в его расширительном значении. Подтверждает такое толкование и замечание Геродота (VII, 64), что персы всех скифов называют саками.
В персидской среде имя «саки» («сака») употреблялось не только само по себе, но зачастую сопровождалось и различными дополнительными определениями, служившими для обозначения разных народов. Так, в древнеперсидских источниках фигурируют саки тиграхауда (острошапочные), саки хаумаварга (почитающие напиток хаома), саки, «которые за Согдом» и, наконец, саки заморские. К сожалению, все попытки локализации современной наукой большинства из перечисленных племенных образований сталкиваются с наличием и иных, по существу не менее правомерных вариантов. Так, заморских саков исследователи, как правило, склонны отождествлять с причерноморскими скифами, но встречается и мнение, что этот народ обитал на восточном побережье Каспийского или даже Аральского моря. Остальные фигурирующие в древнеперсидских текстах сакские племена абсолютное большинство исследователей помещают в восточной части Средней Азии и в некоторых сопредельных областях, к примеру — на западе современного китайского Восточного Туркестана.
Помимо древнеперсидских источников племена саков упоминаются и в других традициях. Так, практически общепринятым является толкование этнонима сэ древнекитайских текстов как тождественного тому же имени «саки». Очень важны многочисленные упоминания саков в античной традиции, куда оно, судя по всему, попало из персидских источников. Здесь его прилагали лишь к обитателям азиатской части евразийской степной зоны, как правило придавая ему в этих пределах обобщенное содержание. Лишь фигурирующих в античных текстах амюргийских саков принято отождествлять с определенным народом и идентифицировать с саками хаумаварга персидской традиции.
В связи с описанием древних обитателей Средней Азии следует упомянуть и еще одно название— массагетов. Этот народ фигурирует лишь в античных источниках и, как правило, упоминается отдельно от саков. Однако сохранившиеся в этих текстах свидетельства о зоне обитания этого народа, а также о мас-сагетских обычаях и привычках позволяют включать этот народ в число племен скифо-сакского круга. Бесспорными данными о его локализации мы не располагаем, но, скорее всего, массагетов следует помещать на западной окраине того среднеазиатского региона, который античная традиция отдает сакам, — возможно, на восточном побережье Каспийского моря. Не случайно исследователи нового времени часто отождествляют массагетов с одной из сакских группировок — саками хаумаварга либо саками тиграхауда.
В разных письменных источниках фигурирует и еще одна группа среднеазиатских племен сакского круга— дахи (дай), по крайней мере со времени царя Ксеркса числящиеся среди народов, подвластных Ахеменидской державе. Судя
по всему, территория их обитания также находилась в юго-западных областях Средней Азии.
Свидетельства некоторых древних письменных источников могут быть предположительно соотнесены с теми азиатскими кочевниками, которые обитали севернее сако-массагетских племен Средней Азии. К ним, судя по всему, следует в первую очередь относить исседонов, о которых уже упоминалось в связи с проблемой происхождения европейских скифов. О территории обитания этого народа можно, в частности, судить по данным Геродота, но другие авторы помещают восточный предел ареала расселения исседонов гораздо восточнее, и, судя по всему, такой подход имеет определенные основания. Ряд исследователей наряду с исседонами относят к числу обитателей азиатских степей также ар-гиппеев и аримаспов; однако многие данные заставляют смещать зону обитания двух этих народов не на восток, а на северо-восток от степей Восточной Европы и по этой причине исключать их из числа обитателей степной зоны.
Описывая территорию распространения различных степных племен сакского круга в интересующее нас время, древние источники касаются и некоторых эпизодов истории кочевых народов Средней Азии. Один из интересных для нашей темы сюжетов содержится в сочинениях разных античных авторов — в частности, Геродота и Помпея Трога— и связан с концом правления создателя Ахеме-нидекой державы Кира Великого. В рассказе Помпея Трога, сохранившемся в кратком изложении позднеантичного писателя Юстина (I, 1-13), этот эпизод описан как связанный с народом, названным его европейским именем — скифами, что подкрепляет представление о связи между скифами и саками. Геродот же (I, 211-214) именно фигурирующий в аналогичном рассказе народ называет мас-сагетами. Во всех версиях интересующего нас рассказа повествуется о том, как Кир вознамерился присоединить к своей обретающей все большее могущество державе земли этого среднеазиатского народа. Поначалу, как рассказывает Геродот, он попытался достичь этого заключением брачного союза с царицей масса-гетов Томирис, но та отвергла его предложение. Тогда Кир вступил в войну с массагетами и в ходе начавшегося сражения захватил в плен сына массагетской царицы, носившего имя Спаргапис. Не вынеся такого позора, Спаргапис покончил с собой. После этого Томирис сама возглавила собранное ею огромное войско массагетов и начала решающее сражение против персов. Сперва удача поочередно улыбалась то одной, то другой стороне, но затем персы потерпели решительное поражение, а сам Кир был убит. Тогда Томирис наполнила человеческой кровью винный бурдюк и бросила в него отрезанную голову персидского царя со словами: «Теперь ты можешь досыта напиться той крови, которой так жаждал». У Помпея Трога— Юстина рассказ об этом событии в основном схож с Геродотовой версией, хотя содержит и некоторые отличия.
Судя по характеру этого повествования, оно, скорее всего, в значительной мере опирается на местный племенной (а возможно— в какой-то мере и на древнеперсидский) фольклор. Но содержащееся в приведенных источниках свидетельство о попытке Кира покорить среднеазиатские племена сакского круга, видимо, соответствует действительности.
Второй заслуживающий нашего внимания эпизод сакской истории, данные о котором известны из источников, сохранился уже не в античном, а в древнеперсидском тексте. Это описанный в последнем, пятом столбце знаменитой Бе-хистунской надписи ахеменидского царя Дария I эпизод его правления, связанный с борьбой этого царя против племени саков тиграхауда (острошапочных). По данным этой надписи, борьба завершилась поражением названного племени и пленением его вождя по имени Скунха. Конечно, необходимо принять во внимание панегирический характер этого текста, но наличие в нем рационального зерна — существенных для науки данных о покорении персами упомянутого народа — очевидно.
В других древнеперсидских надписях говорится о вхождении в державу Ахеменидов помимо саков острошапочных также «саков, которые за Согдом», судя по всему, обитавших на крайнем северном рубеже этой державы, и саков хаума-варга. Не исключено, впрочем, что во всех этих текстах запечатлено официальное представление персидских владык о среднеазиатском пределе их владений, в действительности не вполне отвечающее реальности. Впрочем, кое-что в источниках подтверждает сведения о наличии саков в числе обитателей Персидской державы. Так, в сообщениях о персидской истории времен царя Ксеркса — в частности, в сочинении Геродота— имеются свидетельства о вхождении саков в состав ахеменидского войска.
Возвращаясь к вопросу о картине расселения кочевых племен скифской эпохи, обитавших в Азии, следует сказать, что его, конечно, необходимо решать, опираясь не только на письменные источники, но и на не менее существенные данные археологии. К сакским традиционно принято относить археологические памятники, соответствующие уже указанным географическим и хронологическим критериям расселения саков и имеющие в своем инвентаре элементы «скифской триады». Хотя значение последнего признака для аргументации такого толкования азиатских древностей порой оспаривается, практически при определении ареала обитания сакских племен он учитывается повсеместно.
Одну из приписываемых сакам областей Средней Азии составляет Приаралье, в том числе низовья Сырдарьи и Амударьи. В предыдущих главах уже отмечалось, что продвижение через эти земли на юг первых волн скотоводов индоиранской и иранской языковой принадлежности произошло еще в середине и второй половине II тысячелетия до н.э. Появление в Приаралье племен сакского круга, судя по всему, связано с еще одной миграционной волной этих народов.
В этой зоне известен ряд групп памятников, в культурном отношении несколько отличающихся друг от друга, что связано как с этническим многообразием населения, обитавшего здесь в досакский период, так и с особенностями природных условий, определившими различия в хозяйстве отдельных групп саков. В левобережье Нижней Амударьи исследована группа курганных могильников Сакар-чага, которую часто характеризуют как одну из наиболее ранних среди культур сакского круга в Приаралье. Зафиксированный здесь погребальный обряд генетически связан с евразийскими степями, а в инвентаре хорошо представлены элементы «скифской триады»— типичные предметы вооружения и детали конской сбруи, а также произведения в характерном «зверином стиле»,
89. Фрагмент войлочного ковра из Пазырыкского кургана № 5
лишь отдаленно напоминающие европейские образцы. Мелкие курганы погребений рядового населения группировались вокруг более крупных, судя по всему, оставленных представителями местной элиты.
В Присарыкамышской дельте Амударьи с VII-V вв. до н.э. известна также куюсайская культура, носители которой не были классическими кочевниками, а занимались также и земледелием. Предполагается, что при сложении этой группы населения одним из компонентов явились сакские племена. Масштабные исследования ведутся также по старому руслу Амударьи — Узбою, а также на плато Устюрт и на полуострове Мангышлак. Культура тамошних скотоводов, представленная могильниками и культовыми сооружениями, несколько отлична от той, что известна в низовьях Амударьи. В V в. до н.э. здесь появилась еще одна группа скотоводов, в культуре которой помимо названных памятников известны и каменные антропоморфные изваяния.
В низовьях Сырдарьи сакская культура известна по уже упомянутым при анализе разных концепций происхождения скифов курганным могильникам Южный Тагискен и Уйгарак. Обнаруженные здесь элементы «скифской триады» представляют как традицию евразийского степного пояса в целом, так и специфику данной группы. В отличие от Южного Приаралья образ жизни местного населения был полуоседлым. Особенно тесные сношения связывали его с обитателями Южного Приуралья. Материалы Уйгарака содержат данные о такой же трехчленной социальной структуре общества, какую выше мы отметили у европейских скифов.
Сопоставление письменных и археологических данных позволяет предположительно связывать кочевнические памятники запада Средней Азии с саками тиграхауда и массагетами.
К древностям сакского круга, скорее всего, принадлежат также единичные курганы и отдельные случайные находки из Ташкентского оазиса и соседних с ним районов Южного Казахстана между Средней Сырдарьей и хребтом Кара-тау. Отдельные найденные здесь предметы позволяют говорить о распространении в этом регионе уже неоднократно упоминавшейся «скифской триады». Не исключено, что именно здешние племена именовались в ахеменидских надписях «саками, которые за Согдом». Но гораздо определеннее о связи с саками можно говорить относительно курганных могильников, обнаруженных в юго-восточной части Среднеазиатско-Казахстанского региона. В это число входят памятники Семиречья, Тянь-Шаня и Памира. Скорее всего, в основном эти племена принадлежали к числу саков хаумаварга.
Принято считать, что культура сакского типа в этом регионе, имея некоторое сходство с культурой иных областей Средней Азии, отличается и определенным своеобразием. В Семиречье и на Тянь-Шане памятники ранних кочевников известны как в виде огромных курганных полей, так и в виде небольших групп могильных насыпей. В раннесакское время погребальные сооружения представлены простыми ямами и каменными ящиками; начинают здесь появляться и подбои. Инвентарь в это время достаточно беден, оружия в нем почти нет. Зато в этом регионе известны клады с предметами конского убора. Среди случайных находок представлены бронзовые и железные акинаки и отдельные произведения «звериного стиля».
Позже в Семиреченско-Тянь-Шаньском регионе резко увеличивается население, появляются колоссальные курганы типа Иссыка и Бесшатыра. Эти крупные курганы свидетельствуют о дальнейшем социальном развитии здешнего общества. Найденное в Иссыкском кургане знаменитое захоронение человека в золотом облачении поначалу датировалось V в. до н.э., а затем было отнесено к рубежу IV—III вв., что, скорее всего, соответствует действительности. Очень много здесь и рядовых погребений, а также кладов. В их составе самыми замечательными предметами являются бронзовые котлы и жертвенники, часто украшенные изображениями животных. Несколько отличающиеся памятники сакского круга исследованы также в Фергане и ее окрестностях.
Памятники, принадлежавшие кочевникам-скотоводам, культурно связанным с сакским миром, известны и на Памире. Сюда, на высокое нагорье, отделенное хребтами от внешнего мира, скотоводы стали проникать довольно рано, но основная масса здешних захоронений относится к V—III вв. до н.э. Главным отличием саков Памира от других обитателей сакского ареала является помещение их тел в могилах в скорченном положении. Антропологически сакское население Памира также существенно отличается от обитателей смежных регионов, что позволяет многим исследователям предполагать иное происхождение тамошнего населения. Иногда его этногенез связывают с северо-восточными областями региона, в частности — с Тувой, однако другие специалисты склонны говорить о связи памирских саков с территорией Афганистана и Северной Индии.
Если, как уже говорилось, ахеменидские источники ограничивают зону обитания азиатских саков пределами Средней Азии и, возможно, некоторыми сопредельными областями, то в современной археологической литературе этот этноним применяется гораздо шире— им наряду с термином «скифы» принято обозначать всех обитателей азиатских степей, имевших в своей культуре предметы «скифской триады». Поскольку этнонимия этих народов нам практически неизвестна или определяется крайне гипотетично, все народы этого круга в литературе обозначаются лишь условными наименованиями оставленных ими культур.
Одну из них представляет так называемая тасмолинская культура, занимавшая степи Центрального Казахстана и, как и большинство культур скифского круга, датируемая VII—III вв. до н.э. Среди наиболее характерных особенностей тасмолинских погребальных сооружений следует назвать так называемые курганы «с усами» — каменными грядами, отходящими от самого кургана и направленными на определенные точки горизонта, связанные, скорее всего, с поворотными точками годового солнечного цикла. При этом часто в малом кургане, сопровождающем такое погребальное сооружение и помещенном между его «усами», находят захоронение верхового коня.
Погребальный инвентарь памятников тасмолинской культуры включает категории, составляющие все ту же «скифскую триаду», но выполненные в несколько своеобразной манере. В полной мере это относится, в частности, к тасмолин-скому «звериному стилю». Широко представлены в курганах тасмолинской культуры и каменные блюда, обычно трактуемые в археологической литературе как жертвенники. Среди существующих в современной науке гипотез об этниче
ской атрибуции тасмолинской культуры наибольшего внимания заслуживает, как представляется, мнение о ее принадлежности исседонам.
Значительно иной предстает культура кочевников Северо-Восточного Казахстана, по мнению ряда исследователей, напрямую входивших в сакский племенной союз. Такое толкование достаточно спорно, но необходимо согласиться с тем, что представленное в этом регионе искусство «звериного стиля» в самом деле имеет явное сходство со скифо-сакским искусством. Наибольший интерес с этой точки зрения представляет комплекс знаменитого кургана, исследованного в Чиликтинской долине близ оз. Зайсан. Могильное сооружение в этом кургане представляло обширную бревенчатую камеру, несколько углубленную в землю. Несмотря на разграбленность могилы, в ней сохранилось значительное количество золотых изделий, свидетельствующее о нерядовом статусе погребенного в кургане человека. В числе найденных здесь золотых предметов большой интерес представляют профильные фигурки оленя и изображения свернувшейся в кольцо пантеры, выполненные в каноничной для культур скифо-сакского круга манере. Не случайно после раскопок Чиликтинского кургана в течение какого-то времени обсуждался вопрос, не правомерно ли говорить о происхождении скифского искусства именно из этого региона.
Среди евразийских культур скифского круга особый интерес представляет культура Алтая. Оставившее ее население в VI в. до н.э., судя по всему, сменило скотоводов, обитавших здесь ранее. Именно этим вновь пришедшим на Алтай кочевникам принадлежат здесь среди прочих курганов знаменитые аристократические комплексы, в силу особенностей их погребальной практики обеспечившие алтайским древностям скифской эпохи широкую известность. Дело в том, что возникновение во многих таких курганах линз вечной мерзлоты способствовало сохранению в их могилах изделий из дерева, кожи, тканей и войлока, обычно в археологических памятниках быстро разрушающихся. Это обеспечило получение учеными уникальных сведений о материальной культуре этих племен, несопоставимых с данными о большинстве обитателей евразийских степей. Мумификация тела погребаемых, широко применявшаяся в этом обществе, способствовала сохранению и татуировки, в которой использовались те же мотивы «звериного стиля», что и в прикладном искусстве древних алтайцев.
В последнее время к материалам курганного некрополя, в 1947-1949 гг. исследованного в знаменитом урочище Пазырык в восточной части Горного Алтая и давшего имя всей культуре этого региона, прибавились сведения о большом количестве как аристократических, так и более скромных могильников. Характерная особенность пазырыкских захоронений — помещение в той же яме, что и деревянный сруб с останками человека, одного или нескольких конских захоронений.
Богатый инвентарь аристократических курганов выявил существование у алтайских племен достаточно широких контактов с разными регионами Древнего Востока— Средней Азией, Китаем, ахеменидским Ираном. Связи с Ираном прослеживаются не только по импортным вещам, но и по влиянию иранского искусства на творчество местных мастеров, заимствовавших от него как орнаментальные мотивы, так и способы воплощения некоторых мифологических
образов. Широкое развитие в пазырыкском искусстве получили изображения животных, выполненные в самобытном местном стиле, лишь в известной мере связанном со «звериным стилем» скифо-сакского мира.
Одним из самых восточных регионов евразийской степи, заселенных племенами с культурой скифо-сакского облика, являлась территория современной Тувы. Ее изучение, начатое еще в первые десятилетия XX в., обрело наибольший размах во второй его половине. Одно из наиболее ярких открытий в тувинской археологии принесли раскопки в Уюкской долине грандиозного аристократического кургана Аржан, всколыхнувшие новую волну дискуссий о хронологии памятников скифской эпохи и о происхождении разных народов скифского круга. К этому памятнику, как представляется, в самом деле вполне приложим термин «царская усыпальница». Это сооружение включает размещенную в центре кургана гробницу, состоящую из двух концентрических квадратных срубов, и свыше 70 расположенных по периферии насыпи камер. Внутренняя камера центральной гробницы имела бревенчатый пол и была перекрыта слоем каменных плит. Она была сокрушительно ограблена, и лишь незначительные сохранившиеся фрагменты позволяют полагать, что первоначально в ней находились две погребальные колоды, содержавшие, скорее всего, мужское и женское захоронения. Во внешнем обводе центральной могилы находилось еще 8 захоронений, помещенных в малых срубах или погребальных колодах и принадлежавших, судя по всему, людям, сопровождавшим главного умершего в загробный мир. У восточной стены описанной камеры сохранились кости шести царских коней.
Многочисленные камеры, нерегулярно размещенные в несколько рядов по периферии кургана, содержали в основном остатки многочисленных конских захоронений, в некоторых случаях сопровождаемых погребенными вместе с ними людьми. Принято считать, что эти кони являлись приношениями главному умершему от различных подвластных ему племен. Если принять такое толкование, то оказывается, что погребенный в Аржане вождь властвовал над достаточно крупным племенным объединением.
На протяжении ряда последних десятилетий на территории Тувы был раскопан целый ряд памятников, представляющих разные слои населения того же народа, для погребения одного из вождей которого был сооружен курган Аржан. Они представляют захоронения, совершенные под небольшими каменными насыпями (человеческие костяки размещены в скорченном положении) и содержащие среди предметов инвентаря уздечные наборы, акинаковидные кинжалы, изделия своеобразного варианта евразийского «звериного стиля», т.е. основные предметы «скифской триады» в ее местном воплощении. У разных исследователей представленная этими древностями культура получила наименование уюкской или алды-бельской. Выделение этой культуры сделало весьма актуальным обсуждение проблем ее датировки и хронологического соотношения древностей скифской эпохи из Тувы и из иных регионов евразийских степей.
Эта проблема находит в современной науке самые разные толкования. Так, датировка Аржана разными учеными колеблется от IX до VII или даже до VI в. до н.э. Как уже отмечалось, при принятии наиболее ранней датировки иногда именно центральноазиатские комплексы аржанского типа трактуют как свиде-
90. Деревянный и роговой элементы конской узды из Пазырыкских курганов № 1 и2
91. Курган Аржан. План погребального сооружения
тельство зарождения здесь той самой скифской культуры, которая в дальнейшем распространилась на запад вплоть до Северного Причерноморья. Омоложение же даты Аржана позволяет отрицать связь происхождения этой культуры именно с Тувой и предполагать ее проникновение с запада либо (что скорее) говорить об алды-бельской (уюкской) культуре как об одной из многих степных культур, сложившихся на местной основе и, как и другие культуры степей, воспринявших при этом однотипные элементы, превратившие разноэтничное население этого региона в своеобразный культурный континуум. Позже, с V в. до н.э., на территории Тувы получает распространение другая культура скифского типа — саглынская.
Говоря о евразийских степных культурах скифской эпохи, необходимо вспомнить и о так называемой тагарской культуре, лучше всего представленной в Минусинской котловине по течению Енисея. Она интересна прежде всего тем, что, являясь по инвентарю типичной культурой скифо-сакского типа, была не кочевнической, а комплексной земледельческо-скотоводческой. Поэтому памятники здешнего населения представлены не только могильными комплексами, но и поселениями, в том числе укрепленными городищами. Другой характерной особенностью тагарской культуры являлось необычайно высокое развитие металлургии бронзы, что привело даже к значительному запаздыванию перехода тамошнего населения к производству железных видов оружия и орудий. В результате оружие типично скифоидных форм, в том числе кинжалы типа акинака, копья, топоры и клевцы, здесь изготавливалось не из характерного для остального скифо-сакского мира железа, а из бронзы, причем имело весьма высокую художественную орнаментацию. То же следует сказать о произведениях «звериного стиля».
Как и у большинства кочевых племен скифского мира, у племен тагарской культуры существовала традиция возведения крупных курганов для погребения представителей знати. Такова, к примеру, группа больших курганов V-IV вв. до н.э. в урочище Салбык.
Завершая эту главу, следует подчеркнуть, что в ней упомянуты далеко не все народы евразийских степей, связанные с культурным континуумом кочевников скифо-сакского круга. Однако приведенных данных достаточно, чтобы читателю стал понятен характер соотношения всех их между собой. Из всего сказанного видно, что многие из этих племен не связаны общностью генезиса и что их культуры обрели определенное сходство лишь в процессе хозяйственного, бытового, культурного или даже военного взаимодействия. При этом в круг сближающих все эти культуры черт вошли элементы разного происхождения, привнесенные в общее наследие из культурного арсенала самых разных народов. В то же время
многие особенности той или иной из степных культур продолжали сохраняться, и дальнейшее сопоставление всех входящих в степной континуум народов обещает и дальнейшее уяснение процесса их взаимодействия.
Что касается истории взаимоотношений между кочевыми по преимуществу народами евразийских степей скифо-сакского времени и цивилизациями древнего Ближнего Востока, то рассмотренные материалы свидетельствуют, что контакты между ними представляли неотъемлемый элемент их исторического развития. В них были втянуты многие племена, народы и государства. Несмотря на неодинаковый социально-экономический и культурный уровень контактировавших между собой народов этих двух регионов, проявления этих связей не были исключительно односторонними — в виде влияний, идущих с древнего Ближнего Востока в северные степные области. Если древневосточные цивилизации оказывали активное влияние на социальное и культурное развитие кочевников, то и степные народы, в свою очередь, способствовали становлению в восточных государствах некоторых элементов нового— кочевого— хозяйства, а также знакомству с неизвестными здесь прежде тактикой ведения конного боя и рядом форм вооружения и конского убранства. Это влияние кочевой степи стало одним из залогов успеха государств древнего Ближнего Востока в деле дальнейшего завоевания соседних народов.
АХЕМЕНИДСКАЯ ДЕРЖАВА. БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ВОСТОК В АХЕМЕНИДСКУЮ ЭПОХУ
Глава 10
АХЕМЕНИДСКАЯ ДЕРЖАВА
Ранняя история персов
Впервые персы упоминаются в ассирийских текстах IX в. до н.э. При ассирийском царе Салманасаре III (858-824) они обитали в области Парсуа к югу и юго-западу от оз. Урмия и платили подать ассирийцам. Около 800 г. до н.э. персы отделились от родственных им мидийских племен и под натиском урартов и маннеев направились на юг, в долины Загросских гор, где они в 714 г. упоминаются как подданные ассирийского царя Саргона II. Около 700 г. персы заняли равнины у Бахтиарских гор; постепенно здесь осело большинство персидских племен. Они заняли исконную эламскую территорию на юго-западе Ирана, которая получила название Парсумаш (современная провинция Фарс) по имени новых пришельцев. По-видимому, уже в конце VIII в. до н.э. персы составляли племенной союз, который возглавлялся вождями из рода Ахеменидов. Основателем династии считался Ахемен, который, возможно, правил в конце VIII — первой четверти VII в. до н.э. Резиденция ахеменидских племенных вождей, как полагают, была расположена на территории Бахтиарских гор в 40 км от современного города Шуштар. В 691 г. до н.э. персы совместно с вавилонянами и арамейскими племенами выступили союзниками эламского царя Хумбан-ни-мена в ожесточенной битве при Халуле (у совр. г. Самарра на Тигре) с ассирийским царем Синаххерибом. Ядро армии этой коалиции составляли эламские колесничие и иранская конница. Ассирийцам не удалось одержать победу, но их противники понесли столь большие потери, что оказались не в состоянии использовать свой успех.
Персы постепенно расширили свою территорию, захватив эламскую область Аншан. Именно этим объясняется то, что вавилонские тексты VI в. до н.э. назы
вают Ахеменидов царями то Аншана, то области Парсумаш. Очевидно, оба эти названия в то время обозначали одну и ту же область. Около 675-650 гг. до н.э. вождем персидских племен являлся Чишпиш (Теисп греческих авторов), который, согласно поздней традиции, был сыном Ахемена. Он, по-видимому, находился в вассальной зависимости от мидийского царя Фраорта. После смерти Чишпиша его старший сын Кир I (Куруш, ок. 650-600) стал царем области Парсумаш. Согласно одной ассирийской надписи, около 643 г. до н.э., когда войска Ашшурбанапала вторглись в Элам, Кир I, царь страны Парсумаш, послал в качестве заложника своего старшего сына Арукку вместе с дарами в Ниневию, столицу Ассирийской державы. После этого влияние Элама на персов стало постепенно ослабевать, и во второй половине VII в. до н.э. господствующая роль в Иране перешла к мидийцам. Когда в 612 г. до н.э. мидийцы в союзе с вавилонянами разгромили Ассирийскую державу, персы попали в зависимость от мидийского царя Киаксара. После смерти Кира I в конце VII в. до н.э. царем Персии стал Камбиз I (Камбужия), его сын. Если верить сообщениям греческих авторов (Геродота, Ксенофонта и др.), Камбиз I был женат на Мандане, дочери мидийского царя Астиага, и, таким образом, их сын Кир II являлся внуком Астиага. В 558 г. до н.э. Кир II стал царем персидских племен, среди которых главенствующую роль играли пасаргады. Он основал город Пасаргады, который стал столицей Персидского государства. Кроме пасаргадов в племенной союз входили также марафии и маспии. Жившие в горах и степях Персии кочевые племена киртиев и мардов, по-видимому, были покорены Киром позднее (после захвата Мидии). Кир в начале своего царствования находился в вассальной зависимости от мидийского царя Астиага, но потом поднял против него восстание.
В 550 г. до н.э. он покорил Мидию, взял в плен Астиага, захватил и увез в Персию сокровища экбатанских дворцов. Начиная с этого времени Персия выступает на арену мировой истории и ее история освещается сравнительно большим количеством разнообразных источников. Покорив Мидию, Кир принял официальные титулы мидийских царей. Персы заимствовали мидийскую культуру, а также систему государственного управления. Поэтому греки, иудеи, египтяне и другие народы древности рассматривали захват Мидии как передачу царской власти по наследству от мидийцев Киру и называли персов мидийцами.
Возникновение
Персидской державы
Около 549 г. до н.э. весь Элам был захвачен персами, а Сузы, судя по более поздним греческим источникам, стали столицей державы Кира. В течение следующих двух лет персы покорили страны, входившие в состав бывшей Мидийской державы, а именно Парфию, Гирканию и, вероятно, Армению. Когда ими была захвачена Мидия, а затем последовали новые стремительные успехи Кира, царь Лидии Крез начал готовиться к войне с персами, о самом существовании которых он, вероятно, узнал всего за несколько лет до этого. В течение своего
14-летнего правления (с 560 г. до н.э.) Крез покорил все греческие города Малой Азии, кроме Милета, с которым был заключен союзный договор, предусматривавший уплату дани и признание номинальной зависимости от лидийского царя. Все остальные племена Малой Азии до реки Галис, т.е. фригийцы, мисийцы, пафлагонцы и карийцы, также являлись подданными Креза. Таким образом, лидийский царь контролировал всю западную и центральную Малую Азию. По инициативе египетского фараона Амасиса около 549 г. до н.э. был заключен союз между Египтом и Лидией, направленный против Персии. Но союзники не осознавали, что нужно действовать немедленно и решительно, в то время как Персия с каждым днем становилась все могущественнее. Прежде чем приступить к активным действиям, Крез решил заручиться благоприятными предсказаниями богов и отправил своих гонцов в храм бога Аполлона в Дельфах, в святилище египетского бога Амона в Ливии и в другие храмы. Гонцы везли с собою многочисленные и ценные дары, большая часть которых досталась Аполлону. На вопрос, следует ли лидийцам начать войну с Киром, оракул Аполлона дал двусмысленный ответ, что Крез разрушит великое царство, если перейдет р. Галис, а также посоветовал найти себе могущественного союзника. Получив такой ответ, Крез отправил послов с дарами в дружественную Спарту с просьбой заключить военный союз. Спартанцы охотно откликнулись на эту просьбу о союзе против народа, имени которого они до тех пор даже не слышали. После этого Крез начал военные действия в Каппадокии, будучи слишком уверен в своей победе. Он разбил свой лагерь там же, близ города Синопа.
Туда же направился и Кир, по пути пополняя свою армию представителями тех народов, по территории которых он проходил. Произошла кровопролитная битва, закончившаяся безрезультатно, и ни одна из сторон не рискнула немедленно вступить в новый бой. Крез отступил в свою столицу Сарды и, решив более основательно подготовиться к войне, попытался получить эффективную помощь от своих союзников Египта и Спарты. Он обратился с предложением заключить военный союз также и к царю Вавилонии Набониду. Одновременно Крез послал вестников в Спарту с просьбой прислать войско к весне (т.е. примерно через пять месяцев), чтобы дать персам решающий бой. С такой же просьбой Крез обратился и к другим союзникам (в том числе к тирану Самоса Поли-крату), распустив до весны наемников, служивших в его войске. Однако Кир, который был в курсе действий и намерений Креза, решил застигнуть противника врасплох и, стремительно пройдя несколько сот километров, оказался у ворот Сард, жители которых вовсе не ожидали такого нападения. Крез вывел свою, считавшуюся неотразимой, конницу на равнину перед Сардами. По совету своего полководца Гарпага Кир поставил всех следовавших в обозе верблюдов впереди своего войска, предварительно посадив на них воинов. Лидийские кони, увидев незнакомых верблюдов и почуяв их запах, бежали. Однако лидийские всадники не растерялись, соскочили с коней и стали сражаться пешими. Произошла жестокая битва, в которой, однако, силы были неравны. Под напором превосходящих сил противника лидийцам пришлось отступить и бежать в Сарды, где они были осаждены в казавшемся неприступным акрополе. Полагая, что осада будет долгой, Крез послал вестников в Спарту, Вавилон и Египет с прось
бой о немедленной помощи. Из союзников лишь спартанцы более или менее охотно откликнулись на мольбу лидийского царя и подготовили войско для отправки на кораблях, но вскоре получили известие, что Сарды уже пали.
Осада Сард продолжалась лишь 14 дней. Попытка взять город штурмом окончилась неудачно. Но один наблюдательный воин из войска Кира, принадлежавший к горному племени мардов, заметил, как по обрывистой и неприступной скале спустился с акрополя за упавшим шлемом воин, а затем поднялся обратно. Эта часть акрополя считалась совершенно неприступной и поэтому не охранялась лидийцами. Мард, проведший всю свою жизнь в горах, поднялся вверх по скале, и за ним последовали другие воины. Город был взят, и Крез попал в плен (547 г. до н.э.). Согласно преданию, Крез стал упрекать оракула Аполлона в том, что, несмотря на щедрые дары, он обманул его, предсказав победу и побудив к войне. Когда об этих упреках узнали изворотливые жрецы Аполлона в Дельфах, они заявили, что Крез неверно истолковал прорицание оракула, гласившее, что если лидийский царь начнет войну, он разрушит великое царство. По словам жрецов, это предсказание сбылось, поскольку Лидийское царство пало, а Крезу, прежде чем начать войну, надо было спросить, какое царство имеет в виду оракул. По единодушному утверждению греческих авторов, Кир пощадил Креза и сохранил ему жизнь. Это вполне правдоподобно, если иметь в виду, что Кир относился милостиво и к другим взятым в плен царям. Однако, если верить Вавилонской хронике, Крез был казнен.
После захвата Лидии настала очередь и греческих городов Малой Азии. Жители этих городов послали вестников в Спарту с просьбой о помощи. Опасность грозила всем малоазийским греческим городам, кроме Милета, заблаговременно подчинившегося Киру, и островных эллинов, поскольку у персов пока еще не было флота. Когда вестники малоазийских городов прибыли в Спарту и изложили свою просьбу, лакедемоняне отказали им в помощи. Покорение греков и остальных народов Малой Азии Кир решил поручить кому-либо из своих полководцев. Наместником Лидии был назначен перс Табал, а сам Кир направился в Экбатаны, чтобы обдумать планы дальнейших походов против Вавилонии, Бактрии, саков и Египта. Воспользовавшись отъездом Кира, жители Сард во главе с лидийцем Пактием, которому была поручена охрана царской казны, подняли восстание. Они осадили персидский гарнизон во главе с Табалом в акрополе Сард и уговорили приморские греческие города прислать на помощь свои военные отряды. Для подавления восстания Кир послал войско во главе с мидийцем Мазаром, которому было приказано также разоружить лидийцев и обратить в рабство жителей греческих городов, которые оказали помощь восставшим. Пактий, узнав о приближении персидского войска, бежал со своими приверженцами, и на этом восстание окончилось. Мазар начал покорение греческих городов Малой Азии и завоевал долину реки Меандр. Вскоре он умер, и на его место был назначен мидиец Гарпаг, ранее служивший Астиагу и перешедший на сторону Кира во время войны с Мидией. Гарпаг начал возводить высокие насыпи у обнесенных стенами греческих городов и затем штурмом брать их. Таким образом Гарпаг без труда подчинил Ионию и затем племя карийцев. Лишь ликий-цы и кавнии (негреческое автохтонное население Малой Азии) оказали упорное
102. Пасаргады. Дворец (ворота), рельеф
сопротивление многочисленному персидскому войску, встретив его в открытом бою. Вскоре вся Малая Азия была в руках персов, и греки потеряли военное превосходство в Эгейском море. Теперь Кир в случае надобности в военном флоте мог пользоваться греческими кораблями.
Между 545 и 539 гг. до н.э. Кир подчинил Дрангиану, Маргиану, Хорезм, Со-гдиану, Бактрию, Арею, Гедросию, среднеазиатских саков, Саттагидию, Арахо-сию и Гандхару. Таким образом, персидское господство достигло северо-западных границ Индии, южных отрогов Гиндукуша и бассейна реки Яксарт (Сыр-Дарья). Только после того как ему удалось достигнуть самых дальних пределов своих завоеваний в северо-восточном направлении, Кир выступил против Вавилонии. Весною 539 г. до н.э. персидская армия двинулась в поход и начала наступление вниз по долине реки Дияла. Мощные оборонительные сооружения, возведенные еще при Навуходоносоре И, могли бы отсрочить на продолжительное время падение Вавилонии. Эти укрепления охватывали такие крупные города, как Сиппар, Кута, Вавилон и Борсиппа. Особенно хорошо был укреплен Вавилон, превращенный в неприступную военную крепость. Но эти укрепления мало помогли Набониду, лишенному прочной поддержки своего народа. В августе того же, 539 г. у города Описа на Тигре персы разбили вавилонские войска, которыми командовал Бел-шар-уцур, сын царя Набонида (Валтасар Библии). После этого больших битв так и не произошло. Войско Гобрия, полководца Кира, 10 октября без боя взяло Сиппар, а через два дня и Вавилон. Набонид был захвачен в плен, но оставлен в живых, а его сын Бел-шар-уцур казнен. 29 октября 539 г. в Вавилон вступил и сам Кир. Сравнительно легкое завоевание Вавилонии персами было вызвано целым рядом причин. Прежде всего Кир захватил ее торговые пути, что вызвало недовольство Набонидом со стороны вавилонских купцов. Кроме того, Набонид стремился сломить могущество и влияние жрецов Мардука, главного бога вавилонян. Он проводил религиозные реформы, поддерживал культ бога луны Сина, строил ему за пределами Вавилонии, в Харране (Верхняя Месопотамия) и в оазисе Тейма в Аравии, новые храмы, надеясь объединить вокруг себя все арамейские племена, которые поклонялись этому богу, чтобы отразить с их помощью наступление персов. Все это явилось причиной недовольства Набонидом со стороны жреческих кругов Вавилонии. Наконец, в этом государстве жили десятки тысяч представителей разных народов (среди них особенно много было иудеев), насильственно уведенных из своих стран вавилонскими царями и поселенных в Двуречье. Эти люди не оставляли надежды вернуться в родные места. Поэтому они были готовы помочь любому врагу Набонида и радовались победе персов. Таким образом, когда Кир напал на Вавилонию, вавилонские жрецы ждали его как посланника Мардука, иудейские пророки объявили его своим спасителем, мессией бога Яхве, и другие народы видели в нем своего избавителя. Возможно также, что какая-то часть недовольных политикой Набонида людей находилась в тайном союзе с наступавшими персами. Таким образом, в Вавилонии не было достаточно сил, которые могли бы оказать эффективное сопротивление победоносной персидской армии, состоявшей из свободных земледельцев и кочевников, еще не знавших социального расслоения в сколько-нибудь широких масштабах. К тому же эта страна не имела надежных союзников.
103. Пасаргады. План царского сада: 1 —Дворец Р;
2 — Павильон А; 3 — Павильон В; 4 —Дворец S
Согласно вавилонским текстам, армия Кира без боя вступила в Вавилон и освободила жителей страны от гнета Набонида. Кир обвинил последнего в нарушении благочестия по отношению к богам своей собственной страны и пренебрежении к ним, вернул идолы богов из различных городов, которые ранее по распоряжению Набонида были свезены в Вавилон, в их прежние храмы. По утверждению вавилонских источников, при Набониде «народ Шумера и Аккада (т.е. Вавилонии.— МД) был подобен трупам», а Кир гарантировал жителям неприкосновенность и возвестил стране мир. Эсагила, главный храм Вавилона, охранялся специально назначенными воинами, чтобы войско не разграбило его. Кир принес жертвы богу Мардуку, как это до него делали вавилонские цари. Камбиз, сын Кира, присутствовал как представитель своего отца на религиозном празднике по случаю нового года, который отмечался в Эсагиле. Кир восстановил пришедшие в упадок храмы Вавилонии и Ассирии. Народам, которые ранее были насильственно поселены в Месопотамии, Кир разрешил вернуться в свои страны. Такая политика по отношению к покоренным народам и их религиям сильно отличалась от политики ассирийских и вавилонских царей и в значительной степени облегчила персам захват стран, расположенных к западу от Месопотамии. В своей надписи на глиняном цилиндре из Вавилона Кир заявляет, что он «собрал всех людей и восстановил их жилища в Ашшуре, Сузах, в Стране гутиев (т.е. Мидии. — МД) и в самой Вавилонии». Захватив Месопотамию, Кир формально сохранил Вавилонское царство и ничего не изменил в социальной структуре страны. Вавилон стал одной из царских столиц. В экономической жизни страны не произошло больших изменений, о чем свидетельствуют тысячи деловых, частноправовых и хозяйственных документов из многих ее городов. Как можно судить по этим документам, большинство должностных лиц (а может быть, почти все), несмотря на захват страны персами, сохранили свое положение в административном аппарате (судьи, градоначальники и т.д.). Цены на разные товары и продукты питания в основном оставались на прежнем уровне. После захвата Киром Вавилонии в стране на первый взгляд ничего не изменилось: вавилоняне сохраняли в государственном аппарате свое преобладающее положение, а жречество получило возможность для возрождения древних культов, которым Кир всячески покровительствовал. Более того, власть Кира в Вавилонии не рассматривалась как чужеземное господство, поскольку он получил царство формально из рук бога Мардука, исполнив древние священные церемонии. Кир принял титул «царь Вавилона, царь стран», который сохранялся и за его преемниками. Однако, несмотря на все это, Вавилония из самостоятельного царства превратилась в сатрапию Ахеменидской державы и лишилась всякой независимости во внешней политике, да и внутри страны высшая административная власть принадлежала персидскому наместнику.
Первым наместником Вавилонии был сын Кира Камбиз, которого источники называют «царем Вавилона». Наместничество Камбиза охватывало не всю Вавилонию, а только город Вавилон и север страны, а центральная и южная части Вавилонии оставались под непосредственным управлением Кира, царя всей державы. Но еще в 537 г. до н.э. Кир по неизвестным нам причинам отстранил Камбиза от царствования в Вавилоне. После захвата Вавилонии все западные
страны до границ Египта добровольно подчинились персам. Торговые круги Финикии, как и вавилонские и малоазийские купцы, были заинтересованы в создании большого государства с безопасными дорогами, где вся посредническая торговля была бы сосредоточена в их руках. Кир, несомненно, готовился захватить и Египет. Однако он решил предварительно обезопасить северо-восточные границы своего государства от вторжения кочевых скифских племен Средней Азии. Во время битвы с массагетами на восточном берегу Аму-Дарьи в 530 г. до н.э. Кир, согласно античным источникам, потерпел полное поражение и погиб сам.
После этого престол перешел к его сыну Камбизу, который спустя несколько лет начал готовиться к нападению на Египет. Египетские источники изображают персидское вторжение как миграцию «жителей всех чужеземных стран». Геродот также сообщает, что вместе с Камбизом против Египта пошли «все покоренные им народы», включая малоазийских эллинов. Это сообщение подтверждается и одним вавилонским документом, согласно которому некий Иддина-Набу продал в 524 г. до н.э. в Вавилоне «египтянку из своей добычи лука» вместе с ее трехмесячной дочерью. Очевидно, эта женщина была захвачена во время похода Камбиза в Египет, в котором участвовали и вавилонские воины. Сухопутная армия получила поддержку со стороны финикийского флота. Союзник египетского фараона Поликрат Самосский, владевший сильным флотом, перешел на сторону Камбиза. Киприоты, которые находились в зависимости от Египта, также перешли на сторону Камбиза и поддержали его армию своими кораблями. Персидская армия была собрана в Палестине. Бедуины Синайской пустыни стали союзниками Камбиза и помогли его войску пройти через безводную территорию, чтобы добраться до пограничного египетского города Пелусий. Командующий египетским флотом Уджагорресент, по-видимому, и не помышлял о сопротивлении чужеземцам и лишь искал удобного случая, чтобы перейти на их сторону. Грек Фанес из города Галикарнаса в Малой Азии, командовавший греческими и карийскими наемниками, состоявшими на службе у египетского фараона Псамметиха Ш, изменил последнему и бежал к персам, доставив им ценные сведения о военных приготовлениях противника. Египетская армия ждала персидское войско у Пелусия. В этот решающий час греческие и карийские наемники не растерялись и не поддались чувству страха. В гневе на своего бывшего командира Фанеса греки закололи перед строем его сыновей, находившихся в Египте, смешали их кровь с вином и, выпив эту смесь, бросились в бой. Это была единственная крупная битва (весна 525 г. до н.э.). В ней обе стороны понесли тяжелые потери, а победа досталась персам. Остатки египетского войска и наемников в беспорядке бежали в столицу страны Мемфис. Победители двинулись в глубь Египта по морю и суше, не встречая сопротивления. Командующий флотом Уджагорресент не дал распоряжения об оказании сопротивления противнику и сдал без боя город Саис и свой флот. Камбиз послал в Мемфис корабль с вестником, требуя сдачи города. Но египтяне напали на корабль и вырезали весь его экипаж вместе с царским вестником. После этого началась осада города, и египтянам пришлось сдаться. Две тысячи жителей, включая сына Псамметиха III, были казнены в отместку за убийство царского вестника, но самого Псамметиха Ш пощадили. Теперь весь Египет был в руках персов. Жившие к западу от
Египта ливийские племена, а также греки Киренаики и город Барка добровольно подчинились Камбизу и прислали дары. К концу августа 525 г. до н.э. Камбиз был официально признан царем Египта. Он основал новую, XXVII династию фараонов Египта. Как свидетельствуют официальные египетские источники, Камбиз придал своему захвату характер личной унии с египтянами, короновался по египетским обычаям, пользовался традиционной египетской системой датировки, принял титул «царь Египта, царь стран» и традиционные титулы «потомок (богов) Ра, Осириса» и т.д. Он участвовал в религиозных церемониях в храме Нейт в Саисе, приносил жертвы египетским богам и оказывал им другие знаки внимания. Судя по египетским источникам, Камбиз продолжал политику фараонов предшествовавшей ему XXVI династии и стремился привлечь на свою сторону египтян. На рельефах из Египта он изображен в египетском костюме. Чтобы придать захвату Египта законный характер, создавались легенды о матримониальных связях Ахеменидов с египетскими принцессами и о рождении Камбиза от брака Кира с египетской царевной Нитетис, дочерью фараона Априя. Вскоре после завоевания персами Египет снова начал жить нормальной жизнью. Юридические и административные документы времени Камбиза свидетельствуют о том, что первые годы персидского господства не нанесли значительного ущерба экономической жизни страны. Правда, сразу после захвата Египта персидская армия совершала грабежи, но Камбиз приказал всем своим воинам прекратить мародерство, покинуть храмовые территории и возместил причиненный храмам ущерб. Следуя политике Кира, Камбиз предоставил египтянам свободу в религиозной и частной жизни. Египтяне, как и представители других народов, продолжали занимать свои должности в государственном аппарате и передавали их по наследству. Так, саисский жрец и полководец Уджагорресент не только сохранил при Камбизе и Дарии I все государственные должности (кроме начальника флота), которые он занимал при египетских фараонах Амасисе и Псамметихе III, но и получил новые. За переход на сторону персов он был щедро вознагражден и стал советником персидских царей в египетских делах. Захватив Египет, Камбиз начал готовиться к походу против Страны эфиопов (Куш ахеменидских надписей). С этой целью он основал в Верхнем Египте несколько укрепленных городов. Согласно Геродоту, Камбиз вторгся в Эфиопию без достаточной подготовки, без запасов продовольствия, в его армии началось людоедство, и он был вынужден отступить. Кроме того, поход Камбиза против ливийского оазиса также не достиг своей цели.
Восстания покоренных народов
Пока Камбиз со своим войском находился в длительном походе, египтяне подняли восстание против персидского господства. В конце 524 г. до н.э. Камбиз вернулся в административную столицу Египта Мемфис, подавил восстание египтян и предал казни его зачинщика, бывшего фараона Псамметиха. Вскоре после этого, в марте 522 г. до н.э. Камбиз получил известие, что его младший брат Бардия (по официальной версии — маг Гаумата) поднял восстание в Персии и стал
104. Пасаргады. Дворец Р, фр-т рельефа: царь и слуга
105. Пасаргады. Зиндан, реконструкция
там царем. Камбиз направился в Персию, но умер в пути при загадочных обстоятельствах, не успев вернуть себе власть.
Кроме официальной версии, изложенной в Бехистунской надписи, о перевороте в Персии еще рассказывают в более или менее разнообразных вариациях Геродот, Ктесий, Помпей Трог и другие античные авторы. Источники резко расходятся между собой относительно места, времени и обстоятельств убийства Бардии, сына Кира. Согласно Бехистунской надписи, Бардия был убит Камбизом еще до похода в Египет. По Геродоту же, Смердис (так он называет Бардию) находился вместе с войском в Египте. Оттуда Камбиз послал Смердиса обратно в Персию, опасаясь, что тот может замыслить заговор, а затем велел убить его. Согласно Ктесию, который был придворным врачом Дария II и Артаксеркса II между 415-398 гг. до н.э., младшего сына Кира звали Таниоксарк и он являлся наместником Бактрии, Хорезма, Парфии и Кармании. Какой-то маг по имени Сфендадат оклеветал его перед Камбизом. Затем по приказанию Камбиза Таниоксарк был убит, а Сфендадат, который был очень похож на Таниоксарка, стал править вместо последнего в восточноиранских областях. Относительно дальнейшего хода событий все версии, как официальная, так и неофициальные, сходны между собой. Один придворный маг (согласно Бехистунской надписи, Гаумата, по Геродоту же, этого мага звали Смердисом, как и убитого сына Кира) объявил себя Бардией, т.е. сыном Кира. Геродот, Ктесий и другие античные историки утверждают, что маг был очень похож на младшего сына Кира, и это помогло ему стать царем под видом последнего. Например, по Ктесию, маг был настолько похож на сына Кира, что даже ближайшие к ним лица не могли отличить их друг от друга. Некоторые современные историки склонны полагать, что Бардия и личность, которую Дарий в Бехистунской надписи называет магом Гауматой, — одно и то же лицо, а именно младший сын Кира, объявленный Дарием для осуществления своей цели магом и самозванцем. Однако вопрос трудно считать окончательно решенным, и вряд ли мы когда-нибудь будем в состоянии точно ответить на него.
Гаумата восстал 11 марта 522 г. до н.э., и не позже чем через месяц был признан в Вавилонии, откуда мы имеем, начиная с 14 апреля, датированные по его царствованию деловые документы. В этих текстах он назван «Бардия, царь Вавилонии, царь стран». К 1 июня 522 г. Гаумата получил всеобщее признание, вероятно, короновался по древнему обычаю в Пасаргадах и стал царем всей державы Кира и Камбиза. Чтобы удержать покоренные народы в составе Ахеме-нидской державы, Гаумата отменил подати и военную повинность на три года. Поэтому в течение всего периода его царствования в государстве не произошло никаких восстаний и мятежей.
Что же касается внутренней политики Гауматы, то его реформы, по всей вероятности, были направлены на уничтожение привилегий персидской родовой знати и ее господствующего положения в экономике и обществе. Здесь нельзя упускать из виду одно своеобразие в возникновении и развитии Персидского государства, которое имело большое значение для истории ахеменидского Ирана. Едва возникнув при Кире II, Персидское государство буквально через два десятилетия стало величайшей мировой державой, еще не освободившись от
господства родо-племенных отношений. Персия не прошла исторического пути, который характерен для большинства других рабовладельческих государств, именно в силу того, что она почти сразу из племенного союза стала мировой империей. Это — путь борьбы между царской властью, имевшей тенденцию к неограниченному господству, и родовой знатью, упорно отстаивавшей свои привилегии. При Кире II эта борьба не была заметна, так как персы покоряли один за другим десятки народов. Внимание царя было обращено на дальнейшие завоевания. Эти завоевания были и в интересах родовой знати, которая очень обогащалась и усиливалась во время войн. Но государство развивалось, выходило из рамок патриархально-родовых отношений, завоевывались все новые и новые страны, а социальная база империи по-прежнему была узка. Теперь стали выявляться противоречия между родовой знатью и царской властью, имевшей тенденцию к перерастанию в централизованную монархию и в конечном счете намеревавшейся уничтожить родовую знать как социальную категорию. Объективно к этому и была направлена политика Камбиза, которому пришлось вступить в беспощадную борьбу против родовой знати. Поэтому последняя была недовольна Камбизом, и именно в этом заключалась причина враждебности официальной традиции к нему. Позднее эта традиция была воспринята античными авторами, а от них и многими современными историками, которые считают Камбиза жестоким деспотом, без всякой рациональной цели совершавшим бессмысленные преступления. Гаумата в определенной степени являлся продолжателем социальной политики Камбиза и стремился к установлению неограниченной царской власти и расширению социальной базы империи путем привлечения на свою сторону различных слоев в покоренных странах. В Бехистунской надписи Дарий утверждает, что Гаумата отбирал у народа его дома и другое имущество и разрушал храмы. Однако, как видно из источников, Гаумата пользовался большой популярностью и поддержкой как в самой Персии, так и в других странах Ахеменидской державы и реформы его были направлены не против большинства народа, а против персидской родовой знати. Разрушение храмов также преследовало определенную политическую цель, а именно централизацию культа в иранских странах (по крайней мере в Персии и Мидии).
29 сентября 522 г. до н.э., после почти семи месяцев царствования, Гаумата был убит заговорщиками в результате неожиданного нападения. По всей вероятности, организатором заговора являлся знатный перс Отана, который привлек на свою сторону Дария, Интаферна, Мегабиза, Гобрия и еще несколько человек. Все заговорщики были представителями семи наиболее знатных родов персов. После убийства Гауматы, по-видимому, среди них начались разногласия, но в конечном итоге они пришли к взаимному соглашению, что царем станет Дарий, которому было не более 28 лет, а привилегии знати, отмененные Гауматой, будут восстановлены. Позднее Интаферн, один из семи активных участников заговора, был казнен по приказанию Дария, так как держался слишком независимо по отношению к последнему. Став царем, Дарий с целью узаконения своей власти женился на дочери Кира Атоссе, взяв также в жены всех остальных женщин из гарема Камбиза и Гауматы.
Сразу после захвата престола Дарием против него восстала Вавилония, где, если верить Бехистунской надписи, некий Нидинту-Бел объявил себя сыном по
следнего вавилонского царя Набонида и стал царствовать под именем Навуходоносора III. Дарий лично возглавил поход против восставших. 13 декабря 522 г. до н.э. у р. Тигр вавилоняне потерпели поражение, а через пять дней Дарий одержал победу в местности Зазана у Евфрата. После этого персы вступили в Вавилон, и руководители восставших были преданы казни. Пока Дарий был занят карательными действиями в Вавилонии, против него восстали Персия, Мидия, Элам, Маргиана, Парфия, Саттагидия, сакские племена Средней Азии и Египет. Началась долгая, жестокая и кровопролитная борьба за восстановление державы Ахеменидов. В самой Персии некий Вахъяздата выступил соперником Дария под именем сына Кира Бардии и нашел среди народа большую поддержку. Ему удалось также захватить восточноиранские области вплоть до Арахосии. 29 декабря 522 г. у крепости Капишаканиш и 21 февраля 521 г. в области Ганду-тава войска Вахъяздаты вступали в бой с армией Дария, которой командовал полководец Ваумиса. По-видимому, эти битвы не принесли решающей победы ни одной из сторон, и Ваумиса нанес поражение противнику лишь в марте того же года. Но в самой Персии Вахъяздата все еще оставался хозяином положения. 25 мая 521 г. восставшие сразились с войсками Дария, во главе которых стоял Артавардия. Эта битва оказалась безрезультатной, и Артавардия одержал решающую победу у горы Парга в Персии. 16 июля 521 г. Вахъяздата был взят в плен и вместе с ближайшими своими сторонниками посажен на кол. Это была крупная победа Дария, так как теперь вся Персия оказалась в его руках.
Но в остальных странах продолжались восстания. Первое из них в Эламе было подавлено довольно легко, и вождь восставших Ассина был пленен и казнен. Но вскоре некий Мартия, сын Чичишхриша, поднял новое восстание в Эламе, говоря народу: «Я — Иманиш, царь в Эламе». Вскоре Дарию удалось восстановить свою власть в этой стране, но к тому времени почти вся Мидия оказалась в руках Фра-вартиша, который утверждал, что он Хшатрита из рода древнего мидийского царя Киаксара. Это восстание было одним из наиболее опасных для Дария, и он сам выступил против мятежников. 7 мая 521 г. до н.э. произошел крупный бой у города Кундуруш в Мидии. Мидийцы потерпели поражение, и Фравартиш с частью своих приверженцев бежал в область Рага в Мидии. Но вскоре он был схвачен и приведен к Дарию, который лично жестоко расправился с ним. Он отрезал Фра-вартишу нос, уши и язык и выколол ему глаз. После этого его отвезли в Экбатаны и посадили там на кол. Туда же были доставлены ближайшие помощники Фравар-тиша и заключены в крепость; впоследствии с них содрали кожу. В других странах борьба с восставшими все еще продолжалась. В различных областях Армении полководцы Дария долго, но безуспешно пытались усмирить мятежников. Первое крупное сражение произошло еще 31 декабря 522 г. до н.э. в местности Изала. Потом войска Дария уклонялись от активных действий, пока 21 мая 521 г. до н.э. они не приняли бой у местности Зузахия. Через шесть дней у р. Тигр произошла новая битва. Но сломить упорство восставших армян все еще не удавалось, и в дополнение к войскам, которыми командовали Ваумиса и Дадаршиш, была направлена новая армия во главе с Тахмаспадой. Последнему удалось одержать победу над восставшими в бою в местности Аутиара, а 21 июня 521 г. до н.э. армяне около горы Уяма потерпели новое поражение от войск Дадаршиша.
106. Пасаргады. Гробница Кира. 1-4 — фасады
Тем временем Виштаспа, отец Дария, который являлся сатрапом Парфии и Гиркании, в течение многих месяцев уклонялся от сражений с восставшими. В марте 521 г. битва у города Вишпаузатиш в Парфии не принесла ему победы. Только летом Дарий оказался в состоянии послать на помощь Виштаспе достаточно многочисленное войско, и после этого 12 июля 521 г. у города Патиграбана в Парфии восставшие были разгромлены. Но через месяц вавилоняне сделали новую попытку добиться независимости. Теперь во главе восстания стоял Араха, который выдавал себя за Навуходоносора, сына Набонида (Навуходоносор IV). Против вавилонян Дарий послал армию во главе с Интаферном, одним из своих сообщников в заговоре против Гауматы. 27 ноября 521 г. войско Арахи было разгромлено, а он сам и его соратники казнены. Тем временем в Маргиане, одной из областей Средней Азии, продолжалось еще одно восстание. Против мар-гианцев двинулся сатрап Бактрии Дадаршиш, и 28 декабря 521 г. они были разгромлены. За этим последовала резня, во время которой было убито более 55 тыс. человек. Это было последним крупным восстанием, хотя в государстве все еще продолжались волнения. Теперь, через год с небольшим после захвата власти, Дарий смог упрочить свое положение и вскоре после этого восстановил державу Кира и Камбиза в ее старых границах. Победа Дария над восставшими народами в значительной степени объясняется отсутствием единства, координаций действий, разнобоем, только оборонительным характером выступлений восставших. Лишь один перс Вахъяздата, очевидно желая стать царем всей империи, сумел захватить инициативу в свои руки в нескольких странах. Но все же победа Дария была бы невозможна, если бы в его распоряжении не было верной ему регулярной армии. Дария поддерживали полки десяти тысяч «бессмертных» (так назывались воины личной охраны царя), армии оставшихся верными Дарию сатрапов и гарнизонные войска, которые, как правило, в каждой области состояли из чужеземцев. Этими войсками Дарий пользовался очень умело, безошибочно определяя самые опасные мятежи. Не будучи в состоянии вести карательные операции одновременно на всех направлениях, Дарий подавлял одно восстание, а затем эту же армию, при помощи которой подавил первое восстание, бросал против других мятежников. В 520 г. до н.э. эламиты восстали против персидского господства третий раз. Полководец Дария Гобрий нанес поражение восставшим. В следующем году Дарий лично возглавил поход против массагетских племен в Средней Азии, захватил в плен их вождя Скунху и назначил вместо него другого человека из их же среды.
После этого, около 519 г., Дарий приступил к осуществлению своих знаменитых административно-финансовых реформ (см. ниже) и расширению границ государства. Между 518—512 гг. персы захватили Фракию, Македонию, совершили поход против причерноморских скифов, который окончился безрезультатно, и покорили северо-западную часть Индии. Таким образом, к концу VI в. до н.э. границы Ахеменидской державы простирались от р. Инд на востоке до Эгейского моря на западе, от Армении на севере до Первого нильского порога на юге.
Греко-персидские войны
В VI в. до н.э. в экономическом и культурном отношении среди греческих областей ведущая роль принадлежала не Балканскому полуострову, а греческим колониям на побережье Малой Азии: Милету, Эфесу и др. Эти колонии располагали плодородными землями, в них расцветало ремесленное производство, и им были доступны рынки обширной Ахеменидской державы. После захвата Малой Азии персидские цари стали оказывать поддержку тиранам, которые были правителями греческих городов, и стремились ликвидировать в автономных греческих государствах демократическое управление. В 500 г. в Милете произошло восстание против персидского господства. Греческие города на юге и севере Малой Азии примкнули к восставшим, и повсюду тираны, поддерживавшие персов, были свергнуты. Руководитель восставших Аристагор в 499 г. обратился за помощью к материковым грекам. Спартанцы отказали в какой бы то ни было помощи, ссылаясь на дальность расстояния. Миссия Аристагора потерпела провал, так как лишь афиняне и эретрийцы на острове Эвбея откликнулись на призыв восставших, но и они послали лишь незначительное количество кораблей. Восставшие организовали поход против столицы Лидийской сатрапии и захватили и сожгли ее столицу Сарды. Персидский сатрап Артаферн вместе с гарнизоном укрылся в акрополе, который грекам не удалось захватить. Персы начали стягивать свои войска и летом 498 г. нанесли поражение грекам около города Эфес. После этого афиняне и эретрийцы бежали, бросив малоазийских греков на произвол судьбы. Весной 494 г. персы осадили с моря и суши Милет, являвшийся главным оплотом восстания. Город был захвачен и до основания разрушен, а население уведено в рабство. В 493 г. восстание было подавлено повсеместно.
Иония пришла в запустение, и теперь на первое место среди греков выдвигаются города-государства Балканского полуострова, прежде всего Афины и Спарта. После подавления восстания Дарий начал приготовления к походу против материковой Греции. Он понимал, что персидское господство в Малой Азии будет непрочным, пока греки Балканского полуострова сохраняют свою независимость. В это время Греция состояла из множества автономных городов-государств с различным политическим строем, находившихся друг с другом в постоянной вражде и войнах. Поэтому казалось, что покорение Греции не будет представлять большой трудности для персов, располагавших огромной, хорошо вооруженной армией и лучшим для своего времени флотом. Но Дарий не был склонен к преуменьшению трудностей в предстоящем походе и тщательно готовился к нему. В 492 г. до н.э. он даже предпринял смелый эксперимент, распорядившись заменить в большинстве греческих городов Малой Азии власть тиранов на демократию, чтобы не создавать недовольства среди греческих подданных. В том же, 492 г. персидская армия выступила в поход и прошла в Македонию и Фракию, которые были завоеваны за два десятилетия до этого. Но около Афонского мыса на Халкидском полуострове персидский флот был разбит сильной бурей, при этом погибло около 20 тыс. человек и было уничтожено 300 кораблей. После этого пришлось увести сухопутную армию обратно в Малую Азию и заново готовиться к походу.
107. Бехистун. Скальный рельеф Дария!
108. Зар-иПуль. Скальный рельеф Анубанини, царя луллубеев
В 491 г. до н.э. в города материковой Греции были посланы персидские послы с требованием «земли и воды», т.е. покорности власти Дария. Большинство греческих городов ответили согласием на это требование, и лишь Спарта и Афины отказались подчиниться и даже убили самих послов. Персы начали готовиться к новому походу против Греции, официально объявив, что целью похода является наказание афинян и эретрийцев за их помощь малоазийским грекам в борьбе с персами. Но действительная цель была другая, и Дарий рассчитывал, что захват Аттики во главе с ее столицей Афинами приведет к покорению всей Греции. Афиняне оказались в трудном положении, ведь им не приходилось надеяться на помощь со стороны. Соседняя область Беотия была враждебна к ним и открыто приветствовала появление персов. В самих Афинах продолжалась постоянная борьба между аристократической и демократической партиями. Часть афинян готова была помочь персам и втайне надеялась на их победу. Гиппий, последний афинский тиран, лишенный власти и изгнанный из страны, теперь вместе с персидской армией возвращался в Грецию, где его ждали тайные сторонники. Летом 490 г. персидский флот был сосредоточен под руководством Да-тиса у берегов Киликии. Там же собрались конница и пехота под командованием Артаферна. К берегам Киликии были направлены также и грузовые суда для перевозки лошадей. Учтя опыт прошлых неудач, персидские полководцы решили переправить войско на кораблях через Эгейское море, не подвергая флот новым опасностям у неспокойного мыса Афон, а также учитывая возможное нападение фракийцев, которых трудно было держать под эффективным контролем. Прежде всего персы высадились на острове Наксос, который до того времени оставался непокоренным, и опустошили его. Затем персидская армия прибыла в Эретрий-скую область на Эвбее. Шесть дней эретрийцы сопротивлялись персам. На седьмой день город был взят и разрушен, а его жители отправлены в качестве пленников в Сузы. В начале августа персидская армия с помощью опытных греческих флотоводцев направилась на кораблях в Аттику и высадилась на равнине Марафон в 40 км от Афин. Равнина эта тянется в длину на 9 км, а ширина ее составляет 3 км. Персидское войско вряд ли насчитывало более 15 тыс. человек. В это время в афинском народном собрании iiufti острые споры относительно предстоящей тактики войны с персами. Известный полководец Мильтиад и вождь демократической партии Фемистокл, опасаясь предательских действий сторонников персидского царя в Афинах, настаивали на немедленном выступлении против персов.
Народное собрание после долгого обсуждения приняло это предложение, и афинское войско, которое состояло из 10 тыс. человек, направилось на Марафонскую равнину. Туда же прибыло около тысячи воинов из союзного беотийского города Платеи, расположенного на границе с Аттикой. Спартанцы также обещали помощь, но не спешили послать войско, ссылаясь на старинный обычай, согласно которому до полнолуния нельзя было выступать в поход. На Марафоне обе стороны выжидали несколько дней, не решаясь вступить в бой. Персидская армия располагалась на открытой равнине, где можно было применить конницу и где персидский полководец Датис хотел дать бой. Афиняне, у которых совсем не было конницы, собрались в узкой части равнины, где персидские всадники не могли действовать. Между тем положение персидской армии становилось трудным, и Датис, напрасно ожидавший нападения афинян, должен был спешить с принятием решения относительно дальнейших действий. Он, вероятно, знал о намерении спартанцев выступить после полнолуния и хотел решить участь войны еще до их прихода. В то же время он не мог двинуть армию в теснины, где располагались афинские воины. Датис также внимательно следил за положением в Афинах, откуда он ждал сигнала (поднятый над городскими стенами щит) о захвате города сторонниками свергнутого тирана Гиппия, являвшегося теперь персидским подданным. В Афинах сторонники персов готовы были действовать, но ждали, пока персидская армия нанесет поражение афинскому войску. Спартанцы могли вскоре подойти на помощь афинянам, и Датис не хотел больше рисковать. Он решил перебросить часть армии, чтобы захватить Афины. Для этого пришлось разделить армию и идти на риск, от которого персидское командование до сих пор воздерживалось. Часть войска, включая конницу, была посажена на корабли, вероятно, ночью, при свете луны. Теперь успех операции зависел от фактора неожиданности. Однако Мильтиад догадывался о планах Датиса или, может быть, определенно знал о них через ионийских греков в персидском лагере. Мильтиаду доложили о том, что конница противника уже посажена на корабли и на равнине осталась лишь легковооруженная пехота. Теперь оснований для опасений не осталось.
Наступило утро 12 августа 490 г. до н.э. Афинское войско быстро выстроилось, оставив свои позиции, и стремительным маршем двинулось на противника, чтобы дать генеральное сражение. Боевая линия афинян оказалась равной персидской, но в центре у них было меньше рядов, чем у противника. Такая расстановка сил находилась в соответствии с традиционной тактикой обеих сторон: персы располагали лучшие части в центре, а греки любой ценой стремились одержать победу на флангах, чтобы затем повернуть силы против центра врага. Персидские воины боролись стойко, и в центре персы и саки смяли афинские ряды и стали преследовать их. Но на флангах у персов было меньше сил, и там они потерпели поражение. Затем афиняне и платейцы стали бороться с персами, прорвавшимися в центре. И здесь персы начали отступать, неся большие потери. На поле боя осталось 6400 персов и их союзников и всего 192 афинянина (платейцы также понесли потери, но число их неизвестно). Уцелевшая часть персидского войска села на корабли и направилась к Афинам. Афинские воины захва
тили семь персидских кораблей, спешно направились в Афины и прибыли туда раньше персов. После этого персидской армии оставалось только отплыть обратно в Малую Азию.
Победа при Марафоне была первой победой греков над персидской армией, которая до того времени считалась непобедимой. По существу, победу эту одержали афиняне, которых греческий поэт Симонид, современник Марафонской битвы, назвал передовыми борцами за свободу эллинов. Поражение персов было вызвано целым рядом причин. Хотя их армия несколько превосходила численно афинскую, только часть ее смогла принять участие в бою. Кроме того, персы действовали в незнакомой стране. Греческие тяжеловооруженные пехотинцы (гоплиты) были закованы в железо, и легковооруженные персидские лучники не смогли расстроить их ряды. А когда начался рукопашный бой, лучники не смогли принять в нем активного участия. Большое значение имело и то, что афинским войском руководил полководец Мильтиад, который был хорошо знаком с персидским военным делом, так как ранее, во время скифского похода Дария, служил в его армии. Наконец, нельзя также забывать, что афиняне боролись за свою страну, за сохранение демократического строя и в случае поражения были бы выселены из родных мест и обращены в рабство. Поэтому грекам оставалось только либо победить, либо погибнуть.
Несмотря на понесенное поражение, Дарий не отбросил мысли о новом походе против Греции. Но подготовка такого похода требовала много времени, а между тем в 486 г. до н.э. в Египте вспыхнуло восстание против персидского господства. Причинами восстания были тяжелый налоговый гнет и угон многих тысяч ремесленников для строительства дворцов в Сузах и Персеполе. Живую картину начала восстания дает письмо египетского чиновника Хнумемахета сатрапу Ферендату, отправленное с острова Элефантины 5 октября 486 г. В письме сообщается, что египетский чиновник велел Хнумемахету взять с собой персидского командира гарнизона на Элефантине Артабана и отправиться в Нубию, чтобы доставить оттуда на кораблях зерно. Привезенное зерно по распоряжению Артабана было выгружено на берег, а между тем мятежники так обнаглели, что показываются даже средь бела дня, а ночью могут напасть и унести зерно. Поэтому отправитель письма просит сатрапа приказать Артабану установить охрану на корабле и выгружать на берег лишь столько зерна, сколько можно доставить на лодке в город Сиену на Элефантине. К концу октября того же, 486 г. волнения вылились в открытое восстание. Через месяц Дарий, которому было 64 года, умер, не успев восстановить свою власть в Египте.
Еще до смерти Дария происходили продолжительные споры и гаремные распри относительно того, кто будет его преемником на престоле. Еще не был установлен строгий порядок престолонаследия, и Дарий в конце концов остановил свой выбор на Ксерксе (Хшаярша), старшем сыне Атоссы, основываясь на том, что тот родился, когда он, Дарий, уже был царем, и, кроме того, являлся внуком основателя державы Кира П. В январе 484 г. до н.э. Ксерксу удалось подавить восстание в Египте. Египтяне подверглись безжалостной расправе, имущество многих храмов было конфисковано. Взамен Ферендата, по-видимому погибшего
во время восстания, Ксеркс назначил сатрапом Египта своего сводного брата Ахемена. Но летом 484 г. вспыхнуло новое восстание, на этот раз в Вавилонии. Недовольные налоговым гнетом вавилоняне поднялись во главе с неким Бел-шиманни. Судя по документам, датированным по его царствованию, восставшим удалось кроме Вавилона захватить также города Борсиппа и Дилбат. Но восстание удалось вскоре подавить, и его зачинщики были сурово наказаны. Однако летом 482 г. вавилоняне восстали снова, теперь под руководством Шамаш-рибы. Этот мятеж, охвативший большую часть страны, был особенно опасным, так как Ксеркс в это время уже находился в Малой Азии, готовясь к походу против греков. Подавление восстания было поручено зятю Ксеркса Мегабизу (др.-перс. Ба-габухша), внуку Мегабиза, который принимал участие в убийстве Гауматы. Осада Вавилона длилась долго и, по-видимому, завершилась в марте 481 г. жестокой расправой. Городские стены и другие укрепления были срыты, многие жилые дома разрушены. Главный храм страны Эсагила и зиккурат Этеменанки высотой в 91 м («Вавилонская башня») также сильно пострадали. Золотая статуя верховного вавилонского бога Мардука весом в 20 талантов (600 кг) была увезена в Иран и, вероятно, переплавлена. Тем самым Ксеркс нанес этому древнему городу страшный удар, так как, по вавилонским представлениям, ни один здешний мятежник теперь не мог провозгласить себя законным царем. Ведь для коронации необходимо было во время новогоднего праздника символически получить власть из рук Мардука. Но теперь в Вавилоне не было статуи Мардука, и новогодний праздник, по-видимому, перестали торжественно отмечать. Так Ксеркс ликвидировал Вавилонское царство, формально еще со времен Кира II считавшееся самостоятельным и входившее в состав Персидской державы на правах персональной унии с ахеменидскими царями. Вавилония была низведена на положение рядовой сатрапии, и ее столица навсегда потеряла свое политическое значение. После этого потерял свое значение и традиционный титул «царь Вавилона, царь стран», официально принятый Киром II и его преемниками. До 482 г. такой титул носил и Ксеркс, затем он стал называться «царем Персии, Мидии, Вавилонии и стран». Но начиная с лета 481 г. в официальных и деловых документах Ксеркса обычно стали величать «царь стран», хотя прежний титул «царь Вавилона, царь стран» иногда также продолжал употребляться.
Тем временем шла подготовка к новому походу против Греции. Ксеркс распорядился прорыть канал через полуостров Халкидика у мыса Афон для прохода кораблей, чтобы флот не стал жертвой новой бури. Для переправы сухопутной армии в Европу на Геллеспонте (Дарданеллы) у Абидоса были сооружены два понтонных моста. Все эти работы продолжались в течение трех лет. Одновременно шла также дипломатическая подготовка к войне. Греческие авторы утверждают, что Ксеркс заключил договор с Карфагеном, натравливая последний на сицилийских греков, чтобы те оказались не в состоянии прийти на помощь грекам Балканского полуострова.
Афиняне также понимали, что, несмотря на победу при Марафоне, угроза со стороны персов отнюдь не миновала, и деятельно готовились к отпору врага. Передышку в десять лет афиняне использовали прежде всего для создания силь-
109. Сузы. План города ахеменидского периода: Акрополь, Царский город, А подана
ного флота. Доходы с Лаврийских серебряных рудников, которые раньше распределялись между гражданами, теперь решили направить на сооружение новых кораблей. Было построено 200 триер, т.е. боевых кораблей с тремя рядами гребцов. За прошедшее после Марафонской битвы десятилетие изменилось и отношение большинства греческих городов-государств к предстоящей войне с персами: теперь они готовы были к совместным действиям против общего врага. Осенью 481 г. до н.э. по предложению Спарты на Коринфском перешейке состоялась встреча представителей 30 греческих городов, которые решили оказать сопротивление персам. На нем ведущую роль играли Спарта, Афины и Коринф. По решению конгресса всякие войны между греческими городами запрещались. Кроме того, конгресс постановил, что греческие города, которые добровольно примкнут к персам, будут наказаны.
После долгой и тщательной подготовки весною 480 г. Ксеркс выступил в поход во главе огромной армии. Все сатрапии от Индии до Египта послали свои контингенты. Геродот приводит подробное описание этой разноплеменной армии, одежды и вооружения воинов, а также имен командиров. По его утверждению, в армии Ксеркса было 1,7 млн. пехотинцев, 80 тыс. всадников на конях и 20 тыс. — на верблюдах, а также вспомогательные войска, всего 5 283 220 человек. Все современные историки полагают, что это сильное преувеличение, и, по их мнению, максимальное количество воинов составляло не более 100 тыс. человек, т.е. по тому времени армия эта действительно была громадной. В персидском флоте, согласно Эсхилу (автору пьесы «Персы» и участнику греко-персидских войн), насчитывалось 1207 кораблей. Объединенные силы греков вынуждены были оставить богатую Фессалию, так как во главе этой области стояли дружественно настроенные к персам аристократы, и поэтому защищать ее было трудно. Греки решили оказать сопротивление в узком горном проходе под названием Фермопилы, который легко было защищать, так как персы не могли развернуть там свое войско. Однако Спарта послала сюда лишь небольшой отряд в 300 воинов во главе с царем Леонидом. Общее количество греков, охранявших Фермопилы, равнялось 6500 человек. Они сопротивлялись стойко и три дня успешно отбивали лобовые атаки врага. Но персы с помощью предателя узнали о существовании обходного пути, и после этого греки больше не могли сопротивляться. Леонид, командовавший греческим войском, приказал главным силам отступить, а сам с 300 спартанцами остался прикрывать отступление. Они мужественно сражались до конца, пока все не погибли. Теперь персы вступили в Центральную Грецию. Грекам пришлось оставить Беотию, население которой было настроено проперсидски. После этого оказалось невозможным защищать против огромной армии и Афины. Поэтому решено было оставить город, всем боеспособным мужчинам взяться за оружие, а остальное население эвакуировать на Сал амин, Эгину и в Трезену. Персы захватили Аттику, разграбили и сожгли Афины.
Греки придерживались тактики, согласно которой на море они должны наступать, а на суше обороняться. По требованию афинян объединенный греческий флот стоял в бухте между городом Саламином и побережьем Аттики, где большой персидский флот был лишен возможности маневрировать. Греческий флот
состоял из 380 кораблей, из которых 147 принадлежали афинянам и были построены недавно с учетом всех требований военной техники. В руководстве флотом большую роль играл талантливый и решительный полководец Феми-стокл. Согласно Эсхилу, у персов было 650 кораблей. Ксеркс надеялся одним ударом уничтожить весь вражеский флот и тем самым победоносно закончить войну. Однако незадолго до битвы трое суток в море бушевала буря — многие персидские корабли были выброшены на скалистый берег и флот понес большие потери. После этого 28 сентября 480 г. до н.э. произошла битва при Сапамине, которая продолжалась целых двенадцать часов. Персидский флот оказался скованным в узком заливе, и его корабли мешали друг другу. Греки одержали в этой битве полную победу, и большая часть персидского флота была уничтожена.
Ксеркс с частью армии решил двинуться обратно в Малую Азию и направился в Сарды, оставив своего полководца Мардония в Фессалии с войском, в котором, по-видимому, насчитывалось 40-50 тыс. человек (Геродот дает цифру в 300 тыс., которая единодушно считается всеми исследователями сильно завышенной). Мардоний должен был перезимовать в Фессалии и в 479 г. возобновить войну. Он стремился заключить с Афинами сепаратный мир, чтобы с помощью сильного афинского флота обеспечить себе господство над остальными греками. Персы послали подвластного им царя Македонии Александра к афинянам с предложением о мире, обещая возместить тем весь причиненный войною ущерб. Но афиняне отказались перейти на сторону врага, поставив себя в отчаянное положение, так как спартанцы не захотели послать свои войска для защиты Аттики. Пришлось снова покинуть Аттику и перевезти гражданское население на Саламин. Персы вновь захватили Афины и до основания разрушили их. Мардоний снова обратился к афинянам с предложением о мире, и спартанцы, опасаясь, что это предложение будет принято, послали в Беотию к городу Платеи сильное войско. Туда же собралось ополчение и из других греческих государств, всего около 50 тыс. человек, среди которых было около 30 тыс. тяжеловооруженных воинов (гоплитов). Персов было приблизительно столько же. В течение десяти дней обе стороны воздерживались от активных действий и выжидали, не решаясь первыми начать битву. В обоих лагерях по наущению полководцев жрецы предсказывали, что тот, кто нападет первым, потерпит поражение. Греческое войско стойко держало оборону и имело большое преимущество в тяжелом вооружении. Мардоний понимал, что может одержать победу только на открытой местности, где можно было бы применить конницу, которой в греческом войске совсем не было.
Положение персидского войска постепенно ухудшалось, так как греческая армия непрерывно пополнялась за счет ополчения из близлежащих и дальних городов. У персов, зависевших от местных ресурсов и не имевших морского транспорта, к тому же начало иссякать продовольствие, в то время как греческое войско получало его из Пелопоннеса и других областей. Греческое войско расположилось на горных склонах, где персы не могли развернуть свою конницу, и дальнейшее выжидание становилось опасным для последних. Тогда Мардоний решил собрать военный совет. На совете знатный перс Артабаз предложил не давать битвы при Платеях, а вернуться в Фивы, где было много продовольствия
ПО. Сузы. Холм Ападаны, реконструкция построек
111. Сузы. Статуя Дария!
для войска и корма для лошадей. По мнению Артабаза, персы должны были рассылать из Фив деньги самым влиятельным грекам и тем самым вызвать раскол среди врагов. Из этого плана Артабаза видно, что персидское командование считало положение трудным и предвидело возможность своего поражения. Но Мар-доний отверг совет Артабаза и назначил битву на следующее утро. Ночью из персидского стана тайно явился к грекам подвластный персам царь Македонии Александр, который хотел заручиться дружбой эллинов на случай поражения армии Мардония. Он сообщил, что утром персы начнут бой, так как у них продовольствия осталось всего на три дня. Таким образом, эллины получили возможность подготовиться к отпору. Спартанский военачальник Павсаний, руководивший объединенной греческой армией, предложил афинянам занять место против персов, ссылаясь на то, что они хорошо знакомы с персидской военной тактикой. Афиняне без возражений поменялись местами с лакедемонянами, но на рассвете в персидском лагере заметили перемещение в греческом стане и доложили об этом Мардонию. Последний снова поставил персов против лакедемонян. Заметив это, те вернулись на свое прежнее место. Тогда Мардоний послал к Павсанию вестника, с обвинением спартанцев в трусости и предложением, чтобы персы и лакедемоняне решили исход сражения, выставив равное число воинов и таким образом установив, кто является победителем в войне. Однако слова посланника остались без ответа, так как лакедемоняне чувствовали себя неуверенно и боялись персов. Не дождавшись ответа Павсания, Мардоний послал конных лучников для обстрела эллинов. Затем персам удалось оттеснить греков от источников воды, а также отрезать их от путей подвоза продовольствия из Пелопоннеса. Когда наступила ночь, эллины под покровом темноты стали отходить к городу Платеи, где и произошла решающая битва (479 г.).
Полагая, что греки решили бежать, персы погнались за ними. Это была большая ошибка Мардония, который двинул свое войско на холмы, где расположились греки, боявшиеся персидской конницы. Вскоре персы настигли лакедемонян и вступили с ними в рукопашную схватку. Остальные греческие отряды еще не знали о том, что сражение началось, и не приняли в нем участия. Когда персы напали на передовую линию лакедемонян, Павсаний приносил жертвы богам, желая узнать, следует ли принимать бой. Жертвоприношения сильно затягивались, а тем временем стойкие спартанские гоплиты гибли без сопротивления, так как Павсаний не давал приказа вступить в бой, ссылаясь на то, что жертвы были неблагоприятны. В действительности же Павсаний хотел, чтобы персы достаточно глубоко продвинулись в глубь спартанских рядов, потеряв тем самым воз-
можность затем отступить под прикрытие своей конницы. Мардоний во главе тысячи отборных воинов стал теснить лакедемонян и убил многих из них. Но вскоре он вместе со своими телохранителями погиб, а спартанцы начали одерживать верх. По словам Геродота, персы не уступали лакедемонянам в отваге и физической силе, с голыми руками бросаясь на длинные копья гоплитов и ломая их. Но у персов не было тяжелого вооружения, и в военном искусстве они уступали грекам. Персы располагали первоклассной конницей, но она по условиям местности не могла принять участие в битве. Персидское войско оказалось разбитым на отдельные отряды, между ними не было координации действий. После отчаянной схватки с лакедемонянами, которые сражались ожесточенно и не брали пленных, персы были разгромлены. Остатки персидского войска под командованием Артабаза отступили и на кораблях переправлялись в Малую Азию. Что же касается чужеземных контингентов персидской армии, то они бежали с поля боя еще до начала схватки. В конце осени того же, 479 г. до н.э. произошло крупное морское сражение при мысе Микале, у берегов Малой Азии, недалеко от города Эфеса. Во время битвы греки из Малой Азии изменили персам и перешли на сторону материковых греков, и персы потерпели полное поражение, что послужило сигналом к повсеместным восстаниям греческих государств в Малой Азии против персидского господства.
Победы греков при Саламине, Платеях и Микале заставили персов отказаться от идеи захвата Греции. Теперь, наоборот, Спарта и Афины перенесли военные действия на территорию противника, в Малую Азию. Война продолжалась. В 469 г. до н.э. персидский флот из 200 кораблей под начальством Тифравста и сухопутное войско, которым командовал Ферендат, находились у устья реки Эвримедонт на юге Малой Азии, дожидаясь прибытия с Кипра 80 финикийских кораблей. Объединенный греческий флот, в котором было более 200 кораблей, под командованием афинянина Кимона опустошал и разорял Малую Азию. Ки-мон, желая дать бой еще до подхода финикийских кораблей, направился к Эври-медонту. Персидский флот, располагавшийся там, был разгромлен, и затем греки напали на пехоту персов, которая оказала упорное сопротивление. После кровопролитного сражения греки ценой жестоких потерь нанесли поражение персам. Затем греки напали на финикийские корабли, которые еще не знали об участи персидского флота, и потопили их. После битвы при Эвримедонте многие греческие города на южном побережье Малой Азии примкнули к грекам. Эгейское море теперь принадлежало грекам, а персы лишились там своих морских баз, сохранив их лишь в Палестине, Сирии, Финикии и Египте. Постепенно эллинам удалось изгнать персидские гарнизоны также из Фракии и Геллеспонта, за исключением города и крепости Дориск на фракийском побережье. Наместник До-риска Маскам отразил все попытки греков овладеть этим городом.
Так закончились основные вехи греко-персидских войн. Однако греки и персы продолжали находиться в состоянии войны до 449 г., когда между ними наконец был заключен мирный договор.
Оставив Мардония с отборной армией для покорения Греции, Ксеркс долго пребывал в Сардах, следя оттуда за ходом военных действий. Когда персидское войско потерпело поражение, он направился в свою столицу Сузы. Вопреки
ожиданиям многих греков, поражения персов в Греции не привели к распаду державы или к установлению там демократического правления и вообще не оказали большого влияния на судьбы Ахеменидского государства. Персия продолжала активную внешнюю политику. Ксеркс совершил поход против скифского племени дахов, обитавших близ Гиркании за Араксом, а также продолжал завоевания на крайнем востоке своей державы, захватив горную область Акауфака в современном Северном Афганистане.
Уже при Ксерксе сатрапы начали выходить из повиновения и поднимать мятежи против царя. Около 478 г. до н.э. брат Ксеркса Масиста, являвшийся сатрапом Бактрии, поднял восстание, но был убит вместе со всеми своими сыновьями. Стремясь укрепить свою власть, Ксеркс провел религиозную реформу, направленную на централизацию культа. С помощью этой реформы Ксеркс, по всей вероятности, стремился уничтожить храмы древнеиранских божеств, отвергнутых Заратуштрой. Однако реформа, по-видимому, была безуспешна, так как ко времени Артаксеркса II эти божества (например, Митра и Анахита) снова были официально признаны.
Ахеменидская держава в V в. до н.э.
Летом 465 г. евнух Аспамит (по другой версии — Митридат), игравший большую роль при дворе, вместе с начальником отряда царских телохранителей Ар-табаном убили Ксеркса и его старшего сына Дария. Престол захватил Артаксеркс I, сын Ксеркса, прозванный греками «Долгоруким» (Макрохейр). Артабан замыслил заговор и против Артаксеркса, но последний сумел защитить себя и предал казни опасного придворного. В 464 г. сатрап Бактрии Виштаспа, брат нового царя, задумал захватить трон с помощью бактрийской знати и поднял восстание, но был побежден в двух битвах и убит. Опасаясь нового дворцового переворота, Артаксеркс велел истребить всех своих остальных братьев.
В 460 г. до н.э. египтяне во главе с Инаром, сыном некоего Псамметиха, подняли восстание и установили в Дельте свой контроль, в то время как столица сатрапии Мемфис и Верхний Египет оставались в руках персов. Афиняне, которые еще в конце VI в. до н.э. потеряли северопричерноморские рынки, откуда они получали пшеницу, послали на помощь восставшим свой флот, надеясь на получение взамен за это зерна. В битве при Папремисе в том же, 460 г. персы потерпели поражение, а персидский сатрап в Египте Ахемен погиб в бою. Восставшие, издеваясь, послали его тело Артаксерксу— племяннику Ахемена. Афинский флот двинулся по Нилу к Мемфису, где были сосредоточены персидские войска. Афинянам совместно с армией Инара удалось захватить Мемфис, а персидский гарнизон укрылся в городской цитадели. К этому гарнизону присоединилось персидское и мидийское гражданское население, пребывавшее в Египте, а также оставшиеся верными персам египтяне. Осада крепости продолжалась почти целый год, и афиняне понесли большие потери. К этому времени в материковой Греции против Афин выступили пелопоннесские государства
во главе со Спартой. Положение афинян стало ухудшаться. В 455 г. Артаксеркс I направил против восставших в Египте и их союзников сатрапа Сирии Мегабиза с сильным сухопутным войском и финикийским флотом, и тот нанес им поражение. Мемфис был взят персами, а Инар с остатками своих приверженцев и афинянами бежал на остров Просопитида в Западной Дельте. Там они были окружены персами, но сумели продержаться еще полтора года. В 454 г. персы, соорудив дамбу, соединили большую часть острова с материком, захватили остров и истребили значительную часть восставших. Инар и другие вожди восставших были взяты в плен, доставлены в Персию и казнены. Лишь немногим афинянам удалось прорваться в Кирену, а оттуда добраться до родины. Тем временем 50 кораблей с афинскими воинами и их союзниками прибыли в Египет для оказания помощи восставшим, не зная о том, что они уже разгромлены. Когда афиняне бросили якоря в одном из восточных рукавов Нила, на них внезапно напали с суши персы, а с моря финикийский флот и потопили большую часть кораблей. Это был тяжелый удар по Афинам, которые теперь оказались почти безоружными. Кроме того, с помощью золота персам удалось восстановить Спарту против афинян, и последние лишились на некоторое время всякой возможности помогать египтянам. Таким образом, Египет снова стал персидской сатрапией, и лишь в болотах Западной Дельты утвердился Амиртей, один из вождей мятежных египтян, который оставался неуловимым до 399 г.
Сатрапом Египта был назначен знатный перс Аршама, а Мегабиз вернулся в Сирию. Но вскоре последовал мятеж Мегабиза, который нанес два поражения армии Артаксеркса I. В это время афинская эскадра во главе с Кимоном появилась у берегов Кипра, персидский царь и мятежный сатрап Сирии решили помириться, и последний был прощен. В 445 г. сын Мегабиза Зопир бежал в Афины и был там хорошо принят. Как полагают, в Афинах он встречался со знаменитым историком Геродотом и снабжал его сведениями о Персии. После того как афиняне понесли тяжелые потери в Египте, помогая вождю восставших Инару, они по доброй воле никогда больше не воевали одновременно против Персии и Спарты. Вскоре Афины заключили со Спартой военный союз, направленный против персидского царя. В 449 г. афиняне с помощью 200 кораблей захватили большую часть Кипра, выдавая себя за освободителей местного населения. Но население острова, истерзанного бесконечной войною, не проявило энтузиазма по приходу непрошеных освободителей. Затем афиняне послали в Египет 60 кораблей на помощь вождю восставших Амиртею, который сопротивлялся персам в болотах Дельты, а с помощью оставшихся кораблей осадили город Китий на Кипре.
Но тем временем персидский сатрап Мегабиз собирал силы в Киликии для контрудара. Греки прекратили осаду Кития и отплыли к Саламину на Кипре, где предстоял бой с персидским флотом. В крупной морской битве афиняне одержали полную победу над персидским флотом, захватив 100 вражеских кораблей. Одновременно и афинская пехота одержала победу. Это были две последние битвы греко-персидских войн. Афинская держава, находившаяся в расцвете своего могущества, стала успешно вытеснять персов из бассейна Эгейского моря. Но теперь, после десятилетий тяжелых боев, обе стороны хорошо понимали, что
112. Сузы. Жилой дворец Дария А изразцовое панно
они не в состоянии достигнуть своих целей с помощью войны. К тому же в Афинах к власти пришла демократическая партия во главе с Периклом, решившим готовиться к войне со Спартой, всегда враждебной к демократии. Поэтому в 449 г. до н.э. было решено отозвать флот с Кипра и из Египта и послать к персидскому царю для заключения мирного договора посольство во главе с опытным афинским дипломатом Каллием. Вместе с последним отправились также послы дружественных Афинам греческих городов. Каллий готов был уступить персам господство в Средиземном море, вернуть им Кипр и обещать воздерживаться от вмешательства в египетские дела. За это он требовал отказа персов от гегемонии над греческими городами Малой Азии, часть которых теперь уже фактически находилась под властью афинян. Однако Артаксеркс I не мог пойти на официальный отказ от своих владений и признать свободу за восставшими против него греческими городами. Но Персия нуждалась в мире, а афиняне к тому же еще предлагали вернуть обратно Кипр. Что же касается греческих городов Малой Азии, с них давно не поступало дани и на нее трудно было рассчитывать и в будущем. Стороны пошли на взаимные уступки, и было найдено компромиссное решение. В 449 г. в Сузах был заключен мирный договор, получивший название «Каллиев мир». Малоазийские греческие города формально оставались под верховной властью персидского царя, который уступил Афинам право сбора с них податей. Афиняне получили также фактическое право управлять этими городами. Таким образом, восточные берега Эгейского моря и Пропонтиды (Мраморного моря) отошли к афинянам. Но некоторые места побережья, которые оставались до заключения договора под контролем персов, сохранили свой статус. Кроме того, Персия обязалась не посылать свои войска к западу от р. Галис, по которой по этому договору должна была проходить пограничная линия. Со своей стороны, Афины покинули Кипр и обязались не оказывать в будущем помощи египтянам в их борьбе против персов.
Постоянные восстания покоренных народов и военные поражения заставили Артаксеркса I и его преемников радикально изменить свою дипломатию, а именно натравливать одни государства на другие, прибегая при этом к подкупу. Когда в Греции в 431 г. разразилась Пелопоннесская война между Спартой и Афинами, продолжавшаяся до 400 г., Персия помогала то одному то другому из этих государств, будучи заинтересованной в их полном истощении. В самом начале войны афиняне понесли тяжелые потери, так как в 430 г. в городе вспыхнула эпидемия чумы, которая до этого охватила большую часть Персидской державы. Однако Спарта оказалась не в состоянии нанести решающий удар афинскому флоту и пехоте, так как для продолжения войны нуждалась в деньгах. Спартанские власти без колебаний начали брать деньги у персидского царя, обещая ему взамен вернуть греков Малой Азии под персидское господство. Спарта просила Артаксеркса I прислать финикийский флот для помощи своим кораблям и выплачивать экипажам последних жалованье. Однако, не решаясь предать сразу интересы малоазийских греков, спартанцы не спешили с выполнением своего обещания о возвращении этих греков под власть персидского царя. Со своей стороны, персы, опасаясь чрезмерного усиления Спарты, неохотно по-
113. Сузы. Статуя Дария!
могали ей. К тому же сатрапы в Малой Азии действовали разобщенно, и каждый из них руководствовался собственными политическими целями.
В 424 г. Артаксеркс I умер. Царем стал его сын Ксеркс II, которому удалось продержаться на троне всего 45 дней, после чего он был устранен знатью. Власть захватил сын Артаксеркса от одной из наложниц Секудиан (по другим источникам, Согдиан). Но он процарствовал всего лишь менее месяца и был убит. В феврале 423 г. бывший сатрап Гиркании Ох (др.-перс. Вахаука), сын Артаксеркса I от вавилонской наложницы (отсюда его греческое прозвище Нот — «незаконнорожденный»), стал царем, приняв тронное имя Дария II. При нем персидские сатрапы в Малой Азии Тиссаферн, Фарнабаз и Кир Младший в союзе со Спартой вели успешные военные действия против Афин и сумели вернуть контроль над многими греческими городами Малой Азии. Царствование Дария II характеризуется дальнейшим ослаблением государства, усилением влияния придворной знати, дворцовыми интригами и заговорами, в которых активное участие принимала царица Парисатида, а также восстаниями покоренных народов. В 413 г. в Лидии восстал сатрап Писсуфн. Подавление этого восстания было поручено крупному государственному деятелю и ловкому дипломату Тиссаферну, который восстановил власть царя в Лидии с помощью греческих наемников. Писсуфн, который сдался Тиссаферну, получив от последнего обещание помиловать его, был умерщвлен по приказанию Дария II. Сатрапом Лидии теперь стал Тиссаферн. В 412 г. он получил предписание от царя собирать и отправлять к нему подать со всех греческих городов своей сатрапии. Но чтобы беспрепятственно собирать эту подать, надо было сокрушить могущество Афин.
Тем временем в Греции с переменным успехом шла Пелопоннесская война. Тиссаферн решил более активно включиться в эту войну на стороне Спарты. К этому вынуждало его и новое восстание, которое возглавил в Карии Аморг, сын казненного лидийского сатрапа Писсуфна. Тиссаферн направил в Спарту своего посла для переговоров о продолжении войны с Афинами. Тем временем в Спарту прибыли также послы и от Фарнабаза, персидского наместника на севере Малой Азии. Фарнабаз тоже надеялся с помощью спартанского войска собирать подати с греческих городов своей области. Однако Тиссаферн и Фарнабаз действовали порознь, ибо каждый из них стремился показать царю, что именно благодаря ему Спарта стала союзницей персов. Поэтому во время переговоров в Спарте послы Тиссаферна и Фарнабаза без конца пререкались между собою. В конце концов спартанские власти согласились принять условия Тиссаферна. В это время греческие города Малой Азии подняли восстание против персов, и Тиссаферн поспешил заключить договор со Спартой.
Согласно этому договору, все области и города, которыми владеет персидский царь и владели его предки, будут и в будущем принадлежать ему. Он и лакедемоняне будут вести войну с афинянами и могут окончить ее лишь по совместно принятому решению. Если кто-либо отложится от персидского царя, лакедемоняне будут считать мятежников своими врагами; подобным же образом все враги лакедемонян являются и врагами царя. После этого лакедемонским воинам удалось захватить Аморга, поднявшего восстание в Карии, и они передали его персам. Однако Тиссаферн продолжал действовать осмотрительно, и лакедемо
няне были не в состоянии получить от него обещанных сумм. Недовольные таким положением, они направили к Тиссаферну своих послов, требуя заключения нового договора, где обязанности и права каждой стороны были бы сформулированы так, чтобы не оставалось лазеек для его нарушения. Кроме того, послы требовали регулярного поступления персидского золота, которое было ранее обещано Тиссаферном спартанской стороне. Но новые попытки договориться ни к чему не привели, и Тиссаферн в негодовании покинул стол переговоров.
Тем временем в политические интриги включилась новая выдающаяся личность. Еще в 413 г. до н.э. афиняне обвинили в кощунстве своего крупного государственного деятеля и талантливого полководца Алкивиада и собирались судить его. Но Алкивиаду удалось бежать в Спарту, и он выдал лакедемонянам военные планы афинского командования и стал помогать в войне против своей родины. Отправившись в Малую Азию, Алкивиад склонил к мятежу против Афин греческие города. Но лакедемоняне опасались могущества Алкивиада и, слишком хорошо зная его беспринципность, собирались тайно умертвить его. Своевременно узнав об этом, Алкивиад бежал к Тиссаферну, который давно восхищался его умом и изворотливостью. Теперь единственной заботой Алкивиада было причинить лакедемонянам как можно больше вреда. Заняв высокое положение при дворе Тиссаферна, он начал препятствовать его переговорам со Спартой. Алкивиад убеждал Тиссаферна не спешить с окончанием войны в Греции, а разжигать раздоры между Афинами и Спартой, чтобы эллины как можно больше истощали друг друга. Алкивиад также советовал не выдавать спартанскому войску в Малой Азии денег регулярно, утверждая, что избыток денег делает воинов изнеженными. Все это Тиссаферн сам понимал не хуже Алкивиада и задолго до прибытия последнего проводил именно такую политику. Но у Алкивиада, дававшего персидскому сатрапу такие советы, была своя тайная цель. Он готовил с помощью своих сторонников олигархический переворот в Афинах, собираясь бежать туда. Деятельность Алкивиада становилась опасной, и Тиссаферн арестовал его. Находчивому узнику удалось бежать, и он направился в лагерь афинян, где сразу занял видное место в руководстве военными операциями. В 411 г. Тиссаферн заключил с лакедемонянами новый договор, который в основном повторял условия предыдущего и к тому же оговаривал необходимость выплаты жалованья матросам лакедемонского флота со стороны персидского сатрапа. Но это не помешало Тиссаферну удерживать лакедемонян от решающих битв, поскольку он отнюдь не желал скорого окончания войны в Греции. Кроме того, верный своей политике Тиссаферн выдавал жалованье матросам нерегулярно и в гораздо меньшем размере, чем это было предусмотрено соглашением. Все это побудило Спарту искать вместо Тиссаферна нового союзника в лице персидского сатрапа в Малой Азии Фарнабаза, который послал на помощь лакедемонянам 40 кораблей, а также выдал деньги для ведения войны. В 410 г. афинский флот под руководством Алкивиада одержал крупные победы у северного побережья Малой Азии и начал вести наступление против спартанских и персидских войск.
В 408 г. в Малую Азию прибыло два энергичных военачальника, которые были полны решимости быстро и победоносно закончить войну. Царице Парисати-де удалось добиться назначения своего сына Кира Младшего наместником не
скольких малоазийских сатрапий, включая Лидийскую, которую раньше возглавлял Тиссаферн. Кир стал командующим всеми персидскими войсками в Малой Азии. Он был очень способным полководцем и государственным деятелем и стремился к восстановлению былого величия Ахеменидской державы. Одновременно руководство лакедемонским войском в Малой Азии перешло в руки опытного спартанского полководца Лисандра. Кир стал проводить дружественную Спарте политику и начал всячески помогать ее армии. Кир и Лисандр очистили малоазийское побережье и многие острова Эгейского моря от афинского флота и стремились лишить афинян возможности получать хлеб с северного побережья Черного моря. В 407 г. из-за одной военной неудачи Алкивиад был заочно осужден в Афинах и бежал к сатрапу Фарнабазу. Позднее он решил добраться до персидского царя, но по пути к нему был убит в какой-то фригийской деревне (404 г.). В 405 г. спартанцы у реки Эгоспотамы на Геллеспонте внезапно напали на афинский флот, захватили 170 кораблей (всего афиняне в Малой Азии располагали 180 кораблями) и казнили их команду. Больше Афины уже не могли сопротивляться и в 404 г. вынуждены были принять условия мира, продиктованные Спартой. Теперь гегемония в Греции перешла к союзнице персов Спарте.
Однако отношения между бывшими союзниками начали быстро ухудшаться. Хотя Спарта обещала передать после окончания войны контроль над греческими городами Малой Азии в руки персидского царя, теперь она, боясь общественного мнения в Греции, не собиралась выполнять свое обещание. Пелопоннесская война дала персам возможность заняться своими внутренними делами. Однако эту передышку не удалось использовать в полной мере. Между 411-408 гг. до н.э. произошли восстания в Малой Азии, Мидии и Египте. Эти восстания были обусловлены тем, что при поздних Ахеменидах господство персов обрекало население покоренных стран на разорение. Вдобавок к этому с конца V в. до н.э. сатрапы Малой Азии постоянно вели между собою войны, в которые ахеменидские цари обычно не вмешивались. Отдельные сатрапы часто восставали против центральной власти и, опираясь на помощь греческих наемников, стремились стать самостоятельными царями. С помощью Парисатиды, под влиянием которой находился Дарий II, Кир Младший замыслил завладеть престолом. Узнав о болезни отца, в начале 404 г. Кир направился в Вавилон, где в это время находился царский двор. В марте того же года Дарий II умер, и его старший сын Арсак после торжественной коронации в древней ахеменидской столице Пасаргадах стал царем, приняв тронное имя Артаксеркс II (греки прозвали его «памятливый» — Мнемон). Сатрап Карии Тиссаферн, который прибыл на коронацию, сообщил новому царю, что Кир замышляет против него заговор. Артаксеркс велел схватить брата и предать его казни, но вдовствующей царице Парисатиде удалось спасти своего любимого сына, и она отослала его обратно в Малую Азию.
Чуть ранее, в 405 г., в Египте вспыхнуло восстание под руководством Амир-тея. Восставшие одерживали одну победу за другой, и скоро вся Дельта оказалась в их руках. Сатрап Сирии Аброком собрал большую армию, чтобы бросить ее против египтян, однако в это время в самом центре Ахеменидской державы Кир поднялся против своего старшего брата. Армия Аброкома была направлена в Вавилонию на помощь Артаксерксу II, а египтяне получили передышку. Амир-
114. Персеполь. Общий план города: 1 —Лестница на террасу; 2 — Пропилеи Ксеркса; 3 — Ападана;
4 — Центральное здание (трипилон); 5 —Дворец Дария I (тачара); 6 — Сокровищница;
7 — «Гарем» Ксеркса; 8 —Дворец Ксеркса;
9 — Дворец «Н» (Ксеркса—Артаксеркса 1);
10 - Тронный (100-колонный) зал;
11 — Незаконченные монументальные ворота;
12 — Северо-восточный угол террасы
тей к началу IV в. до н.э. установил свой контроль над всем Египтом. Восставшие перенесли военные действия даже на территорию Сирии. После этого Египет был покорен вновь лишь в 342 г., т.е. незадолго до окончательной гибели Ахеменидской державы.
Вернувшись в Малую Азию, в 403 г. Кир начал собирать большое войско, чтобы попытаться захватить престол. При этом он утверждал, что военные приготовления делаются им для предстоящей войны с Тиссаферном. Артаксеркс II поверил этому, поскольку междоусобные войны сатрапов давно стали обычным делом. Спартанцы решили поддержать Кира и содействовали ему в наборе греческих наемников. Недостатка в наемниках не было, поскольку в Греции окончилась Пелопоннесская война, и скоро на службу к Киру поступило 13 тыс. греков. Кроме того, Спарта вступила в союз с Египтом, где в это время восстание было в полном разгаре. В 401 г. Кир со своим войском двинулся из Сард в Вавилонию и, не встретив никакого сопротивления, добрался до местности Кунакса на Евфрате в 90 км от Вавилона. Там же находилась армия, сопровождавшая Артаксеркса II. Согласно Ксенофонту, который в своем труде «Анабасис» подробно рассказывает о походе Кира, в армии последнего кроме 13 тыс. греческих наемников было 100 тыс. воинов и 20 серпоносных колесниц, а армия Артаксеркса, «по слухам», состояла из 1 200 000 человек, из которых только 900 тыс. приняли участие в битве, а также 200 серпоносных колесниц и 6 тыс. всадников. Однако эти цифры Ксенофонта, если не считать данных о греческих наемниках, колесницах и коннице, следует считать чрезвычайно завышенными. Такую армию в те времена было бы невозможно сосредоточить на какой-либо сравнительно небольшой территории и снабдить ее необходимыми запасами продовольствия. Армия царя состояла из четырех корпусов, которыми командовали Аброком, Тиссаферн, Гобрий и Арбак. Сначала они отступали, и войско Кира стало беспечно преследовать противника. Решающая битва произошла 3 сентября 401 г. Один из приближенных Кира знатный перс Патесий примчался в свой лагерь на взмыленном коне, крича на древнеперсидском и греческом языках, что приближается царь с большим войском. В лагере Кира, застигнутом врасплох, началась паника, так как воины боялись, что они не успеют подготовиться к бою. Кир сошел с колесницы, надел панцирь, сел на коня и велел войску выстроиться. Греческие наемники расположились на флангах, а остальные воины Кира заняли центр. В авангарде армии царя шли серпоносные колесницы, серпами разрезая все, что попадалось им на пути. Но правый фланг армии Артаксеркса был смят греческими наемниками, которыми командовал искусный спартанский полководец Клеарх. Греческие друзья Кира советовали ему не рисковать своей жизнью, однако он, увидев Артаксеркса, бросился на него, оставив далеко позади своих воинов. Киру удалось ранить Артаксеркса, но тут же он сам был убит, а тело его изувечено. После этого мятежная армия, лишившись своего вождя, потерпела поражение.
Теперь греческие наемники оказались вдали от родины, в глубоком вражеском окружении. Их вожди были предательски убиты по распоряжению Тиссаферна, когда они прибыли к нему для переговоров. Но греки не растерялись, выбрали новых командиров, и ценой больших усилий и потерь весной 400 г. им
удалось добраться до города Трапезунда на Черном море, пройдя через Вавилонию и Армению.
Источники не дают возможности уверенно судить о том, какие политические цели преследовал Кир Младший, который, несомненно, был выдающимся государственным деятелем и военачальником. Возможно, что он, видя непрочность Ахеменидской державы, стремился создать централизованное государство эллинистического типа, что удалось лишь впоследствии Александру Македонскому и его преемникам. Спартанцы, которые за свою помощь Киру теперь ожидали враждебных действий со стороны Персии, решили перейти в наступление и в 396 г. высадили в Малой Азии войско под командованием Агесилая. Тем временем Тиссаферн, к которому отошли все сатрапии погибшего Кира наряду с сохранением наместничества в Карии, стал подчинять греческие города Малой Азии. Это находилось в полном согласии с договором, который был заключен им со Спартой в 412 г. Однако теперь Спарта, считавшая себя защитницей и гегемоном греков, не собиралась придерживаться договора, подписанного в трудные для нее времена. В 395 г. Агесилай одержал победу над персидской конницей у столицы Лидии Сарды.
Пока лакедемоняне вели наступательную войну, мать Артаксеркса II не прекращала своих интриг против врагов погибшего Кира, и под разными предлогами многие из них были казнены. Но когда она отравила жену царя Статиру, Артаксеркс удалил ее в Вавилон, заявив, что пока она живет там, он ни разу не приедет в этот город. Но вскоре ей удалось снова вернуться в Иран, и, чтобы приобрести большее влияние на Артаксеркса, она стала угождать ему во всем. Когда Артаксеркс влюбился в свою дочь Атоссу, Парисатида уговорила его жениться на ней. Это противоречило персидским законам, но Парисатида заявила, что царь сам закон для персов и единственный судья того, что хорошо и что плохо. Это дало ей возможность продолжать интриги, и в 395 г. Тиссаферн, злейший враг Кира Младшего, был обвинен в бездействии против спартанцев, и ему отрубили голову. Персия лишилась своего самого выдающегося дипломата и крупного военачальника. На его место в Малую Азию был направлен Тифравст, который стал на испытанный путь подкупа. В Афины и Фивы было послано 10 тыс. дариков, чтобы натравить их на Спарту. В том же, 395 г. образовалась коалиция греческих городов во главе с Афинами, Коринфом и Фивами, начавшая войну против Спарты. Теперь Спарте пришлось воевать на два фронта, и в 394 г. Агесилай вместе с большей частью войска был отозван на родину. Военные действия в Малой Азии еще продолжались, но персидское золото оказалось могущественнее лакедемонского оружия. В августе 394 г. объединенный греко-персидский флот, состоявший из кипрских, родосских и афинских кораблей, под командованием сатрапа Фарнабаза и афинянина Конона нанес жестокое поражение флоту лакедемонян. Это поражение лишило последних на целых десять лет возможности воевать. Все острова у западного побережья Малой Азии отпали от Спарты, а некоторые из них добровольно перешли на сторону персов. Персидские корабли появились даже у берегов материковой Греции. Спарта боялась усиления Афин и решила вступить в переговоры с Персией. Артаксеркс II тоже не желал допустить чрезмерного усиления Афин и заставил их прекратить воен
ные действия. В 386 г. в Сарды для заключения мирного договора прибыло спартанское посольство во главе с Анталкидом. Туда же прибыли и послы многих других греческих государств. Однако переговоры затягивались, так как афиняне, мечтавшие возродить свое былое господство на малоазийском побережье, отвергали условия мира, продиктованные Артаксерксом. И все же афиняне были не в состоянии противостоять одновременно Персии и Спарте. Персидская дипломатия вновь пустила в ход метод подкупа, и договор, получивший название «царский», или «Анталкидов мир», был заключен в том же, 386 г. Согласно договору, персам удалось снова добиться господства над восточным побережьем Эгейского моря и восстановить свой контроль над давно потерянными греческими городами Малой Азии. Анталкидов мир запрещал также создание каких-либо объединений греческих государств. Исключение было сделано лишь для Спарты и ее союзников, которые были покорны персам и ценой предательства по отношению к греческим городам Малой Азии обеспечили свою гегемонию в Греции.
Однако за пределами Малой Азии волнения не прекращались. В 374 г. с помощью греческих наемников была сделана попытка подавить восстание в Египте, который отпал еще в 404 г. Но египтяне нанесли поражение персидской армии и изгнали ее из страны. В 365 г. восстал сатрап Фригии и Мисии Ариобар-зан, который три года воевал против центральной власти, пока не был предан своим сыном и казнен. В 362 г. в Египте к власти пришел энергичный фараон Тахос, поставивший себе цель захватить персидские провинции Сирию и Палестину. Для этого он снарядил значительный флот и набрал большую сухопутную армию, а затем начал искать союзников. Такими союзниками стали Афины, которые послали на помощь Тахосу флот во главе с Хабрием, и Спарта, царь которой Агесилай прибыл в Египет с сухопутным войском. Всего в распоряжении Тахоса было 80 тыс. египетских воинов, 10 тыс. афинских наемников, 1000 спартанских гоплитов и 170 боевых кораблей. С этими силами Тахос вторгся в Сирию. Пока он вел там успешные наступательные операции, в 361 г. в Египте произошло восстание, вызванное тяжелыми налогами. Племянник Тахоса Нектанеб II, находившийся вместе с войском в Сирии, перешел на сторону восставших и объявил себя новым фараоном. Тахос бежал к персидскому царю и окончил свои дни при его дворе. Приблизительно в это же время от персов отпал Кипр. Одновременно происходили восстания в финикийских городах, а скоро начались волнения и в сатрапиях Малой Азии. К концу царствования Артаксеркса II отпали Кария, Лидия и Киликия. По-видимому, к этому же времени была потеряна и Индия, а Хорезм, Согдиана и сакские племена из подданных стали союзниками.
У Артаксеркса II было много сыновей, и старший из них, которого звали Дарием, был объявлен наследником престола еще при жизни отца. Но правление последнего оказалось чересчур долгим (он прожил 86 лет, из которых 45 лет был царем), и Дарий, будучи на шестом десятке, решил ускорить события и замыслил убить отца. Однако заговор был раскрыт, и Дарий вместе с его детьми был приведен к царю. Артаксеркс велел всех замешанных в заговоре предать суду, но кое-кто из приближенных Дария, боясь пыток, покончил жизнь самоубийством.
115. Персеполь. Северо-восточный угол террасы
116. Персеполь. Лестница на террасу
После допроса протоколы следствия доставляли и читали царю. Царские судьи единодушно вынесли Дарию смертный приговор. Осужденный на коленях молил о пощаде, но его вместе с детьми вывели в соседнюю комнату и там обезглавили. А Артаксеркс во всеуслышание помолился Ахура-Мазде, благодаря его за спасение своей жизни. Наследником престола был объявлен побочный сын царя Ох.
В 358 г. окончилось царствование Артаксеркса II, и на престол вступил Ох, который принял тронное имя Артаксеркса III. Прежде всего он истребил всех своих братьев, чтобы предотвратить дворцовый переворот. Новый царь оказался человеком железной воли и крепко держал бразды правления в своих руках, отстранив влиятельных при дворе евнухов. Он энергично взялся за восстановление Ахеменидской державы в ее прежних границах. Наследие, которое получил Артаксеркс III, было тяжелым. Египет и Кипр давно добились независимости. В Сирии, Финикии и Палестине происходили восстания. Перс Артабаз, командовавший войсками, расквартированными в Малой Азии, поднял мятеж и в 356 г. с помощью афинян нанес поражение армии, посланной против него Артаксерксом III. Казалось, мятеж сулит успех, и к нему присоединился наместник Мисии Оронт. Но мятежники вскоре были разгромлены, Оронт сдался на милость победителя, а Артабаз бежал в Македонию. Тем временем племя кадусиев, жившее у Каспийского моря, не только вышло из повиновения, но стало совершать набеги на подвластные персам территории. Артаксеркс возглавил поход против кадусиев и привел их к покорности. В 351 г. была сделана попытка захватить Египет, но она оказалась безуспешной. В 350 г. восстал финикийский город Сидон. Персидские чиновники, жившие в городе, были схвачены и убиты. Царь Сидона Табнит нанял греческих наемников на деньги, охотно предоставленные Египтом, и, получив подкрепления с Кипра, нанес два крупных поражения персидскому войску. Восставшие разрушили парк близ Сидона, принадлежавший персидскому царю.
После этого Артаксеркс решил принять командование на себя и в 349 г. во главе большой армии выступил против Сидона. После продолжительной осады город сдался и подвергся жестокой расправе. Он был сожжен и превращен в руины. Никто из жителей не спасся, так как в самом начале осады они, боясь случаев дезертирства, сожгли все свои корабли. Персы бросали многих сидонян вместе с их семьями в огонь и убили около 40 тыс. человек. Уцелевшие жители были обращены в рабство и уведены в Вавилон и Сузы. Четыре тысячи греческих наемников, служившие раньше Табниту, во главе со своим командиром Ментором с Родоса поступили на службу к Артаксерксу III. Финикия теперь была объединена с Киликией в одну сатрапию, наместником которой был назначен Мазей. Часть иудейского населения, которое приблизительно в это же время подняло восстание, была уведена в Гирканию у Каспийского моря. Теперь настала очередь и для расправы с Египтом. Зимой 343 г. Артаксеркс отправился в поход против Египта, где в это время царствовал фараон Нектанеб II.
Навстречу персам выступила армия фараона, в которой насчитывалось 60 тыс. египтян, 20 тыс. греческих наемников и столько же ливийцев. Египтяне располагали также сильным флотом. Когда персидское войско дошло до пограничного города Пелусия, военачальники Нектанеба II советовали ему немедлен
но напасть на противника, но фараон не решился на такой шаг. Персидское командование, воспользовавшись передышкой, сумело провести свои корабли вверх по течению Нила, и персидский флот оказался в тылу у египетской армии. К этому времени положение египетского войска, расположенного у Пелусия, стало безнадежным. Ментор с Родоса, некогда служивший египтянам, а теперь воевавший на стороне Артаксеркса III, выдал персам планы городских укреплений Пелусия. Персидский полководец Багой прорвал эти укрепления и начал захватывать города Дельты, а Нектанеб II отступил вместе со своим войском к Мемфису. Но в это время греческие наемники, служившие Нектанебу II, перешли на сторону противника. Персы захватили Мемфис и затем всю остальную страну (342 г. до н.э.). Нектанеб II собрал свои сокровища и бежал в Нубию. Египетские города были разграблены и опустошены. Египет снова стал персидской сатрапией.
После этого Артаксеркс III вернулся в Персию, оставив сатрапом Египта Фе-рендата. Однако победа над египтянами была достигнута в основном не персидской армией, которая в тактике и вооружении уже сильно уступала грекам, а благодаря греческим наемникам. В награду за это командиру этих наемников Ментору с Родоса был пожалован титул начальника персидских войск в западной части Малой Азии. К этому же времени была восстановлена власть персов и на Кипре. Но в 337 г. до н.э. энергичной деятельности Артаксеркса III пришел конец: он был отравлен своим личным врачом по повелению придворного евнуха Багоя. На трон был посажен Арсес, сын Артаксеркса III. Однако в июне 336 г. он также оказался жертвой заговора и был убит вместе со всей своей семьей. Теперь Багой посадил на престол сатрапа Армении Кодомана, представителя боковой ветви ахеменидского рода. Кодоман, которому исполнилось уже 45 лет, принял тронное имя Дария III. Позднее Багой попытался отравить и нового своего ставленника, но Дарий заставил его самого выпить чашу яда.
Падение
Ахеменидской державы
Пока верхушка персидской знати была занята дворцовыми интригами и переворотами, на политическом горизонте появился опасный противник. Македонский царь Филипп захватил Фракию, а в 338 г. до н.э. при Херонее в Беотии нанес поражение объединенным силам греческих государств. Этой битве предшествовала упорная борьба между сторонниками и противниками Филиппа в греческих городах. Еще в 341 г. знаменитый афинский оратор Демосфен призывал греков заключить союз с персами, направленный против Македонии. Его противник Исократ, напротив, призывал всех греков объединиться с македонянами и выступить против персов. Но Филиппу удалось положить конец греческой независимости, и в 337 г. под его руководством в Коринфе был созван общегреческий конгресс. Македоняне стали вершителями судеб Греции, а сам Филипп был выбран командиром объединенной греческой армии. В 336 г. Филипп послал в Малую Азию 10 тыс. македонских воинов под командованием опытного полководца Пармениона под предлогом освобождения греческих городов от персидского
господства. Многие греческие города восторженно встретили новых завоевателей. Но в июле 336 г. Филипп был убит заговорщиками, и царем стал его сын Александр, которому было всего 20 лет. Греки Балканского полуострова готовы были поднять восстание против молодого царя. Решительными действиями Александр упрочил Коринфский союз. Он понимал, что для предстоящей войны с Персией требуется большая подготовка, и отозвал из Малой Азии Пармениона, тем самым усыпив бдительность персов.
Таким образом, Персия получила передышку на два года. Однако персы так ничего и не сделали для подготовки к отражению неизбежной македонской угрозы. В этот ответственный период они даже не стремились модернизировать свою армию и совершенно игнорировали военные достижения македонян, особенно в области осадного дела. Хотя персидское командование понимало все преимущества македонского оружия, оно ограничилось лишь увеличением числа контингентов греческих наемников. Кроме неистощимых материальных ресурсов Персия имела превосходство над Македонией и в военном флоте. Правда, Греция и Македония, вместе взятые, имели не меньше кораблей, чем Персия. Но Александр Македонский не мог уверенно рассчитывать на греческий флот. Зато его македонские воины были оснащены лучшим для своего времени вооружением, и их возглавляли опытные полководцы.
Весной 334 г. до н.э. македонская армия выступила в поход. Она состояла из 30 тыс. пехотинцев и 5 тыс. конницы. Ядро армии составляли тяжеловооруженная македонская пехота и конница. Кроме того, в армии были греческие пехотинцы, критские лучники и фессалийская конница. Войско сопровождало 160 боевых кораблей. Поход был тщательно подготовлен. Для штурма городов везли осадные машины. Вместе с войском шли историки, философы и естествоиспытатели. Хотя Дарий располагал более многочисленным войском, по своим боевым качествам оно сильно уступало македонскому (особенно тяжелой пехоте), и наиболее стойкой частью персидской армии являлись греческие наемники. Дарий был уверен в легкой победе и велел захватить Александра и привезти к нему в Сузы. Персидские сатрапы заверяли своего царя, что враг будет разгромлен в первой же битве. Единственным человеком, трезво оценивавшим ситуацию и имевшим определенный стратегический план действий, был командир греческих наемников на персидской службе Мемнон. Он предлагал избегать боев с противником и отступать, оставляя за собою выжженную землю. Мемнон советовал также перенести военные действия на территорию Греции (при превосходстве персидского флота это было вполне возможно) и заключить там союз с врагами Александра Македонского. Но персидские сатрапы отвергли такой план действий, а смерть Мемнона в 333 г. избавила Александра от опасного противника, который, возможно, как стратег не уступал ему самому.
Первое столкновение произошло летом 334 г. на реке Гранике, при впадении ее в Геллеспонт. Победителем оказался Александр. После этого он захватил греческие города в Малой Азии и двинулся в глубь страны. Из греческих городов Малой Азии Галикарнас долго оставался верным персидскому царю и упорно сопротивлялся самозваному «освободителю» греков. В этом городе Александр захватил огромную добычу, а также арестовал послов Спарты, Афин и Фив, кото-
117. Персеполь. Вид на город: 100-колонный зал (на переднем плане), Центральное здание с парадной лестницей. Дворец Дария 1 (на заднем плане), Ападана (справа, частично)
118. Персеполь. Ападана, реконструкция северного фасада с первоначальной центральной панелью
рые еще до осады города прибыли туда для переговоров с Дарием III. Летом 333 г. македоняне захватили Киликию и устремились в Сирию, где были сосредоточены главные силы персов. В ноябре того же года произошла новая битва при г. Иссе на границе Киликии с Сирией. Правое крыло персидского и левое крыло македонского войска примыкали к морю. Ядро персидской армии составляли 30 тыс. греческих наемников. Но Дарий в своих планах решающую роль отводил персидской коннице, которая должна была смять левый фланг македонян. Александр, чтобы укрепить свой левый фланг, сосредоточил там всю фессалийскую конницу, а сам с остальным войском нанес удар по правому флангу противника и разгромил его. Тем временем в центр македонян прорвались греческие наемники, и Александр с частью войска поспешил туда, тем самым сильно ослабив свой левый фланг. Ожесточенная битва продолжалась, но Дарий потерял самообладание и, не ожидая исхода сражения, бежал, бросив свою семью, которая попала в плен. Битва закончилась полной победой Александра, и теперь для него был открыт путь в Сирию и на финикийское побережье.
Финикийские города Арад, Библ и Сидон сдались без сопротивления. Таким образом, персидский флот лишился господствующего положения на море. Но хорошо укрепленный Тир оказал захватчикам ожесточенное сопротивление, и осада города длилась семь месяцев. В июле 332 г. Тир был взят и разрушен, а население его обращено в рабство. Отклонив просьбу Дария о мире, Александр стал готовиться к продолжению войны. Осенью 332 г. он захватил Египет, а потом вернулся в Сирию и направился к местности Гавгамелы недалеко от Арбелы, где находился Дарий со своим войском. 1 октября 331 г. произошла битва. Центр армии Дария занимали греческие наемники, а против них расположилась македонская пехота. Как и в битве при Иссе, персы имели численный перевес на правом фланге и расстроили македонские ряды. Но решающая схватка происходила в центре, где Александр вместе со своей конницей проник в середину персидского войска. Персы ввели в бой колесницы и слонов, но Дарий, как и при Иссе, преждевременно счел еще продолжавшуюся битву проигранной и бежал. После этого противнику сопротивлялись лишь греческие наемники. Александр одержал полную победу и затем захватил Вавилонию, а в феврале 330 г. македоняне вступили в Сузы. Потом в руки македонян попали Пасаргады и Персеполь, где хранились главные сокровищницы Ахеменидов. Разграбив эти города, Александр, будучи пьян, предал Персеполь сожжению.
Дарий со своими приближенными бежал из Экбатан в Восточный Иран, где был убит бактрийским сатрапом Бессом. Последний провозгласил себя царем под именем Артаксеркса IV, обосновавшись в Бактрии. Но в 329 г. и эта страна была захвачена македонской армией. Хотя в Средней Азии Александр встретил сильное сопротивление (особенно в Согдиане), к 327 г. он все же смог укрепиться там и весной того же года выступил в поход против Индии. Ахеменидская держава перестала существовать; все ее владения стали частью империи Александра.
Государственное управление
По своему социально-экономическому укладу держава Ахеменидов отличалась большим разнообразием. В нее входили области Малой Азии, Элам, Вавилония, Сирия, Финикия и Египет, которые задолго до возникновения Персидской империи имели свои государственные институты. Наряду с перечисленными экономически развитыми странами персы покорили также отсталые кочевые арабские, скифские и другие племена, которые находились на стадии разложения родового строя. Поэтому при создании системы управления над покоренными странами персы столкнулись с большими трудностями. Однако, по сравнению с предшествовавшими им египетскими, ассирийскими и вавилонскими царями, Ахемениды достигли значительных успехов в организации государственного управления. Покорив Мидию, Вавилонию и Египет, персидские цари придали своим завоеваниям характер союза с народами этих стран, короновались по местным обычаям и пользовались традиционными системами датировки и методами управления. Ахемениды стремились создать в завоеванных странах нормальные условия для развития экономики. Кир и Камбиз сохранили уже сложившееся управление в завоеванных странах, почти не изменив его, и предоставили покоренным народам местное самоуправление.
Однако почти повсеместные восстания 522-521 гг. показали непрочность Ахеменидской державы. Стремясь предотвратить сепаратистские тенденции, Дарий I провел важные административно-финансовые реформы, которые позволили создать устойчивую систему государственного управления и контроля над завоеванными странами, упорядочили сбор податей и увеличили контингенты войск. Осуществление этих реформ заняло ряд лет, и началом их, по-видимому, послужила предпринятая около 519 г. реорганизация и унификация системы управления провинциями. В результате проведения этих реформ в жизнь в Вавилонии, Египте и других странах была создана по существу новая административная система, которая в дальнейшем до конца господства Ахеменидов не претерпела существенных изменений. Дарий I разделил государство на административно-податные округа, которые назывались сатрапиями. Как правило, сатрапии по своим размерам превосходили провинции более ранних империй и в ряде случаев границы сатрапий совпадали со старыми государственными и этническими границами стран, входивших в состав Ахеменидской державы (пример тому — Египет).
Список сатрапий сохранился в труде Геродота (III, 89-97), но он только частично совпадает с перечнем стран Ахеменидской империи, содержащимся в Бехистунской и других древнеперсидских надписях. В Бехистунской надписи перечень этот дан по географическому принципу, но без строгого порядка. Сначала названы Персия и Элам, затем страны к западу от центра государства до Египта, после этого малоазийские провинции, а также Мидия и Армения и, наконец, перечислены иранские страны к востоку от Персии. В списке Геродота среди 20 сатрапий перечислено около 70 народов, входивших в состав Ахеменидской державы. В Бехистунской и персепольских надписях перечислены 23 страны, из которых в списке Геродота отсутствуют Каппадокия и Арахосия. 12 стран, пере
численных в Бехистунской надписи, составляют пять сатрапий списка Геродота, и шесть стран, данных в Бехистунской надписи как отдельные провинции, у Геродота включены в состав других сатрапий. Сам список у Геродота начинается с Ионии и других малоазийских сатрапий, затем названы Сирия и Египет, Элам и Вавилония и, наконец, страны, расположенные между Ираном и Индией. По мнению некоторых исследователей, эти расхождения объясняются тем, что в надписях дан перечень административных округов, а у Геродота же приводится список податных областей. Сюда примыкает и мнение ряда ученых, которые полагают, что надписи содержат перечень различных стран в их старых государственных границах и что эти страны не имели ничего общего с сатрапиями, обязанными платить подати. Высказывалось также предположение, что Геродот в интересующей нас части своего труда не имел в своем распоряжении какой-либо официальный персидский источник, а пользовался произведением и картой географа Гекатея, в которой Азия была разбита на фигуры с обозначением внутри них различных народов. Но более обоснованным представляется мнение тех исследователей, которые считают, что податные и административные округа действительно совпадали и что список сатрапий у Геродота восходит через посредство труда Гекатея к официальному персидскому источнику из царской канцелярии в Ионии.
Относительно датировки списка сатрапий, содержащегося у Геродота, также существуют различные мнения, но большинство ученых относят его к середине V в. до н.э., а не ко времени царствования Дария I. Что же касается расхождений между данными ахеменидских надписей и списком Геродота, то их можно легко объяснить тем, что количество сатрапий и их границы менялись вследствие новых завоеваний (например, северо-западной части Индии) или же в результате новых административных реформ. Общая тенденция этих реформ сводилась к тому, что число сатрапий увеличивалось, а территория их соответственно уменьшалась. Например, при Дарии I Малая Азия была разделена на четыре сатрапии, а при Дарии Ш там было семь сатрапий. Вскоре после смерти Дария I Гиркания была отделена от Парфии и превращена в самостоятельную сатрапию. Характер административных реформ Дария I можно наглядно проследить на примере Вавилонии и областей к западу от нее. После захвата Вавилонии Кир сначала оставил наместником этой страны вавилонянина Набу-аххе-буллита, занимавшего этот пост еще при Набониде. Но через четыре года, в 535 г., Кир создал единую провинцию из Месопотамии и Заречья, т.е. стран, расположенных к западу от Евфрата (Финикия, Сирия и Палестина), и назначил наместником ее перса Губару, который оставался на этом посту по меньшей мере в течение 10 лет, т.е. до 525 г. К марту 520 г. наместником Месопотамии и Заречья стал перс Уштан. Но вскоре после 486 г. эта огромная сатрапия, охватывавшая почти всю территорию прежнего Нововавилонского царства, была разделена на две части. У Геродота эти страны выступают в качестве двух различных сатрапий, а именно Вавилония и «прочая Ассирия» составляют девятую сатрапию, а Заречье — пятую.
Во главе новых административных округов стояли сатрапы. Должность сатрапа существовала чуть ли не с момента возникновения Ахеменидской державы, но при Кире, Камбизе и в первые годы царствования Дария I наместниками во
119. Персеполь. Центральное здание, рельеф южного входа
многих странах являлись местные чиновники, как это было еще в Ассирийской и Мидийской империях. Реформы же Дария, в частности, были направлены к тому, чтобы сосредоточить руководящие должности в руках персов, и на должность сатрапов теперь, как правило, назначались персы. Далее, при Кире и Камбизе гражданские и военные функции были объединены в руках одного и того же лица, а именно сатрапа. Об этом, кстати, свидетельствуют и документы о деятельности сатрапа Губару (Гобрия) в Вавилонии и Заречье, который одновременно являлся гражданским и военным наместником. Кроме того, согласно Бехистунской надписи, в самом начале царствования Дария I сатрапы Вивана, Дадаршиш и другие кроме управления своими областями осуществляли также общее командование войсками во время войн. Дарий ограничил их власть, установив четкое разделение функций сатрапов и военачальников. Теперь сатрапы стали только гражданскими наместниками и стояли во главе администрации своей области, осуществляли судебную власть, следили за хозяйственной жизнью страны и поступлением податей, обеспечивали безопасность в пределах границ своей сатрапии, контролировали местных чиновников, а в ряде стран имели и право чеканить серебряную и медную монету. В мирное время в распоряжении сатрапов находилась только небольшая личная охрана.
Что же касается армии, она подчинялась военачальникам, которые были независимы от сатрапов и подчинялись непосредственно царю. Однако после смерти Дария I это требование о разделе военных и гражданских функций не соблюдалось строго и часто власть сатрапа зависела от многих факторов. При Ксерксе и позже некоторые сатрапы находились в зависимости от военачальников. С другой стороны, нередко сатрапы осуществляли и военную власть, что стало обычным явлением в IV в. Например, во время войны с Александром Македонским бактрийцы сражались под командованием своего сатрапа. Еще раньше, во время похода против Греции при Ксерксе, сатрапы уже командовали войсками. Начиная со времени царствования Ксеркса, иногда две или несколько сатрапий находились в руках одного и того же человека. Например, Кир Младший получил Лидийскую сатрапию, но власть его распространялась и на значительную часть Даскилейской и Ионийской сатрапий. В середине IV в. сатрап Киликии Мазей одновременно являлся и наместником Заречья. По-видимому, и после реформ Дария, как и в предшествующее время, продолжительность службы сатрапа не была ограничена каким-либо определенным сроком. Например, Аршама был сатрапом Египта приблизительно с 454 по 404 г.
Титул сатрапа носили не только наместники больших административных округов, но и начальники более мелких областей, входивших в состав тех или иных сатрапий. В арамейских документах соответствующее иранское слово хшатрапаван (сатрап) переводится термином пеха (наместник) и применяется, в частности, по отношению к наместникам Самарии и Иудеи, хотя эти страны не являлись самостоятельными сатрапиями. В состав более обширных сатрапий могли входить и страны, которые пользовались автономией во внутренних делах. Это особенно относится к более отдаленным провинциям, во внутренние дела которых персидская администрация редко вмешивалась, осуществляя управление ими с помощью местных князей и племенных вождей. Например,
Иудея, составлявшая часть административного округа Заречья, сатрап которого имел своего заместителя в Самарии с правом надзора над наместником в Иудее, постепенно начала пользоваться большой независимостью во внутренних делах. В V-IV вв. наместники Иудеи назначались из числа самих евреев. Хотя центральное управление в Иерусалиме подчинялось сатрапу, во главе общины стояли первосвященники, и Иудея начиная с V в. в результате деятельности персидских наместников Эзры и Неемии постепенно превратилась в теократическое государство, которое характеризовалось исключительностью общинного порядка, а Иерусалим стал самоуправляющимся городом храмовой округи. Обычно под контролем сатрапов находились наследственные наместники и цари, а в Малой Азии и городские общины. Например, должность наместника Самарии передавалась по наследству в семье Санбаллата. На Кипре никогда не было персидского сатрапа, и управление там находилось в руках местных царей. Киликия, Пафлагония, Кария и финикийские города имели своих царей с правом наследственной передачи власти, не говоря уже о таких отдаленных народах, как арабы, колхи, эфиопы и т.д., которые управлялись своими племенными вождями. Что же касается самой Персии, не вполне ясно, управлялась ли она сатрапом или же находилась под непосредственной юрисдикцией царской администрации. По сообщению Геродота (III, 70), отец Дария Гистасп являлся наместником Персии, а Арриан («Поход Александра», III, 18) свидетельствует о том, что при Дарии III сатрапом Персии был Ариобарзан. Можно было бы полагать, что после Дария I Персия также находилась под сатрапским управлением, однако из Бехистунской надписи видно, что Гистасп был сатрапом Парфии и Гиркании, а не Персии.
В связи с осуществлением новых реформ был создан большой центральный аппарат во главе с царской канцелярией. Центральное государственное управление находилось в административной столице Ахеменидской державы, а именно в Сузах. По государственным делам в Сузы приезжали многие высокопоставленные лица и мелкие чиновники из различных концов государства, начиная от Египта и кончая Индией. Не только в Сузах, но также в Вавилоне, Экбатанах, Мемфисе и других городах были крупные государственные канцелярии с большим штатом писцов, которые были заняты перепиской официальной корреспонденции. В различных странах империи существовали разные системы правления, и персы широко пользовались развитыми их предшественниками методами делопроизводства. Сатрапы и военачальники были тесно связаны с центральным управлением и находились под постоянным контролем царя и его чиновников, особенно тайной полиции («уши и око царя»). Верховный контроль над всем государством и надзор за всеми чиновниками был доверен хазарапату («тысячена-чальник»), который одновременно являлся начальником личной гвардии царя.
Сатрапская канцелярия точно копировала царскую канцелярию в Сузах. Под начальством сатрапа находилось множество чиновников и писцов, в том числе начальник канцелярии, начальник сокровищницы, принимавший государственные подати, глашатаи, которые сообщали государственные распоряжения, счетоводы, судебные следователи, писцы и т.д. Уже при Кире II государственные канцелярии в западной части Ахеменидской державы пользовались арамейским языком, а позже, когда Дарий провел свои административные реформы, этот
язык стал официальным и в восточных сатрапиях; он использовался как средство общения между государственными канцеляриями всей империи. Из центра по всему государству рассылались официальные документы на арамейском языке. Получив эти документы на местах, писцы, которые знали два или несколько языков, переводили их на родной язык начальников областей, не владевших арамейским языком. Кроме общего для всего государства арамейского языка в различных странах для составления официальных документов писцы пользовались также и местными языками. Например, в Египте администрация была двуязычна и наряду с арамейским применялся также позднеегипетский язык (язык демотических документов) для общения с местным населением. В Персеполе, столице самой Персии, для административных нужд наряду с арамейским широко пользовались и эламским языком, пока во второй половине V в. до н.э. последний не был окончательно вытеснен арамейским. В персепольском архиве, найденном на территории царской сокровищницы, первоначально эламские таблички были привязаны к кожаным свиткам с официальными документами на арамейском языке. Очевидно, свои распоряжения чиновники делали устно, на персидском языке, а затем их переводили одновременно на эламский и арамейский языки.
В государственном аппарате сами персы занимали особое положение, в их руках были сосредоточены важнейшие военные и гражданские должности не только в самой Персии, но и в других странах. После реформ Дария персы появились даже в провинциальных учреждениях покоренных стран в качестве судей. Но вместе с тем ахеменидская администрация широко прибегала в государственном управлении также к помощи представителей других народов. В Вавилонии, Египте, Малой Азии и других областях обычно судьями, градоначальниками, управляющими государственными арсеналами, начальниками царских строительных работ были вавилоняне, египтяне, иудеи, арамеи, эламиты, греки и т.д. с их многовековым техническим и административным опытом. Судя по именам собственным лиц административного персонала в царском хозяйстве Персеполя, счетоводами работали эламиты, а надсмотрщиками и заведующими сокровищницей — персы.
Право
В Ахеменидской державе существовали самые различные правовые системы и институты. В вавилонских деловых документах персидского времени встречается выражение «согласно закону царя». По всей вероятности, здесь имеется в виду общий правовой порядок, а не единый общегосударственный кодекс законов, который вряд ли существовал. В период царствования Дария I велась интенсивная работа по кодификации законов покоренных народов. Действующие в различных странах законы были приведены к единообразию, а в необходимых случаях изменены в соответствии с политикой царя. Персы имели свое традиционное право, которое позже легло в основу законов царя, упоминаемых греческими авторами и в некоторых библейских книгах. Царь мог устанавливать новые
120. Персеполь. Центральное здание, рельеф южного входа
законы, ссылаясь на желание Ахура-Мазды. Для разбора наиболее важных дел судьи назначались лично царем. В правовой жизни персов большую роль играли семь наиболее знатных родов, представители которых входили в состав царского совета. При Ахеменидах вавилонское право в целом являлось образцом для правовых норм Ближнего Востока. Вавилонское частное право существенно не изменилось при персах, хотя многие публичные учреждения подверглись иранскому влиянию. Однако в конце царствования Дария I преобразования в экономике и государственном управлении повлекли за собой некоторые изменения и в области частного права. Судебная власть в Вавилонии принадлежала сатрапу, царским судьям и храмовой администрации. Высшую судебную власть в стране осуществлял сатрап, а царские судьи выносили решения по наиболее важным делам. В частности, их компетенции подлежали дела об убийстве.
В 519 г. до н.э. Дарий I велел своему египетскому сатрапу отправить к нему в Сузы знатоков египетских законов из числа воинов, жрецов и писцов, чтобы они составили свод законов, действовавших в Египте до смерти фараона Амаси-са. Кодификация была завершена в 495 г., и законы были зафиксированы арамейским и демотическим письмом. Судя по частноправовым документам, в египетском праве в ахеменидское время не произошло существенных изменений. Царские судьи подчинялись номархам и сатрапу и, по всей вероятности, на свои должности назначались царем. Что же касается иудейских колонистов на Эле-фантине, они в основном пользовались своим древним правом, на которое вавилонское и египетское право оказало определенное влияние. Имущественные споры между иудейскими поселенцами элефантинской колонии, составлявшими единую культовую общину, обычно решал специальный «суд иудеев». Кроме того, на Элефантине действовали и обычные царские суды. В 458 г. в Иерусалим прибыл иудейский общественный деятель Эзра с полномочиями от Артаксеркса I и назначил в стране судей, а также завершил работу по кодификации местных законов.
Земельные отношения
В Вавилонии, Египте и Персии из зерновых культур чаще всего сеяли ячмень, значительно реже пшеницу. Последняя, по-видимому, была основным продуктом питания в Палестине. В Вавилонии часто сеяли также просо, сезам, горох, лен и горчицу. В Египте и Вавилонии большую роль играло искусственное орошение. Крупные каналы существовали и в Средней Азии. Что касается самой Персии, в некоторых ее частях также были сооружены каналы. В частности, для снабжения водой равнин, окружающих Персеполь, пользовались каналами.
Крупные землевладельцы большей частью сдавали свои земли в аренду. Особенно это относится к вавилонским храмам, которые владели большими латифундиями, для обработки которых не хватало собственных рабов. Обычно земля отдавалась в аренду большими частями крупным арендаторам, которые, в свою очередь, сдавали ее мелкими участками в субаренду. Арендная плата была двух видов: либо размер ее устанавливался уже заранее при заключении контракта
и зависел от качества земли, а выплачивался натурой или деньгами, либо же владелец получал % урожая, а арендатор— 2/3. В Вавилонии в обработке земли большую роль играло сословие зависимых земледельцев (иккару), которые принадлежали храмам, государству и частным лицам. Хотя эти земледельцы юридически не считались рабами, они были прикреплены к земле и не могли оставить без разрешения хозяина свое местожительство. Они не имели своей земли, а нередко были лишены также рабочего скота и орудий производства. Часть этих земледельцев работала круглый год под надзором своих владельцев или их агентов и находилась на постоянном довольствии. Иногда их сдавали внаем партиями по нескольку десятков или сотен человек вместе с отдаваемой в аренду землей, орудиями и скотом. Часто иккару получали от своих владельцев семена, волов и мертвый инвентарь (плуги, лопаты и т.д.), самостоятельно обрабатывали выделенные для них участки и отдавали собственнику земли часть урожая. Мелкие землевладельцы обрабатывали свои участки сами вместе с членами семей, а иногда и с помощью рабов и наемников, которых обычно нанимали на время уборки урожая. Труд наемников широко применялся в крупных хозяйствах (особенно в храмовых), где они работали либо круглый год, либо, в большинстве случаев, во время уборки урожая.
Некоторые исследователи полагают, что при Ахеменидах, как и позже при Сасанидах, царь теоретически считался собственником всей земли. Однако источники не содержат бесспорных данных в пользу такой теории, и поэтому возможно, что в ахеменидский период еще не было даже самого положения о верховной собственности на землю. Во всяком случае, землю свободно, без разрешения царя продавали, закладывали, дарили и т.д. Но по мере захвата новых земель у покоренного населения отбиралась часть земли, и притом, по-видимому, самая плодородная. Однако во всех этих случаях царь, скорее всего, не управлял землей покоренных народов произвольно, а отбирал в свое распоряжение земли, принадлежавшие прежним царям и близкой к ним знати — обычно в тех случаях, когда они добровольно не подчинялись персам. Отобранную землю Ахеме-ниды раздавали большими поместьями членам царской семьи, представителям персидской знати, крупным чиновникам и т.д.
Источники сохранили сведения о многих крупных земельных владениях, а также домах, складах и другом недвижимом имуществе, принадлежавших персидской знати в Египте, Сирии, Вавилонии, Малой Азии и других странах. Яркое представление о хозяйствах такого типа дают письма египетского сатрапа Аршамы и прочих знатных персидских вельмож к своим управляющим. Эти письма большей частью являются инструкциями об управлении имениями. Ар-шама имел крупные земельные владения не только в Нижнем и Верхнем Египте, но также в шести различных странах на пути из Суз в Египет. Он владел полем и в окрестностях Ниппура, которое граничило с полем, принадлежавшим царю. Кроме того, в Ниппуре Аршама владел большими стадами мелкого скота и сдавал его внаем. Так, например, в 413 г. до н.э. в течение пяти дней он отдал через своего управляющего внаем различным пастухам 2381 голову мелкого скота, а в 403 г. только в один день он отдал внаем 1333 головы скота. Другой перс
(некий Багамири, сын Митридата) в 429 г. сдал в аренду предпринимательскому дому Мурашу сроком на 60 лет свое обработанное зерновое поле и поле, которое досталось ему после смерти его дяди (брата отца) Рушундата. Оба поля были расположены близ Ниппура по берегам двух каналов рядом с полем другого перса по имени Рушунпатиша. Багамири сдает в аренду также «жилые дома в местности Галия». Арендатор уже при составлении контракта уплачивает всю арендную плату, которая равнялась 1200 курру фиников (ок. 1800 гектолитров). При этом дом Мурашу берет на себя обязательство превратить взятое в аренду поле в сад. Этот дом часто арендовал также поля, принадлежавшие царице Парисати-де и членам царской семьи. Огромные земельные владения (иногда целые области) с правом наследственной передачи и освобождения от податей получали и так называемые «благодетели» царя, оказавшие последнему большие услуги. Они имели даже право суда над людьми, жившими в принадлежавших им областях. Например, целые области находились в руках потомков Отаны в Каппадокии, Гидарна в Армении, Тиссаферна во Фригии и т.д. Среди царских «благодетелей» были и чужеземцы, например, знаменитый афинский политический деятель Фемистокл, который бежал к персам и получил в свое владение несколько городов, расположенных на юге Малой Азии.
Владельцы крупных имений располагали собственным войском и судебноадминистративным управлением и целым штатом управляющих, начальников сокровищниц, писцов, счетоводов и т.д. Эти крупные землевладельцы обычно жили в больших городах — в Вавилоне, Сузах и т.д., вдали от сельской местности на доходы с земельных владений, которые находились в ведении их управляющих. Наконец, часть земель находилась в фактической собственности царя, и по сравнению с предшествующим периодом при Ахеменидах размеры царской земли резко увеличились. Эти земли обычно сдавались в аренду. Так, согласно контракту, составленному в 420 г. близ Ниппура, представитель дома Мурашу обратился к управляющему посевными полями царя, расположенными по берегам нескольких каналов, с просьбой сдать ему в аренду сроком на три года одно поле. Арендатор обязался платить ежегодно в качестве арендной платы 220 курру ячменя (ок. 33 000 л), 20 курру пшеницы, 10 курру эммера, а также одного быка и 10 баранов.
Кроме того, царю принадлежали и многие крупные каналы. Управляющие царя обычно сдавали эти каналы в аренду. В окрестностях Ниппура царские каналы арендовал дом Мурашу, который, в свою очередь, отдавал их в субаренду коллективам мелких землевладельцев. Например, в 439 г. семь землевладельцев заключили контракт с тремя арендаторами царского канала, в числе которых был и дом Мурашу. По этому контракту субарендаторы получили право орошать свои поля в течение трех дней ежемесячно водой из канала. За это они должны были платить своим арендаторам — частично % частью урожая и фруктов как «водную подать» с орошаемых полей, а также определенной суммой денег за каждую меру земли. Если субарендаторы используют воду для орошения земель, не предусмотренных договором, арендная плата должна была соответственно возрасти. Персидским царям принадлежали также канал Акес в Средней Азии, леса в Сирии, доходы от ловли рыбы в Меридовом озере в Египте, рудники,
а также сады, парки и дворцы в различных частях государства. О размере царского хозяйства определенное представление может дать тот факт, что в Персе-поле ежедневно за счет царя питалось около 15 тыс. человек.
При Ахеменидах широко применялась (по крайней мере в Вавилонии) такая система землепользования, когда царь сажал на землю своих воинов, которые обрабатывали выделенные для них наделы коллективно целыми группами, при этом отбывая воинскую повинность, и платили определенную денежную и натуральную подать. Эти наделы назывались наделами лука, лошади, колесницы и т.д., и их владельцы должны были нести военную службу соответственно в качестве лучников, всадников и колесничих. В начале господства персов экономическое положение владельцев этих наделов было устойчивым, так как завоевания продолжались, и поэтому цари заботились о своих воинах. Когда землевладельцы находились на войне, их наделы обрабатывали члены семьи. В тех случаях, когда государство не нуждалось в этих людях в качестве воинов, они должны были платить подати. Но постепенно такая замена военной повинности уплатой податей стала обычной. Денежные подати особенно отрицательно сказывались на хозяйствах рядовых воинов, так как для их уплаты приходилось прибегать к помощи ростовщиков. Для этого приходилось закладывать наделы, и нередко владельцы были не в состоянии выкупить их. Правда, эти наделы нельзя было отчуждать, и кредитор мог брать, как эквивалент долга, только урожай, а не заложенную землю, которая переходила по наследству по мужской линии или же, при отсутствии таких наследников, возвращалась государству. Но многие колонисты были обременены долгами, и иногда кредиторы становились фактическими владельцами заложенных наделов под видом усыновления. Кроме того, наделы можно было сдавать в аренду при условии, если владелец продолжал нести свои повинности. Следует учесть также то, что размеры наделов постепенно уменьшались, так как они дробились между наследниками. Поэтому нередко два или несколько человек совместно владели одним и тем же наделом или делили его между собой. Естественно, это также вело к разорению военных колонистов. Поэтому в V и IV вв. до н.э. в своей военной политике Ахеменидам пришлось полагаться в основном на наемников, а не на владельцев наделов, не всегда имевших даже военное снаряжение. Наконец, земельные наделы получали в пользование также государственные чиновники низших рангов. Такие наделы назывались иранским термином бага, и их владельцы должны были уплачивать подати. Эти наделы могли быть переданы в наследство только по разрешению царской администрации.
Рабство
В наиболее развитых странах Ахеменидской державы рабы наравне со скотом являлись главным предметом движимой собственности, их продавали, передавали по наследству, дарили и т.д. Большое количество рабов использовалось для выполнения различных видов домашней работы, а также в сельском хозяйстве, в царских каменоломнях и на строительных работах. Среди рабов было и некоторое количество квалифицированных ремесленников (ткачей, сапожников, ар
хитекторов и т.д.). В Вавилонии при продаже раба продавец нес ответственность, в частности, за то, что его раб не являлся свободным человеком и что он в течение первых ста дней после продажи не совершит побега от своего нового владельца. Побеги рабов были довольно распространенным явлением в ахеменидской Вавилонии. Беглых рабов ловили, клеймили как скот, заковывали в кандалы и возвращали на работу. Наиболее непокорных рабов, неоднократно совершавших побеги или подозревавшихся в намерении бежать, держали под особым надзором в специальных работных домах, где был установлен тюремный режим. В крупных хозяйствах периодически устраивались проверки рабов и тщательно записывались имена беглых рабов и их общее количество с целью попытаться поймать их. Рабы выступали против плохих жизненных условий, нерегулярной выдачи пищи и т.д. Но об организованных массовых выступлениях рабов в странах Ахеменидской державы данных нет. Это легко объясняется тем, что в этих странах не было крупных мастерских, основанных на рабском труде. Правда, храмы и крупные торговые дома владели сотнями рабов, но и в этих больших хозяйствах рабы чаще всего работали маленькими группами или в одиночку в различных местах.
Уже ко времени возникновения Персидской державы и в период царствования Ахеменидов рабство в некоторых странах претерпело важные изменения. Хотя рабов в рассматриваемое время было больше, чем в любой из предшествующих периодов, сам институт рабства уже начал разлагаться, и стали наблюдаться случаи отпуска рабов на свободу или выделения им пекулия. Судя по вавилонским документам и арамейским папирусам с Элефантины (Египет), обычно рабы отпускались на свободу с условием, что они продолжат служить хозяину или же будут снабжать его пищей и одеждой до конца его дней. Иногда рабы отпускались на свободу с последующим усыновлением их свободными людьми. Когда хозяева не могли использовать рабов в своем хозяйстве или мастерской или же считали такое использование невыгодным, рабы нередко предоставлялись сами себе с уплатой определенного нормированного оброка с пекулия, которым владел раб. Величина оброка колебалась в зависимости от имущества раба, но в среднем он составлял 6 л ячменя в день, что в год составляло 12 курру, или эквивалентную сумму в 12 сиклей серебром. Иногда денежный или натуральный оброк заменялся работой на хозяина. Своим пекулием рабы могли распоряжаться как свободные люди, ссужать, закладывать или сдавать имущество в аренду и т.д. Рабы могли не только активно участвовать в экономической жизни страны, но также иметь свои печати, выступать свидетелями при заключении свободными и рабами различных деловых сделок. В правовой жизни рабы могли выступать как полноправные люди и судиться между собой или со свободными (но, разумеется, не со своими хозяевами). При этом, по-видимому, не было каких-либо различий в подходе к защите интересов рабов и свободных. Далее, рабы, как и свободные, давали свидетельские показания о преступлениях, совершенных другими рабами и свободными, в том числе их собственными хозяевами. Долговое рабство в ахеменидское время не имело большого распространения, по крайней мере в наиболее развитых странах. Случаи самозаклада, не говоря о продаже себя в рабство, были крайне редким явлением. В арамейских па-
121. Персеполь. Центральное здание, главная лестница (северный фасад дворца): общий вид
122. Персеполь. Центральное здание, главная лестница (северный фасад дворца): деталь
пирусах V в, до н.э. дети не упоминаются в качестве долгового залога, но в Вавилонии, Иудее и Египте детей можно было отдавать в качестве заложников. В случае неуплаты долга в установленный срок кредитор мог обратить в рабов детей должника. Однако муж не мог отдать жену в залог, во всяком случае в Эламе, Вавилонии и Египте. В указанных странах женщина пользовалась сравнительно большой свободой и независимостью, имела свое имущество, которым она распоряжалась по своему усмотрению. В Египте женщина даже имела право на развод в отличие от Вавилонии, Иудеи и других стран, где такое право имел только мужчина. Количество рабов-военнопленных в ахеменидское время было довольно велико. Например, в Вавилонии продавали уведенных из Египта, Бак-трии и других стран военнопленных-рабов — «добычу лука», а в Египте было немало рабов ливийского и киликийского происхождения. В целом рабов по отношению к количеству свободных было сравнительно мало даже в наиболее развитых странах, и их труд был не в состоянии вытеснить труд свободных работников. Основой сельского хозяйства являлся труд свободных земледельцев и арендаторов, и в ремесле также доминировал труд свободного ремесленника, занятие которого обычно наследовалось в семье. Храмы и частные лица были вынуждены прибегать в широких масштабах к использованию квалифицированного труда свободных работников в ремесле, сельском хозяйстве и особенно для выполнения трудоемких видов работы (оросительные сооружения, строительные работы и т.д.). Особенно много наемных работников было в Вавилонии, где они нередко работали на строительстве каналов или на полях партиями по нескольку десятков или даже сот человек.
По сравнению с западными сатрапиями Ахеменидской державы рабство в Персии имело ряд своеобразных черт. Ко времени возникновения своего государства персы знали только патриархальное рабство, и рабский труд еще не имел серьезного экономического значения. Главы патриархальных семей в Иране по отношению к членам своих семей выступали как бы рабовладельцами. С этой точки зрения большой интерес представляет один из иранских терминов для обозначения раба, а именно гарда, первоначальное значение которого было «домашний раб». Как известно, этот термин засвидетельствован в арамейских и вавилонских документах в форме «гарда», а в эламских хозяйственных документах из Персеполя — куртаги. Так называемые документы крепостной стены Персе-поля содержат исключительно обильную информацию о работниках царского хозяйства (курташ). Тексты эти составлены на эламском языке и охватывают по времени период с 13-го по 28-й год царствования Дария I (509—494), а по территории — значительную часть Персии и Элама, хотя все они найдены в Переело-ле. Термин курташ постоянно встречается также в документах сокровищницы, составленных на эламском языке между 492-458 гг. и освещающих деятельность царского хозяйства в Персеполе и его окрестностях. «Документы крепостной стены» фиксируют, в частности, выдачу натуральной платы зерном, мукой, вином и пивом, а таблички сокровищницы — плату серебром и продовольствием для курташ. Среди курташ были мужчины, женщины и подростки обоего пола. По крайней мере часть курташ жила семьями. Например, в текстах упоминаются карийские золотых дел мастера, среди которых было 27 мужчин, 27 женщин,
13 девочек и 3 мальчика; в одной партии фракийских работников насчитывалось 60 мужчин, 59 женщин, 9 мальчиков и 5 девочек. Согласно опубликованным документам, в 509-494 гг. в царском хозяйстве в 108 населенных пунктах Юго-Западного Ирана было занято около 21 575 работников, среди которых было 8183 мужчин, 8564 женщины, 2687 мальчиков и 2142 девочки. В большинстве случаев курташ работали отрядами по нескольку сот человек, а некоторые документы говорят о партиях курташ численностью более тысячи человек. Такие отряды делились на более мелкие подразделения, во главе которых стояли десятники и сотники. Обычный рабочий период, за который курташ получали плату, равнялся месяцу. Они работали в царском хозяйстве круглый год. Большинство курташ были заняты на строительных работах в Персеполе. Среди них были рабочие всех специальностей (каменотесы, плотники, скульпторы, кузнецы, зеркальных дел мастера, инкрустаторы, ювелиры, виноделы и т.д.), а также пастухи. Одновременно на строительных работах в Персеполе было занято не менее 4 тыс. человек, и строительство этой царской резиденции продолжалось в течение 50 лет. О масштабах работы может дать представление тот факт, что уже на подготовительном этапе нужно было превратить около 125 тыс. кв. м неровной скальной поверхности в платформу определенной архитектурной формы.
Многие курташ работали и за пределами Персеполя. Это в основном были пастухи овец, виноделы и пивовары, а также, по всей вероятности, пахари. По свидетельству «документов крепостной стены», мужчины в месяц получали в среднем 3 бар (ок. 30 л) зерна или муки, женщины — 2 бар, а подростки обоего пола от 0,5 до 1,5 бар. Кроме того, выдавали вино или пиво: мужчинам около 2 марриш (20 л) в месяц, женщинам— 1 или 1,5 марриш. Мясо получало лишь небольшое количество курташ (главным образом начальники). Засвидетельствованы также менее регулярные выдачи сезамом, финиками и фруктами. Несколько иную картину дают таблички сокровищницы. Начиная с 7-го года царствования Ксеркса (479 г. до н.э.) в них, как правило, стали отмечать для учета размеры как денежной, так и натуральной оплаты курташ. Другими словами, в документах писцы стали указывать, что выдаваемое для курташ серебро составляет 3/з, или же 2/3 их общей оплаты. По-видимому, максимальная оплата курташ составляла 8 сиклей серебра в месяц. Столько серебра получали только считанные единицы — самые высококвалифицированные ремесленники. Минимальная оплата серебром равнялась % и % сикля в месяц. Обычная денежная оплата курташ колеблется от 3 3/4 до 2/3 сикля в месяц. При этом курташ со ставкой около 3 3/4 сикля серебра получали в месяц натуральную оплату на такую же сумму, а ставки 2/3, % и % сикля серебра обычно составляли треть общей оплаты. Особенно резкую градацию в оплате различных групп курташ невозможно установить. Такая градация скорее наблюдается внутри отдельных групп. Другими словами, если не все курташ получали одинаковую плату, то это нередко зависело от их ремесла, квалификации, интенсивности труда, размера выполненной работы, пола, возраста и даже сезона работы.
Относительно юридического статуса курташ высказывались различные точки зрения. В частности, по мнению одних, курташ были военнопленными, обращен-
123, 124. Персеполь. Центральное здание, рельефы главной лестницы: мидийская знать
125. Персеполь. Центральное здание, рельефы главной лестницы: персидская знать
ними в рабов, а другие исследователи видят в них низы свободного населения персов, потерявшие свои земельные наделы и в массовом числе по экономическим причинам или принудительно работавшие в хозяйствах царей и знати. Было высказано также мнение, что курташ — полусвободные люди, посаженные на царской земле. Несомненно, что часть курташ состояла из чужеземцев, обращенных Ахеменидами в рабство и насильственно угнанных в Персию. Таблички сокровищницы говорят о таких партиях курташ, как 55 каменотесов, «которые прибыли из Египта в Персию», 313 сирийских курташ, 201 сирийский, египетский и ионийский курташ, 72 карийских золотых дел мастера, 1149 «разноплеменных» ремесленников-курташ и т.д. Имеются и другие данные, свидетельствующие о том, что среди курташ были греки. В частности, греки работали в каменоломнях близ Персеполя. В «документах крепостной стены» чужеземные курташ (египтяне, вавилоняне, фракийцы и т.д.) упоминаются постоянно и притом партиями по нескольку сот человек. Надсмотрщики над курташ в большинстве случаев были персы или другие иранцы, однако вряд ли среди курташ было сколько-нибудь значительное количество персов. Во всяком случае, опубликованные документы не содержат каких-либо данных, позволяющих полагать, что персы работали среди курташ, кроме, может быть, пастухов.
Из надписи о строительстве дворца Дария I в Сузах видно, что персы в отличие от других народов не принимали участия в сооружении этого царского дворца. Согласно надписи, вавилоняне были заняты на земляных работах, формовали кирпичи и высекали рельефные изображения, сирийцы и ионийцы доставляли кедр с Ливанских гор в Сузы, лидийцы и ионийцы тесали камень, египтяне и мидяне работали золотых дел мастерами и т.д. Очевидно, в Персеполе аналогичные работы выполняли представители этих же и других народов. Ахемениды обращали в рабство население ряда областей и городов, а иногда даже целые племена, когда они поднимали восстание против персидского господства. Значительную часть этих рабов направляли в хозяйства персидских царей и вельмож, остальных сажали на землю. Последние вели самостоятельное хозяйство и платили царю подати. В одном из писем египетского сатрапа Аршамы к управляющему его имениями ярко характеризуются способы добычи рабов: во время подавления восстания в Египте прежний управляющий добыл много гарда-ре-месленников и другое имущество и присоединил все это к собственности Аршамы. Теперь, во время нового восстания в Нижнем Египте, управляющие заботятся о гарда и имуществе своих хозяев, а также добывают их из других мест. Поэтому управляющий имениями Аршамы должен тоже добывать гарда-ремеслен-
ников, клеймить их клеймом Аршамы и включать в его хозяйство, как это делали его прежние управляющие. Это письмо, очевидно, является свидетельством того, что гарда являлись рабами, поскольку их клеймили. Менее определенными остаются данные вавилонских документов о положении гарда. В этих документах они упоминаются только в связи с ахеменидскими царями (например, «гарда, принадлежащие царю») и их вельможами. Судя по именам собственным, в Вавилонии гарда состояли из египтян и вавилонян. Они находились под надзором специальных чиновников и владели земельными наделами, которые в ряде случаев отдавались в аренду торговому дому Мурашу. По-видимому, гарда в Вавилонии являлись контингентами работников, прикрепленных к царскому хозяйству или к имениям знатных персов. Тот факт, что слова «гарда» и «курташ» являются различными транскрипциями одного и того же термина, наводит на мысль, что и курташ, работавшие в Персеполе, также являлись рабами. Однако слово «курташ», по-видимому, имело и более широкое значение, а именно «человек» или «работник», и поэтому оно обычно предшествует определению с указанием различных специальностей ремесленников. Возможно, что среди персепольских курташ наряду с рабами было некоторое количество лично свободных людей из низов общества. Наконец, судя по документам из Месопотамии, вавилонянам приходилось ездить в Элам для выполнения государственной трудовой повинности. Например, по свидетельству документа времени Дария I, один вавилонянин должен был отправиться для несения «сменной повинности в Эламе» в течение целого года. Этот документ дает дополнительный материал для установления юридического положения работников царского хозяйства в Сузах и Персеполе и позволяет предположить, что часть курташ состояла из свободных подданных, которые отбывали целый год повинность в царском хозяйстве. С другой стороны, пригнанные по приказанию Артаксеркса III в 345 г. до н.э. из Сидона в Сузы военнопленные, очевидно, находились на положении рабов.
Таким образом, в результате мировых завоеваний в Персии произошел резкий скачок от примитивного патриархального рабства к интенсивному использованию труда чужеземных рабов в сельском хозяйстве и ремесле. Выше было отмечено, что в оплате курташ постепенно произошли большие изменения. Плата или рационы, которые получали курташ при Дарии I, были весьма невелики. Этих рационов хватало для жизни, но вряд ли у работников оставались большие излишки. Нам неизвестно, сколько мог заработать в среднем взрослый наемный работник, скажем, в Каппадокии или во Фракии и мог ли он добровольно отправиться в Иран для работы в царском хозяйстве за 1 л зерна в день или за еще меньшую плату. Но египтяне, вавилоняне и представители некоторых других народов, упоминаемых в «табличках крепостной стены», в Иране находились не добровольно, не на заработках, так как у себя на родине они могли заработать в день 6 л зерна, а были уведены туда насильственно и эксплуатировались внеэкономически, независимо от того, были ли они там лишь временно или всю жизнь. Позднёе положение изменилось. Выше говорилось, что состав курташ был пестрым и среди них находилось значительное число рабов-военнопленных, по-видимому, некоторое количество свободных, работавших добровольно за плату (например, пастухи), а также лица, отбывавшие временную повинность.
Начиная со времени Ксеркса аппарат управления стал относиться ко всем этим группам курташ как равноправным в экономическом отношении. Все они получали плату в соответствии с выполненной ими работой, независимо от своего социального статуса. Уже в конце царствования Дария I часть курташ стала получать за свою работу плату не только натурой, но и деньгами. При Ксерксе такая практика начала прочно входить в жизнь, а ставки платы стали гораздо выше, чем при Дарии I, — от 1 до 8 сиклей серебра в месяц. Большинство же курташ получали 3—4 сикля серебра в месяц. Это в несколько раз больше, чем платили в Вавилонии того же времени взрослому квалифицированному наемному работнику, который в среднем получал 1 сикль серебра в месяц. При этом цены на продукты питания в Вавилонии и Иране VI-V вв. до н.э. были примерно одинаковы. Следует иметь также в виду, что кроме денежной платы курташ получали еще продукты, и поэтому им не было надобности часто прибегать к рынку. Во всяком случае, натуральную оплату курташ при сравнении с положением наемников в Вавилонии можно не принимать во внимание, так как работодатели в обеих странах кормили наемников в течение всего периода их работы. Таким образом, при Ксерксе работникам царского хозяйства стали платить сравнительно высокую плату, которая была в несколько раз выше, чем на свободном рынке труда в соседних странах. Очевидно, это вызывало заинтересованность работников в количестве и качестве работы, в результатах своего труда и сделало царское хозяйство более эффективным. Управление царским хозяйством имело возможность за счет огромных средств, собранных в качестве подати с покоренных народов, высоко оплачивать труд квалифицированных ремесленников, строивших царские дворцы и обслуживавших их.
Подати
При Кире и Камбизе еще не было твердо урегулированной системы податей, основанной на учете экономических возможностей стран, входивших в состав Ахеменидской державы. Подвластные народы доставляли подарки или же платили подати, которые, по крайней мере частично, вносились натурой. Около 519 г. до н.э. Дарий I установил новую систему государственных податей. Все сатрапии обязаны были платить строго зафиксированные для каждой области денежные подати, установленные с учетом обрабатываемой земли и степени ее плодородности. Что же касается самих персов, они, как господствующий народ, не платили денежных налогов, но, по-видимому, не были освобождены от натуральных поставок. Остальные народы, в том числе и жители автономных государств (например, финикийцы, киликийцы и т.д.), платили в год в общей сложности около 7740 вавилонских талантов серебра. При этом большая часть этой суммы уплачивалась народами наиболее экономически развитых стран: государств Малой Азии, Вавилонии, Сирии, Финикии и Египта. Хотя система подарков тоже была сохранена, последние отнюдь не носили добровольного характера. Размер подарков тоже был установлен, но в отличие от податей они уплачивались натурой. При этом преобладающее большинство подданных платили по
дати, а подарки доставлялись только народами, жившими на окраинах империи (колхидяне, эфиопы, арабы и т.д.). Страны, лишенные собственных рудников, для внесения податей должны были приобретать серебро путем продажи продуктов земледелия и ремесла, что содействовало развитию товарно-денежных отношений. В труде Геродота содержатся подробные данные о суммах податей, которые уплачивались сатрапиями персидскому царю. Эти данные можно кратко суммировать в следующем виде (цифрами обозначены номера сатрапий по Геродоту и количество талантов серебра, которое уплачивалось покоренными народами ежегодно в качестве государственных податей):
1) Иония с близлежащими островами; Эолида, Кария, Ликия и Памфилия — 400;
2) Лидия и Мисия — 500;
3) Геллеспонт, Фригия, Пафлагония и Каппадокия — 360;
4) Киликия — 500 (и 360 «белых лошадей»);
5) Сирия, Палестина, Финикия и Кипр — 350;
6) Египет— 700 (и 120 тыс. медимнов хлеба на содержание персидских гарнизонов);
7) Сатгагидия и Гандхара— 170;
8) Элам — 300;
9) Вавилония — 1000 (и 500 евнухов);
10) Мидия — 450;
И) племена каспиев, павсиков, пантиматов и дарейтов (по-видимому, южная часть Прикаспия) — 200;
12) Бактрия — 360;
13) Армения — 400;
14) Сагартия, Дрангиана и племена утиев и миков — 600;
15) саки — 250;
16) Парфия, Гиркания, Хорезм, Согдиана, Арея — 300;
17)парикании и «азиатские эфиопы» (области современного Мекрана и Белуджистана) — 400;
18) племена матиенов, саспейров и алародиев — 200;
19) племена мосхов, тибаренов, макронов, мосинойков и маров (на Черноморском побережье) — 300;
20) Индия (северо-западная ее часть) — 300 талантов золотого песка (однако весьма сомнительно, что эта сатрапия могла ежегодно платить столько золота).
О сборе государственных податей лучше всего известно по документам архива предпринимательского дома Мурашу в Вавилонии, среди которых сохранилось большое количество квитанций об уплате податей. Подати уплачивались серебром и натурой (ячменем, мукой, скотом, пивом и т.д.). Исходя из документов архива Мурашу, можно отметить следующие варианты уплаты податей:
1) землевладелец сам платил подати, не обращаясь к услугам дома Мурашу;
2) в тех случаях, когда землевладелец нуждался в деньгах для уплаты податей, он обращался к дому Мурашу с просьбой уплатить причитающуюся с него подать. Дом Мурашу платил соответствующую подать, а должник передавал последнему расписку на уплаченную сумму;
126. Персеполь. Центральное здание, рельефы главной лестницы: персидская знать
127. Персеполь. Дворец Дария I, вид с севера
3) землевладелец, имевший в банке Мурашу, говоря современным языком, текущий счет, приказывал своему банкиру уплатить за него подать;
4) в тех случаях, когда земля отдавалась в распоряжение дома Мурашу в качестве долгового залога, за владельца подать уплачивал дом Мурашу с последующим погашением этой суммы должником;
5) если земля передавалась дому Мурашу в аренду, последний наряду с арендной платой землевладельцу уплачивал за него и подать;
6) при передаче земли в залог или в аренду не дому Мурашу, а какому-либо другому лицу уплата податей могла производиться соответствующим залогодержателем или арендатором.
Вопреки мнению некоторых исследователей, дом Мурашу не выполнял функций государственных откупщиков податей, а платил эти подати по просьбе самих налогоплательщиков и при этом не прямо в государственную казну, а начальникам определенных округов, которые, в свою очередь, вносили их в казну.
Суммы податей, установленные при Дарии I, оставались неизменными до конца существования Ахеменидской державы, несмотря на значительные экономические изменения в подвластных персам странах. На положении налогоплательщиков отрицательно сказывалось и то, что для уплаты денежных податей приходилось занимать деньги под залог недвижимого имущества или членов семьи. Как свидетельствует библейская книга Неемии (V, 3-5), в Иудее многие закладывали свои поля, виноградники и дома, чтобы избавиться от голода, или занимали серебро для уплаты царских податей, отдавая своих сыновей и дочерей в рабство. Жители Иудеи жаловались, что они не имеют возможности выкупить своих детей из рабства, а также виноградники и поля у кредиторов. Документы из Вавилонии также показывают, что многие жители этой сатрапии закладывали свои поля и сады, чтобы достать серебро для уплаты подати царю. Нередко они не в состоянии были выкупить их и становились безземельными наемными работниками, а иногда вынуждены были отдавать своих детей в долговое рабство. Согласно египетским источникам, в персидский период подати были настолько тяжелы, что земледельцы бежали в города, но по приказу номархов их насильственно возвращали обратно.
Деньги и сокровищница
В Ахеменидской империи существовали четыре типа чеканки: царская, сатрап-ская, провинциальная с изображением царя и местная чеканка подвластных персам стран. После 517 г. до н.э. Дарий I ввел единую для всей империи монетную единицу, составлявшую основу ахеменидской денежной системы, а именно золотой дарик весом в 8,4 г. Чеканка золотой монеты была прерогативой только персидского царя. Благодаря тому что дарик содержал всего 3% примеси, он в течение нескольких веков занимал положение основной золотой монеты в торговом мире. Некоторые греческие города Малой Азии (Кизик, Лампсак и др.) также выпускали золотые статеры, вероятно, во время восстаний против персидского господства. Обычным средством обмена служил серебряный сикль весом
5,6 г, равный по своей стоимости V20 Дарика и чеканившийся главным образом в малоазийских сатрапиях. Как на дарике, так и на сиклях помещалось изображение персидского царя. Серебряные и более мелкие медные монеты чеканили персидские сатрапы в своих резиденциях и в греческих городах Малой Азии для расплаты с наемниками во время военных походов, а также автономные города и зависимые цари. В частности, финикийские города чеканили муниципальные и царские монеты. Однако монеты персидской чеканки, по-видимому, мало использовались вне Малой Азии и даже в финикийско-палестинском мире IV в. играли сравнительно незначительную роль. В VI-V вв. во многих странах Персидской империи господствовали греческие серебряные деньги, которые были в регулярном обращении не только в странах Эгейского бассейна, но и вне его вплоть до Сицилии и Египта. В IV в. во многих странах Ахеменидской империи появились более или менее самостоятельные чеканки монет, выпущенных по образцу афинских денег. Аттический стандарт превалировал и в Иудее, а также, по-видимому, был известен в Сирии и Финикии.
Соотношение золота к серебру в Ахеменидской державе составляло 1 к 13 V3. Драгоценный металл, принадлежавший государству, подлежал чеканке только по усмотрению царя, и большая его часть оставалась нечеканенной. Например, когда Александр Македонский захватил Сузы, в царской сокровищнице было найдено 40 тыс. талантов в слитках и только 9 тыс. в монетах. Царь устанавливал также соотношение серебряных и золотых монет друг к другу и манипулировал курсом в свою пользу на основе огромных запасов нечеканенного металла, который Ахемениды накопили в своих сокровищницах начиная со времени Кира II. Общее количество золота и серебра, которое хранилось в ахеменидских сокровищницах в Сузах, Персеполе, Вавилоне и других городах к концу существования Персидской державы, составляло около 235 630 талантов. Таким образом, значительная часть драгоценных металлов, поступавших в качестве государственных податей, была изъята из обращения, и только небольшая часть их поступала обратно в качестве жалованья для наемников, а также для содержания двора и администрации.
Сокровищница являлась финансовым управлением государства и распоряжалась не только золотом, серебром, слоновой костью, сосудами из драгоценных металлов, но также зерном, вином, маслом, скотом, одеждой и т.д. Заведующий сокровищницей, его помощник и многочисленный штат учетчиков занимались приемом, проверкой, запечатыванием, хранением и выдачей различных товаров.
Как показали раскопки, сокровищница в Персеполе составляла громадный комплекс зданий длиной в 133,90 м и шириной в 77, 60 м, построенных из сырцового кирпича. О содержании этой сокровищницы кроме найденных там предметов яркое представление дают также рельефы с изображением представителей различных народов, доставлявших подати и дары ахеменидским царям. Главные сокровища Ахеменидов, по-видимому, хранились именно в Персеполе. Однако царские сокровищницы находились также в Экбатанах, Сузах, Вавилоне и в ряде других крупных городов.
Торговля
В ахеменидское время международная торговля развивалась в неизвестных до того времени масштабах. Несколько крупных караванных дорог соединяли области, удаленные друг от друга на многие сотни километров. Одна такая дорога начиналась в Лидии, пересекала Малую Азию и продолжалась до Вавилона. Другая дорога шла из Вавилона в Сузы и далее в Персеполь и Пасаргады. Большое значение имела также караванная дорога, которая соединяла Вавилон с Эк-батанами и продолжалась далее до Бактрии и индийских границ. Район Эгейского моря с Закавказьем соединялся дорогой, которая шла от Иссенского залива до Синопа, пересекая Малую Азию. После 518 г. по распоряжению Дария I был восстановлен канал от Нила до Суэца, существовавший еще при Нехо, но ставший позднее несудоходным. Этот канал соединял Египет морским путем через Красное море с Персией, и, таким образом, в Индию тоже была проложена дорога.
Для развития торговых связей большое значение имели и различия в природе и климатических условиях стран, входивших в состав Ахеменидской державы. Особенно оживленной стала торговля Вавилонии с Египтом, Сирией, Эламом и Малой Азией, где вавилонские купцы покупали железо, медь, олово, строительный лес и полудрагоценные камни. В Египте и Сирии вавилоняне покупали квасцы для отбелки шерсти и одежды, а также для производства стекла и медицинских целей. Египет поставлял в греческие города зерно и полотно, покупал у них взамен вино и оливковое масло. Кроме того, Египет обеспечивал другие страны золотом и слоновой костью, а Ливан и Аман — кедровым деревом, мрамором и базальтом. Из Анатолии доставляли серебро, с Кипра— медь, а из районов верхнего Тигра вывозили медь и известняк. Из Индии импортировали золото, слоновую кость и благовонные деревья, из Аравии — золото, из Согдиа-ны — лазурит и сердолик, а из Хорезма — бирюзу. Из Бактрии в страны Ахеменидской державы поступало сибирское золото. Из материковой Греции вывозили керамические изделия. Поставщиком хлеба кроме Египта являлась и Вавилония. В международной торговле вавилонян большую роль играл известный предпринимательский дом Эгиби, который занимался торговыми операциями в Эламе и других соседних странах с помощью своих агентов. Международная морская торговля в Ахеменидской державе находилась главным образом в руках финикийских купцов. Что же касается внутренней торговли в отдельных странах империи, то обильную информацию о ней дают многочисленные вавилонские документы. Товары доставлялись в основном по рекам на лодках, грузоподъемность которых составляла около 60 т.
Храмовая политика Ахеменидов
В ахеменидский период произошли значительные изменения в храмовой политике. Если, например, халдейские цари в Вавилонии и члены их семей платили храмам ежегодную десятину золотом, серебром, скотом и т.д., то Ахемениды, хотя и сохранили эту десятину как обязательный налог с подданных, сами не стали платить ее. Далее, цари халдейской династии редко вмешивались в храмо-
128. Персеполь. Дворец Дария 1, рельеф восточного входа в зал: борьба царственного героя со львом
вые дела, а вклад храмов в государственные доходы был незначителен, и, наоборот, сами храмы получали в дар от царей земельные владения, рабов и т.д. Но уже при последнем халдейском царе Набониде, деятельность которого была связана с большими религиозными реформами, в храмах была создана специальная «касса царя», куда отчислялась определенная часть храмовых доходов. После захвата Вавилонии персами Кир не отменил реформ Набонида, направленных на ограничение храмовой собственности. Наоборот, храмы Вавилонии при Ахеме-нидах обязаны были платить государству значительные натуральные подати мелким и крупным рогатым скотом, ячменем, сезамом, финиками, шерстью и т.д., а также снабжать продовольствием государственных чиновников (областеначальников, писцов и т.д.) и доставлять корма скоту, принадлежавшему царю. Кроме того, храмы выполняли государственные повинности, посылая своих рабов (земледельцев, пастухов, садовников, плотников и т.д.) для работы во дворцовом хозяйстве в Вавилоне и других городах. Для наблюдения за выполнением обязательств храмов по отношению к государству в храмовое правление были введены царские уполномоченные и фискальные агенты, которые следили за своевременной и точной уплатой государственных податей и выполнением повинностей. В руки царских чиновников был отдан также надзор над храмовым имуществом, и они часто устраивали ревизию этого имущества. Далее, царские чиновники регулярно контролировали работу храмовых рабов, направленных для выполнения государственных повинностей.
Эти факты находятся в полном согласии с храмовой политикой Ахеменидов, которые не ущемляли религиозных чувств покоренных народов, но стремились урезать доходы храмов. Например, после завоевания Египта Камбиз прекратил выдачу бесчисленных даров храмам, которые они получали во время царствования фараонов XXVI династии. При нем только три храма (в частности, храмы в Мемфисе и Гермополе) сохранили свое исключительное положение. Относительно уплаты государственных податей храмами египетские источники скудны. По свидетельству одного папируса, в саисский период настали «злые времена» и храмы были обложены податями. Очевидно, Ахемениды сохранили или еще больше увеличили подати египетских храмов государству. Кроме того, персидский сатрап в Египте осуществлял верховный надзор над назначением на жреческие должности. Наконец, большой интерес представляет указ Дария I с повелением не взимать налогов с земледельцев, принадлежавших храму бога Аполлона в Магнесин, и не привлекать их для обработки нехрамовой земли за то, что оракул Аполлона предсказал персам победу. Можно уверенно полагать, что во всей Ахеменидской державе храмы, как правило, платили подати и выполняли государственные повинности, но некоторые из них получали от царей привилегии и занимали особое положение. Как известно, к числу таких относился и Иерусалимский храм.
Армия
Существование Ахеменидской державы в значительной мере зависело от армии. Ядро ее составляли персы и мидийцы. Большая часть взрослого мужского насе
ления персов являлась воинами. Они начинали служить, по-видимому, с 20 лет. В войнах, которые вели Ахемениды, большую роль играли и восточные иранцы. В частности, сакские племена поставляли для Ахеменидов значительное количество привычных к постоянной военной жизни конных лучников. Высшие должности в гарнизонах, на основных стратегических пунктах, крепостях и т.д. обычно находились в руках персов. Армия состояла из конницы и пехоты. Кавалерия рекрутировалась из знати, а пехота из земледельцев. Комбинированные действия кавалерии и лучников обеспечили персам победы во многих войнах. Лучники расстраивали ряды противника, а после этого кавалерия уничтожала его. Главным оружием персидской армии являлся лук. По свидетельству документов из Вавилонии, вооружение всадника персидской армии состояло из железного панциря, а также бронзового щита и железных копий.
Костяком армии являлись 10 тыс. «бессмертных» воинов, первая тысяча которых состояла исключительно из представителей персидской знати и являлась личной охраной царя. Они были вооружены копьями. Остальные полки «бессмертных» состояли из представителей различных иранских племен, а также эламитов. В завоеванных странах были размещены войска для предотвращения восстаний покоренных народов. Состав этих войск в этническом отношении был пестрым, но жителей данной области в них было мало. По сообщению Геродота (III, 91), Египет кроме уплаты 700 талантов серебра в качестве подати ежегодно должен был доставлять для снабжения воинов царя, размещенных в этой стране, 120 тыс. мер зерна. Из этого можно сделать вывод, что в Египте Ахемениды держали армию в 10-12 тыс. человек. Вероятно, приблизительно такое же количество воинов насчитывали гарнизонные войска в Вавилонии, и, по-видимому, это явилось одной из основных причин того, что в Вавилонии при Ахеменидах цены на зерно и другие продукты питания поднялись на 50%, хотя стоимость земли увеличилась лишь незначительно.
На границах государства Ахемениды сажали воинов, наделив их земельными участками. Из военных гарнизонов такого типа лучше всего нам известна эле-фантинекая военная колония, созданная для несения сторожевой и военной службы на границах Египта с Нубией. В элефантинском гарнизоне находились персы, мидяне, греки, карийцы, хорезмийцы и др., но основную часть этого гарнизона составляли иудейские поселенцы, служившие там еще при египетских фараонах. Военные поселенцы жили на Элефантине вместе с семьями. Войско делилось на подразделения по 100 человек в каждом, называвшиеся по имени своих командиров. Во главе этих подразделений стояли персы и вавилоняне. Резиденция командира гарнизона находилась в Сиене (совр. Асуан), где были расположены также гражданские управления и судебные учреждения южного административного округа Египта. Лица, находившиеся на непосредственной военной службе, ежемесячно получали плату натурой (зерном, мясом и т.д.). Те, кто находились в отставке, жили с небольших наделов земли, освобожденных от уплаты податей, а также занимались торговлей и различными ремеслами. Сначала наделы этих колонистов, по-видимому, нельзя было отчуждать, но с течением времени их стали продавать, дарить и т.д., и поэтому нередко и женщины становились владельцами таких наделов.
Военные колонии, подобные элефантинской, находились также в Фивах, Западном Гермополе, Мемфисе и других городах Египта. В гарнизонах этих колоний служили арамеи, иудеи, финикийцы и другие семиты. Такие гарнизоны являлись прочной опорой персидского господства и во время восстаний покоренных народов оставались верными Ахеменидам.
. Во время важнейших военных походов (например, войны Ксеркса с греками) все народы Ахеменидской державы обязаны были выделять определенное количество воинов. При Дарии I персы стали играть господствующую роль и на море. Морские войны велись Ахеменидами с помощью кораблей финикийцев, киприотов, жителей островов Эгейского моря и других морских народов, а также египетского флота. В качестве матросов использовались также саки и персы. Часто руководящие посты во флоте занимали египтяне. Начиная с V в. до н.э. персидская пехота стала отступать на задний план и ее постепенно заменяли греческими наемниками, игравшими большую роль из-за своего технического превосходства.
Этнические и культурные контакты
В ахеменидское время происходили интенсивные процессы этнического смешения, ведшие к синкретизму культур и религиозных представлений различных народов. Этому способствовало, в частности, то, что теперь контакты между различными частями государства стали более регулярными, чем в предшествующий период. Кроме того, Ахемениды создавали во многих странах военные колонии из представителей различных народов или же в административный аппарат нередко назначали лиц, которые не являлись коренными жителями данной области. Далее, в государственных мастерских и на строительных работах использовались ремесленники чуть ли не из всех стран империи. Наконец, в ряде случаев Ахемениды осуществляли массовые перемещения целых племен, поселяя их в совершенно противоположных концах государства. В документах архива дома Мурашу из Ниппура около трети всех имен собственных не вавилонские. Среди них встречаются десятки иранских имен, носители которых были персами, мидийцами, саками и представителями других иранских племен. Кроме того, в Вавилонии жили западные семиты (среди которых особенно много было арамеев), а также эламиты, лидийцы, греки, фригийцы, карийцы, арабы, египтяне, индийцы и т.д. Более или менее аналогичным было положение в Сузах, где кроме эламитов в довольно большом количестве жили персы, вавилоняне египтяне, иудеи, греки и др. В Египте на Элефантине, в Мемфисе, Фивах, Гермополе и в других местах кроме коренного населения были также арамеи, иудеи, финикийцы, греки, киликийцы, мидийцы, персы, хорезмийцы и др. В ряде случаев такие чужеземцы размещались в определенных кварталах и имели свое народное собрание и органы управления. Например, в Вавилоне был квартал, заселенный египтянами. В Мемфисе карийцы и выходцы из Тира жили в особых кварталах, а ионийцы были размещены близ Бубастиса. В Ниппуре и его окрестностях для каждой этнической группы была выделена особая территория. Но в большинстве случаев
чужеземные поселенцы жили бок о бок с коренным населением, вступали друг с другом в различные деловые сделки, заключали смешанные браки, поклонялись одновременно своим и чужим богам и даже меняли свои имена, принимая чужеземные, или же наряду со своими именами пользовались именами того народа, в стране которого они находились. Например, перс Ариярата принял египетское имя Тах и поклонялся Мину, Гору, Исиде и другим египетским богам. Перс Багапат дал своему сыну тоже египетское имя Пахи. Иудеи на Элефантине поклонялись не только своему племенному богу Яхве, но и богам других народов. Один иудейский поселенец на Элефантине даже носил титул жреца египетских богов Хнума и Сета. Сатрапы и другие персидские чиновники в Малой Азии ходили в греческих одеждах, заодно восприняв и образ жизни местного населения. Практическая необходимость жить и работать рядом друг с другом требовала, чтобы представители различных народов терпимо и доброжелательно относились к чужеземным традициям, обычаям, языкам, законам и верованиям. Чужеземцы легко включались в общественную и экономическую жизнь страны, где они поселились, постепенно ассимилировались местным населением, принимая его язык и культуру и, в свою очередь, оказывая определенное культурное влияние на остальных жителей страны.
Глава 11
АХЕМЕНИДСКОЕ ИСКУССТВО
Первоначальное представление об ахеменидском искусстве как только о композите ассирийского, египетского, финикийского, греческого, ликийского, каппадокийского, фригийского искусства, с которым познакомилась армия персидского царя во время завоевательных походов (Ж. де Морган, 1905 г.), со временем модифицировалось по форме, но оставалось в значительной мере тем же по содержанию. Уже первые исследователи сформулировали два постулата ахеменидского искусства, ставших определяющими в его изучении: во-первых, ахеменид-ское искусство это прежде всего искусство царей, во-вторых, оно представляет собой сумму творческих усилий художников и ремесленников, собранных со всех концов империи, и поэтому эклектично по своей сути. Если первое определение справедливо лишь до известной степени и не является отличительной чертой именно ахеменидского искусства (ассирийское, египетское, урартское, эламское, хеттское искусство, известное нам, также было искусством царей), то в основе второго определения лежали представления, которые существенным образом повлияли на процесс изучения ахеменидского искусства и на понимание его природы.
Следует отметить, что с самого начала интерес к самой ахеменидской изобразительности был небольшим. Обычно отмечался орнаментальный и декоративный характер верениц воинов, знати и данников на рельефах Персеполя, статичность поз, отсутствие экспрессии в сценах борьбы зверей или царственного героя с силами зла. Невысокая оценка ахеменидского искусства была результатом того, что оно изначально рассматривалось через призму античной эстетики, нормы которой ахеменидской изобразительности не соответствовали. Возникал даже
129. Персеполь. «Гарем» Ксеркса, рельефы северного входа в центральный зал: царь со слугами
вопрос о самостоятельности ахеменидского искусства, и допускалось предположение, что оно является лишь провинциальной формой греческого искусства (Г. Рихтер, 1949 г.). Суть и назначение этого искусства долго оставались вне интересов исследователей, которые были сосредоточены на поисках истоков ахеменидского эклектизма. Были прослежены связи ахеменидского искусства почти со всеми областями Древнего мира, перечисленными Ж. де Морганом, но влияние греческого искусства долгое время признавалось главным (А. Фаркас, 1974 г.). В связи с этим отмечался новый характер ахеменидских рельефов. Древневосточный рельеф оставался по существу плоским, его детали, как правило, были гравированными и значительно реже— моделированными. Достижением же греческого искусства было превращение рельефа в пластическое произведение искусства. И если рельефы в Пасаргадах — это традиционная древневосточная работа, то в Персеполе и Сузах они воплощают греческую концепцию рельефа (Г. Франкфорт, 1946 г.). Однако в этом заключении имеется значительное преувеличение. С одной стороны, древневосточный рельеф также обогащался моделированными деталями, хотя, конечно же, моделирование играло подчиненную роль. С другой стороны, ахеменидский рельеф так и не стал по-настоящему пластическим произведением искусства. В отличие от греческого рельефа он не смог передать объем трехмерного тела, выступающего из камня. Поэтому увеличение роли моделирования в ахеменидском рельефе можно рассматривать как результат внутреннего развития древневосточной монументальной изобразительности. Более частым аргументом для доказательства греческого влияния на ахеменидское искусство служит манера передачи вертикальных складок одежды на ахеменидских рельефах, неизвестная в эламской и ассирийской изобразительности и которая обычно считается греческим изобретением. Однако это изобретение не бесспорно греческое. Применявшаяся греками система складок одежды могла быть заимствована ими на Востоке. И греки в эпоху архаики, и персы в VI-V вв. могли обращаться к одним и тем же художественным источникам. Решающим обстоятельством в понимании этой проблемы служит конечный результат использования этой идеи. А он принципиально разный. У греков драпировка существовала в различном сочетании складок. В эпоху зрелой и поздней архаики она вступает в прямое взаимодействие с пластикой человеческого тела, что делает ее индивидуальной для каждой скульптуры. В ахеменидской скульптуре изображения складок лишь иконографическая деталь, служащая для обозначения определенного типа одежды (и, с рядом других деталей, для изображения представителей определенного народа). Взаимодействие складок с телом условно. Многократно повторенный тип драпировки на рельефах Персеполя превращает ее в элемент орнамента. Таким образом, если в изображении складчатых одежд в обеих культурах, первоначально и было нечто общее, то в дальнейшем оно принципиально различно, как различно и художественное мировоззрение греков и персов. Участие греческих мастеров в художественном оформлении ахеменидских дворцовых комплексов не влияло на самостоятельную разработку этого элемента в ахеменидской изобразительности: несмотря на эти благоприятные условия, подражания не было, а было самостоятельное развитие первоначально общей идеи.
Со временем неизбежно встал вопрос: действительно ли ахеменидское искусство было несамостоятельным и обусловлено культурным багажом тех мастеров и ремесленников, которые были собраны со всех концов империи для строительства столиц Ахеменидов? Или оно было результатом выполнения программы, которую задумывал царь, а исполнители лишь осуществляли ее? Притом что восточный деспотизм часто использовал иностранную рабочую силу и мастеров, а имперское искусство всегда зависело от символов и форм, освященных традицией и переходящих из одной культуры в другую, почему именно ахеменидское искусство из-за наличия в нем ряда заимствований так долго недооценивалось? Последний вопрос, по-видимому, является ключевым.
Представление об ахеменидском искусстве только как о сумме чужих творческих усилий основывалось на традиционном взгляде на культуру персов накануне создания их империи. Подтекстом многих исследований было иногда четко обозначенное, иногда подразумеваемое предположение, что Ахемениды, все еще крепко связанные со своим кочевым прошлым, находились в своего рода культурном вакууме и плохо ориентировались в том культурном пространстве, куда, благодаря своим завоеваниям, они попали, став правителями всего Древнего Востока во второй половине VI в. до н.э. И поэтому, мол, они вынуждены были полагаться на умение и знания набранных ими ремесленников и художников.
На самом же деле, иранцы (как мидийцы, так и персы) задолго до создания их империи были и культурно, и политически инкорпорированы в древневосточный мир, их страна давно стала частью сложной сети обширных исторических и культурных связей этого мира. Мидийцы и персы познакомились с культурой Ассирии и Вавилонии задолго до VI в. до н.э. не только благодаря импорту дорогих и престижных вещей (Экбатаны — столица будущего Мидийского царства— лежали на Великом Хорасанском пути), но и через постоянные человеческие контакты в войне и дипломатии. Без малого 50 лет западные окраины Мидии вместе с Экбатанами входили в состав Ассирии (с 716 по конец 670-х годов). Иранцы приносили дань ко двору ассирийских царей, очевидно, согласуясь с потребностями и вкусами этого двора. Они были не только «потребителями» в этом культурном пространстве — их навыки и умение находили применение в этой среде.
Уже в VIII—VII вв. до н.э. иранцы ассимилировали многие аспекты культуры и искусства Ассирии, Вавилонии, Элама, Урарту, Манны. В мидийской архитектуре (Нуш-и Джан, 750-650 гг.), например, определенно прослеживаются заимствования отдельных элементов, архитектурных форм и планировок из Ассирии (планировка форта), из Урарту (вырубленные в скале цитадели туннели и цистерны для воды, «слепые» уступчатые окна-ниши, украшенные зубчатым бордюром из кирпичей), многоколонный зал был известен в архитектуре западного Ирана и Урарту. Отдельные элементы зданий Нуш-и Джана можно обнаружить в памятниках западного Ирана, но полного заимствования типов построек нет. Напротив, храм огня в Нуш-и Джане не имеет прототипов, изменилось и назначение зданий с многоколонным залом. Таким образом, уже мидийцы начали переосмысление старого и создание принципов новой, иранской, архитектуры, ко
торая обнаруживает много общих черт с архитектурой ахеменидского времени. Прежде всего это сказывается в общем для иранцев представлении о многоколонном зале как отдельном парадном здании, не связанном ни с жилыми, ни с хозяйственными функциями, — ахеменидская ападана (в Урарту и в западном Иране залы были окружены многочисленными помещениями разного назначения). Общими являются характерные детали декора: уступчатые ниши-окна и зубчатый бордюр в зданиях Нуш-и Джана, Пасаргад и Накш-и Рустама, а также некоторые технические строительные элементы. Некоторые исследователи видят в арках стены вокруг храма огня в Нуш-и Джане прообраз айвана (открытая галерея) — одной из характернейших особенностей иранской архитектуры последующих столетий.
К сожалению, Экбатаны не раскопаны до сих пор, и трудно сказать, насколько город в действительности соответствовал той роскоши и величию, которые описывает Геродот (I, 98). Нуш-и Джан был всего лишь провинциальным городом, но и он явился важным звеном для понимания генезиса и развития мидийского искусства, с одной стороны, и инкорпорированности культуры иранцев в древневосточный мир — с другой. Примечательно даже такое ритуальное заимствование из чужой религии: храм огня в Нуш-и Джане был по определенным причинам закрыт, но не разрушен, а доверху заполнен каменными плитками и щебнем. В Вавилоне такое действие было ритуальным приготовлением для постройки храма на новом месте.
Кроме названных общих черт мидийской и урартской архитектуры персы унаследовали, очевидно, также от урартов циклопическую каменную кладку и обработку камней рустом, скальные могилы, многоэтажные здания (ка‘ба Зороастра), использование контраста белого и черного камня. Урарты первыми ввели обычай написания лапидарных билингв, которые затем стали использоваться Ахеменидами. Некоторые формулы в ахеменидских официальных надписях повторяют урартские. Это знакомство с урартской канцелярией определенно могло произойти через мидийское посредство.
Некоторые сюжеты ахеменидской изобразительности и их стиль выявлены в культуре Ирана предшествующего времени (Зивие).
Долгое время считалось, что ахеменидское искусство было создано на пустом месте вторым великим Ахеменидом— Дарием I, который всеми средствами должен был, как считали исследователи, доказывать легитимность своей власти. Исследователи были склонны рассматривать это искусство как статичное явление, воспринимая его как нечто единое, созданное в короткий срок и способное впоследствии лишь репродуцировать себя, практически не изменяясь. Однако это представление стало разрушаться, когда, с одной стороны, стало очевидно, что персы начинали не на пустом месте, а с другой — когда появились результаты изучения Пасаргад, столицы Кира Великого, которому не нужно было доказывать легитимность своей власти.
Начиная с эпохи Кира многое можно назвать новым как в политике, так и в искусстве. Действительно, его политика по отношению к покоренным народам коренным образом отличалась от политики его предшественников как в социально-экономическом, так и в культурном плане. Целью Кира было не взима-
'30. Персеполь. «Гарем» Ксеркса, рельеф восточного входа в зал: борьба царственного героя с монстром
ние непосильной дани и уничтожение или депортация населения, а, напротив, создание нормальных условий для его экономической и духовной жизни. Депортированное население возвращалось на родину. Восстанавливались храмы, возвращались статуи богов, жречество получило возможность возродить свои древние культы, которым Кир всячески покровительствовал. Действия Кира в первые годы после его грандиозных завоеваний показывают, что он глубоко осознавал значение традиции, символических актов и протокола. Его религиозная политика в Вавилонии, восстановление Иерусалимского храма, текст его манифеста — все свидетельствует о том, что основатель первой мировой державы был частью исторического континуума и осознавал значение этого.
Кир построил столицу новой империи. Пасаргады стали новым типом города на Древнем Востоке (см. ниже). Изучение памятников искусства времени Кира позволяет теперь выделять особую фазу ахеменидского искусства, предшествующую его классической, или зрелой фазе. В Пасаргадах, действительно, много узнаваемых «цитат» из изобразительного искусства всего Древнего Востока. Но за этим стоит не беспомощность, незнание или непонимание персами задач и средств искусства или отсутствие собственных истоков, а продуманный царский заказ и сознательный отбор средств, необходимых для того, чтобы прокламировать принципиально новое в жизни огромной мировой державы. Киру необходимо было показать результат огромных завоеваний Ахеменидов. Сам город, лишенный мощной оборонительной стены, стал символом абсолютной власти царя, у которого нет врагов. Большое число узнаваемых «цитат» из искусства завоеванных стран могло указывать на эти беспримерные масштабы завоеваний, с одной стороны, и на желание царя и его окружения видеть в постройках, в планировке сада, в изображениях различных иноземных символов постоянное напоминание об этом — с другой. Гости же должны были усматривать в этом огромные размеры империи и, как иногда пишут, чувствовать себя как дома, видя знакомые образы. И если первоначально это искусство называли эклектичным, то позднее стало очевидно, что, вобрав в себя достаточно много заимствований, унаследовав мидийскую культуру, оно смогло стать абсолютно новым, ни на что в целом не похожим и легко отличимым от искусства предшествующего времени. И таким его сделали принципиально новые идеи ахеменидской государственной пропаганды.
Современному человеку трудно представить, что в до-греческой древности развитие искусства могло зависеть от сознательного и преднамеренного выбора отдельной личности. И тем не менее нет ничего принципиально нового в механизме создания ахеменидского искусства. Отбор образов, символов и т.п. для официального искусства существовал всегда и существует до сих пор. Художники всегда создавали то, что хотел заказчик. Древневосточное имперское искусство всегда заимствовало символы и формы, освященные традицией и ставшие престижными благодаря бесчисленным поколениям правителей. Не было ничего нового и в собирании Ахеменидами повсюду художников и мастеров— так очень часто поступали правители крупных держав Древнего Востока для воплощения своих грандиозных замыслов.
131. Персеполь. 100-колонный зал, рельеф северного прохода
Механизм сознательного отбора в искусстве не менялся в течение тысячелетий. Так, фараон ХШ династии Неферхотеп I (2-я четверть II тыс. до н.э.) сам пошел в архив храма Осириса с целью получить информацию о том, как надлежащим образом воспроизвести культовый образ бога. Ассирийские цари переписывались с художниками, планируя создание того или иного произведения искусства. Сохранились подобные документы и для ахеменидского времени. Во все времена цари и придворные проявляли интерес и принимали активное участие в создании деклараций своих имперских занятий, одной из форм которых было искусство.
Источники для сознательного отбора были обильными. Художественные мотивы могли переходить из одной культуры в другую, из одного периода в другой разными путями. Памятники старины достаточно долго сохранялись in situ и после гибели городов в результате войн, и после конца историко-политической эры. У фараонов было обычной практикой копирование рельефов знаменитых предшественников для использования в собственных памятниках. И многие памятники Месопотамии оставались доступными для осмотра в ахеменидское время. Классические источники, утверждающие, что та же Ниневия была полностью разрушена, преувеличивали. Разумеется, для грека Павсания руины не были достойны осмотра, тогда как анализ изображений в Пасаргадах, например, обнаруживает очень близкие версии некоторых ассирийских изображений из дворца Синаххериба в Ниневии.
Традиция обучения художников и писцов много сделала для сохранения образов прошлого. Они учились, копируя памятники старины. Необходимо принимать во внимание и преднамеренное сохранение древностей: военных трофеев, статуй богов, драгоценных вещей, посвященных богам. Определенная информация сохранялась придворными художниками и писцами, которые сопровождали царей в военных походах для того, чтобы описывать события и экзотические памятники, как позднее это делалось, например, при Александре Македонском и Наполеоне в Ниневии.
Ахемениды стали наследниками всего древневосточного мира: часть цивилизаций погибла незадолго до их появления (Ассирия, Урарту), другие вошли в состав Ахеменидской империи (Египет, Вавилония, средиземноморские страны). Политика в отношении населения и культуры покоренных стран свидетельствует о том, что Ахемениды осознавали свое наследие, и это является признаком великих империй и могущественных государственных религий. Во многом Ахеменидская империя, ее искусство и культура стали кульминацией всего того, что было до них, и основным источником для последующего исторического и культурного развития Ближнего Востока доэллинистического периода.
Пасаргады
Первая столица ахеменидских царей была построена Киром Великим между 547 и 530 гг. до н.э. Строительство города было прервано смертью царя. Позднее строительство в его отдельных районах продолжалось, но административной
столицей Пасаргады перестали быть. По свидетельству Плутарха (Art. 3), Пасаргады оставались священным центром Ахеменидов, где короновался каждый новый царь.
Город находился в Мургабской долине (совр. провинция Фарс), в 80 км к северо-востоку от Персеполя и в 90 км от г. Шираз. Долина орошается р. Пульвар и окружена горами. Согласно Ктесию, первоначально название «Пасаргады» носила высокая гора, на которой персы во время войны с Астиагом укрывали своих жен и детей, там же произошла решающая битва персов с мидийцами, в результате чего власть в стране перешла к Ахеменидам (FrGrH, fr. 66, 35-36). Желая увековечить свою победу, Кир, происходивший, очевидно, из племени пасарга-дов, решил в центре их земель построить свою столицу (Strabo XV, 3.8, р. 730; Anaximen fr. 18).
Город не имел четкой планировки и состоял из нескольких частей. В так называемом районе дворцов археологами исследованы остатки шести зданий, которые находились на расстоянии до 200 м друг от друга и в древности утопали в зелени садов. К северо-востоку от этого района, на холме, на искусственной каменной террасе при Кире началось строительство еще одного дворца. При Дарии I это незаконченное здание было перестроено в цитадель с парадным плацом и небольшим колонным залом. Поэтому этот район условно называется районом цитадели. К С-СЗ от основного комплекса построек, на значительном расстоянии, находилась так называемая священная ограда с культовыми сооружениями. В 1 км к юго-востоку от дворцов Кир построил гробницу, где и был похоронен.
Пасаргады обнаруживают отличные от древневосточной модели города черты. Во-первых, как уже было отмечено, в нем отсутствовали оборонительные сооружения. Во-вторых, дворцы, свободно расположенные в пространстве, были окружены садами. Впоследствии такой тип планировки назвали «парадисом» (от др.-иран. *para-daiza-, охотничий парк, заповедник, парк). В-третьих, здесь был создан новый тип парадного входа в город в виде павильона (входа в крепостных стенах теперь не было). В-четвертых, Кир отказался от традиционной для Ближнего Востока техники строительства из необожженного кирпича. Здания были построены из светлого и черного камня, который добывался поблизости. Они были украшены раскрашенными каменными рельефами и скульптурой. Техника строительства из камня существовала в то время в Малой Азии, откуда и были привезены мастера. Скульптурные работы выполнялись мидийскими и месопотамскими мастерами.
Район дворцов (буквенные обозначения дворцов согласно принятым в литературе).
Дворец R служил парадным входом в дворцовый комплекс. Он представляет собой прямоугольное здание с восьмиколонным залом (24,4x22,6 м) и четырьмя входами: главные входы в торцовых стенах, боковые в середине длинных его стен. Таким образом, проход осуществлялся между двумя рядами колонн. Это было, по-видимому, самое высокое здание в городе — до 16 м высоты. Главные входы здания в древности охраняли колоссальные фигуры крылатых быков и человекобыков. Боковые проходы были украшены рельефами, из которых сохранился лишь один. Он изображает четырехкрылого гения-хранителя (высота
фигуры 2,9 м) в эламском парадном длинном платье с каймой и в тройной короне египетского типа.
Хотя рисунок четырехкрылой фигуры бесспорно базируется на ассирийском типе крылатого гения из Хорсабада, всё, кроме характерного рисунка крыльев с прямыми перьями, претерпело изменение. Правая рука вытянута в приветственном жесте, а не держит сакральные предметы (левая рука практически не видна). Иной тип лица— иранский— с короткой бородой, едва намеченная мускулатура, ноги скрыты длинной одеждой. Все это станет характерными чертами ахеменидской изобразительности последующего времени. Одежда с широкой каймой находит близкие параллели в одежде эламского царя Теуммана на рельефе Ашшурбанапала. В этой одежде можно видеть намек на аншано-эламские связи рода Кира и на желание подчеркнуть национальный элемент в защитительной функции четырехкрылых гениев. Корона может рассматриваться как знак победы Кира над могущественным Египтом.
В архитектурном отношении дворец R отмечает появление в иранской архитектуре гипостильного пропилея. Кир создал иранскую форму колонного входа на базе зала с двумя рядами колонн, добавив, согласно ассирийской традиции, изображения существ, охраняющих входы. В чуть измененном виде такой тип царских ворот использовался Дарием I в Персеполе и в Сузах.
Дворец S — дворец с колоннами, или зал аудиенций. В его основе лежит такой же восьмиколонный гипостильный зал (32x22 м, высота колонн— 13,1 м). Но в отличие от дворца R он окружен со всех сторон низкими портиками с двумя рядами колонн. Главный портик длиной 55 м насчитывал 48 колонн, боковые портики— по 16, задний портик насчитывает только 28 колонн, которые находятся между небольшими квадратными помещениями. Четыре прохода находятся в центре каждой из стен здания. В целом планировка дворца представляет собой логичное и гармоничное целое.
В архитектуре этого региона не удается найти подходящий прототип для такого здания. Поэтому предполагалось, что именно греческая stoa (крытая колоннада, портик) может представлять исходный материал для многоколонных крытых портиков в сочетании с планировкой анатолийских дворцов VI в. до н.э. Подчеркивалось также и ионийское влияние, особенно в форме баз колонн. Однако надо помнить, что как восьмиколонный зал, так и угловые комнаты, примыкающие к залу, и низкие портики по фасаду здания представлены в архитектуре Западного Ирана уже в начале I тысячелетия до н.э. (Хасанлу IV и Баба-Джан III).
Во дворце S сохранились нижние части рельефных панелей с изображением демонов и чудовищ с ногами быков и птиц, бычьими хвостами, а также жрецов, облаченных в плащи в виде рыб (или рыболюдей). Ближайшие аналогии обнаруживаются среди ортостатов из дворца Синаххериба в Ниневии. Вероятно, эти изображения воспринимались персами как «охранители ассирийских владык» и в таком же качестве были заимствованы на рельефах Пасаргад. Но это уже не были точные копии ассирийских оригиналов. Во-первых, мускулатура этих фигур слабо намечена, что отличает всю персидскую изобразительность. Во-вторых, как и во дворце R, отсутствуют обязательные для ассирийских изображений
132. Персеполь. 100-колонный зал, рельеф северного прохода: деталь балдахина
аксессуары (ведерки или шишки в руках жрецов). В-третьих, имеющееся во дворце S сочетание фигур жреца в паре с человекобыком на ассирийских изображениях не наблюдается.
Дворец аудиенций обращен главным портиком к дворцовому парадному саду.
Дворец Р, или резиденция, представляет третий тип дворцовых построек в Пасаргадах. Внешне схожий в плане с дворцом S, он значительно больше размерами и не так гармоничен в плане, что может объясняться его незавершенностью. В этом здании только два портика (возможно, что боковые портики не успели построить при жизни Кира, как и вымостить задний портик). Длина главного портика с 40 колоннами, обращенного в сад, около 75 м. Задний портик с 24 колоннами и угловыми помещениями короче главного. Все тридцать колонн зала были деревянными и оштукатуренными. Зал отличается также и тем, что в нем два прохода, которые смещены от центра стен. Смещение прохода в стене, обращенной в сад, объясняется тем, что снаружи в центре главного портика находится тронное место. Поскольку оно обнаружено только в этом дворце, в месте, с которого можно было обозревать великолепный дворцовый сад, то предполагается, что это был жилой дворец и место частных аудиенций.
Первоначально стенки обоих дверных проходов были украшены идентичными рельефами, выполненными на плитах черного известняка. Изображения каждой пары рельефов выполнены в зеркальном отражении. Сохранились фрагменты трех из четырех рельефов. На каждом из них изображены фигура царя в персидской одежде с посохом в руке, выходящая из зала, и следом за ним фигура меньших размеров, очевидно, слуги. По некоторым данным, в руках последнего был зонтик. Сохранившиеся мелкие отверстия свидетельствуют, что первоначально обувь и складки царской одежды были украшены металлическими (золотыми?) бляшками. Царь и слуга, держащий зонтик над ним, — традиционная композиция в ахеменидской изобразительности, прототипы которой имеются в ассирийском искусстве.
Именно эта композиция и манера изображения складок царской одежды лежат в основе разногласий по поводу датировки дворца Р, источника заимствования изобразительности и в конечном счете возможности выделять в ахеменид-ском искусстве ее раннюю фазу.
Сторонники поздней даты этих изображений исходили из предположения, что только Дарий I был создателем и организатором классического ахеменидского искусства. Поскольку изображение царя из дворца Р близко персепольским, следовательно, и время его создания должно относиться ко времени Дария. Деревянные колонны в таком случае тоже должны указывать на достройку дворца уже после смерти Кира. Поскольку столица была перенесена Дарием в Персеполь и все средства были направлены на строительство там, то, мол, в Пасаргадах колонны были сделаны уже не из камня. Это объяснение неубедительное, потому что в доахеменидское время в Иране применялись только деревянные оштукатуренные колонны.
В настоящее время накопилось достаточно наблюдений в пользу ранней даты этих рельефов. Несколько технических и стилистических особенностей отличают их от подобных, но неидентичных изображений в Персеполе: на рельефах от-
133. Персеполь. 100-колонный зал, рельеф южного прохода
сутствуют следы зубцов резца, тогда как в Персеполе этот инструмент стал широко применяться камнерезами, в последнем отсутствует декорирование одежды бляшками, представлена другая линия подреза подола одежды и т.п. Кроме того, согласно реконструированной надписи (СМь), найденной во дворце, сделанной, однако, уже во время Дария (разделители слов имеют форму постбехистунского времени), дворец построил Кир, который и изобразил себя на рельефе.
Традиция скульптурного изображения складок одежды в ахеменидском искусстве если и была заимствована, то скорее всего у греков Ионии. Около 547/46 г. до н.э. прототипы такой драпировки уже имелись в землях, вошедших в состав Ахеменидской империи. Точнее, по-видимому, можно говорить о художественных контактах, благодаря которым достижения ионийского греческого искусства были востребованы в связи с внутренними процессами, происходившими в ахеменидском искусстве: попыткой внешней конкретизации и натурализации изображений. Но как и другие заимствования в Пасаргадах, и это уже при жизни Кира могло быть переработано и переосмыслено. Натуралистические плавные формы ионийской скульптуры превратились в орнаментальные и неизменные формы канонической ахеменидской драпировки. Несомненно, это была преднамеренная попытка стилистически дополнить ощущение неизменности власти и неподвижность вечности, что наполняет все ахеменидские рельефы, возможно, за исключением рельефа Дария в Бехистуне.
Дворцы с парадным залом в Пасаргадах представляют собой сильно измененный по сравнению с мидийским временем тип построек в Иране. Здание приобрело портики со всех сторон и четыре прохода; там, где прежде был только один вход и одна главная ось, ведущая к фиксированному тронному месту, мы находим теперь четыре входа без главной оси и фиксированной точки в пределах зала. При Дарии 1 этот стандартный зал приемов был немного видоизменен: удлиненное помещение заменилось квадратным, портики и угловые комнаты стали одной высоты с центральным залом, и одна из его сторон превратилась во вход, ведущий в частные покои царя.
На всех сохранившихся рельефах во дворцах R, S и Р найдены клинописные надписи на вавилонском (аккадском), эламском и древнеперсидском языках. Надпись СМа, найденная во всех трех дворцах, располагалась над рельефами и читается как «Я, Кир, царь, Ахеменид». Во дворце Р на складках одежды царя написано «Кир, великий царь, Ахеменид» (СМс). Надпись СМь, фрагменты которой найдены также во дворце Р, свидетельствует о том, что Кир сам построил дворец и сделал рельеф. Согласно реконструкции Р. Боргера и В. Хинца, это надпись была высечена по распоряжению Дария. По-видимому, из дворца Р первоначально происходила и надпись, фрагменты которой найдены возле Зиндана. Дж. Камерон предполагал, что это могла быть копия известной в нескольких экземплярах из Персеполя и Хамадана «закладной надписи» Дария I.
В настоящее время большинство исследователей склоняются к заключению, что все надписи в Пасаргадах сделаны Дарием I.
Дворцовый сад. Сады были неотъемлемой особенностью Пасаргад. Однако главным является четко спланированный сад, расположенный перед дворцом Р
и образующий с ним одно целое. Его площадь примерно 230x200 м, углы сада строго ориентированы по осям С-Ю, В-3.
Длинный водопроводный желоб из белого камня шириной 0,25 м, прерываемый с интервалами в 13—14 м квадратными бассейнами размером 0,8x0,8 м, образует прямоугольные линии дорожек и засаженных участков сада. Перед дворцом сад разделен водопроводом на четыре прямоугольные части и окружен дорожками шириной до 26 м, ведущими к двум садовым павильонам (в плане павильоны представляют уменьшенные копии дворца S, только без угловых помещений). Центральная аллея сада, тронное место в портике и центр зала дворца Р лежат на одной оси, которая и образует своего рода «аллею власти» в саду.
Столь продуманная и взаимосвязанная планировка главного дворца и сада позволяет предполагать воплощенную в жизни и в искусстве претензию Кира II быть владыкой четырех сторон света. Определенно именно Кир ввел в дворцовый обиход чахар-баг, или четырехчастный сад, который столь хорошо согласуется с природным чувством равновесия в персидском искусстве. Конфигурация сада стала постоянным каноном персидских садов и оставалась знаком легитимной власти в сасанидском Иране и позднее, причем уже и за его пределами (Львиный двор в Альгамбре в Испании и сады Великих Моголов в Индии). Система орошения, впервые обнаруженная в Пасаргадах, используется до сих пор в Иране в «английских» парках.
Устройство сада было, по-видимому, прервано смертью Кира. Но сад существовал и позднее. Был построен мост над глубоким каналом недалеко от дворца S. Возле одного из садовых павильонов (В) был обнаружен в кувшине для воды один из самых богатых кладов ахеменидского времени. Судя по стилю украшений, он может датироваться примерно серединой IV в. до н.э.
Зиндан. Севернее района дворцов стояла изолированная башня, называемая Зиндан-и Сулейман («тюрьма Соломона»).
В своем первоначальном виде (in situ сохранилась лишь фасадная стена) квадратная в плане башня была высотой более 14 м и площадью 7,25x7,22 м. Трехступенчатое основание башни имело максимальную площадь 19,5x14,8 м. На высоте 7,8 м от монолитного основания находилось небольшое темное помещение, куда вела массивная лестница в 29 ступеней. Три стены украшены тремя рядами «слепых» окон, фасад — двумя рядами, все стены украшены многочисленными прямоугольными углублениями, расположенными в шахматном порядке. Башня сложена из хорошо обработанных блоков светлого песчаника, скрепленных свинцовыми и железными скобами. Во избежание монотонности светлых стен дверной проем и оконные углубления были облицованы черным камнем. Зубчатый бордюр под карнизом украшал верх башни. Крыша была сложена из четырех массивных блоков, каждый из которых имел слабо выраженную пирамидальную форму. Башня была окружена на расстоянии пяти метров стеной из сырцового кирпича.
Это сооружение Кира послужило моделью для так называемой «Ка‘бы Зороастра» — высокой башни, возведенной Дарием I в Накш-и Рустаме. Ее хорошая сохранность позволила реконструировать Зиндан.
Ни точное назначение башни, ни ее возможные прототипы окончательно не установлены. Обе башни уникальны, и даже сходство с урартскими башенными храмами не признается решающим. Тем не менее следует помнить, что в Урарту квадратная башня использовалась в качестве храма, зубчатый бордюр, слепые окна, использование светлого и черного камня— все эти детали известны в урартской архитектуре, а некоторые из них, в сырцовом варианте, — ив мидийской.
В ходе изучения этих башен сложились три точки зрения относительно их назначения: храм огня, царская гробница, хранилище царских и ритуальных принадлежностей. В последнее время исследователи склоняются к последней из них. Действительно, постоянное горение огня в столь малом помещении невозможно без должной вентиляции. В мидийском храме огня в Нуш-и Джане треугольное в плане помещение, в котором горел огонь, было площадью 11x8 м, высотой 8 м и снабжено вентиляционными отверстиями. Интерпретация башни как гробницы Кира, по-видимому, отпадает при ее сравнении с гробницей, расположенной к югу от района дворцов. Дело в том, что, согласно Арриану, дверь в гробницу была столь узкой, что человек даже небольшого роста едва мог протиснуться в нее (Anab.VI. 29). И действительно, размеры дверного проема в гробнице Кира 1,31x0,78 м, тогда как в Зиндане — 1,83x0,94 м.
Священная ограда. Здесь сохранились два каменных алтаря огня и холм с пятью искусственными террасами. Алтари представляют собой два каменных полых куба свыше 2 м высотой, установленных на уступчатом основании, в кладке которого использовался черный камень. Северный алтарь состоит только из гладкого куба, тогда как южный имеет дополнительную уступчатую вершину, на которую можно подняться по каменной лестнице в восемь ступеней, сделанной из монолитного блока песчаника и приставленной к кубу. Некоторые конструктивные детали показывают, что уступы наверху алтаря предполагалось заложить блоками черного камня и таким образом сохранить кубическую форму сооружения.
Террасовидный холм, в основе которого лежит естественная скала, находится в 123 м западнее алтарей и представляет собой ступенчатую платформу, на которую вела лестница. Нижняя терраса площадью приблизительно 40x60 м, верхняя, вымощенная сырцовым кирпичом, 10x15 м. Стены террас укреплены сухой каменной кладкой. В центре платформы должно было находиться еще одно культовое сооружение. Все сооружения были окружены каменной стеной (южная стена длиной 186,6 м, северная — 200,8 м). Платформа и стена были сооружены уже после смерти Кира.
Гробница Кира— самое знаменитое сооружение ахеменидской эпохи. Ее описание сохранилось у античных авторов, у которых не было сомнений, что в гробнице был похоронен Кир II Великий.
Сооружение состоит из двух частей: высокого уступчатого постамента, сложенного из шести плит, и целлы с двускатной крышей. Размеры нижней плиты постамента— 13,35x12,30 м, общая высота здания — Им. Оно построено из тщательно пригнанных плит песчаника, скрепленных металлическими скобами. Размер погребальной камеры 3,17x2,11 м, в нее ведет узкий проход (1,31x0,78 м).
134. Накш-и Рустам. Каба Зороастра
Конек крыши, или фронтон, первоначально украшала металлическая розетка (диаметр— 0,49 м) с золотыми или бронзовыми вставками. Здание построено примерно в 540-530 гг. Оно охранялось магами, для которых рядом было построено небольшое помещение.
Прототип этого необычного здания остается неизвестным. Его искали в месопотамском или эламском зиккурате, особенно в форме уступчатого постамента. Истоки целлы с двускатной крышей видели в урартской архитектуре или в каменных погребальных сооружениях эпохи бронзы. Подчеркивалось ионийское влияние как доминирующий фактор. И действительно, определенные строительные и технические приемы обработки камня, отдельные архитектурные элементы можно найти в Ионии и Лидии. Розетка напоминает деталь акротерия фригийских фронтонов. Ложбина, разделяющая двускатную крышу, напоминает фригийскую и анатолийскую строительную практику.
Но находки прототипов отдельных элементов гробницы не отрицают главного вывода исследователей: этот новый тип здания представляет собой иранский замысел, воплощенный в камне желанием ахеменидского царя.
Возле могилы Кира росла «роща из разнообразных деревьев», орошаемая ручьями и окруженная лугом с «густой травой» (Arrian. Anab. VI.29). В самой гробнице, по рассказам античных авторов, в золотом гробу покоилось набальзамированное тело Кира. Рядом находилось ложе, застланное шкурами, на котором лежали плащ Кира, драгоценное оружие, браслеты и т.д. Гробницу дважды посещал Александр Македонский, но ко времени второго его визита она была уже разграблена. Гробница Кира всегда почиталась местным населением как святыня. В средневековье ее называли «гробницей матери Соломона» (Кабр-и мадар-и Сулейман). Из собранных на развалинах Пасаргад колонн и других каменных фрагментов вокруг гробницы возвели нечто вроде мавзолея. Остатки колонн находятся вокруг гробницы до сих пор. В XIV в. здесь было устроено медресе.
Район цитадели. При Кире здесь была построена огромная каменная платформа, максимальная высота которой достигала 13,3 м, известная среди местного населения как «трон матери Соломона» (Тахт-и мадар-и Сулейман). Она дает представление о непревзойденных по масштабу и качеству строительных достижениях Кира. Эта высокая платформа с двумя церемониальными лестницами, очевидно, предназначалась для частных дворцов царя. Трудно сказать, в какой степени повлиял на это сооружение террасный акрополь в Сардах, но мало сомнений в том, что лидийские каменщики принимали участие в этом строительстве. Эта терраса явилась предшественником большой террасы с лестницами в Персеполе. Возможно, что в ахеменидское время именно такие высокие террасы, ввиду отсутствия оборонительных стен, выполняли защитную функцию царских дворцов.
Рельеф Дария в Бехистуне
Основным источником, повествующим о событиях, потрясших империю Ахеменидов после смерти Камбиза и завершившихся возвышением Дария I, является
Бехистунская надпись. Она высечена на недоступной высоте 105 м возле древнего караванного пути, шедшего из Месопотамии на восток через горы Загроса и Экбатаны. Памятник находится в 32 км восточнее г. Керманшах. Надпись, высеченная в искусственном углублении, представляет собой самую большую трилингву на эламском, аккадском и древнеперсидском языках и содержит более тысячи строк. Общая высота надписи — 7,8 м, длина— 22 м. В центре находятся пять столбцов древнеперсидского варианта надписи. Именно над ними расположен рельеф, изображающий Дария I и двух оруженосцев, его поверженных врагов и фигуру Ахура Мазды, парящей над всей остальной группой. Весь рельеф имеет высоту около 3 м и длину 5,48 м.
Центральными фигурами рельефа являются Дарий и Ахура Мазда. Верхняя часть фигуры бога, обращенная лицом к царю, выступает из крылатого солнечного диска. Правая поднятая рука ладонью повернута к царю. В левой протянутой к царю руке первоначально было золотое (?) кольцо, от которого сохранилось лишь круглое углубление. Это фарн— олицетворение божества удачи и, одновременно, божественной харизмы власти и ее легитимности. Высокая корона бога украшена у основания рогами и увенчана круглой эмблемой с изображением восьмиконечной звезды. Дарий изображен стоящим лицом вправо, правая рука поднята в молитвенном жесте ладонью к богу, в левой он держит лук. Левой ногой царь попирает распростертого на спине мага Гаумату. За ним вереница восьмерых стоящих пленников со связанными за спиной руками. Судя по надписям, это самозванцы, восставшие против царя и разгромленные им. Девятым изображен вождь саков Скунха. Все они связаны одной веревкой. За царем стоят два знатных оруженосца, один — с копьем, другой — с луком. Все фигуры строго профильные и разной высоты. Дарий — 1,72 м, его приближенные — около 1,5 м, пленные — 1,17 м, высота Скунхи — 1,8 м за счет высокой остроконечной шапки и чуть бблыиих размеров самой фигуры. Она была добавлена позднее, для чего была стесана часть первоначального эламского варианта надписи.
Позднее были также внесены два изменения в изображения Ахуры Мазды и Дария. Эмблема со звездой на короне бога была высечена на отдельном каменном блоке и затем вставлена в рельеф. У Дария первоначально была короткая курчавая борода, как и у его спутников. Затем был вставлен каменный блок с фронтальным изображением длинной «царской» бороды, изображенной волнистыми линиями, разделенными горизонтальными поясками из отдельных завитков. Позднее изображение «царской» бороды будет строго профильным.
Дарий и оба представителя знати одеты одинаково. Их одежда — самое раннее детальное изображение многоскладчатой свободной персидской одежды. Царь обут в так называемую «царскую» обувь без ремешков. На голове — зубчатая диадема, украшенная такими же звездами, как и на короне бога. У приближенных обувь с ремешками, на головах вышитые повязки. Пленные изображены одетыми.
В этом своем первом памятнике Дарий прежде всего подчеркивает законность своей власти, данную Ахура Маздой, и собственную непобедимость, демонстрируя поверженных врагов. Текст надписи и список побежденных дают основание датировать сооружение памятника не позднее 520 г. до н.э. Фигура
Скунхи и текст 5-го столбца древнеперсидской версии надписи (DB IV) добавлены после разгрома саков в 519 г. до н.э.
Сцены, изображающие триумф царя над врагами, чрезвычайно редки в ахе-менидском искусстве. Помимо Бехистунского рельефа этот сюжет представлен только на печатях. Уникальность рельефа состоит не только в сюжете, но и в том, что он иллюстрирует реальные события, описанные в трилингве. Существующее мнение, что изображение Дария якобы в молитвенной позе означает его поклонение Ахура Мазде, должно быть оставлено. Анализ рельефа и текста дает основание считать, что на рельефе реализована ахеменидская идея сотрудничества царя и бога. В символическом смысле Ахура Мазда передает царю символ власти, олицетворенный в кольце, тогда как конкретная власть в образе пленных уже находится в руках Дария.
Бехистунский рельеф является блестящим примером тонкой, продуманной переработки старых идей и форм изобразительности для построения и выражения новой концепции власти. Прототипом идеи и композиции этого памятника Дария служит рельеф луллубейского царя Анубанини в Зар-и Пуле (ок. 2000 г. до н.э.), расположенный также возле караванной дороги недалеко от Керманша-ха. Образ Ахура Мазды, фигуры оруженосцев, стиль и детали костюма указывают на ассирийские дворцовые рельефы как на источник заимствования.
Действительно, полуфигура ассирийского бога (Шамаша или Ашшура) в крылатом диске (характерный признак крыльев — горизонтальные ряды перьев) с кольцом (чаще с луком) на рельефах IX в. до н.э. более всего сопоставима с фигурой Ахура Мазды на Бехистунской горе. Однако на ассирийских рельефах IX в. бог скорее присутствует, в лучшем случае вторит действиям царя, но взаимодействия между ними нет. Он смотрит в одну сторону с царем; если последний сражается, то и бог стреляет в его врагов из лука. Даже когда бог держит кольцо власти, он не предпринимает никаких действий, оставаясь нейтральным по отношению к царю. Традиционная инвеститура уже как бы имела место, и нет необходимости ее повторения в каждом новом контексте. И царь, уже приобретя власть от бога, действует автономно. Позднее, на рельефах VIII-VII вв. даже это сдержанное присутствие бога исчезает, и царь действует без явной помощи высшего существа.
Ахемениды адаптировали древний образ бога, следуя своим собственным религиозно-политическим требованиям. В Бехистуне фигура Ахура Мазды, достаточно точно копируя ассирийский прототип, была увеличена в размере; его решающая роль в сцене подчеркивается обращенным к царю лицом и протянутым кольцом. Идея взаимодействия царя и бога отличает Бехистунский рельеф от ассирийской изобразительности IX в. до н.э. и указывает на рельеф в Зар-и Пуле как на прямой источник воплощения этой идеи. На нем также изображены обращенные друг к другу царь, попирающий левой ногой распростертого на спине врага, и богиня Иштар с кольцом в правой руке, в ее левой руке веревка, связывающая пленных. Двойная роль Иштар как богини, дающей власть, и военного сообщника царя, передающего ему пленных, это также и идея Бехистунского памятника точно выраженная в надписи (DB IV) и подразумеваемая в рельефе. В композиционном и образном отношении на близость обоих памятников указы-
/35. Накш-и Рустам. Гробница Ксеркса
вает следующее: вереницы связанных пленных, и попираемый ногой царя пленный. Восьмилучевая звезда Иштар в круге, находящаяся между царем и богиней, на Бехистунском рельефе перенесена на корону Ахура Мазды.
О продуманном создании композиции рельефа в Бехистуне свидетельствует появление за спиной Дария I двух знатных персон, что обычно для ассирийских рельефов, но отсутствует в Зар-и Пуле. Но Дарию было важно поместить изображения людей, из чьей среды он сам поднялся и кому был многим обязан.
Стиль Бехистунского рельефа проще, чем позднее искусство Дария. Он объединяет изобразительные условности персидского искусства времени Кира с характерными чертами ассирийского искусства.
Сузы
Бывшая столица Элама— Сузы — стала одним из главных городов Ахеменидской империи. Согласно Страбону (XV, 3.2), Кир II после победы над мидийцами выбрал своей резиденцией Сузы. Однако следов его строительства здесь не обнаружено. Клинописные документы, найденные в Сузах, сообщают о строительной деятельности Дария I, Ксеркса, Артаксеркса 1, Дария II и Артаксеркса II. Со времени Дария 1 Сузы были главной столицей империи и зимней резиденцией царя. Согласно античным и библейским источникам, Сузы были средоточием всей административной, дипломатической и придворной активности Ахеменидов. Примечательно, что греческие авторы ничего не знали о Персеполе до разрушения его Александром Македонским. Геродот, как и Ксенофонт, восхищенный устройством царского пути, описывает его от Сард только до Суз и не далее (V, 52-53). В «Персах» Эсхила новости о разгроме персидского царя сообщаются в Сузы. Александр Македонский взял Сузы за несколько месяцев до разгрома Персеполя, но не разрушил город, и позднее именно туда он вернулся, чтобы отпраздновать победу над Ахеменидами. Исследование города сопряжено с огромными трудностями прежде всего из-за длительности его существования в до-и постахеменидское время. К началу строительства Дария I город, после разрушения его войсками Ашшурбанапала, если и не превратился в груду развалин, то уже определенно перестал быть политическим центром. В отличие от Персеполя Сузы сохранились так плохо, что современным исследователям трудно оценить экономическую и административную роль этой столицы. Не обнаружены ни сокровищница, ни кладовые, которые помимо дворцов строил каждый персидский царь (Strabo XV, 3.21). По иронии судьбы в Сузах найдено очень мало административных и хозяйственных документов и надписей, тогда как в Персеполе обнаружены тысячи документов и множество надписей.
Сузы начали застраиваться Дарием I раньше Персеполя, около 519 г. до н.э. За несколько десятилетий древний город был полностью перепланирован. Архитекторы Дария выбрали три холма разной высоты. Их расположение образует ромб, ставший основанием нового города. Условные названия холмов — Ападана, Акрополь и Царский город. Строители выровняли поверхность всех трех холмов, затем в нужных местах насыпали щебень, в результате чего строительная
136. Прорисовки оттисков двух цилиндрических печатей на табличках из Персеполя:
1 —Дария; 2 — Фарнака
137. Цилиндрическая печать Дария (агат)
Yllll Ммнп
площадка оказалась на одном уровне, на высоте 18 м над уровнем реки Шаур. Склоны холмов были оформлены почти вертикальными гласисами (передний скат бруствера). Город не имел крепостных стен.
В Акрополе обнаружены лишь следы ахеменидского строительства. В Царском городе исследовано несколько построек. К ахеменидскому времени, по-видимому, относятся остатки ворот на восточном склоне холма и, бесспорно, пропилеи на его западном крае. Это квадратное здание из сырцового кирпича размером 24x24 м состоит из двух продолговатых помещений, стены которых украшены нишами, и двух портиков с парой колонн. Каменные базы колонн, состоящие из двух уступчатых квадратных плит, типичны для ахеменидского времени. Странно, что ни один из портиков не обращен к склону холма. На южной оконечности холма находится так называемый донжон (отдельно стоящая башня), но его отнесение к ахеменидскому времени спорное. Среди его развалин найдены фрагменты ортостатов, изображающих слуг, в том числе поднимающихся по лестнице.
Небольшой овраг между холмами с Царским городом и Ападаной был углублен, его крутые склоны изолировали холм, на котором находился царский дворец, названный Дарием I в своей надписи ападаной. В дворцовый комплекс Дария можно было попасть из Царского города по мосту длиной 30 м, построенному через овраг между двумя холмами. Затем через парадные ворота проходили через двор и попадали или в жилой дворец, или в приемный зал — ападану. Постройки были окружены глинобитной стеной, облицованной сырцовым кирпичом.
Дарий I сам рассказал о своем строительстве в Сузах в нескольких закладных табличках, найденных в помещениях дворца. В 1969-1970 гг. были найдены две одинаковые таблички из серого мрамора размером 33,6x33,6x8,7 см с аккадским текстом (DSaa) на одной, и с эламским (DSz) — на другой. Текст близок по содержанию трехязычной табличке (DSf), опубликованной в 1929 г. Дарий сообщает: «Земля была вырыта глубоко, пока я не достиг скального грунта. Когда [земля] была вырыта, был насыпан гравий, в некоторых [местах] 40 локтей в глубину, в других — 20 локтей в глубину. На этом гравии дворец сооружен. Земля была вырыта глубоко, сырцовый кирпич формован — вавилонский народ [все это] сделал». Раскопки показали, что кое-где поверхность выравнивалась рядами сырцовых кирпичей. Гравий доставлялся с реки Керхе, в 2 км от Суз. В одном месте была прослежена глубина слоя гравия; она не превышала 11 м, что примерно соответствует 20 локтям. Для строительства и украшения дворца, согласно Дарию, «кедр доставлен с горы Ливан... Тиковое дерево было доставлено из Гандхары и Кермании... Золото... из Лидии и Бактрии. Самоцветы, лазурит и сердолик... из Согдианы. Бирюза... из Хорезма. Серебро и эбеновое дерево... из Египта. Украшения для стен доставлены из Ионии. Слоновая кость... из Эфиопии (Куш), Индии и Арахозии. Каменные колонны, которые здесь использовались, доставлены из селения Абираду в Эламе. Работники, которые тесали камень, были ионийцы и лидийцы. Золотых дел мастера... были мидийцы и египтяне. Люди, которые инкрустировали дерево, были лидийцы и египтяне». В Сузах, по-видимому, впервые в истории была собрана столь огромная и разнород
ная по происхождению армия мастеров. Ассирия и даже Вавилония не знали такого размаха. Хотя не исключено, что в этом перечне есть доля преувеличения, обусловленная пропагандистскими целями документа: желанием продемонстрировать огромные размеры империи и ее неисчерпаемые возможности.
Жилой дворец общей площадью 250x150 м представлял собою комплекс построек вокруг трех дворов и этим напоминает ассиро-вавилонские дворцы, особенно Южный дворец в Вавилоне. Отличительной особенностью Суз является отсутствие поблизости каменных карьеров. Поэтому стены зданий возводились из сырцового кирпича, в основание которых укладывался обожженный кирпич квадратной формы. По-видимому, по этой же причине нет каменных рельефов. Стены украшались обширными панно из глазурованного кирпича. Панно изображают вереницы людей— царских телохранителей, львов, мифических существ: крылатых быков, драконов, сфинксов. В цветовой палитре преобладали синий, зеленый, кремовый, желтый и черный цвета. Использование этих мотивов, как и сами декоративные панно, восходит к месопотамской и эламской традициям. Ближайшие по времени аналогии — это великолепные панели из построек Навуходоносора II в Вавилоне. Сузские изразцы отличаются от вавилонских тем, что они сделаны из фритты (стекловидной массы) вместо терракоты. Для темного контура рисунка часто использовалась смесь с более высокой температурой плавления, чем смесь на основной части рисунка. Благодаря этому четкий контур рисунка оставался без изменений при обжиге изразцов.
Ападана примыкает к дворцовому комплексу с северо-востока и занимает площадь 109x109 м. Гипостильный 36-колонный зал приобрел квадратную форму (58x58 м), но по-прежнему с проходами в каждой из стен. В своем окончательном виде колонны покоились на квадратных уступчатых базах. Но судя по плитам основания, первоначально базы были круглыми. Эта замена произошла уже при Ксерксе: на прямоугольной базе обнаружена его трилингва, в которой он сообщает о завершении этого здания, строительство которого было начато его отцом Дарием (XSd). Колонны зала высотой 20 м украшены капителями в виде бычьих голов. В середине южного ряда колонн сохранилось каменное основание для трона. С трех сторон ападаны обнаружены остатки 12-колонных портиков. Как первоначально и в зале, в портиках базы колонн были круглыми, имели колоколовидную форму и были украшены отличным для каждого из портиков орнаментом: бутоны и цветки лотосов, пальметты и ряды ов. Колонны, базы и капители красились желтой краской для имитации камня под мрамор. Судя по расположению баз, по углам здания находились угловые помещения, как это было в Пасаргадах. Отличительной особенностью этих дворцовых построек Дария I является отсутствие платформ, на каждой из которых возводилось отдельное здание, что было характерно для его построек в Персеполе. Ападана Дария сгорела в царствование Артаксеркса I и была перестроена при Артаксерксе II.
Парадные ворота (40x28 м) находились в восточной части террасы на высоте 15 м над уровнем реки и замыкали мост, соединявший оба холма. Техника выравнивания поверхности и засыпки гравия под фундамент, описанная Дарием I при строительстве дворца, использовалась и здесь. Здание состоит из трех помещений: четырехколонного гипостильного зала (21,2x21,2 м) и двух боковых
узких комнат (8,6x4,1 м). Проход осуществлялся через центральный зал. Оштукатуренные стены зала были украшены нишами. Полы были вымощены квадратным обоженным кирпичом. Базы колонн квадратной формы (1,6x1,6 м), диаметр колонн— 1,25 м. С внешней стороны ворот по обеим сторонам прохода первоначально стояли статуи. С внешней стороны сохранились лишь плиты оснований под пьедесталы. Со стороны двора, судя по одинаковым пьедесталам, стояли две статуи Дария 1, сохранилась одна их них.
Ворота в Сузах отличаются своей планировкой от пасаргадских, но функционально они близки. Отсутствие в ахеменидских городах монументальных крепостных сооружений, в которых всегда были парадные ворота, заставило ахеменидских архитекторов искать новую форму парадного входа. И она была найдена в форме отдельно стоящего павильона. Сооружение ворот, начатое Дарием I, было закончено его сыном Ксерксом, о чем он сообщил в надписи, найденной в зале (XSd).
Статуя Дария является первым и пока единственным образцом ахеменидской круглой скульптуры. Она выполнена вместе с прямоугольным пьедесталом из монолита египетского камня (граувакка), который добывался в карьерах Вади-Хаммамат в Египте. Верхняя часть скульптуры утрачена. Ее первоначальная высота была около 3 м. Статуя изначально должна была крепиться к стене здания, для чего на спине фигуры имеется прямоугольная опора.
Царь изображен идущим, с выдвинутой левой ногой. Левая рука согнута в локте и прижата к груди, в кулаке что-то было зажато (цветок?). Правая рука, вытянутая вдоль тела, сжимает короткий жезл. Именно эта статичная, фронтальная поза с выдвинутой левой ногой и положение рук — черты, столь характерные для египетских статуй, — предполагают работу египетских скульпторов. Примечательно также, что на поверхности камня отсутствуют характерные для персидских каменотесов этого времени следы резца даже в тех местах, где отсутствует полировка. У египетских мастеров отсутствовали металлические орудия с твердым острым концом.
Однако египетские скульпторы изобразили царя в персидском свободном платье с широкими рукавами: оно подпоясано поясом, завязанным сложным узлом, недлинные широкие концы которого свободно свисают. Расположение складок одежды на скульптуре впервые доказывает, что придворная персидская одежда состояла из двух элементов: верхней накидки с широкими рукавами, длинные складки которой изображены на статуи вертикально, и нижнего платья, складки которого между полами накидки изображены горизонтальными чуть изогнутыми рядами. Обувь без ремешков, кинжал за поясом и браслеты — всё это атрибуты изображений царя в ахеменидском искусстве.
На вертикальных складках одежды расположен текст на четырех языках: с правой стороны эламский, аккадский и древнеперсидский, взывающий к Ахура Мазде, — в нем сообщается, что статуя изготовлена в Египте с тем, чтобы каждый видел и знал — персидский человек завоевал Египет. Египетский иероглифический текст, помещенный на складках слева, связывает Дария с богом Ату-мом, покровителем Гелиополя, и превозносит доблести царя в традиционной египетской фразеологии. На концах пояса — иероглифический картуш Дария I.
138. Рельеф Дария 1 на Бехистунской скале
На передней и задней сторонах пьедестала (размером 1,043x0,65 м и высотой 0,51 м) выбита типичная для египетских статуй композиция: два божества р. Нил соединяют символы Верхнего и Нижнего Египта. На боковых сторонах по 12 изображений коленопреклоненных представителей народов Ахеменидской державы, чьи названия обозначены в картушах. Хотя фигурки очень малы, исполнены они чрезвычайно тщательно: различаются костюмом, прической и даже физиономиями. На верхней поверхности цоколя— посвятительная иероглифическая надпись, в которой также призывается Атум как покровитель ахеменидского царя.
Обращение в надписях к Атуму дает основания предполагать, что статуя была сделана для храма Гелиополя. Не исключено, что позднее Ксеркс привез статую в Сузы, чтобы спасти ее из ставшей теперь враждебной страны. Не исключено также, что в Египте могли сделать копии, предназначенные для посылки в Иран. Примечательно, что на статуе обнаружены следы раскраски, что не характерно для египетской скульптуры и, напротив, могло быть сделано уже в Сузах.
Статуя датируется последними годами правления Дария I. Возле ворот была найдена надпись Ксеркса (XSd), в которой он сообщает, что эти «большие ворота» построил Дарий. Это может указывать или на достройку Ксерксом ворот, или на ремонт, производившийся в связи с установкой статуй Дария, привезенных Ксерксом из Египта.
Несмотря на характерные признаки египетской скульптурной школы, статуя Дария I представляет собой великолепный образец ахеменидского художественного стиля зрелого периода, в котором господствуют баланс и симметрия, спокойствие и величие.
Изображения на пьедестале статуи находят близкие параллели со стелами Дария I, установленными на правом берегу Суэцкого канала. Они были воздвигнуты в ознаменование завершения этого великого деяния Дария. Сохранились фрагменты трех из четырех стел. На них изображены те же 24 фигурки, что и на пьедестале статуи, с названиями стран в картушах. В верхней закругленной части стелы изображен египетский крылатый диск, осеняющий фигуры двух богов р. Нил, которые символически соединяют Верхний и Нижний Египет.
В 350 м к западу от холма Ападаны, на другом берегу р. Шаур находился дворец Артаксеркса И. Он меньше дворца Дария. В гипостильном зале (37,5x34,6 м) с 64 колоннами впервые обнаружена роспись на стенах. Использовались синяя (кобальт), красная (окись железа и киноварь), белая и черная краски. Ракрашива-лись также деревянные колонны и каменные базы колоколовидной формы.
Здание III, входящее в комплекс дворца Шаур, примечательно тем, что, как и дворцы в Персеполе, оно возведено на дополнительной платформе высотой 2,5 м. Платформа состоит из сетки, образованной сырцовыми стенками, ячейки которой заполнены гравием. К центральному портику здания ведет боковая лестница, которая, вероятно, была украшена каменными рельефами, изображавшими, в частности, слуг, поднимающихся по лестнице. Такие же ортостаты обнаружены в донжоне в Царском городе. Здесь же были найдены фрагменты глазурованных кирпичей. Дворец Шаур датируется началом IV в. до н.э.
139. Гробница Кира 11 в Пасаргадах
140. Дарик — ахеменидская золотая монета
Персеполь
Город расположен в обширной долине Марв-и Дашт у подножия горы Кух-и Рахмат (гора Милосердия) в 50 км к северу от Шираза. Само название города греческое и впервые встречается у греческих авторов после захвата Персии Александром Македонским. Местное название города, которое сохранилось в многочисленных хозяйственных документах на эламском языке и в одной персидской надписи, было Парса. Хотя Персеполь был разграблен и сожжен войсками Александра Македонского в 330 г. до н.э., его руины оставались доступными для обозрения в последующие века. В мусульманскую эпоху название города было забыто и его руины стали называться Тахт-и Джамшид— «Трон Джем-шида»— по имени мифического героя иранского эпоса. Эти руины впервые отождествил с Персеполем в 1620 г. испанский путешественник Дон Гарсия. Благодаря многолетним раскопкам и сравнительно хорошей сохранности остатков зданий удалось провести реставрационные работы. Персеполь является наиболее хорошо изученным городом Древнего мира.
Город был основан Дарием I вскоре после его возвращения из Египта в 518 г. Строительство продолжалось при его преемниках Ксерксе и Артаксерксе I приблизительно до 450 г. Персеполь не был ни административной, ни дипломатической столицей империи. Это была церемониальная столица Ахеменидов, здесь они короновались, совершали заупокойные церемонии по умершим царям и поблизости их хоронили. Здесь торжественно отмечали все важнейшие праздники страны. Может быть, именно этим «внутренним» назначением города объясняется отсутствие о нем сведений за пределами государства.
План будущего города был детально разработан еще до начала работ. Об этом свидетельствует планировка водопроводных каналов и дренажа, которая в точности соответствуют плану возведенных позднее зданий. Первоначально у подножия горы была сооружена искусственная терраса, которая возвышается на 13-14 м над окружающей равниной (ее размеры 500x300 м). В основе террасы находится природная скала, которая забутована битым камнем и щебнем. Снаружи она облицована огромными каменными блоками. Титаническая работа была выполнена по облицовке платформы. Вырубленные в недалеко расположенных карьерах камни были разного размера и формы. На месте блоки были тщательно подогнаны друг к другу и уложены без скрепляющего раствора, поверхность камней была отполирована.
Археологические раскопки, хозяйственные тексты и царские надписи дают возможность установить основные этапы сооружения города. После достройки Ксерксом дворцов, строительство которых было начато Дарием I, и возведения им собственных дворцов Персеполь выглядел как неприступная крепость. С трех сторон город был окружен стеной из сырцового кирпича, возведенной по краю платформы. С восточной стороны он примыкал к неприступной горе. В город поднимались по широкой парадной лестнице из двух двойных маршей в 111 низких ступеней, вырубленных из белого известняка. По столь пологой лестнице можно было подниматься и верхом на конях. Лестница вела к так называемым Пропилеям Ксеркса. В надписи Ксеркса на этом здании названо «Ворота всех
стран». Это здание похоже на ворота Дария в Сузах и представляет собой четырехколонный гипостильный зал с тремя проходами (с северной стороны ворот, у края платформы прохода нет). Южный проход ведет во двор перед ападаной, восточный — в глубь платформы через вторые недостроенные ворота, ведущие к тронному залу. Восточный проход здания фланкировали две огромные фигуры крылатых человекобыков, западный — две фигуры быков. Наличники дверных проходов, как и во всем городе, вытесаны из камня, а стены сложены из сырцового кирпича с декоративной глазурованной поверхностью.
Ападана — самый большой и высокий дворец Персеполя. Он возведен на дополнительной платформе высотой 2,6 м. Гипостильный зал с 36 колоннами (их высота 20 м) площадью 60,5x60,5 м мог вместить в особых случаях (например, на царской аудиенции) до 10 тыс. человек. Ниши зала и проемы дверей были украшены рельефами из песчаника. С южной стороны к нему примыкали служебные помещения. С остальных сторон зал был окружен 12-колонными портиками. По углам здания возвышались четырехугольные башни. Во дворец попадали по лестницам, ведущим в северный и восточный портики: в центре платформы две лестницы в один марш поднимались навстречу друг к другу, и по углам вдоль платформы были лестницы в один марш. Передний фасад платформы, внешний и внутренний фасы лестницы украшены рельефами. Рельефы восточного и северного фасадов практически идентичны. Между центральными лестницами первоначально находился рельеф, изображающий Дария на троне в окружении придворных, гвардии и его наследника Ксеркса, стоящего за троном. Перед царем в поклоне церемониймейстер в персидской одежде, который представляет делегации, прибывшие к царю. Царь обращен лицом в сторону процессии из представителей 23 народов державы, несущих подарки или ежегодную дань царю. Они изображены в трех регистрах на фасаде платформы. Главу каждой делегации покоренных народов ведет за руку либо перс, либо мидиец, вооруженные мечом или кинжалом. За спиной царя на большом рельефе в три ряда изображена могущественная армия царя царей: солдаты эламских полков с копьями, луками и колчанами, персидская гвардия «бессмертных» с копьями, воины несут царский трон, ведут царских коней и тянут царские колесницы. На северной лестнице царь смотрит вправо, а на восточной— влево, соответственно большие рельефы на обоих фасадах находятся в зеркальном отражении. Позднее центральные рельефы были заменены другими. Они находятся in situ. На них под крылатым солнечным диском фигуры восьми воинов — персов и мидийцев, по четверо друг против друга. По сторонам центрального рельефа и по краям больших панно изображены одинаковые символические сцены — нападение льва на быка, древневосточного символа равноденствия. Первоначальные изображения царя на троне были перенесены в царскую сокровищницу. Планировка ападаны в Персеполе и в Сузах идентична вплоть до формы баз колонн — прямоугольные в зале и круглые в портиках.
В фундаменте здания были обнаружены два каменных ящика с золотой и серебряной закладными табличками в каждом, весом по 9,6 кг. Трехъязычная клинописная надпись, в частности, сообщает, что здание было заложено Дарием, хотя в надписи на лестнице ападаны ее сооружение приписано Ксерксу. Указан
ные в тексте границы державы, а также греческие и лидийские монеты, найденные под портиками, определяют дату закладки дворца около 515 г. до н.э.
Из ападаны через восточный портик можно было перейти в небольшое так называемое центральное здание, которое примыкает к юго-восточному углу ападаны. Его называли также трипилоном, полагая, что это здание с его тремя парадными входами служило монументальными воротами между парадным и жилыми районами города. В нем видели «зал совещаний», допуская, что здесь собиралась знать для совещания с царем. Это предположение согласуется с наличием в северном главном портике скамей вдоль стен и с сюжетом рельефа на северной лестнице. Обращает на себя внимание некоторая затрудненность переходов между помещениями в этом здании, где для этого приходилось пользоваться длинными обходными коридорами. По центральной оси здания на рельефах северного и южного прохода в зал изображен Дарий, за спиной которого — фигуры двух слуг меньших размеров с зонтиком и мухобойкой в руках. На рельефе восточного прохода торжественная сцена «тронного приема» — Дарий на троне, за ним стоит наследник. Их поддерживают 28 представителей подвластных народов, сгруппированных в трех регистрах. Композиция увенчана символом Ахура Мазды. Северная парадная лестница, сконструированная подобно главному входу на террасу, имеет двойной фасад. Декоративная схема фасадов включает панели для надписей (которые так и не были нанесены), каждая из которых фланкирована фигурами персидских и мидийских гвардейцев и сценами нападения льва на быка. Внутренний и внешний фасы лестниц украшены шествием знати, держащейся за руки, в мидийской и персидской одежде. На рельефах небольшой южной лестницы, явно служебного назначения, изображены слуги, несущие баранов, сосуды и бурдюки с вином в сопровождении церемониймейстеров.
Надписей, связанных с этим зданием, не имеется. Традиционно его сооружение датируется временем Дария I. Северная лестница, вероятно, сооружена позднее.
Жилой дворец Дария I, тачара, примыкает к юго-западному углу ападаны. Он сооружен на платформе высотой 2,4 м. Главная двойная лестница с южной стороны ведет в парадный восьмиколонный портик, фланкированный двумя караульными помещениями. С двух сторон входа в квадратный 12-колонный зал имеется по паре окон с каменными наличниками. На западной и восточной сторонах зала по три небольших помещения, в северной стене — проходы в две четырехколонные комнаты с узкими двойными помещениями по бокам. В северо-западном углу центрального зала— выход через небольшую комнату на западную лестницу. Этот дворец обычно сравнивается с храмом Дария I в Хибисе (оазис Эль-Харга в Египте). Помимо этого, сильное влияние египетской архитектуры, начавшееся, очевидно, с правления Дария, сказывается в орнаменте дверных карнизов (орнамент cavetto).
Все дверные проемы зала украшены рельефами. По главной оси здания — царь, выходящий из зала (южный вход) с посохом и цветком в руке, за ним двое слуг с зонтиком, мухобойкой и полотенцем. Похожие рельефы на северной стороне зала, только без зонтика у слуг. Рельефы на восточной и западной сторонах изображают борьбу царственного героя с львом, львиноподобным монстром и быком.
141. Оттиск ахеменидской печати с надписью Дария 1
142. Фигурка всадника
Дворец был построен до смерти Дария I в 486 г. до н.э. и был первым полностью законченным зданием Персеполя.
Западная лестница была построена позднее, возможно при Артаксерксе III, о чем сообщает надпись этого царя (АЗРа). Первоначально, как показали реставрационные работы, имелся только один южный вход. Кроме того, рельефы лестницы (на внешнем фасаде лев и бык, сцены принесения дани, на внутренней стене лестницы — слуги, несущие провизию) обнаруживают сходство с позднеахе-менидской скульптурой.
Ападана, тачара и центральное здание планировались и возводились практически одновременно и составляют единый архитектурный комплекс времени Дария I. Рельефы с изображением царя на троне и стоящего за ним наследника— Дария и Ксеркса — позднее не повторяются. Фигура принца была заменена фигурой слуги. Это связано с изменением политической ситуации и возникшими трудностями с назначением наследника.
При Ксерксе помимо пропилеев к югу от комплекса зданий, возведенных при Дарии, были построены гарем и дворец Ксеркса. Парадная часть гарема — это обычный квадратный зал с двенадцатью колоннами и портиком с двумя караульными помещениями. Обычен и набор сюжетов на рельефах дверных наличников: по центральной оси здания — царь с посохом и цветком в руке, выходящий из внутренних покоев в зал и из зала в портик. Его сопровождают слуги, несущие зонтик, мухобойку и полотенце. На проходах в боковые помещения — сражение царственного героя с силами зла. Основная часть гарема— это бесчисленное количество небольших одинаковых четырехколонных помещений, связанных длинными коридорами.
Дворец Ксеркса по своей архитектуре близок дворцу Дария I, в отличие от последнего в зале было 36 колонн. На рельефах царь в сопровождении слуг.
Между 481-472 гг. строительство в Персеполе затухает и мастера заняты главным образом украшением зданий. Возможно, именно в это время велось интенсивное строительство в Сузах, и туда были переведены ремесленники из Персеполя. Кроме того, в это время шла война с Грецией. В 466 г. в Персеполе снова начинается интенсивное строительство, и вскоре заканчивается сооружение тронного зала.
Тронный (или стоколонный) зал— самое большое после ападаны здание в Персеполе. Во дворец должны были попадать через специальные ворота, к которым вела дорога от пропилеев Ксеркса, и большой двор. Но эти ворота остались недостроенными, их план напоминает ворота в Сузах. Парадный портик с 16 колоннами вел в огромный зал (68,5x68,5 м). Перекрытие из кедровых балок держалось на 100 колоннах. Стены зала украшены каменными нишами. С трех сторон зал окружен очень узкими длинными помещениями, которые могли служить только чем-то вроде кладовых. В каждой стене зала имелось по два прохода, украшенных рельефами. По главной оси зала на северной стороне сцена с царем напоминает первоначальный центральный рельеф ападаны, на котором царь принимает церемониймейстера, но за троном стоит слуга, а не принц, и гвардейцы. Над ними балдахин с изображением шагающих в двух рядах верениц животных, львов и быков, разделенных рядами лепестковых розеток. Под
143. Ахеменидская серебряная монета (Амударьинский клад)
144. Ахеменидский царь, изображение на печати
троном — пять регистров с изображением гвардейцев. Только на рельефах главного входа в зал первоначально царская корона была украшена золотыми деталями, сохранились мелкие отверстия для крепления. Золотыми были также браслеты, ожерелье и серьги царя. На рельефах южной стороны зала изображен царь на троне, за ним слуга с мухобойкой и полотенцем. Над ними балдахин, аналогичный изображенному на северном рельефе. Над ним изображен символ Ахура Мазды, обращенный лицом в одну сторону с царем. В отличие от рельефов центрального здания Ахура Мазда держит в левой руке цветок вместо кольца. Трон царя поддерживается 14 персонифицированными субъектами стран, на каждой стороне прохода изображены различные фигуры, поэтому всего представлено 28 стран. На проходах в боковые помещения четыре пары различных сцен борьбы царственного героя с быком, львом, львиноподобным монстром и чудовищем, у которого голова, туловище и передние лапы льва, шея, крылья и задние ноги птицы, а хвост скорпиона. Все эти сцены символизируют борьбу с созданиями Аримана, восставшими против законной власти.
Текст закладной таблички, найденной под полом зала, сообщает, что здание спланировано и построено Ксерксом, хотя в действительности большая часть строительства пришлась на время Артаксеркса I.
И последним по времени постройки является дворец Н, примыкающий с запада к дворцу Ксеркса. На этом месте здание неоднократно перестраивалось, и окончательно дворец был построен, по-видимому, при Артаксерксе I. Здание отличается от всех дворцов в Персеполе асимметричной планировкой: зал с 16 колоннами смещен относительно центральной оси, рядом с ним большое четырехколонное помещение. Необычна центральная лестница, ведущая в 12-колонный портик. Вместо обычной двойной лестницы, идущей вдоль фасада, она перпендикулярна ему. По углам фасада— лестницы в один марш. Рельефы лестницы изображают вереницы данников, но отсутствуют изображения знати и царской аудиенции.
Хотя при Артаксерксе I строительство в Персеполе в основном закончилось, сотни мастеров должны были постоянно следить за сохранностью зданий из сырцового кирпича, предохранять дренажную систему от засорений, а также ухаживать за садами, разбитыми на террасе и в ее окрестностях.
Позади террасы, внутри ограды, расположены скальные гробницы Артаксеркса I, II, и III и незаконченная гробница Дария III. Архитектура и стиль украшения гробниц последних ахеменидских царей практически не изменились со времени Дария I, создавшего официальный тип царской усыпальницы. Гробницы Дария I, Ксеркса и Дария II находятся недалеко от Персеполя в иранском религиозном центре Накш-и Рустам. Здесь же находятся башня «Ка‘ба Зороастра», о которой говорилось выше в связи с Зинданом в Пасаргадах, а также несколько алтарей огня. Это место почиталось и в сасанидскую эпоху.
Самый ранний ахеменидский памятник этого комплекса — гробница Дария I. На недоступной высоте в скале Кух-и Рахмат вырублена квадратная комната. В центре искусственной крестообразной ниши высечена имитация входа в царский дворец: крышу-портик с зубчатым фризом поддерживают четыре колонны с такими же капителями в виде протом животных, как в Пасаргадах, Персеполе
и Сузах. Дверь в усыпальницу оформлена так же, как и двери парадных дворцов. Над портиком находится рельефная композиция, повторяющая «тронные сцены» Персеполя, — представители покоренных народов, изображенные в двух регистрах, поддерживают платформу, на ней на ступенчатом пьедестале изображен Дарий, обращенный к алтарю огня, опирающийся на лук, с поднятой правой рукой в молитвенном жесте. Над Дарием парит символ Ахура Мазды. Остальные усыпальницы в Накш-и Рустаме повторяют в деталях ту же сцену.
Имперский стиль, созданный Ахеменидами, характеризует унифицированность и нормативность форм и приемов, а также канонизированность изображений. Различные области империи, отличавшиеся в своем искусстве локальными особенностями, в произведениях официального придворного круга стали придерживаться общей официальной линии, единых общегосударственных художественных норм. Это, в свою очередь, не могло не повлиять на местные художественные школы. И в конечном счете ахеменидский дворцовый стиль впервые фактически создал единственную культуру от Инда до побережья Малой Азии.
Этот стиль узнаваем повсюду в произведениях как больших, так и малых форм. Произведения торевтики, выполненные мастерами в разных концах империи, стандартны по форме, орнаменту, размерам. За пределами Ирана изменились формы и стиль керамической столовой посуды, которая теперь стала воспроизводить ахеменидские формы и орнаментацию. Ахеменидское ювелирное искусство, некоторые произведения которого, как и предметы торевтики, точно воспроизведены на дворцовых рельефах, также обнаруживает удивительное единство стиля и моды. Можно говорить о влиянии иранской торевтики и ювелирного искусства и за пределами Ахеменидского царства, в частности, на греческое искусство классического периода V-IV вв. до н.э.
Вместе с тем, говоря о единстве искусства эпохи Ахеменидов, следует подчеркнуть, что это единство существовало в рамках общегосударственных художественных норм. И хотя, как уже сказано, имперское искусство не могло не повлиять на традиционную культуру различных регионов, вошедших в состав Ахеменидского государства, но также не могло не быть и обратного влияния. Это взаимодействие четко прослеживается в регионах с культурой изначально чуждой иранской, где сильно было влияние искусства других, не менее ярких цивилизаций. В первую очередь это относится к Малой Азии. И в этой связи особое место в искусстве ахеменидской эпохи занимает глиптика.
Сюжеты и стиль изображений на всех видах гемм свидетельствуют о единстве ахеменидского искусства. В то же время именно глиптика позволяет уловить те изменения в ахеменидском искусстве, которые произошли в нем со временем и которые в силу определенных причин не улавливаются в произведениях больших форм. Помимо имперского стиля ахеменидские печати несут в себе художественные достижения культуры малоазийских народов, которые оказались в эпицентре встречного движения процессов «иранизации» и «эллинизации». В результате этого взаимодействия в Малой Азии сложилось так называемое грекоперсидское искусство, ярким выражением которого стала глиптика.
Начиная с эпохи Дария I искусство глиптики переживает небывалый расцвет. Разные слои общества на всем пространстве империи используют резные печати.
Они изготавливались из лазурита, из многих разновидностей халцедона, самые простые— из глины и стекла. Печати были цилиндрические и штемпельные, последние имели разнообразные формы. Широко распространяются цилиндрические и штемпельные печати придворного стиля, названные так потому, что многие изображения обнаруживают сходство с персепольскими рельефами. Поскольку оттиски печатей этого стиля найдены на датированных документах, главным образом из Персеполя, и многие из печатей сами имеют надписи с именами царей, вельмож и священнослужителей, то это помогает определять даты изготовления самых ранних печатей в пределах последней четверти VI в. и наибольшую их популярность до середины V в. до н.э. Чаще других на этих печатях вырезались фигура царя, сцены борьбы царственного героя с силами зла, изображения реальных и фантастических зверей, знакомые нам по рельефам. Лучшие из них являются шедеврами глиптики (например, печать Дария со сценой царской охоты из Британского музея). Цилиндрическими печатями, как следует из надписей на них и характера запечатанных ими документов, владели цари и высокопоставленные чиновники и придворные, но, как показывают последние исследования, не только они. Примечательно, что придворный стиль при изготовлении печатей не был обязательным в этой среде. Так, известна цилиндрическая печать управляющего царским хозяйством Фарнака, сына Аршамы, заменившая, как следует из соответствующего документа 500 г. до н.э., потерянную; новая печать, изображающая борьбу героя с двумя львами, выполнена в ассирийском стиле.
Использование штемпельных печатей греко-персидского стиля постепенно возрастает в V в. до н.э. и становится очень популярным в IV в. до н.э. В Персе-поле на документах из сокровищницы, относящихся к 492-458 гг., прослеживается увеличение числа именно таких печатей, как, впрочем, и печатей чисто греческого стиля. Среди печатей греко-персидского круга выделяются две разновидности: многогранные и скарабеоиды. Первые, за редким исключением, являются десятигранниками — формой типично малоазийской, не характерной ни для персидской, ни для восточногреческой глиптики1. Изображения гравировались на нескольких гранях. Скарабеоиды отличаются от персидских и восточногреческих аналогов рядом деталей, в том числе сильно изогнутой спинкой, истоки такой формы связаны с соседними с Малой Азией областями. Сюжеты и стиль исполнения многогранников ближе к восточногреческим печатям. Скарабеоиды сильнее окрашены влиянием иранского искусства. Обе разновидности печатей имеют как общие сюжеты, так и характерные для каждой из них. Одни многогранники сочетают изображения животных и изображения, тематически близкие восточногреческим; другие сочетают животных со сценами из жизни местной иранизированной элиты или персов и мидян. Именно эти сцены связывают многогранники со скарабеоидами, главным сюжетом которых является че-
1 Геммы восточногреческого, или ионийского, круга по стилю являются произведениями собственно греческого искусства, но имеют свои характерные особенности. Местом их изготовления были районы юго-запада и юга Малой Азии, в том числе резиденции некоторых персидских сатрапов и династов, при дворах которых работали греческие художники.
145. 1 — серебряные статеры сатрапа Датама;
2 — серебряные статеры сатрапа Мазея
ловек. За исключением зверей в сценах охоты, изображения на скарабеоидах трудно сопоставить с восточногреческими геммами. Центральной фигурой ска-рабеоидов является «перс» в придворном и национальном платье, а также его конь в характерном убранстве. Встречаются и женские изображения в персидской или мидийской одежде. Сложение фигуры и ее постановка, манера передачи одежды— все свидетельствует о негреческом, восточном происхождении образов. В популярных сценах охоты, в отличие от восточногреческого искусства, художники не могли передать стремительность движения, они лишь обозначали представление о нем. В целом греко-персидские печати являются произведениями провинциального ахеменидского искусства, но одновременно могут рассматриваться и как произведения малоазийского искусства, находившегося под влиянием персидской и восточногреческой культур.
Постепенно в «имперском целом» нарушается баланс центробежных и центростремительных сил, усиливаются периферийные художественные центры и локальные традиции, становится более обширным влияние эллинской культуры [Никулина, 1994]. И очевидно, это состояние, как и сам феномен создания при Ахеменидах на огромном пространстве единой элитарной культуры, — все вместе способствовало после крушения Ахеменидской державы быстрому и широкому становлению культуры и искусства эллинистического периода.
♦ ♦ ♦
Черпая из огромного художественного наследия всего Древнего Востока, опираясь на сознательную и продуманную переработку древних прототипов и формул прежнего имперского искусства, Ахемениды разработали принципиально новую программу своего имперского искусства. Отбор образов показывает, что вся ахеменидская изобразительная культура зрелого периода обслуживает две главные идеи ахеменидской государственной пропаганды: идею обуздания зла и идею всеобщего согласия. «Всеобщее согласие» — новая идея первой мировой державы.
Первая идея обслуживается несколькими сюжетами в скульптуре и в прикладном искусстве— это образ царственного героя, одолевающего животных и монстров. В Персеполе этот символ украшает дверные проемы. Причем всегда герой защищает внутренние покои от пытающейся проникнуть туда твари. Сюда же можно отнести и зооморфные капители колонн: колонна пронзает чудовище, предполагая обуздание мощной силы зла, чья деструктивная сила может конструктивно использоваться для поддержки царского дома. А в целом подчеркивается разрешение конфликта, о котором рассказано в рельефах: зло преодолено, угроза отведена.
Завершением этого конфликта служит простейший сюжет персепольских рельефов (отголосок рельефа из дворца Р в Пасаргадах) — царь при регалиях выходит из зала, за ним слуги. Смысл тот же: бой закончен, царь может выходить из дворца — великолепный и невредимый.
Новую идею всеобщего согласия воплощают сюжеты, связанные с царем на троне. Один из них: царь на троне или помосте, который поддерживают персонифицированные субъекты стран, в том числе на равных мидийцы и персы. Во
дворцах Персеполя и в царских гробницах они держат царский трон над головами на вытянутых руках на кончиках пальцев, без всякого усилия широко расставив ноги в так называемой позе Атласа. На Древнем Востоке эта поза означает космическую поддержку. Смысл композиции— гармонично организованная империя, в которой все народы, ее образующие, поднимают царя в общем восхвалении. Несколько иначе этот же смысл передан на пьедестале статуи Дария из Суз, выполненном в египетском стиле. Другой сюжет — царь на троне принимает посланников из всех стран империи, несущих царю то, чем они богаты. Никакого насилия, ведомые за руку, кажется, они делают это без страха и с удовольствием. Уважение к гостям выражено тем, что все они в присутствии царя со своим оружием.
Несомненно, ахеменидское искусство является выражением новой имперской идеологии и пропаганды. И уже одно это делает его самостоятельным и независимым. Действительно, если предшествующие древневосточные властные системы работали на экстенсивном подчинении и эксплуатации, то относительно Ахеменидской империи можно сказать, что она, в рамках уже созданной империи, исповедовала что-то подобное доктрине минимального вмешательства, чтобы жить и давать жить другим. Это разительным образом отличается от жесткого контроля и прагматичной безжалостной ассимиляции, например, ассирийской практики. Ассирийские анналы полны восхваления жестокости, насилия, угнетения, никогда ассирийским царям и их современникам не приписывались терпимость и справедливость или забота о подвластных народах. И такой же простодушный реализм мы видим на великолепных ассирийских рельефах или египетских фресках. Но этот мир кровавых побед и жестокого покорения почти не отражен в спокойном, гармоничном и величавом придворном искусстве Ахемени-дов. Оно отражает лишь символы борьбы и побед, вневременные ритуалы и церемонии царства, уверенного в своей власти и господстве. Это же мы находим и в официальных ахеменидских надписях, в которых на завоевание и подчинение, за редким исключением, только намекается в туманных и общих выражениях. Это вовсе не означает, что в действительности не было завоеваний, жестокостей, убийств, но важно понять, что средствами искусства подчеркивается и пропагандируется желаемый результат — гармоничное и спокойное существование всех жителей Ахеменидской империи, которые «взявшись за руки», в день великих праздников несут подарки царю, всегда отводящему от них зло.
Глава 12
СРЕДНЯЯ АЗИЯ
В АХЕМЕНИДСКОЕ ВРЕМЯ
Ахеменидское время— во многом знаменательный для Средней Азии период. Именно в это время она выходит на арену письменной истории, именно в это время народы Средней Азии вступают в тесный контакт с другими народами Среднего и Ближнего Востока. В это же время во многих областях Средней Азии окончательно формируется классовое общество, зачатки которого, видимо, существовали там уже в предшествующий период.
Территориальные и временное рамки. Средняя Азия в географическом смысле— это регион, примерно соответствующий территории современных четырех среднеазиатских государств и Казахстана. Но в ахеменидское время, как и в древности вообще, не существовало географического понятия, адекватного современному «Средняя Азия». На ее территории и в соседних областях мы находим в рассматриваемый период историко-географические общности, которые не всегда вписываются в современные границы Средней Азии. Поэтому при рассмотрении далекого прошлого Средней Азии неизбежно приходится выходить за ее пределы.
Историко-географические общности ахеменидского времени, полностью или частично совпадающие с современной территорией Средней Азии, таковы: страны бактрийцев, согдийцев, хорасмиев, парфян, гирканцев, ареев, а также места обитания саков, массагетов и дахов. Территория, занимаемая перечисленными народами, обширна: от горного прохода к югу от Каспийского моря, который в древности именовался «Каспийскими воротами» (южнее горы Демавенд), до Гиндукуша, от Северного Прикаспия восточнее Волги до Памиро-Алая, Тянь-Шаня и других гор на рубеже Средней и Центральной Азии. Все эти страны и народы, вместе взятые, в глазах древних не представляли чего-либо целого.
Пожалуй, единственным исключением здесь является картографическая схема, выработанная греческим географом Эратосфеном уже в послеахеменидское время (но по материалам ахеменидского времени), особенно в той ее трактовке, которая была предложена более поздним греческим географом Страбоном. В этой схеме вторая (Закаспийская) сфрагида (т.е. часть) Северной Азии очень близко соответствует и по своему составу, и по границам названной группе стран и народов.
Хронологические рамки ахеменидского времени определяются VI-IV вв. до н.э., а точнее, серединой VI в. до н.э. — 330-327 гг. до н.э. Но нужно учитывать условность и этого определения для Средней Азии. Указанные хронологические рамки в полной мере относятся лишь к южным ее частям, к областям оседлой культуры, от начала до конца входившим в состав Ахеменидской державы. Это страны бактрийцев, согдийцев, парфян, гирканцев и ареев. Другие народы и племена Средней Азии недолго находились в составе государства Ахеменидов. Кочевники саки и дахи уже к концу V в. до н.э. не были подданными Ахеменидов, а хорасмии и массагеты освободились к началу IV в. до н.э. Действительно важными рубежами для царства хорасмиев, для массагетского и сакского союзов племен были события середины II в. до н.э., а для дахов — 1-я половина II в. до н.э.
Источники. Источники, письменные и вещественные, благодаря которым мы знаем о далеком прошлом Средней Азии, для ахеменидского времени не очень богаты. Местная историческая традиция, которая, несомненно, уже существовала тогда в Средней Азии, известна нам лишь фрагментарно, а в том виде, в каком она вошла позднее в иранский героический эпос, сильно отличалась от своего первоначального состояния. Каких-либо письменных документов, происходящих с территории Средней Азии ахеменидской эпохи, в настоящее время не известно, хотя и не исключено их открытие в будущем: письменность на арамейской основе, по-видимому, существовала у народов Средней Азии уже в ту отдаленную эпоху. На территории Средней Азии, по мнению большинства ученых, в предшествующую и отчасти в эту эпоху складывалась Авеста, священная книга зо-роастрийцев. Несомненно, какие-то части ее были созданы в ахеменидскую эпоху. Однако выделение различных хронологических пластов в Авесте — вопрос очень спорный и сложный. Важным источником для истории Средней Азии в эпоху Ахеменидской державы являются надписи древнеперсидских царей, выполненные большей частью на трех языках: древнеперсидском, эламском и аккадском. Кое-какие сведения, правда не очень обильные, эти надписи содержат и о народах Средней Азии. Совсем мало сведений о них имеется в арамейских документах, древнеегипетских надписях ахеменидского времени, ахеменидских документах хозяйственной отчетности. Основную же массу сведений дают нам античные источники, древнегреческие и латинские. Греки Малой Азии входили в состав Ахеменидской державы почти с самого начала ее существования. Именно у них, у ионийцев, в VI-V вв. до н.э. зарождалась древнегреческая историческая наука. Естественно, что греческие историки уделяли большое внимание истории Ахеменидского государства, интересуясь и далекими странами, в том числе Средней Азией, частично входившими в его состав. Походы Алек
сандра Македонского в IV в. до н.э. привели греков уже непосредственно в Среднюю Азию. Греческие писатели, участники походов Александра, наблюдали в Средней Азии условия, сложившиеся при Ахеменидах, поэтому и их свидетельства можно привлекать для характеристики Средней Азии ахеменидского времени. Далеко не все сочинения этих древнегреческих авторов дошли до нас. О многих из них мы знаем лишь благодаря пересказам в более поздних сочинениях, в том числе и латинских. Поэтому сочинения на латинском языке также имеют ценность для историка ахеменидской Средней Азии.
I. Страна
В географическом отношении огромная территория Средней Азии, разумеется, отнюдь не однородна. Все земли, входящие в ее состав, резко делятся по своему ландшафту на два типа: оазисы, питаемые водами рек, занятые оседлым населением, и пустыни равнин и гор, в которых обитали кочевые или полукочевые племена. Это разделение Средней Азии на оазисы и пустыни, на оседлых земледельцев и кочевников проходит красной нитью через всю ее историю и в значительной степени определяет ход ее развития, в полной мере сказываясь уже и в ахеменидское время.
По своему рельефу Средняя Азия делится на две большие части: восточную, горную— хребты Памиро-Алая и Тянь-Шаня— и западную, равнинную, где простирается обширная Туранская низменность. Горные вершины на востоке, откуда встает солнце, — это, по представлениям местного населения, мировой хребет Хара или Хара Брзати (т.е. Хара Высокая), окаймляющий всю северную половину земного круга. С восточных гор текут крупнейшие реки Средней Азии — Амударья и Сырдарья. Первая фигурировала в античных источниках рассматриваемого времени сначала как река Араке (по-древнеирански, видимо, Арахша), затем как река Оке (по-древнеирански Вахшу), вторая — как река Та-наис (по-древнеирански Дану) или Яксарт (по-древнеирански Яхшарта).
Гидрография нижнего течения великих среднеазиатских рек, как и очертания морских берегов, в рассматриваемое время была мало похожа на современную. Воды Амударьи по протокам левобережной Сарыкамышской дельты заполняли Сарыкамышскую впадину и текли отсюда по руслу Узбоя, ныне сухому, в Каспийское море. А Красноводский залив Каспийского моря в то время сильно вдавался в сушу, заполняя Бала-Ишемскую низменность и отрезая Челекен от суши. Предполагают, что воды его могли доходить на востоке до местности Игда. В этих-то местах, преодолевая огромный водопад, неоднократно описанный античными авторами и отмеченный Авестой, воды Амударьи и устремлялись в Каспий.
Наверное, о Сарыкамышской дельте VI-V вв. до н.э. говорит Геродот, сообщая, что река Араке изливается сорока устьями, из которых все, кроме одного, впадают в болота и мелководья, и лишь один рукав течет по открытой местности в Каспийское море. О том же говорится в одном из гимнов Авесты, описывающем мощный поток Ардви (сакральное имя Амударьи), текущий с востока, с вер-
148. Представители среднеазиатских народов:
4 — ареи; 11 — саки тиграхауда; 13 — парфяне;
15 — бактрийцы; 17 — согдийцы; 23 — дахи (прорисовка рельефа из 100-колонного зала в Персеполе)
шины хребта Хара: он делится на множество проток и озер, а одной из проток, очень длинной, низвергается в море Ворукаша (Каспий) напротив острова Ус-Хинду (Челекен?).
Современная Аральская дельта Амударьи тогда еще формировалась. Возможно, на нее намекает несколько более позднее сообщение Страбона, восходящее, видимо, к V-IV вв. до н.э.: река Араке ветвится на множество рукавов, из которых лишь один течет в «Гирканский залив» (= Каспийское море), а все остальные впадают в «другое, на севере расположенное море».
Правобережная, Акчадарьинская дельта Амударьи соединялась тогда, видимо, с одним из русел Сырдарьи. Последняя имела в низовьях два русла: одним она соединялась с Амударьей, другим впадала в Аральское море, которое было в рассматриваемое время, скорее всего, значительно меньше, чем позже, после окончательного поворота Амударьи в Арал.
На юге среднеазиатские равнины окаймляются предгорьями Гиндукуша и его западных отрогов. Гиндукуш в Авесте именуется хребтом Ишката Упарисайна или просто Упарисайна. Последнее слово является эпитетом, определением, переводимым как «[гора], которая выше полета Сайны», т.е. мифической птицы Симург. Греки ахеменидского времени передавали это слово как Парнес, несколько позднее как Парапа(р)нис или Паропамис. В последнем случае на хребет было перенесено название области, находившейся к югу от Гиндукуша, Пара-упарисайны, т.е. Загиндукушья,— в узком смысле это область Кабула. Гиндукуш отделяет Среднюю Азию от Иранского нагорья.
На юго-западе к Средней Азии примыкает горная страна, являющаяся географически частью Иранского нагорья, хотя история ее в рассматриваемое время неотделима от истории Средней Азии. Это хребет Эльбурз в его восточной части (к востоку от горы Демавенд), с южным и северным склонами, и Туркмено-Хорасанские горы (включая Копетдаг) с их подгорьями и межгорными долинами вплоть до Герата. Вся эта страна считалась тогда восточной частью гор Парахо-атра (по-древнеирански Пурухватра). Название же самых восточных гор, Хара Брзати, новоперсидской формой которого и является слово Эльбурз, было перенесено на этот хребет много позднее.
Остановимся теперь на двух широких историко-географических понятиях, включавшихся в Среднюю Азию в рассматриваемое время: Ариана и Скифия. Первое относилось к народам оседлой культуры, второе — к кочевым народам.
Ариана. Название образовано от самоназвания всех древних индоиранцев арья и является или прилагательным «Арийская [страна]», или генитивом «[Страна] арьев» в выражении типа авестийского «страны арьев».
Страна Ариана — это географическая зона расселения этнической общности «авестийских» арьев как отдельной этнической группы древних иранцев. В качестве таковой она включала земли народов от бактрийцев в бассейне Верхней Амударьи и согдийцев в долине Зеравшана до дрангов по р. Гильменд и арахо-тов по р. Аргендаб, от ареев в бассейне Герируда-Теджена до паропамисадов в верховьях р. Кабул. Другими словами, она охватывала юг Средней Азии и северо-восток Иранского нагорья. Однако уже в предахеменидское время наметилось разделение этой обширной территории на две части: южную и северную,
рубежом между которыми был Гиндукуш. Южная часть имела традиционный центр в Арахозии, и именно эта половина обычно выступала в античных источниках как страна Ариана.
На севере центром и «украшением» Арианы продолжала считаться Бактрия. Поэтическое описание северной части Арианы дано в одном из гимнов Авесты в виде панорамы «местообитания арьев», открывающейся с золотых вершин Хары, откуда встает «бессмертное быстроконное Солнце»: это край, «где храбрые владыки сбираются на битвы; где на горах высоких, укромных, полных пастбищ, пасется скот привольно; где на озерах волны вздымаются глубоких и где рек судоходных широкие потоки стремят свое теченье к Ишкате и Паруте, к Маргиане и Арее, к Согдийской Гаве и Хорезму». (Перевод, кроме перечня стран, дан по И.М. Стеблин-Каменскому. Заметим, что определение к слову «рек» переводится еще и как «имеющих каналы».) Затем в гимне перечисляются шесть каршваров (материков Земли) и, наконец, характеризуется прекрасный седьмой, центральный каршвар Хванирата. Таким образом, здесь шесть стран арьев, образующих почти замкнутый круг, уподобляются шести каршварам, а центр круга, в котором оказывается Бактрия, — каршвару Хванирата.
Под Арианой иногда понималась еще более обширная территория, когда к ней причислялась «некоторая часть персов и мидян». В таком смысле Ариана является уже страной всех ираноязычных народов с оседлой культурой. То, что делается оговорка относительно «части» персов и мидян, вполне понятно: в ахеменидское и близкое к нему время горные районы Мидии и Персиды были еще населены неираноязычными автохтонами — кадусиями и эламитами.
Необходимо также учитывать, что у некоторых античных авторов, у Эратосфена и других, Арианой названа одна из условных картографических единиц — сфрагид: это территория между меридианом Каспийских ворот, Индом, побережьем Каспия и Гиндукушем.
Скифия. Это название, бытовавшее у греков, в его широком значении основано на расширительном толковании названия «скифы», относившегося сначала только к кочевникам Северного Причерноморья. Так греки уже в ахеменидское время стали называть все похожие на собственно скифов кочевые племена евразийских степей. Косвенные данные позволяют полагать, что аналогичные представления в те же времена бытовали и у персов, только в качестве основы для обобщающего названия они выбрали слово «саки» — так именовался наиболее знакомый персам кочевой народ евразийских степей.
«Скифия» в указанном смысле отражала в известной мере этническое, но главным образом культурно-хозяйственное единообразие племен евразийских степей. Она включала степи и пустыни как Средней Азии, так и Юго-Восточной Европы и Центральной Азии вплоть до границ Китая. В Средней Азии к ней относили степи и пустыни восточных гор и западных равнин. Уже в ахеменидское время считали, что Скифия где-то на востоке смыкается с Индией. На севере границу со Скифией проводили по среднему течению Сырдарьи, а нижнее течение Сырдарьи и Амударьи целиком относили к Скифии. Впрочем, к Скифии относили вообще все пустыни, окружавшие оазисы Средней Азии. Поэтому Ски
фия могла граничить и непосредственно с Бактрией по Амударье, и с отдельными частями Согдианы.
К концу ахеменидского периода, во времена походов Александра Македонского, спутники его знали, что к северу от Танаиса (среднее течение Сырдарьи) простираются «пустыни, не тронутые человеческой культурой», по которым «бродят скифы, избегая городов и плодоносных полей», а далее начинаются «густые леса и снега, обширные безлюдные края». На мысль о лесах спутников Александра натолкнул еще и тот факт, что древки стрел затанаисских скифов, как они обнаружили, были еловыми. Места произрастания ели, ближайшие к области Средней Сырдарьи, — Центральный Тянь-Шань не западнее Чаткальского хребта. Впрочем, леса вообще могли тогда произрастать южнее, чем ныне, так как даже прямо за Сырдарьей, где-то на склонах Моголтау и Кураминского хребта, спутники Александра обнаружили «высокие деревья, обвитые плющом», — теперь там нет ни таких деревьев, ни плюща.
Однако земли, «обращенные к Танаису», были «не лишены человеческой культуры», т.е. частично возделаны человеком. Видимо, это след смутных сведений, доходивших до спутников Александра, об оазисах Северной Ферганы или долин Чирчика и Ангрена.
Перейдем далее к обзору отдельных стран Средней Азии ахеменидской эпохи. Собственно, об отдельных странах как четко выраженных историко-географических единицах можно говорить в данном случае лишь тогда, когда мы имеем дело с оазисами, наглядно выделяющимися на фоне обширных пустынных пространств. Каждая «страна» является совокупностью некоторого количества таких оазисов.
Бактрия (по-древнеирански Бахтри) — это страна оазисов, расположенных в бассейне Верхней Амударьи. По Ктесию, греческому автору, писавшему в ахеменидские времена, Бактрия — труднодоступная страна, так как войти в нее можно лишь через узкие горные проходы, хотя столица ее и расположена на равнине. Видимо, в данном случае имелись в виду ущелья у современного селения Бала-Мургаб, через которые шел путь на бактрийские равнины с запада.
На юге рубежом Бактрии являлся горный хребет Гиндукуш, именовавшийся в античных источниках ахеменидского времени, как уже говорилось, сначала Парнесом, а затем Паропамисом или, в несколько более широком смысле, Кавказом (Индийским). Здесь границу Бактрии отмечали перевалы на горных дорогах, такие же труднодоступные, заснеженные и покрытые туманной мглой, как и ныне. «Лесистые склоны Парнеса» были обращены к Бактрии, высокогорные же части этого «Кавказского» хребта, голые и лишь местами поросшие кустарниковой фисташкой и полынью, отделяли Бактрию от Загиндукушья.
На севере Бактрию ограничивала Амударья под именем Араке или Оке, но лишь на коротком пространстве переправ примерно от Келифа до Керки. Выше граница проходила по юго-западным отрогам Гиссарского хребта, где была отмечена Скалой Сисимитра или Хориена, находившейся, по всей видимости, в районе Дербента, у Железных ворот (ныне проход Бузгала).
Современников Александра Македонского Бактрия поразила, судя по описанию Курция, резким контрастом плодородных, изобилующих хлебом и скотом
149. Представители среднеазиатских народов:
18 — хорезмийцы; 20 — саки; 28 — саки хаумаварга (прорисовка рельефа из 100-колонного зала
в Персеполе)
местностей с окружающими их пустынями, в которых ветер наметает песчаные холмы. Плодородные земли находились там, где была вода. Главной водной артерией Бактрии являлась Амударья. Греческий историк Полибий, писавший, правда, о несколько более поздних временах, говорит, что Оке, «сильно увеличившись в Бактриане благодаря вливающимся в него водам, обильным и мутным потоком несется по равнинной стране». Судя по этому сообщению, Оке (Амударья) не только протекает по территории Бактрианы, но и принимает в ее пределах свои притоки. По притокам Амударьи и располагались наиболее цветущие оазисы Бактрии. Непосредственно же вдоль русел рек тянулись полосы тугайных зарослей, в которых водились кабаны.
Исторический центр Бактрии и ее столица Бактры находились в долине одноименной реки Бактр (Балхаб). Воды ее, разбиравшиеся на орошение плодороднейших полей, уже в ахеменидское время не доходили до Амударьи. Это Бактрия в узком смысле.
К востоку от реки Бактр протекала река Ох (по-древнеирански Ваху). Этот бактрийский Ох нужно отличать от других одноименных рек Средней Азии. Иногда так именовалась вся Амударья, и тогда, по-видимому, бактрийский Ох и считался главным истоком Амударьи. Судя по тому, что спутники Александра прямо засвидетельствовали его впадение в Оке, эта река может быть только рекой Кундуза— последним левым притоком Амударьи-Пянджа, всегда впадавшим в нее. К ахеменидскому времени область Кундуза была уже давно и прочно освоена оседлым земледельческим населением.
На крайнем западе в ахеменидское время к Бактрии причислялась Маргиана (по-древнеирански Маргу) в низовьях реки Марг, т.е. большой и богатый Мерв-ский оазис в дельте реки Мургаб. А в верховьях реки Аби-Андхой, в оазисе Меймене на пути между переправой через Мургаб и Балхом находилась Нисея, авестийская Нисайя, «которая лежит между Маргианой и Бактрией».
На крайнем востоке бактрийской считалась страна паретаков, Паретакена, хотя она и занимала несколько обособленное положение. Название ее образовано от древнеиранского Параитака, т.е. «Речная страна». Возможно, еще в средние века область истоков Амударьи носила то же название, произносившееся тогда как Баридиш. Во времена походов Александра Македонского страна паретаков находилась между Скалой Сисимитра (Хориена) и переправой через Оке, т.е. между отрогами Гиссарского хребта вблизи Железных ворот и Амударьей где-то в районе Термеза. В Авесте эта же страна именуется Семиречьем (Хапта Хинду). О семи реках как истоках Амударьи говорили и в средние века, но какие именно реки имелись при этом в виду — не вполне ясно. Определенно известно лишь то, что соединялись они, как представлялось, близ Термеза. Неизвестно, была ли частью страны паретаков или отдельной страной Бубакена— средневековый Бумак в долине реки Куляб. Бактрийской считалась даже область Кофан-тий (т.е. Кухистан) в верховьях Зеравшана.
Согдиана (по-древнеирански Сугда) — это страна оазисов междуречья Амударьи и Сырдарьи. Во времена македонского завоевания она представлялась как область между Оксом (Амударьей) и Яксартом, или Танаисом (Сырдарьей). На самом деле Амударья служила границей Согдианы с Бактрией лишь на неболь
шом участке переправ в районе Келифа и Керки, далее граница с Бактрией проходила по юго-западным отрогам Гиссарского хребта. Так же и Сырдарья являлась границей Согдианы со скифами на коротком участке ее среднего течения в районе Ходжента и Бекабада.
Согдиана представила взору спутников Александра ту же картину, что и Бактрия: чередование плодородных оазисов с пустынями, сожженными зноем. Правда, в восточных, горных областях Согдианы картина несколько меняется: источники отмечают обильные снегопады, леса на скалах и вдоль горных дорог, заросли ивы, а однажды даже упоминают «высокие ели» (арча?).
Сердцем Согдианы, Согдианой в узком смысле, была цветущая долина Поли-тимета (Зеравшана), окруженная скифскими пустынями; здесь находилась столица страны, город Мараканда (Самарканд). Согдийской считалась долина По-литимета вплоть до его низовьев, где воды реки исчезали в песках пустыни. Примерно так же определяли область Сугд и средневековые авторы, в основном ограничивая ее долиной Зеравшана, хотя иногда включали в нее и долину Каш-кадарьи. В долине Политимета находилась и известная обилием растительности область Басиста (по-древнеирански Базишта или Вазишта)— видимо, к юго-востоку и востоку от Мараканды, включая район будущего Пенджикента. Позднее здесь находилось средневековое княжество Маймург, столица которого Вазд (в районе Ургута), видимо, сохраняла древнее название области. Согдийской в рассматриваемое время считалась и долина Кашкадарьи. Здесь находились две богатые области: Наутака, соответствующая средневековому Наукату в верхнем течении реки, ближе к горам, и Ксениппа, соответствующая средневековому На-хшебу в нижнем течении реки, выдвинутом в пустыню, почему и эта последняя область считалась сопредельной со Скифией. В районе юго-восточных притоков Кашкадарьи, примерно от Гузара до подходов к Железным воротам, находилась область Габаза, или Газаба.
Между Туркестанским хребтом и Сырдарьей, в районе современного Ура-Тюбе, известна область, входившая в ахеменидское время в состав Согдианы, но занимавшая обособленное положение: жители ее иногда упоминаются наряду с согдийцами, рядом с ними. По-видимому, тогда эта область называлась Мема-кеной. Позднее здесь находилась средневековая Уструшана.
Следует отметить, что некоторые ученые высказывают предположение о существовании в ахеменидское время и позднее «Большой Согдианы», охватывавшей не только правобережье Амударьи-Пянджа, но и левобережье, включая Бадахшан (афганский). Нам такие предположения кажутся недостаточно обоснованными.
Парфия (по-древнеирански Партава) в узком смысле представляла собой цепочку оазисов вдоль южного склона Эльбурза и Нишапурских гор. К концу ахеменидского времени она определяется в античных источниках как страна между Каспийскими воротами и землей ареев. На этом пространстве известны две области: Хоарена, расположенная непосредственно к востоку от Каспийских ворот и соответствующая средневековой области Хвар, и Комисена далее на восток, соответствующая средневековой области Кумис с центром в городе Дамган; видимо, здесь же, на месте городища Шахри-Кумис, находилась и древняя столица
страны, известная под греческим названием Гекатомпил. Указанная территория вполне отвечает характеристике Парфии, данной Страбоном, как страны небольшой, бедной, гористой и лесистой.
Заметим, что в ахеменидское время под названием «Парфия» в собственном смысле имелась в виду только эта страна. Распространять его на всю область Туркмено-Хорасанских гор нет никаких оснований. Название «Парфиена» для области Нисея у северных склонов Копетдага известно лишь в аршакидское время. Трудно сказать с определенностью, почему две разные области носили одно и то же название. Может быть, дело в том, что обе они расположены вдоль края — одна вдоль южного, другая вдоль северного — Туркмено-Хорасанского горного массива. А нарицательное значение слова партава/парсава, как известно, — «бок», «край». Впоследствии и туркмены называли эти области — северную подгорную полосу Копетдага и южную полосу от Дамгана до Туршиза — одинаково: Этек, т.е. «край», «кайма» в смысле «подошва горы».
Но и в ахеменидское время название «Парфия» могло иметь более широкое значение, так как иногда оно включало Гирканию.
Гиркания (по-древнеирански Вркана) занимала территорию, примерно соответствующую современным Горгану и Мазандерану; античные авторы ахеменидского времени определяли ее как область, лежащую между кадусиями на западе и скифскими народами степей на северо-востоке. Горы Гиркании (Эльбурз), густо поросшие широколиственными лесами, в частности дубовыми, и колючим кустарником, отделяли ее от Парфии на юге, а низменная полоса на севере с немногими, но очень плодородными оазисами, в остальном же болотистая и покрытая непроходимыми зарослями, омывалась водами Гирканского, или Каспийского, моря. Однако собственно Гиркания, соответствующая средневековому Гургану, занимала лишь часть этой обширной территории, а именно Горганскую низменность, преимущественно степную, у юго-восточного угла Каспийского моря. Здесь находилась и столица ахеменидской Гиркании, город Задракарта (Астрабад, ныне Горган).
Арея (по-древнеирански Харайва)— страна реки Арий (Герируд-Теджен) на всем ее протяжении, вплоть до низовьев, где дельта Ария в ахеменидские времена (как и ныне) исчезала в песках пустыни. Теджен, вопреки часто высказываемому мнению, никогда не именовался Охом. Центром страны являлся Гератский оазис по среднему течению Герируда— один из самых значительных и плодородных оазисов Иранского нагорья. Здесь же, где-то близ современного Герата, находилась Артакоана— столица ахеменидской Ареи. Но в состав этой страны входил весь бассейн Герируда-Теджена и его притоков. Так, ко времени похода Александра город Сусия (средневековый Тус около Мешхеда) считался арей-ским. Видимо, в позднеахеменидские времена вообще большая часть Туркмено-Хорасанских гор относилась к Арее; возможно, это положение отражено у Клавдия Птолемея, когда он считает арейскими области Нисею (средневековая Ниса в районе Ашхабада) и Аставену (средневековая Устува по верхнему течению Атрека).
Сведения источников об ахеменидском Хорезме (по-древнеирански Хвараз-ми) задают исследователям непростую загадку. Дело в том, что, по данным авто-
150. Представители среднеазиатских народов:
1 — сак тиграхауда; 2 бактриец; 3 — согдиец;
4 — хорезмиец (реконструкция по ахеменидским рельефам)
151. Представители среднеазиатских народов:
восточнопамирский воин — сак (V11-VI вв. до н.э.)
(реконструкция по материалам могильников)
ров раннеахеменидского времени Скилака (конец VI в. до н.э.) и Ктесия (конец V в. до н.э.), хорасмии, или хорамнии, обитали к востоку от парфян, между этими последними и бактрийцами. Контекст данных показывает, что речь здесь шла о дороге, ведшей через Каспийские ворота по Парфии к югу от гор, отделявших ее от Гиркании, и затем через узкие горные проходы— на бактрийскую равнину, т.е. о хорошо известной и позже дороге, пролегавшей вдоль южных склонов Эльбурза, затем по горным долинам и перевалам Хорасана к Гератскому оазису, а отсюда через Мургаб и горные проходы у Бала-Мургаба в Балх. Так что указание на местоположение раннеахеменидского Хорезма можно понять только как указание на Туркмено-Хорасанский горный регион и долину Герируда. Такой Хорезм больше всего соответствует основной территории средневекового Хорасана, центром которого, кстати, считался Герат. Впрочем, в административных списках ахеменидского времени Хорезм и Арея всегда упоминаются отдельно.
Такому Хорезму вполне соответствует и описание земли хорасмиев, восходящее к Скилаку: здесь есть равнины и горы, а на горах — дикие деревья, ива, тамариск и колючий кустарник. Это типичный для Хорасана ландшафт с его чередованием хребтов и плоских межгорных равнин. Где-то здесь же, к востоку от Парфии, находилась и Хорасмия — столичный город хорасмиев.
Ко времени походов Александра обстановка здесь изменилась. Спутники Александра, прошедшие той же дорогой, которую описали Скилак и Ктесий, хорасмиев к востоку от парфян уже не застали; они отмечают в этих местах только ареев. Из страны ареев шла дорога и в Бактрию. Таким образом, все земли к востоку от парфян, занятые некогда хорасмиями, к исходу ахеменидского периода вошли в состав Ареи.
Хорезм теперь находился в другом месте, в стороне от маршрутов движения македонских войск. С посольством хорасмиев македоняне встретились лишь в Мараканде (Самарканде) — столице Согдианы, но сама страна хорасмиев так и осталась для них вне пределов досягаемости, где-то среди массагетских пустынь. Все данные о местонахождении Хорезма этого и более позднего времени явно указывают на современный Хорезмский оазис в низовьях Амударьи: страна хорасмиев расположена по нижнему течению Окса, выше оксианов (т.е. населения дельты Амударьи), рядом с Сугдией (Согдианой).
Как согласовать столь противоречивые сведения о Хорезме? Некоторыми учеными уже давно была создана теория Большого Хорезма; согласно этой теории обитатели Хорезмского оазиса в доахеменидский период создали могущественное Хорезмийское царство, включившее в свой состав Арею и Маргиану, которые со временем стали играть в нем ведущую роль. След такого положения сохранился в раннеахеменидское время и был отражен в источниках этого времени. Наше объяснение несколько иное: название «Хорезм» действительно переместилось при Ахеменидах из Хорасана и долины Герируда в низовья Амударьи вместе с самими хорасмиями, которые в своем расселении на север в ахеменидскую эпоху проделали тот же путь. Но об этом мы будем говорить подробнее ниже.
II. Население
Подобно тому как по своему ландшафту Средняя Азия делится на оазисную и степную части, так и население Средней Азии в рассматриваемую эпоху разделялось на народы оседлой культуры и кочевые племена. Что же касается этнической принадлежности, то здесь деление было иным. Большинство населения Средней Азии этого времени, как оседлого, так и кочевого, было ираноязычным. Нередко называют его также восточноиранским, — правда, не всегда ясно, что при этом имеют в виду. Если говорить о языковой принадлежности, то вопрос не решается так просто. Безусловно восточноиранским является в ахеменидское время лишь кочевое население степей Средней Азии. Основная же часть оседлого населения этого времени, так называемые «арианы», занимают по многим признакам промежуточное, переходное положение между восточными и западными иранцами, поэтому можно именовать их, отличая от тех и других, «центральными иранцами». На западе же рассматриваемого региона обитали оседлые народы, говорившие на западноиранских языках. Кроме ираноязычного населения в Средней Азии в ахеменидское время еще существовали, сохранившись с глубокой древности, островки автохтонного, доиранского и даже доиндоевро-пейского этнического слоя.
Арианы. Под этим искусственным этнонимом, образованным от названия страны «Ариана», о которой уже шла речь выше, античные источники ахеменидского и последующего времени подразумевают в основном следующие народы: бактрийцев, согдийцев, ареев, дрангов (зарангов), арахотов, паропамисадов. Из них лишь бактрийцы, согдийцы и ареи-хорасмии относятся к Средней Азии, являющейся предметом нашего рассмотрения.
Название «арианы» восходит в конечном счете к слову арья — самоназванию всех древних индоиранских народов. Так называли себя и арианы, но это не значит, что они ничем не выделялись из среды других индоиранцев. Напротив, античные авторы совершенно определенно утверждают, что Ариана — это название единой племенной группы, принадлежность к которой определяется сходством языков входящих в нее народов. Благодаря этому критерию — языковому сходству — к Ариане могли быть причислены также ираноязычные персы и мидийцы: ведь все эти народы, как говорит Страбон, «одноязычны за исключением малого». Поводом для такого суждения, видимо, послужил следующий факт: некий ликиец, долго живший в Персиде и хорошо знавший персидский язык, затем вполне успешно служил переводчиком Александру в его общении с местными жителями Бактрии и Согдианы.
На каком же языке говорили народы Арианы? Многие ученые еще в XIX в. считали, что таким языком был язык Авесты, священной книги зороастрийцев: ведь согласно древней традиции, родиной зороастризма являлась Бактрия. Авестийский язык так и называли — «древнебактрийским». Но затем на территории Бактрии были открыты надписи кушанского времени, выполненные на одном из восточноиранских языков, и название «бактрийский» закрепилось за ним. В качестве возможного ареала бытования авестийского языка остались лишь Арея и Маргиана. Однако последние изыскания показывают, что и докушанская Бактрия входит в этот ареал.
Видимо, авестийскими текстами действительно представлен один из центральноиранских языков «арианов»; занимая самостоятельное место среди других древних иранских наречий, эти языки отличались от восточноиранских и, очевидно, были ближе к западноиранским. Известно, что в Авесте представлены два диалекта: язык гимнов Гат, приписываемых самому Заратуштре, имеющий некоторые восточноиранские черты, и язык Младшей Авесты. Возможно, что первый из них локализуется в Согдиане, наиболее вероятной родине Заратуштры, всегда тесно связанной с восточноиранскими скифами, а второй — в Бактрии, где Заратуштра был официально признан и где состоялась первая кодификация священного предания. Центральноиранские наречия были вытеснены на основной территории их распространения в Бактрии после прихода туда во II в. до н.э. тохаров, создавших затем Кушанское государство, а в Согдиане и Хорезме (наверное, еще раньше) — осевшими там массагетскими и сакскими племенами. Лишь отдельные черты, сохранившиеся в более поздних восточноиранских языках — согдийском и хорезмийском, свидетельствуют об их «авестийском» субстрате.
Народы Арианы характеризовались и определенным типом физического облика, отличавшим их от других современных им этнических общностей Средней Азии. Таким антропологическим типом является восточносредиземноморский с некоторыми разновидностями. Люди этого типа обладают резко выраженными южными европеоидными чертами.
И в области материальной культуры народы Арианы были, несомненно, близки друг другу, в то же время отличаясь от соседей. Эта близость засвидетельствована археологическими комплексами типа Яз (всех трех его стадий, генетически связанных между собой), представляющими ряд археологических культур, более древние из которых именуются культурами поздней расписной керамики, а поздние — культурой баночной, или цилиндроконической, керамики. Своеобразными были хозяйственный комплекс и общественный уклад народов Арианы.
Народы Арианы обладали целым рядом специфических черт духовной культуры, объединявших их в некую общность и отличавших от соседей. У них был свой вариант общеиндоиранской этногенетической легенды, что очень важно, так как представления этноса о своем происхождении являются существенным элементом этнического самосознания. Вокруг этой легенды как ядра уже в рассматриваемое время формировался свой героический эпос, который впоследствии приобрел общеиранское значение. У этих народов были культы своих божеств и своя религиозная обрядность, которые отличали их от соседей по крайней мере сначала — до того, как эти культы и обрядность вместе с зороастризмом распространились среди других иранских народов. Очень специфичными являются такие черты их культуры, имеющие большое этноразличительное значение, как погребальные (обряд выставления) и брачные (кровнородственные связи) обычаи. Показательно, что впоследствии в захоронениях, совершенных по обряду выставления в тех или иных его разновидностях, вплоть до пенджикент-ских наусов-склепов (VII—VIII вв.), преобладают варианты восточносредиземноморского антропологического типа, в то время как в курганных и грунтовых мо
гильниках Средней Азии давно уже господствовали иные типы. Словом, населению Арианы были присущи все признаки, необходимые для того, чтобы считать его отдельной этнической общностью.
Важным элементом этнической характеристики населения является его одежда. В этом отношении очень ценен изобразительный материал, воспроизводящий типичные черты внешнего облика отдельных народов, входивших в состав Ахеменидской державы, — это в первую очередь ахеменидские рельефы. Судя по изображениям на ахеменидских рельефах, народы Арианы, в общем, носили обычную одежду древних иранских народов: короткий подпоясанный кафтан, шаровары, башлык, но отдельные черты их внешности все же отличали один народ от другого.
Бактрийцы на изображениях имеют типичную древнеиранскую внешность: длинные волосы и окладистую бороду, серьги, короткий подпоясанный кафтан, длинные и довольно широкие шаровары, иногда собранные в поперечные складки и заправленные в сапоги с загнутыми носками. Правда, башлыка у бактрий-цев на ахеменидских рельефах нигде нет — только лента, завязанная на затылке,— но на изображениях из амударьинского клада у бактрийцев имеется и башлык, и кандис— другой типичный для древних иранцев вид одежды: длинная накидка с полыми рукавами. Да и Геродот говорит, что бактрийцы носили тот же головной убор, что и мидийцы, а последний представлял собой башлык, изготовленный из неплотного войлока.
В отдельную группу выделяются южные народы Арианы (заранги, арахоты, ареи), из которых предметом нашего рассмотрения являются только ареи. Их отличают высокие сапоги, в которые заправлены шаровары, и особый головной убор, который закрывал не только голову, но и шею; изображение его толкуется по-разному, но скорее всего он представляет собой тот же башлык, лишь изготовленный из мягкого материала, лежащего на голове большими складками, так что лишь верхушка его свисает назад. На некоторых изображениях ареям придан и кандис. Выделение южных народов Арианы в отдельную группу соответствует данным письменной традиции, о которых уже говорилось выше.
Наконец, согдийцы и хорезмийцы по одежде ничем не отличаются от скифов. Это вполне объясняется географическим положением названных народов, их постоянными контактами с соседними скифами в ахеменидское время и соответствует лингвистическим данным, свидетельствующим о давних и тесных связях их с восточноиранскими по языку скифами.
К рассматриваемому времени центральноиранская этническая общность имела уже долгую историю. Мы предполагаем, что общность эта складывалась в бассейне Верхней Амударьи— в легендарной стране Арьяна-Вайджа, в последние века II тыс. до н.э. Отсюда на протяжении первой половины I тыс. до н.э. происходило широкое расселение этого этноса в страны будущей Арианы, а частично и за ее пределы, в форме земледельческой колонизации. Археологически этот процесс зафиксирован распространением культур круга Яз I—III. Переселение хорасмиев в хорезмский оазис в середине I тыс. до н.э. и являлось одним из этапов указанного процесса; но это был уже завершающий этап, проходивший, видимо, не без участия ахеменидских властей. Надо сказать, что вос
поминание о переселении и земледельческом освоении оазиса сохранилось в местной хорезмийской традиции, переданной средневековыми писателями — хорезмийцем Бируни и арабским путешественником и географом Мукаддаси — и в отголосках дожившей до современности. Археологически это переселение фиксируется появлением в оазисе памятников «архаической» культуры, относящейся к кругу культур Яз III.
Самым значительным из народов Арианы в ахеменидское и последующее время были, несомненно, бактрийцы. Они характеризуются в источниках как многочисленный, храбрый и воинственный народ. Образ жизни бактрийцев и согдийцев, по мнению Страбона и других авторов, его предшественников, столь же суров, как и скифский, хотя нравы бактрийцев несколько мягче.
Основным племенем бактрийцев, собственно бактрийцами, являлись зариас-пы, обитавшие в долине р. Балхаб. По их имени к концу ахеменидского периода назывались Зариаспой и эта река, и столица Бактрии. Эпоним этого племени, Зарасп, и «потомки Зараспа» упоминаются в «Шахнаме» в связи с родом Новзе-ра, т.е. Наутаридов, к которым принадлежал и авестийский кави Виштаспа. Зари-аспы, видимо, обитали в Бактрии вплоть до вторжения в нее скифского народа тохаров во II в. до н.э., хотя на карте Клавдия Птолемея, составленной по разным источникам, оба эти племени отмечены как обитающие в Бактрии. Символически выглядит сцена в «Шахнаме», где Зарасп гибнет от руки туранца, направленной Тохаром.
Мидийские, или древние северо-западные иранские народы. В пределах интересующего нас региона это парфяне и гирканцы, в ахеменидское время обитавшие главным образом к югу и к северу от гор Эльбурза. Они всегда составляли единый этнический массив с иранцами Северо-Западного Ирана и в ассирийские времена выступали под общим для них именем мидян. На каком языке они говорили в рассматриваемое время — точно не известно, но поскольку языковая преемственность парфян ахеменидского и аршакидского периодов бесспорна, можно полагать, что языки их являлись тогда лишь диалектами древнего мидийского языка. Соответственно и культура этих народов, насколько о ней можно судить по данным археологических изысканий в районах к западу от Копетдага и Хорасанских гор, входила в круг культур Иранского нагорья, четко отличаясь от памятников «язовских» культур. На ахеменидских рельефах парфяне выглядят как типичные древние иранцы, не отличаясь в этом отношении ни от мидян, ни от бактрийцев.
Скифские, или древние восточноиранские народы. В пределах Средней Азии ахеменидского времени это саки, массагеты и дахи.
Эти кочевые народы также были известны под более общими именами: «скифы» — у греков, «саки» — у персов. Скифами греки называли ко времени походов Александра все три группировки кочевников: азиатскими скифами — саков, азиатскими скифами, «обитающими выше Боспора», — массагетов, европейскими скифами— дахов. Столь странные на первый взгляд обозначения среднеазиатских кочевников объясняются своеобразными географическими воззрениями современников Александра, совмещавшими Аральско-Каспийский водный бассейн с Азовско-Черноморским. Сырдарью и Дон они одинаково назы-
152. Жрец (статуэтка из Амударъинского клада)
153. Жрец (пластинка из Амударъинского клада)
154. Божество в антропоморфном облике
вали Танаисом и считали одной и той же рекой, принимая ее за границу материков — Европы и Азии. Поэтому скифы, обитавшие по левую сторону Танаиса (в данном случае Сырдарьи), считались «азиатскими», а по правую — «европейскими». Отождествлялись и места впадения обоих «Танаисов». Поэтому нужно делать соответствующую поправку и применительно к указанию «выше Боспо-ра» (т.е. Керченского пролива). Саками персы ахеменидского времени называли тоже разные группировки среднеазиатских кочевников, кроме дахов: саками, «приготовляющими хауму» (хаумаварга), — собственно саков, группу кочевников, ранее других вступившую в соприкосновение с персами, которые и распространили их название на прочих кочевников; саками «острошапочными» (тиг-рахауда) — массагетов. Персы знали и саков «заморских», т.е. настоящих европейских скифов Причерноморья. Нужно отметить, что употребление слова «саки» в таком широком значении нашло отражение и в античных источниках.
Все три скифских народа среднеазиатских степей и пустынь были, несомненно, родственны друг другу, все они говорили на восточноиранских языках. Таковы же были языки их западных степных соседей: савроматов на Дону и Северном Кавказе и собственно скифов в Северном Причерноморье. Напротив, северные соседи — исседоны лесостепей Зауралья, тоже считавшиеся скифским племенем, — являлись, скорее всего, угорским народом. Но наряду с чертами, общими для всего древнеиранского мира, указанные восточноиранские народы обладали такими особенностями, которые отличали их от остальных иранцев и не могли быть возведены к протоиранским истокам, причем в некоторых случаях эти особенности объединяют их с исседонами.
Эти особенности касаются общественного строя, обрядности, мировоззрения и искусства, материальной культуры и прослеживаются по письменным или археологическим источникам, а иногда по тем и другим сразу. В области общественного строя— это особая роль женщины, выражающаяся в «гинекократи-ческих» (женщины-вожди и жрицы) и «амазонских» (вооруженные всадницы) чертах, в полиандрии. Эти черты свойственны в той или иной мере всем перечисленным скифским народам, кроме собственно скифов, а на полиандрию указывают рассказы о массагетах. Для исконно патриархальных древних иранцев такие черты безусловно чужды. Очень своеобразный погребальный обряд (ритуальный эндоканнибализм и культ черепов) зафиксирован для массагетов и исседонов. И обряд этот определенно чужд как древним иранцам, так и протоуграм. Некоторые элементы «северного цикла» (картина Крайнего Севера), наслоившиеся на общеиндоиранскую основу и связываемые античными источниками с исседонами, на самом деле имели более широкое распространение и, по-види-мому, центральноазиатские истоки, судя по параллелям в древнегреческой и древнекитайской литературе. Искусство «звериного стиля» тоже имеет сибирские и центральноазиатские истоки; оно принципиально чуждо искусству древнейших индоиранцев, не допускавшему изобразительности. Свидетельств же о проникновении элементов материальной культуры из Центральной Азии в степи Средней Азии и далее на запад в эпоху, предшествующую ахеменидской, очень много. Отметим лишь такие, как карасукская и карасукоидная керамика, металлические изделия, оленные камни.
Все это создает впечатление, что где-то в глубинах Центральной Азии, может быть в Ордосе и примыкающих к нему землях, существовал некий эпицентр, откуда периодически, на протяжении конца II тыс. до н.э. — VII в. до н.э., выплескивались волны кочевников, проходивших в своих набегах по всему евразийскому степному поясу. Иногда это порождало большие передвижения степных народов. О прямых переселениях людей с далекого востока свидетельствует, например, быстрое распространение в пределах VIII—VII вв. до н.э. по степной полосе, вплоть до Нижнего Поволжья на западе, центральноазиатского монголоидного типа с концентрацией его в низовьях Сырдарьи. Эти люди, оседая, видимо, образовывали лишь тонкий верхний слой, суперстрат местного населения, который быстро растворялся среди протоиранцев и протоугров, но оставил после себя наследство в виде описанных выше специфических черт культуры. Так и сформировались саки, массагеты, савроматы, исседоны, известные нам в ахеменидскую эпоху.
Данные археологии вполне согласуются с таким выводом. В настоящее время уже ясно, что культуры среднеазиатских скифов нельзя считать прямым продолжением протоиранской андроповской культуры. Между ними лежит эпоха, когда на андроновскую основу накладывались элементы карасукской культуры, пришедшие из глубин Центральной Азии, и таким путем формировались бегазы-дандыбаевская и другие родственные ей культуры, например, культура тагискен-ских мавзолеев, из которых и выросли более поздние культуры скифского времени.
Отразились ли эти процессы в письменных источниках? Обычно считают, что проникновение восточных элементов культуры на запад свидетельствует о продвижении скифов. Но это не совсем так. Приход собственно скифов из Заволжья в степи Северного Кавказа в VIII в. до н.э. был лишь одним из частных моментов более общих процессов. Больше оснований приписывать роль главного носителя центральноазиатских элементов культуры другому народу, находившемуся в глубоком тылу скифов, где-то в области Верхнего Иртыша и Джунгарских ворот. В рассказах, доходивших до античного мира, он представал как полусказоч-ный народ могучих аримаспов, постоянные нападения которых на соседей и сдвинули наконец со своих мест исседонов и скифов. Другой мифологический след этого народа, оставленный в античной традиции, могут представлять рассказы об амазонках в связи со скифами и киммерийцами. Таков рассказ Геродота об амазонках как предках савроматов. Аналогичный сюжет в виде одного из вариантов предания о происхождении туров (предки массагетов) был знаком и древнеиранскому эпосу, поскольку отголоски его сохранились в «Шахнаме» (рассказ о матери Сиавуша).
Как точнее определить этот народ? В конце II тыс. до н.э. — VII в. до н.э. на западных границах Китая, в Ордосе и Ганьсу, максимальную активность проявляли степные племена жун и ди. Надо думать, что не менее активны и агрессивны они были и по отношению к своим западным, степным соседям. А если учесть, что эти племена этнически являлись, скорее всего, протоенисейцами, находившимися в родстве и длительных контактах с прототибетцами, то получают объяснение и давно отмеченные древние связи северокавказских языков с ени
сейскими и синотибетскими, и появление у восточных скифов указанных выше брачных и погребальных обычаев, характерных более всего для некоторых тибе-тобирманских народов. Следы этих далеких восточных пришельцев остались и в топонимике Средней Азии.
На ахеменидских рельефах представители скифских народов Средней Азии ничем не выделяются среди других фигур скифского облика. Это люди с длинными волосами и бородой, облаченные в верхнее одеяние, напоминающее короткий халат, запахивающийся спереди и расходящийся внизу, с каймой по бортам, обычно в широких шароварах и всегда в башлыке. По форме башлыка они главным образом и различаются. Основным их украшением были, по-видимому, шейные гривны.
Саки. Многочисленные кочевые племена, для которых слово «саки» являлось самоназванием, обитали в горных и предгорных степях востока Средней Азии. Самыми известными среди них в ахеменидские времена были те, кого греки называли «амиргийскими (точнее, амюргийскими) скифами», довольно точно передавая лежащее в основе древнеиранское слово мург («птица»). Персы же истолковали их название, по принципу «народной этимологии», как «хаумаварга», исходя из своих наблюдений над ролью, какую играло в жизни этих племен священное растение хаума.
Эти скифы изображены на ахеменидских рельефах в обычном скифском одеянии и в башлыках с невысокой округлой верхушкой. Геродот, приписывая им прямые шапки с острым верхом, по-видимому, путает их с другими группами скифов.
И персы, и греки согласно помещали этих скифов «по ту сторону Согдианы», за Танаисом-Яксартом (Сырдарьей), правда, иногда упоминая и рядом с Бактри-ей. Однако ориентация саков относительно Согдианы и Танаиса-Яксарта в персидских и греческих источниках объясняется лишь тем, что персидские и македонские завоеватели сталкивались с этим народом именно у Сырдарьи в районе современного Ходжента. В действительности основным местом обитания его были Фергана и Алай. Видимо, Фергана именовалась тогда «Сакасеной (т.е. „Страной саков“) наЯксарте». Во всяком случае, Александрия Крайняя, построенная у Ходжента, в непосредственной близости к владениям саков, считалась находящейся в этой стране. Алайскую же долину, по которой уже в ахеменидские времена проходили важные пути, Гелланик (V в. до н.э.) называет «Амиргийской равниной в стране саков». Отзвук этого названия сохранился у более поздних китайских авторов, говоривших об Алайской речной долине как о «Стране птичьих перелетов». Видимо, к концу ахеменидского периода саки спустились вниз по долине Вахша до Каратегина и Гиссарской долины, где соседствовали с паретаками. В стране же вверх по Пянджу саки расселялись вплоть до впадения в него Мургаба-Бартанга— «Амиргийской реки». Уже в ахеменидское время саки проникали и еще глубже в горную страну, вплоть до Верхнего Инда, но тогда этот регион еще не был ими освоен. Нет оснований и для того, чтобы говорить о расселении амиргийских саков в это время в Ба-дахшане-Мунджане и в Дрангиане. А предположение о связи их с Маргианой вообще основано на недоразумении.
Так что греки ахеменидского времени вполне обоснованно называли саков «азиатскими скифами», как видно по данным Херила Самосского (V в. до н.э.) и Эфора (IV в. до н.э.). Их продолжали так называть и во времена Александра Македонского, даже несмотря на то, что сам Александр столкнулся с ними за Танаисом (Сырдарьей), т.е., по твердому убеждению его спутников, в Европе.
Амиргийские саки продолжали обитать в своих коренных землях вплоть до II в. до н.э., когда под напором новых кочевников — тохаров (юэчжи) -— они были вынуждены оставить Фергану и Алай и устремились на юг, через Памир и горные перевалы Гиндукуша в Северную Индию, а отсюда и в Дрангиану. Здесь они прочно обосновались, так что занятые ими земли стали называться Индийской Скифией и Сакастаной. Здесь они создали ряд государственных образований, царств и княжеств, которые просуществовали еще несколько столетий.
Но амиргийские саки не были единственным собственно сакским народом. Другая большая группа сакских племен обитала в ахеменидское время на Тянь-Шане и в Семиречье. Название ее прямо в источниках того времени не засвидетельствовано, но можно думать, что это те самые сакарауки, которые позже, во время общего передвижения кочевников во II в. до н.э., будучи сдвинуты со своих первоначальных мест, появились в степях Приаралья. Еще одна большая группа сакских племен расселялась в области Кашгара, к западу и юго-западу от него. Это гомодоты (гюаньду китайских источников). Видимо, к концу ахеменидского периода их владения на западе охватывали лишь верховья Вахша-Кызылсу. И только после ухода амиргийских саков на юг гомодоты и родственные им комеды заняли все земли своих предшественников: от Алайской долины и далее на юг и запад. Амиргийские саки отличались от более поздних сакских насельников тех же земель в диалектном отношении, и, видимо, это обстоятельство оставило след в топонимике края, фиксирующей два слоя сакских названий.
Массагеты. Другой кочевой народ, именуемый в античных источниках «мас-сагетами» и характеризуемый как «племя большое и сильное», занимал в ранне-ахеменидское время почти все степные и пустынные области западной, равнинной части Средней Азии.
Массагетов и их землю подробно описали Геродот и Страбон. Геродот в основном опирался на устные источники своего времени, а Страбон пересказал Геродотово описание, добавив некоторые более поздние сведения. Геродот говорил о том, что массагеты занимают значительную часть необозримой равнины, простирающейся к востоку от Каспийского моря (Аральского моря он не знал), а пограничной их рекой является река Араке, в представлениях о которой у греческого историка слились известия о трех разных реках. Итак, по Геродоту, с одной стороны, массагеты живут к востоку от Аракса (Волги в данном случае) и «напротив», т.е. к югу, от исседонов, а с другой стороны, Араке (Амударья в данном случае) отделяет их от владений персов. С этим последним указанием у Геродота, возможно, связано описание Аракса, в котором совмещены известия об одноименных кавказской и среднеазиатской реках. К последней может относиться сообщение об Араксе, который изливается сорока устьями в болота и топи, где водятся тюлени, и лишь одним рукавом, протекающим по открытой местности, — в Каспийское море. Этот-то рукав, очевидно, и отделял массагетов от
персов. Сообщение это, как уже отмечалось, хорошо соответствует картине нижнего течения Амударьи ахеменидского времени: Сарыкамышской дельте и обводненному Узбою. Если Узбой был настоящей рекой, то тюлени могли проникать по нему из моря в Сарыкамышскую дельту, о чем говорит и Страбон, описывая Араке: «тюлени, поднимающиеся вверх по рекам из моря».
Рассказывая обо всех этих землях, Геродот описывал массагетов, обитающих на равнине к востоку от Каспийского моря и за Араксом, и неких людей, живущих на больших островах (т.е. в дельте) Аракса (= Волги) и в болотах или топях Аракса (= Амударьи, ее Сарыкамышской дельты). Возможно, эти люди были как-то связаны с массагетами, но прямо таковыми они у Геродота не названы. Страбон же, пересказывая Геродота, говорит только о массагетах. Так у него появились, кроме массагетов равнин, массагеты островов, массагеты болот и даже массагеты гор. К последним было отнесено то, что Геродот говорил о жителях Кавказа в связи с описанием Каспийского моря.
К концу ахеменидского периода, во времена походов Александра Македонского, массагеты как азиатские скифы, живущие «выше Боспора», должны были обитать к югу от Танаиса-Яксарта (Сырдарьи), видимо в Приаралье, и отмечены в пустынной области по Оксу (Амударье) к западу от бактрийцев, возможно вплоть до Каспийского моря, и вообще в степях и пустынях, окружавших оазисы бактрийцев и согдийцев.
Таковы сведения о реальных массагетах. К числу же «ложных» массагетов, кроме упомянутых «горных массагетов» Страбона, появившихся в результате неточной передачи им более древнего текста, нужно отнести еще и «массагетов» Мегасфена. Этот автор, писавший уже в послеахеменидское время, отождествил хорошо известных ему ассакенов — горное племя Северной Индии — с древними массагетами времен Кира на основании всего лишь случайного звукового сходства названий (столица ассакенов — Массага, их предводитель — Ассагет). Но во всех других отношениях ассакены, конечно, не имели ничего общего с массагетами.
История массагетов вкратце такова. Непосредственными предшественниками их в Приаралье, в низовьях Сырдарьи, были туры, археологически представленные, видимо, тагискенскими мавзолеями. Формирование же собственно массагетов как этноса связано с тем передвижением степных племен, которое имело место, судя по ряду признаков, в конце VII в. до н.э. Наибольшего усиления и территориального распространения массагеты достигли в VI-V вв. до н.э. В это время они представляли собой, видимо, конгломерат племен, археологически засвидетельствованных памятниками, которые у археологов фигурируют как «сакская» культура Нижней Сырдарьи, восточный вариант «савроматской» культуры в Заволжье, а также памятниками Восточного Прикаспия, в частности Уз-боя. На северо-востоке массагеты граничили в это время с исседонами лесостепей Зауралья, носителями саргатско-гороховской культуры. С конца V в. до н.э. территория массагетов стала сокращаться в связи с новыми передвижениями степняков. В итоге, видимо, часть массагетов перешла через Волгу и обосновалась в степях Северо-Восточного Кавказа, где и отмечена в источниках впервые в связи с событиями I в. до н.э.
155. Поселение среднеазиатского типа
156. Крепостная стена среднеазиатского поселения ахеменидского времени. Кюзелигыр
Внешний облик массагетов определяется словами Геродота: «массагеты носят одежду, подобную скифской». Эти слова подтверждаются ахеменидскими рельефами, где «острошапочные» (тиграхауда) саки изображены точно так, как и представители прочих скифских народов, но в башлыках со стоящей прямо, очень высокой и острой верхушкой; впрочем, судя по тем же рельефам, острые башлыки носили не только «острошапочные» саки. «Острошапочные» (ортоко-рибантии) упомянуты и в античных источниках, где под ними имеются в виду, скорее всего, тоже массагеты.
Наши знания о массагетах могут быть дополнены также сведениями о дерби-ках и апасиаках, названия которых являются, видимо, лишь другими наименованиями тех же массагетов.
Название «дербики», представленное в источниках разными вариантами, воспроизводит древнеиранское слово, означающее «бедные, нищие», — прозвище, закрепившееся по каким-то причинам за массагетами. Связь представления о бедности с массагетами выразительно засвидетельствована одним из историков Александра: массагеты — это скифы, которые «жили в крайней бедности». Название «дербики» или полностью равнозначно названию «массагеты», или относится к одному из массагетских племен. Вероятнее первое, так как сведения о тех и других, как в описании их, так и в истории, почти полностью дублируют друг друга. Хотя ясно, что дербики — это массагеты как бы в освещении с юга, в известиях их южных соседей.
Не случайно и то, что первым античным автором, говорившим о дербиках, был Ктесий, называвший их также дербиссами и дербиями. Ктесий, следуя своему общему принципу, сознательно противопоставлял свои данные о дербиках сведениям Геродота о массагетах. Противопоставление это касалось не только названия народа, но и его локализации: дербики Ктесия обитают где-то далеко на востоке, между саками и индийцами. Возможно, что здесь Ктесий воспользовался какими-то источниками индийского происхождения; действительно, в древнеиндийских текстах встречаются сходные названия («дрбхика», «дарви-ка» и т.п.), относящиеся к горным племенам Северной Индии. Впрочем, в других случаях дербики Ктесия обитают как будто в своих обычных местах: у Каспийского моря, рядом с Гирканией. В этом сказывается общая расплывчатость географических представлений Ктесия. Дербии (или дербы) упоминаются в связи с чудесным озером у какого-то города Теос — скорее всего, тут имеется в виду одна из морских лагун, простиравшихся в те времена у подножия хребта Большой Балхан.
О деркебиях говорит автор более поздний, но тоже еще ахеменидского времени, возможно, Евдокс Книдский. Деркебии занимают пустынные равнины от Бактрии до Каспийского моря, причем река Марг (Мургаб) катит свои воды через земли и деркебиев, и бактрийцев (здесь отражены условия ахеменидского времени, когда Маргиана считалась частью Бактрии). Еще более поздние сведения относятся уже к послеахеменидскому времени: Патрокл (начало III в. до н.э.), описывая побережье Каспийского моря, говорит, что дербики обитают «по другую сторону» от Гиркании, простирающейся до Окса (имеется в виду Уз-бойское устье Амударьи). Последним автором, сообщавшим самостоятельные
сведения об этом народе, названном им дербикками, был Аполлодор (II-I вв. до н.э.). У него дербикки живут рядом с гирканцами и тапирами, видимо вдоль Копетдага, и в то же время по Оксу (Узбою) у Каспийского моря. Заимствовавшие у Аполлодора античные писатели прямо отождествляли его дербикков с деркебиями более раннего автора и как-то увязывали их с массагетами Геродота. Видимо, не случайно, что и существование наиболее значительных археологических памятников (культовых) прикаспийских массагетов тоже заканчивается во II в. до н.э.
Несколько иначе обстоит дело с апасиаками, которые прямо названы в источниках «племенем массагетов». Известия об этом племени появляются лишь к концу ахеменидского времени, когда спутники Александра упоминают апасиев и начинают говорить об абиях как азиатских скифах «выше Боспора». Увидеть во встреченных ими скифах знаменитых гомеровских абиев — идеализированный образ бедных и «справедливых» номадов — помогло спутникам Александра, видимо, отдаленное созвучие имени «апасии» с «абиями», но главное — молва о массагетах как крайне бедных кочевниках («дербиках»). С тех пор легендарные абии в античной литературе стали локализоваться в Азии. Абии времен Александра занимали территорию от низовьев Танаиса (Сырдарьи) до Меотиды (Аральского моря в данном случае) близ Хорезма и далее до каспийского устья Окса (Узбоя) и Гиркании, т.е. все земли, с которыми связаны и массагеты того же времени.
Несколько более позднюю информацию о пасиках дает Демодам (начало III в. до н.э.). К нему восходят сведения последующих авторов о пасиках или пестиках, обитающих вдоль Оксийских гор (обрывы Устюрта и хребет Балхан), у Каспийского устья Окса напротив острова Талка (Челекен). Информация эта практически одновременна со сведениями Патрокла о дербиках, и опять получается, что территории пасиков и дербиков перекрывают друг друга.
Наконец, собственно об апасиаках говорят Аполлодор и Полибий, рассказывая о событиях второй половины III в. до н.э. У них апасиаки обитают между Танаисом (Сырдарьей) и Оксом (Амударьей-Узбоем), на пустынных равнинах по нижнему течению этих рек, из которых первая впадает в Меотиду (Аральское море), а вторая — в Каспийское море, и здесь-то, под знаменитым водопадом (у местности Игда в низовьях Узбоя), апасиаки переходят через Оке в Гирканию. И в данном случае территория апасиаков совпадает с территорией массагетов и дербиков.
Создается впечатление, что к концу ахеменидского периода из среды массагетов выделилось одно могущественное племя — апасиаки, — которое и распространило свое имя на всех остальных массагетов. Возможно, что начало этого процесса падает на конец V в. до н.э. — как уже говорилось, переломный момент в истории массагетов. Все это хорошо соответствует обстоятельствам и времени сложения чирикрабатской культуры, сформировавшейся на основе культурных традиций местных «сакских» племен Нижней Сырдарьи, т.е. массагетов.
А что известно о жителях островов Аракса (дельты Волги) и болот Аракса (Сарыкамышской дельты Амударьи)? О последних можно сказать, что «болотные» люди Аракса, одевающиеся в шкуры тюленей, позднее, видимо, были из
вестны как оксианы или оксидранки, т.е. жители Оксийских (амударьинских) озер и болот. Возможно, что эти люди и были создателями куюсайской культуры, существовавшей на территории Сарыкамышской дельты с VII в. до н.э.
Дохи. Этот кочевой народ вышел на арену истории немного позднее, чем саки и массагеты, — в V в. до н.э. Первоначальное место их обитания определяется в источниках так: «в Европе», «выше Меотийского озера», т.е. к северу от Аральского моря и Сырдарьи, где-то в глубине материка. Скорее всего, это были степи Южного Урала. Отсюда, с востока и севера, они и стали теснить массагетов с конца V в. до н.э. Ко времени походов Александра Македонского они продвинулись вплотную к нижнему и среднему течению Танаиса (Сырдарьи), но обитали еще по правую, «европейскую» (с точки зрения античных авторов «по эту») сторону его, почему и назывались «европейскими скифами». Однако уже тогда они переходили эту реку и активно участвовали в «азиатских» делах, в связи с чем Александр, видимо, и послал им приказ не переходить Танаис без его разрешения.
Но дахи, теснимые на родине какими-то врагами (позднее их потомки считались происходящими от «беглецов» из родных мест), усиливали напор на «Азию», завершившийся разрушительными вторжениями их в Согдиану, Мар-гиану и Арею на рубеже IV—III вв. до н.э. Селевкидский полководец Демодам, совершивший против них поход в начале III в. до н.э., уже считал, что дахи живут во внутренних землях материка вместе с согдийцами и бактрийцами, в частности по среднему течению Окса (Амударьи), где река «поворачивает на север», — в землях «выше скифов и скифских пустынь», т.е. пустынь, простирающихся вдоль берегов морей, таких, как Каспийское. Очевидно, основной поток дахов в это время пересекал Сырдарью в ее среднем течении и шел далее в направлении Согдианы, Маргианы и Ареи, где и оседал в близлежащих степях.
Более поздний автор Аполлодор (II—I вв. до н.э.) знает дахов уже и в более западных областях: от Ареи до Каспийского моря. Здесь дахи живут слева от «входа в Каспийское море» (через каспийское устье Окса?), в местности, отделенной участком пустыни от Гиркании, т.е., очевидно, на месте средневекового Дахистана. Около середины III в. до н.э. дахи, кочевавшие по реке Ох (Атрек в данном случае), захватили Аставену и Нисею и основали здесь царство Аршаки дов, ставшее впоследствии мировой державой и основным соперником Рима в Азии.
О внешнем облике дахов, типично скифском, можно судить главным образом по более поздним изображениям их первых царей Аршакидов. Что касается ахеменидских рельефов, то дахи предположительно представлены на них одной группой скифов, отличающейся некоторыми деталями одежды: плащом (канди-сом?), наброшенным на плечи и скрепленным на груди большой застежкой, и довольно высокими сапогами.
Археологическими следами дахов являются, скорее всего, памятники прохо-ровской кулыуры, которую археологи называют еще и «раннесарматской». Древнейшие памятники, несущие отличительные черты этой культуры, обнаружены в степях Южного Урала и датируются V в. до н.э. История последующего ее распространения и по месту, и по времени очень близко соответствует тому,
что выше было сказано о дахах. Установление связи дахов с прохоровской культурой позволяет сделать еще один важный вывод. «Прохоровские» племена примерно в то же время, когда они расселялись на юге, в Средней Азии, продвигались и в западном направлении, в Поволжье и Северное Причерноморье. Но здесь они известны из источников как аорсы. Так выясняется, что у дахов и аорсов общее происхождение. Аорсы стали господами Северо-Восточного Прикаспия, степей между Каспийским и Аральским морями вплоть до Узбоя и Сарыкамыша, по-видимому, еще раньше, чем дахи закрепились на юге Восточного Прикаспия.
Каспийские народы. Рядом с иранским населением, называвшим себя арьями, в Средней Азии в ахеменидскую эпоху продолжали обитать и остатки доиран-ских племен — преимущественно в горных, изолированных областях. Соседнее иранское население называло их каспиями. Вообще ареал распространения названий с основой касп- огромен и примерно соответствует зоне непосредственных контактов древнего ираноязычного населения с их неиранскими соседями: от Кавказа, западного и южного побережий Каспия и самого «Каспийского» моря до Северной Индии и «Каспирии» (Кашмира). Конечно, названия с такой основой лишь выражали понятие «неиранский» и никогда не служили обозначением какого-либо одного конкретного народа, как иногда пытались их истолковать уже в древности. Встречающиеся в этой же зоне названия типа «анариаки» (собственно «неиранцы») как эквивалент для «каспиев» объясняют смысл последнего термина.
Каспиями могли быть названы самые разные народы. Так, каспиями Гиляна, примыкавшими к Средней Азии с запада, являлись в ахеменидское время каду-сии. Этнически это были, скорее всего, восточные кавказцы (хурриты и т.п.). Каспиями западной части Средней Азии являлись тапуры. Каспии востока Средней Азии выступают под разными именами, в дальнейшем мы будем называть их восточными каспиями. Этими народами не исчерпывается состав автохтонного населения Средней Азии ахеменидской поры— в источниках выявляются следы и других доиранских народов.
Тапуры {тапиры). Это земледельческий, но, по оценке античной традиции, один из «справедливых», т.е. архаичных по своему общественному устройству народов. Основным местом обитания тапуров в ахеменидские времена были горы Эльбурза. Эта горная страна еще в средние века сохраняла их племенное имя — Табаристан. Тапуры Эльбурза в древности именовались и каспиями. Частью тапуров были, по-видимому, марды {марды — «разбойники», не подчинявшиеся центральной власти), обитавшие к концу ахеменидского периода в непроходимых прикаспийских низинах к северу от Эльбурза. Тапуры расселялись отдельными островками и дальше к востоку, в Хорасанских горах, судя по сообщениям более поздних античных авторов, помещавших тапуров «между гир-канцами и дербиками», «между гирканцами и ареями». В последнем случае определенно имеются в виду жители долины р. Кешефруд — «Каспийской реки», области Туса, где еще в средние века существовало селение Таберан. Тапуры отмечены даже «к востоку от Маргианской пустыни», т.е., надо полагать, где-то в области низовьев р. Аби-Андхой — одной из тех областей, где предположительно находилась легендарная местность Гозбун (тоже поздняя трансформация
названия с основой касп-). Возможно, тапуры связаны и с другими следами «каспийской» топонимики на западе Средней Азии.
Тапуры вполне могли бы быть остатком древнейших земледельцев Иранского нагорья и Средней Азии, последними островками эламо-протодравидийской этнической среды, в доиндоиранскую эпоху господствовавшей в большинстве оазисов этого обширного региона и простиравшейся на востоке до долины Инда. В Средней Азии их предками были бы создатели анауской культуры. В наши дни прямыми потомками этого древнего населения в рамках указанного региона являются лишь брагуи, живущие на крайнем юго-востоке Иранского нагорья. Но еще в средние века таких анклавов древнейшего населения в пределах Иранского нагорья было значительно больше.
До нас дошли описания внешности и некоторых обычаев тапуров, отличавших их от окружающего населения и потому казавшихся странными. Эти описания могут быть поняты в контексте материалов, относящихся к эламо-протодравидийской этнической и культурной среде. Так, о внешнем облике тапуров сказано, что мужчины у них одеваются в черное платье и носят длинные волосы, а женщины носят белые одежды и коротко остриженные волосы. Известно, что ношение кос мужчинами засвидетельствовано для древнейшего населения всего эламо-протодравидийского ареала— от Элама до долины Инда; свойственно оно было и людям анауской культуры.
Восточные каспии. Эти каспии обитали в ахеменидские времена в обширном горном регионе по обе стороны Гиндукуша и Западных Гималаев: в Бадахшане, Вахане и на Памирском нагорье, в Читрале, Гилгите и Кашмире. Позднее, уже в послеахеменидское время, эти горцы именовались каспирами. В указанном регионе для обозначения автохтонного населения использовались и другие названия, производные от основы ашк-, яшк-, шик-, принадлежащей местным древним языкам и имевшей значение «местный, аборигенный». Такие названия зафиксированы для региона с древнейших времен и существуют доныне. Бадахшан в древнейшие, авестийские, времена, по-видимому, назывался «Ишката», а Гиндукуш— «Ишката Упарисайна», и производные от этих названий имена горного хребта и народа к северу от него звучали в греческой передаче как «Ас-катака» и «аскатаки».
Исконным занятием этих горцев была охота, но к началу ахеменидской эпохи многие из них стали пастухами-скотоводами, а в крупных долинах, например в Кашмирской, они уже давно занимались и земледелием. Подвижный образ жизни скотоводов, видимо, позволил персам причислять их к сакам, а греческим авторам соответственно считать их скифами. «Скифы» ахеменидского времени, упомянутые в источниках как обитающие к востоку от Бактрии и к северу от Индии, являются еще автохтонами-каспиями. Лазурит знаменитых бадахшанских месторождений, находившихся, как тогда считалось, в стране скифов, назывался «каспийским камнем» (каспака, в древнеперсидском произношении касака). Город, находившийся на берегу р. Кабул в нижнем ее течении (в районе Чарсадды), в индийской области Гандхара, бывший в ахеменидское время местом соединения важных путей, ведущих в Индию с запада и севера, и также упоминаемый в связи со скифами, назывался «Каспийским городом» (Каспапир, точнее, Кас-
папюр, по-древнеиндийски Каспапура; позднее этот город стал известен как Певкелаотида).
Восточные каспии являлись прямыми потомками племен обширного Гинду-кушско-Гималайского региона, обитавших там со времен неолита; те же племена населяли и горные области востока Средней Азии, неолитическая культура которых известна как гиссарская. Пришедшие сюда индоиранцы, обладавшие уже производящим хозяйством, постепенно вытесняли и ассимилировали местные неолитические племена горных охотников. К началу ахеменидской эпохи каспии — автохтоны Памира и более южных горных областей — уже мало чем отличались по культуре от саков; не случайно поэтому на них и распространялись названия «саки» и «скифы». Лишь физический тип и погребальный обряд заставляют признать их иным этносом.
В послеахеменидское время территория восточных каспиев продолжает сокращаться. Бадахшан с его месторождениями лазурита теперь уже считается не скифским, а частью Арианы. Каспийские скифы Памира были, видимо, окончательно вытеснены Кушанами в I в. н.э. С юга же в каспийский горный регион еще в ахеменидское время идет постоянное проникновение индийских дардов. В итоге к нашим дням лишь в сердце горного региона, в боковых долинах Гил-гита, небольшой народ буришки сохранил древний язык каспиев, который стоит совершенно изолированно среди других языков мира, да отдельная каста в составе дардов Гилгита и один народец среди нуристанцев Гиндукуша донесли до нас названия «яшкун» и «ашкун».
Отрывочные сведения об обычаях восточных каспиев вполне соответствуют тому, что известно о культуре автохтонного населения, со времен неолита обитавшего в Гиндукушско-Гималайском горном регионе. Это относится и к одежде каспиев, представлявшей, по Геродоту, сисирну— одеяние из козьих или овечьих шкур, типичное для горцев Гиндукуша во все времена.
Надо ожидать, что в Средней Азии ахеменидского времени обитали и другие доиранские народы. Такими, например, могли быть остатки более древнего, чем иранский, индоиранского слоя населения Средней Азии. Это потомки первой волны индоиранцев, вышедших из своей степной прародины еще до разделения древнейших арьев на иранскую и индийскую ветви. Ныне они представлены лишь «кафирами», или, точнее, нуристанцами южных склонов Гиндукуша. Но в средние века они занимали гораздо большую территорию и засвидетельствованы в области Гур в верховьях Герируда. В древности же, надо думать, ареал их расселения был еще шире. Но в источниках они представлены довольно скупо. Прямыми предками современных нуристанцев были нисеи времен походов Александра Македонского, обитавшие примерно там же, где ныне живут их потомки. К тому же слою населения принадлежали, очевидно, Геродотовы апариты (точнее, апарюты), позднее паруты в верховьях реки Арий (Герируд), населявшие область, известную еще в авестийские времена как Парута.
Не исключено, что под названием «дарва» в древнеиндийских источниках подразумевались не только индийские дардские племена, но и близкие им по языку и культуре «нисейские». В таком случае к последним имеет отношение и описанный Ктесием народ дирбеев, земли которого «простирались до Бактрии
и Индии». Дирбеев давно уже сопоставляли с индийскими дарва. Возможно, что последнее название у посредников, передавших его Ктесию, было истолковано по принципу «народной этимологии» под влиянием местного слова дурва — «злак проса». Очевидно, дирбеи (точнее, дюрбеи) были связаны с культурой проса. Действительно, эта культура всегда имела важное значение как раз для горцев Нуристана, Бадахшана, верховьев Герируда и прилегающих горных областей. В общем, дирбеи характеризуются как земледельческий и «справедливый» народ. В дошедшем до нас кратком описании дирбеев содержится и намек на связь их с эллинами. Может быть, это первое указание на развитую впоследствии популярную тему античной традиции: нисеи — потомки эллинов, некогда пришедших в Индию с Дионисом.
Общая этническая ситуация в Средней Азии ахеменидского времени характеризуется большой динамичностью, перемещениями значительных масс населения. Представители среднеазиатских народов нередко оказывались в это время очень далеко от своих родных мест, в самых дальних областях Ахеменидской державы, а в Средней Азии, в свою очередь, появлялись люди из этих далеких стран. Такие перемещения населения могли быть прямым результатом политики депортаций, столь обычной для деспотических держав Древнего Востока. Массовыми переселениями порабощенного населения, например, сопровождалось подавление персами восстаний в завоеванных ими землях, хотя возможны были и иные причины перемещений больших масс людей.
Так, скорее всего, в результате военных действий появились на невольничьих рынках Вавилонии рабыни из Бактрии и соседних стран в конце VI в. до н.э. При каких-то иных обстоятельствах персами были выведены колонисты из Гиркании в Лидию, на запад Малой Азии: большая равнина, на которой они поселились, получила название Гирканской.
И напротив, в Средней Азии в ахеменидское время появлялось много переселенцев из других стран. Более всего известно о переселенцах-греках. При Дарии I, на рубеже VI и V вв. до н.э., персы угрожали восставшим ионийцам, по словам Геродота, переселить их дочерей в Бактры. Поскольку восставшие потерпели поражение, нужно думать, что угроза была приведена в исполнение, — это можно заключить и из слов Геродота. При том же царе часть жителей греческого города Барка в Ливии была обращена в рабство и поселена в Бактрии, в деревне, названной также Баркой и существовавшей во всяком случае еще во времена Геродота.
При иных обстоятельствах был основан в Согдиане греческий город Бранхи-дов. Произошло это так. Когда Ксеркс, совершив неудачный поход в Грецию (480 г. до н.э.), возвращался обратно, Бранхиды, жреческий род в греческом городе Милете в Ионии, выдали ему храмовые сокровища, находившиеся в Дидимах близ Милета, и добровольно отправились вслед за персидским царем. Ксеркс отвел им место для поселения в Согдиане, где-то недалеко от р. Оке (Амударьи). Город Бранхидов просуществовал вплоть до походов Александра Македонского; жители его к тому времени еще не забыли обычаи предков, но были уже двуязычны.
157. Ахеменидская сатрапская резиденция в Бактрии. Алтын 10. Объект I
Прямых археологических свидетельств о пребывании греков в Средней Азии ахеменидского времени пока еще нет, но произведения изобразительного искусства, особенно предметы из так называемого «Амударьинского клада», достаточно убедительно подтверждают их присутствие. Многие из этих предметов, если не большинство, являются, скорее всего, произведениями местных греческих мастеров, причем мастеров именно малоазиатского происхождения.
В Средней Азии, несомненно, бывали и индийцы, но сведений об этом мало. Известно, что Александр Македонский встретил в Бактрии знатного индийца Сисикотта, который бежал из Индии к бактрийскому сатрапу задолго до прихода македонян.
Жители Средней Азии, как оседлые, так и кочевые, были вынуждены часто покидать родные места прежде всего потому, что оказались включены в обширную политико-административную систему Ахеменидской державы. Они должны были выполнять воинскую и трудовую повинности, везти дань, отправляться с разного рода посольствами к царскому двору и т.д. Их передвижения облегчались прекрасными ахеменидскими дорогами. Документы, найденные в Персеполе, свидетельствуют, что бактрийцы и их соседи индийцы значительными группами, иногда в несколько десятков человек, периодически прибывали в Сузы, царскую резиденцию, видимо, в связи с какими-то государственными делами. Там же, в Сузах, этих бактрийцев и индийцев видел и разговаривал с ними греческий историк Ктесий.
Отбывание воинской и трудовой повинностей могло ограничиваться участием в больших военных походах и строительных работах ахеменидских царей, в которых должны были участвовать все подвластные персам народы, но могло быть и более долгим, фактически пожизненным. И положение отбывавших эти повинности людей было разным. Очень тяжелой была рабская жизнь ремесленников царских мастерских. Иным было положение воинов, делившихся на несколько разрядов. Среди привилегированных воинов, имевших дома и поместья в разных областях Ахеменидской державы и, видимо, передававших свое положение по наследству, было немало выходцев из Средней Азии. Некоторые из представителей среднеазиатской знати добивались очень высокого положения в государстве и жили или при царском дворе, или в сатрапских центрах.
С другой стороны, в столичных центрах среднеазиатских сатрапий и пограничных крепостях, в составе администрации и гарнизонов — как это было в других частях Ахеменидской державы— находилось немало персов и мидийцев, игравших ведущую роль, а может быть, и представителей иных подвластных Ахеменидам народов.
Наконец, перемещению населения способствовали и торговые связи. Хотя торговля в Средней Азии ахеменидского времени была развита еще слабо, но уже в это время бактрийские купцы упоминаются в местах, весьма удаленных от их родины. Судя по монетным находкам, не исключено и посещение Средней Азии в это время иноземными купцами.
III. Государство Ахеменидов и современные ему государственные и племенные объединения в Средней Азии
Рассматриваемый период в истории Средней Азии начинается с завоеваний Кира II, основателя Персидской державы Ахеменидов. Завоеванные государства и союзы племен прямо включались в состав владений Кира II на положении сатрапий, без существенного изменения их границ; иногда Кир делил крупные до-ахеменидские объединения на части, и тогда они входили в состав его государства в виде не одной, а нескольких сатрапий. Эти обстоятельства помогают проследить контуры доахеменидских политических образований.
Политическая ситуация в Средней Азии ко времени персидских завоеваний выглядит следующим образом.
На западе парфяне и гирканцы входили в зону мидийского влияния и, видимо, представляли тогда единое политическое целое: одно из вассальных царств, составлявших Мидийское государство. Но восточнее парфян и гирканцев мидийское влияние вряд ли распространялось.
Здесь находился другой очаг ранней государственности — Бактрийское царство, под «высокими знаменами» которого формировался зороастризм, согласно древнейшему зороастрийскому преданию. Кави Виштаспа (конец VII — начало VI в. до н.э.), покровитель пророка Заратуштры — основателя зороастризма, по-видимому, и был создателем того объединения окружавших Бактрию стран, которое воспевается в одном из гимнов Авесты. Кроме самой Бактрии оно включало Ишкату, Паруту, Маргиану, Арею, Согдиану и Хорезм. В какой-то степени влияние кави Виштаспы распространялось и на Озерный край в низовьях Эти-мандра (Гильменда), а возможно, и на Арахозию в долине р. Арахот (Аргендаб) и на область верховьев Кабула. Примерно в таком составе Бактрийское царство, древнейший оплот зороастризма, и просуществовало до времени Кира.
Бактрийское царство представляло собой рыхлое объединение, конфедерацию отдельных областей. Каковы были их отношения между собой — неизвестно. Можно лишь сказать, что Маргиана теснее, чем другие области, была связана с Бактрией, а хорасмиям принадлежала большая долина между гор (видимо, область Герата, т.е. Арея). Это единственное указание источников на историческую роль хорасмиев в доахеменидское время и послужило многим ученым основанием для создания гипотезы о мощном доахеменидском Хорезмийском царстве, от которого зависели народы, якобы обитавшие вокруг упомянутой долины: парфяне, гирканцы, сарангеи (в Дрангиане — Озерном крае) и таманеи (в Арахозии).
К северу же от Бактрийского царства и мидийских владений простирались земли двух могущественных объединений кочевых племен: Сакского и Масса-гетского. Сакское объединение, видимо, граничило с Бактрийским царством по среднему течению Сырдарьи, но включало Фергану и горные долины к востоку и югу от нее. Массагетское объединение занимало степи и пустыни к востоку от Каспийского и Аральского морей.
Вот с этими силами Киру и предстояло столкнуться в Средней Азии.
1. Завоевания Кира в Средней Азии
Со Средней Азией так или иначе была связана деятельность Кира как завоевателя на протяжении всего его правления со времени победы над мидийским царем Астиагом (550 г. до н.э.). А основными вехами этой деятельности служат следующие события: завоевание Лидийского царства на западе Малой Азии (547/46 г. до н.э.), завоевание Вавилонского царства (539 г. до н.э.) и, наконец, поход против массагетов, закончившийся гибелью Кира (530 г. до н.э.). В промежутках между этими датами и происходило утверждение персидской власти в Средней Азии, о котором мы знаем главным образом из сообщений двух греческих историков: Геродота (V в. до н.э.) и Ктесия (конец V — начало IV в. до н.э.). Сведения Геродота более достоверны, но очень кратки. Сведения Ктесия (под ними мы будем иметь в виду также сведения авторов, зависимых от Ктесия) пространнее, но достоверность их под большим вопросом: к его времени и традиция уже многое утеряла, да и сам он не старался точно ее придерживаться; недостающее же Ктесий обильно дополнял, перенося в прошлое современные ему имена и порядки, — используя этот прием, он даже создал свою схему «истории Азии», согласно которой «царство Азии» оставалось неизменным с самых начал, со времени мифического ассирийского царя Нина, вплоть до дней Ктесия. Все это необходимо учитывать при оценке его сведений.
Одними из первых должны были войти в состав государства Кира парфяне с гирканцами — как часть Мидийского царства, перешедшего под власть основателя Персидской державы. Геродот ничего не говорит о парфянах и гирканцах в данной связи. Ктесий же рассказывает, что предводитель гирканцев Артасир, а вслед за ним «парфянин, сак и бактриец» перешли на сторону Кира сразу же после его решительной победы над Астиагом, еще до захвата персами мидийской столицы Экбатаны и пленения мидийского царя. Это сообщение часто понимают неправильно— как рассказ о подчинении Киром Гиркании, Парфии, Бактрии и страны саков; на самом деле речь здесь идет, очевидно, о предводителях вспомогательных военных отрядов, которые ежегодно посылались подчиненными народами «царю Азии» (один из обычаев, которые наблюдал в Персии, видимо, сам Ктесий). Но у Ктесия есть и сообщение, свидетельствующее, что по крайней мере Гиркания действительно оказалась в распоряжении Кира сразу после свержения Астиага как бывшее владение последнего: к гирканцам (или бар-каниям) был отправлен плененный мидийский царь, который будто бы сам не захотел оставаться в Мидии. О подчинении же Бактрии и саков Ктесий рассказывает далее специально.
Подчинение бактрийцев и саков произошло, вероятнее всего, между 545 и 539 гг. до н.э., т.е. между походом Кира в Лидию и завоеванием Вавилонии, так как античные авторы утверждают, что против Вавилона Кир выступил, покорив все народы Азиатского материка. Геродот говорит по этому поводу очень коротко: после завоевания Лидийского царства «препятствием Киру были Вавилон, бактрийский народ, саки и египтяне, на которых он собирался выступить в поход сам». Больше к этой теме Геродот не возвращается. Ктесий же рассказывает о войне Кира с бактрийцами и саками, видимо, в той последовательности, в какой подчинение этих двух народов и происходило.
Есть основания полагать, что Кир проник на территорию бактрийцев с юга через области дрангов, паропамисадов и горный хребет Гиндукуш, т.е. тем же путем, каким позже шел Александр. С первой областью связан известный эпизод, когда войску Кира, оказавшемуся в трудном положении в пустыне, неожиданно помог скифский народ ариаспов, обитавший по нижнему течению Эти-мандра, предоставив персам 30 тыс. подвод с провизией. Если верно предположение, что ариаспы — это осевший в Дрангиане осколок кочевой орды Арджас-па, злейшего врага бактрийского правителя кави Виштаспы, то благожелательное отношение ариаспов к Киру вполне понятно. Со второй областью связано известие о разрушении Киром крепости Каписа в верховьях р. Кабул.
О подробностях борьбы Кира с бактрийцами сведений мало. Сообщение Кте-сия о том, что эта борьба шла сначала без перевеса на чью-либо сторону, а затем бактрийцы добровольно подчинились Киру, когда узнали, что Астиаг был признан отцом Кира, Амитида же — его матерью и женой, вызывает сомнение. Сомнительна здесь прежде всего та роль в подчинении бактрийцев, которая приписана признанию Кира сыном, т.е. наследником Астиага, так как основана она на убеждении, что бактрийцы подчинялись уже Астиагу как «царю Азии» — в соответствии с отмеченной выше Ктесиевой схемой «истории Азии». У Ктесия вообще все войны Кира после победы его над Астиагом трактуются как войны с «отпавшими» народами. Иное дело — признание Кира сыном и мужем Амити-ды. Здесь явно подчеркнуто значение вступления Кира в зороастрийский кровнородственный брак, а связь Амитиды с зороастризмом выразительно засвидетельствована именем ее первого мужа: Спитам. У Ктесия Амитида— дочь Астиага и как таковая вымышленный персонаж, в иранской же эпической традиции Хума (Хумаи) — дочь Вохумана (Бахмана), реально последнего независимого правителя Бактрии из зороастрийской династии кави Виштаспы.
Бывшее Бактрийское царство, включая Согдиану и Маргиану, было превращено в отдельную сатрапию с центром в городе Бактры. Этот город со времен Кира стал крупным административным центром персов на востоке, так что даже сложилось предание об основании его Киром. Кроме того, источники сообщают, что в Согдиане, на северной границе новой сатрапии, недалеко от р. Танаис (Сырдарья) Кир основал город, названный его именем, — Кирополь, или Кирес-хата. Строительство крепостей на дальних границах царства — обычное явление в истории Ахеменидов, но нельзя исключить и возможность, что город со сходным местным названием (Курушкада) существовал еще до Кира и сообщения античных историков — не что иное, как отражение позднейших попыток истолковать этот топоним. Во всяком случае, этот город располагался в районе современного города Ура-Тюбе (ср. селение Куркат там же).
Можно думать, что отсюда, из этой согдийской местности, Кир направился к недалеко расположенному Танаису, переправился через него и совершил поход на саков, которые в ахеменидских надписях так и стали называться: «саки, которые за Согдом». Это было обширное объединение собственно сакских племен, именовавшихся амиргийскими,— как уже говорилось, вторая после Бактрийского царства политическая сила в Средней Азии того времени. Согласно более поздней легенде, переданной Ктесием, Кир победил в битве царя саков Аморга
(эпоним племени амиргиев) и схватил его, но царица Спаретра собрала новое войско, состоявшее из трехсот тысяч мужчин и двухсот тысяч женщин, одержала победу и взяла в плен много знатных персов, в обмен на которых и пришлось отпустить Аморга. Впоследствии Аморг оказывал военную помощь Киру в его походах. Рассказ носит явно фольклорный характер, но из него все же можно понять, что саки действовали тремя отрядами, а вместе с ними сражались и женщины-воительницы. Ктесий имеет в виду, что саки присоединились к Киру на положении военных союзников, перенося в прошлое современные ему условия, но в действительности и саки при Кире стали его подданными.
Не вполне ясно, когда произошло подчинение Киром хорасмиев. На этот счет сохранилось лишь одно известие легендарного характера— рассказ Геродота об уже упомянутой большой «долине между горами» (область Герата?), некогда принадлежавшей хорасмиям, которая была отнята у последних персами после подчинения ими окружающих долину народов. Может быть, в этой легенде сохранилось воспоминание о каких-то мерах ахеменидских властей по хозяйственному освоению долины Герируда. Такие меры могли повлечь за собой административное отделение Ареи (области Герата) от хорасмиев. Видимо, все эти события и стимулировали поиски хорасмиями новых земель на севере и постепенное переселение их вниз по Амударье на территорию позднейшего Хорезмского оазиса. О подчинении Киром хорамниев что-то рассказывал и Ктесий, но рассказ его не сохранился. Произойти эти события могли как сразу же после захвата Киром царской власти в Мидии — в виде действий по укреплению восточных границ Парфии, так и после подчинения Бактрийского царства.
Летом 530 г. до н.э. Кир совершил поход на среднеазиатских кочевников Массагетского объединения. Геродот называет их массагетами, Ктесий— дер-биками, другие авторы— просто скифами. Судя по Геродоту, Кир и здесь пытался добиться своих целей путем установления брачных связей: он посватался к массагетской царице Томирис, но последняя, «понимая, что он сватает не ее, а царство массагетов, отклонила брачное предложение». После этого Кир открыто начал поход против массагетов. О знаменитом последнем походе Кира у античных авторов сохранилось много рассказов. Выбирая в этих рассказах зерна реальной информации и отсеивая сказочные элементы, можно представить следующую картину. Поход проходил по обширной пустынной равнине с редким кочевым населением, к северу от культурных земель Гиркании, к востоку от Каспийского моря; равнину пересекал каспийский рукав большой среднеазиатской реки Аракса-Окса (Амударьи), протекавший по открытой, безлесной местности (Узбой); к северу от этого рукава находились горы с ущельями и теснинами (Большой Бал хан). Этой местности, Восточному Прикаспию, соответствуют и указания на противников Кира — массагетов и дербиков. Не противоречит им и приписываемое Беросу указание на «равнину даев» как на место гибели Кира. Но само упоминание даев (дахов) в данной связи выглядит анахронизмом не только для времени Кира, но и для времени Бероса (писал в начале III в. до н.э.). Объяснить этот анахронизм можно поздней интерполяцией в текст Бероса: ведь отрывки из его несохранившегося сочинения дошли до нас через многих посредников, а текст последнего из них, позднего греческого писателя Евсевия, —
158. Ахеменидская сатрапская резиденции в Бактрии. Алтын 10. Объект II
только в армянском переводе. Понятно, сколько искажений и добавлений может быть в таких цитатах, возводимых к древнему автору. Видимо, один из посредников вставил в цитату из Бероса свое пояснение: «Кир погиб там, где ныне обитают дай», которое затем было приписано самому Беросу.
Кир тщательно готовился к переправе через Араке, наводя мосты из судов с башнями. Очевидно, эти суда могли быть построены лишь у лесистых гиркан-ских берегов Каспийского моря, а затем введены в каспийское устье Узбоя, где недалеко от него, ниже узбойского водопада (в Игде), и состоялась переправа. Отсюда Кир удалился в пустыню на значительное расстояние. Первая стычка с кочевниками была удачной для Кира, но затем персидский царь попал в засаду где-то в горах Большого Балхана, войско его было истреблено, и сам он убит. Персов при этом будто бы погибло около 200 тыс., что, конечно, является большим преувеличением. Массагеты, видимо, применили в сражении обычную кочевническую тактику: сначала на расстоянии обстреливали противника из луков, а затем бросили на измотанных врагов тяжеловооруженную конницу с копьями и мечами.
Но в рассказах о последнем походе Кира содержится и немало бродячих фольклорных сюжетов. Таков описанный Геродотом эпизод гибели одной трети массагетского войска во главе со Спаргаписом, сыном царицы Томирис, когда бедные кочевники, не знакомые с благами оседлой жизни, поддались на коварную уловку персов. Этот сюжет— гибель бесхитростных кочевников, одурманенных опьяняющим зельем, — почему-то вообще прочно соединился со степями Закаспия в рассказах о местных племенах — от туров авестийских времен до туркмен средневековья. Таково же сообщение Геродота о том, как царица Томирис привела в исполнение свою угрозу напоить ненасытного Кира кровью, погрузив голову погибшего в битве персидского царя в бурдюк, наполненный человеческой кровью. В действительности тело Кира было доставлено на родину, в Перейду, и покоилось там в пышной гробнице вплоть до походов Александра Македонского, а гробница существует и поныне.
Ктесий, рассказывая о последнем походе Кира, называет его врагов дербика-ми (т.е., в сущности, теми же массагетами), но в пику Геродоту старается дать совершенно иную версию. Для этого Ктесий, видимо, использовал какие-то сведения о восточных, индийских «дербиках» (о них уже шла речь выше) и о походах Кира против них. Действительно, Северо-Западная Индия, Гандхара, тоже была подчинена Киром, и возможно, что какой-нибудь эпизод из деятельности Кира в этой стране, например поход против местных горцев Гиндукуша, послужил поводом для появления версии Ктесия. Тот рассказывает, что Кир предпринял поход против дербиков, царем которых был Аморей. Дербики устроили засаду, вывели слонов, которых они получили от своих союзников индийцев, персидские всадники обратились в бегство, и во время бегства какой-то индиец смертельно ранил упавшего Кира в бедро. Для пущей убедительности Ктесий даже приводит цифры погибших в этой битве — по десять тысяч с каждой стороны. О беде Кира узнал Аморг и пришел на помощь персам с двадцатью тысячами сакских всадников (не позднее чем на третий день со времени ранения Кира). В новой битве персы и саки победили, царь дербиков Аморей и два его сына
погибли, всего же на этот раз дербиков погибло тридцать тысяч, а персов — девять тысяч. Страна дербиков была подчинена Киру.
Тот же Ктесий рассказывает, что Кир, умирая в персидском лагере от раны, распорядился своим царством следующим образом. Царем был сделан старший сын Кира Камбиз. Младший сын Таниоксарк (Смердис Геродота, Бардия Бехистунской надписи) стал властителем бактрийцев, хорамниев, парфян и кармани-ев — все эти народы были освобождены от дани царю; местопребыванием его впоследствии был город Бактры. Два сына Спитама (казненного Киром), первого мужа Амитиды и зятя Астиага, к которому должна была отойти в качестве приданого его жены вся Мидия, также получили свою долю: Спитак стал сатрапом дербиков, Мегаберн — сатрапом барканиев. Всем им Кир предписал подчиняться матери, т.е. Амитиде, которая была матерью и сыновей Кира, и сыновей Спитама, сохранять мир и дружбу между собой и с царем саков Аморгом. Аналогичный рассказ Ксенофонта, отличающийся тем, что младший сын Кира Таниоксарк получает мидийцев, армян и каусиев, является лишь свободной литературной вариацией рассказа Ктесия.
Совершенно очевидно, что вся эта история с завещанием Кира была сочинена в среде высшей персидской знати, с которой Ктесий находился в близких отношениях, — сочинена «на злобу дня», по поводу событий конца V в. до н.э. Соответственно и обрисованная в ней (как у Ктесия, так и в варианте Ксенофонта) политическая ситуация отражает условия того же времени. Но в рассказе Ктесия есть и такие моменты, которые позволяют предполагать наличие в нем отголосков действительно древней традиции. Это некоторые моменты сходства данного рассказа с историей восстания второго Лжебардии. Сходство это может объясняться как тем, что второй Лжебардия действовал на востоке Иранского нагорья в качестве наследника истинного Бардии (и тогда рассказ Ктесия может содержать реальные сведения о младшем сыне Кира), так и просто воспоминаниями о самом Лжебардии. Ранее нам казалась вероятной первая возможность. Ныне мы склоняемся ко второму объяснению: политическая обстановка, которую мы застаем в Средней Азии и Восточном Иране к началу правления Дария I (а она, судя по всему, не претерпела никаких изменений со времени гибели Кира), все же сильно отличается от той, какая обрисована в Ктесиевом завещании Кира.
2. Восстания в Средней Азии при воцарении Дария.
Походы Дария в Среднюю Азию
Вновь на арену истории среднеазиатские народы выступают в связи с событиями, сопутствовавшими воцарению Дария. События эти полнее всего отражены в Бехистунской надписи Дария. И хотя этот источник, конечно, далеко не объективен, все же он ценен тем, что содержит свидетельства современника и активного участника событий. Геродот тоже рассказывает об этих событиях, но никаких сведений о Средней Азии по их поводу не приводит. Ктесий же не раз упо
минает в связи с ними о Средней Азии, но, как и в других случаях, сведения его подчинены литературным задачам, которые имеют мало отношения к истории в нашем понимании, хотя иногда у Ктесия всплывают в странном контексте очень интересные имена и эпизоды.
Непосредственным преемником Кира был его старший сын Камбиз. Все свое внимание он направил на западные пределы Персидской державы, покоряя Египет и тем самым завершая план Кира. Своего единственного брата, Бардию, он приказал тайно убить, опасаясь его притязаний на власть, так что со смертью Камбиза пресеклась старшая линия ахеменидской династии. Дарий, представитель младшей линии, был признан далеко не всеми, и его вступление на престол многими рассматривалось как узурпация. Появились многочисленные самозванцы, которые у персов принимали имя Бардии, а у других народов — имена наиболее популярных у них представителей местных доахеменидских династий. Все эти события относятся к 522-521 гг. до н.э.
В числе восставших были парфяне и гирканцы, как об этом повествует Бехи-стунская надпись. Они примкнули к Фраварти, который стал царем в Мидии, приняв имя Хшатриты из рода Киаксара, древнего мидийского царя. Как бывшие подданные мидийских царей, парфяне и гирканцы, естественно, признали царем именно Фраварти. Сатрапом Парфии в то время был Гистасп (Виштаспа), отец Дария. Часть войска осталась ему верной, и у города Вишпаузатиш 8 марта 521 г. до н.э. он дал сражение восставшим парфянам, видимо, с успешным для себя исходом. Убитых среди повстанцев оказалось 6346 человек, пленных— 4346. Получив от Дария подкрепление— персидских воинов, направленных из мидийского города Раги (Рей близ Тегерана), где незадолго до того был схвачен Фраварти, — Гистасп 12 июля 521 г. до н.э. устроил новое сражение с парфянами у города Патиграбана и одержал полную победу над повстанцами. На этот раз убитыми повстанцы потеряли 6570, пленными— 4192 человека. После этого парфяне и гирканцы признали власть Дария. Все описанные события происходили в коренной Парфии, где-то близ Дамгана и, видимо, границы с Мидией, с областью города Раги.
Восстали также бактрийцы и саки. Судя по Бехистунской надписи, эти восстания начались в октябре-ноябре 522 г. до н.э. О восстании бактрийцев надпись говорит следующее: одна из бактрийских областей, Маргиана, стала мятежной, и жители ее избрали маргианца Фраду своим вождем; сатрап Бактрии Дадарши действовал очень быстро и уже 10 декабря 522 г. до н.э. разбил войско мятежников. Жертвы восставших здесь оказались огромными (самыми большими среди всех участвовавших в восстании стран): более 55 тыс. убитых и около 7 тыс. пленных. После этого Бактрия, видимо, была замирена, хотя, по косвенным данным, Фраду смогли захватить лишь в конце следующего, 521 г. до н.э. События бактрийского восстания наводят на ряд размышлений. Странно прежде всего, что Фрада, при таком размахе восстания, оставался лишь «наибольшим», не претендуя на царский титул. Далее, поражает массовость восстания и упорство, фанатизм восставших, готовых идти на смерть, с одной стороны, быстрота и решительность действий сторонников Дария— с другой. В отечественной научной литературе были предложены разные объяснения этих фактов, которые, однако,
не всегда убедительны и не объясняют всей совокупности фактического материала.
Отсутствие у вождя маргианских повстанцев претензий на царский титул объясняется, скорее всего, тем, что эти повстанцы ориентировались на какой-то другой повстанческий центр, находящийся за пределами Маргианы, — подобно тому как восставшие в Парфии ориентировались на Фраварти в Мидии. Где же искать такой центр? В данной связи обращает на себя внимание восстание Вахь-яздаты, который выступил самозванцем под именем Бардии в области Яутия, т.е. в Кармании, примерно в то же время, когда восстали бактрийцы и саки. По июль 521 г. до н.э. Вахьяздата активно действовал в Персиде, частью которой была тогда Кармания. Уже в декабре 522 г. до н.э. он почему-то посылает войско в далекую Арахозию, причем из текста Бехистунской надписи вытекает, что действовало это войско даже не в Арахозии, а еще дальше, в Саттагидии (верховья Гильменда и южные предгорья Гиндукуша) — области между Арахозией и Бак-трией на пути в последнюю. Здесь, у крепости Капишакани — той самой крепости Каписа, которую осаждал еще Кир,— посланцы Вахьяздаты сразились с арахозийским сатрапом Виваной и потерпели поражение (29 декабря 522 г. до н.э.). После этого арахозийские мятежники действовали в более южных областях: вновь они собрались и дали Виване другое, опять неудачное для себя, сражение 21 февраля 521 г. до н.э., пока наконец предводитель посланного Вахь-яздатой войска не был захвачен Виваной в одной из арахозийских крепостей. Таким образом, посланцы Вахьяздаты нашли в далекой Арахозии не меньшую поддержку, чем в Персиде.
Если восстания Фрады и Вахьяздаты действительно связаны между собой, то ход событий можно предположительно восстановить следующим образом. В Бактрии узнают о восстании Вахьяздаты, которое почему-то сразу получило там массовую и самую горячую поддержку. Первой из бактрийских областей поднимается Маргиана. До Вахьяздаты доходят вести о его бактрийских союзниках, и он посылает на помощь им отряд через Арахозию, где он тоже находит активных приверженцев. Но и сторонники Дария, видимо сознавая грозящую опасность, действуют быстро и решительно. Сатрап Бактрии топит в крови восстание в Маргиане еще до подхода отряда, посланного Вахьяздатой, тем самым предотвращая восстания в других областях Бактрии. Сатрап Арахозии перехватывает отряд Вахьяздаты на подходе к Бактрии и отрезает ему путь на север. Восстание, так и не сумев объединиться, оказывается разбитым на несколько изолированных очагов, которые в конце концов ликвидируются сатрапами Бактрии и Арахозии.
Но почему восстание Вахьяздаты получило такой отклик в Бактрии и Арахозии? В Персиде Вахьяздата получил поддержку как Бардия, сын Кира. Не случайно он происходил из Яутии — южной части Кармании, ближайшей к Эритрейскому морю (Персидскому заливу) и его островам, куда персидский царь выселял ссыльных. Ведь согласно одной из версий, истинный Бардия нашел себе конец именно в этом море. Но вряд ли, выдавая себя за Бардию, самозванец мог получить столь беззаветную поддержку в Арахозии и Бактрии. Здесь действовали другие факторы, религиозные. Давно уже отмечено, что Вахьяздата был зо-
роастрийцем, причем зороастрийцем, связанным с Арахозией. А в Арахозии как раз в это время формировалась влиятельная и многочисленная зороастрийская община, основанная, видимо, еще непосредственными учениками пророка. Зо-роастрийские идеи, конечно, не могли не найти отклик и в Бактрии, где, наверное, еще жили надежды на возрождение зороастрийского государства под властью династии кави Виштаспы, которые особенно действенными оказались в «заратуштровской» Маргиане, «могучей в приверженности Арти» (т.е. в правоверии). Имена Вахьяздаты и, может быть, Фрады сохранились в зороастрийских «святцах» Авесты рядом с именами других приверженцев, учеников и родственников Заратуштры.
Эти же события нашли любопытное преломление в сочинении Ктесия, в его версии гибели Бардии (Таниоксарка). Как мы уже знаем, Таниоксарк, согласно Ктесию, получил от Кира во владение восточную часть Персидской державы. Но Камбиз стал подозревать брата в злых умыслах, по наущению некоего мага Сфендадата вызвал его из Бактрии и убил. В Бактрию же под видом Таниоксарка отбыл маг Сфендадат, где и правил от его имени, оказавшись, таким образом, господином бактрийцев, хорамниев, парфян и карманиев. В рассказе Ктесия, как видим, есть рациональное зерно: самозванец маг (т.е. зороастриец) Лжебардия претендует на власть как над карманиями, так и над бактрийцами. Но особенно любопытно само имя — Сфендадат. Так звали (точнее, Спентодата) самого популярного из сыновей кави Виштаспы, безупречного борца за веру, великого воина, спасшего царство кави Виштаспы от врагов.
Очевидно, во времена Ктесия еще сохранялась память о том, что второй Лжебардия в Бактрии слыл за Спентодату. Такое предположение вполне допустимо, ведь повстанцы во времена Дария обычно принимали какое-нибудь популярное имя одного из членов царского рода, правившего до Кира в той стране, где они искали поддержку.
Вместе с бактрийцами, как уже говорилось, восстали и саки. В Бехистунской надписи об этом восстании более ничего не сообщается, но возможно, что воспоминания о нем лежат в основе поздней легенды, рассказанной Полиеном: против саков предпринял поход будто бы сам Дарий со своим военачальником Ра-носбатом; три сакских царя, которых легенда наделяет именами Сакесфар, Омарг и Тамирис, устроили по этому поводу совет, на котором конюх Сирак предложил свой план; замысел конюха был одобрен, и Сирак под видом перебежчика убедил персидского царя совершить семидневный поход против саков, когда же персидское войско оказалось в песчаной, безводной и бесплодной пустыне, откуда не видно было выхода, открыл персам свое намерение погубить их; Раносбат немедленно отрубил самоотверженному Сираку голову, а персов спасло лишь то, что после отчаянной молитвы Дария Аполлону (Солнцу) над пустыней пролился дождь, и воины, набрав в бурдюки дождевую воду, смогли дойти до реки Бактр.
Эта легенда сохранила, конечно, лишь далекие отголоски подлинных событий. Дарий не мог лично руководить описанным здесь походом, но, может быть, легенда потому и сохранила имя его хилиарха (тысяченачальника) Раносбата, что настоящим предводителем персов в данном случае был он. Раносбат мог
действовать против саков, поддержавших восстание бактрийцев, например, по приказу бактрийского сатрапа. Имена трех сакских царей вымышлены, но это имена значащие. Если основное значение среди них придавать имени Омарг, то получится, что поход был направлен против саков-амиргиев (хаумаварга) в пустынную местность за реку Бактр (так в данном случае могла называться река, протекавшая между бактрийской сатрапией и саками, т.е. Сырдарья). Если же главным по значению признать имя Тамирис, то описанный поход надо понимать как поход против массагетов, рекой Бактр считать Балхаб или Амударью в среднем течении, а прилегающей к Бактру пустыней — ту страшную песчаную пустыню, которую позже прошли воины Александра Македонского на пути от культурных земель Бактрии (оазисы по течению Балхаба, чье устье уже тогда не доходило до Амударьи, теряясь в песках) к Оксу (Амударье).
В последнем случае описанный поход окажется лишь началом тех действий против массагетов, которые предпринял Дарий, видимо продолжая политику Кира. Потерпев неудачу в попытке проникнуть к массагетам со стороны материка (очевидно, из Бактрии), Дарий в 519 г. до н.э. организует экспедицию, на этот раз возглавив ее лично, со стороны моря, прямо повторяя поход Кира. Это предприятие Дария описано в пятом столбце Бехистунской надписи, сохранившемся плохо и не всегда одинаково реконструируемом исследователями. Судя по последним реконструкциям, Дарий так описывал свои действия. Он отправился с войском в Сакскую страну, где против него выступили «острошапочные» саки, прибыл к морю, переправился через реку по имени Арахша и одно сакское войско уничтожил, а другое взял в плен — оно связанным было приведено к нему. Своего вождя Скунху саки схватили и сами привели к персидскому царю, который назначил им другого вождя. «После этого, — говорит Дарий, — страна стала моей». Возможно, что воспоминания о событиях этого похода сохранились в фольклорной обработке в одном из рассказов Полиена: саки действовали против Дария тремя отрядами, один из которых был сразу разбит; персы, воспользовавшись его одеждой и оружием, под видом саков приблизились ко второму отряду и неожиданным ударом уничтожили его; третий же отряд сдался Дарию без сопротивления. А на одной ахеменидской печати изображены царь, ведущий связанного пленника-сака, и два его врага в остроконечных шапках: одного из них царь схватил, а другой уже повержен.
Итак, Дарий завершил то, что не удалось Киру: видимо, так же, как и последний, он из Каспийского моря вошел в устье Аракса (Узбоя), переправился через него и, углубившись в степи, одержал-таки победу над массагетскими племенами. На своих западных рубежах они оказались более уязвимыми, чем на восточных, где доступ к ним преграждали труднопроходимые песчаные пустыни.
Этот поход отражен и у Ктесия, в рассказе которого, как всегда, отзвуки реальности перемешаны с фантазией. Ктесий рассказывает, что Дарий перед походом в Европейскую Скифию через Боспор и Истр (Дунай) приказал каппадокийскому сатрапу Ариарамну совершить морскую экспедицию в ту же Скифию; сатрап переправился через море на тридцати пятидесятивесельных судах и захватил в плен многих скифов, в том числе брата скифского царя, Масагета, уже до того заключенного в оковы по приказу своего брата. Хотя и здесь Ктесий
проецирует современную ему действительность (например, каппадокийского сатрапа Ариарамна, который в действительности жил в его время) в прошлое, многие детали рассказа соответствуют реальному походу Дария. Правда, вместо Каспийского моря здесь уже подразумевается Черное, но очень интересна такая деталь: поход против массагетов предшествует походу против их «братьев», европейских скифов, и служит его причиной. Этот момент подтверждает давно уже высказанную мысль: поход Дария в Европейскую Скифию (между 516-512 гг. до н.э.) являлся завершением его глобальных планов по подчинению скифской степи. Переправившись через Истр (Дунай), Дарий надеялся выйти в тыл масса-гетам, пройдя всю скифскую степь. Однако такие планы были основаны на превратных географических представлениях, господствовавших во времена Дария и не отличавших бассейна Азовского моря-Дона от бассейна Аральского моря-Сырдарьи.
Экспедиция Скилака. Одним из больших предприятий Дария была организация экспедиции, посланной под начальством карийца Скилака между 516 и 512 гг. до н.э. Эта экспедиция была частью столь же глобального замысла Дария: объезд по воде и по суше «естественных» границ владений персидских «царей Азии». Этот объезд имел целью географическую разведку и сопровождался подчинением еще не завоеванных стран, расположенных вдоль рубежей, считавшихся естественными.
Известно, что экспедиция Скилака начала свой водный путь на реке Инд (на самом деле на реке Кабул, которая была принята за верховья Инда) у города Каспапир (в районе Чарсадды) в индийской области Гандарика (Гандхара) и продолжала его по Инду до впадения этой реки в океан, а затем проплыла вдоль южных берегов Ирана.
Однако, судя по косвенным данным, водному пути предшествовал путь по суше, который можно проследить начиная с Каспийских ворот и далее на восток, «по направлению к восходу солнца». Скилак прошел Парфию, следуя вдоль высоких гор, простиравшихся слева от дороги и отделявших Парфию от Гиркании; далее на севере эти горы переходили в необозримую пустынную равнину, примыкавшую к Каспийскому морю с востока. К востоку от Парфии простиралась земля хорасмиев, обитавших и на равнинах, и в горах, и отсюда Скилак попал в Бактрию. В Бактрии, видимо, находилась основная база экспедиции, где она была снабжена всем необходимым для плавания. Здесь высокие горы тянулись уже справа от дороги, отделяя бактрийцев и живших далее к востоку скифов от Индии. Перевалив через горы, путешественник, вероятно, и вышел к верховьям «Инда» (Кабула), так как сообщение Скилака о лесистых горах по обеим сторонам Инда, текущего на восток, может относиться только к этим местам.
Скилак, наверно, плавал и по Каспийскому морю, и именно к нему восходят древнейшие и в то же время очень точные сведения об этом море: о замкнутости, «отдельности» его, имеющего «в длину пятнадцать дней плавания на веслах, а в ширину, в наиболее широком его месте, восемь дней» (цифры эти подтверждаются средневековыми данными о плавании вдоль западных и южных берегов моря); о высоких и лесистых горах, простирающихся «вокруг так называемого Гирканского моря» (т.е. гирканского побережья Каспия).
3, История ахеменидских владений в Средней Азии,
Бактрийская, Парфянская и другие сатрапии
После подавления многочисленных восстаний и укрепления своей власти Дарий приступил к внутреннему упорядочению обширной Персидской державы, устройству сатрапий. Около 518 г. до н.э. была проведена административно-финансовая реформа; сатрапии существовали и до Дария, но он произвел некоторую перегруппировку народов внутри них и определил твердую сумму дани, которую должна была вносить каждая сатрапия в казну персидских царей.
Основные сведения об ахеменидских владениях в Средней Азии дают: Геродот в рассказах о податных округах Дария I и воинских отрядах Ксеркса во время похода его в Грецию в 480 г. до н.э.; Ктесий в перечнях народов, подчиненных «царям Азии», отражающих условия времен Артаксеркса II; историки Александра в сообщениях о сатрапах и воинских отрядах последнего ахеменидского царя Дария III; наконец, ахеменидские надписи в ряде сообщений, особенно в списках стран, подвластных персидским царям. Сопоставляя все эти сведения, можно проследить и изменения в составе сатрапий на протяжении ахеменидской эпохи.
Бактрийская сатрапия. Бактрийская сатрапия, видимо, с самого начала была главной опорой Ахеменидов на северо-востоке. Об этом свидетельствуют события начала царствования Дария и действия бактрийского сатрапа Дадарши, назначенного, может быть, еще при Кире. Однако после реформы 518 г. до н.э. территория Бактрийской сатрапии ограничилась лишь страной самих бактрийцев, хотя, возможно, сохранила за собой и какие-то земли за Сырдарьей, если под эглами Геродота понимать население области, известной в средние века как Илак (долина Ангрена). Это объединение, «от бактрийцев до эглов», и составило XII округ (сатрапию) по Геродоту. Но уже к концу царствования Дария Бактрийская сатрапия восстанавливает свое значение. В Бактрии в это время правит царский сын, Ариамен. Ктесий рассказывает, как Ариамен, узнав о смерти Дария и провозглашении царем Ксеркса (в 486 г. до н.э.), выступил из Бактрии, чтобы оспаривать у брата права на царскую власть. Дело, однако, не дошло до вооруженного столкновения, Ксеркс был признан царем, а Ариамен — первым после него человеком. Видимо, в Бактрию Ариамен уже не возвратился; в 480 г. до н.э. он погиб в сражении при Саламине.
При Ксерксе в качестве правителей бактрийцев и саков фигурируют одновременно два лица: Масиста и Гистасп, оба — братья Ксеркса, оба — участники похода в Грецию в 480 г. до н.э. Возможно, что Гистасп предводительствовал непосредственно бактрийцами и саками, а Масиста, как один из верховных военачальников, — всей группой народов, «вооруженных одинаково с бактрийцами», т.е., помимо самих бактрийцев, парфянами, хорасмиями, согдийцами, ган-дариями, дадиками (дардами), ареями. Геродот рассказывает, что вскоре после похода в Сузах произошли следующие события: Масиста, жестоко оскорбленный царем, решил со всеми родичами бежать к подвластным ему бактрийцам и сакам, чтобы поднять их на восстание против царя, — это якобы ему нетрудно
было сделать; однако по дороге он был перехвачен и убит. Тут в какой-то мере повторилась та же ситуация, что и при Вахьяздате.
К моменту смерти Ксеркса в 465 г. до н.э. и воцарения Артаксеркса I в Бактрии в качестве сатрапа находился Гистасп. Возможно, что это тот же Гистасп, который участвовал в походе Ксеркса против греков, предводительствуя бак-трийцами и саками, хотя на этот раз источники называют его братом Артаксеркса. Вскоре после вступления на престол, в 462 г. до н.э., Артаксеркс был вынужден совершить поход в Бактрию против ее мятежного сатрапа; последний, однако, назван не Гистаспом, а Артабаном. Ктесий рассказывает, что, когда царь встретился с бактрийцами, первая битва окончилась равным исходом для обеих сторон и лишь вторую битву выиграли персы, так как ветер подул в лицо бак-трийцам. Последняя деталь представляет собой известный фольклорный мотив, зафиксированный для Средней Азии и более поздними источниками. После этого царь поставил над бактрийцами другого сатрапа, из числа «своих друзей».
К концу V в. до н.э. Бактрийская сатрапия, по Ктесию, охватывала огромную территорию от Инда до Танаиса, а это значит, что в нее теперь прямо были включены страны гандариев и дадиков на востоке, согдийцев— на севере. В Бактрах, по представлению Ктесия, сидел царский сын в качестве наместника, который властвовал не только над Бактрийской сатрапией, но и над парфянами и хорамниями. Обычай назначать бактрийским правителем ближайшего родственника царя к тому времени окончательно закрепился; Бактры стали как бы вторым политическим центром Ахеменидской державы, местом, где один за другим появлялись претенденты на персидский престол.
Именно такой мы и застаем Бактрийскую сатрапию во времена Дария III. Во главе ее стоит Бесс, родственник царя; в битве при Гавгамелах в 331 г. до н.э. он предводительствует бактрийцами, согдийцами, «индийцами, соседними с бактрийцами» (т.е. гандариями и дадиками Геродота),— всеми народами от Танаиса до Инда. Кроме того, власть его распространялась и на сатрапии парфян и ареев; впоследствии он даже сам ставит им сатрапов: Бразана— парфянам, Сатибарзана— ареям. Следовательно, под верховной властью Бесса находились те же народы, что и под властью Масисты. После смерти Дария III Бесс в Бактрах даже объявил себя царем, приняв имя Артаксеркс IV; правда, царствование его длилось недолго (330-329 гг. до н.э.).
Парфянская сатрапия. Парфянская сатрапия, в которую входили парфяне и гирканцы, видимо, уже к концу царствования Кира возглавлялась Гистаспом, отцом Дария. Может быть, тогда же ему подчинялись хорасмии и ареи. Как сатрап пограничной сатрапии он участвовал в походе Кира на массагетов в 530 г. до н.э. В период борьбы Дария за власть в 522-521 гг. до н.э. он воевал с восставшими парфянами и гирканцами и после реформ 518 г. до н.э. Дарий, видимо, присоединил к владениям своего отца земли согдийцев. Это огромное объединение, состоявшее из парфян, хорасмиев, ареев и согдийцев, и стало известным Геродоту как XVI округ. Как долго просуществовало это объединение, трудно сказать; по Ктесию, Гистасп погиб при осмотре гробницы Дария, сооружавшейся в «двуглавой скале».
После Гистаспа Парфянская сатрапия теряет одну область за другой, и к началу царствования Ксеркса она объединяет только два народа— парфян и их непосредственных соседей, хорасмиев. Сатрап ее Артабаз участвовал в походе Ксеркса на греков в 480 г. до н.э. При Артаксерксе II, в конце V в. до н.э., «область и город» парфян, т.е. собственно Парфия, область вокруг Дамгана, возможно, управляется местным родом «династов»; по этой причине тогда же и создается легенда о добровольном присоединении правителя парфян к Киру. Возможно даже, что имя парфянского династа, Мермер, отнесенное к далекой древности, взято Ктесием, как обычно, у своего современника.
Гирканцы образуют отдельную сатрапию уже к началу правления Ксеркса. Сатрап ее Мегапан был участником похода Ксеркса в Грецию в 480 г. до н.э. Впоследствии он правил Вавилоном. В это время, при Ксерксе, выделяется могуществом род гирканца Артапана, в связи с чем создается легенда о предке Ар-тапана, правителе гирканцев Артасире, который якобы добровольно перешел на сторону Кира. Артаксеркс I в конце правления (до 424 г. до н.э.) назначил своего сына Оха сатрапом гирканцев; когда Ох воцарился в Персии под именем Дария II, гирканцы стали играть особенно видную роль в Ахеменидском государстве, занимая положение, равное с положением персов и мидийцев; такое положение оправдывалось преданием, которое делало гирканцев первым народом, добровольно присоединившимся к Киру. Во времена Артаксеркса II гирканцы (барка-нии) тоже составляли отдельную сатрапию.
Однако к концу существования Ахеменидского государства парфяне и гирканцы были вновь объединены в одну сатрапию. При Дарии III их сатрап Фрата-ферн участвовал в битве при Гавгамелах в 331 г. до н.э. В эту же сатрапию входили тапуры, которые имели, однако, отдельного правителя, хотя и подчиненного, по-видимому, сатрапу. Правителем тапуров при Дарии III был Автофрадат.
Интересно сравнить эволюцию двух сатрапий, Бактрийской и Парфянской, со времени реформы Дария 518 г. до н.э.
Бактрийская сатрапия неуклонно расширялась, включая все новые земли, и становилась все более важным административным объединением на востоке Ахеменидского государства. Сначала, при Дарии I, XII округ ограничивается фактически собственно Бактрией, области к северу и юго-востоку не имеют в административном отношении никакой связи с ней, входя в различные объединения: согдийцы, вместе со многими другими народами, входят в XVI округ, а гандарии и дадики, также с другими народами, — в VII округ. Затем, при Ксерксе, эти области обосабливаются, образуя две отдельные административные единицы: бактрийцы входят в 6-й отряд, но и согдийцы, с одной стороны, гандарии и дадики— с другой, образуют уже два отдельных отряда, 10-й и 11-й, не соединяясь с другими народами. Согдийцами предводительствует Азан, сын Ар-тея, гандариями и дадиками — Артифий, сын Артабана. Наконец, области, расположенные к северу и юго-востоку от Бактрии, сливаются с собственно Бактрией в одну Бактрийскую сатрапию, простиравшуюся от Танаиса (Сырдарьи) до Инда. Данные Ктесия позволяют считать, что этот процесс уже завершился ко времени Артаксеркса II и в таком виде Бактрийская сатрапия просуществовала до конца государства Ахеменидов.
Парфянская сатрапия в то же самое время, напротив, постоянно сокращалась в размерах. При Дарии I она включала кроме парфян также хорасмиев, согдов, ареев (XVI округ). При Ксерксе в этой сатрапии остаются только парфяне и хо-расмии, их восточные соседи (9-й отряд). Наконец, при Артаксерксе II, по Кте-сию, уже и хорасмии отделены от парфян.
Хорасмии, обитавшие между парфянами и бактрийцами, возможно, уже при Кире вошли в состав Парфянской сатрапии. Но, как уже говорилось, Арея — большая «долина между горами» — была отнята у хорасмиев персидским царем. Видимо, в поисках новых плодородных земель хорасмии стали постепенно осваивать позднейший Хорезмский оазис, пользуясь поддержкой ахеменидских властей. При Дарии и Ксерксе хорасмии остаются в составе Парфянской сатрапии. Но ко времени Артаксеркса II хорасмии (хорамнии) образуют уже отдельную сатрапию, однако вскоре, на рубеже V-IV вв. до н.э., вообще выходят из состава Ахеменидского государства. Все эти события — создание новой, Хорез-мийской сатрапии и неожиданное крушение здесь ахеменидской власти — хорошо иллюстрируются развалинами городища Калалыгыр 1, сатрапской резиденции на территории Хорезмского оазиса. Видимо, центр хорасмиев к тому времени окончательно переместился сюда. Как установили археологи, здесь на рубеже V-IV вв. до н.э. было начато строительство громадной крепости и дворца, подражавшего персепольскому; по всем данным, строительство это велось ахеменидскими властями, однако внезапно прекратилось, и крепость запустела.
Ареи образовали отдельную сатрапию, отделившись от парфян, уже к началу правления Ксеркса. Их отрядом предводительствовал тогда Сисамн, сын Гидар-на. После выхода Хорезмского оазиса из-под власти Ахеменидов оставшиеся в подчинении Ахеменидов южные области хорасмиев включаются в состав Арейской сатрапии. В таком виде последняя и просуществовала до конца Ахеменидского государства. Арейским сатрапом при Дарии III был Сатибарзан.
Массагеты, как уже говорилось, были подчинены Дарием в 519 г. до н.э., назначившим им нового вождя по своему усмотрению. В административную систему Ахеменидского государства они вошли под названием — «острошапочные саки». Под этим названием — «острошапочные» (ортокорибантии)— они и были причислены к Мидийской сатрапии, т.е. к X округу Геродота. Такое место, занятое массагетами в ахеменидской административной системе, несколько странное на первый взгляд, показывает, что главное значение придавалось тогда их приморскому, прикаспийскому положению. «Острошапочные» саки состояли и в армии Ксеркса, хотя в изложении Геродота они слились с амиргийскими саками. Ко времени Артаксеркса II массагеты (дербики) образуют отдельную сатрапию, но центр ее теперь находится уже в глубине массагетских земель, в низовьях Сырдарьи. Обнаруженная здесь археологами сатрапская резиденция, представленная городищем Бабишмулла 1, рисует, в общем, ту же ситуацию, что и городище Калалыгыр 1: учреждение новой сатрапии на рубеже V-IV вв. до н.э. и последовавшая затем ликвидация ахеменидской власти в этих местах. Правда, какие-то массагеты сражались в союзе с персами еще и при Дарии III.
Тяготение массагетов к Мидии, видимо, отражает более общую тенденцию. Отдельная Гирканская сатрапия, созданная, может быть, еще в конце правления
Дария, в это время тоже тяготеет более к Мидии, нежели к Парфии. По представлению Ктесия, еще Кир назначил сатрапами барканиев (гирканцев) и дерби-ков (массагетов) соответственно Мегаберна и Спитака — сыновей мидийца Спи-тама, претендовавшего на власть над Мидией. Конечно, Ктесий и в данном случае отражает современную ему обстановку, используя, может быть, и для имен сатрапов имена своих современников. Ксенофонт и Ктесий, описывая построение персидских войск и используя при этом, несомненно, собственные наблюдения, упоминают в одном отряде с мидийцами гирканцев (баркании у Ктесия) и саков — соседей гирканцев (дербики у Ктесия).
Похоже, что в это время на северо-западе ахеменидского Ирана создается административное объединение с центром в Мидии, аналогичное объединению с центром в Бактрии на северо-востоке. В Мидийское объединение входили еще армяне и кадусии. Видимо, не случайно Ксенофонт, излагая свой вариант рассказа Ктесия о Таниоксарке и его владениях, подставляет вместо названных у Ктесия народов, образующих, как уже говорилось, Бактрийское объединение, такой перечень владений царского сына: мидийцы, армяне и кадусии. Это Мидийское объединение на севере должно было включать все подвластное Ахеменидам побережье Каспийского моря, от устья Узбоя на северо-востоке. Описанная ситуация объясняет и зафиксированные археологами связи древнего населения низовьев Амударьи (в частности, Сарыкамышской дельты) с далеким югом, в том числе с Мидией.
Саки, или амиргии, входившие в сферу ахеменидского влияния, всегда были связаны с Бактрией и Согдианой. Однако после реформы Дария 518 г. до н.э., как уже говорилось, ослабившей значение Бактрийской сатрапии, саки изменили политическую ориентацию. Они теперь вместе с их южными горными соседями каспиями составили отдельную сатрапию, XV округ по Геродоту. Судя по некоторым признакам, он представлял собой обширное, но искусственное объединение горных долин на крайнем северо-востоке державы, населенных сакскими и каспийскими племенами, подчинявшимися Ахеменидам, скорее всего, лишь номинально. Эта сатрапия могла включать Фергану и Алайскую долину, области по Пянджу и Бадахшан, Читрал, Гилгит и Кашмир. Такое положение отражено в ранних надписях Дария, где страны Сака и Гандара упоминаются рядом. Их соседство объясняется непосредственным контактом не самих саков с индийцами Гандары, а каспиев с дадиками (дардами), т.е. с теми индийцами, которые, согласно античным авторам, обитали близ гандарского города Каспапира, «к северу от остальных индийцев», в долинах Свата и Верхнего Инда.
Но уже к началу правления Ксеркса амиргийские саки подчинялись бактрий-скому сатрапу, каспии же составляли отдельное формирование под началом Ариомарда, брата Артифия (предводителя гандариев и дадиков). Как видим, саки здесь вновь ориентированы на Бактрию.
К концу V в. до н.э. саки были только союзниками, а не подданными Ахеменидов. В это время даже создается легенда о том, что еще Кир заключил союз с царем саков Аморгом и завещал своим преемникам поддерживать этот союз с сакскими царями. Царь саков Мавак при Дарии III тоже выступает как союзник персов.
Дахи тоже входили в сферу ахеменидского влияния. Самым ранним свидетельством этого является надпись Ксеркса с упоминанием дахов среди подвластных ему народов и стран. Дахи тогда должны были обитать еще на своей прародине, в степях Южного Урала. Действительно, археологи отмечают, что степи по реке Уралу и его притокам четко выделяются в это время как район находок вещей ближневосточного происхождения. Во всяком случае, относительно части этих вещей нельзя сказать, что они были предметом торговли. Таковы ценные вещи (в том числе сосуд с надписью Артаксеркса I), положенные в могилу одного степного вождя и отмечавшие его властный статус. Таково же, может быть, блюдо с арамейской надписью (постахеменидского времени?) из кургана близ Прохоровки. Трудно сказать, считались дахи того времени подданными или союзниками ахеменидских царей; вероятнее второе. Так или иначе, дахи выступали в качестве союзников Дария III и Бесса-Артаксеркса IV.
4. Устройство ахеменидских владений в Средней Азии
Народы Средней Азии, втянутые в орбиту Ахеменидского государства, или включались в его состав на положении подданных ахеменидского царя, полностью ему подчиненных, или примыкали к нему в роли союзников. Царь имел в подвластных странах непосредственно ему принадлежавшие владения, а управление остальными подданными поручал сатрапам — своим наместникам.
Царь и его владения. Верховным повелителем всех народов, входивших в состав Ахеменидского государства, был царь, местопребыванием которого обычно являлся город Сузы (в современном Хузистане), хотя традиционными столицами считались персидские города Персеполь и Пасаргады. Всех своих подданных царь называл рабами, а от каждого из народов, подчинявшихся ему, он требовал символической передачи «земли и воды».
Практическим средством для проведения воли царя служили «царские дороги», соединявшие разные концы державы с ее столицей; эти дороги имели в первую очередь административное назначение: по ним следовали царские курьеры с невиданной для той поры быстротой. Такова дорога, ведшая от Суз «до Бактр и Индии». Ктесий, описывая количество станций на ней, говорил о расстояниях в парасангах и днях пути; персепольские документы свидетельствуют, что бактрийцы и индийцы, прибывавшие в Сузы, получали от царских чиновников дорожное довольствие, действительно рассчитанное по дням пути. По-видимо-му, эта дорога была оборудована так же, как и описанная Геродотом дорога от Эфеса до Сузы: с царскими стоянками и постоялыми дворами, с «воротами» на границах между странами и сторожевыми постами. Проходила она, видимо, через Каспийские ворота, по землям парфян, хорасмиев, затем через горные проходы (в районе Бала-Мургаба) вела к бактрийцам, а отсюда, от города Бак-тры, через горные перевалы — в город Ортоспану и в индийскую область Ган-дарику (Гандхару). Известна была и южная ее ветвь, уводившая от парфян и хорасмиев в земли зарангеев (по долине Гильменда) и таманеев (по долине Аргендаба).
159. Сельская «усадьба» в Бактрии ахеменидского времени. Кызылча-6
160. Планы столичных городов Средней Азии ахеменидского времени: Бактрия, Бала-хисар
Другим таким же средством служили гарнизоны в пограничных крепостях, подчинявшихся непосредственно царю; воины этих гарнизонов не были единоплеменниками местных жителей. Видимо, именно такой крепостью являлся первоначально Кирополь. Персидские цари, определяя границы своих владений, говорили, что их держава простирается «от Куша до саков, которые позади Сог-дианы». Действительно, у пределов Куша (Нубии) стояла большая крепость на острове Элефантина. У пределов сакской земли, близ реки Танаис, находилась другая подобная крепость — город Кирополь. Шесть меньших крепостей группировались вокруг Кирополя на небольшом расстоянии, так что дым, поднимавшийся над одной из них, был виден в другой. Все они названы в источниках городами, хотя, по сути, были, скорее всего, пограничными укреплениями, цепочкой протянувшимися вдоль границы с кочевниками. Историки Александра приводят название лишь одного из них — Газа, но по другим источникам известны названия еще двух — Герея и Родоя. На границе земледельческих областей с пустыней воздвигались и совсем небольшие крепости, которые, видимо, служили сторожевыми постами, охранявшими эти области от набегов со стороны кочевников пустыни. Таково «укрепленное место» Баги в Согдиане, в долине р. Политимет, на границе со скифами-массагетами. Таково же безымянное «сторожевое укрепление» в Бактрии, на пути из земли скифов-массагетов в Бактры.
Главный город каждого подчиненного персам народа, бывший когда-либо центром сатрапии, назывался «царским»; здесь находился «царский дворец», номинальная резиденция царя, превращавшаяся в действительную во время царских объездов страны, фактически же — местопребывание сатрапа или другого представителя царя. Таковы Бактры у бактрийцев и Мараканда у согдийцев, Артакоана у ареев, Задракарта у гирканцев, где прямо упоминается «дворец Дария», царский город зарангеев и т.д. Как показывают археологические раскопки, провинциальные «царские дворцы» представляли собой целые комплексы строений, подражавших столичным — персепольским и пасаргадским — дворцам, и возводились обычно отдельно, на некотором удалении от местного города. Таковы комплексы Калалы-гыр 1 в Хорезме, Бабишмулла 1 в низовьях Сырдарьи, Алтын 10 в Бактрии.
Рядом с царским дворцом часто устраивали «парадисы» — сады и охотничьи заповедники, также принадлежавшие царю. Таков парадис в согдийской области Басиста, недалеко от города Мараканды. Он был устроен в лесистой, обильной источниками местности, обнесен стеной с башнями, посередине его возвышался холм, видимо окруженный рвом с водой. Заповедник изобиловал «стадами породистых диких животных», водились здесь и экзотические звери, такие, как лев. Парадис ко времени Александра сохранялся для царя на протяжении четырех поколений.
Когда по инициативе центральной власти в той или иной стране строились оросительные сооружения, их непосредственным собственником также считался царь: он сам ведал водораспределением и взимал отдельную подать за пользование водой. Люди, нуждавшиеся в воде, отправлялись в Персию, вставали у ворот царского дворца и «взывали к царю, громко вопя». После этого царь приказывал открывать им поочередно шлюзы. Собирательный образ такого оросительного сооружения дал Геродот в описании водохранилища на реке Акес. Такие водо
хранилища были устроены на землях ареев, на «равнине между горами», где, видимо, были сооружены особенно крупные плотины и каналы, так что большие площади орошаемой земли здесь могли прямо входить в домен царя, а также на землях хорасмиев, парфян и гирканцев, зарангеев и таманеев.
По всей державе были разбросаны хозяйства, принадлежавшие непосредственно царю. В них работали рабы, называвшиеся гарда, обычно из военнопленных, расселенные отдельными деревнями среди иноплеменников, далеко от своей родины. Ремесленников из числа таких рабов клеймили и калечили, чтобы предотвратить их побег. Возможно, что одной из упомянутых деревень было селение Барка в Бактрии, где жили греки, обращенные Дарием в рабов и поселенные им в этих местах. Земли, на которых располагались эти хозяйства, назывались узбари. В особую категорию выделялись земли патибажи, продукты с которых поступали на царский стол. Обе эти категории земель известны и в ахеменидскую эпоху, и позднее, но непосредственно для Средней Азии они засвидетельствованы лишь документами из области Нисея (Ниса в районе Ашхабада), составленными уже в послеахеменидское время. Хозяйства, расположенные на этих землях, поставляли, в частности, вино. У античных авторов потибазис— продукты, поступавшие на царский стол у персов. Известно, что таким продуктом, доставлявшимся из земли тапуров, было вино.
Подданные царя, сатрапы и сатрапии. Остальными подданными управляли сатрапы, наместники царя, представлявшие его власть в своих областях. Сатрапы назначались царем, причем, как правило, из числа персов. Сатрапы взимали дань и передавали ее царю. По требованию царя они собирали ополчение подвластных народов и сами предводительствовали ими, сопровождая царя в походе. Важной обязанностью сатрапа была забота о развитии земледелия; если его усилия в этом направлении были успешными, к его области прибавлялись новые владения. Возможно, что сатрапы стремились насаждать земледелие в кочевых областях Средней Азии — это было необходимо и для укрепления их власти. Время от времени, в особо важных случаях, сатрапы собирали в своей резиденции всех вельмож подвластной им области. Так, сбор вельмож Бактрии и Согдианы в Бактрах, центре сатрапии, который был предписан Александром, видимо, являлся лишь продолжением ахеменидской традиции. Области, вверенные сатрапам, назывались сатрапиями. Представление о составе сатрапий дают описания податных округов (которые Геродот прямо называет сатрапиями) и разноплеменных отрядов ахеменидского войска.
С сатрапиями нельзя путать подвластные ахеменидским царям «страны» или «народы», перечисленные в надписях этих царей и в указанных описаниях податных округов и военных отрядов. Списки их отличаются большой устойчивостью. Если взять их перечни из ахеменидских царских надписей и из описания податных округов Геродота, то в Средней Азии можно насчитать следующие «страны-народы»: Бактрия, Согдиана, Парфия, Хорасмия, Арея, скифы амиргийские, скифы «острошапочные» (все они упоминаются и в надписях, и у Геродота), дахи (упоминаются только в одной из надписей), эглы, каспии (упоминаются только у Геродота); Гиркания и Маргиана не упоминаются (ни в перечнях стран в надписях, ни у Геродота) — эти «страны» были частями более крупных «стран»: Парфии — первая, Бактрии — вторая (это вытекает из текста Бехистунской надписи).
Границы «стран-народов» были тоже устойчивыми и, очевидно, в большинстве случаев довольно близко воспроизводили действительные рубежи этнических и культурных общностей. Вместе с тем «страны-народы» играли важную роль в административной системе Ахеменидского государства: по «народам» распределялись подати и различные повинности, в том числе воинская. Примером такой единицы может служить Бактрия в пределах описанных выше рубежей: перевалов Гиндукуша на юге, ущелий Бала-Мургаба на западе, переправ через Амударью в районе Келифа и горного прохода в отрогах Гиссарского хребта — Железных ворот на севере. Скала Сисимитра при Железных воротах являлась, очевидно, пограничным постом, который отмечал на большой дороге рубеж между Бактрией и Согдианой. Такие сторожевые посты при «воротах», как уже говорилось, обычно стояли на границах между «странами» на «царской дороге».
Состав сатрапий, напротив, часто менялся. Под властью одного сатрапа могло быть объединено несколько «стран», могла находиться и одна «страна», например Хорасмия, и даже часть «страны», например Гиркания. В первом случае одна из «стран» считалась основной (она стояла первой в перечне стран, входивших в состав сатрапии), к ней присоединялись соседние; окраинные народы распределяли по разным сатрапиям, нередко даже «пропуская непосредственных соседей», как говорит Геродот. В пределах Средней Азии такими большими сатрапиями были Парфянская и Бактрийская, хотя состав их не был постоянен. Окраинные степные народы, такие, как «острошапочные» скифы и эглы, действительно одно время были приписаны к Мидийской (первые) и Бактрийской (вторые) сатрапиям.
Среднеазиатские народы и сатрапии Ахеменидского государства
Народы Сатрапии
Дария I Ксеркса Артаксеркса II Дария III
Апариты VII
Саттагиды
Гандарии
Дадики
Бактрийцы XII
Согдийцы XVI
Хорасмии —
Парфяне
Гирканцы
Арен ?
Саки XV к бактрийцам — —
Каспии — —
«Острошапочные» X —
Мидийцы
Парикании
У сатрапов в подчинении могли находиться правители более мелких областей, также назначавшиеся центральной властью; таковы, видимо, правители тапуров в пределах Парфянско-Гирканской сатрапии.
161. Планы столичных городов Средней Азии ахеменидского времени: Парфия, Гяур-кала и Эрк-кала
162. Планы столичных городов Средней Азии ахеменидского времени: Согдиана, Афрасиаб
У сатрапов наиболее крупных и важных областей мог быть в подчинении даже ряд соседних сатрапов. Так, сатрапы Бактрии, обычно ближайшие родственники царя, его сыновья или братья, часто имели у себя в зависимости сатрапов парфян, хорасмиев, ареев; иногда даже сатрап Бактрии и верховный властитель всех народов от Каспийских ворот до Танаиса, с резиденцией в Бактрах, были разными лицами. Сатрапы Мидии, видимо, также одно время имели у себя в зависимости сатрапов армениев, кадусиев, гирканцев и «острошапочных» скифов. Такие крупные объединения сатрапий иногда называют топархиями. Главы их во время больших походов, возглавлявшихся царем, являлись верховными военачальниками персидского войска. Наместники, которым были даны в удел эти объединения, обладали громадной властью; если верить Ктесию, наместник Бак-трийского объединения мог даже быть свободен от податей, т.е. мог собирать дань не для царя, а в свою пользу.
Ахеменидская держава делилась на три или четыре части. В позднеахеменид-ское время восточной третью державы считалась территория, ограниченная Каспийскими воротами, Яксартом (там, где к нему подходила Согдиана) и Индом (там, где к нему примыкала Гандаритида). Эта территория более или менее соответствовала Ариане в широком смысле. Во времена последнего Дария здесь находились Бактрийское наместничество и сатрапия дрангов (зарангов) и арахотов (таманеев времен Дария I).
Продолжала в это время сохранять значение и местная знать, большей частью сидевшая в своих прежних владениях. Эту владетельную знать греки того времени называли династами, впрочем, их часто путали с сатрапами. Местные князьки при Ахеменидах имелись, например, в Согдиане и Паретакене. Иногда какой-нибудь могущественный род из местной знати приобретал такую силу, что в его руки переходила целая «страна», которой он и управлял на положении сатрапа. Возможно, что так дело обстояло одно время в Парфии. Особенно большое значение имела местная знать у кочевников. «Вожди», которых персидские цари ставили — по крайней мере на первое время — над подчинявшимися им племенами, происходили, видимо, из местной же знати. Таков был «вождь», назначенный Дарием «острошапочным» скифам.
Подати и повинности местного населения в сатрапиях. Местное население сатрапий, будучи «рабами» царя, пользуясь «землей и водой», номинально принадлежащей царю, было обложено данью и различными повинностями. От налогов, видимо, освобождались лишь те земли, которые жители собственными силами отвоевывали у пустыни. Так, жителям Парфии персидские власти отдавали на пять поколений земли, которые те сумели освоить сами путем проведения кяризов (подземных каналов) и таким образом оросить пустынные местности.
Ежегодная дань, которую обязана платить каждая сатрапия, впервые была точно определена Дарием. До него цари довольствовались просто дарами. Геродот утверждает, что все народы платили дань серебром или золотом; дань серебром исчислялась в талантах по вавилонскому весу (один талант— приблизительно 30 кг), дань золотом— в талантах по эвбейскому весу (один талант — приблизительно 26 кг).
Дань драгоценными металлами, поступавшая царю, хранилась у него в виде слитков, а не монет. Промежуточными пунктами между плательщиками дани и царской сокровищницей были сокровищницы наиболее крупных городов Ахеменидской державы. Одним из них были и Бактры. Так, представление Ктесия о том, что в Бактрах хранятся «сокровища», состоящие из «большого количества серебра и золота», несомненно, навеяно этим фактом. Каким именно металлом, золотом или серебром, расплачивались с царем среднеазиатские народы — трудно сказать; можно предполагать, что бактрийцы и «острошапочные» скифы (= массагеты) хотя бы частично платили и золотом. Размеры дани (в талантах серебра; отношение золота к серебру— 1:13), поступавшей от среднеазиатских народов, были, по Геродоту, таковы: бактрийцы («вплоть до эглов») вносили 360 талантов; парфяне, хорасмии, согды и ареи — 300 талантов; саки и кас-пии — 250 талантов; ортокорибантии («острошапочные») вместе с мидийцами и париканиями — 450 талантов. Для сравнения можно указать на дань вавилонян — 1000-талантов и египтян — 700 талантов.
Странам, где товарно-денежные отношения были развиты слабо и где не существовало собственных рудников, выплачивать дань драгоценными металлами было трудно. Поэтому Артаксеркс I оставил прежний порядок выплаты дани лишь для приморских жителей западной части державы, внутренние же области, как свидетельствует Поликлит, современник Александра, он обязал натуральными поставками — данью продуктами и скотом, производимыми каждой страной. О каких-то мерах Артаксеркса I по устройству податей говорил и Ктесий. Ко внутренней же части державы относилась вся Средняя Азия. Приношения царю натурой совершались по случаю различных празднеств. Такой момент запечатлен на персепольских рельефах: бактрийцы, парфяне и ареи изображены несущими какие-то драгоценные сосуды, за собой они ведут верблюдов; скифы несут драгоценные гривны, какие-то одежды, оружие — мечи и топоры, и ведут коней.
Повинности были разнообразны. Так, хорошо известна строительная повинность. Когда Дарий строил свой дворец в Сузах, в строительстве, наряду с прочими народами, приняли участие бактрийцы, согдийцы и хорасмии: из Бактрии доставляли золото, из Согдианы — лазурит и сердолик, из Хорасмии — бирюзу. В громадное царское хозяйство Персеполя прибывали толпы работников, именовавшихся тоже гарда, для отбывания трудовой повинности; они происходили из среды самых разных народов, были среди них бактрийцы и согдийцы. В царском арсенале Мемфиса работали мастера, собранные из разных концов державы; в их числе были и хорасмии. На строительных работах трудились также ареи, саки и др.
Воинская повинность осуществлялась тогда, когда царь предпринимал большие походы против соседей. Каждый народ должен был выставить определенное количество воинов с полным снаряжением; сбор воинов назначался в центрах сатрапий. Так, Ктесий описывает приготовления к походу в Индию, производившиеся в Бактрах в течение трех лет: к каждому народу были разосланы вестники с требованием выставить определенное число воинов, соответственно количеству населения, снабженных оружием и всем необходимым; воины стекались в Бактры, туда же собирались кораблестроители «разборных судов» из Фи-
никни, Сирии, Кипра и других мест, там грузились караваны верблюдов и т.д. Как сообщает один из историков Александра, отражая более поздние условия конца ахеменидской эпохи, сами бактрийцы, чья земля изобиловала людьми и лошадьми, поставляли 30 тыс. всадников. В составе ахеменидских войск жители Средней Азии побывали в очень отдаленных странах, например, в Греции во время походов туда, организованных Дарием и Ксерксом. О непосредственном участии бактрийцев и саков в боевых действиях на территории Греции упоминают великий греческий драматург Эсхил, сам активный участник борьбы с персами, и Геродот. Ктесий говорит, что саки помогали Киру во время его похода в Лидию.
Жители Средней Азии посещали далекие страны не только как участники кратковременных военных походов, но и как воины постоянных гарнизонов. Есть, например, основания полагать, что саки служили в ахеменидских гарнизонах в Вавилонии и Египте; хорасмии служили в Египте, в крепости на о. Элефан-тина. Представители среднеазиатских народов — военные колонисты, наделенные собственным хозяйством, оседали в странах, где они служили. Ксенофонт сообщает, что в его время многие гирканцы жили в Вавилонии, имея там дома и земли; их предки якобы переселились в эту страну еще при Кире. А клинописные документы Вавилонии часто упоминают ареев в качестве военных колонистов. Военными колонистами были и те конные воины, гирканцы и бактрийцы (последние числом в 2 тыс. человек), которые в составе войск малоазийских сатрапов Фригии Геллеспонтской, Лидии и Ионии встретили Александра у реки Граник. Это, несомненно, местные жители Малой Азии, имевшие там семьи (судя по более раннему упоминанию одного из греческих поэтов о «бактрийских девушках» Лидии), дома и земли. Вполне возможно, что самые высокопоставленные из них имели богатые поместья, вроде имения Асидата в Мисии, которое хотели разграбить воины Ксенофонта: укрепленную усадьбу, поля и сады, где работали сотни рабов.
Царские вельможи родом из Средней Азии. Иногда уроженцы Средней Азии достигали высокого положения и оказывали влияние на ход дел во всей Ахеменидской державе. Такие вельможи владели имениями, находившимися в разных областях государства. Обрабатывались их имения теми же гарда. Но сами вельможи жили при царском дворе. Некоторые сведения о таких высоких сановниках родом из Средней Азии дает Ктесий.
Таковы гирканец Артапан и его отец Артасир. Оба они, по Ктесию, «пользовались наибольшим влиянием» при царях, Артасир — при Камбизе и Дарии I, Артапан — при Ксерксе. Ктесий представляет их положение по образцу современного ему высшего сановника, носившего титул хазарапати (в передаче Ктесия азарабит), по-гречески хилиарх (букв, «тысяцкий»); изначально это глава телохранителей царя. Артасир приурочен Ктесием ко времени Кира, Камбиза и Дария I; он, будучи вождем гирканцев, первым добровольно присоединился к Киру, участвовал в событиях, связанных с убийством Камбизом своего брата и воцарением мага, вместе с семью персами участвовал в свержении мага и умер одновременно с Дарием I. Артапан приурочен ко времени Ксеркса; он предводительствовал в войне против греков, устроил заговор против Ксеркса, возвел на
престол его сына Артаксеркса I, но был им же убит. В целом эта история искусственна, и ранние ее события явно сконструированы по литературным образцам. Действительный список персидских хилиархов не имеет ничего общего со схемой Ктесия. Однако хилиарх Артапан (Артабан), устроивший заговор против Ксеркса,— историческая фигура. Более того, в описании заговора Артапана Ктесий, видимо, располагал хорошими источниками. Он, например, рассказывает, что Артаксерксу I после убийства Артапана пришлось еще выдержать войну с тремя сыновьями последнего. Действительно, известна печать Артаксеркса I, датируемая началом его правления, на которой изображен этот царь, ведущий трех пленников-бунтовщиков.
Таков же другой Артасир, который, по Ктесию, занимал высокую должность «царского ока», т. е. главного царского инспектора, при Артаксерксе II. По-види-мому, это тот Артасир, который в других источниках упоминается как отец Оронта, «бактрийца родом», сатрапа Армении и мужа Родогуны, дочери Артаксеркса II. Потомки этого Оронта положили начало армянской царской династии Оронтидов (Ервандидов).
Несомненно, было и немало других выходцев из Средней Азии, занимавших высокое положение в администрации Ахеменидской державы. Можно указать, например, на парфянина Амминапа — одного из правителей Египта при Дарии III.
Судопроизводство. Дела государственного уровня решались в сатрапиях царскими судьями на основе царских законов. В остальном же продолжали использоваться местные правовые нормы. Таковые, несомненно, существовали и у бактрийцев. Но о них известно очень мало. Один античный автор, коллекционируя записи о странных обычаях разных народов, говорит, что у одних за мелкое воровство побивают камнями, у других — избивают, а у бактрийцев оплевывают.
Союзники. Положение союзников было совсем иным, чем положение подданных. Они управлялись своими царями; вместо дани подносили дары, ими самими установленные; их военные отряды в ахеменидском войске находились под предводительством собственных вождей и не подчинялись сатрапам. Таково было положение саков (амиргийских скифов) со второй половины V в. до н.э. Возможно, в таком же положении находились некоторые племена массагетов и дахов в позднеахеменидское время.
5. Государственные и племенные объединения в Средней Азии ахеменидского времени
Объединения кочевых племен Средней Азии— саков, массагетов и дахов — к концу ахеменидского периода были полностью независимы и управлялись собственными царями, хотя и состоявшими в союзе с царями ахеменидскими; впрочем, и ранее подчинение кочевников ахеменидским властям было достаточно условным. К концу ахеменидского периода до нас доходят известия и о независимом Хорезмийском царстве. Но исторические судьбы этого царства, его природа и отношения с кочевниками во многом остаются загадочными.
Хорезмийское царство. К концу V в. до н.э. центр хорасмиев окончательно переместился в Хорезмский оазис, а к началу IV в. до н.э. этот оазис, как уже
говорилось, был неподвластен Ахеменидской державе. Очевидно, тогда и возникло Хорезмийское царство.
Но хорасмии у историков Александра (теперь под хорасмиями имеются в виду только жители Хорезмского оазиса) всегда упоминаются в тесной связи с массагетами. Бесс рассчитывал на помощь хорасмиев и массагетов. Спитамен скрывался опять-таки где-то у хорасмиев и массагетов. Посольство абиев, т.е. масса-гетов-апасиев, к Александру выглядит как пролог к последующему посольству хорасмийского царя. У одного из историков Александра есть и прямое указание на то, что хорасмии и апасии — это народы массагетов. Но каковы были взаимоотношения хорасмиев, безусловно оседлого земледельческого народа, и кочев-ников-массагетов? Некоторые ученые говорили о хорасмиях как о «гегемоне массагетской конфедерации племен», однако такая трактовка вызывает большие сомнения. Мы уже обращали внимание на сообщение Страбона (относящееся к IV—III вв. до н.э.), которое, видимо, и характеризует взаимоотношения хорасмиев и массагетов: массагеты сами земледелием не занимаются, но хорой (земледельческой областью) владеют. Скорее всего, слияние хорасмиев с массагетами было обычным симбиозом оседло-земледельческого населения и степных племен при господствующем положении последних. О проникновении степных племен на территорию Хорезмского оазиса в эту эпоху свидетельствуют и археологические данные.
С учетом всех этих обстоятельств историю Хорезмийского царства, которое застали спутники Александра, можно представить в следующем виде. Уничтожение власти Ахеменидов в Хорезмском оазисе, скорее всего, связано с возникновением нового мощного объединения массагетских племен, известного под названием апасиаков, или, у современников Александра, апасиев. В археологии это соответствует, как уже говорилось выше, формированию чирикрабатской культуры в низовьях Сырдарьи на рубеже V-IV вв. до н.э. В III в. до н.э. апасиа-ки занимали обширную территорию (от низовьев Сырдарьи и Амударьи по Уз-бою вплоть до Гиркании), явно включавшую Хорезмский оазис.
Вожди этого объединения, очевидно, и стали царями хорасмиев. Один из них (традиционная массагетская царица?) воздвиг по апасиакскому обряду, в соответствии с традициями чирикрабатской культуры, грандиозную усыпальницу Кой-Крылган-кала на территории Хорезмского оазиса в начале IV в. до н.э.
Другой хорасмийский царь, Фарасман, явился в 328 г. до н.э. к Александру во главе большого конного отряда и, заявив о том, что его владения граничат с кол-хами и амазонками, вызвался напасть на эти народы, покорить их и другие племена у Понта Эвксинского (Черного моря) и быть проводником Александру. Это чрезвычайно интересное сообщение толковалось по-разному. Можно считать, что поскольку своеобразные географические воззрения Александра и его спутников, позволявшие помещать страну хорасмиев и массагетов в непосредственной близости от Черного и Азовского морей, сформировались еще до встречи с Фарасманом, то предложения последнего дошли до нас в географической «интерпретации» окружения Александра; в действительности же речь шла о каких-то местных пограничных притязаниях хорасмийского царя. Однако прямое указание на колхов и популярность царского имени Фарасман у иберов и колх-
163. Планы столичных городов Средней Азии ахеменидского времени: Хорезм, Кюзелигыр
ских племен, засвидетельствованная более поздними источниками, позволяют высказать и другое предположение. Фарасман как царь апасиаков мог иметь касательство к делам своих массагетских сородичей в Северном Прикаспии, теснимых в это время дахами и аорсами с востока и, очевидно, в свою очередь, напиравших на западе на савроматов («амазонок») и колхов.
Позднее, во второй половине III в. до н.э., апасиаки принимали у себя парфянских царей, бежавших от Селевка II и Антиоха III. Вполне вероятно, что и тогда апасиаки имели своей базой Хорезмский оазис.
Это Апасиакское объединение просуществовало до начала II в. до н.э., т.е. до того времени, когда из-за Танаиса-Яксарта (Сырдарьи) хлынули новые кочевые племена, а именно сакарауки — авангард большого передвижения степняков II в. до н.э., которое существенно изменило этническую и политическую карту Средней Азии. С этого времени господствующей силой в Приаралье стало Сакараук-ское объединение.
Здесь необходимо коснуться вопроса о Канге (Кангхе, Канпое). Это название чисто географического происхождения, первоначально относившееся, по-види-мому, к низовьям Сырдарьи, зафиксировано источниками для доахеменидского (Кангха) и послеахеменидского (Кангюй) периодов. Поэтому есть основания полагать, что данное название существовало и в ахеменидское время, хотя и не отмечено источниками. Будучи географическим по своей сути, оно могло иметь разное этническое и политическое «наполнение». В позднеахеменидское и последующее время оно могло обозначать Апасиакское объединение по месту его формирования, но известия китайских источников о Кангюе должны относиться уже к более позднему Сакараукскому объединению.
Сакское (амиргииское) объединение. Сакские племена, по-видимому, всегда управлялись своими вождями. Изменение их положения по отношению к ахеме-нидскому царю заключалось лишь в том, что как подданные они подчинялись персидскому сатрапу, а как союзники имели дело непосредственно с ахеменид-ским царем.
Уже к концу V в. до н.э. амиргийские саки не подчинялись персидским сатрапам, судя по тому, что тогда оформилась легенда о предке сакских царей Амор-ге, союзнике Кира. В другой легенде говорится о сакском царе Омарге (вариант имени Аморг) как современнике Дария I. Царь саков, или азиатских скифов, Ма-вак при Дарии III тоже выступает как союзник персов. Когда Александр, достигнув Танаиса (Сырдарьи), подошел в 329 г. до н.э. к владениям саков, у него сначала произошло военное столкновение с ними, во время которого был убит один из их предводителей, Сатрак; но затем царь саков (возможно, тот же Мавак) прислал к нему послов и, видимо, возобновил союз, который был у него с персами. В легенде, приводимой Харесом Митиленским, спутником Александра, ставка «царя Омарга», т.е. царя амиргийских саков, находится в 800 стадиях (150 км) от переправы (скорее всего, в районе Ходжента) через Танаис (Сырдарью) — очевидно, где-то в пределах Ферганы. Ктесий называет столицу саков Роксанакой.
Сакский союз племен просуществовал на прежних местах до середины II в. до н.э., когда под натиском пришлых кочевников царская орда амиргиев ушла из Ферганы через горы в Северную Индию. Интересно, что имя первого сакского
царя Северной Индии, известное по источникам середины I в. до н.э. (Мауес или Мога), является вариантом имени Мавак. Это значит, что амиргийскими саками все это время, по крайней мере с эпохи Александра Македонского, правила одна и та же династия.
Дахское объединение. Характер взаимоотношений вождей дахских племен с ахеменидскими царями, как уже говорилось, не вполне ясен. Ко времени Александра дахи, или «европейские» скифы, обитавшие за Танаисом (Сырдарьей), — независимый народ во главе со своим царем; так, мы знаем, что в 328 г. до н.э. у них умер прежний царь и на его место заступил его брат. Сначала они выступают как союзники Бесса, а затем, в 329 и 328 гг. до н.э., отправляют два посольства к Александру; последнее посольство даже предлагает Александру руку царской дочери. О дальнейших судьбах этого объединения ничего не известно, как и о том, существовала ли преемственная связь между ним и более поздними объединениями дахских племен.
Политическое устройство среднеазиатских скифов. Во главе каждого скифского объединения стоял царь, а часто и царица. Таковы царица Томирис у массагетов и царь Аморей у дербиков, царица Зарина, царь Аморг/Омарг, царица Спаретра, царь Мевак у саков, не названный по имени царь у «европейских» скифов. Впрочем, персы именуют предводителя «острошапочных» саков Скунху просто вождем. Царь у среднеазиатских скифов — глава своего народа; он предводительствует воинами этого народа в случае военных действий, посылает посольства с предложениями мира и союза к другим царям.
Власть царя, видимо, наследственная; так, у «европейских» скифов времен Александра Македонского после смерти прежнего царя власть унаследовал его брат. В то же время имеется сообщение, восходящее к Аристобулу, одному из историков Александра, в котором в виде легенды рассказывается о порядке выбора царя: жители области у Танаиса (Сырдарьи) — скорее всего, те же «европейские» скифы— избирали в цари того, кто найдет в реке камень особой формы, и вручали ему скипетр. Возможно, что речь идет о каком-то обрядовом моменте возведения на царство. Во всяком случае, упоминаемый здесь камень — явный прототип «дождевого камня», обладание которым позже, в средние века, обеспечивало верховную власть вождю сырдарьинских огузов.
Умершему царю (или царице) саки сооружали грандиозную гробницу, описанную у Ктесия, в которой без труда можно распознать степной курган. Гробница имела форму треугольной пирамиды с острой вершиной, с шириной каждой стороны в три стадия и высотой в один стадий; эта пирамида увенчана большой золотой статуей. Устраивали саки, видимо, и тризну, о которой Ктесий говорит как о «героических почестях и всяких иных».
Существовал у среднеазиатских скифов и институт троецарствия, хорошо известный у причерноморских скифов, когда наряду с главным царем имелось два царя-помощника, происходящих из того же царского рода, каждый из которых владел своим уделом и выступал на войну во главе своего отряда. Так, у массагетов одной третью войска командует Спаргапис, сын царицы Томирис. Саки, боровшиеся с Дарием I, т.е. те же массагеты, выступают тремя отрядами, а их три царя (хотя и с вымышленными именами) устраивают совещание. Царь дербиков
Аморей и два его сына имеют войско в тридцать тысяч человек. Царица саков Спаретра предводительствует тремястами тысячами воинов.
Определенную роль играло и народное собрание. Так, царь «азиатских» скифов, т.е. саков, объяснял Александру, после стычки последнего со скифами за рекой Танаис, что против него действовала не вся община (или: не все народное собрание) скифов. Очевидно, народное собрание скифов представляло собой сходку всех вооруженных мужчин (возможно, и какой-то части женщин); оно решало вопросы войны и мира и если принимало решение о военных действиях, то в полном составе и отправлялось в поход.
Кроме центральной власти, царя и народного собрания, у среднеазиатских скифов, несомненно, имелась и какая-то система местной власти. Историки Александра упоминают у «европейских» скифов «сатрапов скифской страны». Возможно, конечно, что слово «сатрап» здесь появилось просто в результате аналогии с персидскими правителями областей, но следует отметить, что позже у саков в Индии термин «сатрап» был действительно в широком употреблении. Определить точно, что представляли собой эти «сатрапы» среднеазиатских скифов, за недостатком источников трудно.
О том, каково было право среднеазиатских скифов, можно лишь догадываться. Разумеется, предполагать наличие у них писаных законов нельзя. Можно говорить лишь об обычном праве — ряде традиционных норм и правил, которыми определялось поведение скифа. Сохранилось только одно смутное известие о таких нормах: у дербиков полагается казнь даже за незначительные проступки.
6. Военное дело
в Средней Азии ахеменидского времени
Вооружение. Говоря о вооружении среднеазиатских народов, следует рассмотреть оружие ближнего боя, оружие дальнего боя и оборонительный доспех. Вхождение в состав ахеменидского Ирана, участие среднеазиатских контингентов в ахеменидском войске, присутствие ахеменидских отрядов в сатрапиях повлекли за собой распространение в Средней Азии некоторых образцов мидийского и персидского ахеменидского оружия. Участие же в греко-персидских войнах, присутствие в Средней Азии греков привели к распространению и греческого оружия.
Оружие ближнего боя включало кинжал и меч, боевой топор, булаву, копье; оружие дальнего боя — лук и стрелы, пращу; оборонительный доспех предназначался для воинов, имелся и конский оборонительный доспех.
Кинжал и меч. Разные типы двухлезвийных ножей и специализированных кинжалов известны в Средней Азии с эпохи поздней бронзы и раннего железа. Авеста содержит ряд упоминаний кинжалов и мечей. У иранцев, в том числе у восточных, в частности в Приаралье, было распространено название кинжала акинак. В VII-VI вв. до н.э. еще употреблялись бронзовые кинжалы, а также биметаллические железно-бронзовые кинжалы: лезвие у них было железное, а рукоять или полностью бронзовая (такова высокохудожественная рукоять кинжала
164. Ранний зороастрийский храм. Тахти-Сангин: план
165. Ранний зороастрийский храм. Тахти-Сангин: реконструкция фасада
из сакского могильника Ак-Беит), или имела бронзовые перекрестие, навершие и оковки сторон. Такие кинжалы были распространены в начале рассматриваемого периода. Основную же их часть составляли чисто железные кинжалы небольших размеров (30-40 см), в том числе с брусковидно-полуовальным навер-шием и таким же перекрестием, с грибовидным навершием и дуговидным перекрестием, с простым антенным навершием и почковидным или бабочковидным перекрестием, а также распространившиеся в конце рассматриваемого периода кинжалы с серповидным навершием и дуговидным перекрестием и др.
Гораздо меньше известны мечи. В Тагискенском могильнике был найден очень длинный меч (1,2 м) с зооморфным рисунком на золотых обкладках.
В храме Окса обнаружен целый экземпляр изготовленных из слоновой кости ножен акинака. Они имеют фигурную форму (вверху, у устья, есть выступающая лопасть для пропуска ремня) и суживаются сверху вниз. Внизу ножны имеют трехлопастный наконечник (бутероль). На лицевой поверхности ножен выгравированы две сцены. Верхняя состоит из крупной фигуры стоящего на задних лапах льва, держащего в передних лапах оленя. Внизу, на бутероли, помещена фигура свернувшегося хищника кошачьей породы и голова козла. Форма ножен очень близка изображениям ножен акинаков мидийского типа на персепольских рельефах, но все же отличается некоторыми деталями. Возможно, они изготовлены бактрийскими мастерами.
Судя по находкам в памирских курганах, ножны часто были кожаными и деревянными. Акинак носили на правом боку. Наглядное представление о способе ношения этих кинжалов дает рельефное изображение согдийцев (или хорезмийцев) в Персеполе, а также изображение на золотых пластинках из Аму-Дарьинского клада и на персепольских рельефах.
Особо следует сказать о мечах греческого типа. Страбон (XI, 86) сообщает, что у степняков-номадов массагетов были махайры. Так назывались кривые греческие короткие однолезвийные мечи — излюбленное оружие греческой конницы. Множество рукоятей и ножен греческих махайр было найдено в храме Окса. Некоторые из них, вероятно, относились к ахеменидскому времени.
Боевой топор. Серия железных боевых топоров найдена в сакских погребениях Восточного Памира. Среди них — боевые клевцы разных типов, в том числе такие, у которых одна половина имеет вид граненого клевца, а другая — узкого топорика, а также боевые секиры-молотки, двухлезвийные секиры.
Наиболее ранним является клевец-топорик, напоминающий бронзовый клевец, найденный на Таманском полуострове, железный клевец из-под Пятигорска и клевцы бассейна р. Камы. По-видимому, через Среднюю Азию клевцы проникли еще дальше на восток. В начале рассматриваемого периода употреблялись еще и биметаллические клевцы. В могильнике Уйгарак (Приаралье) найден биметаллический топор: втулка у него бронзовая, а лезвие и обушок — железные. Он изготовлен с применением тех же технических приемов, которые использовались анань-инцами — жителями Прикамья. Топор датируется первой половиной VI в. до н.э.
Представление о среднеазиатских боевых топорах дают также иконографические материалы. На ахеменидских рельефах согдийцы (?) приносят в качестве подати топоры, изображение сакского топора-клевца есть на ахеменидских печатях.
Сведения о боевых топорах мы находим в Авесте (Яшт, 10, 130). При описании колесницы Митры там фигурируют «двухлезвийные стальные топорики».
О секире как оружии среднеазиатских народов имеется несколько упоминаний в античных источниках, в которых говорится и о простых, и об обоюдоострых секирах. Простые (однолезвийные) секиры степных народов Средней Азии называются обычно местным, скифским словом сагарис; таковы секиры массагетов, сделанные из меди, и секиры саков. Обоюдоострые секиры известны у барканцев (= гирканцев).
Копье. В эпоху позднего бронзового века в Средней Азии применялось несколько видов копий с бронзовыми наконечниками, однако для рассматриваемого времени, когда наконечники были уже железными, их находки в археологических комплексах — редкость.
Слово для обозначения копья (аршти) было, видимо, общим во всех древнеиранских языках. Оно засвидетельствовано и в древнеперсидском, и в авестийском, и в скифском.
Копье несколько раз упоминается в Авесте. Оно стоит на первом месте в перечне вооружения в Видевдате (XIV, 9). Это авестийское копье — с «длинным древком» и «острым лезвием» (имеется в виду наконечник копья).
Следует отметить изображение короткого (судя по масштабу фигур, около 1 м) копья в руках двух всадников на умбоне из Амударьинского клада.
В античных источниках копье в вооружении среднеазиатских народов упоминается довольно часто. Более всего известно «короткое копье». Его имели бактрийцы и вооруженные по их образцу парфяне, хорасмии, согдийцы, арианы, загиндукушские народы (гандарии и дадики), кроме того — гирканцы. Очевидно, именно это копье имеют в виду античные авторы, когда упоминают «копье с метательным ремнем» в качестве оружия бактрийцев, согдийцев, ареев и парфян, противопоставляемое длинному македонскому копью. «Длинное копье» из упомянутых здесь народов засвидетельствовано лишь у загиндукушских племен (у аспасиев).
Копье имело широкое распространение у массагетов, которые так и названы «копьеносцами» (Геродот, I, 215). Их копья имели «[наконечники] из меди». В описании дербиков, где они выступают дублерами массагетов, их копья были «обиты спереди» «медью» или «железом». Возможно, что копье степных народов Средней Азии было длинным, как копье «европейских» скифов и савроматов (около 2 м).
Булава. Находки каменных наконечников булав чрезвычайно многочисленны, но они относятся к периоду позднего бронзового века. В Авесте неоднократно упоминается булава, а однажды говорится о булаве «из позолоченного железа, красивой, легко размахиваемой, с сотней выступов и лезвий на ней». Может быть, среднеазиатские булавы были похожи на савроматские, у которых действительно имеются многочисленные выступы-шишки. Для Средней Азии известна булава из сакского могильника Уйгарак (Приаралье). Сердечник булавы был каменным, снаружи обтянутым бронзой. Вообще булавы в ахеменидское время в значительной мере потеряли значение боевого оружия ближнего боя, сохранив церемониальную роль.
Лук и стрелы. Наступательным оружием дальнего боя прежде всего служил лук, который входил в вооружение и оседлых жителей, и кочевников. Чрезвычайно многочисленны находки бронзовых наконечников стрел как на поселениях, так и в могильниках. В V-IV вв. до н.э. в Средней Азии употреблялись преимущественно двухлопастные, трехлопастные и трехгранные втульчатые, а также черешковые бронзовые наконечники стрел; постепенно распространяются железные наконечники. Деревянные наконечники, существовавшие тогда на Памире, очевидно, не находили применения в военном деле. Длина древка стрелы равнялась 50-60 см.
Можно считать установленным, что в Средней Азии в середине I тыс. до н.э. применялся чрезвычайно эффективный и дальнобойный сложносоставной лук «скифского» типа.
Лук и колчан упоминаются в Авесте. Стрела в Авесте является символом быстроты. Упоминается колчан с 30 стрелами (Видевдат, XIV, 9). Большую дискуссию вызвало описание стрелы в Яште, X, 129.
Античными источниками засвидетельствовано несколько типов лука у среднеазиатских народов. «Мидийский лук» был в употреблении у гирканцев и ариа-нов. Этот лук назван «большим»; с ним употреблялись «тростниковые стрелы», применялся и «колчан» (Геродот, VII, 61). «Местный» среднеазиатский лук бак-трийского типа был в употреблении у бактрийцев, согдийцев, парфян, хорасмиев и загиндукушских народов (гандариев, дадиков).
Этот лук характеризуется как «тростниковый». До нас дошло несколько упоминаний о стрельбе из лука и стрелах у согдийцев и загиндукушских народов (ассакенов, аспасиев); упоминаются также «наконечники стрел» согдийцев и ас-сакенов, но из какого материала— неизвестно. Свой, «местный» лук был и у каспиев (восточных). Он тоже назван «тростниковым». Наконец, «местный» лук известен у саков (= затанаисских скифов). Упоминаются «лучники» и «конные лучники» саков, их искусство стрельбы из лука высоко ценилось в древности. Об устройстве сакского лука ничего не говорится; известно лишь, что саки могли пускать стрелы через реку Танаис (Сырдарью) в узком месте и что древки этих стрел были «еловыми». «Лучниками» названы также массагеты, несколько раз упоминается о стрельбе их из лука, в том числе конной. «Наконечники стрел» у массагетов — «из меди» (Геродот, I, 215). Известен у них и «колчан».
Праща. Метательные ядра для пращи, найденные в Средней Азии, правда относящиеся к более раннему времени, имели биконическую или яйцевидную форму и делались либо из обожженной глины, либо из камня. Праща и камни для пращи фигурируют в Авесте.
Значительно меньше, чем о других видах оружия, говорится о среднеазиатской праще в античных источниках. Праща засвидетельствована лишь для согдийцев (в области у Танаиса): в одном случае прямо названы «пращи», в другом — «камень», очевидно от пращи.
Оборонительный доспех. Металлический оборонительный доспех, возникший в Средней Азии в VIII—VII вв. до н.э., достиг к V-IV вв. высокого совершенства. В это время полный оборонительный доспех воина включал панцирь, щит, а также металлический шлем. Наиболее ранняя находка такого рода
в Средней Азии — значительные части железного военного доспеха из погребения, датированного концом IV в. до н.э. (городище Чирик-Рабат, Приаралье). В этом доспехе сочетались принципы чешуйчатого и пластинчатого доспехов. Он включал цельнокованый железный стоячий воротник, состоящие из горизонтальных пластин — «браслетов» рукава и корпуса, покрытый большими железными прямоугольными и квадратными пластинами. На Хамбуз-тепе (Хорезм) найден фрагмент керамической фляги IV-III вв. до н.э. с рельефным изображением тяжеловооруженного всадника. Его доспех доходит до колен, ноги также защищены специальной частью доспеха. Панцирем покрыты бока и круп коня. Судя по находкам в Храме Окса, был распространен и чешуйчатый панцирь, состоявший из рядов прямоугольных пластин, связанных друг с другом или подшитых к кожаной или тканевой основе. Судя по находкам на Ай-Ханум (Бактрия, Северный Афганистан), в Бактрии применялся и конский панцирь.
Металлический панцирь упоминается в Авесте. В античных источниках засвидетельствовано два вида панциря у среднеазиатских народов. Один из них -— мидийский «железный чешуйчатый панцирь», похожий на рыбью чешую (Геродот, VII, 61),— был в употреблении у гирканцев. Другой «панцирь»— «из железных пластинок», скрепленных между собой рядами (Квинт Курций, IV, 9, 3), — известен у степных народов Средней Азии; им «тщательно были закрыты» в битве среднеазиатские скифы— саки или массагеты. «Панцирь» упомянут также отдельно и у саков, и у массагетов.
Шлем также был известен среднеазиатским народам. Для середины I тыс. до н.э. мы располагаем находками шлемов «кобанского типа» (один происходит из Самарканда, остальные — из Семиречья). Эти шлемы имеют горшковидную форму, причем боковые стенки несколько сжаты, так что шлем приобретает сфероконическую форму. Шлемы снабжены гребнем. В Авесте упоминаются шлемы древних иранцев, изготовленные из золота, бронзы, железа; а в античных источниках есть сообщение о «кожаных шлемах» арианов.
Щит был издревле известен иранцам. В Авесте встречаются упоминания щита и щитоносцев. Реальные щиты представлены находками в памирских сакских курганах. Основой щита служила прямоугольная деревянная рама с множеством поперечных перекладин, снаружи он был обтянут кожей. Конструкция такого щита напоминает конструкцию одного из видов ахеменидских щитов, изображенных на персепольских рельефах. Однако в реальности у среднеазиатских народов имелось несколько видов щитов. Об этом сообщают античные письменные источники. Распространенным был легкий «плетеный, [обтянутый кожей] щит». Такой щит носили гирканцы, очевидно, именно он имеется в виду, когда описывается «легкий [прямоугольный] щит» барканцев. Такой щит носили и саки; возможно, что этот сакский щит упомянут еще по крайней мере в одном источнике.
«Большой щит» греки считали изобретением саков. Хотя это утверждение является домыслом самих греков, основанным на созвучии слов, оно, надо думать, подтверждалось и наблюдениями греков над вооружением саков.
В среднеазиатском войске имелись боевые колесницы, в том числе, возможно, и серпоносные.
Народы Средней Азии к моменту греко-македонского нашествия обладали легкой и тяжелой конницей. Следует подчеркнуть также, что уже в то время здесь были выведены породы коней, обладавших прекрасными боевыми качествами. Саки славились своим искусством объезжать коней.
Фортификация. Зародившаяся в конце II тыс. до н.э. среднеазиатская фортификация к рассматриваемому времени достигла больших успехов. Из сообщений античных авторов Средняя Азия предстает как страна больших, сильно укрепленных городов, внутри которых находились мощные цитадели (например, Ма-раканда, Кирополь и др.), и укрепленных поселений. Благодаря археологическим работам можно составить и конкретное представление об уровне среднеазиатской фортификации. Стены укреплений выкладывались из пахсы и сырцового кирпича. Толщина оснований стен достигала 15 м. Оборона стен осуществлялась системой башен, форма которых была различной (круглая, прямоугольная, полуовальная). Башни и стены имели один (иногда— два) ряд бойниц. Находили применение «обоймы» бойниц — строенные бойницы. Более архаическая система фортификации — без башен, основанная на сложной системе бойниц по всему периметру стен, — также еще не вышла из употребления. Наиболее уязвимое место городских укреплений — ворота — было часто защищено сложной системой предвратных сооружений. При постройке укреплений умело учитывались свойства местности. Особой неприступностью отличались крепости в горных районах, красочное описание которых приводят античные авторы. По-видимому, в Средней Азии употреблялись стенобитные машины.
Боевое применение войск. Сохранившиеся сведения о принципах среднеазиатской стратегии VI-IV вв. ничтожны. Отметим лишь рассказ Геродота о предложении Томирис Киру II отойти с массагетским войском на три дня пути от Аракса или же, наоборот, чтобы ахеменидское войско отошло в противоположную сторону; в сопоставлении с последующим действительным отходом масса-гетских войск это может, по-видимому, свидетельствовать о беллетризованном изложении Геродотом (I, 208) действительного события— применения массагетами приема стратегического отступления. Из этого же рассказа Геродота (I, 211) известно о выделении массагетами в оборону «передового отряда», составляющего треть войска.
Для рассмотрения вопроса о тактике среднеазиатского войска мы также располагаем лишь отрывочными (но более подробными) данными, которые в значительной степени относятся к концу рассматриваемой эпохи, так как содержатся в источниках, связанных с походами в Среднюю Азию Александра Македонского. Безусловно, тактика разных племен и народностей имела особенности как в целом, так и в отдельных тактических приемах. Однако благодаря тесному военно-политическому контакту наиболее ценные способы ведения военных действий должны были перениматься соседями.
Прекрасными конными и пешими воинами были саки (Страбон, XI, 8, 6). По античной традиции, «за Яксартом обитают саки, стрелами бьющиеся, из всех стрелков в мире самые искусные, не пускающие стрелы наудачу». Сохранилось свидетельство, что сакские женщины «...наравне с мужчинами стреляют из луков назад, притворяясь бегущими», — следовательно, у саков женщины участвовали
166. Ранний зороастрийский храм. Тахти-Сангин: аксонометрия
в военных действиях. Греко-македонские воины были поражены искусством бить «влет» птицу, которое им, по Квинту Курцию (VII, 5, 41-42), якобы продемонстрировал соратник Спитамена Катен. Хотя этот эпизод, возможно, вымышлен, существенно, что в представлении античных авторов и их информаторов искусство стрельбы из лука было высоко развито среди населения Средней Азии. Прекрасные военные качества сакских контингентов были хорошо известны Ахеменидам. Именно поэтому в Марафонской битве саки, наряду с отборными персидскими частями, располагались в центре ахеменидского войска, причем именно в центре греческая фаланга оказалась прорванной (Геродот, VI, 113). Следует думать, что саки выступали здесь в пешем сомкнутом строю, иначе они едва ли смогли бы прорвать фалангу. Подводя итоги битвы при Платеях, Геродот (IX, 71) отмечает, что в ахеменидском войске отличалась своей храбростью сакская конница. Битва при Гавгамелах началась встречным кавалерийским сражением, в котором со стороны Ахеменидов приняла участие конница саков и бактрийцев. В первый момент сражения сако-бактрийская конница смяла и обратила в бегство конный авангард Александра. Тогда вступили в бой другие подразделения греко-македонской кавалерии и потеснили саков и бактрийцев. Следующий этап боя ознаменовался введением в действие второго эшелона среднеазиатской конницы. Завязалась упорная конная битва. В ней греко-македонское войско понесло большие потери, в частности, благодаря тому, что саки и их лошади были лучше защищены. Лишь введя в действие резервы (очевидно, отряды тяжеловооруженной конницы), Александр добился победы. Сражение при Гавгамелах завершилось нападением Александра на правое крыло ахеменидского войска, где перед этим соответствующие части греко-македонян попали в тяжелое положение. Из среднеазиатских воинов здесь в начале битвы находились парфяне и саки. Сюда Александр двинул наиболее сильное из своих подразделений — именно тяжеловооруженную конницу гетеров, которая напала на противника с тыла. Ей противостояли в основном парфяне, персы и индийцы. Саки не упоминаются, но, учитывая, что они находились на этом крыле, они, вероятно, также приняли участие в битве. Как пишет Арриан, бой конницы, завязавшийся на этом месте, был самым упорным во всей битве. «Варвары», выстроенные в глубину по своим подразделениям, сделали поворот и начали фронтальную атаку. При этом особое удивление греков вызвало то, что, не занимаясь маневрами и обстрелом на расстоянии, атакующие прямо врезались в греко-македонские боевые порядки и завязали жестокий рукопашный бой (Арриан. Анабасис, Ш, 15,2).
Сражение Кира с массагетами по данным, которыми располагал Геродот (I, 214), происходило так: на первом этапе противники обстреливали, находясь на значительном расстоянии, друг друга из луков; затем начался рукопашный бой, и они сражались копьями и мечами. Бой был длительным и упорным. Массагеты одержали полную победу, ббльшая часть ахеменидского войска пала в битве.
Арриан сохранил довольно подробное описание двух полевых сражений между Александром Македонским и среднеазиатскими войсками. В сражении за Танаисом (Сырдарьей), пока численного превосходства на стороне греко-македонян не было, саки окружили их и то нападали, то отступали. Однако после введения в бой основных сил греко-македонского войска, в том числе дополни
тельно большого количества конницы, а также пехоты, эти «повороты кругом» стали для саков невозможны, и они начали отступать. В сражении с греко-македонским отрядом, возглавлявшимся Фарнухом, согдийцами и саками (под руководством Спитамена) была применена такая же тактика, причем на этот раз греко-македонские войска были полностью разгромлены. Позже этот прием широко использовался парфянами, которые, очевидно, разработали и использовали его стратегический вариант, применявшийся еще массагетами.
Как явствует из рассказа Квинта Курция (VIII, 2, 20-22) об осаде греко-македонским войском «Скалы Сисимитра», бактрийцы применяли блокирование горных проходов, ведущих к крепостям, для чего возводили специальные фортификационные сооружения. Из сообщения Диона Кассия мы узнаем, что много позже (в 36 г. до н.э.) парфяне в борьбе с римлянами блокировали горные перевалы.
Среднеазиатские народности были знакомы с членением вооруженных сил на отдельные рода войск и, вероятно, с комбинированным их использованием. В военных действиях применялись построения по отдельным подразделениям, причем и пехота и конница знали сосредоточенные действия компактными частями боевого порядка. Конный бой велся с большим упорством, переходя в рукопашный. В более позднее время (конец III в. до н.э.) известно применение гре-ко-бактрийским войском такого приема, как атака противника глубоко эшелонированной конной массой, вступавшей в бой последовательными волнами. Тогда же бактрийцы применяли в обороне выдвижение большого конного передового отряда (прием, который знали уже массагеты). Известно также, что конные отряды бактрийцев стремились напасть на противника до того, как тот успевал перестроиться из походного в боевой порядок (Полибий, X, 49, 4 и 6).
Приведенные данные о трех полевых сражениях в Средней Азии, а также цитата из Климента Александрийского показывают, что применялся и другой тактический прием — нападение лавой. По греческим представлениям, типично скифская тактика конного боя— «сражаться с врагом, обращаясь в бегство». Прием нападения лавой должен был быть особенно эффективным, когда противником была легковооруженная пехота при малочисленной коннице, измотанной в сражениях или изнуренной тяжелыми переходами.
Вообще из сражения согдийцев и саков против отряда Фарнуха ясно, что следующим после нападения лавой этапом наступательного боя была решительная атака. В некоторых случаях, как показывает ход того же сражения, Спитамен выделял резерв, сосредоточенный в скрытом месте, который в кульминационный момент битвы наносил удар противнику с тыла. Отсюда явствует, в частности, что ход сражения планировался. Следует отметить, что прием скрытого сосредоточения основных и резервных сил перед началом сражения, с искусным использованием с этой целью свойств местности (рельеф, лесные заросли), получил дальнейшее развитие в парфянском военном искусстве. Он принес парфянам значительный успех уже в самом начале битвы при Каррах в 53 г. до н.э.
Хорошо было известно устройство засад. В частности, Квинт Курций (VIII, 1, 3-6) сообщает о засаде, устроенной в лесу бактрийцами, массагетами и дахами. Греко-македонский отряд с помощью военной хитрости был завлечен в ловушку и внезапно атакован, в результате чего был полностью истреблен.
Своеобразный прием комбинированной атаки описан Квинтом Курцием. У дахов, выделенных Спитаменом (при сражении с отрядом Фарнуха) в резерв и спрятанных в лесных зарослях, на каждой лошади сидело по два всадника. В ходе атаки, очевидно, когда этот конный отряд вошел в соприкосновение с противником, всадники поочередно соскакивали с лошадей и пешими принимали участие в конном сражении. При этом античный автор не без удивления отмечает, что проворство спешившихся воинов соответствовало быстроте их коней (Квинт Курций, VII, 7, 32-33). При помощи этого приема достигалось одновременное сближение с противником пехоты и конницы, что давало, конечно, значительный боевой эффект.
Развитое фортификационное строительство является недвусмысленным показателем того, что население Средней Азии было хорошо знакомо с приемами обороны укрепленных пунктов, а также с осадными работами. Об упорстве, с которым велась оборона, свидетельствует, например, оборона Кирополя.
Наконец, следует упомянуть и о ведении военной разведки, засылке в стан противника лазутчиков с целью дезинформации.
В письменных источниках засвидетельствовано (правда, для более позднего времени) обучение военному делу у парфян начиная с детского возраста.
Итак, среднеазиатские народности имели богатый военный опыт. Этот опыт явился результатом как войн между племенами и народностями Средней Азии, так и оборонительных и наступательных войн, которые они вели за ее пределами. Благодаря участию в военных предприятиях Ахеменидского государства среднеазиатские воины и военачальники на практике ознакомились с принципами организации, тактикой и вооружением греческих, а на последнем этапе существования Ахеменидского государства — и греко-македонских войск.
Можно сделать следующие выводы:
1. Вооружение среднеазиатского войска стояло на высоком для своего времени уровне.
2. Среднеазиатские войска знали и применяли различные тактические приемы в нападении и обороне.
3. Благодаря участию в войнах Ахеменидского государства с греками, в том числе в битвах против войск Александра Македонского (за пределами Средней Азии), руководители и часть рядовых воинов среднеазиатского войска были очень хорошо знакомы с оружием и тактическими приемами как ахеменидского, так и греко-македонского войска.
4. Военный потенциал народов Средней Азии в VI-IV вв. до н.э. был очень высок.
IV. Общество Средней Азии ахеменидского времени
Вопрос об общественном строе коренных народов Средней Азии ахеменидского времени очень сложен и спорен. Здесь возможны пока лишь более или менее убедительные гипотезы. Если говорить об общественном строе древних ирано-
167. Круглое святилище (вара?). Кутлуг-тепе: план
язычных народов Средней Азии, то реконструкция его возможна только в контексте изучения древнеиранского общества вообще. А в этой области несомненно полезным будет обращение к теории трехчленной социальной структуры. Вокруг этой теории развернулись многие споры и дискуссии, но в применении к нашему предмету, в рамках описываемого места и времени, она прекрасно «работает»: объясняет отдельные факты и помогает восстановить общую картину.
Новейшие исследования убедительно показали реальность существования трехчленной структуры в скифском обществе. Но источники свидетельствуют, что та же социальная структура вполне явственно проступает и у оседлых иранских народов I тысячелетия до н.э. Структура эта предполагает существование трех слоев: 1) цари-воины, 2) жрецы, 3) земледельцы и скотоводы. Различие между оседлыми иранскими народами и скифами заключается лишь в том, что «царский» слой или племя у первых является оседлым, а у вторых — кочевым.
Важным средством для познания общественного устройства древних иранцев являются генеалогические легенды, существовавшие у каждого древнего иранского народа. Они дают возможность судить о том, как сам народ представлял себе свою социальную структуру. Конечно, эти представления рисуют идеальную картину, общие принципы социального устройства; действительность могла быть несколько иной, но она так или иначе регулировалась этими принципами.
Древнеиранская генеалогическая легенда в своем исконном и полном виде, не урезанная и не деформированная, состоит из двух взаимосвязанных частей, что не всегда учитывается исследователями. Первая часть повествует о первом человеке и трех его сыновьях, которым придаются три главные социальные функции. Это «социальная» генеалогическая легенда, рассказывающая о социальной трипартиции. Вторая часть говорит о первом царе — им обычно оказывается младший («третий») сын первого человека— и его трех сыновьях, являющихся прародителями трех основных, с точки зрения творцов легенды, народов (своего собственного и двух соседних). Это «этническая» генеалогическая легенда, повествующая об этнической трипартиции. Впрочем, трем прародителям нередко опять-таки придаются те же три социальные функции. Здесь нас будут интересовать главным образом «социальные» генеалогические легенды.
Генеалогические легенды разных древних иранских народов заметно отличаются одна от другой, отражая своеобразие социального устройства каждого из этих народов. Далее мы рассмотрим общественный строй отдельно оседлых и кочевых народов, но при этом надо иметь в виду, что иногда оседлый народ мог включать полуоседлые группы, а кочевой — оседлые.
7. Общественный строй оседлых народов
Свои «социальные» генеалогические легенды создавали и оседлые ираноязычные народы Средней Азии. Но оформлялись они в глубокой древности, а в развернутом виде дошли до нас в средневековых памятниках. На протяжении веков они претерпевали немалые изменения, отражая изменения в исторических усло
виях, поэтому трудно определить, насколько они отражают условия именно ахеменидского времени. Однако те фрагментарные сведения об общественном строе оседлого населения Средней Азии ахеменидского времени, которыми мы располагаем, легко и убедительно находят свое место в социальных схемах, лежащих в основе интересующих нас генеалогических легенд. Такой легендой, видимо, изначально, еще в авестийские времена, принятой иранским эпосом в качестве основной версии «социального» генеалогического предания, является легенда о первом смертном человеке Гайомартане (Кеюмарсе) и его потомстве. Учитывая исторические обстоятельства формирования иранского эпоса, можно с уверенностью предполагать, что легенда эта принадлежит одному из древних среднеазиатских ираноязычных народов, может быть, даже именно бактрийцам. Правда, включение ее в эпос сопровождалось существенной переработкой, совмещением ее с другими версиями и т.д., так что в дошедшем до нас виде предание это уже значительно деформировано, в большей степени — в «Шахнаме» Фирдоуси, в меньшей — в среднеперсидском варианте. В первоначальном своем виде оно должно быть аналогом скифской легенды о Таргитае и его потомках. Добавим еще, что легенда о Трайтауне (Феридуне) и его потомках, тоже изначально включенная в эпос, является «этнической» легендой, к тому же принадлежащей вообще иной версии генеалогического предания.
Что касается самих сословий древнего ираноязычного населения Средней Азии, то наиболее четкий перечень их дан в Младшей Авесте. Они названы здесь пиштра, т.е. «занятие, профессия». Их три: атраван — жрец, ратайш-тар— воин, вастръо-фшуйант— крестьянин; однажды к ним добавляется и четвертый: хути — ремесленник. Видимо, эта сословная схема официально существовала лишь в предахеменидской Бактрии, поскольку упоминается только в младоавестийских текстах, хотя, надо думать, не была забыта и в ахеменидское время. Но и ранее она являлась лишь схемой, условной и архаической, поскольку, восходя к глубокой индоиранской древности, уже не отражала исторической реальности в полной мере.
Ближе к социальной действительности ахеменидского времени находится сословная схема персидского общества, описанная Геродотом и Страбоном. Конечно, прямо переносить ее в Среднюю Азию нельзя, так как социальная структура ираноязычных народов Средней Азии не совпадала полностью с персидской. По Геродоту, состав персидских племен таков: три главных племени, от которых зависят остальные персы, причем к одному из них принадлежит царский род Ахеменидов; три племени земледельцев; четыре племени кочевников, одним из которых являются марды. По Страбону, сведения которого в данном случае восходят, видимо, к Поликлиту, историку Александра, персидский народ состоит из следующих «племен»: ахеменидов, магов, патисхоров, киртиев и мар-дов. Такая схема косвенно подтверждается древнеперсидскими надписями.
Здесь трехчленная структура более четко выражена у Страбона, и «племена» его являются, в сущности, сословиями. Ахемениды Страбона соответствуют трем главным племенам Геродота— это сословие «царей». Маги— сословие жрецов. Патисхоры Страбона— это земледельческие племена Геродота, сословие земледельцев. Киртии и марды (названия-синонимы) Страбона— это пле
мена номадов Геродота, сословие скотоводов. Эти последние, марды и киртии, всегда характеризуемые в источниках как «разбойники», не подчинялись никаким властям, а к персам их причисляли, хотя бы частично, по языковому, т.е. этническому, признаку, что видно по данным того же Геродота. Заметим, что, с точки зрения древних иранцев, земледельцы и скотоводы— одно трудовое крестьянское сословие.
Итак, общество древних оседлых ираноязычных народов состояло из трех основных сословий. Но общество таких же народов, обитавших в Средней Азии, имело ряд существенных особенностей.
Главное, что обусловило своеобразие этого общества, — особенности в положении господствующего слоя, сословия царей и воинов. Рассмотрим сначала, как отражено это положение в генеалогических легендах. В первоначальном варианте легенды о Гайомартане «третьим» сыном первого смертного был, очевидно, Хаушьянгха (Хушенг). Именно он наделен титулом парадата (пешдад), первоначальный смысл которого— «поставленный во главе». В скифской легенде о Таргитае так (парадаты) названы тоже потомки «третьего» сына — «царские» скифы. Видимо, это слово было древним общеиранским термином для обозначения «царского» слоя общества.
К древним сказаниям о Хаушьянгхе прибавилась легенда о Хушенге и Вегер-де, известная лишь в среднеперсидском варианте. Здесь пешдад Хушенг (парадата Хаушьянгха) в согласии с древней легендой представлен как учредитель царской власти, изобретатель искусства управления людьми и их защиты, родоначальник института дахьюпати, «владык областей», а его брат, тоже пешдад, Ве-герд — как изобретатель земледелия и института дехканства. В толковании этой легенды несомненно правы те ученые, которые, несмотря на соблазн представить ее как версию предания о происхождении сословий царей-воинов и крестьян, считают, что Вегерд здесь воплощает поземельную аристократию, каковой и являлось средневековое дехканство.
Именно дехканство как «поземельное дворянство» и придавало своеобразие общественному строю Средней Азии раннего средневековья — Хорасану и Сог-ду. Об этом много и убедительно писал акад. В.В. Бартольд. Но в мусульманское время этот социальный слой, испытывая один удар за другим, уже умирал. Расцвет его приходится на домусульманский период. Что же представляли собой дехкан Средней Азии той эпохи? Следует сказать, что мусульманские авторы называли дехканами всех представителей господствующего слоя Средней Азии. Среди них могли быть и правители крупных областей — это «великие дехканы», и собственно дехканы. Последние зависели от крупных правителей, обитали в поместьях — укрепленных усадьбах, своего рода «замках», вокруг резиденций своих господ, должны были — они сами или их сыновья — являться ко двору господ и служить в их войске в качестве тяжеловооруженных всадников, «рыцарей». Такие воины могли создавать и постоянные дружины, с которыми, несомненно, связан институт, получивший у исследователей название (на наш взгляд, не вполне удачное) «мужского союза». Этот институт имеет глубокие индоиранские корни, а в аршакидскую эпоху, как полагают, в качестве наследия восточноиранского мира распространился и на западе Ирана.
Но насколько древним для Средней Азии является такое «дехканство» (речь идет не о термине — он поздний и, по-видимому, не среднеазиатского происхождения), можем ли мы предполагать его существование там в ахеменидскую эпоху? Сведения источников по этому поводу, имеющиеся в нашем распоряжении, позволяют с уверенностью ответить на данный вопрос утвердительно.
Во времена крушения Ахеменидской державы и походов Александра Македонского мы встречаемся с этим слоем населения в лице «всадников» среднеазиатского происхождения. Известно, что они служили в войсках сначала Дария III, затем Александра и его преемников, а впоследствии и греко-бактрийских царей, но более близко мы с ними знакомимся тогда, когда в источниках речь идет о событиях в самой Средней Азии, связанных с македонским вторжением. Именно бактрийские, согдийские и арейские «всадники» оказывают самое упорное сопротивление македонянам, делая завоевание Средней Азии таким трудным для Александра. Они сопровождают персидских сатрапов Бесса и Сатибарзана или своих вождей Спитамена, Оксиарта и др., сражаются с македонянами, но жилища их — в селах, по которым они и расходятся в случае неудач своих предводителей. Иногда эти села характеризуются как «укрепления, крепостцы». Таких сел-крепостей было много в Согдиане, в местности от Окса (Амударьи) до Ма-раканды (Самарканда) и в долине р. Политимет (Зеравшана).
Нельзя не вспомнить в этой связи, что еще Ктесий говорил о множестве «храбрых мужей» и «неприступных укрепленных мест» Бактрии, а молва о «бакт-рийских крепостях» дошла и до греческого поэта Эврипида (V в. до н.э.).
Иногда эти «всадники» именуются у историков Александра гипархами. Вообще слово «гипарх» означает «помощник, младший начальник, наместник», но в эллинистическую эпоху оно имело специальный смысл: «тот, кто владеет хорой», т.е. культивируемой землей, жилищем, орудиями, урожаем. А еще однажды они названы в источнике клиентами. Это слово в его контексте следует уже прямо понимать как «ленник, вассал». Учитывая все эти факты, можно представить следующую картину: «всадники» бактрийцев, согдийцев и ареев — это особый слой населения, они владеют укрепленными поместьями и возделываемыми землями, но держат их на условии военной службы своим господам. Таким образом, и в ахеменидскую эпоху мы застаем в Средней Азии то же самое «поземельное дворянство», что и в средневековье. Открытые археологами изображения бактрийских всадников, одетых в броню и вооруженных копьями, действительно напоминают средневековых рыцарей.
Сообщается, что бактрийцы могут выставить до тридцати тысяч всадников. Но это, видимо, количество «всадников» всей бактрийской сатрапии или даже топархии. Может быть, столько гипархов-«всадников» собиралось на смотр в Бактрах. Чаще же говорится о десяти тысячах или около того. В войске Дария III у Гавгамел было девять тысяч бактрийских всадников, в том числе восемь тысяч — у Бесса. После битвы при Гавгамелах, в Экбатанах, у Бесса осталось только три тысячи. Но в Бактрии у Бесса вновь появляется семь или восемь тысяч бактрийских всадников, к которым нужно прибавить еще две тысячи, посланные им на помощь Сатибарзану; затем эти всадники поднимают восстания в разных местах Согдианы и Бактрии: семь тысяч — в одном случае, две с половиной тыся
чи — в другом. А позднее в войске греко-бактрийского царя Эвтидема сражается десять тысяч бактрийских всадников.
Господами «всадников», их сюзеренами, т.е. «владыками областей», дахью-пати легенды, в ахеменидскую эпоху выступали прежде всего персидские сатрапы. Так, согдийские всадники были клиентами Бесса. Но ими могли быть и местные властители. Их резиденциями, особенно на случай военной опасности, были неприступные горные крепости, «скалы». Таковы Ариамаз, владыка Согдийской скалы, и Сисимитр, или Хориен (это второе имя, видимо, было дано ему по названию области, которой он владел; ср. средневековый Ахарун в верховьях Сурхандарьи), хозяин другой скалы у прохода из Согдианы в бактрийскую область Паретакену. О могуществе и богатстве этих князьков свидетельствует такой факт: Хориен снабдил все войско Александра едой — хлебом, вином и солониной — на два месяца, не истратив и десятой части заготовленных им запасов. Возможно, представителями такой же знати были бактриец Оксиарт, отец красавицы Роксаны, жены Александра, и согдиец Спитамен, возглавивший сопротивление согдийцев македонским завоевателям. От этих владык и зависели гипархи. Так, множество гипархов собралось в горную твердыню Хориена под его защиту; видимо, Хориен в данном случае выступал в роли их господина и покровителя. Те же дахьюпати, выступая в роли полководцев, именовались састарами. Так названы в цитированном выше гимне Авесты, воспевающем Ариану, «храбрые владыки», что «сбираются на битвы».
Что касается авестийского термина «ратайштар», «колесничий», применяемого ко всему сословию «царей-воинов», то если он и употреблялся в ахеменидскую эпоху, по своему буквальному смыслу к тому времени устарел. Среднеазиатские конные воины были тогда уже не колесничими, а всадниками. Поэтому и в Авесте появляется термин «всадник», башар (бартар), равнозначный в социальном смысле устаревшему термину. В ахеменидское время бактрийцы, по всей видимости, использовали на войне в небольшом количестве лишь серпоносные колесницы.
Реконструированная таким образом картина вполне соответствует материалам археологических комплексов типа Яз (при учете всех трех его стадий). Столь характерное для культур этого типа сочетание цитаделей на высоких платформах и группирующихся вокруг них укрепленных усадеб дает наглядную картину общества владык-дахьюпати и састаров — хозяев вознесенных на платформы дворцов, и зависимых от них «всадников» — обитателей сельских крепостей, маленьких «замков». Еще об одном типе местообитания, характерном для этого общества,— неприступных «скалах», где в моменты опасности укрывались и владыки, и «всадники», мы знаем пока только по письменным источникам, археологически они мало изучены.
Такой тип общества, достаточно своеобразный, отличающийся и от древнего западноиранского, и от древнего восточноиранского, обусловивший своеобразие дальнейшего развития среднеазиатского общества, мог сложиться только в рамках конкретного этноса, под воздействием факторов, исторически связанных только с данным этносом. Черты этого типа, как уже отмечалось выше, яснее всего проступают в сообщениях о бактрийцах, согдийцах и ареях, т.е. народах
Арианы, центральноиранской этнической общности. Таким образом, рассмотренные здесь черты своеобразия общественного уклада характеризуют именно эту последнюю, являясь одним из ее этнических маркеров. Относительно происхождения этого уклада мы уже высказывали свою гипотезу, но она выходит далеко за хронологические рамки ахеменидского периода. Здесь важно отметить, что к рассматриваемому времени данный уклад в основных чертах сформировался, хотя процесс его сложения еще не завершился.
Положение сословия «царей-воинов» у персов рассматриваемого времени было совсем иным. «Царские» персы жили компактной массой в центре Перси-ды, вокруг своих столиц Персеполя и Пасаргады, либо при дворе царя Ахемени-да или его сатрапов, сохраняя еще, во всяком случае ко времени Геродота, племенное деление. У них могли быть богатые имения, разбросанные по всей державе Ахеменидов, но в этих имениях они не жили. Возможно, что такое положение объясняется более поздней оседлостью персов, нежели арианов.
Сословию «царей-воинов» противостояло крестьянское сословие земледельцев и скотоводов. Авестийское название его, вастрьо-фшуйант, «пастух», тоже устарело, так как к рассматриваемому времени производящий слой оседлого ираноязычного населения Средней Азии был разделен на две части: большая часть давно уже перешла к земледелию с прочной оседлостью и лишь небольшая часть продолжала оставаться скотоводами-пастухами.
Земледельцы, Возможно, что земледельцы Средней Азии ахеменидского времени назывались тем же или близким словом, что и «земледельцы» Персии: па-тисхоры. Во всяком случае, лежащий в основе этого слова корень хвар- встречается в названиях и областей (оазисов), и народов Средней Азии рассматриваемого времени. Значение его — «есть, питаться», а производные от него слова имеют значение «пища» (подразумевается зерновая, хлебная пища), «кормящий» или «плодородный». Патисхорами, видимо, называлось население земледельческих оазисов, сословным предназначением которого считалось производство средств к жизни.
Часть этого населения находилась в какой-то форме зависимости от представителей знати, сословия «царей-воинов». Сказочное изобилие продовольственных запасов у Хориена было обеспечено, конечно, трудом зависимых крестьян — земледельцев, виноградарей, пастухов. Немало крестьян трудилось и в поместьях «всадников». В одном сообщении историков Александра говорится, что все взрослое население сел-крепостей в долине Политимета (Зеравшана) — убежищ местной знати — составляло сто двадцать тысяч человек. Разумеется, ббль-шая часть этих людей являлась крестьянами, которые жили и работали в поместьях знати. Тем не менее должно было оставаться немало и независимых крестьянских общин. Именно они могли поставлять пеших воинов в отряды среднеазиатских народов ахеменидской армии.
Археологически слою зависимых крестьян соответствуют поселения, примыкающие к цитаделям на платформах и укрепленным усадьбам. В них, по-видимому, жили и крестьяне, и порабощенные ремесленники — хути. А население независимых общин обитало, скорее всего, в крупных рассредоточенных поселениях без цитаделей.
Скотоводы. Этот слой населения Средней Азии ахеменидского времени тоже назывался так же, как у персов и других западных иранцев: марды, «разбойники». Конечно, это название относилось не к профессии, а к племенам, не подчинявшимся центральной власти и действительно нередко промышлявшим грабежом. Но этнически эти племена, по-видимому, составляли одно целое с ближайшими оседлыми земледельцами и имели в какой-то мере общее с ними происхождение.
В пределах Средней Азии это были «обитатели палаток», жившие в горах близ Ареи и Маргианы, — «дикие племена мардов», рассеянные «по Кавказскому хребту до самой Бактры». Подобные им полукочевые племена, занимающиеся и земледелием, доныне живут в горах вокруг Гератского оазиса, к югу от Мервского оазиса и далее на восток, по хребтам Паропамиза вплоть до истоков бактрийских рек.
Другая группа мардов обитала, видимо, по нижнему течению Амударьи, где она оставила след в названии средневекового Амуля (Чарджоу), вплоть до ее дельты. Возможно, что упомянутый выше Демодам помещал между амардами и пес(т)иками, т.е. апасиаками, северное устье Окса (Амударьи), и лишь поздний географ Помпоний Мела перенес эти народы на своей карте к другому устью названной реки, которым она впадала в Скифский залив Каспийского моря. В таком случае амарды должны быть обитателями Сарыкамышской дельты Амударьи, т.е. тем племенем, которое, как мы видели выше, именовалось еще оксианами и оксидранками, «обитателями Оксийских болот». Археологически это носители куюсайской культуры, оседлые скотоводы. К северу от них, по другую сторону дельты, в низовьях Сырдарьи (которые тогда близко подходили к дельте Амударьи), действительно обитали апасиаки.
Марды известны и во многих других местах иранского мира, в труднодоступных горах или приморских местностях, как упомянутые выше марды — соседи тапуров.
Особое место среди мардов занимали сираки (сераки) или сарапары (салатеры у Клавдия Птолемея). Первое слово можно перевести как «храбрецы, подобные льву», второе означает «головорезы». Сираки-сарапары обитали на границе со скифской степью и не только в Средней Азии, но и западнее. В Средней Азии мы находим их обитающими по Оксу к западу от бактрийцев-зариаспов и в Си-ракене (область Серахса). Имеются некоторые основания предполагать, что си-раками назывались племена (в Средней Азии — из мардов), которые брали на себя обязательство поставлять воинов-рабов, преимущественно конных лучников, в воинские контингенты соседних народов. Институт воинов-рабов был широко известен на Востоке: это парфянские пелаты, согдийские чакиры, средневековые гулямы и т.д. Но когда северокавказские сираки в I в. н.э. предложили римлянам десять тысяч таких «рабов» в знак мирных отношений, те не поняли их.
Возможно, что рассказ Полиена о Сираке является этиологической легендой, объясняющей привилегированное положение сираков, которые поднялись из «конюхов», служивших на рабском положении массагетским и сакским «царям». Какое-то время они, возможно, действительно являлись для массагетов заслоном от персидской угрозы с юга.
(О сословии жрецов речь пойдет ниже, в разделе о религии.)
168. Круглое святилище (вара?). Кутлуг-тепе: аксонометрия и реконструкция
Такова сословная структура общества оседлых ираноязычных народов Средней Азии ахеменидского времени. Но это общество не было неподвижной, застывшей системой. Напротив, источники свидетельствуют о большой нестабильности его. Правда, источники эти связаны в основном с деятельностью Зороастра, т.е. с предахеменидеким временем, VII—VI вв. до н.э. (такова традиционная дата, с которой мы согласны), но социальные противоречия, достигшие тогда своей кульминационной точки, продолжали действовать и в ахеменидское время. Страдающей стороной в этих противоречиях является крестьянство, мирные оседлые «пастухи», живущие по своим общинным селениям. Относительно враждебной им стороны среди исследователей существуют две точки зрения: это или внешняя сила, воинственные кочевники, или внутренние антагонисты, местная родовая знать. Мы считаем, что вся совокупность фактов говорит в пользу второй точки зрения. Перед нами антагонизм двух социальных слоев, двух сословий: земледельцев и царей-воинов, или, в авестийских терминах, «пастухов» и «колесничих».
Зороастрийская традиция сообщает мало конкретного о злых силах, противостоящих «праведному» крестьянству: это «не-пастухи» и «дурные правители», но иногда и прямо называются састары, предводители дружин, и помогающие им жрецы, карапаны и усиги. Эти свирепые разбойники разоряют селения, похищают скот, убивают людей и вредят им. То же самое много позднее говорят об отрядах бактрийских «всадников» историки Александра: они «привыкли разбойничать даже в мирное время».
Идеалом первых зороастрийцев были «добрые правители», сильная власть, способная обеспечить мир, прекращение набегов и покровительство «маздаяснийским селениям», «свободные пути и свободное обитание» праведным «пастухам». Этот идеал воспринял могущественный правитель Бактрии Виштаспа, его соратники и потомки. Но дело, конечно, не только в проповеди Заратуштры и деяниях Виштаспы. Указанному идеалу, очевидно, соответствовали и объективные тенденции развития общества, продолжавшие действовать и позже, в ахеменидский период.
Соответствующие процессы можно наблюдать и по археологическим материалам культурных комплексов типа Яз I-III. Они особенно наглядно проявляются в эволюции поселений. Изменения, заключавшиеся в переходе от концентрации населения вокруг одного центра в пределах оазиса и от плотной застройки к нескольким центрам и многим отдельным усадьбам, очевидно, отражают переход от расселения по племенному принципу к формированию «дехканской» структуры. Переход от двухчастных поселений к трехчастным отражает процесс формирования городов.
Дворец на высокой платформе — гнездо састара, совершавшего с дружиной грабительские набеги на окрестные селения «пастухов», а окружавшие это гнездо стены ограждали его не столько от внешней опасности, сколько от жителей примыкавшего к ним поселения, ничем не защищенного, — земледельцев и ремесленников, зависимых и в какой-то части, может быть, насильственно пригнанных.
Когда в начале периода Яз II, т.е. в эпоху Заратуштры и Виштаспы, вокруг некоторых поселений появляются стены, а за ними вскоре — и выселки, проис
ходит коренное изменение ситуации: появляются города, жители которых — полноценные граждане, лично свободные и достойные защиты от внешней опасности. В этом и проявляются тенденции, в русле которых действовали Заратуш-тра и Виштаспа, образец «доброго правителя». Именно тогда формируются как города Бактры (Бала-хисар) и столица Маргианы (Гяур-кала), продолжавшие существовать на том же месте и в ахеменидское время. Так же формируется Мара-канда (Афрасиаб), хотя, по-видимому, несколько позже, уже при ахеменидских сатрапах. Города всегда выступали антагонистами «дехканов». Так, кажется, было уже в древности: сообщается, что когда Спитамен, вождь согдийских «всадников», заперся в стенах Мараканды, жители этого города не одобряли его действий, хотя и не смогли ему помешать.
Но и селения «пастухов» в условиях постоянной опасности, исходившей от «всадников», стали обводиться стенами; иногда воздвигались одни только стены в качестве временного укрытия (рефугиумы), внутри и вне которых уже потом появлялось поселение. Возможно, таким путем сформировалась ахеменидская столица Хорезма (Кюзелигыр).
Семья. Есть все основания считать, что у древних оседлых ираноязычных народов Средней Азии, как и у других иранцев, существовала большая патриархальная семья. Но эта семья у народов Арианы должна была иметь специфическую особенность: кровнородственные брачные связи. Дело в том, что такая семья является неотъемлемой нормой зороастрийского общества, хотя у самого Заратуштры никаких предписаний на сей счет не имеется. Отсюда ученые справедливо заключают, что эта норма независимо и задолго до пророка бытовала в той среде, где сформировался и первоначально распространился зороастризм, а затем автоматически вошла в каноны зороастрийской религии. Упомянутой средой и были народы Арианы.
Подтверждается ли это заключение на материалах ахеменидской эпохи? Известно, что Сисимитр, владевший скалой на границе между согдийцами и бактрийцами, был женат на матери и имел от нее двух сыновей, поскольку «у них позволяется родителям вступать в связь с детьми». Античные авторы об обычае кровнородственных связей упоминают еще в сообщениях о персах, но обычно приписывают его не самим персам, а магам. В этом случае зороастрийское происхождение обычая несомненно. Но в сообщении о Сисимитре ни о магах, ни о Зороастре не говорится, поэтому относится оно, очевидно, только к местному населению. Так что и этот обычай можно отнести к чертам своеобразия народов Арианы как отдельной этнической общности.
Еще одна очень своеобразная форма семейных отношений приписывается источниками тапурам. По словам Страбона, у них «существует обычай отдавать замужних женщин другим мужьям, как только они приобретут от них двоих или троих детей», при этом «мужчина, признанный самым мужественным, женится на какой захочет женщине». Выше мы отмечали, что тапуры, видимо, являются остатком аборигенов эламо-протодравидийского этнического круга, которых к рассматриваемому времени еще не успело ассимилировать окружающее ираноязычное население.
Можно ли объяснить описанный обычай тапуров на материалах, относящихся к дравидам и эламитам? Почти у всех современных дравидийских народов в большей или меньшей степени прослеживаются пережитки древней групповой семьи в вариантах, переходящих в полиандрию (многомужество). Как известно, в такой семье все мужья считаются «братьями», а все жены — «сестрами». Особенно ярко такие порядки выступают у дравидийского народа тода, сохранившего много черт глубокой древности в образе жизни и даже во внешности. У них существуют «братства» (состоящие не обязательно из родных братьев) с общей женой и очередностью в сношениях с ней: каждый из «братьев» считается отцом детей, рожденных за срок его «очереди». В древних эламских документах, содержание которых считается неясным и толкуется по-разному (хотя, наверное, оно было бы яснее, если бы для его истолкования привлекались этнографические материалы), много говорится о «братствах», в которые принимаются и родные братья, и совсем посторонние лица и которые включают одну или нескольких женщин, о каких-то «очередях» и т.д. У эламитов существовало несколько ступеней царского достоинства, — и они тоже передавались в порядке очереди от брата к брату, может быть, вместе с соответствующей каждой ступени царицей-«сестрой». Очевидно, с подобным «братством» мы и встречаемся у тапуров, при этом, надо думать, любое их «братство» считало за честь принять в свои ряды выдающегося («самого мужественного») человека.
Тапурский обычай, видимо, оказался довольно живучим. Во всяком случае, окружающее население не считало его предосудительным, поскольку еще Ктесий называл тапуров «справедливейшими людьми». Много позже, в сасанидские времена, маздакиты, поборники древней «справедливости», социальной опорой которых были крестьянские общины, выдвигали будто бы требование «общности жен». Не находим ли мы здесь далекий отзвук того же тапурского обычая?
2. Общественный строй кочевых народов
Обращаясь к античным источникам, следует учитывать, что на представления греков об обществе среднеазиатских кочевников большое влияние оказал распространенный в античном мире идеализирующий взгляд на всех скифов как на бедных и справедливых людей. Уже Геродот говорит о массагетах как о простых людях, не знакомых с персидской роскошью. Тему бедных и бесхитростных массагетов продолжают историки Александра. Особенно заметной стала идеализация скифов тогда, когда их отождествили с абиями — образцом социальной справедливости. Абии, живущие в Азии, — это бедные и справедливые люди, единственное достояние которых — лук и стрелы; пища их — мясо и молоко, одежда— шкуры; все у них равны: и вожди, и простые люди; они гостеприимны, миролюбивы и независимы. Примерно таким же было и представление о саках — они также считались ветвью «справедливых» скифов.
До нас дошли известия, касающиеся и собственных представлений среднеазиатских скифов о своем положении. Эти представления проявляются в том,
как резко они противопоставляли себя народам, подвластным Ахеменидской державе. Когда Александр Македонский подошел с юга к Танаису (Сырдарье) и столкнулся с «азиатскими» скифами (саками), встретившими его, однако, за Танаисом, т.е., с точки зрения македонян, в Европе, то эти скифы грозили ему: оН’Де еще не знает, какая разница между ними и азиатскими варварами. Здесь противопоставляются скифы и подвластные персам «варвары», через земли которых вплоть до самого последнего предела Азии, т.е. Танаиса, до сих пор победоносно шел Александр.
Вслед за Александром по тем же местам к той же реке, названной на этот раз Яксартом, прошел Демодам. Ситуация повторилась, и саки назвали теперь «персов», т.е. тех же «азиатских варваров» — видимо, в том же контексте, — хорсаками (или хорсарами). Возможно, что последнее название является вариантом уже знакомого нам термина «патисхоры», с общим корнем хвар-9 и, следовательно, относится к земледельческому слою населения Ахеменидской державы. С точки зрения кочевников, положение этого слоя вообще является рабским, а здесь такая оценка распространена на все население государства. Действительно, скифы были склонны считать подданных персидского царя рабами (ср. слова причерноморских скифов, обращенные к ионийцам во время скифского похода Дария I). Очевидно, во всех этих случаях скифы противопоставляли себя, как свободных людей, рабам.
Об общественном строе среднеазиатских кочевников можно судить и по генеалогическим легендам. Судя по одному сообщению Курция, сакам был известен свой вариант общескифской генеалогической легенды. Намек на нее он вкладывает в уста скифских послов, которые сообщают Александру, что скифам некогда были даны следующие дары: упряжка быков и плуг, копье и стрела, чаша для священных возлияний. Символика их совершенно ясна: они воплощают сословия земледельцев, воинов, жрецов.
О том, что у саков действительно существовала генеалогическая легенда, свидетельствуют следы ее, содержащиеся в сказаниях «Шахнаме» Фирдоуси о Рустаме, — именно с этой фигурой связаны в позднем иранском эпосе фрагменты сакских легенд. В них тоже содержатся косвенные указания на сакские сословия. Предварительно заметим, что у скифских народов каждому сословию был присущ свой цвет: жреческому — белый, военному — красный. Существует вариант легенды, не отраженный в известном скифском сказании о Таргитае, но дополняющий его, в котором основоположник жреческого сословия характеризуется как пожилой человек с белыми от рождения волосами, а основоположнику воинского сословия придана эмблема в виде трех огней, похожих на лучи сверкающей молнии. А в «Шахнаме» отец Рустама, родившийся седым, носит имя Заль-Зер, «Седой Старик», сын же — имя Сухраб, «Обладающий Красным Блеском».
Итак, в сакском обществе мы находим тоже три сословия: жрецы, воины, крестьяне. Среди воинов еще различаются воины копья и воины лука. Это конные воины. Крестьяне-земледельцы в случае необходимости, видимо, служили в войске в качестве пехоты. Точное соответствие этой структуре мы находим у массагетов: согласно Геродоту, у них имеются и всадники, и пешие, и копей
щики, и лучники. По сведениям, восходящим к Ктесию, дербики (видимо, прикаспийские) могли выставить в ахеменидскую армию две тысячи всадников и сорок тысяч пехотинцев. У самих саков позднее, во времена Александра, основную массу конных воинов составляли лучники, но были и тяжеловооруженные.
Если привлечь в качестве аналогии причерноморских скифов, то конные воины среднеазиатских скифов будут представлять кочевых «царских скифов», пешие — «скифов земледельцев и пахарей». В сакском объединении кочевой «царской» ордой, возможно, являлись собственно амиргии. Скорее всего, именно к ним относятся известия китайских источников, согласно которым «царские саки» (или «царь саков») во II в. до н.э. снялись со своих мест в Фергане и ушли на юг, в Индию. Оседлые же или полуоседлые саки остались на прежних местах. Тоже сословную структуру, хотя и не вполне ясную, представляют собой три «племени» дахов: апарны, ксантии и писсуры. Дахские «племена» ксантиев (ксандиев) или париев некогда обитали «выше Меотиды» (Аральского моря в данном случае), т.е. в степях Южного Урала, но ушедшие от них дахи, основавшие в конце концов Аршакидское царство, именуются апарнами. Здесь под ксантиями-ксандиями несомненно имеются в виду «царские» дахи.
Кочевники, составлявшие «царскую» орду, лишь себя считали свободными, а всех прочих скифов данного объединения— своими рабами. Непременным признаком свободного скифа считалась верховая езда. Поэтому скифские послы к Александру даже через македонский лагерь едут на лошадях. Но и среди свободных выделяется верхушка. В рассказах о среднеазиатских скифах упоминаются династы, или «знатнейшие» люди. Возможно, что это общее обозначение верхнего слоя скифского общества. В его руках сосредоточивались большие богатства. Наверное, сакской знати принадлежали в большей своей части, если не целиком, упоминаемые в источниках огромные стада, насчитывавшие до тридцати тысяч голов скота. Массагетская знать имела одежду, украшенную золотом, в том числе золотые пояса, полный набор вооружения, коней в панцире и с драгоценной золотой сбруей. Видимо, то же можно сказать и о сакской знати; во всяком случае, однажды упоминается некий «благородный муж» в войске «азиатских» скифов— всадник, который был защищен панцирем и имел щит. Все это высшая знать среднеазиатских скифов, выступавшая на войне в качестве тяжеловооруженных всадников-копейщиков. «Могущественные» и «знатнейшие» люди, располагавшие большими средствами, могли даже собирать собственную дружину из конных лучников и на свой страх и риск отправляться в набеги. Так и поступил во времена Александра Сатрак (Картазис)— брат царя «азиатских» скифов.
Совсем в другом положении находились подвластные кочевникам земледельцы и оседлые скотоводы. В тех случаях, когда требовалось их участие в военных действиях, они служили в качестве пеших воинов. О том, что процент людей этого слоя в объединениях среднеазиатских скифов был достаточно велик, свидетельствует соотношение конных и пеших воинов в войске дербиков. Вооружение этих же пеших воинов говорит и об их бедности: не все имели даже копья с медным или железным наконечником, некоторые были вооружены только жердью с обожженным на огне концом.
В состав этого слоя могли входить пастушеские племена, оседлые скотоводы, подвластные кочевникам. Положение их рисует образ «конюха» в сказании о Си-раке, находящегося в полной власти массагетских и сакских «царей», которые могут и изувечить его, и наградить. Но основу слоя, надо думать, составляли оседлые земледельцы-пахари, судя по сакской легенде. Курций, описывая современную походам Александра Скифию, говорит, что сами скифы бродят по пустыням, не тронутым «человеческой культурой», избегая городов и плодоносных полей, но земли Скифии, обращенные к Танаису (Сырдарье) и Бактрии, не лишены этой «человеческой культуры». А еще раньше Ктесий считал, что «большая часть земли» саков «приведена в культурный вид» и имеет «немалые города». Из этих городов названы Роксанака— столица саков и Фастея с племенами роксанакеев и фастеев. Напомним, что и массагеты, хотя сами земледелием не занимаются, хору, т.е. возделанную землю, имеют. Очевидно, во всех этих случаях речь идет об оазисах Ферганы, Чирчик-Ангренского региона и низовьев Амударьи, в ахеменидское время давно уже заселенных оседлыми земледельцами и скотоводами и имевших значительные земледельческие поселения.
Семья и положение женщины. Семейные отношения у среднеазиатских скифов были весьма своеобразными. У массагетов отмечена полиандрия. Геродот, поддерживаемый Страбоном, говорит, что, хотя каждый из массагетов женится на одной женщине, пользуются они своими женами сообща: «если массагет пожелает какую-нибудь женщину, то вешает свой колчан перед ее повозкой и сообщается безбоязненно». Конечно, и в этом обычае следует видеть проявление местной формы группового брака. Намек на существование кровнородственного брака у саков делает Ктесий: у него сакская царица Зарина была женой своего брата Кидрея.
Самостоятельная роль женщины в семейной жизни подчеркивается брачными обычаями саков, например, тем, что женщине самой принадлежит выбор мужа. Так, во время свадебного празднества, устроенного царем Омаргом, его дочь должна была преподнести одному из гостей золотую чашу с вином, указав этим на своего избранника. Своеобразным вариантом такого обычая был и обряд свадебной борьбы у саков: жених борется со своей избранницей и должен победить, если же побеждает девушка, то он становится ее пленником и рабом.
Свободное положение женщины, видная роль ее в общественных делах у среднеазиатских скифов — все это поражало соседей скифов, и отзвуки такого отношения к особенностям скифского быта заметны в сочинениях античных авторов. Общая оценка сакских женщин у Ктесия такова: саки «имеют женщин отважных и совместно с мужьями участвующих в военных опасностях». Женщины саков непосредственно участвуют в битвах и применяют те же способы ведения боя, что и мужчины, используя, например, такой прием: обратившись в притворное бегство, стреляют на конях из лука, обернувшись назад. Женщины у среднеазиатских скифов нередко выступают в роли правительниц: таковы Томирис у массагетов, Зарина и Спаретра у саков. Томирис предводительствует и войском массагетов, Зарина принимает непосредственное участие в битве как всадница, наподобие амазонки, Спаретра ведет в битву войско саков, мужчин и женщин.
Особая роль женщины проявляется даже в религиозных верованиях среднеазиатских скифов. Так, дербики почитали Землю, не приносили в жертву и не ели никакого существа женского пола.
Описанные «гинекократические» и «амазонские» черты общественного быта среднеазиатских скифов в основе своей, несомненно, реальны и подтверждаются археологически. Они вводят среднеазиатских кочевых скифов в обширный «восточноскифский» культурный мир, простирающийся от савроматов на западе до границ Китая на востоке, и отличают их как от исконных иранских норм и традиций, так и от современных им прочих иранских народов, оседлых и кочевых. Как уже говорилось выше, эти черты свидетельствуют о сложной этнической истории среднеазиатских скифов, о немалой роли в ней этнического суперстрата неиранского центральноазиатского происхождения.
3. Города, крепости, сельские поселения
Архитектура и строительство, В Средней Азии в ахеменидское время существовала сложная система населенных пунктов. Наряду с областными столицами и крупными, мелкими и средними городами, а также крепостями, в том числе горными («скалы»), в стране было много сельских поселений.
В Бактрии, как сообщает Ктесий, имелось много «больших городов», сообщается также о многих «неприступных укреплениях». Вообще «бактрийские крепости» были широко известны в ахеменидское время.
Более всего был известен город Бактры, другое его название — Зариаспа. Тождество не вызывало сомнений у древних авторов. Бактры, как сообщают источники, были «самым выдающимся», «самым большим городом», последний эпитет прилагается и к другому бактрийскому городу— Аорн. Оба эти крупнейших города — и это отмечается в источниках— имели цитадели-акрополи. О Бактрах также сообщается, что в них были «стены», причем существовали «нижние стены» и сильно укрепленный акрополь на высокой горе. «Нижние стены» окружали основную часть города — собственно городское поселение — со стороны равнины, а акрополь располагался со стороны гор. Бактры орошались рекой, которая носила название Бактры или Зариаспа, она протекала под стенами города, иногда говорилось, что через сам город.
Бактры играли выдающуюся роль в политической, экономической, религиозной и культурной жизни страны. Бактры, как и столица Согдианы город Мара-канда, назван «царским» городом. Здесь была резиденция ахеменидского сатрапа— наместника Бактрии, располагались административные учреждения сатрапии, сокровищница, гарнизон. Известно, что в Бактрах хранились «сокровища» — «большое количество серебра и золота», — это была дань, которую бак-трийское население платило в ахеменидскую казну, часть собственно царской казны. В Бактрах собирались на сходы мелкие правители бактрийских областей. Вместе с тем в Бактрах, очевидно, концентрировались важнейшие культовые сооружения. Именно здесь помещался зороастрийский храм, куда при Ахемени-дах была помещена статуя Анахиты.
С первой половины XIX в. археологи знакомились с развалинами древних Бактр, которые расположены в Северном Афганистане, в 21 км к западу от Ма-зари Шерифа. Это огромная площадь городских развалин (окружностью 11 км), с мощными (до 32 м) и разновременными (до XV в.) культурными напластованиями, окруженная оборонительной стеной. В состав города входил укрепленный акрополь Бала-хисар (площадью около 120 га), тоже окруженный мощнейшей стеной. Хотя здесь производились раскопки, однако даже общие контуры города ахеменидского времени или какие-либо сведения о планировке не были выявлены, так как они погребены под более поздними постройками.
«Царским городом» Согдианы, ее столицей была Мараканда, что, по мнению лингвистов, является греческим отражением местного названия «Смараканда». Город, по словам античных авторов, был «очень красивый и имел сильные укрепления. Его окружала стена протяженностью 70 стадиев (около 12,5 км). В городе имелась мощная цитадель, в свою очередь также окруженная стеной, снабженной воротами. Сообщается также, что город снабжался водой реки Полити-мет (реки Зеравшан), не названная река «обтекала» город (это, очевидно, нынешний Сиаб).
Древний Самарканд располагался на городище Афрасиаб (площадь его достигает 220 га), которое находится на окраине современного Самарканда. На городище Афрасиаб город находился вплоть до монгольского завоевания, т.е. до XIII в., и древний Самарканд VI-IV вв. н.э. оказался погребенным под постройками позднейшего времени, нередко на глубине 5-10 м. Несмотря на то что раскопки проводились с 70-х годов XIX в., добраться до древнейших слоев оказалось очень сложно, и сейчас известны лишь отдельные черты древнего города. Цитадель была двухъярусной. Имелись мощные стены. Были устроены водохранилища, куда вода поступала по специально возведенному акведуку. Обильные находки керамики свидетельствуют о развитом ремесленном производстве.
Столицей Маргианы был город Мерв. Сведений об ахеменидском Мерве в источниках нет, развалины древнего Мерва находятся в районе современного областного центра Мары. Как считают исследователи истории Мерва, первоначальное, вероятно доахеменидское, поселение имелось на месте городища Эрк-кала. Здесь же открыты остатки поселения ахеменидского времени. Обнаружены две платформы из сырцового кирпича, центральная имела высоту 15 м, и на ней, возможно, располагались какие-то монументальные здания. Это поселение было обведено пахсовой крепостной стеной. Общая площадь поселения, которое уже, наверно, было городом, достигала 100 га. Интенсивная жизнь была и на месте современного городища Гаур-кала. Для снабжения города водой были вырыты каналы.
Имелось значительное количество крупных и средних городов. Так, в месте слияния Вахша и Пянджа (ниже река сейчас называется Амударьей) находится городище Тахти-Сангин. Оно зажато между рекой и проходящим параллельно ей, на расстоянии до полукилометра, невысоким хребтом. Городище простирается вдоль реки на километр, с севера и юга оно было ограждено стенами. По-видимому, очень рано здесь была возведена цитадель. Обнаружены сооружения храма Окса, построенные в конце IV — начале III в. до н.э. и воспроизводящие
планировку ахеменидского храма огня. Ряд соображений позволяет утверждать, что ему предшествовал более ранний храм, относящийся к ахеменидскому времени (см. об этом ниже, с. 807).
Почти на километр протянулись засыпанные песком развалины древнего города, теперь известного под именем Кутлуг-тепе (Фурукабадский оазис, левобережная Бактрия). На его южной оконечности находился холм, возвышающийся над окружающей местностью на 4 м и имеющий размеры 40x40 м. Основание его составляло небольшое возвышение, оно было обведено мощной пятиугольной стеной. В этот пятиугольник было вписано три кольца концентрических стен. Два наружных кольца, образовывавших внешний коридор, были очень толстыми, мощными, внутреннее же кольцо — гораздо более тонким. Стены сложены из небольших пахсовых блоков. На высоте 1,5 м от пола блоки по горизонтали не сомкнуты и между ними оставлены промежутки, сверху перекрытые кирпичом. Эти промежутки являются световыми щелями (а может быть, и бойницами) в первой (наружной) и второй стенах, во внутренней же стене этих щелей нет. В круг внутренней стены, образующий двор, вписаны два помещения: одно большое, прямоугольное, занимающее почти половину площади, и другое, небольшое и также прямоугольное с белой обмазкой, возвышением-«алтарем» и нишками в одной из стен.
По косвенным данным, обе галереи были перекрыты сводами, применялись также арки. В поздний период галереи, особенно внутренняя, были застроены, следы поздней застройки есть и во дворе, в том числе в поздних помещениях.
В северо-восточной части Сурхандарьинской области, в Денауском районе, имеется незначительно раскопанный город средних размеров, сейчас носящий имя Кизыл-тепе. Это прямоугольное укрепленное городище площадью около 30 га с цитаделью. Поселение возникло в X в. до н.э. и просуществовало до V в. до н.э. В VII в. до н.э. на месте поселения формируется крупный укрепленный центр. Юго-западный угол городища (около 2 га) занят цитаделью, доминирующей над основной территорией. Прослеживаются следы городских магистралей. Городская застройка велась и за пределами стен, остатки былой застройки прослеживаются, в частности, в восточном направлении (более 5 га). Следовательно, площадь города могла достигать 50 га. Фортификационная система была очень сильной. В основании городских стен — глинобитный монолит, выше — пахсо-вые блоки. Ширина стены в основании 10 м, но она резко суживается вверх. Перед стенами имелись рвы.
Другой тип городского поселения: цитадель, окруженная неукрепленным поселением. Такая цитадель на городище Талашкан-тепе 1 имеет округлую форму, диаметр — ок. 130 м. По кругу возведена стена толщиной до 5 м (сырцовый кирпич), выложена из сырцового кирпича. Вокруг имеются остатки крупного поселения, но размеры его не установлены. (Добавим, что известны были и башни — на городище Бандыхан 2 они круглые, с внутренними помещениями.)
Такие крупные поселения городского типа являлись центрами небольших оазисов, в систему их расселения были включены сельские поселения и усадьбы (от трех и более в оазисе), причем некоторые возникли еще в конце эпохи бронзы и дожили до VII—IV вв. до н.э. Так было во многих оазисах правобережной
Бактрии, например в Миршадинском оазисе, который представляет узкую долину шириной до 1,5 км вдоль русел трех саев. Поселения располагались вдоль этих речных потоков, из которых в древности были выведены небольшие каналы. Площадь орошенных ими земель достигала 240 га. Древние усадьбы расположены не изолированно, характерна их кустовая концентрация. В районе центра оазиса— укрепленного города Кызылтеме, на расстоянии 300-500 м от него находятся три группы пригородных усадеб, каждая из которых состоит из 3—4 единиц. Конечно, до современной распашки и нивелировки этих усадеб было значительно больше.
Существовало значительное число крепостей. Крепость Калалыгыр (Хорезм) имела вид огромного прямоугольника (600x1000 м), расположенного на краю каменистой возвышенности. Крепость имела могучие укрепления. Основание крепостных стен достигало 15-метровой толщины. В толще стены было скрыто две коридорообразные стрелковые галереи. Мощь обороны усиливали 100 башен. В середине каждой из четырех стен были ворота с предвратным укреплением. Строительство города не было завершено. Строители успели лишь возвести вблизи западной стены большой дворец. Он включал в себя множество просторных колонных залов, дворов и сравнительно небольших помещений, одно из которых было святилищем. Базы колонн были каменными, ступенчатыми, стволы— деревянными. Капители не найдены. Они могли быть также деревянными; возможно, что некоторые небольшие капители были алебастровыми и их крылья были оформлены как в ахеменидском Персеполе, в виде орлиноголовых грифонов. Отделка дворца не была завершена. Очевидно, крепость и дворец должны были стать резиденцией ахеменидского сатрапа. Строительство крепости и дворца осуществлялось в конце V — начале IV в. до н.э., однако политическая ситуация не позволила их завершить. Позже, однако, дворец был заселен.
Более поздняя (IV в. до н.э.) крепость Капарас (Хорезм) находится около р. Амударья. Это прямоугольник (128x110 м) с двойными оборонительными стенами, между которыми находился боевой коридор. По углам имеются башни, на трех сторонах между ними еще по две башни, а в середине четвертой — сильно укрепленный сложным лабиринтом вход в крепость. Внутри крепости была густая застройка.
Известны и другие крепости этого времени, например, Джигербент (Хорезм), Алты Дильяр-тепе (Южная Бактрия), Аучин (Маргиана) и многие другие.
В горных областях имелись горные крепости. Греки называли их петпра («скала»). Источники сообщают о «Согдийской скале» и нескольких других, названных по имени их владельца, часто местного правителя. Они располагались на высоких возвышенностях с крутыми или даже отвесными склонами, иногда у основания протекал горный поток, еще более усиливая неприступность. Кроме того, на подступах к такой крепости устраивались дополнительные укрепления. Известно, что размер этих «скал» был очень велик, рельеф верхней поверхности был более или менее гладким, и там, по-видимому, имелись какие-то постройки. Эти «скалы» служили для окрестного населения убежищем во время военных действий.
В Бактрии, Согде и других областях было большое количество небольших населенных пунктов, которые источники именуют терминами, соответствующими русскому «село». Многие из них были сильно укреплены.
В Бактрии сельские усадьбы до раскопок представляли собою просто бесформенные, округлые или овальные земляные бугры. Один из них, Кызылча-6, имел размеры 50x32 м. Он был раскопан и детально изучен. Выяснилось, что усадьба состояла из квадратного двора 16,5x16,5 м, вдоль каждой стороны которого были вытянуты постройки, связанные с двором проходами. Внешняя стена этих построек была и стеной усадьбы в целом — толщина достигает 3 м, она в три раза толще, чем внутренние стены. На протяжении своей истории памятник четырежды перестраивался, но перестройки эти почти не меняли общую схему сооружения — главным образом менялась сетка проходов. На последнем этапе в западной части двора имелся айван — портик, состоявший из двух рядов колонн по три колонны в каждом ряду.
Проход в юго-восточном углу соединял усадьбу с огороженным двором, который на одном из этапов был двухчастным.
Помещения были функционально различными. Имелось два помещения-хранилища, четыре жилые комнаты с пристенными суфами, два кухонно-столовых помещения и небольшое помещение-мастерская.
Усадьбы иногда были сильно укреплены. Так, например, Кучук-тепе имело высокую (до 4 м) глинобитную платформу, окруженную стеной. Внутри располагалась прямоугольная планировка, где проживали члены общины.
К V-IV вв. до н.э. площадь освоенных земель и количество поселений увеличивается. В это время только в долине Сурхана было восемь оседло-земледельческих районов и 30 поселений. Не менее пяти оазисов было и в Южном Таджикистане (кобадианский, нижнепянджский, вакшский, яванский, гиссарский). Центром Кобадианского оазиса было городище Кей Кобад-шах, в основании которого лежат постройки ахеменидского времени.
Подробно изучена укрепленная сельская усадьба Дингильдже (Хорезм). Усадьба представляет собой огражденный оборонительной стеной прямоугольник (70x48 м). В ограде был выход наружу в сторону находившегося там канала. Внутреннее пространство усадьбы было занято многокомнатным жилым домом, различными надворными постройками и хозяйственным двором. Дом первоначально состоял из семи комнат, внутреннего дворика и центрального коридора, делящего дом на две половины. В доме были колонный зал, жилые комнаты, помещения для хранения зерна. К дому примыкала крытая галерея, в котором находились входы в подвальные помещения. Во дворе имелся водоем.
В Дингильдже обнаружены следы воздействия иранской ахеменидской архитектуры, каменные базы имели двух- или трехступенчатый постамент, на котором покоился высокий тор — горизонтальный каменный диск. Стволы колонн иногда были каменными, но обычно деревянными или же, как предполагают, из деревянных жердей, обвитых веревкой и скрепленных и облицованных алебастром. Капители, судя по находкам на Калалыгыр, иногда копировали капители персепольских колонн. Впрочем, часто колонны заменялись более простыми столбами.
Перекрытия были плоскими и сводчато-купольными. Сложные и очень совершенные своды из сырцового кирпича известны в ахеменидском Хорезме.
Строительное дело в Средней Азии ахеменидского времени достигло высокого развития. Разумеется, сельское строительство осуществлялось в более традиционных формах и по своему уровню было на порядок ниже, чем городское; в свою очередь, дворцы и крупные культовые сооружения, вся монументальная архитектура были на порядок выше, чем массовая городская застройка.
Основным строительным материалом была глина. Из глины или же из глины с саманом делалась пахса, то в виде ленточных слоев, то блоков. Порой стены были пахсовыми, но чаще пахсовой являлась их нижняя часть, а верхняя, основная часть делалась из сырцового кирпича, который изготовлялся в деревянных формах, а затем высушивался на солнце. В некоторых постройках, особенно на юге Средней Азии, применялся для конструкций и камень. Часто из камня изготавливались базы колонн. В строительстве также широко использовалось дерево.
Среди монументальных сооружений были дворцы, святилища, храмы.
В южнобактрийском Дашлинском оазисе обнаружен монументальный комплекс Алтын-10. Он состоит из нескольких объектов. Объект 1— это прямоугольное здание размером 80x55 м, вытянутое с запада на восток. Здание двухчастное, точнее — двухдворовое: оно делится на две части цепочкой помещений, идущей от середины одной длинной стороны к другой. Образовавшиеся два прямоугольных двора зеркально-симметричны. Во внешних углах дворов — по небольшому квадратному помещению, в центре которого— основание для опорных столбов. В каждом дворе вдоль трех наружных сторон— по 14 кирпичных постаментов; считают, что это основания для установки деревянных столбов, поддерживающих кровлю айванов. Полы между колоннами были вымощены сырцовыми кирпичами, двор — обмазан глиной с саманом.
Центральную часть цепочки помещений занимает прямоугольная платформа, на которую ведет лесенка. К северу и к югу располагаются, совершенно симметрично, по три помещения, соединенные с дворами.
Внешние, обводные, стены толще, чем внутренние. Имеются ниши. Отмечены следы сильного пожара, особенно в айване.
Полагают, что Алтын-10 — летний дворец, хотя есть и другие мнения.
Очень четкой является композиционно-планировочная схема объекта Алтын-10-1. Это квадратное, 36x36 м здание с центральным двором с бассейном. В двух углах — небольшие квадратные помещения (вероятно, купольные), в двух других— прямоугольные, каждое с двумя столбами, поддерживающими кровлю. Вход с запада, через вестибюльное помещение, ведет во двор. На противоположной входу стороне семь узких прямоугольных помещений, перпендикулярных внешней стене, на двух других сторонах — по шесть. Эти помещения выходят в коридор, с трех сторон огибающий двор. Здание сложено из кирпича 42-43x42-^43x12-13 см. Все помещения оштукатурены алебастром.
Бактрийская архитектура, особенно монументальная, входит в общее русло ахеменидского зодчества. Особая близость обнаруживается с сырцовой архитектурой Дрангианы (Систана), представленной в Дахани-Гуламан, ряд перекличек имеется и с архитектурой Персеполя и Суз.
Некоторое представление о традициях ахеменидской архитектуры можно составить и по храму Окса, построенному хотя и позже — в конце IV в. до н.э., но в русле идей зодчества эпохи Ахеменидов. Дело в том, что этот храм, судя по ряду признаков, заменил собой более древний храм ахеменидского времени, к концу IV в. пришедший в руины или не удовлетворявший новым потребностям. Следует думать, что новый храм повторял архитектурную идею более древнего или был близок к нему. Это касается прежде всего композиции и планировки. Дошедший до нас храм состоит из квадратного четырехколонного зала, с трех сторон окруженного двойным кольцом коридоров. Главный вход был обращен на восток, к р. Вахш (древний Оке). По сторонам здания и перед ним располагались выдвинутые вперед «крылья», каждое из них состояло из трех помещений. В одном из них помещался атпагигег («место огня») — помещение с алтарем, где горел негасимый огонь. Между выдвинутыми крыльями находился колонный портик — айван. Перед храмом имелись алтари. К храму примыкал обведенный монументальной стеной теменос— священный двор с айванами и алтарями. Стена теменоса внизу была облицована каменными плитами. Ряд архитектурных деталей совершенно ахеменидского облика, особенно каменные базы колонн.
В храме был найден каменный алтарь. Из сделанной на нем греческой надписи и других эпиграфических находок явствует, что храм был посвящен божеству реки Оке (так греки транскрибировали название реки Вахш — бактрийское название реки Амударьи и ее притоков). Вместе с тем это был и храм огня.
Сохранившийся храм повторяет архитектурную схему ахеменидских и пост-ахеменидских храмов огня (храм на нижней террасе Персеполя, храм в Сузах и др.); из ахеменидской архитектуры заимствованы базы колонн и др. Кое-что в архитектуре этого храма восходит не только к древнеиранскому храмовому зодчеству, но и к более древним передневосточным архитектурным традициям.
Исключительный интерес представляет и другой памятник — Кой-Крылган-капа (Хорезм), сооружение которого относится к IV в. до н.э. Здание имеет цилиндрическую форму и было двухэтажным. Диаметр этого круглого сооружения равнялся 45 м, первоначальная высота— 10 м. По диаметру по оси запад-восток на одной линии имелись два разделенных стеной помещения, от которых на юг и север перпендикулярно отходило по три помещения. Из западного и восточного осевого коридора по две лестницы вели на площадку верхнего этажа, от первоначальной планировки которого мало что сохранилось. Верхняя площадка была охвачена кольцом из двух стен с бойницами во внешней стене. Все помещения были перекрыты кирпичными сводами.
Лестницы западной половины нижнего этажа были очень рано заложены кирпичом, и она, таким образом, была полностью изолирована. Существует мнение, что причиной такой изоляции было устройство здесь царского мавзолея. Вторая же (восточная) половина выполняла храмовые функции, а все сооружение является храмом-мавзолеем. Хотя это мнение и оспаривается, нежилые, сакральные функции этого необычного монументального сооружения представляются весьма вероятными.
4. Занятия населения
Сельское хозяйство. Земледелие в большинстве равнинных и в части горных районов Средней Азии развивалось на базе искусственного орошения. Лишь в некоторых предгорных районах, где климат значительно более мягкий и влажный, были возможны посевы под дождь (так называемые богарные посевы).
Искусственное орошение получило в Средней Азии развитие уже в бронзовом веке. Сведения об искусственном орошении содержатся в некоторых частях Авесты, в которой есть несколько терминов, обозначающих «канал». В одном из пассажей Авесты (Видевдат, 14, 12) верующий задает верховному богу Ахура-мазде вопрос: «Как велик должен быть оросительный канал?» и получает соответствующий ответ.
Орошение земель, ранее неорошенных («сухих»), а также осушение заболоченных («мокрых») земель — богоугодное дело (Видевдат, 3, 4). Это очень важное место, свидетельствующее о развитии не только ирригации, но и элементов мелиорации.
Орошение земли — непременное предварительное условие посева (Видевдат, 5, 2; 5, 3; 5, 6). Земля поливалась несколько раз— от одного до четырех (Видевдат, 5, 5).
Ирригация занимала столь важное место, что в календарный цикл древних персов вошли специальные праздники, связанные с ней. Как пишет Бируни, в десятый день месяца Апанам отмечался праздник Апанам (от Апам — божество вод) по поводу воцарения Заля, сына Тахмаспа, который приказал «рыть каналы и благоустраивать их». Вероятно, такие праздники были и у среднеазиатских народов.
Хотя археологические исследования древней ирригационной сети проведены почти на всей территории Средней Азии, наиболее детально она изучена в Приаралье, а также в низовьях Зеравшана и в Вахшской долине.
Дельтовые области Амударьи очень сходны с долиной Нила, а условия использования земель не менее благоприятны.
В VII-IV вв. до н.э. в Приаралье существовала широкая сеть каналов. Магистральные каналы следовали изгибам русел и были очень мелки и широки (до 40-45 м между береговыми валами — отвалами в верховьях и 10-12 м в низовьях), при длине до 50 км. В связи с выводом из них дополнительных русел холостая часть отсутствовала.
Большая ширина каналов в одном отношении имела рациональный смысл: широкие и мелкие каналы заиливаются не столь быстро. Однако вместе с тем расход воды благодаря фильтрации и испарению был очень велик. Распределительная сеть была редкой и мелкой, в плане — подпрямоугольной. Каналы обводняли огромные по площади территории, но засевалось не более 5-10% «об-арыченной» земли, т.е. возделываемые участки перемежались обширными пустырями.
Позже магистральные каналы меняют свой характер. В предкушанское и ку-шанское время магистральные каналы имеют меньший пролет — до 20 м в верховьях и 6-10 м в низовьях и значительно более глубокую выемку. Сечение та
ких каналов достигало 25-50 кв. м, длина— до 100 км. Многие истоки систем переносятся на главное русло реки. В результате увеличивается протяженность холостой части каналов. Однако вместе с тем увеличивается и коэффициент использования земель, а с ним — и площадь орошения земель.
Для Южной Туркмении мы располагаем сообщением Геродота (III, 117). Приведем его полностью: «Есть в Азии долина, окруженная со всех сторон горой, а через эту гору ведет пять узких проходов. Эта долина принадлежала некогда хорасмиям и лежит на границе земель хорасмиев, гирканов, парфян, сарангов и фаманеев. Со времени же персидского владычества они подвластны персидскому царю. Так вот, с этой окружающей [долину] горы стекает большая река по имени Акес. Эта река, разделенная на пять рукавов, прежде орошала земли упомянутых народов, так что из каждого прохода вытекал свой рукав. Однако со времени подчинения персам эти народы очутились вот в каком положении. Царь повелел закрыть горные проходы и построить на каждом шлюзы. Поэтому вода не могла больше вытекать [через проходы], и долина, окруженная горами, обратилась в озеро, так как река разливается по равнине, но выхода не имеет. Так вот, те племена, которые прежде пользовались этой водой для орошения, стали терпеть ужасные лишения. Зимой, конечно, божество, как и в других местах, посылает также и им дожди; летом же просо и сезам (кунжут), которые они сеют, постоянно испытывают недостаток влаги. Когда нет уже больше воды, они едут в Персию вместе с женами и, остановившись перед вратами царского дворца, начинают громко и жалостно вопить. Царь же, видя крайнюю нужду просителей, велит открыть шлюзы, ведущие в их страну. Когда же их земля вдоволь напитается водой, царь приказывает опять закрыть шлюзы и открыть другие, ведущие в землю тех племен, которые больше всего после них нуждаются в воде. Однако, как я узнал, царь взимает за открытие шлюзов большие суммы денег [сверх податей]» (пер. Г.А. Стратановского).
Весь текст ярко характеризует положение с ирригацией в древней Средней Азии. Локализация же этих сооружений связана с большими трудностями. По мнению большинства последователей, это р. Теджен-Герируд, называется и р. Мургаб. Имеются и попытки более точной локализации. Несмотря на возможность различных толкований, ясно одно: эти сооружения располагались в юго-западной части Средней Азии, где были, следовательно, крупные ирригационные сооружения.
Полибий (X, 28), рассказывая о походе Антиоха III к Гекатомпилу через пустынные местности Южной Парфии, упоминает искусственные подземные каналы (hyponomoi) с выходящими на поверхность колодцами. Это, несомненно, кяризы — подземные штольни, подсекающие водоносные пласты в гористой местности и на прилегающей равнине выводящие воду на поверхность. Действительно, в иранском Хорасане исключительно много таких сооружений— в одной лишь области Нишапура в конце XIX в. их насчитывалось свыше 12 тыс. По оценке экспертов ООН, в 60-е годы XX в. около 75% всей воды, потреблявшейся в Иране, получали с помощью кяризов. Отметим также, что эта система орошения известна на всем Переднем Востоке. В средние века и в новое время орошение кяризами было широко распространено в Южной Туркмении. В начале XX в.
в Ахал-Текинском оазисе кяризы давали до 30% идущей на орошение земли. Кяризы имелись и в других областях Средней Азии и в Восточном Туркестане.
Таким образом, почти нет сомнений, что кяризная система орошения существовала в некоторых областях Средней Азии, в частности в Южной Туркмении, уже в ахеменидское время.
В Согдиане основным источником воды была р. Зеравшан. Искусственное орошение в этой области развивается с середины I тыс. до н.э. Античные оросительные каналы этого района напоминали более древние из описанных выше каналов Приаралья. Они брали начало в протоках Вабкентдарьи и имели длину 5-7 км. Один из таких магистральных каналов шириной до 20 м имел четыре боковых ответвления длиной 2,5-4 км.
В Бактрии подробно исследована динамика магистральных каналов в Вахш-ской долине. Древнейший из выявленных там каналов— Болдайский—- был выведен в северо-восточной части долины из Вахша и доходил до поселения ахеменидского времени Болдай-тепе. Его протяженность была всего около 10 км.
Старые каналы зафиксированы в других долинах Южного Таджикистана, Южного Узбекистана, а также в Северном Афганистане. Имеются некоторые материалы по истории ирригации древней Ферганы, Ташкентского оазиса и др.
Базирующееся на искусственном орошении земледелие было развито почти во всех природных зонах Средней Азии. Выше были охарактеризованы способы и системы искусственного орошения. Следует добавить, что в ряде районов водозабор осуществлялся не только в реках, но и в источниках-ключах. Эта существующая и поныне практика имела место и в древности; о Бактрии Квинт Кур-ций говорит: «Тучную почву орошают многочисленные источники» (Квинт Кур-ций, VII, 4, 26).
Авеста содержит немало терминов, связанных с земледелием («пахать», «пашня», «высевать семена», «зернохранилище»). Посев зерновых культур — богоугодное дело, совершающий его способствует успеху маздаянистской, т.е. зо-роастрийской, религии (Видевдат, 3, 20-31). В качестве «приятнейшей» части земли в Авесте называется та, где ббльшая доля — засеяна, где имеются злаки, травы и растения со съедобными плодами (Видевдат, 3, 4).
О стадиях обработки земли есть сведения, что она должна состоять из орошения, вспашки и перепахивания (Видевдат, 6,6), т.е. боронования, или окучивания.
На вопрос, как должен быть велик участок обрабатываемой земли, Ахура-мазда сообщил верующим, что он должен быть таков, чтобы при открытии плотины дважды в году воды было бы достаточно для этого участка (Видевдат, 14, 13). Скорее с богарными посевами связано указание «Большого Бундахишна» о трех периодах дождей: дождь первый — «когда они сеют»; второй — «когда растения колосятся»; и третий— «когда злак созревает». Плиний (XVIII, 186) относит Бактрию к числу тех стран, где, посеяв, возвращаются на поля только для жатвы — в этом можно видеть намек на богарные посевы.
Геродот (III, 117), рассказывая о шлюзах на реке Акес, упомянул о посевах проса и кунжута (сезама). Ктесий (фр. 11,33) пишет об одном племени, что у них есть хорошо обмолоченная ячменная мука, они едят ячменные лепешки.
Херил Самосский — греческий поэт конца V в. до н.э. — писал: «Саки, пастухи овец, рождением — скифы, живут же в Азии, хлебом обильной» (Страбон, VII, 3,9).
Согласно Страбону (XV, 1, 18), в Бактрии имелись посевы риса. Он же рассказывает о Маргиане (XI, 10, 2): «Эта страна богата виноградом» и приводит сведения о невероятно больших виноградных лозах.
Квинт Курций (VII, 4, 26) писал: «Природа Бактрии богата и разнообразна. В некоторых местах многочисленные деревья и виноградная лоза дают в изобилии сочные плоды... где почва мягкая, там сеется хлеб; остальную землю оставляют под пастбища. Ббльшую часть этой страны составляют бесплодные пески... Однако где земля более плодородная, там очень много людей и лошадей». По Плинию (XVIII, 7, 70), в Бактрии хлебные зерна достигают величины «наших колосьев».
Из повествования Арриана можно почерпнуть сведения, что представители среднеазиатской знати обладали большими запасами хлеба (IV, 18, 8; IV, 21, 10) и вина (IV, 21, 10).
Фактически ассортимент культур был несравненно шире и разнообразнее. Частичное представление об этом мы можем получить по археологическим находкам. Так, в Мерве, на Эрк-кале были найдены зерна риса, остатки хлопковых тканей, косточки вишен и персиков, семечки дынь, арбузов и огурцов. В ахеменидской усадьбе Дингильдже найдены зерна многорядного ячменя, мелкой пшеницы, проса. Есть данные о возделывании винограда винного типа (для приготовления вина имелись винодельни).
Для хранения зерна устраивались специально вырытые ямы — они обнаружены, например, в Дингильдже в полах помещений и во дворах около дома, а также в Шурабашате, Тамошо-тепа и др. Такой способ хранения зерна применялся в Средней Азии вплоть до недавнего времени. Зерно хранилось также и в специально изготовленных хумах (с отверстиями в днищах — для предохранения от загнивания) и в обыкновенных хумах.
Авеста содержит значительное количество упоминаний о домашних животных и их разведении, о почитании домашних животных и их роли в жизни и религии зороастрийцев.
Для ахеменидского времени наиболее полный материал о скотоводстве, точнее, о составе стада, дали раскопки в Хорезме. В более раннем памятнике Кюзе-лигыр, судя по находкам костей, в стаде было 33% крупного рогатого скота и 22% мелкого. Затем, судя по находкам в более позднем Дингильдже, ситуация изменилась: крупного рогатого скота стало меньше (22%), мелкого— больше (62%). Это изменение, быть может, связано с усилением роли отгонного скотоводства. В стаде имелось также небольшое число свиней, лошадей, ослов, верблюдов.
Кости крупного рогатого скота обнаружены на многих поселениях. При этом 85% составляют коровы, 4 — быки, 11% — волы (Хорезм). Незначительная численность быков объясняется тем, что их содержали лишь в количестве, необходимом для репродукции. Уже в I тыс. до н.э. имелись волы. В этом нет ничего необычного, ибо кастрация быков с целью создания животных более сильных, выносливых и смирных возникает очень рано. Волы были довольно крупными,
достигая в холке 135 см. Вообще существовало, очевидно, несколько разновидностей рогатого скота. Мелкий рогатый скот (овцы, козы) всегда был очень многочисленным. Кости овец из хорезмийских памятников показывают, что древние хорезмийские овцы были весьма близки современным каракульским овцам. Несомненно, были распространены и другие овцы — типа современных курдючных.
Природные условия Средней Азии благоприятствовали созданию и разведению больших табунов высокопородных коней. По мнению В.О. Витта, Средняя Азия— как бы центральная часть территории высокопородного коневодства степного типа. Нисейская долина— ее юго-западный предел, а Пазырыкская горная долина — северо-восточный. О качествах среднеазиатских пород красноречиво свидетельствует то, что на конских состязаниях, устроенных Киром, конь одного сака далеко опередил всех своих соперников, и царь усиленно добивался приобретения этого коня (Ксенофонт. Киропедия, VIII, 3). Квинт Курций (VII, 4, 30-31) сообщает о большом количестве коней в Бактрии; бактрийская конница насчитывала 30 тыс. всадников. Александр Македонский пополнил свою конницу лошадьми в Согдиане (Арриан, III, 30, 6). Хорезмийский царь Фарасман привел Александру полторы тысячи лошадей.
Считается, что приручение одногорбых верблюдов произошло в Аравии, а двугорбых— в евразийских степях. В Иране кости домашнего двугорбого верблюда были найдены в Шах-тепе в слое III тысячелетия до н.э. А в Южной Туркмении кости двугорбого верблюда найдены в верхнем слое северного склона холма Анау, а на раннеземледельческом поселении Кара-тепе обнаружены фигурки, изображающие как одногорбых, так и двугорбых верблюдов, т.е. уже в III тыс. до н.э. на территории Ирана и Средней Азии были и одногорбые и двугорбые верблюды. Для II тыс. до н.э. известны изображения верблюдов и находки их костей на памятниках андроповской культуры в Приуралье и в Казахстане. В I тыс. до н.э. двугорбые верблюды — бактрианы разводились в Сибири, а оттуда значительно позже попали в Китай. Изображения двугорбого верблюда чрезвычайно часты в среднеазиатской иконографии.
Из сообщений Ктесия явствует, что в древней Бактрии было много верблюдов, которые, в частности, использовались в военном деле (Диодор,. II, 16, 8-10; 11, 17, 2). Описывая каспиев, он говорил, что у них «верблюдов большое количество, крупнейшие [из них величиной] с самых больших лошадей, шерсть [они] имеют необычайно хорошую. Шерсть их очень нежна, так что по мягкости не уступает милетской шерсти. Одежду из них надевают жрецы и самые богатые и влиятельные из каспиев» (fr. 10 в [35]).
Александр Македонский получил от местной знати вместе с другими животными и 2 тыс. верблюдов (Квинт Курций, VIII, 4, 19). Плиний четко различает две породы верблюдов: бактрийскую двугорбую и арабскую одногорбую (Плиний, VIII, 18, (67).
Мы не знаем точного состава стада кочевников. Значительную часть его, во всяком случае, составляли овцы. Известны приведенные Страбоном (VII, 3, 9) слова греческого поэта V в. до н.э. Херила Самосского о саках — пастухах овец. Страбон же сообщает о разведении овец массагетами (XI, 8, 6-8). В состав стада кочевников входили лошади и верблюды. Несколько позже, во II в. до н.э.,
у проживавшего на северо-востоке Средней Азии кочевого народа усуней было много лошадей, представители усуньской знати имели табуны по 2-3 тысячи лошадей. Формы ведения скотоводческого хозяйства определялись кочевым образом жизни (о его вариантах — см. с. 784-788). В тех же случаях, когда кочевники переходили к полуоседлому или оседлому образу жизни, состав стада изменялся, все более приближаясь к составу стада у оседло-земледельческого населения.
Добыча полезных ископаемых. Ремесло. Средняя Азия изобилует полезными ископаемыми. На ее территории имеются месторождения, порой очень богатые, практически всех металлов и минералов, которые были необходимы человеку рассматриваемого времени. Письменные источники и репертуар употреблявшихся в ахеменидскую эпоху орудий труда, предметов быта и вооружения, украшений и т. д. позволяют определить основные направления горного дела.
Для изготовления орудий труда и особенно оружия требовалось значительное количество железа. Руда добывалась на рудниках. Ее превращение в железо было нелегким делом. Прямо на месте добычи производилась сортировка кусков руды, из них отбирались наиболее обогащенные, они по возможности измельчались. Здесь же или вблизи рудников располагались печи для получения железа. Это осуществлялось путем сыродутной плавки, которая практиковалась в Средней Азии в горных районах до 20-х годов XX в. Суть ее состоит в следующем. Древние люди, как это ни парадоксально, получали железо, собственно, не расплавляя металл. Они не могли в своих примитивных печах достигнуть нужной температуры плавки (1539° С). В печь загружалась мелко измельченная железная руда в смеси с древесным углем. В результате горения угля образующаяся и нагреваемая до высокой температуры окись углерода поднималась вверх и вступала с рудой в соответствующие химические реакции. В результате окись железа в руде восстанавливалась в нужный металл — железо. В это время рудная порода шлаковалась и отделялась от метала. Образующийся жидкий шлак стекал на дно печи, а восстанавливаемые по мере выгорания угля зерна железа опускались в низ печи, слипались и образовывали крицу, в которой, впрочем, оставались и кусочки шлака. Металлурги установили, что температуры 900° С достаточно, чтобы восстановить окись железа. При температуре 1030—1130° образуется жидкий шлак. Отдельные зерна железа спекаются в монолитную крицу при температуре 1300-1400° С, которая в такого рода печах достигалась. Сам процесс называется «сыродутным», так как в отличие от позднейшего времени в печь вдувается не подогретый, а обычный («сырой») воздух.
Обычно такие крицы имеют вид округлой или овальной выпукло-вогнутой «лепешки», наиболее массивной в центральной части. Дальнейшие операции над ними известны нам лишь для средневековья, но не приходится сомневаться, что и в древности они в принципе были аналогичными или близкими.
Полученные в результате сыродутного процесса крицы затем транспортировались в те населенные пункты, где имелось кузнечное производство. В города среднеазиатского Междуречья крицы поступали главным образом из рудников Ферганы, Ташкентского оазиса, из местностей Гиссарско-Кугитанского хребта; в Южную Туркмению, в частности в Маргиану, из области Нишапура (Иран).
Железо привезенных криц было губчатым, содержало множество шлаков, кусочков угля и других примесей. По существу, это был полуфабрикат. Чтобы использовать его в качестве исходного материала для изготовления различных изделий, его вновь нагревали вместе с флюсами, а затем проковывали, повторяя эту операцию несколько раз. Следы крупного железоделательного производства обнаружены на Кюзелигыре (Хорезм).
Добыча меди и медная металлургия начались в Средней Азии за тысячелетия до рассматриваемого времени. Была освоена добыча и достаточно сложная технология плавки и очистки конечного продукта при использовании разного типа медных руд, в том числе широко распространенных сульфидных. В результате выплавлялось большое количество металла. Некоторые предметы изготовлялись из чистой меди, но большинство из бронзы. В Средней Азии применялась оло-вянистая бронза — сплав меди и олова, несравненно более прочный, чем чистая медь. Крупное месторождение олова известно в Зияддинских горах, в местности Карнаб. Здесь обнаружены шахты, предназначенные для добычи оловосодержащей руды. Добыча олова в Карнабе велась начиная с бронзового века и осуществлялась в рассматриваемую эпоху. Кроме Карнаба олово добывалось еще в нескольких пунктах Средней Азии.
Золото, как жильное, так и рассыпное, имеется во многих местностях Средней Азии. О золоте в Бактрии сообщает греческий автор Ктесий, согласно которому в Бактрах хранилось огромное количество золота. Геродот (I, 215) сообщает, что в стране массагетов «золото в изобилии» и многие предметы изготовляются из золота или украшаются им. То же самое сообщает древний географ Страбон (XI, 8, 6). Трудно что-либо сказать о технике добычи и извлечения из руды жильного золота в ахеменидскую эпоху, но добыча рассыпного золота начиная с глубокой древности и до первых десятилетий XX в. осуществлялась в Средней Азии одним и тем же способом, имевшим несколько разновидностей. В одном древнегреческом сочинении, сведения которого восходят к концу IV — началу III в. до н.э., сообщается, что «река Оке (Вахш-Амударья) в Бактрии несет в нее куски золота в большом количестве». Действительно, многие реки являются золотоносными (Вахш, Амударья, Сурхоб, Яхсу, отчасти Зеравшан и многие другие). На дно такой реки опускали кошмы или бараньи шкуры с длинным ворсом, направленным против течения. Так их оставляли на какое-то время, затем вытаскивали, сушили и вытряхивали из них застрявшее золото, которое потом отправляли на плавку. Иногда из реки выводили небольшой канал и всю операцию осуществляли в нем. Более трудоемкими были расстилка прямо на берегу кошмы, грубой шерстяной ткани или бараньей шкуры и поливание ее водой, зачерпнутой из ручья, или использование деревянного лотка. Высушенный золотоносный песок могли и провеивать — такой способ также известен.
Серебро, по данным Ктесия, добывалось в Бактрии, где были глубокие копи для его извлечения. Судя по последующей истории, серебро должно было добываться особенно в Карамазарском хребте на севере Ферганы (в средние века он так и назывался — «Серебряная гора»), а также в ряде других мест, в частности на Памире, в Припамирье и в Семиречье. В средние века на Памире и в Припами-рье велась разработка серебро-свинцовых месторождений с помощью шахт. На
чало ей, если верить сообщению Ктесия, было положено в ахеменидскую (или более древнюю?) эпоху. В Средней Азии более всего распространены именно серебро-свинцовые руды. Извлечение из них серебра требовало знания некоторых технологических приемов.
В одной из надписей Дария (DSf 37-39) сообщается, что при строительстве дворца в Сузах были использованы лазурит и сердолик, доставленные из Средней Азии. Лазурит, безусловно, происходил из знаменитых месторождений в Бадахшане, где его добыча осуществлялась уже в первой половине И тыс. до н.э. Серьезных месторождений сердолика в Средней Азии нет; возможно, это был минерал индийского происхождения. Можно предполагать, что производилась добыча и других драгоценных камней, в частности рубинов, бирюзы и т.д. Для строительных нужд добывались также строительный камень (из него делались базы колонн, облицовки и т.д.) и алебастр.
Металлы и неметаллические ископаемые, за отдельными исключениями (соль, например), использовались как сырье для изготовления оружия, орудий, предметов домашнего обихода, украшений. Судя по технологической сложности части изделий, их должны были делать мастера-специалисты. Так, если для изготовления, скажем, каменного пестика нужно было владеть лишь некоторыми простейшими навыками, то производство акинака или меча с золотой обивкой требовалось большое умение, которого можно было достигнуть лишь при длительной выучке. В еще большей степени это относится к уникальным, порой высокохудожественным изделиям. К сожалению, пока мы не располагаем для ахеменидского времени сведениями о мастерских и их оборудовании, никем не изучена технология изготовления тех или иных серий изделий. Ясно вместе с тем, что уровень технологических знаний был достаточно высок. Выше говорилось о сложном процессе получения железа из руды. В кузнечных мастерских полученные железные крицы, как указывалось, многократно нагревались в присутствии флюсов и проковывались. Применялась ли для получения высококачественного железа и стали тигельная плавка — мы не знаем. Для дальнейшей обработки и изготовления предметов были необходимы различные устройства и орудия: наковальни, молоты и молотки, пробойники и т.д. В случае необходимости рукоятки орудия снабжались заклепками. Мастера в полной мере владели техникой горячей ковки, в том числе и таких миниатюрных предметов, как наконечники стрел, иглы и др. Большое умение требовалось при изготовлении биметаллических предметов, например кинжалов и мечей, с полностью или частично бронзовыми рукоятями или же украшенными золотыми орнаментальными накладками.
Из железа изготавливалось разнообразное оружие, орудия и предметы быта. Так, известны небольшие серпы с деревянной рукоятью, многочисленные ножи разной формы, специальные ножи, употреблявшиеся в кожевенном производстве, железные накладки, обоймы, иглы, пробойники и т.д.
При изготовлении бронзовых и золотых предметов широко применялось литье, причем формы были одно-, двух- и многостворчатыми. Мастера ахеменидского времени достигли значительного прогресса в совершенствовании отливки крупных и мелких изделий. В Семиречье они отливали из бронзы и меди крупные ритуальные предметы: котлы, жертвенные столы, курильницы. Специфиче
ская форма этих предметов сочетается с интереснейшим художественно-декоративным оформлением. Ножки ритуальных котлов, происходящие из Семиречья, нередко оформлялись в виде фигурок животного (горный козел, як, верблюд, тигр и др.), причем в отдельных случаях над изгибом ножки имелась голова животного. У жертвенных столов (с круглым и прямоугольным подносом) иногда ножки оформлялись в виде человеческой стопы. Вдоль края этих жертвенников помещались скульптурные воспроизведения животных, шествия зверей, борьбы хищников и травоядных, сцены с включением людей и т.д. На Памире и в Южном Казахстане найдены мелкие ритуальные котелки с изображениями в виде грифона. Эти скульптурные фигурки отливались отдельно, а затем крепились к жертвеннику.
В необходимых случаях предмет подвергался проковке, для получения рельефных изображений проковка велась в форме (с лицевой или обратной стороны), использовались чеканка, гравировка и другие приемы. Рабочие края соответствующих инструментов и оружия (бронзового и железного) затачивались, для чего применялись специальные точила, изготовленные из абразивного камня. Получило развитие и ювелирное дело, особенно это ясно при изучении разного рода украшений. Бактрийские ювелиры, судя по находкам в храме Окса, владели даже такой сложной техникой, как клуазонне (перегородчатая эмаль: на поверхности золотой пластины с помощью вертикальной низкой золотой полоски очерчивались контуры изображений, а внутренность контуров заполнялась цветной глазурью), инкрустация и др.
Деревообделочное производство было также развито достаточно широко, причем как у оседлого, так и у кочевого населения. Дерево использовалось в строительстве, а иногда целиком из него строились погребальные камеры. Перекрытия зданий часто были деревянными и поддерживались деревянными же стойками или колоннами. Из этого материала изготовлялись двери, различные бытовые предметы, в том числе и повозки. В помещении на Калалыгыр 2 (Хорезм) найдены колеса двухколесной повозки. Колеса имели вид круглых деревянных дисков, каждый из которых был сбит из трех частей. Эти примитивные изделия, естественно, не имели спиц.
Обработка кости также была достаточно развитой. Наряду с изготовлением мелких костяных предметов вроде шильев, проколок, лощил и т.д. изготавливались и более крупные предметы. Вместе с тем привозившаяся из Индии слоновая кость использовалась в качестве материала в художественном ремесле и для изготовления произведений искусства. Так, из слоновой кости в Бактрии изготавливались великолепные ножны акинаков, на лицевой плоскости которых имелись целые рельефные композиции, а на бутероли — изображения в «зверином стиле». Судя по художественным особенностям и по иконографии изображения на ножнах акинака из храма Окса, мастер-художник был знаком с ахеменидски-ми традициями в искусстве. Для изготовления подобных ножен требовалось и незаурядное техническое мастерство и специальные инструменты, с помощью которых вырезалось и гравировалось рельефное изображение.
Камень употреблялся не только в строительстве, но и в быту. Каменные зернотерки, ступки, терочники служили для переработки сельскохозяйственной продукции, каменные формы — для отливки металлических изделий, каменные
лощила употреблялись при обработке (лощении) поверхности керамики; точила из абразивного камня — для заточки и т.д. Драгоценные камни подвергались ювелирной обработке, из них изготавливали, в частности, бусы, инкрустационные вставки и т.д.
Наиболее массовой была продукция гончаров. Гончарные изделия разных областей были похожими, но не идентичными. Остановимся на керамике ахеменидского времени оседлого населения Хорезма. Значительная ее часть была ремесленного производства, сосуды изготовлялись с применением гончарного круга. Для приготовления такой керамики с большей тщательностью подготавливали и перемешивали глиняное тесто, часто добавляли в него растертый в порошок песок или гипс. Готовый сосуд подсушивался, а затем покрывался ангобом — жидким раствором светлой или цветной глины, который имел как практическое назначение, заполняя поры в стенках, так и декоративное. Ангоб был светлого и красного цвета и наносился или только на наружную, или же на наружную и внутреннюю поверхности стенок сосудов. На некоторых светлоангобирован-ных сосудах на наружной стенке имеется роспись полосами красной краски. Сосуды, после основательной подсушки, подвергались обжигу в гончарных печах. Среди этих сосудов были хумы— крупные сосуды высотой до 1,20 м, служившие для хранения припасов (зерна и т.д.). Корпус их иногда был банкообразный, слегка выпуклый, в нижней части форма является конической (поэтому форму этих сосудов иногда определяют как цилиндроконическую). Наряду с крупными сосудами этого типа были и более мелкие, а также банки, тазы, сосуды типа кувшинов, горшки и др. Среди красноангобированных сосудов преобладали чаши, кубки, безручные кувшины и др. Керамика лепной работы была менее распространена. Она делалась из более грубого глиняного теста с примесями; изделия эти значительно более толстостенные — это котлы, горшки и др.
Керамика кочевого сакского населения была различной у разных племен и племенных объединений. В одних случаях она ремесленного производства и близка по формам к керамике соседних оседло-земледельческих племен и, может быть, была получена у них (Уйгарак), в других — исключительно ручной работы, но напоминающая керамику оседло-земледельческих племен (Тагискен). У кочевников восточной части Средней Азии была своеобразная лепная керамика не с плоским, а с выпуклым дном («круглодонная керамика»).
Следует также упомянуть ткачество. Прядение осуществлялось с помощью прясел, у которых на деревянный стержень одевался диск, изготовленный из керамики, алебастра или камня. О дальнейших процессах практически ничего не известно. Однако дошедшие до нас изображения представителей среднеазиатских народов свидетельствуют о весьма высоком уровне текстильного производства. Наряду с текстильным было развито и кожевенное производство, занятые в нем изготавливали обувь, предметы одежды, конскую упряжь и др.
Особой отраслью ремесла было изготовление оружия. Возможно, существовали специалисты-оружейники. Изделия оружейного производства отличались высоким качеством.
5. Религия
В предахеменидское и ахеменидское время на территории Средней Азии проживали почти исключительно ираноязычные племена и народы (хотя оставались отдельные островки носителей неиранских языков). Среди них были бактрийцы, хорезмийцы, согдийцы, парфяне, жители Ферганы и Ташкентского оазиса. Это были народы с оседлым образом жизни, развитым ирригационным земледелием, многочисленными городскими и сельскими поселениями, ремесленным производством, архитектурно-строительным делом. В степях и в горных долинах проживали кочевые племена, занимавшиеся скотоводческим хозяйством и ведшие кочевой образ жизни. К ним относятся разные племенные объединения местных скифов, носившие имя «сака», а также другой кочевой народ, который назывался «даха». Эти кочевые народы, как и оседлые, были иранцами.
У иранских народов был обширный комплекс верований, восходящих к более древнему индоиранскому религиозно-мифологическому комплексу предков иранцев. Круг древнеиранских верований послужил той почвой, на базе которой зародилась зороастрийская религия. Ее пророк Заратуштра (греки назвали его Зороастром) в своих проповедях (они составили Гаты, древнейшую часть Авесты) изложил основы новой религии, где основную роль играл верховный бог Ахура-мазда (приблизительно пер. «Господь Мудрость»). Когда и где это произошло — окончательно не установлено, но большинство ученых склоняются к мысли, что это случилось в VIII—VII вв. до н.э. в одной из областей Восточного Ирана и Средней Азии, а именно в Систане, Маргиане, Хорезме, Согде или в Бактрии. Возникнув, эта религия постепенно внедрилась в религиозный мир оседлых иранцев, хотя и не вытеснила полностью дозороастрийские древнеиранские верования. К середине I тыс. до н.э. в зороастрийской идеологии произошли значительные изменения, что нашло свое отражение в составленных тогда частях Авесты (Младшая Авеста), в частности в Яштах. В них нашли отражение многие религиозно-мифологические представления и культ различных божеств, которые не смог вытеснить монотеизм проповеди Заратуштры.
Сведения письменных источников о конкретных фактах среднеазиатского зороастризма в ахеменидскую эпоху незначительны. Очень важным является сообщение, что Артаксеркс II (404-358 гг. до н.э.) установил статуи одного из главных зороастрийских божеств— Анахиты в таких крупнейших центрах своего государства, как Вавилон, Сузы, Экбатаны, Персеполь, Дамаск, Сарды и Бактры.
Культ Анахиты среди бактрийцев был широко распространен. Продолжали они почитать это божество, даже находясь за пределами своей родины. Поселения бактрийцев были в Лидии (Малая Азия). Греческий поэт Диоген, живший во времена Артаксеркса II, в своих стихах воспевает бактрийских и мидийских девушек, которые в посвященных Анахите рощах благородного лавра воспевали богиню. Их пение сопровождалось игрой на струнных инструментах и, «согласно персидской манере», также звучанием флейт.
Полное имя этого женского божества— Ардви-Сура-Анахита. Первая часть имени, возможно, означает «влага» — название одной из крупнейших среднеази
атских рек — Амударьи; Сура — «сильная», Анахита — «незапятнанная», «чистая». Это богиня вод и плодородия.
О том, как представляли себе иранцы (в том числе и восточные) Анахиту, известно из Авесты, где есть специально посвященный ей яшт. В нем, в частности, богиня описывается следующим образом:
Она явилась зримо, Благая Ардви-Сура, Прекрасной юной девой, Могучею и стройной, Высокой и прямой, Блестящей, благородной, В нарядах с рукавами, Расшитыми золотом. Неся барсома прутья, Златой, четырехгранной, Красуется серьгой, И на прекрасной шее Надето ожерелье У родовитой Ардви, А талию стянула Она, чтоб грудь казалась Высокой и тугой. Надела диадему Благая Ардви-Сура Из шкур трехсот бобров (Яшт V, 126—129;
пер. И.М. Стеблина-Каменского).
Ардви-Сура-Анахита не только распорядительница вод. От нее зависели благополучная, полная изобилия жизнь, обилие скота и других богатств, а также победа в бою.
Наряду с Анахитой в Средней Азии почитались и другие, большие и малые, божества, однако конкретных данных об этом пока нет.
В это время в зороастризме возникает и развивается храмовый культ и строятся храмы. В месте слияния рек Вахш и Пяндж, там, где образуется Амударья, находится городище Тахти-Сангин. Здесь раскопан храм, построенный в самом конце IV — начале III в. до н.э., фактически на рубеже между ахеменидским и эллинистическим периодами. Этот храм, судя по греческой надписи, был посвящен божеству Окса (это греческое написание имени Вахшу — так называлась в древности река Амударья с ее притоками). Ряд элементов ранее эллинистического храма Окса являются ахеменидскими. Так, сохранившиеся в нем базы колонн состоят из двух частей: двухступенчатого квадратного основания — плинта и поставленного на него, отдельно изготовленного, торовидного элемента. Точно такие же базы колонн стояли во дворцах Ахеменидов в Пасаргадах, Персеполе, Сузах и в других ахеменидских сооружениях.
Еще важнее, что план храма Окса повторяет план храмов в Персеполе и Сузах, отличаясь от них лишь деталями. Однако храм Окса был построен не в ахе-
менидское время, а уже после падения Ахеменидов, скорее всего в самом конце IV — начале III в. до н.э. Почему же он следовал ахеменидским образцам? К тому же в храме Окса найдено оружие и произведения искусства, относящиеся к ахеменидскому времени, к VI-IV вв. до н.э. Добавим, что Амударьинский клад, где так много предметов VI-IV вв. до н.э., когда-то являлся частью этого храма. Согласно очень убедительной гипотезе, на городище Тахти-Сангин уже в ахеменидское время существовал храм, выстроенный в традициях иранской ахеменидской архитектуры. К концу IV — началу III в. до н.э. он обветшал, и греческие правители Бактрии распорядились выстроить новый храм, который повторил композиционную схему строго. В новый храм (его-то и раскопали археологи) были перенесены из сокровищницы старого храма многочисленные ценные предметы. Поэтому о старом храме ахеменидского времени можно судить, естественно, в общих чертах, по руинам более позднего храма.
Монументальное сооружение храма Окса состоит из большого четырехколонного квадратного зала (12x12 м), как и другие части сооружения, ориентированного строго по сторонам света. Стены имели толщину 3,4—4 м и высоту до 7 м и были на востоке, юге и севере рассечены проемами, причем главным был восточный проход. В северо-западной части зала была алтарная площадка с двумя основаниями для круглых алтарей. Этот центральный зал с юга, запада и севера был охвачен двумя рядами Г-образных коридоров, связанных проходами с центральным залом.
Центральный квадратный зал и обводные коридоры составляют композиционное ядро храма. Вход в храм был обращен на восток. Перед входом имелся портик, перекрытие которого поддерживали два ряда колонн (по четыре колонны в каждом ряду). Портик с севера и юга фланкировали боковые крылья здания. Каждое из них состояло из трех помещений. В одном из них, связанном проходом с портиком, сохранились алтари огня: большой центральный и маленькие — в углах помещения. Алтари и поверхность стен были насквозь прокалены, на полу была чистая зола.
Здание храма было обведено мощной стеной с монолитными башенными выступами. Пространство перед зданием образовывало обширный священный двор. Здесь, на одной оси с восточным входом в центральный зал, находятся широкие пропилеи, открывающиеся в сторону реки. Внутренняя поверхность восточной стены, по сторонам от пропилеев, облицована тщательно обработанными плитами песчаника.
Помещения с алтарями огня по зороастрийской терминологии называются атешгахами (букв, «место огня»). Таких атешгахов, как указывалось, было два. Из греческой надписи, найденной в храме, вытекает, что храм был посвящен божеству Вахшу — напомним, что так бактрийцы называли реку Амударью и ее притоки (это название сохранилось до современности в названии реки Вахш). Другой алтарь, вероятно, был посвящен Анахите. Эти два божества — Ардви-Сура-Анахита и Вахшу — по своим функциям очень близки, и божество Вахшу можно причислить к окружению Анахиты, оно олицетворяло одну его ипостась. Гипотеза о ритуальной принадлежности двух атешгахов соответственно божествам Вахшу и Анахите покоится на предположении, что в святилищах проводи
лось культовое почитание огней, связанных с близкими или однотипными божествами.
Отметим, что культ Анахиты был тесно связан с культом огня. Об этом мы располагаем многочисленными данными. Так, Витрувий сообщал, что персы прежде всего почитали Огонь и Воду (Vitruvius. De architectura, VIII, Praefatio). Согласно Страбону (XVI, 1, 4), в области Арбела есть город Деметрия, вблизи которого — источники нефти, подземные огни и святилище Аней (в других рукописях — Анаиты-Анахиты).
Во дворе храма был колодец. Именно отсюда бралась вода, наливавшаяся в каменные бассейны, которые были установлены во дворе и в колонном порти-ке-айване (выше при описании раскопок уже упоминалось о крупных фрагментах большой каменной ванны-бассейна, найденных в айване). В этих бассейнах верующий зороастриец осуществлял омовение, становясь ритуально чистым. После этого его путь лежал к портику, по сторонам которого располагались атешгахи со священным огнем. Обратившись в сторону священного огня, верующий выполнял целую серию ритуалов, произносил молитвы, делая примерно то, что делает и в наши дни парс в своем храме.
Небольшое помещение каждого атешгаха было практически темным, и лишь сполохи огня алтаря вырывали из темноты фигуру жреца в белом одеянии с повязкой, закрывающей нижнюю часть лица, повторявшего священные тексты и в определенное время пять раз в сутки подкладывавшего в строго установленном порядке сухие поленья. Перед этим он, произнося молитвы, специальной металлической ложкой удалял золу. Судя по сильно обожженной поверхности алтарей, огонь горел прямо на их верхней плоскости. В углах или недалеко от них находились малые алтари, также сильно обожженные. В храмах огня современных зороастрийцев такие боковые или угловые алтари отсутствуют. Конечно, в древности ритуал мог быть в своих деталях несколько иным, чем в новое время, и, скажем, в некоторых торжественных случаях возжигались дополнительные огни. Но возможно и другое. В последний час суток двумя жрецами осуществлялась специальная церемония по полному удалению золы с тлеющими угольками. В современных иранских зороастрийских храмах в стенах имеются специальные нишки-отверстия, куда складываются эта горячая зола и угольки. Может быть, в древности их высыпали на угловые (пристенные) алтари. Когда они оказывались «погребенными» под золой, зола сбрасывалась на пол атешга-хов, выносилась и погребалась в центральном зале и в айванном портике. Не исключено, что для ее погребения предназначались и отдельные участки двора.
В храме Окса забота о сохранности священной золы выступает в яркой и наглядной форме. В центральном зале, в его восточной трети, были симметрично расположены 20 зольных ям. Они имеют круглое или овальное в плане устье диаметром около метра и примерно такую же глубину. В ямах не было никаких находок помимо рыхлой золы серо-пепельного цвета, причем без каких-либо примесей. Обращает на себя внимание, что ямы были расположены вдоль восточной части зала — именно там помещался выход из зала в айван, по сторонам которого находились атешгахи.
Аналогичные зольные ямы располагались, несомненно, по всей площади храма. Несколько таких хранилищ было открыто в портике, причем в некоторых из них в золе находились и кости жертвенных животных (мелкий рогатый скот). Возможно, зола складировалась и в значительно более крупные ямы, типа открытых в теменосе— священном дворе цистерн с длиной стороны до 4,5 м. Иногда их стены были обложены сырцовым кирпичом. Помимо храма Окса такой способ хранения священной золы зафиксирован также в некоторых других древних святилищах огня.
Как явствует из сообщений письменных источников, зола алтаря огня обладала сакральной силой и должна была, естественно, располагаться внутри сакрального пространства, т.е. на территории храма.
Ритуал помещения золы алтарей огня внутри храма выступает в храме Окса в своей классической, «эталонной» форме.
В обоих атешгахах главные алтари огня находились не во внутренних помещениях, а в том помещении, которое было связано проходом с айванным портиком. При этом главные алтари храма Окса располагались на оси проходов, но пламя священного огня нельзя было видеть из портика. Дело в том, что пол атешгахов был на 0,75 м выше уровня пола портика, алтари были как бы «вознесены» и «парили» над остальной частью храма и над находящимися там верующими. Если принять во внимание и высоту алтарей, на верхней плоскости которых полыхал священный огонь, то при низком проеме сам огонь, быть может, из айвана не был виден. В реальности, как показали раскопки, проем был снабжен одной или, вероятно, двумя створками дверей, и сполохи священного огня были надежно отгорожены от посетителей храма, даже если они были благочестивыми зороастрийцами.
В новое время посещающий храм зороастриец (не жрец) также не мог лицезреть священный огонь.
В святилище огня выполнялись различные церемонии, в частности аташ захр — на священный огонь помещался жир жертвенного животного. В церемониях применялась, судя по практике современных зороастрийцев, различная ритуальная утварь: фиалы, киафы-половники, ступки с пестиками, барсом, опахала и др. Часть из них постоянно находилась в святилище, часть — в одном из двух смежных помещений, где также хранился запас сухих дров.
Достигнув айванного портика, верующий обращался к священному огню и выполнял, читая соответствующие молитвы, целую серию ритуалов и молитв.
В храме выполнялись и общинные религиозные церемонии, на которые собиралось множество людей. Центром этих церемоний был центральный четырехколонный зал с покрытыми алебастром белыми стенами. (Именно белый цвет характерен и для современных интерьеров храмов огня. Вместе с тем в Средней Азии в священных помещениях стены покрывались белой штукатуркой уже с эпохи бронзы.) В самом зале, в его северо-западном углу, был сооружен монументальный постамент из каменных блоков. Здесь находились поставленные рядом два каменных цилиндрических барабана, очевидно основания алтарей.
В современных иранских святилищах огня пол обычно вымощен булыжником — может быть, это наследие практики, возникшей в центральном зале храма Окса.
Во время некоторых торжественных церемоний общественного характера производилось поклонение священному огню. Однако этот огонь лицезреть могли лишь жрецы. Поэтому из атешгахов на круглые алтари, стоящие на алтарной площадке центрального зала, выносились и помещались в специальный металлический сосуд тлеющие угольки и горячая зола священного огня.
Изображения жрецов и верующих зороастрийцев известны из Амударьинско-го клада. Оттуда происходят две золотые статуэтки жрецов. Каждая из них представляет стоящего мужчину в высоком головном уборе, завершающемся гребнем. Лицо удлиненное с прямым небольшим носом. Нижняя часть лица закрыта повязкой (это обязательная принадлежность жреческого костюма, предохраняющая от осквернения дыханием священного огня). Жрец одет в узкий кафтан, на плечи накинут свободно висящий кафтан. У груди, в правой руке жрец держит баресман — пучок священных прутьев. Среди находок клада есть и фрагменты таких металлических прутьев — бронзовые и железные, покрытые листовым золотом.
Кроме того, в кладе есть около пятидесяти золотых пластин с изображением жрецов и верующих зороастрийцев.
Одна фигура является рельефной, причем идущий вправо мужчина держит перед собой баресман в виде расширяющегося вверх пучка длинных прутьев, а к поясу подвешен кинжал-акинак мидийского типа. Возможно, это вооруженный жрец. Абсолютное же большинство пластин плоские, с грубо выгравированным изображением мужчины, несущего в руках баресман.
Подавляющая часть изображений на золотых пластинах очень низкого художественного уровня. Совершенно ясно, что их изготавливали сами местные жители, следуя виденным ими в храме прекрасным изображениям, сделанным профессиональными художниками, при этом передавались не только общая схема и священный атрибут — баресман, но и детали одежды.
Есть также сообщения о погребальном обряде бактрийцев. Сохранился рассказ Онесикрита, спутника Александра Македонского. Этот рассказ включил в свой труд Страбон. Он писал, что в столичном городе Бактры жители содержат специальных собак, которые пожирают трупы умерших, поэтому там повсеместно валяются человеческие кости (Страбон, XI, 2, 3). Уже в древности было известно, что повествование Онесикрита содержит много преувеличений и небылиц, но вместе с тем в его рассказах имеются реальные факты. В этом случае можно доверять сообщению о содержании жителями Бактр специальных собак для поедания трупов. Это зороастрийский обычай. У зороастрийцев трупы в древности и в новое время помещались в специальные места (часто находившиеся на возвышении), которые были огорожены. Содержавшиеся там собаки или хищные птицы поедали или выклевывали плоть трупов, а затем, через определенное время, кости собирались и в более позднее время погребались в специальных сооружениях, очень часто в особых сосудах— оссуариях (костехрани-лищах). Эти зороастрийские обряды, точнее, их отдельные элементы, распространились примерно в это же время и в некоторых других частях Средней Азии. В окрестностях Хорезма погребение очищенных (но, вероятно, без выставления)
костей проводилось в сосудах бытового назначения. Позже появились специально изготовленные оссуарии в виде керамических ящиков.
Религия кочевых народов Средней Азии— это один из вариантов древнеиранской религии. Судя по данным погребального обряда, элементы зороастризма проникали и в религию кочевников, особенно непосредственно соседствовавших с оседлыми областями. Но вообще правоверный зороастриец религию кочевников воспринимал как нечто чуждое. О массагетах, одном из сакских племен, античные авторы писали, что они почитают богом солнце и приносят ему в жертву коней, посвящая светилу самых быстрых животных (Геродот, I, 216; Страбон, XI, 8, 6). Но и в Авесте есть такое выражение: «Мы молимся Солнцу, Бессмертному свету, чьи кони быстры» (Яшт 6, 1,4; пер. И.М. Стеблина-Каменского). Налицо параллелизм между сообщениями о религии массагетов и авестийскими верованиями. Авеста содержит и объяснение связи между божеством Солнца и конями: древние иранцы представляли себе движение солнца по небу в виде сверкающей повозки, в которую были запряжены небесные кони. Близкие верования были и у древних индийцев. Вообще, эти верования имеют индоевропейское происхождение.
Массагеты клялись «богом Солнца, владыкой массагетов» (Геродот, I, 212). Такая клятва сохранилась у некоторых ираноязычных жителей Памира (ваханцы, ишкашимцы, таджики и др.), а само солнце именуют термином, восходящим к имени Ахурамазды— верховного божества зороастризма. Причем клятва Солнцем (точнее, «головой солнца») у современных памирцев считается очень сильной. Возможно, эти представления об Ахурамазде— Солнце— реликт древних верований памирских саков (на Восточном Памире проживали в I тыс. до н.э. сакские племена).
У среднеазиатских саков был развит культ огня, тесно связанный с почитанием божества Солнца.
Хотя огонь почитался еще индоевропейцами и, позже, индоиранцами, лишь у иранцев, как это видно по памятникам зороастрийской религии, огонь имел столь важное и всеобъемлющее значение.
Верования, связанные с огнем в Авесте, во многом (но не во всем!) могут быть сопоставлены с огнем, называемым Агни в древнеиндийской религии. Однако в Авесте нет божества Агни, оно заменено другим божеством. Термин для «огня» в Авесте — это Атар. Он применяется как для обозначения огня вообще, так и в специальном смысле: священный огонь, жертвенный огонь и, наконец, огонь как божество — сын Ахурамазды.
В Гатах «огонь» носит эпитет «Красный Атар» и тесно ассоциирован с Аху-рамаздой. Огонь — сын Ахурамазды. Роль огня в повседневной жизни зафиксирована в Авесте — Атар, бог Огня, назван «домовладыкой всех домовладений». Он характеризуется как «пылающий», «красный» и т.д. В Авесте Атар носит, в частности, титул «сильный», «могущественный», причем он оказывает помощь благочестивому зороастрийцу, от него зависят все блага жизни: «Подари мне, о Атар, сын Ахурамазды, быстро счастье, крепкую защиту, богатую жизнь».
О распространенном в Бактрии почитании божества огня свидетельствует наличие бактрийских имен, в состав которых входило имя бога огня.
Разумеется, не Заратуштра изобрел культ огня— он был распространен у древних иранских кочевых (как и оседлых) народов задолго до возникновения зороастризма.
Так, у саков, живших в Семиречье, были бронзовые жертвенники. Кроме того, есть специальные курильницы. В нескольких случаях такие предметы впущены в могилы или же являлись составными элементами жертвенно-культовых обрядов, связанных с огнем. Эти обряды входили в погребальный цикл.
Очень существенно также, что в сакском погребальном обряде наряду с тру-поположением находили применение сожжение погребальных сооружений и кремация покойников. Следы такого культа известны по сакским погребениям Памира и Приаралья. Наиболее яркие материалы получены в Семиречье. В Бес-шатырском могильнике (о нем см. ниже) огромная насыпь первого кургана опоясана по внешнему краю кольцом из 94 каменных оградок. При раскопках выяснилось, что внутри каждой оградки горел огонь. Очевидно, в какой-то момент погребальной церемонии в каждой из оградок зажигался огонь, и покойник переходил в иной мир, окруженный сотней пылающих костров. Нет никакого сомнения, что это было связано с культом огня. Это кольцо огней могло выполнять двоякую функцию. С одной стороны, оно образовывало «огненный барьер», препятствующий душе покойника вернуться в мир живых. С другой стороны, поднимающееся вверх пламя костров помогало душе умершего вознестись к обители богов.
Мы упомянули об Ардви-Суре-Анахите и Атаре. Однако пантеон среднеазиатских зороастрийцев в ахеменидское время был несравненно шире. Во главе его стояло, как уже говорилось, верховное божество Ахурамазда. Вначале он создал шесть Амэша-Спэнта, которые являются его проявлениями и помощниками. Все вместе они покровительствуют всему живому и обеспечивают его благоденствие. Одним из важнейших божеств был Митра— божество договора. Вместе с тем он солнечное божество, сам прекрасный воин и покровитель праведных воинов. Также был распространен культ Вэртрагны, божества Войны и Победы, который мог воплощаться в вепря, быка, коня, верблюда и т.д. Несомненно, почитались и другие зороастрийские божества.
Существовала развитая мифология, опирающаяся на древнеиранские (и на индоиранские) представления и тесно связанная с религией. Так, у саков, как показывает анализ головных уборов, имелось представление о трехчастности мироздания, о наличии нижнего, среднего и верхнего миров. Древний историк Квинт Курций Руф сообщает, что сакские послы рассказывали Александру Македонскому, что их народу боги дали упряжку быков, плуг, копье, стрелу и чашу. Упряжка быков и плуг нужны были для пропитания, чаша— для возлияний богам, стрела и копье — для обороны от врагов (Курций, VII, 8, 17-18). Аналогичный мифологический сюжет был и у «европейских» скифов. Сакские послы, прибывшие к Александру, утверждали, что саки свято соблюдают любую договоренность, считая, что нарушение договора — это обман богов (Курций, VII, 8, 28-29). Вероятно, и в сакском пантеоне было божество договора, древнеиранский Митра.
Относительно погребального обряда саков имеется сообщение Ктесия, которое дошло до нас в передаче другого античного автора — Диодора. Он пишет о том, что саками одно время управляла отважная и мудрая царица Зарина. Она усмирила соседние племена и, кроме того, «привела большую часть страны в более возделанный вид, основала немало новых городов и вообще создала своему народу более счастливую жизнь». Соотечественники, в благодарность за все это, после смерти построили гробницу в форме огромной пирамиды. «Над гробницей возвели ее колоссальную золотую статую, воздали героические почести и всякие другие, более пышные, чем те, которые были оказаны ее предкам» (Диодор, II, 34, 1; пер. И.В. Пьянкова). Из этого текста, если исключить несомненные преувеличения, следует, что для выдающихся представителей аристократической верхушки саки возводили очень крупные погребальные сооружения, на которые ставили скульптурные изваяния, возможно, из драгоценных металлов. Имеются изваяния, но высеченные из камня у скифов, а также у саков Прикаспия; очень крупные погребальные сооружения сакского времени открыты археологами в Семиречье. Существенно, что в тексте Ктесия говорится также о каких-то погребальных обрядах.
Могильники саков известны в горах и на равнинных территориях. Они принадлежали разным племенным объединениям и очень отличались между собой. Могильники состоят из курганов — над захоронением насыпался холм (от совсем небольшого до огромного). Оно могло быть одиночным, парным (мужчина и женщина) или же там находилось несколько погребенных. Захоронение производилось в могиле, имеющей вид ямы или ямы с дромосом (вытянутым спуском в могилу). Во многих случаях на дне ямы устраивалась специальная погребальная камера со стенами из бревен или камня. Наряду с этим совершались погребения на тогдашней поверхности, причем нередко покойник помещался в погребальную постройку, которая сооружалась из жердей и веток, часто такие постройки сжигались. Известны и значительно более капитальные деревянные наземные постройки. Вблизи погребенного часто находят следы тризны. Забота о покойнике проявлялась в разной форме: он клался в одежде и обуви на специальную подстилку, устраивались изголовья, могилы имели деревянный настил и т.д. В погребение помещали различные предметы, которые должны были служить покойнику в ином мире. Это были различные жертвенники, ритуальные котелки, мужчинам клали оружие, женщинам — зеркала и всякого рода украшения. В погребениях обычно есть керамика, а также бронзовые сосуды, предметы конской упряжи, ножи, шилья и т.д. В сакских погребениях Средней Азии было много предметов искусства, особенно связанных со «звериным стилем», для которого характерны сочетание реализма со значительной условностью. Саки прекрасно знали звериный мир, облик и повадки животных, которых они изображали как в покое, так и часто в движении, в борьбе травоядных и хищников. Нередко животные изображались в таких позах и ракурсах, которые не встречаются или невозможны в жизни, для этого выделяли (в преувеличенном виде) отдельные, обычно характерные, части тела. Порой вместо изображения фигуры животного или птицы воспроизводилась лишь голова или клюв. В целом это совершенно своеобразное искусство, привлекающее своей экспрессией и выразительностью.
Курганы сакской эпохи иногда поражают свой величиной и сложностью конструкции. Обычно это «царские» курганы, содержащие захоронения представителей высшей знати того или иного племени. Таким являлся Бесшатырский могильник, расположенный в среднем течении р. Или. Среди курганов есть большие (диаметром до 100 м при высоте до 17 м), средние и малые. Они окружены каменными кольцами. Под сложной каменно-щебневой многослойной засыпкой находились усыпальницы, возведенные на поверхности земли. Это бревенчатые конструкции, состоящие из трех частей: коридора-дромоса, вестибюля, небольшой подквадратной камеры. Стены состояли из отесанных бревен, горизонтально уложенных между зажимающими их врытыми в грунт вертикальными столбами. Перекрытие — накат из бревен, а затем камышовые маты. Бесшатырские курганы являлись настоящими, притом сложными, архитектурными сооружениями, для возведения которых потребовалась огромная затрата труда.
Представление о пышности и богатстве погребений в «царских» курганах дает курган из могильника Иссык, расположенного в 50 км восточнее города Алматы. Он состоит из больших курганов (диаметром до 90 м). В одном из них (диаметр насыпи 60 м, высота— 6 м) под насыпью имелись два погребения. Центральное было полностью ограблено, но боковое не было обнаружено древними грабителями и сохранилось полностью. В яме находилась погребальная камера, стены которой состояли из обработанных деревянных бревен, а пол был дощатым. В камере лежал на спине костяк погребенного мужчины. Покойник был положен в могилу одетым в свой парадный костюм с головным убором и обувью, с мечом и кинжалом. Он был одет в короткий подпоясанный кафтан, под которым находилась нательная рубашка. И рубашка и кафтан были сплошь покрыты золотыми бляхами. Столько же богато были украшены и штаны. На голове был очень высокий головной убор с четырьмя стрелами по бокам. На головном уборе в три яруса располагались золотые украшения, что, вероятно, отражало сакские представления о трехчастности мироздания. Особенно эффектно выглядело украшение, находившееся в основании убора,— это обращенные в противоположные стороны протоми двух рогатых коней, соединенные общим туловищем с двумя крыльями. Головной убор увенчивала статуэтка горного барана — архара. Баран являлся одним из олицетворений Фарна — божества царской судьбы и счастья.
Сверкающий золотом костюм погребенного создавал иллюзию, что это не останки земного человека, а «золотой человек», небожитель, перешедший в иной мир. Кроме того, в камере находились бытовые вещи, в том числе большая и малая серебряные чаши, бронзовая чаша, серебряная ложка, много керамических сосудов. Все это отражало сакские верования, восходящие к индоиранскому религиозно-мифологическому прошлому.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Как и в первом томе настоящего издания («История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Часть первая. Месопотамия. М., 1983. С. 494-514; Часть вторая. Передняя Азия. Египет. М., 1988. С. 584—605), настоящая библиография включает в себя работы, посвященные основным проблемам, затронутым в соответствующих главах книги.
Глава 1
Литература, посвященная хараппской цивилизации и связанным с ней проблемами, огромна. Результаты полевых исследований и интерпретации обнаруженных памятников публикуются в различных периодических изданиях: в Индии— «Ancient India», «Pura-tattva», «Indian Archaeology — A Review», в Пакистане — «Pakistan Archaeology», «Ancient Pakistan». C 1971 г. в разных странах выходят материалы международного конгресса по археологии Южной Азии (South Asian Archaeology), значительная часть которых так или иначе связана с хараппской цивилизацией, ее предшественниками и преемниками. Результаты исследований письменности и культуры хараппской цивилизации нашли отражение в серии «Сообщение об исследовании протоиндийских текстов» (М., 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1981), издававшейся группой отечественных исследователей, работавших под руководством Ю.В. Кнорозова.
В отечественной науке систематически проблемами древнейшей истории Индийского субконтинента занимались археологи, этнологи, историки, филологи. Специально хараппской цивилизации посвящена монография М.Ф. Альбедиль «Протоиндийская цивилизация», М., 1994. Постоянно обращаются к ее памятникам исследователи, работающие в Туркменистане. Следует упомянуть статьи и разделы в монографиях В.М. Массона «Средняя Азия и древний Восток», М.-Л., 1964, и «Первые цивилизации», Л., 1989, монографию А.Я. Щетенко «Первобытный Индостан», Л., 1979. Неоднократно к проблемам
хараппской цивилизации обращался Г.М. Бонгард-Левин (помимо многочисленных статей см. монографии: Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Древняя Индия: Исторический очерк. М., 1969; они же. Индия в древности. М., 1985; Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. М., 2000). До сих пор сохраняет значение сборник трудов Международного симпозиума по этническим проблемам истории Центральной Азии во II тыс. до н.э., содержащий материалы как отечественных, так и зарубежных исследователей («Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности (II тысячелетие до н.э.)», М., 1981). В результате совместных работ индийских и отечественных исследователей был опубликован сборник «Древние культуры Средней Азии и Индии», Л., 1984 (Материалы советско-индийского семинара 1982 г. в Аллахабаде).
Большое внимание отечественных исследователей привлекают памятники II тыс. до н.э. в Пакистане и Северо-Западной Индии, материалы которых обнаруживают признаки сходства с найденными на территории Туркменистана, Афганистана, Таджикистана. Эти признаки позволяют говорить об этнокультурных контактах между обитателями отдаленных регионов (работы Б.А. Литвинского, Е.Е. Кузьминой, В.И. Сарианиди, Н.М. Виноградовой).
Весьма велико число зарубежных монографий. Мы приведем лишь основные и относящиеся к последним десятилетиям издания: Agrawal D.P. The Copper-bronze Age in India. New Delhi, 1971; Allchin B., Allchin R. The Birth of Indian Civilization. Baltimore, 1968; Chakrabarti D.K. (ed.). Essays in Indian Protohistory. Delhi, 1979; Dani A.H. (ed.). Indus Civilization. New Perspectives. Islamabad, 1981; Fairservis W. The Roots of Ancient India. N. Y., 1971; Possehl G.L. (ed.). Ancient Cities of the Indus. New Delhi, 1979; Khan FA. Architecture and Art Treasure in Pakistan. Karachi, 1969; Piggott S. Prehistoric India. Baltimore, 1950; Sankalia H.D. From Food Collection to Urbanization in India. Bombay, 1962; Sankalia H.D. Prehistory and Protohistory of India and Pakistan. Poona, 1974; Subbarao B. The Personality of India. Baroda, 1958; Wheeler M. Early India and Pakistan to Asoka. L., 1959; Wheeler M. Civilization of the Indus Valley and Beyond. N. Y., 1966; Weeler M. The Indus Civilization. Cambridge, 1968.
Глава 2
Атхарваведа. Избранное. Пер. Т.Я. Елизаренковой. М., 1976; Брихадараньяка упанишада. Пер. А.Я. Сыркина. М., 1964 (Памятники литературы народов Востока. Тексты. V); Махабхарата. Т. 1-5, 7-11. М.-Л., 1950-1998; Ригведа. Мандалы I—IV. Пер. Т.Я. Елизаренковой. М., 1989; Ригведа. Мандалы V—VIII. Пер. Т.Я. Елизаренковой. М., 1995; Ригведа. Мандалы IX-X. Пер. Т.Я. Елизаренковой. М., 1999; Упанишады. Пер. А.Я. Сыркина. М., 1967 (ППВ, XVI) (2-е изд.— 2000 г., 3-е изд.— 2003 г.); Чхандогья упанишада. Пер. А.Я. Сыркина. М., 1965 (ППВ, VI); Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., 1985; Гринцер ПА. Древнеиндийский эпос. Генезис и типология. М., 1974; Древние культуры Средней Азии и Индии. Л., 1984; Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986; Елизаренкова ТЛ. Слова и вещи в Ригведе. М., 1999; Кейпер Ф.БЛ. Труды по ведийской мифологии. М., 1986; Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? М., 1994; Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1-2. М., 1980; Норман Браун У. Индийская мифология. — Мифологии древнего мира. М., 1977; Огибенин БЛ. Структура мифологических текстов Ригведы (ведийская космогония). М., 1968; Пандей Р.Б. Древнеиндийские домашние обряды. М., 1982; Семенцов В.С. Проблемы интерпретации брахманической прозы. Ритуальный символизм. М., 1981; Сыркин АЛ. Некоторые проблемы изучения упа-нишад. М., 1971; Шарма Р.Ш. Древнеиндийское общество. М., 1987; Щетенко АЛ.
Древнейшие земледельческие культуры Декана. Л., 1968; Эрман В,Г. Очерк истории ведийской литературы. М., 1980; Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности (II тысячелетие до н.э.). М., 1981.
Глава 3
Приведенный ниже список литературы не носит исчерпывающего характера и ограничен лишь перечнем книг, доступных широкому читателю: Васильев К.В. Планы сражающихся царств (Исследования и переводы). М., 1968; он же. Истоки китайской цивилизации. М., 1998; Васильев Л.С. Аграрные отношения и община в древнем Китае. М., 1961; он же. Проблемы генезиса китайской цивилизации. Формирование основ материальной культуры и этноса. М., 1976; он же. Проблемы генезиса китайского государства. Формирование основ социальной структуры и политической администрации. М., 1983; он же. Древний Китай. Т. I. М., 1995; Го Мо-жо. Эпоха рабовладельческого строя. М., 1956; он же. Бронзовый век. М., 1959; Итс Р.Ф. Этническая история юга Восточной Азии. Л., 1972; Кашина Т.И. Керамика культуры Яншао. Новосибирск, 1977; Крюков В.М. Ритуальная коммуникация в древнем Китае. М., 1997; Крюков М. В. Формы социальной организации древних китайцев. М., 1967; он же. Язык иньских надписей. М., 1973; Крюков М.В., Софронов М.В., Че-боксаров Н.Н. Древние китайцы: проблемы этногенеза. М., 1978; Кульпин Э.С. Человек и природа в Китае. М., 1990; Кучера С. Китайская археология 1965-1974 гг.: палеолит — эпоха Инь. М., 1977; он же. Древнейшая и древняя история Китая. Древнекаменный век. М., 1996; Переломов Л.С. Империя Цинь — первое централизованное государство в Китае. М., 1962; Книга правителя области Шан. Пер. с кит., вступ. ст. и коммент. Л.С. Перело-мова. М., 1968 (ППВ, XX); Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 1981; Рубин В А. Идеология и культура древнего Китая. М., 1970; Серкина А А. Опыт дешифровки древнейшего китайского письма (Надписи на гадательных костях). М., 1973; она же. Символы рабства в древнем Китае. М., 1982; Степугина Т.В. Первые государства в Китае. — История древнего мира. Т. I. М., 1982; она же. «Древнейший Китай», «Китай во второй половине I тысячелетия до х.э. — первые века христианской эры», «Культура древнего Китая». — Главы в: История Востока. Т. I. Восток в древности. М., 1997; Яншина Э.М. Формирование и развитие древнекитайской мифологии. М., 1984; The Cambridge History of China. Vol. 1. The Ch’in and Han Empires 221 B.C.-A.D. 220. Ed. by D. Twitchett and M. Loewe. Cambridge, 1986; Chang Kwang-chih. The Archaeology of Ancient China. 2nd rev. ed. New Haven, 1971; Chang Kwang-chih. Early Chinese Civilization: Anthropological Perspectives. Cambridge (Mass.) — London, 1976; Chang Kwang-chih. Shang Civilization. New Haven-London, 1980; Chang Tsung-tung. Der Kult der Shang Dynastie im Spiegel der Orakelinschriften. Eine pal^ographische Studie zur Religion im archaischen China. Wiesbaden, 1970; Cheng Te-k’un. Archaeology in China. Vol. 1. Prehistoric China. Cambridge, 1959; idem. Archaeology in China. Vol. 2. Shang China. Cambridge, 1960; idem. Archaeology in China. Vol. 3. Chou China. Cambridge, 1963; idem. New Light on Prehistoric China. Cambridge, 1966 (Archaeology in China. Supplement to volume 1); Erkes E. Das Problem der Sklaverei in China. B., 1952; Franke O. Geschichte des chinesischen Reiches. Bd. 1. B., 1930; Gernet J. Ancient China. From the Beginnings to the Empire. L., 1968; Karlgren B. Yin and Chou in Chinese Bronzes. Yin and Chou Researches. Stockholm, 1936; Keightley D.N. Sources of Shang History. The Oracle-bone Inscriptions of Bronze Age of China. Berkeley-Los Angeles, 1978; Maspero H. La Chine antique. P., 1927; The Origin of Chinese Civilization. Ed. by D. Keightly. Berkeley-Los Angeles-London, 1983; Rawson J. Ancient China: Art and Archaeology. L., 1980; Tsien Т.Н. Written on Bamboo and Silk: The Beginnings of Chinese Books and Inscriptions. Chicago, 1962.
Глава 4
В XX в. монографические работы по истории Новоассирийского периода не издавались, как, впрочем, и по истории Ассирии в целом. Интересующиеся этой проблематикой могли обращаться лишь к книге Olmstead А.Т. History of Assyria. N. Y.-L., 1923, а также к различного рода «Всемирным историям» и «Историям Древнего Востока», из которых выделяется Cambridge Ancient History (переиздается с исправлениями и дополнениями по сей день). Основные известные уже в первой половине XX в. издания ассирийских царских надписей уже упоминались в предыдущем томе нашего издания. Что касается издания других официальных и частноправовых документов и писем, то здесь следует упомянуть грандиозную работу Johns C.H.W. Assyrian Deeds and Documents. Vol. I-IV. Cambridge, 1898-1911, и работу того же автора An Assyrian Doomsday Book. Lpz., 1901 (т.н. «Харранский реестр»). На основе первой из них была издана книга Kohler J., Ungnad А. Assyrische Rechtsurkunden. Lpz., 1913. Четырнадцать томов официальной переписки были изданы в оригинале (Harper R.F. Assyrian and Babylonian Letters. Chicago, 1892-1914) и в переводах (Waterman L. Royal Correspondence of the Assyrian Empire. Ann-Arbor, 1930-1936). Все эти издания были весьма несовершенны, содержали немало ошибок, но сыграли очень важную роль в изучении истории Новоассирийского периода. Среди наиболее важных работ, основанных на этих изданиях и до сих пор сохранивших большое значение, необходимо упомянуть Forrer Е. Die Provinzeinteilung des Assyrischen Reiches. Lpz., 1921, и особенно Дьяконов И.М. Развитие земельных отношений в Ассирии. Л., 1949. Перед Второй мировой войной и особенно после нее развитие ассириологии резко ускорилось. Появились большие словари и очень важный для исследователей справочник Reallexikon der Assyriologie (к настоящему времени вышло девять томов, издание продолжается). Интенсивные раскопки принесли много новых текстов, издававшихся в специальных журналах, и других находок. В последние же десятилетия Новоассирийский период вновь привлек большое внимание исследователей и началась работа по переизданию уже ранее публиковавшихся текстов на основе тщательной сверки их с оригиналами и столь же тщательному изданию вновь найденных текстов. Для этой цели созданы и очень успешно работают международные проекты The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Assyrian Periods (Toronto, Buffalo, London) и Annual Review of the Royal Inscriptions of Mesopotamia Project (Toronto); State Archives of Assyria (Helsinki) и State Archives of Assyria, Bulletin (Padua), уже издавшие множество монографий, сборников и журналов. К сожалению, работа по переизданию царских надписей дошла только до издания надписей Тиглатпаласара 111. Изданы новые переводы юридических документов: Kwasman Th. Neo-Assyrian Legal Documents in the Kouyunjik Collection of the British Museum. Studia Pohl, Series Major 14. Roma, 1988, и новые переводы писем: Parpola S. Letters from the Assyrian Scholars to the Kings Esarhaddon and Assurbanipal (c 1970 г.), а также новый перевод «Харранского реестра»: Fales F.M. Censimenti e catastri di epoca neo-assira. Roma, 1973. Появился ряд монографий, рассматривающих те или иные экономические и социальные аспекты этого периода, и среди них прежде всего следует отметить работу Postgate J.N. Taxation and Conscription in the Assyrian Empire. Studia Pohl, Series Major 3. Roma, 1974, а также работу Mayer W. Politik und Kriegskunst der Assyrer. MUnster, 1995. Наконец, очень важным и совершенно новым направлением в ассириологии является исследование истории создания и редактирования царских надписей, представленное работами X. Тад мора (Н. Tadmor) и других авторов. Ниже перечислены лишь наиболее важные и наиболее свежие работы. Необходимо иметь в виду, что все указанные здесь и выше работы сами содержат обширную и в совокупности почти исчерпывающую библиографию.
Боржак И. Возникновение и отголоски легенды о Семирамиде. — Древний Восток 3. Ер., 1978; Якобсон В А. Подати и повинности в Новоассирийской державе.— Подати и повинности на Древнем Востоке. СПб., 1999; он же. «Свободные» в Ассирии. — ВДИ, № 1, 1976; он же. Цари и города в древней Месопотамии. — Государство и социальные структуры на древнем Востоке. М., 1989; Ben-Barak Z. The Queen Consort and the Struggle for Succession to the Throne. — La femme dans le Proche-Orient Antique. P., 1987 (RAI 33), p. 33-40; Borger R. Kdnig Sanheribs EheglUck. — ARRIM 6. 1988, S. 5-11; Cogan M., Tad-mor H. Ashurbanipal’s Conquest of Babylon: The First Official Report—Prism K.— Or 50. 1981, p. 229-240; Frahm E. Einleitung in die Sanherib-Inschriften. — AfO, Beiheft 26. 1997, S. 1-20; idem. Sanherib und die Tempel von Kuyundjk.— Fs. R. Borger. Cuneiform Monographs 10. Groningen, 1998, S. 107-121; Frame G., Grayson A.K. An Inscription of Ashurbanipal Mentioning the Kidinnu of Sippar.— SAAB 8, 1. 1994, p. 3-11; Garelli A, Lemaire A. Le Proche-Orient asiatique. T. 2. P., 2001, p. 43, 72; Grayson A.K. Assyrian Expansion into Anatolia in the Sargonic Age (p. 744-650 B.C.).— RAI 34. Ankara, 1998, p. 130-135; idem. Assyrian Officials and Power in the Ninth and Eighth Centuries. — SAAB 7, 1. 1993, p. 19-51; idem. Assyrian Rule of Conquered Territory in Ancient Western Asia.— Sasson J.M. (ed.). Civilisations of the Ancient Near East. Vol. II, 1995, p. 959-968; idem. The Struggle for Power in Assyria. — Kazuko Watanabe (ed.). Priests and Officials in the Ancient Near East. Heidelberg, 1999, p. 253-270; idem. Studies in Neo-Assyrian History II: The Eighth Century B.C. — Coorolla Torontosiensis. Studies in Honor of Ronald Morton Smith. Toronto, 1994, p. 73-82; Magen U. Assyrische Konigsdarstellungen—Aspekte der Herrschaft. Eine Typologie. — BaF 9. Mainz, 1986; Maul S.M. Die orientalische Hauptstadt—Abbild und Nabel der Welt. — Die orientalische Stadt: Kontinuitdt, Wandel, Bruch. Saarbrilcken, 1997 (CDOG 1), S. 109-124; Mayer W. Politik und Kriegskunst der Assyrer. — Abhandlungen zur Literatur Alt-Syrien-Paldstinas und Mesopotamiens. Bd. 9. MOnster: Ugarit-Verlag, 1995; idem. Sargon H’s Feldzug gegen Urartu—714 v. Chr. Text und Ubersetzung. 1983, S. 65-132 (MDOG 115); Novak M. Die orientalische Residenzstadt. Funktion, Entwicklung und Form. — Die orientalische Stadt: Kontinuittlt, Wandel, Bruch. CDOG 1. Saarbrilcken, 1997, S. 168-197; ParpolaS. Assyrians after Assyria. — Journal of the Assyrian Academic Society. Vol. 12/2. 2000, p. 1-16; Pongratz-Leisten B. INA SULM1 TRUB. Die kulttopographische und ideologische Program-matik der аН/м-Prozession in Babylonien und Assyrien im 1. Jahrtausend v. Chr. Mainz, 1994; Postgate J.N. Ancient Assyria—A Multi-racial State. — ARAM Periodical. Vol. 1. No. 1. 1989, p. 1-10; Steiner R.C., Nims C.F. Ashurbanipal and Shamash-Shum-Ukin: A Tale of Two Brothers from the Aramaic Texts in Demotic Scripts. — Revue biblique 92, 1. 1985, p. 60-81; Tadmor H. Propaganda, Literature, Historiography: Cracking the Code of the Assyrian Royal Inscriptions— Parpola S., Whiting R.M. Assyria, 1995. Helsinki, 1997, p. 325-338; idem. Rab-saris and Rab-shakeh in 2 Kings 18. — Essays in Honor of D. N. Freedman. Philadelphia, 1983, p. 279-285; idem. The Inscriptions of Tiglath-Pileser III, King of Assyria. Jerusalem, 1994; idem. World Dominion: The Expanding Horizons of the Assyrian Empire.— RAI 44, Pt I, p. 55-62; Tadmor H., Landsberger B., Parpola S. The Sin of Sargon and Sennacherib's Last Will.— SAAB 3, 1. 1989; Vera Chamasa G.W. Der VIII. Feldzug Sargons. Eine Untersuchung zu Politik und historischer Geographic des spMten 8. Jhs. v. Chr. (I). — AMI 27. 1997, S. 235-266; idem. Sargon Il’s Ascent to the Throne: The Political Situation. — SAAB 6, 1. 1992, p. 21-33; Yamada Sh. The Editorial History of the Assyrian King List. — ZA 84, p. 11-37; ZablockaJ. Stosunki agrame w panstwe Sargonidow. Poznan, 1971.
Глава 5
Аджян АЛ.^Гюзалъян Л.Т., Пиотровский Б.Б. Крепости Армении доурартского и урартского времени.— Проблемы истории материальной культуры. Л., 1933, с. 5-6; Арутюнян Н.В. Земледелие и скотоводство Урарту. Ер., 1964; он же. Хорхорская летопись Ар-гишти I.— ЭВ, вып. VII, 1953; Атлас Армянской ССР. Ер.-М., 1961, карта 102 [Ере-мян С.Т.]; Асмангулян АЛ. Против гипотезы о двуприродности армянского языка. — ВЯ, вып. 6, 1953; Бациева С.М. Борьба между Ассирией и Урарту за Сирию.— ВДИ, №2, 1958; Грантовский ЭЛ. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М., 1970; Дунаевская И.М. Язык хеттских иероглифов. М., 1969; Дьяконов И.М. (ред.). Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту. — ВДИ, № 2-4, 1951; он же. История Мидии. М.-Л., 1956; он же. К вопросу о судьбе пленных в Ассирии и Урарту. — ВДИ, № 1, 1952; он же. Некоторые данные о социальном устройстве Урарту. — Проблемы социально-экономической истории древнего мира. Сб. памяти А.И. Тюменева. М., 1963; он же. Последние годы урартского государства. — ВДИ, № 2, 1951; он же. Предыстория армянского народа. Ер., 1962; он же. Урартские письма и документы. М.-Л., 1963; он же. Хетты, фригийцы и армяне. — Переднеазиатский сборник, [вып. I]. М., 1961; Еремян С.Т. К вопросу об этногенезе армян. — ВИ, № 7, 1952; Исраелян МЛ. Исторический Армавир по урартским надписям (дис.). Ер., 1948; она же. Аринбердский храм «суси» и его надписи. — Изв. АН Арм. ССР, вып. 9, 1957; Казанский Б.В. Историческое значение хеттского (иероглифического) и финикийского текстов надписи Кара-Тепе. — Древний мир. Академику В.В. Струве. М., 1962; Максимова М.И. Античные города юго-восточного Причерноморья. М.-Л., 1956; Меликишвили ГЛ. Древневосточные материалы по истории народов Закавказья. I. Наири-Урарту. Тб., 1954 (рец.: И.М. Дьяконов, ВДИ, № 2, 1956); он же. К вопросу о хет-то-цупанийских переселенцах в Урарту. — ВДИ, № 2, 1958; он же. К вопросу о царских хозяйствах и рабах-пленниках в Урарту. — ВДИ, № 1, 1953; он же. К истории древней Грузии. Тб., 1959; он же. Урартские клинообразные надписи. 2-е изд. М., 1960 (дополнение: ВДИ, № 3-4, 1971); Оганесян К. Арин-берд (Ганли-тапа) — урартская крепость города Ирпуни. — Изв. АН Арм. ССР, вып. 8, 1951; он же. Архитектура Тейшебаини. — Кар-мир-блур, IV, Ер., 1955; Пиотровский Б.Б. Археология Закавказья. Л., 1949; он же. Ван-ское царство. М., 1959; он же. Искусство Урарту. Л., 1962; он же. О происхождении армянского народа. Ер., 1946; Сорокин В.С. Древние поселения у Кармир-блура (автореф. дис.). Л., 1955; Шеворошкин В.В. Лидийский язык. М., 1967; Шлеев В.В. Урартские крепости Закавказья и проблема их изучения (автореф. дис.). М., 1954; Янковская Н.Б. Некоторые вопросы экономики ассирийской державы. — ВДИ, № 1,1956; Akurgal Е. Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander. B., 1961; idem. Phrygische Kunst. Ankara, 1955; idem. Spathethitische Bildkunst. Ankara, 1949; Barnett R.D. The Excavations of the British Museum at Toprak-Kale, near Van.— Iraq, XII, 1, 1956; idem. Karatepe, the Key to the Hittite Hieroglyphs.— Anatolian Studies. III. L., 1953; idem. Mopsos.— JHS, 73 (1953); idem. Phrygia and the Peoples of Anatolia in the Iron Age. — Cambridge Ancient Histoiy, I—II, Rev. ed., fasc. 56. Cambridge, 1967; idem. Some Contacts between Greek and Oriental Religions. — EORGA 1958. P., 1960; idem. The Treasure of Ziwiye. — Iraq, XVIII. L., 1956; Burney СЛ. Urartian Fortresses and Towns in the Van Region. — Anatolian Studies, VI. L., 1957; Diako-noff l.M. Hurrisch und UrartSisch. MUnchen, 1971; Dupont-Sommer A. Les inscriptions агатёеп-nes de Sfire. P., 1958; Eremyan S.T. Hayeri c’elayin miout’youne Arme-Soupria erkroum. — Patma-banasirakan handes (Историко-филологический журнал), 1958, 3; Forrer E. Die Provinzeinteilung des Assyrischen Reiches. L., 1921; Friedrich J. Chalder oder Urartaer.— ZDMG, XC, 1 (1936); idem. Kleinasiatische Sprachdenkmaier. B., 1932; Gusmani. Studi frigi.— Rendiconti dell’Istituto Lombardo, XC1I-XCIII. Milano, 1959; Haas O. Die
phrygischen SprachdenkmUler. Sofia, 1966 (пользоваться критически); Hanfrnan G.MA. Lydiaka. Cambridge (Mass.), 1958; Houwink ten Kate P.HJ. The Luwian Population Groups of Lycia and Cilicia Aspera during the Hellenistic Period. Leiden, 1961; Heubeck A. Lydiaka. Erlangen, 1959; Kapancyan GA. Ourartoui patmout’youn. Erevan, 1940; Konig F.W. Handbuch der chaldischen Inschriften. I-II. Graz, 1955-57 (пользоваться критически); Lake К. Vanda yapilan halfiyat, 1928.— Turk Tarih Arkeologya ve Etnografye Dergisi, IV, Ankara, 1940; Landsberger B. Sam’al. — Turk Tarih Kurumu Yayilarindan, VII/16. Ankara, 1948; Laroche E. Les hidroglyphes hittites, I. P., 1960; idem. Koubaba, d£esse anatolienne, et le probldme des origines de Cybdle. — EORGA 1958, P., 1960; Lehmann-Haupt C.F. Armenien einst und jetzt, I. B., 1910; idem. Materialien zur Ulteren Geschichte Armenians und Mesopotamiens. B., 1907; Luckenbill D.D. Ancient Records of Assyria and Babylonia, II. Chicago, 1927; Mellink M. Archeology in Asia Minor (серия статей в AJA); idem. The City of Midas. — Scientific American, 201, 1959; idem (ed.). Dark Ages and Nomads c. 1000 B.C. Istanbul, 1964; Neuman G. Untersuchungen zum Weiterleben des hethitischen und luwischen Sprachgutes... Wiesbaden, 1961; Otto H. Die amerikanischen Ausgrabungen am Burgfelsen von Van. — AoF, XIV, 1-2, 1941; Ozgiic T. Altmtepe, I—III. Ankara, 1966-69; Pallotino M. Urartu, Greece and Etruria.— East and West, IX, 1-2. Roma, 1958; Salvini M. Nairi e Ur(u)atri. Roma, 1967; Streck M. Die heutigen Landschaften Armenien, Kurdistan u. Westpersien nach den bab.-ass. Keilschriften. — ZA, XI1I-XIV (1898-99); Thureau-Dangin F. Une relation de 1’huitieme campagne de Sargon II. P., 1912; Unger E. Urartu.— Reallexikon der Vorgeschichte, ed. Ebert, XIV, s.v., 1928; Wiseman DJ. Chronicles of the Chaldaean Kings in the British Museum. L., 1956; Young R.S. Bronzes from Gordion’s Royal Tombs. — Archaeology, 11 (1958); idem. The Gordion Tomb.— Expedition, 1958, 1; idem. Phrygian Construction and Architecture, I-II. — Expedition, 1960, 2; 1962, 4.
Глава 6
Ahlstrbm G.W. The History of Ancient Palestine. Sheffield/Minneapolis (1993),21994; Albertz R. Die Exilszeit: 6. Jahrhundert v. Chr. Biblische EnzyklopUdie (hrsg. W. Dietrich und W. Stege-mann), Bd. 7. Stuttgart-Berlin-KOln, 2001; Albertz R. Religionsgeschichte Israels in altestament-licher Zeit, Bd. 1: Von den AnfSngen bis zum Ende der KOnigszeit. Bd. 2: Vom Exil bis zu den Makkab&em. Grundrisse zum Alten Testament. Gottingen, 1992; Albright W.F. From the Stone-Age to Christianity. Baltimore (1940), 21957; idem. The Biblical Period from Abraham to Ezra. N. Y., 1963; Bautz FJ. (Hrsg.) Geschichte der Juden. Von der Biblischen Zeit bis zur Gegenwart. MUnchen, 1983; Beek MA. Geschichte Israels. Von Abraham bis Bar Kochba. Bd. 47. Stuttgart (1961),51993; Ben-Sasson H.H. (ed.). History of the Jewish People. London-Cambridge (Mass.), 1976; Bock S. Kleine Geschichte des Volkes Israel. Von den Anftngen bis in die Zeit des Neuen Testamentes. Mit einer Einleitung von Norbert Lohfink. Freiburg, 1989; Bright J. A History of Israel. Philadelphia (1960), 31981 (нем. изд.: Geschichte Israels. Von den Anftngen bis zur Schwelle des Neuen Bundes. DUsseldorf, 1966); Bruce F.F. Israel and the Nations. Exeter 1963; Castel F. L’Histoire d’Israel et de Juda. P., 1983 (англ, изд.: Castel F. The History of Israel and Judah in the Old Testament Times. Mahwah, 1985); Cazelles H. Histoire politique d’Israel & Alexandre le Grand. P., 1982; Clauss M. Geschichte Israels, von der Fruhzeit bis zur Zerstttrung Jerusalems (587 v. Chr.). MUnchen, 1986; Davies P.R. In Search of “Ancient Israel”. Sheffield, 1992; Dietrich W. Die friihe KOnigszeit in Israel. 10. Jahrhundert v. Chr. — Biblische EnzyklopUdie (hrsg. W. Dietrich und W. Stegemann), Bd. 3. Stuttgart-Berlin-Koln, 1997; Donner H. Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbam. Grundrisse zum Alten Testament. Gottingen, Bd. I: 1984, Bd. II: 1985 (21995); Ehrlich E. N Concise History of Israel from the Earli
est Times to the Destruction of the Temple in AD 70. L.-N. Y., 1962/1965; Eph'al I. (ed.). The History of Eretz Israel. I. Introduction. The Early Period. Jerusalem, 1982; Fohrer G. Geschich-te Israels. Von den Anf&ngen bis zur Gegenwart. Heidelberg (1977), 41985; Fritz V. Die Entste-hung Israels im 12. und 11. Jahrhundert v. Chr.— Biblische EnzyklopMdie (hrsg. W. Dietrich und W. Stegemann), Bd. 2. Stuttgart-Berlin-K61n, 1996; Garbini G. Storia ed Ideologia nell’Israele Antico. Brescia, 1984 (англ, изд.: History and Ideology in Ancient Israel. L., 1988); Garelli P., Nikiprowetzky V. Le Proche-Orient asiatique: Les empires m6sopotamiens; Israel. — Nouvelle Clio, 1’Histoire et ses probldmes, Bd. 2 bis. P., 1974; Grant M. The History of Ancient Israel. L.-N. Y., 1984 (нем. версия: Grant M. Das Heilige Land. Geschichte des Alten Israel. Bergisch Gladbach, 1985); Gunneweg A.HJ. Geschichte Israels bis Bar Kochba. Von den Anftn-gen bis Bar Kochba und von Theodor Herzl bis zur Gegenwart. — Theologische Wissenschaft, Bd. 2. Stuttgart (1972), 61989; Hayes J.H., Miller J.M. (eds). Israelite and Judaean History. Philadelphia-London, 1977; idem. A History of Ancient Israel and Judah. Philadelphia, 1986; Herrmann S. Geschichte Israels in alttestamentlicher Zeit. MUnchen (1973), 21980 (англ, изд.: A History of Israel in the Old Testament Times. Rev. ed. London-Philadelphia, 1981); Jager-sma J. Geschiedenis van Israel in het oudtestamentische tijdvak. Kampen, 1979 (англ, изд.: A History of Israel in the Old Testament Period. London-Philadelphia, 1983); idem. History of Israel to Bar Kochba. L., 1999; Kinet D. Geschichte Israels. Wiirzburg, 2001; Lemaire A. Histoire du peuple ЬёЬгеи. P., 1981; Lemche N.P. Ancient Israel. A New History of Israelite Society. Transl. from the Danish. Sheffield, 1988; idem. Die Vorgeschichte Israels. Von den AnfMngen bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts v. Chr.— Biblische EnzyklopMdie (hrsg. W. Dietrich und W. Stegemann), Bd. 1. Stuttgart-Berlin-K6ln, 1996 (англ, изд.: Prelude to Israel’s Past: Background and Beginning of Israelite History and Identity. N. Y., 1998); Mazar B. et al. (eds). The World History of the Jewish People. London-Cambridge (Mass.), 1964-1984; Metzger M. GrundriB der Geschichte Israels. Neukirchen (1963), 91994; Michaud R. De I’entrde en Canaan 4 1’exil en Babylone. P., 1982; Noth M. Geschichte Israels. Gottingen (1950), 61966 (англ, изд.: The Histoiy of Israel. L.-N. Y., 21960); Orlinsky H.M. Ancient Israel. Ithaca, N. Y., 21960; Schoors A. Die KOnigreiche Israel und Juda im 8. jund 7. Jahrhundert v. Chr. Die assyrische Krise. — Biblische Enzyklop&die (hrsg. W. Dietrich und W. Stegemann), Bd. 5. Stuttgart-Ber-lin-K61n, 1998; Shanks H. (ed.). Ancient Israel: A Short History from Abraham to the Destruction of the Temple. Wash., 1988; Soggin J A. Storia d’Israele. Dalle origini a Bar Kochba. Con due appendici di Diethelm Conrad e Haim Tadmor. Brescia, 1984 (англ, изд.: A Histoiy of Israel: From die Beginning to the Bar Kochba Revolt, A.D. 135. London-Philadelphia, 1984-1985; нем. изд: EinfUhrung in die Geschichte Israels und Judas. Von den UrsprUngen bis zum Aufstand Bar Kochbas. Darmstadt, 1991); Thompson T.L. Early History of the Israelite People. From the Written and Archaeological Sources. — Studies in the History of the Ancient Near East, vol. IV. Leiden (1992), 21994; idem. The Mythic Past. Biblical Archaeology and the Myth of Israel. L., 1999; Vaux R. de. Histoire ancienne d’Israel. Dds origines 4 Г installation en Canaan. P., 1971; La Periode des Juges. P., 1973 (англ, версия: The Early History of Israel. London-Philadelphia, 1978).
Глава 7
Политическая история Вавилонии, начиная с послекасситского периода (XII в.) до VII в., известна лишь в самых общих чертах. В основном наши сведения об этом периоде исходят из списков вавилонских и ассирийских царей, исторических хроник, большей частью кратких и стереотипных царских надписей, сообщающих о сооружении храмов, строительстве дорог и мостов, о посвящении в храмы золотой и серебряной утвари и т.д. Кроме
того, надписи ассирийских царей сообщают о военных конфликтах с Вавилонией. О войнах халдейских племен с ассирийцами достоверные сведения содержатся в письмах и донесениях ассирийских воинов и лазутчиков в Вавилонии, адресованных ассирийскому царю (см.: Waterman L. Royal Correspondence of the Assyrian Empire, I-IV. Ann Arbor, 1930-1931; часть этих текстов переиздана по новой колляции и с обстоятельным комментарием в ряде томов серии международного проекта State Archives of Assyria, целью которого является публикация всех сохранившихся новоассирийских текстов; см. особенно тома I, V, XIV, XVII. Helsinki, 1987, 1990, 2001, 2003). Сохранилось также некоторое количество частноправовых вавилонских документов и грамот о даровании царем освобождения от податей своим воинам и чиновникам (см.: King L.W. Babylonian Boundary-Stones and Memorial-Tablets in the British Museum. L., 1912). Политическая история Вавилонии XII—VIII вв. обстоятельно рассмотрена в кн.: Brinkman JA. A Political History of Post-Kassite Babylonia, 1138-722 B.C. Roma, 1968. Там же даны подробный обзор источников и их перечень. См. также: Brinkman JA. Prelude to Empire. Babylonian Society and Politics, 747-626 B.C. Philadelphia, 1984; Fischer Weltgeschichte. Die Altorientalischen Reiche. Bd. 4. Die erste Halfte des 1. Jahrtausends. Frankfurt am Main, 1967; The Cambridge Ancient History, 3d ed., vols. II, III, Cambridge, 1973-1991. История Вавилонии за 689-627 гг. до н.э. обстоятельно исследована в труде: Frame G. Babylonia 689-627 B.C. A Political History. Leiden, 1992. Начиная co времени царствования Набу-нацира (747 г.), вавилоняне стали вести систематические записи значительных событий по годам. Затем по этим погодным записям составляли более или менее подробные хроники с изложением важнейших исторических событий. Из этих текстов пока обнаружены и изданы хроники от 745-668, 626-623, 616-595 и 556-538 гг. до н.э. Благодаря вавилонским хроникам мы теперь сравнительно хорошо знаем исторические события, связанные с падением Ассирии и возвышением Нововавилонской державы, завоеваниями Навуходоносора И и Нергал-шар-уцура и покорением Месопотамии персами. Нововавилонские хроники собраны и изданы в кн.: Smith S. Babylonian Historical Texts Relating to the Capture and Downfall of Babylon. L., 1924; Wiseman DJ. Chronicles of Chaldaean Kings (626-556 B.C.) in the British Museum. L., 1961; Grayson A.K. Assyrian and Babylonian Chronicles. Chicago, 1974 (Texts from Cuneiform Sources, 5). Сохранились также царские надписи, в которых иногда упоминаются важные исторические события, и таблички со списками царей и датами их правления. См.: Frame G. Rulers of Babylonia. From the Second Dynasty of Isin to the End of Assyrian Domination (1157-612 B.C.). Toronto, 1995 (свод надписей, составленных в вавилонских городах от имени новоассирийских царей); Langdon S. Die neubabylonischen Konigsin-schriften. Lpz., 1912 (книга является сводом нововавилонских царских надписей). См. также: Berger P.-R. Die neubabylonischen Kdnigsinschriften. Neukirchen-Vluyn, 1973 (Alter Orient und Aites Testament, 4/1) (этот труд по существу является обстоятельным введением к предполагаемому новому изданию нововавилонских царских надписей). Вопросы о войнах вавилонян с ассирийцами в последний период существования Ассирийской державы многократно рассматривались в научной литературе. См. особенно: Wiseman DJ. Chronicles of Chaldaean Kings; Zawadzki S. The Fall of Assyria and Median-Babylonian Relations in Light of the Nabopolassar Chronicle. Eburon-Delft, 1988 (см. там же подробный перечень литературы). О многовековой традиции, сложившейся вокруг имени Набонида, см.: Аму-син ИД. Кумранский фрагмент «молитвы» вавилонского царя Набонида. — ВДИ, № 4, 1958, с. 104-117. Начиная с VIII в. появляется также сравнительно много хозяйственных текстов. С образованием Нововавилонской державы в 626 г. до н.э. начинается обильный поток письменных источников: до нас дошло много тысяч хозяйственно-административных и частноправовых документов (уже издано более 20 тыс. таких текстов). Содержание их очень разнообразно: долговые расписки, закладные, контракты о продаже, аренде
и дарении земли, домов и другого имущества, о найме рабов и скота, об обучении ремеслам, квитанции об уплате податей, документы о международной торговле, протоколы процессов, описи различных вещей, переписка официального характера и письма с семейными новостями и т.д. Кроме того, сохранились фрагменты законов, художественные произведения, медицинские, астрономические, математические и религиозные тексты, словари-билингвы, географические карты, подорожники, планы домов и т.д. К настоящему времени более 3000 хозяйственных и частноправовых документов, а также писем официального и частного характера переведены на западные языки, а несколько сотен текстов также и на русский. См.: Augapfel J. Babylonische Rechtsurkunden aus der Regierungszeit Artaxerxes I. und Darius II. Wien, 1917; Ebeling E. Neubabylonische Briefe aus Uruk, I-IV. B., 1930-1934; idem. Neubabylonische Briefe. MUnchen, 1949; Kohler J., Reiser F.E. Aus dem babylonischen Rechtsleben, I-IV. Lpz., 1890-1898; Kohler J., Ungnad A. Hundert ausgewdhlte Rechtsurkunden. Lpz., 1911; Moore E.W. Neo-Babylonian Business and Administrative Documents. Ann Arbor, 1935; San Nicolo M. Babylonische Rechtsurkunden des ausgehenden 8. und des 7. Jahrhunderts v. Chr. MUnchen, 1951; San Nicolo M., Ungnad A. Neubabylonische Rechts- und Verwaltungsurkunden. Bd. I. Lpz., 1929-1935. San Nicolo M., Petschow H. Babylonische Rechtsurkunden aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. MUnchen, 1960; Дандамаев MA. Рабство в Вавилонии VII-IV вв. до н.э. М., 1974. Кроме того, в музейных коллекциях хранятся еще десятки тысяч неопубликованных документов нововавилонского времени. Этот документальный материал даст в будущем возможность восстановить повседневную жизнь вавилонян почти во всех существенных деталях. Однако необходимо отметить, что для изучения столь обильного материала еще предстоит сделать многое, и пока в научной литературе насчитывается лишь немного книг, посвященных различным проблемам нововавилонского общества (вопросы хронологии и просопографии, залоговое право, деятельность предпринимательских домов, рабство, положение ремесленников, храмовые земледельцы и т.д.). Нововавилонские законы изданы, переведены и исследованы в работах: Дьяконов И.М. (ред.). Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства. 4.2. XII (Нововавилонские судебные решения).— ВДИ, №4, 1952, с. 309-311; Driver G.R., Miles J.С. The Babylonian Laws. Vol. II. Oxf., 1955, p. 324-347; Petschow H. Das neubabylonische Gesetzesfragment. — Zeitschrift der Savigny-Stiftung fiir Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung, Bd. 76, 1959, c. 37-96; Szlechter J. Les lois ndo-babyloniennes.— Revue Internationale des Droits de I’Antiquite, 3-e sdrie, t. XVIII, 1971, p. 43-107; t. XIX, 1972, p. 43-127; Roth M. Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor. Atlanta, 1995, p. 143-149. Общий очерк политической и социально-экономической истории, а также детальное исследование проблем рабства и исчерпывающую литературу предмета см. в т.\ Дандамаев МА. Рабство в Вавилонии VII—IV вв. до н.э. М., 1974. О хронологии см.: Parker RA., Dubberstein W.B. Babylonian Chronology. 626 B.C.-A.D. 75. Providence, 1956. Залоговое право обстоятельно исследовано в кн.: Petshow Н. Neubabylonisches Pfandrecht. В., 1956. О предпринимательских домах Эгиби, Нур-Сина и Мурашу см.: Мартиросян А А. Деловой дом Эгиби. Ер., 1989; Wunsch С. Die Urkunden des babylonischen Geschaftsmannes Iddin-Marduk (Cuneiform Monographs, vols 3 a, b). Grdningen, 1993; idem. Das Egibi-Archiv. Groningen, 2000 (Cuneiform Monographs, vols 20 a, b); Weingort S. Das Haus Egibi in neubabylonischen Rechtsurkunden. B., 1939; Cardascia G. Les Archives des Mura$u. P., 1951. Положение ремесленников рассмотрено в кн.: Weisberg D.B. Guild Structure and Political Allegiance in Early Achaemenid Mesopotamia. New Haven-London, 1967; о сельском хозяйстве см.: Cocquerillat D. Palmeraies et cultures de ГЁаппа d’Uruk (559-520). B., 1968. О городах Вавилоне и Уре см.: Unger Е. Babylon, die heilige Stadt, nach der Beschreibung der Babylonier. B., 1970; Woolley L., Mallow an M.E.L. Ur Excavations, vol. IX. The NeoBabylonian and Persian Periods. L., 1962.
Глава 8
Алиев И.Г. История Мидии. Баку, 1960; Грантовский ЭЛ. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М., 1970; он же. Страны Иранского нагорья и юга Средней Азии в первой половине I тысячелетия до х.э. Мидийское царство. Авеста. Зороастризм. — История Востока. Т. I, гл. XVI. М., 1997; Дандамаев МЛ. Политическая история Ахеменидской державы. М., 1985; Дандамаев МЛ., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. М., 1980; Дьяконов И.М. История Мидии от древнейших времен до конца IV в. до н.э. М.-Л., 1956; Луконин В.Г. Искусство древнего Ирана. М., 1977; Медведская И.Н. Бывали ли ассирийцы в Экбатане?— В ДИ, №2, 1995; она же. О скифском вторжении в Палестину. — ВДИ, № 2, 2000; она же. Заключение по дискуссии. — РА, № 1,1994; она же. Дейок, Фраорт и хронология мидийской династии. — ВДИ, № 2, 2004; Раевский Д. С. К толкованию числовых данных в древних исторических свидетельствах.— Живая старина, № 3, 1997; Фрай Р. Наследие Ирана. М., 1972; Brown S. The Medikos Logos of Herodotus and the Evolution of the Median State. — Kuhrt A., Sancisi-Weerdenburg H. (eds). Achaemenid History III: Method and Theory. Leiden, 1988; Cavaignac E. A propos du dёbut de Phistoire des Mddes.— JA. 1961, t. 249, №2; Cobbe H.M.T. Alyattes’ Median War.— Hermathena, 1967, no. CV; Diakonoff I.M. Media.— CHI. Vol. 2, ch. 3. Cambridge, 1985; Drews R. The Fall of Astyages and Herodotus’ Chronology of the Eastern Kingdoms.— Historia. 1969. Bd. XVIII; Grayson A.K. Assyrian and Babylonian Chronicles (TCS, V). Locust Valley (N. Y.), 1975; idem. Assyrian Rulers of the Early First Millennium ВС II (858-745 BC). — RIMA 3. Toronto-Buffalo-London, 1996; Helm P.R. ‘Herodotus’ Medikos Logos and Median History. — Iran. Vol. 19, 1981; Fuchs A., Parpola S. The Correspondence of Sargon II. Pt III. — SAA. 15. Helsinki, 2001; Lanfranchi G.B., Parpola S. The Correspondence of Sargon 11. Pt II.— SAA. 5. Helsinki, 1990; Labat R. Ka&ariti, Phraorte et les d£buts de Phistoire Mdde.— JA. 1961. T. 249, № 1; Levine L.D. Two Neo-Assyrian Stelae from Iran. — Occasional Paper 23. Art and Archaeology. Royal Ontario Museum. [Toronto], 1972; Liverani M. The Medes at Esarhaddon’s Court.— JCS. 1995, 47; Medvedskaya LN. Media and its Neighbors 1: The Localization of Ellipi.— I A. 1999, XXXIV; Sancisi-Weerdenburg H. The Orality of Herodotus’ Medikos Logos or: the Median Empire Revisited. —Sancisi-Weerdenburg H., Kuhrt A., Root M.C. (eds). Achaemenid History VIII: Continuity and Change. Leiden, 1994; idem. Was there ever a Median Empire?— Kuhrt A., Sancisi-Weerdenburg H. (eds). Achaemenid History III: Method and Theory. Leiden, 1988; Starr I. Queries to the Sungod.— SAA. 4. Helsinki, 1990; Tadmor H. The Inscriptions of Tiglath-pileser III, King of Assyria. Jerusalem, 1994; Zawadzki S. The Fall of Assyria and Median-Babylonian Relations in Light of the Nabopolassar Chronicle. Poznafi-Delft, 1988.
Глава 9
Абаев В.И. Скифо-сарматские наречия. — Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М., 1979; он же. Культ «семи богов» у скифов.— Древний мир. Сборник статей академика В.В. Струве. М., 1962; Акишев КА. Курган Иссык. Искусство саков Казахстана. М., 1978; Алексеев А.Ю. Скифская хроника (Скифы в VII—IV вв. до н.э.: историко-археологический очерк). СПб., 1992; Алексеев А.Ю., Качалова Н.К., Тохтасьев С.Р. Киммерийцы: этнокультурная принадлежность. СПб., 1993; Алексеев А.Ю., Мурзин В.Ю., Ролле Р. Чертомлык (скифский царский курган IV в. до н.э.). Киев, 1991; Артамонов М.И. Сокровища скифских курганов в собрании Гос. Эрмитажа. Ленинград-Прага, 1966; он же. Сокровища саков. М., 1973; Бонгард-Левин Г.М., Грантовский ЗА. От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история. Изд. 3-е. СПб., 2001; Вишневская О А. Культура
сакских племен низовьев Сырдарьи в VH-V вв. до н.э. по материалам Уйгарака. М., 1973 (Труды Хорезмской экспедиции, т. 8); Гаврилюк НА. История экономики степной Скифии VI—III вв. до н.э. Киев, 1999; Галанина Л.К. Келермесские курганы. «Царские» погребения скифской эпохи. М., 1997; Граков Б.Н. Скифы. М., 1971; Грантовский ЗА. Проблемы изучения общественного строя скифов. — ВДИ, № 4, 1980; он же. Иран и иранцы до Ахеменидов. Основные проблемы. Вопросы хронологии. М., 1998; Грач АД. Древние кочевники в центре Азии. М., 1980; Грязнов МЛ. Аржан. Царский курган раннескифского времени. Л., 1980; он же. Древнее искусство Алтая. Л., 1958; Грязнов М.П. Первый Пазы-рыкский курган. Л., 1950; Иванчик А.И. Киммерийцы. Древневосточные цивилизации и степные кочевники в VIII—VII веках до н.э. М., 1996; Ильинская В А., Тереножкин А.И. Скифия VII—IV вв. до н.э. Киев, 1983; Итина МА., Яблонский Л.Т. Саки Нижней Сырдарьи (по материалам могильника Южный Тагискен). М., 1997; Латышев В.В. Известия древних писателей, греческих и латинских, о Скифии и Кавказе. Т. 1-2. СПб., 1890-1906; Литвинский БА. Древние кочевники «Крыши мира». М., 1972; Маргулан АХ., Акишев КА., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. А.-А., 1966; Мурзин В.Ю. Происхождение скифов: основные этапы формирования скифского этноса. Киев, 1990; Переводчикова Е.В. Язык звериных образов. Очерки искусства евразийских степей скифской эпохи. М., 1994; Погребова М.Н., Раевский Д.С. Ранние скифы и древний Восток. М., 1992; Полосьмак Н.В. Всадники Укока. Новосибирск, 2001; Раевский Д.С. Очерки идеологии скифо-сакских племен. М., 1977; он же. Модель мира скифской культуры. М., 1985; Ростовцев М.И. Скифия и Боспор. Критическое обозрение памятников литературных и археологических. Л., 1925; Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.-Л., 1953; он же. Древнейшие в мире художественные ковры и ткани из оледенелых курганов Горного Алтая. М., 1968; Смирнов КФ. Сав-р о маты. Ранняя история и культура сарматов. М., 1964; Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1989 (Археология СССР); Степная полоса азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992 (Археология СССР); Тереножкин А.И., Мозо-левский Б.Н. Мелитопольский курган. Киев, 1988; Хазанов А.М. Социальная история скифов. М., 1975; Черненко Е.В. Скифо-персидская война. Киев, 1984; Черников С.С. Загадка золотого кургана. М., 1965; Членова НЛ. Происхождение и ранняя история племен татарской культуры. М., 1967; она же. Центральная Азия и скифы. I. Дата кургана Аржан и его место в системе культур скифского мира. М., 1997; Яблонский Л.Т. Саки Южного При-аралья (археология и антропология могильников). М., 1996; Яценко И.В. Скифия VII-V вв. до н.э. М., 1959 (Труды ГИМ, вып. 36); Dumezil G. Romans de Scythie et d’alentour. P., 1978; Scythian Art. The Legacy of the Scythian World Mid 7th to 3rd Century B.C. Leningrad, 1986; Ghirshman R. Tombe princidre de Ziwiye et le d£but de Part scythe. P., 1979; Godard A. Le tresor de Ziwiye (Kurdistan). Haarlem, 1950.
Глава 10
Труды общего характера: Дандамаев МА., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. М., 1980; Дандамаев МА. Политическая история Ахеменидской державы. М., 1985; Дьяконов М.М. Очерк истории древнего Ирана. М., 1961; Фрай Р. Наследие Ирана. М., 1972 (2-е изд. — 2002 г.); Briant Р. Histoire de 1’Empire perse. De Cyrus 4 Alexandre. P., 1996; Cambridge Ancient History. Vol. IV. The Persian Empire and the West. Cambridge, 1969; Cook J.M. The Persian Empire. L., 1983; Culican W. The Medes and Persians. L., 1965; Ehtecham M. L’lran sous les Achdm£nides. Fribourg, 1946; Fischer Weltgeschichte. Die alto-rientalischen Reiche. Bd. 5. Griechen und Perser. Frankfurt am Main, 1965; Ghirshman R. Iran from the Earliest Times to the Islamic Conquest. Bungay: Penguin Books, 1961; Herzfeld E.
The Persian Empire. Studies in Georgraphy and Ethnography of the Ancient Near East. Wiesbaden, 1968; Meyer E. Geschichte des Altertums. Dritter Teil. Das Perserreich und die Griechen. Stuttgart, 1958; Olmstead A. T. History of the Persian Empire. Chicago, 1948.
Ранняя история персов очень скупо отражена в источниках и известна главным образом по отрывочным упоминаниям в надписях ассирийских царей. См. подробно: Дьяконов И.М. История Мидии. М.-Л., 1956; он же. Восточный Иран до Кира.— История иранского государства и культуры (к 2500-летию иранского государства). М., 1971, с. 122-154; Алиев И. История Мидии. Баку, 1970; Грантовский ЗА. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М., 1970; он же. О распространении иранских племен на территории Ирана. — История иранского государства и культуры (к 2500-летию иранского государства). М., 1971, с. 286-327; Cameron G.G. History of Early Iran. N. Y., 1936; Hinz ИС Persis.— Paulys RealencyclopMdie der klassischen Altertumswissenschaft. Stuttgart, 1971, p. 1022-1026 (там же приводится и литература). О начальном периоде царствования Кира II и его войнах с мидийцами довольно подробный рассказ содержится в труде Геродота. См. детальный анализ персидско-мидийских войн в работах: Дьяконов И.М. История Мидии. М.-Л., 1956, с. 413-420; Алиев И. История Мидии. Баку, 1960, с. 50-556; Пьянков И.В. Борьба Кира II с Астиагом по данным античных авторов.— ВДИ, 1971, №3, с. 16-37. О захвате Вавилонии Киром сообщают «Цилиндр Кира» и «Хроника Набонида-Кира». Оба документа составлены по распоряжению Кира вавилонскими жрецами на аккадском языке. Сообщения Геродота о войне персов с Вавилонией сильно расходятся с клинописными источниками и менее достоверны. См. подробно: Дандамаев МА. Иран при первых Ахеменидах. М., 1963, с. 106-113. Египетские тексты, рассказывающие о захвате Египта персами, собраны в кн.: Posener G. La premiere domination perse en Egypte. Caire, 1936. Политическая история Египта V1I-1V вв. до н.э. подробно изложена в кн.: Kienitz F.K. Die politische Geschichte Agyptens vom 7. Bis zum 4. Jarhundert vor der Zeitwende. B., 1953. О перевороте Гауматы и последующем захвате власти Дарием, а также о начальном периоде царствования Дария подробно сообщают Бехистунская надпись, Геродот и другие античные авторы Эти источники исследованы в работах: Струве В.В. Этюды по истории Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии. Л., 1968; Дандамаев МА. Иран при первых Ахеменидах. М., 1963. Подробному и, за исключением некоторых деталей, вполне достоверному рассказу о греко-персидских войнах мы обязаны труду Геродота. Из прочих исследований см.: Fischer Weltgeschichte. Bd. 5. Griechen und Perser. Frankfurt am Main, 1965, p. 42-69; Burn F.R. Persia and the Greeks, the Defence of the West, c. 546-478 B.C. L., 1970. Политическая и дипломатическая история Ахеменидской державы в V-IV вв. известна почти исключительно из трудов Геродота, Ксенофонта, Ктесия, Диодора и других античных авторов, см.: Olmstead А.Т. History of the Persian Empire. Chicago, 1948. О войне Александра Македонского с персами см.: Briant Р. Alexandre le Grand. Р., 1974. О государственном управлении, административном и частном праве, а также об экономике в различных сатрапиях Ахеменидской державы см.: Bresciani Е. La satrapia d’Egitto. — Studi classici e orientali, VII, 1958, p. 132-188; Seidl E. Agyptische Rechtsgeschichte der Saiten- und Perserzeit. Gluckstadt, 1968; Yaron R. Introduction to the Law of the Aramaic Papyri. Oxf., 1961; Muffs Y. Studies in the Aramaic Legal Papyri from Elephantine. Leiden, 1969; Porten B. Archives from Elephantine. Berkeley and Los Angeles, 1968; Galling K. Studien zur Geschichte Israels im persischen Zeitalter. Tubingen, 1964; Cardascia G. Les Archives des МигаЗй. P., 1951; Petschow H. Neubabylonisches Pfandrecht. B., 1956; Stol-per M.W. Entrepreneurs and Empire. The MuraSu Archive, the MuraSu Firm, and Persian Rule in Babylonia. Leiden, 1985. Исключительно богатые данные о царском хозяйстве и его работниках в Иране содержатся в документах архивов из Персеполя на эламском языке. См.: Cameron G.G. Persepolis Treasury Tablets. Chicago, 1948; Hallock R.T. Persepolis
Fortification Tablets. Chicago, 1969. См. также: Дандамаев МЛ. Новые документы царского хозяйства в Иране (509-494 гг. до н.э.). — ВДИ, № 1, 1972, с. 3-27; он же. Работники царского хозяйства в Иране в конце VI — первой половине V в. до н.э. — ВДИ, № 3, 1973, с. 3-26. Ахеменидские царские надписи и их переводы см.: Kent R.G. Old Persian. Grammar, Texts, Lexicon. New Haven, 1953; Weissbach W.H. Die Keilinschriften der Achame-niden. Lpz., 1911; Schmitt R. The Bisitun Inscriptions of Darius the Great. Old Persian Text. L., 1991 (Corpus Inscriptionum Iranicarum, vol. I, Texts I); von Voigtlander E.N. The Bisitun Inscription of Darius the Great. Babylonian Version. L., 1978 (Corpus Inscriptionum Iranicarum, vol. II); Greenfield J.C., Porten B. The Bisitun Inscription of Darius the Great. Aramaic Version. L., 1982 (Corpus Inscriptionum Iranicarum, vol. V); Schmitt R. The Old Persian Inscriptions of Naqsh-i Rustam and Persepolis. L., 2000 (Corpus Inscriptionum Iranicarum, vol. I, Texts II). Основные издания арамейских документов ахеменидского времени (вместе с их переводами): Aime-Giron M.N. Textes aramdens d’Egypte. Le Caire, 1931; Cowley A. Aramaic Papyri of the Fifth Century B.C. Oxf., 1923; Driver G.R. Aramaic Documents of the Fifth Century B.C. Oxf., 1965; Kraeling E.G. The Brooklyn Museum Aramaic Papyri. New Documents of the Fifth Century B.C. from the Jewish Colony at Elephantine. L., 1969. Bee арамейские документы ахеменидского времени переизданы и переведены в серии книг: Porten В., Yardeni A. Textbook of Aramaic Documents from Ancient Egypt. Vol. 1-4. Jerusalem, 1986-1999. О сборниках переводов вавилонских хозяйственных и частноправовых документов см. в гл. «Нововавилонская держава». Об археологии и культуре ахеменидского Ирана см.: Vanden Berghe L. Archdologie de 1’Iran ancien. Leiden, 1959; Hinz W. Zarathustra. Stuttgart, 1961; Nylander C. lonians in Pasargadae. Uppsala, 1970; Porada E. Alt-Iran. Die Kunst in vorislamischer Zeit. Baden-Baden, 1962; Schmidt E.F. Persepolis, I. Structures. Reliefs. Inscriptions. Chicago, 1953; idem. Persepolis, II. Contents of the Treasury and Other Discoveries. Chicago, 1957; idem. Persepolis, III. The Royal Tombs and Other Monuments. Chicago, 1970; Walser G. Die Vdlkerschaften auf den Reliefs von Persepolis. B., 1966.
Глава 11
Общие работы: Луконин В.Г. Искусство древнего Ирана. М., 1977; Дандамаев МЛ., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. М., 1980; Никулина Н.М. Искусство Ионии и Ахеменидского Ирана (по материалам глиптики V-IV вв. до н.э.). М., 1994; Farkas A. Achaemenid Sculptures. Leiden, 1974 [рец.: Porada Е. The Art Bulletin. 1976, 58,4, p. 612-613; Calmeyer P. 7Л, 1977, 67, S. 299-308; Muscarella O.W. BASOR, 1976, 223, p. 71-72]; Frankfort H. Achaemenian Sculpture.— AJA, 1946, 50, 1, p. 6-14; Ghirshman R. La civilisation achdmdnide et 1’Urartu. — Locust’s Leg. Studies in honour of S.H. Tagisadeh. L., 1962, p. 85-88; Jacoby F. Die Fragmente der griechischen Historiker. Teil I. Berlin, 1923; Teil II. Berlin, 1926-1930; Teil III. Leiden, 1950-1958; Nylander C. lonians in Pasargadae. Uppsala, 1970; idem. Achaemenid Imperial Art. — Power and Propaganda. Ed. by M.T. Larsen. Copenhagen, 1979, p. 345-359 (Mesopotamia, 7); Porada E. Classic Achaemenian Architecture and Sculpture.— The Cambridge History of Iran. Vol. 2. Cambridge, 1985, ch. 17; Richter G.MA. Greeks in Persia.— AJA, 1946, 50, 1, p. 15-30; idem. Archaic Art against its Historical Background. N. Y., 1949; Root M.C. The King and Kingship in Achaemenid Art. Leiden, 1979 (Acta Iranica, 19); idem. Art and Archaeology of the Achaemenid Empire.— Civilizations of the Ancient Near East, IV. Ed. by J.M. Sasson. N. Y., 1995, p. 2615— 37; Stronach D.B. Anshan and Parsa: Achaemenid History, Art and Architecture on the Iranian Plateau. — Mesopotamia and Iran in the Persian Period: Conquest and Imperalism. 539-331 B.C. Ed. by J. Curtis. L., 1997, p. 35-53 (Proceeding of the Seminar in Memory of Vladimir Lukonin); Weber U., Wiesehofer J. Das Reich der Achaimeniden. Eine Bibliographic. — AMI. Ergzbd. 15. B., 1996.
Пасаргады: Nylander С. lonians in Pasargadae: Studies in Old Persian Architecture. Uppsala, 1970; Stronach D.B. Pasargadae. Oxf., 1978 [рец.: van Loon M. BiOr. 1983, 40, 5/6, p. 742-745]; idem. Pasargadae.— The Cambridge Histoiy of Iran. Vol. 2. Cambridge, 1985, ch. 20; Farkas A. The Behistun Relief. — The Cambridge History of Iran. Vol. 2. Cambridge, 1985, ch. 18.
Сузы: Amiet P. Quelques observations sur le Palais de Darius & Suse.— Syria, vol. 51, 1974, p. 65-73; Boucharlat R. Susa under Achaemenid Rule. — Mesopotamia and Iran in the Persian Period: Conquest and Imperialism. 539-331 B.C. Ed. by J. Curtis. L., 1997, p. 54-67 (Proceeding of the Seminar in Memory of Vladimir Lukonin); de Morgan J. Ddcouverte d’une sepulture achdmdnide к Suse. — MDP, VIII. P., 1905, p. 29-58.
Обзор раскопок в Сузах: Perrot J.— CDAFI, 1972, 2; CDAFI, 1974, 4; Syria, vol. 48, 1971.
Статуя Дария из Суз: см. статьи Trichet J., Stronach D., Roaf M., Vallat F., Yoyotte J. в CDAFI, 1974, 4.
Персеполь: Roaf M. Sculptures and Sculptors at Persepolis. L., 1983 (Iran, XXI); Schmidt E.F. Persepolis. Vol. 1-3. Chicago, 1953, 1957, 1970 (OIP, 68-70); Walser G. Persepolis. Tubingen, 1980.
Глава 12
Источники: Арриан. Индия.— ВДИ, 1940, №2; Флавий Арриан. Походы Александра. Пер. с др.-греч. М.Е. Сергеенко. М.-Л., 1962; Геродот. История в девяти книгах. Пер. и примеч. Г.А. Стратановского. Л., 1972; Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Пер. М. Алексеева. Ч. 1-6. СПб., 1774-1775; Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. Сохранившиеся книги. Под ред. В.С. Соколова. М., 1963; Ксенофонт. Анабасис. Пер., ст. и примеч. М.И. Максимовой. М.-Л., 1951; Ксенофонт. Киропедия. Изд. подгот. В.Г. Борухович и Э.Д. Фролов. М., 1977; Латышев В.В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. Изд. 2. — ВДИ, № 1, 1947. — ВДИ, № 4, 1949; Полибий. Всеобщая история в сорока книгах. Пер. Ф.Г. Мищенко. Т. 1-3. М., 1890-1899; Полиэн. Стратегемы. Под общ. ред. А.К. Нефедкина. СПб., 2002; Пьянков И.В. Средняя Азия в известиях античного автора Ктесия (Текст, пер., коммент.). Душ., 1975; Страбон. География в семнадцати книгах. Пер. ст. и коммент. Г.А. Стратановского. Л., 1964; Хрестоматия по истории Древнего Востока. Сост. и коммент. А.А. Вигасина. М., 1997; Jacoby F. Die Fragmente der griechischen Historiker. Teil I. B., 1923; Teil II. B., 1926-1930; Teil III. Leiden, 1950-1958; Kent R.G. Old Persian. Grammar. Texts. Lexicon. 2nd ed. New Haven, Connecticut, 1953 (American Oriental Series, vol. 33); Ptolemaios. Geographic 5,9-21. Ostiran und Zentralasien. Teil 1. Griechische Text hrsg., ins Deutsche iibertr. von F.E. Ronga. Rome, 1971 (IsMEO, Reports and Memoirs, vol. 15/1); Ptolemy— H. Humbach and S. Ziegler. Ptolemy: Geography. Book VI. Middle East, Central Asia and North China, pt 1. Wiesbaden, 1998.
Исследования и публикации: Адрианов Б.В. Древние оросительные системы Приара-лья. М., 1969; Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая. М.-Л., 1952; Вишневская О.А. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в VII-V вв. до н.э. (по материалам Уйгарака). М., 1974; Воробьева М.Г. Дингильдже. Усадьба середины I тысячелетия до н.э. древнего Хорезма. М., 1973; Григорьев В.В. О скифском народе саках. СПб., 1871; Дандамаев М.А. Иран при первых Ахеменидах (VI в. до н.э.). М., 1963; он же. Политическая история Ахеменидской державы. М., 1985; Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика Древнего Ирана. М., 1980; Дьяко
нов И.М. История Мидии от древнейших времен до конца IV в. до н.э. М.-Л., 1956; Дьяконов М.М. Очерк истории древнего Ирана. М., 1961; Заднепровский Ю.А. Древнеземледельческая культура Ферганы. М.-Л., 1962; Зеймалъ Е.В. Амударьинский клад. Каталог выставки. Л., 1979; он же. Древние монеты Таджикистана. Душ., 1983; История таджикского народа. Т. I. Древнейшая и древняя история. Под ред. Б.А. Литвинского и В.А. Ранова. Душ., 1998; Итина М.А., Яблонский Л.Т. Саки Нижней Сырдарьи по материалам могильника Южный Тагискен. М., 1991; Кошеленко ГА. Греческий полис на эллинистическом Востоке. М., 1979; Литвинский Б.А. Древние кочевники «Крыши мира». М., 1972; он же. Храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан). Т. 2. Бактрийское вооружение в древневосточном и греческом контексте. М., 2002; Литвинский Б.А., Пичи-кян И.Р. Эллинистический храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан). Т. 1. Раскопки. Архитектура. Религиозная жизнь. М., 2000; Массон В.М. Племена и народности Туркменистана в VI-IV вв. до н.э. — История Туркменской ССР. Т. I, кн. 1. Аш., 1957; он же. Древнеземледельческая культура Маргианы. М.-Л., 1959; Мончадская Е.А. О правителях Бактрии и Согдианы VI-IV веков до н.э. (Из древней истории народов Средней Азии). — Культура и искусство народов Востока. Вып. 6. Л., 1961; Пьянков И.В. Древний Самарканд (Мараканды) в известиях античных авторов (Собрание отрывков и комментариев). Душ., 1972; он же. Бактрия в античной традиции (Общие данные о стране: название и территория). Душ., 1982; он же. Средняя Азия в античной географической традиции. Источниковедческий анализ. М., 1997; Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В. Северная Бакт-рия-Тохаристан. Очерки истории и культуры. Древность и средневековье. Таш., 1990; Рапопорт Ю.А., Неразик Е.Е., Левина Л.М. В низовьях Окса и Яксарта. Образы древнего Приаралья. М., 2000; Сагдуллаев А. Усадьбы древней Бактрии. Таш., 1987; Струве В.В. Этюды по истории Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии. Л., 1968; Толстов С.П. Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования. М., 1948; он же. По древним руслам Окса и Яксарта. М., 1962; Туркменистан в эпоху раннего железа. Аш., 1984; Хлопин И.Н. Историческая география южных областей Средней Азии. Аш., 1983; Яблонский Л.Т. Саки Южного Приаралья. М., 1996; Воусе М. Histoiy of Zoroastrianism. Vol. II. Under the Achaemenids. Leiden-K61n, 1982; Briant P. L’Asie Centrale et les royaumes moyen-orientaux au premier mill6naire av. n.e. P., 1984; idem. Histoire de 1’empire perse de Cyros 4 Alexandre. P., 1996; Drews R. The Greek Accounts of Eastern History. Cambridge (Mass.), 1973; Dalton O. The Treasury of the Oxus with Other Examples of Early Oriental Metalwork. 3rd ed. L., 1964; Gorbunova N.G. The Culture of Ancient Fergana. VI с. B.C.— VI c. A.D. Oxf., 1986; A. von Gutschmid. Geschichte Irans und seiner Nachbarlander von Alexander dem Grossen bis zum Untergang der Arsakiden. Tubingen, 1888; Hermann A. Alte Geographic der unteren Oxusgebiets. B., 1914; HerzfeldE. Zoroaster and His World. Vol. I-II. Princeton, 1947; idem. The Persian Empire. Studies in Geography and Ethnography of the Ancient Near East. Wiesbaden, 1968; Junge J. Saka-Studien. Der feme Nordosten im Wetlbild der Antike. Lpz., 1939; Litvinskij B.A. La civilisation de 1’Asie Centrale antique. Rahden/Westf., 1998; Marquart J. EranSahr nach der Geographie das Ps. Moses Xorenac’i. B., 1901; idem. Wehrot und Arang. Untersuchungen zur Mythischen und geschichtlichen Lan-deskunde von Ostiran. Leiden, 1938; Olmstead AT. History of the Persian Empire (Achaemenid Period). Chicago, 1959; Tomaschek W. Baktriane.— RE, Bd. I, 1984; Vogelsang W. The Rise and Organisation of the Achaemenid Empire. The Eastern Iranian Provinces. Leiden, 1992; Walser G. Die VOlkerschaften auf der Reliefs von Persepolis. B., 1966.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВДИ — Вестник древней истории. М.
ВИ — Вопросы истории. М.
ВЯ — Вопросы языкознания. М.
ГИМ — Государственный Исторический музей
РА — Российская археология. М.
ЭВ — Эпиграфика Востока. М.-Л., Л., М.
АЮ — Archiv fur Orientforschung. Berlin, Graz
AJA — American Journal of Archaeology. Cambr., Mass.
AMI — ArchSologische Mitteilungen aus Iran. B.
AoF — Altorientalische Forschungen. B.
ARRIM — Annual Review of the Royal Inscriptions of Mesopotamia Project. Toronto
BaF — Baghdader Forschungen
BASOR — Bulletin of the American Schools of Oriental Research. Baltimore
BiOr — Bibliotheca Orientalis. Leiden
CDAFI — Cahiers de la Ddldgation archdologique fran^aise en Iran. P.
CDOG — Colloquien der Deutschen Orient-Gesellschaft
CHI — The Cambridge History of Iran. Cambridge
IA — Iranica Antiqua. Leiden
IsMEO — Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente
JA — Journal Asiatique. P.
JCS — Journal of Cuneiform Studies. New Haven, Conn.
JHS — Journal of Hellenic Studies. L.
MDOG — Mitteilungen der Orient-Gesellschaft zu Berlin. B.
MDP — Mdmoires de la Ddldgation en Perse. P.
OIP — Oriental Institute Publications. The University of Chicago. Chicago
Or — Orientalia. Roma
RAI — Rencontre Assyriologique Internationale
RE — Pauly’s Real-Enzyklop&iie der klassischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung, begon-nen von G. Wissowa, hrsg. von W. Kroll. Stuttgart
SAA — State Archives of Assyria. Helsinki
SAAB — State Archives of Assyria, Bulletin. Padua
ZA — Zeitschrift fur Assyriologie und Vorderasiatische ArchBologie. Lpz.
ZDMG — Zeitschrift der Deutschen Morgenlftndischen Gesellschaft. Leipzig, Wiesbaden
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
УНХ¥Н=Господь 423, 424, 438, 439, 445, 446, 454—460,462, 468, 470, 475, 477-480
Аарон 427
Абаев В.И. 558
Абди-милькут 384
Аброком 616, 618
Аввакум 459
‘ Авдон 427, 428
Авель-Мардук (Эвил(ь)-Меродах), Амел-
Мардук 484, 498
Авийам (Авийа) 452, 454, 456
Авимелех 428-431, 439
Авинадав 433, 435
Авнер 436, 440
Автофрадат 745
Авшалом (Авессалом) 443
Агамемнон 413
Агафокл 478
Агесилай 619, 620
Агнайи, божество 134
Агни, божество 103, 115, 134, 135, 138, 143,
811
Ад ал 375
Адад-апла-иддин 344, 487
Адад-нерари II 346, 347
Адад-нерари III 351, 352, 354, 468, 489, 520
Адайя 475
Адда-гуппи (мать Набонида) 498
’Адон (’Адонай-Господь) 458
Адонийаху 446, 447
Азан 745
‘Азарйаху 447
Азрийау 466
’Азы 416
Аквила 434
Александр Македонский (Александр, Александр Великий) 52, 56, 152, 565, 605, 606, 619, 624, 626, 630, 631, 649, 664, 674, 678, 686, 699-700, 704, 706-708, 710, 711, 714, 719, 720, 722-724, 727, 728, 730, 733, 736, 741, 743, 750, 751, 755, 756, 758, 760-762, 768, 770, 772, 775, 777-779, 782, 784-787, 799,810,812
Алексеев В.П. 71
Алиатг 419, 420, 528, 534, 552
Алкивиад 615, 616
Альбедиль М.Ф. 82, 89, 91
Альт А. 423
Амасис 497, 583, 590, 634
Амацйаху 452,465, 468
Амбарис 416
Аменопе 432
Амеша-Спэнта 812
Амиртей 610, 616, 618
Амитай 468
Амитида 496, 733, 737
Амминап 757
Амон (иудейский царь) 452, 475
Амон, божество 431, 478, 583
Аморг 614, 733, 734, 736, 737, 747, 760, 761
Аморей 736, 761, 762
Амос 468
Амоц 454
Амусин И.Д. 428
Анастаси 425
‘Анат 439
Анахарсис 560
Анахита (Ардви, Ардви-Сура, Ардви-Сура-Анахита, Сура), божество 609, 788, 805-808,812
Андарий 417
Анея (Анаита-Анахита) 808
Анталкид 620
Антиох III 760, 796
Антонова Е.В. 33
Ану 111
Анубанини 676
Апам, божество 795
Апи, божество 560
Анион 447
Аполлодор 723, 724
Аполлон, божество 560, 583, 584, 652, 740
Априй 497, 590
Араме 350
Араму 405, 406
Араха (Навуходоносор II) 596
Арбак 618
Аргишти I 407-409, 411, 520
Аргишти II 416, 526
Арджасп 733
Ардис 418, 419, 552
Арес, божество 560
Ариамаз 778
Ариамен 743
Ариарамн 741, 742
Ариенис 535
Ариман, божество 692
Ариобарзан 620, 631
Ариомард 747
Аристагор 597
Аристей Проконнесский 543, 544
Аристобул 60, 761
Ариярата 655
Арпоксай 558
Арриан 398, 631, 672, 770, 798, 799
Арсес 623
Артабаз 605, 606, 608, 622, 745
Артабан (Аргапан) 601, 609, 743, 745, 756, 757
Артавардия 594
Артаксеркс I (Макрохейр - «Долгорукий») 609,610, 612, 614, 634, 678, 681,686,692, 744, 745, 748, 755, 757
Артаксеркс II (Арсак, Мнемон) 592, 609, 616, 618-620, 622, 678, 681, 684, 692, 743,745, 746, 752, 757, 805
Артаксеркс III 622, 623, 644, 690, 692
Артаксеркс IV (Бесс) 626, 744, 748, 758, 761, 777, 778
Артасир 732, 745, 756, 757
Артаферн 597, 598
Артей 745
Арти (Аши), божество 560, 740
Артимпаса, божество 560
Артифий 745, 747
Артур 444
Арукку 582
Арутюнян Н.В. 419
Аршакиды 724
Аршама 610, 630, 635, 642, 644, 694
Аса 452, 456,463
Асайа 476
Асархаддон (Ашшур-аха-иддин) 367, 368, 371, 374, 378, 381, 384-387,416,417,474, 475, 493, 522-525, 548, 549, 554
Асидат 756
Аспамит 609
Ассагет 720
Ассина 594
Астарта 477
Астиаг (Иштувег) 528, 535, 536, 582, 584, 665, 732, 733, 737
Асура, божество 139
Аталйа (иудейский царь) 452, 453, 457,462
Аталйа (дочь Ахава и Изевели) 464
Атар, божество 811, 812
Атей 559, 564, 565
Атман 149
Атосса 593, 601, 619
Атри 98
Аттис, божество 415
Атум, бог 682, 684
Афродита Урания, божество 560
Ахав 444,452,453,457,460,462-464,466,474
Ахаз 452,466, 467, 476
Ахазйаху (израильский царь) 452, 457, 462, 463
Ахазйаху (иудейский царь) 444, 452,462, 464
Ахарони Й. 423,442,447,471
Ахбор 476
Ахемен 536, 581, 582, 602, 609
Ахемениды 503, 504, 516, 518, 530, 561, 570, 581, 582, 590, 594, 616, 626, 627, 634-638, 642, 649, 650, 652-654, 659,660, 662, 664, 665, 674, 676, 678, 686, 693, 696, 697, 699, 710, 731, 733, 743, 745-747, 754,758, 770, 775, 779, 788, 794, 806, 807
Ахиба‘ал 458
Ахийа 434, 435,446
Ахийа(х)у 458
Ахикам 476, 485
Ахикар 383
Ахитофел 459
Ахитув 442
Ахиш 431
Ахсери 418
Ахурамазда (Ахура-Мазда, Ахура Мазда), божество 49, 622, 634, 675, 676, 682, 688, 692, 693, 795, 797, 805, 811,812
Ахшери 526
Ацалйаху 475, 477
Ашвины, божества 136
Ашер 425, 426
Ашера 458, 474, 476, 477
‘Аштар-Кемош 445
Ашшур, божество 359-362, 370, 371, 375, 489, 676
Ашшур-аха-иддин см. Асархаддон Ашшур-дан II 346
Ашшур-дан-апли 351
Ашшур-мат-ка-тура 378
Ашшур-надин-шуми 365-367
Ашшур-нерари IV 346
Ашшур-нерари V 352
Ашшур-раби II 345
Ашшур-реш-иши 345
Ашшур-убаллит I 347
Ашшур-убаллит II 393, 496, 533
Ашшур-этель-илани (Ашшур-этил-илани) 392, 493
Ашшурбанапал (Ашшур-бану-апли) 374, 378, 383, 386-392, 418, 493, 505, 512, 523, 526, 530, 552, 582, 666, 678
Ашшурдан 352
Ашшурнацирапал II (Ашшур-нацир-апал) 347-349, 353, 354, 368, 382, 405,460,488, 518
Баал (Ба‘ал) 432, 439, 456-459, 462, 474, 476, 478
Баал-Хаммон 478
Баалис (вероятно, сокр. от Ба‘ал-йаша‘) 485
Баба 375
Баба-ах-иддин 497
Багамири, сын Митридата 636
Багой 623
Багапат 655
Банерджи Р.Д. 60
Бао, семейство, клан 269, 271
Бао Го (Бао Вэньцзы) 266, 271
Барак 427
Бардия (Смердис, Вахъяздата, Таниоксарк)
590, 592, 594, 596, 737-740, 744, 747
Барнетт Р.Д. 416
Бартатуа см. Партатуа
Бартольд В.В. 776
Барух (Берехйаху) 482, 485
Бат-Шева (Вирсавия) 446, 447
Бахиану 377
Ба‘ша 452, 456
Ба’шои 456
Бе‘ел (Ба'алйада) 458
Бел-ибни 364, 365, 492
Бел-шар-уцур (Валтасар) 499, 586
Бел-шиманни 602
Бель-дури 380
Бенайаху 442, 445-447
Бен-4Анат 439
Бен-Сира 467
Бен-Хадад I 456
Бен-Хадад II 460, 462, 463
Бен-Хадад III 468
Бер 375
Березкин Ю.Е. 90
Берос 734, 736
Бесс см. Артаксеркс IV
Бецалел 435
Би 203
Би Чэнь 163
Бин ‘Анот 439
Бинйамин 422, 425-128, 430, 436, 437, 440,
443, 453, 477
Бинь 200
Биран А. 463
Бирисхадри 526
Бируни 714, 795
Бихри 443
Бо, клан 273, 274
Бо ЦиЗН
Большаков О.Г. 44, 45
Боргер Р. 670
Бофу 244
Брахма 100, 145
Брахман 100, 149
БуЦи231
Бхарадваджа 98
Бхарата 111, 112
Бэшем А. 63
Вавилов Н.И. 64, 167
Вайшванара 148
Ван Говэй 166, 183
Ван Суньцзя 258
Ван Фань 258
Варубани (Багбарту), божество 420
Варуна 134, 135, 138, 139
Варунани, божество 134
Васильев К.В. 33
Васильев Л.С. 236
Васиштха 98
Вастошпати, божество 118
Ваумиса 594
Вахшу, божество 807
Вахъяздата см. Бардия
Вач, божество 143
Ваю, божество 103
Вегерд 776
Великие Моголы 671
Ветте В.М.Л. де 480
Вивана 630, 739
Вивасвата, божество 134
Вигасин А.А. 33
Винклер Г. 419
Витрувий 808
Витт В.О. 799
Вишвамитра 98
Вишну, божество 101, 103, 136, 139
Виштаспа, кави (первый зороастрийский правитель) 714, 731- 733, 740, 782, 783
Виштаспа (Гистасп), отец Дария I 596, 631, 738, 744, 745
Виштаспа (Гистасп), сатрап Бактрии 609, 743, 744
Вохуман (Бахман) 733
Вритра, божество ПО, 134, 135, 139, 143
Вртрагна, божество 560
Вэй, клан 280
Вэй Жань 299
Вэй Сяньцзы 274
Вэй Чжи 265
Вэй-ван (циский) 303
Вэнь Дин 192
Вэнь-ван (чжоуский) 207, 218, 219
Вэнь-гун (сюйский) 244
Вэнь-гун (цзиньский) 256, 265, 274, 277
Вэнь-гун (циньский) 244
Вэньхоу (цзиньский) 244
Вэртрагна 812
Вязовикина К.А. 33
Габсбурги 55
Гад 438, 439
Гад, колено 425, 426
Гайомартан (Кеюмарс) 775, 776
Гао, семейство 269
Гао Цзун 288-289
Гао Ю 286
Гарпаг 583, 584
Гаумата (Смердис), маг 590, 592, 593, 596, 602, 675
Гедалйаху 485
Гекатей 628
Гелланик 718
Геракл 152, 560
Геродот 47, 48, 398, 402, 420, 474, 505, 517, 518, 527-532, 534-536, 543-546, 549, 554-562, 564-570, 582, 589, 590, 592, 604, 605, 608, 610, 627, 628, 631, 646,
653, 660, 678, 700, 713, 717, 719, 720,
722, 723, 727, 728, 732, 734, 736, 737,
743, 744, 746-748, 750-752, 755, 756,
765-768, 770, 775, 776, 779, 784, 785, 787, 796, 797, 801,811
Гестия, божество 559
Гея, божество 560
Гиг(Гигес, Гуггу, Гог) 389, 390, 418, 552
Гвдарн 636, 746
Гид‘он (Иерубба‘ал) 427-430
Гил‘ад 425, 426
Гиппий 598, 600
Го, семейство 269
Гобрий 586, 593, 596, 618
Го Можо 167, 233
Го-гун (Го цзи) 241
Го-гун Хань 244
Голйат (Голиаф) 431, 438, 439
Гомер 399, 420, 538
Гор (Хор), божество 655
Гордий 413
Готтвальд Н.К. 424
Гоуюй 271
Грантовский Э.А. 33
Грин А.Р. 449
Гуань 211
Гуань Чжун (Гуаньцзы) 252, 273, 286
Гуань Шу (Гуаньшу) 209, 211
Губара (Гобрий) 628, 630
Гумилев Л.Н. 35, 41
Гун 286
Гун Лю 232
Гун-ван (чжоуский) 210
Гунбо Хэ 242
Гунгун 263
Гунсунь Ман 273
Гунсунь Хуй 163
Гунсунь Ши 256, 264
Гуншу Цзо 308
ГэБо 235
Гэ Цун 232, 233
Гэдд С. Дж. 534
Гэн 305
Гэн(?)-хоу Бо Чэнь 216
Гэнъюй 261
Давид 426, 428-430, 434-440, 442-449, 453, 458, 467, 468, 475, 477, 478
Давид, дом 463-465
Давид, династия 467,474
Давидиды 465
Датой 432
Дадарши(ш) 594, 596, 630, 738, 743
Дан 425, 426
Данавы 139
Дандамаев М.А. 33
Дани А. 70
Даниил 56,483
Дао-гун (цзиньский) 278
Дарий I 503, 529, 530, 559, 561, 562, 564, 570, 590, 592-594, 596-598, 601, 627, 628, 630-634, 640, 642, 644, 645, 648, 650, 652, 654, 660, 665, 666, 668, 670, 671, 674-676, 678, 680-682, 684, 686-688, 690, 692-694, 728, 737-747, 750-752, 754-756, 760, 761, 785, 802
Дарий II 592, 614, 616, 678, 692
Дарий III (Кодоман) 623, 624, 626, 628, 631, 692, 743-748, 752, 754, 757, 760, 777
Дарий, сын Артаксеркса II620,622
Дарий, сын Ксеркса 609
Даса, дракон ПО, 134, 139
Датис 598, 600
Даян-Ашшур 351,406
Девора 425—427,433
Дейок 528-530
Демодам 723, 724, 780, 785
Демосфен 623
Денница, сын Зари (Люцифер) 394
Джанамеджая 103
Джем ш ид 686
Ди И 192, 196, 206, 208
Ди Синь 192, 206-209,211
Дий 447
Дикшит К.Н. 69, 86, 89
Дин 215
Диоген 805
Диодор Сицилийский 478, 544, 546, 565, 799,
813
Диоклетиан 38
Дион Кассий 771
Дионис, божество 152, 728
Додо (Дод, Додийаху) 438, 439, 445, 446
Дон Гарсия 686
Доэг 436
Друхью 111
Ду (клан) 273
Ду Жун 267
Дун Чжуншу 294
Дурга 103
Дусанни 524
Дхатар 136
Дьюринг Каспере Е. 91
Дьяконов И.М. 33, 35
Дьяус-питар 134
Евдокс Книдский 722
Евсевий 398, 734
Езекиил 414
Езекия 364, 365, 367, 446, 492
Елисей (Элиша) 454, 456, 462, 463, 467,468
Еремян С.Т. 407
Жань 196
Забаба 379
Закуту 387
Заль 795
Заль-Зер 785
Зарасп 714
Заратуштра (Зороастр) 536, 609, 660, 671, 692, 712, 731, 740, 782, 783, 805, 812
Зарина 761,787,813
Зевс (Зевс Олимпийский), божество 49, 134,
560
Зевулун 425-427
Зехарйа 465, 482
Зехарйаху 452, 468
Зимри 452, 456
Зопир 610
Иаков 426, 429
Иаков-Израиль 429
И-ван (чжоуский) 210, 241, 242
Иварши, божество 408
Ивцан 427
Иддина-Набу 589
Иддо 454
Иезекиил 394, 420, 471, 479, 483
Иеремия 419, 471, 479, 481, 482, 484, 485
Иеффай (Ифтах) Гил'адский 427, 428, 439
Иехуда 434
Изевел 457, 462, 464
Израиль 425, 434, 449
Иисус 422, 429
Иисус Навин 428, 433, 480
Икшваки 107
Илия (Элийаху) 454, 456,459, 460,462
Иманиш 594
Ин Чжэн см. Цинь Шихуанди
Инар 609,610
Индаби гаш 391
Индра, божество НО, 113, 131, 134—136, 138,
140, 142, 145
Индрани, божество 134
Интаферн 593, 596
Инь, дух 313
Инь-гун (луский) 160
Иоав 442, 443, 446, 447
Иоаким 497
Иоанн Гиркан I 480
Иов 481
Иона 468
Ионатан 433, 437, 443
Иосиф Флавий 428, 447, 470, 483, 484
Иранзу 416
Ирхулина 462
Исайа 363, 394, 431, 454, 469-472, 474, 492
Исида, божество 655
Исократ 623
Иссахар 425-427, 456
Ито Митихару 167, 228
Ишай 426, 430, 438, 439, 443, 453
Ишбошет (Эшба'ал) 440, 459
Ишмаэль 485
Ишпакай 385, 523, 548, 554, 555
Ишпуини (Ишпуине) 406-408, 412, 519
Иштар, божество 375, 501, 676, 678
Иштар Ниневийская 392
Иштувег см. Астиаг
Йадин И. 450
Йа’ир 427
Йа'ре-’Орегим 438
Йаров'ам 449, 452
Йаров'ам I 446, 452, 467, 477, 479
Йаров'ам (Израильский) II 452, 455, 456, 462, 468
Йахин 449
Йеддо (Йедди, Йоэл) 446
Йедида 475
Йедидейа(х) (другое имя Соломона) 447
Йерахмеэль 482
Йеттмар К. 95
Йехоахаз, израильский царь 452
Йехоахаз (Йа-у-ха-зи), иудейский царь 452, 467,468,482
Йехоаш, израильский царь 452
Йехоаш, иудейский царь 452,464,465,468,482
Йехойада, первосвященник 464, 465, 482
Йехойаким (Элйаким) 452, 482-484
Йехойахин 452, 483
Йехорам, израильский царь 452,462-464
Йехорам, сын Омри 457
Йехорам Иудейский 444, 452
Йехошафат (Иосафат) 452, 454, 456, 462-464
Йехошуа Бен-Сира 482
Йеху, военачальник 444, 462
Йеху, династия 467, 468
Йеху, израильский царь 452,462,463,467,468
Йеху 454, 464
(Й)ешба‘ал 458
(Й)ешйа(х)у 458
Йоах 477
Йоахаз 477
Йоаш 430
Йосеф (Иосиф) 453
Йотам 430, 452, 466, 467
Йошийаху 452, 454, 467, 471, 475, 477-482
Казвини 523
Кайдзука Сигэки 167, 237
Кала, божество 99
Каллий612
Камбиз (Камбис, Камбужия) 503, 528, 582, 588-590, 592, 593, 596, 627, 628,630,645, 652, 674, 737, 738, 740, 756
Камерон Дж. 670
Кан Дин 192
Кан-ван (чжоуский) 210
Кандалану 391, 392, 493, 494
Каннингхэм Д. 60
Каракалла 55
Карл Великий 56
Катен 770
Кауравы 101, 103
Каши-Кошала 112
Каштариту 385, 524, 525, 530
Кашшу-надин-ахи 487
Квинт Курций Руф 704, 767, 770, 771, 772, 785, 787, 797-799, 812
Кемош 444, 445, 477
Кенайа 483
Кенион К. 471
Киаксар 393,420, 494,496, 528-530, 532, 534, 546, 556, 582, 594, 738
Кибела (Кубаба), божество 415
Кидрей 787
Кимон 608, 610
Кир I (Кураш) 530, 582
Кир II Великий (Персидский) 420, 480, 498, 503, 528, 534-536, 561, 569, 582-584, 586, 588-590, 592-594, 596, 601, 602,627, 628, 630, 631, 645, 649, 652, 660, 662, 664, 665, 666, 668, 670-672, 674, 678, 720, 731-734, 736-741, 743-747, 756, 760, 768, 770, 799
Кир Младший 614-616, 618, 619, 630
Киш 430
Клеарх 618
Климент Александрийский 771
Кнорозов Ю.В. 82, 91
Колаксай 558, 559
Колганова Г.Ю. 33
Конон 619
Конфуций (Кунцзы, Учитель Кун) 157, 160, 161,225,314,315, 320, 321
Крайвья Панчала 112
Крез 420, 582-584
Криви 111, 112
КрилХ.Г. 167
Кришна 152
Крюков М.В. 236
Ксанф Л идя нин 397
Ксенофонт 402, 420, 536, 582, 618, 678, 737, 747, 756, 799
Ксеркс (Хшаярша) 500, 568, 570, 601, 602, 604, 605, 608, 609, 630, 641, 645, 654, 678, 681, 682, 684, 686, 687, 690, 692, 728, 743-748, 752, 756, 757
Ксеркс II 614
Ктесий 152, 592, 665, 704, 710, 722, 727, 728, 730, 732-734, 736^738, 749, 741, 743-748, 754-757, 761, 777, 784, 786-788, 797, 799, 801,802,813
Куан 237
Куан Цзюйсюй 271
Куй (дракон) 336
Кутир-Наххунте 486,487,492
Кушан-ришатаим 427
Кушаны 727
Кэ (чжоуский стольник) 233
Лабаши-Мардук 498
Лжебардия 737, 740
Лал Б.Б. 89, 95
Ландсбергер Б. 498
Лао Ай 299
Лаоцзы 315
Лаперруза Э.-М. 450
Леви 426, 427
Леонид 604
Лецзы 316
Лея 426
Ли Бин 284
Ли Кэ 254
Ли Му 291
Ли Цзи 270
Ли-ван (чжоуский) 210, 215, 218, 226, 232,
239, 242
Линь Синь 192, 206
Линь Сянжу 302
Липоксай 558
Лисандр 616
Литвинский Б.А. 33
Ло 292
Ло Чжэньюй 183, 206
Ломоносов М.В. 33, 41
Лотман Ю.М. 41
Луань, клан 256, 265, 267, 270, 274, 279
Луань Ин 267, 268, 279
Лукиан 447
Лутиври 406
Луфу 209
Лэй 202
Лэйард А.Х. 467
Лю 227
Лю Бан 54
Лю Синь 192, 209,210
Лю Сян 281
Люй Бувэй 299
Лянь По 302
Маасейаху 477
Мавак 747, 760, 761
Мадий 418, 552, 554-556
Мазар А. 422, 442, 584
Мазей 622, 630
Мамитиаршу 524, 525
Мандана 582
Манну-ки-Адад 378
Ману 115, 117, 133
Мао-гун 239
Ма‘ох (Ма‘аха) 431
Мардоний 605, 606, 608
Мардук (Владыка*Мардук, Владыка), божество 56, 352, 358, 363, 364, 367, 384, 387, 408,486-490, 492, 498, 499, 586, 588, 602
Мардук-апал-иддин II (Мардук-апла-иддина, Меродах-баладан) 359, 362, 364-366, 384, 390, 392, 472, 490, 492, 493, 512
Мардук-балассу-икби 351
Мардук-закир-шуми 364
Мардук-закир-шуми II 492
Мардук-кабит-аххешу 486
Мардук-надин-аххе 487
Маркс К. 40
Мартия, сын Чичишхриша 594
Маруты 139
Маршалл Дж. 60, 91
Масагет 741
Масиста 609, 743, 744
Маскам 608
Масперо А. 167
Матанйа см. Цидкийаху
Матиэль 411
Матсья 103, 123
Мауес (Мога) 761
Махир 425
Мевак 761
Мегаберн 737, 747
Мегабиз, дед 602
Мегабиз (Багабухша), внук 593, 602,610
Мегапан 745
Мегасфен 720
Медведская И.Н. 33
Медуза Горгона 330
Мелхиседек 443
Мемнон 624
Менандр Эфесский 447
Менахем 452, 455, 467-469
Менашше (иудейский царь) 452-454, 466, 474, 475, 477
Менашше (эпоним колена) 422, 425—427, 430, 445
Менденхолл Г.Е. 423, 424
Ментор 622, 623
Мериба'ал 458
Меривба‘ал (Мефибошет) 443
Мермер 745
Мернептах 424, 425, 431, 478
Мефиба‘ал 458
Мефибошет 459
Меша 426, 438, 444-^146, 457, 478
Мешуллам 475
Мигдон 413
Мидас (Мита) 413-417
Милком 477
Мильтиад 598, 600, 601
Мин, божество 655
Мин-гун (Минбао) 213,214
Минуа 350, 406-408,411,412
Митра, божество 134, 136, 138, 609, 765, 812
Митридат 609
Михайа 476
Мо Ди (Моцзы) 154, 158, 318, 319
Моисей (Моше) 426, 429,435,460,477,478
Моисей Хоренский 414,420
Молох 479
Монтескье 222
Мопс 403
Морган Ж., де 656, 658
Мория Мицуо 294
Моцзы см. Мо Ди
Му 270
Му, владелец сосуда Му гуй 220
Му (Му-ван чжоуский) 241-242
Му-гун (циньский) 277
Мугаллу384, 385,417
Мугхал М.Р. 61
Мукаддаси 714
Мурашу 503, 504, 636, 644, 646, 648, 654
Мухаммед 36
Мушезиб-Мардук (Шузубу) 492, 493
Мэн, клан 271
Мэнсунь, клан 270
Мэнцзы 160, 209,210,315
Мянь 225
Мянь Юй 272
Мяо 288
Набонасар (Набу-нацир) 489
Набонид (Лабинет) 459, 498-501, 528, 535, 583, 586, 588, 594, 596, 628, 652
Набопаласар (Набу-апал-уцур, Набу-апла-уцур) 392, 393, 482, 494, 496, 512, 528, 529, 531-534
Набу, божество 352, 498, 502
Набу-аххе-буллит 628
Набу-балассу-икби 498
Набу-бел-шумати 390, 391, 493
Набу-надин-зер 358
Набу-нацир 357
Набу-укин-зер (Укин-зер) 358
Набу-шум-укин 346
Набу-шума-ишкун 489
Наве Й. 463
Навузарадан 485
Навуходоносор 1487,488
Навуходоносор II (Набу-кудурри-уцур) 482-
485, 496-498, 507, 533, 534, 586, 681
Навуходоносор III (Нудинту-Бел) 593, 594
Навуходоносор IV 596
Надав 452,456
Наки’а 363, 367, 386
Нань Цзи 160
Нань-гун 220
Наполеон Бонапарт 52, 56, 664
Натан 438, 443, 446, 447
Натан-мелех 476
Наум 394, 532
Нафтали 425^127, 477
Неват 446,452, 477
Неемия 480,631, 648
Нейт, божество 590
Нектанеб II 620, 622, 623
Нергал, божество 390, 498
Нергал-нацир 380
Нергал-ушезиб 366, 492
Нергал-шар-уцур (Нериглиссар) 498, 512
Нерийаху 482
Нетанйа 485
Неферхотеп I 664
Нехо, сансский номарх (впоследствии Нехо I)
388
Нехо II 481, 482, 496, 497, 533, 650
Никулина Н.М. 696
Нин 732
Нингаль 380
Нингаль-иддин 380
Ниниб-илайя 380
Нинурта-надин-шуми 486
Нитетис 590
Новзер 714
Нот М. 423
Нюйва, божество 314
Ойтосир, божество 560
Оксиарт 777, 778
Олбрайт У.Ф. 433, 483
Оллчин Ф.Р. 96
Олмстед А.Т. 381
Ольденберг Г. 148
Омарг 740, 741, 760, 761, 787
Омри (Хумри) 452, 456, 457, 464
Омри, Омриды, династия 456, 457
Онесикрит8Ю
Оронт 622, 757
Оронтиды (Ервантиды) 757
Осирис, божество 590, 664
Осия, пророк 459, 468
Огана 593, 636
‘Отниэл 427
Огрей 413
Ох (Вахаука), сын Артаксеркса II, Артаксеркс III 622
Ох (Нот), сын Артаксеркса I, Дарий II614, 745
Павсаний 606, 664
Пактий 584
Пандавы 101, 103
Панду, царь 101
Панини 151
Пань Гэн 191, 192
Паньгу (первочеловек) 314
Папай, божество 560
Парджанья, божество 134
Парикшит 103
Парисатида 614-616, 619, 636
Парменион 623, 624
Партатуа (Бартатуа, Прототий) 386, 418, 523, 554, 555
Патесий 618
Патрокл 722, 723
Пахи 655
Пеках 452, 467, 469
Пекахйа 452, 469
Переломов Л.С. 289, 294, 296
Перикл 612
Перкунас, божество 134
Перун, божество 134
Петр Первый 36
Пи Чжэн 254
Пин-ван (чжоуский) 244, 245, 275
Пин-гун (цзиньский) 256, 267, 278
Пиотровский Б.Б. 414,420
Писирис415
Писсуфн 614
Пифагор 151
Плиний 797-799
Плутарх 47, 48, 665
Погребова М.Н. 33
Полибий 706, 723, 771, 796
Полиен 740, 741, 780
Поликлит 755, 775
Поликрат Самосский 583, 589
Помпей Трог 555, 569, 592
Помпоний Мела 780
Праджапати 100, 145, 147
Псамметих I (Египетский) 390, 393, 418, 481, 494
Псамметих II484
Псамметих III 589, 590
Псамметих, отец Инара 609
Птолемей Клавдий 708, 714, 780
Пукуду 358
Пул см. Тиглатпаласар III
Пуруравас 100, 144
Пуруши, божество 129, 140
Пушан, божество 114, 126, 136
Пушкин А.С. 41, 51
Пьянков И.В. 33, 813
Пэн Шэн 235
Ра, божество 590
Равана 102
Раевский Д.С. 33
Рама 102
Раматейя 523, 524
Рамессиды 448
Рамсес II 421,431,478
Рамсес III 431
Раносбат 740
Резон 452
Реувен 425, 426
Рехав‘ам 429, 450-456
Рецин II 467, 469
Рихтер Г. 658
Робинсон Е. 433
Родогуна 757
Роксана 778
Рудра, божество 136, 138
Руса I 359-362, 412, 413, 415, 416, 522, 526, 537, 547, 548
Руса II 416-418, 526
Руса III 419
Руса IV 419
Рустам 785
Рушундат 636
Рушунпатиша 636
Савитара 136
Садиатт 419
Сакесфар 740
Салманасар III 350, 351, 405, 406, 460, 462, 466, 467, 472,518,519, 581
Салманасар IV 352
Салманасар V (Улулай) 358, 359, 362, 371, 381,469, 489
Самсон (Шимшон) 427, 428
Самуил (Шемуэл) 429, 430, 433, 435, 437-
439, 478
Санбаллат 631
Сацдакшатру (Сандакурру) 552
Сань, клан 225, 227, 234
Саргон (Шарру-кин) II 359-364, 369, 370, 381, 413, 415, 416, 469-472, 490, 512, 521-523, 525-527, 537, 547, 581
Сардури 1406
Сардури II 357,411,412,416
Сардури III 418,419
Сардури IV 419
Сасаниды 636
Сатаваханы 107
Сатибарзан 746, 777
Сатрак (Картазис) 760, 786
Саул (Ша’ул) 428-430, 433^437, 439, 440, 442-444, 449, 458
Сахни Р.Б. 60
Саяна 100
Се 160
Се-ван (чжоуский) 244
Седекия 497
Секудиан (Согдиан) 614
Селевк II 760
Селевкиды 49, 56
Сет, божество 655
Си, клан 264
Си Хо 197
Си Чжэнь 196, 197
Сиавуш 717
Сиамун 448
Сигун Сян 234
Сиеннесий 535
Син-табни-уцур 380
Симбар-шипак 487
Симмах 434
Симонид 601
Симург (Сайна) 702
Симэнь Бао 284
Син, божество 380, 489, 498, 499, 533, 586
Синаххериб (Син-аххе-эриба) 360, 363-368, 374, 379, 383, 384, 387, 416,417,472,474, 490,492, 493, 512, 522, 524, 547, 581, 664, 666
Син-табни-уцур 380
Син-шарри-ишкун (Син-шар-ишкун) 392, 493,496, 532, 533
Син-шум-лишир 392, 493
Сирак 740, 789, 787
Сиракава Сидзуки 167, 196, 224
Сисамн, сын Гидарна 746
Сисикотт 730
Сисимитр 778, 783
Сита 102
Сиу/Сиуни, божество 134
Скамбха, божество 99
Сканда, божество 91, 103
Скил 560
Скилак 710, 742
Скунха 570, 596, 675, 676, 741, 761
Смердис см. Бардия
Соколов С.Н. 398
Соломон (Шеломо) 429, 435, 436, 438, 442, 443, 446-455, 460, 468, 477, 478, 671, 674
Сома, бог 98, 134, 135, 138
Спаргапис 569, 736, 761
Спаретра 734, 761, 762, 787
Спитак 737, 747
Спитам 733, 737, 747
Спитамен 758, 770-772, 777, 778, 783
Статира 619
Стеблин-Каменский И.М. 703, 806, 811
Стейн М.А. 61
Степугина Т.В. 33
Страбон 60, 399, 400, 505, 559, 562, 678, 699, 702, 708, 711, 714, 719, 720, 758, 764, 768, 775, 783
Стратановский Г. А. 796
Су Цинь 154
Суббарао Б. 71
Судаса, царь 99, 133
Сулимирский 418
Сунь Боянь 155
Суньшу Ао 249
Сурья, божество 136
Сухраб 785
Сфендадат (Спентодат) 592, 740
Сы, клан 273
Сы Ю 263
Сыма Цянь 157, 160, 161, 165, 192, 208, 210, 240, 244, 281, 288, 291, 294, 297, 302, 303
Сюань-ван (циский) 310
Сюань-ван (чжоуский) 214, 224, 226, 242, 243
Сюй, клан 274
Сюй («надзиратель стен») 270
Сюн 231
Сюнь (Хун) 228
Сюньцзы 165, 284, 286, 289, 315
Сяди 216
Сян 270
Сян-ван (вэйский) 307
Сян-гун (циньский) 244
Сянцзы 299
Сяо, клан 196
Сяо Туншу 253
Сяо-ван (чжоуский) 224
Сяо-гун (циньский) 292
Сяофу 240
Та 264
Табал 584
Табити, божество 559
Табнит 622
Тай-гун 155
Тамирис 740, 741
Таммариту II 391
Тан, клан 256, 264
Тан Цзэ 264
Таниоксарк см. Бардия
Тантлевский И.Р. 33
Танутамун 389
Таньтай Цзыюй 258
Таргитай 543, 558, 560, 776, 785
Тархунт (Торк‘, Трххиц), божество 403
Тах 655
Тахарка 386, 388, 389
Тахмасп 795
Тахмаспада 594
Тахос 620
Тваштар, божество 136
Тейшеба (Тешшоб), божество 404,420
Темпт-Хумбан-Иншушинак (Те-Умман, Те-умман) 389, 390, 666
Теушпа416, 548
Тиглатпаласар 1351, 396, 487
Тиглатпаласар II 345
Тиглатпаласар Ill (Тукульти-апаль-Эшарра, Пул) 354, 356-359, 365, 368, 369, 377, 411, 412, 416, 466, 467, 469, 489, 490, 512, 520, 521
Тиква 476
Тиссаферн 614-616, 618, 619, 636
Тифравст 608, 619
Той 442
Тойнби А. 40, 41
Тола* 427
Томирис 569, 734, 736, 761, 768, 787
Тохар 714
Тритсу 111
Тугдамме (Дугдамме, Лигдамис) 552
Тукульти-Нинурта II 347
Тун 220
Турваша 111
Тушпуэа, божество 420
Тянь, божество 314
Тянь, семейство 269
Тянь Дань 311
У , клан 270
У , человек из квартала Бэй г. Чэнъян 285
У Дайфу 220
У Дин 185, 192, 196, 197, 202, 206, 219
У И 192
У Фу 234
У Цзи 311
У Ци 299
У-ван (чжоуский) 208, 209, 211, 215, 218,
223,228, 231
Уал(л)и418, 526
Уджагорресент 589, 590
Уззийаху (Азарйа) 452, 465-467
Уилер М. 89
Уксатар (Хувахшатра) см. Киаксар
Улин-ван (чжаоский) 300
Уллусуну 361, 416, 522
Улулай см. Салманасар V
Умманигаш 391
Ун-Амон 432
Урваши, божество 100, 144
Ури 435
Урийаху 459, 482
Уртаки 389, 390
Усиньш, божество 134
Уцзы 256
Ушас, божество 134, 136, 138
Уштан 628
Фан, дом 264
Фанес 589
Фань, клан 270, 273, 280
Фань Вэньцзы 256
Фань Сюаньцзы 267
Фань Шэн 220
Фарасман 758, 760, 799
Фаркас А. 658
Фарн, божество 814
Фарнабаз 614-616, 619
Фарнак (сын Аршамы) 694
Фарнух 771, 772
Фемистокл 598, 605, 636
Ферендат 601, 608, 623
Ферсервис У. 68, 84, 90, 91
Филипп (Македонский) 565, 623, 624
Финкельштейн И. 424
Фирдоуси 775, 785
Фогт У.Ф. 82
Фоменко 35
Фраварти (Хшатрита) 738, 739
Фравартиш (Фраорт) 528-530, 582, 594
Фрада 738-740
Франке О. 153
Франкфорт Г. 658
Фратаферн 745
Фу Хао 329
Фуча 279
Фэй Бао 267
Фэн (Кан-хоу Фэн) 211
Фэн Цзяньцзы 163
Хааз О. 399
Хабрий 620
Хадад (сирийский бог) 462
Хадад (эдомитянин) 452
Хададэзер 442
Хазаэл (Хаза’или) 438, 444, 462, 463, 465, 467, 468
Халди (Халдиа), божество 361, 399,404,410, 414,416, 420
Халлутуш-Иншушинак 366
Хаммурапи 37, 56, 86, 94, 509
Хан Ф.А. 68
Ханан 475
Ханани 454, 456, 464,
Ханацирука 519
Хантингтон С. 40
Хань, клан 274, 280
Хань Старшая, династия 54
Хань Сюаньцзы 272, 274
Хань Сюй 274
Хань Фэйцзы 159, 160, 296, 298, 319
Хань Ци 274
Хаома, божество 134
Харес Митиленский 760
Харрис 431
Хархас 476
Хаушьянгха (Хушенг) 776
Херил Самосский 719, 798, 799
Хизкийаху (Йехизкийаху) 452, 454, 464, 466, 467, 471,472, 474
Хизкия см. Езекия
Хиларуандас 408
Хилкийаху, ассирийский военачальник 471
Хилкийаху 475-478, 480, 481
Хинном 476, 479
Хинц В. 670
Хирам 447, 448, 451
Хнум, божество 655
Хнумемахет 601
Хо Шу 209
Хозайа 454, 475
Хориен 778, 779
Хоу, клан 273
Хоуцзи 207, 224, 225
Хошеа (царь Северного (Израильского) цар-
ства) 452, 462
Хронист 447,463
Ху, клан 274
Ху, владелец сосуда Ху ху 227
Ху, владелец сосуда Ху дин 237, 240
Ху Цинь 275
Хуа Си 256, 264
Хуа Юань 264,278
Хуай-ван (чуский) 290
Хуай-гун (чэньский) 258
Хуан Сэ 299
Хуанфу 214
Хуань-ван (чжоуский) 275
Хуань-гун (луский) 270
Хуань-гун (циский) 276, 277
Хуба, божество 420
Худда, пророчица 476
Хума (Хумай) 733
Хумбан-нимена II (Менану) 492, 493, 581
Хумбан-унташ 493
Хумбанигаш 490
Хумбанигаш II 493
Хун (Сюнь) 228
Хурру, жена Израиля 425
Хутелутуш-Иншушинак 487
Хуэй-гун (цзиньский) 254
Хуэйвэнь-ван (циньский) 299
Хшатрита (Каштариту) 530, 594
Хэлюй 279
Цадок 442,446, 447
Цай211
Цай Шу (Цайшу) 209, 211
Цзай 224
Цзан, клан 271
Цзан Сунь 271
Цзе 305
Цзи, клан 271
Цзи (прозвище Сунь Бояня) 155
Цзи Цюе 250
Цзин, семейство 232
Цзин Би 311
Цзин-ван (чжоуский) 155
Цзин-гун (циский) 265, 273
Цзинь Чэнь 264
Цзисунь, клан 270
Цзо Цюмин 161, 164, 246, 281
Цзу Гэн 192
Цзу Цзя 192
Цзы Дашу 163
Цзы Му 271
Цзы Пи 250
Цзы Су 196
Цзы Сы 259, 273
ЦзыСэ 258
Цзы Цзяо 265
Цзы Чань 163, 253, 264, 265
Цзы Чжань 250
Цзы Шань 264
Цзы Шипу 265
Цзыши, клан 273
Цзы Э 264
Цзы Юй 163
Цзэ, приближенный Чэн-вана 212
Цзэ, клан 225, 227
Цзэнхоу 244
Цзяо-гун (цзюйский) 261
Ци, клан 274
Цидкийаху (Матанйа) 452,483-485
Цин, клан 259, 269
Цин Чжун 243
Цин Фэн 256, 271
Цинь, клан 274
Цинь, помощник 305
Цинь, династия 54, 321
Цинь Шихуанди (Цинь Шихуан, Ин Чжэн)
158, 165, 288, 334, 337
Цицерон 403
Цуй Чжу(Цуйцзы) 258
Цюй 288
Цюй Юань 321
Цюэ 202
Цян, клан 243
Цянхоу 243
Цяо 202
Чан 207; см. также Вэнь-ван (чжоуский)
Чжан Гуанчжи 188
Чжао, дом 264, 280
Чжао, царский сын 270
Чжао Цуй 275
Чжао ШэЗП
Чжао-ван (циньский) 284, 305, 310, 311
Чжи, клан 280
Чжоу, династия 155,192
Чжоу, дом 155, 213, 218, 219, 240, 247
Чжоу, клан 227
Чжоу, род 212, 224
Чжоу-гун 155,211,213,214
Чжуан Синь 299
Чжуан-ван (чуский) 156, 157, 159, 277
Чжуан-гун (чжэнский) 276
Чжуан-гун (чуский) 249
Чжуан-гун (циский) 258, 259
Чжуанцзы 316, 318
Чжужу 261
Чжун, владелец сосуда Чжун дин 231
Чжун, дом 264
Чжунсин, клан 280
Чжуцю-гун (цзюйский) 261
Чжэн Аньпин 299
Чжэн Го 284
Чжэнь 196
Чичишхриш 594
Чишпиш (Теисп) 582
Чу 215
Чуан 227
Чуй, клан 256, 259, 264, 269
Чэн-ван (чжоуский) 155, 210-214, 223, 230,
231
Чэн-гун (цзиньский) 270
Чэньцзы 231
Шаллум 452, 468, 476
Шамаш, божество 385, 498, 500, 502, 524,
525, 676
Шамаш-мудаммик 346
Шамаш-риба 602
Шамаш-шум-укин 383, 386, 387, 390, 391,
493, 530
Шамбара, божество 110, 134
Шамгар 427
Шамгар Бен ‘Анат 439
Шаммурамат (Семирамида) 352
Шамши-Адад V 351, 352, 489, 519
Шамши-илу 408
Шан, династия 215
Шан, род 184
Шан Ян 292-294, 307,319
Шанди 193, 194,216
Шань 229
Шафан 475-477, 485
Шева‘ 443
Шева’, царица Савская 448
Шемайа, пророк 454, 455
Шемайаху 482
Шешонк (Шишак) 449, 451, 452, 456
Ши, клан 266, 271
Ши Бо 244
Ши Дуй 226
Ши Сяошу 266, 271
Ши Хэфу 226
Ши Цзинь 233
Ши Ци 284
Шива, божество 91, 136, 152
Шивине 404, 420
Шилхак-Иншушинак 486
Шим‘он (Шимон) 426, 477
Шифман И.Ш. 453, 480
Шлиман Г. 60
Шпенглер О. 40, 41
Шу И 272
Шу Сян (Ян Си) 268, 272, 274
Шульману-ашаред см. Салманасар III
Шунахшепу 100, 119
Шунь 315
Шурасена 123, 133
Шусуньцзы, клан 270
Шутрук-Наххунте I 486
Шутрук-Наххунте II 364, 490, 492
Шэнь 261
Шэнь, ремесленный мастер 288
Шэнь Шуши 156
Шэньхоу 243, 244
Эа-мукин-зери 487
Эвйатар 439, 442, 446, 447
Эврипид 777
Эвтимед 778
Эгиби 503, 504, 506, 650
Эзра 480, 481,631,634
Эл, бог 458
Эла 452, 456
Эли 429, 434,435, 439
’Элйада 452, 458
Элйаким 483
Эллиль (Энлиль) 375, 488
Эллиль-надин-апли 487
Эллиль-надин-ахи 486
Элон 427, 428
Элханан 438, 439
Эос, божество 134
Эр Бань 273
Эратосфен 699, 703
Эриба-Мардук 489
Эримена 419
Эсхил 604, 605, 678, 756
Этба‘ал 457
Эфор 719
Эфраим 422, 425-427, 453, 477
Эхуд 427, 428
Ю228
Ю Вэйму 233
Ю-ван (чжоуский) 243, 244, 247
Юань 264
Юань, клан 274
Юань Бо 259
Юй, владелец сосуда Да Юй дин 218,220,236
Юй, владелец сосуда Ши Юй гуй 220
Юй, мифический герой 263
Юй, персонаж сосуда Юй гуй 238
Юй, сановник царства Чжао 165
Юй Синъу 237
Юй Фан 242
Юй Цин 160
Юпитер, божество 135
Юрко Ф. 425
Юстин 569
Яду 112
Якобсон В.А. 33, 34
Яма, божество 134, 139, 140, 144
Ями (сестра Яма) 144
Ян 224
Ян, дух 313
Ян Линчжун 264
Ян Си (Шу Сян) 274
ЯнЧжу 320
Ян Ши 274
Ян Шуда 233
Янковская Н.Б. 400
Яншэ (клан) 274
Яншэ Ху 268
Янь, семейство 269
Яньцзы 265, 268, 273
Яо, мастер 288
Яо, мифический правитель 315
Яски 151
Яхве, божество 49, 586, 655
УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ТОПОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
Аби-Андхой, р. 705, 725
Абу-Даби 87
Абидос 602
Абираду 680
‘Авва 470
Агамтану см. Экбатаны
Агдзник 402
Агмадана см. Экбатаны
Аддури, горы 406
Адем, р. 347
Аджигёль 396
’Аза 418
Азека 479, 484
Азербайджан 418, 547
Азербайджан Иранский 360
Азия 94, 424, 528, 530, 539, 543, 544, 555, 556, 561, 570, 628, 716, 723, 724, 732, 733, 742, 743, 784, 796, 798
Верхняя 530
Восточная 172-174,176,178,186,188,312
Западная 64
Передняя 43, 71, 82, 97, 343, 344, 349, 358, 367, 394, 400, 401, 409, 415, 489, 498, 537-539, 541, 543-546, 548-551, 554-557, 561, 566
Северная (Закаспийская) 699
Центральная 64, 86, 88, 93-95, 176, 182, 185, 292, 545, 567, 698, 703, 716, 717
Южная 64, 72, 94, 111
Юго-Восточная 90, 174
Азовско-Черноморский водный бассейн 714
Азовское море (Меотийское озеро) 544, 742,
758
'Ай 421,422
Ай-Ханум 767
Ак-Беит 764
Акауфака 609
Акес, канал 636
Акес, р. 750, 796, 797
Аккад 350, 392,486,487,489,494,521, 531, 588
Акко 432
Акчадарьинская дельта 702
Аладжа-Хююк 413
Алай, хребет 718, 719
Алайская долина 718, 719, 747
Александрия 103
Александрия Крайняя 718
Алзи (Ишува, Страна мушков, Агдзник) 396,
402, 403, 406
Алишар 413
Алишту (Акстафа-Агстев) 407
Аллабрия 352, 361, 516
Алматы 814
Алтай 574
Горный 574
Алты Дильяр-тепе 791
Алтын 10 750, 793
Алтын-тепе 409
Альгамбра 671
Аман 348,350, 351,357, 650
Амаравати, р. 109
Америка 41
Северо-Западная 90
Центральная 40
Южная 40
Амиргийская равнина 718
Амиргийская река 718
Аммон 468, 475, 477
Амри 68
Амударья (Аму-Дарья), р. 61, 88, 570, 572, 589, 700, 702-704, 706, 707, 710, 719, 720, 722, 723, 724, 728, 734, 741, 747, 752,758, 777, 780, 787, 789, 791, 794, 795,801,806, 807
Верхняя 702, 704
Нижняя 570
Амуканни 499
Амуль (Чарджоу) 780
Амун, оз. 344
Амуру 431
Анатолия 86, 650
Западная 431
Южная 460
‘Анатот 447
Анау 799
Анга 109
Ангрен, р. 704, 743
Андхра-Прадеш 96
Антандра 552
Антиохия 103
Аншан (Анзан) 492, 581, 582
Аньи 308
Аньхой 230, 249, 281, 290
Аньян 172, 180, 184—186, 204, 300, 328
Аорн 788
4 Арава 448
Аравийское море 62, 87
Аравия 343, 586, 650, 799
Северная 448,497
Центральная 459,499
‘Арад (Арад) 421, 451, 479, 492,626
Аразиаш 517
Араке (Арахша), р. 401, 405, 407, 408, 420, 526-527, 543, 544, 546, 609, 700,702,704, 719, 720, 723, 734, 736, 741, 768, 724, 731, 742, 786
Аральская дельта 702
Аральско-Каспийский водный бассейн 714 Аральское море (Арал) 568, 702, 719, 723, 724, 731, 742
Арам, Арам-Дамаск 444, 452, 462, 467
Арам-нахараим 427
Арамейское царство 466, 468
Арарат (Масис, Минуахинеле), гора 404,407
Арахозия (Арахосия) 586, 594, 627, 680, 703, 731,739,740
Арахша, р. 741
Арацани (Мурадсу), р. 396,403
Арбела 351, 379, 390, 406, 626, 808
Арвад 389,400
Аргевдаб (Арахот), р. 702, 731, 748
Аргиштихинили (Армавир-блур) 408
Ардви 700; см. также Амударья
Арейская сатрапия 746
Арея (Харайва) 586, 646, 703, 708, 710, 724, 731,734, 746, 751,780
Аржан 545, 575, 576
Арзашкун 350
Ариана 702, 703, 711-714, 727, 754, 778, 779, 783
Арий (Герируд-Теджен) 702, 708, 710, 727, 728, 734, 796
’Ари’эл (Иерусалим) 445
Армареле 406
Арме (Армина, Шубрия?) 403, 411
Армения 403, 420, 582, 594, 596, 619, 623, 627, 636, 646, 757
Восточная (Урарту) 420
Западная 420
Армянское нагорье 33, 350, 395, 396, 400, 403-405, 420, 552, 554
Армянское царство 420
Арнон (Вади-Муджиб) 445
Арпад 344, 357, 401,403, 411, 412, 444
Аррапха 346, 348, 351, 358, 385, 494, 531
Артакоана 708, 750
Арцашку (Арцкэ) 406
Аршакидское царство 786
Арьяварта (Страна ариев) 62
Арьяна-Вайджа 713
Асикни (Акесин, совр. Ченаб), р. 109
Аскалон (Ашкелон) 365, 386, 424, 425, 431, 432,437,450, 478, 492,497, 555
Аскания, оз. 396
Ассадабад, горный проход 516, 518
Ассирия 33, 37, 45, 343-356, 358-360, 362-374, 376, 377, 379-387, 388-394,406-409, 411-413, 415-419, 440, 460, 466,467,469, 470,472, 474,481,487, 489,490,492^194,
496, 518-534, 537, 548, 550-552, 554, 555, 582, 588, 628, 630, 659, 664, 670, 681
Аставена (Устува) 708, 724
Атарот (‘Атаруц) 426, 444, 445
Атранджикхера 107, 108
Атрек, р. 708, 724
Аттика 598, 600, 604, 605
Атуна 415
Аутиара 594
Аучин 791
Афганистан 59, 61, 62, 70, 71, 86, 92, 95, 97, 104,515, 573
Восточный 95
Северный 88, 609, 767, 789, 797
Афек (Эвен-‘Эзер) 421, 433
Афины 45, 597, 598, 600-602, 604, 605, 608-610, 612, 614—616,619, 620, 624
Афонский мыс (мыс Афон) 597, 598, 602
Афрасиаб см. Мараканда
Африка
Западная 90
Черная 41
Афьон-Карахисар 413
Ахал-Текинский оазис 797
Ахар 106
Ахарун 778
Ахеменидская держава 33, 393, 516, 530, 536, 568, 569, 579-581, 588, 592, 593, 596, 597, 609, 616, 618, 619, 622, 623,626-628, 631, 632, 637, 638, 640, 645,648-650, 652, 654, 664, 678, 684, 693, 696, 697, 699, 713, 728, 730, 743, 745, 746, 748, 752, 754-758, 772, 777, 785
Ахиччхатра 108
Ахматана см. Экбатаны
Ацци-Хайаса 402
Ашдод 362, 421, 422, 431, 432, 450, 466, 469
Ашер 426
Ашкуз (Ашкеназ) см. Скифское царство Ашхабад 708, 751
Ашшур 346, 347, 351, 359, 361, 370, 374, 381, 384, 393, 481, 494, 496, 512, 529, 531, 532, 534, 588
Ба 309
Ба‘ал-Гад 457
Ба‘ал-Перацим 457
Ба‘ ал-Тамар 457
Ба‘ал-Хацор 457
Ба‘ал-Шалиша 457
Ба‘ал<е>-Йехуда (Киръят-Баал) 457
Баба Джан III 666
Бабишмулла 746, 750
Баги 750
Бадахшан (Ишката) 86, 707, 718, 726-728, 747, 802
Бадахшан-Мунджан 718
Бази 487
Бактр (Бактры, Балхаб, Зариаспа), р. 706, 714, 740, 741,788
Бактры (Зариаспа, Бала-хисар), г. 706, 728, 733, 737, 743, 748, 750, 751, 754, 755,777, 780, 783, 788, 789, 801, 805, 810
Бактрийско-Маргианский археологический комплекс 95
Бактрия (Бахтри, Бактриана) 95, 584, 586, 592, 596, 609, 626, 640, 646, 650,680, 703, 704, 706, 707, 710-712, 714, 718, 722, 726-728, 730-734, 738-745, 747, 750-752, 754, 755, 767, 775, 777, 782, 787, 788, 790-792, 797-799, 801, 803, 805, 807, 811
Бактрийская сатрапия 743-745, 747, 752, 754
Бала-Ишемская низменность 700
Балакот 72
Бала-Мургаб 704, 710, 748, 752
Балканский п-ов 396, 397, 399, 597, 602, 624
Балхан, хребет 723
Балхан Большой, хребет 722, 734, 736
Бампур 71
Банавали 74, 76
Бангладеш 60
Бандыхан 790
Баньпо 168, 169
Баодэ 183
Баоцзи 169
Балу 249
Баридиш 706
Барка, г. 590, 728
Барка, деревня 728, 751
Бартанг, р. 718
Басиста (Базишта, Вазишта) 707, 750
Батуми 399
Бахрейн 86
Бахтиарские горы 581
Башан 468
Беас, р. 62
Бека‘ 447
Бекабад 707
Белих, р. 494, 531
Белуджистан 61, 62, 64, 66, 68-71, 92, 94, 95, 104, 646
Бенгалия 62
Западная 96, 106, 107, 109
Бенгальский залив 62
Беотия 598, 604, 605, 623
Бесшатыр, курган 573, 812, 814
Бет-Лехем (Вифлеем) 426, 427, 438, 439, 440
Бет-Цова 447; см. также Хамат-Цова
Бет-Шеан 421, 422, 432,436, 437, 442
Бет-Шемеш 421, 442, 451, 465
Бет-Эль 421, 427, 429, 455, 456, 476, 477, 479
Бехистун, гора (Бехистунская гора) 517, 518, 670, 674, 676, 678
Беэр-Шева 423, 442, 449, 460, 471,476, 481
Би, поселение 270
Биайнеле 404, 406; см. также Урарту
Библ (Гевал) 357, 400, 432, 626
Биджар, гора 516, 517
Бикни (Демавенд), гора 357, 385, 517, 521, 523, 698, 702
Бинйамин 433, 434,440
Бирма Северная 62
Бит-Агуси (Дом Агуси) 344, 444
Бит-Адини 344, 347, 348, 350
Бит-Амуканни 344, 358, 488
Бит-Барруа 517
Бит-Бахиани 344
Бит-Даккури см. Борсиппа
Бит-кари 524
Бит-Син-магир 487
Бит Хазаили (Дом Хазаэла) 444
Бит-Халупа 347
Бит Хамбан(а) 357, 517, 518, 520-523
Бит Хумри (Дом ‘Омри) 444
Бит-Якин 344, 358, 365, 384, 488, 490
Бихар 106, 107, 109
Бо, алтарь 259
Богазкёй 413
Болан, проход (Боланский перевал) 64, 95
Болан, р. 61, 64
Болдай-тепе 797
Болдайский канал 797
«Большая Согдиана» 707
Большой Хорезм 710
Борсиппа (Бит-Даккури) 344, 358, 362-363, 384, 390, 488, 493, 498, 500, 502, 506, 586, 602
Боспор Киммерийский 544, 714, 716, 720, 723, 741; см. также Керченский пролив
Босфор 398, 399
Бохтансу, р. 403, 405
Боцзюй 279
Боцката 475
Брахмагири 107
Бубакена (Бумак) 706
Бубастис 654
Бузгала, проход 704 Бхагванпур 107-109 Бэй, квартал 285 Бэй, местность 232 Бэйиньянъин 248
Бэйлоушуй, р. 307 Бэймэн 192 Бэйсичжуан 248 Бэйшоулин 169 Бэнь 243
Вабкентдарья, р. 797
Вавилон 56, 352, 363-367, 384, 387, 390, 391, 418, 419, 469, 470, 472, 474, 480, 481, 483^490,492-494,497-499, 500, 502, 506, 508, 512, 531, 533, 534, 583, 586, 588, 589, 594, 602, 616, 618, 619, 622, 631, 636, 649, 650, 652, 654, 660, 681, 732, 745, 805
Вавилония 33, 37, 56, 343, 344, 348, 350-352, 356-359, 362, 368, 381, 384, 391-393,472, 479, 481, 483-490, 492-494,496,497, 499, 502-512, 522, 529-531, 533-535, 583, 584, 586, 588, 592-594, 602, 616, 618, 619, 626-628, 630, 632, 634, 635, 637, 638, 640, 644-646, 650, 652-654, 659, 662,664,681, 728, 732, 756 Северная 366, 385 Центральная 503 Южная 380, 488, 492, 503
Вади-Хаммамат 682
Вазд 707
Ван, г. 404, 407
Ван, оз. (Ванское озеро) 350, 361, 403-407, 410,416
Ван 406; см. также Урарту
Ванская скала 407,414
Ваньпу 260
Вахан 726
Вахш (Вахшу), р. 718, 719, 789, 794, 797, 801, 806, 807
Вахшская долина 795, 797
Великая Китайская стена 313
Великий пояс степей 515
Великий Хорасанский путь (Хорасанский путь) 516-519, 521,525, 659
Видеха 109, 110
Византия 55
Виндхья, горы 62, 97, 110
Вифиния (Битиния) 399
Вишпаузатиш 596, 738
Волга (Ра), р. 546, 566, 698, 719, 720, 723
Нижняя 567
Ворукаша 702; см. также Каспийское море
Восток 42, 50, 51, 191, 415, 538, 544, 550, 556, 658, 780
Ближний 33, 37, 42, 45-47, 63, 350, 407, 428, 440, 448, 464, 489, 496, 503, 517, 537, 538, 541, 546, 548-552, 554-557, 561, 566, 578-580, 634, 664, 665, 698
Дальний 43, 57-58
Передний 341-342, 796
Средний 519, 579-580, 698
Вэй, владение 211, 246, 247, 276, 278, 292
Вэй (Вэйхэ), р. 168, 196, 207, 241, 244
Вэй, царство 154, 158, 209, 252,258-260,280, 281, 284, 287, 291, 292, 296, 297, 299, 302, 303, 307-312
Вэй Малое 308
Вэнь, обл. 274, 275
Вэньсань 196
Габаза (Газаба) 707
Габлину 531, 532
Гава Согдийская 703
Гавайи 90
Гавгамелы 626, 744, 745, 770, 777
Гад 425, 426, 444
Газа (близ г. Кирополя) 750
Газа 358, 360, 431, 432, 447, 450, 471, 497
Гай 212
Галикарнас 398, 589, 624
Галилея 427, 434, 442, 469
Галис (Кызыл-Ирмак), р. 399, 402, 413, 528, 530, 534, 535, 583, 612
Галия 636
Гамбулу 344, 362, 384
Гамир (Гомер, Гамирк*) 398, 522, 547, 548,552
Ганверивала 74, 76
Ганг, р. 62, 93, 94, 97, 100, 106-112
Гандара 747
Гандар итида 754
Гандутава 594
Гандхара (Гандарика) 110, 586, 646, 680, 726, 736, 742, 748
Ганешвар-Кхетри 62
Ганьсу 171,281,323,717
Гао 201
Гаоду 287
Гаону 288
Гаопин 311
Гаочэн 178
Гат (вероятно, Тель Сафит) 431, 437, 438, 440,451,466
Гаты Западные и Восточные 62
Гаур-кала 789
Гева476, 481
Гедросия 586
Гезер 424, 425,448,450
Гекатомпил 708, 796
Гелилот429
Гелиополь 682, 684
Геллеспонт (Дарданеллы) 602, 608, 616, 624, 646
Герар 430
Герат 702, 708,710, 731,734
Гератский оазис 708, 710,780
Герея 750
Геризим, гора 480
Герм (Гедиз), р. 413
Германия 419
Гермополь 652, 654
Западный 654
Герры 560, 561
Гетская пустыня 562
Гив‘а429, 433
Гив‘ат-Киръят<-Йеарим> 434
Гив‘ат ха-’Элохим (Гив'ат-Бинйамин— Гив4а Бинйаминова, Гив‘ат-Шаул — Гив‘а Сау-лова) 433-435
Гив‘он (Гив‘а, Гева‘, Гаваон, совр. эль-Джиб) 421, 433, 434, 440, 444
Гив‘о>уГив4а Саула 436
Гидара 346
Гизильбунда 517,519, 520
Гил‘ад 427, 428, 434, 468,469
Гилбоа, гора 436, 437, 440
Гилгал 428
Гилгит 726, 727, 747
Гильзану 350, 406
Гильменд, р. 71, 702, 731, 739, 748
Гилян 725
Гималаи 61, 62, 86, 110, 134,726
Гицдару 344
Гиндукуш ((Ишката) Упарисайна, Парнес, Парапа(р)нис, Паропамис) 586, 698, 702-704, 719, 726, 727, 733, 736, 739, 752
Гиндукушско-Гималайский регион 727
Гипанис (Южный Буг), р. 558
Гиркания (Гурган) 535, 582, 596, 609, 614, 622, 628, 631, 646, 708, 710, 722-724,728, 732, 734, 742, 751, 752, 758
Гирканская равнина 718
Гирканская сатрапия 746
Гирканский залив (Гирканское море) 702, 708; см. также Каспийское море
Гиссаро-Кугитанский хребет 800
Г иссарская долина 718
Гиссарский хребет 704, 706, 707, 752
Гихон, источник см. ‘Эн-Гихон
Гозан 470
Гозбун 725
Гоманвала 76
Горган (Астрабад, Задракарта) 708, 750
Горганская низменность 708
Гордион 413, 414, 551,552
Гори 547
Город Бранхидов 728
Город Мидаса 413,414
Град Давидов 436,440
Граник, р. 624, 756
Греция 38, 48, 60, 414, 415, 420, 597, 598, 601, 602, 608, 609, 612,614—616,618-620, 623, 624, 630, 650, 728, 743, 745, 756 Центральная 604
Грузия 401
Западная 412
Гуандун 322
Гуджарат 61,69-71, 88,93, 96
Гузана (Телль-Халаф) 359
Гузар 707
Гуйлин 308
Гуйфан 238
Гун, местность 200
Гун, обл. 242
Гур 727
Гургум (Марат) 357, 362, 402, 416
Гхаггар, р. 61, 76, 93,108
Гэн216
Гяур-кала 783
Да 227
Давэнькоу 170, 171, 172
Дай 300
Дайаэне (Диаухе, Тао) 402,404
Дайени 350
Даймабад 106
Дайфан 195
Даккуру 499
Далян 304, 308
Дамаск 344, 350, 352, 357, 358, 401, 406, 411, 442, 452, 456, 460, 463,467-469, 472, 805
Дамган 71, 707, 708, 738, 745
Дан 425,442, 449, 455, 456
Даньту 212
Дарьяльское ущелье 547
Даскилейская сатрапия 630
Дасыкунцунь 186
Дахани-Гуламан 793
Дахистан 724
Дачэншань 172
Дашлынский оазис 793
Девир (Хирбет-Рабуд) 421
Декан, плоскогорье 62
Западный 106, 109
Дели 93, 108
Дельта (Египет) 386, 388, 609, 610, 616, 623
Западная 610
Дельфы 414, 583, 584
Демавенд см. Бикни
Деметрия 808
Денаусский р-н 790
Дер 360, 389, 391,487,490, 493,494, 512, 531
Дербент 704
Дешт-и Кевир (Соляная пустыня) 517, 521
Деште-Лут, пустыня 88
Джалипур 68, 72
Джеба 433
Джебель Джингар, хребет 534
Джелам, р. 62
Джигербент 791
Джорве 106
Джунгарские ворота 717
джхукар, археологическая культура 95, 104
Дивон (Дибан) 426, 444
Дивриги, р. 402
Дидимы 728
Дилбат 493,602
Дильмун 86, 363; см. также Бахрейн
Дингильдже 792, 798
Дияла, р. 88, 348, 352, 357, 367, 408,411, 486,
516,518, 534, 586
Днепр, р. 515
Нижний 564
Днестр (Тирас), р. 562
Доаб (Джамна), р. 62
Дом Тогармы (Торгом) 419, 420
Дом Ханунии см. Хнусис
Дон, р. 543, 544, 546, 562, 566, 714, 716, 742; см. также Танаис (Дон)
Дор 432
Дориск 608
Доу 226
Дрангиана 400, 586, 646, 718, 719, 731, 733, 793; см. также Иран Восточный
Дришадвати 76, 109
Дуй 231
Дун 200
Дунай, р. 400, 543, 561, 741, 742
Дунтин, оз. 311
Дур-Куригальзу 347
Дур-Шаррукин (Хорсабад) 363, 666
Дур-Шульману-ашаред 350
Дхолавира 74
Дянь 225
Е232
Евразия 33, 55, 94, 338, 537, 539, 542, 545, 549, 567
Европа 36, 38, 42, 45, 52, 55, 56, 365, 544, 546, 602,716,719, 724, 785
Западная 55
Восточная 538, 539, 542-546, 549, 550, 556, 565, 566, 569
Юго-Восточная 703
Евфрат, р. 344, 346-348, 350, 356-358, 365, 367, 393, 396, 401,402, 407, 412,415,442, 447, 481, 487-489, 492, 494, 496, 531, 533, 594,618, 628
Верхний 395-397, 401-404, 407, 413
Египет 38, 39, 44, 50, 51, 70, 84, 89, 343, 350, 360, 362, 364, 367, 383, 386, 388-391,417, 418, 421, 424, 431, 440, 447, 448, 450-452, 455, 456, 460, 468, 469, 472, 482, 483,485, 493, 496, 497, 499, 502, 503, 532-534, 555, 556, 583, 584, 589, 590, 592, 594, 601, 602, 604, 608-610, 612, 616, 618, 620, 622, 623, 626-628, 630-632, 634-636, 638, 640, 642, 645, 646, 649, 650, 652-654, 664, 666, 680, 682, 684, 686, 688, 738, 756, 757 Верхний 386, 420, 424, 590, 609, 635, 684 Нижний 388, 424, 635, 642, 684
Южный 448
Енисей, р. 576
Ереван 407, 409, 418
Есянь 278
Железные ворота 704, 706, 707, 752; см. также Бузгала
Желтое море 281
Жэньфан 195, 206
Заб Большой, р. 344, 404, 416, 522
Заб Малый (Нижний), р. 344, 348, 352, 361, 516,518, 531
Заволжье 567, 717, 720
Загиндукушье 702, 704
Загрос, горы (Загросские горы) 64, 357, 382, 405, 486, 492, 516-518, 525, 581, 675
Зазана 594
Заиорданье 421, 423-426, 440, 445, 468
Северное 462
Южное 465
Зайсан, оз. 574
Закавказье 33, 350, 395, 396, 398, 400, 405, 408, 411, 412,417—419, 516, 522, 526, 547, 550, 554,650
Восточное 547, 555
Закаспие 736
3амуа348, 350, 357, 362, 385, 522, 525, 526
Внутренняя 518, 519
Занку 487
Запад 35, 50,51,55,414, 420
Западные ворота 228
Зардашт 516, 518
Заречье 628, 630, 631
Зариаспа 714, 788; см. также Бактры
Зар-и Пуль 676, 678
Зевулон 427
Зекерта416
Земля Обетованная 421-426
Зенджан 516
Зенджан-руд, р. 517
Зеравшан (Политимет), р. 702, 706, 707, 750, 777, 779, 789, 795, 797, 801
Зеред (Вади-Хаса) 445
Зивие 418, 550, 660
Зикерту 361
Зиндан-и Сулейман 671, 672, 692
Зинджирли 403, 450
Зияддинские горы 801
Зузахия 594
И, обл. 235, 236
Игда 700, 723, 736
Иду 487
Иерихон 422, 428, 433
Иерусалим 38, 49, 364, 367, 426, 433, 435, 436, 440, 442^445, 447, 449, 450, 451, 453-456, 463-467, 471, 472, 474-485,497, 507,512, 631,634
Изада 594
Изник, оз. 396
Израиль 33, 351, 357, 359, 421-424, 426-431, 433, 435-437,440, 442^47,449-452,477, 480
Израиль (Единое царство) 51, 429, 434-436, 442, 443, 445, 448, 453, 454
Израиль (Израильское (Северное) царство) 51, 359, 444, 446, 452-457, 459, 460, 462-471, 474, 478, 479, 481, 482, 485
Израиль (Южное царство) 436
Израиль (народ) 425, 453, 463, 470, 478
Изреэль 460, 462
Изреэльская долина 427, 436, 442
Илак 743
Или, р. 814
Имгур-Эллиль (Балават) 405
Ин, г. 279,311
Инамгаон 107
Инаят Куйла 95
Инд, р. 59, 60-63, 66, 68-72, 80, 84,86,94, 95, 106, 109, 111, 596, 703, 726, 742, 744, 745, 754
Верхний 718, 747
Индийский Кавказ 704
Индия 33, 37, 60-62,71, 88, 91, 96,97,99, 101, 104,113, 117, 119, 133, 144, 149, 150, 152, 515, 539, 586, 596, 604, 620, 626, 628, 631, 646, 650, 671, 680, 693, 703, 726, 728, 730, 742, 748, 755, 762, 786, 803
Северная 100, 107, 112, 134, 573, 719, 720, 722, 725, 760, 761
Северо-Западная 106, 109,736 Южная 107
Индо-Гангская низменность 62, 113
Индостан (Индостанский п-ов) 33, 57-58, 93, 107, 111, 113, 539
Центральный 72
Индрапрастха 108
Инь, г. 192
Инь, государство 207-209, 215, 218, 227, 229
Инь, местность 191
Ионийская сатрапия 630
Иония 398, 538, 584, 597, 628, 646, 670, 674, 680, 728, 756
Иордан 429, 433
Иордания 485
Ирак 394
Иран 61, 70, 71, 82, 86, 92-95, 141, 404, 405, 409, 420, 470,498, 515-526, 530, 534, 535, 539, 548, 552, 574, 581, 582, 592, 602, 619, 628, 640, 644, 645, 659, 660, 668, 670, 671, 684, 693, 742, 747, 762, 776, 799, 800 Восточный 104, 400, 626, 737, 805 Западный 666 Северо-Западный 519, 521, 714
Иранское нагорье/плато 33, 400, 416, 513-516, 518, 539, 547, 702, 708, 714, 726, 737
Ирбуне (Эребуни) 407
Иртыш Верхний, р. 717
Исаврия 398
Искендерун (Александретта), залив 398, 415
Исламабад 71
Испания 400, 419, 670
Исс 626
Иссенский залив 650
Иссин 55, 486-488,512
Иссык, курган 573, 814
Истр 561, 741, 742; см. также Дунай
Италия 51
Иудея (Йехуда, Иудейское (Южное) царство) 33, 49, 51, 365, 391, 421, 446, 451-456, 458, 463-468, 472,474-479,481^185, 497, 534, 630, 631,640, 648, 649
Северная 456
Центральная 472
Южная 472
Ицюе 310
Ичэн 311
Ишката 703, 731
Йавеш-Гил‘ад 437
Йавне 466
Йано'ам 424, 425
Йауди 466
Йаукин 483
Йехуда, удел 433, 434, 453
Ка‘ба Зороастра 671, 692
Кабисс 416
Кабул (Кубха), р. 62, 95, 109, 702, 726, 731, 733, 742
Кавказ, горы 71, 398, 420, 515, 544, 547, 548, 555, 725, 780
Северный 546, 565, 716, 717
Северо-Восточный 720
Кадеш 431
Кадеш-Барнеа 458
Казахстан 94, 698, 799
Северный 716,717
Северо-Восточный 574, 720
Центральный 573
Южный 572, 803
Каир 424
Кайфын 282, 308
Какзу 379
Калалыгыр 1 746, 750, 791, 792
Калалыгыр 2 803
Калибанган 61, 68, 69, 71, 72, 76, 91
Кальху (Калах, Нимруд) 348, 351, 354, 362, 368, 379, 467, 470
Кама, р. 764
Каменское городище 564
Кан 232
Канга (Кангха, Кангюй) 760
Као 226
Капарас 791
Капишакани(ш) (Каписа) 594, 733, 739
Каппадокия 368, 398, 399, 418, 420, 552, 583, 627, 636, 644, 646
Кар-Ашшур-аха-иддин 386
Кар-кашши 524
Кар-Нергал см. Кишессу
Кар-Шаррукин см. Хархар
Кара-тепе 799
Каракорум 61
Карамазарский хребет (Серебряная гора) 801
Каратау, хребет 572
Каратегин 718
Карачи 62
Кария 398, 614, 616, 619, 620, 631, 646
Каркар 350, 360, 460, 462
Каркемиш 344, 348, 350, 357, 360, 401, 403, 415, 482, 496,512, 533, 534
Кармания 592, 739
Кармела 466
Кармир-блур см. Тейшебайне
Карнаб 801
Карнак 425, 478
Карнакский храм 456
Карс 405
Карфаген 45, 478, 602
Карры 771
Каску 402,411,416
Каспапир (Каспапюр, Каспапура) 726-727, 742, 747
Каспийские ворота 698, 703, 707, 710, 742, 748, 754
Каспийское море ,352, 418, 526, 568, 622, 698, 700, 702, 703, 708, 719, 720, 722-725, 731, 734, 736, 741, 742, 747, 780
Каспийское устье Окса 723, 724
Катаония (Киццувадна) 399
Катхиавар, п-ов 109
Каушамби 108
Качи, долина 64, 70, 72
Кашгар 719
Каши 109
Кашиари, горы 347
Кашкадарья, р. 707
Кашмир (Каспирия) 62, 107, 725, 726, 747
Кашмирская долина 726
Кветта 66, 70, 96
Кей-Кобад-шах 792
Келиф 704, 707, 752
Келькита, р. см. Лика
Кериот 444
Керки 704, 707
Керман 86
Кермания 680
Керманшах 352, 516, 518, 675, 676
Керхе, р. 352, 362, 364, 492, 680
Керченский пролив 544
Кешефруд (Каспийская река), р. 725
Кибистра416
Кидрон, р. 476, 477
Кидронская долина 471, 476
Кизик 648
Кизыл-тепе 790
Киликия 347, 351, 362, 398, 416, 419, 431, 451,496, 498, 512, 535, 598, 610, 620, 622, 626, 630, 631,646 горная (Хилакку) 402 равнинная 398, 415
Кимы 413
Киото 201, 203, 204
Кипр 86, 363, 364, 384, 386,431, 432, 504, 608, 610, 612, 620, 622, 623, 631, 646, 650, 756
Кирбит 389
Кирена 610
Киренаика 590
Кирополь (Киресхата, Кир Эсхата) 733, 750, 768, 772
Киррури, перевал 406
Киръят-Йе‘арим (Ба‘ал<е>-Йехуда, совр. Дейр эль-‘Азар) 433, 435
Кисик391
Китай 33, 38, 43, 54, 72, 153, 155, 157, 158, 163, 165, 172, 174, 178, 182, 189, 191,204, 221, 226, 245, 249, 255, 266, 276, 279-283, 288, 289, 291, 296, 304, 305, 312-314, 321,322, 324-327, 329, 331, 333, 334, 336-339, 574, 703, 717, 788, 799 Западный 334 Северный 168 Северо-Восточный 232, 322 Центральный 322, 323 Юго-Восточный 322 Юго-Западный 292 Южный 292
Китий 610
Киш 60, 364
Кишессу (Кар-Нергал) 359, 517, 518, 521, 522, 524-526
Киштан 412
Клазомены 419
Клухор, перевал 412
КНР 322
Кобадинский оазис 792
Кой-Крылган-кала 758, 794
Кокча, р. 88
Колофон 398
Колхида 401, 402, 407, 420
Комисена (Кумис) 707
Коммагена (Куммуху) 357, 363, 402, 411, 412,415,416
Коморин, мыс 62
Кония, равнина 397, 399
Копетдаг 702, 708, 714, 723
Коринф 604, 619, 623
Коринфский перешеек 604
Кот-Диджи 68, 76
Кофангий (Кухистан) 706
Кошала 109, 133
Красноводский залив 700
Красное море 442, 650
Криг 398, 431
Ксениппа (Нахшеб) 707
Куйцю277
кулли, культура 70, 86
кулли-мехи, культура 69
Куляб, р. 706
Кум(м)е (Кумену) 404
Куммуху см. Коммагена
Кумран 459
Кунакса618
Кундуз, р. 706
Кундуруш 594
Кунтиллет-1 Аджруд 458
Куньмин 230
Кура, р. 407
Кураминский хребет 704
Куркат 733
Куррат, р. 62
Куру-Панчала 112
Курукшетра 101,103, 109,112
Курушкада 733
Курха 460
Кута 470, 586
Кутлуг-тепе 790
Куту 390, 493
Кух-и Гарин, хребет 517
Кух-и Рахмат, гора (гора Милосердия) 686, 692
Кучук-тепе 792
Куш (Нубия, Страна эфиопов) 420, 590, 601, 623, 653, 750
Кушанское царство 712
Куэ (Ку’э) 351, 402, 403,415
Кызыл-Ирмак, р. см. Галис
Кызылсу, р. 719
Кызылтеме 791
Кызылча-6 792
Кэшэнчжуан II 171, 207
Кюзелигыр 783, 798, 801
Кюльтепе413
Лаврийские серебряные рудники 604
Лагаш 60, 88
Лаиш см. Дан
Лай (Ли), владение 259
Лай, поселение 259
Лаке 344, 347
Лампсак 648
Лан 160
Ларса 498, 500
Лахиш 421, 422,458, 465, 472, 479, 484, 485
Лесбос, о. 398, 400
Ли, местность 231
Ли, обл. 259
Ливан 348, 351, 431, 432, 447, 650
Ливанские горы 642, 680
Ливия 424, 583, 728
Лидия 33, 389, 395, 398, 401, 413, 418-420, 496, 499, 528, 534, 535, 551, 552, 582-584, 614, 619, 620, 646, 650, 674, 680, 728, 732, 756, 805
Лидийская сатрапия 597, 616, 630
Лика (Келькита), р. 402
Ликия (Лукка) 398, 646
Линьцзы 285, 286, 311
Линьчжан 284
Линъюань 212
Лита’у 344
Лиян 285
Ло (Лохэ), р. 212, 241,284
Лои (совр. Лоян) 213, 244, 310; см. также Чэнчжоу
Лотхал 61, 71, 72, 76, 86, 88
Лу, владение 211, 212, 271, 278, 308
Лу, царство 158-161, 245, 247, 252-254, 258, 259, 276, 279, 280
Лугунлу 176
Люлинь 170
Луншань 171, 172, 174
Лунъю 200
Люхэ 248
Лян 232
Лянтянь 225
Лянчжу 171,322, 326, 333
Ляншань 208
Ляньтянь 299
Ляонин 212,322, 325
Магадха 109, 134
Маган 86
Магнесия 652
Мадхьядеша 109, ПО, 112
Мазак (Кайсери) 413, 415
Мазандеран 523, 708
Мазари Шериф 789
Маймург 707
Македония 596, 597, 605, 606, 622-624
Макран 70, 88, 92
Малая Азия 33, 343, 344, 357, 362, 389, 395-403, 405, 413, 415—420,496, 503, 516, 522, 533-535, 538, 550-552, 554, 583, 584, 586, 589, 597, 601, 602, 605,608,612, 614-616, 618-620,622-624, 627, 628,631,632, 635, 636, 645, 648-650, 655, 665, 693,694, 699, 728, 732, 756, 805
Малва 106, 107
Малин 309
Мальва 94
Мамисон, перевал 412
Мангышлак, п-ов 572
Манна 352, 360, 361, 385, 516-522, 525-527, 531, 532, 534, 547, 548, 552, 659
Маннейское царство 550
Мао 238
Маоцзяцзюй 230
Марад 505
Мараканда (Самарканд, Смараканда, Афраси-аб) 707,710,750,767,768,777,783,788, 789
Марафон, равнина (Марафонская равнина) 598, 600-602
Марв-и Дашт, долина 686
Марг, р. 706, 722
Маргиана (Маргу) 95, 586, 594, 596, 703, 706, 710, 711, 718, 722, 724, 731, 733, 738-740, 750, 751, 780, 783, 789, 791, 798, 800, 805
Маргианская пустыня 725
Мары 789
Маса 398
Масличная гора 466, 477
Массата 720
Матиана (Мантиана) 404; см. также Урмия
Маханаим 440
Махараштра 94
Махарит 444
Махидашт, долина 518
Мацзябинь 169-171
Мачэн 279
Меандр, р. 584
Мегиддо 421,422,442, 450,456, 464,469,481
Медина 36
Мединет-Хабу 431
Междуречье 800
Меймене, оазис 706
Мейшта, крепость 407
Мекка 36
Мекран 646
Мелиайская река 407; см. также Евфрат
Мелид (Мелития, Мелитена, Малатья), г. 357, 384,401
Мелид-Камману (Комана Катаонская, Великий Хатти, Хате, Дом Тогармы, Торгом), царство 402, 406-408,415^117,419,420
Мелидду 351
Мелухха 86
Мемакена 707
Мемфис 386, 388, 389, 589, 590, 609, 610, 623, 631,652, 654, 755
Меотида, Меотийское озеро 723, 724; см. также Аральское море
Мерв 789, 798
Мервский оазис 706, 780
Меридово озеро 636
Мерсии 415
Мертвое море 481
Меса 517, 519
Месопотамия (Двуречье) 37, 38, 43, 46, 51, 55, 59-61, 69, 70, 80, 82, 86, 88, 89, 94, 348, 350, 359, 363, 365-367,382,384,388, 390, 393, 401, 432,469-471,487-489,496, 499, 508, 510, 516, 533, 586, 588,628,644, 664, 675
Верхняя 396, 401, 407, 427, 496, 534, 586 Нижняя 401, 404
Северная 343, 344, 470,482, 533, 534
Северо-Западная 533
Южная 37, 86, 381, 390, 391
Месопотамская низменность 518
Мехргарх 61, 64, 66, 68, 70, 72, 86, 95
Мецад-Хатир 423
Мешек 420
Мешхед 708
Миандуаб 516, 519
Мианэ 516
Мидийская сатрапия 746, 752
Мидийское царство 33, 385, 392, 393, 515, 516, 518, 525, 526, 528, 530, 534-536,582, 630, 659, 731, 732
Мидия (Страна гутиев) 361, 385, 389, 392, 416-420, 470, 481, 496, 499, 516-535, 546, 555, 566, 582, 584, 588, 593, 594, 602, 616, 627, 646, 659, 703, 732, 734, 737-739, 746, 747, 754 Западная 522
Микале, мыс 608
Микены 432
Милет 398,419, 583, 597, 728
Мин 202
Минусинская котловина 576
Миньинь 238
Миньцзян, р. 284
Миршадинский оазис 791
Мисия 398, 552, 620, 622, 646, 756 Митанни см. Ханигальбат
Мицпа 429, 485
Моав 442, 445,457, 462, 468, 475
Моголтау, горы 704
Монголия 176, 186
Москва 56
Московское княжество 55
Мохенджо-Даро 41, 60, 61, 63, 68, 71, 74, 76, 78, 82, 89, 93, 111
Мраморное море 398, 413, 612
Муцацир (Ардине, «Город») 361, 368, 401, 404, 406,412,416,417
Мунджан 718
Мургаб, р. 706, 710, 718, 722, 796
Мургабская долина 665
Мхери-дур (Мехер-капусы), скала 407 Мяньчи 157, 168
Мяодигоу I 168
Мяодигоу II 170
Мяопубэй 184
Набатея 391
Навдатоли 107
Нагиту 365
Нагорный Карабах 412
Наири 347,348,351,384,400,403,405,406,519
Наксос, о. 598
Накш-и Рустам 660, 671, 692, 693
Нала, горы (Армянский Тавр) 407
Намазга III 66
Намар 518-520
Нанкин 169
Наньгуаньвай 176
Нармада, р. 62
Насик 107
Наутака (Наукат) 707
Неби’ Самвил 433,436
Неваса 107
Нево 445
Негев 423,447, 451,465
Негев хак-Керети 432
Непал 60
Нигдэ415, 416
Нил, р. 386, 609, 610, 623, 650, 684, 795
Ниндовари 69
Ниневия (Нин) 347, 350, 351, 363, 365, 366, 379, 384, 385, 388-391, 393, 472, 481,492, 494,496, 512, 523, 528, 529, 531-533, 555, 582, 664, 666
Нинлин 278
Ниппур 86, 366, 389, 390, 392, 488, 490, 492-494, 500, 512, 531, 635, 636, 654
Нисейская долина 799
Нисея (Нисайа, Ниса, Парфиена) 706, 708, 724, 751
Нисибин (Нисибис, Нацибина, Мцбин, Ну-сайбин) 346, 396
Нишапур 796, 800
Нишапурские горы 707
Новгород Великий 33
Нововавилонская держава, Нововавилонское (Халдейское) царство 33, 393, 482, 485, 486, 494, 496, 499, 534, 628
Нонноктха 174
Норшун-тепе 550
Ноха 106
Нубия см. Куш
Нуристан 728
Нуш-и Джан 659, 660, 672
Ню 231
Нюцунь 247
Озерный край 731
Оке (Вахшу), р. 700, 704, 706, 710, 720, 722-724, 728, 734, 741, 777, 780,794, 801, 806; см. также Амударья
Окса, храм 764, 767, 794, 803, 806-809
Оксийские горы 723
Оксийские озера и болота 724, 780
Ольвия 558, 564
Оман 61, 86
Опис (Упи) 365, 492, 498, 586
Орда 48
Ордос 717
Орду 402
Орисса 96, 109
Оронт (Аси), р. 348, 350, 360, 403, 431, 460
Ортоспан 748
‘Офел 449, 471
Офир 448, 464
Офра 430
Ох (Ваху), р. 706, 708, 724
Павкелаотида 727; см. также Каспапир
Паю 516, 518
Пазы рык, горная долина, урочище 574, 799
Пакистан 60-64, 68, 70
Северный 95
Пактол, гора 401, 413
Палестина (Пелешет) 350, 360, 362, 364, 367, 386, 422, 424, 425, 431, 457, 480, 496, 497, 533, 589, 608, 620, 622, 628, 634, 646, 649 Северная 481
Пальма Деворы 427
Пальмира (Тадмор) 447
Памир 62, 572, 573,719,727,801, 803, 811, 812
Восточный 764, 811
Памирское нагорье 762
Памиро-Алтай 698, 700
Памфилия 398, 646
Паньлунчэн 178, 180
Папремис 609
Паран, гора 459
Парантака (Паретакена) 706, 754, 778
Параупарисайна см. Загиндукушье
Парахоатра (Пурухватра), гора 702
Парварим 476
Парга, гора 594
Парс 515,516; см. также Фарс
Парса см. Персеполь
Парсуа 351, 352, 357, 361, 385,407, 408, 518— 523, 525, 526, 581
Парсуаш (Парсумаш) 492, 515, 581, 582; см. также Персия
Партуа 727
Парута 703, 731
Парфия (Партава) 535, 582, 592, 594, 596, 628, 631, 646, 707, 708, 710, 732, 734, 738, 739, 742, 745, 747, 751, 754
Южная 796
Пасаргады 582, 592, 616, 626, 650, 658, 660, 662, 664-666, 668, 670, 671, 674,681, 692, 696, 748, 779, 806
Патиграбана 596, 738
Патишхвар (Патуш’арра) 517, 523
Патрос 420
Пафлагония 399, 631, 646
Пекин 191, 212
Пелопоннес 605, 606
Пелусий 589, 622, 623
Пенджаб 60-62, 69, 71, 74, 93-95, 99, 104, 109, 111, 124
Западный 107
Северо-Восточный 95
Пенджикент 707
Первый нильский порог 596
Персеполь (Парса, Тахт-и Джамшид) 601, 626, 632, 634, 637, 640, 641, 642, 644, 649, 650, 656, 658, 665, 666, 668, 670, 674, 678, 681, 684, 686, 687, 690, 692, 694, 696, 697, 730, 748,755, 764, 779, 791,793, 794, 805, 806
Персида (Персис) 515, 703, 711, 736, 739, 779; см. также Персия
Персидская держава 561, 570,582,592,602,612, 627,638,649,731,732,738,740,743,745
Персидский залив 86, 344, 347, 356, 358, 365, 488, 489, 499, 739
Персия 47, 499, 515, 529, 530, 534-536, 562, 582, 583, 590, 592-594, 602, 609, 610, 612, 619, 620, 623, 624, 627, 631, 632, 634, 640, 642, 644, 650, 686, 732, 750, 779, 796
Пессинунт 413
Петра 465
Пинъин 273
Пирак 72, 104
Пир‘атон 427
Писидия 396, 398
Платеи 600, 605, 606, 608, 770
Поволжье 565, 725
Нижнее 546, 717
Поднепровье Нижнее 558
Политимет, р. см. Зеравшан
Понт 396, 399, 401, 402,415,419
Понт Евксинский, море 529, 758
Предкавказье 544, 546, 554, 561
Приазовье 557, 565
Северное 544
Приаралье 570, 719, 720, 760, 762, 764, 765,
767, 795, 797, 812
Южное 572
Приена 419
Прикамье 764
Прикаспие 646, 813
Восточное 720, 734
Северное 539, 698, 760
Северо-Восточное 725
Приморье 344, 358, 362, 380, 384, 390-392, 487, 490, 494, 505, 512
Припамирье 801
Присарыкамышская дельта Амударьи 570
Приуралье 799
Южное 565, 567, 572
Причерноморье 398, 420, 544-546, 556, 557,
561,565,716
Северное 412, 538, 539, 542-546, 557, 559, 565, 576, 703, 716, 725
Южное 398, 399, 401
Пропонтида 612; см. также Мраморное море
Просопитида, о. 610
Прохоровка 748
Пугу 212
Пукуду 344
Пульвар, р. 665
Пурана-кила (видимо, древняя Индрапраст-ха) 108
Пусянь 309
Пут 420
Путянь, оз. 284
Пяндж, р. 706, 707, 718, 747, 789, 806
Пянь 273
Пятигорск 764
Пятиградье 431, 432
Рабба 442
Рави, р. 62
Рага, обл. 594
Рага (Рей) 738
Раджастан 61, 62, 76, 94, 106
Северный 95
Северо-Восточный 107
Ракхигархи 74, 76
Рама 427
Рамат-Матред 423, 451
Рамот-Гил‘ад 444, 462
Рангпур 72
Рафия 360
Резайе, оз. 403, 404
Риалу 484-485
Рим, г. 103
Рим, Римская империя 38, 45, 48, 50, 52, 56, 507, 724
Риони, р. 401
Родоя 750
Родос, о. 398, 622, 623
Роксанака 760, 787
Российская империя 55
Российская Федерация 55
Россия 36
Рупар71, 108
Русь 48
Рштуник* 404; см. также Урарту
Сатартия 646
Сагбат (Сагбита), г. 517
Сагбат (Экбатаны, Хангматана), обл. 521, 524, 525
Саис 469, 589, 590
Сака 747
Сакар-чага, могильник 570
Сакасена 718; см. также Фергана
Сакастана719
Саккыз 516
Саламин 604, 605, 608, 610, 743
Салбык, урочище 576
Салуа (Сала) 405
Сам’аль (Я’уди) 344, 351, 357, 370, 403, 450; см. также Зинджирли
Самария (Шомерон), г. 359, 362, 377, 453, 455-460, 462, 464, 467-471, 477, 630, 631
Самарканд см. Мараканда
Самерина (=Израиль) 468
Самос, о. 583
Сангария (Сакарья), р. 396-398, 413
Сангхал 107
Санкт-Петербург 33
Сань 234
Саньсиндуй, культура 333
Сапарда 524
Сарасвати, р. 69, 108-110; см. также Гхаггар
Сарды (Сфарт, Сефарад) 418, 419, 552, 583,
584, 597, 605, 608, 618-620, 674, 678, 805
Сарос (Гексу), р. 416
Сарафанд (Царефта) 450
Сарыкамышская впадина 700
Сарыкамышская дельта 700, 720, 723, 724, 747, 780
Сасунские горы 396, 411,417
Сатледж, р. 62, 100
Сатгагидия 586, 594,646, 739
Сахевд, гора 361, 400,416
Сват 71, 95, 747
Священная Римская империя 51, 55, 56
Се (местность) 244
Севан, оз. (Севанское озеро) 186, 405, 407,
412, 547
Села 465
Семиреченско-Тянь-Шаньский регион 573
Семиречье (Хапта Хинду) 572, 573, 706, 719, 767, 801-803,812,813
Сенендедж 516-518
Серахс 780
Сефарваим 470
Сефид-руд, р. 416
Си, обл. 196, 197
Сиаб, р. 789
Сиань 192, 207, 212, 282
Сибирь 799
Сибри 95
Сибэйган 184, 186
Сигу 238
Сидон 351, 357, 364, 365, 384, 386, 400, 432, 497, 622, 626, 644
Сиена (на Элефантине, Сиэн(а), совр. Асуан) 601, 653
Силоамский водоем 472
Сильхази 521
Симашки/Цимаш 517
Син 276
Синайская пустыня 589
Синд 68, 69, 71, 74, 94, 95, 104
Восточный 62
Синдху, р. 109; см. также Инд
Синлун, уезд 282
Синопа 401, 529, 552, 583, 650
Синташт 186
Синцунь 185
Синьлин 311
Синьтянь 247
Синьчжэн 282
Синьян 154
Сион (Цийон) 436, 440, 442, 449; см. также Храмовая Гора
Сиппар 347, 385, 390, 489, 492, 493, 497, 500, 502, 505, 508, 586
Сиракена 780
Сирийская пустыня 357,447
Сирия 86, 343, 344, 346, 350-352, 357-360, 364, 365, 368, 384-386, 401,403,415, 424, 431, 432, 450, 460, 467-469,482, 489, 496, 497, 499, 503, 533, 555, 608,610, 616,618, 620, 622, 626-628, 635, 636, 645,646, 649, 650, 756
Северная 352, 357, 360,460, 481, 485
Центральная 460, 467
Южная 467
Сисвал 76
Систан 793, 805
Сицилия 649
Скала Сисимитра (или Хориена) 704, 706, 752, 771
Скифия 529, 557-562, 564-567, 702-704, 707, 787
Великая 564
Европейская 741, 742
Индийская 719
Скифский залив 780
Скифское царство (Ашкуз, Ашкеназ) 419, 559, 564, 565
Смирна 398, 419
Согд (Сугд) 568, 572, 707, 733, 776, 792, 805
Согдиана (Сугда, Сугдия) 586, 620, 626, 646, 650, 680, 704, 706, 707, 710-712,718, 724, 728, 731, 733, 747, 750-752, 754,755, 777, 778, 788, 789, 797, 799
Согдийская скала 778, 791 Сотхи-Калибанган 76
Спарта 583, 584, 597, 598, 604, 608, 610, 612, 614-616, 618-620, 624
Средиземное море 346-348, 350, 358, 415, 432,466,468, 499,612
Средиземноморье 45, 71, 86, 448
Восточное 460
Среднеазиатско-Казахстанский регион 572
Средняя Азия 104, 513-516, 567-570, 572-574, 589, 594, 596,626,634, 636, 698-700, 702-704, 706, 711-714, 716, 718, 719, 725-728, 730-733, 737, 738, 743,744, 748, 751, 752, 755-757, 760, 762, 764-768, 770-772, 774-777, 779, 780,782, 783, 788, 793, 795-802, 804-806, 809-811, 813
Стамбул 472
Страна гутиев см. Мидия
Страна маннеев 404,407-409,411,416,418,419
Страна мушков см. Алзи
Страна таохов 403, 406, 407
Страна эфиопов см. Куш
Старый город 484
Старый Свет 539, 561
Су 196
Сугуния, крепость 405
Судан 420
Сузы 389, 391, 582, 588, 598, 601, 608, 612, 622, 624, 626, 631, 634-636, 642,644,649, 650, 654, 658, 666, 678, 680-682, 684,687, 690, 693, 730, 743, 748, 755, 793, 794, 802, 805, 806
Суйдэ 182
Сулеймания 516
Сун, владение 247,276, 278, 307,308, 310,311
Сун, царство 256, 264, 270, 276, 277, 279, 280, 287
Сунцзэ 169
Суркотада 61, 74, 92
Сурхан, р. 792
Сурхандарьинская обл. 790
Сурхандарья, р. 778
Сурхоб, р. 801
Сусия (Тус) 708
Сухи (Суху) 344, 346, 347, 531, 532
Сухму 402, 403, 406
Сучжоу 169
Суэц 650
Суэцкий канал 684
Сырдарья (Сыр-Дарья), р. 545, 570, 572, 700, 702-704, 706, 707, 714, 716-720, 723, 724, 731, 733, 741-743, 745, 746, 750, 758, 760, 761, 766, 770, 780, 785, 787; см. также Танаис (Дану) Нижняя 721, 723 Средняя 572
Сычуань 249, 309, 333
Сэ 190
Сюаньшуй 220
Сюй 244, 277, 279
Сюйчжоу 309
Ся, владение 157, 158
Сяоминьтунь 186
Сяотунь 172, 182-185, 201,206
Сясянь 308
Сячжоу 269
Та‘анах 421
Табал 351, 357, 362, 363, 368, 402, 403, 414-417,419,420
Табаристан 725
Таберан 725
Тавр, горы 396, 399, 401-403, 413, 415, 416
Малоазийский 402, 413
Понтийский 401
Средний Армянский 407
Тагискен, могильник (Тагискенский могильник) 764, 804
Тагискен Южный 545, 572
Таджикистан 95
Южный 104, 792, 797
Тадмор см. Пальмира
Таиланд Северо-Восточный 174
Тайси 178, 182
Тайхан, хребет 196
Тайху, оз. 171
Тайюань, г. 277
Тайюань, обл. 241, 243
Такаб 516
Такритайн, крепость 531, 532
Талашкан-тепе 790
Таманский п-ов 764
Тамар 447
Тамошо-тепа 798
Танаис (Дану), р. 700, 704, 706, 716, 718-720, 723, 724, 733, 744, 750, 754, 760-762, 766, 770,785, 787; см. также Сырдарья
Танаис (Дон) 544, 562, 565, 716; см. также Дон
Танис 448
Таншань 172
Талти, р. 62
Тарбицу 532
Тартесс (Таршиш) 400
Тахти-Сангин, городище 789, 806, 807
Ташкентский оазис 572, 797, 800, 805
Таш-тепе 519
Тебриз 400, 516
Тегеран 738
Тейма 499, 586
Тейшебайне (Тейшебаини, Кармир-блур) 409, 410,418-420, 526
Телль Абу-Хавам 421
Телль ‘Арад 423
Телль Асмар 86
Телль Бейт-Мирсим 421,451
Телль-Касиль 432, 451
Телль-Та‘йинат 450
Телль Эсдар 423
Телль-эд-Дувейр 450; см. также Лахиш
Телль эль-Амарна 431
Телль эль-‘Умейри 485
Телль эль-Фара‘а 422
Телль эль-Фул 433
Телль эн-Нацба 485
Тель Афек 432
Тель Ашдод 432
Тель Ашкелон 432
Тель Дан 438, 444, 462
Тель ‘Ира 423
Тель Малхат (Телль эль-Милха) 423
Тель-Масос (Хирбет-эль-Мешаше) 423
Тель Микна см. ‘Экрон
Тель Сера* 421, 422, 432
Тель Халиф 421
Тель Церор 421, 432
Тема, оазис 459
Теман 459
Теос 722
Тепе Яхья 71
Термез 706
Тибет 62
Тигр, р. 344, 345, 347, 350, 351, 356, 358, 360, 362, 365-367, 396, 400, 405, 412, 417,460, 486, 488, 489, 492,493, 531, 532, 534, 581, 586, 594
Верхний 650
Тиль-Барсиб 344, 350
Тимна (Тель Баташ) 421, 432
Тимна, р. 448
Тир 351, 357, 386, 389, 400, 432, 442, 448, 451, 457, 472, 478, 492, 497, 626, 654
Тирца (? совр. Телль эль-Фар‘а (сев.)) 455, 456,468
Тифсах 447
Той 273
Трансиорданье 445
Трапезунд 401, 619
Трезена 604
Троада 398
Троя 60
Ту 305
Тубал 420
Тува 545, 573, 575, 576
Туз, оз. 413
Туньци 230
Туранская низменность 700
Туркестан Восточный 62, 568, 797
Туркестанский хребет 707
Туркменистан 61, 94, 95
Южный 66, 88
Туркмено-Хорасанские горы 702, 708, 710
Туркмения Южная 404, 796, 797, 799, 800
Турция 409
Туршиз 708
Туса 725
Туфан 195, 203, 206
Тушпа (Тосп) 357, 404-407, 412, 416; см.
также Ван
Тэнсянь 309
Тянь-Шань 572, 573, 698, 700, 719
Центральный 704
Тяо 243
У, царство 164,247-249,258,260,271,279,280
Угуаньцунь 185
У джайна 107
Узбекистан Южный 797
Узбой, р. 572, 700, 720, 723, 734, 736, 741, 747, 758
Узбойское устье Амударьи 722
Уйгарак, могильник 545, 572, 764, 765, 804
Умма 86
Унья 402
Ур 86, 384, 499, 500
Ураказабарна 523
Урал 176
Южный 724, 748, 786
Уральские степи 515
Урарту 33, 350-352, 354, 357, 359, 360-362, 368, 384, 386, 395,400, 404-419, 420,496,
519-522, 525-527, 529, 530, 532-534, 546-548, 659, 660, 664, 672
Ура-Тюбе 707, 733
Ураш 519
Урашту 420, 533
Ургуг 707
Уркиш 404
Урме 396,411
Урмия, оз. (Урмийское озеро) 350, 361, 400, 403, 404, 406, 408,416,418, 516-519, 521, 522, 527, 581; см. также Резайе
Уруатри (Суги) 405
Ус-Хинду (Челекен ?), о. 702
Уструшана 707
Устюрт, плато 572, 723
Уттар-Прадеш 72, 93, 95,96, 107
Утупуриш 407
Ухань 178
У чэн, дер. 180, 182
Учэн, г. 258
Ушну 516
Уюкская долина 575
У яма, гора 594
Файлака, о. 86
Фан 160
Фарс, провинция 581, 665
Фастея 787
Фергана 573, 718, 719, 731, 747, 760, 786, 787, 797, 800, 801, 805
Северная 704
Ферганская долина 86
Фермопилы 604
Фессалия 604, 605
Фивы 389, 431, 605, 606, 619, 624, 654
Филистия 432, 440,448, 450, 451
Финикия 350, 382, 384, 386, 388,401,460,497, 589,608, 622, 627, 628,645,646,755-756 Северная 468
Форт Аббас 76
Форт Деравара 76
Фракия 397, 544, 596, 597, 608, 623, 644
Франция 51
Фригия 33, 362, 389, 395, 396, 399, 413^116, 419, 420, 551,620, 636, 646
Великая 399
Геллеспонтская 756
Малая 398,413
Фу 202, 203
Фурукабадский оазис 790
Фуцай 254
Фучжун 261
Фуюань 232
Фэн 231
Фэнси 230
Фэнцзэ 308
Фэнъи 212
Фэнъян 254
Хабур, р. 346-348, 359, 494
Хавор 470
Хайаса 396
Хакра, р. 61, 76
Халахха 359
Халдея 365
Халеб 344
Халиту 399
Халкидский п-ов (п-ов Халкидика) 597, 602
Халлур 107
Халпа (Халфати) 412
Халуле 367,493,512,581
Хамадан, г. 517, 670
Хамадан, долина 516-519, 521, 525
Хамат 352, 401, 403, 442, 447, 450, 460, 462, 468, 470, 482, 533
Хамат-Цова 447
Хамбуз-тепе 767
Хамрин, горы 534
Ханаан 421-425, 427, 429, 431, 432, 434, 436, 439, 455-457
Хангматана см. Экбатаны
Ханигальбат (Митанни) 344, 346
Хань, владение 292
Хань, империя 321, 339
Хань, обл. 312
Хань, царство 280,281,291,296, 304,307-311
Ханьдань, г. 287, 289, 307, 308, 311
Ханьдань, уезд 308
Ханьшань 232
Ханьшуй, р. 309
Хао, г. 212, 230, 231
Хапхи 405
Хара (Хара Брзати=Хара Высокая), хребет 700,702,703 ’
Хараппа 41, 60, 61, 72, 74, 76, 78, 86, 88-90, 93, 94,96, 111
Хариана (= Харьяна) 93, 96, 104,107
Хар(р)ан 347, 350, 359, 376, 381, 392, 393, 401, 481, 482, 496,498, 499, 512, 529, 533, 534, 586
Хархар (Кар-Шаррукин) 359, 517, 518, 521, 522, 524-526
Хасанлу 404, 407, 409
Хасанлу IV 666
Хастинапура 96, 108
Хагти (Хате) 401,417,424; см. также Каркемиш
Хаггина(Унку) 344, 353, 354, 401
Хацор 421, 426, 427, 439, 442, 450, 469
Хванирата 703
Хвар 707
Хеврон 421, 433, 440
Херонея 623
Хеттская держава 343, 395-397, 399-401, 431
Хешбон 421
Хибис 688
Хиндану 344, 531
Хирбет эль-Ком 458
Хнунис (Хнус, Хыныс, Дом Ханунии) 419,420
Хоарена 707
Ходжент 707,718, 760
Хойсянь, г. 283
Хойсянь, уезд 282
Хорасан 62, 710, 776, 796
Хорасанские горы 714, 725
Хорасмия 710, 751, 752, 755
Хореву, гора Божия 460
Хорезм (Хваразми) 586, 592, 620, 646, 650, 680, 703, 708, 710, 712, 723, 731, 750, 767, 783, 792-794, 798, 801, 803, 804, 810
Хорезмийская сатрапия 746
Хорезмийский оазис 710, 734, 746,757,758,760
Хорезмийское (Хорезмское) царство 710, 731,757, 758
Хоронаим 445
Хорремабад, долина 517
Хорсабад см. Дур-Шаррукин
Хоу 270
Хоуган 168, 172, 204
Хоума 154, 247, 248
Храмовая Гора 449, 450
Ху, р. 220
Хуай, р. 212, 236, 241
Хуайбэй 299
Хуанхэ, р. 167, 168, 173, 174, 176, 180, 182, 186, 188, 202, 207, 208, 210, 220, 229, 277, 284, 307,312
Хуанчи 279
Хуань, р. 184
Хуатин 170
Хубушкия 350, 351, 361, 403-Ю6, 417, 522, 525; см. также Наири
Хубэй 165, 170, 180, 230, 248, 279, 281, 295, 305,311,338
Хузирин (Султан-тепе) 346
Хузистан 748
Хунань 281
Хуншань, стоянка 322, 325, 335
Хуписна416
Хурру 424, 425
Хэ 231
Хэбэй 172, 178, 183, 232, 247, 281-284, 308, 310,312, 336
Хэмуду 169
Хэнань 154, 168, 170-172, 176, 178, 185, 195, 196, 207, 211,212, 246, 247, 278, 281, 282, 312,323
Хэфэй 249
Хэцзянь 312
Хэцюй 277
Цай, владение 277
Цай, местность 231
Цаньцзюань 238
Цао, владение 276, 277
Цао, царство 280
Цаосешань 169
Цаосянь 308
Царская дорога 415
Цафон (священная гора ханаанского эпоса) 470
Цейлон, о. 62
Цереда 452
Цзан 258, 259
Цзао, владение 278
Цзао, местность 231
Цзи, владение 276
Цзи, поселение 158, 232
Цзин, р. 244
Цзинхэ, р. 284
Цзинь, владение 244
Цзинь, царство 155, 158, 159, 164, 247, 249, 251-254, 256, 258-260, 264, 267, 268, 270, 272, 274, 275, 277-280, 307
Цзифан 195
Цзинъи 234
Цзуи 203
Цзунчжоу 212
Цзы 202
Цзыцзиньшань 176
Цзэ 234
Цзэн 244, 338, 339
Цзю 201
Цзюй, владение 261
Цзюй, малое владение 259
Цзюйшанэр 232
Цзюн 200
Цзюньсянь 185
Цзююань 307
Цзяжу 244
Цзян 280
Цзянси 180, 281
Цзянсу 169, 170, 212, 248, 281
Цзянь212
Ци, владение 292
Ци, г. 212
Ци, царство 164, 247-250, 252, 253, 256, 258, 259, 264-266, 268, 269, 272, 276, 278-281, 285, 286, 291,303, 307-312
Цибар 520
Цизиорданье 445
Циклаг 440
Цинляньган 169, 170
Цинхай 323
Цинцзян 180
Цинь, царство 157, 158, 228, 247, 277, 279, 281, 284, 285, 287, 288, 291-296, 299, 304-312, 321,337
Цинь, ранняя империя 339
Циньванчжай 168
Цицзя 207
Цишань 212
Цов (Сувская Сирия) 436, 442
Цовинарская скала 412
Цун 200
Цупа (Софена) 402, 403, 407
Цю259
Цюе 196
Цюйво 279, 280
Цюйцзялин 170
Цюнфан 195
Цючэн 169
Цянфан 195
Цяньму 243
Чагайские горы 70, 86
Чан 232, 237
Чанпин 311
Чанху-Даро 105
Чанша 154, 282, 338
Чаодаогоу 183
Чарсадда 726, 742
Чаткальский хребет 704
Челекен (Талка), о. 700, 723
Челябинск 186
Ченаб, р. 62
Черное море 538, 552, 616, 619, 742, 758
Черноморское побережье 646
Чжанхэ, р. 312
Чжанцзяпо 207, 208
Чжаншуй, р. 284
Чжаньбань 278
Чжао, владение 292
Чжао, местность 231
Чжао, царство 156, 160, 280, 281, 289, 291, 302, 304, 307-312
Чжаофан 203
Чжаоян 287
Чжи 242
Чжоу, владение 206, 207
Чжоу, поселение 233
Чжоу, царство 158, 164, 207-209, 211-213, 215, 237, 244, 249, 298, 327
Восточное 153, 156, 158, 162, 245, 250
Западное 153, 163, 165, 167, 207-210, 213-216, 220-227, 229-231, 233-240, 245, 246, 252, 260
Чжу, владение 278
Чжу, малое владение 259
Чжуан, горы 286
Чжунмоу 255, 298
Чжуншан (Чжун шан) 189, 192, 195
Чжуншань 307, 309, 310, 336, 337
Чжуфан 271
Чжэн, владение 246, 247, 269, 277, 307
Чжэн, г. 287, 304
Чжэн, местность 225
Чжэн, обл. 244
Чжэн, царство 157, 163, 164, 249, 250, 253, 254, 256, 259, 265, 273, 275, 276, 278-280, 308
Чжэнчжоу 172, 176, 180
Чжэхуа 238
Чжэцзян 169, 322, 326
Чилдырское озеро 407
Чиликтинская долина 574
Чирик-Рабат, городище 767
Чирчик, р. 704
Чирчик-Ангренский регион 787
Читрал 95, 726, 747
Чорохи, р. 396, 397, 399,401, 402, 407
Чоу 232
Чу 157-159, 164, 180, 247, 249, 258-260, 264, 269, 274, 276-281, 290-292, 299, 307-312, 337, 338
Чун 228
Чэн, местность 211
Чэн, поселение 270
Чэнпу 277
Чэнчжоу 212, 213, 215, 223, 224, 226-229, 238, 239, 242, 244
Чэнь, владение 157, 246, 258-260, 269, 276
Чэнь, царство 278-280
Чэнъян 285, 286
Шаллат 528
Шамирам, канал 407
Шан, г. 189, 192, 212, 323, 333
Шан, страна 192, 194, 195, 200, 202
Шан, царство 155, 158, 180, 182, 183, 186, 197, 198, 207-209, 211, 213, 215, 218, 247, 259, 330, 333
Шанго 238
Шандан 311,312
Шанхай 169, 322
Шанцзюнь 288, 305, 309
Шаньдун, пров. 171, 208, 211, 212, 232, 247, 281,285, 308, 309,312
Шаньдун, п-ов 170, 171
Шаньси 154, 168, 183, 196, 206, 238, 247, 277, 281,308,311
Шаньсянь 196
Шаньян 299
Шанъи211
Шао 190
Шаолян 308
Шапиа 358
Шарон 444
Шаройская долина 432, 442, 469
Шасуй 278
Шаур, р. 680, 684
Шахабад 516
Шахри-Кумис 707
Шах-тепе 799
Шефела 440
Шехем (Сихем) 428-430, 433, 453, 455
Шикмона 451
Шило (Силом) 429, 433-435, 439, 446
Шираз 665, 686
Шицзячжуан, городище 282
Шортугай 88
Шоусянь 290
Шри-Ланка 47
Шу, владение 309
Шу, обл. 238, 284
Шубрия (Шуприя) 348, 351, 386, 400, 403, 406,411, 417; см. также Наири
Шумер 84, 89, 487-489, 521, 588
Шурабашат 798
Шуштар 581
Шэнь 243, 244
Шэнь Западное 243, 244
Шэньси 168, 171, 182-183, 196, 206, 207, 213, 228, 230, 232, 241, 243, 247, 281, 285
Э, владение 242
Э, обл. 284, 296
Эанна 501, 505
Эбаббара 385, 500, 502, 505, 508
Эвбея, о. 597, 598
Эвен-‘Эзер см. Афек
Эвримедонт, р. 608
Эгеида 401
Эгейский регион, мир 400, 415, 432, 649
Эгейское море 395, 552, 586, 596, 598, 608, 610,612,616, 650, 654
Эгейское побережье 551, 552
Эгина 604
Эгоспотамы, р. 616
Эдом 442, 452, 464, 465, 468
Эзида 502
Эйлат см. ‘Эцйон-Гевер
Эйлатский залив 448; см. также Красное море
Экбатаны (Агамтану, Агмадана, Ахматана, Хангматана) 517, 525, 528, 530, 584, 594, 626, 631, 649, 650, 659, 660, 675, 732, 777; см. также Сагбат
Экишнугал 500
‘Экрон (Тель Микна) 364, 365, 431, 432
Экур 488
Экуш 380
Элам 89, 351, 354, 358, 359, 362, 364-367, 384, 385, 389-391, 486-^88, 490, 492-494, 503, 530, 531, 534, 582, 594, 627, 628, 640, 644, 646, 650, 659, 678, 680, 726
Элефантина, о. 601,634,638,653-655,750,756
Эллипи 352, 364, 492, 516, 517, 522, 525
Эльбурз, хребет 702, 707, 708, 710, 714, 725
эль-Джиб (Гив‘он) 433, 435
Эль-Харга, оазис 688
эль-Хадр 439
Эльтеке 364
Эмашмаш 392
‘Эн-Гева 451
‘Эн-Геди 481
‘Эн-Гихон (Тихон), источник 442, 471, 472 ‘Эн-Фешха 481
Энзите (Андзит), перевал 406
Энкоми 432
Эолида398,413, 646
Эретрийская обл. 598
Эрзинджан 409
Эрзурум 350, 409, 419
Эритрея 448
Эритрейское море 739; см. также Персидский залив
Эрк-кала 798
Эрлиган 172, 180
Эрлитоу 172-174, 176, 178, 186
Эсагила 364, 367, 384, 387, 486,487, 502, 588,
602
Эскишехир 413
Этек 708
Этеменанки («Вавилонская башня») 497, 602
Этимандр 731, 733; см. также Гильменд
Этиу(не) (Этио) 405
Эфес 398, 597,608, 748
Эфиопия 386, 420, 590, 680; см. также Куш
Эфраим 427, 433, 434, 453, 464,469, 470
Эфраимитское нагорье 433
Эхульхуль 499
Эхурсаггалькуркурра 361
Эшарра 384
‘Эцйон-Гевер (Эйлат) 448, 464, 466
Ю, владение 206
Ю, местность 226
Ю, обл. 196, 197
Ю, поселение 203
Юань, обл. 274
Юй, владение 225, 252
ЮЙлоу 249
Юйфан 207
ЮЙяо 169
Юн 200
Юнцзи 277
Юньмын 165, 295, 305, 306
Юэ, царство 164, 182, 247, 279, 280, 307
Юэчэн 169
Яз, археологический комплекс 712-714, 778, 782
Яксарт (Яхшарта), р. 586, 700, 706, 718, 720, 754, 760, 768, 785; см. также Сырдарья
Ямуна, р. 93, 97, 106-108, 110
Ян 227
Янло 238
Янцзы, р. 167, 169-172, 178, 180,182,212,269
Яншао 168-171, 322-324, 332, 335
Янь, местность 232
Янь, обл. 212 Яньюй 311
Янь, поселение 192 Яошань, горы 277
Янь, царство 281, 285, 287, 291, 292, 304, Япония 55
309-312 Яркой, р. 440
Яньлин 278 Яутия 739
Яньсяду 283, 285, 287, 304 Яффа 425, 431, 472
Яньши 170, 172 Яхсу, р. 801
УКАЗАТЕЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
абешлайцы 397
абии 723, 758,784
абхазцы (абсиды) 397, 399
авхаты 558, 559
акайваша (ахейцы?) 431
алазоны 558
алародии 646
амалекитяне 436
амарды 780
амиргии 734, 747, 760, 786
аммонитяне 427, 428, 436, 437, 442, 455,466
анариаки («неиранцы») 725
андхры 113
аорсы 725
апариты (апарюты, паруты) 727, 752
апарны 786
апасиаки (апасии) 722, 723, 758, 760, 780
арабы 47, 358, 391, 493, 631, 646, 654
аравитяне 464, 466
арамеи (араму) 343-346, 351, 367, 378, 392,
401, 470, 487, 489, 632, 654
арахоты 702, 711,713, 754
аргипии 569
ареи 699, 702, 707, 710, 711, 713, 725, 743,
744, 746, 750-752, 754-756, 777, 778
ареи-хорасамии 711
арианы 711, 712, 765, 766, 779
ариаспы 733
арии 60,62, 92-97, 99,109-111,113,114,117, 118, 120, 125, 126, 130, 138, 142, 515, 516
аримаспы 569, 717
арины 767
армении 754
армяне (мелитеняне, сомехи) 395, 396, 402-404,420, 594, 737, 747
арьи 702, 703, 711, 727
аскатаки 726
аспасии 765, 766
ассакены 720, 766
ассирийцы 56, 343, 344, 348-352, 355, 357, 358, 360, 361, 365-367, 371, 379-383, 385, 386, 388, 389, 391, 396, 397, 401, 404-407, 411, 412, 415-419, 453, 469, 472, 474, 488-490, 492-494, 496, 499, 512, 516-529, 531-533, 548, 549, 551, 552, 554, 581
афиняне 597, 598, 600-602, 604-606, 608-610, 612, 614-616, 619, 620, 622
ахемениды 775
ашкуз (ишкуза) 537, 538
бактрийцы 630, 699, 702, 710, 711, 713, 714, 720, 722, 724, 730, 732, 733, 737-7746, 748, 750, 752, 755-757, 765, 766, 770, 771, 775, 777, 778, 780, 783, 805, 807, 810
баркании (барканцы) 732, 737, 745, 747, 765, 767
бедуины Синайской пустыни 589 бинйаминитяне 433,443
битины (вифины) 398
брагуи 726
буришки 727
бхараты 99
вавилоняне 42, 56, 363, 366-368, 391, 393, 419,420,446, 453,454,471,481,482,484-487, 489, 492—494,496,497, 512, 529, 531, 533, 534, 549, 581, 582, 586, 588, 594, 596, 602, 628, 632, 642, 644, 650, 653, 654, 755
витеру 407
гадиты 426, 445
гамбулу (гамбулийцы) 377, 389, 390
гамир (гимирри) 537, 538
гандарии 743-745, 747, 752, 765, 766 гил‘адитяне 469
гирканцы (гирканы) 699, 714, 723, 725, 731, 732, 738, 744, 745, 747, 750-752, 754, 756, 765-767, 796; см. также баркании
гомодоты (гюаньду) 719
греки 47, 48, 56, 103, 398, 399, 413^115, 518, 557, 558, 562, 582, 584, 586, 589, 590, 597, 598, 600-602, 604-606, 608-610, 612, 618, 619, 623, 624, 632, 642, 653, 654,658,664, 670, 699, 700, 702, 703, 714, 718, 719, 728, 730, 744, 745, 751, 754, 756, 762, 767, 770, 772, 784, 791, 794, 805; см. также эллины ахейцы (данайцы) 395
ионийцы (ионяне) 398, 642, 654, 680, 728, 785
грузины 398, 402
гунны 102, 103
гугии 548, 588
дадики (дарды) 95, 111, 727, 743-745, 747, 752, 765, 766
дануна (данайцы ?) 432
данунийцы (данайцы ?) 402, 403
дарва (дирбеи, дюрбеи) 727, 728
дарвика(дрбхика) 722
дарды см. дадики
дарейты 646
дасью (даса) 110, 113, 139
«даха» 805
дахи (дай) 568,609,699,714, 716,724,725,734, 736,748,751,757,760,761,771, 772,786
дербики (дербиссы, дербии, дербы, дерке-бии, дербикки) 722, 723, 725, 734, 736, 737, 746, 747, 761, 765, 786, 788
джана 111, 133
ди 251,276
белые 310
дорийцы 398
дравиды 94, 784
дранги (заранги) 702, 711,713, 733, 754
евреи 38, 47, 396, 401, 421, 433, 435, 455, 631 египтяне 45, 386, 421, 472, 474, 482, 494, 531, 533, 534, 582, 589, 590, 601, 609, 610, 612, 616, 620, 622, 623, 632, 642, 644, 654, 680, 732, 755
жуны 241, 243, 244, 251, 252, 277, 292, 717 западные 244 тайюаньские 241, 243
жэньфан 196, 208
зарангеи 748, 750, 751
зариаспы 714, 780
и 227, 233, 235, 236, 238, 239
восточные 212
хуайские (южные) 212, 226, 241, 242 южнохуайские 226, 238, 239
иберы 758
израильтяне 365, 421^125, 429, 430, 433, 440, 442, 443, 449, 451, 453, 455,457, 458,466, 468, 470, 471, 478
индийцы 37, 63, 99, 144, 654, 722, 730, 736, 744, 747, 770,811
индоарии 94, 95, 99, 111, 112, 114, 134, 515
индоевропейцы 111, 402, 515, 811
индоиранцы 404, 559, 702, 711, 716, 727, 811 инь, иньцы 211,218,313
иранцы 134, 515, 516, 535, 642, 653, 659,660, 702, 711, 713, 714, 716, 762, 767, 783, 805, 806,811 западные 780
исседоны 543, 544, 569, 574, 716, 717, 719, 720
итуайя 374
иудеи 367, 454, 459, 478, 480-481, 483, 485, 497, 582, 586, 634,654, 655
ишкашимцы 811
йевусеи 435, 440
кавнии 584
кадусии 622, 703, 708, 725, 747, 754
каллипиды (эллиноскифы) 558
карийцы 583, 584, 653, 654, 742
кармании 737, 740
киртии 775, 776
каски 397
каспии 646, 725, 726, 747, 751, 752, 755, 799
восточные 727, 766
каспиры 726
катарза 407
катиары 558, 559
каусии 737
кафиры 111, 727
керети (вероятно, критяне) 440, 442
киликийцы 645, 654
киммерийцы 360, 362, 384, 386, 389, 398,412, 413, 415—420, 470, 522, 523, 529, 537-539, 542-552, 554, 555, 717
киприоты 589, 654
кираты 113, 119
киртии 582
китайцы 334, 338, 339
колхи 407, 631,758, 760
колхидяне 646
комеды 719
критяне 432
ксантин (ксандии) 786
Куру 99, 103, 112, 123
кутии 46, 418
лазы (чаны) 399
лакедемоняне 584, 606, 608, 614-615, 619;
см. также спартанцы
ливийцы 431, 534, 622
лидийцы (лидяне) 419, 528, 552, 583, 584, 642, 654, 680
ликийцы 403, 711
линьху 310
лоуфань 310
лувийцы («хетты») 397-399, 401, 403, 409, 410
лукку (ликийцы) 431
луша 407
маги 775, 783
македоняне 623, 624, 626, 710, 730, 770, 777, 785
макроны 646
маннеи 351, 352, 385, 389, 408-411,416, 418-420, 520, 522, 523, 525, 532, 554, 581
марафии 582
маргианцы 596, 738
марды 582, 584, 775, 776, 780
мары 646, 725
маспии 582
массагеты 543, 544, 568, 569, 572, 589, 699, 714, 716, 717, 719, 720, 722, 723, 734, 736, 741, 742, 744, 746, 747, 750, 755, 757, 758, 761, 764-768, 770, 771, 780, 784, 785, 787, 799, 801,811
матиены 404,646
мигдоны 396
мидийцы (мидяне) 351, 352, 357, 385, 389, 393, 418—420,494,496,498,499, 512,515, 520-536, 548, 549, 554-556, 582, 584, 594, 642, 652-654, 659, 665, 678, 680, 703, 711, 713, 714, 730, 737, 745, 747, 752, 755
мидйанитяне 427, 430
мики 646
милии (труилы) 398
мисийцы 583
моавитяне (моавиты) 427,436
мосинойки 646
мосхи (мосхой) 396, 399,402,413,646
мунда96, 113
мусаи (мисы, «мусы») 397, 398
мушки (мускаи) 395, 396, 399,402,413 «восточные» (протоармяне ?) 397,411 «западные» 397; см. также фригийцы
мунда 96, 113
народы моря 395, 397, 398, 421,422,431,432 нишады 112
нисеи 727, 728
норвежцы 47
нубийцы 534
нуристанцы 727
огузы 761
оксианы (оксидранки) 710, 724, 780
осетины 398
павсики 646
памирцы 811
пантиматы 646
панчаджана 111
Панчала 103, 112
паралаты 558, 559
паретаки 706, 718
парии 786
парикании 646, 752, 755
паропамисады 702,711, 733
паругы 727
парфяне 699, 710, 714, 731, 732, 737, 738, 740, 743-746, 748, 751, 752, 754,755,757, 765, 766, 770, 771, 772, 796, 805
пасаргады 582, 665
пасики (пес(т)ики) 723, 780
патисхоры 775, 785
пафлагонцы (пафлагоняне) 399, 583
пеласги 395, 397
пелети 440, 442
персы 48, 56, 498, 499, 504, 512, 515, 527, 528, 530, 536, 561, 562, 564, 568-570, 581-584, 586, 588-590, 593, 594, 596-598, 600-602, 604-606,608-610, 612,614,616, 619, 620, 622-624, 626, 627, 630-632, 634-636,640, 642, 644,645,648, 652-655, 658-660, 665, 678, 703, 711, 714, 716, 718-720, 726, 728, 730, 732-734, 736-738, 740, 741, 744, 745, 747, 750, 751, 756, 760, 770, 775, 776, 779, 780, 783, 785, 795, 796, 808
писсуры 786
платейцы 600
праславяне 557
протоармяне 397,407, 410
протоенисейцы 717
протоиранцы 717
прототибетцы 717
протоугры 716, 717
пулинды 113
Пуру 111, 133
реувениты 445
римляне 48, 56, 414, 771, 780
роксанакеи 787
савроматы 565, 566,567,716,717,760,765,788 сакарауки 719, 760
саки (сака, «азиатские скифы», «сэ», в т.ч. амиргии, «амиргийские (точнее, амюр-гийские) скифы»==хаумаварга) 549, 567-570, 572, 573, 584, 586, 600, 654, 675, 699, 714, 716-719, 722, 723, 726, 727, 732-734, 736-741, 743, 744, 746, 747, 750, 751, 755-757, 760-762, 765-768, 770, 771, 785-787, 798, 799, 811-813
амиргийские 568, 719, 733, 746, 747, 751, 757, 760, 761
«заморские» (=европейские скифы Причерноморья) 568, 716
«которые за Согдом» 568, 570, 572
памирские 811
Прикаспия 813
среднеазиатские 811
тиграхауда (ортокорибантии («острошапочные») = массагеты) 568, 570, 572, 716, 722
самаритяне (шомероним) 470, 480,481
сарангеи (саранги) 731, 796
сарапары (салатеры) 780
сарматы 565, 567
саспейры 646
саттагиды 752
семиты 654
сидоняне 477, 622
сингальцы 47
сираки (сераки) 780
сирийцы 411, 444,460,462,463,465,466,642 «белые» 399
скифы (сколоты, шкуда) 384-386, 389, 392, 398, 412, 413, 416, 418^120, 522, 523, 527-529, 537-539, 542-546, 548-552, 554-562, 564-569, 572, 573, 596, 703, 704, 707, 712-714, 716-720, 722-724, 726, 727, 734, 741, 742, 750, 755, 760-762, 765-767, 784-788, 798, 805, 812, 813 «азиатские» 716, 719
амиргийские (амюргийские) 718
«европейские» 716, 812
затанаисские (=саки) 766
земледельцы 558
«острошапочные» (=массагеты) 752, 754, 755
пахари 558
«сака» 805
согдийцы (согды) 699, 702, 707, 711, 713, 714, 720, 724, 743-746, 750, 752, 755, 764-766, 771, 777, 778, 783, 805
спартанцы 583, 584, 597, 600, 605, 606, 608, 612, 616,618,619; см. также лакедемоняне
сутии 487
сюнну 291
ся 173
сяньюнь 215, 241, 243
таджики 811
таманеи 731,748, 751,754
таохи (хурриты запада) 402-404, 406, 407, 409
тапуры (тапиры) 723, 725, 726, 745, 752, 780, 783, 784
татаро-монголы 48
тибарены 399, 402, 403, 646
тохары (юэчжи) 712, 714, 719
траспии 558, 559
тремилы 398
треры 398, 415, 417, 552
туранцы 714
туркмены 708, 736
турша (тирсены, т.е. этруски?) 431
туры 717, 720, 736
туфан 196, 197
уашаша 431
уккийцы (кардухи) 403
умман-манда 548
урарты (уруатри, уратри, суги, сигур, су, субир, «шубареи, субареи», биайны=ван-цы, кум ан ий цы, укумани) 357, 360, 396, 399, 401, 404—411, 417, 418,420, 519-522, 527, 547, 551,581,660
урумейцы 395, 411
усуни 800
учжи 292
фаманеи 796
фаны 196, 197, 203
фастеи 787
филистимляне (пелиштим) 427, 429-434, 436, 437, 439,440, 456, 464, 466, 471
финикийцы 365, 401, 414, 451, 645, 654
фракийцы 397, 398, 598, 642
фригийцы («западные» мушки, мушки-фригийцы) 396-399, 402, 414—416, 583, 654
халдеи (калду) 351, 352, 356, 358, 362, 363, 366-368, 392, 470, 488-490, 492-494
халибы (хагтик’, халды) 397, 399, 401, 402, 416,417
хализоны (? тожд. у Гомера с халибами) 399
ханаанейцы (ханаанеи) 430
хапиру (‘апиру) 423, 424, 439
харапцы 94
хетты 55, 360, 395, 396, 399, 405, 410, 431
хиввиты 434, 435, 444
хорасмии (хорамнии) 699, 710, 711, 713, 731, 734, 737, 740, 742-746, 748, 751, 752, 754-758, 765, 766
хорезмийцы 653, 654, 713, 714, 764, 805
хорсаки (хорсары) 785
хоу 310
ху 310
хурриты 395, 399, 404,405, 409, 410
цзинцы 468
цзиньцы 278
цяны 203, 204, 206
чаккара 431, 432
чандалы 113
чжоу (чжоусцы) 158, 192, 207-209, 211-213, 216, 218, 221, 236, 237, 239, 241,243,298, 327, 334
чу 212
шабары 113
шакалша=шакарша ? (сикула) 431
шан (шанцы) 172, 173, 176, 178, 180, 182, 184-186, 188, 189, 191-197, 200,204,206, 208, 211, 212, 241, 247, 327, 330, 334
шосу 424, 425
шердани (сардиняне) 431, 432
шубрийцы 417
шэньцы 244
эглы 743, 751, 752, 755
эдомитяне 436
эламиты 46, 359, 362, 366, 385, 390,486,487, 490, 492, 512, 596, 632, 653, 654, 703, 784
эллины 538, 546, 557, 589, 601, 606, 608, 615, 728; см. также греки
эолийцы 398
эретрийцы 597, 598
этиу (угии, албаны, агванпы, удины) 405,646 эфиопы 47, 590, 631,646
эфраимиты 452
юэ 182
якши 91
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Глава 1
1. Мехргарх. План неолитического поселения
2. Мехргарх. Комплекс неолитического времени
3. Хараппские поселения (карта): I — сухое русло р. Гхаггар; II — поселения: 1 — Хараппа; 2 — Бара; 3 — Рупар; 4 — Баргаон; 5 — Амбкхери; 6 — Аламгирпур; 7 — Сисвал; 8 — Калибанган; 9— Кот-Диджи; 10— Амри; 11— Мохенджо-Даро; 12— Чанху-Даро; 13— Периано-Гхундай; 14— Рана-Гхундай; 15— Кили-Гхул-Мухаммед; 16— Сиах-Дамб; 17 — Анджира; 18 — Наль; 19 — Мехи; 20 — Кули; 21 — Шахи-Тумп; 22 — Сут-какендор; 23 — Балакот; 24 — Аллахдино; 25 — Десалпур; 26 — Суркотада; 27 — Лот-хал; 28 — Рангпур; 29 — Телод; 30 — Бхагатрав; 31 — Роджди
4. Мохенджо-Даро. План «цитадели»
5. Мохенджо-Даро. Реконструкция плана дома
6. Хараппская цивилизация. Глиняные сосуды
7. Хараппская цивилизация. Металлические изделия
8. Хараппская цивилизация. Фигурка «жреца» из Мохенджо-Даро
9. Мохенджо-Даро. Глиняная модель повозки
10. Хараппская цивилизация. Глиняные фигурки
11. Хараппская цивилизация. Печати
Глава 2
12. Предметы культуры «медных кладов»
13. Хастинапура. Образцы серой расписной керамики
14. Конструкция, выложенная из кирпичей на алтарной площадке для ритуала «агничаяна»
Глава 3
15. Строение дворцового типа (реконструкция). Паньлунчэн. Хубэй. ХШ-ХП вв. до н.э.
16. Внутренний вид гробницы шанского вана. Угуаньцунь. Аньян. Хэнань. Эпоха Шан-Инь. Конец II тыс. до н.э.
17. Дворцово-храмовая постройка на стилобате из утрамбованной земли (реконструкция). Аньян. Хэнань. Эпоха Шан-Инь. Конец II тыс. до н.э.
18. Черепаховые щитки с гадательными надписями. Из раскопок иньского оракула под Анья-ном. Хэнань. Эпоха Шан-Инь. Вторая половина II тыс. до н.э.
19. Раковины каури и их имитация из бронзы. Вторая половина II тыс. до н.э.
20. Эстампаж надписи на ритуальном бронзовом сосуде Маогун дин (см. рис. 21): «Ван сказал: ...во времена величественных и славных Вэнь[-вана] и У [-вана] Великое Небо, широко простирая свою благую силу (дэ), сочло наше владетельное Чжоу достойным принять Великое Повеление...» Период Западного Чжоу. Правление Сюань-вана (827-782 гг. до н.э.)
21. Ритуальный сосуд Маогун дин с надписью на днище. Бронза. Период Западного Чжоу. Правление Сюань-вана (827-782 гг. до н.э.)
22. Раннешанское строение дворцово-храмового типа (реконструкция). Эрлитоу. Ок. г. Ло-яна. Хэнань. Первая половина II тыс. до н.э.
23. Ритуальный сосуд для вина с изображением мифологических сцен. Бронза, инкрустированная серебром. Период Чуньцю-Чжаньго. Середина I тыс. до н.э.
24. Захоронение колесницы с лошадьми и возничим. Из раскопок жертвенной ямы в Сяо-миньтуни. Аньян. Хэнань. Эпоха Шан-Инь. Конец II тыс. до н.э.
25. Некрополь правителей царства Чжуншань с погребениями и поминальными храмами-пирамидами. Реконструкция по плану, найденному в царской могиле 309 г. до н.э. Пин-шань. Хэбэй. Период Чжаньго
26. Клятвенные договоры мэньшу на бамбуковых планках из царства Цзинь. Хоума. Шаньси. Период Чуньцю-Чжаньго. Середина I тыс. до н.э.
27. Военные, охотничьи, хозяйственно-бытовые и ритуальные сцены. Гравированные изображения с бронзового сосуда для вина (прорисовка). Чэнду. Сычуань. Период Чжаньго. V в. до н.э.
28. Фрагменты погребальных стягов с изображением усопших в окружении священных животных. Живопись на шелке. Из раскопок могил царства Чу. Чанша. Хунань. Период Чжаньго. V-III вв. до н.э.
29. Статуэтка аристократа в ритуальной одежде. Нефрит. Из погребения царства Цзинь. Тяньма. Шаньси. Период Западного Чжоу. Первая половина I тыс. до н.э.
30. Фрагмент водосточной трубы в виде головы тигра. Керамика. Яньсяду. Хэбэй. Период Чжаньго. V-III вв. до н.э.
31. Встреча Конфуция и Лаоцзы. Каменный рельеф заупокойного храма Улянцы (прорисовка). Шаньдун. Эпоха Хань. II в. н.э.
На цветной вкладке
32. Бамбуковые планки с иероглифами. Шаньдун. Вторая половина I тыс. до н.э.
33. Сосуды с антропоморфным и зооморфным орнаментом. Глина. Неолитическая керамика Баньпо. Сиань. Шэньси. III тыс. до н.э.
34. Голова богини-матери. Крашеная глина, инкрустированная нефритом. Неолитическая керамика Хуншань. Нюхэлян. Ляонин. IV тыс. до н.э.
35. Сосуд в виде животного. Красная глина. Неолитическая культура Давэнькоу. Шаньдун. IV-III тыс. до н.э.
36. Сосуд с орнаментом лэйвэнь и масками таоте. Белая керамика. Аньян. Хэнань. Эпоха Шан-Инь. Конец II тыс. до н.э.
37. Статуэтка человека в ритуальной позе. Нефрит. Из могилы верховной жрицы и воительницы Фу Хао. Сяотунь. Хэнань. Эпоха Шан-Инь. Конец II тыс. до н.э.
38. Украшение в виде мифической птицы. Нефрит. Из могилы верховной жрицы и воительницы Фу Хао. Сяотунь. Хэнань. Эпоха Шан-Инь. Конец II тыс. до н.э.
39. Ритуальный нож. Нефрит, бронза, инкрустированная бирюзой. Эпоха Шан-Инь. Конец II тыс. до н.э.
40. Сосуд Сыму У дин. Бронза. Высота—110 см, вес — 875 кг. Из раскопок могильника Угуаньцунь. Аньян. Хэнань. Эпоха Шан-Инь. Конец II тыс. до н.э.
41. Ритуальный топор для человеческих жертвоприношений. Бронза. Суфутунь. Шаньдун. Позднешанский период
42. Ритуальный сосуд в виде совы — охранительницы могил. Бронза. Эпоха Шан-Инь. Конец II тыс. до н.э.
43. Светильник в виде тапира с человеком, поддерживающим чашу. Период Чжаньго. V-III вв. до н.э.
44. Ритуальный сосуд с орнаментом в виде маски таоте. Эпоха Шан-Инь. Конец II тыс. до н.э.
45. Сосуд для жертвенного вина, изображающий сакрально-обрядовую сцену антропофагии. Бронза. Эпоха Шан-Инь. Вторая половина II тыс. до н.э.
46. Ритуальный сосуд для жертвенной пищи с изображениями человеческих лиц и надписями. Бронза. Нинсян. Хунань. Вторая половина II тыс. до н.э.
47. Ритуальный сосуд для вина в виде синкретического животного: дракона, тигра, змеи, совы. Бронза. Сяотунь. Хэнань. Вторая половина II тыс. до н.э.
48. Подставка для трона в виде тигра. Бронза. Эпоха Чжоу. IX-VI вв. до н.э.
49. Ритуальный сосуд для вина с орнаментом таоте и ручкой в виде птицеобразного дракона. Бронза. Сяотунь. Хэнань. Эпоха Шан-Инь. Конец II тыс. до н.э.
50. Ритуальный сосуд для вина с орнаментом в виде птиц и драконов. Бронза. Нинсян. Хунань. Вторая половина II тыс. до н.э.
51. Боевой шлем. Бронза. Нинчэн. Ляонин. Период Чуньцю. VII в. до н.э.
52. Меч с дамаскированным клинком и надписью: «Меч юэского вана Гоуцзяня». Бронза. Цзянлин. Хубэй. Период Чжаньго. V в. до н.э.
53. Наконечник копья из царства Дянь. Бронза. Шичжайшань. Юньнань. Вторая половина I тыс. до н.э.
54. Типы древнекитайских бронзовых монет периодов Чуньцю и Чжаньго: 1 — монета с тремя отверстиями; 2 — подражания раковинам каури; 3 — монета в виде лопаты; 4 — круглая монета; 5 — монета в виде ножа
55. Карта распространения бронзовых монет «семи сильнейших» царств периода Чжаньго
56. Мифическая птица (журавль с оленьими рогами) — оберег от злых духов. Бронза. Из гробницы правителя царства Цзэн. Суйсянь. Хубэй. Период Чжаньго. 433 г. до н.э.
57. Подставка — опора для ритуального барабана в виде группы фантастических животных. Бронза, инкрустированная бирюзой. Царство Чу. Сичуань. Южная Хэнань. Период Чуньцю. VI-V вв. до н.э.
58. Вотивная скульптура крылатого дракона из гробницы вана царства Чжуншань. Бронза, инкрустированная серебром. Пиншань. Хэбэй. Период Чжаньго. IV в. до н.э.
59. Подставка в виде тигра, пожирающего олененка. Бронза, инкрустированная золотом и серебром. Из могилы вана царства Чжуншань. Пиншань. Хэбэй. Период Чжаньго. IV в. до н.э.
60. Безъязыкий ритуальный колокол. Бронза. Цишань. Шэньси. Период Западного Чжоу
61. Светильник в виде мифологического дерева на фигурной подставке. Бронза. Из раскопок могилы вана царства Чжуншань. Пиншань. Хэбэй. Период Чжаньго. IV в. до н.э.
62. Монументальная скульптура правителя-жреца в ритуальном облачении. Высота — 262 см. Бронза. Из раскопок жертвенных ям. Саньсиндуй. Сычуань. ХШ-ХП вв. до н.э.
63. Скульптура духа-охранителя могилы. Дерево, лак. Из раскопок в Хунани. Период Чжаньго. V-III вв. до н.э.
64. Стол-подставка с драконами, фениксами и оленями. Бронза, инкрустированная золотом и серебром. Царство Чжуншань. Пиншань. Хэбэй. Период Чжаньго. IV в. до н.э.
65. Сундук для одежды с изображением мифологических сцен. Дерево, лак. Из раскопок гробницы правителя царства Цзэн. Лэйгудунь. Хубэй. Период Чжаньго. 433 г. до н.э.
66. Блюдо с зооморфно-растительным орнаментом. Дерево, лак. Чанша. Хубэй. Период Чжаньго. V-III вв. до н.э.
67. Шкатулка в виде утки с изображением сцены камлания. Дерево, лак. Из раскопок гробницы правителя царства Цзэн. Лэйгудунь. Хубэй. Период Чжаньго. 433 г. до н.э.
68. Ритуальный диск би — символ Неба. Нефрит. Период Чуньцю
69. Рама с набором из 64 колоколов, поддерживаемая кариатидами. Бронза, дерево, лак. Из раскопок гробницы правителя царства Цзэн. Лэйгудунь. Хубэй. Период Чжаньго. 433 г. до н.э.
Глава 4
На цветной вкладке
70. «Мона Лиза из Нимруда» (деталь облицовки мебели, слоновая кость, высота— 16,8 см) (Иракский музей, Багдад, по данным начала 2003 г.)
71. Принесение дани (рельеф из дворца в Хорсабаде) (Иракский музей, Багдад, по данным начала 2003 г.)
72. Крылатый бык с человеческим лицом: «страж» у входа в тронный зал дворца в Нимруде (Британский музей, Лондон)
73. Статуя Ашшурнацирапала II (из храма Нинурты в Нимруде) (Британский музей, Лондон)
74. Львица, убивающая эфиопа в зарослях папируса (деталь облицовки мебели, слоновая кость, золото, лазурит, сердолик) (Иракский музей, Багдад, по данным начала 2003 г.)
75. Золотые украшения из погребения ассирийской царицы в Нимруде — диадема и ожерелье (золото, самоцветы) (Иракский музей, Багдад, по данным начала 2003 г.)
Глава 6
76. 1 — Арамейская стела из Тель Дана (середина — вторая половина IX в. до н.э.), в тексте которой упоминается «Дом (т.е. династия) Давида»; 2 — прорисовка; 3 —текст
77. Черный обелиск. Израильский царь Йеху изображен коленопреклоненным перед ассирийским царем Салманасаром III
78. Настенный рельеф из дворца Синаххериба в Ниневии. Семейство из иудейского города Лахиша, захваченного ассирийцами, уходит в изгнание
79. 1 — Кунтиллет-‘Аджруд. Рисунок и надпись чернилами на пифосе. В нижней строке написано: IYHWH. smrn. wl'srth (варианты интерпретаций данной фразы приведены в тексте главы); 2 — тот же рисунок и надпись (нижняя строка), воспроизведенные на черном фоне
На цветной вкладке
80. Известняковый «четырехроговый» жертвенник для воскурений (Мегиддо, X в. до н.э.)
81. Печать из полудрагоценного камня с фигурой грифона (период Первого Храма)
82. Спуск к источнику Тихон. Предвосхищая нашествие на Иерусалим ассирийского царя Синаххериба, иудейский царь Хизкийаху прорыл туннель, по которому вода источника шла к водоему Шилоах (Силоам), расположенному внутри городских стен
Глава 7
83. Оттиск печати с изображением бога Мардука и его дракона
84. Стела из песчаника, посвященная перестройке Ашшурбанапалом храма Эсагила в Вавилоне
На цветной вкладке
85. Ворота Иштар в Вавилоне (Берлинский музей)
Глава 9
86. Меч в золотых ножнах с изображениями в древневосточном стиле. Келермесский курган № 1 из раскопок 1903 г.
87. Парадная секира из Келермеса. Курган № 1 из раскопок 1903 г.
88. Реконструкция парадного убранства сакского вождя из кургана Иссык
89. Фрагмент войлочного ковра из Пазырыкского кургана К® 5
90. Деревянный и роговой элементы конской узды из Пазырыкских курганов № 1 и 2
91. Курган Аржан. План погребального сооружения
На цветной вкладке
92. План погребения в Келермесском кургане № 1 (раскопки 1904 г.)
93. Золотой олень. Нащитная бляха из кургана у ст. Костромской. VII-VI вв. до н.э.
94. Меч в золотых ножнах с изображениями в древневосточном стиле. Деталь. Келермесский курган № 1 (раскопки 1903 г.)
95. Парадная секира из Келермеса. Деталь. Курган № 1 (раскопки 1903 г.)
96. Бляха в зверином стиле из кургана Кулаковского в Крыму
97. Золотая пектораль из Толстой Могилы
98. Золотой гребень из кургана Солоха
99. Бронзовое навершие из Ульского кургана
100. Электровый сосуд из кургана Куль-оба
101. Серебряная амфора из кургана Чертомлык
Глава 10
102. Пасаргады. Дворец (ворота), рельеф
103. Пасаргады. План царского сада: 1 —Дворец Р; 2 — Павильон А; 3 — Павильон В; 4 — Дворец S
104. Пасаргады. Дворец Р, фр-т рельефа: царь и слуга
105. Пасаргады. Зиндан, реконструкция
106. Пасаргады. Гробница Кира. 1-4 — фасады
107. Бехистун. Скальный рельеф Дария I
108. Зар-и Пуль. Скальный рельеф Анубанини, царя луллубеев
109. Сузы. План города ахеменидского периода: Акрополь, Царский город, Ападана
110. Сузы. Холм Ападаны, реконструкция построек
111. Сузы. Статуя Дария I
112. Сузы. Жилой дворец Дария I, изразцовое панно
113. Сузы. Статуя Дария I
114. Персеполь. Общий план города: 1 —Лестница на террасу; 2— Пропилеи Ксеркса; 3 — Ападана; 4 — Центральное здание (трипилон); 5 — Дворец Дария I (тачара); 6 — Сокровищница; 7 — «Гарем» Ксеркса; 8 — Дворец Ксеркса; 9 — Дворец «Н» (Ксеркса-Артаксеркса!); 10 — Тронный (100-колонныЙ) зал; 11—Незаконченные монументальные ворота; 12 — Северо-восточный угол террасы
115. Персеполь. Северо-восточный угол террасы
116. Персеполь. Лестница на террасу
117. Персеполь. Вид на город: 100-колонный зал (на переднем плане), Центральное здание с парадной лестницей, Дворец Дария I (на заднем плане), Ападана (справа, частично)
118. Персеполь. Ападана, реконструкция северного фасада с первоначальной центральной панелью
119, Персеполь. Центральное здание, рельеф южного входа
120. Персеполь. Центральное здание, рельеф южного входа
121. Персеполь. Центральное здание, главная лестница (северный фасад дворца): общий вид
122. Персеполь. Центральное здание, главная лестница (северный фасад дворца): деталь
123, 124. Персеполь. Центральное здание, рельефы главной лестницы: мидийская знать
125. Персеполь. Центральное здание, рельефы главной лестницы: персидская знать
126. Персеполь. Центральное здание, рельефы главной лестницы: персидская знать
127. Персеполь. Дворец Дария I, вид с севера
128. Персеполь. Дворец Дария I, рельеф восточного входа в зал: борьба царственного героя со львом
Глава 11
129. Персеполь. «Гарем» Ксеркса, рельефы северного входа в центральный зал: царь со слугами
130. Персеполь. «Гарем» Ксеркса, рельеф восточного входа в зал: борьба царственного героя с монстром
131. Персеполь. 100-колонный зал, рельеф северного прохода
132. Персеполь. 100-колонный зал, рельеф северного прохода: деталь балдахина
133. Персеполь. 100-колонный зал, рельеф южного прохода
134. Накш-и Рустам. Ка‘ба Зороастра
135. Накш-и Рустам. Гробница Ксеркса
136. Прорисовки оттисков двух цилиндрических печатей на табличках из Персеполя: 1 — Дария; 2 — Фарнака
137. Цилиндрическая печать Дария (агат)
138. Рельеф Дария I на Бехистунской скале
139. Гробница Кира II в Пасаргадах
140. Дарик — ахеменидская золотая монета
141. Оттиск ахеменидской печати с надписью Дария I
142. Фигурка всадника
143. Ахеменидская серебряная монета (Амударьинский клад)
144. Ахеменидский царь, изображение на печати
145. 1 — серебряные статеры сатрапа Датама; 2 — серебряные статеры сатрапа Мазея
На цветной вкладке
146. Персеполь. Фигура божества в диске, вероятно, Ахура Мазда. Раскраска восстановлена на основании следов краски на фигуре божества из 100-колонного зала
147. Накш-и Рустам. Гробница Артаксеркса I (слева) и Дария I
Глава 12
148. Представители среднеазиатских народов: 4—ареи; 11 — саки тиграхауда; 13— парфяне; 15 — бактрийцы; 17 — согдийцы; 23 — дахи (прорисовка рельефа из 100-колонного зала в Персеполе)
149. Представители среднеазиатских народов: 18— хорезмийцы; 20— саки; 28 — саки хау-маварга (прорисовка рельефа из 100-колонного зала в Персеполе)
150. Представители среднеазиатских народов: 1 — сак тиграхауда; 2 — бактриец; 3 — согди-ец; 4 — хорезмиец (реконструкция по ахеменидским рельефам)
151. Представители среднеазиатских народов: восточнопамирский воин — сак (VII-VI вв. до н.э.) (реконструкция по материалам могильников)
152. Жрец (статуэтка из Амударьинского клада)
153. Жрец (пластинка из Амударьинского клада)
154. Божество в антропоморфном облике
155. Поселение среднеазиатского типа
156. Крепостная стена среднеазиатского поселения ахеменидского времени. Кюзелигыр
157. Ахеменидская сатрапская резиденция в Бактрии. Алтын 10. Объект I
158. Ахеменидская сатрапская резиденция в Бактрии. Алтын 10. Объект II
159. СельскаА «усадьба» в Бактрии ахеменидского времени. Кызылча-6
160. Планы столичных городов Средней Азии ахеменидского времени: Бактрия, Бала-хисар
161. Планы столичных городов Средней Азии ахеменидского времени: Парфия, Гяур-кал а и Эрк-кала
162. Планы столичных городов Средней Азии ахеменидского времени: Согдиана, Афрасиаб
163. Планы столичных городов Средней Азии ахеменидского времени: Хорезм, Кюзелигыр
164. Ранний зороастрийский храм. Тахти-Сангин: план
165. Ранний зороастрийский храм. Тахти-Сангин: реконструкция фасада
166. Ранний зороастрийский храм. Тахти-Сангин: аксонометрия
167. Круглое святилище (вара?). Кутлуг-тепе: план
168. Круглое святилище (вара?). Кутлуг-тепе: аксонометрия и реконструкция
32 (гл. 3)
33 (гл. 3)
34,35,36,37 (гл. 3)
38, 39 (гл. 3)
40,41 (г.1.3)
42, 43,44, 45 (гл. 3)
46, 47 (гл. 3)
48, 49, 50 (гл. 3)
51,52, 53 (гл.З)
54 (гл. 3)
(£ irj) 9S ‘SS
57, 58 (гл. 3)
59, 60 (гл. 3)
61, 62, 63 (гл. 3)
64, 65 (гл. 3)
66, 67 (гл. 3)
68, 69 (гл. 3)
70,71 (гл. 4)
72, 73 (гл. 4)
74, 75 (гл. 4)
80, 81 (гл. 6)
82 (гл. 6)
85 (гл. 7)
92, 93 (гл. 9)
I
98, 99, 100, 101 (гл, 9)
146, 147 (r.i. 11)
СПИСОК КАРТ
Индия и Иран в древности (до конца Ш в. до н.э.)
Древнейший Китай (до середины I тысячелетия до н.э.)
Древний Китай в период «Сражающихся царств» (V-III вв. до н.э.)
Передняя Азия в первой половине VI в. до н.э.
Ассирийская держава в VIII—VII вв. до н.э.
Держава Ахеменидов
ИНДИЯ И ИРАН В ДРЕВНОСТИ (до конца III в. до н.э.)
ДРЕВНЕЙШИЙ КИТАЙ (до середины I тысячелетия до н.э.)
ДРЕВНИЙ КИТАЙ В ПЕРИОД «СРАЖАЮЩИХСЯ ЦАРСТВ» (V-III вв. до н.э.)
------1 Названия древнекитайских царств в период Чжань-ЛУ I го. Цифрами обозначены следующие царства: 1 — ------1 ЧЖОУ (до 256 Г.). 2 - ЧЖУНШАНЬ (ДО 301 г.)
ЧЖЭН.
© Столицы семи сильнейших царств
| О (Прочие населенные пункты
| Наньян [крупные торгоао-ромесленыыв центры
Ьл»**! Важнвймие каналы и ирригационные системы
[линьху|лгюыена
Направление вторжений сюнну (со второй полови-
I *4 -^1 ны М в. до н.э.)
Оборонительные стены
[ т | Направление агрессии царства Чу на юге
I У l*4®01* м латы крупнейших сражений (конец | A ZWr. | (у _ первая половина HI вв. до и.э.)
Приблизительные границы царств
Примечание: в скобках даны современные названия
200 0 200 400 км
I- । 1-1 I
ПЕРЕДНЯЯ АЗИЯ в первой половине VI в. до н.э.
АССИРИЙСКАЯ ДЕРЖАВА в VIII—V» вв. до н.э.
Граница Ассирийской державы около 700 г. до н.э.
Граница Ассирийской державы при Ашшурбаналале
Примерные границы влияния эфиопской династии Египта на северо- западе
Примерная граница ассирийского влияния в
Палестине и Заиорданье
Примерная граница ассирийских завоеваний в Египте
Израильское царство
Иудейское царство
Города
Предположительное местонахождение древних городов
Государства
Племена
«Железный путь»
\КИММ. ^Первая база набегов Г '______J киммерийцев
[7иММ?21ВтОраЯ^3аНа6втав
Г________I киммерийцев
С'1^ш71Баэа наввго®скифов |__________I (•Скифское царство*)
Болота
I---------ттд Исторические береговая
I линия и русла Тигра и
-J Евфрата
Примечание: в скобках даны современные названия
135
О
135
270
Территория Персидского государства к концу VI в. до н.э. ®тир Важнейшие самоуправляющиеся города
XIII Сатрапии, учрежденные Дарием 1 Офра Прочие населенные пункты
мисия Историко*географические области «Царская дорога-
колхи Народы Каналы
(§>СУЗЫ Столицы Персидского государства Исторические береговая линия, русла Нила, Тигра, Евфрата, Инда, Амударьи и Узбоя
I Иония II Лидия III Каппадокия IV Киликия V Заречье VI Египет VII Саггагидия и Гандхара VIII Элам
IX Вавилон
X Мидия
XI Каспиана
XII Бактрия
XIII Армения (западная)
XIV Дрангиана и Кармания XV Саки и каспии
XVI Парфия, Хорезм, Арейа и Согдиана
XVII Азиатская Эфиопия
XVIII Армения (восточная) XIX Причерноморские народы XX Индия
Примечание: сатрапия Фракия (Скудра) в список Геродота не вошла
300 0 300 600 км
1111
СОДЕРЖАНИЕ
От редколлегии................................................................. 33
Предисловие.................................................................... 34
Протогосударственные образования на территории Индостана и Дальнего Востока
Глава 1. Древнейшая Индия...................................................... 59
История изучения............................................................ 60
Территория распространения хараппской цивилизации............................ 61
Древнейшее прошлое.......................................................... 63
Неолит и халколит........................................................... 63
Хараппская цивилизация...................................................... 69
Ремесла и искусство......................................................... 78
Письменность и язык......................................................... 82
Проблема обмена и торговли.................................................. 84
Общественное устройство..................................................... 89
Религиозно-мифологические представления и обряды............................ 90
Завершающий период хараппской цивилизации и постхараппская ситуация...... 93
Глава 2. Индия в ведийский период.............................................. 97
Литературные источники...................................................... 97
Археологические культуры Индии II — начала I тысячелетия до н.э.............. 104
Расселение ведийских ариев. Экономика........................................ 109
Социальные отношения......................................................... 117
Культура..................................................................... 134
Глава 3. Древнейший и древний Китай......................................... 153
Характер древнекитайских письменных памятников............................... 153
Предыстория древнекитайской цивилизации...................................... 167
Формирование раннеклассовых обществ в бассейнах рек Хуанхэ и Янцзы........... 172
Период Шан-Инь............................................................... 183
Социально-экономическая и общественно-политическая структура шанского общества.......................................................... 191
Появление чжоусцев на исторической арене и гибель государственно-племенного объединения Инь........................................................ 207
Период Западного Чжоу...................................................... 209
Правление Чэн-вана и укрепление власти Чжоу................................ 211
Создание западночжоуской государственности................................. 213
Западночжоуская политическая доктрина...................................... 216
Центральная власть и органы местного управления............................ 223
Экономическое развитие..................................................... 229
Проблемы земельных пожалований и формы землевладения....................... 230
Социальная структура и статус эксплуатируемого населения.................. 235
Взаимоотношения западночжоуской государственности с «варварской» периферией и упадок дома Чжоу.......................................... 240
Период Чуньцю............................................................. 245
Экономика................................................................. 247
Аграрные отношения........................................................ 250
Социальное положение производителей материальных благ..................... 255
Социальные сдвиги внутри господствующего класса........................... 269
Политическая история периода Чуньцю....................................... 275
Период Чжаньго............................................................ 280
Развитие экономики........................................................ 282
Реформы Шан Яна. Аграрная и социально-политическая структура древнекитайского общества в период Чжаньго............................. 292
История взаимоотношений древнекитайских царств в V—III вв. до н.э......... 307
Культура древнего Китая................................................... 312
Искусство древнейшего и древнего Китая.................................... 322
Страны Переднего Востока в первой половине I тысячелетия до н.э.
Глава 4. Ассирийская держава. Новоассирийский период......................... 343
Политическая история...................................................... 343
Хозяйство и социальная структура.......................................... 368
Царь и царская власть..................................................... 370
Служилая знать............................................................ 371
Правовой режим земли. Иммунитетные грамоты................................ 373
Непосредственные производители............................................ 376
Культура Ассирии.......................................................... 381
Последние десятилетия Ассирии............................................. 383
Глава 5. Малая Азия, Армянское нагорье и Закавказье в первой половине I тысячелетия до н.э. (Урарту, Фригия, Лидия)........... 395
Глава 6. История Израиля и Иудеи в эпоху Первого Храма. Первая половина I тысячелетия до н.э...................................... 421
I. Завоевание израильтянами Ханаана. Эпоха судей.......................... 421
Основные научные концепции поселения Израиля в Ханаане................. 421
Ранние письменные источники, упоминающие о пребывании Израиля в Ханаане. Расселение колен Израилевых............................. 424
Социально-политическая структура древнеизраильского общества
в эпоху судей. Культовые центры израильтян в домонархический период........................................... 427
II. Единое Израильское царство. Саул, Давид и Соломон..................... 429
Попытки установления царской власти в эпоху судей...................... 429
Царь Саул (ок. 1030 ? — ок. 1009 г. до н.э.)........................... 430
Израиль и филистимляне............................................. 430
Царство Саула. Культовый центр и первая столица Израильского царства Гив‘ат ха-’Элохим/Гив€он................................ 434
Давид (ок. 1009/1001 — 969 г. до н.э.)................................. 438
Приход Давида к власти............................................. 438
Государство Давида. Иерусалим — столица Израиля.................... 440
Давид в арамейской надписи из Тель Дана и на моавитской Стеле Меши...................................................... 444
Соломон (ок. 970/969 — 931 г. до н.э.)................................ 446
Социально-политические и экономические аспекты царства Соломона..... 446
Храм Господа в Иерусалиме. Строительная активность Соломона.
Укрепление армии. Некоторые аспекты религиозной политики........ 449
Кризисные явления во второй половине царствования Соломона......... 451
III. Эпоха двух царств: Иудея (Йехуда) и Израиль......................... 452
Раскол единого Израильского царства................................... 453
Иудея и Израиль в последней трети X — первой половине IX в. до н.э. (931-841 гг. до н.э.)............................................... 454
Рехав‘ам Иудейский и Йаров'ам Израильский.......................... 455
Войны между Иудеей и Израилем...................................... 456
Израильская династия Омридов. Культ финикийского Ба‘ала в Израиле.
Пророки YHWH-Господа Илия и Елисей.............................. 456
Иудейский царь Йехошафат и его реформы............................. 463
История Иудеи со второй половины IX в. до н.э. до воцарения Хизкийаху (715 г. до н.э.). История Израиля со второй половины IX в. до н.э. до падения Самарии (723/722 гг. до н.э.).............. 464
Иудея с 841 по 790 г. до н.э....................................... 464
Политический и экономический расцвет Иудеи при царе Уззийаху....... 465
Военные конфликты по смерти Уззийаху.
Нечестивое правление Ахаза...................................... 466
Израиль при династии Йеху (841-752). Последние израильские цари и падение Самарии................................................ 467
Иудея от периода царствования Хизкийаху до разрушения Иерусалима и Храма и начала вавилонского плена................................. 471
Правление царя Хизкийаху и его религиозная реформа. Пророк Исайя.
Нечестивое царствование и раскаяние Менашше..................... 471
Царь Йошийаху и религиозная реформа в Иудее........................ 475
Последние цари Иудеи. Разгром Иудеи, падение Иерусалима и разрушение Храма вавилонянами. Пророк Иеремия............................... 482
Глава 7. Нововавилонская держава. Вавилония в XII-VI вв. до н.э............. 486
Вавилония в XII-IX вв. до н.э............................................ 486
Вавилония под ассирийским владычеством (VIH-VII вв.)..................... 488
Образование Нововавилонской державы...................................... 494
Общество и экономика Нововавилонской державы............................. 499
Страны Иранского нагорья и Средней Азии до середины I тысячелетия до н.э.
Глава 8. Мидийское царство.................................................. 515
Ассирийские походы в Иран и Мидию........................................ 518
Возвышение Мидийского царства............................................ 526
Глава 9. Степи Евразии и древний Ближний Восток в киммерийско-скифскую эпоху. 537
Ахеменидская держава. Ближний и Средний Восток в ахеменидскую эпоху
Глава 10. Ахеменидская держава.............................................. 581
Ранняя история персов.................................................... 581
Возникновение Персидской державы......................................... 582
Восстания покоренных народов............................................. 590
Греко-персидские войны................................................. 597
Ахеменидская держава в V в. до н.э..................................... 609
Падение Ахеменидской державы........................................... 623
Государственное управление............................................. 627
Право.................................................................. 632
Земельные отношения.................................................... 634
Рабство................................................................ 637
Подати................................................................. 645
Деньги и сокровищница.................................................. 648
Торговля............................................................... 650
Храмовая политика Ахеменидов........................................... 650
Армия.................................................................. 652
Этнические и культурные контакты....................................... 654
Глава 11. Ахеменидское искусство.......................................... 656
Пасаргады.............................................................. 664
Район дворцов....................................................... 665
Дворцовый сад....................................................... 670
Зиндан.............................................................. 671
Священная ограда.................................................... 672
Г робница Кира...................................................... 672
Район цитадели...................................................... 674
Рельеф Дария в Бехистуне............................................... 674
Сузы................................................................... 678
Жилой дворец....................................................... 681
Ападана............................................................. 681
Парадные ворота..................................................... 681
Статуя Дария........................................................ 682
Персеполь.............................................................. 686
Ападана............................................................. 687
Жилой дворец Дария 1................................................ 688
Дворец Ксеркса...................................................... 690
Тронный зал......................................................... 690
Глава 12. Средняя Азия в ахеменидское время............................... 698
Территориальные и временные рамки................................... 698
Источники........................................................... 699
I. Страна.............................................................. 700
Ариана.............................................................. 702
Скифия.............................................................. 703
Бактрия............................................................. 704
Согдиана............................................................ 706
Парфия.............................................................. 707
Гиркания............................................................ 708
Арея................................................................ 708
И. Население........................................................... 711
Арианы.............................................................. 711
Мидийские народы.................................................... 714
Скифские народы..................................................... 714
Саки................................................................ 718
Массагеты........................................................... 719
Дахи................................................................ 724
Каспийские народы................................................... 725
Тапуры................................................................ 725
Восточные каспии...................................................... 726
Общая этническая ситуация............................................. 728
III. Государство Ахеменидов и современные ему государственные и племенные объединения в Средней Азии................................... 731
I. Завоевания Кира в Средней Азии..................................... 732
2. Восстания в Средней Азии при воцарении Дария. Походы Дария в Среднюю Азию.......................................... 737
Экспедиция Скилака................................................. 742
3. История ахеменидских владений в Средней Азии. Бактрийская, Парфянская и другие сатрапии........................................ 743
Бактрийская сатрапия............................................. 743
Парфянская сатрапия.............................................. 744
Гирканцы......................................................... 745
Хорасмии........................................................... 746
Ареи............................................................... 746
Массагеты.......................................................... 746
Саки, или амиргии.................................................. 747
Дахи............................................................... 748
4. Устройство ахеменидских владений в Средней Азии.................... 748
Царь и его владения................................................ 748
Подданные царя, сатрапы и сатрапии............................... 751
Подати и повинности местного населения в сатрапиях................. 754
Царские вельможи родом из Средней Азии............................. 756
Судопроизводство................................................... 757
Союзники........................................................... 757
5. Государственные и племенные объединения в Средней Азии ахеменидского времени................................................ 757
Хорезмийское царство............................................... 757
Сакское (амиргийское) объединение.................................. 760
Дахское объединение.............................................. 761
Политическое устройство среднеазиатских скифов..................... 761
6. Военное дело в Средней Азии ахеменидского времени.................. 762
Вооружение......................................................... 762
Кинжал и меч.................................................... 762
Боевой топор.................................................... 764
Копье........................................................... 765
Булава.......................................................... 765
Лук и стрелы.................................................... 766
Праща........................................................... 766
Оборонительный доспех........................................... 766
Фортификация.................................................... 768
Боевое применение войск......................................... 768
IV. Общество Средней Азии ахеменидского времени.......................... 772
1. Общественный строй оседлых народов................................ 774
Земледельцы........................................................ 779
Скотоводы.......................................................... 780
Семья.............................................................. 783
2. Общественный строй кочевых народов................................ 784
Кочевники.......................................................... 786
Земледельцы и оседлые скотоводы.................................... 786
Семья и положение женщины........................................... 787
3. Города, крепости, сельские поселения............................... 788
Архитектура и строительство......................................... 788
4. Занятия населения.................................................. 795
Сельское хозяйство.................................................. 795
Добыча полезных ископаемых.......................................... 800
5. Религия............................................................ 805
Избранная библиография....................................................... 815
Список сокращений........................................................... 831
Указатель имен............................................................... 832
Указатель географических и топографических названий.......................... 847
Указатель этнических названий................................................ 869
Список иллюстраций........................................................... 874
Список карт.................................................................. 881
Карты........................................................................ 882
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА От ранних государственных образований до древних империй
Утверждено к печати
Институтом востоковедения РАН
Редактор А.А. Ковалев
Художник Э.Л. Эрман
Технический редактор О. В. Волкова
Корректоры Е.В. Карюкина, М.К. Киселева
Компьютерная верстка Н.А. Важенкова
Подписано к печати 12.07.04
Формат 70x100‘/le
Печать офсетная. Усл. п.л. 72,8
Усл. кр.-отг. 80,2. Уч.-изд. л. 75,3
Тираж 2000 экз. Изд. № 8105
Зак. № 119в
Издательская фирма «Восточная литература» РАН 127051, Москва К-51, Цветной бульвар, 21
Отпечатано в ООО «Флокси»