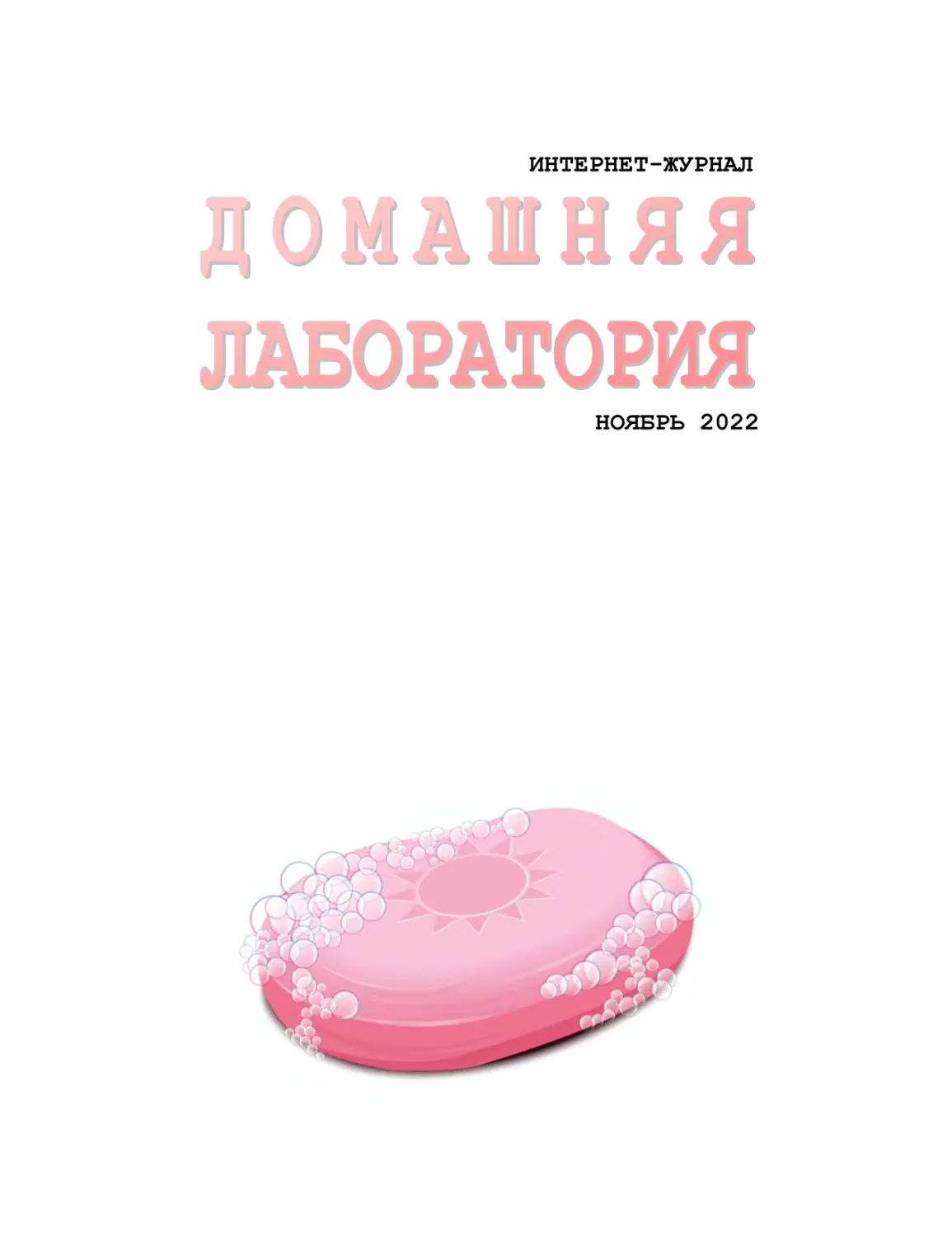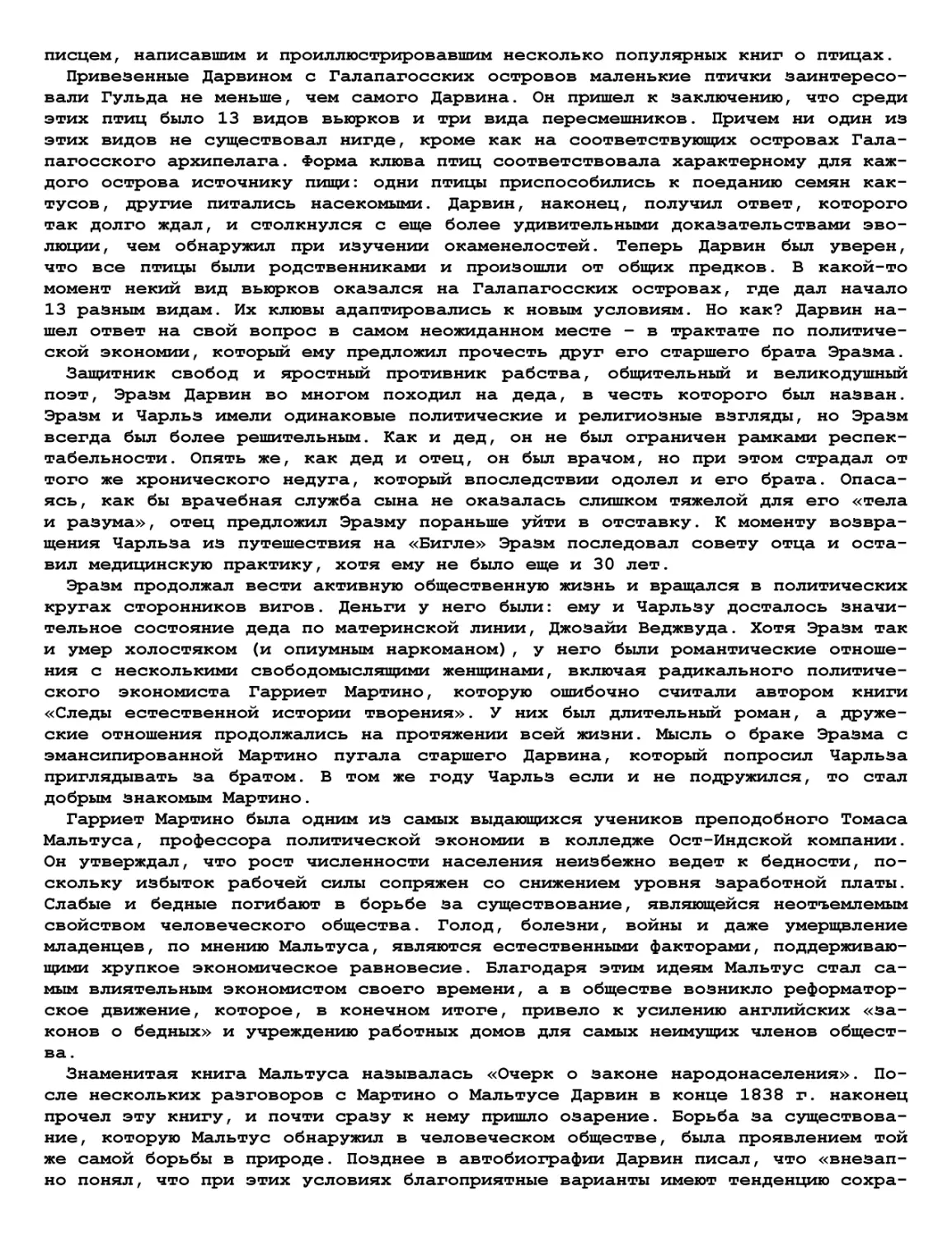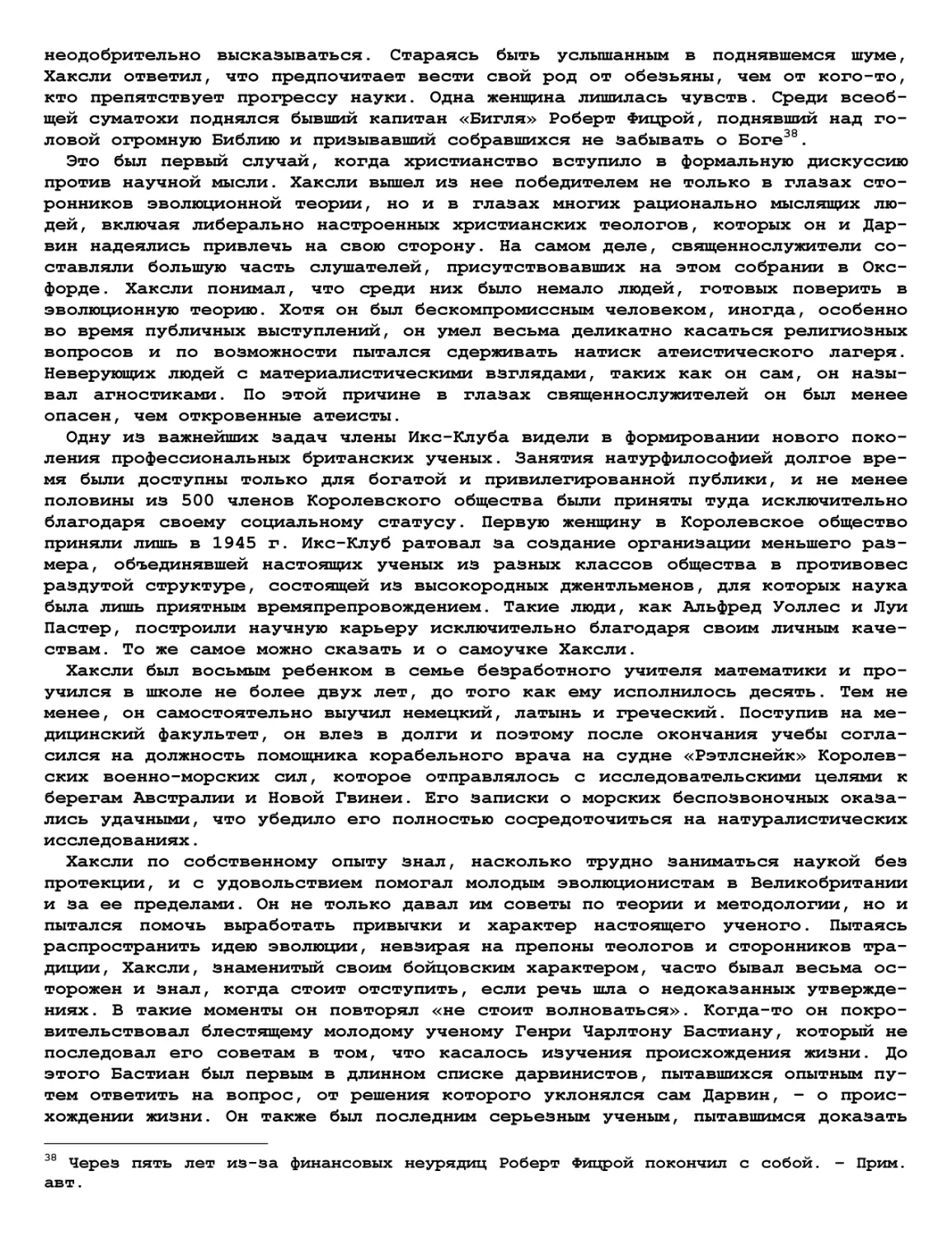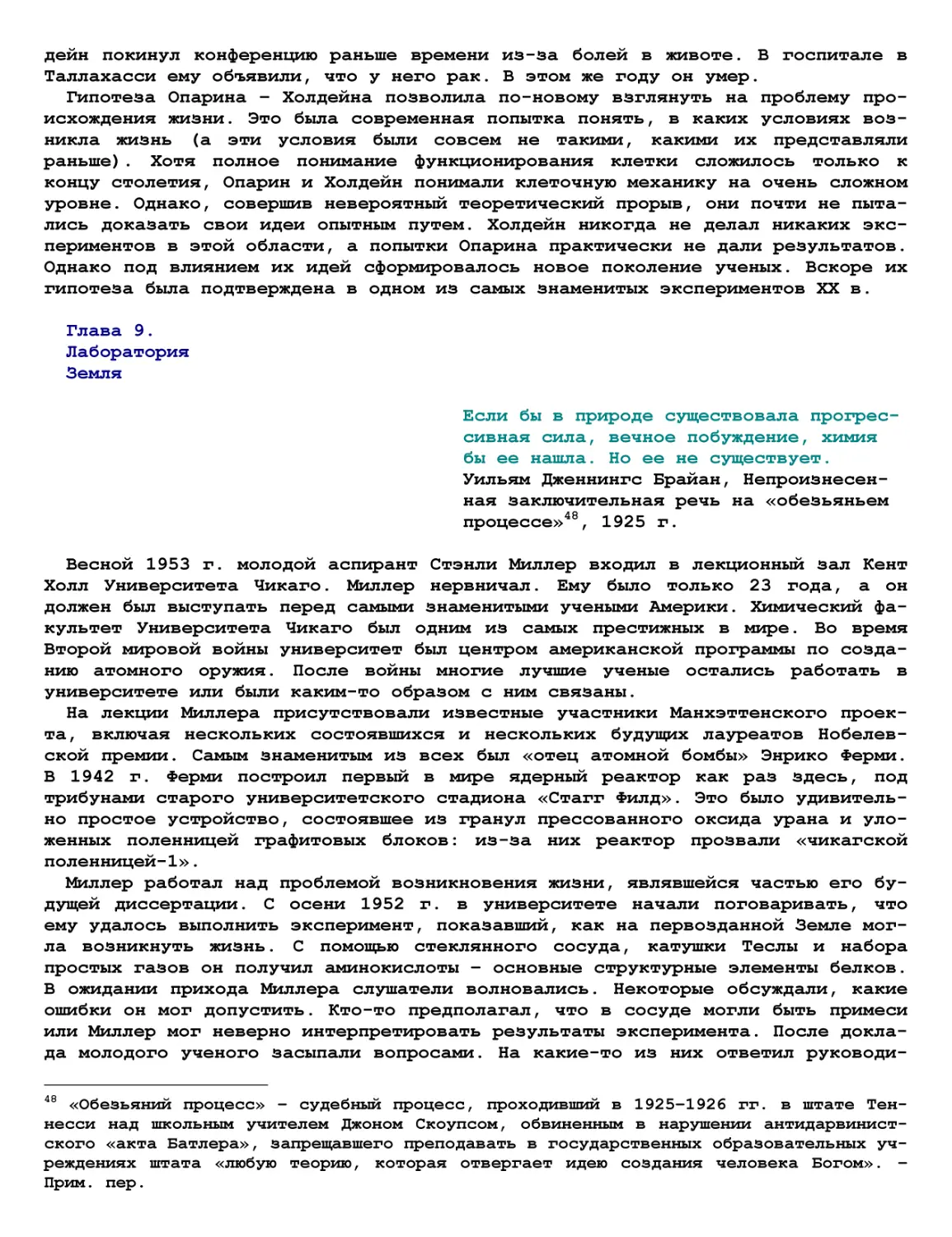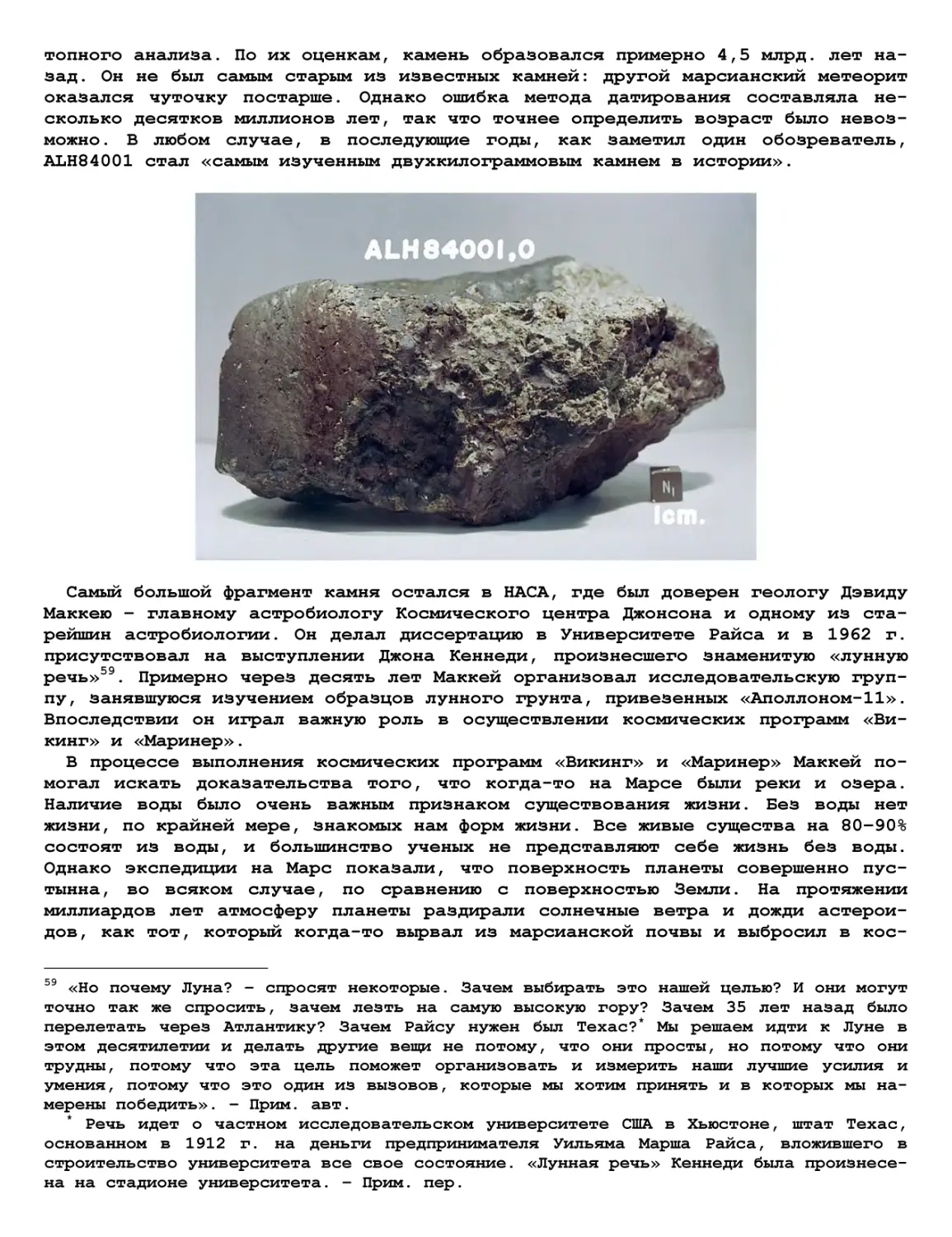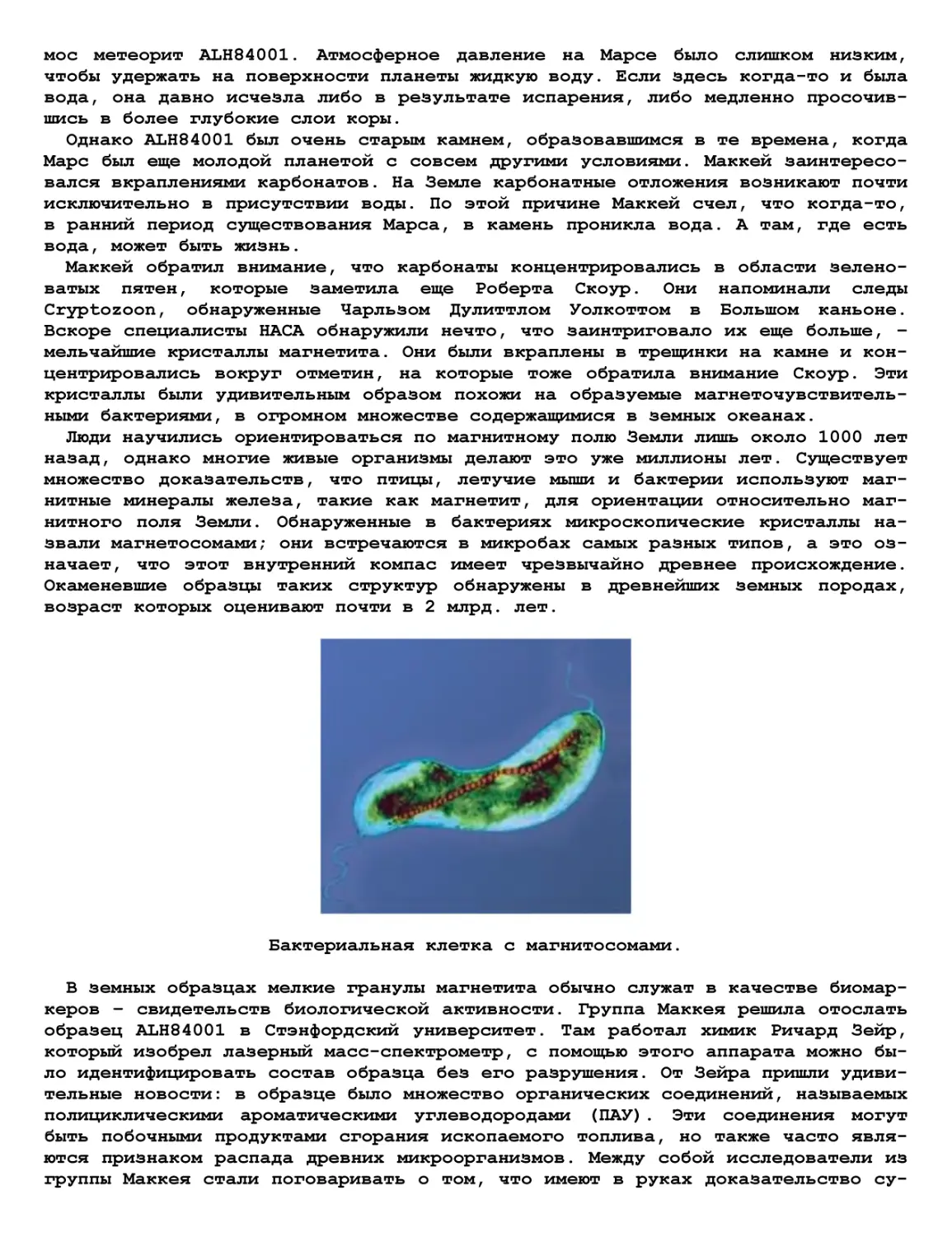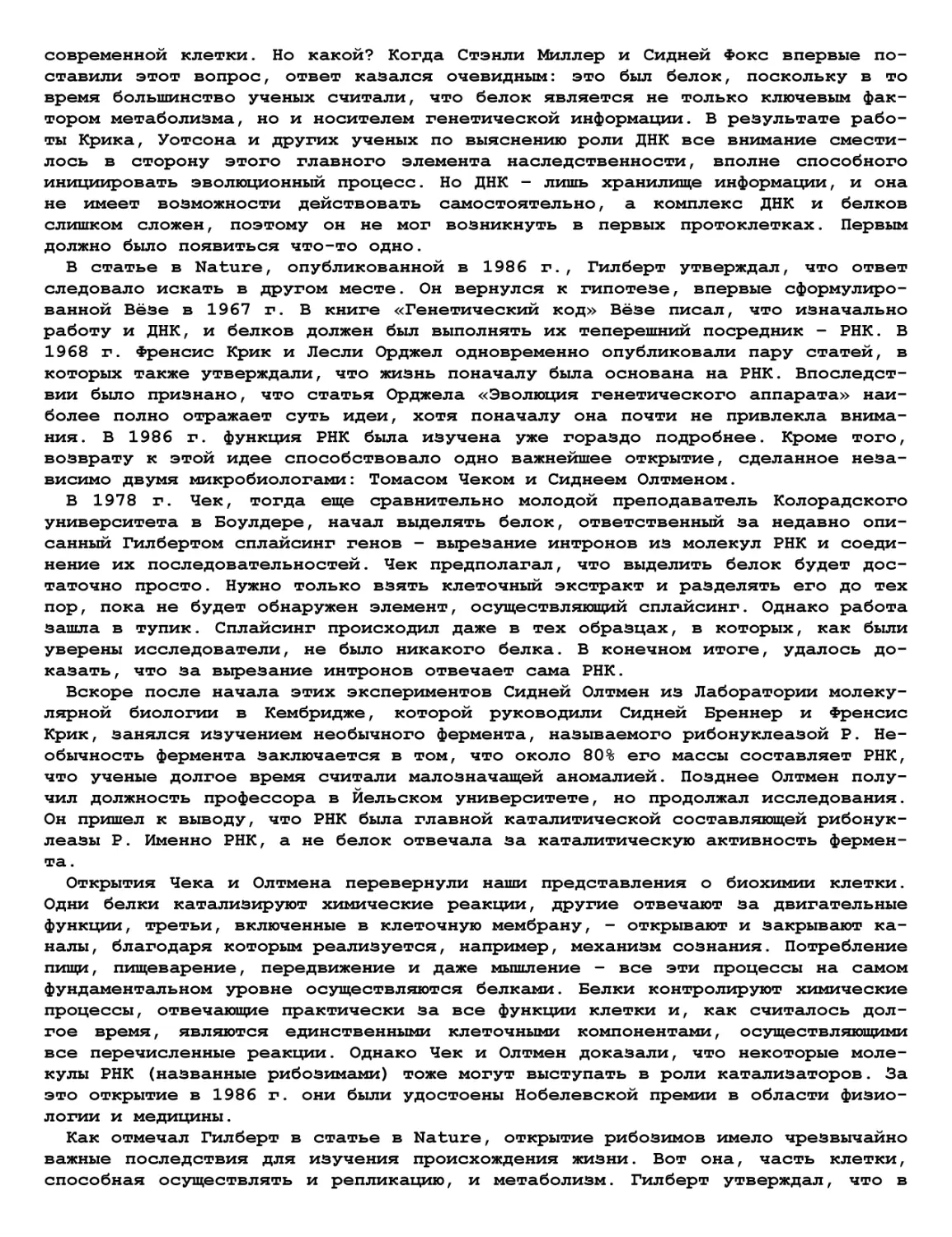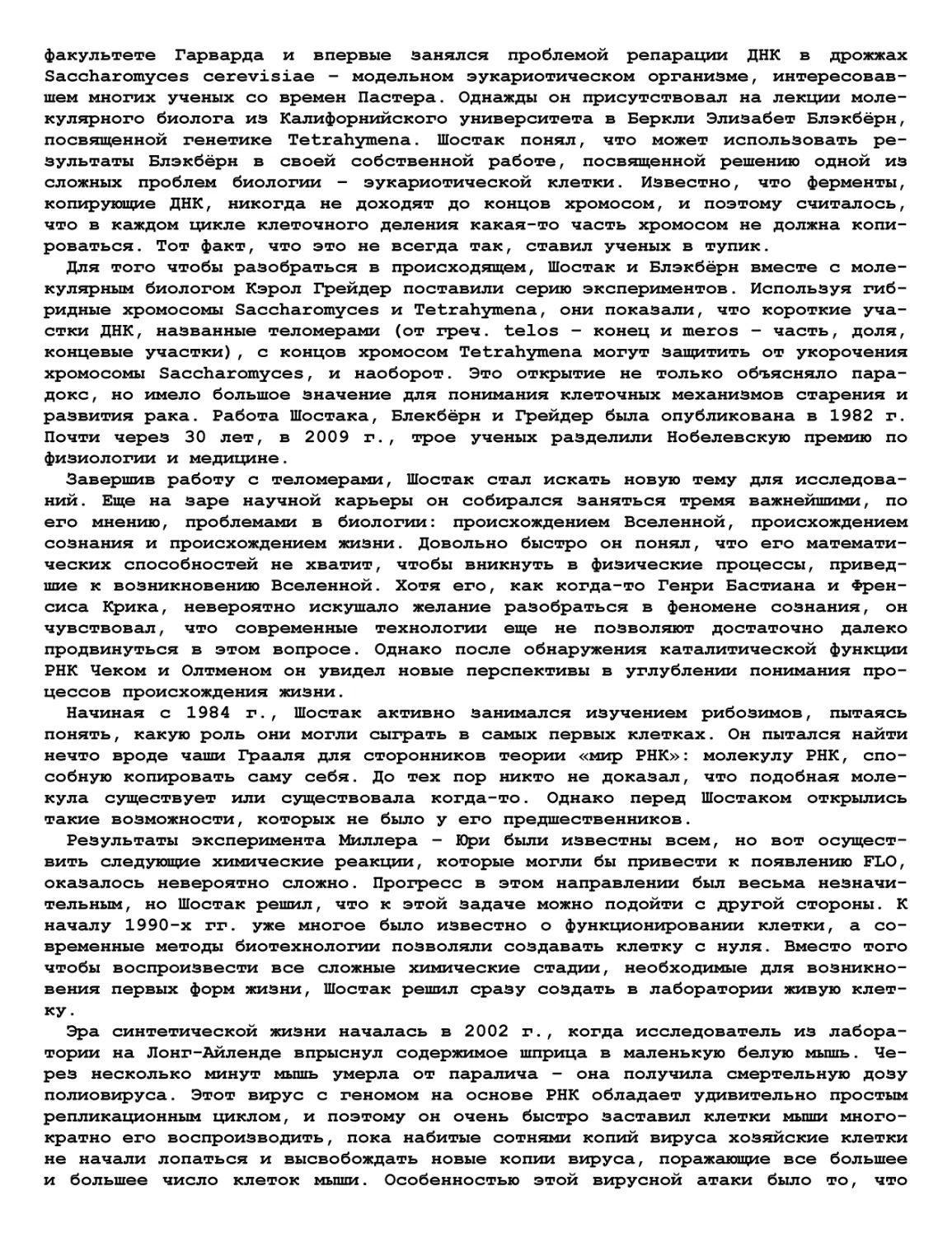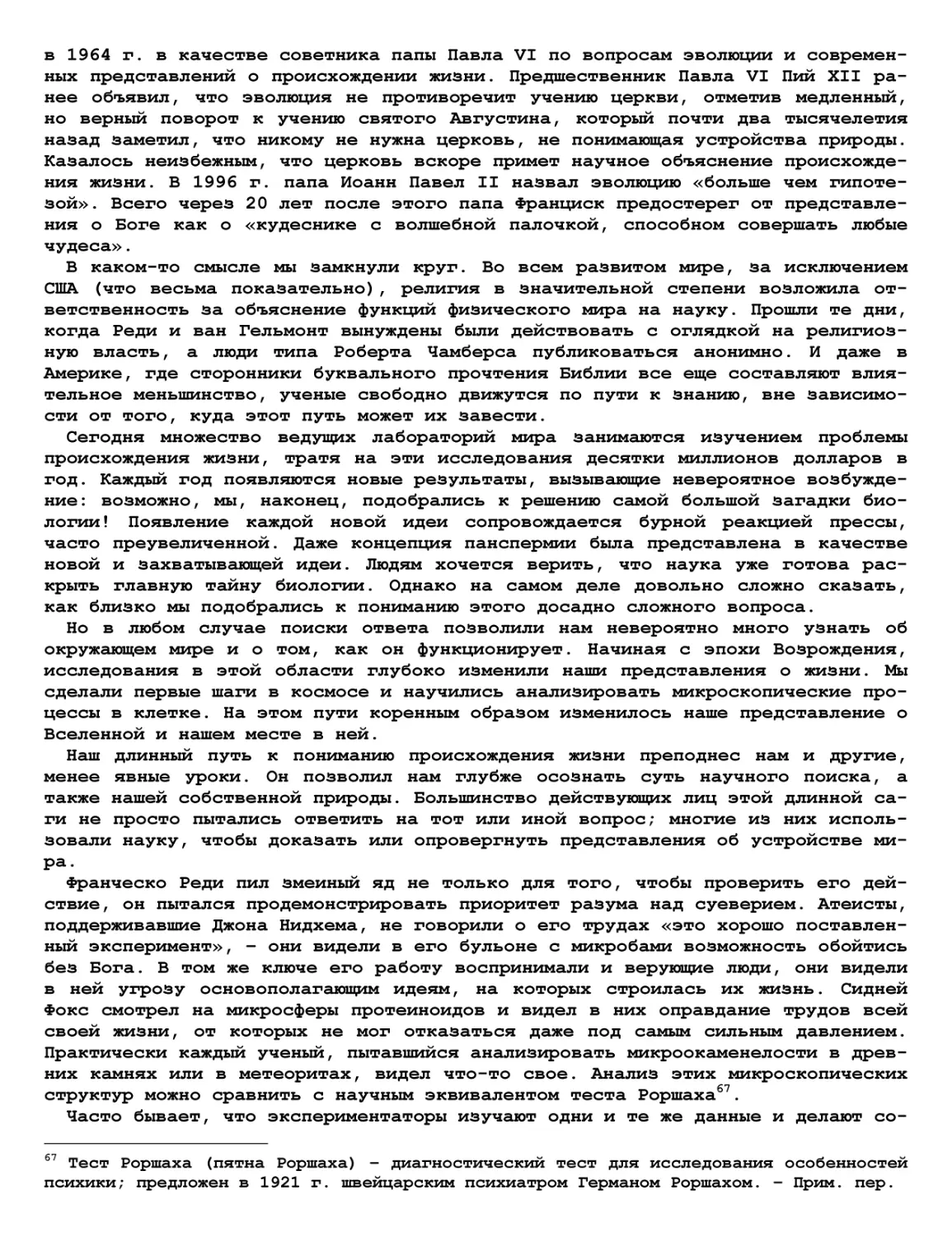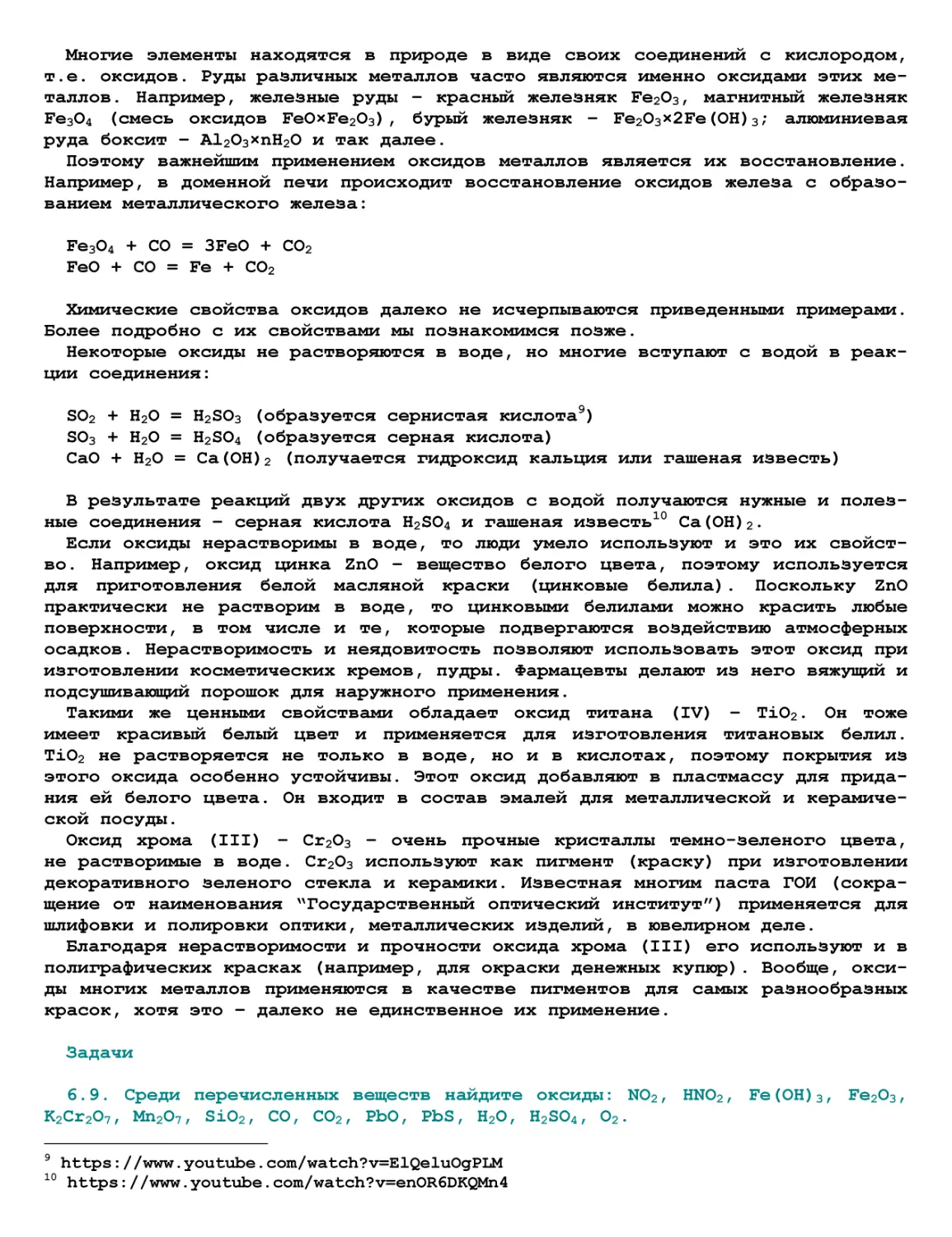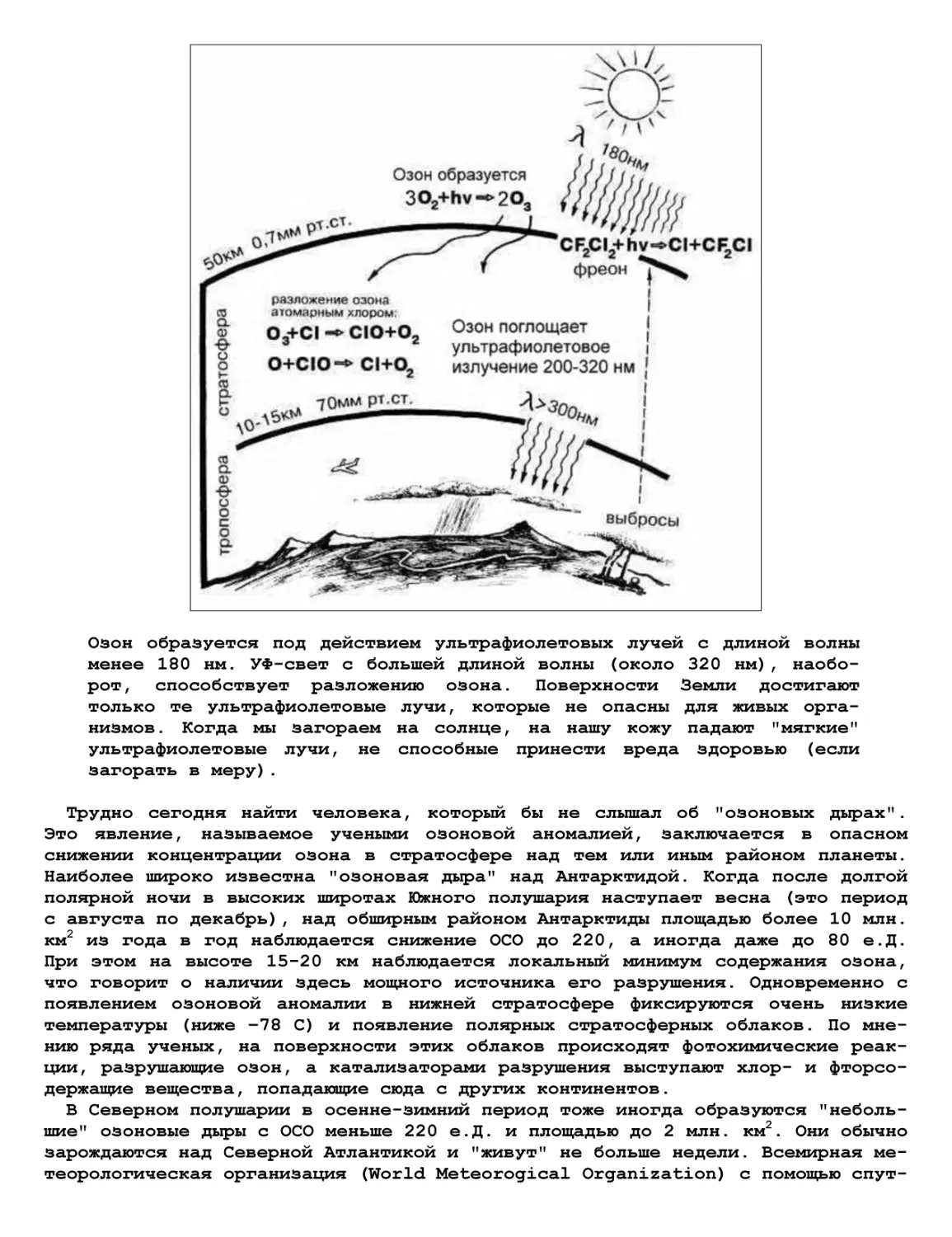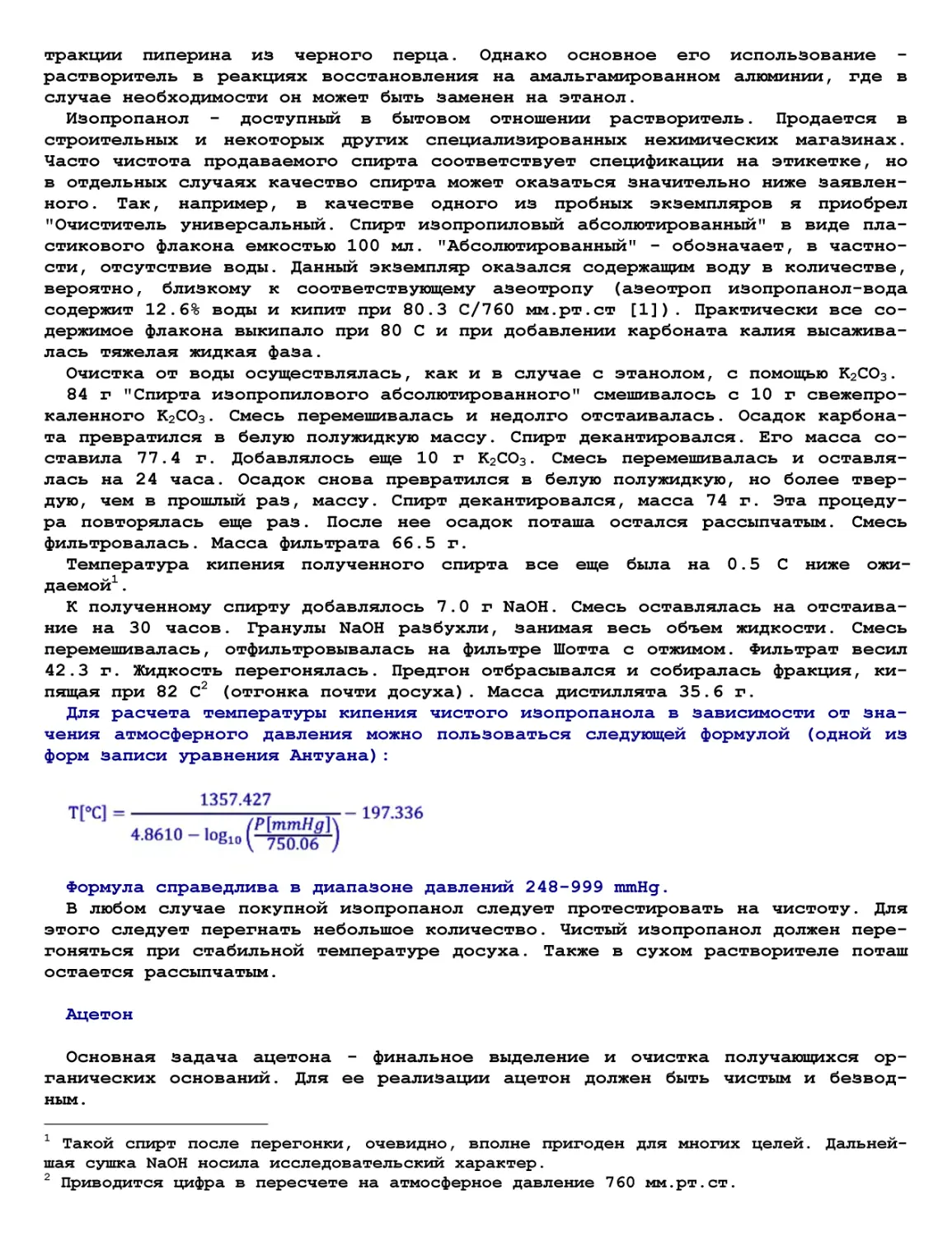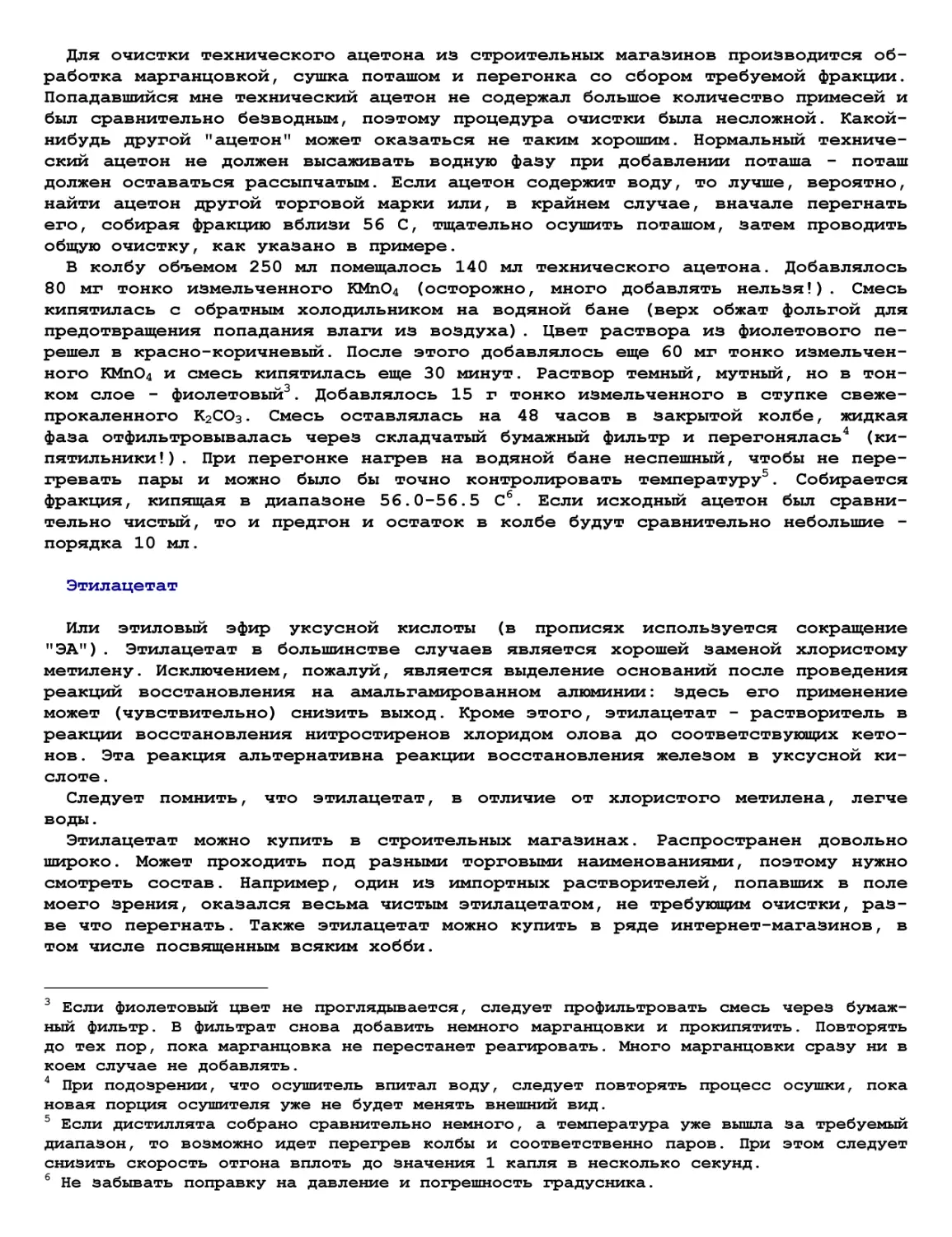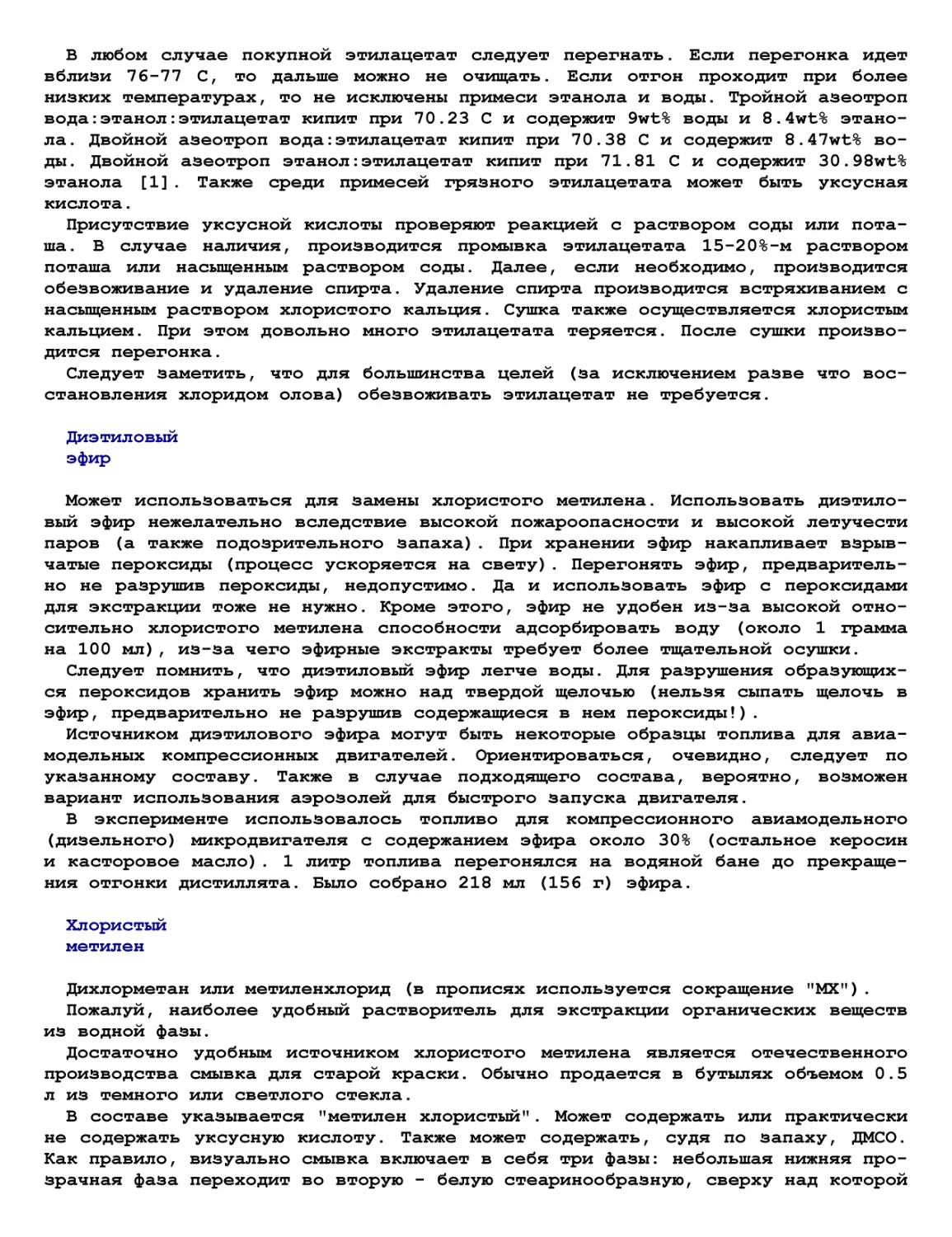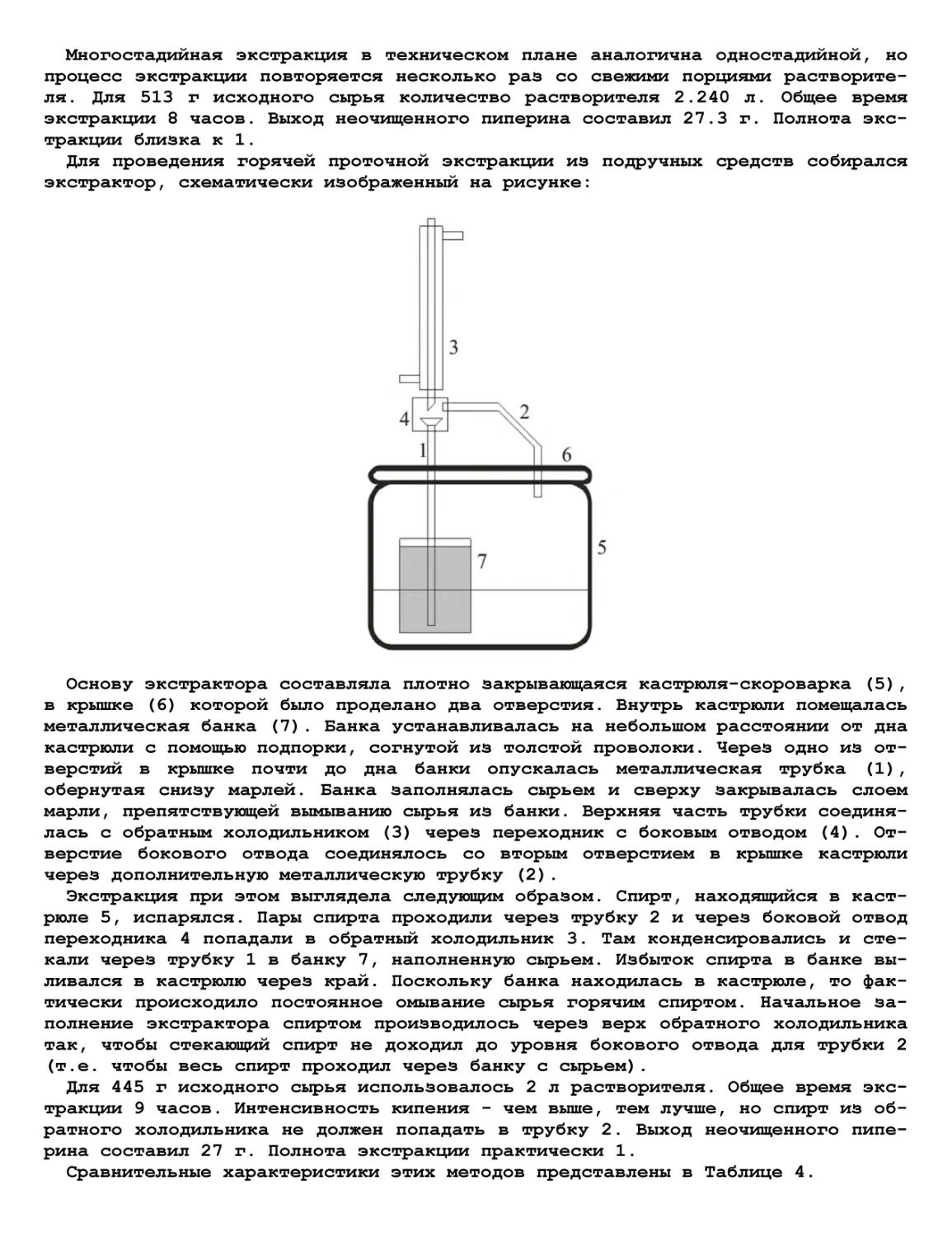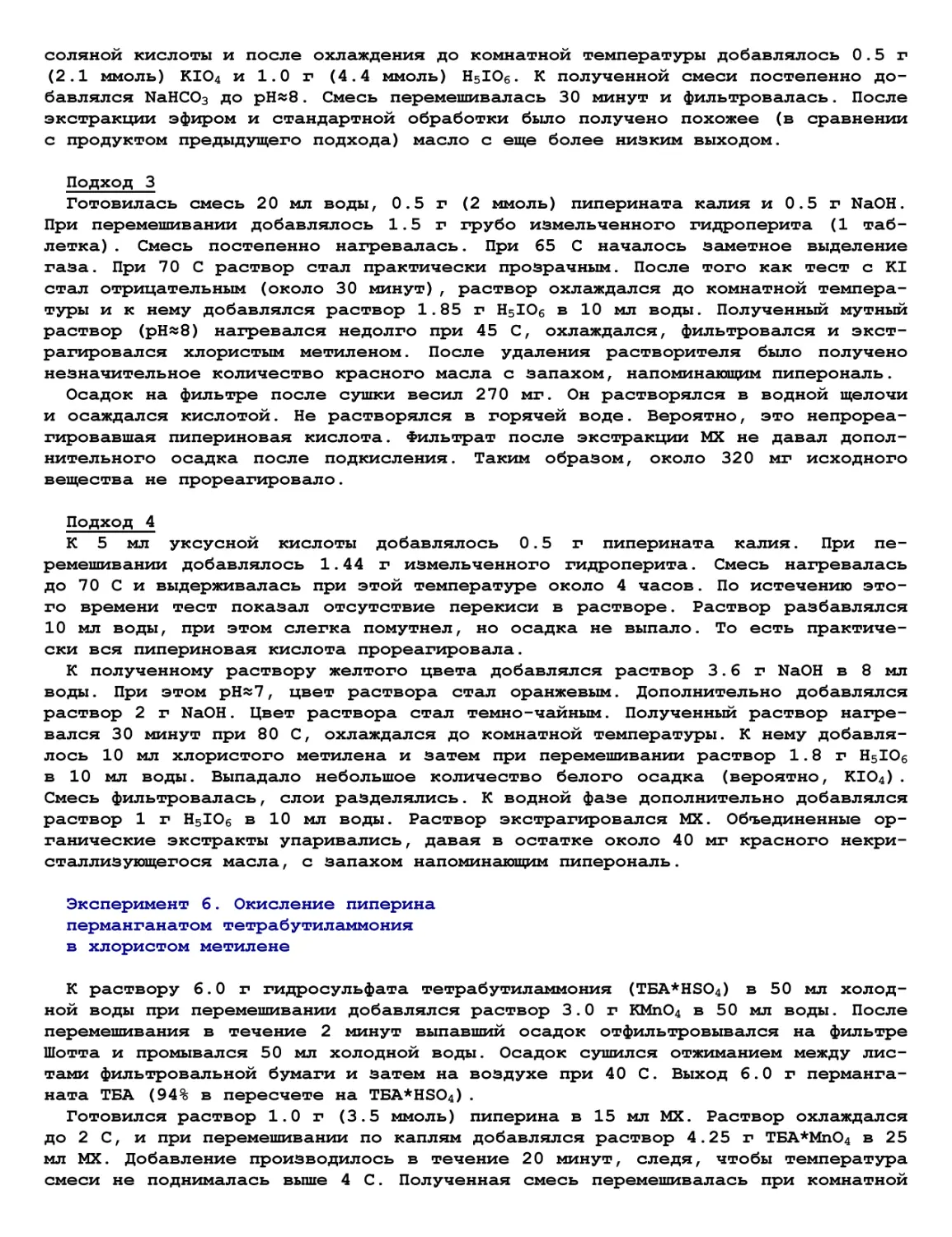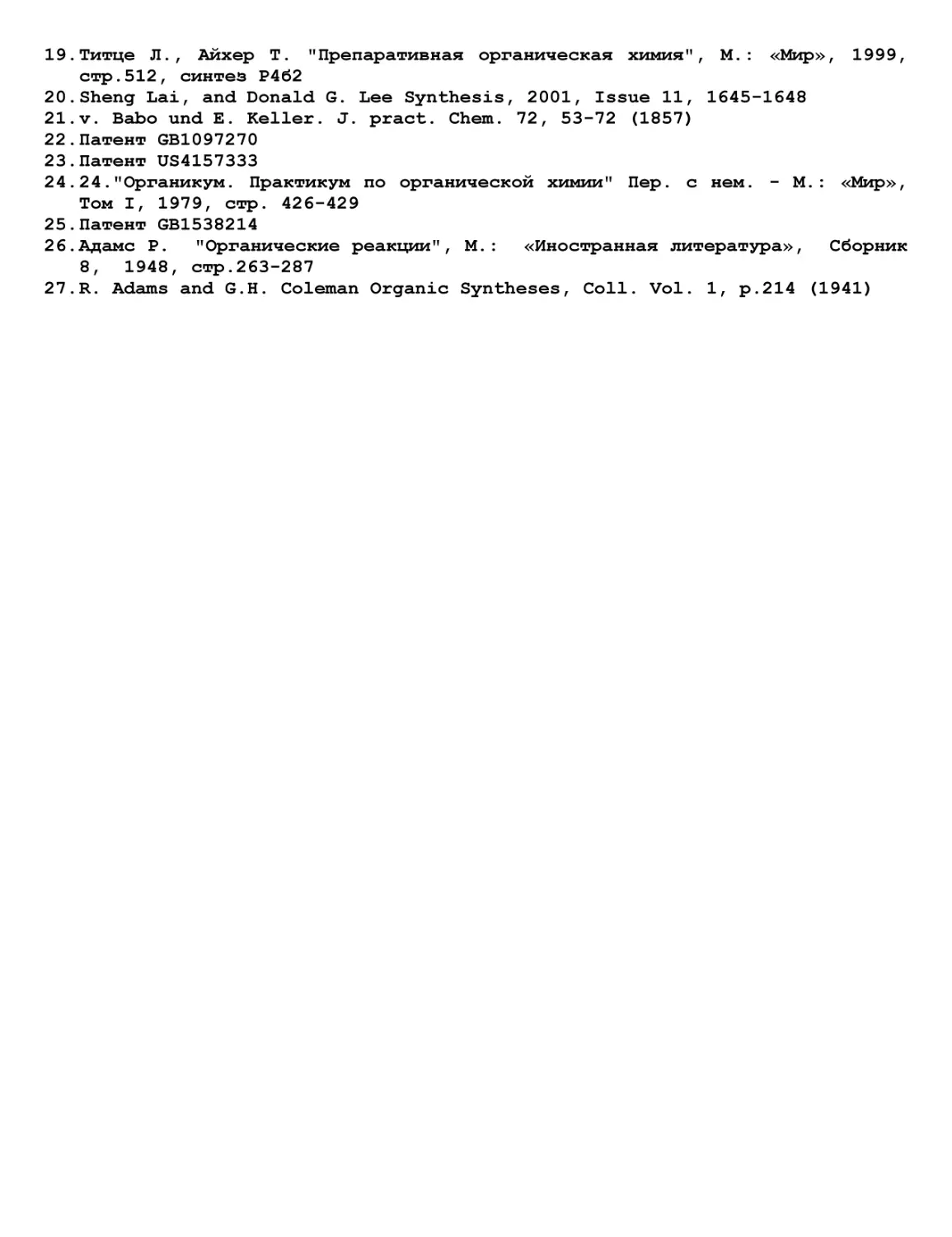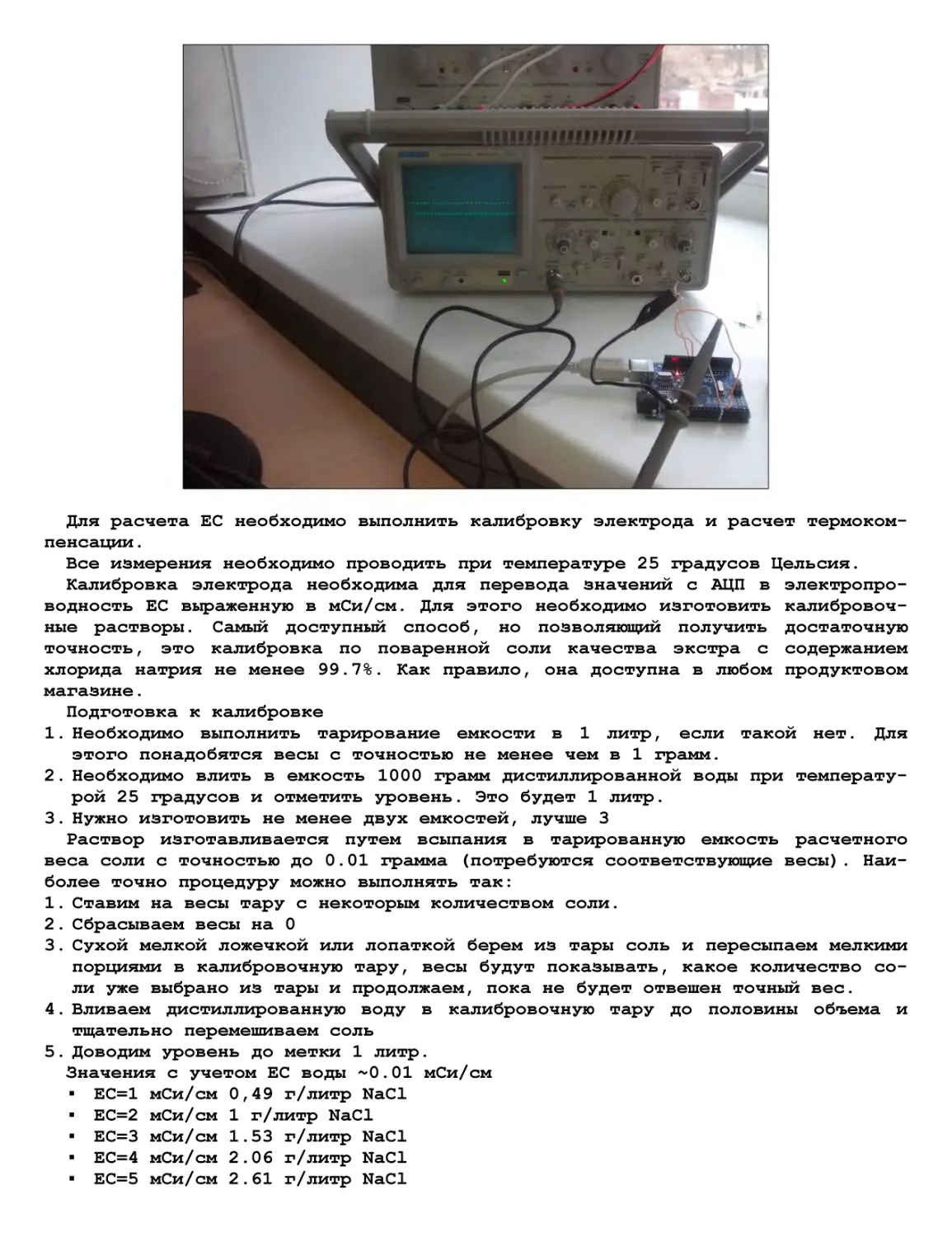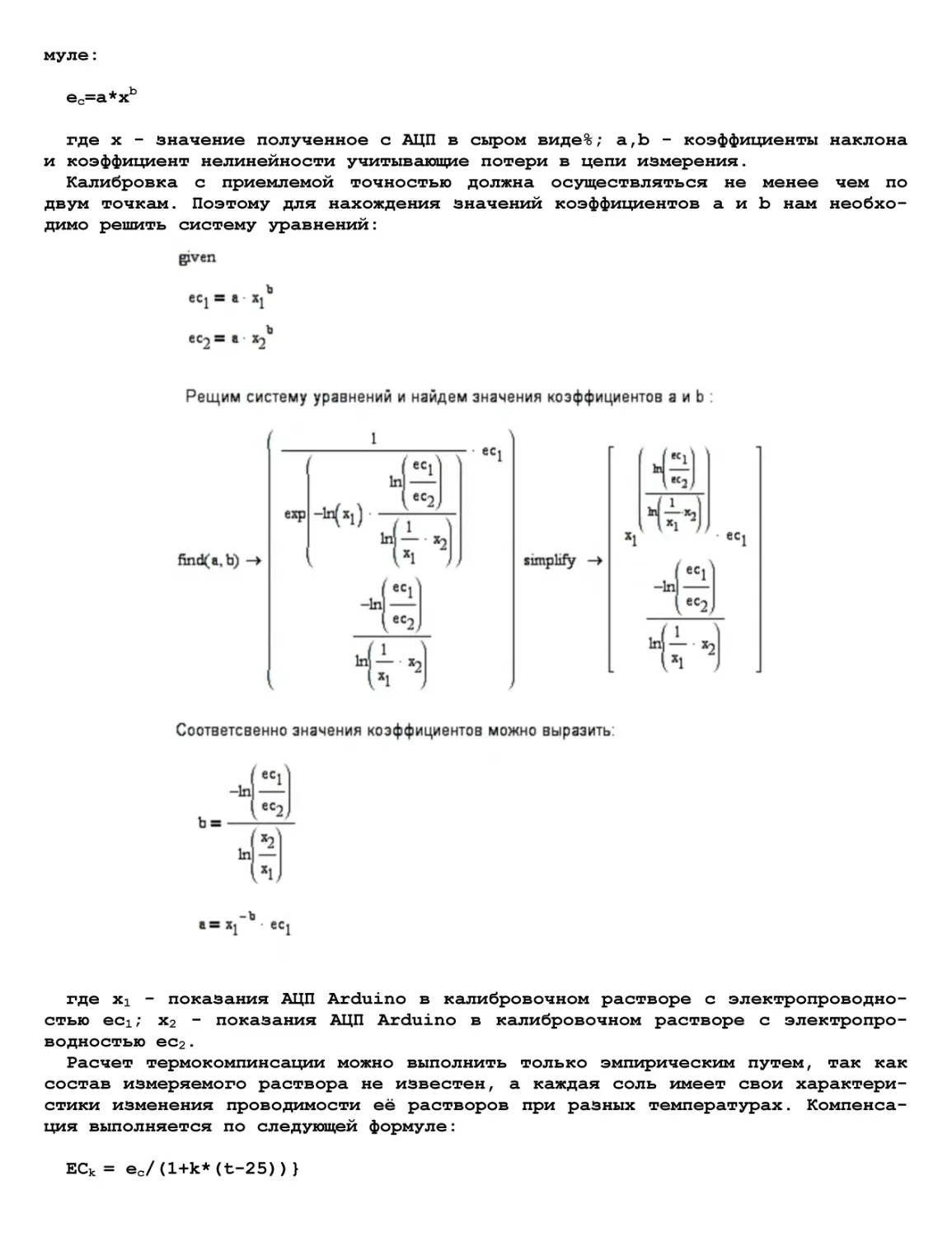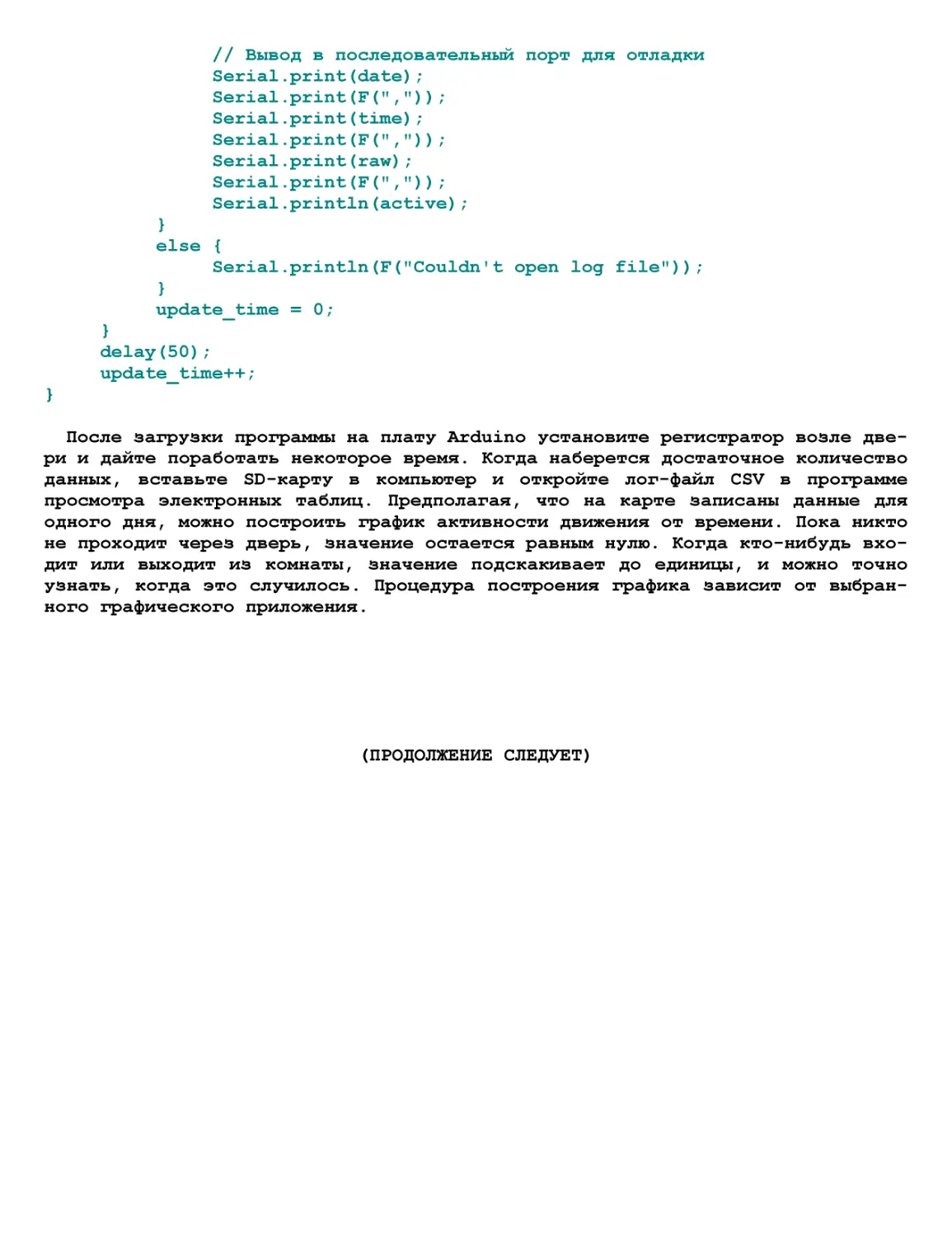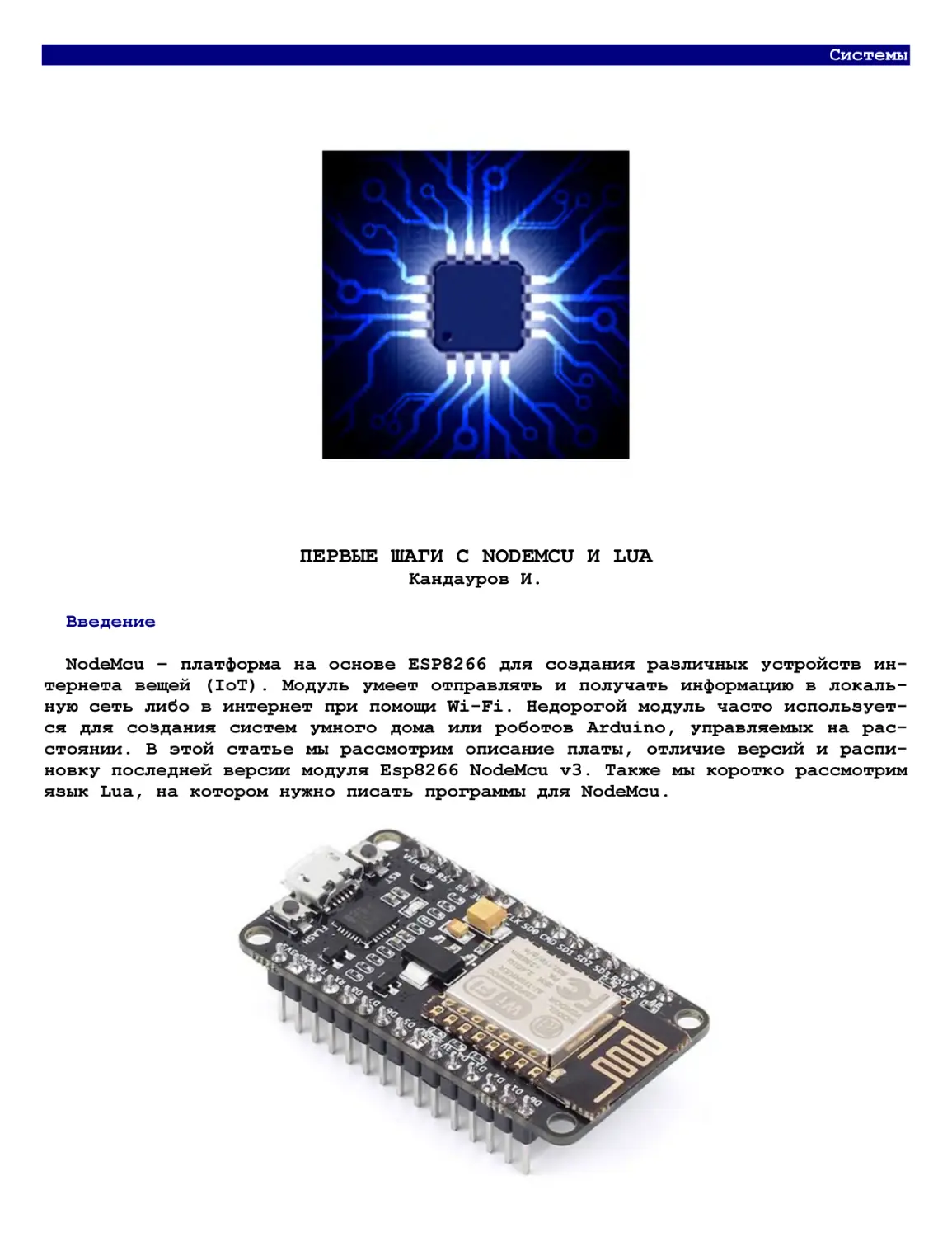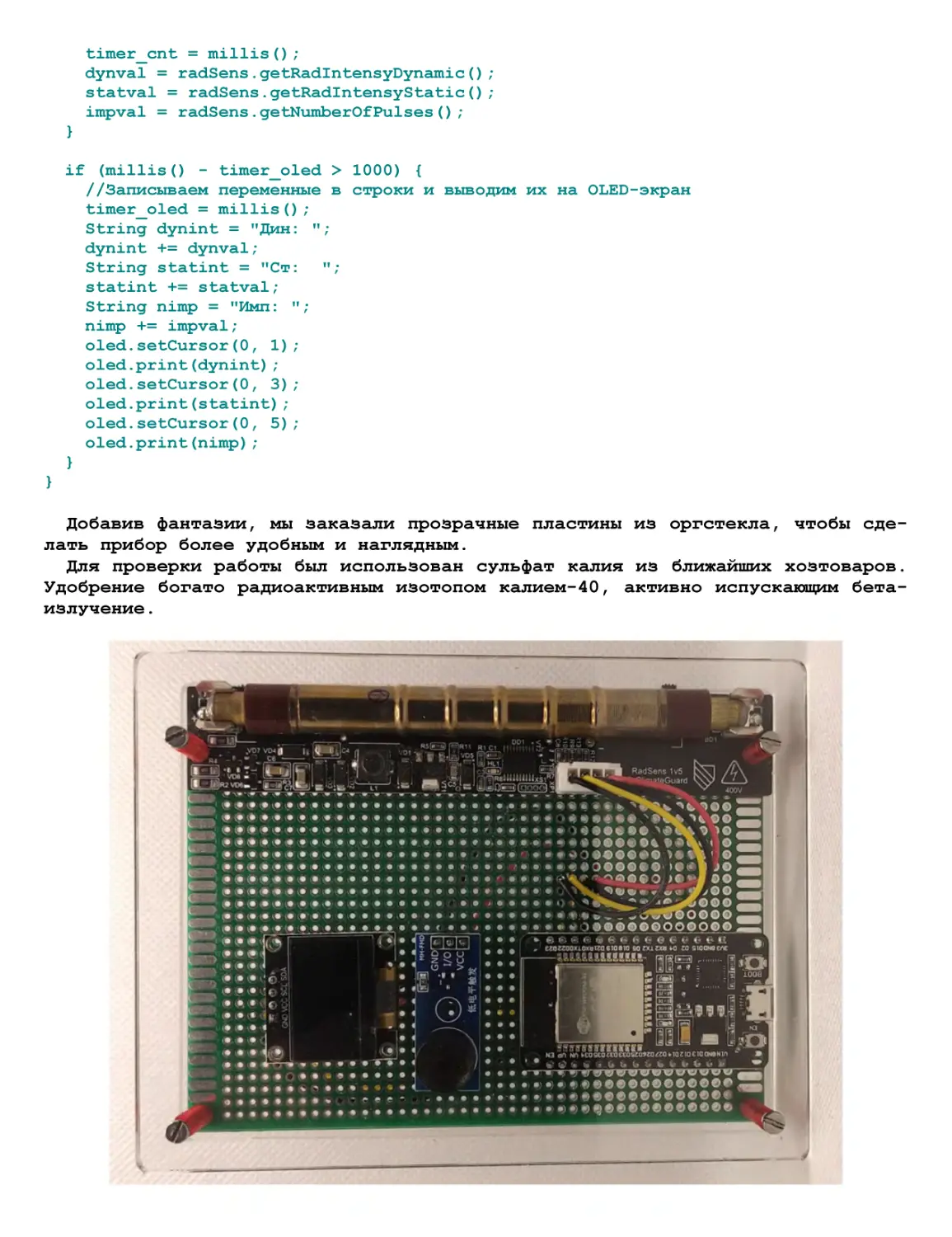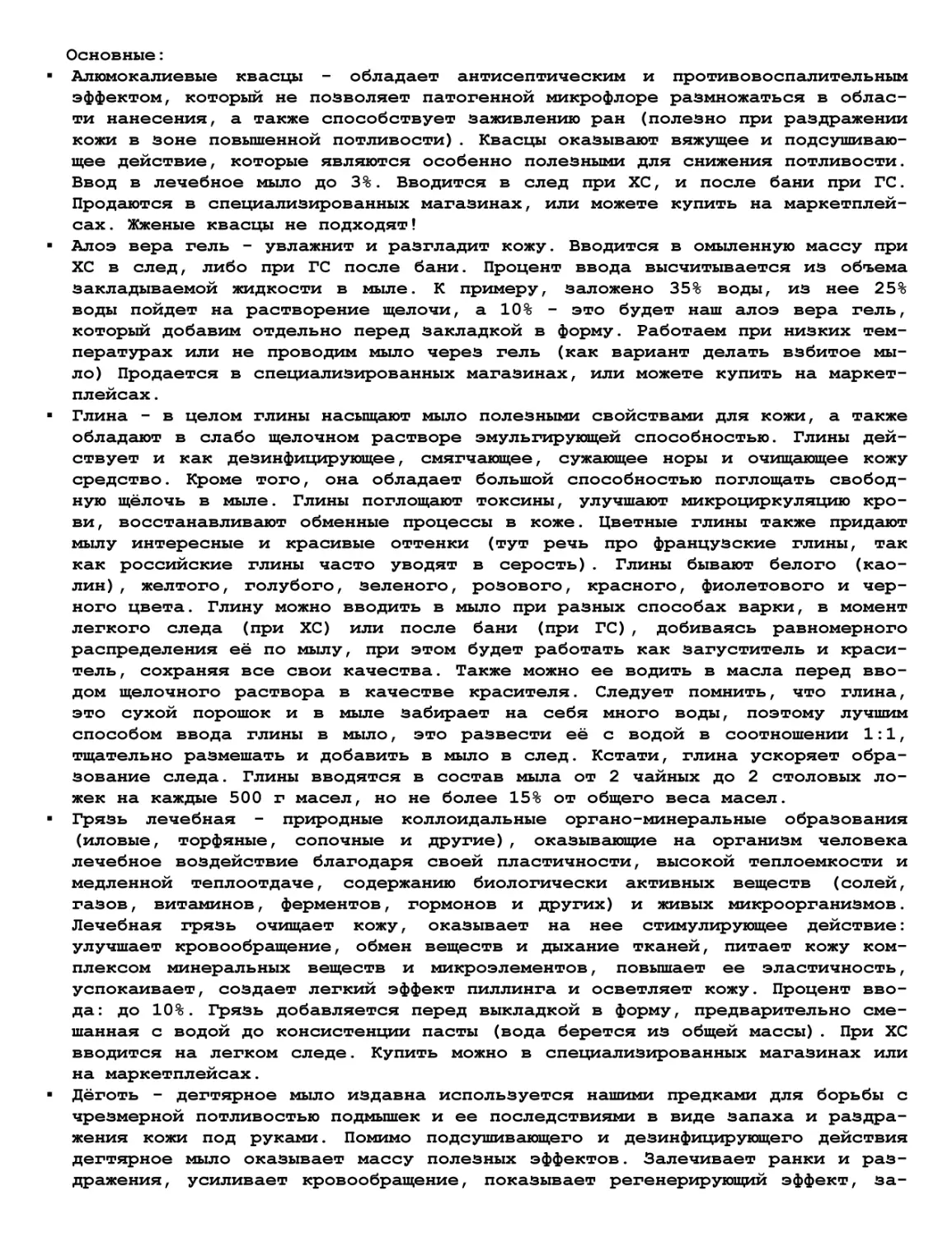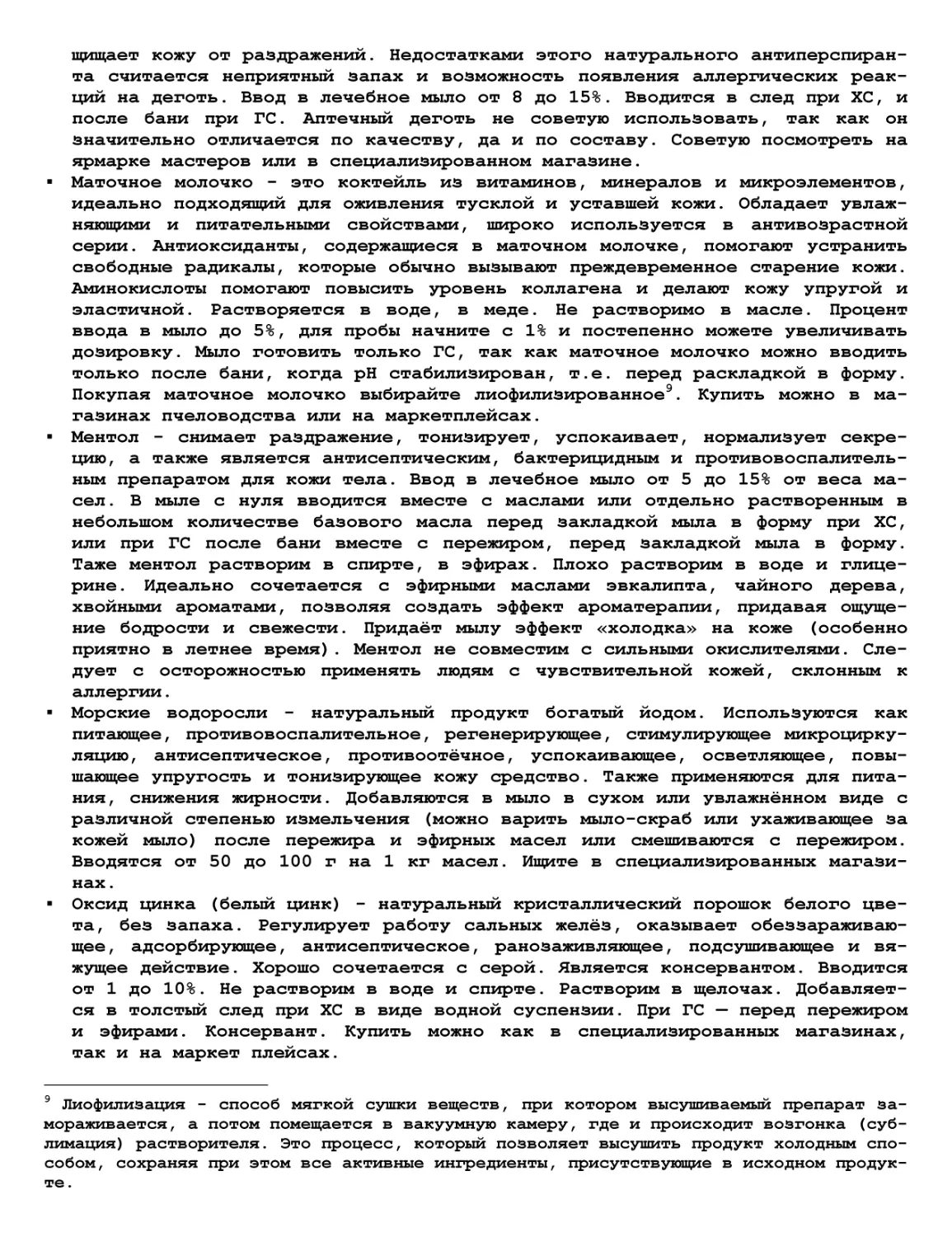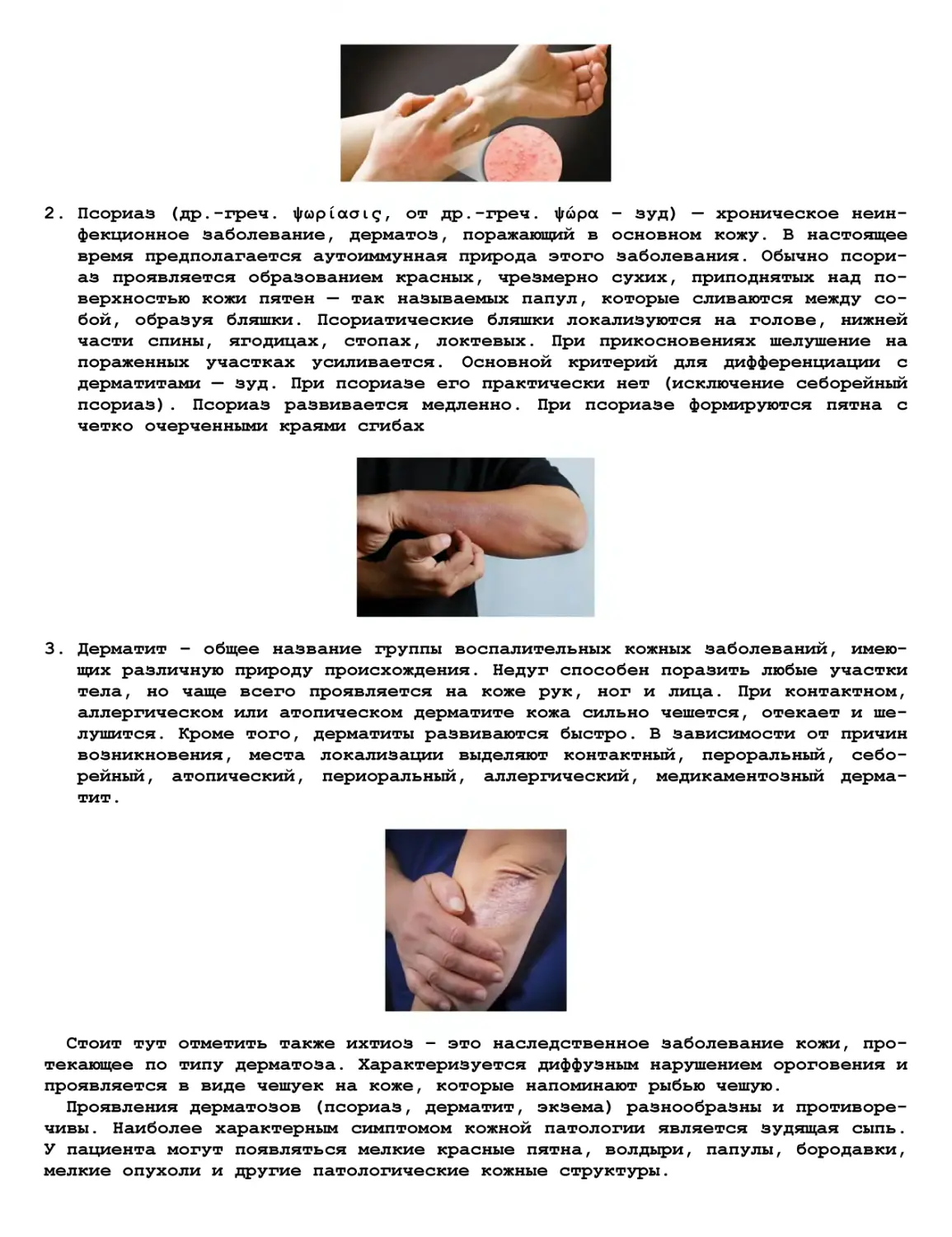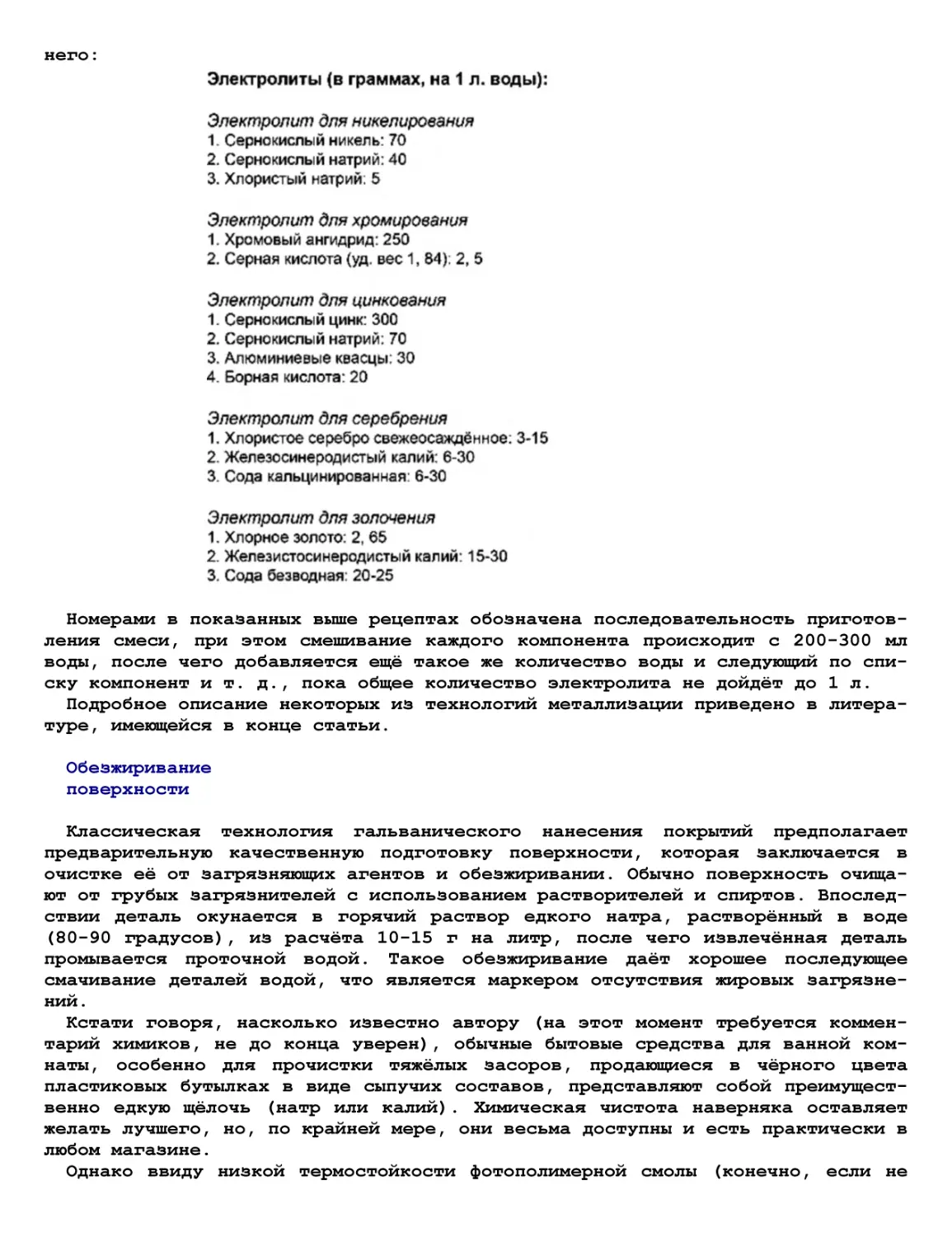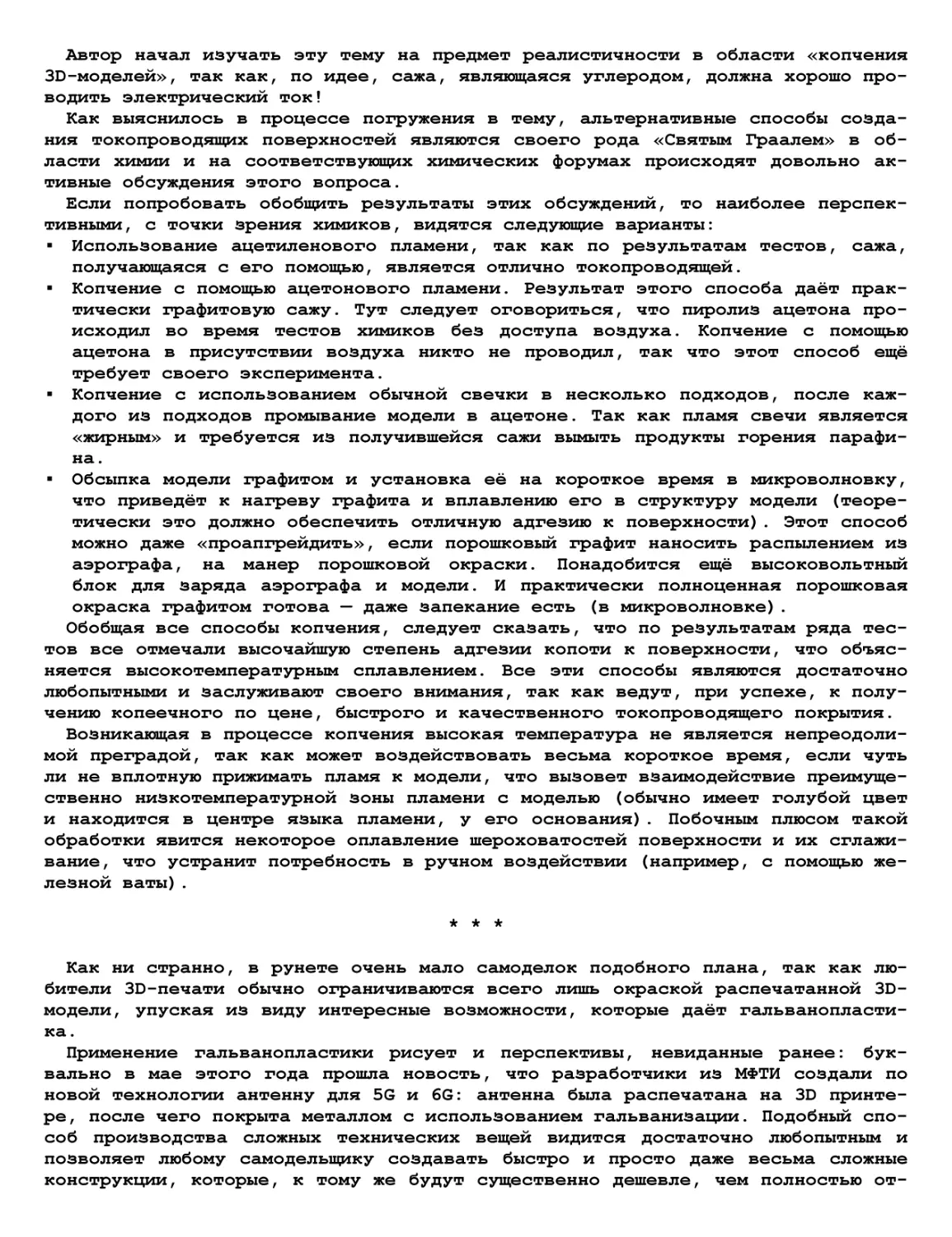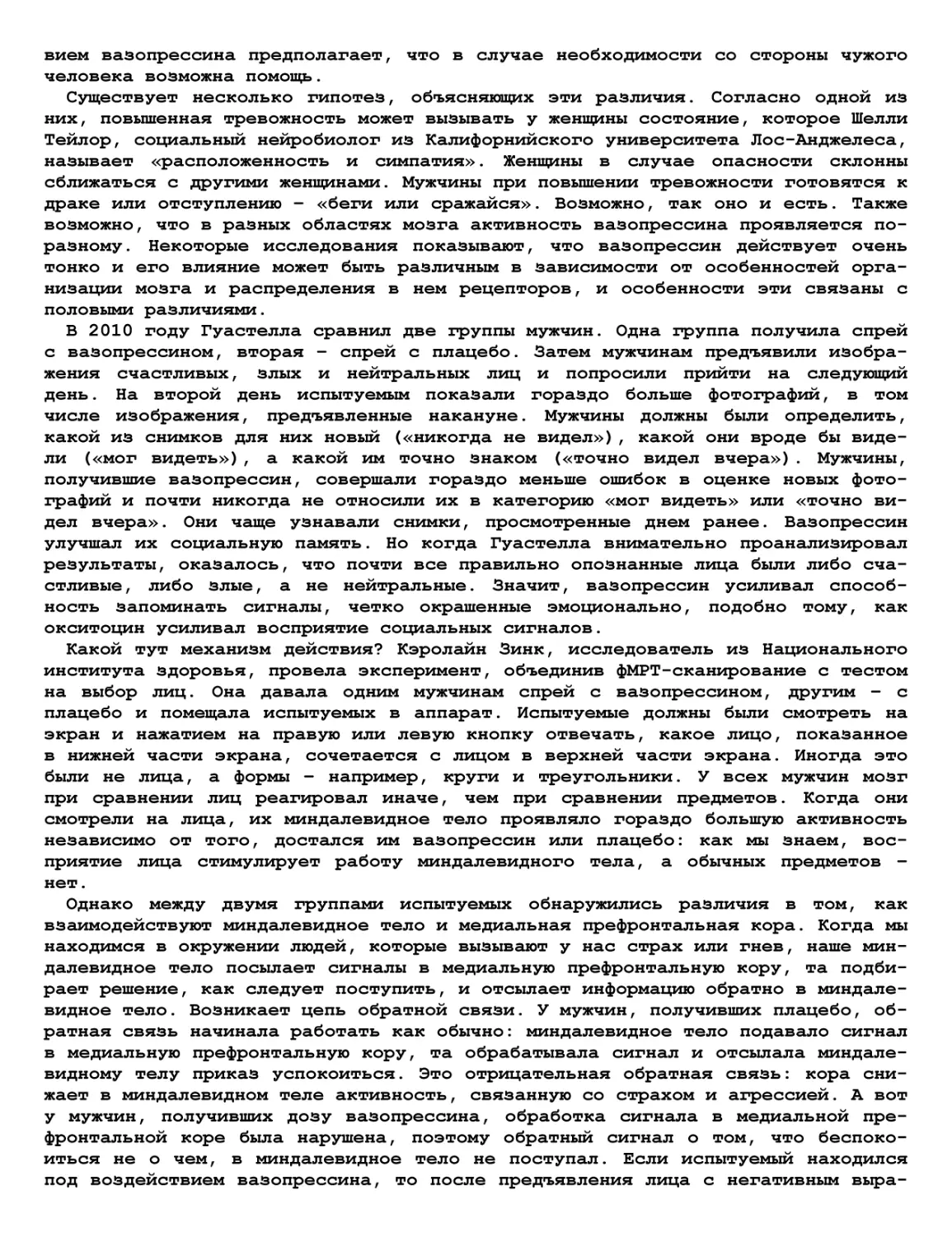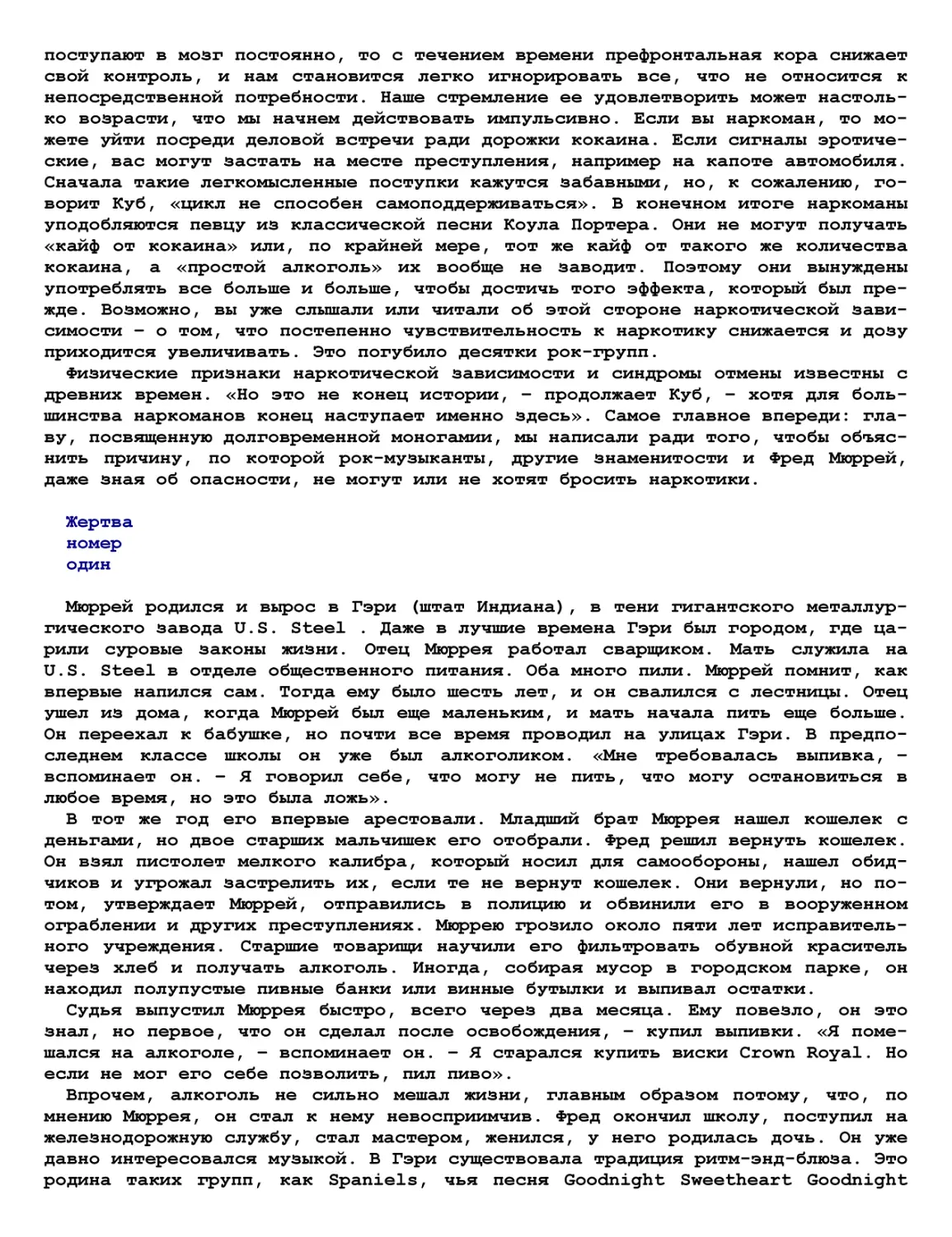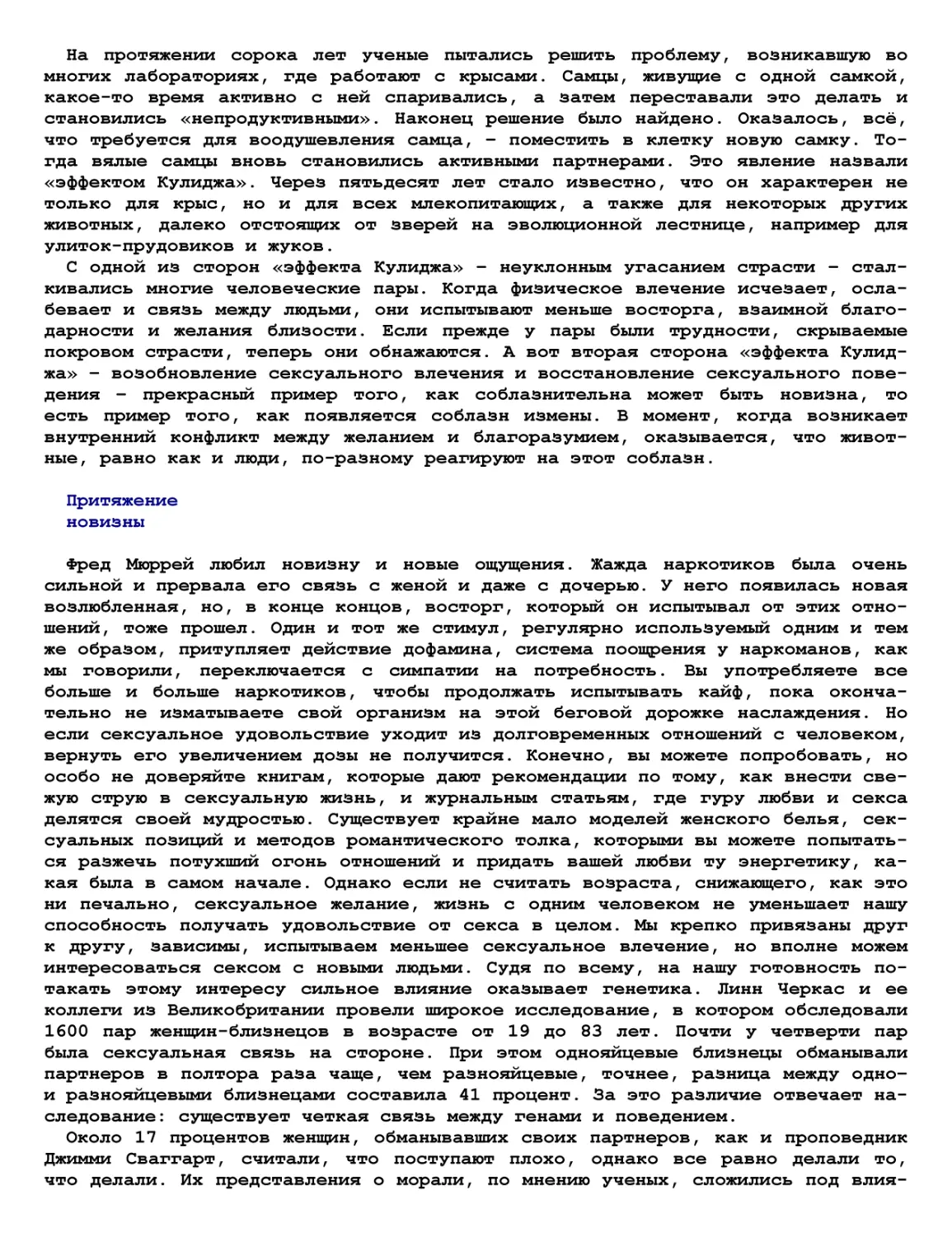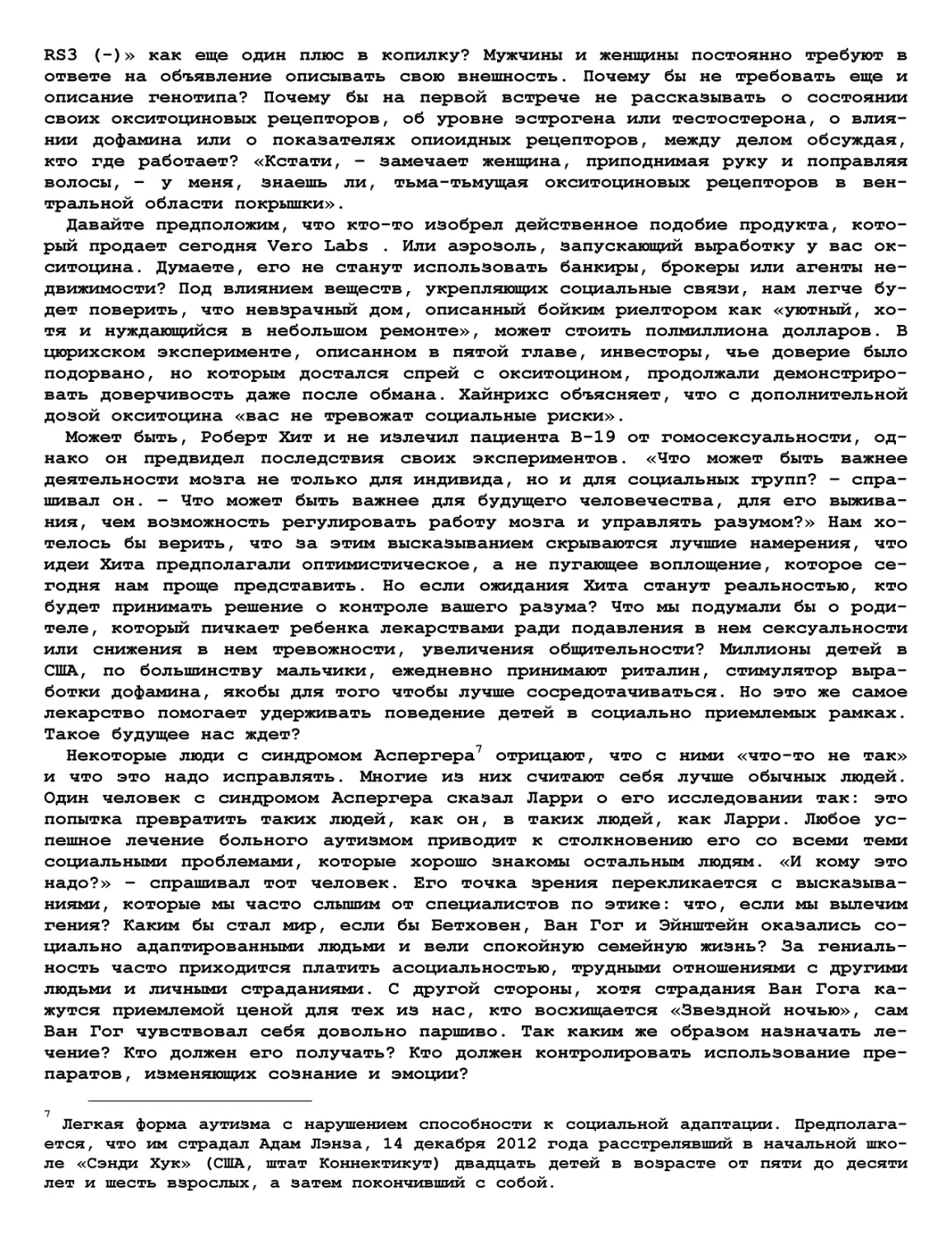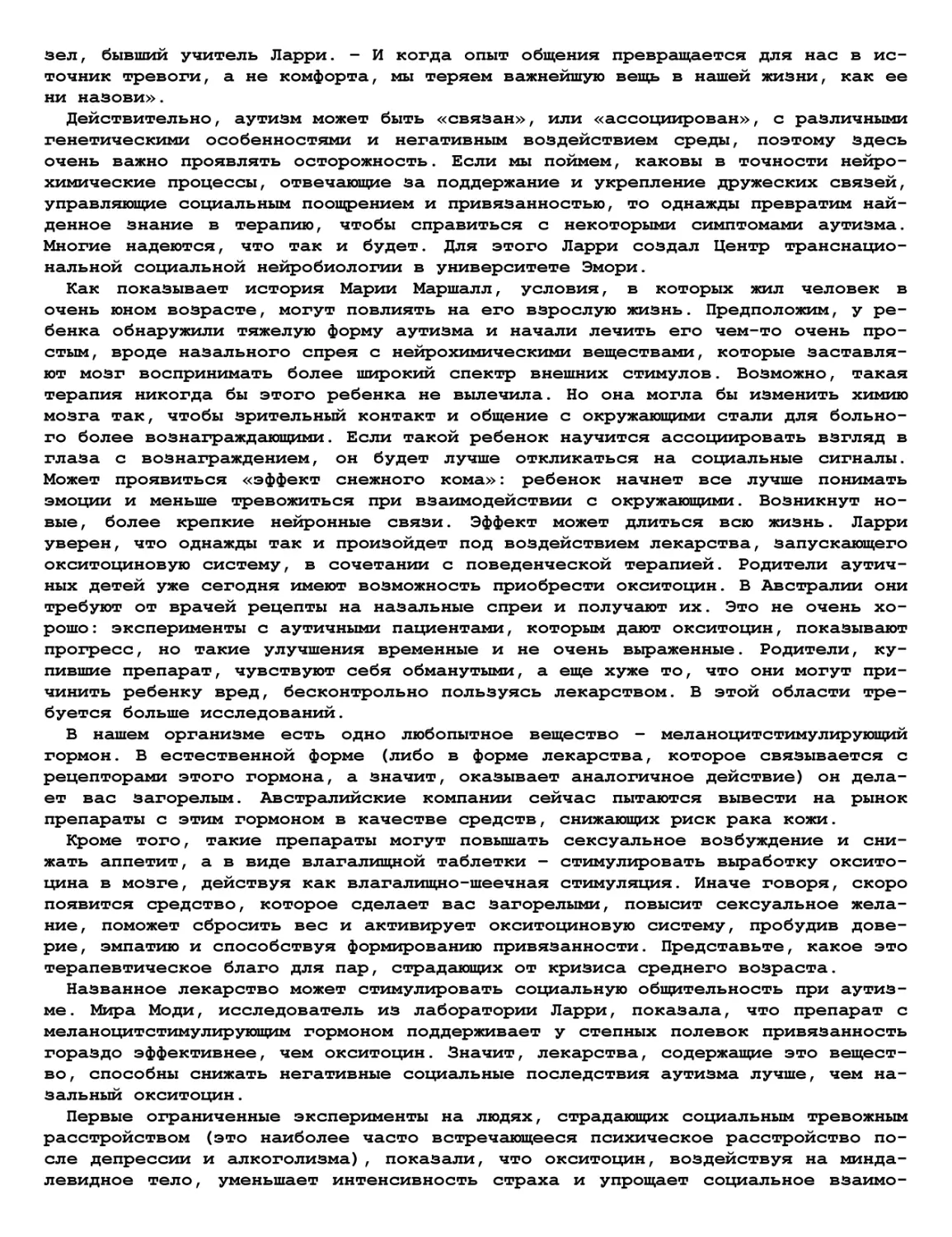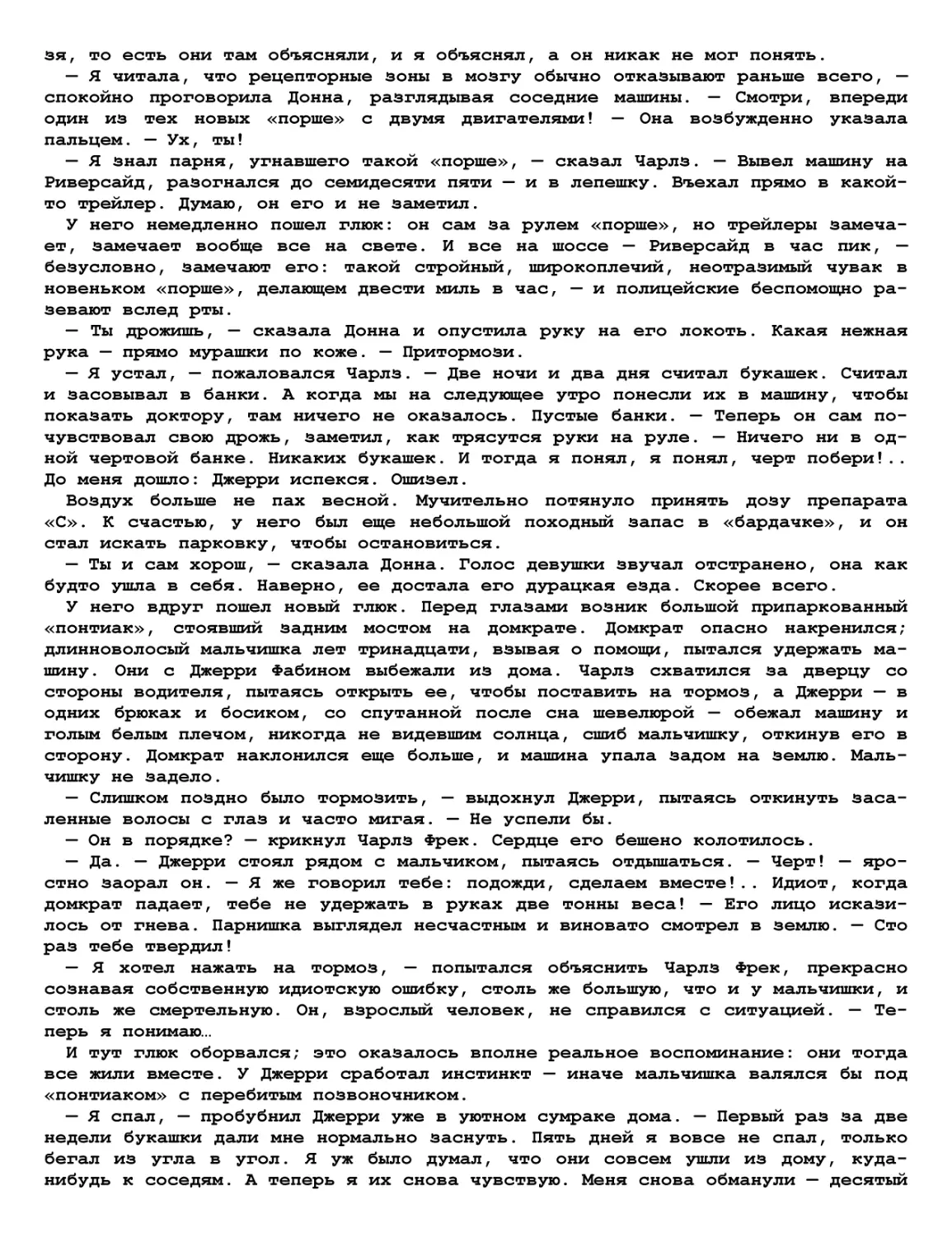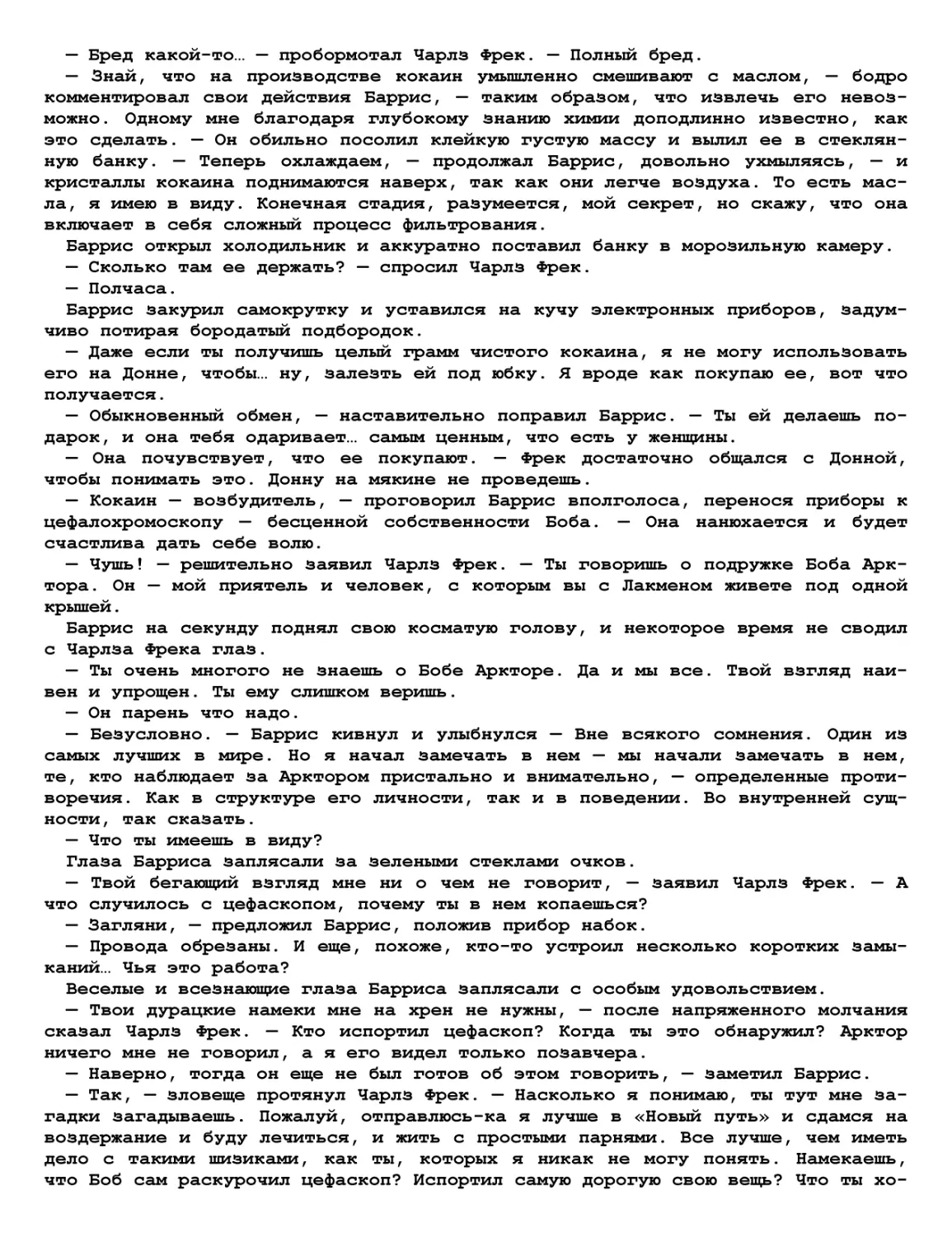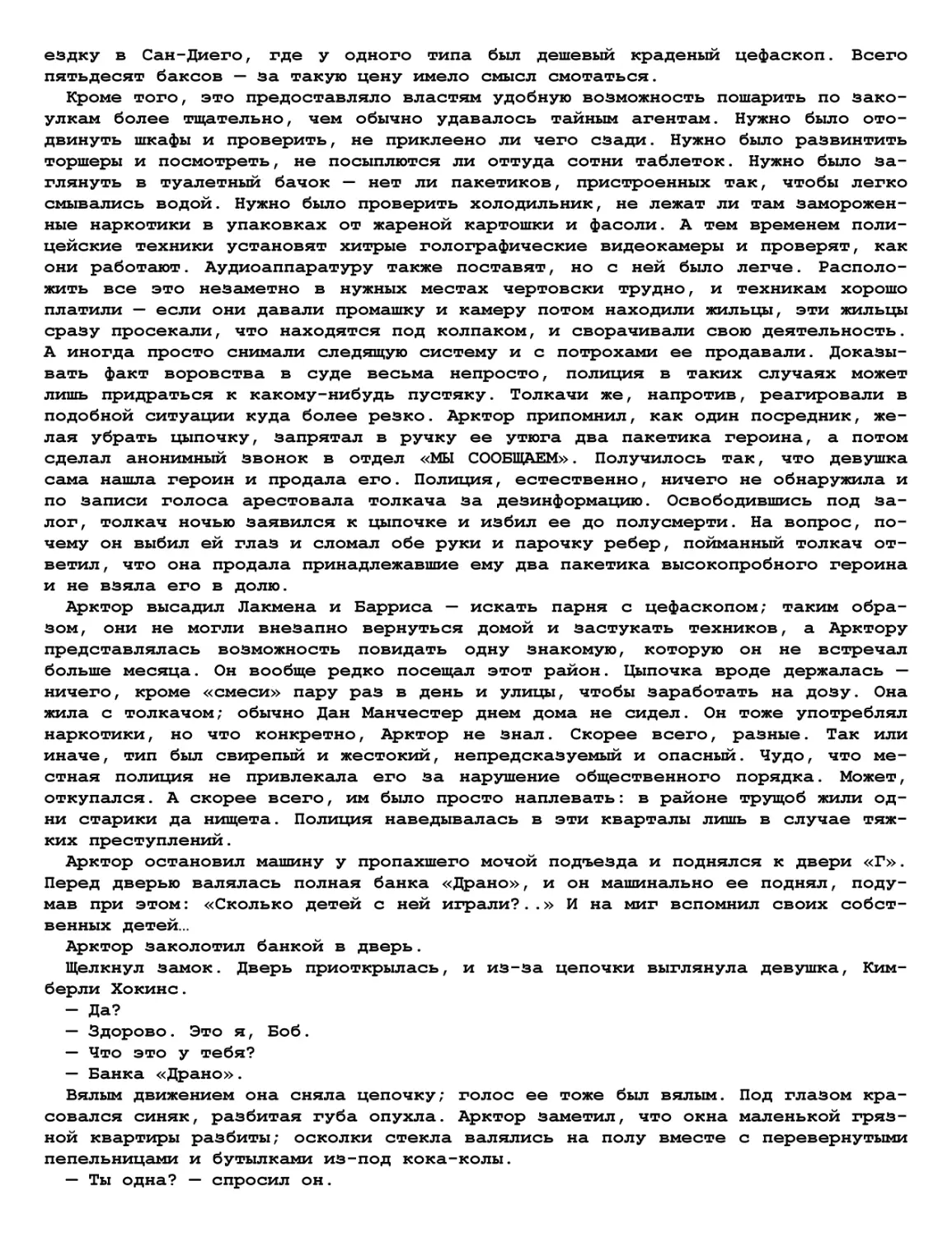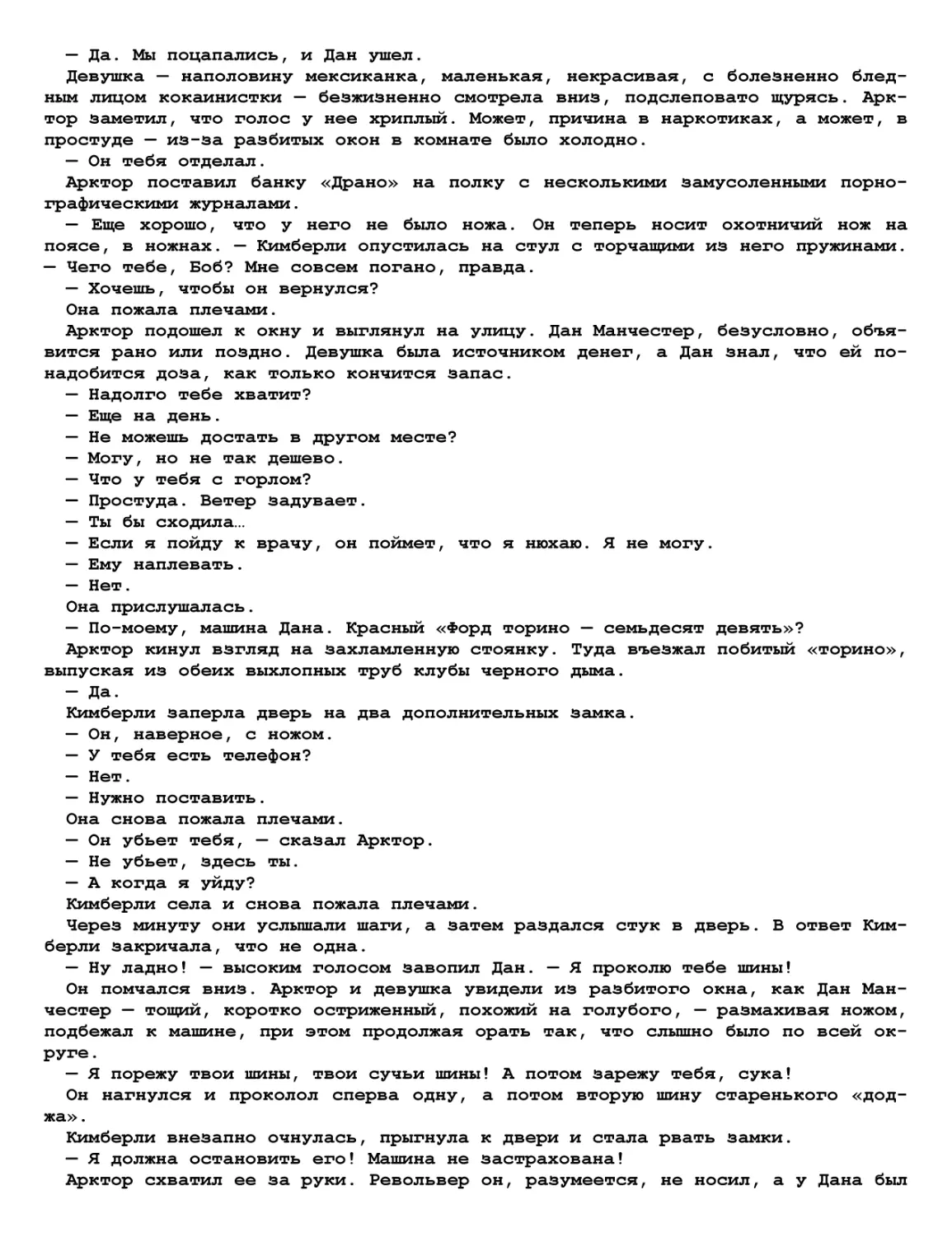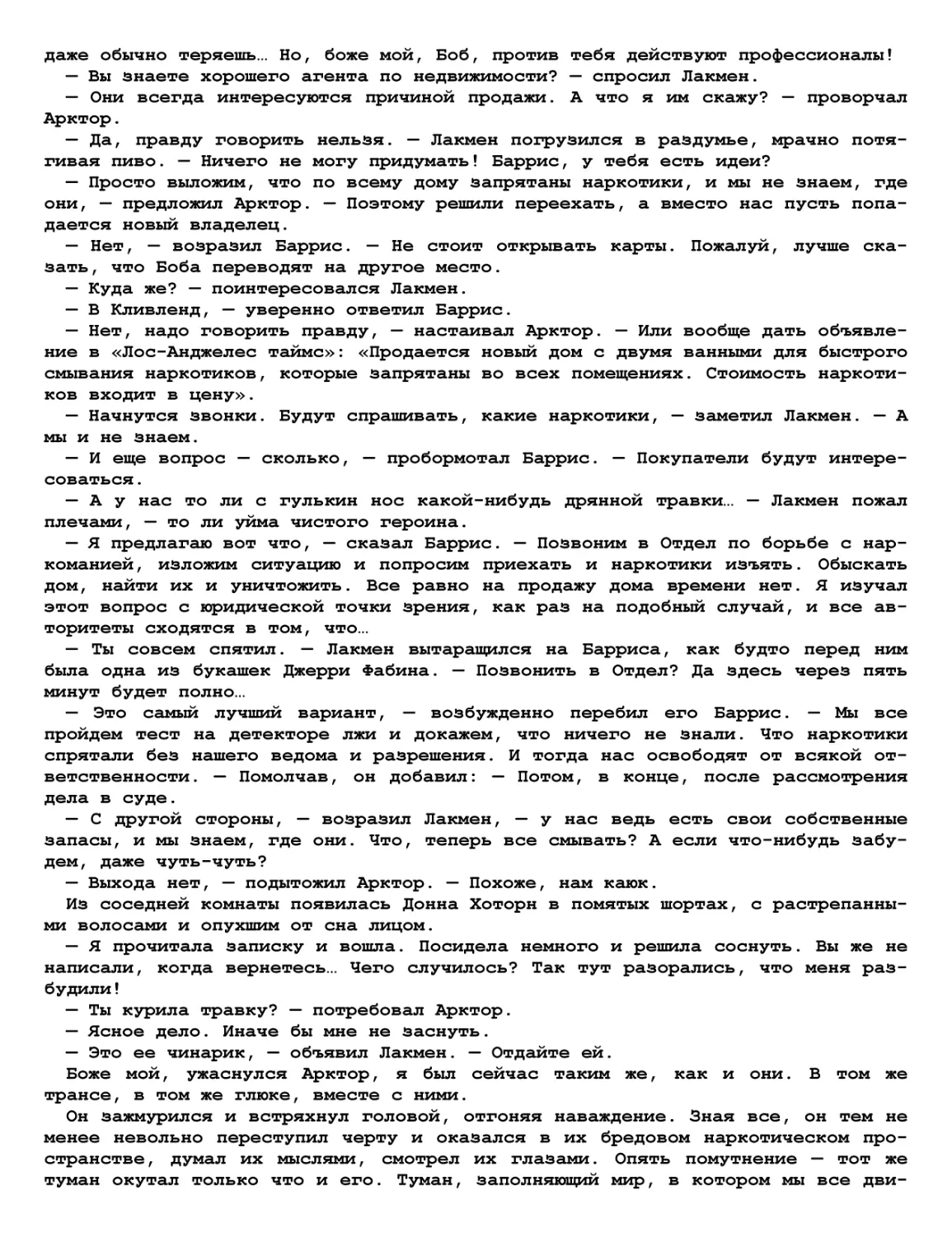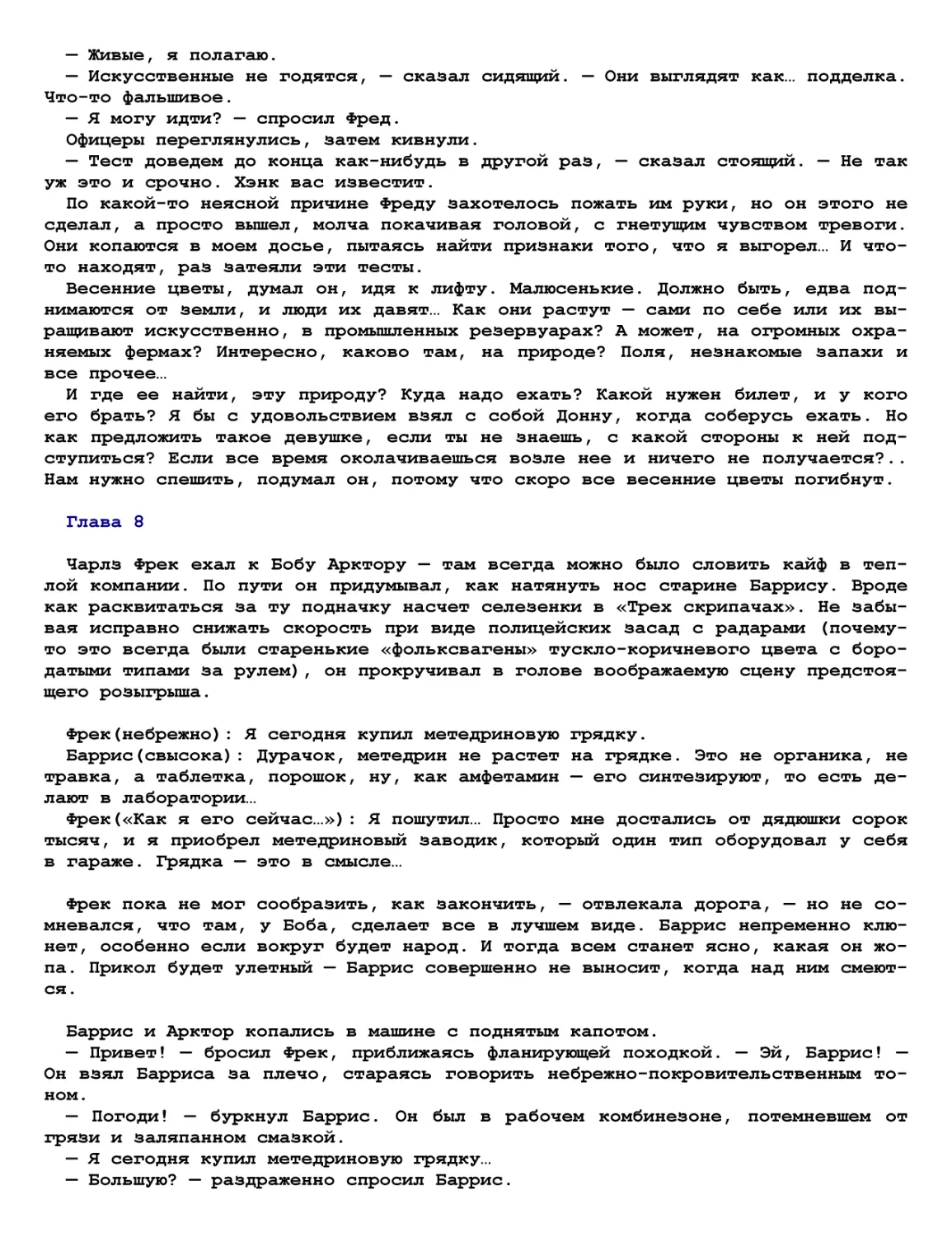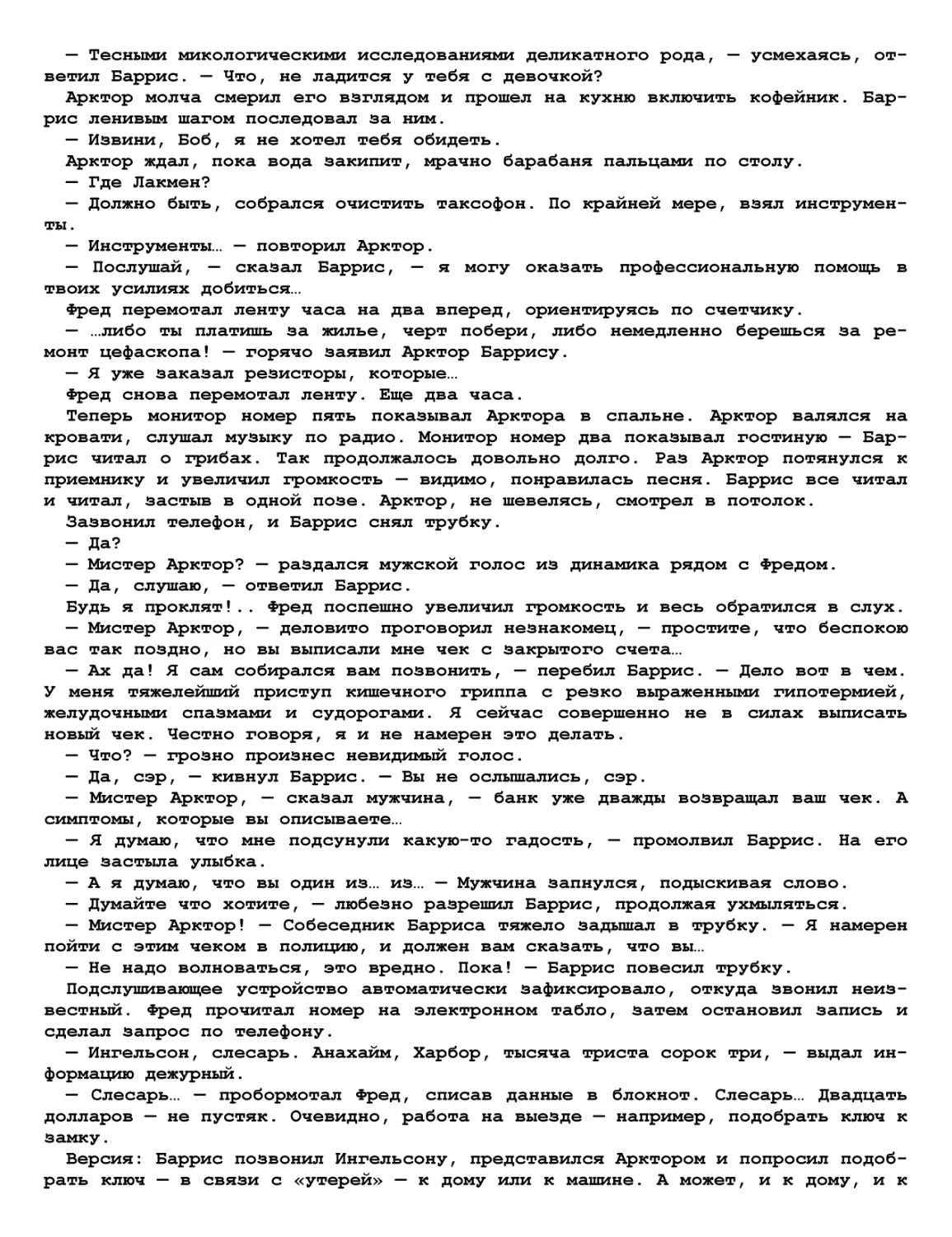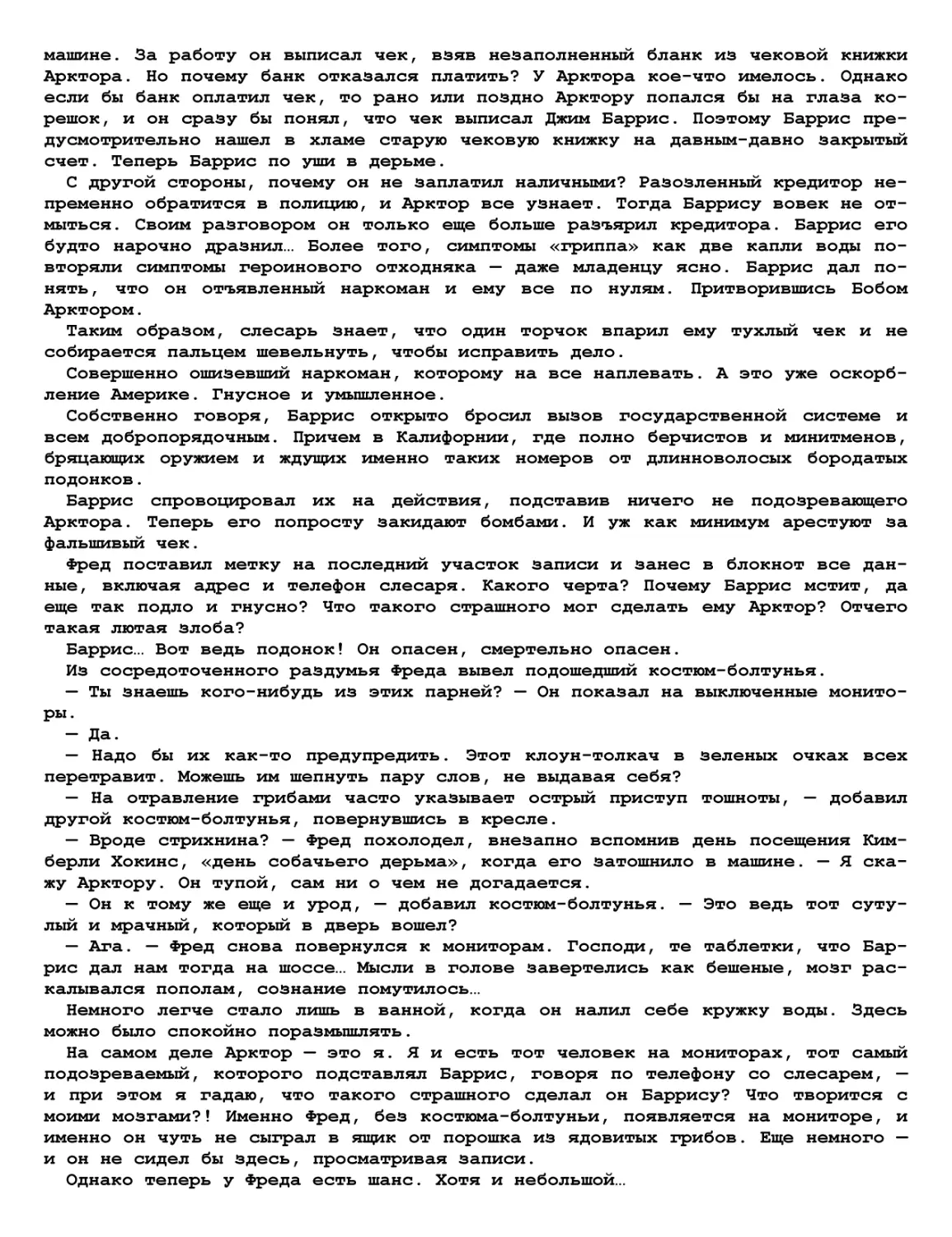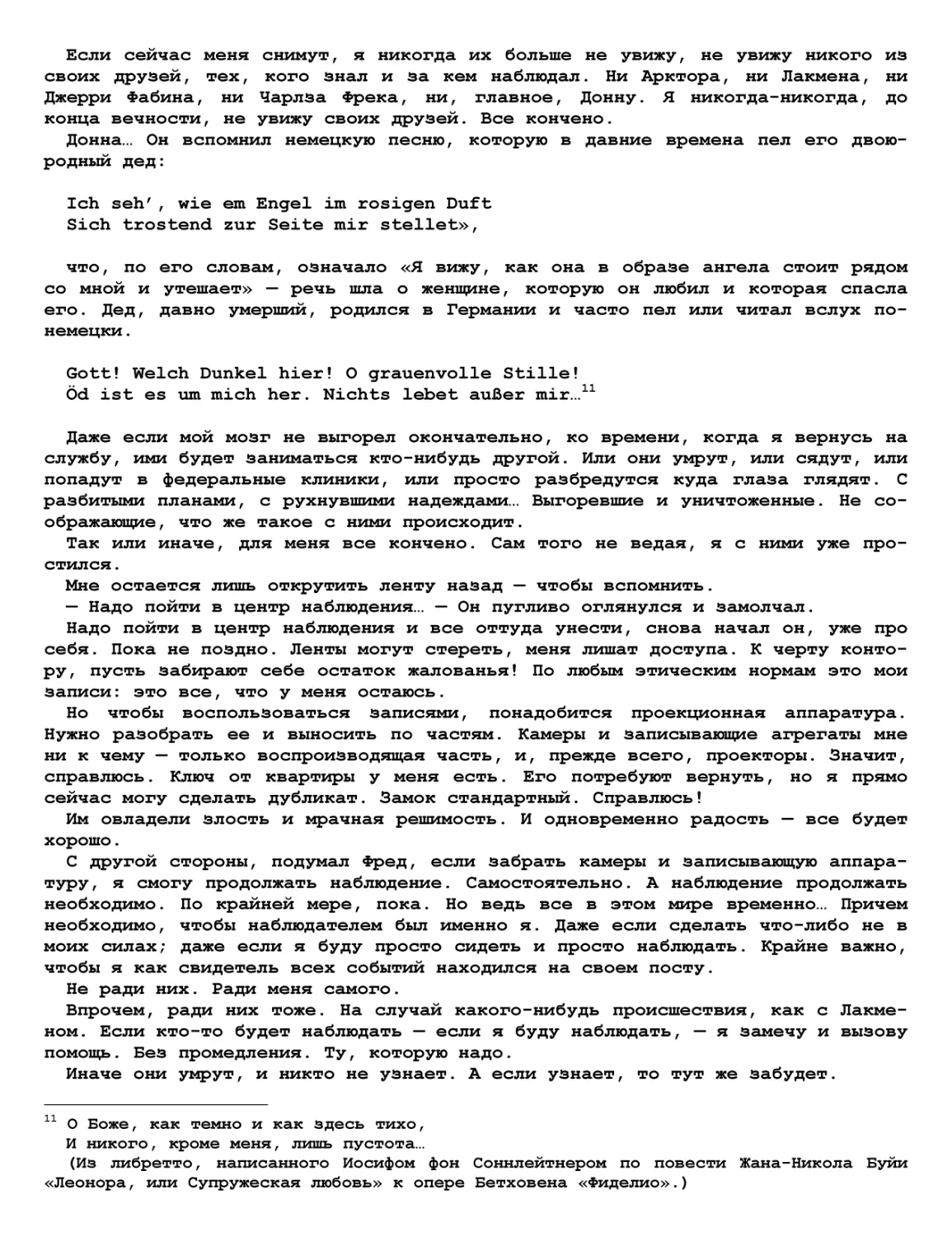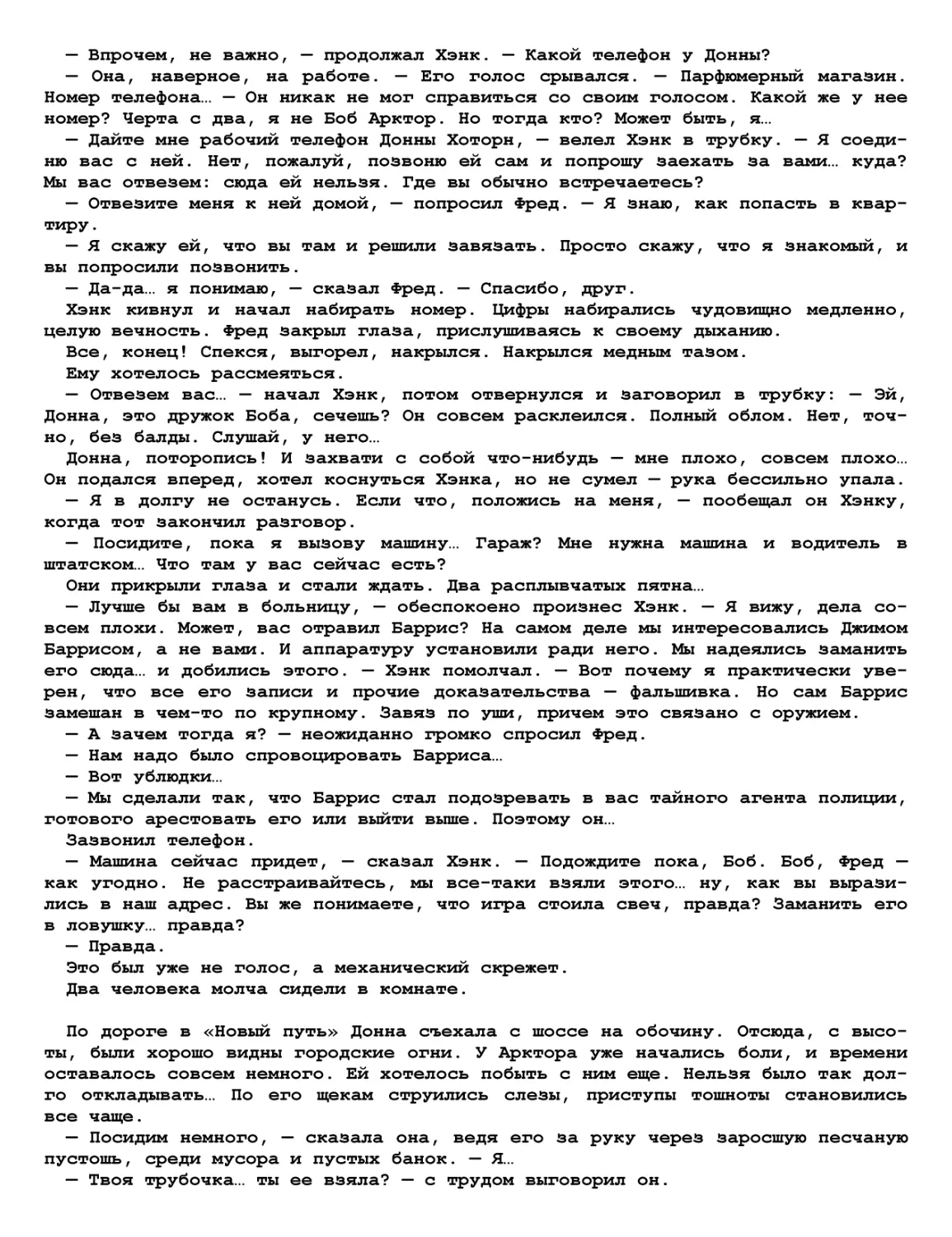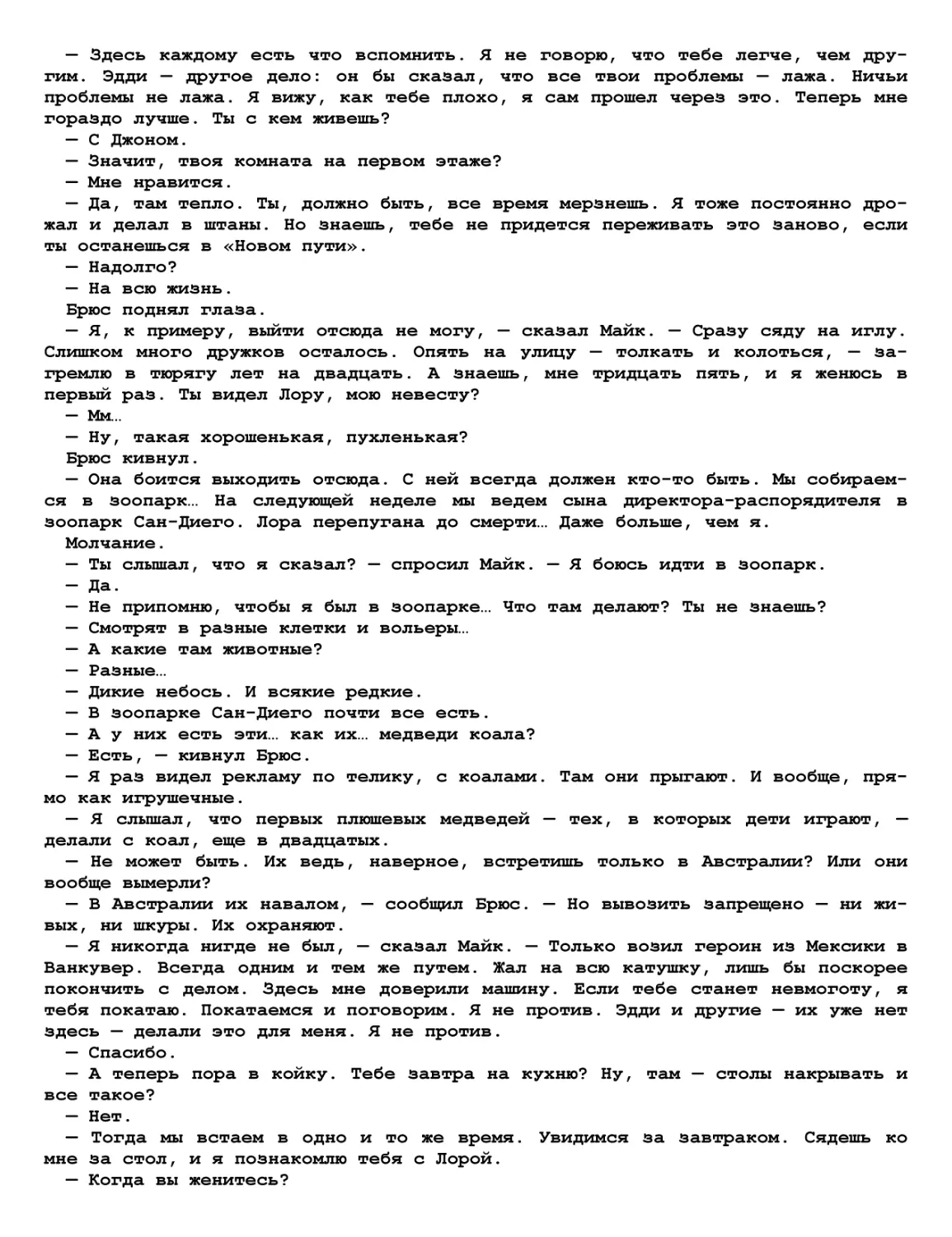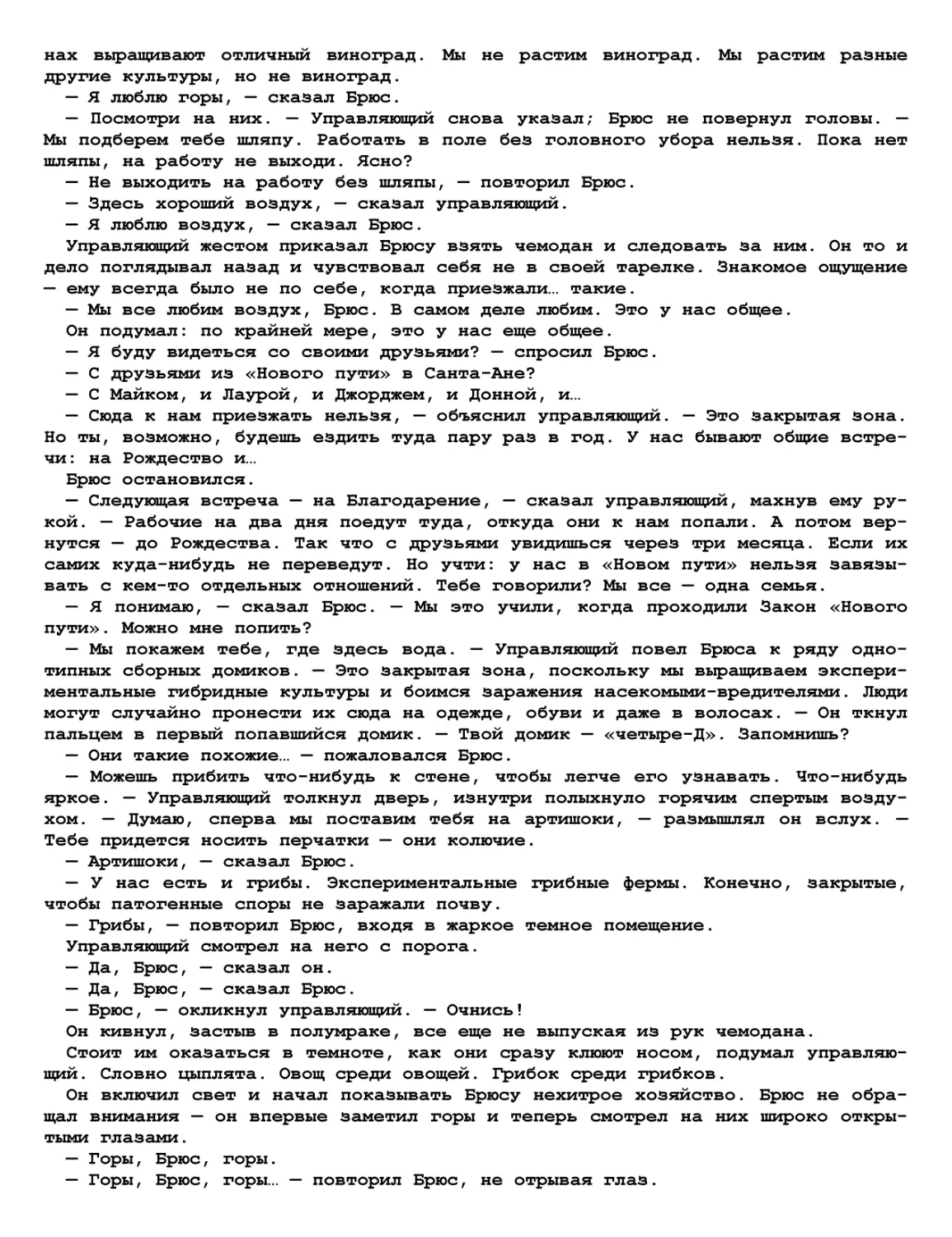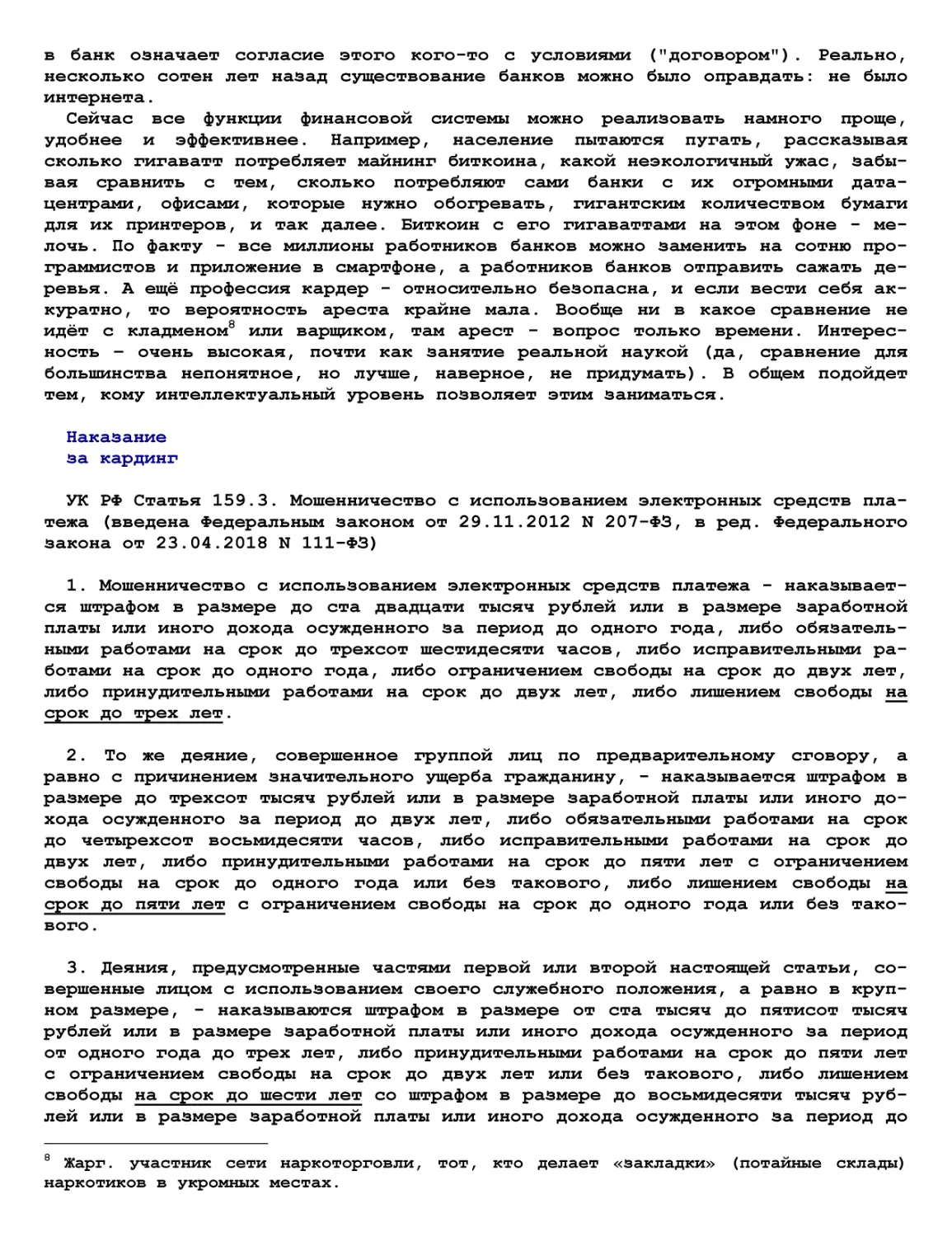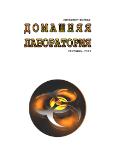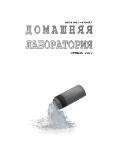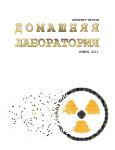Text
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ
НОЯБРЬ 2022
\
\л}' *
ДОМАШНЯЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
Научно-практический
и образовательный
интернет-журнал
Адрес редакции:
homelab@gmx.us
Статьи для журнала направ-
лять, указывая в теме пись-
ма «For journal».
Журнал содержит материалы
найденные в Интернет или
написанные для Интернет.
Журнал является полностью
некоммерческим. Никакие го-
норары авторам статей не
выплачиваются и никакие оп-
латы за рекламу не принима-
ются.
Явные рекламные объявления
не принимаются, но скрытая
реклама, содержащаяся в
статьях, допускается и даже
приветствуется.
Редакция занимается только
оформительской деятельно-
стью и никакой ответствен-
ности за содержание статей
не несет.
Статьи редактируются, но
орфография статей является
делом их авторов.
При использовании материа-
лов этого журнала, ссылка
на него не является обяза-
тельной, но желательной.
Никакие претензии за не-
вольный ущерб авторам, за-
имствованных в Интернет
статей и произведений, не
принимаются. Произведенный
ущерб считается компенсиро-
ванным рекламой авторов и
их произведений.
По всем спорным вопросам следу-
ет обращаться лично в соответ-
ствующие учреждения провинции
Свободное государство (ЮАР).
При себе иметь, заверенные ме-
стным нотариусом, копии всех
необходимых документов на афри-
каанс, в том числе, свидетель-
ства о рождении, диплома об
образовании, справки с места
жительства, справки о здоровье
и справки об авторских правах
(в 2-х экземплярах).
Nft
ЩжШ П-П
- - ^
СОДЕРЖАНИЕ
Краткая история насчет сотворения жизни
Начала общей химии (продолжение)
Бризантные ВВ. Справочник
Некоторые реагенты и растворители
Некоторые методы органической химии
Измеритель ЕС на Arduino
Arduino для начинающих (продолжение)
Первые шаги с NODEMCU и LUA
Самодельный дозиметр
Дозиметр из готовых узлов
Ноябрь 2022
История
Ликбез
157
Химичка
177
188
207
Электроника
242
254
Системы
275
Техника
291
308
Лечебное мыло
Гальваническое покрытие 3D-печатных моделей
Серебрение проводов
Технологии
316
375
385
Химия любви (окончание)
Помутнение
Осторожно, кардинг!
Мышление
395
Литпортал
485
Разное
611
НА ОБЛОЖКЕ
Рисунок к публикации «Лечебное мыло»
История
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ НАСЧЕТ СОТВОРЕНИЯ ЖИЗНИ
Меслер Б., Кливз Дж.
Не все, что сказано в Торе по поводу
сотворения мира, можно воспринимать бу-
квально, ведь если бы это было так, <...>
мудрецы не пытались бы сохранить это в
секрете. Тому, кто не владеет никакими
научными данными, следовало бы воздер-
жаться от восприятия этих текстов ис-
ключительно с помощью воображения.
Маимонид1. Путеводитель растерянных.
Моисей Маимонид (Моше бен Майнон, Рамбам, или Моисей Египетский, ок.
выдающийся еврейский философ, раввин, врач и ученый. - Прим. пер.
1135-1204) -
Предисловие
Я стремился познать тайны земли и неба,
будь то внешняя оболочка вещей или
внутренняя сущность природы и тайны че-
ловеческой души, мой интерес был сосре-
доточен на метафизических или, в высшем
смысле этого слова, физических тайнах
мира2.
Мэри Шелли. Франкенштейн, или современ-
ный Прометей. 1818 г.
Темно-зеленое морское дно напоминало гигантский нефритовый купол, пересе-
ченный глубокими расщелинами и крутыми оврагами. Признаков жизни здесь было
немного. На таких больших глубинах редко встречаются живые существа - лишь
изредка попадаются дремлющие гигантские моллюски или трубчатые черви, иногда
длиной до четырех метров. Время от времени какой-нибудь из этих червей выпус-
кает кроваво-красное пятно, которое начинает дрейфовать в воде, как чернила
осьминога, огибая высоченные белые колонны на морском дне. Самые крупные из
колонн сравнимы по высоте с шестнадцатиэтажными домами. Поверхность у них
грубая, как древесная кора, и от этого они похожи на деревья, простирающие
ветви к солнцу в каком-то инопланетном лесу.
Однако на такую глубину солнечный свет не проникает. Башни-призраки распо-
ложены на глубине более километра от поверхности воды и никогда не видели
света до тех пор, пока на них не упали первые слабые лучи прожекторов, укреп-
ленных на поверхности неуклюжих металлических аппаратов, медленно движущихся
по морскому дну.
Подводный корабль «Арго» напоминает длинное каноэ, заключенное в крупный
металлический каркас и перемещавшееся на полозьях, как сани. По внешнему виду
не скажешь, что этот небольшой автоматический корабль имеет длинную и богатую
историю. «Арго» принимал участие в нескольких важнейших глубоководных экспе-
дициях и даже нашел обломки «Титаника» и «Бисмарка». На нем установлены самые
сложные в мире океанографические устройства и камеры, передающие сигналы по
проводам протяженностью 10 км, которые соединяют его с исследовательским суд-
ном «Атлантис», которое находится на поверхности, откуда геологи Барбара Джон
и Гретхен Фрух-Грин управляют «Арго» с помощью джойстика.
«Атлантису» пора было возвращаться в порт. Дело происходило в начале декаб-
ря 2000 г., и судно находилось в море уже больше месяца. Погода портилась: на
северо-востоке можно было различить первые признаки серьезного шторма. «Ат-
лантис» был крупным судном: его длина превышала 80 м, а численность команды
составляла 23 человека (однако на судне могло находиться в несколько раз
больше людей). «Атлантис» вполне мог выдержать шторм, но кропотливая работа
по исследованию морского дна требует спокойного моря.
Морская зыбь усложняла управление «Арго»: волны и качка сказывались на со-
стоянии подводной лодки. Управлять «Арго» и в нормальных условиях было непро-
сто, а в данное время ученые пытались заставить его пройти через подводный
аналог Альп с неожиданно острыми вершинами и крутыми обрывами.
«Арго» исследовал глубоководный горный хребет, названный массивом Атлантис
и расположенный на полпути между Европой и Северной Америкой, вблизи крупней-
шего подводного Срединно-Атлантического хребта. Ученые имели определенные ос-
нования предполагать, что в массиве Атлантис кроется что-то необычное. Во-
первых, он гигантский: 16 км в ширину и более 4000 м в высоту - примерно как
2 Пер. 3. Александровой.
гора Рейнир3. Во-вторых, необычен состав горной породы: в то время как боль-
шая часть океанского дна содержит смесь минералов, массив Атлантис почти пол-
ностью образован из плотного зеленоватого камня, называемого перидотитом, ко-
торый обычно встречается на глубине не менее 30 км от земной коры. И все же
Джон и Фрух-Грин никак не ожидали обнаружить то, что раньше не видел ни один
человек, и что впоследствии некоторые сочтут важнейшим ключом к разгадке од-
ной из величайших научных загадок.
Осторожно направляя «Арго» вдоль края горы, ученые увидели первый древовид-
ный вырост. Чем ближе к горе приближался корабль, тем больше обнаруживалось
выростов. В первую очередь ученых поразил размер этих колонн: одна из них,
впоследствии названная Посейдоном, достигала высоты 55 м. По мере приближения
«Арго» к гигантским колоннам стало заметно кое-что еще: вода была теплее.
Ученые решили, что эти древовидные образования, на самом деле, не что иное,
как подводные гидротермальные источники - сеть подземных дымоходов, возникших
в результате вулканической активности под океанским дном. Однако таких внуши-
тельных источников до сих пор никому видеть не приходилось. Когда же исследо-
ватели обнаружили первые молочно-белые струйки вытекавшей из трубок теплой
воды, они поняли, что нашли источник совершенно нового типа, о существовании
которого догадывались лишь немногие. Ученые назвали это место Lost City (По-
терянный город).
Подводный источник Lost City.
Об этой находке достаточно быстро стало известно британскому геологу Майку
Расселу. Он был не единственным в мире человеком, подозревавшем о существова-
нии источников, подобных найденным в Потерянном городе, но он был одним из
немногих ученых, уверенно заявлявших о том, что такие источники обязательно
должны существовать или, по крайней мере, существовали примерно 4 млрд. лет
назад. Рассел считал, что если бы их не было, не было бы и нас с вами и дру-
гих форм жизни на Земле.
В начале своей научной деятельности Майк Рассел провел несколько лет в го-
рах Силвермайн в центральной части Ирландии. Там он обнаружил уникальное ми-
неральное образование, имевшее форму трубки, природу которого, как он считал,
можно объяснить единственным образом: очень давно, корда вся территория со-
временной Ирландии была погружена в воды Атлантического океана, выходы гидро-
3 Рейнир - гора в штате Вашингтон, высочайшая точка Каскадных гор; высота над уров-
нем моря - 4392 м. - Прим. пер.
термальных источников пробились наружу через океанское дно. Идея Рассела вы-
звала горячую дискуссию, в основном из-за того, что он говорил о новом виде
гидротермальных источников. Они не были похожи на единственный известный на
тот момент вид источников, на злобных горячих «черных курильщиков», получив-
ших свое название из-за ядовитых выбросов металлов и серы, которые придавали
им сходство с дымящими трубами заводов XIX в. Рассел же предсказывал сущест-
вование источников не с горячей, а с теплой водой, насыщенной минеральными
веществами, безопасными для живых существ.
Подводный источник «Черный курильщик».
Путешествуя по Доломитовым Альпам и различным месторождениям в Канаде, Майк
Рассел еще больше уверился в том, что такие гидротермальные источники сущест-
вуют . Более того, он решил, что они являются важным ключом к разгадке одной
из величайших научных тайн - зарождения жизни. По мнению Рассела, такие ис-
точники могли быть идеальным местом для возникновения жизни. Если бы ученые
смогли уверенно ответить на вопрос, где зародилась жизнь, стало бы намного
проще понять, как она зародилась.
Полтора столетия назад Чарльз Дарвин тоже пытался представить себе, в какой
среде впервые появилась жизнь. Он предположил, что таким местом мог быть «ма-
ленький теплый пруд». С того времени большинство ученых были уверены, что для
зарождения жизни необходима вода. Однако они также считали, что первичный
океан был неподходящим местом для зарождения жизни.
По мнению Рассела, в момент появления первых живых существ около 4 млрд.
лет назад океаны были чрезвычайно негостеприимными: они содержали много угле-
кислого газа, проникавшего из первичной атмосферы Земли, и поэтому были слиш-
ком кислыми, чтобы в них могла появиться даже самая примитивная из известных
нам сегодня форм жизни. При этом в них содержалось мало органических соедине-
ний, которые, по мнению большинства ученых, необходимы для зарождения жизни.
И концентрация этих химических веществ была настолько низкой, что вряд ли из
них могли возникнуть молекулы, необходимые для формирования живых существ.
Совсем другое дело - дымоходы Рассела. Вода в его «гидротермальном садике»
была не слишком горячей и не слишком холодной. Она была богата минеральными
веществами, скрыта от постоянных метеоритных дождей и жесткого ультрафиолето-
вого излучения. Невзирая на серьезную критику со стороны самых авторитетных
ученых, Рассел начал активно развивать свою теорию. Ответ на вопрос, как воз-
никла жизнь, стал чашей Грааля для ученых, занимающихся наукой о жизни, и
Рассел верил, что знает, как найти этот ответ. Уверенность Майка Рассела мно-
гим его коллегам казалась неоправданной. Для большинства из них теория Рассе-
ла была лишь догадкой, интересным предположением. Сторонников модели гидро-
термальных источников иногда насмешливо называли «вентистами»4.
Однако в теории Рассела оставался пробел: ничего похожего на описанные им
источники никогда ранее не было обнаружено. С открытием Потерянного города
все изменилось.
В 2009 г. престижный научный журнал Nature напечатал статью о Майке Рассе-
ле . В статье была карикатура, на которой его изобразили в темном балахоне и
черном берете, какие носили ученые эпохи Возрождения. Возможно, самым замеча-
тельным штрихом на этой карикатуре была улыбка Рассела, в которой было что-то
от улыбки Моны Лизы - безмятежное спокойствие и уверенность, как будто он
один знал ответ на какой-то очень важный вопрос.
Менее чем за десять лет после открытия Потерянного города человек, находив-
шийся на периферии исследований происхождения жизни, превратился в «современ-
ного Коперника» (как было написано на страницах этого влиятельного научного
журнала). Заметим, что раньше в подобную мантию уже облачали многих ученых. В
длинной саге о поисках ответа на вопрос о происхождении жизни участвовало
множество людей, считавших, что они подобрались к разгадке великой тайны, но
все их открытия и результаты впоследствии были смыты кислым раствором после-
дующих научных изысканий. В тот или иной момент портрет любого из них вполне
мох1 оказаться на страницах Nature.
В вопросе о происхождении жизни есть что-то такое, что выделяет его среди
всех научных вопросов. Изучать происхождение жизни - совсем не то же самое,
что интересоваться образованием гор или превращением воды в пар. Этот вопрос
затрагивает основы человеческого существования и заставляет задуматься о том,
что есть, а чего нет за пределами этого существования. Желание ответить на
него вытекает из той же странной потребности, заставляющей человека выдумы-
вать всемогущего Творца, и сводится не только к вопросу, как мы появились на
свет, но и зачем мы появились. В определенном смысле для человечества это са-
мый главный вопрос.
Для поисков ответа на этот вопрос человек должен быть чрезвычайно смелым и
даже в какой-то степени еретиком. Такими людьми были самые выдающиеся мысли-
тели в истории науки. В их жизни были моменты и великого триумфа, и великой
трагедии. История их жизни позволяет понять кое-что и о самой науке. Никакой
другой научный вопрос не вызывал стольких дискуссий и стольких сомнений в
объективности науки. Как бы мы ни хотели и ни верили, что наука - путь поиска
истины, не зависящий от человеческих желаний, она существует, и всегда суще-
ствовала в человеческом мире со всеми его ошибками и разочарованиями.
Перед вами история возникновения жизни на Земле. И в то же время, что не
менее важно, это история эволюции наших взглядов на возникновение жизни на
Земле. С высоты XXI в. может показаться, что эта история имеет четкую траек-
торию . Сначала были темнота и невежество. Постепенно их место заняли свет и
просвещение, путь которым проложили идеи Дарвина о силе эволюции, открытие
генетического кода и понимание механизмов внутриклеточных процессов. Однако
на этом пути было множество поворотов и разворотов. Непопулярные ранее идеи
набирали силу, казавшиеся неопровержимыми доказательства опровергались. И в
будущем такие повороты тоже неизбежны, поскольку до окончательной разгадки
тайны еще далеко. Мы по-прежнему не знаем, как зародилась жизнь, ведь нет
свидетелей этого события, и почти все геологические следы того периода стер-
лись за миллиарды лет постоянных изменений.
Несмотря на это мы уверены в том, что 3,5 млрд. лет назад на безжизненной
4 По-английски такие источники называют hydrothermal vent; vent - воздушный клапан.
- Прим. пер.
Земле появились первые одноклеточные организмы. Мы не знаем точно, как они
возникли, но можем предположить, что они появились из неживой материи. В
XVIII в. образованный человек посмеялся бы, услышав такое. Однако представле-
ния жителей Древнего Рима, Древнего Китая и других уголков античного мира не
так уж разительно отличались от наших современных воззрений. Ученый XXI в.
называет возникновение живого существа из неживой материи абиогенезом - обра-
зованный грек времен Христа называл это спонтанным зарождением. В корне эти
две идеи весьма близки. Сегодня может показаться удивительным, но на протяже-
нии большей части истории люди не считали внезапное появление живого существа
из неживой материи сверхъестественным.
Глава 1.
Спасибо
Солнцу
Я нахожусь выше уровня леса, среди вы-
соких скал, и вижу такой поток, как на
картинах Сальватора Розы... И пинии подо
мной такие густые, что среди них трудно
пробираться, как среди буков на верши-
нах наших холмов, но за исключением вы-
сящихся пиков Р.S. [perpetual snow -
вечных снегов] разница совсем неболь-
шая... Но здесь, однако, пламя рододенд-
ронов и различной цветной растительно-
сти составляет совсем иную зону в гла-
зах натуралиста - двадцать видов здесь
к одному там, что всегда ставит передо
мной больной вопрос, откуда мы взялись?
Джозеф Гукер, Письмо Чарльзу Дарвину от
24 июня 1849 г.
Никто не знал, где начинается река. Считалось, что ее исток расположен где-
то на юге, за далекой землей, которую древние египтяне называли Нубией. На
территории Египта ширина реки в некоторых местах составляла более 6 км. Она
проложила себе путь через каменистые земли на южной оконечности царства и
пробила глубокий каньон длиной около 1000 км. Затем река достигала великой
Сахары, изгибаясь по ней, как дорога жизни, расщепляя надвое бескрайнюю пус-
тыню , и, наконец, впадала в Средиземное море.
Египтяне не дали реке никакого имени - в этом не было необходимости. Река
была самой жизнью, и вся жизнь существовала только вокруг нее. Они называли
Нил просто iteru («великая река»). Свою страну они называли Kemet («темная
земля»). Тем же словом называлась и имевшаяся в изобилии черная почва, кото-
рую собирали по берегам реки, и которая скапливалась здесь во время ежегодных
разливов. Каждый год, обычно в июле, iteru поднимала воды, заливая равнины. А
через две недели она возвращалась в обычное русло, оставляя на полях пита-
тельный kemet. По силе паводка можно было предсказать богатый урожай или го-
лод , жизнь или смерть.
И каждый год, будто разлив Нила служил часовым механизмом, появлялись жабы
- тысячи тысяч жаб. Возможно, именно они были прототипом одной из десяти каз-
ней египетских, описанных в Исходе. Египтян интересовали вопросы об источнике
великой реки и появлении жаб. Насколько они могли судить, жабы появлялись не
из яиц, как ибисы, сидевшие на гнездах в тростнике вдоль берегов. Они не рож-
дались из утробы матери, как пасшиеся по берегам водяные буйволы. По мнению
египтян, жабы просто возникали из воды как подарок богини плодородия Хекет с
лягушачьей головой, которая плавала по Нилу в период разлива.
И не было ничего странного в таком появлении нильских жаб. Одни существа
родятся из утробы матери, другие вылупляются из яйца, а третьи образуются са-
ми по себе из неживой материи. Люди считали, что некоторые существа могут
просто возникать из дерева, старых зерен, воды или пыли. Они наблюдали эти
явления повсеместно: насекомые выползают из опавшей листвы, мыши - из зерна,
а жабы - из чистой воды.
Древним египтянам появление живого из неживого казалось не более удивитель-
ным, чем появление цыпленка из яйца. Такая же вполне естественная связь между
живым и неживым определяла представления людей о первом появлении любых су-
ществ, будь то первый цыпленок, первая сова или, что гораздо важнее, первый
человек. Люди находили подтверждение этой идеи повсеместно, наблюдая за суще-
ствами, которые не вылуплялись из яйца и не имели родителей.
В этом отношении истории о сотворении мира в большинстве религий удивитель-
но однотипны. Сначала не было ничего или почти ничего. Для индусов все нача-
лось с непостижимого хаоса, для китайцев - с бесформенного Дао. Египтяне, что
вполне объяснимо, считали, что все началось с массы воды, называемой Нун, ок-
руженной темнотой. Из бесформенного начала, обычно усилиями Творца, создавал-
ся мир, и кульминацией этого процесса было появление человека, часто из при-
родных веществ, что имеет определенный культурный смысл. В Египте от первич-
ного бога Атума, воплощающего в себе как женское, так и мужское начало, про-
изошли остальные боги. В конечном итоге, из слез бога Ра зародились люди - по
сути, из воды, как жабы. Норвежцы считали, что первый человек был создан изо
льда. Индейцы майя и древние ассирийцы верили, что люди были слеплены из гли-
ны . В Книге Бытия сказано, что «Господь Бог создал человека из пыли земной».
Вероятно, все эти истории казались их создателям вполне достоверными. Если
живая жаба может появиться из такой субстанции, как вода, почему такого не
могло произойти с человеком?
Мифы о сотворении жизни не следует воспринимать как волшебные сказки. Они
отражали законы природы в том виде, в каком их понимали древние люди. Вот по-
чему в норвежских мифах упоминался лед, а жившие в пустыне египтяне строили
свою историю вокруг воды. Проблема этих мифов в том, что они замыкались сами
на себе, у них не могло быть продолжения. Понимание мира росло, а эти теории
не могли изменяться.
Однако существовал и другой способ изучить вопрос возникновения жизни, ко-
торый состоит не в том, чтобы сразу найти ответ, а в том, чтобы сформулиро-
вать предположение, гипотезу. Гипотеза - это не истина, но семя истины, кото-
рое подвергается критическому осмыслению и позволяет глубже понять вопросы,
на которые человечество жаждет найти ответ. Гипотеза о сотворении мира не
предусматривала божественного вмешательства и была основана лишь на тщатель-
ном наблюдении и дедукции. Позже появилась возможность экспериментальной про-
верки гипотез, и все это произошло уже на самых ранних этапах развития того,
что мы сегодня называем наукой.
В VI в. до н. э., примерно через 200 лет после создания «Илиады» слепым по-
этом Гомером, в горах Тайгет, окружавших греческий город Спарта, случилось
землетрясение. Оно было настолько сильным, что, по словам римского историка
Цицерона, один пик «отломился, как корма корабля в штормовую погоду», накрыв
находившийся внизу город, и превратил его в руины. Однако спартанцы не по-
страдали. Как писал Цицерон, они провели ночь в долине под горой, послушав-
шись предостережения философа из анатолийского города Милет. Звали философа
Анаксимандром.
Почти наверняка история о спасении спартанцев Анаксимандром - лишь легенда.
В других источниках говорится, что Анаксимандр установил в Спарте гномон -
металлический прут, служивший в качестве солнечных часов5, но вовсе не упоми-
нается о землетрясении. Для большинства древних греков обе истории были в
равной степени правдоподобными. Для них не было принципиальной разницы между
созданием солнечных часов и предсказанием землетрясения - и то и другое долж-
но было восприниматься как волшебство, как умение читать и писать, наверное,
казалось волшебством тем людям, которые этими навыками не обладали.
Анаксимандр родился в правильное время и в правильном месте. К моменту его
появления на свет в 611 г. до н. э. греческий город Милет стал одним из силь-
нейших городов-государств в одной из величайших империй мира. Расположение
Милета идеально подходило для развития торговли. Он был основан на юго-
западной оконечности Анатолийского полуострова (территория современной Тур-
ции) , вблизи устья реки Меандр, делавшей такое невероятное количество зигза-
гов и поворотов, что ее название стало нарицательным и используется для обо-
значения речных изгибов - меандров. Жители Милета были хорошими моряками, и в
городской гавани на берегу Эгейского моря всегда стояло множество торговых
судов, увозивших вино и масло из плодов оливы, собранных на местных плодород-
ных землях, или выгружавших улиток мурекс из Финикийского моря. Из улиток
греки получали ценный пурпурный краситель, за грамм которого давали грамм се-
ребра. Для окрашивания одного предмета одежды требовалось 12 тыс. улиток. По-
этому пурпурная одежда ассоциировалась с богатством, а пурпурный цвет стал
символом королевской власти. О богатстве Милета ходили легенды. Греческий ис-
торик Геродот назвал этот город «жемчужиной Ионии». Кроме того, город обладал
значительной военной мощью и имел 90 колоний. Говорили, что Анаксимандр был
правителем одной из колоний Милета на Черном море.
Однако причина, по которой мы все еще помним о существовании этого города,
не имеет ничего общего ни с его богатством, ни с его солдатами: Милет - роди-
на греческой философии. Здесь жил философ Фалес Милетский, современник Анак-
симандра и, возможно, его наставник. Фалеса считают первым греческим филосо-
фом , что верно, а также первым в мире математиком, что неверно. Кроме того,
ему приписывают открытие тригонометрии. Вероятнее, однако, что тригонометрию
изобрели в Древнем Египте, где молодой Фалес исследовал пирамиды, изучая еги-
петскую теологию.
Грекам всегда доставалась львиная доля заслуг за то, что было придумано
другими народами, особенно поблизости, например, в Египте и еще чаще в Вави-
лоне . Насколько мы можем судить, вавилоняне первыми начали анализировать ок-
ружающий мир и записывать наблюдения на красноватых глиняных табличках, кото-
рые сушили на солнце на берегах Тигра и Евфрата. Они первыми стали отсчиты-
вать время и внимательно и систематически наблюдать за передвижением Солнца
от горизонта до горизонта. Они описывали всевозможные небесные явления и дос-
тигли невероятных высот в математике. Наша система исчисления основана на
числе 10, а у вавилонян - на числе 60. И вот почему наши единицы времени ос-
нованы на числе вавилонян: 60 секунд в минуте, 60 минут в часе. Термин «нау-
ка», обозначающий систематическую практику решения задач, появился намного
позже, и однозначно идентифицировать его происхождение сложно. Однако не бу-
дет грубой ошибкой, если мы свяжем его с Вавилоном - это будет правильнее,
чем приписать его изобретение грекам.
Вавилоняне были истинными изобретателями солнечных часов, хотя европейцы
приписывали это изобретение Анаксимандру, которого также часто называют пер-
вым картографом, однако вавилоняне, как и многие другие народы, научились
5 Используя лишь немногие дополнительные инструменты, кроме тригонометрии и солнеч-
ных часов, греки смогли точно рассчитать окружность и объем Земли. Философ Эратосфен
подсчитал, что окружность Земли составляет около 40 200 км. Современные исследования
с применением спутникового оборудования дают цифру 40 075 км. - Прим. авт.
строить карты еще раньше. Возможно, в разные времена Анаксимандру ошибочно
приписывали больше чужих заслуг, чем любому другому историческому лицу, но,
скорее всего, он по справедливости оценен за очень важное открытие, в связи с
которым его будут помнить намного дольше, чем всех его современников. На-
сколько мы можем судить, Анаксимандр был первым человеком, записавшим свои
мысли в виде прозаического текста, который сегодня мы бы назвали книгой. Он
назвал свои записи «О природе».
Этот труд был попыткой создать полную - от начала до конца - космологию
Вселенной. Некоторые современники Анаксимандра тоже занимались космологией,
как и наставник Анаксимандра Фалес. Однако представления Фалеса об устройстве
мироздания не очень сильно отличались от представлений его соотечественников.
Согласно Фалесу, началом всего была вода. Его концепция напоминала концепцию
Нун, признанную в Древнем Египте, где Фалес какое-то время жил и учился. Идеи
Фалеса отчасти были основаны на наблюдениях: на Земле много воды, живые суще-
ства в значительной степени состоят из воды, и вода обладает способностью ви-
доизменять материю, например, превращать пыль в грязь. Фалес верил, что все
образовано из воды, что вода - суть любой материи. По этой причине долгое
время считалось, что он первым идентифицировал «вещества» (которые позднее
химики назвали элементами), не делимые на составные части и являющиеся компо-
нентами более сложной материи. Однако теперь мы знаем, что воду можно расще-
пить на элементы - кислород и водород, так что этот вывод Фалеса был субъек-
тивным6 .
Космология Фалеса была основана на действии божественных мистических сил
(вроде души), которые делают материю живой. Вселенная Анаксимандра была иной.
Он доверял исключительно тому, что видел сам, а души он никогда не видел. В
его теории не было места мистическим или сверхъестественным силам. Его Все-
ленная напоминала самодвижущуюся машину.
Анаксимандр знал ответы на вопросы о тех вещах, которые мог увидеть собст-
венными глазами или понять разумом. Он обращал взор к Солнцу, звездам, Земле
и земным существам. Он считал, что все в природе можно объяснить на основе
представлений о четырех основных элементах: земле, ветре, огне и воде. Он
предположил, что Солнце в 28 раз больше Земли. На самом деле, Солнце больше
Земли примерно в 500 тыс. раз, но, учитывая, что Солнце проводит на небе со-
всем немного времени, удивительно, что философу вообще удалось понять, что
это чрезвычайно крупное тело. Анаксимандр считал, что Земля имеет искривлен-
ную форму и похожа на каменную колонну. Звезды, по его мнению, перемещались
по большому радиусу вокруг Земли. На основании этого наблюдения он сделал
свой самым революционный вывод: раз звезды могут свободно вращаться вокруг
Земли, значит, и Земля свободно плавает в пространстве. Под ней ничего нет.
Большинство людей на протяжении большей части человеческой истории не могли
себе даже вообразить этого. И хотя теории Анаксимандра были несовершенными,
во многих отношениях он понимал устройство окружающего мира не хуже людей,
живших через 2000 лет после него. Идеи Анаксимандра о развитии жизни на Земле
были не менее точными, чем описание небес, хотя он весьма расплывчато пред-
ставлял себе зарождение мира. Изначально его Вселенная была наполнена беско-
нечным небытием, которое он называл апейроном. Постепенно четыре основных
элемента - земля, ветер, огонь и вода - начали обретать форму и соединяться
6 В то же самое время индийский философ Канада описал структурные единицы материи,
названные им ану, из которых состоят все вещества. Ану - это крошечные (размером
меньше пылинки) неделимые сферы. Греческий философ Демокрит пришел к такому же выво-
ду и придумал термин «атом». Оба создали свои теории, задавая себе один и тот же во-
прос: если поделить что-то пополам, а потом половину еще пополам и т. д., до какого
предела можно дойти? - Прим. авт.
между собой, образуя новые вещества. В результате из ила на границе моря и
суши возникли первые растения и животные. Изначально эти первые формы жизни
были окружены чем-то вроде древесной коры, плавающей под действием течений до
тех пор, пока не прибивалась к берегу, где она высыхала на солнце, станови-
лась ломкой и трескалась, высвобождая заключенных в ней существ.
По мнению Анаксимандра, люди появились на Земле одними из первых, вылупив-
шись , как бабочки из коконов, изо рта рыбоподобных существ, кишевших на побе-
режьях. В этом смысле они эволюционировали, и такое видение напоминает рас-
сказ современного ребенка, которого попросили описать процесс эволюции.
Должно быть, вопрос о происхождении жизни казался Анаксимандру достаточно
простым. В отличие от Солнца, которое он не мох1 измерить, или звезд, о траек-
ториях которых мох1 только догадываться, появление живых существ из неживой
материи он мох1 видеть своими глазами. Этот процесс заключался лишь в измене-
нии формы природных элементов, как превращение дерева в огонь или огня в дым.
И он не дал этому явлению названия. Это сделал один из интеллектуальных на-
следников Анаксимандра - Аристотель.
Только два загадочных предложения Анаксимандра дошли до нас в исходной фор-
ме . «Все вещи начинаются из других вещей и исчезают в других вещах при необ-
ходимости. Они воздают друх1 другу справедливость и возмещают несправедливость
в соответствии с установленным Временем порядком» - этот фрагмент из труда «О
природе» был сохранен греческим философом Симпликием и включен в качестве ци-
таты в его комментарий к знаменитой «Физике» Аристотеля. Все остальное, что
нам известно об Анаксимандре, дошло до нас в пересказе многих эрудированных
греков, читавших его труды, особенно в пересказе Теофраста - одного из наибо-
лее выдающихся современников Аристотеля.
Через 200 с лишним лет после смерти Анаксимандра Теофраст, по-видимому, на-
шел трактат «О природе» в библиотеке Аристотеля в афинском Ликее (Лицее). Ли-
кей существовал задолго до Аристотеля, но Аристотель превратил его из гимна-
зии, в которой тренировали спортсменов для Олимпийских игр, в школу для обу-
чения наиболее способных молодых афинян. Потенциальные будущие философы съез-
жались в Афины ко двору главного греческого интеллектуала - этот статус Ари-
стотель унаследовал от своего учителя, афинянина Платона. Аристотель был уче-
ником одного из самых значительных мыслителей в истории, а сам, в свою оче-
редь , стал наставником одного из величайших в истории военачальников - Алек-
сандра Македонского. С умножением побед Александра росла слава Ликея. Кроме
знаменитой библиотеки, Аристотель открыл ботанический сад и зоопарк, в кото-
ром содержались звери, присланные Александром из завоеванных земель.
Статус интеллектуального наследника Платона пришел к Аристотелю непрямым
путем, отчасти по политическим причинам. Дело в том, что Аристотель не был
греком. В возрасте 18 лет он пришел к Платону из Македонии, где его отец был
придворным врачом царя - деда Александра Македонского. Блестящие способности
Аристотеля были очевидны, но, когда через 20 лет Платон умер, Аристотель от-
правился в добровольное изгнание. Македонские войска один за другим захваты-
вали греческие города, и в Афинах усиливались антимакедонские настроения.
Происхождение Аристотеля стало для него обузой.
Аристотель покинул Афины и отправился в греческий город Ассос, расположен-
ный к северу от Милета. В конечном итоге, по совету Теофраста, с которым Ари-
стотель дружил со времен обучения в академии Платона, он поселился на острове
Лесбос в Эгейском море. Теофраст был родом с Лесбоса, а его настоящее имя -
Тиртамус. За красноречие Аристотель наградил его прозвищем Теофраст, что оз-
начает «говорящий как бог», под которым он и вошел в историю. Подобно Аристо-
телю, Теофраст обладал разносторонними интересами, но основное время проводил
за изучением природы, главным образом растений. Он написал на эту тему две
важные книги: «История растений» и «Причины растений». Теофраст широко извес-
тен как величайший античный знаток растительного мира.
Аристотель в гораздо большей степени интересовался миром животных. Лесбос
изобиловал самыми разнообразными животными, развивавшимися обособленно от
обитателей других участков суши, и, по-видимому, был для Аристотеля примерно
тем же, чем Галапагосские острова для Чарльза Дарвина, - изолированной экоси-
стемой с идеальными возможностями для изучения механизмов развития природы.
Как Галапагосские острова стали для Дарвина наблюдательной базой для написа-
ния книги «О происхождении видов», так Лесбос стал источником вдохновения для
создания многотомного сочинения о природе, которое обеспечило Аристотелю при-
знание в качестве основателя биологии как науки.
Среди всех сочинений Аристотеля по предметам, впоследствии отнесенных к
разряду науки (математика, геология, физика), самое серьезное влияние на по-
томков оказали его сочинения в области биологии. И хотя Аристотель допустил
несколько серьезных ошибок (например, считал, что у женщин больше зубов, чем
у мужчин) , он все же был настолько талантливым наблюдателем и систематиком,
что даже через 2000 лет образованные люди воспринимают его труды не как ис-
точник старомодных мыслей, а как образец тончайшей человеческой мудрости всех
времен вплоть до эпохи Возрождения. Вот уже 2000 лет европейцы относятся к
его трудам с тем же чувством, что и к колоссальным древнеримским постройкам,
- с изумлением перед утраченными знаниями, которыми мы, наследники, уже не
обладаем.
Представления Аристотеля о мире животных, изложенные в «Истории животных»,
в какой-то степени коррелируют со сформулированной позднее идеей о «дереве
жизни», в соответствии с которой длинные и последовательные пути превращений
различных видов организмов привели к появлению человека. Если бы Аристотель
сделал аналогичный рисунок, он был бы весьма похожим: каждый вид лишь слегка
отличается от родственных видов. Аристотель, как и его учитель Платон, счи-
тал, что виды организмов, как и населенная ими Вселенная, неизменны. Природа
идеальна. Аристотель, вооруженный множеством наблюдений, мог стать первым
эволюционистом, однако при всем богатстве данных так и не нашел ответа, к ко-
торому пришли многие современные ему философы, особенно Лукреций и Эпикур.
Аристотель придерживался мнения Анаксимандра и большинства других филосо-
фов, что живые существа естественным образом могут появиться из неживой мате-
рии. Он обнаружил не только размножающиеся без семян растения, такие как мох,
но и животных и насекомых, делающих то же самое, и назвал этот процесс «спон-
танным зарождением». Впервые это выражение использовано в «Истории животных»:
«Существует нечто общее между животными и растениями: ведь и из [растений]
одни возникают из семени других растений, другие самопроизвольно при участии
некоего такого же, [как у животных] , начала. ...То же относится к животным: од-
ни из них происходят от животных соответственно родству форм, другие сами со-
бой, без родителей, причем или возникают из гниющей земли и растений, что
часто происходит у насекомых, или в самих животных, из выделений их частей»7.
Среди трудов всех древнегреческих философов на тему спонтанного зарождения
наибольшее распространение получила концепция Аристотеля. Греческая цивилиза-
ция уступила место римской, римская - христианству, а аристотелевская теория
спонтанного зарождения сохранилась в трудах одного из самых влиятельных хри-
стианских мыслителей всех времен.
В 415 г. толпа египетских христиан вытащила из дома женщину по имени Ипа-
тия, сорвала с нее одежду, протащила по улицам Александрии и в конечном итоге
до смерти забила черепками. Ипатия была математиком и преподавала классиче-
ские теории всем желающим - как христианам, так и язычникам. Себя она относи-
ла к неоплатоникам, пытавшимся возродить классическую греческую философию.
7 Пер. В. П. Карпова.
Причиной публичной расправы над этой женщиной было недовольство христиан дей-
ствиями городского префекта Ореста, в которых народ видел ущемление христиан-
ской веры. В VII в. епископ Иоанн Никиусский писал, что Ипатия владела «маги-
ей, астролябией и музыкальными инструментами и многих людей заманила своей
сатанинской хитростью». Современные хроникеры ранней истории христианства
рассматривают смерть Ипатии как поворотный момент, после которого многие жи-
тели западного полушария стали сомневаться в мудрости греков и необходимости
изучения их трудов.
Библия содержит множество предостережений относительно опасности светского
образования. В послании апостола Павла к колоссянам сказано: «Смотрите, бра-
тия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию че-
ловеческому , по стихиям мира, а не по Христу». Живший на севере Африки хри-
стианский писатель Тертуллиан, которого иногда называют отцом христианской
теологии, в своих трудах отражал такие же антинаучные настроения. Он вспоми-
нал известную историю о Фалесе, который провалился в яму, засмотревшись на
звезды. Для Тертуллиана это была метафора о тех, «кто усердствует в учении
для напрасной цели <...> и потворствует глупому любопытству к природным предме-
там» .
Однако некоторые современники Ипатии, даже христиане, разделяли ее жажду
познания и любовь к классическим наукам. Один из них - Августин Гиппонский
(Августин из Гиппона, Блаженный Августин). В конце жизни он был намного более
влиятельной фигурой в ранней христианской церкви, чем Тертуллиан или кто-либо
другой, за исключением апостола Павла. Возможно, он был самым значительным
христианским мыслителем и писателем за двухтысячелетнюю историю церкви и рас-
суждал совсем не так, как Тертуллиан, считая, что изучение древнегреческих
трудов следует поощрять, а не запрещать.
Августин родился на территории современного Алжира и провел большую часть
жизни на африканской границе Римской империи. Сначала он был учителем ритори-
ки в Карфагене, а затем епископом в Гиппоне. В молодости он все время что-то
искал. Сначала он обратился к манихейству, затерявшись в мистических учениях
иранского пророка Мани, представляющих смесь христианства и буддизма. На ко-
роткое время увлекся неоплатонизмом, как Ипатия, погрузившись в греческую
классику, которая оказала на молодого человека серьезное влияние. В конечном
итоге он принял христианство - религию своей матери.
Ранние труды Августина, созданные вскоре после обращения в христианство, по
однозначности суждений были близки к трудам таких теологов, как Тертуллиан.
Но по мере формирования религиозных представлений Августина его труды все
больше открывались в сторону классических учений, оказавших на него большое
влияние в молодости. К моменту написания одной из своих самых известных книг,
«О книге Бытия буквально», он призывал христиан вернуться к изучению естест-
венного мира:
«Ибо весьма часто случается, что даже и нехристианин знает кое-что о Земле,
небе и остальных элементах видимого мира, о движении и обращении, даже вели-
чине и расстояниях звезд, об известных затмениях Солнца и Луны, круговращении
годов и времен, о природе животных, растений, камней и тому подобном, - знает
притом так, что защищает это знание и очевиднейшими доводами, и опытом. Между
тем крайне позорно, даже гибельно и в высшей степени опасно, что какой-нибудь
неверный едва-едва удерживается от смеха, слыша, как христианин, говоря о по-
добных предметах якобы на основании христианских писаний, несет такой вздор,
что, как говорится, блуждает глазами по всему небу»8.
А в книге «О христианском учении» он писал следующее:
«Если так называемые философы, особенно платоники, как-нибудь случайно ска-
Блаженный Августин. Творения. Паломник, 1997.
зали что-либо истинное и подобающее нашей вере, то этого не только не нужно
бояться, но это должно быть истребовано от них как от незаконных владетелей в
нашу пользу»9.
Августина интересовали загадки природы, и он много о них писал. Он умело
наблюдал за растениями и смотрел на них газами натурфилософа. Он знал, что
морозник обладает целебными свойствами и что иссоп можно применять как отхар-
кивающее средство. Он отмечал сезонные изменения роста растений, задумывался,
почему в одно время деревья сбрасывают листья, а в другое на них появляются
новые. Он понял суть явления осмоса, в то время как большинству людей это
удалось лишь в следующем тысячелетии.
Августин обратил свой испытующий взгляд и к миру животных. Он принял кон-
цепцию Аристотеля о самозарождении, заметив даже, что Ною не нужно было брать
на ковчег животных, «которые родятся без соединения полов из неодушевленных
вещей». Самозарождение было частью общего плана Господа по созданию Земли.
Труды Августина (и, следовательно, Аристотеля) на эту тему влияли на хри-
стианское мировоззрение более тысячи лет. Его взгляды отразились даже в дие-
тических предписаниях церкви. Так, начиная с XII в., по пятницам христианам
разрешалось есть гусятину, хотя мясо было запрещено. Дело в том, что англий-
ский натуралист Александр Некам «открыл», что гуси могут зарождаться самопро-
извольно из смеси сосновой смолы и морской соли, благодаря чему широко рас-
пространилось мнение, что гуси относятся к рыбам. Намного позднее, в 1623 г.,
Уильям Шекспир в «Антонии и Клеопатре» писал: «Из нильской грязи там солнце
творит и змей, и крокодилов тоже»10. В этой фразе отразилось верование древ-
них египтян, что крокодилы зарождались из грязи под действием солнечных лу-
чей , что в записях о Ниле отмечал еще Геродот. Шекспир не просто отразил
представления древних египтян. Он подметил то, во что верили и некоторые его
современники в XVI в., включая самых образованных натурфилософов. Примерно
через 40 лет после создания «Антония и Клеопатры» самая передовая научная ор-
ганизация в мире, Британское королевское общество, обсуждала на своих заседа-
ниях способы зарождения змей из грязи.
Во времена Шекспира Европа начала просыпаться после столетий культурного
застоя; брал верх дух познания и открытий - наступал век разума. С началом
Возрождения учения древних мыслителей, в том числе Аристотеля и Августина,
были вновь открыты и, что важнее, пересмотрены. Такие ученые, как Коперник и
Галилей, изучали звезды и видели такую Вселенную, которая была совсем не по-
хожа на то, что люди думали о ней раньше. Другие ученые обращали пристальный
взор в иных направлениях и задавались вопросом о происхождении жизни.
Глава 2.
Provando e
riprovando
Вы видите яйцо? Это яйцо опрокидывает все
теологические школы и все храмы земли.
Дени Дидро. Сон Д'Аламбера, 1769 г.
Зимой 1662 г. три священника прошествовали по улицам тосканского города Пи-
за. Стук башмаков по булыжной мостовой сразу выдавал их религиозную принад-
лежность : за тяжелые деревянные башмаки, которые носили представители этого
ордена, в народе их прозвали башмачниками (цокколанти). Более благовоспитан-
9 Христианская наука, или Основания Герменевтики и Церковного красноречия. Библиопо-
лис, 2007.
10 Пер. О. Сороки.
ная публика называла их францисканцами - монахами ордена Святого Франциска.
Монахи направлялись в зимнюю резиденцию великого герцога Тосканы Фердинандо
II. Большую часть времени Фердинандо II проводил в столице, Флоренции, но зи-
мы по итальянским меркам там были сырыми и холодными, иногда даже шел снег. А
великий герцог не любил снег.
В молодости герцог был красивым мужчиной. Однако священников принял человек
средних лет, тучный, с отеками под глазами. Фердинандо носил закрученные
кверху усы - как будто кто-то нарисовал на его лице улыбку - и слегка походил
на клоуна. Рядом с Фердинандо стоял молодой человек по имени Франческо Реди -
личный врач великого герцога, его доверенное лицо и правая рука в научных во-
просах .
Великий герцог славился невероятной щедростью по отношению к тем, кто мог
предложить ему какое-нибудь научное чудо. Францисканцы только что вернулись с
Востока и приготовили герцогу много таких подарков. Особое восхищение вызыва-
ли у них маленькие черные камушки, которые они привезли с берегов Ганга: их
извлекли из головы змеи, которую португальцы называли коброй. Эти камушки,
как сообщили монахи, предохраняли от любых ядов - содержащихся как в зубах
змеи, так и в отравленном оружии. Нужно только приложить их к ране, и они
прилипнут, как магнит, пока не втянут в себя весь яд. Потом камушки нужно
промыть парным молоком, тогда яд выйдет из них, и их можно использовать сно-
ва.
Реди уже видел такие камни раньше. Их сверхъестественная сила была знакома
каждому, кто занимался искусством врачевания. В их эффективность верил даже
древнеримский врач Гален - одна из виднейших фигур в классической медицине.
Но на Реди они не произвели сильного впечатления. Он по природе был скептиком
и состоял во флорентийском научном обществе под названием Accademia del
Cimento (Академия эксперимента) . Лозунгом этого общества были слова provando
е riprovando - проверяй и перепроверяй, и Реди полностью его придерживался. У
него уже скопилось несколько таких камней: одни достались ему от тех, кто
действительно верил в их силу, другие - от обычных шарлатанов, но никто не
смог доказать, что они обладают более мощным защитным действием, чем камни,
собранные на соседнем поле.
Вскоре большинство образованных жителей Пизы, многие из которых обучались
медицине, собрались взглянуть на привезенные с Востока чудесные камушки. Ве-
ликий герцог решил проверить действие подарка францисканцев. Он послал гвар-
дейцев раздобыть нескольких гадюк, но дело было зимой, и змей не нашли. Был
придуман новый опыт - с цыплятами. Из табака приготовили смертельный яд, в
который на глубину четырех пальцев окунули иголки, и укололи ими цыплят. Кам-
ни не помогли, и через четверть часа цыплята умерли. Францисканцы были потря-
сены. Они умоляли повторить эксперимент. Одного за другим умертвили еще не-
скольких цыплят. Монахи так и не поверили до конца результатам эксперимента,
утверждая, что цыплята умерли не от яда, а по какой-то иной причине. Через
много лет Реди описал этот эпизод в письме знаменитому иезуитскому философу-
натуралисту Афанасию Кирхеру: «Из истины часто произрастают сомнения, <...> как
цветущий побег».
Реди прибыл ко двору Фердинандо всего за два года до появления францискан-
цев . В качестве личного врача он входил в состав свиты, окружавшей герцога в
великолепном флорентийском дворце Палаццо Питти. Дворец этот был воплощением
двух очень разных эпох, на границе между которыми жил Реди. Снаружи это была
крепость из темных веков - с высокими арками грозных военных колонн, выстро-
енных римскими солдатами для защиты от нашествий варваров. Внутри дворец был
наполнен яркими коврами и великолепными картинами, парадными украшениями и
символами могущества его хозяев, одного из самых знатных семейств эпохи Воз-
рождения - Медичи.
Палаццо Питти.
Медичи были банкирами, причем чрезвычайно успешными. Их золото находилось в
обороте по всей Европе. Они обожали демонстрировать свое богатство, особенно
коллекцию самых современных научных изобретений. Палаццо Питти был битком на-
бит всевозможными новомодными штуками: здесь были термометры, астролябии и
первый в мире барометр. У Медичи была даже лучшая в мире коллекция телескопов
- грустное напоминание о знаменитом астрономе, когда-то прогуливавшемся по
залам этого дворца.
Хотя Реди появился во дворце примерно через 20 лет после смерти Галилея, он
находился под сильным влиянием своего знаменитого предшественника. Галилей
отказывался воспринимать мир таким, каким его видело большинство. Он хотел
познать его с помощью наблюдений. Он олицетворял (и олицетворяет до сих пор)
борьбу между разумом и догмой. И Франческо Реди был полностью на стороне ра-
зума.
Великий герцог Фердинандо II, как и его отец Козимо II Тосканский, тоже был
увлечен всем, что связано с наукой. У него даже была коллекция «человеческих
образцов», которых он считал научными диковинками, включая бродившего по
дворцу карлика, про которого говорили, что у него клыки вместо зубов. Некото-
рые, в том числе его благоверная жена Виттория делла Ровере, считали герцога
сумасшедшим. А он не скрывал своего раздражения от ее благочестивых наставле-
ний. Кроме того, для семейного разлада были и другие причины: о любовных по-
хождениях герцога было известно всему двору. Некоторые утверждали, что Витто-
рия обнаружила мужа в постели с мужчиной, которого многие считали его любов-
ником, - с графом Бруто делла Молера. Мать Фернандо II, великая герцогиня Ма-
рия Магдалена Австрийская, сама рассказывала, как однажды в холодный зимний
день пришла к сыну в апартаменты. В руках она держала список богатых и влия-
тельных флорентинцев, подозреваемых в содомии, и сообщила сыну, что этих лю-
дей ждет смерть на костре. Великий герцог прочел список и заметил, что он не
полон. Он дописал кое-что и вернул матери листок: внизу списка стояло его
собственное имя.
Под покровительством великого герцога Реди процветал. Он участвовал в дея-
тельности Accademia del Cimento, созданной Медичи после смерти Галилея для
продолжения работы великого ученого. Кроме того, Реди много занимался естест-
венными науками. При любой возможности он апеллировал к лозунгу академии,
причем иногда с излишним жаром: однажды он даже выпил змеиный яд, чтобы дока-
зать , что при приеме внутрь он неопасен, хотя и смертелен при попадании в
кровь. Ряды академии пополнили некоторые крупнейшие ученые той эпохи, в числе
которых были лучшие ученики Галилея. Однако среди всех достойных членов ака-
демии наибольший след в истории оставил сам Франческо Реди.
В европейском научном обществе, находившемся под влиянием идей греческих и
римских мыслителей, Реди был натурфилософом нового типа. В молодости он был
большим скептиком. Книги - полезный источник информации. Знания должны накап-
ливаться .
Однако проверять нужно абсолютно все - от чудодейственных противоядий до
теории Аристотеля о самозарождении жизни.
В X в. н. э. византийский император Константин VII издал сборник практиче-
ских советов по ведению сельского хозяйства под названием «Геопоника», кото-
рый стал своеобразным альманахом для европейских земледельцев на шесть после-
дующих столетий. В своде текстов содержалось множество полезной информации,
например инструкции по изготовлению вина или разведению скота. Много говори-
лось о разведении пчел, которые помогают повышать продуктивность сельского
хозяйства. Был, к примеру, такой рецепт:
«Постройте дом высотой десять кубитов11 со сторонами одного размера, с од-
ной дверью и четырьмя окнами, по одному с каждой стороны; запустите туда три-
дцатимесячного быка, очень мясистого и жирного; пусть несколько молодых муж-
чин убьют его сильными ударами дубинок, чтобы раздробить мясо и кости, но не
выпустить крови; закрыть все отверстия тела - рот, глаза, нос и др. - чистой
и мягкой просмоленной тканью; насыпать под тело тимьяна, а затем закрыть окна
и двери и замазать толстым слоем глины, чтобы не проходил воздух и ветер. Че-
рез три недели открыть дом и впустить туда свет и свежий воздух, кроме как с
подветренной стороны. Через одиннадцать дней вы обнаружите в доме множество
сбившихся группами пчел, а от быка - только рога, кости и шкуру».
Сейчас такой текст читается как заклинание, однако, в эпоху Возрождения это
считалось наукой. Вообще говоря, данный метод работал, этот рецепт выведения
пчел был в ходу со времен римского поэта Вергилия. Существовало также множе-
ство подобных рецептов для выведения самых разных существ. Их можно найти да-
же в трудах величайшего ученого эпохи Возрождения - фламандского врача Яна
ван Гельмонта.
Историкам не нравится выражение «наука эпохи Возрождения», поскольку разви-
тие науки в этот период имело два четко различимых направления. Первое на-
правление было сопряжено с возвращением интереса к трудам древнегреческих
мыслителей, таких как Аристотель и Анаксимандр, которые в Средние века были
либо утеряны, либо забыты. Второе направление было связано с инновациями - с
появлением новых и оригинальных теорий, подвергавшихся экспериментальной про-
верке . Ян ван Гельмонт участвовал в обоих процессах.
Он родился в Брюсселе, тогда входившем в состав Испанских Нидерландов, а
учился в университете Лёвена, где с энтузиазмом погружался в изучение трудов
Галена и Гиппократа - знаменитых фигур в классической физиологии. Однако в
процессе обучения ван Гельмонт постепенно разочаровался в классиках, найдя их
пустыми и неубедительными. Много лет спустя он писал, что, хотя когда-то счи-
тал эти труды «точными и неопровержимыми», в конечном итоге, почувствовал,
что все годы учебы оказались бессмысленными. Он отложил приобретенные за годы
ученичества книги и потом часто заявлял, что жалеет, что не сжег их.
Ян ван Гельмонт был одним из самых выдающихся натурфилософов Раннего Возро-
ждения. Он достиг удивительных успехов в изучении газов и первым выделил уг-
лекислый газ, который назвал «лесным газом». Вообще говоря, именно он приду-
мал само слово «газ».
Среди экспериментаторов ему почти не было равных, еще меньше было ученых,
Кубит - древняя единица измерения, то же что локоть, равная 46,3 см. - Прим. пер.
столь же преданных своему делу. На свой самый знаменитый эксперимент ван
Гельмонт потратил пять лет, тщательно наблюдая и записывая показатели роста
дерева, чтобы доказать, что растения набирают вес за счет воды и воздуха, а
не за счет почвы, как считали раньше. Тем самым он заложил основы для изуче-
ния процесса фотосинтеза. Кроме того, он исследовал жидкости организма: желу-
дочный сок и сперму, которые впоследствии назвал «ферментами». Он связал их
функцию с химическими реакциями в организме - это был важнейший, хотя и недо-
оцененный , этап в понимании функционирования живых существ. Исследователь
предвосхитил современную теорию ферментативных реакций - реакций с участием
крупных органических молекул, лежащих в основе всех жизненных процессов. В
XIX в. многие ученые стали воспринимать эти реакции в качестве ключевого ме-
ханизма жизнедеятельности.
И все же положение ван Гельмонта в пантеоне науки неоднозначно. Он поставил
под сомнение многие классические представления и сделал собственные выводы,
однако остался во власти древнего мистицизма и алхимических концепций, вклю-
чая наиболее спорные идеи древнегреческой науки. Несмотря на глубокую религи-
озность , он не избегал слова «магический». Он восхищался идеей Аристотеля о
спонтанном зарождении жизни и считался одним из главных авторитетов по этому
вопросу. Он даже создал руководство по зарождению нескольких видов существ.
Самым известным был метод зарождения мышей: следовало поместить в бочку зер-
но, пропитанную потом рубаху и ждать, пока пшеница «трансформируется» в мы-
шей.
Франческо Реди отнесся к методу ван Гельмонта с той же степенью доверия,
что и к другим рецептам по спонтанному зарождению жизни - как к камушкам
францисканцев. Он решил проверить эту теорию. В качестве объекта он выбрал
мух. Как легко заметить, мухи не «рождаются» в обычном смысле слова, они про-
сто возникают из всякой радости. Люди были абсолютно уверены, что никаких му-
шиных яиц не существует, по той простой причине, что их никто и никогда не
видел. Но когда Реди читал описание спонтанного зарождения в «Илиаде» Гомера,
его посетила благодатная мысль. «А что, - писал он позднее, - если все личин-
ки, которые вы видите в мясе, появились из мушиного семени, а не из испорчен-
ного мяса?»
В июле, когда мух больше всего, Реди поместил змею, рыбу, несколько мелких
угрей и кусок сырой телятины в четыре разные емкости, которые тщательно за-
крыл. Потом он приготовил еще четыре такие же емкости, однако, оставил их от-
крытыми для проникновения воздуха и насекомых. Как он и предполагал, личинки
появились на тухнущем мясе в открытых емкостях, но не там, где доступ воздуха
был перекрыт.
Результаты подтверждали гипотезу Реди, но он понял, что доказательства не
были бесспорными. Предвосхищая замечания критиков, он решил проверить, не
связано ли отсутствие личинок в закрытых емкостях с тем, что личинкам просто
не хватило воздуха. Поэтому он запланировал еще более хитроумный эксперимент,
закрыв емкости марлей. Личинки появились, но только на внешней стороне марли.
По мнению Реди, единственное возможное объяснение заключалось в том, что мух
привлекал запах разлагающейся плоти, но, не имея возможности проникнуть под
марлю, они откладывали яйца на поверхности.
Много позже в школьных учебниках вспомнят эти опыты и назовут их «экспери-
ментом Реди». Для истории науки этот эпизод важен не тем, что конкретно дока-
зал или опроверг Реди, а тем, как он это сделал: путем формулировки гипотезы
и постановки двух серий опытов для ее проверки. Это один из первых и лучших
примеров контролируемого научного эксперимента. Проверяй и перепроверяй.
Вскоре Реди предпринял аналогичные эксперименты с другими насекомыми. Это
стало основой для его самого значительного научного труда - книги «Опыты по
происхождению насекомых», ставшей для того времени образцом наблюдения и экс-
перимента. Реди заявил, что опроверг не только теорию Аристотеля о спонтанном
зарождении жизни, но и саму веру в то, что природа может дать начало жизни
без вмешательства Бога. Реди, обладавший писательским даром, в поэтической
форме суммировал представления древнегреческих философов, веривших в возмож-
ность самопроизвольного зарождения жизни:
«Многие верили, что эта дивная часть Вселенной, которую мы обычно называем
Землей, без вмешательства Бога начала одевать себя зеленым покровом, который
постепенно обрел силу и совершенство и под лучами солнца и на питательной
почве превратился в растения и деревья, и дал пищу животным, коих множество
произвела Земля, от слона до самого малюсенького и невидимого живого сущест-
ва».
С точки зрения Реди, такая теория несовместима с законами природы. Повторяя
слова голландского натуралиста Яна Сваммердама, он писал: «Вся жизнь происхо-
дит из яйца».
Научная деятельность Реди оказалась довольно короткой. В мае 1670 г. вели-
кий герцог Фердинандо II заболел. Официально болезнь назвали «апоплексическим
ударом» (теперь это называется инсультом). Врачи лечили его самыми мудреными
средствами, какие только были в их распоряжении: прикладывали ко лбу горячие
утюги и обкладывали тело мясом голубей. Средства были столь же эффективны,
как камушки от отравления ядом, принесенные великому герцогу францисканцами.
Через два дня великий герцог умер.
На трон взошел единственный сын герцога - Козимо III Тосканский. Отец хотел
дать сыну современное научное образование, но герцогиня Виттория была иного
мнения. Новый великий герцог1 во всем походил на мать. Говорили, что за всю
жизнь он ни разу не улыбнулся (и его почитатели воспринимали это как знак
глубочайшей религиозности). Правление Козимо III запомнилось главным образом
репрессивными законами в отношении еврейского населения города, которое было
самым многочисленным во всей Италии благодаря доброжелательному отношению его
отца. Кроме того, он был помешан на целомудрии и издавал законы, запрещавшие,
например, заниматься любовью вблизи окон или дверей или принимать женщинам
дома молодых мужчин, не приходившихся им родственниками. Гомосексуалистам от-
рубали головы. Позднее биограф описывал Козимо III как «слепого фанатика, не-
терпимого к любым проявлениям свободной мысли, ненавидимого собственной же-
ной ; его жизнь состояла в посещении церквей и монастырей».
Официальное положение Франческо Реди при дворе не изменилось. Он долгое
время играл роль посредника между Козимо III и его отцом во время их беско-
нечных споров, и новый великий герцог1 относился к Реди с определенным уваже-
нием. Однако научная карьера Реди стала невозможной, к тому же молодой Козимо
закрыл Accademia del Cimento.
Реди перешел в новую Academia della Crusca (Академию тосканской литерату-
ры) . Он помогал составлять первый тосканский словарь и написал несколько эпи-
ческих стихотворений. В свое время он был больше знаменит благодаря стихам,
нежели научной деятельности. Его лучшее стихотворение Вассо in Toscana, до
сих пор считается шедевром итальянской литературы. Оно описывает противостоя-
ние человека и римского бога виноделия. «Он столь дерзок, что богохульствует,
и теперь собирается захватить мой трон», - жалуется мстительный Бахус в сти-
хотворении Реди.
В конце жизни Реди страдал от эпилепсии. По некоторым сведениям, он погру-
зился в католический мистицизм, обмазывался елеем и покупал ленты, касавшиеся
костей святого Раньери12, обладающих, как считалось, чудодейственной силой.
Его описания собственного состояния указывают на то, что он страдал от ипо-
Святой Раньери - итальянский трубадур XII в., ставший святым покровителем г. Пи-
зы. - Прим. пер.
хондрии.
Хотя многие читали главный научный труд Реди «Опыты по происхождению насе-
комых», истинное значение этой работы не было понято современниками. С помо-
щью экспериментального подхода Реди попытался установить, может ли живое су-
щество возникнуть из неживой материи. По его мнению, это было невозможно. Он
был уверен в том, что доказал этот «факт», предоставив неопровержимые данные.
Однако немногие соглашались с тем, что он решил вопрос о спонтанном зарожде-
нии жизни, поскольку никто не мох1 однозначно утверждать, что видел мушиные
яйца. Из истины часто произрастают сомнения.
Тем временем далеко на севере, в Голландии, никому не известный галантерей-
щик приобрел копию «Опытов по происхождению насекомых». Он был практически
уверен в справедливости утверждений Реди, и не только потому, что верил в не-
погрешимость его экспериментального метода. Он был уверен в справедливости
этих утверждений, поскольку видел мушиные яйца.
Глава 3.
Глаз
комара
Солнца гаснут и покрываются твердой ко-
рой; планеты гибнут и рассеиваются в
эфирных пространствах; новые солнца за-
жигаются, новые планеты образуются, опи-
сывая новые орбиты и новые круговраще-
ния, а человек, эта бесконечно малая
частица шара, который сам лишь незамет-
ная точка в необъятном мире, думает, что
Вселенная создана для него.
Поль Анри Тири Гольбах. Система природы,
1770 г.
Был конец лета 1664 г. По озеру, расположенному недалеко от голландского
Делфта, скользила лодка. Управлял ею человек лет сорока с небольшими усиками,
будто нарисованными карандашом. На нем был светло-каштановый парик до плеч,
какие носили все голландцы из среднего класса.
Озеро называлось Беркельзе - маленькое озеро с болотистыми берегами, места-
ми переходившими в трясину. Глубина повсюду была разной, и маневрировать
здесь было непросто. Озеро это любили рыбаки, поскольку рыбы в нем было много
и, как говорили, она была необыкновенно вкусной. Однако наш герой не рыбачил.
Это был горожанин из Делфта, торговец галантерейным товаром. Звали его Антони
ван Левенгук, и в озере он что-то искал.
Озеро Беркельзе славилось еще кое-чем, хотя некоторые думали, что эта осо-
бенность тоже связана с изобилием рыбы. Зимой вода в озере выглядела вполне
нормальной и действительно была удивительно чистой, но в начале лета она при-
обретала молочный оттенок и, в конце концов, покрывалась толстым слоем зеле-
ной пены, плававшей на поверхности воды, как облака. Местные жители считали,
что источником зеленой пены является выпадающая в это время года обильная ро-
са, так называемая медовая роса. Однако Левенгук не был в этом уверен и пола-
гал, что сможет разгадать загадку происхождения пены раз и навсегда.
Вот он подплыл к одному островку зеленой пены, достал стеклянный пузырек и
набрал немного зеленоватой воды, чтобы отвезти в свой городской дом, располо-
женный в двух часах езды от озера, где он жил с женой и дочерью. Он не знал
точно, что обнаружит в воде, и даже не подозревал о том, что привычный мир
вскоре станет бесконечно шире и все представления людей о природе жизни пере-
вернутся с ног на голову.
Левенгук на время оставил образец и посвятил остаток дня обычным делам
скромного галантерейщика, живущего в скромном доме в скромном голландском го-
родке . Может, занялся торговыми делами или поиграл с дочерью Марией, которую
очень любил. Все другие его дети умерли в младенчестве.
На следующий день он принялся за изучение озерной воды. С помощью пинцета
он с невероятной осторожностью вытащил из капли длинную зеленоватую нить тол-
щиной с человеческий волос. Его мать была из семьи пивоваров, и эта нить по-
чему-то напомнила ему медный змеевик, который использовали для охлаждения пи-
ва и эля в процессе варки. Он закрепил нить в странном устройстве собственно-
го изобретения. Оно представляло собой металлическую пластинку длиной около
25 см, прикрепленную к металлическому зажиму, напоминающему плотницкий инст-
румент для фиксирования деталей на верстаке. Левенгук использовал этот зажим
как подложку, чтобы размещать предметы в центре металлической пластинки, где
было просверлено отверстие для маленького кусочка отшлифованного стекла. Уст-
ройство называлось микроскопом, и торговец галантерейным товаром из Делфта
сконструировал его сам, чтобы рассматривать такие вещи, которых не видел ни
один человек на Земле.
Микроскоп Левенгука XVII века с увеличением до 300 крат.
Левенгук поместил в свой прибор капельку воды и внимательно поглядел через
линзу. Он что-то увидел. Что-то похожее на маленький белый овал, но с подоби-
ем ножек - рядом с тем, что могло бы быть головой. А на другой стороне овала
видны какие-то штучки, напоминающие плавники. Левенгук подумал про себя, что
этот предмет, должно быть, в тысячу раз меньше самого маленького насекомого,
какого он когда-либо видел. И когда он увидел, что предмет вдруг начал очень
быстро передвигаться, так стремительно, как угорь в воде, он был практически
уверен, что это живое существо.
На каждого живущего на Земле человека приходится миллиард триллионов микро-
бов . Они прекрасно чувствуют себя практически повсюду: в горных породах на
глубине более 500 м от поверхности Земли, еще в три раза глубже под толщей
океана и даже в наших с вами телах. В человеческом организме содержится в де-
сять раз больше микробных клеток, чем клеток самого человека. На протяжении
большей части истории люди ничего не знали об этих вездесущих формах жизни, с
которыми находятся на одной планете. Люди слепо бродили в джунглях, кишащих
этими крошечными существами, и думали, что они одни. Микроскопические сущест-
ва, которых увидел Левенгук в капле озерной воды, были первым свидетельством
того, что мир населен значительно плотнее, чем человек подозревал до сих пор.
Вполне логично, что мир бактерий, простейших и других микроскопических су-
ществ был открыт именно в XVII в. Именно в этом столетии произошел беспреце-
дентный прорыв в понимании человеком устройства окружающего мира. И 1632 г.,
когда родился Левенгук, был весьма показателен в этом отношении по двум при-
чинам .
С одной стороны, это была середина самой смертоносной войны в Европе, если
не считать войн последнего столетия. Тогда эту войну между католиками и про-
тестантами называли просто Большой войной. Позднее историки назвали ее Три-
дцатилетней войной, и под этим названием она вошла в историю. Обширные облас-
ти многих государств Центральной Европы превратились в поля сражений и напо-
минали сцены со зловещих полотен другого великого голландца, Иеронима Босха.
С лица земли были сметены целые города и поселения. Еще страшнее, чем война,
были шедшие следом за ней болезни. Народ страдал от «головной болезни» и
«венгерской болезни». Тиф, бубонная чума, дизентерия и цинга собирали страш-
ную дань. Среди всего этого хаоса религиозные фанатики призывали народ к
убийствам и погромам. Около 50 тыс. мужчин и женщин были обвинены в колдовст-
ве и повешены, утоплены, сожжены заживо или посажены на кол.
С другой стороны, этот год принес Европе надежду, явившись началом нового
времени расцвета науки и разума, названного эпохой Просвещения. Если в эпоху
Возрождения наука стала вновь потихоньку просачиваться на интеллектуальную
почву Европы, то в эпоху Просвещения она прорвалась бурным потоком. Удиви-
тельно, как много выдающихся деятелей Просвещения родилось именно в 1632 г.
Одним из них был англичанин Джон Локк, чьи идеи о правах человека в противо-
вес абсолютной власти монарха вдохновили таких мыслителей, как Вольтер и Жан-
Жак Руссо, и послужили толчком к демократическим революциям во Франции и Аме-
рике. В 1632 г. родился голландский философ еврейского происхождения Барух
(Бенедикт) Спиноза, который пытался объяснить духовность с помощью разума,
представляя Бога не как Творца природы, а как саму природу. Он оставил в ми-
ровой философии настолько важный след, что немецкий философ Георг Вильгельм
Фридрих Гегель однажды заметил, что «либо ты спинозист, либо вовсе не фило-
соф» .
Нидерланды стали одним из центров Просвещения. Делфт, который на тот момент
был столицей этого государства, в том же году увидел рождение двух великих
людей - Левенгука и художника Яна Вермеера, автора шедевра «Девушка с жемчуж-
ной сережкой». Революционный подход Вермеера к использованию цвета и света
обеспечил ему место среди самых выдающихся художников всех времен. Дома, где
родились Вермеер и Левенгук, располагались друг от друга в нескольких минутах
ходьбы.
Некоторые из простейших, открытые Левенгуком.
Отец Антони ван Левенгука Филипс занимался плетением корзин, а мать проис-
ходила из респектабельной семьи пивоваров. Филипс женился на женщине более
высокого социального статуса, чем он сам, но в Нидерландах в XVII в. это не
было редкостью. В то время как жизнь в большинстве европейских стран подчиня-
лась условным рамкам статусов и привилегий, в Нидерландах эти сословные раз-
личия теряли силу. Просвещение открыло новые возможности перед широким кругом
людей. Голландцы начали понимать, что мужчина может достичь успеха благодаря
собственным способностям, а не только происхождению. Голландские женщины тоже
получили права, о которых жительницы большинства европейских стран не могли
даже мечтать. Они могли свободно высказывать свои мысли и ходить по улицам
без сопровождения. Впервые в истории избиение жены мужем стало считаться пре-
ступлением .
Крошечная страна быстро становилась центром европейской торговли и имела
больше кораблей, чем Испания, Англия, Португалия, Франция и Австрия вместе
взятые. Голландцы стали торговыми посредниками для всей Европы, осуществляя
доставку товаров из дальних колоний - из колоний своих бывших врагов и своих
собственных, таких как остров Ява в современной Индонезии или город Нью-
Амстердам на Манхэттене, впоследствии превратившийся в американский город
Нью-Йорк. Голландцы заговорили о своем Gouden Eeuw - своем «золотом веке».
Вместе с ростом благосостояния начался невиданный расцвет свободы, что сде-
лало Нидерланды центром научного прогресса Европы, выбиравшейся из разрухи
Тридцатилетней войны. Эта свобода распространялась даже на вопросы религии:
голландские кальвинисты считали возможным разделение церкви и государства. В
Нидерландах XVII в. мирно сосуществовали и процветали евреи, лютеране и даже
их недавние враги католики. В то время как религиозные споры раздирали всю
остальную Европу, голландец Ян Вермеер беспрепятственно перешел в католицизм,
тогда как в любой другой стране такое обращение могло закончиться изгнанием
или как минимум завершением карьеры. За свои «нечестивые» труды Спиноза под-
вергся хериму (отлучению) от еврейской общины и осуждению кальвинистами, од-
нако его не заключили в тюрьму и даже не подвергали серьезным преследованиям.
В Англии через 200 лет после этого поэт и атеист Перси Биши Шелли был исклю-
чен из университета за распространение одной-единственной антирелигиозной
брошюры, а в дальнейшем из-за атеистических взглядов был лишен британским
правительством возможности воспитывать собственных детей.
Свобода влекла сюда людей из разных мест. Многие, как Ян ван Гельмонт, были
крупными учеными, и научная мысль процветала в Нидерландах без цензуры со
стороны Рима. Издательства печатали множество научных трудов, написанных в
Нидерландах и за рубежом. Амстердам стал первым (и на долгие годы единствен-
ным) городом, где удалось напечатать запрещенную «Механику» Галилея.
Профессиональной науки как таковой в те времена еще не существовало. Само
слово «science» (от лат. scientia - знание) использовалось редко, гораздо ча-
ще употреблялся термин «натурфилософия». Но уже сформировался круг крупных
мыслителей, которых в ретроспективе назвали бы учеными. Большинство из них,
как врач Франческо Реди, имели основную работу. Ван Гельмонт тоже был врачом,
хотя чаще его называют философом. Обычно это были люди определенного социаль-
ного статуса, которые могли потратить время и деньги на исследования, нередко
воспринимаемые другими людьми как развлечения.
Объединяло всех натурфилософов одно - уровень образования. Среди них были
самые образованные люди своего времени. В этом плане Левенгук отличался от
своих знаменитых современников. Когда мальчику было пять лет, его отец умер.
Мать и отчим отправили его учиться в первую попавшуюся школу.
В то время знание латыни и греческого было практически обязательным для лю-
бого мало-мальски образованного человека, вот почему драматург Бен Джонсон
мог пренебрежительно отметить «small Latin and little Greek» Уильяма Шекспи-
ра13 . У Левенгука не было ни того, ни другого. Он заслужил достойную славу
благодаря одному из самых важных научных достижений эпохи и общался с лидера-
ми крупнейших мировых держав, но на этой высоте он всегда оставался чуточку
неуместным, незащищенным и чувствительным.
Когда Левенгуку было 16 лет, умер его отчим. Мать вновь отослала мальчика,
на этот раз в Амстердам - учиться торговому ремеслу. В городе было множество
приезжих из провинции и из-за границы. Нидерланды быстро становились урбани-
зированной страной, а Амстердам был крупным европейским городом. Левенгук был
принят в качестве подмастерья в магазин льняных тканей, постепенно поднялся
Существуют и другие мнения насчет высказывания Джонсона. Так, литературный критик
И. О. Шайтанов пишет следующее: «Считается, что Джонсон констатировал, что знание
латыни покойным мистером Шекспиром было невелико, а греческого - и того меньше. Его
поняли так, будто бы он упрекнул Шекспира в недостаточности знания. А он <...> сказал
о том, что и небольшого знания древних языков Шекспиру хватило, чтобы превзойти всех
современников в искусстве драмы и поэзии». См. И. О. Шайтанов. «Шекспир». М. : Моло-
дая гвардия, 2013. 475 с. - Прим. пер.
до продавца и кассира и при этом учился основам торгового дела, которое стало
его занятием на всю жизнь. Возможно, именно в связи с делами он впервые уви-
дел простейший микроскоп - устройство, с которым для образованных людей всего
мира его имя останется связанным навсегда.
Простые линзы были известны уже давно, как минимум с I в. н. э. Учитель им-
ператора Нерона Сенека-младший писал, что «мелкие и нечеткие буквы видятся
более крупными и четкими через стеклянный шар, наполненный водой». Но трудно
сказать, когда впервые кто-то заметил, что линзы можно использовать для соз-
дания такого инструмента, как микроскоп. Итальянский поэт Джованни Ручеллаи,
живший на рубеже XV-XVI вв. и приходившийся двоюродным братом папе Льву X,
использовал вогнутые зеркала для рассматривания пчел. Эти наблюдения стали
основой для создания его самого знаменитого стихотворения Le Api («Пчелы»).
Один из первых сложных микроскопов был создан Галилеем и назван им
occhiolino (с итал. маленький глаз). Совместив несколько линз, удалось дос-
тичь более мощного увеличения. Слово «микроскоп» выдумал друг Галилея немец-
кий ботаник Джованни Фабер; оно происходит от греческих корней micro - ма-
ленький и scopia - видеть. Незадолго до Галилея о создании микроскопа сообщи-
ли два голландских изготовителя очков Ханс Липперсгей и Захарий Янсен. Оба
также заявили, что изобрели телескоп. Эти яростные соперники жили в соседних
домах, и каждый из них утверждал, что другой украл его идею. Точно неизвест-
но, заслуживают ли доверия их слова, возможно, они лишь первыми пытались за-
патентовать эти устройства.
В эпоху Левенгука производство линз в Голландии уже было широко распростра-
нено , и даже Бенедикт Спиноза зарабатывал на жизнь шлифовкой линз.
Самые ценные линзы применялись для изготовления телескопов, служивших в на-
вигационных целях и имевших важное военное назначение. Кроме того, производи-
лись линзы для разглядывания мелких предметов, в частности для торговцев тка-
нями вроде Левенгука. Сейчас такие линзы назвали бы просто увеличительными
стеклами, но их можно было применять для проверки качества полотна и для обу-
чения шитью.
Интерес к микроскопии невероятно возрос после публикации в 1665 г. чудесной
книги под названием «Микрография». Ее автором был англичанин Роберт Гук, ас-
систент знаменитого ирландского химика и изобретателя Роберта Бойля. Гук был
не только блестящим исследователем природы, но и талантливым художником, и
его книга содержала великолепные иллюстрации, поэтому и привлекла широкую ау-
диторию, а не только тех, кого интересовала натурфилософия. В книге было опи-
сано множество самых обычных объектов, но под микроскопом Гука они станови-
лись фантастическими и необыкновенными.
Начиналось исследование с самых простых предметов, произведенных человеком.
Например, там были такие вещи, которые вполне мог разглядывать продавец тка-
ней. Там было описано игольное ушко и кусочек льняной ткани. Далее рассматри-
вались более сложные объекты, например растения, как обыкновенные, вроде роз-
марина, так и экзотические, как привезенная из Восточной Индии лагунария
(«коровий зуд»). Наконец, Гук подошел к самому интересному и сложному - к
описанию животных. Он разглядывал абсолютно все - от волос, шерсти и перьев
до отдельных частей насекомых и других мелких организмов, например глаза мухи
ильницы-пчеловидки или зубы улитки.
На одном из первых рисунков книги изображен микроскоп Гука, удивительно по-
хожий на микроскопы, которые используются четыре столетия спустя: обращенная
вниз смотровая труба с маленьким металлическим наконечником для глаза. Гук
подробно описал процесс сборки микроскопа, включая методы выдувания и шлифов-
ки стекол. Инструкции были настолько подробными, что заняли почти половину
книги.
К моменту выхода «Микрографии» Левенгук уже обосновался в Делфте, женился и
обзавелся удобным городским домом. Вскоре он смастерил свой микроскоп, напо-
минавший по конструкции микроскоп Гука. У этого микроскопа не было такой кра-
сивой смотровой трубки, но все же Левенгук обладал определенным эстетическим
чувством и изготовил все детали микроскопа из серебра и меди. Что же касается
линз, Левенгук ввел в конструкцию Гука некоторые усовершенствования. Как и
все наиболее мощные микроскопы того времени, микроскоп Гука имел сложные лин-
зы. Они составлялись так, чтобы каждая следующая увеличивала предыдущую. На-
против, в микроскопе Левенгука была всего одна линза, но такая, что с ее по-
мощью удалось добиться в пять или шесть раз большего увеличения, чем позволял
сделать микроскоп Гука.
Микроскоп Гука.
Левенгук не раскрывал секрета изготовления линз. Он поклялся не выдавать
свой рецепт и сдержал слово, даже когда его скрытность подрывала доверие к
его достижениям. Современный комментатор, художник Дэвид Хокни, предположил,
что Левенгук использовал специальный метод для повышения четкости изображе-
ния, изменяя подсветку или подложку для образца. Именно к такой хитрости при-
бегали многие знаменитые голландские художники того времени - великие мастера
света и перспективы. Хокни также предположил, что Левенгуку помогала camera
obscura - простая коробка, позволяющая с помощью системы зеркал проецировать
очень четкое изображение с большим увеличением, примерно как проектор слай-
дов . Впоследствии именно это приспособление использовали братья Огюст и Луи
Люмьер для создания первого кинопроектора.
Высокое качество изображения в микроскопе Левенгука в какой-то степени объ-
яснялось тем, что в нем была лишь одна линза. Самая серьезная проблема слож-
ных микроскопов, таких как микроскоп Гука, заключалась в том, что каждая до-
полнительная линза снижала четкость изображения - это явление называется хро-
матической аберрацией. А у микроскопа Левенгука, имевшего одну очень мощную
линзу, такой проблемы не возникало.
По этой причине Левенгук смог увидеть то, чего до него не видел ни один че-
ловек . Сначала он стал рассматривать такие же простые предметы, как были опи-
саны у Гука, но обнаружил невероятно мелкие детали на жале, челюстях и даже
глазах пчелы, которые Гук разглядеть не сумел. Он сообщил о своих наблюдениях
некоторым знакомым, включая Ренье де Граафа - натурфилософа, врача и одного
из изобретателей иглы для подкожных инъекций, который познакомил Левенгука с
известным лондонским натурфилософом Генри Ольденбургом. В последующие годы
Левенгук завоевал репутацию лучшего в мире микроскописта, и Ольденбург был
одним из тех, кто способствовал признанию Левенгука в научном мире.
Генри (Генрих) Ольденбург был немцем из Бремена. Он приехал в Англию как
дипломат, но потом женился на дочери влиятельного священника и остался навсе-
гда. Он был очень увлечен наукой и относился к числу нескольких натурфилосо-
фов, создавших неформальное объединение при лондонском Грешем-колледже. Позд-
нее они назвали свою организацию Оксфордским философским клубом. В 1662 г.,
возможно, потому что французский двор поддерживал конкурирующую организацию
натурфилософов под названием Академия Монтмора14, Оксфордский клуб получил
одобрение короля Карла II и стал именоваться Лондонским королевским обществом
по улучшению естественных знаний. Больше известное как Королевское общество,
оно вскоре стало ведущей научной организацией в мире и сохраняло это положе-
ние вплоть до XX в.
Первым президентом Королевского общества был математик Уильям Браункер. Ро-
берт Гук был назначен куратором экспериментов, а Ольденбург стал первым сек-
ретарем, но выполнял свою функцию недолго. В 1667 г. он был арестован и за-
ключен в лондонский Тауэр. Его обвинили в шпионаже в связи с письмом, которое
он отправил во Францию своему другу, тоже натурфилософу, описывая ситуацию в
городе. В Лондоне в ту пору царила невероятная ксенофобия. Голландский флот
угрожал Англии вторжением, и впервые в жизни лондонцы слышали у своих берегов
звуки пушечных выстрелов, доносившиеся с иностранных кораблей. Кроме того, в
городе произошла серьезная вспышка бубонной чумы, последняя в истории Лондо-
на. За два года болезнь унесла 100 тысяч жизней. В дополнение ко всему за год
до этого чудовищный пожар уничтожил около 80 % городских домов. Город поти-
хоньку отстраивался под руководством блестящего молодого архитектора Кристо-
фера Рена - еще одного деятеля эпохи Просвещения, родившегося в 1632 г.
После того как исчезла опасность голландского вторжения, Ольденбурга выпус-
тили на свободу. Он написал письмо своему старому другу Роберту Бойлю, чьих
детей когда-то учил, с просьбой восстановить его членство в Королевском обще-
стве, обещая сделать «все возможное, чтобы принести пользу нации». Большинст-
во членов общества приветствовали его возвращение, но некоторое недоверие к
нему все же сохранилось до конца его жизни. Многие англичане, даже знавшие
его по Королевскому обществу, не были уверены в его лояльности. Позднее и Ро-
берт Гук, известный мнительностью и выраженным национализмом, подозревал Оль-
денбурга в сговоре с французами.
И все же Ольденбург сыграл важнейшую роль в превращении Королевского обще-
ства в крупнейший в мире центр научной мысли. Благодаря обширной переписке с
натуралистами всего мира, он стал связующим звеном между многими деятелями
эпохи Просвещения. Он получал невероятное количество писем. Впрочем, после
Академия Монтмора - объединение французских натурфилософов и экспериментаторов,
ставшее впоследствии Французской Академией наук; названо по имени своего основателя
Анри-Луи де Монтмора (ок. 1600-1679). - Прим. пер.
ареста он стал осторожнее и просил своих корреспондентов отправлять письма на
имя «Mr. Grubendol» (анаграмма фамилии Oldenburg).
Первой важной работой, опубликованной Королевским обществом, стала «Микро-
графия» . Сначала предполагалось, что работу выполнит Кристофер Рен, который
был не только замечательным архитектором, но и ученым, но, сославшись на не-
хватку времени, Рен перепоручил написание книги Гуку. Благодаря финансовой
помощи короля, Королевское общество начало выпускать журнал Philosophical
Transactions («Философские труды»). Его первым редактором был Ольденбург, и
за короткое время журнал стал авторитетным, известным в мире научным изданием
и сохранял этот статус на протяжении следующих 200 лет.
Многие из первых выпусков журнала были посвящены микроскопическим исследо-
ваниям. В 1673 г. журнал опубликовал письмо врача из Делфта Ренье де Граафа,
который писал о «без сомнения, невероятно изобретательном человеке по имени
Левенгук», который «создал микроскопы, намного превосходящие те, что сущест-
вовали до сих пор». Это заявление было воспринято скептически, ведь до этого
момента о Левенгуке никто не слышал. Голландский государственный деятель и
поэт Константин Гюйгенс, чей сын Христиан впоследствии стал знаменитым мате-
матиком и астрономом, сообщил, что Левенгук «не имел образования ни в науке,
ни в языках, но отличался чрезвычайной любознательностью и усердием».
По настоянию де Граафа Левенгук написал первое письмо Ольденбургу. В нем
сразу проявились подкупающая откровенность и простота выражений, служившие
отличием всей его дальнейшей переписки. Левенгук писал: «У меня нет стиля или
писательской способности, чтобы правильно формулировать мысли». «Кроме меня,
в нашем городе нет философов, которые владели бы этим искусством». И указал
на важную особенность своего характера, которая так и сохранилась у него на
всю жизнь, несмотря на пришедшие к нему позднее славу и успех: «Я не испыты-
ваю радости от возражений или комментариев со стороны окружающих».
В письме содержалось несколько наблюдений о пчелином жале и о вшах, которые
можно было сделать только с помощью очень мощного микроскопа - с большим раз-
решением, чем у микроскопа Гука. В письме также было несколько простых рисун-
ков . Левенгук не обладал таким даром художника, как Гук, и никогда серьезно
не пытался рисовать. Позднее он пользовался услугами местных художников. Ино-
гда он показывал им простой набросок, сделанный несколькими штрихами на бума-
ге во время работы. Насколько известно, он никогда не позволял художникам са-
мим взглянуть в микроскоп - это принизило бы его роль интерпретатора микро-
скопического мира, к которому он один имел доступ на протяжении многих лет.
Первое сообщение Левенгука было встречено скептически. Недоверие усилива-
лось еще и по той причине, что он был простым галантерейщиком. Тем не менее,
Ольденбург опубликовал отредактированную версию письма в Philosophical
Transactions, добавив от себя слегка насмешливый комментарий. Безусловно, пи-
сал Ольденбург, они еще услышат об этом Левенгуке, «который продолжит сооб-
щать о новых наблюдениях, чтобы еще лучше продемонстрировать удивительные
свойства своих стекол». Очевидно, Ольденбург предлагал голландцу доказать,
что тот может видеть все то, о чем говорит.
И Левенгук сделал это. На протяжении следующих 40 лет он отправил в ведущие
научные общества и журналы около 560 писем, сообщающих об удивительных науч-
ных наблюдениях. Все эти письма были написаны в том же разговорном стиле с
подробнейшим изложением простейших деталей, но содержали поразительную науч-
ную информацию. Однако Левенгук за всю жизнь не написал ни одной книги или
даже того, что можно было бы назвать научной статьей. Вероятно, он так и не
выработал пригодный для публикаций стиль письма, поскольку не мог читать ино-
странные журналы, в которых издавались его труды. Из всех языков он владел
только голландским.
Большая часть писем Левенгука была адресована Королевскому обществу, и мож-
но сказать, Генри Ольденбург стал его личным переводчиком и редактором. За-
бавно, что Левенгук стольким обязан какому-то немцу. Он немцев не любил и,
когда высказывался о них, имел обыкновение отворачиваться и добавлять: «О,
это просто животные!» До самой смерти в 1677 г. Ольденбург старательно редак-
тировал все сообщения Левенгука, многие из которых были адресованы «мистеру
Грюбендолю».
В XVII в. большинство людей не верили в существование того, что нельзя уви-
деть невооруженным глазом. Многие утверждения Левенгука поначалу отвергались
даже самыми образованными людьми. Гораздо страшнее для него были насмешки.
Некоторые насмешливые комментарии были сделаны английским сатириком Джоната-
ном Свифтом, любившим посмеяться над учеными. Вот, например, какую пародию
сочинил Свифт по поводу обнаружения Левенгуком паразитов блох:
Натуралистами открыты
У паразитов паразиты,
И произвел переполох
Тот факт, что блохи есть у блох.
И обнаружил микроскоп,
Что на клопе бывает клоп,
Питающийся паразитом,
На нем другой, ad infinitum15.
Ничто не могло предсказать той степени недоверия, с которой было встречено
первое великое открытие Левенгука - открытие микроскопического мира в озерной
воде. Это был один из поворотных моментов в истории науки. Никто другой до
сих пор не видел этих маленьких существ, которых впоследствии назвали про-
стейшими и бактериями. И до конца столетия никто так и не смог их увидеть без
помощи Левенгука. Он был первым человеком, разглядевшим одноклеточный орга-
низм. За это открытие он навсегда вошел в историю науки как отец микробиоло-
гии. Левенгук назвал этих крошечных существ «анимакулами» - маленькими живот-
ными. Он подсчитал, что в его образце озерной воды их были миллионы.
Левенгук поначалу не хотел никому сообщать о своем открытии. Прошло больше
года, прежде чем он описал «анимакулов» в письме Ольденбургу. Левенгук пред-
положил, как выяснилось, вполне справедливо, что ему не поверят. В XVII в.
большинство людей не могли себе представить, что такие малюсенькие существа
есть на самом деле. Многие предполагали, что это очевидное безумие. И их по-
дозрения подкреплялись тем, что Левенгук никому не позволял заглянуть в мик-
роскоп , с помощью которого можно было бы увидеть то, что видел он. Только в
самые последние годы жизни, когда его слава стала привлекать высокопоставлен-
ных посетителей, включая членов королевской семьи, он подарил несколько своих
микроскопов. И даже тогда люди жаловались, что через эти микроскопы было вид-
но не так хорошо, как у Левенгука дома.
Левенгук никому не давал пользоваться своими микроскопами, поэтому члены
Королевского общества решили, что сами поедут к Левенгуку. Несколько высоко-
поставленных британских и голландских священников отправились в Делфт и под-
твердили наблюдения Левенгука. За несколько лет его репутация в научном мире
необыкновенно возросла. В 1680 г. галантерейщик из Делфта стал полноправным
членом Королевского общества. Однако он никогда не присутствовал на заседани-
ях общества и даже не был на церемонии, посвященной его собственному избра-
нию.
Через четыре года после обнаружения микроскопических существ в озерной воде
Левенгук сделал еще одно важнейшее открытие. Исследуя собственную слюну, он
Пер. С. Маршака.
решил рассмотреть еще и налет на зубах, который описал как «белое вещество,
плотное, как тесто». В нем он тоже обнаружил «анимакулов» - мелких существ
вытянутой формы, напоминавших крошечных угрей. По его подсчетам, в образце
зубного камня размером «не больше сотой доли песчинки» он обнаружил тысячу
таких существ.
Он стал разглядывать под микроскопом зубной налет всех желающих. Во рту од-
ного старика, который «за всю жизнь ни разу не чистил зубы», «анимакулы» про-
сто кишмя кишели. А у другого старика, «зубы которого были совершенно испор-
чены», он ничего не обнаружил и вполне справедливо заключил, что это могло
объясняться тем, что этот человек был насквозь пропитан вином и бренди. В од-
ном из самых известных писем, адресованных Лондонскому Королевскому обществу,
Левенгук писал, что «всего в Нидерландах проживает меньше людей, чем живых
существ у меня во рту». Он задавался вопросом, не будет ли известие об обна-
ружении этих существ слишком неприятным для тех, у кого они есть.
Это открытие было одним из величайших достижений Левенгука. Он первым обна-
ружил одноклеточных существ, а теперь открыл бактерий - одну из старейших
форм жизни, источник многочисленных болезней и инфекций. Однако тогда еще ни-
кто не понимал истинного значения этого открытия, которое через 200 лет при-
вело к революции в медицине.
Во времена Левенгука людей гораздо больше интересовало происхождение «ани-
макулов». Было выдвинуто предположение, что микробы зарождаются самопроиз-
вольно, но Левенгук думал иначе. В 1668 г. была опубликована книга Франческо
Реди «Опыты по происхождению насекомых», которая оказала серьезное влияние на
Левенгука. Он был убежден, что Реди прав и что все формы жизни происходят из
яйца. В некоторых его ранних письмах содержалась скрытая критика идеи спон-
танного зарождения. «Это просто невозможно, - писал Левенгук в 1686 г., -
чтобы вошь или блоха появились на свет без размножения, как и лошадь, или
вол, или любое другое животное, просто из распадающейся и разлагающейся кучи
экскрементов».
Многие исследования Левенгука были связаны с предметами, описанными в книге
«Опыты по происхождению насекомых». То, что Реди доказал опытным путем, Ле-
венгук продемонстрировал с помощью увеличительных стекол своих микроскопов. И
теперь любой мог совершенно отчетливо разглядеть яйца вшей, блох и любых дру-
гих животных, которые, как думали раньше, не выводятся из яиц и не имеют ро-
дителей .
Но, подтвердив, казалось бы, правоту Реди, Левенгук поставил перед учеными
новый вопрос, ответить на который оказалось еще сложнее. Да, действительно,
насекомые выводятся из яиц, но откуда берутся крохотные «анимакулы»? Никто не
мог утверждать, что видел их яйца.
Мысль о том, что «анимакулы» Левенгука могут вступать в сексуальные отноше-
ния, большинству людей казалась смехотворной. Гораздо более вероятным объяс-
нением было спонтанное зарождение, но Левенгук был настроен скептически. Он
настаивал на том, что крохотные существа размножаются тем же способом, что и
большинство других существ, и даже убедил самого себя, что видел их в процес-
се совокупления.
Позиция Левенгука в натурфилософии была такой же, как позиция Аристотеля.
Он был наблюдателем, а не экспериментатором, как Реди, но по мере того, как к
нему приходила слава, он убеждался в справедливости своих знаний и был готов
развивать собственные теории. Для ответа на вопрос о способе воспроизводства
«анимакулов» он решил сделать то, чего практически никогда не делал, - поста-
вить эксперимент.
Это был простой эксперимент. Левенгук взял пару стеклянных пробирок и за-
полнил их дождевой водой и молотым перцем - в этой смеси он всегда находил
множество микроскопических существ. Он нагрел обе пробирки, поскольку знал по
опыту, что это должно убить все живое, а затем с помощью пламени полностью
запаял одну из пробирок. По его мнению, без воздуха никакой жизни в запаянной
пробирке зародиться не могло. Через два дня он проанализировал содержимое
пробирок. Как и ожидалось, в открытой пробирке вновь возникли микроорганизмы.
Но, когда он вскрыл вторую пробирку, к собственному изумлению, он обнаружил
их и там. Простейшее объяснение заключалось в том, что существа в запаянной
пробирке возникли путем спонтанного зарождения.
Однако Левенгук никогда не согласился с этим простейшим объяснением. Хотя
он досконально изложил свои результаты в письме Королевскому обществу, он не
понимал, как их интерпретировать, и просто продолжал делать опыты.
В 1698 г. один из величайших монархов мира, русский царь Петр Великий, при-
был в Нидерланды, чтобы проинспектировать военную мощь своих союзников. Его
провезли по каналам от Гааги до Делфта, откуда он отправил одного из двух
адъютантов домой к Левенгуку, чтобы пригласить его к себе. Адъютант объяснил
ученому, что Петр и сам пришел бы к Левенгуку, но не любит толпу. Левенгук
прибыл на корабль и был приятно поражен тем, что царь прекрасно говорил по-
голландски. Он привез монарху подарок - микроскоп, на котором был закреплен
угорь, так что можно было наблюдать в нем циркуляцию крови. Царь был восхи-
щен. А Левенгук позднее рассказывал знакомым, что беседа была довольно скуч-
ной.
К этому времени Левенгук уже был одной из самых крупных мировых знаменито-
стей . Он обнаружил множество микроскопических существ. Он стал первым челове-
ком, разглядевшим сперматозоиды в семенной жидкости, и одним из первых, на-
блюдавших циркуляцию крови по капиллярам, что описал очень подробно. Он опи-
сал даже одноклеточных существ. В 1692 г. в обзоре, посвященном состоянию
микробиологии, Гук сокрушался, что вся эта сфера деятельности «принадлежит
одному человеку, а именно мистеру Левенгуку; и кроме него я не слышал ни о
ком, кто использовал бы инструмент, кроме как для времяпрепровождения и за-
бав» .
Левенгук постоянно нуждался в похвале. До последних лет жизни он жаловался
тем, кто готов был его выслушивать, на недостаток внимания, с которым люди
отнеслись к его первым и самым значительным открытиям. Он работал до старости
и поддерживал переписку с членами Королевского общества и с другими людьми,
но даже в этих письмах чувствовалась горечь, давно неоправданная. Он часто
представлял списки «доказательств», подтверждавших самые банальные наблюде-
ния , хотя его репутация давно утвердилась.
В 1723 г. у Левенгука участились приступы удушья. Он описал свое состояние
в серии писем Королевскому обществу. Он уже ослеп на один глаз, но все еще
сопровождал письма результатами микроскопических исследований срезов тканей
овцы или быка. Врачи связывали приступы удушья с болезнью сердца, но Левенгук
считал этот диагноз ошибочным. И доктора, действительно, ошибались. У Левен-
гука было редкое заболевание диафрагмы, называемое Myonuclonus respiratorius,
которое позднее стали называть синдромом ван Левенгука.
Друг Левенгука перевел два его последних письма, адресованных Королевскому
обществу, на латынь. Письма эти были чрезвычайно мрачными. Левенгуку было
почти 90 лет, он знал, что умирает, и описывал ситуацию с медицинской точки
зрения. В одном из писем он рассказывал о своем состоянии, длившемся три дня,
когда «желудок и кишечник перестали делать свою обычную работу, так что я был
уверен, что стою на пороге смерти».
Здоровье Левенгука ухудшалось. Он умер в августе 1723 г. и был похоронен на
кладбище в Делфте, рядом с одним из выдающихся деятелей в истории Нидерландов
- теологом Гуго Гроцием, идеи которого легли в основу движений методистов и
пятидесятников.
Самое ценное свое достояние Левенгук завещал Королевскому обществу: краси-
вый черный лакированный ящик, содержавший 26 серебряных микроскопов с закреп-
ленными на них образцами - как в популярном в те времена «кабинете курьезов».
Принявший этот дар клерк добросовестно переписал все содержимое ящика почти
поэтическим языком: глаз комара <...> тельца крови, объясняющие ее красный цвет
<...> сосуды чайного листа <...> орган зрения мухи. Посылка сопровождалась пись-
мом друга ученого, в котором тот просил Королевское общество написать словеч-
ко дочери Левенгука Марии, «барышне с безупречной репутацией, которая предпо-
чла замужеству одинокую жизнь, чтобы продолжить служение своему отцу». В 1739
г. Мария ван Левенгук поставила на могиле отца небольшой памятник, а через
шесть лет она была похоронена рядом с ним. Она так никогда и не вышла замуж.
Антони ван Левенгук вошел в историю в качестве основателя множества научных
дисциплин и направлений, самая важная из которых - микробиология16. Его дос-
тижения кажутся еще более удивительными, потому что этот человек был простым
торговцем. После его открытий мир стал намного шире и наполнился самыми раз-
нообразными микроскопическими организмами, о существовании которых до Левен-
гука никто даже не подозревал.
Его деятельность сыграла чрезвычайно важную роль в формировании наших пред-
ставлений о происхождении жизни. Левенгук был кальвинистом и глубоко верующим
человеком. Для него жизнь была результатом работы Творца. В то время так счи-
тали почти все, и эта точка зрения не противоречила гипотезе спонтанного за-
рождения жизни. Однако принятие идей Франческо Реди заставило Левенгука усом-
ниться в возможности спонтанного зарождения. В результате эксперименты Левен-
гука положили начало новым и еще более напряженным спорам, занимавшим умы ве-
личайших европейских мыслителей вплоть до конца XIX в. , - спорам о возможно-
сти самозарождения микробной жизни. На протяжении 200 лет многие самые круп-
ные ученые мира думали над тем, как объяснить результаты экспериментов по
спонтанному зарождению, поставленных Левенгуком и другими учеными. Вскоре
этот вопрос приобрел религиозный характер: возник спор между теми, кто верил
в божественное происхождение мира, и теми, кто считал, что жизнь есть порож-
дение самой природы.
Глава 4.
Лаборатория
атеизма
Лучше уж верить басням о богах, чем
покоряться судьбе, выдуманной физи-
ками. Басни дают надежду умилости-
вить богов почитанием, в судьбе же
заключена неумолимая неизбежность.
Эпикур, 300 г. до н. э.
Первого июля 1766 г. в маленьком французском городке Абвиль молодого чело-
века по имени Жан-Франсуа де л а Барр вывели из тюремной камеры и перевели в
камеру пыток, где его ноги втиснули в «испанский сапог». На протяжении часа
тюремщики методично кромсали стопы и голени де ла Барра, а потом, по некото-
рым свидетельствам, вырвали ему язык. После пыток тело погрузили на телегу,
которая отвезла де ла Барра к месту казни. На шею ему накинули веревку с таб-
личкой, на которой было написано: «нечестивец, святотатец и мерзкий богохуль-
16 По данным опроса голландской службы новостей, почти через 400 лет после своей
смерти Левенгук занял четвертое место в списке самых выдающихся деятелей в истории
Нидерландов, опередив Рембрандта и ван Гога. - Прим. авт.
ник» .
Юноша происходил из знатного рода (он был потомком Жозефа-Антуана де ла
Барра, бывшего управляющего французскими колониями в Северной Америке), по-
этому его не повесили, а отрубили голову. Тело бросили в костер вместе с най-
денным дома у де ла Барра томиком «Философского словаря», в котором ставилось
под сомнение существование чудес и вера в буквальную истинность библейских
сказаний. Золу от костра сбросили в реку Сомму.
В это время автор «Словаря» находился в своем поместье около Женевы и зани-
мал выжидательную позицию. Это был парадоксальный человек. С одной стороны,
когда речь шла о его собственной безопасности, он был тщеславен, самовлюблен
и малодушен. Он уже побывал в Бастилии и пережил две ссылки, в одну из кото-
рых был отправлен за поэму, в которой писал, что Адам и Ева никогда не мы-
лись . И у него не было ни малейшего желания повторить этот опыт. С другой
стороны, это был дерзкий и страстный сторонник реформ, враг несправедливости
и невежества. Он попытался использовать свое влияние, чтобы предотвратить
казнь де ла Барра, а влияние это было значительным, поскольку писателей с та-
ким талантом в то время было немного. Благодаря яркому интеллекту он был од-
ним из самых известных людей в мире и, безусловно, самым знаменитым писате-
лем. Его звали Франсуа-Мари Аруэ, но большинству людей он известен под псев-
донимом Вольтер.
«Словарь» Вольтера - больше, чем то, что мы сегодня назвали бы энциклопеди-
ей, это сборник статей на самые разные темы. Эта литературная форма была то-
гда чрезвычайно популярна, она вошла в моду после выхода «Исторического и
критического словаря», написанного в Голландии человеком, которого Вольтер
назвал «величайшим из когда-либо писавших мастеров искусства размышления».
Это был французский интеллектуал Пьер Бейль. «Словарь» Бейля, как и «Словарь»
Вольтера, - чрезвычайно противоречивое сочинение. Бейль был гугенотом (фран-
цузским кальвинистом). Из-за религиозных распрей во Франции он бежал в сво-
бодную Голландию, где мог развивать свои радикальные мысли относительно рели-
гиозной терпимости и скептицизма. И хотя Бейль всегда заявлял, что сохранил
религиозную веру, из его книги следовало, что ни один разумный человек не мо-
жет верить библейским историям. Критики называли его безбожником, и некоторые
почитатели тоже. Распространение сочинений Бейля во Франции привело к аресту
его отца (кальвинистского священника) и брата, который впоследствии умер в
тюрьме.
В XVIII в. «Словарь» Бейля был самой читаемой книгой по философии. Преди-
словие к последнему изданию написал сам Вольтер. «Словарь» оказал чрезвычайно
сильное влияние на интеллектуальные круги, способствуя формированию выдающих-
ся деятелей эпохи Просвещения. Томас Джефферсон считал, что эту книгу следует
включить в число 100 первых книг для Библиотеки Конгресса. Вскоре книги тако-
го рода заполонили издательства, причем каждая следующая казалась радикальней
предыдущих. Многие из них ставили под сомнение религиозные догмы, а некоторые
- существование Бога, хотя это было чрезвычайно и даже смертельно опасно. В
1757 г. в условиях реакции, установившейся после неудавшейся попытки убийства
короля Людовика XV, французский парламент принял свод репрессивных мер, вклю-
чая смертную казнь, для всех, кто «сочиняет и печатает антирелигиозные произ-
ведения» .
Никто не осознавал степени риска лучше Вольтера. Как он писал однажды:
«опасно быть правым, когда правительство ошибается». Был в его жизни период,
когда опасности его вдохновляли и, возможно, он их даже искал, но на момент
В вину де ла Барру вменялось то, что он не снял головной убор при приближении ре-
лигиозной процессии; кроме того, его подозревали в осквернении распятия в городе Аб-
виль. - Прим. пер.
казни де ла Барра Вольтеру был 71 год. Он был еще физически крепок и быстр
умом (что, как он любил повторять, объяснялось периодическими голоданиями),
выпивал по 30 чашек кофе в день и не слушал советов докторов. Однако годы
сделали его осторожным.
Вольтер анонимно опубликовал «Философский словарь» в Женеве в 1764 г., вос-
пользовавшись услугами издателя, специализировавшегося на выпуске запрещенных
книг. В городе было много таких издателей, имевших широкие связи и отправляв-
ших свой товар в разные страны. Они же печатали и слащавые любовные романы,
которые в те времена считались эротикой. Книги этих двух типов отлично прода-
вались , издатели относили их к разряду «философских книг».
В авторстве «Философского словаря» никто не сомневался. Вольтер славился
тем, что не умел хранить секретов, особенно когда речь шла о таких проектах,
в которые он вкладывал много сил. Написанию этой книги он посвятил 12 лет. Он
считал ее делом своей жизни, сборником всей своей жизненной мудрости и итогом
своей философской деятельности. Однако, когда книгу запретили, а ее экземпля-
ры сожгли на площадях многих французских городов, Вольтер только пожал плеча-
ми и сделал вид, что его это не волнует - с писателем могут случиться и более
неприятные вещи.
Вольтер позаботился о том, чтобы изложить самые дискуссионные вопросы, осо-
бенно касающиеся христианства, в стиле «репортажа», как будто он просто пере-
давал мнение других людей. На самом деле, его личные взгляды на религию часто
бывали еще более резкими. В письме королю Пруссии Фридриху Великому, с кото-
рым Вольтер состоял в длительной переписке, он однажды назвал христианство
«самой смешной, самой абсурдной и кровавой религией из тех, что когда-либо
заражали мир». Неправильно было бы сказать, что Вольтер не верил в Бога: он
не верил в действующего Бога. «Не самый ли это большой абсурд среди всех не-
лепостей, - писал он в «Словаре», - представить себе, что Бесконечный Всевыш-
ний должен на пользу трем или четырем сотням муравьев на этом маленьком клоч-
ке земли мешать действию гигантского механизма, который движет Вселенной?»
Казнь де ла Барра вызвала всеобщее возмущение, но постепенно дело забылось,
и Вольтер начал сочинять серию памфлетов на основании своего труда о чудесах.
Они привлекли внимание одного школьного учителя, находившегося в то время в
Женеве, который взялся опубликовать ответ. С чрезвычайной серьезностью, кон-
трастировавшей с цветистой риторикой и выраженным сарказмом Вольтера, школь-
ный учитель писал о том, что мир действительно существует по установленным
Богом законам, но иногда Богу приходится вмешиваться. «Чудеса, - писал он, -
совершенно понятны и правдоподобны для верующего христианина».
Ничто так легко не приводило Вольтера в ярость, как критика, и никогда ни
один критик не оставался без ответа. Для Вольтера этот выпад был сродни бро-
шенной перчатке. «Держать перо - все равно, что воевать», - часто повторял
он. И теперь он ощущал себя на войне. Как будто он вложил в один аргумент все
дело де ла Барра. Его почерк стал более четким, как бывало всегда, когда он
злился. Буквы стали более различимыми. Начался горячий обмен памфлетами.
Подобные споры не были редкостью в XVIII в. Часто участники споров сохраня-
ли анонимность, но после четвертого письма Вольтер установил личность своего
оппонента - это был английский католический священник Джон Тербервилл Нидхем.
Он воплощал в себе все то, что так ненавидел Вольтер: церковь, ханжество,
суеверия. Вольтер считал его простаком.
Возможно, Нидхем был наивен. Он верил в добрые качества человека и порой
ошибался, но простаком не был. Нидхем был вполне сложившимся натурфилософом,
специалистом по микроскопии и одним из лучших экспериментаторов своего време-
ни. Он стал знаменит благодаря научным исследованиям в области происхождения
жизни. Его статьи публиковались в самых известных научных журналах, и он был
первым католическим священником, ставшим членом Королевского общества. И, са-
мое главное, Нидхем был одним из виднейших в мире специалистов в области
спонтанного зарождения жизни.
Постепенно дебаты Нидхема и Вольтера переместились в область натурфилосо-
фии. На протяжении 14 лет, до самой смерти, Вольтер писал по поводу естест-
венных наук больше, чем за все предыдущие годы. Его доводы по поводу чудес
переросли в размышления о природе самой жизни и ее возникновении. Часто эти
рассуждения несли на себе отпечаток глубоких религиозных разногласий той эпо-
хи. Доводы Вольтера стали первыми аргументами в споре между религией и нау-
кой, верой и разумом, который в той или иной форме продолжался еще два с по-
ловиной столетия.
В этом споре случались и неожиданные повороты. Каждый участник оказывался в
незнакомой для себя роли. Вольтер, однажды заявивший, что «каждый думающий
человек <...> должен ненавидеть христианскую секту», превратился в защитника
веры в высшие силы. Веривший в чудеса католический священник Нидхем, сам того
не желая, представил научные доказательства устройства мира, подхваченные
атеистами. Вольтер, один из самых ироничных людей в истории человечества,
умер, так и не осознав этого поворота событий. В то время как Нидхем продол-
жал жить и видел, что сделал, и это его мучило.
Джон Нидхем был англичанином и католиком в то время, когда исповедовать ка-
толицизм в Англии было опасно. В 1688 г. последний католический король Яков
II был смещен парламентом, а его место занял протестант Вильгельм III Оран-
ский, внук Вильгельма I (Молчаливого) из Делфта и один из глав государств,
которые в свое время посещали Левенгука и заглядывали в его микроскопы. Вос-
шествие на трон Вильгельма III Оранского вызвало несколько восстаний католи-
ков (так называемые восстания якобитов), которые были жестоко подавлены.
Нидхем был мелким британским аристократом из старинного рода, расколовшего-
ся из-за религиозных разногласий. Отец Нидхема, глава католической ветви се-
мьи, был в ужасе от развития событий в стране и решил послать своего младшего
сына во Францию, в город Дуэ, расположенный чуть южнее Лилля, где была орга-
низована школа для детей английских католиков, бежавших от преследований в
собственной стране. Официально школа считалась семинарией, однако она вполне
могла конкурировать с лучшими университетами Европы. В этой школе Нидхем бы-
стро стал восходящей звездой и завоевал репутацию блестящего экспериментатора
и натурфилософа. Многие из его учителей считали его даже более образованным,
чем они сами. Наконец, Нидхем был возведен в духовный сан, однако решил по-
святить жизнь научным исследованиям. Он предпочел светскую карьеру священника
возможности совершать религиозные службы. Он поочередно занимал несколько
преподавательских постов, включая преподавание в Английском университете в
Лиссабоне, но примерно через год оставил это занятие. Нидхем был болезненным
человеком, чрезвычайно бледным, с тонкими и женственными чертами. Он говорил
друзьям, что жаркий климат Португалии ему не подходит.
Вскоре после возвращения в Лондон он заинтересовался микробиологией, кото-
рую находил чрезвычайно увлекательной. За год он сделал важное открытие, по-
влиявшее на всю его дальнейшую жизнь. Изучая под микроскопом пораженные бо-
лезнью зерна пшеницы, он обнаружил что-то необычное - тонкие белесые волокна,
которые он никогда раньше не видел. Нидхем подумал, что они могут быть связа-
ны с болезнью пшеницы, и решил посмотреть, что будет, если поместить их в во-
ду. К его изумлению, волокна вскоре покрылись микроскопическими существами.
Через год Нидхем вернулся к изучению той же партии пшеницы и повторил свой
эксперимент. И вновь в воде появились живые существа (Нидхем, как и Левенгук,
называл их «угрями»), как будто вода их реанимировала. В 1745 г. Нидхем опуб-
ликовал эти данные в Philosophical Transactions, воздержавшись, однако, от
каких-либо однозначных выводов, просто сообщив о своих наблюдениях. Еще через
год в журнале были опубликованы его наблюдения о том, как маленькие «угри»
возникали просто из смеси воды и муки.
Статьи Нидхема были переведены и впоследствии опубликованы в Париже, где
ими заинтересовался Жорж-Луи Леклерк, граф де Бюффон, инспектор Королевских
садов Людовика XIV. Бюффон был эрудитом, блестяще разбиравшимся в самых раз-
ных областях науки и одним из самых одаренных математиков своего времени. Он
нашел решение одной очень старой задачи в области геометрической вероятности,
определив математическую вероятность того, что падающая с некоторой высоты
игла приземлится на одну из начерченных на плоскости линий. Задача получила
название «задача Бюффона о бросании иглы». Однако наибольший след исследова-
тель оставил в науках о жизни.
В молодости ничто не предвещало будущих успехов Бюффона: в университете он
был весьма посредственным учеником. Вскоре после получения диплома юриста
Бюффон участвовал в дуэли и был вынужден на несколько лет уехать за границу.
Однако он вернулся в Париж в благоприятный момент. Во Франции пересматривали
состояние морского флота, и был нужен человек, способный оценить пригодность
различных типов древесины для строительства судов. К этому времени у Бюффона
появилось несколько влиятельных друзей, и эту задачу поручили ему. Руководив-
ший работами министр был настолько впечатлен способностями Бюффона, что после
завершения работ ему предложили престижную должность управляющего Королевски-
ми садами.
Бюффон значительно расширил размер садов и поднял их престиж, превратив
весьма скромное собрание лекарственных растений в ботаническую коллекцию ми-
рового уровня, открыл музей и зоопарк, а также привлек к работе нескольких
лучших ботаников Франции. Примерно в то время, когда Нидхем начал изучать
пшеницу, Бюффон готовился составить опись всего содержимого садов. Он взялся
за эту работу с удовольствием. В его руках обычная инвентаризация преврати-
лась в проект по написанию словаря по типу «Словаря» Бейля, но только полно-
стью посвященного натурфилософии. А к разряду «натурфилософии» Бюффон относил
практически все, что люди знали о живой природе.
К этой теме относился и один неразрешенный вопрос - о происхождении жизни.
Это был слишком важный вопрос, чтобы оставить его без внимания, но Бюффона не
удовлетворяли господствовавшие тогда теории. Когда он прочитал об опытах Нид-
хема, он подумал, что этот англичанин обнаружил что-то интересное, хотя сам
Нидхем не совсем понимал значение своих наблюдений. Бюффон решил, что Нидхем
был как раз тем человеком, который может попытаться разрешить загадку проис-
хождения жизни.
В XVII в. большинство натурфилософов считали, что все живущие на нашей пла-
нете организмы существовали всегда, с момента возникновения Земли. Каждое су-
щество - будь то собака, птица, человек или червяк - было создано Богом в
форме некоего «зародыша». Эти «зародыши» были чем-то вроде семян растений,
разбросанных Творцом по поверхности планеты, как посеянные садовником семена
будущих растений. «Зародыши», по-видимому, были очень мелкими, так что их
нельзя было увидеть даже с помощью микроскопа, и в каждом из них содержались
еще более мелкие «зародыши» каждого последующего поколения существ данного
вида. Все они были вложены друг в друга, как матрешки. Людям было трудно по-
нять такую бесконечность. Однако один из самых влиятельных сторонников этой
теории, французский философ Николя Мальбранш, считал, что верить в «зародыши»
не сложнее, чем верить в жизненный цикл растении «Можно сказать, что в од-
ной яблочной косточке, - писал он, - заключаются яблони, яблоки и яблочные
Хотя сам Мальбранш не мог этого понять, его концепция предвосхитила идею генети-
ческого наследования. В этом смысле, информация, необходимая для создания потенци-
ально бесконечного ряда поколений яблонь, действительно содержится в одном яблочном
семечке. - Прим. авт.
косточки для бесконечного или почти бесконечного числа столетий».
Одни ученые считали, что «зародыши» человека содержатся в мужском семени,
другие полагали, что их источником являются женские яйцеклетки. Во Франции
для описания этой идеи использовали термин «воплощение», в Англии говорили о
«преформировании». И это не было лишь предположением - сторонники идеи «пре-
формирования» видели ее подтверждения повсюду. Превращение гусеницы в бабочку
рассматривалось как демонстрация божественного плана. Многослойную луковицу
тюльпана считали ключом к разгадке бесконечной смены поколений тюльпанов. В
малюсенькой икринке лягушки ученые пытались разглядеть будущие поколения ля-
гушек, ожидавшие своей очереди. У сторонников идеи «преформирования» не было
недостатка в доказательствах.
На самом деле, это старая идея, но в конце XVII в. она вновь набрала силу в
трудах одного из самых выдающихся мыслителей того времени - Рене Декарта. Его
вклад в развитие естественных наук заключается в применении принципа дедукции
к изучению мира, функционирование которого, по его мнению, напоминало функ-
ционирование машины. Этот механистический взгляд на мир Декарт изложил в тру-
де, который, как он надеялся, должен был стать серьезным трактатом по физио-
логии. Однако наиболее важный элемент загадки жизни - акт творения - Декарту
не удавалось разгадать до последних лет жизни. В конечном итоге, он остано-
вился на физической теории зарождения жизни, однако не смог проработать все
детали. Идея заключалась в перемешивании спермы, которую, как считали в то
время, производили не только мужчины, но и женщины. После перемешивания спер-
мы в матке происходило что-то вроде ферментации. «Если мы знаем состав семени
животного определенного вида, например, человека, - писал Декарт в 1648 г. в
трактате «Об образовании животного» (опубликован посмертно), - из него одного
по точным математическим законам мы можем вывести целую фигуру и сложение».
Он сравнивал организм с «часами, созданными из определенного набора шестере-
нок , чтобы показывать время».
Сторонники идеи «преформирования» считали, что за первичный акт Творения
отвечал один лишь Бог. По мнению Декарта «виновницей» всего была только мате-
рия. Несмотря на это его концепцию механического управления природой и небе-
сами можно было принять, не разрушая господствующую религиозную догму, - так
и случилось. Однако люди не могли согласиться с тем, что жизнь человека тоже
поддерживается исключительно этой гигантской машиной - это был рубеж, пере-
шагнуть через который осмеливались лишь немногие. Совершавших этот шаг могли
обвинить в материализме (вере в то, что мир функционирует без вмешательства
Творца) или даже атеизме. Общепринятую точку зрения сформулировал французский
писатель Бернар де Фонтенель: «Вы говорите, что живые существа - такие же ма-
шины, как часы? Поместите рядом машину-собаку мужского рода и машину-собаку
женского рода, и в какой-то момент у вас появится третья маленькая машинка,
тогда как двое часов всю жизнь пролежат рядом, не произведя третьих часов»19.
Когда Бюффон взялся за трактат по естествознанию, идея «преформирования»
была еще весьма популярна даже среди большинства натурфилософов. Однако Бюф-
фон в нее не верил. Он был материалистом и видел мир так же, как его видел
19 По мере изучения функционирования живых существ в XVIII в. даже сторонникам «пре-
формирования» становилось все сложнее отрицать картезианскую точку зрения. Натура-
лист из Женевы Шарль Бонне повторил слова Декарта, когда написал, что «даже тончай-
шие фибриллы можно представить как бесконечно маленькие и независимо действующие Ма-
шины. И, следовательно, вся Великая Машина целиком является результатом объединения
невероятного числа "машинок", действие которых согласовано». Такое представление
устройства жизни (машины, состоящие из более мелких машин) не лишено смысла и в XXI
в. , однако сам Бонне оставался верным сторонником идеи «преформирования». - Прим.
авт.
Декарт. Все в природе, включая происхождение живых существ, можно объяснить
естественными процессами, а «преформирование», по мнению Бюффона, было лишь
гипотезой. Он чувствовал, что версия Декарта ближе к реальности, в то же вре-
мя понимал, что в ней не хватает множества деталей. И тут Бюффон узнал о двух
открытиях, которые, как ему показалось, могли бы пролить свет на зарождение
живых существ.
Первое было сделано в 1741 г. в береговой части Голландии. Двое ребят одна-
жды утром гуляли в парке в имении своего отца. В пруду они обнаружили висев-
ших в воде странных зеленоватых существ полсантиметра длиной. Мальчики помес-
тили их в банку, принесли домой и показали своему наставнику, шведскому нату-
ралисту Аврааму Трамбле. Было непонятно, являются эти существа растениями или
животными, но, чем бы они ни были, казалось, что они очень-очень медленно
двигаются. Проходили недели, и Трамбле все больше убеждался, что эти существа
действительно движутся, всего на несколько сантиметров за день, и решил, что
это животные.
Поначалу Трамбле подумал, что открыл совершенно новый вид организмов, но
это было не так: этих маленьких существ раньше идентифицировал Левенгук, на-
звавший их «полипами», а мы теперь называем гидрами. Существа эти были, по
меньшей мере, странными. Под микроскопом они выглядели как нечто среднее меж-
ду улиткой, осьминогом и растением. Пытаясь лучше понять их строение, Трамбле
разрезал одно такое существо пополам и был потрясен, обнаружив, что обе поло-
винки продолжали жить. Он подумал, что стал свидетелем такого же явления, как
отрастание нового хвоста у ящерицы. Но затем произошло нечто еще более любо-
пытное . Каждая половинка полипа постепенно начала доращивать утраченную часть
туловища, и две половинки стали двумя отдельными существами20.
Трамбле отправил отчет о своих исследованиях и образец пресноводного полипа
известному парижскому натуралисту Рене-Антуану Фершо де Реомюру, который
скептически относился к идее «преформирования» и написал важную статью о ре-
генерации клешней у речных раков. Реомюр повторил эксперимент Трамбле, разде-
лив присланный ему образец на части. И он, в свою очередь, с удивлением на-
блюдал, как из кусочков разрезанного существа появлялись новые организмы. «Я
с трудом верил своим глазам, - писал он позже. - И так и не привык к этому
зрелищу, хотя наблюдал его сотни и сотни раз». Когда через некоторое время он
продемонстрировал этот эксперимент в Парижской академии наук, в официальном
отчете данный процесс сравнили с «историей Феникса, возрождающегося из пеп-
ла», а свидетелей призвали вывести собственные заключения «относительно заро-
ждения животных <...> и, возможно, о более высоких материях».
Бюффон заключил, что жизнь устроена сложнее, чем предполагали сторонники
идеи «преформирования». Способность пресноводной гидры расщепляться на два
независимых организма, по его мнению, не имела отношения к «преформированию».
Он начал искать другие объяснения возникновения живых организмов и нашел воз-
можное решение в экспериментах Нидхема с оживавшими в воде «угрями», которые,
казалось бы, возрождали идею спонтанного зарождения. Бюффон решил, что необ-
ходимо провести дополнительные исследования. В своей книге он не побоялся за-
тронуть важнейший вопрос относительно возникновения жизни. Если ответ на этот
вопрос неизвестен, он сам попытается его найти. Бюффон написал Нидхему в Лон-
дон и пригласил приехать к нему в Париж для проведения экспериментов.
Нидхем прибыл в Париж весной 1748 г. Дом Бюффона оказался гораздо более
роскошным, чем предполагал Нидхем. Его хозяин был очень состоятельным челове-
В 1998 г. биолог Даниэль Мартинес обнаружил еще один интересный факт, касающийся
полипов Трамбле: эти существа не имеют возраста, поскольку их стволовые клетки спо-
собны регенерировать бесконечно. В отличие от большинства животных, гидра теоретиче-
ски бессмертна. - Прим. авт.
ком. Дворянский титул достался Бюффонам при покупке французской деревни Бюф-
фон, а раньше это была семья государственных служащих. И самому Бюффону пред-
стояла карьера чиновника, однако, он унаследовал состояние от бездетного дя-
дюшки, служившего сборщиком налогов на Сицилии, когда остров находился под
властью Франции. В руках имевшего политические связи и математически одарен-
ного Бюффона это состояние разрослось в неимоверной степени.
Лабораторию для Нидхема Бюффон обустроил в богато украшенной комнате, в
центре которой стоял обеденный стол с искусной резьбой, разделенный велико-
лепной ширмой. Здесь поместили микроскопы, которые по просьбе Бюффона Нидхем
привез с собой. Вокруг стола расставили кресла, чтобы гости могли наблюдать
за работой двух ученых.
Больше в работе двух ученых не было никаких излишеств. Бюффон обычно рабо-
тал по 14 часов в день, даже когда в старости стало сдавать здоровье. В пери-
од своей «большой инвентаризации» он каждый день платил слуге золотую крону
только за то, чтобы тот разбудил его в пять часов утра. Он жил под девизом
«не теряй времени» и ждал того же от окружающих. Порой, когда Бюффон выполнял
обязанности управляющего Королевскими садами или корпел над книгой, Нидхем
работал один, а иногда они трудились бок о бок. Ученые анализировали репро-
дуктивные органы собак, кроликов, баранов. Под микроскопом Нидхема они рас-
сматривали семенную жидкость самых разных существ, даже человека, зарисовывая
репродуктивные процессы и пытаясь найти ключ к пониманию загадки происхожде-
ния жизни. Они изучали также и «анимакулов», что особенно занимало Нидхема и
в чем у него был наиболее богатый опыт. Они повторяли и совершенствовали опы-
ты с пшеницей, надеясь найти дополнительные доказательства спонтанного зарож-
дения жизни.
Нидхем начал экспериментировать с мясным соком из баранины, в котором, как
он знал, иногда можно обнаружить огромное множество микроскопических существ.
Он брал образцы сока и помещал их в стеклянные пробирки, которые закрывал
пробкой и заливал смолой, чтобы предотвратить проникновение воздуха. Затем
пробирки прогревали. Все это делалось для того, чтобы избежать загрязнения
содержимого: в пробирках не должно было оказаться живых яиц, и туда не должен
был проникнуть невидимый глазом микроб.
Нидхем был практически убежден, что в этой среде яйца выжить не могли. Ни-
что не могло выжить. Он оставлял пробирки на недели, а потом открывал их.
«Мои пузырьки полны жизни, - писал он позднее, - и микроскопических животных
самых разных размеров - от самых крупных до самых маленьких». Опыт повторяли
со множеством разных веществ. И каждый раз результат был тот же. Сначала Нид-
хем обнаружил микроскопические частицы, которые назвал «атомами». День ото
дня «атомы» росли, начинали слипаться друг с другом и в конечном итоге через
несколько недель становились «настоящими микроскопическими животными, столь
часто наблюдаемыми натуралистами». По сути, это было повторением эксперимента
Левенгука, и с тем же результатом, который когда-то так озадачил великого
голландца. Нидхем и Бюффон пришли к мнению, что они наблюдают появление живо-
го из неживого - акт спонтанного зарождения жизни.
Нидхем опубликовал результаты этой работы в Philosophical Transactions в
1748 г. , за несколько лет до того, как Бюффон опубликовал результаты их со-
вместной работы в своей книге. За это время Нидхем продвинулся значительно
дальше. Он стал гораздо более уверенным в себе и справедливости теорий, кото-
рые развивал и оттачивал под пристальным вниманием Бюффона. Он не стеснялся
делать выводы, повлиявшие на направление развития натурфилософии. Спонтанное
зарождение, как утверждал Нидхем, не является способом размножения некоторых
существ. Именно так воспроизводятся все без исключения существа. Чем были, к
примеру, сперматозоиды, которые он видел под микроскопом, как не малюсенькими
«анимакулами»? Он был уверен, что именно из этого, а не из «преформированных
зародышей» возникает жизнь. Он открыл «вегетативную силу», которая была «еди-
ным общим принципом, источником всего, своеобразным универсальным семенем».
Кроме того, Нидхем добавил еще кое-что, не относившееся к области науки. Он
утверждал, что обнаруженное им «универсальное семя» является доказательством
существования «Всезнающего и Всемогущего Существа, давшего природе ее исход-
ную силу и теперь управляющего ею». Однако не все смотрели на мир так же.
Через год после публикации статьи Нидхема в Philosophical Transactions в
книжных магазинах Парижа начали появляться первые тома книги Бюффона - ре-
зультат его «инвентаризации». Они вышли под заглавием «Всеобщая и частная ес-
тественная история» и были распроданы за несколько недель. Издатели не успе-
вали удовлетворять читательский спрос. К моменту окончания работы труд Бюффо-
на составлял 36 томов и содержал великолепные иллюстрации, в том числе изо-
бражение Бюффона и Нидхема за работой в лаборатории, полученное гальваниче-
ским методом.
Во втором томе Бюффон изложил собственную теорию устройства жизни, в соот-
ветствии с которой все организмы состояли из «органических молекул», опреде-
ляющих жизненный цикл от рождения до смерти. Для Бюффона, как и для Декарта,
жизнь не имела принципиальных отличий от любых других природных явлений.
«Жизнь и движение, - писал он, - являются не метафизическим свойством сущест-
вования , а физическим свойством материи».
Бюффон считал, что «органические молекулы» продолжают существовать даже по-
сле смерти организма, переносясь по воздуху до тех пор, пока не соединятся с
другими «молекулами», которые могут серьезно отличаться от своих предшествен-
ников . Именно так он объяснял различия между видами организмов, на которые
стали обращать внимание многие натурфилософы. Конечно, его теория не была
точной, но для того времени она была превосходной и могла послужить неплохой
основой для возникновения теории Дарвина. По мнению Бюффона, даже различия
между человеческими расами объяснялись теми же процессами. Адам и Ева были
людьми европеоидной расы, а те их потомки, которых он относил к низшим расам,
по его мнению, сформировались в условиях более «слабой» среды21. Столетие
спустя подобные воззрения казались бы жестокими, но во времена Бюффона, когда
многие воспринимали людей разных рас как представителей разных видов, они бы-
ли скорее прогрессивными.
В «Естественной истории» Бюффон сделал еще один важный шаг, имевший истори-
ческие последствия. Появление потомства он стал называть словом «репродукция»
(воспроизводство), тогда как раньше его называли «производством» (формирова-
нием) . Термин «репродукция» впервые использовал Рене Реомюр, описывая такие
процессы, как регенерация полипов Трамбле, однако Бюффон применил это слово
для описания не только регенерации, но и обычного процесса появления потомст-
ва. В то время как «производство» подразумевало прорастание семян, разбросан-
ных божественной силой, под «репродукцией» понималась репликация, хотя и не-
точная. Вскоре после этого многие натурфилософы стали рассуждать о биологиче-
ских процессах в терминах преемственности, в терминах нисходящих линий орга-
низмов .
Томас Джефферсон был одним из тех людей, на которых «Естественная история» оказа-
ла очень серьезное влияние. Однако будущий президент Соединенных Штатов был обеспо-
коен характеристикой, которую Бюффон дал дикой природе Америки, по мнению которого,
болотистая местность относилась к разряду «слабых» сред. Самую длинную главу своей
единственной книги «Записки о штате Виргиния» Джефферсон посвятил опровержению этого
утверждения Бюффона. В 1785 г. , когда Джефферсон приезжал в Париж, он нашел время,
чтобы пообедать у Бюффона дома. Ему удалось повлиять на французского натуралиста,
который удалил все упоминания о «слабости» американских животных из последующих ти-
ражей «Естественной истории». - Прим. авт.
Вольтер впервые прочел «Естественную историю» в Женеве в 1767 г., вскоре
после того, как идентифицировал Нидхема в качестве своего оппонента по вопро-
су о чудесах. Он обратил внимание на частое повторение слова «химера» в книге
Бюффона и оставил на полях книги злобные пометки. Там, где Бюффон описывал
работу Нидхема, Вольтер написал: «Нидхем видел, воображал и говорил только
глупости».
В молодости Вольтер и Бюффон были друзьями, но к моменту выхода «Естествен-
ной истории» Вольтер относился к Бюффону с осторожностью. Инспектор Королев-
ских садов был в очень близких отношениях с человеком, которого Вольтер счи-
тал своим личным врагом, - с блестящим натурфилософом Пьер-Луи Мопертюи. Чи-
тая книгу Бюффона, Вольтер во всем чувствовал его влияние, особенно в теории
Бюффона относительно устройства жизни.
Вражда Вольтера с Мопертюи была односторонней и личной. Когда-то они тоже
были друзьями. Оба восхищались работами Исаака Ньютона, чей математический
подход к объяснению природных явлений в корне изменил исследования в области
физики. В этот период французская научная общественность неохотно признавала
Ньютона, поскольку рост его международной репутации грозил ослаблением репу-
тации великого французского натурфилософа Рене Декарта. А Ньютон был англича-
нином !
Однако у Вольтера подобных предубеждений не было. Первую свою ссылку он от-
бывал в Англии, где к нему относились как к высокопоставленному лицу. Он по-
лучил пансион от английского короля Георга II, был любезно принят высшим анг-
лийским обществом, включая Джонатана Свифта, оказавшего на молодого Вольтера
значительное влияние. В письмах домой друзьям Вольтер называл Францию «вашей
страной» и отмечал «различия между их свободой и нашим рабством, между их
крепостью мысли и нашим суеверием, между поощрением всех видов искусств в
Лондоне и позорным давлением на них в Париже». Вольтер был на похоронах Нью-
тона в Вестминстерском аббатстве и прочел все, что смог найти, об этом англи-
чанине, чей математический метод произвел революцию физики.
Никто другой не повлиял так сильно на взгляды Вольтера на природу, как Нью-
тон. Вольтер стал повсюду вставлять слово «гравитация», часто просто для удо-
вольствия, там, где современный писатель употребил бы слово «серьезность»22.
Он, например, говорил, что Лондоном правит «гравитация». Мопертюи он писал,
что стал убежденным последователем Ньютона. «Чем больше я вникаю в эту фило-
софию, тем больше я ею восхищаюсь, - говорил он. - На каждом этапе мы обнару-
живаем, что вся Вселенная построена по вечным и неизбежным математическим за-
конам» .
Вскоре в отношения между Вольтером и Мопертюи вмешалась женщина. Ее звали
Эмили Ле Тоннелье де Бретей, маркиза дю Шатле. Когда между ней и Вольтером
завязались серьезные отношения, маркиза была замужней дамой, матерью, имела
троих детей и слыла одной из самых блестящих женщин в обществе. И это в эпо-
ху, когда мало кто верил в интеллектуальные способности женщин. Образование
она получила самостоятельно, посещая еженедельные семинары, которые устраива-
ли самые известные писатели и ученые в доме ее отца, королевского секретаря.
С самого детства она необыкновенно много читала. Позднее стала регулярно по-
сещать заседания Французской академии наук, где быстро сумела распознать ге-
ний Ньютона, хотя очень многие лекторы его не признавали. Вольтер всю жизнь
высмеивал любовь, но каждому было видно, что он без ума от маркизы - ее ин-
теллект мог соперничать с его собственным, а может быть, даже превосходил
его. Он говорил друзьям, что встретил «своего Ньютона». Она же говорила, что
они останутся вместе навсегда.
Английское слово «gravity» (от фр. gravite) означает и серьезность, и силу грави-
тации. - Прим. пер.
В 1734 г. во Франции, наконец, был опубликован подхалимский отчет Вольтера
о его первом изгнании, проведенном в Англии, в котором он сравнивал две стра-
ны и находил, что Франция проигрывает Англии практически во всех отношениях.
Публикация этого труда вызвала волну возмущения в Париже, и Вольтер покинул
столицу и поселился в загородном имении Сире, принадлежавшем мужу маркизы дю
Шатле. Вскоре туда приехала и маркиза. Имение находилось в живописной леси-
стой местности в Шампани, где римляне когда-то плавили железо. Если бы власти
решили арестовать Вольтера, в лесу можно было скрыться. Кроме того, имение
находилось недалеко от границы - на случай, если бы пришлось бежать.
Вольтер и маркиза дю Шатле вдвоем собрали гигантскую библиотеку из 21 тыся-
чи томов по натурфилософии. Вдвоем они устроили импровизированную лаборато-
рию, где проводили дни за экспериментами, большинство из которых, по-
видимому, были связаны с интересом Вольтера к природе огня. Соседняя комната
служила спальней мужу маркизы, который часто их навещал. Он знал об их отно-
шениях . Ему это не нравилось, но он предпочел не вмешиваться.
Двое влюбленных много писали. Маркиза дю Шатле переводила с латыни на фран-
цузский язык знаменитую книгу Ньютона «Математические начала натуральной фи-
лософии» . На сегодняшний день это единственный перевод одной из важнейших на-
учных книг, который используют до сих пор. Вольтер сочинял пьесы и коммента-
рии, а также нашел время для написания книги «Элементы философии Ньютона», в
которой излагал теории великого мыслителя понятным для простых людей языком.
Эта книга способствовала принятию идей Ньютона во Франции и популяризировала
его великое открытие через историю с падением яблока.
Спустя время Вольтер и маркиза дю Шатле расстались. Каждый нашел себе ново-
го любовника, а в 1749 г. маркиза умерла после родов ребенка от поэта Жана-
Франсуа де Сен-Ламбера. В письме к Фридриху, теперь уже королю Пруссии, Воль-
тер писал, что дю Шатле была «великим человеком, единственный недостаток ко-
торого заключался в том, что он был женщиной».
На протяжении их связи высокомерного Вольтера не покидала мысль, что в их
паре блестящим ученым была дю Шатле, а не он. По-видимому, именно она написа-
ла какие-то из трудов Вольтера о Ньютоне, возможно, большинство из них. Мар-
киза понимала Ньютона на таком уровне, который был недоступен для Вольтера.
Хуже всего было то, что в жизни дю Шатле уже существовал мужчина, равный ей в
научном плане, - Мопертюи. Она знала его с юных лет, когда он был ее учите-
лем , и любила его.
Нет никаких доказательств, что Мопертюи отвечал дю Шатле взаимностью, но
Вольтер так и не смог побороть ревность. В 1736 г. в Сире начинают прибывать
письма от Мопертюи «с полюса», находившегося в Лапландии, где ученый занимал-
ся измерением земного меридиана, чтобы определить точную форму Земли. В то
время многие считали, что Земля имеет слегка вытянутую форму и растянута на
полюсах, но Мопертюи пытался доказать предположение Ньютона, что Земля, на-
против , немного сплюснута у полюсов. Исследователь вернулся из экспедиции как
национальный герой и возглавил Французскую академию наук. Вольтер, не состо-
явший в академии наук, решил серьезно заняться физикой. Оценить свои способ-
ности он попросил друга - математика и астронома Алекси Клеро, известного
своей прямотой. Клеро не был поражен успехами Вольтера и посоветовал ему вер-
нуться к литературе.
В 1750 г., вскоре после смерти маркизы дю Шатле, Вольтер приехал в Берлин,
где правил Фридрих Великий. Король назначил своему старому другу щедрый пан-
сион в 20 тыс. франков, но и здесь Вольтер почувствовал себя обойденным Мо-
пертюи, который за несколько лет до этого возглавил Прусскую королевскую ака-
демию наук и руководил одновременно аналогичной организацией в Париже. Именно
тогда Вольтер написал первые сатирические стихи о Мопертюи, озаглавленные
«История доктора Акакия и уроженца Сен-Мало» Фридрих велел книгу сжечь, а
Вольтера на короткое время даже засадил в тюрьму. Позднее вышла книга, в ко-
торой говорилось то, о чем знали все, кто бывал при дворе короля Пруссии, но
о чем никто не осмеливался сказать вслух: Фридрих был гомосексуалистом24. По-
говаривали, что автором книги был Вольтер, и после этого их отношения с Фрид-
рихом стали натянутыми. Позднее, в последние годы жизни Вольтера, они прими-
рились .
Именно от Мопертюи Вольтер впервые узнал о Джоне Нидхеме. В 1752 г. Мопер-
тюи опубликовал серию писем с изложением своих мыслей по ряду научных вопро-
сов . Одно из них было посвящено происхождению жизни и отсылало к «Естествен-
ной истории» Бюффона и статьям Нидхема в Philosophical Transactions. Мопертюи
описывал эксперимент Нидхема и «маленького угря», который «был похож на ма-
ленькую рыбку», а «если высыхал и оставался безжизненным на протяжении не-
скольких лет, всегда был готов ожить при возвращении в свою среду». Однако
Мопертюи представил наблюдение Нидхема иным образом. «Не погружает ли все
это, - продолжал он, - тайну происхождения жизни в еще большую темноту, чем
та, из которой мы пытались ее извлечь?» Вывод был ясен, по крайней мере, для
Вольтера. По его мнению, Мопертюи, как и большинство французских интеллектуа-
лов его круга, вновь поднимал вопрос о существовании Творца.
Вольтер (слева) и Джон Нидхем.
Вольтер с презрением ответил на письма Мопертюи. Он написал еще одно сати-
рическое произведение «Памятное заседание» (Seance memorable), представлявшее
собой пародию на жизнь в Берлине: Мопертюи председательствовал на роскошном
В Берлине Вольтер сочинил еще и короткую историю о гигантском инопланетянине рос-
том 120 тыс. футов по имени Микромегас, чем-то напоминавшего Гулливера Свифта, с той
лишь разницей, что Микромегас путешествовал от планеты к планете с помощью законов
гравитации. Землю он нашел населенной «дураками, жуликами и никчемными людишками».
Один философ рассказал ему о «100 тыс. безумцев нашего вида в шляпах, убивающих 100
тыс. других животных в тюрбанах». Эту повесть, названную по имени главного героя,
многие считают первым произведением в жанре научной фантастики.
24 Будучи подростком, Фридрих безуспешно пытался покинуть прусский двор в компании
Ганса Германа фон Катте, который, возможно, был его любовником. Жестокосердный ко-
роль заставил сына наблюдать за тем, как фон Катте отрубили голову. Потом Фридриха
женили, но виделись они с королевой лишь раз в году на официальных встречах. - Прим.
авт.
обеде, где подавали «великолепный паштет из находящихся в животе друг1 у друга
угрей, внезапно народившихся из разведенной муки», и «рыбу, возникшую из про-
росших зерен пшеницы». В тот момент Вольтер все еще мох1 считать научные увле-
чения Мопертюи смешными, но вскоре понял их опасность.
К тому времени, когда Вольтер начал вести переписку с Нидхемом, он был ста-
реющим философом, идеи которого уже не казались столь радикальными в изменив-
шейся французской интеллектуальной среде. Он прожил долгую жизнь, и мир, ка-
залось, начал потихоньку забывать о нем. На фоне усиливающихся призывов к
республиканской или даже демократической форме правления его идея о благе
просвещенной монархии устарела. Его религиозные взгляды, когда-то столь про-
вокационные, теперь выглядели банальными. В годы его молодости те, кто ставил
под сомнение религиозные догмы, были малочисленны и осторожны. Их противники
практически не видели разницы между атеистами, деистами и теми, кто был между
ними. Более того, часто такого разграничения не делали и сами приверженцы
атеизма или деизма. Теперь все изменилось. Люди были смелее, а те, кто назы-
вал себя атеистами, стали гораздо более дерзкими.
Религиозные взгляды Вольтера, как и его мнение по многим другим вопросам,
иногда были субъективными и часто противоречивыми. Неизменной, по существу,
оставалась только ненависть к суевериям. Временами его доказательства сущест-
вования Бога были весьма утилитарными. Он боялся, что в мире, где нет высшего
существа, нет и морали, нет понятий добра и зла. «Если бы Бога не существова-
ло, - писал он, - его следовало бы придумать»25. Вольтер любил ссылаться на
самого себя, тем самым повышая собственную значимость. Данная фраза относи-
лась к числу его любимых высказываний.
Была и другая причина, по которой Вольтер защищал Бога перед лицом открыто-
го неверия: он действительно считал природу результатом божьего промысла. В
«Словаре» он высмеивал представление о «действующем Боге», но он и в самом
деле верил в создавшего весь мир Творца, которого называл «Высшей бесконечно-
стью» . Горы стоят там, где их установил Бог. Они никогда не двигались, как
утверждали некоторые натурфилософы, включая Бюффона. То же самое относилось к
морям и лесам. Окаменелости не были остатками давно вымерших существ, как
предполагали некоторые. Они ничего не могут рассказать ни о мире, в котором
мы живем, ни о том, что было раньше.
Мир устроен слишком сложно, чтобы возникнуть случайным образом. Все, что
нас окружает, было тщательно продумано. Природа имеет свои законы, но эти за-
коны - часть плана Творца, результат «разумного замысла» (именно так в один
прекрасный день стала называться эта концепция). Взгляды Вольтера на устрой-
ство мироздания во многом совпадали со взглядами другого деиста - Ньютона. В
книге о Ньютоне, созданной в Сире, Вольтер писал следующее: «Если я исследую,
с одной стороны, человека или шелковичного червя, а с другой стороны, птицу
или рыбу, я вижу, что все они сформированы изначально». Возможно, мир и есть
машина (часы), как предположил Декарт, но он всегда был такой машиной. Он был
таким с самого начала, полностью оформленным, готовым. «Часы, - утверждал
Вольтер, - предполагают наличие часовщика». Если он ненавидел организованную
религию, то не в меньшей степени ненавидел и атеизм.
По мере того как Вольтер знакомился с идеями Мопертюи, Нидхема и Бюффона,
он, как ему казалось, начинал разбираться в них лучше, чем их авторы. Вольтер
видел этих трех людей опасной кликой, идеи которой толкают к материализму, а
Смысл данного высказывания Вольтера несколько меняется, если рассматривать его в
исходном контексте. В «Послании к автору новой книги о трех самозванцах» (1769 г.)
Вольтер пишет: «Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Que le sage
l'annonce, et que les rois le craignent» (Если бы бога не существовало, его следова-
ло бы придумать. Пусть мудрый говорит о нем, а короли боятся) . - Прим. пер.
тот неизбежно ведет к атеизму. Суть первых пяти писем Вольтера Нидхему по по-
воду чудес сводилась примерно к следующему: «Вы создали себе некую репутацию
среди атеистов, произведя угрей из муки и сделав вывод, что, если мука произ-
водит угрей, все животные, начиная с человека, должны были появиться тем же
способом <...> из куска земли, как из теста». В следующих письмах тон Вольтера
становится более жестким. Он называет Нидхема торговцем угрями (1'Anguillard)
и «ирландским иезуитом». Последнее прозвище должно было казаться Вольтеру са-
мым чудовищным оскорблением, поскольку он был воспитан иезуитами и ненавидел
их, а ирландцев считал безнадежно одураченными суевериями. Микроскоп Нидхема
он называл «лабораторией атеистов». Нидхем, как любой уважающий себя англича-
нин, попытался игнорировать прозвища, но обвинение в атеизме отрицать было
сложнее. Тем более что оно, как выяснилось, полностью подтверждается на стра-
ницах книги, потрясшей всю Францию.
В середине XVIII в. жизнь деятелей Просвещения в Париже вертелась вокруг
одного дома, который называли «Отелем философов», «Синагогой» или «Булочной».
Последнее объяснялось тем, что одним из наиболее радикально настроенных посе-
тителей дома был Николя Буланже (от фр. la boulangerie - булочная). Этот фи-
лософ написал чудовищную книгу, в которой предположил, что все религии воз-
никли в ответ на крупнейшие природные катастрофы, произошедшие на ранних эта-
пах развития человечества. Люди стали верить в сверхъестественные явления
просто из страха перед природой. Буланже был скептиком и мыслителем, и он
прекрасно вписывался в круг посетителей «Булочной».
Владельцем дома был барон Поль Анри Тири Гольбах, настоящее имя которого
Пауль Генрих Дитрих фон Гольбах. Этот немец с другого берега Рейна пять лет
вращался в радикально настроенных кругах Амстердама и Лондона, а затем прибыл
в Париж, где обзавелся французским именем и французской женой. Как и Бюффон,
еще один частый гость в «Булочной», Гольбах стал невероятно богат благодаря
наследству, полученному от дяди, которому он был обязан и дворянским титулом.
На окраине города он приобрел большое поместье, завел собственного священника
и держал его еще долгие годы после того, как перестал верить в Бога. Внешние
атрибуты и статус значили для него чрезвычайно много.
«Булочная» всегда была для Гольбаха центром мира, как и для очень многих
интеллектуалов, часто его посещавших. Дважды в неделю Гольбах устраивал рос-
кошные обеды для друзей. Говорили, что здесь подают лучшую в городе еду. В
разное время здесь бывали Дэвид Юм, Адам Смит и Бенджамин Франклин. Близким
другом и частым гостем Гольбаха был молодой и блестящий математик Дени Дидро.
В свое время здесь гостил и Жан-Жак Руссо. Гольбах написал несколько статей
для «Энциклопедии» Дидро и, возможно, был прототипом де Вольмара в самом из-
вестном романе Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». Все члены этого круга были ра-
дикалами. Некоторые, возможно, были настроены так же радикально, как Гольбах,
но дерзких, как он сам, было мало.
В первые годы жизни в Париже Гольбах оставался деистом, и его взгляды во
многом совпадали со взглядами Вольтера. Однако к 1760-м гг. он стал пламенным
атеистом, провозглашавшим свое неверие с жаром вновь обращенного. Некоторые
считали, что он поддался влиянию своего близкого друга и соавтора Дидро, но
вокруг было немало людей с такими же взглядами. Гольбаха отличало то, что он
мог рисковать. В 1761 г. он опубликовал книгу под названием «Разоблаченное
христианство» - резкий выпад против идеи Бога. Автором работы значился скеп-
тик Николя Антуан Буланже, старый друг Гольбаха, умерший до выхода книги. Ис-
пользуя имя Буланже, Гольбах, кроме всего прочего, отдавал дань дому, где
развивались его идеи.
Это была ужасная книга. Литературный стиль Гольбаха был примитивным, высо-
копарным и тяжелым для восприятия. Дидро говорил, что в нем не было ни капли
искусства. Однако невероятная смелость автора придавала книге определенную
мощь, а отсутствие цветистой риторики обеспечивало доступ к широкой аудито-
рии, что забавно, поскольку Гольбах был снобом, принадлежал к элите и с пре-
зрением относился к демократии и тем, кого называл «тупой чернью». Книга на-
шла своего читателя, несмотря на то, что тех, кому удалось ее приобрести, из-
бивали, клеймили и сажали в тюрьму. Вполне отдавая себе отчет о возможных по-
следствиях, Гольбах предпринял исключительные меры предосторожности, чтобы
сохранить в секрете свою причастность к этом у делу, в частности, тайно ездил
в Лондон для встречи с издателем из Амстердама Марком-Мишелем Реем, известно-
го публикациями самых опасных книг, включая некоторые сочинения Вольтера.
Позднее вышло еще несколько атеистических книг, самая знаменитая из которых
была опубликована в 1770 г. - «Система природы, или О законах мира физическо-
го и мира духовного» Гольбаха. Это была попытка представить четкую картину
мироустройства и ответить на экзистенциальные вопросы, не прибегая к сверхъ-
естественным объяснениям. Как и в «Манифесте Коммунистической партии» Карла
Маркса, главная идея книги была определена на первых строчках: «Люди всегда
будут заблуждаться, если станут пренебрегать опытом ради порожденных вообра-
жением систем. Человек - произведение природы, он существует в природе, под-
чинен ее законам»26. Души не существует, настаивал Гольбах. Бог является про-
сто антропоморфическим объяснением вещей, которых люди не могли понять.
Во второй главе Гольбах обратился к вопросу о происхождении жизни. В каче-
стве доказательства того, что жизнь может возникать самопроизвольно за счет
физических процессов, и что живые существа могут возникать из неживой мате-
рии, он привел эксперименты Нидхема. В сноске он предложил читателю «ознако-
миться с микроскопическими наблюдениями г-на Нидхема» и ставил вопрос, «явля-
ется ли создание человека из обычных материй менее вероятным, чем создание
насекомого из муки и воды».
Публикация книги вызвала скандал. Вольтер назвал ее «великой моральной бо-
лезнью, работой тьмы», корень которой заключается в единственной мысли - что
живое может возникать из неживого. В письме другу он писал, что Гольбах «по-
строил целую систему на ложном эксперименте, выполненном ирландским иезуитом,
которого по ошибке приняли за философа». Вольтер называл эксперимент Нидхема
«историей угрей» и считал его креационистским мифом атеизма. Кроме всего про-
чего, он стал обвинять Нидхема в том, что тот считает себя Иисусом Христом.
Однако Нидхема «Система природы» огорчила не меньше. «Мир в ужасе отшатнул-
ся перед оскорблениями, брошенными в адрес его Создателя», - писал он. Ссылка
на его работы была личным оскорблением, но, осуждая книгу, он не отрекся от
своих результатов, не поколебался в собственных научных убеждениях и продол-
жал утверждать, что их просто неверно интерпретировали. Нидхем получил из-
вестность как активный сторонник идеи спонтанного зарождения. В этой связи он
был признан в Королевском обществе и других кругах натурфилософов, что сдела-
ло его знаменитым. Он не мог отступить, хотя уже сбывалось предсказание Воль-
тера, считавшего, что микроскоп Нидхема служит «лабораторией атеистов».
Вскоре Вольтер получил новые козыри в противостоянии с Нидхемом - экспери-
ментальные данные, полученные итальянским профессором Ладзаро Спалланцани.
Между Нидхемом и Спалланцани было много общего: оба являлись священниками,
избравшими научную стезю и снискавшими славу в качестве экспериментаторов.
Спалланцани был первым человеком, осуществившим оплодотворение in vitro (в
стекле). Сделал он это на лягушачьей икре. Кроме того, Спалланцани осеменил
пуделя с помощью спермы, взятой от другой собаки. В то время считали, что это
первый случай искусственного оплодотворения животных, хотя, на самом деле,
арабские ученые в Средние века проделывали это с лошадьми.
В 1776 г. Спалланцани решил опровергнуть выводы Нидхема относительно воз-
26 Пер. П. Юшкевича.
можности спонтанного зарождения жизни. Он повторил эксперименты Нидхема, но
сделал это гораздо более тщательно, пытаясь найти изъян в методике. Подозре-
вая, что использованные Нидхемом пробки могли пропускать воздух, он запаял
стеклянные пробирки над огнем, чтобы закрыть их совершенно герметично. Для
экспериментов он взял множество различных веществ: белую фасоль, овес, куку-
рузу, сахарную свеклу и яичный желток. Эксперименты Спалланцани были во всех
отношениях сложнее экспериментов Нидхема, для того времени это был редкий
пример тщательно отработанной методики. Нагревая пробирки до разной темпера-
туры, Спалланцани показал, что некоторых «анимакулов» можно уничтожить только
при очень высокой температуре, выше той, что использовал Нидхем. Двое ученых
развязали публичный спор, отразившийся в их трудах и затронувший высшие есте-
ственнонаучные круги.
Ладзаро Спалланцани.
Вольтер быстро добавил заключения Спалланцани к своим собственным. Он писал
Спалланцани льстивые письма тоном, которым обычно обращался к особам королев-
ской крови. В опубликованных трудах он называл Спалланцани «итальянским уче-
ным» , а Нидхема продолжал обзывать «ирландским иезуитом». На самом же деле,
Спалланцани был в большей степени действующим священником, чем Нидхем, и про-
водил религиозные службы. И он тоже был воспитан иезуитами. Однако для Воль-
тера все это не имело значения. На самом деле, для него не были важны даже
научные результаты. Центр доводов Вольтера по-прежнему сводился к тому, что
натуралистическое объяснение происхождения жизни ставит под вопрос саму идею
Творца. Как прекрасно понимал Вольтер, вопрос о происхождении жизни был важен
на метафизическом уровне, как никакой другой научный вопрос, поэтому он и бо-
ролся .
Вольтер продолжал непрерывные нападки на Нидхема и в последние годы жизни,
о чем можно судить по его последней книге «Диалоги Эвгемера», опубликованной
в 1777 г. В следующем году Вольтер умер в Париже, куда приехал, чтобы увидеть
на сцене трагедию Сэмуэла Джонсона «Ирена». Это был первый приезд Вольтера в
Париж после дела де ла Барра. Здесь он написал свои последние слова: «Я уми-
раю с благоговением перед Богом, любовью к друзьям, отсутствием ненависти к
врагам и отвращением к суеверию». Церковные власти в Париже отказали Вольтеру
в похоронах по христианскому обряду, но еще до того, как это решение было
принято, поклонники тайно переправили его тело в Шампань, чтобы похоронить в
аббатстве недалеко от Сире, где он жил с Эмили дю Шатле.
К моменту смерти Вольтера Нидхем стал президентом Императорской академии
Австрийских Нидерландов (территория современной Бельгии). Он был назначен на
этот пост последним правителем когда-то великой Священной Римской империи из
рода Габсбургов - императрицей Марией Терезией, которая назначила Спалланцани
ректором одного из итальянских университетов. Нидхем так никогда и не смог
полностью опровергнуть критику Вольтера. Он посвятил этому много времени и
вяло пытался объяснить, что не был ни ирландцем, ни иезуитом. Он даже пытался
отвечать на обвинения Вольтера сатирическими стихами и написал плохо замаски-
рованную пародию на Вольтера, который «вводит в заблуждение наш разум по при-
казу своего сердца», но не преуспел в писательстве, в котором так блистал
Вольтер. И все же эти сатирические стихи были опубликованы в приложении к из-
данной Нидхемом книге.
Последние опыты Нидхема были посвящены теме чудес. Среди католиков бытовало
мнение, что колокольный звон может защитить от удара молнии. Французские фи-
лософы, напротив, подсчитали, что среди людей, ежегодно погибавших от удара
молнии, крайне велика доля звонарей. Нидхем утверждал, что церковные колокола
чудесным образом все же обеспечивают некоторую степень защиты. Результаты его
экспериментов не получили широкой огласки, а те, кто услышали о них, сочли их
простым чудачеством.
В 1781 г. , за два года до смерти, Нидхем написал письмо одному благожела-
тельно настроенному французскому философу. Он почти оправдывался, объясняя
причины, подтолкнувшие его к исследованию спонтанного зарождения жизни. По
его мнению, идея «преформирования» и существование «зародышей» так и не обре-
ли реального научного подтверждения. Однако для него было совершенно очевид-
но, что в будущем натурфилософия найдет ответ на вопрос о происхождении жиз-
ни. Эксперименты Нидхема были попыткой заполнить вакуум, образовавшийся после
доказательства ошибочности идеи о «преформировании зародышей». Ему казалось,
что он примирил механистический мир Ньютона с идеей Бога-Творца.
На самом же деле Нидхем получил противоположный результат. В следующем сто-
летии вопрос о возможности спонтанного зарождения микроскопической жизни стал
основным в разгоравшихся спорах, захвативших не только узкий круг натурфило-
софов, но и общество в целом.
Глава 5.
Жизненная
сила
Ох! Да ведь все это доказано <...> прочти
книгу. В ней не с чем спорить. Пойми, все
это наука; это не такая книга, в которой
один говорит одно, а другой другое и оба
могут ошибаться. Здесь все доказано.
Бенджамин Дизраэли. Танкред, 1847 г.
Усадьба Файн Курт располагалась в малонаселенной области Кванток-Хиллз в
графстве Сомерсет, на юго-западе Англии. С вершин ближайших холмов открывался
чудесный вид на окрестности. В ясный день можно было увидеть даже холм Свято-
го Михаила с конической вершиной, который древние бритты называли Инис Авалон
(Ynys yr Afalon) , по-видимому, связывая его с мифическим островом Авалон из
легенд о короле Артуре. Однако усадьба была построена между холмов, в узкой и
очень низкой долине, и с трех сторон была скрыта густыми лесами. Как однажды
заметил посетитель, ни один нормальный архитектор не выбрал бы это место для
строительства дома, поскольку казалось, что «почва, на которой он стоял, в
один прекрасный день просто провалится».
На севере графства Сомерсет леса были вырублены при строительстве угольных
шахт, питавших паровые двигатели первой настоящей промышленной революции. Но
холмы Кванток-Хиллз остались в стороне. В лесах все еще росли необычайно вы-
сокие дубы и ели, а землю покрывали дикие травы и папоротники. По соседству
проводили лето поэты Уильям Вордсворт и Сэмюэл Тейлор Кольридж. Именно здесь
Кольридж написал две поэмы, входящие в число самых известных стихотворений на
английском языке: «Кубла-Хан, или Видение во сне» и «Поэма о старом моряке».
Однако необычайно суровой зимой 1836 г. усадьба Файн Курт походила не
столько на образец сельского английского прошлого, сколько на видение из фан-
тастического будущего. Вблизи одного из домов на верхушке каждого высокого
дерева высилось по длинному металлическому шесту, от которых, подобно рожде-
ственским гирляндам, на много десятков метров протянулись нити медной прово-
локи. Они шли от основания каждого дерева к дому и сходились в раскрытом окне
органной залы на первом этаже. Дальше проволока вилась между полками, застав-
ленными сосудами с загадочной разноцветной жидкостью, и, наконец, достигала
гигантской электрической батареи, на которую подавалось сильное напряжение,
достаточное, чтобы убить двадцать человек. На устройстве крупными буквами по-
латыни было написано: Noli Me Tangere (не трогай меня).
Хозяин дома Эндрю Кросс редко пользовался органной залой для занятий музы-
кой. Ему было 50 лет, и жил он в уединении тихой жизнью провинциального ари-
стократа. Он управлял своими землями, общался с арендаторами, которые платили
ему ренту, но основное время уделял тому, что представляло для него истинный
интерес. Кросс был известен как «ученый»: это слово в английской разговорной
речи только недавно пришло на смену слову «натурфилософ». Его главным увлече-
нием было электричество, и к этому времени у него уже была устоявшаяся репу-
тация в данной области. Из-за интереса к работе Кросса в Файн Курте побывал
даже президент Королевского общества.
С юношеских лет Кросса интересовала еще одна вещь - процесс образования
кристаллов. Он считал, что эти два предмета связаны между собой и что элек-
тричество может дать ответ на вопрос, каким образом кристаллы образуются в
природе. Он пытался получить кристаллы, пропуская электрический ток через
разные минералы, некоторые его эксперименты длились неделями. Кросс считал,
что когда-нибудь станет возможным с помощью тока получить любое вещество, да-
же золото или алмаз. Эта теория принесла ему определенную известность.
Кросс пропускает электрический ток через герметично закрытый стеклянный со-
суд, содержащий камни с Везувия, погубившего Геркуланум и Помпеи, а также
тонко помолотый песчаник и раствор карбоната калия. Вот уже две недели кряду
он с самого утра надевал бархатный халат, который всегда носил в лаборатории,
и спускался по лестнице, чтобы оценить результаты.
И вот однажды утром Кросс заметил что-то, что его заинтересовало: на по-
верхности камня он увидел малюсенькие белые пятнышки. На протяжении четырех
последующих дней он ходил смотреть на эти маленькие пятнышки и заметил, что
они растут. На четвертый день, к своему изумлению, вместо одного пятнышка он
обнаружил маленькое белое насекомое, расположившееся на поверхности жидкости.
Проходили дни, и насекомых становилось все больше. Как он с восторгом отметил
в рабочем журнале, это были «идеальные насекомые». В последующие годы экспе-
римент Кросса служил доказательством теории спонтанного зарождения жизни, на-
ряду со странными экспериментами итальянца Луиджи Гальвани, который, каза-
лось , доказал существование некоей электрической жизненной силы. На короткое
время Кросс стал одним из самых знаменитых людей во всей Британской империи,
а также предметом бесчисленных насмешек.
Траектория развития науки по форме напоминает песочные часы. До XIX в. нау-
кой занимались исключительно состоятельные интеллектуалы или те, у кого были
богатые покровители. Наука была недоступна для простых людей примерно в той
же степени, что и сейчас, когда ею занимаются почти исключительно представи-
тели образованной элиты, так называемых ученых. Однако XIX в. - удивительный
период, когда наука могла стать развлечением для любого желающего. В Велико-
британии, являвшейся центром Промышленной революции, научные вопросы обсужда-
лись в газетах, за обеденным столом и даже в пабах и радикальных политических
журналах. За 100 лет до этого немногие могли услышать об экспериментах, про-
водившихся великими умами, и еще меньшему числу людей это было бы интересно,
но в середине XIX в. практически каждый знал о последних научных изысканиях и
имел свое мнение по этому поводу.
Такая демократизация науки в значительной степени стала следствием изобре-
тения парового печатного станка. Типографское дело процветало. Цены на печат-
ную продукцию упали до исторического минимума, и издатели предвидели подъем
массового спроса на газеты и журналы. Повсюду появлялись новые издания. Одно-
временно с этим невероятно рос уровень грамотности.
Как только новость о результатах Эндрю Кросса была опубликована на страни-
цах какой-то новой местной газеты, она практически мгновенно разлетелась. Бу-
квально за одну ночь тихий и скромный человек из Брумфилда стал газетной зна-
менитостью и объектом салонных пересудов по всей Британии и даже за ее преде-
лами. Он стал человеком, «создавшим в лаборатории живое существо», причем не
какого-то невидимого микроба! Казалось, Кросс доказал гипотезу спонтанного
зарождения жизни путем создания живого, видимого существа. Этот эксперимент
положил начало острому интересу широкой общественности, он стал новостью та-
кого рода, которую газетчики могли использовать для повышения спроса на свою
продукцию.
В оценке результатов Кросса важную роль сыграли две книги. Одна из них,
чрезвычайно популярная, вышла через семь лет после его эксперимента; в ней
говорилось, что полученные Кроссом насекомые подтверждают естественное зарож-
дение жизни и ее последующую трансформацию, приведшую к возникновению более
сложных форм.
Второй книгой был роман, опубликованный примерно за 20 лет до эксперимента
Кросса и возбудивший интерес читателей к поискам новых объяснений загадки
жизни. Этот роман в дождливые дни на берегу Женевского озера сочинила молодая
девушка, и он стал одним из бессмертных произведений в жанре фантастики.
Летом 1816 г. восемнадцатилетняя Мэри Уолстонкрафт и ее будущий муж, поэт
Перси Биши Шелли, отправились в Швейцарию, чтобы навестить поэта лорда Байро-
на. Шелли рассчитывал на дружбу и покровительство знаменитого поэта. Во время
пребывания на вилле Байрона на Женевском озере компания хотела отправиться в
поход в швейцарские Альпы, однако сильные дожди не позволили реализовать этот
план. Вместо этого друзья провели вечер дома, рассказывая друг другу немецкие
сказки о приведениях. Но только Мэри и английский писатель Джон Уильям Поли-
дори решили написать на эту тему что-то свое. В 1819 г. вышла книга Полидори
«Вампир», ставшая первым литературным произведением о вампирах и бессмертной
классикой жанра. Однако книга Уолстонкрафт намного обошла ее по силе и про-
должительности влияния.
К моменту выхода книги, получившей название «Франкенштейн, или Современный
Прометей»27, Мэри Уолстонкрафт была уже Мэри Шелли. Критики возненавидели
книгу примерно с такой же силой, с какой в нее влюбились читатели. Уникаль-
ность и сила воздействия романа объяснялись его научным основанием. Доктор
Франкенштейн не просто создал монстра. Он создал живое существо из неживой
материи, живое из неживого, буквально как Эндрю Кросс несколько лет спустя. В
этом смысле книга была современным мифом о сотворении жизни, отражавшим новый
взгляд на ее законы. И этот взгляд был связан с новыми научными достижениями
и скептическим переосмыслением научных идей. Такую сказку не смогли бы сочи-
нить немецкие авторы прошлого, чьи рассказы цитировались в тот знаменательный
дождливый вечер в Швейцарии. Некоторые считают, что эта книга является первым
романом в жанре научной фантастики.
В предисловии к изданию 1831 г. Мэри Шелли рассказывала о том, как ей при-
шло в голову написать такую историю. Идея книги возникла в результате разго-
вора ее мужа и лорда Байрона об экспериментах по спонтанному зарождению жиз-
ни , которые осуществлял «доктор Дарвин». Позднее такое описание сбивало с
толку многих читателей. Мэри Шелли писала об Эразме Дарвине, деде Чарльза
Дарвина, неординарном человеке, широко известном блестящем ученом и эксцен-
тричной личности. Однажды он отказал королю Георгу III, пригласившему его на
должность королевского врача. Этот тучный и изувеченный перенесенным в детст-
ве полиомиелитом человек был отцом 14 детей от двух жен и гувернантки, скан-
дально прославился тем, что рекомендовал занятия сексом в качестве средства
от ипохондрии.
Научные взгляды Эразма Дарвина считались радикальными. А некоторым они ка-
зались просто абсурдными. Он был одним из первых сторонников теории трансму-
тации, которую позднее стали называть теорией эволюции. Он утверждал, что ви-
ды организмов подвержены постепенным превращениям, которые, в конечном итоге,
приводят к появлению новых видов и ответственны за все разнообразие жизни на
планете. Живая природа, по его мнению, формировалась в процессе трансмутации,
а изначально жизнь возникла в результате спонтанного зарождения. В свое время
Эразм Дарвин был самым известным сторонником идеи спонтанного зарождения в
англоязычном мире. Идеи эволюции и спонтанного зарождения жизни отразились
даже в его стихах. Они были четко и ясно сформулированы в последней и самой
важной работе ученого - в эпической поэме «Храм природы»:
Так без отца, без матери, одни
Возникли произвольно в эти дни
Живого праха первые комочки.
Земная жизнь в безбрежном лоне вод
Среди пещер жемчужных океана
Возникла, получила свой исход,
В предисловии к «Франкенштейну» Мэри Шелли писала о необычной погоде 1816 г., ко-
торый запомнился всем как «год без лета». Тем летом в северном полушарии было неве-
роятно холодно. В Квебеке выпало 70 см снега, в Китае погибли посевы риса, а водяные
буйволы умирали тысячами. Сильные дожди вызвали вспышку холеры в долине Ганга, кото-
рая распространилась даже до Москвы. Летние заморозки стали причиной голодных бунтов
во Франции и Англии. Вероятно, эта странная погода была вызвана мощнейшим извержени-
ем вулкана, которое произошло на острове Сумбава, на территории современной Индоне-
зии. Сила извержения вулкана Тамбора была в четыре раза больше, чем сила извержения
Кракатау, ив 800 раз по мощности превышала взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиро-
симу. В результате извержения погибло около 70 тыс. человек. Последствия этого явле-
ния были заметны даже в Лондоне, где на протяжении недель закаты солнца были ярко-
оранжевыми или пурпурными. Многие христиане видели в этом предзнаменование Армагед-
дона . - Прим. авт.
Росла и стала развиваться рано;
Сперва в мельчайших формах все росло,
Не видимых и в толстое стекло,
Которые, киша, скрывались в иле
Иль водяную массу бороздили;
Но поколенья множились, цвели,
Усилились и члены обрели;
Восстал растений мир, и средь обилья
Разнообразной жизни в ход пошли
28
Животных ноги, плавники и крылья
Подобные представления были понятны людям из окружения Мэри Шелли. Ее мир
состоял из свободных мыслителей и религиозных скептиков. Она жила в богемных
и авангардных интеллектуальных кругах, являвшихся английским эквивалентом
«Булочной», в которых было множество атеистов, активно обсуждавших тему про-
исхождения жизни. Ее муж, Перси Шелли, возможно, был первым среди самых из-
вестных атеистов того времени. Ее отец, радикальный политический философ
Уильям Голдвин, возможно, был вторым. Они, как и Гольбах, считали, что Бог1 не
принимал непосредственного участия в создании человека. Появление людей сле-
довало объяснять какими-то естественными причинами.
К тому моменту, когда в колбах Эндрю Кросса появились насекомые, люди уже
легко находили сходство между ним и сумасшедшим ученым из романа Мэри Шелли.
Оба создали жизнь в лаборатории. Кроме того, Кросс использовал в своих опытах
электричество. Шелли когда-то посетила одну из ранних лекций Кросса по элек-
тричеству, поэтому впоследствии некоторые предполагали, что именно он стал
прототипом доктора Франкенштейна. Однако это весьма маловероятно, поскольку в
период чтения лекций Кросс практически не выказывал интереса к биологии.
Аналогия между Кроссом и выдуманным ученым из романа Шелли, на самом деле,
меньше связана с самой книгой, чем с очень популярной пьесой «Франкенштейн»,
поставленной в 1823 г., где в качестве декорации фигурировал электрический
аппарат. Шелли не акцентировала внимание на методе, с помощью которого доктор
Франкенштейн оживил свое творение. Она писала, что ученый вдохнул «искру жиз-
ни в безжизненную вещь», но не употребляла в книге слово «электричество». Од-
нако в предисловии она упомянула о влиянии, которое на нее оказали экспери-
менты Луиджи Гальвани, из работ которого следовало, что люди смогут когда-
нибудь использовать электричество для создания жизни.
Гальвани был профессором анатомии в университете Болоньи и в свое время
осуществил эксперимент, казавшийся еще более странным, чем эксперимент Крос-
са. Гальвани изучал анатомию ноги лягушки и вдруг обнаружил, что при каждом
прикосновении ножницами ампутированная конечность дергалась. Он решил, что
подергивания конечности каким-то образом связаны с электрическим состоянием
атмосферы. В этом же году произошел аналогичный случай, когда при проведении
анатомирования в лаборатории работал электрический генератор. Гальвани по
природе был осторожным человеком и не делал скоропалительных выводов. «Экспе-
риментируя, так легко обмануть себя и решить, что увидел и нашел именно то,
что хотел увидеть и найти», - писал он.
Однако постепенно он пришел к мысли, что обнаружил некую жизненную силу,
которую назвал «животным электричеством». Его эксперимент получил дурную ре-
путацию главным образом из-за эффекта, произведенного его племянником Джован-
ни Альдини, который любил демонстрировать публике дядино «животное электриче-
ство» и даже показал этот фокус в Лондоне. В 1802 г. он стимулировал мышечные
сокращения в теле мертвого быка перед изумленной публикой, в числе которой
Пер. Н. Холодковского.
была жена короля Георга III Шарлотта и ее сын, будущий Георг IV. Через год,
выступая перед самыми известными лондонскими врачами, Джованни Альдини с по-
мощью электрического импульса заставил двигаться мускулы на отрубленной голо-
ве казненного преступника. Позднее он рассказывал, как «челюсть начала дро-
жать, <...> а левый глаз открылся». В конце концов, открытие его дяди стало из-
вестно столь широко, что появилось даже слово «гальванизировать», означавшее
«стимулировать» или «оживлять».
Опыт Л. Гальвани.
В каком-то смысле Гальвани был прав, но только правота его была совсем
иная, нежели он сам или кто-то другой в то время мог себе представить. Живые
клетки действительно являются миниатюрными батарейками, заряжающимися за счет
разницы потенциалов на двух сторонах окружающей их мембраны; в результате пе-
реноса ионов через мембрану эта разница потенциалов превращается в работу. У
животных изменение этого потенциала опосредует передачу нервных импульсов,
которые, в свою очередь, активируют мышцы. Именно электрический потенциал за-
ставляет работать сердце, движет конечностями и обеспечивает сознание. Идею о
том, что знаменитый эксперимент Гальвани доказывал существование некоей жиз-
ненной силы, впоследствии опроверг Алессандро Вольта, именем которого названа
единица электрического напряжения. Вольта создал первый образец электрической
батарейки, которую теперь называют электрической (или гальванической) ячей-
кой. Исследуя роль электричества в качестве источника «жизненной силы», Воль-
та заложил основы второй промышленной революции - теперь уже движимой элек-
тричеством .
Впервые об электричестве писал греческий драматург Аристофан, обнаруживший,
что, если янтарь потереть клочком шерсти, он начинает притягивать легкие
предметы, например птичьи перья. Наставник Анаксимандра Фалес заметил еще бо-
лее удивительную вещь: кусочки магнетита притягивают любые железные предметы.
Фалес попытался объяснить это наблюдение, но, как и в большинстве труднообъ-
яснимых случаев, предложил метафизическую теорию. Он решил, что магнетит име-
ет душу, обладающую определенной силой. Если бы об этом явлении писал Анакси-
мандр, возможно, он дал бы иное объяснение. Однако представления Фалеса не
сильно отличались от представлений большинства людей, живших на протяжении
двух последующих тысячелетий. Святой Августин был потрясен простым фокусом с
перемещением кусочков железа по столу с помощью спрятанного под столом куска
магнетита. Он часто рассказывал об этом эпизоде как о чуде, окончательном до-
казательстве божественной силы. Через 1000 лет ван Гельмонт без стеснения ис-
пользовал слово «магический», описывая явление магнетизма.
К XIX в. широко распространилась идея, что электричество составляет некий
скрытый компонент жизни, что вполне вписывалось в теорию витализма. Сторонни-
ки этой теории утверждали, что между живым и неживым существует непреодолимый
барьер и что живая и неживая материи в основе своей различны и несовместимы.
По их мнению, спонтанное зарождение жизни было совершенно невозможно без уча-
стия elan vital - жизненной энергии.
Витализм - старая теория. Ее корни тянутся со времен Фалеса через всю исто-
рию западной медицины, где она нашла отражение в работах таких знаменитых
врачей, как Гиппократ и Гален, которые задолго до открытия воздуха и газов
считали, что легкие работают благодаря таинственной сверхъестественной силе,
названной Фалесом pneuma (дух). Однако, как и теория «преформирования» во
времена Нидхема и Вольтера, теория витализма получила новую жизнь (можно ска-
зать, была «гальванизирована») усилиями тех, кто боялся растущего влияния ма-
териализма .
XIX в. был веком индустриализации, эпохой машин. В городах строились фабри-
ки, их трубы неустанно дымили. Сети железных дорог исчертили древние сельские
пейзажи. Все сферы жизни от архитектуры до народных традиций казалось, пере-
живали натиск быстрого прогресса, запущенного промышленной революцией. Про-
должали развиваться научные представления об устройстве Вселенной, сложившие-
ся в математически точную картину благодаря трудам Ньютона и Декарта. Граница
между живой и неживой материей начинала размываться, и многих это тревожило.
Сторонники витализма пытались предупредить распространение холодного и жесто-
кого , как им казалось, видения Вселенной.
Главная идея витализма состояла в том, что живые существа отличаются от не-
живых предметов наличием души. Но что такое душа? В век научного скептицизма
это понятие должно было обрести некий наукообразный смысл. Сторонники теории
витализма стали изобретать какие-то космические флюиды. Одни называли их эфи-
ром, другие - жизненной силой. Третьи говорили о «невесомой жидкости», кото-
рую один автор описывал как «электрическую, магнитно-минеральную или органи-
ческую жидкость». Словосочетание «невесомая жидкость» несет иронический отте-
нок. Жидкость могла быть невидимой, но должна была иметь измеряемые, «взвеши-
ваемые» характеристики. В этом была суть витализма. Магическая сила магнита,
невидимая сила электрического тока - все эти наблюдаемые явления, казалось
бы, не допускали материалистических объяснений. В этом заключалось отличие
«души» в теории витализма от того, что понимают под душой современные люди.
Виталисты верили, что душу можно наблюдать и даже измерить, хотя сделать это
29
СЛОЖНО .
Многие люди, включая натурфилософов, столь горячо верили в витализм, что
научный корреспондент парижской газеты Le Globe Александр Бертран писал о
«революции в высших физических сферах. <...> Вселенная теперь представляется
нам полностью погруженной в бесконечный океан невесомой материи». Оглядываясь
в прошлое, легко назвать это направление мысли шарлатанством. Однако в первой
половине XIX в. витализм был настолько популярен, что привел к разделению
двух направлений химических исследований и возникновению органической и неор-
ганической химии. Большинство ведущих ученых, занимавшихся исследованиями в
области естественных наук, назвали бы себя виталистами, в том числе Луи Пас-
тер. Они верили в существование непреодолимого барьера между живой и неживой
материей. Не все они поддерживали идею «невесомой жидкости», но многие про-
29 В 1928 г. немецкий химик Фридрих Вёлер обнаружил химическую реакцию, с помощью
которой удалось превратить цианат аммония в мочевину. Конец витализма часто связыва-
ют с первым в истории синтезом органического вещества, однако в то время этой реак-
ции не придавали большого значения, и даже сам Вёлер оставался виталистом. - Прим.
авт.
должали видеть ключ к разгадке процессов жизнедеятельности в электричестве и
электромагнетизме.
Связь Эндрю Кросса с темой электричества имела семейную историю. Его отец
Ричард Кросс состоял в дружеских отношениях с двумя людьми, которые понимали
суть электромагнитных процессов лучше, чем кто-либо другой в конце XVIII в.
Это были Бенджамин Франклин и Джозеф Пристли. Роднили их радикальные полити-
ческие взгляды: Ричард Кросс был известен тем, что активно поддерживал идеи
Французской революции, в день взятия Бастилии шел в толпе народа и даже во-
дружал трехцветный французский флаг. Эти действия испортили его репутацию в
Англии, где его считали эксцентричным смутьяном или, и того хуже, якобинцем.
По возвращении из Франции разъяренная толпа пыталась напасть на его карету. В
то же время кому-то, например Франклину и Пристли, радикализм Ричарда Кросса
был близок. Оба они гостили в усадьбе Файн Курт, оба были учеными и оставили
заметный след в развивавшейся науке об электричестве.
В то время ученые объясняли магнетизм как результат действия двух электри-
ческих жидкостей, обладавших разной силой: одна вызывала притяжение, другая -
отталкивание. Франклин тоже считал, что электричество являлось жидкостью, но,
по его мнению, это была единая жидкость, одновременно обладавшая положитель-
ными и отрицательными зарядами, что и объясняло ее странные свойства. Он не
понимал, что кажущееся движение электричества объясняется током электронов
между атомами. И все же его объяснение было гигантским шагом вперед в понима-
нии сути электричества. Франклин был американским послом во Франции, однако
благодаря его научной репутации его включили в состав королевской комиссии по
изучению методов лечения людей с помощью невидимой электрической жидкости,
предложенных немецким виталистом и гипнотизером Францем Антоном Месмером. Ле-
чение Месмера заключалось в том, что пациент проглатывал кусочки железа, а к
его туловищу прикрепляли магниты. Известное выражение «животный магнетизм»
связано с идеей Месмера о том, что электромагнетизм представляет собой
сверхъестественную жизненную силу.
Пристли был почти такой же заметной фигурой, как и Франклин. Воспитанный в
строгих правилах кальвинистской морали, он довольно рано отошел от этого ре-
лигиозного направления и обратился в унитарианство, отрицающее божественность
Христа. Когда во время антифранцузских выступлений сожгли его дом в Англии,
он бежал в Пенсильванию. Вероятно, Пристли чаще всего вспоминают в связи с
его работами по химии, в частности с открытием кислорода, который он назвал
«бесфлогистонным воздухом». Кроме того, Пристли первым описал электрические
силы математическим образом. Эту формулу он позднее включил в книгу «История
и современное состояние электричества» объемом 700 страниц, ставшую классиче-
ским трудом по теории электричества более чем на 100 лет.
В зрелом возрасте Эндрю Кросс никогда не упоминал знаменитых друзей отца в
связи со своим увлечением электричеством, что неудивительно. Он был прогрес-
сивным человеком, но его нельзя было назвать активным сторонником реформ или
радикальным революционером, каким являлся его отец. Эндрю Кросс принадлежал к
реформистской партии вигов и какое-то время даже был членом парламента от Со-
мерсета . С годами его политические настроения менялись, и он предпочитал не
упоминать о Франклине и Пристли, чтобы не возвращаться к вопросу о радикаль-
ных взглядах отца.
Первые электрические приборы достались Эндрю Кроссу, когда ему было 16 лет
- в год, когда умер его отец. К тому времени он уже прочитывал целиком все
выпуски Philosophical Transactions, как только ему удавалось их раздобыть. Он
читал все, что относилось к изучению электричества. Продавец в книжном мага-
зине, куда захаживал Кросс, тоже был экспериментатором и заинтересовался
мальчиком. Он отдал Кроссу простой генератор, производивший энергию за счет
трения, и батарею из 30 лейденских банок. Лейденская банка названа в честь
голландского города, где ее изобрели. Она представляла собой просто заполнен-
ный водой стеклянный сосуд, в который помещали кусочек металлической фольги
для проведения электричества - это была самая первая версия конденсатора30.
Со временем Кросс нашел более эффективный способ накапливать атмосферное
электричество, используя громоотводы, расположенные на высоких деревьях во-
круг дома, но лейденские банки остались главным элементом в его лаборатории.
В конечном итоге его батарея состояла из 3000 банок.
Лейденская банка.
В этом же году в расположенных поблизости карьерах известняка был обнаружен
вход в фантастическую пещеру с кристаллами арагонита, которую позднее назвали
пещерой Холвелл. Кросс часами просиживал там в одиночестве, наблюдая, как
кристаллы поблескивают в слабом свете свечи, как будто испускают какую-то
странную энергию. Он был убежден, что их красота связана с той мистической
силой, о которой он читал, - с электричеством. Кристаллы, казалось, притяги-
вались друг1 к другу, как в зеркале, будто их стягивала невидимая сила. Кросс
решил, что это была сила магнитного притяжения.
Через два года после обнаружения пещеры Холвелл Кросс отправился на учебу в
Брейсноуз-колледж в Оксфорде. Кросс по природе был одиночкой, и годы обучения
в университете были для него утомительными. Оксфорд, как он писал матери, был
«идеальным адом на Земле». Много лет спустя он говорил, что эти годы в Окс-
форде научили его, что «быть смешным - чудовищное испытание для молодого че-
ловека». Кросс нашел утешение в изучении греческой классики. Он всегда вооб-
ражал себя поэтом. Находясь в Оксфорде, Кросс писал о красоте природы, и его
излюбленной темой стала пещера Холвелл. В более поздние годы в стихах он час-
то сосредотачивался на своей меланхолии или религиозном фанатизме, под влия-
ние которого попал в конце жизни.
Кроссу был 21 год, когда умерла его мать, и он вернулся в Файн Курт. Он
Бенджамин Франклин первым доказал, что электричество заключалось в стеклянном со-
суде , а не в воде, как считали многие. Он использовал лейденские банки в знаменитом
эксперименте, от которого произошло выражение «молния в бутылке». - Прим. авт.
стал владельцем большого имения и сданных в аренду земель. Однако оказалось,
что Кросс совсем не обладал никакими деловыми качествами. В какой-то момент
из-за мошенничества он потерял значительную часть своего состояния, но все
равно остался достаточно обеспеченным, так что никогда не знал нужды. Годы
шли, и Кросс все сильнее углублялся в эксперименты с электричеством, подбад-
риваемый человеком, который стал его лучшим другом, - ученым и специалистом в
области электричества Джорджем Сингером.
В возрасте 27 лет Кросс запланировал первый эксперимент с электричеством и
выполнил его в пещере Холвелл. Он даже начал проводить опыты на местных фер-
мерах, обращавшихся к нему по поводу разных недомоганий. Говорили, что он
умел лечить от артрита и похмелья. Вскоре он занялся изучением самых разных
возможностей применения электричества. Исследования Кросса в области образо-
вания кристаллов под действием тока привели в Файн Курт одного из самых зна-
менитых британских ученых, президента Королевского общества Хэмфри Дэви. Он
стал национальным героем Англии после изобретения лампы, безопасной при ис-
пользовании в угольных шахтах, где высокий уровень метана. Кроме того, Дэви
был выдающимся химиком и активно использовал в своих опытах электричество,
поэтому он и заинтересовался исследованиями Кросса. Используя электрический
ток от вольтова столба, Дэви открыл процесс электролиза, что позволило ему
разделять вещества на составные части.
В 1830-х гг. интерес к электричеству в английском научном мире был чрезвы-
чайно высок; Кросс стал знаменит, и ему доверяли. Осенью 1836 г. он отправил-
ся в Бристоль, чтобы выступить перед только что организованной Британской ас-
социацией содействия развитию науки. Его теории о формировании минералов под
действием электричества были встречены благосклонно и принесли ему извест-
ность . О нем узнали все, кто занимался наукой, а также многие из тех, кто не
имел к науке никакого отношения. К тому моменту, когда Кросс в том же году
осуществил свой самый знаменитый эксперимент, его научная карьера достигла
вершины.
Позднее, когда ситуация изменилась не в его пользу, он часто замечал, что
был лишь жертвой бессовестных репортеров. Истина, скорее всего, находится
где-то посередине. Хотя поначалу он не хотел разглашать сделанное им откры-
тие, в конечном итоге, он поведал о появившихся насекомых редактору новой ме-
стной газеты Somerset Gazette и вряд ли удивился, что его забавная история
тут же была напечатана.
В первый раз история о фантастических насекомых Кросса была опубликована 31
декабря 1837 г. под заголовком «Удивительный эксперимент». Потом эта новость
достигла Лондона и была перепечатана в ежедневной газете Times. Отсюда извес-
тие о появлении «настоящего доктора Франкенштейна» распространилось, как лес-
ной пожар, по всей Великобритании и за ее пределами. Вскоре газеты сообщили
(и это была неправда), что самый известный ученый в области электричества
Майкл Фарадей подтвердил результаты Кросса в своей лаборатории. Газеты дали
насекомым Кросса латинское название. Их стали величать Acarus crossii.
Кросс старался оставаться в стороне от этих событий и не делать каких-либо
поспешных выводов из результатов, полученных в органной лаборатории. Он про-
должал разрабатывать методы получения кристаллов с помощью электричества. Не-
сколько попыток понять, откуда в сосуде появились насекомые, остались безре-
зультатными. Ученый и популярный лектор Уильям Уикс утверждал, что воспроиз-
вел результаты Кросса и обнаружил таких же насекомых. Однако больше ни у кого
это не получилось. Глубоко религиозный Фарадей, хотя и симпатизировал Кроссу,
отрицал, что повторил его эксперимент. Заявления Фарадея остались практически
не замеченными прессой, не желавшей преуменьшать сенсацию, однако в научных
кругах слова Фарадея дополнительно подтверждали несостоятельность эксперимен-
та Кросса. На этом эта история могла бы и закончиться.
Однако в 1844 г. Кросс опять оказался в центре всеобщего внимания в связи с
появлением на полках книжных магазинов книги анонимного автора под названием
«Следы естественной истории творения». Британская публика никогда не видела
ничего подобного. Писатель и будущий премьер-министр Англии Бенджамин Дизра-
эли в возбуждении писал сестре о книге, которая «сотрясла мир». Первый тираж
был распродан за считанные дни.
Книга представляла собой натуралистическую историю Вселенной с сотворения
звезд и небес вплоть до настоящего времени, развивающейся за счет «универ-
сального созревания материи». История жизни на Земле прослеживалась назад до
исходного момента спонтанного зарождения, а доказательством служили Acarus
crossii Эндрю Кросса. После естественного появления первых существ образова-
ние новых видов происходило в соответствии с ламарковским механизмом трансму-
тации. В исходном рукописном варианте книги в разделе, посвященном происхож-
дению жизни, автор написал на полях: «здесь должен быть большой рисунок».
В викторианской Англии книга вызвала скандал, но скандал такого рода, кото-
рый чрезвычайно обогатил книгоиздателей. Все хотели иметь собственный экземп-
ляр. Принц Эдуард говорил, что каждый день читал книгу вслух королеве Викто-
рии за чаем. Анонимность произведения дополнительно увеличивала ажиотаж. Га-
зеты бесконечно обсуждали личность загадочного автора. Одни говорили, что это
был Эндрю Кросс. Другие утверждали, что автором был внук Эразма Дарвина,
Чарльз Дарвин. А третьи предполагали, что книгу написала женщина, поскольку
только женщина могла сочинить такую вульгарную вещь. Некоторые считали, что
автором книги была политический экономист Гарриет Мартино или дочь лорда Бай-
рона Ада Лавлейс, автор первого в мире алгоритма для так никогда и не закон-
ченной вычислительной машины Чарльза Бэббиджа31.
Только через 30 лет уже после смерти автора книги выяснилось, что им был
журналист и издатель Роберт Чамберс. Он чрезвычайно серьезно отнесся к сохра-
нению тайны авторства книги, вплоть до того, что окончательный рукописный ва-
риант был написан его женой, чтобы издатели не узнали почерк. Чамберс сжег
все свои заметки и хранил рукопись в запертом ящике. Он боялся неизбежной ре-
акции со стороны церкви. Чамберс с братом владели издательством, основные до-
ходы которому приносило издание религиозных учебников для их родной Шотлан-
дии. Установление его авторства грозило финансовым крахом всего предприятия.
Хотя Чамберс был религиозным скептиком, в книге он настойчиво повторял, что
истоки описанного им процесса имели божественную природу. Даже заглавие книги
было компромиссным. Но в тексте было много такого, что ставило под сомнение
библейские истины и не нравилось верующим. Книга продавалась великолепно, но,
естественно, вызвала бурю религиозного негодования; почитатели книги в основ-
ном хранили молчание, а вот критики бушевали. Возможно, самый острый критиче-
ский ответ был опубликован в чрезвычайно популярном журнале Edinburgh Review.
Статья, написанная на 85 страницах, была самой длинной публикацией за всю ис-
торию журнала. Ее автором был преподобный Адам Седжвик - заслуженный геолог и
заместитель декана Тринити-колледжа в Кембридже, которого возмутили заявления
о том, что Адама, Евы и райских садов никогда не существовало, а человек про-
изошел от обезьяны. Седжвик относился к числу тех, кто считал, что книгу на-
писала женщина, и значительную часть статьи посвятил доказательствам этой
идеи.
Сначала Бзббидж планировал закончить работу над машиной в 1837 г. , в том же году,
когда в британской прессе разворачивалась история вокруг Эндрю Кросса. Это была ги-
гантская машина, предназначенная для совершения арифметических операций. Если бы ее
создание не обходилось так дорого, она стала бы первым в мире компьютером. Лавлейс
писала алгоритмы для этой машины на перфокартах, напоминающих те, что использовались
для первых компьютеров в XX в. - Прим. авт.
Седжвик не обошел вниманием и Эндрю Кросса. Он отправил ему письмо с пре-
достережением никогда больше «не заниматься сотворением животных и без про-
медления взять лом и расщепить на атомы» свой «акушерско-гальванический аппа-
рат» . И в этом Седжвик был не одинок. После публикации книги Чамберса Кросса
постоянно поливали грязью. Он поистине стал доктором Франкенштейном в самом
уничижительном смысле. Ведь в своем эксперименте он осмелился взять на себя
роль Творца! В потоке писем его с ненавистью называли еретиком, святотатцем и
слугой «темных сил». Многие газеты подхватили этот тон. В печати его обвиняли
в оскорблении «нашей святой религии» и «нарушении семейного покоя». Местные
фермеры перестали с ним разговаривать и обвинили его в распространении саран-
чи. Один известный своим фанатизмом священник прибыл, чтобы публично изгнать
нечистую силу из окрестностей усадьбы Файн Курт.
Критика со стороны верующих обижала Кросса, но настоящий удар нанесло сооб-
щество ученых. До выхода «Следов естественной истории творения» большинство
ведущих английских ученых просто не обсуждали насекомых Кросса. Проблема про-
исхождения жизни была настолько болезненной, что о ней говорили неохотно. Од-
нако упоминание экспериментов Кросса в новой печально известной книге означа-
ло, что больше молчать по этому поводу нельзя. Эксперимент Кросса подвергли
детальному обсуждению. Был проанализирован каждый его аспект, и опыт признали
недостаточно продуманным. Многие высказали мнение, что Acarus crossii - обыч-
ный пылевой клещ. В научной среде Кросс стал посмешищем. У него вновь нача-
лись нервные приступы, как в молодости. Он занялся сочинительством и попробо-
вал себя в жанре фантастики, но литературного таланта у него никогда не было.
Через много лет Кросса попросили написать комментарий к книге о важнейших
исторических событиях первой половины XIX в. Он горько заметил, что был не-
винной жертвой событий и никогда не утверждал, что совершил акт «творения».
Его просто вовлекли в чужие теории и горячие споры между теми, кто считал мир
и все его проявления объяснимыми с помощью научных данных, и теми, кто видел
мир через призму библейской истории.
Спустя десятилетия после этих событий, когда большинство людей давно забыли
имя Эндрю Кросса, в научной среде его все еще вспоминали. С усилением профес-
сионализма в науке и превращением науки из хобби в профессиональное занятие
имя Кросса стало ироническим символом «ученого господина» из ушедшей эпохи.
Иногда его имя упоминали как синоним непрофессионализма и жульничества32.
Однако история Эндрю Кросса оставила после себя и другой след, как и «Фран-
кенштейн» и «Следы естественной истории творения». Эти истории удовлетворяли
аппетит непрофессиональной публики, жаждавшей популярного изложения научных
фактов и готовой подхватывать новые идеи, которые когда-то казались еретиче-
скими. Эти истории были предвестниками такого явления, как научная литерату-
ра, кульминацией которого стала публикация одного из самых известных и важных
научных сочинений всех времен.
Автор этого сочинения вернулся в Англию в конце 1836 г. , всего за пару ме-
сяцев до начала знаменитого опыта Эндрю Кросса. Это был молодой натуралист,
совершивший долгое морское путешествие, в ходе которого судьба привела его на
Историк Тревор Пинч провел аналогию между обнаружением Acarus crossii и объявле-
нием об открытии холодного ядерного синтеза в 1989 г. Обе новости с быстротой молнии
были распространены самыми популярными газетами, что привело к выводам, не подкреп-
ленным экспериментальными данными. В случае Кросса это была газета Times, в случае
холодного ядерного синтеза - Financial Times. В обоих случаях главные участники со-
бытий сначала приобретали неоправданную популярность, вслед за которой наблюдалось
столь же неоправданное осмеяние. И даже инструменты, использованные в двух экспери-
ментах , имели между собой нечто общее: это были проводники электричества, погружен-
ные в растворы солей калия. - Прим. авт.
Галапагосские острова у берегов Южной Америки.
Глава 6. Творец вдохнул
жизнь в несколько существ
или лишь в одно?
Мало открыть и доказать полезную и не извест-
ную ранее истину, нужно также суметь распро-
странить ее и сделать общеизвестной.
Жан-Батист Памарк. Философия зоологии, 1809 г.
В октябре 1835 г. парусное судно «Бигль» Британского королевского флота вы-
шло из бывшей пиратской бухты у одного из островов в восточной части Тихого
океана недалеко от берегов Эквадора. Корабль с десятью пушками и дополнитель-
ной мачтой совершал путешествие с амбициозными исследовательскими целями. За
четыре года «Бигль» прошел от юго-западных берегов Великобритании через Азор-
ские острова и острова Зеленого Мыса, обошел береговую часть большей части
Южной Америки и, наконец, достиг Галапагосских островов.
Молодой, но знающий свое дело капитан корабля Роберт Фицрой отправился на
поиски пресной воды для следующей продолжительной части путешествия на запад
через Тихий океан до острова Таити. На берегу он оставил четырех членов ко-
манды, которых должен был забрать на обратном пути через десять дней. Это бы-
ли судовой врач Бенджамин Байно, двое слуг и двадцатишестилетний ученый-
натуралист Чарльз Дарвин.
Дарвин использовал любую возможность, чтобы покинуть корабль и заняться ис-
следованиями , часто в сопровождении Байно. В качестве корабельного ученого
Дарвин отвечал за проведение наблюдений и сбор образцов флоры и фауны, но
иногда ему было необходимо просто вырваться на свободу. Его отношения с капи-
таном складывались непросто. Иногда они спорили о политике. Фицрой был стра-
стным тори, Дарвин - убежденным приверженцем вигов. Так же горячо они обсуж-
дали проблему рабства. Оба деда Дарвина - Эразм Дарвин и Джозайя Веджвуд -
были активными сторонниками отмены рабства, и Чарльз Дарвин твердо стоял на
той же позиции. Однако чаще Дарвин и Фицрой просто поддразнивали друг друга.
Многолетнее пребывание на небольшом корабле сказывается на поведении людей.
Однако одиночество намного хуже, о чем прекрасно знал Фицрой. Бывший капитан
«Бигля» Прингл Стоке покончил с собой, когда Фицрой служил под его началом.
Фицрой выбрал Дарвина и как подходящего компаньона, и как ученого. Через мно-
го лет капитан, по-видимому, жалел об этом выборе, поскольку стал сторонником
религиозного фундаментализма, который так беспощадно искоренял Дарвин.
Остров Джеймс (Сан-Сальвадор) является одним из самых крупных островов в
центре архипелага. Имя острову33 в XVII в. дал пират Эмброз Коули, картами
которого пользовался Фицрой. До возвращения корабля маленькая группа из четы-
рех человек была предоставлена самой себе.
По прибытии на Галапагосские острова три недели назад команда сначала сошла
на берег на острове Чатем (Сан-Кристобаль). Фицрой описывал вулканический бе-
рег , к которому они причалили, как «черный и мрачный». Дарвин писал, что так
мог бы выглядеть ад. Стояла нестерпимая жара. Дарвин измерил температуру пес-
ка: она достигала 137 F (почти 60 С) . Вулканический песок, также называемый
черным, был еще горячее, к нему вообще нельзя было прикоснуться. В дневнике
Дарвин записал, что ходить было трудно даже «в толстых ботинках».
На Галапагосских островах много вулканов, и они интересовали Дарвина, полу-
Эмброз Коули называл острова именами пиратов и других знакомых; некоторые острова
позднее были переименованы. - Прим. пер.
чившего хорошее геологическое образование. В колледже Христа в Кембридже он
слушал лекции двух самых знаменитых геологов того времени: преподобного Адама
Седжвика (критиковавшего Эндрю Кросса и «Следы естественной истории творе-
ния») и Джона Стивенса Генслоу - оба были его главными наставниками. Генслоу
посоветовал Дарвину взять с собой в долгое путешествие на «Бигле» книгу
«Принципы геологии». Книга вышла в трех томах, и Дарвин получил первый из них
в подарок от Фицроя. И хотя Генслоу, который, как и Седжвик, был священником,
советовал Дарвину не воспринимать книгу слишком серьезно, чтение полностью
захватило Дарвина.
Автором книги был блестящий геолог Чарлз Лайель, воспринимавший геологию
иначе, нежели Седжвик. Последний был хорошо осведомлен о всевозможных природ-
ных катастрофах, таких как землетрясения или наводнения, но для него это были
отдельные события, и геология, по его мнению, имела дело с фиксированными
ландшафтами, которые никак не изменялись со временем. Лайель, напротив, счи-
тал геологию наукой об изменениях, о естественных процессах, постоянно форми-
рующих мир и приводящих к образованию новых гор, морей и рек. Учитывая эти
изменения, Лайель пришел к революционному выводу о том, что мир возник как
минимум 300 млн. лет назад.
Окруженный океаном и лишенный других развлечений Дарвин полностью погрузил-
ся в изучение книги Лайеля. Б начале путешествия, на острове Святого Иакова
(современный Сантьягу, острова Зеленого Мыса), на высоте 10 м над уровнем мо-
ря он обнаружил слой раковин и кораллов, содержавший окаменелых моллюсков.
Дарвин увидел в этом подтверждение идеи Лайеля о том, что суша поднялась. По-
всюду, где побывал «Бигль», Дарвин находил следы описанных Лайелем геологиче-
ских процессов. С этими мыслями он начал воспринимать мир по-новому. Он стал
еще более внимательным и пытался самостоятельно найти ответы даже на вопросы,
на которые Лайель, казалось бы, уже ответил. После посещения острова Святого
Иакова, находясь в одиночестве в своей каюте, Дарвин размышлял о том, не мо-
жет ли так быть, что это не суша поднялась, а опустился океан? Джеймс - один
из крупных вулканических островов Галапагосского архипелага. На острове Свя-
того Иакова среди вулканических пород Дарвин обнаружил окаменелости, теперь
его живо интересовали любые признаки вулканической активности. На протяжении
трех недель до высадки на остров Дарвин видел вершины вулканов, поднимавшиеся
ввысь, как «печные трубы вблизи Вулвергемптона». Он подсчитал, что на остро-
вах может быть около двух тысяч таких вершин, а берег, на который высадилась
маленькая группа Дарвина, был ограничен двумя кратерами необычайно большого
диаметра. Дарвин понял, что эта бухта образовалась в результате извержений
вулканов, что Земля жила и двигалась, а ее сотрясения создали тот самый ост-
ров , на котором он стоял.
После двух дней исследований вулканических берегов острова Джеймс Дарвин
понял, что здесь он не найдет окаменелости, как на острове Святого Иакова,
поэтому занялся сбором биологических образцов. За исключением одного невысо-
кого и едва живого дерева, признаки жизни вокруг кратеров отсутствовали. Даже
насекомых было мало. Много было только черепах - крупных неуклюжих существ,
иногда достигавших метровой длины. Дарвина они не заинтересовали, поскольку
он ошибочно решил, что черепахи родом не из этих мест, а завезены колонизато-
рами. Зато они были прекрасным источником пищи. До возвращения «Бигля» Дарвин
и его команда в основном питались черепашьим мясом, приготовленным на чере-
пашьем жире.
Вскоре Дарвин и его товарищи стали пробираться вглубь острова. Один раз они
оказались на высоте около 600 м над уровнем моря и примерно в 10 км от бере-
га. Они встретили группу испанских китобоев, которые отвели их на соленое
озеро, расположенное на дне кратера, где вода едва покрывала «кристаллическую
белую соль изумительной красоты» и была окружена «каймой из ярко-зеленых сук-
кулентов». Среди кустов, окружавших озеро, они отыскали местную историческую
достопримечательность - череп капитана китобоев, убитого собственной коман-
дой. Два дня спустя на небе появилась комета Галлея. В дневнике Дарвин запи-
сал по этому поводу одно-единственное слово «комета». Дарвина не интересовали
небеса, его интересовала Земля.
Двум своим профессорам, Седжвику и Генслоу, он обещал привезти из путешест-
вия все образцы растений и животных, какие только сможет. Обоим было чрезвы-
чайно интересно, что Дарвин обнаружит на Галапагосских островах. К моменту
прибытия на острова Дарвин был уже достаточно воодушевлен. Дикая природа Юж-
ной Америки заворожила его. У берегов Патагонии «Бигль» окружило облако пере-
летных бабочек. Их было столько, что матросы назвали это явление «снегопадом
из бабочек». В воде Дарвин увидел светящихся в ночной темноте фосфоресцирую-
щих медуз. По ночам корабль пересекал яркие пятна фосфоресцентного свечения,
поднимавшегося из глубин океана.
В Патагонии Дарвин приобрел окаменевшие кости странных экзотических су-
ществ . Один окаменевший череп мог быть черепом гигантской крысы, размер кото-
рой превосходил воображение. Ему также достались кости животного, напоминав-
шего крупного верблюда. Разглядывая окаменелости, Дарвин задумался о том, ка-
кие природные изменения на континенте могли привести к вымиранию этих видов.
Он обдумывал идею Бюффона, изложенную в «Естественной истории», о том, что
дикая природа Америки была «слабой», не имела достаточной энергии. В дневнике
он отметил, что, если бы Бюффон смог увидеть то, что удалось увидеть Дарвину,
он бы рассудил иначе.
Вдали от вулканов остров Святого Иакова кишел жизнью. Дарвин собирал образ-
цы практически всех растений, но животных брал лишь самых интересных, по-
скольку лично выступал в роли таксидермиста и вынужден был хранить скелеты в
собственной каюте до того момента, пока не удастся их законсервировать. На
острове было множество птиц, которые и составляли основную часть его коллек-
ции . Птицы здесь были непугаными и ловились легко. Однажды Дарвин вплотную
подошел к ястребу и смог дотронуться до него дулом ружья.
Почти повсюду на островах архипелага встречалось множество птиц одного ви-
да34 . В дневнике Дарвин называл их испанским словом thenka - так на материко-
вой части Южной Америки называли птиц, которых Дарвин определил как пересмеш-
ников, на островах эти птицы особенно сильно его заинтересовали. За две неде-
ли до прибытия на остров Джеймс «Бигль» останавливался у тюрьмы на острове
Чарльз (Санта-Мария). Заключенные утверждали, что на каждом острове живут
особые черепахи, которых можно узнать по панцирю. Вице-губернатор уверял, что
по виду черепах может определить, на каком острове находится. Дарвин не при-
дал большого значения этим утверждениям. На острове Джеймс у него была воз-
можность хорошенько рассмотреть черепах, и они показались ему совершенно та-
кими же, как те, что он видел до сих пор. Но, когда он начал обращать внима-
ние на небольшие различия между пересмешниками, он вспомнил, что услышал на
острове Чарльз. Птицы с разных островов различались между собой по размеру и
форме клюва: у одних птиц клювы были крупнее, у других меньше, у одних узкими
и острыми, у других широкими и загнутыми книзу. К моменту прибытия на остров
Святого Иакова Дарвин начал различать, с какого именно острова происходит ка-
ждая птица в его коллекции.
К этому времени Дарвин закончил читать следующий том «Принципов геологии»
Лайеля, высланный ему Генслоу в Уругвай. Лайель по профессии был юристом и во
втором томе книги все свои блестящие знания и логические способности направил
Хотя обнаруженных Дарвином птиц стали называть «вьюрками», в таксономическом пла-
не они, на самом деле, к вьюркам не относятся. Путаница в значительной степени воз-
никла после выхода в 1947 г. книги Дэвида Лэка «Дарвиновы вьюрки». - Прим. авт.
на опровержение идеи Ламарка о трансмутации. В геологии Земли Лайель видел
великую трансформирующую силу, но не видел ничего подобного, когда речь шла о
населяющих Землю растениях или животных. Ламарк считал, что с помощью окаме-
нелостей можно доказать изменчивость видов во времени. А Лайель полагал, что
окаменелости свидетельствуют о вымирании видов, на смену которым Господь соз-
давал новых, более жизнеспособных существ. Появление этих новых существ объ-
ясняло довольно резкие изменения типа окаменелостей: не видно было естествен-
ной связи между вымершими и новыми видами. Появление каждого нового вида ка-
залось чудом.
На Галапагосских островах Дарвин начал постепенно, с большой осторожностью,
склоняться к мнению Ламарка относительно трансмутации. В обитавших на остро-
вах пересмешниках он увидел доказательства постепенного изменения видов в со-
ответствии с требованиями окружающей среды, о чем и говорил Лайель, но пока у
него не было твердой уверенности. Да, птицы различались, но Дарвину казалось,
что они все же были вариантами одного вида. Он отразил свои мысли в орнитоло-
гическом дневнике. Если бы эти птицы оказались не вариантами одного вида, а
представителями разных видов, «подобный факт подрывал бы идею о постоянстве
видов». Их близкое соседство на островах и заметное сходство не могли быть
случайностью, но указывали на происхождение от общего предка. Дарвин начинал
узнавать описанный Лайелем процесс не только в геологии Земли, но и в самой
жизни. Находясь на Галапагосских островах, Дарвин написал: «По-видимому, мы
близко подошли к этому великому событию, загадке из загадок - первому появле-
нию новых существ на Земле». Прошло еще 19 лет, прежде чем он объяснил, что
имел в виду.
Последний год путешествия после Галапагосских островов «Бигль» провел в Ти-
хом океане, обогнул Африку и в октябре 1836 г. прибыл в Англию, в портовый
город Фалмут. В газетах появились отчеты об экспедиции, а Дарвин обнаружил,
что за время его отсутствия в Англии его репутация в научном мире значительно
укрепилась. На протяжении пяти лет Дарвин вел переписку с Генслоу, причем ре-
зультаты геологических изысканий Дарвина настолько впечатлили его бывшего
профессора, что тот собрал их в брошюру, которую распространил среди других
натуралистов. Одна копия досталась Лайелю. Он не мох1 дождаться возвращения
молодого человека, называвшего себя «последователем» Лайеля.
Через месяц после возвращения Дарвин обедал у Лайеля дома в Лондоне. Они
сразу поладили, и их дружба продолжалась всю жизнь. Лайель с восхищением слу-
шал, как Дарвин подтверждал его идеи, рассказывая о землетрясениях в далеких
землях. Лайель предложил молодому человеку посодействовать на новом поприще и
посоветовал остаться в Лондоне, где Дарвин оказался бы в окружении специали-
стов, которые помогли бы расшифровать все, что он увидел и услышал. В тот ве-
чер Лайель пригласил на ужин одного из таких людей, молодого анатома Ричарда
Оуэна, который четырьмя годами позже придумал термины «динозаврия» и «ужасные
рептилии». Перед уходом Дарвина в тот вечер Лайель, возглавлявший Геологиче-
ское общество Англии, дал молодому ученому еще один, казалось бы, преждевре-
менный совет - не тратить время на административное руководство какими бы то
ни было научными организациями. Лайель был уверен, что Дарвин пойдет далеко.
Лайель и Дарвин стали почти неразлучны. Какое-то время они виделись еже-
дневно . Лайель изо всех сил помогал своему новому протеже. Дарвина начали
привлекать к работе в самых престижных научных организациях, включая Королев-
ское общество, Королевское географическое общество и, конечно, Геологическое
общество, возглавляемое Лайелем. Кроме того, Дарвин получил королевский грант
для написания отчета о путешествии и своих наблюдениях, которые предстояло
опубликовать в многотомном труде, задуманном Фицроем.
Дарвин занялся приведением в порядок своих путевых заметок. Для системати-
зации окаменелостей из Патагонии он попросил помощи у Ричарда Оуэна. Коробки
с окаменелостями постепенно прибывали в Королевский колледж врачей, которым
руководил Оуэн. Дарвин мох1 только догадываться, как будет выглядеть коллекция
странных костей. Вскоре Оуэн сообщил Дарвину, что в коллекции были кости ги-
гантской ламы и голова гигантского грызуна размером с гиппопотама. Лайель с
гордостью представил находки своего протеже членам Геологического общества на
выставке, названной им «Зверинцем Дарвина». Для Лайеля эти окаменелые кости
были доказательством удивительного «закона преемственности», с помощью кото-
рого Господь создавал свои творения на планете Земля в определенном географи-
ческом порядке. Все существа были похожи по форме и структуре, но при этом
уникальны и не связаны общностью предков.
Однако сам Дарвин уже начал подозревать, что все его образцы животных были
ветвями одного семейного дерева и были связаны между собой кровным родством и
генеалогической историей. Пока это была лишь догадка, но интуиция подсказыва-
ла ему, что гигантская лама как минимум должна быть родственницей современных
лам, населявших Южную Америку. Должна была существовать определенная связь и
какое-то объяснение, и найти их можно было, изучая законы природы. Недоста-
точно воспринимать эти варианты как произведения Творца. Что касается Оуэна,
он был активным сторонником витализма и считал, что все живые существа несут
в себе изначально присущую им «организующую энергию», определяющую такие про-
цессы бытия, как рост и распад. Он был консервативным и религиозным человеком
и, как Лайель, яростным противником идеи эволюции. В конечном итоге, оба из-
менили свою точку зрения. Оуэн так далеко продвинулся в противоположном на-
правлении, что однажды упрекнул Дарвина в том, что тот не понимает значения
теории эволюции для объяснения происхождения жизни.
В мае 1838 г. четырехтомный отчет Фицроя об экспедиции был опубликован под
названием «Хроника географического путешествия кораблей Ее Королевского Вели-
чества "Адвенчер" и ллБигль". Два первых тома содержали воспоминания Фицроя о
путешествиях на «Бигле», включая первое плавание под командованием Стокса.
Последний том составляли приложения. Отчет Дарвина был напечатан в третьем
томе, который быстро превзошел по популярности остальные тома. Вскоре он был
напечатан отдельной книгой под названием «Журнал исследований по геологии и
естественной истории различных стран, посещенных на военном корабле Ее Вели-
чества ллБигле". Позднее книга стала называться просто «Путешествие на
ллБигле".
Описание Галапагосских островов составляло лишь малую часть рассказа Дарви-
на, но в историческом плане эта часть была самой важной. Особый интерес вызы-
вала фраза о птицах, которых Дарвин к тому моменту уже определил как вьюрков:
«Можно действительно представить себе, что вследствие первоначальной малочис-
ленности птиц на этом архипелаге был взят один вид и видоизменен в различных
целях» - это был первый, еще очень осторожный, намек на ошибочность идеи о
постоянстве видов.
Для описания образцов привезенных Дарвином животных понадобилось больше
времени, чем для описания окаменелостей. В общей сложности он привез чучела
80 млекопитающих и 450 птиц, которые передал лондонскому Зоологическому обще-
ству. Несмотря на то, что Зоологическое общество недавно открыло новый музей
в Вест-Энде, оно неохотно приняло животных Дарвина, процесс инвентаризации
продвигался чрезвычайно медленно. Организация музейного дела была поставлена
из рук вон плохо. Зоологическое общество объявило прием выставочных экспона-
тов, но не справлялось с потоком образцов, прибывавших от охотников и натура-
листов со всего мира. Все образцы нужно было пронумеровать, описать и размес-
тить . Наконец образцы Дарвина попали в руки к самому надежному человеку среди
всех работников музея - таксидермисту Джону Гульду. Раньше он был садовником,
затем самостоятельно выучился на таксидермиста и стал первым куратором и хра-
нителем музея Зоологического общества. Кроме того, он был талантливым живо-
писцем, написавшим и проиллюстрировавшим несколько популярных книг о птицах.
Привезенные Дарвином с Галапагосских островов маленькие птички заинтересо-
вали Гуль да не меньше, чем самого Дарвина. Он пришел к заключению, что среди
этих птиц было 13 видов вьюрков и три вида пересмешников. Причем ни один из
этих видов не существовал нигде, кроме как на соответствующих островах Гала-
пагосского архипелага. Форма клюва птиц соответствовала характерному для каж-
дого острова источнику пищи: одни птицы приспособились к поеданию семян как-
тусов, другие питались насекомыми. Дарвин, наконец, получил ответ, которого
так долго ждал, и столкнулся с еще более удивительными доказательствами эво-
люции, чем обнаружил при изучении окаменелостей. Теперь Дарвин был уверен,
что все птицы были родственниками и произошли от общих предков. В какой-то
момент некий вид вьюрков оказался на Галапагосских островах, где дал начало
13 разным видам. Их клювы адаптировались к новым условиям. Но как? Дарвин на-
шел ответ на свой вопрос в самом неожиданном месте - в трактате по политиче-
ской экономии, который ему предложил прочесть друг его старшего брата Эразма.
Защитник свобод и яростный противник рабства, общительный и великодушный
поэт, Эразм Дарвин во многом походил на деда, в честь которого был назван.
Эразм и Чарльз имели одинаковые политические и религиозные взгляды, но Эразм
всегда был более решительным. Как и дед, он не был ограничен рамками респек-
табельности. Опять же, как дед и отец, он был врачом, но при этом страдал от
того же хронического недуга, который впоследствии одолел и его брата. Опаса-
ясь, как бы врачебная служба сына не оказалась слишком тяжелой для его «тела
и разума», отец предложил Эразму пораньше уйти в отставку. К моменту возвра-
щения Чарльза из путешествия на «Бигле» Эразм последовал совету отца и оста-
вил медицинскую практику, хотя ему не было еще и 30 лет.
Эразм продолжал вести активную общественную жизнь и вращался в политических
кругах сторонников вигов. Деньги у него были: ему и Чарльзу досталось значи-
тельное состояние деда по материнской линии, Джозайи Веджвуда. Хотя Эразм так
и умер холостяком (и опиумным наркоманом) , у него были романтические отноше-
ния с несколькими свободомыслящими женщинами, включая радикального политиче-
ского экономиста Гарриет Мартино, которую ошибочно считали автором книги
«Следы естественной истории творения». У них был длительный роман, а друже-
ские отношения продолжались на протяжении всей жизни. Мысль о браке Эразма с
эмансипированной Мартино пугала старшего Дарвина, который попросил Чарльза
приглядывать за братом. В том же году Чарльз если и не подружился, то стал
добрым знакомым Мартино.
Гарриет Мартино была одним из самых выдающихся учеников преподобного Томаса
Мальтуса, профессора политической экономии в колледже Ост-Индской компании.
Он утверждал, что рост численности населения неизбежно ведет к бедности, по-
скольку избыток рабочей силы сопряжен со снижением уровня заработной платы.
Слабые и бедные погибают в борьбе за существование, являющейся неотъемлемым
свойством человеческого общества. Голод, болезни, войны и даже умерщвление
младенцев, по мнению Мальтуса, являются естественными факторами, поддерживаю-
щими хрупкое экономическое равновесие. Благодаря этим идеям Мальтус стал са-
мым влиятельным экономистом своего времени, а в обществе возникло реформатор-
ское движение, которое, в конечном итоге, привело к усилению английских «за-
конов о бедных» и учреждению работных домов для самых неимущих членов общест-
ва.
Знаменитая книга Мальтуса называлась «Очерк о законе народонаселения». По-
сле нескольких разговоров с Мартино о Мальтусе Дарвин в конце 1838 г. наконец
прочел эту книгу, и почти сразу к нему пришло озарение. Борьба за существова-
ние, которую Мальтус обнаружил в человеческом обществе, была проявлением той
же самой борьбы в природе. Позднее в автобиографии Дарвин писал, что «внезап-
но понял, что при этих условиях благоприятные варианты имеют тенденцию сохра-
няться, а неблагоприятные - исчезать. В результате появляются новые виды. На-
конец у меня появилась теория, с которой можно было работать». Как следует из
записных книжек Дарвина, он начал пересматривать более ранние теории о транс-
мутации, восхищавшие его деда. Применяя принцип Мальтуса к дикой природе, он,
наконец, уловил основополагающий механизм трансмутации, который не удавалось
понять его предшественникам, верившим в теорию эволюции. Вариации живых су-
ществ являются результатом естественного отбора.
Во времена Чарльза Дарвина большинство людей, включая ученых, считали, что
жизнь мало изменилась с момента сотворения мира. Даже Джозеф Пристли, который
был не из тех, кто воспринимал Библию буквально, в книге о спонтанном зарож-
дении высказал традиционное мнение, что «в книге Иова описаны такие же расте-
ния и животные, как теперь, и такими же остались собаки, ослы и львы Гомера.
Мир, без сомнения, совершенствуется, но, несмотря на это, мы не видим никаких
изменений растений и животных».
В рамках традиционной науки к началу XIX в. стала формироваться эволюцион-
ная теория, которую обычно называли теорией трансмутации или трансформацио-
низма. Дарвин вполне разделял эту идею. Его дед, Эразм Дарвин, считал, что
все организмы очень медленно, но постоянно изменяются, пока не превращаются в
организмы новых видов. Однако из-за религиозного давления эти идеи Эразма
Дарвина практически не были известны на момент, когда Чарльз Дарвин вступил
на научное поприще. Большую часть знаний о теории трансмутации Дарвин получил
во время обучения в Шотландии от биолога Роберта Эдмунда Гранта.
До Кембриджа Дарвин вместе с братом учился на медицинском факультете уни-
верситета Эдинбурга, считавшегося в то время лучшим в стране. Университет
Эдинбурга отличался радикальными настроениями, а франкофил Грант, который
провозгласил себя врагом церкви и традиции и, возможно, был еще и гомосексуа-
листом, считался самым радикальным среди профессоров университета. Здесь
Грант взял Дарвина под свое покровительство.
Поначалу Грант показался Дарвину жестким и индифферентным, но вскоре стало
ясно, что это не так. Грант оказался теплым, доброжелательным, заразительно
увлеченным, мог неистово работать и спорить, особенно когда речь шла о его
главных научных интересах, таких как микроскопические исследования. Грант
часто брал своего молодого подопечного на прогулки вдоль берега, недалеко от
своего дома на Северном море. Там они собирали морских моллюсков, мшанок и
темно-зеленые морские водоросли, которых называли «пальцами мертвого челове-
ка», и интерес Гранта к природе начал постепенно заражать Дарвина.
Не скрывавший своих суждений Грант к тому времени слыл одним из самых ак-
тивных сторонников эволюционной теории в Англии. В кругу врачей, таких как
Грант или дед Чарльза Дарвина, эта теория находила больше поддержки, чем сре-
ди других ученых. Врачи годами изучали кости и жизненно важные органы челове-
ка и видели цельную картину. Все виды животных, столь разные снаружи, часто
имеют одинаковое внутреннее строение. Кости крысиной кисти удивительно похожи
на кости человеческой кисти, а птичье крыло напоминает плавник дельфина. Если
положить рядом скелеты животных разных видов, можно заметить это сходство и
обнаружить, что каждый вид лишь немного отличается от соседей на эволюционном
дереве. Такое же сходство наблюдается и для внутренних органов, например,
сердце медведя едва заметно отличается от сердца коровы. Все это указывает на
долгие и постепенные изменения, начавшиеся от самых маленьких и самых простых
организмов и закончившиеся самыми крупными и самыми сложными.
Кумиром Гранта был француз Жан-Батист Ламарк. Бывший военный, ставший уче-
ным, Ламарк сформулировал первую полноценную теорию эволюции. Другие тоже пы-
тались это сделать: некоторым древнегреческим философам удалось ухватить суть
эволюционного процесса. Однако именно Ламарк предложил механизм, лежащий в
основе этого процесса, и сформулировал теорию приобретенных признаков. Он
считал, что живые существа могут передавать потомству признаки, приобретенные
на протяжении собственной жизни. Если ты быстро бегаешь, у тебя будут подвиж-
ные дети, а если поднимаешь тяжести, твои дети будут сильными. И этот естест-
венный процесс изменений просматривается назад до самого момента спонтанного
зарождения жизни в виде простейших кирпичиков бытия, которые Ламарк называл
«монадами». Ламарк считал, что спонтанное зарождение происходит постоянно и
создает новые эволюционные линии, заменяющие те, что должны исчезнуть. Позже
Дарвин говорил об эволюционном дереве, а Ламарк видел каждый вид как продукт
развития собственной линии организмов. Вымирающие линии заменяются новыми,
которые начинаются за счет постоянно происходящего процесса спонтанного заро-
ждения. Таким образом, Ламарк считал, что самые сложные организмы, такие как
люди, были самыми древними, а самые примитивные, такие как простейшие, - са-
мыми молодыми.
Пребывание Дарвина в Эдинбурге и покровительство Гранта оборвались доста-
точно внезапно. В прессе начали появляться сообщения о царящих в университете
антиправительственных настроениях. Один преподаватель произвел фурор, предпо-
ложив, что сознание является результатом естественной физиологической работы
мозга, а никакой души не существует. Отец Дарвина, встревоженный вестями из
Шотландии, начал разрабатывать новый жизненный план для своего младшего сына,
решив, что Чарльз должен стать священником. И лучше всего подготовиться к но-
вой жизни он сможет в Кембридже, где в отличие от Роберта Гранта профессора
придерживались более традиционной точки зрения относительно природы жизни.
Нельзя сказать, что в области современной науки Кембридж был бастионом кон-
серватизма, но по сравнению с университетом Эдинбурга он мог показаться та-
ким. В частности, Дарвину предстояло изучить труды архидиакона Уильяма Пейли,
утверждавшего, что живые существа настолько удачно вписываются в окружающую
среду, что одно это доказывает существование Бога. В понимании Пейли Бог был
не постоянно действующей силой, внедряющейся в жизнь и творящей чудеса, а
скорее, великим космическим дизайнером. Пейли любил повторять фразу, похожую
на аналогичное выражение Вольтера, которой тот так гордился: «Где-то и когда-
то должен был существовать мастер, создавший [часы] для той цели, для которой
мы используем их сегодня, который понимал их устройство и спланировал их кон-
струкцию» . Эту точку зрения разделяло большинство наиболее известных ученых
того времени, и именно эту мысль преподносили студентам такие профессора, как
Седжвик и Генслоу. Да и Дарвин после прочтения книги Пейли «Естественная тео-
логия» писал, что был «очарован и убежден».
К концу обучения Дарвину начало нравиться предложение отца стать сельским
священником. Он представлял себе размеренную жизнь пастыря унитарианской об-
щины, в которой оставалось бы достаточно времени для изучения природы и сочи-
нительства. Но во время кругосветного плавания и в связи с обнаружением неоп-
ровержимых доказательств механизма функционирования природы эта мысль для не-
го потеряла привлекательность. Сестры Дарвина уловили это изменение по его
письмам домой. В письме, ожидавшем Дарвина в Фалмуте, его сестра Фанни писа-
ла: «Боюсь, мало надежды на то, что ты до сих пор ходишь в церковь».
Действительно, из путешествия на «Бигле» Дарвин вернулся другим человеком,
но он по-прежнему искал поддержки респектабельного научного общества, и те-
перь у него не было времени на общение с мятежным и неверующим Грантом. Вер-
нувшись в Англию, он повернулся спиной к Гранту и лицом к Генслоу и Седжвику.
Дарвин искал размеренной жизни и надежной репутации. В 1839 г. он женился на
своей кузине Эмме Веджвуд, с которой был знаком с детства. Позднее они приоб-
рели дом в деревне Даун в Кенте. Дарвину нравилось спокойствие английской де-
ревни - это было похоже на привлекавшую его когда-то жизнь сельского священ-
ника , только без паствы, которой нужно было руководить.
Религия оставалась сложным вопросом в отношениях между Дарвином и его же-
ной. Хотя унитарианство не навязывает буквального восприятия Библии, Эмма бы-
ла глубоко религиозным человеком, а Чарльз начал сомневаться еще в то время,
когда они только собирались пожениться. Прежде чем сделать Эмме предложение,
Чарльз признался ей в том, что начинает верить в идею трансмутации. Ей первой
он рассказал о своих неортодоксальных взглядах. Позднее она писала ему, что
обеспокоена сомнениями, вызванными его научными изысканиями, и боится, что
религия станет «болезненным вакуумом между ними». Тем не менее, она приняла
его предложение, и этот союз оказался вполне счастливым.
Шли годы, Дарвин все полнее осознавал результаты своих научных изысканий и
все сильнее сомневался в справедливости традиционного мировоззрения, в том
числе из-за того, что трое его детей умерли в младенчестве. К концу жизни
идея божественного происхождения мира стала казаться ему бессмысленной. У
жизни нет никакого «плана» и никакого «замысла». Он никогда не считал себя
атеистом и не был близок к радикальным атеистам, которые первыми подхватили
развитую им теорию эволюции. В конце жизни он стал называть себя агностиком.
Они с Эммой смогли преодолеть это расхождение в религиозных взглядах. Открыто
Дарвин касался вопросов религии очень и очень осторожно.
Женившись и поселившись в Дауне, Дарвин занялся разработкой новой теории
эволюции, движущей силой которой был принцип естественного отбора, а не при-
обретенные признаки, как предполагал Ламарк. Свои размышления он оформил в
виде книги, где изложил основные идеи новой теории. Несколько лет он никому
не показывал этот труд. Он запечатал рукопись в конверт, который доверил на
хранение жене и просил передать для публикации в случае его смерти.
В 1844 г. вышла книга Роберта Чамберса «Следы естественной истории творе-
ния», которая одновременно вдохновила и испугала Дарвина. Он считал, что в
ней было слишком много обобщений, однако в ней была изложена концепция эволю-
ции видов, весьма схожая с его собственной теорией. Успех книги доказывал,
что общество нуждается в новом видении природы, даже если это видение проти-
воречит традиции и религиозным догмам.
К этому времени Дарвин поведал о своей растущей вере в справедливость тео-
рии эволюции лишь нескольким ближайшим друзьям, включая Лайеля и Оуэна, и оба
постепенно стали склоняться к его точке зрения. Кроме того, Дарвин доверился
молодому ботанику Джозефу Долтону Гукеру, которому показал свой труд, состав-
лявший на тот момент около 230 страниц. В последующие годы Гукер стал самым
близким другом Дарвина и верным выразителем его идей.
Дарвин начал разрабатывать план своей главной книги. Он хотел назвать ее
«Естественный отбор». Невероятный успех книги Чамберса показывал, что сочине-
ние Дарвина тоже может стать чрезвычайно популярным. В то же время Дарвин
знал о жесточайшей критике в отношении книги Чамберса и о том, с какой яро-
стью на нее нападал его бывший учитель, профессор Седжвик, который, по-
видимому, уже почувствовал, что Дарвин изменился, и поэтому отдалился от не-
го . Это огорчало Дарвина, поскольку Седжвик относился именно к такому типу
людей, которых Дарвин хотел заинтересовать и убедить. Его не привлекала мар-
гинальная наука и такие ученые-радикалы, как Грант. Дарвин нуждался во все-
сторонних и, насколько это возможно, неопровержимых научных данных.
Работа была скрупулезной и продвигалась медленно. Более десяти лет Дарвин
тщательно подбирал материал, который помог бы подтвердить его теорию. Он на-
писал обширный труд о казарках и начал заниматься скрещиванием голубей в на-
дежде нащупать дополнительные механизмы и доказательства эволюции.
По мере продвижения исследований стал проявляться один аспект теории эволю-
ции, беспокоивший многих, особенно Гукера. Речь идет об источнике первых жи-
вых существ на Земле, который Гукер называл «искрой жизни». На фоне популяр-
ности «Следов естественной истории творения» тема происхождения жизни все ча-
ще поднималась в прессе. В научных кругах такие люди, как Роберт Грант, про-
должали выступать против библейской идеи креационизма. Гукер считал самым
главным вопрос: было ли появление жизни результатом божественного вмешатель-
ства или естественным процессом, как все другие элементы эволюции? Лайеля то-
же волновал этот вопрос. Если Дарвин был прав, человек терял статус «высшего
существа», о котором говорил Лайель.
Дарвин избегал необходимости опровергать догмы. У него было слишком мало
доказательств. Любая попытка обратиться к вопросу о происхождении жизни могла
уничтожить концепцию естественного отбора. Дарвину уже приходилось думать о
том, как принятие идеи трансмутации отразится на религиозном мировоззрении.
Его пугала перспектива называться «капелланом дьявола» (такое прозвище полу-
чил бывший евангелистский священник Роберт Тейлор, ставший атеистом и высту-
павший с пламенными проповедями на улицах Кембриджа). Дарвин опасался всего,
что могло бы затруднить восприятие и распространение его идеи о естественном
отборе.
Работа над книгой, которая, как понимал Дарвин, будет весьма противоречивой
и очень важной, давалась ему с трудом. Однажды он сравнил обнародование своих
эволюционных представлений с «признанием в убийстве». Здоровье его слабело,
вполне возможно, из-за интеллектуального напряжения. Он стал бояться прежде-
временной смерти, испытывал учащенное сердцебиение и боль в груди, которые
впервые появились еще во время путешествия на «Бигле». У него развилось хро-
ническое расстройство желудка, которое он называл «нервной диспепсией». Док-
тора советовали поменьше работать. Он стал вести еще более уединенный образ
жизни. В автобиографии Дарвин писал: «Мы мало выходим в свет, <...> но мое здо-
ровье почти всегда страдает от возбуждения, начинается сильный тремор и при-
ступы рвоты».
Дарвин продолжал работать, но продвигался с черепашьей скоростью. В июне
1858 г. произошло нечто чрезвычайное: он получил посылку с острова Тернате,
нидерландской колонии в Вест-Индии. В посылке была рукопись молодого натура-
листа Альфреда Рассела Уоллеса. К изумлению Дарвина, она была практически
идентична сочинению на тему естественного отбора, которое Дарвин в тайне соз-
дал более десяти лет назад.
Альфред Рассел Уоллес был самоучкой. В разное время он работал плотником,
землемером и учителем. Сначала он самостоятельно обучался в общественных биб-
лиотеках, а затем пошел по стопам своих кумиров, таких как натуралисты и ис-
следователи Александр фон Гумбольдт и Чарльз Дарвин. Предпринятое им путеше-
ствие по миру можно назвать подвигом. Под впечатлением от книги «Путешествие
вверх по Амазонке», написанной Уильямом Генри Эдвардсом из Нью-Йорка, Уоллес
сначала отправился в Бразилию. На жизнь он зарабатывал, отправляя интересные
образцы состоятельным коллекционерам или музеям Англии. На обратном пути он
едва не погиб при пожаре на нанятом им корабле, продержавшись десять дней в
шлюпке в открытом море. В следующий раз он отправился в Индонезию, где тоже
собирал образцы, в том числе для Дарвина.
Впервые Уоллес познакомился с концепцией эволюции, прочтя книгу «Следы ес-
тественной истории творения», которая оказала на него серьезное влияние.
Позднее, путешествуя по Амазонке, он лично наблюдал за морфологическими раз-
личиями у бабочек, аналогичными тем, которые Дарвин обнаружил у галапагосских
вьюрков. Как и Дарвин, он читал знаменитый труд Мальтуса о росте народонасе-
ления и пытался совместить его рассуждения о человеческом обществе с борьбой
за выживание, которую наблюдал в дикой природе. И теперь он отправил свою ру-
копись человеку, который, как он считал, лучше других поймет его идею, и в
поддержке которого он чрезвычайно нуждался.
Дарвин был потрясен. Он в срочном порядке отправил письма Лайелю и Гукеру,
которые много лет уговаривали его опубликовать свой труд, пока его открытие
не повторит кто-то другой. И вот теперь, когда это произошло, его наставники
сочли наилучшим выходом опубликовать труды Дарвина и Уоллеса одновременно.
Через две недели они представили исследования двух ученых на заседании Линне-
евского общества в Лондоне, практически не вызвав у публики никакого интере-
са. Уоллес узнал обо всем этом через три месяца и принял данное решение с
благодарностью, хотя, надо заметить, выбора у него не было.
Чарлз Дарвин (слева) и Альфред Уоллес.
Дарвин только недавно похоронил третьего умершего в младенчестве ребенка,
Чарльза, но активно работал, пытаясь как можно быстрее закончить книгу. Крат-
кую версию своего опуса он завершил за 13 месяцев. Книга получила новое на-
звание, «О происхождении видов путем естественного отбора», а в последующих
изданиях стала называться просто «О происхождении видов». Книга Дарвина про-
давалась очень хорошо, но ее популярность так и не превзошла популярности
«Следов естественной истории творения», хотя последняя издавалась уже на про-
тяжении 15 лет.
В историческом плане книга Дарвина «О происхождении видов», вероятно, явля-
ется самым влиятельным научным трудом за всю историю научной литературы. Она
написана в той же автобиографической манере, как и дневники Дарвина, создан-
ные во время путешествия на «Бигле». Позднее сын Дарвина отмечал «простоту
[книги], граничащую с наивностью», которая, вероятно, смягчала силу новых
идей. Местами Дарвин делал красноречивые отступления, но в целом, как говорил
он сам, книга представляла собой «один длинный аргумент». Можно сказать, это
был юридический аргумент, как в книге Лайеля «Принципы геологии», где одно
доказательство накладывалось на другое. Любые возможные возражения опроверга-
лись еще до того, как могли зародиться.
Дарвиновская версия истории жизни увидела свет 24 ноября 1859 г. В соответ-
ствии с теорией Дарвина все виды организмов возникают в результате процесса
естественного отбора. Идея божественного творения потеряла смысл. Функцию со-
зидания выполняла сама природа, которая «ежедневно и ежечасно расследует по
всему свету мельчайшие вариации, отбрасывая дурные, сохраняя и слагая хоро-
шие, работая неслышно и незаметно, где бы и когда бы ни представился к тому
случай, над усовершенствованием каждого органического существа по отношению к
условиям его жизни, органическим и неорганическим»35.
С первого дня после публикации книга Дарвина получила невероятную популяр-
ность . Дарвину приходило множество писем - большинство из них были критиче-
скими, но некоторые читатели высоко оценили книгу. Одно письмо написал писа-
тель , социалист и священник англиканской церкви Чарльз Кингсли, который зая-
вил, что книга Дарвина внушала благоговейный страх. «Если Вы правы, - писал
он, - мне придется отказаться от большей части того, во что я верил». Благо-
даря своей силе, дарвиновский аргумент постепенно убеждал научное сообщество.
Радикальная и угрожающая идея Ламарка о трансмутации уступила место рацио-
нальной и совершенно объективной эволюционной теории Дарвина.
Лишь в самом конце книги Дарвин коснулся столь беспокоившей Гукера проблемы
об «искре жизни» и рассматривал ее как второстепенную. «Есть величие в этом
воззрении, - писал он, - по которому жизнь с ее различными проявлениями пер-
воначально вдохнулась в одну или ограниченное число форм; и между тем как на-
ша планета продолжает вращаться согласно неизменным законам тяготения, из та-
кого простого начала развилось и продолжает развиваться бесконечное число са-
мых прекрасных и самых изумительных форм». Однако во втором издании книги,
выпущенном в следующем году, вместо фразы «первоначально вдохнулась в одну
или ограниченное число форм» Дарвин написал «Творец первоначально вдохнул в
одну или ограниченное число форм».
Совершенно понятно, почему Дарвин не рассматривал вопрос о происхождении
жизни. Опасаясь критики, которой ранее подверглись «Следы естественной исто-
рии творения», Дарвин строил свое произведение на тщательных наблюдениях. Ги-
потезам там не было места, а личное мнение Дарвина о происхождении жизни не
могло быть ничем иным, кроме как гипотезой. Слово «Творец» в заключительном
параграфе было добавлено, чтобы успокоить религиозно настроенных критиков.
Дарвин сожалел об этой поправке и в третьем издании книги вновь изменил фра-
зу.
Отношение Дарвина к вопросу о происхождении жизни расстраивало многих уче-
ных даже из его ближайшего круга. Они видели в его теории то же самое, что и
религиозно настроенные критики: жизнь является исключительно результатом дей-
ствия природных сил и ничем более. Даже в тех изданиях «Происхождения видов»,
в которых «Творец» открыто не упоминался, аллюзию о «вдыхании» жизни легко
можно было интерпретировать как нечто большее, нежели простую научную осто-
рожность . Это походило на трусость.
Одним из критиков Дарвина был Ричард Оуэн. Его пример самым наглядным обра-
зом показывает, как книга Дарвина «Происхождение видов» повлияла на распро-
странение эволюционной теории в широких научных кругах. Оуэн - непреклонный
консерватор и верующий человек, когда-то высмеивавший идею трансмутации, че-
рез несколько лет после выхода «Происхождения видов» начал высмеивать таких
эволюционистов, как Дарвин, которые, по его мнению, не могли продвигаться
вперед.
В 1863 г. Оуэн опубликовал статью в журнале Athenaeum - одном из самых
влиятельных литературных изданий Лондона. Темой статьи был анализ книги о
микроорганизмах, в которой делалась попытка разобраться с идеей самозарожде-
ния жизни, но, по сути, это был лишь повод для критики позиции Дарвина. В
статье не значилось имя Оуэна, но Дарвин немедленно узнал едкий стиль и идеи
своего старого друга.
Оуэн критиковал Дарвина за то, что тот ничего не писал о возможности само-
Здесь и далее цитируется по книге: Ч. Дарвин. Происхождение видов путем естест-
венного отбора или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь», перевод с шесто-
го издания. СПб.: Наука, 1991.
зарождения микроорганизмов в иле, а это помогло бы полнее раскрыть вопрос о
происхождении жизни. Он также не пропустил замечание Дарвина о том, что ис-
ходно жизнь чудодейственным образом «вдохнули» в первые организмы, что, по
мнению Оуэна, сводило идею эволюции к Пятикнижию (первым пяти книгам Ветхого
Завета). Через три года Оуэн продолжил критику позиции Дарвина в книге «Об
анатомии позвоночных»: «Концепции generatio spontanea и трансмутации видов
неразрывно связаны между собой. Кто верит в одно, неизбежно должен верить и в
другое, поскольку обе идеи основаны на неизменности законов природы»36.
Дарвин был раздражен. В опубликованном письме к редактору Athenaeum он за-
давал вопрос: «Существует ли какой-то факт или намек на факт, что в отсутст-
вие органических соединений и под действием только известных нам сил эти эле-
менты могут создать живое существо?» Но когда речь заходила о выборе слов для
описания происхождения жизни, его тон становился почти извиняющимся: «в сугу-
бо научном труде я, вероятно, не должен был использовать подобных терминов;
однако они хорошо передают глубину нашего незнания».
Еще до публикации статьи Оуэна Дарвин раскаивался в своих словах. «Я долгое
время сожалел, что пошел на поводу у общественного мнения и использовал слова
о сотворении жизни из Пятикнижия, под которыми, в сущности, понимал, что
жизнь "возникла» в результате какого-то совершенно неизвестного нам процес-
са", - писал он Гукеру. Однако со временем идеи Дарвина о появлении первых
живых организмов тоже эволюционировали.
В следующем десятилетии Дарвин, уже завоевавший репутацию выдающего ученого
своего времени, постепенно начал больше рассуждать об этом совершенно неиз-
вестном процессе, который, по его мнению, представлял собой некую форму спон-
танного зарождения органических структур из неорганических компонентов. И
вновь его мысли отразились в письмах Гукеру. Одно из них, написанное в 1871
г. , является наиболее известным выражением идей Дарвина на эту тему. В нем
Дарвин обсуждал условия среды, в которой могли зародиться самые первые живые
существа. По мнению Дарвина, «в каком-нибудь маленьком теплом пруду, со вся-
кими солями аммония и фосфора, светом, теплом, электричеством и так далее,
образовалось белковое соединение, готовое к еще более сложным изменениям».
Это была удивительно современная гипотеза, не утратившая своего значения за
100 с лишним лет.
Дарвин не верил, что такой процесс возможен на современной, развитой Земле,
и этому препятствовал сформулированный им закон естественного отбора. Первые
организмы по определению были плохо приспособленными к условиям окружающей
среды. «Сегодня подобная материя была бы немедленно уничтожена или поглощена,
но этого не происходило до того, как возникли живые организмы», - писал он.
Со временем Дарвин начал соглашаться с возможностью спонтанного зарождения
жизни в современных условиях. А некоторые ученые, принадлежавшие к расширяв-
шемуся кругу дарвинистов, считали, что это неизвестное звено теории эволюции,
«искру жизни», можно обнаружить и даже воспроизвести в лаборатории.
Вскоре после публикации «Происхождения видов» Дарвина начали обвинять в
том, что он не отдал должного своим предшественникам, внесшим вклад в созда-
ние теории эволюции. Дарвин признал этот недочет и немедленно после публика-
ции начал составлять список людей, которых следовало поблагодарить. В конеч-
ном итоге, в списке оказалось десять человек, включая деда Дарвина Эразма
36 Характер критики Дарвина Оуэном сильно менялся со временем. С одной стороны, он
критиковал идею о том, что люди произошли от обезьян (с этим Оуэн так и не смог со-
гласиться) , с другой стороны, он не принимал дарвиновской безграничной веры в то,
что эволюционная теория постепенно сама завоюет доверие общества. Дарвина удивляло
раздражение Оуэна. Причиной такого отношения могла быть ревность в связи с исключе-
нием Оуэна из круга ближайших друзей Дарвина. - Прим. авт.
Дарвина, а также Ламарка, Уоллеса и Аристотеля. Последнего Дарвин включил в
список по ошибке, поскольку принимал за идеи Аристотеля идеи других людей,
которых великий грек цитировал, однако мнения их не разделял.
Теперь мало кто помнит, что Дарвин не первым выдвинул теорию эволюции, но
его имя неразрывно связано с ней, и именно с Дарвином ассоциируется изображе-
ние рыбы с ножками, которое сейчас клеят на заднее стекло автомобиля. Возмож-
но, за исключением имени Альберта Эйнштейна, никакое другое имя не связано
так однозначно с какой-либо научной теорией, как имя Дарвина с теорией эволю-
ции. Мало кто может сравниться с ними по степени известности. Однако если за
знаменитой формулой Е = тс2 действительно нелегко уловить суть теории относи-
тельности, понять принципы теории эволюции не представляет большого труда.
Рыба Дарвина (рыба - это символ христианства).
Теория Дарвина изменила наши представления о жизни. Учитывая масштаб изме-
нений, это произошло за удивительно короткий отрезок времени. Отчасти это
объясняется тем, что либеральное английское общество было готово к восприятию
новой теории, отчасти общим уровнем развития наук о жизни, поднявшимся на-
столько, что уже невозможно было отрицать все накопившиеся доказательства ре-
альности эволюционного процесса. И человеческие качества Дарвина удивительным
образом способствовали распространению идеи эволюции. Его осторожность и со-
мнения, которые некоторые считали трусостью, оказались удачным оружием для
покорения скептически настроенной общественности и сомневающихся ученых. Он
не пытался продвигаться слишком быстро и слишком далеко.
Если бы Альфред Уоллес не отправил свою рукопись Дарвину, вполне возможно,
именно он стал бы «первооткрывателем» эволюционной теории и занял место Дар-
вина в пантеоне величайших деятелей науки. Однако Уоллес мало подходил для
этой роли. Дарвин уже сформировался как ученый и писатель и был вхож в высо-
копоставленные политические и научные круги самого мощного и влиятельного го-
сударства мира - Великобритании. А Уоллес был человеком без средств, он не
имел связей в университетах или высокопоставленных друзей в научных кругах, у
него не было даже ученой степени. В более поздние годы жизни он увлекся спи-
ритизмом и месмеризмом, имевшими дурную репутацию. Не исключено, что, если бы
он оказался на месте Дарвина, распространение основных идей теории эволюции
происходило бы еще медленнее.
Однако Уоллес, по всей видимости, был смелее Дарвина. Он мог касаться таких
каверзных вопросов, как, например, происхождение человека от обезьяны. Крити-
ки теории Дарвина видели подобные следствия его теории со дня выхода «Проис-
хождения видов». И то же самое видели самые горячие сторонники теории. Однако
сам Дарвин смог изложить свои соображения на эту тему только через 13 лет в
книге «Происхождение человека».
Впрочем, после этого Дарвин начал открыто высказываться по этому вопросу.
Он никогда так откровенно не выражал свое мнение об истории возникновения
жизни. Но, несмотря на осторожность в высказываниях, Дарвин внес значительный
вклад в решение этого вопроса. До того как он представил свою теорию, проис-
хождение человека не было каким-то особенным вопросом. Людей в равной степени
интересовало, откуда взялись первые обезьяны или первые акулы. Ранние естест-
венные теории происхождения жизни - от теорий греков до теории Бюффона - ка-
сались вопроса появления первых организмов каждого вида, а не первых видов.
Те, кто, как Гольбах, верили в спонтанное зарождение, полагали, что «зародыш»
слона или даже человека может появиться в результате спонтанного зарождения
из неорганической материи. Такой точки зрения придерживались некоторые ученые
даже во времена Дарвина. По сути, именно на этом была основана теория Ламар-
ка. Однако после Дарвина вопрос кристаллизовался и теперь заключался в поиске
того единственного живого организма, от которого произошли все живые существа
на свете. Тот, кто когда-то интересовался первыми представителями каждого ви-
да , теперь задумывался об их первом общем предке.
Среди разросшегося клана последователей Дарвина были и другие мыслители,
желавшие напрямую поставить вопрос о происхождении жизни. Дарвин мог наблю-
дать , как один из его самых выдающихся последователей ведет жестокую войну по
вопросу о происхождении жизни против одного из самых непримиримых, по крайней
мере, поначалу, противников теории эволюции. Когда война закончилась, победи-
тель приобрел несокрушимую репутацию, сравнимую с репутацией самого Дарвина,
а побежденный оказался почти полностью забыт.
Глава 7. Приятные,
но обманчивые мечты
Объяснить всю природу не под силу одно-
му человеку и даже целому поколению.
Так что, чем пытаться объяснить все,
лучше сделать немногое, но точно, а ос-
тальное оставить другим, которые придут
после вас.
Сэр Исаак Ньютон. Математические начала
натуральной философии, 1687 г.
Седьмого апреля 1864 г. большой амфитеатр Сорбонны был до отказа заполнен
людьми. Здесь были сливки высшего парижского общества, включая принцессу Ма-
тильду (племянницу Наполеона Бонапарта и двоюродную сестру русского царя), а
также Амандину Аврору Люсиль Дюпен, будущую знаменитую писательницу Жорж
Санд, любовницу Шопена и, как утверждали некоторые, актрисы Мари Доваль. Дю-
пен всегда присутствовала на подобных мероприятиях, обычно одетая в мужское
платье. В переднем ряду сидел еще один известный всему Парижу писатель, автор
«Графа Монте-Кристо» и «Трех мушкетеров» Александр Дюма.
С недавнего времени в парижском университете два раза в неделю проводились
бесплатные лекции для всех желающих, целью которых было привлечение общест-
венного интереса и финансовой поддержки. По понедельникам лекции были посвя-
щены научной тематике. «Научные вечера» пользовались чрезвычайной популярно-
стью. Отчасти их привлекательность объяснялась множеством новейших техниче-
ских устройств, приобретенных университетом для своей главной аудитории. Пу-
тем нажатия на кнопку можно было усилить или ослабить газовое освещение. С
помощью дуговой лампы, изобретенной Хэмфри Дэви, можно было создать луч света
и направить его на лектора или выставленный на кафедре экспонат. Для развле-
чения публики с помощью этой же лампы можно было проецировать на экран фото-
графические изображения, заключенные в стеклянные слайды.
За неделю до описываемой лекции шесть тысяч человек пришли послушать инау-
гурационную лекцию физика Жюля Жамена, посвященную трем агрегатным состояниям
вещества.
Большинство людей вынуждены были остаться на улице, пытаясь хоть краем гла-
за увидеть, что происходит внутри. В этот раз организаторы вечера ожидали еще
большего наплыва публики, что объяснялось личностью лектора - видного и ха-
ризматичного человека с репутацией прекрасного оратора, быстро ставшего лю-
бимцем французского научного сообщества. Его звали Луи Пастер.
Выступление в Сорбонне было для Пастера победным аккордом. На протяжении
трех лет он вел публичную дискуссию по поводу спонтанного зарождения жизни.
Его оппонентом был главный защитник этой теории во Франции - всеми уважаемый
натуралист и директор музея Естественной истории в Руане Феликс Архимед Пуше.
Дискуссия двух ученых вызывала столь бурный интерес, что Французская академия
наук решила попытаться разъяснить этот вопрос, присудив престижную премию
Д'Аламбера и вознаграждение в размере 2500 франков тому, кто сможет пролить
свет на этот вопрос. Пастер победил, и Академия высоко оценила его экспери-
ментальный подход. Победа обеспечила ему славу в христианских кругах, где его
сочли защитником традиционных религиозных устоев против ереси радикального
научного материализма.
Прошло три года с тех пор, как вышло французское издание книги Дарвина «О
происхождении видов», и Пастер начал свою речь с того, что суммировал волно-
вавшие аудиторию вопросы: «была ли жизнь сотворена тысячу лет или тысячу сто-
летий назад, были ли виды постоянными или медленно и последовательно изменя-
лись , превращаясь в новые виды». Пастер прекрасно владел ораторским искусст-
вом, но никогда не выступал так хорошо, как в тот вечер в Сорбонне. Подобно
шекспировскому Марку Антонию, пришедшему уничтожить Цезаря, а не вознести ему
хвалу, Пастер начал с того, что не сумеет ответить ни на один из этих вопро-
сов , но затем дал понять, что может ответить на все.
Пастер обобщил основные идеи теории эволюции, кратко пересказав суть книги
«Море» историка Жюля Мишле, которую читали многие из собравшихся: «Просто
возьмем каплю морской воды, и из этой воды, в которой содержится немного не-
живого азотного вещества, морского ила или, как он его называет, плодородного
желе, в результате спонтанного зарождения возникают первые существа, которые
затем постепенно трансформируются, и усложняются, и достигают, скажем, через
десять тысяч лет уровня насекомых, а через сто тысяч лет уровня приматов и
самого человека». Но за всем этим кроется один ключевой вопрос: «Действитель-
но ли вещество может организовываться самопроизвольно? И могут ли живые суще-
ства появляться на свет без родителей и предков?» Если жизнь - лишь результат
естественных процессов, мы неизбежно приходим к выводу о ненужности Творца.
Далее Пастер пересказал историю развития теории спонтанного зарождения - от
ван Гельмонта до Нидхема, Бюффона и более современных мыслителей. Однако, как
заметил Пастер, все эти достойные люди упускали из внимания одну вещь. В этот
момент свет в аудитории начал гаснуть, и лишь один яркий луч светил в сторону
кафедры (в этом луче мерцали тысячи пылинок). Именно эта пыль, указал Пастер,
была причиной того, что многие великие мыслители прошлого пришли к ошибочному
выводу о возможности спонтанного зарождения жизни: в этой пыли содержится
множество невидимых крошечных микроорганизмов. Используя термин сторонников
концепции «преформирования», Пастер назвал их «зародышами». Благодаря этой
идее Пастер стал одним из самых знаменитых ученых в истории человечества.
До конца жизни Пастер, установивший причины развития инфекционных заболева-
ний и возможности их предотвращения и уже занявший предназначавшееся ему ме-
сто в пантеоне великих ученых мира, утверждал, что самым важным вопросом, над
которым ему пришлось размышлять, - о возможности спонтанного зарождения. Во-
прос этот, особенно во Франции, нес метафизическую нагрузку. Концепция спон-
танного зарождения жизни была важнейшим элементом эволюционной теории Жана-
Батиста Ламарка и открыто противостояла идее божественного происхождения жиз-
ни. По мере того как во Франции усиливалась политическая роль католической
церкви, этот вопрос становился политическим, и его решение было столь же из-
менчивым, как политическая ситуация в постреволюционной Франции.
Ламарк разрабатывал свою теорию на рубеже XVIII и XIX вв., в беспокойные
революционные дни, будучи профессором Ботанического сада - так революционеры
стали называть бывшие Королевские сады Парижа. Его взял на работу сам Бюффон,
и многие воспринимали его как протеже Бюффона. Молодая, революционно настро-
енная публика очень полюбила лекции Ламарка об устройстве постоянно движуще-
гося и изменяющегося мира. Он даже осмелился предположить, что природа сама
способна создавать жизнь. Когда-то такие заявления грозили преследованиями и
даже смертью, и подобных идей придерживались только атеисты и маргиналы, од-
нако революция сделала их привлекательными для многих.
По мере усиления консерватизма в обществе и государстве после реставрации
монархии Бурбонов идеи Ламарка начали подвергаться критике. В 1830-х гг. тео-
рия эволюции во Франции переживала серьезную проверку. В это время вопросом о
возможности спонтанного зарождения занялись двое самых известных ученых,
представлявших два противоположных полюса эволюционного скептицизма: Жорж Ле-
опольд Кювье и Этьен Жоффруа Сент-Илер.
Оба ученых, подобно Ламарку, ранее были профессорами анатомии в Ботаниче-
ском саду Парижа. Оба принадлежали к ближайшему окружению Наполеона: Кювье
руководил воспитанием сына императора, а Сент-Илер сопровождал Наполеона во
время краткого вторжения французов в Египет.
Их научные и политические пути начали расходиться после реставрации Бурбо-
нов. После высылки Наполеона общительный, харизматичный и гибкий в политиче-
ском плане Кювье легко свыкся с новым политическим порядком. Он продолжал
взбираться по ступеням французской академической лестницы, заняв несколько
престижных постов, получил дворянское звание и даже присутствовал на корона-
ции Карла X в 1827 г.
Интерес к науке возник у Кювье еще в детстве, после прочтения «Естественной
истории» Бюффона. Вскоре он увлекся палеонтологией и стал одним из ведущих
деятелей французской науки. Еще во времена Леонардо да Винчи натурфилософы
поняли, что окаменелости представляют собой останки существ из прошлого. Бюф-
фон одним из первых заявил, что чаще всего это останки существ, которых уже
нет в современном мире, но мало кто поверил в это предположение. Зачем, спра-
шивали они, Богу понадобилось создавать существ, которые должны были умереть?
Но, не принимая идеи вымирания видов, геологи все же пытались объяснить ва-
риации все новых и новых палеонтологических образцов.
Исследуя скелеты сибирских мамонтов, Кювье постепенно убеждался в том, что
они совершенно отличались от скелетов животных, населявших современную плане-
ту. Окончательная уверенность пришла к нему после изучения окаменевших костей
существа, которого он назвал мастодонтом. В статье на эту тему, написанной в
1799 г. и ставшей признанным образцом палеонтологического исследования, он
однозначно доказал, что в истории Земли действительно были случаи естествен-
ного вымирания живых существ. Однако Кювье не принял идею Ламарка о том, что
образующиеся новые виды занимают место исчезнувших. Резкие изменения характе-
ра окаменелостей в отдельных регионах, по мнению Кювье, просто указывали на
миграцию уже существовавших видов на территории, ранее занятые вымершими ви-
дами. Кювье любил замечать, что его концепция природных катастроф замечатель-
но согласуется с тем, что сказано в Библии. На самом деле, религия мало инте-
ресовала Кювье, и люди, знавшие его в молодые годы, удивлялись, когда он об-
винял своих оппонентов в научных спорах в «материализме». Он всегда был поли-
тическим оппортунистом.
Ламарк от него сильно отличался. Верный своим идеям и неуступчивый в соци-
альном плане, он постепенно оказывался в изоляции и подвергался неодобрению
даже со стороны бывших коллег из Ботанического сада. Последние годы жизни он
постоянно нуждался в деньгах и пытался найти того, кто бы выслушал его рево-
люционные теории. Когда в 1829 г. нищий и почти слепой Ламарк умер, Кювье со-
чинил обвинительную поэму с обращением к Французской академии наук, полную
лицемерных комплиментов в адрес Ламарка, в частности, отмечая его «дар <...>
высокого воображения».
Сент-Илер предпочитал не поднимать голову, пока дули политические ветра, а
заниматься своей работой. Он иначе, чем Кювье, оценил значение окаменелостей,
и его интерпретация была ближе к концепции Ламарка. Там, где Кювье видел раз-
личия, Сент-Илер подмечал сходство. Человеческая кисть, птичье крыло и кито-
вый плавник почти идентичны по анатомической структуре, только служат для
разных целей. Приобретенные вариации являются результатом столетий адаптации
- в соответствии с идеями Ламарка. Сент-Илер не зашел настолько далеко, чтобы
заявить, что все живые существа эволюционировали от единого общего предка,
однако он утверждал, что все позвоночные (все существа, имеющие позвоночный
столб) восходят к единому общему предшественнику. Карикатуристы тут же начали
рисовать Сент-Илера в виде обезьяны. На протяжении всего столетия сторонников
теории эволюции часто изображали подобным образом.
В конечном итоге Кювье и Сент-Илер возглавили разные отделы парижского Му-
зея естественной истории, где каждый использовал свой авторитет для продвиже-
ния собственной интерпретации находившихся в его распоряжении костей и окаме-
нелостей. В 1830 г. Французская академия наук решила организовать в музее
публичный диспут между двумя учеными, который продлился почти два месяца. На
заседаниях в разные дни выступали Оноре де Бальзак, Гюстав Флобер и Жорж
Санд. Казалось, за дебатами следила вся Франция и не только. Находившийся в
Швейцарии немецкий поэт Иоганн Вольфганг фон Гёте с интересом следил за всеми
перипетиями процесса. В немецких академических кругах идея естественного про-
исхождения жизни завоевала гораздо больше доверия, чем во Франции, и концеп-
цию спонтанного зарождения обсуждали редко. В письме другу Гёте сравнивал де-
баты в музее с извержением вулкана. Когда в конечном итоге консервативная
Французская академия сочла победителем Кювье, Гёте был страшно разочарован.
Он связывал этот исход событий лишь с влиянием старой гвардии. Франция стано-
вилась все более консервативной страной, и концепция спонтанного зарождения
сохраняла силу еще около двух десятилетий.
В период знаменитого столкновения между Кювье и Сент-Илером Пастеру было
десять лет. Научная среда Франции была политически поляризованной, что сказа-
лось на научном мировоззрении Пастера и его поиске своего места в науке. В
политике Пастер был консерватором и в биологии выступал против материализма.
Подобно Кювье, он поддерживал традицию и католичество.
Научная репутация Пастера во Франции сложилась быстро, но этот путь не был
легким и предсказуемым. Пастер родился в 1822 г. в семье бедного красильщика
кожи из маленького городка Доль на востоке Франции. В колледже он увлекся хи-
мией и мало интересовался науками о жизни, ставшими полем его деятельности в
более поздние годы. Первый университетский пост он получил в качестве профес-
сора физики в университете Страсбурга.
Пастер еще в юности заинтересовался природой кристаллов, как Эндрю Кросс.
Изучение кристаллов в страсбургский период впервые подвело Пастера к вопросу
о природе жизни. Работая на примитивном поляриметре (приборе, измеряющем
взаимодействие химических веществ со световым лучом), Пастер начал анализиро-
вать поведение луча света в растворах винной кислоты, содержащейся в таких
фруктах, как виноград и тамаринд. Винную кислоту уже научились производить
синтетическим путем и под названием «рацемическая кислота» продавали в каче-
стве добавки для повышения качества хлеба. Пастер обратил внимание, что вин-
ная и рацемическая кислоты, хотя и идентичны по составу, совершенно по-
разному влияют на поведение поляризованного света. Раствор винной кислоты по-
ворачивал плоскость поляризации света по часовой стрелке, тогда как раствор
рацемической кислоты, казалось, не оказывал на луч никакого влияния.
Пастера удивило это различие, и в результате тщательного анализа с помощью
увеличительных стекол он обнаружил, что при кристаллизации рацемической ки-
слоты образуются два типа кристаллов, которые идентичны во всех отношениях,
но являются зеркальными отражениями друг1 друга. Пастер терпеливо разделил
кристаллы двух типов, поместив их в разные емкости, он растворил их и обнару-
жил, что растворы поворачивали поляризованный свет в противоположных направ-
лениях и что кристаллы одного типа были идентичны кристаллам природной винной
кислоты. Пастер понял, что синтетический продукт был смесью равных количеств
природной формы винной кислоты и ее зеркального изомера.
Так Пастер столкнулся с явлением хиральности. Теперь химикам известно много
хиральных молекул, то есть молекул, не совмещающихся в пространстве со своим
зеркальным отражением, как перчатки для левой и правой руки. В обеих молеку-
лах содержится одинаковое число атомов, соединенных между собой одинаковым
образом, но их нельзя наложить друг на друга, как правую перчатку нельзя на-
ложить на левую. Оказывается, большинство важнейших для биологии молекул, та-
ких как компоненты белков и нуклеиновых кислот, являются гомохиральными: ори-
ентация всех этих молекул одинакова - это либо левовращающие, либо правовра-
щающие изомеры. На протяжении всего следующего столетия биохимики обсуждали
смысл явления гомохиральности биологических молекул, а Пастер в результате
своего открытия укрепился в виталистической идее о принципиальном различии
между живой и неживой материей.
В 1854 г. Пастер стал профессором химии и деканом научного факультета в
университете Лилля. Вскоре он занялся вопросом, имевшим еще более очевидное
биологическое значение, а именно, производством спирта. Его интересовало, по-
чему в процессе брожения образуется спирт. Эта загадка волновала многих лю-
дей , начиная с древнейших времен.
Лилль был французским центром производства свекловичного сахара. Во времена
Наполеона во Франции были перебои с сахаром из-за десятилетней блокады со
стороны Великобритании, поэтому Наполеон поощрял производство сахарной свеклы
внутри страны. Французские мастера по перегонке спирта научились производить
из свекольного сока нечто вроде рома, но превратить его в качественный алко-
голь оказалось делом нелегким: жидкость имела интенсивный кислый вкус и не-
приятный запах. К моменту прибытия Пастера в Лилль производители спиртовой
продукции были в отчаянии. Отец одного из студентов Пастера, состоятельный
промышленник, пришел к ученому с просьбой помочь в разрешении проблемы, с ко-
торой столкнулась местная промышленность. Пастер имел незначительный опыт в
биологии, но решил помочь. Вскоре жена Пастера писала своему отцу, что Пастер
«по шею погрузился в свекольный сок».
В подвале старой сахарной фабрики Пастер организовал самодельную лаборато-
рию, в которой не было практически никакого оборудования, кроме примитивного
отапливаемого углем инкубатора. Однако там был предмет, который, как ни
странно, тогда довольно редко встречался в химических лабораториях, - стан-
дартный учебный микроскоп, позаимствованный Пастером в университете. В те
времена химики измеряли и взвешивали вещества и экспериментировали с ними,
чтобы вывести абстрактные химические формулы, а биологи и физиологи исследо-
вали свои объекты, используя микроскопы для анализа их тонкой структуры. На-
блюдая за процессом брожения при помощи микроскопа, Пастер начал понимать его
так, как не понимал ни один химик.
Все знали, что брожение - ключевой этап в производстве спирта. Однако ниче-
го конкретного о сути этого процесса известно не было. Пивовары и виноделы
знали, что в закваске содержатся дрожжи. Первыми дрожжевые клетки разглядел
Антони ван Левенгук; это были овальные микроскопические клетки, беспорядочно
двигавшиеся под стеклами его микроскопа. Но поскольку он не заметил, чтобы
они могли двигаться самостоятельно, он не счел их живыми организмами. Само
слово yeast (дрожжи) было производным от староанглийского слова, обозначавше-
го пену. Когда Пастер начал изучать процесс брожения, мало кто из ученых по-
дозревал, что именно дрожжи, даже если они живые, играют ключевую роль в об-
разовании спирта. Антуан Лавуазье - заметная фигура в истории химии - при по-
пытках описать процесс брожения практически полностью игнорировал присутствие
дрожжей. Однако в 1830-х гг. некоторые ученые начали подозревать, что пивные
дрожжи, на самом деле, представляют собой сгустки микроорганизмов и являются
важнейшим участником реакций брожения.
С помощью поляриметра Пастер установил, что закваска тоже проявляет поляри-
зационные свойства. Имея опыт работы с кристаллами кварца, он понял, что за-
кваска является продуктом жизнедеятельности, поскольку лишь живые организмы
способны производить химические соединения, состоящие из несимметричных моле-
кул . Он также обнаружил, что клетки дрожжей со временем изменяют форму: сна-
чала удлиняются, а затем расщепляются, образуя новые клетки. Пастер пришел к
выводу, что это живые организмы и что именно они являются источником образую-
щегося при брожении спирта.
Гипотеза Пастера имела множество следствий, причем не только для получения
спирта. Стало ясно, что брожение - ключевой процесс не только в производстве
спирта; этот химический процесс лежит в основе распада любой органической ма-
терии. Связав гниение с деятельностью микроорганизмов, Пастер обнаружил новый
способ сохранения пищевых продуктов. В начале 1862 г. другой французский уче-
ный, Клод Бернар, показал, что нагревание молока, вина или пива до высокой
температуры убивает бактерий и плесень, предотвращает порчу и позволяет доль-
ше сохранять продукты свежими. Данный метод обработки продуктов питания позд-
нее был назван пастеризацией.
С момента изобретения пастеризации до выступления Пастера в Сорбонне по во-
просу спонтанного зарождения жизни прошел примерно год. Однако Пастер не счел
нужным даже упомянуть о своем открытии, поскольку считал, что вопрос о спон-
танном зарождении во Франции был слишком важным в метафизическом плане.
Впервые он обратился к изучению вопроса о спонтанном зарождении в 1859 г.,
когда в Англии вышла книга Дарвина «О происхождении видов». Пастер писал сво-
ему коллеге, что собирается «предпринять решающий шаг для окончательного ре-
шения знаменитого вопроса». За год до этого Феликс Пуше представил во Фран-
цузскую академию наук статью, в которой заявлял, что выполненные им экспери-
менты доказывают возможность спонтанного зарождения жизни. Пуше был замеча-
тельным врачом, натуралистом и автором нескольких популярных книг о естест-
венной философии Аристотеля. Кроме того, он был истинным католиком, в отличие
от Пастера, который нечасто посещал церковь. Пуше предпочел заявить, что не
пытается оспорить принятую в христианстве концепцию божественного происхожде-
ния жизни, но хочет попытаться оживить этот вопрос в свете идей святого Авгу-
стина. Процесс самозарождения, по его мнению, был лишь одним из способов, на-
ряду с другими, которые Господь использовал для сотворения жизни. Тем не ме-
нее, ученые консервативного толка обвинили его в том, что он оживил материа-
листические идеи, дискредитированные Кювье в результате его кажущейся победы
над Сент-Илером.
Пуше не мог выбрать худшего момента для написания статьи. Католичество во
Франции набирало силу и политизировалось. Интересы католической церкви были
синонимом интересов государства. В 1848 г. прошли первые в истории страны вы-
боры путем прямого голосования. Племянник Наполеона Бонапарта Луи Наполеон
Бонапарт одержал сокрушительную победу, поддержанный католиками, которым обе-
щал восстановить католическую власть в стране, поднять престиж церкви и под-
держать римского папу. Через три года он осуществил государственный переворот
и объявил себя императором Наполеоном III. Была восстановлена цензура, в тю-
ремное заточение было отправлено около шести тысяч политических оппозиционе-
ров, некоторые из них - во французские колонии. Виктор Гюго, ставший олице-
творением французского национального сознания, публично назвал императора
предателем и покинул страну, отправившись в самовольное изгнание вплоть до
конца правления Наполеона III.
Кроме того, Пуше нужно было учитывать, как его идеи будут восприняты после
публикации книги Дарвина, всколыхнувшей споры между сторонниками Кювье и
Сент-Илера. Напряжение усилилось в 1861 г. после публикации первой француз-
ской версии книги. Книгу перевела Клеманс Руайе, которая впоследствии стала
первой женщиной, принятой во Французскую академию наук. Она написала к книге
длинное предисловие с обвинениями в адрес католической церкви. Дарвин, кото-
рый ничего не знал о Руайе до того, как она занялась переводом его книги,
позднее писал своему другу американскому ботанику Азе Грею, что она была «од-
ной из самых умных и необычных женщин в Европе», которая «ненавидит христиан-
ство и заявляет, что естественный отбор и борьба за жизнь объясняют и мораль,
и человеческую природу, и политику». Еще Дарвин сообщал, что Руайе планирует
написать собственную книгу на эту тему и что это «будет странное произведе-
ние» .
В начале научной карьеры Пастер часто вступал в споры с именитыми учеными,
чтобы повысить собственный престиж. В момент его столкновения с Пуше тому бы-
ло уже 62 года, и он считался главным в стране специалистом по спонтанному
зарождению жизни. Пастеру было 37 лет. И хотя он многих удивил результатами
работы по изучению процесса брожения, в целом он редко занимался биологиче-
скими проблемами.
Для опровержения результатов Пуше Пастер пытался отыскать дефекты в старых
экспериментальных методах. Сложность изучения спонтанного зарождения отчасти
объяснялась необходимостью контролировать присутствие воздуха в реакционных
сосудах. В то время считалось, что всем организмам для жизни нужен кислород,
так что для создания условий для спонтанного зарождения после стерилизации
приходилось вновь вводить в систему кислород. Благодаря опыту, полученному
при изучении брожения, Пастер задумался о том, не могут ли микроорганизмы по-
падать в реакционную среду с частицами пыли из воздуха. Для проверки своей
гипотезы он сконструировал простой аппарат, с этого момента ставший символом
пастеровского гения, - сосуд с длинной «лебединой» шеей. Прекрасный и функ-
циональный, он имел круглое основание и длинное тонкое горлышко, изогнутое,
как лебединая шея. Воздух через такое горлышко проходил, а вот пыль и, воз-
можно, переносимые с воздухом микроорганизмы застревали в многочисленных его
изгибах. Пастер поместил в колбы питательный бульон, такой же, как когда-то
использовал Нидхем, вскипятил его, а затем некоторые колбы запаял над огнем,
а другие оставил открытыми для доступа воздуха. Он оставил колбы стоять дни и
даже недели. Среда в колбах с запаянным горлышком осталась стерильной, но,
что гораздо важнее, среда в открытых колбах тоже не заросла. В заключение
эксперимента Пастер отбил запаянный край горлышка у закрытых колб и оставил
их стоять открытыми - и они продолжали оставаться стерильными.
Учрежденная Академией наук комиссия объявила Пастера «несомненным» победи-
телем, что и стало причиной его триумфальной лекции в Сорбонне. На самом де-
ле, поражение Пуше было предопределено с самого начала. Дело в том, что ко-
миссия состояла в основном из консерваторов, многие из которых уже высказыва-
лись против идеи спонтанного зарождения, поскольку считали ее проявлением ма-
териализма. Пастер, по их мнению, не только продемонстрировал, что «грубая
материя сама не может организовываться таким образом, чтобы создать растение
или животное», но также подтвердил теорию витализма, заключающуюся в том, что
«жизненная сила последовательно проходит через непрерывную цепь существ с са-
мого момента творения». В результате утвердилась репутация Пастера в качестве
экспериментатора, а обнаружение переносимых с воздухом микроорганизмов при-
близило его к одному из его самых выдающихся научных достижений - созданию
микробной теории инфекционных заболеваний. Однако вопрос о возможности спон-
танного зарождения жизни окончательно разрешен не был. Новая дискуссия разго-
ралась на другом берегу Ла-Манша, где усиливала позиции дарвиновская теория
эволюции.
Кипячение убивает все
микроорганизмы, нахо-
дящиеся в питательной
среде
S-образное горлышко
открыто для ноздуха, но
не дает возможность
микроорганизмам про-
никнуть в колбу
X
Если горлышко
омомано. 6а<!ерии
проникаю! в колбу...
...и быстро размножа-
ются q питательном
бульоне
Стерильный бульон
Опыт Пастера.
Однажды зимним вечером 1864 г. в отеле «Сент-Джордж» на улице Альбемарль,
недалеко от площади Пикадилли и по соседству с гигантским зданием штаб-
квартиры Королевского общества, собралась группа из восьми достойного вида
джентльменов. Среди них были самые выдающиеся и заслуженные деятели науки
Британской империи. Один из них, анатом Томас Генри Хаксли, позднее заявлял,
что собравшиеся могли бы написать «большую часть статей для научной энцикло-
педии» . В этот вечер они решили организовать эксклюзивный полуформальный
клуб, чтобы, как писал Джозеф Гукер своему близкому другу Чарльзу Дарвину,
«служить чистой и свободной науке, не замутненной религиозными догмами». Объ-
единившись в своеобразный тайный комитет, они рассчитывали использовать свое
влияние, чтобы открыть перед британской наукой двери в современный мир. Трое
из собравшихся впоследствии были удостоены титула президента Королевского об-
щества, а пятеро остальных возглавляли Британскую ассоциацию содействия раз-
витию науки. Свой тайный комитет они назвали Икс-Клубом37.
Клуб был закрытым - в нем не могло состоять более десяти человек. В какой-
то момент к работе клуба был допущен девятый участник, но десятое место так и
осталось вакантным. Возможно, оно негласно предназначалось для Чарльза Дарви-
на: примерно половина членов клуба были его близкими друзьями. Вскоре клуб
стал неформальным руководящим центром по распространению эволюционной теории
в Великобритании. Одним из первых результатов деятельности клуба было награж-
дение Дарвина медалью Копли - высшей наградой Королевского общества. Выбор
стоял между Дарвином и Адамом Седжвиком, выдвинутым Ричардом Оуэном. При го-
лосовании Дарвин едва обошел своего бывшего профессора, но это был символиче-
ский момент, показавший, как быстро изменяется лицо британской науки. Сослав-
шись на недомогание, Дарвин не пришел на праздничную церемонию, что было для
него весьма характерно.
С горячей речью в поддержку Дарвина выступил Хаксли. Ему удалось убедить
многих, кто все еще скептически относился к эволюционным идеям Дарвина, как
когда-то к ним относился и сам Хаксли, но в последнее десятилетие стал одним
из самых горячих сторонников эволюционной теории. Сам себя он называл «буль-
догом Дарвина», и это прозвище за ним закрепилось.
Дарвин не был талантливым оратором. Выступая на публике, он легко отвлекал-
ся и так сильно размахивал руками, что слушатели чувствовали себя неудобно.
Хаксли, напротив, был прирожденным оратором и прекрасно играл эту роль, когда
его просили. Первый и самый знаменитый случай произошел в 1860 г., на заседа-
нии Британской ассоциации содействия развитию науки, вошедшем в историю раз-
вития эволюционной теории. Заседание проходило в Оксфорде под руководством
епископа Сэмюэла Уилберфорса, закоренелого тори, которого либеральная газета
Daily Telegraph однажды отнесла к числу людей, которые «ни на йоту не сдвига-
ются со своих исходных позиций».
Уилберфорс и Хаксли вступили в дискуссию по поводу достоинств эволюционной
теории. За ходом дискуссии следило 700 человек, так что обсуждение пришлось
перенести в большой зал Музея естественной истории Оксфорда, созданный в нео-
готическом стиле с нависавшим над входом рельефным изображением ангела. В
конце выступления Уилберфорс, поддерживаемый Ричардом Оуэном, спросил Хаксли,
происходил ли тот от обезьяны по материнской или по отцовской линии. Присут-
ствующие, уже находившиеся в напряжении ввиду серьезности дискуссии, начали
Члены Икс-Клуба участвовали в организации двух научных журналов - Natural History
Review и Weekly Reader, - в которые они направляли большую часть своих публикаций.
Оба журнала не выдержали конкуренции, но затем появился третий журнал, Nature, вы-
пускавшийся другом Хаксли - Александром Макмилланом, прославившимся своими «табачны-
ми вечерами», на которых обсуждали идеи дарвинизма и другие аспекты эволюционной
теории. Первую статью для первого выпуска журнала написал Хаксли, но и другие члены
клуба принимали в его работе активное участие. Сегодня число читателей журнала
Nature составляет около 450 тыс. человек, и он, по-видимому, является самым влия-
тельным периодическим научным изданием. - Прим. авт.
неодобрительно высказываться. Стараясь быть услышанным в поднявшемся шуме,
Хаксли ответил, что предпочитает вести свой род от обезьяны, чем от кого-то,
кто препятствует прогрессу науки. Одна женщина лишилась чувств. Среди всеоб-
щей суматохи поднялся бывший капитан «Бигля» Роберт Фицрой, поднявший над го-
ловой огромную Библию и призывавший собравшихся не забывать о Боге38.
Это был первый случай, когда христианство вступило в формальную дискуссию
против научной мысли. Хаксли вышел из нее победителем не только в глазах сто-
ронников эволюционной теории, но и в глазах многих рационально мыслящих лю-
дей, включая либерально настроенных христианских теологов, которых он и Дар-
вин надеялись привлечь на свою сторону. На самом деле, священнослужители со-
ставляли большую часть слушателей, присутствовавших на этом собрании в Окс-
форде . Хаксли понимал, что среди них было немало людей, готовых поверить в
эволюционную теорию. Хотя он был бескомпромиссным человеком, иногда, особенно
во время публичных выступлений, он умел весьма деликатно касаться религиозных
вопросов и по возможности пытался сдерживать натиск атеистического лагеря.
Неверующих людей с материалистическими взглядами, таких как он сам, он назы-
вал агностиками. По этой причине в глазах священнослужителей он был менее
опасен, чем откровенные атеисты.
Одну из важнейших задач члены Икс-Клуба видели в формировании нового поко-
ления профессиональных британских ученых. Занятия натурфилософией долгое вре-
мя были доступны только для богатой и привилегированной публики, и не менее
половины из 500 членов Королевского общества были приняты туда исключительно
благодаря своему социальному статусу. Первую женщину в Королевское общество
приняли лишь в 1945 г. Икс-Клуб ратовал за создание организации меньшего раз-
мера, объединявшей настоящих ученых из разных классов общества в противовес
раздутой структуре, состоящей из высокородных джентльменов, для которых наука
была лишь приятным времяпрепровождением. Такие люди, как Альфред Уоллес и Луи
Пастер, построили научную карьеру исключительно благодаря своим личным каче-
ствам. То же самое можно сказать и о самоучке Хаксли.
Хаксли был восьмым ребенком в семье безработного учителя математики и про-
учился в школе не более двух лет, до того как ему исполнилось десять. Тем не
менее, он самостоятельно выучил немецкий, латынь и греческий. Поступив на ме-
дицинский факультет, он влез в долги и поэтому после окончания учебы согла-
сился на должность помощника корабельного врача на судне «Рэтлснейк» Королев-
ских военно-морских сил, которое отправлялось с исследовательскими целями к
берегам Австралии и Новой Гвинеи. Его записки о морских беспозвоночных оказа-
лись удачными, что убедило его полностью сосредоточиться на натуралистических
исследованиях.
Хаксли по собственному опыту знал, насколько трудно заниматься наукой без
протекции, и с удовольствием помогал молодым эволюционистам в Великобритании
и за ее пределами. Он не только давал им советы по теории и методологии, но и
пытался помочь выработать привычки и характер настоящего ученого. Пытаясь
распространить идею эволюции, невзирая на препоны теологов и сторонников тра-
диции, Хаксли, знаменитый своим бойцовским характером, часто бывал весьма ос-
торожен и знал, когда стоит отступить, если речь шла о недоказанных утвержде-
ниях . В такие моменты он повторял «не стоит волноваться». Когда-то он покро-
вительствовал блестящему молодому ученому Генри Чарлтону Бастиану, который не
последовал его советам в том, что касалось изучения происхождения жизни. До
этого Бастиан был первым в длинном списке дарвинистов, пытавшихся опытным пу-
тем ответить на вопрос, от решения которого уклонялся сам Дарвин, - о проис-
хождении жизни. Он также был последним серьезным ученым, пытавшимся доказать
Через пять лет из-за финансовых неурядиц Роберт Фицрой покончил с собой. - Прим.
авт.
справедливость идеи о спонтанном зарождении в том смысле, в котором эта идея
существовала со времен Аристотеля, то есть доказать, что спонтанное зарожде-
ние - один из реальных и постоянно действующих процессов.
Бастиан был сыном торговца из Корнуолла и представлял ту разрастающуюся по-
пуляцию английских ученых скромного происхождения, которых стремился поддер-
живать Хаксли. Он был одаренным человеком и в возрасте 19 лет написал сложную
книгу по ботанике. До окончания Университетского колледжа Лондона в 23 года
он опубликовал важное исследование по зоологии, в котором описал сотню новых
видов нематод (круглых червей).
Первой должностью Бастиана после окончания университета была должность по-
мощника хранителя университетского музея патологической анатомии. Затем ему
предложили стать врачом в Бродмуре - недавно открывшемся первом в Англии уч-
реждении для психически больных преступников. Большинство людей сочли бы оба
этих занятия довольно мрачными, но Бастиан именно этого и хотел. Его специ-
альностью была нейробиология, и его чрезвычайно интересовали тайны сознания.
Он придерживался концепции так называемого физикализма. В XIX в. большинство
людей считали сознание нематериальным, а сторонники физикализма, напротив,
полагали, что сознание - лишь продукт физиологической активности. Сознание
контролируется головным мозгом, как поток крови контролируется сердцем. Все
аспекты умственной деятельности человека связаны с активностью определенных
участков головного мозга, так что повреждения этих зон могут приводить к из-
менениям мыслительных способностей и даже свойств личности.
Исходя из принципа материальных механизмов мышления, Бастиан многого достиг
в понимании афазии (нарушении речи) после инсульта. Благодаря результатам
своих исследований в 1868 г. он стал членом Королевского общества, завоевал
надежную репутацию среди британских медиков и получил должность в Националь-
ном госпитале - первом британском госпитале, специализировавшемся на невроло-
гических расстройствах. До этого времени людей с мозговыми нарушениями, таки-
ми как афазия, часто отправляли в учреждения для душевнобольных.
В Национальном госпитале Бастиан предпринял серию экспериментов с целью
возродить идею спонтанного зарождения, которая, по мнению многих, была похо-
ронена усилиями Пастера. За смотровой ширмой Бастиан установил лабораторный
стол и начал проводить опыты с кипяченым сенным настоем в герметично запаян-
ных сосудах. Из его экспериментов, как и ранее из экспериментов Нидхема, сле-
довало , что спонтанное зарождение возможно.
Бастиан считал, что ему удалось продвинуться вперед в решении вопроса, ко-
торый Дарвин оставил без ответа, а именно, как начался процесс эволюции. Кон-
цепция спонтанного зарождения была для Бастиана ключевым элементом теории
эволюции, о которой он узнал от человека, который когда-то обучал Чарльза
Дарвина, - от радикально настроенного профессора Роберта Гранта. Грант поки-
нул Эдинбург и поступил на службу в Университетский колледж Лондона со свет-
скими принципами обучения. Здесь Грант продолжал преподавать теорию эволюции
в широком ламарковском значении, в том числе объяснял происхождение жизни.
Для того чтобы подчеркнуть значение спонтанного зарождения не просто как ис-
точника жизни в старом аристотелевском смысле, но как источника всех форм
жизни в свете теории эволюции, Бастиан использовал для обозначения этого по-
нятия термин «архебиоз» (от греч. arche - начало и typos - образ, начало жиз-
ни) .
Медицинское сообщество приветствовало попытки Бастиана вновь открыть вопрос
о возможности спонтанного зарождения. В этот период в Великобритании медицина
была одной из самых передовых областей науки, где все еще с готовностью от-
кликались на идеи таких людей, как, например, Роберт Грант. Многие ранние со-
чинения Бастиана о спонтанном зарождении были опубликованы в лучших британ-
ских медицинских журналах. На страницах журналов Lancet и British Medical
Journal Бастиан утверждал, что между живой и неживой материей не существует
непреодолимой границы. Не может быть, чтобы в ходе всей истории эволюции при-
рода только и делала, что развивала результаты некоего чудесного невоспроиз-
водимого события, произошедшего в самом начале. С точки зрения Бастиана, эво-
люция была непрерывным процессом, начавшимся до того, как на планете появи-
лись первые живые организмы. Эти идеи, подкрепленные экспериментальными ре-
зультатами, легли в основу первой книги Бастиана на эту тему, называвшейся
«Начало жизни».
Многих эволюционистов взволновало, что кто-то попытался заполнить брешь,
преднамеренно оставленную Дарвином. Альфред Уоллес написал пылкую статью, и
по его рекомендации Дарвин прочел книгу Бастиана. В письме Уоллесу Дарвин на-
звал «удивительно сильными» приведенные Бастианом доказательства того, что
органическое вещество может образовываться из неорганического. И все же он
скептически отнесся к заявлению Бастиана о существовании неопровержимых экс-
периментальных доказательств в пользу спонтанного зарождения, хотя он «хотел
бы при жизни удостовериться в справедливости архебиоза, поскольку это было бы
открытием трансцендентной важности».
Поначалу книгу Бастиана встретили благосклонно, однако его имя и вопрос о
спонтанном зарождении оказались связанными с еще одной проблемой, которая все
сильнее начинала волновать научную общественность, - проблемой возникновения
заболеваний.
Для Великобритании это был вопрос чрезвычайной важности. За 40 лет в стране
произошло несколько сильнейших вспышек смертельно опасной холеры, впервые по-
разившей британских солдат в Индии в 1817 г. К 1831 г. болезнь распространи-
лась в России, а оттуда с морскими судами перекочевала в английский портовый
город Сандерленд, где местное начальство проигнорировало указ о введении ка-
рантина. Первая эпидемия унесла жизнь более 50 тыс. человек. К тому моменту,
когда Бастиан перешел на работу в Национальный госпиталь, общее число жертв
нескольких эпидемий превысило 250 тыс. человек. Холеру называли «синей смер-
тью» из-за синюшного цвета лица многих больных.
Через 100 лет холера стала сравнительно легким заболеванием, с которым мож-
но было справиться, если не допустить обезвоживания организма и потерю мине-
ральных солей. Однако во времена Бастиана основное лечение таких диуретиче-
ских заболеваний состояло в ограничении употребления воды, что обычно приво-
дило к смертельному исходу.
Возбудителем холеры является бактерия Vibrio cholerae, но в XIX в. большин-
ство британских врачей считали, что болезнь переносится через воздух в виде
паров - «миазмов» (от греч. miasma - грязь), и поэтому теорию распространения
заболеваний называли миазматической теорией. До сих пор сохранились медицин-
ские термины, подчеркивающие, что источником заболеваний является воздух; на-
пример , слово «малярия» означает «плохой воздух». Индустриализация и активное
сжигание угля способствовали тому, что над Лондоном постоянно висел серо-
коричневый туман, который мы сегодня назвали бы смогом, поэтому людям было
совершенно ясно, что грязный воздух может быть опасен для здоровья. Кроме то-
го, холера быстро распространялась среди городской бедноты, обитавшей в гряз-
ных и перенаселенных трущобах, где отсутствовала канализация. Для того чтобы
победить холеру, люди пытались предотвратить распространение нездорового воз-
духа: на зараженных улицах поджигали бочки с дегтем и уксусом, а дома опры-
скивали известковым раствором.
Когда Бастиан попытался экспериментальным путем подтвердить возможность
спонтанного зарождения жизни, уже приобретала популярность иная теория рас-
пространения заболеваний. Так называемая зимотическая теория, теперь больше
известная как микробная теория, предполагала, что причиной многих заболеваний
являются микроорганизмы. Теория не была новой, но ее распространению мешал
всем известный факт, заключавшийся в том, что заразиться холерой или похожим
заболеванием можно даже без непосредственного контакта с больным человеком,
достаточно просто находиться рядом и дышать с ним одним и тем же воздухом.
Долгое время было непонятно, как такое возможно, пока этим вопросом не занял-
ся Луи Пастер.
В 1865 г. Пастер получил письмо от знаменитого химика, католика и преданно-
го сторонника Наполеона III Жана-Батиста Дюма. С юга Франции, из центра заро-
ждающейся французской шелковой промышленности, Дюма писал о «невзгодах, кото-
рые невозможно даже вообразить».
С конца XVIII в. Франция постепенно начинала посягать на китайскую монопо-
лию по производству шелка. Большая часть производства концентрировалась во-
круг Лиона, ставшего шелковой столицей Европы. Многие леса были вырублены,
чтобы освободить пространство для тутовых деревьев с золотистыми листьями, на
которых жили шелковичные черви. Однако развитию экономики региона начала уг-
рожать загадочная болезнь шелковичных червей. Производители шелка обратились
за помощью к Пастеру. Хотя Пастер не имел большого опыта работы в биологии,
за исключением экспериментов по брожению, он с усердием начал искать источник
заболевания и, в конечном итоге, обнаружил микробов, паразитировавших на яй-
цах шелковичных червей.
Открытие Пастера спасло шелковое производство Франции, но оно также позво-
лило ученому заняться проблемой инфекционных заболеваний человека, что стало
его самым значительным вкладом в мировую науку. Интерес Пастера к инфекцион-
ным заболеваниям объяснялся и причинами личного характера: две его дочери в
раннем возрасте умерли от брюшного тифа.
Луи Пастер.
Считая спонтанное зарождение невозможным, Пастер пришел к выводу, что при-
чиной большинства заболеваний являются переносимые по воздуху микробы. Если
теория о переносе бактерий по воздуху справедлива, вполне вероятно, что бо-
лезнетворные бактерии распространяются так же. Распространение болезней бак-
териями по воздуху решало основную проблему микробной теории - объясняло за-
гадочный путь переноса инфекции без непосредственного контакта между людьми.
Поначалу большинство врачей, особенно в Британии, скептически восприняли
идею о том, что источником болезни являются переносимые по воздуху микробы.
Врачи часто находили бактерий в биологических образцах, но обычно считали их
результатом, а не причиной болезни. Большинство британских врачей считали,
что эти бактерии появляются в процессе спонтанного зарождения, и не верили в
идею Пастера о том, что микробы способны распространяться по воздуху. Бастиан
был главным поборником миазматической теории и утверждал, что его опыты по
спонтанному зарождению более убедительно объясняют присутствие бактерий, чем
теория Пастера. Бактерии не путешествуют по воздуху, а появляются спонтанно в
результате инфекции. Таким образом, дискуссия о возможности спонтанного заро-
ждения сплелась с дискуссией между сторонниками микробной и миазматической
теорий заболеваний.
Еще одним влиятельным членом Икс-Клуба был блестящий физик Джон Тиндаль,
занимавший престижную должность профессора естественной философии Королевско-
го института. На этом посту он сменил великого Майкла Фарадея. Тиндаль завое-
вал прочную научную репутацию благодаря экспериментальному изучению электро-
магнитных свойств кристаллов. Позднее он значительно продвинулся в объяснении
влияния инфракрасного излучения на состояние атмосферы и образование озона.
В свободное время Тиндаль увлекался альпинизмом. Он был первым человеком,
поднявшимся на Вайсхорн - один из высочайших пиков Швейцарских Альп, - и од-
ним из первых покорителей Маттерхорна. Во время экспедиции в Альпы в 1869 г.
Тиндаль упал в горное озеро и серьезно поранил ногу об острый гранитный вы-
ступ . Рана воспалилась, и он чуть не умер от абсцесса. Тиндаль поверил, что
за встречу со смертью были ответственны переносимые по воздуху бактерии. Он
стал одним из главных защитников теории Пастера о причинной роли микробов в
развитии заболеваний.
Встав на защиту микробной теории заболеваний, Тиндаль поссорился с Бастиа-
ном. Вскоре оба направили редактору Times целую серию писем по поводу микроб-
ной теории и спонтанного зарождения, и эти письма были напечатаны. Тиндаль
воспринимал эту переписку как битву между профессиональными учеными и «шарла-
танами» от медицины. Бастиан встал на сторону врачей, защищая их от вмеша-
тельства ученых других специальностей, не разбиравшихся в медицинских вопро-
сах. Так началось падение репутации Бастиана в глазах членов Икс-Клуба. Хакс-
ли пришел в ужас от того, что дискуссия между Тинадлем и Бастианом отразилась
на страницах Times. Он хотел, чтобы ученые единым фронтом продвигали эволюци-
онную теорию в британском обществе, и чувствовал опасность обнародования ссо-
ры между учеными, которых считал союзниками, учитывая, что Times была самой
популярной английской газетой. Кроме того, Бастиан нарушил важнейшее, по мне-
нию Хаксли, правило, согласно которому ученые должны проявлять уважение к бо-
лее опытным и образованным коллегам.
Вообще говоря, Бастиан начал испытывать терпение Хаксли еще до конфликта с
Тиндалем. Когда Бастиан только вступил на научное поприще, Хаксли взял моло-
дого человека под свою опеку. Он увидел в нем одаренного ученого, которого
можно было привлечь на сторону членов Икс-Клуба. Он лично несколько раз на-
блюдал за тем, как Бастиан выполняет эксперименты, чтобы убедиться в обосно-
ванности его выводов, и забеспокоился, когда в одной из пробирок Бастиана,
которые были запаяны и, казалось бы, стерильны, появились следы мха. Мох -
слишком сложный организм, который не может возникнуть спонтанным образом, но
Бастиан никак не комментировал этот результат, поэтому Хаксли не был уверен в
чистоте последующих экспериментов Бастиана. Он советовал Бастиану немного по-
дождать с публикацией трудов в виде отдельной книги. К такому непростому во-
просу, как вопрос о происхождении жизни, следовало подходить с осторожностью.
Самому Хаксли этот урок тоже дался нелегко. В 1868 г. он занимался изучени-
ем образца ила со дна Атлантического океана и обнаружил на его поверхности
интересную органическую слизь. Она не была похожа ни на один известный орга-
низм и, казалось, самопроизвольно возникла на поверхности стерильного образ-
ца. Хаксли подумал, что это могло быть недостающее звено между живой и нежи-
вой материей. Он назвал организм Bathybius haeckelii в честь немецкого фило-
софа и эволюциониста Эрнста Геккеля, который считал, что жизнь началась с
«первобытной слизи» (Urschleim, по определению немецкого натуралиста Лоренца
Окена). В книге «Естественная история мироздания» именно слизь Окена Геккель
называл первой ступенькой эволюционной лестницы. Однако другие ученые не со-
гласились с Хаксли, посчитав, что Bathybius - обыкновенный грибок. Хаксли по-
чувствовал себя в шкуре Эндрю Кросса. Когда в конечном итоге было показано,
что Bathybius представляет собой просто осадок сульфата кальция, выпавший из
морской воды под действием спирта в процессе обработки образца, Хаксли быстро
«перестал волноваться», написал открытое письмо в журнал Nature и признал
свою ошибку перед Британской ассоциацией содействия развитию науки.
Противники теории эволюции использовали ошибку Хаксли для доказательства
несостоятельности теории эволюции в целом. Эта история научила Хаксли остере-
гаться поспешных выводов, особенно когда доказательства кажутся опровержимы-
ми. Он был уверен в том, что жизнь появилась когда-то давно, причем очень
давно, когда условия на Земле были совсем другими. Он соглашался с Дарвином:
условий для спонтанного зарождения жизни в современном мире больше нет. По-
добно Бастиану, применившему термин «архебиоз» для описания спонтанного заро-
ждения, Хаксли тоже попытался вдохнуть новую жизнь в теорию, дав ей новое на-
звание. Хаксли использовал термин «абиогенез» (от греч. приставка а - не, bio
- жизнь, genesis - возникновение, небиологическое происхождение). Выбор тер-
мина говорил сам за себя: речь шла о процессе, протекание которого в настоя-
щее время невозможно, в отличие от того, что предполагал Аристотель. В отли-
чие от термина «архебиоз», термин «абиогенез» не предполагал, что так появи-
лись все формы жизни. Сам Хаксли был уверен, что архебиоз был источником всех
форм жизни, но считал, что идея эта достаточно проста и ее не стоит навязы-
вать людям.
Издание книги Бастиана «Начала жизни» поставило Хаксли в трудное положение.
Рядовые сторонники эволюционной теории приветствовали попытку Бастиана про-
лить свет на отправную точку эволюции, однако настрой Бастиана против идеи
креационизма отпугивал верующих и грозил свести на нет попытки Хаксли подго-
товить умеренных критиков к принятию эволюционной теории. Одним из тех, кто
видел множество научных подтверждений теории Дарвина, но боялся ее последст-
вий для религиозного мировоззрения, был американский математик, президент Ко-
лумбийского университета в Нью-Йорке Джордж Барнард. Он прочел книгу Бастиа-
на, и она показалась ему убедительной. Однако Барнард не мог принять теорию
эволюции, поскольку она противоречила его моральным убеждениям. В статье о
микробной теории заболеваний, непримечательной во всех иных отношениях, Бар-
нард размышлял о том, как теория эволюции и концепция спонтанного зарождения
могли бы повлиять на его собственные религиозные взгляды. Он сформулировал
один из самых выразительных аргументов в защиту веры против разума:
«Нам говорят, что принятие этих [эволюционных] взглядов не должно поколе-
бать нашу веру в существование Всемогущего Творца. Нам красноречиво объясня-
ют, что это даст нам более сложное и более точное понимание тех путей, по ко-
торым Он реализует Свою волю в акте созидания. Нам говорят, что наши сложные
организмы все же являются делом Его рук, хотя они эволюционировали в беско-
нечной череде изменений под действием микроскопических сил света, тепла и
притяжения, действующих на грубую минеральную материю. <...> Это действительно
серьезная концепция, которая утверждает, что Божество осуществляет Свою рабо-
ту с помощью этих всепроникающих влияний, которые мы называем силами природы;
однако она совершенно неспособна объяснить мудрость и благонамеренность, ко-
торые ежедневно дают жизнь мириадам чувствующих и разумных существ, а объяс-
няет лишь то, что они могут умереть на следующий день после рождения. Но это
не все. Если эта теория справедлива, все разговоры о творении или методах
творения теряют смысл; если она справедлива, Бог1 невозможен. <...> Если при
изучении природы я прихожу к теории, которая заставляет меня поверить, что
моя сознательная душа <...> лишь пар, возникающий на короткое время, а затем
исчезающий навсегда, то за эту правду я никогда не буду благодарен науке. Я
дорожу истиной, но еще больше я дорожу своей верой в бессмертие; и если ко-
нечный исход всех гордых открытий современной науки заключается в том, чтобы
сообщить людям, что они столь же недолговечны, как тень от крыла ласточки,
пролетающей над озером, <...> я прошу, не надо мне больше науки. Дайте мне жить
в моем простом неведении, как жили до меня мои предки, и когда меня призовут
к вечному покою, оставьте мне возможность накрыться простыней и погрузиться в
приятные, пусть даже обманчивые, мечты».
Дискуссия между Тиндалем и Бастианом относительно достоинств микробной тео-
рии постоянно возвращалась к вопросу о спонтанном зарождении. Важно было по-
нять , действительно ли Пастер доказал существование переносимых с воздухом
микробов. Тиндаль попытался опровергнуть результаты Бастиана, поскольку Хакс-
ли был невысокого мнения об экспериментальных возможностях Бастиана. Этот во-
прос сильно волновал Тиндаля: то, что Хаксли списывал на низкое качество экс-
перимента , он счел намеренным искажением результатов. Под нажимом Тиндаля в
дело вмешался Пастер, который в июле 1877 г. написал Бастиану письмо, отра-
жавшее не только глубокую заинтересованность Пастера данным вопросом, но и
боевой настрой, плохо совместимый с традиционным представлением об этом вели-
ком французе как о хорошо воспитанном и благодушном человеке: «Вы знаете, по-
чему для меня так важно бороться против Вас и победить? По той причине, что
Вы - один из главных сторонников той медицинской теории, которую я считаю
чрезвычайно вредной для искусства врачевания, - теории о самопроизвольном
возникновении всех болезней».
Хаксли в основном оставался в стороне от дебатов, однако, многие его колле-
ги с удовольствием в них включились. Наиболее яростным критиком Бастиана стал
молодой зоолог Рей Эдвин Ланкастер, позднее - один из самых влиятельных эво-
люционистов начала XX в. Достаточно злобный комментарий «Начал жизни» был
опубликован в журнале Quarterly Journal of Microscopical Science, в котором
Ланкастер назвал Бастиана «загипнотизированной жертвой заблуждения». По его
мнению, «такие заблуждения являются весьма интересным психологическим явлени-
ем, и только когда мы получим ясное представление о докторе Бастиане как об
аномальном психологическом феномене, мы сможем правильно оценить сделанные в
данной книге утверждения»39. Злобность нападок на Бастиана из лагеря дарвини-
стов сильно озадачила многих ученых из более широкого круга последователей
эволюционной теории, особенно тех, кто наблюдал за развитием событий из-за
рубежа.
Наконец, чтобы найти окончательные доказательства, Тиндаль решил сделать
нечто такое, что для него, как для физика, было весьма решительным шагом. Он
спланировал биологический эксперимент, с помощью которого хотел опровергнуть
результаты Бастиана. Он понимал, что важнее всего предотвратить загрязнение
образцов передающимися по воздуху микробами, для чего Пастер в свое время
придумал знаменитый сосуд с горлышком в форме лебединой шеи. Идея Тиндаля за-
ключалась в том, чтобы создать среду с «оптически чистым воздухом». Он скон-
струировал лабораторный шкаф со стеклянным смотровым окошком. Стены и дно
На самом деле, Хаксли пугало психическое состояние Ланкастера. Он писал другу,
что у Ланкастера «как говорится, «не все дома». «Я не знаю точно, что с ним, но в
нем есть какая-то нестабильность» (J. E. Strick, Sparks of Life, p. 101) . - Прим.
авт.
шкафа были покрыты липким глицериновым раствором. Это покрытие играло роль
современной липкой ленты для сбора пыли, так что вся пыль и, вероятно, микро-
бы должны были к нему прилипать. В этом шкафу Тиндаль проанализировал различ-
ные растворы, пытаясь обнаружить в них признаки спонтанного зарождения жизни.
Однако он не получил желаемых результатов. В каких-то пробирках, на самом де-
ле, появлялись микроорганизмы. Пытаясь понять причину происходящего, Тиндаль
обнаружил нечто, что, казалось бы, могло пролить свет на долгую и противоре-
чивую историю изучения спонтанного зарождения, начавшуюся с момента обнаруже-
ния микроорганизмов Левенгуком. Он нашел устойчивые к нагреванию споры, кото-
рые могли переживать воздействие высокой температуры, названные спорами Коха
- в честь немецкого бактериолога Генри Германа Роберта Коха. Тиндаль предло-
жил метод уничтожения спор путем многократного нагревания (метод тиндализа-
ции), используемый и в наше время.
Открытие Тиндаля объясняло появление микробов в пробирках Бастиана - это
были микробы, выросшие из переживших стерилизацию устойчивых к нагреванию
спор. Медицинское сообщество, наконец, восприняло идею перемещения микроорга-
низмов по воздуху, а также микробную теорию заболеваний. Бастиан, который так
никогда и не научился «не волноваться», переживал закат научной карьеры, так
удачно начавшейся. Он никогда не поколебался в уверенности, что спонтанное
зарождение - распространенное и воспроизводимое явление, хотя большинство
ученых изменили точку зрения на этот счет под влиянием доказательств Тиндаля.
Бастиан сохранил свою репутацию в медицинской среде, но в широких научных
кругах его редко воспринимали всерьез. Королевское общество в дальнейшем от-
казывалось публиковать его труды.
В последние годы жизни Бастиан занимался частной медицинской практикой и
столкнулся с финансовыми проблемами, хотя никогда не оказывался в такой без-
надежной ситуации, как Ламарк. Несмотря на все невзгоды, даже в XX в. он про-
должал писать книги на тему происхождения жизни, но все они представляли со-
бой лишь пересказ его первого труда. Эти работы почти не привлекали внимания
коллег, и отзывы на них не были благоприятными. О том, как упало доверие к
трудам Бастиана даже со стороны врачей, можно судить по передовой статье в
журнале Lancet, опубликованной вскоре после выхода одной из его последних
книг: «Нам кажется, что положение вещей практически не изменилось, и нас по-
прежнему не убедили, несмотря на смелость и искренность доктора Бастиана».
Бастиан был последним выразителем старой аристотелевской идеи о том, что
спонтанное зарождение является нормальным и распространенным явлением. Однако
мысль о том, что живые существа все же могут возникать из неживой материи, не
исчезла окончательно. За исключением тех, кто верил, что «Творец вдохнул
жизнь в одну или несколько форм», для остальных единственным объяснением воз-
никновения жизни на Земле оставалась теория Хаксли об абиогенезе.
Хотя Чарльз Дарвин считал, что абиогенез был возможен только в условиях,
существовавших на первозданной Земле, он надеялся, что этот процесс когда-
нибудь удастся воспроизвести в лаборатории. В 1882 г. в письме шотландскому
геологу Даниелю Макинтошу Дарвин писал: «Хотя нет никаких подтверждений, что
живые существа могли появиться из неживой материи, я не перестаю верить в то,
что когда-нибудь это будет доказано».
Одно из самых крупных препятствий для доказательства этой гипотезы - почти
полное отсутствие информации относительно состояния первозданной Земли. Уче-
ные предполагали, что новорожденная планета была другой, но они и представить
себе не могли, насколько она отличалась от современной планеты. Даже такая
радикальная концепция геологических изменений, как предложенная Лайелем, не
могла отразить невероятных изменений атмосферы и состава земной коры, произо-
шедших за целую вечность. Кроме того, никто не понимал, как давно появилась
Земля и жизнь на ней. Ответ поразил бы всех до глубины души.
Глава 8.
Отсутствие
следов начала
Где был ты, когда Я полагал основания земли?
Книга Иова 38: 4-7
Планета Земля была создана после обеда 23 октября 4004 г. до н. э. Примерно
так считало большинство западных людей вплоть до начала XIX в. Впрочем, мно-
гие из них не знали точной даты. Взяв за основу хронологические указания в
Библии, конкретное число рассчитал ирландский архиепископ Джеймс Ашшер, пред-
ставивший свои расчеты в 1650 г. в книге «Летописи Ветхого и Нового завета»
(Annales Veteris et Novi Testament!). В любом случае, большинство людей пола-
гало, что Земля совсем молода. Кроме того, многие, включая Вольтера, верили,
что с момента возникновения Земли ее география и геология почти не измени-
лись .
Более внимательное изучение Земли и более глубокое проникновение в ее недра
позволили понять, что геология Земли напоминает исторический роман. В горах и
ущельях, пустынях и реках были обнаружены следы долгих и медленных процессов,
сформировавших разнообразные участки поверхности Земли. Путешествуя по Нилу,
Геродот рассуждал об изобилии на берегах реки черного ила - кемета. Он пред-
положил, что дельта Нила сформировалась за многие тысячелетия. Через тысячу
лет после Геродота арабские ученые на Иберийском полуострове и в других мес-
тах задумывались о том, как окаменелые останки морских существ могли оказать-
ся в пустыне. Так они поняли, что когда-то в этих бесконечных и безжизненных
песках была вода.
В конце XVII в. открытия в области геологии заставили европейских натурфи-
лософов подвергнуть сомнению библейский рассказ о сотворении мира. Геолог
Джеймс Хаттон, наблюдавший за медленными изменениями Шотландской возвышенно-
сти, предположил, что Земля настолько стара, что на ней «не осталось следов
начала». Бюффон во Франции предпринял попытку вычислить возраст Земли на ос-
новании научных данных. Он строил расчеты на замечательной гипотезе о форми-
ровании Солнечной системы, которая во многом совпадает с представлениями со-
временных астрономов. Бюффон считал, что планеты образовались в результате
столкновений крупных каменистых небесных тел, а наша Солнечная система воз-
никла после столкновения кометы с Солнцем, так что Земля поначалу была очень
горячей. Он полагал, что после этого последовал долгий период охлаждения,
продолжающийся до сих пор. Бюффон предложил весьма хитроумный способ опреде-
ления возраста Земли, исходя из времени остывания горных пород. На основании
опытов с нагреванием и охлаждением железных шаров Бюффон оценил возраст Земли
в 74 832 года40. Ватикан грозил Бюффону отлучением от церкви - тот покаялся,
но, усмехнувшись, продолжал использовать полученное значение в дальнейших ра-
ботах .
Расчеты Бюффона были научными, но неточными. В начале XX в. ученые пришли к
выводу, что возраст Земли составляет миллиарды лет, так что значение Бюффона
гораздо ближе к значению Ашшера, чем к современным данным. Новое понимание
возраста Земли и произошедших с ней изменений оказало значительное влияние на
ученых, все еще пытавшихся решить загадку о происхождении жизни.
Начало XX в. ознаменовалось невероятным прогрессом науки в западном мире.
Эйнштейн опубликовал знаменитую «четверку» статей, проложив дорогу для разви-
тия квантовой механики, и представил миру свою специальную теорию относитель-
40 В том же эксперименте Бюффон показал, что через 93 291 год Земля остынет настоль-
ко , что жизнь на ней станет невозможна. - Прим. авт.
ности. Бельгийский католический священник Жорж Леметр предложил теорию Боль-
шого взрыва41 для описания возникновения Вселенной. Немецкий химик Фриц Габер
разработал промышленный способ получения аммиака, что позволило наладить про-
изводство искусственных удобрений и привело к революции в сельском хозяйстве
и беспрецедентному росту численности населения. Впрочем, тот же химический
процесс был использован для получения отравляющих веществ, применявшихся для
массового уничтожения людей во время двух мировых войн.
Но, несмотря на поразительный технологический прогресс практически во всех
областях знания, ответ на вопрос о происхождении жизни так и не был найден.
На протяжении десятилетий после опровержения результатов Бастиана этот вопрос
больше не занимал крупных ученых. В школьных учебниках дело часто представля-
лось так: Пастер решил данный вопрос, окончательно доказав, что живые сущест-
ва не могут возникать из неживой материи. Большинство самых известных эволю-
ционистов мира сходились во мнении, что абиогенез, вероятно, имел место на
Земле в отдаленном прошлом. Однако до начала XX в. никто не представлял себе,
как выглядела первозданная Земля и сколько лет, на самом деле, нашей планете.
В 1933 г. биохимик, лауреат Нобелевской премии и президент Королевского об-
щества сэр Фредерик Гоуленд Хопкинс в своей речи перед Британской ассоциацией
содействия развитию науки констатировал неутешительное состояние исследований
в этой области. «Хотя многим доставляет удовольствие рассуждать о происхожде-
нии жизни, - сказал он, - все, что мы сейчас знаем об этом, это что мы не
знаем ничего. <...> Большинство биологов <...> соглашаются с тем, что зарождение
жизни было одновременно и самым невероятным, и самым значительным событием в
истории Вселенной, и не пытаются прояснить этот вопрос».
Заметим, что это замечание не совсем справедливо. Некоторые ученые все же
пытались разобраться в этом вопросе, в частности мексиканец Альфонсо Луне Эр-
рера и француз Стефан Ледюк.
В 1920 г. сразу двое ученых независимым образом сформулировали удивительно
похожие и важные теории, влияние которых не ослабевало на протяжении всего
столетия. Поначалу ни одна из этих теорий не привлекла серьезного внимания,
но в последующие десятилетия они стали основой для возобновления научных ис-
следований в данной области.
Как когда-то Дарвин и Уоллес, эти двое ученых создали свои теории независи-
мо друг от друга, поскольку ни один из них не знал о работе другого. Один был
молодым ученым из СССР, и на Западе о его работах практически ничего не зна-
ли. Второй был эксцентриком и писателем, приобретшим славу самого известного
в Англии автора в жанре научно-популярной литературы. Но было между ними не-
что общее. В своих теориях оба в значительной степени опирались на новые дан-
ные о состоянии первозданной Земли. Кроме того, оба были убежденными марксис-
тами, и политика интересовала их не меньше, чем наука.
В итоге их идеи слились в единую гипотезу о появлении жизни на нашей плане-
те, получившую название гипотезы Опарина - Холдейна по именам ее создателей:
русского ученого Александра Опарина и шотландца Дж. Б. С. Холдейна.
Джон Бёрдон Сандерсон Холдейн (Джек для друзей и Дж. Б. С. для всех осталь-
ных) был «белой вороной» - ему нравилось выделяться из толпы. В последние го-
ды жизни, когда его теория о происхождении жизни завоевала всеобщее призна-
ние, он шутил, что это наводит на мысль о том, что он чего-то не понял. Его
мало заботили традиционные нормы приличия: он любил шокировать публику, от-
крыто хвастался своими любовными похождениями, в которые близко знавшие его
люди обычно не верили. Он был красивым человеком, особенно в молодости, но у
Леметр рассуждал об эволюции мироздания от «первоначального атома»; термин «Боль-
шой взрыв» для выражения сути этой теории позднее предложил британский астроном Фред
Хойл (см. гл. 11). - Прим. пер.
него были проблемы в отношениях с женщинами, возможно, из-за детской психоло-
гической травмы. Он наслаждался своей непохожестью на других и преувеличивал
ее, однако она была вполне реальной. По интеллекту он сильно отличался от
других детей.
Холдейн имел склонность к пиромании, например, во время службы в армии но-
сил в карманах одновременно взрывчатку и спички. «Те, кто находился поблизо-
сти от него в столовой или жилом помещении, всегда следили за ним с осторож-
ностью или страхом», - писал впоследствии один из его бывших сослуживцев.
Холдейн на всю жизнь сохранил интерес к взрывчатым веществам и огню, что при-
давало ему некоторое сходство с легендарным Гаем Фоксом42. Раскуривая трубку,
он обыкновенно держал горящую спичку так долго, что чернели кончики пальцев.
Про такого человека Хаксли сказал бы, что у него «не все дома». Холдейн ком-
пенсировал этот недостаток тем, что имел «дома» массу того, чего у других лю-
дей нет совсем.
Удивительный интеллект Холдейна проявился уже в раннем возрасте. В четыре
года он сильно ударился лбом, а потом спросил лечившего его врача, содержался
ли у него в крови «оксигемоглобин или карбоксигемоглобин». Такая терминология
была в ходу у него в семье. Его отец, лорд Холдейн, был шотландским аристо-
кратом и знаменитым оксфордским физиологом, устроившим дома частную лаборато-
рию. При любой возможности лорд Холдейн пытался вовлечь детей в свою научную
работу, даже когда это было небезопасно. Он часто использовал их в качестве
«подопытных кроликов» для проверки действия газов. Много лет спустя, во время
Второй мировой войны, изучая по заданию британского правительства влияние
различных газов на состояние подводников, Дж. Б. С. Холдейн прибегал к прак-
тике отца, проводя испытания на самом себе.
Значительная часть работы лорда Холдейна была связана с исследованием га-
зов, содержащихся в угольных шахтах. В результате этой работы во время Первой
мировой войны он создал первый в Англии эффективный противогаз. Посещая самые
опасные британские угольные шахты, лорд Холдейн иногда брал с собой сына, ко-
торого спускали в корзине в узкие проходы, в которых трудились шахтеры. Одна-
жды во время такой экспедиции отец и сын едва не погибли при взрыве метана.
Их спасла взрывобезопасная лампа Дэви, вспышки которой предупредили о скопле-
нии газа. Во время таких экспедиций Дж. Б. С. Холдейн впервые узнал об опас-
ном труде и бедственном положении британских рабочих, в поддержку которых он
выступал всю оставшуюся жизнь.
Во время учебы в Итонском колледже Холдейн настолько преуспел в науке, что
многие его однокурсники говорили, что скорее он обучает преподавателей, чем
они его. Однако на середине учебы он обратился к изучению классики. Отсутст-
вие формальной специализации в дальнейшем сильно повлияло на научный метод
Холдейна. Начиная с научной революции XVI в. , наука медленно, но неуклонно
развивалась по пути специализации: физику, химию, медицину и другие предметы
преподавали и изучали на разных факультетах. К XX в. между этими дисциплинами
установились четкие границы, но Холдейн был компетентен практически во всех
областях науки.
В начале Первой мировой войны Холдейн вступил в шотландский полк «Черная
стража». Получив звание лейтенанта, он принял командование минометным взво-
дом. Первые экспериментальные минометы представляли собой просто-напросто на-
чиненные взрывчаткой трубки, предназначенные для того, чтобы изматывать врага
непрерывной бомбардировкой. Они вели себя совершенно непредсказуемо и соглас-
но официальным отчетам были «почти одинаково опасны для врага и для тех, кто
их использовал». Холдейн хорошо себя чувствовал в этом рискованном деле, под-
Гай Фокс (1570-1606) - английский дворянин, участник «порохового заговора» против
короля Якова I. - Прим. пер.
стрекая людей курить в непосредственной близости от орудий. Впоследствии он
вспоминал, что «считал важным, чтобы люди были полностью уверены в себе и
своем оружии».
В боях Холдейн отличался невероятной смелостью, порой граничившей с безуми-
ем. Ночью, во время затишья, он выползал на территорию между окопами воюющих
сторон в надежде подслушать разговоры вражеских солдат. В письмах домой он
сравнивал боевое возбуждение с тем состоянием, которое переживал раньше,
спускаясь с отцом в угольные шахты, когда малейшая оплошность могла закон-
читься катастрофой. Командующий британскими экспедиционными войсками во Фран-
ции сэр Дуглас Хейг называл Холдейна «самым храбрым и самым вульгарным офице-
ром в армии».
После ранения Холдейн отправился в Ирак на войну с Турцией, принявшей сто-
рону Германии. Вернувшись в Великобританию в 1919 г. после окончания войны,
он не имел таких глубоких психологических проблем, как миллионы других сол-
дат . Холдейн говорил, что получал удовольствие от войны, почти «любил ее». Он
связал этот факт с особенностями первых людей, для которых побуждение убивать
было эволюционным преимуществом. Однако потом, осознав ужасы войны со сторо-
ны, а не в качестве участника, он стал стыдиться своего «позитивного» военно-
го опыта. В конце жизни он соглашался с Ганди и склонялся к идее о недопусти-
мости насилия.
После войны Холдейну предложили должность профессора Оксфорда по любой вы-
бранной им специальности, хотя он так и не получил никакой ученой степени.
Холдейн выбрал физиологию. Позднее он перешел на работу в Тринити-колледж в
Кембридже, где встретил молодую еврейскую журналистку из Daily Express, со-
циалистку и феминистку Шарлотту Бергес и женился на ней. В 1929 г. они побы-
вали в СССР по приглашению русского ботаника, президента Всесоюзной академии
сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ) Николая Ивановича Вавилова.
Холдейн заинтересовался жизнью молодой страны Советов и в последующие годы
склонялся к коммунистическому мировоззрению, особенно после расцвета фашизма
и гражданской войны в Испании.
В начале войны в Испании в 1936 г. Холдейн решил примкнуть к республикан-
цам. Надев защитный мотоциклетный шлем, бриджи и черную кожаную куртку, он
отправился в Мадрид, где надеялся помочь правительству справиться с воздушны-
ми налетами и химическим оружием, которое могли применить восставшие сторон-
ники Франсиско Франко. По дороге Холдейна остановили республиканцы, принявшие
его за фашистского шпиона из-за причудливого наряда.
Находясь в Испании, Холдейн отсылал домой отчеты о своей экспериментальной
работе для публикаций в американской коммунистической газете Daily Worker.
Вернувшись в Великобританию, он стал научным корреспондентом этой газеты, а
затем возглавил ее редакционный совет. Влияние Холдейна оказало огромную под-
держку коммунистической партии. На тот момент он уже имел репутацию блестяще-
го писателя, обладал уникальной способностью излагать сложные вещи простым
языком, понятным обычным людям. Поклонник Холдейна Артур Кларк, автор сцена-
рия фильма «Космическая одиссея 2001», говорил, что он, «возможно, был самым
выдающимся популяризатором науки своего поколения».
Среди друзей Холдейна было немало авторов, писавших в жанре научной фанта-
стики. Одним из самых известных был Олдос Леонард Хаксли. Влияние идей Хол-
дейна чувствуется в его романе «О дивный новый мир», и именно Холдейн первым
ввел в обращение слово «клон». Многие идеи Холдейна казались настолько аван-
гардными (концепция оплодотворения in vitro, дети из пробирок, использование
энергии водорода), что его ранние сочинения часто воспринимались как научная
фантастика. И из-за большой популярности среди непрофессионалов его редко
воспринимали всерьез в научной среде, особенно ученые, занимавшиеся генетикой
или эволюционной теорией.
Наиболее заметный след Холдейн оставил в области исследований, связанных с
происхождением жизни. Его первый и самый важный очерк на эту тему «Происхож-
дение жизни» был написан в 1929 г. Холдейн начал очерк с защиты материалисти-
ческого видения мира и опровержения распространенного мнения о том, что Пас-
тер якобы доказал, что жизнь не может возникать из неживой материи. Он писал,
что такую идею поддерживают лишь те, кто «цепляется за сверхъестественные
[объяснения]». Либо в какой-то момент в истории Земли имел место процесс
абиогенеза, либо «живое существо есть кусок мертвой материи плюс душа (но эта
версия практически не находит подтверждения в современной биологии)». Возмож-
но, самым важным аспектом теории Холдеина было то, что она позволяла предста-
вить себе первозданную Землю и жизнь, появившуюся на Земле миллиарды лет на-
зад. Это был совсем не такой мир, о котором когда-то писал Чарльз Дарвин,
представлявший «маленький теплый пруд», Холдейн говорил о «горячем разбавлен-
ном супе»43, в котором не могла бы существовать никакая современная форма
жизни.
Модель Холдеина была основана на современных данных геологии и биохимии, а
также на новом понимании эволюционных процессов. Это была современная теория,
которую можно было анализировать и развивать, и она была намного сложнее мо-
дели спонтанного зарождения жизни. Однако ученые не сразу поняли следствия из
этой теории. Поначалу ее воспринимали в качестве рядовой гипотезы, но посте-
пенно теорию Холдеина начали принимать всерьез. Особый интерес к ней возник
тогда, когда на Западе узнали о похожей, но гораздо более сложной гипотезе,
выдвинутой ученым из СССР.
Лишь немногие западные ученые знали русский язык, но постепенно на Западе
стало известно о небольшой работе на тему происхождения жизни, опубликованной
в СССР в 1924 г., за пять лет до публикации очерка Холдеина. Ее автор, Алек-
сандр Опарин, разработал модель, удивительным образом напоминавшую модель
Холдеина. Причем Опарин проработал эту тему гораздо подробнее и точнее, чем
Холдейн. В отличие от Холдеина, переключившегося на другую тематику, Опарин
всю жизнь дорабатывал и развивал свою теорию. Когда в 1936 г. в западных уни-
верситетах появился английский перевод второй, более полной, книги Опарина,
все студенты, занимавшиеся эволюционной биологией, пытались заполучить экзем-
пляр этого труда, ставшего основополагающим источником информации по данной
теме до конца столетия. Через 75 лет после публикации книги журнал Nature
указывал, что Опарин вполне заслужил место в «пантеоне величайших ученых XX
в.», хотя мало кто на Западе, за исключением узких специалистов, знает его
имя.
Александр Иванович Опарин был выходцем из старой России, которая практиче-
ски исчезла к тому моменту, когда он стал знаменитым ученым. Он родился в Уг-
личе - маленьком городке на Волге, к северу от Москвы. Эти места еще напоми-
нали Россию XIX в. : с деревянными домишками и лошадьми, тянувшими на базар
телеги с зерном. Простое происхождение Опарина часто удивляло тех, кто знако-
мился с ним позднее. Он любил хорошо пошитые костюмы и качественные галстуки,
казавшиеся неуместными в постреволюционной России. Из-за европейской манеры
одеваться и специфического ярославского говора (с выраженным «о») соотечест-
венники нередко принимали его за иностранца.
Опарин достаточно рано поверил в справедливость марксизма и эволюционный
характер развития природы. Обе идеи он перенял от своего кумира, русского бо-
таника Климента Аркадьевича Тимирязева. Ботаникой Опарин заинтересовался еще
43 В 1980-х гг. Национальный музей воздухоплавания и астронавтики Смитсоновского ин-
ститута выпустил короткий фильм о теории Холдеина о происхождении жизни с участием
знаменитого шеф-повара и телеведущей Джулии Чайлд, которая обучала зрителей готовить
«первичный суп». - Прим. авт.
в детстве, в Угличе, когда бродил за городом в поисках новых растений для
своей коллекции. Он прочел книгу Тимирязева «Жизнь растений» столько раз, что
мох1 цитировать ее наизусть. В последние годы монархии в России, во время уче-
бы в Москве, Опарин часто посещал Политехнический музей. Там, в роскошном ам-
фитеатре, спроектированном любимым архитектором Романовых талантливым Ипполи-
том Монигетти, регулярно читал лекции Тимирязев.
Климент Тимирязев был одним из первых русских последователей дарвинизма.
Вскоре после публикации книги «О происхождении видов» молодой Тимирязев со-
вершил паломничество к дому Дарвина в Дауне. Дарвин был болен и не принимал
посетителей, поэтому Тимирязев снял комнату в ближайшем трактире и каждый
день в течение недели приходил к дому Дарвина, пока, наконец, его кумир не
согласился прогуляться и побеседовать с ним после обеда. Тимирязев стал самым
горячим сторонником теории эволюции среди русских ученых и сыграл в распро-
странении эволюционных идей в России примерно такую же роль, как Хаксли в Ве-
ликобритании .
Тимирязев считал дарвинизм чем-то большим, чем просто научной теорией. Это
была революционная сила, материалистическая и атеистическая, а ее выводы ка-
сались и социальной, и политической сферы. Идеи Тимирязева отразились в его
замечательных научных лекциях и в конечном итоге стоили ему должности в самом
престижном учебном заведении России - Московском университете. Слушая Тимиря-
зева в Политехническом музее, Опарин перенял от него радикальные политические
взгляды и эволюционное мышление.
Опарин был заворожен рассказами Тимирязева о великом Чарльзе Дарвине, но с
того момента, как Тимирязев начал объяснять дарвиновское видение эволюции,
Опарина начала беспокоить одна мысль: Дарвин попросту перескочил через тот
вопрос, который Опарин считал важнейшим для материалистической теории эволю-
ции, - вопрос о происхождении жизни. Позднее, будучи профессором, Опарин го-
ворил студентам, что «Дарвин написал книгу, но пропустил в ней первую главу».
Именно этот вакуум Опарин и пытался заполнить на протяжении всей жизни.
Опарину едва исполнилось 20 лет, когда разразилась Первая мировая война. Во
время войны он изучал биологию растений в Московском университете. Окончив
университет в 1918 г., он начал работать под руководством известного биолога
Алексея Николаевича Баха, знаменитого своим революционным прошлым. Бах был
одним из членов подпольной революционной партии «Народная воля», организовав-
шей убийство императора Александра II, и автором известной пропагандистской
книги «Царь-Голод», обличавшей династию Романовых и капитализм.
Опарин вновь встретил Баха в Москве вскоре после возвращения Баха из Швей-
царии и примерно через год после отречения от престола последнего абсолютного
монарха в Европе - императора Николая II. В результате государственного пере-
ворота, который вошел в историю как Великая октябрьская социалистическая ре-
волюция , власть захватил Ленин. Улицы Москвы заполнили революционные рабочие
и грозные группы вооруженных людей, называвших себя красногвардейцами. При
власти большевиков Бах занял достаточно высокое положение в российской науке
и вместе с Опариным основал Институт биохимии. Первым директором института
стал Бах, а после Баха - Опарин44.
В начале своей научной деятельности Опарин в основном занимался решением
проблемы производства пищевых продуктов, которая чрезвычайно остро стояла в
первые годы советской власти. Однако он никогда не переставал думать о том,
что так взволновало его на лекциях Тимирязева. Первую работу на тему происхо-
ждения жизни он написал в 1919 г., однако, ее не пропустила цензура. В первые
годы после Октябрьской революции царский государственный аппарат кое-где еще
сохранился, что касалось и цензуры, чрезвычайно подозрительной ко всему, что
44 В 1944 г. Институту биохимии было присвоено имя А. Н. Баха. - Прим. пер.
противоречило официальной линии Русской православной церкви. Позднее Опарин
рассматривал отклонение статьи как положительный момент: это позволило ему
разработать гораздо более сложную теорию.
В 1922 г. Опарин представил свои идеи относительно происхождения жизни со-
ветской научной общественности, а в 1924 г. начал писать книгу, в которой со-
бирался изложить уже готовую теорию. Как и Холдейн, Опарин рассматривал про-
блему совершенно в ином ключе, нежели его предшественники. Томас Хаксли и
Генри Бастиан исходили из предположения, что Земля, на которой впервые появи-
лась жизнь, не очень сильно отличалась от современной Земли и процесс зарож-
дения жизни был достаточно быстрым.
Опарин и Холдейн, напротив, пытались описать события, произошедшие как ми-
нимум много сотен миллионов лет назад, когда наша планета была совсем иной.
Оба опирались на многочисленные факты, ранее неизвестные. Хотя вопрос о про-
исхождении жизни не был решен за предыдущие десятилетия, представления о пер-
возданной Земле разительно изменились. Ученые впервые начали осознавать, что
Земля намного старше, чем представлялось, и что жизнь существовала на планете
почти с момента ее возникновения.
Джон Холдейн (слева) и Александр Опарин.
Временной фактор всегда оставался загадкой для Чарльза Дарвина. Он считал,
что эволюция на основе естественного отбора представляет собой чрезвычайно
медленный процесс, и что одни виды превращаются в другие в бесконечной череде
поколений. Некоторые виды угасают, а иногда в процессе эволюции наблюдаются
долгие периоды застоя. Невозможно представить себе превращение простого мик-
роорганизма в такое сложное существо, как человек, в привычных для нас вре-
менных рамках.
Проблема оставалась неразрешенной даже несмотря на то, что сделанные Бюффо-
ном оценки возраста Земли во времена Дарвина уже выглядели чрезвычайно скром-
ными. В первом издании книги «О происхождении видов» Дарвин изложил свои со-
ображения относительно возраста Земли. Как расчеты Бюффона и Ашшера, расчет
Дарвина был точен до нелепости: на основании геологических данных для Южной
Англии Дарвин утверждал, что возраст Земли составляет 306 662 400 лет.
Результат Дарвина вызвал недоверие у ирландского физика Уильяма Томсона,
известного под именем лорда Кельвина (титул он получил позже). Лорд Кельвин
был одним из самых выдающихся и уважаемых ученых своего времени. Благодаря
участию в создании первого трансатлантического телеграфа он приобрел неверо-
ятную славу, фантастическое богатство и дворянский титул. Он участвовал в
формулировке первого и второго начал термодинамики, которые использовал для
определения возраста Земли. Как и Бюффон, лорд Кельвин учитывал время, за ко-
торое планета остыла до современной температуры. Он не знал о существовании
радиоактивного распада, который вносит значительный вклад в выделение тепла
внутри Земли, и воспринимал Землю как постепенно остывающую жесткую сферу. По
этим причинам он считал возможным оценить ее возраст на основании разности
температур внутри планеты и на ее поверхности.
Через три года после публикации книги Дарвина лорд Кельвин заявил, что воз-
раст Земли составляет от 20 до 400 млн. лет. Однако в последующие годы он пе-
ресмотрел эти расчеты и снизил диапазон (в соответствии со своими оценками
возраста Солнца, которые, на самом деле, были ошибочными) . В 1897 г. он зая-
вил, что возраст Земли составляет от 20 до 40 млн. лет: «гораздо ближе к 20,
чем к 40». Томас Хаксли критиковал метод Кельвина, но даже сын Чарльза Дарви-
на, астроном Джордж Говард Дарвин, представил сильно заниженную оценку воз-
раста планеты (56 млн. лет; он исходил из расчета времени для установления
24-часового суточного цикла вращения). Возраст Земли оставался важным - и
спорным - вопросом вплоть до конца XIX в.
Ввиду горячих дискуссий относительно справедливости расчетов Дарвин удалил
из второго издания книги «О происхождении видов» упоминание о возрасте Земли.
Этот вопрос занимал его на протяжении всей жизни и мешал распространению в
обществе идеи о том, что медленный процесс естественного отбора - главная
движущая сила эволюции. Даже самые активные сторонники Дарвина полагали, что
естественному отбору потребовались бы сотни миллионов лет, но такие временные
рамки не соответствовали даже максимальным оценкам возраста Земли.
Наконец, во Франции было сделано открытие, которое повлекло за собой целую
череду событий и перевернуло все ранние представления о возрасте Земли. В
1896 г. , за год до проведения Кельвином окончательных расчетов возраста Зем-
ли, французский физик Антуан Анри Беккерель оставил образец соли урана на фо-
тографической пластинке, а через какое-то время обнаружил засвеченный нега-
тив . Он понял, что, если размещать между урановой солью и негативом различные
предметы, можно получать их фотоизображения, и пришел к выводу, что руда ис-
пускала невидимые глазом энергетические лучи. Через три года Мария Кюри от-
крыла элементы полоний и радий и предложила термин «радиоактивность» для опи-
сания испускаемых ими загадочных лучей.
За удивительно короткий срок после открытия радиоактивности физики разрабо-
тали методы определения возраста горных пород на основании скорости распада
радиоактивных элементов. Все горные породы состоят из соединений химических
элементов, причем некоторые химические элементы присутствуют в виде смеси
изотопов (атомов одного и того же элемента с разным количеством нейтронов в
ядре). Существуют нестабильные (радиоактивные) изотопы: они постоянно, хотя и
медленно, распадаются с образованием новых, более легких элементов. Время, за
которое разлагается половина ядер таких изотопов, называется периодом полу-
распада. Элементы в составе каждой горной породы изначально содержатся в оп-
ределенном изотопном соотношении, поэтому в результате распада некоторых изо-
топов это соотношение постепенно меняется. Измеряя этот показатель, геологи
научились рассчитывать время, прошедшее с момента формирования породы. Этот
метод называют радиоизотопным (радиометрическим) датированием.
В 1907 г. американский химик Бертрам Болтвуд опубликовал результаты радио-
метрического анализа 26 горных пород, одна из которых, по его мнению, имела
возраст 570 млн. лет. По мере усовершенствования радиоизотопных методов воз-
раст самой старой породы Болтвуда увеличился до 1,3 млрд. лет. Другие геологи
находили еще более старые породы. В частности, на Цейлоне был обнаружен мине-
рал возрастом 1,6 млрд. лет. К середине XX в. большинство ученых сошлись во
мнении, что возраст Земли составляет около 4,5 млрд. лет. Однако, даже когда
Опарин начал работать в Москве, многие ученые уже понимали, что Земля гораздо
старше, чем представлялось 100 лет назад.
Оставался открытым вопрос, когда на Земле появилась жизнь. Хаксли утвер-
ждал, что абиогенез был чрезвычайно редким явлением, из разряда тех, что про-
исходят лишь однажды и при исключительном стечении обстоятельств. Вполне воз-
можно, что на протяжении почти всего времени своего существования Земля оста-
валась безжизненной. Казалось, о том же говорили имевшиеся на тот момент па-
леонтологические данные.
В первой половине XIX в. геологи имели дело только с теми окаменелостями,
которые оказались на поверхности Земли в результате идеальных геологических
условий; это, в частности, относилось к находкам Дарвина с вулканического
острова Святого Иакова. Промышленная революция изменила ситуацию. При строи-
тельстве каналов, соединявших британские порты и угольные шахты с внутренними
промышленными центрами, открывались глубокие и чистые срезы пластов, сложив-
шихся за невероятно продолжительное время. Ученые видели, что какие-то окаме-
нелости всегда обнаруживаются только в строго определенных слоях породы. Они
еще не знали возраста этих слоев (такая информация стала доступна лишь с по-
явлением методов радиометрического датирования), но понимали, что одни слои
старше, а другие моложе.
В конечном итоге ученые разделили временной интервал, представленный в виде
разных геологических слоев, на два длинных периода. Более короткий и более
новый период стали называть фанерозойским эоном (от греч. phaneros - явный и
zoe - жизнь, «время видимой жизни»). Фанерозой, в свою очередь, подразделяет-
ся на более короткие геологические периоды, самый старый из которых был на-
зван кембрийским периодом (по предложению Адама Седжвика этот период получил
название в честь латинского названия Уэльса, где были обнаружены многие из
первых образцов, относившихся к данному периоду). Фанерозою предшествовал бо-
лее старый и значительно более долгий период с менее оригинальным названием -
докембрийский эон.
Когда Дарвин писал книгу «О происхождении видов», в распоряжении ученых
имелись окаменелости, относившиеся только к фанерозойскому эону, который, как
известно сейчас, охватывает лишь 15% истории Земли. Вот что писал Дарвин по
этому поводу: «Если эта теория верна, не может быть сомнения в том, что, пре-
жде чем отложился самый нижний кембрийский слой, прошли продолжительные пе-
риоды, столь же продолжительные или, вероятно, еще более продолжительные, чем
весь промежуток времени между кембрийским периодом и нашими днями, и что в
продолжение этих огромных периодов мир изобиловал живыми существами. <...> На
вопрос, почему мы не находим богатых ископаемых отложений, относящихся к этим
предполагаемым древнейшим периодам, предшествовавшим кембрийской системе, я
не могу дать удовлетворительного ответа». Ответ был найден примерно через
полстолетия на другой стороне земного шара, в США, где работал молодой геолог
Чарльз Дулиттл Уолкотт, ставший самым знаменитым в мире охотником за окамене-
лостями .
Уолкотт вырос в Род-Айленде, у него не было отца, он не окончил среднюю
школу и ни дня не проучился в университете. В подростковом возрасте он стал
профессиональным искателем окаменелостей. Свои находки он отсылал в универси-
теты, как когда-то Альфред Рассел Уоллес биологические образцы. В возрасте 26
лет Уолкотт был принят на работу в качестве помощника главного геолога штата
Нью-Йорк Джеймса Холла, известного как своей деспотичностью, так и широчайши-
ми познаниями в области палеонтологии.
Холл показал Уолкотту одно из своих самых интересных открытий - необычный
риф в речном русле вблизи города Саратова. Известковый риф был украшен метро-
выми полосами круглых отпечатков. Холл был уверен, что рисунок имеет биологи-
ческое происхождение и представляет собой отпечаток колоний миллионов микро-
скопических водорослей. Он назвал этих гипотетических микробов Cryptozoon
(«скрытой жизнью»). Проблема заключалась в том, что самих окаменелостей не
существовало. Даже в XXI в. идентификация окаменелостей микроскопического
размера является чрезвычайно сложной задачей. Микробные клетки по форме и
размеру очень похожи на самые разные частицы небиологического происхождения.
У них нет скелета, поэтому они не окаменевают. Ученые часто спорят, какой тип
среды и какое соотношение изотопов углерода или серы могли бы указывать на
биологическое происхождение таких образцов. Для того чтобы констатировать
биологическую природу образцов, современные микропалеонтологи используют
сложное оборудование, которого не было у Уолкотта и его современников. Почти
никто не верил, что Cryptozoon когда-то были живыми существами. Уолкотту были
нужны более убедительные микроскопические доказательства. Через три года Уол-
котта по рекомендации Холла приняли на работу в только что организованную
Геологическую службу США. Вскоре его направили на запад для изучения одного
из величайших природных чудес Северной Америки - Большого каньона, о котором
тогда почти ничего не было известно.
Большой каньон оказался раем для палеонтологов. На протяжении 17 млн. лет
река Колорадо прокладывала себе путь в твердой каменистой почве, прорезав ве-
ликое ущелье длиной более 450 км и глубиной более километра. Это второе по
глубине ущелье после Кали-Гандаки в Непале, однако, обнаженность скал Большо-
го каньона объясняет его ни с чем не сравнимый потенциал для палеонтологиче-
ских исследований. Рисунок геологических слоев каньона не спрятан под богатой
растительностью, как в Кали-Гандаки или даже в предгорьях Англии и Шотландии,
где на протяжении столетия вели поиски самые знаменитые охотники за окамене-
лостями. Поверхность скал Большого каньона напоминает чистую и слоистую стену
канала, уходящего на километр вглубь земли и на два миллиарда лет назад во
времени.
Большой каньон.
Руководитель экспедиции Джон Уэсли Пауэлл понимал палеонтологический потен-
циал Большого каньона. Он дал Уолкотту такую работу, с которой тот справлялся
лучше всего, - поиск окаменелостей. Вскоре Уолкотт обнаружил признаки древней
жизни, напоминавшие Cryptozoon Холла. Более того, он нашел их в тех слоях,
которые с наибольшей вероятностью относились к докембрийской эпохе. В 1891 г.
Уолкотт писал, что у него «практически нет сомнений», что жизнь существовала
еще в докембрийских морях, но только в 1899 г. он нашел окончательные доказа-
тельства, за которыми он охотился. Через 20 лет после того, как Уолкотт впер-
вые увидел Cryptozoon, в Большом каньоне он обнаружил окаменевшие остатки
микроскопических одноклеточных водорослей, которых назвал Chuaria - от назва-
ния реологического пласта, в котором они были найдены. Происхождение этих
клеток долго оставалось предметом споров, но теперь считается, что их возраст
составляет около 1,6 млрд. лет. Уолкотт наконец нашел недостающее звено в
теории Дарвина. Позднее были найдены еще более древние окаменелости, и ученые
пришли к выводу, что простейшие формы жизни появились не менее 3,5 млрд. лет
назад, то есть через миллиард лет после образования Земли.
Когда Холдейн и Опарин разрабатывали теории происхождения жизни, они уже
понимали, что Земля намного старше, чем считали их предшественники. Это было
очень важно, поскольку означало, что условия на планете в момент зарождения
жизни могли коренным образом отличаться от современных условий. Холдейн и
Опарин больше не нуждались в старой версии теории спонтанного зарождения (за-
ключающейся в том, что появление живых существ из неживой материи может про-
исходить в такой среде, которая окружает нас сегодня), а пытались понять, в
каких условиях могла зародиться жизнь.
Работая над этим вопросом в 1920-х гг., и особенно при подготовке книги,
вышедшей в 1936 г., Опарин ориентировался на новые данные относительно со-
стояния первозданной Земли сотни миллионов или даже миллиарды лет назад. Зем-
ля была совсем иной и была совершенно непохожа на нашу современную планету; в
частности, у нее была другая атмосфера.
Определить элементный состав первозданной Земли было несложно. Химический
состав живых существ удивительно неразнообразен и прост. Все живые существа,
начиная от мельчайших бактерий и заканчивая клетками самых сложных организ-
мов, состоят главным образом из углерода, водорода, кислорода и азота - четы-
рех основных элементов, которые химики иногда обозначают акронимом CHON
(Carbon, Hydrogen, Oxygen и Nitrogen). Другие элементы содержатся в живых
клетках в следовых количествах; среди них самыми важными являются сера и фос-
фор. Однако все живые существа на 98% состоят из четырех элементов: С, Н, О и
N45. Почти наверняка все эти элементы в изобилии содержались на первозданной
Земле, как и повсюду в космосе. К тому же они относятся к числу семи самых
распространенных элементов во Вселенной.
Труднее понять, как эти элементы соединялись между собой с образованием
сложных молекул, необходимых для построения живых клеток. Скорее всего, четы-
ре основных элемента присутствовали на Земле, но в какой форме? Существовал
ли кислород только в составе воды (Н20) или еще в виде атмосферного газа
(02), как сейчас? Для того чтобы узнать, как зародилась жизнь, сначала нужно
было определить, какие химические соединения были на Земле.
Опарин исходил из предположения, что поначалу в атмосфере не было газооб-
разного кислорода. На основании результатов наблюдений за Юпитером Опарин
сделал вывод, что первичная атмосфера Земли содержала метан и аммиак. Кроме
того, на Землю лились потоки ультрафиолетовых лучей из космоса, от которых
современная Земля защищена озоновым слоем. Поверхность планеты постоянно из-
менялась в результате вулканической активности, не соизмеримой ни с какими
современными катаклизмами. Под возбуждающим действием солнечных лучей и вул-
канического тепла атмосферные газы могли расщепляться на составные части, ко-
45 Иногда используются и другие сокращения, такие как SCHNOP или SPONCH, отражающие
наличие серы и фосфора. - Прим. авт.
торые затем могли вступать в реакции с образованием новых соединений и рас-
творяться в океанах, покрывавших значительную часть поверхности планеты. Эта
длинная цепь химических превращений могла привести к синтезу органических со-
единений и в конечном итоге неких доклеточных структур, представлявших собой
промежуточное звено между живой и неживой материей. Холдейн выдвинул удиви-
тельно похожую идею, и в результате сочетания идей двух ученых родилась гипо-
теза Опарина - Холдейна.
Гипотеза Опарина - Холдейна выдержала проверку временем и сохранила свое
значение в последующие десятилетия, когда значительно преумножились наши зна-
ния о геологических и атмосферных условиях в период возникновения жизни на
Земле. К концу прошлого столетия благодаря геохимии, применяющей законы химии
для объяснения планетарных процессов, было доказано, что в первичной атмосфе-
ре Земли действительно было мало кислорода. Такое положение дел сохранялось
на протяжении почти двух миллиардов лет, пока жизнь не изобрела фотосинтез,
при котором выделяется кислород. А без кислорода не существовало озонового
слоя, защищающего Землю от ультрафиолетовых солнечных лучей.
Этот последний аспект - мощный поток космической энергии на Землю - сыграл
ключевую роль в моделях Холдейна и Опарина. Именно он был движущей силой син-
теза органических соединений, которые перемешивались и образовывали простые
молекулярные агрегаты. Они были проще любых современных одноклеточных орга-
низмов, но все же достаточно сложными, чтобы воспроизводить самих себя из ор-
ганических веществ. Некоторые структуры имели такую степень сложности, что
Холдейн назвал их «полуживыми»; Опарин называл такие молекулярные агрегаты
коацерватами.
Здесь мнения двух ученых расходились, и это имело большое значение для ис-
следований последующих лет. Опарин и Холдейн по-разному определяли суть раз-
личий между живой и неживой материей. Опарин считал ключевым элементом жизни
клеточный метаболизм - набор химических реакций, превращающих питательные
компоненты из внешней среды в живую материю. Жизнь для него была химическим
процессом, и важнейшими ее элементами он считал белки, помогающие осуществ-
лять этот процесс. Такого направления мысли придерживаются сторонники концеп-
ции первичности метаболизма.
Холдейн видел основу жизни в генах. Его концепция промежуточной стадии меж-
ду живой и неживой материей подкреплялась информацией о вирусах, о которых
ученые в то время имели весьма ограниченное представление46. Вирусы мельче
бактерий, и разглядеть их под микроскопом удалось только после 1933 г. Ученые
долго спорили, можно ли относить вирусы к живым существам или нет. Холдейна
особенно заинтересовали бактериофаги - вирусы бактерий. Ему казалось, что они
соответствуют критериям «полуживых» организмов. В 1915 г. франко-канадский
микробиолог Феликс Д'Эрелль попытался понять, почему вода из индийских рек
Ганг и Ямуна удивительным образом защищает от заражения холерой, хотя она
полна нечистот и опасных бактерий. Д'Эрелль обнаружил, что в этой воде жил
удивительный «пожиратель бактерий» (бактериофаг). Вскоре ученые показали, что
бактериофаги способны размножаться внутри бактериальных клеток.
Научное мировоззрение двух ученых складывалось в разной среде. В СССР гене-
тику считали «буржуазной наукой», основанной на принципе «выживания сильней-
шего», несовместимом с идеалами марксизма. На западе генетика революционизи-
ровала биологию, и Холдейн был одним из ее главных теоретиков.
46 Хотя Пастер создал противовирусные вакцины, он ничего не знал о вирусах. Первые
экспериментальные доказательства существования вирусов появились только в 1892 г.,
когда русский ботаник Дмитрий Иосифович Ивановский показал, что сок зараженных рас-
тений табака, пропущенный через отделяющий бактериальные клетки фильтр, все еще об-
ладает инфицирующей способностью. - Прим. авт.
Хотя основные принципы генетики были заложены францисканским монахом Грего-
ром Менделем еще в середине XIX в., его работа почти никому не была известна,
пока в 1900-х гг. одновременно несколько ученых не осознали ее важности. Идеи
Менделя вскоре распространились повсеместно, и с 1906 г. ученые стали исполь-
зовать слово «ген» для определения единицы наследственности.
Холдейн работал на переднем крае генетики с самого начала. В 1901 г. ему
было девять лет, когда отец взял его с собой на одну из первых лекций по тео-
рии Менделя. Генетика на всю жизнь стала одним из любимых предметов Холдейна;
ей посвящена значительная часть его статей и экспериментальных исследований.
Холдейн понял связь между теорией Дарвина о естественном отборе и теорией
Менделя о наследовании признаков.
На Западе генетика завоевывала популярность с невероятной скоростью. Ее ос-
новные положения были достаточно просты для понимания и доказательства, даже
для девятилетних детей (таких, как Холдейн). Однако в СССР в середине 1920-х
гг. изучение генов практически прекратилось, поскольку в стране под руково-
дством Сталина наука тоже подчинялась тоталитарным установкам марксизма, а
генетика и «выживание сильнейшего» были несовместимы с утопической идеей об
абсолютном равенстве.
Можно сказать, все худшие признаки распада советской науки в этот период
материализовались в лице агронома Трофима Лысенко, который на протяжении 20
лет тормозил развитие генетики в СССР. Украинец Лысенко был сыном неграмотно-
го крестьянина, и долгое время о нем как об ученом никто не знал, пока в 1927
г. в газете «Правда» не была опубликована заметка «Поля зимой»: «Если судить
о человеке по первому впечатлению, то от этого Лысенко остается ощущение зуб-
ной боли, - дай бог ему здоровья, унылого он вида человек. И на слово скупой,
и лицом незначительный, - только и помнится угрюмый глаз его, ползающий по
земле с таким видом, будто, по крайней мере, собрался он кого-нибудь уко-
кать» . Лысенко быстро поднимался по советской бюрократической лестнице через
грубый макиавеллизм и преклонение перед Сталиным, а данная характеристика ос-
тавалась на удивление верной.
Лысенко был одним из поклонников маргинальной теории Ламарка о наследовании
приобретенных признаков. Основываясь на теории Ламарка, он пытался вывести
морозоустойчивые сорта зерновых культур. Якобы созданный им метод превращения
яровой пшеницы в озимую оказался катастрофой для сельского хозяйства, уже по-
страдавшего от массовой коллективизации. За несколько лет миллионы жителей
страны умерли от голода.
Однако Лысенко активно использовал свое крестьянское происхождение, чтобы
понравиться Сталину, и быстро занял ведущее положение в советской биологии.
Результат его управления был катастрофическим. Большинство ученых, работавших
при Лысенко, существовали в атмосфере страха и подгоняли свои теории в соот-
ветствие с марксистскими догмами, несогласные же могли поплатиться жизнью.
Одной из жертв Лысенко был генетик Николай Вавилов, некогда организовавший
первый приезд Холдейна в Россию. Хотя Вавилов был одним из самых горячих сто-
ронников идей Менделя, он попытался не ссориться с Лысенко и даже способство-
вал его избранию в Академию наук Украины. Тем не менее, в 1940 г. Вавилов был
арестован за шпионаж. Его приговорили к высшей мере наказания, однако затем
заменили расстрел 20 годами тюремного заключения. Вавилов умер в тюрьме от
голода и болезней. К 1948 г. почти все генетики страны были «проработаны» на
партийных собраниях и были вынуждены отказаться от своих научных изысканий.
Деятельность Опарина в «эпоху» Лысенко осталась темным пятном на его био-
графии. Летом Опарин и Лысенко вместе снимали дачу и вообще считались друзья-
ми, однако в оруэлловском мире сталинской России невозможно было догадаться
об истинной природе человеческих отношений. Безусловно, марксистская теория
повлияла на работу Опарина. В молодости Опарин казался настоящим коммунисти-
ческим ученым, что в последние годы существования СССР стало редкостью, по-
скольку период репрессий выдавил из научной среды все капли подлинного идеа-
лизма. В каком-то смысле подход Опарина к вопросу о происхождении жизни мох1
быть связан с его марксистскими взглядами. Возможно, ему помогло то, что со-
ветские ученые в меньшей степени были зажаты в рамках какой-то одной дисцип-
лины, чем их западные коллеги. Рассуждая о медленных, но неизбежных эволюци-
онных изменениях, приведших к появлению жизни, Опарин был близок к теории
Фридриха Энгельса, изложенной в «Диалектике природы». Хотя Опарин никогда не
опирался на теории Лысенко, до 1950-х гг. он старался не касаться генетики,
которая в конце столетия стала неотъемлемой частью исследований происхождения
жизни47.
Многие ученые-диссиденты видели в Опарине в худшем случае союзника Лысенко,
в лучшем случае - его пособника. А многочисленные друзья Опарина в разрастав-
шемся международном сообществе ученых, занимавшихся вопросом происхождения
жизни, не могли совместить его деятельность при Лысенко с образом милого и
добросердечного человека, умевшего очаровать любого.
Что касается Холдейна, ему невыносимо было наблюдать, как самое сильное в
мире коммунистическое государство сползало в безумие лысенковщины. В 1948 г.,
на пике борьбы с генетикой в СССР, Холдейна заставили публично выступить с
осуждением генетики на съезде коммунистической партии Великобритании. В сле-
дующем году Холдейн вышел из партии.
Однако он не отказался от левых взглядов. С отвращением узнав о вторжении
британских войск в Египет в период Суэцкого кризиса 1956 г., Холдейн эмигри-
ровал в Индию, жившую в условиях политики умеренного социализма, проводимой
Индийским национальным конгрессом. Холдейн полюбил приютившую его страну,
стал вегетарианцем и носил традиционную набедренную повязку, так что его ино-
гда принимали за гуру. Он любил шутить, что отправился в эмиграцию, поскольку
устал носить носки. «Шестьдесят лет в носках вполне достаточно», - написал
он. После смерти Холдейна его именем была названа важная магистраль, проходя-
щая перед самым крупным в Южной Азии научным центром недалеко от Калькутты.
В 1963 г. Холдейна попросили выступить на тему о происхождении жизни на не-
скольких конференциях и собраниях в США. Одно из мероприятий происходило в
Институте биологических наук в Северной Каролине. Поскольку закон штата за-
прещал членам коммунистической партии выступать на мероприятиях, организован-
ных за счет государственного финансирования, Холдейна спросили, состоит ли он
или состоял когда-нибудь в коммунистической партии. Он отказался отвечать на
этот вопрос, заметив, что в СССР приглашенных лекторов не спрашивают, являют-
ся ли они членами консервативной партии. Он также сказал, что «использует
этот пример для агитации против законов страны, которые, совершенно очевидно,
идут вразрез с принципами отцов-основателей».
Если не учитывать инцидент в Северной Каролине, остальная часть путешествия
Холдейна в США прошла успешно, включая и заключительную конференцию в Вакул-
ла-Спрингс во Флориде, недалеко от Таллахасси. Организатор конференции биохи-
мик Сидней Фокс пригласил и Опарина. Холдейн и Опарин переписывались на про-
тяжении нескольких десятилетий, но никогда раньше не встречались.
Опарин выступал со вступительной речью, а Холдейн его представлял. «Я ду-
маю, нас с Опариным можно считать старейшинами в этой области науки, но между
нами есть важное различие. Тогда как я не могу сказать на эту тему ничего
серьезного, доктор Опарин посвятил ее изучению всю жизнь», - сказал он. Хол-
47 В 1971 г. в беседе с историком науки Лореном Грехэмом Опарин объяснял свои дейст-
вия в период лысенковщины практической необходимостью: «Если бы вы были здесь в эти
годы, вам хватило бы смелости, чтобы высказываться вслух и отправиться в Сибирь?» -
Прим. авт.
дейн покинул конференцию раньше времени из-за болей в животе. В госпитале в
Таллахасси ему объявили, что у него рак. В этом же году он умер.
Гипотеза Опарина - Холдейна позволила по-новому взглянуть на проблему про-
исхождения жизни. Это была современная попытка понять, в каких условиях воз-
никла жизнь (а эти условия были совсем не такими, какими их представляли
раньше). Хотя полное понимание функционирования клетки сложилось только к
концу столетия, Опарин и Холдейн понимали клеточную механику на очень сложном
уровне. Однако, совершив невероятный теоретический прорыв, они почти не пыта-
лись доказать свои идеи опытным путем. Холдейн никогда не делал никаких экс-
периментов в этой области, а попытки Опарина практически не дали результатов.
Однако под влиянием их идей сформировалось новое поколение ученых. Вскоре их
гипотеза была подтверждена в одном из самых знаменитых экспериментов XX в.
Глава 9.
Лаборатория
Земля
Если бы в природе существовала прогрес-
сивная сила, вечное побуждение, химия
бы ее нашла. Но ее не существует.
Уильям Дженнингс Брайан, Непроизнесен-
ная заключительная речь на «обезьяньем
процессе»48, 1925 г.
Весной 1953 г. молодой аспирант Стэнли Миллер входил в лекционный зал Кент
Холл Университета Чикаго. Миллер нервничал. Ему было только 23 года, а он
должен был выступать перед самыми знаменитыми учеными Америки. Химический фа-
культет Университета Чикаго был одним из самых престижных в мире. Во время
Второй мировой войны университет был центром американской программы по созда-
нию атомного оружия. После войны многие лучшие ученые остались работать в
университете или были каким-то образом с ним связаны.
На лекции Миллера присутствовали известные участники Манхэттенского проек-
та, включая нескольких состоявшихся и нескольких будущих лауреатов Нобелев-
ской премии. Самым знаменитым из всех был «отец атомной бомбы» Энрико Ферми.
В 1942 г. Ферми построил первый в мире ядерный реактор как раз здесь, под
трибунами старого университетского стадиона «Стагг Филд». Это было удивитель-
но простое устройство, состоявшее из гранул прессованного оксида урана и уло-
женных поленницей графитовых блоков: из-за них реактор прозвали «чикагской
поленницей-1».
Миллер работал над проблемой возникновения жизни, являвшейся частью его бу-
дущей диссертации. С осени 1952 г. в университете начали поговаривать, что
ему удалось выполнить эксперимент, показавший, как на первозданной Земле мог-
ла возникнуть жизнь. С помощью стеклянного сосуда, катушки Теслы и набора
простых газов он получил аминокислоты - основные структурные элементы белков.
В ожидании прихода Миллера слушатели волновались. Некоторые обсуждали, какие
ошибки он мог допустить. Кто-то предполагал, что в сосуде могли быть примеси
или Миллер мог неверно интерпретировать результаты эксперимента. После докла-
да молодого ученого засыпали вопросами. На какие-то из них ответил руководи-
«Обезьяний процесс» - судебный процесс, проходивший в 1925-1926 гг. в штате Тен-
несси над школьным учителем Джоном Скоупсом, обвиненным в нарушении антидарвинист-
ского «акта Батлера», запрещавшего преподавать в государственных образовательных уч-
реждениях штата «любую теорию, которая отвергает идею создания человека Богом». -
Прим. пер.
тель Миллера, лауреат Нобелевской премии, химик Гарольд Клейтон Юри, еще один
важный участник атомного проекта. Его участие придало эксперименту Миллера
дополнительный вес.
Вопросы заканчивались, и недоверчивые поначалу слушатели стали понимать,
что присутствуют при обсуждении эксперимента, имеющего историческое значение.
Одним из последних задал вопрос Ферми, друг1 Юри со времен совместной работы
над Манхэттенским проектом. Ферми спросил, так ли именно возникла жизнь на
планете, или это был один из возможных путей ее возникновения. «Если Бог1 сде-
лал это иначе, - ответил Юри, - значит, он совершил неправильный выбор».
За два года до эксперимента, превратившего Стэнли Миллера в одного из самых
знаменитых американских ученых, он был всего лишь студентом Калифорнийского
университета в Беркли. Возможно, он никогда бы не уехал оттуда, если бы не
нуждался в деньгах. Он вырос недалеко от этих мест, в Окленде, и его родители
тоже были выпускниками Калифорнийского университета. Его отец был помощником
прокурора округа и другом Эрла Уоррена, будущего губернатора Калифорнии и
председателя Верховного суда. Уоррен жил неподалеку, и в детстве Миллер часто
играл с его детьми. Однако отец Миллера умер в 1946 г., и путь в аспирантуру
был бы закрыт, если бы Миллера не взяли на оплачиваемую работу в качестве по-
мощника преподавателя. Такую возможность ему предложили только два учебных
заведения, так он оказался в Университете Чикаго.
Здесь Миллера взял под покровительство физик Эдвард Теллер, еще один участ-
ник Манхэттенского проекта, для которого университет стал родным домом. В по-
следующие годы под его руководством Миллер занялся изучением происхождения
химических элементов и путей их образования внутри звезд. В 1952 г. Теллер
уехал из Чикаго, чтобы возглавить проект по созданию водородной бомбы. После
его отъезда Миллер остался без научного руководителя. Работа над диссертацией
не продвигалась, и он решил сменить тему. Миллер вспомнил семинар о химиче-
ском составе планет, на котором профессор Юри рассказывал об элементном со-
ставе Земли в тот момент, когда на ней только начала зарождаться жизнь.
Юри был уже вполне сложившимся ученым, который выделялся даже на фоне
звездных профессоров химического факультета. В 1934 г. он получил Нобелевскую
премию по химии за работу по разделению изотопных смесей и выделению тяжелого
изотопа водорода (дейтерия). Во время войны он руководил лабораторией сплавов
в Колумбийском университете, а также работал над обогащением урана для первых
атомных бомб в рамках Манхэттенского проекта.
Юри был химиком, но никогда не придавал большого значения специализации.
Первую научную степень он получил по зоологии, а изначально вообще хотел
стать психологом. Когда Юри работал в лаборатории знаменитого датского химика
Нильса Бора, Бор считал его физиком. Прибыв в Чикаго, Юри все сильнее увлекся
вопросами формирования Солнечной системы и происхождения планет.
На заинтересовавшей Миллера лекции Юри рассказывал о теории Александра Опа-
рина и мимоходом заметил, что, как ни странно, никто не пытался проверить эту
теорию опытным путем. Миллер запомнил это замечание и решил поговорить с Юри.
Это было смелое решение, поскольку Миллер никогда особенно не интересовался
экспериментальной работой. Ему нравилось работать с Теллером, поскольку оба
были теоретиками. Однако сегодня Миллера вспоминают как автора одного из са-
мых знаменитых научных экспериментов XX в.
Юри согласился руководить диссертационной работой Миллера, однако ему не
нравилась идея молодого человека сделать темой диссертации эксперимент, кото-
рый, по его мнению, имел мало шансов на успех. После противоречивых результа-
тов экспериментов по спонтанному зарождению мало кто пытался подойти к реше-
нию проблемы происхождения жизни опытным путем. Большинство талантливых уче-
ных по-прежнему считали вопрос о происхождении жизни не поддающимся экспери-
ментальной проверке или наблюдению, что, вообще говоря, нехарактерно для био-
логических проблем. Экспериментальной наукой считалась химия: она занималась
изучением проверяемых биологических или геологических явлений. Чистая теория
была прерогативой физиков. Кроме того, проблема происхождения жизни была
чрезвычайно далекой и непонятной. Юри предложил Миллеру менее сложный проект,
заключавшийся в измерении содержания таллия в метеоритах.
Однако Юри оценил амбиции Миллера. Он часто повторял, что великие ученые
были великими по той причине, что брались за важные научные проблемы. Ядерная
реакция, как он любил говорить, не сложнее любой другой химической реакции,
но только более важная. В конечном итоге они с Миллером пришли к компромиссу.
Юри дал Миллеру год на получение результатов, а если их не будет, придется
заняться более реалистичной темой - измерением содержания таллия.
Юри и Миллер начали обсуждать возможные подходы к решению задачи. За основу
они взяли идеи Опарина о появлении первых живых организмов и приспосабливали
их к теории Юри о состоянии первичной атмосферы Земли. Юри отводил ключевую
роль водороду - самому распространенному элементу в Солнечной системе. В это
же время решить проблему происхождения жизни с помощью эксперимента пытался
еще один ученый - биохимик из Беркли Мелвин Кальвин, один из ведущих специа-
листов в таком сложнейшем вопросе, как фотосинтез. В 1961 г. Кальвин был удо-
стоен Нобелевской премии за объяснение механизма фотосинтеза. Кальвин считал,
что первичная атмосфера состояла из паров воды и диоксида углерода и снабжа-
лась энергией солнечного излучения. Он имитировал эти условия в одном из пер-
вых ускорителей частиц, изобретенном физиком-ядерщиком из Беркли Эрнестом Ор-
ландо Лоуренсом. Однако результаты Кальвина были неубедительными. Он получил
следовые количества органических соединений (муравьиной кислоты и формальде-
гида) , но их было слишком мало, и трудно было представить, как из соединений
этого типа могли возникнуть живые существа.
Юри смотрел на проблему иначе. Он разбирался в химическом составе звезд и
планет и на основании своих теорий видел состав примитивной атмосферы Земли
не таким, как Кальвин. Основное различие состояло в относительном содержании
кислорода. Юри считал маловероятным наличие кислорода в первичной атмосфере,
за исключением кислорода в облаках. Состав земной атмосферы изменился в ре-
зультате уникального стечения обстоятельств, главным образом в результате по-
явления живых существ, производивших кислород в качестве побочного продукта
фотосинтеза. Юри предположил, что первозданная Земля имела восстановленную
атмосферу, состоявшую из водорода, метана и аммиака49. Присутствие метана бы-
ло очень важным фактором, поскольку в метане содержится углерод, необходимый
для построения всех живых клеток. Гипотетический мир Юри тоже был неспокой-
ным, с частыми грозовыми разрядами. Начиная с XVIII в., ученые получили мно-
жество важных результатов, подвергая смеси газов воздействию электрических
разрядов, которые могли облегчить образование органических соединений.
Миллер занялся разработкой модели такой атмосферы. Работая в контакте с
университетским стеклодувом, он начал воссоздавать примитивную атмосферу в
аппарате из пирексного стекла. Система состояла из нескольких сосудов, соеди-
ненных между собой трубками. Один сосуд имитировал первичный океан и содержал
воду, которую можно было нагревать для имитации испарения. Во втором сосуде
были метан, аммиак и водород, которые, составлявшие, по мнению Юри, первичную
атмосферу Земли. Катушка Теслы имитировала разряды молнии. Нажимая на кнопку,
Миллер создавал бледную сине-фиолетовую электрическую дугу между двумя элек-
тродами. Сосуды соединялись между собой U-образной трубкой с конденсатором,
49 Присутствие метана в атмосфере Марса в 2009 г. подтвердил сотрудник Национального
управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Майкл Мам-
ма. Как и Юри, Мамма воспитывался анабаптистами, которые пытались воспрепятствовать
его научным изысканиям. - Прим. авт.
который отправлял все образовавшиеся в сосуде с разами органические вещества
в экспериментальный океан, имитируя дождь. Впоследствии Миллер сконструировал
несколько моделей аппарата; один из них дополнительно имитировал вулканиче-
скую активность Земли. Однако именно первый, «классический», аппарат вошел в
историю науки, которую стали называть пребиотической химией. Позднее журнал
Scientific American опубликовал руководство по самостоятельному воспроизведе-
нию эксперимента Миллера, и этот опыт стал чем-то вроде теста для химиков-
любителей50 .
к вакуумному насо
пробоотборник
холодная вода »
охлаждённая вода (содержащая
органические соединения
вода (океан)
источник тепла
ловушка
Эксперимент Миллера — Юри.
Почти сразу стало понятно, что результаты будут. После дня работы Миллер
обнаружил, что внутренние стенки сосудов покрыты желтым веществом, а «прими-
50 Мне чрезвычайно повезло, поскольку Миллер был руководителем моей диссертационной
работы в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Он всегда был чрезвычайно добр к
тем, кто работал с ним, но никогда не стеснялся критиковать тех, с кем не соглашал-
ся. Кроме того, в экспериментальной работе он был совершенно бесстрашен. Я решил по-
вторить эксперимент Миллера, чтобы отпраздновать 50-летие его первой демонстрации.
Миллер к тому времени уже пережил инсульт и не мог объяснить все подробности. На
точное воспроизведение опыта мы потратили несколько недель, но, когда пришло время
включить аппарат, Миллер вместе с несколькими близкими друзьями захотел присутство-
вать . Я страшно боялся, что в аппарат мог попасть воздух, и рассчитывал, что все,
включая меня самого, будут стоять в коридоре, а я подам напряжение на катушку с
безопасного расстояния. Стэнли Миллер не боялся ничего. Я вздрогнул, когда включил
аппарат, ожидая взрыва и звона стекла, но вместо этого услышал негромкое потрескива-
ние искр между электродами. Мы прильнули к стеклу и, как загипнотизированные, смот-
рели на тоненькие струйки конденсата, вихрящиеся вокруг дуги, как вечерний туман,
сползающий по холмам Сан-Франциско. - Прим. Джеймса Кливза II.
тивный океан» окрасился в густой красно-коричневый цвет. Всего через два дня
Миллер установил присутствие аминокислоты глицина - обычного компонента бел-
ков . Через шесть дней эксперимент остановили, и Миллер провел тщательный хи-
мический анализ своей миниатюрной «Земли».
Когда информация об экспериментальных результатах Миллера потихоньку стала
просачиваться в тесный мирок ученых Университета Чикаго, Юри спросили, что он
ожидал найти. В ответ он произнес одно слово: «Бейльштейн». Он имел в виду
имеющийся во всех университетских библиотеках «Справочник по органической хи-
мии» Ф. Бейльштейна, содержащий полный список известных на настоящий момент
органических соединений. Другими словами, Юри ожидал, что в аппарате образу-
ется всего понемножку. Однако Миллер и Юри с изумлением обнаружили, что почти
весь исходный углерод превратился в небольшое число органических веществ,
включая несколько аминокислот. На лучшее нельзя было и надеяться. Аминокисло-
ты - структурные единицы белков, отвечающих за метаболизм клетки. Еще более
удивительно, что в аппарате Миллера образовались правильные типы аминокислот,
в основном глицин и аланин, часто встречающиеся в белках. Александр Опарин
предполагал, что первыми клеточными компонентами, появившимися на первоздан-
ной Земле, были белки. Теперь было получено экспериментальное подтверждение
первой части гипотезы Опарина - Холдейна о происхождении жизни.
Стэнли Миллер.
Казалось, все складывалось слишком хорошо, чтобы быть правдой. Юри настаи-
вал на медленном и тщательном подтверждении и воспроизведении результатов. В
1950-х гг. для анализа аминокислот все еще применяли довольно примитивный ме-
тод с использованием фильтровальной бумаги и различных красителей, подтвер-
ждающих наличие определенных соединений. В конце концов, Юри убедился в на-
дежности результатов. Пора было их публиковать.
По всем законам львиная доля славы должна была достаться Юри. В большинстве
лабораторий мира основная часть заслуг достается профессору, а аспиранты мо-
гут рассчитывать только на роли второго плана. Однако Юри был уже настолько
знаменит, что ему приятнее было следить за успехами своих подопечных, чем ук-
реплять собственную репутацию. Он понимал, что, если статья будет подписана
ими обоими, вклад Миллера сочтут вторичным, и поэтому настоял, чтобы на пуб-
ликации стояло только имя Миллера. Это был поистине великолепный жест, по-
скольку Юри осознавал чрезвычайную важность сделанной работы.
Юри связался с редакторами ведущего американского научного журнала Science
и сообщил, что посылает им рукопись. Однако решение Юри не указывать в статье
свое имя (и, следовательно, не ссылаться на свой научный авторитет) оказалось
не так просто реализовать. Трудно оценить столь монументальное открытие, если
оно сделано никому не известным аспирантом. Когда за несколько месяцев из ре-
дакции так и не последовало ответа, Юри обратился к главному редактору Говар-
ду Мейергоффу с просьбой вернуть рукопись, чтобы подать ее в менее престижный
Journal of the American Chemical Society. Тогда Мейергофф лично уверил Милле-
ра, что работа вскоре будет опубликована.
Статья вышла 15 мая 1953 г. Практически сразу информация о ней появилась в
заголовках газет всего мира. Передовая статья в New York Times описывала ап-
парат Миллера - Юри как «лабораторную Землю, <...> которая ничуть не напоминает
первозданную планету, в том виде, в каком она существовала два или три милли-
арда лет назад, поскольку сделана из стекла». В Times говорилось, что этот
эксперимент «воссоздает химическую историю, осуществляя первую стадию того,
что через сотню лет может привести к получению чего-то вроде бифштекса или
яичного белка». Журнал Time сообщал, что Миллер и Юри доказали «возможность
создания сложных органических соединений, содержащихся в живой материи. <...>
Если бы их аппарат был размером с океан и работал не неделю, а миллион лет,
возможно, он произвел бы нечто вроде первой живой молекулы». Читая новости в
Москве, Александр Опарин не верил, что все это правда. За одну ночь Миллер
стал одним из самых прославленных ученых в мире и, безусловно, самым извест-
ным американцем, занявшимся изучением вопроса о происхождении жизни.
В октябре 1957 г. в кабинет Миллера зашли два агента Центрального разведы-
вательного управления. Их интересовало полученное Миллером письмо от Алексан-
дра Опарина. Это было приглашение на московский симпозиум по происхождению
жизни, которое Миллер принял. За четыре года, прошедшие после исторического
эксперимента Миллера, эта тема вновь заинтересовала научный мир. Множество
молодых физиков и химиков занялись изучением вопросов, поднятых Миллером и
Юри. И хотя Миллеру было всего 27 лет, его уже прозвали крестным отцом пре-
биотической химии.
Миллер обдумывал приглашение Опарина несколько месяцев. Холодная война была
в разгаре, назревал Берлинский кризис. Джозеф Маккарти уже умер, пав жертвой
хронического алкоголизма, однако страшная тень маккартизма еще не развеялась
полностью, что очень чувствовалось в университетских кругах. Преследования в
отношении бывшего руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера51
показали, что может произойти, если перейти определенную черту. Бывший руко-
водитель Миллера Эдвард Теллер дал показания против Оппенгеймера, что привело
к полной изоляции Теллера в американских научных кругах.
Миллеру нелегко было принять решение о поездке в Москву. Он написал Юри
письмо и попросил совета. Юри был одним из многих ученых-ядерщиков, подвер-
гавшихся проверкам в годы маккартизма. Он выступал в поддержку Юлиуса и Этель
Розенбергов, приговоренных к смертной казни в 1953 г. за передачу Советскому
Союзу секретной информации о ядерном оружии. Позднее самого Юри вызывали в
Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Юри посоветовал Мил-
леру поступать по своему усмотрению, но быть настороже, поскольку «никто не
Джулиус Роберт Оппенгеймер (1904-1967) - американский физик-теоретик, руководи-
тель Манхэттенского проекта, главный советник Комиссии по атомной энергии; выступал
в поддержку международного контроля над ядерной энергией, что вызвало недовольство
ряда политических деятелей. После известного политизированного слушания в 1954 г.
был лишен допуска к секретной работе. Через десять лет в знак политической реабили-
тации был награжден премией Энрико Ферми. - Прим. пер.
знает, что какой-нибудь Маккарти сделает в следующий раз. Ситуация крайне не-
приятная» .
Миллер решил принять приглашение Опарина. И вскоре после этого к нему при-
шли люди из ЦРУ; они заходили ко всем ученым, собиравшимся участвовать в кон-
ференции в Москве. Кто-то в правительстве США. беспокоился, что русские могут
первыми объявить о создании жизни в лабораторных условиях. Такое открытие бы-
ло бы серьезной пропагандистской победой советского режима, и американцы не
могли этого допустить. Совсем недавно СССР запустил в космос первый искусст-
венный спутник Земли. Американские радиолюбители настраивали приемники, чтобы
услышать странный писк спутникового радио, пока недосягаемый спутник проно-
сился в американском воздушном пространстве. Этот звук записывали, и частные
радиостанции транслировали его во всеуслышание. В декабре был запущен первый
американский спутник, который бесславно взорвался на глазах американских те-
лезрителей. На следующее утро заголовки всех газет оплакивали судьбу амери-
канского «недоспутника». Казалось, СССР побеждает на научном фронте холодной
войны.
Агенты ЦРУ хотели, чтобы по возвращении Миллер сообщил о состоянии научных
исследований в области происхождения жизни в СССР. Миллер согласился, но был
удручен неспособностью агентов понять даже самые простые вещи относительно
того предмета, которым они интересовались. Когда он вернулся, его подробно
расспрашивали о наличии в Москве кондиционеров воздуха и о приглашенных на
симпозиум ученых.
Тема происхождения жизни оставалась в США весьма щепетильной. Прошло лишь
30 лет после «Обезьяньего процесса» в Теннесси, на котором трижды кандидат в
президенты США от демократической партии Уильям Дженнингс Брайан утверждал,
что наука не может объяснить происхождение жизни. После обнародования инфор-
мации об эксперименте Миллера - Юри Институт общественного мнения Джорджа
Гэллапа провел опрос на тему, можно ли «создать жизнь в пробирке». Положи-
тельный ответ дали лишь 9% респондентов. Однако холодная война между сверх-
державами заглушала все внутренние политические трения. США предпринимали са-
мую амбициозную и долгосрочную государственную научную программу со времен
Манхэттенского проекта, и ученые, занимавшиеся вопросами происхождения жизни,
должны были играть в ней ведущую роль.
Зимой 1957 г. молодой стипендиат программы Фулбрайта из Университета Вис-
консина Джошуа Ледерберг побывал в Калькутте, чтобы нанести визит Холдейну.
Ледербергу было 32 года, но он уже был знаменитым генетиком, поскольку обна-
ружил, что бактерии тоже могут спариваться и обмениваться генетической инфор-
мацией . Ранее считалось, что бактерии передают потомству генетическую инфор-
мацию безо всяких изменений, точно воспроизводя самих себя. Ледерберг пока-
зал, что воспроизводство бактерий - гораздо более сложный процесс. В 1958 г.
за работу по генетике бактерий он был удостоен Нобелевской премии в области
физиологии и медицины.
Ледерберг тоже был в числе получивших приглашение Опарина на симпозиум в
Москву, однако, он не поехал, а продолжил работу в лаборатории вирусолога
Макфарлейна Фрэнка Бёрнета в Мельбурне. По дороге домой в Висконсин Ледерберг
решил остановиться в Индии и заглянуть к Холдейну, который только недавно по-
кинул Великобританию, отправившись в добровольное изгнание. В эту ночь про-
изошло лунное затмение - для индусов событие чрезвычайно важности, так что
Ледерберг пробирался к дому Холдейна среди толп верующих. Естественным обра-
зом, разговор ученых коснулся звезд и животрепещущей темы запуска советского
спутника. Это был год сороковой годовщины Октябрьской революции, и Холдейн
опасался, что СССР предпримет какой-нибудь дерзкий шаг, например, продемонст-
рирует свою военную мощь, взорвав на Луне ядерную бомбу, чтобы было видно с
Земли. Двое мужчин с горечью констатировали, что надежды на освоение космоса
принесены в жертву геополитической игре между сверхдержавами.
Вернувшись в Америку, Ледерберх1 немедленно занялся поиском финансирования
биологических исследований в рамках создававшейся американской космической
программы. В течение месяца он распространял в Американской академии наук
докладную записку о возможностях «космической микробиологии» и «лунной биоло-
гии» . Он предлагал включить исследования происхождения жизни на других плане-
тах в программу освоения космоса. Обнаружение жизни в космосе имело бы колос-
сальное значение для ученых, пытающихся разгадать загадку происхождения жизни
на Земле. Ледерберх1 был бактериологом и обосновывал свое предложение идеей
национальной безопасности. Он указывал, что первые формы жизни, которые чело-
век может обнаружить в космосе, будут иметь бактериальную природу и представ-
лять для человечества чрезвычайную опасность, как было во времена, когда по-
сле открытия Нового Света бактерии с евразийского континента оказались в Аме-
рике и практически полностью уничтожили местное население. Эту мысль Ледер-
берх1 изложил в статье под названием «Лунная пыль», которую написал для журна-
ла Science. Идея Ледерберга привлекла внимание Хью Латимера Драйдена, ставше-
го одной из наиболее влиятельных фигур в быстро развивавшейся американской
программе по освоению космоса. В июле 1958 г. президент Эйзенхауэр подписал
указ о создании НАСА. Драйден был назначен заместителем руководителя управле-
ния, и одним из его первых распоряжений стал указ о создании Комитета по кос-
мической науке, призванного консультировать новую организацию. Ледербергу
предложили возглавить поиски внеземной жизни. Благодаря колоссальному финан-
сированию, отпущенному на космические программы, Ледерберх1 привлек к работе
ведущих специалистов, таких как Гарольд Юри, Мелвин Кальвин и Стэнли Миллер,
который уже рассуждал о возможном существовании жизни на других планетах.
Кроме того, Ледерберх1 разыскивал перспективных молодых ученых.
В частности, ему удалось заинтересовать молодого астронома Карла Эдварда
Сагана, который был студентом Юри в Университете Чикаго, когда Миллер работал
там над своим экспериментом. Вскоре Саган стал одним из самых активных участ-
ников программы и не потерял интереса к исследованию происхождения жизни даже
после отъезда из Чикаго. Ледерберг сразу заметил его популяризаторский та-
лант .
К 1959 г. в частной переписке Ледерберга стало встречаться слово «астробио-
логия», которым он описывал методы поиска инопланетной жизни на основании
знаний о происхождении жизни на Земле. Слово это быстро прижилось. И все же
работа в области астробиологии была в основном сосредоточена на объяснении
происхождения жизни на Земле. Как писал позднее Карл Саган, астробиология бы-
ла не чем иным, как «приложением результатов Миллера к астрономии».
В начале 1950-х гг. исследования в области происхождения жизни в универси-
тетской науке находились в плачевном состоянии и практически не финансирова-
лись . Эксперимент Миллера - Юри стал возможен только благодаря «бутлегерству»
(по выражению Миллера) - использованию средств, предназначавшихся для других
исследований. Весь эксперимент обошелся менее чем в тысячу долларов. Однако в
начале 1960-х гг. исследования происхождения жизни стали финансироваться из
бездонного государственного кармана в рамках американской космической про-
граммы. В начале 1959 г. появились деньги на оборудование для поиска внезем-
ной жизни. Через 20 лет после создания НАСА эта организация стала важнейшим
источником финансирования исследований в области возникновения жизни.
Одним из первых деньги на исследования получил микробиолог и астробиолог с
медицинского факультета Йельского университета Вольф Вишняк, планировавший
создать устройство для обнаружения микроорганизмов на поверхности других пла-
нет. Он назвал свое устройство «ловушкой Вольфа» (или «волчьей ловушкой»). В
последующие десятилетия ученые, работавшие в области астробиологии, сыграли
решающую роль в подготовке экспедиций на Луну и в исследовании Марса. Эти
ученые сформулировали новые важные идеи, в частности гипотезу Геи, и указали
на возможность такого страшного последствия применения ядерного оружия, как
ядерная зима. Параллельно с поисками признаков жизни на других планетах шло
накопление знаний о возникновении жизни на Земле.
«Ловушка Вольфа».
Эта новая информация во многом изменила наше мировоззрение. Всего через не-
сколько недель после обнародования результатов эксперимента Миллера - Юри
группа британских ученых заявила о расшифровке структуры молекулы ДНК, что
полностью перевернуло представления о механизмах наследования. Такой же рево-
люционный переворот произошел в исследованиях происхождения жизни и фундамен-
тальных основ жизни. Значительный вклад в эти исследования внесли ученые, ра-
ботавшие в рамках программы НАСА по астробиологии.
Глава 10. Монополия
нуклеиновых кислот
Вся современная ДНК, содержащаяся во всех
существующих на Земле клетках, является
лишь продолжением и усовершенствованием
самой первой молекулы.
Льюис Томас. Медуза и улитка, 1969 г.
Нил Армстронг сидел в командном отсеке космического корабля «Аполлон-11» и
через иллюминатор разглядывал поверхность Луны. Три дня назад корабль старто-
вал с Земли и теперь находился на орбите на расстоянии 90 км от поверхности
Луны, ожидая момента, когда Армстронг и Базз Олдрин перейдут в лунный модуль
«Орел» и впервые в истории человечества ступят на поверхность другой планеты.
Внизу простирался широкий синий океан, заполненный затвердевшей лавой, когда-
то выброшенной на поверхность в результате извержений вулканов. Это было так
называемое Mare Tranquillitatis, описанное в XVII в. итальянскими иезуитами
Франческо Гримальди и Джованни Риччоли. Первая карта Луны появилась в астро-
номическом альманахе Риччоли «Новый Альмагест» в 1661 г. Поскольку в этом
месте поверхность Луны имела синий цвет, итальянцы решили, что это море.
Астронавты с «Аполлона-11» называли эту область Морем Спокойствия. Планиро-
валось, что они привезут на Землю образцы местного грунта и передадут их для
изучения геологам из астробиологической программы НАСА. Рядовым американцам
вполне достаточно было самого факта высадки астронавтов на Луну, однако уче-
ным, особенно тем, кто изучал происхождение жизни, было бы чрезвычайно инте-
ресно исследовать образцы лунного грунта.
Корабль «Аполлон-11» совершал пятый космический полет в истории американ-
ской астронавтики. Предыдущий корабль, «Аполлон-10», осуществил генеральную
репетицию высадки на Луну. Выпущенные с него лунные зонды прислали на Землю
детальные фотографии поверхности, на которой можно было произвести высадку
людей. Специалисты из НАСА внимательно исследовали эти снимки, подыскивая
идеальное место. «Аполлону-11» предстояло выйти на орбиту на уровне лунного
экватора, чтобы место посадки оказалось достаточно близко и лунному модулю
хватило бы топлива. Кроме того, ученым хотелось выбрать участок, представляю-
щий интерес в реологическом плане. Армстронг1 и Олдрин должны были провести на
поверхности Луны совсем немного времени, однако им предстояло выполнить важ-
нейшую задачу в истории космической геологии. Даже если бы все сработало пре-
дельно точно, у астронавтов было всего два часа на сбор как можно более раз-
нообразных образцов лунного грунта.
Признаки древней вулканической активности означали для ученых из НАСА то
же, что и для Чарльза Дарвина: в лаве сохраняются такие образцы, которые не
встретишь в обычных горных породах. Однако вулканические образования, бывшие
настолько привлекательными для ученых, представляли большую опасность для ас-
тронавтов . Одна из самых непростых задач экспедиции заключалась в осуществле-
нии мягкой посадки корабля на поверхность Луны. Компромиссным решением каза-
лась высадка в Море Спокойствия. При большом геологическом потенциале эта зо-
на была не очень холмистой и относительно удобной для приземления.
Большую часть пути к Луне Армстронг посвятил изучению лунных карт. Теперь,
обосновавшись на орбите, он мог рассмотреть поверхность собственными глазами.
Когда Луна располагалась между командным отсеком «Колумбии» и Солнцем, все
видимое пространство было залито отраженным от Земли синеватым светом, в ко-
тором четко вырисовывались вулканические кратеры. Олдрин первым различил в
месте предполагаемой посадки кратер четырехкилометровой ширины. Он выглядел
неровным и плохо приспособленным для приземления; возможно, в погоне за гео-
логическими трофеями ученые приняли слишком смелое решение. Однако, по мере
того как местность освещалась прямыми солнечными лучами, она начала казаться
менее суровой.
На следующий день Армстронг и Олдрин перебрались в лунный модуль, оставив
третьего члена экипажа Майкла Коллинза управлять «Колумбией». Выход с орбиты
оказался непростым. Дважды в результате нарушений в работе компьютерного обо-
рудования включалась аварийная сигнализация, и Армстронг вынужден был осуще-
ствлять контроль посадки вручную. При приближении к поверхности астронавты с
ужасом обнаружили, что она сплошь покрыта булыжниками, что, без сомнения, по-
радовало бы геологов с Земли, но Армстронг понимал, что это чрезвычайно ус-
ложняет посадку. Тем не менее, он сумел провести модуль на высоте всего около
сотни метров над протяженным каменистым участком и посадил его вблизи кратера
размером с футбольное поле - достаточно широким, чтобы вызвать неприятности
при посадке, но слишком маленьким, чтобы оказаться на карте, составленной по
результатам полета «Аполлона-10». Специалисты из НАСА, координировавшие полет
из Хьюстона, молча наблюдали за происходящим, понимая, что астронавты выпол-
няют самую сложную часть задания. А затем они услышали первые слова, произне-
сенные человеком на Луне: «Хьюстон, говорит База Спокойствие. ллОрел" сел».
Передохнув около двух часов, Армстронг и Олдрин начали облачаться в гро-
моздкие космические скафандры, специально сконструированные для их прогулки
по Луне. Потом Армстронг спустился по лестнице, включив вмонтированную в борт
корабля камеру. Оказавшись на нижней ступени, он принялся разглядывать по-
верхность . В процессе тренировок он привык описывать абсолютно все, что могло
бы заинтересовать ученых. «При ближайшем рассмотрении поверхность кажется по-
крытой очень мелкой крошкой, - сообщил он. - Она напоминает порошок».
Он спрыгнул на поверхность и сделал несколько шагов. Почти в 400 тыс. км от
него большинство жителей Америки и других стран мира затаили дыхание перед
телевизорами и радиоприемниками52. С момента посадки модуля на Луну Армстронг
обдумывал слова, которые ему предстояло произнести в этот исторический мо-
мент: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для челове-
чества» .
Без соответствующего снаряжения Армстронг не прожил бы и нескольких секунд,
но он не думал об этом. Он был полностью поглощен открывшейся ему картиной:
восходящее Солнце яркими лучами заливало поверхность Луны. Все выглядело ина-
че, чем на фотографиях, сделанных зондами, а из-за отсутствия атмосферы все
казалось невероятно четким, как никогда не бывает на Земле. Это был велико-
лепный, но совершенно голый пейзаж. Олдрин назвал его «величественной пусто-
той» .
Армстронг начал щелкать камерой, вмонтированной в скафандр, однако его ос-
тановил голос из командного отсека, приказавший немедленно приступить к непо-
средственным обязанностям. Он должен был выполнить важнейшее в истории чело-
вечества геологическое исследование, причем всего за два с половиной часа -
пока не иссякнет запас кислорода.
Из кармана на скафандре Армстронг достал телескопический стержень с мешком
на конце и начал собирать пыль и мелкие камушки из-под ног, пока мешок не за-
полнился серо-черным порошком. Даже если бы произошло что-то непредвиденное и
астронавтам пришлось бы прервать прогулку по Луне, у них уже был этот мешок
со «случайными образцами», как их назвали на Земле. Проведя серию других экс-
периментов, астронавты приступили к более систематическому сбору образцов
(«документированных образцов»). Телефонный звонок президента Никсона выбил их
из графика, и теперь они спешили выполнить самую кропотливую и важную часть
намеченной программы. Армстронг заполнил два алюминиевых контейнера, которые
ученые назвали «коробками с горной породой». Пока Олдрин орудовал пробоотбор-
ником в поисках образца, который позволил бы ученым определить, что находится
непосредственно под покрывающим поверхность Луны слоем пыли, Армстронг по-
спешно захватывал клещами камни, казавшиеся ему наиболее интересными.
Астронавты привезли на Землю примерно 20 кг лунного грунта, однако исследо-
вание материала началось не сразу. Руководители НАСА всерьез испугались пре-
дупреждения Джошуа Ледерберга о возможности заражения лунными бактериями. В
Космическом центре Джонсона в Хьюстоне был создан карантинный блок для лунных
образцов - рядом с карантинным блоком для самих астронавтов. Однако ученые
опасались не столько возможного заражения землян лунными организмами, сколько
заражения лунного грунта земными микроорганизмами, которые могли бы разрушить
ценные образцы и исказить результаты анализа.
Через три недели после того, как «Орел» покинул Луну, образцы разделили на
части и передали на анализ четырем группам ученых, работавших в рамках астро-
биологической программы НАСА. Руководители всех четырех групп либо уже были,
либо впоследствии стали ключевыми фигурами в науке о происхождении жизни. Во
главе двух групп стояли сотрудники НАСА: геолог Дэвид Маккей, лично настав-
лявший Армстронга и Олдрина перед полетом на Луну, и химик из Шри-Ланки Сирил
Считается, что за высадкой астронавтов на Луну следил каждый пятый житель Земли.
- Прим. авт.
Поннамперума, ставший важным действующим лицом в астробиологической программе
НАСА. Еще одна часть образцов была отправлена в Калифорнийский университет в
Сан-Диего, где ее анализом занялась исследовательская группа под руководством
Гарольда Юри, прозванного «отцом лунной науки» за теорию о составе лунной
среды. Часть образцов доставили в Университет Майами, где работала группа под
руководством колоритного вольнодумца - химика Сиднея Фокса. Этот человек ог-
ромного роста имел репутацию рассеянного профессора, способного часами разы-
скивать свою машину на паркинге или заснуть на полуслове во время собственной
лекции.
История жизни Фокса была не менее колоритна, чем внешность. Его отец был
постижером (изготовителем париков). Мать, украинская еврейка, в возрасте 11
лет бежала из царской России, спрятавшись в ящике на борту парохода. Фокс рос
в Лос-Анжелесе и обожал музыку, особенно джаз в стиле Бенни Гудмена и брод-
вейские мюзиклы. В 20 лет он увлекался сочинительством. Во время обучения на
химическом факультете Калифорнийского университета Лос-Анжелеса он даже напи-
сал музыку к нескольким ежегодным университетским спектаклям. В 1935 г. ему
позвонили со студии Уолта Диснея с предложением написать музыку к мультфильму
по сказкам братьев Гримм (фильм должен был называться «Белоснежка и семь гно-
мов») . Фоксу идея понравилась, но он решил посоветоваться со своим руководи-
телем в университете, профессором Максом Данном. «Вы должны сделать выбор ме-
жду музыкой и химией, - сказал Данн, - и это будет химия».
Окончив университет, Фокс перебрался в Калифорнийский технологический ин-
ститут (Калтех), созданный в 1891 г. как профессионально-техническое училище,
но за несколько десятилетий превратившийся в исследовательский центр мирового
класса. Хотя сейчас Калтех - это сравнительно небольшой институт, в его сте-
нах работали 34 лауреата Нобелевской премии, а его сотрудники имеют самый вы-
сокий в мире уровень цитирования. К моменту прибытия Фокса в 1930-х гг. в ин-
ституте работало несколько самых выдающихся американских ученых, включая двух
человек, сыгравших заметную роль в исследовании функционирования живых орга-
низмов на субклеточном уровне. Речь идет о химике Лайнусе Полинге и биологе
Томасе Ханте Моргане. Полинг был отцом квантовой химии, а позднее сыграл ве-
дущую роль в изучении молекулярных структур живой клетки. Морган прославился
в качестве эволюционного биолога; он получил Нобелевскую премию за открытие
роли хромосом в передаче наследственной информации у дрозофил. Эти два чело-
века оказали на Фокса серьезное влияние и определили направление его научной
деятельности.
В Калтехе Фокс начал интересоваться вопросами эволюции, особенно пребиоти-
ческими процессами, приведшими к «спонтанному зарождению первых форм жизни».
Фокс был честолюбив. Он хотел работать по такой тематике, в которой мог бы
совершить заметный прорыв. Он считал происхождение жизни важнейшей проблемой
биологии - именно такой проблемой, которой избегали многие другие ученые, и
которую никто пока не решил. В этой области он мог выдвинуть новые гипотезы и
критически проанализировать традиционные идеи. Забавно, что в конце научной
карьеры Фокса многие ученые обвиняли его в приверженности устаревшим пред-
ставлениям, которые уже не могли объяснить появление первых форм жизни.
За годы работы в должности профессора в Университете Флориды Сидней Фокс
стал одним из самых знаменитых американских ученых, занимавшихся вопросами
происхождения жизни. Он также был одним из первых ученых, включившихся в про-
грамму НАСА по астробиологии. НАСА обратилось к нему с предложением организо-
вать первую в Америке научную конференцию по вопросам происхождения жизни в
парке Вакулла-Спрингс, где впервые встретились Опарин и Холдейн. С этого мо-
мента Фокс активно использовал деньги НАСА для создания первой в стране лабо-
ратории по астробиологии - Института космической биологии во Флориде. Когда в
1964 г. Фокс перебрался в Университет Майами, финансовая поддержка НАСА по-
зволила ему организовать независимую исследовательскую организацию - Институт
молекулярной эволюции, где в последующие два десятилетия трудилось несколько
светил в области происхождения жизни.
Перед полетом «Аполлона-11» большинство ученых из НАСА предсказывали, что
на Луне будет обнаружено множество органических соединений. Больше всех в
этом был уверен Сирил Поннамперума. Однако на Луне, лишенной защитной атмо-
сферы, астронавты обнаружили совершенно бесплодный пейзаж. В доставленных
«Аполлоном-11» образцах содержались следовые количества аминокислот, но их
было слишком мало. Как Фокс писал позднее, казалось, что поверхность Луны
обуглилась.
Однако Фокс не был разочарован. По официальной версии, его роль в космиче-
ской программе сводилась к поиску следов органических соединений, которые
могли свидетельствовать о наличии в Солнечной системе предшественников живых
организмов. Однако для Фокса важнее было то, что существование жизни в космо-
се могло бы разъяснить механизм появления жизни на Земле. Он хотел объяснить
происхождение жизни на нашей планете, или, как он выразился, «проверить гипо-
тезы относительно происхождения жизни». К моменту реализации проекта «Апол-
лон- 11» Фокс пришел к выводу, что проведенные в его лаборатории эксперименты
позволили определить ключевые стадии процесса превращения аминокислот в пол-
ноценные белки, и что он разгадал загадку «полуживых» организмов Холдейна.
С самого начала экспериментальная работа Фокса с белками неизменно подвер-
галась критике. К моменту полета «Аполлона-11» критика значительно усилилась.
За полтора десятка лет после эксперимента Миллера - Юри объем информации о
молекулярной организации живой клетки рос экспоненциальным образом, которая и
легла в основу идей Фокса о первых формах жизни.
Как почти все ученые, работавшие в то время в этой области, Фокс полагал,
что полноценные живые клетки не могли возникнуть на первозданной Земле сразу
полностью сформированными. Сначала должны были появиться простые компоненты
живых клеток, а уже потом начался длительный эволюционный процесс, приведший
к возникновению современных клеток. Но какими были эти ключевые компоненты?
Вообще говоря, в поисках микроскопической жизни в других мирах Фокс и другие
ученые, работавшие в рамках программы НАСА по астробиологии, пытались отве-
тить все на тот же извечный вопрос: что делает живые клетки по-настоящему жи-
выми?
В 1944 г. австрийский физик-теоретик Эрвин Шрёдингер написал книгу «Что та-
кое жизнь?». Это был старый вопрос. Даже древние люди подмечали разницу между
растениями и животными, с одной стороны, и неодушевленным миром - с другой.
Виталисты прошлых веков пытались определить суть этого различия. Однако мало
кто рассматривал проблему с математической точки зрения, вот почему книга
Шрёдингера вызвала невероятное возбуждение в научном мире.
Шрёдингер был физиком, причем весьма знаменитым. За вклад в развитие кван-
товой механики он был удостоен Нобелевской премии, и к вопросу о сущности
жизни он, естественно, тоже подходил как физик. По его мнению, ключевая ха-
рактеристика любой формы жизни заключается в способности противостоять неиз-
бежной судьбе материи в физическом мире - распаду под действием фактора эн-
тропии. Живые организмы противостоят распаду за счет «поглощения порядка» из
окружающей среды: они используют химические элементы и энергию окружающей
среды и трансформируют их в процессе метаболизма. Кроме того, Шрёдингер под-
метил еще один признак, отличающий живые организмы от неживой материи. Речь
идет о мутации - воспроизведении самого себя с изменениями; именно эта идея
лежит в основе современной версии теории эволюции.
Шрёдингер показал, что ключевую роль в механизме наследования должна играть
специфическая молекула, которую он назвал непериодическим кристаллом, по-
скольку, по его предположению, молекула с такой функцией должна быть упорядо-
ченной и стабильной и за счет этого иметь возможность передаваться из поколе-
ния в поколение, что невозможно, скажем, для коллоидных суспензий (коацерва-
тов). Кристалл должен быть непериодическим, чтобы содержать бесконечное число
вариаций и тем самым обеспечивать возможность мутаций и эволюции. Другими
словами, это должна быть единая молекула, атомы которой могут хранить инфор-
мацию.
Поскольку первые формы жизни, судя по всему, были намного проще полноценных
клеток, вероятно, вначале сформировались какие-то части клеток. Первые «полу-
живые» существа (которые позднее назвали протоклетками) должны были обладать
двумя способностями: использовать для метаболизма компоненты внешней среды и
воспроизводиться с модификациями. На решающее значение тех же функций - мета-
болизма и репликации - указывали Опарин и Холдейн. Проблема в том, что эти
две функции осуществляются разными, хотя и взаимосвязанными, подсистемами
внутри одной клетки.
Позднее данную проблему стали представлять в виде парадокса о происхождении
курицы и яйца, но в середине XX в. , когда эксперимент Миллера и Юри оживил
исследования в области происхождения жизни, проблема еще не вырисовалась
окончательно. Ученые хорошо представляли себе функционирование метаболических
ферментов, но о хромосомах практически ничего не было известно. Благодаря ра-
боте Томаса Ханта Моргана о роли хромосом в механизме наследования стало яс-
но , что хромосомы являются ключевым элементом генетических процессов. Но ни-
кто пока не понимал, из чего же, на самом деле, состоят хромосомы. Логично
было предположить, что за репликацию и метаболизм отвечает одна и та же часть
клетки, что курица и яйцо - одно и то же. Однако в то время ученые еще плохо
понимали, как устроена клетка.
Структура клетки является одним из самых веских доказательств глубокой эво-
люционной связи между всеми формами жизни на Земле. Как когда-то Жоффруа
Сент-Илер заметил общее между такими, казалось бы, несхожими придатками тела,
как крыло птицы и рука человека, так и микробиологи, по мере усовершенствова-
ния методов анализа, выявили удивительное сходство в структуре клеток самых
разных организмов. Удивительное единообразие структуры, функции и даже гене-
тического строения клеток доказывает их происхождение из единого источника.
На Земле существует лишь два типа клеток: прокариотические (от лат. pro -
перед, вместо и греч. karyon - ядро, доядерные) и эукариотические (содержащие
«истинное ядро») клетки. Самые простые организмы - это одноклеточные прока-
риоты (безъядерные клетки). Все многоклеточные организмы (растения, животные,
грибы) относятся к эукариотам. Любой многоклеточный организм напоминает коло-
нию клеток, каждая из которых запрограммирована на выполнение определенной
задачи и зависит от функционирования других клеток. В человеческом организме
клеток так много, что их точное число трудно установить. Некоторые считают,
что их около 100 трлн, однако большинство специалистов склоняется к тому, что
их число составляет одну треть этой величины.
Первым человеком, увидевшим живую клетку, был Антони ван Левенгук, хотя
иногда первенство отдают его современнику Роберту Гуку. В книге «Микрография»
Гук описал микроскопические структуры, которые он обнаружил в кусочке древес-
ной коры. На самом деле, это были не клетки, а остатки клеточных стенок, со-
стоявших из целлюлозы и лигнина. Гук назвал эти структуры клетками (cell,
производное от лат. cella - маленькая комната). Таким образом, клетки получи-
ли свое название от той части клетки, которую проще всего было разглядеть с
помощью первых микроскопов, а именно от защитной оболочки, названной позднее
клеточной стенкой.
На самом базовом уровне клетка состоит всего из нескольких основных элемен-
тов . Однако эти элементы соединены между собой невероятно сложным образом и
формируют динамичный функциональный аппарат, состоящий главным образом из
белков. Известно несколько десятков тысяч типов белков, и каждый из них игра-
ет специфическую роль в функционировании клетки. Практически все функции жи-
вой клетки (дыхание, питание, рост, размножение) осуществляются белками или
при участии белков.
В каком-то смысле ученые считали цитоплазму (вязкий раствор белков и нук-
леиновых кислот, окруженный клеточной мембраной) современным аналогом прото-
плазмы - загадочной сущности живого организма, наделяющей его всеми специфи-
ческими свойствами. Наиболее важной частью цитоплазмы считались белки. В пер-
вой половине XX в. многие исследователи склонялись к мысли, что белки являют-
ся также и носителями генетической информации. Ключевая роль белков в метабо-
лизме клеток была очевидна, но постепенно некоторые ученые начали сомневаться
относительно их роли в передаче наследственной информации.
Как и многие другие ученые, занимавшиеся вопросами происхождения жизни,
Сидней Фокс полагал, что ведущую роль во всех клеточных процессах играют бел-
ки. Основатель современной генетики Морган из Калтеха частенько говорил ему:
«Фокс, все жизненные процессы связаны с белками». Фокс еще больше утвердился
в этой мысли, когда оказался в лаборатории одного из ведущих специалистов по
белкам, химика Макса Бергманна, немецкого еврея, бежавшего из нацистской Гер-
мании и организовавшего лабораторию в Университете Рокфеллера в Нью-Йорке.
Вторая мировая война почти не коснулась Фокса. Он вернулся в Калифорнию,
где устроился на работу в частную лабораторию, занимавшуюся разработкой мето-
дов выделения витамина А из печени акул. Витамин А назначали военным пилотам
для улучшения ночного зрения. В 1953 г. эксперимент Миллера - Юри встряхнул
научный мир, и Фокс вернулся к «большому вопросу», волновавшему его со времен
работы в Калтехе, - вопросу о происхождении жизни.
Вслед за Миллером и Юри другие ученые тоже стали проводить подобные опыты,
пытаясь воспроизвести образование аминокислот. Одни предлагали модели на ос-
новании иного состава первичной атмосферы Земли, другие - иного состава газо-
вой смеси. Молнию Миллера заменили другими источниками энергии. Однако Фокс
не хотел идти тем же путем, которым уже прошли Миллер и Юри. Вопрос о появле-
нии первых аминокислот еще не был полностью разрешен, но до разгадки было не-
далеко . Происхождение органических молекул уже не казалось великой тайной и
таким непреодолимым препятствием, каким было раньше. Фокс обратился к изуче-
нию следующего этапа развития живых организмов. Он хотел понять, как амино-
кислоты могли образовать первые прототипы живых клеток на той стадии эволю-
ции , которую Холдейн называл «полужизнью». Фокс считал, что следующим шагом
эволюции было образование белков или их аналогов из аминокислот.
Это была более сложная проблема, чем та, которой занимались Миллер и Юри.
Даже самый маленький белок представляет собой длинную последовательность (по-
лимер) аминокислот, организованных в строго определенном порядке, поэтому
слово «секвенирование» в применении к белкам означает определение точного по-
рядка расположения аминокислотных остатков в молекуле белка. Позднее это сло-
во чаще стали использовать для анализа последовательности генов на хромосомах
и отдельных нуклеотидов внутри генов.
Получить полноценный белок из простых аминокислот, образовавшихся в экспе-
рименте Миллера и Юри, было невероятно сложно. Однако Фокс достаточно быстро
нашел один ответ. В то время как научный мир, разбуженный экспериментом Мил-
лера и Юри, вновь обратился к изучению происхождения жизни, Фокс задумался
над тем, как из простых аминокислот могут складываться более сложные структу-
ры . И вот однажды, во время чтения лекции, его осенило: что произойдет, если
упаривать раствор аминокислот в некоей среде, напоминающей «маленький теплый
пруд» Дарвина?
Фокс и его коллеги обнаружили, что при нагревании раствора очищенных амино-
кислот до температуры 175 С происходит самопроизвольное образование неслучай-
ных полимеров, в какой-то степени напоминающих белки. Эти аминокислотные по-
следовательности короче настоящих белков, но могут проявлять каталитическую
активность, похожую на активность белков. Убежденный в том, что установил
следующий шах1 на пути превращения неживой материи в живой организм, Фокс на-
звал эти короткие последовательности аминокислот протеиноидами. В 1959 г. он
обнаружил, что, если высушенные протеиноиды поместить в горячую воду, они са-
мопроизвольно образуют мельчайшие сферы, которые ведут себя «как живые». В
мае 1959 г. Фокс опубликовал эти результаты в журнале Science, где утверждал,
что его открытие заложило основы «комплексной теории спонтанного зарождения
жизни при умеренно повышенной температуре».
По мере дальнейшего изучения микросфер протеиноидов Фокс все больше и боль-
ше убеждался в том, что они были предшественниками современных клеток. Они
имели внешнюю оболочку, похожую на клеточную мембрану, избирательно проницае-
мую для некоторых биологических молекул, и могли выступать в роли катализато-
ров, ускоряя химические реакции, как это делают белки. Более того, микросферы
поглощали другие микросферы, что позволяло им увеличиваться в размере и от-
почковывать новые микросферы. Позже Фокс описывал поведение микросфер таким
образом, как будто в каком-то простейшем смысле это были живые существа.
Многие ученые восприняли результаты Фокса весьма скептически. Одним из его
самых серьезных критиков был Миллер. В письме, опубликованном в Science после
выхода статьи Фокса, Миллер и Юри обсуждали вероятность геологических усло-
вий, необходимых для реализации подобного сценария. Даже в лабораторных усло-
виях для получения протеиноидов требовалось точное соблюдение специфических
стадий нагревания и охлаждения, высушивания и растворения. Фокс считал, что
протеиноиды могли образоваться в приливном водоеме вблизи вулкана. Миллер и
Юри сомневались, что это было возможно на первозданной Земле, и что жизнь
возникла вблизи вулканов. Они утверждали, что Фокс открыл удивительный хими-
ческий феномен, который, однако, не имел отношения к происхождению жизни.
Очевидно, что протеиноиды Фокса не были живыми и не могли эволюционировать и
превращаться во что-то другое.
Именно это замечание, а также дальнейшие успехи молекулярной биологии под-
рывали значимость работы Фокса в глазах большинства ученых. После эксперимен-
та Миллера и Юри ученые стали лучше понимать роль сложных биологических моле-
кул, содержащихся в клетке. Многие сомневались в том, что белки играют веду-
щую роль абсолютно во всех клеточных процессах. В поисках прототипов совре-
менных клеток ученые медленно, но верно переводили взгляд с белков на другие
клеточные компоненты. Наконец все внимание ученых сконцентрировалось на нук-
леиновых кислотах, которые долгое время никого не интересовали.
Однажды весной 1953 г. в кембриджский бар «Орел» вошел, слегка прихрамывая,
высокий рыжеволосый молодой человек и во всеуслышание заявил, что они с дру-
гом только что раскрыли тайну жизни. Это было сильное заявление, учитывая,
что молодой человек еще не защитил диссертацию. Однако Френсис Крик никогда
не скрывал высокого мнения о собственных способностях. Джеймс Уотсон, распи-
вавший с Криком пиво и разделивший с ним Нобелевскую премию, впоследствии на-
писал книгу «Двойная спираль» об открытии структуры ДНК. Книга начиналась
словами: «Я никогда не видел, чтобы Френсис Крик держался скромно».
Миру понадобилось примерно десять лет, чтобы понять всю важность открытия
Уотсона и Крика. В конечном итоге открытие структуры ДНК и в самом деле было
признано одним из наиболее значительных научных достижений XX в., и Крик стал
одним из самых знаменитых ученых в мире.
Сын сапожника из Нортгемптона, столицы сапожного дела в Великобритании,
Крик поздно делал диссертацию. Хотя его дед, натуралист Уолтер Дробридж Крик,
был знаком с Чарльзом Дарвином и даже был соавтором последней статьи Дарвина
в журнале Nature, Френсис Крик не имел глубоких познаний в области биологии.
Он учился в Университетском колледже Лондона, где когда-то Роберт Грант на-
ставлял Генри Чарлтона Бастиана. Подобно Бастиану, Крика больше всего интере-
совали две важные, но мало изученные проблемы биологии: сознание и происхож-
дение жизни. Однако он занялся тем, что его интересовало меньше, пытаясь по-
лучить ученую степень по физике. Когда началась Вторая мировая война, Крик
работал над задачей, которую впоследствии назвал «самой занудной из возможных
задач»: он измерял вязкость воды в диапазоне температур от 100 до 150 С. Ос-
вобождение от этого скучного дела принес немецкий самолет, который сбросил на
лабораторию, где работал Крик, глубинную бомбу и уничтожил его эксперимен-
тальное оборудование.
Затем Крик стал сам заниматься созданием морских мин в исследовательской
лаборатории Британского военно-морского флота. Он придумал довольно хитроум-
ную конструкцию мины, взрывавшуюся только под действием чрезвычайно сильных
магнитных полей, которые использовались немецкими минными тральщиками.
В конце войны Крик все еще был аспирантом. Как и многие из поколения физи-
ков, вдохновленных книгой Шрёдингера «Что такое жизнь?», он решил заняться
биологией. В 1949 г. он нашел работу в Кавендишской лаборатории Кембриджа53 -
самой знаменитой физической лаборатории Великобритании. Именно здесь было
сделано несколько самых важных открытий, позволивших разгадать секреты живой
клетки.
В 1912 г., вскоре после установления волновой природы рентгеновских лучей,
25-летний студент Кембриджа Уильям Лоренс Брэгг додумался до того, чтобы по
дифракции рентгеновских лучей определять расположение атомов в кристаллах.
Вскоре ученые нашли способы кристаллизовать образцы отдельных клеточных ком-
понентов, что позволило проанализировать их структуру на атомном уровне и ис-
следовать механизмы их действия. Открытие Брэгга произвело революцию в биохи-
мии и сделало его самым молодым лауреатом Нобелевской премии за всю исто-
54
рию
Когда Крик попал в Кавендишскую лабораторию, ее возглавлял Брэгг. Под его
руководством лаборатория стала центром самых передовых кристаллографических
исследований в мире. Большинство работ было связано с белками, и Крик начал с
того, что раскритиковал идею одного из самых блестящих сотрудников лаборато-
рии, австрийского микробиолога Макса Фердинанда Перуца, пытавшегося устано-
вить молекулярную структуру гемоглобина. Перуц надеялся, что структура этого
белка позволит раскрыть секрет передачи генов, однако Крика данная гипотеза
не удовлетворяла. Он склонялся к тому, что секрет наследования связан не с
белками, а с малоизученной молекулой нуклеиновой кислоты, называемой ДНК.
В 1871 г. швейцарско-немецкий химик Фридрих Иоганн Мишер выделил новое био-
химическое вещество из клеток, обнаруженных в пропитанных гноем повязках, ко-
торые он брал из соседнего госпиталя. Мишер понял, что это вещество содержало
азот и фосфор, но не содержало серы и, следовательно, не являлось белком. По-
скольку вещество было выделено из клеточного ядра, Мишер назвал его «нуклеи-
ном» (от лат. nucleus - ядро), но позднее его стали называть дезоксирибонук-
леиновой кислотой, или просто ДНК55. Однако никто, в сущности, ничего не знал
о ДНК и не подозревал о ее связи с таким исключительно теоретическим поняти-
ем , как гены.
Кавендишская лаборатория - Физический факультет Кембриджского университета; соз-
дана в 1874 г. и названа в честь основателя, канцлера университета Уильяма Кавенди-
ша, пожертвовавшего средства на ее создание. - Прим. пер.
54 Рекорд Брэгга в качестве самого молодого лауреата был побит в 2014 г. , когда Но-
белевскую премию мира получила семнадцатилетняя Малала Юсуфзай. - Прим. авт.
55 Термин «нуклеиновая кислота» не совсем корректен. Дело в том, что и ДНК, и РНК
содержатся также и в прокариотических клетках, у которых нет ядра. - Прим. авт.
Через 50 с лишним лет после открытия Мишера мир начал осознавать, что ДНК
играет в передаче наследственной информации гораздо более важную роль, чем
можно было предполагать. В 1943 г. физик канадского происхождения Освальд
Эвери в Институте Рокфеллера в Нью-Йорке начал серию опытов с вирусами. Мето-
ды химического анализа того времени уже были достаточно сложными и позволили
показать, что вирусы, как и клетки, состоят из белков и нуклеиновых кислот -
эти два типа соединений удавалось разделить в лабораторных условиях. Работая
с вирусом пневмонии, Эвери обнаружил, что может превратить безопасный штамм
вируса в вирулентный штамм просто путем контакта с патогенной ДНК. Вывод был
таков, что чистая (полностью отделенная от белков) ДНК может передавать гене-
тическую информацию.
Эксперимент Эвери, Маклеода и Маккарти.
Джошуа Ледерберх1 позднее назвал этот эксперимент «исторической платформой
для современных исследований ДНК», однако большинству ученых понадобилось до-
вольно много времени, чтобы осознать его истинное значение. Все знали о ре-
зультатах Эвери, но очень многие крупные ученые верили в главенствующую роль
белков. Идея о том, что носителем генетической информации является ДНК, вы-
звала революционный перелом в понимании функционирования клетки. Распростра-
нению этой идеи противились многие, даже в Институте Рокфеллера. Даже в 1951
г. в статье, посвященной 50-летию повторного открытия законов Менделя, знаме-
нитый генетик Герман Джозеф Мёллер, первым осознавший возможность мутации ге-
нов , писал следующее: «Мы еще не знаем реального механизма, определяющего
уникальное свойство гена - его способность вызывать синтез других структур,
таких как он сам».
Однако постепенно все большему числу ученых открывался смысл эксперимента
Эвери: на самом деле, именно ДНК была главным элементом наследственности.
Крик с осторожностью причислял себя к сторонникам этой идеи, а вот Джеймс
Уотсон на момент их встречи уже был полностью убежден в ее справедливости.
Этот нахальный, стриженный ежиком американец, чужеродный в Кавендишской лабо-
ратории, как нарыв на большом пальце, был уверен в ключевой роли ДНК в клетке
еще со времен обучения в Университете Чикаго. Его злило сопротивление масти-
тых ученых. Позднее, в «Двойной спирали», он резко критиковал «сварливых
глупцов, уверенно ставивших не на тех лошадей», добавляя, что «многие ученые
были не только узколобыми и косными, но просто глупыми».
После прибытия Уотсона в лабораторию в 1950 г. они с Криком сблизились со
специалистом в области кристаллографии Морисом Уилкинсом, получившим несколь-
ко первых дифракционных снимков ДНК. Вскоре Уилкинс пригласил молодых людей
помочь ему интерпретировать новые результаты.
В это время ведущие лаборатории мира соревновались в расшифровке новых бел-
ковых структур. Исследованиям белков отводилась ведущая роль и в Кавендишской
лаборатории. В анализе структуры ДНК основными соперниками Уотсона и Крика
были исследователи из группы Лайнуса Полинга в Калтехе, однако, у Полинга не
было таких высококлассных рентгеноструктурных данных, какие получали в Кем-
бридже. К 1953 г. в руках у Крика и Уотсона была весьма подробная структурная
информация, полученная химиком Розалиндой Франклин - ведущим исследователем
структуры ДНК в Кавендишской лаборатории и внучатой племянницей бывшего мини-
стра внутренних дел Великобритании Герберта Самюэля. На основании все более
сложных снимков, полученных Франклин, Уотсон и Крик в конечном итоге смогли
расшифровать структуру ДНК56.
Так появилось одно из самых узнаваемых и красивых изображений в мире науки:
двойная спираль ДНК, две длинные перевитые нити нуклеотидов - микроскопиче-
ский жезл кадуцей. Структура в духе Сальвадора Дали. Важнее всего, что эта
структура обладала всеми свойствами, необходимыми, по мнению ученых, для пе-
редачи генов. Еще в 1927 г. советский биолог Николай Константинович Кольцов
предположил, что гены передаются с молекулой наследственности, состоящей из
«двух зеркальных нитей, способных к репликации»57. В 1934 г. Холдейн писал,
что гены копируют сами себя на основании комплементарных матриц. Когда Уотсон
и Крик пытались доказать функцию ДНК в качестве носителя генетической инфор-
мации, они уже знали, что ищут комплементарные молекулы, способные играть
роль матрицы. Именно такой оказалась структура двойной спирали ДНК.
В мае 1953 г. в журнале Nature вышли три взаимодополняющие статьи, объяв-
лявшие об открытии двойной спирали ДНК: одна статья Крика и Уотсона, вторая -
Мориса Уилкинса, третья - Розалинды Франклин. Как писали Уотсон и Крик, сама
56 Вклад Франклин в открытие двойной спирали ДНК был одним из самых сложных дискус-
сионных вопросов в истории науки. Уотсон и Крик использовали данные Франклин без ее
ведома, хотя она вряд ли стала бы возражать. После открытия структуры ДНК Франклин и
Крик оставались близкими друзьями. Последние недели перед смертью от рака яичника в
1958 г., возможно, вызванного рентгеновским излучением, Франклин провела в доме Кри-
ка. В 1962 г. Крик, Уотсон и Уилкинс были удостоены Нобелевской премии по физиологии
и медицине за открытие структуры ДНК. Франклин не наградили, потому что Нобелевская
премия не присуждается посмертно, и многие годы ее вклад в эту работу не обсуждался.
Безусловно, Франклин была жертвой половой дискриминации в научных кругах, и это до-
полнительно подчеркивалось откровенно пренебрежительным описанием этой женщины в
«Двойной спирали» Уотсона. Уотсон называл ее «плодом неудовлетворенной матери, чрез-
мерно подчеркивавшей важность профессиональной карьеры, которая могла бы спасти ода-
ренную дочь от брака с тупицей. <...> Нельзя избавиться от мысли, что лучшим местом
для феминистки была бы другая лаборатория». Именно в таких выражениях Уотсон описы-
вал Франклин на страницах своей книги, и это хороший пример того, как относились к
женщинам в лаборатории. - Прим. авт.
57 Теоретические исследования Николая Кольцова в области генетики вызвали неудоволь-
ствие Трофима Лысенко. В 1940 г. Кольцов был смертельно отравлен сотрудниками совет-
ских спецслужб; его жена в тот же день покончила с собой. - Прим. авт.
структура ДНК «определяет возможный механизм ее копирования». Статьи вышли
всего за несколько недель до того, как Миллер опубликовал в Science результа-
ты своего эксперимента. В отличие от информации об образовании аминокислот из
неорганических элементов, открытие структуры ДНК почти не вызвало резонанса в
популярной прессе. В New York Times должна была выйти статья под заголовком
«В клетке обнаружена "единица жизни"», однако в последний момент ее удалили:
вероятно, редакторы сочли этот материал малоинтересным58.
Сделав одно из важнейших открытий столетия, Крик вернулся к работе над
структурой гемоглобина. Идея о том, что белки все же играют важную роль в ме-
ханизмах передачи наследственной информации, не умерла полностью. Многие уче-
ные продолжали верить, что ДНК и белки совместно контролируют поток генетиче-
ской информации, и не только ДНК обменивается информацией с белками, но и
белки обмениваются информацией с ДНК, так что они вместе отвечают за механиз-
мы наследования. Но постепенно завоевывала поддержку «центральная догма» био-
логии, сформулированная Криком: генетическая информация может передаваться от
нуклеиновых кислот к белкам но не наоборот. Идея о том, что ДНК является
единственным носителем генетической информации, получила всеобщее признание
после того, как Крик за 13 лет расшифровал генетический код - специфический
язык, который живые организмы использовали для общения друг с другом на про-
тяжении миллиардов лет.
Генетический код - самый древний известный нам язык. Он так же или почти
так же стар, как сама жизнь. На протяжении миллиардов лет на нем «говорили»
все клетки всех живых существ. В нем только четыре «буквы», каждая соответст-
вует специфическому химическому соединению. Их принято обозначать А, С, G и
Т: аденин, цитозин, гуанин и тимин - это нуклеотидные основания, располагаю-
щиеся в длинных последовательностях ДНК в виде трехбуквенных «слов». Неудиви-
тельно, что расшифровка кода началась в Великобритании, где во время Второй
мировой войны Алан Тьюринг и его коллеги из Блетчли-парка раскодировали не-
мецкие шифровки и создали один из первых в мире компьютеров. При участии не-
скольких ученых, включая эмигранта из России физика Георгия (Джорджа) Гамова,
наиболее известного в качестве автора модели «горячей Вселенной» (уточнения
теории Большого взрыва), Крик и его коллеги раскрыли законы генетического
языка. К 1966 г., через четыре года после вручения Крику Нобелевской премии
за установление структуры ДНК, генетический код был полностью расшифрован.
Было показано, как каждое трехбуквенное слово, называемое кодоном, транслиру-
ется в соответствующий аминокислотный остаток в белке. С этого момента люди
стали понимать клеточный язык живых организмов.
Работая над расшифровкой кода, Крик также пытался установить, как именно
ДНК сообщается с белками. Язык, который невозможно понять, не имеет смысла.
ДНК должна заставлять белки выстраивать аминокислоты правильным образом. Меж-
ду ними должен быть какой-то посредник. Начиная с 1940-х гг., некоторые уче-
ные подозревали, что в синтезе белка в клетках принимает участие крупная мо-
лекула нуклеиновой кислоты, называемая рибонуклеиновой кислотой (РНК). К 1958
г. Крик и другие ученые поняли, что РНК участвует в передаче генетической ин-
формации от ДНК к белкам. Кроме того, Крик заметил, что РНК играет в клетке
множество ролей, в некотором смысле напоминая и ДНК, и белки - главных дейст-
вующих лиц репликации и метаболизма. РНК несет генетическую информацию, но в
каких-то случаях выполняет «работу белков». Крик даже предположил, что самые
первые живые существа состояли «исключительно из РНК». Позднее эта гипотеза
История знает множество примеров, когда выдающиеся открытия поначалу не были за-
мечены популярными изданиями и широкой общественностью. Альберт Эйнштейн предложил
теорию относительности в 1905 г., однако, его имя появилось в газетах только в 1917
г. - Прим. авт.
стала догмой для многих ученых, пытавшихся раскрыть тайну происхождения жиз-
ни.
Поняв, что нуклеиновые кислоты играют главную роль в передаче генетической
информации, ученые начали по-новому рассматривать вопрос о происхождении жиз-
ни. Если какой-то один компонент клетки возник раньше остальных, то сначала
должно было сформироваться что-то одно - метаболизм или генетический аппарат.
Приверженцы гипотезы первичности метаболизма считали, что первыми появились
белки или подобные им молекулы. Их противники, включая Стэнли Миллера, пола-
гали, что дело не в белках, и что первым этапом эволюции было появление ДНК и
генетических механизмов. Сначала возникли способные к репликации и мутирующие
молекулы, а все остальное появилось в ходе эволюции. Они также считали, что
белки без генов не могли эволюционировать.
Сидней Фокс всегда оставался непоколебимым сторонником гипотезы первичности
метаболизма. Когда большинство ученых стало склоняться к приоритету реплика-
ции или комбинации двух факторов, Фокс начал жаловаться на «монополию нуклеи-
новых кислот». Однако беда заключалась не в том, что он упорно продолжал от-
стаивать справедливость модели первичности метаболизма. Хуже, что он настаи-
вал на том, что с помощью опытов с микросферами протеиноидов решил проблему
абиогенеза. В 1970-х гг. он занимался изучением электрических зарядов, кото-
рые обнаружил на поверхности микросфер и которые, по его мнению, напоминали
заряды на поверхности живых клеток. В 1988 г. в книге «Возникновение жизни»
Фокс даже утверждал, что его микросферы проявляют «признаки рудиментарного
сознания».
Специалисты, занимавшиеся проблемой возникновения жизни, воспринимали заяв-
ления Фокса критически, а порой и насмешливо. Однако высшее руководство НАСА
не утратило доверия к ученому, и даже в конце профессиональной деятельности
он продолжал получать неплохое финансирование. Фокс был атеистом, но, тем не
менее, стал официальным советником римского папы Иоанна Павла II по вопросам
происхождения жизни. Фокс умер в 1998 г. К этому времени он был практически
забыт в кругу специалистов, а его уникальная способность рекламировать свою
работу в административных кругах вызывала серьезное недовольство.
Реальные результаты деятельности Сиднея Фокса весьма противоречивы. Его ад-
министративные способности сыграли решающую роль в превращении исследований
происхождения жизни в важнейшее научное направление. Когда многие ученые
склонялись к мысли, что происхождение жизни было случайным и уникальным собы-
тием, Фокс остался верен идее Опарина, согласно которой зарождение жизни яв-
ляется частью неизбежного эволюционного процесса. И хотя мало кто сейчас
вспоминает о микросферах протеиноидов, никто никогда полностью не дискредити-
ровал значение некоторых первичных форм аминокислотных полимеров, послуживших
впоследствии основой многих новых теорий о возникновении первых форм жизни.
Репутация Френсиса Крика в последние годы его жизни тоже подвергалась испы-
таниям. Отчасти это было связано с его открытыми высказываниями по спорным
вопросам, отчасти - с его склонностью к формулировке смелых гипотез. Если
идеи оказывались справедливыми, они укрепляли его репутацию гения. Если же
они были ошибочными, окружающие считали, что он слегка выжил из ума. Он на
всю жизнь остался верен духу конца 1960-х гг.: носил баки и цветные рубашки,
баловался ЛСД. Он выступал за легализацию марихуаны в Великобритании, а также
сделал несколько неосмотрительных заявлений в поддержку эвтаназии и евгеники,
о чем потом сожалел.
Френсис Крик не стеснялся высказываться по религиозным вопросам. После за-
вершения цикла работ по генетике он стал одним из основателей Колледжа Чер-
чилля в Кембридже. Это была почетная должность. Колледж, названный в честь
Уинстона Черчилля, должен был стать чем-то вроде британского аналога таких
американских университетов, как Калифорнийский или Массачусетский технологи-
ческий институт. Но вскоре Крик подал в отставку в знак протеста против от-
крытия в Колледже христианской часовни, а не медитационной комнаты для людей
всех вероисповеданий, как он предлагал. Крика не интересовала ни религия в
целом, ни христианство в частности. Однажды он пошутил, что религия «может
быть хороша для совращения взрослых, но ее не следует преподавать маленьким
детям».
Крик перебрался в калифорнийский Институт биологических исследований Солка,
названный в честь первооткрывателя вакцины от полиомиелита. Здесь он вплотную
занялся изучением проблемы происхождения жизни. В сотрудничестве со старым
другом из Кембриджа Лесли Орджелом, ведущим специалистом по вопросам происхо-
ждения жизни, Крик стал изучать ранние стадии в истории жизни, когда отдель-
ные аминокислоты соединялись в примитивные белки на основании простого кода,
возможно, позднее превратившегося в генетический код, используемый всеми со-
временными организмами. Его занимал вопрос, почему в ходе эволюции не возник-
ли иные варианты кода, которые могли бы дать начало новым линиям организмов.
Разочарованный отсутствием быстрого успеха в разрешении проблемы происхож-
дения жизни, Крик начал развивать идею о том, что жизнь могла возникнуть в
каком-то другом месте во Вселенной. В статье под заголовком «Направленная
панспермия», опубликованной в 1973 г. в палеонтологическом журнале Icarus,
Крик и Орджел выдвигали теорию, согласно которой разумные существа из другой
звездной системы умышленно занесли на Землю организмы, напоминавшие бактерий.
Орджел рассматривал эту возможность скорее как игру, но Крик был вполне серь-
езен, хотя и знал, что эта теория - чистой воды домысел. Теория в значитель-
ной степени опиралась на то, что клетки земных организмов содержат много мо-
либдена. В земной коре молибден встречается крайне редко, поэтому ученые
предположили, что предшественник земных клеток возник на какой-то другой, бо-
гатой молибденом планете. Большинство ученых ответили на это, что перенос
проблемы о возникновении жизни с Земли в космос не только не помогает ее ре-
шить , но, возможно, даже усложняет.
Однако идея о том, что жизнь могла зародиться где-то в другом уголке Все-
ленной, не умерла окончательно. Через 20 лет после формулировки гипотезы пан-
спермии в Антарктике был обнаружен необычный камень, и ученые вновь начали
обсуждать возможность того, что жизнь зародилась не на нашей планете или как
минимум не только на ней.
Глава 11.
Жизнь
повсюду
Космос есть внутри нас, мы сделаны из
звездного вещества. Мы - это способ,
которым Космос познает сам себя.
Карл Саган. Космос, 1980 г.
Вскоре после возникновения большинства планет Млечного Пути, около 4,5
млрд. лет назад, на Марсе произошло извержение вулкана, выбросившего на по-
верхность планеты расплавленную лаву. Постепенно лава застыла, образовав
твердую горную породу. Еще примерно около полумиллиарда лет эта порода не
подвергалась никаким изменениям, пока в один прекрасный день в поверхность
планеты не врезался астероид. Удар был настолько сильным, что камни сжались
под воздействием выделившегося тепла, кое-где расплавились и потрескались.
Кроме того, они сдвинулись с мест и выступили на поверхность планеты.
Через 4 млрд. лет в Марс врезался еще один астроид. На этот раз удар был
такой силы, что камни подбросило в небо и вынесло далеко в космос. В конечном
итоге, замедлившись под влиянием гравитационных сил Солнца и Юпитера, один
камень обосновался на орбите вблизи планеты, которая раньше была его домом.
На протяжении 16 млн. лет он кружился вокруг Солнца, но однажды, как раз ко-
гда люди начали обустраивать свои первые поселения в долине Евфрата, вошел в
гравитационное поле Земли. И тогда этот камень, на тот момент размером не
больше грейпфрута, пронесся через атмосферу Земли и упал где-то среди антарк-
тических льдов.
Прошло еще 13 тыс. лет. Постепенно камень был выдавлен на поверхность в ре-
зультате трения льдов о горную гряду, как заноза выдавливается из кончика
пальца. Он оказался в районе Аллановых холмов в основании Трансантарктических
гор - одного из самых обширных и лишь недавно исследованных горных хребтов на
Земле.
В умеренно холодный декабрьский день 1984 г. группа охотников за метеорита-
ми из Космического центра НАСА начала прочесывать пространство вокруг Алла-
новых холмов, известное как Крайнее западное ледяное поле. С начала 1970-х
гг. НАСА отправила десятки таких экспедиций в Антарктику, считавшуюся идеаль-
ным местом для поиска метеоритов. Экстремальные условия обеспечивают относи-
тельную стерильность образцов, сводя к минимуму риск заражения земными микро-
организмами, а широчайшие пространства белоснежного льда, покрывающего боль-
шую часть Антарктики, облегчают поиск.
Марсианский камень заметила начинающая охотница за метеоритами Роберта Ско-
ур, для которой это была первая экспедиция. В южном полушарии стояла середина
лета. Было ясно и даже тепло для этой самой холодной точки Земли - около ну-
ля. Скоур заметила камень издали. В солнечных лучах он казался синим и был
размером с небольшой мяч; в любом другом месте его вряд ли удалось бы заме-
тить. Скоур вытащила камень и назвала его Allan Hills 84001, или, для кратко-
сти, ALH84001. Она сделала несколько заметок относительно своей находки. В
частности, она записала, что камень «покрыт тусклой оплавленной коркой <...> Не
покрытые коркой зоны имеют зеленовато-серый цвет и глыбовую текстуру». Годами
позже, когда камень оказался предметом активных научных исследований, именно
эта текстура стала основанием для одного из величайших открытий в истории
науки (по крайней мере, так казалось в тот момент).
После возвращения экспедиции образец ALH84001 отправили в Космический центр
имени Джонсона. Там его поместили в карантинный блок, сконструированный ко-
гда-то для лунных образцов, привезенных «Аполлоном-11», где размещалась быст-
ро растущая коллекция метеоритов. Поначалу никто не предполагал, что ALH84001
чем-то отличается от других метеоритов, состоящих из остаточных материалов от
образования Солнечной системы, и что это не обычный обломок астероида. Его
фрагмент выставили в Смитсоновском музее естественной истории, где он проле-
жал , никем не замеченный, еще около пяти лет.
В 1990 г. молодой куратор музея решил подробнее проанализировать состав ма-
ленького фрагмента метеорита и обнаружил в нем необычно высокое содержание
карбонатов. Карбонаты могут формироваться небиологическими путями, однако на
Земле они практически всегда встречаются в тех местах, где была вода. Так
стало выясняться, что ALH84001 - не совсем обычный метеорит.
В 1993 г. анализ минерального и изотопного состава и сохранившихся в камне
следов газов показал, что ALH84001 действительно был марсианским метеоритом.
Понятно, что он был не единственным камнем, упавшим на Землю с Марса. Однако
методы идентификации внеземных минералов были сравнительно новыми, и из тысяч
изученных на тот момент метеоритов только про девять можно было с уверенно-
стью сказать, что они с Марса.
Метеорит ALH84001 заинтересовал ученых из многих институтов и лабораторий
мира. Его фрагменты направляли на анализ в разные лаборатории США и других
стран. Немецкие ученые первыми определили возраст камня с помощью радиоизо-
топного анализа. По их оценкам, камень образовался примерно 4,5 млрд. лет на-
зад. Он не был самым старым из известных камней: другой марсианский метеорит
оказался чуточку постарше. Однако ошибка метода датирования составляла не-
сколько десятков миллионов лет, так что точнее определить возраст было невоз-
можно . В любом случае, в последующие годы, как заметил один обозреватель,
ALH84001 стал «самым изученным двухкилограммовым камнем в истории».
Самый большой фрагмент камня остался в НАСА, где был доверен геологу Дэвиду
Маккею - главному астробиологу Космического центра Джонсона и одному из ста-
рейшин астробиологии. Он делал диссертацию в Университете Раиса и в 1962 г.
присутствовал на выступлении Джона Кеннеди, произнесшего знаменитую «лунную
речь»59. Примерно через десять лет Маккей организовал исследовательскую груп-
пу, занявшуюся изучением образцов лунного грунта, привезенных «Аполлоном-11».
Впоследствии он играл важную роль в осуществлении космических программ «Ви-
кинг» и «Маринер».
В процессе выполнения космических программ «Викинг» и «Маринер» Маккей по-
могал искать доказательства того, что когда-то на Марсе были реки и озера.
Наличие воды было очень важным признаком существования жизни. Без воды нет
жизни, по крайней мере, знакомых нам форм жизни. Все живые существа на 80-90%
состоят из воды, и большинство ученых не представляют себе жизнь без воды.
Однако экспедиции на Марс показали, что поверхность планеты совершенно пус-
тынна, во всяком случае, по сравнению с поверхностью Земли. На протяжении
миллиардов лет атмосферу планеты раздирали солнечные ветра и дожди астерои-
дов, как тот, который когда-то вырвал из марсианской почвы и выбросил в кос-
59 «Но почему Луна? - спросят некоторые. Зачем выбирать это нашей целью? И они могут
точно так же спросить, зачем лезть на самую высокую гору? Зачем 35 лет назад было
перелетать через Атлантику? Зачем Раису нужен был Техас?* Мы решаем идти к Луне в
этом десятилетии и делать другие вещи не потому, что они просты, но потому что они
трудны, потому что эта цель поможет организовать и измерить наши лучшие усилия и
умения, потому что это один из вызовов, которые мы хотим принять и в которых мы на-
мерены победить». - Прим. авт.
Речь идет о частном исследовательском университете США в Хьюстоне, штат Техас,
основанном в 1912 г. на деньги предпринимателя Уильяма Марша Раиса, вложившего в
строительство университета все свое состояние. «Лунная речь» Кеннеди была произнесе-
на на стадионе университета. - Прим. пер.
мое метеорит ALH84001. Атмосферное давление на Марсе было слишком низким,
чтобы удержать на поверхности планеты жидкую воду. Если здесь когда-то и была
вода, она давно исчезла либо в результате испарения, либо медленно просочив-
шись в более глубокие слои коры.
Однако ALH84001 был очень старым камнем, образовавшимся в те времена, когда
Марс был еще молодой планетой с совсем другими условиями. Маккей заинтересо-
вался вкраплениями карбонатов. На Земле карбонатные отложения возникают почти
исключительно в присутствии воды. По этой причине Маккей счел, что когда-то,
в ранний период существования Марса, в камень проникла вода. А там, где есть
вода, может быть жизнь.
Маккей обратил внимание, что карбонаты концентрировались в области зелено-
ватых пятен, которые заметила еще Роберта Скоур. Они напоминали следы
Cryptozoon, обнаруженные Чарльзом Дулиттлом Уолкоттом в Большом каньоне.
Вскоре специалисты НАСА обнаружили нечто, что заинтриговало их еще больше, -
мельчайшие кристаллы магнетита. Они были вкраплены в трещинки на камне и кон-
центрировались вокруг отметин, на которые тоже обратила внимание Скоур. Эти
кристаллы были удивительным образом похожи на образуемые магнеточувствитель-
ными бактериями, в огромном множестве содержащимися в земных океанах.
Люди научились ориентироваться по магнитному полю Земли лишь около 1000 лет
назад, однако многие живые организмы делают это уже миллионы лет. Существует
множество доказательств, что птицы, летучие мыши и бактерии используют маг-
нитные минералы железа, такие как магнетит, для ориентации относительно маг-
нитного поля Земли. Обнаруженные в бактериях микроскопические кристаллы на-
звали магнетосомами; они встречаются в микробах самых разных типов, а это оз-
начает , что этот внутренний компас имеет чрезвычайно древнее происхождение.
Окаменевшие образцы таких структур обнаружены в древнейших земных породах,
возраст которых оценивают почти в 2 млрд. лет.
Бактериальная клетка с магнитосомами.
В земных образцах мелкие гранулы магнетита обычно служат в качестве биомар-
керов - свидетельств биологической активности. Группа Маккея решила отослать
образец ALH84001 в Стэнфордский университет. Там работал химик Ричард Зейр,
который изобрел лазерный масс-спектрометр, с помощью этого аппарата можно бы-
ло идентифицировать состав образца без его разрушения. От Зейра пришли удиви-
тельные новости: в образце было множество органических соединений, называемых
полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ). Эти соединения могут
быть побочными продуктами сгорания ископаемого топлива, но также часто явля-
ются признаком распада древних микроорганизмов. Между собой исследователи из
группы Маккея стали поговаривать о том, что имеют в руках доказательство су-
ществования жизни на других планетах и, возможно, стоят перед одним из самых
величайших открытий в истории науки.
Для того чтобы заявить об этом во всеуслышание, ученым НАСА требовалось
идентифицировать марсианские бактерии из ALH84001. Однако год активной работы
не позволил выделить ничего, что напоминало бы земные микроокаменелости. То-
гда Маккей решил сделать то, до чего не додумался никто другой: он решил ис-
кать нечто еще более мелкое.
В январе 1996 г. Маккей получил доступ к одному из самых мощных в мире
электронных микроскопов, с помощью которого инженеры НАСА анализировали мик-
роскопические токи на поверхности космических аппаратов. ALH84001 - один из
первых камней, исследованных с помощью такого мощного инструмента. Через не-
сколько месяцев Маккей смог идентифицировать крошечные структуры, напоминав-
шие земные бактерии, но они были невероятно крохотными - самые мелкие состав-
ляли в длину лишь стотысячные доли миллиметра. Пятьдесят самых крупных обра-
зований вполне могли разместиться рядком в одной человеческой клетке крови.
Самые интересные из них имели форму червячков. Позднее именно их фотография
была напечатана в статье и стала известна во всем мире.
Микробактерии в ALH84001.
К началу 1996 г. руководство НАСА было убеждено, что анализ ALH84001 дока-
зывает, что в отдаленном прошлом на поверхности Марса действительно существо-
вала жизнь. Маккей и официальные представители НАСА планировали провести
пресс-конференцию по поводу этого открытия, которая совпала бы по времени с
публикацией результатов в Science. Их планы были разрушены высокооплачиваемой
проституткой по имени Шерри Роулендс, которая узнала об открытии от советника
Клинтона Дика Морриса, присутствовавшего на закрытом брифинге в Белом доме,
посвященном этому вопросу. Роулендс пыталась продать эту информацию бульвар-
ной газете Star, однако корреспондент счел историю слишком фантастической и
не поверил в нее.
Однако Моррис поделился секретом не только с Роулендс, так что в конечном
итоге информация вырвалась наружу, и газеты всего мира оповестили читателей
об открытии внеземной жизни. Президент Билл Клинтон незамедлительно собрал
пресс-конференцию, чтобы официально возвестить о сделанном открытии. «Сегодня
камень ALH84001 говорит с нами с расстояния в миллиарды лет и миллионы миль,
- заявил он. - Он говорит нам о возможном существовании жизни. Если данные
подтвердятся, это, без всякого сомнения, станет одним из самых ошеломляющих
открытий о нашей Вселенной, когда-либо сделанных учеными».
Однако ученым еще предстояло многое узнать о значении ALH84001. В последую-
щие годы прозвучало множество критических замечаний. Многие рассматривали эту
историю как реминисценцию истории другого метеорита, взбудоражившего общест-
венность 150 лет назад.
Мысль о том, что где-то во Вселенной существует жизнь, конечно, не нова.
Еще в V в. до н. э. греческий философ Анаксагор выдвинул идею о том, что се-
мена жизни рассыпаны по всему космосу. Он назвал свою концепцию панспермией
(«жизнь повсюду»); позднее эту идею популяризировал в стихах Лукреций. В ко-
нечном итоге, под панспермией стали понимать идею о том, что жизнь изначально
зародилась в какой-то другой точке Солнечной системы, а затем была перенесена
на Землю на метеоритах или в виде спор. Наибольшую популярность данная теория
завоевала в XIX в., когда ее поддерживали двое из самых уважаемых ученых сто-
летия. Это были шведский химик и один из первых директоров Физико-химического
Нобелевского института в Стокгольме Сванте Аррениус и лорд Кельвин, чья оши-
бочная оценка возраста Земли поставила в тупик Чарльза Дарвина. Лорд Кельвин
был активнейшим сторонником концепции панспермии и полагал, что именно так на
Земле появилась жизнь. «Мы должны считать в высшей степени вероятным, - писал
он, - что в космосе перемещается несчетное число метеоритов, несущих на себе
семена».
Как и многих других ученых, веривших в справедливость данной гипотезы, лор-
да Кельвина живо интересовала история одного знаменитого метеорита. Однажды
весенним вечером 1864 г. в небе на юго-западе Франции было замечено яркое
свечение, сопровождавшееся громким звуком. Ворвавшийся в земную атмосферу ме-
теорит разорвался не менее чем на 20 кусков, разлетевшихся около небольшой
деревеньки Оргейл. Жители деревни, посчитавшие этот эпизод занятным, посте-
пенно собрали все фрагменты, масса которых в сумме составила около 14 кг. Ка-
мень был мягким настолько, что его можно было резать ножом и писать им, как
графитовым карандашом. Вскоре исследованием камня занялись лучшие химики
Франции, в том числе Пьер Эжен Марселей Бертло, завоевавший мировую извест-
ность благодаря работам в области органического синтеза. Бертло и многие дру-
гие ученые заключили, что фрагменты метеорита содержали вещества биологиче-
ского происхождения. Следовательно, жизнь могла существовать и за пределами
Земли.
Окончательно подтвердить или опровергнуть наличие в метеорите из Оргейла
признаков древней жизни попросили Пастера. Прошло всего пять лет с тех пор,
как он убедительно доказал невозможность спонтанного зарождения жизни, и его
по-прежнему считали величайшим экспериментатором Франции. Пастер предположил,
что причиной удивительных выводов Бертло и других ученых было заражение зем-
ными микроорганизмами. Он решил соорудить специальное сверло, чтобы посмот-
реть, есть ли органические соединения во внутренних слоях камня, и таким об-
разом определить, являются ли они результатом заражения или содержатся в са-
мом метеорите. Внутри камня Пастер не нашел следов микробов и поэтому решил,
что говорить о его биологической природе не приходится. Вскоре интерес к ме-
теориту из Оргейла совершенно угас.
Еще 100 лет Оргейский метеорит был обычным музейным экспонатом. Однако в
один прекрасный день американские ученые Бартоломео Нейджи и Джордж Клаус ре-
шили взглянуть на него еще раз. Они с удивлением обнаружили мелкие структуры
в форме клеток и решили, что это были окаменевшие космические микробы. В 1962
г. они опубликовали статью о своем открытии в журнале Nature. Большинство
ученых отнеслось к этому открытию недоверчиво, ведь метеорит пролежал в не-
стерильных условиях в пыльных музейных ящиках почти 100 лет, и теперь любые
признаки жизни в камне нельзя было интерпретировать однозначно. Тем не менее,
на протяжении пары лет в научной литературе велась живая дискуссия по этому
вопросу.
В 1963 г. в Нью-Йоркской академии наук прошел симпозиум, посвященный обсуж-
дению вероятности обнаружения следов биологической активности в Оргейском ме-
теорите. Президентом симпозиума был избран не кто иной, как Гарольд Юри, к
тому моменту ставший знаменитой фигурой в астробиологии. Среди присутствовав-
ших было множество специалистов в области микропалеонтологии, метеорной ас-
трономии и происхождения жизни, включая Сиднея Фокса. Выяснилось, что какие-
то обнаруженные на камне следы были лишь гранулами пыльцы амброзии, всегда
присутствующей в воздухе. Однако другие частицы требовали объяснения. Они ни
на что не были похожи. Но были ли они свидетельством инопланетной жизни?
Оргейский метеорит.
В конечном итоге дискуссия свелась к обсуждению минимального размера клеток
(вспомним, что тот же самый вопрос встал при обсуждении следов марсианской
жизни в метеорите ALH84001). Некоторые из присутствующих были убеждены, что
странные микроструктуры раньше были живыми. Их оппоненты возражали, что они
не живее микросфер Сиднея Фокса и, возможно, образовались в результате анало-
гичных процессов. Закрывая симпозиум, Юри объявил, что сам он не пришел к од-
нозначному выводу относительно Оргейского метеорита, но призывает коллег ак-
тивнее заниматься поиском следов жизни на метеоритах: «Изучение карбонатных
метеоритов для обнаружения форм жизни не является неразумным занятием, осо-
бенно если учесть планы США. потратить 25 млрд. долларов на высадку человека
на Луну».
В конце 1960-1970-х гг. интерес к панспермии возобновился: сначала благода-
ря публикации статьи Крика и Орджела в журнале Icarus, затем - в результате
работ астрономов Фреда Хойла и Налина Чандры Викрамасингха. В обоих случаях
современники считали эти идеи почти абсурдными. Крик и Орджел рассматривали
свою модель как некое фантастическое предположение, а вот Хойл и Викрамасингх
были настроены вполне серьезно. Они предположили, что на Землю с метеоритами
постоянно прибывают вирусы. По их мнению, именно эти вирусы погубили от 50 до
100 млн. человек во время эпидемии испанки в 1918 г. Кроме того, они считали,
что с космическими вирусами могли быть связаны вспышки коровьего бешенства,
полиомиелита, атипичной пневмонии и даже СПИДа.
Хойл в основном известен как автор термина «Большой взрыв», который он при-
менил для описания процесса образования Вселенной в интервью Би-би-си в 1949
г. Однако ко времени работы над теорией панспермии он стал почти так же широ-
ко известен в качестве одного из последних противников теории Большого взры-
ва, несмотря на исчерпывающее количество доказательств в пользу этой теории,
ставшей основой современной космологии. Кроме того, Хойл был известным писа-
телем, работавшим в жанре научно-популярной литературы. Некоторые считали,
что его идея о «космических вирусах» - лишь продолжение идей, высказанных в
1957 г. в рассказе «Черное облако». Учитывая наличие большого числа других,
гораздо более правдоподобных гипотез относительно происхождения вирусов,
большинство ученых игнорировали идеи Хойла и Викрамасингха. Через несколько
дней после появления в газетах сообщений о метеорите ALH84001 эволюционный
биолог Стивен Джей Гулд написал для New York Times большую статью под заго-
ловком «Жизнь на Марсе? Ну и что?». Гулд утверждал, что открытие жизни на
Марсе никого не должно удивлять. У него были некоторые сомнения по поводу
природы ALH84001, но суть статьи сводилась к тому, жизнь могла возникнуть на
Марсе с такой же вероятностью, что и на Земле, где она появилась, «как только
позволили внешние условия». «Возникновение жизни может быть автоматическим
следствием химии углерода и физики самоорганизующихся систем при наличии бла-
гоприятных внешних условий и наличия неорганических компонентов», - считал
он.
Вне зависимости от того, согласимся ли мы в один прекрасный день, что
ALH84001 подтверждает наличие жизни на Марсе в отдаленном прошлом или нет,
объяснить возникновение жизни на Земле можно двумя способами. Первый заключа-
ется в том, что возникновение жизни - сравнительно простой процесс, произо-
шедший на ранних этапах существования Солнечной системы за сравнительно ко-
роткий срок независимо на двух планетах. В соответствии со второй версией
жизнь случайно возникла сначала либо на Марсе, либо на Земле, а затем была
перенесена с одной планеты на другую на камнях, вырванных с поверхности под
ударами астероидов60.
Мы не знаем, есть ли жизнь на других планетах, нам известно, что во Вселен-
ной содержится органическая материя. Странные теории вроде тех, что выдвигали
Хойл и Викрамасингх, а также противоречивые данные относительно старых метео-
ритов заслоняли от нас тот факт, что органические соединения действительно
содержатся в космическом пространстве, причем в большом количестве. Так что
космическое происхождение первых органических молекул на Земле, которое ка-
жется маловероятным большинству людей, многим специалистам представляется
вполне реальным. Вообще говоря, мы порой неверно трактуем смысл слова «кос-
мос» . Широчайшее космическое пространство не пустое: оно заполнено облаками
газа и пыли. Считается, что в результате коллапса космических облаков некото-
рых типов возникают звездные системы. Теперь мы знаем, что облака заполнены
органическими молекулами, которые могут оказаться на поверхности планет. Пре-
жде чем заняться исследованием метеорита ALH84001, Дэвид Маккей участвовал в
Исходя из положения орбит и сил гравитационных полей двух планет, следует при-
знать, что транспорт материи с Марса на Землю более вероятен, чем в обратном направ-
лении , так что, как ни удивительно, все мы в некотором роде марсиане. Такой перенос
осуществить нелегко, однако экспериментальные факты доказывают, что современные зем-
ные микробы могут пережить такое путешествие. - Прим. авт.
изучении химического состава космической пыли в рамках программы НАСА.
Цель космических экспедиций «Аполлон» и «Викинг» - поиск в других мирах ор-
ганических веществ, таких как аминокислоты. Однако НАСА уже располагало вес-
кими доказательствами наличия множества подобных сложных соединений во Все-
ленной. В частности, таким доказательством мог служить метеорит, упавший
вблизи города Мёрчисон в Австралии в сентябре 1969 г. - всего через два меся-
ца после завершения полета «Аполлона-11». Это один из самых крупных метеори-
тов : он распался на несколько сотен фрагментов массой от нескольких десятков
граммов до 50 кг, один из которых пробил крышу сеновала.
К концу 1969 г. специалисты из НАСА были готовы к изучению образцов мёрчи-
сонского метеорита, обеспечив их максимальную защиту от заражения земными ор-
ганизмами, чтобы не повторять историю с метеоритом из Оргейла. В образцах бы-
ло обнаружено множество важных в биохимическом плане соединений. На настоящий
момент в метеорите обнаружены 92 аминокислоты, из которых на Земле в естест-
венных условиях встречается лишь 19, из чего следует, что органические со-
ставляющие жизни могли попасть на Землю из космоса. Отсутствие значительного
количества органических соединений в образцах, привезенных «Аполлоном-11» с
Луны, а также странноватые теории некоторых ученых, таких как Фред Хойл,
скрывали от нас тот факт, что большинство серьезных астробиологов совершенно
уверены в том, что в Солнечной системе содержится множество органических ве-
ществ и жизнь в других мирах вполне возможна.
Мурчисонский метеорит.
Подобно многим заявлениям об обнаружении признаков жизни в других мирах,
сенсационная новость о необычном метеорите ALH84001 была встречена с одинако-
во выраженным скептицизмом со стороны ученых и энтузиазмом со стороны широкой
общественности. Академия наук США организовала комиссию по изучению метеори-
та. После двухлетних исследований в журнале Science была опубликована статья
под заголовком «Реквием по жизни на Марсе? Доказательства микробной жизни
увядают», в которой отразилось растущее недоверие ученых в отношении следов
жизни в метеорите ALH84001. Большинство «доказательств», обнаруженных Маккеем
и другими учеными (карбонатные минералы, ПАУ и гранулы магнетита), вполне
могли иметь небиологическую природу.
Остался неразрешенным один вопрос - природа микроскопических окаменелостей,
которые увидели Маккей и другие ученые. Невозможно было однозначно утвер-
ждать, что похожие на окаменелости структуры в составе ALH84001 не были ре-
зультатом заражения на Земле и что это вообще были окаменелости. По сути, та-
кая же проблема возникала при попытках воссоздать историю микробной жизни на
Земле. Идентификация таких микроскопических окаменелостей долгое время проис-
ходила на интуитивном уровне. В случае ALH84001 проблема дополнительно услож-
нялась тем, что обнаруженные Маккеем микроструктуры были мельче любых земных
микробов. В результате вставал вопрос о минимальном размере живого организма.
Аналогичные вопросы возникли в связи с другим открытием, сделанным в 1996
г. , всего через несколько месяцев после обнародования результатов анализа
ALH84001. При бурении нефтяных скважин у западного побережья Австралии на по-
верхность были подняты керны древнего песчаника возрастом до 250 млн. лет.
Они были направлены на исследование в Университет Квинсленда, и через четыре
года группа ученых под руководством Филиппы Юинс объявила об обнаружении в
кернах окаменелостей мельчайших живых существ, состоявших из обычных элемен-
тов , таких как углерод, водород, кислород и азот. Окаменевшие существа имели
подобие клеточных стенок и были видны под микроскопом при окрашивании марке-
рами ДНК. Юинс назвала этих существ «нанобами» и предположила, что это были
обычные в биохимическом плане, но неизвестные ранее наземные организмы. Одна-
ко спустя десятилетия после обнаружения австралийских «нанобов» никто так и
не может сказать с уверенностью, являются ли они организмами, фрагментами ор-
ганизмов или чем-то совсем иным. Тот же вопрос остался неразрешенным в отно-
шении микроокаменелостеи Маккеина. Научный мир пока с трудом соглашается с
аутентичностью древних микроокаменелостеи. А в отношении внеземных бактерий,
естественно, сделать выводы еще сложнее.
Однако постепенно многие специалисты в области происхождения жизни начали
понимать, что окаменелости - не единственный способ проникнуть вглубь истории
жизни на Земле. В частности, один ученый предположил, что отпечатки древней-
шей истории сохранились в генах всех живых клеток и их можно использовать для
воссоздания «портрета» самых первых живых организмов.
Глава 12. Одна
первичная форма
Природа, выраженная во всем своем про-
явлении, раскрывает перед нами гигант-
скую картину, на которой все существа
представлены в виде цепочки непрерывных
серий сущностей - столь близких и схо-
жих, что разницу между ними трудно оп-
ределить .
Жорж-Луи Леклерк, граф де Бюффон. Есте-
ственная история птиц, 1770 г.
Время действия - 3 500 000 000 г. до н. э. Место действия - каменистый вы-
ступ над мелким, разглаженным волнами заливом у берегов материка, который
позднее назовут Австралией. Светло-зеленые морские воды имеют отчетливый за-
пах тухлых яиц. В небе сияет яркая Луна размером вдвое больше современной Лу-
ны , поскольку она в два раза ближе к Земле, чем теперь. А вот Солнце светит
лишь в три четверти силы, оно посылает на Землю, не защищенную озоновым сло-
ем, смертоносные ультрафиолетовые лучи. Атмосферу Земли составляют токсичные
газы, а кислорода почти нет. Он появится намного позже, как продукт фотосин-
тетических реакций крохотных организмов, которые в один прекрасный день засе-
лят первичный океан.
Однако предок этих древних существ уже здесь. Он живет в океане, около гид-
ротермальных источников, поддерживающих температуру воды близкой к температу-
ре кипения. Это крохотный одноклеточный организм, состоящий из липидной мем-
браны, защищающей простой, но функциональный геном на основе ДНК, а также
белков и РНК, обеспечивающей обмен информацией между ДНК и белком. Через мил-
лиарды лет ученые дали ему имя LUCA (от англ. last universal common ancestor)
- последний универсальный общий предок.
LUCA умеет размножаться. Размножение - непорочное, осуществляется путем би-
нарного деления. При делении одной клетки LUCA образуются две новые клетки -
два клона, все различия между которыми возникают исключительно в результате
случайных генетических мутаций. Из этих двух клонов появляются новые клоны. У
них общее генетическое строение, общий генетический код, общая эволюция. Они
существуют скорее как единый организм, а не как сообщество организмов.
Со временем мелководье заполнилось такими клетками, образовавшими небольшие
полусферические структуры с выступающими над поверхностью воды куполами, буд-
то слепленными из ила, но это не так. Внутреннее пространство сфер заполнено
тонкими слоями осадочных пород и биологического материала - это микробные ма-
ты, похожие на пену на поверхности современных прудов и содержащие множество
сложных симбиотических сообществ микроорганизмов с вкраплениями мельчайших
частиц глины и других минералов, налипших на клеточные стенки.
Под микроскопом эти сообщества должны были выглядеть как крохотные овальные
клетки, перемешанные с нитчатыми бактериальными формами. Вероятно, эти струк-
туры напоминали строматолиты, которые все еще встречаются в Австралии и у от-
даленных берегов Юкатана, Британской Колумбии и Турции. Эти динамичные и жиз-
неспособные микробные экосистемы процветали в условиях, непригодных для жизни
большинства современных организмов. Со временем эти первые потомки LUCA раз-
множились и распространились до самых отдаленных участков Земли под действием
ветров и течений, пока постепенно не превратились в человека и всех других
существ, населяющих сегодня нашу планету.
С момента публикации книги «О происхождении видов» ученые спорили о том,
что именно понимал Дарвин под «одной первичной формой». Описанный выше сцена-
рий, хотя и основан на реалистичных предположениях, является полностью гипо-
тетическим. Существует множество теорий о природе LUCA, однако никто точно не
знает, какой была среда, в которой около 4 млрд. лет назад возникла жизнь.
Может быть, LUCA жил не в горячем гидротермальном источнике, а в «маленьком
теплом пруду», о котором писал Чарльз Дарвин. Также никто не знает, каким бы-
ло химическое строение LUCA. Возможно, он обладал уникальными свойствами, ко-
торые были утеряны в ходе миллиардов лет эволюции и естественного отбора.
До конца XX в. ученые почти не приблизились к ответу на все эти вопросы.
Сейчас мы можем воссоздать правдоподобный портрет LUCA благодаря исследовани-
ям одного человека - биофизика Карла Вёзе. Этот выдающийся биолог и мыслитель
с невероятным творческим потенциалом не был по достоинству оценен современни-
ками, но буквально перевернул прежние представления о первых земных организ-
мах и заложил основы новых теорий. После смерти Вёзе в 2012 г. некоторые са-
мые горячие почитатели сравнивали его с Эйнштейном и Дарвином.
В молодости этот будущий великий биолог и мыслитель мало интересовался био-
логией. Он рос в эпоху депрессии в Сиракузах, штат Нью-Йорк, был невероятно
застенчивым ребенком и увлекался математикой, позволявшей отвлечься от окру-
жавшего хаоса. Она была объективной и цельной. В более поздние годы по причи-
не все той же застенчивости Вёзе оставался в стороне от большинства научных
собраний и конференций, и, возможно, именно по этой причине широкая общест-
венность мало знает о его работах и о том, какое сопротивление встретили его
идеи среди биологов.
Вёзе учился в Амхерстском колледже в Массачусетсе, где получил диплом по
физике и математике. Однако к тому моменту, когда он перебрался в Иельский
университет для выполнения диссертационной работы, он уже занимался биофизи-
кой и интересовался, как многие физики его поколения, сравнительно новой нау-
кой, переживавшей расцвет после публикации книги Шрёдингера «Что такое
жизнь?». Работа Вёзе в Иельском университете касалась использования радиации
для изменения молекулярной структуры вирусов, в частности вируса ньюкаслской
болезни кур. После защиты диссертации Вёзе в течение двух лет безуспешно пы-
тался получить диплом врача, пока, наконец, ему не предложили должность био-
физика в исследовательской лаборатории General Electric в городе Скенектади.
К этому моменту благодаря открытию структуры ДНК Уотсоном и Криком ученые
начали по-новому понимать законы генетики, и на протяжении следующих пяти лет
Вёзе пытался расшифровать генетический код. Проблема, как ему казалось, за-
ключалась в механизме трансляции. Существует лишь четыре типа нуклеотидных
оснований («букв»), которые объединены в трехбуквенные кодоны («слова»). Они
каким-то образом кодируют 21 аминокислоту, встречающуюся в составе белков,
причем в строго определенном порядке. Никто не понимал, как работает этот ме-
ханизм .
Вёзе занялся изучением клеточных «переводчиков» генетического кода - рибо-
сом. Эти крупные молекулярные структуры, состоящие в основном из РНК, считы-
вают генетические инструкции, содержащиеся в ДНК, и на основании этих инст-
рукций синтезируют белок. Рибосомы были мало исследованы, и Вёзе заинтересо-
вался ими еще в Иельском университете, когда работал с бактериями, а в Ске-
нектади вплотную занялся их изучением.
Хотя Френсис Крик и другие ученые раньше занялись расшифровкой генетическо-
го кода, Вёзе смог понять его суть в таком аспекте, в каком ее не понял никто
другой. Другие решали эту физическую, на их взгляд, задачу математическим пу-
тем. А вот Вёзе, который когда-то предпочитал биологии математику, восприни-
мал генетический код как биологическое явление, связанное с процессом эволю-
ции. Он увидел, что код можно использовать в качестве эволюционной машины
времени, которая позволит ученым вернуться на много поколений назад, к самым
смутным и древним этапам эволюции. По мнению Вёзе, установить эволюционные
связи можно гораздо точнее, если не пытаться оценить сходства и различия меж-
ду видами на основе их физических признаков (как когда-то Сент-Илер пытался
выявить сходство между крылом птицы и рукой человека), а проследить за эволю-
цией клеточного механизма трансляции ДНК в белок.
Вёзе посвятил этой работе следующее десятилетие и понял историю жизни на-
столько хорошо, что полностью перевернул казавшееся незыблемым основание био-
логии - филогенетическое дерево.
Первую попытку систематической классификации живых организмов предпринял
один из самых знаменитых натуралистов XVIII в., шведский ученый и врач Карл
Линней. В революционном труде «Система природы» (Systerna naturae), изданном в
1735 г., он разделил все организмы на три «царства»: растения, животные и ми-
нералы. В десятом издании книги, выпущенном в 1758 г., перечислялось 77 сотен
видов растений и 44 сотни видов животных, разбитых на группы и категории. В
то время такой объем информации казался невероятным, однако в последующие два
с половиной столетия количество известных видов росло по экспоненциальному
закону. По современным оценкам, на Земле существует примерно 1 млрд. видов
бактерий, 350 тысяч видов растений и от 10 до 30 млн. видов животных, большую
часть которых составляют насекомые, которых еще только предстоит обнаружить.
Классификация Линнея была основана на явных внешних признаках организмов:
могут ли они двигаться или расти, плавать или летать, имеют ли шерсть или
кости. Линней сгруппировал все объекты по принципу физического сходства.
Позднее дополнительный смысл в эту схему внесли окаменелости, связав между
собой разные виды и обеспечив основу для построения дарвиновской теории есте-
ственного отбора.
Дарвин одним из первых попытался построить филогенетическое дерево - семей-
ное дерево живых организмов, восходящее к самым истокам жизни. Он включил
простой вариант такого дерева в книгу «О происхождении видов». Это было раз-
ветвленное дерево, на котором живущие ныне виды соответствовали окончаниям
ветвей. В соответствии со схемой Дарвина возврат от окончаний ветвей к стволу
представлял собой путешествие в прошлое, а точки слияния двух линий соответ-
ствовали общему предку данных видов. Так, люди и шимпанзе произошли от общего
предка, а если двигаться по этой ветви дальше назад, можно достичь следующего
слияния, например с ветвью обезьян Нового Света. По дереву можно было переме-
щаться и дальше назад, прослеживая ответвления линий млекопитающих, позвоноч-
ных, животных. Дерево постепенно сужалось и, наконец, сводилось к одному ор-
ганизму, являвшемуся корнем всей существующей жизни. Дарвин сделал логичное
заключение, что все живые существа должны происходить от одного общего пред-
ка , которого он назвал «одной первичной формой».
Филогенетическое древо животного мира.
Представление об универсальном общем предке стало главной догмой современ-
ной теории эволюции, подтвержденное множеством наблюдений, в частности хи-
ральностью молекул (впервые открытой Пастером в кристаллах), сходством кле-
точных структур, а также общностью генетического кода у всех живых организмов
- от микробов до человека. В наши дни немногие ученые осмеливаются подвергать
сомнению идею об универсальном общем предке.
Созданное Дарвином дерево жизни постепенно дополнялось и совершенствовалось
благодаря новым данным палеонтологии и возможностям радиоизотопного анализа.
Новые методы позволяют измерить возраст костей и, следовательно, более точно
определить родственные отношения между видами. По мере развития микробиологи-
ческих методов анализа организмы стали разделять на одноклеточные и многокле-
точные, а позднее на две большие категории: организмы с клеточным ядром стали
называть эукариотами, а организмы без ядра - прокариотами. В конечном итоге
все живые существа разделили на пять царств: животные, растения, грибы, одно-
клеточные эукариоты и прокариоты. Однако данных относительно двух последних
царств было недостаточно. Палеонтологические летописи о самых многочисленных,
простых и, по-видимому, самых древних видах были невероятно скудными, и поло-
жение микробов на дереве жизни оставалось неоднозначным.
Карл Вёзе решил прояснить ситуацию. В 1969 г. он написал Френсису Крику
удивительное письмо - своего рода план того, что Вёзе собирался сделать в по-
следующие 20 лет и что он надеялся получить (и в конечном итоге получил). Вё-
зе писал Крику, что планировал использовать ДНК для выявления, как он выра-
зился , «внутренних палеонтологических летописей», указывающих на истинные
родственные связи между организмами. «Выявляя предковые последовательности
генов, можно надеяться увидеть следы эволюции клеток». Он осознал возможность
использовать генетический код для заполнения пробелов в наших знаниях о ран-
них этапах эволюции, которые не удается заполнить с помощью палеонтологиче-
ских данных. Он планировал секвенировать ген (то есть определить его полную
нуклеотидную последовательность), являющийся общим практически для всех живых
существ, а затем на основании его вариаций воссоздать историю эволюции.
К началу 1960-х гг. процесс секвенирования белков (определения последова-
тельности аминокислот в молекуле белка) превратился в рутинный анализ. Эмиль
Цукеркандль и Лайнус Полинг выделяли белки из современных организмов, которые
можно было разместить на филогенетическом дереве. Они показали, что степень
различия белковых последовательностей зависела от того, насколько давно разо-
шлись соответствующие виды организмов в соответствии с палеонтологическими
данными. Измеряя различия между белковыми последовательностями из разных ис-
точников , можно рассчитать, как давно организмы разошлись от общего предка
(ученые называют это принципом «молекулярных часов»).
Однако не все белки встречаются во всех организмах. Вёзе нужно было найти
что-то, что содержалось в клетках всех известных организмов, копировалось с
высокой точностью и подвергалось мутациям достаточно редко, чтобы можно было
проследить за изменениями за несколько миллиардов лет. Он выбрал гены рибо-
сомной 16S РНК (сокращенно 16S рРНК), названной так в соответствии со скоро-
стью ее осаждения при центрифугировании. Гены 16S рРНК достаточно длинные,
так что с их помощью можно получить подробную информацию, но не слишком длин-
ные , и поэтому их не очень сложно секвенировать.
К моменту начала работы по секвенированию Вёзе ушел из лаборатории General
Electric и оказался в Иллинойском университете в Урбана-Шампейне по приглаше-
нию молекулярного биолога Сола Шпигельмана, который когда-то присутствовал на
лекции Вёзе в Институте Пастера в Париже. В Иллинойсе Вёзе руководил неболь-
шой группой исследователей, самым талантливым из которых был Джордж Фокс,
принимавший активное участие во всех самых важных открытиях научной группы.
Вместе они начали сложный процесс секвенирования генов 16S рРНК.
Все анализы приходилось делать вручную - автоматические секвенаторы появи-
лись лишь спустя несколько десятилетий. Вёзе с сотрудниками выбрали метод,
предложенный в 1965 г. британским биохимиком Фредериком Сенгером - одним из
немногих ученых, дважды удостоенных Нобелевской премии. Процедура предполага-
ла ферментативное разделение генов РНК на небольшие фрагменты, с которыми
проще было работать. Потом фрагменты подвергали секвенированию, а затем вое-
станавливали всю молекулу и определяли полную нуклеотидную последователь-
ность . Процедура была дорогой, и Вёзе обратился за финансовой поддержкой в
программу НАСА по астробиологии. Работа была чрезвычайно медленной и кропот-
ливой. Поначалу на секвенирование одного гена 16S рРНК уходили месяцы. Боль-
шинству ученых такая работа показалась бы невероятно занудной, но Вёзе она
нравилась - это было похоже на сборку гигантского пазла.
К весне 1976 г. группа Вёзе определила полные нуклеотидные последовательно-
сти 16S рРНК широкого круга бактерий. Далее ученые переключили внимание на
одну особую группу микробов, называемых метаногенами. Эта очень необычная
группа микроорганизмов получила название в связи со способностью производить
метан в качестве побочного продукта при переработке углекислого газа и моле-
кулярного водорода, из которых эти микробы получают энергию. На основании
внешних признаков ученые считали метаногенов особой группой бактерий, однако,
произведенный Вёзе генетический анализ показал, что это вовсе не бактерии.
Вёзе понял, что его исследования полностью перевернули основы биологической
таксономии. Выяснилось, что самых древних ветвей на дереве жизни было не две
(эукариоты и прокариоты), а три и все они отделились от корня на самых первых
этапах развития жизни.
Вёзе назвал новую группу организмов архебактериями, но позднее их стали на-
зывать просто археями, что означает «древнейшие». Далее он начал перестраи-
вать дерево жизни. На рисунке Вёзе все, что составляло дерево Дарвина, оказа-
лось лишь одной ветвью нового дерева. В завершенном виде дерево было больше
похоже на сложную несимметричную снежинку с тремя ветвями, отходившими от об-
щего ствола в разных направлениях. Вёзе назвал эти три основных направления
доменами. В кругах микробиологов это открытие назвали «революцией Вёзе».
В 1977 г. Вёзе, Фокс и НАСА объявили в прессе об открытии домена архей; по
времени объявление совпало с публикацией соответствующей статьи в журнале
Proceedings of the National Academy of Sciences. Новость была воспринята с
недоверием и даже гневом. Усугубляло ситуацию еще и то, что Вёзе обладал ре-
путацией чудаковатого затворника, занимающегося непонятными вещами. Некоторые
считали, что его данные слишком фрагментарны для построения филогенетического
дерева, а кто-то даже полагал, что Вёзе слегка тронулся умом. Один из самых
влиятельных эволюционных биологов XX в. Эрнст Майр, ставший самым яростным
критиком Вёзе, сообщил корреспонденту газеты New York Times, что работа Вёзе
- полная бессмыслица. Вёзе обычно защищался от критики тем, что писал письма
редакторам, но это слабо помогало. Его даже не пригласили на первую серьезную
научную конференцию, посвященную обсуждению его теории. Впрочем, возможно,
даже получив приглашение, он не приехал бы.
Однако к середине 1980-х гг. идеи Вёзе стали приобретать популярность. В
1992 г. он даже получил самую престижную в микробиологии награду - медаль Ле-
венгука, вручаемую Королевской академией наук и искусств Нидерландов всего
раз в десять лет. В 1996 г. группа Вёзе и группа его коллеги профессора Гари
Олсена из Иллинойского университета опубликовали полную структуру генома ар-
хей Methanococcus jannaschii. В статье, вышедшей в журнале Science, они ут-
верждали, что археи являются более близкими родственниками человека (эукарио-
та) , чем бактерий. В интервью, которое Вёзе дал вскоре после публикации ста-
тьи, он сказал следующее: «Археи - родственники нам, эукариотам. Они являются
потомками микроорганизмов, которые миллиарды лет назад дали начало эукариоти-
ческой клетке».
Анализ генома Methanococcus jannaschii способствовал признанию идей Вёзе в
научном мире. В новую таксономию поверили многие ученые. Комментируя драмати-
ческие перипетии научной карьеры Вёзе, журнал Science назвал его «покрытым
шрамами революционером микробиологии» - это прозвище закрепилось за Вёзе на
всю жизнь.
Бактерии
Археи Эукариоты
Грам-
Спирохеты положи- Chloroflexi
Протеобактерии
Цианобактерии
Ptanctomyces
Bacteroides
Cytophaga
Thermotoga
Aquifex
Энтамёбы Слизевики Животные
Грибы
Растения
Инфузории
Жгутиковые
Трихо монады
Микроспоридии
Дипломонады
Теоретически укоренённое дерево для генов рРНК, пока-
зывает общее происхождение организмов всех трёх доме-
нов : бактерии, археи, эукариоты.
Революция Вёзе оказала глубокое влияние на продвижение исследований проис-
хождения жизни. До Вёзе эту проблему обычно рассматривали снизу вверх. Такие
ученые, как Стэнли Миллер и Сидней Фокс, пытались понять, какие простейшие
химические процессы постепенно привели к появлению первых живых организмов.
Вёзе показал, что эту проблему можно решать, двигаясь в противоположном на-
правлении. К истокам жизни можно вернуться с помощью эволюционных свиде-
тельств, все еще присутствующих в генах современных организмов, произошедших
от единого общего предка. Отслеживая генетические изменения в различных видах
организмов, можно получить изображение их общего предка. Те характеристики,
которые были общими для групп микроорганизмов в самом основании дерева, с
большой вероятностью были приобретены ими от LUCA, и эти данные позволяют по-
нять не только каким был LUCA, но и в каком мире он появился. Это еще не
очень четкое изображение, но гораздо более понятное, чем раньше.
Однако на этом пути было немало трудностей, одна из которых заключалась в
уникальном способе обмена генетической информацией у самых древних организ-
мов . Этот необычный способ обмена генами был причиной самого противоречивого
вывода Вёзе о том, что первой формой жизни был не отдельный организм, а сооб-
щество организмов, свободно обменивавшихся генетической информацией из общего
генетического набора за счет так называемого горизонтального переноса генов.
Эта идея появилась у Вёзе при попытках расшифровать генетический код.
Вёзе удивляла неизменность генетического кода на протяжении миллиардов лет
в миллионах эволюционных ветвей. За несколькими совсем незначительными исклю-
чениями все современные организмы - синий кит, красное дерево, человек и мик-
робы - сохранили общий генетический язык, и это удивительно, если учесть, как
быстро возникают диалекты в человеческой речи. Генетический код практически
не изменился за миллиарды лет. Причина этой невероятной стабильности остава-
лась загадкой вплоть до 1960-х гг. , когда ученые впервые занялись решением
этой проблемы.
Вёзе видел ключ к разгадке в открытии физика из Сиэтла Виктора Фримана. В
1951 г. Фриман обнаружил, что вирус, инфицирующий болезнетворную бактерию
Corynebacterium diphtheriae, можно использовать для превращения безопасного
штамма бактерии в вирулентный штамм. Это наблюдение позволило объяснить, по-
чему зараженные дифтеритом люди иногда заболевают не сразу, а через некоторое
время. Еще более важно, что изучение Corynebacterium diphtheriae позволило
Фриману описать один из первых примеров горизонтального переноса генов, то
есть передачи генов одним организмом другому организму, не являющемуся его
потомком. Позднее выяснилось, что в горизонтальном переносе генов участвуют
многие микроорганизмы, вероятно, даже большинство. Вёзе предположил, что
именно этот способ обмена генетическим материалом объясняет невероятную ста-
бильность генетического кода. Всем организмам нужен однотипный язык, чтобы
«разговаривать» друг с другом на генетическом уровне. Если изменится генети-
ческий код - исчезнет возможность обмениваться генетической информацией с
другими организмами.
Кроме того, открытие горизонтального переноса генов позволило решить важную
эволюционную проблему. Дарвиновская концепция естественного отбора лучше все-
го описывает сложные современные организмы, размножающиеся половым путем. Ге-
ны детей представляют собой смесь генов обоих родителей с различными накоп-
ленными мутациями. Однако большинство микроорганизмов не нуждается в половом
процессе для воспроизводства61. Имея всего одного родителя, потомство пред-
ставляет собой клоны, различия между которыми возникают исключительно из-за
мутаций под действием внешних воздействий, например радиации, или из-за оши-
бок копирования генетической информации. Влияние таких мутаций чаще всего не-
заметно , иногда пагубно, а изредка - летально. Однако бывает, что мутации
производят положительный эффект. В очень редких случаях они даже обеспечивают
своему обладателю адаптационные преимущества. Однако, если бы эволюция осно-
вывалась только на накоплении мутаций, она происходила бы чрезвычайно медлен-
но .
В традиционном представлении сложные организмы (высшие эукариоты) быстро
продвигаются по эволюционной лестнице за счет полового размножения, тогда как
прокариоты почти не эволюционируют, изменяясь исключительно за счет случайных
мутаций. Горизонтальный перенос генов позволил объяснить быструю эволюцию
первых микроорганизмов62. За счет свободного обмена информацией, примерно как
в случае Corynebacterium diphtheriae, первые микроорганизмы смогли эволюцио-
нировать быстрее, используя более широкий набор генов. Вёзе называл горизон-
тальный перенос генов «волной, которая поднимает все суда».
В конечном итоге ученые поняли, что генами обмениваются даже очень отдален-
ные виды бактерий. Более того, бактерии способны поглощать ДНК мертвых бакте-
рий. После смерти организма его генетический материал может сохраняться в ок-
ружающей среде достаточно долгое время. Микроорганизмы могут поглощать эту
ДНК и включать ее в собственный геном. Можно сказать, что фрагменты генетиче-
ской информации рассредоточены буквально повсюду, а Земля - большая библиоте-
Среди высших организмов есть несколько исключений. Некоторые растения, а также
немногие виды насекомых, рыб, ящериц и птиц тоже могут размножаться путем партеноге-
неза (от греч. parthenos - девушка, девственница и genesis - зарождение, половое
размножение). В лабораторных условиях партеногенез был индуцирован даже в яйцеклет-
ках некоторых млекопитающих, включая человека, однако потомство всегда оказывается
мертворожденным или нежизнеспособным. - Прим. авт.
62 По-видимому, горизонтальный перенос генов также является основной причиной быст-
рого возникновения у бактерий устойчивости к действию антибиотиков. - Прим. авт.
ка, из которой микробы могут заимствовать гены.
Кроме того, Вёзе пришел к заключению, что горизонтальный перенос генов не
только затрудняет выявление самых ранних событий в эволюции жизни, но и пол-
ностью переворачивает наши представления о структуре филогенетического дере-
ва. Примитивные микроорганизмы так легко обменивались информацией, что корень
дерева жизни, на самом деле, больше похож на сеть, в которой виды соединены
между собой не однонаправленными прямыми линиями от предков к потомкам, а пе-
рекрестными связями, являющимися результатом горизонтального переноса генов.
Новый взгляд на структуру дерева жизни полностью опровергал гипотезу Дарвина
о том, что все современные организмы произошли от одного общего предка. По
мнению Вёзе, невозможно построить дерево, исходя из единственного предка.
Все, что мы можем различить у самых истоков, - это беспорядочное сочетание
разных организмов, эволюционировавших взаимозависимым образом.
Возможно, самым удивительным свойством микроорганизмов, находившихся в ос-
новании нового дерева Вёзе, было то, что многие из них были экстремофилами
(любителями экстремальных условий), обитавшими в таких условиях окружающей
среды, которые смертельны для большинства современных организмов. Некоторые
из этих экстремофилов, называемых в популярной литературе «супербактериями»,
могут жить при температуре ниже температуры замерзания воды. Другие, называе-
мые ацидофилами, живут за счет расщепления газов, растворенных в сточных во-
дах, и обладают такой корродирующей активностью, что могут разъедать совре-
менные системы очистки воды.
Многие из экстремофилов в основании дерева Вёзе являются гипертермофилами,
то есть микроорганизмами, способными жить в очень горячих водных средах.
Впервые они были идентифицированы американским микробиологом Томасом Броком,
который обнаружил их в горячих источниках Национального парка Йеллоустоун в
Вайоминге. Позднее было выявлено 7 0 видов гипертермофилов, причем некоторые
из них живут в гидротермальных источниках с температурой воды выше температу-
ры кипения63.
На протяжении десятилетий исследования в области геологии развивались в
рамках модели «первичного супа», предложенной Опариным и Холдейном. Со време-
нем геологи создали достаточно сложные методы определения состава первичной
атмосферы Земли на основании анализа базальтов - горных пород, образующихся в
результате вулканической активности. И, хотя Опарин считал, что первичная ат-
мосфера Земли в основном состояла из метана и аммиака, постепенно ученые при-
ходили к выводу, что ее основными компонентами были азот и углекислый газ. К
концу 1970-х гг. значительная часть идей Опарина была пересмотрена. То же са-
мое относилось и к следствиям, вытекавшим из эксперимента Миллера - Юри. Воз-
никла необходимость создания новой модели зарождения жизни.
По мнению многих ученых, такая модель должна была опираться на то, что в
основании дерева Вёзе находились экстремофилы. Возможно, они были ближайшими
потомками LUCA, их способность существовать в экстремальных средах объясня-
лась тем, что именно в таких условиях появился сам LUCA. На основании этого
предположения возникло несколько новых гипотез. Одна из них появилась из не-
ожиданного источника: ее автором был патентный поверенный из Мюнхена Гюнтер
Вахтерхойзер, считавший, что идеальным местом для зарождения первых форм жиз-
ни была поверхность железосерных минералов.
Гюнтер Вахтерхойзер был другом Карла Вёзе, с которым тот делился своими со-
мнениями по поводу справедливости теории Опарина о первичном супе. Прежде чем
стать юристом, Вахтерхойзер был химиком-органиком и интересовался проблемой
происхождения жизни. В гостях у их общего друга, философа Карла Поппера, он
Из-за высокого давления в океанских глубинах вода здесь закипает при температуре
выше 100 С. - Прим. авт.
рассказал Вёзе о своей новой идее, заключавшейся в том, что жизнь зародилась
в гидротермальных источниках в глубинах океана. Первый такой источник был об-
наружен подводной лодкой «Алвин» в 1977 г. у Галапагосского архипелага. Вёзе
был заинтригован и посоветовал Вахтерхойзеру разработать эту модель более де-
тально . Вахтерхойзер предложил серию химических шагов зарождения жизни, начи-
ная от минеральных отложений у гидротермальных источников, защищенных от
внешнего воздействия. Он верил, что жизнь началась на поверхности минералов
сульфида железа, и его модель стали называть моделью «железосерного мира».
Гидротермальный источник.
Идеи Вахтерхойзера завоевали поддержку сторонников теории первичности мета-
болизма, считавших, что эволюция генетического материала была сравнительно
поздним этапом развития жизни. Вахтерхойзер вывел из нового дерева жизни еще
одно заключение. Большинство организмов в основании дерева Вёзе были автотро-
фами, способными существовать исключительно за счет поглощения неорганических
веществ, таких как углекислый газ и сероводород. Если первые организмы были
автотрофами, им для «питания» не нужны были органические молекулы, что было
основной догмой в модели Опарина. Наконец, Вахтерхойзер предположил, что пер-
вые живые существа не имели клеточной мембраны. Вероятно, это было самое
спорное предположение в его модели, поскольку большинство ученых, занимавших-
ся проблемой происхождения жизни, считали, что для постепенного усложнения
организмов необходим химический барьер, отделяющий их от окружающей среды.
Некоторые ученые, в частности геохимик Майк Рассел, пытались совместить мо-
дель Вахтерхойзера и очевидную необходимость отделения внутриклеточного про-
странства от окружающей среды. Рассел и его коллега Алан Холл (оба специали-
сты по железосерным минералам) отталкивались от идеи Вахтерхойзера о богатых
минеральными веществами гидротермальных источниках и предсказали существова-
ние гидротермальных источников с гораздо более мягкими условиями. Их гипотеза
получила подтверждение в 2000 г., когда подводный аппарат «Арго» обнаружил
Потерянный город, оказавшийся скоплением именно таких гидротермальных источ-
ников , о которых говорил Рассел. Кроме того, Рассел и Холл предложили модель
формирования примитивной клеточной мембраны. При смешивании щелочной воды из
гидротермального источника с более кислой океанской водой образуются пузырь-
ки, состоящие из сульфидов и других минеральных соединений. Именно они могли
играть роль примитивных мембраноподобных оболочек.
Примитивные бактерии, археи и сине-зеленые водоросли до сих пор встречаются
в различных горячих источниках, как на поверхности Земли, так и в глубинах
океана. Но где-то в конце 20 века возле «черных курильщиков» были найдены
структуры подобные бактериям. У них была мембрана, и возможно внутри шел ка-
кой-то биосинтез. Но в созданных в лаборатории условиях горячего источника
они не размножались, так что интерес к ним пропал.
До сих пор в этом вопросе остается много неясного. Даже гидротермальные ис-
точники с более мягкими условиями кажутся не совсем подходящим местом для
возникновения жизни. Спустя годы после создания Вахтерхойзером модели железо-
серного мира у нас еще слишком мало экспериментальных подтверждений. Многие
ученые полагают, что ключом к разгадке является молекула, над которой Карл
Вёзе размышлял еще в 1967 г. В своей первой и единственной книге «Генетиче-
ский код» (The genetic code) он предположил, что с самых древних времен чрез-
вычайно важную и многогранную роль в развитии клетки играла РНК.
Глава 13.
Рождение
клетки
Честный человек, вооруженный всем доступным сейчас
знанием, подтвердит, что возникновение жизни пред-
ставляется сейчас почти чудом, ведь чтобы начался
этот процесс, необходимо было выполнить множество ус-
ловий. Но из этого не следует, что жизнь не могла за-
родиться на Земле в процессе вполне допустимой после-
довательности довольно обычных химических реакций.
Дело в том, что прошло слишком много времени; многие
микросреды на поверхности Земли слишком разнообразны;
различные химические возможности слишком многочислен-
ны, а наши собственные знания и воображение слишком
ничтожны, чтобы позволить нам точно объяснить, как
это могло произойти в таком далеком прошлом, особенно
если мы не располагаем экспериментальными данными из
той эпохи.
Френсис Крик. Жизнь, как она есть: ее зарождение и
сущность, 1981 г.
В 1986 г. в разделе «Новости и мнения» журнала Nature была опубликована
статья физика и биохимика, лауреата Нобелевской премии Уолтера Гилберта. За
восемь лет до этого в том же разделе того же журнала он высказал гипотезу о
том, что в генах существуют некие последовательности, интроны, которые выре-
заются из РНК в процессе трансляции в белки. Тем самым Гилберт предложил ре-
шение одной давнишней проблемы в биологии. На этот раз он предлагал решение
еще одной, даже более важной загадки, беспокоившей специалистов в области
происхождения жизни на протяжении десятилетий. Речь идет о дилемме «курица
или яйцо»: что возникло сначала - репликация или метаболизм?
На отрезке времени длительностью около полумиллиарда лет (от момента воз-
никновения Земли до появления LUCA) должен был существовать еще более прими-
тивный организм, который ученые иногда называют первым живым организмом, FLO
(First Living Organism). Это нечто чуть более сложное, чем просто комплекс
химических молекул, возможно, какой-то отдельный компонент сложного аппарата
современной клетки. Но какой? Когда Стэнли Миллер и Сидней Фокс впервые по-
ставили этот вопрос, ответ казался очевидным: это был белок, поскольку в то
время большинство ученых считали, что белок является не только ключевым фак-
тором метаболизма, но и носителем генетической информации. В результате рабо-
ты Крика, Уотсона и других ученых по выяснению роли ДНК все внимание смести-
лось в сторону этого главного элемента наследственности, вполне способного
инициировать эволюционный процесс. Но ДНК - лишь хранилище информации, и она
не имеет возможности действовать самостоятельно, а комплекс ДНК и белков
слишком сложен, поэтому он не мог возникнуть в первых протоклетках. Первым
должно было появиться что-то одно.
В статье в Nature, опубликованной в 1986 г. , Гилберт утверждал, что ответ
следовало искать в другом месте. Он вернулся к гипотезе, впервые сформулиро-
ванной Вёзе в 1967 г. В книге «Генетический код» Вёзе писал, что изначально
работу и ДНК, и белков должен был выполнять их теперешний посредник - РНК. В
1968 г. Френсис Крик и Лесли Орджел одновременно опубликовали пару статей, в
которых также утверждали, что жизнь поначалу была основана на РНК. Впоследст-
вии было признано, что статья Орджела «Эволюция генетического аппарата» наи-
более полно отражает суть идеи, хотя поначалу она почти не привлекла внима-
ния. В 1986 г. функция РНК была изучена уже гораздо подробнее. Кроме того,
возврату к этой идее способствовало одно важнейшее открытие, сделанное неза-
висимо двумя микробиологами: Томасом Чеком и Сиднеем Олтменом.
В 1978 г. Чек, тогда еще сравнительно молодой преподаватель Колорадского
университета в Боулдере, начал выделять белок, ответственный за недавно опи-
санный Гилбертом сплайсинг генов - вырезание интронов из молекул РНК и соеди-
нение их последовательностей. Чек предполагал, что выделить белок будет дос-
таточно просто. Нужно только взять клеточный экстракт и разделять его до тех
пор, пока не будет обнаружен элемент, осуществляющий сплайсинг. Однако работа
зашла в тупик. Сплайсинг происходил даже в тех образцах, в которых, как были
уверены исследователи, не было никакого белка. В конечном итоге, удалось до-
казать, что за вырезание интронов отвечает сама РНК.
Вскоре после начала этих экспериментов Сидней Олтмен из Лаборатории молеку-
лярной биологии в Кембридже, которой руководили Сидней Бреннер и Френсис
Крик, занялся изучением необычного фермента, называемого рибонуклеазой Р. Не-
обычность фермента заключается в том, что около 80% его массы составляет РНК,
что ученые долгое время считали малозначащей аномалией. Позднее Олтмен полу-
чил должность профессора в Йельском университете, но продолжал исследования.
Он пришел к выводу, что РНК была главной каталитической составляющей рибонук-
леазы Р. Именно РНК, а не белок отвечала за каталитическую активность фермен-
та.
Открытия Чека и Олтмена перевернули наши представления о биохимии клетки.
Одни белки катализируют химические реакции, другие отвечают за двигательные
функции, третьи, включенные в клеточную мембрану, - открывают и закрывают ка-
налы, благодаря которым реализуется, например, механизм сознания. Потребление
пищи, пищеварение, передвижение и даже мышление - все эти процессы на самом
фундаментальном уровне осуществляются белками. Белки контролируют химические
процессы, отвечающие практически за все функции клетки и, как считалось дол-
гое время, являются единственными клеточными компонентами, осуществляющими
все перечисленные реакции. Однако Чек и Олтмен доказали, что некоторые моле-
кулы РНК (названные рибозимами) тоже могут выступать в роли катализаторов. За
это открытие в 1986 г. они были удостоены Нобелевской премии в области физио-
логии и медицины.
Как отмечал Гилберт в статье в Nature, открытие рибозимов имело чрезвычайно
важные последствия для изучения происхождения жизни. Вот она, часть клетки,
способная осуществлять и репликацию, и метаболизм. Гилберт утверждал, что в
какой-то момент на ранних этапах эволюции населявшие Землю клетки состояли в
основном из РНК: «Первый этап эволюции осуществляют молекулы РНК, выполняющие
каталитическую функцию, необходимую для их собственной сборки <...> и, [позд-
нее] использующие рекомбинацию и мутацию для приобретения новых функций для
адаптации к новым условиям». Данная модель получила название «мир РНК» -
именно так называлась знаменитая статья Гилберта.
Выдающиеся открытия Чека и Олтмена относительно каталитической функции РНК
были сделаны в процессе работы с микроскопическим простейшим Tetrahymena
thermophila. Это удивительное маленькое существо, впервые обнаруженное Левен-
гуком, относится к инфузориям (эукариотам) и покрыто мельчайшими выростами,
напоминающими волоски. Tetrahymena существует в виде семи различных «полов» и
прекрасно себя чувствует в очень широком диапазоне температур. Но самое уди-
вительное, что сильнее всего отличает этот организм от других одноклеточных
организмов, - большое разнообразие биологических процессов, в которых он уча-
ствует вместе с другими, более сложными, организмами. Tetrahymena обладает
примитивной пищеварительной системой и порой для поглощения пищи. Удивитель-
но, но геном этого крохотного организма состоит примерно из 25 тыс. генов -
фактически как у человека. Благодаря обилию генов и простоте культивирования
это простейшее является удобным объектом для молекулярно-биологических иссле-
дований .
Tetrahymena thermophila.
При работе с Tetrahymena было сделано невероятно много важных биологических
открытий, включая идентификацию первого двигательного белка (аналога прими-
тивного мышечного белка) и обнаружение лизосом и пероксисом - «мусорных кор-
зин» клетки. Более того, с тем же образцом Tetrahymena, который исследовали
Чек и Олтмен, работала еще одна исследовательская группа, удостоенная Нобе-
левской премии совсем за другие исследования. Участник этой группы, скромный
канадец по имени Джек Шостак, стал одним из ведущих специалистов по проблеме
происхождения жизни и самым известным из современных ученых, активно изучаю-
щих модель «мир РНК».
Отец Шостака был пилотом Королевских ВВС Канады, и в детстве будущий ученый
внимательно следил за космическими экспедициями кораблей «Аполлон». Однако
сильнее, чем сами полеты, его занимали эксперименты, выполненные астронавтами
на Луне. Больше всего его интересовала биология. В школе его считали вундер-
киндом. Он поступил в самый престижный университет Канады, Университет Мак-
гилла, когда ему было только 15 лет.
В 1982 г. , в возрасте 27 лет, Шостак стал профессором химии на Медицинском
факультете Гарварда и впервые занялся проблемой репарации ДНК в дрожжах
Saccharomyces cerevisiae - модельном эукариотическом организме, интересовав-
шем многих ученых со времен Пастера. Однажды он присутствовал на лекции моле-
кулярного биолога из Калифорнийского университета в Беркли Элизабет Блэкберн,
посвященной генетике Tetrahymena. Шостак понял, что может использовать ре-
зультаты Блэкберн в своей собственной работе, посвященной решению одной из
сложных проблем биологии - эукариотической клетки. Известно, что ферменты,
копирующие ДНК, никогда не доходят до концов хромосом, и поэтому считалось,
что в каждом цикле клеточного деления какая-то часть хромосом не должна копи-
роваться. Тот факт, что это не всегда так, ставил ученых в тупик.
Для того чтобы разобраться в происходящем, Шостак и Блэкберн вместе с моле-
кулярным биологом Кэрол Грейдер поставили серию экспериментов. Используя гиб-
ридные хромосомы Saccharomyces и Tetrahymena, они показали, что короткие уча-
стки ДНК, названные теломерами (от греч. telos - конец и meros - часть, доля,
концевые участки), с концов хромосом Tetrahymena могут защитить от укорочения
хромосомы Saccharomyces, и наоборот. Это открытие не только объясняло пара-
докс, но имело большое значение для понимания клеточных механизмов старения и
развития рака. Работа Шостака, Блекбёрн и Грейдер была опубликована в 1982 г.
Почти через 30 лет, в 2009 г. , трое ученых разделили Нобелевскую премию по
физиологии и медицине.
Завершив работу с теломерами, Шостак стал искать новую тему для исследова-
ний. Еще на заре научной карьеры он собирался заняться тремя важнейшими, по
его мнению, проблемами в биологии: происхождением Вселенной, происхождением
сознания и происхождением жизни. Довольно быстро он понял, что его математи-
ческих способностей не хватит, чтобы вникнуть в физические процессы, привед-
шие к возникновению Вселенной. Хотя его, как когда-то Генри Бастиана и Френ-
сиса Крика, невероятно искушало желание разобраться в феномене сознания, он
чувствовал, что современные технологии еще не позволяют достаточно далеко
продвинуться в этом вопросе. Однако после обнаружения каталитической функции
РНК Чеком и Олтменом он увидел новые перспективы в углублении понимания про-
цессов происхождения жизни.
Начиная с 1984 г., Шостак активно занимался изучением рибозимов, пытаясь
понять, какую роль они могли сыграть в самых первых клетках. Он пытался найти
нечто вроде чаши Грааля для сторонников теории «мир РНК»: молекулу РНК, спо-
собную копировать саму себя. До тех пор никто не доказал, что подобная моле-
кула существует или существовала когда-то. Однако перед Шостаком открылись
такие возможности, которых не было у его предшественников.
Результаты эксперимента Миллера - Юри были известны всем, но вот осущест-
вить следующие химические реакции, которые могли бы привести к появлению FLO,
оказалось невероятно сложно. Прогресс в этом направлении был весьма незначи-
тельным, но Шостак решил, что к этой задаче можно подойти с другой стороны. К
началу 1990-х гг. уже многое было известно о функционировании клетки, а со-
временные методы биотехнологии позволяли создавать клетку с нуля. Вместо того
чтобы воспроизвести все сложные химические стадии, необходимые для возникно-
вения первых форм жизни, Шостак решил сразу создать в лаборатории живую клет-
ку.
Эра синтетической жизни началась в 2002 г., когда исследователь из лабора-
тории на Лонг-Айленде впрыснул содержимое шприца в маленькую белую мышь. Че-
рез несколько минут мышь умерла от паралича - она получила смертельную дозу
полиовируса. Этот вирус с геномом на основе РНК обладает удивительно простым
репликационным циклом, и поэтому он очень быстро заставил клетки мыши много-
кратно его воспроизводить, пока набитые сотнями копий вируса хозяйские клетки
не начали лопаться и высвобождать новые копии вируса, поражающие все большее
и большее число клеток мыши. Особенностью этой вирусной атаки было то, что
она была запущена с помощью искусственной вирусной ДНК, сконструированной с
нуля вирусологом Экардом Уиммером из Университета Стуони-Брук. Геном полиови-
руса был расшифрован летом 1981 г., и группе Уиммера оставалось «всего лишь»
воспроизвести генетический рецепт - синтезировать простую цепочку примерно из
75 сотен A, G, Сии.
Технология синтеза ДНК была отработана в предыдущие годы. Синтез таких мо-
лекул, конечно, не детская игра, но вполне доступный метод в арсенале совре-
менных молекулярных биологов. Генетик Джон Крейг Вентер и его группа синтези-
ровали целый бактериальный геном, который намного сложнее простого генома ви-
руса. Даже самые маленькие и простые клетки содержат сотни сложных ферментов,
а также генетический материал и другие элементы. В 2010 г. серия трудоемких
лабораторных манипуляций была успешно завершена: над ней на протяжении десяти
лет трудились 24 человека, а стоимость проекта составила 40 млн. долларов.
Эта последовательность содержала 1 077 947 пар оснований64.
Для создания бактерии Вентер с коллегами добавили синтезированные ими ис-
кусственные хромосомы в культуру обычных клеток Mycoplasma, подвергшихся воз-
действию электрического шока, под действием которого клетки поглощают ДНК из
окружающей среды. По мере того как механизм хозяйских клеток начал работать
на основе синтетического генома, стали появляться дочерние клетки, содержащие
исключительно искусственные хромосомы. В этих хромосомах находились инструк-
ции, необходимые для синтеза всех клеточных белков, так что в какой-то момент
в культуре остались только искусственные клетки. Искусственный организм полу-
чил имя Синтия. Он содержал примерно в 80 раз больше генетической информации,
чем геном полиовируса.
Это достижение открывало невиданные ранее возможности для применения био-
технологии в столь разных областях, как, например, производство синтетическо-
го топлива и медицина. Однако вскоре стало ясно, что Синтия не помогает опре-
делить источник информации, использовавшейся для построения самых первых кле-
ток. Вентер, как до него Уиммер, по сути, скопировал инструкцию, которую при-
рода создавала на протяжении 4 млрд. лет. Это было потрясающее техническое
достижение, но оно не давало ответа на вопрос, как зародилась жизнь.
Шостак задумался над созданием искусственной клетки еще в середине 1990-х
гг. От Вентера и Уиммера его отличало то, что он хотел понять механизм зарож-
дения жизни, а не просто воспроизвести созданную природой инструкцию. Для не-
го основной вопрос заключался в том, каким образом появилась эта инструкция.
Он отталкивался от результатов замечательной серии экспериментов, выполненных
в 1960-х гг. биохимиком Солом Шпигельманом, который в свое время пригласил
Карла Вёзе на работу в Иллинойский университет.
Шпигельман и его коллеги осуществили важный эксперимент, в котором показа-
ли, что молекулы РНК могут вести себя подобно живым организмам и самостоя-
тельно эволюционировать (вполне в дарвиновском смысле) в пробирке. Шпигельман
начал с вируса, называемого бактериофагом QP (ку-бета), который инфицирует
всем известную кишечную палочку Escherichia coli. Геном QP состоит из РНК.
Вентер и его коллеги закодировали в синтетическом геноме три цитаты: «Жить, оши-
баться, терпеть неудачи, побеждать, воссоздавать жизнь из другой жизни» (То live, to
err, to fall, to triumph, to create life out of life, Джеймс Джойс, «Портрет худож-
ника в юности»); «Видеть вещи не такими, какие они есть, а такими, какими они могли
бы быть» (See things not as they are, but as they might be, Роберт Оппенгеймер,
«Американский Прометей»); «То, что я не могу построить, - не могу и понять» (What I
cannot build, I cannot understand, последние слова, написанные перед смертью физиком
Ричардом Фейнманом). Они также закодировали ссылку на сайт, где любители криптогра-
фии могут сообщить об успешной расшифровке кода. Включение цитат в геном объяснялось
практической необходимостью: зашифрованные сообщения служили доказательством синте-
тической природы генома. - Прим. авт.
Ученые очистили РНК, а также белок, ответственный за ее репликацию, а затем
смешали их в пробирке, добавив туда все простые молекулы, необходимые белку
для построения новых молекул РНК QP. Через некоторое время несколько капель
смеси, уже содержавшей разные неполные копии исходной молекулы РНК, перенесли
в новую пробирку, где были только белок и простые молекулы предшественников.
Процедуру повторили 74 раза, каждый раз перенося из последней пробирки в но-
вую по несколько капель смеси. При каждом пассаже отбиралась новая популяция
мутантных молекул, служившей отправной точкой для «эволюции», осуществлявшей-
ся в следующей пробирке.
В конце эксперимента обнаружилось нечто невероятное: РНК из пробирки № 74
состояла всего из 218 нуклеотидов, тогда как исходная молекула РНК бактерио-
фага содержала около 4500 нуклеотидов. Произошло своеобразное соревнование, в
котором выиграли самые короткие молекулы. И это понятно: чем короче молекулы,
тем быстрее они копируются и, следовательно, вытесняют более длинные молеку-
лы. Таким образом, Шпигельман воспроизвел в пробирке некий вариант естествен-
ного отбора для изолированных молекул РНК. Коллеги назвали полученные им мо-
лекулы «монстрами Шпигельмана».
В 1975 г. два исследователя из лаборатории химика Манфреда Эйгена выполнили
удивительный эксперимент, отталкиваясь от результатов Шпигельмана. В этот раз
исследователи просто смешивали простые молекулы предшественников и копирующий
белок, не добавляя матрицу РНК. Удивительно, но через какое-то время они об-
наружили молекулы, очень похожие на минимальные молекулы РНК, полученные Шпи-
гельманом. Это позволило заключить, что при оптимальных условиях информацион-
ная молекула типа молекулы РНК может возникать самопроизвольно. Результаты
Шпигельмана и его коллег стали основой для дальнейших исследований происхож-
дения жизни. Проблема заключалась только в том, что молекулы, на самом деле,
не могут реплицироваться самопроизвольно: они копируют себя только в присут-
ствии копирующего белка, который сам является сложным продуктом биологической
инструкции. Таким образом, концепция самореплицирующейся РНК стала чашей
Грааля для тех, кто верил в гипотезу «мир РНК»65.
В то время как несколько исследовательских групп пытались найти такую само-
реплицирующуюся молекулу РНК, Шостак решил начать со следующего этапа и сразу
синтезировать целый организм на основе РНК. В сотрудничестве с биохимиком
Пьером Луиджи Луизи в 2003 г. Шостак начал работать над созданием настоящей
клетки на основе РНК, состоящей из РНК и липидной мембраны.
Шостак считал, что первые формы жизни могли представлять собой просто изо-
лированные молекулы РНК. Однако первым клеткам (FLO) для дальнейшей эволюции
была необходима мембрана. По мнению Шостака, мембрана была необходима по двум
основным причинам. Во-первых, связанные между собой молекулы вместе эволюцио-
нируют. Казалось маловероятным, что одна нить РНК может выполнять все функ-
ции, необходимые для размножения клетки. Скорее, требовалось небольшое семей-
ство молекул, удерживаемых вместе в замкнутом пространстве, где они могли
функционировать сообща. Такие молекулы могли копировать друг друга и способ-
ствовать эволюции друг друга.
Во-вторых, существует родственная проблема, заключающаяся в необходимости
избавляться от иждивенцев. Молекула РНК, способная воспроизводить другие мо-
лекулы РНК, стала бы привлекать множество паразитических молекул, не участ-
вующих в «общем деле». Заключение копирующей рибосомы вместе с ее помощниками
в замкнутое пространство (и исключение, таким образом, всех иждивенцев типа
В этой области наметился определенный прогресс: в 2011 г. группа британских уче-
ных под руководством Филипа Холлигера объявила о создании РНК-полимеразы, состоящей
из РНК (а не из белка), способной копировать другую молекулу РНК длиной 95 нуклеоти-
дов . - Прим. авт.
РНК-вирусов) значительно повысило бы эффективность работы ансамбля.
Мембраны всех современных клеток состоят из так называемых амфифильных мо-
лекул, основной которых являются жиры, такие как сало или кокосовое масло,
входящее в состав почти любого мыла или шампуня. В воде в соответствующих ус-
ловиях эти вещества самопроизвольно образуют капельки разного размера, анало-
гичные простым клеточным мембранам. Вполне резонно предположить, что таких
липидных капелек было множество на первозданной Земле - еще до того, как
жизнь научилась их создавать. Подобные молекулы были обнаружены в метеоритах,
например в Мерчисонском метеорите, а из органического «клея», часто содержа-
щегося в таких метеоритах, образуются похожие капли. В мелких земных водоемах
этот «клей» вполне мох1 самопроизвольно образовывать структуры, напоминающие
клетки.
В нескольких кварталах от реки Чарльз в Бостоне, на седьмом этаже исследо-
вательского корпуса Медицинского факультета Гарварда, в маленькой комнатке
размером с чулан стоит микроскоп. На двери - старая фотография Махатмы Ганди.
Одетый в традиционную одежду индийский святой и вождь борьбы за независимость
глядит сверху вниз в маленький микроскоп. Из мебели в комнате только стул и
небольшой стол, на котором и установлен микроскоп. На стене приклеена вырезка
из газеты. Это изображение протоклетки в том виде, в каком ее представляет
себе Шостак: ярко окрашенная и простая, лишенная всех привычных клеточных
структур, за исключением одной нити РНК. Рядом надпись «Рождение клетки».
Если Шостаку и его коллегам повезет в создании живой модели FLO, люди впер-
вые увидят клетку на основе самореплицирующейся РНК именно здесь, в этой ком-
нате . Это будет самое примитивное существо из всех живущих сейчас на Земле. И
это будет фундаментальное открытие, которое, несомненно, взволнует журнали-
стов . Многие считают, что такой эксперимент в значительной степени позволит
найти разгадку происхождения жизни.
Однако история показывает, что загадка так и останется загадкой. Вопрос бу-
дет стоять так же, как когда-то его поставил Энрико Ферми, обращаясь к своему
другу Гарольду Юри: первые клетки могли образоваться таким образом или они
действительно именно так и образовались?
Карл Саган любил рассказывать историю об одной общественной дискуссии, в
которой он принимал участие в 1960 г. Один из присутствующих спросил, когда
ученые отгадают загадку происхождения жизни, воспроизведя этот процесс в про-
бирке. Первый из отвечавших сказал, что это произойдет через 1000 лет, второй
- что это случится через 300 лет. Так постепенно сроки все сокращались и со-
кращались , пока один ученый не ответил, что это уже было сделано.
Те, кто ожидает от науки объяснения устройства мира, всегда склонны верить
в нереалистичные прогнозы. Как ранние христиане были уверены в том, что воз-
несение церкви случится совсем скоро, так верящие в силу науки надеялись, что
разгадка ее самой большой тайны уже близка. Так было на протяжении сотен лет.
В зависимости от того, какого ответа вы ждете, ответ на вопрос о происхож-
дении жизни всегда можно было считать либо уже почти решенным, либо настолько
сложным, что решить его не удастся никогда. Наука, безусловно, чрезвычайно
далеко продвинулась в понимании того, как живые существа возникают из неживой
материи, однако эта загадка волновала величайших мыслителей всех времен, и,
конечно же, так будет продолжаться и дальше. Вполне возможно, что ответы,
действительно, на подходе, но не менее вероятно, что ответ так и не будет
найден, по крайней мере, на протяжении нашей жизни. Мы не знаем, занимает ли
превращение неживой материи в живое существо недели, месяцы или сотни миллио-
нов лет - этот процесс может длиться так долго, что его просто невозможно на-
блюдать в лаборатории.
Но мы уверены, что ученые никогда не оставят попытки найти ответ. Возможно,
эти поиски уже дали важный результат. Возможно, они рассказали нам что-то о
природе науки или даже о нас самих.
Эпилог
Сходны судьбой поколенья людей с поко-
леньями листьев: Листья - одни по земле
рассеваются ветром, другие Зеленью сно-
ва леса одевают с пришедшей весною. Так
же и люди: одни нарождаются, гибнут
бб
другие .
Гомер. Илиада.
В знаменитой лекции в Сорбонне Луи Пастер высказал свое мнение относительно
природы научного поиска и роли ученого. Наука, как он считал, - беспристраст-
ный судья, а истинный ученый должен отказаться от любых готовых гипотез. По
поводу темы собрания - спонтанного зарождения жизни - он заметил, что наука
не может дать на этот вопрос никакого другого ответа, кроме как подтвердить
божественный промысел в создании жизни.
Примерно через полтора столетия эволюционный биолог Клинтон Ричард Докинз
выступил с речью в одной из ведущих генетических лабораторий мира. Речь эта
начиналась примерно в том же ключе, что и речь Пастера. Наука, сказал Докинз,
не принимает ничью сторону, она стремится к объективной истине. Но дальше
убежденный атеист Докинз расходился во мнении с католиком и виталистом Пасте-
ром. По мнению Докинза, мы не можем дать никакого иного ответа, кроме как
признать абсолютно естественное происхождение жизни в соответствии с законами
природы без какого-либо сверхъестественного вмешательства.
Докинз произносил свою речь в лаборатории Крейга Вентера, участвовавшего в
расшифровке генома человека и возглавлявшего научную группу, создавшую живой
организм. Пастер жил в то время, когда никто не знал о существовании нуклеи-
новых кислот, а понятие гена было только теоретическим. С тех пор мир неверо-
ятно изменился. Синтетическая биология раскрыла внутренние механизмы функцио-
нирования живых организмов, которые можно увидеть, проанализировать и изме-
нить . Еще при нашей жизни стоимость и легкость создания живых организмов ста-
нут настолько тривиальными, что этим сможет заниматься ученый-любитель в сво-
ем гараже. Мы понимаем мир и действующие в нем силы намного лучше, чем люди,
жившие всего 100 лет назад.
Наши представления о происхождении жизни всегда в большой степени зависели
от состояния технологии и наличия инструментов, позволяющих анализировать ок-
ружающий мир. В XVII в. благодаря микроскопу люди увидели новый мир. В XIX в.
печатные станки открыли доступ к информации множеству людей. Достижения тех-
нологической революции XX в. - радиоизотопные методы датирования, секвениро-
вание генов, изучение Солнечной системы и многое другое - аналогичным образом
изменили наше понимание биологии в целом и происхождения биологических про-
цессов на Земле в частности.
Однако со времен знаменитой лекции Пастера в Сорбонне изменилась не только
технология. На похоронах Френсиса Крика в 2004 г. его сын Майкл сказал, что
отец хотел, чтобы его запомнили как человека, окончательно уничтожившего тео-
рию витализма - идею о том, что между живой и неживой материей существует не-
преодолимый барьер. Чтобы Microsoft Word не узнавал само слово «витализм».
Один - ноль в пользу Френсиса.
Сильно изменилась расстановка сил между наукой и религией. Ничто не под-
тверждает это изменение так явственно, как приглашение Сиднея Фокса в Ватикан
Пер. В. Вересаева.
в 1964 г. в качестве советника папы Павла VI по вопросам эволюции и современ-
ных представлений о происхождении жизни. Предшественник Павла VI Пий XII ра-
нее объявил, что эволюция не противоречит учению церкви, отметив медленный,
но верный поворот к учению святого Августина, который почти два тысячелетия
назад заметил, что никому не нужна церковь, не понимающая устройства природы.
Казалось неизбежным, что церковь вскоре примет научное объяснение происхожде-
ния жизни. В 1996 г. папа Иоанн Павел II назвал эволюцию «больше чем гипоте-
зой». Всего через 20 лет после этого папа Франциск предостерег от представле-
ния о Боге как о «кудеснике с волшебной палочкой, способном совершать любые
чудеса».
В каком-то смысле мы замкнули круг. Во всем развитом мире, за исключением
США. (что весьма показательно), религия в значительной степени возложила от-
ветственность за объяснение функций физического мира на науку. Прошли те дни,
когда Реди и ван Гельмонт вынуждены были действовать с оглядкой на религиоз-
ную власть, а люди типа Роберта Чамберса публиковаться анонимно. И даже в
Америке, где сторонники буквального прочтения Библии все еще составляют влия-
тельное меньшинство, ученые свободно движутся по пути к знанию, вне зависимо-
сти от того, куда этот путь может их завести.
Сегодня множество ведущих лабораторий мира занимаются изучением проблемы
происхождения жизни, тратя на эти исследования десятки миллионов долларов в
год. Каждый год появляются новые результаты, вызывающие невероятное возбужде-
ние: возможно, мы, наконец, подобрались к решению самой большой загадки био-
логии! Появление каждой новой идеи сопровождается бурной реакцией прессы,
часто преувеличенной. Даже концепция панспермии была представлена в качестве
новой и захватывающей идеи. Людям хочется верить, что наука уже готова рас-
крыть главную тайну биологии. Однако на самом деле довольно сложно сказать,
как близко мы подобрались к пониманию этого досадно сложного вопроса.
Но в любом случае поиски ответа позволили нам невероятно много узнать об
окружающем мире и о том, как он функционирует. Начиная с эпохи Возрождения,
исследования в этой области глубоко изменили наши представления о жизни. Мы
сделали первые шаги в космосе и научились анализировать микроскопические про-
цессы в клетке. На этом пути коренным образом изменилось наше представление о
Вселенной и нашем месте в ней.
Наш длинный путь к пониманию происхождения жизни преподнес нам и другие,
менее явные уроки. Он позволил нам глубже осознать суть научного поиска, а
также нашей собственной природы. Большинство действующих лиц этой длинной са-
ги не просто пытались ответить на тот или иной вопрос; многие из них исполь-
зовали науку, чтобы доказать или опровергнуть представления об устройстве ми-
ра.
Франческо Реди пил змеиный яд не только для того, чтобы проверить его дей-
ствие, он пытался продемонстрировать приоритет разума над суеверием. Атеисты,
поддерживавшие Джона Нидхема, не говорили о его трудах «это хорошо поставлен-
ный эксперимент», - они видели в его бульоне с микробами возможность обойтись
без Бога. В том же ключе его работу воспринимали и верующие люди, они видели
в ней угрозу основополагающим идеям, на которых строилась их жизнь. Сидней
Фокс смотрел на микросферы протеиноидов и видел в них оправдание трудов всей
своей жизни, от которых не мог отказаться даже под самым сильным давлением.
Практически каждый ученый, пытавшийся анализировать микроокаменелости в древ-
них камнях или в метеоритах, видел что-то свое. Анализ этих микроскопических
структур можно сравнить с научным эквивалентом теста Роршаха67.
Часто бывает, что экспериментаторы изучают одни и те же данные и делают со-
Тест Роршаха (пятна Роршаха) - диагностический тест для исследования особенностей
психики; предложен в 1921 г. швейцарским психиатром Германом Роршахом. - Прим. пер.
вершенно разные выводы, иногда диаметрально противоположные. Дело в том, что
наука и ученые существуют не в вакууме, а в реальном мире постоянно изменяю-
щихся идей и мнений. Со времен Пастера многое изменилось. Изменилось общест-
во . Изменилась религия. Изменились наши представления о мире и взгляд на наше
место в нем.
В соответствии с этим мы сегодня иначе интерпретируем научные факты, и яв-
ственнее всего это проявляется именно в вопросах, связанных с происхождением
жизни. Большинство людей не могут просто отмахнуться от этого вопроса и ска-
зать «я не знаю», как когда-то отвечали на вопрос о происхождении молнии или
теперь отвечают на вопрос о природе черных дыр. Мы не знаем точно, как заро-
дилась жизнь, но в голове каждого из нас уже есть некий ответ, основанный на
философских или религиозных предпосылках, предположениях или просто фантази-
ях . У нас есть этот ответ, поскольку мы должны его иметь, ведь тема происхож-
дения жизни непосредственно касается самой сути жизни. И ученые в этом смысле
ничем не отличаются от других людей. Они часто отстаивают собственный взгляд,
даже если есть очевидные опровержения, даже, как в случае Сиднея Фокса или
Чарлтона Бастиана, когда это сопряжено с риском для научной репутации.
И все же наука остается лучшим способом познания мира. Она включает в себя
элемент проверки - provando e riprovando в терминах Accademia del Cimento. В
конечном итоге ученые часто достигают истины. Или, по крайней мере, приближа-
ются к ней. Сегодня практически любой человек согласится, что мухи появляются
из яиц, а не из тухлого мяса. Пастер был прав относительно существования мик-
робов в воздухе, а Бастиан ошибался. Идеи одного человека становятся общепри-
нятыми, идеи другого забываются. Мы видим справедливость тех или иных идей,
поскольку научный метод беспристрастен; таким его видели и Пастер, и Докинз.
В истории науки было множество людей, признававших истину даже вопреки собст-
венному мнению или представлениям своей эпохи. Дарвин не получал удовольствия
от роли «капеллана дьявола» в противостоянии с набожными людьми, которых он
уважал, и церкви, в которую он ходил. Он с большой неохотой делился с миром
своими научными заключениями, но все же делал это. С тех пор наше понимание
природы невероятно углубилось.
В конечном счете, наука рассеет наши старые ошибочные идеи и откроет нам
новые истины, хоть этот путь не всегда прям и прост, и не всегда ясно с пер-
вого взгляда, кто выиграет, а кто проиграет. Вот что биолог Джордж Уолд писал
в 1954 г. в журнале Scientific American по поводу великого «триумфа» Пастера
в споре о спонтанном зарождении жизни:
«Нелегко бороться с такими глубоко въевшимися и понятными идеями, как идея
о спонтанном зарождении жизни. В таком деле нет ничего лучше, чем шумный и
упрямый оппонент, как тот, что достался Пастеру в лице Феликса Пуше, чьи вы-
ступления перед Французской академией наук заставили Пастера проводить все
более и более сложные эксперименты. Когда [Пастер] закончил, от веры в спон-
танное зарождение жизни не осталось и следа. Мы рассказываем эту историю на-
чинающим студентам-биологам, поскольку она иллюстрирует победу разума над
мистицизмом. Но, на самом деле, все почти наоборот. Логично было верить в
спонтанное зарождение. Единственная альтернатива заключалась в том, чтобы ве-
рить в первичный акт божественного творения. Третьего не дано».
В истории науки было множество «проигравших», цеплявшихся за свои выводы,
несмотря на их неприятие современниками. Все они были упрямы, некоторые раз-
рушили свою профессиональную карьеру, но продолжали идти своей дорогой.
Может показаться, что неспособность этих людей отказаться от своих взглядов
под натиском критики или даже опровергающих доказательств является лишь про-
явлением снобизма. Однако в этом упрямстве, возможно, заложен определенный
смысл. Натуралист Александр фон Гумбольдт однажды заметил, что научное откры-
тие переживает три этапа. Первый этап - отрицание. Второй - отрицание важно-
сти. Третий - утверждение, что открытие совершил другой человек. Для того
чтобы пережить первый этап, нужна большая сила духа. Истинных мыслителей час-
то считают ненормальными. Если выясняется, что они ошибались, они входят в
историю чудаками, если оказывается, что они были правы, история возносит их в
ранг мудрецов. Но и бывший чудак в будущем может оказаться мудрецом.
Научный поиск объяснений происхождения жизни продолжается. И мы видим, что
наука, как и история, повторяется. Каждое поколение находит новый «оконча-
тельный» ответ, и каждое поколение затевает новый спор. Некоторые выдающиеся
ученые затаскивают свой камень в гору только для того, чтобы увидеть, как он
скатится вниз. Под микроскопом, в лабораторной пробирке, в окаменелостях или
камнях опять находится что-то «новое» - только для того, чтобы быть заново
проанализированным, заново обдуманным и заново интерпретированным. И в этом
поиске ученые часто находят ответы, которые уже когда-то были отброшены как
негодные. Спор между Нидхемом и Спалланцани удивительно похож на спор между
ван Гельмонтом и Реди или между Пастером и Бастианом. У каждой эпохи был свой
«победитель», но часто его «победа» держалась лишь до прихода следующего по-
коления .
А вот «побежденные» никогда не исчезнут из научных книг и учебников. Однако
наука имеет короткую память. Все истории будут рассказаны и пересказаны ина-
че, и мы не знаем, как они закончатся. Тот, кто был забыт, может воскреснуть.
Оттуда, где остановились одни, двинутся вперед другие. Может быть, мы найдем
ответы в отвергнутых идеях, в которых сейчас не видим смысла.
Когда (или если) строгий научный ответ на вопрос о возникновении жизни бу-
дет найден, может оказаться, что истинный ответ все же неуловим. Дело в том,
что за вопросом о происхождении жизни всегда стоял другой, гораздо более важ-
ный вопрос. Именно поэтому тема происхождения жизни всегда вызывала столь го-
рячие споры и интуитивные ответы, и именно поэтому такое множество ученых
пренебрегало научной осторожностью. Люди, искавшие ответ на вопрос о происхо-
ждении жизни, на самом деле, очень часто искали ответ на вопрос о смысле жиз-
ни. А вот на этот вопрос одна только наука, возможно, никогда не сможет отве-
тить .
НИЛ:
II Г.:/ lv J \ К J 11
0>л
НАЧАЛА ОБЩЕЙ ХИМИИ
Мануйлов А.В., Родионов В.И.
ГЛАВА 6.
КИСЛОРОД
§6.1 Кислород, его
распространенность в
природе. Атмосфера
Кислород - 8-й элемент Периодической таблицы (заряд ядра 8), химический
символ - О, относительная атомная масса (атомный вес) 16. Валентность кисло-
рода в соединениях равна двум, наиболее распространенная степень окисления -
2. Молекула кислорода 02 , молекулярная масса (молекулярный вес) 32 а.е.м.
Молярная масса 32 г/моль.
Мы не случайно начинаем изучение химии важнейших элементов с кислорода. Ки-
слород - действительно важнейший элемент. Его химия тесно связана практически
со всеми элементами Периодической системы, поскольку с каждым из них кислород
образует те или иные соединения. Исключение составляют только легкие инертные
газы - гелий, неон, аргон.
Есть и еще одна важная причина. Кислород играет исключительную роль в суще-
ствовании на Земле жизни и всей человеческой цивилизации. На поверхности пла-
неты - в земной коре - связанный кислород является самым распространенным
элементом. В составе минералов, в виде соединений с другими элементами он со-
ставляет 47 % от массы земной коры!
В атмосфере Земли кислород находится в свободном (не связанном) состоянии:
здесь его 21 % по объему или 23 % по массе.
Толщина земной атмосферы составляет несколько сотен километров. Разумеется,
уже в 100 км от поверхности Земли атмосфера очень разрежена, тем не менее, ее
состав определяется с помощью спутников. Если взять глобус диаметром 35 см и
представить вокруг него двухсантиметровый слой, то мы получим некоторое поня-
тие о масштабах земной атмосферы. Ее объем составляет более чем 4-Ю18 м3. Ог-
ромное количество кислорода (86 - 89 % по массе с учетом растворенных в воде
солей) содержит гидросфера Земли - моря и океаны.
Преобладание кислорода среди других элементов в атмосфере и земной коре на-
шей планеты не может оказаться случайным. Вероятно, это явление связано с
возникновением и развитием жизни. В атмосфере молодой Земли кислорода практи-
чески не было. Основная масса первичной атмосферы приходилась на диоксид уг-
лерода С02. Оставшуюся часть составляли газы, которые и сейчас выделяются из
недр при вулканической деятельности. Главным образом это пары воды (Н20) ,
хлористый водород (НС1) , монооксид углерода (СО) , азот (N2) , сероводород
(H2S) и другие.
Основная масса кислорода в атмосфере планеты возникла только после появле-
ния на Земле первых фотосинтезирующих одноклеточных организмов - прокариот,
известных под названием сине-зеленые водоросли. Процесс этот начался около 2
млрд. лет тому назад (см. рис. 6-1). Под действием солнечного света (отсюда
название - фотосинтез) прокариоты усваивали из углекислого газа углерод и ки-
слород. Из воды они усваивали только водород, одновременно выделяя в атмосфе-
ру свободный кислород в качестве побочного продукта жизнедеятельности.
лодочные жепеэные формами,
содержащие восгамиплс*«ов железо
ископаемые
свидетельства
#
(D
2
а
0)
фэо
2
со
ш
со
к
g
о
80
70
60
50
40
30
20
10
здпожи красной руды
(с* с иды жвлезд)
первью
бактерии
первые
оо до росли
щровмрислм) «проспи
гшраыа
зеленые
псрпме
сосудистые
иаэомиио
растении
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 наше
возраст земли (в миллионах лет) время
Рис. 6-1. Одна из гипотез возникновения современной атмосферы
Земли. Обратите внимание на связь между изменением состава атмо-
сферы и сменой биологических эпох.
Прокариоты не нуждались в свободном кислороде - такой тип бескислородного
"дыхания" называется анаэробным. Возможно, кислород нужен был прокариотам и
как средство борьбы с анаэробными бактериями-конкурентами. Кислород накапли-
вался в атмосфере и реагировал с элементами и их соединениями, находящимися
на поверхности и в атмосфере молодой Земли.
Таким образом, весьма ценный для нас с вами кислород, которым мы дышим и
без которого не в состоянии прожить и нескольких минут, когда-то был загряз-
няющим веществом в атмосфере. Это грандиозное "загрязнение" атмосферы кисло-
родом оставило свой след в геологическом строении Земли. Когда выделяемый
прокариотами кислород окислил находящееся на поверхности планеты железо, Зем-
ля во многих местах покрылась красноватой ржавчиной - оксидами железа. Именно
из оксидов железа состоят железные руды. Их мощные залежи и сегодня напомина-
ют об этой эпохе.
Постепенно кислорода стало в атмосфере так много, что анаэробные бактерии
уступили место другим существам - с аэробным (кислородным) типом дыхания.
Аэробные организмы используют для дыхания не С02, а молекулярный кислород.
Вплоть до нашего времени длится геологическая эпоха, когда огромные количест-
ва кислорода постоянно расходуются на дыхание живых существ и горение.
Интересно, что только теперь, спустя 2 миллиарда лет, совершенно точно вы-
яснился "геологический смысл жизни" каждой отдельно взятой сине-зеленой водо-
росли, жившей в то время. Это живое существо должно было родиться здоровым,
прожить как можно более долгую жизнь (чтобы выделить в атмосферу как можно
больше кислорода), оставить после себя здоровое, полноценное потомство. Оно
не должно было "обижать" других прокариот, чтобы и те могли выполнить такую
же миссию, отведенную им природой. Иными словами, смысл жизни заключается в
том, чтобы жить.
Вероятно, это правило действует и поныне для всех живых существ. Не пройдет
и одного-двух миллиардов лет, как выяснится "геологический смысл жизни" чело-
вечества. В чем он, этот смысл? Попробуйте подумать на эту тему.
Но вернемся к атмосфере Земли. Каким же образом в нашу эпоху восполняются
потери кислорода в природе? Это происходит благодаря растениям, которые со-
хранили способность под действием солнечных лучей (фотосинтетически) превра-
щать углекислый газ и воду в кислород и углеводы (строительный материал кле-
ток растений). Процесс образования в растениях углеводов (целлюлозы, крахмала
и других) можно записать таким общим уравнением (здесь п - некое целое число,
достаточно большое):
сеет А
П С02 + П Н20 ** <СН20)п + П 02 Т
£ * зеленые растения I
углеводы кислород
Вспомните предыдущую главу, где мы рассчитали потери кислорода при работе
сравнительно маломощного автомобильного двигателя, и вы поймете, почему лес-
ные массивы зачастую называют легкими планеты. Очень важную роль играют и во-
доросли океана. Все растения Земли в течение года создают около 300 млрд. т
кислорода. Таким образом, все блага и само существование человеческой цивили-
зации целиком зависят от зеленых растений.
Кислород - газ без цвета, вкуса и запаха, немного тяжелее воздуха. Если на
весах уравновесить пустой стакан, а затем через трубку наполнить его кислоро-
дом, то равновесие нарушится.
Кислород слабо растворим в воде - в 1 л воды при 20 С растворяется 31 мл
кислорода (0,004% по массе). Тем не менее, этого количества хватает для дыха-
ния рыб, живущих в водоемах.
Жидкий кислород - подвижная, слегка голубоватая жидкость, кипящая при -183
С. Твердый кислород - синие кристаллы, плавящиеся при еще более низкой темпе-
ратуре -218,7 С.
Природный кислород содержит три изотопа: 1б80 (99,76%), 1780 (0,04%), 1880
(0,20%).
Самый "легкий" изотоп (кислород-16) имеет атомную массу 15,9949. Два других
изотопа имеют массу 16,999 и 17,999. Но "тяжелых" изотопов в природном кисло-
роде крайне мало, поэтому его атомная масса составляет "среднее" значение
15,9994. В свободном виде кислород обычно существует в виде двухатомных моле-
кул 02.
Структуру молекулы кислорода в первом приближении можно представить следую-
щим образом:
:6: :6: или :6=6:
Вместе с неподеленными парами электронов каждое ядро молекулы 02 "обслужи-
вается" восемью электронами, что и требуется для достижения минимума энергии
всей системы.
В реальности молекула кислорода имеет более сложное строение. Эксперимен-
тально показано, что в ней имеются неспаренные электроны. Это установлено
изучением магнитных свойств кислорода (кислород притягивается магнитом!). Де-
ло в том, что наличие парамагнетизма у молекулы свидетельствует о присутствии
в ней неспаренных электронов. Удалось найти и теоретическое объяснение таких
необычных свойств молекулы кислорода с помощью современной теории молекуляр-
ных орбиталей. В соответствии с этой теорией, при образовании химической свя-
зи атомные орбитали (АО) отдельных атомов никуда не "исчезают" - они стано-
вятся молекулярными орбиталями (МО) . В каждом атоме кислорода на внешнем
уровне 4 орбитали: одна s- и три р-, на которых располагаются 6 электронов
(...2s22p4). При образовании молекулы Ог образуется 8 МО, на которых должны
расположиться 12 электронов. Как видно из приведенной ниже диаграммы (МО по-
казаны в виде горизонтальных черточек и расположены снизу вверх по возраста-
нию энергии), молекулярных орбиталей не хватает для того, чтобы расположить
на них все электроны парами. Поэтому два электрона вынуждены оставаться не-
спаренными (по правилу Гунда):
г
-4- -4-
8 МО
I #
Трудно сказать, как при этом правильно изображать структурную формулу моле-
кулы кислорода. Можно рассмотреть два варианта:
4f 4f
+ ■ +1
:0—О: или 0=0
+ + + +
1,207 А
Судя по длине связи в молекуле 02 (1,207 ангстрема), вариант с кратными
связями ближе к истине. Например, известно, что длина простой связи 0-0 в мо-
лекуле перекиси водорода Н202 намного больше: 1,48 ангстрема.
Однако валентность (II) для кислорода в подавляющем большинстве его соеди-
нений не вызывает никаких сомнений.
§6.2 Получение
кислорода
Большое количество кислорода используется в промышленности, в медицине, в
других областях человеческой деятельности. Промышленные количества кислорода
получают из жидкого воздуха. Сначала воздух сжимают мощными компрессорами -
при этом он, как любой сжимаемый газ, сильно нагревается. Если вам приходи-
лось энергично накачивать велосипедную камеру, то вы должны помнить, что кор-
пус насоса и шланг нагреваются довольно заметно.
Сжатый воздух в больших баллонах-емкостях охлаждается. Затем его подвергают
быстрому расширению через узкие каналы, снабженные турбинками для дополни-
тельного отбора энергии у молекул газа. Эти устройства называются турбодетан-
дерами. При расширении любого газа всегда происходит его охлаждение. Если газ
был сжат очень сильно, то его расширение может привести к такому сильному ох-
лаждению, что часть воздуха сжижается. Жидкий воздух собирают в специальные
сосуды, называемые сосудами Дьюара (рис. 6-2).
мвталичт мм
*о*к?ус
вакуум
• идки* гаэ
падставо ^^^^^^^^^^^^^^
отчаян воздуха
Рис. 6-2. Сосуд Дьюара для хранения и транспортировки сжиженных га-
зов и его устройство. Из пространства между внутренней и внешней
стенками сосуда откачан воздух. Вакуум практически не проводит теп-
ло , поэтому жидкий газ, даже имея очень низкую температуру, может
сохраняться в таком сосуде длительное время.
Как вы уже знаете, жидкий кислород кипит при более "высокой" температуре (-
183 С) , чем жидкий азот (-196 С) . Поэтому при "нагревании" жидкого воздуха,
когда температура этой очень холодной жидкости медленно повышается от -200 С
до -180 С, прежде всего при -196 С перегоняется азот (который опять сжижают)
и только следом перегоняется кислород. Если такую перегонку жидких азота и
кислорода произвести неоднократно, то можно получить весьма чистый кислород.
Обычно его хранят в сжатом виде в стальных баллонах, окрашенных в голубой
цвет. Характерная голубая окраска баллонов нужна для того, чтобы нельзя было
спутать кислород с каким-нибудь другим сжатым газом.
Аппаратура для промышленного получения кислорода, как мы видим, очень слож-
на и энергоемка.
В последнее время получили распространение кислородные концентраторы. Воз-
можность получения кислорода из окружающего воздуха основана на различной
способности кристаллов молекулярного сита адсорбировать газы, составляющие
воздух. Эффективность процесса увеличивается с повышением давления, снижением
температуры и повышением концентрации адсорбируемых газов.
При прохождении воздуха через колонну (емкость) с молекулярным ситом (цео-
литом) , азот адсорбируются, а кислород нет. Компрессор увеличивает давление
воздуха до 2-3 атм. Когда вся длина колонны использована, колонну необходимо
регенерировать путем десорбции адсорбированных газов. Десорбция осуществляет-
ся при уменьшении давления в колонне и сбросе остаточного кислорода.
В таких устройствах достигается концентрация кислорода на выходе до 95%.
В лаборатории кислород удобнее получать из его соединений с другими элемен-
тами.
Чаще всего кислород получают нагреванием таких веществ (в состав которых
кислород входит в связанном виде), как перманганат калия1 (марганцовка), хло-
рат калия (бертолетова соль), нитрат калия (селитра):
2КМп04 = К2Мп04 + Мп02 + 02 (нагревание)
2КС103 = 2КС1 + 302 (нагревание)
2 KN03 = 2KN02 + 02 (нагревание)
Удобно получать кислород в лаборатории из пероксида водорода2:
2Н202 = 2Н20 + 02 (катализатор)
Пероксид водорода обычно используется в виде 3%-ного водного раствора. Мно-
гие из вас знакомы с ним, потому что такой раствор применяется как дезинфици-
рующее средство при обработке царапин и мелких ран. Он мало устойчив и уже
при стоянии медленно разлагается на кислород и воду. Попав на царапину или
ранку, пероксид начинает выделять кислород гораздо интенсивнее (сильно пузы-
рится, шипит). Дело здесь в том, что кровь содержит особые вещества (катали-
заторы) , которые ускоряют реакцию разложения пероксида водорода. Катализаторы
- это вещества, способные ускорять химические превращения, сами оставаясь при
этом неизменными.
Катализаторами разложения Н202 могут служить многие вещества, в том числе и
неорганические: диоксид марганца (Мп02) , древесный уголь (углерод), железный
порошок. Существуют и "антикатализаторы" - то есть вещества, замедляющие хи-
мическое превращение. Такие замедлители химических реакций называются ингиби-
торами. Например, фосфорная кислота Н3Р04 по каким-то причинам препятствует
разложению пероксида водорода.
1 https://www.youtube.com/watch?v=7hErkWJ-Obw
2 https://www.youtube.com/watch?v=7pfjmy3XAKo
Интересен способ получения кислорода из пероксидов металлов, который раньше
применяли на подводных лодках, потому что одновременно с выделением кислорода
происходит поглощение углекислого газа:
2Na202 + 2С02 = 2Na2C03 + 02
На современных атомных подводных лодках, где имеется мощный и почти неис-
черпаемый источник электрической энергии, есть возможность получать кислород
разложением воды под действием электрического тока (электролизом воды3) :
2Н20 = 2Н2 + 02 (электрический ток)
История открытия кислорода интересно переплетается с историей появления
подводных лодок. Есть сведения, что кислород был открыт еще в XVII веке гол-
ландским ученым К. Дреббелем. Он использовал этот газ для дыхания в подводной
лодке собственной конструкции. Но это открытие относилось к военной технике и
держалось в секрете, поэтому не оказало никакого влияния на дальнейшие иссле-
дования .
До официального открытия кислорода химики, вероятно, уже получали этот газ
разными способами, но не знали, что держат в руках новый элемент.
Первооткрывателями кислорода считаются шведский химик Карл Шееле и англий-
ский естествоиспытатель Джозеф Пристли. Шееле получил кислород несколько
раньше, но опубликовал свои исследования позднее, чем Пристли.
Карл Шееле по профессии был аптекарем, а по призванию - химиком-
экспериментатором. В течение многих лет он изучал разложение нагреванием мно-
жества веществ (среди которых была и селитра KN03) и получил газ, который
поддерживал дыхание и горение. Свои исследования он опубликовал в 1777 году в
книге "Химический трактат о воздухе и огне".
Джозеф Пристли был священником, а в естественных науках его интересовала
прежде всего "пневмохимия", т.е. изучение свойств различных газов. Он был
первым, кто специально растворил газ в воде и обнаружил, что вода стала уди-
вительно вкусной. Так была изобретена газированная вода.
Затем Пристли, как и Шееле, стал изучать газы, выделяемые различными веще-
ствами при нагревании. Получаемый газ он выводил через трубку в сосуд, запол-
ненный не водой, а ртутью. Пристли уже убедился в том, что вода слишком хоро-
шо растворяет газы.
Среди веществ, разложение которых изучил Пристли, оказалось одно, известное
еще алхимикам под названием "меркуриус кальцинатус пер се" или жженая ртуть.
Это вещество на современном химическом языке называется оксидом ртути, а
уравнение его разложения при нагревании выглядит следующим образом:
2НдО = 2Нд + 02 (нагревание)
Вы можете теперь представить, как трудно было изучать химию во времена, ко-
гда химические формулы еще не были изобретены. То, что мы только что записали
коротким химическим уравнением, Пристли описал в 1774 году следующим образом:
"Я поместил под перевернутой банкой, погруженной в ртуть, немного порошка
"меркуриус кальцинатус пер се". Затем я взял небольшое зажигательное стекло и
направил лучи Солнца прямо внутрь банки на порошок. Из порошка стал выделять-
ся воздух, который вытеснил ртуть из банки. Я принялся изучать этот воздух. И
меня удивило, даже взволновало до глубины моей души, что в этом воздухе свеча
горит лучше и светлее, чем в обычной атмосфере".
3 https://www.youtube.com/watch?v=kjS1B03T6IC
Разумеется, такое описание реакции выглядит весьма поэтично по сравнению с
обычным химическим уравнением. Зато уравнение точнее и короче отражает суть
произошедшей химической реакции, его легче понять и запомнить.
Задачи
6.1. Человеку для дыхания требуется примерно 1 моль кислорода в час. Рас-
считайте, сколько нужно взять с собой пероксида натрия ЫагОг для суточного
путешествия в одноместной подводной лодке.
6.2. Сколько кислорода (в молях) содержится в заправленном кислородном бал-
лоне, если его емкость составляет 40 л, давление в нем 150 атм и температура
раза 20 С? Какое количество воздуха (м3) оказалось переработанным в кислород
(содержание 02 в воздухе примите 21 объемн. %)?
6.3. Сколько граммов селитры КЫОз требуется разложить нагреванием для того,
чтобы заполнить кислородом сосуд емкостью 5 л (при н.у.)?
6.4. В лаборатории имеется по 10 граммов следующих реактивов: КМп04, КС103,
КЫОз. Сколько кислорода (в литрах при н.у.) можно получить из каждого?
6.5. Тлеющая лучинка самопроизвольно вспыхивает в воздухе, если количество
кислорода в нем не менее 28 объемных %. Какое минимальное количество оксида
ртути HgO требуется разложить в закрытой литровой банке с воздухом, чтобы
тлеющая лучинка, внесенная в эту банку, вспыхнула?
§6.3 Положение кислорода
в Периодической таблице
и его химические свойства
Вы, конечно, знаете, что кислород поддерживает горение. Горение различных
веществ на воздухе - это окислительно-восстановительный процесс, в котором
окислителем является кислород. Окислители - это вещества, "отбирающие" элек-
троны у веществ-восстановителей. Хорошие окислительные свойства кислорода
можно легко объяснить строением его внешней электронной оболочки.
Атомный номер кислорода в Периодической таблице - 8. Следовательно, ядро
атома кислорода содержит 8 протонов, а электронная оболочка - 8 электронов.
Эти электроны расположены по уровням следующим образом:
ls22s22p4 (цветом выделена валентная оболочка).
Валентная оболочка кислорода расположена на 2-м уровне - относительно близ-
ко к ядру. Поэтому ядро сильно притягивает к себе электроны. На валентной
оболочке кислорода 6 электронов. Следовательно, до октета недостает двух
электронов, которые кислород стремится принять с электронных оболочек других
элементов, вступая с ними в реакции в качестве окислителя.
Хорошие окислительные свойства кислорода и его высокая электроотрицатель-
ность в соединениях с другими элементами имеют общую природу. Кислород имеет
вторую (после фтора) электроотрицательность в шкале Полинга (3,44 по сравне-
нию с 3,98 у фтора). Поэтому в подавляющем большинстве своих соединений с
другими элементами кислород имеет отрицательную степень окисления.
г^
8
2
О
Кислород
15,999
2s2 2р4
+8
Характерная
степень
окисления: -2
Е*
^
2р
2s
Is
№
W
Ufr t
^
Например, сера расположена в той же VI группе, что и кислород, на одну кле-
точку ниже. Сера обладает аналогичной внешней электронной оболочкой 3s23p4,
но эта валентная оболочка расположена дальше от ядра, поэтому в реакции с ки-
слородом4 сера отдает электроны (служит восстановителем):
S + 02
4ё
-2 +4 -2
+ o=s=o
so2
Более сильным окислителем, чем кислород, является только его сосед по пе-
риоду - фтор. Это легко объяснить тем, что фтору до завершения октета нужен
всего 1 электрон (расстояние от валентной оболочки до ядра у фтора и кислоро-
да - наименьшие в группах, их валентные оболочки имеют одинаковое главное
квантовое число). Поэтому соединения кислорода с фтором - единственные, где
кислород имеет положительную степень окисления. В качестве примера приведем
соединение F20:
-1 +2 -1
F—О—F
Но уже в реакциях с хлором кислород способен быть окислителем. Например,
существует соединение С1207, называемое семиокисью хлора. В этом веществе уже
все 7 электронов хлора частично смещены от атома хлора к к атомам кислорода:
+7N 11+7
0=С1—О—С1=0
Итак, кислород - второй по силе окислитель среди всех элементов Периодиче-
ской системы. С этим связано большинство его важнейших химических свойств.
Многие реакции окисления протекают бурно, с выделением большого количества
тепла и света. В быту мы называем такие реакции горением. В кислороде сгорают
сера (см. выше), фосфор5, уголь, бензин, метан:
4Р + 502 = 2Р205
С + 02 = С02
4 https://www.youtube.com/watch?v=gOHzZFCvPEc
5 https://www.youtube.com/watch?v=K6oFlue2KsU
2C8Hi8 + 2502 = 16C02 + 18H20
CH4 + 202 = C02 + 2H20
Быстрый процесс окисления вещества, сопровождающийся выделением большого
количества теплоты и, как правило, света, называется горением.
Даже железо способно гореть в атмосфере чистого кислорода6. Если сильно на-
греть кончик железной проволоки и опустить ее в сосуд с кислородом, то железо
загорится, разбрасывая в виде ярких искр частички раскаленной железной окали-
ны:
3Fe + 202 = Fe304 (или FeOxFe203)
Окисление может происходить и медленно, без горения. Например, медь при на-
гревании в кислороде (и на воздухе) не горит, а "спокойно" превращается в
черный порошок оксида меди:
2Си + 02 = 2СиО
Известно, что железо на воздухе ржавеет, особенно в воде, при высокой влаж-
ности. Эта реакция родственна горению железа в кислороде, хотя протекает го-
раздо медленнее:
4Fe + ЗО2 + 2ПН2О = 2Fe203xnH20 (ржавчина - гидрат оксида железа III)
Ржавление металлов называется коррозией. Коррозия причиняет колоссальный
вред человеческой цивилизации. Каждый десятый металлургический завод работает
только на восполнение потерь от коррозии, потому что ежегодно она уничтожает
миллионы тонн металла. На фотографии ниже можно видеть, как происходит посте-
пенное разрушение корпуса старого автомобиля кислородом и водой.
Защитой от коррозии служат различные покрытия. Например, масляные краски и
полимерные лаки спасают металлические изделия от коррозии потому, что не дают
атмосферному кислороду соприкасаться с поверхностью металла.
Медленное окисление (без горения) происходит не только при ржавлении метал-
ла. Органические вещества тоже способны медленно окисляться кислородом возду-
ха. Например, пропитанные машинным маслом тряпки после обтирки станков и ма-
шин на предприятиях запрещено накапливать в кучах. Внутри такой кучи процесс
медленного окисления с выделением тепла настолько повышает температуру, что
может произойти самовозгорание. Другими словами, медленное окисление способно
6 https://www.youtube.com/watch?v=4-EHrOeEnkc
при определенных условиях перейти в горение.
Еще одним проявлением сильных окислительных свойств кислорода является его
способность взрываться в смеси с некоторыми восстановителями. Так, смесь ки-
слорода (или даже воздуха) с водородом называют гремучим газом. Гремучий газ
взрывается от малейшей искры7. При этом происходит образование воды:
02 + 2Н2 = 2Н20
Близкими свойствами обладают смеси природного газа или угольной пыли с ат-
мосферным воздухом, содержащим всего чуть более 20 % кислорода. Вот почему
необходимо постоянно следить за исправностью газовых плит и газовых трубопро-
водов, находящихся в закрытых помещениях. Шахты постоянно проветриваются мощ-
ными насосами не только для того, чтобы в них легче дышалось, но и для того,
чтобы разбавить до безопасных пределов рудничный газ (метан), выделяющийся из
угольных пластов.
Вентили и трубопроводы, через которые подается чистый кислород, не должны
содержать даже следов смазки. Органическое вещество (например, машинное мас-
ло) раздробленное на мелкие капли в токе кислорода, становится взрывчаткой
огромной разрушительной силы.
Обыкновенные древесные опилки, пропитанные жидким кислородом, становятся
взрывчатым веществом. Поэтому смеси пористых горючих материалов с жидким ки-
слородом применяют в качестве взрывчатки при прокладке тоннелей, при строи-
тельстве плотин для гидростанций, при добыче руды или камня в карьерах.
Задачи
6.6. Уравняйте следующие реакции с участием кислорода:
а) Li + 02 = Li20
б) NH3 + 02 = N2 + Н20
в) NH3 + 02 = N0 + Н20 (идет с катализатором)
г) N02 + Н20 + 02 = HN03
д) AgN03 = Ад + N02 + 02 (при нагревании)
е) РН3 + 02 = Р205 + Н20
ж) Р203 + 02 = Р205
7 https://www.youtube.com/watch?v=OQdCe5vad6Q
6.7. Исходя из электронного строения атомов элементов и закономерностей Пе-
риодической таблицы, напишите молекулярные формулы соединений кислорода со
следующими элементами: кремнием (Si), селеном (Se) (два), стронцием (Sr), бо-
ром (В), скандием Sc.
6.8. После сгорания металлического кальция на воздухе образовался белый по-
рошок массой 5,6 г. Какова была масса металлического кальция, взятого для
опыта?
§6.4 Оксиды
Соединения элементов с кислородом называются оксидами. Не любое кислородсо-
держащее соединение может называться оксидом. Например, КМп04 (уже известная
нам марганцовка) не является оксидом, потому что содержит помимо кислорода
еще два элемента (калий и марганец) . Зато негашеная известь СаО, вода Н20,
углекислый газ С02 являются оксидами.
Оксидом называется сложное вещество, состоящее из атомов двух элементов,
один из которых - кислород.
Поскольку кислород соединяется почти со всеми элементами, существуют оксиды
как металлов, так и неметаллов. Оксиды металлов, подобно СиО, Fe203, СаО -
твердые вещества. Оксиды неметаллов могут быть как твердые (Р2О5) , так и жид-
кие (Н20) и газообразные (как S02 и С02) .
Элементы с переменной валентностью могут образовывать несколько оксидов.
Чтобы их отличать, в названии оксида указывают валентность связанного с ки-
слородом элемента. Нам уже встречались такие названия в предыдущем параграфе.
Приведем еще примеры:
502 - оксид серы (IV)
503 - оксид серы (VI)
Сг203 - оксид хрома (III)
Сг03 - оксид хрома (VI)
Оксиды получают, например, с помощью реакций элементов с кислородом. Реак-
ции горения серы и угля вы уже могли посмотреть в предыдущем параграфе, а ре-
акцию магния с кислородом можно посмотреть8.
S + 02 = S02
С + 02 = С02
2Мд + 02 = 2МдО
Иногда оксиды удобнее получать из других соединений элементов или даже из
других оксидов:
2Н3ВОз = В20з + ЗН20 (при нагревании)
2H2S + 302 = 2S02 + 2Н20
СаС03 = СаО + С02 (при нагревании)
2S02 + 02 = 2S03 (реакция идет с катализатором)
2С0 + 02 = 2С02
https://www.youtube.com/watch?v=nJ6tN51KETA
Многие элементы находятся в природе в виде своих соединений с кислородом,
т.е. оксидов. Руды различных металлов часто являются именно оксидами этих ме-
таллов . Например, железные руды - красный железняк Fe203, магнитный железняк
Fe304 (смесь оксидов FeOxFe203) , бурый железняк - Fe203x2Fe (ОН) 3; алюминиевая
руда боксит - А1203хпН20 и так далее.
Поэтому важнейшим применением оксидов металлов является их восстановление.
Например, в доменной печи происходит восстановление оксидов железа с образо-
ванием металлического железа:
Fe304 + СО = 3Fe0 + С02
FeO + СО = Fe + С02
Химические свойства оксидов далеко не исчерпываются приведенными примерами.
Более подробно с их свойствами мы познакомимся позже.
Некоторые оксиды не растворяются в воде, но многие вступают с водой в реак-
ции соединения:
502 + Н20 = H2S03 (образуется сернистая кислота9)
503 + Н20 = H2S04 (образуется серная кислота)
СаО + Н20 = Са(ОН)2 (получается гидроксид кальция или гашеная известь)
В результате реакций двух других оксидов с водой получаются нужные и полез-
ные соединения - серная кислота H2S04 и гашеная известь10 Са(ОН)2.
Если оксиды нерастворимы в воде, то люди умело используют и это их свойст-
во . Например, оксид цинка ZnO - вещество белого цвета, поэтому используется
для приготовления белой масляной краски (цинковые белила). Поскольку ZnO
практически не растворим в воде, то цинковыми белилами можно красить любые
поверхности, в том числе и те, которые подвергаются воздействию атмосферных
осадков. Нерастворимость и неядовитость позволяют использовать этот оксид при
изготовлении косметических кремов, пудры. Фармацевты делают из него вяжущий и
подсушивающий порошок для наружного применения.
Такими же ценными свойствами обладает оксид титана (IV) - Ti02. Он тоже
имеет красивый белый цвет и применяется для изготовления титановых белил.
Т±02 не растворяется не только в воде, но и в кислотах, поэтому покрытия из
этого оксида особенно устойчивы. Этот оксид добавляют в пластмассу для прида-
ния ей белого цвета. Он входит в состав эмалей для металлической и керамиче-
ской посуды.
Оксид хрома (III) - Сг203 - очень прочные кристаллы темно-зеленого цвета,
не растворимые в воде. Сг203 используют как пигмент (краску) при изготовлении
декоративного зеленого стекла и керамики. Известная многим паста ГОИ (сокра-
щение от наименования "Государственный оптический институт") применяется для
шлифовки и полировки оптики, металлических изделий, в ювелирном деле.
Благодаря нерастворимости и прочности оксида хрома (III) его используют и в
полиграфических красках (например, для окраски денежных купюр). Вообще, окси-
ды многих металлов применяются в качестве пигментов для самых разнообразных
красок, хотя это - далеко не единственное их применение.
Задачи
6.9. Среди перечисленных веществ найдите оксиды: N02, HN02, Fe(OH)3, Fe203,
K2Cr207, Mn207, Si02, CO, C02, PbO, PbS, H20, H2S04, 02.
9 https://www.youtube.com/watch?v=ElQeluOgPLM
10 https://www.youtube.com/watch?v=enOR6DKQMn4
6.10. Свинец получают из руды PbS следующим способом:
PbS + 02 = РЬО + S02
PbS + РЬО = РЬ + S02
Уравняйте эти окислительно-восстановительные реакции. Сколько % руды PbS
следует превращать в оксид свинца, чтобы в итоге получать только металличе-
ский свинец и S02?
6.11. Оксид шестивалентного элемента содержит 48% кислорода по массе. Рас-
считайте атомный вес элемента. Какой это может быть элемент?
6.12. Серную кислоту H2S04 можно получить из серы следующим способом:
S + 02 = S02 (без катализатора)
2S02 + 02 = 2S03 (с катализатором)
S03 + Н20 = H2S04
Какой объем кислорода (при н.у.) потребуется для получения 980 г серной ки-
слоты по этому способу? Сколько для этого потребуется граммов серы?
§6.5 Применение
кислорода
Кислород необходим практически всем живым существам. Дыхание - это окисли-
тельно-восстановительный процесс, где кислород является окислителем. С помо-
щью дыхания живые существа вырабатывают энергию, необходимую для поддержания
жизни. К счастью, атмосфера Земли пока не испытывает заметного недостатка ки-
слорода, но такая опасность может возникнуть в будущем.
Вне земной атмосферы человек вынужден брать с собой запас кислорода. Мы уже
говорили о его применении на подводных лодках. Точно так же полученный искус-
ственно кислород используют для дыхания в любой чуждой среде, где приходится
работать людям: в авиации при полетах на больших высотах, в пилотируемых кос-
мических аппаратах, при восхождении на высокие горные вершины, в экипировке
пожарных, которым часто приходится действовать в задымленной и ядовитой атмо-
сфере и т.д.
Во всех этих устройствах есть источники кислорода для автономного дыхания.
В медицине кислород используют для поддержания жизни больных с затрудненным
дыханием и для лечения некоторых заболеваний. Однако чистым кислородом при
нормальном давлении долго дышать нельзя - это опасно для здоровья.
Но главными потребителями кислорода, конечно, являются энергетика, метал-
лургия и химическая промышленность.
Электрические и тепловые станции, работающие на угле, нефти или природном
газе используют атмосферный кислород для сжигания топлива. Если даже неболь-
шой автомобиль является настоящим "пожирателем" кислорода (как мы выяснили в
предыдущей главе), то гигантские тепловые и электрические станции расходуют
кислорода неизмеримо больше. До сих пор они вырабатывают около 80 % всего
электричества в нашей стране и только остальные 20 % электроэнергии дают гид-
ростанции и атомные станции, не расходующие атмосферного кислорода.
Для металлургической и химической промышленности нужен уже не атмосферный,
а чистый кислород. Ежегодно во всем мире получают свыше 80 млн. тонн кислоро-
да. Для его производства требуется огромное количество электроэнергии, полу-
чение которой, как мы уже знаем, тоже связано с расходованием кислорода.
Чистый кислород расходуется главным образом на получение стали из чугуна и
металлолома.
В химической промышленности кислород используют как реактив-окислитель в
многочисленных синтезах, например, окисления углеводородов в кислородсодержа-
щие соединения (спирты, альдегиды, кислоты), диоксид серы в триоксид серы,
аммиака в оксиды азота в производстве азотной кислоты. Вследствие высоких
температур, развивающихся при окислении, последние описанные реакции часто
проводят в режиме горения.
В машиностроении, в строительстве кислород используют для сварки и резки
металлов. Горючий газ ацетилен, сгорая в токе кислорода, позволяет получить
температуру выше 3000 С! Это приблизительно вдвое больше температуры плавле-
ния железа.
2С2Н2 + 502 = 4С02 + 2Н20 + теплота
Ацетиленовая горелка состоит из двух трубок, вставленных одна в другую. В
одну трубку подается кислород, в другую - ацетилен, после чего смесь газов
поджигается. Таким пламенем можно расплавить металлические детали в месте их
соединения, то есть сварить их между собой.
Немного по-другому осуществляют резку металла. Если сначала сильно разо-
греть металл ацетиленовой горелкой, а затем уменьшить поток ацетилена и уве-
личить поток кислорода, то получается "кислородный резак". Железо, как мы
знаем, горит в кислороде. Поэтому дальнейшее горение поддерживается уже без
участия ацетилена, а струя кислорода прожигает металл, превращая его в оксиды
железа. Сноп искр, вырывающихся из прожигаемого кислородом металла - это рас-
каленные частицы железной окалины.
§6.6 Озон
С озоном вы уже знакомились в главе 1, когда мы рассказывали о составе ат-
мосферного воздуха, в котором озон присутствует в виде незначительной приме-
си. В чистом виде озон Оз - голубой газ с резким запахом (греческое озос -
пахучий). Строение молекулы озона можно изобразить разными способами. Напри-
мер, комбинацией двух крайних (или резонансных) структур. Каждая из таких
структур не существует в реальности (это как бы "чертеж" молекулы), а настоя-
щая молекула представляет собой нечто среднее между двумя резонансными струк-
турами.
+ +
:0 ^0: ^^ :СГ О:
5+
117°
или cr-WTD
Почему бы не предположить, что молекула озона имеет циклическое строение -
в форме равностороннего треугольника? В такой молекуле валентность всех ато-
мов кислорода была бы равна двум, как и во всех остальных его соединениях.
Однако экспериментальные факты не подтверждают эту гипотезу. Во-первых,
структурные исследования показали, что молекула представляет собой не равно-
сторонний, а равнобедренный треугольник, один из углов которого намного боль-
ше 60°. Во-вторых, длина связи кислород-кислород (1,28 А) скорее соответству-
ет кратной, а не простой связи (напомним, что длина простой связи 0-0 в Н202
заметно больше - 1,48 А). В-третьих, молекула озона полярна. Все эти факты
объясняют приведенные в начале параграфа формулы. Так, разделение зарядов "+"
и " —" в резонансных структурах позволяет объяснить полярность молекулы озона
(из-за этого озон намного лучше, чем 02, растворяется в воде). Кроме того,
такое разделение зарядов эквивалентно еще одной химической связи и можно го-
ворить, что у центрального атома кислорода валентность (IV). Аналогичная си-
туация реализуется при образовании молекулы S02, однако у атома серы валент-
ность (IV) появляется благодаря переходу электрона с подуровня Зр на 3d
(вспомните §3.5, где приведены нужные орбитальные диаграммы). Но у кислорода
на 2-м уровне нет d-орбиталей! Как же в этом случае реализуется его четырех-
валентное состояние? Вероятно, благодаря переходу электрона с уровня 2р на 3s
в атоме кислорода. Эти уровни уже значительно отличаются по энергии, поэтому
такой переход должен требовать больших энергетических затрат. Эксперимент го-
ворит о том, что образование озона действительно требует поглощения большого
количества энергии.
Хотя молекулярный кислород и озон составлены из атомов одного и того же
элемента кислорода - это разные вещества. С таким же явлением на примере уг-
лерода мы уже сталкивались в главе 3 (алмаз и графит) . Оно называется алло-
тропией. Графит и алмаз - разные вещества, хотя и тот и другой состоят только
из углерода. Теперь мы наблюдаем такое же явление у кислорода.
Если какой-либо элемент образует два или несколько простых веществ, то та-
кие вещества называются аллотропными модификациями. Само это явление называ-
ется аллотропией.
Итак, озон и молекулярный кислород - две разные аллотропные модификации
элемента кислорода.
В лаборатории озон получают при "тихом" (без искр) электрическом разряде в
стеклянной трубке, через которую пропускается ток кислорода. Такой прибор на-
зывается озонатором. Есть и другие лабораторные способы получения озона.
Кому-то из читателей наверняка знаком классический способ получения перок-
сида водорода Н202 из пероксида бария Ва02 при действии разбавленной серной
кислоты.
Ва02 + H2S04 (разб.) = BaS04| + Н202 (раствор)
Пероксиды - это вещества, содержащие связь 0-0. Интересно, что если взять
не разбавленную, а концентрированную серную кислоту, то реакция идет по дру-
гому пути и образуется озон:
ЗВа02 + 3H2S04 = 3BaS04| + 03| + ЗН20
Озон обладает более сильными окислительными свойствами, чем кислород. На-
пример, озон способен изменить степень окисления йода от -1 до 0, т.е. окис-
лить анион йода до свободного йода. Свободный йод, в свою очередь, легко об-
наружить добавлением крахмала (получается темно-синий йодкрахмальный ком-
плекс) . Этот способ можно использовать для обнаружения озона11.
-10 0-2
2 KI + 03 + Н20 = 12 + 2 КОН + 02
-1 О
2 1 - 2е- = 12
О 0-2
03 + 2е- = 02 + О
https://www.youtube.com/watch?v=0qnpeIeEo8g
Резина быстро разрушается в атмосфере озона, а спирт при соприкосновении с
ним воспламеняется. В чем же причина такой высокой окислительной способности
озона?
Молекула озона относительно устойчива, однако под влиянием катализаторов
(ими может служить целый ряд веществ) она легко разлагается с выделением ато-
марного кислорода - более сильного окислителя, чем молекулярный кислород:
03 = 02 + О
Из-за своей высокой окислительной способности озон довольно токсичен для
живых организмов. Если его содержание в помещении повышается до 10~4 % по
объему (а это совсем мало по сравнению с 21% кислорода в воздухе), то человек
испытывает головную боль и другие признаки химического отравления. В России и
СНГ предельно допустимая разовая концентрация озона составляет 0,08хЮ~4 %, в
Европейском Союзе - 0,09хЮ~4 %, в США - 0,24хЮ~4 % по объему.
С другой стороны, способность озона разлагаться с образованием атомарного
кислорода делает его почти идеальным средством для обеззараживания питьевой
воды. Озон убивает болезнетворные бактерии окислением, частично превращаясь
при этом в молекулярный кислород. Поэтому озонированная вода лучше и вкуснее
хлорированной, которую до сих пор приходится пить жителям многих городов.
Основная масса природного озона образуется в верхних слоях атмосферы из мо-
лекул 02 в результате поглощения "жесткого" (т.е. несущего много энергии)
ультрафиолетового излучения Солнца:
УФ-светп^180нм
3 02 *- 2 03
Земная атмосфера имеет слоистое строение. Основные ее слои - тропосфера и
стратосфера. Тропосфера простирается от уровня моря до высоты 8-17 км (в
зависимости от широты) - здесь сосредоточено примерно 4/5 массы всей атмосфе-
ры. Стратосфера - это безоблачная, сухая, холодная область над тропосферой до
высоты примерно 40 - 50 км. Более 90% озона на нашей планете - это страто-
сферный озон.
Для характеристики содержания озона используют сокращенный темин - 0С0 (об-
щее содержание озона). Количественно 0С0 выражают толщиной слоя озона, кото-
рый получился бы, если бы весь содержащийся в атмосфере озон привести к нор-
мальному давлению при температуре 0 С. В среднем по земному шару она равна 3
мм, но может изменяться от 1 мм (в Антарктиде в период весенней озоновой ано-
малии) до 6 мм (в конце зимы - начале весны над Дальним Востоком). 0С0 изме-
ряют в так называемых единицах Добсона (е.Д.). Приведенная толщина слоя озона
3 мм соответствует 300 е.Д.
Несмотря на то, что в стратосфере озона относительно мало, он играет чрез-
вычайно важную роль в защите живых организмов от губительного ультрафиолето-
вого излучения Солнца. Образование озона - эндотермическая реакция. Она про-
исходит при поглощении энергии опасных для всего живого квантов УФ-света с
длиной волны менее 180 нм (вспомните рис. 2-12 из главы 2, показывающий диа-
пазоны солнечного спектра). Таким образом, озон служит "фильтром" опасного
УФ-излучения. Заметную роль играет озон и в тепловом балансе Земли. Вы уже
знаете, что образование озона - эндотермическая реакция, его разложение - ре-
акция экзотермическая, происходящая с выделением тепла. По разным оценкам от
5 до 8% разогрева земной атмосферы за счет парниковых газов приходится на
превращения озона. Катализаторами разложения озона в стратосфере могут слу-
жить атомарный хлор и другие, самые разнообразные вещества. Много таких ве-
ществ среди промышленных выбросов в атмосферу.
Озон образуется под действием ультрафиолетовых лучей с длиной волны
менее 180 нм. УФ-свет с большей длиной волны (около 320 нм) , наобо-
рот, способствует разложению озона. Поверхности Земли достигают
только те ультрафиолетовые лучи, которые не опасны для живых орга-
низмов. Когда мы загораем на солнце, на нашу кожу падают "мягкие"
ультрафиолетовые лучи, не способные принести вреда здоровью (если
загорать в меру).
Трудно сегодня найти человека, который бы не слышал об "озоновых дырах".
Это явление, называемое учеными озоновой аномалией, заключается в опасном
снижении концентрации озона в стратосфере над тем или иным районом планеты.
Наиболее широко известна "озоновая дыра" над Антарктидой. Когда после долгой
полярной ночи в высоких широтах Южного полушария наступает весна (это период
с августа по декабрь), над обширным районом Антарктиды площадью более 10 млн.
км2 из года в год наблюдается снижение ОСО до 220, а иногда даже до 80 е.Д.
При этом на высоте 15-20 км наблюдается локальный минимум содержания озона,
что говорит о наличии здесь мощного источника его разрушения. Одновременно с
появлением озоновой аномалии в нижней стратосфере фиксируются очень низкие
температуры (ниже -78 С) и появление полярных стратосферных облаков. По мне-
нию ряда ученых, на поверхности этих облаков происходят фотохимические реак-
ции, разрушающие озон, а катализаторами разрушения выступают хлор- и фторсо-
держащие вещества, попадающие сюда с других континентов.
В Северном полушарии в осенне-зимний период тоже иногда образуются "неболь-
шие" озоновые дыры с ОСО меньше 220 е.Д. и площадью до 2 млн. км2. Они обычно
зарождаются над Северной Атлантикой и "живут" не больше недели. Всемирная ме-
теорологическая организация (World Meteorogical Organization) с помощью спут-
ников постоянно следит за состоянием озонового слоя нашей планеты. На сайте
Центра озонного картирования (Ozone Mapping Centre12) ежедневно обновляется
информация о состоянии озонового слоя. Рядом с картой распределения озона
приводится цветная шкала в единицах Добсона (е.Д.), с которыми вы уже знако-
мы.
Total Ozone (D.U.) for 21 March 2012
и
... ,
\
*
/*•'-'
/ «• ■"
. • .^»
#:'
t
V-
ллН^^Вк
■*^>
Л
^A
«JUT*
■..■•£ч0;
(L
%1^.-..*-
^ t>
•if
У
"
i
I
* >
/J
600
|550
|soo
450
400
350
300
250
£200
100
WMO GOME-2 Daly Ozone Maps LAP-AUTH-GR 2012
Ряд исследователей считает, что возникновение озоновых дыр связано не
столько с загрязнением атмосферы хлор- и фторуглеводородами, сколько с осо-
бенностями атмосферной циркуляции в различных районах Земли. Вопрос пока ос-
тается открытым. Впрочем, снижение промышленного загрязнения атмосферы в лю-
бом случае пошло бы на пользу климату и биосфере нашей планеты.
Вполне вероятно, что проблема промышленных выбросов в атмосферу - это не
только проблема загрязнения поверхности Земли вредными веществами, но еще и
проблема "загрязнения" солнечного спектра жестким, вредным для человека ульт-
рафиолетовым излучением в результате частичного разрушения озонового слоя.
Но не стоит и преувеличивать опасность: полное исчезновение озона не грозит
атмосфере до тех пор, пока в ней есть кислород и пока светит Солнце.
Задачи
6.13. Напишите уравнение химической реакции, происходящей при работе "ки-
слородного резака" при выключенном токе ацетилена.
6.14. Ученика вызвали к доске и спросили, у какого газа плотность в граммах
на литр больше - у кислорода или азота? Ученик посмотрел в Периодическую таб-
лицу и уверенно дал правильный ответ. Как он рассуждал?
6.15. Какова плотность кислорода Ог (г/л) при нормальных условиях?
6.16. Какова массовая доля кислорода в белом песке Si02?
6.17. Для приготовления газированных напитков углекислый газ - он же оксид
углерода (IV) - растворяют в воде под давлением. При этом часть оксида угле-
рода вступает в реакцию соединения с водой. Напишите формулу образующегося
вещества.
6.18. Напишите уравнение реакции разложения медной руды - азурита СизС2Н208,
зная, что при этом получаются только уже известные вам оксиды.
6.19. Брезент или шерстяное одеяло при желании можно легко сжечь в костре.
Почему же огонь часто удается погасить, накрыв горящий предмет брезентом или
одеялом?
http://lap.physics.auth.gr/ozonemaps2/
6.21. Укажите максимально возможное число способов получения кислорода
(уравнения реакций с указанием условий проведения).
6.22. Ниже приведены соображения, с которыми можно согласиться и не согла-
ситься. Предскажите развитие событий на планете Земля и во Вселенной на бли-
жайший миллиард лет, если "геологический смысл жизни" человека заключается:
■ в создании цивилизации суперкомпьютеров, для которых люди будут примерно
тем же, чем для нас являются сине-зеленые водоросли или кишечные бактерии,
помогающие усваивать пищу и сохраняющие здоровье;
■ в повышении на поверхности Земли радиационного фона до уровня, необходимо-
го для появления и существования каких-то новых, пока неизвестных нам форм
жизни;
■ в том, чтобы служить носителем разумной материи, с помощью которой Вселен-
ная пытается разобраться в собственном устройстве и даже что-то меняет в
нем;
■ в том, чтобы увеличить мощь живых организмов во Вселенной путем вовлечения
в состав живой и мыслящей материи химических соединений на основе не толь-
ко углерода, но и других элементов Периодической системы;
■ в совершенствовании интеллекта до таких пределов, при которых живая мате-
рия становится практически неуничтожимой (сумеет ответить на вызов любых
разрушительных сил Космоса);
■ в том, чтобы (предложите свой вариант).
(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)
Химичка
БРИЗАНТНЫЕ ВВ. СПРАВОЧНИК
ПРОИЗВОДНЫЕ ИМИДАЗОЛА,
ПИРАЗИНА И ПИРИДИНА
Указанные производные начали рассматриваться в качестве потенциальных ВВ
сравнительно недавно (80-ые годы 20 В) . Сочетают разнообразие свойств, неко-
торые представляют значительный интерес, сочетая выгодную комбинацию мощно-
сти, чувствительности и термостойкости.
2,4-динитроимидазол, DNI-24
Физико-химические свойства
Бесцветный аморфный или кристаллический порошок, нерастворимый в воде.
0?N-
Н
>Ю2
Восприимчивость к нагреванию и внешним воздействиям
t пл. 264-267 С. Термостоек и малочувствителен к мех. воздействиям (105 см
для 2.5 кг груза - кристаллизованный, тротил - 160 см), но очень восприимчив
к детонации.
Энергетические характеристики
По мощности на 10-15% уступает гексогену. Скорость детонации 8130 м/с при
1.76 г/см3 (по другим данным 7951 м/с) .
Применение
Впервые был получен в начале 70-х в СССР и предложен в качестве лекарствен-
ного препарата. С начала 90-х в США. рассматривается как малочувствительная
альтернатива термостойким композициям и как компонент порохов.
Получение
Получение в лаборатории:
Сначала получают 4-нитроимидазол обработкой имидазола смесью 70% азотной и
конц. серной кислоты. 88 г 4-нитроимидазола растворили в 240 мл ледяной ук-
сусной к-ты, добавили 120 мл уксусного ангидрида и 80 мл 98% НЫОз при непре-
рывном помешивании в теч. 1 часа, затем смесь периодич. перемешивалась 3 ч.
при комн. температуре. Золотистый раствор выливают в лед и перемешивают, кри-
сталлы отфильтровывают, после сушки получают ок. 85 г 1,4-динитроимидазола (t
пл. 92 С, менее стабилен, и более чувств, чем DNI-24). Кристаллы медленно на-
гревают до 95-98 С в теч. 25 мин, затем охлаждают. Полученный аморфный поро-
шок 2,4-динитроимидазола можно перекристаллизовать из горячего ацетонитрила.
Литература
1. R.L.Simpson and others. A new insensitive explosive that has moderate
performance and is low cost: 2,4-dinitroimidazole LLNL, Livermore, CA
UCRL-ID-119675 1995.
2. Патент US5387297
Аммониевая соль 2,4,5-тринитроимидазола
Физико-химические свойства
Бесцветные призматические кристаллы. Плотность 1.835 г/см3.
®NH4
,N02
OoN-
%
^—\
N02
Восприимчивость к нагреванию и внешним воздействиям
t пл. ок 248 С, термически стабилен до t пл. Чувствительность к удару для
груза 2,5 кг (12tool) - 50 см (тротил - 160 см).
Энергетические характеристики
Теплота образования -86.02 кДж/моль. Расчетная скорость детонации и давле-
ние на фронте детонационной волны соотв. 8560 м/с и 33 ГПа.
Применение
Предложен как малочувствительное ВВ в США.
Получение
Получают взаимодействием эфирного р-ра тринитроимидазола с безводным аммиа-
ком при 0 С (соли тринитроимидазола и щелочных металлов, также взрывчаты, но
имеют склонность к перепрессовке). Тринитроимидазол в свою очередь получают
нитрованием 2,4-динитроимидазола нитрующей смесью.
1-метил-2 г 4 г 5-тринитроимидазол, MTNI
Физико-химические свойства
Желтое кристаллическое вещество, растворимое в спирте. Плотность 1.768
г/см3.
О
О
О
О
Восприимчивость к нагреванию и внешним воздействиям
t пл. 82 С. Чувствительность к удару 14.6 Дж (Тротил - 47 Дж, Гексоген -
7.4 Дж, композиция В - 19.8 Дж) . По другим данным чувствительность 70 см
(Тротил - 65 см, гексоген - 25 см) .
Энергетические характеристики
По мощности аналогичен гексогену. Расчетная теплота образования +40.7
ккал/моль.
Применение
Перспективное ВВ, предложенное как плавкая основа для малочувствительных
литьевых смесей.
Получение
Получается обработкой калиевой соли тринитроимидазола диазометаном или ди-
метилсульфатом.
Литература
1. Jin Rai Cho etc, A Candidate of New Insensitive High Explosive; MTNI.
Proc. of Insensitive Munitions & Energetic Materials Technology Symposium
2000. Texas.
2. Патенты: US7304164, US4028154.
2 ,5-диамино-З ,6-динитропиразин, ANPZ-i
Физико-химические свойства
Темно-желтое крист. в-во. Раств. в метаноле и ацетонитриле. Восприимчивость
к нагреванию и внешним воздействиям: t пл. ок. 288 С с разл.
02N N.
H2N N
,NH2
NO.
Энергетические характеристики
Расчетная скорость детонации и давление на фронте детонационной волны со-
отв. 8630 м/с и 34,9 ГПа. при плотности 1.88 г/см3.
Применение
Предложен как малочувствительное ВВ.
Получение
Получение включает алкилирование пиперазин-2,5-диона с помощью триэтилоксо-
ния тетрафторобората в дихлорметане, ароматизацию до 2,5-диэтоксипиразина,
нитрование тетрафтороборатом нитрония в сульфолане и аминирование 2,5-
диэтокси-3,6-динитропиразина аммиаком в метаноле.
2,6-диамино-З,5-динитропиразин, ANPZ
Физико-химические свойства
Плотн. 1.84 г/см .
О
N
+ уУ
N"
N
^ \
Л\^
N
^v +
VN
О
н
о
о
Восприимчивость к нагреванию и внешним воздействиям
t разл. 357 С.
Энергетические характеристики
Расчетная скорость детонации 8560 м/с.
Применение
Предложен как малочувствительное ВВ.
Получение
Получают взаимодействием 2,6-дихлорпиразина с метоксидом натрия, затем про-
водят нитрование нитрующей смесью диметоксипиразина до 2,6-диметокси-З,5-
динитропиразина (DMDP), и взаимодействие DMDP с аммиаком в ацетонитриле. Вы-
ход 80% в пересчете на 2,6-дихлорпиразин. Также получают из 2-метокси 6-
хлорпиразина с суммарным выходом 52-75%.
2 ,6-диамино-З,5-динитропиразин-1-оксид,
LLM-105, PZO, И-2, N-оксид
Физико-химические свойства
Желтые кристаллы, растворим в ДМСО, плохо растворим в других растворителях.
Плотность 1.913 г/см3 .
О
02N N N02
Восприимчивость к нагреванию и внешним воздействиям
t разл. 347 С. Чувствительность к удару 117 см для 2.5 кг (гексоген - 30-32
см) .
Энергетические характеристики
Теплота взрыва 4.92 МДж/кг. Скорость детонации 8390 м/с при 1.84 г/см3.
Скорость детонации смеси 95% LLM-105 и 5% Viton A 7980 м/с при 1.77 г/см3.
Применение
Впервые был получен в 1985 г. в СССР. Предложен в США. и Англии в качестве
малочувствительного термостойкого ВВ для снаряжения специальных боеприпасов.
Получение
Может быть получен окислением 2,6-диамино-З,5-динитропиразина перекисью во-
дорода в трифторуксусной к-те.
Литература:
1. J. L Cutting and others, A small-scale screening test for he performance:
application to the new explosive LLM-105, in Proc. 11th Symp. (Int.) on
Detonation, 1998.
2.R. K. Weese, A. K. Burnham, H. C. Turner, T. D.Tran Physical
Characterization of RX-55-AE-5 a Formulation of 97.5 % 2,6-Diamino-3,5-
Dinitropyrazine-1-Oxide (LLM-105) and 2.5% Viton A in Proc. North American
Thermal Analysis Society 33rd Annual conference. Universal City, CA, 2005.
3. Simon P. Philbin and Ross W. Millar Preparation of 2,5-Diamino-3,6-
Dinitropyrazine (ANPZ-i): A Novel Candidate High Energy Insensitive
Explosive. Propellants, Explosives, Pyrotechnics 25, 302-306 (2000)
4. Ross W. Millar*, Simon P. Philbin, Robert P. Claridge and Javid Hamid.
Studies of Novel Heterocyclic Insensitive High Explosive Compounds:
Pyridines, Pyrimidines, Pyrazines and Their Bicyclic Analogues.
Propellants, Explosives, Pyrotechnics 29 (2004), No. 2
5. SU1703645
2,4,6-Тринитропиридин, TNPy
Физико-химические свойства
Желтые кристаллы. Плотность 1.77 г/см3.
N02
02N N N02
Восприимчивость к нагреванию и внешним воздействиям
t пл. 162 С с последующей возгонкой. Чувствительность к удару 4.5-6.5 Нм
(тротил 15 Нм), к трению малочувствителен.
Энергетические характеристики
Теплота образования +437.9 кДж/кг, энтальпия образования +368.5 кДж/кг. Те-
плота взрыва 4.42 МДж/кг (вода - жидкость). Объем продуктов взрыва 818 л/кг.
Скорость детонации 7470 м/с при плотн. 1.66 г/см3.
Применение
Впервые был описан Л. И. Багалом в 1969 г. Практического применения по-
видимому не найдет, из-за существования более дешевых аналогов и склонности к
гидролизу.
Получение
Получают восстановлением тринитропиридин-Ы-оксида нитритом натрия в серной
кислоте.
Литература
1. Rudolf Meyer «Explosives», Fifth Edition. Wiley-VCH Verlag GmbH.
(Electronic) 2002 p358
2 . H.H.Licht and H.Ritter. 2,4,6-trinitropyridine and related compounds,
synthesis and characterization. Propellants, Explosives, Pyrotechnics 13,
25-29 (1988)
ПРОИЗВОДНЫЕ
ТРИА30ЛА
Как и предыдущий класс веществ, производные 1,2,4-триазола начали рассмат-
риваться в качестве потенциальных ВВ сравнительно недавно (70-80-ые годы 20
В) в связи с развитием концепции боеприпасов пониженной уязвимости. Достаточ-
но интересный класс ВВ с разнообразными свойствами. Нитротриазолон произво-
дится во Франции, Великобритании и США. в значительных количествах, З-амино-5-
нитро-1,2,4 триазол нарабатывается на полупромышленных установках, его пред-
полагается использовать вместо освоенного ТАТБ.
5-оксо-3-нитро-1,2,4-триазол, нитротриазолон,
оксонитротриазол, NTO, НТО
Физико-химические свойства
Бесцветное кристаллическое вещество. Известен в 2-х полиморфных формах - а
и р. р-форма (плотность 1.88 г/см3) при хранении медленно превращается в а
(плотн. 1.93 г/см3) . а - форма получается при медленном охлаждении горячего
р-ра нитротриазолона в разл. растворителях, р-форма получается при перекри-
сталлизации из метанола или из системы.
Умеренно растворим в спирте, ацетоне (1,68 г/100 г при 19 С), ДМСО, ДМФА,
диоксане и др. Плохо растворим в хол. воде (1,28 г/100 г при 19 С, ок. 10
г/100 г при 100 С). При растворении в воде образует желтый р-р. Нерастворим в
дихлорметане. Хим. стабилен, с металлами и щелочами образует соли (соли неко-
торых металлов или аминов нашли применение в газогенерирующих пиросоставах).
Серебряная соль довольно чувствительна к удару. Нетоксичен. Критический диа-
метр детонации при плотности 1.87 г/см3 - ок 25 мм.
Т>=0
Восприимчивость к нагреванию и внешним воздействиям
Термостоек (потеря газа за 48 ч: при 120 С - 0.3 см3/г) . Однако легко вос-
пламеняется. Температура начала разлож. 224 С. Плавится при 269 С с разложе-
нием. Практически нечувствителен к удару - ок. 290 см (для гексогена 22-41
см, тротил - 148 см) менее чувств, к трению чем тротил, малочувств. к искре.
По другим данным чувствительность к удару Н5о = 92 см для груза 2 кг (тротил
- 80 см) .
Энергетические характеристики
Скорость детонации 7770 м/с при плотн. 1.69 г/см3 (заряд - медная трубка
диаметром 4 мм), 8200 м/с при 1.87 г/см3 (заряд диаметром 41 мм). Теплота
взрыва 3.49 мДж/кг. По метательному действию аналогичен ТАТБ и слегка превос-
ходит тротил. Теплота образования -14.3 ккал/моль. Энтальпия образования -
185.1 ккал/кг.
Применение
Впервые был получен в 1905 г. (Manchot), однако интерес как к малочувстви-
тельному ВВ был проявлен лишь в середине 80-х годов 20 века во Франции. К
2000 г. мировое пр-во насчитывало неск. тыс. тонн в год. Отличается легкой
перерабатываемостью и способностью прессоваться до высоких плотностей, даже
без флегматизаторов. В последнее время используется для флегматизации октоге-
на и гексогена в малочувствительных ВВ, а также с полимерами и, в некоторых
случаях, для замены ТАТБ в авиабомбах. Предложен как компонент газогенерирую-
щих составов и бездымных порохов с пониженным разгарно-эррозионным действием
- вместо нитрогуанидина (с нитроглицерином и нитроцеллюлозой) напр. состоящий
из 30%нитроглицерина, 28%нитроцеллюлозы, 40% нитротриазолона, 2% 2-нитродифе-
ниламина (стабилизатор).
Прессованная смесь из 95% и 5% полиглицидилнитрата имеет скорость детонации
7638 м/с при плотн. 1.722 г/см3, 7972 м/с при 1.847 г/см3 (заряд диаметром 1
дюйм) .
Литьевая смесь нитротриазолон/тротил - 50/50 имеет скорость детонации 7340
м/с при 1.73 г/см3. Крит, диаметр - 16 мм.
Аммониевая соль нитротриазолона способна образовывать легкоплавкие эвтекти-
ки с нитратом аммония, что может быть использовано для получения дешевых
литьевых ВВ.
Получение
1. Получение в лаборатории:
115 мл 85% муравьиной кислоты поместили в 500 мл колбу, снабженную обратным
холодильником, мешалкой и термометром. Кислоту нагревают до 70-75 С и добав-
ляют небольшими порциями 115.5 г семикарбазида гидрохлорида. Когда прекратит-
ся выделение хлороводорода смесь нагревают до 85-90 С и выдерживают 6-8 ч.
После охлаждения, смесь выпаривают досуха, добавляют 200 мл воды и опять вы-
паривают досуха. Операцию повторяют, заливают 140 мл воды, доводят до кипения
и охлаждают до 10 С. Выход триазолона 80% t пл. 234 С.
Кристаллы небольшими порциями засыпают в 250 мл 70% HN03 (молярное соотн.
1:4-1:8). При нитровании происходит выделение тепла и окислов азота. Темпера-
туру необходимо поддерживать 55-60 С (максимально до 75 С) . После окончания
реакции смесь охлаждается до 5 С, продукт отфильтровывался и отмывался водой
со льдом. Перекристаллизовывался из горячей воды. Для получения округлых кри-
сталлов можно перекристаллизовать из спирта или ДМСО. (выход НТО 83-90%, сум-
марный - около 65%).
2. Существует также метод без выделения триазолона:
К 34.5 мл 88% муравьиной кислоты добавили 33.45 г семикарбазида гидрохлори-
да1 при комнатной температуре. Затем смесь нагрели до 65 С при помешивании.
После завершения реакции образования триазолона гидрохлорида, прилили смесь
100 мл конц. HN03 и 20 мл H2S04 и поддерживая температуру 65 С продержали 1.5-
2 ч. Затем смесь охладили, кристаллы промыли холодной водой и перекристалли-
зовали из кипящей воды. Выход 77%.
Нитротриазолон кристаллизуется из воды в виде больших игольчатых кристал-
лов , склонных к обр. агломератов, что затрудняет их использование в литьевых
смесях. Для получения сферических кристаллов также можно провести кристалли-
зацию из горячего спирта, соблюдая опр. режим охлаждения. В промышленности
НТО перекристаллизовывают из ДМСО.
Литература
1. Rudolf Meyer «Explosives», Fifth Edition. Wiley-VCH Verlag GmbH.
(Electronic) 2002 p236
2. Энергетические конденсированные системы. Краткий энциклопедический сло-
варь/ Под Ред. Б.П.Жукова. Изд 2-е исправл - М. Янус К. 2000 с. 316.
3. Matthew W. Smith and Matthew D. Cliff. NTO-Based Explosive Formulations: A
Technology Review. DSTO-TR-0796. 1999.
4 . M. С.Певзнер. Производные 1,2,4-триазола - высокоэнергетические соединения.
Российский химический журнал. Том XLI (1997). №2. с 73.
5. Патенты: RU2287526, US4733610, US 5034072, Н861, US4894462, Н719,
US4999434, US5112983, Н990, US5039816.
1,1'-динитро-3,3'-аза-1,2,4-триазол
Физико-химические свойства
Плотность 1.77 г/см .
Восприимчивость к нагреванию и внешним воздействиям
t разл. 130 С без плавления. Теплота образования +94.4 ккал/моль.
Применение
1 Можно использовать также сам семикарбазид или гидразоформамид (семикарбазид и гид-
разоформамид могут быть получены реакцией мочевины с гидразином или его солями). Для
облегчения реакции, и возможности использовать менее концентрированную муравьиную к-
ту, процесс осуществляют в присутствии катализатора циклизации (алкилсульфоновых к-т
или алкилсульфонатов).
Предложен в качестве компонента газогенерирующих композиций и беспламенных
ракетных топлив.
Получение
Получают окислением избытком перманганата калия З-амино-1,2,4 триазола в
щел. среде, затем 3,3'-аза-1,2,4-триазол отделяют и нитруют смесью уксусного
ангидрида и конц. HN03 .
Получение в лаборатории:
10.6 г перманганата калия добавляли постепенно к раствору З-амино-1,2,4-
триазола в 2Н растворе гидроокиси натрия. После растворения смесь нагрели до
60 С и добавили еще перманганата пока зеленый цвет не начал меняться. Избыток
перманганата восстановили при помощи бисульфита натрия. Добавили соляной ки-
слоты и отфильтровали желтоватый осадок. Осадок промыли водой и ацетоном. Вы-
сушили под вакуумом.
Полученный 3,3'-аза-1,2,4-триазол в количестве 0.6 г медленно добавляли к
смеси 2.1 мл 100% азотной кислоты и 4.7 мл уксусного ангидрида при 0 С. После
перемешивания в течение 1 ч. при 6 С, реакционную смесь вылили в ледяную воду
и оставили на 12 часов при 0 С. Осадок промыли водой и перекристаллизовали из
ацетона. Выход около 40%.
Аммониевая соль 3,5-динитро-1,2,4-триазола, ADNT
Физико-химические свойства
Бесцв. крист, раств в воде (28 г/100 мл). Гигроскопичен, при отн. влажности
более 35% поглощает влагу из воздуха с обр. дигидрата. Плотность 1.632 г/см3.
N—N
л к.
02N^\M/^N02
G ©
NH4
Восприимчивость к нагреванию и внешним воздействиям
t пл. 170 С с выделением аммиака. Чувств. 59 см при 2.5 кг грузе.
Энергетические характеристики
Давление на фронте дет. волны 26.2 ГПа.
Применение
Предложен в США. для использования в литьевых эвтектических смесях с нитра-
том аммония. Показана целесообразность применения в боеприпасах в т.ч. как
литьевая основа с другими ВВ (гексоген, нитрогуанидин и т.п.). Литьевые смеси
с мол. соотн. 2:1 (AN: ADNT) и 1.38:1 (эвтектика t пл. 112 С) имеют соотв.
25.2 и 27.3 ГПа при 1.59 г/см3 и 1.63 г/см3 соотв. Чувствительность 65 см при
2.5 кг грузе.
Получение
Получают аммонолизом 3,5 динитро-1,2,4-триазола.
Получение в лаборатории:
Раствор 30 г (0.3 моль) 3,5-диамино-1,2,4 триазола в 1100 мл 0.68М (1.5
моль Н+) серной кислоты при 0 С (спирто-ледяная баня) добавляли по каплям в
течение 3 часов в раствор 200 г (2.9 моль) нитрита натрия в 200 мл воды. По
окончании добавления смесь нагрели до 60 С и выдержали в течение часа, пока
не растворится осадок. После чего смесь охладили до 0 С и подкислили 6М сер-
ной кислоты (100 мл, 1.2 моль Н+) для разложения нитрита. К смеси медленно
прибавили 15 г мочевины. Смесь отфильтровали, УФ спектроскопия фильтрата по-
казала выход 3,5 динитро-1,2,4 триазола 90%. Для выделения 3,5 динитро -
1,2,4-триазола в виде аммониевой соли в раствор добавляют нерастворимые в во-
де вторичные и третичные амины, образующие с динитротриазолом соли раствори-
мые в толуоле. 20% толуоловый раствор этих солей насыщают аммиаком, в резуль-
тате чего АДНТ выпадает в осадок. АДНТ перекристаллизовывают из смеси этил-
ацетата и ацетона (90/10 по объему). АДНТ также может быть экстрагирован эти-
ловым эфиром в лаборатории, но из-за взрывоопасности применение эфира непри-
емлемо в пром-ти.
3,5-динитро-1,2,4-триазол
Желтое гигроскопичное кристаллич. вещество. Хорошо растворим в воде, ацето-
не и т.п. Сильная кислота, с металлами, щелочами, некоторыми орг. в-вами об-
разует чувствительные соли. Малочувствителен к мех. воздействиям. t пл. ок.
255 С. Получают окислительным нитрованием 3,5-диамино-1,2,4 триазола (гуана-
зол - исп. как гербицид) избытком нитрита натрия в разб. H2S04. Другой метод
основан на реакции Зандмейера: нитровании через стадию образования диазосое-
динений.
Получение 3,5-динитро-1,2,4-триазола без использования конц. кислот:
150 г нитрата меди тригидрата растворили в 900 мл 40% р-ра нитрита натрия,
смесь нагрели при помешивании до 90 С и добавили 30 г гуаназола, смесь выдер-
живали в течение часа, затем подкислили конц. азотной к-той, охладили, при
перемешивании добавили 300 мл эфира и подождали до разделения слоев, эфир
слили и выпарили, процедуру повторили трижды.
Некоторые производные 3,5 динитро -1,2,4-триазола взрывчаты, и применяются
как ВВ, например:
1-метил-3,5-динитро-1,2,4-триазол
Бесцв. крист. нераств. в воде. Термоустойчив, может перерабатываться лить-
ем, t пл. ок. 98 С. По мощности аналогичен тетрилу, но по чувствительности
близок к тротилу (155 см для груза 2.5 кг - 50%, тротил - 160 см). Плотность
1.68г/см3. Предложен для использования в детонаторах вместо тетрила и в лить-
евых смесях.
N—N
л l
02N^N-^N02
I
СН3
1-(2-нитроэтил)- 3,5 динитро -1,2,4-триазол
Плотность 1.76 г/см3. Получают взаимодействием динитротриазола с нитроэти-
леном при комнатной температуре.
Литература
1. Т.П. Кофман. 5-амино-3-нитро-1,2,4-триазол и его производные. ЖорХ. 2002,
Т.38. Вып.9. с.1289
2. Mary M. Stinecipher. Eutectic composite explosives containing ammonium
nitrate LLNL, Livermore, CA LA-UR-81-917
3. R.L.Simpson and others. Synthesis, properties and perfomance of the high
explosive ANTA. Propellants, Explosives, Pyrotechnics 19, 174-179 (1994)
4. Патенты: US5110380, US4236014, US4628103, US3111524, US3054800
3-амино-5-нитро-1,2,4 триазол. ANTA
Физико-химические свойства
Лимонно-желтые. крист., слегка раств. в воде. Плотность 1.819 г/см3.
N—N
л \^
H2N^\N/^N02
Н
Восприимчивость к нагреванию и внешним воздействиям
t пл. 238 С с раз л. Термоустойчив до t пл. Стабильность в вакууме 0.3 мл
газа с 1 г вещества за 48 ч при 120 С. К удару практически невосприимчив (как
ТАТВ) .
Энергетические характеристики
Теплота образования 21 ккал/кг, по др. данным 61 ккал/моль. Скорость дето-
нации и давление на фронте дет. волны (вычисленные для кристаллич. плотности)
8460 м/с и 31.4 Гпа. На 7% менее эффективен, чем ТАТВ.
Применение
Впервые был синтезирован в СССР в 1979 г. Предложен в США в качестве деше-
вой альтернативы ТАТВ.
Получение
Может быть получен восстановлением ADNT с помощью гидразин-гидрата.
Получение в лаборатории:
1.45 г (0.0082 моля) аммониевой соли 3,5 динитро-1,2,4 триазола прибавили к
0.0385 молям гидразин-гидрата при комнатной температуре. Смесь перемешивали
10 мин, после чего нагрели до 78-80 С и выдержали при этой температуре 1.5
часа. К смеси добавили воды, рН уменьшили до 4 добавлением ~ 30 мл 10% соля-
ной кислоты. Осадок отфильтровали и высушили. Выход 0.99 г (94%).
(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)
Химичка
НЕКОТОРЫЕ РЕАГЕНТЫ И РАСТВОРИТЕЛИ
Иванов Л.
РАСТВОРИТЕЛИ
Приводится ряд доступных в бытовом отношении растворителей, которые могут
быть использованы. Выбор доступных растворителей этим рядом не ограничивает-
ся. Более того, некоторые растворители, например, ацетон, хлороформ, этилаце-
тат или диэтиловыи эфир могут быть изготовлены самостоятельно. Здесь на ас-
пектах их синтеза мы останавливаться не будем.
Метанол
Или метиловый спирт. При работе с метанолом следует помнить: метанол яд!
Пары метанола ядовиты!
Работать с метанолом в бытовых условиях следует лишь в крайнем случае - при
отсутствии адекватной альтернативы.
Доступным бытовым источником метанола является топливо для радиоуправляемых
моделей с калильными ДВС. Для получения метанола следует использовать топливо
без добавки нитрометана (топливо с добавкой нитрометана также представляет
весьма и весьма сильный интерес).
Использовалось топливо с формальным составом: 20% касторового масла, 80%
метанола.
В круглодонную колбу емкостью 1 л помещалось 574 г (около 700 мл) топлива.
Добавлялись кипятильники и смесь перегонялась при нагреве на водяной бане.
Фракция, кипящая до 64 С (объемом 25 мл) , была отброшена. При неторопливой
отгонке, не допуская перегрева паров для корректного контроля температуры от-
гонки, собиралась основная фракция 64-66 С (в основном 64 С с повышением до
66 С в конце). Объем фракции 480 мл.
Этанол
Или этиловый спирт. Наиболее часто используемый растворитель. Оптимален для
экстракции пиперина из черного перца. Используется при гидролизе пиперина.
Используется при выделении метиламин гидрохлорида и для очистки нитростире-
нов. Ключевой реактив в синтезе нитроэтана. Может заменять изопропанол в ре-
акциях восстановления на амальгамированном алюминии. Да и вообще, замечатель-
ное средство для мытья рук и лабораторной посуды.
Оптимально купить этанол в виде питьевого спирта или антисептического 95%-
го раствора где-нибудь на просторах интернета, причем сразу литров десять.
Если этанола нужно мало или если купить оптом не получается, можно получить
его, например, из водки. Проще всего перегнать водку на хорошей колонке. Если
делать качественный ректификационный аппарат не хочется, можно отделить избы-
ток воды из водки с помощью поташа. При этом в моем случае получался спирт с
концентрацией 94vv% (объемных процентов), что вполне достаточно для многих
целей. Для уменьшения расхода осушителя процедуру следует разбить на несколь-
ко стадий. Для измерения крепости спирта следует приобрести спиртовой арео-
метр.
Для тестового эксперимента использовался образец самой дешевой водки, на
момент покупки представленной в соответствующем магазине. Согласно наклейке
на бутылке объем 500 мл, крепость 40°. Измерение массы нетто показало величи-
ну 471 г. Объем немного меньше 500 мл. Концентрация несколько меньше 40vv%.
К содержимому бутылки добавлялось 150 г К2СОз. Смесь перемешивалась и от-
стаивалась до полного растворения твердого вещества и разделения смеси на две
фазы. Верхний слой отделялся. Его масса 209.7 г, объем 242 мл, концентрация в
нем спирта 77vv%. К нему добавлялось 60 г К2СОз. Процедура разделения фаз по-
вторялась. Снова отделялся верхний слой. Его масса 154.3 г, объем 189 мл,
концентрация спирта 94vv%. Полученный спирт дополнительно сушился 10 г К2СОз
в течение 12 часов, причем осушитель остался твердым. Далее производилась пе-
регонка из колбы объемом 250 мл на водяной бане, собиралась фракции в диапа-
зоне 77.5-78 С. Остаток в исходной колбе - несколько миллилитров.
Масса полученного спирта 140.2 г, объем 170 мл, концентрация 94vv% (выход
85%) .
Использованный К2С03 регенерировался упариванием из растворов в эмалирован-
ной посуде до рассыпчатого состояния и затем сушкой остатка при 300 С.
Изопропанол
Или изопропиловый спирт (в прописях используется сокращение "ИПС"). Изопро-
пиловый спирт рассматривается как один из растворителей пригодных для экс-
тракции пиперина из черного перца. Однако основное его использование
растворитель в реакциях восстановления на амальгамированном алюминии, где в
случае необходимости он может быть заменен на этанол.
Изопропанол - доступный в бытовом отношении растворитель. Продается в
строительных и некоторых других специализированных нехимических магазинах.
Часто чистота продаваемого спирта соответствует спецификации на этикетке, но
в отдельных случаях качество спирта может оказаться значительно ниже заявлен-
ного . Так, например, в качестве одного из пробных экземпляров я приобрел
"Очиститель универсальный. Спирт изопропиловый абсолютированный" в виде пла-
стикового флакона емкостью 100 мл. "Абсолютированный" - обозначает, в частно-
сти, отсутствие воды. Данный экземпляр оказался содержащим воду в количестве,
вероятно, близкому к соответствующему азеотропу (азеотроп изопропанол-вода
содержит 12.6% воды и кипит при 80.3 С/760 мм.рт.ст [1]). Практически все со-
держимое флакона выкипало при 80 С и при добавлении карбоната калия высажива-
лась тяжелая жидкая фаза.
Очистка от воды осуществлялась, как и в случае с этанолом, с помощью К2С03.
84 г "Спирта изопропилового абсолютированного" смешивалось с 10 г свежепро-
каленного К2С03. Смесь перемешивалась и недолго отстаивалась. Осадок карбона-
та превратился в белую полужидкую массу. Спирт декантировался. Его масса со-
ставила 77.4 г. Добавлялось еще 10 г К2С03. Смесь перемешивалась и оставля-
лась на 24 часа. Осадок снова превратился в белую полужидкую, но более твер-
дую, чем в прошлый раз, массу. Спирт декантировался, масса 74 г. Эта процеду-
ра повторялась еще раз. После нее осадок поташа остался рассыпчатым. Смесь
фильтровалась. Масса фильтрата 66.5 г.
Температура кипения полученного спирта все еще была на 0.5 С ниже ожи-
даемой1 .
К полученному спирту добавлялось 7.0 г NaOH. Смесь оставлялась на отстаива-
ние на 30 часов. Гранулы NaOH разбухли, занимая весь объем жидкости. Смесь
перемешивалась, отфильтровывалась на фильтре Шотта с отжимом. Фильтрат весил
42.3 г. Жидкость перегонялась. Предгон отбрасывался и собиралась фракция, ки-
пящая при 82 С2 (отгонка почти досуха). Масса дистиллята 35.6 г.
Для расчета температуры кипения чистого изопропанола в зависимости от зна-
чения атмосферного давления можно пользоваться следующей формулой (одной из
форм записи уравнения Антуана):
г , 1357.427
Т[°С] = 7777 ГГ-ГГ- 197.336
а ъ, л * 1 /Р[ттНд]\
Формула справедлива в диапазоне давлений 248-999 mmHg.
В любом случае покупной изопропанол следует протестировать на чистоту. Для
этого следует перегнать небольшое количество. Чистый изопропанол должен пере-
гоняться при стабильной температуре досуха. Также в сухом растворителе поташ
остается рассыпчатым.
Ацетон
Основная задача ацетона - финальное выделение и очистка получающихся ор-
ганических оснований. Для ее реализации ацетон должен быть чистым и безвод-
ным.
1 Такой спирт после перегонки, очевидно, вполне пригоден для многих целей. Дальней-
шая сушка NaOH носила исследовательский характер.
2 Приводится цифра в пересчете на атмосферное давление 760 мм.рт.ст.
Для очистки технического ацетона из строительных магазинов производится об-
работка марганцовкой, сушка поташом и перегонка со сбором требуемой фракции.
Попадавшийся мне технический ацетон не содержал большое количество примесей и
был сравнительно безводным, поэтому процедура очистки была несложной. Какой-
нибудь другой "ацетон" может оказаться не таким хорошим. Нормальный техниче-
ский ацетон не должен высаживать водную фазу при добавлении поташа - поташ
должен оставаться рассыпчатым. Если ацетон содержит воду, то лучше, вероятно,
найти ацетон другой торговой марки или, в крайнем случае, вначале перегнать
его, собирая фракцию вблизи 56 С, тщательно осушить поташом, затем проводить
общую очистку, как указано в примере.
В колбу объемом 250 мл помещалось 140 мл технического ацетона. Добавлялось
80 мх1 тонко измельченного КМп04 (осторожно, много добавлять нельзя!). Смесь
кипятилась с обратным холодильником на водяной бане (верх обжат фольгой для
предотвращения попадания влаги из воздуха). Цвет раствора из фиолетового пе-
решел в красно-коричневый. После этого добавлялось еще 60 мг тонко измельчен-
ного КМп04 и смесь кипятилась еще 30 минут. Раствор темный, мутный, но в тон-
ком слое - фиолетовый3. Добавлялось 15 г тонко измельченного в ступке свеже-
прокаленного К2С03. Смесь оставлялась на 48 часов в закрытой колбе, жидкая
фаза отфильтровывалась через складчатый бумажный фильтр и перегонялась4 (ки-
пятильники! ) . При перегонке нагрев на водяной бане неспешный, чтобы не пере-
гревать пары и можно было бы точно контролировать температуру5. Собирается
фракция, кипящая в диапазоне 56.0-56.5 С6. Если исходный ацетон был сравни-
тельно чистый, то и предгон и остаток в колбе будут сравнительно небольшие -
порядка 10 мл.
Этилацетат
Или этиловый эфир уксусной кислоты (в прописях используется сокращение
"ЭА"). Этилацетат в большинстве случаев является хорошей заменой хлористому
метилену. Исключением, пожалуй, является выделение оснований после проведения
реакций восстановления на амальгамированном алюминии: здесь его применение
может (чувствительно) снизить выход. Кроме этого, этилацетат - растворитель в
реакции восстановления нитростиренов хлоридом олова до соответствующих кето-
нов. Эта реакция альтернативна реакции восстановления железом в уксусной ки-
слоте .
Следует помнить, что этилацетат, в отличие от хлористого метилена, легче
воды.
Этилацетат можно купить в строительных магазинах. Распространен довольно
широко. Может проходить под разными торговыми наименованиями, поэтому нужно
смотреть состав. Например, один из импортных растворителей, попавших в поле
моего зрения, оказался весьма чистым этилацетатом, не требующим очистки, раз-
ве что перегнать. Также этилацетат можно купить в ряде интернет-магазинов, в
том числе посвященным всяким хобби.
3 Если фиолетовый цвет не проглядывается, следует профильтровать смесь через бумаж-
ный фильтр. В фильтрат снова добавить немного марганцовки и прокипятить. Повторять
до тех пор, пока марганцовка не перестанет реагировать. Много марганцовки сразу ни в
коем случае не добавлять.
4 При подозрении, что осушитель впитал воду, следует повторять процесс осушки, пока
новая порция осушителя уже не будет менять внешний вид.
5 Если дистиллята собрано сравнительно немного, а температура уже вышла за требуемый
диапазон, то возможно идет перегрев колбы и соответственно паров. При этом следует
снизить скорость отгона вплоть до значения 1 капля в несколько секунд.
6 Не забывать поправку на давление и погрешность градусника.
В любом случае покупной этилацетат следует перегнать. Если перегонка идет
вблизи 76-77 С, то дальше можно не очищать. Если отгон проходит при более
низких температурах, то не исключены примеси этанола и воды. Тройной азеотроп
вода:этанол:этилацетат кипит при 70.23 С и содержит 9wt% воды и 8.4wt% этано-
ла. Двойной азеотроп вода:этилацетат кипит при 70.38 С и содержит 8.47wt% во-
ды. Двойной азеотроп этанол:этилацетат кипит при 71.81 С и содержит 30.98wt%
этанола [1] . Также среди примесей грязного этилацетата может быть уксусная
кислота.
Присутствие уксусной кислоты проверяют реакцией с раствором соды или пота-
ша. В случае наличия, производится промывка этилацетата 15-20%-м раствором
поташа или насыщенным раствором соды. Далее, если необходимо, производится
обезвоживание и удаление спирта. Удаление спирта производится встряхиванием с
насыщенным раствором хлористого кальция. Сушка также осуществляется хлористым
кальцием. При этом довольно много этилацетата теряется. После сушки произво-
дится перегонка.
Следует заметить, что для большинства целей (за исключением разве что вос-
становления хлоридом олова) обезвоживать этилацетат не требуется.
Диэтиловый
эфир
Может использоваться для замены хлористого метилена. Использовать диэтило-
вый эфир нежелательно вследствие высокой пожароопасности и высокой летучести
паров (а также подозрительного запаха). При хранении эфир накапливает взрыв-
чатые пероксиды (процесс ускоряется на свету). Перегонять эфир, предваритель-
но не разрушив пероксиды, недопустимо. Да и использовать эфир с пероксидами
для экстракции тоже не нужно. Кроме этого, эфир не удобен из-за высокой отно-
сительно хлористого метилена способности адсорбировать воду (около 1 грамма
на 100 мл), из-за чего эфирные экстракты требует более тщательной осушки.
Следует помнить, что диэтиловый эфир легче воды. Для разрушения образующих-
ся пероксидов хранить эфир можно над твердой щелочью (нельзя сыпать щелочь в
эфир, предварительно не разрушив содержащиеся в нем пероксиды!).
Источником диэтилового эфира могут быть некоторые образцы топлива для авиа-
модельных компрессионных двигателей. Ориентироваться, очевидно, следует по
указанному составу. Также в случае подходящего состава, вероятно, возможен
вариант использования аэрозолей для быстрого запуска двигателя.
В эксперименте использовалось топливо для компрессионного авиамодельного
(дизельного) микродвигателя с содержанием эфира около 30% (остальное керосин
и касторовое масло). 1 литр топлива перегонялся на водяной бане до прекраще-
ния отгонки дистиллята. Было собрано 218 мл (156 г) эфира.
Хлористый
метилен
Дихлорметан или метиленхлорид (в прописях используется сокращение "MX").
Пожалуй, наиболее удобный растворитель для экстракции органических веществ
из водной фазы.
Достаточно удобным источником хлористого метилена является отечественного
производства смывка для старой краски. Обычно продается в бутылях объемом 0.5
л из темного или светлого стекла.
В составе указывается "метилен хлористый". Может содержать или практически
не содержать уксусную кислоту. Также может содержать, судя по запаху, ДМСО.
Как правило, визуально смывка включает в себя три фазы: небольшая нижняя про-
зрачная фаза переходит во вторую - белую стеаринообразную, сверху над которой
находится прозрачная или мутная фаза.
Отгонку хлористого метилена следует проводить непосредственно из бутыли,
чтобы не пачкать аппаратуру. Насадку можно зафиксировать сантехническим фто-
ропластовым фумом. При перегонке для эффективного охлаждения следует исполь-
зовать длинный холодильник Либиха и как можно более холодную воду (если вода
не очень холодная, можно собирать выходящий из холодильника хлористый метилен
под лед).
Использовалась смывка без уксусной кислоты, объем 0.5 л:
Перегонка осуществлялась при нагреве на водяной бане, в качестве которой
использовалась кастрюля достаточного объема. Бутыль должна быть приподнята
относительно дна кастрюли. Вода должна закрывать нижние 40-50 мм бутыли. В
бутыль должны быть кинуты кипятильники!
В начале нагрева плавилась белая масса внизу, смешиваясь с нижней фазой
(которая главным образом состоит из хлористого метилена), при этом белая мас-
са образовывала "пробку". Эту пробку выталкивало вверх вместе с пеной (опас-
ность выброса в холодильник), при этом белая масса распределялась в водной
фазе, давая мутную смесь7. Отгон начинался при температуре бани 60 С, темпе-
ратура паров в верхней части насадки 37.5 С. Отгон большей части производится
при температуре бани 60-70 С, при этом температура паров 38 С. Для уменьшения
испарения продукта скорость отгона должна быть такой, чтобы каждая капля дис-
тиллята падала отдельно, т.е. не следует допускать, чтобы дистиллят лился
струйкой.
По мере спада скорости образования дистиллята бутыль погружалась ниже, так
чтобы вода закрывала нижние 10 см бутыли. Температура бани увеличивалась до
кипения. Отгон завершался, когда скорость образования дистиллята становилась
менее 10 капель в минуту. В конце температура паров 39 С.
Полученный дистиллят мутный. Масса 158.81 г, объем 123.4 мл. Отделялось не-
большое количество воды. Ощущался запах ДМСО.
Дистиллят промывался 40 мл насыщенного раствора NaHC03 (выделения газа не
было)8 и далее 50 мл воды. Разделение фаз при всех промывках хорошее. Объем
остатка около 114 мл. Продукт сушился над безводным СаС12, осушитель отфильт-
7 Возможно, перед перегонкой следует встряхнуть бутыль.
8 При наличии в смывке уксусной кислоты (определяется по характерному запаху) внача-
ле дистиллят промыть дважды водой, только затем содой, чтобы исключить сильный вы-
брос углекислого газа при промывке.
ровывался, фильтрат перегонялся. Температура паров в верхней части насадки
39-39.5 С. Отгон шел практически досуха. Время перегонки составило 19 минут.
Масса дистиллята 139.61 г, объем около 105 мл9.
Хлористый метилен также может продаваться в качестве клеев для пластмассы и
даже под названием дихлорэтан (ДХЭ) . Купленный мной клей под названием "Клей
для пластмассы ДХЭ 40 г" с указанным составом "дихлорэтан 30 мл" на поверку
неожиданно оказался хлористым метиленом. Содержимое четырех стеклянных флако-
нов имело массу 189 грамм. Это количество перегонялось. Первые 16 грамм отго-
на с пониженной температурой кипения отбрасывались. Далее собиралась основная
фракция (температура кипения около 40 С), масса которой оказалась 163 грамма.
В исходной колбе осталось несколько миллилитров практически черной жидкости.
Замер плотности показал величину 1.31 г/см , что хорошо согласуется с плотно-
стью хлористого метилена (1.3255 при 20 С).
Этот продукт был успешно использован в различных синтезах.
Дихлорэтан
Потенциальная замена хлористого метилена. Температура кипения 83.5 С, что
несколько менее удобно при использовании, если сравнивать с хлористым метиле-
ном. При экстракции нитроэтана могут возникнуть трудности с разделением из-за
небольшой разницы в температурах кипения. Иногда под видом дихлорэтана в то-
варах бытовой химии продается хлористый метилен.
Хлороформ
Хорошая замена хлористого метилена. Температура кипения 61 С. Коммерчески
недоступен или малодоступен. Однако несложно получается из этанола или ацето-
на и хлорной извести (или гипохлорита натрия) [32, стр. 183-184], [33]. Если
получать хлороформ такими методами, в целях экономии его стоит использовать
только для выделения нитроэтана и в конечной очистке и экстракции аминов. В
остальных синтезах можно без проблем использовать этилацетат.
При работе следует тщательно защищать кожу и глаза от попадания хлороформа.
Перчатки и очки обязательны. Хлороформ легко диффундирует через резиновые
перчатки - это следует иметь в виду, чтобы не допустить поражения кожи рук.
МЕТИЛАМИН
Из относительно несложных и, главное, доступных методов получения метилами-
на можно выделить три:
■ реакция Гофмана с ацетамидом и хлорной известью
■ реакция формалина (водного раствора формальдегида) с нашатырем (хлоридом
аммония)
■ реакция уротропина (гексаметилентетрамина) с соляной кислотой
Описание методики реакции Гофмана с хлорной известью для получения метила-
мина из ацетамида подробно описана в [2]. Здесь остается вопрос о возможности
работы с коммерчески доступными образцами гипохлорита. При желании раствор
гипохлорита может быть получен из хлора и водной щелочи [3] . Ацетамид можно
получить из аммиака или мочевины и уксусной кислоты или, например, из этиаце-
тата и аммиака [4, стр.401-403].
Здесь я подробно останавливаться на этом методе не буду.
Второй и третий методы по большому счету аналогичны с химической точки зре-
ния. Механизм реакции в общем виде сводится к восстановлению метиленимина
9 Смывки с уксусной кислотой давали похожий выход.
формальдегидом:
CH2=NH*HC1 + НСНО + Н20 -► CH3NH2*HC1 + НСООН
В реакции с формалином метиленимин образуется из формальдегида и нашатыря:
НСНО + NH4C1 -► CH2=NH*HC1 + Н20
В реакции с уротропином метиленимин и формальдегид формально образуются при
кислотном гидролизе уротропина.
Реакция не останавливается на образовании метиламина. Метиламин взаимодей-
ствует со свободным формальдегидом, давая после восстановления диметиламин и
далее триметиламин. Таким образом, в конце реакции получается смесь соляно-
кислых солей аммиака и разных аминов, от которых гидрохлорид метиламина хоро-
шо отделяется кристаллизацией из этанола.
Я пробовал еще один метод получения метиламина - восстановление нитромета-
на. Нитрометан в смеси с метанолом и маслами используется в качестве топлива
для ДВС радиоуправляемых моделей. Разделить их можно перегонкой при нормаль-
ном давлении. Нитроалканы, особенно низшие, в общем случае не очень охотно
восстанавливаются до соответствующих аминов, особенно в нейтральной и тем бо-
лее щелочной среде. Точнее, восстанавливаются они хорошо, но побочные реакции
конденсации с промежуточными продуктами восстановления сильно снижают выход
по целевому продукту. В общем случае исправить ситуацию можно, проводя вос-
становление в сильнокислой среде, например, железом [5, 6]. Тем не менее, я
решил все же попробовать восстановление в нейтральной среде амальгамой алюми-
ния в спирте. Выход получился весьма низкий - 13% для метиламина из нитроме-
тана и 8% для этиламина из нитроэтана.
Получение
гидрохлорида
метиламина
из формальдегида
и хлорида аммония
Методика взята из [4, стр.414-415]. В реакции я использовал обычный 33%-й
формалин. Принципиально раствор формальдегида доступен в виде аптечных препа-
ратов . Концентрация формальдегида в аптечных препаратах, как правило, не-
сколько процентов. Вероятно, несколько модифицировав методику, можно исполь-
зовать растворы и такой концентрации.
Хлористый аммоний в случае необходимости можно получить, пропуская аммиак
над разбавленной соляной кислотой.
Собирался обычный перегонный аппарат. В исходную колбу объемом 250 мл поме-
щалось 105 мл формалина и 50 г хлорида аммония. Также в перегонную колбу по-
мещался градусник, опущенный ниже уровня жидкости. Смесь постепенно нагрева-
лась до 106 Си выдерживалась при этой температуре 1 час. Далее колба охлаж-
далась холодной водой до комнатной температуры, выпавший осадок отфильтровы-
вался и отбрасывался. Колба снова нагревалась и отгонка продолжалась. После
достижения температуры 115 С колба снова охлаждалась, осадок отфильтровывался
и отбрасывался. Фильтрат упаривался в вакууме водоструйного насоса при нагре-
ве на масляной бане. Упаривание продолжалось до полного затвердения массы.
Полученный осадок кипятился с 60 мл хлороформа10 (для удаления примесей диме-
тиламин и триметиламин гидрохлоридов), после чего отфильтровывался и перекри-
Эту фазу можно пропустить.
сталлизовывался из обезвоженного этанола ' Перекристаллизация была про-
ведена в три кропа общей массой 9.7 г.
Получение
гидрохлорида
метиламина
из уротропина
и соляной
кислоты
Для получения метиламина была использована адаптированная методика из [4,
стр.414-415]. Вместо хлорида аммония и формалина используем уротропин:
C6Hi2N4 + 6Н20 + 4НС1 -► NH4C1 + 3CH3NH2HC1 + 3HC00H
Из уротропина (гексаметилентетрамина) изготавливают таблетки сухого горюче-
го . Таблетки можно использовать как есть - без дополнительной очистки. Иногда
на таблетки наносится запальный состав - его нужно аккуратно отделить ножом.
Если есть сомнение, что данный образец сухого горючего является уротропином
(теоретически такое может быть), можно провести небольшое исследование. Во-
первых, следует помнить, что уротропин растворяется в воде (в отличие, ска-
жем, от метальдегида). Во-вторых, кислотный гидролиз уротропина дает аммиак и
амины, легко узнаваемые по запаху при подщелачивании полученного после гидро-
лиза раствора. Для тестового гидролиза в столовую ложку помещается около 0.1
г тестируемого порошка, добавляется приблизительно четверть миллилитра акку-
муляторной серной кислоты и смесь нагревается до кипения на открытом пламени.
После того как большая часть жидкости испарится (осторожно, летит много ма-
леньких брызг) и останется пузырящаяся белая масса, нагрев прекращается и к
полученной массе добавляется около полуграмма 50% раствора NaOH (в это время
может произойти бурная реакция кислоты со щелочью с разбрызгиванием, поэтому
следует предпринять соответствующие меры предосторожности). Полученную смесь
нужно аккуратно понюхать. Если есть запах аммиака, то тестируемое сухое горю-
чее с высокой степенью вероятности содержит уротропин. Для надежности следует
подогреть полученную смесь до кипения. Запах аммиака при этом усиливается (в
целях безопасности не следует нюхать непосредственно смесь, а лишь шлейф па-
ра, образующегося при движении ложки в горизонтальной плоскости). Чтобы не
напрягать нос, можно к нагретой смеси поднести стеклянную палочку, смоченную
в соляной кислоте. При наличии аммиака образуется белый туман хлористого ам-
мония .
Для выделения целевого продукта используется различие растворимости в спир-
те продуктов реакции - хлористого аммония и гидрохлоридов метиламина, димети-
ламина и триметиламина. Идеально было бы использовать абсолютированный эта-
нол, но в целях упрощения эксперимента был использован 96%-й ректификат. Был
проведен ряд экспериментов по оценке растворимости продуктов в 96% этаноле и
изопропиловом спирте. Эти данные в граммах на 100 мл растворителя приведены в
Таблице 1.
Обезвоживание проводилось азеотропной отгонкой с бензолом: перегонялась смесь 100
мл 96% этанола и 50 мл бензола. Перегонка заканчивалась, когда температура паров
достигла 75 С. При этом объем дистиллята составил 90 мл. Дистиллят отбрасывался, а
обезвоженный спирт, оставшийся в исходной колбе, использовался для перекристаллиза-
ции без дальнейшей очистки.
12 Для перекристаллизации можно использовать обычный 96% спирт (небольшая примесь
хлорида аммония в конечном продукте не влияет на качество конечных продуктов).
Таблица 1
Исследуемое вещество
хлорид аммония
метиламин гидрохлорид
диметиламин гидрохлорид
96% этанол
-20 С
-
-
>18
0 С
0.7
6
-
20 С
-
-
>33
при кипении
1.3
24
-
изопропанол
25 С
-
1
7
при кипении
0.13
2.6
>27
Таким образом, 96% этанол хорошо подходит для перекристаллизации, однако
после перекристаллизации в продукте можно ожидать наличие более 3% хлористого
аммония. Для некоторых целей это вполне допустимо. Если нужен более чистый
продукт, то можно рекомендовать перекристаллизацию из абсолютного этанола.
Изопропанол значительно хуже растворяет гидрохлорид метиламина, поэтому его
использование для перекристаллизации в данном случае нецелесообразно.
В круглодонную колбу объемом 250 мл помещалось 87 мл 22.5% соляной кислоты
(597 ммоль) и 20.5 г (146 ммоль) грубо измельченного уротропина (сухое горю-
чее) . К колбе подсоединялась насадка для перегонки, через верхнее горло кото-
рой в колбу до дна опускался градусник. Подключался холодильник, и начиналась
отгонка при нагреве на масляной бане.
После достижения температуры смеси 106 С дальнейший отгон проводился при
поддержании этой температуры до момента, когда прекращал образовываться дис-
тиллят. При этом было собрано 25.5 мл дистиллята.
Динамика отгона:
Таблица 2
относительное
время, мин
0
32
45
65
температура
смеси, ° С
25
105
105.5
106
объем собранного
дистиллята, мл
0
21
24.3
25.5
Дистиллят отбрасывался, исходный раствор выливался в стакан объемом 100 мл,
охлаждался холодной водой при взбалтывании до выпадения кристаллической массы
и оставлялся на отстаивание в холодильнике (при температуре 8-10 С). Через 5
часов смесь фильтровалась. Осадок суспензировался в 20 мл этанола, недолго
нагревался при температуре кипения и снова отфильтровывался. Осадок (после
сушки весил 8.7 г) отбрасывался. Объединенные фильтраты отгонялись в той же
аппаратуре до достижения температуры 138 С. При этом было собрано 47.5 мл
дистиллята. В конце отгона в смеси начал выпадать осадок.
Динамика отгона:
Таблица 3
относительное
время, мин
-
0
13
33
50
54
54
температура
смеси, ° С
начало кипения
115°С
120°С
127°С
131°С
137°С
138°С
объем собранного
дистиллята, мл
0
20.5
27.5
39.5
43.5
45.5
47.5
Дистиллят отбрасывался, исходная смесь выливалась в стакан объемом 100 мл и
недолго отстаивалась в бане с холодной водой. Осадок отфильтровывался, дважды
ресуспензировался в кипящем этаноле (порции объемом 20 мл и 10 мл) . Осадок
(после сушки 5.7 г) отбрасывался. Объединенные фильтраты отгонялись до дости-
жения температуры 140°С. При этом было собрано 27 мл дистиллята.
Динамика отгона:
Таблица 4
относительное
время, мин
0
10
14
19
температура
смеси, ° С
начало кипения
117°С
131°С
140°С
объем собранного
дистиллята, мл
0
23
25
27
Дистиллят отбрасывался, исходная смесь выливалась в стакан объемом 100 мл и
упаривался, пока внутренняя температура не достигла 190 С.
Стакан охлаждался. После того как масса затвердела, добавлялось 50 мл 96%-
го этанола. Комки вещества раздавливались шпателем. Смесь некоторое время
(около 1-2 минуты) нагревалась при температуре кипения и перемешивании шпате-
лем, после чего фильтровалась горячей. Осадок (после сушки 1.35 г) отбрасы-
вался .
Фильтрат охлаждался холодной водой и затем в морозильнике (-18 С) , отстаи-
вался. Осадок отфильтровывался (фильтрат желтого цвета) и промывался тремя
порциями этанола: 5 + 10 + 10 мл с комнатной температурой (27 С). После сушки
в духовке при 100 С получено 5.44 г бесцветного вещества (кроп 1). Объединен-
ные фильтраты сильно упаривались. После охлаждения осадок отфильтровывался и
промывался тремя порциями этанола: 10 + 10 + 5 мл с комнатной температурой
(вещество заметно растворяется). Осадок после сушки 0.59 г (кроп 2). Объеди-
ненный фильтрат спонтанно кристаллизовался. После охлаждения в морозильнике
осадок отфильтровывался. Вначале на фильтре его относительно много, но после
промывки 10 + 10 мл этанола с комнатной температурой его осталось значительно
меньше. После сушки 0.54 г (кроп 3). Объединенные фильтраты сильно упарива-
лись. Остаток разбавлялся 10 мл этанола. После охлаждения холодной водой и
начала кристаллизации смесь некоторое время выдерживалась в морозильнике.
Осадок отфильтровывался и промывался 5+5 мл ледяного этанола (охлажден в
морозильнике). После сушки получено 1.97 г вещества (кроп 4). Таким образом,
общий выход составил: 5.44 + 0.59 + 0.54 + 1.97 = 8.54 г (126 ммоль, 28.8%).
Продукт гигроскопичен. Сушить следует сразу после отфильтровывания и промывки
спиртом на стеклянном, глазированном или эмалированном основании (не на бума-
ге и не на открытом металле) при 100 С в заранее разогретой духовке. Хранить
в плотно закрытой банке.
Метиламин и этиламин
восстановлением соответствующих
нитроалканов амальгамой алюминия
3 г алюминиевой фольги измельчалось на небольшие кусочки и помещалось в 100
мл колбу. Добавлялось 30 мл метанола и на кончике шпателя нитрат ртути (II).
Когда алюминиевая фольга начала приобретать серый цвет, начиналось добавление
4.2 мл нитрометана. Добавление велось очень медленно по каплям при перемеши-
вании. Реакция довольно бурная. Периодически добавлялся метанол для облегче-
ния перемешивания.
После окончания реакционный раствор перегонялся. Дистиллят нейтрализовался
конц. соляной кислотой и полученный раствор упаривался досуха, давая 0.7 г
соли (13%). Эту соль можно совершенно спокойно использовать как катализатор
при получении нитропропена. В реакции восстановительного аминирования исполь-
зовать ее не стоит - потенциально она может содержать примесь неполезных по-
бочных продуктов конденсации, например, N, N-диметилгидразина.
Получение подобным способом гидрохлорида этиламина оказалось более трудоем-
ким.
3 г алюминиевой фольги измельчалось и амальгамировалось в воде. Амальгами-
рованный алюминий промывался этанолом и добавлялся к 30 мл этанола. 6 мл нит-
роэтана добавлялось порциями по 0.5 мл. Вначале происходила довольно бурная
экзотермическая реакция, которая быстро стихала. Для возобновления реакции
добавлялся крепкий раствор NaOH (в 4 порции поочередно с добавлением нитро-
этана). Всего было добавлено около 6 г в пересчете на твердый NaOH. Жидкая
фаза отфильтровывалась и перегонялась. Дистиллят нейтрализовался конц. соля-
ной кислотой и полученный раствор упаривался досуха в вакууме водоструйного
насоса, давая 0.55 г (8%) очень гигроскопичной быстро расплывающейся на воз-
духе соли. Полученный здесь препарат исследовался как возможный катализатор
для получения нитропропена.
НИТРОЭТАН
Для получения нитроэтана выбрана методика из [7] . Реакция осуществляется
при взаимодействии этилсульфата натрия с нитритом натрия или калия в водном
растворе при температуре около 125 С.
Реакция идет в двух основных направлениях с образованием нитроэтана и этил-
нитрита :
C2H5NaS04 + KN02 -► C2H5N02 + KNaS04
C2H5NaS04 + KN02 -► C2H5ONO + KNaS04
В целях максимального технического упрощения в отличие от оригинальной ме-
тодики было исключено встряхивание колбы и применение пеногасителя (цетилово-
го спирта). Возможно, в целях дальнейшего развития методики удобнее всего бы-
ло бы использовать механическую мешалку.
Предшествующим продуктом при синтезе нитроэтана этим методом является этил-
сульфат натрия. Вероятно, наиболее незатратный способ получения этилсульфата
натрия это взаимодействие этанола с гидросульфатом натрия. Реакция описана в
патенте [8], но методика представленная там мало приемлема.
В результате взаимодействия протекают две основных реакции:
С2Н5ОН + 2NaHS04 -► C2H5HS04 + Na2S04 + H20
2NaHS04 -► Na2S04 + H2S04
При описанных ниже условиях проведения реакции около 40-46% исходного гид-
росульфата дает этилсерную кислоту (первая реакция), около 15-20% - серную
(вторая реакция), около 2% гидросульфата переходит в раствор в неизменном ви-
де и остальное количество исходного вещества остается в нерастворимом осадке
наряду с сульфатом натрия. Таким образом, после проведения реакции и отфильт-
ровывания осадка получается фильтрат, содержащий кроме спирта этилсерную ки-
слоту, серную кислоту, воду и небольшое количество исходного гидросульфата
натрия. Попытки концентрирования этого раствора, попытки разбавления его во-
дой приводили к уменьшению доли этилсерной кислоты в результате гидролиза.
Поэтому полученный раствор непосредственно нейтрализуется гидрокарбонатом на-
трия:
C2H5HS04 + NaHC03 -► C2H5NaS04 + H20 + C02
H2S04 + 2NaHC03 -► Na2S04 + 2H20 + 2C02
NaHS04 + NaHC03 -► Na2S04 + H20 + C02
Полученная смесь высушивается. Полученный продукт, содержащий порядка 65%
этилсульфата натрия, может быть непосредственно использован для получения
нитроэтана.
Можно выделить более чистый продукт, если нейтрализацию проводить мелом:
2C2H5HS04 + СаСОз -► Ca(C2H5S04)2 + Н20 + С02
H2S04 + СаСОз -► CaS04 + Н20 + С02
2NaHS04 + СаСОз -► CaS04 + Na2S04 + H20 + С02
Полученный продукт после сушки растворяется в воде, осадок гипса отфильтро-
вывается, фильтрат обрабатывается карбонатом натрия:
Ca(C2H5S04)2 + Na2C03 -► 2C2H5NaS04 + CaC03
Осадок мела отфильтровывается, фильтрат после упаривания и сушки остатка
дает продукт с содержанием основного вещества порядка 93%. Полученный таким
образом продукт более удобен при синтезе нитроэтана, в частности при его ис-
пользовании реакция более предсказуема и управляема с точки зрения пенообра-
зования.
Для получения нитроэтана можно использовать и получающийся полупродукт -
этилсульфат кальция, однако он более склонен к гидролизу и при его использо-
вании выход получился меньше.
Предлагаемые методики, очевидно, не самые оптимальные с технологической
точки зрения. Для возможности дальнейшего развития в направлении их улучшения
приведу экспериментальные данные по растворимости целевого и промежуточных
продуктов:
■ растворимость NaEtS04 в воде при 24.8 С - 194 г/100 мл
■ плотность насыщенного (66%-го) водного раствора NaEtS04 при 24.8 С -
1.33 г/мл
■ растворимость NaEtS04 в 96vol% спирте при 24.6 С - 14.7 г / 100 мл
■ растворимость Na2S04 в насыщенном водном растворе NaEtS04 при 24.8 С, ве-
роятно, не более 1.1 г / 100 мл раствора
■ растворимость Ca(EtS04)2 в воде - не хуже 134 г / 100 мл,
■ плотность насыщенного (57%-го)раствора Ca(EtS04)2 ~ 1.35 г/мл
■ растворимость Ca(EtS04)2 в 96vol% спирте - 30 г/ 100 мл.
■ растворимость CaS04 в растворе Ca(EtS04)2 - 0.6 г CaS04 в 100 мл 12%-го
раствора Ca(EtS04)2 при 25 С
Гидросульфат натрия получается при нейтрализации разбавленной серной кисло-
ты (электролита для автомобильных аккумуляторов) пищевой содой (Опыт 1):
H2S04 + NaHC03 -► NaHS04 + Н20 + С02
В случае необходимости карбонат кальция (мел) может быть получен из гашеной
извести или любой растворимой соли кальция или даже из сульфата кальция -
гипса (Опыт 4):
CaS04 + Na2C03 —► CaC03 + Na2S04
Используемый для осаждения ионов кальция карбонат натрия (стиральную соду)
можно получить нагревом обычной пищевой соды (Опыт 5):
2NaHC03 -► Na2C03 + H20 + C02
Аналитическое исследование чистоты полученного этилсульфата натрия прово-
дится в три этапа. Во-первых, разбавленной соляной кислотой оттитровывается
гидрокарбонат натрия. Далее нейтральный раствор, не содержащий карбонат-
аниона, обрабатывается реактивом осаждающим сульфат-анион. Это может быть
нитрат бария или нитрат свинца. Применение нитрата свинца в бытовых условиях
более удобно, т.к. получающийся осадок сульфата свинца легче отфильтровывает-
ся, чем мелкодисперсный осадок сульфата бария. Если работать не спеша, то
можно обойтись без фильтрования - декантацией жидкости с осевшего на дно ста-
кана осадка. Процедуру с промывкой и декантацией потребуется повести несколь-
ко раз, оценивая примерно остаток растворенного вещества в жидкости над осад-
ком. Этот остаток будет определять точность измерения. Можно для осаждения
сульфата также использовать хлорид кальция, но при этом возникает чувстви-
тельная погрешность, связанная с растворимостью гипса в воде и растворах со-
лей. Далее, чтобы точно определить количество оставшегося этилсульфата, его
можно гидролизовать до сульфата, осадив последний, как указано выше. Прово-
дить гидролиз предпочтительно в кислой, а не в щелочной среде [9-12]. В своих
экспериментах гидролиз этилсульфата я проводил при кипячении в 4-Н соляной
кислоте в течение 5-7 часов.
При использовании для гидролиза соляной кислоты осаждать сульфат следует
солью бария или кальция, т.к. хлорид свинца плохо растворим в воде, и даст
дополнительный осадок. Соответственно, использовать для гидролиза серную ки-
слоту можно, только если точно знать ее количество, введенное для гидролиза
(требуется предварительное титрование).
Опыт 1. Гидросульфат
натрия из электролита
для автомобильных
аккумуляторов
и пищевой соды
В эмалированную кастрюлю13 объемом 3 литра помещалось 1000 г 36%-й серной
кислоты (электролита для автомобильного аккумулятора). Порциями (по столовой
ложке) добавлялось 313 г NaHC03. Новая порция добавлялась, когда реакция от
предыдущей ослабевала14. Полученная смесь нагревалась и упаривалась15. Кипение
большими пузырями под конец переходит в кипение с образованием белой пены. В
конце объем пены сильно уменьшается и становится видно прозрачную желтую про-
должающую несильно кипеть жидкость. Температура жидкости должна быть не ниже
210 С, но и при этом не превышать 230 С16. После этого кастрюля снималась с
нагревателя, жидкость выливалась в чугунную сковороду и перемешивалась сталь-
ной ложкой17, чтобы затвердение шло в виде рыхлой массы, а не в виде монолит-
ного плава, который потом сложно отделять и измельчать18. Особое внимание
Стальная кастрюля реагировала с образованием черного налета и, судя по запаху,
серо водорода. В результате получался темный раствор голубовато-зеленого цвета.
14 При выделении углекислого газа жидкость, т.е. фактически серная кислота, образует
туман мельчайших капелек. Работу нужно проводить на открытом воздухе или под хорошей
тягой. Обязателен респиратор и маска, закрывающая лицо! Теплоизоляционные перчатки!
Закрытая одежда.
15 Осторожно, мелкие брызги. Открытый воздух или тяга!
16 Температура плавления и начала разложения NaHS04 186 С.
17 Ложка покрывается черным налетом из-за реакции с гидросульфатом.
18 Механическое отделение застывшего вещества от кастрюли, скорее всего, приведет к
сколам эмали.
следует уделить стенкам и дну, где охлаждение происходит быстрее всего. Комки
по мере возможности раздавливались. Остаток, затвердевший на стенках каст-
рюли, снимается дополнительным расплавлением на конфорке с аналогичной проце-
дурой получения рыхлой массы. Масса собранного вещества 439 г. Чистота 98.2%.
Вещество гигроскопично - хранить в закрытой банке. Желательно долго не хра-
нить и использовать для получения этилсульфата натрия свежий препарат.
Опыт 2.
Этилсульфат
натрия
Тщательно измельчается 210 г безводного NaHS04. Для измельчения крупные
куски разбиваются молотком до размера не крупнее горошин. Далее измельчение
производится в ножевой электрокофемолке19,20,21 в 4 порции. Полученный порошок
сразу после измельчения помещается в круглодонную колбу объемом 500 мл. До-
бавляется 90 г этилового спирта концентрации 94-96vol%. Колба при этом полу-
чается заполненной примерно наполовину. Смесь тщательно перемешивается шпате-
лем. Образуется полужидкая масса. На колбу устанавливается обратный холодиль-
ник, верхнее отверстие которого закрывается кусочком алюминиевой фольги (об-
жимается) для уменьшения контакта с влагой воздуха22. Колба нагревается на
масляной бане23. При этом колба опущена так, чтобы слой масла был немного вы-
ше уровня жидкости в колбе. Нагрев производится так, чтобы температура масля-
ной бане была в пределах 110-120 С24. Время кипячения 1.5 часа. В течение
этого периода смесь трижды (через каждые полчаса и в конце) тщательно переме-
шивается шпателем каждый раз приблизительно по одной минуте. Если при пе-
ремешивании заметны комки смеси25, их следует измельчить шпателем. После
окончательного перемешивания колба охлаждается холодной водой, закрывается и
помещается на ночь в холодильник26.
Полученная смесь фильтруется через крупнопористый фильтр Шотта27'28'29. Оса-
док ресуспензируется в 40 г этилового спирта, тщательно перемешивается и сно-
ва отфильтровывается. Эта процедура выполняется еще раз. Объединенные фильт-
19 Или в ступке.
20 Если в ближайшее время после измельчения гидросульфата в кофемолке не принять ме-
ры по ее очистке, кофемолка с высокой степенью вероятности может стать "одноразо-
вой". Для очистки в первую очередь кофемолка отключается от сети. Внутренность,
включая ножи, тщательно протирается сухой бумажной салфеткой, максимально избавляясь
от осевших твердых частиц. Далее идет протирка влажной бумажной салфеткой (воду
внутрь не лить!) и снова сухой. На место выхода вала электродвигателя капается сили-
коновое масло, вал проворачивается. Окончательно тщательно протирается от остатков
силиконового масла сухой бумагой.
21 Обязательно использование респиратора и перчаток. Гидросульфат едкий!
22 Плотно закрывать, разумеется, нельзя.
23 Оптимально силиконовое масло. Также весьма вероятно, что можно использовать водя-
ную баню при температуре кипения.
24 Температура должна быть достаточна для эффективного кипения смеси, но более высо-
кая температура способствует высыханию нижнего слоя (спекания) гидросульфата в кол-
бе , что недопустимо.
25 Признак спекания осадка. При правильном проведении методики комки не образуются.
26 Или при температуре порядка 8-12 С.
27 Возможно подойдет плотная ткань.
28 «
Осторожно, смесь едкая, содержит серную кислоту. Недопустим контакт реакционной
смеси и фильтрата с кожей и слизистыми. Обязательно применение перчаток.
29 Фильтрация ведется под вакуумом и, тем не менее, проходит сравнительно медленно.
Если начальное измельчение гидросульфата проводить в ступке, то эта фильтрация про-
ходит легче.
раты помещаются в стакан объемом 1 л
Обработка 1
При перемешивании на достаточно мощной магнитной мешалке (с большим якорем)
или с помощью механической мешалки (или, в крайнем случае, от руки, что очень
утомительно) к полученному раствору добавляется ЫаНСОз (пищевая сода) порция-
ми примерно по 10 г. Добавление ведется до слабокислой реакции по универсаль-
ной индикаторной бумаге (рН не менее 5). Период между каждыми двумя добавле-
ниями 10 минут. Обычно после 3-й или 4-й порции смесь густеет и начинается
сильное образование пены - требуется контроль и, возможно, помощь в перемеши-
вании (например, столовой ложкой)32. Также на этом этапе следует добавить 10
г спирта33. После добавления всего количества гидрокарбоната34 смесь оставля-
ется на отстаивание 20 минут35. Смесь, имеющую консистенцию сметаны, выливают
в эмалированную емкость с широким плоским дном36 и оставляют на сушку при
комнатной температуре. При нормальной комнатной температуре сушка занимает 4
дня. Продукт измельчается в ступке и досушивается при 60 С37 полчаса. Выход
81-83 г. Состав продукта:
- ЫаНСОЗ в среднем 2.8%
■ NaEtS04 64-66%
■ Na2S04 остальное
Продукт без дальнейшей очистки может быть использован для получения нитро-
этана. Хранить следует в плотно закрывающейся банке.
Обработка 2
Аналогично обработке 1 раствор нейтрализуется мелом. Мел должен быть в виде
тонкого порошка, перед применением его необходимо просушить при 250 С в тече-
ние 1 часа. Всего в разных опытах было задействовано от 55 до 62 г мела. По-
лученная смесь подсушивается на воздухе несколько дней аналогично предыдущей
обработке38. Полученный (можно все еще влажный) продукт помещается в 300 мл
воды. Смесь перемешивается и нагревается до температуры выше 90 С на 15 ми-
нут39. Смесь охлаждается, фильтруется через бумажный фильтр40. Осадок ресус-
пензируется в 150 мл воды и смесь снова фильтруется. Фильтраты объединяются.
При перемешивании добавляется раствор 20.0 г ЫагСОз41 в 100 мл воды. После не-
долгого перемешивания смесь оставляется на отстаивание в закрытой (от С02
г.
35
30 Из емкости меньшего размера смесь может "убежать" вместе с пеной при дальнейшей
нейтрализации.
31 Суммарная масса фильтратов в моих опытах составляла 180-185 г.
32 Магнитная мешалка на этом этапе перестает справляться со смесью и требуется пере-
мешивание вручную.
33 Часть спирта улетучивается с углекислым газом. Требуется его восполнить, чтобы
снизить вязкость смеси.
34 В моих опытах требуемое суммарное количество гидрокарбоната было в пределах 61-62
В конце этого промежутка времени газообразования практически нет.
36 Здесь важно, чтобы смесь лежала тонким слоем. Я использовал противень с площадью
около 4.5 дм2. Также важно, чтобы поверхность была гладкой и глянцевой (можно допол-
нительно несильно смазать силиконовым маслом), иначе после засыхания вещество отде-
ляется с большим трудом.
37 Важно не перегревать, иначе может начаться разложение продукта. Сушить надо на
эмалированной или стеклянной поверхности (не на бумаге!).
38 Не нагревать - этилсульфат кальция может сильно гидролизоваться.
39 Для разложения гидрокарбоната.
40 На воронке Бюхнера.
41 Перед взвешиванием соду необходимо просушить при 250 С в течение 1 часа.
воздуха) емкости на полчаса. Смесь фильтруется, осадок промывается 50 мл во-
ды. Фильтраты объединяются и упариваются в эмалированной кастрюле на электро-
плите, на малой мощности, при обдувании поверхности раствора горячим воздухом
из фена. После начала кристаллизации дальнейший нагрев осуществляется только
феном. Сушка производится до рассыпчатого состояния, после чего продукт досу-
шивается 1 час при 60 С (прим. 37).
Выход около 52 г. Состав продукта:
■ Na2C03 2 . 3%
■ NaEtS04 92 . 9%
■ Na2S04 4 . 8%
Опыт 3.
Нитроэтан
Используется круглодонная колба объемом 500 мл. Для нагрева используется
масляная42 баня на электрической конфорке с возможностью регулировки уровня
погружения колбы43. Колба подсоединяется к перегонному аппарату, состоящему
из перегонной насадки и длинного холодильника Либиха. В качестве приемника -
стакан без всяких дополнительных насадок для возможности быстрой его смены в
случае необходимости. В верхний отвод насадки устанавливается капельная во-
ронка объемом 100 мл44. Колба должна быть оборудована внутренним термометром.
Оптимально использовать термопарный термометр, расположенный в узкой запаян-
ной с одного конца стеклянной трубке45. Такой термометр можно разместить в
боковом отводе колбы, если таковой имеется, или использовать насадку Кляйзена
в один отвод которой помещается термометр, а в другой капельная воронка. Тер-
мометр должен свободно двигаться, чтобы менять высоту расположения датчика
температуры внутри колбы46. Изначально термометр должен почти доходить до
дна, не касаясь его. Рядом с выходом холодильника должна быть предусмотрена
47
тяга
В колбу помещается нитрит калия с содержанием основного вещества 40-50 г48.
Добавляется карбонат калия (или натрия) из такого расчета, чтобы его суммар-
ное количество, включая примесь в нитрите, было около 3 г. Добавляется 14-17
г воды.
Берется этилсульфат натрия из такого расчета, чтобы масса содержащегося ос-
новного вещества приблизительно была равна массе чистого нитрита. Если это
Предпочтительно силиконовая, растительное масло уже заметно дымит при требуемых
температурах.
43 Используется подъемный столик.
44 При использовании 65%-го этилсульфата, см. обработка 1 и 2 выше.
45 Для лучшей теплопередачи внутрь трубки добавляется немного силиконового масла.
Можно использовать стандартные термометры с металлическими щупами, которые нужно
тщательно обернуть фторопластовым фумом для исключения прямого контакта металла с
реакционной смесью.
46 Измерение температуры в процессе реакции представляет собой некоторую сложность,
поскольку нижний слой реакционной смеси по мере реакции подсыхает и температура это-
го слоя перестает адекватно отображать температуру реакции. То есть в процессе реак-
ции необходимо постепенно повышать уровень измерительной головки градусника, чтобы
она находилась непосредственно над спекшимся нижним слоем, не переходя в область ак-
тивного пенообразования, где температура также может сильно отличаться.
47 При реакции выделяется в газообразном состоянии неполезный этилнитрит, дышать ко-
торым категорически не рекомендуется.
48 Можно использовать нитрит, содержащий примесь нитрата и карбоната. Соответственно
подходят и нитрит натрия, и нитрит калия.
препарат, очищенный через кальциевую соль с содержанием основного вещества
порядка 90%, то готовится его раствор в воде. Количество воды должно по массе
соответствовать массе взятого этилсульфата. Не фильтровать. Полученный рас-
твор заливается в капельную воронку, установленную в аппаратуре для перегон-
ки.
Если используется препарат, полученный после нейтрализации пищевой содой50,
с содержанием основного вещества порядка 65%, то он тонко измельчается и не-
посредственно (без растворения в воде) помещается в капельную воронку. Перед
началом добавления (см. далее) в воронку доливается только что вскипевшая во-
да51, воронка встряхивается для растворения большей части твердой фазы, и так
чтобы на дне не образовалось пробки из нерастворившегося вещества, блокирую-
щего прохождение жидкости. Количество воды берется из расчета 70 мл воды на
80 г неочищенного (65%-го) этилсульфата. При этом получается суспензия. До-
бавление вещества будет производиться именно в виде суспензии (проходное от-
верстие крана капельной воронки не должно быть слишком узким).
Включается нагреватель. Когда внутренняя температура (раствора нитрита)
достигнет 125 С, начинается добавление раствора этилсульфата небольшими пор-
циями. Температура при добавлении поддерживается на уровне 125-135 С. Темпе-
ратура бани при этом 220-230 С. В самом начале идет сильное пенообразование
(особенно при применении 65%-го этилсульфата). В этот период добавление про-
изводится очень медленно и осторожно. Стараемся держать пену на уровне не вы-
ше 1/2 - 2/3 высоты колбы. Колба погружена в масляную баню очень незначитель-
но . При очень большом количестве пены убираем баню. Если появляется угроза
того, что смесь может перебросить в холодильник, то меняется приемный стакан,
и если часть смеси все же перебросит, то грязный дистиллят снова возвращается
в исходную колбу. После отгонки первых 20 мл (ориентировочно) дистиллята пена
утяжеляется и ее становится легко контролировать52. После этого начинаем по-
гружать колбу более глубоко в нагревательную баню. В процессе перегонки в
дистилляте выпадают маслянистые капли целевого продукта, часть масла плавает
на поверхности. Поскольку перегонка производится довольно долго, необходимо
принять меры для снижения испарения нитроэтана, например, охлаждать приемный
стакан льдом и периодически его встряхивать, чтобы слой масла на поверхности
разбивался и оседал каплями на дно. После окончания добавления раствора этил-
сульфата через капельную воронку добавляется еще 20 мл воды. Перегонку пре-
кращаем после достижения температуры смеси 170 С53.
Полученный дистиллят имеет желтый цвет и характерный резкий запах. Обычно
масса дистиллята находится в пределах 90-120 г. На дне - желтые масляные кап-
ли целевого продукта. К дистилляту добавляется NaCl из расчета 25 г на 100
54 ^
мл Смесь перемешивается до преимущественно полного растворения осадка,
верхний (органический) слой отделяется в делительной воронке. Водная фаза
экстрагируется двумя порциями MX55 по 5 мл каждый56. Экстракты и органическая
49 См. обработка 2 выше.
50 См. обработка 1 выше.
51 Чтобы не лопнула, воронка должна быть из термостойкого стекла.
52 Из-за сильного пенообразования при использовании 65%-го этилсульфата эта фаза мо-
жет занять 1.5 часа. При использовании 90%-го - около 30 минут.
53 Всего реакция может занять при использовании 65%-го этилсульфата 3.5 часа, при
использовании 90%-го - 1.5 часа.
54 Ко всему прочему это снижает растворимость нитроэтана в воде с 4.8 г на 100 мл
при 25 С до примерно 2.1 г на 100 мл.
55 Можно, хотя и менее желательно, использовать диэтиловый эфир. Диэтиловый эфир
впитывает относительно много воды (при нормальных условиях около 1 грамма воды на
100 мл), поэтому органическую фазу потребуется сушить весьма тщательно. Заметная
примесь воды в конечном продукте недопустима, т.к. нитрозтан с водой образует азео-
фаза объединяются и оставляются сушиться над безводным СаС12 на ночь. После
отфильтровывания осушителя и промывки его на фильтре небольшим количеством MX
объединенные фильтраты упариваются58 и оставшееся масло (массой около 5-7 г)
перегоняется из маленькой колбы с маленьким холодильником Либиха59. Вначале
идет небольшой предгон с температурой кипения до 105 С. Предгон отбрасыва-
ется60. Далее собирается основная фракция, кипящая начиная со 105 С. Пере-
гонку ведут практически до конца (диапазон 105-120 С)61. В исходной колбе ос-
тается маленькое количество коричневого масла.
Масса полученного нитроэтана 4-6 г, выход 22-27%. Бледно-желтое масло с ха-
рактерным запахом.
Описанная процедура сравнительна трудоемкая. При ее проведении мне часто не
удавалось в точности соблюдать температурные условия, однако, несмотря на
это, выход по большому счету не ухудшался. Не исключено, что реакцию можно
проводить без температурного контроля реакционной смеси. Температура бани
следует установить 220-230 С. Начинать добавление этилсульфата можно после
того, как начнет кипеть раствор нитрита. Добавлять раствор этилсульфата сле-
дует малыми порциями. Каждую следующую добавляя лишь после того, как отгонит-
ся объем дистиллята сравнимый с объемом добавленной порции и, разумеется,
контролируя пенообразование.
Опыт 4. Получение
мела из гипса
24 г CaS04 (в пересчете на безводное вещество) суспензировалось в 100 мл
воды. К полученной смеси добавлялся раствор 20 г Na2C03 в 100 мл воды. Смесь
перемешивалась 1 час. Осадок отфильтровывался и промывался 200 мл воды, снова
суспензировался в воде, отфильтровывался и промывался водой. Полученное веще-
ство сушилось 1 час при 250 С. Титрование продукта показало чистоту получен-
ного мела 97.6%. Хранить в герметичной таре.
Опыт 5. Получение
карбоната натрия
(стиральной соды) из
гидрокарбоната натрия
(пищевой соды)
500 г NaHC03 выдерживалось на противне в духовке при периодическом переме-
шивании при 250-300 С в течение 1.5 часа. Остаток 316 г (100%).
(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)
тропную смесь с температурой кипения 87.2 С и содержащую 28.5% воды.
56 Можно применить другую, не менее эффективную обработку: соль не добавляется, от-
деляется нижний маслянистый слой, водная фаза экстрагируется четырьмя порциями MX
примерно по 4 мл каждая.
57 Добавляется примерно 2 г осушителя.
58 Требуется применение кипятильников, иначе смесь перегревается и кипит с сильными
выбросами.
59 Для уменьшения потерь основного вещества.
60 Если предгона относительно много (более 1 г) , то требуется его повторно пере-
гнать .
61 После достижения 120 С температура начинает снижаться, т.к. практически весь нит-
роэтан перегнался, а более высококипящей фракции в результате реакции в ощутимых ко-
личествах не образуется.
Химичка
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Пиперональ
Гелиотропин (пиперональ, 3,4-метилендиоксибензальдегид) — ароматический
альдегид С8Н603. Кристаллическое вещество с температурой плавления, согласно
каталогу "Sigma-Aldrich", в диапазоне 35-39 С. В чистом виде представляет
бесцветные кристаллы с запахом гелиотропа — промежуточным между запахами ва-
нили и корицы.
Кристаллы плохо растворимы в воде, лучше в органических растворителях, лег-
ко перегоняется с водяным паром.
Используется для изготовления косметических и парфюмерных средств.
Может быть получен как из растительного сырья (ваниль, гелиотроп, сирень),
так и синтетическим способом из сафрола. Интересен способ получения окислени-
ем пипериновой кислоты, который в свою очередь получают щелочным гидролизом
пиперина, содержащегося в черном перце.
Основной метод получения — щелочная изомеризация сафрола, а затем окисление
образовавшегося изосафрола озоном или хромовой смесью (например, бихроматом
натрия).
Также существуют методы получения гелиотропина из пирокатехина. Пирокатехин
взаимодействует с глиоксиловой кислотой, образуется 3,4-диоксибензальдегид,
который затем превращается в гелиотропин.
Л» — ^х *- -*cc
По другому методу, пирокатехин превращается в 1,2-метилендиоксибензол, ко-
торый далее реагирует с глиоксиловой кислотой, получая гелиотропин.
СО ^ ноос\х> -^ н1ТХ>
В России пиперональ входит в Таблицу II Списка IV Перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации как один из прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации
ограничен и в отношении которых устанавливаются общие меры контроля (оборот в
концентрации 15 % и более запрещён). Это связано с тем, что пиперональ может
быть использован для синтеза 3,4-метилендиокси производных амфетамина (в ча-
стности МДА) .
ПИПЕРОНАЛЬ
ИЗ ЧЕРНОГО
ПЕРЦА
В этой работе исследовались методы позволяющие получить пиперональ, исполь-
зуя в качестве исходного продукта черный перец горошком. Забегая вперед, мож-
но охарактеризовать этот метод как вполне приемлемый. Метод позволяет в дос-
таточных для бытовых условий пределах варьировать исходные вещества. В каче-
стве примера: для получения примерно 5 г пипероналя можно использовать 400 г
черного перца горошком, 2.3 л этилового спирта, 21 г NaOH, 26 г марганцовки,
250 мл этилацетата или хлористого метилена, 20 г сульфата магния и 350 г по-
варенной соли. Требуемые количества растворителей, их тип, да и сами методики
вполне могут быть подвергнуты дальнейшей оптимизации.
Выделение
пиперина
Пиперин - основной алкалоид черного перца. Собственно, он ответственен за
остроту черного перца. Содержание пиперина в плодах черного перца варьируется
в некоторых пределах в зависимости от литературных источников. Согласно, на-
пример, [1, стр.109] , содержание пиперина находится в диапазоне 1.7-7.4%.
Кроме пиперина в состав плодов черного перца входят:
■ вода (8.7-14.1%),
■ азотистые основания (1.55-2.6%),
■ летучие эфирные масла (0.3-4.2%),
■ нелетучие смолы (3.9-11.5%),
■ крахмал (28-49%),
■ растительные волокна (8.7-18%),
■ зольный остаток (3.6-5.7%).
Для выделения пиперина используется экстракция органическими растворителя-
ми. Согласно литературным источникам в качестве растворителей могут использо-
ваться: метанол [2], этанол [6], [8, 13], изопропанол [2, 7], ацетон [3] ,
хлористый метилен [5, 6], хлороформ [2], уксусная кислота [4], смесь водного
этанола с уксусной кислотой [9]. Очевидно, можно использовать и другие рас-
творители, вопрос только в целесообразности.
Для выбора растворителя неплохо иметь представления о количественных харак-
теристиках растворимости пиперина. Данные по растворимости пиперина в ряде
растворителей представлены в Таблице 1:
Таблица 1. Растворимость (массовая доля в процентах, если не иное)
Растворитель
вода
метанол
этанол
1-пропанол
этиловый эфир
хлороформ
трихлорэтилен
9.5 С
-
4.21 [11]
2.82 [11]
2.86 [11]
-
-
-
15 С
-
-
-
-
-
-
8.95 [11]
18 С
40 мг /
1 л [10]
-
-
-
-
-
-
20 С
-
-
6.24 [11]
-
-
-
-
25 С
-
-
6.24 [11]
-
2.72 [11]
37.03 11]
-
60 С
-
-
18.50 [11],
23 г/
100мл [12]
-
-
-
-
Также приведу собственные экспериментальные наблюдения, касающиеся качест-
венных характеристик растворимости пиперина в некоторых растворителях:
Таблица 2
Растворитель
ацетон
петролейный
эфир (ПЭ)
ТГФ
ацетон:ПЭ =
7:3 (v:v)
вода
уксусная
кислота
Поведение пиперина
Небольшое количество пиперина постепенно растворяется в избытке
ацетона при комнатной температуре, кристаллизуется при добавле-
нии воды
При температуре кипения не растворяется или мало растворяется
Хорошо растворяется при комнатной температуре, раствор допуска-
ет разбавление водой до 1:1 или даже больше, не кристаллизуется
при добавлении воды
Хорошо растворяется при нагреве, при охлаждении кристаллизуется
При температуре кипения не растворяется или мало растворяется,
после охлаждения вода немного мутная
Хорошо растворяется при комнатной температуре, раствор допуска-
ет разбавление водой до 1:1 (возможно, даже больше чем 2:1),
при сильном разбавлении водой раствор становится мутным, но, по
крайней мере, сразу не кристаллизуется
Для целей данной работы необходимы как минимум граммовые количества пипери-
на. Исходя из содержания пиперина в сырье, при экстракции потребуется относи-
тельно большое количество растворителя. Можно прилично снизить количество
растворителя, используя большие - с загрузкой несколько сотен грамм сырья -
экстракторы Сокслета, но этот вариант в силу технологических ограничений мы
рассматривать не будем. Из соображений доступности можно остановиться на сле-
дующих типах растворителей: метанол, этанол, изопропанол, ацетон и уксусная
кислота. В [2] на основании сравнительного анализа рекомендуют для экстракции
использовать метанол.
Метанол - растворитель относительно легкодоступный и относительно недоро-
гой, однако он ядовит. Работая с большими количествами метанола в бытовых ус-
ловиях при почти неизбежных в той или иной степени нарушениях правил техники
безопасности, можно получить отравление парами. Об этом следует помнить. Эта-
нол - наиболее удобный растворитель. Он не ядовит и пахнет вполне привычно.
Оптимально купить этанол в виде антисептического 95%-го раствора. В открытой
продаже сделать такую покупку мало реально в силу некоторых законодательных
ограничений. Выход из этой ситуации с помощью своих стандартных методов пред-
лагает интернет. Если купить спирт не получается, его легко можно добыть из
водки.
Изопропанол - доступный растворитель. Продажный "100%-й" изопропанол может
содержать воду, от которой его нужно будет освободить. Ацетон - также доступ-
ный растворитель. Технический ацетон, как правило, грязный, но для выделения
пиперина, вероятно, его можно использовать без очистки. И, наконец, несколько
слов об уксусной кислоте. Для экстракции вполне достаточно использовать 50%
уксусную кислоту. Также уксусная кислота весомо улучшает растворимость пипе-
рина в разбавленных растворах этанола. В [9] приводится формула расчета рас-
творимости пиперина в системе этанол:вода:уксусная кислота при 25 С:
s = 0.90 + 4.54*10~10*х5675 + 1.8029*у212848 + 2.37*10"10*х5б75*у212848
В статье присутствует некоторая путаница с единицами измерения, поэтому
возьму на себя смелость в их уточнении:
s - растворимость пиперина в граммах на 1 литр растворителя;
х - концентрация водного этанола в объемных процентах, диапазон х = 40...80
vv%;
у - количество уксусной кислоты в молях на 1 литр растворителя, диапазон у
= 0 .1...1. 5 моль/л
В качестве примера в Таблице 3 представлена оценка по данной формуле рас-
творимости пиперина в 80 vv% этаноле:
Таблица 3
Содержание уксусной кислоты, г/л
0
30
60
90
Растворимость пиперина, г/л
30
33
46
70
В экспериментальной части будут рассмотрены примеры экстракции с помощью
этанола. Возможно, без коррекции прописи этанол можно заменить метанолом. То
же справедливо для изопропанола, однако, раствор щелочи для осаждения смол
должен быть не водным, а этанольным. При использовании ацетона процедура оса-
ждения смол связана с риском реакции конденсации молекул ацетона под действи-
ем щелочи. В этом случае вместо нее можно попробовать непосредственно осадить
пиперин из ацетонового раствора после концентрации, например, бензином "Кало-
ша" или водой. Удобная процедура выделения из растворов, содержащих уксусную
кислоту, требует отдельных исследований.
Растворитель, используемый для экстракции, можно использовать повторно,
проведя его регенерацию. Для регенерации этанола проводится его сушка над
К2СО3 и перегонка на водяной бане, собирая фракцию 77.5-78 С. Регенерирован-
ный этанол содержит заметное количество летучих эфирных масел, что хорошо за-
метно по запаху. Использовать его для других целей (за исключением разве что
мытья посуды) без более тщательной очистки не рекомендуется.
Методы
экстракции
Для экстракции пиперина был проведен сравнительный анализ нескольких тех-
ник. Целью этих работ было получение информации для дальнейшей оптимизации
технологических затрат, трудоемкости, количества растворителя и выхода. Тех-
ники эти включали в себя: горячую проточную экстракцию, одностадийную экс-
тракцию при кипячении, одностадийную экстракцию при комнатной температуре и
многостадийную экстракцию при кипячении.
Самым простым подходом была одностадийная экстракция при комнатной темпера-
туре . Тщательно измельченный черный перец в количестве 3 кг засыпался в пла-
стиковую бутыль объемом 5 л и заливался до горлышка бутыли 95% этанолом (око-
ло 3 литров). Бутыль закрывалась и оставлялась при периодическом взбалтывании
в защищенном от света месте при комнатной температуре на 1 месяц. Далее смесь
фильтровалась на ткани, осадок отжимался и тщательно промывался спиртом (сум-
марным объемом 2 литра) и снова отжимался на ткани. Объединенные фильтраты
обрабатывались, как описано далее в примере. Выход неочищенного пиперина со-
ставил 53.3 г. Полнота экстракции около 0.33 (т.е. 67% пиперина осталось в
исходном сырье).
В одностадийной экстракции при кипячении процедура немного сложнее. Напри-
мер, 450 г порошка черного перца помещались в колбу, заливались 1.85 л этано-
ла и кипятились с обратным холодильником 4 часа. Смесь фильтровалась, осадок
промывался 4 порциями спирта с суммарным объемом 900 мл. Выход неочищенного
пиперина составил 12 г. Полнота экстракции около 0.5.
Многостадийная экстракция в техническом плане аналогична одностадийной, но
процесс экстракции повторяется несколько раз со свежими порциями растворите-
ля. Для 513 г исходного сырья количество растворителя 2.240 л. Общее время
экстракции 8 часов. Выход неочищенного пиперина составил 27.3 г. Полнота экс-
тракции близка к 1.
Для проведения горячей проточной экстракции из подручных средств собирался
экстрактор, схематически изображенный на рисунке:
4Ь
1[
с^ •
т
\^
Tbzi
3
П 0
| 6
Т~~*
]—К
7
j
Основу экстрактора составляла плотно закрывающаяся кастрюля-скороварка (5),
в крышке (6) которой было проделано два отверстия. Внутрь кастрюли помещалась
металлическая банка (7). Банка устанавливалась на небольшом расстоянии от дна
кастрюли с помощью подпорки, согнутой из толстой проволоки. Через одно из от-
верстий в крышке почти до дна банки опускалась металлическая трубка (1) ,
обернутая снизу марлей. Банка заполнялась сырьем и сверху закрывалась слоем
марли, препятствующей вымыванию сырья из банки. Верхняя часть трубки соединя-
лась с обратным холодильником (3) через переходник с боковым отводом (4). От-
верстие бокового отвода соединялось со вторым отверстием в крышке кастрюли
через дополнительную металлическую трубку (2).
Экстракция при этом выглядела следующим образом. Спирт, находящийся в каст-
рюле 5 , испарялся. Пары спирта проходили через трубку 2 и через боковой отвод
переходника 4 попадали в обратный холодильник 3. Там конденсировались и сте-
кали через трубку 1 в банку 7, наполненную сырьем. Избыток спирта в банке вы-
ливался в кастрюлю через край. Поскольку банка находилась в кастрюле, то фак-
тически происходило постоянное омывание сырья горячим спиртом. Начальное за-
полнение экстрактора спиртом производилось через верх обратного холодильника
так, чтобы стекающий спирт не доходил до уровня бокового отвода для трубки 2
(т.е. чтобы весь спирт проходил через банку с сырьем).
Для 445 г исходного сырья использовалось 2 л растворителя. Общее время экс-
тракции 9 часов. Интенсивность кипения - чем выше, тем лучше, но спирт из об-
ратного холодильника не должен попадать в трубку 2. Выход неочищенного пипе-
рина составил 27 г. Полнота экстракции практически 1.
Сравнительные характеристики этих методов представлены в Таблице 4.
Таблица 4
Параметр
Количество сырья на 1
г неочищенного пипе
рина
Количество этанола на
1 г неочищенного пи-
перина
Трудоемкость процесса
Технологические за-
траты
Полнота экстракции
Выход неочищенного
пиперина по отношению
к массе сырья
одностадийная
экстракция
при комнатной
температуре
56.3 г
94 мл
низкая
низкие
0.33
1.77%
одностадийная
экстракция при
кипячении
37.5 г
230 мл
средняя
средние
0.50
2.67%
многостадийная
экстракция при
кипячении
18.8 г
82 мл
высокая
средние
около 1
5.32%
горячая
проточная
экстракция
16.5 г
74 мл
низкая
высокие
около 1
6.07%
Таким образом, наиболее экономичными с точки зрения расхода растворителя и
в тоже время обеспечивающими практически полную экстракцию показали себя ме-
тоды многостадийной и проточной экстракции. При этом метод многостадийной
экстракции является наиболее трудоемким, а метод проточной экстракции требует
тщательной технологической подготовки.
Выбор и
подготовка
сырья
В качестве закупочного сырья рекомендуется черный перец только в виде го-
рошка. Покупать молотый перец не рекомендуется. В своих экспериментах я ис-
пользовал 5 образцов коммерческого "молотого черного перца", из них 2 образца
не содержали черного перца вообще. Причем один из этих образцов покупался в
виде пакетиков в крупном гипермаркете - в этом образце было сравнительно мно-
го фенольной фракции, т.е., по-видимому, это был молотый красный перец с ка-
кой-то дополнительной грязью для придания правильного цвета. Таким образом,
следует помнить, что покупая "молотый черный перец", вы покупаете буквально
неизвестно что (собственно, это справедливо и для огромного числа других про-
дуктов питания).
Черный перец горошком необходимо предварительно измельчить. От степени из-
мельчения зависит скорость и, как следствие, эффективность экстракции. Опти-
мально использовать для этого ножевую электрическую кофемолку. В стандартную
кофемолку хорошо вмещается 25 г перца, одна итерация измельчения занимает
около 1 минуты. Таким образом, полкилограмма черного перца можно измельчить
за 20 минут.
Свойства
сырья
Перечисленные величины помогают корректно оценить размеры лабораторной по-
суды, требуемой для экстракции:
■ Удельный объем сырья: 1.86 см3/г.
■ 500 г измельченного в кофемолке сырья занимает объем около 930 см3.
■ Начальная впитываемость: 0.65 мл этанола / 1 г сырья.
Начальная впитываемость определялась следующим образом: измельченное сырье
заливалось измеренным количеством этанола, тщательно перемешивалось, после
чего этанол сливался. Измерялся объем слитого этанола. Рассчитывалось остав-
шееся в сырье количество этанола в пересчете на 1 г исходного сырья.
■ Начальный удельный объем увлажненного сырья: 1.5 см3/г.
При увлажнении сырье дает усадку. Увлажненное сырье имеет на 20% меньший
удельный объем, чем сухое.
■ Предельная впитываемость: 0.92 мл этанола / 1 г сырья.
В процессе экстракции сырье разбухает и начинает удерживать больше раство-
рителя по сравнению с начальной впитываемостью. Эту величину можно использо-
вать для теоретической оценки степени экстракции.
Очистка
сырого
пиперина
Если предполагается использовать пиперин для синтеза пипероналя, то полу-
ченный в результате первичной обработки пиперин можно далее не очищать. Если
есть возможность, стоит промыть полученный пиперин бензином "Калоша", петро-
лейным эфиром или гексаном. Эта процедура повысит чистоту соединений, полу-
чающихся в результате гидролиза пиперина, и соответственно уменьшит расход
марганцовки для их окисления.
Для проведения промывки 5 г неочищенного пиперина нагревается до кипения
при тщательном перемешивании с 20 мл бензина (осторожно, горючие пары!), бен-
зин декантируется, процедура повторяется еще дважды каждый раз с 10 мл бензи-
на. Оставшийся продукт тщательно высушивается на воздухе при комнатной темпе-
ратуре .
Если по какой-то причине требуется чистый пиперин, то после промывки бензи-
ном пиперин можно перекристаллизовать из чистого ацетона. На 12 г неочищенно-
го пиперина берется 50 мл ацетона. Перекристаллизация из смеси аце-
тон :петролейный эфир = 7:3 (по аналогии с [5, 6]) в моих экспериментах давала
менее чистый продукт.
Эксперимент 1.
Выделение
пиперина методом
многостадийной
экстракции
Установка состоит из круглодонной колбы объемом 2 л, снабженной обратным
холодильником, и водяной бани. В колбу загружается 500 г измельченного сырья
и 800 мл 95% этанола. Смесь тщательно перемешивается, колба устанавливается
на водяную баню, подключается обратный холодильник. Смесь кипятится1 на водя-
ной бане в течение 2 часов, снова тщательно перемешивается2 и кипятится еще 2
1 Кипение должно быть как можно более слабое, иначе происходит перегрев на дне колбы
и, как следствие, появляются области с сухим сырьем - экстракция ухудшается. При пе-
ремешивании эти области отделяются в виде комков. В случае появления осушенных об-
ластей их следует отделить и постараться измельчить. По этой же причине - по причине
возможного перегрева части смеси - нежелательно использовать масляную баню без стро-
гого контроля ее температуры.
2 Перемешивать длинным шпателем или металлической трубкой толщиной З-б мм, стараясь
не давить на дно колбы: оно может лопнуть.
часа. Снова тщательно перемешивается, жидкая фаза декантируется как можно бо-
лее полно и фильтруется3. Объем фильтрата в среднем составляет 340-360 мл. В
колбу с сырьем доливается свежий этанол в количестве сравнимом с количеством
декантированного экстракта (т.е. также 340-360 мл). Смесь тщательно перемеши-
вается , после чего кипятится 1 час. Снова перемешивание и фильтрация. Этот
цикл повторяется еще 3 раза. Таким образом, общая продолжительность кипячения
составляет 8 часов. Количество используемого растворителя около 800 + 4*350 =
2200 мл. Общий объем объединенных фильтратов около 5*350 = 1750 мл. В случае
качественной декантации дополнительный отжим сырья на ткани практически не
повышает выхода (дает дополнительно около 25 мл) , поэтому после проведения
экстракций сырье из колбы можно смело выбрасывать.
Объединенные фильтрованные экстракты отстаиваются 12 часов и снова фильтру-
ются от выпавшего осадка через бумажный фильтр на воронке Бюхнера4.
Полученный фильтрат упаривается на водяной бане в обычном перегонном аппа-
рате с обязательным добавлением кипятильников5 до объема 280 мл6 и охлаждает-
ся до комнатной температуры. К нему добавляется раствор 13 г КОН или 8 г NaOH
в 100 мл этанола7. Полученная смесь недолго перемешивается и оставляется на
отстаивание на 10 минут. Жидкость декантируется с выпавшей черной смолы. К
жидкости при перемешивании добавляется 400 мл воды. Смесь отстаивается 12 ча-
сов . Выпавший осадок отфильтровывается на воронке Бюхнера и промывается в 3
порции смесью этанол:вода = 1:1 (по объему). Общее количество промывочной
смеси 100 мл. Промывка убирает заметную часть масел. Осадок - масса зеленого
или рыжего цвета с характерным острым вкусом8. Вещество следует сушить на бу-
мажных листах при комнатной температуре (не нагревать!). Бумага нужна для
впитывания остатка масел:
3 Фильтровать удобно через бумажный фильтр на воронке Бюхнера.
4 Не взмучивать перед фильтрацией, т.к. осадок забивает фильтр и фильтрация идет
медленно.
5 Экстракт очень склонен к перегреву. Если перегонка прерывается, то перед возобнов-
лением необходимо добавить свежие кипятильники. Ни в коем случае нельзя добавлять
кипятильники в нагретую жидкость! Если добавление произойдет в перегретую жидкость,
получите фонтан легкогорючего спирта до потолка.
6 Дистиллят после процедуры регенерации может использоваться для проведения новых
экстракций.
7 Это требуется для осаждения части смолообразных кислых веществ [13]. При подготов-
ке раствора щелочи следует иметь в виду, что КОН достаточно быстро растворяется в
этаноле, в то время как NaOH растворяется довольно медленно. Так, например, при ком-
натной температуре и постоянном перемешивании 3.7 г NaOH (в виде гранул со средним
диаметром 2-2.5 мм) растворилось в 30 мл 95% этанола за 1 час. 12 г NaOH (в виде
гранул) растворилось без перемешивания в 100 мл этанола при температуре кипения так-
же за 1 час. Очевидно, наиболее быстро получится растворять при кипении и перемеши-
вании одновременно. При растворении щелочи требуется защита от углекислого газа, со-
держащегося в воздухе (например, можно обжать верх обратного холодильника кусочком
алюминиевой фольги). Несмотря на то, что это может ускорить растворение, предвари-
тельно измельчать щелочь не рекомендуется в целях техники безопасности.
8 Острый вкус чувствуется не сразу, а с некоторой задержкой. Это особенность пипери-
на (следствие его низкой растворимости в воде).
Периодически пропитанные остатками масел листы нужно заменять на чистые. К
фильтрату, объединенному с промывочными фракциями, добавляется 200 мл воды.
Через 12 часов дополнительно выпавший осадок отфильтровывается и промывается
20 мл смеси спирт:вода (1:1 по объему). Второй кроп после сушки представляет
собой комки из мягкого немного упругого (резинистохю) вещества. Общий выход в
районе 27 г. Цвет от хаки до рыжего:
Гидролиз
пиперина
Осуществляется в спиртовом растворе щелочи. При гидролизе образуется соот-
ветствующая соль пипериновой кислоты и пиперидин:
В значимой публикации [14] для гидролиза использовали КОН. Методика такая:
1 часть мелкоизмельченнохю пиперина, 1 часть КОН и 5 частей этанола кипятятся
в спокойном режиме с обратным холодильником на водяной бане 24 часа, после
охлаждения осадок продукта отфильтровывается. Все методики гидролиза пипери-
на, которые мне попадались, также использовали для гидролиза гидроксид калия.
В бытовом плане NaOH более доступен, поэтому я исследовал возможность исполь-
зования его для гидролиза пиперина. Процедура оказалась в той же степени эф-
фективна, как и при использовании гидроксида калия.
Для гидролиза можно использовать неочищенный пиперин. Для повышения чистоты
получающейся соли пипериновой кислоты и, соответственно, уменьшения расхода
марганцовки для его окисления можно промыть полученный пиперин бензином "Ка-
лоша" .
При использовании NaOH следует иметь в виду, что растворяется он в этаноле
значительно медленнее, чем КОН. Растворимость NaOH в этаноле согласно [15]
составляет 14.7 wt.% (массовая доля в процентах) при 28 С.
В качестве побочного продукта реакции может быть выделен пиперидин.
Реакция проводится при температуре кипения. Желательно проводить реакцию
при постоянном перемешивании смеси. В случае отсутствия такой возможности
следует перемешивать смесь периодически не реже одного раза в час. Если смесь
не перемешивать, то выпадающий осадок может слипаться на дне, образуя уплот-
ненные комки.
Эксперимент 1.
Пиперинат натрия
В круглодонную колбу объемом 250 мл помещалось 12.05 г NaOH и 100 мл этано-
ла. Колба закрывалась обратным холодильником. Верх обратного холодильника об-
жимался фольгой для предотвращения контакта с углекислым газом из воздуха.
Смесь нагревалась до кипения на водяной бане и кипятилась до растворения ще-
лочи (в конце колба встряхивалась для ускорения растворения), на что ушло 65
минут. Полученный раствор несколько мутный, возможно из-за наличия примеси
Na2C03. В горячий щелочной раствор добавлялся неочищенный пиперин массой
17.45 г. Колба взбалтывалась (круговыми движениями) в горячей бане до практи-
чески полного растворения осадка, на что ушло около 5 минут. Смесь кипятилась
в спокойном режиме 10 часов. Постепенно начинал выпадать осадок. Раз в час
смесь перемешивалась шпателем, чтобы предотвратить образование комков осадка.
Вероятно, большая часть реакции происходит в течение первых 3 часов. В конце
добавлялось 50 мл этанола и смесь тщательно перемешивалась, по мере возможно-
сти раздавливая все комки, после чего оставлялась в закрытой колбе на 12 ча-
сов.
Осадок отфильтровывался на воронке Бюхнера (фильтр Шотта в этих условиях
засорялся), остаток вымывался из колбы 20 мл этанола. Осадок на фильтре про-
мывался с осторожным взмучиванием семью порциями этанола по 30 мл каждая.
Вначале фильтрат темно-красный, в конце - желтый. Осадок сушился несколько
часов на бумаге при комнатной температуре. Когда осадок достаточно подсох, он
измельчался в ступке (лучше не дожидаться пока он высохнет окончательно: ве-
щество может слипаться в твердые кусочки, которые потом измельчаются с тру-
дом) . После сушки получилось 11.74 г бежево-желтого вещества без запаха и
вкуса.
1
Маточный фильтрат после длительного отстаивания дает еще некоторое количе-
ство осадка, который практической ценности не имеет (дает лишь незначительное
количество пипероналя при окислении марганцовкой).
Эксперимент 2.
Пиперинат калия
16.60 г неочищенного пиперина растворялось при нагревании в 30 мл этанола,
давая темно-зеленый раствор. К полученному горячему раствору при перемешива-
нии добавлялся раствор 15 г КОН в 40 мл этанола. Смесь несильно кипятилась с
обратным холодильником при перемешивании на магнитной мешалке в течение 10
часов. Смесь охлаждалась до 0 С и фильтровалась. Осадок промывался на фильтре
несколькими порциями этанола (в сумме 70 мл). После сушки было получено 12.24
г вещества светло-горчичного цвета.
Эксперимент 3.
Выделение пиперидина
в виде гидрохлорида
Объединенные спиртовой маточник и промывочные фракции от гидролиза 22.6 г
неочищенного пиперина отгонялись на перегонном аппарате, в конце осторожно
под вакуумом водоструйного насоса9. В конце отгонки дистиллят приобретал зе-
леноватый цвет. К полученному дистилляту по каплям при перемешивании добавля-
лась конц. соляная кислота до рН « 3. Всего на нейтрализацию ушло около 7 г
соляной кислоты.
Подкисленный дистиллят отгонялся на перегонном аппарате, в конце осторожно
под вакуумом водоструйного насоса10. К остатку добавлялся ацетон, полученная
суспензия перемешивалась, отфильтровывалась. Осадок промывался ацетоном, да-
вая белоснежное кристаллическое вещество (длинные спутанные кристаллы).
Фильтрат, объединенный с промывочными фракциями, после некоторого отстаивания
дал еще немного кристаллов. Повтор процедуры дал еще маленькое количество ве-
щества. Вещество сушилось на воздухе, затем 1 час при 100 С. Общая масса по-
лученного гидрохлорида пиперидина составила 4.69 г.
Эксперимент 4. Получение
пипериновой кислоты
Пипериновая кислота практически не растворима в воде, и поэтому ее можно
выделить подкислением водного раствора пиперината калия.
В 100 мл горячей воды растворялось 0.3 г NaOH. К полученному раствору до-
бавлялось 6.42 г пиперината калия. Смесь нагревалась до кипения (становясь
почти прозрачной) и фильтровалась горячей, оставляя на фильтре очень неболь-
шое количество черного осадка. Фильтрат при перемешивании подкислялся смесью
9 Вместо использования водоструйного насоса здесь можно провести отгон с водяным па-
ром.
10 После подкисления и отгонки основной части смеси остаток перед промывкой ацетоном
следует подсушить от избытка воды при 120 С.
5 мл конц. соляной кислоты и 10 мл воды. Осадок отфильтровывался, промывался
водой и сушился на воздухе. Масса получившегося светло-желтого вещества 5.00
г.
Получение
пипероналя
Пиперональ может быть получен как при окислении пиперина, так и при окисле-
нии продуктов его гидролиза.
Самым простым и давшим наибольший выход оказался метод окисления солей пи-
периновой кислоты перманганатом в водном растворе. По совместительству - это
оригинальный метод синтеза пипероналя, описанный в [14] полтора столетия тому
назад. Поиск легких путей не является нашей прерогативой, поэтому вначале был
проработан ряд альтернативных методов.
Для начала методы, не давшие практических результатов.
Окисление оксидом меди (II)
Идея взята из патента [16], где приводится метод получения сиреневого аль-
дегида окислением 3,5-диметокси-4-гидроксипропенилбензола. Из предварительных
экспериментов можно было сделать следующие выводы:
■ в нейтральной среде пиперинат калия практически не реагирует с осадком
гидрооксида меди,
■ в щелочной среде пиперинат калия окисляется оксидом меди,
■ в нейтральной или слабощелочной среде пиперинат калия окисляется комплек-
сом, получаемым из окиси меди и сегнетовой соли.
Было решено попробовать окислить пиперинат калия в близкой к нейтральной
среде, чтобы уменьшить потенциальное влияние реакции Канниццаро (которая для
пара-гидроксибензальдегидов проблемой не является [17]). В результате экспе-
римента (Эксперимент 1) можно сделать следующие выводы:
■ пиперинат калия претерпевает окисление в слабощелочной среде в присутствии
ионов двухвалентной меди (на это указывает появление относительно большого
количества красного осадка оксида меди (I)),
■ среди продуктов реакции пипероналя нет или его ничтожно мало,
■ также не обнаружено пиперонилового спирта,
■ среди продуктов реакции присутствуют плохо растворимые вещества с высокими
температурами плавления.
Окисление бихроматом калия
В качестве исходной здесь служила методика окисления изосафрола, взятая из
[18] .
В этой методике к смеси 10 кг изосафрола (62 моль), 19.2 кг бихромата калия
(65 моль) и 164 л воды добавляется со скоростью 2 литра в час 16-17 литров
серной кислоты с концентрацией около 93% (280 - 300 моль) . Температура под-
держивается на уровне 38-40 С. Выход пипероналя после всех очисток 40-45%.
Выводы ряда проведенных экспериментов (Эксперименты 2, 3, 4):
■ в слабощелочной среде окисление пиперината калия хромат-анионом если и
идет, то слишком медленно для препаративного использования;
■ в кислой среде пипериновая кислота полностью окисляется бихроматом калия,
но в результате не получаются ни пиперональ, ни пиперониловая кислота.
Возможно, происходит деградация метиленового мостика;
■ окисление пиперина в уксусной кислоте бихроматом калия в присутствии сер-
ной кислоты, вероятно, проходит, но практически значимое количество пипе-
роналя не образуется.
Окисление пероксидом водорода и ортоиодной кислотой
Идея была в гидроксилировании пипериновой кислоты с последующим расщеплени-
ем полученного продукта ортоиодной кислотой.
Вообще-то, ортоиодная кислота не самый доступный реактив в бытовом смысле.
Однако если бы выход получился хороший, можно было бы разработать несложный
метод синтеза этой кислоты и метод ее регенерации из отработанных растворов.
Я попробовал 4 метода гидроксилирования (Эксперимент 5):
1. в водной среде пероксидом водорода в присутствии вольфрамата натрия в ка-
честве катализатора;
2. то же, но с большим избытком пероксида водорода;
3. в водно-щелочном растворе гидроперитом;
4 . в уксусной кислоте гидроперитом.
Из проведенных экспериментов можно сделать вывод, что реакция перекиси во-
дорода с пипериновой кислотой каким-то образом все-таки проходит. Но либо не
в нужном направлении, либо какие-то проблемы возникают при окислении ортоиод-
ной кислотой.
Следующие методики привели к получению пипероналя, но оказались слишком
трудоемкими для практического использования.
Окисление пиперина перманганатом тетрабутиламмония в хлористом метилене
За основу была взята методика [19]. Окислитель - перманганат тетрабутилам-
мония - готовился отдельно в водной среде в отличие от оригинальной методики.
Полученный в результате окисления продукт оказался весьма загрязненным
(Эксперимент 6). Очистки продукта не производилось. Метод оказался достаточно
трудоемким, и поскольку впоследствии были найдены более удобные методики по-
лучения пипероналя, то больше этот метод не исследовался.
Окисление пипериновой кислоты перманганатом калия на окиси алюминия в хло-
ристом метилене
Методика окисления заимствована из [20]. В этой методике приводятся данные
по окислению замещенных стиролов и коричных кислот.
В оригинальной методике на окисление 1 ммоль исходного вещества использова-
лось 4.68 г окисляющей смеси или 0.78 г в пересчете на КМп04. Учитывая, что в
пипериновой кислоте две двойных связи в боковой цепи, количество окисляющей
смеси в моих экспериментах было увеличено и варьировалось от 5.4 г до 9.8 г.
Кроме этого, я попробовал использовать для приготовления окисляющей смеси
не только указанную в оригинальной методике кислую окись алюминия, но и ней-
тральную. Кислая окись получалась из нейтральной с помощью небольшой добавки
соляной кислоты.
Отношения реагентов при изготовлении окисляющей смеси были следующие:
■ для смеси нейтрального типа: 5 г нейтральной окиси алюминия, 1.25 г КМп04
и 1.25 мл воды,
■ для смеси кислого типа: 5 г нейтральной окиси алюминия, 1.25 г КМп04 и
1.25 мл 0.25% раствора соляной кислоты.
В пересчете на 1.0 г (4.6 ммоль) исходной пипериновой кислоты данные экспе-
риментов (общая методика дана в Эксперименте 7) представлены в Таблице 5.
Таблица 5
№
1
2
3
4
5
Коли-
чество
окис-
лите-
ля, г
25
38
45
45
45
Тип окисли-
теля
нейтральный
нейтральный
кислый
кислый
нейтральный
Объем
раство-
рителя ,
мл
60
75
100
120
100
Температура,
при которой
велось добав-
ление окисли-
теля , С
40
40
2
40
40
Время
перемеши-
вания ,
чч:мм
1:30
9:40
5:00
11:30
3:00
Вы-
ход*,
%
63
62
54
56
65
Качествен-
ная характе-
ристика по-
лученного
вещества
II
II
I
I
II
Выход по неочищенному веществу
I - Раствор продукта в MX практически бесцветный. Неочищенный продукт
масло светло-желтого цвета. Относительно быстро и почти полностью кристалли-
зуется при температуре 25°С. II - Раствор продукта в MX желоватый. Неочищен-
ный продукт - светло-красное масло. При температуре 25 С кристаллизуется пло-
хо или совсем не кристаллизуется. Полностью застывает в морозильнике.
Из представленной серии экспериментов были сделаны следующие выводы:
■ в общем случае смесь нейтрального типа дает несколько больший выход, одна-
ко более загрязненного вещества, поэтому, применение кислой смеси более
предпочтительно;
■ время реакции (от полутора до одиннадцати с половиной часов) не влияет
принципиально на выход;
■ добавлять ли окислитель при температуре кипения MX или при пониженной, по-
видимому, не играет значения;
■ количество растворителя для реакции в пределах от 60 до 120 мл на 1 г ис-
ходного вещества также принципиально не влияет на выход.
Полученное в результате проведенных экспериментов вещество очищалось с по-
мощью перевода в бисульфитное производное (Эксперимент 8).
И наконец, оптимальный метод.
Окисление пиперината калия или натрия перманганатом калия в водной среде
Методика [14] была повторена для получения ряда количественных данных (вы-
ход , летучесть с водяным паром и т. п.), не указанных в оригинальной статье.
В результате повтора методики с 4 г пиперината калия (Эксперимент 9) были
получены следующие результаты. При перегонке с водяным паром был собран дис-
тиллят объемом 250 мл, причем основное количество пипероналя содержалось в
первых 150 мл (дистиллят молочного цвета). После экстракции хлористым метиле-
ном из дистиллята было выделено 0.88 г пипероналя. Маточный раствор после
экстракции хлористым метиленом дал 0.37 г пипероналя. Суммарный выход соста-
вил 1.25 г (53%). Таким образом, работая с небольшими загрузками, следует
иметь в виду, что если для выделения продукта использовать только перегонку с
водяным паром, это может прилично снизить выход.
Был проведен эксперимент для проверки, не увеличится ли выход альдегида,
если проводить реакцию в присутствии хлористого метилена, который сразу бы
экстрагировал получающийся пиперональ, препятствуя его дальнейшему окислению
(Эксперимент 10). Кроме этого, в данном эксперименте производилась непосред-
ственная экстракция альдегида из водного раствора без перегонки с водяным па-
ром. Эксперимент показал, что выход в этом случае не увеличивается. Также
стало ясно, что выделение продукта можно производить экстракцией маточного
раствора после отфильтровывания осадка. Полученный продукт получается окра-
шенным, но достаточно чистым для проведения последующих реакций.
Серия экспериментов была проведена с целью выяснить оптимальное соотношение
между количествами перманганата и пиперината калия. Также было интересно про-
верить, повлияет ли на выход добавка сульфаминовой кислоты: при окислении
сафрола бихроматом [18] это помогает. Ну и наконец, хотелось посмотреть, как
будет вести себя в качестве окислителя манганат калия в щелочной среде. В
рамках эксперимента получать его планировалось частичным восстановлением пер-
манганата метабисульфитом натрия:
4КМп04 + 6КОН + Na2S205 -► 4K2Mn04 + K2S04 + Na2S04 + 3H20
Данные по экспериментам сведены в Таблицу 6. Оптимальное массовое соотноше-
ние перманганат калия/пиперинат калия оказалось 1.8 (Эксперимент 11). Это
справедливо для пиперината, полученного в рамках методики Эксперимента 2 (вы-
ше) . Точное содержание основного продукта в нем не исследовалось и, возможно,
для пиперината, полученного другими методами, это соотношение может немного
меняться. При добавлении заведомого избытка перманганата к раствору пиперина-
та, запах альдегида через некоторое время пропадает практически полностью,
таким образом, избыток перманганата нежелателен.
Таблица 6
№
1
2
Количество КМп04, г на
1.0 г пиперината калия
1.6
1.7
Дополнительные добавки
-
-
Выход,
%
53
56
3
4
5
6
7
1.8
1.8
1.9
2.0
3.0
-
170 мг сульфаминовой кислоты, 90 мг ЫаНСОз
-
-
0.9 г Na2S205, 1.8 г КОН**
59
60
53
53
27
Готовился раствор 170 мг сульфаминовой кислоты и 90 мг NaHC03 в 20 мл во-
ды. К полученному раствору добавлялся 1.0 г пиперината калия и 20 мл воды.
Раствор окислялся перманганатом и обрабатывался, как указано в Эксперименте
11.
3.0 г КМп04 растворялось в 20 мл воды, добавлялся раствор 1.8 г КОН (90%)
в 20 мл воды и далее раствор 0.9 г Na2S205 в 10 мл воды. После перемешивания в
течение нескольких минут смесь использовалась для окисления 1.0 г пиперината
калия, как указано в Эксперименте 11.
Пиперинат калия может быть заменен на пиперинат натрия (Эксперимент 13). На
выход это практически не влияет. При проработке синтеза были некоторые сомне-
ния в возможности использования для него натриевой соли. Эти сомнения были
вызваны замечанием в [21, стр.60-61] о низкой растворимости натриевой соли
("...Es ist schwer loslich in kaltem, leicht in heissem Wasser. ..."). Экспе-
риментальная оценка растворимости пиперината натрия в воде дала величину око-
ло 2.4 г/100 мл при 22 С, что вполне достаточно для приготовления используе-
мого при проведении реакции 2.5%-го раствора при 40 С. Более того, обесцвечи-
вание раствора перманганата происходит даже при добавлении его к суспензии
пипериновой кислоты в воде при комнатной температуре.
Если суммировать информацию по выходам в результате реакций окисления пер-
манганатом в водной среде, получается следующая картина:
Таблица 7
соль пипериновой кислоты
пиперинат калия
пиперинат натрия
исходный пиперин
неочищенный
очищенный
неочищенный
очищенный
выход альдегида
59%
59%
45%
56%
Следующая таблица отражает выход альдегида по отношению к исходному пипери-
ну:
Таблица 8
соль пипериновой
кислоты
пиперинат калия
пиперинат натрия
выход альдегида в граммах на
1 г неочищенного пиперина
0.22-0.25
0.20-0.21
выход альдегида в граммах на
1 г очищенного пиперина
0.28
0.28
То есть пиперинат калия, полученный по представленной методике из неочищен-
ного пиперина, давал практически такой же выход, как и пиперинат калия, полу-
ченный из очищенного перекристаллизацией пиперина. В случае использования пи-
перината натрия ситуация менялась. Выход пипероналя из пиперината натрия, по-
лученного из очищенного промывкой бензином пиперина, был заметно выше (56%
против 45%) по сравнению с пиперинатом натрия, полученным из неочищенного пи-
перина. В тоже время относительный выход альдегида в пересчете на исходный
неочищенный пиперин сохранялся. Это говорит о том, что получающийся из неочи-
щенного пиперина пиперинат натрия содержал дополнительные примеси. В частно-
сти это означает, что пиперинат натрия, полученный из неочищенного пиперина,
требует меньшего количества окислителя. Чтобы исключить этот момент из рас-
смотрения, можно ввести стадию промывки пиперина бензином.
В проведенных экспериментах для натриевой соли я использовал то же соотно-
шение перманганат-пиперинат, как и для калиевой соли, т.е. 1.8. Однако если
учитывать снижение молекулярной массы при переходе от калиевой соли к натрие-
вой , то это отношение следует снизить до 1.7. Не исключено, что это поможет
немного увеличить выход.
Также при использовании синтезированного перманганата калия следует учиты-
вать его чистоту, которую можно определить титрованием.
В качестве растворителя для экстракции может использоваться практически лю-
бой несмешивающийся с водой растворитель, за исключением неполярных раствори-
телей (бензин, гексан, петролейный эфир и т.п.). Желательно чтобы он был от-
носительно низкокипящим (MX, диэтиловый эфир). Это позволяет упростить выде-
ление конечного продукта. При недостаточном удалении растворителя могут воз-
никнуть проблемы с кристаллизацией.
Отдельное внимание было уделено использованию в качестве растворителя для
экстракции легкодоступного неядовитого и слабо раздражающего кожу этилацета-
та. Он оказался вполне подходящим (Эксперимент 12)
В качестве альтернативного метода можно предложить вообще не экстрагировать
раствор (это касается как маточного раствора, так и дистиллята, если произво-
дилась перегонка с водяным паром), а насытить его поваренной солью (не более
25 г на 100 мл) и оставить на несколько дней в холодильнике. После чего от-
фильтровать выпавший альдегид. Выход при этом может оказаться значительно за-
ниженным .
Полученный альдегид в случае необходимости можно дополнительно очистить че-
рез бисульфитное производное (Эксперимент 8).
Одним из побочных продуктов реакции является пиперониловая кислота (3,4-
метилендиокси-бензойная кислота) [14]. Само по себе вещество интересное, но в
моем случае все попытки выделить его в чистом виде из реакционной смеси были
слишком сложны из-за необходимости отделения непрореагировавшей пипериновой
кислоты. Учитывая, что выход пиперониловой кислоты невелик, думаю, что выде-
лять ее нецелесообразно.
Еще одним продуктом реакции является оксид марганца. В [14] делается пред-
положения, что это оксид марганца (III) . Если есть необходимость, после реге-
нерации его можно использовать для синтеза перманганата калия.
Эксперимент 1. Окисление
пиперината калия
оксидом меди (II) (выход 0%)
10 г CuS04*5H20 (40 ммоль) растворялось в 30 мл теплой воды. При пе-
ремешивании добавлялся раствор 3.5 г NaOH (95%, 83 ммоль) в 10 мл воды. Выпа-
дал объемный голубой осадок, который практически полностью растворялся после
добавления 12 г сегнетовой соли (42 ммоль) и 10 мл воды. Полученный раствор
фильтровался и к нему добавлялось 5 г CuSO4*5H20 (20 ммоль) , давая несколько
мутный раствор зеленого цвета с практически нейтральной реакцией.
35 мл полученного раствора нагревалось при перемешивании, после чего добав-
лялось 1.0 г пиперината калия (4 ммоль). Раствор кипятился с обратным холо-
дильником при перемешивании в течение 3 часов. По окончанию в смеси присутст-
вовал объемный осадок бирюзового цвета.
Чтобы растворить осадок, в горячую смесь добавлялось 1.75 г (6.2 ммоль)
сегнетовой соли. Смесь кипятилась еще 30 мин. Осадок не растворился. Раство-
рить осадок удалось добавлением раствора 1.5 г NaOH (35 ммоль) в 5 мл воды.
Через 1 час явно угадывался запах пипероналя. Дополнительно добавлялось еще 1
г NaOH (23 ммоль), после чего смесь кипятилась еще 9 часов.
Полученная смесь фильтровалась. Осадок на фильтре промывался этанолом (про-
мывочные фракции сохранялись отдельно), после сушки масса осадка 4.37 г. Оса-
док помещался в раствор сегнетовой соли в крепком растворе NaOH. Смесь от-
стаивалась сутки, после чего фильтровалась. Осадок - красное вещество, оче-
видно Cu20, масса около 3 г (20 ммоль). Спиртовые промывочные фракции после
упаривания дали 0.27 г кристаллического вещества с температурой плавления вы-
ше 100 С. Вещество практически не растворялось в эфире, хлористом метилене,
ацетоне, с трудом растворялось в метаноле и этаноле, растворялось в кипящей
воде и горячей уксусной кислоте. Не растворялось при нагреве в растворе би-
сульфита натрия. Фильтрат экстрагировался эфиром. После упаривания эфира ос-
тавалось крайне малое количество маслянистого вещества. Фильтрат подкислялся
серной кислотой, при этом выпадало некоторое количество белого осадка не рас-
творимого в хлористом метилене. Фильтрат экстрагировался хлористым метиленом,
который после упаривания давал небольшое количество вещества в виде мелких
желтых игл. Вещество не растворялось в кипящей воде, эфире, с трудом в хлори-
стом метилене, хорошо растворялось в ТГФ, неплохо растворялось в ацетоне и
уксусной кислоте.
Эксперимент 2. Окисление
пипериновой кислоты
дихроматом калия в
кислой среде (выход 0%)
0.5 г пиперината калия (2 ммоль) суспензировалось в 10 мл воды. При переме-
шивании добавлялось 1.25 г К2Сг207 (4.2 ммоль). Смесь становилась вязкой из-за
выпадающего мелкодисперсного осадка (пирериновая кислота). После растворения
кристаллов бихромата, смесь подогревалась приблизительно до 30 С, после чего
по каплям при перемешивании в течение 10 мин добавлялось 2 мл ЮМ серной ки-
слоты (20 ммоль). Температура смеси 35 С. Цвет смеси поменялся с оранжевого
на горчичный. Смесь была оставлена на перемешивание. Еще через 20 мин добав-
лялось 5 мл хлористого метилена. Растворитель был добавлен, чтобы экстрагиро-
вать пиперональ (если он получился) и уменьшить, таким образом, его контакт с
окисляющей смесью. Смесь нагревалась до кипения (температура смеси около 40
С) и кипятилась при перемешивании в течение 1 часа. Далее добавлялось еще
0.35 мл ЮМ серной кислоты (3.5 ммоль) и 2 мл хлористого метилена. Перемеши-
вание продолжалось дополнительно 2 часа. Смесь фильтровалась. Масса осадка
после сушки около 60 мг. Органическая фаза отделялась, промывалась насыщенны-
ми растворами соды и поваренной соли, сушилась сульфатом натрия. После уда-
ления растворителя получилось около 50 мг очень темного масла, не крис-
таллизующегося и не растворяющегося в растворе бисульфита.
Эксперимент 3. Окисление
пиперината калия бихроматом калия
в слабощелочной среде (выход 0%)
0.5 г пиперината калия (2 ммоль) растворялось в 20 мл горячей воды. Добав-
лялось 1. ЗЗг К2Сг207 (4.5 ммоль) и 0.57 г КОН (90%, 9 ммоль). Смесь быстро по-
темнела, приобретая зеленый цвет. При перемешивании смесь доводилась до кипе-
ния. Через 10 мин осадок почти полностью растворился. Кипячение продолжалось
около 30 мин, после чего 10 мл смеси отгонялось. Дистиллят пахнет пиперона-
лем, но выделить сколько-нибудь весомое количество не удалось. Исходный рас-
твор при охлаждении до 40 С закристаллизовался кашеобразную массу (вероятно,
смесь исходных веществ).
Эксперимент 4. Окисление
пиперина бихроматом калия
в уксусной кислоте (выход 0%)
0.93 г пиперина (3.3 ммоль) растворялось в 10 мл уксусной кислоты, после
чего раствор разбавлялся 5 мл воды. При перемешивании и температуре не выше
35 С по каплям добавлялся раствор, содержащий 10 мл воды, 2.24 г бихромата
калия (7.6 ммоль) и 2.7 мл конц. серной кислоты. В конце добавления выпадал
осадок (по-видимому, непрореагировавшее исходное вещество). Для его растворе-
ния добавлялось 7 мл уксусной кислоты. Цвет смеси темно-зеленый. После пере-
мешивания в течение 20 мин смесь нагревалась до 40 Си перемешивалась при
этой температуре в течение часа. Смесь охлаждалась, разбавлялась раствором 30
г КОН в 20 мл воды, фильтровалась и экстрагировалась хлористым метиленом. Ор-
ганическая фаза промывалась раствором бикарбоната натрия, водой, насыщенным
раствором NaCl, сушилась сульфатом натрия и упаривалась, давая незначительное
количество темно-красного масла с характерным запахом пипероналя.
Эксперимент 5. Окисление
пероксидом водорода и
ортоиодной кислотой (выход 0%)
Подход 1
В 5 мл воды растворялось 0.5 г Na2W04*2H20 (1.5 ммоль), добавлялось 0.5 г
пиперината калия (2 ммоль) и затем 0.2 мл 30% раствора пероксида водорода (2
ммоль). Смесь перемешивалась и нагревалась до 50 С. Полученный раствор почти
прозрачный с небольшим количеством нерастворившейся взвеси. Через 20 минут
тест с KI показал, что перекиси водорода в растворе не осталось. Дополнитель-
но добавлялось 0.2 мл 30%-й Н202. Через 25 минут тест был отрицательным, до-
бавлялось 0.18 мл 30%-й Н202. Через 1 час тест снова был отрицательным, до-
бавлялось 0.2 мл 30%-й Н202. Еще через 40 минут смесь фильтровалась от малого
количества коричневого осадка, давая фильтрат коричневато-оранжевого цвета.
К фильтрату добавлялось 0.50 г КЮ4 (2.2 ммоль, весь растворился), затем
еще 0.17 г КЮ4 (практически не растворился) и в конце 0.7 г Н510б (3.1
ммоль). При этом выпадал осадок. Смесь перемешивалась при температуре 45 С в
течение 30 минут, добавлялось 0.3 г NaHC03 (3.6 ммоль) и смесь дополнительно
перемешивалась еще 20 минут. После охлаждения смесь фильтровалась и экстраги-
ровалась двумя порциями по 10 мл диэтиловохю эфира. Объединенные органические
экстракты промывались насыщенными растворами NaHC03 и NaCl, сушились и упари-
вались, давая в остатке грязно-желтое масло массой около 40 мг с явно выра-
женным ароматическим запахом.
Подход 2
К смеси 2.6 мл воды и 2.6 мл 30%-й Н202 (24 ммоль) добавлялось 50 мг (0.15
ммоль) Na2W04*2H20. К полученному раствору добавлялось 0.5 г пиперината калия
(2 ммоль). Полученная смесь постепенно нагревалась при перемешивании. Через
1.5 часа была достигнута температура 60 С и началось заметное выделение газа.
При этой температуре смесь перемешивалась еще 30 минут и затем еще час при
температуре 85 С.
Добавлялось 0.4 мл конц. соляной кислоты, при этом из раствора выпадал
хлопьевидный осадок. Раствор нагревался до 90 С (при этом практически весь
осадок растворялся) и выдерживался при этой температуре 30 мин. Раствор
фильтровался горячим от небольшого количества коричневой взвеси. После не-
сильного охлаждения из раствора снова выпадали белые хлопья. Раствор нагре-
вался до почти полного растворения осадка, к нему добавлялось 0.4 мл конц.
соляной кислоты и после охлаждения до комнатной температуры добавлялось 0.5 г
(2.1 ммоль) KIO4 и 1.0 г (4.4 ммоль) Н510б. К полученной смеси постепенно до-
бавлялся NaHC03 до рН«8. Смесь перемешивалась 30 минут и фильтровалась. После
экстракции эфиром и стандартной обработки было получено похожее (в сравнении
с продуктом предыдущего подхода) масло с еще более низким выходом.
Подход 3
Готовилась смесь 20 мл воды, 0.5 г (2 ммоль) пиперината калия и 0.5 г NaOH.
При перемешивании добавлялось 1.5 г грубо измельченного гидроперита (1 таб-
летка) . Смесь постепенно нагревалась. При 65 С началось заметное выделение
газа. При 70 С раствор стал практически прозрачным. После того как тест с KI
стал отрицательным (около 30 минут), раствор охлаждался до комнатной темпера-
туры и к нему добавлялся раствор 1.85 г Н510б в 10 мл воды. Полученный мутный
раствор (рН«8) нагревался недолго при 45 С, охлаждался, фильтровался и экст-
рагировался хлористым метиленом. После удаления растворителя было получено
незначительное количество красного масла с запахом, напоминающим пиперональ.
Осадок на фильтре после сушки весил 270 мг. Он растворялся в водной щелочи
и осаждался кислотой. Не растворялся в горячей воде. Вероятно, это непрореа-
гировавшая пипериновая кислота. Фильтрат после экстракции MX не давал допол-
нительного осадка после подкисления. Таким образом, около 320 мг исходного
вещества не прореагировало.
Подход 4
К 5 мл уксусной кислоты добавлялось 0.5 г пиперината калия. При пе-
ремешивании добавлялось 1.44 г измельченного гидроперита. Смесь нагревалась
до 70 С и выдерживалась при этой температуре около 4 часов. По истечению это-
го времени тест показал отсутствие перекиси в растворе. Раствор разбавлялся
10 мл воды, при этом слегка помутнел, но осадка не выпало. То есть практиче-
ски вся пипериновая кислота прореагировала.
К полученному раствору желтого цвета добавлялся раствор 3.6 г NaOH в 8 мл
воды. При этом рН«7, цвет раствора стал оранжевым. Дополнительно добавлялся
раствор 2 г NaOH. Цвет раствора стал темно-чайным. Полученный раствор нагре-
вался 30 минут при 80 С, охлаждался до комнатной температуры. К нему добавля-
лось 10 мл хлористого метилена и затем при перемешивании раствор 1.8 г Н510б
в 10 мл воды. Выпадало небольшое количество белого осадка (вероятно, КЮ4) .
Смесь фильтровалась, слои разделялись. К водной фазе дополнительно добавлялся
раствор 1 г Н5Юб в 10 мл воды. Раствор экстрагировался MX. Объединенные ор-
ганические экстракты упаривались, давая в остатке около 40 мг красного некри-
сталлизующегося масла, с запахом напоминающим пиперональ.
Эксперимент 6. Окисление пиперина
перманганатом тетрабутиламмония
в хлористом метилене
К раствору 6.0 г гидросульфата тетрабутиламмония (TBA*HS04) в 50 мл холод-
ной воды при перемешивании добавлялся раствор 3.0 г КМп04 в 50 мл воды. После
перемешивания в течение 2 минут выпавший осадок отфильтровывался на фильтре
Шотта и промывался 50 мл холодной воды. Осадок сушился отжиманием между лис-
тами фильтровальной бумаги и затем на воздухе при 40 С. Выход 6.0 г перманга-
ната ТБА (94% в пересчете на TBA*HS04) .
Готовился раствор 1.0 г (3.5 ммоль) пиперина в 15 мл MX. Раствор охлаждался
до 2 С, и при перемешивании по каплям добавлялся раствор 4.25 г ТБА*Мп04 в 25
мл MX. Добавление производилось в течение 20 минут, следя, чтобы температура
смеси не поднималась выше 4 С. Полученная смесь перемешивалась при комнатной
температуре в течение 1 часа. После этого к смеси добавлялся холодный раствор
8 мл уксусной кислоты и 0.19 г ацетата натрия в 42 мл воды. Через 30 минут
дополнительно добавлялось 2 мл уксусной кислоты. Слои разделялись, водная фа-
за дополнительно экстрагировалась MX. Объединенные органические фракции суши-
лись Na2S04 и упаривались, давая в остатке частично кристаллизующееся красно-
коричневое масло. Это масло обрабатывалось раствором гидросульфита натрия.
Водная фаза отфильтровывалась, подщелачивалась КОН и экстрагировалась MX. MX
экстракт после стандартной обработки дал 0.31 г желтого масла с сильным аро-
матическим запахом. Масло не кристаллизовалось при комнатной температуре, од-
нако , частично затвердевало в морозильнике.
Эксперимент 7. Окисление
пипериноеой кислоты
перманганатом калия
на окиси алюминия в
хлористом метилене
(выход 56%)
В ступку помещалось 1.25 г КМп04. Вещество осторожно измельчалось. Добавля-
лось приблизительно столько же по объему нейтральной А1203 и полученная смесь
растиралась с сильным нажимом. Добавлялось остальное количество А1203 (всего
5 г) и смесь растиралась до получения однородной массы. Добавлялось 1.25 мл
воды (или 0.25% раствора соляной кислоты) и смесь снова растиралась с сильным
нажимом до получения однородной массы.
К 120 мл MX добавлялось 1.00 г измельченной пипериновой кислоты. При пере-
мешивании к полученной смеси добавлялось небольшими порциями 45 г окисляющей
смеси (кислого типа) в течение 5 минут. При этом смесь саморазогревалась до
кипения. Приблизительно через 10 минут осадок из мелкодисперсного начал пере-
ходить в комкообразный вид. Смесь перемешивалась 11 часов 30 минут при ком-
натной температуре. После этого фильтровалась через небольшой слой силикаге-
ля. Осадок на фильтре промывался небольшим количеством MX. Объединенные
фильтраты упаривались - сначала на воздухе, затем в вакууме водоструйного на-
соса, давая в остатке почти полностью кристаллизующееся при комнатной темпе-
ратуре светло-желтое масло массой 0.385 г (56%) с приятным запахом, напоми-
нающим запах ванилина с нотами горького миндаля.
Эксперимент 8. Очистка
плохо кристаллизующегося
пипероналя с помощью перевода
в бисульфитное производное
К 2.16 г неочищенного пипероналя добавлялся раствор 7 г метабисульфита на-
трия в 30 мл воды. Смесь перемешивалась до получения белой взвеси. Осадок от-
фильтровывался и растворялся в достаточном количестве теплой воды. Полученный
раствор фильтровался. Оба фильтрата объединялись, промывались MX. К водной
фазе добавлялось 20 г К2СОз. Полученный раствор экстрагировался тремя порция-
ми MX. Объединенные MX экстракты промывались небольшим количеством насыщенно-
го раствора NaCl, сушились Na2S04 и упаривались, давая в остатке светло-
желтое масло массой 1.5 г, полностью кристаллизующееся при комнатной темпера-
туре.
Эксперимент 9. Исследование
оригинальной методики
окисления пиперината калия
перманганатом калия в
водной среде (выход 53%)
В 160 мл воды растворялось 4.0 г пиперината калия11. Раствор нагревался до
50 С и к нему при перемешивании по каплям добавлялся теплый раствор 8.0 г
КМп04 в 160 мл воды. Добавление заняло 40 минут. Температура смеси поддержи-
валась на уровне 50-60 С, не допуская поднятия температуры выше 60 С. Смесь
фильтровалась. Осадок пять раз промывался на фильтре небольшими количествами
только что вскипевшей воды. Объем сырого осадка на фильтре12 составил около
50 см3. Фильтрат перегонялся с водяным паром13. Было собрано 250 мл дистилля-
та. При этом основное количество пипероналя перегонялось в первых 150 мл
(дистиллят молочного цвета). В дистилляте растворялось около 50 г NaCl, после
этого дистиллят экстрагировался четырьмя порциями MX по 10 мл каждая.
После удаления растворителя получилось бесцветное масло, которое быстро
кристаллизовалось. Выход 850 мг белого кристаллического вещества с характер-
ным запахом. Т. пл. 37 С.
Дополнительная экстракция дистиллята 10 мл MX дала еще 30 мг вещества.
После отгона дистиллята в перегонной колбе осталось 210 мл жидкости (маточ-
ного раствора). Она экстрагировалась MX в три порции.
Первая экстракция 10 мл MX дала 0.20 г быстро кристаллизующегося масла гор-
чичного цвета с характерным запахом14,15.
Вторая экстракция 10 мл MX дала 0.14 г похожего вещества.
Третья экстракция 10 мл MX дала 0.03 г похожего вещества16.
Таким образом, в сумме было получено 1.25 г (53%) пипероналя.
Для проверки, остался ли в маточном растворе непрореагировавший пиперинат
калия, к нему добавлялся при перемешивании по каплям раствор 1.0 г КМп04 в 25
мл воды. рН маточного раствора при этом около 10. Полученный раствор нагре-
вался до 40 С, фильтровался и фильтрат экстрагировался 10 мл MX, давая в ос-
татке 30 мг коричневатого вещества похожего на пиперональ.
После экстракции маточный раствор подкислялся разб. серной кислотой. Выпав-
ший осадок отфильтровывался и промывался водой, давая после сушки 220 мг жел-
товато-кремового вещества без запаха17.
Маточный раствор экстрагировался двумя порциями MX. После упаривания оста-
лись следовые количества масла с неприятным запахом.
Эксперимент 10. Окисление
пиперината калия
перманганатом калия
в водной среде
в присутствии хлористого
метилена (выход 53%)
К 20 мл воды добавлялось 0.5 г пиперината калия и 20 мл MX. Смесь на-
11 Остается некоторое количество нерастворившейся взвеси.
12 Объем осадка на фильтре следует учитывать при выборе размера фильтра.
13 Раствор просто перегонялся с нисходящим холодильником. По мере выкипания в пере-
гонную колбу добавлялась вода.
14 Таким образом, при указанных условиях весь альдегид не перегнался с водяным па-
ром.
15 Несмотря на окрашенность, это довольно чистое вещество. Выходы нитропропена из
него и из альдегида, очищенного перегонкой с паром, практически не отличаются.
16 Таким образом, для практических целей достаточно экстрагирования в две порции.
17 По-видимому, это пиперониловая (3,4-метилендиоксибензойная) кислота.
гревалась с обратным холодильником при перемешивании до несильного кипения. В
течение 10 минут добавлялся по каплям раствор 1.0 г КМп04 в 20 мл воды. До-
полнительно добавлялось 10 мл MX и смесь кипятилась при перемешивании еще 10
минут. Смесь фильтровалась, осадок на фильтре промывался небольшим количест-
вом MX. Слои разделялись, водная фаза дополнительно экстрагировалась двумя
порциями MX. Органические фазы объединялись, последовательно промывались на-
сыщенными растворами NaHC03 и NaCl. После упаривания было получено краснова-
тое масло массой 155 мг (53%). Масло полностью закристаллизовалось в течение
суток и было успешно использовано для получения нитропропена.
Эксперимент 11. Окисление
пиперината калия
перманганатом калия
в водной среде.
Экстракция MX (выход 59%)
1.00 г пиперината калия помещался в 40 мл воды. В течение 20 минут при пе-
ремешивании по каплям добавлялся раствор 1.8 г КМп04 в 40 мл воды. Температу-
ра при этом поддерживалась на уровне 40 С. Полученная смесь фильтровалась че-
рез воронку Бюхнера. Осадок промывался четырьмя порциями горячей воды. К
фильтрату добавлялась поваренная соль из расчета 20 г соли на 100 мл жидко-
сти. После растворения соли фильтрат экстрагировался четырьмя порциями MX по
10 мл. Объединенные вытяжки сушились MgS04. После отгонки растворителя было
получено 345 мг (59%) быстро кристаллизующегося масла бежевого цвета.
Эксперимент 12. Окисление
пиперината калия
перманганатом калия
в водной среде.
Экстракция ЭА (выход 60%)
В стакане объемом 1 л готовился раствор 8.19 г пиперината калия в 320 мл
воды18. Отдельно готовился раствор 14.76 г перманганата калия в 320 мл воды.
Температура обоих растворов доводилась до 40 С. При интенсивном перемешивании
на магнитной мешалке и контроле температуры к первому раствору по каплям до-
бавлялся раствор перманганата. Раствор почти сразу из желтоватого переходил в
темно-коричневый. Добавление заняло 67 минут. Скорость добавления регулирова-
лась так, чтобы температура не выходила за пределы 43 С. Дополнительного на-
грева не требовалось: температура смеси поддерживалась за счет экзотермиче-
ской реакции, которая несколько снижалась в конце добавления. Температура при
добавлении была в диапазоне 38.5-42.6 С. Смесь перемешивалась еще 10 минут и
фильтровалась на воронке Бюхнера19. Осадок вместе с бумажным фильтром в от-
дельном стакане промывался водой при нагреве почти до кипения и снова от-
фильтровывался . Эта процедура повторялась еще 2 раза20. Суммарный объем
фильтрата получился 1 л, цвет оранжево-желтый. Пока раствор теплый добавля-
лось 200 г NaCl, смесь периодически перемешивалась до полного растворения.
Раствор при этом становится сильно мутным. По индикаторной бумаге смесь ней-
Из-за примесей в пиперинате раствор оставался мутным.
19 Для беспроблемной фильтрации осадка объем воронки должен быть порядка 250 мл или
больше.
20 Непосредственно в воронке на фильтре промывать не стоит: бумага легко сдирается,
а липкий осадок (черного цвета) требует тщательного размешивания с водой для получе-
ния гомогенной смеси.
тральная (рН = 7) . Раствор разделялся на две порции по 0.5 л , каждая экст-
рагировалась четырьмя порциями этилацетата: 40 мл + 30 мл + 30 мл + 30 мл22.
Слои разделялись легко. Объединенный экстракт освобождался от капелек воды с
помощью небольшого количества сульфата магния. Полученный экстракт (бежевого
цвета, мутный) оставлялся сушиться на 12 часов в закрытом стакане над 10.5 г
свежепрокаленного сульфата магния. Осушитель отфильтровывался и промывался 15
мл этилацетата. Фильтрат, объединенный с промывочной фракцией, упаривался при
атмосферном давлении в аппарате для перегонки (обязательно применение кипя-
тильников !) . Остаток - коричневое масло - помещался в круглодонный тигель и
сушился обдувом горячим воздухом (маломощный фен для сушки волос) в течение
около получаса. Тигель охлаждался холодной водой. Через примерно 1 час масло
начало кристаллизоваться. Тигель с продуктом был оставлен на воздухе при ком-
натной температуре на 12 часов. Получилось светло-коричневое кристаллическое
вещество с характерным запахом (ваниль-миндаль). Масса 2.90 г (60.4%).
Эксперимент 13. Окисление
пиперината натрия
перманганатом калия
в водной среде (выход 56%)
В стакан объемом 250 мл помещалось 120 мл воды и 2.85 г пиперината натрия,
полученного из промытого бензином пиперина. Смесь нагревалась до 50 С при пе-
риодическом перемешивании. Раствор получался мутным. Отдельно готовился рас-
твор 5.58 г КМп04 (чистотой 95%) в 120 мл воды. Температура обоих растворов
доводилась до 40 С. При интенсивном перемешивании на магнитной мешалке и кон-
троле температуры к первому раствору по каплям добавлялся раствор пермангана-
та. Всего на добавление ушла 21 минута. Максимальная температура реакционной
смеси была 43.1 С. Смесь дополнительно перемешивалась 13 минут и фильтрова-
лась на воронке Бюхнера. Осадок вместе с фильтром в отдельном стакане промы-
вался водой при нагреве почти до кипения и снова отфильтровывался23. Эта про-
цедура выполнялась еще 2 раза. Суммарный объем фильтрата получился 0.4 л,
цвет желтый. Пока раствор теплый добавлялось 80 г NaCl, смесь периодически
перемешивалась до полного растворения. После охлаждения до комнатной тем-
пературы смесь экстрагировалась четырьмя порциями хлористого метилена по 30
мл каждая. Экстракт сушился свежепрокаленным сульфатом магния. После отфильт-
ровывания осушителя фильтрат упаривался на водяной бане в аппарате для пере-
гонки. Остаток упаривался в открытой колбе, затем под вакуумом водоструйного
насоса при нагреве на водяной бане. После охлаждения через небольшое время
начиналась кристаллизация. Получилось коричневое кристаллическое вещество
массой 1.01 г (56.7%).
ПИПЕРОНАЛЬ ИЗ
ПИРОКАТЕХИНА
Для получения пипероналя рассматривалась следующая последовательность реак-
ций:
■ На первой стадии из пирокатехина получается бензодиоксол.
■ На второй производится формилирование бензодиоксола.
Этот путь изучался по большей части из чистого любопытства.
Чтобы вмещались в делительную воронку, которая была в наличии.
Первая порция ЭА частично растворяется в воде, поэтому она больше остальных.
Осадок окиси марганца после сушки черный, плотный, масса 3.82 г.
гГ^^
НО
rf"^
ОН
W
V-
Получение
3 ,4-метилендиоксибензола
(бензодиоксола)
Для начала, я решил попробовать получить бензодиоксол, так сказать, "в лобп
- в водно-эфирной смеси с катализатором межфазного переноса (Эксперимент 1).
Несмотря на отрицательный результат, как минимум одно полезное наблюдение
все-таки было сделано: если водно-щелочной раствор пирокатехина (практически
черного цвета) попадет, к примеру, на линолеум, то оттереть его без поврежде-
ния последнего вряд ли удастся.
Поиск методик синтеза бензодиоксола привел к замечательному патенту [22], в
котором бензодиоксол получается из хлористого метилена и пирокатехина в среде
диметилсульфоксида (ДМСО). Метод реализован в Эксперименте 2.
Эксперимент 1. Подход к
получению бензодиоксола
в условиях межфазного
катализа (выход 0%)
В 50 мл воды растворялось 50 г NaOH и 5 г KI. К полученному раствору добав-
лялось 50 мл хлористого метилена и 7 мл катамина АБ. К полученной смеси при
быстром перемешивании добавлялся по каплям в течение 5 часов раствор 55 г пи-
рокатехина в 70 мл диэтилового эфира. Дополнительно смесь перемешивалась еще
9 часов. Добавлялось 25 мл воды. Слои разделялись. Органический слой промы-
вался 10% раствором NaOH, насыщенным раствором NaCl и сушился над твердым
КОН. После упаривания осталось 3 г желтого масла, которое полностью разложи-
лось при попытке перегнать его при атмосферном давлении.
Эксперимент 2. Получение
бензодиоксола в
среде ДМСО (выход 69%)
В 3-горлую колбу объемом 1 л загружалось 500 мл ДМСО и 100 мл MX.
отводы колбы помещались градусник24 и эффективный обратный холодильник25
В боковые
Кол-
ба нагревалась в бане с растительным маслом.
После того как смесь начала слабо кипеть (температура смеси достигла 90 С),
через центральный отвод было добавлено 6.0 г пирокатехина и следом за ним 4.5
г грубоизмельченного (не в пыль)26 NaOH. Всего на добавление ушло около 15
24 Градусник совершенно необязателен. Но если все-таки его использовать, то головка
не должна быть опущена низко, и тем более доходить до дна колбы. В противном случае
велик риск, что тонкое стекло градусника растворится в концентрированной горячей ще-
лочи , присутствующей на дне после добавления очередной порции реагентов. У меня та-
кой случай произошел.
25 Холодильник желательно использовать широкий. Холодильник с узкой трубкой будет
"захлебываться".
26 Можно добавлять NaOH в виде гранул. Это удобнее еще и с той точки зрения, что при
добавлении измельченного NaOH происходит заметное вскипание смеси и обратный холо-
дильник на время "захлебывается". При добавлении гранул такого не происходит.
секунд, в течение которых центральный отвод колбы был открыт.
Новые порции пирокатехина (по 6.0 г) и NaOH (по 4.5 г) добавлялись с интер-
валом около 6 минут. Всего было добавлено 25 порций. Последняя порция состоя-
ла из 7.2 г пирокатехина и 5.5 г NaOH (в сумме 151.2 г пирокатехина, 113.5 г
NaOH). Смесь все время поддерживалась в состоянии кипения. По мере добавления
температура смеси росла и через 1.5 часа от начала достигла 120 С.
Для компенсации потерь MX из-за испарения во время добавления реагентов,
время от времени добавлялись новые порции MX27: через 1 час от начала - 10
мл, еще через 30 минут - 30 мл, затем каждые 6 минут порции приблизительно по
5 мл.
После добавления последней порции смесь дополнительно кипятилась 10 минут.
После этого добавлялось 40 мл MX и 5 г NaOH28 и смесь дополнительно нагрева-
лась в течение 1 часа.
К полученной смеси темно-коричневого цвета добавлялось 20 мл воды. Колба
оборудовалась нисходящим холодильником и начиналась перегонка продукта с во-
дяным паром29. По мере выкипания в перегонную колбу добавлялась вода. Всего
на перегонку потребовалось около 3 часов. Основное количество вещества содер-
жалось в первых 700 мл (дистиллят молочного цвета), дополнительно собиралось
еще 150 мл прозрачного дистиллята. Дистиллят оставлялся на сутки при 5 С.
Происходило разделение на две прозрачные фазы. Нижняя фаза - продукт в виде
бесцветного масла, верхняя - вода.
Продукт отделялся, а водная фаза насыщалась поваренной солью и экс-
трагировалась двумя порциями MX: 70 мл и 25 мл. Объединенные органические
фракции перегонялись при атмосферном давлении. До 100 С отгоняется MX. Далее
переходная фракция объемом около 5 мл, при перегонке которой температура па-
ров повышалась со 100 С до 160 С. После этого начинался сбор основной фрак-
ции. Перегонка ее большей части происходила при температуре 177 С. В конце
отгонки продукта температура паров начинала падать. В исходной колбе осталось
небольшое количество желтого масла. Полученный продукт имел неприятный запах,
похожий на ДМСО. Всего получилось 110 мл или 116 г (69%) бесцветного масла.
Формилирование
бензодиоксола
Прямое формилирование нитрозофенолом и формальдегидом
Формилирование реакционно-способных ароматических соединений пара-
нитроз о диметил- анилином и формальдегидом - реакция известная. Типовую методи-
ку можно найти, например, в [27] . Я видел утверждение, что пара-
нитрозодиметиланилин может быть заменен в этой реакции пара-нитрозофенолом. И
в частности говорилось, что подобным образом может быть получен пиперональ.
Повторив методику (Эксперимент 1) я получил нулевой результат.
Формилирование N-метилформанилидом
В первом эксперименте (Эксперимент 2) использовалась смесь N-метилформани-
лида с тионилхлоридом. Исходная методика взята из примера 10 патента [23] .
Выход в этой реакции, как утверждалось в патенте, составил 55.6%. Повтор ме-
тодики дал выход около 6%.
Добавление велось через верхний отвод обратного холодильника порциями не более 4
мл, иначе начинает "захлебывается" обратный холодильник.
28 Приблизительно в это время начинались несильные точки смеси, вероятно, из-за вы-
падающего в осадок NaCl.
29 Все время, пока шла перегонка, происходили сильные толчки из-за выпавшей соли.
Колба должна быть хорошо закреплена.
Во втором эксперименте (Эксперимент 3) я решил повторить классический лабо-
раторный метод проведения реакции Вильсмейера, используя смесь N-метилформа-
нилида с хлорокисью фосфора. При этом я надеялся увеличить выход хотя бы до
25%, учитывая, что выход анисового альдегида в этой реакции 30% , а 3,4-
диметоксибензальдегида - 40% [24]. Выход оказался аналогичным предыдущему -
6%.
Получение пипероналя
через хлорметильное
производное бензодиоксола
Отправной точкой для дальнейших исследований послужил патент [25] . В нем
описывалось получение хлорметильного производного бензодиоксола и его преоб-
разование в пиперональ путем взаимодействия с 2-нитропропаном. Примечательной
особенностью являлось то, что процесс хлор-метилирования производился в вод-
ном растворе, что было весьма удобно для повторения. Высокая концентрация
хлороводорода в этом синтезе положительно влияет на выход продукта. В худшем
случае можно, наверное, обойтись без насыщения смеси хлороводородом и исполь-
зовать обычную концентрированную соляную кислоту, выход при этом, очевидно,
уменьшится.
Повторение реакции с нитропропаном по прописи в патенте дало, в общем, не-
плохой выход альдегида - 40% в пересчете на нитропропан. Однако 2-нитропропан
малодоступен, а делать его самому, как показала практика, не рационально. По-
этому дальше я решил попробовать классический метод - гидролиз уротропиновой
соли, получающейся взаимодействием уротропина с хлорметильным производным,
т.е. другими словами реакцию Соммле [26]. Помимо простоты, положительным от-
личием этого метода было еще и то, что хлорметильное производное очищается от
сопутствующих примесей через уротропиновую соль. При ее получении в хлорофор-
ме в осадок выпадает соль хлорметильного производного, а непрореагировавший
исходный бензодиоксол и побочные продукты конденсации бензодиоксола остаются
в хлороформе. Кроме того, в рамках реакции Соммле орто-бис-хлорметильные про-
изводные, которые теоретически могут образовываться в качестве побочных про-
дуктов, не дают о-диальдегидов ([26, стр.267]), что тоже должно положительно
сказывается на чистоте конечного продукта.
Оставалось подобрать условия гидролиза уротропиновой соли. Здесь я следовал
рекомендациям, данным в [26, стр.271-274] . Было попробовано три типа раство-
рителей: вода, водный этанол и водная уксусная кислота. Кроме этого, варьиро-
вались время проведения реакции и величина загрузки исходных веществ. Полу-
ченные данные представлены Таблице 9.
Таблица 9
№
1
2
3
4
5
6
Количест-
во уро-
тропино-
вой соли,
г
4.0
4.0
4.0
4.0
13.8
с
Состав растворителя
для проведения реак-
ции, мл
вода
20
10
5
6
23
140
эта-
нол
-
-
10
10
-
-
уксусная
кислота
-
10
-
-
17
110
Время
прове-
дения
реак-
ции, ч
1
1
1
4
1.30
2
Количество
конц. НС1
для гидро-
лиза осно-
вания
Шиффа, мл
4
4
4
4
11
80
Объем
дис-
тилля-
та, мл
170
190
180а
170
370ь
2060
Вы-
ход,
г
0.85
1.0
0.50
0.83
3.64
23.2
Выход в
пересче-
те на
бензоди-
оксол , %
38.6
45.4
22.7
37.7
47.1
58.4
а Предгон 6 мл, состоящий преимущественно из спирта, отбрасывался. Упарива-
ние этого предгона дало небольшое количества белого вещества, не растворяюще-
гося (или плохо растворяющегося) в воде, соляной кислоте, водной щелочи, MX и
спирте.
ь Из-за наличия уксусной кислоты первые 43 мл дистиллята были прозрачными.
Эта фракция нейтрализовалась NaHC03 в количестве приблизительно чайной ложки.
Следующие 180 мл были молочными, остальная часть дистиллята была практически
прозрачной. Экстракция проводилась тремя порциями MX: 25мл +20 мл + 10 мл.
с Использовалась уротропиновая соль полученная из 36 мл хлорметильного про-
изводного (см. Эксперимент 6).
Лучший выход (58%) получился при использовании водной уксусной кислоты. По-
лученный продукт для очистки перегонялся с водяным паром прямо из реакционной
смеси.
Можно добавить, что, скорее всего, синтез можно провести и без отдельного
приготовления уротропиновой соли, просто смешав уротропин и хлорметильное
производное в водно-уксусной смеси и далее проводя синтез аналогично Экспери-
менту 6. Однако как это повлияет на выход конечного продукта и на его чистоту
без проведения соответствующих экспериментов предсказать сложно.
Из проведенных экспериментов можно сделать следующие выводы:
1. Лучшим растворителем для проведения реакции оказалась смесь уксусной ки-
слоты и воды.
2. Время проведения реакции оптимально 1.5-2 часа. Думаю, дальнейшее увеличе-
ние времени не приведет к серьезному увеличению выхода.
3. По всей видимости, выход растет с увеличением загрузки. Возможно, это свя-
зано с поте-рями при перегонке с паром.
4. Выпадающий в осадок пиперональ составляет по массе 50-70% от общего коли-
чества пипероналя, содержащегося в дистилляте. Таким образом, 30-50% пипе-
роналя остается в водной фазе. Поэтому для полного извлечения пипероналя
необходима экстракция водной фазы с помощью органического растворителя
(лучше всего низкокипящего).
5. Получение хлорметильного производного с последующим гидролизом его уротро-
пиновой соли дает весьма неплохой выход пипероналя, при этом используются
достаточно недефицитные реактивы. Так из 150 г пирокатехина, 120 г NaOH,
500 мл ДМСО, 700 мл конц. НС1, 300 мл конц. H2S04, 40 г параформа, 160 г
уротропина, 450 мл уксусной кислоты, 1200 мл хлороформа и 1500 мл хлори-
стого метилена можно получить около 100 г пипероналя. Причем, если регене-
рировать растворители и проводить процесс в несколько стадий, то можно
значительно сократить требуемое количество хлороформа и хлористого метиле-
на. Хлористый метилен при экстракциях можно заменить каким-нибудь другим
подходящим растворителем (например, тем же хлороформом или диэтиловым эфи-
ром) . Кроме этого, весьма вероятно, что можно обойтись без выделения уро-
тропиновой соли, т.е. исключить из синтеза хлороформ. При этом хлорметиль-
ное производное и уротропин смешивать непосредственно в водной уксусной
кислоте.
Эксперимент 1. Формилироеание
бензодиоксола нитрозофенолом
и формальдегидом (выход 0%)
В 3-горлую колбу объемом 500 мл помещалось 10 г бензодиоксола (82 ммоль),
100 мл 96%-го спирта и 13 г п-нитрозофенола (105 ммоль). Смесь перемешивалась
около 30 мин (для надежного растворения нитрозофенола). Температура смеси по-
нижалась до 10-12 С при охлаждении колбы льдом. Через смесь пропускался ток
хлороводорода, полученный из 35 г NaCl, смоченного конц. соляной кислотой, и
20 мл конц. серной кислоты.
К исходной смеси по каплям и при перемешивании добавлялось 11 мл 37%-го
формалина, при этом температура смеси возрастала до ^ 45 С. Смесь нагревалась
горячей водой при перемешивании в течение 2 ч 20 мин. Температура поддержива-
лась в пределах 50-55 С. В конце добавлялось 3 мл конц. соляной кислоты и
смесь нагревалась с обратным холодильником в течение 2 часов. Этанол отгонял-
ся в вакууме водоструйного насоса при нагреве горячей водой. К остатку добав-
лялось 100 мл воды и 19 мл конц. соляной кислоты30. Смесь нагревалась на го-
рячей водяной бане при перемешивании в течение 40 минут, охлаждалась холодной
водой, подщелачивалась 10% раствором NaOH и перегонялась с водяным паром.
Цвет отгона постепенно становился синим. Собиралось 250 мл дистиллята, кото-
рые экстрагировались тремя небольшими порциями MX. При этом органическая фаза
красная, водная - зеленоватая.
MX фаза промывалась насыщенным раствором NaCl, сушилась двумя небольшими
порциями Na2S04 и упаривалась - вначале на воздухе, затем в вакууме водо-
струйного насоса, давая около 6 мл темно-красного подвижного масла с резким
запахом.
При перемешивании к полученному маслу добавлялся раствор 10 г Na2S205 в 10
мл воды. Почти сразу выпадало небольшое количество темно-окрашенного вещест-
ва. После нескольких минут перемешивания добавлялось 20 мл этанола. После 2.5
часов перемешивания белый осадок отфильтровывался, промывался этанолом и MX.
Масса высушенного осадка31 5.68 г.
Осадок растворялся в воде, раствор доводился до щелочной реакции раствором
NaOH и экстрагировался тремя порциями MX. Водная фаза - бледно-зеленоватая,
органическая фаза - бесцветная.
Органические фракции объединялись, промывались водой и оставлялись сушиться
над Na2S04.
После упаривания в остатке получилось незначительное количество красного
масла (запах альдегида не угадывался).
Эксперимент 2. Формилирование
бензодиоксола N-метилформанилидом
и тионилхлоридом (выход 6%)
К 38.5 мл N-метилформанилида при перемешивании и охлаждении в бане снег-
вода добавлялось по каплям 23.5 мл тионилхлорида. Полученный светло-желтый
раствор отстаивался в течение 5 часов при комнатной температуре. Далее рас-
твор нагревался в течение 1 часа 20 минут при температуре 52-53 С (температу-
ра бани) в вакууме водоструйного насоса. В это время происходило несильное
выделение газа. После охлаждения в бане лед-вода в три порции добавлялось
36.5 г бензодиоксола. Смесь нагревалась на кипящей водяной бане в течение 50
минут. После охлаждения холодной водой полученное темно-красное масло вылива-
лась в 100 мл ледяной воды. Смесь отстаивалась в течение одного часа при пе-
риодическом взбалтывании и экстрагировалась тремя порциями диэтилового эфира
приблизительно по 40 мл каждая. Объединенные органические вытяжки промывались
50 мл холодной воды и 20 мл 20%-го раствора К2С03. После выпаривания эфира к
остатку добавлялась суспензия 30 г Na2S205 в 30 мл воды. Смесь сильно встряхи-
валась в течение 10 минут. Добавлялось достаточно теплой воды, чтобы раство-
рить выпавший осадок. Полученный раствор промывался двумя порциями эфира. До-
бавлялся раствор NaOH. Смесь экстрагировалась двумя порциями эфира. Объеди-
ненные эфирные вытяжки сушились и упаривались, давая в остатке 2.6 г (6%)
Для гидролиза потенциально образующегося основания Шиффа.
Вероятно, это был по большей части метабисульфит натрия.
масла, быстро закристаллизовавшегося при комнатной температуре в розовое кри-
сталлическое вещество.
Эксперимент 3. Формилирование
бензодиоксола N-метилформанилидом
и хлорокисъю фосфора (выход 6%)
К 40 мл N-метилформанилида при перемешивании добавлялось 30 мл Р0С13. После
перемешивания при комнатной температуре в течение 20 мин смесь закристаллизо-
валась в оранжевое вещество. После его измельчения (по мере возможности) до-
бавлялось 37 мл бензодиоксола. Смесь перемешивалась в течение 2 часов - вна-
чале при 60 С и последние 30 мин при 75 С. Полученная темно-красная смесь ох-
лаждалась холодной водой и выливалась при взбалтывании на 250 г льда. Добав-
лялся раствор 40 г NaOH в 100 мл воды. По мере добавления подкладывался лед,
т.к. температура раствора быстро росла. В конце добавления раствор слабокис-
лый.
Полученная смесь экстрагировалась MX (3 порции). Объединенный MX экстракт
промывался двумя порциями воды, причем, обе порции после промывок имели ней-
тральную реакцию. MX экстракт упаривался, полученное темно-красное масло сме-
шивалось с раствором 30 г Na2S205 в 30 мл воды. К полученной пастообразной
суспензии через 10 мин добавлялось 50 мл этанола, и смесь перемешивалась в
течение часа. Осадок бисульфитнохю производного отфильтровывался и промывался
этанолом и MX. После сушки в течение 24 часов получено 13 г бежевого вещест-
ва.
К фильтрату добавлялся раствор 13 г NaOH в 100 мл воды. Всплывал слой тем-
но-красного масла. Смесь экстрагировалась тремя порциями MX. Объединенные MX
экстракты промывались насыщенным раствором NaCl, сушились Na2S04 в течение
суток. После упаривания получилось некристаллизующееся темно-красное масло.
Масло экстрагировалось при перемешивании двумя порциями кипящего гексана (по
15 мл каждая). Гексановая вытяжка практически бесцветная. Оставшееся масло
упаривалось в вакууме водоструйного насоса на кипящей водяной бане. После ох-
лаждения через 10 мин смесь затвердела в полутвердое вещество. Масса около
1.5 г. При комнатной температуре вещество разжижалось, в морозильнике засты-
вало снова, оставаясь при этом маслообразным. Запах характерный для пиперо-
наля, но с посторонними нотами.
Из гексановой вытяжки было выделено немного некристаллизующегося масла, ко-
торое отбрасывалось.
Бисульфитное производное удалось растворить в 100 мл воды. Добавлялся рас-
твор 6 г NaOH в 50 мл воды. Смесь становилась белой мутной, затем краснова-
той. Смесь экстрагировалась тремя порциями MX. Объединенные MX экстракты про-
мывались насыщенным раствором NaCl и сушились Na2S04 в течение суток. После
упаривания получилось темно-красное масло. Вносилась затравка, масло охлажда-
лось. Через небольшое время масло закристаллизовалось, но не полностью. В мо-
розильнике получалось твердое вещество, а при комнатной температуре взвесь
кристаллического вещества в жидкости. Запах характерный. Масса 3.5 г.
Эксперимент 4. Получение
3,4-метилендиоксибензилхлорида
Собирался генератор хлороводорода. Для этого в колбу емкостью 1 л помеща-
лось 250 г NaCl и 50 мл конц. соляной кислоты. Колба оборудовалась капельной
воронкой, в которую наливалась конц. серная кислота, и помещалась в водяную
баню, в которую был опущен небольшой электрический кипятильник. К боковому
отводу подсоединялась полиэтиленовая трубка для отвода хлороводорода. По мере
получения хлороводорода колба подогревалась (периодическим включением кипя-
тильника) для увеличения эффективности генератора.
В колбу Эрленмейера на 250 мл помещалось 100 мл конц. соляной кислоты (кон-
центрация около 35%) , градусник и трубка для ввода газа. Колба охлаждалась
смесью колотый лед-NaCl и через соляную кислоту пропускался ток хлороводоро-
да , следя чтобы температура в колбе не превышала 0 С. Если температура подни-
малась выше 0 С, ток хлороводорода уменьшался, пока температура не опустится
до -5 С. После того как для получения хлороводорода было израсходовано 60 мл
серной кислоты, добавлялось 15 г параформа (0.5 моль). Смесь перемешивалась
несколько минут и тонкой струйкой добавлялось 44 мл (0.382 моль) 3,4-
метилендиоксибензола. Смесь была оставлена в охлаждающей бане при перемешива-
нии и пропускании несильного тока хлороводорода. Новый лед не подкладывался32
и через 20 минут температура внутри колбы поднялась до 12 С, после чего баня
убиралась. Смесь перемешивалась при температуре порядка 20 С33 в течение 2
часов. При этом через смесь продолжал пропускаться несильный ток хлороводоро-
да34.
Полученная смесь помещалась в делительную воронку. Нижний органический слой
отделялся, а верхний водный экстрагировался двумя порциями MX по 20 мл. Орга-
нические фазы объединялись и промывались тремя порциями воды35 (в последнюю
было добавлено немного NaHC03) . После сушки MgS04 и упаривания в вакууме во-
доструйного насоса при нагреве на водяной бане с температурой 60-70 С было
получено бледно-желтое прозрачное масло объемом 52 мл. При хранении в моро-
зильнике масло полностью застывает и оттаивает при комнатной температуре. По-
лученный продукт без очистки использовался в следующих реакциях.
Эксперимент 5. Реакция
хлорметильного производного
с 2-нитропропаном
(выход пипероналя 34%)
В колбе объемом 50 мл смешивалось 3.7 мл 2-нитропропана36 и 2.5 мл воды.
Полученная смесь перемешивалась на высоких оборотах, и к ней добавлялся рас-
твор 1.70 г NaOH в 2 мл воды. После перемешивания в течение 10 минут к смеси
добавлялось 4 мл трет-бутанола. Не прекращая перемешивания, смесь подогрева-
лась до 38 С и в течение 20 мин по каплям добавлялась смесь 6.5 мл хлорме-
тильного производного (Эксперимент 4) и 2 мл трет-бутанола. Перемешивание
смеси при температуре 39-40 С продолжалось еще 4 часа.
Полученная смесь упаривалась в вакууме водоструйного насоса при нагреве на
водяной бане с температурой 80 С. Остаток смешивался с раствором 8 г Na2S205 в
10 мл воды. При этом смесь сильно загустела. Добавлялось 10 мл этанола, полу-
ченная смесь перемешивалась 4 часа, осадок отфильтровывался (фильтрат сохра-
нялся) , промывался тремя порциями этанола по 12 мл (фильтраты сохранялись) и
тремя порциями MX по 12 мл. После сушки было получено 6.2 г белого порошка.
Всего для проведения этой реакции потребовалось около 400 г льда. Следует учесть,
что реакция проводилась при температуре окружающей среды около 9 С.
33 Если температура смеси падала ниже 17 С, смесь подогревалась в бане с теплой во-
дой.
34 Всего для получения хлороводорода в этом синтезе было потрачено 120 мл конц. сер-
ной кислоты.
35 После второй промывки рН водной фазы около 3, после третьей рН « 7.
36 2-нитропропан был получен реакцией 2-бромпропана (может быть получен реакцией ИПС
с бромоводородной кислотой) с NaN02 в ДМСО. Выход был крайне небольшим. Пропись син-
теза найти не удалось.
Он помещался в 40 мл воды, добавлялся раствор 12 г К2С03 в 20 мл воды. Полу-
ченная смесь экстрагировалась тремя порциями MX по 10 мл. Объединенные орга-
нические вытяжки сушились над MgS04 и упаривались, давая в остатке быстро
кристаллизующееся масло коричневатого цвета массой 2.25 г.
Объединенные фильтраты упаривались в вакууме до объема 20 мл. Об-
рабатывались раствором 3 г Na2S205 в 20 мл воды. Полученный раствор промывался
несколькими небольшими порциями MX, добавлялся раствор К2С03 и производилась
экстракция MX. В остатке было получено еще 0.22 г альдегида37.
Таким образом, общий выход в этой реакции составил 2.47 г. Это 40% в пере-
счете на 2-нитропропан или около 34% в пересчете на бензодиоксол.
Эксперимент 6. Гидролиз
аддукта хлорметильнохю
производного с уротропином
(выход пипероналя 58%)
В колбу объемом 500 мл помещалось 280 мл хлороформа и 40 г уротропина.
Смесь нагревалась до кипения с обратным холодильником138. Добавлялось 36 мл
хлорметильного производного, полученного в Эксперименте 4. Его остаток вымы-
вался из колбы дополнительно 10 мл хлороформа. Через несколько секунд смесь
помутнела и началась экзотермическая реакция - хлороформ сильно закипел. Кол-
бу пришлось снять с нагревателя и некоторое время встряхивать без нагрева.
После того как бурное кипение утихло, колба снова помещалась на нагреватель,
и смесь перемешивалась при несильном кипении в течение 2 часов 10 минут. По-
сле отстаивания в течение 12 часов осадок отфильтровывался39, промывался по-
следовательно 20 мл хлороформа и 60 мл ацетона и сушился на воздухе.
В 1 литровую круглодонную колбу помещалось 110 мл уксусной кислоты, 140 мл
воды и полученная уротропиновая соль. Смесь кипятилась с обратным холодильни-
ком 2 часа. Добавлялось 50 мл конц. соляной кислоты40. После недолгого пере-
мешивания рН оказался около 5-6. Добавлялось еще 10 мл конц. соляной кислоты
- реакция сильнокислая. Смесь кипятилась 5 минут - рН стал около 5-6. Добав-
лялось еще 10 мл конц. соляной кислоты - реакция сильнокислая. Смесь кипяти-
лась еще 5 минут - рН опять стал около 5-6. Окончательно добавлялось еще 10
мл конц. соляной кислоты и смесь перегонялась с водяным паром41.
Объем собранных фракций дистиллята и их внешний вид приводятся в следующей
таблице:
Номер фракции
1
2
3
Объем, мл
360
1200
500
Характеристика
прозрачная
молочного цвета
прозрачная
Фракции по отдельности отстаивались в холодильнике 12 часов. Выпавший белый
кристаллический осадок альдегида отделялся42,43. Масса 14.1 г.
37 Обработка фильтратов производилась для уточнения выхода, практической надобности
в ней не было.
оо
При этом оставалось немного нерастворившегося уротропина.
39 Фильтрат перегонялся для регенерации хлороформа.
40 Соляная кислота добавляется для гидролиза образующегося основания Шиффа.
41 Производилось просто упаривание смеси с нисходящим холодильником. По мере выкипа-
ния в перегонную колбу добавлялись новые порции воды.
42 Кристаллизация выпадающего при охлаждении дистиллята масла иногда начинается уже
в процессе перегонки.
Первые 360 мл дистиллята (фракция 1) нейтрализовались примерно 100-120 г
ЫаНСОз. Следующие 600 мл фракции 2 также нейтрализовались небольшим количест-
вом NaHC03. Во все фракции добавлялась поваренная соль из расчета 1 чайной
ложки на каждые 100 мл дистиллята. Фракции 1 и 2 объединялись. Полученный
объем делился на четыре приблизительно равные порции44 и каждая порция экст-
рагировалась тремя порциями MX по 20 мл каждая. Объединенный MX экстракт су-
шился MgS04, фильтровался и упаривался, давая в остатке масло, которое закри-
сталлизовалось в бледно-розовое кристаллическое вещество массой 8.5 г. По-
следние 500 мл дистиллята (фракция 3) также экстрагировались тремя порциями
MX по 20 мл каждая, после стандартной обработки из них было выделено еще 0.6
г альдегида45.
Общий выход 23.2 г (58.4% в пересчете на бензодиоксол) пипероналя.
Литература
1. Krishnamurthi et al The Wealth of India. Raw Materials. Volume 8, New
Delhi: Council of Scientific and Industrial Research, 1969, pp. 99-115
2. Darshitha R. et al World J. Pharm. Pharm. Sci. , 7, Issue 5, 763-770
(2018)
3. "Preparative Isolation of Piperine from Black Pepper Extracts", KNAUER
Application Note, VFD0117N, 02/2013
4. Kanaki N et al "Rapid method for isolation of piperine from the fruits of
Piper nigrum Linn.", J. Nat. Med., 62, 281-283 (2008).
5. William W. Epstein et al J. Chem. Educ, 70, 598-599 (1993)
6. Jaya Maitra and Shilpi European J. Biomed. Pharm. Sci., 3, 497-500 (2016)
7. M.A. Quraishi et al The Open Corr. J., 2, 56-60 (2009)
8. Smita R Kolhe et al Int. J. Appl. Biol. Pharm., 2, Issue 2, 144-149
(2011)
9. Xuesong Huang et al Adv. Mat. Res. 236-238, 2495-2498 (2011)
lO.Freier, R.K. Aqueous Solutions Volume 1: Data for Inorganic and Organic
Compounds, Berlin-New York: Walter de Gruyter, 1976
11. H Stephen, T. Stephen Solubilities of Inorganic and Organic Compounds,
Volume 1, Binary Systems, Part 2, Pergamon Press, 1979
12.Никольский Б.П., Рабинович В. А. и др. "Справочник химика", М.-Л.: «Хи-
мия», Том 2, 1964, стр. 882-883
13.Raphael Ikan Natural Products, A Laboratory Guide, Second Edition, 1991,
pp. 233-238
14.Rud. Fittig, W. H Mielch "Untersuchungen tiber die Constitution des
Piperins und seiner Spal-tungsproducte Piperinsaure und Piperidin",
Liebigs Ann. Chem., 152, Issue 1, 25-58 (1869)
15. H Stephen, T. Stephen Solubilities of inorganic and organic compounds
Volume 1, Binary Systems, Part 1, Pergamon Press, 1979, p.651
16.Патент US2516412
17.Адаме Р. "Органические реакции", М. : «Иностранная литература», Сборник 2,
1950, стр. 116
18.Исагулянц В.И. "Синтетические душистые вещества", Ер., 1946, стр. 342
43 Для начала осадок переводился в один кусок. Для этого осадок тщательно соскребал-
ся со стенок стакана (не сливая воду!). После того как он оседал, дно стакана подог-
ревалось горячей водой до частичного расплавления осадка. Смесь оставлялась до кри-
сталлизации осадка в виде одного куска, после чего водный слой сливался, а осадок
соскребался. Капли воды на нем удалялись небольшими полосками фильтровальной бумаги.
44 Исходя из объема имевшейся в наличии делительной воронки.
45 Таким образом, практической надобности в последних 500 мл дистиллята (фракции 3)
не было.
19.Титце Л., Айхер Т. "Препаративная органическая химия", М. : «Мир», 1999,
стр.512, синтез Р462
20.Sheng Lai, and Donald G. Lee Synthesis, 2001, Issue 11, 1645-1648
21.v. Babo und E. Keller. J. pract. Chem. 72, 53-72 (1857)
22.Патент GB1097270
23.Патент US4157333
24.24. "Органикум. Практикум по органической химии" Пер. с нем. - М. : «Мир»,
Том I, 1979, стр. 426-429
25.Патент GB1538214
26.Адаме Р. "Органические реакции", М. : «Иностранная литература», Сборник
8, 1948, стр.263-287
27.R. Adams and G.H. Coleman Organic Syntheses, Coll. Vol. 1, p.214 (1941)
Электроника
<л/>
U
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕС НА ARDUINO
Максимально дешевое и простое в изготовлении устройство для по-
стоянного измерения электропроводности раствора с возможностью
вести статистику.
Для измерения проводимости раствора, необходимо обеспечить высокую частоту
переменного тока не менее 1 кГц. Это необходимо для устранения эффекта поля-
ризации электролита и для предотвращения разрушения электродов при длительном
измерении.
Кроме того, важным моментом является необходимость термокомпенсации измере-
ний. Поэтому, помимо подключения электрода, необходимо иметь в растворе изме-
ритель температуры, например датчик 18В20 в герметичном корпусе.
Измерение происходят следующим образом:
Условно положительная фаза
1. С цифровой порт D10 переводится в режим высокого уровня (1 HIGH), a D11
низкого.
2. Ток напряжением 5В устремляется через раствор в сторону D11.
3. При этом измеритель А1 возвращает значение падения напряжения на этом
промежутке в цифровом виде.
4. Затем уровень D10 снова переходит в состояние (О LOW)
5. Измерение на первой фазе завершено
Условно отрицательная фаза
1. С цифровой порт D11 переводится в режим высокого уровня (1 HIGH), a D10
низкого.
2. Ток напряжением 5В устремляется через раствор в сторону D10.
3. При этом измеритель АО возвращает значение падения напряжения на этом
промежутке в цифровом виде.
4. Затем уровень D11 снова переходит в состояние (О LOW)
Таким образом за 1 цикл измерений происходит полная смена полярности от +5В
до 0 и -5В до 0.
d [_ 1
Н)* М
R2 :
ЕС
Эквивалентная схема подключения электродов к контроллеру.
Осуществляется прямое подключение по схеме:
АО D11 >
А1 D10 >
И.Жи! bV
Измерения выполняются максимальной скоростью (для Arduino Uno это ^3.5 КГц)
Итоговые значения измеренные за период на положительной и отрицательной фа-
зе усредняются, что повышает точность измерения, а затем усредняются между
собой.
Основные принципы при создании электрода:
■ Использование материала, который не взаимодействует с раствором или делает
это незначительно. Идеальный материал - платина. Минимально подходящий -
алюминий или нержавеющая сталь.
■ Электроды должны быть полностью погружены в раствор.
■ Расстояние между оголенными электродами не должны изменяться, любое нару-
шение положения электродов требует повторной калибровки.
Или как более доступный, но не очень удачный в плане точности вариант - ис-
пользовать электрод из вилки сетевого шнура. Возможно подключить один из ва-
риантов готового электрода.
Рассчитать параметры электрода можно по следующим формулам:
ЕС=-
(R2 S)
R2=U2
(Rq + Ri)
(-U2 + U1)
UjB-fA-Dj
S=2
к d h
*«(f
где R2 - сопротивление между электродами в растворе
L - расстояние между электродами
ЕС - Удельная электропроводность раствора
S - суммарная площадь электродов
где U2 - расчетное напряжение на АЦП
U1 - Напряжение с выхода D1
R1 - Резистор делителя
R0 - Токоограничивэющий резистор в цепи цифрового выхода GPIO
где А - цифровое значение АЦП
Dr - макимальное значение АЦП
где S - суммарная площадь двух электродов в растворе круглого сечения
d - диаметр электрода
h - длинна контактирующего с раствором электрода
Нахождение некоторых неизвестных значений ппеременных по имеющимся известным
ес= 1 l —
[(-A+DJ ■ (R0 + R1) к d (4 h+ d)]
(4 Rq h+ d Rq + 4 Ri h+ d Rx)
A=EC x d EV
R1 =
h=-
(4 EC x d Rq h + EC x d2 Rq + 4 EC -к d ■ Rx h + EC x d2 ■ Rx + 2 - l)
-(4 EC x d A Rq h+EC x d2 A Rq - A EC x dDrRflh-ECxd2DrRfl + 2 L a)
[ECi d (4 A h+d A-4 U, h-d Dj]
1 (EC x d2 A Rq + EC x d2 A Rx - EC x d2 Ц. Rq - EC x d2 - D, Rx + 2 - L a)
\ [EC x d (A Rq + A R^H Rfl-Ц R^]
Примечание. Наводки на входе АО Arduino конечно будут, поэтому между входом
и общим контактами следует подключить конденсатор, например, емкостью 1 мкФ.
Для программы необходимо сначала скачать и добавить библиотеки1:
■ CyberLib
■ OneWire
■ DallasTemperature
■ АМ2320
Данный код является примером замера и выводит в СОМ порт сырые усредненные
данные с АЦП:
// Библиотека работы с DS18b20
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 12
OneWire oneWire (ONE_WIRE_BUS) ;
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// Библиотека для датчика AM2320
#include <AM2320.h>
#include <Wire.h>
// Глобальные переменные
float po;
float ap_raw;
float an_raw;
void setup() {
ADCSRA &= B11111000;
ADCSRA |= B00000100;
Serial.begin(9600) ;
Wire.begin() ;
}
void loop() {
int dl,d2,al,tr;
long n;
float x,xO,xl,x2,ec,ecO,eel,ec2,t,tk,k,1,lev;
String gp;
String tstring = "tparse="; // Метка начала строки для парсинга
String tstring_end = "="; // Метка окончания строки
String pstring = ""; // Метка строки вывода колонку
in in и in in и in и in in и in in и in и ш ш и ш ш и ш и ш ш и ш
II Общая температура и влажность воздуха с АМ2320 через i2c
АМ2320 th;
th.Read();
// Заполнение строкового вывода для машинного парсинга
tstring +=fFTS(th.t,l) + ";" + fFTS(th.h,l) + ";" +
fFTS(fAbsoluteHumidity(th.t,th.h),1) + ";";
// Человекочитаемый вывод
pstring += "Air temperature=";
pstring += fFTS(th.t,2);
pstring += "\n";
pstring += "Relative humidity=";
pstring += fFTS(th.h,2);
1 Есть в архиве: ftp://homelab.homelinuxserver.org/pub/arhiv/2022-ll-a3.rar
dl=10;
d2=ll;
al=0 ;
n=50000
//
//
//
;//
pstring += "\n";
pstring += "Absolute air humidity=";
pstring += fFTS(fAbsoluteHumidity(th.t,th.h),2);
pstring += "\n";
///////////////////////////// Раствор 1
////////////////////////////////////////////
gp="container 1"; // Номер группы измерения
// Измеритель ЕС1
// Схема подключения
// dl al >
// d2 —— >
Цифровой порт соединенный с аналоговым портом и электродом измерения
Цифровой порт соединенный с электродом противофазы
Аналоговый порт измерения
Колличество измерений для усреднения
// Калибровка ЕС
ecl= 0.01; // Фактическое значение ЕС при нижнем пределе
х1=1б; // Показания АЦП при нижнем значении ЕС
ес2= 3; // Фактическое значение ЕС при верхнем пределе
х2=160; // Показания АЦП при верхнем значении ЕС
// Температура раствора
tr=0; // Порядковый номер датчика 18Ь20 в растворе
tk=0.02; // Коэффициент влияния температуры на проводимость раствора
// Измерение температуры
sensors.requestTemperatures();
t=sensors.getTempCByIndex(tr);
// Измерение RAW проводимости
x=fConductivity(dl,d2,al,n);
pstring += gp +" RAW Solution polarization ADC = ";
pstring += fFTS(po,2);
pstring += "\n";
// Расчет ЕС
ec0=fCalibration(xl,eel,x2,ec2,x);
// Термокомпенсация ЕС
ec=fECTemp(tk,ec0,t);
// Измеритель уровня 1
dl=9; // Цифровой порт соединенный с аналоговым портом и электродом измерения
d2=ll; // Цифровой порт соединенный с электродом противофазы
а1=0; // Аналоговый порт измерения
п=500; // Колличество измерений для усреднения
к=0.835; // Коэффициент компенсации электропроводности
// Измерение проводимости
l=fConductivity(dl,d2,al,n);
lev=x/pow(l,k);
// Заполнение строкового вывода для машинного парсинга
tstring +=fFTS(t,2) + ";" + fFTS(x,4) + ";" + fFTS(l,2) + ";"+ fFTS(ecO,4) + ";";
// Человекочитаемый вывод
pstring += gp +" Solution temperature = ";
pstring += fFTS(t,2);
pstring += "\n";
pstring += gp +" RAW EC ADC = ";
pstring += fFTS(xA4);
pstring += "\n";
pstring += gp +" RAW Level ADC = ";
pstring += fFTS(l,2);
pstring += "\n";
pstring += gp +" EC = ";
pstring += fFTS(ecO,4);
pstring += "\n";
pstring += gp +" Level = ";
pstring += fFTS(lev,4);
pstring += "\n";
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////// Раствор 2
////////////////////////////////////////////
gp="container 2"; // Номер группы измерения
// Измеритель ЕС1
// Схема подключения
// dl al >
// d2 >
dl=7; // Цифровой порт соединенный с аналоговым портом и электродом измерения
d2=8; // Цифровой порт соединенный с электродом противофазы
al=l; // Аналоговый порт измерения
п=50000;// Колличество измерений для усреднения
// Калибровка ЕС
ecl= 0.01; // Фактическое значение ЕС при нижнем пределе
х1=1б; // Показания АЦП при нижнем значении ЕС
ес2= 3; // Фактическое значение ЕС при верхнем пределе
х2=1б0; // Показания АЦП при верхнем значении ЕС
// Температура раствора
tr=l; // Порядковый номер датчика 18Ь20 в растворе
tk=0.02; // Коэффициент влияния температуры на проводимость раствора
// Измерение температуры
sensors.requestTemperatures();
t=sensors.getTempCBylndex(tr);
// Измерение RAW проводимости
x=fConductivity(dl,d2,al,n);
pstring += gp +" RAW Solution polarization ADC = ";
pstring += fFTS(po,2);
pstring += "\n";
// Расчет ЕС
ec0=fCalibration(xl,eel,x2,ec2,x);
// Термокомпенсация ЕС
ec=fECTemp(tk,ec0,t);
// Измеритель уровня 1
dl=6; // Цифровой порт соединенный с аналоговым портом и электродом измерения
d2=8; // Цифровой порт соединенный с электродом противофазы
al=l; // Аналоговый порт измерения
п=500; // Колличество измерений для усреднения
к=0.835; // Коэффициент компенсации электропроводности
// Измерение проводимости
l=fConductivity(dl,d2,al,n);
lev=x/pow(l,k);
// Заполнение строкового вывода для машинного парсинга
tstring +=fFTS(t,2) + ";" + fFTS(x,4) + ";" + fFTS(l,2) + ";"+ fFTS(ecO,4) + ";";
// Человекочитаемый вывод
pstring += gp +" Solution temperature = ";
pstring += fFTS(t,2);
pstring += "\n";
pstring += gp +" RAW EC ADC = ";
pstring += fFTS(x,4);
pstring += "\n";
pstring += gp +" RAW Level ADC = ";
pstring += fFTS(l,2);
pstring += "\n";
pstring += gp +" EC = ";
pstring += fFTS(ecO,4);
pstring += "\n";
pstring += gp +" Level = ";
pstring += fFTS(lev,4);
pstring += "\n";
in in ii in in ii in ii in in ii in in ii in ii in in ii in in и in и in in и in in и
III Передача в терминал
tstring += tstring_end;
Serial.println(tstring);
Serial.print("\n");
Serial.print(pstring);
Serial, print ("\n \n") ;
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ФУНКЦИИ
// Функция калибровки
float fCalibration(float xl, float eel, float x2, float ec2, float x){
float b=(-log(ecl/ec2))/log(x2/xl);
float a=((pow(xl,-b))*ecl);
float ecO = a * pow(x,b);
return ecO;
}
// Функция термокомпенсации ЕС
float fECTemp(float k, float ecO, float t){
return ecO/(1+k*(t-25));
}
//Функция замера электропроводности в RAW
float fConductivity(int dl, int d2r int al, long cnt){
pinMode(dl, OUTPUT);
pinMode(d2, OUTPUT);
long var=l;
unsigned long ap=0;
unsigned long an=0;
while(var < cnt){
digitalWrite(d2, HIGH);
ap=0+analogRead(al)+ap;
digitalWrite(d2, LOW);
digitalWrite(dl, HIGH);
an=1023-analogRead(al)+an;
digitalWrite(dl, LOW);
var++;
}
pinMode(dl, INPUT);
pinMode (d2 , INPUT) ;
// Усреднение АЦП при положительной фазе
ap_raw=(float)ap/var;
// Усреднение АЦП при отрицательной фазе
an_raw=(float)an/var;
// Расчет поляризации раствора
ро = ap_raw-an_raw;
// Исключение влияние поляризаци
return (((float)ap+(float)an)/var/2);
}
// Функция преобразования чисел с плавающей запятой в текст
String fFTS(float x, byte precision) {
char tmp[50];
dtostrf(x, 0, precision, tmp);
return String(tmp);
}
// Функция конвертации относительной влажности в абсолютную
float fAbsoluteHumidity(float tt, float rh){
return (4.579*pow(2.71828,((17.14*tt)/(235.3+tt))))*rh/100;
}
Для расчета ЕС необходимо выполнить калибровку электрода и расчет термоком-
пенсации .
Все измерения необходимо проводить при температуре 25 градусов Цельсия.
Калибровка электрода необходима для перевода значений с АЦП в электропро-
водность ЕС выраженную в мСи/см. Для этого необходимо изготовить калибровоч-
ные растворы. Самый доступный способ, но позволяющий получить достаточную
точность, это калибровка по поваренной соли качества экстра с содержанием
хлорида натрия не менее 99.7%. Как правило, она доступна в любом продуктовом
магазине.
Подготовка к калибровке
1. Необходимо выполнить тарирование емкости в 1 литр, если такой нет. Для
этого понадобятся весы с точностью не менее чем в 1 грамм.
2. Необходимо влить в емкость 1000 грамм дистиллированной воды при температу-
рой 25 градусов и отметить уровень. Это будет 1 литр.
3. Нужно изготовить не менее двух емкостей, лучше 3
Раствор изготавливается путем всыпания в тарированную емкость расчетного
веса соли с точностью до 0.01 грамма (потребуются соответствующие весы). Наи-
более точно процедуру можно выполнять так:
1. Ставим на весы тару с некоторым количеством соли.
2 . Сбрасываем весы на 0
3. Сухой мелкой ложечкой или лопаткой берем из тары соль и пересыпаем мелкими
порциями в калибровочную тару, весы будут показывать, какое количество со-
ли уже выбрано из тары и продолжаем, пока не будет отвешен точный вес.
4. Вливаем дистиллированную воду в калибровочную тару до половины объема и
тщательно перемешиваем соль
5. Доводим уровень до метки 1 литр.
Значения с учетом ЕС воды ^0.01 мСи/см
■ ЕС=1 мСи/см 0,49 г/литр NaCl
■ ЕС=2 мСи/см 1 г/литр NaCl
■ ЕС=3 мСи/см 1.53 г/литр NaCl
■ ЕС=4 мСи/см 2.06 г/литр NaCl
■ ЕС=5 мСи/см 2.61 г/литр NaCl
Калибровка без весов подручными средствами. Нам понадобится:
1. пластиковая бутылка 0,5 из под Sprite для отмера 0,5 литра воды
2. аптечный кальция хлорид 10% в ампулах (100 мг/мл) по 5 мл в ампуле
3. емкость для смешивания и измерений.
Ход измерений:
1. Наливаем в промытую бутылку из под спрайта воду до метки под горлышком,
желательно осмос, но не критично. Температура должна быть комнатной.
2 . Переливаем в емкость для смешивания и измеряем значение АЦП. Это будет хО
3. Вливаем в эту емкость одну ампулу.
В ампулах содержится 5 мл раствора СаС12*6Н20 высокой чистоты
■ Одна ампула + 500 мл воды дают ЕС = 1,094 мСи/см
■ Две ампулы + 500 мл воды дают ЕС = 2,084 мСи/см
■ Три ампулы + 500 мл воды дают ЕС = 3,013 мСи/см
если ампулы по 10 мл, то объем воды необходимо увеличить до 1 литра.
Измеряем значение АЦП предварительно при одной ампуле xl=x, ecl=l,094 и при
трех ампулах х2=х, ес2=3,013
Для поправки на воду, делаем несколько пересчетов, добавляя к измеренным
результатам ЕС, расчетное значение ЕС воды.
Можно приготовить три калибровочных раствора 1, 2 и 5 ампул растворить в
полулитре дистиллята с ЕС 0.01
Получим там где:
■ одна ампула ЕС = 1.114 мсм/см
■ две ампулы ЕС = 2.132 мсм/см
■ три ампулы ЕС = 3.107 мсм/см
■ четыре ЕС = 4.057 мсм/см
■ пять ЕС = 4.988 мсм/см
■ шесть ЕС = 5.909 мсм/см
Для перевода значений лучше брать среднее за несколько измерений в одном
растворе или построить график и выбрать точку из него2.
Упрощенно, значения с измерителя АЦП можно перевести в ЕС по следующей фор-
2 https://www.youtube.com/watch?v=qVoSLE-npMU&feature=youtu.be
муле:
ес=а*х
где х - значение полученное с АЦП в сыром виде%; а,Ь - коэффициенты наклона
и коэффициент нелинейности учитывающие потери в цепи измерения.
Калибровка с приемлемой точностью должна осуществляться не менее чем по
двум точкам. Поэтому для нахождения значений коэффициентов а и Ь нам необхо-
димо решить систему уравнений:
given
ъ
еС| = а Х|
ъ
ее-) = а х^
Рещим систему уравнений и найдем значения коэффициентов а и b
1
find(a,b) ->
(
exp
In
-4*l)
ее
( ec2J
In — • *>
-In
ec
ec^
In) — x 1
ec
simplify
H3I
HIT*2!
-In
eci
( ec2J
eci
ln| — x-)
Соответсвенно значения коэффициентов можно выразить
eci
-In
be
ее-)
( x^>
In] —
a= x^ ec|
где xi - показания АЦП Arduino в калибровочном растворе с электропроводно-
стью eci; x2 - показания АЦП Arduino в калибровочном растворе с электропро-
водностью ес2.
Расчет термокомпинсации можно выполнить только эмпирическим путем, так как
состав измеряемого раствора не известен, а каждая соль имеет свои характери-
стики изменения проводимости её растворов при разных температурах. Компенса-
ция выполняется по следующей формуле:
ECk= ec/(l+k*(t-25))}
где ЕСк - термокомпенсированное значение электропроводности
ес - рассчитанное выше значение ес при температуре 25 градусов
t - температура раствора
к - эмпирический коэффициент влияния температуры на электропроводность
конкретного раствора, определяется по графикам влияния и равен примерно 0.01
-0.03
Электроника
О
(2®®
©S®
©®®
— -mi —
ARDUINO ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Блум Дж.
ГЛАВА 13. ОБМЕН ДАННЫМИ
С КАРТАМИ ПАМЯТИ SD
Есть множество примеров устройств на основе плат Arduino для сбора данных о
состоянии атмосферы с метеодатчиков, зондов, датчиков систем жизнеобеспечения
зданий и т. п. Учитывая небольшой размер, минимальное энергопотребление и
простоту взаимодействия с датчиками, платы Arduino удобны для построения ре-
гистраторов данных (устройств для записи и хранения информации в течение оп-
ределенного периода времени). Такие регистраторы часто присутствуют в сетях
сбора данных и для хранения накопленной информации требуется энергонезависи-
мая память, например SD-карта.
Хранить данные на SD-карте будем в CSV-файлах. Файлы этого формата легко
создать, считать и проанализировать в различных приложениях, что хорошо под-
ходит для задач регистрации информации. Стандартный CSV-файл выглядит пример-
но так:
Date, Time, Valuel, Value2
2013-05-15,12:00,125,255
2013-05-15,12:30,100,200
2013-05-15,13:00,110,215
Массивы данных начинаются с новой строки, столбцы разделяются запятыми. Так
как запятые служат разделителем, основным требованием для данных является от-
сутствие в них запятых. Кроме того, каждая строка должна, как правило, иметь
одинаковое число элементов. Если приведенный файл открыть в программе Excel
на компьютере, то он будет выглядеть, как показано в табл. 13.1.
Таблица 13.1.
Просмотр CSV-файла в программе Excel
Date
2013-05-15
2013-05-15
2013-05-15
Time
12:00
12:30
13:00
Valuel
125
100
110
Value2
255
200
215
Поскольку CSV-файлы являются простыми текстовыми файлами, записывать в них
данные можно с помощью знакомых нам команд print () и println () . С помощью
Arduino можно легко проанализировать CSV -файлы, считывая их по строкам и от-
деляя нужную информацию от разделителей.
Перед тем как начать запись данных с Arduino, необходимо определиться с SD-
картой. Вид SD-карты зависит от SD-адаптера, который вы будете использовать.
Существуют полноразмерные SD-карты и microSD. Большинство microSD-карт по-
ставляется с адаптером, который позволяет подключить их к считывателю стан-
дартных SD-карт. Для выполнения упражнений из этой главы вам потребуется кар-
тридер для компьютера (внешний или встроенный).
Большинство новых SD-карт заранее отформатировано и готово к использованию
с Arduino. Если на вашей карте была записана какая-нибудь информация, необхо-
димо ее отформатировать в FAT16 или FAT32. Карты объемом до 2 Гбайт следует
отформатировать в FAT16, карты с большим объемом памяти - в FAT32. В примерах
этой главы мы применяем microSD-карту, отформатированную в FAT16. Обратите
внимание, что при форматировании карты удаляется вся имеющаяся на ней инфор-
мация, но при этом гарантируется, что карта готова для взаимодействия с
Arduino. Если у вас новая карта, следующие шаги можно пропустить и вернуться
к ним только при возникновении проблем с доступом к карте из Arduino.
Форматировать SD-карту в Windows легко (на разных версиях Windows процесс
может отличаться):
1. Вставьте SD-карту в картридер. Откройте окно Computer (Мой компьютер).
2. Щелкните правой кнопкой мыши по значку SD-карты (она может иметь другое
имя) и выберите опцию Format. Появится окно с вариантами форматирования
карты.
3. Выберите тип файловой системы (FAT для карт 2 Гбайт и меньше, FAT32 для
карт большего объема), оставьте размер кластера по умолчанию и задайте
метку тома (вы можете выбрать любую).
4. Нажмите кнопку Start, чтобы отформатировать карту памяти.
На компьютерах с ОС Мае процесс также прост:
1. Используйте команду Finder, чтобы найти и открыть приложение Disk
Utility.
2. Нажмите на вкладку SDcard в левой панели и откройте вкладку Erase. Выбе-
рите пункт MS-DOS (FAT) для формата.
3. Нажмите кнопку Erase. Система отформатирует карту как FAT16, независимо
от ее емкости (в Мае нельзя отформатировать карту как FAT32).
Organize
AutoPlay
,-л" Favorites
■ Desktop
ф Downloads
V^ Recent Places
^j Libraries
l_j Documents
Jp Music
ha| Pictures
H Videos
'* Computer
& Local Disk (C:)
^ Local Disk (D:)
и Local Disk (E:)
Ш SD Card (G:)
^ marketing (Wad) (L)
^j* drivers (Wad) (P:)
^ software (Wad) (S:)
V public (Wad) (T:)
4jl Network
Properties System properties
* Hard Disk Drives (3)
Local Disk (C:)
Local Disk (D:)
Local Disk (L)
* Devices with Removable Storage (2)
53 DVD RW Drive (P.)
Network Location (4)
SO Card (G:)
058 GB free of 37
SD Card (G:) Space used'
Removable Disk Space free: 058 GB
rctaisire: 3.75 GB
£5'. stem: NTFS
Open
Open in new window
Open AutoPlay...
Share with ►
y/ Norton Security ►
Open as Portable Device
7-Zip ►
CRC SHA ►
iki_
Create shortcut
Rename
Properties
Format H:
Volume label
File system:
Allocation unit size:
0 Perform a quick format
Enable file and folder с
X
EASSOS 1
FAT32
Default
compression
OK
V
V
Cancel
Форматирование SD-карты в Windows через Disk Management.
В Linux можно отформатировать SD-карту из терминала. Большинство дистрибу-
тивов Linux будет монтировать карту автоматически при ее вставке:
1. Вставьте карту, откроется всплывающее окно, отображающее карту.
2. Откройте терминал и введите команду df, чтобы получить список смонтироваых
устройств. Последняя запись должна относиться к SD-карте. На моей системе
она была смонтирована как /ctev/mmcblkOpl, но у вас может отличаться.
3. Прежде чем форматировать SD-карту, необходимо ее отмонтировать с помощью
команды umount. Аргументом команды будет название вашей SD-карты.
4. Форматируем SD-карту с помощью команды mkdosfs. Возможно, вам придется вы-
полнить команду с правами привилегированного пользователя (с помощью ко-
манды sudo) . Используем флаг -F, чтобы указать файловую систему FAT. Вы
можете включить опции 16 или 32, чтобы выбрать FAT16 или FAT32. Отформати-
ровать карту, которая была смонтирована как /dev/mmcblkOpl, можно командой
sudo mkdosf s -F 16 /dev/mmcblkOpl.
Ваша SD-карта отформатирована и готова к работе! Приступаем к взаимодейст-
вию с SD-картой через плату SD card shield.
Для SD-карт, как и для радиомодулей ХВее, которые мы рассмотрели в главе
11 , требуется питание 3,3 В. Поэтому подключать SD-карту необходимо через пе-
реходник, который преобразует логические уровни и напряжение питания для SD-
карты. Кроме того, связь с SD-картой возможна по интерфейсу SPI, описанному в
главе 9. Arduino IDE поставляется с удобной библиотекой SD, реализующей функ-
ции низкого уровня и позволяющей легко читать и записывать файлы на SD-карту.
Есть множество плат расширения (переходников) для подключения SD-карт к
Arduino. Все рассмотреть невозможно, опишем некоторые из популярных, указав
их достоинства и недостатки.
Общие черты всех переходников SD-карт:
■ подключаются к плате Arduino по интерфейсу SPI, через 6 контактов ICSP
платы Arduino или к контактам цифровых выводов (11, 12 и 13 на Uno или 50,
51 и 52 на Меда);
■ имеют вход выбора (CS) , который может быть контактом по умолчанию (53 на
Меда, 10 на других платах Arduino);
■ подают питание 3,3 В на SD-карту и согласуют логические уровни.
Вот список наиболее распространенных плат расширения для SD-карт:
■ Cooking Hacks используется для иллюстрации примеров этой главы. Это самый
маленький переходник из рассматриваемых нами, и его можно подключить либо
к цифровым контактам (8-13 на Uno), либо к 6-контактному ICSP на Arduino.
При подключении к контактам 8-13 вход выбора CS соединен с контактом 10.
При подключении к разъему ICSP вход CS можно соединить с любым контактом
Arduino. Это полезно, если контакт 10 платы Arduino занят. Переходник по-
ставляется с SD-картой 2 Гбайт.
Плата расширения Cooking Hacks Micro SD shield.
■ Official Arduino Wireless SD shield - это первая из нескольких "официаль-
ных" плат расширения Arduino с поддержкой SD-карт. Переходник содержит
схему для подключения радиомодуля ХВее и SD-карты памяти, что позволяет
легко объединить примеры из настоящий главы и из главы 11. На этой плате
расширения вход выбора SD-карты (CS) подключается к контакту 4 Arduino. Вы
должны назначить контакт 10 как выход, а также указать в библиотеке, что
контакт 4 подключен к CS.
Плата расширения Arduino Wireless SD shield.
■ Official Arduino Ethernet SD shield позволяет подключить плату Arduino к
проводной сети. Переходник также реализует интерфейс SD-карты, хотя в ос-
новном он служит для хранения файлов, которые будут доступны через сеть.
Оба контроллера (Ethernet и SD-карты) на этом переходнике являются SPI-
устрой ствами; вывод CS Ethernet подключается к контакту 10 платы Arduino,
а вывод CS SD-карты - к контакту 4.
Плата расширения Arduino Ethernet SD shield.
• Official Arduino Wi-Fi SD shield также реализует подключение к сети, но
через Wi-Fi. SD-карта, как и в Ethernet SD shield, служит для хранения файлов,
доступных через сеть. Как и в Ethernet SD shield, Wi-Fi-контроллер для CS ис-
пользует контакт 10, а SD-карта - контакт 4. Необходимо следить, чтобы оба
устройства не были включены одновременно; активной может быть только одна ли-
ния CS (низкий логический уровень).
Плата расширения Arduino Wi-Fi SD shield.
Adafruit data logging shieldoco6eHHO хорошо подходит для экспериментов,
которые мы рассмотрим далее в этой главе, потому что включает в себя часы
реального времени (RTC) и интерфейс SD-карты. Вывод CS SD-карты на этом
переходнике назначен по умолчанию (53 на Меда, 10 - на других платах
Arduino ) , а чип часов реального времени подключен к шине 12С.
"B»»»t 0~Ь
Цо Q.O о р_о_о о q $» [о о о о о pop]
Z- ^ОООООООООО
г гоооооооооо
Z- 3 0000000000 •
г sooooooooo
; ОООООООООвПО
|Осо 0000000000 е©О*
сОнр ОООООООООО ©О
|о« оооооооооо %т>
о* ооооооооооо ?5
_^ ООООООООООО |5
^й ооооооооооо»•
- - оо
>1*ДЕИНККНЯЭ1
•dtfruit
Плата расширения Adafruit data logging shield.
На плате расширения SparkFun MicroSD shield установлен только слот SD-
карты. Тем не менее, предусмотрено монтажное поле для припаивания дополни-
тельных компонентов. Вывод CS SD-карты подключен к контакту 8, его необхо-
димо указать при использовании библиотеки SD с этим переходником.
Плата расширения SparkFun MicroSD shield.
Как упоминалось ранее, связь платы Arduino с SD-картой осуществляется через
SPI-интерфейс: контакты MOSI, MISO, SCLK (тактовые импульсы) и CS (выбор чи-
па) . Для выполнения примеров этой главы мы будем использовать библиотеку SD.
Это предполагает, что задействованы аппаратные SPI-контакты на плате Arduino,
а в качестве CS назначен или контакт по умолчанию или определенный пользова-
телем. Библиотека SD для правильной работы требует установки контакта для CS
по умолчанию в качестве выхода, даже если для CS задан другой вывод.
В случае Uno это вывод 10, для платы Меда это вывод 53. Описанные далее
примеры собраны на плате Arduino Uno с выводом CS, заданным по умолчанию.
Библиотека SD позволит создать несложный пример записи данных на SD-карту.
Будем получать данные с датчиков и записывать на карту. Данные хранятся в
файле под названием log.csv, в дальнейшем его можно открыть на компьютере.
Важно отметить, что при форматировании карты в FAT 16 имена файлов должны
быть записаны в формате " 8.3", т. е. расширение должно состоять из трех сим-
волов , а имя файла - не более чем из восьми символов.
Убедитесь, что переходник SD правильно подключен к плате Arduino и в него
установлена SD-карта. Для Cooking Hacks Micro SD shield используются контакты
8-13 Arduino и перемычка находится на правой стороне.
Для отладки программы будем контролировать статус нескольких функций биб-
лиотеки SD. Например, для установки связи с SD-картой необходимо вызвать сле-
дующую функцию (листинг 13.1):
Листинг 13.1. Функция инициализации SD-карты
if (!SD.begin(CS_pin)) {
Serial.printin("Card Failure");
return;
}
Serial.println("Card Ready");
Обратите внимание, что мы не просто инициализируем обмен с картой с помощью
функции SD.begin(CS_pin), а получаем статус выполнения этой функции. При ус-
пешной инициализации программа выдает в последовательный порт сообщение об
этом, в противном случае выводится сообщение о неуспехе и команда возврата
останавливает дальнейшее выполнение программы.
При записи строки в файл подход аналогичный. Например, если вы хотите запи-
сать новую строку "hello" в файл, код будет выглядеть так, как в листинге
13.2.
Листинг 13.2. Функция записи информации на SD-карту
File dataFile = SD.open("log.csv", FILE_WRITE);
if (dataFile) {
dataFile.println("hello");
dataFile.close();
// Данные не записываются,
// пока соединение не будет закрыто
}
else {
Serial.println("Couldn1t open log file");
}
В первой строке расположена команда создания нового файла (или открытие,
если он уже существует) с названием log.csv. Если файл создан/открыт успешно,
переменная dataFile получит значение true, и начнем процесс записи данных в
файл.
В противном случае сообщаем об ошибке в последовательный порт. Запись стро-
ки данных в файл осуществляет функция dataFile.println(); чтобы предотвратить
добавление символа новой строки, вызывайте функцию dataFile.print(). Все дан-
ные направляются в буфер и записываются в файл только после выполнения коман-
ды dataFile.close().
Теперь напишем простую программу, которая создает на SD-карте файл log.csv
и каждые 5 секунд записывает в него через запятую метки и какое-либо сообще-
ние (листинг1 13.3). В каждой строке файла CSV будет записана временная метка
(текущее значение функции millis()) и некоторый текст. Программа может пока-
заться вам бесполезной, но на самом деле это важный пример, подготавливающий
взаимодействие с реальными датчиками, чем мы займемся в дальнейших проектах.
Листинг 13.3. Тест записи данных на SD-карту
// Запись данных на SD-карту
#include <SD.h>
// Подключение контактов
// MOSI = pin 11
// MISO = pin 12
// SCLK = pin 13
// Подключение контакта выбора CS
const int CS_PIN = 10;
// Контакт для питания SD-карты
const int POW_PIN =8;
void setup() {
Serial.begin(9600) ;
Serial.println ("Initializing Card");
// Установить CS как выход
pinMode(CS_PIN, OUTPUT);
// Для питания карты используется вывод 8, установить HIGH
pinMode(POW_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(POW_PIN, HIGH);
if ( ! SD.begin (CS_PIN) ) {
Serial.printin("Card Failure");
return;
}
Serial.println("Card Ready");
}
void loop() {
long timeStamp = millis();
String dataString = "Hello There!";
// Открыть файл и записать в него
File dataFile = SD.open("log.csv", FILE_WRITE);
if (dataFile) {
dataFile.print(timeStamp);
dataFile.print(",");
dataFile.println(dataString);
dataFile.close();
// Данные не записаны,
// пока соединение не закрыто!
// Вывод в монитор для отладки
Serial.print(timeStamp);
Serial.print(",");
Serial.println(dataString);
}
else {
Serial.println("Couldn1t open log file");
}
delay(5000);
}
Обратите внимание на несколько моментов, особенно если у вас такой же пере-
ходник, как у меня (Cooking Hacks Micro SD shield):
■ CS можно установить на любом контакте; если это не контакт по умолчанию
(10), то необходимо в setup() предусмотреть команду pinMode(10, OUTPUT),
иначе библиотека SD не будет работать;
■ питание на переходник подается через контакт 8, поэтому POW_PIN должен
быть установлен в качестве выхода и в setup() необходимо определить его
значение как HIGH;
■ при каждом проходе цикла 1оор() временная метка обновляется значением те-
кущего времени, прошедшего с начала выполнения программы в миллисекундах.
Переменная должна иметь тип long, потому что millis() возвращает число
больше, чем 16 бит.
Файл открывается для записи и в него добавляются данные, разделенные запя-
тыми.
Мы также выводим эти данные в последовательный порт для отладочных целей.
Если вы откроете терминал последовательного порта, то увидите вывод данных.
При возникновении ошибок проверьте правильность подключения переходника,
убедитесь, что SD-карта отформатирована и должным образом вставлена. Для про-
верки корректности записи данных вставьте SD-карту в компьютер и откройте
файл в программе просмотра электронных таблиц. Обратите внимание, что данные
располагаются в таблице с учетом разделяющих запятых и символов перехода на
новую строку.
Теперь рассмотрим чтение информации с SD-карты. При регистрации данных это
не нужно, но может оказаться полезным для установки параметров программы. На-
пример, можно указать частоту регистрации данных.
Вставьте SD-карту в компьютер и создайте на ней новый текстовый файл с име-
нем speed.txt. В этом файле просто введите время обновления в миллисекундах.
Я задал время, равное 1000 мс (1 с).
После записи желаемой скорости обновления сохраните файл на SD-карте и
вставьте карту в переходник, подключенный к Arduino. Теперь изменим програм-
му, предусмотрев чтение этого файла, извлечение информации и установку скоро-
сти обновления данных для регистрации.
Открыть файл для чтения позволяет та же команда SD.open(), но без указания
второго параметра FILE_WRITE. Поскольку класс File наследует свойства от
класса потока (так же, как serial) , можно использовать многие из полезных ко-
манд, например parselnt(). Сказанное иллюстрирует листинг 13.4.
Листинг 13.4. Пример чтения информации с SD-карты
File commandFile=SD.open("speed.txt");
if (commandFile) {
Serial.println ("Reading Command File");
while(commandFile.available() ) {
refresh_rate=commandFile.parselnt();
}
Serial.print("Refresh Rate = ");
Serial.print(refresh_rate);
Serial.println("ms") ;
}
else {
Serial.println("Could not read command file.");
return;
}
Программа из листинга 13.4 открывает файл для чтения и считывает целые зна-
чения. Значение сохраняется в переменной частоты обновления, которую необхо-
димо будет определить в начале программы. После чтения файл следует закрыть.
Теперь можно объединить листинги 13.3 и 13.4 и менять скорость записи, ос-
новываясь на содержимом файла speed.txt, как показано в листинге 13.5.
Листинг 13.5. Чтение и запись с SD-карты
// Чтение и запись SD-карты
#include <SD.h>
// Подключение контактов
//MOSI = pin 11
//MISO = pin 12
//SCLK = pin 13
// Подключение контакта выбора CS
const int CS_PIN =10;
const int POW_PIN =8;
// Скорость опроса по умолчанию
int refresh rate = 5000;
void setup() {
Serial.begin(9600) ;
Serial.println("Initializing Card");
// Установить CS как выход
pinMode(CS_PIN, OUTPUT);
// Для питания карты используется контакт 8, установить HIGH
pinMode(POW_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(POW_PIN, HIGH);
if ( !SD.begin(CS_PIN) ) {
Serial.println("Card Failure");
return;
}
Serial.println("Card Ready");
// Чтение настроек (speed.txt)
File commandFile = SD.open("speed.txt");
if (commnandFile) {
Serial .println ( "Reading Command File");
while(commandFile.available()) {
refresh_rate = commandFile.parselnt();
}
Serial.print("Refresh Rate = ");
Serial.print(refresh_rate);
Serial.println("ms") ;
commandFile.close(); // Закрыть файл настроек
}
else {
Serial.println("Could not read command file.");
return;
}
}
void loop() {
long timeStamp = millis();
String dataString = "Hello There!";
// Открыть файл и записать в него
File dataFile = SD.open("log.csv", FILE_WRITE);
if (dataFile) {
dataFile.print(timeStamp);
dataFile.print(",");
dataFile.println(dataString);
dataFile.close(); // Закрыть файл
// Вывод в последовательный порт для отладки
Serial .print (timeStamp) ;
Serial.print(",") ;
Serial.println(dataString);
}
else {
Serial.println("Couldn1t open log file");
}
delay(refresh_rate);
}
После загрузки на плату и запуска программы данные будут записываться с
частотой, указанной при настройке. За процессом можно наблюдать в мониторе
последовательного порта.
Использование часов
реального времени
Почти каждое приложение регистрации данных выиграет от использования часов
реального времени. Наличие часов реального времени (RTC) в системе позволит
вставлять временные метки измерений, поэтому легко можно отследить, когда
произошло событие. В предыдущем разделе мы вызывали функцию m±ll±s(), чтобы
отследить время, прошедшее с начала включения платы Arduino. Теперь задейст-
вуем микросхему часов реального времени, позволяющую фиксировать текущее вре-
мя регистрации данных на SD-карту.
Назначение часов реального времени ясно из названия. Вы устанавливаете вре-
мя один раз, а часы продолжают очень точно отсчитывать время, даже с учетом
високосных годов. В описанном далее примере выбрана популярная микросхема ча-
сов реального времени DS1307.
Часы реального времени DS1307 поддерживают связь с Arduino по протоколу 12С
и подключаются к круглой батарейке, что обеспечивает ход часов в течение не-
скольких лет. К микросхеме подключается кварцевый резонатор, определяющий
точность хронометража. Я выбрал плату расширения adafruit-DS1307-breakout,
которая содержит микросхему DS1307, кварцевый резонатор, батарейку размером с
монету, конденсатор развязки и 12С подтягивающие резисторы. Плату легко под-
ключить к Arduino (рис. 13.18).
Adafruit-DS1307-breakout.
Далее предполагается, что вы используете эту плату. Тем не менее, можно
просто собрать схему из элементов на макетной плате и подключить непосредст-
венно к Arduino. Потребуется кварцевый резонатор на 32,768 кГц, подтягивающие
резисторы номиналом 2,2 кОм и круглая батарейка 3,0 В размером с монету. Если
вы решили собрать плату самостоятельно, можете приобрести эти компоненты и
собрать их на макетной плате по схеме, приведенной на рис. ниже.
Как и в предыдущей главе, мы снова воспользуемся сторонней библиотекой для
Arduino. На этот раз для облегчения связи с микросхемой часов реального вре-
мени (RTC). Библиотека называется RTClib, первоначально она была разработана
JeeLabs, затем обновлена Adafruit Indusrtries. Библиотеку можно найти в архи-
ве:
ftp://homelab.homelinuxserver.org/pub/arhiv/2022-ll-al.zip
Скачайте библиотеку и распакуйте в папку libraries, как вы это делали в
главе 12.
Работать с библиотекой просто. При первом выполнении кода нужно вызвать
функцию RTC.adjust() для получения времени с компьютера и настройки часов.
Далее RTC работают автономно и можно получать текущее время и дату посред-
I
ством команды RTC.now(). В следующем примере мы будем использовать эту функ-
цию для ведения журнала регистрации в режиме реального времени.
Схема часов реального времени, собранная на макетной плате.
Теперь объединим SD-карту и часы реального времени, чтобы включить ведение
журнала с помощью временных меток. Мы модифицируем программу, добавив запись
показаний часов реального времени вместо значений, выдаваемых функцией
millis () .
Подключим к Arduino модули SD card shield и RTC. Если вы используете платы
расширения Cooking Hacks Micro SD shield и adafruit-DS1307-breakout, то под-
ключение будет выглядеть так, как на рис. ниже.
Отметим, что последний контакт на RTC не связан с Arduino; это меандр, ге-
нерируемый RTC, в нашем примере он не задействован. В программе следует по-
дать на контакт А2 уровень LOW и на A3 уровень HIGH (+5 В), чтобы обеспечить
питание RTC. Если вы собрали свой модуль RTC на макетной плате, то установка
будет выглядеть немного по-другому.
Теперь нужно добавить функционал RTC в нашу предыдущую программу. Необходи-
мо сделать следующее:
■ подключить библиотеку RTC;
■ организовать питание модуля RTC (A2 - LOW, A3 - HIGH);
■ инициализировать объект RTC;
■ установить время RTC с помощью компьютера;
■ записывать фактические временные метки в файл журнала.
Кроме того, в код программы добавлен вывод в файл заголовка столбца при ка-
ждом перезапуске журнала. Таким образом, вы легко найдете в журнале, записан-
ном в файл CSV, моменты перезапуска.
Плата Arduino с подключенными платами расширения Cooking Hacks
Micro SD shield и adafruit-DS1307-breakout.
Если после запуска программы вы заметите, что она через некоторое время ос-
танавливается, то причина может заключаться в нехватке оперативной памяти.
Так происходит из-за строк, которые занимают большой объем оперативной памя-
ти, это относится к командам вывода в последовательный порт Serial.print() и
Serial.printin(). Проблему можно решить, удалив из программы указанные коман-
ды и поручив компилятору хранить строки не в оперативной памяти, а во флэш-
памяти Arduino. Для этого для строк используем обертку F(), например
Serial.println (F("Hello")). Описанный метод реализован в листинге 13.6.
Обновленная программа (листинг 13.6) использует RTC в качестве таймера для
регистрации данных. Программа перемещает большинство строк во флэш-память,
чтобы предотвратить переполнение оперативной памяти.
Листинг 13.6. Чтение и запись данных на SD-карту с использованием RTC
// Чтение и запись данных на SD-карту с использованием RTC
#include <SD.h>
// Подключение библиотеки SD
#include <Wire.h>
// Для работы с RTC
#include "RTClib.h" // Подключение библиотеки RTC
// Подключение устройств SPI и I2C с контактами по умолчанию
// SD-карта SPI контакты
// RTC - стандартные 12С контакты
const int CS_PIN =10;
const int SD_POW_PIN =8 ;
const int RTC_POW_PIN =A3 ;
const int RTC_GND_PIN =A2 . ;
// Скорость опроса по умолчанию 5 секунд
int refresh rate = 5000;
// Создание объекта RTC
RTC_DS1307 RTC;
// Переменные для даты и времени
String year, month, day, hour, minute, second, time, date;
void setup() {
Serial.begin(9600) ;
Serial.println(P("Initializing Card"));
// Настроить контакты CS и питания как выходы
pinMode(CS_PIN, OUTPUT);
pinMode(SD_POW_PIN, OUTPUT);
pinMode(RTC_POW_PIN, OUTPUT);
pinMode(RTC_GND_PIN, OUTPUT);
// Установка питания карты и RTC
digitalWrite(SD_POW_PIN, HIGH) ;
digitalWrite(RTC_POW_PIN, HIGH) ;
digitalWrite(RTC_GND_PIN, LOW);
// Инициализация Wire и RTC
Wire.begin();
RTC.begin();
// Если RTC не запущены, загрузить дату/время с компьютера
if ( ! RTC. isrunningO) {
Serial.println( F ( "RTC is NOT running ! ") );
RTC. adjust (DateTime( DATE , TIME ));
}
// Инициализация SD-карты
if ( !SD.begin(CS_PIN)) {
Serial.println(F("Card Failure"));
return;
}
Serial.println(F("Card Ready"));
// Чтение конфигурационного файла (speed, txt)
File commandFile = SD.open("speed.txt");
if (commandFile) {
Serial.println ( F ( "Reading Command File") );
while(commandFile.available()) {
refresh_rate = commandFile.parselnt();
}
Serial.print(F("Refresh Rate = "));
Serial.print(refresh_rate);
Serial.println(F("ms") ) ;
commandFile.close();
}
else {
Serial.println(F("Could not read command file."));
return;
}
// Запись заголовка
File dataFile = SD.open("log.csv", FILEJtfRITE);
if (dataFile) {
dataFile.println ( F ( "\nNew Log Started ! ") );
dataFile.printin(F("Date,Time,Phrase"));
dataFile.close();
// Запись в последовательный порт
Serial.println(F("\nNew Log Started!"));
Serial.println(F("Date,Time,Phrase"));
}
else {
Serial.println(F("Couldnft open log file"));
}
}
void loop() {
// Получить значение даты и времени и перевести в строковые значения
DateTime datetime = RTC.now();
year = String(datetime.year(), DEC);
month = String(datetime.month(), DEC);
day = String(datetime.day(), DEC);
hour = String(datetime.hour(), DEC);
minute = String(datetime.minute(), DEC);
second = String(datetime.second(), DEC);
// Собрать строку текущей даты и времени
date = year + "/" + month + "/" + day;
time = hour + ":" + minute + ":" + second;
String dataString = "Hello There!";
// Открыть файл и записать значения
File dataFile = SD. open ( "log. csv", FILE_WRITE);
if (dataFile) {
dataFile.print(date);
dataFile.print (F(", "));
dataFile.print(time);
dataFile.print(F(",n) ) ;
dataFile.println(dataString);
dataFile.close();
// Вывод в последовательный порт для отладки
Serial.print(date);
Serial.print(F(",")) ;
Serial.print(time);
Serial.print(F(",")) ;
Serial.println(dataString);
}
else {
Serial.println(F("Couldnft open log file"));
}
delay(refresh_rate) ;
}
Библиотека RTC импортируется в код строкой #include "RTClib.h" и создается
объект RTC_DS1307 RTC. RTC является 12С-устройством, поэтому необходимо под-
ключение библиотеки Wire, с которой мы знакомы из главы 8. В секции setup()
функция RTC.isrunning() проверяет, запущена ли микросхема RTC. Если нет, то в
микросхему записываются данные с часов компьютера, полученные при компиляции.
После установки времени оно не сбрасывается, пока микросхема RTC подключена к
батарее. В функции setup() в лог-файл записывается заголовок столбца, чтобы
отслеживать моменты перезагрузки системы регистрации.
Во время цикла loop() инициализируем объект DataTime текущими значениями
даты и времени из RTC. Из объекта DateTime извлекаем значения года, месяца,
дня, часа, минуты, секунды, конвертируем их в строки и объединяем строки в
общую строку для представления даты и времени. Эти данные записываются в лог-
файл и выводятся в последовательный порт.
Через некоторое время извлечем карту памяти и прочитаем лох1-файл на компью-
тере в программе просмотра электронных таблиц.
Регистратор
прохода
через дверь
Теперь можно приступить к созданию входного регистратора для вашей комнаты.
Отслеживать моменты прохода людей через дверь будем с помощью датчика рас-
стояния. Регистратор будет фиксировать эти события и записывать в лог-файл на
SD-карту для последующего просмотра на компьютере.
Все, что нужно сделать, - это добавить аналоговый датчик расстояния к суще-
ствующей схеме. Если вы используете те же модули, как и я, не потребуется да-
же макетная плата. Просто подключите соответствующие контакты к земле, пита-
нию и аналоговому входу АО. Монтажная схема приведена ниже.
Для того чтобы система работала стабильно, необходимо установить ИК-датчик
расстояния так, чтобы луч датчика шел горизонтально вдоль всей двери. Тогда
при проходе через дверь человек обязательно окажется в зоне действия датчика.
ИК-датчик расстояния и плату Arduino на время тестирования программы можно
прикрепить к стене с помощью липкой ленты.
Для нашего регистратора необязательно читать переменные с карты памяти, по-
этому можно удалить данную часть кода. В программу необходимо добавить про-
верку показаний ИК-датчика расстояния и определение величины их изменения за
время между опросами. Если изменение есть, можно предположить, что кто-то во-
шел или вышел из комнаты. Нужно выбрать порох1 изменения аналоговых показаний
датчика для точного определения факта прохода через дверь. Я экспериментально
определил, что для моей установки изменение значения аналогового сигнала бо-
лее чем на 75 единиц является достаточным признаком для фиксации движения (у
вас, возможно, будет по-другому). Чтобы надежно установить момент прохода,
необходимо проверять датчик достаточно часто.
Монтажная схема регистратора.
Я рекомендую записывать данные на SD-карту только в момент появления чело-
века, а в остальное время обновлять журнал лишь с определенной периодично-
стью.
При этом будет обеспечен хороший баланс между объемом хранимой информации и
точностью работы. Плата Arduino опрашивает датчик расстояния через 50 мс (и
добавляет единицу к текущему столбцу каждый раз при обнаружении движения).
Если движение не обнаруживается, записываем ноль в текущий столбец через 1
секунду (в отличие от 50 мс).
В листинге 13.7 приведена программа входного регистратора, работающая со-
гласно описанному алгоритму.
Листинг 13.7. Программа входного регистратора
// Программа входного регистратора
#include <SD.h>
// Подключение библиотеки SD
#include <Wire.h>
// Для работы с RTC
#include "RTClib.h" // Подключение библиотеки RTC
// Подключение устройств SPI и I2C с контактами по умолчанию
// SD-карта SPI контакты
// RTC - стандартные 12С контакты
const int CS PIN=10;
// SS для переходника SD
const int SD_POW_PIN =8 ;
// Питание Для SD
const int RTC_POW_PIN =A3; // Питание для платы RTC
const int RTC_GND_PIN =A2 . ; // Земля для платы RTC
const int IR_PIN=0; // ИК-датчик расстояния к аналоговому входу АО
// Создать объект RTC
RTC_DS1307 RTC;
// Инициализация переменных для даты/времени
String year, month, day, hour, minute, second, time, date;
// Инициализация переменных для ИК-датчика расстояния
int raw = 0;
int raw_prev = 0;
boolean active = false;
int update_time = 0 ;
void setup () {
Serial.begin(9600) ;
Serial.println(F("Initializing Card"));
// Настроить контакты CS и питания как выходы
pinMode(CS_PIN, OUTPUT);
pinMode(SD_POW_PIN, OUTPUT);
pinMode(RTC_POW_PIN, OUTPUT);
pinMode(RTC_GND_PIN, OUTPUT);
// Установка питания карты и RTC
digitalWrite(SD_POW_PIN, HIGH) ;
digitalWrite(RTC_POW_PIN, HIGH) ;
digitalWrite(RTC_GND_PIN, LOW);
// Инициализация Wire и RTC
Wire.begin();
RTC.begin();
// Если RTC не запущены, загрузить дату/время с компьютера
if ( ! RTC. isrunningO) {
Serial.println(F("RTC is NOT running!"));
RTC . adjust (DateTime ( DATE , TIME ) ) ;
}
// Инициализация карты SD
if ( !SD.begin(CS_PIN)) {
Serial.println(F("Card Failure"));
return;
}
Serial.println(F("Card Ready"));
// Запись заголовка
File dataFile = SD.open("log.csv", FILEJtfRITE);
if (dataFile) {
dataFile.println(F("\nNew Log Started!"));
dataFile.printin(F("Date,Time,Raw,Active"));
dataFile.close();
// Запись в последовательный порт для отладки
Serial.println(F("\nNew Log Started!"));
Serial .pr in tin (F( "Date, Time, Raw, Active") ) ;
}
else {
Serial.println(F("Couldnft open log file"));
}
}
void loop() {
// Получить значение даты и времени и перевести в строковые значения
DateTirne date time = RTC.now() ;
year = String(datetirne.year(), DEC);
month = String (da tetime. month () , DEC);
day = String(datetirne.day(), DEC);
hour = String(datetirne.hour(), DEC);
minute = String (datetime . minute () , DEC) ;
second = String(datetime.second(), DEC);
// Собрать строку текущей даты и времени
date = year + "/" + month + "/" + day;
time = hour + ":" + minute + "•" + second;
// Собрать данные движения
raw = analogRead(IR_PIN);
// При изменении значения более чем на 75 между показаниями
// фиксируем факт прохода через дверь.
if (abs(raw-raw_prev) > 75)
active = true;
else
active=false;
raw_prev=raw;
// Открыть лог-файл и записать в него,
if (active || update_tirne ==20) {
File dataFile=SD.open("log.csv", FILE_WRITE);
if (dataFile) {
dataFile.print(date);
dataFile.print(F(","));
dataFile.print(time);
dataFile.print(F(",") ) ;
dataFile.print(raw);
dataFile.print(F(",") ) ;
dataFile.println(active);
dataFile.close();
// Вывод в последовательный порт для отладки
Serial.print(date);
Serial.print(F(",n));
Serial.print(time);
Serial.print(F(",n));
Serial.print(raw);
Serial.print(F(",n));
Serial.println(active);
}
else {
Serial.println(F("Couldnft open log file"));
}
update_time = 0 ;
}
delay(50);
update_time++ ;
}
После загрузки программы на плату Arduino установите регистратор возле две-
ри и дайте поработать некоторое время. Когда наберется достаточное количество
данных, вставьте SD-карту в компьютер и откройте лог-файл CSV в программе
просмотра электронных таблиц. Предполагая, что на карте записаны данные для
одного дня, можно построить график активности движения от времени. Пока никто
не проходит через дверь, значение остается равным нулю. Когда кто-нибудь вхо-
дит или выходит из комнаты, значение подскакивает до единицы, и можно точно
узнать, когда это случилось. Процедура построения графика зависит от выбран-
ного графического приложения.
(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)
Системы
ПЕРВЫЕ ШАГИ С NODEMCU И LUA
Кандауров И.
Введение
NodeMcu - платформа на основе ESP8266 для создания различных устройств ин-
тернета вещей (IoT). Модуль умеет отправлять и получать информацию в локаль-
ную сеть либо в интернет при помощи Wi-Fi. Недорогой модуль часто использует-
ся для создания систем умного дома или роботов Arduino, управляемых на рас-
стоянии. В этой статье мы рассмотрим описание платы, отличие версий и распи-
новку последней версии модуля Esp8266 NodeMcu v3. Также мы коротко рассмотрим
язык Lua, на котором нужно писать программы для NodeMcu.
Технические характеристики модуля NodeMcu v3:
■ Поддерживает Wi-Fi протокол 802.11 b/g/n;
■ Поддерживаемые режимы Wi-Fi - точка доступа, клиент;
■ Входное напряжение 3,7-20 В;
■ Рабочее напряжение 3-3,6 В;
■ Максимальный ток 220 мА;
■ Встроенный стек TCP/IP;
■ Диапазон рабочих температур от -40 до 125 С;
■ 80 МГц, 32-битный процессор;
■ Время пробуждения и отправки пакетов 22 мс;
■ Встроенные TR переключатель и PLL;
■ Наличие усилителей мощности, регуляторов, систем управления питанием.
Подавать питание на модуль можно несколькими способами:
■ Подавать 5-18 В через контакт Vin;
■ 5 В через иБВ-разъем или контакт VUSB;
■ 3,3В через вывод 3V.
Существует несколько поколений плат NodeMcu - VI (версия 0.9) , V2 (версия
1.0) и V3 (версия 1.0). Обозначения VI, V2, V3 используются при продаже в ин-
тернет-магазинах. Нередко происходит путаница в платах - например, V3 внешне
идентична V2. Также все платы работают по принципу open-source, поэтому их
могут производить любые фирмы. Но в настоящее время производством плат
NodeMcu занимаются Arnica, DOIT и LoLin/Wemos.
Платы поколения VI и V2 легко отличить - они обладают различным размером.
Также второе поколение оснащено улучшенной модификацией чипа ESP-12 и 4 Мб
флэш-памяти. Первая версия, устаревшая, выполнена в виде яркой желтой плат-
формы. Использовать ее неудобно, так как она покрывает собой 10 выходов ма-
кетной платы. Плата второго поколения сделана с исправлением этого недостатка
- она стала более узкой, выходы хорошо подходят к контактам платы. Платы V3
внешне ничем не отличаются от V2, они обладают более надежным USB-выходом.
Выпускает плату V3 фирма LoLin, из отличий от предыдущей платы можно отметить
то, что один из двух зарезервированных выходов используется для дополнитель-
ной земли, а второй - для подачи USB питания. Также плата отличается большим
размером, чем предыдущие виды.
Преимущества NodeMcu v3:
■ Наличие интерфейса UART-USB с разъемом micro USB позволяет легко подклю-
чить плату к компьютеру.
■ Наличие флэш-памяти на 4 Мбайт.
■ Возможность обновлять прошивку через USB.
■ Возможность создавать скрипты на LUA и сохранять их в файловой системе.
Недостатки модуля NodeMcu:
Основным недостатком является возможность исполнять только LUA скрипты,
расположенные в оперативной памяти. Этого типа памяти мало, объем составляет
всего 20 Кбайт, поэтому написание больших скриптов вызывает ряд трудностей. В
первую очередь, весь алгоритм придется разделять на линейные блоки. Эти блоки
необходимо записать в отдельные файлы системы. Все эти модули исполняются при
помощи оператора dofile.
При написании нужно соблюдать правило - при обмене данными между модулями
нужно пользоваться глобальными переменными, а при вычислении внутри модулей -
локальными. Также важно в конце каждого написанного скрипта вызывать функцию
collectgarbage (сборщик мусора).
Модуль V3 имеет 11 контактов ввода-вывода общего назначения. Помимо этого
некоторые из выводов обладают дополнительными функциями:
■ D1-D10 - выводы с широтно-импульсной модуляцией;
■ Dl, D2 - выводы для интерфейса I2C/TWI;
■ D5-D8 - выводы для интерфейса SPI;
■ D9, D10 - UART;
■АО - вход с АЦП.
S0D3 I I GPIO10
SOM I I GPI09
I "О" | I SDD1 | | GPI08 |
| CS | | SPCWP | | GPI011 |
| HISO | | STOP | | GPI07
| SCLK | | SPCLK I I GPI06
ESP8266
3V3 D8
„. NodeMCU V3 M
RST X'J
«jij^pm .corn тх
| GPI016 \ | ЫЙКЕ |
| GPIQ5 \ | 5CL |
GPI014 | ISCLK
GPI012 | | MISO
I GM013 | I WOSI | | RXD2 |
I 6PI015 1 I CS | | TXD2 |
Для программирования NodeMCU можно использовать Arduino IDE или комплекс
средств разработки SDK - ESPlorer. Этот комплекс обладает рядом отличий:
■ Он может работать на множестве различных платформ;
■ Обладает поддержкой нескольких открытых файлов;
■ Позволяет подсвечивать код языка Lua;
■ Возможность умной отправки файлов;
■ Возможность поддержки нескольких видов прошивки одновременно.
Для начала работы с NodeMcu с Arduino IDE нужно подключить плату к компью-
теру. Первым шагом будет установка драйвера СР2102 и открытие Arduino IDE.
Затем нужно найти в «Файл» - «Настройки» и в окно «Дополнительные ссылки для
Менеджера плат» вставить ссылку:
http://arduino.esp8266.com/versions/2.3.0/package_esp8266com_index.json.
После этого в меню «документы» - «плата» «менеджер плат» выбрать «esp8266»
и установить последнюю версию. После проделанных действий в меню «инструмен-
ты» - «плата» нужно найти NodeMCU.
После того, как все необходимые данные будут установлены и скопированы,
можно будет начать работать.
ESPlorer — это инструмент, который загружает ваши LUA-скрипты в модуль ESP,
прошитый с помощью LUA . На данный момент вы можете использовать только платы
на основе ESP8266, но ESP32 находится в разработке (или используйте для этого
сборку dev) . Вы также можете использовать его для microPython, АТ-команд и
RN2483.
Преимущество Lua в том, что он загружается немедленно — вы не компилируете
в течение минуты, а затем ждете загрузки в течение минуты. Недостатком явля-
ется то, что это новый язык для изучения. Единственная книга по этому языку
есть в архиве: ftp://homelab.homelinuxserver.org/pub/arhiv/2022-ll-a4.гаг
Язык Lua обладает простым синтаксисом и мощными конструкциями описания дан-
ных , которые основаны на массивах и расширяемой семантике. Этот мощный язык
программирования используется для создания программного обеспечения, расшире-
ния различных игр. В отличие от остальных языков Lua обладает более гибкими и
более мощными конструкциями.
Для запуска этой программы на вашем компьютере должна быть установлена
Java.
Программа ESPlorer также есть в архиве.
Распакуйте каталог с программой на своем ПК, затем дважды щелкните файл
ESPlorer.bat. Возможно, вам придется немного подождать, пока некоторые биб-
лиотеки будут загружены и установлены. Затем вы увидите основной интерфейс
ESPlorer.
Есть две панели: левая для редактирования и загрузки скриптов, правая для
последовательной связи с модулем ESP.
Первое, что вам нужно сделать, это выбрать СОМ-порт, используемый EPS8266
(выпадающий список вверху справа). Скорость передачи данных будет:
■ 9600 бод для более старых установок nodeMCU.
■ 115200 бод для более новых установок флэш-памяти.
После установки скорости передачи просто нажмите кнопку «Открыть», чтобы
подключиться к плате. Вы должны увидеть следующее:
> ESPlorer vOJ!.0-f<$ by JrefrOnt
File SCt £*P V.t* W.4 ~
[ N<xHUCUAUiaoP,*©n ] AT-cwd | RW83 J
D X
-U
[ Scnpu I Cc™my>cs I snippets I Sesnjt/
0e** R*<*< 5«.«
Cc«» «л>Л;
ОЛ Geev Pa** Coc* lr+
J^T\_
S*. •&Cc*-c'«
S*.*&Cc~*>« «.I
Open CTS
0TR RTS
Dona to
О ReVw<:
Теперь нажмите кнопку сброса, нажмите кнопку сброса на плате или нажмите
кнопку RTS (дважды, чтобы удерживать ее активной, затем неактивной), так как
это связано с контактом сброса (на платах nodeMCU).
Если вы используете более новый прошитый nodeMCU, вы увидите что-то вроде
этого:
■NodeMCU custom build by frightanic.com
I branch: master
III commit: 11592951b9G707cdcb6d751876170bf4da82850d
III SSL: false
If modules: file,gpio,net,node,tmr,uart,wifi
III build created on 2019-03-22 15:22
III powered by Lua 5.1.4 on SDK 2.2.1(6ab97e9)
Hlua: cannot open init.lua
II >
V
jr
SnpptfO Sopptfi Sc\t&** 3*-pO*t3 Sr<pp*t4 5«рр*5 Ь*рр*Ь So-p^*?
SncpetS SrppelS SnppetlO Sn>pp«cil Srpp«tl2 Snpp«tl3 Sr.ippatM
SnopetlS
He беспокойтесь о бессмысленных символах, которые предшествуют каждому-
сбросу — это просто данные о состоянии с другой скоростью передачи данных
(74880 бод).
В основу платформы загружена стандартная прошивка Node MCU, в которую
встроен интерпретатор языка Lua. При помощи Lua-команд можно выполнять сле-
дующие действия:
■ Подключение к Wi-Fi точке доступа;
■ Работа в роли Wi-Fi точки доступа;
■ Переход в режим глубокого сна для уменьшения потребления энергии;
■ Включение или выключения светодиода на выходе GPI016;
■ Выполнение различные операции с файлами во флэш-памяти;
■ Поиск открытой Wi-Fi сети, подключение к ней;
■ Вывод MAC адреса;
■ Управление пользовательскими таймерами.
Для обеспечения корректной и стабильной работы нужно обновить прошивку до
последней версии. Существует несколько способов обновления - облачный сервис,
Docker Image и компилирование в Linux. Каждый из этих способов обладает свои-
ми плюсами и минусами. Наиболее простым и понятным является первый способ.
Облачный сервис обладает простым и удобным интерфейсом1. Работа начинается
с ввода email. Далее будет предложено выбрать тип прошивки - стабильная про-
шивка или тестируемая. Первая используется для обучения и создания большого
количества объектов, поэтому рекомендуется выбирать именно ее. Следующим ша-
гом будет подключение нужных модулей. По умолчанию уже записано несколько ос-
новных пунктов, остальные нужно включать только по необходимости. Затем выби-
раются дополнительные опции. Среди них есть поддержка FatFS для чтения sd-
карты или включение режима отладки.
Идея состоит в том, чтобы включить те, которые вам нужны, поскольку про-
странство на ESP8266 ограничено.
После начала сборки придет письмо на почту, сигнализирующее о начале запус-
ка процесса. Через некоторое время придет и второе письмо - будет предложено
выбрать версию float (дробные числа) или integer (целые числа).
1 https://nodemcu-build.com/
После перехода по полученной ссылке нужно будет скачать файл bin.
В этом методе прошивки ESP8266 для установки последней прошивки nodeMCU ис-
пользуется новейший инструмент, который также очень прост в использовании -
pyflasher (есть в архиве). Он выглядит так:
И NcdeMCU PyFlash<
File Help
Serial port
NodeMCU firmware
Baud rate
Flash modetty
Erase flash
Console
»r —•
О 9600 0*7600 О 74380 ®1152O0 O2B0400 0^60800 О 921600
О Quad I/O (QIO) ® Dual I/O (010) О Dual Output (D0UT)
(•) no О У*5, wipes all data
Flash NodeMCU
П X
Browse
Connect your device
If you chose с'лс aerial port auto-selec* feature you might need zc
curr. off 31uetcoth
Welcome to NodeMCU PyF lasher 4.0
Узнайте, какой последовательный порт NodeMCU используется. Вы можете уз-
нать, к какому порту подключен ваш nodeMCU, запустив панель управления и пе-
рейдя к оборудованию и «Диспетчеру устройств».
Чтение документации говорит следующее: flash-mode — это qio для большинства
ESP8266 ESP-01/07 (модули 512 кбайт) и dio для большинства ESP32 и ESP8266
ESP-12 (модули >=4 Мбайт). ESP8285 требует dout.
Не забудьте закрыть последовательный порт ESP8266, который вы, возможно,
использовали!
Загрузите версию вашего двоичного файла с плавающей запятой — это рекомен-
дуется, несмотря на то, что она использует больше памяти, но на ваше усмотре-
ние.
Настройки:
■ Держите последовательную скорость на уровне 115200.
■ Выберите последовательный порт или используйте автоматическое определение.
■ Выберите DIO для ESP-12E
■ Выберите Erase Flash - просто чтобы убедиться!
Нажмите «Flash NodeMCU»:
23 NodeMCU PyFiashe
file Help
Serial port
NodeMCU firmware
Baud rate *
Flash mode<i> (
Erase flash »
Console
- a x
COM19 ^ <♦>
C:\Users\jchnf\Document5*\ESP32c^\nodemciJ-ma5ter-7-modul«-2019-03-22-l>-23-29 Browse
D*600 О 57600 Q74eW (§115200 О 230400 Q460SCO О 921600
ЭQuad I/O (QIO) (•) Dual I/O (DIO) Q Dual Output (OOUT)
Э no ® yes, wipes all data
Flash NodeMCU
C:irrr.2nd: «?spio;l .py --port; С0>ii5» --fcaud 1152.'0 --af-ег r.o rosec writ a
сзри-ol.jry v2.c
Serial tori CCXIS-
C-:r.r.*cti:ic?
Delecting chip lype... ESFE'2£t
:r.ic IS £5F2ZccEX
F«:urAs: WiFi
MAC: tc:dd:c2:ld:?»d:b2
UpicAdir.? s"ufc. . .
Rurir.ir.7 stub. . .
f-iu'c rur.r.ir.<7.. .
Crr.figuri-c fiaah 3i2c...
Aucc-deiecied Flash size: 4!1B
Erftsinc ПлзЛ (this хлу сл'<е a vhile) . . .
Cr.ip е:гз? ccir-pleied auc:o33fully m "'.Is
Flash p?.r&.rrj s*t i: JxJ2~:»
C.r.pressed t3-5I"c byies tc 25 021c...
Wrote 4541*? •: tytes <2r02_c compressed) a: jx lOOOOOj0 ir. 2*5.5» second*
Hash :r :1л t* v*:ifi*j.
Leavir.c. . .
Slaying in bco'lcuier.
Firrr.vsre successfully flashed. "Jnr iucj/repiuo :r reset device
V
< >
Welcome to NodeMCU PyFlasher 1.0
Когда вы запускаете последовательный терминал, этот интерфейс Lua использу-
ет скорость 115200 бод, а не 9600, как использовалась предыдущая версия.
ESP8266 не запускается сразу — при первом запуске он отформатирует файловую
систему ESP8266 — это занимает около 40 секунд.
Это результат, который вы увидите, а не одна строка, как в версии nodeMCU
2015 года:
PORT OPEN 11S200
Communication with MCU..Waiting answer from ESP - Timeout reached. Command abc
AutoDetect firmware...
Can't autodetect firmware, because proper answer not received (may be unknown
Please, reset module or continue.
A*b<I.6ogYr i t Ф:; v., ; « :; ^ 'аКЕШФ/ФlS4»S^^PJcBoa|CXI^KlS^baoogc 1И0Г2ГИЗ' ■'
Formatting file system. Please wait...
NodeMCU custom build by frightanic.com
branch: master
commit: 1159?951b9O7O7cdcb6d751876170bf4da8285ed
SSL: false
modules: file,gpio,net,nodejtmr^art^wifi
build created on 2019-03-2? 15:22
powered by Lua 5.1. л on SDK 2.2.l(Gab97e9)
lua: cannot open init.lua
Приведенный выше экран из терминала ESPlorer .
Программирование
Так сложилось, что проект NodeMCU Lua появился раньше, чем модули ESP8266
были "захвачены" ардуино сообществом.
Через некоторое время документация появилась и стала пополняться по адресу
https://nodemcu.readthedocs.io/en/dev/
Надо заметить, что язык Lua хорош тем, что он может быть изучен всего по
одной книге. Отсутствие выбора иногда совсем неплохо. Да и книга невелика -
вполне доступна для самоделкина, тем более и читать всю ее необходимости нет:
вполне достаточно одолеть первые 15 глав, что в объеме не превышает 200 стра-
ниц.
.. . Однако. После прочтения у ардуинщика, меня, в частности, не возникает
понимания как писать программы для ESP8266. Привычка мыслить категорией
loop(а) не дает возможности "увидеть" будущую структуру программы, которая,
на самом деле, куда проще.
Все дело в том, что программирование на Lua для ESP8266 асинхронное и собы-
тийное. В общем, голова должна работать не так, как привык адруинщик.
Попробую рассказать о первых шагах в написании кода на Lua для ESP.
Пропустим ряд вещей, которые достаточно полно раскрыты во многих местах и
перечислены в документации2: добыча firmweare, прошивка модуля, основы работы
с ним через ESPLorer3. Начнем непосредственно с программирования и изучения
таймеров.
Итак, коль скоро в программе нет loop, а некоторые события должны происхо-
дить в вашем модуле периодически, у NodeMCU Lua есть таймеры - явление, кото-
рое в "нормальном" Lua по умолчанию отсутствует (зато есть в JavaScript, что
в написании кода сильно роднит с ним NodeMCU).
Про таймер все написано в документации4, но новичку его логика не всегда
очевидна.
Давайте мигать светодиодом. Принципиальная схема подключения представлена
на рисунке:
100Q LED1
[NodeMCU D7 > У\М ^| i
Но даже без него самого обойдемся:
print('Write Pin f..0)
print('Write Pin f..1)
вполне достаточно для начала.
Напишем функцию, вызов которой будет "управлять" светодиодом:
2 https://nodemcu.readthedocs.io/en/dev/getting-started/#getting-started-aka-
nodemcu-quick-start
3 https://esp8266.ru/esplorer/
4 https://nodemcu.readthedocs.io/en/dev/modules/tmr/
do
data = 0
function myled()
-- типа тренарного оператора:
data = data == 0 and 1 or 0
print('Write Pin f..data)
end
end
Проверяем, как это работает с модулем:
File Edit ESP View Links ?
NodeMCU & MicroPython | AT-based | RN2483
f Scripts J Commands | Snippets j Settings y
D # IJ EJ _
Open Reload Save Save... Close Undo Redo
Cut Copy Paste
New _myled lua
unction myled()
myled()
myled()
myledf)
Несколько вызовов
Результат вызовов
■. Д1»]1=Д С \Users\igork\Nextcloud\esp\ws2812\tests\_myled lua
, ^ф Save to ESP ( Jf Send to ESP ^ Run
jr] Uplt:
[y/\ KA<£ctv
Open
DTR
CTS
RTS
(TjCR
115200
Donate
Remain: 419170 bytes
> dofile(
Write Pin 1
> myled()
Write Pin 0
> myled()
Write Pin 1
> myled()
Write Pin 0
> myled()
Write Pin 1
l*
, UJ
1 >-/•
, |~
1 i 1
Format
FS Info ,
Reload |
_myled lua ,
Jestwrite lua |
У *«
ask google Get LFS wifi32 ( print wth | print dat ( Globals j pins
cron , romtb , I rename m it , SnippetSSS , kill rr>em i kilUvifi , restart
dof.lef_test.kja')
=node.heap()
▼ ф Send
Итак, наш мвместо_1оор" таймер создается:
mytimer = tmr.create() -- создаем объект Timer
Что должен делать таймер? Периодически вызывать функцию myled()
Организуем его деятельность целиком:
-- То что пишем в пин:
data = О
-- Как часто мигаем, мс:
blinktime = 1000
-- Создали таймер:
mytimer = tmr.create()
-- Регистрируем три аргумента таймера, (1) как часто вызывается таймер,
-- (2) режим таймера, (3) функция, которая будет вызываться.
mytimer:register(blinktime, tmr.ALARM AUTO, function(t)
-- знакомая функция
data = data == 0 and 1 or 0
print('Write Pin f..data)
end)
-- Начали:
mytimer:start()
Повторю код для копипасты:
data = О
blinktime = 1000
mytimer = tmr.create()
mytimer:register(blinktime, tmr.ALARM_AUTO, function(t)
data = data == 0 and 1 or 0
print('Write Pin f..data)
end)
mytimer:start()
Сохраним его в файл ff_smallled. lua" и запустим на выполнение. Код будет ра-
ботать пока не получит команду на перезагрузку:
File Edit ESP View Links ?
[ NodeMCU & MicroPython | AT-based | RN2483
Scripts Commands Snippets Settings,,
l2- # U U
Open Reload Save Save... Close
Undo Redo
Cut Copy Paste
New _myled lua _smallled lua
I I»!M
-Ф Save to ESP
3 Send to ESP ^ Run
UpK
Dpen
DTR
CTS
RTS
^dose
115200 *|
[V| ~3 , j M.dcDifcr
[V | J" , | '< * Term '«a
Donate
dofileC
> Write Pin 1
Write Pin 1
Write Pin 0
Write Pin 1
Write Pin Э
Write Pin
Write Pin
Write Pin 1
PORT CLOSED
PORT OPEN 115290
Write Pin 0
•V
L*
ш
V>"
1
1 i
Format
FS Info
Reload
_myled lua
_smallled lua
L_J Jestwrite lua
JT
wifi ask google Get LFS wtfi32 | print k'rth pnnt dat Gbbals pins cron
romtb rename mit SnippetSSS ( kill rr»eni i Ы wifi restart ( dofile{'_test.lua)
=node.heap()
ti
ф Send
Итог азов таймеростроения. Создается объект Timer, который, вполне логично,
определяет три аргумента: как часто он срабатывает, режим (мы выбрали самый
простой и популярный), функция, которая будет вызываться каждое срабатывание.
Что такое асинхронный режим?
Срабатывание таймера (вызов им функции) можно представить как событие. Мы
можем определить другое событие, и оно будет "жить своей жизнью", независимо
от первого.
Наиболее просто это увидеть, если всего лишь повторить наш код, изменив со-
ответствующие переменные:
— file "_smallled2.1ua"
Первый таймер
data = О
blinktime = 1000
mytimer = tmr.create()
mytimer:register(blinktime, tmr. ALARM_AUTO, function(t)
data = data == 0 and 1 or 0
print('Write Pin f..data)
end)
mytimer:start()
-- Независимый от первого второй таймер
data2 = 0
blinktime2 = 2000
mytimer2 = tmr.create()
mytimer2:register(blinktime2, tmr.ALARM_AUTO, function(t)
data2 = data2 == 0 and 1 or 0
print(fWrite Pin2 f..data2)
end)
mytimer2:start()
Что же мы получаем:
File Edit ESP View Links ■
NodeMCU & MicroPython | AT-based | RN2483
f Scripts J Commands | Snippets | Settings/-
Open Reload Save Save... Close
Undo Redo Cut Copy Paste
New _myled lua _smallled lua _smallled2 lua
mytimer = tmr.create()
mytimer:register(blinktime, t
data = data == 0 and 1 or
print( . .data)
mytimer2 = tmr.create()
mytimer2: register(blinktime2, trr
data2 = data2 == 0 and 1 or
print( ..data2)
end)
mytimer2:start()
КЛЗШ
-Ф Save to ESP ^ Send to ESP
■JfcJ Run
Uplc
<52
Open
DTR
CTS
RTS
^Oose
jVj AJL.ik_ri*
^ j K>-
115200 *
(/jCR ^ M,*Ma
[TjJ- ^•idcT.rn..^
Donate
L7664 byte
> dofile(
> Write Pin 1
Write Pin2 1
Write Pin 0
Write Pin 1
Write Pin2 0
Write Pin 0
Write Pin 1
Write Pin2 1
Write Pin Э
Write Pin 1
Write Pin2 0
Write Pin 0
^\I
^w
Ш
\y
Format
FS Info
Reload
L_J _myled lua
i i
i i
! ]
_smallledlua
_smallled2 1
Jestwrite lua
jr
wifi ask google Get LFS v.tfi32 ( pnnt vrth ( print dat Globals pins cron
romtb rename mit SnippetSSS ( kill mem ( kili wifi restart ( dofile( test.lua'}
=node.heap()
id
«^ Send
Два таймера работают независимо, и, главное, мы не предпринимали никаких
усилий, чтобы согласовать их.
Безусловно, представленный выше код очень плох, с точки зрения работы с пе-
ременными - они лишь глобальные (что есть программный отстой, здесь вообще
нужны замыкания), но начинающему здесь хорошо видно как все действует.
Вызываемые функции могут определять какое угодно (в рамках дозволенного
Lua) событие: опрашивать датчики, отправлять данные, etc. Все это будет про-
исходить независимо друг1 от друга. (Здесь нет извечной проблемы начинающего
ардуинщика: у меня есть код А и код В - как их совместить.)
Таймер очень гибкий объект. Его надо изучить в первую очередь и знать дос-
таточно глубоко. Этим займемся.
Таймер создается вызовом:
mytimer = tmr.create()
Определяем чем и как он будет заниматься:
mytimer:register(5000, tmr.ALARM_SINGLE, function(t) print("H таймер!") end)
Первый аргумент - через какое время вызывается функция, миллисекунды.
Второй аргумент описывается так:
■ tmr .ALARM_SINGLE - одиночный вызов, этот таймер не требует его уничтоже-
ния , он самоуничтожается после срабатывания, но здесь есть одна хитрость!
■ tmr.ALARM_SEMI - каждый раз требует вызова, чтобы запуститься вновь
■ tmr.ALARM_AUTO - раз запустили - и будет работать.
Третий аргумент - функция для вызова. Кстати, вы заметили, что она никак не
называется (что вполне логично)? Таки это и есть страшная (для понимания ар-
дуинщика) анонимная функция, которая в других языках может называться лямбда-
функция .
В нашем примере это простая функция. В серьезной программе здесь может быть
очень сложное явление, состоящее из многих операторов, вызовов функций, и да-
же вложенных таймеров. Поэтому обратимся к другому способу ее определения.
Вызываемую функцию можно написать отдельно, а в таймер передать лишь ссылку
на нее. Вот так:
do
function askedbytimer()
print("Я таймер!")
end
mytimer:register(5000, tmr.ALARM_SINGLE, askedbytimer)
end
Все очень просто. Ну, не скажите! Теперь анонимная функция превратилась в
не менее страшную callback-функцию "askedbytimer()". То есть, это функция,
которая передается другой функции для вызова. Мы "вытащили" из таймера функ-
цию, и передали ему лишь ее имя - оно же ссылка.
Дальше таймер можно запустить:
tmr.start(mytimer)
-- или
mytimer:start()
Можно остановить:
tmr.stop(mytimer)
-- или
mytimer:stop()
Можно поменять интервал:
mytimer:interval(3000)
После остановки таймер можно уничтожить:
-- не лучший вариант, но иногда (а не постоянно) можно:
tmr.stop(mytimer) -- останавливаем
tmr.unregister(mytimer) -- удаляем регистрацию того, чем он занимался
mytimer = nil -- удаляем ссылку на таймер
Таймер можно создать анонимным, если в программе он будет работать постоян-
но.
Анонимный таймер, также, полезен во многих случаях, когда требуется совер-
шить некую последовательность действий через интервал внутри функции. Напри-
мер, опрос многих датчиков заключается в передаче им команды на обработку
данных, чтение из них должно происходить через некоторое время. Тот же попу-
лярный DS18b20 в максимальном разрешении требует остановки в 750 миллисекунд
перед запросом данных.
Анонимный таймер запускается в момент создания, ибо внешней ссылки на него
не создается и "подтолкнуть" снаружи его не возможно:
do
function askedbytimer()
print("Я таймер!")
end
tmr.create():alarm(5000, tmr.ALARM_AUTO, askedbytimer)
end
Эта конструкция бесконечно вызывает callback функцию.
А теперь очень важная особенность - в вызываемую функцию таймер передает
ссылку на себя. Эта ссылка делает работу с таймером еще гибче (особенно с
анонимным), но, одновременно, может принести и головную боль, в виде пожира-
ния памяти (будем так считать, на самом деле все еще сложнее, но на практике
это знание не очень важно).
О чем речь. Вернемся к регистрации таймера:
mytimer = tmr.create()
mytimer:register(5000, tmr.ALARM_AUTO, function(t)
print(' Я таймер!f)
end)
Функция здесь имеет обязательный аргумент "t". Это тоже ссылка на тот тай-
мер, на который ссылается и "mytimer".
Напомню, что в Lua все объекты самостоятельны и не привязаны к ссылкам на
них. Если на объект отсутствуют (удалены) все ссылки, то он уничтожается
сборщиком мусора. Если остается хоть одна ссылка - объект продолжает нахо-
диться в памяти.
Последнее важно иметь в виду, если вы собираетесь уничтожать таймер. И это
происходит чаще, чем кажется на первый взгляд. Тот же опрос датчика, произве-
денный через некоторое время после получения им команды на чтение данных,
требует таймер. Но оный не нужен, когда опрос осуществлен. Модуль, содержащий
таймер, будет выгружен из памяти, а вот таймер перед этим, следует удалить
правильно. Вернемся к практике.
Сначала пример использования внутренней ссылки:
flag = true
mytimer = tmr.create()
mytimer:alarm(5000, tmr. ALARM_AUTO, function(t)
if not flag then t:stop(); return end
print(' Я таймер!f)
end)
Если флаг "flag" изменил свое состояние на "false" - таймер останавливается
через внутреннюю ссылку. По внешней ссылке мы можем запустить его вновь:
mytimer:start()
Вот вам управление миганием информационного светодиода, например.
А теперь как таймер самоуничтожается:
flag = true
mytimer = tmr.create()
mytimer:alarm(5000, tmr.ALARM_AUTO, function(t)
if not flag then
-- останавливаем
t:stop()
-- прекращаем регистрацию
t:unregister()
-- удаляем внутреннюю и внешние ссылки
t, mytimer = nil, nil
return
end
print(' Я таймер!f)
end)
Удалять таймер нужно именно так. Остановка и удаление таймера через внешнюю
ссылку не уничтожит таймер как объект. Прекращение регистрации уменьшит зани-
маемый им объем памяти, но объект останется все равно.
Или если применяется callback:
flag = true
mytimer = tmr.create()
function askedbytimer(t)
if not flag then
t:stop()
t:unregister()
t, mytimer = nil, nil
return
end
print("Я таймер!")
end
mytimer:alarm(5000, tmr.ALARM_AUTO, askedbytimer)
Если режим таймера " tmr .ALARM_SINGLE " то уничтожение будет таким:
mytimer = tmr.create()
function askedbytimer(t)
t, mytimer = nil, nil
print("Killed!")
end
mytimer: alarm (1000 , tmr .ALARM_S INGLE , askedbytimer)
-- или уничтожаем анононимный таймер
tmr.create():alarm(2000, tmr .ALARM_S INGLE , function(t)
t = nil -- Обязательно!
print('Killed!f)
end)
Заметим, что в некоторых случаях я показывал аргумент "t" (его можно назы-
вать как угодно) в функциях таймера, в некоторых - нет. Lua не требует выде-
лять память под аргументы, которые могут передаваться функции, но при этом не
нужны ей. Как теперь ясно, если вы планируете внутреннее управление таймером
или его уничтожение - аргумент объявлять обязательно. Если таймер будет ти-
кать и тикать всю программу - такой необходимости нет.
«Оттормаживаем»
функцию
Небольшая заметка на тему, известную всем кто знает JavaScript, но не впол-
не очевидная для программирования ESP8266.
Задача - опросить датчик, который должен получить запрос на измерение, а
ответ будет готов через некоторое время.
Одним из вариантов такого действа будет работа через callback функцию и
таймер. Код с пояснениями:
do
-- Эта функция обработает полученный результат
function call(tb)
print(!\пПришло от датчика:!)
table.foreach(tb, print)
print(fСейчас я это куда-нибудь отправлю!1)
-- Здесь дальнейшие действия с данными.
end
-- Эта функция работы с датчиком
function askunit(callb)
-- ... То что надо отправить датчику
print(!\пОтправил запрос датчику!)
-- Ананимный таймер, срабаиывающий один раз
tmr.create():alarm(1500, tmr.ALARM_SINGLE, function(t)
-- Уничтожаем внутреннюю ссылку на таймер
t = nil
print(f\пПодождал и спросил результат.!)
-- Предположим, это результат:
local res = {temp =25}
-- Вызываем callback функцию и передаем ей данные
if callb then callb(res) end
end)
end
-- Старт получения данных от датчика
askunit(call)
end
Код для копипасты:
do
function call(tb)
print(f\пПришло от датчика:f)
table.foreach(tb, print)
print(fСейчас я это куда-нибудь отправлю!1)
end
function askunit(callb)
print(f\пОтправил запрос датчику!)
tmr.create():alarm(1500, tmr.ALARM_SINGLE, function(t)
t = nil
print(f\пПодождал и спросил результат.f)
local res = {temp =25}
if callb then callb(res) end
end)
end
askunit(call)
end
Что получилось:
File Edit ESP View Links ?
[ NodeMCU & MicroPython | AT-based j RN2483 |
f Scripts ] Commands | Snippets ] Settings /L |
D ■:■ Q £3 $
Open Reload Save Save... Close Undo Redo
I Npw 1 Npw 1 Npw 1
Cut
Copy
Г
Paste
В
—\
d0
II function call(tb) II
print( ) II
1 table.foreach(tb, print) II
print( -.1 . . т < ■■•■■) fl
function askunit(callb)
print( )
tirr.create():alarm(1500> tmr.ALARM_SINGLE, fu
t = nil
print( : • ■ • )
local res = {temp = 25}
if callb then callb(res) end
askunit(call)
*&
Эреп
-
DTR
CTS
RTS
^'Close
[Jj b*£ts<* [\£jC3 t MdeCdJtr
L EO.
115200 ▼
[У] J" | j t|.<teTwr.fia
Donate
1
>> function askunit(callb)
>> print( * : . -...-: )
tmr.create():alarm(1500, tmr.ALARM_SINGLE, function(t)
SiScal res >> = {temp = 25}
iT^sJlb then callb(res) end
end) \v
>> >> as\\jnit(call)
>> >> >> Y> >> >> >> >> >> >>
Отправил запрос датчику
>
Подождал и спросил результат.
Пришло от датчика:
temp 25
Сейчас я это куда-нибудь отправлю!
Надеюсь, это решение поможет начинающим любителям Lua быстрее справляться с
датчиками.
Техника
^ !
и'ГУ'Ъ,
- КАТОД
-J ^—^ алистийГР \ |
^и^ОхД
-АНОД
ИОНИЗИРУЮЩЕЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ
_</
Q
О
- ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ
САМОДЕЛЬНЫЙ ДОЗИМЕТР
Чем бы Вы ни занимались, вопрос об измерении или хотя бы об индикации иони-
зирующих излучений время от времени всплывает. Хотя бы при покупке продуктов
питания на рынке в небезопасных по этой части регионах. Не будешь ведь собст-
венную жизнь ставить на доверие продавцу. А значит, нужен и прибор, способный
эту самую "радиацию" чуять...
Не сказать, чтоб такой прибор было сложно купить. Совсем напротив, рынок
прямо таки изобилует дозиметрами "всех форм и расцветок"1. Вот только после
просмотра доступного ассортимента впечатление остается какое-то... стран-
ное... Приборы либо совсем убогие, либо до смешного дорогие. Причем те, кото-
рые убогие, для своей убогости тоже до смешного дорогие... Наживаются люди на
нашей с Вами радиофобии.
Самоделыцику в такой ситуации унывать - грех, голову тут же посещает мысль:
"Да ну их всех нафиг, проще свой собственный прибор сделать. При нынешних то
ценах на Ардуины и дисплейчеги это не должно быть сильно дорого."
Ан нет. Внезапно выясняется, что сам чувствительный элемент: трубка гейгер-
мюллера, фотоумножитель со сцинтиллятором или полупроводниковый детектор сто-
ят почти столько же, сколько стоит готовый прибор.
Следующий шаг: "А нельзя ли самому сделать чувствительный элемент? И как-
нибудь его потом откалибровать. А если нормально откалибровать не удастся, то
хотя бы просто использовать, как индикатор, показывающий где больше, а где
меньше."
Беглый серфинг по просторам сети в поисках того, что нам может предложить
"DIY-шная промышленность" принес следующие результаты:
1 https://mydozimetr.ru/blog/stati/kak-vybrat-dozimetr/
измеритель на основе PIN-фотодиода ВРИЗ4
самодельная ионизационая камера3
самодельный счетчик гейгера с воздушным наполнением4
На первый взгляд, самым надежным вариантом кажется использование PIN-диода.
С него и начнем.
PIN-диод BPW34.
Приведенная в инструкциях по ссылке выше схема прибора показана на рис. 1:
Рис. 1. Предложенная здесь схема индикатора радиоактивности на
основе PIN-диода BPW34. В оригинале вместо резисторов R2, R3 ис-
пользован потенциометр.
Первое, что настораживает - использование MOSFETт а с напряжением открытия
около четырех вольт в качестве устройства, считывающего сигнал с PIN-диода.
Если сигнал с фотодиода велик, в этом ничего страшного нет. Но вот достаточно
ли он велик на самом деле - предстояло проверить.
2 https://www.instructables.com/id/Pocket-Photodiode-Geiger-Counter/
3 https://www.youtube.com/watch?v=cfVBW622Vbs
4 http://einstlab.web.fc2.com/geigerE/GeigerE.pdf
Следующий момент - что на качество монтажа каскада, содержащего ВРИЗ4 и
MOSFET нужно обращать пристальное внимание. Токи там текут маленькие (обрати-
те внимание на десятимегаомный резистор) и всяческие остатки флюса, жировые
загрязнения ("пальчики") и прочие утечки могут запросто привести к потере
сигнала. Благо, хоть схема низковольтная - бороться с коронным разрядом нет
необходимости.
Схема была отмакетирована. Каскад на 2N7000 и ВРИЗ4, как и рекомендовано,
был собран навесным монтажом. Остальная же часть схемы - на "хлебной доске"
(англ. "breadboard"). По результатам макетирования получено следующее:
■ Схема ведет себя так, как будто она работает. Светодиод на выходе иногда
вспыхивает, причем вспышки нерегулярные - очень напоминающие счет частиц.
■ Потенциометром (на рисунке 1 изображен как пара резисторов R2, R3) можно
установить среднюю "скорость счета" равной практически любому наперед за-
данному значению.
■ На приближение источника радиоактивного излучения (использовался старый
авиационный прибор с циферблатом, покрытым радиоактивной светящейся крас-
кой) "скорость счета" не реагирует никак. От слова совсем.
В принципе такое поведение схемы вполне объяснимо. Приведенные в начале
описания схемы слова о том, что "прибор чувствителен к альфа и бета излуче-
нию", следует понимать буквально. Не так, как мы обычно понимаем: "что уж ес-
ли чувствует альфу, то бету тем более зарегистрирует, а гамму и подавно".
Нет. А именно "прибор чувствителен только к альфа и бета излучениям." Только
попадание тяжелой альфа частицы в фотодиод ВРИЗ4 позволяет надеяться на дос-
таточный уровень сигнала для открытия 2N7000. Возможно, на это еще способны
малоэнергетические бета частицы (электроны). Регистрация высокоэнергетических
электронов с большой проникающей способностью с помощью этого датчика уже под
очень большим сомнением.
К сожалению проверить эти утверждения я не могу. Альфа и бета источников у
меня нет. Циферблат уже упомянутого авиационного прибора находится под стек-
лом с достаточной толщиной, чтобы надежно блокировать и альфу и бету. А ло-
мать прибор, представляющий историческую (да и техническую тоже) ценность мне
не хочется. Датчики же дыма, которые все сплошь и рядом советуют использовать
в качестве тестового источника, благополучно поисчезали с прилавков и замени-
лись на фотоэлектрические - RoHS тщательно заботится о том, чтобы мы с Вами
не сделали что-нибудь не то.
Впрочем, если нас с Вами интересует самодельный дозиметр, а не выяснение
деталей того, как и почему та или иная схема не работает, то отсутствие под-
ходящего источника в данном случае ни на что не влияет. Дело в том, что при-
бор, чувствующий альфу и бету и не чувствующий гамму, в общем-то непригоден в
качестве бытового дозиметра. Когда прибор чувствует гамму, то способность
чувствовать еще и бету и альфу является, безусловно, приятным дополнением.
Но вот если прибор гамму не чувствует... Представьте себе ситуацию: Вам на
рынке продавец протягивает рыбу в толстом полиэтиленовом пакете. Если толщина
пакета более 130 мкм, срезанными оказываются все альфа частицы до 10 МзВ
включительно. (Кстати говоря, если при изготовлении датчика Вы завернули PIN-
диод в алюминиевую фольгу толщиной в каких-нибудь 16 мкм, Вы уже лишили себя
возможности детектирования альфа частиц с энергиями до 4 МзВ.)5 Еще большие
проблемы будут при покупке вин и соков. Упаковка их, как правило, толстая
(пакет или бутылка) и не оставляет надежд не только на регистрацию альфа-
излучения, но даже и на выход высокоэнергетической бета составляющей.
С другой стороны гамма излучение даже сравнительно низких энергий свободно
5 Краткий справочник инженера-физика. Ядерная физика, атомная физика. Составитель
Н.Д. Федоров, М.,Госатомиздат, 1961, стр 311.
проникает сквозь такие преграды. Можно задать вопрос, чем нам поможет гамма
детектор, если та же рыба, например, загрязнена только бета излучающим изото-
пом? Ответ на этот вопрос таков: на практике очень трудно найти чистый альфа
или бета излучатель. Почти всегда имеется сопутствующее гамма-излучение. Воз-
никает оно за счет разных процессов: в виде тормозного излучения (как в рент-
геновской трубке, когда бета частица тормозится хотя бы и в материале самого
источника), в результате снятия остаточного возбуждения с атомного ядра после
ядерной реакции, в результате рекомбинации электронов на освобожденные при
ядерной реакции нижние оболочки и т.д. К примеру, даже такой, практически
"чистый альфа излучатель", как Ро-210 дает по гамма-кванту на каждые 104 рас-
падов . И именно по этому сопутствующему гамма-излучению и удается "засечь за-
разу" даже если она и скрыта глубоко и тщательно под упаковкой.
Так что, "одной бетой сыт не будешь". Пригодный для практического использо-
вания радиометр просто обязан чувствовать и гамму тоже. По счастью PIN фото-
диод ВРИЗ4 вполне на такое способен. Только вот сигнал при этом гораздо мень-
ше, и приведенная выше схема становится непригодной. Пришлось городить схему
более чувствительного усилителя. На рис. 2 показана схема, с помощью которой
удалось достичь надежного счета гамма-квантов.
С5
<—и
BPW34
Рис. 2. Схема включения PIN диода ВРИЗ4 в качестве датчика, спо-
собного регистрировать гамма излучение. Показано вместе с предва-
рительным усилителем.
Схема представляет собой двухкаскадный усилитель с непосредственной связью
с коэффициентом усиления по напряжению порядка тысячи и с подключенным к его
входу входным каскадом на малошумящем малосигнальном полевом транзисторе
КПЗОЗИ. КПЗОЗИ во входном каскаде может быть заменен на КП307Е или на 2N3819.
При замене, возможно, потребуется подобрать номинал резистора нагрузки в сто-
ке R7. Транзисторы КТ3102е в предварительном усилителе можно заменить на
BC337S, 2N5088, 2N5089 и т.п.
В отличие от оригинальной схемы нагрузочное сопротивление диода здесь не
так велико. Всего 300 килоом. Это дает меньшую чувсвительность к утечкам и
позволяет монтировать всю схему на печатной плате не заморачиваясь с навесным
монтажом и тщательной очисткой от остатков флюса.
Амплитуда полезного сигнала на выходе (точка "out" на схеме) составляет -
60-120 мВ. Шум 10-20 мВ. Выход схемы может подключаться к микрофонному входу
аудиоусилителя (будут слышны щелчки на фоне шума), к осциллографу или к ми-
галке со светодиодом, аналогичной той, что собрана на микросхеме LM358 на
рис. 1. Питание схемы лучше делать стабилизированным (батарейка с КРЕНкой) в
противном случае уровень сигнала плывет и приходится корректировать триггер
осциллографа или уровень срабатывания светодиодной мигалки. Понятно, что если
такое происходит, то ни о какой точности измерений и речи быть не может.
Для людей, искушенных в моделировании, приведу еще и схему с эквивалентным
источником сигнала. В LTspice мне удалось подобрать параметры источника, бо-
лее или менее адекватно моделирующего сигнал с диода ВРИЗ4 в режиме счета
гамма квантов6 (см. рис. 3) .
With BPW34 this circuit does
REALLY COUNT PARTICLES
but still VERY sensitive for
ANY KIND of INTERFERENCES
The source now more or less matches the results of
experimental measurements got from BPW34 PIN DIODE
PULSE(0 30n 100u 50n 50n 1n 1m 100000)
11
N0ISE/7N
1=1 e-10*random(1 e5*time)
.tran 100m startup uic
1Mea
.model крЗОЗЬ njf vt0=-2.0 beta=2.0m lambda=0.02 rd=30 rs=35 cgs=5p cgd=4p is=100f B=1.2 kf=1.f af=1 MFG=USSR
Рис. 3. Схема, аналогичная схеме с рис. 2, но с эмулятором сигнала,
выдаваемого PIN диодом ВРИЗ4 под воздействием гамма излучения. Ис-
точник тока II моделирует полезный сигнал, источник тока В1 модели-
рует шум. Индуктивность L1 моделирует паразитные параметры батарейки
и используется для анализа стабильности схемы при ее разряде.
Зная характеристики сигнала, Вы и сами сможете подобрать подходящий усили-
тель для работы с ним.
Чувствительность получившегося датчика, прямо скажем "не очень". При подне-
сении вплотную к лицевому стеклу авиационного прибора он дает в среднем 1 от-
счет в 15 секунд. Для сравнения, промышленный счетчик Гейгера типа СБМ-20 да-
ет на том же месте счет около 200 cpm (counts per minute - отсчетов в мину-
ту) .
Единственным выходом здесь видится набор множества схем, типа показанной на
рис. 2, с объединением выхода перед считающим устройством. А еще лучше - с
подачей сигнала на различные каналы многоканального считающего устройства.
(На разные порты Arduino, например.) Для получения приемлемых характеристик,
таких схем нужно, наверное, с десяток. К сожалению нельзя объединить только
6 ftp://homelab.homelinuxserver.org/pub/arhiv/2022-ll-a2.гаг
диоды - поставить десяток ВРИЗ4 на входе одного усилителя. Если так посту-
пить, то шум от диодов сложится, а вот полезный сигнал - нет. В итоге про-
изойдет потеря счета. Полезный сигнал мог бы сложиться, если бы пролетающий
гамма квант вызывал бы сигнал сразу во всех "протыкаемых" им диодах. К сожа-
лению, в отличие от тяжелых частиц, гамма квант не оставляет ионизационного
следа. Все три основных вида реакций гамма кванта с веществом (фотоэффект,
комптон и образование пар) "точечные". Был гамма квант, вступил в реакцию, и
нет гамма кванта. При комптон эффекте, правда, может излучиться другой, с
энергией поменьше, но вероятность того, что он даст реакцию внутри нашей
стопки диодов почти такая же, как и для первого кванта - т.е. "никакая".
В итоге вердикт таков: схема весьма привлекательна и обещает высокую ста-
бильность чувствительности. Точность измерения может быть сравнима с точно-
стью профессиональных приборов. Однако сама по себе величина чувствительности
для одиночного PIN-диода совершенно неприемлема для применения в бытовом до-
зиметре . Использование же множества каналов с PIN-диодами делает схему слож-
ной и дорогой. Затраты на ее создание могут превысить стоимость коммерческого
дозиметра даже средней ценовой категории.
Другим немаловажным недостатком является то, что усилители микровольтного
уровня чувствительности чувствительны и к электромагнитным помехам. При раз-
работке прибора, пригодного для практического применения, потребуется тща-
тельная экранировка сигнальных цепей, причем просто завернуть их в фольгу не
прокатит - все соединения экранов с общим проводом должны быть тщательно про-
паяны .
Следующей на очереди идет самодельная ионизационная камера.
Рис. 4. Схема самодельной ионизационной камеры.
Схема ее подкупающе проста (см. рис. 4), а видеоролики ее работы на Youtube
завораживают своей эффектностью. Руки сами тянутся повторить. И тут выясняет-
ся одна пикантная подробность: в схеме используются довольно-таки экзотиче-
ские Darlington транзисторы типа MPSW45A, простодушно названные в гайде
"обычными". Ладно, дарлингтонов в пределах досягаемости нет, есть "супербеты"
- транзисторы КТ3102е с большим (400+) коэффициентом усиления по току. Пробу-
ем собрать ионизационную камеру на супербете.
Результат - нулевой. Ионизационная камера с супербета транзистором в каче-
стве усилительного элемента не демонстрирует не только чувствительности к ис-
точнику излучений (в виде упомянутого выше авиационного прибора), но и опи-
санной во всех гайдах чувствительности к температуре и другим внешним факто-
рам (сотрясениям, потокам воздуха и т.п.).
Столь же стабильно нулевой результат демонстрирует и вариант камеры с уси-
лительным элементом в виде двух супербета транзисторов, включенных по схеме
составного транзистора (см. рис. 5).
K^KT3102E^
V1
4h
КТ3102Е
Рис. 5. Вариант самодельной ионизационной камеры с самодельным
Дарлингтоном - двумя супербета транзисторами включенными по схе-
ме составного транзистора.
Заказ транзисторов через интернет - это очень долго. К тому времени, когда
они приходят, часто отпадает и сама необходимость в той схеме, для которой
они были заказаны. Так что для начала были предприняты поиски по окрестным
магазинам. Единственные сигнальные дарлингтоны, которые удалось найти, были
MPSA64 с коэффициентом усиления 5000 и с полярностью типа рпр. Без особых на-
дежд новоприобретенные транзисторы инсталлируются в ионизационную камеру.
Результат: впервые на индикаторе появилось хоть что-то отличное от нуля.
Показания, как им и положено, колеблются от потоков воздуха и от механических
сотрясений. Впрочем, чувствительность к излучению радиоактивного источника
так и не появилась. Схема не реагирует и на облучение внутренности измери-
тельного стакана излучением ультрафиолетовой лампы.
Здесь меня можно упрекнуть, что я зря трачу время, свое и читателей. Раз
сказано, что нужно ставить MPSW45A, значит, ставь только его и никакой дру-
гой. В свое оправдание могу сказать то, что ожидаемый уровень сигнала с каме-
ры мне неизвестен даже по порядку величины. Я понятия не имею, сколько пар
ионов в объеме стакана должен родить гамма квант от имеющегося у меня источ-
ника , равно как и сколько этих квантов там вылетает на самом деле. С другой
стороны, если ограничиваться использованием одного единственного типа транзи-
стора , повторяемость конструкции сильно пострадает.
Впрочем, информацию, на предмет ожидаемого сигнала, можно попытаться повы-
сасывать из пальца. Как уже отмечалось, счетчик СБМ-20 вблизи моего источника
дает скорость счета около 200 срт. Размеры счетчика: диаметр 10 мм, длина 100
мм. Стало быть, имеем 200 реакций ионизации в минуту на 7.8 кубического сан-
тиметра газа. Если объем стакана ионизационной камеры 200 мл, то количество
реакций в нем должно быть примерно в 25 раз больше, чем в объеме счетчика.
Учтем еще и то, что счетчик заполнен газом под пониженным давлением. Скажем
О.1 бар. Тогда отношение количества реакций в стакане ионизационной камеры к
количеству реакций в счетчике станет уже не 25 раз, а 250.
В принципе, линейный пересчет по объему и давлению газа не совсем коррек-
тен. Известно, например, что вероятность гамма-кванту произвести фотоэффект в
среде пропорциональна Z5. Вероятность образования пар пропорциональна Z2, а
вероятность комптон-эффекта пропорциональна Z, где Z - средний атомный номер
вещества, с которым реагируют гамма кванты. Для воздуха, заполняющего иониза-
ционную камеру, Z=7.2. Счетчик же заполнен неоном, имеющим Z=10, так что даже
при одном и том же давлении и объеме количество реакций, вызываемых гамма
квантами в воздухе и неоне, будет различно. Численную же величину отношения
количества реакций не так просто сосчитать, поскольку неизвестно, какую долю
реакций составляет фотоэффект, какую образование пар, а какую - комптон. Еще
большую неопределенность вносит то, что на самом деле не весь объем счетчика
эффективно работает, а только некоторая зона вокруг нити-анода. Размер этой
зоны тоже неизвестен. Таким образом, к оценкам количества реакций путем ли-
нейного пересчета по объему и давлению можно относиться лишь как к имеющим
точность до двух-трех порядков величины.
Умножив в 250 раз скорость счета СБМ-20 на оцененный коэффициент пропорцио-
нальности получим: 250 х 200 срт = 50000 срт = 833 реакции в секунду. Следую-
щий вопрос: сколько пар ионов дает каждая реакция? Неизвестно. Вот вам и еще
один источник погрешностей оценок. Считая, что каждая реакция дает одну пару,
можно сразу же от скорости реакций перейти к ожидаемой величине тока. Доста-
точно лишь умножить на заряд электрона:
833 cps х 1.910"19 С = 1.5810"16 Amp = 0.16 fA.
Как видим, ток получился экстремально маленьким. Для оценок ожидаемого тока
можно зайти и с другого конца. Со стороны доз. Доза в 1 рентген по определе-
нию соответствует суммарному заряду ионов, образовавшихся в единице массы ве-
щества в 2.579 10-4 Кулон на килограмм7. Принимая плотность воздуха приближен-
но равной 1 грамм на литр, получим, что 1 рентген соответствует 2.57910-10
кулон на кубический сантиметр.
Типовой природный фон составляет около 15 микрорентген в час, т.е. 4.16 10-9
рентген в секунду. Ток, соответствующий природному фону для банки, объемом
250 мл будет:
4.1610"9 R/sec х 250 мл х 2.57910"10 С/(R ml) = 2.6810"16 А.
То есть природному фону соответствует ток в 0.26 фемтоампера.
Далее по паспорту на СБМ-20 его скорость счета, соответствующая природному
фону составляет 15 срт. А от источника, который я использую в качестве эта-
лонного СБМ-20 считает со скоростью 200 срт. То есть, чтобы получить ожидае-
мое значение измеряемого тока нужно 0.26 фемтоампера домножить на 200/15.
В итоге получаем, что ожидаемый ток составляет 3.6 фемтоампера.
С учетом сделанных замечаний относительно точности первой оценки, можно
сказать, что вторая оценка вполне сходится с первой. На фоне ожидаемой по-
грешности в два - три порядка, разница в каких-нибудь двадцать раз смотрится
вполне прилично. Занятно, однако, не это. Если взять любую из приведенных вы-
ше оценок и сравнить, ну скажем с паспортными значениями шума Darlington
транзисторов MPSW45A (несколько десятых пикоампера), или с токами утечки за-
творов "электрометрических" транзисторов 2N4117 (тоже, кстати, несколько де-
сятых пикоампера), то ожидаемые токи получаются заведомо неизмеримыми.
7 Физическая Энциклопедия, статья: "Рентген".
И, тем не менее, если верить многочисленным инструкциям по сборке и видео-
роликам с YouTube, все работает. Значит сделанные оценки недотягивают до ре-
ального положения вещей еще порядка три. Вот, собственно, что я и имею в ви-
ду, говоря, что ожидаемый уровень сигнала с ионизационной камеры мне неизвес-
тен даже по порядку величины.
После долгих месяцев ожидания выполнения интернет-заказа транзисторы
MPSW45A наконец то до меня доковыляли. Один из них был вставлен в макет иони-
зационной камеры. Результат, я думаю, Вы уже предвидите. Да, камера показыва-
ет какие-то ненулевые значения. Да, как-то реагирует на поднесение предметов
(в том числе и авиационного прибора). Но однозначно связать их с действием
гамма излучения не удается. На излучение ртутно-кварцевой лампы реакция тоже
двусмысленная. В принципе, камера довольно четко реагирует на засветку от ис-
крового разряда, но боюсь, что это просто электромагнитные наводки.
Единственная схема ионизационной камеры, показавшая хоть сколько-нибудь по-
ложительные результаты - это схема мостового усилителя8.
+9V
R7
юк
ION Chamber
МР8А64
PNP
-U-
R4^
10IO
NPN
MPSW45A
R2-
2.2K
Ground-
~U
Sheilded Area (lid of can is soldered over this area)
MP8A64
PNP
:k
S
£
о
R1
2.2K
R3
iNPN . -
MPSW45A
R5^
d
R8 \
r^KPot j
I
R6
>100K Pot
For zeroing
http: //www.madscientisthut. com/pdf /lON_Chamber_ii .pdf
После включения ионизационная камера довольно долго (до получаса) выходит
на стационарный режим. Мультиметр показывает при этом около 2-2.5 мВ. При
поднесении радиоактивного прибора вплотную к заэкранированному торцу камеры
мгновенной реакции нет. Однако через несколько минут показания начинают расти
и минут через десять достигают нового стационарного значения. Около 4-5 мВ.
Реакция четкая и воспроизводимая. Но с учетом того, что показания еще и пла-
вают плюс минус милливольт вокруг стационарного значения, нормальными измере-
ниями это назвать нельзя.
Рассмотрим самодельный счетчик Гейгера-Мюллера.
Понятно, что можно взять трубочку из тонкого металла,
■ вогнать по торцам две диэлектрические пробочки,
■ натянуть по оси трубки тонкую проволочку,
■ загерметизировать все это хозяйство,
■ добавить тонкий стеклянный капилляр для наполнения и откачки,
■ а потом наполнить чем-нибудь вроде сварочного аргона с примесью паров
медицинской йодной настойки.
Останется только включить это дело в классическую схему включения счетчика
Гейгера-Мюллера и, подавая разные напряжения питания, снять счетную характе-
ристику. Попытки с третьей - пятой Вы будете иметь счетчик, мало чем уступаю-
щий коммерческим образцам (рис. 7).
+100.. 1000 V
Rl 1..10 МО
\ _х
Рис. 7. Устройство и включение трубки Гейгера-Мюллера. 1 - диэлек-
трическая пробка, 2 - тонкая металлическая нить - анод, 3 - тонко-
стенная металлическая трубка - катод. Заполнение объема трубки обыч-
но делается инертным газом (неон, аргон, гелий) с примесью малоак-
тивного галогена (бром, йод). Схема показана с выходом на высокоом-
ный динамик или головной телефон. В таком виде схема представляет
собой классический пщелкун". Вместо динамика выход схемы может быть
подключен к электронному счетному устройству.
Однако, для того, чтобы все это успешно проделать, у Вас в гараже должна
быть изрядная свалка технического хлама: необходимо иметь и аргон и вакуумный
насос, уметь хорошо герметизировать и запаивать... Другими словами: "нужна
технологическая база." Как выясняется, вполне можно обойтись без всего этого.
В гайде Y.Onodera9 приведено описание самодельного счетчика Гейгера на атмо-
сферном воздухе. То есть Вам не потребуются ни экзотические газы ни вакуумные
технологии. Счетчик вполне может быть негерметичным.
Пробная сборка выявила следующее: счетчик, как это ни удивительно, считает.
Если Вы находитесь в тихом месте, щелчки счета вполне различимы на слух безо
всякого дополнительного оборудования. Безо всяких усилителей и динамиков. Ши-
рокая трубка счетчика, закрытая с торца мембраной и сама по себе вполне рабо-
тоспособна как излучатель звука. (Вспоминая старинные граммофоны, так и хо-
чется добавить рупор.)
Далее выяснилось, что счетчик демонстрирует вполне заметную скорость счета
в условиях обычного естественного фона. При этом скорость счета существенно
(в разы) увеличивается при поднесении пробного источника - авиационного при-
бора.
При повторении устройства имеется две трудности. Первое - требуется серьез-
ное напряжение питания (4-5 кВ). Второе - конструкция и схема включения счет-
чика, приведенные в оригинале, довольно своеобразны и сильно отличаются от
классической конструкции и схемы включения трубки Гейгера-Мюллера (рис. 7) .
9 Ссылка 4, но есть и в архиве.
Это затрудняет понимание принципа работы и не дает возможности выделить, ка-
кие элементы конструкции являются главными, а какие при повторении можно и
изменить.
Трудности с получением необходимого высокого напряжения обходятся легко,
если использовать готовый высоковольтный модуль. Подойдет, например, модуль
от шокера10, только питать его придется от полутора вольт, иначе выходное на-
пряжение будет слишком большим.
При питании счетчика от блока питания от электрошокера есть правда один ню-
анс: блок электрошокера дает помехи. И Вам либо придется связаться с экрани-
рованием, либо с защитой той схемы, к которой Вы подключаете счетчик, от по-
мех. Но есть выход и проще: зарядить конденсатор блоком питания от электрошо-
кера, а потом блок питания отключить. И питать счетчик от заряженного конден-
сатора .
Такая схема питания показана на рис. 8.
«Используем шокер» - Домашняя лаборатория 2017-05
l.Svcell
Рис. 8. Использование самодельного счетчика Гейгера совместно с
модулем от электрошокера и радиоприемником в качестве "щелкуна".
Высоковольтный диод перед конденсатором нужен, чтобы конденсатор не разря-
жался при выключенном блоке питания через встроенные в него резисторы само-
разряда. Стабилитрон на выходе защищает последующую схему от проскока высоко-
го напряжения. Он, конечно, менее эффективен, чем диодная вилка, зато не тре-
бует отдельного питания.
Очень привлекательно смотрится вариант использования высоковольтного модуля
от электрической зажигалки для газовых плит. Выбирайте тип зажигалки с пита-
нием от батареек. В тех, которые без батареек, высоковольтного модуля нет.
Модуль от зажигалки значительно дешевле шокерного, да и выходное напряжение
сразу будет примерно таким, как надо. Однако надо иметь в виду, что многие
зажигалки не снабжены встроенным выпрямителем, а значит, придется запастись
еще и выскововольтным диодным столбом и высоковольтным конденсатором.
Что касается второго обстоятельства (замысловатость конструкции), то попыт-
ки разобраться, что к чему, привели к выводу, что счетчик Гейгера на атмо-
сферном воздухе является несамогасящимся. И это несмотря на обилие в воздухе
такого электроотрицательного газа как кислород.
Для осуществления внешнего гашения сопротивление R1 на схеме на рис. 7
должно быть очень большим: 1...100 гигаом. Емкость же конденсатора С1, напро-
тив, должна быть очень малой - десятки пикофарад. К сожалению, использование
промышленных высоковольтных керамических конденсаторов (типов КВИ-1, КВИ-2)
показало, что утечки в них слишком велики для данной схемы, и даже после про-
тирки спиртом при значении R1 уже в 10 гигаом необходимое напряжение на счет-
чике развить не удается. Проблему, наверное, можно было бы решить с использо-
ванием самодельного конденсатора вроде небольшой лейденской банки, но такое
решение некрасиво и увеличивает габариты схемы. По-видимому, именно от скре-
щивания классической конструкции счетчика Гейгера-Мюллера и лейденской банки
сигнального конденсатора и родился приведенный в гайде Y.Onodera столь изо-
щренный дизайн.
По счастью схема включения, приведенная на рисунке 8 не единственная. Суще-
ствует, например, схема со снятием сигнала через резистивный делитель (рис.
9) .
о
>R2
D1
>R3 |
Geiger Muller
Tube
I 1..10П tR1
^ ^100k
+4..5 kV
>R4
Ч..10 GigaOhm
T
Рис. 9. Схема включения счетчика Гейгера Мюллера со снятием сиг-
нала через резистивный делитель. Показано вместе со входным кас-
кадом последующего усилительного или счетного устройства (обве-
ден пунктиром). Обратите внимание на защиту входного каскада от
чрезмерного напряжения. Здесь использована диодная вилка Dl, D2,
хотя это и не единственно возможное решение.
Как выясняется, при включении по схеме, показанной на рис. 8, при надлежа-
щем выборе балластного резистора R4, вполне работоспособным оказывается счет-
чик классической конструкции, состоящий из металлической трубки - катода и
центральной проволоки - анода. При конструировании счетчика классической кон-
струкции с воздушным заполнением обращать внимание надо на следующие моменты:
■ На качество изоляции. Центральная проволока должна быть очень хорошо изо-
лирована от трубки. Поскольку подводимый через балластный резистор ток
очень мал, даже малые утечки могут нарушить работу счетчика. Изоляторы
должны быть сухими и обезжиренными. Изготовляться они должны из диэлектри-
ков с минимальной собственной проводимостью (оргстекло, эбонит, полиэти-
лен) - выбирать можно все те диэлектрики, которые Вы бы выбрали для опытов
с электростатикой. Материалы с заметной собственной проводимостью, такие,
как, например, бумага, использовать для изоляции нельзя.
■ На отсутствие острых краев. Любое острие - это коронный разряд, а коронный
разряд - это недопустимые утечки. Края фольг должны быть скруглены и/или
скатаны. Оловянные сопли паек должны быть затуплены надфилем. Обкусанные
концы проволок должны быть либо скручены в петельки с острыми краями,
спрятанными внутри, либо опаяны до округлой формы.
■ На соответствие размеров, и, в первую очередь - диаметра проволоки. Когда
диаметр центральной проволоки анода пренебрежимо мал по сравнению с диа-
метром трубки катода, именно диаметр проволоки задает и рабочее напряжение
счетчика и размер его чувствительной зоны. Изменив диаметр проволоки,
будьте готовы ввязаться в поиски требуемого напряжения питания и величины
балластного резистора, при которых счетчик окажется работоспособен. При
напряжении питания в 4 кВ лучше всего работает проволока диаметром 0.8 мм.
Проволока диаметром в 1 мм требует напряжения в 5 киловольт. Проволока
слишком малого диаметра вместо ожидаемого снижения напряжения питания дает
тенденцию к зажиганию непрерывной короны. Не рекомендую использовать про-
волоку диаметром менее 0.3 мм.
В качестве мультигигаомного балластного резистора (R4 на рисунке 9) с успе-
хом может быть применен отрезок писчей бумаги длиной в сантиметр-два. Удобно
зажать полоску бумаги между двумя зажимами типа "крокодил". Меняя расстояние
между крокодилами, легко менять величину балластного сопротивления (рис. 10).
10..30mm^ 5Л
* \ "Ч W V
О у
sip
L+10 mm
L=20..100 mm
+ и
+ o
Uo 4..5 kV
*1_
Рис. 10. Схема устройства и схема включения самодельного счетчи-
ка Гейгера на атмосферном воздухе. Между "крокодилами" зажата
полоска обычной писчей бумаги, - она служит резистором на 1109 -
11010 Ом. Петелька на конце проволоки анода служит для предот-
вращения коронного разряда. Пример использования сигнала с точки
"OUT" схемы был показан на рис. 9.
Основным и несомненным достоинством воздушного счетчика Гейгера является
его высокая чувствительность к гамма-квантам. А если его корпус снабжен окном
(открытым или затянутым тонкой пленкой) то к этому добавляется еще и чувстви-
тельность к бета- и альфа-частицам. Вторым достоинством является высокий уро-
вень выходного сигнала, который, во-первых, упрощает схему включения счетчи-
ка, а во-вторых, позволяет работать в условиях довольно сильных внешних по-
мех.
Теперь о недостатках.
Самым главным недостатком воздушного счетчика является короткое плато.
(Плато это участок счетной характеристики, на котором скорость счета практи-
чески не зависит от напряжения питания.) По данным самого Yasuyuki Onodera
(автора оригинальной конструкции счетчика) протяженность плато составляет 80
вольт, а это всего два процента от подводимого напряжения. Сравнимо с точно-
стью даже неплохих стабилизированных источников питания. Что еще хуже - поло-
жение этого плато смещается в зависимости от атмосферного давления, темпера-
туры и даже влажности воздуха. То есть при фиксированной интенсивности источ-
ника излучения скорость счета будет гулять с изменением внешних условий. Если
на основе этого счетчика делать измерительный прибор, то он должен быть осна-
щен еще и датчиками давления, температуры и влажности, и, на основании соб-
ранной с этих датчиков информации, он должен вносить поправки в измеренную
скорость счета. Причем одной только коррекцией напряжения питания тут не отъ-
едешь , поскольку с изменением температуры и давления изменяется и количество
вещества в объеме счетчика, (вспоминаем уравнение Менделеева-Клапейрона), а
значит, изменяется и сама эффективность счета.
Интересно, что сам Onodera приводит результаты подтверждающие нестабиль-
ность скорости счета с изменением атмосферного давления, хотя и неверно их
интерпретирует. Так при подъеме с высоты 2020 метров на высоту 2305 метров
скорость счета у него изменяется более чем втрое: от 1027 срт до 3270 срт. А
при подъеме от 1596 метров до 2305 метров - почти на порядок: с 455 до 3270
cpm. Onodera объясняет это "повышением эффективности счетчика с уменьшением
давления в нем". На самом деле, с уменьшением давления эффективность может
только понизиться - уменьшается количество молекул газа в объеме счетчика, с
которыми гамма квант имеет шанс провзаимодействовать. Однако, при меньшем
давлении счетчик требует и меньшего напряжения питания. Если же напряжение
питания оставлять постоянным, то счетчик легко выскочит за пределы плато
счетной характеристики в зону ложных срабатываний, что и получилось у
Onodera.
Следующим недостатком является... бумага. Да-да, та самая бумага, которая
составляет основу оригинальной конструкции счетчика, и которая работает высо-
коомным балластным резистором в моей упрощенной версии. Дело в том, что бума-
га обладает свойством промокать. И даже просто накапливать влагу из воздуха.
При этом сопротивление ее сильно меняется, что плохо влияет на работу счетчи-
ка вплоть до полного срыва счета. А это значит - прибор не возьмешь с собой
на улицу в дождливую погоду, не возьмешь и на водную прогулку. (То же самое,
вообще говоря, относится и описанным выше ионизационным камерам, которые не
терпят даже пикоамперных утечек.)
Здесь могла бы помочь злостная герметизация прибора, но это, как минимум,
технически непросто, а кроме того конфликтует с желанием обеспечить макси-
мально возможную чувствительность к разного рода излучениям. В качестве аль-
тернативы, самодельный высокоомный резистор можно было бы сделать по дедов-
скому методу: в виде заполненной спиртом стеклянной трубочки с двумя электро-
дами. Хотя это не снимет проблемы борьбы с утечками на проходных изоляторах
(там, где центральная нить счетчика крепится к трубке) в условиях воздействия
влаги.
Третьим недостатком является ограниченная скорость счета. "Мертвое время"
счетчика определяется постоянной времени RC-цепи, в которой R - это есть вы-
сокоомный зарядный резистор, С - собственная емкость счетчика (и подводящих
проводов). Когда емкость С зарядится через резистор R до напряжения питания -
счетчик готов к счету следующей частицы. Казалось бы здесь все в наших руках:
можем, если хотим, уменьшить емкость счетчика, можем, если хотим уменьшить
балластное сопротивление. К сожалению, это не так. Балластный резистор выби-
рается столь большим именно для того, чтобы дать время разряду в счетчике
нормально погаснуть. Если идти в сторону уменьшения балластного резистора (в
сторону уменьшения мертвого времени), то вначале счетчик начнет выдавать
сдвоенные импульсы счета на одну частицу, потом строенные, потом многократ-
ные, а потом и вовсе перейдет в режим непрерывного горения. Это легко разли-
чимо на слух. При правильном выборе балластного резистора счетчик издает ти-
хие, но очень четко выраженные однократные щелчки. По мере уменьшения сопро-
тивления (или увеличения напряжения питания) щелчки сначала приобретают как
бы эхо (становятся двойными), затем начинают превращаться в трели (трель это
и есть многократный щелчок), а дальше остается только тихое похрустывание ко-
ронного разряда. Возможно, кстати, что те, совершенно эпичные, скорости сче-
та, которые Onodera приводит в своих таблицах, и объясняются кратными и лож-
ными импульсами. (В противном случае он может поздравить себя с тем, что в
процессе настройки и испытаний своего счетчика, он схватил преизрядную дозу
радиации.)
Если при конструировании счетчика Вам не удается получить режим счета, а
вместо этого Вы все время получаете непрерывный коронный разряд (или длинные
трели при счете), подавить коронный разряд помогает обычная бумага. Просто
сверните трубку из писчей бумаги и вставьте внутрь металлической (фольговой)
трубки, так чтобы металл (и в особенности края) были покрыты слоем бумаги.
Практика показывает, что без особых затруднений удается подобрать постоян-
ную времени заряда счетчика такой, чтобы он не выдавал звона и был способен
(на некотором расстоянии от источника излучения) срабатывать один-два раза в
секунду. Это в три-шесть раз выше фоновой скорости счета. Надо сказать, что
оригинальная конструкция счетчика, точно так же, как и упрощенная, способна
выдавать кратные импульсы, и для подавления этого режима ее точно так же при-
ходится питать через (бумажный) резистор. Только подбор величины этого рези-
стора осложняется трудно поддающимися учету утечками с проволочной метелки и
распределенным сопротивлением бумажного катода.
С учетом сказанного понятно, что серьезный прибор на таком счетчике не сде-
лаешь . И все же он слишком хорош11, чтоб просто взять и вынести вердикт, что
он не пригоден. Такой счетчик идеален в качестве индикатора. Поднес к объекту
- счет увеличился. Отнес - счет уменьшился. Сразу видно, заражен объект или
нет. Другое дело, что простому индикатору, наверное, необязательно иметь циф-
ровое управление, обработку и индикацию. Вполне подойдет и обычный "щелкун".
А в этом случае, все становится особенно просто. Схема может быть собрана с
нуля меньше чем за час из доступных любому самоделыцику деталей.
https://www.youtube.com/watch?v=lqd7DqnEe3l
Техника
ДОЗИМЕТР ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ
Важнейшим критерием при выборе платы и комплектующих выступала стоимость
используемых компонентов. Мы ставили задачу сделать дозиметр максимально бюд-
жетным .
Для создания дозиметра-радиометра были выбраны следующие компоненты:
1. Модуль дозиметра - RadSens. RadSens - готовый модуль в сборе с популярной
трубкой СБМ-20. Не требует ничего кроме установки библиотеки в менеджере
библиотек Arduino. Дозиметр готов к работе ллиз коробки".
2. Плата ESP8266/ESP32. Модуль RadSens имеет интерфейс 12С, совместим с
Arduino, ESP, Raspberry. Но цены на ардуинки в последнее время совсем не
радуют...
3. OLED-экран диагональю 0.96". Можно взять любой экран с 12С. Но OLED-экран
позволяет добавлять простую анимацию и цветовую маркировку текущего уровня
радиации.
4. Модуль бузера (пищалки) для звуковой индикации импульсов. Бузер предназна-
чен для звукового информирования пользователя, когда нет доступа к инфор-
мации на экране.
5 . Кнопка-выключатель.
6. Макетная плата 120x80 мм. Плата используется для удобного размещения и ор-
ганизации проводки между элементами.
Нам потребуется припаять все элементы и соединить их. Пины SDA и SCL на
RadSens и OLED-экране требуется подключить к портам D22 (SCL) и D21 (SDA) ,
они обмениваются данными по интерфейсу 12С, важно их не перепутать. Остальное
подключить согласно схеме на рисунке.
азю
■* .J*
NIA ONO
-I
3£dS3
,*, .■». .". .'. *..%*< v x> .\ •. л* ^ «*• ."i
, UINeN0 013 012014 0270V*02S033037B36 03<«UN UP EN
|eu6|s |ei!6ia
IDS
vas
aN9
л+
oaioModioAoMtfAv
* zeasa вмяонииэва
Ш.*&1-
С22Ь
E3ES)-
zt-wooaM-dS3(i^ i
:310N
Э-С
inONId
S39-nOIAJspoN
На фото один из вариантов компоновки дозиметра.
:ШтШт
Подключение расширения для плат в Arduino IDE для платы ESP32 осуществляет-
ся следующим образом:
Arduino -> Инструменты -> Плата -> Менеджер плат -> Написать "ESP32" в по-
исковой строке.
Инструменты Помощь
Автоформатирование
Архивировать скетч
Исправить кодировку и перезагрузить
Ctrl+T
Управлять библиотеками... Ctrl+Shift* I
Монитор порта Ctrl*Shift* M
Плоттер по последовательному соединению Ctrl* Shift* L
WiFi101 / W1F1NINA Firmware Updater
Плата: "Arduino Uno" i
Порт
Получить информацию о плате
Программатор: "AVRISP mkll" 1
Записать Загрузчик
Менеджер плат...
Arduino AVR Boards >
ESP32 Arduino >
ESP8266 Boards (3.0.2) >
После установки необходимо в пункте "Плата" указать "ESP32 Dev module".
Тип Все
ESP32
esp32
by Espressif Systems
Платы в данном пакете:
ESP32 Dev Module, WEMOS LoLin32, WEMOS Dl MINI ESP32.
More Info
1.0.6
Установка
Далее необходимо выбрать необходимую нам плату. Для этого переходим во
вкладку ЛЛИнструменты", выбираем раздел ЛЛПлата", далее выбираем "ESP32 Dev
Module" в подразделе "ESP32 Arduino".
Менеджер плат...
Arduino AVR Boards '
ESP32Ardutno
ESP8266 Boards (3.0.2) :
Л,
Щ ESP32 Dev Module
ESP32 Wrover Module
ESP32 Pico Kit
TinyPICO
S.ODI Ultra v1
MagicBit
TurtaloTNode
TTGOLoRa32-OLEDV1
TTGOTI
TTGOT7V1.3Mim32
TTGOT7V1.4Mim32
Перейдем к установке библиотеки.
Для установки библиотеки RadSens необходимо проделать почти такую же опера-
цию:
Arduino -> Скетч -> Подключить библиотеку -> Управлять библиотеками -> На-
писать ЛЛRadSens" в поисковой строке.
Скетч Инструменты Помощь
1 Проверить/Компилировать Ctrl+R
1 Загрузка Ctrl+U
' Загрузить через программатор Ctrl+Shift* U
И Экспорт бинарного файла Ctrl+Alt+S
>
Показать папку скетча Ctrl* К
Подключить библиотеку i
Добавить файл...
;ur main code here, to run repeatedly:
^^^^^^^^^^^^^^^^H
^^^^^^^^^^^^^^H
^^^^^^^^^^^^^^H
Д
Управлять библиотеками... Ctrl+Shift+I
Добавить .ZIP библиотеку...
Менеджер библиотек
Тип Все
Тема Все
RadSens|
CtmateGuard RadSens
by Maxim Shabanov Еерсич 1.0.1
Library for communicating with the radiation detector module RadSens. This library supports only I2C communication with the
RadSens.
More info
RadSensBoard
b,' Vurdalakov
An Arduino library for RadSens Ceiger counter board. It provides a simple access to all the RadSens board registers.
More info
Нужна первая
Закрыть
Далее необходимо установить библиотеку GyverOLED в менеджере библиотек тем
же путём.
Тип Вое
GyvefOtED
v Тема Все
GyverOed
by AlexCyvor Версия 1.4.0
Fast ттё fegbt tbr»ry for SSD1306/SSM1106 OLE О display Fast and light library for SS01306/SSH1106 OLED display
More info
Закрыть
Теперь мы готовы переходить к программированию.
Код был написан с использованием библиотеки для 0LED от Алекса Гавера. Она
проста в изучении и поддерживает вывод русского языка без дополнительных ма-
нипуляций. Допустимо использовать U8G2, Adafruit или любой удобную вам биб-
лиотеку .
// Подключаем необходимые библиотеки
#include <radSenslv2.h> // Библиотека RadSens
#include <Wire.h> // 12С-библиотека
// Библиотека для OLED Gyver'a идеально подойдёт для понимания методики
// работы с OLED-экраном, к тому же тут сразу есть русский шрифт
#include <GyverOLED.h>
// Устанавливаем управляющий пин пьезоизлучателя. Если вы выбрали
// другой управляющий пин - замените значение
#define buz 18
// Инициализируем OLED-экран
GyverOLED<SSDl306_128x64, 0LED_N0_BUFFER> oled;
// Инициализируем RadSens
ClimateGuard_RadSenslv2 radSens(RS_DEFAULT_I2C_ADDRESS);
// Таймер опроса интенсивности излучения и импульсов для OLED-экрана
uint32_t timer_cnt ;
uint32_t timer_imp; // Таймер опроса импульсов для пьезоизлучателя
uint32_t timer_oled; // таймер обновления дисплея
float dynval; // Переменная для динамического значения интенсивности
float statval; // Переменная для статического значения интенсивности
uint32_t impval; // Переменная для кол-ва импульсов
uint32 t pulsesPrev; // Переменная, содержащая кол-во импульсов за прошлый цикл
void setup() {
pinMode(buz, OUTPUT); // Инициализируем пьезоизлучатель как получатель данных
// Инициализируем ШИМ (только для ESP, для Arduino это необходимо стереть)
ledcSetup(l, 500, 8) ;
// Задаём пин вывода пьезоизлучателя для ШИМа (только для ESP, для Arduino
// это необходимо стереть)
ledcAttachPin(buz, 1);
oled.init(); // Инициализируем OLED в коде
oled.flipV(l); //Я перевернул экран для удобства
// Для нормального отображения после переворота нужно инвертировать
// текст по горизонтали
oled.flipH(l);
oled.clear();
oled.setScale(2); // Устанавливаем размер шрифта
radSens.radSens_init();
oled.clear() ;
// Задаем чувствительность трубки (если вы заменили СБМ-20 на другую -
// проверьте чувствительность в документации и измените значение в скобках)
radSens.setSensitivity(105);
intl6_t sensval = radSens.getSensitivity();
oled.setCursor(10, 2);
oled.print("Чувствит:");
oled.setCursor(42, 4) ;
oled.print(sensval);
delay(4000);
oled.clear();
// Обнуляем значение перед началом работы пьезоизлучателя для
// предотвращения длинных тресков
pulsesPrev = radSens.getNumberOfPulses();
}
// Функция, описывающая время и частоту пищания пьезоизлучателя
void beep(int deltime) {
ledcWriteTone(1, 500); // Включаем на частоте 500 Гц
delay(3);
ledcWri teTone(1,0); // Выключаем
delay(deltime);
}
/*
void beep(int deltime){
tone(buz, 500, deltime)
} та же функция для Arduino */
void loop() {
if (millis() - timer_imp > 250) { // Функция, создающая "треск" пьезоизлучателя
timer_imp = millis();
int pulses = radSens.getNumberOfPulses();
if (pulses > pulsesPrev) {
for (int i = 0; i < (pulses - pulsesPrev); i++) {
// Вы можете изменить параметр, если хотите, чтобы интервал
// между тресками был больше или меньше
beep(30);
}
pulsesPrev = pulses;
}
}
if (millis() - timer_cnt > 1000) {
// Записываем в объявленные глобальные переменные необходимые значения
timer_cnt = millis();
dynval = radSens.getRadlntensyDynamic();
statval = radSens.getRadlntensyStatic();
impval = radSens.getNumberOfPulses();
}
if (millis() - timer_oled > 1000) {
//Записываем переменные в строки и выводим их на OLED-экран
timer_oled = millis();
String dynint = "Дин: ";
dynint += dynval;
String statint = "Ст: ";
statint += statval;
String nimp = "Имп: ";
nimp += impval;
oled.setCursor(0, 1)
oled.print(dynint);
oled.setCursor(0, 3)
oled.print(statint);
oled.setCursor(0, 5)
oled.print(nimp);
}
Добавив фантазии, мы заказали прозрачные пластины из оргстекла, чтобы сде-
лать прибор более удобным и наглядным.
Для проверки работы был использован сульфат калия из ближайших хозтоваров.
Удобрение богато радиоактивным изотопом калием-40, активно испускающим бета-
излучение .
Показатели естественного фона и при поднесении сульфата калия.
Стандартный уровень радиации в помещении - 15-20 мкР/ч. При прямом контакте
сульфат калия получаем 32-39 мкР/ч, что вдвое выше нормы.
Несмотря на всю эстетическую привлекательность, проект является сугубо до-
машним и предназначен, в большей части, для измерения порошков, предметов
старины и прочих вещей, непонятным образом попавших в ваш дом.
Технологии
ЛЕЧЕБНОЕ МЫЛО
Научитесь создавать лечебное мыло для борьбы с повышенным потоотде-
лением, грибковыми заболеваниями, с экземой, псориазом, дерматитом,
угревой сыпи и акне.
Масла в
лечебном
мыле
Разберем базовые и эфирные масла, используемые в лечебном мыле и правила их
выбора. Начнем с базовых уходовых масел для лечебного мыла.
Когда мы говорим о лечебном мыле, мы представляем себе мыло с определенными
свойствами, такими как: антибактериальными, антимикробными, дезинфицирующими,
противовоспалительными, увлажняющими, смягчающими, заживляющими и т.д. свой-
ствами .
ВАЖНО ПОМНИТЬ!
Базовые масла в мыловарении работают иначе, чем просто в
косметике. Главным моментом, раскрывающим основу нашего
масла, является его ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ.
Жирные кислоты (ЖК) и их натриевые и калиевые соли - мыла, с древних времен
ценились за антимикробные свойства.
Мыла были впервые применены около 4000 лет назад в Месопотамии и с тех пор
успешно используются в качестве наружных антисептических средств.
Но первое, официальное заявление было сделано только в 1899 г. Кларком
(Clark, 1899), который сообщил о бактерицидных и фунгицидных свойствах солей
жирных кислот, входящих в состав различных видов и сортов мыла.
В дальнейшем бактерицидные и фунгицидные свойства мыла являлись объектом
интенсивных исследований (Bayliss, 1936; Kodicek, 1949; Nieman, 1954). Кроме
того, широко изучались антимикробные свойства основных компонентов мыла - ЖК
(Classman, 1948; Chattaway et al. , 1956; Prince, 1959). Также были отмечены
инактивация мылами некоторых вирусов (Stock, Francis, 1940, 1943) и антиопу-
холевая активность ЖК (Ando et al., 1968).
Ларсоном в 1921 г (Larson, 1921) было обнаружено отсутствие роста пневмо-
кокков и стрептококков в присутствии очень небольших количеств рицинолеата
натрия, а при обработке пневмококков мылом из касторового масла при минималь-
ной его концентрации 0,1 % данный вид микроорганизмов значительно ослаблял
свою патогенность (Larson, Nelson, 1925). Кроме того, 20 %-ный раствор рици-
нолеата натрия имеет завершенный бактерицидный эффект на St. aureus при обра-
ботке им данной культуры в течение 5 мин, а 10 %-ный раствор не обладает за-
метной бактерицидностью даже в течение 1 ч (Kolmer et al. , 1934). Также из-
вестно, что некоторые ЖК подавляют рост гонококков (Miller, Castles, 1931).
Итак, в лечебном мыле необходимо подбирать базовые масла с содержанием та-
ких кислот как:
■ Рицинолевая кислота, взаимодействую со щелоком образует рицинолеат - ока-
зывает обезболивающее, бактерицидное, противовоспалительное и регенерирую-
щее действие. Содержится только в касторовом масле в объеме почти на 90%.
В лечебном мыле ввод касторового масла от 8 до 20%, в зависимости от сте-
пени назначения. В моем лечебном мыле касторовое масло является единствен-
ным неизменным и постоянным компонентом!
■ Лауриновая кислота - мощный природный антисептик, который помогает бороть-
ся с акне и воспалениями на коже (убивает вирусы, бактерии и грибки). В
больших дозах содержится в кокосовом масле, масле бабассу, лавровом масле
и пальмоядровом масле.
■ Пальмитиновая кислота - оказывает антимикробное, антисептическое и дизен-
фицирующее действие. Стимулирующая синтез эластина коллагеном и гиалуроно-
вой кислотой. Это благотворно сказывается на регенерационном изменении
кожных покровов. Содержится в таких маслах как пальма, какао, хлопок, ри-
совые отруби, овес, зародыши пшеницы, оливки, авокадо, черный тмин, обле-
пихи.
■ Миристиновая кислота - проявляет анксиолитическую, бактерицидную, вирицид-
ную и фунгицидную активность. Содержится в кокосе, бабассу, облепихи.
■ Стеариновая кислота - защищает эпидермис, создавая на кожном покрове тон-
кую пленку, также она защищает кожный покров от отрицательного воздействия
температуры окружающей среды и используется в качестве смягчающего компо-
нента. Является незаменимым веществом для восстановления состояния кожных
покровов. Содержится в кокосовом масле, бабассу, пальмовом, горчичном, в
масле черного тмина, облепихи.
■ Олеиновая кислота - помогает другим полезным веществам проникать в клетки,
нормализует состояние кожи и ее обмен. Она участвует в построении абсолют-
но всех биологических клеточных мембран, регулируя их проницаемость. Помо-
гает другим полезным веществам проникать в клетки, в том числе кожные, и
нормализует состояние кожи и ее обмен, улучшает структуру волос и ногтей.
Больше всего олеиновой кислоты в масле сасанквы: 85-89%, отсюда мощное ув-
лажняющее и смягчающее действие этого масла. Ее также много в масле лесно-
го ореха (70-84%), миндальном,лавра, оливковом (особенно холодного отжи-
ма) , абрикосовом, персиковом, облепихи и других маслах.
■ Линолинолевая кислота - мощный природный антисептик, который помогает бо-
роться с акне и воспалениями на коже (убивает вирусы, бактерии и грибки).
Содержится в таких маслах, как грецкий орех (10,4%), и далее по убыванию:
масло канолы (9,14%), зародышей пшеницы (6,9%), в соевом масле (6,79%),
горчичном масле (5,9%), облепихи(5%), в масле овса (1,79%), рисовых отру-
бей (1,6%), в кукурузном (1,16%), авокадо (0,96%), оливка (0,76%), ши
(0,3%), кунжут (0,3%), хлопок (0,2%), пальма (0,2%), подсолнух (0,19%),
какао (0,1%), винкость (0,1%), кокос (0,02%). Но больше всего ее в льняном
масле (53,37%), к сожалению, в мыле не советуют использовать, либо совсем
в минимальных дозировках.
■ Каприловая кислота - помогает сбалансировать работу сальных желез и норма-
лизует кислотно-щелочной баланс, позволяет насытить кожу кислородом. Обла-
дает мощными противогрибковыми свойствами. Содержится в кокосовом масле, в
масле бабассу, в масле ши.
■ Каприновая кислота - обладает антисептическими свойствами. Содержится в
кокосовом масле, в масле бабассу, в масле ши.
■ Коричная кислота - защищает от воспалений и солнечной радиации, способст-
вует регенерации клеток эпидермиса, обладает противовоспалительными свой-
ствами. Содержится в масле ши, а также в небольшом количестве в масле ман-
го.
■ Линолевая кислота имеет противовоспалительные свойства, нормализует работу
сальных и потовых желез, а также хороша для увлажнения, заживляет кожные
повреждения, излечивает угревую сыпь. Содержится в маслах в следующей по-
следовательности : винкость, маковое масло, зародышей пшеницы, облепихи,
кукурузное, грецкого ореха, хлопковое масло, соевое, кунжутное, масло ри-
совых отрубей, абрикосовое, миндальное, горчичное, оливки, пальмовое, ши,
кокос, бабассу.
Чтобы выбрать то или иное базовое масло, обязательно изучите состав!
Определите, что вам необходимо в первую очередь.
Всегда помните, что при выборе масел в лечебном мыле жирно-кислотный состав
масел всегда выступает основой рецептуры!
Состав лечебного мыла должен включать ингредиенты, прицельно воздействую-
щие на основные патогенетические пути заболевания!
Отдельно хочу выделить следующие масла:
1. Масло НИМ - также известное как масло маргозы, представляет собой расти-
тельное масло, выжатое из плодов и семян нима (Azadirachta indica), дерева,
произрастающего на Индийском субконтиненте.
Основные компоненты масла Ним — глицериды олеиновой (50%), пальмитиновой
(18%) , стеариновой (15%) , линолевой (13%) , арахидоновой (2%) , линоленовой
(1%) кислот, горькие вещества, а также некоторые серосодержащие соединения.
Нимбин - еще один тритерпеноид, благодаря которому маслу ним приписывают
антисептические, противогрибковые, противомикромбные, дизенфицирующие и рано-
заживляющие свойства. Масло восстанавливает эластичность кожи, усиливает спо-
собность к регенерации. Великолепное дезинфицирующее средство, эффективное в
борьбе с угревой сыпью. Эффективно при кожных заболеваниях: экземе, псориазе,
нейродермите, крапивнице. В мыле обладает антисептическими, антибактериальны-
ми, антивирусными свойствами, отлично ухаживает за кожей и дает устойчивую
пену. Процент использования: до 20%.
2. Масло Тмина черного, чернушки или нигеллы — богато аминокислотами раз-
личных групп, содержит такие составляющие, как: фосфолипиды, каротиноиды, ви-
таминные группы D, Е, С, В, всевозможными макро- и микроэлементы. Масло обо-
гащено рядом жирных кислот. Их насчитывается 26, а 18 характеризуются как не-
насыщенные. Линолевую (Омега-6), олеиновая Омега-9, линоленовая (Омега-3) -
отличается сильным антивоспалительным, обезболивающим и противовоспалительным
действием. Пальмитиновая кислота, стимулирующая синтез эластина коллагеном и
гиалуроновой кислотой. Это благотворно сказывается на регенерационном измене-
нии кожных покровов. Стеариновая кислота - является незаменимым веществом для
восстановления состояния кожных покровов.
Оказывает регенерирующее, тонизирующее и рассасывающее воздействие. Приме-
няется для ухода за проблемной угреватой кожей лица. Находящиеся в нем эфир-
ные масла, останавливают воспаление, снимают покраснения, отек, шелушение,
избавляют от прыщей. Продукт повышает упругость кожного покрова. Его исполь-
зуют при аллергических, атопических дерматитах, нейродермитах, грибковых за-
болеваниях , экземе, псориазе, крапивнице. Убирает бородавки и лишаи. В мыле
обладает лечащими, снижающими воспаления и противогрибковыми свойствами. Те-
ряет свойства при нагревании выше 60 С. Процент использования: до 20%.
3. Масло Лавра - обладает антисептическими свойствами, дезинфицирует, помо-
гает в борьбе с угревой сыпью, улучшает кровообращение. Особо эффективно при
уходе за раздраженной и жирной кожей.
Лавровое масло очень богато витаминами и микроэлементами, поэтому является
прекрасным источником питания. Оказывает антисептическое действие, способст-
вует устранению угревой сыпи и перхоти, является защитой от воздействия аг-
рессивной окружающей среды, в том числе и от воздействия ультрафиолета, уско-
ряет внутрикожное капиллярное кровообращение, возвращая коже молодость и здо-
ровый вид.
Жирно-кислотный состав:
Насыщенные жирные кислоты: лауриновая кислота - 24,55%, миристиновая кисло-
та 1,00%, пальмитиновая кислота 14,76%, стеариновая кислота 1,46%,
Ненасыщенные жирные кислоты: олеиновая кислота (Омега 9) 30,74%, линолевая
кислота (Омега 6) 25,80%, линоленовая кислота (Омега 3) 1,09%, эйкозеновая
кислота 0,60%.
Обеспечивает бактерицидные свойства мылу. Проявляет вяжущие, антисептиче-
ские , дезинфицирующие, обезболивающие, антитоксические, противосудорожные,
противоревматические, успокаивающие, стимулирующие и усиливающие кровообраще-
ние действия. Природный защитник от воздействия агрессивной экологии. Приме-
няется в средствах от акне, экземы, микозов и псориаза.
Если вы варите мыло ГС, то масло лавра добавляется в качестве пережира1 в
растопленном виде после снятия с водяной бани. Ввод при ГС: от 5 до 15%.
Если варите мыло ХС, то масло лавра добавляется вместе со всеми маслами или
частично с маслами и потом на стадии следа2 (в калькуляторе3 обязательно рас-
считывается полностью с остальными маслами). Ввод при ХС — до 30%.
4. Масло конопли - имеет увлажняющие свойства, успокаивает кожу, помогает
при нейродермите и шелушении. Мыло имеет небольшой срок годности, так как
йодное число у масла очень высокое. Процент использования: 10-12%, при любом
способе. Идеально вводить в качестве пережира при ГС.
5. Масло жожоба - это, по сути, жидкий воск. Масло легко проникает в кожу,
так как по составу схоже с кожным жиром, снижает воспаление и улучшает срок
годности мыла, так как является антиоксидантом. Мыло с увлажняющими и успо-
каивающими свойствами, подходит для юной и чувствительной кожи. Достаточно 3-
8% в мыле, так как это масло не омыляется (в калькуляторе прописывается вме-
сте со всеми маслами)!
Натуральное мыло варят холодным (ХС) и горячим (ГС) способами. Определить
способ варки важно уже в самом начале процесса, так как его надо будет ука-
зать при расчёте рецепта на мыльном калькуляторе. Горячий и холодный способ
отличаются вводом пережира. А калькулятор посчитает, сколько пережира и щело-
чи нужно на рецепт. Также в ХС традиционно берется 33% воды (отвара, молока и
т.п.) или меньше. В ГС примерно 38% (мы будем подогревать массу, часть воды
выпарится). Все эти показатели вводятся вручную в мыльный калькулятор. Коли-
чество воды не догма.
Холодный
способ
Масла можно брать одновременно жидкие и твёрдые, либо выбрать что-то одно.
Их нужно взвесить, подогреть до определенной температуры (30-60 градусов),
1 Пережир - это те масла, которые не проходят реакцию со щелочным раствором, т.е. не
омыляются.
2 След - это точка в процессе изготовления мыла, когда масло и щелочной раствор
эмульгируются, т.е. входят в химическую реакцию.
3 См. например: https://soap-formula.ru/calculator.html
смешать с щелочным раствором. При этом масла и раствор должны быть одинаковой
температуры.
Полученную массу доводят блендером до стадии следа. След при холодном спо-
собе можно делать тонкий4, средний5, толстый6 - какой вам необходим для дизай-
на. Далее в массу добавляют красители, дополнительные добавки. Это могут быть
глины, травки, скрабы, ароматы и прочие ингредиенты. Создается дизайн, если
такова задумка.
Затем будущее мыло разливают в формы. Здесь ему предстоит пройти следующую
стадию омыления — гель. Для этого форму с мылом ставят в тёплое место. Как
правило, мыловары используют духовку. Нагревают её градусов до 60, выключают
и ставят туда мыло. Через какое-то время оно проходит стадию геля. Опытным
мыловарам удается распознать гель на раз-два. Неопытному глазу приходится
сложнее. Масса становится как бы полупрозрачной, меняется её текстура. После
того, как мыло прошло гель, его можно достать из духовки или оставить там.
Главное, не забудьте выключить её, иначе мыло сварится в форме. И это будет
не совсем холодный способ.
Через 1-2 дня мыло обычно режут. Если хватит терпения, чуть позже. Но тер-
пение понадобится в любом случае. Во-первых, мягкому мылу лучше дать поле-
жать. А во-вторых, ему требуется время для созревания.
Что такое созревание в данном случае? После прохождения геля рН мыла снижа-
ется до 10. Для того, чтобы он стал ещё ниже (8-9), мылу нужна пара дней. Да-
лее оно лежит и сохнет.
Срок для стандартного сорта со сбалансированным составом масел — около ме-
сяца. Есть сорта, созревающие полгода и более. Например, Кастильское оливко-
вое мыло зреет от полугода. Созревание в течение месяца - это не только пони-
жение рН, но и просушка мыла. Чем оно тверже, суше, тем дольше служит вла-
дельцу .
Горячий
способ
Первые шаги варки в ГС идентичны холодному. Обратите внимание на расчет в
мыльном калькуляторе и пережир. В ГС мы его добавим в самом конце. Это будет
любое масло сверх рецепта, даже не вошедшее в основную рецептуру. В холодном
способе пережир идёт непременно из тех масел, что вы занесли в калькулятор.
Чаще всего мыло само определяет, какое масло уйдет в пережир. В горячем же
способе мы контролируем это.
После замешивания мыльной массы блендером (ГС я рекомендую доводить до тол-
стого следа, так оно быстрее войдет в гель) будущее мыло подогревают на водя-
ной бане или в духовом шкафу. По времени — от полутора до трёх часов. На бане
мыло проходит принудительный гель: прямо в кастрюльке, где вы замешали массу.
Обычно в течение 10-30 минут. Далее мылу нужно время повариться, чтобы сни-
зился рН. Проверять рН можно специальными полосками, просто окунув кончик в
4 Легкий след - сразу же после добавления щелочной воды в масла смесь начнет стано-
виться слегка мутной и желто-молочной. С помощью нескольких импульсов и помешивания
блендером вся смесь приобретает кремо-образную консистенцию. Этот процесс происходит
довольно быстро. Тонкий след - идеальное время для добавления красителей и аромати-
заторов .
5 Средний след можно узнать по густому тесту для теста или по консистенции тонкого
пудинга. Средний след отличное время для добавления добавок.
6 Чтобы получить толстый след, обычно требуется чрезмерное помешивание. Толстый след
является консистенцией густого пудинга и сохраняет свою форму при заливке. Толстый
след идеально подходит для нижних слоев, так как он способен поддерживать более
светлое мыло сверху.
мыльную массу.
В полученную довольно густую массу добавляют ароматы, красители и добавки,
а также пережир (доп. уходовые масла). Красители иногда имеет смысл класть в
стадию следа. Но они обязательно должны выдерживать щелочную среду. Вся масса
получится одного цвета - зато однородная и красивая!
После полного застывания мыло сразу готово к использованию, ему не нужно
зреть. Но если оно полежит, то станет тверже и будет дольше радовать вас.
Теперь перейдем к рассмотрению эфирных масел.
Перечень наиболее популярных масел в лечебном мыле:
■ Анис - обладает выраженными антибактериальными, антисептическими, противо-
воспалительными , тонизирующими иммуномодулирующими свойствами.
■ Базилик - Оказывает антибактериальное, регенерирующее действие, устраняет
сухость кожи, снимает зуд, укрепляет волосы.
■ Бергамот - обладает успокаивающими свойствами, устраняет зуд, раздражение,
воспаление, шелушение, эффективно очищает и дезодорирует кожу.
■ Вербена - направлено на стимуляцию циркуляции крови, выравнивания рельефа
кожи и улучшения цвета лица. Уменьшает жирность кожи, сужает поры и снима-
ет раздражения. Помогает бороться со шрамами и рубцами, делая их более
гладкими и мягкими.
■ Гвоздика - гвоздичное масло обладает сильным противомикробным действием,
прекрасно помогает бороться с угревой сыпью и воспалениями. Обладает уме-
ренными стимулирующими свойствами и действует не раздражая кожу (в неболь-
ших количествах). Снимает нервное напряжение, благодаря чему удается пре-
дупредить обострение псориаза.
■ Герань - Снимает воспаление, дезодорирует, оказывает антисептическое дей-
ствие , повышает иммунитет. Масло применяется как при псориазе, так и при
других заболеваниях кожи.
■ Зверобой - лечебные свойства масла обусловлены наличием в его составе
большого количества флавоноидов, смолистых веществ. Продукт оказывает про-
тивовоспалительное , противомикробное, успокаивающее действие, укрепляет
капилляры, ускоряет регенерацию кожи.
■ Иланг-иланг - обладает выраженными противовоспалительными, антисептически-
ми свойствами. Снимает нервное напряжение, предупреждает депрессию. Интен-
сивно увлажняет кожу, устраняет шелушение и сухость, подходит для лечения
многих дерматозов. Может применяться также при псориазе волосистой части
головы, восстанавливает структуру волос.
■ Лаванда - является сильным антисептическим средством. Ускоряет регенерацию
поврежденной кожи, сокращает выраженность воспаления, дезодорирует, обла-
дает бактерицидными и успокаивающими свойствами. Можно применять при любом
типе кожи
■ Лавр - отлично подойдет для ухода за жирной проблемной кожей, поможет бо-
роться с акне, снимет воспаления и раздражения, снимает зуд, сглаживает
рубцы.
■ Лимон - оказывает антисептическое, противовоспалительное дезодорирующее
действие, улучшает обмен веществ, кровообращение, восстанавливает нормаль-
ное функционирование печени, способствует очищению организма, укрепляет
ногти и волосы.
■ Майоран - стимулирует кровоток, а потому хорошо рассасывает синяки. Спо-
собствует смягчению и обновлению загрубевших участков эпидермиса, удаляя
мозольные наросты. Сводит бородавки.
■ Можжевельник - бактерицидное, антисептическое, противовоспалительное сред-
ство. Эфирное масло регулирует иммунную защиту, снимает нервное напряже-
ние, избавляет от повышенной тревожности, ускоряет регенерацию пораженной
псориазом кожи, устраняет зуд.
■ Мята - успокаивает, снимает зуд, раздражение, воспаление. Подходит при лю-
бом типе кожного покрова. Применяется также при псориазе кожи головы. В
случае значительной площади поражения можно принимать ванны с добавлением
мятного масла.
■ Пихта - масло оказывает бактерицидное, противовирусное, противовоспали-
тельное действие. Является природным иммуномодулятором, ускоряет заживле-
ние пораженной кожи, обезболивает, дезодорирует, налаживает кровообраще-
ние , обмен веществ.
■ Розмарин - это масло обладает сильным антисептическим и тонизирующим дей-
ствием .
■ Ромашка римская - обладает антисептическим, бактерицидным, противоаллерги-
ческим действием, способствует заживлению ран, снимает зуд. Применяется
при акне, сухой, зудящей, чувствительной коже, ожогах, экземе, дерматите,
псориазе, розацеа, сыпи, укусах насекомых. Оказывает успокаивающее дейст-
вие на все типы кожи. Но натуральное масло ромашки римской - очень и очень
дорогое, поэтому если вы видите цену 100 руб. за флакон - это подделка.
■ Сандал - рекомендуется для ухода за сухой, шершавой и воспаленной кожей.
Масло сандала обладает выраженным успокаивающим и смягчающим эффектом при
воспалительных и аллергических реакциях и раздражениях кожи; характеризу-
ется антисептическим, бактерицидным и противогрибковым действием, тонизи-
рует, увлажняет и заживляет кожу, особенно эффективно в средствах для су-
хой, потрескавшейся и обезжиренной кожи.
■ Тимьян / Чабрец - сильнейший антисептик: устраняет гнойные поражения кожи,
инфильтраты. Улучшает кровоснабжение кожи
■ Хвойные масла, например кедр - принадлежит к группе сильных легочных анти-
септиков, это эфирное масло применяется не только в качестве отхаркивающе-
го, но и успокаивающего сухой кашель средства.
■ Чайное дерево обладает антисептическими, противовирусными и противомикроб-
ными свойствами. Это одно из немногих масел, которые можно наносить на ко-
жу в чистом виде, то только точечно на поврежденный участок кожи, скажем
при герпесе.
■ Цитрусовые - обладают дезинфицирующими свойствами, применяют для очистки и
дезодорации воздуха. Тонизируют, придают сил и энергии и просто поднимают
настроение.
■ Шалфея мускатного - обладает дезинфицирующим, антисептическим, противовос-
палительным, кровоостанавливающим действиями, уменьшает потоотделение.
Нормализует функцию сальных желез, поможет при угревой сыпи и нечистой ко-
же .
■ Эвкалипт - обладает ярко выраженными фитонцидными свойствами. Широко ис-
пользуются как болеутоляющее и антисептическое средство. Нормализует рабо-
ту сальных желез, способствует устранению угревой сыпи, обладает отбели-
вающим действием. Благодаря комплексу ценных веществ масло ускоряет зажив-
ление пораженной кожи, снимает зуд, сокращает шелушение.
Антибактериальными свойствами также обладают эфирные масла бей, базилика,
имбиря.
Важно помнить, что эфирные масла - сильные аллергены, так как активные ве-
щества в них очень концентрированы. Нельзя превышать рекомендуемую дозировку.
Травы в
лечебном
мыле
Лекарственные растения, конечно же, не могут решить все проблемы, связанные
с повышенным потоотделением, особенно в запущенном варианте, но несколько
улучшить ситуацию вполне могут. СОВЕТУЮ ПОПРОБОВАТЬ! К тому же их применение
попутно может помочь устранить и такое нарушение как повышенная раздражитель-
ность , на фоне которого усиливается гипергидроз. Травы помогут бороться со
стрессовыми ситуациями и сильными переживаниями, провоцирующими сильное выде-
ление пота.
Основные:
■ Алое вера - эффективно подавляет рост бактерий и нейтрализует запах пота,
не закупоривая потовые железы. Алоэ содержит салициловую кислоту, поэтому
считается противовоспалительным и мягким антибактериальным средством.
■ Базилик - экстракт базилика обладает невероятным количеством лечебных
свойств. Является мощним антиоксидантом и антисептиком. Обладает дизенфи-
цирующим, бактерицидным, заживляющим, противовоспалительным, очищающим,
регенерирующим и сужающим поры средство.
■ Береза - способствует уменьшению выработки жира сальными железами. Экс-
тракты берёзовых листьев и почек нейтрализуют запах пота, обладают анти-
септическими и противовоспалительными свойствами, заживляют мелкие повреж-
дения кожи
■ Зеленый чай - полифенолы зеленого чая оказывают противовоспалительное, ан-
тибактериальное, вяжущее и смягчающее действие, обладают ранозаживляющими
свойствами, способствуют проникновению биологически активных веществ в ко-
жу, усиливают ее защитные свойства.
■ Индейский нард (Нард), нардин, индейская валерьана - устраняет тяжёлые,
кислые запахи тела, нормализует работу сальных и потовых желез. Дезодори-
рует кожу, оставляя приятный аромат. Также считается одним из лучших
средств для борьбы с акне. Лечит кожные заболевания и даёт антисептическую
защиту здоровой коже. Снимает воспаление, раздражение, аллергию, сыпи, ус-
покаивает, даёт коже приятную прохладу, способствует обновлению эпидерми-
са. Стимулирует рубцевание долго не заживающих ран, лечит пролежни, трещи-
ны и язвы. Для дезодорирующего эффекта прекрасно сочетается с лавандой,
розой, шалфеем мускатный. Также сочетается с дубовым мхом, грейпфрутом,
иланг-иланг, имбирем, пачули, сосной, ветивером, кардамоном, мускатным
орехом, геранью.
■ Кора дуба - уникальное растительное лекарство от потливости подмышек, об-
ладающее противовоспалительным и антисептическим эффектом. Богатый состав
дубовой коры и содержание в ней дубильных веществ способствуют не только
избавлению от неприятного запаха пота, но и снижению активности потовых
желез натуральным образом без применения химии, в связи с чем проблема
потливости становится не актуальной.
■ Календула - экстракт календулы обладает антиоксидантными и антисептически-
ми свойствами. Календула ускоряет процессы регенерации тканей. Местное
противовоспалительное действие.
■ Лаванда - увлажняющее, тонизирующее, очищающее, антисептическое, противо-
воспалительное, регенерирующее, смягчающее, снимающее раздражение, бакте-
рицидное средство. Экстракты и масла лаванды регулируют выработку кожного
жира, сужают поры, очищают кожу от загрязнений и токсинов. Применяется для
жирной, увядающей, комбинированной, нормальной кожи, а также для сухой и
гиперсухой коже. Очень эффективно в средствах от акне, угревой сыпи, де-
зинфицирует , регулирует работу сальных желез, стимулирует рост новых тка-
ней , полезно при куперозе. Популярна в детской косметике.
■ Лавр - антисептическое, стимулирующее, тонизирующее и восстанавливающее
гидролипидный слой кожи средство. Используется для сухой и повреждённой
кожи, а также рекомендуется применять при акне, жирной коже, при перхоти и
себорее.
■ Лен - слизь семян обладает обволакивающими, укрепляющим и смягчающими
свойствами, умеряет раздражающее действие различных веществ. Льняное масло
смягчают кожу не хуже крема,
■ Лопух - дезодорирующее, ранозаживляющее, противовоспалительное, смягчаю-
щее, противогрибковое, очищающее, тонизирующее, антисептическое и бактери-
цидное средство для жирной, увядающей и проблемной кожи тела, а также как
средство от перхоти и стимулирующее рост всех видов волос, используют как
средство от перхоти, себорее и облысения и советуют применять для восста-
новления ногтевой пластины.
■ Майоран - мощный антиоксидант и антисептик, который помимо антимикробного
и заживляющего действия, смягчает ее и устраняет воспаление. Большинство
из полезных свойств этого растения обеспечивают летучие фенольные соедине-
ния - тимол, карвакрол, обладающие выраженным антисептическим действием, а
также тимоквинон, кумол и кариофиллен. Считается, что благодаря этой ком-
позиции, майоран помогает «гидрооптимизировать» кожу. Помимо этого, экс-
тракт листьев майорана обладает антиоксидантными, антисептическими, зажив-
ляющими свойствами.
■ Мята - широко известна своими противовоспалительными, антибактериальными и
вяжущими свойствами. Предотвращает запах пота, подавляя развитие бактерий,
обитающих на коже. Создает ощущение абсолютной чистоты.
■ Одуванчик - обладает антибактериальными, противовирусными, противогрибко-
выми, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Листья одуван-
чика богаты минералами и витаминами, особенно витамином А, которые помога-
ют сбалансировать кожный жир. В корне одуванчика содержатся биологически
активные вещества, за счет которых одуванчик обладает противовоспалитель-
ными и антиоксидантными свойствами.
■ Пижма - обладает антибактериальным, противогрибковым и противовирусным
действием и в то же время помогает быстро снять воспаление. Экстракты и
отвары цветов пижмы содействует ускоренному росту здоровых клеток эпидер-
миса и ускоряет заживление ран.
■ Подорожник - является отличным лекарственным средством для человека. Анти-
септическое , бактерицидное, заживляющее, противовоспалительное, очищающее,
регенерирующее, дезинфицирующее и сужающее поры средство. Регенерирует и
быстро восстанавливает кожу после кожных заболеваний или травм.
■ Полынь - уникальная трава с удивительными свойствами из-за наполнения раз-
ных частей растения органическими кислотами, эфирами, витаминами и микро-
элементами. Здесь есть флавоноиды и фитонциды, каротин и артемизин, обла-
дающий противоопухолевыми и антибактериальными свойствами. Экстракт полыни
изобилует дубильными веществами и антиоксидантами, демонстрирует противо-
грибковое действие, сглаживает неровности кожи, снимает отеки и красноту
дермы, защищает от внешнего негатива.
■ Розмарин - прекрасный антисептик. Свойства розмарина: противовоспалитель-
ное, антисептическое, дизенфицирующие, антиоксидантное действия. Способст-
вует сужению пор, устранению сыпи различной этиологии, является природным
анальгетиком. Оказывает также смягчающее действие Свойства розмарина
уникальны, поскольку фитонциды растения способны обезвредить до 80% нахо-
дящихся в помещении микробов, включая стафилококки, стрептококки, кишечную
палочку и дрожжевые грибки.
■ Ромашка - для лечения повышенной потливости применяют отвары или настои
цветков и травы ромашки. Ромашка, как известно, обладает прекрасными анти-
септическим и противовоспалительным свойствами, что позволяет рецептам на
ее основе эффективно бороться с бактериями на теле и снимать раздражение
кожных покровов в подмышечных впадинах
■ Сабельник - обладает антибактериальным, противовоспалительным, кровооста-
навливающим и ранозаживляющим действием. Противовоспалительное, обезболи-
вающее и бактерицидное действие препаратов сабельника болотного определяют
фенольные соединения, они же являются прекрасными антиоксидантами. Дубиль-
ные вещества обладают противоопухолевой активностью, а также увеличивают
эластичность стенок кровеносных сосудов. Исследования показали, что са-
бельник болотный обладает высокой антигистаминной активностью, т.е. его
применение может быть показано при выраженных аллергических реакциях. Ле-
карственным сырьём является всё растение. Листья содержат 12,5%, стебли -
7,5%, корневища - 10% дубильных веществ. Помимо дубильных веществ, в со-
став сабельника болотного входят полисахариды, аскорбиновая кислота, каро-
тин, витамин Р, некоторое количество фенольных соединений, органические
кислоты, красящие смолистые вещества и эфирные масла в небольших количест-
вах. Из микроэлементов можно отметить большое содержание калия, кальция,
магия, марганца, фосфора и цинка. Применяется в средствах для проблемной
кожи, при воспалительных процессах в кожных и ногтевых покровах (микозы),
а также против углевой сыпи и других дерматозах.
■ Саган-дайля (Рододендрон Адамса) - включает в себя эфирные масла, аскорби-
новую кислоту, дубильные вещества, салициловую кислоту, ванилиновую кисло-
ту , смолы, флавоноиды, гликозиды, фитонциды, фенолы, витамины А, Е, D.
Благодаря такому составу оказывает благоприятное воздействие на кожные по-
кровы человека. Кроме того, в листьях растения содержатся гиперозил, ави-
кулярин, азалеатин, которые действуют угнетающе на активность патогенных
бактерий и инфекций. Молодые побеги содержат урсоловую и олеаноловую ки-
слоты, тритерпеноиды и флавоновые производны
■ Тысячелистник - дубильные вещества, эфирное масло и хамазулен обеспечивают
противовоспалительное, бактерицидное, противоаллергическое и ранозаживляю-
щие действие. Механизм кровоостанавливающего действия травы тысячелистника
сходен с эффектами, обусловленными ионами кальция.
■ Чистотел - антисептическое, бактерицидное, очищающее, успокаивающее, дезо-
дорирующее, противовоспалительное, повышающее эластичность кожных покро-
вов, регулирующее водныйбаланс кожи, а также смягчающее средство для жир-
ной, увядающей, комбинированной и нормальной кожи. Широкий спектр примене-
ния, в том числе при гипергидрозе, а также при проблемной коже, при акне и
против перхоти для нормальных и жирных волос.
■ Шалфей - противовоспалительное, антибактериальное, антисептическое, обла-
дает регенерирующими свойствами, используется для ухода за жирной кожей,
регулирует выделение кожного сала (себума). Применяется при расширенных
порах, рекомендуется для лечения акне. Регулирует потоотделение, применя-
ется при избыточном потоотделении стоп и ладоней, особенно очень хорошо в
сочетание с лавром благородным. Если раны плохо заживают, то использовать
шалфей вместе с бессмертником и шиповником.
Конечно, это не полный список трав, которые помогают при заболеваниях кожи,
но обязательно попробуйте на их основе сделать масляные настои (инфузы, маце-
раты7) , водные настои или отвары, тинктуры (спиртовые настои) , глицериновые
экстракты и т.д.
Постарайтесь, чтобы в вашем мыле инфузов было минимум 25-30%, а лучше боль-
ше!
Про остальные травы обязательно читайте в травных энциклопедиях8.
Добавки в
лечебном
мыле
Выбор той, или иной добавки зависит от ее назначения, а количество от сте-
пени осложнения заболевания.
Конечно, добавок может быть намного больше, в зависимости от ваших возмож-
ностей их приобретения, изучения их, совместимости с мыльной и щелочной сре-
дой, а также правильности их ввода.
7 Инфуз - это настой трав на масляной основе, мацерат - настой цветов на масляной
основе.
8 Например: Ильина Т.А. Лекарственные растения. Большая иллюстрированная энциклопе-
дия. (2014)
Основные:
■ Алюмокалиевые квасцы - обладает антисептическим и противовоспалительным
эффектом, который не позволяет патогенной микрофлоре размножаться в облас-
ти нанесения, а также способствует заживлению ран (полезно при раздражении
кожи в зоне повышенной потливости). Квасцы оказывают вяжущее и подсушиваю-
щее действие, которые являются особенно полезными для снижения потливости.
Ввод в лечебное мыло до 3%. Вводится в след при ХС, и после бани при ГС.
Продаются в специализированных магазинах, или можете купить на маркетплей-
сах. Жженые квасцы не подходят!
■ Алоэ вера гель - увлажнит и разгладит кожу. Вводится в омыленную массу при
ХС в след, либо при ГС после бани. Процент ввода высчитывается из объема
закладываемой жидкости в мыле. К примеру, заложено 35% воды, из нее 25%
воды пойдет на растворение щелочи, а 10% - это будет наш алоэ вера гель,
который добавим отдельно перед закладкой в форму. Работаем при низких тем-
пературах или не проводим мыло через гель (как вариант делать взбитое мы-
ло) Продается в специализированных магазинах, или можете купить на маркет-
плейсах.
■ Глина - в целом глины насыщают мыло полезными свойствами для кожи, а также
обладают в слабо щелочном растворе эмульгирующей способностью. Глины дей-
ствует и как дезинфицирующее, смягчающее, сужающее норы и очищающее кожу
средство. Кроме того, она обладает большой способностью поглощать свобод-
ную щёлочь в мыле. Глины поглощают токсины, улучшают микроциркуляцию кро-
ви , восстанавливают обменные процессы в коже. Цветные глины также придают
мылу интересные и красивые оттенки (тут речь про французские глины, так
как российские глины часто уводят в серость). Глины бывают белого (као-
лин) , желтого, голубого, зеленого, розового, красного, фиолетового и чер-
ного цвета. Глину можно вводить в мыло при разных способах варки, в момент
легкого следа (при ХС) или после бани (при ГС) , добиваясь равномерного
распределения её по мылу, при этом будет работать как загуститель и краси-
тель, сохраняя все свои качества. Также можно ее водить в масла перед вво-
дом щелочного раствора в качестве красителя. Следует помнить, что глина,
это сухой порошок и в мыле забирает на себя много воды, поэтому лучшим
способом ввода глины в мыло, это развести её с водой в соотношении 1:1,
тщательно размешать и добавить в мыло в след. Кстати, глина ускоряет обра-
зование следа. Глины вводятся в состав мыла от 2 чайных до 2 столовых ло-
жек на каждые 500 г масел, но не более 15% от общего веса масел.
■ Грязь лечебная - природные коллоидальные органо-минеральные образования
(иловые, торфяные, сопочные и другие), оказывающие на организм человека
лечебное воздействие благодаря своей пластичности, высокой теплоемкости и
медленной теплоотдаче, содержанию биологически активных веществ (солей,
газов, витаминов, ферментов, гормонов и других) и живых микроорганизмов.
Лечебная грязь очищает кожу, оказывает на нее стимулирующее действие:
улучшает кровообращение, обмен веществ и дыхание тканей, питает кожу ком-
плексом минеральных веществ и микроэлементов, повышает ее эластичность,
успокаивает, создает легкий эффект пиллинга и осветляет кожу. Процент вво-
да: до 10%. Грязь добавляется перед выкладкой в форму, предварительно сме-
шанная с водой до консистенции пасты (вода берется из общей массы). При ХС
вводится на легком следе. Купить можно в специализированных магазинах или
на маркетплейсах.
■ Дёготь - дегтярное мыло издавна используется нашими предками для борьбы с
чрезмерной потливостью подмышек и ее последствиями в виде запаха и раздра-
жения кожи под руками. Помимо подсушивающего и дезинфицирующего действия
дегтярное мыло оказывает массу полезных эффектов. Залечивает ранки и раз-
дражения, усиливает кровообращение, показывает регенерирующий эффект, за-
щищает кожу от раздражений. Недостатками этого натурального антиперспиран-
та считается неприятный запах и возможность появления аллергических реак-
ций на деготь. Ввод в лечебное мыло от 8 до 15%. Вводится в след при ХС, и
после бани при ГС. Аптечный деготь не советую использовать, так как он
значительно отличается по качеству, да и по составу. Советую посмотреть на
ярмарке мастеров или в специализированном магазине.
Маточное молочко - это коктейль из витаминов, минералов и микроэлементов,
идеально подходящий для оживления тусклой и уставшей кожи. Обладает увлаж-
няющими и питательными свойствами, широко используется в антивозрастной
серии. Антиоксиданты, содержащиеся в маточном молочке, помогают устранить
свободные радикалы, которые обычно вызывают преждевременное старение кожи.
Аминокислоты помогают повысить уровень коллагена и делают кожу упругой и
эластичной. Растворяется в воде, в меде. Не растворимо в масле. Процент
ввода в мыло до 5%, для пробы начните с 1% и постепенно можете увеличивать
дозировку. Мыло готовить только ГС, так как маточное молочко можно вводить
только после бани, когда рН стабилизирован, т.е. перед раскладкой в форму.
Покупая маточное молочко выбирайте лиофилизированное9. Купить можно в ма-
газинах пчеловодства или на маркетплейсах.
Ментол - снимает раздражение, тонизирует, успокаивает, нормализует секре-
цию, а также является антисептическим, бактерицидным и противовоспалитель-
ным препаратом для кожи тела. Ввод в лечебное мыло от 5 до 15% от веса ма-
сел . В мыле с нуля вводится вместе с маслами или отдельно растворенным в
небольшом количестве базового масла перед закладкой мыла в форму при ХС,
или при ГС после бани вместе с пережиром, перед закладкой мыла в форму.
Таже ментол растворим в спирте, в эфирах. Плохо растворим в воде и глице-
рине . Идеально сочетается с эфирными маслами эвкалипта, чайного дерева,
хвойными ароматами, позволяя создать эффект ароматерапии, придавая ощуще-
ние бодрости и свежести. Придаёт мылу эффект «холодка» на коже (особенно
приятно в летнее время). Ментол не совместим с сильными окислителями. Сле-
дует с осторожностью применять людям с чувствительной кожей, склонным к
аллергии.
Морские водоросли - натуральный продукт богатый йодом. Используются как
питающее, противовоспалительное, регенерирующее, стимулирующее микроцирку-
ляцию , антисептическое, противоотёчное, успокаивающее, осветляющее, повы-
шающее упругость и тонизирующее кожу средство. Также применяются для пита-
ния, снижения жирности. Добавляются в мыло в сухом или увлажнённом виде с
различной степенью измельчения (можно варить мыло-скраб или ухаживающее за
кожей мыло) после пережира и эфирных масел или смешиваются с пережиром.
Вводятся от 50 до 100 г на 1 кг масел. Ищите в специализированных магази-
нах.
Оксид цинка (белый цинк) - натуральный кристаллический порошок белого цве-
та , без запаха. Регулирует работу сальных желёз, оказывает обеззараживаю-
щее, адсорбирующее, антисептическое, ранозаживляющее, подсушивающее и вя-
жущее действие. Хорошо сочетается с серой. Является консервантом. Вводится
от 1 до 10%. Не растворим в воде и спирте. Растворим в щелочах. Добавляет-
ся в толстый след при ХС в виде водной суспензии. При ГС — перед пережиром
и эфирами. Консервант. Купить можно как в специализированных магазинах,
так и на маркет плейсах.
9 Лиофилизация - способ мягкой сушки веществ, при котором высушиваемый препарат за-
мораживается, а потом помещается в вакуумную камеру, где и происходит возгонка (суб-
лимация) растворителя. Это процесс, который позволяет высушить продукт холодным спо-
собом, сохраняя при этом все активные ингредиенты, присутствующие в исходном продук-
те.
■ Прополис - происходит от греческого слова «propoliseo» - замазывать, заде-
лывать . Сочетание секрета желез пчелы со смолами почек растений представ-
ляет собой сложное по химическому составу соединение - прополис, представ-
ляющий собой клейкое смолистое ароматическое вещество тёмно-зелёного или
светло-коричневого цвета. Основными составляющими прополиса являются гли-
козиды и полисахариды, также в его состав входят: витамины (А, Е, С, В),
флавоноиды, микроэлементы (калий, кальций, фосфор, натрий, магний, цинк,
марганец, медь, и др.), кислоты (бензойная, кофейная, никотиновая, панто-
теновая), а также пчелиный белок ингибин (бактериостатический эффект на
кокковую инфекцию: стафилококки, стрептококки), фенольные соединения и
аминокислоты. Выделяют противовоспалительный, сосудорасширяющий, антиокси-
дантный и антибактериальный лечебные эффекты. Улучшает кровоснабжение ок-
ружающих тканей, происходит нормализация капиллярного давления, восстанов-
ление проницаемости сосудистой стенки и уменьшается отек. Способствует
уменьшению кожного зуда, а также уменьшению воспаления и нормализации ме-
таболизма кожи и подлежащих тканей. Прополис нормализует работу сальных и
потовых желез, восстанавливает естественный рН кожи, обладает выраженной
способностью к ревитализации кожи, стимулирует ее питание, а также способ-
ствует выработке коллагена и эластина. Что в сумме делает его уникальным
активом при различных кожных проблемах, таких как: перхоть, акне, зуд,
раздражение и т.д. Прополис вводится в мыло в нескольких вариантах: как
инфуз, или как тинктура, или как глицериновый экстракт. Если нет возможно-
сти приготовить самостоятельно глицериновый экстракт, то его можно заме-
нить на Лизоль прополиса 40%. Тинктуру прополиса также можно заменить на
аптечную настойку прополиса (главное смотрите состав, кроме спирта 70-80%
и прополиса там ничего быть не должно!). Чистый прополис продается как в
специализированных магазинах и эко-лавках, так и в аптеках и на маркет-
плейсах.
■ Ромазулан - экстракт ромашки лекарственной (цвет) - противомикробный и
противовоспалительный препарат. Применяется при дерматите, солнечных ожо-
гах, пролежнях, опрелостях, воспалениях, экземе (в т. ч. атопической, осо-
бенно при сухой коже). Вводится до 30 гр на 1 кг масел при ГС в конце вар-
ки. Продается в аптеке, либо можете сделать самостоятельно на спирте
(тинктура 1:5).
■ Ротокан - спиртовой экстракт цветков календулы лекарственной, ромашки ле-
карственной и травы тысячелистника обыкновенного. Местное противовоспали-
тельное , антисептическое, бактерицидное, регенерирующее и гемостатическое
средство. Используется также против перхоти. Консервант. Вводится до 20 гр
на 1 кг масел при ХС или до 10% за 15 минут варки или вместе с пережиром.
Продается в аптеке, либо можете сделать самостоятельно на спирте (тинктура
1:5) .
■ Сера коллоидная - мелкий жёлтый порошок. Применяется как антисептическое,
антипаразитарное и противотрибковое средство для жирной, проблемной, ком-
бинированной кожи. Снижает активность сальных желёз, разрушает поверхност-
ный слой кожи (отмершие клетки). Сера нерастворима в спирте и воде. Нельзя
нагревать выше 50 С. Вводится до 2%. Добавляется при ГС, в омыленную массу
после бани, растворенная в пережире. Если варится калийное мыло, то вво-
дится при разведении жидкого мыла в остывшую до 45-47 С массу. Кристалли-
ческая сера: не применяется. Биорастворимая сера и биосера флюид: несмотря
на то, что эти вещества растворимы в воде, спирте и жирных кислотах, в мы-
ловарении не используются.
■ Соль - бывает каменная морская и озерная. В зависимости от вида имеет раз-
ные свойства. Но в основном соль обладает очищающим, тонизирующим, анти-
септическим , антимикробным, бактерицидным, противовоспалительным эффектом.
Повышает упругость кожи, придает твёрдость ногтевым пластинам. Также пита-
ет корни волос и стимулирует их рост, применяется против перхоти. Добавля-
ется в сухом виде в конце приготовления. В зависимости от помола придаёт
мылу скрабовый эффект или уход. Ввод: до 100% в зависимости от назначения.
■ Тимол - антисептик растительного происхождения, который производится из
экстракта тимьяна. Содержится в эфирном масле тимьяна обыкновенного или
чабреца, обладает сильнейшим антисептическим, противозудным и противовос-
палительным действием: уничтожает микробы, паразитические организмы, гриб-
ки и вирус. Тимоловое мыло обладает приятным запахом и применяется как ан-
тисептическое (противогнилостное) средство. Процент ввода в мыло: 2-3% по-
рошка тимола растворяют в спирте (пропорция 1:1) или эфирных маслах (про-
порция 1:1,5). Несовместим с йодом, щелочами и окислителями, поэтому в мы-
ло вводится при ГС, после снятия с бани (корда все процессы в мыле завер-
шены) .
■ Тетраборат натрия («бура», «боракс» (от лат. borax), натрий тетраборнокис-
лый) — неорганическое соединение, натриевая соль борной кислоты с химиче-
ской формулой. Обладает антисептическими, антибактериальными, дезинфици-
рующими, противогрибковыми и дезодорирующими свойствами. Процент ввода в
мыло: до 5%. Растворимость: в воде и глицерине. В нашем случае лучше в
глицерине растворять и ввести в след при ХС или в ГС после бани, так как
глицерин уменьшает местно-раздражающее действие натрия тетрабората, а так-
же способствует ускорению действия препарата через кожные покровы и слизи-
стые оболочки. Препарат проявляет бактерицидное действие в отношении от-
дельных видов кокков и бактерий, трихомонад, а также проявляет фунгицидное
действие в отношении дрожжевых грибов рода Candida. Всасывается через по-
врежденные кожные покровы. В глицерине готовый препарат можно приобрести в
аптеке или приготовить самим более концентрированный раствор - 30% раствор
буры в глицерине - для этого 30 г буры залить 70 г глицерина и потом взять
необходимое количество по рецепту.
■ Уголь - натуральное мыло с углем обладает удивительным свойством освобож-
дать кожу от избыточного кожного жира и безжизненных, тусклых клеток. А от
регулярного использования кожа становится гладкой и матовой. Уголь способ-
ствует глубокому очищению кожи и выводу токсинов, отлично очищает кожу от
угрей и прыщей, оказывает дезодорирующий эффект, поддерживает естественный
водный баланс кожи и насыщает её необходимыми минералами, повышает тонус
кожи, омолаживает и делает её упругой. Купить уголь можно в специализиро-
ванных магазиназ, или на маркетплейсах к примеру тут .
■ Салициловая кислота - являются одними из самых популярных противовоспали-
тельных и атибактериальным средств. Регулирует выделения кожного сала. Об-
ладает мощным кератолитическим действием, то есть способностью отшелуши-
вать погибшие клетки кожи, поэтому применяется при мозолях, натоптышах,
псориазе, для пилинга и глубокой очистки кожи. Хорошо растворима в спирте
96% (добавляется в кислоту небольшими порциями (пипеткой)), растительных
маслах, а в воде растворяется очень плохо. Процент ввода в мыло: до 5%
Мыло делается только горячим способом (ГС) и салициловая кислота заклады-
вается в конце уже после бани, так как она не выдерживает высокого рН) .
Только данная кислота не требует перерасчета щелочи. При повышенной чувст-
вительности к салицилатам возможно раздражение кожи (требуется обязатель-
ная консультация с врачом). Мыло с салициловой кислотой не использовать
больше двух раз в день. Можно купить на маркетплейсах.
■ Фукорцин - красная зелёнка или жидкость Кастеллани обладает сильным дезин-
фицирующим и антисептическим свойством. К показаниям применения относятся:
гнойничковые и грибковые заболевания кожи, а также при наличии пузырьков,
поверхностных ран, эрозии, трещин, ссадин кожи. Процент ввода в мыло: до
2% как при ХС, так и при ГС. Окрашивает омыленную массу в красивый розовый
цвет из-за наличия красителя под названием фуксин. Однако после созревания
мыло становится горчично-жёлтого цвета. «Фукорцин», добавленный в мыло,
кожу не окрашивает. Добавляется при ХС в след перед выкладкой в форму или
при ГС в конце варки вместе с эфирными маслами. Продается в аптеках
■ Хлорофиллипт - масляный или спиртовой экстракт листьев эвкалипта шариково-
го. Проявляет антимикробные (особенно против стафилококков), бактерицид-
ные, противовирусные, фунгицидные, проти во протозойные и противовоспали-
тельные эффекты. Стимулирует регенерацию кожных покровов. Окрашивает мыло
в лёгкий зелёный цвет. Хорошо сочетать с дубильными веществами и селеном
(содержится в спирулине) . Добавляется при ХС в след, а при ГС в конце пе-
ред раскладкой в форму. Вводится до 25 гр на 1 кг масел.
■ Хлорофилл-каротиновая паста - получают из хвои сосны. Цвет имеет от олив-
кового до тёмно-зелёного. Содержит хлорофилл, каротиноиды, витамины, жир-
ные и смоляные кислоты, фитостеролы и воски. Применяется для жирной и про-
блемной кожи. Подавляет бактерии, ускоряет процесс регенерации, способст-
вует укреплению кожного иммунитета. Добавляется при ХС в след, а при ГС в
конце перед раскладкой в форму. Вводится до 3%.
■ Янтарная кислота - уменьшает пигментные пятна, сосудистые сеточки и укреп-
ляет капилляры. Также устраняет отёчность, повышает упругость, регенериру-
ет и очищает кожу. Применяется как антисептическое и противовоспалительное
средство. Разводится в тёплой воде и добавляется в щёлочь, образуя сукци-
нат натрия, который смягчает воду, не даёт снижаться пенообразованию, в
случае введения добавок в мыло, гасящих пену, делает мыло менее хрупким.
Можно добавлять в конце мыловарения. Консервант. В мыло вводится от 0,5 до
3%. При внесении её в мыло, желательно добавить загуститель т.к. сильно
разжижает массу. Растворяется в воде: 6,8 г/100 мл при 20 С и 121 г/100 мл
при 100 С; в этаноле: 9,9 г (5 С).
Конечно это не весь список!
Обязательно при вводе в рецептуру любой добавки, ориентируйтесь на состоя-
ние заболевшего.
• * *
Итак, лечебное мыло может иметь несколько формул в зависимости от проблемы.
Напоминаю, что любое лечебное мыло выступает как дополнительное средство
при лечении заболеваний кожи.
В моно-варианте мыло не способно решить проблему!
Кроме вышесказанного, хочу отметить, что мы все индивидуальны и, конеч-
но , любое средство надо вначале тестировать, либо постараться по представлен-
ным формулам сделать свой вариант, с учетом своих особенностей. Я лишь делюсь
своими проверенными рецептами и знаниями!
Гипергидроз
Гипергидроз — это состояние, характеризующееся избыточным выделением пота,
превышающим естественные потребности в терморегуляции.
В данном случае, конечно, советую посетить врача, наладить рацион питания
и использовать натуральные домашние дезодоранты с применением определенных
трав и добавок.
Мыло будет выступать дополнением к лечению или профилактике!
Какими бы средствами от потливости подмышек не пользовался человек, но без
мыла обойтись он вряд ли сможет. Не зря применение различных лекарств для ме-
стного применения (присыпок, антиперспирантов, кремов и т.д.) подразумевают
нанесение средства на очищенную кожу. Именно мыло чаще всего используют для
очистки кожи под руками.
При построении формулы для решения данной проблемы стоит увеличить количе-
ство очищающих, дезинфицирующих, пенообразующих масел (кокос, бабассу и паль-
моядровое), а для ухода выбрать масла способствующие восстановлению и регули-
рованию сальных желез (оливка, черный тмин, абрикос, ним, касторка, винкость,
лавр). Учитывая, что данная формула будет содержать большой процент очищающих
масел, потребуется также обеспечить питание (оливка, миндаль, рис).
В данном случае формула мыла при гипергидрозе будет иметь следующий вид:
Формула мыла при гипергидрозе
Функция б мыле
Очищение
ПенообразоЕ ание
Уходовые масла (жидкие и
твердые)
Количество, в %
от 30 до 50%
5-10%
от 40 до 60%
Соотношение твердых и жидких
Твердые масла
Жидкие масла
60-S0%
40-20%
Пережир
не выше 8%
Исключение из правил: можно рекомендовать соляное мыло на чистом кокосе, но
в данном случае пережир ставиться не ниже 12%-15%.
Самый простой, действенный рецепт:
Показатели рецепта
0 Твердость 45
О Очищение 24
. '•■=- = _ "г -с- -*св: •• = :*" :"££- = <_.•-•: за
:-_=-:-£ :-:::: = = = ::::е:= -== : = -::;:*
0 Смягчение 50
0 Пена 33
0 Йодное чисто 51
Обратите внимание, что для всех расчетов за lCC^ принимав-
ито'оеын вес осноаньх кочпэнен-ов - S00 гр.
Основные компоненты:
Пальмовое мает о 12 5.00 -;
Кокосовое масло, рафинированное 175.00 -;
Оливковое масло 150.00 -;
Касторовое масло 50.00 ~:
Щелочь NaOH 71.S4 -;
Вода 165 ■;
Пережир
Добавки:
Итоговый вес мыла
35 --5
15-20
-,-г С;*
15 - 30
до 5 3
ся
25.0О::
55.0О::
50.00::
10.00::
35 ::
6 ::
757 гр
Такое мыло будет иметь пузырчатую пенку, отличные очищающие, дезинфицирую-
щие свойства и нормализовывать работу сальных желез
Конечно, мыло можно сделать только на маслах, без добавок.
Но для усиления эффекта, советую использовать:
1. Любимые лечебные травы:
■ алое вера,
■ базилик,
■ береза,
■ зеленый чай,
■ индейский нард (НАРД),
■ календула,
■ кора дуба,
■ лаванда
■ лавр,
■ майоран
■ мята,
■ одуванчик,
■ подорожник,
■ полынь,
■ розмарин,
■ ромашка,
■ саган-дайля
■ Чистотел,
- Шалфей
■ Эвкалипт
2 . Эфирные масла:
Самыми эффективными при гипергидрозе считаются гидролаты и эфирные масла
тысячелистника, череды, чабреца (тимьяна), шалфей мускатный и лекарственный.
Эфирные масла при гипергидрозе:
■ ветиверия,
■ кипарис,
■ чайное дерево,
■ бергамот,
■ душица,
■ ель,
■ иссоп,
■ лемонграсс,
■ манука.
Эфирные масла с дезодорирующими свойствами (устраняющие запах):
■ апельсин,
■ ветиверия,
■ грейпфрут,
■ душица,
■ иланг-иланг,
■ канука,
■ кедр атласский,
■ кипарис,
■ кориандр,
■ лемонграсс,
■ мирт,
■ мускатный орех,
■ нард,
■ пальмароза,
■ пачули,
ромашка,
пихта ,
сосна ,
укроп,
шалфей мускатный,
эвкалипт.
Другие абсорбирующие добавки
салициловая кислота
алюмокалиевые квасцы
грязь лечебная
глины,
деготь
ментол
прополис
уголь активированный
сера коллоидная
соль
тетраборат натрия
и т.д.
Нашу практику начнем с приготовления мыла на отваре коры дуба с квасцами
используемое при гипергидрозе.
Этот рецепт достаточно прост, но при этом несет в себе сильный эффект бла-
годаря своему составу и добавкам.
В этом рецепте кокос будет отвечать за очищающие и пенные свойства мыла,
так как только в нем в максимальных дозировках содержится те ЖК, которые от-
вечают не только за очищение, но и несут антимикробный и антибактериальный
эффект.
Масло тмина будет оказывать профилактическое действие при лечении воспали-
тельных процессов кожи, так как часто после того как подмышки побриты при
сильном потоотделении могут возникнуть воспалительные процессы. Масло черного
тмина глубоко очищает поры, оказывает противовоспалительное и антибактериаль-
ное действие, а также освежает кожу. Также действие тмина будет усиливать
масло касторовое со своей Рицинолевой кислотой.
Учитывая большой процент кокоса, в качестве питания будет выступать оливка.
Конечно, вы можете подобрать другие масла, но для меня данное сочетание в
этом виде мыла - эталонное!
Итак, рецепт:
Обра-итг анимание. что для всех расчетов за
ито-сеьй В5-: аснааньх компонен-DB -
Основные компоненты:
Пальмо5ое масло
КокосоЕое масло, рафинированное
ОливкоЕое масло
Тмина черного масло
Касторовое масло
Щелочь NaOH
Вода
Пер ежи р
Добавки:
Глицерин
квасцы
Кедр
Тимьян
Эвкалипт
Итоговый вес мыла
500 ф.
10СЭ5 прлничаа"
150.00 .-
175.00 -■■
120.00 -■■
30.00 ".:
25.00 .-
72.2В ■•:
165 -;.
20.00 -;
10.00 -L
2.50 -;
10.00 .:
7.50 .:
■ся
30.00::
35.00::
24.00:;
6.00::
5.00::
33 Г:
6 ::
4.00::
2.00::
0.50::
2.00::
1.50:.
787 гн
Добавки в мыло:
■ Квасцы алюмокалиевые, разведенные в глицерине - 2%.
■ Выпаренная тинктура корицы 10 г, не забываем вычесть из общего количества
воды (165-10=155 воды на разведение щелочи) . Интересно, но когда в самом
начале своего пути я начала изучать свойства экстракта корицы, я была
сильно удивлена, узнав, что она не только может применяться в антицеллю-
литных программах, но и нести лечебный эффект при гипергидрозе и не толь-
ко ! За счет содержания дубильных веществ и эфирных элементов, экстракт ко-
рицы, регулирует жирность кожи, очищает поры, предотвращает развитие угре-
вой сыпи, а также смягчает и ускоряет отшелушивание омертвевших клеток.
Кроме того, экстракт корицы обладает антимикробным действием, губителен
для многих видов бактерий и грибков, ускоряет восстановление кожного эпи-
телия в местах царапин и потертостей, ускоряет заживление кожи при экземе,
нейродермите. Для мыла я решила сделать именно спиртовой экстракт корицы -
тинкутру, так как именно спирт наиболее максимально способен экстрагиро-
вать полезные вещества из сырья.
■ Вместо воды для разведения щелочи - концентрированный отвар коры дуба 155
г.
■ Смесь эфирных масел из эвкалипта, тимьяна и кедра, которые также усиливают
антибактериальное и противовоспалительное действие и способствуют нормали-
зации работе сальных и потовых желез.
Кратко, об особенностях приготовления:
1. Квасцы 10 г заранее растворяем в 20 г глицерина.
2 . За пару дней начинаем выпаривать тинктуру корицы. Подробности читайте ниже
3. Смесь эфирных масел соедините и дайте им подружиться в плотно закрытой
банке пару дней.
4. Добавки, в следующей последовательности: эфирные масла, квасцы в глицерине
и тинктура корицы вводим в омыленную массу на стадии лёгкого следа.
5. Для штампа можно использовать куркуму (штамп ставим спустя 1-2 дня после
нарезки).
Выпаривание тинктуры - один из главных секретов технологии ввода тинктуры в
омыленную массу в процессе мыловарения холодным способом!
Если вы готовите мыло холодным способом, то добавление не выпаренной или
плохо выпаренной тинктуры может привести к тому, что омыленная масса в про-
цессе моментально "встанет колом" и вы не сможете с ней работать!
Конечно, такое мыло можно будет спасти - поставить готовить его горячим
способом!
Технология выпаривания:
1. Наливаем в термостойкую емкость тинкуру. Учитывая, что при выпаривании ее
объем сократится минимум в 1,5-2 раза, берез с запасом - в нашем случае
отмеряем минимум 50 г тинктуры.
2 . Ставим тинктуру в заранее подготовленную горячую водяную баню.
3. Выпариваем 20 минут (температура самой бани 80-85 С) . Баня стоит на мед-
ленном огне.
Пока выпаривается тинктура, мы от нее не отходим! Часто бывает, что не ус-
ледив, тинктура "убегает"! Учитывая ценность сырья - контролируем процесс от
начала и до конца!
Как известно, этиловый спирт 95 (96) , не содержащий посторонних примесей,
кипит при температуре при 78,4 С, но у нас концентрация спирта уже ниже 70%
ведь мы закладывали не сухое сырье, поэтому когда температура тинктуры дос-
тигнет 70-75 С мы сможем контролировать процесс (никто не убежит) и начнем
аккуратно помешивать тинктуру с интервалом в 3-7 минут. Вы заметите, что, по-
мешивая тинктуру, она будет шипеть, так как спирт закипает (не кипит) и выпа-
ривается !
Если ваша тинктура сильно кипит и быстро испаряется (вы видите что она рез-
ко уменьшается в объеме), то убавьте температуру вашей бани! У всех плитки
разные, в том числе и по мощности, поэтому на 100% предсказать точно, как бу-
дет у вас очень сложно! Я рассказываю свои наблюдения и опыт! Именно поэтому
старайтесь контролировать весь процесс выпаривания!
4. После выпаривания, налейте вашу тинктуру в емкость с широким горлышком и
оставьте ее открытой на 1-2 дня (прикройте салфеткой/тряпочкой).
Микоз
Чтобы иметь представление о характере грибковой инфекции, используют ряд
определений:
■ Микомзы (от др.-греч. рикг^ «гриб») — заболевания вызванные паразитически-
ми грибами. Подразделяют на дерматофитоз и дермамикоз.
■ Дерматофитоз - инфекция кератинизированных тканей (ногти, волосы, роговой
слой кожи). Вызывается дерматофитами, такими как Microsporum, Trichophyton
или Epidermophyton. Отличительной чертой дерматофитов является то, что для
их выживания обязательно нужен белок кератин.
■ Дерматомикоз - грибковая инфекция волос, ногтей или кожи, вызванная недер-
матофитами - грибами, которым не обязательно использовать кератин для сво-
ей жизнедеятельности.
Учитывая, что разновидностей заболеваний микоза очень много, хочу остано-
вится на наиболее распространённых, а конкретно на грибковых заболеваниях
ног:
■ Онихомикоз — грибковое заболевание ногтевой пластины и окружающих её
структур: ногтевых валиков, матрикса (ростковая часть ногтя) и ногтевого
ложа, любой этиологии в том числе грибками-дерматофитами Trichophyton
rubrum, Trichophyton tonsurans, реже Epidermophyton floccosum и
Microsporum canis. При данном заболевании наблюдается изменение цвета ног-
тя, толщины и отделение от ногтевого ложа.
■ Эпидермофития или микоз стоп (дерматофития, Tinea pedis) — заболевание,
характеризующееся грибковым поражением кожных покровов стоп. Является до-
вольно распространенным, передается через общее использование предметов.
Мужчины подвержены недуру чаще женщин вследствие постоянного ношения за-
крытой обуви, что не дает возможности для поступления воздуха к коже нор и
создает идеальную среду для развития грибка. Изменения кожи на стопах ха-
рактеризуются шелушением, которое сопровождается зудом. При тяжёлых пора-
жениях на фоне красной и отёчной кожи появляются эрозии, глубокие трещины
на подошвах и в межпальцевых промежутках, которые сопровождаются болью и
затрудняют ходьбу.
w:
Nk'
При данных заболеваниях назначают противомикробные средства для наружной
терапии.
И конечно, прежде чем наносить различные мази и другие препараты, необхо-
димо помыть участок мылом и хорошенько просушуть одноразовыми салфетками.
В данном случае формула мыла выстраивается стандартно в зависимости от типа
кожи человека:
■ если кожа сухая, то используем более увлажняющее, питательное мыло,
■ если влажная - то более очищающее, с подсушивающим эффектом.
Для сухого типа обычно пережир ставиться от 8% и выше, в зависимости от об-
рабатываемого участка (к примеру, для ног достаточно 8%, а для сухих рук воз-
можно понадобиться повысить).
Если требуется мыло с подсушивающим эффектом, то не советую ставить пережир
выше 8%, и также зависит от обрабатываемого участка (к примеру, для рук 8%, а
для ног можно уменьшить до 6%).
Стоит обратить внимание на следующие масла:
■ Масло тмина черного - обладает лечащими, снижающими воспаления и противо-
грибковыми свойствами. Идеально при всех микозах.
■ Масло лавра - обеспечивает бактерицидные свойства мылу. В сочетании с мас-
лом черного тмина придает мылу сильные антисептические, противовоспали-
тельные и заживляющие свойства. Идеально при всех микозах.
■ Масло Ним (маргоза) - обладает антисептическими, антибактериальными, анти-
вирусными свойствами, отлично ухаживает за кожей и дает устойчивую пену.
Идеально при всех микозах.
■ Масло конопли - имеет увлажняющие свойства, успокаивает кожу, помогает при
нейродермите и шелушении.
■ Масло манго - увлажняющее, питательное, смягчающее, заживляющее, противо-
воспалительное, убирает шелушение, способствует заживлению мелких повреж-
дений кожи, успокоению раздражений, глубокому увлажнению тканей. Эпидермис
выглядит здоровым, становится мягким, эластичным.
■ Масло облепихи - обладает ранозаживляющими свойствами.
■ Масло грецкого ореха - снижает кожные раздражения и обладает превосходными
увлажняющими и смягчающими свойствами.
■ Масло абрикосовой косточки - масло богато энзимами (ферментами) и действу-
ет как легкое антибактериальное средство. Данное масло подходит для любого
типа кожи, но особенно хорошо для сухой, чувствительной кожи, склонной к
преждевременным явлениям старения.
■ Масло жожоба - это по сути жидкий воск. Масло легко проникает в кожу, так
как по составу схоже с кожным жиром, снижает воспаление и является антиок-
сидантом. Мыло с увлажняющими и успокаивающими свойствами, подходит при
микозе стоп.
■ Касторовое масло - хорошо увлажняет, богато насыщенными кислотами, позво-
ляет удерживать жидкость, из него получается смягчающее мыло с обильной
кремообразной пеной. Согласно многочисленным исследованиям, это масло так-
же обладает достойной эффективностью в отношении онихомикоза.
■ Масло авокадо - благодаря данному маслу можно получить увлажняющее, смяг-
чающее мыло для сухой кожи, с очень тонкой, кремовой пенкой.
■ Масло виноградных косточек - относится к легким маслам. Содержит высокий
процент зссенциальных жирных кислот. Быстро впитывается, не оставляя плен-
ки. Хорошо для жирной или проблемной кожи. Хорошо действует при микозах
ногтей. Из него получается нежное, пригодное для чувствительной кожи мыло,
хорошо комбинируется с такими маслами как: миндаль, оливка, кокос. Дает
невысокую, устойчивую пену. Придает мылу увлажняющее свойство.
■ Масло зародышей пшеницы - богато витамином Е и хорошо питает сухую, повре-
ждённую и зрелую кожу.
■ Кунжутное масло - улучшает регенеративную способность кожи и увеличивает
ее защиту от негативных воздействий окружающей среды. Имеет отличные ув-
лажняющие и кондиционирующие свойства.
■ Масло шиповника - уменьшает рубцы и ускоряет заживление кожи, подходит для
чувствительной кожи.
Рекомендуемые лечебные добавки:
1. Лечебные травы
■ Полынь
■ Эвкалипт
■ Кора дуба
■ Сабельник
■ Лавр
■ Лаванда
■ Индейский нард (Нард)
■ Мята
■ Береза
■ Тысячелистник
■ Чистотел
■ Подорожник
■ Пижма
и т. д
Эфирные масла создавая мыло при микозе, процент добавления эфирных масел от
3% до 5%, в зависимости от эфира.
2 . Эфирные масла
■ Чайное дерево - наиболее распространенный вариант. Успешно уничтожает
болезнетворных микроорганизмов, прекращая их рост и развитие. В быстрые
сроки снимает воспалительный процесс и способствует заживлению имеющихся
повреждений на ногтях и коже. При систематическом использовании мыла с
маслом чайного дерева устраняет симптомы заболевания на ранней стадии.
■ Герань - ценится за за антибактериальные и противогрибковые свойства.
Препарат подавляет рост микотической инфекции, устраняет воспалительные
процессы и помогает избавиться от заболевания в короткие сроки при усло-
вии, что оно находится в начальной стадии.
■ Лимон - ухаживает за ногтями, проникая глубоко в их структуру, создавая
местное антисептическое действие. Может использоваться с профилактиче-
ской целью в отношении онихомикоза. В ходе лечения ногти полностью вос-
станавливаются, становятся крепкими и более здоровыми
■ Гвоздика - эфир содержит до 90 процентов эвгенола — биологически актив-
ного компонента, который обладает фунгицидным и обезболивающим действи-
ем . Используют в небольших количествах, в составе смесей эфиров.
■ Корица - обладает высокой эффективностью в борьбе с онихомикозом (пора-
жение ногтей грибковой инфекцией). Используют в небольших количествах, в
составе смесей эфиров.
■ Лаванда - представляет смертельную опасность для большинства штаммов
грибковой инфекции, в том числе и онихомикоза. Данное средство разрушает
клеточные мембраны возбудителей заболевания, провоцируя их гибель.
■ Пихта - интенсивно уничтожает возбудителей онихомикоза и устраняет вос-
палительные явления в очагах поражения.
■ Орегано - обладает противогрибковым действием
■ Розмарин - успешно борется с большинством возбудителей микоза. Он отли-
чается антибактериальным, ранозаживляющим и регенерирующим действием.
■ Тимьян - обладает противогрибковой активностью в отношении возбудителей
онихомикоза. Используют в небольших количествах, в составе смесей эфиров
■ Душица - подобна вытяжкам орегано и тимьяна. Оказывает губительное дей-
ствие на грибок. Согласно исследованиям, препарат успешно уничтожает
возбудителей большинства микотических инфекций.
■ Лемонграсс - эффективно справляется не только с онихомикозом, но и с
другими видами грибковой инфекции, например, стригущим лишаем головы и
пр. Также эффективно разрушает клеточные мембраны микроорганизмов, про-
воцируя их последующую гибель.
3 . Другие добавки:
■ Фукорцин
■ Тимол
■ Тетраборат намрия «бура»
■ Сера коллоидная
■ Деготь
■ Алюмокалиевые квасцы
■ Уголь, соль при сильной потливости ног
При значительном гиперкератозе стоп (чрезмерное ороговение и утолщение эпи-
дермиса в области подошвенной поверхности стоп) в мыло добавляют отшелушиваю-
щие добавки, такие как:
■ салициловая кислота
■ пудра трав (эвкалипта, полыни, лавра и т.д.), которая очищает и обновля-
ет кожу, вытягивает из пор загрязнения и токсины, оставляя кожу свежей,
мягкой и дышащей
■ самая мелкая фракция (как пудра) скорлупы грецкого ореха, кедрового.
Примеры:
Для сухого типа
Показатели рецепта
0 Твердость 36
О Очищение 12
О Смягчение 60
О Пена 21
О Йодное чисто 65
Обратите анимание. что для всех расчетов за ЮС^й принича--
итсгсеый Brv асноаньх качпэнен-ов - 500 гр.
Основные компоненты:
Пальмовое мает о 100.00 -:
Манго баттер 50.00 _
Пальмоядровое масло 100.00 _:
Касторовое масло 50.00 "_\
Авокадо масло, рафинированное 50.00 ~:
Оливковое масло 150.00 _
Щелочь NaOH 66.15 ~:
Вода. 165 -:
Пережир
Добавки:
Итоговый вес мыла
- =■=-:
35 --5
■ ^ - -| г1
CT50
15 - 50
до 55
ся
20.00::
10.00"-:
20.00::
10.00::
10 00:
30.00::
33 ::
8 :-
731 г
Мыло с подсушивающим эффектом
Показатели рецепта
О Твердость
О Очишение
0 Смягчение
ф Пена
О Йодное число
Обра-ите аниманле. что для всех расчетов за
итсгсеый bsc оснаэньх компонен-эв -500гр.
Основные компоненты:
П&пьмовое мает о
Кокосовое масло, рафинированное
Виноградных косточек масло
Касторовое масло
Оливковое масло
Щелочь NaОН
Вода
Пережир
Добавки:
Итоговый вес мыла
40
20
56
29
61
10С& принимав'
юо.оо -_-
150.00 :
50.00 -:.
50.00 -;.
150.00 '
68.77 -;.
165 -:
- е--:
35 --5
_5 - 20
CT5D
15-50
до 55
ся
20.00 ::
30.00::
10.00::
10.00::
30.00:
33 :
8 ::
734 и
Очень часто мне задают вопрос, как обезопасить себя от грибка и микробов?
Советую всем соблюдать правила гигиены и использовать мыло с антимикробным,
противогрибковым эффектом.
К примеру, многие ходят в бассейн, сауны и т.д., но как мы знаем, при не
соблюдении элементарных правил можно из данных заведений принести грибок.
Как не допустить подобного? Выйдя из бассейна тщательно помыться антимик-
робным, противогрибковым мылом и насухо вытереться!
Хочу познакомить вас с особым рецептом мыла, которым мне нравится пользо-
ваться при посещении бассейна или общественной сауны, бани, хамама и т.д.
Оно отлично защищает меня от различных микробов и грибков, при этом ухажи-
вая за кожей.
Итак, что входит в его формулу.
Составляя формулу, я задумалась, что должно содержать мыло, чтобы оно имело
не только антимикробное и противогрибковое действие, а также не сушило кожу и
заботилось о ней.
Изучая состав масел, я остановилась на следующих достаточно простых, но эф-
фективных маслах:
■ Кокос - из-за его сильного антимикробного действия.
■ Касторка - т.к. обладает достойной эффективностью в отношении онихомикоза,
к тому же получаемый в процессе омыления рицинолеат натрия - оказывает
обезболивающее, бактерицидное, противовоспалительное и регенерирующее дей-
ствие .
■ Подсолнечное мыло - используется в мыле для тонкой сухой кожи. Даёт хоро-
шую лёгкую крупнопузырчатую пену. Богато витаминами и лецитином и защищает
кожу от негативных воздействий окружающей среды. Кроме того, у этого масла
легкий дезинфицирующий эффект.
■ Пальмовое масло - при добавлении данного масла получается твёрдое мыло с
хорошей кремовой пенкой и смягчающими свойствами, долго смыливается, не
размокает. Содержащийся в масле бетакаротин, кроме того, хорошо влияет на
кожу.
Мне очень нравится такой набор масел. А если у вас все таки есть проблемы с
ногами, то данное мыло также подойдет для очищения перед нанесением лекарств
при микозе. И помогает на ранней стадии излечиться!
Итак, моя формула следующая:
Обратите внимание, что для есех
расчетов за
итсгоеый Е5-: осноаньх кампонен-ов - 500 гр.
Основные компоненты:
Пальмовое маыо
Кокосовое масло, рафинированное
Подсолнечное масло
КастараЕое масло
Количество щёлочи рассчитано с
учётом
кислоты. При расчетах используется 80%
Щелочь NaOH
Вода
Пережир
Добавки:
Молочная кислота
Ментол
Глицерин
Квасцы
Чайное дерево
Мята
Майоран
Итоговый вес мыла
даба
10С$ принимает
200.00 -:
150.00 -,-
100.00 -:
50.00 -L-
вления молочной
молочная кислота.
71.49 l
165 "::
5.00 -:
5.00 ■•;
20.00 -
ю.оо -:
2.50 -;:
5.00 -:
10.00 -:
ся
40.00 Г:
ЗОЛЮ1:
20.00 :
10.00 :
33 :
8 ::
1.00.-
1.00---:
4.00:
2.00":
0.50':
1.001:
2.00-
794 гр
Показатели
О Твердость
О Очищение
Q Смягчение
ф Пена
рецепта
О Йодное чисто
46
21
50
30
59
15 --5
«5 -10
от 50
.5 - 5 0
до 55
В качестве добавок для профилактики грибковых заболеваний выступают:
Отвар сабельника - обладает антибактериальным, антисептическим, противо-
воспалительным, кровоостанавливающим и ранозаживляющим действием.
Ментол - имеет не только дает охлаждающий эффект, освежая кожу, но и улуч-
шает ее защитные свойства, снимает раздражение и убирает излишнюю жир-
ность , даря ощущение необычайной чистоты и свежести. Является антисептиче-
ским, бактерицидным и противовоспалительным препаратом для кожи тела.
Молочная кислота - образует в мыле лактат натрия, который обладает анти-
бактериальным эффектом, является мощнейшим увлажнителем, восстанавливает
поврежденный липидный слой кожи и буквально возвращает к жизни обезвожен-
ную кожу. Мыло, сделанное с добавлением лактата натрия не сушит даже чув-
ствительную кожу, склонную к аллергии. Само мыло с молочной кислотой будет
более твердым и гладким, т.е. приобретет "товарный" внешний вид.
Алюмокалиевые квасцы - обладает антисептическим и противовоспалительным
эффектом, который не позволяет патогенной микрофлоре размножаться в облас-
ти нанесения, а также способствует заживлению ран.
Смесь эфирных масел из майорана, мяты и чайного дерева - усилят действие
основных компонентов, а также защитят от внешней среды и позаботятся о на-
шей коже Использовала пудру полыни для усиления эффекта.
Полынь уникальная трава с удивительными свойствами из-за наполнения разных
частей растения органическими кислотами, эфирами, витаминами и микроэле-
ментами. Здесь есть флавоноиды и фитонциды, каротин и артемизин, обладаю-
щий противоопухолевыми и антибактериальными свойствами.
Кратко, об особенностях приготовления:
. Глицерин я заменила на глицериновый экстракт полыни. Для этого свежую по-
лынь залила глицерином и настаивала минимум 1,5 месяца (холодным спосо-
бом) . Вы можете использовать просто глицерин.
. Квасцы измельчаем в кофемолке (10 г) и растворяем в 20 г глицерина, тща-
тельно перемешивая до полного растворения.
. Делаем крепкий отвар сабельника в пропорции 1:5. Щелочь в отваре сабельни-
ка растворяем небольшими порциями, чтобы отвар не перегревался и не утра-
чивал свои свойства. Можете отвар частично заморозить. Я просто остудила
хорошо в холодильнике.
. Молочную кислоту вводила небольшими частями в готовый остывший до 40 С ще-
лочной раствор.
. Ментол вы можете растворить как вместе с маслами, так и отдельно, при этом
взяв немного масло из общего количества масел.
. Смесь эфирных масел соедините и дайте им подружиться в плотно закрытой
банке пару дней.
. Добавки все вводим в легкий след в следующей последовательности:
■ пудра полыни,
■ квасцы в глицерине
■ и в конце эфирные масла
Мыло я решила сделать на веревочке и для этого использовала шпажки деревян-
ные.
Для штампа можно использовать куркуму (штамп ставим спустя 1-2 дня после
нарезки).
Дерматоз
Дерматоз (с др.-греч. бёррос означает «кожа») — это название различных забо-
леваний кожи. Термином обозначают кожные поражения, которые характеризуются
особыми проявлениями и причинами появления. Могут быть как врождёнными, так и
приобретёнными. Есть масса различных видов дерматоза. Наиболее распространён-
ные — дерматит, экзема и псориаз.
Дерматозы могут отличаться причинами возникновения, симптомами и возможными
осложнениями. С некоторыми заболеваниями дерматологи сталкиваются чаще в сво-
ей практике и к ним относятся:
1. Экзема - воспалительное незаразное заболевание кожи, склонное к хрониче-
скому течению с рецидивами. Характеризуется появлением сыпи и волдырей,
зудом, жжением, шелушением. Основная проблема при экземе (особенно у де-
тей) - высокая вероятность бактериального инфицирования пораженных участ-
ков кожи, что приводит к развитию гнойных осложнений. Отличительный знак:
для нее свойственно образование мелких пузырьков. Они часто лопаются. Из
них изливается жидкость. Места лопнувших пузырьков сильно чешутся. На по-
верхности поврежденной кожи формируются корочки. Экзема чаще всего поража-
ет стопы и кисти.
2 . Псориаз (др. -греч. фсор С оса i (j, от др. -греч. фсорос - зуд) — хроническое неин-
фекционное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу. В настоящее
время предполагается аутоиммунная природа этого заболевания. Обычно псори-
аз проявляется образованием красных, чрезмерно сухих, приподнятых над по-
верхностью кожи пятен — так называемых папул, которые сливаются между со-
бой, образуя бляшки. Псориатические бляшки локализуются на голове, нижней
части спины, ягодицах, стопах, локтевых. При прикосновениях шелушение на
пораженных участках усиливается. Основной критерий для дифференциации с
дерматитами — зуд. При псориазе его практически нет (исключение себорейный
псориаз). Псориаз развивается медленно. При псориазе формируются пятна с
четко очерченными краями сгибах
3. Дерматит - общее название группы воспалительных кожных заболеваний, имею-
щих различную природу происхождения. Недуг способен поразить любые участки
тела, но чаще всего проявляется на коже рук, ног и лица. При контактном,
аллергическом или атопическом дерматите кожа сильно чешется, отекает и ше-
лушится . Кроме того, дерматиты развиваются быстро. В зависимости от причин
возникновения, места локализации выделяют контактный, пероральный, себо-
рейный , атопический, периоральный, аллергический, медикаментозный дерма-
тит.
Стоит тут отметить также ихтиоз - это наследственное заболевание кожи, про-
текающее по типу дерматоза. Характеризуется диффузным нарушением ороговения и
проявляется в виде чешуек на коже, которые напоминают рыбью чешую.
Проявления дерматозов (псориаз, дерматит, экзема) разнообразны и противоре-
чивы . Наиболее характерным симптомом кожной патологии является зудящая сыпь.
У пациента могут появляться мелкие красные пятна, волдыри, папулы, бородавки,
мелкие опухоли и другие патологические кожные структуры.
Также среди симптомов:
■ Покраснение и отек кожи.
■ Появление гнойников.
■ Пузырные образования.
■ Сильное шелушение кожи.
■ Избыточная сухость кожи.
■ Появление корки.
Составляя формулу лечебного мыла при дерматозе необходимо отталкиваться от
следующих факторов:
1. Симптоматика заболевания (глубина, форма и локализация поражений). Напри-
мер, кожа зудит, на ней появляются покраснения, отек, сыпь, пузырьки, мок-
нутье, коросты, бляшки, эрозии, язвы или, наоборот, в каких-то местах она
может стать очень сухой и начать шелушиться и трескаться.
2. Стадия заболевания (рецидив, застой обычно при хроническом, ремиссия)
3. Характер развившегося дерматоза: острый, подострый, хронический
Составление формулы лечебного мыла определяется не этиологией дерматоза, а
степенью остроты воспаления, локализацией поражения и его распространенностью
Также одним из основных правил применения лечебного мыла при дерматозе яв-
ляется постепенный/равномерный переход с более простой формулы на формулу с
более сильным составом (при необходимости).
Предлагаю разобрать несколько ситуаций при разных заболеваний дерматоза,
для выявления обобщённой клинической картины.
К примеру, из моих наблюдений.
При любом заболевании дерматоза в стадии ремиссии наблюдается следующая
симптоматика: не ярко выраженные высыпания, покраснения, кожа сухая (атопиче-
ский ксероз), отличается бледностью и раздражимостью. В данном случае, необ-
ходимо создать формулу для сухого и чувствительного типа кожи, подбирая масла
с увлажняющими, питательными свойствами, а также снимающие покраснение и раз-
дражение .
В моей практике было много людей с атопическим дерматитом (нейродермит) и
на стадии регрессии или застоя/длительного протекания болезни. Мои наблюдения
сводились к следующей симптоматике: выраженные или ярко выраженные высыпания,
покраснения, сильный зуд, жжение, сухая кожа, трещины, шелушение и коросты. В
данном случае, необходимо создать формулу для гиперсухого и гиперчувствитель-
ного типа кожи, ориентируясь на следующие свойства уходовых масел и добавок:
■ противовоспалительные
■ мегаувлажняющие,
■ мегапитающие,
■ снижающие зуд,
■ антисептические,
■ антибактериальные
■ эпителизирующие,
■ ранозаживляющие.
При мокнущей экземе на стадии застоявшегося протекания болезни наблюдала
следующую симптоматику (помните, что симптомы экземы индивидуальны, у каждого
человека заболевание протекает по-разному, поэтому обязательно стоит расспро-
сить больного), к примеру:
■ Вариант №1 - сильный зуд и жжение, покраснение и отёчность кожи, сыпь в
виде пузырьков. В данном случае формула мыла должна быть создана для сухой
и гиперчувствительной кожи, с добавлением масел и добавок, которые способ-
ным бороться с симптоматикой, защищая и восстанавливая эпидермальный слой.
■ Вариант №2 - когда заболевание переходит в хроническую стадию, краснота
становится застойной, появляются участки трещин и лихенификаций (утолщения
кожи с усилением кожного рисунка в результате длительного расчесывания),
кожа становится грубой и сухой, нередко процесс осложняется появлением
гнойников, вызванных присоединением инфекции. В данном случае необходимо
создать формулу мыла для гиперсухой и гиперчувствительной кожи, с отшелу-
чиванием, но при этом с максимальной степенью увлажнения, питания, а также
способной предотвращать/снижать появление гнойничков.
Экзем также много разных видов, в моей практике при мокнущей экземе на ста-
дии регрессии наблюдалась следующая симптоматика: заболевание проявляется в
виде максимально сильного зуда и жжения, пузырьков (везикул), покраснения ко-
жи, эрозий с мокнутием, корочек, экскориаций (механического повреждения кож-
ного покрова при расчесывании), могут быть папулы и пустулы. Экзематозные
очаги имеют неровные границы. В данном случае стоит выстроить формулу мыла
для гиперсухой и гиперчувствительной кожи, с введением добавок способных
уменьшить раздражение и снизить появление эрозий с мокнутием (противовоспали-
тельные, антисептические, антибактериальные и восстанавливающие добавки), при
этом воздействуя на эпидермальный слой (эпителизирующие и ранозаживляющие).
Видов псориаза также очень много, симптоматика может быть у каждого своя,
но в большинстве случаем при псориазе на стадии регрессии и застояшегося про-
текания болезни мои наблюдения сводились к следующему: кожа становится мега-
сухой и грубой, роговой слой эпидермиса значительно утолщается. Нарушение
клеточных процессов приводит к тому, что коже становится труднее удерживать
влагу, и она подвергается дегидратации. Наблюдается сильная боль, жжение,
иногда зуд (в зависимости от вида псориаза).
Клиническая картина, в моем случае, складывалась следующая.
Характерные сходства в дерматозе:
■ При любом заболевании дерматоза в стадии ремиссии формула мыла должна быть
создана для сухого и чувствительного типа кожи, подбирая масла с увлажняю-
щими, питательными свойствами, а также снимающие покраснение, раздражение
и обладать защитными свойствами.
■ При любом заболевании дерматоза в любой стадии ее протекания формула мыла
должна иметь не только защитные функции, для предотвращения воздействия
внешних раздражающих факторов на пораженные участки кожи, а также антимик-
робные свойства и способствовать улучшению регенерация клеток дермы,
уменьшать зуд и обеззараживать кожу
■ При любом заболевании дерматоза в стадии регрессии или застоя формула мыла
создается для гиперсухого и гиперчувствительного типа кожи, а также мыло
должно иметь противовоспалительные, зажавляющие и восстанавлювающие кожный
покров функции.
На что также стоит обратить внимание при создании формулы при дерматозе:
■ При любом заболевании дерматоза с выявленным мокнутьем, мыло должно подсу-
шивать мокнущие высыпания, но при этом создаваться по формула для гипер-
чувствительного типа кожи.
■ При экземе в хронической форме с уплотненным сухим слоем кожи, мыло должно
создаваться с мягким отшелушиванием эффектом для гиперсухого и гиперчувст-
вительного типа кожи, а также мыло должно иметь противовоспалительные, за-
живляющие и восстанавливающие кожный покров функции.
■ При псориазе, чтобы не усугублять воспаление необходимо подобрать макси-
мально деликатную формулу, без каких либо скрабящих добавок (в том числе
не используем даже пудру трав). Формула должна быть максимально увлажняю-
щая с защитными и заживляющими функциями.
■ При атопическом дерматите и экземе необходимо в формулу включить противо-
зудные добавки. Старайтесь не тереть и не расчесывать бляшки.
В целом, как мы видим, при любом заболевании дерматоза необходимо применять
очень нежное очищающее мыло с и интенсивными увлажняющими добавками. Участки,
пораженные дерматозом, нуждаются в деликатных средствах по уходу за кожей. Во
время обострения следует усилить формулу мыла, добавив противовоспалительные
свойства, при этом добавки подбирать в зависимости от формы и остроты воспа-
ления , локализации поражения и его распространенности на коже.
Основными функциями мыла при дерматозе должно быть восстановление кожи и
защита ее барьерных функций.
Разберем масла, травы и другие добавки в лечебном мыле при дерматозе.
В зависимости от степени и формы протекания болезни в лечебное мыло при
дерматозе добавляют следующее.
Мои основные уходовые масла при дерматозе:
■ Масло ним
■ Масло черного тмина
■ Масло лавра
■ Масло касторовое богатое рицинолеиновой кислотой
■ Мало конопли
■ Масло жожоба
■ Масло авокадо
■ Масло оливки
■ Масло ши нерафинированное (если его нет, то замените на ши раф.)
■ Масло манго
■ Масло облепихи
■ Масло шиповника и т.д.
Эфирные масла закладываются в зависимости по ситуации:
■ если мыло для лица, для детей или при гиперсухом и гиперчувствительном
дерматозе, или в стадии регрессии я стараюсь не добавлять эфиры,
■ если мыло для тела при сухом дерматозе в стадии ремиссии или в протекающем
застоявшемся состоянии, то используем с осторожностью эфиры отвечающие
формуле мыла, в том числе с функциями восстановления кожи и защиты: розма-
рин, лаванда, базилик, бергамот, лимон, иланг-иланг, можжевельник, сандал,
и т.д.
■ если мокнущий дерматоз в стадии ремиссии или в протекающем застоявшемся
состоянии, то используем с осторожностью: лаванда, герань, можжевельник,
пихта, розмарин, сандал, тимьян и т.д. Травы при дерматозе: чистотель, по-
лынь , лаванда, календула, ромашка, лавр, розмарин, саган-дайля и т.д. (см.
урок про травы в лечебном мыле).
Другие добавки:
■ При мокнущем дерматозе: деготь, салициловая кислота, фукорцин, оксид цин-
ка, маточное молочко, прополис, ротокан, витамин Е, хлорофиллипт, хлоро-
филл -каротиновая паста
■ При сухом дермтозе: алоэ-вера гель, ланолин, витамин Е, маточное молочко,
прополис, ромазулан, ротокан, хлорофилл-каротиновая паста.
Помните, каждый клиент уникален, поэтому у вас ситуация может отличаться от
моей! Главное, при составлении формулы, ориентируйтесь на состояние клиента и
его запрос!
При мокнущем дерматозе формула мыла составляется с учетом следующих особен-
ностей :
■ формула должна подходить для гиперчувствительной кожи (бережное и деликат-
ное очищение с глубоким увлажнением и питанием)
■ обязательно защитные, антимикробные и противогрибковые свойства в мыле
■ подсушивающее действие, при этом мыло не должно раздражать кожу
■ масла высоким содержанием антиоксидантов
Масло жожоба практически не омыляется в мыле и при этом содержит натураль-
ные формы витамина Е. Этот витамин действует на кожу как антиоксидант, то
есть продукт помогает клеткам бороться с окислительным стрессом, вызванным
ежедневным воздействием загрязняющих веществ и других токсинов. Получается
мыло с увлажняющими и успокаивающими свойствами, подходит для юной и чувстви-
тельной кожи.
Масло Ним (маргозы) обладает антибактериальным, антивирусным, антисептиче-
ским, противогрибковым свойством. Регенерирует и увлажняет кожу. Ликвидирует
обменные, аллергические и воспалительные заболевания кожи.
Масло манго обладает сильным увлажняющим действием, используется для разных
типов кожи. При добавлении в мыло, масло нейтрализует сушащее воздействие мы-
ла на кожу.
Касторовое масло хорошо увлажняет, богато насыщенными кислотами, позволяет
удерживать жидкость, из него получается смягчающее мыло с обильной кремооб-
разной пеной.
Оливковое масло придаёт мылу смягчающие свойства, очищение мягкое и дели-
катное, подходит для изготовления детского мыла. Богато антиоксидантами.
Кокосовое масло будет отвечать за очищение и пенообразование
В качестве добавок будем использовать:
■ Отвар лавра - обладает противомикробным, противовоспалительным и раноза-
живляющим действием, избавляет от кожных высыпаний. Отвар должен быть кон-
центрированным, к примеру 50 г измельченного лавра на 250 г воды. Сильно
не мельчите, чтобы потом проще было через капрон процеживать. При приго-
товлении отваров, сухие смеси подвергают кипячению на огне или на паровой
бане примерно на протяжении 20 минут, затем процеживают, остужают, исполь-
зуют по назначению.
■ Тетраборат натрия (бура в глицерине) обладает антисептическими, антибакте-
риальными , дезинфицирующими, противогрибковыми и дезодорирующими свойства-
ми, при этом глицерин уменьшает местно-раздражающее действие натрия тетра-
бората, а также способствует ускорению действия препарата через кожные по-
кровы и слизистые оболочки. В этот раз я использовала готовый раствор тет-
рабората натрия.
■ Фукорцин - обладает сильным дезинфицирующим и антисептическим свойством. К
показаниям применения относятся: гнойничковые и грибковые заболевания ко-
жи, а также при наличии пузырьков, поверхностных ран, эрозии, трещин, сса-
дин кожи.
В качестве эфирной смеси (2%) : чайное дерево, тимьян и лаванда, которые
будут усиливать и дополнять действие основных компонентов.
Вместо оливкового масла будем использовать инфуз шиповника на оливке. Ши-
повник не только усилит антиоксидантное действие масла оливы, но и умень-
шит существующие рубцы и ускорит заживление, подходит для чувствительной
кожи.
Рецепт:
Введите название
Жожоба масло
00 00© 12 ©0© S3
Ним масло
О 33 ©С ЭбЗ ©С ©В9
Манго баттер
О 49 ©С G4S ©С ©45
Кокосовое масло, рафинир...
О 79 ©67 ©1С ©67 ©10
Касторовое масло
Оо 00 G 9S ©9C © В6
Оливковое масло
©17 ©С OS2 ©С ©SS
Вес основных компонентов
Выберите добавки
Введите название
30% бура в глицерина
фукорцин
Выберите запах
Введите название
Чайное дерево
Тимьян
Лаванда
Ог^
25.00 г;
_а
W
60.00 гг
^
W
100.0С г;
: А
•"
90.00 Г;
■^
W
50.00 г:.
^
^W
175.0С Г;
500-Р
0'::
15.00 г:
10.00 г ;
2.50 г:
5.00 г;
7.50 г;
0::
5.00 -.:
12.00 ;,:
20.00 ::
18.00 ;с
10.00 ::
35.00 л:
^
W
0Г:
5.00 ::
2.00 :,:
0.50 ::
1.00'--_
1.50^:
да 1С К 1
до 5% 1
да 10С$ 1
1
да ЪБ% 1
да 5% 1
да ЮС* 1
+
1 i
+
до 1% 1
до 0.4% 1
до 1%
Показатели рецепта
О Твердость
О Очищение
@ Смятение
© Пена
© Йодное число
Обратите внимание, что для всех расчетов за
итоговый вес основных компонентов - 500 гр
Основные компоненты:
--:- -е-."С€ :=": =
Ним маспо
Манго баттер
Кокосовое маспо, рафинированное
Жожоба масло
Касторовое масло
Оливковое масло
Щелочь NaOH
Вода
Пережир
Добавки:
30% бура в глицерина
фукорцин
Чайное дерево
Тимьян
Лаванда
Итоговый вес мыла
(омментарий к рецепту:
Отвар лавра, Инфуз шиповника
Распечатать
Поделиться реце
пт
Скачать рецепт 1
ом QQQ
34
12
58
--. :.-. :
35-^5
15-20
ст50
21 13-30
64 до 55
100% принимается
60.00 -р.
100.00 -р.
90.00 "р
25.00 -р
50.00 -р.
175.00 -р.
63.08 -р.
165 -р.
15.00 -р.
10.00 -р
2.50 -р.
5.00 -р.
7.50 -р
12.0О::
20.00-z
18.0О:г
5.00:r
10.0O:r
35.00- =
33 :z
10 ::
3.00::
2.00':
0.50:r
1.00:,
1.50:z
768 rp.
A
Отправить на email
Особенности приготовления:
1. Подготовка масел - отмеряю, растапливаю и соединяю все масла, кроме жожо-
ба.
2. Масло жожоба соединяю с эфирной смесью и буду вводить уже в омыленную мас-
су.
3. Фукорцин соединила с бурой.
4. Доводим массу до легкого следа.
5. Добавки вводим с помощью ручного венчика или выключенного блендера. Помни-
те , что добавки ускоряют след.
Последовательность ввода добавок:
На стадии легкого следа вводим эфирные масла, перемешиваем, вводим смесь
фукорцина и буры, перемешиваем.
Работаем быстро, но при этом тщательно перемешивая до однородности.
Перекладывая в форму обязательно простукиваем.
Даем мылу пройти гель, раскрываем и оставляем твердеть до утра.
Утром режем и украшаем при желании штампом.
Все! Наше мыло отправляется зреть на 4-6 недель.
Приготовим мыло при сухом дерматозе в стадии ремиссии или в застоявшей-
ся/протекающей стадии.
Рецепт:
Введите название
Ланолин
©0 ©С в С ©0 ©27
Пальмовое масло
©50 ©1 ©49 ©1 ©53
Касторовое масло
©Э ©0 ©9Б ©9С ©86
Оливковое масло
©17 ©G ©Б2 ©С ©SS
Ши масло, нерафинированн...
©45 ©Q ©54 ©С ©59
Бабассу масло
© S5 © 70 © 10 © 70 © 15
Вес основных компонентов
Выберите добавки
Введите название
Тинктура алоэ
мумиё
Выберите запах
Введите название
Кедр
Бергамот
Лаванда
0г;;
35.00 го
~*
50.00 г;
50.00 г-
:
175.0С г j
100.0С г:
'—•-
90.00 г:.
*~
500 -р
0'::
7.50 г;
7.50 г ;
O'J:
1.00 г;
9.00 г:
5.00 г;
0::
7.00 = с
10.00 ;,.
10.00 -;
35.00 :,-
а,
•
20.00 -z
18.00 ::
0::
1.50 ■-,
1.50 =с
0::
0.20 ::
1.80 -,.
1.00 =.:
до 5%
до IOCS*
до 5%
.'■-
до 1QC36
до 10СЯ
до 35*5
.::•--.
+
+
до 0.2%
aol%
ДО 1%
Показатели рецепта
© Твердость
© Очищение
© Смягчение
© Пена
© Йодное число
Обратите внимание, что для всех расчетов за
итоговый вес основных компонентов - 500 гр.
Основные компоненты:
Ланолин
Пальмовое масло
Ши масло, нерафинированное
Бабассу масло
Касторовое масло
Оливковое масло
Щелочь NaOH
Вода
Лережир
Добавки:
Тинктура алоэ
мумиё
Кедр
Бергамот
Лаванда
Итоговый вес мыла
35
13
56
22
60
1
55 - ^-5 1
15 20 1
от 50 1
15 50 1
ДС 55 1
ЮОЗй принимается 1
35.00 -р
50.00 -р.
100.00 -р.
90.00 -р
50.00 -р
175.00 -р.
62.04 -р
165 -р
7.50 "р
7.50 -р
1.00 -р
9.00 р
5.00 -р.
7.00:r I
10-00: г 1
20.00:, 1
18.00:, 1
10-00: г 1
35-0О:, 1
33 г 1
10 == 1
l-50:z I
1.50== 1
0.20:r I
1-80:: 1
l.oo ---. 1
757 гр, 1
У меня были следующие требования к такому мылу:
1. Формулу подбираем для гиперсухой и чувствительной кожи, а значит должно
питать, смягчать и увлажнять кожу.
2. Нежное, деликатное, но при этом глубокое очищение, способствующее восста-
новлению дыхания клеток.
3. Оно должно способствовать снижению раздражения и зуда
4. Должно иметь антисептический и антибактериальный эффект.
Разрабатывая формулу я увидела это мыло в сочетании следующих компонентов:
1. Алоэ Вера (Aloe Barbadensis) - в его состав входит более 75 полезных вита-
минов, минералов и аминокислот, которые убивают микробы, увлажняют кожу,
повышают уровень коллагена, придавая ей эластичность. Алоэ Вера также спо-
собствуют восстановлению водного баланса клеток, предотвращая сухость и
шелушение кожи. Будем использовать:
■ Свежевыжатый сок: листья алоэ измельчаем в блендере и процеживаем через
капрон. Частично замораживаем.
■ Спиртовая настойка (тинктура) сока алоэ. В готовом варианте продается в
аптеке. Если есть возможность приготовить тинктуру алоэ: листья поре-
зать, уложить в стерильную сухую емкость и залить спиртом. Перед исполь-
зованием тинктуру необходимо прогреть с открытой крышкой, чтобы часть
спирта выветрилась. Аптечный спиртовой сок алоэ прогрева не требует, так
как там небольшое количество спирта и быстро выветриться.
2. Ланолин - за счет состава, близкого к составу кожного сала человека, он
способен прекрасно питать, смягчать и увлажнять кожу, удерживая влагу, аб-
сорбированную извне, а так же создает защитный слой для кожи, препятствуя
вредному воздействию внешних факторов. Прекрасный питательный компонент,
способствующий регенерации кожи.
3. Мумиё - способствует восстановлению тканей, обладает противовоспалительны-
ми , регенерирующими, антибактериальными и противогрибковыми свойствами.
Снимает раздражение и помогает в лечении глубоких проблем кожи.
4. Инфуз тополя на масле ши - обладает бактерицидным действием, ускоряет об-
менные процессы в клетках кожи, препятствует развитию воспалительных про-
цессов, предупреждает и лечит кожные и грибковые заболевания, улучшает со-
стояние кожи, питает, восстанавливает здоровый защитный слой. Интересен
состав почек - флавоновые и дубильные вещества, смолы, органические кисло-
ты, воск, салициловый гликозид, салициловый спирт, фитонциды, антибиотиче-
ские вещества, ферменты амилазу и оксидазу, летучее душистое масло, сеск-
витерпены.
Наибольший % среди масел будет у масла оливы (35%) и ши (20%).
Касторового обязательно 10%.
Для деликатного очищения используем вместо кокоса - масло бабассу 18% (либо
пальмоядро, либо бабассу/ядро 50/50).
Для сбалансированности формулы 10% пальмы.
Ланолина 7%, но при желании и умением с ним работать можете поднять до 10%.
Из эфиров предлагаю сочетать с лавандой, бергамотом и кедром - дозировку
делаем не больше 3%. Либо как вариант без эфиров!
Процент пережира - 10%, но если у вас очень жесткая вода, то советую под-
нять пережир до 13% с пересчетом на калькуляторе.
Жидкости в рецепте, учитывая добавки - 33%.
Водная фаза 33% - 165 г состоит из:
1. Частично размороженного сока алое (120 г на разведение щелочи)
2. Гидролата лаванды (30 г на разведение мумие)
3. Комнатной температуры сока алоэ (15 г на разведение тинктуры алоэ)
Подготавливаем мумие и тинктуру.
В термоемкости отмеряем 7,5 г мумиё и вливаем подогретый до 35-40 С гидро-
лат лаванды (30 г). Тщательно перемешиваем несколько минут венчиком до одно-
родности. Если смесь быстро остывает подогрейте повторно (главное не пере-
греть !)
Смесь
Тиикту^
Алоэ
Если используете как и я аптечный спиртовой сок алоэ (7,5 г), то просто
влейте его в подготовленный наш сок алоэ (15 г). Но, если у вас тинктура соб-
ственного производства, то сначала выпарите ее на водяной бане (температура
бани 75 С, температура раствора 65 С) на медленном огне в течении 10-15 мин.
(при выпаривании возьмите объем с запасом) и только потом соедините с нашим
подготовленным соком.
Технология приготовления:
1. Готовим щелочной раствор (NaOH
сок алоэ. Охлаждаем до 30-35 С.
всыпаем частями в частично замороженный
2. Растапливаем масла и охлаждаем до 30-35 С.
3. Когда смеси примерно одинаковой температуры (у меня щелочь 34, масла 33)
соединяем и доводим до легкого следа.
4. В легкий след вводим подготовленное мумиё, перемешиваем лопаткой, добав-
ляем подготовленную тинктуру алоэ, перемешиваем недолго лопаткой и влива-
ем смесь эфиров. Снова перемешиваем лопаткой, потом включаем блендер и
делаем пару вжиков. Смотрите по консистенции, при необходимости работаете
выключенным и включенным блендером. Когда смесь станет однородной (мумие
должно полностью разойтись в массе), переливаем в форму и отправляем про-
ходить гель (следите, чтобы он не был слишком!)
5. Выдерживаем в форме 24-48 часов, извлекаем, нарезаем и оставляем провет-
риваться .
Украшаем штампом спустя пару дней.
Созревает мыло 4-6 недель.
Приготовим мыло с противопсориатическим действием.
Мыло на отваре целебных трав с маточным молочком и прополисом я отнесла к
лечебной серии не просто так!
У него очень богатый состав!
Отвар ромашки, календулы и лаванды является одним из основных сильнодейст-
вующих компонентов мыла - известен своими успокаивающими и противовоспали-
тельными свойствами, а также обладает антисептическим действием.
Действие отвара, содержащегося в мыле, дополняют эфирные масла лаванды, ли-
мона и розмарина. Эти эфирные масла усиливают действие ромашки и календулы
благодаря их противовоспалительным свойствам, а также придают мылу приятный
аромат, превращающий обычное умывание лица в сеанс ароматерапии.
Ротокан и экстракт прополиса (спиртовой) в качестве противовоспалительного,
антисептического, бактерицидного и регенерирующего средства. Кроме того, про-
полис будет способствовать уменьшению кожного зуда, а также уменьшению воспа-
ления и нормализации метаболизма кожи и подлежащих тканей.
Маточное молочко - это коктейль из витаминов, минералов и микроэлементов,
идеально подходящий для оживления тусклой и уставшей кожи. Обладает увлажняю-
щими и питательными свойствами, широко используется в антивозрастной серии.
Антиоксиданты, содержащиеся в маточном молочке, помогают устранить свобод-
ные радикалы, которые обычно вызывают преждевременное старение кожи. Амино-
кислоты помогают повысить уровень коллагена и делают кожу упругой и эластич-
ной.
Маточеое молочко - сильнейший природный стимулятор. Оно
активизирует иммунитет и повышает энергетический потенциал
организма, замедляет процесс старения и входит в рацион долгожителей.
Отличается от пчелиного мол очка составом. В маточном молочке меньше
белковых веществ, нов 1=5 раза больше витаминаВ5= который
способствует усвоению других витаминов, отвечает за рост и образование
новых клеток: В составе маточного молочка - витамины А1 = В1 = В2= В3=
РР, Вб, В7= Н= В12, ферменты и гормоноподобныевещества. Также оно
содержит суточную дозу фолиевой кислоты (витамин В9), которая
поддерживает работу сердца и сосудов, отвечает за рост клеток и
формирование иммунитета. В маточном молочке есть оксидеценобая
кислота, которая подавляет рост раковых клеток.
Напоминаю: покупая маточное молочко выбирайте лиофилизированное.
Купить можно в магазинах пчеловодства или на маркетплейсах.
Чтобы постараться сохранить всю полезность добавок и уберечь их от щелочи,
мы будет готовить его горячим способом!
Рецепт:
^
Твердое мыло
Жидкое мыло Мыло из смеси Глицериновое
щелочей ^ыло
Выберите способ приготовления
Д^СЛннТ*.1*ни* *ЧСТ{#Л*н рК«*г*
Холодный способ # Горячий способ
Вода
Страхов, пережир
Доп, жидкость
Основной пережир
25 h
2 | =
10 :
7 ] =
Крем-мыло
:
:
Зародышей пшеницы масло
О 19 ©С 075 Фс О 128
Оливковое масло
017 ©С OS2 ©С ©S5
Касторовое масло
00 00 ©9S ©90 ©S6
Ши масло, рафинированное
045 ОС О 54 ©О ©59
Пальмовое масло
0 50 Ol ©49 Ol ©53
Кокосовое масло, рафинир...
0 79 О 67 О 1С ©67 ©10
Вес основных компонентов
Выберите добавки
Введите название
Экстракт прополиса спирт. 1...
Маточное молочко
Ротокан
Выберите запах
Введите название
Розмарин
Лимон
Лаванда
50.00 г:
~~*
140.0С i-
♦
50.00 г_,
""*
85.00 г:
:
*
75.00 rj
:
1О0.0С г:
Щ
500 -Р
О-
15.00 г:
5.00 г;
25.00 г:
0^
2-50 г:
7.50 г;
10.00 г:
10.00 =с
28.00 '-.:
10.00 =с
17.00 --,
15.00 =с
20.00 =с
0::
3.00 =с
1.00 --,
5.00 --,-_
0::
0.50 -,
1.50 =с
2.00 .:
до 1С К
. " " ::
до ЮСЭй
до 5%
- . \ ::
до ЮС ЭЙ
.: :::
до 10СЯ
-I I ::
ДО 15%
. _ 1 '-:
до 0,4%
до 1%
до 1%
Показатели рецепта
0 Твердость
0 Очищение
(J Смягчение
Ф Пена
О Йодное число
Обратите внимание.что для всех расчетов за
итоговый вес основных компонентов - 500 гр.
Основные компоненты:
Ши масло, рафинированное
Пальмовое мает о
Кокосовое масло, рафинированное
Зародышей пшеницы масло
Оливковое масло
Касторовое масло
Щелочь NaOH
Вода
Доп. жидкость
Страхов, пережир
Основной пережир
Итого пережир
Добавки:
Экстракт прополиса спирт 10%
Маточное молочко
Ротокан
Розмарин
Лимон
Лаванда
Итоговый вес мыла
-
38
14
59
23
65
=.- = -:
55 - ^5
15-20
от 50
15-30
до 55
100% принимается
85.00 -р.
75.00 -р.
100.00 "р
50.00 р
140.00 -р.
50.00 р
70.20 р
125 -Р.
50 -Р.
35 -Р.
15.00 -р
5.00 р
25.00 -р.
2.50 -р.
7.50 -р.
10.00 -р.
17.00 ::
15.00:z
20.00 ::
10.00 ::
2 8.00: г
10.00:г
25 ::
ю ---.
2 -z
7 ::
9 ::
3.00::
1.00 ::
5.00::
0.50: г
1.50:z
2.00 ::
845 гр.
Вначале делаем цветочный отвар.
Я хотела сделать отвар на ромашке и календуле, но не смогла пройти мимо ла-
ванды. Буквально немного цветов лаванды придали отвару совсем иной аромат,
запечатлев августовский жаркий день в моем саду. Можно использовать для отва-
ра как свежее, так и сухое сырье.
Я готовила в эмалированной кружке, если у вас больше объем, то берите ем-
кость больше.
Рецепт отвара:
■ 3/4 кружки цветов ромашки аптечной, календулы и лаванды (по желанию)
■ 230 г фильтрованной воды
Процесс:
1. Цветы без плодоножек складываем в кружку и заливаем водой.
2. Нагреваем в несколько заходов на плите. Доводим до 80-90 С, не кипятим и
остужаем до 50 С. Далее повторно нагреваем дважды.
3. Оставляем остужаться до комнатной температуры.
4 . Фильтруем через капрон.
5. Можете охладить в холодильнике или частично заморозить (я просто охлади-
ла) .
Теперь подготовим маточное молочко.
В моем случае, у больного наблюдалась аллергия на мёд, при этом на другую
продукцию пчеловодства аллергической реакции не было (он любитель тинториу-
ма) .
Учитывая состояние и пожелания клиента я вводила маточное молочко в мыло с
помощью отвара. Сразу скажу, что если у вашего больного нет аллергии на мёд,
то лучше маточное молочко растворять не в воде, а в мёде. Быстрее и луч-
ше/равномернее растворяется!
Итак, в моем случае я растворяла 5 г маточного молочка в 50 г отвара. Отвар
предварительно подогрела до 28-30 С и вводила постепенно в маточное молочко,
при этом интенсивно работая ручным венчиком. Прикрыла салфеткой и оставила
настаиваться, периодически помешивая палочкой.
Подготовила (отмерила) ротокан и спиртовую настойку прополиса. Чтобы спирт
не выветрился сделала это перед тем как снять мыльную массу с водяной бани.
Подготовила пережир 35 г: отмерила в емкости облепиховое масло (20 г) и
масло жожоба (15 г) .
К пережиру добавила смесь эфирных масел по рецепту.
Подготовленные добавки:
Процесс приготовления мыла:
Приготовила щелочной раствор в 125 г отвара и оставила остужаться до 40 С.
Подготовила (растопила и соединила твердые с жидкими) масла и когда щелоч-
ной раствор и масла были одинаковой температуры (40 С) соединила и довела
до густого следа.
Поставила на водяную баню и плотно закрыла крышкой на 1 час. За это время
масса прошла стадию геля и стала.
Далее снимаем с водяной бани и вводим спиртовые настойки (ротокан и пропо-
лис) . Тщательно все перемешиваем блендером и ставим на водяную баню (крыш-
ка плотно закрыта) еще на 30 минут.
5. Снимаем с плиты кастрюлю с мылом вместе с водяной баней. Не вынимая из го-
рячей воды, начинаем перемешивать массу с помощью миксера. Когда масса
стала более светлой (примерно 55 С, по консистенции как пюре) вводим эфир-
ные масла с пережиром. Тщательно все перемешивая миксером. Следом вводим
подготовленное маточное молочко. Снова перемешиваем все миксером и уклады-
ваем в форму (обязательно простучать).
6. Чтобы масса быстрее остыла, при этом не пострадали добавки, убираем батч в
морозилку на 1 час.
7. После морозилки даем нашему мылу отлежатся в форме еще 8-12 часов и наре-
заем.
Учитывая, что мыло было сварено не полноценным горячим способом, даем наше-
му мылу вылежаться минимум 2 недели.
Угревая сыпь
и акне
Что включает в себя моя идеальная формула?
Каким требованиям отвечает?
Для того, чтобы ответить на эти вопросы я углубилась в изучение самой про-
блемы. И задалась вопросом: А что такое акне и угревая сыпь? В чем причина?
Акне — воспалительное заболевание сальных желез и волосяных фолликулов.
Отделы кожи:
эпидермис
дерма
подкожно->
жировая
меланоциты
(пигментные
клетки)
клетчатка
н о сн ы е б с л о с я и э и X -
сосуды фолликул сальная железа
Сам эпидермис состоит из нескольких слоев,
самый верхний из которых называется роговым,
состоит из омертвевших кчеток корнеоцитов и
выполняет защитную функцию.
Дерма — это самый важный слой кожи, именно в
нем поддерживается вся «жизнь» кожи. Дерма
переплетена кровеносными сосудами и полна
нервных окончаний. Именно здесь зарождаются и
работают на красоту нашей кожи главные
кчетки — фибробласты. Кроме того, в дерме
находятся сальные и потовые железы, а также
волосяные фолликулы.
Гиподерама состоит из соединительной ткани
рыхлой консистенции и жировых клеток —
адипоцитов. Толщина подкожно-жировой
клетчатки зависит от места ее расположения
на теле и питания.
Сальные железы продуцируют кожное сало, именно оно так предательски блестит
на коже лица, особенно в области лба, на носу и подбородке, так называемой
«Т-зоне». Данный тип желез — гормонозависимый.
Любой гормональный скачок становится причиной того, что сальные железы на-
чинают активно выделять кожное сало.
Акне возникает на тех участках кожи, на которых расположено больше всего
сальных желёз. Визуально при этом можно наблюдать наличие комедонов (открытых
и закрытых), милиумов.
Кроме того, признаками акне является жирность волос, пятна, рубцы, папуло-
пустулезные элементы, узлы (часто болезненные).
В некоторых формах — сальный блеск либо наоборот — шелушение и тусклый цвет
лица.
Главная причина возникновения акне и угревой сыпи: изменение микробной фло-
ры кожи.
Какие бывают
Сальная г\ ^**ЭчЧ»
железа - / "т^
Стержень «г- ,l*
волоса w • w
Нормальный фолликул
пр„6и Т?Г^
У •
Воспаление^: у
Папула
прыщи - виды
7*
Ог>:оытуй -;омедон
&Г~"У
4 г
Пустула
акне
■""" '\^
Закрытый комедон
Й
Уз&л/киста
При исследовании выделенной микробной флоры у пациентов с заболеванием акне
обнаруживается большое количество анаэробных липофильных коринебактерии
(Propionibacterium acnes - продуцируют различные ферменты, в том числе липа-
зу, которые способны повреждать стенку фолликула изнутри), аэробных бактерий-
микрококков (Staphylococci™. epidermidis) и грамположительных палочек
(Pityrosporum ovale et orbiculare).
Итак, зная основную причину появления акне и угревой сыпи, нам необходимо
создать формулу мыла со следующими требованиями к мылу:
■ Мыло должно очищать и увлажнять
■ Убирать с поверхности чешуйки и избыток кожного сала
■ Отшелушивать омертвевшие клетки
■ Дезинфецировать и защищать кожу от пересушивания
■ Разрабатывая формулу я увидела это мыло в сочетании следующих компонен-
тов :
1. Лечебные травы
■ Саган-дайля (Рододендрон Адамса) - включает в себя эфирные масла, аскорби-
новую кислоту, дубильные вещества, салициловую кислоту, ванилиновую кисло-
ту , смолы, флавоноиды, гликозиды, фитонциды, фенолы, витамины А, Е, D.
Благодаря такому составу оказывает благоприятное воздействие на кожные по-
кровы человека. Кроме того, в листьях растения содержатся гиперозил, ави-
кулярин, азалеатин, которые действуют угнетающе на активность патогенных
бактерий и инфекций. Молодые побеги содержат урсоловую и олеаноловую ки-
слоты, тритерпеноиды и флавоновые производны.
■ Пижма обладает антибактериальным, противогрибковым и противовирусным дей-
ствием и в то же время помогает быстро снять воспаление. Экстракты и отва-
ры цветов пижмы содействует ускоренному росту здоровых клеток эпидермиса и
ускоряет заживление ран.
■ Ромашка обладает прекрасными антисептическим и противовоспалительным свой-
ствами, что позволяет рецептам на ее основе эффективно бороться с бакте-
риями на теле и снимать раздражение кожных покровов.
Вы можете использовать другие травы и растения. Подойдут еще чистотел, че-
реда, ромашка, календула, шалфей, алоэ, зверобой, крапива, одуванчик, тысяче-
листник, лопух, бадьян, томат, гранат, клюква, шалфей.
2. Лечебная иловая сульфидная грязь Сакского озера
3. Салициловая кислота
4. Эфирные масла 3-5%. При акне подходят чайное дерево, пальмароза, лаван-
да , розмарин, мята, грейпфрут, лимон, шалфей, меллиса и т.д.
5. В качестве пережира у нас масло виноградной косточки - для жирной кожи и
при акне оправдано использование масел с преобладанием линолевой кислоты
(винограда, подсолнечное и кукурузное масло и масло сафлора)
При акне лёгкой и средней степени тяжести, чтобы уменьшить количество коме-
донов, выраженность воспаления и роговое утолщение кожи (гиперкератоз), реко-
мендуется применять средства с себо-, кераторегулирующим, кератолитическим и
противовоспалительным эффектами.
Рецепт:
Кокосовое масло, рафинир...
О 79 О 67 в 1С ©67 О Ю
Касторовое масло
Оо 0 0 ©9В ©90 ©S6
Виноградных косточек масло
©12 ©С ©BS ©0 ©131
Оливковое масло
©17 ©С ©Б2 ©С ©S5
Пальмовое масло
©50 ©1 ©49 ©1 ©53
Вес основных компонентов
Выберите добавки
Введите название
Лечебная грязь
Салициловая кислота
Выберите запах
Введите название
125.0Сгз 25.00 -,с
•
50.00 г; 10.00=:
^*
75.00 г; 15.00 =с
~*
125.0Сгз 25.00 =с
: А
•
125.0Сг:. 25.00:-
^
•
500 -р
0 - 0 ::
20.00 Г; 4.00=:
10.00 г;: 2.00 ::
0-; 0::
до 35$
-'.'. '■-.
до Б%
до2СК
-::-:
до ЮС*
-I 1::
до ЮС*
+
до Ъ%
Показатели рецепта
© Твердость
© Очищение
0 Смягчение
0 Пена
О Йодное чисто
Обратите внимание, что для всех расчетов за
итоговый вес основных компонентов - 500 гр.
Основные компоненты:
Кокосовое масло, рафинированное
Пальмовое масло
Касторовое масло
Виноградных косточек мает о
Оливковое масло
Щелочь NaOH
Вода
Доп. жидкость
Страхов, пережир
Основной пережир
Итого пережир
Добавки:
Лечебная грязь
Салиииловая кислота
Итоговый вес мыла
: L-s-:
38 35-5
17 15-20
58 от 50
26 15 30
65 до 55
ЮОЯб принимается
125.00 -р. 25.0О::
125.00 -р. 25.0О: =
50.00 -р 10.00::
75.00 "р 15.00::
125.00 -р 25.0О::
72.10 -р.
125 -р 25 ::
50 -р 10 ::
2 ::
35 "р 7 --
9 ::
20.00 -р 4.00::
10.00 -р. 2.00::
812 грг
Данный рецепт будет приготовлен горячим способом, чтобы избежать реакции
салициловой кислоты и щелочи, так как салициловая кислота может выдержать рН
максимум 7-8, т.е. когда все реакции в мыле завершены.
Особенности приготовления:
1. Салициловая кислота (10 г) будет растворять в масле (35 г), а точнее в пе-
режире. Масло при этом подогреваем до 50 С.
2. Лечебная грязь (20 г) растворяется в отваре саган-дайля (50 г)
г
3. Соединяем масла и щелочной раствор при температуре 35-40 С. Доводим до от-
четливого густого следа и отправляем на водяную баню с плотно закрытой
крышкой.
4. Держим 2 часа, при этом первые 40 минут не открываем, за это время омылен-
ная масса пройдет гель. Затем перемешиваем и держим на водяной бане еще 1
час 15 мин., при этом каждые 30 минут перемешиваем.
5. Измеряем рН, он 7-8 и далее снимаем с плиты вместе с водяной баней и вво-
дим добавки применяя миксер.
6. Последовательность ввода добавок: вначале вводим отвар с лечебной грязью,
тщательно перемешиваем миксером, затем вводим пережир с салициловой гря-
зью, тщательно перемешиваем и в заключении вводим эфирные масла
7 . Перекладываем в форму и простукиваем
8. Убираем в морозилку на 40-60 минут, затем достаем и оставляем до утра в
форме . Утром нарезаем мыло .
По желанию через 5-7 дней украшаем штампом.
Наше мыло готово!
Антисептическое
универсальное мыло
Однажды, листая зарубежный журнал, я наткнулась на статью, в которой рас-
сказывалась удивительная история про то, как люди в прошлые века спасались от
различного вида микробов.
Лекари искали формулу, способную обезопасить человека от микробов и инфек-
ций.
Применение ароматов в медицинских целях было известно с давних времён, ещё
задолго до того, как люди научились получать эфирные масла путем паровой дис-
тилляции. Благодаря антимикробному и антивирусному эффекту веществ, содержа-
щихся в ароматических травах, широко применялись для борьбы с инфекциями и
эпидемиями.
К примеру, во время чумы (пик которой пришёлся на 1346—1353 годы, а повтор-
ные вспышки продолжались вплоть до XIX века) спасались лекарственными травами
или на их основе готовили мыло и в дальнейшем использовали для борьбы с эпи-
демиями .
Некоторые эликсиры вошли в историю, причем не только медицины.
В почете были следующие смеси:
■ розмарин, лаванда, иссоп (Гиппократ, Афины, 429 году до н. э.)
■ гвоздика, лимон, куркума, розмарин, корица, эвкалипт (Франция, Тулуз, с
1526 по 1531 год, был долгое время утерян и в результате поиска родился
вариант - в 1720г , в Марселе)
■ кипарис, роза, гвоздика (Нострадамус, Экс-ан-Провансе, 1546 г)
■ базилик, орегано, розмарин, мята, можжевельник, лаванда, петигрейн, берга-
мот, гвоздики и душистый перец (1720 г, Марсель, в дальнейшем был вписан в
фармацевтический кодекс в 1748 году и оставался там до 1884 года, в 1991
году французский парфюмер из Лт Окситан на основе этих составляющих вдохно-
вился на создание своих духов, которые были перевыпущены в 2016 году)
И я задумалась, а какое мыло в наших реалиях подходит для ежедневного ис-
пользования с антимикробным действием, подходящее для любого типа кожи?
Исследуя, различные источники, я составила свое антисептическое мыло.
Но, так же помните: "Лечебное мыло может быть абсолютно разное, в зависимо-
сти от назначения!"
Я хочу разобрать добавки в самом, на мой взгляд, универсальном антибактери-
альном мыле!
Во-первых, антибактериальное мыло - не всегда означает сильное очищение!
Во-вторых, антибактериальных эффект могут дать не только входящие в состав
масла, но и добавки!
В данном случае я хочу познакомить вас с добавками, которые есть практиче-
ски у каждой хозяйки на кухне, либо вы их сможете купить в любой ближайшей
лавке специй.
В определенных пропорциях специи не только выступают натуральными красите-
лями в мыле, но и наделяют его полезными и лечебными свойствами.
Итак, в антибактериальном мыле, которые мы будет готовить сегодня, я плани-
рую использовать следующие добавки:
■ Куркума - даст не только красивые персиковые оттенки в мыле, но и при оп-
ределенных дозировках выравнивает тон лица, осветляет пигментные пятна и
веснушки. Обладает мощным антиоксидантным действием, омолаживает, тонизи-
рует, повышает упругость кожи и защищает от УФ-лучей. Обладает антисепти-
ческими и антибактериальными свойствами, устраняет угревую сыпь, стягивает
поры. Снимает воспаления, зуд и раздражения. Хорошо подходит как для нор-
мальной, чувствительной так и для жирной кожи.
■ Гвоздика - придаст мылу коричневые оттенки, а также обладает мощным бакте-
рицидным действием, уничтожает грибок, противостоит вирусам, справляется
со многими дерматологическими проблемами - акне, угрями. Идеально в уходе
за жирной и склонной к жирности кожей. Помогает в лечении кожи, легко рас-
щепляет лишний жир, препятствует пересушиванию эпидермиса, борется с себо-
реей. Помогает избавиться от высыпаний и раздражение на теле. Но, помните,
что в больших дозировках может раздражать чувствительную кожу.
■ Корица - придает мылу коричневые оттенки, обладает антисептическими и про-
тивогрибковыми свойствами. Эффективна при грибковых поражениях кожи, акне,
чесотке. Улучшает кровообращение и клеточный обмен. Улучшает цвет лица,
выравнивает тон, придает коже здоровый румянец. Улучшает тургор кожи, уст-
раняет дряблость. Активна против папиллома и бородавок. Обладает антицел-
люлитным эффектом. Но, помните, что в больших дозировках может раздражать
чувствительную кожу.
Действие наших добавок будут усиливать специально подобранные определенные
эфирные масла:
■ Эвкалипт - обладает бактерицидными свойствами (бактерии, вирусы, грибки),
заживляет раны и обезболивает. Нормализует работу сальных желез, способст-
вует устранению угревой сыпи, обладает отбеливающим действием. Антисепти-
ческие и антибактериальные свойства известны с древних времен и по сей
день используются очень широко в медицине и косметологии.
■ Лимон - в равной степени хорошо подходит для сухой, жирной и нежной кожи.
Обладает антисептическим, иммуномодулирующим действием, устраняет дряб-
лость кожи, сокращает поры, осветляет пигментные пятна, убирает излишки
кожного сала.
■ Розмарин - обладает сильным антисептическим и тонизирующим действием, сти-
мулирует обновление клеток и специально используется для жирной кожи,
склонной к нарушениям местного кровообращения.
Натуральные эфирные масла обладают очень широким спектром действия на орга-
низм: биохимические процессы, физиологические, энергетические, и действуют на
клеточном, органном, тканевом и организменном уровне человека как биологиче-
ской системы.
Эфирные масла обогатят состав мыла и окажут лечебную функцию.
Выбирая эфирные масла, определитесь с тем, что вам нужно и какого эффекта
вы хотите достичь.
Конечно, у данных добавок есть противопоказания:
■ индивидуальная непереносимость
■ не рекомендуется применять для гиперчувствительной кожи, беременным и кор-
мящим женщинам
Итак, рецепт:
Обра-итг энимание. что для всех расчетов за
ито-сеьй вгс оснозньх кочпонен-эв - 500 гр.
Основные компоненты:
Пальмовое масто
Кокосовое масю. рафинированное
Касторовое масло
Оливковое масло
Щелочь NbOH
Вода
Пережир
Добавим:
Корица порошок
Куркума
Порошок гвоздики
Эвкалипт
Розмарин
Лимой
Итоговый вес мыла
Показатели рецепта
Ф Твердость
О Очищение
0 Смягчение
Ф Пена
0 Йодное чисто
ЮС^й приничаг-ся
100.00 -:
100.00 -■:
50.00 .-
250.00 -■:
66.84 -:
175 -:
5.00 •,-■
5.00 -.:
5.00 -.
5.20 -:■
2.80 -,-■
12.00 -;
54
14
63
23
64
20.00":
20.00::
10.00:-
50.00 :
35 -
8 :.
1.00-
1.00 \
1.00 :
1.04::
0.56 -
2.40":
777 г и
'--. -_■:-:
35 --5
15 ■ 2 0
с т 50
.5 - 30
до 55
Нарезка антисептического мыла. Только посмотрите какое красивое и полезное
мыло получилось:
Лечебный
бальзам
Конечно, тема лечебных мазей, бальзамов и кремов достаточно обширная и тре-
бует более глубокого изучения, но я хочу поделиться с вами несколькими дос-
тупными, простыми и очень эффективными рецептами!
Рецепт №1. Бальзам питательный,
заживляющий с ланолином
Наименование
Масло ши нераф
Воск пчелиный
Ланолин (можно растительный)
Масло жожоба
Масло лавра
Итого
Количество
65
2
3
15
15
100
Масло ши нерафинированное хоть и имеет достаточной яркий ореховый аромат
"на любителя" имеет массу положительных действий на кожу при дерматозах:
■ оно оказывает противовоспалительное действие
■ заживляет небольшие ранки и микротрещинки на коже
■ увлажняет кожу
■ помогает предотвращать появление опрелостей у младенцев, помогает при
мокнущих экземах
Если используете нерафинированное масло, то советую не подвергать его дол-
гому нагреву, т.е. не делать на нем инфузы. Если вы используете рафинирован-
ное масло, то для инфузов подойдут следующие травы:
■ Почки тополя (можно заменить на Прополис)
■ Зверобой
■ Шиповник
■ Масло лавра - применяют при лечении кожных заболеваний (псориаз, экземы,
дерматитов, акне и т.п. Помогает быстрее устранить следы от ушибов и па-
дений, рассасывает кровоподтеки. Масло хорошо впитывется, не оставляет
жирного блеска, делает кожу мягкой и шелковистой. Является антисептиком,
обеззараживает и дезинфицирует, борется с грибками на ногтях и коже, за-
щищает кожу от солнца, ветра и морозов.
Рецепт №2. Успокаивающий бальзам для рук
Наименование
Инфуз окопника на масле оливы нераф
Масло ши нераф
Воск пчелиный
Витамин £
Эфирное масло перуанского бальзама
Итого
Количество
55
33
10
1
1
100
Показания сухость и трещины кожи, раны которые продолжительное время не за-
живают , дерматиты, экзема.
Основным действующим веществом окопника является аллантоин.
Он стимулирует рост костной ткани, процессы регенерации эпителия, уменьшает
болевые ощущения, проявляет кровоостанавливающее и противовоспалительное дей-
ствие, танины окопника ускоряют процессы заживления ран и язвенных поражений.
Витамин Е в рецепте улучшает трофику клеток, защищает их от повреждения, а
также усиливает эффект аллантоина в окопнике.
Рецепт №3. Бальзам с облепихой и прополисом
Наименование
Воск пчелиный
Инфуз ромашки и пижмы на масле ши
Масляный экстракт прополиса
Масло облепихи
Бисаболол
Витамин Б
Эфирное масло чайного дерева
Эфирное масло пальмарозы
Эфирное масло лавацды
Итого
Количество
10
63
15
10
0,3
0,7
од
0,6
0,3
100
Масляный экстракт прополиса обладает общеукрепляющими, заживляющими, проти-
вовоспалительными , противовирусными и бактерицидными свойствами.
Купить можно в эко лавках или в магазинах пчеловодства, или на маркетплеи-
сах или приготовить самим инфуз на подсолнечном, рисовом или миндальном мас-
ле.
Главное в данных рецептах - не перегревать масляную смесь.
Инфузы должны быть концентрированные, соотношение травы и масел 1:5.
Технологии
катод
(обрабатываемая деталь)
ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ 3D-ПЕЧАТНЫХ МОДЕЛЕЙ
С распространением трёхмерной печати множество любителей получили уникаль-
ные возможности, которые, однако, ограничены свойствами самого материала -
пластиковой основы.
Однако не всегда требуется изготовление металлических деталей сложными спо-
собами, так как существует гораздо более простой вариант...
И этот, широко известный способ, — гальванопластика! То есть покрытие ме-
таллами, растворёнными в виде солей в электролите, при пропускании через него
электрического тока.
Способ достаточно интересный, так как при грамотной организации позволяет
осаждать металлы даже на труднодоступных частях поверхностей, а самоделыцик
получает в своё распоряжение относительно лёгкий способ создания любых объек-
тов , которые выглядят как металлические.
Особенно это актуально с появлением и широким распространением недорогих
фотополимерных ЗБ-принтеров, разрешение отпечатков которых вполне позволяет
создавать достаточно интересные статуэтки «из металла», которые незнающий че-
ловек практически не сможет отличить. Особенно если в статуэтках предусмотре-
ны пустоты для заполнения их неким утяжелителем, например охотничьей свинцо-
вой дробью, смешанной с эпоксидной смолой или иным связующим.
Процесс гальванопластики представляет собой движение ионов солей металлов,
так как при растворении их в электролите они проходят электролитическую дис-
социацию, то есть превращаются в набор ионов с положительными и отрицательны-
ми зарядами.
Для этого процесса необходимо в ванну с растворёнными в электролите солями
опустить два контакта (отрицательный и положительный) и подключить их к соот-
ветствующим выводам источника питания:
При появлении электрического тока на контактах ионы в электролите начинают
движение: с положительным зарядом двигаются к отрицательному контакту, с от-
рицательным зарядом — к положительному. Нанесение покрытий происходит при по-
даче напряжений в диапазоне от 1 до 5-6 вольт.
При этом на отрицательном контакте происходит осаждение чистого металла, а
на положительном — выделение кислотного остатка. Количество металла, осевшего
на отрицательном электроде, прямо пропорционально тому количеству тока, кото-
рый был использован для его осаждения. То есть, если сказать проще, много ам-
пер осаждают больше металла за меньшее время, а меньшее число ампер осаждают
меньше металла за большее время.
Но это если сказать в очень общих словах, так как нужно принимать в расчёт
ещё и площадь поверхности детали, на которую требуется осадить металл, так
как большая сила тока для небольшой поверхности приведёт к повреждению покры-
тия. Для этого есть хорошая таблица, которая позволяет рассчитать количество
осаждаемого металла:
Г" ' ' ■,
Выделяемый
металл
Медь . .
Никель
Железо ..
Золото , .
Серебро .
1 Водород .
Ион
Cu+t
Aut
H +
Грамм-эквивалент
(атомный вес: валентность) 1
63,57 i2= 31,79
68,69 i2= 29,34
55,84 i2= 27,92
197,20 11=197,20
107,88 : 1=107,88
[ 1,008:1= 1,008
Количество ыетил-]
ла ( в г ), выдели-1
емое 1 а.ч 1
(0,0373 1-»кв)
1,186
1,094
1,042
7,357
4,026
1 0,0376 1
Для расчёта количества металла, которое осадится за определённое время, не-
обходимо взять величину из последней колонки таблицы и умножить на силу тока
и время проведения электролиза.
Например, в приведённой в конце статьи литературе есть следующий расчёт:
1,186 х 8 х 3 = 28,464 г.
Но так как просто некое количество металла неинтересно, а интересна толщина
получаемой на конкретной поверхности и за определённое время плёнки, здесь
требуется следующий расчёт: полученное количество делится на плотность метал-
ла (8, 9 г/см3 для меди), осаждённого электролитическим способом, а также на
площадь поверхности. Например, если площадь поверхности равна 100 см2, полу-
чившаяся толщина металлической плёнки составит 0,31 мм. Это информация из ли-
тературы и этот подход можно даже улучшить в наше время, если ваш слайсер,
CAD или иной 3D-редактор может подсчитать площадь поверхности 3D-модели.
В качестве электролитической ванны лучше всего использовать пластиковые,
стеклянные или керамические ёмкости.
Модель для покрытия (катод) и второй электрод (анод) подвешивают в ваннах
на крючках из токопроводящей проволоки таким образом, чтобы эта подвеска не
оказывалась в электролите, и не происходило её разъедание.
В качестве второго электрода используется пластина из того же металла, ко-
торым необходимо покрыть 3D-модель.
В процессе гальванизации необходимо, чтобы покрываемые металлом детали были
развёрнуты к металлической пластине (аноду) наибольшей по площади стороной.
Однако это не всегда возможно, поэтому применяют различные ухищрения: исполь-
зуют более одной пластины, вешая их с двух сторон детали (а — окружающие пла-
стины, б — покрываемая деталь):
Гальваническая ваина в четырехугольной банке
Или же вообще используют круглую ёмкость с изогнутыми пластинами (с — гну-
тые анодные пластины):
Гальваническая ванна
в круглой байке
Чтобы все элементы покрываемого изделия были должным образом подключены к
электрическому току, в выемки и другие глубокие места подводятся дополнитель-
ные электроды.
Одним из самых простых и доступных металлов для создания покрытий является
медь. Поэтому необходимо приобрести медный купорос (выглядит как полиэтилено-
вые пакетики с ярко-голубыми кристаллами), которые можно купить практически в
любом отделе магазинов, работающих в тематике «Сад и огород»:
Изготовление электролита производится путём растворения медного купороса в
воде, причём для этого желательно использовать горячую или тёплую воду.
Затем получившийся раствор необходимо охладить, после чего в него тонкой
струйкой медленно вливается серная кислота для увеличения электропроводности.
При этом раствор будет сильно разогреваться, поэтому необходимо делать это
очень медленно, чтобы не произошло разбрызгивания, что может явиться причиной
тяжёлых ожогов. В качестве серной кислоты вполне можно использовать обычный
аккумуляторный электролит из автомагазина. В процессе смешивания воды и сер-
ной кислоты необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
Требуемое количество медного купороса рассчитывается из соотношения 200-250
г купороса на каждый литр воды. В качестве воды желательно использовать дис-
тиллированную воду для автомобильных электролитов (также продаётся в бутылках
в автомагазинах). При подборе количества серной кислоты в электролите следует
ориентироваться на приблизительное соотношение в 30-35 г кислоты на литр во-
ды.
Для повышения качества медной плёнки, получающейся в итоге, можно добавить
спирта из расчёта 8-10 г на литр, что приведёт к выпадению меди в более мел-
кокристаллическом виде, а также увеличению её твёрдости и упругости.
В общем случае превышение указанных показателей как по содержанию кислоты,
так и по содержанию спирта приведёт к ухудшению качества меди и увеличению её
рыхлости.
Электролиз обычно ведётся при температуре порядка 18-20 градусов, которая,
однако, может и увеличиваться при нагреве в процессе прохождения тока.
Со временем на дне электролитической ванны будет образовываться шлам, кото-
рый необходимо периодически фильтровать, иначе он будет плавать в электролите
и включаться в структуру металла, ухудшая его качество.
В процессе электролиза необходимо контролировать проходящий процесс, для
чего можно ориентироваться на классическую таблицу показателей:
Отклонения, наблюдаемые при работе
медного электролита, и меры их устранения
Ненормальность
Причина
Способ исправления
Остаток с неровной
поверхностью, покры-
той мелкими нароста*
ми и дендритами
(Шишков атость)
Непрочный сыпучий
осадок. Поверхность
недостаточно глад-
кая, но не явно кри-
сталлическая
Крупнокристалли-
ческий осадок. Отло-
жение сернокислой
меди на аноде
Тёмный или красный
[.цвет осадка на краях
и углах (горелость)
Тёмный цвет всей
поверхности осадка и
грубо-шершавая по-
верхность его
Электролит загряз-
нён механическими
примесями, находя-
щимися во взвешен-
ном состоянии (анод-
ный шлам, графит,
пыль и пр.)
1) Мало кислоты.
2) Мало медного ку
пороса, электролит
слишком разбавлен
Избыток купороса
Слишком большая
плотность тока
Недостаток кислоты
(так как кислота пре-
дупреждает образо- I
ванне на катоде за-
киси меди, которая
имеет тёмный цвет и,
внедряясь в отложе- I
ние, делает его шер-
шавым)
Отфильтровать
электролит. При-
менить более чис-
тый металл для
анодов
Добавить Серной
кислоты и медного
купороса, руковод-
ствуясь результа-
тами химического
анализа
Разбавить элек-
тролит водой до
нормы
Уменьшить плот-
ность тока
Добавить серной
кислоты согласно
анализу электро-
лита
1 Чёрные или корич-
невые полосы на от- !
ложении
Блестящие углуб-
лённые полосы на
поверхности осадка,
хрупкость меди
I
Выделение водоро-
да, приводящее к об-
1 разованню рябых и
темных отложений
Электролит загряз-
нен растворимыми
примесями (например,
, мышьяком, сурьмой)
из-за недостаточной
чистоты анодов или
серной кислоты
Загрязнение элек-
тролита органически-
ми примесями (жела-
тин, клей, смола)
Слишком большая
плотность тока (отло-
1 жение темнеет от за-
киси меди)
Проработать ван- 1
ну током большой
плотности
Проработать ван-
ну током, окислить
органические при-
меси пермангана- |
том или активиро-
ванным углем 1
Уменьшить плот-
; ность тока
Причём тут есть интересный момент, который заключается в том, что в резуль-
тате будет получено медное матовое покрытие.
Несмотря на указанные выше ограничения по содержанию компонентов, в сети
встречается интересный рецепт, практически опробованный его автором, где со-
держание компонентов, в частности, серной кислоты, намного больше обычного.
Тем не менее, способ позволяет получать медные глянцевые покрытия. Для этого
на каждый литр воды следует взять: 200 г медного купороса, 180 г серной ки-
слоты , 0,07 г тиомочевины, 0,07 г пищевой соли.
Процесс происходит при токе в 10-20 мА на кв. см.
При изучении экспериментов интересующихся людей особое внимание автор ста-
тьи обратил как раз на то, что самодельщики, как правило, упускают использо-
вание химических способов создания глянца. Вместо этого на финальном этапе
они мучаются, натирая получившуюся модель бархоткой с полировочной пастой
(что в принципе не отрицает подобного подхода и здесь).
Зачастую медь используется в электролизе в качестве подложки для нанесения
последующих, «более благородных» металлических покрытий. Это необходимо как
для предварительного выравнивания поверхности, чтобы финальное покрытие вы-
глядело более презентабельно, так и по причине невозможности прямого нанесе-
ния финального покрытия на изначальную поверхность из-за невозможности проч-
ного сцепления с ней.
В сети встречается много различных рецептов для создания металлических по-
крытий, однако половина успеха в этом деле составляет понимание последова-
тельности процессов, равно как и понимание возможности и невозможности нане-
сения определённых металлов на целевые поверхности. Поэтому следующие составы
можно изучить для себя просто в ознакомительных целях для понимания того, ка-
кие компоненты потребуются для нанесения определённого покрытия и какие у вас
есть возможность заполучить.
Однако при возникновении интереса к соответствующему покрытию требуется
изучить сопутствующий ему технологический процесс более подробно, так как это
половина успеха. В частности, насколько известно автору этой статьи, хромовый
ангидрид (использующийся в составе для хромирования) является сильным канце-
рогеном, поэтому следует изучить заинтересовавшее вас покрытие весьма при-
стально с разных сторон (с точки зрения технологии), до того как браться за
него:
Электролиты (в граммах, на 1 л. воды):
Электролит для никелирования
1 Сернокислый никель: 70
2. Сернокислый натрий: 40
3. Хлористый натрий; 5
Электролит для хромирования
1. Хромовый ангидрид: 250
2. Серная кислота (уд. вес 1, 84); 2, 5
Электролит для цинкования
1. Сернокислый цинк: 300
2. Сернокислый натрий: 70
3. Алюминиевые квасцы: 30
4. Борная кислота: 20
Электролит для серебрения
1. Хлористое серебро свежеосаждёнмое: 3-15
2. Железосинеродистый калий: 6-30
3. Сода кальцинированная: 6-30
Электролит для золочения
1. Хлорное золото: 2, 65
2. Железистосинеродистый калий: 15-30
3. Сода безводная: 20-25
Номерами в показанных выше рецептах обозначена последовательность приготов-
ления смеси, при этом смешивание каждого компонента происходит с 200-300 мл
воды, после чего добавляется ещё такое же количество воды и следующий по спи-
ску компонент и т. д., пока общее количество электролита не дойдёт до 1 л.
Подробное описание некоторых из технологий металлизации приведено в литера-
туру имеющейся в конце статьи.
Обезжиривание
поверхности
Классическая технология гальванического нанесения покрытий предполагает
предварительную качественную подготовку поверхности, которая заключается в
очистке её от загрязняющих агентов и обезжиривании. Обычно поверхность очища-
ют от грубых загрязнителей с использованием растворителей и спиртов. Впослед-
ствии деталь окунается в горячий раствор едкого натра, растворённый в воде
(80-90 градусов), из расчёта 10-15 г на литр, после чего извлечённая деталь
промывается проточной водой. Такое обезжиривание даёт хорошее последующее
смачивание деталей водой, что является маркером отсутствия жировых загрязне-
ний.
Кстати говоря, насколько известно автору (на этот момент требуется коммен-
тарий химиков, не до конца уверен), обычные бытовые средства для ванной ком-
наты, особенно для прочистки тяжёлых засоров, продающиеся в чёрного цвета
пластиковых бутылках в виде сыпучих составов, представляют собой преимущест-
венно едкую щёлочь (натр или калий). Химическая чистота наверняка оставляет
желать лучшего, но, по крайней мере, они весьма доступны и есть практически в
любом магазине.
Однако ввиду низкой термостойкости фотополимерной смолы (конечно, если не
использовать специальный, термостойкий её вариант, выдерживающий температуры
более 200 С) , подобный способ видится труднореализуемым. Поэтому наиболее
применим следующий: все операции с готовой отпечатанной деталью производятся
в перчатках (удаление поддержек), после чего деталь тщательно промывается в
изопропиловом спирте.
Так как деталь является только что отпечатанной, она не должна содержать
каких-то особенных загрязнений, которые могут вызвать последующие проблемы.
Нанесение
токопроводящего
слоя
Так как мы имеем дело с пластиковой деталью, отпечатанной на 3D-принтере,
естественно, что она не проводит электричество. Для придания поверхности де-
тали свойства электропроводности, согласно классической технологии, её нати-
рают с использованием мягких художественных кисточек мелко размолотым пла-
стинчатым графитом, в качестве которого подойдёт даже грифель от карандаша.
Но это классический способ, а в настоящее время имеются более простые спо-
собы, одним из которых является нанесение аэрозольного покрытия с использова-
нием аэрографа (металлические смеси, в частности, медные)1.
Или же из баллончика2, используя смесь Graphite 33.
Также возможно использовать и чистый порошковый графит, перемешанный с не-
которым связующим, например краской. Пример ниже3 хорошо иллюстрирует это и,
кроме того, показывает, насколько презентабельным может быть простое покрытие
медью:
Автор этой статьи питает некоторую слабость к нестандартным способам в раз-
ных технических областях, и в процессе написания этой статьи у него появилось
несколько интересных мыслей насчёт создания токопроводящих поверхностей.
Почему вообще пришла в голову эта мысль: вспомнилось детство и опыт копче-
ния с помощью свечки или спичек разнообразных поверхностей (не всегда общест-
венно одобряемый).
1 https: //www. you tube. com/watch?v=ywPilosy7o8&t=158s
2 https : //www.youtube. com/watch?v=Zviv5ROFVYA&t=275s
3 https://www.youtube.com/watch?v=Q4MKDOGXWRg
Автор начал изучать эту тему на предмет реалистичности в области «копчения
3D-моделей», так как, по идее, сажа, являющаяся углеродом, должна хорошо про-
водить электрический ток!
Как выяснилось в процессе погружения в тему, альтернативные способы созда-
ния токопроводящих поверхностей являются своего рода «Святым Граалем» в об-
ласти химии и на соответствующих химических форумах происходят довольно ак-
тивные обсуждения этого вопроса.
Если попробовать обобщить результаты этих обсуждений, то наиболее перспек-
тивными, с точки зрения химиков, видятся следующие варианты:
■ Использование ацетиленового пламени, так как по результатам тестов, сажа,
получающаяся с его помощью, является отлично токопроводящей.
■ Копчение с помощью ацетонового пламени. Результат этого способа даёт прак-
тически графитовую сажу. Тут следует оговориться, что пиролиз ацетона про-
исходил во время тестов химиков без доступа воздуха. Копчение с помощью
ацетона в присутствии воздуха никто не проводил, так что этот способ ещё
требует своего эксперимента.
■ Копчение с использованием обычной свечки в несколько подходов, после каж-
дого из подходов промывание модели в ацетоне. Так как пламя свечи является
«жирным» и требуется из получившейся сажи вымыть продукты горения парафи-
на.
■ Обсыпка модели графитом и установка её на короткое время в микроволновку,
что приведёт к нагреву графита и вплавлению его в структуру модели (теоре-
тически это должно обеспечить отличную адгезию к поверхности). Этот способ
можно даже «проапгрейдить», если порошковый графит наносить распылением из
аэрографа, на манер порошковой окраски. Понадобится ещё высоковольтный
блок для заряда аэрографа и модели. И практически полноценная порошковая
окраска графитом готова — даже запекание есть (в микроволновке).
Обобщая все способы копчения, следует сказать, что по результатам ряда тес-
тов все отмечали высочайшую степень адгезии копоти к поверхности, что объяс-
няется высокотемпературным сплавлением. Все эти способы являются достаточно
любопытными и заслуживают своего внимания, так как ведут, при успехе, к полу-
чению копеечного по цене, быстрого и качественного токопроводящего покрытия.
Возникающая в процессе копчения высокая температура не является непреодоли-
мой преградой, так как может воздействовать весьма короткое время, если чуть
ли не вплотную прижимать пламя к модели, что вызовет взаимодействие преимуще-
ственно низкотемпературной зоны пламени с моделью (обычно имеет голубой цвет
и находится в центре языка пламени, у его основания). Побочным плюсом такой
обработки явится некоторое оплавление шероховатостей поверхности и их сглажи-
вание, что устранит потребность в ручном воздействии (например, с помощью же-
лезной ваты).
• * *
Как ни странно, в рунете очень мало самоделок подобного плана, так как лю-
бители 3D-печати обычно ограничиваются всего лишь окраской распечатанной 3D-
модели, упуская из виду интересные возможности, которые даёт гальванопласти-
ка.
Применение гальванопластики рисует и перспективы, невиданные ранее: бук-
вально в мае этого года прошла новость, что разработчики из МФТИ создали по
новой технологии антенну для 5G и 6G: антенна была распечатана на 3D принте-
ре, после чего покрыта металлом с использованием гальванизации. Подобный спо-
соб производства сложных технических вещей видится достаточно любопытным и
позволяет любому самоделыцику создавать быстро и просто даже весьма сложные
конструкции, которые, к тому же будут существенно дешевле, чем полностью от-
печатанные с использованием 3D-принтеров по металлу.
Тема гальваники достаточно большая, и сложно изложить все тонкости в рамках
одной статьи, поэтому заинтересовавшимся рекомендую прочитать соответствующие
главы книг ниже. В них весьма подробно освещаются многие вопросы, подход к
которым не потерял своей актуальности, несмотря на годы изданий.
Для написания статьи были использованы материалы книг:
1. «Занимательная гальванотехника», Н.В. Одноралов, — Москва, «Просвещение»,
1965 г.
2. «300 Практических советов», В.Г. Бастанов, — Москва, «Московский рабо-
чий», 1986 г.
Технологии
>*\
V*
№
* I
СЕРЕБРЕНИЕ ПРОВОДОВ
Введение
О том, какую роль выполняют покрытия из драгоценных металлов, многие имеют
весьма смутные представления, и тем не менее, им их назначение кажется совер-
шенно очевидным: "серебро и золото обладает несравненно более высокой прово-
димостью и точностью передачи сигнала по сравнению с медью".
Вопреки этому мнению, проводимость металлов вовсе не пропорциональна их це-
не на Лондонской бирже. Наинизшим среди всех металлов удельным сопротивлением
обладает серебро, а на втором месте находится медь - ее проводимость всего на
6% хуже, чем у серебра. Золото же - на третьем месте и на 30% хуже меди. Я уж
не говорю о платине, иридии, палладии и прочих не менее благородных металлах
- по проводимости они больше похожи на железо или олово.
Итак, если мы сделаем проводники из серебра, мы получим на 6% лучшую прово-
димость при том же сечении. Разница эта столь ничтожна, что никакого смысла в
замене меди серебром нет, учитывая почти стократную разницу в цене. Впрочем,
из-за последней никто, кроме наиболее фанатичных аудиофилов, последовательно
применяющих принцип "качество звучания пропорционально цене", провода целиком
из серебра не делает (впрочем, в истории были разные случаи).
Явление вытеснения переменного тока из глубины проводника в его поверхност-
ные слои - скин-эффект - позволяет на высоких частотах заменять хороший про-
водник его тонким слоем поверх проводника плохого, или вовсе не проводника.
Толщина скин-слоя для немагнитных металлов обратно пропорциональна квадратно-
му корню из частоты и удельного сопротивления, и для серебра составляет 65
мкм на частоте 1 МГц. К слову, толщина электролитического серебрения обычно
не превышает 50 мкм, чего достаточно для ВЧ сигналов KB диапазона и выше (с
частотами выше 3 МГц) . Тем не менее, выигрыш в проводимости окажется не выше
упомянутых шести процентов, что легко компенсируется увеличением диаметра
провода на те же 6%. Правда, при необходимости заменить медь латунью или
бронзой, серебрение в плане снижения омических потерь имеет больше практиче-
ского смысла, так как их проводимость на порядок хуже проводимости меди. Вме-
сте с тем, зачастую покрытию серебром предпочитают золочение, о котором и во-
все нельзя сказать, что оно повышает проводимость. Во-первых, удельное сопро-
тивление золота выше, чем у меди, во-вторых, толщина позолоты из-за дорого-
визны обычно не превышает нескольких микрон, что "вмещает" скин-слой лишь на
частотах под гигагерц. Все это говорит о том, что истинная роль серебрения и
золочения - не просто в повышении поверхностной проводимости.
Медь не относится к числу особенно активных металлов. Тем не менее, на воз-
духе она покрывается тонким слоем сложного состава и микроструктуры, сложен-
ным из оксидов меди (в основном, ее закиси, Cu20 с небольшими примесями окси-
да двухвалентной меди СиО и малоизвестного полуторного оксида Cu203) , основ-
ного карбоната меди, ее сульфида, а также самой меди, содержащей растворенный
кислород. При комнатной температуре пленка быстро достигает толщины 1,5 нм и
далее продолжает медленное утолщение, нарастая до нескольких сот нанометров
за несколько лет, причем во влажном воздухе этот процесс идет значительно бы-
стрее из-за того, что при этом увеличивается содержание в пленке основного
карбоната меди, склонного к формированию рыхлого, не защищающего поверхность
металла, осадка. В сырой обстановке этот процесс доходит до стадии, когда
медь покрывается легко осыпающейся, пачкающей руки зеленью. При умеренной
влажности поверхность меди по мере окисления постепенно темнеет и теряет
блеск.
При окислении поверхности поликристаллической меди на протекание данных
процессов существенно влияют границы кристаллических зерен. Оксидный слой
глубоко "врастает" в металл по этим границам из-за высокой подвижности кисло-
рода в дефектных областях кристаллической решетки металла в их окрестностях.
Глубина проникновения окисления по границам зерен достигает нескольких микро-
метров и зависит от характера микроструктуры меди, что формирует на ее по-
верхности слой пониженной проводимости. Замечу, эта пониженная проводимость
возникает не вследствие протекания тока через оксиды, которые почти не прово-
дят ток. Их проводимость на несколько порядков ниже проводимости меди, вслед-
ствие чего через них протекает ничтожная часть общего тока. Снижение проводи-
мости возникает из-за уменьшения эффективного сечения скин-слоя, в который
вдаются непроводящие межкристаллитные слои, и увеличения пути тока вдоль из-
вилистой, негладкой поверхности проводника. Влияние этого эффекта тем силь-
нее, чем выше частота, то есть тоньше скин-слой.
В отличие от меди, серебро и золото на воздухе не окисляются ни при каких
температурах. Их оксиды существуют лишь при низких температурах (у серебра --
ниже 280 С, у золота - ниже 160 С) , разлагаясь на металл и кислород при на-
гревании, что делает практически невозможным их получение путем прямого окис-
ления металла на воздухе или в кислороде. Золото и серебро с измеримой скоро-
стью окисляются непосредственно только озоном. Таким образом их поверхности
всегда чисты от оксида. Для серебра характерно образование черной пленки
сульфида на воздухе, загрязненном сернистыми соединениями или в контакте с
серосодержащими материалами (резина, белки). Однако, в отличие от проникающе-
го вглубь меди оксида, сульфидная пленка на серебре имеет очень малую толщину
и не проникает по границам зерен, так что меньше сказывается на поверхностной
проводимости. Чтобы избежать ее появления, избегают соседства серебра с рези-
ной и помещают внутрь корпусов оборудования (особенно закрытых более-менее
плотно) газопоглотители.
Таким образом, покрытие меди серебром или золотом обеспечивает защиту про-
водника от поверхностного окисления, исключая постепенное ухудшение проводи-
мости на радиочастотах. Кстати, из-за малой толщины золотых покрытий меньшая
проводимость золота становится существенной только на очень высоких частотах,
когда в слое золота помещается существенная часть скин-слоя. Здесь, однако,
надо отметить: распространенная в производстве печатных плат технология "им-
мерсионного золочения" представляет собой фактически никелирование с осажде-
нием поверх никеля тончайшего (всего 50 нм) слоя золота, единственной задачей
которого является обеспечение паяемости. Такое покрытие отнюдь не улучшает, а
лишь ухудшает проводимость на высоких частотах.
Если вы были радиолюбителем еще в советские годы, вы, я думаю, помните -
перед пайкой выводы деталей чаще всего нужно было зачистить и облудить, осо-
бенно если они были старыми, долго хранились и потому окислились. И среди
всех этих деталей выделялись транзисторы и микросхемы "в золоте": с ними этих
упражнений со скальпелем не требовалось никогда. То же касалось и посеребрен-
ных выводов некоторых резисторов и конденсаторов, великолепно паявшихся, даже
если они немного потемнели. В самом деле, зачем еще покрывать выводы резисто-
ра серебром? Снизить ВЧ-потери и повысить проводимость выводов? У резистора?
Видимо, только ради паяемости, с которой без благородных металлов у советской
радиопромышленности были вечные проблемы, ставшие особенно неприятными, когда
стали внедрять автоматические производственные линии, в которые зачистка и
облуживание выводов никак не вписывалось. Конечно, помимо паяемости, есть еще
устойчивость к коррозии и ряду других, как говорят военные, спецфакторов. Ну
и немаловажным фактором, видимо, является и внешняя привлекательность корпуса
для всякого рода военпредов и прочей подобной публики. Чем-то иным сложно
объяснить покрытие золотом всего корпуса некоторых транзисторов.
Впрочем, золото применялось и по чисто технологическим соображениям. Крем-
ний легко припаивается к золоту за счет образования эвтектического сплава зо-
лото-кремний. Из-за этого золото прочно обосновалось в металлических и кера-
мических корпусах полупроводниковых приборов, как материал, которым покрыва-
лась площадка для монтажа кристалла. При этом часто золота не жалели: вместо
осаждения золотой пленки только на самой площадке размером, может быть, лишь
немного больше него, золотом покрывали всю нижнюю часть корпуса транзистора,
а одновременно с дном керамического корпуса золотом покрывали всю открытую
разводку, выполненную на нем вжиганием молибдена. А заодно и припаянные к ней
выводы. Были и технологические курьезы вроде диодов с одной золотой ногой -
кристалл паяли к детали, сделанной с выводом одним целым, а гальванически
осаждать золото только на часть научились не сразу. Потом монтажники были вы-
нуждены тщательно собирать остатки всех этих золотых ног, обрезанные перед
пайкой, и сдавать их куда следует.
А еще есть такая вещь, как термокомпрессионная сварка. Сейчас она реже ис-
пользуется для разварки соединений между контактными площадками кристалла и
выводной рамкой корпуса, а раньше это был практически безальтернативный спо-
соб. Суть его состоит в том, что золото легко приваривается к золоту при не-
большом нагреве (около 300 С) и сильном сжатии. Связано это с отсутствием на
золоте каких-либо поверхностных пленок, препятствующих непосредственному со-
прикосновению кристаллических решеток. Технологически способ очень прост: к
контактной площадке кристалла или корпуса, покрытой предварительно золотом,
сильно прижимают специальной иглой-капилляром, разогретой до нужной темпера-
туры, золотую проволочку толщиной 10-50 мкм. Золото с золотом тут же накрепко
срастаются, образуя надежное соединение.
Была и остается еще одна причина для широкого применения золота. Это пайка
крышки, закрывающей кристалл. К керамике нельзя приварить крышку компрессион-
ной сваркой, как к металлу. Поэтому ее припаивают. Покрытые золотом обрамле-
ние вокруг кристалла и поверхность крышки спаиваются друг с другом без приме-
нения каких-либо флюсов, тогда как при использовании других металлов флюс был
бы необходим, и возник бы риск попадания его под крышку, где он и остался бы,
став причиной выхода из строя кристалла.
Здесь хорошо видно использование золота как подложки для пайки
кристалла на эвтектику, для разварки выводов и для пайки крышки.
Помимо покрытий на проводниках, серебро и золото (а то и экзотику вроде
палладия, рутения или платино-иридиевого сплава) мы часто встречаем на по-
верхностях контактов. В каких-нибудь сильноточных переключателях и реле можно
встретить даже не тоненькую пленку металла, а вполне весомые напаянные или
приклепанные к контакту пластинки драгоценного металла. В детстве у меня была
пластинка весом в несколько грамм из сплава платины и иридия - контакт из ка-
кого-то сильноточного контактора. Это сокровище я, в конце концов, потерял
при переездах.
Золото в контактах хорошо опять-таки гарантированным отсутствием каких-либо
окислов на поверхности. И когда золото касается золота, контакт получается
надежным, с очень малым переходным сопротивлением и совершенно линейным, то-
гда как контакт, образованный другими металлами, может представлять структуру
металл-диэлектрик-металл или металл-полупроводник-металл, вольтамперная ха-
рактеристика которой на масштабах долей милливольта может оказаться сущест-
венно нелинейной.
Однако чтобы использовать положительные свойства золота, оно должно быть
чистым. А чистое золото - такой себе конструкционный материал. Оно мягкое, и
контакт из него вряд ли выдержит много замыканий-размыканий. К тому же из-за
отсутствия каких-либо разделительных слоев между соприкасающимися поверхно-
стями такие контакты очень склонны к слипанию. Я выше писал про термокомпрес-
сионную сварку. Аналогичный эффект наблюдается и с золотыми контактами, стоит
им в замкнутом состоянии чуть подогреться протекающим током. Поэтому золотые
контакты в реле применяют в основном для коммутации слабых сигналов, когда
важно малое и стабильное сопротивление замкнутого контакта, отсутствие каких-
либо нелинейных эффектов и искажений. В условиях вакуума или инертной атмо-
сферы схожими свойствами, но без липкости, присущей золоту, обладают рутений
и родий, которые к тому же являются довольно твердыми металлами. Их часто
применяют на контактах слаботочных герконов в виде тонких пленок с подслоем
из вольфрама. А на воздухе золото часто заменяют палладием. В свое время, ко-
гда палладий был сравнительно дешевым, его ставили в реле прямо в виде мас-
сивных контактных заклепочек, как серебро. Иридий же, являясь чрезвычайно
твердым и тугоплавким металлом, сам по себе или в сплаве с платиной применя-
ется для контактов, работающих как на воздухе, так и в вакууме, когда нужна
высокая износостойкость, дугостойкость и надежность.
IRIDIUM (LONGER LIFE)
! NiFe base metal
HERMETIC SEAL (Glass to Metal)
^T
GLASS CAPSULE
2 X REED BLADES
Платина - металл-эталон. Ее можно довести до очень высокой степени очистки,
и тогда ее свойства становятся равны теоретически рассчитанным. Например, са-
мые точные датчики температуры - это платиновые термометры сопротивления. В
таком датчике применяется тончайшая проволока из платины в стеклянной изоля-
ции, намотанная на крохотный каркас, или тонкая платиновая пленка, напыленная
в виде змейки для увеличения длины на кварцевой или керамической подложке. В
океанологических зондах такие термометры позволяют измерять температуру не
только чрезвычайно точно - до тысячной градуса, но и очень быстро, за десятые
и даже сотые доли секунды. Диапазон измерения платиновыми термометрами сопро-
тивления - от гелиевых температур до 1000 и более С. Стандартными и образцо-
выми являются и платиново-платинородиевые термопары, и платиновые электроды
электрохимических ячеек, и платиновые, покрытые платиновой чернью, излучающие
поверхности эталонных источников света.
Особая роль в электронике у палладия. Его тончайшая пленка, получаемая раз-
ложением палладиевой соли, служит проводящей "затравкой" для гальванического
наращивания меди одновременно на обе стороны стеклотекстолита и внутрь пере-
ходных отверстий. Но палладий не только дорог, его соединения страшно вредны
для здоровья, вызывая рак в самых микроскопических количествах. Поэтому от
его использования в изготовлении печатных плат стараются уйти. А самое (пе-
чально) известное применение палладия - это переходный слой между серебром и
сегнетоэлектрической керамикой в многослойных конденсаторах. Без него серебро
диффундирует в керамику под действием поля, прорастая сквозь нее нитевидными
кристаллами и вызывая со временем пробой конденсатора. Значительное содержа-
ние палладия в некоторых советских конденсаторах КМ-5 и КМ-6 привело к унич-
тожению множества аппаратуры, из которой эти конденсаторы (а заодно и все
подряд, внешне на них похожие) варварски выкусывали для сдачи на металл.
И в конце - немного истории.
Я писал выше, что случаи бывали в истории разные. И на одном таком случае я
хочу остановиться. Все мы знаем, что во время войны американцы вовсю работали
над своим атомным проектом. Одной из главных задач было получение больших ко-
личеств изотопно-чистого урана-235, и изобретатель циклотрона Эрнест Лоуренс
предложил использовать принцип масс-спектрометра для разделения изотопов. Для
этого нужны были крупные мощные электромагниты, а на них требовалось много
меди. Ее на реализацию проекта требовалось более 10 тысяч тонн, что в услови-
ях войны было просто немыслимо - меди отчаянно не хватало на военные нужды,
ее запасы таяли, а поставки ее из Чили были прерваны. И полковник Маршалл,
обратился... в американское Казначейство, так как было предложено заменить
медь серебром. В Казначействе были крайне удивлены, когда узнали, что от них
хотят получить не меньше 10000 тонн серебра: "Но полковник, в Казначействе мы
не говорим о тоннах серебра, мы говорим о тройских унциях!". Тем не менее, 14
тысяч тонн серебра было выделено с условием полного возврата его в хранилища
Казначейства по окончании войны.
Это было более 4 тысяч слитков серебра, каждый массой в 1000 тройских ун-
ций, которые в условиях строжайшей секретности, учета и тщательной охраны
превращались в проволоку, ленту, шинопроводы и прочие электрические детали и
материалы, которые затем перевозились на другие заводы, где создавались элек-
тромагниты - каждый из которых содержал 14 тонн серебра, их было немногим
меньше тысячи. При этом вооруженные охранники стояли рядом с рабочими, кото-
рые сверлили, точили и резали детали из серебра, зорко следя за тем, чтобы
каждая стружка была собрана и отправлена в переработку. Только сами электро-
магниты уже перевозили без охраны - ничего не выдавало, что под сварным
стальным корпусом находятся даже не унции, а тонны драгоценного металла. В
конце же, через пять лет, все серебро было извлечено, доведено до прежней
чистоты, вновь отлито в слитки и. . . говорят, что его оказалось больше, чем
было взято в хранилищах. Это было серебро, которое оставалось в плавильных
печах с предыдущих плавок, откуда его никогда не извлекали раньше, но в этот
раз из них был вынут и вычищен каждый грамм.
Технология
серебрения
Всякого рода народных рецептов серебрения уйма. Радиолюбители их часто при-
меняют по причине того, что свято верят в полезность серебрения для добротно-
сти контуров, стабильности их частоты и т.д. Ну и "раз в военной технике так
делали, значит и нам так надо". О полезности этого в реальности смотрите вы-
ше .
Пожалуй, лучшим из этих рецептов был такой:
Возьмите отработанный фиксаж1 и погрузите в него лист засвеченной фотобума-
ги. Подержав фотобумагу несколько минут, чтобы эмульсионный слой размок, дос-
таньте его из раствора и натирайте им поверхность зачищенного до блеска мед-
ного предмета (например, проволоки) до тех пор, пока вся она не покроется
равномерным блестящим слоем серебра.
Я этот рецепт опробовал. Он работает, хотя и дает очень тонкое серебряное
покрытие. Беда же в том, что вряд ли он способен понизить поверхностное со-
противление и не способен предотвратить окисление меди. Причиной этому явля-
ется малая толщина и высокая пористость таких покрытий и сильное их загрязне-
ние серой. Это с одной стороны резко снижает проводимость такого серебра, с
другой - повышает его химическую активность. Такое серебрение даже паяется
неважно, и таким образом, пригодно лишь для серебрения блесен.
Все же этот рецепт - действительно лучший. Он единственный, который дает
плотное сцепление серебряного осадка с медью. Но для электроники - бесполез-
ный.
Остальные же, основанные на использовании того же тиосульфатного комплекса
(он же - отработанный фиксаж) дают слой, плохо сцепленный с медью и стираю-
щийся даже пальцами.
Некоторые источники предлагают не использовать отработанный фиксаж и засве-
ченную фотобумагу, а взять нитрат серебра, добавить туда хлорид натрия, отде-
лить осадок хлорида серебра и добавить туда тиосульфат натрия в недостатке
(чтобы не произошло полного растворения хлорида серебра), и смешав полученную
1 Отработанный фиксаж ныне встречается также редко как мамонты на улицах.
суспензию с порошком мела, натирать им медный предмет. Суть примерно та же
самая, результат тот же.
На самом деле, в данный рецепт нужно внести всего одно изменение - и он
превратится в полезный. Нужно убрать из него тиосульфат. Взамен в качестве
комплексообразователя вводится винная кислота или ее соль, какой-нибудь хло-
рид и аммиак, либо хлорид аммония. Рецепт не моего изобретения, но он почему-
то малоизвестен. Итак:
Взять 6 г хлорида серебра и добавить к нему 8 г хлорида натрия и 8 г тар-
трата натрия. Эту смесь перетереть в ступке до однородности. В таком виде ее
можно хранить в темноте. Перед использованием к смеси добавляют несколько ка-
пель водного аммиака и растирают до состояния пасты. Этой пастой натирают за-
чищенную до блеска поверхность меди, что приводит к образованию тонкого, но
плотного слоя серебра. Этот слой способен защищать медь от окисления и долго
сохраняется в среде, не содержащей сероводорода. Покрытие это обладает также
хорошей проводимостью и великолепно паяется, так как не загрязнено серой. Бо-
лее толстое покрытие может быть получено, если предварительно нагреть изделие
и пасту до температуры 60-80 С.
Электрохимическое осаждение серебра позволяет получить плотные, хорошо
электропроводные осадки практически произвольной толщины. Однако в домашних
условиях реализовать эту технологию затруднительно. Причиной является то, что
качественное серебрение удается провести лишь в электролитах, содержащих циа-
нид-ион, что предопределяет чрезвычайную опасность работы.
Типичный состав электролита для серебрения такой:
■ 10 г хлорида серебра,
■ 40 г цианида калия
■ 40 г бикарбоната натрия
■ 15 г хлорида натрия
■ 70 мл водного аммиака
■ Вода до 1 л.
Уже страшно? Лично мне да. Я за такую работу не возьмусь даже у себя в ла-
боратории под тягой и т.д., пока не получу письменное распоряжение от завлаба
и не приму все меры безопасности, которые положены при работе с цианидами.
Есть рецепты, в которых цианид замаскирован. Он не вводится в виде циани-
стого калия или натрия, а образуется при разложении желтой кровяной соли:
■ 40 г хлорида серебра,
■ 20 г гексациано(II)феррата калия (желтой кровяной соли),
■ 30 г карбоната натрия (кальцинированной соды),
■ Вода до 1 л.
Преимущество одно: при приготовлении мы не контактируем с "живым" цианидом.
Но в растворе он все равно есть и раствор опасен для жизни. Кроме того, желе-
зо осаждается вместе с серебром, ухудшая его проводимость.
Я даже не указываю плотности тока для этих электролитов. Я их не пробовал и
вам не советую. А советую попробовать электролит, опробованный мной и не со-
держащий цианидов ни в чистом виде, ни в виде комплексных солей. Состав его
такой:
■ 6 г йодида серебра,
■ 40 г йодида натрия или эквивалентное по молям к-во йодида калия,
■ 1-5 г поливинилового спирта,
■ Вода до 100 мл
Сначала растворяют йодид натрия в воде. В полученном растворе растворяют
йодид серебра, при этом образуется комплексная соль Na2AgI3. В конце вносят
поливиниловый спирт. Плотность тока 0,3-1 А/ дм2 при комнатной температуре.
Анод - серебро. В процессе электролиза цвет раствора становится желтым из-за
выделяющегося йода. Это нежелательное явление, так как йод реагирует с сереб-
ром, загрязняя его слой. Для предотвращения этого нужно по мере пожелтения
раствора вводить в него понемногу раствор тиосульфата натрия до исчезновения
окраски. Избыток вводить не следует, так как сера в серебре тоже не нужна.
Благодаря поливиниловому спирту, осадок получается блестящий. Исключать его
не следует, так как без него покрытие получается не просто матовое, а рыхлое.
Получить матовое, но плотное покрытие можно добавлением полиэтиленполиамина
(отвердитель для эпоксидной смолы), имея в виду его ядовитость.
Есть еще пирофосфатный электролит, мною он был также опробован, но он мало-
устойчив, требует предварительного серебрения и практически не имеет рассеи-
вающей способности - то есть покрывает серебром катод только со стороны ано-
да.
Можно использовать способ вжигания серебра. Этим способом можно получить
покрытие из серебра на термостойком стекле или керамике - например, чтобы из-
готовить термостабильную катушку. Делается вжигание путем нанесения серебро-
содержащей пасты (это можно делать кистью, через трафарет или иным способом,
чтобы получить нужную конфигурацию проводников) на подложку. Пасту можно сде-
лать самостоятельно по следующему рецепту:
■ Карбонат серебра - 4 вес. ч
■ Канифоль - 1 в.ч.
■ Спирт - до нужной консистенции.
Карбонат серебра получается следующим образом: в затемненном помещении
(полной темноты не нужно, не должно быть яркого света) к раствору нитрата се-
ребра, взятого в том же количестве, что нужно получить карбонат серебра, и
растворенного в 30-50 мл дистиллированной воды в большом стакане, приливается
насыщенный раствор бикарбоната натрия. При этом выделяется углекислый газ и
образуется много пены, и выпадает желтый осадок, темнеющий на свету. После
прекращения выделения газа добавление раствора нужно прекратить и поставить
стакан в темное место отстаиваться на 2-3 часа, затем в максимальной степени
слить жидкость (осторожно, не взмучивая осадок). После этого осадок следует
промыть три раза дистиллированной водой, заливая его ею и давая отстояться, а
затем сливая. Далее осадок нужно высушить до сухого состояния в темном месте
при комнатной температуре.
Далее порошок карбоната серебра нужно смешать с порошком канифоли и доба-
вить спирт. Паста готова. Использовать ее нужно сразу.
Пасту нужно наносить тонким, но плотным, не просвечивающим слоем, для этого
она должна быть достаточно жидкой. В процессе нанесения ее нужно перемеши-
вать, так как она быстро оседает. Лучше, чтобы поверхность, на которое нано-
сится паста, была матовой, шлифованной. Затем изделие с нанесенной пастой по-
мещают в муфельную печь и медленно нагревают от комнатной температуры до 200
С - со скоростью не больше 20 С/час. Дальше можно греть быстрее, и в итоге
нужно достигнуть температуры около 800 С (если подложка не позволяет, можно
остановиться на 600 С, но качество покрытия и его проводимость будет хуже).
Затем при этой температуре нужно выдержать изделие в течение 6-8 часов и вы-
ключить печь, дав ей остыть вместе с изделием.
Покрытие получается очень плотное, хорошо проводящее ток и прочно сцеплен-
ное с подложкой и выдерживающее пайку мягкими припоями.
Мышление
ХИМИЯ ЛЮБВИ
Янг Л., Александер Б,
ГЛАВА 5.
ЖЕНСКАЯ ЛЮБОВЬ:
БУДЬ МОИМ. МАЛЫШОМ
Доктор Г.-У. Лонг устал от перешептываний. Его коллеги-медики делились друг
с другом историями о пациентах, имевших разнообразные сексуальные проблемы.
Существовали труды и книги о сексе, но написаны они были исключительно для
специалистов, и врачи редко обсуждали эту тему со своими пациентами. Поэтому
доктор Лонг считал, что простые люди катастрофически невежественны в плане
отношений между полами. Однако времена менялись. В годы Первой мировой войны
правительство обеспокоилось, что в армии возникнет нехватка солдат, если аме-
риканцы начнут повально болеть венерическими заболеваниями, и начало открытую
кампанию за безопасный секс. Старые моральные устои пошатнулись. В 1919 году
доктор Лонг опубликовал книгу для широкой аудитории читателей: «Здоровая по-
ловая жизнь и сексуальность: то, что разумные люди должны знать о природе и
функционировании секса, его место в повседневной жизни, правильное сексуаль-
ное обучение и поведение». Книга была проста, как руководство эпохи сексуаль-
ной революции в 1960-е. Она включала конкретные и откровенные инструкции по
всем вопросам, начиная от углов введения до того, как именно жена «должна
поднимать и опускать бедра, раскачивать ими вправо-влево и вращать по кругу».
Гуляем!
Признавая существование множества возможных позиций для занятия сексом,
доктор Лонг был твердо убежден в преимуществах соития лицом к лицу: «В этом
положении (следует отметить, что такая позиция коитуса возможна только в се-
мействе человека! - самцы обычных животных всегда находятся за спиной самки;
обыкновенные животные никогда не смотрят друг другу в глаза и не целуются во
время акта! - это еще одно очевидное и важное различие между людьми и осталь-
ным животным миром) органы естественно и легко встречаются, уже готовые к то-
му, о чем мы говорили выше. Женщина должна поместить пятки на подколенную об-
ласть своего возлюбленного и обхватить руками его тело». Смысл, писал он, за-
ключается в том, чтобы «необходимые органы пришли в возбуждение и увеличились
в объеме», пока муж и жена смотрят друг на друга. (На самом деле люди не
единственные, кто занимается сексом лицом к лицу: шимпанзе-бонобо делают это
постоянно.)
У Джой Кинг редко возникали проблемы с «возбуждением» необходимых органов
или их «увеличением в объеме», но, как она убедилась на собственном опыте,
смотреть глаза в глаза гораздо сложнее. Кинг, в прошлом вице-президент специ-
альных проектов «Уикид Пикчерз» - одного из самых крупных мировых производи-
телей развлечений для взрослых, - теперь работает там консультантом. Свою
карьеру она начала в 1980-е и с тех пор прославилась как мастер предсказывать
вкусы потребителей мейнстримового порно. Именно Кинг превратила никому не из-
вестную стриптизершу Дженну Мари Массоли, мечтавшую стать актрисой, в несо-
крушимую медиасилу Дженну Джеймсон.
Дженна Джеймсон.
В основном «Уикид Пикчерз» производит так называемые фильмы для пар. Этот
жанр воздерживается от провокационных, экстравагантных сцен, предлагая зрите-
лям спокойные, в основном гетеросексуальные фантазии, а Кинг старается соз-
дать образный ряд, который понравится и женщинам, и мужчинам. Она часто уча-
ствует в шоу и массовых встречах поклонников, ее можно встретить на разнооб-
разных презентациях в магазинах розничной распродажи. Она посещает социальные
сети и общается с потребителями, особенно с женщинами, интересуясь, что они
хотели бы видеть. Кинг отмечает, что говорить за всех трудно, но большинство
женщин сходятся на том, что показывать лица важнее всего, хотя тело целиком и
части тел демонстрировать тоже следует. «Недавно я встречалась с женщиной-
режиссером, которая собирается снимать для нас новый цикл. Мы обсуждали наш
рынок, и одной из тем была важность зрительного контакта и съемка зрительного
контакта, - рассказывает Кинг. - Нужно было снимать так, чтобы два человека
смотрели друг другу в глаза, и режиссер сказала, что, как ни странно, смот-
реть в глаза друг другу - одна из самых сложных задач для актеров». Однажды
Кинг провела собственное исследование, входя в зрительный контакт со случай-
ными людьми в очередях, на улицах, в кафе, на работе. Она заметила, что боль-
шинству людей ее взгляд неприятен. «Они отворачивались», - говорит Кинг. Зато
занимаясь сексом, она часто смотрит в глаза партнеру, и он делает то же са-
мое. Это кажется не только приятным, но и необходимым. Для себя Кинг сделала
такой вывод: люди не смотрят в глаза друг другу, так как в животном мире пря-
мой взгляд воспринимается как угроза, «пока партнеры не вступят в определен-
ные отношения. Особенно это важно для людей, которые находятся в близких от-
ношениях и занимаются сексом».
Возможно, вы удивитесь, но трудности, с которыми столкнулась Джой Кинг, пы-
таясь установить зрительный контакт, и вековой давности совет доктора Лонга
напрямую связаны с тем, почему Марии Маршалл трудно сопереживать людям, а
кроме того, с тем, почему матери смотрят на своих детей, и в конечном итоге с
происхождением человеческой романтической любви. Подобно установлению связи
между матерью и ребенком, любовь - социальный процесс, который начинается то-
гда же, когда начинается наша жизнь - еще до нашего рождения, в тот момент,
когда запускается процесс организации мозга. На арене нашего мозга любовь по-
является верхом на вожделении. Гормоны будят в нас желание: запускается сис-
тема поощрения в мозге. Поддаваясь этому искушению, вожделение рвется к цели,
но быстро усмиряется, отдаваясь во власть чего-то более глубокого, внутренне
богатого и привлекательного.
«В тоске бежит она туда, где думает увидеть обладателя красоты, - рассказы-
вает Федру Платон о влюбленной женщине. - При виде его по ней разливается
влечение, и то, что было ранее заперто, раскрывается». Сходство между описан-
ным поведением влюбленной женщины и желанием матери заботиться о младенце не
случайно. Певица Ронни Спектор умоляла своего мужчину: «Стань моим, малыш» -
и была права. Ларри уверен, что любовь - это то, как проявляют себя молекулы,
действующие на определенную нейронную цепь. Из этого следует, что романтиче-
ская любовь у женщины - это адаптация, появившаяся в ходе эволюции, вариант
настройки нейронных цепей, управляющих материнской связью. Из этого также
следует, что наши тела, в особенности пенис у мужчин и влагалище и грудь у
женщин, тоже претерпели эволюционные изменения, чтобы во время занятий сексом
запускалась нейронная цепь, управляющая материнским поведением. Если с точки
зрения женского мозга любимый мужчина - это ребенок, то совсем в ином свете
предстает всем известная сцена из комедийных сериалов, в которой мужчина пре-
вращается в младенца во время болезни и держится за пульт управления телеви-
зором, словно это бутылочка с молоком. Мы считаем, что именно таково объясне-
ние тех замечательных изменений, которые происходят в поведении женщины, ко-
гда она влюбляется.
Если девушка - студентка медицинского колледжа идет на фестиваль авангард-
ной музыки, знакомится там с молодым человеком, оставившим колледж, чтобы
вести сайт для поклонников мотороллера Vespa, занимается с этим молодым чело-
веком сексом, а потом заявляет, что бросает учебу ради совместных путешествий
на концерты группы Phish, то нельзя сказать, что ее поведение полностью под-
чинено рациональному сознанию. Подобно женщинам, которые сомневаются в том,
что хотят иметь детей, а затем переполняются любовью к собственному младенцу,
она уже начала меняться. Секс может и не быть предшествующим условием того,
что мы называем человеческой любовью. Некоторые говорят, что «влюбляются с
первого взгляда», задолго до секса со своим избранником. Куртуазная литерату-
ра изобилует примерами неугасимой любви одного человека к другому без какого-
либо физического влечения. И сегодня люди формируют привязанность к коллеге,
женатому другу или тому, кто не отвечает взаимностью на их чувства, - к лю-
дям, с которыми они могут никогда не вступить в сексуальную связь. Любовь на
расстоянии имеет право на существование, но это не то, что мы назвали бы жгу-
чей страстью.
Мод Гонн «любила» великого ирландского поэта Уильяма Батлера Иейтса. Их от-
ношения длились почти пятьдесят лет. С первой встречи в 1889 году и до смерти
Иейтса в 1939-м они исполняли то романтическое, то трагическое па-де-де.
Гонн, красавица, актриса, женщина большого ума, страстная ирландская респуб-
ликанка и католичка, верящая в мистицизм, никогда не стремилась познать физи-
ческую сторону любви с Иейтсом. Она держала его на расстоянии, утверждая, что
их отношения являются дружескими в реальном мире, но приправлены духовной лю-
бовью на астральном уровне. Гонн утверждала, что мистическая любовь чище
обыкновенного плотского союза. Любовь на расстоянии, говорила она, позволяет
поэту заниматься литературой и не надевает на него оковы чувственных и эмо-
циональных сложностей, способных подорвать его амбиции. Такие отношения неве-
роятно расстраивали Иейтса. Он то и дело предлагал Гонн выйти за него замуж,
но та отказывалась. Поэтому он обращался к ней (или к ее образу) в строках
своих стихотворений. Гонн отвергала постоянные попытки Иейтса дать их аст-
ральной любви физическое воплощение. Всё, что Йейтс получил, - это поцелуй в
губы в 1899 году.
Такой холодной Гонн была не со всеми. Плодом ее краткого увлечения француз-
ским журналистом стал сын, который умер два года спустя. После смерти ребенка
Гонн и ее возлюбленный занимались сексом на его могиле: Гонн надеялась, что
младенец, рожденный от этой связи, будет реинкарнацией мертвого мальчика. Од-
нако у нее родилась дочь Изольда (годы спустя Йейтс предлагал и ей стать его
женой). В 1903 году Гонн вышла замуж за другого ирландского республиканца,
Джона Макбраида. Хотя союз был несчастливым, Гонн не приходила к Йейтсу за
утешением. Она продолжала относиться к нему как к другу и в этой манере обра-
щалась к поэту в своих письмах. В апреле 1908 года, живя в Париже, она напи-
сала ему письмо, которое начиналось обращением «Мой дорогой Уилли». Она щедро
делилась новостями, подробно рассказывая обо всем, - такое письмо можно ожи-
дать от друга. Подписалась она так: «Всегда твой друг, Мод Гонн». Следующее
письмо с обращением «мой друг» было отправлено в июне. В июле Йейтс был «Уил-
ли» . И в этом июльском письме она вновь говорила о своем неприятии идеи их
физического союза. По сравнению с мистической связью на астральном уровне,
утверждала она, секс «всего лишь бледная тень». И далее подпись: «Мод Гонн».
Получив письмо, Йейтс отметил в своем дневнике, что «в ней проснулся старый
страх физической любви». В октябре Гонн обращалась к нему «дорогой Уилли» и
вновь подписалась: «Всегда твой друг, Мод Гонн».
Два месяца спустя, в декабре, Гонн обратилась к Йейтсу эпитетом «любимый».
По ее словам, она тосковала по нему физически. Внезапно ее охватило столь
сильное земное желание, что она молилась о том, чтобы скорее от него изба-
виться. Она подписалась: «Твоя Мод». Как видим, полная перемена настроений.
Каким образом спустя двадцать лет общения Йейтс из «друга» и «Уилли» превра-
тился в «любимого»? Почему Гонн вдруг почувствовала тоску, находясь вдали от
него? Дело в том, что за несколько дней до написания этого письма - и спустя
два десятилетия утверждений, что у них с Йейтсом исключительно платоническая
любовь, - эти двое, наконец, довели свои отношения до логического завершения.
Половой акт изменил Гонн эмоционально. Теперь она испытывала к Йейтсу такие
чувства, каких не испытывала на протяжении всех двадцати лет астральных про-
екций.
В 2011 году несколько социологов под руководством Джошуа Акермана из Масса-
чусетского технологического института исследовали этот тип изменений. Они по-
казали, что женщины чувствуют себя счастливее, когда слышат от мужчины: «Я
тебя люблю» после, а не до полового акта. По словам женщин, участвовавших в
исследовании, их партнер после первого полового акта выражает свои мысли бо-
лее искренне. Это означает, что женщины больше доверяют своим мужчинам после
секса с ними. Взглянув на это мнение с точки зрения экономики, группа объяс-
няет его экономическими предпосылками (возможно, сделанными бессознательно).
Коль скоро женщина «вложила средства», то есть согласилась на секс, ей прият-
но понимать, что вложение окупилось. «Я тебя люблю» до первого секса может
оказаться уловкой, предназначенной для того, чтобы заманить женщину в по-
стель. Возможно, так оно и есть. Но в мозге, тем не менее, происходит бессоз-
нательный процесс, который способствует изменению.
Влюбленные
полевки
В пьесе Сары Рул «Театральный поцелуй» муж, застав жену в постели с другим
мужчиной, говорит: «Это не любовь - это окситоцин». Его реплика отражает
чрезвычайно популярное мнение, будто бы окситоцин представляет собой гормон
любви, любовное зелье. Реальность несколько сложнее. Мы предпочитаем думать
об окситоцине как о «привратнике» любви.
Многое из того, что мир знает о «любовном» эффекте окситоцина, обнаружилось
благодаря исследованиям на полевках. Пока полевки не перерыли ваш сад, их
трудно не любить. Хотя эти грызуны - родственники крыс, на шкале миловидности
разных мелких зверушек они занимают место где-то между бурундуками и бельча-
тами. Длина их тела от кончика носа до кончика хвоста около десяти сантимет-
ров: это маленькие пушистые шарики с крошечными черными глазами-бусинками.
Все биологи давно разделились на три группы в зависимости от той живой моде-
ли, которую используют в исследованиях: одни предпочли дрозофил, другие - мы-
шей, третьи - крыс или червей. (Вы удивитесь, обнаружив, как много некоторые
ученые знают о половой жизни дрозофил.)
Полевки долго не входили в круг интересов лабораторных исследователей, но в
1980 году один биолог по имени Лоуэлл Гетц из университета Иллинойса взял в
помощники начинающего ученого Сью Картер. Гетц давно изучал популяции диких
полевок, главным образом потому, что фермеры считали их вредителями. Однако
после прихода Картер в лаборатории начались эксперименты на отловленных по-
левках, поскольку Гетц давно заметил одну примечательную черту в их поведе-
нии. Однажды Гетц ловил полевок, изучая их в привычной среде обитания на
Среднем Западе. В одну ловушку часто попадались сразу две мыши - самец и сам-
ка. Его это заинтересовало. Через какое-то время Гетц понял, что в ловушки
попадаются одни и те же пары самок и самцов. Заинтригованный, он внимательнее
присмотрелся к их брачному поведению и обнаружил, что после спаривания самка
и самец остаются вместе и строят гнездо. Такое поведение указывало на моно-
гамность полевок.
Степные полевки.
Отношения степных полевок имеют четкие параллели с человеческими. Полевки
даже назначают друг другу свидания. Отыскав привлекательную самку, самец уха-
живает за ней. Это не та связь на скорую руку, практикуемая самцами крыс, ко-
торые, несколько раз погладив бока находящейся в течке самки, быстро совокуп-
ляются среди опилок и машут ей лапой на прощание по пути к следующей даме.
Самец полевки холит и лелеет свою подругу, использует предварительные ласки,
а затем начинает долгий танец спаривания, который может продолжаться до двух
дней. Самку соблазнить непросто. Нейронные цепи ее сексуального поведения вы-
нуждают самца добиваться расположения. У других грызунов течка происходит ед-
ва ли не по часам каждый четвертый вечер, но самки полевок похожи на тех яще-
риц , которых Ларри изучал в Техасе: до тех пор пока не начиналось ухаживание,
яйцеклетки у них не созревали. У полевки не будет течки, пока феромоны ухажи-
вающего самца не запустят у нее выработку эстрогена: она заводится от его за-
паха.
Если бы это была пара серых полевок, самец выпустил бы свое семя и, пообе-
щав как-нибудь позвонить, отправился на поиски следующей самки. Его бывшая
возлюбленная принялась бы искать место для гнезда, чтобы родить детенышей и
заботиться о них в одиночестве. Когда мы говорим «заботиться», то имеем в ви-
ду «совсем чуть-чуть». Самки серых полевок сводят уход за малышами к миниму-
му. Конечно, они их кормят, но через две недели терпение матерей заканчивает-
ся, и они оставляют свой помет: у этих полевок серьезные проблемы с привязан-
ностью. Степные полевки создают настоящую семью. Детеныши при помощи молочных
зубов надежно прицепляются к материнскому соску, а папа всегда находится не-
подалеку, помогая заботиться о малышах и защищать их.
Различия затрагивают не только структуру семьи: степным полевкам требуется
социальный контакт. Если у них есть возможность, большую часть дня они прово-
дят в компании. В отличие от степных серые полевки - одиночки, бродяги, Клин-
ты Иствуды, которые перемещаются с места на место, от самки к самке.
Поведение степной полевки сильно изменяется после спаривания. В дикой при-
роде девственные особи обоих полов свободно общаются друг с другом, проводя
время со своими собратьями и никому не выказывая особых предпочтений. Они
просто водят дружбу. После спаривания новая пара отправляется на поиски безо-
пасного, уютного дома, обустраивает его и начинает семейную жизнь. Самцы, по-
кинув дом, чтобы отыскать пищу, всегда возвращаются назад. Супруги привязаны
друг к другу, демонстрируя то, что, по мнению Ларри, можно назвать эволюцион-
ным предшественником человеческой любви. Их связь настолько сильна, что в
большинстве случаев, если самец попадется ястребу на обед, его подруга оста-
нется одинокой до конца своих дней, отвергая всех ухажеров. Эмоциональная и
социальная связь степных полевок - уникальное явление среди млекопитающих:
моногамия у грызунов встречается крайне редко, а среди остальных млекопитаю-
щих только 3-5 процентов видов формируют устойчивые пары. Серых и горных по-
левок ученые считают промискуитетными: каждая особь спаривается со множеством
партнеров и никогда не останавливается на достигнутом. А вот степные полевки
- идеальная модель моногамии. Впрочем, они не совсем та модель, за которую их
хотят выдать. Вопреки высказываниям некоторых социальных и религиозных кон-
серваторов, которые пропагандируют единственный, по их мнению, правильный
способ полового воспитания - воздержание и которые часто используют имя Ларри
в своих поверхностных, вводящих в заблуждение и даже откровенно ложных заяв-
лениях, моногамия для биолога не обязательно означает строгую сексуальную
замкнутость. Хотя людей обычно считают моногамными, по крайней мере, в биоло-
гическом смысле, некоторые человеческие сообщества прошлого и настоящего сюда
не вписываются: Авраам из Ветхого Завета, ранние мормоны, мусульмане некото-
рых стран, община «Онейда», существовавшая в США в XIX веке, народ тода в Ин-
дии, женщины которого полигамны, приверженцы некоторых американских религиоз-
ных культов, богемные группы, университетские общежития, «Студия 54» конца
1970-х. Культура случайных половых контактов XXI века отражает тот факт, что
большинство людей полигамны хотя бы часть своей жизни. Такое возможно, даже
если они эмоционально и социально привязаны к одному человеку. Чуть позже мы
рассмотрим экстрамоногамные связи. А пока, чтобы понять, как самки и самцы
образуют пары, поговорим об эмоциональной и социальной привязанности, которая
возникает не только при сексуальной замкнутости. Степные полевки и люди в
этом очень похожи друг на друга.
Между серыми и степными полевками существует пропасть различий, как в пове-
дении, так и в структуре социальной системы, но внешне эти виды выглядят оди-
наково и на удивление похожи генетически. Чтобы понять, как возникает пара,
Картер в 1994 году провела эксперимент, давший настолько поразительные ре-
зультаты, что послужил толчком к развитию целой области, изучающей социальную
привязанность. Следуя по стопам Корта Педерсена и Кита Кендрика, которые изу-
чали материнскую заботу у крыс и овец, она вводила окситоцин в мозг самок
степных полевок. Если самка полевки не настроена на спаривание, она обычно
отвергает любые знаки внимания, и у нее не образуется эмоциональная связь с
самцом. Картер вводила таким самкам окситоцин и подсаживала к ним самца. Жи-
вотные не спаривались, однако у них все равно возникала привязанность, как
после занятий сексом. Увеличение концентрации в мозге одного-единственного
вещества полностью изменило жизнь полевки, вызвав у нее своего рода любовь (и
непреднамеренно породив поп-культуру окситоцинового безумия, о чем мы погово-
рим чуть позже).
В 1994 году в проекте под руководством Томаса Инзела (сегодня он является
директором Национального института психического здоровья) Ларри и его коллега
Жусинь Ван использовали полевок, пойманных в Иллинойсе, для создания колонии
в университете Эмори. Эта колония стала одной из самых знаменитых коллекций
полевок в мире. Впервые оказавшись там, Брайан решил, что все члены колонии
совершенно одинаковы, но в ней жили и серые полевки. То, что обнаружил Ларри,
исследуя колоссальные поведенческие различия между степными и серыми полевка-
ми, объясняет, почему Мария Маршалл смотрит на людей пустыми глазами, как
возникает нормальная связь между матерью и ребенком и почему люди влюбляются.
Вместе с Инзелом Ларри искал ответ на вопрос, в какой именно области мозга
у самок степных полевок окситоцин запускает эмоциональную привязанность. Как
вы помните, рецепторы окситоцина, расположенные в мозговых структурах системы
поощрения, обеспечивают формирование связи между матерью и ребенком. Поэтому
группа из Эмори поначалу предположила, что в мозге степных полевок содержится
больше окситоциновых клеток и волокон, чем в мозге серых полевок. Ван дока-
зал , что это не так. Инзел обнаружил, что у этих двух видов имеются карди-
нальные различия в областях мозга, которые содержат рецепторы окситоцина, а
затем Ларри выяснил, что прилежащее ядро у степных полевок гораздо более чув-
ствительно к гормону. Теперь оно стало главным подозреваемым. Подозреваемым
номер два оказалась префронтальная кора, напрямую соединенная с прилежащим
ядром: ее клетки тоже содержат много окситоциновых рецепторов. Ларри и его
коллеги вводили в обе названные структуры вещество, блокирующее рецепторы ок-
ситоцина, либо плацебо, а контрольной группе животных делали инъекции в об-
ласть , которая точно не участвовала в процессе. Затем они вводили самкам эст-
роген, чтобы у них началась течка, и устраивали суточное свидание с испытан-
ным самцом. После этого ученые ставили опыт на предпочтение партнера: с одной
стороны прямоугольного вольера они привязывали самца, который был на свида-
нии, с противоположной стороны - нового самца, а в центре помещали самку.
Самки, которым в контрольную область делали уколы плацебо или блокатора окси-
тоциновых рецепторов, в два раза чаще выбирали своего первого партнера: у них
сформировалась сильная привязанность. Самки, которым блокировали окситоцино-
вые рецепторы в прилежащем ядре или в префронтальной коре, проводили равное
время с каждым самцом: предпочтение партнера у них не сформировалось. Это до-
казывало, что для возникновения привязанности к самцу у самок степных полевок
должны сработать рецепторы окситоцина в мозговых центрах системы поощрения.
Но это вовсе не доказывало, что именно спаривание запускало работу окситоци-
новых рецепторов.
Позже Ларри и его коллега Хизер Росс придумали методику, с помощью которой
можно было непрерывно измерять уровень высвобождающегося окситоцина в приле-
жащем ядре взрослых самок во время общения с самцами. Они ввели самкам эстро-
ген, чтобы вызвать у них течку. Перед подсаживанием самца Росс провела замер
фонового уровня окситоцина у самок, и результат почти равнялся нулю, хотя ме-
тод измерения был очень чувствительным. Затем сексуально возбужденных самцов
поместили в сетчатую клетку и поставили ее внутрь вольера с самками, чтобы
будущие половые партнеры могли общаться и проделывать некоторые вещи, свойст-
венные полевкам, например, нюхать и прикасаться друг к другу. Заниматься сек-
сом они не могли. Через два часа у некоторых самок был зафиксирован едва за-
метный рост концентрации окситоцина, но различия между фоновым и текущим
уровнями были статистически недостоверными. Ни до, ни после встречи, которая
не предполагала спаривания, у самок не произошло явного увеличения концентра-
ции окситоцина. Наконец Росс выпустила самцов в вольер, чтобы животные могли
делать все, что захочется, в том числе заниматься сексом.
Многие самцы, как истинные мужчины, предприняли отважные попытки. Не все
самки оказались одинаково восприимчивы к их ухаживаниям. Однако из тех, кто
подпустил к себе самцов, почти сорок процентов продемонстрировали небольшой,
но явный рост уровня окситоцина. Ларри и Росс измерили исследуемый показатель
у всех спарившихся самок и сравнили с данными у самок, которые отказались
спариваться. Статистически достоверное увеличение уровня окситоцина в приле-
жащем ядре наблюдалось только в группе самок, которые вступили в половой кон-
такт . Процесс спаривания высвобождал окситоцин, который поступал в прилежащее
ядро - составную часть системы поощрения, той самой, которая участвует в соз-
дании приятного ощущения во время ухода за ребенком, приема кокаина или ноше-
ния маленьких кожаных курток (в том случае, если вы - одна из крыс-фетишистов
Джима Пфауса).
Что не было учтено в описанном исследовании? То, что серые полевки тоже по-
лучали поощрение за спаривание, однако у них не формировалась привязанность.
Ван, сейчас работающий в государственном университете Флориды, провел иссле-
дование связи между высвобождением дофамина и возникновением привязанности по
методике Ларри и Росс. У самок, которые занимались сексом, концентрация дофа-
мина в мозге повышалась на 50 процентов. Разумеется, тот факт, что спаривание
увеличивало выброс дофамина, не обязательно означал, что он необходим для
создания привязанности. Поэтому для разных групп полевок Ван использовал раз-
личные вещества: одно повышало число дофаминовых рецепторов, другое усиливало
их активность, но блокировало рецепторы окситоцина, третьим веществом было
плацебо, то есть оно ни на что не влияло. Затем он провел тот же опыт, что
Ларри со своими полевками-жихюло. Выяснилось, что для образования привязанно-
сти дофамин необходим. Ван поместил самок в течке в одну клетку с самцом на
шесть часов. Этого времени недостаточно, чтобы у полевок сформировалась при-
вязанность без спаривания, а его полевки не спаривались, однако у тех самок,
которым он ввел вещество, повышающее активность дофаминовых рецепторов, сфор-
мировалась сильная привязанность. Полученный результат сходен с тем, который
получила Картер, экспериментируя с самками, не занимавшимися сексом, но полу-
чавшими дополнительный окситоцин.
Итак, для возникновения сильной привязанности самкам требовались и оксито-
цин, и дофамин, которые высвобождались во время спаривания, а если вы помни-
те, дофамин и окситоцин необходимы для формирования материнской привязанно-
сти. Тем не менее, для создания пары наличия этих двух веществ было недоста-
точно . У степных полевок, у серых полевок, у крыс и мышей - у всех есть ней-
роны, выделяющие окситоцин, который производится в гипоталамусе, главным об-
разом в перивентрикулярном ядре. Волокна этих нейронов простираются в другие
структуры мозга. Некоторые оканчиваются в прилежащем ядре. Окситоцин и нерв-
ные волокна у всех названных видов грызунов распределены в мозге похожим об-
разом. У крыс, мышей, серых и горных полевок, не образующих моногамные пары,
в мозге также есть дофамин, окситоцин, рецепторы к ним, и эти вещества высво-
бождаются во время занятий сексом. Однако в прилежащем ядре степных полевок
гораздо больше окситоциновых рецепторов.
Промежуточная
масса таламуса
Дорсомедиальное
ядро
Заднее ядро
гипоталамуса
Вентромедиальное
ядро
Сосцевидное
тело
Мозолистое тело
Паравентрикулярное ядро
Латеральное
преоптическое ядро
Медиальное
преоптическое ядро
Переднее ядро
гипоталамуса
Супрахиазматическое
ядро
Супраоптическое ядро
Оптический (2) нерв
Гипоталамус.
Надо добавить, что для образования крепкой пары животным необходимо еще од-
но вещество. Джеймс Беркетт, работающий в лаборатории Ларри, сделал следующее
предположение. Привязанность возникает под влиянием системы поощрения, а зна-
чит, ей может потребоваться упомянутый ранее аналог героина - зндорфины (ведь
крысам Пфауса тоже требовались зндорфины для формирования сексуальных пред-
почтений) . Мы уже говорили, что секс способствует выбросу эндорфинов в мозге.
Благодаря им нам приятно заниматься сексом. Беркетт блокировал у самок опио-
идные рецепторы. Самки степных полевок спаривались, как и прежде, но после
секса у них не формировалась привязанность к самцу: они не получили достаточ-
ную дозу «мозгового героина». Следовательно, для появления любви самке полев-
ки нужны окситоцин, дофамин и зндорфины. Окситоцин запускает процесс. Зндор-
фины воздействуют на свои рецепторы, вызывая приятные ощущения от секса. До-
фамин помогает мозгу понять, чем именно вызывается удовольствие. Между стиму-
лом - конкретным самцом - и поощрением устанавливается связь.
У мышей, крыс, полевок и людей есть окситоцин, дофамин и зндорфины. Но по-
сле получения доз дофамина и эндорфинов промискуитетная самка крысы реагирует
совершенно иначе, чем моногамная самка степной полевки. Крыса-самка ассоции-
рует приятное ощущение от полового акта с запахом - запахом сексуально актив-
ного самца. Крыса-самец тоже ассоциирует это ощущение с запахом - запахом
самки в течке. Их не волнует, какой конкретно самец и какая конкретно самка
издает этот запах, - подойдет любой партнер, который пахнет «правильно». А
вот в системе поощрения степных полевок в работу включаются все окситоциновые
рецепторы... Но что такое, по сути, окситоцин? Как обнаружил Ларри и его колле-
ги, окситоцин - не просто молекула, облегчающая установление связи между ма-
терью и ребенком, между самкой и самцом. Он - ключ к удивительной тайне моно-
гамии и привязанности. А тайна эта - социальная память.
Социальная память - нечто иное, чем то, к чему мы обращаемся, когда пытаем-
ся вспомнить, куда положили ключи от машины, или соображаем, как добраться на
работу (если нашли ключи) в объезд федеральной трассы, заблокированной пере-
вернувшимся грузовиком. У человека в височно-затылочной части коры больших
полушарий, точнее, в правом полушарии, есть область, которая носит название
«правая веретенообразная извилина». Если она повреждена, человек не способен
распознавать лица. Люди с такой травмой обычно помнят, что терпеть не могут
квашеную капусту, что в среду у них деловая встреча, они способны пройти все
уровни новичка в World of Warcraft , но не могут узнать собственную мать,
глядя ей в лицо. Или мужа. Или жену. Или кого бы то ни было из своих знако-
мых. Это состояние называется прозопагнозией и является одним из нарушений
социальной памяти.
Веретеновидная извилина и ограничивающие борозды.
Некоторые люди с прозопагнозией ведут нормальную жизнь, несмотря на нелов-
кие моменты, потому что общество, друзья и семья помогают им компенсировать
этот недостаток. Невролог и писатель Оливер Сакс - наглядный тому пример: у
него прозопагнозия, и он рассказывает о ней и о том, как справляется с этим
нарушением. Но в дикой природе отсутствие социальной памяти может привести к
катастрофе. Если вы горилла и не можете вспомнить, что вон тот тип с серебри-
стой шерстью на спине и злобным выражением лица - ваш вожак, то получите
взбучку. Фламинго и пингвины тоже зависят от социальной памяти. Они живут
группами, состоящими из очень похожих друг на друга птиц, но брачные партнеры
находят друг друга в толпе, поскольку их мозг отлично обрабатывает социальную
информацию и записывает ее в память. Грызунам тоже необходима социальная па-
мять , которая у них состоит преимущественно из информации, поступившей через
орган обоняния. Если животное оказывается в чужой клетке, хозяин тут же под-
вергает детальному обследованию анально-генитальную область «гостя». Так же
ведут себя при встрече две собаки. Заберите «гостя» из клетки на десять ми-
нут, затем верните его обратно, и хозяин на всякий случай еще раз принюхается
- убедится, что они уже виделись, и займется своими делами.
Хотя у крыс и мышей есть социальная память, она довольно короткая (если не
случается ничего из ряда вон выходящего вроде жестокой драки). Примерно такая
же - у разговорчивых голливудских агентов (милейшие дружелюбные люди в мину-
ты, когда вы чокаетесь бокалами с шампанским на «Золотом глобусе», и забываю-
щие вас на следующий день, когда вы звоните им с великолепной идеей сцена-
рия) . Крысы и мыши всё быстро забывают. Уберите новое животное из клетки на
час, а не на десять минут, и хозяин примется активно его изучать, забыв, кто
это такой. Самки грызунов имеют более развитую социальную память, чем самцы,
но, в конце концов, забывают и они.
Коллега Ларри Дженнифер Фергюсон доказала, что важнейшую роль в формирова-
нии воспоминаний о конкретных особях играет окситоцин, действуя в миндалевид-
ном теле. Сначала она создала у подопытных мышей подобие прозопагнозии, от-
ключив у них ген окситоцина с помощью генетических манипуляций. Мыши бегали
по лабиринтам и находили еду там, где ее спрятали, но не могли вспомнить ни
одну мышь, с которой только что встречались. У них полностью отсутствовала
социальная память. Если другая мышь пахла лимоном или миндалем (мышиный экви-
валент бейджа с именем) , вспомнить ее было проще, но лишь потому, что под-
опытные особи запоминали искусственные запахи - не естественные мышиные соци-
альные сигналы. Это напоминает поведение Оливера Сакса, который не способен
вспомнить старого друга, встреченного на конференции, но при взгляде на его
бейдж с радостью жмет ему руку.
Когда Фергюсон ввела окситоцин генетически измененным мышам, к ним верну-
лась социальная память. Если инъекцию окситоцина делали после встречи с дру-
гой мышью, узнавание не происходило. Майкл Ньюман, с которым вы познакомились
в главе о материнской заботе, изолировал у крыс медиальную преоптическую об-
ласть, и матери перестали заботиться о своих детях, однако продолжали искать
пищевое вознаграждение. Аналогично в опытах Фергюсон недостаток окситоцина
сказался на обработке социальной, но никакой другой информации.
Через четверть века исследований стало ясно, что для «любви» и моногамии
полевкам нужен определенный набор ингредиентов: вознаграждение приятными ощу-
щениями и долгая эмоциональная память о конкретном партнере, формирующаяся
после вознаграждения. Таков состав этого коктейля.
От мышей
к людям
Многие, в том числе ученые, когда-то полагали (а некоторые полагают и сей-
час), что исследования маленьких пушистых созданий увлекательны, но результа-
ты исследований не применимы к людям. Наш большой рациональный мозг умеет от-
делять себя от животных влечений, утверждали они. В своей вере они полагались
на один неопровержимый факт: отсутствие экспериментов на людях. А если вы не
можете привести фактические доказательства того, что любовь полевки подобна
человеческой любви, дискуссия заходит в тупик.
Маркус Хайнрихс не собирался исследовать любовь - он хотел провести парал-
лели между экспериментами на животных и на людях. Когда Хайнрихс, в то время
молодой ученый в германском университете Трира, а ныне глава отделения психо-
логии в университете Фрайбурга, прочитал об исследованиях на животных, он по-
пытался склонить научную общественность к тому, чтобы дать окситоцин людям и
понаблюдать, возникнут ли у них те же поведенческие эффекты. «Никто не хотел
этим заниматься, - вспоминает Хайнрихс, сидя в своем новом кабинете во Фрай-
бурге . - Я пошел к своему руководителю и сказал: „Я хочу провести экспери-
мент" , а он ответил, что нет, такого никто не делает». Чтобы отказаться, мож-
но было придумать массу отговорок, но была одна трудность прикладного харак-
тера . Гормоны, в том числе окситоцин, влияют не только на мозг, но и на тело.
Если вводить их в кровеносную систему, могли возникнуть нежелательные побоч-
ные эффекты, кроме того, большие молекулы не способны преодолеть гематоэнце-
фалический барьер1, и вводить их в кровь было бессмысленно. К тому же мало
кто верил, что одно-единственное вещество способно оказывать сильное влияние
на поведение людей.
Хайнрихс - высокий дружелюбный мужчина с мальчишеским лицом. Возможно, для
придания себе солидности он носит старомодные очки с круглыми линзами в стиле
европейских мыслителей начала XX века. Хайнрихс убежден, что применение окси-
тоцина может улучшить состояние людей с такими психическими расстройствами,
как социальная тревожность и аутизм, или хотя бы пролить свет на механизмы,
управляющие этими загадочными нарушениями. Поставив себе цель, он пять лет
разъезжал по научным конференциям и агитировал коллег, в том числе своего ру-
ководителя, до тех пор, пока не взял противников измором. «Если бы это имело
хоть какой-то смысл, это уже сделали бы в США!» - вспоминает он слова одного
специалиста и хохочет, запрокинув голову. В конце концов, ему разрешили про-
вести маленькое исследование.
Из-за отсутствия способа доставить введенный человеку окситоцин прямо в
мозг, а также из страха перед возможными побочными эффектами в испытании уча-
ствовали кормящие матери: кормление грудью естественным образом повышает уро-
вень окситоцина в мозге. Сначала женщин просили покормить ребенка либо просто
подержать его на руках. Затем они должны были пройти стресс-тест, созданный в
Трире: сначала испытуемая рассказывала о себе, находясь перед небольшой ауди-
торией слушателей, которые сидели с каменными лицами, а затем отсчитывала от
большого числа семнадцать единиц в обратном порядке, а слушатели грубо пере-
бивали ее, исправляя ошибки и поторапливая. (Попробуйте сами - это довольно
тяжело.)
У женщин, кормивших грудью, уровень тревожности при стрессе был значительно
ниже. Хайнрихс сделал вывод, что кормление грудью подавляет обычную реакцию
на стресс, по крайней мере, на какое-то время. Во время кормления грудью уро-
вень окситоцина в крови не изменился, следовательно, различие в реакции на
стресс между кормящими и некормящими женщинами было связано с ростом уровня
окситоцина в мозге. Именно это происходит у кормящих крыс и полевок: если нет
серьезной опасности, кормящая крыса будет игнорировать стимулы, в иное время
вызывающие у нее тревогу. Некормящие крысы тоже будут слабее реагировать на
1
Физиологический барьер между кровеносной системой и тканью головного мозга, непре-
одолимый для некоторых химических веществ.
стресс, если им в мозг ввести окситоцин.
В 1996 году группа немецких ученых сообщила, что нашла способ обойти гема-
тоэнцефалический барьер, но их сообщение не привлекло внимания. В 2002 году
другая группа немецких ученых опубликовала отчет о таком же решении проблемы.
На этот раз о методике услышали. Она оказалась до смешного простой: исследо-
ватели предложили вводить препараты в форме назального спрея. Через тридцать
минут после впрыскивания в нос действующее вещество появлялось в спинномозго-
вой жидкости (она связывает мозг с остальным организмом) . К тому моменту
Хайнрихс переехал в университет Цюриха и продолжал работу, начатую в Трире.
Он ввел испытуемым окситоцин в форме спрея, а контрольной группе - плацебо,
затем подверг их стресс-тесту. Результаты были аналогичны исследованию кормя-
щих матерей.
Хайнрихс долго и упорно боролся за право провести эксперименты с окситоци-
ном на людях, поскольку верил, что результаты этих экспериментов будут подоб-
ны тем, какие получил Ларри в опытах на животных, и его работа поможет оты-
скать способы лечения некоторых болезней. Однако добившись желаемого и, нако-
нец, получив результаты, он не мог поверить своим глазам. «Эффект был на-
столько выраженным, что мы боялись, нам не удастся его получить повторно.
Влияние на поведение было очень мощным». Его опасения не оправдались: первый
эксперимент с окситоциновым назальным спреем был неоднократно с успехом по-
вторен и дополнен новыми данными. Опыты на животных и на людях давали сходные
результаты.
Социальная память - один из первых ингредиентов любовного зелья полевок,
исследованный на людях при помощи назального препарата окситоцина. Грызуны
распознают знакомых и незнакомцев, используя главным образом обоняние, а мы
полагаемся на зрение. Наш прибор для распознавания, глаза, работает одновре-
менно с социальной памятью. Мы применяем его не только когда хотим понять,
кто перед нами - приятель с работы, муж или мать. Он нужен нам, чтобы опреде-
лять настроение и намерения других людей: «Не флиртует ли он?», «Не злится ли
она?», «Не собирается ли этот парень на меня напасть?», «Не заболел ли мой
ребенок?»
Психолог Адам Гуастелла из университета Нового Южного Уэльса предложил двум
группам добровольцев взглянуть на фотопортреты людей с нейтральным выражением
лица: лица не были ни злыми, ни счастливыми, ни печальными. Испытуемых проси-
ли смотреть только на рот изображенных людей. Несмотря на указание, те, кто
получил дозу назального окситоцина, тратили намного больше времени на разгля-
дывание глаз: окситоцин заставлял мозг сосредотачиваться на глазах другого
человека. При отсутствии очевидных эмоций и намерений испытуемые пытались ин-
туитивно сделать вывод о чужих чувствах, глядя в глаза - «окна души». Добро-
вольцы, которым дали спрей с плацебо, тратили на разглядывание глаз меньше
времени.
Швейцарцы в своем эксперименте проверяли способность испытуемых мужского
пола не просто вспоминать лица, которые они видели прежде, но опознавать их.
Мужчин разделили на две группы. Одна получила дозу окситоцина, другая - спрей
с плацебо. Затем испытуемым показали серию фотографий домов, скульптур, пей-
зажей и лиц. Выражения одних лиц были негативными, других - позитивными,
третьих - нейтральными. Мужчин просили оценить, насколько приятны или непри-
ятны им изображенные объекты, тем самым, заставляя смотрящего внимательно
разглядеть каждый образ.
На следующий день ученые преподнесли испытуемым сюрприз, показав им те же
самые изображения вперемешку с новыми лицами и новыми предметами. Они попро-
сили мужчин сказать о каждом изображении, помнят они его в деталях или в об-
щих чертах, или сомневаются, что видели вообще, или уверены, что видят его
впервые. Когда испытуемые смотрели на предметы, различий между мужчинами, по-
лучившими окситоцин, и теми, кто получил плацебо, не наблюдалось, но мужчины
из «окситоциновой» группы лучше запоминали лица (что сразу заставляет вспом-
нить о мышах с недостаточным количеством окситоцина, которые помнили о чем
угодно, только не о том, что касалось других мышей). По способности распозна-
вать лица группы испытуемых значительно различались. Мужчины, принявшие пла-
цебо, часто говорили, что узнают лица, хотя прежде никогда их не видели. Муж-
чины, получившие окситоцин, почти ни разу не ошиблись - они различали лица
лучше.
Если человек принял окситоцин, он расположен общаться с близкими открыто,
дружелюбно. Давайте для примера возьмем «пару номер 35». Перед нами мужчина
лет тридцати, в черных брюках, с часами на руке, в черно-белой рубашке. Вне-
запно у него становится характерный вид испуганного человека: он сутулится,
сжимается, втягивает голову в плечи. Судя по всему, в этот момент он предпо-
чел бы оказаться в кресле стоматолога, чем в комнате, где происходит разго-
вор. Его давней подружке примерно столько же лет, на ней джинсы и зеленый
свитер. Сейчас она не сказала ничего, что могло бы вызвать у ее бойфренда та-
кую реакцию. Все дело в том, как она это сказала. Мужчина заявил, что она
слишком его контролирует, а ему хочется просто пойти повеселиться. На это она
ответила, что с радостью пошла бы с ним, если бы он хотя бы иногда делал то,
что ей тоже интересно. Возможно, таким образом она попыталась приблизиться к
компромиссу, но мы, как и ее приятель, замечаем выдвинутый вперед подбородок,
покачивание головой и чуть насмешливый тон: ее друг стал сверхчувствителен к
подобным сигналам, поскольку только что впрыснул в нос окситоцин.
Мы сидим в темноте маленького лекционного зала Цюрихского университета. Хо-
тя это только видеозапись, нам немного жаль расстроенного молодого человека,
пока мы не вспоминаем, что он сам напросился. Он доброволец. Беате Дитцен,
профессор психологии, бывшая студентка Хайнрихса и одна из бывших сотрудниц
Ларри, посадила эту пару в комнату и попросила в течение десяти минут обсуж-
дать тему конфликта в отношениях, так что молодой человек знал, на что шел.
Дитцен хотела понять, действительно ли окситоцин влияет на реальные человече-
ские отношения, а не просто на результаты лабораторных опытов или рассматри-
вание лиц на фотографиях, поскольку помимо своей научной деятельности она
проводит психологическое консультирование пар. Через несколько минут Дитцен
останавливает запись «пары 35» и переходит к «паре 31» (всего было протести-
ровано 47 гетеросексуальных пар). Эта пара получила спрей с плацебо. Десять
минут они дискутируют о вечном конфликте большинства супругов - работе по до-
му. Женщина говорит, что домашние дела ее партнеру не нравятся, поэтому он
ими не занимается, вешая всё на нее. Он возражает, что с радостью бы делал
всё, но - далее следует обычный неубедительный мужской пассаж о нехватке вре-
мени и умений в технически сложном искусстве мытья посуды.
Язык тела и интонации этой пары выглядят почти так же, как социальные сиг-
налы «пары 35». Мы не можем сказать, кто получил гормон, а кто - плацебо.
Дитцен тоже не знает - она посмотрит позже в своих записях. Принимая во вни-
мание популярный образ окситоцина как любовного зелья, можно ожидать, что па-
ра, получившая окситоцин, заключит друг друга в объятия и разрешит конфликт
поцелуями, но действие введенного окситоцина гораздо тоньше. Дитцен смогла
сделать четкие выводы, только когда, выступая как независимая третья сторона,
внимательно сравнила видеозапись с «позитивным» поведением (зрительный кон-
такт, улыбки, прикосновения, похвала, открытость) и «негативным» (критика,
сдержанность). В парах, которым достался окситоцин, партнеры проявляли больше
позитивных эмоций по отношению к собеседнику, а в парах, получивших плацебо,
было больше негативных. Окситоцин склоняет человека к позитивным реальным от-
ношениям. Как и в предыдущих исследованиях, окситоцин снижает тревожность,
значительно уменьшая концентрацию кортизола - гормона стресса. Это значит,
что «окситоциновые» пары были менее осторожными и более открытыми.
Будто специально для подтверждения результатов Дитцен, ученые Адам Смит и
Джеффри Френч из университета Небраски обследовали моногамные пары обезьян-
игрунок. Смит впрыскивал в нос одним обезьянам окситоцин, а другим - плацебо.
Тот, кто получил окситоцин, больше времени обнимал своих партнеров. Но когда
обезьянам дали ингибитор окситоцина, те даже не захотели делиться с партнера-
ми пищей.
Зная об этих результатах, вы не удивитесь тому, что в начале 2012 года из-
раильские ученые сообщили о возможности предсказывать, будет ли пара счастли-
вой, по уровню окситоцина. Они измеряли его у партнеров, недавно вступивших в
отношения, и полгода наблюдали за ними. Те пары, у которых при первом замере
был самый высокий уровень окситоцина, сохраняли свежесть чувств спустя полго-
да.
Окситоцин не только настраивает мозг на позитивное общение и помогает уга-
дывать чужие намерения - он увеличивает точность внутреннего детектора эмо-
ций. «Меня каждый раз поражает мысль о том, что благодаря одной-единственной
дозе окситоцина можно улучшить понимание чужих эмоций на пятьдесят процен-
тов» , - восхищается Хайнрихс.
Окситоцин повышает точность распознавания эмоций, но, судя по всему, дейст-
вует он избирательно. Как выяснилось в ходе фМРТ-исследований, после принятия
окситоцина активность миндалевидного тела менялась в зависимости от того,
смотрели люди на счастливые лица или на испуганные. Активность снижалась при
рассматривании испуганных лиц и увеличивалась при взгляде на счастливые. Зна-
чит, окситоцин побуждал мозг обращать внимание на положительные социальные
сигналы вроде улыбок или подмигивания и игнорировать отрицательные.
В других экспериментах испытуемые обоего пола, разглядывая фотографии лиц,
чаще считали показанных людей достойными доверия, если получили дозу оксито-
цина. Те, кто принял плацебо, выражали меньше доверия. Окситоцин не только
укреплял в испытуемых уверенность в надежности другого человека - женщинам,
получившим дозу окситоцина, мужские лица казались более привлекательными. По-
сле того как Хайнрихс опубликовал отчет о своем первом исследовании влияния
назального окситоцина, его коллеги с экономического отделения Цюрихского уни-
верситета провели собственный опыт, в котором происходит реальный обмен день-
гами между «инвесторами» и «доверителями» (в роли инвестиционных брокеров).
Оказалось, что «инвесторы», получившие окситоцин, передают «доверителям» бо-
лее крупные суммы денег, чем получившие плацебо: первые проявляли больше до-
верия (как те женщины, которые предпочитают услышать от мужчины «я тебя люб-
лю» после первого секса). Эффект исчезал, если испытуемые общались с компью-
тером: окситоцин не снижает способность оценивать риски. Он работает только в
ситуациях общения между людьми.
Добровольцы, принимавшие участие в исследованиях Дитцен, не знали, что
впрыскивают им в нос. Судя по небольшим различиям в результатах, полученных в
разных парах, они не осознавали, что их поведение изменилось. «Мы всегда
спрашиваем испытуемых, что, по их мнению, им досталось - плацебо или оксито-
цин , и они никогда не угадывают, - говорит Хайнрихс. - Десять лет назад я бы
сомневался, что один-единственный гормон способен на такие вещи. Теперь этому
есть множество доказательств».
Повышенное внимание к социальным сигналам и склонность замечать позитивные
нюансы общения способствуют завязыванию отношений между людьми, снижая трево-
гу. Это происходит, когда мать начинает заботиться о своем новорожденном, а
полевки образуют пары, испытывая на себе мощное влияние системы поощрения за
правильное половое поведение. Впрочем, эффект воздействия окситоцина не все-
гда таков. Случай Марии Маршалл - яркий пример изменчивости «окситоциновой»
системы. Появляется все больше данных о том, что разнообразные проявления че-
ловеческой любви и привязанности объясняются мельчайшими перестройками гена,
в котором закодирована инструкция по синтезу окситоциновых рецепторов. Изра-
ильские ученые провели экономический эксперимент, названный «Игра в диктато-
ра», в котором участвовали и мужчины, и женщины. Впрочем, это не совсем игра:
«диктатор» получает некую сумму денег (в эксперименте - 50 монет, каждая мо-
нета равняется одному шекелю), и он должен решить, как поделить ее с напарни-
ком . Второй участник должен согласиться с его решением. Вот и всё. Эта игра -
неплохой показатель альтруизма: чем больше денег отдано, тем более альтруи-
стичен «диктатор». Затем ученые предложили испытуемым задание, названное «От-
ношение к общественным ценностям». Здесь проверялась способность одного чело-
века заботиться о другом. Как и ожидалось, чем более заботливы были люди к
окружающим, тем щедрее они делились. Результаты опыта достоверно свидетельст-
вовали о том, что и щедрость (первое задание), и заботливость (второе зада-
ние) зависят от одного изменения в строении гена окситоциновых рецепторов.
Те, у кого этого изменения не было, принимали меньше участия в людях и дели-
лись меньшим количеством денег. Если учитывались только результаты тестирова-
ния женщин, то статистические оценки получались еще более надежными.
А вот есть ли связь между естественными изменениями в структуре гена и тем,
как проявляется наша любовь? Используя большую базу данных по однополым близ-
нецам, шведские исследователи эту связь обнаружили. Женщины, имевшие опреде-
ленный вариант гена окситоциновых рецепторов, были менее ласковы с супругами,
и вероятность, что их брак распадется, была выше. В детстве они испытывали
сложность в общении (что перекликается с последствиями низкого уровня забот-
ливости у грызунов), а когда стали взрослыми, им труднее было налаживать и
поддерживать контакты с окружающими. Мужчин это не касалось. «Примечатель-
но, - писали ученые, - что полученные данные согласуются с результатами ис-
следования полевок, согласно которым с первых дней жизни немоногамные виды
реже, чем моногамные, демонстрируют поведение, способствующее укреплению свя-
зей между особями».
Для чего у мужчин большие пенисы,
у женщин - большая грудь,
и что общего у женщины и овцы
Окот - ответственное для овцеводов время. Будет год доходным или нет, зави-
сит от того, сколько ягнят выживет. Чаще всего ягнята погибают в первые три
дня после появления на свет, и в основном потому, что их матери умирают либо
по какой-то причине отказываются их кормить. Если бы овцеводы могли сделать
так, чтобы овцы принимали осиротевших ягнят или ягнят-отказников, это стало
бы для них большим благом. Но, как мы говорили, овцы не желают кормить чужих
ягнят - только своих. И они умеют отличить своего ягненка от остальных даже
на пастбище, где полно новорожденных, благодаря мощному сенсорному и эмоцио-
нальному запечатлению информации в их социальной памяти - образа, формируемо-
го их мозгом при многократном обнюхивании ягненка и поедании его плаценты.
Давным-давно один овцевод придумал способ превратить овец в приемных мате-
рей. Кем был этот фермер и как он пришел к своему открытию - скрыто во мгле
истории. Возможно, для общественной репутации фермера это и лучше, что мы ни-
когда не узнаем его имени, поскольку изобретенный им способ заключался в сти-
муляции влагалища и шейки матки только что родившей овцы. Остается только до-
гадываться, как он стимулировал влагалище и шейку, но, судя по всему, фермер
обратил внимание, что когда он делал это рядом с осиротевшим ягненком, овца
позволяла чужому малышу сосать ее молоко. Кит Кендрик и Барри Киверн, его
коллега из Кембриджского университета, сделали множество открытий, касающихся
привязанности у овец. В итоге Киверн выяснил, почему этот старый фермерский
трюк работает.
В 1983 году Киверну и его коллегам потребовалось необычное лабораторное
оборудование. Они отправились в секс-шоп и вскоре вышли оттуда с огромным
фаллоимитатором, при помощи которого собирались доказать, что для занятий
наукой все средства хороши. Использовав искусственный член для стимуляции
влагалища и шейки матки овцы, они обнаружили, что даже нерожавшая овца (но
которой ввели эстроген и прогестерон для имитации беременности) будет прояв-
лять «полный набор признаков материнского поведения... после пяти минут стиму-
ляции влагалища и шейки». Родившим матерям ввод гормонов не требовался. Кенд-
рик выяснил, что после пяти минут ручной стимуляции у овцы возникает привя-
занность к незнакомому ягненку, даже если у нее уже сформировалась связь с
собственным детенышем. Такая привязанность образуется в течение первых два-
дцати семи часов после родов. Многие ученые начали прикладывать руку и «лабо-
раторные» инструменты к влагалищу других животных и в итоге открыли, что эта
стимуляция работает также у коз и лошадей. Кендрик и Киверн сделали следующий
вывод: имитация естественных родов создает у овцы привязанность к незнакомому
ягненку независимо от того, привязана ли она к своему собственному и рожала
ли вообще. Теперь роды можно было отделить от процесса образования связи меж-
ду матерью и детенышем: именно стимуляция влагалища и шейки матки, а также
высвобождение окситоцина во время такой стимуляции вносят вклад в формирова-
ние привязанности.
Привязанность у овцы можно сформировать, вводя ей в мозг окситоцин, в пер-
вую очередь в перивентрикулярное ядро - область, где вырабатывается человече-
ский (и овечий) окситоцин. Введите окситоцин гормонально стимулированной ов-
це, и она моментально усыновит чужого ягненка (не столь впечатляющая история,
как стимуляция искусственным членом, но не менее стоящая внимания).
Стимуляция влагалища и шейки матки укрепляет социальную память у крыс. Уче-
ные проделали такую стимуляцию самке (если вам интересно, а вам наверняка ин-
тересно, экспериментаторы использовали зонд, а не руки), которая была близка
к течке или в ней находилась, после чего дали ей новорожденного крысенка.
Самка продолжала узнавать этого малыша даже спустя пять часов. Это доказыва-
ет, что стимуляция влагалища и шейки матки высвобождает в мозге окситоцин,
увеличивая поощрение за обучение, усиливая социальную память и стремление к
общению с детенышем.
Энн Мерфи, жена Ларри, и ее коллеги открыли, что нервы грызунов связывают
половые органы с паравентрикулярным ядром мозга, производящим окситоцин. Сиг-
налы, идущие по нервным путям в зону выработки окситоцина, сильнее влияют на
нейроны самок, чем самцов, что логично, поскольку женский эстроген увеличива-
ет восприимчивость окситоциновых рецепторов. Мерфи полагает, что производящие
окситоцин клетки находятся в тех участках мозга, которые регулируют социаль-
ное поведение, ассоциируя половой акт и привязанность у грызунов.
Ларри и его коллеги проводят эксперименты, которые показывают, что в мозге
полевок, занимающихся сексом, высвобождаются окситоцин, дофамин и эндорфины и
что эти вещества управляют любовью у животных. Эти исследования невозможно
повторить на людях, поэтому мы не можем доказать, что Мод Гонн изменила свое
отношение к Йейтсу, поскольку вступила с ним в половой контакт. Но сомнений в
том, что во время секса и оргазма в мозге человека высвобождается окситоцин,
практически нет. Известно, что когда люди занимаются сексом, окситоцин выбра-
сывается в кровь. Веками повитухи говорили женщинам, что роды можно ускорить
половым актом. Сегодня акушеры используют для этого расширители и наполненные
водой приспособления. Действующая причина тут такая же, как в случае с полев-
ками, которые занимаются сексом, и овцами, которым искусственно стимулируют
влагалище и шейку матки: расширители и стимуляция воздействуют на эти органы.
Вполне возможно, что одновременно происходит высвобождение окситоцина в моз-
re, потому что, как показала Мерфи на грызунах, мозговой центр, вырабатываю-
щий окситоцин, напрямую связан с половыми органами. Вероятно, эволюция людей
шла по пути сохранения этой связи.
Многие мужчины обрадуются, узнав, что в смысле размеров мы очень хорошо ос-
нащены: среди приматов у нас самые большие пенисы по отношению к длине тела.
Пенис гориллы в эрегированном состоянии составляет всего четыре сантиметра.
(Но не задавайтесь: пенис усоногого рака превышает длину его тела в восемь
раз.) И размер действительно имеет значение. Переформулируя остроумный ответ
Авраама Линкольна человеку, который спросил, какой длины должны быть ноги
(«Достаточно длинные, чтобы достать до земли»), скажем: для репродуктивных
целей пенис должен быть таким, чтобы доставить сперму к шейке матки. Средняя
глубина человеческого влагалища - шестьдесят три миллиметра, если измерять от
открывающейся во влагалище части шейки матки до места, где находится девст-
венная плева. Учитывая, что длина эрегированного пениса в среднем (если ис-
ключить из подсчетов порнозвезд) составляет тринадцать сантиметров, то чело-
веческий пенис - яркий пример запасливости эволюции. Влагалище очень эластич-
ное : через него способен пройти ребенок весом три с половиной килограмма - и
приспосабливается к самым невероятным размерам, особенно когда женщина сексу-
ально возбуждена. Но факт остается фактом: у большинства мужчин половой член
значительно длиннее, чем это необходимо, чтобы доставить сперму в нужное ме-
сто.
Эволюционные теоретики давно интересовались, почему человеческий пенис
длиннее пенисов наших двоюродных родственников - приматов. По одной из тео-
рий , мужчины используют его для привлечения внимания в духе Энтони Вайнера2:
«Взгляни на меня!» Большая грива льва служит тем же целям: для других самцов
это знак, что ее обладатель - настоящий самец и с ним надо считаться. Наши
предки, демонстрируя длинный пенис, отгоняли от самок своих соперников. По
другой теории, пенис стал длинным потому, что наша сперма состязалась внутри
влагалища женщины со спермой других мужчин, которые могли спариться с ней по-
сле нас. Чем ближе к шейке матки доставлены сперматозоиды, тем больше у них
шансов победить в большой гонке к яйцеклетке. Согласно третьей гипотезе, при-
чина в женской разборчивости. В отличие от самок большинства приматов женщины
могут испытывать несколько оргазмов подряд. Когда они поняли, что мужской пе-
нис - удобное приспособление для вызывания оргазма, то стали выбирать тех,
кто более щедро одарен природой.
Мы считаем, что есть более удачное объяснение, почему у человека большой
половой член, и доктор Лонг знал, о чем говорил в 1919 году. Ларри полагает,
что пенис человека развивался как инструмент стимуляции влагалища и шейки
матки, чтобы в женском мозге выделялся окситоцин. Чем больше пенис, тем эф-
фективнее он запускает выброс окситоцина во время полового акта. Высвобожде-
ние окситоцина способствует снижению тревоги и чувства опасности у женщины,
делая ее восприимчивой к эмоциональным и социальным сигналам любовника. Она
смотрит ему в лицо, в глаза, и ее миндалевидное тело регистрирует положитель-
ный эмоциональный контекст. Вероятно, происходит выброс дофамина и эндорфи-
нов. Глядя на своего любовника так, как в других обстоятельствах она бы не
посмела, женщина получает удовольствие, которое ассоциируется с конкретным
человеком. Так мать настраивается на своего ребенка. Это более эротичный и
приятный сценарий, нежели в сцене с пастухом, производящим ручную стимуляцию
овцы, чтобы та приняла чужого ягненка, однако механизм тот же самый.
Исследование Стюарта Броди из университета Западной Шотландии говорит о
том, что ни оральный секс, ни мастурбация, ни иные формы получения сексуаль-
2
Американский политический и государственный деятель, замешанный в сексуальном
скандале.
ного удовольствия не дают женщине такого чувства удовлетворения, в том числе
ощущения «близости к партнеру», какое создает традиционный секс.
Возможно, сейчас мы покажемся защитниками миссионерской позы, но секс лицом
к лицу имеет еще одно преимущество: женская грудь находится прямо под рукой.
В третьей главе мы говорили, что помешательство на груди - врожденное качест-
во гетеросексуального мужчины, благодаря которому разбогател Хью Хефнер. С
древних времен женская грудь является одним из главных символов человеческой
эротичности. Мужчины не просто хотят на нее смотреть - мы любим играть с ней:
мы касаемся ее языком, покусываем, жмем на соски, как на кнопки, мы напеваем
в нее «Мой путь», словно в микрофон. Для этого не обязательно заниматься сек-
сом, но чаще всего мы ведем себя так во время сексуальных игр и являемся
единственным видом животных, которому свойственно подобное поведение. В нем
нет никакого репродуктивного смысла.
Игры с грудью во время секса случаются повсеместно. Рой Левин из универси-
тета Шеффилда вместе с Синди Местон из Техасского университета провели опрос
301 человека (из них 153 женщины) о груди и сексе и выяснили, что стимуляция
груди или сосков усиливает сексуальное возбуждение примерно у 82 процентов
женщин. Почти 60 процентов сами просили партнеров касаться их сосков.
Подобно длине пениса, необычное внимание к женской груди давно интересовало
эволюционных биологов. Некоторые предполагают, что крупная грудь, в которой
запасается ценный жир, говорит мужчине, что у женщины хорошее здоровье, а
значит, отличные перспективы выносить и вырастить его детей. Однако мужчины
не настолько разборчивы в сексуальных партнерах. Если основная цель секса -
передать свои гены, имеет смысл спариваться с максимальным количеством жен-
щин, даже если они не похожи на модель Playboy последнего месяца. Другая ги-
потеза основана на том, что у большинства приматов самцы совершают половой
акт, находясь за спиной у самки, о чем писал доктор Лонг. Этим объясняется
сложное поведение, которым самки некоторых обезьян привлекают самцов, демон-
стрируя свой зад. Мужчины, утверждает гипотеза, нуждались в эротической при-
манке, напоминающей им о действиях, миллионы лет осуществлявшихся нашими
предками, поэтому в процессе эволюции грудь женщины становилась всё больше и
больше, повторяя контуры женских ягодиц. Существует и одно нейробиологическое
объяснение этой нашей странности. Как вы знаете из предыдущей главы, новорож-
денные производят довольно сложные манипуляции с материнской грудью. Они де-
лают это, не только чтобы стимулировать выделение молока, но и чтобы высвобо-
дить окситоцин, укрепляющий материнскую привязанность, побудить мать эмоцио-
нально сблизиться с ребенком, запечатлеть его сенсорные сигналы в своем мин-
далевидном теле. В ответ на свои действия младенец получает награду через
систему поощрения в мозге и ощущение безопасности. Отсюда происходит мужское
восхищение грудью. Позже, будто проживая снова первые дни своей жизни, мы ис-
пользуем грудь, создавая и укрепляя романтическую связь. Грудь, как и пенис,
превратилась в инструмент стимуляции выброса окситоцина через нейронные пути,
предназначенные для формирования привязанности между матерью и младенцем.
Манипуляции с грудью вызывают высвобождение окситоцина, и чтобы этого до-
биться, не нужно быть младенцем. С доисторических времен грудное кормление,
как и половой акт, использовалось для стимуляции родов. У некоторых древних
народов повитухи, чтобы ускорить роды, помещали у соска женщины младенца.
Позже для этого применяли присоски, массаж груди и даже натирание соска ва-
той, смоченной в парафине. В 1973 году израильские врачи провели эксперимент
с обычным молокоотсосом, который приводили в действие сами испытуемые. Такая
процедура стимулировала роды в 69 процентах случаев.
Между нейронами мозга, зависимыми от окситоцина, и сосками существует пря-
мая нейронная связь. На снимках мозга женщин, самостоятельно стимулирующих
себя, Стюарт Броди и Барри Комисарук из университета Рутгерса увидели, что
стимуляция сосков активизирует мозг подобно стимуляции шейки матки. Они пред-
положили, что при этом, как и в опытах с грызунами, из паравентрикулярного
ядра высвобождается окситоцин. Названная связь между раздражением нервных
окончаний в молочной железе и выработкой окситоцина могла бы объяснить, поче-
му мужчины - единственные самцы млекопитающих, которых приводит в восхищение
грудь, а женщины - единственные самки млекопитающих, чья грудь не уменьшается
в размере, даже если они не кормят младенцев. Люди - единственные животные, у
которых грудь стала вторичным половым признаком.
В поисках дополнительных свидетельств того, что человеческое брачное пове-
дение основано на работе системы материнской привязанности и что эта работа
является источником человеческой любви, нейробиологи из Лондонского универси-
тетского колледжа предложили женщинам, помещенным в аппарат фМРТ, посмотреть
на фотографии своих детей (как это было сделано в вышеописанных эксперимен-
тах) . Полученные томограммы совпадали с результатами других аналогичных тес-
тов : подсвечивались те же самые области мозга, указывая на работу системы ма-
теринской привязанности. Затем ученые попросили женщин взглянуть на другие
фотографии, в том числе портреты Джорджа Клуни, незнакомых людей, родственни-
ков и своих возлюбленных. На Клуни реакция была иной, чем на собственных де-
тей . Она была иной и при взгляде на изображения незнакомцев и родственников.
Зато когда женщины смотрели на фотографии своих возлюбленных, мозг начинал
работать так же, как при рассматривании детских фотографий.
Актер Джордж Клуни.
Никто не может позволить себе провести эксперименты на людях, подобные тем,
какие Ларри и его коллеги проводят на степных полевках. Описанные нами факты
- не стопроцентное научное доказательство: они лишь позволяют сформулировать
гипотезу. Но когда полевки спариваются, начинает работать группа нейронов,
связывающая гипоталамус с гипофизом и прилежащим ядром. Снимки фМРТ показыва-
ют, что когда женщины смотрят на своих детей, у них в мозге задеиствуются те
же структуры, какие включаются в работу при взгляде на возлюбленных, - те са-
мые области и нейроны, которые контролируют материнское поведение у полевок.
Если гипотеза Ларри верна, возникает вопрос: почему актерам, работающим у
Джой Кинг, трудно смотреть друг другу в глаза? Почему они не влюбляются каж-
дый раз, когда исполняют свои роли? Почему Уильям Батлер Йейтс, после того
как Гонн восстановила прежнюю дистанцию, написал одно из своих знаменитых
стихотворений «Нет другой Трои» (оно начинается со строк «Как мне пенять на
ту, что в дни мои / Впустила боль»)? Почему случайные связи не ведут к устой-
чивой моногамии? Как мы говорили, важна окружающая обстановка: съемки порно-
фильма не романтичны и даже не слишком сексуальны. Более того, судя по крысам
Пфауса, приобретение фетиша требует навыка. Окситоцин - привратник, открываю-
щий врата в царство любви. Сквозь них надо пройти неоднократно и в подходящее
время. Но даже в этом случае необходимо постоянно повторять этот проход. Одна
совместная ночь может убедить вас, что вы влюблены, но ее чары скоро исчез-
нут.
У человека секс связан не только с размножением и передачей генов. Большин-
ство млекопитающих становятся готовыми к половому акту, лишь когда способны к
произведению потомства на свет. Однако люди занимаются сексом, даже если шан-
сов оплодотворить яйцеклетку нет. Значит, секс у человека должен служить ка-
ким-то иным целям, помимо создания все большего числа людей. Мы считаем, что
в процессе человеческой эволюции механизм формирования связи между матерью и
ребенком, общий для всех млекопитающих, изменился так, что женщины начали ис-
пользовать секс для формирования и поддержания привязанности. Иначе говоря,
мужчины используют свой пенис и грудь партнерши для того, чтобы уговорить
женщин с ними нянчиться. (Женщине следует об этом помнить, если мужчина решит
потарахтеть, как моторная лодка, в ложбинке между ее грудями.) Впрочем, у
женщин тоже есть цель, и для ее достижения они используют древнюю мужскую
нейронную сеть.
ГЛАВА 6.
МУЖСКАЯ ЛЮБОВЬ:
ЭТО МОЯ ТЕРРИТОРИЯ!
Как и Маркус Хайнрихс до начала своих экспериментов, вы можете сомневаться
в том, что одно вещество (а хоть бы и несколько) способно послужить источни-
ком такого сложного явления, как человеческая любовь. Подобная идея умаляет
значение свободной воли в том, что кажется нам самым важным поступком в жиз-
ни. Ведь мы сами решаем, когда заниматься сексом. Мы сами выбираем, с кем за-
ниматься сексом и кого любить. Так считает большинство людей. Нет, мы не со-
бираемся утверждать, что свободная воля во всем этом вообще отсутствует. Мы
хотим только показать, что люди очень сильно зависят от влияния нейрохимиче-
ских веществ. Человеческая любовь действительно является результатом воздей-
ствия этих веществ на определенные цепи в нашем мозге, и способность к устой-
чивой моногамной любви разная у разных людей. Она зависит от генетических
особенностей и внешних событий, над которыми у нас почти нет власти.
Чтобы понять, насколько велика власть нейрохимических веществ и как долго
они находятся у власти, мы приходим в лабораторию Кэти Френч в Калифорнийском
университете Сан-Диего, расположенную высоко на плоскогорье с видом на Тихий
океан. Френч изучает пиявок. Она занимается ими много лет и, наверное, многим
покажется немного эксцентричной. Но она совсем не похожа на тот мрачный демо-
нический образ мизантропа, который возникает при мысли о ком-то, кто питает
страсть к кровососущим тварям. Френч - бойкая, маленькая, энергичная блондин-
ка. В старших классах она могла бы быть лидером группы поддержки школьной ко-
манды .
Когда Френч и ее сотрудник Криста Тодд вводят нас в крошечную комнату, на-
полненную влажным воздухом и больше похожую на чулан, мы видим лишь полки и
стоящие на них маленькие стеклянные сосуды. Внутри каждого сосуда с водой и
мхом бездельничает несколько пиявок. Их легко спутать с упитанными улитками
без раковин. Длина пиявки в сжатом состоянии достигает семи сантиметров (в
таком виде они проводят большую часть времени, хотя могут растягиваться до
двадцати). Если их не трогать, всё, чем они занимаются между поглощениями
очередной порции крови, - это неподвижное возлежание у края воды, как Джабба
Хатт3 в отпуске на Арубе. Но Френч может рассказывать об их жизни с восторгом
тринадцатилетней девочки, описывающей прическу Джастина Бибера. Hirudo
medicinalis - медицинская пиявка - принадлежит к типу кольчатых червей и яв-
ляется родственником дождевого червя, а ее тело тоже состоит из большого чис-
ла сегментов. Никто не знает точно, насколько древняя эта группа - пиявки, но
они очень, очень древние. Окаменевших кольчатых червей находят в отложениях
кембрийского периода, возраст которых насчитывает пятьсот миллионов лет. Род
Hirudo , возможно, не такой древний, тем не менее, те животные, которых мы
видим у Френч, действительно живые реликты: их предки водились в заболоченных
водоемах задолго до того, как полевки, овцы и люди, да и все другие млекопи-
тающие появились на земле.
Hirudo medicinalis.
Все пиявки гермафродиты: у каждой особи есть мужские и женские половые же-
лезы. Не правда ли, довольно удобно? Впрочем, хотя органы у них есть, оплодо-
творять себя сами пиявки не могут, и спаривание у них - дело довольно затруд-
нительное . Прежде всего, пиявке надо найти партнера. Глаз у них нет, и Френч
полагает, что они ориентируются в окружающей среде, полагаясь на органы вку-
са: при помощи губ, где имеются клетки химического чувства, они и пытаются
отыскать подходящего кандидата. По мнению Френч, пиявки ощущают вкус мочи,
выделяющейся через поры, расположенные у животного на брюшной стороне тела.
Если пиявка в настроении, она поднимает голову, как кобра, и начинает шеве-
лить губами (просто вылитая старуха, жующая воздух беззубым ртом): надеется
почуять привлекательный запах мочи и уловить признаки того, что особь, оста-
вившая ее, готова к спариванию, - она старается распознать социальные сигналы
об окружающих пиявках. Френч пока не может этого доказать, но утверждает, что
з
Персонаж киносаги «Звездные войны» Джорджа Лукаса, похожий на гигантского слизня.
«пиявки должны как-то различать такие сигналы, иначе бы они постоянно друг1
друга насиловали».
Как только пиявка находит партнера, начинается замысловатый балетный этюд.
В нижней части тела пиявки имеется множество половых пор, которые ведут к по-
ловым органам. Пенис находится в поре пятого сегмента тела. Женская пора рас-
положена в следующем, шестом, сегменте. Если вы пиявка, вы должны убедиться,
что ваш пятый сегмент находится напротив шестого сегмента вашего партнера,
что совсем непросто. Пиявки отрывают брюшную сторону тела от земли и, как
описывают Френч и Тодд, закручиваются вокруг друг друга «как телефонный шнур»
(скрученные пиявки действительно напоминают телефонный шнур). Трудно предста-
вить, чтобы ленивые пиявки, большую часть времени лежащие у воды, проделывали
нечто подобное. Френч говорит, что они приподнимают низ тела, двигаются, как
кобры, и скручиваются, как телефонные шнуры, только когда спариваются, и
больше никогда. У них есть важная причина редко вести себя экстравагантно:
это очень опасно. Спариваясь, пиявки становятся уязвимы для хищников. Пуско-
вой сигнал для такого поведения должен быть очень мощным, чтобы животное за-
было о собственной безопасности.
Хотя пиявок веками используют в медицине и часто - в современной лечебной
практике, до некоторых пор никто не знал, почему они начинали скручиваться,
пока на одной встрече Френч не услышала слова исследователя из университета
Юты, Балдомеро Оливера. Он рассказывал о яде, который брюхоногие моллюски ко-
нусы используют для охоты на червей-точильщиков (это тоже кольчатые черви).
Яд конусов содержит неиротоксины. В голове у Френч сразу возникла счастливая
идея, и она сказала: «Хм-м, у нас есть кольчатые черви, у вас - нейромышечные
агенты. Мы бы хотели проверить их на наших животных». Две лаборатории начали
сотрудничать. Ученые из Юты разделили яд конусов на составляющие его вещества
и отправили некоторые ингредиенты в Сан-Диего. Здесь препарат ввели в тело
пиявок и стали ждать, что произойдет. Обе лаборатории понимали, что ждать
придется несколько месяцев, если не лет. Однако эффект проявился почти сразу,
и он был поразителен. «Всего через три повтора мы обнаружили, - рассказывает
Френч, - что половое поведение пиявок - движения кобры, телефонные шнуры -
возникало в ответ на одну из субфракций яда, даже если поблизости не было по-
ловых партнеров». Как оказалось, эту субфракцию можно было купить у некоторых
компаний - поставщиков химических веществ. Френч приобрела партию. Как только
она ввела препарат своим пиявкам, животные продемонстрировали то, что она на-
звала «ложным флиртом». (Тодд предложила в качестве обозначения «ложный
трах», что гораздо точнее передает происходящее, но Френч решила, что этот
термин вряд ли будет приемлем для объявлений на научных конференциях.) Пиявки
пытались спариться.
Чтобы показать нам, насколько мощно и быстро действует вещество, Тодд берет
тонкий шприц и заносит иглу над пиявкой, одиноко лежащей в пластиковом кон-
тейнере с небольшим количеством воды. Если бы она вытянулась, то ее длина со-
ставила бы около двенадцати сантиметров, но она этого не делает, а занимается
своими пиявочными делами, то есть просто лежит. Тодд делает укол, и всего че-
рез две минуты пиявка цепляется задним концом тела за днище контейнера и на-
чинает растягиваться и скручиваться, показывая брюшную сторону, разевая рот,
и действительно напоминает живой телефонный шнур. В конце концов, из мужской
половой поры высовывается кончик пениса.
Тодд тычет в пиявку шприцем. Обычно пиявки немедленно сжимаются. Но эта не
замечает боли и продолжает скручиваться. Лаборатория Френч воздействовала на
таких пиявок электрическим током, и те не дрогнули. Их полностью захватило
брачное поведение. Все, чего они хотят, - это заняться сексом. Возможно, в
процессе эволюции у моллюсков конусов появилось вещество, запускающее брачное
поведение червей-точильщиков, чтобы те становились легкой добычей.
Вещество, возбуждающее пиявок Френч, носит название конопрессин. В организ-
ме пиявки содержится его аналог - аннетоцин. У людей тоже есть подобное веще-
ство , точнее, два вещества: окситоцин и вазопрессин. Человеческие окситоцин и
вазопрессин возникли примерно семьсот миллионов лет назад. В процессе эволю-
ции ген, отвечавший за создание конопрессина и аннетоцина, разделился на две
связанные между собой части, которые стали генами вазопрессина и окситоцина.
Все эти вещества представляют собой цепочку из девяти аминокислот. Вот цепь
аннетоцина:
Цис - Фен - Вал - Apr - Асн - Цис - Про - Тре - Гли.
Цепь конопрессина:
Цис - Фен/Иле - Иле - Apr - Асн - Цис - Про - Лиз/Apr - Гли.
Человеческий окситоцин:
Цис - Тир - Иле - Глн - Асн - Цис - Про - Лей - Гли.
И, наконец, человеческий вазопрессин:
Цис - Тир - Фен - Глн - Асн - Цис - Про - Apr - Гли.
Буквы - сокращенные названия аминокислот, но не забивайте себе ими голову.
Вещества, возникшие сотни миллионов лет назад у предков пиявок, дошли до нас
в практически не измененном виде. Если вы возьмете ген, который у рыбы-собаки
кодирует изотоцин - аналог окситоцина, и пересадите его крысе, то в нейронах
крысиного гипоталамуса вместо окситоцина начнет производиться изотоцин. Гены,
отвечающие за синтез этих веществ, устроены настолько сходно у рыб и млекопи-
тающих , что одинаково работают у совершенно разных видов. Обратите внимание:
человеческий окситоцин и человеческий вазопрессин различаются только по
третьей и восьмой позициям. У этих двух гормонов много общего, они могут свя-
зываться с рецепторами друг друга и запускать их работу. Когда лаборатория
Френч решила изучить влияние блокатора рецепторов конопрессина, кто-то посо-
ветовал ей приобрести блокатор вазопрессина. «Слушайте, - ответила она, - эти
белки сложные, очень специфические. Вы, конечно, можете его купить, но у вас
ничего не выйдет, поэтому сразу говорю: не слишком расстраивайтесь». Блокатор
сработал идеально.
Если вещество так мало изменилось за миллионы лет, оно должно играть ключе-
вую роль в каких-то очень важных общебиологических процессах, иначе бы оно
давным-давно осталось на обочине эволюции. Мы уже обсуждали значение оксито-
цина. В 1906 году его обнаружил сэр Генри Дейл. (В 1936 году он получил Нобе-
левскую премию за открытие механизма взаимодействия нервов посредством хими-
ческих веществ, а не электрических сигналов, как полагало большинство уче-
ных.) В экспериментальных условиях окситоцин был синтезирован в 1953 году
американским ученым Винсентом дю Виньо. Его лаборатория также первой изолиро-
вала и синтезировала вазопрессин. Дю Виньо тоже получил Нобелевскую премию.
В 1950-е вазопрессин был известен науке как антидиуретический гормон: он
отвечает за поддержание водного баланса в организме. Детям, которые хрониче-
ски мочатся в постель, часто выписывали лекарство, содержащее вазопрессин.
Никто тогда и не подозревал, что гормон действует на клетки нашего мозга и
влияет на наше поведение. Сейчас мы склонны подозревать, что он не только за-
пускает процесс спаривания у пиявок, но крайне важен для возникновения чело-
веческой любви, особенно если мы говорим о любви с мужской точки зрения.
Согласитесь, как-то непохоже, чтобы пиявки и баланс жидкости в организме
имели какое-либо отношение к моногамной человеческой любви. Но давайте пред-
ставим, что вы сидите в подвале и пытаетесь отремонтировать систему домашнего
отопления. Эта картина будет выглядеть не так уныло, если у вас с собой буты-
лочка пива. Теряясь в догадках о том, как же починить этот обогреватель, вы
ощущаете приближающуюся жажду и беретесь за бутылку. Вот тут-то до вас дохо-
дит : открывалка лежит наверху, в ящике кухонного стола. Вместо того чтобы
подниматься наверх и (что очень вероятно) выслушивать неприятные вопросы о
состоянии обогревателя, вместо того чтобы изобретать открывалку на месте, вы
находите подходящую отвертку и прекрасно управляетесь ею. Эволюция тоже при-
спосабливает существующие инструменты к новым нуждам. Вазопрессин и окситоцин
- примеры явления, которое эволюционные биологи называют экзаптацией: исполь-
зованием уже имеющегося вещества или нейронной цепи с новой целью.
Пиявки мочатся по той же причине, что и люди: они избавляются от лишней во-
ды и вредных веществ. Но моча других пиявок может поведать им о многих инте-
ресных и полезных фактах, например: готов ли кто-нибудь по соседству спарить-
ся? Млекопитающие постоянно используют мочу для общения: взгляните на свою
собаку. Когда вы берете Спарки на прогулку, он скорее всего проводит непомер-
но много времени, прыская мочой на любимые столбы по всему вашему (точнее, по
всему его) району. Таким способом он оставляет послания для других собак.
Млекопитающие могут многое узнать друг о друге через мочу, и некоторые виды
определяют по ней готовность половых партнеров к сексу. Животные помечают
свою территорию струей мочи - так они сообщают другим, что помеченное про-
странство принадлежит им. Кое-кто использует для этого не мочу, а выделения
пахучих желез. Так, в 1978 и 1984 годах ученые сделали открытие, проводя ис-
следования на хомяках (мы указываем две даты, потому что открытие пришлось
фактически делать дважды). При введении вазопрессина в медиальную преоптиче-
скую область и в передний гипоталамус самцов хомяка в них пробуждается стра-
стное желание к расширению личного пространства. Для мечения территории они
используют пахучие железы в задней части тела.
Лягушки для общения не используют ни мочу, ни пахучие железы - они друг с
другом разговаривают. Квакая, самцы сообщают о своей доступности самкам, а
некоторые виды - о принадлежащей им территории. Кваканье в мозге лягушки за-
пускается действием вазотоцина - аналога вазопрессина. Ученым известна зави-
симость между громкостью кваканья и количеством воды в организме лягушки. Во-
да увеличивает внутреннее давление, помогая самцу достойно выступить на лягу-
шачьем концерте.
Следовательно, вазотоцин необходим лягушкам для общения между полами и для
обозначения границ территории.
Чтобы успешно охранять свою территорию, животное должно помнить, где, соб-
ственно, эта территория начинается и где заканчивается. Для этого нужно иметь
пространственную память, и она так же необходима, как память социальная, о
которой мы рассказывали в предыдущей главе, поскольку иначе животное не смо-
жет отличить свою территорию от чужой. Далее, как только вы объявите своей
какую-то территорию, вам придется ее защищать. Вы должны быть готовы драться
за нее, иначе какой смысл называть ее своей? Но коль скоро ради защиты терри-
тории вы готовы рисковать здоровьем и даже жизнью, значит, вы наверняка к ней
что-то испытываете. В определенном смысле вы чувствуете к ней привязанность.
У вас есть дом. Ваш дом - именно это место, а не какое-то другое. Вы, если
позволите так выразиться, становитесь территориально моногамными. Спарившись,
вы либо пригласите самку на свою старую территорию, либо займете новую - не-
большой клочок земли, где будете растить детей и охранять партнершу так же
ревностно, как охраняли занятое вами пространство.
То, что начиналось как способ контроля водного баланса в организме, у муж-
чин превратилось в умение привязываться к партнеру. Женская любовь уходит
эволюционными корнями в нейронные цепи материнской привязанности, а для муж-
чин, по мнению Ларри, женщина - это территория. Это, конечно, гипотеза, а не
доказанный научный факт. Поэтому давайте вернемся к научным фактам, и будем
исходить из того, что окситоцин и вазопрессин управляют работой систем орга-
нов и служат для передачи сигналов по нейронным цепям и у мужчин, и у женщин.
Наука пока не разобралась досконально, как именно взаимодействуют два этих
вещества, оказывая влияние на половое поведение людей, но благодаря опытам на
животных мы кое-что знаем.
Сейчас установлено, что чувствительность к окситоцину зависит преимущест-
венно от эстрогена, а синтез вазопрессина в нейронах мозга - от тестостерона.
В миндалевидном теле мужчин содержится больше нейронов, производящих вазо-
прессин, и он, судя по всему, регулирует такой вид мужского социального пове-
дения, как охрана партнера, причем у самых разных видов. (Разумеется, если
человеку ввести вазопрессин, он не бросит свою пиццу и не начнет извиваться,
как телефонный шнур.) Мы спросили Кэти Френч, не слишком ли это большое допу-
щение - сравнивать половое поведение пиявок с половым поведением людей? «Оно
удивительно похоже на человеческое, - отвечает Френч. - На уровне молекул».
«На уровне молекул», - с решительным кивком повторяет за ней Тодд.
Доза для
подружки
Моногамия во многом определяет жизнь моногамных видов животных. Это касает-
ся и самок, и самцов, а иногда самцов в особенности. Обитатель глубоких вод
рыба-удилыцик относится к моногамии очень серьезно. Удильщики живут настолько
глубоко, что свет в их мир почти не проникает. В ходе эволюции у этих рыб
сформировались маленькие светящиеся органы-«фонарики», расположенные на конце
выроста, - удочки. Они служат как приманка для привлечения добычи, а возмож-
но, и для поиска себе подобных. Но даже с помощью биолюминесцентной приманки
в такой темноте трудно найти себе товарища. Поэтому когда самец натыкается на
самку, то привязывается к ней не на шутку: он вцепляется в нее зубами, и кро-
веносные сосуды партнеров срастаются. Самец в буквальном смысле растворяется
в своей партнерше: от него остается только гипоталамус и мешок с семенниками,
прикрепленный к телу самки. А вот самки удильщиков не настолько преданны сво-
ей второй половине: на одной самке можно обнаружить несколько вот таких ос-
татков самцов, свисающих с ее тела, словно охотничий трофей. Не стоит этих
самцов жалеть: с эволюционной точки зрения они получили то, чего хотели боль-
ше всего на свете. Какие бы гены ни заставили их перейти к такому образу жиз-
ни, каждый раз, когда самка мечет икру, самец дает начало своим потомкам,
внося вклад в популяцию удильщиков. Те самцы, чья организация мозга не была
приспособлена к стремлению и поддержанию моногамии, едва ли могли породить
много потомков в таких суровых условиях. В итоге в процессе эволюции холо-
стяцкие гены оказались вычеркнуты из родословной удильщиков. Так работает ес-
тественный отбор. Поведение - это способ приспособиться к среде и произвести
на свет наиболее жизнеспособных потомков.
В 1993 году Джеймс Уинслоу, Сью Картер, Томас Инзел и их коллеги сообщили о
своем открытии: вазопрессин в мозге играет важную роль в моногамном поведении
млекопитающих. Они провели серию экспериментов со степными полевками. Прежде
чем спариться с самкой, самцы с удовольствием общаются с другими полевками
обоего пола. Если незнакомая самка-девственница окажется в клетке с девствен-
ником-самцом, они хорошенько обнюхают друг друга и на этом все кончится. Но
ситуация меняется после спаривания. У самца возникает привязанность к парт-
нерше, и он начинает нападать на любую другую полевку, оказавшуюся в клетке.
Вазопрессин не был настолько же очевидным претендентом на роль в формирова-
нии привязанности, как окситоцин: исследователи знали, что окситоцин участву-
ет в формировании близких отношений между особями. К моменту, когда экспери-
менты Уинслоу были уже завершены, ученые доказали, что вазопрессин, высвобож-
дающийся в мозге самцов во время спаривания, не просто участвует в регуляции
их последующего брачного поведения, но без вазопрессина самцы полевок ведут
себя иначе. Если вазопрессин блокирован, у самцов не формируется привязан-
ность к партнерше даже после спаривания. Без вазопрессина у них очень плохая
социальная память. И хотя они продолжали спариваться с самками, агрессивное
поведение по отношению к другим самцам исчезало.
Если вазопрессин вводится в мозг самца, пробывшего с самкой несколько часов
без спаривания, самец будет предпочитать именно эту самку, а не другую, даже
если та его игнорирует. Дальнейшее исследование показало, что спаривание, а
затем жизнь с самкой физически меняют мозг самца: в мозге увеличивается число
нервных отростков, высвобождающих вазопрессин, и меняется структура прилежа-
щего ядра. Благодаря этим перестройкам у самца усиливается привязанность к
самке, и он начинает заботиться о потомстве.
Самцы серых и горных полевок спариваются так же, как степные, и тоже полу-
чают дозу вазопрессина. Нейроны и их отростки, выделяющие вазопрессин, выгля-
дят так же. Но у этих видов не формируется привязанность к самке, и они не
демонстрируют повышенную агрессию по отношению к вторгающимся на их террито-
рию самцам. Логично было бы предположить, что серые и горные полевки получают
слишком низкую дозу вазопрессина, чтобы сформировать моногамную пару. Но Ин-
зел обнаружил, что причина иная. Как и в случае с окситоциновой системой у
самок, объяснение кроется не в количестве вещества, а в строении чувствитель-
ных к нему областей мозга. Эти области различаются у разных видов. У самцов
степных полевок структура, называемая вентральным паллидумом (часть прилежа-
щего ядра), содержит много рецепторов вазопрессина, а у самцов серых полевок
- мало. И есть еще одна важная область мозга - латеральная перегородка. Бла-
годаря активности ее вазопрессиновых рецепторов самец запоминает конкретную
самку. Ларри и его коллега Жуосинь Ван блокировали рецепторы вазопрессина в
одной из названных структур у нескольких самцов. Теперь одной ночи с сексу-
альной подружкой им стало недостаточно, чтобы у них образовалась к ней привя-
занность. Ларри полагает, что именно такое распределение вазопрессиновых ре-
цепторов в мозге помогает самцам степных полевок образовывать с самками моно-
гамную связь.
Шесть лет спустя после знаменательного исследования Уинслоу Ларри провел
очень простой, но показательный опыт. Он взял самцов степных и горных полевок
и вводил в мозг одним особям вазопрессин, а другим - плацебо. Затем он поме-
щал самца на одну сторону двусторонней площадки рядом с обездвиженной самкой.
Все горные полевки подошли к спящей самке, обнюхали ее, образно говоря, пожа-
ли плечами и отправились осматривать клетку. Результат был одинаков независи-
мо от того, получили они вазопрессин или плацебо. А вот у степных полевок
различия были явными. Самцы, которым ввели вазопрессин, обнюхав самку, прижи-
мались к ней и ухаживали гораздо активнее, чем самцы, получившие плацебо.
Внешне это напоминало пиявочный «ложный флирт», за исключением того, что у
полевок под рукой была настоящая самка, пусть и в бессознательном состоянии,
с которой можно было флиртовать.
Результаты описанного опыта кажутся простыми, но выводы, которые из них
следуют, потрясающие: это доказывает, что вазопрессин в мозге двух очень по-
хожих видов совершенно по-разному влияет на их социальное поведение. Рецепто-
ры - это белки, а белки закодированы в генах. Гены - это разные участки ДНК,
в каждом из которых хранится информация о каком-нибудь белке. Однако только
одна часть гена несет информацию о белке, другая его часть такой информации
не содержит - это так называемый промотор. Два гена, кодирующие один и тот же
белок, могут различаться по строению промотора. Эта часть гена очень важна:
от промотора зависит, в каких именно клетках будет синтезироваться закодиро-
ванный белок (в нашем случае рецептор вазопрессина). Ларри решил проверить,
не может ли разница в строении промотора быть причиной тех различий, которые
он наблюдал в поведении степных, серых и горных полевок. Он изолировал ген
рецептора вазопрессина, который называется avprla , у степных и у серых поле-
вок и сравнил их строение.
Гены обоих видов оказались одинаковы на 99 процентов - свидетельство того,
что структура рецептора белка тоже одинакова. Но различия всё же были: они
содержались в том фрагменте промотора, который генетики называют «мусорной»
ДНК («мусорной» она была названа потому, что раньше ее считали совершенно
бесполезной). Эта «мусорная» ДНК состоит из повторяющихся, дублирующих друг
друга фрагментов. Когда клетки делятся, происходит копирование всей молекулы
ДНК, и каждая новая клетка получает новую копию. Но во время считывания ин-
формации с того участка, который назвали «мусорным», копирующий механизм на-
чинает «спотыкаться», «заедать», как «заедает» проигрыватель при воспроизве-
дении испорченного музыкального диска. В результате новая клетка получает ко-
пию ДНК, в которой содержится иное, чем в оригинальной ДНК, число повторяю-
щихся (дублирующих друг друга) фрагментов. Иначе говоря, «мусорная» ДНК -
«горячая точка» эволюции. Это явление навело Ларри на мысль, что именно «му-
сорная» ДНК ответственна за различия в количестве вазопрессиновых рецепторов
в мозге, а значит, и за различия в поведении.
Насколько же сильно распределение рецепторов в мозге влияет на поведение?
Чтобы это узнать, Ларри и его сотрудники взяли целиком ген avprla полевок
(вместе с кодирующим участком и с «мусорной ДНК» промотора) и встроили его в
ДНК мышиных эмбрионов, то есть они получили мышей, у которых рецепторы вазо-
прессина в мозге были представлены в том же количестве, что и в мозге степных
полевок. Самцы этих трансгенных мышей выросли, им сделали инъекцию вазопрес-
сина, и брачное поведение этих от природы полигамных животных изменилось: оно
стало очень напоминать поведение степных полевок. Самцы гораздо активнее об-
нюхивали партнершу и с большей готовностью за ней ухаживали. Других отличий
от нормальных мышей у этих особей не было. Чувствительность рецепторов окси-
тоцина была одинакова. Они в привычной мышиной манере обследовали новую клет-
ку, а когда Ларри дал им понюхать ватные шарики, надушенные запахом лимона и
запахом самок мышей с удаленными яичниками, никакой разницы в реакции не по-
следовало . Единственное различие между трансгенными самцами и обычными заклю-
чалось в том, как они обращаются с самкой: трансгенные самцы оказались масте-
рами флирта.
Описанный эксперимент одним из первых доказал, что поведение может сильно
меняться из-за мутации в регулирующем промоторе. Это означает, что поведение,
которое мы считаем неизменяемым, по крайней мере, типичным для конкретного
вида, зависит от строения крайне изменчивых участков ДНК.
Поскольку трансгенные мыши не стали моногамными, как степные полевки, воз-
ник естественный вопрос: если поместить ген avprla моногамной степной полевки
в ДНК родственного вида полигамной полевки, изменит ли это что-нибудь? Лабо-
ратория Ларри провела схожую серию экспериментов с самцами серых полевок. Они
сосредоточили свое внимание на системе поощрения, в которой действует дофа-
мин, а именно на паллидуме - области, которая, как выяснил Инзел, содержит
разное число рецепторов у разных видов. (Паллидум моногамных видов мышей и
мартышек-игрунок несет намного больше рецепторов по сравнению с близкородст-
венными полигамными мышами и обезьянами.) Ларри взял мощный вирус, который
проник в клетку и внедрил в ее ДНК свои вирусные гены. Затем он убрал гены
вируса, заменил их геном avprla степных полевок. Миранда Лим, его студентка,
изъяла этот измененный вирус и ввела его в паллидум серых полевок. Вирус сде-
лал свое дело, и клетки паллидума начали создавать рецепторы вазопрессина в
том же количестве, в каком они содержатся у самцов степных полевок. Самцов на
сутки подсадили в клетки к восприимчивым самкам. Как и ожидалось, пары всю
ночь спаривались, как любые нормальные серые полевки. Затем самцам устроили
тест на предпочтение партнера. Когда им предоставили выбор между самкой, с
которой они провели ночь, и другой самкой, контрольная группа самцов (им вве-
ли плацебо) не выразила никаких предпочтений: они уделяли незнакомым самкам
столько же внимания, сколько и своим ночным подружкам, что вполне в духе се-
рых полевок. Однако самцы с геном степных полевок avprla прижимались к своим
ночным партнершам гораздо дольше, чем их собратья из контрольной группы. Лар-
ри и его коллеги «включили» у них моногамное поведение или, если хотите, соз-
дали супружескую привязанность у вида, который не образует прочных связей.
Ученые изменили врожденное поведение животных всего одной генетической опера-
цией, и это был даже не новый ген, а только другая версия уже имеющегося у
серых полевок гена. Но после такой операции не просто возникло большое разли-
чие между двумя особями одного вида - вся социальная система стала иной: мо-
ногамной вместо полигамной. Граница между двумя совершенно разными образами
жизни оказалась зыбкой.
Успех эксперимента объясняется примерно так же, как и результаты исследова-
ния женской привязанности (на самом деле нервные волокна окситоцина и вазо-
прессина можно найти в одних и тех же областях мозга). Под влиянием андроге-
нов, воздействующих на гетеросексуально организованный мужской мозг, и поощ-
рения, возникающего в мозге в ответ на запах самки в течке, самцы спарива-
лись , также получая за это мозговое поощрение. Во время полового акта они
обоняли запах самки и воспринимали всю доступную социальную информацию. Секс
стимулировал выброс вазопрессина из волокон, берущих начало в миндалевидном
теле. К прилежащему ядру и паллидуму поступал поток дофамина, в латеральной
перегородке и паллидуме происходило объединение данных о партнерше. Под влия-
нием дофамина и данных о самке между нейронами формировалась прочная связь -
связь между социальными сигналами от самки и поощрением в мозге. Теперь у
самцов серых полевок, как и у их родственников - степных полевок, поощрение
было ассоциировано с конкретной самкой: им нравилось иметь постоянную подруж-
ку.
С этого момента ученые знали, что межвидовой барьер преодолим. Знали они и
то, что «мусорная» ДНК, отвечающая за различия в поведении, неодинакова даже
у особей одного вида. Пока Ларри изучал «мусорную» ДНК, он обратил внимание,
что не у всех степных полевок последовательность повторяющихся фрагментов
одинакова. Длина этого участка гена у разных особей разная. А надо сказать,
что у самцов степных полевок также есть индивидуальные особенности социально-
го поведения: в природе примерно 60 процентов самцов образуют постоянные пары
с самками, остальные всю жизнь волочатся за разными дамами.
Элизабет Хэммок, бывшая студентка Ларри, ныне работающая в университете
Вандербилта, решила выяснить, связаны ли различия в длине «мусорной» ДНК гена
avprla , которые наблюдаются у особей одного вида, с различиями в количестве
вазопрессиновых рецепторов в мозге, а также с индивидуальными особенностями
социального поведения степных полевок, поскольку такие различия существуют
между степными и серыми полевками. Она обследовала всех полевок в колонии,
нашла самцов и самок с длинными и короткими «мусорными» ДНК, а затем выступи-
ла в роли свахи, начав скрещивать «длинных» самок с «длинными» самцами, а
«коротких» - с «короткими». Так Элизабет получила две группы потомков - с
длинными повторностями и с короткими. После этого она отдала половину малышей
матерям с противоположной версией «мусорной» ДНК, чтобы учесть минимальные
различия в воспитании: если поведение детенышей, выращенных одной матерью,
будет различаться, это можно будет объяснить скорее результатом работы гена,
чем уровнем заботливости самки.
У самцов с длинной версией «мусорной» ДНК было больше вазопрессиновых ре-
цепторов в нескольких участках мозга, включая обонятельную луковицу и лате-
ральную перегородку (она делает вклад в социальную память). Эти животные были
заботливыми отцами и активно заботились о своих малышах. Среди отцов с корот-
кой версией «мусорной» ДНК только 80 процентов проявляли подобное поведение
(такую же статистику получила Франсез Чампейн, сравнивая самок крыс с высоким
и низким уровнями заботливости). У самок разницы в поведении, связанной с
длиной гена, не было, следовательно, различия в длине гена avprla были суще-
ственны только для самцов.
Итак, разные версии гена - это разная манера ухода за потомством. А что
можно сказать о брачном поведении и привязанности? Хэммок переложила испач-
канную самкой подстилку в клетку с самцами того же возраста. Самцы с длинной
версией avprla быстрее ею заинтересовались и уделили ей значительно больше
внимания, чем самцы с короткой версией. Разница наблюдалась, только если под-
стилка имела запах самки. Когда Хэммок предлагала подстилку с другими запаха-
ми, например ароматом банана, различий не было. Еще самцов подсаживали к сек-
суально восприимчивым самкам, а затем проводили тест на предпочтение партне-
ра. Самцы с длинной версией гена проводили со своей новой невестой как мини-
мум в два раза больше времени, чем самцы с короткой версией. Они не выказыва-
ли почти никаких предпочтений, то есть оказались никудышными женихами.
Как следует из описанного исследования, различия в длине «мусорной» ДНК мо-
гут оказывать глубокое влияние на поведение, по крайней мере, в условиях же-
сткого контроля сверху и в апартаментах размером с обувную коробку. Но вот
эксперименты, проведенные в дикой природе или в условиях, приближенных к ес-
тественным, дали противоречивые результаты. Один такой эксперимент под руко-
водством Алекса Офира из университета штата Оклахома показал, что не всегда
именно «мусорная» ДНК определяет степень привязанности полевок. Она зависит и
от характера распределения вазопрессиновых рецепторов в мозге. Если у самца
степной полевки мало рецепторов в так называемой поясной коре (она отвечает
за пространственную память), он забывает свою территорию и становится «бродя-
гой», спариваясь со множеством самок и производя больше потомства. Тем не ме-
нее, работа гена вазопрессина, без сомнения, имеет огромное влияние на брач-
ное и родительское поведение самцов полевок, а изменения в этом гене влекут
за собой изменения в поведении.
Ларри, желая сравнить свои результаты с общей картиной генетических законо-
мерностей, начал поиск в генетической базе данных, чтобы узнать, свойственно
ли подобное разнообразие другим млекопитающим. Он изучил ген avprla Клинта -
первого шимпанзе, чей геном расшифровали. В нем отсутствовал большой фрагмент
«мусорной» ДНК под названием RS3 (сокращенно от repetitive sequence - «повто-
ряющаяся последовательность»). Известно, что длина RS3 разная у разных людей.
Шимпанзе печально известны своей жестокостью: они часто убивают детенышей и
склонны к сексуальному насилию по отношению к самкам. Заинтересовавшись, Лар-
ри вместе со своей студенткой Зои Дональдсон изучил этот участок еще у восьми
шимпанзе и выяснил, что примерно у половины особей фрагмент RS3 очень похож
на человеческий, а у другой половины (как и у Клинта) его не было вовсе.
В свое время Уильям «Билл» Хопкинс, психобиолог из Национального центра ис-
следований приматов Иеркса и один из коллег Ларри, обнаружил, что такие осо-
бенности характера шимпанзе, как склонность к доминированию и совестливость,
связаны с различиями в строении RS3. Самцы с двумя копиями короткой версии
RS3 (полученными от отца и от матери) были значительно более агрессивными и
менее склонными к общению. Кроме того, у них было меньше нейронов в передней
поясной коре (области, связанной у полевок с пространственной памятью). Пе-
редняя поясная кора соединяется с префронтальной корой, о которой мы упомина-
ли в разговоре о том, как поощрение в мозге ослабляет способность к критиче-
скому мышлению.
Карликовые шимпанзе, или бонобо, настолько близки к обыкновенным шимпанзе,
что до 1929 года биологи считали их одним видом. Бонобо значительно менее аг-
рессивны. Их трудно назвать моногамными, но они формируют прочные социальные
связи, для чего часто используют секс. У бонобо фрагмент RS3 гена avprla, ис-
следованный Хэммок, почти идентичен аналогичному фрагменту - AVPR1A RS3 - че-
ловека (человеческие гены обозначаются заглавными буквами). Никто не может
сказать наверняка, связано ли это генетическое сходство с устройством соци-
альной системы бонобо, однако есть один весьма примечательный факт: фрагмент
RS3 влияет на распределение вазопрессиновых рецепторов в человеческом мозге,
и по его строению, проводя параллели с данными, полученными Ларри на полев-
ках , можно с успехом предсказывать, какой тип поведения более свойствен обла-
дателю той или иной вариации RS3.
Охрана любимой, или
почему он хочет
надрать вам задницу
Самцы степных полевок будут защищать свои гнезда и агрессивно охранять под-
руг от любых посягательств, особенно со стороны других самцов. Когда на гори-
зонте появляется незнакомая полевка, объем вазопрессина в мозге самца возрас-
тает почти на 300 процентов. Когда хомяк чует чужака, то начинает яростно ме-
тить территорию. Подобным образом он ведет себя, если ему делают инъекцию ва-
зопрессина в мозг. Млекопитающим всех видов, в том числе людям, свойственны
подобные проявления доминирования и охрана своей самки в присутствии других
самцов.
Рассказ Шона Малкахи начинается так же, как истории многих других молодых
людей, попавших в неприятности: «Я встретил девушку». Сейчас ему тридцать
один год. Он - симпатичный крупный мужчина с каштановыми усами, длинными ба-
ками и бородкой. У него свой магазин автозапчастей. Малкахи из тех, кто любит
вечеринки, быстрые мотоциклы и не боится физически самоутверждаться. Он вырос
в пригороде Чикаго в семье рабочих - ирландских католиков, и все свое детство
занимался вместе с братом тем, чем обычно занимаются братья из ирландских ка-
толических семей: дрался с ним. Тем не менее, Малкахи считал брата своим луч-
шим другом. В 2001 году Малкахи был арестован за нанесение ущерба имуществу.
Он поругался с кем-то на выходе из бара, где находился со своей тогдашней же-
ной. «У того парня был автомобиль с откидным верхом, и я ляпнул по этому по-
воду какую-то глупость, в самом деле его оскорбил, - признаётся Малкахи. - Я
сказал что-то типа: мужики не водят кабриолеты - только девки и те парни, ко-
торые присаживаются, чтобы отлить. Мне был двадцать один год, и я был настоя-
щий засранец. Я и не думал, что он решит дать мне в табло!»
В сущности Шон Малкахи осуществлял социальное взаимодействие: он вел себя
как самец, который охраняет подругу, и пытался заявить о своем превосходстве
над парнем, водившим кабриолет. Можно добавить, что он действительно вел себя
как засранец (и сам Малкахи не стесняется об этом говорить, как не стесняется
сожалеть о своей выходке). Но нельзя сказать, что он таким и остался. Он вы-
учился на слесаря-ремонтника и много работает.
Он не смущается своих слез. У него близкие отношения с матерью, как у хоро-
шего сына-католика.
Когда Малкахи говорит о любви, то кажется, он ею одержим. Девушку, о кото-
рой идет речь, он встретил, когда уже много лет был в разводе с первой женой.
Он обещал себе больше никогда не жениться, никогда не доверять другой женщине
и держал свое обещание. Но «это было так странно», говорит он. «Через неделю
после встречи она стала для меня всем. Все, что вызывало во мне тревогу, ис-
чезло без следа. Я влюбился по уши. У нас была настоящая любовь, серьезная
связь».
В то время Малкахи и его брат жили в доме, когда-то принадлежавшем их роди-
телям. Там был бассейн. Девушка Малкахи приходила к ним в гости вместе с под-
ругой, и время от времени они выпивали. В одну из таких встреч в августе 2010
года, когда девушки находились в бассейне, туда прыгнул брат Малкахи. С этого
места версии свидетелей расходятся, но мы не ставим себе целью разобраться в
обвинениях, контробвинениях и защите. Достаточно сказать, что Шон Малкахи ре-
шил, будто брат сексуально воспользовался его невестой. Узнав об этом, он не-
вероятно расстроился. «Это было какое-то сверхпредательство», - уточняет он.
Пережив три мучительные бессонные ночи и три дня, полных отчаянных разговоров
по телефону с матерью, Малкахи отправился к брату, который переехал к другу.
«Это была моя женщина, моя невеста, и особенно... - он замолкает на полуслове:
- Мне просто хотелось изо всей силы ему врезать». Но прислушавшись к своей
префронтальной коре, он сделал вывод, что одним ударом дело не кончится. «Я
вешу примерно сто килограммов, он - примерно сто пять, мы оба - под метр де-
вяносто . Если дело дойдет до драки, она просто так не закончится. Это меня
напугало». Он понял, что кто-то может погибнуть. Хотя желание побить брата
было сильным, вероятность тяжелых последствий оказалась слишком высока, и
Малкахи не решился. Он вернулся домой, сделал себе смесь водки с соком, сел
на крыльце и «разревелся». На поясе у Малкахи всегда висел нужный ему в рабо-
те универсальный нож. Когда к нему подошел кот брата, Малкахи прогнал его, и
в отместку кот оцарапал ему руку. В тот же момент Малкахи выхватил нож и пе-
ререзал коту горло. Он сразу же об этом пожалел. Он сфотографировал мертвого
окровавленного кота камерой в своем мобильном телефоне и послал брату снимок
с сообщением: «Вот что ты со мной сделал». Было 4:30 утра. Прежде он отказал-
ся от драки. Но теперь его рациональный ум молчал, заглушённый алкоголем. «Я
совершенно себя не контролировал, - сокрушается Малкахи. - Это случилось само
собой. Я сам не верил, что сделал это. Я тут же позвонил маме и сказал, что
мне надо пойти в полицию. Все казалось совершенно нереальным». На суде он
признал свою вину и искренне раскаялся. В марте 2011 года судья приговорил
его к длительному испытательному сроку и общественным работам. Он потерял
много денег и получал серьезные угрозы от защитников прав животных.
Система правосудия и общество наказывают за подобное поведение, и это пра-
вильно . Малкахи признает, что получил по заслугам. Но три тысячи лет назад у
нас было другое отношение к мести соперникам. Гомер писал:
Грозно их оглядев, сказал Одиссей многоумный:
«А, собаки! Не думали вы, что домой невредимым
Я из троянской земли ворочусь! Вы мой дом разоряли,
Спать насильно с собою моих принуждали невольниц,
Брака с моею женою при жизни моей домогались
И ни богов не боялись, живущих на небе широком,
Ни что когда-нибудь мщенье людское вас может постигнуть.
Вас всех теперь погибель опутала сетью!»4
А затем в приступе ярости Одиссей убил множество народу. С тех пор мы, на-
верное, стали более цивилизованными, но цивилизация не способна избавить нас
от нашей биологии. Драки в баре, ножевые ранения и стрельба из-за женщин -
такими сообщениями пестрят любые криминальные сводки. Эту тему использует не
только древняя, но и великая современная литература. Том Бьюкенен, допрашивая
Джея Гэтсби о тайных намерениях по отношению к его жене Дэйзи, спрашивает:
«Какой конфликт ты пытаешься посеять в моем доме?» Вскоре из мести, ревнуя
Дэйзи, Том ложно обвиняет Гэтсби в смерти другой женщины, чей муж убивает
Джея5.
4
Пер. В. Вересаева.
5
Автор рассказывает о романе американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда
«Великий Гэтсби».
Моя жена. Моя подруга. Мой дом. Подобно Бьюкенену, мужчины часто используют
слова «дом» и «жена» как взаимозаменяемые. Когда народы стоят на пороге вой-
ны, они обращаются к этому древнему уравнению, создавая пропагандистские пла-
каты, на которых карикатурно изображенный враг тянется не только к земле, но
и к женщине - образу всех жен и подруг. Поступай на военную службу, защити
ее! Мы можем воплощать свои стремления в форме патриотических высказываний
или героической поэзии, но, по сути, они те же, что у мирных степных полевок.
Малкахи не стал бы убивать кота, если б его брат связался с другой женщиной.
Он сделал это, потому что брат положил глаз на его женщину. Мужчина не стал
бы драться за ту, с которой он не встречается или которую не любит: он зате-
вает драку в баре, потому что незнакомец флиртует с его подругой. Греки не
испытывали угрызений совести из-за насилия и убийства женщин побежденных пле-
мен , но Одиссей гневался, оттого что мужчины сватались к его жене. Половая
связь побуждает мужчину вести себя вполне определенным образом с теми, кто
посягает на его женщину.
По словам Шона Малкахи, у них с девушкой была сильная «связь». (Нет, мы не
подсказывали ему этот термин - он сам его произнес.) При участии гормонов и
поощрения за обнаружение партнера секс высвободил вазопрессин (и окситоцин).
В мозге возникло завершающее поощрение, которое вызвало мощное притяжение к
партнерше. Или, как сказало бы большинство из нас, он влюбился. Мы не можем
дать этому явлению научное определение, поскольку не можем произвести над
Малкахи те операции, какие нейробиологи производят над грызунами. Также мы не
можем с уверенностью сказать, какие именно молекулярные события в мозге Мал-
кахи привели к убийству кота - никаких «вазопрессин заставил его так посту-
пить». Однако, как и в случае с окситоцином и женской любовью, сейчас появля-
ется все больше свидетельств, говорящих за то, что полевки и даже пиявки
представляют собой подходящую модель для изучения мужского ухаживания и фор-
мирования любовной связи.
Вазопрессин склоняет мозг к сексу. Кэти Френч наблюдает это на примере сво-
их пиявок. Однажды она, заподозрив себя в субъективности оценки, решила по-
смотреть , существует ли реальная разница между воздействием конопрессина и
плацебо, сделав пиявкам инъекции конопрессина и плацебо вслепую. Самообман
был исключен: вызванный конопрессином «ложный флирт» был слишком очевиден.
Чтобы продемонстрировать эффект нам, Тодд брала одну пиявку, и та извивалась
в одиночестве, совершая нечто вроде мастурбации. Но когда Френч сравнивала
действие вазопрессина и плацебо, она подсаживала других пиявок. «Выползла од-
на пиявка и принялась гонять по поддону всех остальных, - вспоминает Френч. -
Я так и представила мерзкого парня в пабе, который пытается приударить за ка-
ждой женщиной. Это было то же самое. Все говорили: „Фу-улл и уползали прочь».
Пиявка, которой сделали укол, осязала воздух, выискивая сигналы от других
пиявок и собирая социальную информацию. Но даже если она не находила подходя-
щих кандидатов, вазопрессин все равно побуждал ее к спариванию, и она продол-
жала преследование. «Этот парень подкатывал то к одной, то к другой, а ос-
тальные от него уворачивались: фу, фу, фу», - смеется Френч.
Итак, мы знаем, что аннетоцин или конопрессин побуждает пиявок сосредотачи-
ваться на сексе. Нерв, контролирующий пенис пиявки, усеян рецепторами аннето-
цина. Не факт, что мужчины настолько сильно концентрируются на сексе, но у
человека в процессах эрекции и эякуляции тоже участвует вазопрессин. Под его
влиянием наш мозг лучше воспринимает сексуальные сигналы. Об этом явственно
свидетельствует опыт по выбору слов, проведенный Адамом Гуастеллой. Ученый
вводил одной группе мужчин вазопрессин, а другой - плацебо. Затем испытуемые
просмотрели список слов, расположенных в произвольном порядке. Мужчины, полу-
чившие спрей с вазопрессином, узнавали связанные с сексом слова быстрее, чем
все остальные: дополнительная доза вазопрессина побуждала мужчин концентриро-
вать внимание на словах с сексуальным подтекстом. Вазопрессин создавал у муж-
чин тягу к сексу. Хайнрихс полагает (хотя это не проверялось на людях) , что
дополнительное количество вазопрессина заставляет мужчин считать женские лица
более привлекательными, подобно тому, как женщины, у которых повышен уровень
окситоцина, считают более привлекательными мужские лица. Выраженность стрем-
ления к сексу зависит исключительно от окружающих условий. Если мужчине с до-
полнительной дозой вазопрессина не показывать связанные с сексом слова, он не
обязательно будет думать о сексе.
Ученые знают, что люди часто бессознательно откликаются на эмоции других -
это элемент нашего социального поведения. Однако реагирует не только мозг, но
и лицевые мышцы, хотя мы не ощущаем их движений. Между бровями у нас располо-
жена маленькая мышца в форме клина, которая при сокращении сдвигает брови.
Ученые обычно регистрируют ее работу с помощью детекторов электрической ак-
тивности. Исследования показывают, что по этой мышце можно опознать эмоции,
часто бессознательные, которые вызваны ревностью или агрессией. В рамках сво-
его исследования Ричмонд Томпсон, нейробиолог из колледжа Боудин, проводил
одно из первых испытаний спрея с вазопрессином на мужчинах.
Он показывал им портреты людей со счастливым, злым и нейтральным выражением
лица и делал замеры сердечного пульса. Различий в восприятии трех типов лиц
обнаружено не было. Однако Томпсон обратил внимание на одну странную деталь.
Под влиянием вазопрессина мышца, сдвигающая брови, активно реагировала не
только на злые лица, что было ожидаемо, но и на нейтральные. Ученый объяснил
полученные результаты так: вероятно, вазопрессин побуждает мозг воспринимать
нейтральное выражение лица как потенциально угрожающее.
Вместе со своими коллегами из Гарвардской школы медицины Томпсон расширил
этот опыт. Опытным группам мужчин и женщин впрыснули в нос вазопрессин, а
контрольным - физиологический раствор. Затем испытуемым каждого пола предъяв-
ляли серию фотопортретов со злым, счастливым и нейтральным выражением лица.
Мужчины смотрели на мужские лица, женщины - на женские. Они должны были опре-
делить, готов ли человек, показанный на снимке, вступить в контакт, и занести
свои ответы в анкету. Судить о готовности к контакту следовало по тому, на-
сколько сильную тревогу вызывало рассматриваемое лицо. И у тех мужчин, кото-
рые получили физраствор, и у тех, которые получили вазопрессин, мышца, сдви-
гающая брови, проявляла одинаковую активность при взгляде на счастливые и
злые лица. Иначе говоря, обе группы мужчин реагировали одинаково, если было
очевидно, что чувствует человек на фотоснимке. Но у группы, получившей вазо-
прессин, возникал намного более выраженный ответ при взгляде на лица с ней-
тральным выражением, словно испытуемые ожидали неприятностей. Женщины демон-
стрировали противоположную реакцию: у них вазопрессин уменьшал активность
мышцы, она заметно слабее реагировала на счастливые и злые лица, чем у женщин
в контрольной группе.
Судя по заполненным анкетам, мужчины, получившие дозу вазопрессина, считали
людей со счастливыми лицами менее готовыми к вступлению в контакт, чем мужчи-
ны , получившие спрей с плацебо. Женщины из «вазопрессиновой» группы оценивали
нейтральные женские лица как гораздо более способные к вступлению в контакт,
чем женщины из группы с плацебо. Им также казались более готовыми к контакту
счастливые лица. Итак, вазопрессин повышал тревожность у обоих полов. Неожи-
данно, не правда ли? Тревожность усиливалась и у мужчин, и у женщин, но при
этом женщины относились к другим, незнакомым, женщинам положительно. Мужчины
под воздействием вазопрессина не только испытывали большую тревожность - они
полагали, что незнакомые мужчины менее дружелюбны. Похоже, что при виде ней-
трального мужского лица мозг мужчины, получивший дозу вазопрессина, предпола-
гает возможность конфликта. Если он не способен точно распознать намерения
другого человека, то исходит из худшего. Между тем женский мозг под воздейст-
вием вазопрессина предполагает, что в случае необходимости со стороны чужого
человека возможна помощь.
Существует несколько гипотез, объясняющих эти различия. Согласно одной из
них, повышенная тревожность может вызывать у женщины состояние, которое Шелли
Тейлор, социальный нейробиолог из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса,
называет «расположенность и симпатия». Женщины в случае опасности склонны
сближаться с другими женщинами. Мужчины при повышении тревожности готовятся к
драке или отступлению - «беги или сражайся». Возможно, так оно и есть. Также
возможно, что в разных областях мозга активность вазопрессина проявляется по-
разному. Некоторые исследования показывают, что вазопрессин действует очень
тонко и его влияние может быть различным в зависимости от особенностей орга-
низации мозга и распределения в нем рецепторов, и особенности эти связаны с
половыми различиями.
В 2010 году Гуастелла сравнил две группы мужчин. Одна группа получила спрей
с вазопрессином, вторая - спрей с плацебо. Затем мужчинам предъявили изобра-
жения счастливых, злых и нейтральных лиц и попросили прийти на следующий
день. На второй день испытуемым показали гораздо больше фотографий, в том
числе изображения, предъявленные накануне. Мужчины должны были определить,
какой из снимков для них новый («никогда не видел»), какой они вроде бы виде-
ли («мог видеть»), а какой им точно знаком («точно видел вчера»). Мужчины,
получившие вазопрессин, совершали гораздо меньше ошибок в оценке новых фото-
графий и почти никогда не относили их в категорию «мог видеть» или «точно ви-
дел вчера». Они чаще узнавали снимки, просмотренные днем ранее. Вазопрессин
улучшал их социальную память. Но когда Гуастелла внимательно проанализировал
результаты, оказалось, что почти все правильно опознанные лица были либо сча-
стливые, либо злые, а не нейтральные. Значит, вазопрессин усиливал способ-
ность запоминать сигналы, четко окрашенные эмоционально, подобно тому, как
окситоцин усиливал восприятие социальных сигналов.
Какой тут механизм действия? Кэролайн Зинк, исследователь из Национального
института здоровья, провела эксперимент, объединив фМРТ-сканирование с тестом
на выбор лиц. Она давала одним мужчинам спрей с вазопрессином, другим - с
плацебо и помещала испытуемых в аппарат. Испытуемые должны были смотреть на
экран и нажатием на правую или левую кнопку отвечать, какое лицо, показанное
в нижней части экрана, сочетается с лицом в верхней части экрана. Иногда это
были не лица, а формы - например, круги и треугольники. У всех мужчин мозг
при сравнении лиц реагировал иначе, чем при сравнении предметов. Когда они
смотрели на лица, их миндалевидное тело проявляло гораздо большую активность
независимо от того, достался им вазопрессин или плацебо: как мы знаем, вос-
приятие лица стимулирует работу миндалевидного тела, а обычных предметов -
нет.
Однако между двумя группами испытуемых обнаружились различия в том, как
взаимодействуют миндалевидное тело и медиальная префронтальная кора. Когда мы
находимся в окружении людей, которые вызывают у нас страх или гнев, наше мин-
далевидное тело посылает сигналы в медиальную префронтальную кору, та подби-
рает решение, как следует поступить, и отсылает информацию обратно в миндале-
видное тело. Возникает цепь обратной связи. У мужчин, получивших плацебо, об-
ратная связь начинала работать как обычно: миндалевидное тело подавало сигнал
в медиальную префронтальную кору, та обрабатывала сигнал и отсылала миндале-
видному телу приказ успокоиться. Это отрицательная обратная связь: кора сни-
жает в миндалевидном теле активность, связанную со страхом и агрессией. А вот
у мужчин, получивших дозу вазопрессина, обработка сигнала в медиальной пре-
фронтальной коре была нарушена, поэтому обратный сигнал о том, что беспоко-
иться не о чем, в миндалевидное тело не поступал. Если испытуемый находился
под воздействием вазопрессина, то после предъявления лица с негативным выра-
жением миндалевидное тело оставалось возбужденным дольше, и эти изображения
становилось проще запомнить.
МРТ-изображение миндалевидного тела (в мозге два миндалевидных
тела — по одному в каждом полушарии).
Неизвестно, действует вазопрессин непосредственно на миндалевидное тело или
же влияет на цепь обратной связи. Как бы то ни было, если из коры не приходит
обратный сигнал (благодаря действию вазопрессина), то настороженность и аг-
рессия усиливаются, и мужской мозг распознает неопределенный социальный сиг-
нал (лицо с нейтральным выражением) как негативный. Возможно, именно из-за
нарушения описанной обратной связи, обнаруженной Зинк в опытах, мужчины и пе-
рестают анализировать свои агрессивные действия: Малкахи не размышлял перед
тем, как убить кота. Вероятно, склонность испытуемых, получивших вазопрессин,
расценивать нейтральные мужские лица как негативные - это проявление страте-
гии выживания, по всей видимости, весьма действенной.
В 2011 году израильские ученые проводили тест «Чтение мыслей по глазам».
Это стандартный метод, разработанный Саймоном Барон-Коэном, который позволяет
оценить способность человека к эмпатии. Участникам показывают серию изображе-
ний с человеческими лицами, но только область глаз. К каждому изображению да-
ется список из четырех возможных эмоций или настроений. Испытуемому нужно вы-
брать какой-то один вариант, лучше всего описывающий то, что он видит. Неко-
торые из предложенных вариантов кажутся непривычными: помимо таких очевидных
эмоций, как «гнев», в списке попадаются «фантазирование», «желание», «подав-
ленность» . Всего израильский тест предлагает девяносто три варианта эмоцио-
нальных состояний и настроений, и в нем испытуемым может предъявляться об-
ласть глаз, как мужчин, так и женщин.
Половина мужчин получила спрей с физраствором, половина - с вазопрессином.
Выше мы рассказывали, как в опытах дополнительные дозы окситоцина улучшали
способность распознавать эмоции. Здесь эффект гормона был противоположным:
мужчины, получившие вазопрессин, совершали значительно больше ошибок, чем ис-
пытуемые с плацебо, пытаясь оценить по фотографии душевное состояние челове-
ка. Правда, ученые быстро поняли, в каких ситуациях испытуемые делают ошибки:
среди предъявленных лиц были и мужские, и женские. Мужчины, которым ввели ва-
зопрессин , плохо оценивали эмоции во взгляде других мужчин. Однако их оценка
была точнее, когда они смотрели на женщин. Мужчины с плацебо лучше оценивали
эмоции мужчин, чем женщин. Исследователи уточнили результаты и выяснили, что
значение имел не пол как таковой, а пол в сочетании с определенными эмоциями.
Эффект вазопрессина проявлялся только при взгляде испытуемого на фотографии
мужчин, чьи лица выражали огорчение, обвинение и угрозу.
Вазопрессин помогает распознавать отрицательные эмоции по выражению лица,
но вам это совсем ни к чему в ситуации открытой угрозы. Если вы собираетесь с
кем-то драться, охраняя партнершу или территорию, не время беспокоиться о
чувствах противника. Избыток эмпатии вас убьет, будь вы полевка, обезьяна или
человек. Отсюда следует неприятный вывод: в мозге мужчины неразрывно связаны
секс, любовь и агрессия.
С позиций теории Ларри у человека вазопрессин, управляя территориальным и
брачным поведением, был приспособлен к тому, чтобы побуждать мужской мозг от-
носиться к женщине как к части территории. Если Ларри прав, мужчина способен
устанавливать тесную связь со своей партнершей и агрессивно защищать ее. Ко-
нечно, мы не утверждаем, что женщина является территорией мужчины в букваль-
ном смысле. Мы лишь полагаем, что мужская привязанность затрагивает нейронные
цепи, изначально приспособленные для регуляции территориального поведения. Мы
не говорим, что это единственное, из чего состоит привязанность мужчины к
женщине. И все же территориальное поведение играет в ней важную роль.
Агрессия - социальный акт. Он дает другим понять, что личные или физические
границы переходить не следует. Он сообщает: «Это мое». Но правда ли, что Мал-
кахи и подобные ему демонстрируют агрессию (защитную или ответную) под влия-
нием вазопрессина? В германском городе Фрайберге работает Бернадетт фон До-
ванс, она из лаборатории Маркуса Хайнрихса. В ее эксперименте мужчины играли
в экономическую игру, похожую на ту, о которой мы рассказали выше, но с неко-
торыми изменениями. «Вы должны решить, доверять или нет, - говорит она. - У
вас есть десять евро. Хотите - оставьте их себе, хотите - отдайте доверенному
лицу, который может утроить сумму. Вероятно, человек, которому вы отдали свои
деньги и у которого теперь тридцать евро, вернет вам какую-то часть. Дополни-
тельные 18 или 20 евро - неплохая прибавка к изначальным десяти, не так ли?»
Фон Дованс ставит условие так, чтобы вложение было привлекательным: если ис-
пытуемый вообще не хочет играть в игру, он может оставить себе десять евро и
уйти, но если он рискнет, то получит шанс утроить сумму. Однако доверенное
лицо не обязано что-либо возвращать. Если вы отдадите ему деньги, он может
взять себе и ваши десять евро, и весь полученный доход, а может вернуть, ска-
жем, оскорбительно малую сумму в пять евро или только вложенные десять, оста-
вив себе двадцать, заработанные с их помощью. «Честный дележ - отдать полови-
ну, 15 евро. Так поступали многие, - говорит она. - Но всегда найдутся те,
кто этого не сделает». Тридцать евро - неплохие деньги, и доверенным лицам
пришлось бороться с искушением оставить себе все или большую часть сваливше-
гося на них счастья. Жадность и была тем состоянием, которого надеялась до-
биться от испытуемых фон Дованс, чтобы протестировать изменения в игре.
Если люди решались играть, то получали тридцать очков, которые позже кон-
вертировались в наличные. Воспользоваться этими тридцатью очками можно было
только одним способом - сняв очки у доверенных лиц. Каждое очко, потраченное
инвестором, уничтожало три очка его доверенного лица. Тратя свои очки, инве-
стор ничего не получал взамен: очки доверенного лица не суммировались с его,
а просто исчезали, то есть в свете традиционной экономической теории инвесто-
ру разумнее было не расходовать свои очки, чтобы максимизировать доход.
Фон Дованс дала участникам спрей с плацебо, спрей с окситоцином и спрей с
вазопрессином и начала игру. В отличие от других экспериментов, в которых ис-
пытуемые проявляли разную степень доверия по отношению к партнерам, здесь, в
условиях жесткого правила «всё или ничего», не наблюдалось существенной раз-
ницы между «окситоциновой» группой и группой, получившей плацебо: обе группы
чаще доверяли своим партнерам. То же происходило и в «вазопрессиновой» груп-
пе, однако если доверенное лицо возвращало инвестору меньше половины от три-
дцати евро, мужчины, получившие вазопрессин, наказывали своих жадных коллег.
Они делали это ценой собственных очков, уничтожая накопления доверенных лиц.
«Это не экономический способ», - замечает фон Дованс. Если бы их действиями
управлял разум, инвесторы сохранили бы все свои очки, поблагодарили удачу за
то, что она им предоставила, и пошли выпить пива. Но они чувствовали себя
уязвленными, возможно, слегка униженными, а потому начинали мстить. Фон До-
ванс видит в этом поведении положительный момент. Урок предателю может уще-
мить твои личные интересы, но группе в целом он приносит благо. Она и Хайн-
рихс считают агрессивные, карающие действия проявлением территориального по-
ведения . Жадный партнер нарушил границы приемлемого и нанес ущерб группе. На-
казывающий восстанавливает эти границы. Так же делает мужчина в баре, который
говорит: «Не лезь к моей женщине!» «Большинство из нас полагает, что гормон,
отвечающий за мужское агрессивное поведение, - тестостерон, - говорит Хайн-
рихс, - но вазопрессин гораздо лучше объясняет этот эффект».
Чем мужчины
похожи на
полевок
У людей есть еще одна общая с полевками черта: такие же, как у них, индиви-
дуальные различия в генах влияют на наше поведение. Возможно, этими различия-
ми объясняется то, почему одни мужчины склонны к женитьбе, а другие нет, и
почему некоторые мужчины проявляют себя в отношениях с женщинами лучше, чем
другие.
Как и у полевок, у людей имеется несколько версий гена AVPR1A . В промоторе
человеческого AVPR1A есть несколько «мусорных» ДНК, разных по длине у разных
людей. Различия в двух участках этих повторностей, обозначаемых RS1 и RS3,
обусловливают разную активность мозга и социальное поведение. (Если вы помни-
те, RS3 - тот самый участок «мусорной» ДНК, который Билл Хопкинс связывал с
особенностями личности шимпанзе.) Это было обнаружено следующим образом. Ис-
пользуя в качестве основы работу Ларри, группа исследователей из Национально-
го института душевного здоровья набрала несколько сотен добровольцев, чьи ге-
ны были проанализированы, а их самих обследовали при помощи аппарата фМРТ. На
испытуемых проводили тот же тест с изображением лиц, который использовала Кэ-
ролайн Зинк, изучавшая обратную связь между миндалевидным телом и медиальной
префронтальной корой. Вслед за этим обследовали личности всех добровольцев.
Полное тестирование прошли более сотни человек. Судя по результатам, опреде-
ленные личностные черты, такие как поиск новизны и готовность участвовать в
рискованных и опасных действиях, связаны с различиями в RS1. Что касается
второго участка «мусорной» ДНК, у мужчин с длинными вариантами RS3 во время
выполнения заданий миндалевидное тело было более активным. Это значит, что
ген рецепторов вазопрессина влиял на реакцию миндалевидного тела, когда оно
обрабатывает социальные сигналы.
Подобный тест ничего не говорит о поведении людей в реальных условиях, раз-
ве что у нас имеются разные версии AVPR1A и от этих различий зависит работа
миндалевидного тела (ключевой части «социального» мозга) и особенности лично-
сти. Однако когда израильские ученые (те, которые проводили эксперимент «Чте-
ние мыслей по глазам») сопоставили варианты AVPR1A с тем, как добровольцы (их
было двести человек) вели себя во время игры в диктатора, выяснилось, что лю-
ди с короткими версиями RS3 отдавали значительно меньше денег, чем обладатели
длинных версий. В стандартном тесте на оценку доброжелательности люди с длин-
ными версиями RS3 проявили себя как более доброжелательные, нежели испытуемые
с короткими версиями (это было ожидаемо, поскольку обладатели коротких версий
RS3 отдавали меньше денег). Наконец, обследование умерших показало, что в
мозге людей с длинными версиями RS3 гораздо больше рецепторов вазопрессина,
чем у людей с короткими версиями. Каков общий вывод? Чем выше чувствитель-
ность к вазопрессину, тем вероятнее человек будет общительным и склонным к
альтруистическому поведению.
Если помните, полевки с длинной версией «мусорной» ДНК в гене avprla заре-
комендовали себя более внимательными отцами и создавали крепкие семьи. А те-
перь подумайте вот о чем: шведские исследователи проводят долговременную про-
грамму «Исследование близнецов». (Она напоминает знаменитое Фрамингемское ис-
следование сердца, названное в честь города в Массачусетсе, где проживало
большинство его участников. Ученые несколько десятков лет наблюдали за их
здоровьем.) Шведские и американские ученые, вдохновленные исследованием при-
вязанности у полевок (а также тем, что люди, как и полевки, обладают вариан-
тами гена AVPR1A), решили расшифровать гены у нескольких сотен пар близнецов,
их мужей, жен и партнеров, провести обследование их личностей, а затем изу-
чить особенности их отношений, используя шкалу, которую обычно применяют для
измерения привязанности среди лемуров. Помните, что когда ученые проводят та-
кие эксперименты, они почти никогда не используют слово «причина», как, на-
пример: «Ага! Ген XYZ - причина аутизма». Сравнительно мало заболеваний, сре-
ди них кистозный фиброз, являются результатом неправильной работы только од-
ного гена. Человеческое поведение слишком сложное, поэтому у исследователей
любимый термин - «связь» или «ассоциация»: версии AVPR1A связаны с нервной
анорексией и другими расстройствами пищевого поведения, а также с «перфекцио-
низмом» у детей. В этих аккуратных формулировках отражены многочисленные со-
мнения ученых, вероятность того, что свой вклад в то или иное явление делают
и другие, не взятые в расчет факторы, а также ограниченные возможности науки.
Как бы то ни было, когда группа изучила всю накопленную генетическую информа-
цию, провела все тесты и исследования, у обследованных лиц мужского пола об-
наружилась «значительная» связь между одним вариантом RS3 и личностными чер-
тами, поведением и особенностями социальных отношений. Кроме того, связь была
сильнее у мужчин, унаследовавших две (от отца и матери) копии этой RS3. Нали-
чие ее у женщин ни на что не влияло.
Как вы помните, у человека в клетках тела все хромосомы парные, то есть ка-
ждая хромосома продублирована своей копией (на всякий случай). Как показал
тест на формирование привязанности к партнеру, если в одной из парных хромо-
сом имеется определенный вариант RS3 (он содержится в версии гена с номером
334) , то такой мужчина обладает меньшей способностью к образованию привязан-
ности, чем мужчина, не имеющий этого варианта. Если у мужчины названный вари-
ант RS3 присутствует в обоих парных хромосомах, то способность к образованию
привязанности у него совсем слабая. Иными словами, таким мужчинам трудно
вступать в отношения и поддерживать их. Ученые обследовали их женщин-
партнеров, используя тест на прочность союза, по которому оцениваются чувство
удовлетворенности отношениями и степень привязанности. По этим результатам
показатели мужчин с одной или двумя копиями версии гена с номером 334 выгля-
дели совсем неважно.
Всего 15 процентов мужчин, у которых не было версии гена с номером 334, со-
общали о больших проблемах в семейных отношениях или о разводе, случившемся в
течение прошедшего года. А вот среди мужчин, имевших две копии гена с номером
334, целых 34 процента заявили, что в прошлом году пережили семейный кризис и
(или) угрозу развода. Среди мужчин, не обладавших копиями гена с номером 334,
только 17 процентов были неженаты, а среди мужчин с двумя копиями неженатых
оказалось 32 процента. На тот момент все обследованные мужчины жили с женщи-
ной. У большинства пар были общие биологические дети, но мужчины, имевшие
версию с номером 334, гораздо чаще не оформляли свои отношения официально.
Холостяки, жившие в одиночестве, в исследовании не участвовали, но можно
предположить, что среди них обладателей двух копий версии гена с номером 334
еще больше.
Версия гена, обусловливающая описанные черты личности, - одна из самых рас-
пространенных в человеческой популяции. Хотя невозможно охарактеризовать лич-
ность мужчины, основываясь всего на одном гене, исследования указывают на то,
что разные варианты названного гена играют важную роль в том, как мозг реаги-
рует на социальные сигналы, то есть они влияют на поведение. В зависимости от
того, какой из вариантов гена имеется у мужчины, в его мозге содержится то
или иное количество рецепторов вазопрессина, а их работа влияет на активность
миндалевидного тела.
На поведение также влияют условия среды и социальный опыт. В исследованиях
материнской заботливости у крыс, проведенных Франсез Чампейн, вылизывание и
уход за детенышами, связанные с работой окситоцина в мозге крысы-матери, не
влияли на детенышей-самцов так, как они влияли на детенышей-самок. Однако у
самцов в миндалевидном теле были отмечены эпигенетические изменения работы
гена вазопрессиновых рецепторов. Самцы, рожденные от матерей с высоким уров-
нем заботливости, были более чувствительны к вазопрессину. Эллиот Альберс из
университета штата Джорджия показал, что у хомяков, изолированных от контак-
тов с себе подобными, чувствительность к вазопрессину иная, чем у хомяков,
живущих в группе. Одиночки были более агрессивны. Хомяки, привыкшие вступать
в драки, сильнее откликались на инъекции вазопрессина, чем все остальные.
Кроме того, если мозг животного начинает подвергаться влиянию гормона на ран-
них этапах развития (когда идет процесс его организации), то в дальнейшем его
реакция на вазопрессин тоже будет иной, чем обычно.
У мужчин наблюдается похожая картина. Наш мозг организован так, что откли-
кается на вазопрессин активнее, чем мозг женщин. Благодаря этому свойству мы
лучше реагируем на сексуальные сигналы, посредством которых устанавливаются
любовные связи, и мы более восприимчивы к опасности нарушения этих связей.
История Малкахи показывает, насколько сильным может быть влияние таких ней-
ронных цепей на поведение: мы даже способны совершать поступки, которые нано-
сят ущерб нашим интересам.
Наши гены, события, происходящие с нами, пока мы находимся в утробе матери,
воспитание и забота родителей - всё имеет такое огромное значение для любви
между женщиной и мужчиной, что предложенная вам концепция формирования привя-
занности выглядит очень ненадежной, не говоря уже о связи между водным обме-
ном в организме и моногамией. Хотя Ларри уверен в том, что с точки зрения
мозга мужчина для женщины - ребенок, а женщина для мужчины - территория, это,
пожалуй, не самое красивое описание для такого явления, как человеческая лю-
бовь . Многие скажут, что такое описание - это вообще устаревший стереотип. Но
они ошибаются. Мы можем говорить что угодно, но последнее слово всегда за
природой. Впрочем, из описанной нами концепции привязанности следует ряд «не-
удобных» вопросов: почему люди перестают любить друг друга? Если привязан-
ность настолько сильна, почему множество людей, утверждающих, что они моно-
гамны, оказываются в постели с кем-то другим, а не с тем, кому они должны ос-
таваться верны?
ГЛАВА 7.
ЛЮБОВЬ -
НАРКОТИК?
Привязанность двух людей бывает сильной и захватывающей, однако, химическая
природа того клея, который удерживает их вместе дольше первых нескольких дней
горячей страсти, совсем не та, о которой говорится в викторианских романах
или в рекламе таблеток от эректильнои дисфункции. Чтобы узнать об истинной
природе длительной моногамии, мы отправляемся к Фреду Мюррею. Сейчас ему
пятьдесят девять, у него усы, круглый живот, росту он невысокого, однако ис-
ходящая от него энергетика наполняет его достоинством.
Мюррей многое может рассказать о любви, поскольку был наркоманом. Он сидел
на метамфетаминах и крэке. Наркомания - темный период его жизни, длившийся не
одно десятилетие. Казалось бы, что тут может быть общего со светлой радостью
любви? Но когда Брайан спрашивает: «Вы были влюблены в наркотики?» - Мюррей
широко улыбается и поднимает взгляд в потолок, как будто услышал невероятно
глупый вопрос. Он смеется. «Конечно, я любил наркотики! Лю-у-у-би-и-ил», -
говорит он, растягивая последнее слово. Напевность глагола «любил» не слишком
его устраивает, поскольку не способна передать всю силу страсти. Он откидыва-
ется на спинку стула и глядит в потолок в поисках превосходных степеней, од-
нако не находит для любви эпитета сильнее, чем «любовь».
«То есть Я ЛЮБИЛ их. Любил больше самого себя. Я любил наркотики. Любил их.
Любил покупать, владеть ими, использовать. Любил. Больше, чем жену. Больше,
чем дочь».
Слова Фреда Мюррея о любви к наркотикам - не метафора. Он говорит это имен-
но так, как вы говорили бы кому-нибудь, что влюблены в свою супругу. И он
прав в том, как описывает свои чувства, потому что любовь, которую он испыты-
вал к наркотикам, и любовь, которую люди чувствуют к своим долговременным
партнерам, - одно и то же. Любовь - это зависимость. Некоторые даже предпола-
гают, что любовь - это навязчивая потребность. Мы не будем заходить так дале-
ко отчасти потому, что любовь может быть уместной и здоровой эволюционной
адаптацией, но она завладевает нами с помощью тех же механизмов мозга, что и
наркотики. Единственная разница - в силе воздействия: пристрастие к наркоти-
кам может быть гораздо сильнее человеческой привязанности.
Мы не раз говорили, что мозговые процессы, запускающиеся при получении сек-
суального удовольствия, формирования фетишей и выборе партнера, частично свя-
заны с нейронными цепями, которые делают таким приятным употребление наркоти-
ков. То и другое затрагивает множество общих структур. И там, и тут действуют
одни и те же нейрохимические вещества, а в мозге в результате возникают оди-
наковые изменения. Подобие можно проследить вплоть до отдельных клеток, на-
пример, когда крысе дают метамфетамин, наркотик стимулирует некоторые из тех
же нейронов, что и секс. На этом параллели не заканчиваются. Люди, регулярно
принимающие наркотики и попадающие в зависимость, вскоре обнаруживают, что
наркотик нравится им все меньше. Но и любовь со временем меняется. Когда ост-
рая потребность удовлетворена, мы начинаем получать всё меньше и меньше удо-
вольствия. Однако наши отношения сохраняются: изначальная страсть перерастает
в крепкую социальную моногамию, поскольку мы становимся зависимы друг от дру-
га.
Идея любви как зависимости родилась в 1960-е, после чего ее подвергли ис-
следованиям фрейдистские психоаналитики, которые используют термин «любовная
зависимость» для описания постоянной влюбчивости - способа регулярно пережи-
вать восторг и удовольствие первых романтических дней новой любви. Однако со-
держание , которое вкладываем в этот термин мы, гораздо старше. Еще Платон
сравнивал любовь с «деспотическим желанием выпить».
Система поощрения, описанная в третьей главе, и есть центр наркотической и
любовной зависимости. В эволюции она развивалась так, чтобы мы делали всё ра-
ди выживания и размножения. Сила, движущая нашими поступками, - дофамин. Без
него мы ничего не добились бы. Мыши-мутанты, у которых он не вырабатывает-
ся, - это обломовы животного мира. Заставить их сдвинуться с места может
только боль или сильный стресс. Люди с болезнью Паркинсона, вызывающей исто-
щение запасов дофамина, ведут практически неподвижный образ жизни. Если бы не
дофамин, у наших древних предков не было бы стимула проходить мили в поисках
добычи или заниматься сексом ради размножения.
Поощрение способствует обучению: еда - это настолько приятно, что ради нее
стоит охотиться или выращивать пшеницу. Впрочем, люди быстро поняли: для по-
лучения удовольствия не обязательно убивать антилопу или бороться за доступ к
половому партнеру. Можно сказать, поиск большего вознаграждения при меньших
затратах - центральная тема в истории человечества. На протяжении тысячелетий
мы изобретали способы быстро, всеохватно и эффективно покорять те нейронные
цепи, которые были созданы природой для управления питанием и размножением.
Пять тысяч лет назад древние шумеры уже варили пиво. Ферментация вина - про-
цесс не менее древний. В последнем столетии мы создали бигмак, бикини, а так-
же главный атрибут современной ночной жизни - смесь водки с энергетиками. И
всё потому, что они запускают систему поощрения. Наркотики - кокаин, героин и
метамфетамин - делают то же самое, причем с невероятным успехом. Соблазн по-
рой настолько велик, что потребители, соскальзывая в яму зависимости, согла-
шаются на муки в будущем, чтобы чувствовать себя хорошо сегодня.
У Мюррея больше нет жены. Он восстановил отношения с дочерью и очень их це-
нит, но сейчас он рассказывает о тех годах, когда не придавал им значения.
Прежде чем ему удалось бросить пить и принимать наркотики, он похоронил свою
музыкальную карьеру, потерял две работы, дом и с целеустремленностью маньяка
пытался потерять жизнь.
Вот уже несколько десятков лет Джордж Куб пытается восстановить цепь собы-
тий, происходящих в мозге и составляющих цикл зависимости, от которой страдал
Мюррей и страдают миллионы ему подобных. Куб - седовласый мужчина с профес-
сорскими усами. Он - председатель Комитета нейробиологии расстройств зависи-
мости в Исследовательском институте Скриппс в Сан-Диего (штат Калифорния).
Его считают одним из ведущих мировых экспертов в области исследований мозга и
зависимости. Но начинал он свою карьеру совсем в другой области. В 1970-е он
работал над объяснением нейробиологии человеческих эмоций, особенно тех, что
связаны со стрессом и поощрением. Вскоре он обнаружил тесную взаимосвязь двух
явлений - естественных эмоций человека и употребления наркотиков. Наркотики
вызывают зависимость, рассказывает нам Куб, так как поначалу рождают в людях
восхитительные ощущения благодаря «массированному выбросу гормонов, точнее,
массированному запуску системы поощрения». Особенности этого процесса зависят
от типа наркотиков, но будь то алкоголь, героин, кокаин, оксикодон или метам-
фетамины - все они действуют аналогично: заставляют нейроны, расположенные в
мезолимбической системе поощрения и производящие дофамин, выбрасывать поток
нейрохимических веществ. Такие стимуляторы, как кокаин, делают это непосред-
ственно и быстро. Алкоголь влияет не напрямую и гораздо медленнее. Прилежащее
ядро служит центральной подстанцией системы поощрения: в ответ оно посылает
сигналы в миндалевидное тело (которое дает оценку возникающим ощущениям - не-
что вроде «о, здорово!») и в паллидум (область, в которой Ларри и его коллеги
обнаружили у моногамных полевок множество вазопрессиновых рецепторов). Минда-
левидное тело направляет информацию другим структурам мозга, например, в
опорное ядро концевой полоски (одна из областей мозга, отвечающих, по мнению
Дика Свааба, за сексуальную ориентацию).
Прилежащее ядро и вентральная область покрышки — части мезолим-
бического дофаминергического пути удовольствия.
Если животным давали наркотическое вещество и воздействовали на них каким-
нибудь раздражителем, они быстро обучались ассоциировать раздражитель с при-
ятным ощущением. После нескольких приемов наркотика в их мозге происходил
мощный выброс дофамина от одного только предвкушения раздражителя, даже если
самого наркотика не было, - так же как это происходило у крыс, которые испы-
тывали удовольствие от вспышки света на стене, привыкнув ассоциировать ее с
сексом. Подобный механизм работает и у людей. Сканирующие исследования пока-
зывают, что на трубку для курения крэка мозг наркомана реагирует почти так
же, как если бы человек получил доступ к самому наркотику. Когда нейронная
цепь принимает сигнал, связанный с наркотиком, она побуждает опорно-
двигательную систему стремиться к цели: поиску продавца, вдыханию наркотика,
опрокидыванию стопки текилы. Четырнадцатилетние гетеросексуальные мальчики
испытывают подобный стимул, получая новый выпуск каталога купальников или на-
жимая на ссылку, ведущую на сайт с японской костюмированной порнографией. В
целом это стремление связано с положительными ощущениями. Наркоман обычно ис-
пытывает сильное и приятное предвкушение очередного употребления наркотика.
Часто процесс приема превращается в обязательный ритуал: человек готовит
трубку, или разделяет лезвием кокаин на специальном зеркале, или идет в опре-
деленное место, где употребляет наркотики. Выполнение ритуала увеличивает
удовольствие. Если наркоману неожиданно предложат несколько порций кокаина,
он с удовольствием его примет, но эти ощущения не будут так же сильны, как
если бы он их предвкушал. Система поощрения начинает работать прежде, чем
наркотик попадет в организм. После приема успокаивающий поток опиоидов посту-
пает в мозг, и его наполняет чувство наслаждения. По этой же самой причине
предварительные ласки усиливают эротическое удовольствие. Поддразнивание и
отсрочка полового акта повышают чувствительность системы поощрения. Именно
поэтому наркоман испытывает более приятные ощущения от наркотика, если пред-
вкушает его прием и совершает перед приемом некий ритуал.
Если сигналы, которые мы приучились ассоциировать с приятными ощущениями,
поступают в мозг постоянно, то с течением времени префронтальная кора снижает
свой контроль, и нам становится легко игнорировать все, что не относится к
непосредственной потребности. Наше стремление ее удовлетворить может настоль-
ко возрасти, что мы начнем действовать импульсивно. Если вы наркоман, то мо-
жете уйти посреди деловой встречи ради дорожки кокаина. Если сигналы эротиче-
ские, вас могут застать на месте преступления, например на капоте автомобиля.
Сначала такие легкомысленные поступки кажутся забавными, но, к сожалению, го-
ворит Куб, «цикл не способен самоподдерживаться». В конечном итоге наркоманы
уподобляются певцу из классической песни Коула Портера. Они не могут получать
«кайф от кокаина» или, по крайней мере, тот же кайф от такого же количества
кокаина, а «простой алкоголь» их вообще не заводит. Поэтому они вынуждены
употреблять все больше и больше, чтобы достичь того эффекта, который был пре-
жде . Возможно, вы уже слышали или читали об этой стороне наркотической зави-
симости - о том, что постепенно чувствительность к наркотику снижается и дозу
приходится увеличивать. Это погубило десятки рок-групп.
Физические признаки наркотической зависимости и синдромы отмены известны с
древних времен. «Но это не конец истории, - продолжает Куб, - хотя для боль-
шинства наркоманов конец наступает именно здесь». Самое главное впереди: гла-
ву, посвященную долговременной моногамии, мы написали ради того, чтобы объяс-
нить причину, по которой рок-музыканты, другие знаменитости и Фред Мюррей,
даже зная об опасности, не могут или не хотят бросить наркотики.
Жертва
номер
один
Мюррей родился и вырос в Гэри (штат Индиана), в тени гигантского металлур-
гического завода U.S. Steel . Даже в лучшие времена Гэри был городом, где ца-
рили суровые законы жизни. Отец Мюррея работал сварщиком. Мать служила на
U.S. Steel в отделе общественного питания. Оба много пили. Мюррей помнит, как
впервые напился сам. Тогда ему было шесть лет, и он свалился с лестницы. Отец
ушел из дома, когда Мюррей был еще маленьким, и мать начала пить еще больше.
Он переехал к бабушке, но почти все время проводил на улицах Гэри. В предпо-
следнем классе школы он уже был алкоголиком. «Мне требовалась выпивка, -
вспоминает он. - Я говорил себе, что могу не пить, что могу остановиться в
любое время, но это была ложь».
В тот же год его впервые арестовали. Младший брат Мюррея нашел кошелек с
деньгами, но двое старших мальчишек его отобрали. Фред решил вернуть кошелек.
Он взял пистолет мелкого калибра, который носил для самообороны, нашел обид-
чиков и угрожал застрелить их, если те не вернут кошелек. Они вернули, но по-
том, утверждает Мюррей, отправились в полицию и обвинили его в вооруженном
ограблении и других преступлениях. Мюррею грозило около пяти лет исправитель-
ного учреждения. Старшие товарищи научили его фильтровать обувной краситель
через хлеб и получать алкоголь. Иногда, собирая мусор в городском парке, он
находил полупустые пивные банки или винные бутылки и выпивал остатки.
Судья выпустил Мюррея быстро, всего через два месяца. Ему повезло, он это
знал, но первое, что он сделал после освобождения, - купил выпивки. «Я поме-
шался на алкоголе, - вспоминает он. - Я старался купить виски Crown Royal. Но
если не мог его себе позволить, пил пиво».
Впрочем, алкоголь не сильно мешал жизни, главным образом потому, что, по
мнению Мюррея, он стал к нему невосприимчив. Фред окончил школу, поступил на
железнодорожную службу, стал мастером, женился, у него родилась дочь. Он уже
давно интересовался музыкой. В Гэри существовала традиция ритм-энд-блюза. Это
родина таких групп, как Spaniels, чья песня Goodnight Sweetheart Goodnight
стала хитом, и Jackson 5. Мюррей посещал репетиции «Джексонов» и понемногу
сам начал петь и писать тексты. Он собрал собственную R&B-rpynny, так и на-
звав ее - «Группа». Они выступали в окрестностях Гэри и в Чикаго на разогреве
заезжих знаменитостей. «Группа» открывала выступления Глэдис Найт, Рэя Чарль-
за , Earth , Wind&Fire. Шли переговоры о гастролях и контракте со студией зву-
козаписи .
В год, когда Мюррею исполнилось двадцать семь, на выступление его «Группы»
пришли знаменитый на всю страну певец и несколько представителей звукозаписы-
вающих компаний. Им хотелось поглядеть на музыкантов. «Мой менеджер и не-
сколько крупных шишек сидели в комнате и нюхали кокаин, - рассказывает он. -
Никогда не видел таких больших и толстых дорожек». Один из них потребовал,
чтобы Мюррей тоже нюхнул - тогда он никому не расскажет о том, что видел, как
они употребляли наркотик. «Я вышел на сцену и почувствовал себя самым крутым,
самым лучшим. На самом деле я был худшим певцом в группе, но тогда на сцене я
был в ударе! У меня будто второе дыхание открылось. Публика сходила с ума.
Помню, я сказал менеджеру: слушай, эта штука отлично помогает. Мне надо еще».
Мюррей и остальные члены группы стали все чаще и чаще принимать кокаин. «Он
как будто наполнял меня энергией и восторгом. Это настоящая социальная смаз-
ка! Укол адреналина в эго - и внезапно со мной хотят говорить женщины, к ко-
торым раньше я бы никогда сам не подошел». Он начал ждать каждой встречи с
наркотиком. Если он не мог его достать, то пил - алкоголь всегда служил ему
надежной опорой, но кокаин доставлял гораздо больше удовольствия.
Мюррей стал очень импульсивен, о чем и говорит Куб. Однажды ему пришло в
голову уволиться с работы на железной дороге. «Я вошел в отдел кадров, и там
сидел парень, Лерой - никогда его не забуду. Он сказал: „Фред, сделай одолже-
ние, сходи в ванную и посмотри на свое лицо". Я пошел в ванную и увидел, что
обе мои ноздри белые от кокаина. Я умылся, вернулся, и Лерой говорит: „Что с
тобой происходит? Что ты творишь?лл А я отвечаю:
„Я увольняюсь и хочу забрать свою пенсиюЛЛ. Он говорит: „Фред, брось. Не
трогай эти деньгилл. Я отвечаю: „Лерой, я хочу их забратьлл. А он: „Если ты их
возьмешь, они закончатся через полгода". Он меня отговорил, и благодаря ему у
меня до сих пор есть пенсия». Лерой сделал то, что должна была, но не смогла
сделать префронтальная кора Мюррея, поскольку его мозг был переполнен дофами-
ном.
В третьей главе мы рассказывали о том, что такой же эффект, но выраженный в
меньшей степени и проявляющийся в крайних случаях, свойствен нам всем. В 2010
году группа экономистов и психологов из Великобритании провела испытания на
людях, дав им вещество под названием L-дигидроксифенилаланин. Это аналог до-
фамина - его часто применяют для поддерживающей терапии пациентов с болезнью
Паркинсона. Эксперимент включал в себя серию заданий по «межвременному выбо-
ру». Эта методика известна с конца 1960-х: Уолтер Мисчел использовал ее для
изучения «отложенного удовольствия» у детей. Испытуемых просят выбрать один
из двух вариантов событий, которые разделены временным интервалом: например,
дают детям конфету и говорят, что они могут съесть ее сейчас, но если подож-
дут пятнадцать минут, то получат еще три. Британские ученые, изучавшие L-
дигидроксифенилаланин, использовали вместо конфет деньги. Участники могли за-
брать небольшую сумму сразу или более крупную - спустя несколько недель. С
точки зрения экономики рациональнее отложить «удовольствие» на потом и полу-
чить большую сумму (этот вариант выбрал Мюррей под нажимом Лероя). Испытуе-
мые, получив плацебо, именно так и поступали. Но когда этим же людям ввели L-
дигидроксифенилаланин, многие из них предпочли сразу забрать маленькую сумму
денег. Под действием дофамина они отбрасывали очевидную ценность будущей на-
грады. Им хотелось как можно скорее получить поощрение - вариант, показавший-
ся бы менее привлекательным, если бы испытуемые беспристрастно взвесили все
«за» и «против».
В своем исследовании бельгийские ученые также применяли методику «межвре-
менного выбора». Они протестировали 358 молодых мужчин, но использовали не
заместитель дофамина, а фотографии красивых женщин в бикини и в нижнем белье,
видео женщин в бикини, «бегающих по холмам, полям и пляжам» в стиле «Спасате-
лей Малибу», женские бюстгальтеры и нейтральные изображения красивых пейза-
жей. Мужчинам предложили выбор: пятнадцать евро сейчас или сумма побольше, но
позже. Группа мужчин, смотревших на красивых женщин, предпочла забрать не-
большие деньги сразу, в отличие от тех, кому показывали пейзажи.
Фред Мюррей часто думал, что он себя контролирует и способен делать разум-
ный выбор. Приходя в винный магазин, он брал с полки бутылку Crown Royal,
свинчивал крышку, делал пару больших глотков и ставил бутылку на место, внут-
ренне оправдывая свой поступок. «Это не было воровством, - говорит он, - я
ведь не уходил с бутылкой». Корда он взламывал автомобиль, то и тогда находил
для себя оправдание. Однако со временем импульсивность, побуждавшая его к
крайностям, превратилась в паранойю. Доза росла - он начал торговать наркоти-
ками. Он пытался отключаться от мыслей о наркотиках, чтобы уделять внимание
семье и работе, но безуспешно. Он будто смотрел в другой конец подзорной тру-
бы, сужающий поле зрения. Перед его мысленным взором была только одна цель -
наркотики, как их достать, как их продать, как принять. Он стал курить крэк и
назвал свою трубку «Шерлок», поскольку ее форма напоминала целлулоидную труб-
ку Шерлока Холмса. Он относился к «Шерлоку» как «к лучшему другу». «После ка-
ждого использования я заворачивал ее в мягкую ткань и убирал в специальный
ящик. Она стала для меня очень много значить».
Мюррей влюбился в наркотики. «Если они говорили мне не общаться с какими-то
людьми, я так и делал, - рассказывает он, наделяя наркотики личностью. - Если
они приказывали: „Иди в магазин, возьми этот видеомагнитофон и уходи с
нимлл, - я так и делал. „Сейчас же позвони на работу! Скажи, что не придешь!
Живо!ЛЛ - и я отвечал: „ХорошоЛЛ». По словам Куба, проблема в том, что мозг
наркомана меняется: «мозг привыкает к наркотикам, они поражают систему поощ-
рения» . При хроническом употреблении наркотики меняют мезолимбическую дофами-
новую систему и особенно сильно воздействуют на процесс работы дофамина в
прилежащем ядре. Внутренний выключатель в мозге переходит из положения «нра-
вится» в положение «требуется». Поначалу дофамин побуждает к действиям, кото-
рые запускают ощущение приятного влечения. Под действием дофамина мозг кон-
центрируется на положительно окрашенных сигналах, и желание потреблять нарко-
тик растет. Однако позже у наркомана возникает то, что Куб называет «отрица-
тельной мотивацией». Вместо страстного желания, эйфории и импульсивности по-
являются тревога, подавленность, раздражительность - развивается навязчивое
состояние: человек чувствует, что должен действовать, иначе с ним случится
что-то плохое. «Теперь, когда вы не сидите на наркотиках, вас беспокоит ваше
ужасное состояние, - говорит Куб. - Это темная сторона, отрицательное подкре-
пление . Оно приходит незаметно».
Такое навязчивое состояние не приглушает голос префронтальной коры - оно
практически полностью блокирует ее. «Представьте, - объясняет Куб, - как мы
жили бы без нее. Мы всегда искали бы мгновенного, а не отложенного вознаграж-
дения , старались бы снять симптомы проблемы, а не решить ее». Такова жизнь
наркомана. Все свои силы он направляет не на то, чтобы получить дозу и почув-
ствовать себя хорошо, а на то, чтобы не чувствовать себя плохо. Мюррей вспо-
минает: «Я будто стал рабом. То есть я и был рабом». Другие, естественные ис-
точники поощрения больше не радуют. Наркоманы теряют интерес к семье, работе,
даже к пище. Мюррей перестал заниматься сексом. «Что не встает, то не вой-
дет, - говорит он. Наркотики лишили его не только интереса к сексу, но и сде-
лали импотентом. - Целыми днями я ел одну лапшу. Если начинал курить крэк,
это было как „Отменяй Рождество, крошка!ЛЛ»
Главное оружие отрицательной мотивации - гормон мозга кортиколиберин. Он
воздействует на систему взаимосвязанных структур: гипоталамус - гипофиз -
надпочечники. «Ваше миндалевидное тело и система кортиколиберина сходят с
ума, - рассказывает Куб. - У вас развивается реакция „беги или сражайсялл. За-
висимость от наркотика наносит вам два сокрушительных удара: вы утрачиваете
поощрение, и запускаете стрессовую систему мозга». Чтобы объяснить работу
гормона, Куб предлагает представить, что медведь загоняет вас на дерево.
Представьте, что идете по лесу и замечаете медведя. Вы видите, как он бежит к
вам, и рецепторы ваших нейронов наполняются кортиколиберином, что в свою оче-
редь запускает систему «гипоталамус - гипофиз - надпочечники». Вы чувствуете
внезапный прилив энергии, который придает вам сил, и вы, спасая свою жизнь,
забираетесь на дерево. Сидя на ветке, вы понимаете, что медведь до вас не до-
берется, и тогда из вентральной области покрышки высвобождаются эндорфины. Вы
успокаиваетесь и теперь можете обдумать выход из положения. Если вам повезет,
медведь уйдет, вы спуститесь и будете рассказывать эту историю за бокалом ви-
на в охотничьем домике. Но если область, вырабатывающая эндорфины, не работа-
ет, вы остаетесь сидеть на дереве и после того, как медведь ушел, потому что
очень боитесь спускаться. Так происходит с наркоманами. Их естественное пове-
дение нарушается: кортиколиберин и система «гипоталамус - гипофиз - надпочеч-
ники» продолжают работать, требуя действий, которые остановят панику и реак-
цию на стресс. Естественное поощрение больше не избавляет от стресса, а един-
ственное, что помогает, - это прием наркотика. Если вас преследует медведь,
вряд ли вы остановитесь на полпути к дереву, чтобы обдумать, какое вино зака-
жете после своего приключения - красное или белое. Для наркомана в состоянии
стресса блекнут все остальные заботы - мысли о близких людях, работа, хобби,
даже морально-нравственные запреты и опасности.
Гипотоламо-гутофизарно-надпочечниковая система
Гипоталамус
КРГ
+
Надпочечники ,.
КОРТИЗОЛ
КРГ - кортикотропин-рилизинг-гормонг АКТГ - адренокортикотропный
гормон (кортикотропин). См. рис. ниже.
Мюррей попал в ловушку. Не в силах перестать испытывать отвращение к себе,
он дважды пытался свести счеты с жизнью. Наконец в 1994 году после очередных
трений с законом из-за продажи наркотиков он достал «Шерлока» и разбил об
пол. «Это было всё равно, что потерять лучшего друга, - вспоминает он. - Я
тосковал по нему». Он собрал сумку и уехал к своей родственнице в Оушенсайд,
штат Калифорния, где начал делать клюшки для гольф-клуба Кэллауэй. Он думал,
что соскочил, но жажда кокаина вернулась, как только он услышал разговор кол-
лег, обсуждающих покупку наркотика. Любой сигнал может включить систему кор-
тиколиберина даже спустя годы после того, как наркоман восстановится от физи-
ческой ломки. Многие курильщики со стажем испытывали то же самое, попав на
вечеринку или проходя мимо здания, где у входа курят люди. Это, уточняет Куб,
и есть причина срыва наркомана. Вернувшийся стрессовый ответ вынуждает чело-
века снова начать употреблять наркотики, хотя они ему больше не нравятся,
разрушают его организм и нередко ведут к серьезным личным потерям.
Спустя несколько месяцев Мюррей уже нюхал кокаин, курил крэк и принимал
кристаллический метамфетамин. «Я потерял жилье. Я перестал общаться с сест-
рой. Я спал в шкафу в пустой квартире, и хотя у меня была работа, болезнь го-
ворила , что если я потрачусь на жилье, она меня накажет. После выселения все
мои деньги - все до цента - шли на наркотики. Я покупал их столько, чтобы це-
лый день сидеть в этом шкафу и принимать их, а вечером шел на работу. Даже не
помню, спал я или нет».
Гипоталамус и гипофиз
Нервные импульсы
запускают выработку
катехаламинов
Надпочечники
*
Система «гипоталамус - гипофиз - надпочечники».
Полевки-
наркоманы
Такие ученые, как Куб, много знают о наркотической зависимости, потому что
превращают в наркоманов самых разных животных. Все наркотические вещества, от
алкоголя до метамфетаминов, влияют на крыс, мышей и обезьян точно так же, как
на людей, вплоть до уровня рецепторов. Аналогична и кривая зависимости. Кры-
са-кокаинист будет постоянно искать кокаин, а если ей предоставить доступ к
большой заначке, она доведет себя им до смерти. Она придает большую важность
рычагу, который надо нажимать, чтобы получить кокаин, даже если этот рычаг
больше его не доставляет. Она становится фетишистом рычага, поскольку сам ры-
чаг запускает систему поощрения в мозге. Если убрать наркотик, крыса пройдет
через синдром отмены, но потом, когда физические симптомы исчезнут, в ответ
на связанный с наркотиком сигнал она будет стремиться найти кокаин, потому
что система кортиколиберина активизирует связь «гипофиз - гипоталамус - над-
почечники», вызывая у животного сильную реакцию на стресс.
Не так давно степные полевки тоже внесли свой вклад в исследование наркоти-
ческой зависимости. Благодаря их способности формировать прочную связь с
партнером полевки - удобный объект для исследований влияния наркотиков на со-
циальные отношения и помогают пролить свет на природу привязанности.
В 2010 и 2011 годах лаборатория Жуосинь Вана в университете Флориды провела
серию экспериментов по изучению взаимосвязи наркотиков и любви у грызунов.
Когда девственным самцам полевок дали дозу амфетаминов, у них сформировалось
место предпочтения - клетка, где они получали наркотик. Как показали исследо-
вания, это свойственно и грызунам, и людям, принимающим амфетамины. Вы уже
знаете, что у полевок после спаривания формируется привязанность к партнеру.
Однако если самцам до спаривания давали амфетамины, а затем подсаживали к
самкам, у таких самцов-наркоманов, в отличие от подавляющего большинства дру-
гих полевок, не возникала привязанность к партнерше. Если же самцам давали
амфетамин после формирования привязанности, они не проявляли большого интере-
са к наркотику. У них не возникало предпочтения места. Полевка способна при-
вязаться к чему-либо только раз в жизни, и если это случается, будь то привя-
занность к наркотику или другой полевке, связь с чем-то еще сформироваться
уже не может.
Происходит это следующим образом. Исследования на людях и животных показа-
ли , что наркомания вводит прилежащее ядро в глубокое оцепенение: оно больше
не может структурно изменяться. Система поощрения теряет большую часть своей
способности реагировать на новые, потенциально приятные стимулы, например, на
первое знакомство с трюфелями, на младенца или нового возлюбленного. В лабо-
раторных экспериментах Вана привязанность к самке лишала самца почти всех
шансов пристраститься к наркотикам, а привязанность к наркотикам почти полно-
стью лишала его способности получать удовольствие от привязанности к самке.
Ключ к этому явлению был обнаружен Брэндоном Арагоной, одним из студентов Ва-
на. Он открыл, что при работе системы поощрения в мозге самца полевки возни-
кает такой же «переключатель», какой есть у наркоманов. Задача системы поощ-
рения - «убедить» девственную полевку в том, что спаривание, а позже привя-
занность к самке - это хорошая идея, то есть система поощрения мотивирует
самца на спаривание и формирование привязанности. (В противном случае полевки
исчезли бы с лица земли.) К следующему дню после спаривания у полевки возни-
кает предпочтение партнера, но эта связь еще недостаточно крепкая. Иначе го-
воря, система еще может вернуться в исходное состояние - самец все еще спосо-
бен увлечься проходящей мимо незнакомой самкой. Если система задержится в на-
ступившем состоянии, моногамная привязанность не сформируется, потому что по-
левки будут интересоваться новыми партнерами, как поступают их родственники,
серые полевки. Каким-то образом система должна переключить внимание животного
со спаривания и формирования новой связи на поддержку уже существующей связи.
На это потребуется время. Суток недостаточно. В течение нескольких дней самец
закрепляет связь с партнершей, после чего будет агрессивно нападать на при-
ближающихся незнакомых самок.
Арагона показал, что у полевок при возникновении привязанности система по-
ощрения претерпевает изменения: преобразуется структура прилежащего ядра, оно
становится менее «пластичным», что, по словам Куба, происходит и у наркома-
нов . Сначала под воздействием дофамина мозг через систему поощрения наделяет
будущего постоянного партнера привлекательностью, а позже система меняется
так, что у самца «сужается зрительное поле» и он остается с выбранным партне-
ром. Интересно, что из всех подопытных животных, у которых возникла привязан-
ность, примерно у трети (28 процентов) изменение системы поощрения в мозге не
произошло. В дикой природе около 20 процентов полевок, имевших, но утративших
отношения, способны создать вторую прочную связь с новым партнером.
«Переключатель» в прилежащем ядре нужен и для решения другой проблемы, ха-
рактерной для человеческих отношений, - скуки. Ведь могут полевки потерять
интерес друг1 к другу и разойтись. Тем не менее, если одна из полевок покидает
гнездо в поисках пищи, она всегда возвращается. Так же как люди, птицы и Элли
из «Волшебника Изумрудного города», степные полевки испытывают потребность
возвращаться домой. Почему это так? Ларри полагает, что ощущение утраты, та-
кое же, как разлука с партнером или его смерть, похоже на состояние наркомана
без наркотика. Негативные ощущения, сопровождающие утрату, заставляют челове-
ка поддерживать связь. Оливер Бош, немецкий ученый, занимающийся исследовани-
ем материнского поведения, пришел в лабораторию Ларри, чтобы проверить эту
гипотезу на полевках. В результате они вместе с Ларри открыли важный механизм
моногамии.
Обычно Бош в своих исследованиях использует крыс и мышей, но полевки заин-
триговали его своей привязанностью. «В нашей лаборатории в Германии мы виде-
ли, как разлука сказывается на матерях и детях, - вспоминает он. - У полевок
иной тип взрослой привязанности. Нам хотелось посмотреть, что произойдет, ес-
ли ее разрушить». Бош - общительный человек. У него коротко стриженные кашта-
новые волосы. Он носит очки с овальными линзами. Работает в Регенсбургском
университете, расположенном в часе езды от Мюнхена. О проведении параллелей
между поведением грызунов и людей он говорит со свойственной ученым осторож-
ностью, однако, изучает крыс не потому, что волнуется за них, а потому, что
волнуется за людей, особенно учитывая то влияние, которое оказывает на них
современное общество. Он уверен, что обязательства, налагаемые обществом на
человека, в частности во взаимоотношениях родителей и детей, - это ключ к
счастью.
После встречи с Бошем хочется поскорее навестить мать. «Недавно я был на
конференции, и туда приехал один австралиец, - начинает рассказывать Бош са-
мую обычную историю. - Как раз был день его рождения, а он так далеко от до-
ма . Он сказал, что жена и маленький сын подарили ему пирог. Но он не мог их
обнять. Ему было грустно, что он не может к ним прикоснуться, потому что об-
ниматься очень важно». По его словам, в Германии хорошо не потому, что там
отличные железные дороги, «порше» и горнолыжные курорты, а потому, что боль-
шинство немцев до сих пор живут рядом со своими семьями и «в Германии еще
можно обниматься».
Чтобы изучить «объятия» у грызунов и узнать, что будет, если партнер их ли-
шится, Бош взял самцов-девственников и поместил в клетки к другим полевкам:
либо к брату, которого они давно не видели, либо к незнакомой самке-
девственнице . Разнополые соседи, как обычно, спарились, и у них сформирова-
лась привязанность. Через пять дней он разделил половину пар братьев и поло-
вину разнополых пар, устроив полевкам принудительный развод. Затем он провел
серию поведенческих тестов. Первым был тест на вынужденное плавание. Бош
сравнивает эту методику со старой баварской присказкой о двух мышах, свалив-
шихся в кувшин с молоком. Одна мышь ничего не делала и утонула. Другая так
активно пыталась выплыть и гребла лапками, что молоко сбилось в масло, и мышь
выпрыгнула из кувшина. Если грызуны оказываются в воде, они начинают булты-
хаться и плавают как обезумевшие, поскольку уверены, что утонут, если остано-
вятся. (Вообще-то они могут держаться на воде, но, очевидно, ни одна мышь не
вернулась из такого плавания, чтобы поведать об этом остальным.) Полевки,
разлученные с братьями, возбужденно шевелили лапами. То же делали полевки,
оставшиеся со своими братьями, и те, которые остались с самками. И лишь сам-
цы, пережившие вынужденное расставание с самкой, бултыхались вяло, словно им
было все равно, утонут они или выживут. «Удивительно, - вспоминает Бош. - На
протяжении нескольких минут они просто лежали на воде. Можете посмотреть ви-
део: даже не зная заранее, кто к какой группе относится, легко поймете, раз-
лучили это животное с партнером или нет». Глядя на полевок, вяло покачиваю-
щихся на воде, нетрудно вообразить, как они напевают своими тоненькими голо-
сами : «Солнца нет, когда она ушла».
Далее Бош провел тест на подвешивание животных за хвост. В нем используется
крайне сложная методика прикрепления хвоста грызуна клейкой лентой к палочке,
на которой его поднимают в воздух. Подвешенный грызун обычно начинает раска-
чиваться и сучить лапками, как персонаж из мультфильма, оказавшийся над про-
пастью. Все самцы вели себя именно так, кроме разведенных полевок, которые
повисали на хвосте, как мокрое полотенце на крючке.
В последнем тесте Бош помещал полевок в наземный лабиринт, похожий на тот,
который использовался для теста на тревогу. Когда животное попадает в такой
лабиринт, то стремление исследовать местность борется в нем со страхом откры-
того пространства. По сравнению с другими полевками разведенные самцы прояв-
ляли гораздо меньшую активность в изучении открытых коридоров лабиринта.
Все описанные испытания предназначены для проверки лабораторных животных на
наличие депрессии, и они показали, что, если самца-полевку, у которого сфор-
мировалась привязанность, разлучить с подругой, вы получите крайне подавлен-
ного самца: он будет пассивно реагировать на стресс, связанный с глубокой
тревогой из-за потери партнера. «В разлуке животные чувствуют себя плохо, -
объясняет Бош. - Мы обнаружили, что расставание вызывает депрессивное состоя-
ние , то есть животное не чувствует себя хорошо». Бош имеет в виду не просто
подавленность - речь о том, что разведенные полевки чувствуют себя несчастны-
ми. «Когда моя жена отправилась в США. на годовую стажировку, я знал, что не
увижу ее, по меньшей мере, полгода. С этого момента у меня изменилось поведе-
ние: я оставался дома, лежал на диване, ничего не хотел делать, никуда не хо-
дил и не встречался с друзьями».
Куб и другие ученые использовали наркотики для формирования аналогичного
поведения у лабораторных животных. Если у крыс и мышей - наркоманов отнимали
наркотик, в лабиринте они вели себя столь же пассивно, как разлученные полев-
ки . Они замыкались в себе. Они хандрили. Люди-наркоманы делают то же самое,
говорит Куб, приводя в пример персонажей из фильмов «Покидая Лас-Вегас» и «На
игле».
Чтобы понять, какие физиологические процессы лежат в основе пассивной де-
прессии у разделенных полевок, Бош измерил их биохимические показатели. В
крови самцов, разлученных со своими самками, обнаружился гораздо более высо-
кий уровень кортикостерона (гормона стресса), чем у самцов из других опытных
групп, в том числе полевок, разлученных с братьями. Система «гипоталамус -
гипофиз - надпочечники» (та, которая отвечает на стресс) работала очень ак-
тивно , масса надпочечников была больше.
Чтобы выяснить, играет ли кортиколиберин какую-то роль в перегрузке системы
«гипоталамус - гипофиз - надпочечники» и каким образом его действие связано с
подавленным состоянием, Бош блокировал рецепторы кортиколиберина в мозге по-
левок . Когда он это сделал, разведенные полевки перестали вяло висеть на па-
лочках . Они не плавали подолгу в воде. Они все еще помнили своих партнеров и
были к ним привязаны, но не тревожились в разлуке. Однако вот что странно: и
у тех особей, которых не разлучили с партнершей, и у тех, которых разлучили,
уровень кортиколиберина в опорном ядре концевой полоски был выше, чем у сам-
цов, живших с братьями или разлученных с ними. Иначе говоря, гормона стресса
было больше и у тех полевок, которые испытывали депрессию из-за разлуки, и у
тех, кто счастливо жил со своей парой, не проявляя никаких признаков пассив-
ного преодоления стресса. «Сама привязанность приводит к увеличению выработки
большого объема кортиколиберина, - объясняет Бош. - Но это не значит, что
система ответа на стресс активна». В совместной жизни с партнером есть нечто
фундаментальное, что приводит к повышению уровня кортиколиберина в мозге. Од-
нако стресс-система «гипоталамус - гипофиз - надпочечники» не запускается,
пока пара вместе. Используя интересную метафору для описания привязанности,
Бош говорит: «Я сравниваю это с винтовкой. Когда формируется привязанность,
винтовку заряжают пулей и взводят курок. Но курок не спущен, пока пару не
разлучат». Он полагает, что вазопрессин действует как химический «спусковой
крючок», приводящий стресс-систему в действие при наступлении разлуки. Впро-
чем, точное значение окситоцина и вазопрессина пока еще не выяснено.
Наркоманы тоже заряжают эту винтовку. Она не выстрелит, пока они не пере-
станут принимать наркотики. Как говорит Бош, в паре полевок «она не выстре-
лит , пока партнер не покинет гнездо. Постоянная боеготовность позволяет сис-
теме срабатывать очень быстро. Как только наступает разлука, животные испыты-
вают отрицательные эмоции». Эти отрицательные эмоции и влекут полевок домой.
«Вы готовы любым способом избавиться от этого чувства. У животных есть только
одно средство - вернуться к партнеру». По возвращении домой тревогу, вызван-
ную разлукой, вероятно, облегчает окситоцин. Винтовка перестает стрелять, и
система стресса возвращается в нормальное состояние.
Влюбившись, люди приставляют к своей голове винтовку. Вы даете заманить се-
бя в отношения, наслаждаетесь их радостями, но со временем вы испытываете всё
меньше и меньше удовольствия и уже начинаете действовать по инерции. «В нача-
ле отношений, когда человек чувствует себя замечательно, его кортиколиберин
помалкивает - преобладает дофаминовое поощрение, - говорит Бош. - Вы чувст-
вуете себя отлично. Все круто. Все здорово. А спустя какое-то время природа
делает так, чтобы вы продолжали оставаться с партнером. Запускается система,
которая заставляет вас чувствовать себя плохо, как только вы его оставляете.
Вот в чем вся суть». Мы спрашиваем, как он считает, полевки возвращаются до-
мой потому, что положительно мотивированы оставаться с партнером (им это нра-
вится) , или потому, что хотят избавиться от отрицательных эмоций, вызванных
разлукой (им приходится)? Они хотят прекратить страдания, считает Бош. «Когда
мы вместе, мы чувствуем себя нормально, чем бы это нормально ни было. Отрица-
тельные эмоции вынуждают нас возвращаться».
Система кортиколиберина, объясняет Куб, сигнализирует о потере, и нам нужно
с этим что-то делать. Когда крысам перестают давать наркотики и проверяют их
мозг на уровень кортиколиберина в реальном времени, в соответствующих облас-
тях системы поощрения обнаруживается высокая концентрация этого гормона. Ко-
гда крысам-алкоголикам не дают выпивку, а потом вводят лекарство, блокирующее
кортиколиберин, они перестают чрезмерно пить, даже если у них есть доступ к
алкоголю, и не используют стратегию пассивного преодоления стресса.
Родительское поведение работает по той же схеме. Это согласуется с пред-
ставлением о том, что любовь между взрослыми людьми уходит корнями в привя-
занность родителя и ребенка. Мы уже говорили: забота вознаграждается, иначе
мы не заботились бы. Мы не занимались бы сексом и не влюблялись. Забота, по-
добно любви, делит одни и те же нейронные цепи с наркотической зависимостью,
которые в числе прочего включают миндалевидное тело, вентральную область по-
крышки и прилежащее ядро. Родители «влюбляются» в своих детей, но со време-
нем, как оно происходит с любовью у взрослых, может возникать скука, а то и
отвращение. После многочисленных бессонных ночей, грязных подгузников и мла-
денческих капризов блаженство первых дней порой превращается в каторгу. Со-
хранение интереса родителей к младенцу - вопрос его жизни и смерти, поэтому
природа создала такую систему, которая вынуждает родителей быть заинтересо-
ванными в заботе о ребенке, нравится им это или нет.
Если мать теряет ребенка в магазине, уровень кортиколиберина в ее мозге по-
вышается . Когда она его находит, зндорфины действуют успокаивающе. Если мла-
денец плачет, кортиколиберин запускает систему «гипоталамус - гипофиз - над-
почечники», вынуждая родителя обратить на ребенка внимание не потому, что за-
бота и уход приятны, как это было в первые дни после рождения, а потому, что
теперь родитель мотивирован отрицательно - он хочет избавиться от стресса. Во
время заботы и общения высвобождается окситоцин, он понижает напряжение в
стресс-системе, и наши ощущения возвращаются к норме. С помощью описанного
механизма можно объяснить, почему матери-наркоманки часто пренебрегают своими
детьми. Исследования молодых матерей, принимавших кокаин, показывают, что они
проявляют меньшую заинтересованность и отзывчивость. Наркотики понижают важ-
ность естественного поощрения, делая родителя менее заботливым. Именно таким
путем наркотическая зависимость изолирует наркомана от отношений с другими
людьми, а у полевок амфетамины препятствуют формированию привязанности к
партнеру - наркотики влияют на природную способность тех и других образовы-
вать связь со своими детьми.
Вышеописанные результаты, полученные Бошем, - это исследования самцов. В
целом они совпадают с аналогичными опытами на самках, хотя существенные раз-
личия все же имеются. Самки полевок, получавшие амфетамины, реагировали на
них как и самцы, только гораздо сильнее. Они оказались более чувствительны к
поощрению, получаемому при введении наркотика, и у них быстрее формировалось
предпочтение места, где им давали этот наркотик.
В экспериментах Боша самцы, разделенные с друзьями-самцами, не печалились
из-за разлуки. Но самки, разлученные с сестрами или подругами, долго жившими
с ними в одной клетке, да и с любыми самками, с которыми у них выстраивались
социальные отношения, горевали. Весь свой эмоциональный капитал самцы вклады-
вали в один банк - в партнершу. У самок же наблюдалось депрессивное состоя-
ние, когда они теряли матерей, сестер, близких подруг или своих партнеров-
самцов. Возможно, где-то здесь кроется объяснение, почему женщины страдают от
депрессии почти в два раза чаще мужчин.
Пьяный звонок.
Что за ним стоит?
«Наркомания и любовь совершенно одинаковы», - без тени сомнения заявляет
Куб. И это, конечно, объясняет всевозможные безумства. Подумайте о парадоксах
любви. Встречаются два незнакомых человека, каждый со своими мечтами, целями
и жизненными устремлениями. Между ними возникают интерес, влечение, секс. Ед-
ва ли не сразу ход их мыслей меняется. Если бы они с таким же увлечением ду-
мали о чем-то ином, это сочли бы одержимостью, как у наркомана, чей внутрен-
ний взор направлен всегда в одну точку. Запах ее шеи, ощущение волос под
пальцами на его груди, мягкость ее губ, его голос, шепчущий на ухо настойчи-
вые эротические просьбы, репродукции Лотрека у него на стенах, ее коллекция
журналов Vogue - все эти сенсорные сигналы, яркие и живые, по каким-то необъ-
яснимым причинам очень важны. Мысль о ее духах способна отвлечь его от работы
и надолго погрузить в мечтания. И вот однажды жизненные планы меняются, пото-
му что не изменить их было бы слишком болезненно. Потом проходят годы. Он не-
доумевает, почему она до сих пор хранит эти проклятые журналы. Она считает
его занудой, а репродукции Лотрека - банальностью. Однако они утверждают, что
счастливы. Не так, как раньше, но все же уверенно и спокойно. По пути на ра-
боту она скучает по нему и по дому, а он скучает по ней. Жизнь оказалась не
такой, как они мечтали, но это нормально. Они зарядили винтовки и теперь жи-
вут, приставив их к головам друг друга.
Это описание не такое циничное, как может показаться на первый взгляд. Вин-
товка, направленная вам в висок, поможет вам не сбиться с дороги, на которой
вы будете получать больше всего счастья в течение долгого времени, не говоря
уже об удовлетворении эволюционной потребности рождать и растить детей.
Существует множество непрямых свидетельств в пользу того, что любовь - это
зависимость. Влюбленные могут действовать друг на друга как болеутоляющее.
Было исследование, в котором участвовали пятнадцать человек, чьи отношения
длились девять месяцев - достаточно, чтобы влюбиться, но недостаточно, чтобы
начать испытывать друг к другу отвращение. Их обследовали при помощи аппарата
фМРТ, подвергая тепловым болевым стимулам различной интенсивности. Испытуемые
смотрели на изображения привлекательных знакомых, своих партнеров и на надпи-
си со словами, которые прежде помогали уменьшить боль. Прочтение слов снижало
боль, но, как показало сканирование, связано это было с отвлечением внимания:
распознавание и анализ слов просто переключали сознание на себя. Изображения
друзей никак не влияли на болевые ощущения. А вот фотографии возлюбленных
действительно уменьшали боль: при их предъявлении включалась система поощре-
ния, в том числе прилежащее ядро, миндалевидное тело и префронтальная кора.
Таким же свойством обладают наркотики.
Понимание любви как зависимости объясняет, почему привлекательны отношения
на расстоянии: это растянутая во времени предварительная игра. Если в мозге
поощрение за обнаружение партнера возникает с перерывами, объясняет Джим Пфа-
ус, вы не только не привыкаете к нему, а становитесь гораздо более чувстви-
тельными. Так действует секс и удаленные отношения тоже. Разве не волнитель-
но: „мы будем видеться раз в две недели"? И вот вы ждете и ждете. За пару
дней до встречи вас наполняет предвкушение поощрения, и, наконец, вы погру-
жаетесь в эмоции поискового поведения и горячий секс, что подкрепляет запе-
чатленный у вас в коре образ вашего партнера». Ни вам, ни ему не скучно. Вас
всё восхищает друг в друге, потому что ваши отношения оказываются в счастли-
вой переходной зоне между первой неодолимой страстью и последующим отвращени-
ем к пузырящимся коленям тренировочных штанов. «Если вы можете получать это
каждую ночь, - объясняет Пфаус, - это как с мастурбацией: интенсивность поощ-
рения снижается. Даже семяизвержение уменьшается в объеме! Люди, исследующие
наркоманию, знают: принимая кокаин каждый день, вы становитесь устойчивы к
нему».
Зависимостью можно объяснить наше поведение после того, когда любовь ушла.
Как и разбитый «Шерлок» для Мюррея, конец любви - это травма. Здесь уже не-
важно, кто жмет на курок. «Наркомания очень похожа на разрыв любовных отноше-
ний, - поясняет Куб, обсуждая эксперимент Боша. - Думаю, система для того и
предназначена, чтобы вернуть человека к его партнеру. Именно в этом заключа-
ется ее назначение - вернуть вас домой, где вас ждут».
Полевки, разлученные со своими партнерами, скорбят, как скорбят люди из-за
утраты любви и смерти любимого. Мэри-Фрэнсис О!Коннор, нейробиолог из Кали-
форнийского университета Лос-Анджелеса, исследовала мозг женщин, недавно пе-
реживших смерть сестры или матери. Некоторые из этих женщин страдали так на-
зываемой затяжной реакцией горя. (Затяжное горе сильнее, чем печаль, - это
хроническая патологическая тоска, одержимость умершим.) Остальные женщины
чувствовали обычное горе. О!Коннор помещала испытуемых в аппарат фМРТ и пока-
зывала им фотографии незнакомых людей и умерших близких. Каждую фотографию
сопровождала надпись, либо описывающая горе, либо нейтральная. У женщин с за-
тяжной реакцией горя система поощрения реагировала гораздо активнее. Это мо-
жет показаться странным, если только не рассматривать горе как зависимость.
Когда женщины смотрели на связанные с горем слова, прилежащее ядро реагирова-
ло только у тех, кто испытывал затяжную реакцию. Реакция была связана с силь-
ной тоской по умершему, похожей на тягу к наркотику. Точно так же запах ста-
рой футболки возвращает болезненные воспоминания об ушедшем возлюбленном.
Стресс, наступающий при разрыве отношений, и хронический стресс, приходящий
потом, могут быть настолько сильными, что подрывают здоровье. Когда люди раз-
водятся , их иммунная система заметно ослабевает. Люди, недавно пережившие
развод, чаще ходят к врачам, чаще страдают от острых и хронических заболева-
ний, чем те, кто состоит в браке, и чаще умирают от инфекций. Мужчины, вопре-
ки расхожему представлению о том, что они якобы не нарадуются своей свободе,
бродя по ночным клубам в поисках доступных женщин, сильно страдают. Возможно,
потому, что все их эмоции и переживания, вызывавшиеся привязанностью, были
обращены на партнера, тогда как женщины нередко получают дополнительную эмо-
циональную и социальную поддержку от других женщин. Иногда человек, оставший-
ся в одиночестве, не способен сосредоточиться ни на одном занятии, даже столь
заурядном, как работа. Он с унизительным постоянством стремится к ощущениям,
связанным с ушедшим возлюбленным. Их пробуждают прядь волос, записка, вкус
любимой еды. Люди подолгу разглядывают старые фотографии. Точно так же нарко-
маны, переставшие принимать наркотики, продолжают сохранять повышенное внима-
ние к любым связанным с ними сигналам. Восприимчивость к этим сигналам так
велика потому, что они способны снова запустить систему кортиколиберина «ги-
поталамус - гипофиз - надпочечники» и вызывают навязчивое желание контакта.
Поэтому Мюррей и уничтожил «Шерлока». Но и без трубки один только намек на
наркотики мог запросто сломить силу воли, даже спустя много лет после того,
как Мюррей завязал. «Что будет, если я войду на кухню и увижу рассыпанное на
столе сухое молоко? Я вам скажу что: либо мне придется тут же его вытереть,
либо уйти из кухни». Под давлением стрессовой системы мы совершаем поступки,
которых прежде от себя даже ожидать не могли: напившись, в два часа ночи зво-
ним ушедшему возлюбленному или слушаем грустные песни Эдит Пиаф, хотя понятия
не имеем, о чем она поет. Мы пьем, особенно мужчины, у которых во время прие-
ма алкоголя выделяется больше дофамина, чем у женщин. Мы не контролируем се-
бя, потому что не имеем доступа к естественному источнику облегчения - чело-
веку, которого любим.
У животных кортиколиберин вызывает наркотический рецидив, а у людей стресс,
вызванный разрывом, склоняет бывших партнеров к сексу друг с другом. Бросив-
шие могут думать, что они, возможно, совершили большую ошибку, прекратив от-
ношения. Брошенные не думают о самоуважении, рассуждая: «Ага! Она хочет ко
мне вернуться!»
Мюррей рассуждал постоянно. «Я думал: да, совершенно нормально не платить
за квартиру. Я говорил себе, что в следующий раз просто заплачу вдвое больше.
Или: нормально не забирать дочь из школы. Это сделает кто-нибудь другой. Нор-
мально опаздывать. Или вообще не приходить. Ты занят, ты не можешь прийти на
репетицию - ты и так отлично играешь».
Любовь как зависимость часто может способствовать восстановлению отношений.
Если бы мы были полевками, говорит Куб, и только что разругались со своим
партнером, то больше бы выиграли, не дуясь, а действуя. «Лучше, конечно, дож-
даться другой полевки или самому ее найти, быть Ньютом Гингричем6 полевок».
Как мы уже говорили, сам секс не вызывает зависимости вопреки утверждениям
некоторых популярных психологов и дельцов от «Восстановления Сексуальной Си-
лы !». Но секс действительно приводит к выбросу окситоцина, который ослабляет
повышенную стрессовую реакцию на разлуку с возлюбленным. Люди, которые только
что расстались, даже если сами инициировали разрыв, могут ради облегчения
стресса искать себе нового партнера.
Кто-то реагирует на потерянную любовь изменением поведения, становясь пре-
следователем или совершая самоубийство. В обзоре записок американских само-
убийц говорится, что любовь - более распространенная причина суицида у обоих
полов, чем чувство собственной никчемности. Ежедневно в Индии около десяти
человек убивают себя из-за потери любви - это больше, чем от нищеты, безрабо-
тицы или банкротства. Интересно, что депрессия - еще одна частая причина са-
моубийства, и уровень кортиколиберина у людей в депрессии часто хронически
высок, поскольку «переключатель» стрессовой системы застревает в положении
«включено».
Даже мысли о расставании могут вызвать стресс и страх перед реальным разры-
вом . Студентов первого курса колледжа попросили предсказать, как долго и как
сильно они будут расстраиваться, если партнер их бросит. Тот, кто считал себя
сильно влюбленным, не искал новых романтических увлечений и не хотел расста-
ваться, значительно переоценивал то, насколько ему придется плохо, и как дол-
го это состояние будет длиться. Именно поэтому многие предпочитают сохранять
отношения после неблаговидных поступков своего партнера. В 2008 году Сильда
Спитцер, жена тогдашнего губернатора Нью-Йорка Элиота Спитцера, появилась
вместе с ним перед камерами, несмотря на то, что мужа обвиняли в визитах к
проституткам. Она решила сохранить брак, хотя некоторые с уничижением отзыва-
лись о ней как об антифеминистской подстилке. Многие другие мужья и жены тоже
не разрывают отношения, после того как один из партнеров совершил измену. Ко-
нечно, свою роль в принятии такого решения играют религиозные правила, эконо-
мические вопросы и дети, но зависимость - не менее мощный внутренний мотива-
тор.
Даже те мужчины и женщины, которых словесно или физически оскорбляют их
партнеры, порой не расходятся, в точности как Мюррей, сохранявший свои отно-
шения с наркотиками. Они оправдывают этот выбор, сосредотачиваясь на положи-
тельных чертах партнера. Те, кто остается, но потом все же набирается мужест-
ва и уходит, позже говорят о своем прежнем состоянии как о «наваждении» или
«каше в голове». Такие фразы Мюррея, как «Моя болезнь велела мне...» отражают
аналогичное состояние ума.
Если вы помните, в экспериментах Арагоны у 28 процентов полевок не происхо-
дила реорганизация прилежащего ядра. Как и у них, у нас готовность любить,
стремление формировать привязанность и склонность к моногамной зависимости
(или крайним проявлениям этой зависимости) определяются теми же генетическими
особенностями и внешними обстоятельствами, которые влияют на склонность к
наркотической зависимости. Приведем пример. Положительные социальные контакты
дают нам возможность чувствовать себя хорошо отчасти потому, что приводят к
высвобождению эндорфинов в мозге. У человека существует несколько вариантов
гена опиоидных рецепторов. Ученые исследовали более двухсот человек и обнару-
жили, что носители одного из вариантов с большей вероятностью образуют роман-
тические связи и получают от этого больше удовольствия, чем носители другого
варианта. Первый из названных вариантов гена также обусловливал более чувст-
вительную реакцию на наркотики и стресс по сравнению с другими вариантами.
ь Ньютон Лерой «Ньют» Гингрич - американский политик, писатель, публицист и бизнес-
мен; трижды женат.
Оба родителя Фреда Мюррея были алкоголиками, поэтому он уверен, что нарко-
мания - его судьба. Возможно, он прав, а возможно, окружающая среда, уличная
жизнь и плохое воспитание повлияли на него больше, чем гены. Скорее всего,
свою роль сыграло и то и другое. Но он по-настоящему был влюблен в наркотики
и испытывал боль от разрыва с ними.
В конце концов, Мюррей дошел до предела. Он снял номер в дешевом калифор-
нийском мотеле, смешал столько крэка и метамфетамина, сколько смог найти, и
начал курить. Как он и надеялся, его сердце едва не выскакивало из груди. По
всему телу струился пот. Казалось, еще пара доз - и его сердце разорвется. Но
он только потерял сознание. Очнувшись и взглянув на себя в зеркало, он испы-
тал глубокое отвращение. «Даже этого не сумел», - вспоминает он о своей по-
пытке самоубийства. Фред позвонил в гольф-клуб. Стыдясь упоминать о наркоти-
ках , он сказал, что не мог бросить пить, и пытался покончить с собой, поэтому
исчез с работы. Работодатель организовал ему курс лечения в реабилитационной
клинике Сан-Диего, где сегодня Мюррей работает консультантом. Сейчас мало что
связывает его с прошлым. Он говорит, он не сожалеет, что живет иначе. Но ему
нравится записывать музыку своей старой группы на диски и дарить их вместо
визитной карточки. Как музыкант Мюррей был очень неплох. Он прекрасно владел
ритм-энд-блюзовой манерой пения, и когда вы слышите его кавер-версию компози-
ции, ставшей популярной благодаря Би Би Кингу, - «Кайф ушел, детка... я свобо-
ден от твоего заклятья», - вам приходится напоминать себе, что в этой песне
поется о женщине.
ГЛАВА 8.
ПАРАДОКС
ИЗМЕНЫ
Мы не удивимся, если окажется, что в этот момент вы чешете затылок и спра-
шиваете себя: «Раз мы так зависим друг от друга и до смерти боимся расстать-
ся, почему же отношения заканчиваются? И как объяснить измену жены или мужа?»
Эти два интереснейших вопроса - часть весьма непростой загадки, над которой
не одно столетие бьются лучшие умы мира. Указать общую причину распада союза
между мужчиной и женщиной невозможно, так как ее нет - обстоятельства у всех
разные. Но существует истина, справедливая для всех половых отношений:
страсть постепенно угасает. Страсть заполняет собой множество скрытых пустот
в отношениях, поэтому, когда она уходит, люди остаются лицом к лицу с очевид-
ностью: они не подходят друг другу по каким-то личностным особенностям или по
характеру. Такова причина большинства расставаний и очень многих разводов ме-
жду людьми, вступившими в брак первый раз. Впрочем, даже в этом случае разрыв
дается людям нелегко, что еще раз доказывает силу зависимости, цель которой -
удержать нас вместе.
Неверность может быть совершенно не связана с несовпадением личностных осо-
бенностей и характеров двух людей, но она, безусловно, тоже становится причи-
ной многих разрывов. У измены множество оттенков, но это универсальное явле-
ние, свойственное, как мы уже говорили, даже степным полевкам. Хотя степным
полевкам в целом свойственна моногамная система отношений, если рассматривать
каждую пару в отдельности, их моногамия далеко не такая строгая, как можно
подумать. Нейронные цепи разных особей отличаются друг от друга, и эти разли-
чия способны серьезно влиять на склонность полевки или человека к сексуальным
приключениям.
Здесь кроется парадокс, внутренне присущий нашему представлению о монога-
мии. Социальная моногамия (моногамия как система социальных отношений) и сек-
суальная моногамия (моногамия как связь между двумя индивидами) - два принци-
пиально разных явления, но большинство людей полагает, что одно логически
проистекает из другого, поэтому часто мы считаем их одним и тем же. Но это
вовсе не так. Вспомните Фреда Мюррея, а также различие между «нравится» и
«требуется», описанное Джорджем Кубом. Мюррей был женат, любил свою жену, од-
нако завел любовницу. Его любовницей был наркотик, а не другая женщина, но с
точки зрения нейрохимического механизма никакой разницы нет. Он не собирался
разрушать свой брак и семью. Прежде чем все пошло прахом, Мюррей пытался от-
делить домашнюю жизнь от наркотиков. Некоторые его знакомые-наркоманы не зна-
ли , где он живет, женат ли он, есть ли у него дети, кем он работает. Он поку-
пал старые машины и ездил на них за наркотиками, паркуя автомобили подальше
от дома, чтобы его не выследили. Однажды посреди ночи к нему заявился чело-
век, собиравшийся купить наркотики. Мюррей возмутился: «Что ты делаешь в моем
доме? Это мой дом! Никогда сюда не приходи!» - и захлопнул дверь. Семейную
жизнь - свою территорию, если угодно, - он рассматривал как нечто совершенно
отличное от восхитительных, но разрушительных отношений с наркотиками.
Большинство мужчин, занимающихся сексом на стороне, тоже хотят, чтобы эта
сторона жизни существовала отдельно от их семей и социальных связей. Измена
не направлена на разрыв отношений с постоянным партнером. Более 60 процентов
мужчин, вступавших во внебрачные связи, говорили, что никогда серьезно не ду-
мали о подобном развитии событий до тех пор, пока разрыв не случался. Немно-
гие из людей четко нацелены (или могут быть нацелены) на поиск сексуальных
связей вне постоянного партнерства, однако и среди них большинство клянутся в
верности своим супругам, счастливы в браке и не собираются расставаться. Есть
своего рода жанр телевизионных шоу - исповеди знаменитостей, политиков и ре-
лигиозных лидеров на эту тему. Всё началось со слезливых извинений телепропо-
ведника Джимми Сваггарта, который в 1988 году повинился перед своей паствой и
обширной телевизионной аудиторией, после того как конкурент-евангелист сфото-
графировал его в обществе луизианской проститутки. Сваггарт говорил, что «со-
грешил против Иисуса» и всех тех, кто обращался к нему за моральными настав-
лениями. По мнению некоторых людей, Сваггарт получил по заслугам, поскольку
всего за год до своего покаяния во весь голос порицал другого христианского
лидера, Джима Беккера, замешанного в секс-скандале. Ни Сваггарт, ни Беккер не
имели ни малейшего желания разрушать свои браки, однако оба сбились с пути
праведного, потому что ими управляла сила более мощная, чем моральные убежде-
ния.
Вопрос о числе людей, отступивших от сексуальной моногамии, остается откры-
тым. Несмотря на многолетние усилия социологов и ученых, никто не может с
точностью сказать, какой процент тех, кто состоит в моногамных отношениях,
занимается сексом на стороне. Нетрудно догадаться, что опрашиваемые часто не
желают говорить правду в личных интервью, и даже анонимным опросам нельзя ве-
рить безоговорочно. Однако приблизительные оценки существуют. В годы, предше-
ствующие пресловутой «сексуальной революции» 1960-х, врачи больницы Нового
Орлеана исследовали женщин, помещенных в стационар. Их разделили на две груп-
пы - с раком шейки матки и без. Более половины женщин, больных раком, говори-
ли, что изменяли своим мужьям. Это неудивительно, поскольку рак шейки матки
вызывается вирусом, передаваемым половым путем, и чем больше у вас партнеров,
тем выше вероятность инфицирования. Но четверть женщин, не болеющих раком,
также обманывали своих мужей. Отчет о самом крупном и наиболее исчерпывающем
опросе на эту тему под названием «Социальная организация сексуальности» был
опубликован в 1994 году. В нем Эдвард Лауманн и его коллеги пишут, что почти
20 процентов американок, рожденных между 1943 и 1952 годами (во время опроса
им было от сорока до пятидесяти лет) , занимались сексом с другим мужчиной,
пока были замужем. Среди мужчин того же возраста доля тех, кто совершил изме-
ну, составила 31 процент. Среди пар, не состоящих в браке, но сексуально мо-
ногамных (либо живших вместе, либо встречавшихся), больше половины изменяли
своему партнеру.
Независимо от того, находимся мы в моногамных отношениях или нет, нам свой-
ственно желать жены ближнего своего либо мужа или приятеля своей подруги.
Многонациональное исследование, в котором участвовало 17 тысяч человек, при-
надлежавших к 53 нациям из разных стран мира, показало, что мужчины и женщины
студенческого возраста делают то, что социологи и зоологи называют «брачным
браконьерством». Около половины совершали, по меньшей мере, одну попытку, и
не без успеха. В Северной Америке 62 процента мужчин и 40 процентов женщин
пытались соблазнить чужого партнера и склонить его к кратковременной связи. В
капкан попадают многие: 60 процентов мужчин из тех, кто стал объектом «охо-
ты», сказали, что согласились на краткие сексуальные отношения с «браконье-
ром» . Среди женщин так поступила почти каждая вторая. «Браконьеры», со своей
стороны, подтвердили эту статистику, при этом заявляя, что пытались завязать
с партнерами долговременные отношения. Интересно, что в государствах, где у
женщин больше политических прав, случаи «брачного браконьерства» в равной
степени встречаются среди обоих полов.
Секс, разумеется, приводит к появлению детей. Миллионы мужчин во всем мире,
которым женщины наставили рога, воспитывают не своих детей. Точные цифры не-
известны, результаты исследований широко варьируют в зависимости от региона
исследования и многих других характеристик. По результатам опросов на Гавайях
доля детей, появившихся на свет после измены мужу, составляет 2,3 процента, в
Швейцарии - 1 процент, в Мексике - 12 процентов. Можно предположить, что в
среднем на планете отцы растят (не догадываясь об этом) от 3 до 10 процентов
чужих потомков.
Ради поддержания дискуссии давайте примем, что неверность в браке составля-
ет от 30 до 40 процентов, в незарегистрированных моногамных отношениях - 50
процентов и что 10 процентов младенцев генетически не имеют отношения к муж-
чинам, которые считают себя их отцами. Во всем мире. Среди всех рас, племен и
культур. Вывод очевиден: неверность - врожденная поведенческая черта, по
крайней мере, некоторой части человеческой популяции. Так было всегда. Одна
из самых знаменитых речей древнегреческого писателя и оратора Лисия - речь в
защиту человека, убившего мужчину, которого он застиг в постели со своей же-
ной: «Я никогда не подозревал, насколько я простодушен, полагая, будто моя
жена - самая добродетельная женщина в городе», - сказал обвиняемый на суде.
Во все времена и во всех культурах противоречие между социальной моногамией
и сексуальным влечением было источником различных неприятностей. Тысячи лет
общество пыталось избавиться от него, силой загоняя половое поведение в рамки
социальной моногамии, обуздывая, ограничивая и приструняя эротическое жела-
ние . Сам брак - узаконивание человеческой любви - это попытка структурировать
половое поведение и ограничить его правилами. Во многих культурах, подверг-
шихся влиянию христианской традиции, брак предназначен для удержания эротиче-
ского поощрения внутри прочной социальной связи, служит защитой от первород-
ного греха. Общую тональность этого отношения установил Бл. Августин, который
писал и проповедовал в конце 300-х - начале 400-х. Секс, учил он, это резуль-
тат человеческого падения и изгнания из рая. Обращаясь к проблеме преступного
желания, он утверждал, что в раю сексуальная страсть существовала не в той
форме, которую она обрела после грехопадения. Ею полностью управляло рацио-
нальное «я». Оргазмы не доставляли яркого, умопомрачительного наслаждения, а
были спокойными и находились в полной гармонии с идеальной утонченностью рай-
ского сада. Члены Адама и Евы соединялись размеренно, без рвения и страсти.
Бремя сексуального желания и искушения стало частью наказания за отрицание
Бога. Возвращение этой неприрученной дикости в узду разума - одно из главных
обязательств человека перед Богом, если он когда-либо захочет вернуться в
рай.
Если учесть, что человеческая сексуальность утратила эдемскую чистоту после
грехопадения, людям стоило бы вообще не заниматься сексом, как считали неко-
торые отцы церкви. Но они признавали, что слабовольные будут испытывать мучи-
тельное искушение нарушить божественный план. Поэтому церковь дала им возмож-
ность выхода. Пусть люди отдаются во власть сексуального желания, но только в
браке и при обстоятельствах, очерченных строгими правилами. Даже в браке секс
для удовольствия или из похоти был смертным грехом: жена должна была беречь
себя от любых действий, любых «распутных объятий», которые воспламеняли эро-
тическое желание мужа. Нарушение этих правил влекло за собой тяжелую кару. За
измену вы могли потерять собственность, семью и свободу. Но, несмотря на ре-
прессии, множество людей продолжало изменять. Невзирая на ужасные последст-
вия, они не могли совладать с процессами, идущими в их мозге и побуждавшими
их к поступкам, которые грозили большими неприятностями.
Существовало «несовпадение между тем, что люди одобряли, и тем, чего они
реально ожидали и что терпели», говорит нам Стефани Кунц, профессор истории и
семейных исследований колледжа Эвергрин в Олимпии (штат Вашингтон). Это ут-
верждение напоминает о том, как Мюррей отделял свою домашнюю жизнь от жизни с
наркотиками, а еще о той пропасти, которая лежит между сексом на стороне и
постоянной брачной связью. «Моралисты и философы воспевают верность и прокли-
нают измену, но на деле это всего лишь абстракция, как и целибат, идея мира
во всем мире и всеобщее благоденствие».
Кунц написала книгу «История брака: как любовь победила супружество». Она
пишет, что даже в самые суровые времена сексуального подавления люди приспо-
сабливались к обстоятельствам. Во многих средневековых городах Европы были
легальные бордели. Высшее общество открыто признавало, что брак и романтиче-
ская любовь, в том числе эротическое стремление, - разные вещи. Романтическая
любовь считалась высшей формой любви. «Согласно культу куртуазной любви ис-
тинное чувство может быть только вне брака», - рассказывает Кунц. Действи-
тельно, в книге XII века «Искусство куртуазной любви» Андре Капеллана первое
правило звучит так: «Брак - не повод не любить». «Истинная любовь могла поя-
виться только в адюльтере, - продолжает Кунц. - Брак являлся экономическим и
политическим актом, а потому не имел отношения к подлинной любви. Люди жени-
лись или выходили замуж из практических соображений».
Европейская литература времен Чосера, конца XIII века, предлагает массу ко-
мических (и не очень) историй об изменах женам и наставлении рогов мужьям.
Сюжет «Смерти короля Артура» Мзлори вращается вокруг романа Ланселота и Гви-
невры. Однако нехудожественная литература - епархия церкви, поле ожесточенной
битвы с распущенностью. Если читать церковные тексты того времени, может по-
казаться, что основной заботой христианства была борьба с незаконным сексом.
В XVI и XVII веках мужчины свободно говорили и писали, обращаясь, например, к
своим тестям и шуринам, «о своих похождениях со служанками или о том, как
подцепили сифилис от проститутки», со смехом говорит Кунц. Они рассказывали о
новой служанке, которая хороша в постели, и были абсолютно уверены, что жены
останутся в неведении. Однако то явление, которое жених поневоле Альфред Ду-
литтл в «Пигмалионе» Бернарда Шоу с отвращением называет «моралью среднего
класса», существовало уже в дни Чосера. «Чосер был блестящим социальным исто-
риком», - объясняет Кунц. «Кентерберийские рассказы» - живая летопись борьбы
с неприличным сексуальным желанием западноевропейского общества, постоянно
изобретавшего самые разнообразные и противоречивые способы его усмирения. В
этой летописи показано возникновение того, что в наше время считается идеалом
брака. Одна из новелл, «История Франклина», рассказанная мелким землевладель-
цем среднего класса, повествует о супругах, также принадлежащих к среднему
классу, - о спокойном, ничем не примечательном рыцаре и его жене Доригене,
имеющей более высокий социальный статус. Ухаживая за своей женой, рыцарь обе-
щает ей вести себя с ней не как хозяин, а как слуга и подчиненный, если на
людях она будет поддерживать иллюзию власти мужа, чтобы защитить его репута-
цию. Супруга в свою очередь клянется быть верной и преданной. Иными словами,
они заключают весьма современный равноправный договор. Следующий персонаж,
дворянин Аврелий, был в отличие от верного рыцаря «слугой Венеры». Он влюбля-
ется в Доригену и начинает ее преследовать. Он даже угрожает убить себя, если
она не даст ему надежду. Наконец в отсутствие мужа Доригена, пытаясь спасти
влюбленного сквайра, но при этом не потерять свою честь, обещает ответить ему
взаимностью, если он сумеет изменить русло реки, что, как ей кажется, невоз-
можно . Однако эти изменения происходят. Расстроенная Доригена признаётся мужу
в том, что дала клятву, и тот, как истинно любящий человек, отвечает: она
обязана сдержать свое обещание, но пусть никому не говорит об этом, чтобы не
запятнать позором его имя. Тронутый честностью пары и их любовью друг к дру-
гу, Аврелий освобождает Доригену от клятвы.
«Такой была чосеровская модель равноправного брака, - объясняет Кунц. - В
этом описании представлены зарождающиеся ценности партнерских отношений. Мы
видим, что автор прославляет равноправие и взаимную верность мужа и жены в
противоположность аморальному поведению высших и низших сословий. Это было
началом идеализации брачных отношений и ценностей среднего класса. Чосер был
очень прозорлив».
В центре идеи равноправного брака - образ женщины как неземного существа и
неземная природа женственности. В дни Чосера женский эротизм воспринимался
как нечто само собой разумеющееся. В период, начинающийся за три сотни лет до
Чосера, и вплоть до XVIII века священники считали женщину источником порочно-
го искушения. Женское желание воспринималось как нечто настолько пугающее,
что породило миф о vagina dentate - зубастом влагалище. Но «к XIX веку, - го-
ворит Кунц, - точка зрения на брак стала основываться на представлении о жен-
ской чистоте и благородстве». Чистая, благородная женщина, считавшая секс
долгом и не совершавшая распутных действий, была не слишком интересна в по-
стели . Неудивительно, что мужчины искали удовольствий на стороне. Отсюда и
всем известные «двойные стандарты». Мужчина мог ходить к проституткам, иметь
любовницу, но подобные действия не становились фатальными для брака. Жены не
имели права возражать. «Я прочла множество дневников и писем. Мне попадались
и такие, в которых женщина негодует на своего супруга, а родственники называ-
ют ее реакцию на поведение мужа неподобающей», - рассказывает Кунц о своем
исследовании.
В 1920-е, в эпоху эмансипации, после выхода в свет книг, написанных нашим
старым знакомым, Г.-У. Лонгом, американцы и европейцы вторично познакомились
с идеей женского сексуального желания. Женщины обретали финансовую независи-
мость и начинали жить самостоятельно, поэтому у них появлялось больше возмож-
ностей удовлетворять свои желания, в том числе вступая во внебрачные отноше-
ния. Такие авторы, как доктор Лонг, не ставили себе целью потворствовать из-
менам. Женская сексуальная свобода, говорит Кунц, должна была помогать в бра-
ке . С появлением руководств по брачному сексу у мужчин «не должно было оста-
ваться повода искать связей на стороне, поскольку теперь они могли получить
сексуальное удовлетворение дома». Половое просвещение было нацелено на сред-
ний класс. Низшие классы никогда не считались особенно нравственными, а у
высшего класса уже имелось разрешение. Носителем общественной морали и нрав-
ственности, стальным стержнем, на котором держалась страна, был средний
класс.
В 1930-е, по мнению Кунц, началась эпоха, в которой действовали более стро-
гие, чем когда-либо, моральные нормы в отношении супружеской неверности, но
это было время гораздо большей терпимости к сексуальным отношениям в целом.
Пропасть между эротикой и брачным союзом исчезла. Браку, который удовлетворя-
ет потребность человека в привязанности, в сексуальном плане больше ничего не
мешает. Мы радуемся ему и ожидаем получить в нем максимум удовольствия и сча-
стья. Многие браки, полагает Кунц, распались, не выдержав таких высоких ожи-
даний .
Здесь мы заканчиваем краткий экскурс в историю, который сделали, чтобы по-
казать, как все 1800 лет западной цивилизации мир пытался разрешить главный
парадокс любви: ее сосуществование с супружеской неверностью. Поначалу люди
считали, что корень зла в сексуальном удовольствии, его считали греховным и
относились к нему как минимум с порицанием, даже если речь шла о браке. Одна-
ко за последние сто лет сексуальное удовольствие стало одной из основ брачно-
го союза. Все же независимо от того, как общество смотрит на брак и половые
отношения, мужчины и женщины продолжают заниматься сексом на стороне, отсту-
пая от идеала моногамных отношений. Неверность проистекает не от распущенно-
сти нравов в обществе и не от давления жестких моральных устоев. Стремление к
связи с другим мужчиной или другой женщиной, скорее всего, заложено в нашем
мозге.
Не допусти
измены!
Предположим, вы молодой работник в рекламном агентстве. (Мы сделаем вас
мужчиной, но, как доказала Сьюзен из Миннесоты во второй главе, с приливом
эстрогена во время овуляции такой сценарий работает и для женщин. Просто сме-
ните для этой истории пол.) Так вот, однажды вы входите в лифт, собираясь
подняться в свой офис, и видите красивую женщину. Она одета строго, но при-
влекательно : туфли на высоких каблуках, узкая юбка, волосы свободно спадают
на спину. Она носит очки. Красивые женщины в очках нравятся вам с тех самых
пор, как вы в тринадцать лет рассматривали в журналах фотографии сексуальных
учительниц. Возникает немедленное и сильное влечение. Вы вступаете в зритель-
ный контакт, обмениваетесь улыбками. Запускается цепь нейрохимических собы-
тий, которые мы описывали в предыдущих главах. Высвобождаются окситоцин и ва-
зопрессин, в прилежащее ядро проникает дофамин, и у вас появляется мотивация
сделать первый шах1. Однако вы не лабораторное животное, а человек, и сейчас
ваш рациональный мозг активно подсказывает, что вы уже видели ее в доме сво-
его начальника. Она - его невеста. Но даже если это не так, вы женаты, и
пусть ваша сексуальная жизнь довольно скучна, а страсть первых лет брака рас-
сеялась , вы любите свою жену. Вы не хотите ее потерять, а вы определенно ее
потеряете, если она узнает, что у вас связь на стороне. Вы можете лишиться
половины своих денег и собственности, не говоря уже о стоимости хорошего ад-
воката. Кроме того, сегодня на завтрак вы ели тонкую лапшу с чесноком и со-
усом из моллюсков. Вы довольствуетесь дружеским кивком, улыбкой, а когда две-
ри лифта открываются, идете на свое рабочее место и с невольным вздохом сади-
тесь за стол.
Это самоконтроль. Ваша медиальная префронтальная кора общается с миндале-
видным телом, вентральной областью покрышки и прилежащим ядром. Она говорит:
«Прекрати!» Вы только что столкнулись с дилеммой «желание - благоразумие» и
предпочли благоразумие.
Германские нейробиологи Эстер Дикхоф и Оливер Грубер подвергли испытуемых
дилемме «желание - благоразумие», чтобы изучить функциональные различия в
связи медиальной префронтальной коры и прилежащего ядра. Восемнадцать молодых
добровольцев заполнили стандартные письменные анкеты, позволяющие изучить им-
пульсивность и поиск новизны. В первой фазе теста они играли в игру, где им
предъявляли по одному цветному квадрату. Они могли принять его или отказать-
ся, нажав на кнопку. После каждого выбора им сообщали, привело ли это к ма-
ленькой награде - одному очку - или нет. Очки означали выплату денег, и чем
больше очков они собирали, тем больше денег выигрывали. Это упражнение позво-
лило им привыкнуть к тому, что деньги можно заработать, выбирая квадраты. Во
второй фазе теста испытуемые занимались тем же самым, но на этот раз они на-
ходились в аппарате фМРТ, и в отличие от первой фазы у них была долговремен-
ная цель: собрать к концу игры определенный блок из трех цветов. Если им это
удавалось, они получали много очков, означавших выплату большой суммы денег.
Однако они могли выбрать цвет, который не был частью собираемого блока. Выбор
такого цвета - «измена» по отношению к цвету, который они должны были соби-
рать , - мог помочь им заработать дополнительное очко к своему окончательному
счету. Рискуя, они получали шанс увеличить сумму. Но у этой «измены» был по-
бочный эффект: неудача в выполнении задания с квадратом приводила к дисквали-
фикации, при которой они лишались всех очков. Таким образом, проще было по-
ставить себе долговременную цель не поддаваться искушению заработать как мож-
но больше очков и играть, придерживаясь золотой середины. Иначе говоря, у ис-
пытуемых был стимул искать быстрое поощрение, хотя предполагалось, что они
должны сосредоточиться на отложенном вознаграждении, собирая нужные цвета в
заданный блок.
Если добровольцы выбирали немедленное вознаграждение, в их мозге наблюда-
лась повышенная активность прилежащего ядра и вентральной области покрышки.
При столкновении с дилеммой «желание - благоразумие» эти области показывали
слабую активность. Медиальная префронтальная кора подавала «стоп-сигнал». В
результате оказалось, что у испытуемых, для которых, судя по данным анкетиро-
вания, были характерны самая низкая импульсивность и невыраженное стремление
к новизне, происходит передача сигналов по обратной связи между медиальной
префронтальной корой и прилежащим ядром. Таким людям удавалось наиболее ус-
пешно сосредотачиваться на долговременной цели.
Полученные данные согласовывались с результатами опытов на животных. При
«столкновении желания и благоразумия» усиливалась отрицательная обратная
связь между медиальной префронтальной корой, вентральной областью покрышки и
прилежащим ядром. Это стало «первым свидетельством того, что у людей может
быть сходный с животными механизм регуляции». Люди рождаются со склонностью
удовлетворять насущные потребности, утверждают ученые. Когда что-либо, напри-
мер возможность полового акта, запускает систему поощрения в нашем мозге, мы
стремимся удовлетворить возникшее желание. Мы способны сдерживать это стрем-
ление ради достижения долговременных целей (например, ради сохранения связи с
постоянным партнером), но успех такой «борьбы», по всей видимости, зависит от
взаимодействия системы поощрения и медиальной префронтальной коры.
Мы уже не раз говорили о том, что существует несколько способов ослабить
связь прилежащего ядра и медиальной префронтальной коры. Предположим, с тех
пор как вы встретили женщину в лифте, прошло два года. Теперь она больше не
невеста вашего начальника. Вас отправили в командировку в Коламбус, штат
Огайо. Вы остановились в номере гостиницы «Хайатт» и снова поднимаетесь на
лифте. Теперь, вместо того чтобы просто вежливо улыбнуться, роскошная женщина
в очках спрашивает: «Вам нравятся эти типовые гостиницы?» Вы отвечаете, что
здесь скучно, поскольку единственное, что можно делать в Коламбусе, это смот-
реть футбол по местному телеканалу. И вот спустя недолгое время вы уже сидите
в баре гостиницы. Вы покупаете ей коктейль «Манхэттен» и смеетесь шуткам друг
друга, хотя они совсем не смешны, однако голос вашей медиальной префронталь-
ной коры приглушен алкоголем, и тонкий юмор для вас сейчас не принципиален.
Ее рука касается вашего плеча. Она смотрит вам прямо в глаза. Выделяется не-
много окситоцина. В прилежащее ядро поступает дофамин, и сексуальное желание,
убаюканное узами брака, вдруг просыпается. Вы больше не думаете о своей жене
или стоимости адвоката по разводам.
Как и люди, самцы и самки полевок иногда занимаются сексом на стороне. Од-
нако, как мы упоминали ранее, когда самец привязывается к своей подруге, его
система поощрения изменяется, и они атакуют незнакомых самок. Кроме того, у
большинства самок не возникает привязанности к другому самцу, если их партнер
погиб или исчез. Как же объяснить этот парадокс? Вазопрессиновая цепь самца
полевки управляет его привязанностью к территории и помогает поддерживать мо-
ногамную связь. До формирования привязанности к партнерше у него не было по-
требности защищать свое жизненное пространство, но когда привязанность воз-
никла, он будет нападать на чужую самку (или самца) - нарушителя. Если же он
покидает личную территорию - «отправляется в командировку», чтобы отыскать
пищу и принести ее жене и детям, и вдруг встречает по пути чужую самку, у ко-
торой началась течка из-за другого самца, он ощутит искушение, перед которым
может не суметь (или не захотеть) устоять. Возникновение привязанности к
партнерше действительно меняет его мозг, и он становится зависим от своей
супруги. Но это не значит, что у него исчезло сексуальное желание, появляю-
щееся в ответ на приятный запах фертильной самки. Если таковая окажется по-
близости, сексуальное влечение может оказаться сильнее потребности защищать
свою территорию и печься о партнерше. Включится система поощрения за обнару-
жение партнера, и самец будет стремиться к спариванию. У него нет намерений
тратить время и силы на ухаживание. Если самка не в течке, он не обратит на
нее внимания. Но если она готова к половому контакту, он с радостью заведет с
ней короткую интрижку, как те 60 процентов мужчин, которые, по их словам,
поддались искушавшим их женщинам. После этого у самца полевки не сформируется
предпочтение новой самки, так как его мозг уже реорганизован: «переключатель»
уже переставлен из положения «нравится» в положение «требуется». Самец прочно
связан со своей первой партнершей. Дальше он ведет себя примерно так: легкое
объятие - «Это было здорово, спасибо», и он возвращается домой, как ни в чем
не бывало.
Вторая половина той пары, которую мы сейчас описали, ведет себя столь же
легкомысленно. Уровень ее эстрогена повысился, поскольку у нее началась течка
в ответ на запах партнера. Сейчас она осталась в одиночестве, отправившись на
поиски пищи, или сидит в гнезде, пока ее партнер отлучился. Мимо проходит не-
знакомый самец. Под влиянием запущенной системы поощрения самка позволяет ему
с нею спариться, после чего возвращается домой или ждет своего самца. Их от-
ношения не меняются.
Поведением каждой из полевок-изменниц управляет стрессовая система кортико-
либерина, который поддерживает их привязанность и побуждает возвращаться до-
мой . Им не нравится быть отдельно друг от друга. Просто так случилось, что у
них был секс с другой полевкой. И поэтому определенный процент полевок, как и
определенный процент человеческих детей, не является генетическим потомством
самца - хозяина гнезда.
Изменники-полевки и изменники-люди создают главный парадокс моногамии. Если
вы хотите секса, то почему не получаете его дома? Для чего рисковать? Природу
не обманешь. Когда живущий в неволе самец мартышки-игрунки впервые знакомится
с самкой, он приходит в сильное возбуждение. Первые десять дней они с подру-
гой спариваются в среднем три раза каждые полчаса. Они образуют моногамную
связь. Но через два месяца отношений они вообще перестанут заниматься сексом,
хотя будут обниматься гораздо чаще, чем в первые дни знакомства. Фактически,
говорит изучающий эту модель Джеффри Френч из университета Небраски, за во-
семьдесят дней игрунки «превращаются из молодых влюбленных в старую супруже-
скую пару». Они могут не заниматься сексом, но у них сформировалось то, что,
с точки зрения Кунц, можно назвать равноправным браком.
Когда мотивация на поиск партнера для секса уменьшается, у самцов снижается
уровень тестостерона. Как и уровень гормона стресса. Зато повышается концен-
трация эстрогена. Они успокаиваются. «Что происходит, когда люди вступают в
брак? - спрашивает Джим Пфаус. - Теперь, когда секс доступен в любое время,
они перестают им заниматься!» Он немного преувеличивает, но в целом это прав-
да: чем дольше люди женаты, тем реже они занимаются сексом. Согласно нацио-
нальному опросу Института Кинси по исследованию секса, пола и репродукции,
проведенному в 2010 году, 16 процентов женатых мужчин-американцев в возрасте
40-49 лет занимаются сексом «несколько раз в год или раз в месяц». Лишь 20
процентов женатых мужчин из этой возрастной группы говорят, что занимаются
сексом «два-три раза в неделю», 37 процентов женатых мужчин в возрасте 25-29
лет (не так долго состоящих в браке) утверждают то же самое. Показатели для
женщин примерно такие же.
На частоту сексуальных контактов и мотивацию влияют многие факторы, включая
детей, работу, счета, здоровье и физическую форму, однако нет сомнений, что
спад обусловлен нейрохимией. У женатых мужчин уровень тестостерона гораздо
ниже, чем у холостых. То же наблюдается у игрунок. У них больше концентрация
эстрогена и меньше - гормона стресса: у них возникла привязанность, и они
спокойны. Они гладят друг друга по спине, и это означает только поглаживание.
Длительная совместная жизнь снижает сексуальный интерес к партнеру. Печально,
но факт. Это не значит, что люди или обезьяны больше не хотят заниматься сек-
сом - они хотят. Но секс с тем же самым партнером не обещает ничего экстраор-
динарного . Поисковое поведение, направленное на спаривание в целом, слабеет:
у них меньше стремление к сексу, как с собственным, так и с новым партнером.
Не исключено, что потеря сексуального интереса имеет приспособительное зна-
чение. Самцы, которые бегают повсюду, отыскивая, с кем бы спариться, - не
лучшие отцы. Изменение нейрохимических процессов, которое сопровождает форми-
рование привязанности, помогает нам концентрироваться на основной задаче -
воспитании детей. Если самец гуппи долгое время живет с одной самкой, он го-
раздо меньше интересуется сексом и вкладывает больше сил в поиск еды. По-
скольку рыбы растут всю жизнь, такие самцы со временем достигают более круп-
ных размеров, они сильнее и крепче тех особей, которые постоянно меняют парт-
нерш. Эти самцы вкладывают больше сил в спаривание и меньше - в поиск пищи, в
очередной раз доказывая, что жизнь плейбоя - дорогое удовольствие.
Отсутствие сексуального желания между партнерами, состоящими в долговремен-
ных отношениях, - лишь часть явления, открытого около пятидесяти лет назад и
названного - хотите верьте, хотите нет - в честь тридцатого президента США.
По иронии судьбы Калвин Кулидж - наименее подходящий кандидат на то, чтобы
стать символом сексуальности. Он занимал руководящий пост в «ревущие двадца-
тые». Тогда процветал фондовый рынок, все были помешаны на джазе, модницы ко-
ротко стригли волосы. Кулидж - скупой на слова уроженец Новой Англии. Его
прозвище - «Молчаливый Кэл» - отражает уравновешенный характер и энергичный
ум. Если его сегодня вспоминают, то в основном за две фразы. Первая из них:
«Главный бизнес американцев - это бизнес». Другое высказывание - скорее анек-
дот, чем правда, но тем не менее авторство приписывают именно ему. Итак, как-
то раз Кулидж и его жена приехали на одну ферму. Показывать ее вызывался сам
хозяин. Сначала он устроил экскурсию жене президента. В момент, когда малень-
кая делегация прибыла на скотный двор, петух как раз забрался на курицу. По-
скольку при этой сцене присутствовала женщина, фермер слегка смутился. Миссис
Кулидж, заметив его замешательство, попыталась сгладить неловкую ситуацию и
задала технический вопрос: «Часто ли спаривается петух?» «Десятки раз в
день», - ответил фермер. Миссис Кулидж улыбнулась: «Передайте это президен-
ту» . Позже, приведя на скотный двор президента и заметив петуха, фермер вы-
полнил просьбу миссис Кулидж, сообщив ее мужу любопытный факт из жизни птиц.
«Все время с одной и той же курицей?» - спросил Кулидж. «Нет, с разными», -
ответил фермер. «Передайте это миссис Кулидж», - язвительно сказал президент.
На протяжении сорока лет ученые пытались решить проблему, возникавшую во
многих лабораториях, где работают с крысами. Самцы, живущие с одной самкой,
какое-то время активно с ней спаривались, а затем переставали это делать и
становились «непродуктивными». Наконец решение было найдено. Оказалось, всё,
что требуется для воодушевления самца, - поместить в клетку новую самку. То-
гда вялые самцы вновь становились активными партнерами. Это явление назвали
«эффектом Кулиджа». Через пятьдесят лет стало известно, что он характерен не
только для крыс, но и для всех млекопитающих, а также для некоторых других
животных, далеко отстоящих от зверей на эволюционной лестнице, например для
улиток-прудовиков и жуков.
С одной из сторон «эффекта Кулиджа» - неуклонным угасанием страсти - стал-
кивались многие человеческие пары. Когда физическое влечение исчезает, осла-
бевает и связь между людьми, они испытывают меньше восторга, взаимной благо-
дарности и желания близости. Если прежде у пары были трудности, скрываемые
покровом страсти, теперь они обнажаются. А вот вторая сторона «эффекта Кулид-
жа» - возобновление сексуального влечения и восстановление сексуального пове-
дения - прекрасный пример того, как соблазнительна может быть новизна, то
есть пример того, как появляется соблазн измены. В момент, когда возникает
внутренний конфликт между желанием и благоразумием, оказывается, что живот-
ные, равно как и люди, по-разному реагируют на этот соблазн.
Притяжение
новизны
Фред Мюррей любил новизну и новые ощущения. Жажда наркотиков была очень
сильной и прервала его связь с женой и даже с дочерью. У него появилась новая
возлюбленная, но, в конце концов, восторг, который он испытывал от этих отно-
шений , тоже прошел. Один и тот же стимул, регулярно используемый одним и тем
же образом, притупляет действие дофамина, система поощрения у наркоманов, как
мы говорили, переключается с симпатии на потребность. Вы употребляете все
больше и больше наркотиков, чтобы продолжать испытывать кайф, пока оконча-
тельно не изматываете свой организм на этой беговой дорожке наслаждения. Но
если сексуальное удовольствие уходит из долговременных отношений с человеком,
вернуть его увеличением дозы не получится. Конечно, вы можете попробовать, но
особо не доверяйте книгам, которые дают рекомендации по тому, как внести све-
жую струю в сексуальную жизнь, и журнальным статьям, где гуру любви и секса
делятся своей мудростью. Существует крайне мало моделей женского белья, сек-
суальных позиций и методов романтического толка, которыми вы можете попытать-
ся разжечь потухший огонь отношений и придать вашей любви ту энергетику, ка-
кая была в самом начале. Однако если не считать возраста, снижающего, как это
ни печально, сексуальное желание, жизнь с одним человеком не уменьшает нашу
способность получать удовольствие от секса в целом. Мы крепко привязаны друг
к другу, зависимы, испытываем меньшее сексуальное влечение, но вполне можем
интересоваться сексом с новыми людьми. Судя по всему, на нашу готовность по-
такать этому интересу сильное влияние оказывает генетика. Линн Черкас и ее
коллеги из Великобритании провели широкое исследование, в котором обследовали
1600 пар женщин-близнецов в возрасте от 19 до 83 лет. Почти у четверти пар
была сексуальная связь на стороне. При этом однояйцевые близнецы обманывали
партнеров в полтора раза чаще, чем разнояйцевые, точнее, разница между одно-
и разнояйцевыми близнецами составила 41 процент. За это различие отвечает на-
следование : существует четкая связь между генами и поведением.
Около 17 процентов женщин, обманывавших своих партнеров, как и проповедник
Джимми Сваггарт, считали, что поступают плохо, однако все равно делали то,
что делали. Их представления о морали, по мнению ученых, сложились под влия-
нием среды, в которой они росли. Эти 17 процентов женщин бунтовали против мо-
ральных правил, навязанных им семьей и школой, и следовали другому, более
сильному мотиву.
Такие ученые, как Пфаус, исследовавший поощрение, установили, что «эффект
Кулиджа» возникает потому, что присутствие нового стимула - нового полового
партнера - высвобождает дофамин в прилежащее ядро. Новый стимул, как новый
аккумулятор в автомобиле, запускает двигатель желания, и система поискового
поведения пробуждается к жизни. Старый ключ забил вновь. Грызуны отправляются
на поиск сексуальных контактов. Люди начинают ходить в тренажерный зал, дела-
ют новую стрижку, покупают новую одежду.
Впрочем, для возникновения «эффекта Кулиджа» человек должен ценить новизну
и иметь достаточно смелости, чтобы ее искать. Вы должны быть готовы лишиться
уюта и покоя, обеспеченного привычным порядком вещей либо в буквальном смысле
(то есть покинуть дом), либо в образном, например, отказаться от прежней при-
вязанности. Приключения всегда чреваты риском. Вы можете устроить охоту на
чужого партнера, которого к тому же охраняют, иногда вопреки его желанию. Че-
ловек, в защиту которого Лисий произнес речь, убил любовника своей жены. Шон
Малкахи, чей брат пытался соблазнить его девушку, дал волю гневу, убив кота.
В начале 2012 года Шеннон Гриффин из Гренбери (штат Техас) была арестована за
убийство любовницы своего мужа в Канзасе. Она совершила преступление спустя
несколько часов после того, как узнала об интрижке.
Животные тоже охраняют своих партнеров, и соблазнитель сильно рискует. Го-
товность к риску зависит от конкретной особи. Возьмем, к примеру, птиц. Зеб-
ровые амадины - маленькие яркие птицы, обитающие в Австралии. У них красно-
оранжевый клюв, белая грудка, серая спина и черно-белый хвост. Оранжевые пе-
рья на щеках самцов придают им сходство с джазовым трубачом Диззи Гиллеспи.
Зебровых амадин часто используют в разнообразных научных исследованиях, и од-
на из причин такого внимания к ним заключается в том, что они, как и многие
виды птиц, формируют пожизненные моногамные пары. Тем не менее, некоторые
особи обманывают своих партнеров. Вольфганг Форстмайер вместе с коллегами из
лаборатории Барта Кемпенера в германском Институте орнитологии решил разо-
браться, что побуждает их к измене. Исследования он проводил на колонии зеб-
ровых амадин, живущих в неволе. По его мнению, с точки зрения эволюции птицы
кое-что выигрывают от неверности.
Зебровые амадины (самец слева).
Выгоды для партнеров мужского пола достаточно очевидны. Самцы зебровых ама-
дин, как и самцы человека, производят много спермы. Распространяя сперму сре-
ди множества самок, они передают гены большему числу своих потомков. Строгая
сексуальная моногамия ограничивает эту возможность. Что касается самок, здесь
все сложнее. Самцам не требуется вкладывать много ресурсов в производство
«внебрачных» птенцов, они не обязаны находиться рядом, чтобы помогать их вы-
ращивать . А вот самкам приходится хорошо потрудиться независимо от того, кто
отец их потомков, однако они не только отвечают на ухаживания незнакомых сам-
цов, но и сами стараются их соблазнить. Ученые уже пытались объяснить поведе-
ние изменниц тем, что самки заботятся о «качестве» будущего потомства. Они
хотят отыскать другого самца, наделенного выгодными для будущего потомства
признаками, которых нет у постоянных партнеров, поэтому и стремятся подцепить
какого-нибудь привлекательного парня. Есть данные о том, что самкам приматов
и человека тоже свойственно подобное поведение, особенно на стадии овуляции.
Некоторые самки приматов используют натуральный обмен, соглашаясь на секс за
ягоды или мясо, поскольку такие «подарки» означают, что самец, предлагающий
себя в любовники, - хороший добытчик.
Форстмайер не то чтобы опроверг предложенное объяснение, но модифицировал
его. Он обнаружил, что для связи на стороне самки предпочитают Клуни птичьего
мира, впрочем, в случае зебровых амадин внешний вид - далеко не самое глав-
ное. Ученый провел многомесячные наблюдения за более чем 1500 особями, живши-
ми в неволе, и пришел к выводу, что дело действительно в генах, но эти гены
не обязательно отвечают за внешний облик птиц. Одни самцы пускались во все
тяжкие чаще, чем другие. В целом их поведение зависело от генов, полученных
от отца и проявляющихся в их характере. Чем активнее самец стремится к сексу-
альным контактам, тем больше у него партнерш и больше потомков. Но не только
симпатичные самцы искали секса на стороне - так же поступали и вполне обыкно-
венные птицы, а значит, в популяции из поколения в поколение распространяются
не только гены привлекательной внешности - потомкам передаются гены «поиска
новизны и приключений», гены «смелости».
Исследовательская группа разработала систему оценивания реакции самок на
попытки соблазнить их. С ее помощью удалось установить, что склонность самок
к обману партнера также связана с генами, унаследованными от отцов. Самцы,
занимающиеся сексом со множеством самок, спариваются чаще, их сыновья и доче-
ри тоже склонны к изменам. Черты, благодаря которым самцы успешнее спаривают-
ся, влияли и потомков-самок, несмотря на то, что самкам подобная неразборчи-
вость может стоить недешево: птенцы самок-изменниц не такие крупные, как у
добродетельных жен. Как заключил Форстмайер, промискуитет - черта, в значи-
тельно мере наследуемая обоими полами. Некоторые особи рождаются со склонно-
стью к сексу на стороне.
Среди птиц много изменников. Самки крапивника ночи напролет проводят с жи-
голо. Примерно третья часть яйцеклеток саванной овсянки оплодотворяется не ее
постоянным партнером.
В конце 2011 года международная группа европейских ученых объявила о ре-
зультатах трехлетнего наблюдения в дикой природе за 164 гнездами больших си-
ниц. Тринадцать процентов птенцов рождались от внебрачных связей. Внешний вид
птицы играет свою роль, но индивидуальные черты характера гораздо важнее. У
«смелых» самцов было больше птенцов от разных самок, чем у «застенчивых» сам-
цов, сохранявших верность партнерше. У «смелых» самок тоже было больше вне-
брачных птенцов. Однако ветреные самцы и сами чаще оказывались обманутыми:
пока этот тип летает по своим делам, его партнерша принимает гостей. На пер-
вый взгляд, личность птицы не влияла на ее вклад в численность популяции: и
«застенчивые», и «смелые» самцы производили примерно одинаковое количество
потомков. Однако индивидуальные наклонности оказывают влияние на вероятность,
с которой «застенчивые» и «смелые» птицы вступают во внебрачную связь.
Исследователи лаборатории Кемпенера обнаружили у большой синицы вариант ге-
на, от которого зависит, насколько общительным, открытым, смелым и любящим
новизну является его обладатель. Это ген рецепторов дофамина, птичья версия
человеческих рецепторов D4 (другое обозначение - DRD4). Генов, с которых счи-
тывается информация при синтезе рецепторов дофамина, несколько. Но этот ген -
один из важнейших: рецепторы D4 расположены в основном в префронтальной коре.
В 2010 году группа, состоящая из специалистов нескольких наук, которые ра-
ботают в университете Бингхэмптона в штате Нью-Йорк и в университете Джорд-
жии, исследовала изменчивость человеческой индивидуальности на всех уровнях,
вплоть до повторяющейся последовательности гена рецептора D4 (это последова-
тельность наподобие «мусорной» ДНК в гене avprla полевок, найденной Ларри).
Люди, имеющие один или несколько вариантов гена, содержащего семь повторяю-
щихся фрагментов и более (обозначаются 7R+), были более склонны к новизне,
приключениям и поиску острых ощущений. У обладателей 7И+-повторов иное рас-
пределение дофамина и его рецепторов в мозге, и он действует иначе в системе
поощрения и медиальной префронтальной коре. У таких людей чаще наблюдались
синдромы дефицита внимания и гиперактивности, наркомания и алкоголизм. Они
были склонны рисковать деньгами - играть в азартные игры и делать рискованные
вложения. Конечно, никому не хочется стать алкоголиком или тем, кто бросает
деньги на ветер, играя в рулетку, но у носителей 7И+-повторов есть и другая
перспектива: такая же генетическая особенность свойственна людям, которые не
боятся опасностей, искателям приключений, чья деятельность способствует раз-
витию человеческого общества. Такие люди часто становятся мигрантами, заселяя
новые земли. Ген с 7R+ дал человечеству изобретателей, амбициозных и предпри-
имчивых .
Вооружившись собранными данными, ученые провели еще одно исследование, в
котором участвовало около двухсот молодых мужчин. Проверяли их склонность к
импульсивному поведению, способность дожидаться «отложенного» вознаграждения,
детали их сексуальной жизни и отношений. Затем у всех испытуемых взяли пробы
для обнаружения 7И+-повторов в гене рецептора D4. Те, у кого имелся хотя бы
один вариант гена с 7R+, на 50 процентов чаще изменяли своим постоянным парт-
нерам, чем те, у кого гена не было. У носителей был более чем в два раза выше
показатель уровня промискуитета. Половина носителей говорили, что обманывали
своего постоянного партнера. Среди испытуемых, не имевших гена, доля изменщи-
ков составила всего 22 процента, к тому же по сравнению с этими 22 процентами
носители 7R+-noBTopoB чаще вступали во внебрачные связи.
Возможно, это природная необходимость, чтобы в моногамных популяциях неко-
торый процент особей вступал во внебрачные связи. Благодаря им в популяции
быстро распространяются и закрепляются какие-то полезные признаки. Ученые
предположили, что ген рецептора D4 подвергается отбору в процессе эволюции. В
трудные, опасные времена, когда будущее непредсказуемо, популяции необходимы
смелые, предприимчивые люди. В спокойные времена изобилия потребность в них
уменьшается. «В условиях, когда бродяжническое поведение адаптивно, давление
отбора на 7R+ положительное, а когда адаптивно домашнее поведение, давление
отбора на 7R+ отрицательное». Интересно, что полигамные индейцы яномами, жи-
вущие на Амазонке, часто являются носителями 7R+.
Как мы уже сказали, ген рецептора D4 - не единственный ген дофаминовых ре-
цепторов, от которых зависит способность человека поддаваться импульсивным
желаниям, искушению новизны и острых ощущений. Тот самый процесс перестройки
мозга у наркоманов и степных полевок, в котором мозг переключается с «нравит-
ся» на «требуется», с жажды нового на поддержание существующих отношений, за-
висит от взаимосвязи двух других дофаминовых рецепторов - D1 и D2. Джошуа
Букхольц, помощник профессора психологии в Гарвардском университете, изучает
людей, у которых мало рецепторов D2 в полосатом теле - области человеческого
мозга, которая охватывает прилежащее ядро и тесно связана с миндалевидным те-
лом, медиальной префронтальнои корой и основными структурами, производящими
дофамин. Он обнаружил, что малое количество D2 в полосатом теле указывает на
склонность к наркомании. «Сталкиваясь с новым стимулом или чем-то, что может
сулить вознаграждение, - говорит он, - такие люди физически не способны при-
глушить дофаминовые сигналы. Поэтому большой выброс дофамина создает чрезмер-
ное стремление к объекту, вызвавшему дофаминовый ответ. Обнаружив стимул,
связанный с вознаграждением, они испытывают более сильное желание».
Таким стимулом могут оказаться деньги, еда, наркотики или что-то эротиче-
ское, но чем бы это ни было, медиальная префронтальная кора не справляется со
своей работой либо вообще «молчит». Эти люди, говорит Букхольц, в большой
степени склонны к импульсивному поведению. Они «чаще нарушают брачные связи,
ведут беспорядочную половую жизнь и в целом демонстрируют рискованное поведе-
ние - не соблюдают моральные нормы, связанные с моногамией и совместным парт-
нерством» .
История изучения дофаминовых рецепторов и их роли в работе разных областей
мозга очень запутанная. Знания об их значении для человека Букхольц называет
«хаотичными», поэтому пока рано называть D4 «геном измены» или утверждать,
что из человека с малым количеством рецепторов D2 выйдет плохой шпион, потому
что он мгновенно попадет под влияние какой-нибудь Маты Хари. И все же, не-
смотря на то, что детали дела выглядят расплывчато, общая картина постепенно
проясняется. «Вариации на уровне поведения», наблюдаемые у людей, объясняет
Букхольц, «зависят от вариаций на уровне нейробиологии».
Обман немногих -
благо для всех
Стефани Кунц скептически относится к «жесткой модели человеческого поведе-
ния». «Я придерживаюсь промежуточной позиции. Думаю, люди запрограммированы и
на моногамию, и на внебрачные связи. В нас есть оба желания, обе способно-
сти». По ее мнению, в ту или иную сторону нас склоняет общество.
Возьмем охрану партнера. Как замечает Кунц, охрана партнера свойственна че-
ловеку и является основным признаком моногамии, и этому есть социологическое
объяснение. «Там, где выживание зависит от умения делиться в противополож-
ность собственничеству, охрана партнера слабее», - говорит она об индейцах
бассейна Амазонки, традиционно практикующих форму общинного воспитания детей
многими родителями. Беременные женщины занимаются сексом с несколькими мужчи-
нами. Каждый из них вкладывает в ребенка часть себя, а значит, обязан помо-
гать в его выращивании. «Но когда разница в богатстве и социальном статусе
становится значительной, в обществе сразу происходит сужение обязанностей».
Собственность и статус передаются генетическому потомку. В семьях формируются
связи, основанные на генеалогии. Незаконнорожденный ребенок воспринимается
как чужак. «Насколько я понимаю историю, люди начинают очень строго относить-
ся к женскому целомудрию, если не хотят иметь ребенка со стороны, чей отец
или иные родственники могут посягнуть на собственность и богатство семьи, в
которой этот ребенок воспитывается», - говорит Кунц.
До Первого Латеранского собора римско-католические священники нередко обза-
водились женами, но вот в 1123 году церковь постановила: «Мы полностью запре-
щаем священникам, дьяконам, иподьяконам и монахам иметь наложниц и вступать в
брак. Согласно постулатам священного канона мы утверждаем, что браки, заклю-
ченные этими людьми, должны быть расторгнуты, а сами они приговорены к нака-
занию» . Одной из причин этого постановления, помимо традиционного порицания
телесных удовольствий, служили опасения Рима, что потомки этих священников
унаследуют церковную собственность. Священники были «женаты» на матери-
церкви, а она не терпела конкурентов. Монахиням полагалось воздерживаться от
половых контактов, потому что они были Христовыми невестами. Отношения с кем-
либо другим считались изменой.
Точка зрения Кунц не противоречит мнению Ларри: в подобных случаях срабаты-
вают врожденные нейронные механизмы. По своей сути богатство, собственность,
кровное родство - это территория. А мужчины для своих партнерш - это дети,
поэтому нет ничего удивительного, что женщины стараются за ними присматри-
вать . Вспомните, во второй главе мы рассказывали, что мужчина активнее охра-
няет партнершу, если чувствует, пусть бессознательно, что его возлюбленная
овулирует. Охрана партнера - поведение, свойственное всем моногамным и многим
полигамным животным. Как мы неоднократно подчеркивали, и как утверждает Кунц,
немаловажную роль в этом явлении играет окружающая среда. К примеру, ген
avprla очень пластичен: он реагирует на социальную обстановку, в которой оби-
тает индивид. Нэнси Соломон из университета Майами в Оксфорде (штат Огайо)
изучала полевок, помещая их в искусственную среду, имитирующую естественные
условия, на время, примерно равное продолжительности их жизни в дикой природе
(около четырех лет). Она обнаружила, что число самок, с которыми спаривались
самцы, и общее число зачатых этими самцами детей в большой степени зависели
от того, какой вариант гена avprla был у самца. Но полученный результат также
означает, что самки обманывали своих партнеров, принося на свет малышей, ко-
торые не являлись генетическими потомками их «мужей».
Используя искусственную природную среду, Алекс Офир проследил зависимость
между частотой внебрачных половых связей у самцов и распределением вазопрес-
синовых рецепторов в двух областях их мозга - в коре задней части поясной из-
вилины и латерально-заднем таламусе (эти структуры связаны с умением ориенти-
роваться в пространстве и памятью). У самцов, которые наиболее часто оплодо-
творяли незнакомых самок, в этих областях было мало рецепторов.
Согласно данным, полученным на зебровых амадинах, около 28 процентов птен-
цов, рожденных в неволе, имели отца со стороны, а среди диких птиц эта цифра
составила примерно 2 процента.
Вспомним большое исследование близнецов в Великобритании, по результатам
которого 17 процентов женщин, изменявших мужчинам, нарушали собственные мо-
ральные принципы. Вероятно, некоторое число женщин, склонных к измене, но
способных следовать общественным правилам, так не поступали. Если бы окружаю-
щая среда не ставила ограничений на внебрачный секс, они могли бы поддаться
своей природной склонности.
Культура - отражение деятельности нашего мозга и возникающих при этом кон-
фликтов . Привязанность к партнеру конфликтует с сексуальным желанием. Поэтому
мужчины изобрели пояс верности и паранджу, наносили увечья женским генитали-
ям. Мы узаконили брак и наказание за попрание брачного обета. Развод стоит
недешево, изменников часто подвергают публичному позору, а их карьера рушит-
ся. В армии США. вас могут осудить за нарушение положений Единого военно-
судебного кодекса, в которых сказано об измене. Всё это - попытки общества
воззвать к здравомыслию: увеличивая цену неверности, оно старается ограничить
наше желание секса на стороне.
Вероятно, держать нас в строгой узде необходимо, ведь нас тянет в разные
стороны. Мы находимся между двумя центрами притяжения - привязанностью к
партнеру и сексуальным желанием. Это противостояние могло возникнуть в ходе
эволюции. Миллионы лет между мужчинами и женщинами идет война личных интере-
сов . Женщины непрерывно ищут лучшие из возможных генов для своего будущего
потомства. Чтобы в этом преуспеть, они должны быть фертильными (способными к
деторождению) и при этом достаточно смелыми, чтобы, пользуясь своей фертиль-
ностью, находить партнера вне брака. Мужчинами руководит стремление как можно
шире распространить собственные гены в популяции, но при этом не дать своей
женщине спариться с другими мужчинами, особенно когда она фертильна. Поэтому
мы ревниво охраняем партнеров и создаем культурные нормы сексуальной монога-
мии , узаконивая тем самым свое естественное стремление. Мы требуем моногамии
от тех, кого любим, но далеко не всегда - от самих себя.
На страницах этой публикации вы увидели, как «вариации на уровне нейробио-
логии» создают различия в поведении: вспомните крыс Франсез Чампейн, холостя-
ков-полевок Тодда Ахерна, научный прорыв Ларри, исследовавшего работу рецеп-
торов вазопрессина и окситоцина, влияние половых стероидов на развивающийся в
матке плод. Особенности нейробиологии особи могут влиять на ее будущие поло-
вые отношения и сексуальную жизнь, в том числе на длительность постоянной
связи и склонность к сексу на стороне. Так, Кристина Дюранте, с которой вы
встречались во второй главе, выяснила, что женщины с высоким от природы уров-
нем эстрогена больше настроены на сексуальные отношения с мужчиной, не являю-
щимся их постоянным партнером. Кроме того, они склонны завязывать и разрывать
и снова завязывать и разрывать моногамные отношения, находясь в постоянном
поиске все более красивого, богатого и умного парня. Мы рассказывали и об
особенностях носителей варианта гена AVPR1A с номером 334, который содержит
последовательность RS3. Эти люди, а также те, кто в младенчестве страдал от
недостатка внимания и общения, нередко не способны к созданию крепкого союза
с половым партнером и имеют больше половых контактов на стороне.
Уже сделаны исследования, свидетельствующие о том, что среди мужчин и жен-
щин с более высоким уровнем тестостерона многие имеют больше сексуальных
партнеров по сравнению с людьми, у которых этот показатель ниже. У таких лю-
дей меньше выражен «эффект Кулиджа», вернее, та его сторона, которая касается
снижения уровня тестостерона при долгой совместной жизни с партнером. При из-
начально высоком базовом уровне гормона относительное его снижение не так за-
метно , и человек остается мотивирован на поиск сексуальных контактов.
Можно сказать иначе: нейробиологические вариации влияют на нашу индивиду-
альную способность бороться с собственными побуждениями. Многих тревожит и
даже оскорбляет мысль о том, что наша «химия» - гены, дофамин и другие упомя-
нутые нами сигнальные молекулы - вносит настолько большой вклад в то, что мы
привыкли считать моралью и нравственностью. Но природе не свойственны мораль
и нравственность. Она просто такая, какая есть.
Появляется все больше данных о том, что склонность к неверности, по крайней
мере, у некоторых людей, - врожденное качество и что сексуальный авантюризм -
неотъемлемый элемент моногамной социальной системы. Возможно даже, необходи-
мый элемент. Однако люди нередко пытаются полностью встроить свое сексуальное
влечение в привязанность к одному партнеру. Это не так-то просто сделать.
Большинство из нас ценит социальную моногамию. Многие, хотя не все, ценят
сексуальную моногамию как условие прочной связи. Но социальная моногамия при-
тупляет желание заниматься сексом с одним и тем же партнером, искушая нас за-
няться этим с кем-то другим. Из-за некоторых врожденных особенностей в строе-
нии мозга мы клюем на новый половой стимул - симпатичную сотрудницу, привле-
кательного мужа подруги, богатого начальника. Кроме того, есть люди, которых
большинство считает привлекательными. Они смелые, открытые, веселые, риско-
вые, они - искатели приключений, как Невежа из второй главы, и они нередко
больше других склонны к полигамному сексу.
В 2011 году голландские ученые представили свои результаты исследования не-
верности и склонности к измене среди администраторов и руководящих работни-
ков. Из 1250 опрошенных более 26 процентов сообщили о том, что вступали во
внебрачную связь. Между положением в корпоративной иерархии и вероятностью
измены обнаружилась сильная корреляция: те служащие, чья должность выше, у
кого больше власти, проявили большую готовность к роману на стороне и супру-
жеской неверности. Пол значения не имел: выводы касались и мужчин, и женщин
высокого статуса. Эти люди уверены в себе, они открытые и смелые, что, конеч-
но, объясняет их карьерный рост. Впрочем, разумеется, не все смелые, импуль-
сивные, предприимчивые женщины и мужчины, уезжая в командировку, находят себе
нового партнера. У человека по сравнению с животными мозг крупнее, мощнее и
рациональнее. Многие из нас очень хорошо умеют сопоставлять риск и вознаграж-
дение . Но сам факт того, что большинство культур вкладывают огромные ресурсы
в насаждение моногамии, доказывает, что немалая часть человеческой популяции
склонна заниматься сексом на стороне.
Склонность к изменам есть у самых разных видов животных. Обманывают не
только зебровые амадины, корольки и полевки. Почти все социально моногамные
животные, включая моногамных приматов, занимаются сексом не только со своими
постоянными партнерами. Гиббоны образуют крепкие социально моногамные пары,
но и самцы, и самки вступают во внебрачные связи. В 2005 году на экраны вышел
документальный фильм об императорских пингвинах «Марш пингвинов». После оглу-
шительного успеха этой картины консервативно настроенные религиозные деятели
заявляли, что невероятная преданность самцов и самок, которые возвращались
друг к другу после кормления в море, пересекая десятки миль ледового про-
странства, и вместе заботились о птенцах, служит нам уроком и природным под-
тверждением того, что Бог предпочитает моногамию. Что ж, императорские пин-
гвины действительно сексуально моногамны, но лишь в течение одного цикла раз-
множения. Когда птенцы вырастают и начинают жить самостоятельно, семья распа-
дается, и взрослые находят себе новых партнеров. Представьте, что Оззи и Хар-
риет Нельсон обменялись супругами со своими соседями, Кларой и Джо Рендольф,
когда Рику и Дэвиду пришла пора ходить в школу. Некоторые авторы, например
Кристофер Райан и Какильда Джета, написавшие книгу «Секс на рассвете», утвер-
ждают обратное. Они настаивают, что сексуальная моногамия неестественна и яв-
ляется изобретением человеческой культуры. Не слишком убедительно. Даже если
результаты исследований завышены в десять или двадцать раз, по меньшей мере,
половина людей, вступающих в долговременные сексуально моногамные отношения,
не занимается сексом на стороне. Точно так же не каждая полевка, зебровая
амадина или большая синица ищут себе партнеров на стороне. Только некоторые.
А многие люди обретают в продолжительном браке гораздо больше удовлетворения,
чем в браке, не превышающем по длительности президентский срок, независимо от
частоты занятий сексом. Еще социальная моногамия представляется полезной для
здоровья особи - вспомните гуппи, имевших только одного партнера. Женатые
мужчины живут дольше холостяков и дольше остаются здоровыми. То же наблюдает-
ся и у замужних женщин.
Самый правдивый ответ на вопрос, действительно ли люди созданы сексуально
моногамными, судя по всему, таков: «Когда как». Некоторые - да. Другие, воз-
можно , нет. Сексуальная моногамия в меньшей степени является тем, что люди
или животные должны делать, и в большей - тем, к чему они склонны из-за инди-
видуальных особенностей строения мозга. Люди, подобные Сваггарту, Беккеру и
другим знаменитостям, замешанным в сексуальных скандалах, могут обладать ка-
чествами личности, которые не только обеспечили им славу и успех, но и скло-
нили к внебрачным отношениям. Но это не значит, что другие известные личности
не предпочитают уютную, счастливую жизнь и задумываются о сексуальной связи
на стороне. Здесь как с наркотиками: одни люди ими увлекаются, а другие не
проявляют к ним никакого интереса.
Отчасти наши извечные проблемы - порождение нас самих. Такие церковные дея-
тели, как Августин, учили, что людям положено быть сексуально моногамными. Да
и всем нам было бы лучше не заниматься сексом вообще. Богословы смотрели на
эту тему сквозь призму божественного мироустройства, утверждая, что Господь
создал человеческих существ такими, чтобы один мужчина и одна женщина смогли
создать свой собственный неповторимый Эдем на Земле. Изгнанные из рая, люди
стремятся вернуться назад, всеми силами пытаясь подражать первоначальному за-
мыслу. Мы пойманы в ловушку религиозной догмы.
Признание ошибки не означает, что социальная или сексуальная моногамия
отомрет. Скорее, полагает Кунц, все больше и больше пар начнут следовать но-
вым моделям отношений. Одни предпочтут социальную и сексуальную моногамию,
другие будут тасовать колоду. Кто-то станет открыто осуждать сексуальные раз-
влечения, а кто-то выберет принцип «не спрашивай - не говори». «Думаю, мы не
должны сбрасывать со счетов тот факт, что возраст вступления в брак увеличи-
вается. Сейчас человек может двадцать лет заниматься добрачным сексом, а по-
том говорит: „Надоела мне такая жизньЛЛ, женится и счастливо живет в сексуаль-
ной моногамии, - объясняет Кунц. - Я почти на сто процентов уверена, - про-
должает она, - что разные конфликтующие между собой желания будут порождать
все большее разнообразие отношений». Это происходит уже сейчас, по мере того
как люди пытаются разрешить парадокс, живущий в их сознании.
ГЛАВА 9.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА ЛЮБОВЬ
Представленная нами гипотеза может кому-то показаться довольно мрачной. Лю-
бовь - это зависимость, причем не в образном, а в прямом смысле слова. Неко-
торые из нас от природы склонны к внебрачному сексу. Даже пингвины на полюсе,
те самые, из документального фильма, которыми мы все так восхищались, отнюдь
не пример моногамии. А хуже всего то, что любовь - лишь химические вещества,
стимулирующие активность определенных нейронных цепей и предназначенные не
для того, чтобы возносить человека на высший духовный уровень, а чтобы сде-
лать размножение привлекательным и превратить нас в сырье для эволюции. Все
это так примитивно.
Мы слышим возражения с тех самых пор, как начали писать эту публикацию. Лю-
дей отвращает идея о том, что ответственность за человеческую любовь лежит на
крошечных плечах молекул, находящихся в нашем мозге. В самом деле тревожно:
не снизит ли это знание нашу самооценку? Когда Кэти Френч обсуждала роль гор-
монов и вазопрессина на семинаре со студентами старших курсов, «многие оскор-
бились», со смехом вспоминает она. «Они говорили: „Как можно сводить такой
волшебный эмоциональный опыт к обычным гормонам?лл Я хочу сказать, они дейст-
вительно обиделись!» «Удивительно, насколько велико сопротивление идее биоло-
гических основ поведения», - говорит Пол Рут Вольпе, биоэтик, директор Центра
этики в университете Эмори. Но мы принимаем эти возражения. Нас легко обви-
нить в том, что великий культурный критик Нил Постман называл «сциентизмом»,
а также в «медицинском материализме», против которого предупреждал Уильям
Джеймс, и «редукционизме», о котором говорили многие. Однако главная мысль -
что эмоции и поведение, которым эти эмоции движут, возникают в мозге - очень
стара. «Люди должны знать, что из мозга, и только из него, появляются наши
удовольствия и радости, смех и шутки, наши печали, боли, скорби и слезы», -
писал Гиппократ. Через две тысячи лет Т.-Г. Хаксли сформулировал чуть менее
красноречиво: «Все состояния сознания в нас, как и в животных, вызываются не-
посредственно молекулярными изменениями в мозговом веществе». Механистическое
видение действительно способно навести на мрачные мысли. Вы можете возразить
(и довольно справедливо, как нам кажется), что наука рискует открыть путь злу
в этот мир. Мы даже видим первых земледельцев, застолбивших участки.
«Женщины доверяют мне больше, чем другим!» - написано под фотографией сим-
патичного, но не внушающего доверия парня на сайте, где продаются товары Vero
Labs. «Лосьон Доверия - и меня хотят все женщины» - читаем мы другое реклам-
ное объявление, на этот раз под снимком привлекательной дамы в нижнем белье,
которая развязывает мужской шейный платок. В безграмотной рекламе, непредна-
меренно раскрывающей всю сомнительность продукта Vero Labs , говорится: «В 96
процентах случаев женщина выбирает мужчину не на основе его физической при-
влекательности. Не из-за его красоты или богатства. Ее выбор основан на мощ-
ном внутреннем чувстве - ДОВЕРИИ».
Реклама Vero Labs.
Как вы уже догадались, доверие внушается спреем с окситоцином. Опрыскайте
себя так, словно в руке у вас флакон одеколона, и вы получите повышение по
службе, рост продаж и красивых женщин в прозрачных ночных сорочках, которые
выстроятся в очередь, чтобы снять с вас галстук. Вопреки ожиданиям потенци-
альных донжуанов и продавцов подержанных авто «жидкое доверие» может приго-
диться разве только для того, чтобы сыграть с кем-нибудь шутку. Если даже в
нем есть окситоцин (в чем мы сомневаемся), опрыскивание кожи или одежды ниче-
го не сделает ни с вами, ни с теми, кого вы встретите. Беате Дитцен говорит
про такие вещи: «Кошмар». Кстати, на момент написания этой публикации «Лосьон
Доверия» можно было приобрести на Amazon.com всего за 35 долларов (и люди его
действительно покупали).
Коммерческие лаборатории видят большой потенциал в том, чтобы зарабатывать
деньги на науке социальных отношений. После публикации работы Ларри о генах
рецепторов вазопрессина и результатов шведского исследования мужчин и брачной
привязанности одна канадская лаборатория начала продавать анализ на AVPR1A за
99 долларов. Теперь женщины могут проверить потенциальных мужей на «ген обма-
на». Некий ученый сделал себе рекламу, заявляя по телевидению и в печати, что
может предсказать, будет ли мужчина обманывать своих партнерш. Он разработал
мнимый тест из пяти пунктов, заимствованный главным образом из исследований в
области социальной нейробиологии, принадлежащих Ларри и таким его коллегам,
как Маркус Хайнрихс. Chemistry.com, невероятно популярный сайт знакомств,
обещает «бесплатно выслать персонализированные анкеты кандидатов, обладающих
потенциалом запуска нейрохимических реакций». Такой бизнес будет множиться, и
потребители научатся распознавать мошенников, как это сейчас происходит в
торговле фальшивыми лекарствами от рака, средствами гомеопатической «медици-
ны» и кристаллами, фокусирующими энергию.
Сегодня такую мошенническую «химию» легко распознать, но в ближайшем буду-
щем она сулит неопределенность и серьезные риски. Невесты и женихи, свекрови
и тести начнут настаивать на добрачных генетических анализах таких нейрохими-
ческих веществ, как окситоцин, вазопрессин, дофамин, кортиколиберин, а также
их рецепторов. Почему бы в объявлении о знакомствах вдобавок к традиционной
фразе «высокий, образованный, одинокий белый мужчина» не указывать «AVPR1A
RS3 (-)» как еще один плюс в копилку? Мужчины и женщины постоянно требуют в
ответе на объявление описывать свою внешность. Почему бы не требовать еще и
описание генотипа? Почему бы на первой встрече не рассказывать о состоянии
своих окситоциновых рецепторов, об уровне эстрогена или тестостерона, о влия-
нии дофамина или о показателях опиоидных рецепторов, между делом обсуждая,
кто где работает? «Кстати, - замечает женщина, приподнимая руку и поправляя
волосы, - у меня, знаешь ли, тьма-тьмущая окситоциновых рецепторов в вен-
тральной области покрышки».
Давайте предположим, что кто-то изобрел действенное подобие продукта, кото-
рый продает сегодня Vero Labs . Или аэрозоль, запускающий выработку у вас ок-
ситоцина. Думаете, его не станут использовать банкиры, брокеры или агенты не-
движимости? Под влиянием веществ, укрепляющих социальные связи, нам легче бу-
дет поверить, что невзрачный дом, описанный бойким риелтором как «уютный, хо-
тя и нуждающийся в небольшом ремонте», может стоить полмиллиона долларов. В
цюрихском эксперименте, описанном в пятой главе, инвесторы, чье доверие было
подорвано, но которым достался спрей с окситоцином, продолжали демонстриро-
вать доверчивость даже после обмана. Хайнрихс объясняет, что с дополнительной
дозой окситоцина «вас не тревожат социальные риски».
Может быть, Роберт Хит и не излечил пациента В-19 от гомосексуальности, од-
нако он предвидел последствия своих экспериментов. «Что может быть важнее
деятельности мозга не только для индивида, но и для социальных групп? - спра-
шивал он. - Что может быть важнее для будущего человечества, для его выжива-
ния, чем возможность регулировать работу мозга и управлять разумом?» Нам хо-
телось бы верить, что за этим высказыванием скрываются лучшие намерения, что
идеи Хита предполагали оптимистическое, а не пугающее воплощение, которое се-
годня нам проще представить. Но если ожидания Хита станут реальностью, кто
будет принимать решение о контроле вашего разума? Что мы подумали бы о роди-
теле, который пичкает ребенка лекарствами ради подавления в нем сексуальности
или снижения в нем тревожности, увеличения общительности? Миллионы детей в
США, по большинству мальчики, ежедневно принимают риталин, стимулятор выра-
ботки дофамина, якобы для того чтобы лучше сосредотачиваться. Но это же самое
лекарство помогает удерживать поведение детей в социально приемлемых рамках.
Такое будущее нас ждет?
Некоторые люди с синдромом Аспергера7 отрицают, что с ними «что-то не так»
и что это надо исправлять. Многие из них считают себя лучше обычных людей.
Один человек с синдромом Аспергера сказал Ларри о его исследовании так: это
попытка превратить таких людей, как он, в таких людей, как Ларри. Любое ус-
пешное лечение больного аутизмом приводит к столкновению его со всеми теми
социальными проблемами, которые хорошо знакомы остальным людям. «И кому это
надо?» - спрашивал тот человек. Его точка зрения перекликается с высказыва-
ниями , которые мы часто слышим от специалистов по этике: что, если мы вылечим
гения? Каким бы стал мир, если бы Бетховен, Ван Гог и Эйнштейн оказались со-
циально адаптированными людьми и вели спокойную семейную жизнь? За гениаль-
ность часто приходится платить асоциальностью, трудными отношениями с другими
людьми и личными страданиями. С другой стороны, хотя страдания Ван Гога ка-
жутся приемлемой ценой для тех из нас, кто восхищается «Звездной ночью», сам
Ван Гог чувствовал себя довольно паршиво. Так каким же образом назначать ле-
чение? Кто должен его получать? Кто должен контролировать использование пре-
паратов, изменяющих сознание и эмоции?
7
Легкая форма аутизма с нарушением способности к социальной адаптации. Предполага-
ется, что им страдал Адам Лэнза, 14 декабря 2012 года расстрелявший в начальной шко-
ле «Сэнди Хук» (США, штат Коннектикут) двадцать детей в возрасте от пяти до десяти
лет и шесть взрослых, а затем покончивший с собой.
Винсент Ван Гог - Звездная ночь.
Зарождающаяся сфера нейромаркетинга стремится эффективно использовать сис-
темы, о которых вы узнали в этой публикации. На самом деле весь маркетинг
можно считать «нейро»: работники рекламы и производители товаров взывают к
нашим эмоциям уже сотни лет. Фармацевтические компании повышают продажи с по-
мощью симпатичных девушек, а «Синнабон» наполняет терминалы аэропортов и ма-
газинов соблазнительным ароматом свежих булочек. Всякий раз сигналы идут от
наших глаз и носов в мозг, будят в нас желание поощрения и мотивируют на по-
купку. Сегодня нейромаркетинх1 больше слоган, чем наука. Но что случится, если
он действительно преуспеет? В какой момент легкое подталкивание превратится в
пинок ногой?
А как насчет использования нейрохимических веществ при допросе врагов? Воз-
можно, такой метод будет меньшим отступлением от американских идеалов, чем
пытки погружением под воду, но насколько он этичен? В прошлом Полевой устав
армии США. в соответствии с Женевской конвенцией (об обращении с пленными)
гласил: использование любых веществ без медицинской необходимости запрещено.
Однако, по сообщению Исследовательского архива Конгресса США. от 2004 года, в
новом издании Устава это ограничение слегка изменено, и теперь во время до-
проса запрещается использовать «любые лекарства, вызывающие долговременные
или постоянные ментальные изменения и нарушения». Это лазейка для тех, кто
собирается применять нейрохимические вещества.
Хорошие
новости
Любые правила или законы, которые ограничивают использование научных дости-
жений ради предотвращения возможных негативных последствий, отражают трудно-
разрешимую дилемму: вещи, которые кажутся опасными, могут принести людям ог-
ромную пользу. Человек с синдром Аспергера, критиковавший Ларри, ошибался,
полагая, что, с нашей точки зрения, любого взрослого необходимо лечить. Одна-
ко он был прав в том, что работа, которую ведут Ларри и другие ученые в своих
лабораториях, может дать дорогу открытиям в медицине. Эти находки позволят
справляться с разными видами аутизма. «По своей природе мы - биологический
вид, крайне нуждающийся в контактах с себе подобными, - утверждает Томас Ин-
зел, бывший учитель Ларри. - И когда опыт общения превращается для нас в ис-
точник тревоги, а не комфорта, мы теряем важнейшую вещь в нашей жизни, как ее
ни назови».
Действительно, аутизм может быть «связан», или «ассоциирован», с различными
генетическими особенностями и негативным воздействием среды, поэтому здесь
очень важно проявлять осторожность. Если мы поймем, каковы в точности нейро-
химические процессы, отвечающие за поддержание и укрепление дружеских связей,
управляющие социальным поощрением и привязанностью, то однажды превратим най-
денное знание в терапию, чтобы справиться с некоторыми симптомами аутизма.
Многие надеются, что так и будет. Для этого Ларри создал Центр транснацио-
нальной социальной нейробиологии в университете Эмори.
Как показывает история Марии Маршалл, условия, в которых жил человек в
очень юном возрасте, могут повлиять на его взрослую жизнь. Предположим, у ре-
бенка обнаружили тяжелую форму аутизма и начали лечить его чем-то очень про-
стым, вроде назального спрея с нейрохимическими веществами, которые заставля-
ют мозг воспринимать более широкий спектр внешних стимулов. Возможно, такая
терапия никогда бы этого ребенка не вылечила. Но она могла бы изменить химию
мозга так, чтобы зрительный контакт и общение с окружающими стали для больно-
го более вознаграждающими. Если такой ребенок научится ассоциировать взгляд в
глаза с вознаграждением, он будет лучше откликаться на социальные сигналы.
Может проявиться «эффект снежного кома»: ребенок начнет все лучше понимать
эмоции и меньше тревожиться при взаимодействии с окружающими. Возникнут но-
вые , более крепкие нейронные связи. Эффект может длиться всю жизнь. Ларри
уверен, что однажды так и произойдет под воздействием лекарства, запускающего
окситоциновую систему, в сочетании с поведенческой терапией. Родители аутич-
ных детей уже сегодня имеют возможность приобрести окситоцин. В Австралии они
требуют от врачей рецепты на назальные спреи и получают их. Это не очень хо-
рошо : эксперименты с аутичными пациентами, которым дают окситоцин, показывают
прогресс, но такие улучшения временные и не очень выраженные. Родители, ку-
пившие препарат, чувствуют себя обманутыми, а еще хуже то, что они могут при-
чинить ребенку вред, бесконтрольно пользуясь лекарством. В этой области тре-
буется больше исследований.
В нашем организме есть одно любопытное вещество - меланоцитстимулирующий
гормон. В естественной форме (либо в форме лекарства, которое связывается с
рецепторами этого гормона, а значит, оказывает аналогичное действие) он дела-
ет вас загорелым. Австралийские компании сейчас пытаются вывести на рынок
препараты с этим гормоном в качестве средств, снижающих риск рака кожи.
Кроме того, такие препараты могут повышать сексуальное возбуждение и сни-
жать аппетит, а в виде влагалищной таблетки - стимулировать выработку оксито-
цина в мозге, действуя как влагалищно-шеечная стимуляция. Иначе говоря, скоро
появится средство, которое сделает вас загорелыми, повысит сексуальное жела-
ние, поможет сбросить вес и активирует окситоциновую систему, пробудив дове-
рие, эмпатию и способствуя формированию привязанности. Представьте, какое это
терапевтическое благо для пар, страдающих от кризиса среднего возраста.
Названное лекарство может стимулировать социальную общительность при аутиз-
ме . Мира Моди, исследователь из лаборатории Ларри, показала, что препарат с
меланоцитстимулирующим гормоном поддерживает у степных полевок привязанность
гораздо эффективнее, чем окситоцин. Значит, лекарства, содержащие это вещест-
во, способны снижать негативные социальные последствия аутизма лучше, чем на-
зальный окситоцин.
Первые ограниченные эксперименты на людях, страдающих социальным тревожным
расстройством (это наиболее часто встречающееся психическое расстройство по-
сле депрессии и алкоголизма), показали, что окситоцин, воздействуя на минда-
левидное тело, уменьшает интенсивность страха и упрощает социальное взаимо-
действие. В марте 2012 года ученые из Калифорнийского университета в Сан-
Диего объявили, что при использовании спрея с окситоцином у людей, страдающих
социальной замкнутостью и испытывающих трудности в общении, усиливаются либи-
до, эрекция и оргазм, улучшаются личные отношения. Как показывают тесты, па-
циентам с болезнью Паркинсона, которые частично теряли способность различать
эмоции (либо из-за своего заболевания, либо из-за лечения), окситоцин возвра-
щал понимание чувств других людей.
Leu / /—\ ' ° н HN °
<31У О Н L NH2
Строение окситоцина.
Шизофрения - одно из психических расстройств, которые с трудом поддаются
лечению. У пациентов, страдающих этим заболеванием, аномально высокий уровень
окситоцина в крови. Когда шизофреникам давали спрей с окситоцином вместе с
антипсихотическими препаратами, у них отмечалось большее улучшение по сравне-
нию с теми, кому давали только антипсихотические лекарства.
Сейчас некоторые исследователи рассматривают возможности изменения системы
поощрения в мозге таким образом, чтобы помочь наркоманам бросить наркотики.
Если действие кортиколиберина можно уменьшать, выздоровевшие наркоманы с
меньшей вероятностью почувствуют отрицательную мотивацию, побуждающую их вер-
нуться к наркотикам.
Проясняются связи между различными вариантами генов рецепторов и поведенче-
скими отклонениями, не обязательно попадающими в категорию психических рас-
стройств, но мешающими нормальной жизни пациента. Один из вариантов окситоци-
нового рецептора связан с меньшей эмпатией матерей по отношению к своим де-
тям. Другой вариант провоцирует эмоциональный дефицит и чувствителен к влия-
нию окружающей среды. Девочки - носительницы второго варианта, у которых был
негативный детский опыт (например, жившие с матерью, страдающей депрессией),
сами чаще страдают от депрессии и тревожности. Вариант вазопрессинового гена
AVPR1A влияет на то, в каком возрасте девочки впервые начинают заниматься
сексом. Как вы уже знаете, стресс, пережитый на начальных этапах развития,
может склонять девочек к раннему вступлению в половую жизнь. Мальчики с двумя
копиями длинной RS3-версии гена AVPR1A склонны начинать сексуальную жизнь до
пятнадцати лет, чего нельзя сказать о мальчиках с двумя копиями короткой вер-
сии.
Благодаря лечению нейрохимическими веществами мать, страдающая от послеро-
довой депрессии и тревоги, сможет избавиться от этого состояния, что будет
хорошо и для нее, и для ребенка. Эмоционально отстраненные отцы могут начать
проявлять заботу. Некоторые психологи и ученые, узнав об исследовании влияния
окситоцина на общение в парах, проведенном Дитцен, обсуждают возможность ис-
пользования такого спрея в семейной терапии. Вообще говоря, сама терапия
представляет собой стресс. Окситоцин, снижающий ответ на стресс и склоняющий
мозг к доверию, может стать полезным инструментом для создания открытого, по-
зитивного взаимодействия конфликтующих партнеров. Психиатр может использовать
нейрохимические вещества, чтобы облегчить общение и сделать пациента более
открытым. Если перед началом сеанса тот примет необходимое вещество, ему бу-
дет легче описать врачу свои мысли и мотивы поведения. Это поможет и пациен-
ту, и психиатру (а также сократит оплаченное время сеанса, которое обычно по-
свящается налаживанию контакта). Когда мужчин просили ответить на вопросы о
своих тайных сексуальных фантазиях, а затем вложить ответы в конверт и пере-
дать исследователю, 60 процентов мужчин, получивших дозу окситоцина, не запе-
чатывали конверт, сделав его содержимое доступным экспериментатору. И только
3 процента тех мужчин, которые получили плацебо, оставляли конверт открытым.
Разумеется, при работе с пациентами применение таких препаратов необходимо
будет тщательно контролировать.
Возражения
обществу
Уильям Джеймс писал: «Когда с неким состоянием мозга сообщается определен-
ное знание, происходит нечто конкретное. Подлинное понимание происходящего
станет научным достижением, перед которым померкнут все прежние открытия».
Каждое новое научное или техническое начинание вызывает в обществе отклик.
Социальная нейробиология и особенно исследования человеческой привязанности
должны вести к серьезному пересмотру привычек, социальных институтов, больших
и малых систем.
То, насколько хорошо нация справляется с возникающими проблемами, влияет на
ее менталитет. В 1949 году, в разгар холодной войны, Джеффри Горер и Джон
Рикман опубликовали книгу «Народ Великой России: психологическое исследова-
ние» . В ней утверждалось: русские имеют обычай туго пеленать младенцев, что
«причиняет ребенку сильную боль, огорчает его и вызывает в нем сильную и раз-
рушительную ярость, которую невозможно выразить физически». В сочетании с та-
ким элементом русской культуры, как общественное порицание, это ведет к аг-
рессии и поддержке сильных лидеров. Горер и Рикман, их книга и теория пелена-
ния подверглись критике и даже осмеянию. Можно искать оправдания такой реак-
ции общественности, а можно не искать (впрочем, эту теорию помещали в учебни-
ки еще в семидесятых годах) - это уже не имеет значения, поскольку сегодня
подтверждена справедливость идеи о том, что условия, окружающие человека в
начале жизненного пути, равно как и его генетические особенности, влияют на
будущую модель поведения. Это верно даже на уровне нации.
Благодаря исследованиям, проведенным в Южной Корее и США, ученые узнали,
что корейцам свойствен следующий жизненный стереотип: они чаще, чем американ-
цы, подавляют свои эмоции. Ученые сравнивали окситоциновые рецепторы у испы-
туемых из обеих стран. Корейцы с одним типом рецепторов подавляли эмоции
сильнее, чем их сограждане с другим типом. Американцы с первым типом рецепто-
ров подавляли эмоции меньше, чем американцы со вторым. Такое зеркальное раз-
личие связано с влиянием культуры на работу гена.
Новые знания дают нам возможность размышлять о тех переменах, которые за-
трагивают как жизнь отдельного человека, так жизнь общества в целом и способ-
ны влиять на все человечество. Одни перемены ведут к простым и незначитель-
ным, на первый взгляд, последствиям, но они, тем не менее, очень важны. Что,
если, к примеру, изменится способ рождения детей? Лейн Стретхерн из универси-
тета Бейлор встревожен ростом частоты применения кесарева сечения. Обсуждая
процесс, который вызывает формирование материнской привязанности у овец, мы
говорили, что при кесаревом сечении дети не проходят через влагалищно-шеечный
канал. Это ведет к меньшему высвобождению окситоцина в мозге матери, влияя на
силу ее связи с младенцем. Врачи или будущие матери редко берут это в расчет
и планируют операцию даже в тех случаях, когда в ней нет медицинской необхо-
димости .
Стретхерн опасается, что на взаимную привязанность матери и младенца может
влиять даже опыт больничных родов. «Что мы делаем, когда ребенок рождается? -
задает он риторический вопрос. - Мы забираем его у матери, вместо того чтобы
позволить ей вступить с младенцем в длительный телесный контакт, стимулирую-
щий выделение молока».
В исследовании, опубликованном в конце 2011 года, ученые представили стати-
стику, согласно которой у новорожденных, разделенных со своими матерями, ав-
тономная активность (ответ на стресс) была выше на 176 процентов, чем у де-
тей, которые находились в контакте с кожей своих матерей. Показатель нарушен-
ного сна был выше на 8 6 процентов. Мы не утверждаем, что женщины не должны
ложиться в больницу, - нет никаких сомнений в преимуществах современных меди-
цинских технологий, предотвращающих осложнения и смертность матерей и новоро-
жденных. Но привычка забирать младенцев у матерей сразу после родов разруши-
тельно влияет на мозг женщины и младенца, повышая риск послеродовой депрессии
и формирования негативных отклонений в поведении ребенка в будущем.
Сью Картер затрагивает еще одну тревожную тему. Беременным, для которых вы-
сока вероятность преждевременных родов, иногда дают лекарства, снижающие ак-
тивность окситоциновой системы, а роженицам, само собой, часто дают окситоцин
для стимуляции родов. Эксперименты с полевками показали, что вмешательство в
эту систему способно создать в мозге изменения, которые влияют на будущее по-
ведение новорожденных и, возможно, запускают в мозге процессы, которые затем
ведут к депрессии, тревоге и даже аутизму. Сегодня нет каких-либо клинических
свидетельств в пользу того, что лекарства с окситоцином, используемые при ро-
дах, повышают вероятность будущих психических нарушений, но вероятность тако-
го исхода стоит учитывать.
Любые упоминания о поведении родителей и риске аутизма вызывают горячие
споры. Половину своих рассуждений на эту тему Стретхерн прерывает тяжелыми
вздохами. После одного такого вздоха и долгой паузы он произносит: «Здесь, в
больнице, мне приходится следить за тем, что я говорю коллегам... Есть разные
мнения на этот счет». Он имеет в виду Лео Каннера. Основатель психиатрической
клиники в университете Джона Хопкинса, Каннер для описания одной из моделей
материнского поведения использовал слово «холодная». В обиходе слово перене-
сли с описания модели поведения на саму мать, и возник печальный обычай обви-
нять во всем матерей. «Сегодня в сфере изучения аутизма малейшее предположе-
ние о том, что материнское поведение может влиять на развитие этого состоя-
ния, встречает агрессию, - объясняет Стретхерн. - На эту тему следует гово-
рить очень осторожно, однако я считаю, что мы не имеем права ее игнорировать,
поскольку не имеем права игнорировать аутизм». Он полагает, что связь между
матерью и младенцем и характер материнской заботы играют важную роль в разви-
тии аутистического поведения у детей, чьи особенности генетики и (или) внут-
риутробного развития предрасполагают к возникновению аутических состояний.
«Существуют неопровержимые доказательства, полученные в исследованиях людей и
животных, что социальная среда влияет на развитие социального поведения у де-
тей», - говорит он.
Можно уподобить связь между родителем и ребенком физическим упражнениям.
Каждый раз, когда младенец и родители встречаются взглядами, прикасаются друг
к другу, улыбаются и воркуют, у ребенка, по всей видимости, повышается сопро-
тивляемость генетическим или внешним факторам риска аутизма и укрепляются
нейронные связи, отвечающие за управление социальным поведением, что способ-
ствует здоровому развитию. Стретхерн опасается, что такие высказывания авто-
матически перерастут в гневные дебаты. Он не обвиняет матерей или отцов, од-
нако указывает, что человеческое общение влияет на мозг, а мозг влияет на че-
ловеческое общение, образуя петлю обратной связи, и поведение родителей -
один из ингредиентов сложной смеси, порождающей аутизм и воздействующей на
«социальный» мозг.
Как показали работы Франсез Чампейн и других ученых, стресс и тревога, осо-
бенно на ранних этапах развития, сказываются на будущем поведении и взрослой
жизни. Модели поведения наследуются следующими поколениями. Результаты науч-
ных работ свидетельствуют о том, что у детей уровни окситоцина и вазопрессина
скореллированы с уровнями их родителей и что концентрации этих нейрохимиче-
ских веществ влияют на поведение обоих поколений. Родители и дети с низким
уровнем окситоцина вступают в контакт реже и получают меньшее «мозговое» по-
ощрение, чем родители и дети с высоким уровнем.
Подобные факты вынуждают нас сделать паузу и взглянуть на нашу культуру в
целом. Мы выстраиваем довольно тревожную культурную среду. Делая это, мы мо-
жем изменить коллективный социальный мозг.
На первый взгляд, экономика мало связана с любовью, желанием и привязанно-
стью . Но задумайтесь о том, что говорит Стретхерн. Он полагает, что в США. и
других развитых странах отношения между матерью и ребенком начинаются не в
самых лучших условиях, и речь не только о первых днях, проведенных в больни-
це . «Мать приносит ребенка домой и вскоре выходит на работу, оставляя его в
яслях». Если вы посмотрите на наш мир через призму привязанности, говорит
Стретхерн, ситуация не особенно благоприятная. «Мы оглядываемся на наше обще-
ство, на создаваемые нами модели поведения. Нам кажется, мы улучшаем свою
жизнь, но так ли это? Возможно, мы своей деятельностью незаметно (или даже
заметно) создаем себе проблемы».
Связь матери и младенца - ключевой элемент любой человеческой привязанно-
сти. Однако в современной экономической системе у многих родителей, в том
числе одиночек, нет иного выбора, кроме как вернуться на работу едва ли не
сразу после родов. Сидеть дома с ребенком - роскошь не потому, что родителям
хочется катер на гидролыжах и две недели в лондонском пятизвездочном «Кларид-
же». На всех нас давят дорогая медицинская страховка, забота о пожилых роди-
телях, стоимость обучения в колледже, страх безработицы и меняющаяся ситуация
на рынке труда, где проигрывает тот, кто не спешит.
Споры о связи экономики и семейной жизни длятся с 1970-х, но исследование
этих вопросов по традиции входило в сферу социологии, которую часто обвиняют
в инфантильности. Однако сегодня социальная нейробиология может предоставить
качественные данные, объясняющие реальный механизм того, как эмоциональные
связи между родителями и младенцем влияют на развитие его мозга и в конечном
итоге - на следующие поколения. Мы знаем, как это происходит у крыс. Здесь
закономерности изучены до уровня молекул. Мало кто понимает, насколько важны-
ми могут оказаться эти исследования. Политики, управленцы и лоббисты застряли
в прошлом, отрицая «личную ответственность» и защищая необходимость резкого
сокращения бюджета, выделяемого на явно эффективные программы, могущие изме-
нить традицию некорректного воспитания новых поколений. Сокращение финансиро-
вания поможет сэкономить деньги сегодня, но завтра расходы увеличатся. Удобно
говорить, что мать-подросток сама виновата, родив ребенка, которого не может
воспитать, что она должна собраться с силами и проявить ответственность. Но
чтобы она могла это сделать, необходим идеальный рациональный контроль свер-
ху. Как мы видим, ничего подобного не существует. В любом случае, нравится
вам это или нет, кого-то все равно постигнет неудача. Издержки грядущих слож-
ностей, с которыми столкнется или которые вызовет ребенок, выросший в эмоцио-
нально или физически неполноценной семье, в конце концов, лягут на общество.
Возможно, ответственность за отчужденность должна лечь на общество, в тече-
ние последних пятидесяти лет упорно формировавшее культуру общения, с созда-
нием которой мы его и поздравляем: она не принимает во внимание нейронные
схемы, необходимые для культивирования любви в обществе. Недостаток прямой
взаимной стимуляции этих схем замедляет их развитие. Электронная почта, тек-
стовые сообщения, Twitter, Facebook и всемирное поклонение цифровым техноло-
гиям уменьшают человеческий контакт. Ощущение, будто технология способна ими-
тировать физическое присутствие людей во времени и пространстве, иллюзорное.
Мы покупаем продукты в магазинах самообслуживания, проводим банковские опера-
ции через Интернет или платежные терминалы, покупаем товары в онлайн-
магазинах. Мы создаем то, что Постман8 называет «технополией».
Такая жизнь может влиять на работу нашего мозга. Лаборатория в Висконсине,
которая изучает детей, взятых приемными родителями из иностранных детских до-
мов, проводила тест на стресс у девочек. Ученые оценивали отношения между де-
вочками и их матерями, а затем проводили тест по математике и английскому
языку, повышающий уровень тревоги. Девочек разделили на четыре группы. Одна
группа общалась со своими матерями непосредственно, вторая разговаривала по
телефону, третья использовала CMC, а четвертую лишили любых контактов. Ученые
следили за уровнем окситоцина в моче и уровнем кортизола в слюне. Даже после
учета различий в отношениях «мать - ребенок» у девочек, общавшихся с матерями
лицом к лицу, наблюдался самый высокий уровень окситоцина и самый низкий уро-
вень кортизола по сравнению с остальными группами. У девочек, отсылавших ма-
терям текстовые сообщения, уровни окситоцина и кортизола не изменились. То же
происходило в группе девочек, не общавшихся с матерями вообще.
Согласно гипотезе, которую отстаивает голландский ученый Карстен де Дро,
эволюция работы человеческой окситоциновой системы происходила в рамках обще-
ства, структурированного в виде соподчиненных групп разного размера. Первая
группа состоит из матери и ее ребенка, вторая - супружеская пара, третья -
непосредственная семья, затем - близкие родственники, клан, племя и так да-
лее . Эта структура обеспечила поразительный эволюционный успех человеческих
существ, не только сумевших избежать вымирания, но и ставших доминирующим ви-
дом на Земле. Внутригрупповое доверие, считает де Дро, управляется окситоци-
ном и связанными с ним нейронными цепями. Гормон создает «социальную смазку»
не только для индивидуального взаимодействия, на котором мы сосредоточились в
этой публикации, но и для общества в целом. Судя по всему, когда люди сотруд-
ничают друг с другом, вырабатывающиеся окситоцин и вазопрессин способствуют
доверительным отношениям. Недавно это продемонстрировал антрополог Джеймс
Риллинг, коллега Ларри по Эмори.
После Второй мировой войны, когда возникла ядерная угроза, два исследовате-
ля из корпорации Rand , Меррил Флуд и Мелвин Дрешер, обратились к теории игр,
чтобы понять, как две нации могут отреагировать на всевозможные ядерные сце-
нарии . Они создали то, что позже назвали «дилеммой заключенного». Представьте
двух преступников, попавших в тюрьму по подозрению в ограблении банка. Их
держат в разных камерах. Каждому заключенному полиция сообщает, что если он
будет с ними сотрудничать, а другой - нет, стукач получит испытательный срок,
а сообщник - пять лет тюрьмы. Если он не будет сотрудничать, а его сообщник
будет, тогда первый преступник получит пять лет, а второй - испытательный
срок. Если оба преступника станут сотрудничать и признаются в ограблении, ка-
ждый получит два года тюрьмы. Если не будет сотрудничать никто, оба получат
испытательный срок за незначительное правонарушение, поскольку полицейские не
сумеют доказать более серьезное преступление. Если вы - один из преступников,
8
Нейл Постман - американский социолог, специалист по теории коммуникаций.
как вы поступите? Это зависит от того, насколько вы доверяете своему сообщни-
ку.
В эту игру можно играть на деньги, что и предложил Риллинг. Количество вы-
плат зависело от степени доверия между партнерами. Спрей с окситоцином усили-
вал кооперацию. Но это еще не всё. Риллинг обнаружил: когда мужчины сотрудни-
чали друг с другом, окситоцин повышал активность полосатого тела, напоминая
об эффектах в прилежащем ядре полевок в ходе формирования привязанности. Бла-
годаря таким эффектам при взаимном сотрудничестве в мозге возникает более
сильное поощрение, рождая понимание того, что другому человеку можно доверять
и что доверие приятно. Окситоцин и вазопрессин повышали готовность к сотруд-
ничеству (хотя вазопрессин работал в положительную сторону, только если игрок
сначала делал жест доверия в адрес партнера), а это, значит, способствовали
общественному доверию, воздействуя на определенные области мозга, в том числе
на миндалевидное тело. Возникает вопрос: что происходит в обществе, когда
личное взаимодействие снижается, сохраняясь только внутри групп близких дру-
зей?
Две другие крупные проблемы, с которыми столкнулось наше общество, - наси-
лие и загрязнение окружающей среды. В сентябре 2011 года Ларри выступал на
Блуинском саммите созидательного лидерства, проводимом совместно с Генераль-
ной Ассамблеей ООН. Он сказал, что главы правительств, контролирующих полити-
ку в охваченных войной регионах - Ираке и Афганистане, должны учитывать, что
стрессовый опыт в начале жизни влияет на деятельность мозга человека и его
поведение в дальнейшем. То, что насилие и недостаток внимания плохо сказыва-
ются на детях, не новость. Знаменитые эксперименты Гарри Харлоу, проведенные
в конце 1950-х, показали, насколько тревожными могут стать дети, если их не
обнимать и о них не заботиться. Многие исследования и истории жизни, охвачен-
ные большим отрезком времени и имевшие место в разных уголках планеты, свиде-
тельствуют о том, что вольное или невольное участие в вооруженных конфликтах,
групповое насилие, психологические травмы заметно сказываются на психике и
благополучии молодежи. Теперь, когда нейробиологи изучают под микроскопом ме-
ханизмы работы мозга и получают данные, объясняющие причины того или иного
поведения людей, лица, принимающие решения о начале войны, должны учитывать,
с какого рода последствиями они столкнутся, когда молодое травмированное по-
коление подрастет.
Знание химии процессов, происходящих в период, когда в мозге закладывается
ось полового поведения, должно подтолкнуть нас к переоценке методов управле-
ния окружающей средой. Вещества, разрушающие эндокринную систему, содержатся
в пластмассах, гербицидах и даже в лекарствах. Они вносят более серьезные из-
менения в нейронные цепи, управляющие социальными связями человека, чем любые
другие факторы, и в половой организации мозга играют ту же роль, что эстроген
и тестостерон, использованные в экспериментах Чарльза Феникса и его последо-
вателей. В число наиболее известных и распространенных веществ такого рода
входят бисфенол А (присутствует в эпоксидном составе, которым покрывают внут-
реннюю поверхность консервных банок, и в чувствительных к теплу кассовых че-
ках) , фталаты (встречаются повсюду, особенно в мягкой, гибкой пластмассе),
атразин (самый популярный гербицид, широко применяемый для обработки кукуруз-
ных полей в США), эстрогены, содержащиеся в противозачаточных таблетках. Су-
ществуют десятки других активных химических агентов. Многочисленные экспери-
менты показали, что вещества, способные вмешиваться в работу эндокринной сис-
темы, те самые, воздействию которых сегодня часто подвергается плод в матке и
новорожденный, необратимо изменяют половое поведение лабораторных животных,
чаще всего, феминизируя особей мужского пола.
На этом этапе никто, включая нас, не может сказать наверняка, как грядущие
открытия повлияют на будущее человечества. Но мы полагаем, что гораздо больше
внимания следует уделять культуре, которую мы создаем своими действиями, за-
конами и политикой, которая не имеет ничего общего с нашим «социальным» моз-
гом, но может оказывать на него самое разнообразное и глубокое влияние.
Что такое любовь?
Кто мы такие?
Когда Коперник заявил, что Земля - одна из множества планет, вращающихся
вокруг Солнца (о чем было известно за две тысячи лет до него) , и когда его
точку зрения дополнили новые открытия, поместившие Солнечную систему в Млеч-
ный Путь, а Млечный Путь - в одно из многих миллионов галактических скоплений
расширяющейся Вселенной, людям пришлось согласиться с тем, что их родная пла-
нета не центр мироздания. Затем Дарвин вынудил человека сойти с пьедестала,
на который он сам себя возвел. На каждом следующем этапе развития науки рели-
гиозные, социальные и личностные догмы изгонялись из уютного кресла веры в
другое, гораздо менее комфортное. Сегодня социальная нейробиология бросает
вызов тем идеям, с которых мы начали свое повествование, - человеческим пред-
ставлениям о любви и тому, как эти представления влияют на наше видение самих
себя.
В этой публикации мы пытались ответить на множество вопросов. И есть во-
прос , уклониться от которого невозможно: почему мы любим? Возможно, наука ни-
когда не ответит на главные «почему?» жизни. Они заводят нас в лабиринт раз-
мышлений, хорошо известный любому родителю трехлетнего ребенка, не дающего
покоя всевозможными «почему?». Когда дети спрашивают: «Почему мы влюбляемся?»
- мы отвечаем: «Чтобы иметь детей». «Зачем нам иметь детей?» Мы обращаемся к
таким утверждениям, как «Божественный замысел» или «Чтобы делиться любовью».
Эти ответы перемещают нас на следующий уровень квеста: «Зачем нам делиться
любовью?» - после которого мы вынуждены воспользоваться банальной палочкой-
выручалочкой - советом посмотреть «Губку Боба Квадратные Штаны».
Поиск ответов на «почему?» - вечный источник религиозных представлений, ми-
фов и философии. Мы придумываем истории, чтобы помочь себе в поиске смысла
существования мира и Вселенной. Мы придумываем истории для подтверждения соб-
ственной точки зрения. Уильям Джеймс осознавал силу человеческой фантазии.
Нередко говорят, что Генри Джеймс был писателем, писавшим как психолог, а
его брат Уильям был психологом, писавшим как писатель. Будучи ученым, Уильям
нередко сожалел о том, что новые открытия используются для подрыва мифов:
«На представлении о том, что духовная ценность явления падает, если доказа-
но его низменное происхождение, основаны рассуждения всех тех, кому не свой-
ственны сентиментальные порывы, когда они обращаются к своим более чувстви-
тельным собеседникам. Альфред так горячо верует в бессмертие души лишь отто-
го, что склонен к сильным эмоциям...
Мы все до известной степени опираемся на эту позицию, когда критикуем тех,
чьи выражения чувств кажутся нам чрезмерными. Но когда другие в свою очередь
не хотят видеть в нашем энтузиазме ничего, кроме проявления врожденной склон-
ности, мы чувствуем себя глубоко уязвленными, так как знаем о себе, что како-
вы бы ни были свойства нашего организма, наши душевные состояния имеют цену
жизненной правды. И в таких случаях нам хотелось бы заставить замолчать всех
этих медицинских материалистов... Медицинский материализм воображает, что по-
кончил со святым Павлом, объяснив его видение на пути в Дамаск как эпилепти-
ческий припадок»9.
Консервативные философы, политические теоретики и биоэтики встревожены, и
9
Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. Пер. В. Г. Малахиевой-Мирович и М. В.
Шик, с изменениями.
они правы. В отличие от многих они признают, что в реальности остов нашей
культуры не наука, технологии, производство и даже не законы, а истории, ко-
торые мы себе рассказываем. Возможно, эта опора более хрупкая, чем кажется.
Иногда мы совершаем ошибки, пытаясь ее уничтожить: вспомните, с каким упорст-
вом Джон Мани утверждал, будто половое самоопределение формируется обществом.
В попытке придать историям вес и убедительность консерваторы выстраивают сво-
его рода морально-нравственную Линию Мажино, сводя их в систему и придавая им
статус «законов природы», непреложных истин. Как и настоящая Линия Мажино,
естественный закон сам по себе непрочен. Он далек от непреложности и со вре-
менем меняется. Хороший пример того, как это происходит, - представления о
любви. Если вам предложат назвать самую древнюю из ныне существующих историй,
то тема любви - первое, о чем вы подумаете. Как только человек изобрел пись-
менность , он начал сочинять истории о любви и желании. Шумерская клинописная
поэма, созданная около 4100 лет назад, начинается так: «Жених, дорогой моему
сердцу, мила мне твоя красота». Рассказчица просит жениха скорее увести ее в
спальню. Он выполняет ее просьбу, после чего она говорит: «Жених, ты мной на-
сладился. Скажи моей матери, она тебя угостит; скажи моему отцу, и он одарит
тебя». Традиции и обычаи со временем отходят в прошлое, им на смену приходят
новые (хотя нам кажется, что традицию одаривать мужчину после секса вяленой
ветчиной и «Ролексом» стоило бы вернуть), однако даже спустя многие поколения
общий настрой поэмы будет понятен любому человеку в любом обществе. Здесь и
тревожное предвкушение, и искренняя радость, и эротизм, и остаточное приятное
чувство. А потом возникает история. Или картина, или стихотворение, или
фильм.
Как бы то ни было, наше отношение к закону природы, который управляет любо-
вью, поменялось. В США. законы против смешанных браков, рабство и отрицание
политических прав женщин основывались на человеческой интерпретации естест-
венного закона: расовое смешение было отвратительно, противоречило Библии и
портило белую расу. В некоторых штатах эта точка зрения продержалась до 12
июня 1967 года, когда дело «Супруги Лавинг против Виргинии» было решено в
пользу супругов с такой удачной фамилией10. Сейчас большинство американцев не
считают, что гомосексуальность - это нечто неправильное. Напротив, по мнению
многих, геи и лесбиянки имеют право официально вступать в брак - поразитель-
ный переворот в национальном сознании, поскольку всего несколько лет назад
бытовала убежденность, что подобные союзы неестественны. Определенный вклад в
эти изменения внесла наука. Она обеспечивает нас новыми данными, дополняющими
ранее проведенные исследования жизни тех людей, которые не вписываются в
строгую систему двух полов и полового самоопределения. Миф меняется и вступа-
ет в противоречие с мифами тех, кому претят перемены. Кто-то реагирует на
возникающую дезориентацию отрицанием. В ком-то страх рождает злость.
Осенью 2011 года доктор Кит Эблоу, называющий себя «одним из ведущих амери-
канских психиатров», эксперт телеканала Fox News в области психиатрии и пишу-
щий редактор журнала Good Housekeeping , советовал родителям не давать своим
детям смотреть сезон «Танцев со звездами», в котором участвовал Чез Боно. По-
чему? Потому что Чез Боно сделал операцию по изменению пола: он сменил жен-
ское тело на мужское. Эблоу писал для Fox, что «многие дети, которые это уви-
дят, захотят сами определять свое я, которое, разумеется, подразумевает поло-
вое самоопределение». Если вам кажется, что это мнение напоминает старую тео-
рию Мани, согласно которой общество способно навязать человеку тендерную
роль, вы не ошибаетесь. «Люди действительно подражают друг другу в эмоциях,
мыслях и поведении, - продолжает Эблоу. - Чез Боно, решивший, что у него не
ю
Английское написание фамилии Лавинг - Loving; от англ. love - «любовь».
тот пол, достоин одобрения не больше, чем человек, которому внезапно пришло в
голову, что у него не тот внешний вид, и он просит пластического хирурга при-
шить ему хвост, взяв мышцы с живота». Проще говоря, по мнению Эблоу, ваш сын,
глядя на то, как Чез Боно танцует румбу, захочет отрезать себе пенис. Это
убеждение основано на страхе и демонстрирует образец потрясающего невежества.
Однако упрямое отрицание реальности, какое выказывает Эблоу, иногда зарази-
тельно .
Когда президент Обама выбрал Аманду Симпсон, транссексуала, бывшего летчи-
ка-испытателя, на пост советника Министерства торговли, консерваторы были
возмущены. Американская семейная ассоциация (евангелическая политическая
группа) наградила это назначение эпитетом «травести». «Больше всего эта кучка
извращенцев хочет получить от общества одобрение на свой сексуально ненор-
мальный образ жизни», - заявила ассоциация. Резкое осуждение прозвучало и со
стороны влиятельных правых политических сил, например от Совета исследования
семьи. Некоторые из высказываний ошибочно объединяли трансгендеров с гомосек-
суалами.
В 2011 году трансгендеры Нью-Йорка обратились в суд с просьбой позволить им
менять свидетельство о рождении на новое, отражающее их пол в соответствии с
их половым самоопределением, даже если им не делали хирургических операций.
Питер Спригг, политолог в Совете исследования семьи, сказал в интервью New
York Times , что любая такая замена стала бы «актом мошенничества». «Я счи-
таю, что существует объективная реальность имеющихся у них половых органов и
хромосомного набора, а так называемое половое самоопределение - полностью
субъективное ощущение», - отмечает Спригг. После таких утверждений Спригга и
его группу отнесли к лагерю Жермен Грир (воистину странный союз). Люди, яв-
ляющиеся трансгендерами, не просто так проснулись однажды утром и решили, что
было бы забавно поменять пол и стать мужчиной или женщиной. Вы можете притво-
ряться, что вы не гомосексуал, поскольку для вас это чревато неприятностями,
особенно если вы - известный человек, построивший свою карьеру на антигомо-
сексуальной риторике, но все заканчивается тем, что вы снимаете мужчину-
проститутку, встречаетесь с мужчиной в туалете аэропорта или пытаетесь со-
блазнить одного из ваших молодых прихожан. Вы можете иметь некоторый гомосек-
суальный опыт и при этом не быть геем. Вас нельзя завербовать в гомосексуалы,
если вы не гей, и невозможно «вылечить», если вы гомосексуал. Гетеросексуаль-
ные мальчики и девочки ведут себя так потому, что такое поведение диктуется
им их мозгом. Неважно, насколько агрессивна телереклама - производители игру-
шек не могут заставить ребенка хотеть игрушку, предназначенную для того или
иного пола. Реклама направлена на то, чтобы ребенок поверил, будто данная иг-
рушка отвечает его желаниям, а эти желания порождены его мозгом, который ор-
ганизован в соответствии с тем или иным полом.
Такова тесная взаимосвязь культуры, генов, воспитания и мозга. Но культура
не создает пол - она его отражает. Пол человека влияет на все, начиная с то-
го, кого мы любим, и заканчивая тем, что изголовье нашей кровати превратится
в верхнюю муфту воображаемого борцовского ринга, с которой так здорово пры-
гать в постель. (Есть причина, по которой подавляющее число пострадавших, по-
падающих в травмпункты городских американских больниц, - это мальчики.) Одна-
ко многие до сих пор считают, что сексуальность формируется культурой, по-
скольку именно этот миф вписывается в их мировоззрение.
Как мы говорили в начале этой главы, меняющееся представление о механизмах
любви угрожает многим, если не большинству, человеческих мифов о самых важных
в жизни эмоциях. Как научные данные о работе нейронных систем любви влияют на
наше представление о ней? Может ли любовь, созданная по собственному желанию,
быть «реальной»?
По мнению одной нейробиологической научной школы, свободная воля - тоже
миф: подсознание передает сознанию информацию, а последнее ведет себя так,
будто бы само приняло решение, хотя на самом деле предпосылка к поступку воз-
никает прежде, чем мы его осознаем. В этом случае любовь похожа на закономер-
ности квантовой физики: сам акт наблюдения двух связанных частиц меняет их
характеристики. Если мы узнаем, каковы нейронные механизмы любви, не разрушим
ли мы ее? Так же размышлял наш старый знакомый и тевтонский повелитель мрака
Эдуард фон Гартман. Знание лишает человека необходимого ему безумия и заблуж-
дений, считал он. Нам следует оставаться слепыми, поскольку, утверждал он,
если человек «осознает абсурдную всеохватность этого импульса... то, когда
страсть попытается его поглотить, он будет пребывать в уверенности, что несет
ответственность за совершаемую глупость». Если у нас будет хорошее зрение, мы
станем думать о любви так, как думаем об автомобильном двигателе, игровых ав-
томатах или компьютерном софте: как о программируемом процессе. Кроме того,
мы можем рассматривать в виде программируемых процессов и самих себя.
Однако мы не согласны с Гартманом. Будь он прав, мы вылечили бы всех нарко-
манов, объяснив им мозговые механизмы зависимости. К сожалению, такой прием
не работает. Метамфетаминовый наркоман, в деталях понимающий молекулярный ме-
ханизм наркотического кайфа и роль гормонов стресса, все равно останется нар-
команом. Влюбленный человек может понимать нейронные процессы, но все равно
будет испытывать любовь.
Так существует свободная воля или она отвечает за десять, двадцать, три-
дцать - сколько? - процентов наших поступков? Важнее то, что мы ведем себя
так, словно она действительно у нас есть. Иначе говоря, мы рассказываем себе
историю. Это и означает быть человеком, особенно влюбленным человеком. Поэто-
му оба автора этой публикации уверены, что будущее любви такое же светлое,
как и раньше.
Как бы мы чувствовали себя, попав в мир, описанный сатириком Джорджем Сан-
дерсом в рассказе «Побег из Паучьей головы»? Главный герой Джефф и молодая
женщина Хизер встречаются в лаборатории, где на них испытывают новое лекарст-
во . Абнести, проводящий тест, дает им препарат, после чего Джефф начинает ду-
мать , что Хизер выглядит «суперкруто», и то же самое начинает думать о нем
она. «Скоро мы оказались на диване, и пошло-поехало. Между нами возникла са-
мая настоящая страсть». И не просто страсть, а «правильная» страсть. Джефф и
Хизер думают, что влюблены друг в друга. Позже Джеффу дают другое лекарство,
и любовь исчезает. «Это потрясающе, - говорит Джеффу Абнести. - Это бомба. Мы
раскрыли древний секрет. Фантастический поворотный момент! Допустим, кто-то
не может любить. Теперь у него есть шанс. Мы ему поможем. Или кто-то слишком
сильно влюблен. Или любит того, кого его родители считают неподходящей парой.
Мы справимся и с этим. Скажем, человек грустит из-за своей любви. Тут появля-
емся мы или его папа с мамой, и грусти больше нет... Сумеем ли мы остановить
войны? По крайней мере, притормозить их мы точно сможем! Внезапно солдаты
обеих сторон начинают трахаться, а если доза небольшая - становятся лучшими
друзьями». Забавно, не правда ли? Читая эти строки, мы улыбаемся. Но есть и
классические научно-фантастические антиутопии, в которых эмоциями манипулиру-
ют, и границы между реальностью и искусственными чувствами размываются.
Однако американцы и сейчас с энтузиазмом регулируют процессы в своем мозге.
Согласно данным Центра по контролю и предотвращению заболеваний, примерно
один из десяти американцев принимает антидепрессанты. Студенты без опаски и с
пользой для себя принимают риталин, помогающий сосредоточиться на учебе.
Сменные рабочие, пилоты, водители грузовиков и даже ученые употребляют мода-
финил - лекарство, позволяющее подолгу не спать, чтобы можно было продолжать
работать. Мы уже не говорим о курильщиках марихуаны, кокаинистах, любителях
бурбона, курильщиках или людях, помешанных на кофеине. Мы используем эти ве-
щества по самым разным причинам, в том числе для того, чтобы справиться с лю-
бовью (хотим ли мы ее и не имеем, имеем ли, но не хотим, или пытаемся пере-
жить ее потерю). Многие употребляют вещества, особенно алкоголь, чтобы повы-
сить качество социального опыта. Молодые рейверы и любители вечеринок упот-
ребляют метилендиоксиметамфетамин, более известный как экстази, дающий им
чувство сопричастности и дружбы с теми, кто танцует рядом со светящимися па-
лочками в руках. Отчасти экстази действительно это делает, поскольку стимули-
рует высвобождение окситоцина и дофамина.
В 2009 году Ларри написал эссе для журнала Nature , где высказал идею, о
которой мы здесь говорили: любовь - это качество, возникающее как результат
серии химических реакций в мозге. У обозревателя New York Times Джона Тирни
это эссе породило идею о возможной «вакцине любви» для тех, кто только что
развелся или кто влюблен в человека, не способного или не желающего подарить
ответную любовь. Статью перепечатывали в СМИ по всему миру. После этого Ларри
получил письмо от жителя Найроби: «Я очень прошу, скажите, как получить эту
вакцину для будущего применения. Надеюсь, вы объясните мне это и, если воз-
можно, вышлете ее». Человек так воодушевился, что написал второе письмо: «Ес-
ли есть подобное лекарство, я бы хотел получить несколько доз». А разве мы
все не хотели бы? Кто из нас не испытывал безответной любви или боли, если
любовь оканчивалась крахом? Кому не хотелось бы сделать укол, способный изба-
вить от душевных страданий? Бедняга из Найроби и те, кто покупает «Лосьон До-
верия», действительно хотят управлять своими и чужими эмоциями. На протяжении
тысячелетий этим занимались ведьмы, создатели приворотных зелий и продавцы
фальшивых афродизиаков. Всегда найдутся люди, которые чувствуют одно, а хоте-
ли бы чувствовать другое.
В Индии, где окситоцин часто используют для коров, чтобы увеличить удои, и
даже для улучшения внешнего вида овощей, пресса пристально следит за социаль-
ными экспериментами над привязанностью, отчасти потому, что браки нередко
устраиваются родителями, а не влюбленными. Если бы лекарство могло разжигать
страсть, его бы использовали многие пары, долго живущие вместе. Если механиз-
мами, которые мы обсуждали в этой публикации, станет возможно управлять (а мы
полагаем, что к этому все идет), ими будут управлять. Но это не сделает лю-
бовь менее реальной. Цветочная, ювелирная, винная и парфюмерная индустрии су-
ществуют благодаря нашей вере в то, что подобные манипуляции не только воз-
можны, но и желательны. Наше общество уже решило, что использовать лекарства
для влияния на личность нормально, и нет смысла это отрицать.
Обычно мы не ощущаем, что наши эмоции, вызванные искусственным изменением
поведения, менее «реальны», чем возникшие естественным путем. Мы всегда мани-
пулируем другими, а другие манипулируют нами. Любовь, пробужденная лекарст-
вом, не будет отличаться от любви, пробужденной бокалом мартини, умным разго-
вором или хорошим сексом. Эмоция останется той же самой. Если кто-то принима-
ет концепцию любви Ларри, ему неважно, что конкретно запускает механизмы моз-
га. Запуск этих цепей - вот что имеет значение. Какой бы способ мы ни исполь-
зовали, мы будем вести себя так, словно сделали произвольный выбор. Любовь,
запущенная лекарством, все равно останется любовью, подлинной и настоящей, по
крайней мере, такой же подлинной и настоящей, как и любая другая.
У нас может быть точная информация о том, как на процессы в нашем мозге
влияют любовь, желание и пол, однако мы все равно изобретаем смыслы, чтобы
лучше верить в это знание. Нас все так же радуют влюбленность и восторг, и
все так же печалит грусть. Но зато теперь у нас есть шанс желать большего и
лучше понимать, что мы делаем. У нас есть возможность покончить с невежеством
и предубеждениями, осознать силу механизма любви и попытаться, пусть иногда и
тщетно, оградить себя от безрассудства. Есть люди, не верящие в Бога или в
жизнь после смерти, но ведущие нравственную жизнь, способные ставить и пре-
следовать цели, несмотря на свою уверенность, что никакое высшее существо не
собирается их за это вознаграждать. А мы придумываем себе историю о встрече с
человеком, которого полюбим, о том, как впервые увидим лицо своего ребенка, о
бурном удовольствии от нашего сексуального пробуждения. Конечно, кто-то будет
осознанно и злонамеренно использовать новое знание - в любой бочке меда есть
ложка дегтя.
О гипотезе любви, привязанности и желания, которой посвящена эта публика-
ция , Вольпе говорит: «Давайте предположим, что Ларри прав на сто процентов.
Допустим, я верю в это до мозга костей. И что тогда? Как это изменит мое по-
ведение? Что я буду чувствовать по отношению к своей жене и детям?» Ничего
это не изменит и не должно изменить. У Вольпе, его жены и детей есть свой
миф, своя история, которую они создают на основе совместного опыта семейной
любви. Даже Ларри, целыми днями думающий о любви и привязанности в терминах
биохимических реакций, происходящих в определенных цепях мозга, испытывает
любовь к своей жене и детям, которая не уменьшается из-за его редукционист-
ской точки зрения.
То же самое происходит, когда мы смотрим фильмы. Кто видел «Гордость янки»,
историю Лу Герига, и ни разу не заплакал? Мы знаем, что режиссер, актеры и
сценарист манипулируют нами, но все равно обнажаем свои эмоции. Нам нужна ис-
тория, потому что она дает урок смелости, достоинства и, разумеется, любви.
Как только в нас просыпается сексуальное желание, мы начинаем выдумывать при-
чины, объясняющие ускоренное сердцебиение и пульсацию в паху. Сьюзен из Мин-
несоты продолжит флиртовать. Даже осознав это и сумев разобрать по кирпичикам
всю нейрохимию процесса, она начнет рассказывать себе другую историю о том,
почему это делает.
Конечно, любовь может привести и к трагическому финалу, как нередко бывает,
но мы и здесь придумываем себе историю. Возможно, новая наука сумеет сгладить
некоторые из самых опасных и патологических проявлений несчастной или обману-
той любви.
Нам придется пересмотреть представления, с которыми мы живем уже много ве-
ков . Однако у тех, кому общество до сих пор отказывало в полноценном членстве
из-за особенностей их биологии, из предубеждений, появится возможность всту-
пить в его ряды. Мы сможем переосмыслить правила человеческих отношений, на
которые, как нам теперь известно, сильно влияет работа химических веществ в
нейронных цепях, идущая без участия нашего сознания. Нам придется спросить
себя: всегда ли правильно то, что естественно? Если нет, мы должны будем ре-
шить , как и когда накладывать ограничения.
Новая социальная нейробиология вынуждает нас задавать эти вопросы, но она
же способна помочь найти ответы. Она может дать материал для более крепкого
остова человеческой культуры. Если мы собираемся избежать воплощения мрачных
перспектив, открывшихся нам в нашем сегодня, нам следует очень внимательно
относиться к тому, что мы себе рассказываем. И тогда любовь никогда не падет
со своего пьедестала.
ПОМУТНЕНИЕ
Филип К. Дик
Глава 1
Жил на свете парень, который целыми днями вытряхивал из волос букашек. Тер-
пя от них неслыханные мучения, он простоял как-то восемь часов под горячим
душем — и все равно букашки оставались в волосах и вообще на всем теле. Через
месяц букашки завелись в легких.
Не в силах ничего другого делать и ни о чем другом думать, он начал иссле-
дования жизненного цикла букашек и с помощью энциклопедии попытался опреде-
лить , какой конкретно тип букашек его одолевает. К этому времени букашки за-
полонили весь дом. Он проработал массу литературы и, наконец, решил, что име-
ет дело с тлей. И с тех пор не сомневался в своем выводе, несмотря на утвер-
ждения знакомых: мол, тля не кусает людей...
Бесконечные укусы превратили его жизнь в пытку. В магазине «7—11», одной из
точек бакалейно-гастрономической сети, раскинутой почти по всей Калифорнии,
он купил аэрозоли «Рейд», «Черный флаг» и «Двор на замке». Сперва опрыскал
дом, затем себя. «Двор на замке» подействовал лучше всего.
В процессе теоретических поисков тот парень выделил три стадии развития бу-
кашек. Во-первых, они были с целью заражения занесены к нему теми, кого он
называл «людьми-носителями». Последние не осознавали своей роли в распростра-
нении букашек. На этой стадии букашки не обладали челюстями, или мандибулами
(он познакомился с этим словом в результате многонедельных академических изы-
сканий — весьма необычное занятие для парня, работавшего в мастерской «Тормо-
за и покрышки» на смене тормозных колодок). Люди-носители, таким образом, не
испытывали неприятных ощущений.
У него появилась привычка сидеть в углу своей гостиной и с улыбкой наблю-
дать за входящими людьми-носителями, кишащими тлей в данной «некусательной»
стадии.
— Ты чего скалишься, Джерри? — спрашивали они.
А он просто улыбался.
На следующей стадии букашки отращивали крылья или что-то типа того, в об-
щем, какие-то специальные отростки, которые позволяли тлям роиться — таким
способом они распространялись, попадая на других людей, особенно на Джерри.
Теперь эти твари так и клубились в воздухе — в гостиной и во всем доме. Джер-
ри старался не вдыхать их.
Больше всего ему было жаль собаку: он видел, как зловредные насекомые са-
дятся на нее, покрывая сплошным ковром, — и тоже наверняка попадают в легкие.
Джерри чувствовал, что бедный пес страдает не меньше его самого. Может, от-
дать его кому-нибудь, чтобы не мучился? Нет, решил он, нет смысла, собака все
равно заражена, и букашки останутся при ней.
Иногда он брал собаку под душ, стараясь отмыть и ее. Но душ не приносил об-
легчения. У Джерри сердце разрывалось от мук животного, и он повторял попытки
снова и снова. Пожалуй, это было самое тяжелое — страдания бессловесной тва-
ри.
— Какого черта ты торчишь под душем с чертовой собакой? — спросил однажды
Чарлз Фрек, приятель Джерри, застав его за этим занятием.
— Я должен извести тлей, — ответил Джерри, вынося Макса из душа и доставая
полотенце. Чарлз Фрек изумленно смотрел, как он втирает в шерсть пса детский
крем и тальк.
По всему дому валялись баллончики аэрозолей, бутылки талька и банки крема.
Большей частью пустые — каждый день их требовалось невероятное количество.
— Я не вижу никаких тлей, — заметил Чарлз. — Какая такая тля?
— В конце концов, она тебя прикончит, — мрачно буркнул Джерри. — Вот что
такое тля. Ее полно в моих волосах, и на коже, и в легких. Боль невыносимая —
мне, наверное, придется лечь в больницу.
— Как же это я их не вижу?
Джерри отпустил собаку, закутанную в полотенце, и встал на колени перед
ворсистым ковриком.
— Сейчас покажу, — пообещал он.
Коврик кишел букашками: они повсюду скакали и прыгали — вверх-вниз, вверх-
вниз , одни повыше, другие пониже. Джерри искал самую крупную особь, так как
его гости почему-то с трудом могли их рассмотреть.
— Принеси мне бутылку или банку. Там, под раковиной. Потом я отволоку их
доктору для анализа.
Чарлз Фрек принес банку из-под майонеза. Джерри продолжал поиски, и, нако-
нец, ему попалась тля длиной в дюйм, подпрыгивающая, по крайней мере, на че-
тыре фута. Он поймал ее, бережно опустил в банку, завернул крышку и торжест-
вующе спросил:
— Видишь?!
— У-у-у, — протянул Чарлз Фрек, широко раскрыв глаза. — Ну, здоровая...
— Помоги мне отловить еще, для доктора, — попросил Джерри.
— Само собой, — сказал Чарлз и тоже опустился на колени.
За полчаса они набрали три полные банки букашек. Фрек, хоть и новичок в та-
ких делах, поймал, пожалуй, самых крупных.
Все это происходило в июне 1994 года, в Калифорнии, в одном из дешевых, но
пока не покосившихся домов из пластика, давным-давно брошенных добропорядоч-
ными. Джерри еще раньше покрыл окна металлической краской — чтобы не проникал
солнечный свет. Комнату освещали горящие круглосуточно яркие лампы. Ему это
нравилось: он не любил следить за ходом времени. Так можно было сосредото-
читься на важных делах, не боясь, что тебе помешают. Например, ползать сколь-
ко угодно на коленях по ковру, наполняя букашками банку за банкой.
— А что мы получим? — спросил Чарлз Фрек. — В смысле, за них положена пре-
мия или как? Док отвалит монету?
— Мой долг — найти способ лечения, — сказал Джерри.
Боль, не ослабевавшая ни на минуту, становилась невыносимой — он так и не
привык к ней и знал, что никогда не привыкнет. Его охватило непреодолимое же-
лание снова принять душ.
— Слушай, друг, — выдохнул Джерри, разгибая спину. — Ты продолжай, а мне
надо отлить. И вообще. — Он двинулся в ванную.
— Ладно. — Чарлз неловко повернулся, стоя на коленях, покачнулся, но не вы-
пустил очередную тлю из рук и затолкал ее в банку — координация у него пока
еще была неплохая. А потом добавил неожиданно: — Джерри, эти букашки... мне от
них как-то не по себе. Я не хочу оставаться здесь один. — Он поднялся на но-
ги.
— Трусливый ублюдок, — задыхаясь от боли, выдавил Джерри, остановившись на
секунду на пороге ванной.
— А ты не мог бы...
— Я должен отлить! — Он захлопнул дверь и крутанул кран.
— Мне страшно! — в панике завопил Чарлз Фрек. Его голос был едва слышен из-
за шума воды.
— Тогда пошел на хрен! — заорал Джерри и ступил под душ. На кой черт нужны
друзья, с горечью подумал он. Какой в них смысл?
— Эти сволочи кусаются? — закричал под дверью Чарлз.
— Да! — ответил Джерри, втирая в волосы шампунь.
— Я так и думал. — Он помолчал. — Можно я помою руки, выйду с банками на
улицу и подожду тебя снаружи?
Дрянь паршивая, с горькой яростью подумал Джерри, но не ответил, а продол-
жал мыться. Ублюдок не заслуживал ответа... К черту Чарлза Фрека, надо зани-
маться собой, своими собственными проблемами — огромными, смертельными, неот-
ложными . Все остальное подождет. Скорее, скорее, откладывать нельзя! Все ос-
тальное не важно. Вот только собака... как быть с Максом...
Чарлз Фрек позвонил одному типу, у которого, как он надеялся, мог быть за-
пас.
— Можешь дать мне десяток смертей?
— Да у меня хоть шаром покати, самому позарез нужно. Ты свистни, если на-
бредешь на что-нибудь.
— А что с поставками?
— Не знаю, может, накрыли.
Чарлз повесил трубку и по пути от телефонной будки — никогда не делай заку-
почных звонков из дома — до машины быстро прокрутил один глюк. В этой фанта-
зии он ехал мимо дешевой аптеки Трифти и увидел колоссальную витрину: бутылки
медленной смерти, банки медленной смерти, склянки, и канистры, и бидоны, и
цистерны медленной смерти, миллионы таблеток, и капсул, и доз медленной смер-
ти, медленной смерти, смешанной с «рапидами»1, и барбитуратами, и психодели-
ками2, - и гигантская вывеска: НИЗКИЕ-НИЗКИЕ ЦЕНЫ, САМЫЕ НИЗКИЕ В ГОРОДЕ.
На самом деле в витрине Трифти никогда ничего не было, только разные гре-
бешки , кремы, дезодоранты и прочая дрянь. Но готов поспорить, думал Чарлз,
выезжая со стоянки на Портовом бульваре и вливаясь в послеобеденный поток,
что там, в кладовке, под семью замками, лежит медленная смерть — чистая, ни с
чем не смешанная... Пятидесятифунтовый мешок.
Любопытно, когда и как доставляют пятидесятифунтовые мешки препарата «С»...
Бог знает, откуда — может, из Швейцарии, а может, вовсе с другой планеты, где
у ребят башка варит... Должно быть, привозят товар рано поутру — с охраной зло-
вещего вида, вооруженной лазерными винтовками. Только попробуй посягнуть на
мою медленную смерть, подумал он, представив себя на месте охранника, и я те-
бя испепелю.
А что, ведь препарат «С» запросто может входить в состав любого разрешенно-
го лекарства! Если, конечно, оно чего-нибудь стоит... Щепотка здесь, щепотка
там — по секретной эксклюзивной формуле, которую изобрели где-нибудь в Герма-
нии или Швейцарии. Хотя все это чушь, конечно, — власти хватали любого, кто
продавал, перевозил или глотал препарат «С», — так что аптеку Трифти, да и
вообще все аптеки давно бы уже тогда разбомбили, выкинули из бизнеса или хотя
бы оштрафовали. Скорее только оштрафовали бы: у них наверняка есть лапа где
надо. С целой сетью больших аптек не так-то просто справиться.
В общем, ничего там нет, кроме обычного хлама.
На Чарлза напала хандра: в его загашнике осталось всего триста таблеток
медленной смерти. Зарыты на заднем дворе, под камелией, той самой, гибридной,
с шикарными крупными цветами, которые не боятся жаркого солнца. Только не-
дельный запас, подумал он с тревогой. А что потом, когда они закончатся?
Черт!
А что будет, если запас кончится у всех в Калифорнии и Орегоне? В один и
тот же день, опаньки!.. Самый крутой глюк-ужастик, какой только мог приви-
деться наркоману. У всех в западной части Соединенных Штатов одновременно
кончается запас, часов этак в шесть утра в воскресенье, когда добропорядочные
еще только одеваются, чтобы идти в свою долбаную церковь. Картина маслом:
Первая епископальная церковь в Пасадене, восемь тридцать утра, воскресенье
Всеобщей Ломки.
— Возлюбленные прихожане, вознесем молитву к Господу, дабы облегчил Он муки
тех, кто бьется на своих постелях в ожидании дозы!
— Аминь! — Все становятся на колени.
— Но прежде чем Он явится с новым запасом...
Черно-белые3 что-то явно заподозрили. Они выехали со стоянки и держались
рядом, пока без мигалки и сирены, но... Может, я виляю или еще что, подумал он.
Распроклятые легавые меня засекли. Хотел бы я знать, что им не понравилось.
Коп:
— Фамилия?
— Фамилия? (Никак не приходит в голову!..)
— Не знаешь собственной фамилии? — Коп подмигивает своему напарнику. — Этот
парень совсем забалдел.
— Не расстреливайте меня здесь! — взмолился Чарлз Фрек в своем глюке, вы-
1 Наркотик из группы стимуляторов (жарг.).
2 Психоделические наркотики.
3 Цвет полицейской машины.
званном видом черно-белой машины. — По крайней мере, отвезите меня в участок
и расстреляйте там, подальше от глаз!
Чтобы выжить в этом фашистском полицейском государстве, подумал он, надо
всегда знать фамилию, свою фамилию. При любых обстоятельствах. Первый при-
знак, по которому они судят, что ты наширялся, — если не можешь сообразить,
кто ты, черт побери, такой!
Вот что, решил Чарлз, подъеду-ка я к первой же стоянке, сам подъеду, не до-
жидаясь , пока начнут сигналить, а когда они остановятся, скажу, что у меня
поломка.
Им это дико нравится. Когда ты отчаиваешься и сдаешься. Валишься на землю,
словно выдохшаяся зверюга, и подставляешь свое беззащитное брюхо. Так я и
сделаю.
Так он и сделал. Принял вправо и остановился у тротуара, вплотную к бордю-
ру.
Патруль проехал мимо.
Зря это я, в такой поток машин трудновато будет опять вписаться. Чарлз вы-
ключил зажигание. Посижу-ка я так, решил он, дам волю альфа-волнам, поброжу
по разным уровням сознания. Или понаблюдаю за девочками. Изобрели бы биоскоп
для возбужденных. К черту альфа — секс-волны! Сперва коро-о-тенькие, потом
длиннее, длиннее, длиннее... пока не зашкалит.
Впрочем, все это ерунда... Главное — найти кого-нибудь, у кого есть таблетки.
Надо пополнить запас, не то я скоро полезу на стену. И вообще ничего не смогу
делать. Даже сидеть вот так. Не только забуду, кто я такой, но и где я и что
происходит.
Что происходит, спросил он себя. Какой сегодня день? Если б знать, какой
день, все было бы нормально... Постепенно пришло бы и остальное.
Среда, деловая часть Лос-Анджелеса. Впереди — один из тех гигантских торго-
вых центров, окруженных стеной, от которой отскакиваешь, словно резиновый мя-
чик, если у тебя нет кредитной карточки и ты не можешь пройти в электронные
ворота. Карточки, разумеется, Чарлз не имел и потому знал, на что похожи ма-
газины там, внутри, только по рассказам. Наверное, там есть все на свете, хо-
рошие вещи — для добропорядочных, в основном для их жен. Вооруженные охранни-
ки стояли у ворот и проверяли каждого, кто шел с карточкой, — не украдена ли
она, не куплена ли с рук, не подделана ли. Толпы людей входили и выходили,
но, рассудил Чарлз, большинство наверняка шли просто поглазеть на витрины. Не
может такого быть, чтобы столько народу имели монету или им приперло покупать
что-то в это время... Еще рано, всего третий час. Вот вечером — другое дело.
Все витрины залиты светом. Он не раз видел этот свет снаружи, настоящую раду-
гу разноцветных огней — парк развлечений для великовозрастных детишек.
Магазины по эту сторону ворот, где не требовалась кредитная карточка, и не
было вооруженной охраны, ничего особенного собой не представляли. Только са-
мое необходимое: обувь, телевизоры, булочная, мелкий ремонт, прачечная. Де-
вушка в короткой синтетической курточке и обтягивающих брюках бродила от лав-
ки к лавке. Волосы классные, но лица не видно — непонятно, хорошенькая или
нет. Фигурка ничего себе. Вот она задержалась у витрины с кожаными вещами,
достала кошелек и стала вглядываться в него, напряженно что-то высчитывая.
Сейчас войдет и попросит что-то показать, подумал Чарлз. Так и есть — впорх-
нула в магазин.
Мимо прошла другая девушка — в легкой блузочке, на высоких каблуках, волосы
серебристые, вся наштукатурена. Хочет выглядеть постарше, отметил он. Еще,
небось, школу не окончила. После нее не было ничего стоящего, и Чарлз снял
резинку, закрывающую «бардачок», достал пачку сигарет и настроился на стан-
цию, передававшую рок. Раньше у него был кассетник, но однажды, изрядно на-
грузившись , он оставил его в машине. Естественно, когда вернулся, того и в
помине не было. Сперли. Вот к чему приводит безалаберность. Осталось только
паршивое радио. Когда-нибудь и его стянут. Ничего, можно достать другое, по-
держанное, практически «за так». Да и все равно машине пора на слом — масло-
съемные кольца ни к черту, компрессия упала. Очевидно, запорол двигатель —
прогорели клапаны, — когда гнал по шоссе домой с полным грузом травки. Под
кайфом он порой начинал психовать — не из-за копов, а потому что боялся, что
грабанет кто-нибудь из своих. Какой-нибудь вконец ошизевший торчок, которого
ломает.
Проплыла девушка, невольно обращавшая на себя внимание. Черные волосы, хо-
рошенькое личико, открытая рубашка и застиранные белые брючки. Э, да я ее
знаю, подумал Чарлз. Это Донна, подружка Боба Арктора.
Он вылез из машины. Девушка окинула его взглядом и зашагала дальше. Чарлз
пошел за ней. Наверное, решила, что я хочу ее потискать, подумал он, пробира-
ясь сквозь толпу. Ничего себе шлепает, уже едва видно. Оглянулась. Лицо уве-
ренное, спокойное... Большие глаза, взгляд оценивающий. Прикидывает, догоню ли.
Если не поспешу, то вряд ли — ходит она неплохо.
На углу толпа встала перед светофором — машины бешеным потоком выворачивали
справа. Однако девушка продолжала идти, быстро и с достоинством лавируя между
ними. Водители смотрели на нее с возмущением, но она никак не реагировала.
Дождавшись сигнала «идите», Чарлз нагнал ее и окликнул:
— Донна!
Она не замедлила шага.
— Разве ты не подружка Боба? — спросил он, забежав вперед, чтобы заглянуть
ей в лицо.
— Нет, — отрезала девушка. — Нет. — И пошла прямо на него, а Чарлз попятил-
ся и отступил, потому что в ее руке появился короткий нож, нацеленный ему
прямо в живот.
— Пошел вон, — сказала она, продолжая двигаться вперед без тени колебания.
— Это же ты, я тебя видел... — растерялся Чарлз.
Нож был едва заметен, блестела лишь узкая полоска лезвия, но он знал: это
нож. Она запросто пырнет его и пойдет дальше. Чарлз попятился, возмущенно пы-
таясь объясниться, и отошел в сторону, а девушка зашагала дальше, не говоря
ни слова.
— Черт! — пробормотал он, глядя ей в спину.
Точно Донна. Она просто сразу не въехала. Испугалась, наверное, подумала,
что он станет приставать. Надо быть поосторожней, когда подходишь на улице к
незнакомке, — они все теперь хорошо подготовлены. Через многое прошли... Дерь-
мовый ножичек. Девушке не стоит такой носить — любой парень спокойно может
вывернуть ей запястье и направить нож на нее. И я бы мог, если бы в самом де-
ле ее хотел, подумал Фрек, раздраженно стиснув зубы. Я точно знаю — это она,
Донна.
Возвращаясь к машине, Чарлз заметил, что девушка остановилась, сразу выде-
лившись из толпы пешеходов, и молча смотрит на него.
Он осторожно приблизился.
— Как-то ночью, — начал он, — я, Боб и еще одна цыпочка слушали старые за-
писи Саймона и Гарфункеля, а ты...
...Она тогда набивала капсулы высококлассной смертью. Эль Примо. Нумеро Уно.
Смерть. Потом раздала по дозе каждому, и мы закинулись, все вместе — все,
кроме нее. «Я только продаю, — объяснила она. — Если я начну глотать их сама,
то проем весь доход».
— Я думала, что ты собираешься сбить меня с ног и трахнуть, — сказала де-
вушка.
— Нет, просто хотел подвезти... Прямо на дороге? — спросил Чарлз ошарашено. —
Среди бела дня?
— Ну, может, в подъезде. Или затащишь в машину...
— Но ведь мы с тобой знакомы! — возмутился он. — Да и Арктор меня бы просто
пришил.
— Я тебя не узнала. — Она сделала шаг вперед. — Я близорука.
— Надо носить линзы, — посоветовал Чарлз.
У нее очаровательные большие, темные, теплые глаза, подумал он. Значит, она
не сидит на игле.
— Были у меня линзы. Но как-то раз на вечеринке одна упала в чашу с пуншем.
Пунш с кислоткой. Упала на самое дно; кто-то, наверное, зачерпнул ее и про-
глотил . Надеюсь, бедолага словил кайф — линза обошлась мне в тридцать пять
баксов.
— Так что, подбросить тебя?
— Ты меня трахнешь в машине.
— Нет, — сказал Чарлз. — Не смогу — у меня в последнее время проблемы. На-
верное, что-то подмешивают в травку. Какую-то химию.
— Ловко придумано. Однако меня не проведешь. Все меня трахают, — призналась
она. — Во всяком случае, пытаются. Такова наша доля. Я сейчас сужусь с одним
парнем. За сексуальное домогательство. Хочу получить возмещение ущерба в со-
рок тысяч.
— А как далеко он зашел?
— Схватил меня за грудь.
— За сорок-то тысяч?..
Они направились к машине.
— у тебя есть что-нибудь на продажу? — спросил Чарлз. — Дела совсем парши-
вые . Я на нуле, практически на полном нуле. Взял бы даже несколько штук, если
поделишься.
— Попробую достать.
— Только закидывать — я не ширяюсь.
— Ладно, — задумчиво произнесла Донна, опустив голову. — Но сейчас их труд-
но достать — почти все вышли. Ты, наверное, заметил. Много не смогу, хотя...
— Когда? — нетерпеливо прервал ее Чарлз. Они подошли к машине, он открыл
дверцу и сел. Донна села с другой стороны, рядом с ним.
— Послезавтра, если свяжусь с одним парнем.
Черт, подумал он. Послезавтра.
— А раньше никак? Может, сегодня вечером получится?
— Не раньше, чем завтра.
— И почем?
— Шестьдесят за сотню.
— Ничего себе, — скривился Чарлз. — Обдираловка.
— Вещь — суперкласс. Я брала у него раньше. Совсем не то, к чему ты привык.
Можешь мне поверить — они того стоят. Я вообще брала бы только у него, если
бы могла, да у него не всегда есть. Понимаешь, он только что вернулся с юга и
выбирал товар сам, так что качество отличное. И не нужно ничего платить впе-
ред, деньги потом, когда все будет у меня. Я тебе верю.
— Я никогда не плачу вперед.
— Иногда приходится.
— Ну ладно. Можешь достать хотя бы сотню? — Чарлз попытался быстро прики-
нуть , сколько он сумеет реально купить — за два дня, пожалуй, удастся найти
сто двадцать баксов и взять у нее две сотни. А если тем временем подвернется
что-нибудь повыгодней у других поставщиков, то о ней можно и забыть. Вот по-
чему хорошо не выкладывать монету вперед.
— Тебе еще повезло, — добавила Донна, когда Чарлз завел двигатель и выехал
на дорогу, — через час я должна встретиться с одним типом, и он, наверное,
взял бы все, что я раздобуду, — тогда бы тебе не повезло. Твой счастливый
день.
Она улыбнулась, и Чарлз улыбнулся в ответ.
— Хорошо бы поскорее.
— Постараюсь... — Донна открыла сумочку и вытащила маленькую записную книжку
и ручку. — Как мне с тобой связаться? Да, кстати, я забыла, как тебя зовут?
— Чарлз Б. Фрек.
Он продиктовал ей номер телефона — не своего, разумеется, а одного друга из
добропорядочных, который передавал ему подобные послания, — и она тщательно
записала его. С каким трудом она пишет, еле царапает... И чему только их учат в
школе! Почти неграмотные все. Зато хорошенькая. Едва умеет читать и писать?
Плевать! Что у телки важно, так это красивые сиськи.
— Я тебя, кажется, припоминаю, — сказала Донна. — Кажется. Я вообще не
очень помню тот вечер, я тогда в стороне держалась. Помню только, как набива-
ла порошок в маленькие капсулы от либриума. Я еще просыпала часть на пол. —
Она задумчиво посмотрела на него. — А ты вроде парень ничего. Будешь потом
брать еще?
— Спрашиваешь, — ответил Чарлз Фрек, прикидывая, как бы успеть найти товар
подешевле. В любом случае дело в шляпе. Счастье, подумал он, это знать, что у
тебя есть травка.
Людские толпы, солнечный свет и вся дневная суета скользили мимо него, не
касаясь, — он был счастлив.
Паршивые копы вдруг сели ему на хвост — и посмотрите, как повезло! Совер-
шенно неожиданный новый источник препарата «С»! Что еще нужно человеку? Те-
перь можно смело рассчитывать на две недели — почти полмесяца жизни. Две не-
дели! .. Его сердце возликовало, и Чарлз на мгновение ощутил дурманящий аромат
весны, врывающийся в окна машины.
— Поедешь со мной к Джерри Фабину? Я отвожу ему шмотки в федеральную клини-
ку номер три, его забрали вчера ночью. Беру понемногу, а то вдруг его выпишут
и придется переть все назад.
— Лучше мне с ним не встречаться, — сказала Донна.
— Ты его знаешь? Джерри Фабина?
— Джерри думает, что именно я заразила его букашками.
— Тлей.
— Тогда он не знал, что это тля... Лучше мне не лезть — в прошлый раз он как
с цепи сорвался. Все дело в рецепторных зонах мозга — по крайней мере я так
думаю. И в правительственных бюллетенях так объясняют.
— Это лечится?
— Нет.
— В клинике обещали свидание. Говорят, что он, пожалуй, мог бы... — Чарлз по-
вел рукой. — Ну, не то чтобы... — Он снова сделал жест рукой — ему трудно было
сказать такое о своем друге.
Донна бросила на него подозрительный взгляд.
— Уж не поврежден ли у тебя речевой центр? В твоей... как там ее... затылочной
доле.
— Нет, — ответил Чарлз энергично.
— А вообще какие-нибудь повреждения? — Она постучала себя по голове.
— Нет. Просто, понимаешь, ненавижу эти чертовы клиники... Однажды я навещал
парня... Он пытался натирать пол... то есть, я имею в виду, он просто не мог по-
нять , как это делается... Что меня достало, так это то, что он все равно ста-
рался. Не просто час или два; через месяц, когда я опять пришел, он все еще
пытался, снова и снова, так же, как и в первый раз, когда я его видел. Никак
не мог взять в толк, почему у него не получается. Я помню его лицо: он был
уверен, что сделает все правильно, если поймет, наконец, в чем его ошибка. И
постоянно спрашивал: «Что я делаю не так?» А объяснить ему ничего было нель-
зя, то есть они там объясняли, и я объяснял, а он никак не мох1 понять.
— Я читала, что рецепторные зоны в мозгу обычно отказывают раньше всего, —
спокойно проговорила Донна, разглядывая соседние машины. — Смотри, впереди
один из тех новых «порше» с двумя двигателями! — Она возбужденно указала
пальцем. — Ух, ты!
— Я знал парня, угнавшего такой «порше», — сказал Чарлз. — Вывел машину на
Риверсайд, разогнался до семидесяти пяти — и в лепешку. Въехал прямо в какой-
то трейлер. Думаю, он его и не заметил.
У него немедленно пошел глюк: он сам за рулем «порше», но трейлеры замеча-
ет , замечает вообще все на свете. И все на шоссе — Риверсайд в час пик, —
безусловно, замечают его: такой стройный, широкоплечий, неотразимый чувак в
новеньком «порше», делающем двести миль в час, — и полицейские беспомощно ра-
зевают вслед рты.
— Ты дрожишь, — сказала Донна и опустила руку на его локоть. Какая нежная
рука — прямо мурашки по коже. — Притормози.
— Я устал, — пожаловался Чарлз. — Две ночи и два дня считал букашек. Считал
и засовывал в банки. А когда мы на следующее утро понесли их в машину, чтобы
показать доктору, там ничего не оказалось. Пустые банки. — Теперь он сам по-
чувствовал свою дрожь, заметил, как трясутся руки на руле. — Ничего ни в од-
ной чертовой банке. Никаких букашек. И тогда я понял, я понял, черт побери!..
До меня дошло: Джерри испекся. Ошизел.
Воздух больше не пах весной. Мучительно потянуло принять дозу препарата
«С». К счастью, у него был еще небольшой походный запас в «бардачке», и он
стал искать парковку, чтобы остановиться.
— Ты и сам хорош, — сказала Донна. Голос девушки звучал отстранено, она как
будто ушла в себя. Наверно, ее достала его дурацкая езда. Скорее всего.
У него вдруг пошел новый глюк. Перед глазами возник большой припаркованный
«понтиак», стоявший задним мостом на домкрате. Домкрат опасно накренился;
длинноволосый мальчишка лет тринадцати, взывая о помощи, пытался удержать ма-
шину. Они с Джерри Фабином выбежали из дома. Чарлз схватился за дверцу со
стороны водителя, пытаясь открыть ее, чтобы поставить на тормоз, а Джерри — в
одних брюках и босиком, со спутанной после сна шевелюрой — обежал машину и
голым белым плечом, никогда не видевшим солнца, сшиб мальчишку, откинув его в
сторону. Домкрат наклонился еще больше, и машина упала задом на землю. Маль-
чишку не задело.
— Слишком поздно было тормозить, — выдохнул Джерри, пытаясь откинуть заса-
ленные волосы с глаз и часто мигая. — Не успели бы.
— Он в порядке? — крикнул Чарлз Фрек. Сердце его бешено колотилось.
— Да. — Джерри стоял рядом с мальчиком, пытаясь отдышаться. — Черт! — яро-
стно заорал он. — Я же говорил тебе: подожди, сделаем вместе!.. Идиот, когда
домкрат падает, тебе не удержать в руках две тонны веса! — Его лицо искази-
лось от гнева. Парнишка выглядел несчастным и виновато смотрел в землю. — Сто
раз тебе твердил!
— Я хотел нажать на тормоз, — попытался объяснить Чарлз Фрек, прекрасно
сознавая собственную идиотскую ошибку, столь же большую, что и у мальчишки, и
столь же смертельную. Он, взрослый человек, не справился с ситуацией. — Те-
перь я понимаю...
И тут глюк оборвался; это оказалось вполне реальное воспоминание: они тогда
все жили вместе. У Джерри сработал инстинкт — иначе мальчишка валялся бы под
«понтиаком» с перебитым позвоночником.
— Я спал, — пробубнил Джерри уже в уютном сумраке дома. — Первый раз за две
недели букашки дали мне нормально заснуть. Пять дней я вовсе не спал, только
бегал из угла в угол. Я уж было думал, что они совсем ушли из дому, куда-
нибудь к соседям. А теперь я их снова чувствую. Меня снова обманули — десятый
раз. Или одиннадцатый? — Голос Джерри звучал уже спокойнее, не сердито, а
скорее озадаченно. Он протянул руку и дал мальчишке хороший подзатыльник. —
Эх ты, тупица, если домкрат не держит, сразу давай деру! Забудь о машине, да-
же не пытайся удержать ее.
— Но, Джерри, я боялся, что ось...
— К черту ось! К черту машину! Речь идет о твоей жизни. — Все трое прошли
через темную гостиную; глюк-воспоминание о давно прошедшем вспыхнул в послед-
ний раз и погас навеки.
Глава 2
— Достопочтенная публика! Граждане Анахайма! — взвыл человек с микрофоном.
— Сегодня нам представилась удивительная возможность послушать и расспросить
тайного агента Отдела по борьбе с наркоманией!
Он просиял, этот человек в ярко-розовом костюме, широком желтом пластиковом
галстуке и ботинках из искусственной кожи. Чересчур толстый, чересчур старый
и чересчур радостный, хотя радоваться было нечему. Глядя на него, тайный
агент чувствовал тошноту.
— Вы, безусловно, обратили внимание, что наш гость как бы расплывается пе-
ред глазами. Причина в том, что он носит так называемый костюм-болтунью — а
именно, тот самый костюм, который он обязан носить, выполняя свои обязанно-
сти, вернее, большую их часть, в Отделе по борьбе с наркоманией. Позже он сам
объяснит вам зачем.
Публика, как две капли воды отражавшая все черты ведущего, сосредоточенно
обозревала агента в костюме-болтунье.
— Этот человек, которого мы будем называть Фред, ибо таково кодовое имя,
под которым он сообщает собранную информацию, находясь в костюме-болтунье, не
может быть опознан по внешнему виду или голосу. Он похож на расплывчатое пят-
но и ни на что больше, не правда ли, друзья?
Ведущий изобразил лучезарную улыбку. Слушатели, разделяя его чувство юмора,
тоже улыбнулись.
Костюм-болтунья был изобретением некоего сотрудника Лабораторий Белла по
фамилии С. А. Пауэре. Экспериментируя с возбуждающими веществами, действующи-
ми на нервные клетки, как-то ночью Пауэре сделал себе инъекцию препарата IV,
который должен был вызывать лишь легкую эйфорию, и испытал катастрофическое
падение мозговой активности. После чего его субъективному взору на стене
спальни предстали пылающие образы, в коих он тут же узнал произведения абст-
рактной живописи.
На протяжении шести часов С. А. Пауэре зачарованно наблюдал тысячи картин
Пикассо, сменяющих друг друга с фантастической скоростью. Затем он просмотрел
работы Пауля Клее, причем большее количество, чем художник написал за всю
свою жизнь. Когда наступила очередь шедевров Модильяни, С. А. Пауэре пришел к
выводу (а, в конце концов, все явления нуждаются в разъясняющей теории), что
его гипнотизируют розенкрейцеры, используя высокосовершенные микроскопические
передающие системы. Потом, когда его стали изводить Кандинским, он вспомнил о
музее в Петербурге, где хранились как раз такие полотна, и решил, что с ним
пытаются вступить в телепатический контакт русские.
Утром Пауэре выяснил в литературе, что резкое падение мозговой активности
нередко сопровождается цветными видениями, так что дело было вовсе не в теле-
патическом контакте, тем более с помощью микросистем. Однако идея костюма-
болтуньи уже родилась. В основном костюм состоял из многогранных кварцевых
линз, соединенных с микрокомпьютером, который содержал в памяти полтора мил-
лиона закодированных физиономических характеристик разных мужчин, женщин и
детей. Каждую наносекунду компьютер передавал на сверхтонкую мембрану, окру-
жавшую носителя костюма, всевозможные оттенки цвета глаз, волос, формы носа,
расположения зубов, конфигурации лицевых костей и т. д. Чтобы сделать костюм-
болтунью более эффективным, С. А. Пауэре заставил компьютер выбирать последо-
вательность проецируемых образов случайным образом. Кроме того, ему удалось
найти дешевый материал для мембраны — побочный продукт производства одной
промышленной компании, выполнявшей правительственные заказы.
Короче говоря, носитель костюма являлся человеком толпы в полном смысле
слова: в течение каждого часа он приобретал внешность миллиардов различных
людей. Таким образом, любые попытки описать его или ее были совершенно бес-
смысленны и заранее обречены на провал. Нет нужды говорить, что С. А. Пауэре
ввел в банк памяти и свои собственные данные, и захороненный в головоломном
сплетении характеристик лик изобретателя всплывал в каждом костюме на одну
наносекунду... в среднем, как он подсчитал, раз в пятьдесят лет. Это была его
заявка на бессмертие.
— Давайте же послушаем расплывчатое пятно! — громко подытожил ведущий, и
публика захлопала.
Фред, он же Роберт Арктор в костюме-болтунье, простонал и подумал: «Это
ужасно».
Раз в месяц каждый агент по борьбе с наркоманией должен был выступать на
подобном сборище болванов. Сегодня была его очередь. Глядя на публику, он с
новой силой осознал, насколько отвратительны ему добропорядочные. Они в вос-
торге . Их развлекают.
Может быть, как раз в этот момент костюм приобрел внешний облик С. А. Пау-
эрса.
— Впрочем, все это не так уж и смешно, — заявил ведущий. — Наш герой... — Он
замолчал, пытаясь вспомнить имя.
— Фред, — подсказал Боб Арктор. С. А. Фред, усмехнулся он про себя.
— Да-да, Фред. — Ведущий снова оживился и громогласно продолжил: — Как вы
сами можете убедиться, его голос ничем не отличается от механических компью-
терных голосов, которые вы слышите каждый день, заезжая, к примеру, в банк в
Сан-Диего. Именно этим голосом, совершенно безжизненным, лишенным индивиду-
альности и каких-либо отличительных характеристик, Фред делает доклады руко-
водству в Отделе... мм... по борьбе с наркоманией. — Последовала многозначитель-
ная пауза. — Агенты полиции находятся под постоянной смертельной угрозой, по-
скольку, как мы знаем, наркомафия с поразительной ловкостью внедряется в раз-
личные силовые структуры по всей стране, во всяком случае, вполне способна
это делать, согласно нашим ведущим экспертам. И поэтому в целях защиты наших
отважных героев костюм-болтунья совершенно необходим.
Последовали жидкие аплодисменты, адресованные костюму-болтунье. Аудитория
выжидающе уставилась на человека, затаившегося внутри загадочного творения
ученых.
— Но, выполняя свое задание, — добавил ведущий, отодвигаясь от микрофона,
чтобы дать место Фреду, — он, разумеется, не носит этот костюм. Он одевается
как все, вернее, в экстравагантную одежду, принятую у хиппи и прочих нефор-
мальных групп, среди которых вынужден вращаться согласно велению долга.
Фреду — Роберту Арктору — приходилось выступать уже шесть раз, и он пре-
красно знал, что надо говорить и что ему уготовано: бесконечные варианты од-
них и тех же идиотских вопросов и непроницаемая тупость слушателей. Короче,
пустая трата времени плюс раздражение и злость, и всякий раз чувство тщетно-
сти...
— Увидев меня на улице, — сказал он в микрофон, когда стихли аплодисменты,
— вы бы решили: «Вот идет псих, извращенец, наркоман». Вы бы почувствовали
отвращение и отвернулись.
Аудитория затихла.
— Я не похож на вас, — продолжал он. — Я не могу себе позволить быть похо-
жим на вас. От этого зависит моя жизнь.
На самом деле не так уж он от них и отличался. И ту одежду, которую надевал
каждый день, носил бы в любом случае, даже если бы от этого ничего не зависе-
ло — ни жизнь, ни работа. Ему нравилась его одежда. Просто то, что он скажет,
в общих чертах известно заранее. Текст выступления написан руководством и
давно выучен наизусть. Агент мог слегка отклониться, но общая форма была
стандартной. Начальник отдела, старый служака, утвердил ее пару лет назад, и
теперь она воспринималась как священное писание.
Боб Арктор подождал, пока сказанное дойдет до сознания слушателей.
— Я не собираюсь рассказывать вам, чем мне приходится заниматься в качестве
тайного агента, выслеживая распространителей наркотиков и источники нелегаль-
ного товара, продающегося на улицах наших городов и в коридорах учебных заве-
дений. Я хочу рассказать вам о том... — он сделал паузу, как его учили в акаде-
мии на занятиях по психологии, — о том, чего я боюсь.
Это сразило их: все взгляды были прикованы к нему.
— Я боюсь за наших детей. За ваших детей и моих... — Он снова замолчал. — У
меня их двое. — Затем, очень тихо: — Юные, совсем малыши... — И тут же страст-
но , повышая голос: — Но уже достаточно большие, чтобы можно было расчетливо
прививать им пагубную зависимость от наркотиков — ради выгоды тех, кто унич-
тожает наше общество. — Снова пауза. — Мы пока еще не знаем... — более спокой-
ным голосом, — кто эти люди, точнее, звери, которые охотятся на наших детей,
словно обитают в диких джунглях. Кто продает эту мерзость, выжигающую мозг,
которую ежедневно глотают, ежедневно курят и ежедневно вкалывают миллионы
мужчин и женщин — вернее, тех, кто когда-то был мужчиной или женщиной. Мы по-
степенно распутываем этот клубок. И клянусь Богом, рано или поздно распутаем
до конца. Мы их узнаем, всех до единого!
Голос из публики:
— Мы им устроим!
Другой голос:
— Покончим с коммуняками!
Бурные аплодисменты.
Роберт Арктор молчал. Смотрел на них, на этих добропорядочных жирных крети-
нов с их правильными костюмами, правильными галстуками и правильными туфлями
и думал: «Препарат «С» не может выжечь им мозги. У них просто нет мозгов».
— Расскажите нам то, что вы знаете, — раздался более спокойный голос.
Арктор обвел взглядом зал. Пожилая женщина, не столь отвратного вида, как
ее соседи. Она нервно сцепила руки.
— Каждый день эта страшная болезнь вырывает новые жертвы из наших рядов, —
продолжал Фред, то есть Роберт Арктор. — В конце каждого дня деньги текут... —
Он замолчал. И никакая сила не могла заставить его продолжать речь, вызубрен-
ную и тысячи раз повторенную на занятиях.
Все замерли.
— А вообще-то дело не только в наживе. Вы сами видите, что происходит...
Нет, они ничего не видят. Они не замечают, что я отошел от шаблона, говорю
самостоятельно, без помощи суфлеров. Ну и что? Разве их что-нибудь волнует?
Их огромные квартиры охраняют вооруженные наемники, готовые открыть огонь по
любому торчку, который лезет по обнесенной колючей проволокой стене, чтобы
засунуть в пустую наволочку их часы, их бритву, их стереосистему... Он лезет,
чтобы добыть себе косяк: если не добудет, то может просто-напросто сдохнуть
от боли и шока воздержания. Но если ты живешь в роскошном доме и твоя охрана
вооружена — зачем об этом думать?
— Если бы вы страдали диабетом, и у вас не хватало бы денег на укол инсули-
на, что бы вы стали делать? Крали бы? Или просто-напросто сдохли?
Молчание.
В наушниках его костюма-болтуньи зазвучал тонкий голосок:
— Лучше вернитесь к утвержденной речи. Мой вам настоятельный совет.
— Я забыл ее, — сказал Фред, Роберт Арктор, невидимому суфлеру. Он не знал,
кто это — какая-то мелкая шишка из Отдела, курировавшая сегодняшнюю встречу.
— Мм... ладно, — протянул суфлер. — Я буду вам читать. Повторяйте за мной, но
старайтесь, чтобы звучало естественно. — Молчание, шорох страниц. — Так, по-
смотрим... «новые жертвы из наших рядов. В конце каждого дня деньги текут»... Тут
вы остановились.
— Я не могу, меня воротит от этого, — выдавил Арктор.
— «...А куда они текут, мы скоро выясним», — не обращая внимания, продолжал
суфлер. — «Тогда последует возмездие. И в тот момент ничто на свете не иску-
сит меня поменяться с ними местами».
— Знаете, почему я не могу? — спросил Арктор. — Потому что именно от таких
вот вещей люди ищут спасения в наркотиках.
Да, подумал он, вот почему ты сбегаешь и садишься на дозу, сдаешься — из
отвращения.
Но потом он снова посмотрел на публику и понял, что к ним это не относится.
Ничтожества, дебилы. Им нужно все разжевывать, как в первом классе: «А — это
арбуз. Арбуз круглый...»
— «С», — сказал он публике, — это препарат «С». «С» — это бегство, бегство
ваших друзей от вас, вас — от них, всех — друг от друга, это разделение, оди-
ночество , ненависть и взаимные подозрения. «С» — это слабоумие. «С» — это
смерть. Медленная смерть, как называем ее мы... — Он осекся. — Мы, наркоманы...
Он медленно прошел к своему стулу и сел. В тишине.
— Вы провалили встречу, — сказал суфлер-начальник. — Когда вернетесь, зай-
дите ко мне в кабинет. Комната четыреста тридцать.
— Да, — сказал Арктор. — Провалил.
На него смотрели так, словно он только что прямо у них на глазах помочился
на сцену.
Прошествовав к микрофону, ведущий объявил:
— Фред с самого начала хотел провести нашу встречу в форме вопросов и отве-
тов, ограничившись лишь кратким вступительным словом. Я забыл об этом упомя-
нуть. Итак, — он поднял руку, — первый вопрос?
Арктор внезапно снова неуверенно поднялся.
— Похоже, Фред хочет что-то добавить. — Ведущий сделал приглашающий жест.
Арктор подошел к микрофону и, опустив голову, тихо и отчетливо произнес:
— Вот еще что. Не надо плевать им вслед лишь потому, что они сели на дозу.
Большинство из них, особенно девчонки, не знали, на что садятся или что са-
дятся вообще. Просто постарайтесь удержать их... Понимаете, они растворяют
«красненькие» в стакане вина — толкачи, я имею в виду. Дают выпить цыпочке,
какой-нибудь несовершеннолетней крошке, и та вырубается, и тогда ей впрыски-
вают смесь героина и препарата «С»... — Он замолчал. — Спасибо за внимание.
— Как нам остановить их, сэр? — спросил мужчина.
— Убивайте толкачей, — сказал Арктор и побрел к стулу.
Ему не хотелось сразу возвращаться в Отдел и идти в комнату 430, и он стал
спускаться по одной из торговых улочек, разглядывая лотки с гамбургерами, ав-
томойки, заправочные станции, пиццерии и прочие достопримечательности. Бродя
так без всякой цели в толпе, Арктор испытывал странное ощущение. Кто он на
самом деле? Там, на встрече, он сказал, что без костюма-болтуньи выглядит как
наркоман. Да он и разговаривал как наркоман, так что толпа вокруг, без сомне-
ния , принимала его за одного из них и реагировала соответственно. Более того,
другие наркоманы («другие», вот именно!) казались ему своими — «мир, брат!» —
в отличие от добропорядочных.
Стоит надеть епископскую митру и мантию, размышлял Арктор, и походить в ней
некоторое время, позволяя людям преклонять колени и целовать твою руку, и не
успеешь оглянуться, как ты уже и впрямь епископ или типа того. Что такое лич-
ность? Где начинается и кончается собственное «я»?
И уж совсем непонятно становилось, кто он на самом деле, когда начинались
разборки с полицией. Когда копы, патрульные или какие-нибудь другие, все рав-
но какие, притормаживали около него, идущего по тротуару, и сначала долго
сверлили своим пустым металлическим взглядом, а потом, наконец, решив поразв-
лечься, останавливались и подзывали к себе. «А ну, документы! — говорил обыч-
но коп, протягивая руку, а потом, когда Арктор-Фред-Черт-знает-кто начинал
рыться за пазухой, орал: — ТЕБЯ УЖЕ ЗАБИРАЛИ?» Иногда добавляя слово «РАНЬ-
ШЕ». Так, как будто прямо сейчас отправит в кутузку. «За что?» — обычно спра-
шивал Фред. Или просто молчал. Тут же собиралась толпа. Большинство считали,
что это толкач, которого повязали на углу; они ухмылялись и распихивали друг
друга локтями, чтобы полюбоваться зрелищем. Некоторые сердито ворчали — обыч-
но чиканос, негры или явные торчки; потом они спохватывались и старались при-
нять равнодушный вид — в присутствии копов лучше не выступать. Качаешь права
или нервничаешь — значит, сам что-то скрываешь. Подозрительных полиция начи-
нала потрошить автоматически.
На этот раз, однако, никто его не трогал. Вокруг было полно точно таких же
торчков.
«Кто я на самом деле?» — спрашивал себя Роберт Арктор. На мгновение ему за-
хотелось влезть в костюм-болтунью. Тогда бы я снова, думал он, стал расплыв-
чатым пятном, и прохожие, уличная толпа, снова стали бы аплодировать. «Давай-
те же послушаем расплывчатое пятно!» — прокрутил он в памяти недавнюю сцену.
Отличный способ прославиться! А как бы они узнали, что это то самое пятно, а
не какое-нибудь другое? Внутри мог бы быть совсем не Фред или другой Фред —
хрен поймешь, даже если «Фред» раскроет рот и заговорит. Никто не определит
наверняка, никто, никак... А вдруг это, к примеру, Эл, который притворяется
Фредом? В костюме может быть кто угодно, а может даже и совсем никого не
быть, если он — чем черт не шутит! — автоматический и управляется на расстоя-
нии, из Отдела по борьбе с наркоманией. И тогда Фредом может быть любой, кто
в этот момент сидит в Отделе за столом, с напечатанным текстом и микрофоном,
или даже все они вместе, каждый за своим столом.
Все было бы так, если бы не то, что я сказал в конце, подумал Арктор. Кто
угодно в Отделе за столом такого не скажет. И вот об этом-то начальство и хо-
чет со мной поговорить.
Разбираться с начальством ему совсем не улыбалось, и он продолжал тянуть
время, шатаясь по улицам, идя наугад, без всякой цели, в никуда. Впрочем, в
Южной Калифорнии и не важно, куда ты идешь: везде торчат одни и те же «Макдо-
налдсы», как будто ты не движешься, а только делаешь вид, а вокруг тебя пово-
рачивается сцена с декорациями. А когда, наконец, ты чувствуешь голод и захо-
дишь в один из этих «Макдоналдсов», чтобы купить гамбургер, он оказывается
тем же самым, что в прошлый раз, и в позапрошлый, и так далее, вплоть до са-
мого твоего рождения и еще раньше, да в придачу еще злые языки утверждают —
вот ведь клеветники! — что делают там все из индюшачьих желудков. Если верить
рекламе, то тот первоначальный гамбургер уже продали пятьдесят миллиардов
раз. Небось еще одному и тому же человеку... Жизнь в Калифорнии — она сама вро-
де рекламного ролика, который прокручивают без конца. Ничего не меняется,
только расходится все дальше и дальше, словно автоматическую фабрику, которая
штампует эту жизнь, заклинило во включенном положении. Была такая сказка:
«Как море стало соленым». А теперь «Как земля стала пластиковой». Когда-
нибудь, подумал Арктор, нас заставят самих продавать друг другу гамбургеры.
Прямо у себя дома, день за днем, вечно. Тогда незачем будет и на улицу выхо-
дить.
Он взглянул на часы: два тридцать. Пора звонить Донне. Судя по всему, он
сможет достать через нее тысячу таблеток препарата «С».
Естественно, он передаст их на анализ и последующее уничтожение. Или что уж
там с ними делают... Может, сами закидываются — ходят такие слухи. Или продают.
Почем знать... Но Боб Арктор покупал у Донны не для того, чтобы взять ее за по-
средничество : он имел с ней дело много раз и не арестовал ее. Все затевалось
вовсе не из-за какой-то девчонки, которая считала, что это круто и интересно
— торговать наркотиками. Половина агентов в Отделе знали ее в лицо. Иногда
она даже продавала на стоянке у магазина «7—11», перед камерой, установленной
там полицией, и ее не трогали. Она могла бы делать что угодно и перед кем
угодно — ее все равно не стали бы забирать.
Цель операций с Донной, как и всех прочих, — выйти на более крупного по-
ставщика. Поэтому Арктор заказывал все большие количества товара. Началось
все с того, что он уговорил ее достать ему десять таблеток в качестве друже-
ской услуги. Затем выпросил пакет на сотню таблеток, потом три пакета. Те-
перь , если повезет, он получит тысячу, то есть десять пакетов. В конечном
счете дело дойдет до таких партий товара, которые будут ей не по карману: она
просто не сможет выложить достаточную сумму поставщику. И тогда, чтобы не по-
терять прибыль от сделки, она начнет торговаться — потребует, чтобы он, Боб,
заплатил хотя бы часть вперед. Он откажется, время будет идти, все начнут
нервничать, особенно поставщик, который рискует, держа у себя товар. И, нако-
нец, Донна сдастся и скажет Бобу и поставщику: «Слушайте, давайте-ка вы лучше
свяжетесь напрямую. Я вас обоих знаю, вы нормальные ребята, вам можно верить.
Назначим время и место, и вы встретитесь. Так что, Боб, если тебе нужны такие
партии, покупай прямо у него». Фактически тысячи таблеток — это уровень по-
средника, а не клиента. Донна уверена, что сам Боб продает таблетки сотнями.
Так он поднимется на следующую ступеньку, а там и еще выше, по мере того как
партии товара будут расти. И вот настанет момент, когда он выйдет на челове-
ка, которого уже можно будет брать. На того, кто что-то знает, кто связан или
с производителем, или с тем, кто берет непосредственно у производителя.
В отличие от других наркотиков препарат «С» имел, по-видимому, один-
единственный источник. Он был синтетическим и, следовательно, производился в
лаборатории. Его исходные компоненты были довольно сложны и так же трудны в
изготовлении, как и сам препарат. Теоретически препарат «С» мог производить
кто угодно, если, во-первых, знать химическую формулу, а во-вторых, распола-
гать технологическими возможностями. Но практически это оказывалось слишком
дорого. Кроме того, тот, кто изобрел препарат и наладил поставку, продавал
его настолько дешево, что конкуренция была исключена. А широкая сеть поставок
говорила о том, что, хотя препарат имеет единственный источник, его производ-
ство рассредоточено — по-видимому, лаборатории находились по соседству с каж-
дым крупным городским центром потребления наркотиков в Северной Америке и Ев-
ропе. Почему ни одна из них до сих пор не раскрыта, оставалось загадкой; ско-
рее всего, таинственная организация настолько глубоко проникла в силовые
структуры, местные и общенациональные, что те, кому удавалось что-либо уз-
нать, или быстро переставали этим интересоваться, или интересоваться станови-
лось просто некому.
Разумеется, у Арктора было еще несколько нитей, кроме Донны. Других посред-
ников он так же точно тормошил, требуя все больших партий препарата. Но по-
скольку она была его девушкой — по крайней мере, он имел на нее виды, — ему с
ней легче работалось. Навещать ее, разговаривать по телефону, проводить вме-
сте вечера доставляло удовольствие. В некотором смысле — линия наименьшего
сопротивления. Если вам приходится шпионить, так уж лучше за людьми, с кото-
рыми вы все равно встречаетесь. Это менее подозрительно и не так скучно. А
если вы с ними и не встречались часто до того, как начали шпионить, то все
равно станете встречаться, так что, в конечном счете, выйдет то же самое.
Он вошел в телефонную будку и набрал номер.
— Алло, — ответила Донна.
Все телефонные автоматы в мире прослушиваются. А если где-то и не прослуши-
ваются, то просто до них еще не успели добраться. Записи разговоров поступают
в центральный пункт и в среднем раз в два дня проверяются дежурным, которому
даже не надо выходить из кабинета, а достаточно лишь нажать кнопку. Большин-
ство разговоров безобидны. Обязанность дежурного — выделять небезобидные. В
этом заключается его искусство. За это ему платят.
Так что их с Донной пока никто не слушал. Запись должны были получить не
раньше, чем на следующий день. Если бы они обсуждали что-либо уж совсем оди-
озное и дежурный это заметил, то снял бы компьютерные отпечатки их голосов.
Так что от них требовалось лишь особо не выпендриваться. Можно было даже явно
упоминать о наркотиках. Федеральному правительству приходилось экономить: не-
выгодно затевать возню с отпечатками и слежкой из-за мелких сделок, которые
заключаются каждый день по огромному количеству телефонов. И Донне, и Арктору
это было хорошо известно.
— Как дела? — спросил он.
— Ничего... — Теплый и слегка хриплый голос.
— Как настроение?
— Да так себе. Не очень... Сегодня утром босс в магазине устроил мне подлян-
ку. — Донна стояла за прилавком с парфюмерией в торговых рядах в Коста-Месе,
куда отправлялась каждое утро на своей малолитражке. — Знаешь, что он мне вы-
дал? Что тот тип, который нас недавно обул на десять баксов — тот старый, се-
дой, — короче, что это я виновата и недостачу покрою из своей зарплаты. Так
что, выходит, я погорела на десятку, хотя чиста как стеклышко. Вот падла!
— Я могу у тебя что-нибудь взять?
— Ну-у... — протянула она угрюмо и вроде как неохотно — своеобразная игра. —
Смотря сколько тебе надо.
— Десять.
Они договорились, что один — это сотня. Таким образом, он просил тысячу.
Среди дельцов вообще принято крупные числа заменять мелкими, чтобы разговари-
вать по телефону, не привлекая внимания властей. Так можно было продержаться
сколько угодно — спецназ вряд ли станет прочесывать все квартиры ради мелких
партий наркотиков.
— Десять... — раздраженно пробормотала Донна.
— У меня зарез, — объяснил он. Как будто берет для себя, а не на продажу.
— Мм... десять... — Она явно размышляла, не продает ли он сам. Может, и прода-
ет. — Десять. Почему бы и нет? Скажем, через три дня, нормально?
— А раньше нельзя?
— Понимаешь...
— Ладно, идет, — согласился он. — Я заскочу.
— Хорошо. Когда?
Она прикинула.
— Около восьми вечера. Слушай, я тут нашла одну книжку — кто-то забыл в ма-
газине , — хочу тебе показать. Книжка классная. Про волков. Знаешь, когда
волк-самец побеждает соперника, то не приканчивает, а мочится на него. Именно
так! Прямо берет и писает на побежденного врага, а потом бежит дальше. Вот и
все. Они дерутся только за территорию и право трахаться.
— Я тут тоже недавно кое на кого помочился, — усмехнулся Арктор.
— Серьезно? Как это?
— Метафорически.
— Не на самом деле?
— Ну, в смысле... я заявил им... — Он спохватился. Черт, чуть не сболтанул. — В
общем, я иду, а один парень на мотоцикле, типа байкера, он начал ко мне цеп-
ляться. Так я повернулся и выдал... — Он замялся, пытаясь придумать что-нибудь
этакое.
— Можешь мне сказать, — хихикнула Донна. — Даже если это что-то совсем гру-
бое . Байкеров иначе не проймешь — просто не поймут.
— Мол, лучше бы он почаще сидел на свинке, чем на этом борове.
— Я что-то не въехала.
— Ну, типа, на женщине...
— А-а...
— Ладно, заходи, я буду ждать...
— Принести тебе книжку про волков? Автор — Конрад Лоренц, там на обложке
написано, что он по ним главный специалист. Да, чуть не забыла. Сегодня ко
мне в магазин заглянули твои сожители: Эрни... как там его... и Баррис. Искали
тебя.
— Что стряслось? — спросил Арктор.
— Цефалохромоскоп, что обошелся тебе в девятьсот долларов... Они хотели вклю-
чить его, а он не работал. Ни цвета, ничего... В общем, они взяли инструменты
Барриса и отвернули днище.
Реально существующий прибор: хромоскоп — прибор для получения цветного изо-
бражения совмещением 2 или 3 черно белых фотографических изображений, осве-
щаемых различно окрашенным светом (через светофильтры)... (Большой Энциклопеди-
ческий словарь).
Наиболее популярное его применение: "раскрашивание" фотографий астрономиче-
ских объектов: галактик, туманностей и т.п. в разные цвета, соответствующие
разным диапазонам излучений от гамма-лучей до сверхдлинных радиоволн.
Понятно, что цефалохромоскоп - это прибор со сканером и экраном, на котором
в реальном времени (а может быть и в записи) отображается изменение состояний
человеческого мозга с помощью цветовой палитры, созданной наложением картин
излучений различных участков мозга в различных диапазонах электромагнитных
излучений.
В настоящее время цефалохромоскоп остается технически нереализованной вы-
думкой автора.
— Черт побери! — возмущенно воскликнул Арктор.
— Там вроде кто-то ковырялся, испорчена вся схема. Похоже, нарочно: оборва-
ны провода, сломаны детали и так далее. Баррис сказал, что попробует...
— Все, я еду домой, — отрубил Арктор и повесил трубку.
Самое лучшее, что у меня есть. Самое дорогое. Если этот кретин Баррис нач-
нет копаться... Но я не могу сейчас ехать домой, опомнился он. Сперва надо по-
бывать в «Новом пути» и посмотреть, что там творится.
Приказ руководства.
Глава 3
Чарлз Фрек тоже подумывал о «Новом пути» — так на него подействовала участь
Джерри Фабина.
Он сидел с Джимом Баррисом в кофейне «Три скрипача» в Санта-Ане и уныло пе-
ребирал засахаренные орешки.
— Решиться не просто. Там страх что творят. Сидят с тобой день и ночь, что-
бы ты не наложил на себя руки или не откусил себе палец, и совсем ничего не
дают для облегчения. Даже того, что обычно врач прописывает, вроде валиума.
Баррис посмеивался, разглядывая свой горячий бутерброд — эрзац-сыр и такое
же мясо на диетическом хлебце.
— Что это за хлеб? — спросил он.
— Почитай меню, — ответил Чарлз Фрек. — Там все написано.
— Если ты согласишься на лечение, то испытаешь ряд неприятных ощущений в
области головного мозга. В первую очередь я имею в виду катехоламины, такие
как норадреналин и сератонин. Видишь ли, все происходит следующим образом:
препарат «С» — вообще все наркотические вещества, но препарат «С» особенно —
взаимодействует с катехоламинами на подклеточном уровне, и устанавливается
биологическая контрадаптация, вроде бы навсегда. — Он откусил большой кусок с
правой стороны бутерброда. — Раньше считалось, что это происходит только с
алкалоидными наркотиками, такими как героин.
— Я категорически против героина. Паршивая штука.
К столику подошла симпатичная официантка в желтом халатике, светловолосая,
с высокой дерзкой грудью.
— Привет, — сказала она. — Все в порядке?
Чарлз Фрек испуганно поднял взгляд.
— Как тебя звать, милая? — спросил Баррис, жестом успокаивая Фрека.
Она ткнула в табличку на правой грудке.
— Бетти.
Интересно, как зовут левую, подумал Чарлз Фрек.
— У нас все отлично, — сказал Баррис, нахально оглядывая девушку с головы
до ног.
Чарлз увидел исходящий из головы Барриса круг, как на карикатуре, в котором
совершенно голая Бетти молила о ласке.
— Только не у меня, — заявил Чарлз Фрек. — У меня полно проблем — больше,
чем у кого бы то ни было.
— У всех свои проблемы, — рассудительно заметил Баррис. — И чем дальше, тем
больше. Наш мир болен, и с каждым днем болезнь становится все круче.
Картинка над его головой тоже стала круче.
— Желаете заказать десерт? — улыбаясь, предложила Бетти.
— Например? — подозрительно спросил Чарлз Фрек.
— У нас есть свежий клубничный пирог. И еще персиковый. Мы сами печем.
— Нет, не надо нам никаких десертов! — сказал Чарлз Фрек. — Фруктовые пиро-
ги годятся только для старушек, — добавил он, когда официантка отошла.
— Это все твоя идея насчет лечения, — объяснил Баррис. — Она и заставляет
тебя нервничать. Твой страх — не что иное, как проявление негативных целевых
симптомов. А цель — не пустить тебя в «Новый путь» и не дать завязать. Пони-
маешь , все симптомы — они целевые, будь то позитивные или негативные.
— Ни фига себе...
— Они возникают в теле специально для того, чтобы заставить его хозяина — в
данном случае тебя — лихорадочно искать...
— Первое, что делают в «Новом пути», — сказал Чарлз Фрек, — это отрезают
тебе член. В качестве наглядного урока. Ну и так далее.
— Затем вырежут селезенку, — кивнул Баррис.
— Что?.. Вырежут... А она зачем, эта селезенка?
— Помогает переваривать пищу.
— Как?
— Удаляет целлюлозу.
— Значит, потом...
— Только бесцеллюлозная пища. Никаких листьев или бобовых.
— И сколько так можно протянуть?
Баррис пожал плечами.
— Как получится.
— А сколько селезенок обычно у человека? — Фрек знал, что почек, как прави-
ло , две.
— Это зависит от веса и возраста.
— Да ну? — подозрительно прищурился Фрек.
— Они растут. К восьмидесяти годам...
— А-а... да ты меня разыгрываешь.
Баррис рассмеялся. У него какой-то странный смех, подумал Чарлз. Неестест-
венный, как будто что-то рвется.
— А почему ты вдруг решил лечь в наркоцентр на воздержание?
— Джерри Фабин, — ответил Фрек.
Баррис махнул рукой.
— Джерри — особый случай. Однажды у меня на глазах Джерри пошатывается и
падает, испражняется под себя, не соображая, где находится, умоляет спасти...
Ему подсунули какую-то гадость, сульфат таллия скорее всего. Сульфат таллия
используют в инсектицидах и в крысиной отраве. Кто-то устроил подлянку. Я мо-
гу назвать десяток ядов, которые...
— И другая причина, — сказал Чарлз Фрек. — У меня кончается запас, и я не в
силах это выдержать — постоянно сидишь на нуле и не знаешь, достанешь еще или
нет!
— Ну, если на то пошло, мы не можем быть уверены в том, что доживем до зав-
трашнего дня.
— Черт побери, сейчас вообще зарез — день-два, и кранты. И еще — меня, на-
верное, обкрадывают. Не может быть, чтобы я сам так много потреблял. Какой-то
гад, наверно, таскает их понемногу.
— Сколько таблеток ты закидываешь в день?
— Очень трудно определить. Но не так много.
— Привычка требует все больших количеств, ты же знаешь...
— Не настолько же. Я больше не выдержу. С другой стороны... — Он подумал. —
Похоже, я набрел на новый источник. Та цыпочка, Донна, как там ее...
— А, подружка Боба.
— Вот-вот, его девчонка, — кивнул Чарлз.
— Да нет, он так и не забрался ей под юбку. Только мечтает.
— Она надежна?
— В каком смысле? В плане, даст ли, или... — Баррис поднес руку ко рту и сде-
лал вид, что глотает.
— Это еще что за вид секса? — изумленно начал Фрек, и тут до него дошло. —
А-а. Последнее, разумеется.
— Вполне надежна. Немного взбалмошная, ну, как все цыпочки, особенно тем-
ненькие . Мозги промеж ног, как и у остальных. Наверное, и запас у нее там. —
Баррис хохотнул. — Весь ее загашник.
Чарлз Фрек подался вперед.
— Арктор никогда не спал с Донной? А говорит...
— Ты его слушай больше. Он много чего говорит. Не всему надо верить.
— Как же так? У него не встает, что ли?
Баррис задумчиво ломал бутерброд на мелкие кусочки.
— Проблемы у Донны. Вероятно, сидит на какой-то отраве. Полностью потерян
интерес к сексу, вплоть до отвращения к физическому контакту. У торчков все-
гда так — из-за сужения сосудов. Я заметил, что у Донны это особенно выраже-
но. Не только с Арктором, но и... — он раздраженно нахмурился, — с другими муж-
чинами .
— Ты имеешь в виду, она просто не хочет?
— Захочет, — отрезал Баррис. — Если с ней правильно обращаться. Например... —
Он принял таинственный вид. — Я могу научить тебя, как добиться Донны за де-
вяносто восемь центов.
— Да не хочу я с ней спать! Мне от нее нужен товар. — Чарлз Фрек был не в
своей тарелке. В Баррисе чувствовалось что-то такое, от чего у него неприятно
холодело в животе. — Почему за девяносто восемь центов? Не возьмет она день-
ги, не такая она. И вообще она девчонка Боба.
— Деньги пойдут не ей непосредственно, — произнес Баррис нравоучительным
тоном. Он наклонился вперед, его ноздри дрожали от возбуждения, зеленые очки
запотели. — Донна сидит на кокаине. Для каждого, кто даст ей грамм, она, без-
условно, раздвинет ножки, особенно если, по строго научной методике, которую
я разработал, в коку добавить определенные редкие химикаты.
— Ты бы лучше не говорил так о ней, — нахмурился Чарлз Фрек. — В любом слу-
чае грамм коки стоит больше сотни долларов. Где взять такие башли?
Ухмыляясь, Баррис заявил:
— Я могу извлечь грамм чистого кокаина из ингредиентов общей стоимостью ме-
нее одного доллара.
— Чушь.
— Готов продемонстрировать.
— Откуда берутся эти ингредиенты?
— Из магазина «7—11», — сказал Баррис, забыв о раздрызганном бутерброде и
поднимаясь на ноги. — Бери счет и идем, я покажу. У меня дома оборудована ла-
боратория — временная, пока не обзаведусь лучшей. Ты увидишь, как я извлеку
грамм чистого кокаина из широко распространенных общедоступных материалов,
купленных открыто меньше чем за один доллар, — Баррис стал пробираться между
столиками. — Пошли! — скомандовал он.
— Ладно. — Чарлз Фрек взял счет и поплелся следом. Чертов болтун. А впро-
чем... Сколько он делает всяких химических опытов и вечно читает в библиотеке...
Как же на этом можно заработать, обалдеть!
Баррис в своем потертом летном комбинезоне уже миновал кассу, на ходу дос-
тавая ключи.
Они оставили машину на стоянке магазина «7—11» и вошли внутрь. Как обычно,
у стойки с журналами стоял здоровенный коп и притворялся, будто читает. Чарлз
Фрек хорошо знал, что на самом деле он рассматривает входящих, поджидая по-
тенциального грабителя.
— Что мы здесь берем? — спросил Чарлз у Барриса, беспечно прогуливавшегося
вдоль стоек с товарами.
— Баллон «Солнечного».
— Средство от загара? — Чарлз Фрек не верил своим ушам. С другой стороны,
кто знает?
Баррис подошел к прилавку — была его очередь платить.
Они купили «Солнечный», опять прошли мимо копа, и Баррис в два счета, не
обращая внимания на дорожные знаки, домчался до дома Боба Арктора.
Выйдя из машины, Баррис достал с заднего сиденья опутанные проводами пред-
меты. Среди груды электронных приборов Чарлз Фрек узнал вольтметр и паяльник.
— Зачем это? — спросил он.
— Предстоит долгая и трудная работа, — ответил нагруженный Баррис, подойдя
к двери. Он передал Чарлзу ключ. — И наверное, мне за нее не заплатят. Как
обычно.
Чарлз Фрек отомкнул дверь. К ним тут же, преисполненные надежды, бросились
два кота и собака, но Чарлз и Баррис, осторожно оттеснив их ногами, прошли на
кухню. Здесь и находилась знаменитая лаборатория — кучи бутылок, всякого хла-
ма и непонятных предметов, которые Баррис притаскивал отовсюду. Он верил не
столько в аккуратность, сколько в озарение: чтобы достичь цели, надо уметь
использовать первое, что попадется под руку. Скрепки, клочки бумаги, разроз-
ненные детали от сломанных механизмов — все шло в ход. Фрек невольно подумал,
что так бы выглядела мастерская, где проводят свои эксперименты крысы.
Первым делом Баррис оторвал пластиковый пакет из рулона возле раковины и
опорожнил туда аэрозоль.
— Бред какой-то... — пробормотал Чарлз Фрек. — Полный бред.
— Знай, что на производстве кокаин умышленно смешивают с маслом, — бодро
комментировал свои действия Баррис, — таким образом, что извлечь его невоз-
можно . Одному мне благодаря глубокому знанию химии доподлинно известно, как
это сделать. — Он обильно посолил клейкую густую массу и вылил ее в стеклян-
ную банку. — Теперь охлаждаем, — продолжал Баррис, довольно ухмыляясь, — и
кристаллы кокаина поднимаются наверх, так как они легче воздуха. То есть мас-
ла, я имею в виду. Конечная стадия, разумеется, мой секрет, но скажу, что она
включает в себя сложный процесс фильтрования.
Баррис открыл холодильник и аккуратно поставил банку в морозильную камеру.
— Сколько там ее держать? — спросил Чарлз Фрек.
— Полчаса.
Баррис закурил самокрутку и уставился на кучу электронных приборов, задум-
чиво потирая бородатый подбородок.
— Даже если ты получишь целый грамм чистого кокаина, я не могу использовать
его на Донне, чтобы... ну, залезть ей под юбку. Я вроде как покупаю ее, вот что
получается.
— Обыкновенный обмен, — наставительно поправил Баррис. — Ты ей делаешь по-
дарок, и она тебя одаривает... самым ценным, что есть у женщины.
— Она почувствует, что ее покупают. — Фрек достаточно общался с Донной,
чтобы понимать это. Донну на мякине не проведешь.
— Кокаин — возбудитель, — проговорил Баррис вполголоса, перенося приборы к
цефалохромоскопу — бесценной собственности Боба. — Она нанюхается и будет
счастлива дать себе волю.
— Чушь! — решительно заявил Чарлз Фрек. — Ты говоришь о подружке Боба Арк-
тора. Он — мой приятель и человек, с которым вы с Лакменом живете под одной
крышей.
Баррис на секунду поднял свою косматую голову, и некоторое время не сводил
с Чарлза Фрека глаз.
— Ты очень многого не знаешь о Бобе Аркторе. Да и мы все. Твой взгляд наи-
вен и упрощен. Ты ему слишком веришь.
— Он парень что надо.
— Безусловно. — Баррис кивнул и улыбнулся — Вне всякого сомнения. Один из
самых лучших в мире. Но я начал замечать в нем — мы начали замечать в нем,
те, кто наблюдает за Арктором пристально и внимательно, — определенные проти-
воречия. Как в структуре его личности, так и в поведении. Во внутренней сущ-
ности , так сказать.
— что ТЬ1 имеешь в виду?
Глаза Барриса заплясали за зелеными стеклами очков.
— Твой бегающий взгляд мне ни о чем не говорит, — заявил Чарлз Фрек. — А
что случилось с цефаскопом, почему ты в нем копаешься?
— Загляни, — предложил Баррис, положив прибор набок.
— Провода обрезаны. И еще, похоже, кто-то устроил несколько коротких замы-
каний... Чья это работа?
Веселые и всезнающие глаза Барриса заплясали с особым удовольствием.
— Твои дурацкие намеки мне на хрен не нужны, — после напряженного молчания
сказал Чарлз Фрек. — Кто испортил цефаскоп? Когда ты это обнаружил? Арктор
ничего мне не говорил, а я его видел только позавчера.
— Наверно, тогда он еще не был готов об этом говорить, — заметил Баррис.
— Так, — зловеще протянул Чарлз Фрек. — Насколько я понимаю, ты тут мне за-
гадки загадываешь. Пожалуй, отправлюсь-ка я лучше в «Новый путь» и сдамся на
воздержание и буду лечиться, и жить с простыми парнями. Все лучше, чем иметь
дело с такими шизиками, как ты, которых я никак не могу понять. Намекаешь,
что Боб сам раскурочил цефаскоп? Испортил самую дорогую свою вещь? Что ты хо-
чешь сказать? Лучше бы я жил в «Новом пути», где мне не пришлось бы выслуши-
вать все это многозначительное дерьмо, в которое я ни хрена не въезжаю. Каж-
дый день одни ошизевшие торчки — то ты, то еще кто-нибудь! — Он яростно стис-
нул зубы.
— Я не ломал прибор, — задумчиво произнес Баррис, двигая ушами, — и серьез-
но сомневаюсь, что это сделал Эрни Лакмен.
— А я серьезно сомневаюсь, — парировал Чарлз Фрек, — что Эрни Лакмен вообще
что-нибудь повредил в своей жизни, если не считать того случая, когда он на-
кололся на плохой кислотке и вышвырнул в окно журнальный столик. Обычно у не-
го котелок варит лучше, чем у всех нас. Нет, Эрни не станет ломать чужой
скоп. А Боб Арктор? Это же его вещь, так ведь? И что, он, значит, встал поти-
хоньку среди ночи и сам себе сделал пакость? Нет, это кто-то другой устроил,
вот что я тебе скажу.
Это запросто мог сделать ты, грязный сукин сын, подумал Чарлз. И умения у
тебя хватает, и мозги твои устроены черт знает как...
— Тому, кто это сделал, место в лечебнице или на кладбище. Предпочтительно
последнее. Для Боба эта штука значила все. Я видел, как он ее включает, едва
вернется домой с работы. У каждого есть что-то, чем он особенно дорожит. У
Боба был скоп. И сотворить такое... Черт!
— Это-то я и имею в виду.
— Что это ты имеешь в виду?
— Меня давно уже интересует, кто такой Боб Арктор и где он работает на са-
мом деле.
Нет, Баррис мне не нравится, подумал Чарлз Фрек. Внезапно он испытал силь-
ное желание оказаться отсюда далеко-далеко. Может, смыться?.. Но потом он
вспомнил про банку с кокой и маслом в холодильнике — сто баксов за девяносто
восемь центов.
— Послушай, когда там будет готово? Мне кажется, ты меня дурачишь. Зачем же
продавать «Солнечный» за гроши, если в нем грамм кокаина? Какой им от этого
кайф?
— Они закупают оптом, — объяснил Баррис.
У Чарлза Фрека немедленно пошел глюк: грузовики с кокаином подкатывают к
заводу (где уж он там, может, в Кливленде), вываливают тонны и тонны девст-
венно-чистой, высококачественной коки во двор, потом коку смешивают с маслом,
инертным газом и прочей дрянью, разливают по маленьким ярким жестянкам и, на-
конец, завозят в магазины «7—11», аптеки и супермаркеты. Стоит только остано-
вить грузовичок, размышлял он, забрать груз — семьсот или восемьсот фунтов
чистого... Да нет, черт побери, гораздо больше! Сколько в грузовике помещается
кокаина?
Баррис принес пустой баллон «Солнечного» и указал на этикетку, где были пе-
речислены все ингредиенты.
— Видишь? Бензокаин. Только отдельные эрудиты знают, что под таким названи-
ем в торговле маскируют кокаин. Если бы писали прямо «кокаин», рано или позд-
но народ бы просек. У людей просто не хватает образования. Такой научной ба-
зы, как у меня.
— Для чего тебе образование? — поинтересовался Чарлз Фрек. — Донну возбуж-
дать?
— Напишу бестселлер, — уверенно заявил Баррис. — Учебник для чайников.
«Как, не нарушая закона, получать наркотики у себя на кухне». Понимаешь, бен-
зокаин официально разрешен. Я справлялся в аптеках — он содержится в уйме
препаратов.
— Ух ты! — уважительно сказал Чарлз Фрек и посмотрел на часы.
Ждать оставалось недолго.
Хэнк, непосредственный начальник Боба Арктора, дал ему задание обследовать
местные филиалы «Нового пути», чтобы определить местонахождение крупного по-
ставщика , который внезапно скрылся. Время от времени это случалось: торговец
наркотиками, поняв, что его вот-вот возьмут, искал убежища в одном из центров
реабилитации вроде «Нового пути», «Синанона» или «Сентер-пойнта» под видом
наркомана, нуждающегося в лечении. Там, внутри, он терял документы, забывал
свое имя и вообще все, что позволяло его идентифицировать, — так начиналось
создание новой личности, свободной от наркотической зависимости. Исчезало
почти все, что могло бы навести силовые структуры на его след. Позже постав-
щик вновь выходил на поверхность и возобновлял свою прежнюю деятельность. Ко-
нечно, реабилитационные центры старались отслеживать такие случаи, однако не
всегда успешно. Сорокалетний срок, полагающийся за торговлю наркотиками, —
хороший стимул для того, чтобы поднапрячься и выдать правдоподобную историю
персоналу клиники, который решал, принять человека или отказать ему. Страх
перед наказанием заставлял стараться.
Сбавив скорость, Боб Арктор принялся искать вывеску «Нового пути». Ему со-
всем не улыбалось лезть в клинику под видом возможного пациента, но иного
способа не было. Если бы он явился туда как агент Отдела по борьбе с наркоти-
ками и сказал, кого ищет, то сотрудники клиники, по крайней мере, большинство
из них, тут же постарались бы его отшить. Они не хотели, чтобы клиентов, их
«семью», тревожила полиция, и Арктор их хорошо понимал. Бывшие наркоманы рас-
считывали на безопасность; во всяком случае, при поступлении клиника офици-
ально гарантировала им неприкосновенность. Это понимал и Хэнк, по чьему пору-
чению Боб занимался Черным Уиксом — давно и безрезультатно. Вот уже десять
дней об Уиксе не было ничего слышно, он исчез бесследно.
Наконец Арктор увидел яркую вывеску, оставил машину на крохотной стоянке,
которую филиал «Нового пути» делил с булочной, и нетвердыми шагами направился
к парадной двери, входя в привычную роль.
Строго говоря, Уикс был скорее курьером, чем поставщиком: он вывозил партии
сильных наркотиков из Мексики и сдавал покупателям где-то в окрестностях Лос-
Анджелеса. Парень нашел гениальный метод провоза товара: он выбирал подходя-
щего добропорядочного типа и где-нибудь на стоянке прикреплял товар к днищу
его машины. Потом, уже на другой стороне границы, догонял и при первой воз-
можности пускал беднягу в расход. Если же пограничники засекали товар, то от-
дуваться приходилось не Уиксу, а ни в чем не повинному болвану: с этим в Ка-
лифорнии было строго.
Арктор знал Уикса в лицо лучше, чем кто-либо из агентов. Жирный чернокожий
тип, слегка за тридцать, любивший изъясняться нарочито правильно и изящно,
как будто он учился в модной частной школе в Англии. На самом деле Уикс вырос
в трущобах Лос-Анджелеса, а произношение себе поставил, скорее всего, с помо-
щью учебных записей из библиотеки какого-нибудь колледжа. Одевался он не вы-
зывающе, но шикарно, как врач или адвокат, носил очки в роговой оправе и час-
то брал с собой дорогой «дипломат» из крокодиловой кожи. Оружие у него тоже
было стильное, итальянского производства. Однако в «Новом пути» всю эту шелу-
ху, само собой, ободрали, одели его, как всех, в благотворительные обноски, а
«дипломат» заперли в сейф.
Боб Арктор открыл тяжелую деревянную дверь и вошел. Мрачный темноватый
холл, слева гостиная, где сидят несколько человек и читают. В дальнем конце
холла — стол для пинг-понга, за ним кухня. На стенах лозунги, часть написана
от руки, часть напечатана. «Единственный дурной поступок — подвести других» и
так далее. Кругом тишина, никакой суеты. Очевидно, большинство пациентов были
на работе — на многочисленных мелких предприятиях «Нового пути» вроде бензо-
колонок или производства шариковых ручек.
Арктор в нерешительности остановился.
— Да? — К нему подошла девушка в очень короткой голубой юбке и майке с над-
писью «Новый путь» на груди.
— Я... мне плохо, — пробормотал он хрипло, держась как можно более униженно.
— Можно присесть?
— Конечно. — Девушка махнула рукой; двое парней довольно скромного вида по-
дошли к Арктору и остановились в ожидании. — Отведите его туда, где он сможет
присесть, и принесите кофе.
Ну и тоска, подумал он, позволяя усадить себя на потрепанную жесткую кушет-
ку. Стены мрачные — краска явно благотворительная и низкого качества. Ну да,
они ведь живут только на пожертвования.
— Спасибо, — выдавил он дрожащим голосом, как будто испытывал невероятное
облегчение оттого, что, наконец, дошел и сидит. — Слава богу. — Он попытался
пригладить волосы. Безуспешно.
— Паршиво выглядите, мистер, — неодобрительно произнесла девушка.
— Точно, — кивнули оба парня. — Ты что, валялся в собственном дерьме?
Арктор растерянно моргал.
— Кто ты такой? — спросил один из парней.
— Ясно кто, — презрительно протянул другой. — Мразь из мусорного ведра.
Гляди! — Он показал на волосы Арктора. — Вши. Потому ты и чешешься, приятель.
Девушка, которая держалась спокойно и вежливо, но отнюдь не дружелюбно,
спросила:
— Зачем вы сюда пришли?
Потому что где-то здесь прячется крупная дичь, хотелось сказать Арктору. Я
— охотник. А вы все — идиоты. Однако вместо этого он униженно пробормотал то,
что, очевидно, от него ожидалось:
— Вы обещали...
— Да, мистер, вы можете выпить кофе. — Девушка кивнула одному из парней, и
тот послушно направился на кухню.
Последовала пауза. Затем девушка наклонилась и тронула Арктора за колено.
— Вам очень плохо, да?
Он лишь молча кивнул.
— Вы испытываете стыд и отвращение к самому себе, — продолжала она.
— Да.
— Измываться над собой день за днем, вводить в свое тело...
— Я больше не могу, — взмолился Арктор. — Вы моя единственная надежда.
Здесь мой друг — он сказал, что идет сюда. Черный, ему за тридцать, образо-
ванный , очень вежливый...
— Вы встретитесь с нашей семьей позже, — перебила его девушка. — Если по-
дойдете нам. Вы ведь понимаете, что должны соответствовать нашим требованиям.
И первое из них — искреннее желание вылечиться.
— Да-да, — сказал Арктор. — Мне это очень нужно.
— Вам должно быть совсем плохо, чтобы вас сюда взяли.
— Мне плохо.
— Серьезно подсели? Какова ваша обычная доза?
— Унция в день.
— Чистого?
— Да, — кивнул он. — Я держу его в сахарнице на столе.
— Вам придется очень трудно. Будете всю ночь грызть подушку — к утру по-
кроетесь перьями. Судороги, пена изо рта... Будете ходить под себя, как больное
животное. Вы готовы к этому? Вы должны понимать, что мы вам здесь ничего не
дадим.
— Да. — Арктору было скучно, он чувствовал неловкость и раздражение. — Мой
друг, чернокожий... Не знаю даже, добрался ли он сюда. Я боюсь, что его по пути
замели копы — он был совсем плохой, едва понимал, куда идти. Ему казалось...
— В «Новом пути» нет места личным отношениям, — сказала девушка. — Вам при-
дется это усвоить.
— Да, но он добрался? — Боб Арктор понял, что зря теряет время. Боже мой,
здесь еще хуже, чем у нас. И ведь она ни хрена мне не скажет. Такова их поли-
тика. Хоть об стену лбом бейся... Тот, кто попадает сюда, исчезает с концами.
Может, Черный Уикс сидит рядом, за перегородкой, слушает и хихикает, а может,
его здесь и не было совсем. И ничего не добьешься, даже с ордером. Они будут
тянуть время — они это умеют, — пока все, кого ищут, не сделают ноги. В конце
концов, весь здешний персонал — сами бывшие наркоманы. Да и кому интересно
ворошить осиное гнездо: общественность тут же поднимет такой вой... Похоже, на
Черном Уиксе придется поставить крест, а самому сматываться. Ясно теперь, по-
думал он, почему меня до сих пор сюда не посылали: эти типы — не подарок. Так
что поручение я успешно провалил: Уикс больше просто не существует.
Доложу Хэнку и буду ждать нового задания. Черт с ними со всеми. Арктор с
трудом встал.
— Я пошел.
Оба парня уже возвращались. Один нес кружку кофе, другой — кипу литературы,
очевидно образовательной.
— Что, струсил? — презрительно спросила девушка. — Не хватает пороху сдер-
жать слово? Поползешь на пузе назад, на помойку?
Все трое злобно смотрели на него.
— Потом, — пробормотал Арктор и двинулся к выходу.
— Торчок сраный! — бросила вслед девушка. — Ни мозгов, ни характера — все
выжжено. Ползи, ползи, ты сам себя обрекаешь.
— Я вернусь, — обиженно буркнул Арктор. Здешняя атмосфера давила на него
все сильнее.
— Мы можем и не пустить тебя назад, слизняк, — предупредил один из парней.
— Будешь умолять, — добавил другой. — В ногах валяться. И все равно не
факт, что мы захотим тебя принять.
— Во всяком случае, сейчас ты нам не нужен, — подытожила девушка.
У двери Арктор обернулся и посмотрел на своих мучителей. Он хотел сказать
что-нибудь, но не мог найти слов. В голове было пусто, словно все стерли.
Мозг отказывался работать: ни одной мысли, ни одного сколько-нибудь подходя-
щего ответа, даже самого примитивного. Странно, недоумевал он, подходя к ма-
шине, очень странно. Да уж, с Черным Уиксом можно распрощаться навсегда. Я
сюда больше не ходок. Пора просить о новом задании. Искать кого-то другого.
Похоже, эти типы будут покруче нас с Хэнком.
Глава 4
Из костюма-болтуньи одно расплывчатое пятно, называющее себя Фредом, смот-
рело на другое расплывчатое пятно, известное под именем Хэнк.
— Итак, это все о Донне, Чарлзе Фреке и... — Металлическая монотонная речь
Хэнка на секунду прервалась. — Так, с Джимом Баррисом тоже все. — Он сделал
пометку в лежащем перед ним блокноте. — Дуг Уикс, по вашему мнению, мертв или
переместил свою деятельность в другой район.
— Или лег на дно, — добавил Фред.
— Вам говорит что-нибудь имя Граф или Арт де Винтер?
— Нет.
— А женщина по имени Молли? Крупная такая.
— Нет.
— Как насчет пары негров — братья, лет по двадцать, фамилия Хэтфилд или
что-то в этом роде? Работают с фунтовыми пакетами героина.
— Фунтовыми? Фунтовыми пакетами героина?
— Именно.
— Нет, такое я бы запомнил.
— Еще есть один швед, высокого роста, фамилия шведская. Отсидел срок, любит
прикалываться, странноватый такой. Высокий, худой, имеет при себе много денег
— видимо, от крупной сделки в начале месяца.
— Поищу. Да-а, фунтовые пакеты... — Фред покачал головой, и расплывчатое пят-
но заколыхалось.
Хэнк порылся в досье.
— Так, этот сидит... — Он поднял одну из фотографий, прочитав что-то на обо-
роте . — Нет, мертв, тело у нас здесь, внизу... Как вы думаете, эта девчонка,
Джора, работает на панели? — спросил он, покопавшись еще немного.
— Вряд ли.
Джоре Каджас было всего пятнадцать. Она уже сидела на препарате «С» и жила
в Бриа, в районе трущоб, на верхнем этаже полуразвалившегося холодного домиш-
ки. Единственным источником ее дохода являлась стипендия штата Калифорния,
которую она в свое время выиграла. Но на занятиях Джору никто не видел уже
полгода.
— Если что, дайте мне знать. Мы привлечем ее родителей.
— Хорошо.
— Боже мой, как же быстро они катятся под гору!.. Была вчера тут одна — вы-
глядит на все пятьдесят. Седые волосы клочьями, выпавшие зубы, глаза ввали-
лись , тело иссохшее... Мы спросили, сколько ей лет, — говорит, девятнадцать.
Проверили — точно. «Знаешь, на кого ты похожа? Посмотри в зеркало». Она по-
смотрела в зеркало и заплакала. Я спросил, давно ли она ширяется.
— Год, — предположил Фред.
— Четыре месяца.
— На улицах сейчас продают такую дрянь... — Фред постарался отогнать образ
девятнадцатилетней девчонки с выпавшими волосами. — Смешивают черт знает с
чем.
— А рассказать, как она села на препарат? Ее братья, оба толкачи, вошли к
ней как-то ночью, заломили руки, сделали укол и изнасиловали. Вдвоем. Так
сказать, ввели в новую жизнь.
— Где они сейчас?
— Отбывают по полгода за хранение. У девчонки еще и триппер; она даже не
знала, так что и лечить теперь трудно. А братишек это только насмешило.
— Милые ребятки.
— А вот это вас проймет наверняка. Слыхали, в фэрфилдском госпитале есть
три младенца, которым надо каждый день вкалывать дозу героина. Они такие ма-
ленькие, что не смогли бы пережить ломку. Сестра попробовала...
— Меня проняло, — механическим голосом перебил Фред. — Вполне достаточно,
благодарю.
Хэнк продолжал:
— Когда представишь себе новорожденного наркомана...
— Достаточно, спасибо, — повторило расплывчатое пятно по имени Фред.
— Как, по-вашему, наказывать мать, которая прикармливает младенца героином,
чтобы он не орал?
— Иногда мне хочется сойти с ума. Но я разучился.
— Это утраченное искусство, — вздохнул Хэнк. — Возможно, со временем выпус-
тят инструкцию.
— Был такой фильм в начале семидесятых, о парочке агентов, — сказал Фред. —
Во время рейда один из них свихнулся и всех перестрелял, включая своих бос-
сов . Ему было все равно.
— Выходит, хорошо, что вы не знаете, кто я. Можете достать меня только слу-
чайно .
— В конце концов, — усмехнулся Фред, — нас всех так или иначе достанут.
— Ну что ж, в каком-то смысле это будет облегчением. Отмучаемся. — Хэнк
вновь углубился в свои бумаги. — Так. Джерри Фабин. Этого можно списать. Упо-
коился в наркоцентре. Говорят, по пути в клинику он жаловался, что за ним
день и ночь таскается наемный киллер — маленький, ростом в метр и безногий.
Ездит на тележке. Он, мол, до сих пор никому об этом не рассказывал — боялся,
что все сдрейфят и бросят его, так что не с кем будет даже поговорить.
— Точно, с Фабином покончено. Я видел его энцефалограмму из клиники.
Всякий раз, сидя напротив Хэнка и докладывая, Фред чувствовал в себе глубо-
кую перемену. Он начинал относиться ко всему рационально, смотрел на происхо-
дящее как бы со стороны. О ком бы ни шла речь, что бы ни произошло, ничего не
вызывало эмоционального отклика.
Сперва он приписывал это действию костюма-болтуньи — физически они с Хэнком
никак не чувствовали друг друга. Потом пришел к выводу, что дело не в костю-
ме, а в самой ситуации. Что толку от вовлеченности, если ты обсуждаешь пре-
ступления, совершенные людьми, близкими тебе и, как в случае Донны и Лакмена,
дорогими? Надо нейтрализовать себя, и они оба делали это — Фред даже в боль-
шей степени, чем Хэнк. Они говорили в нейтральных тонах, они нейтрально вы-
глядели, они стали нейтральными.
Потом чувства возвращались, лились потоком... Возмущение, ужас, горе. Кошмар-
ные образы и сцены прокручивались в мозгу, как кино. Внезапно, без всяких
анонсов, и со звуком, который ничем нельзя было заглушить.
А пока, сидя за столом, Фред ничего не ощущал. Он мог описать все увиденное
с полным безразличием. И что угодно выслушать от Хэнка. Например, он мог за-
просто сказать: «Донна умирает от гепатита и старается заразить своей иглой
как можно больше приятелей. Надо бы надавать ей как следует по башке, чтобы
прекратила этим заниматься». О своей собственной девушке... Или: «Вчера Донна
наширялась дешевым суррогатом ЛСД, и половина кровеносных сосудов у нее в
мозгу полопалась». Или: «Донна мертва». И Хэнк спокойно запишет сообщение,
только, может быть, спросит: «У кого она купила дозу?» или: «Где будут похо-
роны? Надо выяснить номера машин и фамилии присутствующих», — и он будет
хладнокровно это обсуждать.
Перемена в Аркторе-Фреде была вызвана необходимостью беречь чувства. Пожар-
ные , врачи и гробовщики ведут себя точно так же. Невозможно каждую секунду
восклицать и рыдать — сперва изведешь себя, а потом и окружающих. У человека
есть предел сил.
Хэнк не навязывал Фреду своего бесстрастия, он как бы «разрешал» перенимать
его. Фред это понимал и ценил.
— А как насчет Арктора? — поинтересовался Хэнк.
Каждый агент, находясь в костюме-болтунье, естественно, докладывал и о се-
бе . Иначе его начальник — и весь полицейский аппарат — знал бы, кто такой
Фред, несмотря на костюм. «Крысы» в Отделе не преминули бы донести своим, и
очень скоро Боб Арктор, куря травку и закидываясь вместе с дружками, тоже на-
чал бы замечать позади себя какого-нибудь безногого киллера на тележке, при-
чем отнюдь не из галлюцинации, как Джерри Фабин.
— Арктор ведет себя тише воды ниже травы, — сообщил Фред. — Работает у себя
на фирме и закидывает пару таблеточек смерти каждый день...
— Сомневаюсь. — Хэнк взял со стола листок. — Мы получили сигнал от информа-
тора, довольно надежного: у Арктора водятся большие деньги. Пришлось поинте-
ресоваться, сколько он получает в своей фирме. Оказывается, совсем немного. А
когда спросили почему, то выяснилось, что он вообще работает там неполную не-
делю.
— Так... — мрачно протянул Фред, понимая, что «большие деньги» — это как раз
то, что ему платили в полицейском управлении. Каждую неделю он забирал пачку
мелких купюр из специальной машины, замаскированной под автомат для продажи
газировки в одном из баров. В основном шло вознаграждение за информацию, ко-
торая приводила к арестам и конфискациям товара. Иногда суммы бывали довольно
солидными — в случае, если удавалось взять крупную партию героина.
— По данным нашего информатора, — продолжал Хэнк, — Арктор частенько таин-
ственным образом исчезает, особенно по вечерам. Вернувшись домой, он ест, а
потом под разными предлогами уходит опять, иногда почти сразу. — Человек в
костюме-болтунье поднял глаза на Фреда. — Вы замечали что-нибудь подобное?
Можете подтвердить? Что это означает?
— Скорее всего, сидит у своей цыпочки, Донны.
— Хм, «скорее всего»... Вы обязаны знать.
— У Донны, точно. Он трахает ее круглые сутки. — Арктору-Фреду было страшно
неловко. — Но я проверю и сообщу. Кто информатор? Может, у него зуб на Аркто-
ра?
— Откуда я знаю? Это был телефонный звонок. Отпечатка голоса нет — звонив-
ший говорил через какую-то электронную штуковину, самодельную. — Костюм Хэнка
издал странный металлический смешок. — Но ее вполне хватило.
— Боже! — возмутился Фред. — Так это же Джим Баррис! Этот вконец ошизевший
торчок просто-напросто хочет опустить Арктора. Баррис еще в армии занимался
всякой электроникой. Как информатору я бы ему ни на грош не верил.
— Мы не знаем, Баррис ли это, и, кроме того, Баррис — не просто вконец оши-
зевший торчок. Им особо занимаются несколько людей... Но эти данные вам не нуж-
ны, во всяком случае — пока.
— Так или иначе, это один из друзей Арктора, — сказал Фред.
— И донес из мести, без всякого сомнения. Ох уж эти торчки — то и дело сту-
чат друг на дружку. Да, Арктора он, по-видимому, знает довольно близко.
— Верный друг, — криво усмехнулся Фред.
— Ладно, нам это на руку. В конце концов, вы сами занимаетесь тем же.
— Я это делаю не из злобы.
— А из каких соображений?
— Будь я проклят, если знаю, — подумав, сказал Фред.
— Теперь так, Уикса отставляем, — распорядился Хэнк. — Пока главный объект
вашего наблюдения — Боб Арктор. У него есть второе имя? Он употребляет иници-
ал...
Фред издал сдавленный механический звук.
— Почему Арктор?
— Тайное финансирование, загадочное времяпрепровождение, множество врагов...
Какое у него второе имя? — Хэнк в ожидании занес ручку над листом бумаги.
— Послтуэйт.
— Как это пишется?
— Хрен его знает, спросите что полегче.
— Так... Послтуэйт... — пробормотал Хэнк, выписывая буквы. — Что за имя, инте-
ресно...
— Валлийское, — ответил Фред. Он едва слышал, перед глазами все плыло. — Вы
что, собираетесь поставить его квартиру на прослушивание?
— Установим новую голографическую систему, это еще лучше. Думаю, вам пона-
добятся записи и распечатки. — Хэнк принялся писать.
— Видимо, да, — пробормотал Арктор-Фред. Он чувствовал, что отключается, и
мечтал о том, чтобы все скорее закончилось. И еще: закинуться бы парой табле-
ток...
Напротив него бесформенное пятно что-то писало и писало, заполняя бланки и
требования на оборудование, с помощью которого он должен будет установить
круглосуточное наблюдение за своим собственным домом, за самим собой.
...Вот уже больше часа Баррис возился с самодельным глушителем, смастеренным
из подручных средств стоимостью одиннадцать центов. Он почти добился цели,
располагая лишь алюминиевой фольгой и куском пористой резины.
В ночном мраке заднего двора дома Боба Арктора, среди мусорных куч и зарос-
лей кустарника, Баррис готовился произвести пробный выстрел.
— Соседи услышат, — беспокойно проговорил Чарлз Фрек. Он опасливо косился
на освещенные окна окрестных домов; должно быть, смотрят себе телик или поку-
ривают травку.
— Здесь сообщают только об убийствах, — сказал Лакмен, держась в стороне.
— Зачем тебе глушитель? — спросил Барриса Фрек. — Глушители запрещены.
— В условиях нашего вырождающегося общества и всеобщей испорченности каждый
стоящий человек должен быть постоянно вооружен, — мрачно заявил Баррис. — Для
самообороны.
Он прищурил глаза и выстрелил. Раздался дикий грохот, на время оглушивший
всех троих. Вдали залаяли собаки.
Баррис с улыбкой стал разворачивать алюминиевую фольгу. Ему, казалось, было
забавно.
— Вот так глушитель... — выдавил Чарлз Фрек, ожидая появления полиции. Десят-
ка полицейских машин.
— В данном случае звук скорее усилился, — объяснил Баррис, показывая Лакме-
ну кусок прожженной резины. — Но в принципе я прав.
— Сколько стоит этот пистолет? — спросил Чарлз Фрек. Он никогда не держал
пистолета. Несколько раз у него были ножи, но их вечно крали.
— Пустяки, — ответил Баррис. — Подержанный, как этот, — около тридцати дол-
ларов . — Он протянул пистолет Фреку, и тот с опаской попятился. — Я продам
его тебе, ты обязательно должен иметь оружие, чтобы защищаться от обидчиков.
— Их хоть пруд пруди, — иронично вставил Лакмен. — Видел на днях объявление
в «Лос-Анджелес тайме»? Предлагают транзисторный приемник тому, кто удачнее
всех обидит Фрека.
— Хочешь, я дам тебе за него тахометр Борга-Уорнера? — предложил Фрек.
— Который ты спер из гаража того парня напротив, — ехидно заметил Лакмен.
— Ну и что, пистолет, небось, тоже краденый, — обиделся Фрек. Почти все
стоящие вещи были когда-нибудь украдены: это лишь указывало на их ценность. —
И, кроме того, тот парень первым его спер: эта вещь переходила из рук в руки
раз пятнадцать. Наверняка очень клевый тахометр.
— Откуда ты знаешь, что он его спер? — ухмыльнулся Лакмен.
— Ха, да у него их восемь штук в гараже, и из всех торчат отрезанные прово-
да. Откуда бы он их еще взял? Может, пошел и купил? Восемь тахометров?
Лакмен повернулся к Баррису:
— Я думал, ты корпишь над цефаскопом. Уже сделал?
— Я не могу сидеть над ним день и ночь: работа очень сложная, — объяснил
Баррис. — Мне нужно отдыхать. — Он отрезал перочинным ножиком еще один кусок
пористой резины. — Этот будет совершенно бесшумным.
— Боб думает, что ты работаешь над цефаскопом, — пробормотал Лакмен. — Ле-
жит сейчас в постели и думает, а ты тут лупишь из пистолета. Ты ведь сам со-
глашался с Бобом, что должен отработать долг за квартиру...
— Ага, сейчас... — надулся Баррис. — Тщательная кропотливая работа по рекон-
струкции поврежденной электронной схемы стоит...
— Ладно-ладно, давай стреляй из своего чуда света за одиннадцать центов, —
ухмыльнулся Лакмен и рыгнул.
С меня довольно, думал Боб Арктор.
Он лежал в темной спальне, слепо глядя в потолок. Под подушкой был его по-
лицейский револьвер: он автоматически достал его из-под кровати и положил по-
ближе, когда услышал выстрел в заднем дворе. Чисто машинальное действие, на-
правленное против любой и всяческой опасности.
Но револьвер под подушкой не защитит от такого изощренного коварства, как
порча самой дорогой и ценной вещи. Вернувшись домой после доклада Хэнку, Арк-
тор сразу же проверил остальное имущество, особенно машину. В такой ситуации
машина — самое главное. Что бы ни происходило, кем бы ни был таинственный
враг, следует быть готовым ко всему. Какой-то ополоумевший торчок старается
ему нагадить, не попадаясь на глаза. Даже не человек, а скорее ходячий и ук-
рывающийся симптом их образа жизни.
А ведь было время, когда он жил не так. Не надо было прятать под подушкой
револьвер, и один псих не стрелял ночью во дворе бог1 знает с какой целью; а
другой псих (впрочем, может, и тот же самый) не ломал невероятно дорогой це-
фаскоп, который всем приносил радость... В те дни жизнь Роберта Арктора текла
иначе: у него была жена как все жены, две маленькие дочурки, приличный дом,
чистый и прибранный. Даже газеты всегда подбирали с дорожки и относили в му-
сорный бак. Иногда их читали... Но однажды, вытаскивая из-под раковины электро-
печь для попкорна, Арктор ударился головой об угол кухонной полки. Острая
боль, такая внезапная и незаслуженная, каким-то образом прочистила ему мозги.
Он осознал, что ненавидит не полку — он ненавидит задний дворик с газоноко-
силкой, гараж, центральное отопление, дорожку перед домом, изгородь, сам про-
клятый дом и всех, кто в нем живет. Он захотел уйти, он захотел развода. И
получил, что хотел почти сразу. И вступил постепенно в новую суровую жизнь,
где всего этого не было.
Возможно, ему следовало бы пожалеть о своем решении. Однако сожаления он не
испытывал. Та жизнь была слишком скучна, слишком предсказуема, слишком безо-
пасна. Все элементы, ее составляющие, находились прямо перед глазами, и ниче-
го неожиданного случиться не могло. Словно пластиковая лодка, которая будет
держаться на плаву вечно, пока наконец не затонет, ко всеобщему тайному об-
легчению .
Зато в том мрачном мире, где он обитал теперь, в кошмарных неожиданностях,
и странных неожиданностях, и, крайне редко, приятных неожиданностях недостат-
ка не было. Случиться могло что угодно. Хотя бы вот варварская порча цефало-
хромоскопа, единственной отдушины в его жизни. Рассуждая здраво, совершенно
бессмысленная. Впрочем, очень мало из того, что происходило долгими темными
вечерами, можно было бы назвать здравым в точном смысле этого слова. Загадоч-
ный акт мог совершить кто угодно и по самой невероятной причине. Любой чело-
век , которого он знал или встречал. Любой из восьми дюжин всевозможных свих-
нувшихся шизиков. Вообще любой, совершенно незнакомый псих, выбравший наугад
фамилию из телефонной книги.
Или ближайший друг.
Может быть, Джерри Фабин — еще до того, как его повязали. У Джерри были аб-
солютно выгоревшие мозги. Эти букашки... Обвинял Донну — и всех девчонок вооб-
ще, — что они его заразили. Но если бы Джерри решил мстить, то выбрал бы сво-
им объектом Донну. И в любом случае Джерри вряд ли сумел бы снять нижнюю па-
нель ; скорее всего, он до сих пор торчал бы здесь, откручивая и закручивая
один и тот же винт. Или попросту разбил бы все молотком. Так или иначе, будь
это дело рук Джерри Фабина, кругом валялись бы яйца тли... Боб Арктор криво ус-
мехнулся про себя.
Бедный придурок, подумал он с грустью. Еще один из длинного списка жалких
существ со сгнившими мозгами. Биологический организм продолжает функциониро-
вать , однако сознание, душа — все мертво. Остались лишь механические рефлек-
сы, как у насекомого. Интересно, каким Джерри был раньше? Чарли Фрек уверял,
что когда-то Джерри соображал прилично.
Поделиться с Хэнком? Они бы сразу разобрались, кому это нужно. Вот только
что изменится? В такой работе риск неизбежен.
Она не стоит того, эта работа, подумал Арктор. Не стоит всех денег на про-
клятой планете. Хотя дело все равно не в деньгах. «Как вы решились?» — спро-
сил однажды Хэнк. А что человек знает об истинных мотивах своих поступков?
Может быть, скука, стремление действовать. Тайная неприязнь к окружающим. Или
кошмарная причина: наблюдать человеческое существо, которое ты глубоко лю-
бишь , которое ты обнимал и целовал и, главное, которым ты восхищался, — ви-
деть , как это теплое живое существо выгорает изнутри, начиная с сердца. Пока
не защелкает, как насекомое, без конца повторяя одну и ту же фразу. Запись.
Замкнутая петля пленки.
«Мне бы еще одну дозу...»
И будет повторять это, даже когда три четверти мозга превратятся в кашу,
как у Джерри Фабина.
«Мне бы еще одну дозу, и все наладится».
Ему представилась картина: мозг Джерри Фабина в виде исковерканной схемы
цефалохромоскопа — погнутые, перекушенные, спаленные провода, оторванные кон-
цы, вьющийся дымок и едкий запах. И кто-то сидит с вольтметром, замеряет цепи
и бормочет: «Да-а, надо менять почти все конденсаторы и сопротивления...». И,
наконец, от Джерри Фабина пойдет один только белый шум. И с ним бросят во-
зиться. Так и цефаскоп, сделанный на заказ за тысячу долларов, чини его не
чини, в конце концов, высветит на экране лишь тусклый серый фон, а в уголке
будут мигать слова: МНЕ БЫ ЕЩЕ ОДНУ ДОЗУ... Тогда останется только взять цефа-
скоп, не подлежащий восстановлению, и Джерри Фабина, также не подлежащего
восстановлению, и выбросить их в один и тот же мусорный бак.
Ладно, подумал Арктор, в конце концов, кому нужен Джерри Фабин — кроме, ра-
зумеется, самого Джерри Фабина? Однажды Джерри размечтался о том, как сделает
шикарную телевизионную систему с двухметровым экраном и квадрозвуком и пода-
рит своему другу, а когда его спросили, как он собирается дотащить эту махину
от своего гаража к другу домой, ответил: «Нет проблем, она будет складная. Я
уже купил петли — просто сложу ее, положу в конверт и пошлю по почте».
По крайней мере, усмехнулся Арктор, нам не придется больше выметать из дому
тлей после его визитов. Однажды они придумали историю (точнее, Лакмен приду-
мал, у него это лихо получается) — психиатрическое объяснение бзика с букаш-
ками . Разумеется, все коренится в детстве.
Приходит однажды Джерри-первоклашка домой, зажимая под мышкой свои малень-
кие книжечки, весело насвистывает — глядь, а в гостиной рядом с матерью сидит
этакая здоровенная тля размером с него самого, и мать с обожанием на нее
смотрит.
— Что это? — спрашивает крошка Фабин.
— Перед тобой твой старший брат, — говорит мать. — Теперь он будет жить с
нами. Его я люблю больше, чем тебя. Он способен на такое, что тебе и не сни-
лось .
И с тех пор родители Джерри Фабина постоянно сравнивают его с этим самым
братом, который на самом деле тля, и унижают как могут. По мере того как они
с тлей растут, у Джерри вырабатывается комплекс неполноценности — что вполне
естественно. Окончив школу, брат продолжает учебу в колледже, а Джерри идет
работать на бензоколонку. Потом брат-тля становится знаменитым врачом или
ученым; ему присуждают Нобелевскую премию. Джерри протирает ветровые стекла и
меняет колеса за полтора доллара в час. Отец и мать никогда не упускают слу-
чая проехаться на его счет. «Куда тебе до брата!» — повторяют они то и дело.
Наконец Джерри убегает из дома. Но подсознательно он убежден в превосходст-
ве тли. Сперва он воображает себя в безопасности; потом ему начинает повсюду
мерещиться тля — сначала в волосах, а потом и во всем доме, — поскольку ком-
плекс неполноценности успел перерасти в сексуально окрашенное чувство вины, а
тля служит как бы наказанием, которое он сам навлекает на себя, и так далее.
Теперь история вовсе не кажется смешной. Теперь — корда по просьбе его же
друзей Джерри посреди ночи забрали. Они сами — все, кто был тогда с Джерри, —
так решили: иного выхода не оставалось. Той ночью Джерри забаррикадировал
двери дома, навалил фунтов девятьсот всякого хлама, включая диван, и стулья,
и холодильник, и телевизор, и сообщил, что снаружи поджидает его гигантская
сверхразумная тля с иной планеты, а сейчас она собирается ворваться и нало-
жить на него лапы. Прилетят и другие, даже если с этой он расправится. Вне-
земные тли гораздо умнее людей и, если потребуется, пройдут прямо сквозь сте-
ны, тем самым, обнаруживая свои тайные способности. Чтобы уберечь себя как
можно дольше, ему придется залить дом цианистым газом. И он готов к этому.
Каким образом? Он уже законопатил все окна и двери и теперь откроет воду в
ванной и на кухне. Оказывается, водяной бак в гараже заполнен цианидом, а не
водой. Он давно это знал и берег на крайний случай. Они все погибнут, но, по
крайней мере, не впустят сверхразумных тлей.
Его друзья позвонили в полицию. Полиция взломала дверь, и Джерри забрали в
клинику. В последний момент Джерри сказал: «Принесите мне мою новую куртку —
ту, что отделана бисером на спине». Он только что ее купил, она ему очень
нравилась. Практически единственная вещь, которая ему нравилась; все осталь-
ное он считал зараженным.
Нет, подумал Боб Арктор, какой уж тут смех. Даже непонятно, как это вообще
могло казаться забавным. Наверное, виноват страх, кошмарный страх, который
все они испытывали в те последние недели. Порой Джерри ночью бродил по дому с
ружьем, ощущая присутствие врага. Готовый стрелять первым.
А теперь, думал Боб Арктор, враг появился у меня. Во всяком случае, я напал
на его след, на оставленные им знаки. Еще один доходяга на последней стадии,
вроде Джерри. Да, если уж эта штука въедет по башке, то мало не покажется. Не
хуже нового «форда» со сверхмощным движком из телерекламы.
В дверь спальни постучали.
— Кто там?
— Ку-ку, — ответил голос Барриса.
— Входи, — сказал Арктор и включил ночник.
Баррис вошел в комнату, его глаза возбужденно поблескивали.
— Еще не спишь?
— Я видел сон, — сказал Арктор. — Религиозный. Оглушительный раскат грома,
и вдруг небеса раскалываются, и появляется Господь Бог, и голос Его гремит...
Что Он там наплел, черт побери?.. Ах да. «Я раздосадован, сын мой». Бог ухмы-
ляется. Я дрожу во сне и поднимаю взор вверх. «Что я натворил, Господи?» А Он
отвечает: «Ты опять не завернул тюбик с зубной пастой». И тогда я понимаю,
что это моя бывшая жена.
Баррис сел, погладил руками колени, обтянутые кожаными штанами, покачал го-
ловой и посмотрел прямо на Арктора. Судя по всему, у него было превосходное
настроение.
— Ну, — деловито сообщил он, — я приготовил в первом приближении кое-какие
теоретические выводы о личности, виновной в порче твоего цефаскопа, от кото-
рой, кстати, можно ждать в дальнейшем подобных же действий.
— Если ты хочешь сказать, что это Лакмен...
— С-слушай, — возбужденно раскачиваясь, перебил Баррис. — Что, если я скажу
тебе, что я давно предвидел серьезное повреждение какого-нибудь нашего домаш-
него имущества, особенно дорогого и трудно поддающегося ремонту? Моя теория
требовала того! И сейчас, таким образом, я получил доказательство!
Арктор не сводил с него глаз.
Медленно осев в кресле, Баррис вновь принял спокойный и насмешливый вид.
— Ты... — сказал он, указав пальцем.
— Это сделал я?.. — проговорил Арктор. — Сжег свой собственный, незастрахо-
ванный цефаскоп... — В нем закипели отвращение и ярость. Уже поздняя ночь, надо
спать...
— Нет-нет, — быстро возразил Баррис, болезненно сморщившись. — Ты смотришь
на виновного. На того, кто испортил твой цефаскоп. В этом-то я и хотел при-
знаться, но мне не позволяли открыть рта.
— Это сделал ты? — ошарашено спросил Арктор, глядя на Барриса, чьи глаза
сверкали каким-то неясным торжеством. — Зачем?
— Точнее, теория утверждает, что это я, — сказал Баррис. — Очевидно, прину-
ждаемый постгипнотическим внушением. И блокировка памяти, чтобы ничего не
помнил.
Он начал смеяться.
— Позже, — рявкнул Арктор и выключил свет.
Баррис поднялся.
— Неужели ты не понимаешь?.. Я разбираюсь в электронике и имею доступ — я
тут живу. Единственно, чего я не могу понять, — это мои мотивы.
— Ты это сделал, потому что ты псих, — сказал Арктор.
— Возможно, меня наняли тайные силы... — недоуменно бормотал Баррис. — Но что
ими движет? Какова цель? Посеять среди нас подозрение и тревогу, вызвать раз-
лад и антипатию, настроить друг против друга, чтобы мы не знали, кому дове-
рять , кто враг...
— Тогда они добились успеха, — заметил Арктор.
— Но зачем им это? — воскликнул Баррис; его руки дрожали. — Столько хлопот:
снимать нижнюю панель, подбирать ключ ко входной двери...
Скорей бы получить голографические камеры и установить их по всему дому,
подумал Арктор. Он прикоснулся к револьверу и ощутил прилив уверенности. Мо-
жет быть, проверить магазин? Впрочем, тогда он начнет сомневаться, не закли-
нило ли барабан, не стерся ли ударник, не высыпался ли порох из патронов, и
так до бесконечности, с одержимостью, как маленький мальчик, пересчитывающий
трещины на тротуаре, чтобы совладать со страхом. Маленький Бобби Арктор, пер-
воклашка, возвращающийся домой со своими маленькими учебничками, перепуганный
до смерти лежащей впереди неизвестностью.
Протянув руку, он начал шарить по спинке кровати, пока не нащупал наклеен-
ную полоску скотча. Затем, не обращая внимания на Барриса, отодрал ее, и в
ладонь упали две таблетки препарата «С». Арктор закинул их в рот, проглотил
прямо так, без воды, и, вздохнув, бессильно упал на подушку.
— Свали, — сказал он Баррису.
И заснул.
Глава 5
Бобу Арктору надо было на некоторое время покинуть дом, чтобы там установи-
ли подслушивающую и подсматривающую аппаратуру.
Обычно за домом следят до тех пор, пока из него не уходят все проживающие и
можно предположить их длительное отсутствие. Порой агенты вынуждены ждать не-
делями. В конце концов, если ничего не получается, жильцов удаляют под каким-
нибудь благовидным предлогом, например в связи с травлей тараканов.
Но в данном случае подозреваемый Роберт Арктор очень кстати уехал сам, при-
хватив с собой обоих жильцов, чтобы взять напрокат цефалохромоскоп, пока Бар-
рис не починит сломанный. Соседи видели, как все трое с серьезным и целеуст-
ремленным видом уселись в машину Арктора. Позже из подходящего места — теле-
фона-автомата на бензоколонке — Фред доложил, изменив голос с помощью элек-
троники костюма-болтуньи, что до конца дня в доме определенно никого не бу-
дет. По его словам, он подслушал, как жильцы втроем обсуждали предстоящую по-
ездку в Сан-Диего, где у одного типа был дешевый краденый цефаскоп. Всего
пятьдесят баксов — за такую цену имело смысл смотаться.
Кроме того, это предоставляло властям удобную возможность пошарить по зако-
улкам более тщательно, чем обычно удавалось тайным агентам. Нужно было ото-
двинуть шкафы и проверить, не приклеено ли чего сзади. Нужно было развинтить
торшеры и посмотреть, не посыплются ли оттуда сотни таблеток. Нужно было за-
глянуть в туалетный бачок — нет ли пакетиков, пристроенных так, чтобы легко
смывались водой. Нужно было проверить холодильник, не лежат ли там заморожен-
ные наркотики в упаковках от жареной картошки и фасоли. А тем временем поли-
цейские техники установят хитрые голографические видеокамеры и проверят, как
они работают. Аудиоаппаратуру также поставят, но с ней было легче. Располо-
жить все это незаметно в нужных местах чертовски трудно, и техникам хорошо
платили — если они давали промашку и камеру потом находили жильцы, эти жильцы
сразу просекали, что находятся под колпаком, и сворачивали свою деятельность.
А иногда просто снимали следящую систему и с потрохами ее продавали. Доказы-
вать факт воровства в суде весьма непросто, полиция в таких случаях может
лишь придраться к какому-нибудь пустяку. Толкачи же, напротив, реагировали в
подобной ситуации куда более резко. Арктор припомнил, как один посредник, же-
лая убрать цыпочку, запрятал в ручку ее утюга два пакетика героина, а потом
сделал анонимный звонок в отдел «МЫ СООБЩАЕМ». Получилось так, что девушка
сама нашла героин и продала его. Полиция, естественно, ничего не обнаружила и
по записи голоса арестовала толкача за дезинформацию. Освободившись под за-
лог, толкач ночью заявился к цыпочке и избил ее до полусмерти. На вопрос, по-
чему он выбил ей глаз и сломал обе руки и парочку ребер, пойманный толкач от-
ветил, что она продала принадлежавшие ему два пакетика высокопробного героина
и не взяла его в долю.
Арктор высадил Лакмена и Барриса — искать парня с цефаскопом; таким обра-
зом, они не могли внезапно вернуться домой и застукать техников, а Арктору
представлялась возможность повидать одну знакомую, которую он не встречал
больше месяца. Он вообще редко посещал этот район. Цыпочка вроде держалась —
ничего, кроме «смеси» пару раз в день и улицы, чтобы заработать на дозу. Она
жила с толкачом; обычно Дан Манчестер днем дома не сидел. Он тоже употреблял
наркотики, но что конкретно, Арктор не знал. Скорее всего, разные. Так или
иначе, тип был свирепый и жестокий, непредсказуемый и опасный. Чудо, что ме-
стная полиция не привлекала его за нарушение общественного порядка. Может,
откупался. А скорее всего, им было просто наплевать: в районе трущоб жили од-
ни старики да нищета. Полиция наведывалась в эти кварталы лишь в случае тяж-
ких преступлений.
Арктор остановил машину у пропахшего мочой подъезда и поднялся к двери «Г».
Перед дверью валялась полная банка «Драно», и он машинально ее поднял, поду-
мав при этом: «Сколько детей с ней играли?..» И на миг вспомнил своих собст-
венных детей...
Арктор заколотил банкой в дверь.
Щелкнул замок. Дверь приоткрылась, и из-за цепочки выглянула девушка, Ким-
берли Хокинс.
— Да?
— Здорово. Это я, Боб.
— Что это у тебя?
— Банка «Драно».
Вялым движением она сняла цепочку; голос ее тоже был вялым. Под глазом кра-
совался синяк, разбитая губа опухла. Арктор заметил, что окна маленькой гряз-
ной квартиры разбиты; осколки стекла валялись на полу вместе с перевернутыми
пепельницами и бутылками из-под кока-колы.
— Ты одна? — спросил он.
— Да. Мы поцапались, и Дан ушел.
Девушка — наполовину мексиканка, маленькая, некрасивая, с болезненно блед-
ным лицом кокаинистки — безжизненно смотрела вниз, подслеповато щурясь. Арк-
тор заметил, что голос у нее хриплый. Может, причина в наркотиках, а может, в
простуде — из-за разбитых окон в комнате было холодно.
— Он тебя отделал.
Арктор поставил банку «Драно» на полку с несколькими замусоленными порно-
графическими журналами.
— Еще хорошо, что у него не было ножа. Он теперь носит охотничий нож на
поясе, в ножнах. — Кимберли опустилась на стул с торчащими из него пружинами.
— Чего тебе, Боб? Мне совсем погано, правда.
— Хочешь, чтобы он вернулся?
Она пожала плечами.
Арктор подошел к окну и выглянул на улицу. Дан Манчестер, безусловно, объя-
вится рано или поздно. Девушка была источником денег, а Дан знал, что ей по-
надобится доза, как только кончится запас.
— Надолго тебе хватит?
— Еще на день.
— Не можешь достать в другом месте?
— Могу, но не так дешево.
— Что у тебя с горлом?
— Простуда. Ветер задувает.
— Ты бы сходила...
— Если я пойду к врачу, он поймет, что я нюхаю. Я не могу.
— Ему наплевать.
— Нет.
Она прислушалась.
— По-моему, машина Дана. Красный «Форд торино — семьдесят девять»?
Арктор кинул взгляд на захламленную стоянку. Туда въезжал побитый «торино»,
выпуская из обеих выхлопных труб клубы черного дыма.
— Да.
Кимберли заперла дверь на два дополнительных замка.
— Он, наверное, с ножом.
— у тебя есть телефон?
— Нет.
— Нужно поставить.
Она снова пожала плечами.
— Он убьет тебя, — сказал Арктор.
— Не убьет, здесь ты.
— А когда я уйду?
Кимберли села и снова пожала плечами.
Через минуту они услышали шаги, а затем раздался стук в дверь. В ответ Ким-
берли закричала, что не одна.
— Ну ладно! — высоким голосом завопил Дан. — Я проколю тебе шины!
Он помчался вниз. Арктор и девушка увидели из разбитого окна, как Дан Ман-
честер — тощий, коротко остриженный, похожий на голубого, — размахивая ножом,
подбежал к машине, при этом продолжая орать так, что слышно было по всей ок-
руге.
— Я порежу твои шины, твои сучьи шины! А потом зарежу тебя, сука!
Он нагнулся и проколол сперва одну, а потом вторую шину старенького «дод-
жа».
Кимберли внезапно очнулась, прыгнула к двери и стала рвать замки.
— Я должна остановить его! Машина не застрахована!
Арктор схватил ее за руки. Револьвер он, разумеется, не носил, а у Дана был
нож.
— Шины не главное...
— Мои шины! — Исступленно крича, девушка пыталась вырваться.
— Он только и хочет, чтоб ты вышла, — урезонивающе сказал Арктор.
— Вниз, — задыхаясь, проговорила Кимберли. — У соседей есть телефон. Позво-
ним в полицию. Пусти меня! — Она с неожиданной силой вырвалась и сумела от-
крыть дверь. — Я позвоню в полицию! Мои шины! Одна из них совсем новая!
— Я с тобой.
Арктор попытался ухватить ее за плечо, но она уже сбегала по лестнице и ко-
лотила в дверь.
— Пожалуйста, впустите! Мне надо позвонить в полицию! Пожалуйста, дайте по-
звонить !
Арктор тоже подошел к двери и постучал.
— Нам надо воспользоваться телефоном. Дело срочное.
Дверь открыл старик в сером свитере, галстуке и выглаженных форменных брю-
ках.
— Спасибо, — сказал Арктор.
Кимберли протиснулась внутрь, подбежала к телефону и набрала номер. Все
молчали; раздавался только голос девушки. Сбиваясь и путаясь, она тараторила
что-то о ссоре из-за пары ботинок ценой в семь долларов.
— Он говорит, что это его ботинки, потому что я подарила их ему на Рождест-
во, но они мои, потому что деньги платила я. А он стал отбирать их, и я поре-
зала подошвы открывалкой, и тогда... — Она замолчала, потом, кивая: — Да, хоро-
шо, спасибо, буду ждать...
Старик смотрел на Арктора. Из соседней комнаты с немым ужасом выглядывала
пожилая женщина в ситцевом платье.
— Вам, наверное, нелегко, — обратился к ним Арктор.
— Ни минуты покоя, — пожаловался старик. — Каждую ночь скандалы... Он все
время грозит убить ее.
— Нам надо было вернуться в Денвер, — сказала женщина. — Говорила тебе, на-
до вернуться в Денвер.
— Ужасные драки, — продолжал старик. Он не сводил глаз с Арктора, взывая о
помощи или, может быть, о понимании. — Шум, грохот... круглые сутки, без пере-
дышки, а потом, что еще хуже, знаете, каждый раз...
— Да, скажи ему, — подбодрила пожилая женщина.
— Что еще хуже, — с достоинством проговорил старик, — каждый раз, когда мы
выходим... ну, в магазин или отправить письмо, мы наступаем... знаете, что остав-
ляют собаки...
— Кал! — с негодованием закончила женщина.
Наконец прибыла машина местной полиции. Арктор дал свидетельские показания,
скрыв, что сам служит в полиции. Сержант записал его слова и пытался расспро-
сить Кимберли как потерпевшую, но в ее лепетании не было ни капли смысла: она
продолжала твердить о паре ботинок, о том, как она хотела их забрать и что
они значат для нее. Полицейский, строча в блокноте, кидал на Арктора холодные
взгляды, значения которых Арктор не понял, явно недружелюбные. Наконец сер-
жант посоветовал Кимберли звонить, если хулиган вернется и будет поднимать
шум.
— Вы отметили порезанные шины? — спросил Арктор, когда полицейский собрался
уходить. — Вы осмотрели ее машину на стоянке? Порезы сделаны недавно — из шин
еще выходит воздух.
Полицейский снова смерил его странным взглядом и, не говоря ни слова, уда-
лился .
— Тебе не стоит здесь оставаться, — сказал Арктор девушке. — Он должен был
посоветовать тебе это и спросить, можешь ли ты куда-нибудь перебраться.
Кимберли опустилась на ветхую кушетку в загаженной гостиной, и глаза ее
сразу потускнели. Она пожала плечами.
— Я отвезу тебя, — предложил Арктор. — У тебя есть подруга, у которой...
— Убирайся к черту! — вдруг взорвалась Кимберли. Она вопила совсем как Дан
Манчестер, только более хрипло. — Убирайся к черту, Боб Арктор! Пошел вон!
Вон, черт побери! Ты уйдешь или нет?
Ее голос перешел на пронзительный визг и сорвался.
Он вышел и медленно спустился по лестнице, тяжело шагая по ступенькам. Что-
то звякнуло и покатилось вслед за ним — банка «Драно». Сзади хлопнула дверь,
защелкали замки. Тщетная предосторожность, подумал Арктор. Все тщетно. Поли-
цейский советует звонить, если хулиган вернется. А как она позвонит, не выхо-
дя из квартиры? Или выйдет — и Дан Манчестер тут же пырнет ее ножом, словно
шину. И — кстати, о жалобе стариков снизу — она сперва шагнет, а потом за-
мертво свалится в собачье дерьмо... Арктора разобрал истерический смех: у этих
стариков странные приоритеты. Не только свихнувшийся наркоман у них над голо-
вой каждую ночь избивает и грозит убить и, очевидно, скоро убьет молодую де-
вушку — наркоманку и проститутку, которая, безусловно, больна гриппом и, на-
верное, кое-чем похуже, но еще к тому же...
— Собачье дерьмо... — усмехнулся он, уже сидя в машине с Лакменом и Баррисом.
— Собачье дерьмо.
Смешная штука, если вдуматься. Забавное собачье дерьмо.
— Обгони ты этот грузовик, — нетерпеливо сказал Лакмен. — Еле плетется,
сволочь.
Арктор выехал на левую полосу и набрал скорость. Но потом, когда он убрал
ногу с газа, педаль неожиданно провалилась, мотор яростно взревел, и машина
рванулась вперед.
— Потише! — одновременно воскликнули Лакмен и Баррис.
Машина разогналась до ста миль в час; впереди замаячил огромный фургон. И
сидящий рядом Лакмен, и сидящий сзади Баррис инстинктивно выставили вперед
руки. Арктор вывернул руль и проскочил фургон прямо перед носом у встречного
«корвета». Лакмен и Баррис уже кричали. «Корвет» отчаянно загудел; завизжали
тормоза. Лакмен потянулся и выключил зажигание; Арктор тем временем сообразил
поставить нейтральную передачу и все жал на тормоз, уходя вправо. Наконец ма-
шина с мертвым двигателем вкатила на аварийную полосу и потихоньку останови-
лась .
«Корвет», уже издалека, негодующе просигналил. Проезжающий мимо гигантский
самосвал присоединился к нему, издав оглушающий рев.
— Какого черта? — пробормотал Баррис.
— Наверное, сломалась возвратная пружина.
Арктор дрожащей рукой махнул вниз, и все уставились на педаль газа, беспо-
мощно вжавшуюся в пол. Также молча они вылезли из машины и подняли капот. От-
туда пошел белый дым, из радиатора выбрызгивала кипящая вода.
Лакмен нагнулся над раскаленным мотором.
— Это не пружина. Это линия от педали к карбюратору. Глядите. Сломан рычаг.
Так что педаль газа не вернулась, когда ты убрал ногу.
— На карбюраторе должен быть ограничитель, — ухмыляясь, сказал Баррис. —
Таким образом, если...
— Почему сломался рычаг? — перебил Арктор. — Разве запорное кольцо не дер-
жит муфту на месте? — Его рука ощупала стержень. — Как же он мог так отва-
литься?
Баррис продолжал, будто ничего не слыша:
— Если линия по какой-то причине нарушается, двигатель должен сбросить обо-
роты до холостых. А вместо этого обороты поднялись до предела. — Он наклонил-
ся , чтобы лучше видеть. — Этот винт вывернут. Винт холостого хода.
— Каким образом? — ошарашено спросил Лакмен. — Случайно?
Вместо ответа Баррис достал из кармана перочинный нож, открыл маленькое
лезвие и начал медленно закручивать регулятор, считая при этом вслух. Винт
сделал двадцать оборотов.
— Чтобы ослабить запорное кольцо и снять муфту, крепящую рычаг акселерато-
ра, нужен специальный инструмент. Даже пара инструментов. Пожалуй, понадобит-
ся не менее получаса, чтобы снова все закрепить. Но у меня в ящике есть все,
что надо.
— Твой ящик с инструментами дома, — напомнил Лакмен.
— Верно, — кивнул Баррис. — Значит, нам придется идти на ближайшую бензоко-
лонку и либо попросить у них инструменты, либо вызвать сюда ремонтную машину.
На мой взгляд, лучше вызвать. Надо хорошенько все проверить, прежде чем снова
садиться за руль.
— Послушай, — произнес Лакмен, — это произошло случайно или кто-то нарочно
подстроил? Как с цефаскопом?
Баррис погрузился в раздумье, продолжая улыбаться своей скорбно-лукавой
улыбкой.
— Не могу сказать однозначно. Как правило, повреждение автомобиля, злост-
ное, имеющее целью вызвать аварию... — Он обратил на Арктора зеленые шторки оч-
ков . — Мы едва не накрылись. Иди этот «корвет» чуть быстрее — и всем нам
крышка. Тебе следовало сразу выключить зажигание.
— Я поставил на нейтралку, — ответил Арктор. — Когда сообразил. В первую
секунду я не мог опомниться.
Если бы это была тормозная педаль, подумал он, я бы сориентировался быст-
рее . А так... уж очень все необычно.
— Кто-то нарочно это сделал! — громогласно объявил Лакмен. Он закружился на
месте, яростно потрясая кулаками. — ПРОКЛЯТЬЕ! Мы чуть не разбились! Черт по-
бери, нас чуть не угробили!
Баррис, стоя на краю дороги, вплотную к проносящимся машинам, достал ма-
ленькую коробочку с таблетками смерти, взял несколько сам, угостил Лакмена,
затем протянул ее Арктору.
— Может, это нас и доканывает, — раздраженно бросил Арктор. — Мутит мозги.
— Травка не может испортить карбюратор, — заявил Баррис, не убирая коробки.
— Закинься, по меньшей мере, тремя, они слабенькие, хотя и чистые.
— Убери эту гадость, — устало произнес Арктор. В голове звенели громкие го-
лоса, сливавшиеся в непонятную жуткую какофонию, — казалось, мир сошел с ума.
Все вокруг — проносящиеся мимо машины, двое приятелей, его собственный авто-
мобиль с поднятым капотом, вонь от выхлопных газов, яркий полуденный свет, —
все приобрело прогорклый привкус, словно мир протух. Словно мир разлагался и
смердел. Арктор почувствовал резкую тошноту, закрыл глаза и содрогнулся.
— Ты что-то унюхал? — спросил Лакмен. — Улика? Какой-то запах от двигателя...
— Собачье дерьмо... — пробормотал Арктор. Этот запах определенно исходил от
мотора. Он нагнулся, принюхался, почувствовал его сильно и безошибочно. Чушь
какая, дикость... — Правда, пахнет собачьим дерьмом? — спросил он Барриса и
Лакмена.
— Нет, — сказал Лакмен, не сводя с него глаз. И обратился к Баррису: — В
твоих таблетках был галлюциноген?
Баррис, улыбаясь, покачал головой.
Арктор нагнулся над горячим двигателем. Он отдавал себе отчет, что на самом
деле никакого запаха нет. И все же его чувствовал. А потом увидел размазанную
по всему мотору, особенно у головок цилиндров, мерзкую бурую массу. Масло,
подумал он, выплеснувшееся масло. Должно быть, прокладки прохудились.
Пальцы прикоснулись к вязкой липкой массе и отдернулись. Он вляпался в со-
бачье дерьмо. Весь блок цилиндров, все провода покрывал слой собачьего дерь-
ма. Переместив взгляд наверх, Арктор заметил дерьмо на звукопоглощающем мате-
риале капота. Его захлестнула тошнотворная вонь. Он сомкнул глаза и задрожал.
— Эй! — окликнул Лакмен, опустив ему на плечо руку. — У тебя что, глюк по-
шел?
— Билеты бесплатно, — поддакнул Баррис и заржал.
— Ну-ка присядь, — сказал Лакмен, отвел Арктора к сиденью водителя и береж-
но усадил. — Да ты прямо вырубаешься... Успокойся, никто не убит, и теперь мы
начеку. — Он захлопнул дверцу. — Все нормально, понимаешь?
В окошко заглянул Баррис.
— Хочешь собачью какашку, Боб? Пожевать. — Ошеломленный Арктор широко рас-
крыл глаза и замер, глядя на него. Но мертвые зелено-стеклянные шторки очков
ничего не выдавали. Он в самом деле это сказал, мучился Арктор, или я спятил?
— Что, Джим? — спросил он.
Баррис начал смеяться. И смеялся, и смеялся.
— Оставь его в покое, — велел Лакмен, стукнув Барриса по спине. — Заткнись,
Баррис!
Арктор обратился к Лакмену:
— Что он только что сказал? Дословно, что он мне сказал, черт побери?
— Понятия не имею, — ответил Лакмен. — Я не могу разобрать и половины из
того, что он говорит.
Баррис все еще улыбался, но уже молча.
— Ты, проклятый Баррис, — процедил Арктор. — Я знаю, что это твоих рук дело
— цефаскоп и теперь машина. Ты это сделал, ты, чертов ублюдок, псих поганый!
Арктор едва слышал собственный голос, однако, чем громче он орал на ухмы-
лявшегося Барриса, тем сильнее становилась кошмарная вонь. Он замолчал и по-
нурился у руля, отчаянно борясь с тошнотой. Слава богу, что рядом Лакмен.
Иначе был бы мне конец. От руки сумасшедшего выродка, этого паршивого козла,
живущего со мной под одной крышей.
— Успокойся, Боб, — сквозь волны тошноты донесся голос Лакмена.
— Я знаю, что это он, — сказал Арктор.
— Но зачем, черт побери?! Он бы и сам угробился. Зачем?
Запах ухмыляющегося Барриса захлестнул Боба Арктора, и его вырвало прямо на
приборную доску. Тысячи тоненьких голосов звенели, вспыхивали, светились,
странные, трепещущие, непонятные... Но по крайней мере он мог что-то видеть, и
вонь начала уходить. Он задрожал и полез за носовым платком.
— что там было в твоих таблетках? — подозрительно спросил Лакмен у Барриса.
— Послушай, я и сам закинулся, — ухмыльнулся Баррис. — И ты. Так что дело
не в травке. Да и слишком быстро. При чем здесь таблетки — желудок не в со-
стоянии усвоить...
— Ты меня отравил! — яростно прошипел Арктор. В голове и перед глазами ста-
ло проясняться, сохранился лишь страх. Страх — естественная реакция. Страх
перед тем, что могло произойти, перед тем, что это означало. Страх, страх,
кошмарный страх перед улыбающимся Баррисом, и его проклятыми таблетками, и
его объяснениями, и ею странными словечками, и ею привычками, его зловещими
появлениями и уходами. Перед анонимным доносом в полицию на Роберта Арктора
через самодельный голосовой фильтр... Наверняка он, Баррис.
Подонок охотится за мной, подумал Арктор.
— Никогда не видел, чтобы кто-нибудь вырубался так быстро, — покачал голо-
вой Баррис. — Хотя вообще-то...
— Как ты, Боб? — спросил Лакмен. — Это мы сейчас почистим, ничего. Садись
лучше назад.
Арктор вышел из машины, нетвердо держась на ногах.
Лакмен повернулся к Баррису.
— Ты точно ничего ему не подсунул?
Баррис с негодованием воздел руки.
Глава 6
Больше всего тайный агент по борьбе с наркоманией боится не того, что его
подстрелят или изобьют, а того, что ему скрытно введут бешеную дозу какого-
нибудь психоделика и до конца жизни в его голове будут крутиться жуткие не-
скончаемые глюки. Или подсунут порцию «смеси» — героин пополам с препаратом
«С». Или и то и другое, да плюс еще яду вроде стрихнина, который почти убьет
его, но не совсем, и все закончится тем же: бесконечным фильмом «ужасов». И
он превратится в животное, будет колотиться в стены психлечебницы или, что
хуже, федеральной клиники. День и ночь будет стряхивать с себя тлю или без
конца пытаться понять, почему он не может натереть пол. Вот что может про-
изойти , если его раскусят. И поквитаются чудовищным образом — с помощью той
самой дряни, которую они продают и против которой он боролся. Ибо и те и дру-
гие — и торговцы, и агенты — хорошо понимали, что наркотики делают с людьми.
По поводу этого у них разногласий не было.
Подъехал ремонтный фургон, и машину, наконец, починили. Других поломок вро-
де не было, но механик почему-то очень долго рассматривал левую переднюю под-
веску .
— Что-нибудь не так? — спросил его Арктор.
— На поворотах проблем не возникало?
Арктор ничего такого припомнить не мог, а механик отказался говорить что-
нибудь определенное — лишь продолжал тыкать в разные узлы и детали.
По пути Арктор размышлял о различных казусах в психологии полицейских аген-
тов и торговцев наркотиками. Некоторые его знакомые работали под маской тор-
говцев , продавая гашиш и даже героин. Это была хорошая легенда, но такая дея-
тельность порой начинала приносить доход куда больший, чем официальное жало-
ванье агента, даже с учетом премий за изъятые партии товара. Кроме того,
агенты привыкали употреблять свое собственное зелье и вообще вести этот образ
жизни; они становились скорее богатыми торговцами-наркоманами, чем сыщиками,
и, в конце концов, забывали про служебные обязанности. С другой стороны, не-
которые торговцы, чтобы избежать неминуемых рейдов или пытаясь избавиться от
конкурентов, начинали работать на полицию и, в конечном счете, фактически
становились тайными агентами. Странные дела творятся в мире наркотиков... Все
смешалось, все мутно и непонятно. А для Боба Арктора сейчас все станет еще
запуганней: пока он и его дружки ехали по шоссе, ведущему из Сан-Диего, вла-
сти устанавливали в их квартире — по крайней мере, он надеялся на это — аппа-
ратуру слежения. Зато он обезопасит себя от происшествий, подобных сегодняш-
нему. Ему повезло — теперь уже никто не сможет так просто отравить, пристре-
лить или свести его с ума, а он имеет все шансы схватить за руку таинственно-
го врага, который сегодня чуть не добился успеха. Теперь, когда телекамеры
установлены, покушений на него или его собственность будет куда меньше. По
крайней мере, успешных покушений...
Виновные порой бегут, даже если их не преследуют, думал Арктор, осторожно
ведя машину в густом потоке транспорта. И уж безусловно, бегут, если чувству-
ют за собой погоню. Бегут со всех ног и при этом не забывают о самообороне...
Вот так сидит один сзади, со своим дерьмовым немецким пистолетом двадцать
второго калибра и со своим дерьмовым смехотворным глушителем, а потом дождет-
ся , когда Лакмен, как обычно, заснет, и пустит мне пулю в затылок. И я буду
мертв — как Бобби Кеннеди, которого убили из оружия того же калибра. Такая
маленькая дырочка...
Это может произойти сегодня, может — завтра. В любой день. Или в любую
ночь.
Но отныне, с установкой аппаратуры, проверив память голокамер, я буду точно
знать, что делает в моем доме каждый, и когда он это делает, и, может быть,
даже почему. Включая самого себя. Я буду смотреть, как сам встаю ночью по ну-
жде . Полный обзор всего дома двадцать четыре часа в сутки. Хотя некоторая за-
держка неизбежна. И меня уже не спасет, если камеры покажут, как мне в кофе
подсыпают украденную из военных арсеналов нервно-паралитическую дрянь. Кто-
нибудь другой увидит, как я бьюсь в судорогах, не соображая, что со мной, где
я, кто я... Он увидит то, что я уже никогда не вспомню. Вспомнит за меня...
— Интересно, как там дома... Знаешь, Боб, кто-то хочет тебе серьезно напако-
стить, — сказал Лакмен. — Надеюсь, когда мы приедем, дом будет на месте.
— Да уж, — протянул Арктор. — Я и не подумал. А цефаскопа мы так и не на-
шли . — Он постарался, чтобы в голосе прозвучало уныние и разочарование.
— Я бы особенно не волновался, — неожиданно бодрым голосом заявил Баррис.
— Не волновался бы? — прорычал Лакмен. — А если нас обобрали до нитки? То
есть вломились и забрали все, что есть у Боба? И убили или искалечили живот-
ных? Или...
— Я оставил маленький сюрприз для того, кто войдет в наше отсутствие, — пе-
ребил Баррис. — Наладил все сегодня утром, расстарался. Электронный сюрприз.
— Что еще за электронный сюрприз? — резко спросил Арктор, пытаясь скрыть
беспокойство. — Это мой дом, Джим, и не вздумай...
— Полегче, полегче, — сказал Баррис. — Ляйзе, ляйзе — остынь, как говорят
наши друзья немцы.
— Так что за сюрприз?
— Когда дверь откроется, заработает кассетный магнитофон, спрятанный под
диваном. Ленты хватит на два часа. Я установил три микрофона «Сони» в трех
разных...
— Ты должен был предупредить меня, — сказал Арктор.
— А если они залезут через окно? — предположил Лакмен. — Или через черный
ход?
— Чтобы воспользовались самым простым путем, а не другими, менее вероятными
путями, — охотно разъяснил Баррис, — я предусмотрительно оставил дверь неза-
пертой .
Наступило молчание. Потом Лакмен захихикал.
— А как они догадаются, что дверь не заперта? — спросил Арктор.
— Я написал записку.
— Ты меня разыгрываешь!
— Да, — услужливо согласился Баррис.
— Ты, в самом деле, разыгрываешь нас? — потребовал Лакмен. — Тебя фиг раз-
берешь. Он разыгрывает нас, Боб?
— Вернемся — увидим, — отозвался Боб. — Если дверь не заперта и на ней ви-
сит записка, значит, это не розыгрыш.
— Записку могут снять, — заметил Лакмен. — Все переломают и пограбят, а
дверь запрут. Чтобы мы не узнали. И мы никогда не узнаем.
— Конечно, я шучу! — с чувством воскликнул Баррис. — На такое способен
только псих — оставить дверь незапертой, да еще повесить записку!
— что ТЬ1 написал в записке? — спросил, повернувшись к нему, Арктор.
— Кому она? — подхватил Лакмен. — Я даже не знал, что ты умеешь писать.
Баррис снисходительно улыбнулся.
— Я написал: «Донна, входи. Дверь не заперта. Мы...» — Баррис замолчал. — За-
писка адресована Донне, — смущенно закончил он.
— Все-таки он это сделал, — проговорил Лакмен. — На полном серьезе.
— Таким образом, Боб, — снова как ни в чем не бывало продолжил Баррис, — мы
узнаем, чьих рук это дело.
— Если они не разделаются с магнитофоном, когда разделаются с диваном, —
сказал Арктор.
Он лихорадочно соображал, какие трудности создаст очередная выдумка доморо-
щенного электронного гения. Наверняка техники знают, что делать, — сотрут за-
пись, перемотают ленту, оставят дверь незапертой и не тронут записку. Кстати,
открытая дверь даже облегчит им работу. Чертов Баррис! Все равно как пить
дать забыл включить магнитофон в сеть. Но, разумеется, если он обнаружит
штепсель выдернутым...
Тогда он сочтет это доказательством, что у нас кто-то был, пришел к выводу
Арктор. Начнет стучать себя в грудь кулаком и изводить нас историями, как
злодеи хитроумно отключили его электронное устройство. Надеюсь, техники дога-
даются включить его и, более того, наладить, чтобы он правильно работал, а
потом перемотать назад, чтобы на пленке ничего не было. Иначе Баррис просто
на стенку полезет.
Ведя машину, Арктор продолжил теоретический анализ ситуации. Вот одна из-
вестная истина, которую преподавали в академии. А может, про нее писали в га-
зетах. Наиболее эффективная форма промышленного или военного саботажа — огра-
ничиться нанесением таких повреждений, которые трудно с определенностью на-
звать умышленными. Если в автомобиле установлена бомба, то налицо действие
врага. Если взорвано правительственное здание, это явно дело рук террористов.
Но если происходит случайность или серия случайностей, если оборудование про-
сто отказывается работать, если оно выходит из строя постепенно, за какой-то
естественный период времени, с множеством маленьких неисправностей и поломок,
— тогда жертве, будь то частное лицо или государство, даже не приходит мысль
о защите. Наоборот, рассуждал Арктор, человек начинает думать, что никаких
врагов нет, что у него мания преследования. Он начинает сомневаться в себе.
Машина сломалась сама, ему просто не повезло... Друзья согласны — враг лишь по-
мерещился. И это доканывает жертву куда основательнее, чем любая реальная
опасность.
Правда, быстро такое не делается. Противнику надо долго ждать удобного слу-
чая. А тем временем жертва может догадаться, кто за ней охотится, и нанести
ответный удар. То есть в этом случае у жертвы куда больше шансов уцелеть, чем
если бы в нее, скажем, стреляли из винтовки с оптическим прицелом.
Все страны мира обучают и засылают друг к другу тучи агентов — тут ослабить
гайку, там отвернуть винтик, где-то оборвать проводок или потерять документ...
Маленькие неприятности. Жевательная резинка в ксероксе может уничтожить неза-
менимый и жизненно важный документ: вместо снятия копии стирается оригинал.
Избыток мыла и туалетной бумаги, как было известно хиппи шестидесятых, может
засорить всю канализационную систему здания и выдворить на неделю жильцов.
Нафталиновый шарик в бензобаке автомобиля изнашивает двигатель двумя неделями
позже, когда машина уже в другом городе, и не оставляет следов в топливе. Лю-
бую радио- или телевизионную станцию легко вывести из строя, если вбить в
землю в нужном месте кол и повредить силовой или передающий кабель. И так да-
лее.
Представители старых аристократических сословий хорошо знают, какая это чу-
ма — горничные, садовники и прочая вульгарная прислуга. Одно неловкое движе-
ние — и бесценная ваза, доставшаяся от предков, лежит на полу грудой оскол-
ков. «Зачем ты это сделал, Растус Браун?» — «Э-э, что? Простите, миссус, я
просто...». И ничего тут не поделаешь, или почти ничего. Однажды жена американ-
ского посла в Гватемале похвасталась на каком-то приеме, что недавнее сверже-
ние левого правительства в этой маленькой стране организовал ее «крутой» муж.
Некоторое время спустя, когда посла уже перевели в другую маленькую страну,
азиатскую, он, разогнавшись как-то раз на спортивной машине, внезапно обнару-
жил перед собой грузовик с сеном, выехавший с боковой дороги. Через мгновение
от посла и его машины остались лишь мелкие клочки, разбросанные по шоссе. И
вся тайная армия, подготовленная ЦРУ, оказалась совершенно бесполезной. И же-
не его гордиться было уже нечем. «Э-э, что? — промямлил, вероятно, владелец
грузовика. — Я просто...»
Или вот моя бывшая жена, вспомнил Арктор; он тогда работал инспектором
страховой компании. Она бесилась, что он засиживается допоздна, составляя от-
четы, вместо того чтобы трепетать от восторга при виде супруги. К концу их
совместной жизни она взяла на вооружение многие трюки и хитрости: могла об-
жечь руку, прикуривая сигарету, запорошить себе чем-нибудь глаза, начинала
вытирать пыль в кабинете или без конца искать что-то возле его пишущей машин-
ки. Сперва он нехотя откладывал работу и покорно предавался восторженному
трепету; потом ударился головой о кухонную полку и нашел лучшее решение.
— Если они убили наших животных, — бормотал Лакмен, — я им подложу бомбу. Я
их в порошок сотру. Я профессионалов найму, из Лос-Анджелеса, банду «пантер».
— Да нет, — скривился Баррис. — Какой им смысл убивать животных? Животные
ничего не сделали.
— А я сделал? — спросил Арктор.
— Очевидно, они так полагают, — сказал Баррис.
— «Если б я знала, что оно безобидное, то убила бы его сама», — процитиро-
вал Лакмен. — Помните?
— Так ведь она была из добропорядочных, — возразил Баррис. — Даже таблеток
никогда не пробовала и башли имела будь здоров. Таким не понять ценности жиз-
ни, где им... Помнишь Тельму Корнфорд, Боб? Коротышка с большими сиськами, все-
гда ходила без бюстгальтера, а мы сидели и пялились на нее. Пришла как-то к
нам и попросила убить стрекозу, которая залетела в окно. А когда мы ей объяс-
нили...
Медленно продвигаясь в потоке машин, Арктор прогнал в памяти эпизод, кото-
рый произвел на них на всех неизгладимое впечатление. Изящная элегантная де-
вушка из добропорядочных обратилась с просьбой убить большое, но безвредное
насекомое, которое на самом деле приносило только пользу, поедая комаров. А
потом она произнесла слова, навсегда ставшие для них символом чужого враждеб-
ного мира — всего того, чего надо бояться и что надо презирать: ЕСЛИ Б Я ЗНА-
ЛА, ЧТО ОНО БЕЗОБИДНОЕ, ТО УБИЛА БЫ ЕГО САМА.
Хорошо образованная и материально обеспеченная Тельма Корнфорд сразу стала
врагом. И, к ее полному недоумению, они бежали сломя голову, бежали, бросив-
шись вон из роскошной квартиры в свою грязную конуру. Между их мирами зияла
пропасть, и, как бы им ни хотелось поразвлечься с хорошенькой цыпочкой, пере-
шагнуть эту пропасть было невозможно.
Однажды, еще до перехода на тайную работу, Арктор снимал показания у зажи-
точной четы, в чьей квартире похозяйничали наркоманы. В те времена добропоря-
дочные семьи еще попадались в кварталах, где рыскали банды, подбиравшие все,
что плохо лежит. Он запомнил одну их фразу: «Люди, которые вламываются в ваш
дом и забирают ваш цветной телевизор, ничуть не лучше тех извергов, которые
калечат животных или варварски уничтожают бесценные произведения искусства».
— «Да нет, — возразил Арктор, оторвавшись на минуту от записи показаний, — с
чего вы взяли?». Наркоманы — он это знал по опыту — редко обижают живых су-
ществ . Он сам видел, как они ухаживают за покалеченными животными, в то время
как добропорядочные давно бы «усыпили» их — термин, в высшей степени харак-
терный. Мафиози, кстати, выражались подобным же образом. Однажды он помогал
двум совершенно выгоревшим торчкам освободить кота, напоровшегося на стекло в
разбитом окне. Торчки, едва что-либо соображавшие и перепачканные своей и ко-
шачьей кровью, возились больше часа, терпеливо и бережно вызволяя несчастное
животное. Неизвестно, чей это был кот: вероятно, он учуял еду и, отчаявшись
что-либо выпросить, попытался прыгнуть в окно. Одурманенные торчки не замеча-
ли зверюгу, пока та не заорала; а потом позабыли ради нее свои глюки и прихо-
ды. В конечном итоге кот остался жив и почти не пострадал: они его еще и на-
кормили .
Что касается «бесценных произведений искусства», тут тоже трудно что-либо
сказать. Смотря что имеется в виду. Во время войны во Вьетнаме в деревне Сон-
гми по приказу ЦРУ были уничтожены 450 бесценных произведений искусства плюс
без счету цыплят, рогатого скота и другой живности, не внесенной в каталог.
— Как вы думаете, — спросил Арктор, внимательно следя за дорогой, — когда
мы умрем и предстанем перед Господом в Судный день, то реестр наших грехов
будет составлен в хронологическом порядке или в порядке их тяжести? А может,
в алфавитном? А то получится, что испускаю я дух глубоким старцем лет под де-
вяносто, и вдруг как зарычит на меня Господь: «Ты и есть тот самый сорванец,
который в тысяча девятьсот шестьдесят втором году украл три бутылки кока-колы
из грузовика у универмага „7—11ЛЛ?! Сейчас я с тобой разберусь!»
— Думаю, там будут перекрестные ссылки, — сказал Лакмен. — Тебе сразу выда-
дут компьютерную распечатку с полным списком.
— Грех, — посмеиваясь, бросил Баррис, — это всего лишь устаревший иудеохри-
стианский миф.
— Может быть, все грехи держат в одной большой бочке для соленья. — Арктор
с ненавистью взглянул на антисемита Барриса. — В бочке для кошерного соленья.
А потом просто выворачивают ее на тебя, и ты стоишь, обтекая грехами. Своими
собственными, ну и небось примешается парочка чужих, попавших по ошибке.
— Грехи другого человека, но с тем же именем, — добавил Лакмен. — Другого
Роберта Арктора. Как по-твоему, Баррис, сколько на свете Робертов Аркторов? —
Он ткнул Барриса локтем в бок. — А Джимов Баррисов?
Сколько на свете Аркторов? — подумал Роберт Арктор. Совершенно безумная
мысль... Мне известны двое. Некий Фред, наблюдающий за неким Бобом. Одно и то
же лицо. Или нет? На самом ли деле Фред — то же самое, что Боб? Кто знает? По
идее, должен знать я, потому что только мне известно, что Фред — это Боб Арк-
тор. Но, подумал он, что такое я? Который из них — я?
Они вылезли из машины и настороженно подошли к двери. Дверь была не запер-
та, и на ней висела записка Барриса, однако в доме все казалось нетронутым.
В Баррисе мгновенно проснулись подозрения.
— Ага! — буркнул он и молниеносно схватил с полки свой пистолет. Как обыч-
но, заурчали животные, требуя еды.
— Что ж, Баррис, — промолвил Лакмен. — Теперь я вижу, что ты прав. Здесь
определенно кто-то был. Об этом свидетельствует тщательное заметание следов,
которые иначе бы остались... — Он демонстративно выпустил газы и поплелся к хо-
лодильнику за пивом. — Баррис, тебя накололи.
Баррис невозмутимо продолжал осматриваться, держа пистолет наготове.
Может, и найдет что-нибудь, подумал Арктор. Вдруг техники наследили? Забав-
но — паранойя иногда смыкается с реальностью. Бывает такое стечение обстоя-
тельств. Например, сегодня. Тогда Баррис придет к выводу, что я специально
выманил их из дома, чтобы дать возможность тайным гостям сделать свое дело. А
потом сообразит и все остальное — если уже не сообразил, причем давным-давно.
Достаточно давно, чтобы осуществить диверсии против цефаскопа, машины и бог
знает чего еще. Может, стоит мне включить свет в гараже, и весь дом взлетит
на воздух. Но самое главное — успела ли команда из Отдела все установить и
наладить? Надо узнать у Хэнка расположение камер и дисков памяти. И получить
остальную необходимую информацию. Необходимую в их совместной игре против по-
дозреваемого . Против Боба Арктора.
— Гляньте-ка! — воскликнул Баррис, нагнувшись над пепельницей на журнальном
столике. — Идите сюда!
Наклонившись, Арктор ощутил тепло, поднимавшееся от пепельницы.
— Бычок, еще горячий! — изумленно проговорил Лакмен. — Точно.
Боже мой, подумал Арктор. Кто-то покурил и машинально оставил сигарету.
Значит, они только что ушли.
— Погодите-ка... — Лакмен покопался в переполненной пепельнице и вытащил чи-
нарик. — Вот что теплится! Они курили травку... Но чем они занимались? Какого
черта им здесь надо было?! — Лакмен хмуро огляделся по сторонам, злой и сби-
тый с толку — Боб! Черт побери, Баррис был прав! У нас кто-то копался! Чина-
рик горячий... — Он сунул окурок под нос Арктору. — Внутри еще тлеет, видно,
травка плохо порезана.
— Этот чинарик, — мрачно заявил Баррис, — мог быть оставлен здесь не слу-
чайно .
— То есть? — спросил Арктор. Интересно, думал он, это что же за полицейская
команда, в которой есть наркоман, не стесняющийся причем курить при исполне-
нии на глазах у всех...
— Возможно, они специально пришли, чтобы подбросить нам наркотики, — объяс-
нил Баррис. — А потом настучать. Может быть, здесь кругом запрятаны наркоти-
ки. Например, в телефоне... или в розетках. Придется перерыть весь дом, и быст-
ро, пока они не позвонили в полицию. Еще пара часов — и все, крышка.
— Ты займись розетками, — решительно сказал Лакмен, — а я разберу телефон.
— Погоди. — Баррис поднял руку. — Если увидят, как мы тут шуруем прямо пе-
ред рейдом...
— Перед каким рейдом? — спросил Арктор.
— Если мы начнем сейчас метаться по дому, разыскивая и уничтожая наркотики,
— указал Баррис, — то не сможем утверждать — хоть это и правда, — что ничего
о них не знаем. Нас возьмут с поличным. А может быть, это тоже часть их пла-
на...
— Черт побери! — Лакмен плюхнулся на кушетку. — Вот дерьмо! Их могли запря-
тать в тысяче разных мест, и нам все никогда не найти. Мы влипли!
— Как там насчет твоей электроники, подключенной к двери? — вдруг вспомнил
Арктор. Надо же, они совсем забыли.
— Верно! Сейчас мы получим жизненно важную информацию!
Баррис опустился на колени, зашарил под кушеткой и с кряхтеньем вытащил
пластмассовый магнитофончик.
— Он нам о многом расскажет... — предвкушающе бормотал Баррис. Неожиданно ли-
цо его вытянулось. — Впрочем, какая там информация... — Он поставил магнитофон
на журнальный столик. — Главное уже известно — в наше отсутствие в доме кто-
то был.
Последовало молчание.
— Кажется, я догадываюсь... — покачал головой Арктор.
— Войдя, они первым делом его выключили. Я, разумеется, оставил магнитофон
включенным, но посмотрите — теперь он выключен. Так что хотя я...
— Значит, ничего не записалось? — разочарованно протянул Лакмен.
— Все сделано молниеносно! — восхитился Баррис. — Через записывающую голов-
ку не прошло и дюйма ленты. Между прочим, это великолепный магнитофон, «Со-
ни» , трехголовочный, с системой шумоподавления «Долби». Я взял его на рынке,
по дешевке, и ни разу не мог пожаловаться...
— Ну что, будем сидеть и ждать? — развел руками Арктор.
— Да-а... — Баррис рухнул в кресло и задумчиво стал вертеть в руках очки. —
Делать нечего — нас обошли. Знаешь, Боб, тебе остается только одно. Хотя это
потребует времени...
— Продать дом и переехать, — подсказал Арктор.
Баррис кивнул.
— Но, черт побери, — запротестовал Лакмен, — это наш дом!
— Сколько сейчас стоят дома в этом районе? — Баррис заложил руки за голову.
— Может, ты еще останешься в выигрыше, Боб. С другой стороны, на срочной про-
даже обычно теряешь... Но, боже мой, Боб, против тебя действуют профессионалы!
— Вы знаете хорошего агента по недвижимости? — спросил Лакмен.
— Они всегда интересуются причиной продажи. А что я им скажу? — проворчал
Арктор.
— Да, правду говорить нельзя. — Лакмен погрузился в раздумье, мрачно потя-
гивая пиво. — Ничего не могу придумать! Баррис, у тебя есть идеи?
— Просто выложим, что по всему дому запрятаны наркотики, и мы не знаем, где
они, — предложил Арктор. — Поэтому решили переехать, а вместо нас пусть попа-
дается новый владелец.
— Нет, — возразил Баррис. — Не стоит открывать карты. Пожалуй, лучше ска-
зать , что Боба переводят на другое место.
— Куда же? — поинтересовался Лакмен.
— В Кливленд, — уверенно ответил Баррис.
— Нет, надо говорить правду, — настаивал Арктор. — Или вообще дать объявле-
ние в «Лос-Анджелес тайме»: «Продается новый дом с двумя ванными для быстрого
смывания наркотиков, которые запрятаны во всех помещениях. Стоимость наркоти-
ков входит в цену».
— Начнутся звонки. Будут спрашивать, какие наркотики, — заметил Лакмен. — А
мы и не знаем.
— и еще вопрос — сколько, — пробормотал Баррис. — Покупатели будут интере-
соваться .
— А у нас то ли с гулькин нос какой-нибудь дрянной травки... — Лакмен пожал
плечами, — то ли уйма чистого героина.
— Я предлагаю вот что, — сказал Баррис. — Позвоним в Отдел по борьбе с нар-
команией , изложим ситуацию и попросим приехать и наркотики изъять. Обыскать
дом, найти их и уничтожить. Все равно на продажу дома времени нет. Я изучал
этот вопрос с юридической точки зрения, как раз на подобный случай, и все ав-
торитеты сходятся в том, что...
— Ты совсем спятил. — Лакмен вытаращился на Барриса, как будто перед ним
была одна из букашек Джерри Фабина. — Позвонить в Отдел? Да здесь через пять
минут будет полно...
— Это самый лучший вариант, — возбужденно перебил его Баррис. — Мы все
пройдем тест на детекторе лжи и докажем, что ничего не знали. Что наркотики
спрятали без нашего ведома и разрешения. И тогда нас освободят от всякой от-
ветственности. — Помолчав, он добавил: — Потом, в конце, после рассмотрения
дела в суде.
— С другой стороны, — возразил Лакмен, — у нас ведь есть свои собственные
запасы, и мы знаем, где они. Что, теперь все смывать? А если что-нибудь забу-
дем, даже чуть-чуть?
— Выхода нет, — подытожил Арктор. — Похоже, нам каюк.
Из соседней комнаты появилась Донна Хоторн в помятых шортах, с растрепанны-
ми волосами и опухшим от сна лицом.
— Я прочитала записку и вошла. Посидела немного и решила соснуть. Вы же не
написали, когда вернетесь... Чего случилось? Так тут разорались, что меня раз-
будили !
— Ты курила травку? — потребовал Арктор.
— Ясное дело. Иначе бы мне не заснуть.
— Это ее чинарик, — объявил Лакмен. — Отдайте ей.
Боже мой, ужаснулся Арктор, я был сейчас таким же, как и они. В том же
трансе, в том же глюке, вместе с ними.
Он зажмурился и встряхнул головой, отгоняя наваждение. Зная все, он тем не
менее невольно переступил черту и оказался в их бредовом наркотическом про-
странстве, думал их мыслями, смотрел их глазами. Опять помутнение — тот же
туман окутал только что и его. Туман, заполняющий мир, в котором мы все дви-
жемся на ощупь.
— Ты нас спасла, — сказал он Донне.
— От чего? — удивилась она, протирая глаза.
Не от меня самого, подумал Арктор, и не оттого, что, по нашему мнению, нам
угрожало. Она помогла мне, всем нам троим, прийти в себя. Маленькая черново-
лосая девушка в затрапезных штанишках, на которую я стучу и которую надеюсь
когда-нибудь трахнуть — стук и трах, еще одна реальность, — привела нас в
чувство. До чего бы мы сегодня додумались, если бы не она? И это не в первый
раз... А что будет в следующий?
— Разве можно оставлять дверь открытой? — возмущалась Донна. — Вас же могли
обчистить, и вы сами были бы виноваты. Даже самые крупные страховые компании
отказываются платить, если не были заперты дверь или окно. Я потому и вошла,
когда заметила записку. Чтобы присмотреть за квартирой.
— Ты давно здесь? — спросил ее Арктор. Неужели она помешала установить ап-
паратуру?
Донна кинула взгляд на наручные часы. «Таймекс» за двадцать долларов, его
подарок.
— Примерно тридцать восемь минут... Слушай, Боб! — Ее лицо оживилось. — Я
принесла книжку про волков, хочешь посмотреть? Там много всяких крутых вещей,
надо только вчитаться.
— Жизнь, — пробормотал Баррис себе под нос, — она вообще крутая и никакая
другая. Один крутой глюк, ведущий в могилу. Для всех и каждого.
— Вы собираетесь продавать дом? Или мне померещилось? Не могу понять — я
слышала какую-то дикую чушь.
— Нам всем померещилось, — сказал Арктор.
Наркоман последним узнает, что он наркоман. Может быть, понять, всерьез ли
говорит человек, тоже легче со стороны? В самом деле, что во всем том бреду,
который подслушала Донна, говорилось всерьез? Что из безумия этого дня — его
безумия — было реальным, а что — лишь навеяно контактом с психами и сумасше-
ствием самой ситуации? Как бы он хотел ответить Донне...
Глава 7
На следующий день Фред надел костюм-болтунью и явился в Отдел.
— В доме установлено шесть голографических камер — по нашему мнению, шести
пока достаточно, — которые передают сигнал в надежную квартиру в том же квар-
тале, где находится дом Роберта Арктора, — объяснял Хэнк, выложив на металли-
ческий стол план-схему дома.
Чувствуя легкий озноб, Фред взял план и стал изучать расположение камер и
микрофонов, которые обеспечивали круглосуточное наблюдение за каждым уголком
его жилища.
— Значит, я буду просматривать записи в этой квартире?
— Оттуда мы ведем наблюдение за восемью, теперь девятью окрестными объекта-
ми, так что вам придется встречаться с другими тайными агентами, когда они
будут приходить на контрольный просмотр. Обязательно носите костюм-болтунью.
— Эта квартира чересчур близко, за мной могут проследить.
— Да, пожалуй, вы правы, однако пока другого места, которое подходило бы с
технической точки зрения, у нас нет. Скоро освободится еще одна квартира, в
двух кварталах оттуда, — там вам будет безопаснее. Потерпите недельку. А если
мы добьемся удовлетворительного разрешения при передаче по кабелю...
— Я просто скажу, что встречаюсь там с цыпочкой, если Арктор или кто-нибудь
из других торчков меня заметит.
Даже удобно — сократится время в пути, которое не оплачивают. В любой мо-
мент заскочить туда, прогнать запись, отфильтровать необходимую информацию, а
потом быстренько назад...
В свой собственный дом, подумал он. Дом Арктора. На одном конце улицы я Боб
Арктор, закоренелый наркоман, за которым тайно следит полиция, а на другом
конце — Фред, бдительно просматривающий мили и мили ленты, чтобы выяснить,
чем я занимаюсь в течение суток. Все это действует на нервы. Зато обеспечива-
ет защиту и предоставляет ценную информацию личного характера. Скорее всего,
камеры уличат того, кто за мной охотится, в первую же неделю.
От этой мысли у него улучшилось настроение.
— Отлично, — сказал он Хэнку.
— Запомните, где расположены камеры. Если потребуется обслуживание, вы,
очевидно, что-то сможете сделать самостоятельно, улучив момент, когда будете
находиться в доме Арктора. Вы ведь вхожи в его дом, не так ли?
Черт побери, подумал Фред, тогда я попаду в запись! До сих пор он не посвя-
щал Хэнка в детали того, откуда берет сведения об объектах наблюдения. А что
теперь? Роберт Арктор с расплывшимся на весь экран лицом возится с забарах-
лившей голокамерой!.. С другой стороны, первым запись будет просматривать он.
И любой кусок можно вырезать. Хотя потребуется время.
Но что вырезать? Вырезать Арктора, полностью? Нельзя, Арктор — подозревае-
мый. Значит, вырезать Арктора, только когда тот ремонтирует камеру...
— Я буду себя вырезать, — сказал он. — Чтобы вы меня не увидели. В качестве
меры предосторожности.
— Разумеется. У вас есть подобный опыт? — Хэнк протянул ему несколько сним-
ков . — Специальное устройство стирает любой участок изображения. Все участки,
где вы появляетесь как информатор. Это что касается видеозаписи. По фонограм-
мам определенных правил не существует. Впрочем, нет нужды беспокоиться. Само
собой, вы входите в круг друзей Арктора. Вы — либо Джим Баррис, либо Эрни
Лакмен, либо Чарлз Фрек, либо Донна Хоторн...
— Донна? — Фред рассмеялся. Вернее, рассмеялся костюм, по-своему.
— Либо Боб Арктор, — невозмутимо закончил Хэнк, глядя в список.
— Мне все время приходится докладывать и о себе.
— Но если вы будете вырезать себя систематически, то, хотим мы того или
нет, мы путем исключения установим вашу личность. Словом, вам надо вырезать
себя — как бы это выразиться? — изобретательно, артистично, черт побери,
творчески!.. Например, в те короткие периоды, когда вы обыскиваете дом, или
поправляете камеру, или...
— А вы просто раз в месяц присылайте специалиста в форме, — усмехнулся
Фред. — Так, мол, и так, доброе утро, мне нужно сделать технический осмотр
голокамер и подслушивающих устройств, тайно установленных в вашем доме, в ва-
шем телефоне и в вашей машине.
— Угу, тогда Арктор прикончит специалиста, а потом исчезнет.
— Если Арктор что-нибудь скрывает, — с нажимом сказал Фред. — Это не дока-
зано.
— Арктор, похоже, скрывает очень многое. Мы получили и проанализировали ряд
новых данных о нем. Практически не остается никаких сомнений — это человек с
двойным дном, он насквозь фальшивый. Как трехдолларовая купюра. Так что сиди-
те у него на хвосте, пока у нас не накопится достаточно материала для ареста
и обвинения.
— Подбросить ему наркотики?
— Повременим.
— Вы думаете, он близок к источнику препарата «С»?
— Что мы думаем, для вашей работы не имеет значения, — сказал Хэнк. — Оце-
ниваем мы, а вы лишь предоставляете нам данные и собственные ограниченные за-
ключения. Поймите правильно, вашу инициативу никто не подавляет, просто мы
располагаем более обширной информацией. Перед нами полная картина, вдобавок
проанализированная компьютером.
— Арктор обречен, — произнес Фред. — Если, конечно, причастен к чему-то. А
судя по вашим словам, это так.
— Скоро мы соберем на него полное досье, — заверил Хэнк. — И тогда мы по-
кончим с ним. К всеобщей радости.
Запоминая адрес конспиративной квартиры, Фред вдруг вспомнил, что именно
там жила молодая парочка, которая не так давно внезапно исчезла из поля зре-
ния . Ясное дело, их взяли, а квартиру использовали. Эти ребята ему нравились.
У девчонки были длинные льняные волосы и красивая грудь — она не носила бюст-
гальтера. Однажды он ехал мимо, когда она несла сумки из магазина, и предло-
жил подвезти. Очевидно, они или хранили, или торговали наркотиками. Хотя, ес-
ли квартира была нужна, власти могли придраться и к мелочам.
А как, интересно, будут использовать замусоренный, но просторный дом Робер-
та Арктора, когда хозяина упрячут за решетку? Скорее всего, там расположится
еще более крупный узел обработки информации.
— Вам понравится дом Арктора, — сказал он вслух. — Запущенный, типичная
берлога наркомана, однако большой. Хороший двор, много зелени.
— Наша техническая группа доложила то же самое. Есть определенные перспек-
тивы .
— Что? Они доложили, что есть «перспективы», вот как? — Монотонный, лишен-
ный интонации голос костюма-болтуньи лишь усилил его бешенство. — Какие же?
— Ну, к примеру, окно гостиной выходит на перекресток; таким образом, можно
следить за проходящим транспортом... — Хэнк стал копаться в груде бумаг на сто-
ле — Хотя руководитель группы, Берт... как же его... предостерегает: дом настоль-
ко ветхий, что забирать его не стоит. Плохое вложение денег.
— То есть как это? Как это ветхий?!
— Крыша.
— Крыша совершенно новенькая, с иголочки!
— Покраска. Состояние полов и перекрытий. На кухне...
— Чушь! — возмутился Фред, точнее — пробубнил костюм. — Они, может, не уби-
рают посуду или там не выбрасывают мусор, но, в конце концов, — трое одиноких
мужчин! Это — женское дело. Если бы Донна Хоторн переехала, как того хочет,
прямо умоляет, Боб Арктор, она бы этим и занялась. Так или иначе, профессио-
налы могли бы привести дом в идеальный порядок за полдня. Что касается крыши,
это меня просто бесит, потому что...
— Значит, вы советуете использовать дом, когда Арктор будет арестован и по-
теряет право собственности?
Фред застыл.
— Ну? — подстегнул Хэнк, занеся над бумагой шариковую ручку.
— Мне все равно, поступайте как угодно. — Фред поднялся, собираясь уходить.
— Не спешите. — Хэнк жестом снова усадил его и порылся в куче бумаг. — У
меня тут записано...
— У вас все записано. Про всех.
— Так... Перед уходом вы должны зайти в комнату двести три.
— Если это по поводу моего выступления перед общественностью, то я уже свое
получил.
— Нет, — сказал Хэнк. — Это по какому-то другому поводу. У меня к вам во-
просов больше нет.
Фред оказался в белоснежной комнате с привинченными к полу стальными столом
и стульями. Она походила на больничную палату — стерильная, холодная и черес-
чур ярко освещенная. В углу стояли весы. В комнате ждали два офицера в поли-
цейской форме, но с медицинскими нашивками.
— Вы агент Фред? — спросил один из них, с длинными усами.
— Да, сэр, — ответил Фред. Он почувствовал страх.
— Ну-с, Фред, во-первых, я должен напомнить: как вы знаете, все ваши докла-
ды записываются и позже изучаются, на случай если что-то было упущено. Это,
разумеется, касается всех агентов, которые докладывают устно, не только вас.
Другой офицер добавил:
— Фиксируются также все ваши контакты с Отделом, такие как телефонные звон-
ки и прочее, например, ваша недавняя речь в Анахайме на встрече с обществен-
ностью .
— Ясно, — кивнул Фред.
— Вы принимаете препарат «С»? — спросил первый офицер.
— Вопрос, собственно, излишний, — пояснил другой, — ибо в силу специфики
работы вы вынуждены это делать. Подойдите сюда, агент Фред, и садитесь. Мы
проведем несколько простых тестов. — Он махнул на стол, на котором лежали бу-
маги и какие-то странные, незнакомые Фреду разноцветные предметы. — Тесты не
займут много времени и не причинят вам физического неудобства.
— Что касается моего выступления... — начал Фред.
— Проверка вызвана тем, — перебил первый офицер, усаживаясь и доставая руч-
ку и какие-то бланки, — что в последнее время несколько тайных агентов, рабо-
тающих в вашем районе, были помещены в федеральные неврологические клиники.
— Вам известно, что препарат «С» вызывает быстрое привыкание? — спросил
второй.
— Безусловно, — сказал Фред. — Конечно известно.
— Итак, перейдем к тестам, — объявил офицер, сидящий за столом. — Мы начнем
с...
— Вы думаете, я наркоман? — перебил его Фред.
— Наркоман вы или нет, не имеет первостепенного значения, — заявил другой
офицер. — Не позже чем через пять лет Отдел химической защиты Вооруженных Сил
должен предоставить нам эффективный антидот.
— Эти тесты имеют отношение не к свойствам препарата «С», а скорее к... Коро-
че, давайте начнем с базового теста, который определит вашу способность отли-
чать очертания предметов от фона. Посмотрите на рисунок. — Первый офицер по-
ложил на стол перед Фредом листок бумаги. — Среди беспорядочных линий нахо-
дятся контуры хорошо всем знакомого предмета. Вы должны сказать мне...
В июле 1969 года Джозеф Е. Боген опубликовал свою революционную статью «Об-
ратная сторона мозга», где процитировал некоего доктора А. Л. Вигана, который
писал еще в 1844 году:
«Разум, в сущности, имеет двойственную природу, так же как и органы, на ко-
торых он базируется. Над этой идеей я размышлял более четверти столетия и не
смог отыскать ни единого веского или хотя бы сколько-нибудь обоснованного
возражения. Таким образом, я могу доказать: 1) что каждое полушарие мозга
есть цельный и совершенный орган мысли, и 2) что полноценные процессы мышле-
ния и логического рассуждения могут проходить в каждом полушарии независимо и
одновременно».
В своей статье Боген сделал вывод: «Я полагаю (так же как и Виган), что ка-
ждый из нас обладает двумя разумами в одном теле. В пользу этого можно при-
вести множество доводов. Но в конечном счете нам приходится столкнуться с
главным возражением против вигановского тезиса, а именно, с субъективным ощу-
щением, что каждый из нас — один. Убеждение во внутренней цельности и единст-
ве личности входит в число основных ценностей европейской культуры...»
— ...что это за объект, и указать, где он находится на рисунке.
— К чему все это? — Фред в упор взглянул на офицера. — Наверняка из-за мое-
го выступления.
— У многих, кто принимает препарат «С», нарушается связь между правым и ле-
вым полушариями мозга. Таким образом, возникают дефекты, как в сфере воспри-
ятия, так и в сфере мышления, хотя на первый взгляд познавательная способ-
ность не нарушается. Но поскольку информация, поступающая от органов чувств,
так или иначе, искажена вследствие расщепления полушарий, мыслительные спо-
собности также постепенно ухудшаются. Ну, вы нашли среди линий знакомый объ-
ект? Можете мне его показать?
— Вы имеете в виду отложения тяжелых металлов в нейрорецепторных центрах? —
спросил Фред. — Необратимые изменения...
— Нет, — ответил второй офицер. — Мы имеем дело не с прямым нарушением дея-
тельности мозга, а со своего рода токсикозом, воздействующим на систему вос-
приятия за счет нарушения связей между полушариями. Тест оценивает работу ва-
шей системы восприятия как единого целого. Вы видите знакомый объект на ри-
сунке? Он бросается в глаза...
— Я вижу бутылку коки.
— Правильный ответ — бутылка содовой, — сказал сидящий, заменяя листок.
— Вы что-то заметили, прослушивая записи моих встреч с руководством? Какие-
нибудь отклонения? — Это все та речь, подумал он. — Может быть, мои слова,
обращенные к публике, выявили двусторонние дисфункции? Поэтому-то меня и при-
тащили сюда тестировать? — Ему приходилось читать о тестах на расщепление
мозга, которые время от времени проводила администрация.
— Нет, обычная проверка. Мы понимаем, что тайный агент по долгу службы вы-
нужден принимать наркотики: те агенты, которые попали в федеральные клиники...
— Навсегда? — спросил Фред.
— Не все. Дело в том, что токсическое поражение восприятия со временем спо-
собно само откорректироваться, и...
— Вас не беспокоят перекрестные разговоры? — неожиданно вмешался стоящий.
— Что?.. — растерянно переспросил Фред.
— Диалоги между полушариями. Порой, если левое полушарие, где расположен
речевой центр, повреждено, правое полушарие пытается компенсировать, по мере
сил взять на себя его роль.
— Не знаю, — промолвил он. — Не обращал внимания.
— Чужие мысли. Словно за вас думает другой человек. По-другому, не так, как
вы сами. Иногда даже всплывают незнакомые иностранные слова, то есть слова,
которые вы когда-то запомнили подсознательно.
— Ничего подобного. Я бы заметил.
— Вероятно, заметили бы. По опыту людей, страдающих нарушением функций ле-
вого полушария, это крайне неприятно. Ранее считалось, что правое полушарие
вообще не управляет речью. Но в последнее время очень многие люди подвергли
свои левые полушария разрушительному действию наркотиков, и в отдельных слу-
чаях правое полушарие имело возможность заполнить, так сказать, вакуум.
— Теперь я, безусловно, буду начеку, — заверил Фред и услышал свой голос —
голос покорного, исполнительного школьника. Готового на любое указание, исхо-
дящее сверху. Разумное или бессмысленное — не имеет значения.
Просто соглашайся, подумал он. И делай, что тебе говорят.
— Что вы видите на второй картинке?
— Овцу, — сказал Фред.
— Покажите мне овцу. — Сидящий офицер склонился над столом и повернул кар-
тинку. — Нарушение способности распознавать отличительные признаки приводит к
большим неприятностям — вместо того чтобы установить отсутствие определенной
формы, вы воспринимаете ложную форму.
Например, собачье дерьмо, подумал Фред. Собачье дерьмо наверняка можно счи-
тать ложной формой. По всем параметрам. Он...
Данные указывают, что «немое» полушарие специализируется на осознании цель-
ных понятий, отвечая преимущественно за функции синтеза при обработке посту-
пающей информации. «Говорящее», главное полушарие, напротив, выполняет логи-
ческие, аналитические задачи, играя роль своего рода компьютера. Исследования
показали, что возможной причиной разделения полушарий у человека является
принципиальная несовместимость языковых функций с задачами синтетического
восприятия.
...почувствовал себя разбитым и уставшим, как во время памятного выступления
перед публикой.
— Значит, не овца? А что? Хоть похоже?
— Это отнюдь не тест Роршаха, где бесформенная клякса может быть истолкова-
на по-разному, — сказал офицер. — В данном случае обрисован один, и только
один предмет. А именно — собака.
— Что? — испуганно переспросил Фред.
— Собака.
— Где вы тут видите собаку? — Он не видел никакой собаки. — Покажите мне.
Сидящий офицер...
Данный вывод подтверждается экспериментами. Животные с искусственно разде-
ленными полушариями способны после тренировки воспринимать и обрабатывать ин-
формацию независимо. У человека логические функции сосредоточены в одном из
полушарий, в «той стороне» мозга, которая говорит, читает и пишет, в то время
как второе полушарие, то есть «обратная сторона», очевидно, специализируется
на некоем другом типе мышления, принципы которого изучены в гораздо меньшей
степени.
...перевернул листок: на обороте был четко нарисован контур собаки. Фред по-
нял, что тот же контур он видел и на лицевой стороне, среди линий. Это была
не вообще собака, а вполне конкретная — борзая, такая поджарая, с втянутым
животом.
— А что значит, если я увидел овцу?
— Возможно, обыкновенный психологический блок, — ответил второй офицер, пе-
реступая с ноги на ногу. — Только когда мы проведем всю серию...
— В этом и заключается преимущество данного теста перед тестом Роршаха, —
перебил сидящий, доставая другую картинку. — Он не требует интерпретации.
Верный ответ — только один. Утвержденный госдепартаментом. Он верен, посколь-
ку исходит из Вашингтона. Вы либо находите его, либо нет. Если вы постоянно
ошибаетесь, мы устанавливаем функциональное нарушение восприятия и будем при-
водить вас в форму, пока не пройдете испытание успешно.
— в федеральной клинике? — спросил Фред.
— Да. Ну-с, что вы видите здесь, среди черных и белых линий?
Город смерти, подумал Фред, рассматривая рисунок. Вот что я вижу — смерть,
и не в единственно верном варианте, а повсюду. Маленькие безногие киллеры на
тележках...
— Вы мне все-таки скажите, — потребовал он, — это из-за той речи?
Офицеры обменялись взглядами.
— Нет, — наконец ответил стоящий. — Нас насторожила одна беседа... ну, просто
болтовня... Ваша с Хэнком. Около двух недель назад. Понимаете, при обработке
записей возникает временная задержка. Таким образом, мы постоянно изучаем ма-
териал примерно двухнедельной давности. До вашей речи еще не добрались.
— Вы несли какую-то околесицу об украденном велосипеде, — подхватил другой.
— О так называемом семискоростном велосипеде. Вы пытались сообразить, куда
подевались еще три скорости, не так ли? — Офицеры снова обменялись взглядами.
— Вы ведь считали, что они остались на полу гаража?
— Нет, — возразил Фред. — Это все Чарлз Фрек. Он тогда совершенно задурил
нам всем голову. Я просто подумал, что это смешно.
Баррис(стоит посреди гостиной с новеньким блестящим велосипедом, очень до-
вольный) : Поглядите, что я достал за двадцать долларов!
Фрек: Что это?
Баррис: Велосипед. Гоночный, десятискоростной, абсолютно новый. Я заметил
его в соседнем дворе и поинтересовался. У них оказалось четыре таких, и я ку-
пил его за двадцать долларов наличными. У цветных. Они даже любезно передали
мне его через забор.
Лакмен: Кто бы подумал, что совершенно новенький десяти-скоростник можно
купить за двадцать долларов. Просто поразительно, что можно купить за два-
дцать долларов!
Донна: У одной цыпочки в прошлом месяце точно такой украли... Вы должны вер-
нуть его. Пускай она, по крайней мере, взглянет, не ее ли.
Баррис: Это мужской велосипед. Он не может быть ее.
Фрек: Почему вы твердите, что он десятискоростной, когда у него только семь
шестеренок?
Баррис(ошеломленно): Что?
Фрек (подходит и показывает): Ну вот, пять шестеренок здесь и две на другом
конце цепи. Пять плюс два...
С помощью операции можно добиться того, чтобы оптическая информация из пра-
вого глаза животного (например, кошки или обезьяны) поступала только в правое
полушарие, а из левого — соответственно в левое. Если такое животное научить
различать два символа, используя лишь один глаз, то впоследствии оно сделает
правильный выбор и с помощью другого глаза. Однако если перед обучением раз-
рушить соединения между полушариями, в особенности corpus callosum, то перво-
начально закрытый глаз вместе с соответствующим полушарием приходится трени-
ровать заново. В этом заключается суть фундаментального эксперимента Майерса
и Сперри (1953).
...будет семь. Значит, это только семискоростной велосипед.
Лакмен: Верно. Но даже семискоростной велосипед, безусловно, стоит двадцати
долларов. Выгодная покупка.
Баррис (оскорбленно) : Меня заверили, что у него десять скоростей... Грабеж!
(Все обступают велосипед и пересчитывают шестеренки.)
Фрек: Теперь я вижу восемь. Шесть впереди и две сзади. Итого восемь.
Арктор (рассудительно): Но должно быть десять. Семи- или восьмискоростных
велосипедов не существует. Во всяком случае, я о таких не слышал. Интересно,
куда делись пропавшие скорости?
Баррис: Наверное, с великом возились эти цветные. Разбирали его не теми ин-
струментами, без должной технической подготовки. А когда собирали, три шесте-
ренки остались на полу гаража. Так, наверное, там и лежат.
Лакмен: Надо потребовать их назад.
Баррис (со злостью): В этом-то и заключается их план: наверняка сдерут
деньги! Не удивлюсь, если они еще что-нибудь прикарманили. (Придирчиво осмат-
ривает велосипед.)
Лакмен: Если мы пойдем вместе, все отдадут как миленькие, не сомневайся!
Ну, идем? (Оглядывается в поисках поддержки.)
Донна: А вы уверены, что их только семь?
Фрек: Восемь.
Донна: Семь, восемь!.. В любом случае надо у кого-нибудь спросить — прежде
чем катить баллон. По мне, так не похоже, что они его разбирали.
Арктор: Она права.
Лакмен: Кого спросить-то? Кто у нас сечет в гоночных великах?
Фрек: Остановим первого встречного! Выкатим велосипед на улицу и спросим.
Это будет объективное мнение.
(Выкатывают велосипед и обращаются к молодому негру, который только что вы-
шел из своей машины. Указывают на семь — восемь? — шестеренок и спрашивают,
сколько их, хотя каждому видно — за исключением Чарлза Фрека, — что их всего
семь: пять на одном конце цепи и две на другом. Пять плюс два — семь. Это яс-
но как божий день. Так что же получается?!)
Молодой негр (спокойно): Число шестеренок спереди и сзади надо не склады-
вать , а перемножать. Видите, цепь перескакивает со звездочки на звездочку, а
их пять, и мы получаем пять разных передаточных чисел на каждой из двух звез-
дочек впереди. (Показывает.) Теперь, если мы повернем рычажок на руле (пока-
зывает) , цепь перейдет на вторую звездочку и опять-таки может перескакивать
на любую из пяти сзади. То есть получается еще пять. Итого десять. Имейте в
виду, что передаточное число всегда рассчитывается из...
(Все благодарят его и уходят, молча вкатывая велосипед в дом.)
Лакмен: Есть что-нибудь закинуться? В здоровом теле — здоровый дух! (Никто...
Все данные указывают на то, что разделение полушарий приводит к образованию
двух независимых систем сознания внутри общей черепной коробки, то есть внут-
ри единого организма. Этот вывод кажется диким тому, кто привык считать мыш-
ление цельным и неделимым свойством человеческого мозга, и преждевременным
тому, кто настаивает на чисто вспомогательном и автоматическом характере
функций правого полушария. Разумеется, неравенство полушарий имеет место, но
оно может быть лишь особенностью личностей, подвергавшихся изучению. Не ис-
ключено, что если полушария разделить в раннем возрасте, то оба полушария,
развиваясь независимо, достигнут уровня способностей, обычно наблюдаемого
лишь у левого полушария.
...не смеется) .
— Нам известно, что вы были в этой компании, — сказал сидящий офицер. — Ни-
кто из вас не мог трезво взглянуть на велосипед и проделать простую математи-
ческую операцию по определению числа передач. — В его тоне Фред почувствовал
доброту, даже некоторое сострадание. — Такие задачи решают в младших классах.
Вы что, все были под кайфом?
— Нет.
— Так в чем же дело?
— Забыл... — Фред помолчал. — Мне кажется, сбой восприятия тут ни при чем.
Разве подобные вещи не требуют абстрактного мышления?
— Только на первый взгляд. На самом деле мышление дает сбой, поскольку не
получает корректной информации. Иными словами, входные данные настолько иска-
жены , что когда вы начинаете их анализировать, то рассуждаете неправильно,
поскольку... — Офицер сделал неопределенный жест, пытаясь подобрать нужные сло-
ва.
— Но десятискоростной велосипед действительно имеет семь шестеренок, — воз-
разил Фред. — Это мы увидели правильно: две спереди, пять сзади.
— Вы не восприняли, каким образом они взаимодействуют: пять задних с каждой
из передних, как вам объяснил негр. Он был высокообразованным человеком?
— Скорее всего, нет.
— Негр увидел то, чего не смогли увидеть вы. Он увидел две независимые ли-
нии, соединяющие переднюю и заднюю системы шестеренок, а вы увидели только
одну.
— Ладно, в следующий раз буду умнее, — сказал Фред.
— Когда это? Когда купите краденый десятискоростной велосипед?
Фред промолчал.
— Давайте продолжим тестирование, — предложил сидящий офицер. — Что сейчас
перед вами, Фред?
— Пластмассовое собачье дерьмо, такое продают в Лос-Анджелесе повсюду. Могу
я идти?
Он испытывал бешенство. Из-за злополучной речи его замучают!
Оба офицера, однако, рассмеялись.
— Знаете, — сказал сидящий, — если у вас не пропадет чувство юмора, пожа-
луй , вы своего добьетесь.
— Добьюсь? — повторил Фред. — Чего добьюсь? Успеха? Времени? Денег?..
Мозг высших животных, включая человека, является двойным органом, состоящим
из правого и левого полушария, соединенных перемычкой из нервной ткани,
corpus callosum. Около пятнадцати лет назад Рональд Е. Майерс и Р. В. Сперри
из Чикагского университета сделали удивительное открытие: если отделить поло-
винки мозга одну от другой, то каждая из тех способна функционировать незави-
симо, как самостоятельный мозг.
Corpus callosum (зеленый цвет).
— ...Если вы, ребята, психологи и слушаете мои бесконечные доклады Хэнку, то
скажите: как подобрать ключик к Донне? То есть я хочу спросить: как это дела-
ется? С такой вот милой, ни на кого не похожей, упрямой маленькой цыпочкой?
— Все девушки разные, — рассудил сидящий офицер.
— Я имею в виду, как найти эстетический подход? — продолжал Фред. — А не
просто споить ее, напичкать «красненькими» и изнасиловать, пока она валяется
в отрубе на полу.
— Купите ей цветы, — посоветовал стоящий офицер.
— Что? — удивился Фред, широко раскрыв профильтрованные костюмом глаза.
— В это время года можно купить маленькие весенние цветы.
— Цветы... — пробормотал Фред — Какие? Искусственные или живые? . .
— Живые, я полагаю.
— Искусственные не годятся, — сказал сидящий. — Они выглядят как... подделка.
Что-то фальшивое.
— Я могу идти? — спросил Фред.
Офицеры переглянулись, затем кивнули.
— Тест доведем до конца как-нибудь в другой раз, — сказал стоящий. — Не так
уж это и срочно. Хэнк вас известит.
По какой-то неясной причине Фреду захотелось пожать им руки, но он этого не
сделал, а просто вышел, молча покачивая головой, с гнетущим чувством тревоги.
Они копаются в моем досье, пытаясь найти признаки того, что я выгорел... И что-
то находят, раз затеяли эти тесты.
Весенние цветы, думал он, идя к лифту. Малюсенькие. Должно быть, едва под-
нимаются от земли, и люди их давят... Как они растут — сами по себе или их вы-
ращивают искусственно, в промышленных резервуарах? А может, на огромных охра-
няемых фермах? Интересно, каково там, на природе? Поля, незнакомые запахи и
все прочее...
И где ее найти, эту природу? Куда надо ехать? Какой нужен билет, и у кого
его брать? Я бы с удовольствием взял с собой Донну, когда соберусь ехать. Но
как предложить такое девушке, если ты не знаешь, с какой стороны к ней под-
ступиться? Если все время околачиваешься возле нее и ничего не получается?..
Нам нужно спешить, подумал он, потому что скоро все весенние цветы погибнут.
Глава 8
Чарлз Фрек ехал к Бобу Арктору — там всегда можно было словить кайф в теп-
лой компании. По пути он придумывал, как натянуть нос старине Баррису. Вроде
как расквитаться за ту подначку насчет селезенки в «Трех скрипачах». Не забы-
вая исправно снижать скорость при виде полицейских засад с радарами (почему-
то это всегда были старенькие «фольксвагены» тускло-коричневого цвета с боро-
датыми типами за рулем), он прокручивал в голове воображаемую сцену предстоя-
щего розыгрыша.
Фрек(небрежно): Я сегодня купил метедриновую грядку.
Баррис(свысока): Дурачок, метедрин не растет на грядке. Это не органика, не
травка, а таблетка, порошок, ну, как амфетамин — его синтезируют, то есть де-
лают в лаборатории...
Фрек («Как я его сейчас...»): Я пошутил... Просто мне достались от дядюшки сорок
тысяч, и я приобрел метедриновый заводик, который один тип оборудовал у себя
в гараже. Грядка — это в смысле...
Фрек пока не мог сообразить, как закончить, — отвлекала дорога, — но не со-
мневался, что там, у Боба, сделает все в лучшем виде. Баррис непременно клю-
нет, особенно если вокруг будет народ. И тогда всем станет ясно, какая он жо-
па. Прикол будет улетный — Баррис совершенно не выносит, когда над ним смеют-
ся.
Баррис и Арктор копались в машине с поднятым капотом.
— Привет! — бросил Фрек, приближаясь фланирующей походкой. — Эй, Баррис! —
Он взял Барриса за плечо, стараясь говорить небрежно-покровительственным то-
ном.
— Погоди! — буркнул Баррис. Он был в рабочем комбинезоне, потемневшем от
грязи и заляпанном смазкой.
— Я сегодня купил метедриновую грядку...
— Большую? — раздраженно спросил Баррис.
— Что?
— Я спрашиваю, большую?
— Ну... — растерялся Фрек, не зная, что сказать дальше.
— Сколько дал? — вставил Арктор. Он тоже весь вымазался, копаясь в машине.
Они с Баррисом уже успели вынуть карбюратор, фильтры и кучу разной мелочи.
— Около десяти баксов...
— Джим мох1 бы достать тебе дешевле, — заметил Арктор, вновь склонившись над
мотором. — Да, Джим?
— Их сейчас отдают практически даром, — подтвердил Баррис.
— Черт, да это целый гараж! — возмутился Фрек. — Настоящий завод! Миллион
таблеток в день! Сложнейшие агрегаты...
— И все за десять долларов? — радостно оскалился Баррис.
— А далеко это? — спросил Арктор.
— Не здесь, — смущенно ответил Фрек. — Да ну вас к черту! — надулся он.
Сделав перерыв в работе — он часто делал перерывы в работе, даже если по-
болтать было не с кем, — Баррис сказал:
— Знаешь, Фрек, если ты будешь злоупотреблять метедрином, то начнешь разго-
варивать как Дональд Дак.
— и что? — нахмурился Фрек.
— Ну и никто не разберет, что ты говоришь.
— что ТЬ1 сказал, Баррис? Никак не разберу, что ты говоришь, — включился
Арктор.
Расплывшись в улыбке, Баррис залопотал голосом Дональда Дака. Фрек и Арктор
весело ухмылялись, наслаждаясь представлением. Баррис продолжал лопотать,
оживленно жестикулируя и указывая на карбюратор.
— Что с карбюратором? — Арктор нахмурился.
По-прежнему ухмыляясь, но уже своим обычным голосом Баррис сказал:
— Погнута ось воздушной заслонки. Карбюратор надо полностью перебирать,
иначе заслонка может вдруг закрыться, когда ты будешь ехать по шоссе, — тогда
мотор захлебнется и заглохнет, и какой-нибудь кретин врежется в тебя сзади.
Кроме того, если топливо будет стекать по стенкам цилиндров, то, в конце кон-
цов, оно смоет смазку, на поверхности возникнут царапины, и двигателю конец.
— А почему погнулась ось? — спросил Арктор.
Баррис молча пожал плечами, продолжая разбирать карбюратор. Он знал, что ни
Арктор, ни Чарлз Фрек ничего не смыслят в двигателях, тем более, когда речь
идет о таких серьезных поломках.
Из дома вышел Лакмен с книгой под мышкой — в темных очках, модной рубашке и
стильных джинсах в обтяжку.
— Я узнавал, во что обойдется переборка карбюратора. Они скоро перезвонят,
так что я оставил дверь открытой.
— Можно заодно заменить этот двухцилиндровый на четырехцилиндровый, — пред-
ложил Баррис.
— Резко возрастут холостые, — сказал Лакмен. — И потом, не будет включаться
высшая передача.
— Поставим тахометр, — настаивал Баррис. — Как обороты чересчур поднимутся,
надо сбросить газ, и тогда автоматически сменится передача. Я знаю, где дос-
тать тахометр. Вообще-то он у меня есть.
— Ну да, — саркастически произнес Лакмен. — При обгоне газанешь, а врубится
низшая передача, и обороты так подскочат, что двигатель вообще на хрен накро-
ется!
— Водитель увидит, как прыгнула стрелка тахометра, и сразу сбросит газ, —
терпеливо возразил Баррис.
— При обгоне-то?! Представь, что ты обходишь длиннющий трейлер! Да тебе на-
до гнать и гнать, уж сколько бы ни было там оборотов, иначе ты его никогда не
обойдешь!
— Не забывай про инерцию, — прищурился Баррис. — Такая тяжелая машина будет
двигаться по инерции, даже если убрать газ.
— А в гору? — поддел Лакмен. — Не очень-то она тебе тогда поможет, твоя
инерция.
Баррис повернулся к Арктору.
— Сколько весит... — Он наклонился и зашевелил губами, читая название, — «ол-
дсмобиль»?
— Около тысячи фунтов, — сообщил Арктор, подмигнув Лакмену.
— Тогда ты прав, — согласился Баррис. — При таком весе момент инерции явно
невелик. Хотя... — он схватил ручку. — Тысяча фунтов со скоростью восемьдесят
миль в час создают силу...
— Тысяча фунтов, — вставил Арктор, — это с пассажирами, полным баком и ящи-
ком кирпичей в багажнике.
— Сколько пассажиров? — осведомился Лакмен с непроницаемым видом.
— Двенадцать.
— То есть шесть сзади, — рассуждал вслух Лакмен, — и шесть...
— Нет, — перебил Арктор. — Одиннадцать сзади и впереди один водитель. На
задние колеса давление должно быть больше, чтобы не заносило.
Баррис тревожно вскинул голову.
— Машину заносит?
— Если только сзади не сидят одиннадцать человек, — ответил Арктор.
— Лучше загружать багажник мешками с песком, — назидательно произнес Бар-
рис. — Три двухсотфунтовых мешка с песком. Тогда пассажиров можно разместить
равномернее, и им будет удобней.
— А может, один шестисотфунтовый мешок золота? — предложил Лакмен. — Вместо
трех двухсотфунтовых...
— Ты отвяжешься?! — гаркнул Баррис. — Я пытаюсь рассчитать силу инерции при
скорости восемьдесят миль в час!
— Машина не дает восьмидесяти, — заметил Арктор. — Один цилиндр барахлит. Я
забыл сказать. Вчера что-то случилось с поршнем, когда я возвращался домой из
магазина.
— Тогда какого черта мы вытащили карбюратор? — возмутился Баррис. — Факти-
чески у тебя весь блок цилиндров полетел! Вот почему она не заводится...
— Твоя машина не заводится? — спросил Фрек Боба Арктора.
— Она не заводится, — сказал Лакмен, — потому что мы вытащили карбюратор.
— А зачем мы вытащили карбюратор? — растерянно спросил Баррис. — Я что-то
позабыл...
— Чтобы заменить все пружины и всякие мелкие штуковины, — разъяснил Арктор.
— Чтобы не получилось как в тот раз, когда мы чуть не накрылись. Нам посове-
товал тогда механик.
— Если бы вы, ублюдки, не тарахтели все время, как обломавшиеся торчки, —
обиженно бросил Баррис, — я бы давно закончил расчет. — Он выглядел очень
расстроенным. — Так что ЗАТКНИТЕСЬ!
Лакмен открыл свою книгу, затем раздул грудь, расправил плечи и поиграл би-
цепсами .
— Послушай-ка вот это, Баррис, — объявил он и начал читать вслух: — «Тот,
кому дано видеть Христа более реально, чем любую другую реальность...»
— Что-что? — удивился Баррис.
— «...этого мира — Христа вездесущего, являющего собой всеобщее предопределе-
ние и плазматический принцип вселенной...»
— Что это? — поморщился Арктор.
— Шарден. Тейяр де Шарден.
— О боже, Лакмен...
— «...такой человек воистину пребывает в той сфере, в пределах которой множе-
ственность не способна нарушить его покоя, но которая, тем не менее, есть
наиболее эффективная мастерская всеобщей реализации». — Лакмен захлопнул кни-
гу.
Заподозрив неладное, Чарлз Фрек втиснулся между Баррисом и Лакменом.
— Ребята, да вы что, успокойтесь...
— Уйди, Фрек, — деловито сказал Лакмен. — Ну, Баррис, — процедил он, отводя
назад для удара правую руку, — сейчас я тебе зубы в глотку вобью! Будешь
знать, как разговаривать с людьми, которые превосходят тебя во всех отношени-
ях!
Заблеяв от дикого ужаса, Баррис выронил ручку и блокнот, и зигзагами пом-
чался к дому.
— Телефон! — прокричал он на ходу.
— Я просто его подкалывал, — пробормотал Лакмен, пощипывая нижнюю губу.
— А если он возьмет свой револьвер с глушителем? — спросил Фрек, совершенно
потеряв самообладание, и потихоньку стал отходить к машине, чтобы фазу ук-
рыться, как только Баррис начнет стрелять.
— Ну ладно, давай, — сказал Арктор.
И они принялись за работу, а Фрек околачивался возле своей машины, кляня
себя за то, что вообще решил приехать. Сегодня здесь нет той приятной рас-
слабленной атмосферы, как обычно. Он с самого начала почувствовал недоброе за
всем этим подшучиванием. Черт побери, что же произошло? — недоумевал он, са-
дясь в машину.
Неужели и здесь все покатится под гору? Как у Джерри Фабина в те последние
недели... А ведь как хорошо оттягивалось, как сладко балделось под рок, особен-
но под «Стоунз»... Донна сидит в своей кожаной куртке и набивает капсулы. Лак-
мен скручивает косячки и разглагольствует о семинаре, который он проведет в
Калифорнийском университете, — по приготовлению и употреблению травки. И о
том, как набитый им однажды идеальный косяк поместят под стекло и в гелий в
Музее американской истории рядом с другими реликвиями не меньшего значения...
Как было тогда клево, даже совсем еще недавно, когда они сидели с Джимом Бар-
рисом в «Трех скрипачах»!. . А все началось с Джерри — и перекинулось сюда.
Странно: все вроде хорошо, и вдруг — плохо. И непонятно почему, нет никакой
такой особой причины. Просто раз — и все...
— Я уезжаю, — заявил Фрек Лакмену и Арктору, заводя двигатель.
— Слушай, погоди... — виновато улыбнулся Лакмен. — Ты наш брат, как мы без
тебя...
— Не, я сматываюсь.
Из дома осторожно выглянул Баррис, сжимая в руке молоток.
— Ошиблись номером, — сказал он, опасливо приближаясь и зыркая глазами,
словно крабоподобная тварь из фильма про космические войны.
— Зачем тебе молоток? — спросил Лакмен.
— Наверное, для ремонта двигателя, — предположил Арктор.
— Решил прихватить на всякий случай, — смущенно объяснил Баррис, бочком
подходя к машине. — Попался на глаза...
— Самый опасный человек — это тот, — проговорил Лакмен, — кто боится собст-
венной тени.
Чарлз Фрек услышал эту фразу, отъезжая, и задумался: не имеет ли Лакмен в
виду его? Стыдно... А впрочем, какого черта здесь ошиваться, если все так
стремно? И вовсе это не трусость. «Избегать скандалов» — вот мой девиз, на-
помнил себе Фрек. И уехал, не оглядываясь. Пусть хоть поубивают друг друга.
Кому они нужны... Но на душе было хреново. Все вдруг изменилось — почему, что
это значит?.. Но потом он подумал, что дела еще пойдут на лад, — и воспрянул
духом. Мчась по шоссе и машинально притормаживая при виде замаскированных по-
лицейских, он даже прокрутил в голове коротенький глюк: ВСЕ КАК ПРЕЖДЕ.
Собрались все, даже мертвые и выгоревшие, вроде Джерри Фабина. Их заливает
яркий белый свет. Не дневной, но куда лучше, целое море света, и сверху, и
снизу — со всех сторон. С ними Донна и пара других соблазнительных цыпочек,
одетых очень легко. Слышна музыка, хотя трудно разобрать, с какой пластинки.
Может быть, Хендрикс, подумал он. Да, старая вещь Хендрикса... Или нет: Джи-
Джи. Джим Кросс, и Джи-Джи, и особенно Хендрикс... «Перед тем как я умру, — на-
певал Хендрикс, — дайте мне пожить, как я хочу...»
И тут вдруг глюк взорвался, потому что он вспомнил, что и Хендрикс, и Джоп-
лин мертвы, не говоря уже о Кроссе. Хендрикс и Джи-Джи погибли, сидя на игле,
— два великолепных человека, потрясающих распотрясных человека. Поговаривают,
что менеджер давал Дженис Джоплин сущие гроши — пару сотен баксов время от
времени, — а то бы она все пустила на наркотики, все, что зарабатывала... Потом
в голове у него зазвучала музыка, и Дженис запела свое знаменитое «Одиночест-
во» , и он начал плакать. И так, плача, ехал домой.
Роберт Арктор сидел в гостиной с друзьями и пытался решить, нужно ли брать
новый карбюратор или можно обойтись переборкой старого. Всем телом он ощущал
постоянный незримый контроль, электронное присутствие камер. И от этого ему
было хорошо.
— Ты радуешься, — заметил Лакмен. — Я бы не радовался, если бы мне пришлось
выложить сотню долларов.
— Я решил найти точно такую машину, как у меня, — объяснил Арктор. — А за-
тем снять с нее карбюратор и ничего не платить. Как делают все, кого мы зна-
ем.
— Особенно Донна, — кивнул Баррис. — Лучше бы ее не было здесь в тот день,
когда мы уезжали. Донна тащит все, что может унести. А если сил не хватает,
она звонит своим дружкам-гангстерам, и те тут как тут.
— Расскажу вам одну историю про Донну, — сказал Лакмен. — Однажды она бро-
сила четвертак в автомат, что продает почтовые марки. Машина испортилась и
давай эти марки выплевывать! В конечном итоге — Донна со своими дружками-
головорезами пересчитала — оказалось больше восемнадцати тысяч пятнадцатицен-
товых марок. Ну, скажете вы, здорово! Только что с ними делать Донне Хоторн,
которая в жизни не написала ни одного письма?! Разве что одно — своему адво-
кату, чтобы подать в суд на того парня, который обул ее с колесами.
— Чего?! — удивился Арктор. — У нее есть адвокат, который выбивает деньги
за некачественный товар? Как это?
— Наверно, она не говорит, за что ей должны. Должны — и все тут.
— Представляю себе письмо адвоката с угрозой подать в суд из-за неуплаты за
партию наркотиков, — хихикнул Арктор, в очередной раз восхищаясь способностя-
ми Донны.
— Так или иначе, — продолжат Лакмен, — сидит она с грудой пятнадцатиценто-
вых марок и ума не приложит, куда их деть. Не продавать же обратно почте! Тем
более там уже, ясное дело, просекли, что машина пошла вразнос, и ждут, когда
кто-нибудь сунется к окошку с мешком марок... Ну и стала она об этом думать —
после того, как, само собой, загрузила все марки в багажник и сделала ноги.
Позвонила дружкам, которые на нее работают, и они приехали с каким-то спец-
обалденным навороченным отбойным молотком — вроде как с водяным охлаждением и
водяным глушителем. Краденым, конечно. Вот... И среди ночи выдрали ту машину
прямо из асфальта и увезли к Донне на пикапе. Который тоже, само собой, спе-
циально для этого угнали.
— Ты хочешь сказать, что она продавала марки? — проговорил ошеломленный
Арктор. — Через автомат? По одной марочке?
— Они установили этот автомат — по крайней мере, так мне рассказывали —
где-то на перекрестке, где полно народу, но чтобы не было видно с почтового
грузовичка, и запустили его.
— Нет, чтобы просто вскрыть ящик для монет, — презрительно пожал плечами
Баррис.
— И так вот они продавали марки несколько недель — в общем, пока не кончил-
ся запас. Могу себе представить, как Донна ломала голову, что делать дальше.
Она ведь экономная, ничего не выбрасывает: ее предки — какие-то крестьяне из
Европы. Небось придумала, как из автомата газировку продавать.
— Это правда? — протянул Баррис.
— Что именно? — улыбнулся Лакмен.
— Эта женщина невменяема! — возмутился Баррис. — Ее надо отправить на при-
нудительное лечение! Ты понимаешь, что из-за кражи марок у нас повысились на-
логи? !
— Настучи властям, — неприязненно посоветовал Лакмен. — Попроси у Донны
марку для письма, она тебе продаст.
— Ага, за полную стоимость, — сказал Баррис, кипя негодованием.
Камеры, подумал Арктор, накрутят десятки миль подобной белиберды на своих
дорогих лентах... Вообще-то не важно, что происходит в присутствии Боба Аркто-
ра, важно (для кого важно, для Фреда?) то, что происходит, когда Боб отсутст-
вует или спит, а остальные находятся в зоне видимости камер. Так что мне пора
сваливать, как я и планировал, а их оставить здесь. Пожалуй, стоит привести
сюда и других знакомых. С сегодняшнего дня мой дом открыт для всех!
А потом в голову пришла жуткая, чудовищная мысль: а вдруг, просматривая за-
писи, я увижу, как Донна забирается в мой дом — открыв окно вилкой или лезви-
ем ножа — и крадет или портит все мои вещи? Другая Донна, такая, какая она
есть на самом деле, когда уверена, что за ней никто не наблюдает... Не превра-
щается ли внезапно милая, добрая, очень добрая девушка в нечто кошмарное? Не
увижу ли я перемену, которая разобьет мое сердце? Перемену в Донне или Лакме-
не — в близких мне людях? Что делают домашние животные, когда хозяина нет до-
ма? Вот кошка снимает наволочку с подушки и начинает набивать ее твоим доб-
ром: часами, приемниками, бритвами и всем прочим, — уже совсем другая, чужая,
незнакомая кошка, — курит твои косяки, ходит по потолку, звонит по междуго-
родной... И это уже другой, кошмарный мир, Зазеркалье, город отражений, насе-
ленный ужасными невообразимыми чудищами. Вот Донна крадется на четырех лапах,
лакает из кошачьей миски... ирреальность плывет и искажается, и все возможно в
диком психоделическом глюке, смурном и непостижимом.
Черт возьми, подумал он, а может, Боб Арктор встает среди ночи и тоже выки-
дывает какие-нибудь дикие коленца? Трахает стену. Или впускает в дом целую
банду непонятных уродов с головами, которые способны делать полный оборот,
как у совы. И камеры зафиксируют, как эти шизанутые торчки плетут грандиозный
заговор, чтобы непонятно зачем взорвать мужской туалет на вокзале, наполнив
сливной бачок пакетами с пластиковой взрывчаткой... Или творится что и похлеще...
каждый раз, когда он якобы ложится спать или куда-нибудь уходит.
Боб Арктор, рассуждал он, может узнать такое, к чему совершенно не готов и
что совсем не хочет узнать, — о милашке Донне в кожаной курточке, о Лакмене в
шикарных шмотках... Даже о Баррисе... Например, что Баррис просто-напросто от-
правляется спать, когда никого вокруг нет. И спит, пока кто-нибудь не появит-
ся.
Нет, это вряд ли. Скорее Джим Баррис выуживает из кучи барахла в своей ком-
нате спрятанный передатчик и посылает закодированный сигнал другой банде ши-
занутых торчков, тем, с которыми тайно злоумышляет... черт знает, что уж там
могут злоумышлять такие типы, как Баррис. Теперь, кстати, и его комната попа-
дает под круглосуточное наблюдение...
С другой стороны, Хэнк и его компания вряд ли будут рады, если теперь, ко-
гда камеры так тщательно и с таким трудом, наконец, установлены, Боб Арктор
уйдет из дому и больше не вернется, не появится ни на одной пленке. Нельзя
использовать аппаратуру только в своих целях и полностью похерить планы на-
чальства . В конце концов, техника установлена за казенный счет. Так что хо-
чешь , не хочешь, а во всех записях ему придется играть главную роль. Арктор-
актер, Арктор-звезда, усмехнулся он. Великолепный Боб, преследуемый герой,
дичь экстра-класса.
Говорят, когда слушаешь запись, невозможно узнать собственный голос. Или
распознать себя на видео, тем более на трехмерной голограмме. Ты представлял
себя высоким толстым темноволосым мужчиной, а оказываешься худенькой лысой
женщиной... так, что ли? Наверняка я узнаю Боба Арктора, думал он, если не по
одежде, то путем исключения. Тот, кто живет в этом доме и не является Барри-
сом или Лакменом, — Боб Арктор. Разве что это кошка или собака... Но будем дей-
ствовать профессионально — обращать внимание только на прямоходящих.
— Мне надо идти, — сказал Арктор. — Попробую раздобыть деньжат.
Он резко остановился, якобы вспомнив, что у него нет машины. По крайней ме-
ре , попытался придать лицу соответствующее выражение.
— Лакмен, твоя машина на ходу?
— Нет, — подумав, ответил Лакмен. — Не думаю.
Арктор повернулся к Баррису:
— Можно взять твою машину, Джим?
— Ну, не знаю... справишься ли ты с ней...
Это возражение возникало всякий раз, когда кто-нибудь хотел воспользоваться
машиной Барриса. Оказывается, Баррис внес кое-какие секретные изменения в:
а) подвеску;
б) двигатель;
в) коробку передач;
г) электросистему;
д) рулевое управление,
— а также в часы, зажигалку, пепельницу и «бардачок». Особенно в «барда-
чок» . У Барриса он всегда был заперт. Радиоприемник тоже был хитроумно пере-
делан, непонятно, как и с какой целью. Одна из станций, к примеру, выдавала
лишь странные звуковые сигналы с интервалом в одну минуту. И, как ни странно,
рок-музыка не ловилась никогда. Порой, когда они вместе ехали за товаром и
Баррис выходил из машины, он включал ту самую станцию на полную громкость.
Если во время его отсутствия настройку меняли, он в бешенстве что-то бессвяз-
но орал, а потом молчал всю дорогу и отказывался что-либо объяснять. Возмож-
но, настроенный на эту частоту, его приемник вел передачу:
а) властям;
б) частной полувоенной организации;
в) мафии;
г) инопланетянам.
— То есть я хочу сказать... — начал Баррис.
— А, заткнись! — оборвал Лакмен. — У тебя самая обычная машина с шестици-
линдровым двигателем. Сторож на парковке преспокойно с ней справляется. А по-
чему ею не может пользоваться Боб? Жмот ты проклятый!
На самом деле у Боба Арктора в машине тоже было кое-что переделано, в част-
ности в его приемнике. Но он об этом не распространялся. Точнее, все это было
у Фреда. А именно — практически то же самое, что якобы было в машине Барриса,
хотя у него-то как раз этого и не было.
Любая полицейская машина передает широкополосный сигнал, который принимает-
ся обычными радиоприемниками просто как шум, вроде помех от неисправного за-
жигания. Однако в машине Боба Арктора был установлен приборчик, который
фильтровал этот шум и позволял ему точно определить, насколько близко нахо-
дится тот или иной полицейский автомобиль и к какому департаменту полиции он
принадлежит: городскому, районному или федеральному. Он также мох1 принимать
ежеминутные сигналы для согласования действий отдельных подразделений при
рейдах. А одна хитрая станция безостановочно гнала стандартную десятку попу-
лярных хитов вперемежку с болтовней ведущего, который, однако, после обычно-
го : «А эту песню Кэта Стивенса мы передаем по просьбе Фила и Джейн...» мох1 вы-
дать что-нибудь вроде: «Машина номер один находится в миле к северу от... ос-
тальным командам проследовать...» И на памяти Фреда не было случая — сколько бы
парней и девчонок ни находилось в его машине, когда он был обязан — например,
во время крупных рейдов — слушать эту станцию, чтобы кто-нибудь такие вещи
заметил. В лучшем случае они считали, что им померещилось. И Фред всегда
знал, когда какой-нибудь старый «шевроле» с лохматым панком за рулем, раскра-
шенный под гоночную машину и проносящийся мимо с диким ревом, был на самом
деле замаскированной полицейской машиной. А если нажать кнопку, которая якобы
переключала диапазоны, то специальные устройства начинали передавать властям
каждое слово из того, что говорилось в машине, в то же время отфильтровывая и
удаляя всю музыку.
Это что касается радио. Но все остальное — подвеска, двигатель, коробка пе-
редач и так далее — было в машине Боба Арктора самым обыкновенным, хотя и хо-
рошего качества. Зачем что-то еще модифицировать? Во-первых, ни к чему вызы-
вать подозрения. Кроме того, миллионы заядлых автомобилистов снабжали свои
машины всякими наворотами. Тем более что возможности какого-нибудь «феррари»
заведомо оставляли позади любые «специальные секретные модификации», о кото-
рых так любил распространяться Баррис. А полицейские не ездят на спортивных
машинах, даже дешевых, не говоря уже о «феррари». Так или иначе, в конечном
счете, все определяет мастерство водителя...
Пожалуй, единственной необычной деталью машины были покрышки. Сделанные це-
ликом из металла, они быстро снашивались, зато давали преимущество в скорости
и позволяли быстро разгоняться. Стоили они немало, но Арктору достались бес-
платно . Устанавливать их, однако, пришлось самому, тайно, так же как и радио,
которое, кстати, доставляло ему массу беспокойства. Не потому, что кто-нибудь
типа Барриса мох1 что-то заподозрить, а потому, что его могли элементарно спе-
реть , а за казенный прибор пришлось бы отвечать.
Был в машине и пистолет, надежно спрятанный. Даже шизик Баррис с его психо-
делическими фантазиями никогда бы не додумался туда его положить. Ему бы на-
верняка пришли в голову разные экзотические места вроде рулевой колонки или
бензобака, где пистолет можно подвесить на проволоке, как партию кокаина в
одном из фильмов. На самом деле такие тайники хуже всего — о них известно
всем, кто бывал в кино. В машине Арктора пистолет лежал в «бардачке».
Та чушь, которую постоянно нес Баррис, говоря о своей машине, потому и была
несколько похожа на правду, что большинство прибамбасов, о которых шла речь,
были стандартными, демонстрировались в фильмах и обсуждались на телевидении в
передачах с участием экспертов по электронике. Так что любой обыватель (или
«среднестатистический гражданин», как любил выражаться Баррис, демонстрируя
свою образованность) мог знать об этом почти все. Ну и ладно, пускай, какая
разница? Другое дело, если бы всю эту мудреную технику взяли на вооружение
те, за кем гонялась полиция, в особенности поставщики наркотиков, курьеры и
толкачи. Тогда у наркоманов наступили бы светлые дни.
— Пойду пешком, — сказал Арктор. К этому он и вел — чтобы «пришлось» идти
пешком.
— Ты куда? — спросил Лакмен.
— К Донне. — Добраться до нее пешком было почти немыслимо, а значит, ни
Лакмен, ни Баррис за ним не увяжутся. Он набросил плащ и подошел к двери. —
До скорого.
— Моя машина... — снова начал Баррис.
— Если б я попробовал вести твою машину, — перебил Арктор, — то нажал бы
ненароком не на ту кнопку да взлетел бы над Лос-Анджелесом, как воздушный
шар, и меня заставили бы тушить с воздуха пожары на нефтяных вышках.
— Я рад, что ты понимаешь мое положение, — виновато пробормотал Баррис.
Сидя в костюме-болтунье перед монитором номер два, Фред бесстрастно следил
за движущимся голографическим изображением. В соседних кабинах сидели другие
агенты, просматривая записи. Фред, однако, смотрел прямую передачу из дома
Боба Арктора.
Баррис устроился в лучшем кресле гостиной: склонился над гашишной трубкой,
которую он мастерил уже несколько дней, и виток за витком наматывал белый
провод. Лакмен скрючился за кофейным столиком и жадно заглатывал ужин, не от-
рывая глаз от экрана телевизора. На столе валялись четыре пустые жестянки из-
под пива, сплющенные его могучим кулаком; теперь он потянулся за пятой, опро-
кинул, пролил пиво и выругался. Баррис отрешенно поднял голову, а потом снова
склонился над работой.
Фред продолжал наблюдать.
— Черт бы побрал это телевидение! — пробормотал Лакмен с полным ртом.
Внезапно он выронил ложку, вскочил, пошатываясь, на ноги и отчаянно замахал
руками, пытаясь что-то сказать. Его рот открылся, и на одежду полетели куски
полупрожеванной пищи. С радостным мяуканьем к нему бросились кошки.
Баррис отвел взгляд от трубки и уставился на несчастного Лакмена. Тот зака-
чался, издавая нечленораздельные булькающие звуки, схватился рукой за столик
и повалил все на пол. Кошки испуганно бросились наутек. Баррис оставался в
кресле, не сводя взгляда с Лакмена. Лакмен сделал несколько нетвердых шагов к
кухне — другая камера показала, как он, пошарив на столе, нашел стакан и по-
пытался наполнить его водой из крана. Охваченный ужасом Фред отпрянул от мо-
нитора и зачарованно смотрел на сидящего спокойно Барриса. Через несколько
секунд Баррис опустил голову и стал невозмутимо и сосредоточенно наматывать
проволоку.
Динамики доносили душераздирающие звуки: стоны, хрипы, клокотание и грохот
посуды — Лакмен сбрасывал горшки, кастрюли, тарелки, стараясь привлечь внима-
ние Барриса. Баррис методично работал.
На кухне, на мониторе номер один, Лакмен тем временем упал на пол — не мед-
ленно, на колени, а резко, ничком, с тяжелым стуком. Баррис продолжал мотать
проволоку. На его лице, в уголках губ, появилась легкая злорадная усмешка.
Фред поднялся и застыл, парализованный и возбужденный одновременно.
Несколько минут Лакмен недвижно лежал на кухонном полу, а Баррис все мотал
и мотал проволоку, склонившись над своей работой, как старушка над вязаньем,
и все улыбался, и улыбался, и даже немного раскачивался. Затем Баррис резко
встал, на его лице отразился ужас. Он в беспомощном испуге всплеснул руками,
бестолково заметался и, наконец, подбежал к Лакмену.
Входит в роль, понял Фред. Будто он только что пришел.
Лицо Барриса приняло скорбное выражение. Он рванулся к телефону, схватил
трубку, уронил ее, поднял... Какой кошмар, Лакмен лежит на полу в кухне, пода-
вившись куском пищи!.. И теперь Баррис отчаянно пытается вызвать помощь. Увы,
слишком поздно...
Баррис говорил по телефону медленно, странным, необычно высоким голосом.
— Девушка, куда надо звонить: в ингаляторную или в реанимационную?
— Сэр, — пропищало рядом с Фредом подслушивающее телефонное устройство, — у
кого-то затруднено дыхание? Вы хотите...
— Полагаю, что это инфаркт, — рассуждал Баррис профессиональным тоном. —
Либо инфаркт, либо нарушение проходимости дыхательных путей вследствие...
— Ваш адрес, сэр? — прервала телефонистка.
— Адрес? — забормотал Баррис. — Сейчас, надо подумать, адрес...
— Боже, — выдавил Фред.
Внезапно Лакмен, распростертый на полу, судорожно напрягся. Его обильно вы-
рвало, он зашевелился и вытаращил налитые кровью глаза.
— Кажется, с ним все уже в порядке, — затараторил Баррис. — Спасибо, помощь
не требуется.
Он быстро положил трубку.
— Господи... — прохрипел Лакмен, тряся головой, кашляя и хватая ртом воздух.
— Ну, как ты? — участливо спросил Баррис.
— Наверное, подавился. Я что, был в отключке?
— Не совсем. Твое сознание временно перешло на другой уровень. Очевидно, в
альфа-состояние.
— Боже, я обделался!
Покачиваясь от слабости, Лакмен с трудом встал и схватился за стенку.
— Как старый пьяница, — с отвращением выдавил он и, шатаясь, направился к
ванной.
Наблюдая за происходящим, Фред почувствовал, как ужас отступает. Лакмен
очухается. Но Баррис! Что это за человек?! Полный псих...
— Так и окочуриться можно, — сквозь плеск воды донесся голос Лакмена.
Баррис улыбался.
— У меня очень крепкий организм... — продолжал Лакмен, хлебая воду из стака-
на. — Что ты делал, пока я там валялся? Онанизмом занимался?
— Ты же видел — говорил по телефону, — сказал Баррис. — С врачами. Я стал
действовать, как только...
— Врешь, — горько промолвил Лакмен, продолжая пить воду. — Я знаю: ты ждал,
когда я отдам концы, чтобы спереть мою заначку. Еще бы и в карманах пошарил...
— Удивительно, — задумчиво произнес Баррис, — насколько несовершенна анато-
мия человека — пища и воздух проходят одним и тем же путем. Возникает риск...
Лакмен молча показал ему средний палец.
Скрежет тормозов. Гудок. Боб Арктор быстро обернулся. В темноте у тротуара
спортивная машина с работающим двигателем, за рулем — девушка. Машет рукой.
Донна.
— Я тебя напугала? Ехала к вам, смотрю — ты плетешься. Сначала я даже не
поняла, что это ты, а потом вернулась. Садись.
Он молча забрался в машину и захлопнул дверцу.
— Ты чего здесь ошиваешься? — спросила Донна. — Машину еще не починил?
— У меня только что было жуткое шугало, — медленно произнес Боб Арктор. —
Не просто глюк, а... — Он содрогнулся.
— Я достала.
— Что?
— Тысячу таблеток смерти.
— Смерти? — непонимающе повторил он.
— Да, высшего сорта. Ладно, поехали.
Она врубила первую передачу и тут же разогналась до высшей. Донна всегда
ездила слишком быстро.
— Проклятый Баррис! — сказал Арктор. — Ты знаешь, как он действует? Сам не
убивает, нет. Он просто околачивается поблизости и ждет, пока возникнет си-
туация , когда человек отдаст концы. Сидит сложа руки, пока тот не издохнет.
То есть он подстраивает все так, чтобы остаться в стороне. Но я понятия не
имею, как это ему удается. — Арктор замолчал, уйдя в свои мысли. Да, Баррис
не будет подкладывать бомбу в машину. Он всего лишь...
— у тебя есть деньги? — спросила Донна. — За товар? Это и в самом деле вые-
ший сорт. Мне нужны деньги прямо сейчас. Тут кое-что наклевывается.
— Конечно. — Деньги были у него в бумажнике.
— Я не люблю Барриса, — сказала Донна, ведя машину. — И не доверяю ему.
Знаешь, он псих. Когда ты рядом с ним, ты тоже становишься сумасшедшим. А ко-
гда его нет, ты нормальный. И сейчас ты сумасшедший.
— Я? — удивленно спросил Арктор.
— Да, — невозмутимо ответила Донна.
Он растерянно молчал. А что говорить? Донна никогда не ошибается...
— Послушай, — с внезапным энтузиазмом предложила Донна, — ты не сводишь ме-
ня на рок-концерт? На стадион в Анахайме, на следующей неделе. А?
— Запросто, — машинально отозвался Арктор. А потом до него дошло: Донна
просит... — Еще бы! — радостно воскликнул он. Снова — в который раз! — малень-
кая темноволосая цыпочка, которую он так любил, вернула ему вкус к жизни. —
Когда?
— В воскресенье днем. Я прихвачу черный хаш и хорошенько забалдею. Там это
раз плюнуть; торчков будут тысячи. — Она окинула Арктора критическим взгля-
дом. — Только ты нацепи что-нибудь клевое, а то ходишь в каких-то тряпках... —
Ее голос смягчился. — Я хочу, чтобы ты выглядел клево... потому что ты сам кле-
вый.
— Хорошо, — потрясенно вымолвил он.
— Едем ко мне, — сказала Донна. — Ты отдашь деньги, закинемся парочкой таб-
леток и забалдеем. А может, купишь бутылочку «Услады Юга» — мы еще и напьем-
ся.
— Здорово, — с чувством произнес Арктор.
— Больше всего я хочу сегодня вечером съездить в киношку, — продолжала Дон-
на, загоняя машину на стоянку. — Купила газету посмотреть, что идет, но везде
одна муть. Можно, правда, податься в Торрансовскую «на колесах»... хотя там уже
началось. В пять тридцать. Черт!
Он посмотрел на часы.
— Да, не успели.
— Ничего, мы не так уж много пропустили. — Она с улыбкой взглянула на него.
— Там крутят все одиннадцать серий «Планеты обезьян». До восьми утра. Оттуда
я завтра сразу на работу, так что сейчас надо переодеться. Будем балдеть всю
ночь и пить «Усладу Юга». Ну как, идет?
— Всю ночь, — мечтательно повторил он.
— Ну да! — Донна выскочила из машины и открыла дверцу с его стороны. — Ты
когда-нибудь видел «Планету обезьян» целиком? Я почти все смотрела в начале
года, кроме последней серии, где показывают, что знаменитости вроде Линкольна
и Нерона были на самом деле обезьянами — управляли людьми с самого начала.
Обалденный фильмец, я его прозевала — отравилась бутербродом с ветчиной из
тамошнего автомата. Господи, я так обозлилась!.. Поэтому, когда мы в следую-
щий раз туда поехали — только ты ни гугу! — я засунула в тот автомат гнутую
монету, и в пару других заодно. Специально. Мы с Ларри Таллингом — помнишь
Ларри, я тогда с ним гуляла — погнули целую пригоршню монет и уделали все ав-
томаты . Именно той фирмы, конечно. А потом и остальные, если честно.
Они подошли к входной двери, и Донна медленно и торжественно повернула ключ
в замке.
— Да, тебя опасно обижать, — улыбнулся Арктор, входя в маленькую уютную
квартирку.
— На этот ворсистый ковер не наступай, — предупредила Донна.
— Как же я пройду?
— Просто стой или иди по газетам.
— Слушай...
— Только не надо, ладно? Знаешь, во сколько мне обошлось помыть его шампу-
нем? — нахмурилась она, расстегивая кожаную куртку.
— Экономия, — проговорил Арктор, раздеваясь. — Крестьянская бережливость.
Ты хоть что-нибудь иногда выбрасываешь? Например, обрезки бечевки?
— Рано или поздно, — сказала Донна, сняв кожаную куртку и встряхнув длинны-
ми волосами, — я выйду замуж, и тогда мне все пригодится, вот почему я ничего
не выбрасываю. Когда выходишь замуж, нет такой вещи, которая не понадобится.
К примеру, вот это большое зеркало мы увидели в соседнем дворе; еле-еле уво-
локли втроем, час возились. Рано или поздно...
— Сколько из того, что у тебя есть, ты купила, — спросил Арктор, — и сколь-
ко украла?
— Купила? — Она в замешательстве посмотрела ему в глаза. — Что ты имеешь в
виду — «купила»?
— Ну, как ты покупаешь наркотики, — объяснил Арктор. — К примеру, сейчас. —
Он достал бумажник. — Я даю тебе деньги, верно?
Донна кивнула — сдержанно, с достоинством, слушая, очевидно, только из веж-
ливости .
— А ты мне за них даешь товар, — продолжал он, вынимая деньги. — Под словом
«купить» я подразумеваю распространение того, что мы сейчас делаем, на всю
сферу человеческих отношений.
— Кажется, понимаю, — произнесла она. Ее большие глаза глядели спокойно, но
с интересом. Донна всегда была готова учиться.
— Вот сколько ты стащила кока-колы с грузовика, за которым ехала в тот
день? Сколько ящиков?
— Хватило на месяц, — ответила Донна. — Мне и моим друзьям.
Арктор бросил на нее укоризненный взгляд.
— Это форма товарообмена, — пояснила она.
— А что... — Он улыбнулся. — Что ты дала взамен?
— Себя.
Теперь он расхохотался.
— Кому? Водителю грузовика, который не имеет никакого...
— «Кока-кола» — это капиталистическая монополия, как и телефонная компания.
Тебе известно, — темные глаза Донны сверкнули, — что формула изготовления ко-
ка-колы засекречена и веками передается из рук в руки в одной семье? Где-то в
сейфе хранится запись этой формулы. Интересно где... — задумчиво добавила она.
— Твоим дружкам-головорезам ни в жизнь не найти.
— На кой черт нужна эта формула, если сколько хочешь можно утащить с их
грузовиков?! У них уйма грузовиков. Куда ни плюнь — везде грузовики с кока-
колой, причем еле-еле тащатся. А я, как только выпадает случай, еду следом.
Они прямо бесятся от злости.
Донна улыбнулась Арктору таинственной, милой и лукавой улыбкой, словно пы-
таясь заманить его в свой странный мир, где она плетется и плетется за каким-
нибудь грузовиком, а потом, когда грузовик останавливается, просто крадет
все, что там есть. Не потому, что она прирожденный вор, и даже не из мести.
Просто она так насмотрится на ящики с кокой, что наперед решит, как ими рас-
порядиться... Она тогда под завязку загрузила свою машину — не нынешнюю мало-
литражку, а ту большую, что потом разбила, — ящиками с кокой и целый месяц
пила сколько хотела с дружками, а потом...
Потом сдала посуду понемногу в разные магазины. «Что ты сделала с пробками?
— спросил он однажды. — Завернула и спрятала в бабушкин сундук?»
«Выбросила, — мрачно ответила она. — На что они нужны? Теперь нет никаких
рекламных акций с лотереей, ничего полезного...»
Донна вышла в соседнюю комнату и вскоре вернулась с несколькими пластиковы-
ми мешками.
— Хочешь пересчитать? Тысяча ровно. Я их взвесила на электронных весах пе-
ред тем, как платить.
— Ладно, нормально. — Арктор взял пакеты, отдал деньги и подумал: вот, Дон-
на, теперь я еще раз мору тебя заложить, но, наверное, не заложу никогда, по-
тому что в тебе есть что-то чудесное, радостное и полное жизни, и я не решусь
это уничтожить.
— Можно мне взять десяток? — попросила Донна.
— Десяток? Десяток таблеток? — Он открыл пакет и отсчитал ей ровно десяток.
А потом десяток для себя. Завязал пакет и отнес к своему плащу в прихожей.
— Представляешь, что придумали в музыкальных магазинах? — возмущенно начала
Донна, когда он вернулся. Таблеток нигде не было видно, она уже упрятала их в
загашник.
— Забирают, — сказал Арктор. — За кражу.
— Да нет, за кражу всегда забирали. А теперь... Ну, ты знаешь, выбираешь кас-
сету или диск, подходишь к продавцу, и тот отлепляет ярлычок с ценой. Так что
ты думаешь?! Я чуть не накололась. — Она плюхнулась в кресло, улыбаясь в
предвкушении кайфа, и достала завернутый в фольгу маленький кубик, в котором
Арктор сразу распознал хаш. — Оказывается, это не просто ярлычок. Там есть
крошечка какого-то сплава, и, если ты обошел продавца и идешь к двери, начи-
нает реветь сирена.
— И как же ты «чуть не накололась»? — улыбнулся он.
— Передо мной одна соплячка пыталась вынести кассету под пальто. Заревела
сирена, ее заграбастали и сдали копам.
— Сколько у тебя было под пальто?
— Три.
— А в машине — наркотики? — спросил Арктор. — Если б тебя взяли за кассеты,
то обшмонали бы и машину, а потом пришили тебе еще и хранение. Причем спорю,
что ты делаешь это не только здесь, но и...
Он хотел сказать: «И там, где тебе не могли бы помочь знакомые из полиции».
Но не сказал, потому что имел в виду себя. Если Донна попадется, он из кожи
вон вылезет, чтобы ей помочь. Однако ему ничего не удастся сделать в другом
округе... В голове закрутился глюк, настоящее шугало: Донна, подобно Лакмену,
умирает, и всем, как Баррису, плевать. Ее запрячут в тюрьму, и там ей придет-
ся отвыкать от препарата «С», просто так, без всякой помощи. А поскольку она
еще и торгует, да плюс воровство, то сидеть ей долго, и там с ней много чего
случится, разные ужасные вещи, так что выйдет она совсем другой Донной. Неж-
ное, участливое выражение, которое он так любит, преобразится бог знает во
что, но в любом случае во что-то пустое и слишком часто использованное... Она
превратится в НЕЧТО. Рано или поздно такое случится со всеми — но она... Арктор
не хотел дожить до этого дня.
— Когда есть хаш, я обо всем забываю. — Донна достала свою любимую само-
дельную керамическую трубочку, похожую на ракушку, и посмотрела на Арктора
широко раскрытыми, лучистыми и счастливыми глазами. — Садись. Я тебя подзаря-
жу .
Арктор сел, а Донна поднялась, раскурила трубку, подошла не спеша, наклони-
лась и, когда он раскрыл рот — словно птенец, мелькнула мысль, — выдохнула в
него струю серого дыма. Она наполнила его своей горячей, смелой, неиссякаемой
энергией, которая в то же время успокаивала, расслабляла и смягчала их обоих.
— Я люблю тебя, Донна, — сказал Арктор.
Такая «подзарядка» служила им заменой секса и, возможно, была даже в чем-то
лучше, чем секс. Что-то очень интимное и очень странное... Сначала она «заряжа-
ла» его, потом он ее. Равноценный обмен, пока не кончится хаш.
— Да, ты меня любишь. — Она мягко рассмеялась и села рядом, чтобы, наконец,
затянуться из трубки самой.
Глава 9
— Эй, Донна, — произнес он. — Тебе нравятся кошки?
Она моргнула: ее глаза были красными и воспаленными.
— Гадкие маленькие твари. Движутся очень низко над землей.
— Не над землей. По земле.
— Гадкие... Гадят за мебелью.
— Ладно, а маленькие весенние цветы?
— Да, — ответила она. — Это я понимаю — маленькие весенние цветы. Желтень-
кие . Появляются первыми.
— Самыми первыми, раньше всех.
— Да. — Донна отрешенно кивнула с закрытыми глазами. — Потом на них насту-
пают , и все... их нет.
— Ты меня чувствуешь, — умилился он. — Ты понимаешь меня — всего, без ос-
татка .
Она откинулась назад, отложив выкуренную трубку. Ее улыбка медленно погас-
ла.
— Что не так?
В ответ она лишь покачала головой.
— Ничего.
— Можно, я обниму тебя? Я хочу приласкать тебя. А? Приголубить.
Донна заторможено перевела на него темные расширенные зрачки.
— Нет. Нет! Ты урод.
— Что?
— Нет! — резко выкрикнула она. — Я много нюхаю коки. Мне надо быть сверхос-
торожной, потому что много коки!
— Урод?! — ошеломленно повторил он. — Да пошла ты!
— Оставь в покое мое тело, — не сводя с него взгляда, прошипела Донна.
— и оставлю. — Арктор вскочил на ноги и попятился. — Уж не сомневайся. —
Внутри все клокотало, хотелось вытащить револьвер и прострелить ей башку,
размазать ее по стенке... А потом, так же внезапно, ярость и ненависть, вызван-
ные гашишем, прошли. — Черт побери... — безжизненно выдохнул он.
— Не люблю, когда меня лапают. Мне приходится быть начеку, слишком много
коки... Когда-нибудь я перейду канадскую границу с четырьмя фунтами коки — за-
суну себе прямо туда... Скажу, что я католичка и девственница, и они не посме-
ют... Ты чего? — встрепенувшись, спросила она.
— Ухожу.
— Твоя машина осталась там, ты приехал со мной.
Взъерошенная, полусонная Донна достала из шкафа кожаную куртку.
— Я отвезу тебя домой. Пойми, я никого не должна к себе подпускать. Слишком
много коки. Четыре фунта коки стоят...
— Нет, ни хрена не выйдет, — отрезал Арктор. — Ты совсем плохая — не про-
едешь и десяти метров, а за руль своего паршивого самоката никого не пуска-
ешь .
Она обернулась к нему и взбешенно закричала:
— Потому что ни один сукин сын не может вести мою машину! Никто ни черта не
понимает, особенно мужики! В машинах и во всем остальном! Посмей еще совать
руки мне в...
А потом он вдруг оказался в темноте на улице, без плаща, в незнакомой части
города, один — и услышал, как Донна бежит за ним, задыхаясь. Слишком много
курила в последнее время, в легких полно смолы, пришло ему в голову. Арктор
остановился и стал ждать, не поворачиваясь, опустив голову. На душе было со-
всем скверно.
Приблизившись, Донна замедлила шаги и, еще не отдышавшись, проговорила:
— Прости, я обидела тебя. Я сказала...
— Да уж! Урод!
— Когда я проработаю весь день и дико-дико устану, я могу отключиться от
первой же затяжки... Хочешь, вернемся? Или в кино? Ну что ты хочешь? Или купим
вина... «Усладу Юга». Мне не продадут, — сказала она и, помолчав, добавила: — Я
несовершеннолетняя, понимаешь ?
— Ладно, — кивнул он.
Они пошли назад.
— Хороший хашик, да? — Донна заглянула ему в лицо.
— Он черный и липкий, — проговорил Арктор. — Значит, пропитан алкалоидами
опиума. То, что ты курила, — опиум, а не гашиш. Вот почему он стоит так доро-
го, ты понимаешь? — Арктор в волнении остановился и почти кричал. — Ты куришь
не хаш, милая моя, ты куришь опиум — ты зарабатываешь себе привычку на всю
жизнь ценой... почем сейчас фунт этого «хаша»? Ты будешь курить и спать, курить
и спать, а потом не сумеешь даже сесть за руль, и скоро ты дня не сможешь
обойтись...
— Уже не могу, — перебила Донна. — Утром перед работой, и в обед, и когда
прихожу домой. Вот почему я стала торговать — чтобы иметь на хаш. Он хороший,
то что надо.
— Опиум, — повторил Арктор. — Почем сейчас твой «хаш»?
— Десять тысяч за фунт, — ответила Донна. — Первоклассного.
— Боже мой! Почти как героин!
— Я никогда не сяду на иглу, ни за что! Как начинаешь колоться, протягива-
ешь от силы шесть месяцев. Что бы ни колоть, хоть воду. Сперва возникает при-
вычка...
— Уже возникла.
— Не у меня одной. Ты глотаешь препарат «С». И что с того? Какая разница? Я
счастлива. А ты разве нет? Я прихожу домой и каждый вечер курю отличный хаш...
это мое. Не пытайся изменить меня. Никогда-никогда не пытайся изменить меня.
Я — это я.
— Ты видела фотографии курильщиков опиума? Как в старину в Китае? Или в Ин-
дии? На кого они становятся похожи?..
— Я не собираюсь долго жить. — Донна пожала плечами. — Я не хочу тут задер-
живаться. Ты, что ли, хочешь? Зачем? Что хорошего в этом мире? А ты видел —
да, черт возьми, вспомни Джерри Фабина! — что происходит с теми, кто долго
сидит на препарате «С»? Скажи мне, Боб, в самом деле, ну что такого в этом
мире? Всего лишь остановка по пути в другой мир, а нас здесь судят за то, что
мы рождены во грехе...
— Это такая ты католичка?
— Нас здесь наказывают... так что если можно оттянуться время от времени, по-
чему нет, черт побери! Вчера я едва не накрылась по пути на работу. Ехала,
слушала музыку и курила хаш и не заметила «форд император»...
— Ты дура, — сказал Арктор. — Потрясающая дура.
— Знаешь, я умру рано. Так или иначе, что бы я ни делала. Может, на шоссе.
Мой «жучок» почти без тормозов, за этот год меня уже четырежды штрафовали за
превышение скорости. Теперь придется ходить на курсы. Вот гадство! Целых
шесть месяцев.
— Значит, однажды я тебя никогда больше не увижу, да? Никогда-никогда боль-
ше не увижу...
— Когда я буду на курсах? Нет, через шесть месяцев...
— Когда ты будешь на кладбище, — объяснил он. — Уничтоженная еще до того,
как по калифорнийским законам, по проклятым калифорнийским законам тебе раз-
решат купить банку пива или бутылку вина...
— Точно! — воскликнула Донна. — «Услада Юга»! Прямо сейчас! Возьмем бутылку
и поедем смотреть «Обезьян»! Осталось еще серий восемь, включая ту...
— Послушай, — сказал Боб Арктор, положив ей на плечо руку.
Донна отпрянула.
— Нет!
— Знаешь, что им следовало бы сделать один раз? Один-единственный раз? Раз-
решить тебе взять банку пива.
— Почему? — удивилась она.
— Подарок. Потому что ты хорошая.
— Однажды меня обслужили! — восторженно поделилась Донна. — В баре! Офици-
антка — я была вся разодета и накрашена и с такими клевыми парнями — спроси-
ла, чего я хочу, и я сказала: водку-коллинз. Это было в Ла-Пасе, в одном по-
трясном местечке. Можешь себе представить? Я запомнила название из рекламы и
так спокойненько ей выдаю: водку-коллинз!
Она внезапно взяла его за руку и прижалась к нему, чего почти никогда не
делала.
— Это был лучший момент в моей жизни.
— Тогда, полагаю, — проговорил он, — ты уже получила свой подарок. Свой
единственный подарок.
— Конечно, мне потом сказали — те парни, — что я должна была заказать что-
нибудь мексиканское, вроде текилы, потому что мы были в мексиканском баре,
понимаешь, в Ла-Пасе. В следующий раз непременно. У меня тут, — она постучала
по голове, — все записано, на подкорке... Ты знаешь, что я когда-нибудь сделаю,
Боб? Переберусь на север, в Орегон, и буду жить в снегах. Каждое утро буду
чистить дорожку. Маленький домик и сад, где я посажу овощи.
— Для этого надо копить. Откладывать деньги.
Донна бросила на него смущенный взгляд.
— Это все мне даст он, — робко произнесла она.
— Кто?
— Ты понимаешь. — Ее голос был тихим, мягким. Она раскрывала душу и дели-
лась самым сокровенным со своим другом, Бобом Арктором, которому можно дове-
рять. — Тот, кого я жду. Я знаю, каким он будет. Он приедет на «астон-
мартине» и увезет меня на север. Там, в снегах, стоит простой маленький до-
мик. — Она замолчала. — Снег... это ведь считается здорово, правда?
— А ты не знаешь?
— Я никогда не видела снега, кроме одного раза в Сан-Берду, в горах. И то
слякоть какая-то, я чертовски больно шлепнулась. Не хочу такого снега. Я хочу
настоящего.
Бобу Арктору стало тяжело и тоскливо.
— Ты уверена, что так будет?
— Конечно! Мне нагадали.
Они шли в молчании. Донна погрузилась в мечты и планы, а Арктор... Арктор
вспоминал Барриса, и Лакмена, и Хэнка, и конспиративную квартиру. И Фреда...
— Послушай, — внезапно сказал он. — Можно мне с тобой? Ну, когда ты собе-
решься в Орегон?
Она улыбнулась — грустно и с безмерной нежностью, подразумевая «нет».
И, зная ее, Арктор понял, что все решено. И ничего не изменить... Он поежил-
ся.
— Тебе холодно? — спросила Донна.
— Да, — ответил он. — Очень холодно.
— У меня в машине хорошая печка.
Она взяла его руку, сжала... и выпустила.
Но прикосновение осталось, запечатленное в его сердце. На все долгие годы
жизни, которые ждали его впереди, на все долгие одинокие годы, когда он не
знал, счастлива ли Донна, здорова ли, жива ли... Все эти годы он ощущал это
прикосновение, навеки оставшееся с ним. Одно прикосновение ее руки.
В ту ночь Арктор привел к себе домой симпатичную маленькую наркоманку по
имени Конни, которая согласилась пойти с ним за десять доз «смеси».
Конни пришла к нему впервые — они познакомились на вечеринке несколько не-
дель назад и едва знали друг друга. Она сидела на игле и, естественно, была
фригидна, но это не имело значения. К сексу она относилась безразлично, сама
ничего не испытывая; с другой стороны, ей было наплевать, чем именно зани-
маться .
Опустившись на край постели, Конни сбросила туфли, причесала свои жидкие
прямые волосы и безжизненно глядела прямо перед собой — полуголая, тощая, с
заколкой во рту. Ее удлиненное костлявое лицо выражало, казалось, силу и це-
леустремленность — видимо, потому, что под сухой кожей отчетливо выступали
кости. На правой щеке горел прыщ. Она не обращала на него внимания, разумеет-
ся: прыщ, как и секс, не имел для нее никакого значения.
— У тебя есть лишняя зубная щетка? — спросила Конни, то и дело механически
кивая, что-то бормоча себе под нос, как и все, кто сидит на игле. — А, ладно,
зубы и зубы... — Голос ее стал чуть слышен, и лишь по движению губ можно было
понять, что она продолжает говорить.
— Показать тебе ванную? — спросил Арктор.
— Какую ванную?
— Здесь, в доме.
Она поднялась, машинально продолжая расчесывать волосы.
— Что за люди у тебя так поздно? Смолят травку и болтают без умолку... Живут
с тобой? Ну да, точно.
— Двое из них живут.
Остекленелые глаза Конни повернулись к Арктору.
— Ты гомик?
— Стараюсь им не стать. Потому тебя и позвал.
— И как, получается?
— Проверь.
Она кивнула.
— Если ты скрытый гомик, то, наверное, лучше мне все сделать самой. Ложись.
Хочешь, я тебя раздену? Лежи, лежи, я справлюсь... — Она начала расстегивать
ему брюки.
Арктор очнулся. Рядом, едва различимая в темноте, храпела Конни. Все торчки
спят, как граф Дракула, подумал он: лежа на спине и глядя прямо вверх, словно
готовые в любой момент резко сесть. Как автомат, робот, рывком переходящий из
положения А в положение Б. «Пора — вставать — уже — день», — говорят они,
вернее, динамик в их голове. Потом звучат дальнейшие инструкции. Как музыка в
радиобудильнике — приятная, но предназначенная лишь для того, чтобы заставить
тебя что-то сделать. Музыка по радио будит, музыка в голове торчка звучит,
чтобы заставить тебя достать ему зелье. Он сам как машина — и стремится пре-
вратить тебя в свою собственную машину. Каждый торчок — как запись на ленте.
Арктор снова задремал, размышляя о том, что, в конце концов, торчку, если
это цыпочка, остается только продавать свое тело. Вот как Конни.
Он открыл глаза, повернулся к лежащей рядом девушке и увидел... Донну Хоторн.
Он резко сел. Донна! Отчетливо видно лицо. Точно, боже мой!
Арктор потянулся к выключателю и нечаянно свалил лампу... Девушка не просну-
лась . Он бессильно смотрел на ее лицо, смотрел, смотрел... и вдруг оно стало
медленно меняться, вновь превращаясь в изможденное, скуластое лицо Конни.
Конни, а не Донна. Другая, не она...
Он тяжело упал на кровать и забылся тревожным сном, то и дело просыпаясь,
гадая, что все это может значить, и снова проваливаясь во мрак.
— Мне плевать, что от него несет, — сонно пробормотала девушка. — Я все
равно его любила.
Интересно, кого она имеет в виду? Парня? Отца? Кота? Незабываемую детскую
игрушку?.. Она сказала «все равно любила», а не «все равно люблю». Очевидно,
кто бы это ни был , его сейчас нет. Может быть, подумал Арктор, они, кто бы
«они» ни были, заставили ее отказаться от него, выбросить. Потому что от него
несло так сильно...
Может быть. Сколько ей лет — этой хранящей о ком-то память наркоманке, ко-
торая лежала рядом?
Глава 10
Фред в костюме-болтунье наблюдал за голографическим изображением Джима Бар-
риса. Баррис сидел в гостиной дома Боба Арктора и внимательно читал книгу о
грибах. Откуда такой интерес к грибам? — подумал Фред и перемотал ленту на
час вперед. Баррис все так же сосредоточенно читал, делая какие-то пометки.
Наконец Баррис отложил книгу и вышел из дома, оказавшись вне зоны просмот-
ра. Вернулся он с коричневым бумажным пакетом и стал по одному выбирать отту-
да сушеные грибы и сравнивать с цветными фотографиями в книге. Один невзрач-
ный гриб он положил в сторону и растолок, а остальные всыпал в пакет; из кар-
мана достал пригоршню капсул и методично стал набивать их растолченным гри-
бом.
После этого Баррис начал звонить. Подслушивающее телефонное устройство ав-
томатически фиксировало номера.
— Привет, это Джим.
— Ну?
— Ты не представляешь, что я достал.
— Ну?
— Psilocybe mexicana.
— Что за фигня?
— Редкий галлюциногенный гриб. Тысячу лет назад в Южной Америке его исполь-
зовали в мистических обрядах. Начинаешь летать, становишься невидим, понима-
ешь язык зверей...
— Не надо.
Psilocybe mexicana.
Отбой. Другой номер.
— Привет, это Джим.
— Джим? Какой Джим?
— Бородатый... в зеленых очках и кожаных штанах. Мы встречались у Ванды.
— А , понял. Джим.
— Интересуют психоделики органического происхождения?
— Гмм, не знаю... — С сомнением: — Это точно Джим? Что-то не похоже.
— Есть шикарная вещь. Редчайший органический гриб из Южной Америки, исполь-
зовавшийся в индейских мистических культах тысячу лет назад. Летаешь, стано-
вишься невидим, твоя машина исчезает, понимаешь язык зверей...
— Моя машина исчезает все время. Когда я не ставлю ее на стоянку. Ха-ха.
— Могу достать раз на шесть.
— Почем?
— По пять долларов.
— Обалдеть! Ты не шутишь? Надо встретиться. — Затем подозрительно: — Кажет-
ся , я тебя помню — ты меня однажды наколол. Откуда у тебя эти грибы?
— Их провезли в глиняном идоле. В партии произведений искусства для музея,
тщательно охраняемой. Копы на таможне ничего не просекли. Если ты не словишь
кайф, я верну деньги, — добавил Баррис.
— А если я выжгу себе мозги?
— Два дня назад я сам закинулся, — сказал Баррис. — Для пробы. Приход ска-
зочный — богатейшая цветовая гамма... Куда лучше мескалина. Фирма гарантирует.
Я берегу своих клиентов — всегда сначала пробую сам.
Через плечо Фреда заглянул другой костюм-болтунья.
— Что он толкает? Мескалин?
— Грибы, — ответил Фред. — Нашел их где-то в окрестностях.
— Некоторые грибы чрезвычайно ядовиты, — заметил костюм-болтунья.
Из соседней кабинки вышел третий костюм-болтунья.
— Грибы из рода Amanita содержат токсины, которые расщепляют красные кровя-
ные тельца. Смерть наступает через две недели, в страшных мучениях; противо-
ядия не существует. Чтобы собирать грибы, надо отлично в них разбираться.
— Знаю. — Фред отметил этот участок записи для отчета.
Баррис набрал еще один номер.
— По какой статье его можно обвинить? — спросил Фред.
— Искажение фактов в рекламе.
Костюмы-болтуньи засмеялись и разошлись по кабинкам. Фред продолжал наблю-
дать.
Монитор номер четыре показал, как в дом входит Боб Арктор. Вид у него был
подавленный.
— Привет.
— Здорово, — отозвался Баррис, засовывая капсулы поглубже в карман. — Ну
как вы там с Донной? — Он захихикал. — По-всякому уже пробовали?
— Отвяжись, — буркнул Арктор и исчез с монитора номер четыре, чтобы тут же
появиться на пятом мониторе, в спальне. Захлопнул ногой дверь и достал из
кармана несколько мешочков с белыми таблетками. На секунду застыл в нереши-
тельности, затем сунул их под матрас и снял плащ.
Некоторое время Арктор сидел на краю неприбранной кровати, мрачно глядя в
пол. Лицо его было усталым и осунувшимся. Наконец он встряхнулся, встал, по-
стоял немного, пригладил волосы и вышел из комнаты. Тем временем Баррис спря-
тал пакет с грибами под кровать и убрал книгу подальше на полку. Оба встрети-
лись в гостиной и на мониторе номер два.
— Чем занимаешься? — спросил Арктор.
— Исследованиями.
— Какого рода?
— Тесными микологическими исследованиями деликатного рода, — усмехаясь, от-
ветил Баррис. — Что , не ладится у тебя с девочкой?
Арктор молча смерил его взглядом и прошел на кухню включить кофейник. Бар-
рис ленивым шагом последовал за ним.
— Извини, Боб, я не хотел тебя обидеть.
Арктор ждал, пока вода закипит, мрачно барабаня пальцами по столу.
— Где Лакмен?
— Должно быть, собрался очистить таксофон. По крайней мере, взял инструмен-
ты.
— Инструменты... — повторил Арктор.
— Послушай, — сказал Баррис, — я могу оказать профессиональную помощь в
твоих усилиях добиться...
Фред перемотал ленту часа на два вперед, ориентируясь по счетчику.
— ...либо ты платишь за жилье, черт побери, либо немедленно берешься за ре-
монт цефаскопа! — горячо заявил Арктор Баррису.
— Я уже заказал резисторы, которые...
Фред снова перемотал ленту. Еще два часа.
Теперь монитор номер пять показывал Арктора в спальне. Арктор валялся на
кровати, слушал музыку по радио. Монитор номер два показывал гостиную — Бар-
рис читал о грибах. Так продолжалось довольно долго. Раз Арктор потянулся к
приемнику и увеличил громкость — видимо, понравилась песня. Баррис все читал
и читал, застыв в одной позе. Арктор, не шевелясь, смотрел в потолок.
Зазвонил телефон, и Баррис снял трубку.
— Да?
— Мистер Арктор? — раздался мужской голос из динамика рядом с Фредом.
— Да, слушаю, — ответил Баррис.
Будь я проклят!.. Фред поспешно увеличил громкость и весь обратился в слух.
— Мистер Арктор, — деловито проговорил незнакомец, — простите, что беспокою
вас так поздно, но вы выписали мне чек с закрытого счета...
— Ах да! Я сам собирался вам позвонить, — перебил Баррис. — Дело вот в чем.
У меня тяжелейший приступ кишечного гриппа с резко выраженными гипотермией,
желудочными спазмами и судорогами. Я сейчас совершенно не в силах выписать
новый чек. Честно говоря, я и не намерен это делать.
— Что? — грозно произнес невидимый голос.
— Да, сэр, — кивнул Баррис. — Вы не ослышались, сэр.
— Мистер Арктор, — сказал мужчина, — банк уже дважды возвращал ваш чек. А
симптомы, которые вы описываете...
— Я думаю, что мне подсунули какую-то гадость, — промолвил Баррис. На его
лице застыла улыбка.
— А я думаю, что вы один из... из... — Мужчина запнулся, подыскивая слово.
— Думайте что хотите, — любезно разрешил Баррис, продолжая ухмыляться.
— Мистер Арктор! — Собеседник Барриса тяжело задышал в трубку. — Я намерен
пойти с этим чеком в полицию, и должен вам сказать, что вы...
— Не надо волноваться, это вредно. Пока! — Баррис повесил трубку.
Подслушивающее устройство автоматически зафиксировало, откуда звонил неиз-
вестный. Фред прочитал номер на электронном табло, затем остановил запись и
сделал запрос по телефону.
— Ингельсон, слесарь. Анахайм, Харбор, тысяча триста сорок три, — выдал ин-
формацию дежурный.
— Слесарь... — пробормотал Фред, списав данные в блокнот. Слесарь... Двадцать
долларов — не пустяк. Очевидно, работа на выезде — например, подобрать ключ к
замку.
Версия: Баррис позвонил Ингельсону, представился Арктором и попросил подоб-
рать ключ — в связи с «утерей» — к дому или к машине. А может, и к дому, и к
машине. За работу он выписал чек, взяв незаполненный бланк из чековой книжки
Арктора. Но почему банк отказался платить? У Арктора кое-что имелось. Однако
если бы банк оплатил чек, то рано или поздно Арктору попался бы на глаза ко-
решок, и он сразу бы понял, что чек выписал Джим Баррис. Поэтому Баррис пре-
дусмотрительно нашел в хламе старую чековую книжку на давным-давно закрытый
счет. Теперь Баррис по уши в дерьме.
С другой стороны, почему он не заплатил наличными? Разозленный кредитор не-
пременно обратится в полицию, и Арктор все узнает. Тогда Баррису вовек не от-
мыться. Своим разговором он только еще больше разъярил кредитора. Баррис его
будто нарочно дразнил... Более того, симптомы «гриппа» как две капли воды по-
вторяли симптомы героинового отходняка — даже младенцу ясно. Баррис дал по-
нять , что он отъявленный наркоман и ему все по нулям. Притворившись Бобом
Арктором.
Таким образом, слесарь знает, что один торчок впарил ему тухлый чек и не
собирается пальцем шевельнуть, чтобы исправить дело.
Совершенно ошизевший наркоман, которому на все наплевать. А это уже оскорб-
ление Америке. Гнусное и умышленное.
Собственно говоря, Баррис открыто бросил вызов государственной системе и
всем добропорядочным. Причем в Калифорнии, где полно берчистов и минитменов,
бряцающих оружием и ждущих именно таких номеров от длинноволосых бородатых
подонков.
Баррис спровоцировал их на действия, подставив ничего не подозревающего
Арктора. Теперь его попросту закидают бомбами. И уж как минимум арестуют за
фальшивый чек.
Фред поставил метку на последний участок записи и занес в блокнот все дан-
ные, включая адрес и телефон слесаря. Какого черта? Почему Баррис мстит, да
еще так подло и гнусно? Что такого страшного мог сделать ему Арктор? Отчего
такая лютая злоба?
Баррис... Вот ведь подонок! Он опасен, смертельно опасен.
Из сосредоточенного раздумья Фреда вывел подошедший костюм-болтунья.
— Ты знаешь кого-нибудь из этих парней? — Он показал на выключенные монито-
ры.
— Да.
— Надо бы их как-то предупредить. Этот клоун-толкач в зеленых очках всех
перетравит. Можешь им шепнуть пару слов, не выдавая себя?
— На отравление грибами часто указывает острый приступ тошноты, — добавил
другой костюм-болтунья, повернувшись в кресле.
— Вроде стрихнина? — Фред похолодел, внезапно вспомнив день посещения Ким-
берли Хокинс, «день собачьего дерьма», когда его затошнило в машине. — Я ска-
жу Арктору. Он тупой, сам ни о чем не догадается.
— Он к тому же еще и урод, — добавил костюм-болтунья. — Это ведь тот суту-
лый и мрачный, который в дверь вошел?
— Ага. — Фред снова повернулся к мониторам. Господи, те таблетки, что Бар-
рис дал нам тогда на шоссе... Мысли в голове завертелись как бешеные, мозг рас-
калывался пополам, сознание помутилось...
Немного легче стало лишь в ванной, когда он налил себе кружку воды. Здесь
можно было спокойно поразмышлять.
На самом деле Арктор — это я. Я и есть тот человек на мониторах, тот самый
подозреваемый, которого подставлял Баррис, говоря по телефону со слесарем, —
и при этом я гадаю, что такого страшного сделал он Баррису? Что творится с
моими мозгами?! Именно Фред, без костюма-болтуньи, появляется на мониторе, и
именно он чуть не сыграл в ящик от порошка из ядовитых грибов. Еще немного —
и он не сидел бы здесь, просматривая записи.
Однако теперь у Фреда есть шанс. Хотя и небольшой...
Проклятая сумасшедшая работа, подумал он. Но если я откажусь, поставят ко-
го-то другого, и все будет только хуже. Его, Арктора, подставят. Упрячут за
решетку и получат награду. Например, подбросят наркотики и обвинят в хране-
нии. Если кому-то все равно предстоит следить за этим домом, то уж лучше
пусть следить буду я, несмотря ни на что. Хотя бы смогу нейтрализовать шиза-
нутого подонка Барриса — уже что-то.
А если кто-нибудь другой будет следить за проделками Барриса и увидит то,
что вижу я, то наверняка решит, что Арктор — самый крупный наркоделец в за-
падных штатах, и предложит — о боже! — убрать его. Тайно ликвидировать. При-
зовут специальных агентов, суперкиллеров со снайперскими винтовками, инфра-
красными прицелами и прочими наворотами. Тех, которые даже денег не берут,
как я из автомата в мексиканском баре. Черт побери, да ведь эти зверюги спо-
собны запросто взять и сбить самолет и представить все так, как будто винова-
та птица, попавшая в двигатель. У них спецпатроны, которые оставляют следы
перьев...
Какой ужас, подумал он. Арктор-подозреваемый не должен превратиться в Арк-
тора -мишень . Нет, я буду и дальше следить за ним — пусть Фред занимается сво-
ей работой. Можно ведь редактировать записи, и как-то выгораживать Арктора, и
тянуть время, и... Решено!
Он отставил кружку с водой и вышел из ванной.
— Проблемы? — спросил костюм-болтунья.
— Так, маленькая неприятность на жизненном пути. — Фред вспомнил недавний
случай с прокурором округа, умершим в расцвете лет от сердечного приступа,
вызванного узконаправленным ультразвуковым лучом. Прокурор как раз собирался
возобновить расследование громкого политического убийства в Калифорнии. — Ко-
торый чуть-чуть не прервался, — добавил он.
— Чуть-чуть не считается, — махнул рукой костюм-болтунья.
— Да, конечно...
— Садись работай, — посоветовал другой, — а то в два счета окажешься на по-
собии .
— Интересно, что я напишу в резюме, — начал Фред. — Квалифицированный...
Но костюмы не оценили его юмора — они уже отвернулись и возобновили про-
смотр . Он тоже уселся, закурил и снова пустил голографическую запись.
Что я должен сделать, решил он, это вернуться сейчас домой, прямо сейчас,
немедленно, пока не забыл, без колебаний подойти к Баррису и застрелить его.
По долгу службы.
Скажу ему: «Послушай, я на нуле, дай чинарик. За мной не пропадет». А когда
он даст, я его арестую, брошу в машину, выеду на автостраду и выкину перед
несущимся грузовиком. Можно заявить, что он пытался бежать. Такое случается
сплошь и рядом.
Потому что если я этого не сделаю, то не смогу даже есть или пить в своем
доме, и Лакмен, Донна и Фрек тоже, — мы все окочуримся от ядовитых грибов, а
Баррис потом будет объяснять, как мы собирали в лесу все подряд и как он нас
отговаривал, но мы не слушали, потому что не учились в колледже...
Даже если суд признает Барриса полностью выгоревшим и упрячет его пожизнен-
но, все равно кто-то уже будет мертв. Например, Донна... Забредет сюда, наку-
рившись своего хаша и вспомнив про меня и весенние цветы, а Баррис угостит ее
какой-нибудь смесью собственного изготовления, и через пару дней она будет
биться в судорогах на больничной койке... Что толку тогда от суда?
Если это случится, подумал он, я брошу эту сволочь в ванну и буду варить
его в «Драно», в кипящем «Драно», пока не останутся только голые кости, а по-
том отошлю эти кости по почте его матери или детям, кто там у него есть, или
просто выкину на корм собакам. Но Донне это уже не поможет...
«Извините, — обратился он мысленно к костюмам-болтуньям, — не посоветуете,
где мне взять банку „Драно" литров этак на пятьдесят?»
Ну, все, хватит сходить с ума! . . Фред обратился к записи, не желая новых
комментариев со стороны костюмов-соседей.
На мониторе номер два Баррис читал нотации мертвецки пьяному Лакмену, кото-
рый только что ввалился в дом и мучительно искал вход в свою комнату. Ему яв-
но было совсем скверно и не терпелось добраться до кровати.
— Число хронических алкоголиков в США, — вещал Баррис, — превышает число
наркоманов. Ущерб, наносимый алкоголем мозгу и печени...
Лакмен исчез, так и не заметив, судя по всему, присутствия Барриса. Желаю
ему удачи, подумал Фред. Хотя на одной удаче далеко не уедешь. Пока этот мер-
завец может действовать...
Впрочем, Фред тоже может действовать. Но Фред видит все с опозданием. Что
остается? Разве только отмотать ленту назад. Тогда я успею раньше... раньше
Барриса. И сделаю то, что хочу, раньше, чем он. Если он вообще сможет что-
нибудь после меня сделать.
И тут ожила вторая половина его мозга.
— Надо успокоить слесаря, — благожелательно посоветовала она. — Завтра пер-
вым делом отправляйся к нему, заплати двадцать долларов и забери чек. Займись
этим с самого утра, прежде всего. Понятно?
Да, начать надо с этого. А потом уже браться за более серьезные вещи, поду-
мал Фред.
Он перемотал ленту вперед — судя по счетчику, до глубокой ночи, когда все
наверняка спят. Подходящий предлог, чтобы на сегодня покончить с работой.
Свет в доме не горел, камеры работали в инфракрасном диапазоне. Вот спальня
Арктора: Арктор рядом с девушкой, оба спят.
Так, посмотрим. Конни... забыл фамилию. На нее есть досье. Наркоманка, сидит
на игле плюс толкает и выходит на панель. Конченый человек.
— По крайней мере, тебе не придется смотреть, как объект занимается сексом,
— заметил костюм-болтунья, проходя сзади и заглядывая Фреду через плечо.
— И на том спасибо. — Фред исправно наблюдал за двумя неподвижными фигурами
в постели, хотя мысли его были заняты слесарем и планами на завтра. — Терпеть
не могу...
— Это приятно делать самому, — согласился костюм. — Смотреть со стороны —
не очень.
Арктор спит, подумал Фред. Со своей подружкой. Похоже, это все: разве что
они еще покувыркаются, когда проснутся.
Боб Арктор все спал и спал. Фреду казалось, что прошло несколько часов. И
вдруг он обратил внимание на то, чего сперва не заметил: в постели лежит Дон-
на Хоторн! Так это она спит с Арктором?!
Фред отмотал ленту назад, снова запустил проектор: Арктор с цыпочкой, но
никак не с Донной! Он был прав: Арктор и Конни, сопят бок о бок.
И тут, прямо на его глазах, резкие черты лица Конни растаяли, растеклись,
словно воск, и застыли в лик Донны Хоторн.
Он вырубил проектор и ошеломленно застыл. Не понимаю, думал Фред. Как буд-
то... кинотрюк! Черт, что же это? Неужели кто-то отредактировал запись, исполь-
зовав спецэффекты? Он снова отмотал ленту назад, остановил на подходящем кад-
ре и дал увеличение, объединив все восемь мониторов в один большой. Безмятеж-
но спящий Боб Арктор и рядом неподвижная девушка. Фред встал, вошел в область
голограммы, прямо в трехмерную проекцию, наклонился над постелью и пристально
изучил лицо девушки.
Так... ни то и ни другое: наполовину еще Конни, а наполовину — уже Донна. На-
до передать ленту в лабораторию, специалистам. Мне подсунули фальшивую за-
пись . Кто? Зачем?
Фред вышел из голограммы, сел и задумался.
Кто-то вставил в пленку Донну. Наложил ее изображение на изображение Конни.
Подделал доказательство, что Арктор спит с Донной Хоторн. Технически это осу-
ществимо, так же как с видео- и аудиозаписями.
А может, просто техническая неполадка? Часть записи с одного слоя ленты
пропечаталась на другой слой? Если пленку с высоким уровнем записи хранить
очень долго, такое случается. Изображение Донны могло перейти сюда с предыду-
щей или последующей сцены, снятой, к примеру, в гостиной.
Жаль, что я мало разбираюсь в технике, подумал он. Пожалуй, стоит поинтере-
соваться, прежде чем поднимать шум. Бывает же, что радиопередачи на близких
частотах накладываются друг на друга. «Перекрестные разговоры»... Или паразит-
ное изображение на телеэкране. Случайная неисправность.
Фред запустил проектор. Конни, все еще Конни.
Вдруг черты лица девушки снова стали странно растекаться. Опять Донна... Дон-
на... И тут сопящий рядом с ней человек, Боб Арктор, вздрогнул, резко сел, по-
тянулся к лампе и уронил ее на пол. И так и замер, глядя на спящую девушку,
спящую Донну...
Когда вновь проступило лицо Конни, Арктор тяжело вздохнул, расслабился и,
наконец, заснул. На этот раз он спал неспокойно, тревожно ворочаясь.
Значит, саботаж и неисправности исключены. Никаких наложений, никаких «пе-
рекрестных разговоров». Арктор это тоже видел.
Господи, подумал Фред и выключил аппаратуру.
— С меня достаточно, — произнес он хриплым голосом. — Я сыт по горло.
— Что, насмотрелся порнухи? — спросил костюм-болтунья. — Ничего, привык-
нешь .
— Я никогда не привыкну к этой работе, — сказал Фред. — Никогда.
Глава 11
На следующее утро, воспользовавшись такси — теперь не только цефаскоп, но и
машина нуждалась в ремонте, — он оказался на пороге мастерской Ингельсона. На
сердце лежала тяжесть, в кармане — сорок долларов.
Мастерская помещалась в допотопном, но еще крепком деревянном здании, над
которым висела современная вывеска. В окнах были выставлены всевозможные об-
разцы: почтовые ящики с причудливыми металлическими украшениями, дверные руч-
ки в виде человеческих голов, массивные декоративные ключи.
Внутри царил полумрак. Как в берлоге наркомана, усмехнулся про себя Арктор.
У стойки, над которой возвышались два станка для изготовления ключей и ви-
сели тысячи металлических заготовок, его приветствовала полная пожилая женщи-
на:
— Доброе утро, сэр.
— Я пришел, чтобы...
Ihr Instrumente freilich spottet mein,
Mit Rad und Kammen, Walz' und Btigel:
Ich stand am Tor, ihr soiltet Schltissel sein;
Zwar euer Bart ist kraus, doch hebt ihr nicht die Riegel4.
Насмешливо глядит приборов целый строй,
Винты и рычаги, машины и колеса.
Пред дверью я стоял, за ключ надежный свой
Считал вас...
Ключ хитер, но все же двери той
Не отопрет замка, не разрешит вопроса!
Гёте, «Фауст». Перевод Н. Холодковского.
...заплатить по своему чеку, который вернул банк, — начал Арктор. — По-моему,
чек был на двадцать долларов.
— Одну минуту... — Женщина достала железный ящик для документов и стала рыть-
ся в поисках ключа. Затем, обнаружив, что ящик не заперт, открыла его и сразу
же нашла чек с пришпиленной записочкой.
— Мистер Арктор?
— Да, — подтвердил он, держа наготове деньги.
— Правильно, двадцать долларов. — Она отделила записку и стала усердно вно-
сить туда запись о том, что чек выкуплен.
— Мне очень жаль, — сказал Арктор. — По ошибке я выписал чек не на текущий,
а на закрытый счет.
— Ммм, — улыбнулась женщина, продолжая писать.
— Кроме того, я был бы весьма признателен, если бы вы сообщили своему мужу,
который звонил мне вчера...
— Вообще-то это мой брат Карл. — Женщина бросила взгляд через плечо. — Если
он говорил с вами... — Она снова улыбнулась, теперь смущенно. — Он иногда слиш-
ком переживает из-за этих чеков... Я прошу его простить, если он был чересчур...
ну, вы понимаете.
— Передайте ему, — продолжил Арктор заранее приготовленную речь, — что во
время его звонка я сам был не в своей тарелке и за это также прошу прощения.
— Я припоминаю, он что-то говорил, да.
Она протянула чек. Арктор вручил ей двадцать долларов.
— Какая-нибудь дополнительная плата?
— Что вы!
— Я был не в своей тарелке, — повторил он, взглянув на чек, прежде чем по-
ложить его в карман, — потому что как раз перед этим неожиданно скончался мой
ДРУГ.
— О боже! — воскликнула женщина.
— Задохнулся, — помедлив, добавил Арктор, — подавившись куском мяса. Он был
один в комнате, и никто ничего не видел.
— А знаете, мистер Арктор, от этого гибнет гораздо больше людей, чем можно
подумать. Я где-то читала, что если во время обеда с другом он или она долгое
время молчит, то надо непременно выяснить, в состоянии ли ваш друг говорить.
Потому что друг может задыхаться, а со стороны незаметно.
— Да, — сказал Арктор. — Спасибо. Это верно. И спасибо за чек.
— Примите мои соболезнования.
— Спасибо. Один из лучших моих друзей.
— Так ужасно! — посетовала женщина. — Сколько лет было вашему другу, мистер
Арктор?
— Чуть за тридцать... — Лакмену было тридцать два.
— Кошмар! Я скажу брату. Спасибо, что пришли.
— Вам спасибо. И поблагодарите, пожалуйста, за меня мистера Ингельсона. Ог-
ромное спасибо вам обоим.
Арктор открыл дверь и вышел, щурясь от яркого солнца и вдыхая отравленный
городской воздух. Он сел в такси и отправился домой, чрезвычайно довольный
тем, что выбрался из ловушки Барриса практически без осложнений. Все могло
закончиться гораздо хуже, отметил он про себя. Чек удалось перехватить и вдо-
бавок не пришлось столкнуться с самим братцем.
Арктор достал чек, чтобы посмотреть, насколько точно Баррису удалось подде-
лать его подпись. Да, этот счет давно закрыт. Он сразу распознал цвет корешка
— счет закрыт давным-давно. Банк поставил штамп «СЧЕТ ЗАКРЫТ». Неудивительно,
что Ингельсон полез на стену.
А потом, вглядевшись, Арктор понял, что почерк его собственный.
Ничего общего с рукой Барриса. Идеальная подделка. Он никогда бы ничего не
заподозрил, если бы не помнил точно, что не выписывал такого чека.
Боже мой, подумал Арктор, сколько же моих подписей сварганил Баррис? Он,
должно быть, обобрал меня до нитки! Баррис просто гений. Хотя, конечно, текст
мог быть переведен с другого документа каким-нибудь механическим способом. С
другой стороны, я никогда не выписывал чека на имя Ингельсона, так что с чего
ему было делать копию? Надо отдать чек графологам из Отдела — пусть опреде-
лят , какой тут применен способ. Может быть, дело просто в хорошо тренирован-
ной руке... Что же касается всей этой истории с грибами, то я могу просто по-
дойти к Баррису и сказать: до меня, мол, дошли слухи, что он пытается толкать
грибную дурь, и кое-кто, понятное дело, беспокоится, так что пора завязывать.
Но не следует забывать, что это — всего-навсего случайные эпизоды, лишь
слегка проливающие свет на замыслы Барриса. Слабый намек на то, с чем мне
предстоит столкнуться. Бог знает, что он еще успел натворить, имея столько
времени, чтобы ошиваться рядом, читать справочники и строить дьявольские пла-
ны! . . Кстати, а не проверить ли телефон? У Барриса целый ящик всевозможных
электронных штучек, которые позволяют прослушивать разговоры. Так что, скорее
всего, «жучок» в телефоне стоит, причем уже давно.
Плюс к тому, казенному, что установлен на днях.
Трясясь в такси, Арктор опять достал чек и стал его рассматривать. Вдруг
ему пришла в голову новая мысль: а что, если все-таки я сам выписал этот чек?
Что, если его выписал Арктор? Думаю, так оно и было. Наверное, распроклятый
чудик Арктор сам выписал чек. Причем в спешке — буквы прыгали, значит, он ку-
да-то торопился. В спешке схватил старую чековую книжку, а потом забыл, забыл
напрочь.
Взять хотя бы...
Was grinsest du mir hohler Schadel her?
Als dafi dein Hirn, wie meines, einst verwirret,
Den leichten Tag gesucht und in der Dammrung schwer,
Mit Lust nach Wahrheit, jammerlich geirret5.
...то сборище наркоманов в Санта-Ане, где он встретил симпатичную блондиночку
— с кривыми зубами и толстым задом, но такую веселую и приветливую. Он тогда
никак не мог завести свою машину и вдобавок был почти в отключке: они закиды-
вались , ширялись и нюхали всю ночь, до самого рассвета. Было много препарата
«С», очень много, и самого лучшего, суперкласса. Суперсуперкласса, как раз
для него...
— Остановите возле заправки, — сказал Арктор, наклонившись к водителю. Рас-
платился, вошел в телефонную кабинку и набрал номер слесаря.
В трубке прозвучал знакомый голос:
— Мастерская Ингельсона, добрый...
— Извините за беспокойство, это опять я, Арктор. Какой адрес указан у вас в
заказе, за который был выписан тот чек?
— Сейчас посмотрю, одну минуту, мистер Арктор... — Послышался стук — женщина
положила трубку на стол.
— Кто там? Этот Арктор? — донесся приглушенный мужской голос.
— Да, Карл, но, пожалуйста, не вмешивайся. Он только что приходил сам...
— Дай мне с ним поговорить!
5 Ты, череп, что в углу смеешься надо мной,
Зубами белыми сверкая.
Когда-то, может быть, как я, владелец твой
Блуждал во тьме, рассвета ожидая!
Гёте, «Фауст». Перевод Н. Холодковского.
Последовала долгая пауза. Затем женщина снова подняла трубку.
— Я нашла адрес, мистер Арктор... — Она начала диктовать.
Это был его домашний адрес.
— Вашего брата вызывали туда? Чтобы сделать ключ?
— Одну минуту... Карл! Ты помнишь, куда ездил на машине делать ключ для мис-
тера Арктора?
— В Кателлу, — донесся голос Карла.
— Куда-то в Кателлу, мистер Арктор. В Анахайме. Нет, погодите... Карл гово-
рит , что это было в Санта-Ане. А что...
— Спасибо. — Арктор повесил трубку.
Итак, все-таки Санта-Ана. Та чертова вечеринка. Отличный был улов — не ме-
нее тридцати новых имен и столько же номеров машин. Такое нечасто случается.
Пришла большая партия наркотиков из Мексики; покупатели делили товар и, само
собой, пробовали. Теперь, наверное, половина из них уже арестована... Да, ночка
незабываемая, только вот детали припомнить трудно.
Санта-Ана (Калифорния).
Но это никак не извиняет Барриса. Надо же, посмел выдавать себя за Арктора
и так вызывающе себя вел! Разве что непреднамеренно... Черт побери! А если он
тогда прибалдел и просто хотел приколоться? Чек выписал Арктор, а Баррис лишь
случайно оказался у телефона? Ну и «подыгрывал», потому что его помутившимся
мозгам это казалось отменной шуткой. Обычная безответственность, ничего боль-
ше .
Да если уж на то пошло, думал он, набирая номер вызова такси, и Арктор вел
себя не слишком-то ответственно, выписывая такой чек. Сколько там прошло вре-
мени? .. Он снова вытащил чек и взглянул на дату. Силы небесные, полтора меся-
ца! Ему ли говорить об ответственности! Да за это вполне можно угодить за ре-
шетку — слава богу, что Карл не успел пойти в полицию. Наверное, сестрица
удержала.
Арктор и сам хорош: кое-какие его делишки лишь сейчас начинают всплывать.
Дело не только и не столько в Баррисе. Еще, кстати, надо понять, почему Бар-
рис так дико ненавидит Арктора: не будет человек ни с того ни с сего долго
злобствовать. Ведь Баррис не старается подсидеть Лакмена, или, скажем, Чарлза
Фрека, или Донну Хоторн. Он больше кого-либо другого помогал отправить Джерри
Фабина на лечение, да и к животным в доме относится хорошо. Был момент, когда
Арктор хотел избавиться от одной из собак — как там ее звали, Попо или что-то
в этом роде, — ее невозможно было ничему научить, а Баррис проводил часы,
фактически целые дни, играя с этой собакой и разговаривая с ней, так что на-
конец пес успокоился, начал что-то понимать и в результате остался жив. Если
бы Баррис ненавидел всех вокруг, то вряд ли был бы способен так вот, по-
доброму , поступать.
Служба такси ответила, и он дал адрес заправочной станции, где находился.
И если слесарь записал Арктора в отпетые наркоманы, мрачно размышлял он,
ожидая прибытия машины, то в этом тоже виноват никак не Баррис. Должно быть,
когда Карл подъехал на рассвете в своем грузовичке, чтобы подобрать ключ к
машине Арктора, тот уже оттягивался по полной программе: лез на стену, ходил
на голове и нес всякую ерунду. Так что слесарь, вытачивая ключ, наверняка все
понял.
А может, Баррис и вовсе пытался загладить участившиеся промахи Арктора?
Ведь Арктор даже машину свою не способен поддерживать в рабочем состоянии и
выписывает фиктивные чеки — не нарочно, разумеется, а потому, что его чертовы
мозги забиты дурью. А Баррис делает, что в его силах... Что ж, все может быть.
Да только и у него в голове сплошной сумбур. У них у всех...
Dem Wurme gleich ich, der den Staub durchwtihlt,
Den, wie er sich im Staube nahrend lebt,
Des Wandrers Tritt vernichtet und begrabt6.
...все помутилось. Помутившиеся ведут помутившихся. Прямиком в тартарары.
Вполне вероятно, что Арктор сам перерезал провода и устроил замыкание в це-
фаскопе. Встал ночью и... Но с какой целью?
Сложный вопрос: зачем? Впрочем, что с них взять, с этих помутившихся? Они
могут руководствоваться целым множеством лихо закрученных — как провода — по-
буждений . За время работы в полиции ему всякое доводилось видеть. Так что
данная конкретная трагедия далеко не в новинку, всего лишь один из файлов в
памяти компьютера, очередное дело. Стадия, непосредственно предшествующая фе-
деральной клинике, как у Джерри Фабина.
Все эти ребята — как фигуры на шахматной доске. Стоят на разных полях, на
разном расстоянии от цели. Каждому осталось свое число ходов; но рано или
6 Во прахе я лежу, как жалкий червь, убитый
Пятою путника, и смятый и зарытый.
Гёте, «Фауст». Перевод Н. Холодковского.
поздно они все достигнут последней черты — федеральной клиники. Это записано
у них в нервных клетках. В тех, что еще остались.
Что же касается Боба Арктора... Профессиональная интуиция подсказывала: дело
вовсе не в Баррисе и его проделках. Не зря, видно, руководство решило сосре-
доточить внимание именно на Аркторе. У них наверняка есть на то свои причины,
неизвестные простому агенту. Вероятно, факты подтверждают друг друга. Расту-
щий интерес к Арктору со стороны Отдела — в конце концов, установка следящей
системы обошлась в кругленькую сумму — вполне увязывается с необычным внима-
нием со стороны Барриса. Боб Арктор — объект номер один. Для всех. В то же
время сам Фред пока не увидел в его поведении ничего особенного — такого, что
могло бы вызвать подобный интерес. Пожалуй, стоит понаблюдать более присталь-
но . И если камеры зафиксируют что-либо загадочное или подозрительное в пове-
дении Арктора, то это будет решающим, независимым доказательством и полностью
оправдает все расходы и потраченное время.
Любопытно, что же известно Баррису? Такое, что неизвестно нам. Может, его
следует хорошенько потрясти? Надо собирать информацию независимо от Барриса,
иначе мы просто будем дублировать его сведения, кем бы он ни был, кого бы ни
представлял.
Боже, что я несу! Не иначе как я спятил! Я же прекрасно знаю Боба Арктора —
мировой парень! Ничего он не злоумышляет. Напротив, он тайно работает на по-
лицию. Наверное, потому Баррис...
Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,
Die eine will sich von der andern trennen:
Die eine halt, in derber Liebeslust,
Sich an die Welt mit klammernden Organen;
Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust
Zu den Gefilden hoher Ahnen7.
...на него и окрысился.
Но тогда не ясно, почему Арктором интересуется полиция — до такой степени,
что устанавливает аппаратуру и отряжает на слежку постоянного агента. Концы с
концами не сходятся. Нет, что-то непонятное происходит в этом запущенном и
захламленном жилище с заросшим сорняками двором, кошками, бродящими по кухон-
ному столу, и грудами мусора, который никогда не убирают.
Какое расточительство! Такой хороший дом — и пропадает зря. А ведь все мог-
ло бы быть иначе. Там могла бы жить настоящая семья, с детьми. Дом и рассчи-
тан на это: три спальни... Безобразие, просто безобразие! Его давно пора конфи-
сковать и использовать по назначению. Может, так они и сделают — дом просто
требует этого. Ведь когда-то он знавал лучшие дни — давно, очень давно. И эти
дни вернутся, лишь бы нашелся настоящий хозяин, который наведет здесь поря-
док.
Особенно во дворе, подумал он, когда такси свернуло на дорожку, усеянную
брошенными газетами.
Расплатившись с водителем, Арктор вошел в дом. И тут же почувствовал на се-
бе незримые глаза голокамер. Едва переступив собственный порог. Вокруг никого
— он один в доме... Нет, не один! Сканеры — невидимые и вездесущие — смотрят на
него и записывают. Записывают все, что он делает, все, что говорит.
7 Ах, две души живут в больной груди моей,
Друг другу чуждые, — и жаждут разделенья!
Из них одной мила земля — и здесь ей любо, в этом мире,
Другой — небесные поля, где тени предков там, в эфире.
Гете, «Фауст». Перевод Н. Холодковского.
Вспомнились каракули на стене общественного туалета: УЛЫБАЙТЕСЬ! ВАС СНИМА-
ЮТ СКРЫТОЙ КАМЕРОЙ! Именно так.
— Есть кто дома? — по обыкновению громко спросил он, представляя, как это
записывается.
Всегда придется быть настороже — изображать, что даже не догадываешься...
Словно актер перед камерой — вести себя так, будто никакой камеры нет и в по-
мине . Иначе все завалишь.
Дубли исключены. Вместо них — уничтожение. Для него — не для тех, кто по ту
сторону камер.
Чтобы избавиться от всего этого, подумал он, достаточно продать дом: все
равно обветшал. Но... я люблю этот дом!
Это мой дом.
Никто не сможет меня отсюда выгнать.
Какими бы соображениями они ни руководствовались.
Если, конечно, эти «они» вообще существуют.
А ведь не исключено, что мне все мерещится. Паранойя... Что бы за мной ни на-
блюдало, это не человек — по крайней мере, с моей точки зрения.
Глупо звучит, но я боюсь. Со мной что-то делает не человек, а неодухотво-
ренная вещь. Здесь, в моем собственном доме, у меня на глазах. И я сам все
время нахожусь перед глазами этой твари, которые, в отличие от черных глаз
Донны, никогда не мигают. Что видит камера — проникает взглядом в голову? В
сердце? Заурядная инфракрасная камера или голографический сканер, последняя
новинка техники, как он видит меня — нас, — ясно или замутнено? Надеюсь, что
ясно, потому что сам я не могу больше в себя заглянуть. Я вижу одну муть.
Муть снаружи, муть внутри. Ради нас всех — пусть у камер получится лучше. По-
тому что если и для камер мутно, тогда мы все прокляты, трижды прокляты и так
и сгинем в мути — зная смехотворно мало и не понимая даже этой смехотворной
малости.
Из книжного шкафа в гостиной он вытащил первый попавшийся том — «Иллюстри-
рованная книга половой любви». Открыл наугад — мужчина на фотографии блаженно
присосался к правой грудке томно вздыхающей красавицы — и произнес нараспев,
словно читая или цитируя слова древнего философа: «Каждый человек видит лишь
крошечную долю полной истины и очень часто, практически...
Weh! steck ich in dem Kerker noch?
Verfluchtes dumpfes Mauerloch,
Wo selbst das liebe Himmelslicht
Trtib durch gemalte Scheiben bricht!
Beschrankt mit diesem Bticherhauf,
den Wtirme nagen, Staub bedeckt,
Den bis ans hohe8.
...все время умышленно обманывает себя и в отношении этой крошечной доли.
Часть человека оборачивается против него и поражает изнутри. Человек внутри
Еще ль в тюрьме останусь я?
Нора проклятая моя!
Здесь солнца луч в цветном окне
Едва-едва заметен мне;
На полках книги по стенам
До сводов комнаты моей —
Они лежат и здесь, и там,
Добыча пыли и червей.
Гёте, «Фауст». Перевод Н. Холодковского.
человека, который совсем не человек».
Кивая головой, как будто соглашаясь с мудростью напечатанных слов, он за-
крыл толстую, в красном переплете с золотым тиснением «Иллюстрированную книгу
половой любви» и поставил ее на место.
Чарлз Фрек, подавленный тем, что происходит со всеми его знакомыми, решил
покончить с собой. В кругах, где он вращался, покончить с собой проще просто-
го : берешь большую дозу «красненьких» и, отключив для спокойствия телефон,
глотаешь их на ночь с дешевым винцом.
Главное — запланировать, как обставить смерть, какие иметь при себе вещи.
Чтобы археологи, которые найдут тебя позже, смогли определить, к какой соци-
альной прослойке ты принадлежал. И чем в последний момент была занята твоя
голова.
На отбор вещей Фрек потратил несколько дней — гораздо больше, чем понадоби-
лось , чтобы прийти к решению покончить с собой. Примерно столько же времени
ушло, чтобы собрать достаточно «красненьких». Его найдут лежащим в постели с
книгой Айн Рэнд «Источник» (доказательство того, что он был непонятым гением,
отверженным толпой и в некотором роде убитым ее пренебрежением) и с незакон-
ченным письмом, протестующим против взвинчивания цен на газ. Таким образом,
он обвинит систему и достигнет своей смертью чего-то еще, помимо того, чего
достигает сама смерть. Говоря по правде, он не очень ясно представлял себе,
чего достигает смерть, так же как и то, чего достигнут выбранные им артефак-
ты . Так или иначе, все определилось, и он стал готовиться — как зверь, нутром
почуявший, что пришел его конец, и инстинктивно выполняющий программу, зало-
женную от природы.
В последний момент Чарлз Фрек решил запить «красненькие» не дешевым винцом,
а изысканным дорогим напитком. Поэтому он сел в машину, отправился в магазин,
специализирующийся на марочных винах, и купил бутылку «Мондави Каберне Со-
виньон» урожая 1971 года, которая обошлась ему в тридцать долларов — почти
вся его наличность.
Дома он откупорил бутылку, насладился ароматом вина, выпил пару стаканчи-
ков, несколько минут созерцал свою любимую фотографию в «Иллюстрированной эн-
циклопедии секса» (позиция «партнерша сверху»), затем достал пакетик «крас-
неньких» и улегся на кровать. Он хотел подумать о чем-нибудь возвышенном, но
не смог — из головы не выходила партнерша. Тогда он решительно проглотил таб-
летки, запил стаканом «Каберне Совиньон», положил себе на грудь книгу, неза-
конченное письмо и стал ждать.
Увы, его накололи. Таблетки содержали вовсе не барбитураты, а какой-то
странный психоделик, новинку; таким он еще не закидывался. Вместо того чтобы
тихо умереть от удушья, Чарлз Фрек начал галлюцинировать. Что ж, философски
подумал он, вот так у меня всю жизнь. Вечно накалывают. Надо смириться с фак-
том — учитывая, сколько таблеток он глотанул, — что его ждет глюк из глюков.
Следующее, что он увидел, было явившееся из иных измерений чудовище. Оно
стояло у кровати и смотрело на него с неодобрением. У чудовища было несметное
множество глаз по всему телу и ультрасовременная, супермодная одежда. Оно
держало огромный свиток.
— Ты собираешься зачитывать мои грехи, — догадался Чарлз Фрек.
Чудовище кивнуло и распечатало свиток.
— и это займет сто тысяч часов, — закончил Фрек, беспомощно лежа на крова-
ти.
Уставившись на него всеми глазами, чудовище из иных измерений сказало:
— Мы покинули бренный мир. В этой Вселенной такие низменные материальные
понятия, как «пространство» и «время», лишены смысла. Ты вознесен в трансцен-
дентальную область. Твои грехи будут зачитываться тебе вечно. Списку нет кон-
ца.
Надо лучше знать своих поставщиков, подумал Чарлз Фрек.
Тысячу лет спустя он все так же лежал в постели с книгой Айн Рэнд и письмом
на груди, слушая, как чудовище перечисляет грехи. Шли грехи, совершенные в
первом классе, когда Чарлзу Фреку было шесть лет.
Десять тысяч лет спустя чудовище добралось до шестого класса; в тот год
Чарлз открыл для себя мастурбацию.
Он смежил веки, но это не помогло. Он по-прежнему видел перед собой огром-
ное существо с множеством глаз, оглашающее бесконечный свиток.
— И далее... — зачитывало чудовище.
Что ж, подумал Чарлз Фрек, по крайней мере, раз в жизни я выпил приличного
вина.
Глава 12
Двумя днями позже Фред изумленно наблюдал на третьем мониторе, как Роберт
Арктор явно наугад выбрал книгу из книжного шкафа в гостиной. Может, за ней
спрятаны наркотики, предположил Фред и увеличил изображение. А может, там за-
писан номер телефона или адрес? Ясно, что Арктор вытащил книгу не для чтения;
он только что вошел в дом и даже не снял плащ. У Арктора был странный вид —
напряженный и одновременно ошарашенный.
Камера показала разворот книги крупным планом: цветная фотография запечат-
лела мужчину, приникшего ртом к соску женщины; оба индивида были голы. Женщи-
на, по-видимому, испытывала оргазм: ее глаза были полузакрыты, а рот открыт в
беззвучном стоне. Может, Арктор использует книгу для занятий онанизмом?..
Нет, не обращая на фотографию внимания, он стал надтреснутым голосом деклами-
ровать какую-то мистическую тарабарщину на немецком — вероятно, для того,
чтобы озадачить тех, кто мог его слышать. Очевидно, думал, что его дружки до-
ма , и хотел их таким образом выманить.
Никто не появлялся. Фред знал, что Лакмен закинулся «смесью» и вырубился,
полностью одетый, у себя в спальне, не дойдя несколько шагов до дивана. Бар-
рис давно ушел.
Чем же все-таки занимается Арктор, недоумевал Фред, отмечая последний уча-
сток записи. С каждым днем этот тип ведет себя все более странно. Теперь я
понимаю, что имел в виду информатор, который нам звонил.
А вдруг произнесенная Арктором фраза является командой для некоего элек-
тронного устройства, установленного в доме? Команда на включение или выключе-
ние . Может быть, на создание помех... Сомнительно. Вряд ли это вообще имеет ка-
кой-либо рациональный смысл — разве что для самого Арктора.
Нет, он точно псих. Просто повредился. С того дня, как обнаружил поломанный
цефаскоп. Или с того дня, как едва не угробился в машине. Он и раньше был ма-
лость тронутый и окончательно свихнулся в «день собачьего дерьма», как выра-
жается сам Арктор.
Вообще-то его нельзя строго судить, подумал Фред, наблюдая, как Арктор ус-
тало скинул плащ. Такое хоть кого с ума сведет. Однако большинство людей дав-
но бы уже пришли в себя. Арктору, наоборот, становится все хуже. Читает вслух
неизвестно кому несуществующие цитаты на иностранных языках...
Если только он надо мной не издевается, тревожно подумал Фред. Может, он
каким-то образом догадался о наблюдении и... Заметает следы? Просто развлекает-
ся? Что ж, время покажет... И все-таки он нас надувает! Некоторые люди просто
чувствуют, когда за ними ведется наблюдение. Это вовсе не паранойя, скорее
примитивный инстинкт, как у мыши или любого животного, за которым охотятся.
Они знают, что их выслеживают, знают, и все... Вот он и несет чушь специально
для нас, прикрываясь маской психа. Увы, наверняка сказать невозможно. Под
масками могут быть другие маски, множество слоев.
Голос Арктора разбудил Лакмена, лежащего на полу в спальне. Из гостиной по-
слышался стук — это Арктор вешал плащ и уронил его. Лакмен одним движением
подобрал под себя длинные мускулистые ноги и встал, схватив топорик, который
держал на столике рядом с кроватью. Затем беззвучными кошачьими шагами при-
близился к двери, ведущей в гостиную.
В гостиной, на третьем мониторе, Арктор взял с журнального столика письма и
начал их просматривать. Найдя рекламный проспект, швырнул его в корзину и
промахнулся.
Услышав это, Лакмен напрягся и вытянул шею вперед, как будто принюхиваясь.
Арктор, читая письмо, вдруг нахмурился и выругался.
Лакмен сразу расслабился, отшвырнул топорик, пригладил волосы и открыл
дверь.
— Привет. Как дела?
— Я проезжал мимо здания Мейлорской микрофотокорпорации, — сообщил Арктор.
— Да ну?
— Там проводили инвентаризацию, и один из служащих случайно унес с собой
важные документы — они прилипли к каблуку. Поэтому весь персонал ползал по
автостоянке возле здания корпорации с пинцетами, увеличительными стеклами и
бумажными пакетиками.
— А награду назначили? — Лакмен широко зевнул и забарабанил ладонями по
плоскому мускулистому животу.
— Награду они тоже потеряли. Это была такая крошечная монетка.
— И часто тебе приходится наблюдать подобные вещи?
— Только здесь, в нашем округе.
— А оно большое — здание микрофотокорпорации?
— Около дюйма в высоту, — ответил Арктор.
— Сколько оно весит, по-твоему?
— Вместе со служащими?
Фред включил перемотку вперед. Когда по счетчику прошел час, он остановил
ленту.
— ...фунтов десять, — сказал Арктор.
— А как же ты его распознал, проезжая мимо, если оно с дюйм высотой и весит
всего десять фунтов?
Арктор теперь сидел на диване, задрав ноги на спинку стула.
— У них огромная вывеска.
Боже, подумал Фред и снова промотал ленту вперед, минут на десять.
— ...похожа? — спрашивал Лакмен. Он сидел на полу и крошил травку. — Небось
неоновая? Интересно, я ее видел? Она приметная?
— Сейчас покажу, — сказал Арктор и засунул руку в нагрудный карман рубашки.
— Я прихватил ее с собой.
Фред снова включил перемотку.
— ...а знаешь, как провезти микрофотографии контрабандой? — говорил Лакмен.
— Да как угодно. — Арктор, откинувшись на диване, курил травку. В воздухе
клубился дым.
— Нет, так, чтобы никто не допер! — горячился Лакмен. — Мне Баррис сказал
по секрету. Я обещал не рассказывать, потому что он хочет вставить это в свою
книгу.
— В какую книгу? «Распространенные домашние наркотики и...»?
— Нет. «Простые способы ввоза и вывоза контрабанды в зависимости от того,
куда вы направляетесь: в США или обратно». Микрофотографии надо везти с нар-
котиками. Например, с героином. Понимаешь, они такие маленькие, что в пакете
с наркотиком их не заметят. Они такие...
— Тогда какой-нибудь торчок вкатит себе дозу микрофотографий!
— Это будет самый разобразованный торчок на свете.
— Смотря что на фотографиях.
— У Барриса есть клевый способ провоза наркотиков через границу. Знаешь, на
таможне всегда спрашивают, что вы везете. А сказать «наркотики» нельзя, пото-
му что...
— Ладно, так как?
— Ну вот. Берешь огромный кусок гашиша и вырезаешь из него фигуру человека.
Потом выдалбливаешь нишу и помещаешь заводной моторчик, как в часах, и еще
маленький магнитофон. Сам стоишь в очереди сзади и, когда приходит пора, за-
водишь ключ. Эта штука подходит к таможеннику, и тот спрашивает: «Что везе-
те?» А кусок гашиша отвечает: «Ничего» — и шагает дальше. Пока не кончится
завод, по ту сторону границы.
— Вместо пружины можно поставить батарею на фотоэлементах, и тогда он может
шагать хоть целый год. Или вечно.
— Какой толк? В конце концов, он дойдет до Тихого океана. Или до Атлантиче-
ского . И вообще сорвется с края земли...
— Вообрази стойбище эскимосов и шестифутовую глыбу гашиша стоимостью...
сколько такая может стоить?
— Около миллиарда долларов.
— Больше, два миллиарда. Сидят себе эскимосы, обгладывают шкуры и вырезают
по кости, и вдруг на них надвигается глыба гашиша стоимостью два миллиарда
долларов, которая шагает по снегу и без конца талдычит: «Ничего... ничего... ни-
чего...»
— То-то эскимосы обалдеют!
— что TbIi Легенды пойдут!
— Можешь себе представить? Сидит старый хрыч и рассказывает внукам: «Своими
глазами видел, как из пурги возникла шестифутовая глыба гашиша стоимостью два
миллиарда долларов и прошагала вон в том направлении, приговаривая: „Ничего,
ничего, ничего"». Да внуки упекут его в психушку!
— Не, слухи всегда разрастаются. Через сто лет рассказывать будут так: «Во
времена моих предков девяностофунтовая глыба высокопробнейшего афганского га-
шиша стоимостью восемь триллионов долларов вдруг как выскочит на нас, изрыгая
огонь, да как заорет: „Умри, эскимосская собака!" Мы били и били ее копьями,
и, наконец, она издохла».
— Дети этому не поверят.
— Нынче дети вообще ничему не верят.
— Разговаривать с ребенком — одно расстройство, — заметил Лакмен. — Меня
какой-то пацан попросил описать первый автомобиль... Черт побери, да я родился
в тысяча девятьсот шестьдесят втором году!
— Неслабо... Меня однажды о том же самом просил один торчок, совсем выгорев-
ший, — так ему было двадцать семь, всего на три года младше меня. Ничего уже
не соображал. Позже он раз закинулся кислоткой — или чем-то вроде — и вообще
начал ходить под себя, а когда ему говорили что-нибудь типа «Как дела, Дон?»,
он только и мог, что повторять как попугай: «Как дела, Дон? Как дела, Дон?..»
Наступило молчание. Двое мужчин курили травку в задымленной комнате. Долго,
мрачно, молча.
— Знаешь, Боб, — заговорил, наконец, Лакмен, — ведь когда-то я был таким
же, как все.
— Я тоже.
— Не знаю, что случилось...
— Знаешь, — покачал головой Арктор. — Это случилось со всеми нами.
— Ладно, проехали. — Лакмен глубоко и шумно затянулся.
В спецквартире зазвонил телефон. Костюм-болтунья снял трубку и протянул ее
Фреду.
— Помните, на прошлой неделе вы были у нас? — произнес голос в трубке. —
Проходили тестирование?
— Да , — после короткой паузы ответил Фред.
— Приходите снова. — На том конце линии тоже зависла пауза. — Мы обработали
последние материалы. Теперь необходимо выполнить полную программу тестов на
адекватность восприятия и другие процедуры. Вам назначено на завтра, в три
часа в той же комнате. Это займет часа четыре. Помните номер комнаты?
— Нет, — сказал Фред.
— Как вы себя чувствуете?
— Нормально, — твердо ответил Фред.
— Какие-нибудь неприятности? На работе или в личной жизни?
— Я поссорился со своей девушкой.
— Испытываете ли вы чувство растерянности? Не сталкиваетесь ли с трудностя-
ми в опознавании людей и предметов? Не кажется ли вам что-нибудь вывернутым
шиворот-навыворот? И, кстати говоря, не наблюдаете ли вы у себя пространст-
венно-временной или языковой дезориентации?
— Нет, — мрачно произнес Фред. — Нет — по каждому из поименованных пунктов.
— Итак, завтра в комнате двести три, — сказал врач.
— А какой материал...
— Поговорим завтра. Приходите, ладно? Не расстраивайтесь, Фред! — Клик.
Клик тебе, подумал Фред, вешая трубку.
В раздражении, что его нагружают, заставляя заниматься неприятными вещами,
он включил проекторы, и трехмерные образы внутри мониторов ожили в цвете и
движении. Из динамиков снова полилась бессмысленная и бесполезная для Фреда
болтовня.
— Эту крошку, — бубнил Лакмен, — обрюхатили, и она решила сделать аборт,
потому что была на четвертом месяце и живот уже стало видно. Но сама палец о
палец не ударила, только канючила, как все дорого. А пособие ей почему-то не
полагалось. Как-то я к ней забегаю, а там одна ее подружка твердит, что у нее
истерическая беременность. «Ты просто хочешь верить, что беременна. Это ком-
плекс вины. А аборт, расходы на него — это комплекс наказания». А крошка —
она мне дико нравилась — и говорит спокойненько: «Ну что ж, если у меня исте-
рическая беременность, то я сделаю истерический аборт и заплачу истерическими
деньгами».
— Интересно, чья физиономия красуется на истерической пятерке, — задумчиво
произнес Арктор.
— А кто был у нас самым истерическим президентом?
— Билли Фалкс. Он только думал, что его избрали президентом.
— В каком году?
— Он воображал, что его избрали на два четырехлетних срока, начиная с 1882
года. После длительного курса лечения он признал, что срок был только один...
Фред со злостью перемотал запись на два с половиной часа вперед. Сколько
они будут нести эту ахинею? Весь день? Вечно?
— ...берешь ребенка к врачу, к психиатру, и жалуешься, что ребенок все время
заходится в крике. — На кофейном столике перед Лакменом стояли две коробки с
травкой и банка пива. — Кроме того, ребенок постоянно врет, придумывает самые
несуразные истории. Психиатр осматривает ребенка и ставит диагноз: «Мадам, у
вашего ребенка истерия. То есть ребенок истерический. Но я не знаю почему». И
тогда ты, мать, настал твой час, ты ему эдак: «Я знаю почему, доктор. Потому
что у меня была истерическая беременность».
Лакмен и Арктор покатились со смеху. Им вторил Джим Баррис; он вернулся и
теперь сидел в гостиной, наматывая на гашишную трубку белую проволоку.
Фред прогнал пленку еще на час вперед.
— ...этот парень, — рассказывал Лакмен, — выступал по телевидению как всемир-
но известный самозванец. В интервью он заявил, что в разное время представ-
лялся великим хирургом из медицинского колледжа Джона Гопкинса, субмолекуляр-
ным физиком-теоретиком из Гарварда, финским писателем, лауреатом Нобелевской
премии в области литературы, свергнутым президентом Аргентины, женатым на...
— И все это сходило ему с рук? — поразился Арктор. — Его не разоблачали?
— Парень ни за кого себя не выдавал. Просто он выдавал себя за всемирно из-
вестного самозванца. Об этом потом писали в «Лос-Анджелес тайме» — они прове-
ряли. Работал дворником в Диснейленде, затем прочитал биографию всемирно из-
вестного самозванца — такой действительно был — и сказал себе: «Да ведь я то-
же могу выдавать себя за всех этих экзотических парней!» А после подумал и
решил: «На кой черт? Лучше просто выдавать себя за самозванца». Он огреб на
этом деле немалую монету, как писали в «Таймсе». Почти столько же, сколько
настоящий всемирно известный самозванец. Причем без всякого труда.
— Самозванцев пруд пруди. Мы сами сталкиваемся с ними на каждом шагу. Толь-
ко они выдают себя не за физиков-теоретиков, — заметил Баррис, тихонько кор-
пящий в углу над трубкой.
— Ты имеешь в виду шпиков, этих гадов из Отдела по борьбе с наркоманией? —
сказал Лакмен. — Интересно, среди наших знакомых они есть? Как они выглядят?
— Все равно, что спрашивать: «Как выглядит самозванец?» — отозвался Арктор.
— Я как-то болтал с одним толкачом, которого взяли с десятью фунтами гашиша
на руках. Ну и спросил, как выглядел обманувший его шпик. Знаете, агент поли-
ции выдает себя за приятеля одного приятеля...
— Они выглядят точь-в-точь как мы, — бросил из угла Баррис.
— Даже больше! — воскликнул Арктор. — Этот толкач — его уже приговорили и
на следующий день должны были отправить в тюрягу — сказал мне: «Волосы у них
еще длиннее, чем у нас». Так что мораль, я полагаю, такова: держись подальше
от типов, которые выглядят точь-в-точь как ты.
— Бывают и женщины-шпики, — вставил Баррис.
— Я бы хотел познакомиться с таким, — сказал Арктор — В смысле — сознатель-
но . Точно зная, что это шпик.
— Когда он наденет на тебя наручники, — ухмыльнулся Баррис, — будешь знать
точно.
— Я что имею в виду? — продолжал Арктор. — Какая у них жизнь? Есть ли у них
друзья? Знают ли жены об их работе?
— У них нет жен, — заявил Лакмен. — Они живут в пещерах и крадутся за тобой
по пятам, выглядывая из-под машин. Как тролли.
— А что они едят?
— Людей, — сказал Баррис.
— Как это вообще у них получается? — спросил Арктор. — Выдавать себя за
шпиков?
— Что?! — в один голос вскричали Баррис и Лакмен.
— Черт, я совсем обалдел, — улыбаясь, сказал Арктор. — «Выдавать себя за
шпика», брр... — Он потряс головой.
— ВЫДАВАТЬ СЕБЯ ЗА ШПИКА? — повторил Лакмен, не сводя с него глаз.
— Сегодня у меня в мозгах каша, — пожаловался Арктор. — Я лучше сосну.
Фред остановил ленту. Фигуры в мониторах замерли.
— Перекур? — спросил костюм-болтунья.
— Да. Я устал. Эти бредни рано или поздно доканывают. — Он поднялся и взял
сигареты. — Не понимаю и половины из того, что они несут. Я так устал. Устал
их слушать.
— Когда находишься вместе с ними, даже легче, правда? — сказал костюм-
болтунья. — Ты ведь вхож в их компанию? Под прикрытием, так ведь?
— Ни за что не стал бы иметь дела с такими ублюдками! — скривился Фред. —
Талдычат одно и то же без конца. Какого черта они вечно вот так сидят и тра-
вят байки?
— А какого черта мы здесь сидим? Это ведь чертовски нудное занятие, если
разобраться.
— Нам приходится, это наша работа. У нас просто нет выбора.
— Как в тюрьме, — кивнул костюм-болтунья. — Никуда не денешься.
«Выдавать себя за шпика», — подумал Фред. Что это значит? Одному богу из-
вестно...
Выдавать себя за самозванца. За того, кто живет под машинами и питается
грязью. Не за всемирно известного хирурга, или писателя, или политического
деятеля, о которых говорят по телевизору.
Дурацкая фраза Арктора снова и снова звучала в голове, несмотря на то, что
запись давно уже была выключена. Поскорее бы забыть эти слова. И забыть, хотя
бы ненадолго, его самого.
— Порой у меня такое чувство, — проговорил Фред, — будто я знаю, что они
сейчас скажут. Слово в слово.
— Это называется «дежавю», — кивнул костюм-болтунья. — Один совет: прокру-
чивай ленту вперед не на час, а сразу, скажем, часов на шесть, а потом воз-
вращайся понемногу назад, пока не наткнешься на что-нибудь стоящее. Понима-
ешь? Назад, а не вперед. Так тебя не будет затягивать ритм их болтовни. Шесть
или даже восемь часов вперед, а потом большими скачками назад. Ты быстро при-
выкнешь — начнешь чувствовать, когда там километры пустоты, а когда есть что-
то полезное.
— Просто научишься пропускать все мимо ушей, — добавил другой костюм-
болтунья, — пока не всплывет интересная фраза. Как мать, которая спит и не
реагирует ни на какой шум, даже если мимо проедет грузовик, но тут же просы-
пается , едва ее младенец подаст голос. Даже если он пискнет чуть слышно. Это
регулируется подсознанием: оно умеет работать избирательно, главное — усво-
ить , что нужно слушать.
— Я знаю, — сказал Фред. — У меня самого двое детей.
— Мальчики?
— Нет, девочки. Еще маленькие.
— Нормально, — кивнул собеседник. — Моей дочке всего годик.
— Никаких имен! — вмешался другой костюм-болтунья. Они рассмеялись. Хотя и
не очень весело...
Так или иначе, вот что следует передать по инстанциям — таинственную фразу
«выдавать себя за шпика». Дружки Арктора тоже удивлены. Когда я завтра к трем
пойду в Отдел, надо это распечатать — аудиозаписи будет достаточно — и обсу-
дить с Хэнком вместе со всем остальным, что еще всплывет. Но даже если ничего
другого не всплывет, какое-то начало уже есть. Значит, круглосуточная слежка
ведется не зря.
Значит, я был прав.
Арктор проговорился. Выдал себя.
Что это значит, мы пока не знаем. Однако узнаем непременно. Мы будем пре-
следовать Арктора, пока он не упадет замертво, подумал Фред. Как бы ни было
тошно все время лицезреть и слушать его и ему подобных. И как только я мог
сидеть с ними столько времени?! Не жизнь, а бесконечная пустота, как сказал
этот агент. Пустота и туман: все мутно — и в сознании, и вокруг. Везде. Что
за люди?!
С сигаретой в руке он прошел в ванную, запер за собой дверь и достал из си-
гаретной пачки десять таблеток смерти. Налил кружку воды и запил все десять.
Маловато... Ладно, подумал он, после работы закинусь еще. Сколько там времени
осталось? Фред посмотрел на часы и попытался прикинуть. Мысли в голове пута-
лись. Черт! Сколько же это будет? Что-то непонятное творится с его чувством
времени. Все проклятые записи — их вредно слишком долго просматривать. Потом
вообще невозможно понять, который час.
Я чувствую себя так, как будто закинулся кислоткой и вошел в автомойку.
Сотни гигантских мыльных щеток бешено вращаются и тащат меня сквозь бесконеч-
ные туннели из черной пены. Не самый лучший способ зарабатывать деньги.
Фред отпер дверь, вышел из ванной и неохотно направился к своему рабочему
месту.
— ...сдается мне, — говорил Арктор, — что Бог просто умер.
— Я и не знал, что Он болел, — усмехнулся Лакмен.
— Мой «олдсмобиль», похоже, крепко стал на якорь. Я решил его продать.
— А сколько в нем? — спросил Баррис.
Фунтов десять, подсказал про себя Фред.
— Фунтов десять, — ответил Арктор.
На следующий день, в три часа, Фред, чувствовавший себя еще хуже, чем нака-
нуне, явился в кабинет, где его ждали два офицера-медика — другие, незнако-
мые.
— Сперва левым, а потом правым глазом вы увидите ряд хорошо известных пред-
метов . Одновременно на панели перед вами будут высвечиваться очертания сразу
нескольких предметов, также вам хорошо знакомых. С помощью указки вам необхо-
димо выбрать то изображение, которое соответствует показываемому предмету.
Учтите, объекты будут чередоваться очень быстро, так что долго не размышляй-
те. Счет ведется и по точности, и по времени. Ясно?
— Ясно, — ответил Фред, держа наготове указку.
Перед ним побежала череда знакомых предметов, и он торопливо начал тыкать
указкой в освещенные контуры на панели, смотря сначала левым, а потом — пра-
вым глазом.
— Теперь мы закрываем ваш левый глаз и мельком показываем изображение зна-
комого предмета перед правым глазом. Левой рукой, повторяю, левой рукой вы
должны выбрать из группы предметов только что увиденный.
— Ясно, — сказал Фред.
Ему показали картинку с игральной костью; левой рукой он шарил среди россы-
пи безделушек, пока не отыскал игральную кость.
— В следующем тесте вы должны не глядя нащупать левой рукой буквы и прочи-
тать сложенное из них слово, а правой рукой написать это слово.
Он так и сделал. Получилось слово «ЖАР».
— Теперь с закрытыми глазами нащупайте левой рукой предмет и назовите. По-
сле этого вам будут показаны три предмета, похожих друг на друга, и вы должны
будете сказать, который из трех больше похож на тот, что вы трогали.
— Хорошо, — сказал Фред и сделал все это, а затем еще многое другое. Так
продолжалось около часа. Ощупай, скажи, посмотри одним глазом, выбери. Ощу-
пай, скажи, посмотри другим глазом, выбери. Запиши, нарисуй.
— Ваши глаза закрыты, в руках по предмету. Определите на ощупь, идентичны
ли предметы в вашей правой и левой руке.
Он сделал и это.
— Вам будет быстро показана последовательность треугольников. Вы должны
сказать, один и тот же это треугольник или...
Еще через два часа его заставили вставлять детали сложной формы в сложные
отверстия, засекая при этом время. Он чувствовал себя снова в первом классе,
причем двоечником. Даже хуже. Мисс Фринкель, подумал он, старая ведьма мисс
Фринкель. Так же вот стояла и подбрасывала мне задачки...
Тесты следовали один за другим.
— Что неправильно в этой картинке? Один из предметов здесь лишний. Назови-
те...
Он назвал.
Ему показали набор предметов; он должен был протянуть руку и убрать лишний,
затем убрать все лишние из разных наборов и сказать, что общего было между
этими лишними предметами.
Тут время вышло. Ему велели выпить чашечку кофе и обождать в приемной.
Позже — казалось, через несколько часов, — в приемную вышел один из врачей.
— Нам нужно исследовать вашу кровь. — Он протянул листок бумаги. — Найдите
внизу комнату с табличкой «Лаборатория патологии». Там у вас возьмут кровь на
анализ. Затем снова возвращайтесь сюда и ждите.
— Ладно, — мрачно сказал Фред и поплелся по коридору, держа в руке листок.
Следы наркотиков, вот что они ищут.
Вернувшись из лаборатории в комнату 203, он подошел к одному из врачей и
спросил:
— Можно мне пока сходить к начальнику? А то он скоро уйдет.
— Пожалуй, — разрешил врач. — Раз уж мы решили сделать анализ крови, для
окончательного заключения потребуется время. Идите, мы позвоним. Вы идете к
Хэнку?
— Да, я буду наверху, у Хэнка.
— Сегодня настроение у вас хуже, чем в нашу первую встречу.
— Простите? — сказал Фред.
— В нашу встречу на той неделе. Вы все время шутили и смеялись. Хотя чувст-
вовалось , что внутри напряжены.
Ошарашено глядя на него, Фред узнал одного из тех двух врачей. Но промол-
чал. Лишь хмыкнул и направился к лифту. Эти проверки действуют на меня угне-
тающе, подумал он. Интересно, с кем из них я сейчас разговаривал? С усачом
или... Должно быть, с другим, с безусым. У этого нет усов.
— Вручную нащупайте предмет левой рукой, — пробормотал Фред, — и в то же
время посмотрите на него правой. А затем своими собственными словами скажите
нам...
Большей околесицы он придумать не мог. Разве что с их помощью...
В кабинете Хэнка находился посетитель. Он был без костюма-болтуньи и сидел
в дальнем углу лицом к Хэнку.
— К нам пришел информатор, который звонил насчет Боба Арктора, — представил
Хэнк.
— Да, — выдавил Фред, остановившись как вкопанный.
— Он снова позвонил нам, вызвавшись дать дополнительные сведения, и мы
предложили ему явиться лично. Вы его знаете?
— Еще бы, — сказал Фред, глядя на Барриса. Тот с уродливой ухмылкой на лице
вертел в руках ножницы, явно чувствуя себя как дома. Вот мразь, с отвращением
подумал Фред. — Джеймс Баррис, не так ли? Вы ранее привлекались?
— Согласно документам, перед нами действительно Джеймс Р. Баррис, — кивнул
Хэнк. — Так он себя и назвал. Судимостей у него нет.
— Чего он хочет? — спросил Фред и повернулся к Баррису. — Что вы хотите со-
общить?
— Я располагаю информацией, — негромко произнес Баррис, — что мистер Арктор
— член мощной секретной организации, не ограниченной в средствах, располагаю-
щей арсеналом оружия и пользующейся шифрами. Организация, по всей видимости,
ставит целью свержение...
— Это уже домыслы, — перебил Хэнк. — Чем она занимается? Где доказательст-
ва? Говорите только о том, что знаете наверняка.
— Вы когда-нибудь находились на лечении в психиатрической клинике? — спро-
сил Фред.
— Нет, — ответил Баррис.
— Дадите ли вы официальные показания под присягой? — продолжал Фред. — Вы
согласны явиться в суд и...
— Он уже сказал, что согласен, — перебил Хэнк.
— Доказательства, которые я могу представить, — заявил Баррис, — представ-
ляют собой телефонные разговоры Роберта Арктора, которые я записал. Тайно за-
писал, без его ведома.
— Что это за организация? — потребовал Фред.
— Я считаю... — начал Баррис, но Хэнк раздраженно взмахнул рукой. — Она поли-
тическая и действует против нашей страны. — Баррис вспотел от волнения и даже
слегка дрожал, но сохранял довольный вид. — Извне... враги Соединенных Штатов.
— Какое отношение имеет Арктор к источнику препарата «С»? — спросил Фред.
Учащенно моргая, то и дело облизывая губы и гримасничая, Баррис сказал:
— Это все есть в моей... — Он запнулся. — Изучив мою информацию... то есть мои
доказательства, вы, без сомнения, придете к выводу, что препарат «С» изготав-
ливают в иностранном государстве, которое намерено расправиться с США, и что
мистер Арктор глубоко замешан в подрывной...
— Можете ли вы назвать имена других членов организации? — спросил Хэнк. —
Контакты Арктора?.. Предупреждаю, дача ложных показаний является преступлени-
ем, и в этом случае вы будете привлечены к ответственности.
— Ясно, — кивнул Баррис.
— Итак, сообщники Арктора?
— Некая мисс Донна Хоторн. Под всевозможными предлогами он регулярно входит
с ней в сношения.
Фред рассмеялся:
— В сношения! Что вы имеете в виду?
— Я выследил его, — медленно отчеканил Баррис. — Наблюдал за ним из своей
машины. Тайно.
— Он часто ее посещает? — спросил Хэнк.
— Да, сэр, очень часто. Не реже...
— Она его подружка, — перебил Фред.
— Мистер Арктор также... — продолжал Баррис.
Хэнк повернулся к Фреду.
— Каково ваше мнение?
— Определенно следует взглянуть на доказательства.
— Приносите, — велел Хэнк Баррису, — все приносите. Прежде всего, нам нужны
имена. Имена, телефоны, номерные знаки автомашин. Имеет ли Арктор дело с
большими партиями наркотиков? С коммерческими объемами?
— Безусловно, — подтвердил Баррис.
— Каких именно наркотиков?
— Разных. У меня есть образцы. Я предусмотрительно брал пробы — для анали-
за . Могу тоже принести, там много всего.
Хэнк и Фред переглянулись.
Баррис, устремив вперед отсутствующий взгляд, улыбался.
— Что вы желаете добавить? — обратился Хэнк к Баррису. Затем повернулся к
Фреду: — Не послать ли с ним за доказательствами полицейского?
Хэнк боялся, как бы Баррис не струхнул и не смылся, оставив их с носом.
— Вот еще что, — сказал Баррис. — Мистер Арктор — неизлечимый наркоман и
без препарата «С» не в состоянии прожить и дня. Рассудок его помутился. Арк-
тор опасен.
— Опасен, — повторил Фред.
— Да! — торжествующе объявил Баррис. — У него случаются провалы памяти, ко-
торые типичны для вызываемых препаратом «С» нарушений мозговой деятельности.
Полагаю, не осуществляется оптическая инверсия в связи с ослаблением ипсила-
терального компонента... А также, — Баррис откашлялся, — имеет место поврежде-
ние corpus callosum.
— Я просил... предостерегал вас от беспочвенных высказываний. Так или иначе,
мы пошлем с вами полицейского. Согласны?
Баррис ухмыльнулся и кивнул:
— Но само собой...
— Он будет в штатском.
Баррис кашлянул.
— Меня могут убить. Мистер Арктор, как я говорил...
Хэнк кивнул.
— Мистер Баррис, мы ценим ваши усилия и осознаем риск, которому вы подвер-
гаетесь. Если информация послужит доказательством на суде, тогда, разумеется...
— Я пришел не ради денег, — вставил Баррис. — Этот человек болен. Его мозг
поврежден препаратом «С». Я пришел, чтобы...
— Цель вашего прихода для нас не имеет значения, — оборвал Хэнк. — Нас ин-
тересует лишь ценность вашей информации. Остальное — ваше личное дело.
— Благодарю вас, сэр, — сказал Баррис.
И расплылся в улыбке.
Глава 13
В комнате 203 два полицейских психиатра излагали безучастно слушавшему Фре-
ду результаты обследования.
— В вашем случае мы наблюдаем не функциональное нарушение, а скорее «фено-
мен соперничества». Садитесь.
— Соперничества между левым и правым полушариями вашего мозга, — подхватил
второй врач. — Мы имеем дело не с одним сигналом — пусть искаженным или не-
полным, — а с двумя сигналами, несущими разноречивую информацию.
— Обычно человек использует левое полушарие, — объяснил первый. — Именно
там расположено его «я», его самосознание. Это полушарие доминантно, потому
что в нем находится речевой центр, в то время как все пространственные навыки
сосредоточены справа. Левое полушарие можно сравнить с цифровым компьютером,
а правое — с аналоговым. Таким образом, они не просто дублируют друг друга, а
по-разному получают и обрабатывают поступающие данные. Но у вас не доминирует
ни одно из полушарий, и они не дополняют друг друга. Первое говорит вам одно,
а второе — совсем другое.
— Словно на вашей машине, — продолжил второй, — стоят два датчика уровня
топлива. Один показывает, что бак полон, а второй — что пуст. Такого быть не
может, они противоречат друг другу. Однако в вашем случае дело не в том, что
один из них исправен, а другой — нет, тут другое... Вы как водитель полагаетесь
на показания датчика; в вашем случае — датчиков, которые измеряют одно и то
же — то же самое количество топлива в том же самом баке. Если их показания
начинают различаться, вы полностью теряете представление об истинном положе-
нии дел. Ваше состояние никак нельзя сравнить с наличием основного и вспомо-
гательного датчиков, когда вспомогательный включается лишь при повреждении
основного.
— Что же это значит? — спросил Фред.
— Уверен, что вы уже поняли, — сказал врач слева. — Вам, несомненно, прихо-
дилось испытывать это, не сознавая причин.
— Полушария моего мозга соперничают?
— Именно.
— Почему?
— Препарат «С»... Он часто приводит к подобным последствиям. Мы этого и ожи-
дали, и наши предположения подтверждаются тестами. Повреждено левое полуша-
рие, которое обычно доминирует, и правое пытается исправить положение, выпол-
няя роль левого. Но такое положение ненормально: организм не приспособлен к
подобному дублированию функций. Мы называем это перекрестными сигналами. По-
мочь тут можно, лишь разделив полушария...
— Когда я перестану принимать препарат «С», все прекратится?
— Возможно, — кивнул врач. — Нарушение функциональное.
— Впрочем, оно может иметь органический характер, — заметил другой, — и то-
гда необратимо. Время покажет. Когда вы перестанете принимать препарат «С».
Полностью перестанете.
— Что? — переспросил Фред. Он не понял — да или нет? Что они имеют в виду?
Навсегда это или временно?
— Даже если повреждены ткани мозга, отчаиваться не стоит, — сказал один
врач. — Сейчас ведутся эксперименты по удалению небольших областей из обоих
полушарий. Ученые полагают, что таким образом удастся избежать «конкуренции»
и достичь доминирования нужного полушария.
— Однако существует опасность, что тогда субъект до конца жизни будет вос-
принимать лишь часть входной информации, — сказал второй врач. — Вместо двух
сигналов — полсигнала. Что, как мне представляется, ничуть не лучше.
— Да, но частичное функционирование предпочтительнее нулевого, а два сопер-
ничающих сигнала, в конечном счете, аннулируют друг друга.
— Видите ли, Фред, вы перестали...
— Я никогда больше не закинусь препаратом «С», — сказал Фред. — Никогда в
жизни.
— Сколько вы принимаете сейчас?
— Немного. — Он подумал и признался: — В последнее время больше. Из-за
стрессов на работе.
— Вас необходимо снять с задания, — решил врач. — Вы больны, Фред. И никто
не может сказать — по крайней мере, пока, — к чему это приведет. Может быть,
вы поправитесь. Может быть, нет.
— Но если оба мои полушария доминантны и мыслят одинаково, — хрипло прого-
ворил Фред, — почему их нельзя как-то синхронизировать? Как, например, сте-
реозвук?
Последовало молчание.
— Ведь если, — продолжал он, — левая и правая рука дотрагиваются до одного
и того же предмета, то...
— Тут возникает проблема «левого» и «правого» — в том смысле, в котором мы
говорим, что в зеркале они меняются местами. — Психиатр наклонился к Фреду,
который молча глядел в пол. — Как вы объясните, что такое, скажем, левая пер-
чатка, человеку, который ничего об этом не знает? Как он поймет, которую пер-
чатку вы имеете в виду?
— Левая перчатка... — начал Фред и умолк.
— Представьте, что одно полушарие вашего мозга воспринимает окружающий мир
как бы отраженным в зеркале. Понимаете? Левое становится правым и так далее.
Мы пока еще не знаем, что значит видеть мир вот так, наоборот. С точки зрения
топологии левая перчатка — это правая, протянутая через бесконечность.
— В зеркале... — пробормотал Фред. Помутившееся зеркало. Помутившаяся камера.
Апостол Павел тоже говорил об отражении в зеркале, хотя и не стеклянном —
таких тогда еще не было, — а в полированном металлическом. Это вычитал Лакмен
в своих книжках по теологии. Не то, что видишь через систему линз, как в те-
лескопе, когда картинка не переворачивается, и не сквозь стекло, а отражен-
ное, перевернутое изображение — «протянутое через бесконечность», как они вы-
ражаются . Твое лицо, но в то же время — не твое. Камер в те времена никаких
не было, так что человек мог видеть себя только так — шиворот-навыворот.
Я вижу себя шиворот-навыворот. В некотором смысле я всю Вселенную вижу ши-
ворот-навыворот . Другой стороной мозга!
— Топология, — говорил один врач, — вообще малоизученный раздел математики.
Взять хотя бы черные дыры...
— Фред воспринимает мир наизнанку, — в то же время говорил другой врач. —
Одновременно и спереди, и сзади. Нам трудно вообразить, каким он ему видится.
Топология — это область математики, исследующая те свойства геометрических
или иных конфигураций, которые остаются неизменными, если объект подвергается
непрерывному однозначному преобразованию. В применении к психологии...
— ...кто знает, что там происходит с предметами? Если показать дикарю его фо-
тографию, он не узнает себя, даже если много раз видел свое отражение в воде
или в металлическом зеркале, — именно потому, что в отражении правая и левая
стороны меняются местами, а на фотографии — нет.
— Он привык к «перевернутому» изображению и думает, что так и выглядит.
— Часто человек, слыша свой голос, записанный на пленку...
— ...совсем другое — тут дело во внутричерепных резонансах...
— А может, это вы, сукины дети, видите Вселенную шиворот-навыворот, как в
зеркале, — сказал Фред. — Может, как раз я и вижу ее правильно.
— Вы видите ее и так и эдак.
— И какой способ...
— Говорят, что мы видим не саму действительность, а лишь ее «отражение»,
которое неверно, поскольку «перевернуто». Любопытно... — Врач задумался. — Не-
лишне вспомнить физический принцип четности: по какой-то причине мы принимаем
за Вселенную ее отражение... Не исключено, что как раз вследствие неравенства
полушарий...
— Фотография может в какой-то мере компенсировать — это не сам объект, зато
изображение на ней не «перевернуто». Вернее, «перевернуто» два раза.
— Но фотоснимок тоже может быть напечатан «задом наперед», если случайно
перевернуть негатив. Обычно видно, который из двух снимков правильный, осо-
бенно если там есть надпись. Однако, допустим, у вас две фотографии одного и
того же человека: «перевернутая» и «нормальная». Не зная этого человека, не-
возможно сказать, которая из них правильная, хотя разницу между ними увидит
любой.
— Теперь, Фред, вы видите, насколько сложно сформулировать разницу между
левой перчаткой и...
— и тогда сбудется сказанное в Писании, — прозвучал голос в ушах Фреда. По-
хоже , больше никто его не слышал. — Смерть будет повержена, и придет освобож-
дение . Ибо когда написанные слова обратятся другой стороной, вы будете знать,
что есть иллюзия, а что — нет. И смятение окончится, и субстанция Смерти, по-
следний враг, будет поглощена не телом, но победившим духом. Имеющий ухо да
услышит: Смерть потеряет свою власть над вами.
Вот и ответ на вечный вопрос, подумал он. Великая священная тайна раскрыта:
мы не умрем!
Отражения исчезнут. И все произойдет в один миг.
Мы все преобразимся, то есть станем нормальными, а не «перевернутыми» — вот
что имеется в виду. Сразу, в мгновение ока!
Потому что, думал он, угрюмо наблюдая за полицейскими психиатрами, которые
писали и подписывали свое заключение, сейчас мы все, черт побери, вывернуты
наизнанку — все до одного, и все вещи тоже, и даже само время! . . Но когда же
наконец тот фотограф, который случайно перевернул негатив, обнаружит это и
исправит свою ошибку? И сколько времени это у него займет?
Должно быть, долю секунды...
Теперь я понимаю, что означает то место в Библии: «сквозь тусклое стекло»9.
Мутное зеркало. Понимаю, однако, сам себе ничем помочь не могу — мое сознание
9 Первое послание ев. апостола Павла к коринфянам: «Теперь мы видим как бы сквозь
тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда
познаю, подобно как я познан» (1 Кор. 13:12).
так же замутнено, как и раньше.
Может быть, думал он, поскольку я вижу и так и эдак — и правильно, и «пере-
вернуто», — я первый за всю человеческую историю способен представить себе,
как все должно стать на самом деле. Хотя я вижу и по-другому, то есть по-
обычному... А что есть что? Что перевернуто, а что нет? Когда я вижу фотогра-
фию, а когда отражение?
Интересно, назначат ли мне пособие? Или пенсию — пока я буду сходить с пре-
парата «С»? — гадал он, уже чувствуя наползающий ужас и холод во всем теле.
Wie kalt 1st es in diesem unterirdischen Gewolbe! Das 1st naturlich, es 1st
ja tief10.
Надо совершенно отказаться от этого дерьма. Видел я людей на воздержании...
Боже, как мне пройти через это? Как выдержать?
— ...смахивает на метафизику, — увлеченно говорил врач, — хотя математики ут-
верждают, что мы находимся на пороге возникновения новой космологии...
— ...бесконечность времени, которая выражена в виде вечности, в виде петли! —
восторженно вторил другой. — Как замкнутая петля магнитной ленты!
До возвращения в кабинет Хэнка, где им предстояло заниматься вещественными
доказательствами, собранными Баррисом, оставался еще час, и Фред пошел в ка-
фетерий, проталкиваясь сквозь толпу полицейских мундиров, костюмов-болтуний и
штатских пиджаков.
Когда он вернется, заключение психиатров наверняка уже будет у Хэнка...
У меня есть время подумать, размышлял Фред, становясь в очередь. Время...
Предположим, время круглое, как Земля. Чтобы достичь Индии, плывешь на запад.
Над тобой смеются, но, в конце концов, Индия оказывается впереди, а не сзади.
Что же касается времени... Может, распятие Христа где-то там, впереди, а мы
плывем и думаем, что оставили его далеко на востоке.
Впереди в очереди — секретарша. Голубой свитер в обтяжку, высокая грудь,
юбочка чисто символическая. Разглядывать ее было приятно. Наконец девушка за-
метила его пристальные взгляды и отодвинулась вместе со своим подносом.
Первое и второе пришествие Христа — это одно и то же событие, подумал он.
Время — как петля магнитной ленты... Понятно, почему все так уверены, что Он
еще вернется.
Секретарша повернулась спиной. Вдруг Фред осознал, что в отличие от нее он
неузнаваем в костюме-болтунье. Скорее всего, девушка просто почувствовала его
внимание. Видно, у нее большой опыт — да и немудрено, с такими-то ножками...
Он вообще мог бы дать ей по голове и изнасиловать, и никто в жизни не дога-
дался бы, чья это работа. Как она его опишет? Да в этом костюме можно вытво-
рять что угодно. Не обязательно совершать преступления, а просто — делать то,
на что иначе никогда не решился бы.
— Послушайте, мисс, — обратился он к девушке в голубом свитере, — у вас
просто классные ножки. Впрочем, вы это прекрасно сознаете, иначе не стали бы
носить такую микроскопическую юбочку.
— О! — воскликнула она. — А я знаю, кто вы!
— Правда? — удивился он.
— Пит Уикем.
— Как?
— Разве вы не Пит Уикем? Вы всегда сидите напротив, правда?
— Значит, я тот парень, что всегда сидит напротив и разглядывает ваши нож-
ки, замышляя сами знаете что?
Как холодно в подземном этом склепе! Неудивительно, ведь здесь так глубоко. (Из
либретто, написанного Иосифом фон Соннлейтнером по повести Жана-Никола Буйи «Леоно-
ра, или Супружеская любовь» к опере Бетховена «Фиделио».)
Девушка кивнула.
— Так у меня есть шанс? — спросил он.
— Посмотрим...
— Может, сходим как-нибудь поужинаем?
— Я не против.
— Тогда дайте телефончик.
— Лучше вы дайте свой.
— Я дам, — сказал он, — только сейчас давайте сядем за один столик.
— Нет, меня уже ждет подруга — вон там.
— Я мог бы сесть рядом с вами обеими.
— Нам надо кое-что обсудить вдвоем.
— Ну, тогда ладно.
— До встречи, Пит. — Девушка в голубом свитере взяла поднос, нагруженный
тарелками, и отошла.
Фред взял кофе с бутербродом и нашел свободный столик. И сидел, роняя крош-
ки в кофе, безучастно глядя в поднимающийся пар.
Черт побери, меня наверняка снимут с задания. И поместят куда-нибудь в «Си-
нанон» или «Новый путь». Я буду выть от воздержания, а кто-нибудь другой по-
ведет наблюдение за Арктором. Какой-нибудь осел, который ни черта в Аркторе
не смыслит. Им придется начинать с нуля. По крайней мере, могли бы позволить
мне разобраться с доказательствами Барриса. Разобраться и принять решение.
...если бы она от меня забеременела, ребенок родился бы без лица — одно рас-
плывчатое пятно...
Конечно, отзовут. Но почему обязательно сразу? Я мог бы обработать информа-
цию Барриса... да хотя бы посидеть там и посмотреть, что он принесет. Удовле-
творить собственное любопытство. Кто такой Арктор? Что он затевает? Они обя-
заны позволить мне хотя бы это!
Фред сидел так еще долго, ссутулившись над столом, пока, наконец, не заме-
тил , что девица в голубом свитере и ее подружка встали и собираются уходить.
Вторая девушка, не столь хорошенькая, брюнетка с короткой стрижкой, некоторое
время колебалась, а затем подошла к нему.
— Пит?
Он поднял голову.
— Я на два слова, Пит, — проговорила она сбивчиво. — Я... э-э... Элен сама хо-
тела сказать, но постеснялась. Знаешь, Пит, она давно уже стала бы встречать-
ся с тобой, месяц назад или даже еще в марте, если бы...
— Если бы что?
— Ну, в общем... короче, тебе бы стоило освежить дыхание.
— Буду знать, — буркнул Фред.
— Вот и все, — сказала она с облегчением, — пока! — И, улыбаясь, упорхнула.
Бедняга Пит! Интересно, она всерьез? Или это просто коварный сокрушающий
удар, который две чертовки решили нанести, увидев Пита — то есть меня — одно-
го? Удар ниже пояса. Да пошли они все, подумал он, бросив скомканную салфетку
и поднимаясь на ноги. Интересно, а у апостола Павла пахло изо рта? Фред мед-
ленно плелся по коридору, засунув руки в карманы. Наверное, поэтому он и про-
сидел в тюрьме весь остаток жизни. За это его и посадили...
Удачно она выбрала момент. Мало мне сегодняшнего тестирования вперемежку с
пророчествами, так теперь еще и это. Проклятье!
Он шел, едва переставляя ноги и чувствуя себя все хуже и хуже. Мысли пута-
лись , голова гудела. Освежить дыхание... Попробовать микрин? Пожалуй.
Интересно, есть ли здесь аптека? Стоит купить и попробовать прямо сейчас,
прежде чем подниматься к Хэнку. Может, это придаст мне уверенности. Улучшит
мои шансы... Что угодно, лишь бы помогло. Годится любой совет. Любой намек...
Черт подери, что же мне делать?!.
Если сейчас меня снимут, я никогда их больше не увижу, не увижу никого из
своих друзей, тех, кого знал и за кем наблюдал. Ни Арктора, ни Лакмена, ни
Джерри Фабина, ни Чарлза Фрека, ни, главное, Донну. Я никогда-никогда, до
конца вечности, не увижу своих друзей. Все кончено.
Донна... Он вспомнил немецкую песню, которую в давние времена пел его двою-
родный дед:
Ich seh', wie em Engel im rosigen Duft
Sich trostend zur Seite mir stellet»,
что, по его словам, означало «Я вижу, как она в образе ангела стоит рядом
со мной и утешает» — речь шла о женщине, которую он любил и которая спасла
его. Дед, давно умерший, родился в Германии и часто пел или читал вслух по-
немецки .
Gott! Welch Dunkel hier! 0 grauenvolle Stille!
6d ist es um mich her. Nichts lebet aufier mir...11
Даже если мой мозг не выгорел окончательно, ко времени, когда я вернусь на
службу, ими будет заниматься кто-нибудь другой. Или они умрут, или сядут, или
попадут в федеральные клиники, или просто разбредутся куда глаза глядят. С
разбитыми планами, с рухнувшими надеждами... Выгоревшие и уничтоженные. Не со-
ображающие , что же такое с ними происходит.
Так или иначе, для меня все кончено. Сам того не ведая, я с ними уже про-
стился .
Мне остается лишь открутить ленту назад — чтобы вспомнить.
— Надо пойти в центр наблюдения... — Он пугливо оглянулся и замолчал.
Надо пойти в центр наблюдения и все оттуда унести, снова начал он, уже про
себя. Пока не поздно. Ленты могут стереть, меня лишат доступа. К черту конто-
ру, пусть забирают себе остаток жалованья! По любым этическим нормам это мои
записи: это все, что у меня остаюсь.
Но чтобы воспользоваться записями, понадобится проекционная аппаратура.
Нужно разобрать ее и выносить по частям. Камеры и записывающие агрегаты мне
ни к чему — только воспроизводящая часть, и, прежде всего, проекторы. Значит,
справлюсь. Ключ от квартиры у меня есть. Его потребуют вернуть, но я прямо
сейчас могу сделать дубликат. Замок стандартный. Справлюсь!
Им овладели злость и мрачная решимость. И одновременно радость — все будет
хорошо.
С другой стороны, подумал Фред, если забрать камеры и записывающую аппара-
туру i я смогу продолжать наблюдение. Самостоятельно. А наблюдение продолжать
необходимо. По крайней мере, пока. Но ведь все в этом мире временно... Причем
необходимо, чтобы наблюдателем был именно я. Даже если сделать что-либо не в
моих силах; даже если я буду просто сидеть и просто наблюдать. Крайне важно,
чтобы я как свидетель всех событий находился на своем посту.
Не ради них. Ради меня самого.
Впрочем, ради них тоже. На случай какого-нибудь происшествия, как с Лакме-
ном. Если кто-то будет наблюдать — если я буду наблюдать, — я замечу и вызову
помощь. Без промедления. Ту, которую надо.
Иначе они умрут, и никто не узнает. А если узнает, то тут же забудет.
О Боже, как темно и как здесь тихо,
И никого, кроме меня, лишь пустота...
(Из либретто, написанного Иосифом фон Соннлейтнером по повести Жана-Никола Буйи
«Леонора, или Супружеская любовь» к опере Бетховена «Фиделио».)
Маленькие никудышные жизни, жалкое прозябание...
Кто-нибудь обязательно должен вмешаться. По крайней мере, кто-нибудь обяза-
тельно должен помечать их маленькие грустные кончины. Помечать и регистриро-
вать — для памяти. До лучших времен, когда люди поймут.
Он сидел в кабинете вместе с Хэнком, полицейским в форме и вспотевшим, но
ухмыляющимся информатором Джимом Баррисом; слушали одну из доставленных Бар-
рисом кассет; рядом крутилась другая кассета — копия для архива.
«— А, привет. Послушай, я не могу говорить.
— Когда?
— Я перезвоню.
— Дело не терпит отлагательства.
— Ну ладно, выкладывай.
— Мы собираемся...»
Хэнк подался вперед и жестом велел Баррису остановить ленту.
— Вы можете сказать, чьи это голоса, мистер Баррис?
— Да! — страстно заявил Баррис. — Женский голос — Донна Хоторн, мужской —
Боб Арктор.
— Хорошо. — Хэнк кивнул и посмотрел на Фреда. На столе перед Хэнком лежал
отчет о состоянии здоровья Фреда. — Включите воспроизведение.
«— ...половину Южной Калифорнии сегодня ночью, — продолжал мужской голос. —
Арсенал базы военно-воздушных сил в Ванденберге будет атакован с целью захва-
та автоматического и полуавтоматического оружия...»
Баррис беспрестанно ухмылялся, поглядывая на всех по очереди. Его пальцы
перебирали скрепки, валявшиеся на столе, сгибая их и разгибая, — казалось, он
в поте лица плетет какую-то странную сеть из металлической проволоки. Загово-
рила женщина:
«— Не пора ли пустить в систему водоснабжения нервно-паралитические яды,
которые добыли для нас байкеры? Когда же мы, наконец...
— В первую очередь организации нужно оружие, — перебил мужчина. — Приступа-
ем к стадии Б.
— Ясно. Но сейчас мне надо идти — у меня клиент».
Клик. Клик.
— Я знаю, о какой банде байкеров идет речь. О ней упоминается на другой...
— У вас есть еще подобные материалы? — спросил Хэнк. — Или это практически
все?
— Еще очень много.
— Все в том же духе?
— Да, они относятся к той же нелегальной организации и ее преступным замыс-
лам.
— Кто эти люди? — спросил Хэнк. — Что за организация?
— Международная...
— Их имена. Вы опять ушли в область догадок.
— Роберт Арктор, Донна Хоторн, это главари. В моих шифрованных записях... —
Баррис извлек потрепанный блокнот, в спешке чуть не уронив его, и лихорадочно
зашелестел страницами.
— Мистер Баррис, я конфискую все представленные материалы. Они временно пе-
реходят в нашу собственность. Мы сами все изучим.
— Но мой почерк и шифр, который я...
— Вы будете под рукой, когда нам понадобятся разъяснения.
Хэнк жестом велел полицейскому выключить магнитофон. Баррис потянулся к
клавишам, и полицейский отпихнул его назад. Баррис, с застывшей на лице улыб-
кой , пораженно заморгал.
— Мистер Баррис, — торжественно сказал Хэнк, — вас не выпустят, пока мы не
кончим изучение материалов. В качестве предлога мы обвиним вас в даче заведо-
мо ложных показаний. Это делается лишь в целях вашей собственной безопасно-
сти, тем не менее, обвинение будет предъявлено по всем правилам. Дело переда-
дут прокурору, но пока заморозят. Это вас устраивает?
Он не стал ждать ответа и дал знак полицейскому.
Не переставая ухмыляться, Баррис позволил себя увести. В комнате остались
Хэнк и Фред, сидевшие друг1 против друга за столом. Хэнк молча дочитал рапорт
с медицинским заключением, снял трубку внутреннего телефона и набрал номер.
— У меня тут кое-какие новые материалы. Я хочу, чтобы вы посмотрели их и
установили, сколько здесь фальшивок... Килограммов пять. Влезут в одну картон-
ную коробку третьего размера. Спасибо.
— Лаборатория криптографии и электроники, — пояснил он Фреду.
Пришли два вооруженных техника в форме с огромным стальным контейнером.
— Нашли только это, — виновато произнес один из них.
Они принялись аккуратно загружать контейнер предметами со стола.
— Кто там внизу?
— Харли.
— Попросите Харли заняться этим немедленно. Результаты мне нужны сегодня.
Техники заперли стальной контейнер и выволокли его из кабинета.
Хэнк бросил медицинский отчет на стол и откинулся на спинку стула.
— Ну, что вы скажете о доказательствах Барриса?
— Это заключение о состоянии моего здоровья? — спросил Фред. Он потянулся
было за отчетом, но передумал. — Та малость, которую мы прослушали, кажется
подлинной.
— Фальшивка, — отрезал Хэнк.
— Возможно, вы правы, — сказал Фред, — хотя сомневаюсь.
— Ладно, подождем результатов.
— Что врачи...
— Они считают, что вы свихнулись.
Фред пожал плечами, стараясь, чтобы это выглядело понатуральнее.
— Совершенно?
Wie kalt ist es in diesem unterirdischen Gewolbe!12
— Две-три клетки в мозгу, возможно, еще функционируют. Но не больше. Ос-
тальные закоротились.
Das ist nattirlich, es ist ja tief13.
— Вы говорите «две-три»? Из какого количества? — поинтересовался Фред.
— Не знаю. Насколько мне известно, в мозгу несметная уйма клеток. Миллиар-
ды.
— А возможных соединений между ними, — заметил Фред, — больше, чем звезд во
Вселенной.
— Если так, то вы показываете не лучший результат. Две-три клетки из... шес-
тидесяти пяти триллионов?
— Скорее из шестидесяти пяти триллионов триллионов.
— Результат даже хуже, чем показала «Филадельфия Атлетике» в прошлом сезо-
не.
— А если я скажу, что пострадал при исполнении?
— Что ж, по крайней мере, сможете сколько хотите бесплатно читать «Сатердей
Как холодно в подземном этом склепе! (Из либретто, написанного Иосифом фон Сонн-
леитнером по повести Жана-Никола Буйи «Леонора, или Супружеская любовь» к опере Бет-
ховена «Фиделио».)
13 Неудивительно, ведь здесь так глубоко. (Из либретто, написанного Иосифом фон
Соннлеитнером по повести Жана-Никола Буйи «Леонора, или Супружеская любовь» к опере
Бетховена «Фиделио».)
ивнинг пост» и «Космополитен», сидя в приемных у врача.
— Где?
— А где бы вы хотели?
— Я подумаю, — нахмурился Фред.
— На вашем месте, — сказал Хэнк, — я бы наплевал на все федеральные клини-
ки, взял ящик хорошего коньяка, отправился в горы Сан-Бернардино и жил бы там
один-одинешенек, пока все не кончится, возле какого-нибудь озера.
— Но это может никогда не кончиться.
— Тогда не возвращайтесь вовсе. Вы знаете кого-нибудь, у кого есть домик в
горах?
— Нет.
— Вы в состоянии вести машину?
— Моя... — Фред неуверенно замолчал. На него внезапно навалилась вялость,
расслабляющая сонливость. Происходящее словно совершалось за колышущейся пе-
леной ; исказилось даже чувство времени. — Машина... — Он зевнул.
— Вы не помните.
— Я помню, что она неисправна.
— Вас кто-нибудь должен отвезти. Так будет безопаснее.
Отвезти меня куда? — удивился Фред. В горы? По дорогам, просекам, тропин-
кам? Как кота на поводке, который мечтает попасть либо домой, либо на свобо-
ду? Ein Engel, der Gattin, so gleich, der ftihrt mich zur Freiheit ins
himmlische Reich14.
— Конечно, — сказал он, испытывая облегчение. Рваться с поводка, стремясь к
свободе... — Что вы теперь думаете обо мне... теперь, когда я выгорел, по крайней
мере, на время, возможно навсегда?
— Что вы — очень хороший человек.
— Спасибо, — пробормотал Фред.
— Возьмите с собой пистолет.
— Что?
— Когда поедете в горы Сан-Бернардино с ящиком коньяка, возьмите с собой
пистолет.
— На случай, если ничего не получится?
— На любой случай, — сказал Хэнк. — При том количестве наркотиков, что, по
их словам, вы принимаете... Возьмите пистолет и держите при себе.
— Хорошо.
— Когда вернетесь, позвоните. Дайте мне знать.
— Черт побери, у меня не будет костюма-болтуньи.
— Все равно позвоните.
— Хорошо, — повторил Фред.
Очевидно, это уже не имеет значения. Очевидно, все кончено.
— Когда будете получать деньги, увидите, что сумма другая, причем отличие
весьма существенно.
— Я получу вознаграждение за то, что со мной случилось? — спросил Фред.
— Наоборот. Сотрудник полиции, добровольно ставший принимать наркотики и не
сообщивший об этом, подвергается штрафу в три тысячи долларов и/или шестиме-
сячному тюремному заключению. Думаю, в вашем случае дело ограничится штрафом.
— Добровольно? — изумленно переспросил Фред.
— Вам не приставляли к голове револьвер, не подсыпали ничего в суп. Вы при-
нимали разрушающие психику наркотики в здравом уме и твердой памяти.
— У меня не было выхода!
Ангел, супруга ведет меня на свободу в Небесное царство. (Из либретто, написанно-
го Иосифом фон Соннлеитнером по повести Жана-Никола Буйи «Леонора, или Супружеская
любовь» к опере Бетховена «Фиделио».)
— Вы могли только делать вид, — отрезал Хэнк. — Большинству агентов это
удается. А судя по количеству, которое вы принимаете...
— Вы говорите со мной как с преступником. Я не преступник.
Достав блокнот и ручку, Хэнк принялся подсчитывать.
— По какой ставке вам платят? Я могу рассчитать...
— А нельзя заплатить штраф потом? Скажем, в рассрочку, помесячно, в течение
двух лет?
— Бросьте, Фред.
— Ладно.
— Так сколько вам платят в час?
Он не помнил.
— Ну, хорошо, сколько у вас официальных рабочих часов?
Тем более.
Хэнк бросил блокнот на стол.
— Хотите сигарету? — Он предложил свою пачку.
— Я с курением завязываю, — пробормотал Фред. — С курением, с наркотиками...
Со всем... Включая арахис и...
Мысли путались. Оба сидели молча, одинаковые в костюмах-болтуньях.
— Я не раз говорил своим детям... — начал Хэнк.
— У меня двое детей, — перебил Фред. — Две девочки.
— Не верю. У вас не должно быть детей.
— Пожалуй... — Он попытался прикинуть, когда начнется ломка и сколько еще
таблеток препарата «С», припрятанных в разных местах, у него осталось. И
сколько денег за них можно выручить.
— Хотите, я все-таки подсчитаю, сколько вы получите при расчете? — спросил
Хэнк.
— Да! — горячо воскликнул Фред. — Пожалуйста!
Он подался вперед и напряженно застыл, барабаня пальцами по столу, как Бар-
рис.
— Сколько вы получаете в час? — снова спросил Хэнк и, не дождавшись ответа,
потянулся к телефону. — Я позвоню в бухгалтерию.
Фред молчал, опустив голову и прикрыв глаза. Может быть, Донна мне поможет?
Донна, пожалуйста, помоги мне!
— По-моему, до гор вы не дотянете, — сказал Хэнк. — Даже если кто-нибудь
вас отвезет.
— Пожалуй.
— Куда вы хотите?
— Посижу подумаю...
— в федеральную клинику?
— Нет!
Наступило молчание.
Интересно, что значит: «не должно быть» детей?
— Может, к Донне Хоторн? — предложил Хэнк. — Насколько я смог понять из ва-
ших донесений и вообще, вы близки.
— Да. Близки... — Фред кивнул и тут же резко поднял голову. — Как вы узнали?
— Методом исключения. Известно, кем вы не являетесь, а круг подозреваемых в
группе весьма ограничен. Прямо скажем, группа совсем маленькая. Планировалось
выйти через них на кого-нибудь уровнем выше; тут ключевая фигура Баррис. Мы с
вами немало часов провели за разговорами, и я давным-давно сообразил: вы Арк-
тор.
— Я... кто? — недоверчиво спросил Фред, вытаращив глаза на костюм по имени
Хэнк. — Боб Арктор?!
Нет, это невероятно. Сущая бессмыслица. Не лезет ни в какие ворота. Просто
чудовищно!
— Впрочем, не важно, — продолжал Хэнк. — Какой телефон у Донны?
— Она, наверное, на работе. — Его голос срывался. — Парфюмерный магазин.
Номер телефона... — Он никак не мог справиться со своим голосом. Какой же у нее
номер? Черта с два, я не Боб Арктор. Но тогда кто? Может быть, я...
— Дайте мне рабочий телефон Донны Хоторн, — велел Хэнк в трубку. — Я соеди-
ню вас с ней. Нет, пожалуй, позвоню ей сам и попрошу заехать за вами... куда?
Мы вас отвезем: сюда ей нельзя. Где вы обычно встречаетесь?
— Отвезите меня к ней домой, — попросил Фред. — Я знаю, как попасть в квар-
тиру.
— Я скажу ей, что вы там и решили завязать. Просто скажу, что я знакомый, и
вы попросили позвонить.
— Да-да... я понимаю, — сказал Фред. — Спасибо, друг.
Хэнк кивнул и начал набирать номер. Цифры набирались чудовищно медленно,
целую вечность. Фред закрыл глаза, прислушиваясь к своему дыханию.
Все, конец! Спекся, выгорел, накрылся. Накрылся медным тазом.
Ему хотелось рассмеяться.
— Отвезем вас... — начал Хэнк, потом отвернулся и заговорил в трубку: — Эй,
Донна, это дружок Боба, сечешь? Он совсем расклеился. Полный облом. Нет, точ-
но, без балды. Слушай, у него...
Донна, поторопись! И захвати с собой что-нибудь — мне плохо, совсем плохо...
Он подался вперед, хотел коснуться Хэнка, но не сумел — рука бессильно упала.
— Я в долгу не останусь. Если что, положись на меня, — пообещал он Хэнку,
когда тот закончил разговор.
— Посидите, пока я вызову машину... Гараж? Мне нужна машина и водитель в
штатском... Что там у вас сейчас есть?
Они прикрыли глаза и стали ждать. Два расплывчатых пятна...
— Лучше бы вам в больницу, — обеспокоено произнес Хэнк. — Я вижу, дела со-
всем плохи. Может, вас отравил Баррис? На самом деле мы интересовались Джимом
Баррисом, а не вами. И аппаратуру установили ради него. Мы надеялись заманить
его сюда... и добились этого. — Хэнк помолчал. — Вот почему я практически уве-
рен, что все его записи и прочие доказательства — фальшивка. Но сам Баррис
замешан в чем-то по крупному. Завяз по уши, причем это связано с оружием.
— А зачем тогда я? — неожиданно громко спросил Фред.
— Нам надо было спровоцировать Барриса...
— Вот ублюдки...
— Мы сделали так, что Баррис стал подозревать в вас тайного агента полиции,
готового арестовать его или выйти выше. Поэтому он...
Зазвонил телефон.
— Машина сейчас придет, — сказал Хэнк. — Подождите пока, Боб. Боб, Фред —
как угодно. Не расстраивайтесь, мы все-таки взяли этого... ну, как вы вырази-
лись в наш адрес. Вы же понимаете, что игра стоила свеч, правда? Заманить его
в ловушку... правда?
— Правда.
Это был уже не голос, а механический скрежет.
Два человека молча сидели в комнате.
По дороге в «Новый путь» Донна съехала с шоссе на обочину. Отсюда, с высо-
ты, были хорошо видны городские огни. У Арктора уже начались боли, и времени
оставалось совсем немного. Ей хотелось побыть с ним еще. Нельзя было так дол-
го откладывать... По его щекам струились слезы, приступы тошноты становились
все чаще.
— Посидим немного, — сказала она, ведя его за руку через заросшую песчаную
пустошь, среди мусора и пустых банок. — Я...
— Твоя трубочка... ты ее взяла? — с трудом выговорил он.
— Да, — ответила Донна.
Надо отойти от шоссе достаточно далеко, чтобы не заметила полиция. Или что-
бы можно было успеть выкинуть трубку, если к ним подберутся. Коп, как всегда,
остановит машину поодаль, на шоссе, с выключенными фарами, и пойдет дальше
пешком. Так что времени хватит.
На это хватит, подумала она. На то, чтобы уйти от лап закона. А вот у Боба
Арктора времени больше нет. Его время — по крайней мере, выраженное человече-
скими мерками — вышло. Теперь он вступил в иной род времени. Таким временем
располагает крыса: чтобы бессмысленно бегать взад-вперед. Ни о чем не думая:
взад-вперед, взад-вперед... Он, по крайней мере, видит огни вокруг. Хотя ему,
наверное, уже все равно.
Вот подходящее местечко, со стороны незаметно. Донна достала трубку и за-
вернутый в фольгу кусочек гашиша. Арктор сидел, зажав руками сведенный судо-
рогой живот. Его рвало, штаны пропитались мочой. Удержаться он не мог; скорее
всего, он ничего и не замечал. Просто скорчился с искаженным лицом, дрожа от
боли, и мучительно стонал, выл безумную песнь без слов.
Донна вспомнила одного знакомого, который видел Бога. Тот тоже себя так вел
— стонал и плакал, разве что не гадил. Бог предстал перед ним в одном из ки-
слотных глюков. Этот парень экспериментировал с растворимыми в воде витамина-
ми — принимал их в огромных дозах. По идее, ортомолекулярный состав должен
был подстегивать и синхронизировать нервные возбуждения в мозгу. Однако вме-
сто того, чтобы лучше соображать, парень увидел Бога. Это явилось для него
колоссальным сюрпризом.
— Ты не знаешь, случаем, Тони Амстердама? — спросила Донна.
Боб Арктор лишь замычал.
Донна затянулась из гашишной трубки, посмотрела на лежащие внизу огни, при-
слушалась .
— После того как он увидел Бога, примерно год ему было очень хорошо. А по-
том стало очень плохо. Хуже, чем когда-либо. Потому что в один прекрасный
день он понял, что ему суждено прожить всю оставшуюся жизнь — и не увидеть
ничего необычного. Только то, что видим все мы. Ему было бы гораздо легче,
если бы он вовсе не видел Бога. Он мне сказал, что как-то раз буквально рас-
свирепел: ломал все подряд, разбил даже свою стереосистему. Он понял, что ему
придется жить и жить, ничего вокруг себя не видя. Без цели. Просто кусок мяса
— жрущий, пьющий, храпящий и вкалывающий.
— Как мы все... — выдавил Боб Арктор. Слова давались с трудом, вызывая позыв
рвоты.
— Так я ему и заявила: «Мы все в одной лодке, и остальные от этого не бе-
сятся» . А он ответил: «Ты не знаешь, что я видел. Ты не знаешь».
Арктора скрутил спазм, и он с трудом выдохнул:
— Он не сказал... как это было?
— Искры. Фонтаны разноцветных искр, словно у тебя свихнулся телик. Искры на
стене, искры в воздухе. Весь мир — как живое существо, куда ни посмотри. И
никаких случайностей; все происходило осмысленно, будто стремясь к чему-то, к
некой цели в будущем. А потом он увидел дверь. Примерно с неделю он видел
дверь повсюду: у себя дома, на улице, в магазине... Она была всегда одинакового
размера, очень узкая и такая... приятная; Тони так и сказал — приятная. Обрисо-
ванная алыми и золотистыми лучами, будто искры выстроились в ряд. И потом ни
разу в жизни он ничего такого не видел, и именно это, в конечном счете, его и
доконало.
— А по ту сторону... что? — немного помолчав, спросил Арктор.
— Другой мир — его было видно.
— и что... он так туда и не зашел?
— Потому и переломал все у себя в квартире. Ему и в голову не пришло войти.
Он просто восхищался дверью. Потом было уже поздно. Через несколько дней
дверь закрылась и исчезла навсегда. Снова и снова он принимал лошадиные дозы
ЛСД, глотал бешеное количество растворимых витаминов, но больше никогда ее не
видел — так и не нашел нужную комбинацию.
— Что было по ту сторону? — повторил Арктор.
— Там всегда стояла ночь.
— Ночь!
— Всегда одно и то же: лунный свет и вода. Безмолвие и покой. Вода, черная,
как чернила, и берег, песчаный берег острова. Он был уверен, что это Греция.
Древняя Греция. Ему казалось, что дверь — это проем во времени и перед ним
прошлое... Потом, после всего, он вечно выходил из себя, когда ехал по шоссе, —
не мог вынести всего этого движения, шума и грохота. И все гадал, зачем ему
показали другой мир. Тони и в самом деле верил, что видел дверь, хотя, в ко-
нечном счете, она только свела его с ума и больше ничего. Слишком он пережи-
вал, что не смог удержать ее, вот и свихнулся. Каждому, кого встречал, начи-
нал жаловаться, что все потерял.
— Совсем как я, — проговорил Арктор.
— Еще на острове была женщина. Ну, не совсем женщина — скорее статуя. Тони
говорил, что это Афродита. В лунном свете, бледная, холодная, сделанная из
мрамора.
— Он должен был пройти в дверь, пока еще мог.
— Ничего он не мог. Это было лишь обещание — того, что будет, чего-то хоро-
шего , что придет когда-нибудь. Когда-нибудь потом... — Донна запнулась, — после
смерти.
— Он облажался... Каждому дается один шанс... — Арктор закрыл глаза от боли, на
лице выступил пот. — А, что может знать выгоревший торчок?! Что знаем мы?.. Я
не могу говорить. Прости. — Он отвернулся, съежился, зубы застучали.
Она обняла его, крепко прижала к себе и стала укачивать, как младенца.
— Ты очень хороший, просто тебе не повезло. Однако жизнь продолжается. Я
очень люблю тебя. Я хочу, чтобы...
Она замолчала, продолжая обнимать его во тьме. Во тьме, которая продолжала,
несмотря на все ее усилия, пожирать его изнутри.
— Ты такой хороший и добрый, и все это несправедливо, но так уж получилось.
Ты просто подожди: когда-нибудь, хотя, может быть, и очень не скоро, ты бу-
дешь видеть так, как раньше. Все вернется.
Обязательно вернется. Наступит день, подумала она, когда все, что было не-
справедливо отнято у людей, будет им возвращено. Через тысячу лет или еще
позже, но этот день придет, и по всем счетам будет уплачено. Может, и тебе,
как Тони Амстердаму, уже являлся Бог. Явился и исчез — на время. Может, в
твоем выжженном мозгу с его закороченными и обугленными цепями, которые про-
должают распадаться даже сейчас, когда я обнимаю тебя, уже успела сверкнуть,
переливаясь всеми цветами радуги, та волшебная искра, которая проведет тебя
через страшные годы, что ждут впереди. Какое-нибудь слово, не до конца поня-
тое, что-нибудь увиденное мельком, неосознанно — крошечный осколок звезды,
таящийся среди отбросов этого мира, — поможет тебе продержаться и увидеть тот
день, который настанет... о, так нескоро! Трудно даже представить себе когда.
Остается лишь ждать и надеяться.
Но однажды — если повезет и это повторится — он узнает, он вспомнит: нужное
полушарие сможет сравнить и распознать образы. Хотя бы на подсознательном
уровне, самом доступном. И тогда этот ужасный, мучительный и, казалось бы,
бессмысленный путь закончится...
В глаза ударил свет. Перед ней стоял полицейский с фонариком и дубинкой.
— Встаньте, пожалуйста! Ваши документы! Вы сперва, мисс.
Она отпустила Арктора, и тот медленно повалился на землю, даже не заметив
появления патрульного, который бесшумно подкрался по склону холма. Достав из
сумочки бумажник, Донна жестом предложила отойти подальше. Полицейский не-
сколько минут рассматривал документы при свете фонарика.
— Значит, вы тайный агент федеральной полиции? — Он направил луч ей в лицо.
— Тихо! — приказала Донна. — Убирайтесь отсюда!
— Простите.
Полицейский отдал бумажник и исчез в темноте так же бесшумно, как и появил-
ся.
Донна вернулась к Бобу Арктору. Тот ничего и не заметил. Он теперь вообще
ничего не замечал. Пожалуй, даже ее, не говоря уже обо всем остальном.
Снизу послышался шум отъехавшей патрульной машины. Наступила тишина. Лишь в
сухом кустарнике шелестела ящерица да какие-то жучки колыхали сухую траву.
Далеко внизу светилось огнями шоссе № 91, но звуки не долетали.
— Боб, — прошептала Донна. — Ты меня слышишь?
Тишина.
Все цепи замкнуты, подумала она. Все расплавилось и сгорело. И никому не
удастся починить, как ни старайся. А они будут стараться...
— Идем, — сказала Донна, потянув его за руку. — Нам пора.
— Я не могу любить, — произнес Боб Арктор. — Моей штучки больше нет.
— Нас ждут, — твердо повторила она.
— Но что же делать? Меня примут без штучки?
— Обязательно примут.
Поистине нужна великая мудрость, чтобы решать, когда поступать несправедли-
во . Как вообще справедливость может пасть жертвой целесообразности? Как? На
этом мире лежит проклятие, и вот самое лучшее тому доказательство. Видимо,
где-то, на самом глубоком уровне, главный механизм всего, первооснова всех
вещей, распался на части, раз мудрость и целесообразность требуют от нас со-
вершения такого количества грязных дел! Должно быть, все это началось тысяче-
летия назад, а теперь зло проникло повсюду, пропитало все вокруг. И нас тоже...
Мы не можем шевельнуться, не можем открыть рта, чтобы не свершить зла. Мне
наплевать, как все это началось, когда и почему, я лишь надеюсь, что оно ко-
гда-нибудь закончится. Как с Тони Амстердамом: однажды потоки многоцветных
искр вернутся, и на сей раз их увидят все. И вновь возникнет узкая дверь, за
которой — мир и покой. Статуя, море и лунный свет. И ничто и никогда больше
не нарушит этого волшебного покоя.
Так все было много, много лет назад. До проклятия, в золотом веке, когда
мудрость и справедливость означали одно и то же и составляли единое целое.
Которое потом разбилось вдребезги, на безобразные осколки, которые, как ни
старайся, вместе не собрать.
Где-то внизу, среди россыпи городских огней, взревела полицейская сирена.
Патрульная машина ведет преследование. Рев хищника, обуреваемого жаждой убий-
ства . Знающего, что жертва выдохлась.
Донна поежилась — ночной воздух заметно остыл. Пора идти. Да, это не золо-
той век, подумала она, тогда не было таких звуков в темноте. Может быть, и я
издаю такой же звериный вой, когда догоняю свою добычу? Догоняю и вонзаю в
нее когти...
Мужчина рядом с ней зашевелился и застонал. Она помогла ему встать на ноги
и осторожно, шаг за шагом, повела к автомобилю.
Сирена внезапно смолкла: дичь схвачена, работа выполнена. Моя тоже, подума-
ла Донна, прижимая к себе Боба Арктора.
На полу перед двумя служащими «Нового пути» скорчилось вонючее, запачканное
собственными испражнениями, трясущееся существо. Оно обвило себя руками,
словно пытаясь защититься от холода.
— Что это? — спросил один из служащих.
— Человек, — ответила Донна.
— Препарат «С»?
Она молча кивнула. И, склонившись над Робертом Арктором, мысленно сказала:
«Прощай».
Когда Донна выходила, его накрывали армейским одеялом.
Выехав на ближайшее шоссе, она влилась в сплошной поток машин. Среди валяв-
шихся на полу кассет нашла свою самую любимую — «Гобелен» Кэрол Кинг, —
втолкнула ее в магнитофон и достала из-под приборной доски держащийся там на
магнитах «рюгер». Потом села на хвост грузовику с кока-колой и под проникно-
венный голос Кэрол Кинг выпустила по бутылкам всю обойму.
Кэрол Кинг нежно пела о людях, заплывающих жиром и превращающихся в жаб;
ветровое стекло было в стеклянных крошках и подтеках кока-колы. Донне стало
легче.
Справедливость, честность, преданность... Как чужды они этому миру, подумала
Донна, врубила пятую передачу и, призвав на помощь небесные силы, на всем хо-
ду ударила своего извечного врага — грузовик с кока-колой. Тот продолжал
ехать как ни в чем не бывало. Маленькая машина Донны завертелась, что-то за-
скрежетало, и она оказалась на обочине, развернувшись в обратном направлении.
Из-под капота валил пар, фары погасли; из проезжавших машин высовывались
удивленные лица.
— Иди, иди сюда, ублюдок! — прошипела Донна, но грузовик уже уехал далеко
вперед, разве что слегка поцарапанный. Что ж, рано или поздно она должна была
начать свою маленькую персональную войну: нанести удар по символу всего того,
что давило на нее извне. Теперь мне повысят страховочные взносы, покачала го-
ловой Донна, выбираясь из разбитой машины. В этом мире за право поединка со
злом приходится платить звонкой монетой.
Рядом притормозил «мустанг» последней модели, и из окошка высунулся води-
тель .
— Подбросить, мисс?
Донна не ответила. Она молча шагала вдоль шоссе — крохотная фигурка, идущая
навстречу бесконечной череде огней.
Глава 14
В общей гостиной Самарканд-хауса, жилого комплекса «Нового пути» в Санта-
Ане, штат Калифорния, была пришпилена к стене вырезка из журнала:
Если впавший в детство пациент, проснувшись утром, зовет свою мать, напом-
ните ему, что она давно скончалась, что ему самому уже за восемьдесят, и он
живет в доме для престарелых, что год сейчас не 1913-й, а 1992-й, и что сле-
дует смотреть фактам в глаза и не...
Кто-то из постояльцев оторвал остаток статьи, напечатанной на глянцевой бу-
маге, — очевидно, из какого-то специального журнала для медсестер.
— Самое главное в твоей работе, — сказал Джордж, служащий «Нового пути», —
это туалеты. Полы, раковины и особенно унитазы. В здании три туалета, по од-
ному на каждом этаже.
— Да, — отозвался он.
— Вот швабра. А вот ведро. Ну, как, справишься? Сумеешь вымыть туалет? На-
чинай, я погляжу.
Он отнес ведро к раковине, влил мыло и пустил горячую воду. Он видел перед
собой только пену. Видел пену и слышал звон струи.
И еще едва доносящийся голос Джорджа:
— Не до краев, прольешь.
— Да.
— По-моему, ты не очень-то понимаешь, где находишься, — помолчав, сказал
Джордж.
— Я в «Новом пути».
Он опустил ведро на пол; вода выплеснулась. Он застыл, глядя на лужицу.
— Где в «Новом пути»?
— В Санта-Ане.
Джордж поднял ведро и показал, как ухватиться за ручку и нести, чтобы не
разлить.
— Думаю, позже мы переведем тебя на ферму. Хотя перво-наперво займешься
мытьем посуды.
— Я это могу. Посуду.
— Ты животных любишь?
— Да, конечно.
— А растения?
— Животных.
— Посмотрим. Сначала познакомимся с тобой поближе. Так или иначе, каждый
должен месяц мыть посуду. Все новенькие без исключения.
— Я бы хотел жить в деревне.
— У нас много всякой работы, посмотрим, что тебе подойдет... Здесь можно ку-
рить , хотя это и не приветствуется. Не то, что в «Синаноне» — там вообще не
разрешают.
— У меня больше нет сигарет.
— Мы выдаем пациентам по пачке в день.
— А деньги? — У него не было ни гроша.
— Бесплатно. У нас все бесплатно. Ты свое уже заплатил.
Джордж взял швабру, макнул ее в ведро, показал, как мыть.
— Почему у меня нет денег?
— И нет бумажника, и нет фамилии. Потом вернут, все вернут. Это мы и хотим
сделать — вернуть тебе то, что было отнято.
— Ботинки жмут.
— Мы живем на пожертвования. Потом подберем. А ты в ящике с обувью хорошо
смотрел?
— Да.
— Ну ладно, вот туалет первого этажа, начинай с него. Когда закончишь — по-
настоящему закончишь и блеск наведешь, — бери ведро и швабру и поднимайся. Я
покажу тебе туалет на втором этаже, а потом и на третьем. Но чтобы подняться
на третий этаж, надо получить разрешение — там живут девушки, так что сперва
спроси кого-нибудь из персонала. — Джордж хлопнул его по спине. — Ну, как,
Брюс, понял?
— Да, — ответил Брюс, надраивая пол.
— Молодец. Будешь мыть туалеты, пока не выучишься. Главное, не какая у тебя
работа, а то, как ты ее выполняешь. Своей работой надо гордиться.
— Я когда-нибудь стану таким, каким был прежде? — спросил Брюс.
— То, каким ты был, привело тебя сюда. Если снова станешь таким же, рано
или поздно опять очутишься здесь. А может, в следующий раз и не дотянешь. Те-
бе и так повезло, еле-еле добрался.
— Меня кто-то привез.
— Тебе повезло. В следующий раз могут не привезти — бросят где-нибудь на
обочине и пошлют к чертовой матери...
Брюс слушал и продолжал мыть пол.
— Лучше начинай с раковины, потом ванну и унитаз. Пол в последнюю очередь.
— Хорошо, — сказал он и отставил швабру в сторону.
— Тут нужна сноровка. Ничего, освоишься.
Брюс сосредоточил внимание на трещинах в эмали раковины: втирал туда поро-
шок и пускал горячую воду. Над раковиной поднимался пар, и он застыл в беле-
сом облаке, глубоко втягивая теплый воздух. Ему нравился аромат.
После завтрака он сидел в гостиной и пил кофе, прислушиваясь к разговорам
вокруг. Здесь все друг друга знали.
— Если бы ты оказался внутри мертвого тела, то видеть бы мог, а вот сфоку-
сировать взгляд не мог бы, потому что тут нужны глазные мышцы. Ни голову по-
вернуть, ни глазные яблоки; пришлось бы ждать, пока кто-нибудь пройдет мимо.
Просто жуть — лежать неподвижно и ждать.
Брюс смотрел, не отрываясь на пар, поднимавшийся из кружки. Какой приятный
аромат...
— Эй! — Чья-то рука дотронулась до его плеча. Женская рука. — Эй!
Он на мгновение поднял глаза.
— Как дела? — спросила женщина.
— Нормально.
— Как ты себя чувствуешь, получше?
— Нормально.
Он смотрел в кружку с кофе и вдыхал пар, не обращая внимания ни на женщину,
ни на остальных. Смотрел только вниз, на кофе. Ароматное тепло. Как хорошо...
— Ты увидишь кого-нибудь, только если он пройдет прямо перед тобой. А если
что-то, например лист, упадет тебе на глаза, то ты будешь видеть его вечно.
Только лист, и ничего больше.
— Нормально, — повторил Брюс, поднимая кружку обеими руками.
— Представь, что ты в состоянии лишь ощущать. Просто смотришь, но не жи-
вешь . Человек может умереть — и при этом продолжать существовать. Иногда из
глаз человека выглядывает то, что умерло еще в детстве; умерло, но по-
прежнему смотрит оттуда. И это смотрит не пустое тело, а то, что внутри него,
— оно умерло, но продолжает смотреть, смотреть, смотреть и не может остано-
виться .
— Это и есть смерть, — сказал еще кто-то, — когда смотришь на то, что перед
глазами, и не можешь отвести взгляд. Какая бы чертовщина там ни была, ты не в
силах ничего изменить, посмотреть в сторону. Остается только смириться и при-
нять то, что есть.
— А если вечно пялиться на банку пива? Не так уж плохо, а?
Перед обедом был дискуссионный час. Ведущие из числа персонала писали на
доске тезисы, а затем начиналось общее обсуждение.
Брюс сидел, сложив руки на коленях, смотрел в пол и слушал, как закипает
большой электрический кофейник. «Фу-фууу!» — завывал кофейник, и от этого
звука делалось страшно.
«Живое и неживое обмениваются свойствами».
Рассевшись на складных стульях, аудитория принялась обмениваться мнениями.
Эта тема, похоже, обсуждалась далеко не в первый раз; видимо, в «Новом пути»
так было принято: думать снова и снова об одном и том же.
«Внутренняя энергия неживого больше, чем внутренняя энергия живого».
Страшное «фу-фууу» звучало все громче, но Брюс не двигался и не поднимал
глаз, просто сидел и слушал. Из-за кофейника было трудно понять, о чем гово-
рят вокруг.
— Мы накапливаем внутри себя слишком много энергии неживого и обмениваемся...
Черт побери, кто-нибудь разберется с этим кофейником?!
Наступила пауза. Брюс сидел, глядя в пол, и ждал.
— Я напишу еще раз: «Мы отдаем слишком много жизненной силы в обмен на ок-
ружающую реальность».
Обсуждение продолжилось. Кофейник умолк, и все заторопились к нему с круж-
ками наготове.
— Хочешь кофе? — Голос сзади, рука на плече. — Нед? Брюс?.. Как его зовут —
Брюс?
— Да.
Он встал и пошел вслед за всеми, ожидая своей очереди. Налив в кофе сливки
и положив сахар, вернулся на место, сел на тот же самый стул и стал слушать
дальше. Теплый кофе и ароматный пар. Хорошо...
«Активность не обязательно означает жизнь. Квазары активны, а медитирующий
монах вовсе не мертв».
Брюс сидел, глядя в пустую фарфоровую кружку. Перевернув ее, он нашел фаб-
ричную марку. Сделана в Детройте.
«Движение по круговой орбите — абсолютное проявление неживого».
— Время, — произнес чей-то голос.
Он знал ответ: время идет по кругу.
— Верно, пора заканчивать. Кто-нибудь может кратко сформулировать вывод?
— Закон выживания — надо двигаться по пути наименьшего сопротивления. Сле-
довать , а не направлять.
— Да, ведомые переживают ведущих, — прозвучал другой голос, постарше. —
Вспомните Христа. Именно так, а не наоборот.
— Пора обедать — в пять пятьдесят Рик перестанет пускать.
— Поговорим об этом позже, во время Игры.
Скрип стульев... Брюс тоже поднялся, поставил свою кружку на поднос к осталь-
ным и присоединился к толпе выходящих. От них пахло одеждой. Приятный запах,
только холодный...
Кажется, они хотят сказать, что пассивная жизнь — это хорошо. Но пассивной
жизни просто не бывает. Здесь противоречие.
Что такое жизнь, в чем ее смысл?
Прибыла огромная охапка пожертвованной одежды. Кое-кто уже примерял рубаш-
ки.
— Эй, Майк, да ты клевый чувак!
Посреди гостиной стоял плечистый коротышка с кудрявыми волосами и, нахмурив
брови, теребил ремень.
— Как им пользоваться? Почему не регулируется? — У него был широкий ремень
без пряжки, и он не знал, как застопорить кольца. — Должно быть, подсунули
негодный!
Брюс подошел к нему и затянул ремень в кольцах.
— Спасибо, — сказал Майк и, задумчиво выпятив губы, перебрал несколько ру-
башек. — Когда буду жениться, на свадьбу надену такую.
— Ничего, — кивнул Брюс.
Майк приложил к себе рубашку, отделанную на груди кружевами, и повернулся к
двум женщинам, стоявшим у стены.
— Сегодня закачу вечеринку!
Женщины улыбнулись.
— Ну, все! Обед! — громко объявил дежурный и подмигнул Брюсу. — Как жизнь,
приятель?
— Нормально.
— Что дрожишь, замерз?
— Да, — кивнул он, — отходняк. Мне бы аспиринчику или...
— Никаких таблеток, — отрезал дежурный. — Иди-ка лучше поешь. Как аппетит?
— Лучше... — Он покорно поплелся в столовую. Люди за столиками смотрели на
него с улыбкой.
После ужина Брюс уселся на лестнице между первым и вторым этажами. Сидел на
ступеньках, сгорбившись и обхватив себя руками, и смотрел, смотрел... Вниз, на
темный ковер под ногами.
— Брюс!
Он не шелохнулся.
— Брюс!
Его потрясли.
Он молчал.
— Брюс, идем в гостиную. Ты должен сейчас находиться у себя в комнате, в
постели, но нам надо поговорить.
Майк спустился с ним по лестнице в пустую гостиную и прикрыл дверь. Потом
сел в глубокое кресло и указал на стул напротив. Майк выглядел усталым, его
маленькие глазки припухли и покраснели.
— Я встал сегодня в пять тридцать. — Стук. Дверь приотворилась. — Не входи-
те, мы разговариваем! Слышите?! — во весь голос закричал он.
Приглушенное бормотание. Дверь закрылась.
— Тебе надо менять рубашку несколько раз в день, — сказал Майк. — Сильно
потеешь.
Брюс кивнул.
— Ты из каких краев?
Он промолчал.
— Когда тебе снова будет так плохо, приходи ко мне. Я прошел через это года
полтора назад. Знаешь Эдди? Такой высокий, тощий, на всех наезжает. Он меня
восемь дней катал на машине, не оставлял одного. — Майк внезапно заорал: — Вы
уберетесь отсюда?! Мы разговариваем! Идите смотреть телевизор! — Он перевел
взгляд на Брюса и понизил голос. — Вот, приходится... Никогда не оставят в по-
кое.
— Понимаю, — сказал Брюс.
— Брюс, не вздумай покончить с собой.
— Да, сэр, — ответил Брюс, глядя в пол.
— Не называй меня «сэр»!
Он кивнул.
— Ты служил в армии, Брюс? Там все и началось? Ты в армии подсел?
— Нет.
— Ты закидывался или кололся?
Молчание.
— «Сэр»... — усмехнулся Майк. — А я десять лет срок мотал. Однажды восемь
парней с нашего этажа в один день перерезали себе глотки. Мы спали ногами в
параше, такие маленькие были камеры. Ты никогда не сидел в тюрьме?
— Нет, — ответил Брюс.
— С другой стороны, я видел восьмидесятилетних заключенных, которые радова-
лись жизни и мечтали протянуть подольше. Я сел на иглу еще совсем сосунком. Я
кололся и кололся и, наконец, загремел на десять лет. Я так много кололся —
героин с препаратом «С», — что ничего другого никогда не делал. И ничего
больше не видел. Теперь я сошел с иглы и очутился здесь. Знаешь, что я заме-
тил? Самое главное, что изменилось? Я начал видеть. И слышать. Например, жур-
чание ручьев, когда нас пускают в лес, — тебе потом покажут наши фермы и все
прочее. Я иду по улице, просто по улице, и вижу собак и кошек, даже малень-
ких . Никогда их раньше не замечал. Я видел только иглу. — Майк посмотрел на
часы. — Так что я понимаю, каково тебе, — добавил он.
— Тяжело...
— Всем здесь было тяжело. Многие, конечно, потом опять начинают. Если бы ты
сейчас ушел, тоже бы начал, сам знаешь.
Брюс кивнул.
— Здесь каждому есть что вспомнить. Я не говорю, что тебе легче, чем дру-
гим . Эдди — другое дело: он бы сказал, что все твои проблемы — лажа. Ничьи
проблемы не лажа. Я вижу, как тебе плохо, я сам прошел через это. Теперь мне
гораздо лучше. Ты с кем живешь?
— С Джоном.
— Значит, твоя комната на первом этаже?
— Мне нравится.
— Да, там тепло. Ты, должно быть, все время мерзнешь. Я тоже постоянно дро-
жал и делал в штаны. Но знаешь, тебе не придется переживать это заново, если
ты останешься в «Новом пути».
— Надолго?
— На всю жизнь.
Брюс поднял глаза.
— Я, к примеру, выйти отсюда не могу, — сказал Майк. — Сразу сяду на иглу.
Слишком много дружков осталось. Опять на улицу — толкать и колоться, — за-
гремлю в тюрягу лет на двадцать. А знаешь, мне тридцать пять, и я женюсь в
первый раз. Ты видел Лору, мою невесту?
— Мм...
— Ну, такая хорошенькая, пухленькая?
Брюс кивнул.
— Она боится выходить отсюда. С ней всегда должен кто-то быть. Мы собираем-
ся в зоопарк... На следующей неделе мы ведем сына директора-распорядителя в
зоопарк Сан-Диего. Лора перепугана до смерти... Даже больше, чем я.
Молчание.
— Ты слышал, что я сказал? — спросил Майк. — Я боюсь идти в зоопарк.
— Да.
— Не припомню, чтобы я был в зоопарке... Что там делают? Ты не знаешь?
— Смотрят в разные клетки и вольеры...
— А какие там животные?
— Разные...
— Дикие небось. И всякие редкие.
— В зоопарке Сан-Диего почти все есть.
— А у них есть эти... как их... медведи коала?
— Есть, — кивнул Брюс.
— Я раз видел рекламу по телику, с коалами. Там они прыгают. И вообще, пря-
мо как игрушечные.
— Я слышал, что первых плюшевых медведей — тех, в которых дети играют, —
делали с коал, еще в двадцатых.
— Не может быть. Их ведь, наверное, встретишь только в Австралии? Или они
вообще вымерли?
— В Австралии их навалом, — сообщил Брюс. — Но вывозить запрещено — ни жи-
вых , ни шкуры. Их охраняют.
— Я никогда нигде не был, — сказал Майк. — Только возил героин из Мексики в
Ванкувер. Всегда одним и тем же путем. Жал на всю катушку, лишь бы поскорее
покончить с делом. Здесь мне доверили машину. Если тебе станет невмоготу, я
тебя покатаю. Покатаемся и поговорим. Я не против. Эдди и другие — их уже нет
здесь — делали это для меня. Я не против.
— Спасибо.
— А теперь пора в койку. Тебе завтра на кухню? Ну, там — столы накрывать и
все такое?
— Нет.
— Тогда мы встаем в одно и то же время. Увидимся за завтраком. Сядешь ко
мне за стол, и я познакомлю тебя с Лорой.
— Когда вы женитесь?
— Через полтора месяца. Обязательно приходи. Хотя, конечно, свадьба будет
здесь, так что все и так придут.
— Спасибо.
Игра... Они орали на него что есть мочи. Вопящие рты со всех сторон. Брюс
молча сидел и смотрел в пол.
— Знаете, кто он? Гомик! — Визгливый голосок заставил его поднять глаза.
Прищурившись, он разглядел среди искаженных ненавистью лиц девушку-китаянку.
— Гомик сраный, вот кто ты! — еще пронзительней взвизгнула она.
— Поцелуй себя в задницу! Поцелуй себя в задницу! — завывали остальные,
усевшись в круг на ковре.
Директор-распорядитель, в красных шароварах и розовых туфлях, радостно ух-
мылялся. Крошечные глазки-щелочки весело блестели. Он раскачивался взад-
вперед, подобрав под себя длинные тощие ноги.
— Покажи нам свою задницу!!! Вонючую задницу!
Это особенно развеселило директора-распорядителя, и он начал подпевать об-
щему хору скрипучим и монотонным голосом. Казалось, скрипели дверные петли.
— Гомик сраный! — уже почти в истерике завывала китаянка. Ее соседка наду-
вала щеки и хлопала по ним ладонями, издавая неприличные звуки.
— Иди, иди сюда! — Китаянка развернулась и выставила зад, тыча в него паль-
цем. — Поцелуй меня в задницу, ты ведь любишь целоваться! Иди сюда, целуй,
гомик!!!
— Поцелуй нас, поцелуй! — надрывалась толпа.
Брюс закрыл глаза, но легче не стало.
— Ты гомик! — медленно и монотонно произнес директор-распорядитель. — Дерь-
мо ! Падаль! Срань вонючая! Ты...
Звуки в ушах смешивались, превращаясь в нечленораздельный звериный вой.
Один раз, когда общий хор на мгновение стих, он различил голос Майка и открыл
глаза. Майк сидел с багровым лицом, затянутый в тесный галстук, и бесстрастно
смотрел вперед, на него.
— Брюс, зачем ты здесь? Что ты хочешь нам сказать? Ты можешь что-нибудь
рассказать о себе?
— Гомик!!! — заорал кто-то, подпрыгивая на месте, как резиновый мяч. — Кто
ты, гомик?
— Расскажи нам! — заверещала, вскочив, китаянка. — Ты, грязный гомик, па-
даль, жополиз, дерьмо!!!
— Я... — выдавил он. — Я...
— Ты вонючее дерьмо, — сказал директор-распорядитель — Слабак. Блевотина.
Мразь.
Он больше ничего не мог разобрать, все смешалось. Казалось, он перестал по-
нимать смысл слов и вдобавок забыл сами слова. Только продолжал чувствовать
присутствие Майка, его пристальный взгляд. Он ничего больше не знал, не пом-
нил, не чувствовал. Плохо... Скорей бы уйти. В душе росла пустота. И это немно-
го утешало.
— Вот, гляди, — сказала женщина, открывая дверь. — Здесь мы и держим этих
чудищ.
Брюс вздрогнул: шум за дверью стоял ужасающий. В комнате играла целая орава
маленьких детей.
Вечером он заметил, как двое мужчин постарше, сидя в уголке за ширмой рядом
с кухней, угощали детей молоком и печеньем. Повар Рик выдал им все это от-
дельно, пока остальные ждали ужина в столовой.
— Любишь детей? — улыбнулась китаянка, которая несла в столовую поднос с
тарелками.
— Да.
— Можешь поесть вместе с ними.
— Правда?
— А кормить их тебе позволят позже, через месяц-другой... — Она замялась. —
Когда мы будем уверены, что ты их не ударишь. У нас правило: детей никогда не
бить, что бы они ни вытворяли.
— Хорошо.
Глядя, как дети едят, он вновь ощутил тепло жизни. Один малыш забрался к
нему на колени. Они ели из одной тарелки, и им было одинаково тепло. Китаянка
улыбнулась и ушла с тарелками в столовую.
Он долго сидел там, держа на руках то одного ребенка, то другого. Пожилые
мужчины принялись ссориться, поучая друг друга, как правильно кормить детей.
Пол и столы были усеяны пятнами, крошками и недоеденными кусками. Осознав
вдруг, что дети уже наелись и переходят в игровую комнату смотреть мультики,
Брюс встал и, неловко наклонившись, стал подбирать мусор.
— Брось, это моя работа! — прикрикнул на него один из мужчин.
— Ладно. — Он разогнул спину, ударившись головой об угол стола, и с недо-
умением посмотрел на куски пищи в своих руках.
— Иди лучше помоги прибраться в столовой, — велел другой мужчина, слегка
заикаясь.
— Чтобы здесь находиться, нужно разрешение, — сказал кто-то с кухни, прохо-
дя мимо. — Это для стариков, которые больше ничего не могут — только сидеть с
детишками.
Брюс кивнул и продолжал стоять, озадаченный.
Из всех детей в комнате осталась только одна девочка. Она смотрела на него,
широко раскрыв глаза.
— Тебя как зовут?
Он молчал.
— Я спрашиваю, как тебя зовут?
Брюс осторожно дотронулся до отбивной на тарелке; она уже остыла. Но он
знал, что рядом ребенок, и чувствовал тепло. Нежным мимолетным движением он
коснулся волос девочки.
— Меня зовут Тельма. Ты забыл свое имя? — Она похлопала его по плечу. —
Чтобы не забывать имя, напиши его на ладони. Показать как?
— А не смоется? Вымою руки или пойду в душ — и все...
— Действительно... — согласилась девочка. — Что ж, можно написать на стене
над головой, в комнате, где ты спишь. Только высоко, чтобы не смылось. А по-
том, когда захочешь вспомнить...
— Тельма, — пробормотал он.
— Нет, это мое имя. У тебя должно быть другое. Это имя для девочки.
— Надо подумать.
— Если мы еще увидимся, я дам тебе имя, — предложила Тельма. — Хочешь?
— Разве ты не здесь живешь?
— Здесь, но моя мама уедет. Заберет нас — меня и брата — и уедет.
Он кивнул. Тепло стало рассасываться.
Неожиданно, без всякой видимой причины, девочка убежала.
Я должен найти имя, подумал он, это мой долг. Он стал рассматривать свою
ладонь и тут же удивился: зачем — ведь там ничего нет. Брюс, вот мое имя. Хо-
тя должны быть и лучшие имена...
Тепло исчезло. Он чувствовал себя одиноким и потерянным. И очень несчаст-
ным.
Майка Уэстуэя послали на грузовике за полусгнившими овощами, пожертвованны-
ми «Новому пути» одним из местных супермаркетов. Убедившись, что за ним не
следят, Майк позвонил из автомата и встретился в «Макдоналдсе» с Донной Хо-
торн.
Сели на улице, поставив на деревянный столик гамбургеры и кока-колу.
— Ну, как, удалось нам его внедрить? — спросила Донна.
— Да, — ответил Уэстуэй. А сам подумал: парень слишком выгорел, какая от
него польза. Вряд ли мы так чего-то достигнем. И все же иного пути не было.
— Он не вызывает подозрений?
— Нет.
— Вы убеждены, что препарат выращивают?
— Я — нет. Убеждены они. — Те, кто нам платит, подумал он.
— Что означает название?
— Mors ontologica? Смерть духа. Личности. Сути.
— Он сможет выполнить свою задачу?
Уэстуэй мрачно молчал, ковыряясь в еде и поглядывая на прохожих.
— Не знаете?
— Этого никто не может знать. Память... Несколько сгоревших клеток вдруг ожи-
вают . Словно рефлекс. От него требуется не выполнять — реагировать. Нам оста-
ется лишь надеяться. Верь, надейся и раздавай свои денежки, как учил апостол
Павел.
Майк смотрел на хорошенькую темноволосую девушку напротив, видел ее умный
взгляд и начинал понимать, почему Боб Арктор... нет, не Арктор, Брюс; меньше
знаешь — лучше спишь... почему Брюс только о ней и думал. Когда еще был спосо-
бен думать.
— Он отлично натренирован, — произнесла Донна сдавленным голосом. И вдруг
на ее красивое лицо легло выражение скорби, заостряя все черты. — Господи,
какой ценой... — пробормотала она и сделала глоток из стакана.
А иначе никак нельзя, думал Майк. К ним не пробьешься. Я не смог, сколько
ни пытался. Туда допускают только абсолютно выгоревших, безвредных, от кото-
рых осталась одна оболочка. Вроде Брюса. Он должен был стать таким... каким
стал.
— Правительство требует слишком многого, — сказала Донна.
— Этого требует жизнь.
Ее глаза сузились и засверкали.
— В данном случае — федеральное правительство. Конкретно. От вас, от меня.
От... — она запнулась, — от того, кто был моим другом.
— Он до сих пор ваш друг.
— То, что от него осталось, — горько промолвила Донна.
То, что от него осталось, думал Майк Уэстуэй, все еще ищет тебя. По-своему.
Им тоже овладела тоска. Но день по-прежнему был хорош, люди веселы, воздух
свеж. И впереди маячила возможность успеха — это придавало сил. Они многого
достигли. Цель близка.
— Наверно, нет ничего ужаснее, чем жертвовать живым существом, которое даже
не догадывается. Если бы оно понимало и добровольно вызвалось... — Донна взмах-
нула рукой. — Он не знает. И не знал. Он не вызывался...
— Вызывался. Это его работа.
— Он и понятия не имел. И не имеет, потому что сейчас у него нет вообще ни-
каких понятий. Вы знаете не хуже меня. И не будет. Никогда-никогда, сколько
бы он ни прожил. Останутся одни рефлексы. Это произошло не случайно, все было
запланировано. Мы на это рассчитывали. На мне тяжелейшая вина. Я чувствую на
плечах... труп — труп Боба Арктора. Хотя формально он жив.
Она повысила голос. Люди за соседними столиками отвлеклись от своих гамбур-
геров и с любопытством смотрели в их сторону. Майк Уэстуэй сделал знак, и
Донна с видимым усилием взяла себя в руки.
После некоторой паузы Уэстуэй произнес:
— Нельзя допросить того, у кого нет разума.
— Мне пора на работу. — Донна взглянула на часы. — Я сообщу руководству,
что, по вашему мнению, все в порядке.
— Надо дождаться зимы, — сказал Уэстуэй.
— Зимы?
— Да, не раньше. Не спрашивайте почему. Уж так есть: либо получится зимой,
либо не получится вовсе.
— Подходящее время. Когда все мертво и занесено снегом.
Он рассмеялся:
— В Калифорнии-то?
— Зима духа. Mors ontologica. Когда дух мертв.
— Только спит. — Уэстуэй поднялся, положил руку ей на плечо.
В голову почему-то пришла мысль, что эту кожаную куртку ей, возможно, пода-
рил Боб Арктор. В былые счастливые дни.
— Мы слишком долго над этим работали, — сказала Донна тихим, ровным голо-
сом. — Скорей бы все кончилось, не хочу больше. Иногда по ночам, когда не
идет сон, мне кажется, что мы холоднее их. Холоднее врага.
— Я не чувствую в вас холода, — возразил Майк. — Я вижу перед собой самого
теплого человека из всех, кого знаю.
— Я тепла снаружи: это видимость. Теплые глаза, теплое лицо, теплая фальши-
вая улыбка, черт бы ее побрал! Внутри я холодна и полна лжи. Я не такая, ка-
кой кажусь; я отвратительна. — Она говорила спокойно, с улыбкой. Глаза с рас-
ширенными зрачками смотрели ласково и невинно. — Я давно поняла, что другого
выхода нет, и заставила себя стать такой. Это не так уж плохо — легче добить-
ся своей цели. Все люди такие, в большей или меньшей степени. Что действи-
тельно кошмарно — это ложь. Я лгала своему другу, лгала Бобу Арктору постоян-
но . Однажды я сказала ему, чтобы он мне не верил, — и, конечно, он решил, что
я шучу. Но я его предупреждала. Он сам виноват.
— Вы сделали все, что могли. И даже более того.
Донна встала из-за стола.
— Ладно, стало быть, пока мне докладывать почти нечего. Только ваши завере-
ния, что его приняли. И что им не удалось ничего вытянуть из него с помощью
своих... — ее передернуло, — своих отвратительных игр.
— Совершенно верно.
— До встречи. — Она помолчала. — Правительство вряд ли захочет ждать до зи-
мы.
— Придется, — сказал Уэстуэй. — Ждите и молитесь.
— Все это чушь, — бросила Донна. — Я имею в виду молитвы. Когда-то давно я
молилась, и много, — а теперь бросила. Если бы молитвы действовали, нам не
пришлось бы заниматься тем, чем мы занимаемся. Еще одна фальшивая легенда.
— Как и многое другое, — сказал он, делая несколько шагов ей вслед, стара-
ясь хоть немного продлить эту встречу. — Я не думаю, что вы погубили своего
друга. Вы сами жертва в той же степени. Только по вашему виду не скажешь. Так
или иначе, выбора не было...
— Я отправлюсь в ад. — Донна вдруг улыбнулась — задорной мальчишеской улыб-
кой. — Я ведь католичка.
И пропала в толпе.
Уэстуэй растерянно заморгал. Должно быть, так чувствовал себя Боб Арктор.
Только что она была тут, живая, осязаемая; и вдруг — ничего. Исчезла. Раство-
рилась среди обычных людей, которые всегда были и всегда будут. Она из тех,
что приходят и уходят по своей воле. И ничто, никто не может удержаться с ней
рядом.
Я пытаюсь поймать ветер. Как пытался Арктор. Агенты по борьбе с наркоманией
неуловимы. Тени, исчезающие, когда того требует работа. Словно их и не было.
Арктор любил призрак, голограмму, сквозь которую нормальный человек пройдет,
не оставив и следа. Даже не прикоснувшись к ней — к самой женщине.
Функция Бога, думал Майк, превращать зло в добро. И если Он присутствует
здесь, то именно этим сейчас и занимается, хотя наши глаза не могут этого
увидеть. Все происходит там, глубоко под слоем реальности, и проявится лишь
потом. Станет видно, может быть, лишь нашим потомкам, которые ничего не будут
знать об ужасной войне, которую мы ведем, и о наших потерях, разве что найдут
несколько строк мелким шрифтом в какой-нибудь исторической ссылке. И списка
павших там не будет.
Им нужно поставить памятник. Всем тем, кто погиб. И тем, кто — еще хуже —
не погиб. Остался жить после смерти. Как Боб Арктор.
Донна, наверное, работает по индивидуальному контракту, не в штате. Такие
наиболее неуловимы, они пропадают навсегда. Новые имена, новые адреса. Ты
спрашиваешь себя: где она теперь? А ответ...
Нигде. Потому что ее и не было.
Вернувшись за столик, Майк Уэстуэй доел гамбургер и допил кока-колу. В «Но-
вом пути» кормили неважно. Так что даже если этот гамбургер сделан из перемо-
лотых коровьих задниц...
Вернуть Донну, найти, привязать к себе... Я повторяю ошибку Арктора. Возмож-
но, ему даже лучше теперь, когда он не осознает своей трагедии. Любить атмо-
сферное явление — вот настоящее горе. Сама безнадежность. Ее имя не значится
ни в одной книге, ни в одном списке; ни имя, ни место жительства. Такие де-
вушки есть, и именно их мы любим больше всего — тех, кого любить безнадежно,
потому что они ускользают в тот самый миг, когда кажутся совсем рядом.
Возможно, мы спасли его от худшей участи, подумал Уэстуэй. И при этом пус-
тили то, что осталось, на благое дело.
Если повезет.
— Ты знаешь какие-нибудь сказки? — спросила Тельма.
— Я знаю историю про волка, — сказал Брюс.
— Про волка и бабушку?
— Нет. Про черно-белого волка, который жил на дереве и прыгал на фермерскую
скотинку. Однажды фермер собрал всех своих сыновей и всех друзей своих сыно-
вей, и они встали вокруг дерева. Наконец волк спрыгнул на какую-то паршивую
бурую тварь, и тогда они все разом его пристрелили.
— Ну, — расстроилась Тельма, — это грустная история.
— Но шкуру сохранили, — продолжал Брюс. — Черно-белого волка освежевали и
выставили его прекрасную шкуру на всеобщее обозрение, чтобы все могли поди-
виться, какой он был большой и сильный. И последующие поколения много говори-
ли о нем, слагали легенды о его величии и отваге и оплакивали его кончину.
— Зачем же тогда стреляли?
— У них не было другого выхода. С волками всегда так поступают.
— Ты знаешь еще истории? Повеселее?
— Нет, — ответил Брюс. — Это единственная история, которую я знаю.
Он замолчал, вспоминая, как волк радовался своим изящным прыжкам, какое
удовольствие испытывал от своего мощного тела. И теперь этого тела нет, с ним
покончили. Ради каких-то жалких тварей, все равно предназначенных на съеде-
ние . Ради неизящных, которые никогда не прыгали, никогда не гордились своей
статью. С другой стороны, они остались жить, а черно-белый волк не жаловался.
Он ничего не сказал, даже когда в него стреляли; его зубы не отпускали горло
добычи. Он погиб впустую. Но иначе не мог. Это был его образ жизни. Единст-
венный , который он знал. И его убили.
— Я — волк! — закричала Тельма, неуклюже подпрыгивая. — Уф! Уф!
Она ковыляла, прихрамывая, и пыталась хватать разные предметы, однако про-
махивалась. В этом было что-то странное. Вдруг его охватил ужас.
Брюс наконец понял, что ребенок — калека.
— Ты не волк, — сказал он.
Какое несчастье, как это могло получиться? Такого...
Ich ungltickselfger Atlas! Eine Welt,
Die ganze Welt der Schmerzen muss ich tragen,
Ich trage Unertragliches, und brechen
Will mir das Herz im Leibe15.
...просто не должно быть.
Брюс повернулся и ушел.
А Тельма продолжала играть. Подпрыгнула, споткнулась и упала.
Интересно, что она почувствовала, подумал он.
Брюс плелся по коридору и искал пылесос. Ему велели тщательно пропылесосить
помещение для игр, где дети проводили почти все дни.
— По коридору направо, — сказал ему Эрл.
Подойдя к закрытой двери, Брюс сначала постучал, а потом толкнул ее. Дверь
открылась. Посреди комнаты старая женщина пыталась жонглировать тремя резино-
выми мячиками. Она повернула голову, встряхнула растрепанными седыми волосами
и улыбнулась. На ногах у нее были гольфы и теннисные туфли. Брюс увидел за-
павшие глаза и пустой беззубый рот.
— Ты так можешь? — прошепелявила она и подбросила все три мячика. Они упали
ей на голову, на плечи, запрыгали по полу. Старуха засмеялась, брызгая слю-
ной.
— Не могу , — сказал он. Им овладел страх.
— А я могу. — Старуха подняла мячики иссохшими руками и прищурилась, стара-
ясь все сделать правильно.
В дверь вошел человек и остановился за спиной у Брюса.
— Давно она тренируется? — спросил Брюс.
— Порядком. — И к старухе: — Попробуй еще. Почти получается.
Старуха хихикала, снова и снова высоко подбрасывала мячики, втягивала голо-
ву, когда они сыпались на нее, и, скрипя всеми суставами, подбирала их с по-
ла.
Человек рядом с Брюсом презрительно фыркнул.
— Тебе надо вымыться, Донна. Ты грязная.
Брюс потрясенно сказал:
— Это не Донна. Разве это Донна?
Он пристально взглянул на старуху и почувствовал смятение: в ее глазах
стояли слезы, но она смеялась. Все еще смеясь, она швырнула в него все три
мячика. Он еле уклонился.
— Нет, Донна, нельзя, — сказал человек рядом с Брюсом. — Не кидай в людей.
Делай так, как учили по телевизору: бросай, лови и снова бросай. Только сна-
чала иди помойся, от тебя несет.
— Ладно, — согласилась старуха и засеменила прочь, сгорбленная и маленькая,
оставив мячи на полу.
Я Атлас злополучный!
Целый мир,
Весь мир страданий на плече подъемлю,
Подъемлю непосильное, и сердце
В груди готово разорваться.
Г. Гейне, перевод с немецкого Александра Блока.
Человек рядом с Брюсом закрыл дверь, и они пошли по коридору.
— Давно она здесь?
— До меня, а я уже шесть месяцев. Хотя жонглировать она учится всего неде-
лю.
— Тогда это не Донна, — твердо заявил Брюс. — Потому что я приехал неделю
назад.
Донна привезла меня сюда в своей малолитражке, вспомнил он. Точно, мы еще
останавливались, чтобы залить радиатор. Как она была хороша — темноволосая,
темноглазая, тихая и собранная. В аккуратной кожаной куртке, в сапогах и с
сумочкой, на которой висела кроличья лапка.
Он пошел дальше, продолжая искать пылесос. На душе стало гораздо легче. Но
он не понимал почему.
Глава 15
— Можно я буду работать с животными? — попросил Брюс.
— Нет, — сказал Майк. — Пожалуй, я направлю тебя на одну из наших ферм. По-
будешь месячишко на полевых работах, посмотрим, как справишься. На свежем
воздухе, поближе к земле. Люди слишком стремятся к небу со своими ракетами и
спутниками. А думать надо о...
— Я хочу быть с кем-то живым.
— Земля живая, — наставительно произнес Майк. — Она еще не умерла. Ты полу-
чишь от нее много пользы. Тебе приходилось иметь дело с сельским хозяйством?
Ну, там, семена, обработка почвы, сбор урожая?
— Я работал в офисе.
— Теперь будешь работать в поле. Если твой разум вернется, то только есте-
ственным путем. Нельзя заставить себя снова думать. Можно лишь упорно тру-
диться, например, сажать семена, или пахать землю на наших овощных плантациях
— так мы их называем, — или бороться с вредителями. Мы опрыскиваем насекомых
из пульверизатора. Однако с химическими веществами надо быть крайне осторож-
ным, иначе они принесут больше вреда, чем пользы. Они могут отравить не толь-
ко урожай и почву, но и человека, который пустит их в дело. Проесть его голо-
ву. Как проело твою.
— Хорошо, — сказал Брюс.
Тебя опрыскали, думал Майк, и ты стал букашкой. Опрыскай букашку ядом, и та
сдохнет; опрыскай человека, обработай его мозги, и он превратится в насеко-
мое , будет вечно трещать и щелкать, двигаясь по замкнутому кругу. Повинуясь
рефлексу, как муравей. Исполняя последнюю команду.
Ничто новое не войдет в этот мозг, думал Майк, потому что мозга нет. Как и
человека, который был в нем заключен. Которого я никогда не знал.
Но может быть, если привести его на нужное место, если наклонить ему голо-
ву, он еще сумеет посмотреть вниз и увидеть землю. Сумеет осознать, что это
земля. И поместить в нее нечто отличное от себя, нечто живое. Чтобы оно рос-
ло . Ибо это то, чего сам он делать уже не может, — расти. Может лишь умирать
дальше, пока не умрет совсем и мы не похороним его. У мертвого нет будущего,
только прошлое. А у Арктора — Фреда — Брюса нет даже прошлого — лишь только
то, что перед глазами.
Майк вел грузовик, рядом на сиденье подпрыгивало обмякшее тело. Оживленное
машиной.
Уж не «Новый...» ли «...путь» сделал это с ним, думал Майк: породил препарат,
который в конечном итоге вернул его к себе?
Директор-распорядитель сказал, что их цели будут открыты ему, когда он про-
работает в штате еще два года.
Эти цели, сказал директор-распорядитель, не имеют ничего общего с лечением
наркомании.
На какие средства существует «Новый путь» — известно одному лишь Дональду,
директору-распорядителю. Но недостатка в средствах не было никогда. Что ж,
думал Майк, производство и распространение препарата «С» должно приносить ог-
ромные деньги. Достаточные, чтобы «Новый путь» рос и процветал. И чтобы оста-
валось еще на ряд других целей.
Смотря для чего предназначен «Новый путь».
Майк знал — федеральное правительство знало — то, чего не знала ни общест-
венность , ни даже полиция. Препарат «С» не синтезировали в лаборатории; как и
героин, препарат «С» был органического происхождения.
Так что, скорее всего, «Новый путь» рос и процветал в буквальном смысле.
Живые, думал Майк, никогда не должны служить целям мертвых. Но мертвые — он
взглянул на Брюса, на трясущуюся рядом пустую оболочку — по возможности долж-
ны служить целям живых.
Таков закон жизни.
И вполне возможно, что мертвые, если они чувствуют что-то, чувствуют себя
от этого лучше.
Мертвые, думал Майк, которые еще могут видеть, даже ничего не понимая, —
это наши глаза. Наша камера.
Глава 16
В кухне под раковиной, среди щеток, ведер и ящиков мыла, он нашел маленькую
косточку. Она походила на человеческую, и он подумал — не Джерри ли это Фа-
бин?
Невольно вспомнилось, что давным-давно он делил дом с двумя парнями, и у
них была шутка о крысе по имени Фред, которая жила под раковиной. Они расска-
зывали гостям, что однажды, когда их совсем припекло, бедного старого Фреда
пришлось съесть.
Может, это косточка жившей под раковиной крысы, которую они придумали, что-
бы было не так тоскливо?
— Парень совсем выгорел, хотя с виду было незаметно. Раз он приехал в Вен-
туру — разыскивал старого друга. Узнал дом, по памяти, без всякого номера,
остановился и спрашивает, где найти Лео. Ему отвечают: «Лео умер». А парень и
выдает им: «Хорошо, я загляну в четверг». И уехал. В четверг, наверное, вер-
нулся — опять искать Лео. Каково, а?
Потягивая кофе, Брюс слушал разговоры в гостиной.
— ...в телефонной книге записан всего один номер, на каждой странице, и по
этому номеру можешь звонить куда хочешь... Я говорю о совершенно ошизевшем об-
ществе... И у себя в бумажнике ты носишь этот номер, единственный номер, запи-
санный на разных визитных карточках и листочках. И если номер забыл, то не
позвонишь никому.
— А справочная?
— У нее тот же номер.
Он внимательно слушал. Интересное, должно быть, местечко. Звонишь, а тебе
говорят: «Вы ошиблись». Снова набираешь тот же самый номер — и попадаешь куда
надо.
Идешь к врачу — а врач только один и специализируется на всем, — и тебе
прописывают лекарство, одно на все случаи жизни. Относишь рецепт в аптеку, и
там выдают единственное средство, которое у них есть, — аспирин. И тот лечит
все болезни.
Закон тоже один, и все нарушают его снова и снова. Полицейский кропотливо
помечает, какой параграф, какой пункт, какой раздел, — всегда одно и то же. И
за любое нарушение — от перехода улицы в неположенном месте до государствен-
ной измены — одно наказание: смертная казнь. Общественность требует отменить
смертную казнь, но это невозможно, потому что тогда, скажем, за неправильный
переход вовсе не будет наказания. И так, нарушая закон, постепенно все вымер-
ли.
Наверное, подумал он, когда люди узнали, что последний из них умер, они
сказали: «Интересно, какие они были? Давайте-ка заглянем в четверг!»
Он неуверенно рассмеялся и, когда его попросили, повторил мысль вслух. И
все в гостиной тоже засмеялись.
— Отлично, Брюс!
Шутка прижилась и стала общим достоянием Самарканд-хауса. Когда кто-нибудь
чего-нибудь не понимал или не мог найти того, за чем его посылали — например,
рулон туалетной бумаги, — то обычно говорил: «Что ж, я, пожалуй, зайду в чет-
верг» . Эта шутка приписывалась Брюсу и стала своего рода его визитной карточ-
кой, как у комиков на телевидении.
Позже, на одной из вечерних Игр, когда обсуждали, какую каждый из них при-
нес пользу, решили, что Брюс принес в «Новый путь» юмор. Принес способность
видеть смешную сторону вещей, как бы ни было плохо. Собравшиеся в круг дружно
зааплодировали, и, с удивлением подняв глаза, он увидел со всех сторон улыбки
и теплые одобрительные взгляды. Эти аплодисменты надолго остались в его серд-
це.
Глава 17
В конце августа того же года его перевели на ферму в Северной Калифорнии, в
краю виноградников.
Приказ о перемещении подписал Дональд Абрахаме, директор-распорядитель фон-
да «Новый путь», по представлению Майкла Уэстуэя, служащего фонда, который
принимал особое участие в судьбе Брюса. Было учтено, в частности, то, что
участие в Играх не принесло ожидаемых результатов и даже ухудшило состояние
пациента.
— Тебя зовут Брюс, — сказал управляющий фермой, когда Брюс неуклюже вылез
из машины, волоча за собой чемодан.
— Меня зовут Брюс, — сказал он.
— Мы попробуем тебя на полевых работах, Брюс.
— Хорошо.
— Я думаю, тебе понравится здесь.
— Я думаю, мне понравится, — сказал Брюс. — Здесь.
Управляющий придирчиво осмотрел его.
— Тебя недавно постригли?
— Да, меня недавно постригли. — Брюс прикоснулся к бритой голове.
— За что?
— Меня постригли, потому что нашли на женской половине.
— В первый раз?
— Во второй. — Брюс стоял, не выпустив чемоданчика. Управляющий жестом ве-
лел поставить его на землю. — В первый раз меня постригли за буйство.
— что ТЬ1 сделал?
— Я швырнул подушку.
— Хорошо, Брюс, — сказал управляющий. — Идем, я покажу, где ты будешь жить.
У нас здесь нет большого дома, а есть маленькие домики, в которых размещаются
по шесть человек. Там спят, готовят себе пищу и отдыхают, когда не работают.
Здесь нет Игры, только работа. Игр больше не будет, Брюс.
На лице Брюса появилась улыбка.
— Ты любишь горы? — Управляющий указал направо. — Гляди: горы. На их скло-
нах выращивают отличный виноград. Мы не растим виноград. Мы растим разные
другие культуры, но не виноград.
— Я люблю горы, — сказал Брюс.
— Посмотри на них. — Управляющий снова указал; Брюс не повернул головы. —
Мы подберем тебе шляпу. Работать в поле без головного убора нельзя. Пока нет
шляпы, на работу не выходи. Ясно?
— Не выходить на работу без шляпы, — повторил Брюс.
— Здесь хороший воздух, — сказал управляющий.
— Я люблю воздух, — сказал Брюс.
Управляющий жестом приказал Брюсу взять чемодан и следовать за ним. Он то и
дело поглядывал назад и чувствовал себя не в своей тарелке. Знакомое ощущение
— ему всегда было не по себе, когда приезжали... такие.
— Мы все любим воздух, Брюс. В самом деле любим. Это у нас общее.
Он подумал: по крайней мере, это у нас еще общее.
— Я буду видеться со своими друзьями? — спросил Брюс.
— С друзьями из «Нового пути» в Санта-Ане?
— С Майком, и Лаурой, и Джорджем, и Донной, и...
— Сюда к нам приезжать нельзя, — объяснил управляющий. — Это закрытая зона.
Но ты, возможно, будешь ездить туда пару раз в год. У нас бывают общие встре-
чи: на Рождество и...
Брюс остановился.
— Следующая встреча — на Благодарение, — сказал управляющий, махнув ему ру-
кой. — Рабочие на два дня поедут туда, откуда они к нам попали. А потом вер-
нутся — до Рождества. Так что с друзьями увидишься через три месяца. Если их
самих куда-нибудь не переведут. Но учти: у нас в «Новом пути» нельзя завязы-
вать с кем-то отдельных отношений. Тебе говорили? Мы все — одна семья.
— Я понимаю, — сказал Брюс. — Мы это учили, когда проходили Закон «Нового
пути». Можно мне попить?
— Мы покажем тебе, где здесь вода. — Управляющий повел Брюса к ряду одно-
типных сборных домиков. — Это закрытая зона, поскольку мы выращиваем экспери-
ментальные гибридные культуры и боимся заражения насекомыми-вредителями. Люди
могут случайно пронести их сюда на одежде, обуви и даже в волосах. — Он ткнул
пальцем в первый попавшийся домик. — Твой домик — «четыре-Д». Запомнишь?
— Они такие похожие... — пожаловался Брюс.
— Можешь прибить что-нибудь к стене, чтобы легче его узнавать. Что-нибудь
яркое. — Управляющий толкнул дверь, изнутри полыхнуло горячим спертым возду-
хом. — Думаю, сперва мы поставим тебя на артишоки, — размышлял он вслух. —
Тебе придется носить перчатки — они колючие.
— Артишоки, — сказал Брюс.
— У нас есть и грибы. Экспериментальные грибные фермы. Конечно, закрытые,
чтобы патогенные споры не заражали почву.
— Грибы, — повторил Брюс, входя в жаркое темное помещение.
Управляющий смотрел на него с порога.
— Да, Брюс, — сказал он.
— Да, Брюс, — сказал Брюс.
— Брюс, — окликнул управляющий. — Очнись!
Он кивнул, застыв в полумраке, все еще не выпуская из рук чемодана.
Стоит им оказаться в темноте, как они сразу клюют носом, подумал управляю-
щий . Словно цыплята. Овощ среди овощей. Грибок среди грибков.
Он включил свет и начал показывать Брюсу нехитрое хозяйство. Брюс не обра-
щал внимания — он впервые заметил горы и теперь смотрел на них широко откры-
тыми глазами.
— Горы, Брюс, горы.
— Горы, Брюс, горы... — повторил Брюс, не отрывая глаз.
— Эхолалия , Брюс, эхолалия, — вздохнул управляющий.
— Эхолалия, Брюс, эхо...
— Хорошо, Брюс. — Управляющий закрыл дверь домика и подумал: я поставлю его
на морковь. Или на свеклу. На что-нибудь простое. На то, что его не озадачит.
А на вторую койку — другой овощ. Для компании. Пусть дремлют свои жизни
вместе, в унисон. Рядками. Целыми акрами.
Его развернули лицом к полю, и он увидел хлеба, поднимающиеся, словно за-
зубренные дротики. Он нагнулся и заметил у самой земли маленький голубой цве-
ток . Множество цветков на коротких жестких стеблях. Словно щетина. Жнивье.
Наклонившись к цветам, чтобы лучше их рассмотреть, Брюс понял, как их много.
Целые поля цветов, укрытых сверху высокими колосьями. Спрятанные среди более
высоких растений, как часто сажают фермеры: одни посадки среди других. Как в
Мексике сажают марихуану — чтобы не заметила полиция с джипов.
Но тогда ее засекают с воздуха. И полиция, обнаружив плантацию, расстрели-
вает из пулемета фермера, его жену, их детей и даже животных. И уезжает, со-
провождаемая сверху вертолетом.
Очаровательные голубые цветочки.
— Ты видишь цветок будущего, — сказал Дональд, директор-распорядитель «Но-
вого пути». — Но он не для тебя.
— Почему не для меня? — спросил Брюс.
— Ты уже перебрал, достаточно! — хохотнул директор-распорядитель. — Так что
хватит поклоняться. Это уже не твой кумир, не твой идол.
Он решительно похлопал Брюса по плечу, а потом, наклонившись, закрыл рукой
цветы от его прикованного взгляда.
— Исчезли, — сказал Брюс. — Весенние цветы исчезли.
— Нет, ты просто не можешь их видеть. Эта философская проблема слишком
сложна для тебя: она относится к теории познания.
Брюс видел только загораживающую свет ладонь Дональда и смотрел на нее це-
лое тысячелетие. Все было закрыто и заперто, заперто навсегда для мертвых
глаз по ту сторону времени. Взгляд — намертво прикованный к руке, что застыла
навечно. И время застыло, и взгляд застыл, и вселенная застыла вместе с ними,
по крайней мере, для него — абсолютно неподвижная и в то же время абсолютно
постижимая. Все уже было, и ничего больше произойти не могло.
— За работу, Брюс, — велел Дональд, директор-распорядитель.
— Я видел, — сказал Брюс.
Я знаю, подумал он. Я видел, как растет препарат «С». Я видел, как голубым
покрывалом на коротких жестких стебельках лезет из земли сама смерть.
Дональд Абрахаме и управляющий фермой переглянулись, а потом посмотрели на
коленопреклоненную фигуру, на человека, опустившегося на колени перед Mors
ontologica.
— За работу, Брюс, — сказал коленопреклоненный и поднялся на ноги.
Он наблюдал — не оборачиваясь, не в силах обернуться, — как Дональд и
управляющий, переговариваясь между собой, сели в «линкольн» и уехали.
Брюс наклонился, вырвал один стебелек с голубым цветком и засунул его по-
глубже в правый ботинок, под стельку. Подарок для моих друзей, подумал он. И
крошечным уголком мозга, куда никто не мог заглянуть, стал мечтать о Дне бла-
годарения .
16 Эхолалия — эхо-симптом, неконтролируемое автоматическое повторение слов, услышан-
ных в чужой речи. Наблюдается у детей и взрослых при различных психических заболева-
ниях.
Разное
ОСТОРОЖНО, КАРДИНГ!
- Как же Вы думаете отнять деньги?
- Дело не в способах. Лично у меня есть 400
сравнительно честных способов отъема денег.
"Золотой телёнок", Ильф И., Петров Е.
КАРДИНГ
Мошенничество с платежными картами, кардинг (от англ. carding) — вид мошен-
ничества, при котором производится операция с использованием платежной карты
или её реквизитов, не инициированная или не подтверждённая её держателем. Ре-
квизиты платежных карт, как правило, берут со взломанных серверов интернет-
магазинов, платежных и расчётных систем, а также с персональных компьютеров
(либо непосредственно, либо через программы удаленного доступа, «трояны»,
«боты» с функцией формграббера). Кроме того, наиболее распространённым мето-
дом похищения номеров платежных карт на сегодня является фишинг (англ.
phishing, искаженное «fishing» — «рыбалка») — создание мошенниками сайта, ко-
торый будет пользоваться доверием у пользователя, например — сайт, похожий на
сайт банка пользователя, через который и происходит похищение реквизитов пла-
тежных карт.
Одним из самых масштабных преступлений в области мошенничества с платежными
картами считается взлом глобального процессинга кредитных карт Worldpay и
кража с помощью его данных более 9 миллионов долларов США. В ноябре 2009 года
по этому делу были предъявлены обвинения преступной группе, состоящей из гра-
ждан государств СНГ.
Воровство
карт
Украденная или потерянная карта может использоваться преступниками только
до тех пор, пока владелец не сообщит своему банку о пропаже, либо в оффлайно-
вых операциях. Большинство банков предоставляет круглосуточную телефонную ли-
нию для подобных сообщений.
Основной защитной мерой является наличие подписи на карте и требование под-
писывания чеков. В некоторых магазинах при оплате картой требуется предостав-
ление документов, удостоверяющих личность. Однако требование документа в не-
которых юрисдикциях является незаконным.
Украденные карты могут использоваться в некоторых терминалах самообслужива-
ния (например, на АЗС), не требующих ввода PIN-кода.
В Европе большинство карт EMV оснащено чипом, который обычно запрашивает
ввод 4-значного цифрового PIN-кода при совершении покупок. Если код не пере-
хвачен, то мошенник сможет использовать её только в операциях, где код не
требуется, например в онлайновых (электронных) транзакциях либо в POS-
терминалах, оснащенных только считывателем магнитной полосы.
Существуют программные системы и комплекс организационных мер, направленных
на предотвращение или усложнение возможных мошеннических операций. Например,
крупная транзакция, совершенная далеко от места жительства владельца — как
вариант — в другой стране, может быть признана несостоявшейся или даже при-
вести к временному блокированию карты.
Операции
без карты
Для проведения транзакции требуются лишь некоторые данные, написанные на
карте. Обычно карта содержит (в виде надписи и на магнитной полосе): имя вла-
дельца, номер карты (PAN), месяц и год окончания срока действия, верификаци-
онный код (CW) .
Существуют операции, в которых не требуется физического наличия карты, а
транзакция проводится лишь по данным с неё. Минимальный необходимый набор ин-
формации — номер карты, часто также требуется срок окончания, чуть реже — ве-
рификационный код.
Злоумышленник может скопировать эти данные, если вступит в сговор с лицами,
имеющими доступ к картам, например, с официантом или кассиром. Данные могут
быть сфотографированы или восстановлены из видеозаписи. Также получение по-
добных данных возможно с помощью вируса, установленного на компьютере пользо-
вателя, методами социальной инженерии (имитация звонка из банка) либо путём
взлома интернет-магазинов или систем, обслуживающих карты. Затем преступники
используют данные в операциях без присутствия карты.
Информация этого раздела относится к кредитным картам. Большая глупость да-
вать данные с кредитной карты для интернет-покупок, да и вообще их использо-
вать . Если преступникам известны данные, написанные на карте, то такую карту
можно продублировать, поскольку на магнитной полосе карты записаны те же са-
мые данные (доступны заготовки карт, принтеры и записыватели для них).
Похитить и продублировать дебетовую карту гораздо сложнее, поскольку для ее
использования нужен PIN-код. На магнитной полосе карты (или в RFID), кроме
номера карты, записан этот код, зашифрованный DES-алгоритмом. Ключом шифрова-
ния является тот же самый PIN-код. Небольшая программа может легко проверить
введенный PIN-код, дешифруя запись. Таким образом, введенный PIN-код может
даже не посылаться в банк или обслуживающий его центр.
Некоторую защиту от такого рода преступлений предоставляет внедрение опера-
тивных уведомлений о проведении операций. Также частично от такого мошенниче-
ства защищают технологии 3-D Secure, MasterCard Security Code, Verified by
Visa, в которых для проведения операции требуется ввод дополнительного кода,
получаемого в отделении банка, через банкомат, по SMS или с помощью аппарат-
ного генератора кодов (токен).
Формграббер
Как правило, это троянские программы, которые попадают на компьютер вместе
с софтом. Например, вы скачали WinRAR с пиратского сайта. Вместе с утилитой
на ПК попал вирус, который ворует все данные из форм ввода информации в ин-
тернет-браузере — пароли от социальных сетей, данные от банковской карты.
Скимминх1
Частным случаем кардинга является скимминг (от англ. skim — снимать слив-
ки) , при котором используется скиммер — инструмент злоумышленника для считы-
вания, например, магнитной дорожки платёжной карты. При осуществлении данной
мошеннической операции используется комплекс скимминговых устройств:
■ Инструмент для считывания магнитной дорожки платёжной карты — представляет
собой устройство, устанавливаемое в картоприёмник, и кардридер на входной
двери в зону обслуживания клиентов в помещении банка. Представляет собой
устройство со считывающей магнитной головкой, усилителем — преобразовате-
лем, памятью и переходником для подключения к компьютеру. Скиммеры могут
быть портативными, миниатюрными. Основная идея и задача скимминга — счи-
тать необходимые данные (содержимое дорожки/трека) магнитной полосы карты
для последующего воспроизведения её на поддельной. Таким образом, при
оформлении операции по поддельной карте авторизационный запрос и списание
денежных средств по мошеннической транзакции будут осуществлены со счета
оригинальной, «скиммированной» карты.
Скимминговое устройство для перехвата данных карты.
■ Миниатюрная видеокамера, устанавливаемая на банкомат и направляемая на
клавиатуру ввода в виде козырька банкомата либо посторонних накладок, на-
пример, рекламных материалов — используется вкупе со скиммером для получе-
ния PIN держателя, что позволяет получать наличные в банкоматах по под-
дельной карте (имея данные дорожки и PIN оригинальной).
Данные устройства питаются от автономных источников энергии — миниатюрных
батарей электропитания, и, для затруднения обнаружения, как правило, изготав-
ливаются и маскируются под цвет и форму банкомата.
■ Использование вредоносного кода, встроенного в банкомат. Дампы банковских
карт записываются без использования спецоборудования и распознать такой
способ обывателю невозможно, но встречается он крайне редко и в большинст-
ве случаев преобладает среди маленьких банков. Чаще всего такой код
встраивается в считыватели карт в магазинах (подменяется оригинальное уст-
ройство на модифицированное).
Дальше с помощью дампов создаются копии карт.
Скиммеры могут накапливать украденную информацию о пластиковых картах либо
дистанционно передавать её по радиоканалу злоумышленникам, находящимся побли-
зости. После копирования информации с карты мошенники изготавливают дубликат
карты и, зная PIN, снимают все деньги в пределах лимита выдачи, как в России,
так и за рубежом. Также мошенники могут использовать полученную информацию о
банковской карте для совершения покупок в торговых точках.
Ридеры
Большинство дебетовых и кредитных карт оснащены технологией бесконтактной
оплаты. Держатель карты может легко оплатить покупку в магазине, просто при-
ложив кредитку к платежному терминалу. Для этого используется специальный чип
на карте — в нем хранится вся платежная информация.
Кардеры используют ридеры — это обычные платежные пост-терминалы, которые
вы видите в магазинах, ресторанах и кафе. Но есть одно отличие — они запро-
граммированы на кражу денег с карты. Все, что нужно сделать мошеннику — это
поднести ридер к банковской карте жертвы. Обычно кардеры работают в общест-
венных местах, где заметить человека с неизвестным устройством в руке намного
сложнее. Они подносят ридеры к карманам и сумкам.
Некоторые кардеры собирают ридеры вручную. Такие устройства собирают всю
информацию с карты жертвы — CVC/CW, имя и фамилию держателя, номер карты.
После получения этой информации они делают копии кредитных и дебетовых карт.
Шимминх1
В кардридер банкомата устанавливают незаметное устройство, которое называ-
ется шим. Это небольшая и гибкая электронная плата — заметить ее очень слож-
но . После того, как человек вставляет карту в банкомат, с нее считываются
данные. Получив всю необходимую информацию, мошенники делают копию карты.
Меры
защиты
Для предотвращения незаконных списаний по банковской карте рекомендуется
применять следующие меры безопасности:
■ не передавать свою карту в чужие руки, следить за тем, чтобы карта исполь-
зовалась лишь по назначению (дабы невозможно было применить портативное
скимминхювое устройство, спрятанное под одеждой, например, официанта либо
сотрудника автозаправочных станций, продавца магазина и т. д.).
■ проявлять бдительность и внимательность при пользовании банкоматом, обра-
щать внимание на нестандартные элементы конструкции — накладную клавиату-
ру, используемую для считывания PINa. В случае скимминга такая клавиатура
располагается, как правило, выше уровня корпуса банкомата, легко от неё
отделяется и, зачастую, под накладной виднеется часть оригинальной.
■ обращать внимание на установленные микровидеокамеры на самом банкомате,
которые могут быть смонтированы как в козырьке банкомата, так и замаскиро-
ваны под сопутствующие банкомату предметы, например, рекламные материалы.
■ минимизировать случаи использования банковской карты в местах, вызывающих
подозрение; по возможности использовать банковскую карту в хорошо просмат-
риваемых помещениях.
■ снятие наличных средств и другие банковские операции, осуществляемые при
помощи банкоматов, по возможности производить в одном и том же банкомате,
запомнив его внешний вид. Как правило, стандартные технические модификации
банкоматов одного банка редко отражаются на их внешнем виде.
■ по возможности набирать PIN быстро, заученными движениями и, желательно,
используя несколько пальцев руки сразу — так злоумышленникам будет сложнее
распознать ваши движения. По возможности прикрывать набирающую PIN руку
другой рукой, сумочкой или каким-либо иным предметом.
■ если банк-эмитент банковской карты имеет в своём сервисе услугу быстрого
оповещения владельца карты о фактах списания (смс-оповещения), подключить
её для наиболее быстрого реагирования на незаконные списания.
■ использовать банковские карты со встроенным микрочипом, если это возможно.
Статистика
В начале 2010-х в США. из 5,6 миллиарда действительных банковских карт лишь
около 20 миллионов являются смарт-картами (содержат чип). За период с 2007 по
2011 год секретная служба США. арестовала более 5 тысяч преступников, замешан-
ных в скимминге. Потери за 2012 год оцениваются в 11,3 млрд. долларов. В год
в стране обнаруживают около 20 тысяч скиммеров.
В Великобритании с 2001 по 2011 года мошенничество с пластиковыми картами
приводило к потерям в 300—600 млн. фунтов ежегодно. Значительная доля престу-
плений осуществлялась по данным карты в операциях, в которых не требуется
предъявление карты (например, покупка через интернет). Потери от скимминга,
составлявшие ежегодно от 100 до 170 миллионов фунтов в 2001—2008 годах, зна-
чительно снизились в 2010—2011 годах, до 47—36 миллионов фунтов, благодаря
широкому внедрению чипованных карт и чипов с поддержкой iCW и DDA.
В России в 2010-е годы, по официальным данным, совершаются тысячи преступ-
лений с пластиковыми картами в год. В 2011 году ущерб от кардинга был оценен
в 400 миллионов долларов.
Кардинг
изнутри
Всё начинается с "хакеров", это фундамент всей последующей цепочки, без них
всё будет крайне уныло. Мы опустим подробности самого начала - то, откуда и
почему берутся ошибки ("баги") в программах, и начнём с людей, которые их на-
ходят . Это очень сложное, интересное и творческое дело. Тут полная свобода
творчества: можно делать с подопытной программой что угодно, у хакеров обычно
нет "мэнеджеров" которые говорят им что именно делать (иногда, в "белых" кон-
торах по пентесту есть, но там лишь ограничения - чего нельзя делать). Ре-
зультат работы на этом этапе - информация об уязвимости в какой то программе.
Дальнейшие действия зависят от того, в какой именно и насколько серьёзная, и
насколько хакер пытается быть "белым"... Принципиально есть два пути: пере-
дать информацию разработчику ("легально") или продать в даркнете другим ко-
мандам. Первый путь по сути глупость, ибо денег платят мало и несмотря на
"легальность" могут вместо денег подать в суд (что часто случается даже с
вроде бы "цивилизованными" конторами). Обычно туда (называется "bug bounty")
сдают информацию которую не получится продать дальше (часто бывает что баг не
даёт возможности с пользой его применить) или совсем глупые или начинающие.
Второй путь нас и интересует: информацию о баге попадает в команду (их много,
разной степени легальности: от официально сотрудничающих с полицией до совсем
подпольных) . Если они договариваются о цене (а тут очень по разному, бывает
доходит до сотен тысяч долларов), то баг становится "О-day" ("зеродэй"), т.е.
пока никто другой (особенно производитель софта) о нём не знает, но "экс-
плойт" (программа, эксплуатирующая баг в другой программе, и в результате по-
зволяющая сделать нечто, что другим способом невозможно) уже есть. Сам по се-
бе эксплойт обычно бесполезен, и для получения результата их нужно несколько,
это называется "эксплойт-пак" - программа, которая попав на компьютер пользо-
вателя определяет версии установленных программ, выбирает какой именно экс-
плойт из имеющихся подойдёт и применяет его. Иногда это делается вручную (что
разумеется сложнее и дольше, но более эффективно), этим разумеется тоже зани-
маются. Так формируется рынок эксплойтов, их команды продают друг другу, ино-
гда "воруют"...
Но и просто эксплойт-пака недостаточно - его нужно ещё доставить до места
применения. Тут в ход идут любые способы: размещение на взломанных серверах
(есть группы хакеров которые на этом специализируются и продают доступы к
"взломаным" серверам), на своих серверах с их "раскруткой" (т.е. заманиванием
посетителей на сайт с паком), рассылкой по e-mail, иногда записывают на флэш-
ку и нанимают карманника чтобы подменить её у кого нужно. В общем, тут возмо-
жен просто неограниченный полёт фантазии. Результат на этом шаге - получение
доступа к компьютеру (смартфону или даже телевизору) пользователя, так что он
об этом не знает. Такая готовая услуга тоже продаётся - можно в даркнете ку-
пить "загрузки", т.е. вы пишите некоторую программу, и она будет запущена на
компьютерах каких-то пользователей.
Это уже следующий этап, другая команда пишет разные "вирусы", "трояны" ко-
торых целая куча разновидностей под самые разные задачи.
Некоторые тупо шифруют файлы и требуют выкуп, некоторые устанавливают про-
кси (соке1) и продают (ведь другим командам нужны свежие IP чтобы что-то ло-
мать , рассылать спам или DDOS), некоторые начинают анализировать действия
пользователя (на предмет доступа к его деньгам). Именно этот вариант нам и
интересен (другие тоже ничего, но это тема отдельной статьи). Обычно (не все-
гда, есть варианты) результат на этом шаге - "логи" (файл, в котором записаны
действия пользователя (на какие сайты заходил, какие пароли набирал, там же
куки браузера и т.д.).
Логи поступают на обработку (той же команде, или другой) , которая ищет в
них полезные данные. Например: сначала извлекаются самые полезные (доступы к
банковским аккаунтам), остаток продаётся. Кто-то покупает и извлекает то, что
ему интересно (данные по картам, например) и продаёт ещё в несколько мест.
Может, кому-то нужны пароли от реальных e-mail, или от определённых сайтов, в
логах можно найти много всего интересного. Поэтому логи быстро стареют, и
торговля ими - интересный, полезный и увлекательный криминальный бизнес. На
этом шаге результат - "материал" (обобщённое название разных видов информа-
ции, позволяющей сделать что-то от имени другого человека, например перевести
деньги с его банковского аккаунта).
Материал бывает разный: это данные банковских аккаунтов (ло-
гин |пароль|куки|...), кредитных карт (Номер|EXP|CW|...), очень разного каче-
ства (процент валидности, количество раз сколько его продали (да, часто про-
дают одно и тоже несколько раз, в этом "бизнесе" это норма). Кстати, есть и
1 SOCKS - это интернет-протокол, который используется для передачи пакетов с данными
от сервера к клиенту с помощью промежуточного прокси-сервера. На сегодня это наибо-
лее продвинутая массовая технология для организации прокси. При ее использовании
трафик проходит через прокси-сервер, который использует собственный IP-адрес, с ко-
торого уже идет финальное подключение к нужному адресату.
другие пути получения материала: например, некоторые взламывают сети органи-
заций и крадут сразу базами иногда с миллионами записей... Но получить мате-
риал тоже недостаточно, нужно ещё уметь им воспользоваться.
Это тоже целая большая отрасль преступного бизнеса, собственно тут только и
начинается пкардингп (если под этим понимать не только покупки с чужих карт,
но вообще любые способы кражи денег). Поэтому его много разновидностей: кто-
то крадет деньги с банковских аккаунтов (как ни странно это не просто, даже
имея логин и пароль), кто-то покупает физические товары в интернете, кто-то
управляет дропами2, которые эти товары получают, и ещё десятки самых разных.
Наверное, не получится их все описать, т.к. многие непубличны, это вообще та-
кая особенность этого криминального бизнеса. Проблема в том, что с другой
стороны тоже не дураки сидят, и схемы работают некоторое время, а потом ста-
новятся недееспособными, т.к. банки начинают контролировать известные им схе-
мы. Получается, что найти информацию по кардингу с одной стороны легко - есть
куча разной степени подпольности площадок, где всё это обсуждается. А с дру-
гой сложно, т.к. большая часть этой информации давно не актуальна. И действи-
тельно, вот, например, кто-то придумал какую-то новую схему, и она работает.
Можно на этом заработать, и в теории он был бы рад поделиться информацией с
другими кардерами т.к. это взаимовыгодно: они могут подсказать, как схему
улучшить или поделятся в ответ своей информацией (это называется "сообщест-
во", и в некоторых областях отлично работает). Но вот только не в кардинге,
тут моментально налетит много начинающих, которые хочет быстро получить де-
нег , но в итоге не имея достаточной квалификации только всё испортят: и сами
не заработают, и схему сольют. Так что обучение этому делу - процесс сложный:
толковых учебников нет (есть, но там устаревшая информация), самому учиться -
дорого (по любому пока разберешься - много раз кинут, сам наделаешь ошибок,
хорошо если ещё не престуют). Но зато помогает обилие разных видов деятельно-
сти, требующих разной квалификации (некоторые - минимальной), так что есть из
чего выбрать и с чего начать.
Специализации
в кардинге
Хакер
Самая крутая и уважаемая специализация. Разных направлений сотни, карьера и
доход практически неограниченны. Как правило, на собственно работу хакер тра-
тит очень немного времени, зато почти всё время тратит на самообучение, ис-
следования и разработку. Даже если хакер валяется на диване и смотрит видоси-
ки на ютюбчике - то это тоже процесс обучения, а видосик скорее всего - лек-
ция по математике. Логика примерно такая: нечего сидеть годами и делать одно
и тоже (вбивать одинаковый материал в одинаковые мерчи3) , разумнее и практич-
нее потратить неделю на автоматизацию (написание скрипта) который пусть потом
сам работает. Минусов нет (возможно, некоторые могут ошибочно считать минусом
высокие требования к обучаемости).
Дроп
Самая неквалифицированная специальность, примерно как закладчик. Занимаются
2 Дроп - это подставное лицо, низшее звено в иерархии интернет-мошенников. Наиболее
часто его услуги нужны для получения теневых доходов.
3 Мерч это сленговое обозначение разного рода продукции с определённой символикой и
(или) атрибутикой. Английское слово merchandise означает «товары, продукция», а
merch — его укороченный, сленговый вариант.
этим обычно негры в США, которые по факту бомжи и терять им нечего. Не стоит
с этого начинать и вообще заниматься, лучше рассовывать наркотики по заклад-
кам, больше заработок. Возможность карьерного роста отсутствует. Есть только
один очевидный плюс: спрос на это дело всегда есть, и найти работу не пред-
ставляет никаких проблем.
Дроповод
Это уже намного интереснее, и если у вас плохо с техническими навыками, но
хорошо с социальными - то это подходящий вариант. Риск ареста есть, ведь при-
дётся работать с людьми, которые наверняка вас сдадут при первой возможности.
Основная деятельность - поиск и вербовка новых дропов, распределение задач
между ними.
Возможность карьеры - имеется, по мере роста вашей квалификации сможете
участвовать во всё более сложных и прибыльных схемах. Но сначала конечно при-
дётся наработать репутацию и доверие (ведь самое типичное поведение большин-
ства дропов - украсть товар при первой возможности).
Вбивальщик
Ещё интереснее. Работать можно откуда угодно где есть компьютер и интернет,
но придётся конкретно разобраться во многих технических вещах (соке, антиде-
тект4, да и просто понимание что куда вбивать) . Суть работы в том, что вам
дают материал, вы заходите на сайт интернет магазина и "покупаете" товар по
чужой кредитке, заказывая на адрес дропа, дальше уже этим занимаются другие.
(есть и много других схем, где никакого физического товара нет, но смысл тот
же: вам дают материал и задание что с ним сделать). Основной критерий качест-
ва работы - "проходимость" то есть процент успешно прошедших вбивов, что за-
висит, конечно, в первую очередь от качества материала, но если материал нор-
мальный, то от умения вбивальшика обходить антифрод5. С возможностью роста и
увеличения заработка тоже всё хорошо: если не тупить и учиться пользоваться
новыми технологиями - то вам будут давать всё более качественный материал
(который просто не дадут начинающему), будут расти суммы и объёмы. В какой-то
момент вы уже не сможете физически всё успевать, и придётся нанять других
вбивалыциков чтобы скинуть им часть своей работы за процент. Есть и минус -
высокая конкуренция, т.к. много желающих заниматься таким простым и прибыль-
ным делом, и в самом начале будет сложно: качественный материал вам не дадут,
большие объёмы тоже. Так что вначале реально уйти вообще в минус.
Обналыцик
Недостаточно просто украсть деньги с чужого счёта, почти гарантировано и
быстро прилетит чарджбэк6, аккаунт заблокируют, а деньги вернут. Нужно ещё их
отмыть (превратить "грязные" в "серые", которые не заблокируют прямо сразу),
4 Антидетект браузер, или мультиаккаунтинг браузер — это программное обеспечение,
которое позволяет менять или маскировать цифровой отпечаток браузера, путем управле-
ния информацией о пользовательском устройстве и операционной системы, доступной сай-
там через браузерное API.
5 Антифрод (от англ. anti-fraud «борьба с мошенничеством») , или (в более узком зна-
чении) фрод-мониторинг — система, предназначенная для оценки финансовых и не финан-
совых событий (карточных транзакций, страховых случаев и страховых выплат, действий
пользователя в ДБО, операций с баллами лояльности и проч.) на предмет подозрительно-
сти с точки зрения мошенничества и предлагающая рекомендации по их дальнейшей обра-
ботке . Как правило, сервис антифрода состоит из стандартных и уникальных правил,
фильтров и списков, по которым и проверяется каждая транзакция.
6 Чарджбэк (от англ. chargeback - возвратный платеж) - это процедура оспаривания
платежа по банковской карте, с которым человек не согласен.
а потом ещё получить их себе.
Тут вообще непростой вопрос: в какой момент можно считать что деньги уже
ваши? Раньше было просто: наличные в кармане (или кусочек золота закопаный в
лесу) - ваши, всё остальное нет. Любые циферки на экране (неважно сколь убе-
дительно они выглядят) - фуфло7, и только с некоторой вероятностью и процен-
тами могут стать вашими. Относительно недавно ситуация стала интереснее, и
теперь биткоины на вашем кошельке (от которого больше ни у кого нет ключей)
тоже стало можно считать "вашими деньгами". В общем, работа обналыцика заклю-
чается в превращении разной степени грязности и серости денег - в ваши день-
ги. Тут тоже есть разные направления: кто-то нанимает дропов бегать по банко-
матам и снимать наличности, другие выводят через криптобиржи.
Дело довольно нудное и однообразное, с другой стороны совершенно необходи-
мое всем остальным участникам кардинга.
Организатор
Собственно придумывает и реализует схему. По сути, это просто бизнесмен, и
главная его задача - придумать как сделать чтобы расходы на реализацию биз-
нес-плана были меньше доходов. Потенциально зарабатывает больше всех (т.к.
остальные получают фиксированную оплату за объём работы, а организатор остав-
ляет себе всю прибыль), но зато и принимает на себя большую часть риска. На-
пример: организатор схемы покупает материал, нанимает вбивалыциков, и отдаёт
его им. Риск для вбивалыцика минимален: условия работы известны, он просто
делает что ему скажут. И если вдруг окажется что именно этот материал не ле-
зет в этот мерчант, то на деньги попадает организатор (придётся что-то приду-
мывать (совать материал в другое место), это потеря времени, за это время
часть материала пропадет). Такая деятельность требует очень разносторонних
знаний (необязательно быть специалистом в каждой области - это невозможно, но
нужно знать основы, чтобы как минимум объяснить специалистам что от них нуж-
но, например, написать грамотно техзадание).
Как кардеры
оправдывают
себя
Людям вообще свойственно всегда оправдывать себя и обвинять за свои провин-
ности кого-либо другого. Профессиональные преступники - вовсе не исключение
из этого правила. Ниже вариант такого оправдания.
Кардер (и хакер) - очень интересная, прибыльная, благородная и общественно
полезная профессия. Да, именно так - кардеры приносят большую пользу, подры-
вая саму основу существующей финансовой системы - доверие населения к банкам.
Собственно вся эта система - фундаментальная основа несправедливости, нера-
венства, эксплуатации (то есть рабства). Большинство населения само по себе
не способно задуматься об даже очевидных вещах (например, пользуясь банков-
ской картой даже не читает внимательно договор), и нужно ткнуть их носом так,
чтобы это стало очевидно. Да, неприятно когда у тебя украли деньги со "счё-
та", но если это единственный способ заставить задуматься, изучить вопрос и в
результате отказаться от "услуг банков" - то пользы больше, чем вреда. Тем
более, что когда кто то хранит "деньги" в банке ("деньги" в кавычках, потому
что по факту это уже не деньги, а мошенничество) . Прямо в договоре с банком
написано - что карта является собственностью банка, и вам лишь временно раз-
решено ей пользоваться. "Деньги" - тоже не ваши, а банка, он лишь по вашему
поручению может что-то оплатить, а может и отказать, сам факт передачи денег
7 Жарг., пренебр. ложь, обман; нечто недостоверное, обманчивое либо фальшивое.
в банк означает согласие этого кого-то с условиями ("договором"). Реально,
несколько сотен лет назад существование банков можно было оправдать: не было
интернета.
Сейчас все функции финансовой системы можно реализовать намного проще,
удобнее и эффективнее. Например, население пытаются пугать, рассказывая
сколько гигаватт потребляет майнинг биткоина, какой неэкологичный ужас, забы-
вая сравнить с тем, сколько потребляют сами банки с их огромными дата-
центрами, офисами, которые нужно обогревать, гигантским количеством бумаги
для их принтеров, и так далее. Биткоин с его гигаваттами на этом фоне - ме-
лочь . По факту - все миллионы работников банков можно заменить на сотню про-
граммистов и приложение в смартфоне, а работников банков отправить сажать де-
ревья. А ещё профессия кардер - относительно безопасна, и если вести себя ак-
куратно, то вероятность ареста крайне мала. Вообще ни в какое сравнение не
идёт с кладменом8 или варщиком, там арест - вопрос только времени. Интерес-
ность - очень высокая, почти как занятие реальной наукой (да, сравнение для
большинства непонятное, но лучше, наверное, не придумать). В общем подойдет
тем, кому интеллектуальный уровень позволяет этим заниматься.
Наказание
за кардинг
УК РФ Статья 159.3. Мошенничество с использованием электронных средств пла-
тежа (введена Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 23.04.2018 N 111-ФЗ)
1. Мошенничество с использованием электронных средств платежа - наказывает-
ся штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязатель-
ными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет,
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на
срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а
равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в
размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок
до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением
свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на
срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без тако-
вого .
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, со-
вершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в круп-
ном размере, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет
с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
Жарг. участник сети наркоторговли, тот, кто делает «закладки» (потайные склады)
наркотиков в укромных местах.
шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора
лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей
статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на
срок до двух лет либо без такового.