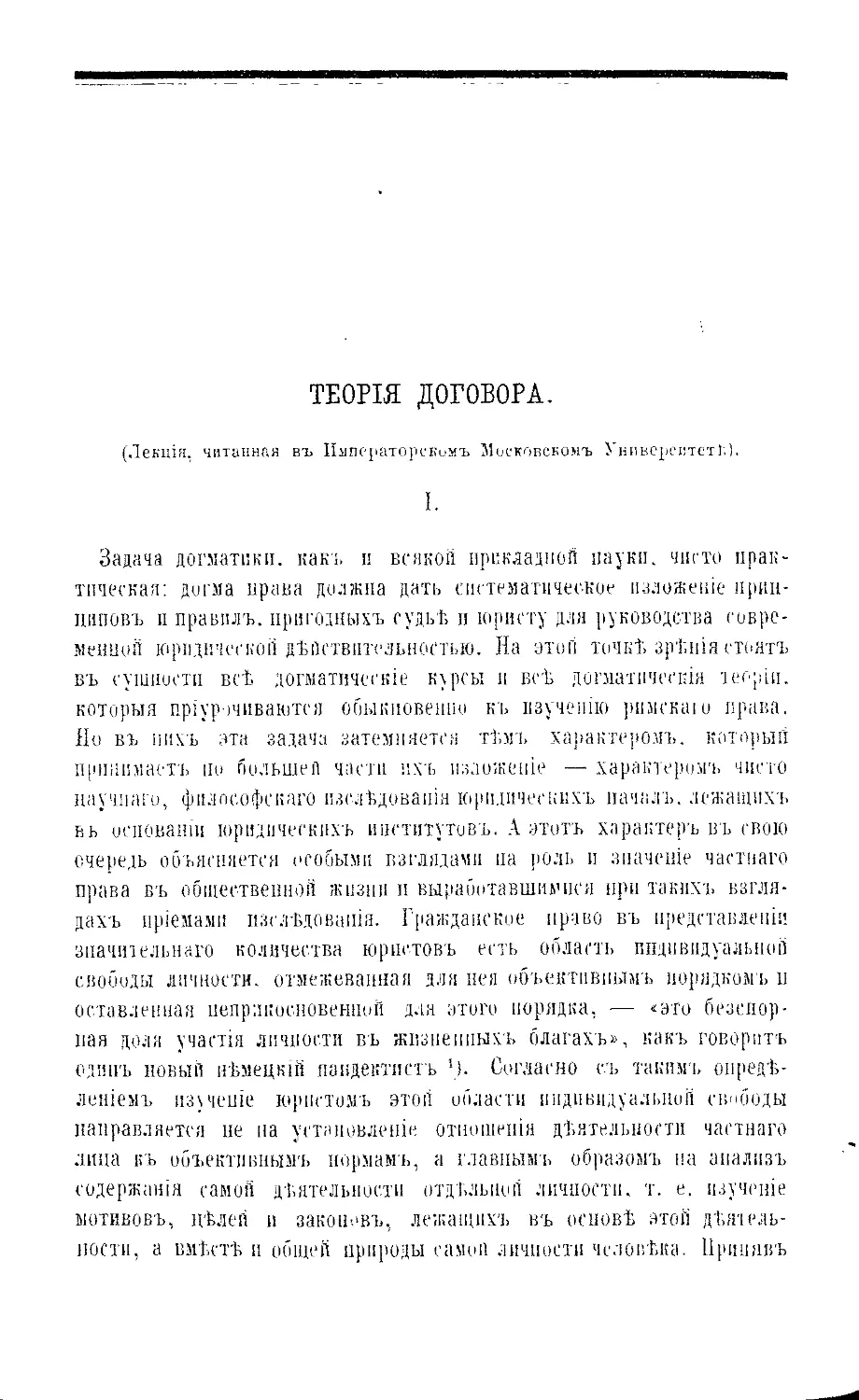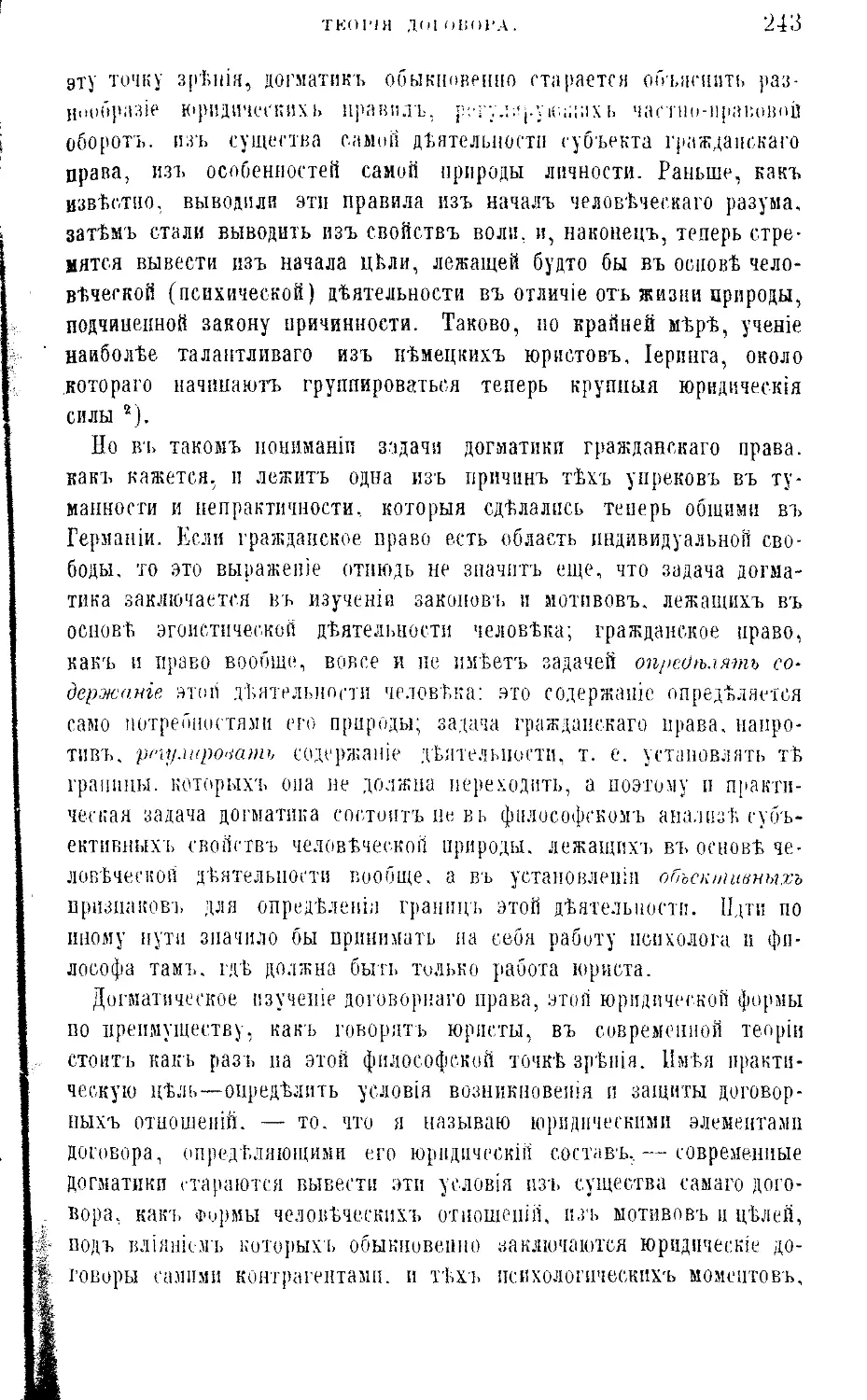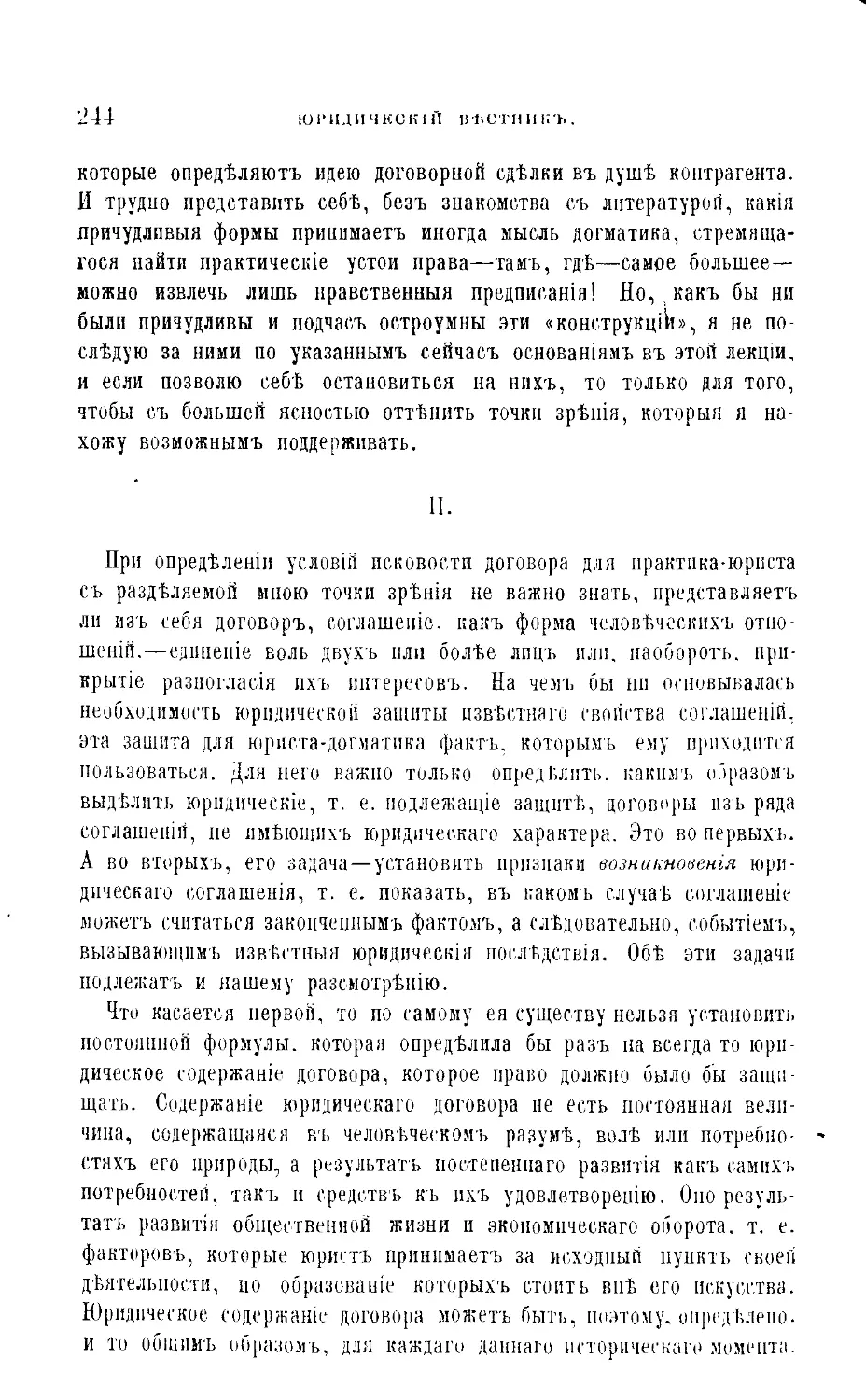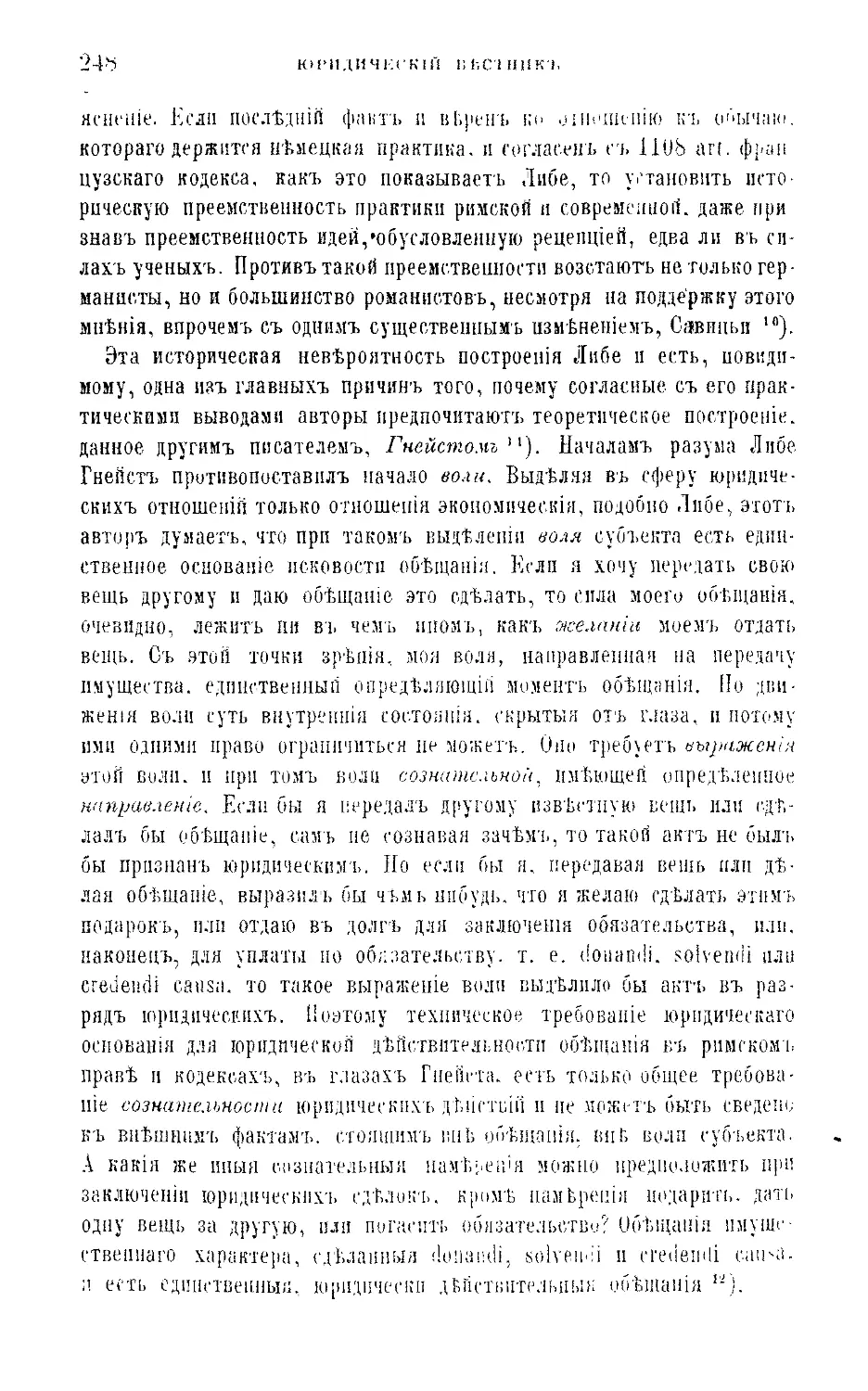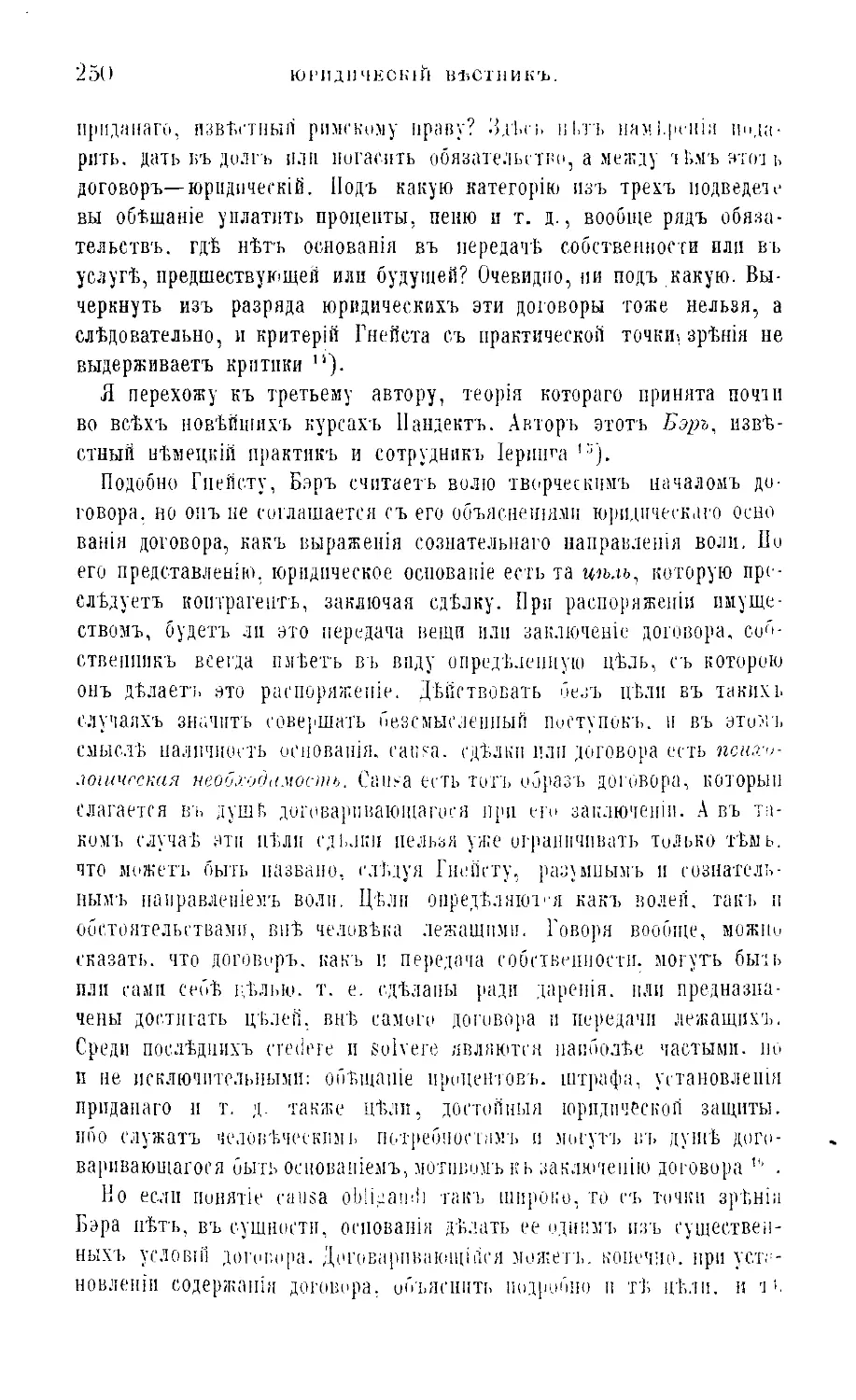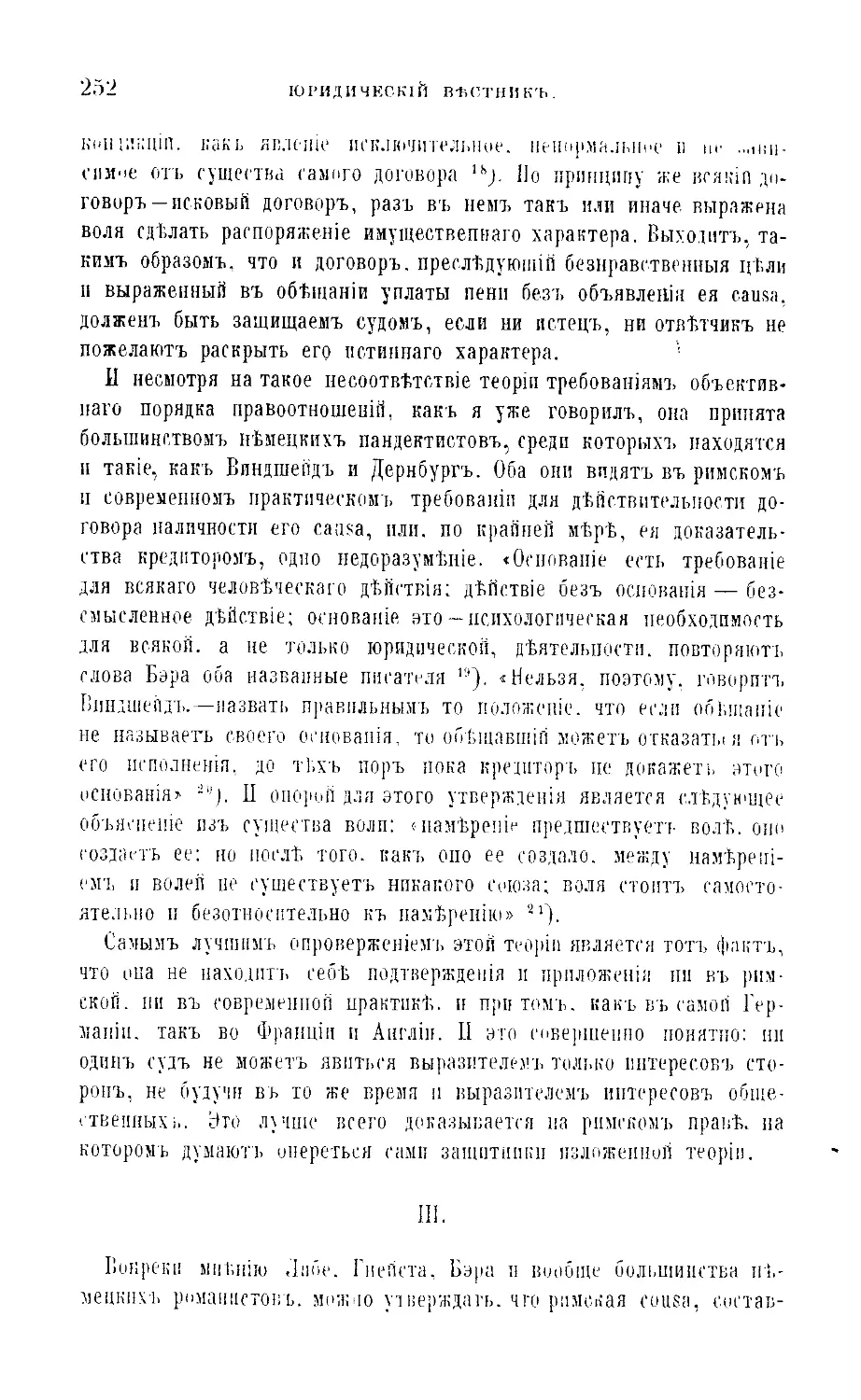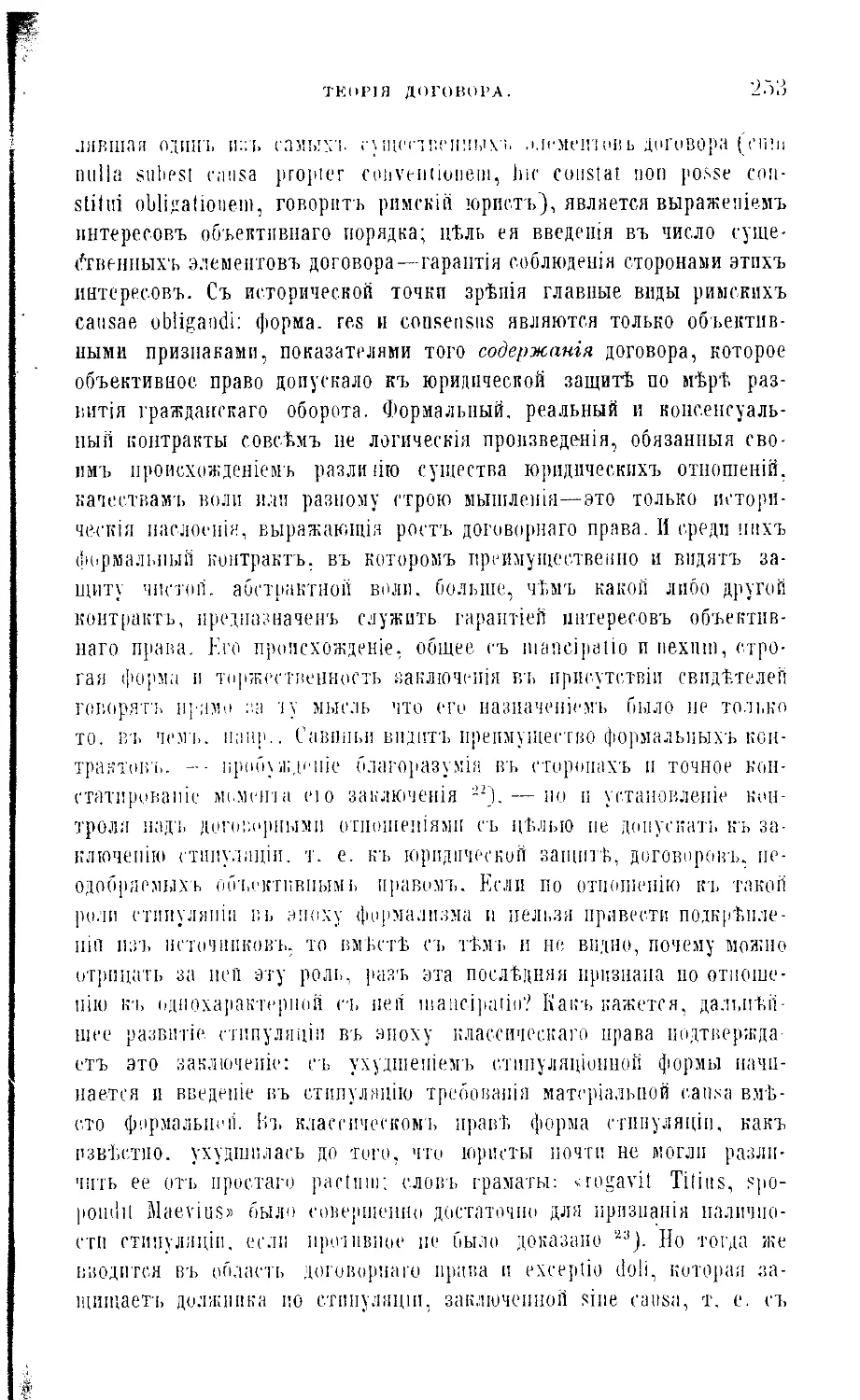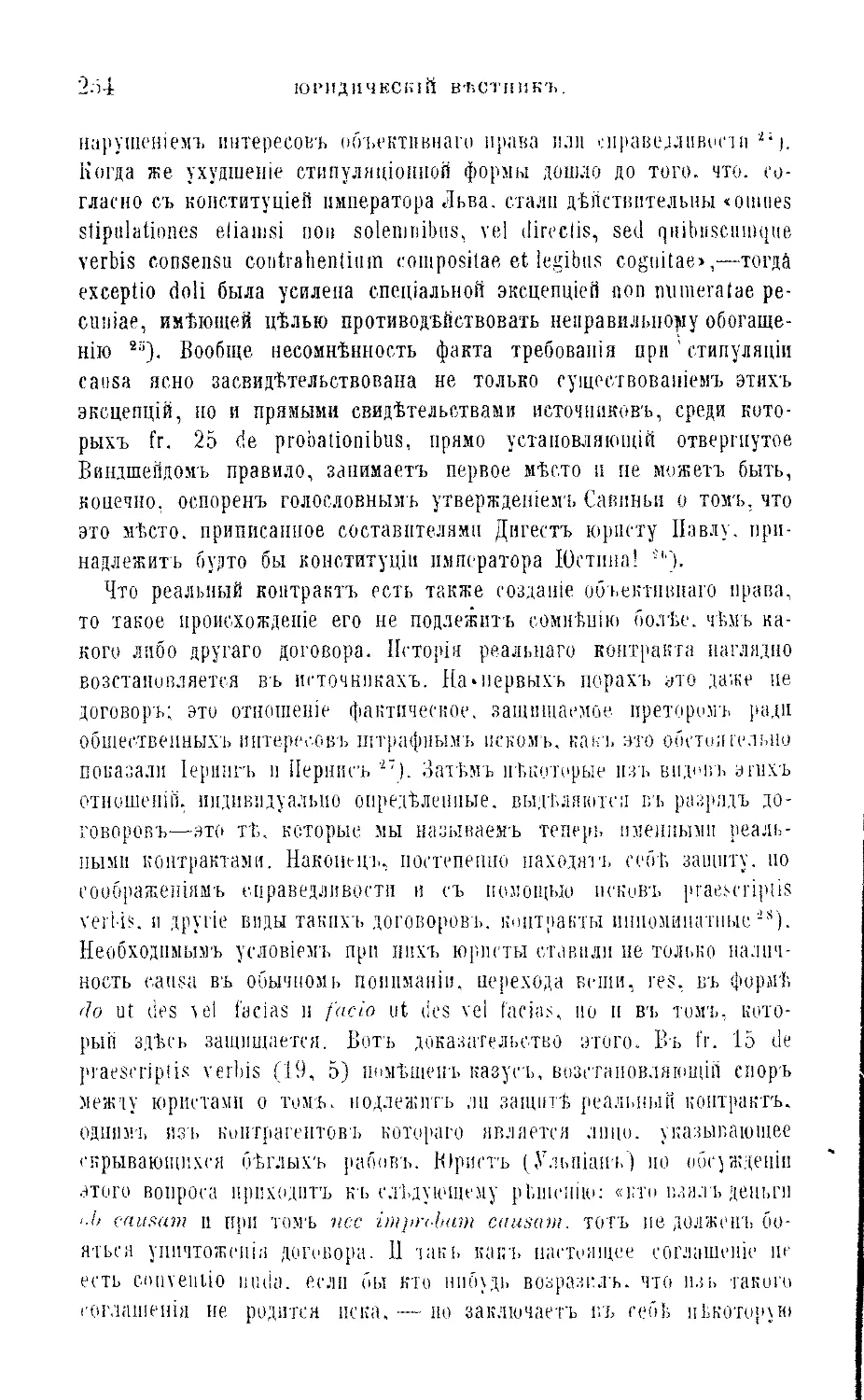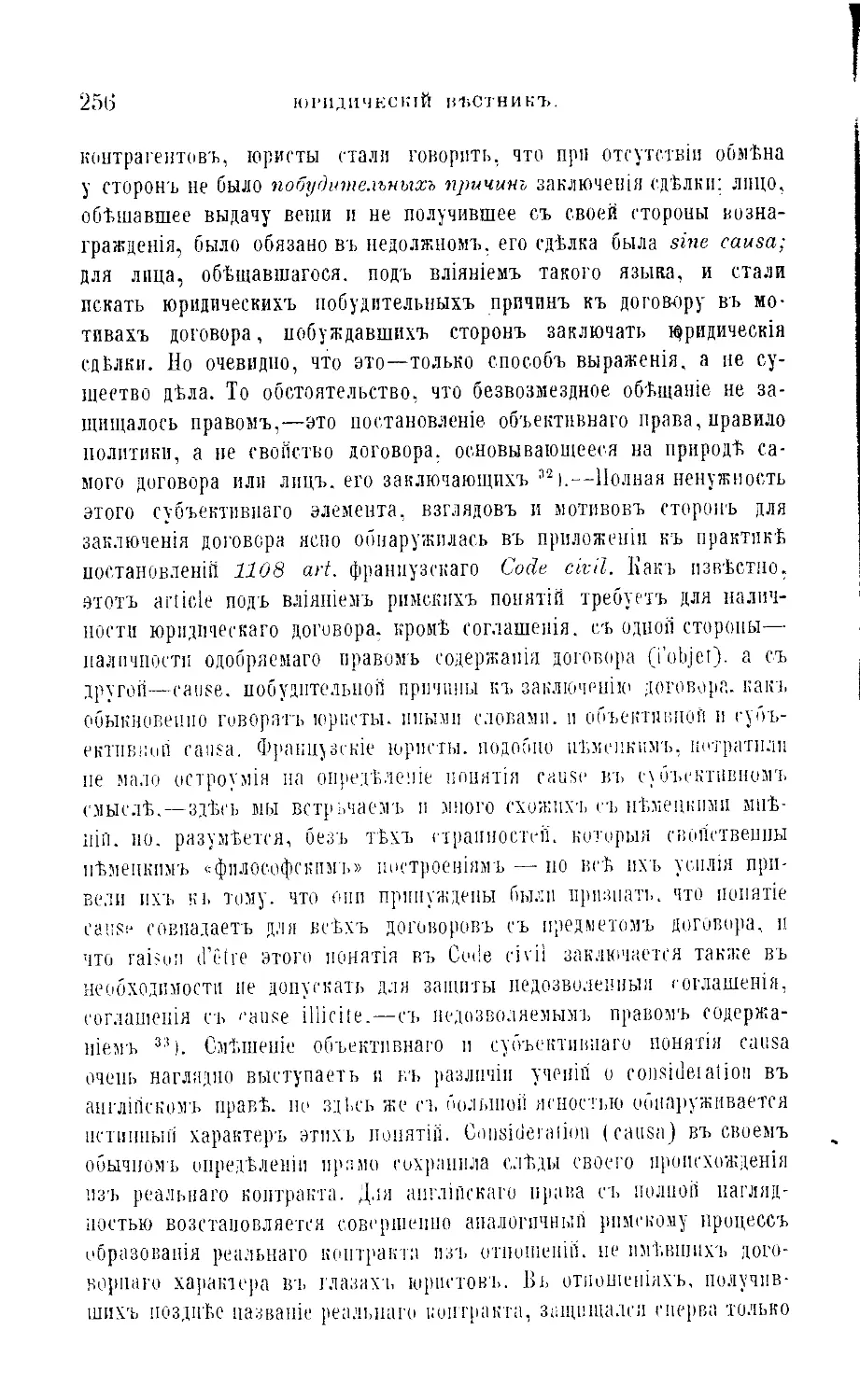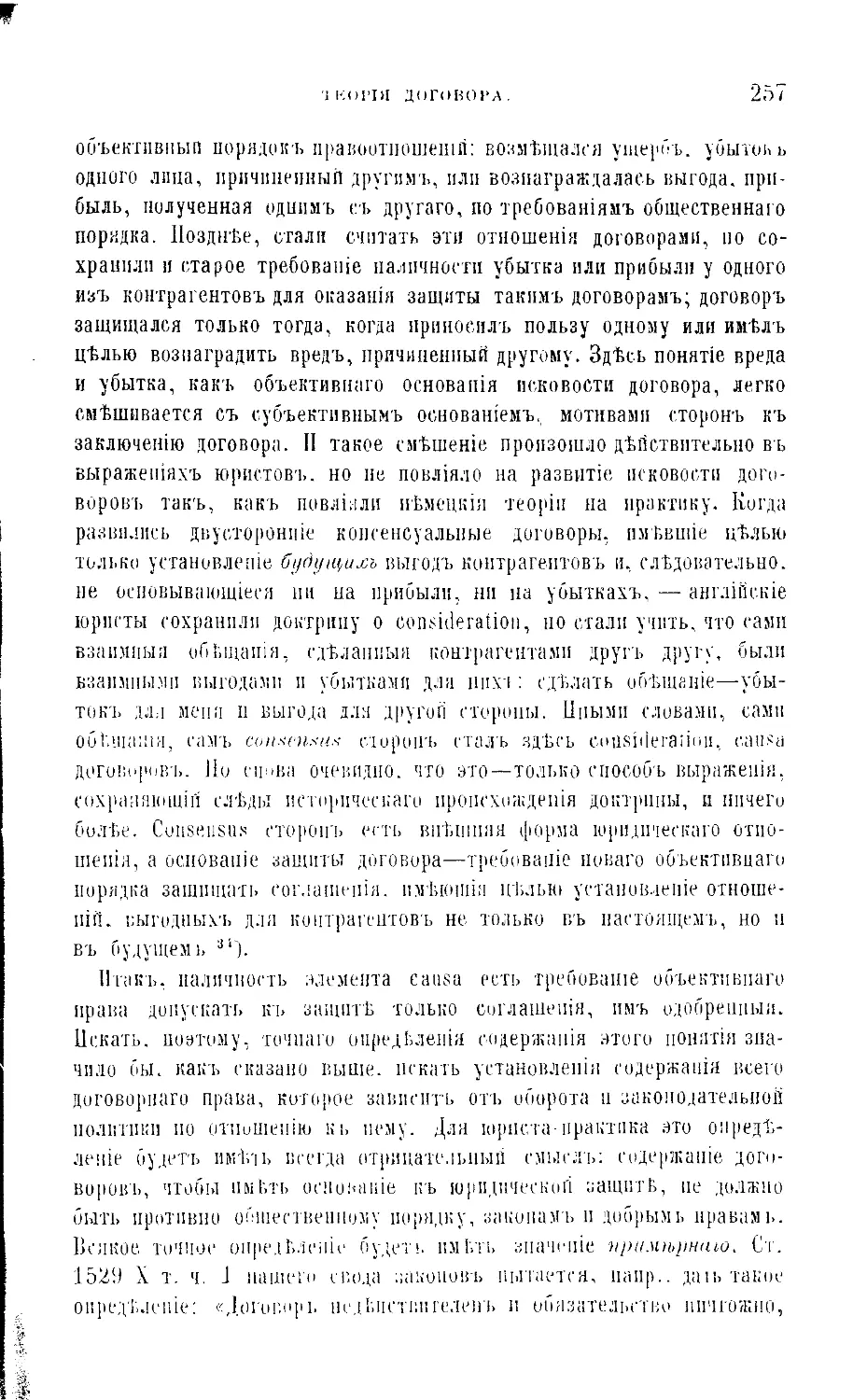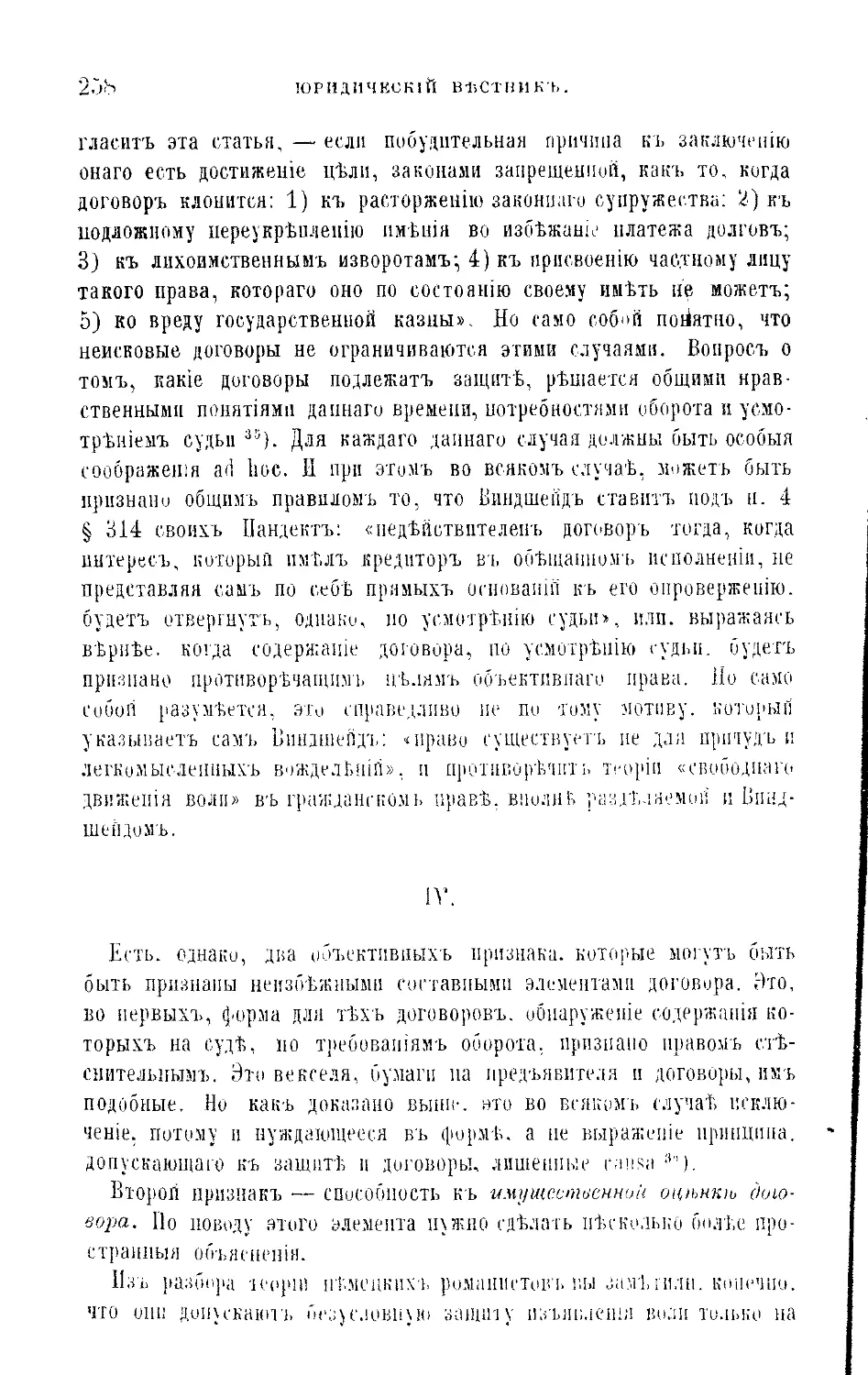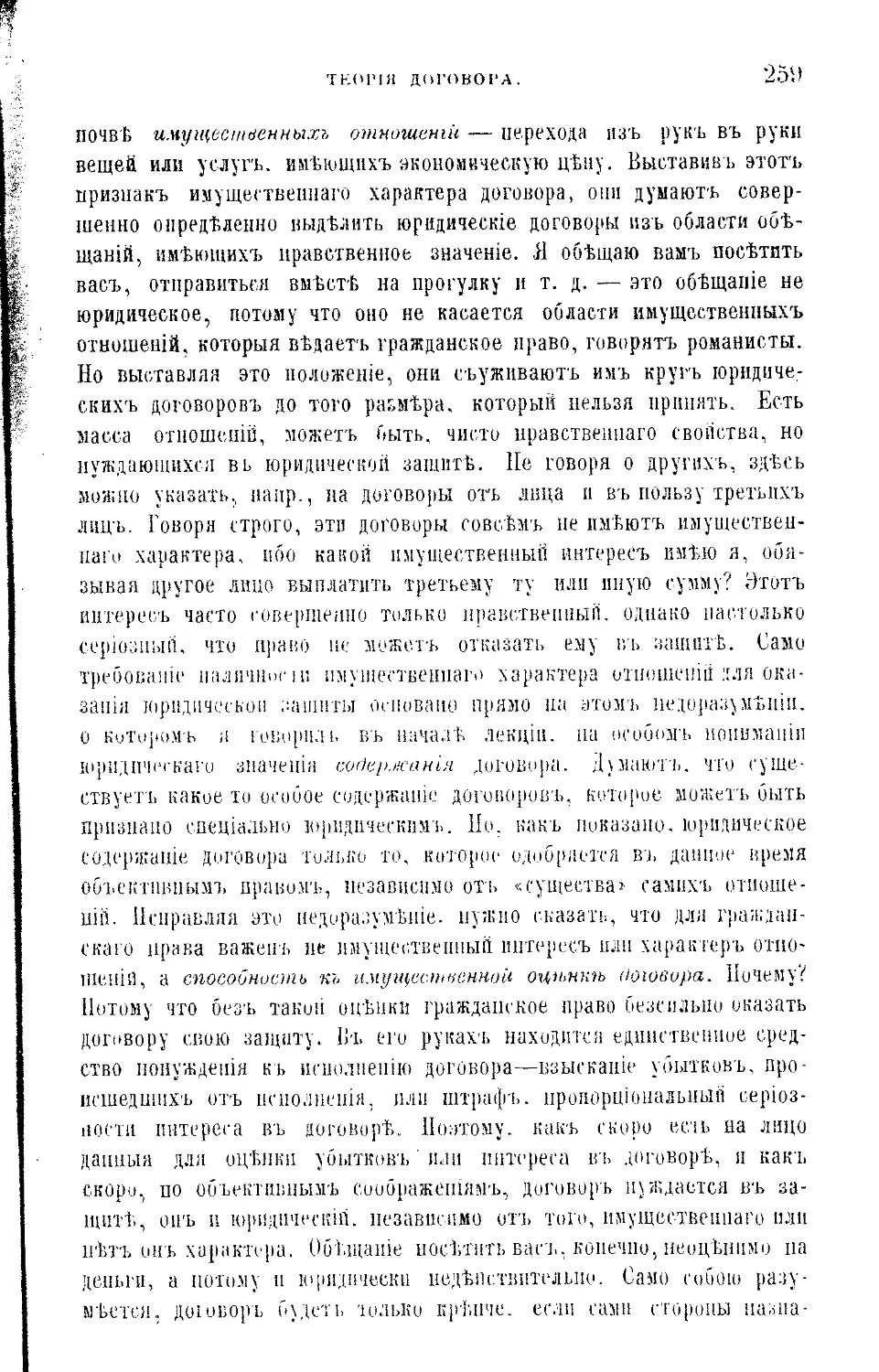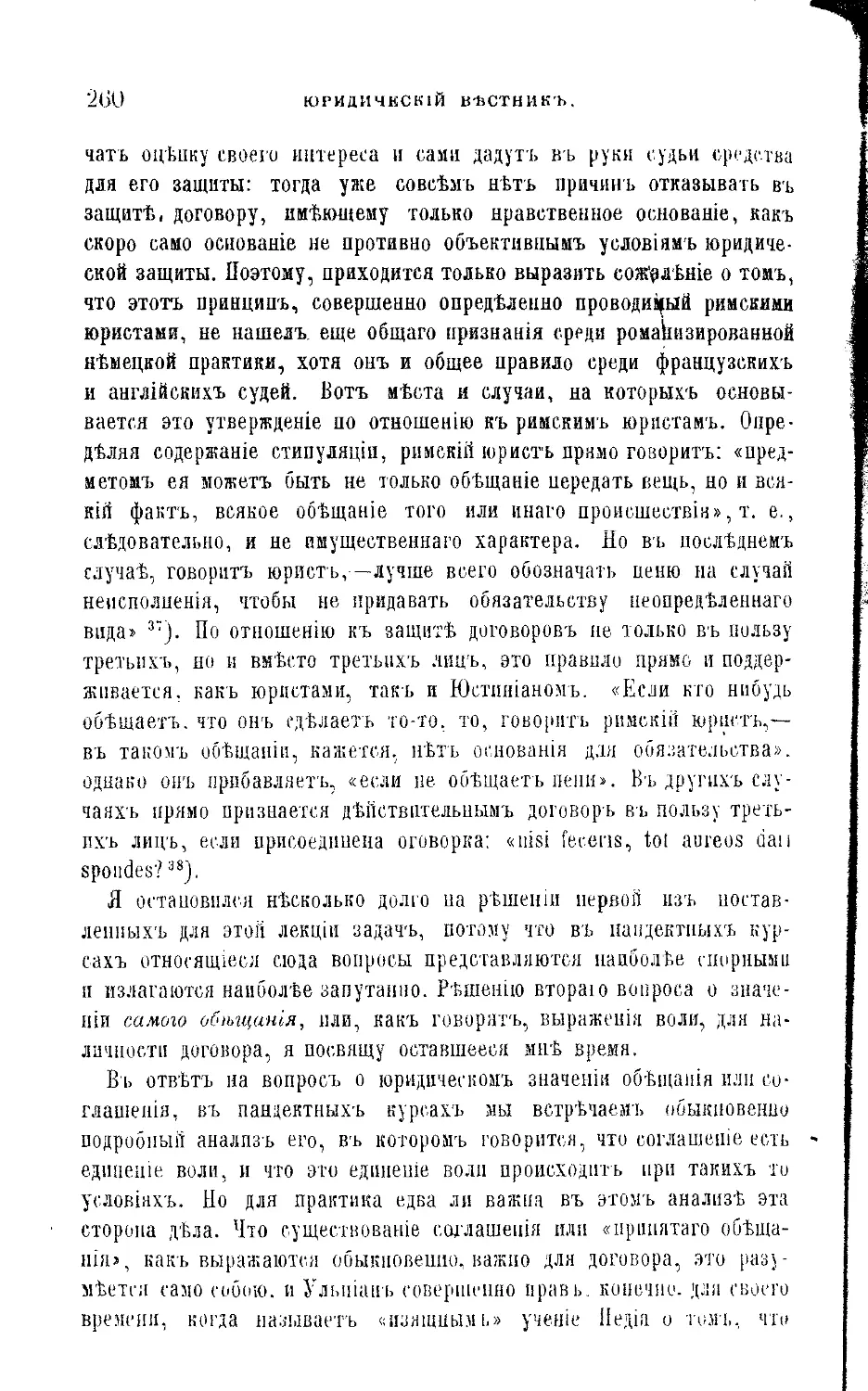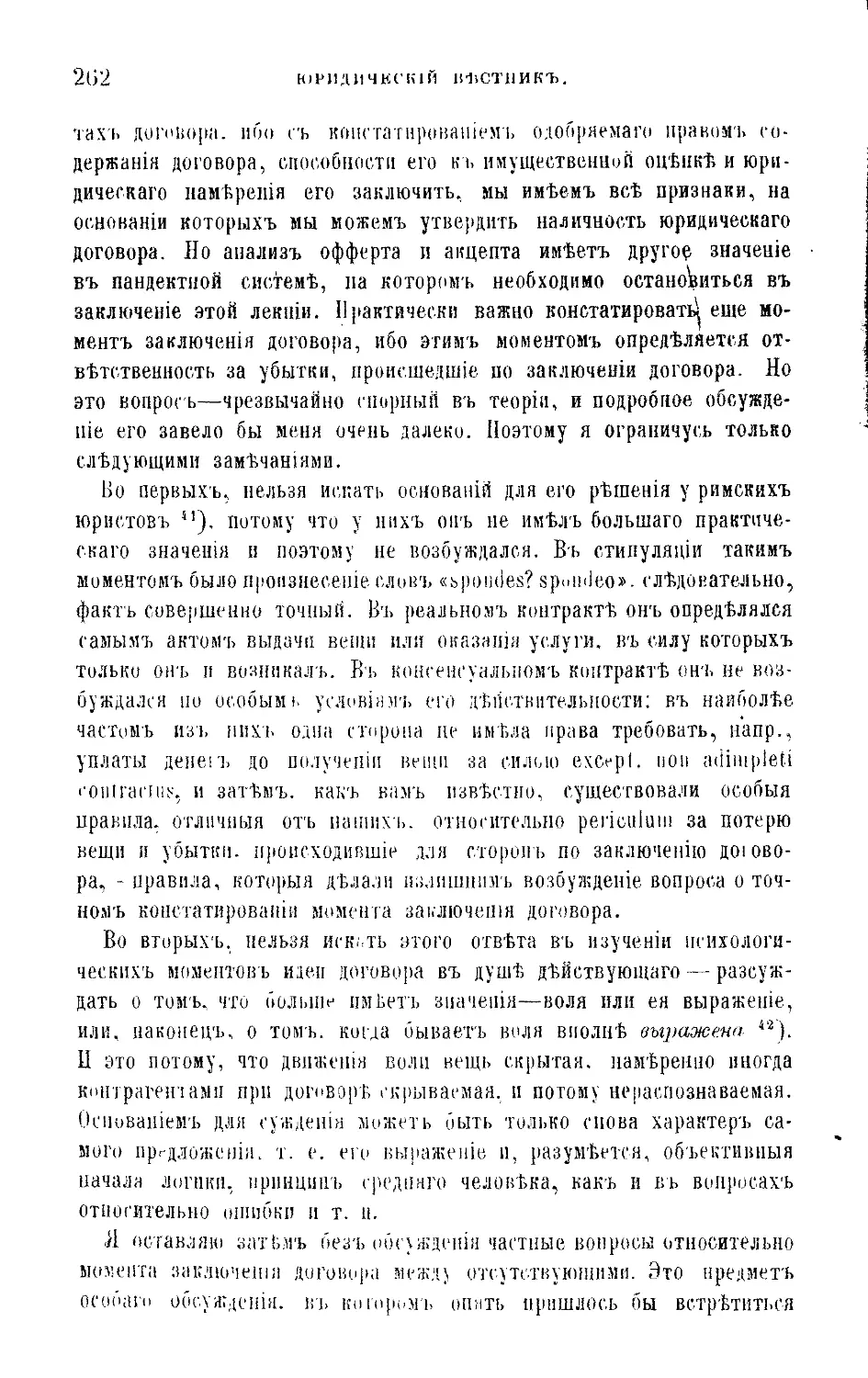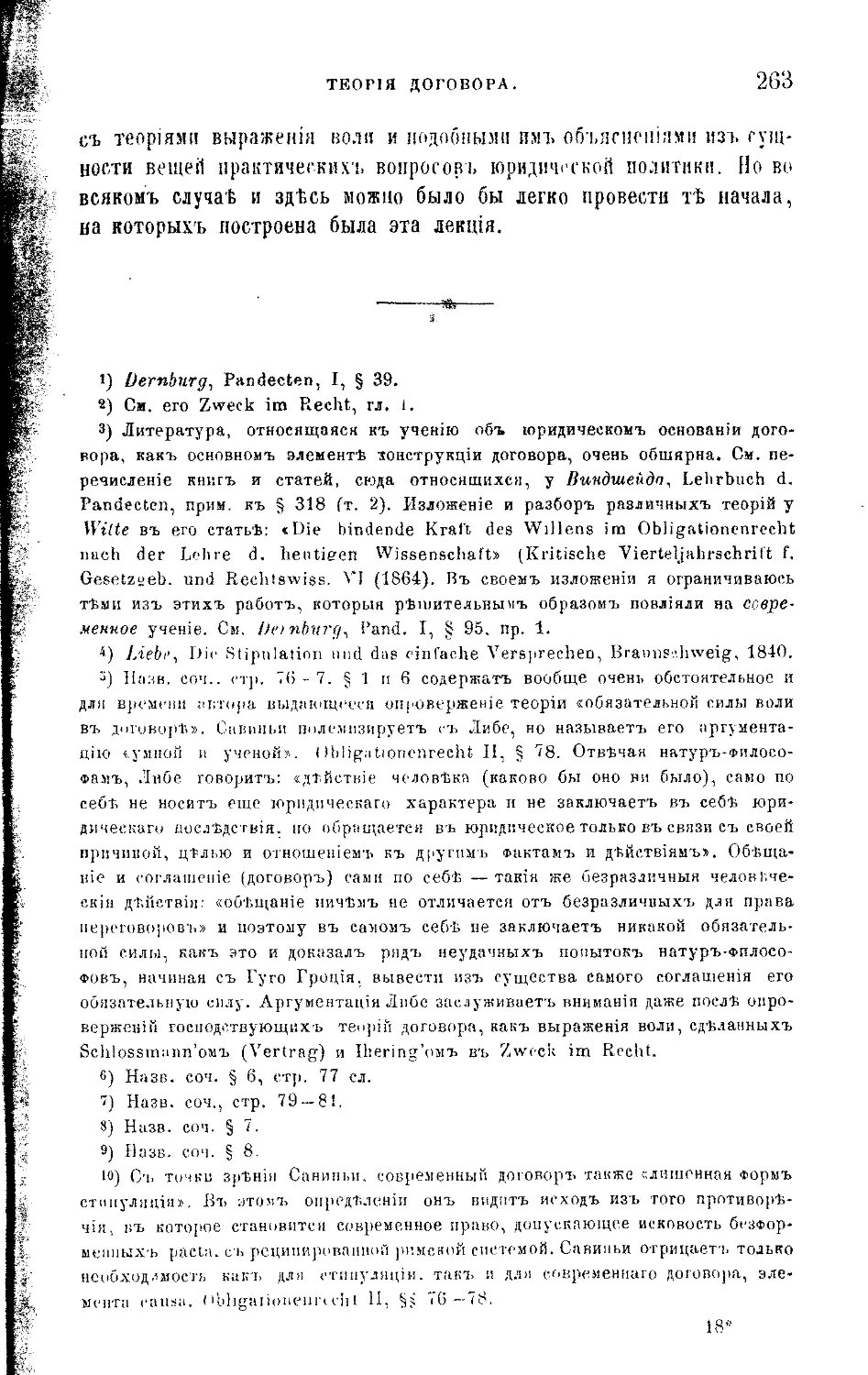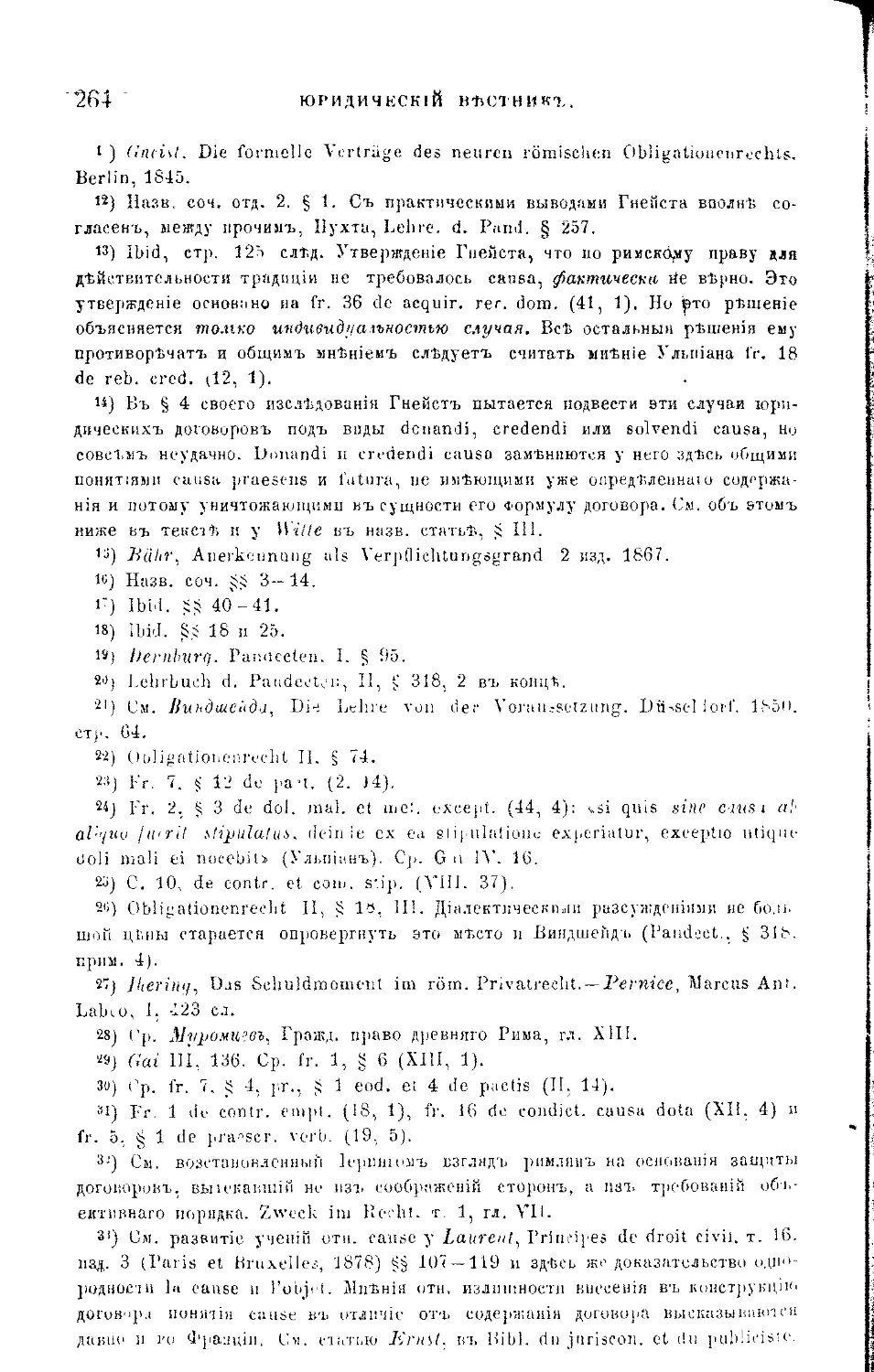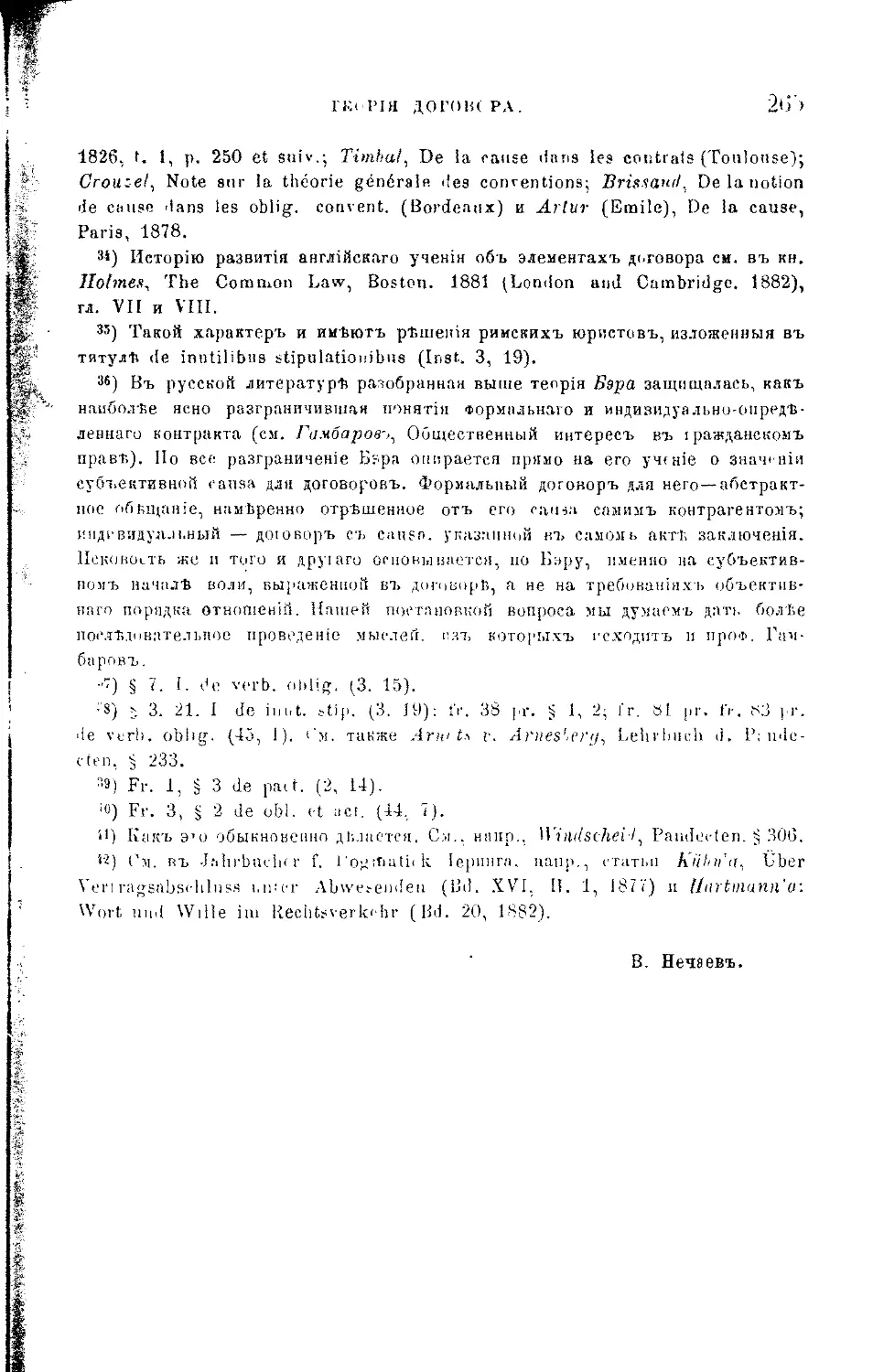Text
ТЕОРІЯ ДОГОВОРА.
(Лекція, читанная въ Императорскимъ Московскомъ Университета).
I.
Задача догматики, какъ и всякой прикладной пауки, чисто прак-
тическая: догма права должна дать систематическое наложеніе прин-
циповъ и правилъ, пригодныхъ судьѣ и юристу для руководства совре-
менной юридической дѣйствительностью. На этой точкѣ зрѣнія стоятч.
въ сущности всѣ догматическіе курсы и всѣ догматическія теоріи,
которыя пріурочиваются обыкновенно къ изученію римскія о права.
Но въ нихъ эта задача затемняется тѣмд. характеромъ, который
принимаетъ по большей части ихъ изложеніе — характеромъ чисто
научнаго, философскаго изслѣдованія юридическихъ началъ, лежащихъ
вь основаніи юридическихъ институтовъ. А этотъ характеръ въ свою
очередь объясняется особыми взглядами па роль и значеніе частнаго
права въ общественной жизни и выработавшимися при такихъ взгля-
дахъ пріемами изслѣдованія. Гражданское право въ представленіи
значительнаго количества юристовъ есть область индивидуальной
свободы личности, отмежеванная для нея объективнымъ иорядкомь и
оставленная неприкосновенной для итого порядка, — «это безспор-
ная доля участія личности въ жизненныхъ благахъ», какъ говоритъ
одинъ новый нѣмецкій пандектисть Согласно съ такимъ опредѣ-
леніемъ изученіе юристомъ этой области индивидуальной свободы
направляется не па установленіе отношенія дѣятельности частнаго
лица къ объективнымъ нормамъ, а главнымъ образомъ на анализъ
содержанія самой дѣятельности отдѣльной личности, т. е. изученіе
мотивовъ, цѣлей и законовъ, лежащнх'ь въ основѣ этой дѣятель-
ности, а вмѣстѣ и общей природы самой личности человѣка. Принявъ
ТЕОРІЯ ДОІ ОПОРА.
243
эту точку зрѣнія, догматикъ обыкновенно стирается объяснить раз-
нообразіе юридическихь правилъ, р:-гули|.ухь частно-праиовой
оборотъ, изъ существа самой дѣятельности субъекта гражданскаго
права, изъ особенностей самой природы личности. Раньше, какъ
извѣстно, выводили эти правила изъ началъ человѣческаго разума,
затѣмъ стали выводить изъ свойствъ воли, и, наконецъ, теперь стре-
мятся вывести изъ начала цѣли, лежащей будто бы въ основѣ чело-
вѣческой (психической) дѣятельности въ отличіе отъ жизни природы,
подчиненной закону причинности. Таково, но крайней мѣрѣ, ученіе
наиболѣе талантливаго изъ нѣмецкихъ юристовъ, Іерішга, около
котораго начинаютъ группироваться теперь крупныя юридическія
силы *).
Но вт> такомъ пониманіи задачи догматики гражданскаго права,
какъ кажется, и лежитъ одна изъ причинъ тѣхъ упрековъ въ ту-
манности и непрактичности, которыя сдѣлались теперь общими въ
Германіи. Если гражданское право есть область индивидуальной сво-
боды. то это выраженіе отнюдь не значитъ еще, что задача догма-
тика заключается въ изученіи законовъ и мотивовъ, лежащихъ въ
основѣ эгоистической дѣятельности человѣка; гражданское право,
какъ и право вообще, вовсе и не имѣетъ задачей опредѣлять со-
держаніе. этой дѣятельности человѣка: это содержаніе опредѣляется
само потребностями его природы; задача гражданскаго права, напро-
тивъ. рпулиро'іатъ содержаніе дѣятельности, т. е. устаповлять тѣ
границы, которыхъ она не должна переходить, а поэтому и практи-
ческая задача догматика состоитъ не вь философскомъ анализѣ субъ-
ективныхъ свойствъ человѣческой природы, лежащихъ въ основѣ че-
ловѣческой дѣятельности вообще, а въ установленіи объскпіианыхъ
признаковъ для опредѣленія границъ этой дѣятельности. Идти по
иному пути значило бы принимать на себя работу психолога и фи-
лософа тамъ, гдѣ должна быть только работа юриста.
Догматическое изученіе договорнаго права, этой юридической формы
по преимуществу, какъ говорятъ юристы, въ современной теоріи
стоитъ какъ разъ па этой философской точкѣ зрѣнія. Имѣя практи-
ческую цѣль—опредѣлить условія возникновенія и защиты договор-
ныхъ отношеній. — то. что я называю юридическими элементами
договора, опредѣляющими его юридическій составъ, — современные
Догматики стараются вывести эти условія изъ существа самаго дого-
вора, какъ Фирмы человѣческихъ отношеній, пз'ь мотивовъ и цѣлей,
подъ вліяніемъ которыхь обыкновенно заключаются юридическіе до-
говоры самими контрагентами, и тѣхъ психологическихъ моментовъ.
244
юічшічкскі й іиістн инъ.
которые опредѣляютъ идею договорной сдѣлки въ душѣ контрагента.
И трудно представить себѣ, безъ знакомства съ литературой, какія
причудливыя формы принимаетъ иногда мысль догматика, стремяща-
гося найти практическіе устои права—тамъ, гдѣ—самое большее—
можно извлечь лишь нравственныя предписанія! Но, какъ бы ни
были причудливы и подчасъ остроумны эти «конструкцій», я не по-
слѣдую за ними по указаннымъ сейчасъ основаніямъ въ этой лекціи,
и если позволю себѣ остановиться на нихъ, то только для того,
чтобы съ большей ясностью оттѣнить точки зрѣнія, которыя я на-
хожу возможнымъ поддерживать.
II.
При опредѣленіи условій псковости договора для практика-юриста
съ раздѣляемой мною точки зрѣнія не важно знать, представляетъ
ли изъ себя договоръ, соглашеніе, какъ форма человѣческихъ отно-
шеній.—единеніе воль двухъ пли болѣе лицъ или. наоборотъ, при-
крытіе разногласія ихъ интересовъ. На чемъ бы ни основывалась
необходимость юридической зашиты извѣстнаго свойства соглашеній,
эта защита для юриста-догматика фактъ, которымъ ему приходятся
пользоваться. Для него важно только опредѣлить, какимъ образомъ
выдѣлить юридическіе, т. е. подлежащіе защитѣ, договоры изъ ряда
соглашеній, не имѣющихъ юридическаго характера. Это во первыхъ.
А во вторыхъ, его задача—установить признаки возникновенія юри-
дическаго соглашенія, т. е. показать, въ какомъ случаѣ соглашеніе
можетъ считаться законченнымъ фактомъ, а слѣдовательно, событіемъ,
вызывающимъ извѣстныя юридическія послѣдствія. Обѣ эти задачи
подлежатъ и нашему разсмотрѣнію.
Что касается первой, то по самому ея существу нельзя установить
постоянной формулы, которая опредѣлила бы разъ на всегда то юри-
дическое содержаніе договора, которое право должно было бы защи-
щать. Содержаніе юридическаго договора не есть постоянная вели-
чина, содержащаяся въ человѣческомъ разумѣ, волѣ или потребно-
стяхъ его природы, а результатъ постепеннаго развитія какъ самихъ
потребностей, такъ и средствъ къ ихъ удовлетворенію. Оно резуль-
татъ развитія общественной жизни и экономическаго оборота, т. е.
факторовъ, которые юристъ принимаетъ за исходный пунктъ своей
дѣятельности, по образованіе которыхъ стоить внѣ его искусства.
Юридическое содержаніе договора можетъ быть, поэтому, опредѣлено-
и то общимъ образомъ, для каждаго даннаго историческаго момента.
ТЕОРІЯ ДОГОВОРА.
215
но никогда дли всей совокупности историческаго развитія. Это поло
женіе съ наглядностью подтверждается рѣшительной неудачей всѣхъ
попытокъ построить такую формулу неизмѣннаго юридическаго содер-
жанія договора — попытокъ, предпринимавшихся па почвѣ истори-
чески-сложившейся договорной системы Рима, которую думали было
распространить и на право современное. Вотъ нѣсколько образчиковъ
этихъ попытокъ, на которыхъ я считаю нужнымъ остановиться, по-
тому что результатъ ихъ и излагается обыкновенно въ пандектныхъ
курсахъ подъ видомъ ученія объ одномъ изъ основныхъ элементовъ
договора,—его юридическомъ основаніи (саоза).
Я возьму изъ нѣсколькихъ десятковъ такихъ теорій только три,
наиболѣе видныхъ и наиболѣе раздѣляемыхъ современными догмати-
ками; они въ своей преемственности изображаютъ послѣдовательную
смѣну философски юридическихъ теорій. Одна изъ нихъ стремится
вывести юридическое основаніе договора изъ началъ разума, другая
изъ воли, третья изъ психологической основы человѣческой дѣятель-
ности—цѣли 3).
Первая теоріятеорія очень талантливо развитая .'Іибе въ его изслѣ-
дованіи сОстппуляціп и простомъ обѣщаніи» 9,—заслуживаетъ нашего
вниманія потому, что она единственная, выходящая изъ вѣрнаго по-
ложенія объ отсутствіи ірактовь и явленій въ человѣческой жизни,
которые могли бы считаться юридическими сами но себѣ, независимо
отъ обстоятельствъ, связанныхъ съ этими фактами. Указывая на
рѣшительную безплодность попытокъ вывести юридическую силу до-
говора изь свойствъ самого соглашенія или обѣщанія, какъ акта че-
ловѣческой воли, Ліібе говоритъ, что обѣщаніе не можетъ быть
юридическимъ само но себѣ, независимо оть сопровождающихъ его
условій. «Оно есть, говоритъ онъ,—выраженіе воли, по свою волю
всякій можетъ измѣнить прежде, чѣмъ она сдѣлается фактомъ.... То
обстоятельство, что это обѣщаніе касается выгодъ другаго и принято
этимъ другимъ, нисколько не измѣняетъ положенія дѣла. Не сдер-
жать своего слова, можетъ быть, безнравственно, но такое несдер-
жаніе не всегда можетъ вызвать кару закопа» “)• Но, если это такъ,
то въ чемъ же искать признаковъ юридическаю обѣщанія? Прямо
съ этого перваго вопроса и начинается уклоненіе Ліібе съ правиль-
наго нута. Онъ думаетъ, что обѣщаніе, пока оно простое слово, не
заслуживаетъ исковой зашиты, какую бы оно ни имѣло цѣль. Оно
исково только тогда, когда сопровождается измѣненіемъ фактической,
экономической обстановки данныхъ лицъ. Если я обѣщаю вамъ по-
дарокъ, то мое обѣщаніе — простое слово, нисколько для меня, съ
246
юридическій вѣсти и къ.
юридической точки зрѣнія, не обязательное' но если я вмѣн!, сь
обѣшапіемі, передалъ вамъ и самую вещь, обѣщанную вт> нодарішь.
ю здѣсь будетъ уже и измѣненіе фактической обстановки: ваша иму-
щественная сфера увеличилась, моя уменьшилась, и измѣнять это
уже не въ моихъ силахъ, такъ какъ я сознательно желалъ этого
результата. Моя воля соединилась здѣсь съ фактомъ и потому, но
«началамъ разума», какъ говоритъ Либе, — началамъ, представлен-
нымъ, по его убѣжденію, въ римскомъ правѣ,—стала для >іеня обя-
зательна. Но если бы я передалъ вамъ вещь не съ цѣлью подарка, а
съ цѣлью полученія отъ васъ другой вещи или вознагражденія за нее.
то такой переходъ, конечно, не былъ бы простымъ увеличеніемъ
вашей имущественной сферы; вы были бы обязаны вознаградить меня
за него, и въ такомъ случаѣ ваше обѣщаніе такого вознагражденія
будетъ уже юридическимъ обѣщаніемъ, обѣщаніемъ, родящимъ обяза-
тельство. Ваше обѣщаніе нашло здѣсь опору въ предшествовавшемъ
измѣненіи факдичедкой обстановки. Наконецъ, если бы вы передали
мнѣ. в'ыіснолненіе моего обѣщанія, вознагражденіе за мою вещь, то
такой актъ былъ бы снова актомч. юридическимъ, основывающимся
на измѣненіи фактической обстановки’ вы исполнили бы только обѣ-
щаніе, вызванное фактомъ полученія отъ меня вещи. Итакъ, заклю-
чаетъ Лпбе. какъ скоро обѣщаніе сопровождается передачеп вещи
или оказаніемъ услуги (Іопапсіі, сгесіепбі ц яоігепбіі сиива. оно
становится и юридически дѣйствіітель.пымь. А поэтому дли конста-
тированіи наличности именно юридическаго, а не нравственно обяза-
тельнаго только договора, и необходимо, съ точки зрѣнія Лпбе, кон-
статированіе двухъ элементовъ, во первыхъ, обѣщанія, т. е. воли
сдѣлать распоряженіе своимъ имуществомъ; а во вторыхъ, юридиче-
скаго основанія, дающаго этой волѣ юридическую защиту, сааза,
состоящую въ передачѣ вешп съ цѣлью сопаге. зоіѵеге и сгебеге ').
Па разборѣ римскихъ источниковъ н современнаго права Лпбе п ста-
рается подтвердить свою теорію.
Но само собой понятію, что формула Либе не годится ни для чего
инаго, кромѣ объясненія римскаго реальнаго контракта. Потому что
только въ этомъ контрактѣ обѣщаніе всегда сопровождается реаль-
нымъ исполненіемъ пли возникаетъ изъ оказанія услуги; только здѣсь
дѣйствительны сіо пі (Іез ѵеі Гасіаз п /асіо пі ііе.з ѵеі і'асіаз. и не-
дѣйствительны взаимныя обѣщанія, не сопровождаемыя одновремен-
нымъ пополненіемъ, рготіііо пі сіез ѵеі і’асіаз. (іб'ьяснепію Либо не
поддается уже консенсуальный контрактъ, даже на правахъ исклю-
ченія; съ его точки зрѣнія еще болѣе совсѣмъ не объясняется иско-
ТЕОРІЯ ДОГОВОРА.
247
воеть ггипу.-іяціи, представляющей собою прямо простое обГ.щіпіе. не
сопровождаемое никакимъ псііо.іііеіііе.чь. Либе іюіюріі гь, чю защита
консенсуальнаго контракта допущена была римлянами только ради
очевидности; переходъ вещей и услугъ, т. е. измѣненіе экономиче-
ской обстановки въ куплѣ-продажѣ, напр.. настолько очевиденъ изъ
цѣли самихъ сдѣлокъ, что нѣтъ надобности уже въ реальномъ и не-
медленномъ его исполненіи Но если это и такъ, то всетаки, со-
гласно теоріи Либе, для насъ это должно бы быть нравственнымъ
только обязательствомъ, до тѣхъ поръ, пока не. послѣдуетъ реальное
исполненіе. Если римляне и были близки къ этой точкѣ зрѣнія, то
наше время уже ушло отъ нея. а слѣдовательно, и формула Либе не
имѣетъ всеобщаго значенія. По отношенію къ объясненію стппуляціи
Либе употребляетъ уже простую фикцію. Исковоеть стппуляціи, какъ
простаго обѣщанія, образовалась, по его словамъ, тогда, когда ра-
зумная теорія права не была еще выработана, и когда все регули-
рованіе оборота совершалось путемъ внѣшнихъ формъ, въ младенче-
скій періодъ юриспруденціи. Тогда въ юридическихъ постановленіяхъ
схватывали не юридическую сущность явленія, а внѣшній фактъ,
облекали его въ форму и такимъ образомъ выдѣляли изь неюриди-
ческигі сферы. Въ классическое время римскіе юристы выработали
юридическую, разумную теорію нрава и провели ее по отноіін-пію къ
созданнымъ ими лшпіеріа.ч.ныуг договорамъ, но провести ее впілпѣ
отношенію къ формальнымъ по. могли, связанные неприкосновен-
ностью іи8 сіѵііе. Все. что оип могли сдѣлать, это только провести
требованіе элемента сапза и въ стипулянію въ томъ видѣ, что сти-
пуляція, хотя формально и оставалась дѣйствительною, если не со-
провождалась дѣйствительнымъ исполненіемъ со стороны кредитора,
однако не производила и тѣхъ экономическихъ резу.іьтатовь, кото-
рые намѣрена была вызвать. Путемъ ехсерііо <Іо1і, какъ извѣстно,
преторъ защищалъ должника по стппуляціи. не получившаго вь дѣй-
ствительности денегъ въ долгъ отъ кредитора.—Нга двойственная ф ірма
римскаго договора въ видѣ стппуляціи, требовавшей вь кл іс.си ческом ь
правѣ, съ одной стороны, юридическаго основанія, а съ другой, дѣй-
ствительной и независимо огь основанія, была рецишровапа и со-
временнымъ правомъ *). Современный договоръ, по мнѣнію Либе, есть
лишенная форма, стииуляціа. Она дѣгіствіггельпа уже въ силу про-
стаго обѣщанія, вь видѣ пиііпін рас.Іяпі, но не можетъ знщищггься
нравомъ, если на судѣ не будетъ констатировано, что кредиторъ дѣй-
ствительно передало должнику нешь или оказалъ услугу, за которыя
дано обѣщаніе ув.іагы ')—Но едва ли нужно опровергать это объ-
17*
24»
ЮРИДИЧЕСКІЙ В І.С'І II11 К І,
ягненіе. Если послѣдній фактъ и вѣренъ ко о і ношенію къ ош>ічаю.
котораго держится нѣмецкая практика, и согласенъ съ 1108 агі. фран
цузскаго кодекса, какъ это показываетъ Либе, то установить исто-
рическую преемственность практики римской и современной, даже при
знавъ преемственность идей,'обусловленную рецепціей, едва ли въ си-
лахъ ученыхъ. Противъ такой преемственности возстаютъ не только гер-
манисты, но и большинство романистовъ, несмотря на поддержку этого
мнѣнія, впрочемъ съ однимъ существеннымъ измѣненіемъ, Савипыі 10).
Эта историческая невѣроятность построенія Либе и есть, повиди-
мому, одна изъ главныхъ причинъ того, почему согласные съ его прак-
тическими выводами авторы предпочитаютъ теоретическое построеніе,
данное другимъ писателемъ, Гнейспгомъ 1 •). Началамъ разума Либе
Гнейстъ противопоставилъ начало воли. Выдѣляя въ сферу юридиче-
скихъ отношеній только отношенія экономическія, подобно Либе, этотъ
авторъ думаетъ, что прп такомъ выдѣленіи воля субъекта есть един-
ственное основаніе псковостп обѣщанія. Если я хочу передать свою
вещь другому и даю обѣщаніе это сдѣлать, то сила моего обѣщанія,
очевидно, лежитъ пи въ чемъ иномъ, какъ желаніи моемъ отдать
вещь. Съ этой точки зрѣнія, моя воли, направленная на передачу
имущества, единственный опредѣляющій моментъ обѣщанія. Но дви-
женія воли суть внутреннія состоянія, скрытыя отъ глаза, и потому
ими одними право ограничиться не можетъ. Оно требуетъ выраженія
этой воли, и при томъ воли сознательной, имѣющей опредѣленное
направленіе. Если бы я передалъ другому извѣстную вещь или сдѣ-
лалъ бы обѣщаніе, самъ не сознавая зачѣмъ, то такой актъ не быль
бы признанъ юридическимъ. Но если бы я, передавая вещь или дѣ-
лая обѣщаніе, выразилъ бы чѣмъ шібудь. что я желаю сдѣлать этимъ
подарокъ, или отдаю въ долгъ для заключенія обязательства, или.
наконецъ, для уплаты но обязательству, т. е. (іоиаініі. зоіѵешіі пли
сгебешіі саиза. то такое выраженіе воли выдѣлило бы актъ въ раз-
рядъ юридическихъ. Поэтому техническое требованіе юридическаго
основанія для юридической дѣйствительности обѣщанія въ римскомъ
правѣ и кодексахъ, въ глазахъ Гпеікта. есть только общее требова-
ніе сознательности юридическихъ дѣйствій и не можетъ быть сведено
къ внѣшними, фактамъ, стояішім'ь внѣ обѣщанія, внѣ воли субъекта.
А какія же иныя сознательныя намѣренія можно предположить при
заключеніи юридическихъ сдѣлокъ, кромѣ намѣренія подарить, дать
одну вещь за другую, или погасить обязательство? Обѣщанія имуще-
ственнаго характера, сдѣланныя йопашіі, зоіѵеп-іі и сгебешіі саи-а.
и есть единственныя, юридически дѣііетвігге.чыіьш обѣщанія
ТЕОРІЯ ДОГОВОРА.
24'. <
Оо раны .и і. за іі.мь. ііьдш'шо Лпбе. къ ішравдаііію сг.пеі'! теоріи на
римскихъ и счвременпыхь источникахъ права, Гпейггь думаетъ, что
вся замѣчаемая между ними разница можетъ быть сведена къ раз-
личному строю мышленія римскихъ и современныхъ юристовъ. Со-
временные юристы безъ труда могутъ представить себѣ ту абстрак-
цію, что при договорѣ часть свободы воли одного контрагента со-
знательно переходитъ въ сферу свободы воли другаго, и потому для
нихъ совершенно безразлично, какимъ внѣшнимъ путемъ передается
контрагентами этотъ фактъ другъ другу. Для древняго римлянина трудно
было представить себѣ такой переходъ безъ внѣшнихъ символовъ и
знаковъ. Чтобы удовлетворить этой потребности, онъ и создалъ извѣ-
стнаго рода комбинацію знаковъ и символовъ, при посредствѣ кото-
рыхъ онъ выражалъ переходъ воли. Такими были мапципація, пехиш
и діірпіаііо. Въ этихъ актахъ, изображавшихъ мнимую куплю-про-
дажу—стипуляцію Гнейстъ считаетъ за дальнѣйшее развитіе пехиш—
наглядно выражалась воля въ передачѣ вещи и сознательное направ-
леніе этой воли, цѣль получить вознагражденіе за вещь въ видѣ аед.
Мало по налу, впрочемъ, римляне освободились отъ этой чувствен-
ности: при традиціи они считали достаточнымъ одного проявленія воли,
независимо отъ сайга ;:а ііііопіч. а въ договорѣ только одной сайда,
именно ігь реальномъ контрактѣ. Въ видѣ исключенія, въ консен-
суя.іыіыхь контрактахъ произошло и полное освобожденіе отъ чув-
ственныхъ формъ, при чемъ этотъ римскій договоръ вполнѣ прибли-
зился къ современному і3)
Какъ я сказалъ уже выше, практическій результать теоріи Гнейста
для догматической договорной системы одинъ и тотъ же. Выдѣляю-
щими юридическій договоръ изъ сферы пеюрпднческііхъ сдѣлок'Ь эле-
ментами, кромѣ самой воли, являются два: Г) тоть, который подра-
зумѣвается самъ собою, имущественный характеръ сдѣлки и 2”) фактъ
существованія юридическаго намѣренія подарить (.іопашіі сайда), дать
въ долгъ съ цѣлью полученія эквивалента (сгеііешіі санза’) пли упла-
тить по обязательству (аоіѵешіі сайга). Оставимъ, пока въ сторонѣ
имущественный характеръ отношеній и обратимся ко второму эле-
менту. Если вы дѣйствительно потрудитесь представить себѣ какую
пибудь иную разумную цѣль, кромѣ дачи въ подарокъ, для полученія
вознагражденія за вещь или погашенія обязательства, отдавая вашу
вещь другому лицу, то вы, конечно, не найдете такой цѣли. Для
чего же. в'і> самомь дѣлѣ, кромѣ этого, можно ее отдать?! Но если
здѣсь молчитъ разумъ. то право даетъ вамъ искомый отвѣтъ. Подъ
какую изъ трехъ категорій подведете вы договори объ установленіи
250
Ю 1'11 д 1! ческі й вѣсти и къ.
приданаго, извѣстный римскому праву? Здѣсь нѣть намѣреніи иида-
рить. дать ьъ долгъ или погасить обязательство, а между т ѣмъ эточ ь
договоръ—юридическій. Подъ какую категорію изъ трехъ подведете
вы обѣщаніе уплатить проценты, пеню и т. д., вообще рядъ обяза-
тельствъ. гдѣ нѣтъ основанія въ передачѣ собственности или въ
услугѣ, предшествующей или будущей? Очевидно, ни подъ какую. Вы-
черкнуть изъ разряда юридическихъ эти договоры тоже нельзя, а
слѣдовательно, и критерій Гнейста съ практической точкщ зрѣнія не
выдерживаетъ критики |!)-
Я перехожу къ третьему автору, теорія котораго принята почти
во всѣхъ новѣйшихъ курсахъ Пандектъ. Авторъ этотъ Бэръ, извѣ-
стный нѣмецкій практикъ и сотрудникъ Іершша ’5).
Подобно Гпейсту, Бэръ считаетъ волю творческимъ началомъ до-
говора. но онъ не соглашается съ его объясненіями юридическаго осно
ванія договора, какъ выраженія сознательнаго направленія воли. По
его представленію, юридическое основаніе есть та цѣлъ, которую пре-
слѣдуетъ контрагентъ, заключая сдѣлку. При распоряженіи имуще-
ствомъ, будетъ ли это передача вещи или заключеніе договора, соб-
ственникъ всегда имѣетъ въ виду опредѣленную цѣль, съ которою
онъ дѣлаетъ это распоряженіе. Дѣйствовать безъ цѣли въ такихь
случаяхъ значитъ совершать безсмысленный поступокъ, и въ этомъ
смыслѣ наличность основанія, сапка. сдѣлки или договора есть психо-
лоіическая необходимость. Сапка есть тотъ образъ договора, которып
слагается въ душѣ договаривающагося при еіъ заключеніи. А въ та-
комъ случаѣ эти цѣли сдѣлки нельзя уже ограничивать только тѣмь.
что можетъ быть названо, слѣдуя Гпейсту, разумнымъ и сознатель-
нымъ направленіемъ воли. Цѣли опредѣляютъ! какъ волей, такъ п
обстоятельствами, внѣ человѣка лежащими. Говоря вообще, можно
сказать, что договоръ, какъ в передача собственности, могутъ быть
пли сами себѣ цѣлью, т. е. сдѣланы ради даренія, пли предназна-
чены достигать цѣлей, внѣ самого договора и передачи лежащихъ.
Среди послѣднихъ сгебеге и зоіѵеге являются наиболѣе частыми, но
и не исключительными; обѣщаніе процентовъ, штрафа, установленія
прпдапаго и т. д. также цѣли, достойныя юридической защиты,
ибо служатъ человѣческий ь потребностямъ и могутъ въ душѣ дого-
варивающагося быть основаніемъ, мотивомъ кь заключенію договора ''' .
Но если понятіе сапка оЫЦашй такъ широко, то съ точки зрѣнія
Бэра пѣтъ, въ сущности, основанія дѣлать ее однимъ изъ существен-
ныхъ условій договора. Договаривающійся можетъ, конечно, при уста-
новленіи содержанія договора, объяснить подробно и тѣ цѣли, и і ’.
ТЕОРІЯ ДОГОВОРА.
251
мотивы, которые пибуждаютч. ег--> заключить доюнорь. и тогда судьи
не въ правѣ будетъ не принимать во вниманіе этихъ мотивовъ и
цѣлей. Если эти цѣли не будутъ достигнуты, договоръ ничтоженъ.
Но выставлять непремѣнно эти цѣли въ договорѣ, и требовать такого
выставленія, какъ существеннаго и необходимаго условія дѣйстви-
тельности договора, не представляется основательнымъ. Сторона мо-
жетъ сознательно абстрагировать свою волю отъ ея мотивовъ и уста-
новить, какъ содержаніе договора, результатъ этой абстракціи. По-
чему, спрашиваетъ Бэръ, выраженная въ такой отвлеченной формѣ
воля меньше заслуживаетъ защиты, чѣмъ воля мотивированная? Хотя
простое, не мотивированное обѣщаніе уплатить сто, съ объективной
точки зрѣнія и есть обѣщаніе «психологически незаконченное», какъ
говоритъ Бэръ, но эго не мѣшаетъ его исковой силѣ. «'Гакъ какъ
вообще, говоритъ онъ,—свободное движеніе воли есть основной прин-
ципъ теперешняго обязательственнаго права, то эта воля должна
имѣть также и возможность уничтожать эту связь обѣщанія съ сво-
имъ основаніемъ и возвышать простое обѣщаніе до совершеннаго до-
говора. Хотя эта потребность въ римскомъ правѣ и удовлетворялась
несомнѣнно путемъ особаго, формальнаго контракта, однако, продол-
жаетъ Бэръ,—и лишенная формъ воля обладаетъ ничуть не меньшей
юридической силой, чѣмъ воля, связанная формами». По его мнѣнію,
и «д.іи дѣйствителыіости римскаго формальнаго контракта положитель-
ная форма не саиза ^'ісіепз, а только сошііііо $іпе (ріа пои; послѣд-
нее теперь отпало, а воля, какъ сайка еіііеіенщ осталась» 17).
Эта теорія, какъ вы видите, представляетъ крайній образчикъ уста-
новленія практическихъ правилъ распознаваемости псковостп дого-
вора на основаніи «сущности», чистаго понятіи договора, какъ вы
раженія воли. 11 благодаря такому направленію въ рѣшеніи, мы по-
лучаемъ очень «трапный въ практическомъ отношеніи отвѣтъ. У юри-
ста спрашиваютъ, какіе признаки существуютъ для того, чтобы вы-
дѣлить юридическій договоръ изъ сферы родственныхъ гъ нимъ, но
не подлежащихъ защитѣ договорныхъ отношеній, и въ отвѣтъ на это
получается утвержденіе, что сила договора въ волѣ, и что свобод-
ное движеніе воли должно быть признано исковымъ, иначе всякій
договоръ исковъ. Бэръ, конечно, не отрицаетъ, что среди догово-
ровъ могутъ быть договоры, совсѣмъ не. имѣющіе основанія, напр..
договора, о займѣ, по которому не были отданы кредиторомъ должнику
займовыя деньги, договоры, имѣющіе дурныя цѣли и т. д. Но для
него обнаруженіе передъ судомъ такого качества договора и его до-
казательства принадлежи г і> уже отвѣтчику ну гемъ особаго рода іісковь.
252
ЮРИДИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ.
кщщиіщш. і;акь явленіе исключительное, ненорма.іыьч' и не ...и,-и-
сим'іе отъ существа самого договора 18ц По принципу же всякій до-
говоръ—пековый договоръ, разъ въ немъ такъ „ли иначе выражена
воля сдѣлать распоряженіе имущественнаго характера. Выходитъ, та-
кимъ образомъ, что и договоръ, преслѣдующій безнравственныя цѣли
и выраженный въ обѣщаніи уплаты пени безъ объявленія ея саияа,
долженъ быть защищаемъ судомъ, если ни истецъ, ни отвѣтчикъ не
пожелаютъ раскрыть его истиннаго характера. '
И несмотря на такое несоотвѣтствіе теоріи требованіямъ, объектив-
наго порядка правоотношеній, какъ я уже говорилъ, она принята
большинствомъ нѣмецкихъ пандектистовъ, среди которыхъ находятся
и такіе, какъ Виндшейдъ и Дернбургъ. Оба они видятъ въ римскомъ
и современномъ практическомъ требованіи для дѣйствительности до-
говора наличности его сапка, пли. по крайней мѣрѣ, ея доказатель-
ства кредиторомъ, одно недоразумѣніе. «Основаніе есть требованіе
для всякаго человѣческаго дѣйствія: дѣйствіе безъ основанія — без-
смысленное дѣйствіе; основаніе это - психологическая необходимость
для всякой, а не только юридической, дѣятельности, повторяютъ
слова Бэра оба названные писателя «Нельзя, поэтому, говоритъ,
Виндшейдъ.—назвать правильнымъ то положеніе, что если обѣщаніе
не называетъ своего основанія, то обѣщавшій можетъ отказать, я отъ
его исполненія, до тѣхъ поръ пока кредиторъ не докажете этого
основанія» 2,ф. И опорой для этого утвержденія является слѣдующее
объясненіе изъ существа воли: <намѣреніе предшествуетъ волѣ, оно
создаетъ ее: но послѣ того, какъ оно ее создало, между намѣрені-
емъ, и волей не существуетъ никакого союза; воля стоитъ, самосто-
ятельно п безотносительно къ намѣренію» 21)-
Самымъ лучшимъ опроверженіемъ, этой теоріи является тотъ фактъ,
что она не находитъ себѣ подтвержденія и приложеніи пи въ рим-
ской. пн въ современной практикѣ, и притомъ, какъ въ самой Гер-
маніи. такъ во Франціи и Англіи. II эго совершенно понятно: ни
одинъ судъ не можетъ явиться выразителемъ только интересовъ сто-
ронъ, не будучи въ то же время и выразителемъ интересовъ обще-
ственныхь. Это лучше всего доказывается па римскомъ правѣ, па
которомъ думаютъ оііереться сами защитники изложенной теоріи.
III.
Вопреки мнѣнію Либе. Гнейста, Бэра и вообще большинства нѣ-
мецкихъ романистовъ, можно утверждать, что римская сопка, состаі;-
ТЕОРІЯ ДОГОВОРА.
253
лившая одшгь и::ъ самыхъ і'уцеслг.еііііьіхч. л.іемсігіовь договора (епш
ініііа яійещ сапза ргоріег соііѵепііонеіп, 1нс сопзіаі иоп роззе соп-
8Іі(иі оЫідаііопет, говорить римскій юристъ), является выраженіемъ
интересовъ объективнаго порядка; цѣль ея введенія въ число суще-
Фгвенных'ь элементовъ договора—гарантія соблюденія сторонами этихъ
интересовъ. Съ исторической точки зрѣнія главные виды римскихъ
саизае оЫі^апйі: форма, гея и сопяепзпз являются только объектив-
ными признаками, показателями того содержанія договора, которое
объективное право допускало къ юридической защитѣ по мѣрѣ раз-
витія гражданскаго оборота. Формальный, реальный и консенсуаль-
ный контракты совсѣмъ не логическія произведенія, обязанныя сво-
имъ происхожденіемъ разлиіію существа юридическихъ отношеній,
качествамъ воли или разному строю мышленія—это только истори-
ческія наслоенія, выражающія ростъ договорнаго права. И среди нихъ
формальный контрактъ, въ которомъ преимущественно и видятъ за-
щиту чистой, абстрактной воли, больше, чѣмъ какой либо другой
контрактъ, предназначенъ служить гарантіей интересовъ объектив-
наго права. Его происхожденіе, общее съ шапсіраііо и ііехпш, стро-
гая форма о торжественность заключенія въ присутствіи свидѣтелей
говорятъ прямо за чу мысль что его назначеніемъ было не только
то. въ чемъ, папр.. Савппьи видитъ преимущество формальныхъ кон-
трактовъ. — пробужденіе благоразумія въ сторонахъ и точное кон-
статированіе момента ею заключенія -2).— по н установленіе кон-
троля падь договорными отношеніями съ цѣлью пе допускать къ за-
ключенію стнпу.іяціи. т. е. къ юридической защитѣ, договоровъ, пе-
одобряемыхъ объективными правомъ. Если по отношенію къ такой
роли етипуляпіп вь эпоху формализма и нельзя привести подкрѣпле-
ніи изъ источниковъ, то вмѣстѣ съ тѣмъ н не видно, почему можно
отрицать за ііеіі эту роль, рази, эта послѣдняя признана по отноше-
нію къ однохарактерной сь пей шапсіраііо? Какъ кажется, дальнѣй-
шее развитіе стипуляціи въ эпоху классическаго нрава подтвержда
отъ это заключеніе: съ ухудшеніемъ стнпуляціонной формы начи-
нается и введеніе въ стппуляцію требованія матеріальной сапка вмѣ-
сто формальной, іп, классическомъ правѣ форма стппуляціп, какъ
извѣстно, ухудшилась до того, что юристы почти не могли разли-
чить ее оть простаго расііпіг. словъ граматы: < годах'И Тіііііз, яро-
рошІП Маеѵіііз» было совершенно достаточно для признанія налично-
сти стипуляціи. если прочившіе не было доказано 2;|). Но тогда же
вводится въ область договорнаго права и ехсерііо ііоіі, которая за-
щищаетъ должника по стимуляціи, заключенной зіпе сапка, т. е. съ
2.і4
ЮРИДИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ.
нарушеніемъ интересовъ объективнаго права или сііраведліівчсіи 2і).
Когда же ухудшеніе стипуляніоппой формы дошло до того. что. со-
гласно съ конституціей императора Льва, стали дѣйствительны <опінез
«Ііриіаііопез еііашкі ноп зоіешвііміз, ѵеі Югесіік, зесі ріііЬіізсишфіе
ѵегЬіз соп8еп8и соііігаііеніііііп сошровііае еі 1е§іЬіі$ сойнііае»,—тогда
ехсерііо (іоіі была усилена спеціальной эксцепціей пои пппіегаіае ре-
синіае, имѣющей цѣлью противодъйствовать неправильному обогаще-
нію 23). Вообще несомнѣнность факта требованія при' стипуляціи
сапка ясно засвидѣтельствована не только существованіемъ этихъ
эксцепцій, но и прямыми свидѣтельствами источниковъ, среди кото-
рыхъ Гг. 25 (!е ргобаІіопіЬиз, прямо установляющій отвергнутое
Виндшейдомъ правило, запимаетъ первое мѣсто п не можетъ быть,
конечно, оспоренъ голословнымъ утвержденіемъ Савиньи о томъ, что
это мѣсто, приписанное составителями Днгестъ юристу Павлу, при-
надлежитъ будто бы конституціи императора Юстина! -ь).
Что реальный контрактъ есть также созданіе объективнаго права,
то такое происхожденіе его не подлежитъ сомнѣнію болѣе, чѣмъ ка-
кого либо другаго договора. Исторія реальнаго контракта наглядно
возстановляется въ источникахъ. На «первыхъ порахъ это даже не
договоръ; это отношеніе фактическое, защищаемое преторомъ ради
общественныхъ интересовъ штрафнымъ искомъ, какъ это обстоя гелыіо
показали Іерингъ в ІІернисъ -7). Затѣмъ нѣкоторые пзъ видовъ эгвхъ
отношеній, индивидуально опредѣленные, выдѣляются въ разрядъ до-
говоровъ—это тѣ, которые мы называемъ теперь именными реаль-
ными контрактами. Наконецъ, постепенно находятъ себѣ защиту, но
соображеніямъ справедливости и съ помощью исковъ ргае.чтірііз
ѵегі'іч и другіе виды такихъ договоровъ, контракты пнпомипатные-8).
Необходимымъ условіемъ при лихъ юристы ставили не только налич-
ность сайка въ обычномь пониманіи, перехода веіпи, гея, въ формѣ
(Іо иі ііез аеі І'асіаз н ['асіо иі без ѵеі (асіаз, по и въ томъ, кото-
рый здѣсь защищается. Вотъ доказательство этого. Въ (г. 15 сіе
ргаезсгірііз ѵегЪіз (19, 5) помѣщенъ казусъ, возстановляющій споръ
между юристами о томъ, подлежитъ ли защитѣ реальный контрактъ,
однимъ изъ контрагентовъ котораго является лицо, указывающее
скрывающихся бѣглыхъ рабовъ. Юристъ (Ульпіанъ) но обсужденіи
этого вопроса приходитъ къ слѣдующему рѣшенію: «кто взялъ деньги
'!> соихат п при томъ псс і>іціг<Ъат саішш. тотъ не долженъ бо-
яться уничтоженіи договора. 11 'іакь капъ настоящее соглашеніе не
есть сонѵеініо ілкіа. если бы кто побудь возразилъ, что пзь такого
соглашенія не родится иска, — но заключаетъ въ себѣ нѣкоторую
ТЕОРІЯ ДОГОВОРА.
255
сдѣлку (кеіі ііаЬоГ іи ч* пезоііиш аііфігп. т<>. ін> мнѣнію юриста. и
это соглашеніе неново». Здѣсь пряло саиза въ смыслѣ услуги, 1а-
сеге, получаетъ одобреніе только потому, что она не саиза ітргоЪи.
Что касается консенсуальнаго контракта, то и здѣсь легко пока-
зать, что основаніе его исковости не сопвеіізііз. т. е. воля по мнѣ-
нію юриста, а сапка объективная. Когда юристы говорятъ, что осно-
ваніе консенсуальнаго договора въ соглашеніи, то смыслъ этого вы-
раженія не слѣдуетъ распространять дальше того, который даетъ ему
Гай. Этотъ смыслъ отрицательный: для консенсуальнаго договора нѣтъ
нужды ни въ формѣ, пи въ переходѣ вещи, и это его отличитель-
ный признаки '-а). Но основаніе его защиты, выдѣляющее его изъ
ряда неисковыхъ договоровь. есть не. сопкепкіік—воля, а индивиду-
альность, шнвеіі самой сдѣлки, — иначе, содержаніе договора, одо-
бренное объективнымъ правомъ 3"). Юристы строго поддерживали эту
индивидуальность консенсуальныхъ контрактовъ и долго не соглаша-
лись признать, панр., куплей-продажей очень близкихъ къ ней. но
не вполнѣ тождественныхъ отношеній, напр.. подобныхъ мѣнѣ, когда
цѣной были не деньги, а товаръ, или соглашеніе: «я даю тебѣ это.
чтобы ты далъ мнѣ Стиха» •”). 11 въ этомъ смыслѣ римскій кон-
сенсуальный контрактъ не только является доказательствомъ призна-
нія н римлянами защиты чистое! воли. но. иаобороть. лучше всего
опровергаетъ теорію Бэра и Бпндшеида: только индивидуально опре-
дѣленный договоръ, олпосигелыіости допустимости котораго къ за-
щитѣ не существуетъ сомнѣнія, можетъ заключаться простымъ со-
глашеніемъ. Объективная саиза договора и здѣсь стоитъ впереди со-
і.ю тенія.
Тѵть субъективный смыслъ, который подалъ поводъ къ разобран-
нымъ выше п подобнымъ имъ построеніямъ договорной системы, по-
нятіе сапка пріобрѣло только благодаря указанной въ началѣ лекціи
привычкѣ разсматривать правила гражданскаго права п санкціониро-
вать ихъ существованіе не цѣлями обтактивнаго порядка правоотно-
шеній, не началами объективнаго права, а природой и потребностями
субьекта гражданскаго права. Разсматривая съ своей точки зрѣнія
правила римскихъ юристовъ, касающіяся заключенія договора, новые
юристы остановились на главномъ и наиболѣе яркомъ выраженіи
понятія сапка—па реальномъ контрактѣ и примѣнили къ нему свои
субъетишыГі языкъ. Сапка реальнаго договора была пли выдача
вещи (ііаге). или оказаніе услуі и. нныміі словами, для этого дого-
вора требовалось объективнымъ нравомъ наличность обмѣна, мѣно-
вой, а не безвозмездный характеръ обѣщанія. Употребляя языкъ
256
ЮРИДИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ.
коитраіентовь, юристы стали говорить, что при отсутствіи обмѣна
у сторонъ не было побудительныхъ причинъ заключенія сдѣлки; лицо,
обѣщавшее выдачу вещи и не получившее съ своей стороны возна-
гражденія, было обязано въ недолжномъ, его сдѣлка была зіпе саиза;
для лица, обѣщавшагося, подъ вліяніемъ такого языка, и стали
искать юридическихъ побудительныхъ причинъ къ договору въ мо-
тивахъ договора, побуждавшихъ сторонъ заключать юридическія
сдѣлки. Но очевидно, что это—только способъ выраженія, а не су-
щество дѣла. То обстоятельство, что безвозмездное обѣщаніе не за-
щищалось правомъ,—это постановленіе объективнаго права, правило
политики, а не свойство договора, основывающееся на природѣ са-
мого договора или лицъ, его заключающихъ 32).—Полная ненужность
этого субъективнаго элемента, взглядовъ и мотивовъ сторонъ для
заключенія договора ясно обнаружилась въ приложеніи къ практикѣ
постановленій 1108 агі. французскаго Сосіе сіѵіі. Какъ извѣстно,
этотъ агіісіе подъ вліяніемъ римскихъ понятій требуетъ для налич-
ности юридическаго договора, кромѣ соглашенія, съ одной стороны—
наличности одобряемаго правомъ содержанія договора (і’оіі)ег). а съ
другой—саике. побудительной причины къ заключенію договора, какъ
обыкновенно говорятъ юристы, иными словами, и объективной и субъ-
ективной сапка. Французскіе юристы, подобно нѣмецкимъ, потратили
не мало остроумія па опредѣленіе понятія саике въ субъективномъ
смыслѣ.—здѣсь мы встрѣчаемъ п много схожпх-і, съ нѣмецкими мнѣ-
ній. по. разумѣется, безъ тѣхъ странностей, которыя свойственны
нѣмецкимъ «философскимъ» построеніямъ — по всѣ ихъ усилія при-
вели ихъ кь тому, что опп принуждены были признать, что понятіе
санзі- совпадаетъ для всѣхъ договоровъ съ предметомъ договора, п
что гаікоя (Геіге этого понятія въ Со«!е сіѵіі заключается также въ
необходимости не допускать для защиты недозволенный «оглашенія,
соглашенія съ «‘аііке іііісііе.—съ педозволяемымъ правомъ содержа-
ніемъ 33). Смѣшеніе объективнаго и субъективнаго понятія сапка
очень наглядно выступаетъ и въ различіи ученій о сопяіііеіаііоп въ
англійскомъ правѣ, по здйеь же съ большой ясностью обнаруживается
истинный характеръ этихъ понятій. Сопкісіегаііоп (сапка) въ своемъ
обычномъ опредѣленіи прямо сохранила слѣды своего происхожденія
изъ реальнаго контракта. Для англійскаго права съ полной нагляд-
ностью возстаповляется совершенно аналогичный римскому процессъ
образованія реальнаго контракта изъ отношеній, не имѣвшихъ дого-
ворнаго характера въ глазахъ юристовъ. Вь отношеніяхъ, получив-
шихъ позднѣе названіе реальнаго контракта, защищался сперва только
I КОІ’ІН ДОГОВОРА.
257
объективный порядокъ правоотношеніи: возмѣщался ущербъ, убытокъ
одного лица, причиненный другимъ, или вознаграждалась выгода, при-
быль, полученная однимъ съ другаго, по требованіямъ общественнаго
порядка. Позднѣе, стали считать эти отношенія договорами, во со-
хранили и старое требованіе наличности убытка или прибыли у одного
изъ контрагентовъ для оказанія защиты такимъ договорамъ; договоръ
защищался только тогда, когда приносилъ пользу одному или имѣлъ
цѣлью вознаградить вредъ, причиненный другому. Здѣсь понятіе вреда
и убытка, какъ объективнаго основанія псковости договора, легко
смѣшивается съ субъективнымъ основаніемъ, мотивами сторонъ къ
заключенію договора. II такое смѣшеніе произошло дѣйствительно въ
выраженіяхъ юристовъ, но не повліяло на развитіе псковости дого-
воровъ такъ, какъ повліяли нѣмецкія теоріи на практику. Когда
развились двусторонніе консенсуальные договоры, имѣвшіе цѣлью
только установленіе будущихъ выгодъ контрагентовъ и, слѣдовательно,
не основывающіеся ни на прибыли, ни на убыткахъ, — англійскіе
юристы сохранили доктрину о сопмііегаііон, но стали учить, что сами
взаимныя обѣщанія, сдѣланныя контрагентами другъ другу, были
взаимными выгодами и убытками дли нихт: сдѣлать обѣщаніе—убы-
токъ для мепи и выгода для другой стороны. Ііпымп словами, сами
обѣщанія, самъ соихспхмх сторонъ сталъ здѣсь съіікіііегаіііні, с.аііза
договоровъ. По сігіва очевидно, что это—-только способъ выраженія,
сохраняющій слѣды историческаго происхожденія доктрины, и ничего
болѣе. Сонзеішщ сторонъ есть внѣшняя форма юридическаго отно-
шенія, а основаніе защиты договора—требованіе новаго объективнаго
порядка защищать соглашенія, имѣющія цѣлью установленіе отноше-
ній. выгодныхъ для контрагентовъ не только въ настоящемъ, но и
въ будущемъ зіѣ
Итакъ, наличность элемента саііза есть требованіе объективнаго
права допускать къ защитѣ только соглашенія, имъ одобренныя.
Искать, поэтому, точнаго опредѣленія содержанія этого понятія зна-
чило бы. какъ сказано выше, искать установленіи содержанія всего
договорнаго права, которое зависитъ отъ оборота и законодательной
политики по отношенію кь нему. Для юриста-практика это опредѣ-
леніе будетъ имѣть всегда отрицательный смыслы содержаніе дого-
воровъ, чтобы имѣть основаніе къ юридической защитѣ, не должно
быть противно общественному порядку, законамъ и добрыми нравами.
Всякое точное опредѣленіе будете имѣть значеніе ѵ/німн.рніію. Ст.
1529 X т. ч. 1 нашего свода закопоігь пытается, паир.. даіь такое
опредѣленіе: «Д.огшюрі, недѣпствигелеігь и обязательство ничтожно,
25Ь
ЮРИДИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ.
гласитъ эта статья, — если побудительная причина къ заключенію
онаго есть достиженіе цѣли, законами запрещенной, какъ то, когда
договоръ клонится: 1) къ расторженію законнаго супружества: 2) къ
подложному переукрѣпленію имѣнія во избѣжавъ' платежа долговъ;
3) къ лихоимственнымъ изворотамъ; 4) къ присвоенію частному лицу
такого права, котораго оно по состоянію своему имѣть не можетъ;
5) ко вреду государственной казны». Но само собой понятно, что
неисковые договоры не ограничиваются этими случаями. Вопросъ о
томъ, какіе договоры подлежатъ защитѣ, рѣшается общими нрав-
ственными понятіями даннаго времени, потребностями оборота и усмо-
трѣніемъ судьи 35). Для каждаго даннаго случая должны быть особыя
соображенія ай Іюс. И при этомъ во всякомъ случаѣ, можетъ быть
признано общимъ правиломъ то, что Виндшейдъ ставитъ подъ н. 4
§ 314 своихъ Пандектъ: «недѣйствптелепъ договоръ тогда, когда
интересъ, который имѣлъ кредиторъ въ обѣщанномъ исполненіи, не
представляя самъ по себѣ прямыхъ основаній къ его опроверженію,
будетъ отвергнутъ, однако, но усмотрѣнію судьи», или. выражаясь
вѣрнѣе, когда содержаніе договора, по усмотрѣнію судьи, будетъ
признано протпворѣчащимь цѣлямъ объективнаго права. Но само
собой разумѣется, это справедливо не по тому мотиву, который
указываетъ самъ Виндшейдъ: «право существуетъ не д.га причудъ и
легкомысленныхъ вожделѣній», и нротиворѣчпть теоріи «свободнаго
движенія воли» въ гражданскомъ правѣ, вполнѣ раздѣляемой и Винд-
шейдомъ.
IV.
Есть, однако, два объективныхъ признака, которые могутъ быть
быть признаны неизбѣжными составными элементами договора. Это,
во первыхъ, форма для тѣхъ договоровъ, обнаруженіе содержанія ко-
торыхъ на судѣ, по требованіямъ оборота, признано правомъ стѣ-
снительнымъ. Это векселя, бумаги па предъявителя и договоры, имъ
подобные. Но какъ доказано выше, это во всякомъ случаѣ исклю-
ченіе, потому и нуждающееся въ формѣ, а не выраженіе принципа,
допускающаго къ защитѣ и договоры, лишенные і'.ііъа :1’).
Второй признакъ — способность къ и.міішественноіі оціьнкіь депо-
вора. По поводу этого элемента нужно сдѣлать нѣсколько болѣе про-
странныя объясненія.
Изъ разбора теоріи нѣмецкихъ романистовъ вы замѣгилн. конечно,
что оіні допускаютъ безусловную защиту изъявлешп поли только на
ТЕОРІЯ ДОГОВОРА.
25!»
почвѣ имущественныхъ отношеній — перехода изъ рукъ въ руки
вещей или услугъ, имѣющихъ экономическую цѣну. Выставивъ этотъ
признакъ имущественнаго характера договора, они думаютъ совер-
шенно опредѣленно выдѣлить юридическіе договоры изъ области обѣ-
щаній, имѣющихъ нравственное значеніе. Я обѣщаю вамъ посѣтить
васъ, отправиться вмѣстѣ на прогулку и т. д. — это обѣщаніе не
юридическое, потому что оно не касается области имущественныхъ
отношеній, которыя вѣдаетъ гражданское право, говорятъ романисты.
Но выставляя это положеніе, они съуживаютъ имъ кругъ юридиче-
скихъ договоровъ до того размѣра, который нельзя принять. Есть
масса отношеній, можетъ быть, чисто нравственнаго свойства, но
нуждающихся вь юридической защитѣ. Не говоря о другихъ, здѣсь
можно указать, напр., на договоры отъ лица и въ пользу третьихъ
лицъ. Говоря строго, эти договоры совсѣмъ не имѣютъ имуществен-
наго характера, ибо какой имущественный интересъ имѣю я, обя-
зывая другое лицо выплатить третьему ту или иную сумму? Этотъ
интересъ часто совершенно только нравственный, однако настолько
серіозный, что право не можетъ отказать ему въ защитѣ. Само
требованіе наличноеіи имущественнаго характера отношеній иля ока-
занія юридичесьои зашиты основано прямо на этомъ не доразумѣніи,
о которомъ я говоріыь въ началѣ лекціи, на особомъ пониманіи
юридическаго значенія сдержанія договора. Думаютъ, что суще-
ствуетъ какое то особое содержаніе договоровъ, которое можетъ быть
признано спеціально юридическимъ. Но. какъ показано, юридическое
содержаніе договора только то, которое одобряется въ данное время
объективпымі, правомъ, независимо отъ «существа» самихъ отноше-
ній. Исправляя это недоразумѣніе, нужно сказать, что для граждан-
скаго нрава важенъ не имущественный интересъ или характеръ отно-
шеній, а способность къ имущественной оціьнкѣ (Юювора. Почему?
Потому что безъ такой оцѣнки гражданское право безсильно оказать
договору свою защиту. Въ его рукахъ находится единственное сред-
ство понужденія къ исполненію договора—взысканіе убытковъ, про-
исшедшихъ отъ исполненія, ила штрафъ, пропорціональный серіоз-
ности интереса въ договорѣ. Поэтому, какъ скоро есть на лицо
данныя для оцѣнки убытковт, пли интереса въ договорѣ, и какъ
скоро, по объективнымъ соображеніямъ, договоръ нуждается въ за-
щитѣ, онъ и юридическій, независимо отъ того, имущественнаго или
вѣчъ онъ характера. Обѣщаніе посѣтить васъ, конечно, неоцѣнимо па
деньги, а потому и юридически недѣйствительно. Само собою разу-
мѣется, доіоворъ будить только крѣпче, если сами стороны паяна-
260
ЮРИДИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ.
чатъ оцѣнку своеі-о интереса и сами дадутъ въ руки судьи средства
для его защиты: тогда уя;е совсѣмъ нѣтъ причинъ отказывать въ
защитѣ, договору, имѣющему только нравственное основаніе, какъ
скоро само основаніе не противно объективнымъ условіямъ юридиче-
ской защиты. Поэтому, приходится только выразить сожалѣніе о томъ,
что этотъ принципъ, совершенно опредѣленно проводимый римскими
юристами, не нашелъ, еще общаго признанія среди романизированной
нѣмецкой практики, хотя онъ и общее правило среди французскихъ
и англійскихъ судей. Вотъ мѣста и случаи, на которыхъ основы-
вается это утвержденіе по отношенію къ римскимъ юристамъ. Опре-
дѣляя содержаніе стипуляціп, римскій юристъ прямо говоритъ: «пред-
метомъ ея можетъ быть не только обѣщаніе передать вещь, но и вся-
кій фактъ, всякое обѣщаніе того или инаго происшествія»,!’, е.,
слѣдовательно, и не имущественнаго характера. Но въ послѣднемъ
случаѣ, говоритъ юристъ, —лучше всего обозначать пеню на случай
неисполненія, чтобы не придавать обязательству неопредѣленнаго
вида» з;). По отношенію къ защитѣ договоровъ не только въ пользу
третьихъ, но и вмѣсто третьихъ лицъ, это правило прямо и поддер-
живается. какъ юристами, такъ и Юстиніаномъ. «Если кто нибудь
обѣщаетъ, что онъ сдѣлаетъ то-то, то, говоритъ римскій юристъ,—
въ такомъ обѣщаніи, кажется, нѣтъ основанія для обязательства»,
однако онъ прибавляетъ, «если не обѣщаетъ пени». Въ другихъ слу-
чаяхъ прямо признается дѣйствительнымъ договоръ въ пользу треть-
ихъ лицъ, если присоединена оговорка: «нізі Гесепз, іоі апгеоз (іаіі
зроисіез?38).
Я остановился нѣсколько долго на рѣшеніи первой изъ постав-
ленныхъ для этой лекціи задачъ, потому что въ пандектныхъ кур-
сахъ относящіеся сюда вопросы представляются наиболѣе спорными
и излагаются наиболѣе запутанно. Рѣшенію втораго вопроса о значе-
ніи самого обѣщанія, пли, какъ говорятъ, выраженія воли, для на-
личности договора, я посвящу оставшееся мнѣ время.
Въ отвѣтъ на вопросъ о юридическомъ значеніи обѣщанія или со-
глашенія, въ пандектныхъ курсахъ мы встрѣчаемъ обыкновенно
подробный анализъ его, въ которомъ говорится, что соглашеніе есть
единеніе, воли, и что это единеніе воли происходить при такихъ то
условіяхъ. Но для практика едва ли важна въ этомъ анализѣ эта
сторона дѣла. Что существованіе соглашенія или «принятаго обѣща-
нія», какъ выражаются обыкновенно, важно для договора, это разу-
мѣется само собою, и Улыііаігь совершенно правь, конечно, для своего
времени, когда называетъ «изящныя ь» ученіе Педіа о томъ, что
ТЕОРІЯ ДОГОВОРА.
261
«соглашеніе есть необходимый элементъ всякаго договора, будетъ ли
такой договоръ заключенъ ге пли ѵегЬіз, потому что и стппуляція.
если не имѣетъ въ себѣ соглашенія, ничтожна» за): тогда мысль о
юридической силѣ соглашенія была нова, и въ частности реальный
контрактъ, какъ я уже говорилъ, нуждался болѣе въ саиза, чѣмъ
въ соглашеніи. Но для насъ анализъ соглашенія имѣетъ другой
смыслъ. Дѣло въ томъ, что при наличности соглашенія и одобряе-
маго. объективнымъ правомъ содержанія его (саиза) можетъ еще не
возникнуть договора: необходимо существованіе еще третьяго эле-
мента. Я обѣщаю вамъ перевезти ваши вещи изъ одного города въ
другой, вы соглашаетесь на мое обѣщаніе и отдаете вещи. По не-
счастному случаю вещи погибаютъ при переѣздѣ. Отвѣчаю я вамъ
за это несчастіе, или пѣтъ? Если между нами былъ договоръ, то да,
если нѣтъ,—а была только дружеская услуга—не отвѣчаю. Но какъ
распознать это? Нужно констатировать намѣреніе заключить именно
юридическій договоръ, и для этого констатированія анализируютъ
обыкновенно соглашеніе, открывая въ немъ два элемента: предложе-
ніе (оффергь) и принятіе предложенія (акцентъ), потому что, гово-
рятъ, соглашеніе есть принятое предложеніе. Характеръ обоихъ
этихъ элементовъ соглашенія и опредѣляетъ намѣреніе заключить
юридическій договоръ. Если предложеніе было дано въ такихъ сло-
вахъ, было вообще такого содержанія, что вызывало непремѣнно
мысль о юридическомъ договорѣ въ умѣ другой стороны, и если эта
сторона принимала такое предложеніе, то юридическій договоръ за-
ключенъ. Но когда же предложеніе имѣетъ такой характеръ?—иначе
какіе объективные признаки могутъ быть указаны въ теоріи для
констатированія такого характера предложенія? Прямаго отвѣта на
этотъ вопросъ по самымъ свойствами дѣла опять дать нельзя. Отвѣтъ
на этотъ вопросъ можетъ быть только общій: характера, предложенія
опредѣляется, во первыхъ, его содержаніемъ, а во вторыхъ, спосо-
бомъ выраженія. Если оба эти признака, констатированные въ дан-
номъ предложеніи, говорятъ за то, что въ данномъ случаѣ только
и могла идти рѣчь о юридическомъ предложеніи, тогда нужно будетъ
признать и заключеніе юридическаго договора. Само собою разумѣется,
однако, что здѣсь возможны недоразумѣнія, даже при той строгой
формѣ предложенія, какую знаетъ римская стинуляція. И «зрошіез-
пе» можетъ быть сказано въ шутку “'), но это уже вопросъ факта,
который обсуждаеіся по обстановкѣ сдѣлки и правиламъ относительно
ошибки, шутки и :. д.
Изложеннымъ исчерпывается, ігь сущности., все ученіе объ элемен-
Юридич. Віетиинк».. 1л.---. .V- 1<»
262 ЮРИДИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ.
такъ договора, ибо съ констатированіемъ одобряемаго правомъ со-
держанія договора, способности его къ имущественной оцѣнкѣ и юри-
дическаго намѣренія его заключить, мы имѣемъ всѣ признаки, на
основаніи которыхъ мы можемъ утвердить наличность юридическаго
договора. Но анализъ офферта и акцепта имѣетъ другое значеніе
въ пандектной системѣ, па которомъ необходимо остановиться въ
заключеніе этой лекціи. Практически важно констатировать^ еще мо-
ментъ заключенія договора, ибо этимъ моментомъ опредѣляется от-
вѣтственность за убытки, происшедшіе по заключеніи договора. Но
это вопросъ—чрезвычайно спорный въ теоріи, и подробное обсужде-
ніе его завело бы меня очень далеко. Поэтому я ограничусь только
слѣдующими замѣчаніями.
Во первыхъ, нельзя искать основаній для его рѣшенія у римскихъ
юристовъ 41)- потому что у нихъ онъ не имѣлъ большаго практиче-
скаго значенія и поэтому не возбуждался. Въ стппуляціи такимъ
моментомъ было произнесеніе словч, «ьроініез? 8р<>шіео». слѣдовательно,
фактъ совершенно точный. Въ реальномъ контрактѣ онъ опредѣлялся
самымъ актомъ выдачи вещи или оказанія услуги, въ силу которыхъ
только онъ и возникалъ. Въ консенсуальномъ контрактѣ онч. не воз-
буждался по особыйь условіямъ его дѣйствительности: въ наиболѣе
частомъ изъ ппхь одна сторона не имѣла права требовать, напр.,
уплаты денеіъ до полученіи вещи -за силою ехсері. пои шіішріеіі
сонігасіпс, и затѣмъ, какъ вамъ извѣстно, существовали особыя
правила, отличныя отъ нашихъ, относительно регісііінш за потерю
вещи и убытки, происходившіе для сторонъ по заключенію доюво-
ра, - правила, которыя дѣлали излишнимъ возбужденіе вопроса о точ-
номъ констатированіи момента заключенія договора.
Во вторыхъ, нельзя искать этого отвѣта въ изученіи психологи-
ческихъ моментовъ идеи договора въ душѣ дѣйствующаго — разсуж-
дать о томъ, что больше имѣетъ значенія—воля или ея выраженіе,
или, наконецъ, о томъ, когда бываетъ воля вполнѣ вы])ажена 4‘2).
II это потому, что движенія воли вещь скрытая, намѣренно иногда
контрагентами при договорѣ скрываемая, и потому нераспознаваемая.
Основаніемъ для сужденія можеть быть только снова характеръ са-
мого приложенія, т. е. его выраженіе и, разумѣется, объективныя
начала логики, принципъ срединго человѣка, какъ и въ вопросахъ
относительно ошибки и т. и.
Я оставляю заткмъ безъ обсужденія частные вопросы относительно
момента заключенія договора между отсутствующими. Это предметъ
особаго обсужденія, въ ко соромъ опять пришлось бы встрѣтиться
ТЕОРІЯ ДОГОВОРА.
263
съ теоріями выраженія воли и подобными имъ объясненіями изъ сущ-
ности вещей практическихъ вопросовъ юридической политики. Но во
всякомъ случаѣ и здѣсь можно было бы легко провести тѣ начала,
на которыхъ построена была эта лекція.
-------$1----
і) йетпЬигд, Рапйесіеп, I, § 39.
Си. его Хѵгеск іт НесЫ;, гл. 1.
3) Литература, относящаяся къ ученію объ юридическомъ основаніи дого-
вора, какъ основномъ элементѣ конструкціи договора, очень обширна. См. пе-
речисленіе книгъ и статей, сюда относящихся, у Пиндшейдо. ЬеІігЪисЬ И.
Рапбесіеп, прим. къ § 318 і'т. 2). Изложеніе и разборъ различныхъ теорій у
ЪѴіІіе въ его статьѣ: «Иіе Ьіпгіепсіе КгаІТ дез ХѴіНепз іт ОЫі§аІіопепгесЫ
паеіі дег Ьеііге д. Ііенііееп ІѴіввепзсЬаІ'І» (КгіСізсЬе ѴіегіеЦаІігвсЬгіП; Г.
СезеігиеЬ. иті Весііізгѵізв, VI (1864). Въ своемъ изложеніи я ограничиваюсь
тѣми изъ этихъ работъ, которыя рѣшительнымъ образомъ повліяли на совре-
менное ученіе. См. 1)е>пЬигд, і’апсі. I, § 95. пр. 1.
4) ВіеЬі’, Г)іе 81ірпІаііоп ппсі йаз еіпГасІіе ѴегзргесЬеп, Вгаііп?.,.1пѵеі§, 1840.
») Назв. соч.. <*тр. 76-7. § 1 и 6 содержатъ вообще очень обстоятельное и
дли времени автора выдающееся опроверженіе теоріи «обязательной силы воли
въ договорѣ». Спвпиьи полемизируетъ съ Либе, но называетъ его аргумента-
цію «умной и ученой». (ІЫіраІіопепгесИі II, § 78. Отвѣчая натуръ-Филосо-
фэмъ, Либе говоритъ: «дѣйствіе человѣка (каково бы оно ни было), само по
себѣ не носитъ еще юридическаго характера и не заключаетъ въ себѣ юри-
дическаго послѣдствія, по обращается въ юридическое только въ связи съ своей
причиной, цѣлью и отношепіем’ь къ другимъ Фактамъ и дѣйствіямъ». Обѣща-
ніе и соглашеніе (договоръ) сами по себѣ —такія же безразличныя человѣче-
скія дѣйствія: «обѣщаніе ничѣмъ не отличается отъ безразличныхъ для права
переговоровъ» и поэтому въ самомъ себѣ не заключаетъ никакой обязатель-
ной силы, какъ это и доказалъ рядъ неудачныхъ попытокъ натуръ-Фплосо-
фовъ. начиная съ Гуго Греція, вывести изъ существа самого соглашенія его
обязательную силу. Аргументація Либе заслуживаетъ вниманія даже послѣ опро-
верженій господствующихъ теорій договора, какъ выраженія воли, сдѣланныхъ
бсіііоззтапп’омъ (Ѵег(гад) и Ніегіпц’омъ въ Хлѵеск іт НесІН.
6) Назв. соч. § 6, стр. 77 сл.
7) Назв. соч., стр. 79 — 81,
8) Назв. соч. § 7.
9) Назв. соч. § 8.
Ю) Ст. точки зрѣнія Саниныі. современный договоръ также «лишенная Формъ
стічіуляція». Въ этомъ опредѣленіи онъ видитъ исходъ изъ того противорѣ-
чія, въ которое становится современное право, допускающее исковость безфор-
менныхъ расіа. съ реципированной римской системой. Спвиньи отрицаетъ только
необходимость какъ для етипуляціи. такъ и дли современнаго договора, эле-
мента еаиза. ыЫідаііоііешчсііI II, 76 —78.
18й
^84
ЮРИДИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ.
I ) (Іпсілі. Эіе Гоіпіеііе Ѵег(гіі<;е гіез пеигсп гбтіесіісп ОЫі^аІіоиспгесІііз.
Вегііп, 1845.
12) Назв. соч. отд. 2. § 1. Съ практическими выводами Гнеііста вполнѣ со-
гласенъ, между прочимъ, Пухта, І.еіпе. <1. Рпті. § 257.
'3) Ніід, стр. 125 слѣд. Утвержденіе Гвейста, что но римскому праву для
дѣйствительности традиціи не требовалось саиза, фактически не вѣрно. Это
утвержденіе основано иа Гг. 36 сіе асдиіг. гег. сіопі. (41, 1). Но рто рѣшеніе
объясняется чполіко индивидуальностью случая. Всѣ остальныя рѣшенія ему
противорѣчатъ и общимъ мнѣніемъ слѣдуетъ считать мнѣніе Улыііана Гг. 18
де геЬ. сгед. (12, 1).
14) Въ § 4 своего изслѣдованія Гнейстъ пытается подвести эти случаи юри-
дическихъ договоровъ подъ виды бспапіі, сгедепді или еоіѵепді саиза, но
совсѣмъ неудачно. Ьонапйі и сгедепді саиза замѣняются у него здѣсь общими
понятіями саиза ргаезепв и Гніига, не имѣющими уже опредѣленна!о содержа-
нія и потому уничтожающими въ сущности его Формулу договора. С.м. объ этомъ
ниже въ текстѣ и у Кіііе въ назв. статьѣ, )і 111.
13) Рііііг. А негке и п. и и аіз Ѵег]>і1ісІііипрзргапд 2 изд. 1867.
1'1) Назв. соч. 3— 14.
1') ІЬЫ. Ж 40-41.
18) ІЬід. 18 и 25.
19; Ііеі-Іііпіг/]. Раіиіссіеп. I. § 95.
9'1) І.еІігЬисІі іі. Раидесісп, II, > 318, 2 въ концѣ.
21) См. Виьдшеііди, Біо Ьеііге ѵоп ііег Ѵогаи.-зыгііпд-. Нй-зсІ ІогГ. 18Ы>.
стр. 64.
29) О пі ір а Ново ні'есіі I II. § 74.
2-!) 1-г. 7. 12 де ]>ач. (2. 14).
21) І'г. 2. 3 де доі. гааі. е( шсі. ехеері. (44, 4): сзі диіз віпе с-и<8 і и!
аі-чии і'Ч'ГІ! іііуиіаіиі. (Іеіп іе ех еа еі іриіаііопс ехуегініиг, ехеерію ікііріе
Ооіі піаіі еі посеЬіь (Ульпіанъ). Ср. О и 15’. 16.
23) С. 10, де еопіг. еі сою. з-.ір. (ѴП1. 37).
2'1) ОЫщаІіопепгееІіІ II, іі 1-5, ПІ. Діалектическими разсужденіями не бо.іь
шоіі цѣны старается опровергнуть это мѣсто и Виндшейдъ (Рапдесі.. § 318.
при». 4).
27) /4епн</, Оаз 8с1іи1дтотспі іт гот. Ргіѵаігесііі,— Регпісе, Шагена Апі.
ЬаЬю, I, 423 сл.
28) (’р. ДЛ/ром(4?вг., Гражд. право древняго Рима, г.і. XIII.
29} (!аі III, 136. Ср. Гг. 1, § 6 (XIII, 1).
зо) Ср. Гг. 7. 5 4, рг., і; 1 еод. е: 4 де расііз (II, 14).
зі) І'г. 1 де соп(г. етрі. (18, 1), Гг. 16 де сопдісі. саиза доіа (ХП, 4) и
Гг. 5, <5 1 <1 е ргалзсг. ѵегб. (19, о).
3;) Си. возстановленный Іерпшіоіъ взглядъ ]>имлпнъ на основанія защиты
договоровъ, вытекавшій не изъ соображеній сторонъ, а изъ требованій объ-
ективнаго порядка. Еѵѵеск іпі НсеІН. т. 1, гл. VII.
зі) Си. развитіе ученій отн. саіізе у Ьаигеиі, Ггііц'ірез де дгоіі сіѵіі. т. 16.
пзд. 3 (Гагіз еі Вгихеііез, 1878) 107 — 119 и здѣсь же доказательство одп"-
родносін Іа саіізе и Гоі)е(. Мнѣнія отн. излишности внесенія въ конструкцію
догоВ’р.і понятіи санзе въ отличіе отъ содержанія договора высказываются
давно и го Франціи. Си. статью Іігті. въ НіЫ. діщіпгізсощ еі і!іі риЫіеізіе.
ГЕ< РІЯ ДОГОІИ РА.
1826, 1. 1, р. 250 еі бніѵ.; Тітііаі, І)е Іа саііае ііпгіа Іев сопііаіз (Топіоііае);
Сгои:еІ, Иоіе вііг Іа іЬёогіе §ёпёгэ1е «Іез сопгепііопз; Вгіц.чашІ, Ое Іа ноііоп
ііе саике Запз Іез оЫі{т. сопѵепі. (Вогбеанх) и Агіиг (Етііе), І)е Іа саиве,
Рагів, 1878.
34) Исторію развитія англійскаго ученія объ элементахъ договора си. въ кв.
ІІОІты, ТЬе Сотпіоп Ьаѵѵ, Воаіоп. 1881 (Ьопііоп аші СатЬгпіое. 1882),
гл. VII и VIII.
33) Такой характеръ и имѣютъ рѣшенія римскихъ юристовъ, изложенныя въ
титулѣ <Іе іппІіІіЬііа віірнІаІіоиіЬив (Іпаі. 3, 19).
36) Въ русской литературѣ разобранная выше теорія Бэра защищалась, какъ
наиболѣе ясно разграничившая понятія Формальнаго и индивидуально-опредѣ-
леннаго контракта (см. Гамбаров-,, Общественный интересъ въ і ражданскомъ
правѣ). Но все разграниченіе Бэра опирается прямо на его учініе о значеніи
субъективной сапка для договоровъ. Формальный договоръ для него—абстракт-
ное обѣщаніе, намѣренно отрѣшенное отъ его сата самимъ контрагентомъ;
ииді-видул.п.ный — доіоворъ съ санап. указанной въ самомь актѣ заключенія.
ІІеконость же и того и друіаго основывается, но Бэру, именно на субъектив-
номъ началѣ воли, выраженной вч. договорѣ, а не на требованіяхъ объектив-
наго порядка отношеній. Нашей постановкой вопроса мы думаемъ дать болѣе
послѣдовательное проведеніе мыслей, изъ которыхъ исходитъ и прот. Гам-
баровъ.
• о) § 7. I. бе ѵегЬ. оі>1і(д. (3. 15).
8) у. 3. 21. I бе іонѣ сіір. (3. 19): і'г. 38 уг. § 1, 2; Гг. 81 рг. іс. 83 рг.
Не ѵегЬ. оЫід. (45, 1). >'м. также Агн> іл г. А гііез'.егд, Ьеііі'бнсіі іі. Р; шіе-
сіеп, § 233.
"9) Гг. 1, § 3 еіе раіі. (2, 14).
'*>) Рг. 3, § 2 <1е оЫ. еі ;ісг. (44, 7).
4) Какъ эта обыкновенно дѣлается. Си., напр., Пгш/зсАеі/, Рашіесіеп. § 306.
* і) См. въ .ІгіІігЬасІк г Г. 1'од:Г>а(і। к Іершіга. папу., статьи КНІпі’ч. Ъ’Ьег
Ѵегі гаруза 111 и5.ч і.пат АЬіѵеьешіеп (ВіІ. XVI, II. 1, 187 7) и Вигіпіапп'и:
\Ѵог(. пай \Ѵ111е ііи КесІіСкѵегк<-Ьг (ІМ. 20, 1882).
В. Нечаевъ.