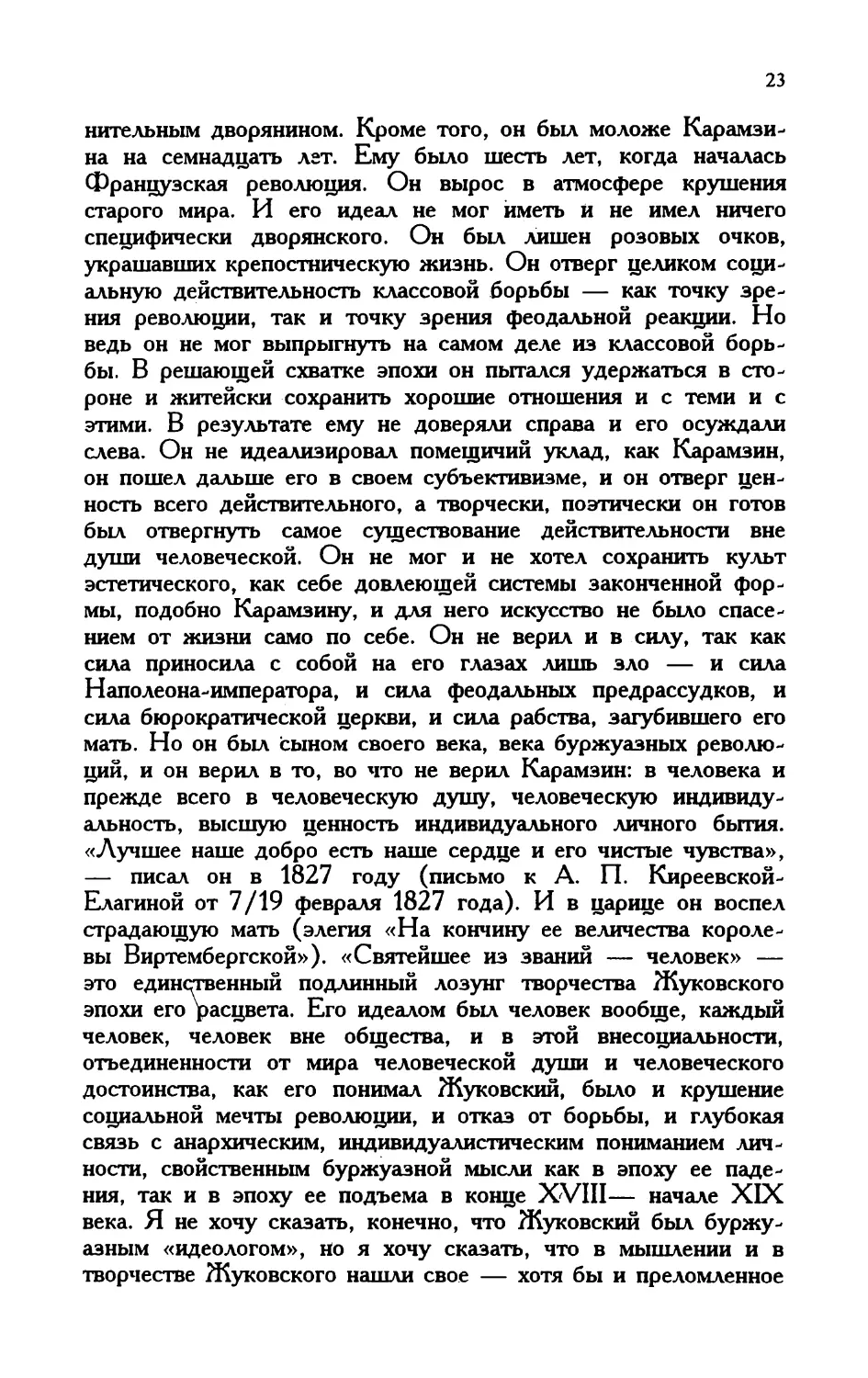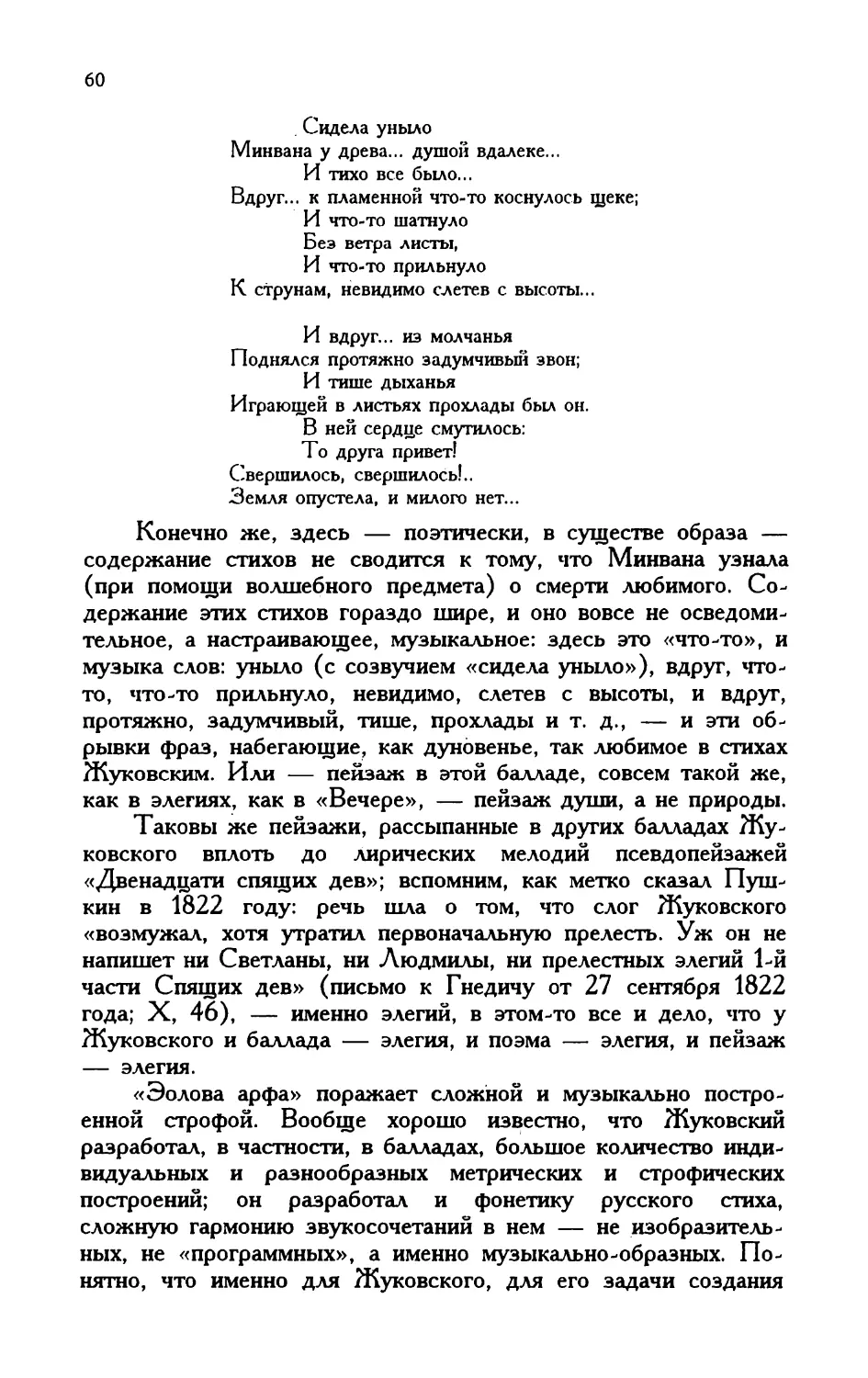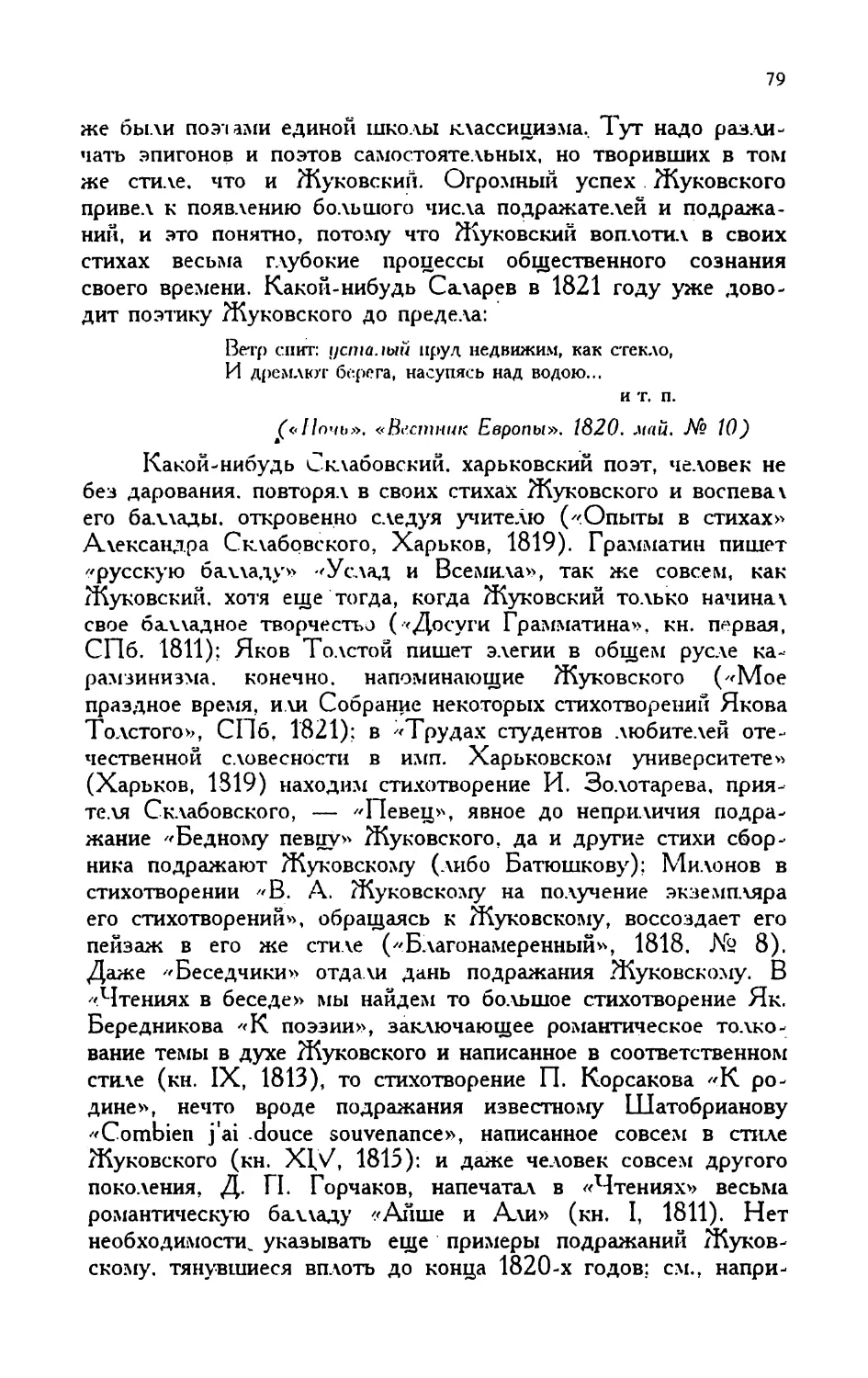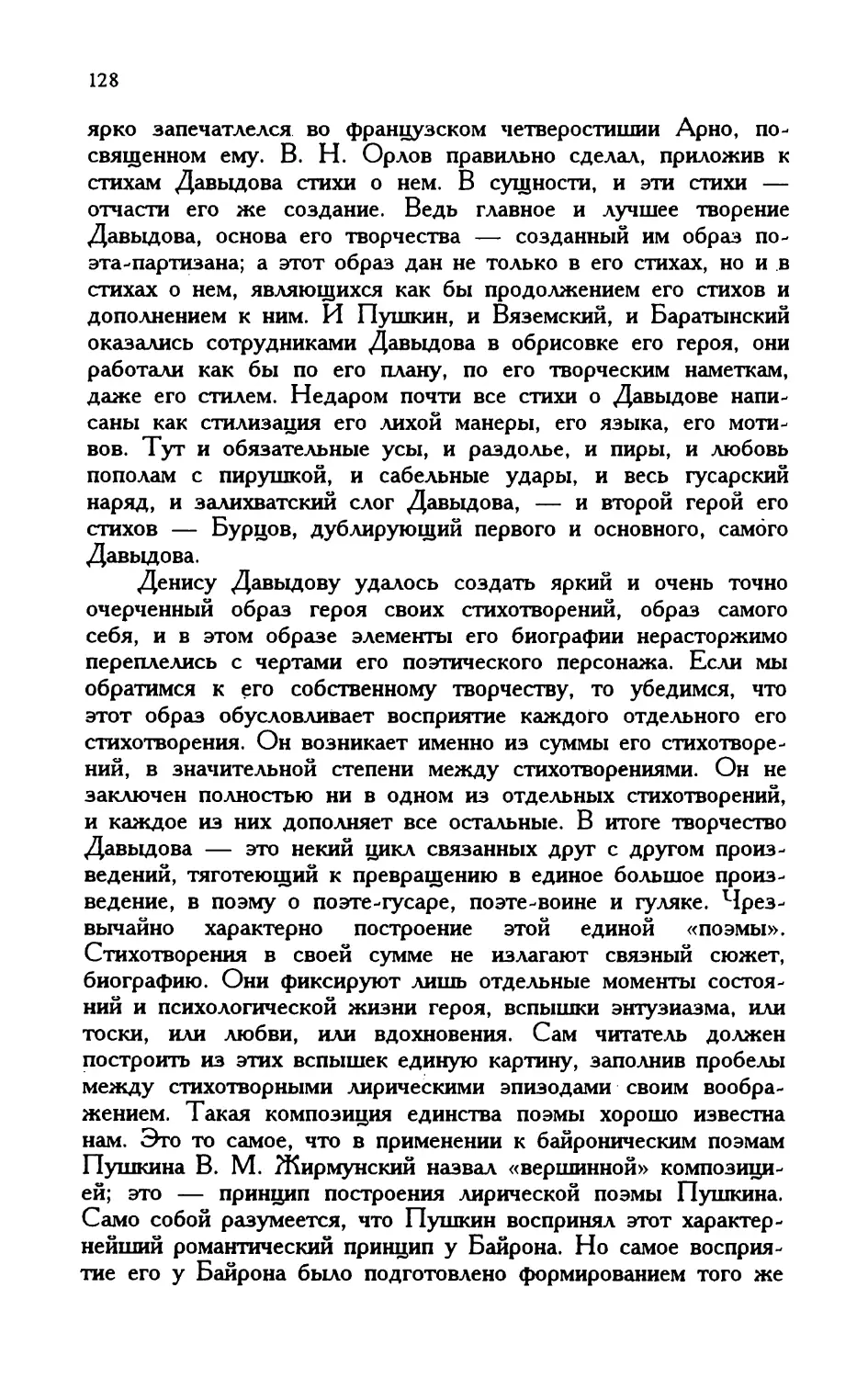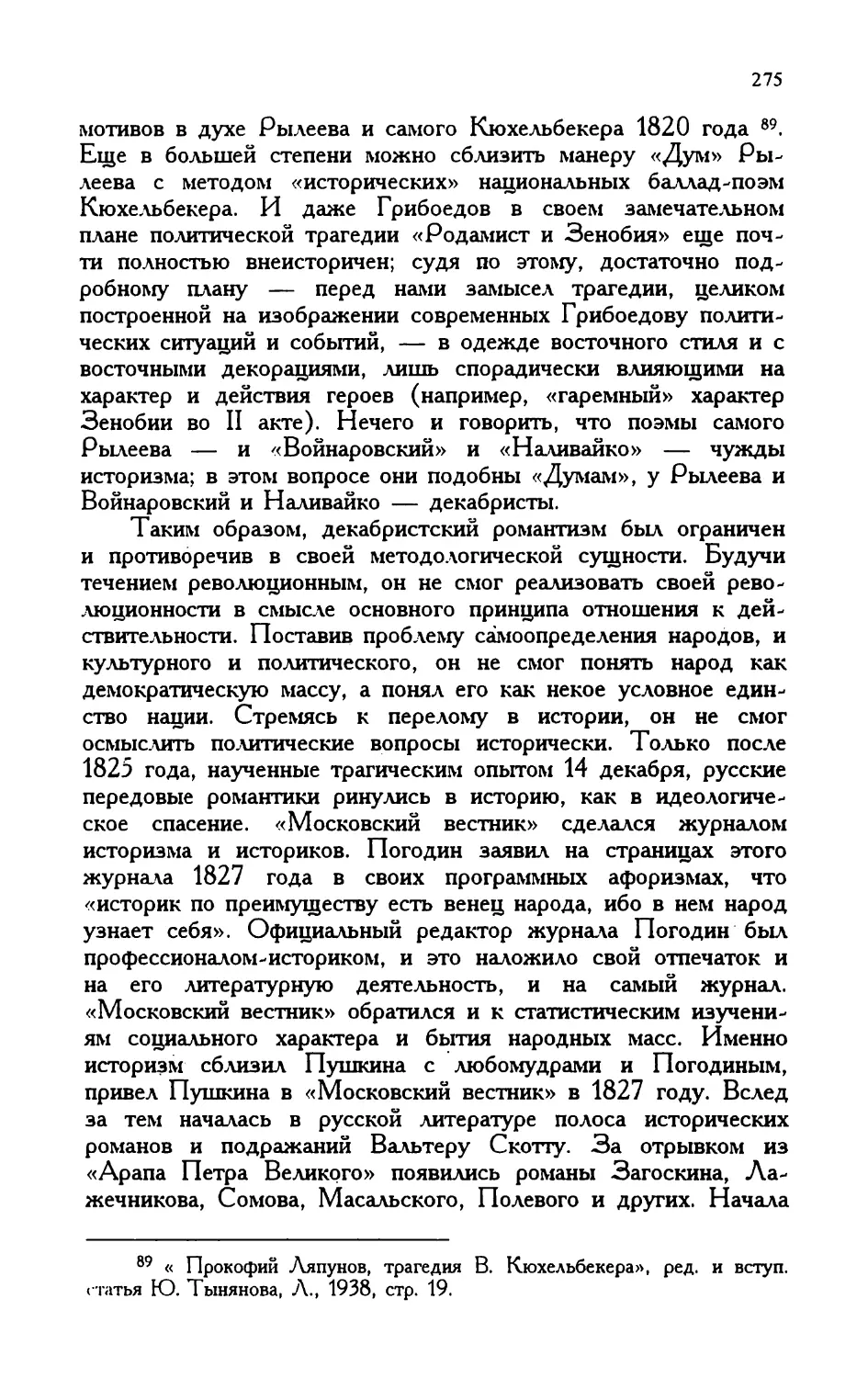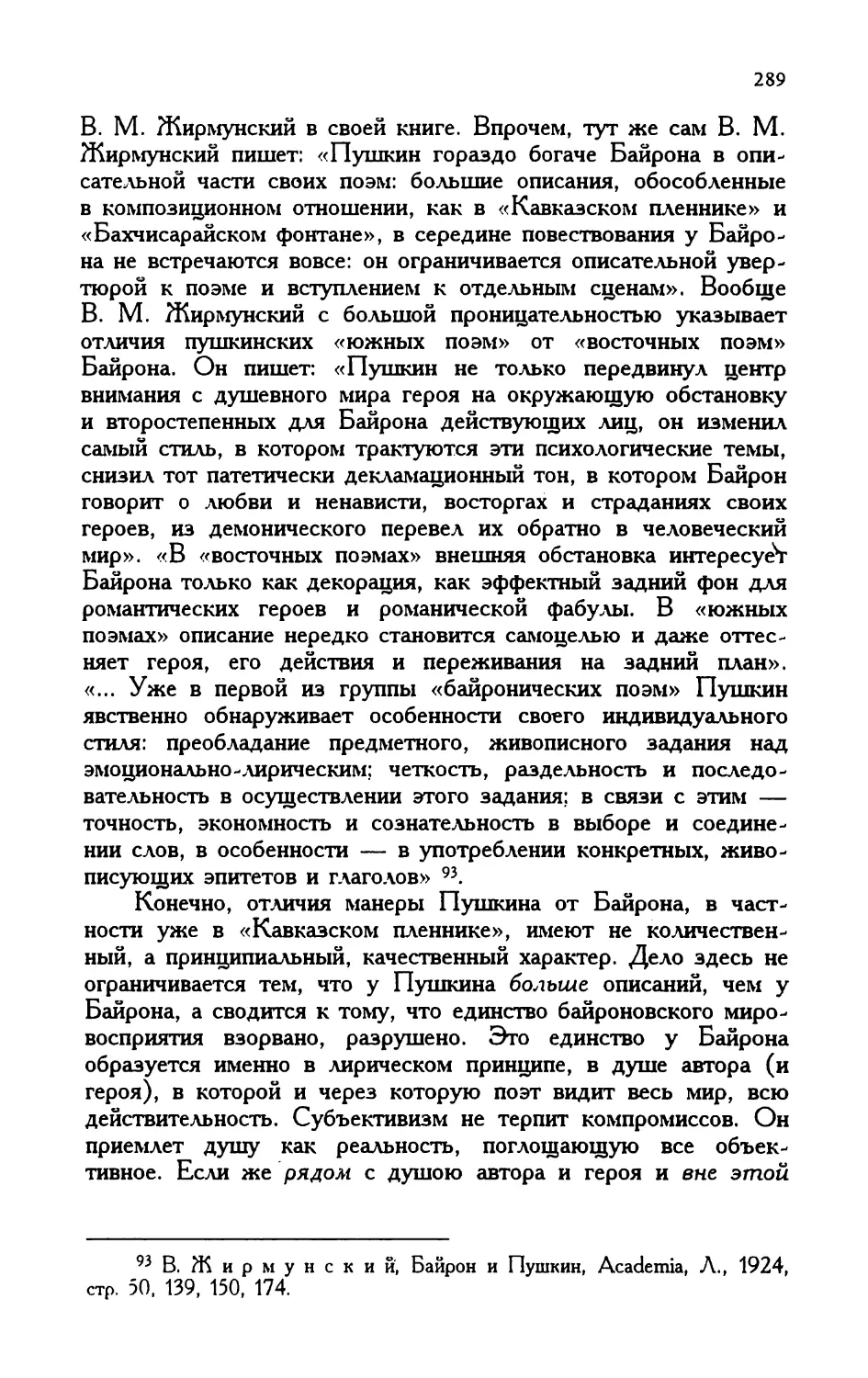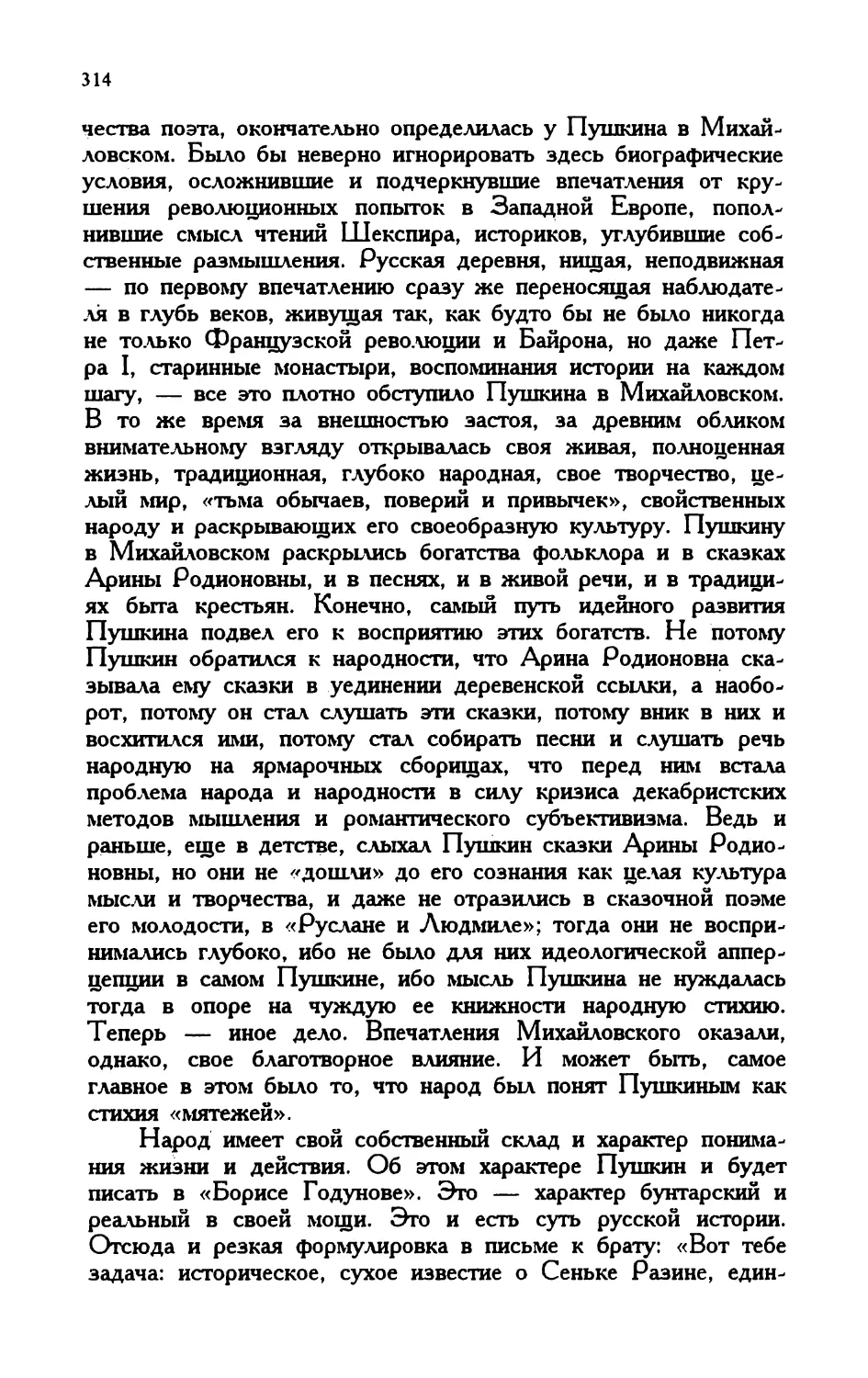Author: Гуковский Г.А.
Tags: русская литература художественная литература
ISBN: 5-87604-032-0
Year: 1995
Similar
Text
Г.
А.
ГУКОВСКИЙ
ПУШКИН
И
РУССКИЕ
Р ОМА НТИКИ
ин трада
МОСКВА
Ю
1995
Гр иго рий
Александрович
ГУКОВСКИЙ. «Пушкин и рус
ские
романтики.
(Очерки по истории русского реализма,
часть
I)». —
М.,
Интр ад а, 1995.
Подготовка
текста
и
послесловие
С.
В.
Путилова.
Г.
А.
Гуковский
(1902-1950) —
вы даю щийся
уче ный,
иссл едо ват ель
русской
литературы
XVIII и XIX
веков,
без
работ
которого
и
се год ня
невозможно
представить
се бе
науку
о
литературе.
Книга
«Пушкин и русские романтики»
—
одна
из
лучших
работ
Гуков
ского,
сочетающая
в
се бе
на учн ую
точность,
ясн о сть
и
увлека
тельность
из ло же ния.
Переиздание
этой
книги,
во шед шей
в
золо
той
фонд
русской
п уш кинис тики
и
давно
ста вш ей
биб ли огра фи
ческой
редкостью,
осуществляется
впервые
за
тридцать
лет
(после
ее
второго
из да ния
в
1965 г.).
Яркое,
жи вое
слово
Гуковского
не об ходи мо
л юдям
науки,
студентам,
учителям
и
всем,
кто
всерьез
интересуется
к уль турой
пушкинской
эп охи.
ISBN 5-87604-032-0
© «Интрада», подготовка текста,
макет, 1995г.
7ЛЛ/ М
ЛёР/ЗЛЯ
Пото му- то,
что
люди
не
умеют
ожив ит ь,
оценить
настоящего,
они
вожделе
ют
будущего
и
ко ке тнич а
ют
с
прошлым.
И
Жук ов
скому
надлежало
бы
более
обратиться
к
объекту.
7&Яе 1
1 Слова Гете,
сказанные
им
7 сентября 1827 г.
в
разговоре
с
веймар
ск им
канцлером
Фри дри хом
фон
Мюллером
по
поводу
посвященных
Гете
двух
с тихо твор ени и
Жуковского
(«Приношение»
и
«К Гете») и под впечат
лением
от
общения
с
русским
поэтом
накануне
(Müller F. von .
Unterhaltungen mit Goethe. Weimar, 1959, S. 146).
Гуковский
приводит
русский
перевод
С.
Н.
Дурылина
из
его
обш ирной
работы
«Русские писате
ли
у
Гет е
в
Вейм а ре» («Литературное наследство», No 4-6.
М ., 1932, с.
348).
—
С.
П.
4
1.
Стремясь
понять
твор че ст во
Пушкина,
ист ор ик
литерату
ры
неизбе жно
должен
рассматривать
его
в
св ете
общего
раз
вития
и
роста
ру сск ой
литературной
культуры.
Так ая
поста
новка
вопроса,
в
свою
очер ед ь,
выдвигает
необходимость
точно
и
определенно
уяснить
основные
и
закономерные
исторические
черты
движе ния
и
смены
стиля,
составившие
содержание
и
ос нов ную
характеристику
литературного
процесса
XIX столе
тия
как
в
России,
так
и
во
все й
Европе.
Построение
реал ист и
ческ ог о
мировоззрения
в
искусстве
определяет
идейно-
художественную
сущность
творческих
устремлений
как
Пуш
кина,
так
и
его
передовых
современников.
Реализм
в
литерату
ре
пришел
на
смену
романтизму
и
в
то
же
время
возн ик
на
ос нове
противоречий
самого
романтизма,
зародился
в
его
не д
ра х.
Реш ени е
проблемы
романтизма
и
реализма,
как
и
про
бл емы
классицизма,
не
может
явиться
тол ько
результатом
эмпирических
наблюдений
над
отдельными
явлениями
литера
туры,
как
не
может
бы ть
и
результатом
творческой
интуиции
и ссл едо ват еля , «вживающегося в дух»
данной
эпохи.
Мы
мо
жем
наблюдать
множество
признаков
то го
или
иного
стиля
—
и
не
найти
стилеобразующего
принципа,
е сли
не
будем
рас
сматривать
каждый
из
эти х
стилей
как
закономерное
звено
в
едином
и
необходимом
движении
литературы
во
всех
ее
слож
ных
зависимостях
от
обще й
основы
исторической
со циа льно й
действительности.
Име нно
путем
объединения
всех
частных
наблюдений
литературоведения
в
единую
связь
со бы тий,
рас
сматриваемых
стадиально,
мы
сможем
по до йти
к
ре шению
существа
частных
про бле м
и
в
то
же
время
подойдем
к
уста
новлению
специфических
закономерностей
литературы;
а
ведь
нет
на уки
без
за коно в,
соответствующих
о бщим
закономерно
стям
научно-философского
мышления,
и
в
то
же
время
специ
фических
для
того
материала
и
аспекта
мира,
который
сост ав
ляе т
ос обе нное
данной
науки.
Следует
здесь
же
указать,
что
слова
«романтизм»
и
«реализм»
применяются
в
настоящей
работе
только
в
специфи
ческ и
локализованном
своем
смысле,
то
есть
как
термины,
обозначающие
конкретно-исторические
и
хронологически
опре
де ленные
течения
стиля
—
мировоззрения,
выраженного
в
формах
определенного
типа.
Т ак,
говоря
о
романтизме,
я
им ею
5
здесь
в
виду
именно
европейский
—
и
по
преимуществу
ру с
ский
—
романтизм
конца
ХУШ
и
начала
XIX столетия.
Рассмотрение
судьбы
того
типа
эстетического
мышления,
который
мы
условно
н азываем
классицизмом,
неизбежно
тре
бует
определения
следующего
этапа
этого
мышления,
этапа,
отменившего
классицизм,
и
в
то
же
время
необходимо
опреде
ленного
самым
качеством
э той
о тм ены.
В
св ою
очередь,
из
учение
сущности
романтизма
невозможно
без
уяснения
зако
номерной
связи
его
с
реализмом.
При
этом
лучшее,
прогрессивное
зе рно
предшествующего
эт апа
развития
(стиля)
остается
жить
в
новом
качестве,
включаясь
в
систему
после
дующего
этапа.
И
наоборот,
начала
последующего
этапа
зреют
уже
внутри
предшествующего
как
основы
противоречия
его.
И
все
же
переход
от
этапа
к
этапу
есть
скачок,
и
каждый
из
этапов
решительно
и
в
самом
пр инципе
своем
отличается
и
от
своего
предшественника,
и
от
своего
преемника.
Таким
образом,
классицизм
—
это
эт ап
на
пу ти
к
роман
тизму,
а
романтизм
—
это
эт ап
на
п ути
к
реализму;
и
далее:
классицизм
опосредствованно
—
это
зв ено
цепи,
ведущей
к
реализму.
Но
в
то
же
время
романтизм
—
это
отрицание
классицизма,
а
реа лизм
—
это
отр ица ние
романтизма,
причем
вовсе
не
синтез,
а
новое
о тр ица ние,
выросшее
из
прот иво речий
рома н тиз ма
и
отменившее
их.
В
то
же
время
классицизм
—
это
есть
классицизм,
а
не
замаскированный
реал изм ,
и
роман
тизм
—
это
романтизм,
а
не
стыдливый
реализм.
Нет
ничего
вреднее
для
на уки,
чем
безразличное
выкрашивание
в сего
в
о дин
цвет,
чем
н ив елиров ка
самостоятельной
значимости
ст и
лей
прошлого.
Ибо
свя зи
и
закономерности
развития,
единого
и
целенаправленного,
вов се
не
отменяют
отдельности
и
св ое об
рази я
членов
закономерности.
Именно
потому
нео бхо димо
всячески
протестовать
п ротив
слишком
рас прос т ране нн ой
в
нашей
научной
и
учебной
л итер а
туре
тенденции
все
явления
прошлого
красить
в
ц вета
реализ
ма.
Ком у
не
известно,
что
у
нас
все
лю бят
объявлять
реализ
мо м:
и
Жуковский
у
нас
—
почти
реалист
(ведь он правдиво,
вер но
изображал
чувства), и Рылеев тоже (ведь
он
правдиво
разоблачал
гнусность
т и ран и и), и даже Ломоносов,
и
д аже
Эрнст-Теодор-Амадей
Гофман,
и
даже
Расин,
ибо
и
они
в ер
но
отражали
сво е
вре мя
в
его
идейных
тенденциях.
Меж ду
тем
в едь
э так
мы
принуждены
будем
скоро
совсем
отказ ать ся
от
тер м ина
реализм,
потому
что
он
ст ано вит ся
синонимом
ис
кусства,
поскольку
всякое
искусство,
ес ли
оно
подлинное
ис
кусство,
отражает
идейные
тенденции
своего
вр ем ени.
Но.
вот
есл и
мы
посмотрим,
какие-
же
это
тенденции
и
как
они
отра
6
жены,
то
увидим
разные
соц иа льн о-ид еологи чес к ие
ст рук туры
в
искусстве,
разные
стили.
Сове ршен н о
необходимо
конкретно
изучить
име нно
со
держание,
качество
литературы
разных
эпох
и
сти ле й,
причем
изучить,
не
стесняясь
тем,
что
не
все
великие
писа тели
о ка
жутся
реалистами,
и
не
усматривая
в
таком
положении
ве щей
вульгарно-социологической
ошибки
истории.
В
самом
деле,
о
ком
ни
читаешь
за
последние
годы,
—
все
выглядят
на
одно
лицо,
и
это
лицо
очень
п охоже
на
Бальзака
или
Ль ва
Толсто
го.
Обо
всех
же
несходствах
у
нас
любят
говорить
в
изви ни
тел ь ном
тоне.
Разве
нам
не
приходилось
читать
ра бот ы,
в
которых
Тю тче ва
стыдливо
старались
извинить
за
то,
что
он
был
(и то,
мол,
не
сов сем )
романтиком?
То
же
и
о
молодом
Лермонтове,
о
к ото ром
говорят,
что
не
надо
верить
своим
глазам,
что
он
был
смолоду,
с
пел ен,
в
с ущно сти,
р еал истом ,
но
в
некоем
романтическом
гриме.
Зачем
это?
Неужто
роман
тизм
даже
для
той
эпохи,
к огда
он
был
живым
и
здоровым
течением,
был
грехом?
Не ужто
Тютчев
или
Лермонтов
«Маскарада»
и
«Демона»
нуждаются
в
из вине ниях ?
В
пафосе
со кр ытия
небывалых
«грехов»
доходят
до
того,
что
и
Буало
называют
чут ь
ли
не
создателем
реализма,
и
Сум аро ко ва
объ
являют
реалистом,
да
и
вес ь
классицизм
заодно
истолковывают
как
«своего рода»
реал из м.
Что
ж!
Ве дь
Бу ало
открыто
тре
бов ал
под р ажания
природе,
правдивости
искусства.
Но
ведь
дело
в
то м,
что
нет
и
никогда
не
было
тако го
писателя,
если
он
был
сколько-нибудь
честен
и
та ла нтл ив,
который
не
ста вил
бы
своей
задачей
пра вди вое
изображение
действительности.
Вопрос
только
в
том
—
что
тот
или
д ругой
писатель
понимает
(теоретически и практически,
творчески)
под
правдой,
правди
востью
и
действительностью?
Например,
Буало
считал,
что
общее
по нятие
реальнее,
более
действительно,
чем
ко нкр е тные
предметы,
подводимые
под
него,
и
что
искусство
будет
п рав
диво,
если
будет
возводить
предметы
к
понятиям.
А
иску сс тво
Жуковского
утверждает,
что
мир
существует
лишь
в
эмоции
су бъ екта
познания
и
творчества
и
да же
сам
бог
—
едва
ли
не
только
чувство
переживающей
его
бытие
личности.
И
для
не го
такое
восприятие
мира
и
бы ло
сам ой
правдивой
правдой.
Между
тем
реализм
признает
и
«правду»
Буало,
и
«правду»
Жуковского
ложью,
справедливо
исходя
из
того,
что
ес ть
только
одна
правда.
Следовательно,
пр об лема
реал изм а
в овсе
не
сводится
к
правдивости
худо жн ика ,
к
его
субъективному
намерению
верно
из образ и ть
мир
и
реальность,
а
решается
она
изучением
со дер ж ания
т ого
мировоззрения,
которое
объектив
7
но
выражено
в
его
творчестве,
во
вс ем
складе
его
художе
ст венно й
манеры.
Но
есл и
мы
признаем
всякое
искусство
нереалистического
ти па
о сно ванным
на
неверном
пр инципе
мировоззрения,
это
еще
во все
не
значит,
что
мы
должны
отвергнуть
такое
иску с
ст во
прошлого
как
плохое,
нехудожественное,
вредное.
Исто
рически
оно
закономерно
и
могло
быть
для
своего
времени
прогрессивным,
да же
революционным.
Поскольку
же
прошлое
в
своем
прогрессивном
движении
живет
в
настоящем,
эта
от
носительная
прогрессивность
входит,
как
элемент,
в
содержа
ние
истинного.
Противоречия
романтизма
гот ов ят
реализм,
но
не
могут
заставить
нас
видеть
в
романтизме
реал из м,
так
же
как
противоречия
классицизма
не
да ют
права
видеть
в
Буало
теоретика,
требующего
от
искусства
методы
Л ьва
Толстого.
Между
тем
за
исследователем
остается
пр аво
изучать,
например,
романтизм
именно
в
том
его
а спе кте,
кот оры й
ок а
зал ся
—
пусть
пут ем
отрицания
—
предшествием
реализма
(что не значит,
что
он
может
быть
рассматриваем
как
ранний
этап
реал изм а) .
Име нно
в
этом
плане
будет
идти
в
дал ьней
шем
речь
о
некоторых
чертах
русского
романтизма.
При
эт ом
я
не
собираюсь
брать
на
себя
задачу
определить,
что
такое
романтизм
вообще
или
да же
русский
романтизм.
Я
сосредото
ч иваю
внимание
лиш ь
на
двух-трех
о с дбенно ст ях,
признаках
русского
романтизма
1800—1820 годов,
тех
именно,
которые,
как
мне
кажется,
могут
помочь
уяснить,
как
в
недрах
роман
ти зма
ро жд ался
от менив ший
его
реализм,
—
закономерно
от р ажая
рождение
из
не др
буржуазно-капиталистического
общества
предпосылок
его
крушения.
Потому
что
П уш кин,
кот оры й
создал
рус с кий
реали з м
как
законченную
систему
эстетического,
философского,
социального
мировоззрения
в
слове,
не
род илс я
сам
реалистом,
а
сделался
им.
Мало
того,
все
великие
русские
реалисты
первой
половины
и
середины
XIX века
—
Лер мо нто в,
Г оголь,
Тургенев,
Некрасов,
Гонча
ров,
Достоевский,
да же
Щедрин,
—
все
прошли
через
роман
тиз м
и
преодолели
его.
Это
—
закономерность
целой
эпохи,
и
она
должна
быть
осмыслена.
Только
Лев
Толстой,
че лове к
следующего
по ко ле ния,
был
уже
избавлен
от
этого
пу ти
и
получил
реализм
как
готовую
данность,
подлежащую
нов ому
развитию.
А
ведь
еще
Тургенева
Достоевский
обозвал
Карма
зиновым,
и
не
без
о снов аний,
как
идеологических
и
да же
со
циально-политических,
так
и
художественных.
8
В
европейских
литературах
романтизму
предшествовал
пе
риод
его
подготовки
в
качестве
предромантизма
(сентиментализма,
«бури и натиска»).
Это
была
зар я
но вой
эпохи
литературы,
в
будущем
романтической,
но
в
это
время,
до
Французской
революции,
еще
не
завершенной.
Впрочем,
именно
после
буржуазной
революции
в
Англии
начинае тся
в
п ервых
проблесках
движение
предромантизма,
как
и
романтизм
яв ился
отк лик ом
на
буржуазную
революцию
во
Франции
и
результатом
крушения
наде жд
на
н ее.
Период
п редром ан тиз ма
начался
в
середине
XVIII столетия,
—
конечно,
не
в
одн о
и
то
же
время
в
разных
странах,
но
все
же
в
более
или
ме нее
бл изкие
сроки.
Е два
ли
вполне
верно
определенное
приу роче
ние
рождения
предромантизма
к
А нгли и.
Впрочем,
име нно
в
Англии
он
раньше
всего
созрел
как
социальное
яв ление,
пото
му
что
Англия
бы ла
страной,
уже
прошедшей
че рез
бу ржуаз
ную
ре во лю цию,
тогда
как
на
материке
эта
революция
только
еще
зрела
во
Франции.
Но,
так
или
иначе,
в
середине
века
мы
уже
зас таем
явное
предромантическое
дви жен ие
и
в
А нглии ,
где
его
первые
предвестия
пад ают
уже
на
первые
десятилетия
XVIII века и где<
деятельность
полуромантика
Юнга,
как
и
романы
Ричардсона,
относятся
к
сороковым
годам,
—
и
во
Франции,
где
учитель
ро ма нис тов
в ека,
в
том
числе
и
великого
Ричардсона,
Ма рив о,
писал
св ою
«Жизнь Марианны»
в
три д
цатых
годах
и
свои
комедии
еще
в
двадцатых
годах,
где
лири
ка
Луи
Ра сина ,
ученика
Ж.-Б.
Руссо,
отменяла
рац иона лис ти
ческую
основу
самого
Ж.-Б.
Руссо.
«Сельское кладбище»
(1751) —
это
дата
победы
предромантизма
в
Анг ли и,
появле
ние
Жан-Жака
Руссо
—
во
Фра н ции
(тоже пятидесятые
годы ).
Клопшток
(также имевший предшественников)
завоевал
по беду
в
немецкой
литературе
в
ко нце
сороковых
годов.
Ро с
сия
до
семидесятых
годов
несколько
отставала,
но
не
намного.
Только
что
она
усво ил а
классицизм
и
укрепилась
на
нем
в
сороковых
и
пятидесятых
годах,
как
быстрый
поступательный
ход
русской
культуры,
нагонявшей
Запад,
привел
ее
к
тем
же
общим
для
все й
передовой
мысли
Европы
проблемам
самосо
з нания,
и
еще
не
развившийся
до
конца
классицизм
начал
разрушаться,
и
предромантизм
вл ас тно
заявил
о
св оем
суще
ствовании.
Это
было
в
семидесятые
го ды,
когда
Г еснер ,
Клопшток,
Дидро,
Руссо,
«Оссиан»
и
многие
другие
б ыли
глуб око
восприняты
рус с кой
литературной
культурой,
когда
работали
русские
предромантики
Муравьев
и
Львов,
когда
Державин
ов лад евал
новым
пу тем
в
искусстве,
когд а
«слезная
драма»
победила
классицизм
на
сцене,
когда
Фонвизин,
усвоив
урок и
предромантиков
Запада,
опередил
их,
когда
Ра дище в
9
пис ал
ультра-«сентиментальный»
ра сск аз
«Дневник одной
нед ели ».
Здесь
же
на до
условиться
о
те р мино л огии.
Новые
(буржуазные в своей основе)
явления
европейских
литератур
второй
половины
XVIII века обычно обозначают терминами
«сентиментализм»
или
«предромантизм».
Я
не
считаю
нимало
эти
термины
п орочны ми
так
же,
как
не
вижу
основания
проте
стовать
против
разграничения
предромантизма
от
романтизма,
то
есть
развитого
романтизма.
Но
это
разграничение
может
со х ранить
силу
только
при
частном
изучении
самой
это й
пере
ходной
эпохи,
—
для
Ро сси и,
напр им е р, 1770—1790- х
годов.
В
пл ане
же
общего
стадиального
дви жен ия
литературы
(русской,
как
и
всякой
др уго й), как мне кажется,
мож но
гово
ри ть
о
едином
пе риод е,
е дином
стиле,
противопоставленном
классицизму,
с
о дной
стороны,
и
реал изм у
—
с
дру гой ,
о
стиле
романтизма
и
предромантизма,
его
предвестия,
об ъе ди
ненном
и
единством
социальной
основы
(наступлением бур
жуазии
про тив
феодализма),
и
единством
идеологического
характера
(индивидуализм
—
как
простейшая
форм ула
его).
Внутри
этого
периода
мы
л егко
различим
его
ранний
эта п
—
предромантизм,
или
сентиментализм,
или
шк олу
«бури и на
тиск а»; грань между этим ранним этапом и другим,
более
поздним,
романтическим,
явна я:
это
Французская
революция.
Процессы,
происходившие
в
романтизме
и
предромантизме,
общи,
с
некоторыми
специфическими
отклонениями,
вс ем
на
цио на льным
литературам
Европы.
Это
—
процессы
необходи
мые .
С
самого
начала
предромантизм
раз вив ал ся
в
двух
те че
ни ях,
двух
потоках.
В
нашей
советской
науке
(в применении к
русской
л ит ера туре
конца
XVIII века)
это
явление
установлено
прочно
и
в
основном
рассмотрено.
Мы
знаем,
что
бы ло
два
русских
с е нтимен тал изм а:
тот ,
ко торы й
достиг
расцвета
в
творчестве
Радищева,
и
тот,
ко торы й
достиг
расц вета
в
т вор
честве
Карамзина.
И
тот
и
другой
—
сентиментализм,
то
есть
предромантизм,
но
единая
сущность
в
них
разнолика.
Первый
был
намечен
Фонвизиным,
захв ати л
частично
Княжнина,
со з
д ал,
кроме
«Путешествия из
Петербурга
в
Москву»,
«Солдатскую
шк олу»,
Де р жа вина,
молодого
Крылова
(прозаика)
и
др.
Второй
осуществлен
в
первых
исканиях
Ве
ревкиным
и
Херасковым,
зат ем
Муравьевым,
Львовым,
Ка
рамзиным,
Капнистом,
Дмитриевым,
пл ея дой
сотоварищей
и
учеников
Карамзина.
Первый
был
де мок рат иче н,
политически
радикален
или
да же
революционен,
с оо тнесен
с
Руссо,
Мер
с ье,
Дюп ати;
второй
был
либерален,
аристократичен,
ориенти
10
рован
на
Геснера,
С тер на,
мадам
Жанлис.
Первый
требовал
свободы
личности
от
политического
и
социального
гнета,
про
возгласив
человека
в
его
инд ив идуа льном
своеобразии
высшей
ценностью
в
ми ре,
требовал
свободы
самоопределения
нар о да,
заявив
право
на
национальное
своеобразие
и
в
по литич еско м
бытии
его,
и
в
культурном
и
эстетическом
его
идеале.
Второй
уходил
в
жизнь
личности
во
имя
внут ре нне й,
духовной,
мо
ральной
свободы
ее,
не
н ужд ающей ся
якобы
в
юридическом
или
экономическом
оформлении,
а
проблему
национального
л ица
народа
пы т ался
реш ать
в
плане
консервативного
тради
ционализма.
Между
тем
как
бы
ни
расходились
оба
сентимен
тализма
в
указанных
и
еще
в
других
отношениях,
оба
они
поставили
во
гла ву
угла
пр обле му
личн ости
и
индивидуаль
нос ти,
оба
они
отменили
культ
общего
во
имя
кул ьта
частного,
оба
отказались
от
видения
в
мире
схемы
понятий,
увидев
в
нем
живые,
человеческие
существа
и
жизни,
оба
поняли
действи
тел ь ное
как
конкретное,
индивидуальное,
и
увидели
бы тие
через
проб ле му
конкретно-индивидуального,
как
человеческого,
так
и
народного.
А
де ло
в
то м,
что
именно
это
и
были
ид еи,
характерные
для
времени
штурма
твердынь
феодализма
новым,
буржуазным
обществом.
Рус ский
ро мант изм
начала
XIX века,
как
это
тоже
уже
установлено
в
советской
нау ке,
продолжал
те
две
линии,
кото
рые
определились
в
предромантизме
XVIII столетия.
Первая
из
них
завершилась
в
гражданской
поэзии
декабристского
круга,
вторая
да ла
так
н азываем ый
«карамзинизм».
Были
еще
другие
ответвления
романтизма
в
нача ле
XIX века,
например
безнадежная
попытка
задним
числом
объединить
традиции
Сумарокова
с
ультраромантикой
мистики,
перенапряженной
лирики
и
психологической
фантастики
в
поэзии
Ширинского-
Шихматова,
пересаживавшего
Юн га
и
нем ецкий
романтизм
в
Шишковскую
«Беседу»
и
полагавшего,
что
он
идет
путем
Семена
Боброва,
то гда
как
тот
на
сам ом
д еле
был
гора зд о
бл иже
к
Радищеву,
чем
к
Сумарокову.
Вообще, «Беседа»
в
своей
литературной
продукции
б ыла
усердной,
хоть
и
неуме
лой,
ученицей
романтизма.
В
ее
«Чтениях» (я не говорю о
Державине
или,
например,
Шаховском,
имевших
свои
особые
пути,
впр оч ем
не
противоречащие
сказанному)
мы
найде м
и
элегии
в
духе
Жуковского,
и
романтическую
балладу,
и
сенти
ментальную
ли рик у,
и
«легкую поэзию», и перевод из Шилле
ра,
и
«Романс
—
могила
Юл и и», и попытку (хот я
и
сл аб ую,
но
характерную)
внесения
в
поэзию
этнографического
колорита
11
—
«Песнь Курайча Рифейских гор» 2.
Однако
все
эти
роман
тич ес кие
потуги
имели
эпиг о нс кий
характер:
л ибо
пов торял и
азы
карамзинизма,
ли бо
двигались
в
ру сле
иск аний
левого
кры ла
р анних
русских
романтиков
(Боброва,
Востокова,
Гн е
ди ча
и
др .).
Шишкову
нимало
не
уд ало сь
создать
свое
литера
турное
напр авл ение.
Почти
то
же
следует
ск азат ь
и
о
поэтах
«Вольного Общества любителей словесности,
наук
и
ху до
жест в ».
Среди
них
был
Востоков,
сил ьная
поэтическая
инди
видуальность
которого
не
мо гла
не
ок азыват ь
влияния.
Среди
них
еще
был и
ощ ути мы
традиции
Ра дищев а
и
Пни на.
Но
в
целом,
как
это
отчетливо
показало
весьма
це нное
издание-
исследование
В.
Н.
Орло ва
«Поэты- р ад ищев цы», «Общество»
не
могло
со зд ать
и
не
создало
с вое
особое
ре ше ние
литератур
но-идеологических
проблем
и
вращалось
в
кругу
осколков
р еш ений,
предлагавшихся
либо
«карамзинистами», либо поэта
ми
гражданского
романтизма.
Говоря
о
русском
романтизме,
надо
пос то янно
иметь
в
виду
его
существенное
историческое
отличие
от
западноевро
пейского
романтизма.
Дело
в
то м,
что
романтизм
на
Зап аде
явился
откликом
на
буржуазную
революцию
во
Фра нции ,
на
кру шение
тех
на деж д,
к от орые
возлагались
на
нее
многими,
чаявшими
безб ол езнен но го
воцарения
на
земле
мира,
счастья,
свободы,
полного
общественного
благополучия.
Россия
не
пережила
в
то
время
буржуазной
революции
да же
в
отра
женном
виде.
Однако
русская
инте лл игенция
(по преимущест
ву
дворянская)
бы ла
втянута
уже
в
начале
XVIII столетия в
общеевропейское
движение
идей
и
с оциа льно- полити чес к их
течений.
Отсюда
—
яв ное
и
д овольн о
яркое
выражение
и
в
ее
сознании
романтических
настроений
послереволюционной
поры.
В
то
же
время
ру сск ая
передовая
инте лл иге нция,
пер ежи в
ид ейно е
завершение
западной
ре во л юции,
пер ежи вала
в
1800—1820-х
годах
свой
революционный
подъем;
она
еще
толь ко
двигалась
к
своей
попытке
революции
(декабристской) .
Отсюда
—
особые
черты
русского
романтизма,
более
о пти
ми с тич ес кого,
акт ивно го ,
наступательного,
чем
западный.
От
сюда
и
то,
что
в
русском
романтизме
мы
не
на блюдае м
в
1800—1820-е
годы
безнадежного
трагизма
«мировой скорби»;
не
наблюдается
в
нем
и
тех
решительно
реакционных,
до
ко нца
упадочнических
реставрационных
те нде нций,
той
политической
2 См.
кн.
I, 1811 , стр.
90 (Горчаков); кн .
II, 1811, стр.
9— 14
(Ф.
Львов); кн.
IV, 1812, стр .
100 (Ф.
Львов); кн.
VII, 1812 , ст р.
38
(В.
Шапо шнико в); кн .
XII, 1813 (В .
Олин); кн.
XIV, 1815 ,
стр.
75
(П.
К о рсако в).
12
пр огра ммной
идеализации
средневековья,
кот оры е
определяют
некоторые
из
проявлений
западного
романтизма
—
и
немецко
го,
и
да же
английского,
и
французского.
И ное
дело
—
рус
ск ий
романтизм
после
крушения
14 декабря .
Именно
тогда,
в
к онце
1820-х
и
в
1830- х
годах,
мы
увидим
в
Ро ссии
и
новый
байронизм,
и
«мировую скорбь»
и,
с
другой
стороны,
—
от
крыто
реакционный
романтизм
Кукольника
и
ему
подобных.
Но
это т
вторичный
романтизм
в
России
был
явлением
истори
чески
эфемерным,
переходным.
Уже
наступила
для
России
эпоха
кр ити чес кого
реал изм а,
эпоха
демократизации
литерату
ры,
уже
новые
си лы
шли
на
приступ
твердынь
ре акц ии,
—
и
романтизм
тридцатых
годов
в
твор че ст ве
Лермонтова
и
Гого
ля,
распадаясь,
породил
реализм,
как
это
еще
раньше
произо
шло
в
т вор чест ве
Пушкина.
Ставя
воп рос
о
том,
что
же
в
обоих
течениях
русского
романтизма,
определяя
их
лицо
как
романтическое,
в
то
же
время
определяло
закономерность
отрицания
рома н тиз ма
в
реализме,
следует
выделить
основные
и
т ипич ес кие
явления.
Таким
типическим
явлением
для
«карамзинизма», без сомне
ния,
является
Жуковский.
Само
собой
разумеется,
он
вовсе
не
исч ерп ы вает
все
богатство
проблем
«карамзинистской»
литера
туры,
к
к от орой
—
да же
только
в
пределах
поэзии
—
пр и
надлежали
и
другие
замечательные
таланты,
не
только
Батюш
ко в,
но
отчасти
и
Д.
Давы д ов,
и
молодой
Баратынский
и
др.
Однако
основные
вехи
течения
наметило
именно
творчество
Жуковского;
он
в
наибольшей
с тепе ни
оказался
учителем
по
этов
поколения
Пушкина,
да
и
самого
Пу ш кина
в
том
чи сле,
и
он
же
в
наибольшей
сте пе ни
органически
связан
с
Карамзи
ны м,
имя
которого
б ыло
не
то лько
свято
для
стареющего
Жу
ков ск ого
1831 года 3, но и для Пушкина 1830 года,
с
бл аг ого
вением
признавшего
память
Карамзина
св яще нной
для
россиян.
Можно
с каз ать
также,
что
из
всех
«карамзинистов»
Жуков
ск ий
был
самым
г лу боким
поэтом,
наиболее
принципиально
решавшим
проблемы
школы.
2,
Нес кол ько
десятилетий
т ому
на зад
в
русской
науке
шел
спор
о
Жуковском:
сентименталист
он
или
романтик.
Э тот
во прос
обсуждали
Веселовский,
Пып ин
и
др у гие.
Отв еты
3«КИв.
Ив.
Дмитриеву».
13
получались
р азн ые.
Между
тем
сам
вопрос,
вы звавши й
спор,
строго
говоря,
не
существует.
Жуковский
выше л
из
русс ког о
сентиментализма
карамзинского
толка
и
именно
потому
был
романтиком,
что
сентиментализм
—
это
и
есть
ранний
эт ап
романтизма,
ос о бенно
сентиментализм
да нног о
толка.
Но
за
указанным
спором
о
Жуковском
стоял
спо р
о
другом,
спор
более
важный
и
принципиальный,
имеющий
про
должение
до
на ших
дне й.
В
сущности,
дело
шло
о
том,
чтобы
исторически
оценить
творчество
Жуковского:
был
ли
он
нова
тором,
прогрессивно
дви гавши м
рус с кую
литературу
вп еред
(Жуковский- р о мант ик)
или
же
он
был
и
в
своей
поэзии
ко н
серватором,
да же
реакционером,
тянувшим
русскую
литературу
во
вчерашний
день
сентиментализма
конца
XVIII столетия.
Надо
было
решить,
обязан
ли
Пушкин
Жу ков ско му
плодо
творными
урок ам и
или
же
Жуко вс кий
для
Пу шкина
—
казен
ный
учитель,
которого
надо
поскорее
преодолеть,
чтобы
выйти
на
дорогу
прогрессивной
поэзии.
Что
касается
Белинского,
забытого
во
всех
этих
спорах
(хотя новейшие критики иногда и ссылаются на него), то он
имел
на
эту
тему
яс ное
и
твердое
мн ение:
для
него
Жуковский
—
романтик,
во -п ерв ых,
да же
основоположник,
глав а
русского
романтизма,
и,
во- вт ор ых,
он
для
Белинского
—
не обход имы й
и
полож и те льн ый
в
своей
исторической
роли,
хо тя
и
ограни
ченный
романтическим
кругозором,
предшественник
Пушкина.
В
работе,
под води вше й
ит ог
историко-литературным
из
уч ениям
Белинского,
в
статьях
о
Пушкине,
он
писал
о
Жуков
ск о м : «Необъятно велико значение этого поэта для русской
п оэзии
и
ли т ерат у ры», «Жуковский ввел в русскую поэзию
романтизм»; «...
если
мы
в
поэзии
Пушкина
найдем
бо льше
глубокого,
разумного
и
определенного
содержания,
боль ше
зрел ост и
и
мужественности
мысли,
чем
в
поэзии
Жуковского,
—
это
потому,
что
Пушкин
им ел
своим
предшественником
Жук овс ко го». «Неизмерим
подв иг
Жуковского
и
велико
зна
чен ие
его
в
русской
литературе!
Его
романтическая
му за
б ыла
для
дик ой
сте пи
русской
поэзии
элевзинскою
бо гине ю
Цере
рою:
она
дала
русской
поэзии
д ушу
и
сердце,
познакомив
ее
с
таинством
страданий,
утрат,
мист иче ск их
откровений
и
полного
тревоги
стремления
«в оный таинственный свет», которому нет
име ни,
нет
места,
но
в
к отором
ю ная
д уша
чув ст вует
свою
родную,
заветную
сторону». «Мы,
русские,
позже
других
вышедшие
на
попри щ е
нравственно-духовного
развития,
не
им ели
своих
средних
веков:
Жуковский
дал
нам
их
в
своей
по эз ии,
которая
воспитала
столько
поколений
и
всег да
будет
так
красноречиво
гов орит ь
д уше
и
сердцу
чело век а
в
из
14
вес тн ую
эпох у
его
ж из ни ». «Заслуга
Жуковского
собственно
перед
искусством
состояла
в
том ,
что
он
дал
возможность
со дер жани я
для
русской
п о эз ии ». «Творения
Жуковского
—
это
це лый
период
нашей
литературы,
целый
период
нравствен
но го
развития
нашего
общества.
Их
мо жно
находить
односто
ронними,
но
в
этой-то
одн ос торонн ост и
и
заключается
необхо
димость,
оправдание
и
достоинство
их» 4.
Белинский
был
прав.
Он
видел
и
зна л
то,
что
видели
и
знали
все
современники,
что
видел
и
зн ал
сам
Пушкин.
Ведь
нельзя
за быва ть
о
том,
что
для
Шишкова,
с
одной
стороны,
и
для
Пу ш кина,
с
другой
стороны,
романтизм
—
это
передовое,
идеологически
и
даже
политически
новаторское
движение.
А
в едь
для
н их -то,
для
современников,
Жуковский
во
всяком
случае
—
романтик.
И
хотя
романтизм
Жуковского
с
самого
начала
его
поэтической
работы
был
лишен
активности,
пропо
веди
либерализма
и
борьбы
<• реакцией,
он
вовсе
не
был
в
своей
сущности
исторически
реакционным
явлением
ни
в
эсте
тическом,
ни,
что
то
же
самое,
в
ин ом
а спе кте
—
общеидеоло
гическом
отношении.
Ког да
Жу ко вский,
скромный,
но
независимый
поэт,
св о
бодно
воспевавший
ду шу
человеческую
в
сельском
уе динении ,
или
же
Жуковский
—
поэт-гражданин,
воспевавший
военный
подъем
народа,
вставшего
на
св ою
защиту,
ок азал ся
придвор
ны м,
его
друзья
и
соратники
по
литературе
не
скрывали
ни
своего
возмущения,
ни
своего
удивления.
Для
них
это
бы ло
изменой
Жуковского
своей
поэ з ии,
гибе лью
его
как
поэта.
«Из савана оделся он в ливрею»
—
это
б ыла
формула,
выр а
жавшая
отношение
к
судьбе
Жуковского
и
Вяземского,
и
бр ать ев
Бестужевых,
и
других
литераторов.
След оват ельн о,
т вор чест во
Жуковского
до
середины
1810-х
годов
шло
вразрез
с
придворным
служением
его
в
сознании
современников,
пони
мавших
и
ценивших
Жуковского.
И
в
самом
деле,
творчество
Жуковского
первой
поры,
пр име рно
до
первых
собраний
его
сочинений
(1815 и 1818), нимало не официально.
Правда,
оно
и
по зд нее
не
становится
вполне
официальным;
но
Жуковский,
вступив
в
это
врем я
во
второй
период
своей
литературной
р аботы ,
как
бы
иссякает,
теряет
черты
самостоятельности,
все
больше
становится
переводчиком,
теряет
ведущую
ро ль
в
ли
тературе.
Он
и
не
борется
за
н ее,
ле гко
ус туп ая
ее
молодому
Пушкину.
Ко
времени
третьего
собрания
сочинений,
1824
4В.
Г.
Бе линск ий,
Полное
собрание
сочинений ,
т.
VII, из д.
АН
СССР ,
М.
1955, стр.
142, 144 , 182—183, 220 , 221 , 223, 241.
Да лее
ссылк и
даю тся
в
тек сте
у каза нием
тома
и
страницы.
(Ред.)
15
года,
Жуковский,
все
еще
создающий
прекрасные
произведе
ния,
вып адает
из
основного
русл а
ра звит ия
литературы.
Про
читав
это
издание
1824 года,
Пушкин
имел
все
основания
с ка з а т ь: «Славный был покойник,
дай
бог
ему
царство
небес
ное!»(Письмо к Л.
С.
Пу шки ну
от
13 июня 1824 года) 5.
И
далее
—
вплоть
до
самой
смерти,
в
те ч ение
еще
трид цати
ле т,
Жуковский
остается
превосходным
поэтом,
но
не
водителем
литературы.
Его
роль,
его
расцвет,
его
значение
—
в
твор
честве
первой
поры
(если не говорить о просветительном,
культурном
значении
его
к рупны х
переводов,
как
раз
в
боль
шинстве
относящихся
к
позднейшему
времени).
В
эту
именно
пору
Жуковский
создал
вещи,
и деи,
стиль,
прогре с с ив ное
значение
ко тор ых
значительно.
А
по том
он,
уже
не
создавая,
—
все
же
обманул
опасения
своих
друзей
и,
став
придворным,
не
предал
св оих
пр ежни х
созданий;
а
потом
он,
—
кажется,
единственный
не
только
из
предшественников,
но
и
из
совре
м енн иков
Пушк ина ,
сер ь езно
поняв
реалистические
открытия
своего
быв шег о
ученика,
сам
стал
учи тьс я
у
него.
Это
обстоя
те льс тво
замечательно.
Позднее
творчество
Жуковского,
яв но
ориентированное
во
многих
произведениях
и
чертах
на
усвое
ние
пуш кинс ких
завоеваний,
показывает,
насколько
Жуковский
был
п о тенциа льно
близок
Пушкину,
не
только
как
человек,
но
и
как
поэт.
Если
мы
откажемся
от
дурной
привычки
разоблачать
поэзию
Жуковского
как
реакционную
гниль,
то
нам
н еза чем
бу дет
производить
мучи те л ьную
операцию
отторжения
Пуш
кина
от
одного
из
его
ближайших
учителей,
потому
что
именно
бл агим
желанием
спасти
незапятнанную
репутацию
Пушкина-
радикала
объясняются
попытки
доказать,
что
Пу шкин ,
мол,
быстро
и
охот но
«преодолел»
в лиян ие
Жуковского,
восприня
тое
им
еще
в
ранней
юности
исключительно
по
неведению,
по
детской
несознательности.
На
самом
де ле
Пушкин
глубоко
и
органически
воспринял
то
по дли нно
ценное
и
передовое,
что
заключалось
в
творчестве
Жуковского,
остался
вер ен
его
по
ложит е льн ым
завоеваниям
на
всю
жизнь
и
сам
считал
Жуков
ско го
своим
учителем
как
тогда,
когда
он
еще
училс я
у
него,
так
и
тогда,
когда
уже
ни
у
кого
не
учился.
И
ничего
пороча
щег о
Пушкина
нет
в
том,
что
он
це нил
творчество
своего
5А.
С.
Пушкин,
Полное
.собр ание
сочине ни й
в
деся ти
томах,
т.
X, изд.
АН
СССР,
М.
—
Л.
1949, стр.
91.
Далее
статьи
и
письма
Пу ш
кина
цитируются
по
это му
изданию.
Ссылки
даются
в
тек сте
у казанием
тома
и
страницы.
(Ред .)
16
зам ечат ельн ог о
предшественника
и
не
отказывался
от
его
на
следия.
Нет
необходимости
напоминать
восторженную
характери
стику
поэзии
Жуковского,
данную
юношей
Пушкиным
в
из
вестной
надписи
«К портрету Жуковского» («Его стихов пле
нительная
сладость...»).
Важн о
отметить
лишь,
что
это
стихотворение
на писано
в
1818 году,
то
ес ть
после
оды
«Вольность»,
когда
Пушкин
ра зви вался
уже
явно
в
русле
политических
и
поэтических
иде й
декабризма;
следовательно,
эта
декларация
Пушкина
имеет
вполне
сознательный
и
прин
ципиальный
характер.
Дел о
было
совсем
не
в
том,
что
Пуш
кин
якобы
сначала
учился
у
Жуковского,
а
потом,
преодолев
ег о,
с тал
декабристским
поэтом.
Он
стал
им
еще
до
декабриз
ма,
в
1815 году,
когда
он
нап ис ал
«К Лицинию», тогда же,
когда
он
писал
вещи,
яв но
на ве янные
Ж уко вс ки м: «Певец»
(«Слыхали ль вы. . .»),
очевидно
зависящий
и
от
«Певца»
Жуковского
(«В тени дерев,
над
чистыми
в од ами», 1810), и от
всей
его
поэтической
манеры,
написан
в
1816 году .
И
в
этом
же
г оду
Пуш кин
на пи сал
послание
«К
Жуковскому»
(«Благослови,
п оэт . .. »), в котором он говорит о Жуковском
как
о
своем
руководителе
на
поэтическом
поприще.
При
этом
пушкинское
по сл ание
—
это
боевое
стихотворение,
которое
бичует
то ржест вую щее
невежество,
реакцию,
официальное
мракобесие,
стихотворение,
ра ту ющее
за
прогресс,
за
правду
и
са т иру,
за
просвещение.
Видим о ,
Пушкин
не
считал
эту
св ою
программу
противоречащей
учебе
у
Жуковского.
М ежду
тем
молодой
Пушкин
хорошо
по нима л
су ть
поэ
зии
Жуковского.
Пожалуй,
ни
у
одного
из
критиков
XIX и
XX веков мы не найдем более точного и глубокого определе
ния
характера
эт ой
по эз ии,
чем
то,
которое
дано
в
сжатых
форм ула х
послания
Пушкина
«Жуковскому» 1818 года:
Когда,
к
мечтательному
ми ру
Стрем я сь
возвышенной
душ ой,
Ты
держи шь
на
коле на х
лир у
Нет ерпел ивою
рукой;
Когда
сменяются
виденья
Перед
тобой
в
в олшеб ной
мгле ,
И
быстрый
хол од
вдохновенья
В ласы
подъемлет
на
чел е:
Ты
пр ав,
творишь
ты
для
немногих...
6
6 Все произведения Пушкина Г .
А.
Гуковский
цитирует
по
из дан ию:
А.
С.
Пушкин,
Полное
собр ание
сочинени й
в
шести
томах,
изд.
«Художественная литература”, М. , 1937—1948. (Ред .)
17
Зн ач ит,
Пуш кин
прекрасно
понимал,
что
мир
поэ зии
Жуковского
мечтательный
и
что
именно
в
это т
мечтательный
мир
стр е митс я,
улетает
своей
душой
Жуковский
от
презренно
го
мир а
реальности
(первая редакция: «Когда возвышенной
душ ой
Ле тя
к
мечтательному
мир у ...»).
И
Пушкин,
уже
де
кабристский
поэт,
вольнолюбец
и
бунтарь,
не
только
не
осу ж
дает
это,
а
явно
хва лит
Жуко вс ког о
им енно
за
это.
Так ой
же
смысл
имеет
и
сочувственное
определение
«Когда сменяются
виденья
Перед
тобой
в
волшебной
мгл е. .»
В едь
и
здесь
Жу
ко вс кий
охарактеризован
как
мечтатель,
поэ т
своих
видений,
а
не
поэт
реальной
действительности,
и
Пушкин
приемлет
э то.
Между
тем
Пушкин
не
был
двуликим
поэтом
в
1818 году:
одно,
м ол,
для
Жуковского,
другое
для
декабристов.
И
это
самое
послание
к
Жуковскому
не
лишено
нот
свободомыслия.
Пушкин
не
хочет
видеть
в
тех
«немногих», для которых изда
ны
сбо р ники
Жуковского,
п рид ворных
читателей.
Он
борется
за
Жуковского,
не
желая
отдать
его
враг ам.
Он
пишет:
Ты
прав,
творишь
ты
для
немногих.
Не
для
завистливых
су де й...
(1- я
ре д.:
Не
для
подкупленных
судей
Ревниво й
мил о стью
твоей)
Не
для
сбирателей
убогих
Чужих
суждений
и
в ест ей,
Но
для
друзей
т алант а
строгих,
С вя щенной
истины
дру зей .
Не
для
придворных,
а
для
него,
Пушкина,
к от орый
...
твой
восторг
уразумел
Восторгом
пламенным
и
ясным.
Над о
помн ит ь,
что
выр ажен ие
«Священной истины дру
з ей»
не
мо гло
не
иметь
в
околодекабристских
кругах
значения,
определенного
не
только
в
эстетическом,
но
и
в
политическом
плане.
Значит,
Пушкин,
оставаясь
вольнолюбцем,
считал
не
только
возм о жны м,
но
и
нужным
славить
Жуковского,
при
этом
не
только
не
ск ры вая
идеалистический
субъективизм
его
поэзии,
но
пр ямо
указывая
на
него.
Сл едов ат ель но,
именно
в
этой
характернейшей
основе
искусства
Жуковского
Пушкин
видел
нечто
приемлемое
для
себя,
для
поэзии
прогрессивной,
ко неч но
не
повторяющей
уже
Жуковского,
но
наследующей
ему.
Так
продолжалось
и
далее;
в
начале
1820- х
год ов
Пу ш
кин
внимательно,
сочувственно
и
даже
восторженно
следит
за
творчеством
Жуковского,
хо тя
не
ч ужд
и
кри тиче с кого
о тно
шения
к
н ему.
25 января 1825 года он написал Рылееву о
18
своем
несогласии
«с строгим приговором о Жуковском»
в
обзоре
Б е сту ж е ва : «Зачем кусать нам груди кормилицы на
шей?
потому
что
зубки
прорезались?
Что
ни
говори,
Жуков
ский
имел
решительное
в лияние
на
дух
н ашей
словесности...»
(X, 118.) 25 мая 1825 года Пушкин писал Вяземскому: «Ты
слишком
бережешь
мен я
в
отношении
к
Жуковскому.
Я
не
сл едс тви е,
а
точно
ученик
его,
и
только
тем
и
беру,
что
не
смею
сунуться
на
дорогу
его ,
а
бреду
проселочной.
Ни кто
не
имел
и
не
буде т
иметь
слога,
равного
в
могуществе
и
разнооб
разии
слогу
его» (X,149).
Еще
в
1830 году Пушкин говорил
о
шк оле , «основанной Жуковским и Батюшковым» (Рецензия
на
«Карелию») (VII, 125), школе,
к
которой,
в идим о,
относил
и
себя.
3.
Был
ли
Жуковский
либе ра лом
даже
в
1800—1810-х
го
д ах?
Конечно,
не т,
если
п оним ать
под
либе рализ мом
тог о
врем ен и
взгляды
Н.
Тургенева,
Ф.
Глинки,
Катенина
и
им
подобных,
а
только
так
и
можно
пони ма ть
дело.
Был
ли
он
в
эти
годы
реакционером?
Конечно,
не
был
реакционером
ни
в
1800- м,
ни
в
1820-м
году.
Скорей
уж
он
стоял
ближе
к
л ибе
ралам,
с
которыми
был
связан
иной
раз
личной
дружбой
на
долго,
на
всю
жизнь.
Так
бАгло
с
Пушкиным.
Это
была
хо ро
шая,
искренняя,
свободная
и
теплая
дружба
на
протя же н ии
многих
ле т,
и
вовсе
н езач ем
изображать
Жуковского
каким-то
совр ати т елем
Пушкина
в
реакцию,
чут ь
ли
не
аге нто м
Нико
лая
I при великом поэте.
Неужто
же
Пушкин
был
так
н аивен ,
что
искренне
любил
бы
агента
III Отделения,
приставленного
к
нему?
Скорей
уж
Жуковский
был
аген т ом
Пу ш кина
и
его
круга
при
дворе,
чем
наоборот.
Так
пони м ал
дело
и
сам
Ни ко
лай
I,
ви де вший
в
Жуковском
наиболее
приемлемого
из
«партии»
независимых,
но
не
более,
и
не
доверявший
ем у;
так
понимал
д ело
и
Булгарин,
написавший
в
1830 году донос,
в
котором
Жуковский
был
представлен
ед ва
ли
не
вож дем
при
двор но й
партии
либе ралов ; 7 так же понимал дело и Бенкен
до рф,
поддержавший
донос
Булгарина;
так
по ним ал
де ло
и
иностранный
наблюдатель,
по сл анник
(пресловутый Геккерн),
сооб щавш ий
в
1837 году своему правительству опять- т ак и
о
7Ц.
С.
Вол ьп е;
комментарий
в
книге :
В.
А.
Жуковский,
Стихотворе
ни я, «Библиотека поэта», т.
II, 1940, ст р.
477.
<
19
роли
Жуковского
как
главы
ли бера лов
в
при двор ной
среде.
Еще
в
1812 году Растопчин отказался прикомандировать Жу
ко в ского
к
се бе
потому,
что
он,
мо л,
якобинец.
И
ведь
Жу
ковский
хлопотал
о
смягчении
участи
декабристов,
хлопотал
перед
самим
царем,
не
опасаясь
испортить
тем
свою
карьеру.
Что
же
касается
его
письма
к
А.
И.
Тургеневу
от
16 декабря
1825 года,
в
кот ором
он
бранил
декабристов
на
чем
свет
стоит,
бранил
пошло
и
даже
глу по,
то
оно
доказывает
только,
что
он
очень
испугался
разгрома
восстания
и
ч то,
следовательно,
он
чувствовал
себя
несвободным
от
подозрений
правительства
хотя
бы
за
дружеские
отношения
с
декабристами.
Ве дь
яс но,
что
эта
официальная
бр ань
не
соответствовала
подлинному
отношению
к
декабристам
человека,
вслед
за
тем
хлопотавшего
о
сосланных
декабристах,
рискуя
сво им
положением,
человека,
сохранившего
теплое
чувство
к
декабристам
и
не
стеснявшегося
выск азы ват ь
это
чувство;
ведь
и
Кюхель б ек ера,
которого
Жу
ко вский
грубо
выбранил
в
пис ьме
к
А.
И.
Тургеневу,
он
не
только
дружески
помнил,
но
еще
в
1840 году писал ему,
хл о
потал
о
нем
п еред
Николаем
лично,
посылал
ему
книг и
8.
Письмо
от
16 декабря 1825 года
—
пи сьмо
для
«властей», и только.
Жуковский
никогда
не
был
и
не
мог
быть
придворным
чинушей,
и
во
дворце
оставаясь
независимым
поэтом
и
представителем
русской
культуры.
И
в
стихах
он
надо л го
со х ранил
н езависи м ый
голос
по
отношению
к
царю.
Пушкин
совершенно
справедливо
писал: «Так!
мы
можем
праведно
го рдить ся :
наша
словесность,
уступая
другим
в
р ос
коши
талантов,
тем
п ред
ним и
отличается,
что
не
носит
на
себе
печати
рабского
унижения.
Наши
таланты
бла го род ны,
не за ви
симы...
Прочти
послание
к
Але кса нд ру
(Жуковского 1815
года).
Вот
как
русский
поэт
го ворит
рус с кому
царю» (X,146.
—
Письмо
к
А.
А.
Бестужеву,
май—июнь
1825 года) .
А
в
январе
1826 года Пушкин писал самому Жуковскому:
«Говорят,
ты
написал
стцхи
на
смерть
Александра
—
предмет
богатый!
—
Но
в
течение
десяти
лет
его
царствования
ли ра
твоя
м ол чала.
Это
лучш ий
упрек
е му.
Н икто
более
теб я
не
имел
права
сказать:
гла с
л иры
глас
народа» (X,199).
В
1819 году декабристы предложили Жуковскому всту
пить
в
их
общество.
Он
от к азал ся,
и
то
не
потому,
что
он
не
сочувствовал
их
целям,
а
потому,
что
не
хотел
вообщ е
прини
мать
уч астие
в
политических
дейс тви ях.
Но
важн о,
что
декаб
ри сты
не
сомневались
в
том,
что
их
предложение
безопасно:
Жуковский,
по
их
мнению ,
не
мог
их
выдать
царю.
Они
не
8 См.
его
письмо
к
Пле тне ву
от
17 июля 1840
г ода
из
Дарм шт адт а.
20
ошиблись.
Уч ит ель
великих
книжен
и
прият е ль
императрицы,
он
тем
не
менее
ни
словом
не
обмолвился
о
тайном
обществе.
Почему?
Потому
ли,
что
он
был
просто
поря доч ны м
чело ве
ко м?
Но
ведь
если
бы
он
был
у беж ден
в
правоте
сущ ест во
вавшего
строя,
он
бы
стремился
оберечь
его
от
опасности.
Скорей
всего,
он
не
был
убе жде н
в
этом,
да
и
ни
в
чем
не
был
убежден.
Он
не
мог
бьггь
уверен
в
то м,
что
декабристы
не
правы;
може т
быть,
они
и
б ыли
те ми
людь ми ,
за
которыми
стояла
ис тина?
Для
Жуковского
это
не
мог ло
бы ть
решенной
про бле мо й,
ибо
он
не
мог
твердо
верить
в
объективную
незыб
лем ую
истину
во об ще,
а
субъективно
и
те
и
друг ие
—
и
царь
и
де кабр ис ты
—
п ереж ив али
сво и
вз гляды
как
истину;
стало
б ьггь,
и
то
и
другое
было
для
Жуковского
истиной;
потому
что
он
верил
в
одну
лишь
истину:
в
хорошего
человека,
верного
своему
ид е алу,
и
ненавидел
он
только
одно:
и ронию,
а
прези
рал
подлость;
потому
он
не
мог
п риня ть
Гейне
и
активно
бо
ролся
с
Булгариным.
Недаром
сам
Жуковский
уже
в
1814
го ду
писал
о
равнодушии
к
жизни
как
основе
своего
внутрен
не го
бы тия: «Мысль,
что
все
может
перемениться,
что
на
стоящее
заменится
п рек расн ым
будущим,
была
м оею
подпо
ро ю,
—
но
эта
мысль
не
помешала
мне
приобрести
совершенного
равнодушия
к
жизни,
которое,
наконец,
сд ела
л ось
главным
моим
чувством:
чувство
убийственное
для
всякой
деятельности.
Как
хотеть
быть
добрым
в
жизни,
считая
и
самую
жизнь
ненужною?
Са мая
вера
не
ослабевает
ли
при
тако м
ра внод уш ии» (Дневник).
В
основной
битве,
занимавшей
рус с кую
культуру
первой
трети
XIX века,
в
борьбе
кул ьту ры,
независимой
мысли,
ев
ропейского
просвещения
с
казенщиной,
мракобесием,
полицей
ским
духом,
продажностью
и
официальным
лакейством,
Жу
ковский
был
на
стороне
независимых
—
объективно,
си лою
вещей,
сил ою
своей
личной
культуры
и
воспитания.
Положе
ние
изм ен и лось
окончательно
только
к
сороковым
годам,
ко гда
старик
Жуковский,
оторванный
от
родной
почвы,
впа л
в
мис
тиц изм
и
действительно
ударился
в
реакционность.
Но
это
уже
было
после
смерти
Пушкина,
и
печальный
конец
Жуков
ского
не
должен
заслонить
от
нас
всю
его
жизнь.
Характер
Жуковского
и
его
мировоззрение
сф орми рова
ли сь
в
Московском
Благородном
пансионе,
в
кру гу
ма сон ов,
в
кругу
Тургеневых.
Здесь
он
получил
закв ас
свободной
м ысли,
подчеркнутой
независимости
от
правительственной
фе ру лы.
Здесь
он
воспринял
традицию
дворянского,
уже
по бл ед
невшего
либерализма,
генетически
восходящего
к
сумароков-
скому
фрондерству.
И деалы
культуры,
англ ийс кого
умеренного
21
свободомыслия,
гражданственности
к ульт иви рова лис ь
и
в
кружке,
носившем
н азвани е
«Дружеского литературного об
ще ст ва », к которому принадлежал Жуковский в 1801 году .
В
этом
кружке
благоговели
перед
«Вертером», которого перево
дил
Андрей
Тургенев.
З десь
очень
много
говорили
о
политике
и
вовсе
не
в
кон
сервативном
духе.
Андрей
Тургенев
да же
был
вс т рево жен
те м,
что
пол итич е ские
темы
отвлекали
членов
кружка
от
литерату
ры.
Надежды
и
туманные
политические
мечтания
пе рвых
го
дов
XIX века разделялись Жуковским .
П отом
Жуковский
дружил
с
Вяземским,
в
ту
пору
отчаянным
либералом,
дружил
и
с
Блудовым,
в
ту
пору
«русским тори».
Но
в едь
идеология
т о ризма
для
крепостнической
и
самодержавной
России
была
еще
прогрессивной
идеологией.
В
«Арзамасе»
Жуковский
го тов
был
приветствовать
и
левое,
и
более
правое
к рыло
круж
ка,
но
не
чура лс я
и
тех
мыслей
и
предложений,
к от орые
вн о
си ли
арзамасцы-декабристы.
Еще
в
1806 году (де к а брь)
Жуковский
писал
А.
И.
Тургеневу
по
поводу
манифеста
в
свя зи
с
войной
о
то м,
что
«простой народ»
не
может
п очувс тв оват ь
пафоса
защиты
госу
да рс тв а : «причина очевидна»
—
крепостное
п рав о: «вот,
мне
кажется,
бла гопри ятн ы й
случай
для
дарования
многих
п рав
крестьянству,
к ото рые
бы
при бли з или
его
несколько
к
свобод
ному
со ст оя нию».
О
св обо де
крестьян
писал
он
и
в
1808 году,
об
«убийственном чувстве рабства»
в
1809 году 9 .
В
1820 году
он
с
сочувствием
г овори т
в
своем
дневнике
о
реч ах
Гуфланда
«о ложных мерах правительств насчет притеснения свободы
печатания».
В
1822 году он освободил своих личных крепост
н ых.
И
он
не
хотел
печатать
св ой
пе ре вод
стихов
Ш иллера ,
в
котором
цензу ра
не
пропускала
то
мес то,
где
говорится:
«человек создан свободным,
и
он
свободен,
даже
если
он
ро дил ся
в
це пях», так как этими словами он особенно доро
жил
10.
Впрочем,
еще
раз
с лед ует
сказать,
что
все
это
не
о зн ача
ет,
что
Жуковский
был
деятелем
либерального
движения.
Он
с
такой
же
легкостью
подружился
с
императрицей
Марией
Фе
доров н ой
и
великой
княгиней
Александрой
Федоровной,
и
это
не
было
признаком
беспринципности,
но
признаком
внутренне-
9А.
Н.
Веселовский,
В.
А.
Жуковский.
Поэзия
чувства
и
сердечного
воображения,
СПб., 1904, стр.
337.
10 К.
К.
Зейдлиц,
Жизнь
и
по эзия
В.
А.
Жуковского,
СПб.,
1883, стр.
124—125.
22
го
безразличия.
Он
тяготел
к
Тургеневым
и
не
мог
н иког да
с бл изит ься
с
Николаем
I; придворная знать косилась на него и
муссировала
разговоры
о
его
«незаконном»
пр оисх ож де нии;
для
нее
он
навсегда
остался
чужим,
учителем
и
литератором,
не
блестящим,
бедным,
чем-то
вро де
слуги.
Но
он
не
мог
преодолеть
то,
что
его
друзья
часто
на зыва ли
л енью
и
что
вовс е
не
б ыло
ею,
так
как
Жу ков ский
был
очень
т рудолю бив
и
как
поэт ,
и
как
педагог,
и
как
журналист,
и
как
рисоваль
щи к,
и
как
читатель.
Это
был
страх
перед
ж изнь ю,
перед
историей,
перед
действительностью,
которую
Жуковский
не
любил,
считал
дурной,
полной
несправедливости
и
зла.
Это
был а
безнадежность
на йти
се бе
идейно
оправданное
мес то
в
реа льно й
жизни,
это
б ыло
следствие
Французской
революции,
потрясшей
мир
и,
по
мнению
Жуковского,
не
принес ше й
бла га
на
земле,
следствие
мировых
катастроф,
испу га вших
Жуков
ского.
Ибо
он
не
был
поклонником
старого
угнетения
человека
и
не
мог
стать
поклонником
новых
устоев
ж изни
Запада
11.
Бегство
Жук ов ско го
из
жизни
внутрь
само го
себя
—
это
было
след ств ие
крушения
старой
традиции
дворя н ск ой
оппоз ици он
ности,
следствие
культа
пас сив ног о
сопротивления
ма сцн ов
XVIII века,
и тог
культуры
Хераскова,
Муравьева,
Карамзина.
Это
б ыло
то
же
неверие
и
с кепс ис,
что
у
К арам зи на.
Однако
же
Жуковский
не
мог
бы
на писа ть
ни
«Марфу
Посадницу», ни «Историю
государства
Российского»; Карам
зин
оставался
до
конца
дворянским
мыслителем
и
писателем.
Не
вер я
в
истину,
он
верил
в
си лу
и
услаждался
эстетическим
идеалом.
Это
было
его
кредо.
А
из
эмоций
он
признавал
лишь
умилительные,
вызванные
воздействием
эстетики.
Ино е
де ло
Жуко в ский.
Двусмысленное
п роисхо жде н ие
и
общественное
положение,
бедность,
зависимость,
трудная
мол одос т ь,
траги
ческий
роман,
сд елавши й
его
жертвой
«старого порядка», —
все
исторгало
его
из
круга
жизненных
представлений
дворяни
на
и
помещика.
Да
он
и
не
был
вовсе
помещиком
и
был
сом-
11 Еще в 1810
году
Жуковский
отчетливо
чуял
раскаты
рев олю ци он ных
громов
и
боялся
революции
в
России,
счи тая,
что
она
вот -вот
может
насту
пить.
Он
писал
А.
И.
Тур ген еву
7 ноября 1810
го да : «Так,
бра т,
и
в
несчастье!
Видя,
как
все
рушится,
иногда
приходит
мне
в
голову
мысль,
что,
мож ет
быть,
впере ди
готовит
для
нас
судьба
что-нибудь
ужасное.
Я
ча сто
хо тел
писать
к
т ебе
об
этом .
Милый
друг !
Никогда
не
теряй
из
го ловы
мысли,
что
нам
надобно
помогать,
помогать
д руг
другу
переносить
бурю;
что
несчастие
должно
соединить
нас ,
что
нам
непременно
должно
быть
вместе,
когда
начнется
это
испытание.
Как ое
оно
—
не
зн аю.
Но
подумай
о
том,
что
были
м ногие
эмигранты,
рассыпанные
по
всему
свету
ре волюц иею;
вз г ляни
на
то,
что
происходит
около
на с,
и
вообрази
возможности».
23
нительным
дворянином.
Кроме
того,
он
был
моложе
Карамзи
на
на
семнадцать
ле т.
Ему
было
шесть
л ет,
когда
началась
Французская
революция.
Он
вырос
в
атмосфере
крушения
старого
мира.
И
его
идеал
не
мог
иметь
и
не
имел
ничего
специфически
дворянского.
Он
был
лишен
розовых
очков,
украшавших
крепостническую
жизнь.
Он
отверг
целиком
со ци
альную
действительность
классовой
борьбы
—
как
точку
зре
ния
ре в ол юции,
так
и
точку
зр ения
феодальной
реа кц ии.
Но
вед ь
он
не
мог
выпрыгнуть
на
самом
де ле
из
классовой
борь
бы.
В
решающей
схватке
эпо хи
он
пы тал ся
уде рж а ться
в
сто
роне
и
житейски
сохранить
хорошие
от нош ения
и
с
теми
и
с
этими.
В
результате
ему
не
доверяли
справа
и
его
осу жд али
слева.
Он
не
идеализировал
помещичий
уклад,
как
Карамзин,
он
по шел
дальше
его
в
своем
субъективизме,
и
он
отверг
цен
ность
всег о
действительного,
а
творчески,
поэтически
он
готов
был
отвергнуть
самое
существование
действительности
вне
д уши
человеческой.
Он
не
мог
и
не
хотел
сохранить
культ
эстетического,
как
себе
довлеющей
с исте мы
законченной
фо р
мы,
подобно
Ка ра мзину,
и
для
не го
искусство
не
бы ло
спа се
нием
от
жизни
само
по
себе .
Он
не
верил
и
в
силу,
так
как
сила
приносила
с
собой
на
его
г лазах
лиш ь
зло
—
и
сила
Наполеона-императора,
и
сила
феодальных
предрассудков,
и
с ила
бюрократической
церкви,
и
сила
рабства,
загу би вшег о
его
ма ть.
Но
он
был
сыном
своего
века,
века
буржуазных
револю
ций,
и
он
ве рил
в
то,
во
что
не
ве рил
Карамзин:
в
человека
и
прежде
всег о
в
человеческую
душ у,
человеческую
индивиду
альн ос ть,
высшую
ценность
индивидуального
л ично го
бытия.
«Лучшее наше добро есть наше сердце и его чистые чувства»,
—
писал
он
в
1827 году (письмо
кА.
П.
Кир еевс к ой-
Елагиной
от
7/19 февраля 1827 года) .
И
в
ца рице
он
воспел
страдающую
мать
(элегия «На
ко нч ину
ее
величества
короле
вы
В ир т емб ер гск ой »). «Святейшее
из
званий
—
человек»
—
это
единственный
п одлинны й
лозунг
т вор чест ва
Жуковского
эпохи
его
расцвета.
Его
идеалом
был
человек
вообще,
каждый
человек,
человек
вне
общества,
и
в
этой
внесоциальности,
отъединенноеTM
от
ми ра
человеческой
д уши
и
человеческого
достоинства,
как
его
по нима л
Жуковский,
было
и
крушение
со циа льно й
мечты
революции,
и
отказ
от
борьбы,
и
глубокая
связь
с
анархическим,
индивидуалистическим
пониманием
л ич
ности,
свойственным
буржуазной
мысли
как
в
эпоху
ее
па де
ни я,
так
и
в
эпоху
ее
подъема
в
конце
XVIII—
начале
XIX
век а.
Я
не
хочу
сказ ать ,
конечно,
что
Жуковский
был
б уржу
азным
«идеологом», но я хочу сказать,
что
в
мышлении
и
в
творчестве
Жуко вс ко го
нашли
свое
—
хот я
бы
и
преломленное
24
—
отражение
идеи
его
в ре мени,
времени
буржуазных
рево лю
ций.
Это
сод е рж ание
вошло
в
поэзию
Жуковского
в
сублими
рованном
виде,
в
отрешенной
сфере
(оно ведь вошло и в твор
ч ество
крупных
немецких
философов-идеалистов); но именно
оно
определило
и
ху до жест венн ые
иска ния
Жуковского,
и
его
з нач ение
как
поэ та
12.
И
тут
нет
разрыва
с
его
политическим
поведением.
Его
резиньяция,
его
оправдание
горя,
его
обще
ственное
безразличие
(кроме подъема 1807—1812 годов,
ког да
он
не
остался
чуж д
своему
нар оду )
не
были
оправданием
дей
стви тел ьн ост и,
а
бы ли
пассивной
формой
недовольства
ею,
бы ли
уходом
из
н ее.
Характеризуя
«основание поэзии Жуков
ского», Н.
А.
П оле вой
справедливо
указал
прежде
всего
сл е
д у юще е: «совершенное недовольство собою,
миром,
людьми,
недовольство
тихое,
ун ылое
и
от
то го
стремление
за
пред е лы
мира» 13.
Вот
что
Жуковский
писал
в
1815 году А.
П.
Елаг и
н ой:
«Обвитый розами скелет.
Это
можно
сказать
не
об
одной
славе,
но
и
о
жиз ни,
то
е сть
о
том,
что
называют
жизнью
в
обыкновенном
см ысл е,
об
этом
беспрестанном
движении,
об
эт их
ра зг овора х
без
интере
са,
об
этих
свиданиях
без
радости
и
разл ук ах
без
сожаления,
об
этом
хаосе
света
—
ск еле т!
ск е лет!
И
посмотреть
на
него
вблизи
убийственно
даже
и
для
самого
у е динен ия.
Большая
часть
мечтаний
до лжна
по гиб нуть ».
Конечно,
лучше
бороться
с
дурной
действительностью,
чем
убегать
от
нее
в
«мечтательный мир», да еще при этом служить при дворе,
хот я
бы
и
в
кон це
своего
самостоятельного
творческого
пути.
12 О связи романтического субъективизма с эпохой буржуазных рево
лю ций
писал,
например,
еще
в
1828 году журнал « А теней» (М.
Па влова ),
журнал
антиромантический,
в
стать е
«О направлении поэзии в наше время»,
статье
программной,
помещенной
в
1 номере журнала (с
подписью
«X»).
«Выросшая в веке гибельных переворотов,
поэзия
нашего
времени
(романтическая.
—
Г.
Г.)
отсвечивает
всеми
красками,
пятнавшими
дей
стви тел ьную
жизнь
человека
в
сем
пе риод е.
Ум
мятежный
и
упрямый
п ерен ес
тепер ь
в
беззащитную
область
поэз ии
ту
наклонность
к
нововведе
ниям,
которую
с
такими
пожертвованиями
и
трудом
обуздали
на
поприщ е
политическом
Европ ы.
За
неимением
действительнейшего,
он
теперь
свое
нр авно
осущ ес твля ет
мечт ы
и
гре зы
сво и,
порожденные
в
в еке,
видевшем
во
всем
крайности...
В
этой
же
своевременной
наклонности
к
нововведениям
таи тся
п ричин а
и
той,
ничем
не
успокаиваемой
мечтательности,
которая,
проглянув
в
«Вертере», развернулась в «Р ен е», созрела в поэзии Байрона и
приметна
теперь
более
или
менее
в
б о льшой
части
лирических
стихотворе
ний»
и
т.
д.
13 Н.
Полевой,
Очерки
русской
литературы,
т.
I, СПб.
1839,
ст р.
121.
25
И
все
же
позиция
Жу ков ско го
1800—1820- х
г одов
—
не
позиция
реакционера,
хотя
он
неизбежно
скатывался
на
пу ть
консерватизма.
В
п ору
же,
когда
на
смену
буржуазному
инд и
вид уа лиз му
пришла
новая
правда
борьбы
п ротив
капитализма,
перед
1848 годом,
Жуковский
вместе
с
иде йны м
движением,
вскормившим
его,
оказался
в
лаге ре
ре акц ии.
4.
Говоря
о
мировоззрении
поэта,
надо
прежде
все го
гово
рить
о
той
сфере
его
деятельности
и
жизни,
где
он
более
все го
пр ав див,
где
заключено
по дл инное
содержание
его
сознания
в
самой
глубокой
глу бине
ег о,
—
о
его
творчестве.
И
здесь
мы
сразу
же
ок азы ваем ся
в
затруднении.
Жуковский
лири к
по
преимуществу.
Его
произведения
содержат
весьма
ма ло
прямой
дидактики,
в
особенности
же
мало
прямых
политических
вы
сказываний.
Начи ная
с
конца
1810- х
годов,
когда
Жуковский
входил
во
второй
период
своего
творчества,
он,
правда,
много
кратно
и
не
без
однообразия,
повторяет
одни
и
те
же
мот ивы
резиньяции,
ус ловн ые
форм улы
возвышенного
благоговения
перед
«высшими силами»
божественного
в дохнов е ния
и
кро
тости,
—
но
и
формулы
и
мот ивы
сл ужат
у
него
более
для
выражения
лири че с кой
настроенности,
чем
для
прямого
поуче
ния .
Что
же
каса етс я
первого
и
основного
пер ио да
твор че с кой
работы
Жуковского
с
1802 года по 1817—1818 годы,
ког да
он
наиб о лее
своеобразно
определился
как
по эт
и
наиболее
повлиял
на
движение
литературы,
в
том
числе
и
на
Пушкина,
еще
юношу,
то
в
это
время
и
так
назы ваемы е
мисти че ски е
черты,
и
философия
пассивности,
и
выраж ени е
политического
оппорту
низма
отсутствуют
в
его
произведениях,
отсутствуют
настолько
явно,
что
появление
их
в
п ору
прибли же ния
Жуковского
ко
двору
вызвало
и
удивление
и
недовольство
его
др узей .
При
этом
н ико гда,
до
самого
конца,
учительность
не
смогла
захва
тить
творчество
Жу ков ско го
в
его
существенных
ч ерт ах;
непо
ниманием
и
насилием
над
сутью
дел а
была
попытка
Гогол я
в
1840-х
годах
объявить
перевод
«Одиссеи»
Жуковского
урок ом
для
русской
современности.
Жуко вс кий
не
мог
и
не
хотел
быть
учителем
в
поэзии;
он
был
лириком,
раскрывавшим
сво ю
ду шу
и
не
претендовавшим
на
общезначимость
своих
самораскрытий,
а
тем
более
на
принципиальную
оценку
своей
д уши
как
поло
жительной.
26
Я
—
человек,
и
я
таков
в
моей
собственной
душевной
жизни,
—
это
Гов ори л
своим
творчеством
Жуковский,
и
вов се
не
стремился,
чтобы
все
были
такими,
как
он,
как
его
ли ри че
ский
герой.
Мораль
заключалась
здесь
в
самом
праве
души,
единственно
н езависи м ой
и
самостоятельно
реальной
—
по
Жуковскому
—
сущности,
на
самораскрытие,
на
осознание
и
поэтическое
прославление
превыше
все го.
Сам
Жуковский
хорошо
по ним ал
—
уже
стариком
—
сущность
своей
ж изни
и
тв орч ест ва,
какою
она
была
за
полвека
до
того;
в
1850 году он
писал
Плетневу,
предложившему
ему
напис ать
мем уар ы:
«Мемуары мои и подобных мне могут быть только психологи
че ск ими,
то
есть
историею
души;
с обы тиями,
интересными
для
потомства,
жизнь
моя
бедна;
да
и
те
события,
кото рые
мог
бы
я
описать,
б ыли
бы,
конечно,
худо
описаны;
я
по
натуре
м оей
не
имел
практического
в згл яда
на
жизнь
и
на
людей;
я
описал
бы
наст оя щее
фантастически;
б ыли
бы
лиц а
без
образ ов ,
и
верно
9/10 подробностей утратила моя память,
а
что
жизне
описание
без
жив ых
по дроб нос те й?
Ме р твый
скелет
или
ту
манный
пр израк »
и.
Примат
ч увст ва
и
настроения
как
высшей
це нно сти
сво
боды
и
пот ому
морали
над
мыслью,
над
суждением,
над
ratio,
как
проявлением
объективных
закономерностей,
исключал
в
поэзии
Жуко вс ког о
объективное
осмысление
и
наполнение
суждения
как
такового.
Суждение,
утверждение
в
системе.
Жуковского
—
это
скорее
лирическая
формула,
чем
адекват
ное
выражение
истины,
как
она
ему
представлялась;
потому
что
в
с ист еме
Жуковского
лирическая
правда
индив иду альн ого
переживания
и
ест ь
выс ша я,
да же
единственная
истина,
а
объективный,
вне
индивидуального
переживания
пребывающий
мир
—
это
лишь
эфе мер ная
видимость,
и
логика
суждения
о
нем
—
лож ь.
Именно
поэтому
бы ло
бы
чрезвычайно
неосторожно
строить
представление
о
м ир ово ззрен ии
Жуковского,
исходя
из
отдельных
с ужд ен и й, «высказываний»
его,
ц итат но
извлекая
их
из
его
стихов
и
комбинируя
их
по
логическим
принципам.
Т аким
путем
мы
исказили
бы
реальный,
по дли нный
смысл
эт их
самых
цитат,
как
он
возникает
в
совокупности
лирическо
го
дв иж ения
всего
произведения.
Кроме
того,
стремясь
ули
чить
Жуковского
его
же
собственными
словами-суждениями,
мы
дол жны
б ыли
бы
опе риров ат ь
чрезвычайно
малым
коли
ч ест вом
текстов,
так
как
«высказываний», имеющих объектив-
646.
14 «Сочинения и переписка П .
А.
Плетнева», т.
III, СПб ., 1885, стр.
27
ный
характер
даже
по
в идимо ст и,
у
Жуковского
мало,
и
весь
основной
фонд
произведений
поэта
остался
бы
вне
поля
изуче
н ия.
Между
тем
так
именно
и
изучают
чащ е
всего
мировоз
зрение
писателей
и,
в
частности,
поэтов,
—
путем’
цитат но го
извлечения
«высказываний», прямых суждений на политиче
ские
(чаще всего), философские и тому подобные темы,
пр и
чем
эти
цитаты
теряют
свой
стилевой
об разн ый
характер,
а
большинство
стихотворений
поэта,
не
сод ерж ащи х
высказыва
ний-суждений,
остается
вне
поля
зрения.
Этим
путем
мы
мо
жем
обнаружить
и
установить
истину
далеко
не
всегда,
и
во
всяком
случае
всег да
мы
устанавливаем
л ишь
неполную
истину.
Иссл ед оват елю,
работающему
на
в ыск азыван ия х
и
забы
вающему,
что
поэзия
—
это
искусство,
а
не
рифмованный
катехизис,
просто
нечего
делать,
например,
со
стихами
о
люб
ви,
о
природе,
с
настоящей
лирикой,
и
он
обыкновенно
стре
мится
спасти
положение
обессмысленными
затычками
в роде
того,
что
поэт
Икс
любил
при род у
или
в
особенности
р усс кую
природу
и
что
поэ т
Иг рек
очень
хорошо
ум ел
^передавать
чувства,
настроения
живого
реального
человека.
При
это м
такая
«характеристика»
ок азы вает ся
относимой
ко
всем
поэт ам
сам ых
различных
мировоззрений
и
течений.
А
ве дь
задача
исследователя
литературы
—
понять
и
из
учить
поэта
так,
чтобы
люб ой
мадригал,
любое
любовное
при
знание
в
ст их ах,
если
только
оно
в
художественной
системе
д анн ого
поэ та
является
произведением
искусства,
говорило
бы
о
мировоззрении
поэта,
о
пр инципа х
его
о тно шения
к
де йстви
те льно ст и,
о
тип е
его
мысли,
сознания,
—
в
пр именен ии
к
художественной
структуре
—
о
стиле
поэта.
Потом у
что
стиль
—
есть
эстетическое
преломление
совокупности
черт
мировоз
зрения.
А
если
у
поэта
есть
выраженное
ясн о
мировоззрение,
то
есть
сти ль
(есть талант,
г ен ий ), то этот принцип отношения
к
действительности
скаж ется
в
каждом
произведении,
ибо
он
есть
неотъемлемый
характер
поэтической
и
вообще
чел о ве
ческой
психики
поэта
(я не говорю о случайных мелочах в
стихах,
которые
могут
не
име ть
при нц ип иа льно- поэти че ск ого
ха ра кте ра ); это не значит,
ко неч но,
что
мы
можем
игнориро
вать
прямые
вы ск азыван ия ,
сужд ени я
в
стихах
данного
поэта;
наоборот,
они
весьма
ва жны,
но
лишь
подкрепленные
анализом
вс ей
об раз ной
структуры
данной
поэзии,
выражающей
идей
ную
структуру
ее.
Следовательно,
анализ
мировоззрения
по эта
есть
в
то
же
время
и
в
специфических
условиях
анализ
его
сти ля,
ибо
сти ль
мо жет
оказаться
наиболее
общим
и
типическим
качеством
28
мировоззрения
в
искусстве,
присутствующим
в
нем
всегда
и
там ,
где
нет
никаких
суждений
и
утверждений.
Поэтому
и
цит ата
в
литературном
исследовании
не
мо жет
бь ггь
эмп ириче
ски
индуктивным
доказательством,
а
может
быть,
в
с ущно сти,
ли шь
типологическим
объектом
и
иллюстрацией.
Хо рош
был
бы
физиолог,
у
которого
выводы
о
человеке
подтверждались
бы
не
всяким
нормальным
человеком,
или
а нат ом,
кот орый
учил
бы
ли шь
об
отдельных
индивидуумах!
Анатом
покажет
нам
сердце
у
каж д ого
человека.
На йдите
сердце
данной
поэти
ческой
системы
и
покажите
его
в
каждом
стихотворении,
в
конце
концов
—
в
каждом
слове
поэта.
Это
сердце
и
ес ть
тот
угол
зре ни я,
который
определяет
взгляд
поэта
на
ми р,
на
че
ловека
и
общество,
кот орый
определяет
и
прямые
высказыва
ния,
если
они
есть,
и
семантику
слова,
о бра за,
характера
в
произведении;
потому
что
в
искусстве
все
значит,
все
элемен
ты
произведения
ест ь
смысл,
потому
что
образ
потому
и
об
р аз,
что
он
е сть
образ
чего-то,
образ
ид еи,
потому
что,
как
сказал
еще
Г ег ел ь , «в художественном произведении нет ниче
го
другого,
помимо
того,
что
имеет
существенное
отношение
к
содержанию
и
выражает
ег о» 15.
Не
надо
дум ать
при
этом,
что,
анализируя
стиль
в
таком
см ысле,
мы
получим
данные
лишь
о
неопределенно-
фило софск ой
сумме
идей
поэта.
В
мире
все
связано
и
с оотн е
сено,
и
об щий
вз гляд
на
бытие
и
сущность
действительности
имеет
св ой
политический
адекват.
Поэт ому
анализ
стиля
е сть
и
анализ
политической
установки
автора,
даже
если
мы
ан али зи
руем
любовное
стихотворение
(произведение вообще) .
Первая
часть
«Новой Элоизы»
говорит
только
о
любви
и
ничего
не
говорит
о
по лити ке:
но
изображение
свободного
человеческого
чувства
в
эт ой
книге
двига ло
л юдьм и,
бравшими
Бастилию,
не
менее,
чем
«Общественный договор».
Ме жду
тем
именно
привычка
видеть
мировоззрение
пи
сат еля
лишь
там,
где
он
прямо
учит
суждениями,
—
а
не
там,
где
сами
его
су ж дения
составляют
подлинный
образ,
не
ви
деть,
кроме
логики
мысли,
еще
и
ло гику
образа,
—
именно
н ежелан ие
видеть
мысль
и
мировоззрение
в
самой
образной
структуре
приводит
к
тому
неверному
и
губ ите л ьному
разрыву
между
мировоззрением
пис ат еля
и
его
художественным
мет о
до м,
ко тор ый
лег
в
основу
довольно
бесплодного
спора,
раз
вернувшегося,
например,
на
страницах
«Литературной газеты»
в
1939—1940 годах,
спора
бесплодного
именно
потому,
что
обе
спорившие
стороны
с порил и
о
фикциях.
Как
бу дто
бы«
15 Гегель,
Сочинения,
т.
XII, М., 1938, ст р .
99.
29
художественный
метод
не
есть
эстетическая
форма
мировоз
зрения
писателя.
Вернемся
к
Жуко в скому ,
являющему
характерный
пример
в
указанном
о тно шении.
Для
Жуковского
основной
поры,
до
1817 года,
пря мые
высказывания
столь
же
неспецифичны,
банальны,
неинтересны,
как
и
тематический
отбор
его
произве
дений:
любовь,
пейзаж
или
об щие
размышления,
вроде,
на
пример,
размышлений
о
тщете
в сего
земного
и
т.
п.
Потом
его
высказывания
просты
и
неприятны.
Так,
на прим ер,
он
—
монархист.
Ме жду
тем
мы
знаем,
что
Жуковский
не
признавал
правильным
кре пос тн ое
право;
что
же
касается
республики,
то
она
то же
ему
нравилась.
И
все
эти
суждения
не
затр аг иваю т
основных
ценностей
его
творчества,
так
что
мо жно
составить
прекрасный
с борн ик
стихотворений
Жуковского,
в
к ото ром
не
будет
опущено
ниче го ,
что
обеспечило
ему
славу,
и
в
к ото ром
не
бу дет
совсем
выражен
его
монархизм,
ибо
нельзя
же
счи
тать
выражением
мо нар хи зма
чрезвычайно
си ль ное
изображе
ние
трагедии
смерти
м олодой
женщины
и
горя
ее
матери
толь
ко
потому,
что
вне
текста
стихов
мы
знаем,
что
и
умершая,
и
ее
мать
в
«жизни»
б ыли
женами
монархов.
И
вот
в
таких
случаях,
когда
вы ск азыван ий
в
стихах
слишком
недостаточно,
а
отбор
тем
та кже
нич его
не
гов орит
при
упрощенном
п одход е
к
делу,
обращаются
в
мучительных
по ис ках
высказываний
во
что
бы
то
ни
ст ало
к
высказываниям
вне
с ти хов,
вне
творчества:
в
пись м ах,
статьях
и
т.
п.
Меж ду
тем
биографический
мат ери ал
о
писателе
необходим
нам
имен
но
при
изучении
т вор чест ва,
а
не
наоборот.
И
если,
напр име р,
говорить
о
Жуковском,
его
жизненный
путь,
вз ятый
вне
т вор
чества,
не
принципиален,
да же
не
совсем
по ня тен.
Что
же
касается
писем
и
статей,
то
и
с
ними
мы
далеко
не
уй дем.
Официальные
письма
Жуковского
не
выражают
глубокой
пра вды
о
поэте,
а
письма
(иписьма-дневники)
свя занн ы е,
например,
с
Машей
Протасовой,
дублируют
его
стихи,
являясь
такими
же
стихами
в
прозе
и
на
те
же
тем ы.
Наконец,
статьи
—
эт о,
е сли
г овори ть,
ска жем ,
о
политике
—
очень
по здни е
реакционнейшие
статьи,
и
судить
по
ним
о
Жуковском
1810-х
годов
—
это
еще
хуже,
чем
судить
об
идее
«Ревизора»
по
«Выбранным местам из переписки с друзьями».
Н ет,
уж
луч
ше
поищем
основных
принципов
ми р ово ззрен ия
Жук ов ско го
в
его
творчестве
в
с о в о ку пн ое TM, в его художественном методе,
в
его
сти ле.
Поищем
ид ею
стиля
Жуковского,
ибо
каждый
стиль
име ет
св ою
идею,
сам
есть,
в
ко нце
кон цов ,
идея,
как
и
каж дый
элемент
стиля,
—
а
каждая
идея
ест ь
социальное
явле ние
и
социальный
поступок,
есть
отражение
и
выражение
30
с оциа л ьной
судьбы
и
борь бы ;
следовательно,
в
самой
ху до же
ственной
ткани
произведения
постараемся
обнаружить
его
социально-историческую
рол ь.
Впрочем,
здесь
и
не
пр иде тся
заниматься
поисками.
Жуковский
—
п оэт,
которому
повезло
в
нашей
критике
и
науке;
о
нем
писали
мн ого
и
часто
писали
хорошо.
И
основное
в
творчестве
Жуковского
обнаружено
давйо,
еще
Белинским,
давшим
прекрасное
толкование
его
по эзи и,
еще
Шевыревым,
который,
несмотря
на
чрезвычайно
неприятную
реакционную
те нден цию
своей
работы
о
Жуков
ском,
сказал
о
нем
кое-что
и
верно
и
тонко;
наконец
—
Весе
ловским,
в
классической
монографии
которого
рассыпано
мно
жес тво
глубоких
наблюдений
и
замечаний;
не
говорю
уже
о
Гроте,
о
Плетневе
и
других,
цплоть
до
наших
современников.
Сущность
и
идея
стиля
Жук овс ко го,
его
поэзии
в
целом
—
это
идея
рома нти чес к ой
личности.
Жуковский
открыл
русской
поэ зии
душу
человеческую,
прод олж ив
психологические
иска
ния
Карамзина
в
прозе
и
р еш ите льно
углубив
их.
Од нако
дел о
здесь
бы ло
не
просто
в
том,
что
Жуковский
открыл
новую
тем у;
его
тем а
—
это
его
мировоззрение
и
его
метод.
Роман
тическая
личность
—
это
идея
единственно
важного,
ценного
и
ре аль ног о,
нах о дим ого
ро ма нтик ом
только
в
интро с пекции,
в
ин ди видуа ль ном
самоощущении,
в
переживании
своей
души,
как
целого
м ира
и
всего
ми ра.
Психологический
романтизм
Жуковского
воспринимает
весь
мир
че рез
проблематику
и нтро
сп екции.
Он
видит
в
индивидуальной
душе
даже
не
отражение
всего
мира,
а
весь
мир ,
всю
действительность
саму
по
себ е.
«У Жуковского все душа и все для души», —
пис ал
Вязем
с кий
(в осуждение Жуковского)
еще
в
1821 году (п ис ьмо
к
А.
И.
Тургеневу
от
25 февраля 1821 года) .
А
сам
Жуковский
з апис ал
в
своем
дневнике
в
том
же
1821 году: «Мир су
щес тву ет
только
для
д уши
человеческой».
Жуковский
выводит
ми р,
действительность
из
души,
из
л ично го
пе р ежив ания,
подобно
тому
как
субъективный
идеализм
Фихте
усматривает
все
богатство
бытия
в
деянии
и
динам ик е
е д инич ного
(и гене
рального)
я,
и
даже
под об но
т ому
как
ид еализм
молодого
Шеллинга
пытается
сам ое
объективное
вывести
из
су б ъек
ти вно го
и
обос нов а ть
им.
З десь
решался
о дин
из
основных
вопросов
века,
для
искусства
—
основной:
чей
примат
—
субъекта
или
объекта?
Потом
придет
вр емя
(это будет время
р еал изма ), когда искусство скажет,
что
человек,
и
человече
с кий
характер,
и
конк ре тны е
качества
души
человеческой
—
это
функция,
результат
объективных,
реа льны х,
исторических,
наконец
социальных
сил
и
обстоятельств.
Теперь
романтизм
говорит,
что
человек
в
сво ей
внутренней
жизни
свободен,
ни
31
из
чего
не
в ыводи м
(даже из бога), сам себе довлеет,
и
есть
своя
собственная
причин а
и
причина
в сего
сугцего.
Культ
св о
бодной
л ично сти
в
индивидуалистическом
и
анархическом
со
знании
эпохи
Французской
рево люции
поглощал
объективный
ми р.
Между
тем
им енно
культ
свободной
ли чнос ти
в
ее
ду
шевной
отьединенности
и
был
одной
из
о снов
романтизма
—
или
даж е
шире:
романтизм
признал
примат
час т ного
над
об
щим,
индивидуального
над
общественным
или
об щ ечел овеч е
ским,
конкретного
над
абстрактным.
В
этом
бы ла
и
его
осв о
бождающая
от
фик ций
феодального
абсолютизма
роль,
и
его
прогрессивность
в
пл ане
мировоззрения,
и
его
ограниченность,
неизбежная
для
индивидуализма.
В
человеке
романтизм
видит
душу,
в
ми ре
вещей
и
природы
—
орудие
духа,
в
народе
—
индивидуальную
душ у
на ции
более,
чем
общечеловеческое
право,
ко тор ое
видели
люд и
классицизма.
И
душа
человека,
и
душа
нации
свободны
в
своей
сущности
и
дол жны
стат ь
сво
бодны
в
своем
творческом
выявлении
—
это
был
освободи
тел ьн ый
смысл
рома н тиче с кого
метода
и
мировоззрения;
душа
человека
и
душа
нации
самостоятельны
и
независимы
от
вн еш
них
условий
и ли,
во
всяком
случае,
должны
ст ать
та ки ми,
—
в
эт ом
представлении
была
индивидуалистическая
и
идеалистиче
ская
неполноценность
романтизма.
Романтизм
ниспроверг
отвлеченность
метафизического
мыш ле ния
рационализма,
обосновавшего
классицизм.
Роман
т изм
принес
ему
на
смену
конк ре тнос ть
культа
и
видения
еди ничн ой
реа льн ост и,
но
эта
реальность
и
конкретность
его
—
субъективна.
К л асс ицизм
приносил
в
жертву
общему
поня
тию
—
понятию
государства,
права,
человека-гражданина
—
живого
^единичного человека,
как
и
кон крет ны й
на род.
Ром ан
ти зм
заявил
право
чело век а
и
н ации
на
самоопределение;
он
заявил
всей
с ов окуп нос тью
своего
метода,
что
нельзя
во
имя
абстракции
губить
человека,
нельзя
во
имя
фикции
гу бить
нацию
как
своеобразие
и
личность,
—
даже
если
эта
абстрак
ция,
эта
фикция
—
идея
государства
или
ид ея
права.
Ибо
человек
и
его
душ а
важ нее
иде и,
и
высшая
идея,
и
высшее
право
—
это
тот
же
человек,
душа,
личность.
А
д уша
ест ь
в
каждом
человеке,
и
ду ша
на ции
сохранна
не
в
зако нах
и
да же
книгах,
а
в
народе.
Классицизм
—
это
мировоззрение
объективное,
но
аб
страктное.
Романтизм
—
субъективное,
но
конк рет ное .
Ко н
кретность
и
была
зав оеван и ем
романтизма.
Субъективизм
был
необходимой
форм ой
этой
кон кре тн ост и,
связанной
с
индиви
дуализмом
эпохи
буржуазной
революции.
Жуковский
открыл
русской
п оэзии
душу
че лов ече с кую,
психологический
анализ.
32
Это
значит,
что
он
возвел
в
идеал,
сд елал
принципом
сво его
иск усст ва
право
всякой
душ и
на
независимость.
Вед ь
д уша
поэзии
Жуковского
внесоциальна,
са ма
се бе
довлеет,
то
ес ть
с
од ной
сто рон ы
это
душа,
понят а я
анархически
и
идеалистиче
ски,
с
другой
же
стороны
—
это
душа
любого
человека,
душа,
не
выведенная
из
по нят ий
феодальной
иерархии,
потенциально
свободная
душа.
Она
свободна
уже
потому,
что
она
не
порож
де на
объективным
миром,
не
выведена
из
него,
не
подч ине на
ем у,
а
наоборот,
порождает
его
и
заключает
в
самой
себ е.
Об
эт ой
душе
писал
Андрей
Тургенев
в
надписи
к
портрету
Гете:
Сво бо дным
гением
натуры
вдохновленный,
Он
в
п ламен ных
чертах
ее
изображал,
И
в
чувстве
сердца
лишь
законы
поч ерпа л,
За ко нам
никаким
другим
не
покоренный.
Зд есь
уместно
в с помн ить,
что
Ге ге ль,
рома нти к
в
своем
понимании
искусства,
считал,
подчеркивал
и
доказывал,
что
героем
художественного
произведения,
человеческим
образ ом
«идеала»
может
бы ть
только
человек,
абсолютно
независимый
от
условий
внешнего
мира,
от
государства,
зак он а,
об ыч ая,
социальных
но рм,
от
р е лигии,
в
ко нце
ко нц ов,
—
действую
щий,
мыслящий
и
переживающий,
только
повинуясь
своему
внутреннему
пс ихолог иче ск ом у
принц ипу,
началу
своей
инди
видуальности.
На
эт ом
основана
теория
Гегеля
о
преимуще
ственной
пригодности
для
художественного
изображения
людей
«героического века»
и,
наоборот,
непригодности
для
него
лю
дей
современности,
с лиш ком
социально-определенных,
св яза н
ных
путами
социальной
действительности,
да же
если
они
—
монархи.
Конкретность
метода
романтизма
с пецифична;
это
—
конкретность
индивидуальной
душ и;
но,
снима я
объективные
определения
характера,
социальные,
исторические,
романтизм
тяго теет
к
снятию
реального
разнообразия
характеров,
ду ш.
Отсюда
г лубокое
п роти воре чие
романтического
ме то да;
герой
романтика
—
единичный
человек,
но
он
в
то
же
время
в сякий
люб ой
ч ело век
в
потенции,
он
—
то
единич но е,
что
есть
в
гл уби не
душ и
всех
людей.
Отсюда
явная
повторяемость
чер т
романтических
ге рое в,
каждый
из
кот орых
ощущает
се бя
тра
гически
одиноким,
от орва н ным
от
м ира
—
и
в
то
же
время
каждый
из
которых
похож
на
ка жд ого
другого.
Это
бы ло
восприятие
ми ра
как
хаоса,
воз душ ного
океана,
где
блуждают
без
руля
и
без
ве т рил,
подчиняясь
лишь
своим
внутр енним
и мпульс а м,
отъединенные
души
одиноких
людей.
Это
было
восприятие
мир а,
в
другой
сфере
обусловившее
м ыш ление
свободы,
как
только
юридической,
а
не
реально-экономической
33
свободы,
обусловившее
п афос
борьбы
в сех
против
всех
при
лозунгах
равенства
и
братства,
обусловившее
и
культ
Наполео
на,
личности,
вознесшейся
над
миром.
Говоря
о
мышлении
и
методе
романтизма
и,
в
частности
Жуковского,
—
о
том,
что
он
понимал
человека
как
душ у,
поглощающую
м ир,
что
он
видел
в
объ ек ти вной
действитель
ности
лиш ь
функцию
и
проявление
конкретной
субъективности,
я
вовсе
не
думаю,
что
Жуковский
был
прав
и
что
он
и
на
самом
деле
не
был
порожден
и
обусловлен
действительностью,
со циа льно й
реальностью
вполне
об ъект ивно й.
Наоборот,
я
именно
и
стараюсь
п оказ ать,
как
и
чем
в
с оциа льно й
дейст ви
тельности
был
создан
и
обусловлен
романтизм
Жуковского.
Я
бы
не
де лал
эту
оговорку,
если
бы
меня
не
вынуждали
к
этому
наши
на ив ные
рецензенты,
имеющие
п ривычк у
приписывать
исследователю
черты
мировоззрения,
установленного
им
у
изучаемых
писате лей.
5.
На
переломе
между
первым
и
вторым
периодом
своего
творческого
пути
(в 1819 году)
Жуковский
создал
од но
из
наиболее
замечательных
своих
стихотворений,
с луж ащее
как
бы
д ек ларац ией
его
художественного
кредо,
его
литературным
манифестом
—
«Невыразимое» .
Идеалистический
—
в
д ухе
Шеллинга
—
характер
его
содержания
несомненен.
Но
не
э тим
оно
заслуживает
особое
внимание,
а
те м,
что
в
нем,
и
в
содержании
е го,
и
в
стиле,
чрезвычайно
полно
выразились
основные
особенности
тв орч еств а
Жуковского
в
целом.
Вот
это
стихотворение
(привожу его полностью):
НЕВЫРАЗИМОЕ
(отрывок )
Что
наш
я зык
земной
пр ед
дивною
природой?
С
ка кой
небрежною
и
легкою
сво бод ой
Она
рассыпа ла
повсюду
красоту
И
разновидное
с
единством
со гл асил а!
Но
где,
ка кая
кисть
ее
изобразила?
Едва-едва
одну
ее
черту
С
усилием
поймать
уда ст ся
вдохновенью...
Но
льэя
ли
в
мертвое
живое
передать?
Кто
мог
созда ние
в
словах
пересоздать?
34
Невыразимое
подвластно
ль
выраженью?..
Св ятые
таинства,
лишь
сердце
знает
вас.
Не
часто
ли
в
величественный
час
Вечернего
земли
преображенья,
Когда
ду ша
смя тенная
полн а
Прор очест вом
великого
виденья
И
в
беспр едел ьно е
унесена,
—
Спирается
в
груди
болезненное
чув ство,
Хотим
прекрасное
в
полете
удержать,
Н енаре ченно му
хотим
назва нь е
да ть
—
И
обессиленно
без мо лвст вует
искусство?
Что
видимо
о чам
—
сей
пламень
об лак ов,
По
небу
тихому
летящих,
Сие
дрожанье
вод
б лес тящи х,
Сии
к артины
берегов
В
пож аре
пы шн ого
заката
—
Сии
сто ль
яркие
черты
—
Легко
их
лов ит
мысль
крылата,
И
есть
сл ова
для
их
блестящей
красоты.
Но
то,
что
сл ито
с
сей
блестящей
красотою,
—
Сие
столь
см утно е,
волнующее
нас ,
Сей
внемлемый
одной
душ ою
Об вор ож ающ его
глас,
Сие
к
далеко му
стремленье,
Сей
миновавшего
привет
(Как прилетевшее неэапно дуновенье
От
луга
родины,
где
был
когда-то
ц вет,
Святая
молодость,
где
жи ло
упованье),
Сие
шепнувшее
ду ше
воспоминанье
О
милом
радостном
и
скорбном
старины,
Сия
сходя щая
свя ты ня
с
вышины,
Сие
присутствие
соз дате ля
в
со здан ье
—
Как ой
для
них
язык?..
Горе
д уша
летит ,
Все
необ ъя тн ое
в
единый
вз дох
теснится,
И
л ишь
молчание
понятно
говорит
16.
16 Первые намеки на тему и формулу заключения «Н ев ы р аз имо го»
можно
видеть
в
э кспро мт ах
Жуковского,
обращенных
к
Е.
М.
Соковниной
еще
о коло
1802—1803
годов:
Тв ои
глаз а
хвалить
мне
должно!
Фил ида ,
я
готов
хвалить ;
Но
к ак?
Стихами
невозможно,
А
сер дцем. ..
—
сердце
лишь
молчит,
Его
молчание
яснее
говорит.
Ил и:
Ос тави м
разуму
искусство
г оворить ,
Пусть
серд це
чу вс тву ет,
вз ды хает
и
молчит.
35
Итак,
основная
мысль
стихотворения
в
том,
что
объек
тивный
мир
природы
—
не
есть
то,
что
должно
изображать
искусство,
не
есть
нечто
по длинно е,
а
что
искусство
призвано
передавать
лишь
то
невыразимое
душевное
волнение,
те
зыб
кие
от тенк и
настроений,
к ото рые
составляют
с уть
внутренней
жизни
сознания
и
для
к от орых
вне шн яя
природа
является
л ишь
условным
возбудителем,
поводом.
Само
собой
разумеет
с я , «тезис»
Жуковского
о
невыразимости
душ и
человеческим
словом
—
лишь
поэти чес к ий
образ.
Вед ь
все
стихотворение
создано
только
для
того,
чтобы
все -та ки
выразить
«невыразимое»,
—
и
это
есть
гл ав ная
задача
Жуковского -
поэта
17.
Невыразимое
рационально,
логически,
пр ямо
должно
бьг гь
навеяно
на
душ у
читателя;
для
этого
поэ зия
должна
перестать
быть
точным
называнием
понятий,
ибо
нельзя
точно
на зват ь
слож ное ,
смутное,
противоречивое
состояние
души,
а
долж на
стать
ус ловны м
ключом,
открывающим
та йни ки
духа
в
во спр ият ии
самого
читателя.
Самый
ме тод
становится
суб ъе к
тив ны м,
и
слово
теряет
свою
общезначимую
терминологии -
ность,
свойственную
ему
в
классицизме.
С лово
должно
зву ч ать
как
музыка,
и
в
нем
должны
выступить
вперед
его
эмоцио
нальные
обертоны,
оттесняя
его
предметный,
объективный
смысл.
Значение
с лова
поэта
в
этой
системе
—
не
в
словаре,
а
в
душ е
читателя,
ассоциативно
откликающейся
на
призыв
сло
весной
ме ло дии.
Здесь
скрывалось
новое
понимание
д уше вной
жи зни,
уже
не
как
арифметической
суммы
самостоятельных
способностей
и
чувств
(классицизм), а как единого потока,
в
котором
нел ьзя
отделить
одной
грани,
не
нарушив
единства
ц ело го.
В
этом
смысле
характерен
и
подзаголовок
(«Отрывок»), данный стихотворению при перепечатке его в
Собрании
со чи нений
Жуковского
в
IV издании 1836 года ( т.
VI) и отсутствовавший в первой публикации егр в « П амятни ке
отечественных
му з» 1827 года .
Конечно,
перед
нам и
вовсе
не
отрывок,
а
законченное
стихотворение,
четко
построенное,
им еющ ее
явное
начало-тезис
и
эффектную
концовку,
по дго
тов ленну ю
нагнетанием
лирической
ме ло дии
и
смысловым
подъемом
предшествующих
стихов.
Но
это
в се- таки
отры вок,
как
и
всякое
лири че ск ое
стихотворение
данной
системы,
—
17 В рукописи Жуковского в Государственной публичной библиотеке
им ени
Салтыкова-Щедрина
(Б.
No
26, л.
45) после последнего стиха есть
еще
два
стиха,
говорящие
об
э т ом: «Но вдохновение опять заговорилось,
И
м уза
пылкая
забыла
св ой
от че т».
Ж уковс кий
зачеркнул
это
начало
продол
жения
стихотворения
(см.
Ц.
С.
Вольпе ,
т.
II,
ст р.
511).
Комментатор
справедливо
пиш ет : «Неуместность такой «ир онич еск ой»
концовки,
очевид
но,
и
была
пр ичи ной
того,
что
Жук овски й
ее
о тбр осил» .
36
отрывок,
ибо
поток
душевной
жизни
не
име ет
начал
и
концов,
а
течет
с пл ошь,
переливаясь
из
одного
сложного
состояния
в
другое,
и
всякая
попытка
схватить,
уловить
мгновение
этого
текучего
единства
—
это
ли шь
от рыво к
того,
что
нельзя
раз
рывать,
л ишь
символ
единства
в
его
мимолетном
асп ек те.
Вот
это
и
ест ь
—
«Хотим прекрасное в полете удержать», это и
есть
замысел
«согласить разновидное с единством» .
И
вот
Жуковский
делает
смелую
попы т ку
сказать
о
то м,
что
смутно
переживается,
но
не
имеет
логической
форм ы
и
не
может
бы ть
выражено
образами
вне шне го
мира.
С лово
и
поня
тие
м ер твы,
ду шев ное
движение
—
живо;
сло во
должно
пре
одолеть
свою
рациональную
функ ци ю,
чтобы
вызвать
ответное
душевное
д виж ение.
Жуковский
го ворит
вна чал е
о
природе,
как
бы
внешней
объективной
п рироде ,
но
он
не
может
и
не
хо чет
ни
видеть
ее
вовне
субъективного
переживания,
ни
гово
рить
о
ней
«внешними»
словами.
Вот
—
вечер,
факт
как
бу дто
бы
объективный;
ничуть
не
бывало:
Не
часто
ли
в
величественный
час
Вечернего
земли
преображенья...
Объективное
утоплено
в
словах
эмо ций ;
величественно
переживанье
вечера,
а
не
сам
вечер;
преображенье
—
это
с лово
не
внешней
природы,
а
м о литв енного
экстаза;
недаром
это
слово
религиозного
сл ова ря
и
круга
понятий;
Жуковского
интер ес ует
таинственное
чувство
умирания
и
как
бы
о духот во
рен ия
картины
природы,
и
простой
вечер,
часть
сутрк,
пр е
вращается
в
тему
внутренней
значительности,
состояния
созна
н ия;
и
.
все
с лова
подчи ня ю тся
это му
семантическому
освещению;
час
—
это
не
астрономическое
измерение,
а
мг но
вение
текучести
душевной
жизни;
вечернего
звучит
в
ассоциа
циях
едв а
ли
не
религиозных,
и
земля
—
это
здесь
юдоль,
жилище
ск орби,
а
не
географическое
или
любое
иное
матери
аль но -пр едмет ное
обозначение.
И
на
этих
немногих
словах
кончается
даже
видимость
внешнего
изображения
вечера,
и
Жуковский
открыто
погружается
в
эмоцию:
...
К огда
душа
смятенная
п олна
П ророчест вом
великого
виденья
И
в
бес предельное
унесена,
—
и
т.
д.
Ни
одного
предметного
слова-значения;
все
слова
подо
браны
как
ноты
эмоциональных
звучаний,
вплоть
до
слова
«полна», получающего значение полноты чувства,
пер ежив а
ния,
перекликающегося
со
словами
типа
«великое»
и
«беспредельное».
Это
и
ест ь
выр ажен ие
невыразимого;
иначе
говоря,
это
и
ест ь
система,
стремящаяся
объективный
мир
37
погло тить
субъективным,
а
во
в неш нем
быт ии
видеть
лиш ь
повод
для
внутреннего,
в
описании
видеть
не
описание
мир а,
а
отражение
его
в
сознании,
в
слове
—
не
обозначение
предмета
или
понятия,
а
прежде
все го
отношение
души
к
предмету
и
понятию.
Установка
Жуковского
наибо л ее
ясно
видна
во
второй
части
«Невыразимого», где она выявляется почти парадоксаль
но.
З десь
иде т
р ечь
именно
о
в нешней
реальной
п ри роде,
изображение
к отор ой
поэ т
отвергает,
как
с лиш ком
легкое
и
доступное.
У
н его
е сть
слова
для
пе ре дачи
картин
п рир оды,
—
заяв ляет
поэт;
но
на
самом
деле
у
него
нет
эти х
слов,
ибо
в
его
устах
все
они
немедленно
превращаются
в
слова-си м волы
и
зн аки
состояния
душ и.
Жуковский
да ет
природу
сплошь
в
метафорах,
сущность
кот ор ых
—
не
сравнение
зримых
пред
метов,
а
включение
зримого
в
мир
«чувствуемого».
Что
видимо
очам
—
сей
пламень
об лак ов,
По,
небу
тихому
летящих,
Сие
д рож анье
вод
б лес тящи х,
Сии
к арти ны
берегов
В
пожаре
пы шног о
заката
—
Сии
столь
яркие
чер ты.. .
Ит ак
—
видимы
не
облака,
а
пламень
облаков,
а
сл ово
пламень
—
слово
поэтического
склада,
включенное
в
привы ч
ный
ряд
психологических
ас со циа ций:
пламень
д уши
—
лю
бо вь,
энтузиазм
и
т.
п.
Тих ое
н ебо
—
это
типическое
выраже
ние
в
системе
Жуковского:
предметно-определяющее
значение
прилагательным
утеряно;
тихое
конкретно
значит
—
л ибо
беззвучное
или
негромко
з вуч ащее,
л ибо
ме дле нно е.
В
данном
применении
тихое
могло
бы
значить,
что
небо
—-не
г розовое ,
но
это
пояснение
явн о
не
нужно,
да
оно
и
не
меняет
дела;
даже
в
этом
понимании
эпитета
ти хий
(понимании натянутом)
в
нем
п реод ол ены
его
первичные
те рми нол огиче с кие
«объективные»
смыслы.
Эти
же
смыслы
не
относятся
и
не
могут
относ ит ьс я
к
не бу,
да же
ес ли
на
нем
нет
грозовых
ту ч.
Это т
эпитет
—
и
не
мет афор а
в
предметной
ее
функции,
ибо
ни
с
чем
предметным
небо
в
это м
эпи тете
не
сравнивается.
Но
дело
в
том,
что
тихой
может
бьггь
душа,
что
мы
говорим
«тихий человек», что этим словом определяется настроение и
да же
характер.
И
вот
мы
видим,
что
эпитет,
грамматически
и
да же
условно,
по
своему
«внешнему»
значению
приданный
объекту,
в
сущности
и
на
самом
де ле
относится
к
восприни
ма юще му
субъекту:
тихое
—
это
чувство
и
умиление
поэта
в
момент
«преображенья земли».
Разрыв
же
цепи
значений
не
получается
потому,
что
субъективность
слова
—
тих ом у,
38
опорного
в
стихе,
поглощает
объективность
существительного
неб о:
в едь
небо
—
не
только
«видимая очам»
пре дме т ност ь,
но
и
образ
возвышенного,
образ
души,
летящей
ввысь;
отсюда
и
звучание
слова
лет ящ их.
Так
все
слова
субъективируются;
субъективируется
ими
и
весь
объективный
мир.
То
же
мож но
показать
на
люб ом
следующем
стихе
(«В пожаре пышного
заката»
и
др .).
Так
получается,
что
уже
в
э тих
стиха х
Жуков
ский
воп ло щает
не
в неш нюю
красоту,
а
именно
«то,
что
сл ито
с
сей
б лестя щей
красотою».
В
последней
же
части
стихотворе
ния
он
да ет
прямое
скопление
формул,
как
бы
непосредственно
обращенных
к
«невыразимому»
в
душе
читателя.
Это
—
це
лый
ряд
стихов
и
слов,
где
все
—
только
субъективность.
Логика
свя зей,
смысла
и
синтаксиса
(логика
—
всегда
объек
тивное
начало)
преодолена.
Возникают
типичес кие
алогизмы
(оксюморон)
—
«О милом радостном и скорбном старины» .
Какова
же
эта
старина?
—
спросит
рационализм:
радостная
или
скорбная?
—
Вот
в
том-то
и
дело,
что
слитно-
п рот иво ре чиво
чувство,
а
вед ь
име нно
оно
здесь
выражается,
потому
что
речь
идет
не
о
ста р ине,
а
о
вспоминающем
созна
нии,
для
которого
она
и
милая
и
радостная.
Синтаксис
распа
дается
на
р яды
слов,
как
бы
набегающие
волны
звучаний,
не
ж ел ающих
ни
подчиняться, * ни «сочиняться»
в
логико-
синтаксической
схеме,
а
передающие
волну
настроения.
По
этому,
например,
почти
совершенно
выпадают
из
синтакси
ческой
св язи
скобки
—
«как прилетевшее ...»
и
т.
д.
Сравнение
с
че м?
Что
это
«как»? Привет.
Но
ве дь
сам
«привет»
в
дан
ном
тексте
—
это
метафорическое
обозначение
дру го го
—
настроения,
и
мы,
таким
образом,
получаем
сравнение
второго
ряда ,
то
есть
дуновенье
—
это
сравнение
к
привету,
а
привет
—
сравнение
к
настроению.
Это
в
значительной
мере
стуше
вы вает
логическую
опору
сравнения.
Все
же
допустим,
что
это
ср а вне ние;
но
что
делать
со
стихом
«Святая молодость,
где
жил о
упова н ье »? Это может быть дополнение к цвету \
но
тогд а
почему
не
«цвет святой молодости»; если же это прило
жение
к
цвету
(вероятно,
так
оно
и
е сть ), то повисает в воз
духе
придаточное
предложение
«где жило упованье»; неужто
оно
относится
к
л угу?
Ил и,
мо жет
быть,
к
родине?
Может
быть,
отн ос итс я,
если
делать
грамматический
раз бо р,
но
в
поэзии
все
это
ни
к
чему
не
относится,
а
звучит
в
ц елост ном ,
внесинтаксическом
е динст ве:
дуновенье,
р о дина,
цвет ,
св ята я,
упова н ье
и
т.
д.
—
это
словесные
но ты,
организованные
му
зыкально,
а
не
синтаксически;
ведь
здесь
важно
и
то,
что
синтаксические
свя зи
стали
зыбкими;
можно
их
при
желании
и
обд умыва н ии
установить,
найти,
но
в
восприятии
они
сливают
39
ся,
стушевываются,
и
Жуковский
не
стремится
к
их
проясне
нию
(скорее,
наоборот), —
ив
результате
родное
зд есь
—
не
Россия
ил и,
например,
Белев,
а,
мож ет
быть,
небо,
молодость,
чистота
помыслов
и
т.
п.,
а
зна чит
и
луг
—
это
цветение
д уши
и
т.
п.
Никоим
образом
я
не
хочу
ска зать ,
что
зде сь
мы
видим
иносказание;
нимало;
если
бы
это
б ыла
аллегория,
то
п рос тое
и
конкретное
заменялось
бы
в
ней
таким
же
простым
и
кон крет
ным.
Здесь
же,
наоборот,
слово
не
означает
вовс е
другое
слово,
не
заменяет
его,
не
указывает
на
не го.
Здесь
слово
—
будь
то
луг
или
святыня,
или
упование,
или
обв орож ающе го
глас
—
остается
са мим
собой,
оно
вызывает
эмоцию
своими
вторыми
и
третьими
зн аче ни ями,
своим
субъективным
с еман
тическим
ореолом.
Л екс иче ски
луг
—
это
и
ест ь
луг;
но
по
этически
луг
у
Жуковского
в
данном
контексте
это
—
как
бы
сказал
человек
той
эпохи
—
конечное
выражение
бесконечно
го;
а
ве дь
бесконечное-то
у
Шеллинга
это
то
же
Я,
хотя
бы
постулированное
и
у
других
со з наний.
Жуковский
же
выразил
то
же
самое:
Все
необъятное
в
единый
вздох
теснится...
Весь
необъятный
мир
он
вместил
в
своей
душе,
и
каждое
его
сло во
стремится
воплотить
в
малом
объеме
мы с лимую
им
структуру
бытия
в
душе.
В
днев нике
Жуковского
за
1827 год есть замечательное
место,
где
он
размышляет
о
языке,
место,
раскрывающее
его
понимание
его
же
собственной
поэзии,
его
стиля.
Он
расска
зывает
о
св оем
посещении
школы
глухонемых
в
Париже;
он
видел
там
девушку,
глухонемую
от
рождения
и
ослепшую
на
тринадцатом
г о ду : «Спрашивается:
что
бы
она
была ,
если
бы
не
пользовалась
13 лет зрением?
Теп ерь
предметы
имеют
для
нее
некоторую
форму;
тогда
эту
форм у
сообщило
бы
ей
вооб
ражение.
Они
не
б ыли
бы
с ходны
с
существенным;
но
вс е,
каж дый
предмет
имел
бы
св ой
отдельный,
ясный
язык,
и
все
бы
мог
существовать
яз ык
для
вы ражени я
мысли,
ощущения:
ибо
язык
есть
выражение
внутренней
жизни
и
отношений
к
внешнему.
Зд есь
торжествует
душа».
Нельзя
не
в спо мнить
здесь
то го,
что
сказал
Гете
о
стихах
Жуков с к ого;
ве лик ий
поэт
глубоко
почуял
сущность
поэзии
своего
р ус ского
знакомца,
даж е
зная
его
стихи
только
по
пере
водам
(но ведь он знал Жуковского лично); он сказал:
«Потому- т о ,
что
лю ди
не
умеют
оживить,
оценить
настоящего,
40
они
вожделеют
будущего
и
кокетничают
с
прошлым.
И
Жу
ковскому
надлежало
бы
более
обратиться
к
объекту» 18.
Поэтические
пр инципы ,
декларированные
в
«Невыразимом»
и
реализованные
в сем
семантическим
строем
это го
стихотворения,
явля яс ь
пр инципа ми
творчества
Жуков
ского
вообще,
его
философской
и
вообще
идейно й
осн ово й,
мог ут
бы ть
наблюдены
в
любом
характерном
стихотворении
Жуковского.
В
этом
отно шени и
тип ич ны
и
показательны
его
поэтические
п ей зажи.
Современники
сч ита ли
Жуковского
ма
стер ом
пейзажной
поэзии.
Т ак,
например,
Пл е тнев
писал
в
1822 году: «В рисовке картин природы Жуковский не имеет и
едва
ль
будет
иметь
со пер ника .
По чти
все
явления
в
природе,
да же
ед ва
приметные
черты
в
ни х,
замечены
им
и
вошли
уже
в
состав
его
красок.
Часто
кажется,
что
он
находит
особенное
удовольствие
в
собирании
сих
ед ва
приметных
по др обно с тей,
из
которых
он
сост авл яет
свои
описания» («Заметка о сочине
ния х
Жуковского
и
Батюшкова»)19.
Но
уже
через
два
го да
тот
же
П ле тнев
вне с
иную,
пр а вил ьную
мысль
в
оценку
п ей
зажей
Жуковского:
он
по нял
их
субъективность;
в
1824 году
он
писал
о
поэзии
Жуковского,
что
в
ней
«всякое чувство
облекается
какою-то
мечтательностью,
которая
преображает
земл ю,
смотрит
д алее,
ви дит
больше,
соз ид ает
иначе,
нежели
п рос тое
воображение.
Для
такой
ду ши
нет
ни
одной
картины
в
природе,
ни
одного
места
во
вселенной,
ку да
бы
она
не
пер е
носила
своего
чувства,
и
нет
ни
одного
чувства,
из
которого
бы
она
не
сози д ала
ц ел ого,
нового
мира...
Он
настраивает
все
способности
душ и
к
одному
стремлению:
из
них ,
как
из
струн
арфы,
составляется
гармония.
Вот
в
чем
заключена
тайна
ро
мантической
по эз ии!
Она
основывается
на
познании
поэтиче
ского
искусства
и
природы
человека.
С
та ким
напр авл ение м
поэзии
Жуковский
соединяет
высочайшее
искусство
живописи
всех
ка ртин
при род ы,
в
которых
каждая
черта
проникнута,
освещена
его
душ ою» («Письмо к графине С .
И.
С.
о
русских
поэтах»)20.
Более
отчетливо
писал
об
э том
же
Б ел инс кий:
«Мы бы опустили одну из самых характеристических черт
поэзии
Жуковского,
ес ли
б
не
упомянули
о
дивном
иску сст ве
этого
поэт а
живописать
картины
п рирод ы
и
влагать
в
них
романтическую
жизнь.
Утр о
ли,
по лде нь
ли,
вечер
ли,
ночь
ли,
18 С.
Дурылин,
Р усские
писатели
у
Гете
в
Веймаре.
—
«Литературное наследство», No 4 —6, М ., 1932, стр .
348.
19 «Сочинения и переписка П.
А.
Плетнева», т.
I, СПб, 1885, стр.
26.
20 Там же,
стр.
175— 176.
41
ве дро
ли,
буря
ли
или
п ей заж,
—
все
это
дышит
в
ярких
ка р тинах
Жук овс ко го
ка ко ю-то
та инст венною ,
испо л ненно ю
чудных
сил
жи зни ю...
Изображаемая
Жуковским
природа
—
романтическая
природа,
ды шащая
таинств енною
жизнию
ду ши
и
сер дц а... » (VII, 215, 219).
Шевырев,
в
св оих
идеалистиче
ских
формулах,
пис ал
о
том
же;
он
го вор ил,
что
в
христиан
ско й
поэзии,
применительно
к
Жук овс к ом у, «природа стала
символом
д уши
человеческой», что такая поэзия «всеми
явле
ниями
своими
ок руж ает
его
(поэта), как бесчисленными зерка
лами,
чтобы
отразить
ему
в
них
все
бесчисленные
движения
ду ши
его...»
«Так,
в
каждой
картине
природы
у
Жуковского
сквозит
душа,
везд е
взгляд
на
дал ь,
на
бесконечность:
ни
од на
вс его
не
досказывает,
что
в
ней
кроется,
и
п ророчи т
еще
бо
ле е,
чем
обнаруживает» 21.
Да
и
сам
Жуковский
достаточно
ясно
записал
в
св оем
днев нике
1821 года: «Красота не в при
роде ,
а
в
душе
человека».
Субъективный
характер
пейзаж ей
Жуковского
был
пока
зан
и
Веселовским;
именно
он
го ворит
о
том,
что
изображение
п ри роды
у
Жуковского
—
это
«пейзаж души»; и это верно .
Жуковский
рисует
душ у,
воспринимающую
при роду ,
а
не
самое
природу,
вы раж ает
отно шение
к
предмету
более,
чем
предмет.
И
это
может
б ыть
проиллюстрировано
на
любом
пейзаже
его .
Возьмем
для
примера
отрывок
из
элегии
«Вечер»
(1806), потому что это не только один из шедевров Жуков
ского,
но
и
один
из
наиболее
широко
известных
его
текстов
(благодаря музыке Чайковского) .
Напомню
эт от
отрывок:
Уж
ве чер...
облаков
померкнули
края,
Последний
луч
зари
на
башнях
умирает;
П оследня я
в
р еке
блестящая
струя
С
потухшим
не бом
уг ас ает.
Все
тих о:
ро щи
спят;
в
окрестности
покой;
Простершись
на
траве
под
и вой
наклонен но й,
В нима ю,
как
ж урч ит,
сливался
с
рекой,
Пот ок,
кустами
осен енны й.
Как
слит
с
пр охла дою
растений
фимиам!
Как
сладко
в
тишине
у
брега
струй
плесканье!
Как
тих о
веянье
зефира
по
во дам
И
гибкой
ивы
тре пе тан ье!
Прежде
всег о,
ес ли
отвлечься
от
привычной
ме ло дии
Чайковского
(а это необходимо сделать), мы воспринимаем в
этих
стихах,
как
и
вообще
в
ст ихах
Жуковс к ого ,
свою
поэти
ческую
мелодию,
напев
стиха,
погло щаю щий
смысловую
отгра-
21С .
Ш
е
в
ы
р
е
в,
О
значении
Жуковского
в
русской
жизни
и
поэ
зии,
М., 1853, стр.
23—25.
42
ниченность
дру г
от
дру га
не
только
слов,
но
и
синта ксичес ких
элем е нт ов.
Жуковский
создает
музыкальный
словесный
поток,
качающий
на
волнах
звуков
и
эмоций
сознание
читателя;
в
эт ом
музыкальном
потоке,
еди ном
и
слитном,
как
и
единый
поток
душевной
жизни,
им
выраж аемый ,
слова
—
это
ноты.
Отсюда
особое
семантическое
напол нение
слова,
начинающего
значить
гораздо
бо льш е,
чем
оно
зна чит
терминологически,
и
выявлять
в
себе
в
соотношениях
потока
мелодии
иные
смыслы
и
звучания,
чем
в
обычной
логической
конструкции
речи .
С
другой
стороны,
это
речевое
сл итное
единс тв о
нис ко лько
не
противоречит
том у,
что
уже
бы ло
сказано
о
разрушении
Жу
ковским
синтаксической
опоры,
синтаксически-логического
каркаса
речи.
Стихи,
вообще
говоря,
несут
в
себе
потенцию
дву х
родов
членения
речи
и
в
то
же
время
объединений
и
соотношений
см ыслов
и
сло в,
—
д вух
ряд ов,
находящихся
в
сложном
взаимоотношении.
С
одной
стороны
—
это
синтак
с ис,
синтаксическое
деление
и
объединение
словесных
и
смы с
лов ых
групп;
с
другой
с т ороны
—
это
деление
на
стихи,
стро
фы,
полустишия,
то
есть
стиховое
членение,
имеющее,
конечно,
как
это
показал
Ю.
Н.
Тынянов,
вовсе
не
фонетиче
ск ий,
а,
в
пе рвую
очередь,
семантический
характер
и
со з
дающее
ос обые
у слов ия
сопоставления
и
взаимопроникновения
см ыслов
и
т.
п.
Именно
это
в торое
членение,
своего
ро да
синтаксис
стиха,
отдельный
от
синтаксиса
обычной
пр оз аи
ческ ой
ре чи
(хотя и не отторжимый от него внешне эмпириче
ски ), не имеет,
в
частности,
не
име л
в
пору
Жуковского
пр я
м ого
л огиче ск ого
на по л нения,
поскольку
структура
см ысло об раз ован ия
стиха
как
такового
не
име ет
характера
суждения,
и
поскольку
смысловые
свя зи
слов,
образуемые
стихом,
не
заключаются
в
связях
суждения,
а
заключаются
по
преимуществу
в
сопоставлениях
смыслов,
взаимно
дополняю
щих
друга
друга
и
как
бы
проникающих
друг
в
друга.
В
се
мантических
св язях
ст иха
выступали
на
первый
план
эмоц ио
нальные
черты
слова,
точнее,
его
смысловые
обертоны,
те
дополнительные
см ыслы
(ореолы значений), которые,
не
буду
чи
закл ю чены
с
полной
ясностью
в
отдельном
слове,
подчер
кивались
в
нем
оттого,
что
оно
вступало
в
нел огич ес кое
с оот
нош е ние
с
другими
словами.
Таким
образом,
создавалось
впечатление,
что
значение
стих а
рождается
не
в
сл овах,
а
как
бы
между
словами,
то
есть,
иначе
говоря,
не
в
самом
тексте,
а
в
сознании,
воспринимающем
текст,
св язывающ ем
слова
в
мелодию,
в
недифференцированный
комплекс.
Сам о
же
слово
как
бы
п рео до левало сь
в
сво ем
пре дме тн ом
значении,
стремясь
43
вы зват ь
ассоциативное
движение
сознания,
отклик
в
душе
читателя.
Отсюда
же
и
стремление
Жуковского
к
вопросительным
и
восклицательным
конструкциям
стиховой
фразы,
изученное
в
книге
Б.
М.
Эйхенбаума
«Мелодика стиха» .
Дело
здесь
в
том ,
что
вопросительная
и
восклицательная
фразы
(эти конструкции
семантически
и
инт она цио нно
близки
иногда
до
неразличимос
ти,
как
это
показал
Балли)
выпадают
из
т ипа
обычной
фразы-
суждения,
не
содержат
фо рм улы
«А есть В», не опираются на
л огиче ский
каркас
субъекта
—
предиката,
то
есть
преодолева
ют
логический
характер
утверждающего
син такс иса ,
имеют
по
преимуществу
эмоц иона ль ное
звучание.
Вопросительно-
восклицательная
фраз$
в
узком
смысле
не
есть
синтаксическое
предложение,
а
ест ь
как
бы
в нес инта кси че ский
комплекс,
как
бы
единое
слово,
объединяющее
вне синт акс ич ес ким
об разо м
гру ппу
слов
в
одном
звучании.
Но
вернемся
к
о трыв ку,
процитированному
выше;
его
се
ма нтика
типична.
Жуковский,
вк люча я
слова-знаки
в
св ою
стиховую
мелодию,
стремится
лишить
их
обычно-предметного
объективного
значения.
У
него
сло ва
значат
не
то,
что
они
значат
«просто», а обращены к тексту своей другой,
ассо
циативно-эмоциональной
стороной.
Жуковский
не
только
от
кры л
для
русской
литературы
полностью
семантические
воз
можности
стиховых
связей
ре чи
поверх
синтаксических,
но
отк рыл
для
нее
и
смысловые
возможности
полисемантизма
слова;
он
практически
от кр ыл,
что
слово
не
однозначно,
что
в
нем
скрыты,
кроме
первого,
терминологического
значения,
еще
другие,
доб аво чные
значения,
ореолы
ос мы сле ний,
в нут рен няя
форма,
этимологическая
и
историческая
22.
Он
выдв ину л
на
первый
пл ан
в
слове
именно
эти
дополнительные
обертоны
за
счет
«первых»
значений.
Это
было
открытие
огромной
ва ж
ности,
н еоб хо димое
для
всей
д аль ней шей
психологизации
лите
ратуры,
для
всего
усложнения
ее
содержания,
отк рыт ие
вну т
ре нней
диалектики
слова,
подвижности
слова,
созд ававш ее
возможность
и
исторического
пони м ания
языка,
и
дальнейшего
строительства
е го.
Всем
эт им
и
воспользовался
Пу ш кин.
Сам
же
Жуковский
использовал
св ое
открытие
л ишь
в
целях
соз
дания
сво ей
субъективно-психологической
поэзии.
22 Конечно,
принцип
полисемантизма
лежит
и
в
основе
по э тики
Ломо
носова,
но
характер
применения
и
понимания
этог о
прин ципа
у
не го
совсем
другой;
классицизм,
отвергнув
э тот
п ри нцип,
положил
пропасть
м ежду
Ломоносовым
и
Жуковским.
44
З десь
следует
сделат ь
огово рку
о
поэзии
Зап ад а.
В
ней
рождались
те
же
при нци пы
и
искания,
что
и
у
Жуковского.
Нетрудно
было
бы
привести
материал
и
из
Шиллера,
и
из
поэтов
Озерной
школы,
и
из
второстепенных
неме цких
роман
тиков.
Но
дел о
в
том,
что
Жуко вс кий
не
повторял
поэтов
Англ ии
и
Германии,
а
самостоятельно
со зд авал
в
русской
поэзии
то,
что
они
создавали
на
своих
языках,
со зда вал
не
без
в озд е йствия
Запада,
но
не
совсем
так,
как
западные
поэ ты.
Может
быть,
всего
ближе
он
к
Л амар тину ,
который
не
мог
на
не го
влия т ь,
так
как
писал
по здн ее
его.
Пр итом
же
эта
те ма
—
о
западных
связях
Жуковского
—
особая
тема,
не
необхо
д имая
для
данной
ра бот ы.
Ле йтмо тив ом
первой
строфы
цити ро в анно го
о трывк а
яв
ляются
слов а:
вечер,
по мер кну ли,
п ос ле дний,
умирает,
по след
н яя,
потухшим,
угасает.
Зд есь
два
обстоятельства
важны:
во-
первых,
самое
наличие
лейтмотивов,
слов-тем,
выделенных
не
синтаксически
и
логически,
а
нако пл ени ем
эмоциональных
пов торе ний ,
н ан изыван ием
одн отон ны х
с лов.
Тем
самым
о пять
тон ,
лирическая
н ота
п реод ол евает
л оги ку,
субъективное
пр е
одолевает
объективное.
Словесные
лейтмотивы
—
характерная
че рта
стиля
Жук ов ско го
и
романтизма
вообще.
В о- вт орых,
существенно
х ар актер изу ет
ст иль
Жуковского,
—
так
же
как
и
весь
романтизм
в
поэзии,
—
преобладание
качественных
сл ов
за
счет
предметных.
Качественное
слово,
—
прежде
всег о
прилагательное,
—
выд ви гая сь
вперед,
теряет
свою
прикреп-
ленность
к
существительному,
с
к оторы м
оно
согласовано,
и
приобретает
некоторую
самостоятельность.
Оставаясь
же
каче
ственным
словом,
оно
придает
в
своей
самостоятельности
тек
сту
характер
беспредметности,
оторванности
от
реальной
мате
риальной
наполненности,
обращает
текс т
к
интроспекции.
Обил ие
и
подчеркнутость
эпитетов,
как
функция
субъектив
ности
метода,
является
типической
чертой
русской
романти
ческ ой
поэзии;
при
эт ом
эпитет
здесь
преобладает
не
внешне
ри сую щий
и
определяющий,
а
именно
о ценив аю щий,
окраши
вающий
в
то н,
«лирический».
Выдвигание
эпитета
за
счет
предметного
существительного
ста ло
почти
назойливой
пр и
вычкой
поэзии
к
1820-м
го дам,
и
Пушкин,
сам
усиленно
окра ши ва вший
смолоду
сво ю
поэтическую
р ечь
эм оциона льно -
оценочными
эпитетами,
принужден
был
по том
вести
с
ни ми
уп орн ую
борьбу,
в
результате
кот орой
э питет,
кач ес тве нное
слово
вновь
подчинилось
существительному,
ст ало
его
пред
метным
определением.
Еще
в
1816 году Пушкин писал:
Гл убок ой
но чи,
на
по лях
Давно
л ежали
п окры ва ла,
45
И
слаб о
в
блед ных
облаках
Звезда
пустынная
сияла.
При
умирающих
огнях,
В
неверной
синев е
тумана...
и
т.
д.
(«Наездники» )
ил и:
Медлительно
влекутся
дни
мои
И
каждый
миг
в
унылом
сердце
множит
Все
го рести
несчастливой
любв и
И
все
мечты
безумия
тревожит.
(«Желание» )
Еще
в
1821 году он писал в другой эмоциональной то
нальности:
Ч удесн ый
жребий
со верш ился :
Угас
великий
человек.
В
нев оле
мрач н ой
закат ил ся
Наполеона
гр озны й
век...
и
т.
д.
,
(«Наполеон»)
Сравните
с
э тим
цикл
стихотворений
1836 года,
написан
ных
александрийскими
ст их ами:
там
—
точный
предметный
эпитет
(«Могилы склизкие»
и
т.
п . ), не выпирающий нигде
вперед.
В
отрывке
из
«Вечера»
Жуковского
словесная
мелодия
начинается
су ще ств ите ль ны м : «Уж вечер ...», а затем выступает
прилагательное
(и причастие)
непредметного
значения,
глаго
лы-метафоры,
не
говорящие
о
действиях
(померкнули,
посл ед
ний,
умирает,
пос л едняя,
потухшим,
угасает).
Музыкальный
характер
от рывк у
придают
и
повторения,
параллелизмы,
восклицания
третьей
строфы.
Но,
пожалуй,
самое
важное
здесь
все-таки
—
с ема нтика
слов а
как
таковая.
Как
уже
сказано,
слово
отрывается
от
своего
объективного
зна че ния
и
нач инает
эстетически
зв уча ть
по
преимуществу
значениями,
допо л ните ль но
возникающими
в
сознании
по
свя зи
с
ним.
Все
слова
как
бы
начинают
просвечивать
насквозь,
становиться
прозрачными,
а
за
ними
открываются
глубины
смысловых
перспектив.
Все
слова
как
бы
пер ежи ваю т
пр ев ра
щение,
в друг
оказываясь
не
те ми,
как
обычно,
и
весь
мир,
отраженный
речью,
ме няет
облик
и
начинает
петь
о
своей
д уше,
которая
и
ес ть
душа
поэта.
Происходит
то,
что
у
ЭТА.
Гофмана:
обыденный
ми р,
рассеиваясь,
как
туман,
о ка
зыв ает ся
прекрасным
миром
мечты;
но
у
Гоф м ана
это
обнару
жение
—
сюжет,
у
Жук овс к ого
оно
образуется
внутри
слова,
в
его
семантике.
Само
же
слово,
открывшее
внутри
себя
целый
46
мир ,
теряет
устойчивость,
на ч инает
двигаться
и
меняться
в
своей
смысловой
сущности.
Вот,
например,
превосходная
поэтическая
ст рофа:
Как
сл ит
с
пр охла дою
растений
фимиам!
Как
слад ко
в
тиш ине
у
бр ега
струй
плес кан ье!
Как
т ихо
веянье
зефира
по
водам
И
гибкой
ивы
тр еп етан ье!
Она
состоит
из
четырех
стихов-возгласов,
волн
интона
ции
и
чувства,
повторяющихся
без
всякого
логического
разви
тия
и
строящих
усиление
только
тем,
что
единая
в
своем
су
ществе
ф ормула
повторяется.
Первый
стих
—
это
шедевр
метода
Жуковского.
В
самом
деле,
слова
зд есь
радикально
сдвинуты
со
своих
привычных
м ест.
Постараюсь
по яс нить
эт о,
хот я
бы
огрубляя,
в
интересах
по нят но сти,
то нчайш ую
семан
т ику
Жуковского.
Ф имиам
слит
с
прохладою.
Эт о,
если
логи
чески,
терминологически
подходить
к
сл ову,
не
вяжется,
так
как
фимиам
—
это
запах,
а
про хла да
—
температура.
Но,
может
быть,
мы
имеем
здесь
де ло
просто
с
обыкновенной
метонимией:
прохлада
вместо
прохладный
воз д ух?
Конечно,
если
подходит ь
к
дел у
по
школьной
теории
литературы,
рассе
кающей
произведение
на
куски
и
рассматривающей
эти
мертвые
куски,
это
—
метонимия.
Однак о
важно
зде сь
не
то,
как
назвать
это
слово,
а
как
понять
его,
то
е сть
для
чег о
здесь
применена
мет оним ия
и
к
какому
смысловому
результату
она
приводит.
В едь
ссылк а
на
термин
«метонимия»
ничего
не
объ
ясняет,
ибо
ме то нимия
Су ма ро кова
—
это
совсем
не
то,
что
метонимия
Гоголя
(а у Гоголя метонимическое смыслообразо-
вание
очень
существенно
и
оно
многое
опре д е ляет
в
структуре
его
метода), и не то,
что
у
Блок а.
Так
вот ,
важно
здесь,
у
Жуковского,
именно
то,
что
он
г овори т
не
воздух,
то
есть
не
называет
предметное
яв лен ие,
а
переносит
смысловой
акцент
(пусть путем метонимии)
на
качество,
и
само
это
качество
у
н его
теряет
предметный
характер.
Это
то
же
самое,
что
был о
отмечено
выше:
не
облака,
а
пламень
облаков.
Это
то
же,
что
мы
увидим
далее.
Жуковский
делает
подлежащим
во
фр азе
наречие
(«О милый гость,
святое
П р ежд е»), то есть объектом
его
реч и
является
не
предмет,
не
явление,
а
качество
качества
(наречие
—
определение
определения).
Таким
же
образом
и
здесь
у
не го
изображается
словом
не
воздух,
а
некий
колорит
предметного
ощущения
—
прохлада.
Иначе
го воря ,
объектив
ный
воздух
отодвинут
в
тень,
а
названо,
вы двину то
субъек
тивное
переживание
воздуха,
некое
конк ре тно е
отвлечение
от
него.
Следовательно,
сокращенно
можно
сказать,
что
здесь,
в
системе
Жуковского
и
в
данном
контексте,
гово р ится
именно
о
47
прохладе.
И
конечно,
с
т очки
зр ения
логической
семантики,
здесь
получается
неувязка,
ибо
про хла да
не
мож ет
быт ь
слита
с
запахом;
так,
конеч но,
и
должен
был
оценить
этот
стих
в ся
кий
человек,
мысливший
в
системе
классицизма.
Но
для
Жу-
ковского
здесь
нет
никакой
нелогичности,
и
именно
потому,
что
в
его
системе,
в
его
ст ихах
прохлада
—
это
и
не
воздух
и
не
температура,
так
же
как
фимиам
— это
не
запах.
Прохлада
—
это
состояние
духа ,
н аслажден и е
ег о,
легкое,
свободное
переживание
жиз ни
природы
в
своей
жизни;
надо
помни ть,
что
для
1806 года
.е ще
живо
старое
значение
эт ого
слова,
выраженное
и
в
названии
жу рн ала
1793 года: «Прохладные
часы,
или
Ап тек а,
врачующая
от
ун ыния ».
Пр охлада
по
слова
рю
российской
Академии
1794 года (ч .
VI, стр.
547) —
это
и
«умеренный холод,
ум а ляющий
зной»,
и
—
в
переносном
смысле
—
«отдых,
успокоение
от
ч его».
Фими ам
—
это
мо
литвенное
настр оен ие ,
умиление
и
вдохновение,
возносящееся
к
небу ,
даже
если
это
фимиам
растений.
И
в
эт ом
слове
лекси
ч еская
характеристика
у
Жуковского
—
важнее
его
прямого
значения.
И
вот
такая
прохлада-
может
быт ь
слита
с
таким
фимиамом,
потому
что
и
то
и
другое
—
символы
единого
сл ож ного
наст ро ения.
«Как тихо веянье зефира ...»
—
здесь
опять
то
же,
в
сущности, «тихо», что и в «Невыразимом», и притом «веянье»
—
слово
весьма
мало
конкретное
и
потому
легко
подчиняю
щееся
общему
импульсу
текста
к
субъективизации
его ,
вместе
с
условным
зефиром,
заменяющим
«объективный»
и
реа ль ный
ветер.
Вся
эта
система
значений
завершается
в
последнем
стихе:
И
гиб кой
ивы
трепетанье.
Тр епета нь е
—
это
нежное,
музыкальное
слово,
говорящее
о
стыдливости,
о
тончайшей
вибрации
—
чего?
души
поэта,
—
х отя
в
то
же
время
и
ив ы;
но
ведь
ива
—
гибкая,
а
все
же
это
слово,
вполне
соответствуя
реальному
харак т еру
ивы
как
дерева,
—
сло во
эмоции;
ведь
у
Жуковского
нежно сть
сло ва
—
это
и
есть
его
значенье,
то
таящееся
в
глубинах
дух а,
о
чем
говорит
поэт;
и
к
этом у
почти
явное
зиянье
—
«гибкой
ивы»,
дающее
перелив
гласных,
пр еод олев ающ их
«материальность»
согласных
и
дв иж енье
вс ех
ударных
гласных
стих а
от
узких
и-и
через
более
открытое
е
к
открытому
пол
ному
зву ку
а,
—
как
бы
вздох
обл е гче нья,
освобождение
волны
звука,
голоса
человека.
Наконец,
характерное
слово: «Как сладко в тишине у
брега
струй
плесканье...»
Э тот
эпитет
—
«сладкий»,
48
«сладостный», —
стал
одним
из
признаков
стиля
элегического,
или
психологического
романтизма
1800—1820-х
годов.
Он
повторялся
буквально
со тни
раз
в
стихах
как
первоклассных
п оэ тов,
так
и
их
уч еников ,
—
вплоть
до
эпигонов.
Ему
«повезло», потому что он был типичен для системы,
ус тан о
вленной
Жуковским.
Он
пр ила гал ся
к
самым
различным
су
ществительным
и
—
в
виде
наречия
—
к
самым
различным
глаголам.
При
этом
он
ли шь
в
малой
ст епени
с вяз ывается
логически
со
своими
определяемыми.
В
терминологической
системе
кл ассиц и зма
«сладкий»
—
это
определение
вкуса,
например
сахара,
или
—
метафорически
—
с л адкий
значит
качество
предмета,
объективно
пр иятн ого ,
то
есть
это
хар ак
теристика
самого
пр едме та.
Сумароков
вообще
применяет
это т
эпитет,
как
и
существительное
«сладость», весьма редко,
и
это
слово
попадает
у
н его
в
совсем
д ругую
смысловую
среду,
чем
у
Жуковского.
Т ак,
он
пишет,
обращаясь
к
во зл ю бле нной:
«Обещай мне сделать радость .
Ту
сладчайшу
сделать
ра
д ос т ь.. .» (Песня IV),
и мея
в
виду
очень
точно
обладание
л юбим ой.
Или
у
него
такие
логически
ясные
со че та ния,
как
«Вручаюся тебе во сладкой сей надежде,
Что
будешь
верен
т ы.. .» (Еклога XI), —
то
есть
на деж да
на
сладость,
—
о пять
не
без
тог о
же,
д овольн о
примитивного,
см ысл а.
Сумароков
го в ор ит : «Птички сладко воспевают» (Оды разн .
XXIII);
«Жизни сладость» (Гимн Венере)
—
в
смысле
любовной
у тех и ; «И возвратися сладкий мир» (после войны), «Мир
сладкий
воспевает
та м» (Оды торжественные, XXVI и XV).
Слова
«сладостный»
у
Сумарокова,
по-видимому,
нет
со всем.
Во
всяком
сл уч а е, «сладкий»
в
качестве
метафоры
у
Сумаро
кова
—
это
приносящий
наслаждение,
и
чаще
всег о
на сла жде
ние
любовное;
логика
эт ой
метафоры
(структура сравнения в
ней )
очевидна,
как
и
объективность
ее.
Но
в
с истем е
Жуков
ского,
будучи
перенесен
с
определяемого
на
субъекта
речи,
оп ред еляя
Не
столько
предмет
описания,
с ко лько
описывающее
сознание,
этот
эпитет
получил
возможность
связей
с
любым
почти
пред ме том
и
действием,
по пав шим
в
орбиту
осознания
духа.
Он
стал
обозначать
всякое
пол ож ите л ьное
отношение
к
миру,
ибо
его
емкость,
неопределенность
выделяла
в
нем
о це
ночную
тональность
за
счет
определенных
эмоций.
Любовь,
умиление,
восторг,
наслаждение
красотой,
покоем,
ч ув ство
счастья
и
многое
дру гое
выражалось
в
этом
эпите те,
и
он
прилагался
ко
всему
вкл юч енном у
в
образные
комплексы,
вы ражавш и е
эти
со ст ояния.
«Как сладко в тишине у брега
струй
плесканье»
—
характерный
пример;
здесь
говорится
не
о
сладких
струях
(с точки зрения доромантической эстетики
49
это
было
бы,
по-видимому,
описанием
лимонада
или,
в
лучшем
случае,
н ек та ра : «Как летом сладкий лимонад»
—
у
Держави
на ), а о сладком плесканье;
сладкое
пл ес канье
да же
метафори
чески
может,
очевидно,
значить
пр едме тно ,
ск ажем ,
купанье.
Но
формула
Жуковского
явственно
раскрывается
иначе:
моей
душе,
душе
по эта,
сладко
плесканье
струй
по
настроению,
навеваемому
им.
Еще
примеры
(на выборку)
из
Жуковского:
И
сладость
зимних
ве черов .
(«К поэзии», 1804)
Но
сладостным
сияньем,
Как
тайным
упо вань ем,
Душа
обо дрен а...
(сиянием луны.
«К Батюшкову», 1812).
Но
сладостным
предчувствием
теснится
На
сердце
мне
грядущего
мечта...
(«Цвет завета», 1819).
Но
сладостный
покой
изо браж ает
он...
(«Предсказание», 1820)
Это
же
слово-эпитет
обилен
у
Батюшкова,
—
и
в
том
же
значении,
что
у
Жуко вс ког о,
например:
Как
сладко
я
мечтал
на
Гейльсбергских
поля х..
(«Воспоминание», 1809).
Мне
сладок
будет
час
и
муки
рок овой...
(«Выздоровление», 1807)
Все
сладкую
задумчивость
п итало...
(«Тень друга», 1814).
Ни
сладость
розовых
лу чей
П редт ечи
утре нн его
Феба...
(«Пробуждение», 1815).
Под
небом
с лад ост ным
полуденной
страны...
(«Таврида», 1815)
Сладостно
девы
стыдливой
ро птань е...
(«Источник», 1810)
50
Но
ветер
сладостный»
но
ро щи
б лагово нны ,
Земля
и
небеса
пр екрас но й
благосклонны...
(«Подражание Ариосту», 1313).
Не
ис чез ает
специфический
характер
слова
и
у
Пушкина:
Терялся
я
в
порыве
сладких
дум...
(«Сон», 1316)
Уж
нет
ее!..
До
сладостной
весны
П рост ился
я
с
блаженством
и
с
душ ою ...
(«Осеннее утро», 1316)
Немая
ночи
мгла,
денницы
сл а дкий
час!...
(Элегия «Я
ви дел
смерть...», 1316)
М ечтать
о
сладостной
свободе...
(Элегия «Я
думал,
что
люб овь
погасла
на всег да», 1316)
Ты
сотворен
для
сладостной
свободы...
(«Послание кн.
А.М.
Го рч ак ову», 1317)
Вновь
лиры
сладостной
раздался
голос
юный...
(«К ней» , 1317)
Так
я
бывало
в осп евал
Мечту
прекрасную
свободы
И
ею
сладостно
д ыша л...
(«Кн.
Голицыной», 1317)
А
с
ним
и
сладкие
тр ев оги
Любви
таинственной
и
ша ло сти
младой ...
(«Выздоровление» , 1313)
Его
сти хов
пленительная
сладость...
»
(«К портрету Чуковского», 1313)
Тоски
мучительная
сладость...
(«Дубравы ,
где
в
тиши
сво бод ы.. . », 1313)
И
сладкий,
девственный
покой...
(«Платоническая любовь», 1819)
И
сладостно
шумят
полуденные
в олны...
(«Редеет облаков . . . », 1820)
51
Приду
ли
вновь
под
сладостные
те ни.. .
(«Кто видел край...», 1821)
И
сладостно
мне
было
жар ких
дум
Уединенное
волненье...
(«Ты прав,
мой
друг», 1822)
Надеждой
сладостной
младенчески
дыша..
(«Надеждой сладостной . . . », 1823)
Издревле
сладостный
союз...
(«К Языкову», 1824)
Не
стоят
сладостных
лучей
Ее
по луден но го
ока .
(«Ответ Ф.
Т ***». 1826)
И
заб ываю
мир,
и
в
сладкой
тиш ине
Я
сладко
усыплен
моим
воображеньем...
(«Осень», 1833)
Конечно,
в
пос ле дних
примерах
эпитет
изменился
в
своей
сущности,
но
и
здесь
явственные
следы
понимания
его
по
Жук ов ско му
остались.
Нет
необходимости
давать
разбор
других
текстов
Жуков
ского.
То,
что
я
пытался
до казат ь
на
двух
текстах
—
«Невыразимом»
и
элегии
«Вечер», —
может
быть
показано
на
любом
произведении
поэта
вплоть
до
1830-х
годов.
Вс пом
ним ,
например,
стих
из
т ого
же
«Вечера»:
О
т ихое
небес
задумчивых
светило!
Эго
о пять
тот
же
эпитет
«тихий», о котором уже дваж
ды
говорилось,
и
в
том
же
смысле
примененный:
эпитет
«задумчивый»
—
я вно
относится
(не грамматически)
к
духу
поэта,
а
не
к
н еб есам;
ве сь
стих
держится
на
эпитетах
(вне
э питето в
он
теряет
см ыс л).
Или
вот
пример
«насилия»
над
синтаксисом,
где
связи
стиха
(по цезуре пятистопного ямба)
и
связи
вопросительных
фраз
оказались
важнее
логико-грамма
тич ес кой
«правильности» .
Н ашла
ли
их?
Сбы л ись
ли
ожиданья?..
(«Голос с того света», 1815)
Ког о
«их»? —
неизвестно,
неопределенно.
Может
быть,
ожиданья?
Но
они
появляются
потом,
и
все
равно
грамматиче
ски
не
связа ны
с
«их».
Или
«Песня» 1818 года:
52
Минувших
дней
оч ар ова нье,
Зачем
опять
воскресло
ты?
Кто
р азб удил
воспоминанье
И
замолчавшие
мечты?
Шепнул
ду ше
привет
бы валой;
Ду ше
блеснул
знаком ы й
вз ор;
И
зримо
ей
минуту
ста ло
Незримое
с
давнишних
пор.
О
милый
го сть,
святое
Прежде,
Заче м
в
мою
теснишься
грудь?
Могу
ль
ск азат ь:
ж иви
надежде?
Скаж у
ль
то му,
что
было:
будь?
Могу
ль
узреть
во
блеске
новом
Мечты
увядшей
красоту?
Могу
ль
опять
одеть
пок ров ом
Знакомой
жизни
наготу ?..
и
т.
д.
И
это
стихотворение
цел ико м
построено
на
основе
су бъе к
тивной
системы
мировоззрения
и
стиля
Жуковского.
Нет
необ
ходимости
комментировать
с ема нтику
всег о
текста;
но
стоит
обратить
внимание
на
ряды
вопросов,
и
на
оксюморон: «И
зримо
ей
мину ту
стало
Незримое
с
д ав нишних
пор», и на
по рази т ельн ую
беспредметность
всего
лирического
повествова
ния,
в
к ото ром
нет
ни
вещей,
ни
природы,
ни
обстоятельств
жизни,
ни
указаний
на
человеческие
отношения,
ничего
объек
тивного,
х отя
бы
соотнесенного
с
об ъек тивн ым,
а
е сть
только
ду ша,
м еч та , «чистая»
эмоция.
И
еще
одно:
выделение
слов
как
те м,
как
ф раз.
Фраза-интонация
у
Жуковского
стремится
преодолеть
синтак сис .
Слово
—
так
же;
ему
не
нужны
связи
с
другими
с лова ми;
оно
само
по
се бе
—
комплекс.
Оно ,
с лово,
вызывает
в
сознании
целый
мир
эмоций,
оно
знач ит
это т
мир,
значит,
даж е
б удучи
отделено
логически
от
други х
слов,
с
ним
соположенных.
Каждое
слов о,
в
конце
концов,
подчине
но
не
схеме
слов
в
предложении,
а
это му
же
мир у
эмоции
в
душе
читателя.
Душа
ест ь
та
единая
почва,
на
которой
растут
многие
слова,
но
каждое
из
них
отдельно
вобрало
в
с ебя
соки
почвы
и
не
со по дчин ено
другим
сло вам.
Отсюда
появление
особо
выделенных
сло в,
с лов,
замыкающих
в
себ е,
как
бы
вне
фразы,
всю
полноту
смысла.
Отсюда
два
элемента
стиля.
В о-п ер вых,
выпадение
сл ов
из
рамок
грамматически
об я
зательных
связей;
так,
нар еч ие
немыслимым
образом
становит
ся
чем-то
в роде
подл е жа щ ег о: «О милый гость,
святое
Преж
де»
—
и
к
нар ечию
приложено
прилагательное-определение,
53
конечно,
условно
и
внеграмматически
поставленное
в
среднем
роде ,
как
наиболее
неопределенном.
Сравни
с
э тим
—
из
арзамасского
протокола
в
стихах
«Вместе
—
наш
гений
х ра
нитель»
или
известную
цитату:
И
под
воздушной
пеленой
П ечальное
вздыхало...
(«Двенадцать спящих дев»)
Так
же
писал
Жуковский
в
письмах:
«Блажен ,
кто
мож ет
бьггь
вполне
поэтом!
Вполне ,
а
не
слишком.
Ес ли
слишком,
то
поэзия
—
вр аг
вс яко го
в месте
с
людьми...
Вс е,
что
на
милой
роди не ,
здрав
ствуй:
Там
небеса
и
воды
ясны
и
проч.
Воейков
не
любит
моег о
т ам,
—
да
и
слишком
много
его
в
м оих
стихах.
А
как
без
н его
обойтись?
К стат и,
о
там
вот
еще
пес ня,
которая
э тим
словом
ока нч ива ет ся:
Кто
ж
к
неведомым
брегам
Пу ть
неведомый
ук ажет?
Ах,
найдется
ль,
кто
мне
скажет,
О чаро ван ное
там?»23
В
1815 году он писал А.
П.
Е ла гино й: «Неужели вечно
нам
бежать
за
эт им
недостижимым
там ,
кот орое
никогда
здесь
не
будет.
Из
ваших
писем,
А нета,
зак люча ю,
что
вы
не
совсем
довольны
своим
здесь,
что
ваше
одно
и
то
же
вам
надоедает». 24
Во-вторых,
ха ра кте рно,
что
Жуковский
неизбежно
прибе
гает
к
внесинтаксическому,
внеграмматическому
средству
выде
ления
слова
—
к
шрифту
в
пе чати ;
он
выделяет
сл ово-с и мвол,
выпавшее
из
обы чн ых
связей
речи,
значащее
бо льше ,
чем
оно
мо жет
знач ит ь
просто
в
контексте,
курсивом,
в неш ним
подчер
киванием.
Он
должен
это
сд елать ,
что бы
по каз ать,
что
это
слово
—
не
слово,
а
целая
тема,
что
оно
—
знак
огромных
смыслов.
В
сущности,
у
нег о
все
слова
таковы
или
стремятся
бы ть
такими;
но
особо
значительные
слова,
яв но
переходящие
гра ницы
значения
одного
слова,
он
выделяет.
«Прежде»
—
это
не
просто
наречие,
а
комплекс,
и
этот
комплекс
как
субъ-
23 К.
К.
Зейдлиц,
Жизнь
и
поэ зия
В.
А.
Жуковского,
СПб.,
1883, стр .
105.
24 Ср.
с
этим
в
письме
декабр иста
Г.
С.
Б ат ень кова
к
А.
А.
и
А.
П.
Ел аг иным
(людям ,
бл изким
Жуковскому): «Во-вторых,
на
счет
продол ж и
тельного
вместе
(то есть насчет наших проектов жить вместе с вами).»
Письмо
от
30 апреля 1821
го да.
«Письма Г.
С.
Б ат еньк ова,
И.
И.
Пущина
и
Э.
Г.
Т ол ля», М. , 1936, стр.
118.
54
ект
темы
мож ет
ст ать
подлежащим.
Так
же
и
в
р яде
других
слу чаев.
Например:
С
толпой
видений
Страх,
Унылое
Молчанье,
И
мрачное
Мечтанье...
и
т.
д.
(«Уединение», 1813)
Б лажен ,
ко му
Любовь
вослед...
и
т.
д.
(«Добрый совет», 1814)
Наш ла
ли
их?
С б ылись
ли
ожиданья?
Без
страха
верь;
обмана
сердцу
нет;
С бы лося
вс е;
я
в
стороне
свиданья;
И
зн аю
здесь,
сколь
ваш
прекрасен
св ет.
Друг,
на
земл е
великое
не
т щетн о;
Бу дь
тверд ,
а
з десь
тебе
не
и зме нят.
О
милый,
зд есь
не
б удет
безответно
Ничто,
ничто:
ни
мысль,
ни
вздох,
ни
взгляд.
Не
унывай:
ми ну вшее
с
тобою;
Незрима
я,
но
в
ми ре
мы
одном;
Буд ь
верен
мне
прекрасною
душою;
Сверши
один
—
на чат ое
вдвоем.
(«Голос с того света», 1815)
Как
друг
всего,
и
мне
ты
другом
бы л...
...Прекрасному
—
текущее
мгно ве нье :
Гр яду щее
—
беспечно
н еб есам;
Что
мрачно
з десь,
то
бу дет
ясно
там!
...
О
дне
его,
о
ясной
тишине
И
сладостном
на
вечере
сиянье.
(«Старцу Эверсу», 1815)
Нет
не обходи мос ти
опять
говорить
о
выражениях
«ясная
т и ш и н а», «сладостное сиянье».
Насколько
я вно
и
д аже
созна
тельно
Жуковский
стремился
изъять
из
сво его
текста
элементы
конкретной
объективной
образности,
имеющие
самостоятельное
значение
вне
системы
лирических
символов
его
по эт ики,
видно
из
материалов
его
творческой
работы,
из
его
рукописей.
До
статочно
будет
здесь
напомнить
историю
текста
т ого
же
«Вечера»,
рассмотренную
и
В.
И.
Резановым
в
его
«Разысканиях о Жуковском», и Ц .
С.
Вольпе
в
его
коммента
риях
к
стихам
Жуковского.
Ц.
С.
Вольпе
пиш е т: «Сличение
разных
редакций
"Вечера"
показывает,
ч то,
перерабатывая
55
текст,
Жуковский
заменял
ко нкре тн ые
образы
окружающей
его
при род ы
се ла
Мишенского
условными
и
литературными»,
—
то
ес ть
преодолевающими
реал ьн ост ь
природы
в
данном
ее
облике.
Так ,
стих
ранней
редакции
«И в роще иволги сте
на нье»
или
«И томной иволги стенанье»
заменялся
«В лесу
стенанье
Филомелы».
В.
И.
Резанов
пишет
в
св ою
очередь
не
без
н а ив нос ти: «Сравнительно с позднейшими переделками,
первые
редакции
строф
эле гии
"Вечер"
проще,
наив нее
и
бл и
же
к
обстановке
действительной
жизни
поэта
в
1806 году,
образы
и
впечатления
кот орой
были
в
это м
случае
ис хо дным
пунктом
его
творчества.
Ис пр авл ения
вносят
известную
искус
ственность
языка,
стирают
колорит
местности...». «...
Ос о бен
но
жаль,
что
Жуковский
п ож елал
заменить
в
6-й
стр офе
ре
альные
зол от ые
кресты
и
главы
белевских
церквей,
озаренные
заходящим
со лнцем ,
какими-то
"башнями":
картина
только
проиграла,
ставши
из
местно-красочной
какою-то
отвлеченно-
неопределенною» 25.
Стих
«Как слит с прохладою растений фимиам»
не
сразу
был
найде н
Жуковским;
ранее
бы ло
более
объективное
и
ра
циональ ное : «Как воздух прохлажден душистою росой . ..».
Исследователи
переводов
Жуковского
собрали
достаточно
материала,
показывающего,
как
конкретно-точные
фо рм улы
оригинала
становятся
в
его
переводе
расплывчато-лирическими.
Я
прив одил
примеры
из
лирических
с ти хотв оре ний
Жу
ковского,
а
не
из
баллад,
вовсе
не
потому,
что
ба ллад ы
его
не
подчинены
общим
законам
его
системы,
а
только
потому,
что
цитаты
проще
выделяются
из
лирического
стихотворения,
тог да
как
баллада
требует
рассмотрения
большими
массивами
текста.
Впрочем,
едв а
ли
это
необходимо.
Очевидно,
что
эстетика
баллад
Жуковского
та
же,
что
и
эстетика
«Вечера»: в них те
же
мотивы,
то
же
мировоззрение,
тот
же
стиль,
тот
же
слог,
та
же
семантика,
та
же
мелодия
стиха,
те
же
«пейзажи души».
Правда,
в
них
есть
сюжет,
которого
нет
в
лирике,
но
и
в
них
сю жет
—
самое
второстепенное
дело,
а
ли рик ой
являются
и
он и.
Весь
Жуковский
—
лирик,
и
в
эт ом
отношении
«Эолова
арфа»
мал о
чем
отличается
от
«Сельского кладбища».
Баллады
Жуковского
все
в
большей
или
меньшей
степени
—
переводные.
И
все
же
они
оригинальны
и
не
совпадают
со
своими
разноязычными
оригиналами.
Сю жеты
в
них
чужие;
стиль
—
сво й.
А
именно
сти ль
и
образует
их
оба яние.
Из
сюжетов
б аллад
в
изложении
Жуковского
боль ше й
частью
25В .
И
.
Р
е
э
а
н
о
в,
Из
р аз ысканий
о
сочинениях
В.
А.
Жуков
ского,
вып.
II, Пг. , 1916, стр.
371.
56
ничего
не
следует,
кроме,
может
быть,
пр им итив нейше й
про
писной
морали,
никак
не
способной
сделать
произведение
зна
чительной
идеологической
ценностью.
Во т,
например,
«Ивиковы журавли»; у Шиллера
—
это
сложное
историко-
философское
и
эстетическое
построение
на
т емы
об
античном
ощущении,
о
роке
ре лигии
дре вн их,
об
очищающем
назначении
искусства,
о
к ат арсисе
трагедии.
У
Жуковского
баллада
«Ивиковы журавли», если иметь в виду ее сюжет и его идей
ный
смысл,
говорит
скорей
всего
о
то м,
что
«бог правду ви
д ит»
и
что
поро к
н ак азывает ся .
Глубокий
на родн ый
смыс л
«Леноры»
зам ен ен
в
«Людмиле»
пр о писью
о
том,
что
не
на до
р оп тать
на
су дьбу
(на бога).
Ни как ой
ид еи
нет
в
знаменитой
«Светлане», то есть нет в изложении сюжета.
Совершенно
ус ловн о
привешена
м орал ь,
например,
в
«Замке Смальгольм»
(«Ивановом вечере»); нет морали и вообще « и д еи»
в
сюжете
«Алины и Альсима»
и
т.
д.
Совершенно
справедливо,
в
сущ
нос ти,
Жуковский
пи сал
о
своих
балладах
в
«Светлане», —
в
нем но го
шутливом
тоне,
но
вед ь
и
серьезно:
Улыбнись,
моя
кра са,
На
мою
балладу;
В
ней
большие
чу деса,
Оче нь
ма ло
складу...
Конечно
же,
сут ь
б аллад
Жуковского
как
произведений
оригинальных
в
вы сшей
с теп ени
не
в
«складе», а именно в
«больших чудесах», в разлитой в них мечтательности,
в
созда
нии
особого
ми ра
фантастики
чувств
и
на стро ений,
мира,
в
котором
поэт
вовсе
не
подчинен
л огике
действительного,
а
тв орит
в
своей
ме чте
свой
свободный
круг
поэтических
ф ик
ций,
свободно
выражающих
настроение.
Именно
эта
св обод а
от
реальности,
от
современности,
от
объективности
создает
в
ба лл адах
Жуковского
оптимистическую
св етл ую
тональность,
несмотря
на
все
страхи,
чертей
и
ведьм,
изображенных
в
них,
—
в
противоположность
меланхолическому
т ону
лирики
Жу
ковского.
В
лирике
он
бе жит
от
ми ра
в
самого
с ебя,
в
с вое
чув ст во,
—
и
это
бегство
от
дурного
внешнего
мир а
есть
борьба
с
ним,
борьба
безнадежная;
отсюда
гру ст ь,
пессимизм
ли ри ки.
В
б аллад е
Жуковский
победил
внешний
мир,
он
сам
творит
иллюзию
мира
по
своему
образу
и
по до бию,
и
он
счастл ив
в
эт ом
иллюзорном
мире.
В
нем
и
страхи,
и
см ер ти,
и
б едст вия
не
страшны,
потому
что
ве дь
их
выдумал
сам
поэт
и
они
явно
не
настоящие.
Поэ т
волен
снять
здесь
все
ужасы
в
од но
мгновенье,
то гда
как
ужас
настоящей
реальности
—
неизбывен
и
не
во
власти
поэта.
Жуковский
накажет
порок
в
«Балладе о старушке», он весело выдаст замуж Светлану за
57
любимого,
сведет
разлученных
любовников
в
«Пустыннике»
и
т.
д.
А
в
жизни
Маша
Протасова
в ыход ит
замуж
за
М ойера
и
нет
выход а
из
ст р адан ья.
Отсюда
—
именно
от
радо ст ног о
чув ст ва
романтика,
якобы
победившего
мечтой
жизнь,
—
и
шутливость,
ле гко
вкрадывающаяся
в
самые
«страшные»
бал
лады
Жуковского.
Та к,
напр име р,
о дин
из
шедевров
ег о,
«Баллада о старушке», где повествуется о столь жутких ве
ща х,'
пронизана
не
то
чтобы
ир онией,
а
некой
улы бк ой,
наме
кающей
на
то,
что
вся
эта
жут ь
—
вед ь
всего
только
ск азка,
мечта,
выдумка.
И
самое
н азван ье
баллады,
с
од ной
стороны,
имитирует
название
старинных
немецких
повестей,
с
дру гой
—
немного
забавно,
н ач иная
от
наименования
страшной
героини-
ведь мы
с та ру шко й: «Баллада,
в
которой
описывается,
как
одн а
старушка
ехала
на
черно м
ко не
вдвоем,
и
кто
сидел
впереди».
Так
же
и
са мый
текст:
На
кровле
во рон
дико
прокричал
—
Старушка
слышит
и
бледнеет.
П онят но
ей,
что
ворон
тот
сказал;
Слегла
в
постель,
дрожит,
х ладе ет.
И
во пит
скорбно: «Где мой сын-чернец?
Ему
с каз ать
мне
слово
д айте;
У вы!
я
гибну;
близок
мой
конец;
Скорей!
ск о рей!
не
опоздайте!»
и
т.
д.
И
о пять
это
слово
«старушка», и прозаизм « Сл ег л а
в
по
стель,
дрожит»
и
«вопит», особенно в сочетании с бытовым,
почти
комическим
«Скорей!
ско рей !
не
о п озд айт е», и дальше:
«Старушка в трепете завыла»,
—
все
это
вносит
в
б алла ду
улыбку,
нимало
не
пр евращая
ее
в
пародию.
И
ведь
в
б ал лад
ном
мире,
созданном
индивидуальной
мечтой,
не
пов и ную
щейся
як обы
за кона м
социальной
объективности,
люди
—
не
те
ун ыл ые,
стр адаю щие,
умирающие
на
зар е
жиз ни
романтики,
как
в
лир ике
Жуковского,
а
наоборот
—
сильные,
здоровые,
страстные
и
яркие
люди-титаны.
В
этом
и
бы ла
глубокая
тр а
ге дия
балладного
оптимизма
Жуковского;
он,
романтик,
бег у
щий
от
ж изни,
мечтал
о
жи зни,
о
настоящей
здоровой
твор
ческой
могучей
жизни,
но
мог
найти
ее
ли шь
в
мечте,
в
сказке.
Светлый
оттенок
имеет
«Светлана», —
вплоть
до
ра
достной
концовки,
от ры вок
котором
приведен
выше.
А
иной
раз
Жуковский
готов
был
пошутить
в
ба лла де
да же
над
тем ,
над
чем
уж
совсем
не
бы ло
о сно ваний
веселиться.
Так ,
в
«Алине и Альсиме»
р асск аз ывает ся
трогательная
история,
58
похожая
на
ис тори ю
его
собственной
любви
к
Маш е
Протасо
в ой:
Алина
выдана
замуж
за
другого;
Альсим
проникает
к
не й,
переодевшись
купцом-армянином;
они
должны
расстаться,
так
как
она
будет
верна
своему
мужу;
он
подает
ей
рук у
на
пр о
щанье,
—
но
во т:
Вд руг
входит
муж ;
как
в
исступленье
Он
за дро жал
И
им
во
грудь
в
одно
мгновенье
Вон зил
кинжал.
Алина,
умирая,
пр ощ ает
мужа,
а
он
с
тех
пор
«томится и
н очь
и
день».
На
эт ом
бал лад а
у
Жуковского
кончается,
но
в
рукописи
была
еще
заключительная
строфа,
не ожи дан но
коми
ческая:
Алины
бедной
приключенье
—
Урок
мужьям;
Не
верить
в
первое
мгновенье
С воим
глазам.
Застав
с
женою
армянина
Р ука
с
рукой,
Молчите:
е сть
то му
пр ич ина:
Идет
домой
26.
Не
случайно
б алла да
«Алина и Альсим»
отразилась
в
комической
пьеске
А.
К.
Толстого
о
Д ел арю.
Впрочем,
Жу
ко вск ий
п онял
слишком
явную
смехотворность
концовки
и
отбросил
ее.
Творя
свой
балладный
мир
из
само го
се бя,
Жуковский
творил
его
как
сказочный
отсвет
св оих
человеческих
наст ро е
ний .
Ш евы рев
зам етил
о
балладах
Жуковского,
что
в
них
«как
бы
улетучена
вся
действительность,
и
сам ое
действие
пр ед ста
ет
нам,
как
видение
ду ши,
как
яв лен ие
таинственное
внутрен
н его
мир а» 27.
Тональность,
атмосфера
эмоции
—
главное
в
его
балладах.
В
эт ом
отношении
бал лады
Жуковского
продол
ж ают
традицию
романтических
повестей
Карамзина,
таких
как
«Остров Борнгольм»
и
«Сиерра Морена».
Все,
что
в
них
рассказывается
и
п ок азыва ет ся,
—
сам о
по
себе
неважно
и
иногда
даже
не
очень
сод ержат ель но
(например,
в
«Светлане»); герои баллад
—
не
конкретные
образы,
не
жи
вые
лю ди
с
характерами,
а
условные
фигуры,
в
сущности,
бледные
и
также
лишенные
содержания,
рыцари,
влюбленные,
и
только.
Но
чрезвычайно
содержательны
б аллад ы
общими
26 Ни переводность баллады ,
ни
«маротический»
стиль
подлинника
не
ме ня ют,
кон ечно,
дела.
27С .
П
.
Ш
е
в
ы
р
е
в,
О
значении
Жуковского
в
русской
жизни
и
по эзии,
М. , 1853, стр.
39.
59
разлитыми
в
них
эмоциями,
носителем
ко тор ых
является
сам
рассказчик-поэт
(или же читатель).
О
чем
рассказывается
в
превосходной
балладе
о
старушке?
Неужели
о
то м,
что
че рт
унес
ду шу
колдуньи?
Но
ве дь
об
этом,
собственно,
ид ет
речь
лишь
в
незначительной
час ти
те кста ;
э тот
сюжет
—
лиш ь
условная
рамка,
заполняющая
начало
баллады,
в сту пл ение
к
не й,
и
к ороте нько е
заключение.
Вся
же
обш ирна я
баллада
зак лю чает
совсем
дру гую
тему ,
и
не
о
старушке
в
ней
речь.
Тем а
эта
—
тайны
мира
и
души,
чувство
беспредельности
скрытых
и
глубинных
стихий,
борющихся
в
жизни
челове
ческой
и
во
всем
мироздании,
опрокинутом
в
одиноком
пере
живании
личности,
борь ба
счастья
с
та инст в енно
подби
рающимся
к
чело век у
и
стучащимся
у
двер ей
н еиз бывн ым
ужасом
катастрофы.
Ж изнь
и
смерть
че лов ека
брошены
в
бездну
стихийных
си л,
бушующих
в
глубине
самого
чело вече
ского
духа;
это
и
есть
для
Жуковского
бог
и
дьявол,
спа
сающая
и
губящая
человека
силы.
Тема
б аллад ы
—
на
растающий
ужас
неи збе жно го
крушения,
пер ед
к ото рым
бессильны
моленья,
бе с сильно
искусство,
бессильна
сила.
Не
избежное
наступит,
оно
близится
—
и
вот
оно
наступило,
и
человек
поглощен
страшным
водоворотом
беды.
Он
хочет
кричать
—
и
нет
голоса
у
нег о.
Это
—
как
во
сне.
Но
балла
да
Жуковского
—
это
именно
сон
души,
и
сон
не
настоящий,
а
произвольный;
это
—
как
бы
страшный
сон ,
рассказанный
проснувшимся
человеком,
стряхнувшим
кошмар.
И
пусть
фрейлины
падали
в
обморок,
когда
Жуковский
читал
им
во
дворце
св ои
баллады,
—
над
всем
ужасом
звучит
торже
ствующий
голос
поэта,
ч елов ека-т во рц а,
своим
творчеством
по бед ив шего
уж ас,
потому
что
он
сам
со здал
его ,
овла де л
им.
Весь
текст
б алла ды
построен
именно
в
этом
лириче ск ом
плане;
Жуковский
испо ль зуе т
те
или
ины е
слова
и
образы
не
для
конкретного
живописания
событий
и
предметов,
а
для
созд ан ия
определенного
и
тоже
конкретного
по-своему
настроения.
Та
ким
же
образом
тема
«Алины и Альсима»
—
люб овн ая
пе
чаль,
тема
элегии;
тема
«Замка Смаль гольм»
—
бурная
страсть,
и
все
в
этой
ба ллад е
лиш ь
символы
страсти
—
и
ночь,
и
маяк,
и
битвы,
и
пы лкие
порывы
страстей
героев,
причем
сливаются
в
оди н
об раз
страстной
бури
и
дикая
ре в
ность
барона,
и
безудержная
страсть
его
ж ены
к
другому
—
и
все
это
в
окружении
таинственного
и
ти танич е ско го
средневе
ковья,
фантастики
Ивановой
ночи.
Томная
мечтательность
души,
улетающей
от
земных
дел
в
с феру
высших
томлений
—
то нал ьно сть,
тема
и
содержание
великолепной
б алл ады
«Эолова арфа».
Вот
ст ро фы,
характерные
в
этом
смысле:
60
Сидела
ун ыло
Минвана
у
древа...
душой
вдалеке...
И
ти хо
все
бы ло.. .
Вдруг...
к
пламенной
что-то
коснулось
щеке ;
И
что-то
шатнуло
Без
ветра
листы,
И
что-то
прильнуло
К
струнам,
невидимо
слетев
с
высоты...
И
вдруг...
из
молчанья
Поднялся
про т яжно
задумчивый
з вон;
И
ти ше
д ы ханья
Играющей
в
лист ьях
прохлады
был
он.
В
ней
сердце
см утилось :
То
друга
привет !
С верш илось,
свершилось!..
Земля
опустела,
и
мило го
н ет...
Конечно
же,
зде сь
—
поэ тиче с ки,
в
существе
образа
—
содержание
стихов
не
сводится
к
тому,
что
Мин вана
узн ала
(при помощи волшебного предмета)
о
смерти
любимого.
Со
держание
эт их
стихов
гораздо
шире,
и
оно
вовсе
не
осведоми
тель но е,
а
настраивающее,
музыкальное:
здесь
это
«что- т о», и
музыка
слов:
уныло
(с созвучием « си де ла
у ныл о»), вдруг,
ч то-
то,
что-то
п ри льну ло,
невидимо,
слетев
с
высоты,
и
вдруг,
протяжно,
задумчивый,
тише,
пр охла ды
и
т.
д.,
—
и
эти
об
рывки
фраз,
набегающие,
как
дуновенье,
так
л юбимо е
в
стихах
Жу ко вс ким.
Или
—
пейзаж
в
этой
балладе,
совсем
такой
же,
как
в
эле гиях ,
как
в
«Вечере», —
пе йзаж
души,
а
не
природы.
Таковы
же
пейзажи,
рассыпанные
в
дру гих
ба лла дах
Жу
ковс к ого
вплоть
до
лири че с ких
мелодий
псевдопейзажей
«Двенадцати спящих дев»; вспомним,
как
ме тко
сказал
Пуш
кин
в
1822 году:
речь
шла
о
том,
что
слог
Жуковского
«возмужал,
хотя
у тр атил
первоначальную
прелесть.
Уж
он
не
нап и шет
ни
Светланы,
ни
Людм илы ,
ни
прелестных
элегий
1-й
части
Спящих
дев » (письмо к Гнедичу от 27 сентября 1822
года;X,46), —
именно
элегий,
в
этом-то
все
и
де ло,
что
у
Жу ко вс кого
и
ба лла да
—
э л егия,
и
п оэма
—
э л егия,
и
пейзаж
—
эл егия.
«Эолова арфа»
поражает
сло жн ой
и
му зык альн о
постро
енной
строфой.
Вообще
хорошо
известно,
что
Жуковский
разработал,
в
частности,
в
балладах,
большое
количество
инди
видуальных
и
разнообразных
метрических
и
строфических
построений;
он
раз ра бота л
и
фонетику
русского
стиха,
сложную
гар мо нию
зву ко соч етан ий
в
нем
—
не
изобразитель
ны х,
не
«программных», а именно музыкально -о бразн ы х.
По
нятно ,
что
им енно
для
Жуковского,
для
его
задачи
создания
61
эмоционального
тона,
лирического
волнения
стиха ,
часто
зву
ковые
свойства
его
приобретали
ос обо
важное
значение,
—
отсюда
и
особое
вн има ние
к
ним
Жук овс ко го.
Од ин
раз
в
жизни
Жу ков ский
был
на
грани
того,
чтобы
выйти
за
п ред елы
своей
внутренней
жиз ни,
темы
индивидуаль
ного
сознания
в
своем
творчестве;
это
был о
в
1812 году,
к огда
огромный
народный
подъем
захватил
его
и
он
почувствовал
потребность
нарушить
сво е
интеллектуальное
уед ине ние
и
слиться
с
в ел икими
событиями,
вполне
объективными
и
реаль
ными,
окружившими
его;
на
сей
раз
социальная
реальность
не
могла
оставить
его
равнодушным
зрителем.
И
если
военные
события
1806 года отразились в его творчестве только лири
ческой
и
субъективной
«Песнью Барда над гробом славян -
по бе дит е л ей», то теперь в стихах,
связанных
с
войной
1812
года,
Жуковский
поет
не
только
о
се бе
и
своем
горе
или
тор
жест ве,
но
и
о
др уги х,
ка зал ось
бы.
Впрочем,
сл еду ет
указ ать ,
что
эта
вспышка
не
была
дли те льна .
В
1812 году Жуковский
на писа л
«Певца во стане русских воинов»
и
послание
«Вождю
по беди тел е й» («Князю Смоленскому»), да еще одну незначи
тельную
и
вполне
субъективную,
притом
шуточную,
военную
«Песню в веселый час».
А
пот ом
опять
пошли
баллады,
эле
гии ,
по сла ния
совсем
обычного
для
Жуковского
стиля,
ничем
не
связанные
с
событиями.
Сре ди
них
теряется
полуофициаль
ное
послание
к
Марии
Фе доров не
1813 года.
Наконец,
в
1814
го ду
Жуковский
написал
известное
послание
«Императору
Александру»
и
начал
«Певца в Кремле»,
засл ужен н о
не
имевшего
успеха.
Из
вс его
этого
цикла,
количественно
весьма
малого
по
сравнению
со
всем,
написанным
Жуковским
в
эти
годы,
имеют
значение
три
п роиз в ед ени я: «Певец во стане»,
«Вождю победителей»
и
«Императору Александру» .
В
них
Жуковский
г овор ит
о
в не шних
событиях;
в
них
есть
отзвук
того
гражданского
пафоса,
к отор ый
хар ак тер из овал
жизнь
и
деятельность
лучших
лю дей
страны
в
эти
годы.
Но
и
в
э тих
стихотворениях
Жуко вс кий
не
перестает
быть
самим
собой.
«Певец во стане русских воинов»
—
не
описание
войны;
в
нем
не
говорится
о
событиях;
Жуковский
не
мог
вдруг
научиться
находить
слова
об
объективном
мире.
Эт о,
прежде
всего,
ли
рическая
песнь,
го воря щая
о
патриотическом
подъеме
самого
поэта,
о
его
настроении.
Конечно,
в
ней
нет
ни
на род а,
ни
общества,
ни
поня ти я
о
совокупности
граждан.
Но
вед ь
самый
подъем,
пу сть
в
душе
поэта,
ес ть
следствие
подъема
н аро дной
волны,
объективного
движения
коллектива,
конечно,
х отя
в
поэме
Жуковского
это
проя ви лос ь
минимально.
В
начале
по
эмы
—
ба лла да
о
воинском
духе
сказочных
славян,
именно
в
62
духе
сказки-легенды.
Далее,
характернейшее
—
слава
отчизне,
те ма
патриотизма;
и
вот
Жуко вс кий
да ет
ее
не
в
п оли ти
ческом,
гражданском
окружении
и
исто л ков а нии,
а
в
тонах
субъективистской
элегии;
его
патриотизм,
разумеется,
искрен
ний
и
благородный,
все
же
дер ж ится
в
пределах
личной
ин
тимной
жизни.
О т чизне
кубок
сей ,
друзья!
С трана,
где
мы
вп ерв ые
Вкусили
сладо сть
бытия,
По ля,
холмы
родные,
Род но го
неба
ми лый
с вет,
Знакомые
потоки ,
Зл атые
и гры
первых
лет
И
первых
лет
уроки,
Что
в ашу
прелес гь
заменит?
О
родина
свя тая !
Как ое
сердце
не
дрожит,
Тебя
благословляя?..
и
т.
д.
(«Левей,
во
стане...»)
И
далее
военные
темы
перемежаются
интимными
темами
любв и,
творчества,
т омле ния
о
неизвестном,
порывами
к
«потустороннему»; характеристики вождей до нерасторжимости
переплетаются
с
лирическим
тоном,
обращенным
внутрь
души
самого
автора.
Таким
образом,
основной
стилеобразующий
характер
ми
ровоззрения
Жук ов ско го
овладевает
вс еми
видами
его
твор
чест ва,
всегда
и
п ов сюду
выдвигая
единую
тем у
человека
как
пе рвоп ричины ,
начала
и
конца,
самодовлеющей
сущности
мира .
Эта
же
идейная
подоплека
поглощает
и
религиозную
те му
Жук ов ско го
не
только
1800—1810-х ,
но
отчасти
и
1820- х
годов.
В
эти
годы,
когда
бы ло
создано
огромное
большинство
произведений
Жуковского
(не считая больших переводов),
религиозная
тем а
в
них
встречается
чрезвычайно
редко.
Жу
ковский
очень
часто
го ворит
о
сво ей
надежде
на
бессмертье
духа
и
добра,
но
эта
наде жда
—
еще
не
совсем
религиозное
утверждение.
Это
для
не го
именно
н адежд а,
сильно
пе реж и
ваемая
им,
и
сама
по
себе
эта
надежда
есть
для
него
психо л о
гический
факт,
который
он
изображает,
не
пытаясь
пр ид ать
ему
теоретический
позитивный
характер.
В
горестях
жизни
поэ ту
сладко
на деять ся
на
иную,
светлую
жизнь,
и
он
утешает
себя
это й
мечтой,
неопределенной
и
поэтической,
совсем
так
же,
как
он
тешит
себя
мечтой
о
могучей
жиз ни
могучих
людей
в
сказках-балладах.
Но
он
не
утверждает,
что
его
мечта
соот
ветствует
объективной
реальности
—
ни
в
то м,
ни
в
другом
63
случае;
он
только
утверждает,
что
она
есть,
именно
как
сл а
достная
мечта.
Его
бог
—
это
опять
прежде
всего
чувство
том ле ния
и
уми ле ния,
чувство
жажды
утешения,
чувство
в еликих
сил
д уха
в
самой
человеческой
душе.
«Я бы каждое
прекрасное
чувство
назвал
богом»,
—
пис ал
Жуковский
в
своем
дневнике
1817 года.
Это
чувство
есть
—
это
утвержда
ет
Жуковский,
есть,
например,
в
его
собственной
ду ше,
но
есть
ли
бог
вне
его
д уши,
бог
сам
по
себ е,
—
это го
он
не
зна ет
и
этой
темы
не
касается.
Конечно,
такое
понимание
религиозной
темы
нимало
не
устраивало
церковь,
ибо
оно
отр ицал о
объективность
религии,
реального
бога,
существую
щег о
вне
чувства,
мечтающего
о
не м;
отрицало
законодатель
ст во
р е лигии,
ее
дог ма ти ку,
делало
душу
человеческую
высшей
це ннос тью ,
а
человека
—
венцом
творения
и
первоисточником
всег о,
а
не
созданием
и
неполноценным
отражением
божества.
Идеализм
Жуковского,
последовательный,
крайний,
имел
в
то
же
время,
в
эп оху
его
расцвета,
не
ортодоксальный
характер
и
за
ним
стоял
глу бо кий
с кепс ис.
Жуковский
в
эт ом
вопросе
был
учеником
не
мистиков
и
церковников,
а
Юма
и
Адама
Смита
(как философа,
а
не
как
экономиста).
Вед ь
именно
Адам
С мит
учил,
что
чувство
чел овек а
—
это
единственный
источник
морали,
жизни,
деятельности.
И
именно
Юм
в
своих
д вух
работах
о
р ел игии
утверждал,
что
д ока зать
бытие
бо га
невоз
можно,
что ,
логически
рассуждая,
мы
обязательно
приходим
к
выводу,
что
бога
нет,
но
что
люд и
чувс т вуют
религиозное
на стр ое ние
и
хотят
переживать
его,
и
что
этого
дос та точ но;
он
говорил,
чт о,
поскольку
истину
вне
субъективного
пер ежив ан ия
установить
н ельзя ,
поскольку
невозможно
человеку
добраться
до
познания
подлинно
реального
мира,
мы
име ем
дело
лишь
с
нашими
мечтами.
И
вполне
признавая
иллюзор нос т ь
пережива
ния
религиозного
экстаза,
он
говорил,
что
это т
экстаз
—
фак т
душевной
жизни,
а
зна ч ит,
бог
есть,
—т о лько
как
мечта,
но
как
мечта
психо ло гиче ски
реальная.
Трактаты
Юма
о
религии
—
это
то же
кра йний
идеализм,
но
они
могли
звучать
как
скептич еский
вызо в
р ел игии,
как
антирелигиозная
насмешка,
и
религиозные
официальные
лиц а
запрещали
их
как
в
Ан гли и,
так
и
—
учение
учеников
Юма
и
Смита
—
в
России;
вед ь
именно
антирелигиозные
выводы
из
учений
См ита
сд елал
в
1769 году Е .
Ани чко в,
диссертация
которого
о
происхождении
религии
претерпела
го нен ия
не
только
от
церковников,
но
и
от
Хер аск ова.
А
ведь
именно
так,
именно
субъективистски
трактует
тему
религии
Жуковский
в
тех
редких
случаях,
когда
он
непосред
ст вен но
обращается
к
не й.
Иное
дело
—
поздний
Жуковский,
64
впавший
в
глуб ок ую
мис т ику
и
болезненную
религиозность.
Но
в едь
не
случайно
и
то,
что,
например,
Зейдлиц,
так
хор о
шо
зн авши й
Жу ко вс кого
еще
при
жизни
Ма ши
Протасовой-
Мойер,
в
своей
биографии
Жуковского
со
сдержанным,
но
явным
негодованием
г овори т
о
немцах,
совративших
старика
поэта
в
мистицизм.
Особый
характер
имею т
религиозные
мо
тивы
и
да же
упом ина ние
бога
в
балладах:
здесь
бог,
как
и
дьявол,
—
герой
сказочного
мир а
очаровательных
приз ра к ов,
мира
фантастики,
в
к от орую
можно
не
верить,
но
кот ора я
мила
ду ше.
Все
в
балладах
—
не
как
в
жиз ни,
все
в
них
—
мечта,
сонь,
сказка:
и
черти,
и
ведьмы,
и
дьяволы,
да
и
сам
б ог.
Потому
в
них
нет
иной
раз
и
должного,
с
церковной
точки
з ре ния,
уважения
к
бог у
и
божественному.
Недаром
усердная
церковная
ценз ур а
так
прицеплялась
к
Жуковскому:
она,
ви
димо,
вовсе
не
сч ит ала
его
п одходящ и м
для
ее
целей
поэтом,
которому
можно
доверять.
В
самом
де ле,
Жуковский
написал
свой
шедевр,
балл аду
о
старушке,
так,
что
це нзу ра
зав олн о ва
лась:
как
же
так ?
Церковь,
бог
борется
с
чертом
за
душу
грешницы,
а
побеждает
ч ерт;
м ало
то го,
он
в ходит
в
хр ам
и
не
только
не
исч ез ает
при
в иде
креста,
но
все
в
церкви
оказы
вает ся
подвластным
ему;
такое
нару ше ние
основ
вер оу ч ения
церкви
могло
хоть
ко го
сму ти ть.
И
вот
балладу
запретили
в
Москве,
а
затем,
несмотря
на
пр ось бу
поэ та
к
А.
И.
Тургене
ву
п о сод ейст воват ь,
—
ив
Петербурге.
А
ве дь
А.
И.
Турге
нев
име л
св язи
в
церковном
упр авл ении.
Зате м
Жуковский
попытался
напечатать
б алла ду
в
«Московском телеграфе», но
цензор
оп ять
за пре тил
ее,
н ап и сав: «Баллада "Ст ар уш ка"
по д
лежит
запрещению,
как
пьеса,
в
которой
дьявол
т ор жест вует
над
церковью,
над
богом ».
Тогда
Жуковский
переделал
б алла
ду,
и
дьявол
больше
не
дерзал
в ойти
в
храм;
а
все
же
он
ост ался
победителем
и
по-прежнему
«торжествовал над церко
в ью,
над
богом».
Жу ко вский
нимало
не
раскаялся,
пыта лс я
бороться
с
цензурой,
читал
сво ю
ба лла ду
где
только
мог,
и
баллада
ход ила
в
списка х.
Его-то,
видимо,
нис ко лько
не
см у
щала
нечестивость
его
баллады,
и
для
него
эф фек ты
поэз ии
настроения
были
важнее
церковного
учения.
Да
и
сам ый
тон
бал лады ,
не
без
налета
улыбки,
вероятно,
не
мог
не
р азд ра
жат ь
цензуру.
А
в
каком
то не
Жуковский
сам
пис ал
о
св оей
ба лла де ! «A propos,
вчера
родилась
у
меня
еще
баллада-
п рие мыш,
то
есть
перевод
с
английского.
Уж
то-то
черти,
то-
то
гробы!
Но
это
последняя
в
этом
роде .
Не
думай,
чтоб
я
на
одних
только
чертях
хоте л
ехать
в
потомство.
Нет !
Я
знаю,
что
они
собьют
на
дороге,
а
признаюсь,
хо чу,
что б
они
мен я
к онво иров али»; а в стихах одной даме он писал:
65
Во
вторник
ввечеру
Я
буду,
если
не
умру
Иль
не
поссорюсь
с
Аполлоном,
Читать
вам
погребальным
тоном ,
Как
ведь му
чер т
ун ес,
И
напугаю
вас
до
слез.
Характерна
и
другая
цензурная
история
в
св язи
с
бал ла
дами
Жуковского,
история
запрещения
«Замка Смальгольм,
или
Ив ано ва
вечера».
Цензур а
опят ь
почуяла
недоброе
по
части
р ел игии
и,
усердствуя
не
в
меру,
запретила
б аллад у
из-
за
неуважения
к
це рк ви,
к
церковному
пр азднику
и
из-за
неуважения
к
хри сти а нск ому
раскаянию
и
монастырю,
о
кото
рых,
мол,
в
балл ад е
«упомянуто холодно,
с
равнодушием».
Исто р ия
эт а,
длинная
и
не
лишенная
трагикомических
черт,
б ыла
хорошо
резюмирована
Пушкиным
впоследствии: «В
славной
ба лла де
Жуковского
назначается
свидание
нака ну не
Иванова
дня;
цензор
наш ел,
что
в
такой
великий
праз д ник
грешить
непр ил ичн о,
и
никак
не
желал
пропустить
б алла ды
Вальтер-Скотта»
(VII, 647).
Жу ков ско му
пришлось
«подправить»
балладу,
зам ен ив
Иванов
день
Дункановым
днем;
видимо,
обидеть
шотландского
с вято го
цензу ра
сог ласи
лась;
но
обиду
святым
она
все
же
упорно
в
балладе
чуяла.
Вся
совокупность
характерных
черт
поэзии
Жуковского
восходит
к
единой
основе,
которая,
как
ук азан о,
и
есть
идея
его
стиля.
Эта
идея
сама
по
се бе,
будучи
е дино й,
б ыла
проти
воречива
внутри
с ебя.
С
одной
стороны,
это
бы ло
бегс тв о
от
ж изни
в
идеализм,
в
субъективное,
в
мир
мечты;
это
было
бегс тво
от
жизни
именно
потому,
что
за
по эзи ей
Жуковского
стоял
страх
перед
социальной
действительностью
и
не при ятие
ее.
Это
бы ло
бегство
от
р еальн ост и
крестьянских
в олне ний
в
России
и
Французской
революции
за
ее
пределами.
Это
был
отказ
от
борьбы
и
примирение
путем
этого
отказа.
Но
это
же
было
и
бегс тв о
от
с оциа л ьной
действительности
Фотия
и
Аракчеева,
кнута
и
крепостного
права,
от
реал ьн ост и
удушения
народа
и
его
тв орч ески х
си л,
бегство
робкое,
во
имя
спа се ния
само го
себя,
и
все
же
обусловленное
неп р иятие м
этого
мира
торжествующей
неправды.
Это
и
бы ла
другая
с торон а
вопроса.
Известно,
что
поэзия
Жуковского
в
общ ем
меланхолична,
хотя
в
«жизни»
он
быв ал
очень
весел,
любил
пошутить
и
по с меятьс я.
Поэзия
звучала
в
этом
о тно шении
меланхолией
б езн ад ежност и
не
личного
поря дка .
Сосредоточенная
в
се бе,
поэзия
Жуковского
именно
это й
своей
сосредоточенностью
вы ража ла
тоску
по
хорошему
миру,
—
потому
что
она
выра
жа ла
н евозм ожн ост ь
жизни
в
дурном
ми ре.
Мечта
о
счастье
66
—
это
был а
печаль
о
том.
что
счастья
в
жизни
нет.
Уходя
от
мира,
поэзия
Жуковского
ос уж дала
мир
как
он
ес ть.
Отс юда
и
тяг а
Жуковского,
как
и
некоторых
его
зап ад ных
пр едшес твен
ников,
к
символике
печали,
безнадежности,
умирания.
П ейзаж
Жуковского
—
это
ночной
или
вечерний
пейза ж,
могила
—
его
типический
признак;
ярк ий
солнечный
день
—
образ,
чу ж
дый
Жуковскому;
так
по том
и
Тютчев
ск ажет ,
глубоко
чувствуя
соц иа льн ую
тр агед ию
пессим изм а:
О,
как
пронзительны
и
дики,
Как
ненавистны
для
меня
Сей
шум,
д виженье,
говор,
кли ки
Младого,
пламенного
дня! ..
О,
как
лу чи
его
ба гров ы ...
и
т.
д.
И
здесь,
в
характерном
отборе
о б разов
—
типическая
черта
метода
Жуковского.
Пр ир ода
—
отблеск
его
души;
печ аль
души
—
умирание
дн я,
умирание
яркой
жизни
приро
ды;
в ыбор
пейза жны х
тем
—
оп ять
интроспекция
в
образах
природы.
Ит ак,
п роти воре чие
был о
скрыто
в
сам ом
бе гств е
от
ре
альности
в
интроспекцию.
Это
же
противоречие
мо жет
быть
сформулировано
иначе.
Стиль
Жуковского,
с
одной
стороны,
был
формой
мировоззрения
идеалистического.
Он
отрывал
че ло века
от
связей
с
исторической,
социальной
д ейс твител ь
н ос тью;
он
ви дел
в
человеке
душу,
и
только
душу,
н ичем
не
порожденную,
са му
себя
движ у щую.
Великую
проблему
чело
века
и
общества
он
решал
в
том
смысле,
что
реальность
—
это
только
человек,
личность,
индивидуальность;
общество
—
это
лиш ь
с тих ийный
ко нгл оме рат
людей,
а
не
систе ма .
Сти.\ь
Жу ко вс кого
—
это
бы ла
опасность
со л ипсиз ма,
тяго те вше го
и
над
Фихте
и
еще
над
Шеллингом.
Соединение
субъективного
идеализма
Фихте
с
эмпирическим
и
скептическим
идеализмом
Юма
может
бы ть
пр инят о
как
философская
формула,
соответ
ствующая
историческому
смыслу
философии
поэзии
Жуковско
го.
Но,
с
другой
ст ороны ,
сти ль
Жуковского
в
сво ем
психо
логическом
идеализме
поставил
во
гла ву
мир а
человека,
лич
ность
—
и
это
была
борьба
за
свободного,
хотя
бы
в
идее,
человека.
Э тот
стиль
был
бегством
от
Фран цузс к ой
рево лю
ции.
опозоренной
цезаризмом,
и
он
был
идеализмом
и
солип
сизмом
в
пределе
своего
развития.
Но
он
был
и
бегством
от
подлой
реальности
крепостнических
порядков,
и
он
был
одним
из
проя вл е ний
культа
свободной
личности,
вооружившего
Ев
роп у
д. хя
борьбы
с
феодализмом.
61
При
мыс ли
велико й,
что
я
человек,
Всегда
возвышаюсь
душою,
пис ал
Жуковский
в
го дину
в ел иких
битв,
в
1813 году,
в
одном
из
своих
самых
«неземных», идеалистических стихотво
рен ий
«Теон и Эсхин», —
и
это
был
его
отклик
на
борьбу
народов.
Замкнувшись
в
себя,
Жуковский
провозгласил
себя,
человека,
всякого
че лов ека
—
мерой
вещей
и
це лью
ми розд а
ния.
Он
видел
весь
мир
через
личность
и
тем
делал
личность
свои м
божеством.
Это
и
был
романтизм
в
одном
из
его
ас пек
тов ,
но
в
сам ой
под линной
и
единой
его
сущности.
Прогрес
сивность
романтической
иде и
личности
в
частном
случае
Жу
ковского
была
мистифицирована
и
опосредствована
и
пасс ивно сть ю,
и
смирением,
и
уходом
в
мечту.
Но
стиль
оста
вался
сам им
собой
и
нес
в
се бе
св ою
освободительную
направ
ленность.
А
ве дь
когд а
говоришь
о
Жуковском,
дело
именно
в
стиле,
потому
что
именно
ег о-то
и
пр инес
с
собой
Жуковский
как
открытие
и
этап
в
русскую
литературу.
Вед ь
он
уж
очень
неоригинален
тематически,
—
ио
любви,
и
о
печ а ли,
и
о
смерти,
и
о
над ежд е
бессмертья
много
писали
и
до
него,
и
«Сельское кладбище»
Гре я
не
о дин
раз
переводили
до
него,
и
ба лла ды
писали
до
него.
Но
о
человеке
как
центре
мира,
в
э том
освобождающем
плане
—
и
в
отрыве
от
все го
«внешнего» —
так
до
него
не
п исали .
И
несмотря
на
то,
что
в
поэзии
романтизм
в
России
складывался
зад ол го
до
Жуков
ского,
именно
он,
и
только
он,
с
такой
полнотой,
и
силой,
и
глубиной
выразил
в
русских
сти хах
его
суть.
И ндивиду али зм
и
субъективизм
—
это
и
есть
эта
суть,
в
применении
к
вопросу
о
человеке
(о другой,
второй
стор он е
романтизма,
также
про
являющей
его
смысл
как
стиля
ко нкр етн ой
субъективности,
но
в
иной
про бл ем а тике,
ре чь
ниже).
Ко неч но
же,
романтизм
—
это
вов се
не
фантастика,
не
сказочность,
не
мечта.
Люд и
ме ч
тают
в сегд а,
и
тогда,
когда
они
пишут
и
читают
реалистиче
ские
пр о из вед ения;
фантастика
и
сказочность
вовсе
не
чужд ы
реализму,
—
и
у
Г ого ля,
и
у
Щедрина,
и
у
М.
Горь кого.
Все
это
относительно
внешние,
производные
признаки.
Роман
тизм—
это
стиль,
увидевший
мир
че рез
во сп рия тие
индивиду
альности
и
не
пожелавший
увидеть
индивидуальность
через
социальную
историческую
закономерность,
создавшую
ее;
романтизм
—
это
стиль ,
увидевший
и
в
народе
индивидуаль
ность
и
душу,
ро жд ающую
исторические
факты,
но
не
рож
денную
ими;
это
стил ь
эпохи
буржуазных
революций,
заявив
ши й,
что
человек
должен
бы ть
свободен
от
всег о,
даж е
от
общества
и
истории,
и
не
понявший,
что
такая
с воб ода
—
это
оправдание
нового
рабства.
Романтизм
—
это
метод
ви де ния
68
ми ра
и
понимания
общества
и
человека,
а
не
от бор
тем
(хотя
отбо р
тем
и
определяется
методом).
Ром антиз м
может
изоб
ражать
и
домашний
халат,
и
мелочи
быта,
например,
у
Э.-Т.-А.
Гофмана,
например,
у
Н.
Полевого
и
многих
других,
—
так
же,
как
ре ал изм
мож ет
говорить
о
возвышенных
мечтах
человека.
Но
романтизм
видит
в
бы те
либо
проявление,
л ибо
помеху
личности,
не
выводит
личность
из
вне
ее
лежащ и х
у сло вий
истории
и
общества;
а
р еал изм
объяснит
субъективное
в
личности
объективным
миром
истории
и
об щест ва
даж е
тогда,
когда
он
будет
г овори ть
именно
о
личности
и
о
самом
высоком
и
интимном
в
не й.
Романтизм
и
реа лизм
—
это
два
мировоззрения
в
искусстве,
вытекающие
из
двух
эта пов
разви
тия
общества
и
человечества,
а
вовсе
не
больш ее
или
меньшее
желанье
и
уменье
гов орит ь
правду
о
внешних
фактах
жизни,
большее
или
меньшее
уменье
«похоже»
изо бр аз ить
жи знь;
романтизм
и
р еали зм
—
это
разные
типы
понимания
жиз ни,
а
не
личн ые
особенности
манеры
художника.
Гегель
утверждал,
что
бы то вая
флам ан дс кая
живоп и сь
—
это
не
реал изм ,
а
ро
мантизм.
—
а
ведь
он,
гениальный
ро ма нтик,
понимал,
что
такое
романтизм;
он
п ояс нял
свой
т езис
тем ,
что
глубо кая
суть
фламандской
живописи—вовсе
не
изображение
объективной
жизни,
быта,
а
чувс т во
гордости
нации,
победившей
жизнь,
ов ла дев шей
в не шними
благами,
что
суть
здесь
в
переживании,
настроении,
которому
полностью
подчинена
внешняя
реаль
ность,
ис чезающ ая
как
самостоятельная
си ла,
и
реальность,
поглощаемая
субъективным
торжёством
свободы
духа
худож
ника.
А
ведь
Гегел ь
дал
определение
романтизма,
и
чре з вы
чайно
глубокое,
и
сейчас
нуждающееся,
пожалуй,
гл ав ным
об раз ом
лишь
в
дополнениях
и
истолкованиях,
исходящих
от
социально-исторического
объяснения
его
су щнос ти.
Он
пис ал
о
р омант и зме
т ак : «Мы можем поэтому вкратце формулировать
третью
ступень
искусства
(романтическую
—
Г.
Г.)
следую
щим
образом:
на
эт ой
с ту пени
предмет
искусства
составляет
свободная
конкретная
духовность,
кот ора я
в
качестве
тако
вой
духовности
д олжна
предстать
в
яв ле нии
внутреннему
ду ховн ому
оку.
Искусство
соответственно
характеру
этого
предмета
не
может,
с
одной
стороны,
работать
для
чувственно
го
созерцания.
Оно
может
работать
толь ко
для
просто
сл и
вающейся
с
ее
пре дме то м,
как
с
самой
собою,
внутренней
душевной
жиз ни,
для
субъективной
задушевности,
для
сердца,
чувства,
которое
в
качестве
духовного
чувства
стремится
к
свободе
в
самом
се бе
и
ищ ет
и
до сти гает
свое го
примирения
лишь
во
внутренних
глубинах
д уха.
Это т
внутренний
мир
составляет
предмет
романтизма,
и
пос л едний
поэ то му
н еоб хо
69
дим о
должен
изображать
его
внутреннюю
жизнь
как
т ак овую
и
в
видимости
та к овой
задушевности.
Мир
души
торжествует
победу
над
в неш ним
миром
и
являет
эту
победу
в
пределах
само го
это го
внешнего
мира
и
на
самом
этом
мире,
и
вследст
вие
этого
чувственное
явление
обесценивается.
Но,
с
другой
стороны,
и
эта
форма,
как
всякое
искусство,
нуждается
для
своего
вы р ажения
во
в нешн их
средствах.
Так
как
духо внос т ь,
покинув
это т
вне шний
ми р,
отказавшись
о^
прежнего
непосредственного
единства
с
последним,
у шла
в
с ебя,
то
внешне
чувственное
оформление
воспринимается
и
изображается,
как
в
символическом
искусстве,
чем-то
нес ущ е
ственным,
пре ходя щ им,
и
равным
обр азо м
субъективный
ко
не чный
дух
и
субъективная
воля
воспринимаются
и
делаются
предметом
художественного
изо б ра жения
вплоть
до
ч аст ных
проявлений
и
индивидуального
п роиз вола ,
до
капризных
черт
характера,
поступков
и
т.
д.,
индивидуальных
событий,
ос лож
нений
и
т.
д.» 28.
Гегелевское
определение
романтизма
как
нельзя
более
подходит
именно
к
романтизму
Жуковского,
вообще
к
тому
аспекту
или
течению
романтизма,
кот орый
можно
характеризо
вать
как
психологический
рома н тиз м.
В
самом
деле,
вместив
весь
мир
в
индивидуальную
душу
человеческую,
романтизм
Жуковского,
К ар амз ина,
Тика,
но
в
значительной
степени
и
Байрона,
и
Шелли,
и
Эдгара
По,
с
другой
стороны,
открыл
кон кре тну ю
живую,
мно го гр анну ю,
противоречивую,
и
все
же
единую
человеческую
душу.
Поглотив
объективный
мир
в
субъективности,
романтизм
выдвинул
са мый
су бъек т
в
качестве
ед инст ве нно го
объ екта
изучения
и
изображения,
—
и
су бъ ект
предстал
ему
не
как
идея,
а
как
сложный,
живо й
и
вполне
реальный
психологический
организм.
Это
было
открытие
ново
го
психологического
ан ализ а,
нового
потому,
что
он
вп е рвые
был
вполне
индивидуален
и
конкретен,
—
и
не
сх ем ати зи ровал
душу
человеческую,
а
показывал
ее
образно
единой
в
многооб
разных
проявлениях.
Это
открытие
бы ло
направлено
против
ди сцип ли ны
классицизма,
игнорировавшей
конкретную
ли ч
ность,
—
потому
что
передовые
романтики
увидели
в
ней
дисциплину
феодального
угнетения.
В
самом
деле,
некогда,
в
се р едине
XVII века во Франции и в начале XVIII
век а
в
России,
классицизм,
подч ин яя
феодальную
разрозненность
и
дурную
независимость
отдельных
сословных
и
географических
частиц
нации
единой
дисциплине
иде и
государства,
права,
28 Гегель,
Сочинения,
т.
XII (Лекции по эстетике,
кн.
I), М.,
1938, ст р.
85.
70
долга,
норм ы
вооб ще ,
по д чиняя
все
частное
общему,
конкрет
ное
—
идеальному
пон ятию,
классицизм
выступил
как
стиль
пе ре до вого
то гда
абсолютизма,
стиль
объединения
националь
ных
сил,
организации
государств,
как
мощ ных
механизмов
единой
национальной
истории,
стиль
созидающий;
он
игнори
ровал
чело век а
во
имя
государства,
—
хо тя
бы
оно
был о
фео
дальным
государством,
—
все
же
во
имя
единства
нации
и
ее
побед.
Но
эти
вр еме на
прошли.
Феодализм
выявился
и
в
абсолютистской
форме
в
сво ей
реакционной
роли
уже
к
се ре
дине
XVIII века,
—
и
абсолютизм
уже
не
мог
бы ть
во с при
нимаем
как
орудие
объединения,
а
обнаружил
сво е
ка че ство
орудия
подавления
народа.
Человек,
героически
отрекавшийся
от
самого
себя
во
имя
идеала
государства,
понял,
что
его
за
ставляют
отрекаться
от
св оих
прав
не
во
имя
и деи,
а
во
имя
факта
феодального
государства,
во
имя
власти
помещиков
и
их
монарха
(таких же людей и личностей)
над
миллионами
людей
(таких же личностей) .
Ра ньше ,
во
времена
Расин а
или
Фео
фан а
Прокоповича,
ид ея
ос лепл ял а;
она
каз алас ь
реальнее
частного
случая
своего
проявления,
идея
государства
ценнее
и
реальнее
нищ ей
страны,
иде я
гражданина
важнее
и
действи
те льн ее
любого
Жана,
Пь ера,
Ивана
или
Петра.
Теперь
ока
за л ось,
что
это
—
об ман,
что
фикция
абстрактной
идеи
об
ще го
—
это
не
реальность,
а
туман,
н апу ще нный
Жаном-
помещиком,
короле м,
попом,
чтобы
по дчини ть
себе
Жана-
буржуа
или
крестьянина.
Ра ньше
Расин
пел
не
о
человеке,
ибо
для
не го
человек—
это
прах
и
фи кци я,
а
о
иде е
человека,
о
его
долге
и
праве.
Тепе рь
Руссо
сказал:
пусть
гибн ет
предпи
са ние
дол га
и
права,
губящее
человека
и
обманывающее
его .
Жан-крестьянин
—
такой
же
человек,
как
Жан-король,
а
г осу дарст во
—
это
не
идея,
а
только
удо бн ая
для
всех
Жанов
форма
общежития;
нет
абстрактных
идей,
а
ес ть
е динич ные
ве щи,
люд и,
чувства.
Они
—
реальность,
рад и
них
надо
дей
ствовать
и
творить.
Пуст ь
они,
то
есть
прежде
всего
о тдел ь
ные
люд и,
живут,
как
каждый
хочет,
пу сть
они
б удут
аб со
лют но
свободны.
С
этой
ко нц епцие й
и
был
связан
романтизм.
Но
это
б ыла
буржуазная,
ограниченная
в
своей
су ти
ре вол ю
ционность.
Она
требовала
абсолютной
своб од ы
личности
и
тем
самым
не
признавала
в
человеке
ничего
общественного,
объединяющего
его
с
другими
людь ми,
кроме
борьбы
за
лич
ное
счастье,
кроме
в ражд ы,
ко нкур е нции.
Она
видела
в
чело
ве ке
только
личность.
В
государстве
она
видела
арифмети
ческую
сумму
личностей,
но
не
соотношение
со циал ьны х
массивов.
Абсолютная
сво бо да
личности
—
это
бы ло
призна
ние
независимости
личнос ти
от
истории,
от
нар о да,
от
класса,
71
от
со циа льны х
си л,
определяющих
ее.
Буржуазная
революци
онность
требовала
предоставления
человеку
права
владеть
всем,
что
в
нем
есть,
—
и
всем ,
что
у
не го
есть.
Ви дя
в
чело
век е
только
индивидуального
хоз яин а
своей
и нди ви дуальн ой
жизни,
она
не
хотела
и
не
могла
увидеть
и
в
его
капитале
ничего
другого,
кроме
его
личной
судьбы,
абсолютно
ему
при
надлежащей.
Признать,
что
о дни
люд и
богаты,
а
други е
бед
ны
п от ому,
что
так
несправедливо
устроено
общество,
индиви
д уали зм
не
мог ,
ибо
он,
отвергая
юридическое
подч ине ние
человека
человеку,
не
хотел
видеть
предопределенности
каж
дой
отдельной
личности,
ибо
он
был
формой
мышления
рож
дающегося
капиталистического
общества.
И
романтизм,
исхо
див ший
из
культа
абсолютно
свободного
человека,
не
мог
не
замкнуться
только
в
душ е
человека,
не
мог
не
отречься
от
«внешнего»,
объективного
понимания
человека,
потому
что
пр из нание
связей
человека
с
внешним
миром
бы ло
бы
призна
нием
его
подчиненности,
хотя
бы
относительной,
чему-то
вне
его
индивидуальности,
по дч иненн ос ти
истории,
социальной
действительности
и
т.
д.
Мы
знаем,
что
человек,
личность,
оставаясь
индивидуальностью
и
воздействуя
на
ход
ис тор ии,
предопределен
историей,
предопределен
в
характере
своей
личности
социальной
объективностью.
Для
нас
св обод а
лич
ности
—
не
есть
игнорирование
необходимости,
образуемой
объективным
для
личности
миром,
—
но,
наоборот,
есть
по
зна ние
ее.
Романтическое
же
мышление,
выросшее
на
базе
идей
б уржу азно й
революции,
хочет
видеть
че лов ека
ничему
не
подчиненным,
ничем
не
предопределенным,
а
зн ач ит,
может
видеть
его
ду шу
и
только
ее.
—
и
не
м ожет
объективно
объ
яс нить
эту
душ у.
Показать
д ушу
л ично сти
как
часть,
элемент,
проявление
объективного
мира
—
это
значило
бы
поставить
вопрос
о
то м,
что
общество,
история
форми руе т
людей,
чт о,
следовательно,
лю ди
—
не
абсолютно
свободные
индивид у
альности,
а
это
значило
бы
вы двин уть
проблему
социальных
единств,
клас со в,
законов
истории,
а
это
рушило
бы
все
устои
мышления
буржуазного
мира,
ру шило
бы
«оправдание»
то го
капиталистического
мира,
кото рый
во
времена
романтизма
созревал
под
знаменем
меч ты
об
освобождении
человечества
от
фе од а льных
пут.
Да
и
нельзя
бы ло
в
те
времена
думать
о
силах,
определяющих
человека:
шла
борьба
меж ду
силами
феодализма,
сковывавшими
человека,
и
буржуазной
свободой,
то гда
пр огр ес сивной;
признание
несвободы
человека
тогда
могло
звучать
как
признание
феодализма,
а
несвобода
капита
лизма
еще
не
бы ла
прояснена
исто р ией,
—
и
его
иде и
форми
ровали
иде и
революции
даже
в
России,
где
сам а
буржуазия
не
72
хотела
революции.
Иное
де ло
—
потом,
когда
капитализм
окончательно
выявился
как
новый
вид
угнетения.
Тогда
пере
довая
мысль
чел овеч ест ва
увидела,
что
абсолютная
свобода
личности,
провозглашенная
бу ржу азн ой
революцией,
—
фик ци я;
тогда
расп ал ся
романтизм,
или
же
он
сделался
идео
логией
реакции.
Так им
образом,
романтическая
интр о спек ция
была
одной
из
идеологических
и
эстетических
форм
прогресса
в
условиях
бур жуаз ных
р ев олюци й.
Поэ том у
и
с тил исти ка
Жуковского
б ыла
поэтической
фо рмулой
передовой
мысли
эпохи
буржуа з
ных
революций;
поэтому
и
Растопчин
подозревал
Жук овс ко го,
которого
он
знал
ведь
только
по
стихам,
в
якобинстве,
а
Ка
р амз ина
реакционеры
упорно
сч ита ли
русским
Сийе со м.
По
этому
же
и
Пушкин
в
годы
юн ос ти,
Пушкин
—
декабрист
с кий
поэт,
мог
и
должен
был
быть
учеником
Жуковского
в
поэзии
—
потому,
что
он
видел
в
нем
более
глубокую
сущ
ность,
чем
поверхность
его
резиньяции
и
покорности.
В
русском
романтизме,
—
если
мы
по ка
будем
говорить
о
его
психологическом
аспекте,
—
глав ны м
было
тогда
име нно
объективно-прогрессивное
н ач ало,
открытие
и
культ
конкрет
ной,
противоречивой,
всеобъемлющей
индивидуальной
психи
ческой
жизни,
—
а
не
идеалистическая
ограниченность
эт ого
культа.
И
это
открытие
определило
не
только
в ел икие
завое
вания
психологического
романтизма
в
области
так
сказать
технической,
—
например
завоевание
огромной
г лу бины
смыс
лов
в
семантике,
в
слове
у
Жуковского.
Это
открытие
бы ло
необходимым
накоплением
и
этапом
для
будущего
реализма.
Реализм
отвергнет
субъективизм
романтиков;
он
вывед е т
субъективного
чело век а
из
объективного
мир а
ист ор ии
и
об
щества.
Но
кого
он
выведет?
Ведь
не
абстрактную
схем у
классицизма,
а
им енно
т ого
живого
и
конкретного
человека,
того
единого
психологического
человека,
д ушу
которого
он
унаследовал
от
психологического
романтизма.
Кар тина
внут
ренней,
психологической
жизни
человека
была
нарисована
романтизмом
конкретно;
д. ля
то го
что бы
создать
эту
картину,
Жуковский,
например,
создал
сложную
сис те му
семантики,
разрабатывая
ог ромны е
возможности
русской
по эз ии.
Все
это
богатство
пошло
в
д ело
прогресса
литературы
и
не
подлежало
отмене
реализмом.
Это
было
уже
завоевано.
Реализм
до лжен
был
сд елат ь
и
сделал
другое:
он
обосновал
психологический
образ
человека,
унаследованный
от
Жуковского,
ст оль
же
конкретными
чер та ми
объективного
мира,
облек
его
плотью,
поместил
в
с оц иа льную
действительность,
в
историю,
—
и
о бъ яснил
его
характер
эт им
объективным
мир ом.
Он
по ст авил
73
проблему
с
головы
на
ноги.
Он
вз ял
человека
романтизма
со
в сей
сложностью
его
психики
и
поместил
его
вместе
с
его
душой
и
всем
миром
ее
—
в
объективный
мир ,
—
и
объек
тивный
мир
ок а зался
основой
и
человека
романтизма,
и
его
души,
и
того ,
как
в
ней
отразился
весь
мир.
Он
объяснил
да же
сам ого
романтика
историей
и
обществом.
Он
о бъ ективи
ров ал
субъективное
романтизма,
сохранив
принцип
конкр ет
ности,
от к азавши сь
от
идеализма
и
индивидуализма,
но
сохра
нив
психологию
и
индивидуальность.
Реализм
отправлялся
от
романтизма,
х отя
и
перевернул
его
ос нов у.
И
Пушкин
не
от казал ся
от
на след ия
Жуковского
да же
в
1830-х
годах,
но
использовал
его,
включив
в
новую,
реалистическую,
систему.
Не
отказался
он
и
от
ст иля
Жуковского,
от
поэтической
фор
мы
с исте мы
Жуковского;
усвоив
завоевания
Жу ко вс кого
смо
лоду,
он
потом
изменит
их
соотношение,
сде л ает
их
лишь
элементом
своей
стилистической
системы,
но
сохранит
их.
6.
Жуковский,
преодолевший
ограниченность
семантического
рационализма,
п ок азал,
что
сло во
многозначно,
что
огромные
пласты
смы сл ов
мо гут
бы ть
выя вле ны
в
слове,
если
заста вить
идейно
звучать
в
нем
ассоциативно-эмоциональные
ряд ы
з на
чений,
есл и
ввести
в
эстетическое,
ид ейное
наполнение
слова
его
эмоциональный
и
к ульт урн ый
ореол.
Это
новая
система
по э тики,
глу б око
вы ражавш ая
романтические
тенденции
ми ро
во ззрен ия ,
была ,
конечно,
не
без
труда
и
сопротивления
пр и
нята
современниками,
привыкшими
к
рационально-точному
сло ву.
Их
восприятие
новаторства
Жуковского
и
его
ш колы
м ожет
пояс нит ь
ино й
р аз,
что
именно
б ыло
зд есь
ново,
так
как
мы
теперь,
через
сто
с
л ишним
ле т,
п ривык нув
к
строю
речи,
открытому
романтиками,
склонны
видеть
в
нем
нечто
исконно,
нормально
сво йстве нно е
н ашей
поэтической
речи,
склонны
не
замеч ат ь
романтические
нововведения.
В
1821 году,
когда
уже ,
казалось,
репутация
Жуковского
как
первоклассного,
ведущего
поэта
б ыла
прочно
установлена,
в
ж урна ле
«Невский зритель», издании достаточно культур
ном,
была
напечатана
статья
под
названием
«Письмо к г .
Марлинскому»
с
по д пись ю: «Житель Галерной Гавани» .
Ав
тором
э той
статьи
был
Орест
Сомов.
Ста тья
содержала
резкие
напад ки
на
Жуковского
именно
за
характернейшие
черты
его
стиля,
те
самые,
которые
явил ись
важным
и
плодотворным
74
открытием
его
как
передового
деятеля
р ус ской
лите ра туры .
В
частности,
Сом ов
подвергает
язвительному
разн осу
ба лла ду
Жуко вс ко го
«Рыбак», незадолго до этого перепечатанную из
сборника
(Для немногих»
в
«Сыне отечества» (1820, ч.
64,
No
36).
Сомов
полностью
отвергает
сис тем у
семантики
Жуковско
го,
его
принцип
эпите та ,
внутренне
соотнесенного
с
субъектом
более,
чем
с
объ ект ом,
использование
им
слова
как
эмоцио
н альн ого
камертона
и
преодоление
в
слов е
рационально -
предметного
терминологического
его
значения.
Он
цитирует,
например:
Сиди т
рыбак;
душа
п олна
Прохладной
тиш иной. ..
Это
уже
и звест ная
нам
у
Жуковского
прохлада,
да
к
то
му
же
еще
наполняющая
душу.
И
Со мов
возмущен:
"Душа
(должно догадываться .
—
рыб ак ова)
полна
прохладной
ти
шино й.
В
переносном
смысле
го вор ится,
что
восторг,
благого
в ение
наполняют
душу;
ибо
сие
свойственно
аналогии
сих
по
нятий
с
некоторыми
в идимы ми
действиями;
но
ни
тишине ,
ни
ш уму
не
пр иписы в ае тся
способность
напо лнять
душу.
И
что
за
качество
тишины
—
прохладная?
Поэтому
ес ть
и
теплая
тишина
и
зной ный
шум
и
т.
п .?» Сомов в полемическом
задоре
смыкается
с
то чкам и
зрения
классицизма,
и
его
зам еч а
ния
ок азывают ся
не ожи дан но
похожи
на
критические
за мет ки
Малерба
о
стихах
Филиппа
Депорта
и
на
к ри тику
Сумароко
вым
оды
Ломоносова
1747 года.
И
влажною
всплыла
главой
К расавица
из
них
(из волн .
—
Г.
Г.) .
«Как?
голова
красавицы
составлена
из
влаг и?
Теперь
мы
вид им,
что
она
была
по
кра йней
мер е
не
пуста;
и
если
она
б ыла
составлена
не
из
смольной
влаги,
то
должна
б ыть
про
зрач н а,
как
хрусталь.
Какая
выгода
иметь
подругу
с
так ою
головою,
все
видишь,
что
в
ней
происходит».
—
Любопытно,
что
мы
теперь
с
трудом
п они маем,
на
что
сердится
Сомов;
мет о нимиче с кий
сдв иг
значения
с лова,
произведенный
Жуков
ским,
настолько
вошел
в
язык,
что
нам
уже
трудно
о щути ть
ег о.
I лядит она, uutT ина:
«Зачем ты мой народ
Манишь,
влечешь
с
родн ого
дна
В
к ипучий
жар
из
во д?. .»
«Родное дно .
Что
за
странное
родство?
Доселе
мы
гова
ривали:
ро дин а,
родимая
сторона,
а
родного
дна
на
ру сск ом
75
языке
еще
не
бывало.
Верно,
какой-нибудь
не м ецкий
гость,
нежданный
и
незваный?
Хоро ш
и
кипучий
жар .
У
нас
жар
до
сего
вр ем ени
жег
и
п алил,
теперь
уж
он
кипит,
а
без
сомнения
скоро
запенится
и
заклокочет.
Ах!
е сли
б
знал,
как
рыбкой
жи ть
Привольно
в
глу б ине,
Не
с тал
бы
ты
себя
томить
На
знойной
выши не.
Где
эта
знойная
вышина,
г.
Сочинитель?
Я
думаю,
что
она
должна
на х одит ься
по
кр айней
мер е
подле
со лнца,
а
может
быть,
и
выш е:
как
же
туда
взобрался
бедный
наш
рыба к?
—
Он,
помнится,
все
еще
сидел
на
бер ег у».
Не
ч асто
ль
солнце
образ
сво й
Купает
в
лон е
волн?
Не
свежей
ли
горит
красой
Его
из
них
исход?
Не
с
ними
ли
свод
неб а
слит
Прохладно- голубой?
Не
в
лоно
ль
их
те бя
манит
И
лик
твой
молодой?
«...
Но
вот
вещи,
которые
певцу
Тилемахиды
и
во
сне
не
сн ились :
горит
свежею
красой',
не
правда
ли,
что
это
удиви
тельно
как
замысловато?
—
Пр ох лад но-г олу бой
св од,
не ба!
это
также
очень
замысловато.
—
Со
временем
мы
составим
новые
оттенки
цветов
и
будем
говорить:
ветрено-рыжий,
дождливо-желтый,
ме рз ло-с ин ий,
знойно-зеленый
и
т.
п .».
Пропускаю
написанный
в
том
же
духе
разб ор
еще
одной
стр офы .
Затем
Сомов
п иш е т: «Последние четыре стиха,
признаюсь,
для
ме ня
н икак
не
понятны:
Она
пое т,
она
ма нит,
—
Знать,
час
его
настал!
К
нем у
она,
он
к
ней
бежи т...
И
след
навек
пропал.
Кто
по ет
и
манит?
Какой
и
чей
настал
час?
Кто
он
и
кто
она
бе гут
друг
к
другу?
Чей
сл ед
навек
пропал?..
Это
так
же
понятно,
как
ответы
новой
Сивиллы
Ле-Норман,
и
потому
я
не
берусь
раз гад ыват ь ».
Здесь
нет
необходимости
говорить
об
эффекте,
пр оизв е
денном
статьей
Сомова,
о
полемике
по
поводу
нее,
о
том ,
как
Марлинский
отрекся
от
такого
«письма»
к
нему
и
т.
п.
Для
меня
суще ств ен
сам ый
характер
и
содержание
кр итики
Сомова,
уясняющие
смысл
новаторства
Жуковского.
Стоит
остановиться
еще
на
одной
ре цен зии,
напа даю ще й
на
Жуковского.
Это
—
«Письмо к Издателю», напечатанное
76
в
«Сыне отечества»
в
1820 году (ч .
62).
Здес ь
разб и рает ся
с ти хотв оре ние
Жуко вс ког о
«Узник».
Критика
возм уща ют
такие
вы ражен и я,
как
«подслушивает ее дыханье», «На век
грядущего
л ише н»; он бранит стихи:
Кто
след
ее
заб ытых
д ней
Ук аже т?
«Я уверен,
что
никто,
потому
что
нет
ничего
трудн е е,
как
указать
с лед
чьих-нибудь
забытых
дней .
Возвратившись
к
родным,
он
немою
грустию
встречает
сердечные
их
взгля
ды...
Вот
что
может
делать
Ге ний
из
нашего
языка.
Я
уверен,
что
немою
грустию
вст речат ь
сердечные
взг ляды
не
было
с каза но
ни
на
одном
языке.
Я
не
говорю
о
ки та йском ,
потому
что
не
зн аю
его;
но
он,
как
говорят,
изобилует
та кими
см елы
ми
(чтоб не сказать дерзкими)
выражениями».
Критик
п риво
дит
и
другие,
по
его
мнению,
неподобные
выражения:
«вольные облака», «жить весенним бытием», «пел голос» («до
сих
пор
голосом
пели»,
—
з амеч ает
критик), «молодая
жизнь». «Я
ничего
не
говорю
о
выражении:
небесно-тайное,
потому
что
это
для
ме ня
совершенно-непонятно».
Иронически
говорит
критик
о
стихах
Ж у к овск о го, «корифея русских поэтов
нашего
поколения,
гения,
которого
творения
долж ны
быть
предметом
народной
г орд ости
и
сладострастием
душ
вы со ких
и
чувствительных».
Нужно
отметить,
что
непр ияти е
с ист емы
сем а нтики
и
стиля
психологического
романтизма,
наиболее
отчетливо
прояв
ленных
у
Жуковского,
вовсе
не
бы ло
единичной
причудой,
например,
Сомова
1821 года .
Эго
б ыла
непреодоленная
при
вычка
к
стилистическому
мы шл ению
классицизма.
Ведь
и
сам
Сомов
был
одним
из
ранних
поборников
и
да же
теоретиков
романтизма,
впрочем,
д руг ого
кр ыла
его,
гра ж дан с кого.
Но,
приемля
и
приветствуя
романтизм
как
запрос
и
программу,
он
не
см ог
сразу
освоиться
с
новой
структурой
речи,
выросшей
име нно
из
того
же
романтизма,
и
лишь
потом,
позднее
пе
рестал
не
понимать
и
удивляться.
Лю ди
же
постарше
никак
не
могли
примириться.
Таков
анонимный
автор
весьма
любоп ыт
ной
статьи
«Мысли о Сумарокове и других писателях», печа
тавшейся
по
частям
в
«Отечественных записках» 1828 года,
архаический
старик,
сохранивший
вкус ы
классицизма,
органи
чески
неспособный
принять
пр инципы
новой
романтической
сист ем ы
с тиля.
Он
пишет,
на п ри м ер : «Прежние писатели,
соображаясь
с
свойствами
вещей,
старались
существительным
именам
их
давать
прил ичны е
прилагательные.
Они
реку,
на
пример,
н азывали
быстрою,
глубокою,
мелкою
и
проч.,
но
77
ни когд а
красноречивою,
ибо
она
не
ораторка.
Сад
наз ывали
они
или
цветущим,
или
увя да ющи м,
но
н иког да
онемевшим,
иб о,
ко гда
ему
несвойственно
говор ит ь,
то
и
нёму
быть
то
же...
Мы
не
находим
в
прежних
произведениях
ни
скромных
каменьев,
ни
душистой
тени,
потому
что
к амен ья
ни ко гда
не
бы вают
болтливыми,
а
тень
не
имеет
никакого
духа
или
запаха.
Ежели
бы
спросить
у
прежних
писа те ле й,
н азыва ли
ль
вы
лес,
г ору
или
тому
подоб ное
родными?
Нет,
ск азал и
бы
он и,
мы
называли
сим
именем
отца,
ма ть,
бр ат ьев
и
п р.,
или
что-
н ибудь
важное,
например,
страну
(вместо отечество) ...
Ежел и
бы
спросить
у
них:
а
говорили
ль
вы
святой
полдень,
святые
травы
и
то му
по добн ое?
Нет,
отвечали
бы
они,
мы
при
употреблении
сег о
им ени
на блюда ли
приличие
вещей».
Выше
тот
же
критик
н ап адает
на
сти х : (воды) «Дремали
мертвым
сном
в
б езм олвн ых
берегах...», потому что «Дремота
есть
са мый
ле гкий
сон
ил и,
лучше
сказать,
только
позыв
на
о ный,
и
потому
не
сродно
дре ма ть
мертвым
сном...
Бер е га,
по
ра з лич ному
составу
своему,
могут
б ыть
пологие,
крутые,
песчаные,
каменистые
и
пр .,
но,
кажется,
называть
их
без
молвными
или
длинными
нет
б ольш ой
красоты».
Крити к
усматривает
в
современных
романтических
стихах
стремленье
подбирать
«льстящие слуху звуки» «и ли
выискивать
несвязан
ные
непосредственно
с
в ещию
самые
отдаленнейшие
подобия».
Он
нападает
на
стихи
(Вяземского « Пе р вый
снег »):
Кто
мож ет
выразить
счастливцев
упоенье?
Как
вьюга
легкая,
их
окрыленный
бег
Браздами
ровными
раэрезывает
снег
И,
ярким
об лак ом
с
земли
его
взвевая,
Сребристой
пы лию
окидывает
их.
С теснилось
время
им
в
од ин
крылатый
миг ;
По
жизни
так
скользит
горячность
мо лода я.
Эти
стихи,
по
его
м н ен и ю, «слишком кудреваты».
Он
сч ита ет,
что
нел ьзя
ск азат ь
«бег счастливцев», так как слово
бег
относится
к
лошадям,
стало
быть,
они
названы
сч аст ливца
ми.
«Слово вьюга,
равно
как
и
подобное
ему
вих рь,
происхо
дит
от
глагола
вью
и,
следовательно,
о зна чает
силу
ветра
в ь ющуюся,
вертящуюся
кругами.
По
сей
причине
ко нс кий
бег
не
может
б ыть
уп одоб ляе м
ей
ни
движением
своим
(прямым),
ни
ра зрезы вани ем
снега,
ибо
она
н иког да
его
не
разрезывает,
но,
напротив,
всякие
на
нем
следы
заметает,
и
потому
иначе
называется
мят е лиц ею.
Пр итом
же
прилагательное
легкая
ни
к
ней,
ни
к
вихрю
нейдет;
ибо
действие
сего
верчения
не
мо
жет
бьггь
малою
силою
прои з вод имо.. .
Мы
не
смели
вводи ть
в
сочинения
н аши
таких
переутонченных
м ыс лей,
каковы
суть:
78
стеснить
время
в
од ин
крылатый
миг,
или :
мол одая
горяч
ность
скользит
по
жизни,
и
т ому
подобных.
Нам
нико гда
бы
не
пришло
в
г олову
катанье
на
сан ях
уподобить
катанью
моло
дой
горячности
по
жи зни ».
В спо мним
зде сь,
что
Пушкин
люби л,
высоко
оценивал
и
зн ал
наизусть
«Первый снег»
Вя
земского.
Или
в
другом
мест е: «Прежние писатели,
прочитав
сти
хи:
И
ду му
перв ую,
и
первый
вздох
зажег,
В
победе
чистыя
любв и
пр ияв
залог,
—
ска за ли
бы:
правда,
мы
говорили:
воспламенить
любовь,
гнев,
страсть,
воображение
и
проч.,
но
нико гда
не
говаривали:
за
же чь
душу,
заже чь
вз дох ».
Даж е
Плетнев,
почитатель
поэзии
Жуковского
и
дру г
ег о,
еще
в
1823 году не мог примириться с некоторыми нов
шествами
его
стиля.
В
статье
«Путешественник,
стихотворение
Ге те
в
переводе
Жуковского»,
напечатанной
в
«Журнале
изящных
искусств» 1823года(кн.
II), весьма хвалебной и по
отношению
к
Гете,
и
по
отношению
к
Жуковскому,
он
все
же
делал
некоторые
критические
замечания
о
стиле
перевода,
именно
в ыр ажающ ие
его
неприятие
«крайностей»
с ема нти
ческой
системы
последнего;
например:
...
Тот
в
сладком
ч увс тве
бытия
Земные
дни
вкушает...
«Последний стих слишком изыскан.
Мы
г овор им:
в ку
ша ть
радость,
но
вкушать
дни
(особенно после выражения:
в
с ладк ом
ч увс тве
бытия,
которое
озн ач ает
приятную
жиз нь)
совсем
не
употребительно»
и
т.
д.
Из
приведенных
только
что
цитат
видно,
что
современ
ный
критик-архаист
объединял
в
своем
сознании
новаторские
принципы
стиля
Жуковского
и
других
поэтов,
так
сказать
Арзамасского
круга,
что
для
не го
все
они
был и
представителя
ми
едино го
ли т ера турн ого
те ч ения.
И
как
ни
наивен
был
эт от
критик
в
своем
не пон им ании
психологических
от кры тий
семан
тики
романтизма,
он
был
пра в,
считая,
что
все
арза масц ы-
карамзинисты
причастны
этом у
те ч ению
и
эт им
открытиям.
Жуко вс кий
—
чрезвычайно
индивидуальный
п оэт,
и
его
по
этическая
индивидуальность
не с ходна
с
поэтической
индивиду
альностью,
например,
Батюшкова,
или
Милонова,
и ли,
скажем,
м ол одого
Лажечникова,
или
Вяземского,
или
других
поэтов
1810-х
годов,
а
все
же
все
эти
поэты
—
представители
одного
направления
в
искусстве,
ка к,
например,
и
Буало
и
Ра син
б ыли
не
похож и
друг
на
друга
в
своих
индив ид уа льн ых
чертах,
а
все
79
же
бы ли
поэтами
еди ной
ш колы
классицизма.
Тут
над о
разли
ча ть
э пигоно в
и
поэтов
самостоятельных,
но
творивших
в
том
же
стиле,
что
и
Жуковский.
Огромный
успех
Жуковского
привел
к
появ л ению
большого
чис ла
подражателей
и
подража
ни й,
и
это
понятно,
потому
что
Жуковский
воплот и л
в
своих
стихах
ве сьма
глу бо кие
процессы
общественного
сознания
своего
времени.
Какой-нибудь
Сал ар ев
в
1821 году уже дово
дит
поэт ику
Жуковского
до
предела:
Ве тр
спит:
усталый
пруд
недвижим,
как
стекло,
И
дремлю т
бе рега,
насупясь
над
водо ю...
и
т.
п.
^«//очь» . «Вестн ик
Европы ». 1820.
май.
No1 0)
Какой-нибудь
Склабовскии.
харьковский
поэт,
человек
не
без
дарования,
повторял
в
сво их
стихах
Жуковского
и
воспевах
его
ба.лхады.
откровенно
следуя
учителю
(".Оп ыты
в
стихах»
Ахександра
Склабовского,
Ха рь ков , 1819).
Грамматик
пишет
"русскую балхаду» "Услад и Всемила», так же совсем,
как
Жуковский,
хот я
еще
тогда,
когда
Жуковский
только
начинах
с вое
бахладное
творчество
("Досуги Грамматина», кн .
первая,
СПб.
1811); Яков Толстой пишет элегии в общем русле ка -
рамзинизма.
конечно,
нап ом ина ющие
Жуковского
("Мое
праздное
время,
и.хи
Собрание
некоторых
стихотворений
Як ова
Толстого», СПб, 1821): в "Трудах
студентов
любителей
от е
чественной
словесности
в
имп.
Харьковском
университете»
(Харьков, 1819) находим стихотворение И .
Зол ота рев а,
п рия-
те.хя
Склабовского,
—
"Певец», явное до неприличия подра
жание
"Бедному певцу»
Жуковского,
да
и
другие
стихи
сбо р
ник а
подражают
Жуковскому
(либо Батюшкову); Милонов в
стихотворении
"В.
А.
Жуковскому
на
получение
экземпляра
его
ст их от во р ени й», обращаясь к Жуковскому,
в ос соз дает
его
пейзаж
в
его
же
стиле
("Благонамеренный», 1818,
No
8).
Даже
"Беседчики»
отдали
дань
подражания
Жуковскому.
В
"Чтениях в беседе»
мы
найдем
то
бо.хьшое
стихотворение
Як.
Бередникова
"К поэзии», заключающее романтическое толко
вание
те мы
в
дух е
Жуковского
и
написанное
в
соответственном
стиле
(кн .
IX, 1813), то стихотворение П .
Корсакова
"К ро
дине»,
нечто
вроде
подражания
известному
Шатобрианову
"Combien j'ai douce souvenance», написанное совсем в стиле
Жуковского
(кн.
XIV, 1815): и даже человек совсем другого
поколения,
Д.
Г1.
Горчаков,
напечатал
в
"Чтениях»
весьма
романтическую
балладу
«Анне и Ахи» (кн.
I, 1811).
Нет
необходимости^
указывать
еще
пр имер ы
по др ажан ий
Жуков
скому.
тяну в шиес я
вплоть
до
ко нца
1820- х
годов;
см. ,
нап ри
80
мер,
стихотворение
Крюкова
«Могила
М.»
в
«Благонамеренном» 1822 года (ч .
XIX, No 29):
Чей
хол м
одинокий
под
ивой
густою
Таится
в
долине,
как
сирый
при шле ц?
Здесь
в
тихой
м огил е,
заросшей
траво ю,
С пит
юн ый
пе вец.
Уны лая
арфа
под
крепом
печали
Заб венн а
на
холм е
лежит
гробовом,
И
струны,
что
чувством
бессмертья
дышали,
Замо лкли
с
пев цо м...
—
и
т.
д.
или
стихотворение
Н.
Гре к ова
«Элегия»
—
тож е
о
мог иле
п оэта
—
в
«Дамском журнале» 1827 года ( No 14, июль).
Этих
подражаний
бы ло
много.
Явное
влияние
Жуковского
испытали
и
к руп ные
поэты,
например,
Гнедич
(см .
его
«Приютино», 1820).
Стоит
только
обратить
внимание
на
одно
обстоятельство.
Как
для
молодого
Пушкина
признание
Жуков
ского
учителем
не
противоречило
политическому
радикализму
и
поискам
поэтического
оформления
этого
радикализма,
так
же
б ыло
и
у
дру гих,
несравнимо
менее
одаренных
молодых
поэтов
1810- х
годов.
Подражание
Жу ко вс кому
(или даже Карамзину)
естественно
уж ивал ось
в
их
твор че с тве
с
нотами
политического
протеста,
с
декабристскими
на стр о ениям и.
Т ак,
например,
И.
И.
Лажечников
за нимае т
начало
своего
сборника
«Первые
опыты
в
прозе
и
стихах» (М.
1817) повестями в прозе,
непло
хими,
но
до
забавного
копирующими
по ве сти
Карам зин а.
За
тем,
после
раздела
афоризмов
(«Рассуждения»), также заклю
ча юще го
карамзинистские
се нте нции,
ид ут
стихи.
З десь
тот
же
сентиментализм
или
романтизм.
Первое
стихо тв оре ние
—
«Мои мечты», и концовка его такова:
Мечты
приятные!
Оп ять,
опять
летите:
Осы п ьте
розам и
ме ня
И
кистью
легкою
путь
жизни
отте ните.
Мечты,
друзья
со
мн ой;
мечтами
счастлив
я.
Здесь
моло дой
поэт
наивно
в ыр азил
самую
сут ь
на пра в
ления
Карамзина
—
Жуковского,
выра зи л
ее
с
помощью
стиля
Жуковского.
Но
вот
в
конце
книжки
—
«Послание к
В.
Д.
К.»
—
своего
рода
вариации
на
темы
послания
Карам
зина
к
Дмитриеву;
в
эт ом
послании
есть
но ты
политической
сати р ы,
а
в
о дном
месте
ок азал ись
замененными
точками
де
вять
строк.
Андрей
Ко зля н инов
предпосылает
своему
сборнику
«Урывки
времени»
(СПб.
1820)
стихотворение
«Предисловие», в котором после похвал писателям прошлого
81
века,
от
Ломоносова
до
Кост р ова,
он
перечисляет
св оих
лю
б имцев
и
учителей
—
современников;
сначала
ид ут
Дмитриев,
Капнист,
Крылов,
п от ом: «Жуковский,
Батюшков,
Воейков,
Пушкин
юный,
Л юби мые
пе вцы
счастливых
наш их
дней», и,
нак онец, «правдивый судия»
Греч
(в эти годы
—
жур на ли ст,
связанный
с
декабристскими
кругами); в том жеt
сборнике
Козлянинов
печатает
по эму
«Алико и Майла,
или
Похищение
негр о в», резко направленную против похищения негров рабо
торговцами,
поэтически
очень
сл абу ю,
но
политически
вполне
определенную
(она была издана и отдельно в том же 1821
году).
Так
же
Милонов
сочетает
гражданскую
сатиру
с
эл еги
ей
в
сти ле
Жуковского
(«Монастырь»), и Яков Толстой пи
шет
по сл ания
в
стиле
Жуковского
и
Батюшкова,
элегии
в
духе
Жуковского,
—
ив
том
же
сб ор нике
помещает
сатиры,
несколько
архаические,
но
гражданские
по
тону.
Да
и
адресаты
его
посланий
характерны:
Никита
Всеволожский,
Александр
Пушкин,
Федо р
Глинка.
Тол с той
намекает
на
лампу
(зеленую), —
и
на
виньетке
его
книжки
—
лира,
лампа
и
якорь;
он
хвалит
Шаховского,
в
это
время
не
чуждого
декаб
ристским
кружкам,
и
хвалит
его
за
помощь
в
освобождении
кр епос тно го
поэта
И вана
Сибирякова
(«Послание к Ф .
Гл ин
ке»); околодекабристский характер сборника Толстого («Мое
праздное
в ре мя») не вызывает сомнений (с м.
такж е
«Послание
к
Н.
В.
Всеволожскому»).
Мы
встретимся
еще
с
П.
Корсако
вым,
который
подражал
Ж уко вс кому
в
«Беседе», —
в
св язи
с
его
драматургической
ра бото й,
бл изк ой
передовым
по этам .
Г не дич,
напи са вший
«Приютино»
и
другие
стихотворения
в
духе
Жуковского,
был
п оэтом
декабристской
о ри ента ции.
Да
ве дь
и
Ры ле ев,
Кюхельбекер
отдали
дань
Жуковскому.
Конечно,
это
вовсе
не
значит,
что
поэт ичес к ое
течение,
к ру пне йшим
представителем
которого
был
Жуковский,
может
б ыть
отождествлено
с
декабристской
поэзией.
Без
всякого
сомнения,
Катенин,
Гр ибое д ов,
Кю хельб ек ер
1820- х
годов,
Гнедич
в
своих
лучш их
и
наиболее
принципиальных
произве
дениях ,
даж е
Рылеев
и
другие
вместе
с
ним и
шли
путем,
от
личным
от
Жуковского,
а
в
середине
20- х
г одов
окончательно
обна руж илос ь
их
стремление
противопоставить
себя
Жуков
скому
(у Катенина и Грибоедова,
как
и
у
Шаховского,
—
уже
с
середины
10-х
го до в).
Но
все
же
и
то
и
другое
течения
был и
ответвлениями
романтизма,
и
непроходимой
пропасти
меж ду
ни ми
не
б ыло,
хотя
и
б ыла
враждебность
у
наиболее
последовательных
с торон ников
обоих
тече ни й;
все
же,
хотя
Жуковский
ли чно
вел
себя
как
консерватор,
а
Катенин
был
радикалом,
прогрессивная
сущность
поэзии
Жуковского
яв но
82
чув ст вовалась
современниками,
и
объединение
тенденций
Жу
ковского
и
Катенина
было
возм ожн о
—
не
только
как
эклек
тизм,
а
как
органическое
единство.
Это
д ок азал,
пре жде
всего,
Пуш ки н,
уже
в
ко нце
1810-х
годов,
а
в
особенности
в
н ачале
1820-х
г одов
—
во ждь
русского
романтизма
в
обо их
его
тече
ниях.
Я
гов орил
только
что
о
подражаниях
и
п од ражат елях
Жу
ковскому,
от
крупных
поэтов
до
мелких
эпигонов.
Иначе
надо
понять,
например,
Б ат юшко ва.
Эго
не
ученик
Жуковского,
а
его
союзник.
Он
творил
одновременно
с
ни м,
сначала
не зав и
симо
от
него,
потом
в
русле
е дино го
те ч ения
литературы,
еди
ной
литературной
гр у ппы,
хотя
и
самостоятельно.
Он
менее
обязан
Карам з ин у,
хо тя
и
он
был
связан
с
его
школой,
но
он
вырос
на
почве
традиций
Муравьева,
учителя
и
единомышлен
ника
Карамзина.
Он
отличался
от
Жуковского
многим
—
и
несклонностью
к
туманной
«потусторонности», и предпочтени
ем
ясного
не ба
Итал ии
сумрачному
колориту
северных
стран,
и
античной
ми фол о гией,
избегаемой
Жук овс к им,
и
ясностью
композиции
своих
сжатых
стихотворений,
и
т.
д.
Но
и
его
Италия,
и
его
Греция
—
т акая
же
область
субъективных
меч
таний,
как
и
сказочный
мир
баллад
Жук овс ко го,
и
он
творит
свой
мир
из
самого
себя
или
же
заключает
весь
мир
в
сам ом
себе.
Его
я
имеет
д ругой
характер,
чем
я
Жуковского,
и
это
раз лич ие
принципиально,
но
принципы
романтического
су бъ ек
тивно-индивидуалистического
психологизма
—
и
для
него
основные
принципы
сознания
и
творчества,
и
идеологический
смы сл
их
в
основном
тот
же,
что
у
Жуковского.
Скепсис,
прикрытый
п оэ зией
на дежды
у
Жук овс к ого,
более
отчетлив
у
Батюшкова,
почитателя
Монтеня;
политический
пессимизм
Жуковского
приобретает
у
Батюшкова
более
резкие
черты,
но
и
здесь
—
раз ница
не
в
сущности
вещей,
а
в
различии
харак
теров,
человеческих
и
по этич еских .
Впрочем,
и
у
Бат юшк ова,
несмотря
на
его
«язычество», мы найдем немало вещей
—
и
центральных
для
него,
—
вы пол не нных
в
тонах
христианской
образности
(«К другу»
и
др .)
и
даже
резиньяции
(«Мой дух!
доверенность
к
творцу...»).
Стиль
Батюшкова
—
не
по вт оре
ние
стиля
Жуковского,
но
параллельное
и
аналогичное
созда
ние.
Пушкин
был
непр ав ,
когда
пор ица л
стихи:
Как
ландыш
под
се рпом
уб ий ственн ым
жнеца
Склоняет
голову
и
вя нет ...
(«Выздоровление» )
Пушк ин
з ам ечал
(это было около 1830 года): «Не под
серпом,
а
под
кос ою.
Ландыш
растет
в
лу гах
и
роща х
—
не
на
83
пашнях
засеянных» (VII, 575).
Конечно,
это
так,
с
точк и
зр ения
пушкинского
мир о по нима ния
и
ст иля
конца
20- х
годов,
уже
реалистического.
Но
с
точки
зрения
стиля
Батюшкова,
как
и
стиля
Жуковского,
это
не
так,
потому
что
здесь
и
ландыш
—
не
про сто
цве т ок,
и
серп
—
не
сельскохозяйственное
ору
ди е,
а
ландыш
—
символ
молодой,
н еж ной, «весенней»
жизни
и
поэзии,
и
еще
многое
дру гое ,
чисто
эмоциональное,
и
серп
—
символ
жатвы
смерти,
неумолимой
силы
гибели;
не да ром
он
—
«убийственный», то есть опять эпитет определяет то
нальность
предметного
слова
как
не пр едме тног о.
В едь
обыкно
венный
серп,
которым
жну т,
как
и
серп
—
символ
труда
—
н икак
не
убийственный.
Так
и
«склоняет голову и вянет»
—
слова
интроспективные,
и
голова
ландыша
—
не
метафора,
рисующая
цвет ок
(было бы чудовищно нежный и миниатюр
ный
цветочек
назы ва ть
«головой», да у ландыша и не одна
«голова», а много,
да
и
все
они
всег да
склонены,
без
в сяко го
сер па ),
а
часть
словосочетания
«склоняет голову»,
которое
м ожет
означать
только
состояние
человека,
его
ду ши
(склоняет
голову
перед
бедой
—
метафора
душевного
движения,
а
не
изо бр ажени е
же ст а); ландыш вянет так же,
как
в
кон це
стихо
тв оре ния
это
же
слово
уже
прямо
говорит
о
сладкой
муке
любви: '
Мне
сладок
буд ет
час
и
муки
роковой:
Я
от
лю бви
т еперь
увяну.
Первая
из
этих
дв ух
ст рок
содержит
оксюморон
психоло
гической
диалектики
à la Жуковский.
Пушкин
около
1830 года
незакономерно,
с
точки
зрения
системы
Ба тюш ко ва,
порицал
в
его
стихах
соединение
а нтич ных
слов-образов
с
русскими,
пото му
что
у
Ба тюшко ва
и
те
и
другие
не
имеют
зад ач ей
воссоздание
объективной
реальности
античной
или
русской
жизни,
а
имеют
назначение
только
вы зыват ь
эмоцию,
а
для
этого
все
средства
хороши,
и
все
—
одинаково
условны.
Так
ве дь
и
Фалерн
в
пре в осходн ой
строке
стихотворения
«К дру
гу»
—
не
столько
вино,
с кольк о
обозначение,
ассоциативно
вызыва юще е
представление
об
эпикурейском
идеале,
о
ком
плексе
горацианских
мотивов
и
т.
д.
Но
где
минутный
шум
весел ья
и
пиров?
В
вин е
потопленные
чаши?
Где
мудрость
свет ск ая
си яю щих
умов ?
Где
твой
Ф алерн
и
розы
наши?
Обр а зно
—
объективно,
вещественно
реализовать
эти
слова
нельзя,
—
получится
немыслимая
безвкусица.
Неужто
же
вторая
строка
может
быть
понята
в
том
смысле,
что
люд и
84
напились
и
урон ил и
бокалы
в
вазу
для
пунша
или
т.
п.?
Я
нисколько
не
шаржирую,
го воря
та к.
Ведь
реч ь
в
эт их
стихах
ид ет
не
о
Греции
или
Риме,
а
якобы
предметно
о
Мо ск ве,
и
даже
точнее
—
о
д оме
Петр а
Анд р еевич а
Вяземского
и
о
пирушках
в
нем
перед
1812 годом .
След оват ельн о,
ес ли
тол ько
попыта ть ся
понять
самый
текс т
стихов
Батюшкова
предметно,
придетс я
понять
их
именно
так,
как
я
г ов орю;
иного
смысла
пр идать
данной
строке
в
вещественном
ее
значении
и
нельзя;
ве дь
не
так
же
ее
по нять :
чаши,
полные
ви ном.
—
потому
что
такое
толк ова н ие
предполагает
совсем
уже
нелепость
в
исполь
зовании
слова
«потопленные», или,
может
бы ть,
ре чь
идет
о
том,
что
чаши-бокалы
стоят
в
пролитом
вине?
Все
это
в
конце
концов
безразлично,
ибо
вед ь
здесь
не
стаканы
и
не
бо кал ы,
а
чаши,
опят ь
слово-символ
вакхических
упоений.
Но
чаши
эти
—
в
Мо скв е,
о
пожаре
к оторо й
в
1812 году якобы говорится
в
стихотворении.
И
неужто
противопоставление:
твой
Фалерн
и
р озы
на ши,
значит
им енно
тв ой
и
наши
в
смысле
реальной
принадлежности
ви на
и
цветов
(вино,
мол,
твое,
а
цветы
на
ш и)? Нет,
роз ы
—
опять
комплекс
мироощущения;
ты
вносил
в
на шу
жизнь
пр аз дник,
античное
упоение,
а
мы
—
цветенье
мол одос т и,
л юбви,
красочность
и
свеже сть ,
—
вот
су хая
и
сокращенная
формулировка
того,
о
чем
говорится
в
эт ом
стихе.
А
что
значит
«сияющих умов»? Рационалистически понимая
—
ниче го
не
значит,
а
в
контексте
и
в
системе
Батюшкова
—
это
целый
мир,
скажем,
культуры
Кондильяка
и
Гельвеция.
Ве сь
психологический
романтизм
—
в
этой
строфе,
с
его
ре
акцией
на
пр освет ит ель ств о
XVIII века,
с
его
неверием
в
ра
зу м,
с
его
печалью
о
несбывшихся
н адежд ах,
с
его
уходом
в
себя,
с
его
стремлением
оторвать
слово
от
объекта,
названного
этим
словом,
и
придать
слов у
характер
су ггестивно го
намека
на
мн ожест во
смыслов,
ле жащ их
вне
его ,
в
душ е
поэта
и
читате
ля.
Нет
нужды
гово рит ь
о
вопросительных
инто нац иях
всех
стихов
это й
ст ро фы:
достаточно
вспомнить
о
роли
вопроса-
восклицания
у
Жуковского.
«Описания»
Батюшкова
всегд а
столь
же
малоописательны
и
ст оль
же
субъективны,
как
и
у
Жуковского,
Во т,
например,
описание
вакханки
в
одн ом
из
ше де вров
поэт а
(«Вакханка»):
С тройн ый
стан,
кругом
об ви тый
Х меля
желт ог о
вен цом ,
И
пы лающ и
ланит ы
Розы
ярким
багрецом,
И
уста,
в
которых
тае т
П урпур овы й
виноград,
—
Все
в
неистовой
прелыцает,
В
с ердце
ль ет
ого нь
и
яд!
85
Огонь
и
яд
страсти
—
это
лейтмотив
стихотворения,
его
эмо цио нал ьный
фон
и
сущность
его.
Поэто му
хмель,
венец,
пы лающий,
яркий,
багр е ц,
пурпуровый
и
т.
д.
—
слова-ноты
определенной
мелодии,
слова,
крепко
связанные
с
ассоциацией
не
предметной,
а
душевной,
психологической
тональности.
Тональность
эта
др уг ая,
чем
у
Жуковского,
но
пр инц ип
тот
же.
И
попробуйте
о пять
реали зов ат ь
ст и хи: «И уста,
в
кото
рых
тае т
Пурпуровый
вино гр ад ...»
В едь
не
ест
же
она
на
бегу
виноград!
И
ве дь
не
похожи
же
ее
губ ы
на
ви ногра д
(это
был о
бы
ужасно).
А
мож ет
быть,
и
то,
и
другое,
и
нек ие
отсветы
изображений
вакханок
с
гроздью
ви ногра да
в
руках,
и
яр кие
губы.
У
Парни,
из
стихов
которого
(«Déguisements de
Vénus», IX) Батюшков заимствовал мотивы этого стихотворе
ния ,
все
пр още
и
рациональнее;
у
нег о:
Sa bouche riante et vermeille,
Présente à celle du berger,
Le fruit coloré de la treille, —
то
ес ть
ее
рот
для
уст
пас тух а
сладок,
как
виноград
(точно:
ее
р от,
смеющийся
и
красный
(румяный), дарит рту пастуха яр
кий
пл од
виноградной
лозы).
Но
у
Батюшкова
почему
вино
гра д
ярко-красный,
пурпуровый
(не потому ли,
что
это
и
у
не го
все
же
г у б ы)? А стихи Батюшкова
—
превосходные.
И
сам
Пушкин
был
в
восторге
от
этого
стихотворения
да же
в
конце
1820-х
годов.
Но
реализовать
предметно
его
образы
не
нужно.
Вино гр ад,
пурпур,
та ет
—
это
у
Батюшкова
не
пред
мет ,
цв ет
и
действие,
а
мысли
и
чувства,
привычно
сопря
женные
и
с
э тим
пр едме то м,
цветом
и
действием,
и
именно
с
словами,
обозначающими
их.
Вед ь
пурпур
—
это
не
то,
что
просто
ярко-красный
цвет;
и
багрец
—
о пять
не
то,
что
про
сто
кр ас ный
цв ет,
х отя
и
пурпур
и
багрец
это
именно
ярко-
красный
цвет .
Но
пурпур
—
это
цвет
роскошных
одежд
условной
древности,
ц вет
ярких
наслаждений
и
расц вета
жиз
ненных
сил,
цве т
торжества,
цве т
царственных
одежд.
Багрец
—
это
прежде
всего
опять-таки
цвет,
и
блеск,
и
сияние
одея
ния
власти.
Венец
хмеля
и
багрец
—
в
одном
ря ду.
Кстати,
предметно
совершенно
непонятно:
то
ли
у
вакханки
венец
(венок)
хмел я
не
на
гол ове ,
а
вокруг
талии,
что
стр анно ,
то
ли
ее
стан
обвит
х мелем
с
его,
хмеля,
венцом.
Но
тогда
на до
уж
венцами,
то
есть
цветами.
Непонятно,
но
лишь
предметно
неп оня т но.
А
в
смысле
значимости
символики
в сепоб ежд ающей
царственной
страсти,
увенчанной
поэтом,
понятно.
У
Парни
и
это
мес то
рационально
и
предметно
отчетливо:
86
Le lierre couronne sa tête...
. .. Le pampre forme sa ceinture,
Et de ses bras fait la parure.
(Плющ увенчивает ее голову . . .
виноградные
листья
составляют
ее
пояс
и
украшение
ее
р у к); здесь все на месте:
венец
на
го лове ,
а
на
стане
—
пояс.
Мож но
бы ло
бы
при вод ить
приме ры
без
конца,
но
в
эт ом
нет
нужды.
Мне
придется
еще
говорить
о
Батюшкове
и
о
его
отличии
от
Жу ков ско го
ниже.
Здесь
же
мне
ну жно
только
указать
на
то,
что
основной
пр инцип
поэзии
Жуковско
го,
его
мировоззрения,
а
стало
быть
и
с тиля,
находит
сво ю
ан ал огию
и
как
бы
орга ниче с кое
дополнение
в
принц ипах
п оэ
зии,
м иро во ззр ения
и
стиля
Бат юшк ова.
Так
ведь
понимали
дело
и
современники,
видевшие
в
Жуковском
и
Батюшкове
явления
параллельные,
связанные,
хо тя
индивидуально
и
не
сходные.
Многократно
в
статьях
и
стихах
1810—1820- х
годов
оба
поэта
стоят
р ядом
и
свя з аны
друг
с
другом.
И
характерно,
что
их
вл ияние
на
молодых
поэтов
превосходно
объединяется
в
единое
влияние,
хо тя
и
здесь
мы
можем
различить
стихи,
написанные
скорее
под
во здей ств ием
Жуковского
и
написан
ные
под
воздействием
Б ат юшко ва.
От
Склабовского
до
Пуш
кина
идет
ряд
мо лод ых
поэтов
1810-х
годов,
одновременно
учив ш ихся
и
у
Жуковского
и
у
Бат юш ко ва,
за явля вш их
о
том ,
что
оба
они
—
учители
и
образцы,
органически
сочетающиеся
в
вос пр ия тии
их
учеников.
Но
важнее
всего
то,
что
стилистические
нововведения
Жук ов ско го
(и Батюшкова)
вошли
в
русскую
по эзи ю,
в
рус
с кую
литературу
и
остались
ее
завоеванием
и
до сто яние м
на
всегда.
Меж ду
тем
эти
нововведения
не
были
и
не
могли
бы ть
просто
форм а льны м,
техническим
усовершенствованием,
ибо
таких
не
бывает,
а
б ыли
вы ражен ием
завоеваний
сознания,
понимания
мира
и
людей,
и
пони ма ния
пр огре ссивно го.
Усв ое
ние
это
произошло
благодаря
всему
поколению
поэто в
1820- х
годов,
но
прежде
всего
и
ре шающи м
образом
—
благодаря
Пушкину.
Им енно
чере з
Пу шкина
оно
был о
пер еда но
в сей
литературе
его
времени
и
последующих
времен,
возникшей
на
основе
пушкинского
творчества;
но
вед ь
и
сам
П уш кин,
на чи
ная
примерно
с
«Бориса Годунова», и все основное русло
русс ко й
ли тер атур ы,
н ач иная
с
1830 годов,
—
творит
уже
искусство
реалистическое,
а
казалось
бы,
субъективизм
психо
логического
р ом антиз ма
должен
быть
чужд
реализму.
Конеч
но,
это
так
и
было,
но
в
заво еван ия х
Жуковского
и
Батюшко
ва
бы ло
нечто
сверх
суб ъект и визм а,
и
эти
зав ое ван ия
б ыли
необходимы
для
реализма.
87
Объектом
интереса
и
изо бр аж ения
реализма
был
и
остает
ся
человек,
конкретный
и
индивидуальный
человек.
Изображе
нию
конкретного
человека
изнутри
его
психического
ми ра
научил
реалистов
психологический
романтизм.
Жуковский
и
его
школа,
идя
по
пу ти
К ар амз ина,
перевернули
понятие
о
значимости
и
возможностях
русского
языка,
русского
слова.
У
классиков
слово
б ыло
сухо
однозначно,
семантически
п лос-
кос тно ,
функционировало,
как
в
грамматике
и
лексиконе;
оно
чу жд алось
обрастания
смутными
ассоциациями
и
дополнитель
ными
звучаниями:
Во
Франции
сперва
сти хи
писал
машейник
И
за служ ил
себе
он
плутнями
ош ейник..
А
я
машейником
в
России
не
слыву
И
в
честности
ж ив у...
Такова
была
трагическая
лирика
Сумарокова;
в
таких
сух их
и
точн ых
словах
г ов орил
он
о
судьбе
поэта
в
угнетенной
стр ан е.
Державин
открыл
новые
возможности
слова,
открыл
пу ти
рома нт изм у,
как
и
будущему
реализму.
Он
создал
слово,
выходящее
за
пределы
лексикона
своим
живым
значением.
Его
слова
указывали
как
бы
перстом
на
вещи
реального
мир а.
Слово-понятие
он
заменил
словом-вещью.
Его
ветчина
—
это
зримая,
ощутимая
ве тч ина,
а
пирог
—
румяно-желтый
и
вкус
ный
пирог.
Но
слово
и
у
н его
ограничено.
Оно
показывает
пр едм ет
и
останавливается
на
этом.
Жуко вс кий
и
его
шк ола
придали
слову
множество
дополнительных
звуч ани й
и
психоло
гич е ских
красок.
У
них
слово
стало
не
только
значить,
но
и
выражать.
Оно
стало
веселым
или
сумрачным,
гр озн ым
или
л егким ,
теплым
или
холодным.
Самим
своим
характером
и
семантической
структурой
оно
стало
говорить
не
меньше,
чем
своим
прямым
значением.
В
частности,
оно
стало
много
гово
ри ть
о
том
характере,
человеческом
характере,
который
скла
дывается
для
романтиков
из
переживаний,
чувств,
настроений.
Оно
ста ло
рассказывать
самим
усложнением
своего
стилисти
ческого
исп ол ьзован ия
о
таких
движениях
души,
о
которых
нельзя
р асс каз ать
прямо,
логически
точ но , «словарными»
зна
че ниям и
(то есть нельзя рассказать в искусстве,
—
иное
дело
наука).
А
ведь
без
это го
невозможно
бы ло
создать
образы
людей,
полноценные
образы
характеров,
сло жные
и
пс ихологи
чески
выразительные.
Вот,
например,
Тат ья на
Ла ри на.
Пуш
кин
ма ло
г овори т
о
ее
чувствах,
мыс лях ,
переживаниях.
Как
и
в се гда,
он
почти
не
дает
психологического
ан али за
в
своем
расск азе
о
Татьяне.
Но
ее
облик
полноценен,
и
ее
душевная
жизнь
не
только
ясна,
но
и
у влек ает
читателя
и
трогает
его.
Этот
обаятельный
обли к
«милого идеала»
создан
методом,
88
открытым
Жуковским,
но
глубочайшим
об р азом
п ерест ро ен
ным
Пушкиным.
Пушкин
знает
уж е,
что
огромные
комплексы
психологических
явле н ий,
необъятные
глубины
д уши
он
может
выразить
не
только
прямым
называнием,
но,
в
первую
оч е
редь,
им енно
стилистическими
средствами,
семантическим
расширением
слова,
—
и
все
слова
о
Татьяне,
и
ее
письмо,
и
ее
со н,
и
самый
пейзаж,
ок ру жающ ий
ее,
—
сло ва,
уже
у множ енные
в
своем
значении,
так
же,
как
слово
«пурпурный»
значит
более,
чем
«красный», а слово «т и х ий»
—
более,
чем
«беззвучный», —
все
это
отсвечивает
и
полнится
психологиче
скими
характеристиками.
Так
во
всех
произведениях
П у шкина
психологический
рисунок
ст роит ся
из
семантических
вос полн е
ний
«первичного»
значения
слова,
Так
об разу ется
живой
ха
ра ктер ,
образ
человека.
Но
Пушкин
отказался
от
субъекти
визма.
Его
Татьяна—
не
отъединенная
от
ми ра
душа,
а
тип;
ее
эмоционально-лирический
обл ик
объективирован,
д уша
помещена
в
реаль но го
человека
и
объяснена
объективной
жизнью
народа.
И
самое
слово
у
н его
ста но вит ся
предметным,
как
у
Державина,
не
теряя
св ою
ассоциативно -
пс ихол огиче ск ую
перспективу,
открытую
Жуковским.
У
Жу
ковского,
да
и
Ба тю шко ва,
эта
перспектива
поглощает
пред
метность,
ду ша
отрывается
от
реальности.
У
зрело го
Пушкина
слово
—
это
п режде
всего
предметное,
объективное
явление;
но
оно
в
то
же
время
сохраняет
оре ол
осмыслений
и
оттенков,
созданный
романтиками.
Т ак,
например:
Уны лая
пора!
о чей
очарование!
П ри ятна
мне
т воя
прощальная
краса
—
Люб лю
я
пышное
природы
увяданье,
В
б агрец
и
в
золото
одетые
леса...
(«Осень», 1833)
В
стихотворении
говорится
об
осени,
—
и
это
настоящая
объективная
осень
в
русской
природе,
противопоставленная
весне,
когда
—
«вонь,
гря зь
—
весной
я
болен».
Но
в
то
же
вр емя
ос ень
—
пора
умиранья
и
пе чал и,
—
это
и
пора,
когда
природа,
умирая,
обосновывает
новое
рожденье
будущего
расцвета,
осень
—
это
не
только
биографически,
для
самог о
Пуш ки на,
пор а
тв ор чест ва,
это
—
образ
вечной
творческой
си лы
природы,
несокрушимой
и
в
видимости
смерти;
а
за
этим
—
смутный,
но
потрясающий
образ
вечной
и
свободной
твор
ческ ой
с илы
гения
человеческого
(поэзии),
свободно
со з
дающей
да же
в
трагическом
затухании
в неш ней
жизни.
Я
не
хочу
сказать,
конечно,
что
в
«Осени»
Пушкина
заши фро ван а
мы сль
о
поэте
в
николаевской
действительности;
это
б ыла
бы
89
явная
натяжка;
но
я
думаю,
что
ид ейно
эмоц ион альна я ,
лири
ческая
емкость
образов
и
ст иля
«Осени»
такова,
что
где- то
в
г лу бине
перспективы
значении
и
настроении
стихотворения
лежит
общее
чувство
скорби
умирания,
побеждаемого
тв орче
ским
гением
природы
и
поэзии,
а
это
чувство,
са мо
по
себе,
имеет
и
свой
политический
адекват.
Так
вот ,
—
осень,
ос тава
ясь
осенью,
у
Пушкина
теперь
бо льше ,
чем
просто
объектив
ный
п ей заж.
И
это
р еал изо вано
во
всей
с ист еме
семантики.
Тут
и
лейтмотив
тональности
слова
(унылая,
прощальная,
ув ядань е), эмоционально-п с ихол оги че с ки
наполненного.
Тут
и
оксюморон
душевной
диалектики:
приятна
—
прощальная,
люблю
—
увяданье,
пышное
увяданье.
Тут
и
условно
лириче
ская
форм ула
романтизма
«прощальная краса».
А
между
тем
и
при
всем
том,
увяданье
здесь
—
это
действительно
самое
настоящее
увяданье
растения,
а
не
«от любви теперь увяну»
Батюшкова.
И
все
же,
оставаясь
реальным,
так
сказать,
бота
ниче ски
точным
обозначением
факта
в
жизни
растений,
это
сл ово
осталось
у
Пу ш кина
таким
же
лирическим
символом,
как
у
Бат юшк ова.
Или
эпитет
«пышное увяданье», или гени
альный
стих:
В
б агрец
и
в
золото
одетые
л еса.
Багрец
и
з оло то,
—
в спо мним
багрец
у
Батюшкова.
У
Пушк ина
—
инач е.
У
него
багрец
—
это
реальный
красный
цв ет,
а
золот о
—
тоже
реальный
цв ет
«объективных»
увя
дающих
листьев.
В
это м
Пушкин
—
совсем
не
таков,
как
Жуковский
или
Батюшков.
Но
багрец
и
золото
и
у
него
—
не
толь ко
цвета
листьев;
ведь
не
сказал
же
он
«точно,
просто
и
яс но», как того требовал классицизм,
—
красные
и
желтые
лис ть я,
а
именно
багрец
и
золото
—
это
и
цвета,
и
не
то лько
цвета,
потому
что
Пушкин
не
откажется
от
добытого
его
уч и
телями-романтиками
понимания
полисемантизма.
Багрец
и
золот о
—
слова,
означающие,
кроме
цветов,
еще
и
величие,
и
пыш нос ть,
царственность;
это
—
слова,
обозначающие
одеяние
в ла сти,
си лы,
могущества.
А
вед ь
листва,
как
одеяние,
—
этот
образ
дан
уже
в
п ервых
стихах
«Осени» («Уж роща отряха -
ет ...»
и
т.
д.), и значение величия и пышности подготовлено
строкой,
непосредственно
предшествующей
разбираемому
стиху
—
«пышное»
природы
увяданье,
как
бы
трагическое
ве лич ие
умирания
ге роя
и
властителя.
Так
картина
природы,
оставаясь
«внешней»
картиной
природы,
углубляе т ся ,
а
так
как
реаль
ность
не
утеряна,
как
у
Жуковского,
то
чувство,
настроение
становится
идеей.,
В
самом
д еле,
Пуш кин
не
просто
склоняется
перед
царственным
величием
при роды.
Он
проповедует
ид еал
90
с вобод ног о
творчества
двух
вечных
си л,
кот оры е
преодолевают
все ,
да же
смерть,
—
природы
и
поэзии,
человеческого
гения.
Поэтому-то
у
него
и
«в багрец и в золото одетые леса», и
«стихи свободно потекут», и душа ищет «и зли т ься,
на конец,
свободным
пр оя вле нье м».
И
вот
спокойное
описание
осени
и
осенних
заня т ии
поэта
начинает
звучать,
как
органная
мелодия,
славящая
в
же сто кий
век
свободное
могущество
творчества.
Так
Пу шкин ,
уже
зрелый
реалист,
ис по ль зует
открытия
ро
мантиков,
ст авя
их
систему
с
голов ы
на
ноги,
но
сохраняя
ее
заво еван и я;
так
он
решает
проблему
соотнесения
объективного
и
субъективного,
сливая
субъективное
с
объективным
и
выводя
его
из
реального.
Раньше,
в
юности,
он,
еще
романтик,
усваи
ва ет
систему
романтиков,
и
вместе
с
ним
его
сверстники,
друзья.
Ее
усвоил
и
Дел ьв иг,
и
Баратынский
(с некоторыми
зам ин кам и), и потом молодой Языков,
каж дый
по-своему
и
все
же
в
едином
те че нии.
7.
Мне
уже
при ходи лос ь
говор ит ь
о
том,
что
со вре м енники,
и
в
част ност и
вр аги
нового
романтического
движения
в
русской
по э зии,
ясно
ощ ущ али
и
по нимал и
единс тв о
устремлений
по
этов ,
связанных
с
Жуковским
и
Батюшковым.
Они
понимали
и
то,
что
молодой
Пушкин
не
только
связан
с
эти м
теч е нием,
но
и
является
од ним
из
участников
его.
Это
видно
по
критиче
ским
от клик ам
на
с ти хотв орен ия
П уш кина,
в
частности,
по
критическим
нападкам
а рха иков
на
его
стиль.
Эти
нападки
с
точностью
повторяют
те
недоброжелательные
замечания,
кото
рые
делали
архаики
по
поводу
Жуковского
и
других
«карамзинистов».
Не
нужно
думать,
что
эти
на па дки
и
заме
чания
б ыли
пустыми
прицепками
к
сл овам .
За
критикой
сло в
стояла
критика
системы,
критика
и
неприятие
всего
стиля,
всего
миро во ззр ения .
Тем
и
интересны
эти
замечания
неприя
телей,
что
они
выясняют
для
нас,
что
именно
воспринималось
современниками
как
новаторство
рома нт иков
и
что
было
н ова
торством
на
самом
д еле.
Ведь
мы
часто
склонны
считать
Пушкина
поэтом
уж
очень
понятным,
ясным,
л егк им.
Он
ста л
т аким
пото м у,
что
его
система
стиля
сделалась
основой
разви
тия
ру сск ой
литературы
и
ли тер ат урног о
языка
XIX века.
Но
для
современников
эта
система
бы ла
вовсе
не
столь
нормальна
и
общепринята,
как
для
н ас,
и
многим,
да же
сочувствующим
н овым
поэтическим
течениям,
было
труд но
освоиться
с
н ова
91
торской
манерой
Пушкина,
как
и
Жуковского,
трудно
даже
просто
по нять
пушкинскую
речь,
иной
раз
неясную
с
точки
зрения
заст ря вш его
еще
в
ума х
классицизма.
И
вот
в
этих-то
новшествах
Пу шки н,
в
частности
молодой
Пушкин,
пре дста л
современникам
как
единомышленник
Жуковского
(и Батюшко
ва ), и бранили их обоих за одно и то же.
В
этом
отношении
Пушкин
разделил
уч аст ь,
например,
Баратынского.
Так,
в
«Дамском журнале» 1827 года (ч.
22) была напечатана статья:
«Письмо к Лужницкому старцу о быстрых успехах русской
поэзии»
за
подписью
«Ю
—
К -в».
Это
—
злобный
разбор
«Стансов»
Баратынского
с
то чки
зрения
классика-архаиста,
ненавидящего
«разноцветный,
полосатый
и
клетчатый
нар яд
века
романтического,
«поэзию»
в
но вом
и
совершеннейшем
вкусе».
Автор
недоволен
романтической
оторв а ннос тью
лирики
от
внешнего
мира.
Он
разбирает
начало
«Стансов» (по первой
редакции
«Московского телеграфа», 1828 год,
No 2):
О бр еме нительн ые
ц епи
Упали
с
рук
моих.
—
и
вновь
Я
вижу
вас ,
родные
степи,
Моя
начал ьная
люб о вь.
«Не правда ли,
что
печальный
ст анс
превосходен?
Вы
может
быть,
спросите:
из
каких
цепей
в ырв ался
поэт?
где
он
нах о дил ся?
Читателю
нет
надобности
зна ть
об
этом;
пе рвые
два
стиха
картинны,
н овы
и,
следовательно,
чудесны!» —
и зд евает ся
критик.
—
«Далее вы,
верно,
ск ажет е,
что
родные
степи
не
мог ут
быть
ни
начальною,
ни
среднею,
ни
конечною
любовью,
равно
как
любовь
не
бывает
ни
степью,
ни
л угом,
ни
полем.
Согласен:
да
это
по-старинному;
мир
романтический
есть
мир
превращений:
там
небылицы
являются
в
лицах.
Но
мне
увидет ь
было
слаще
Лес,
на
покате
дв ух
холмов,
И
скромный
дом
в
садовой
ча ще
—
Приют
младенческих
годов.
Чувствуете
ли,
чувствуете
ли,
мой
по ч те нный,
слад о сть
перво
го
стиха,
ис тинно
пиитического?
Где
н айде те
вы
подобные?
Ах,
сла ще,
слаще!
нам
не
б ыло
бы
вку сн ее
теперешнего,
аще
не
следовала
бы
за
тобою
в
сад ово й
чащ е. ..
рифма-тиран...
Ко
бла гу
чистое
стремленье
От
неба
было
мне
да но;
Но
обрело
ли
ра зд елен ье?
Но
принесло
ли
плод
оно?
Что,
маститый
старец?
вы
морщитесь,
зев ает е
и,
кажется,
ни чего
не
понимаете?
Признаюсь,
и
я
как
во
тьме
но щной.
92
Этому
ест ь
пр ич ина:
мы
не
посвящены
в
таинства
—
осязать
неосязательное,
толковать
бестолковое,
удявляться
ст ранно ле п
ному;
высшие
созерцатели
постигают
эт о.
Та к!
вы
одни,
о
высшие
созерцатели]
вы
одни
можете
изъяснить
нам
смысл
двух
последних
стихов...
В
самом
деле,
разделенье
ли
обрело
чт о-ни будь,
или
обрел
кто - нибу дь
разделенье,
и
какое
и
с
кем?
Кто
принес
пло д:
ко
бла гу
ли
чистое
стремленье,
или
ра зд еле нье,
или
сам
автор,
ил и,
на ко нец,
его
торжественные
с та нс ы?..»
И
д ал е е: «Младенец тихий на руках противопола
гается
только
крикливому
и
брыкливому
младенцу
на
руках
—
и
больше
нич его
не
изображает».
О
значении
слова
тихий
в
системе
Жуковского
я
уже
говорил.
Весьма
показательна
и
известная
статья
«Жителя Бутыр
ск ой
слободы» (М.
Т.
Каченовского)
в
«Вестнике Европы»
1820 года (No 11), та самая,
в
к ото рой
находится
сравнение
«Руслана и Людмилы»
с
мужиком,
втершимся
в
московское
благородное
собрание.
Зд есь
пресловутый
«житель»
нападает
на
всю
новую
романтическую
поэзию,
его
возмущают
харак
терные
выражения
в
дух е
Жу ко вск ог о: «с утраченным гряду
щее
сл ил ось », «обман
надежд
разжигает
тоску
заснувших
р ан»,
он
вне
себ я
от
б алл ады
Пл етнев а
«Пастух»
(напечатанной в «С ын е
отечества», 1820год,
No
XIII) и,
хотя
он
не
цитир уе т
ее,
в иди мо,
его
возмущают
и
«грубые»
выра
жения
этой
баллады,
и
поэтика
Жуковского
в
не й.
Он
вос кли
ца е т: «У нас в такой моде смертность,
что
да же
луч
солнеч
ный
трепетен
и
бледен
ум ирае т
на
горе.
Ни
слова
о
ры ца рях,
которые
беспрестанно
прощаются
с
красавицами
и
погибают;
ни
сло ва
о
чаш ах
пе нист ого
вина,
о
тайном
шепоте
невиди
мого,
о
туманном
небосклоне
полей,
о
лазурном
крове
б ез
облачного
приюта,
о
пу стынной
тишине
дубрав,
о
зыбучих
берегах,
где
плачут
кр асны е
девицы
и
проч,
и
п ро ч.».
Луч
уми ра ет
и
у
Жуковского
в
«Вечере»:
Послед н ий
луч
за ри
на
башнях
ум ира ет...
О
зыбучем
береге
реч ь
и дет
тоже
у
Жуковского,
в
«Тоске по милом»:
На
берег
зыбучий
Ск ло нив шись,
сидит
В
слезах,
пригорюнясь,
девица-краса.
Да
и
в есь
этот
выпад
«жителя»
—
выпа д
против
поэ т ики
Жуковского.
И
вес ьма
ха ра кт ерно
то,
что
сразу
после
этого
выпада
«житель»
переходит
к
«Руслану и Людмиле»; видимо,
для
нег о
это
—
явления,
связанные
дру г
с
другом.
93
На
статью
«жителя»
ответил
«Сын отечества» (1820 год,
ч.
63, No.
31; письмо «К
издателю
«Сына отечества»); он
писа л
между
п рочи м: «Удивительно,
что
старцу,
который
вы
дает
себ я
за
знатока
поэ зии ,
не
нравится
истинно
пиитическое
выражение:
луч
солнца
у м ирает
вместо
угасает;
так
он
изго
нит
из
стихов
все
метафоры,
сине кдо х и,
метонимии
и
пр .».
«Житель Бутырской слободы»
ответил
на
ответ
«Сына
о теч ест ва»
в
«Вестнике
Европы»
(No 16); он писал:
«Признаюсь в моем невежестве:
нес ко ро
н ахожу
красоты
в
выражениях
истинно
стихотворных,
если
они
подобны
уми
рающему
лучу
солнца,
или
Ру слан овой
поговорке:
ед у,
еду,
не
св ищу
и
п роч,
и
пр оч . » (опять соединение Пушкина с поэти
кой
Жуковского).
Здесь
же
«житель»
настаивает
на
своем
осуждении
стихов
Жуковского
«На берег зыбучий Склонив
шис ь,
си дит ...»; он прямо назвал в этой статье Жуковского;
он
вы ражае т
св ое
уважение
к
таланту
Жуковского,
но
считает
его
со вра тителе м
русских
поэтов,
его
подражателей,
в
мра чны е
бездны
романтизма.
И
Пле тнев а
и,
очевидно,
Пу шкина
он
считает
именно
та кими
по этам и,
совращенными
Жуковским,
Весьма
любопытны
в
да нной
свя зи
та кже
критические
за
мечания
Воейкова
о
стиле
«Руслана и Людмилы»
в
его
из
в естно м
разборе
э той
по эмы
(«Сын отечества», 1820 год) .
Воейков,
хо тя
и
примыкал
к
романтикам,
все
же
и
в
своем
творчестве,
и
в
свои х
эстетических
взглядах
был
еще
скован
тр а дициями
классицизма;
это
и
сказалось
в
его
придирках
к
стилю
молодого
Пушкина.
Так
он
не
приемлет
стих а
«Сердца
их
гневом
ст ес не ны », потому,
мо л,
что
«гнев не стесняет,
а
расширяет
серд це», то есть Воейков понимает слово логически,
терминологично,
а
не
эмоционально,
не
асс оциативно .
Он
от
вер гает,
как
«неточное»
выра ж е ни е , «Питомцы бурные набе
гов », потому что это,
типично
романтическое,
оссиановского
стиля,
выражение
также
не
логи чно: «Набег,
—
пиш ет
он,
—
ес ть
быстрое
безостановочное
движение
и
никого
ни
питать,
ни
воспитывать
не
имеет
в ре м ени». «Где
же
логика?» —
вос
клицает
Воейков
в
это й
статье
(по другому поводу), —
и
это
тре бо ва ние
логики
обнаруживает,
в
чем
су ть
и
его
позиции,
и
по зиции
молодого
Пушкина
в
вопросах
стиля.
Воейков
кри ти
кует:
Треп ещ а,
хладною
рукой
Он
вопрошает
мр ак
немой...
Вопрошать
немой
м рак
—
смело
до
н епо нятно с ти,
и
ес
ли
допустить
сие
выражение,
то
мо жно
бу дет
написать:
гово
ря щий
м рак,
болтающий,
мрак ,
болтун
мрак;
спорящий
94
мрак,
мрак,
делающий
неблагопристойные
во прос ы
и
не
краснея
на
них
отвечающий:
жалкий,
пагубный
мрак,
С
уж асны м,
пламенным
челом.
То
ест ь
с
красным,
вишневым
че лом ».
Последнее
замечание
характерно:
Воейков,
не
понимая
или
не
желая
понять
семантику
Пушкина,
не
реа льно -
живописующую,
а
эмоционально-характеризующую,
реализует
слово-намек,
и
получается
як обы
нехорошо.
Но
такое
слово
нельзя
реализовать,
так
сказ ать ,
материально,
как
и
типиче
ские
эпитеты
Жуковского
и
Батюшкова.
Не
менее
характерно
и
следующее:
«Как милый цвет уединенья .. .
Цвет
пустыни
можно
сказать,
но
уединение
заключает
поня
тие
отвлеченное
и
цветов
не
произращает.
И
п лам ень
рок овой .
Ра с толкуйте
мне,
что
это
за
пламень?
Уж
не
бра т
ли
он
ди-
ко му
пламени?»
Ошибка
Воейкова
в
том ,
что
цвет
в
данной
системе
сти
ля
—
не
цветок,
а
ц ветен ье,
расц вет ,
эмоционально-оценочная
нота,
а
не
предмет.
Так
же
и
далее:
«Где ложе радости младой.. .
На
что
поставлен
эпи тет
младой
к
с лову
радость?
Уж
не
для
различия
ли
молодой
р адо сти
от
радости
средних
лет,
от
радо
сти
старухи?
Княжне
во зду шны ми
перстами...
Объясните
мн е;
я
не
по нима ю».
И
все
это
потому,
что
у
Пу ш кина,
как
и
у
Жуковского,
как
и
у
Батюшкова,
младой
не
значит
просто
молодой,
кото
р ому
ма ло
лет
(противоположность
—
старый), а воздушный
—
не
значит
составленный
из
воз духа ;
слово
у
н его
не
пре д
метно.
«Дикий пламень. ..
Ско ро
мы
станем
писать:
ручной
пламень,
ласковый,
вежливый
пламень.
Бран ил ся
м олчал иво.
Желание
сочет ат ь
слова,
не
соединяемые
по
своей
нату р е,
заставит,
может
быть,
написать:
молчаливый
кри к,
р евущ ее
молч ан ие,.,
и
т.
д.
95
...
Ру сс кий
я зык
ужасн о
стр адае т
под
их
(писателей ро
мантического
стиля.
—
Г.
Г.)
пером,
оч ине нным
на
ма нер
Шил лер ов а».
Ста тья
Воейкова
вызвала
целую
журнальную
бурю.
В
том
же
«Сыне отечества» (1820 год,
ч.
65, No 42) была напечата
на
антикритика
на
нее
за
подписью
«П.
К - в» (может быть,
П.
Корсаков?).
Здесь
резко
опровергаются
замечания
Воейко
ва,
в
частности,
по
поводу
стиля
поэмы.
П.
К-в
не
видит
ничего
дурного
в
вы ражени я х,
возмутивших
Воейкова.
Т ак,
он
пишет,
об ращ аясь
к
Во е йко ву : «Вы не допускаете выражения
м рак
немой,
потому
что
не
можно
написать:
мрак
бо лта ю
щий.
По
сем у
пра ви лу
нельзя
будет
сказать:
монумент
ст оит
на
площади,
пот ому
что
нельзя
сказать:
монумент
прыгает
на
площади».
Или
по
поводу
вы раже ния
—
«пламень роковой»:
«Желательно знать,
поче му
вам
не
нравится
рок овой
пл амен ь.
Роковым
назват ь
можно
каждый
предмет,
который
служит
оруж ие м
року:
рок овой
меч ,
ро ко вой
удар,
рок овой
пламень,
роковой
час
и
пр .».
Нужно
сказать,
что
за щитник
Пушкина,
видимо,
и
сам
не
понимает
сущности
стилистических
явлений,
кот оры е
он
защищает,
пытаясь
логизировать
семантику
нового
стил я
в
старом
духе.
П о лемика
с
воейковской
ста ть ей
отразилась
и
во
враж
дебном
обзо ре
стихов,
напечатанных
в
«Сыне отечества»,
обз оре ,
по меще нно м
в
антиромантическом
«Вестнике Европы»
в
1821 году (ч .
116, No 4) с подписью Семен Осетров .
Здесь,
возражая
Воейкову,
критик,
одн ак о,
ген ер ализи р ует
его
зам е
чания,
считая,
что
ош ибки,
подмеченные
им
у
Пушкина,
сво й
с тве нны
все й
новой
школе
поэт ов ,
в
том
числе
самому
Воейко
ву,
стихи
которого
он
и
бранит.
С.
Осетрова
возмущают
такие
вы ра же ни я: «Знакомец лес. ..
—
Не
бр ат
ли
он
родного
дна,
которое
нам
ко гда- то
случилось
видеть
в
том
же
ж урн але.
О,
тайна
сл о во ш вен ъя!»; он недоволен стихами:
Где
цвел
тот
сад,
кот о рый
мы
В
поверенные
та йн
сердечных
избирали...
или:
О дин окий.
И
молч али вы й
кабинет,
От
с пальни
столь
далекий.
«В разборе поэмы г-н а
П ушк ина
сказано
б ыло
по
поводу
выражен и я
дикий
п ламе нь,
что
мы
скоро
станем
пи сат ь:
руч
ной
пла м ень,
ласковый,
вежли вы й
пла м ень.
Видно,
что
подоб
ное
т ому
писал и
и
в
1816 году;
ибо
если
можно
сказать:
оди
нокий
и
молчаливый
кабинет,
то
почему
же
не
нап ис ать:
96
сам-друг,
сам-третей
кабинет,
шумливый,
бра н члив ый
кабинет?»
Критик
считает,
что
нельзя
ск азать : «От скуки свечка
дремлет», так как тогда свечка может и «храпеть,
бодрство
вать,
петь
или
плясать,
если
ей
вздумается».
Он
проте с ту ет
против
ок сю морон ов
нового
ст иля
(«Ученых вежливые споры,
Миролюбивые
их
с с оры»).
Наконец,
крит ик
нап ад ает
на
стих
«Где серафимов тьмы кипят»; он пишет: «г.
Жуковский
за
ключил
мистическую
свою
б аллад у
«Вадим»
сими
д вумя
ст и
ха ми:
И
серафимов
тьмы
кипят
В
пы лающей
пу ч ине.
Мо жет
быть,
это
очень
хорошо
в
мистической
балладе;
но
мы
никак
не
мож ем
составить
в
воображении
своем
хорошей
картины
из
серафимов,
кипящих
в
пылающей
пучине».
Так
мы
опя ть
при ходим
к
Жуковскому;
к
не му
тянутся
ни ти
романтического
слога.
И
ведь
Жуковского
объединяют
со
все й
романтической
шко лой
такие
эпигр а ммы,
ка к,
например,
напечатанная
в
том
же
«Вестнике Европы» (1821 год,
No
1)с
подписью
Ф.
Ф.
Ф.:
Везде
влияние
чудесной
вид им
моды .
Снач ала
—
громкие
у
нас
гремели
оды;
П отом
мы
—
ахали;
а
ныне
—
все
толпой
Летим
в
туманну
даль
с
отцветшею
ду шой...
И
здесь
символом
и
тем
и
мировоззрения
поэзии
стиля
Жуковского
служат
тип иче ск ие
выражения
«субъективного»
типа:
от цв етшая
ду ша
—
предметный
э питет ,
ме та фори че ски
теряющий
свою
предметность,
и
то
же
в
сочетании:
туманна
даль.
См.
эпиграмму
в
No
3затотжегод:
Скажи
мн е,
Клит,
зач ем
все
модные
поэты
Летя т
в
туманну
даль ,
ко
брегам
с ветл ой
Леты .
И
что-то
скрытное
в
раз дра нных
об лак ах,
И
что-то
тайное
им
слышится
в
м ечт ах?
—
Вопрос
мне
т вой
мудрен
и,
мо лв ить
ме жду
нами,
Едва
ль
его
решить
поэты
могут
сами.
О...
Нападки
на
Пу шк ина
за
его
стиль,
идущие
в
том
же
на
правлении
неприятия
романтического
слова
в
духе
Жуковского,
продолжаются
и
позже.
А.
Е.
Измайлов,
напечатавший
весьма
восторженное
извещение
—
рецензию
о
выходе
в
свет
«Кавказского пленника», все же считает нужным оговорить:
«Жаль только,
что
и
здесь
встречаются
ны неш ние
модные
сло ва
и
выражения,
напр име р:
привет,
сладострастие,
молодая
97
жизнь,
—
также
некоторые
излишние
и
изы ска нн ые
эпитеты»
(«Благонамеренный», 1822, ч.
19, No 36;.
в
эт ом
же
номере
помещен
от ры вок
из
«Кавказского пленника»).
Что
именно
считал
«Благонамеренный»
непр ием ле мым
для
себя
в
«модном»
сл оге,
ви дно
из
статьи
«Отрывок из моего журнала
1821 года», помещенной несколько ранее (No 33); здесь дан
диа ло г,
в
коем
собеседник,
выражающий
авторскую
точку
зрения,
г ово ри т: «Если бы,
например,
попались
вам
следую
щие
стихи:
В
дыхании
весны
все
жизнь
младую
пь ет
И
негу
тай н ого
желанья,
Все
дышит
радостью
и,
м нитс я,
с
кем-то
ждет
Об етова нн ого
свиданья.
Неужели,
прочитав
их,
не
заметили
бы
вы
какой-то
странности
в
выражениях?..
Но
рассмотрите
их
со
вниманием;
все ,
то
ес ть
вся
природа,
пье т
в
дыхании
весны
младую
жизнь,
негу
же ла ния
и
жде т
с
кем-то
о бе щанно го
или
обе то
ван ног о
свиданья.
Пи ть
негу
желания
—
довольно
уже
сме
ло;
пит ь
младую
жизнь
странно,
но
пи ть
все
эти
модные
пиитич еские
на пи тки
в
ды х ании
весны
—
для
меня
и
странно
и
непонятно.
Прибавьте
к
сему
обетованное
кем-то
и
с
кем-то
свидание,
которого
жде т
при рода ,
и
вы,
конечно,
согласитесь,
что
желание
блистать
новыми
выражениями
и
облекать
мысли
в
какую-то
таинственность
не
всегда
удается.
И
э так
пиш ут
люди
с
дарованиями;
чего
же
ожидать
от
других?
Признаюсь,
я
часто
с
досадою
бросаю
жу р налы
наши,
видя,
как
м олоды е
поэ ты,
одаренные
пре вос ход ным и
та л анта ми,
п ред авши сь,
так
сказать,
пиитич е ско му
буй с тву,
не
щад ят
ни
логики,
ни
гр ам
ма тик и».
Аналогичный,
в
сущности,
характер
имеют
стилистические
недоумения
М.
П.
Погодина
по
п оводу
«Кавказского пленни
ка» («О «К авка зск ом
пленнике»
—
«Вестник Европы», 1823,
я нвар ь,
No
1).
Он
пишет:
«Он ждет,
что б
с
сумрачной
за рей
П огас
печальной
жизни
пл аме нь.
Сумрачной
вместо
вечерней...
...
Но
кто
в
сиянии
л уны
Идет,
укра дкою
ступая.
В
сиянии
луны
—
нельзя
ск азат ь;
при
свете
лу ны.
...
Пе щеры
темная
прохлада
Его
с крывает
в
летний
зно й.
98
Прилагательное
темная
лучше
идет
к
пещере,
нежели
к
прохладе;
притом
прох лада
и
скр ы вать
—
не
годится...
29
...
И
часто
игры
вол и
праздной
Игр ой
ж есток ой
сменены.
И гры
воли
праздной
—
мудреное
выражение».
Непонимание
поэтики
псих ол огич ес ког о
романтизма
про
должалось
ино й
раз
долго,
и
тогда,
когда
семантические
прин
ципы
его
уже
были
усвоен ы
и
перестроены
реалистической
поэтикой
Пушкина.
В
обширной
рецензии
на
IVиV
главы
«Евгения
Он еги на»,
помещенной
в
антиромантическом
«Атенее»
Па в лова
в
1828 году ( ч.
1,
No
4), автор («В»)
нап ад ает
на
множество
выражений
в
духе
ром ан тиче с кой
шк о
лы.
Та к,
он
замеч ает :
«Любви безумные страданья
—
зву чн ые
слова,
но
без
знач ен ия;
точно
так
же
как
и
Разумные
отрады».
Ил и:
«Младой и свежий поцелуй .
Мы
вправе
ожидать,
что
этот
поц е луй
постареет,
увянет
со
временем.
Не
соображено
каче
ст во
с
предметом». (Этот
стих
Пушкина
переведен
из
А.
Шенье.)
О
стихе
—
«неверный зацепляя лед»
—
«эпитет
«неверный»
ко
льду
е два
ли
вер ен...»
—
о
«Вдался в задум
чи вую
ле н ь»: «модное,
часто
повторяемое
вы ражен ие,
в
кото
ром
и
с
разд умчивы м
вниманием
не
скоро
добьешься
см ыс
лу».
О
ст иха х:
Аи
любовнице
подобен
Блестящей.
ветреной,
живой,
И
своенравной,
и
п устой...
«Будем снисходительны:
согласимся,
что
люб овн ица
мо
жет
быть
и
живая
и
ветреная,
но
бл естящ ая
и
п устая
—
обра зы
без
лиц.
Иль
ти хий
разделять
досуг. ..
То
же,
что
и
зад у мч ивая
лень» 30.
О
«сиянье розовых снегов»
—
«озаренный заходящим
солнцем
сне г
мож ет
казаться
розовым,
но
сиянье
снега...
во ля
ваша,
гг.
но вовводители...»
«Так пчел из лакомого улья На ниву шумный рой летит»
—
«Как у наборщика не дрогнула рука набрать этот лакомый
улей?» — «Все
ж адной
скуки
сыновья»
и
«Пред сонной
29 Характерный пример,
когда
подлежащим
становится
не
предмет,
а
качест во
предмета.
30 См.
в ыше
об
эпитете
тихий
у
Ж уковског о
и
Баратынского.
99
скукою
полей»
—
«Есть ли какой -н и бу дь
из
Европейских
языков
те рпе лив ее
Русского
при
нал о гах
им ен
прилагательных:
что
хочешь
поставь
пр ед
существительным,
все
выдержит.
Скука
жадная,
хладна я ,
алчная,
гладная,
сонная
и
пр.
и
пр.
Однообразный
и
безумный,
Как
вихорь
жизни
м олодой,
Кружится
вальса
ви хорь
шумный...
Одн ообраз ны й,
шумный,
безумный
вихорь
—
под тве рж
дение
вы ше
зам ечен но й
гибкости
языка
наш его
относительно
имен
прилагательных;
не
назвать
ли
нам
эпитетов,
п одо бных
удалой
кибитке ,
лакомому
улью,
безумному
вихрю,
не
имею
щих
приметного
отношения
к
своим
существительным,
вместо
прежнего:
име на
прилагательные,
новым
слово м:
имена
приле-
п ител ьны е.
В
таком
случае
мы
по
кра йней
мер е
не
затрудни
ли сь
бы,
куда
отчислить
и
л ица
самолюбивые
и
негодование
ревнивое,
—
и
сотню
других
мелочей,
к ото рые
заживо
цепля
ют
людей,
учившихся
по
старым
г р амма тика м».
Характерны
и
замечания
архаического
классициста
Д.
И.
Хвостова
на
с ти хотв орен ия
Пушкина
(сборник 1826
года).
Д.
И.
Хвостов
за м е ча е т: «"Ненастный день потух"
—
день
проходит,
кончается,
исчезает,
а
не
т ухне т...
"И краткой
теплотой
согретые
луга":
Автор,
верно,
хот ел
ска зат ь:
"на
кра тк ое
вр ем я",
а
краткой
теплоты
быть
не
может...
"Златой
Итал ии
роскошный
гражданин".
Что
за
эпитет
земл е
какой
бы
то
ни
был о
золотой?
Он
идет
ближе
к
нашей
Сибири...» 31
Та ким
об разом ,
современники,
ин ой
раз
в ра ждебно
на
строенные
по
отношению
к
тв орч ест ву
молодого
Пушкина,
видели
в
нем
сторонника
н овых
методов,
нового
стиля,
откры
т ого
романтиками
шк олы
Жуковского,
притом
сторонника,
подавляющего
их
своим
бесспорным
огромным
д аро вани ем
и
не прия тно го
им
своим
повсеместным
усп ехо м.
Они
не
ошибались.
Пушкин
был
действительно
учеником
Жуковского
и
Батюшкова,
особенно
в
1810- е
годы.
Это
поло
жение
был о
так
кре пко
установлено
в
нашей
науке
и
критике
еще
Белинским,
что
настаивать
на
нем
нет
надобности.
При
это м
дав но
уже
ста ло
достаточно
ясным,
что
юноша
Пуш кин
и
по
ми ровоззр е нию
и
по
темпераменту
был
ближе
к
«языческому»
Батюшкову,
чем
к
«кроткому мечтателю»
Жу
ковскому,
что
ча ще
мы
найдем
у
Пушкина
как
бы
переклички
с
Бат юшк овым ,
чем
с
Жуковским.
Правда,
в
таком
вопросе
подсчеты
(чаще или реже)
ни
к
чему
не
ведут,
да
и
от кликов
271.
31 «Литературный архив», I, изд .
АН
СС СР,
М.
—
Л. , 1938, стр.
100
Жуковского
в
творчестве
молодого
Пушк ина
немало.
Но
дел о
не
в
это м,
вооб ще
не
в
том,
ко му
больш е
или
меньше
«подражал»
Пуш ки н,
у
кого
брал
те
или
ины е
мотивы,
выра
жения
и
т.
п.
А
дело
в
том,
каково
иде йно е
и
стилистическое
со дер ж ание
стихов
молодо го
Пушкина,
к
какому
теч ению
русской
мысли
и
искусства
его
следует
отнести.
Поскольку
же
речь
иде т
о
той
стороне
т во рч ества
Пушкина,
которая,
бес
спорно,
возникла
на
основе
культуры
мысли
и
стиха
так
назы
ваем ых
«карамзинистов»,
психологических
романтиков,
пра
ви ль нее
говорить
скорее
о
Жуковском,
чем
о
Батюшкове,
потому
что
име нно
Жуковский
полнее
всего,
глубже
всег о,
ши ре
всего
выразил
сущ но сть
этой
культ уры ;
и
все
связанное
с
нею
у
Пушкина,
яв ляяс ь
следствием
включения
его
в
теч ени е
школы,
возг лавлен н ой
Жу ко вски м,
может
быть
осмыслено,
как
следствие
реформ
Жуковского.
Потому
что
проблема
заключа
ет ся
не
просто
во
вл ия нии
Жуковского
или
Батюшкова
на
Пушкина;
пусть
Батюшков
больш е
повлиял
на
не го;
а
пробле
ма
заключается
в
том,
какие
вопро сы
поставила
перед
Пушки
ным
история
человечества
—
и
отечества
—
в
искусстве;
эти
же
вопросы,
если
сосредоточить
сво е
внимание
в
настоящей
главе
на
одн ом
из
них
—
на
«открытии человека», наилучше
воплотились
в
Жуковском.
О
других
вопросах,
выдвинутых
то же
романтизмом,
но
уже
вовсе
не
Жуковским,
—
речь
буде т
в
другой
главе.
Не
настаивая
на
исключительности
выде лен ия
именно
темы:
Пушкин
и
Жу ко вс кий,
—
я
останавливаюсь
на
не й,
так
как
она
существенна
в
данной
св язи
мыслей.
Здесь
следует
различать
два
род а
материала;
во- пе рвых ,
это
стихотворения
моло дог о
Пуш ки на,
связанные
с
Жуковским
общностью
моти
вов
и
те м,
во-вторых,
—
стихотворения,
не
им ею щие
этого
приз на ка,
тематически
и
по
мот ива м
непохожие
на
Жуковско
го.
В
первых
стилистическая
(и идейная)
связь
со
школой
Жуковского
более
за мет на
и,
так
сказать,
естественна.
Во
вторых
же
о на,
пожалуй,
важнее,
потому
что
здесь
мы
видим,
что
дело
не
во
влия ни и
Жуковского
как
поэтической
индиви
дуальности,
а
в
восприятии
Пушкиным
объективных
завоева
ний
школы
Жуковского,
независимо
от
личного
характера
поэзии
последнего.
Приведу
примеры
то го
и
другого
рода ,
примеры
на
выборку,
не
ставя
себе
нимало
задачу
исчерпать
материал.
Вот
начало
стихотворения
«Мечтатель» 1815 года:
По
не бу
крадется
лун а,
На
холме
т ьма
сед е ет,
На
в оды
пала
ти ши на,
С
до лины
ветер
веет,
101
Молчит
певица
вешних
д ней
В
пустыне
темной
рощи,
Стада
почили
средь
полей,
И
тих
полет
по лнощи. ..
Здесь
в се,
на чин ая
с
размера
(строфы) «Певца во стане
русских
воинов»,
ведет
нас
к
Жуковскому,
—
и
пей за ж,
и мею щий
назначением
быть
эмоциональной
увертюрой
к
даль
нейшему,
и
стиль,
—
на пр и ме р , «тьма седеет», тишина пала
на
вод ы
(тишина
—
эмоц ия,
а
не
зв уча ние
или
тем п), и опять
«тих полет полнощи», где и тих и полет
—
слова,
ото р ван
ные
от
предметного
знач ен ия,
субъективированные
и
субъекти
вирующие
описание.
То
же
и
д альше :
Главою
на
рук у
склонен,
В
забвении
глубоком,
Я
в
сладки
думы
погружен
На
лож е
один оком;
С
волшебной
ночи
темнотой,
При
месячном
си ян ья,
Сл ета ют
ре звою
толпой
Крылатые
мечтаньи.
И
тихий,
тихий
льется
глас,
Дрожат
златые
стру ны .
В
глухой,
без мо лвн ый
мрака
час
Поет
мечтател ь
юн ый;
Ис полн ен
тайною
т оско й,
Молчаньем
вдохновенный,
Летает
ре звою
ру кой
На
лире
оживленной.
Есл и
«Мечтатель»
—
это
как
бы
квинтэссенция
элегий
Жуковского
в
передаче
юноши
Пушкина,
то
квинтэссенция
баллад
Жуковского
—
в
пушкинском
стихотворении
то го
же
г ода
«Сраженный рыцарь» .
Характерно,
что
эта
б алла да
совсем
лишена
сюжета:
Пушкин
уже
в
1815 году понял,
что
в
ба лла де
стиля
Жуков
ск ого
дело
совсем
не
в
сю жет е,
не
в
событиях,
всегда
«внешних», а в атмосфере легенды,
—
и
он
создает
эту
таи н
с твенную ,
жуткую
и
в
то
же
время
обаятельную
атмосферу
героической
таинственности
в
своем
стихотворении,
создает
теми
же
методами,
что
Жуковский.
Совсем
тесно
связано
с
Жуковским
с ти хотв орен ие
«Певец» 1816 года,
яв ля ющ ееся
как
бы
вариацией
на
тему
«Бедного певца»
Жуковского,
с
его
л ей тмо тива ми,
его
синтак
сическим
напевом,
его
ун ылой
эмоцией,
его
сем а нтико й:
102
Сл ыха ли
ль
вы
за
рощей
глас
ночной
Певца
любви,
певца
своей
пе чали?
Когда
поля
в
час
утренний
молчали,
Свир ел и
зв ук
унывный
и
простой
—
С лыха ли
ль
вы?
и
т.
д.
Может
быт ь,
шед евр
пушкинской
учебы
у
Жуковского
—
это
превосходное
стихотворение
1816 года «Желание», стихо
творение,
выделенное
Белинским.
В
нем
замечательно
и
то,
что
Пушкин
как
бы
подхватывает
самое
мировоззрение
Жу
ковского,
его
неприятие
объ ект ив ного
мир а
и
бегс тв о
из
него;
он
призна ет
жизнь
привиденьем,
мечтой,
а
эмоцию
—
и
ре
альностью
и
ценностью.
В
то
же
время
Пушкин
усваивает
и
понимание
противоречивости,
зы бкости
граней
чувства,
—
отсюда
и
оксюморон
«В них горькое находит наслажденье»;
стилистический
сост ав
стихотворения
—
превосходный
об ра зец
психологического
романтизма;
характерна
и
оторванность
темы
скорбной
люб ви
от
какой
бы
то
.ни
был о
объективности;
в
стихотворении
нет
ничего
ни
об
обстоятельствах
печального
романа,
ни
даже
о
гер о ине
его,
а
есть
только
мелодия
«чистого»
чу вст ва,
самому
себе
довлеющего:
Медлительно
влекутся
дни
мо и,
И
кажд ый
миг
в
унылом
сердце
множит
Все
горести
несчастливой
любви
И
все
мечт ы
безумия
тревожит.
Но
я
молчу;
не
с лышен
ропот
мой ;
Я
слезы
лью ;
мне
слез ы
утешенье;
Моя
душа,
плененная
тоской,
В
них
горькое
находит
наслажденье.
С)
жизни
час!
лети,
не
жа ль
тебя,
Исчезни
в
т ьме,
пуст ое
привиденье;
Мне
дорого
любв и
м оей
мученье,
—
Пускай
ум ру,
но
пусть
ум ру
любя!
Пр ивед у
еще
два
примера,
о дин
—
чи сто
лирический,
другой
—
отчасти
балладный.
Вот
стихотворение
«К***» 1817 года:
Не
спрашивай,
зачем
унылой
думой
Среди
забав
я
часто
омра чен,
Зачем
на
все
подь ем лю
вз ор
угрюмый,
Зачем
не
мил
мне
сладкой
жизни
сон;
Не
спрашивай,
з ачем
душой
остылой
Я
разлюбил
веселую
любовь
И
никого
не
наз ы ваю
мил ой:
Кто
раз
любил,
уж
не
полюбит
вновь;
Кто
счасть е
знал,
уж
не
узнает
счастья.
На
краткий
миг
блаженство
нам
дано:
103
От
юно сти ,
от
нег
и
сладострастья
Останется
уныние
одно.
Отмечу
здесь
хо тя
бы
лейтмотив
—.
унылой,
уг рюмы й,
д ушой
ос тыло й,
уныние,
или
оксюморон
«Я разлюбил ...
лю
б ов ь»; или формула,
совсем
как
бы
взятая
из
Жуковского:
«На краткий миг блаженство нам дано».
Вот
незаконченное
стихотворение
1819 года:
Там
у
л еска
за
бл ижне ю
до линой ,
Где
весело
т ечень е
светлых
струй,
Младой
Эд вин
прощался
там
с
А лино й;
Я
слышал
их
последний
поцелуй,
Взошла
луна
—
Алина
там
сид ела,
И
тягостно
ее
ды шала
грудь.
Взошла
заря
—
Ал ина
все
глядела
[Сквозь]
белый
пар
на
опустелый
путь.
Там
у
р учья,
под
и вою
про щал ьн ой,
[В час утренний]
пастух
ее
ви дал,
Когда
к
ручью
волынкою
печальной
В
по лд нев ный
жар
он
стадо
заг он ял.
Прош ли
года
—
другой
уж
в
половине;
И
в ижу
я
—
вдал и
Эдвин
идет .
Он
шел
грустя
к
дубраве
по
д олин е,
Где
весело
т ече нье
свет л ых
вод.
Глядит
Эдвин
—
под
ивою,
где
с
м илой
П ро щался
он,
стоит
святой
чер не ц.
Пос тавлен
крест
над
но вою
могилой,
И
на
кресте
завялых
роз
вене ц.
И
в
нем
душа
с тесн илась
вдруг
от
страха .
[Кто здесь сокрыт? ]— читает надпись он —
Главой
поник...
упал
к
н огам
монаха,
И
слышал
я
его
последний
сто н.. .
Я
думаю,
вс як ий,
кто
хоть
сколько-нибудь
знаком
с
поэ
з ией
Жуковского,
узнает
здесь
всю
ее,
—
вплоть
до
им ен
—
Эдвин
(см .
у
Жуковского
«К Эдвину», 1807; «Эльвина и
Эд вин », 1814) и Алина («Алина и Альсим», 1814).
Нуж но
здесь
же
о гов орит ь,
что
известная
пародия
на
«Двенадцать спящих дев», включенная в « Ру с л а на
и
Людми
лу », нисколько не противоречит материалу,
указанному
выше.
Это
во все
и
не
б ыла
враждебная
пародия,
и
Пушкин
не
хотел,
конечно,
дискредитировать
ею
своего
учителя
(так понимал это
и
Белинский).
Ма ло
тог о,
еще
раньше,
в
«Тени Баркова»
Пушкин
пародировал
Жуковского,
но
это
была
шутка
также
104
вполне
д ру ж еская.
Притом
обе
па род ии
только
показывают,
насколько
тонко,
изнутри
стиля
и
направления,
ус воил
и
понял
Пушкин
поэзию
Жуковского.
Ман ера
же
Жуковского,
его
пр ин ципы
рассеяны
у
мо ло
дого
Пушк ина
п овсюд у,
причем
трудно
отделить
в
ряде
сл у
чае в,
где
это
Жуковский,
где
—
Батюшков
(да это и не нуж
но ).
В
конце
концов
чаще
всего
это
не
Жуко вс кий
и
не
Батюшков,
а
Пушк ин,
но
Пу ш кин,
близкий
Жуко вс кому
и
Батюшкову.
В от,
например,
Пушкин
пишет
в
1815 году:
Увя ла
прел ес ть
наслажденья,
И
снова
вкруг
меня
угрюм ой
скуки
тен ь. ..
(«Итак,
я
счастлив
был...»)
Это
—
принципы
Жуковского.
Не
говоря
о
лейтмотиве
слов,
—
харак т ерн а
сем а нтика :
увя ла
даж е
не
душа
и
даже
не
наслажденье,
а
прелесть
наслаждения;
от
чув ст ва
отвлекается
его
оттенок,
и
им енно
об
этом
оттенке
говорится:
увяла;
тем
сам ым
объективность
слова
увяла
исч ез ает
(ср .
в
«Осени») и
вы дв игае тся
субъективное
в
нем .
Так
же
и
с
тенью;
не
тень
угрюмая,
—
что
сам о
по
с ебе
б ыло
бы
уже
субъективно-
романтической
формулой,
но
тень
уг рю мой
скуки;
угрюмость
—
эмо ц ия;
угрюмая
скука
—
эмо ция
эмоции;
тень
угрюмой
скуки
—
дальнейшее
у тон чение ,
ню анс
эм о ции,
—
и
тень
ст ано ви тся
не
зрительным
восприятием,
а
оттенком
эмоции,
и
«вкруг
м еня»
—
уже
не
определение
объективно-
пространственное,
а
образ
эмоции,
как
бы
охватывающей
ге
роя ,
обнимающей
ег о.
Или
«Элегия» 1816 года
—
«Я видел смерть»; в ней
есть
строфа:
П рост и,
печальный
мир,
где
темная
стез я
Над
бездной
для
меня
лежала,
—
Где
вера
тихая
меня
не
утешала,
Где
я
любил ,
где
мне
любить
н ел ьзя!
И
сам ое
настроение
здесь
перекликается
с
Жуковским,
и
стиль.
Темная
ст езя
—
здесь
снято
световое,
зрительное
значение
слова
темная;
она
значит
здесь
что-то
вроде:
бе з
вестная,
мрачная,
печальная,
скромная
—
все
вм ест е;
а
стезя
—
не
дорожка,
конечно,
а
скорбный
и
по этич ес кий
жизненный
путь.
Сюда
же
и
«над бездной» (логически говоря,
что
это
за
дорога,
да
еще
темная,
над
бездной?
Где
же
она
лежала?
В
воздухе?).
О
тихой
ве ре
нечего
и
говорить
(вспомним этот
эп итет
у
Жуковского).
И
дале е:
Прости,
светило
дня,
прости,
небес
завеса,
105
Немая
н очи
м гла,
де нницы
сладкий
ч ас!
Укажу
на
восклицательные
конструкции,
на
перифразу
и
метафору,
поэтически
(лирически)
заменяющие
предметно-
объективное
называние
солнца
и
неба ,
на
эпитеты,
э моцио
нально-качественные
слова,
при да ющие
хара кт е рное
зву чан ие
существительным
во
вт ором
стихе
(немая,
сл адкий)
и
являю
щиеся
опорой
смысла
стиха.
Тот
же
характер
имеет
пушкинская
«Элегия» 1817 года:
Опять
я
ваш ,
о
юные
друзья!
Ту манн ые
сокрылись
дни
разлуки:
И
брату
вновь
простерлись
в аши
руки,
Ваш
резвый
круг
увидел
сно ва
я.
Все
те
же
вы,
но
сердце
уж
не
то
же:
Уже
не
вы
ему
всего
дороже,
Уж
я
не
тот...
Н евид имой
стез ей
Ушл а
по ра
веселости
б есп ечно й,
Уш ла
навек,
и
жизни
скоротечной
Луч
утренний
бл едн еет
надо
мной...
Это
опять
та
же
абсолютная
в
своей
лирической
отре
шенности
волна
эмо ци и,
воплощенная
в
зыбких
беспредметных
словесных
зн а чени ях.
«Туманные сокрылись дни разлуки»
—
характерен
э питет ,
в
котором
выветрено
до
кон ца
объективное
значение:
туманный
день
—
это
определение
пог оды,
туман
ные
д ни,
может
быть,
еще
то
же,
но
ту ма нные
дни
разлуки
—
здесь
уже
нет
ре чи
о
погоде,
и
туманные
—
уже
только
определение
на ст роен ия,
окрасившего
внешний
ми р;
особенно
же
это
ощутимо
и
потому,
что
«объективное»
словосочетание
туманные
дни
не
только
перевернуто
дополнением
разлуки,
но
и
разделено
глаголом
сокрылись
(необычная для Пушкина
инверсия
разорвала
привычность
словосочетания).
И
все
же
—
осн ов а,
лейтмотив
стих а,
его
смысловая
опора
—
его
на
чальное
слово
«туманные», слово притом « ме д ле нно е», звуча
щее
затяжной
мелодией
из-за
св оих
М
и
Н.
И
стих,
говоря
щий,
казалось
бы,
о
радостном,
о
возвращении
к
дру зья м,
все
равно
звучит
печально.
И
хотя
туманные
дни
«сокрылись», но
ли шь
по
ло гике
фразы,
а
логика
фразы
в
данной
с исте ме
п ре
одолевается
психологией
отдельных
слов,
ие ра рхия
смыслов
синтаксиса
подчинена
иерархии
ас со циа ций.
Дл инны й
певучий
стих
помогает
этому.
Туманный
—
эта
эмоция
накладывает
сво ю
печать
на
стих,
опирающийся
на
другом
его
конце
на
печальное
слово
разлуки.
Это
и
есть
сложность
и
про т иво ре
чи вос ть
чувства,
культивируемая
в
си стем е
Жуковского.
Мо
лод ой
Пушкин
к
1817 году едва ли не победил Жуковского в
тонком
искусстве
воссоздания
субъективного
переживания.
Так
106
же
характерно
и
выр ажен ие
«Ваш резвый круг», —
не
лю ди
резвые,
а
кр уг
резвый,
круг
—
п онятие
неопределенно-
отвлеченное,
и
резвый,
следовательно,
не
характеристика
соци
альн ог о
поведения
людей,
а
тон ус
эмоции,
заключенной
скорее
в
авторе,
чем
в
д рузь ях.
И ли: «Луч утренний бледнеет надо
мной », —
бле днеет
никак
не
в
смысле
цветового
или
да же
светового
определения,
а
в
смысле
определения
состояния
души,
воспринимающей
солнечный
луч
(для меня самый свет
солнца
б ле ден ), а луч солнца,
значит,
т оже
не
объективный
фа кт
света,
исходящего
от
не бес ного
тел а,
а
ассоциативный
комплекс,
что-то
вроде
символа
жиз ни,
радости
бытия,
приро
ды
и
т.
п.
Вот
строфа
Пушкина
1818года(неоконченное
стихотво
р ение):
И
для
[меня]
воскресла
радость,
И
душу
взволновала
вновь
Тоски
мучительная
сладость
[И сердца первая]
лю бов ь.
З десь
дан
тройной
псих оло гич ески
оправданный
оксюмо
р он;
во- пер вых ,
тоски
сладость;
во- вторых ,
мучительная
сла
дость;
в-третьих,
—
для
меня
воскресла
радость
и...
тоски
сладость.
Все
это
—
еще
больш е е
углубление
в
пределах
системы
Жуковского.
Р ома нтич еск ий
пейзаж
д уши
дан
в
тех
же
принципах,
что
и
у
Жуковского,
в
стихотворении
1821 года « Кто
видел
край,
где
роскошью
природы...».
Это
—
в
большей
сте пен и
свобод
ная
вариация
на
т ему
стихотворения
Жуковского
«Мина» («Я
з наю
край,
там
него й
дышит
ле с»), чем на тему знаменитой
песни
Гете,
являющейся
ор игин ал ом
этого
переводного
стихо
творения
Жуковского.
Пушкин
пиш ет
о
то м,
что
он
видел
сам
на
юге,
—
и
все
же
он
еще
настолько
романтик,
что
лишь
с
трудом
прорывается
через
св ою
эмоцию
к
вызва вши м
ее
ре
альным
вещам,
да
так
и
не
до би рае тся
до
них.
Вот
первая
строфа
пушкинского
стихотворения:
Кто
видел
край,
где
ро скош ью
природы
Оживлены
дуб равы
и
луг а,
Где
весело,
сине я,
блещут
воды
И
пышные
ласк аю т
б ерега,
Где
на
холмы,
под
лавровое
своды,
Не
смеют
лечь
угрюмые
сне га?
Ска жи те
мн е:
кто
видел
край
пр еле стн ый,
Где
я
любил,
изгнанник
неизвестный?
«Роскошью природы оживлены дубравы и леса»
—
это
не
о писа ние
леса;
никаких
признаков
объективного
описания
107
здесь
нет,
нет
да же
определяющих
эпитетов;
а
есть
лишь
эмоционально-оценочные
сло ва:
роскошью,
оживлены.
«Где
вес ело ,
синея,
блещут
воды»
—
это
не
описа ние
моря,
ибо
да же
«конкретное»
определение,
слово
«синея»
—
слишком
обще;
когда
же
оно
окружено
с лов а ми-э моци ями,
«весело
бле щ ут », очно само уже скорее грворит о яркости бытия,
чем
о
цве те
мо ря.
«И пышные ласкают берега»
—
то
же
сам ое;
пы шны е,
ласк аю т
—
все
это
включено
в
мел о дию
ле йтмо тив а:
роскошью,
оживлены,
весело,
блещут,
пышные,
ласкают;
а
описания
объекта
все
еще
нет
и
не
будет,
потому
что
оно
заменено
музыкальным
отблеском
настроения
субъекта.
И
пусть
это
настроение
буд ет
радостное,
све тло е,
а
не
воплощен
ное
в
сим во лах
вечера
или
ночи,
как
у
Жуковского,
—
метод
здесь
тот
же
самый.
В
середине
ст ихот воре н ия
пробиваются
конкретные
черты
Крыма;
Пушкин
их
и
не
избегает;
но
они
погружены
в
пл от
ную
атмосферу
эмо ци и,
поглощающую
их.
Я
помню
гор
высокие
вершины
И
беглых
вод
веселые
струи,
И
те нь,
и
шум,
и
красные
долины,
Где
бедные
простых
та тар
семьи
Среди
забот
и
с
дружбою
взаимной
Под
кровлею
ж ивут
гост еприимной !
И
шелковиц
и
тополей
прохлада,
В
те ни
ол ив
уснувшие
стада,
Вокруг
дом ов
решетки
ви ног рад а...
и
т.
д.
Изобразить
крымский
пейзаж,
быт,
людей,
конк рет ную
жизнь
объективно,
реалистически
в
1821 году он еще не мог .
И
в
этой
строфе
тон
всему
да ют
слова-качества,
прит ом
з ву
чащие
как
качества
эмоций
—
«высокие вершины»
—
это
в
да нном
контексте
как
бы
взлет
д у ши; «веселые струи», «и
тень
и
ш ум» (по принципу « Ка к
с лит
с
пр охла дою
растений
ф им иа м »), «красные долины», красные,
то
ест ь
прекрасные,
и
в
это м
контексте
жители
—
как
образ
идиллии,
мечты
о
простом
человеческом
счастье
жизни
в
природе.
В
следующей
строфе
пейза ж
подчинен
опя ть
краскам
счастья,
света,
радо
сти :
И
ярк ие
лучи
зл ат ого
Фе ба,
И
синий
свод
полуденного
н еба.
И,
нако нец,
последняя
строфа
совсем
пр иб ли жает
нас
к
манере
Жуков с к ого:
108
И
там,
где
мирт
шумит
над
падшей
урной,
Уви жу
ли
вновь
сквозь
темные
леса
И
св оды
ска л,
и
м оря
блеск
лазурный,
И
ясные,
как
радость,
небеса?
Утихн ет
ли
волненье
жизни
бурной?
Минувш их
лет
воскреснет
ли
краса?
Приду
ли
вновь
под
сладостные
тени
Д ушой
уснут ь
на
лоне
мирной
лен и?
«И ясные,
как
радость,
небеса»
—
это
как
бы
формула
стиля:
небеса,
предметный
объект,
сравниваются
с
радостью -
эмоцией
и
перестают
быть
предметным
объектом;
и
э питет
ясные
небеса
уже
не
значит
—
безоблачное
небо,
а
значит
прим е рно
то,
что
вы ражен ия :
ясный
дух,
светлое
настроение,
светлая,
ясная
ж изнь
и
т.
п.
Не
стану
комментировать
другие
ст рок и.
Но
вот
что
примечательно:
это
стихотворение
—
не
лицейской
поры,
а
уже
1821 года .
М ало
тог о
—
оно
не
слу
чайное
явление,
от
к оторого
Пуш кин
мог
ле гко
отказаться.
В
след ую щем, 1822, году он начинает стихотворение « Таври д а»
и
опять
совсем
в
том
же
с тиле,
например:
Счаст ли вый
край,
где
бл ещут
воды ,
Лаская
пышные
бр ега,
И
свет лой
роскошью
природы
Озарены
холм ы,
л уга,
Где
с кал
нахмуренные
своды...
И
еще
одна
де тал ь:
в
стихотворении
«Кто видел край...»
ест ь
с т ро ч к а: «Златой предел!
любим ы й
край
Эль вины.. .»
Имя
Э льв ина
—
имя
в
стиле
Жуковского,
и
из
Жуковского,
ес те
ственно,
оно
возникло
в
данной
манере.
Мне
необходимо
остановиться
еще
на
одном-двух
приме
рах,
в
которых
близость
к
Жуковскому
вовсе
не
явна,
в
кото
рых
Пушкин
ближе
к
Батюшкову
или
уже
самостоятелен,
но
в
которых
при нц ипы
психологического
романтизма
обосновывают
стиль.
К
1817 году относится послание «Кр ав ц ов у», один из ше
девров
тво рч еств а
моло до го
Пушкина:
Не
пугай
н ас,
ми лый
друг ,
Гроба
близ ки м
новосельем:
Право,
нам
таким
без делье м
Зани м ат ься
недосу г.
Пусть
остылой
жизни
чаш у
Тянет
медле нно
другой;
Мы
ж
утратим
юность
наш у
Вместе
с
жизнью
дорогой;
Каждый
у
своей
гробницы
Мы
прися дем
на
порог,
У
пафосск ия
царицы
109
Свежий
выпросим
венок,
Лишний
миг
у
верной
лени ,
Круговой
нальем
со суд,
И
толпою
на ши
т ени
К
т ихой
Лет е
убегут ;
Смертный
миг
наш
буд ет
светел:
И
по дру ги
шалунов
С оберут
их
легкий
пепел
В
урны
пр аздн ые
пиров.
Сама я
мысль,
тема
это го
стихотворения,
как
и
трактовка
темы,
характерна:
это
мысль
о
л егк ой,
светлой
смерти;
в
ней
—
и
непр ият ие
мира,
и
го тов нос ть
покинуть
его,
и
ку льт
кра
соты,
молодости,
счастья,
—
даж е
под
гнето м
приближения
к
гибели.
«Языческое»
ми ровос при яти е
Батюшкова
побеждает
здесь
резиньяцию
Жуковского.
Ст ихот воре ние
близко
к
восхи
тительному
произведению
Батюшкова
«Отрывок из элегии»
(ок.
1810—1812), в котором в тех же тонах и близким стилем
славится
светлая
смерть
в
объятиях
любви
(следует заметить,
что
«Отрывок из элегии»
Батюшкова
был
напечатан
только
в
1834 году) .
Философия
Пу шкина
в
по сла нии
«Кривцову»
не
сходна
с
философией
Жуковского.
С
точки
зр ения
серьезной
и
печальной
поэзии
смерти
у
Жуковского,
легкомысленный
тон
стихотворения
П уш кина
да же
кощунствен.
С
Батюшковым
сбл ижа ют
это
стихотворение
и
ан тич ные
декорации
ег о.
Но
Батюшков
или
Жуковский,
—
ст ихо тв ор ение
на писа но
в
стиле
психологического
романтизма.
Оно
н аб расыв ает
пок ров
изящ
ной
беспечности
на
суровую
действительность,
не
хоче т
видеть
ее.
Оно
вед ет
читателя
в
мир
мечты
о
красоте,
вечной
юности
и
свободе,
—
так
же,
в
сущности,
как
бал лады
Жук ов ско го
ведут
читателя
в
мир
другой
мечты,
но
тоже
мечты.
И
тот
и
др угой
мир
—
в
с в ободной
д уше
поэта,
мучительно
рвущейся
из
реа льног о
ми ра
неправды
и
зла
или
же
смеющейся
над
н им,
свободно
отбрасывающей
его
вл ас ть.
Но,
возносясь
над
дур
ной
реальностью,
романтизм
эт ого
склада
не
хоче т
бороться
с
нею
прямо,
в
ло б.
Он
уклоняется
от
прямой
борьбы
с
трагиз
мом
подлинной
жизни.
Отсюда
и
из ящ ная
перифраза
п ервых
двух
стихов,
оправленная
в
тон
др ужеск ой ,
легкой,
почти
ш ут
ливой
беседы.
«Гроба близким новосельем»
—
это
легче,
чем
«смертью» .
Слишком
реально
страшна
см ерт ь,
чтобы
называть
ее
прямо
в
ст и хах,
посвященных
теме
ил и,
вернее,
настроению
вечной
молодости.
Не
так
ли
ра зве
еще
Карамзин
в
светлой
ка рт ине
идеального
счастья,
в
«письме»
о
швей цар цах
и
их
вольной
ж изни
в
при род е
пи сал: «Вся жизнь ваШа есть,
ко
нечно,
приятное
сновидение,
и
самая
рок ова я
стрела
должна
кротко
влетать
в
грудь
вашу,
не
возмущаемую
тиранскими
но
страстями!» Здесь тоже
—
не
смерть,
а
«роковая стрела» .
Совсем
ина че
будет
писать
Пушкин
о
смерти
в
тридцатых
годах.
Далее
—
послание
«Кривцову»
все
написано
языком,
оторванным
от
предметности
и
обращенным
к
настроению.
Отсюда
угл убле н ие
с ем а нтики.
Тя нет
чашу
жизни
—
это
уже
не
определение
«внешней»
жизни
человека
в
обществе;
но
ока зы вает ся
еще,
что
«остылая»
—
не
чаша,
а
жизнь;
«естественное»
словосочетание
«остылая чаша»
разбивается,
и
с
ним
как
логика
рац иона ли с тиче с кого
словоупотребления,
так
и
возможность
предметной
реализации
словесного
с мыс ла.
Остылый.
—
это
уж
совсем,
даже
в
качестве
про сто й
метафо
ры,
—
не
температурное
определение,
раз
оно
отно сится
не
к
чаше,
а
к
жизни;
а
наличие
в
этом
же
стихе
чаши
придает
появлению
эпитета
остылой
вероподобность.
«Вместе с
жизнью
д орог ой »; эпитет дорогой
—
это
слово,
как
бы
уте
рявшее
конкретное
значение
и
ставшее
словом-нотой;
ведь
оно
не
значит
ни
«стоящей дорого», ни «дорогой
для
меня» (в
смысле,
например,
выражения
«дорог как память»); а значит
оно
только
эмоциональную
о цен ку,
положительную,
т еплу ю,
дружескую,
—
в
смысле
пр име не ния
сло в
доро го й,
д орог ая
как
ласковых
слов
люб ви
или
дружбы.
То наль но сть
стихотво
рения
—
светлая,
легкая;
отсюда
лексический
лейтмотив
таков:
юн о сть,
дорогой,
присядем,
у
пафосския
царицы.
свежий,
венок,
верной
и
т.
д.
Э тот
лейтмотив
поглощает
противореча
щие
ему
тональности
слов:
так,
слово
гробница
звучит
не
как
страшное
слово,
а
как
напом инание
об
изящных
архитектурных
сооружениях
Эллады,
об
искусстве,
о
чем-то
красивом,
что
сочет ает ся
со
свежими
венками
и
пафосской
ца риц ей
(неАф
родитой,
что
б ыло
бы
бол ее
исторично
и
этнографично,
но
менее
«сладостно»). «Л иш н ий
миг
у
вер ной
л ени»: миг
—
это
слово
лейтмотива,
как
и
легкий
бег
времени
(carpe diem).
Вер
ная
лен ь
—
совсем
беспредметно;
коне ч но
же,
нельзя
реализо
ват ь
этот
словесный
образ
предметно,
в
смысле
метафоры,
—
чт о,
мол,
ле нь
нам
верна,
а
мы
—
ей;
значит,
мы,
мол,
л ен
тяи;
здесь
и
лень
—
поэтическая
ле нь
раздумий
и
вдохнове
ни я;
и
верной
—
сл ово
дружбы,
др уж еск ого
тепла,
согре
ваю щег о
все
стихотворение
и
лишь
условно
отнесенного
к
лени.
И
толпою
н аши
тени
К
тихой
Лете
у бегу т.
Легкость
светлого
виденья
торжествует
поразительные
победы
над
тяжестью
предметного
слова.
Тут
помогает
и
са-
Ill
мое
звучание
стихов
(то-,
те,
ти -,
те,
ут:
толпою,
тен и,
тихой,
Лете,
у б егу т ), связывающее все слова единым узлом звука и
смысла.
И
вот
основа
это го
двустишия
—
лейтмотив
тени
убегут
—
рифменные
слова,
поглощающие
в
своей
«бестелесной»
легкости
иной
от те нок
слова
толпа.
А
еще
к
эт ому
эпитет
тихой,
известный
нам
еще
по
Жуковскому,
—
и
эфемерное
виде н ье
Леты.
И
вот
—
концовка
стихотворения,
венчающая
его,
в
кот орой
все
—
шедевр
стиля.
Смертный
—
слово
названо
и
сразу
же
нейтрализовано
и
изменено
воздуш
ностью,
легкостью
слова
миг
и
опорным
рифменным
и
основ
ным
словом
св ет ел;
д алее
все
—
толь ко
свет,
мо лод ост ь,
в ес елье
ду ха,
—
и
подру га ,
и
шал у ны,
и
урны
пиров,
и
праздные,
а
не
пустые,
и
—
победа
Пушкина
—
легкий
пе
пел.
Это
—
действительно
победа
романтизма
над
реальным
миром
в не шних
вещей.
В едь
пепел
действительно
легок,
на
реальный
вес
легок.
Но
Пушкин
не
боит ся
поставить
это т
реал ьн ый
эпитет
потому,
что
у
н его
и
пепел
—
не
настоящий
пе пел
от
сож женн о го
труп а.
И
в
сам ом
д еле,
найдется
ли
безвкуснейший
безу мец- ч итател ь ,
который,
неж ась
в
свет лых
звуках
и
об раза х
мечты,
к от орый
—
иначе
и
п роще
говоря,
—
чит ая
это
стихотворение,
подумает
о
весе
пепла
при
словах
«легкий пепел» .
Предметное
осмысление
этого
словосочетания
исключено
вс ем
текстом
стихотворения.
На
протяжении
всех
предшествующих
стихов
создана
прочная
семантическая
инер
ция
только
психологического
зву чан ия
слова,
преодолевающего
пр едме тно ст ь;
и
все
стихотворение
написано
в
тонах
легкой
рад ост и
жизни:
слово
легкий
—
кл юч
к
стихотворению,
к
его
настроению,
к
его
теме.
И
вот
легкий
пе пел
—
это
здесь
уже
не
предмет,
к ото рый
можно
взвесить,
а
совсем
другое;
легк ий
—
это
восприятие
молодос т и,
жизни,
страданий
и
д аже
смер
ти,
это
—
с воб ода
духа,
несущегося
над
роком;
и
самый
пепел
—
это
более
воспоминание
о
ж изни,
чем
серый
порошок,
продукт
горения.
И
легкий
относится
не
столько
к
воспомина
н ию,
ско ль ко
к
жизни,
о
кот орой
сохраняется
воспоминание.
Сравни
с
э тим
у
Пу шкин а
же:
Вы
нас
уверили,
поэты,
Что
т ени
легкою
толпой
От
берегов
холодной
Леты
Слетаю тся
на
брег
земной...
(«Люблю ваш сумрак неизвестный», 1822)
Легкий
в
контексте
послания
«Кривцову»
—
такое
же
чисто
лирическое
слово,
потерявшее
конкретное
значение
и
сохранившее
лишь
ореол
ассоциаций
настроений,
ка к,
ск ажем ,
112
златой,
в
соответственных
контекстах.
Вот,
например,
сти хи
1816 года:
Богами
вам
еще
да ны
Златые
дни,
златые
ночи,
И
на
любо вь
устремлены
Огнем
исполненные
очи...
(Поздний вариант:
«И томных дев устремлены
На
вас
внимательные
очи».)
Что
зн ачит
конкретно
златые
дн и,
златые
ноч и?
Ник ак
этого
сказать
нельзя.
В едь
не
хорошо
освещенные
солнцем
«дни»
или
—
свечами
—
«ночи», ведь не просто приятные
или
что-нибудь
в
эт ом
духе.
Златые
—
это
зна чит
и
м оло
дые,
и
светлые,
и
блестящие,
и
восхитительные,
и
радостные,
и
полные
творчества
«дни», и полные наслаждения « н о чи», и
многое
д руг ое.
Эго
—
не
символ,
как
у
Блока,
а
отношение,
настроение,
лирическая
тема.
Так
же
и
в
цитир ов а нных
уже
ст и хах : «Златой предел!
Любимый
край
Эльвины» 32.
Так
же,
кон ечн о,
и
в
послании
«К Дельвигу» (1817), поэт
И,
чувствуя
в
груди
огонь
еще
млад ой,
Вос торж енны й
поет
на
лире
з олото й.
Конечно
же,
з десь
говорится
не
о
то м,
что
у
поэт а
лира
с д елана
из
золота,
и
не
о,
том,
что
она
—
з олотого
цвета,
а
о
т ом,
что
она
—
молодая,
вдохновенная,
творческая
и
т.
д.,
то
есть
о
том,
что
поэт
—
молодой,
вдохновенный
и
т.
д.
И
еще
одно
о
стихотворении
«Богами вам еще даны»: романтический
стиль
поддержан
третьим
и
четвертым
стихами
—
«И на
любовь
устремлены».
На
любовь
нельзя
смотреть,
—
а
тол ько
на
л юби мую.
Но
в
стиле,
где
и
очи ,
и
огонь
—
это
пр ежде
всего
чувства,
стремленья,
порывы,
—
и
устремлять
очи
мож
но
на
чувства.
И
легкий
и
златой
вст рет ят ся
вм есте
у
Пушкина
позд
нее,
в
1824 году,
в
знаменитом
стихотворении
«Виноград»:
Не
стан у
я
ж алеть
о
розах,
Увя дших
с
легкою
весной;
Мне
мил
и
виноград
на
лозах,
В
кистях
созревший
под
горой,
Кр аса
мо ей
долины
злачной,
Отрада
осени
зла то й,
П род олг ова тый
и
прозрачный,
Как
пер сты
девы
молодой.
32 Напомню уже приведенное замечание Д .
И.
Х востова
по
пово ду
этого
же
эпитета
—
«златой Италии»: «Что за эпитет земле какой бы то
ни
бы ло
золотой.
Он
идет
ближе
к
нашей
Сибири...»
113
Пушкин
—
уже
на
гр ани
завершения
реализма.
В
эт ом
стихотворении,
написанном
в
«библейском»
ст иле
33, он не по-
прежнему
конкретен;
виноград,
лозы,
кисти,
гор а
—
здесь
настоящие,
предметные,
объективные,
реальные.
Но
в
стихе
«увядших с легкою весной»
—
легка я
ве сна
—
это
то
же,
что
было
раньше;
а
вот
увядшие
здесь
совсем
не
слово-звук
печа
ли
поэта,
а
прямое
обозначение
объективного
процесса
увяда
ния
цветка.
И
в
сти хе
«Отрада осени златой»
—
зл атой
уже
совсем
новый
эпи тет .
Осень
—
златая,
предметно,
зримо;
эпитет
говорит
здесь
о
цвете,
цвете
листьев
осе н ью.
А
все
же
и
здесь,
как
в
«Осени», златой
—
не
толь ко
цвет,
но
и
ра
дость,
и
св ет,
и
ч увс тво,
как
в
прежних
стихах.
Так
еще
раз
мы
во звращ аем ся
к
мы сли
о
том,
что
Пушк ин-ре а ли ст
не
отб росил
романтическую
семантику,
но
использовал
ее
в
ин ых
условиях.
Слово,
став
объективным
и
—
когда
надо
—
пред
м етн ым,
сохранило
у
не го
свой
лирический
колорит.
Утв ер ждая
глубокую
и
органическую
св язь
молодого
Пушкина
с
психологическим
романтизмом,
я
нисколько
не
думаю,
что
м ол одой
Пуш кин
повторяет
Жуковского.
Конечно,
и
мировоззрение
Пушк ина
даже
в
1810-е
годы,
и
его
стиль
явно
отличаются
и
от
мировоззрения,
и
от
стиля
Жуков ско г о.
Пушкин
да же
в
самый
романтический
с вой
период
сохранял
привычки
ясности
мысли,
унаследованные
им
от
XVIII века,
п уш кинс кий
оптимизм
и
материализм
пробивался
через
роман
тику.
Пушкин
скорее
пре обр азо вы вал
мир
поэтической
мечтой,
чем
совсем
покидал
его .
Слово
у
П у шкина
более
точно,
менее
расплывчато,
чем
у
Жуковского.
Все
это
связано
с
те м,
что
Пушкин,
в
отличие
от
Жуковского,
был
поэтом
от кр ыто
и
ак тивн о
прогрессивным
в
политическом
см ысл е,
поэ том
декаб
ристского
направления.
Но
важн о
и
то,
что
он
был
при
эт ом
романтиком
в
молодости
и,
как
романтик,
он
шел
пу тями
той
группы
поэтов,
ко то рая
была
в озгл авл ена
Жуковским.
Это
был
не
весь
рус с кий
романтизм
1800—1810- х
годов,
а
лишь
о дно
его
течение.
Было
и
другое
течение,
во
многом
враждебное
теч е нию
Жуковского,
и
все
же
связанное
с
ни м,
так
как
оба
они
—
рома нти з м.
Пушкин
был
связан
с
ним
не
ме нее
тесно,
чем
со
стилем
Жуковского.
Из
обе их
ветвей
русского
роман
т изма
рос
Пушкин
и
вырос
пушкинский
реализм.
33 О значении этого стиля — см.
во
второй
главе.
114
8
Основная
проблема
р еал изма
—
это
изображение
челове
ка.
Романтизм
поставил
эту
проблему
как
проблему
изображе
ния
характера.
Основной
ме тод
реализма
—
это
объ яс нение
человека
объективными
условиями
его
бы тия.
Романтизм
не
мог
подойти
к
это му
ме тод у,
но
он
дал
материал
для
объясне
ния,
и
его
противоречия
п отре бова ли
этого
объяснения.
Роман
тизм
углубился
в
характер.
Реализм
претворил
его
в
тип.
У си
лия
именно
того
течения
рус ск ого
романтизма,
кото р ое
возглавил
Жуковский,
были
направлены
к
тому,
чт обы
всю
совокупность
выразительных
возможностей
поэзии
обратить
на
в осс оз дание
внутреннего,
психологического
мир а
человека,
единственного
чело век а,
личности,
к отора я
и
становилась
ха
рактером.
В
частности,
та
душевная
жизнь,
которая
исчерпы
вает
содержание
поэзии
Жуковского,
осмысливалась
сам ой
эт ой
поэзией
и
читателем
ее
как
душевная
жизнь
автора,
са
мо го
поэта.
Ве сь
мир
Жу ко вский
заключил
в
д уше
и
построил
тем
самым
единственный
индивидуальный
образ
души,
своей
души.
Он
са м,
не
как
автор,
а
как
герой
всех
своих
произве
дений,
с дел ался
не
только
центром,
но
и
всепоглощающей
темой
своего
тв ор чест ва.
Поэтическое,
лирическое
я
пере стал о
б ыть
ф орм улой
творения,
а
сделалось
объектом
изображения.
Б ел инский
еще
в
«Литературных мечтаниях»
удивительно
верно
сказал
о
Жу ков ско м: «Он не был сыном XIX
века,
но
был,
так
сказать,
прозелитом;
присовокупите
к
сему
еще
то,
что
его
творения,
может
быть,
в
самом
деле
проистекали
из
обстоятельств
его
жизни,
и
вы
по йме те,
отчего
в
них
нет
ид ей
м и ров ых...
Он
был
заключен
в
себе:
и
вот
при чи на
его
одно
сторонности,
которая
в
нем
есть
ори гина льнос т ь
в
высочайшей
степени» (I, 62).
То
же,
в
сущности,
повторил
позднее
Я.
К.
Г р о т: «Под романтизмом Жуковского следует разуметь
не
одни
переводы
его ,
но
и
то,
что
вообще
составляет
содер
жа ние
его
поэзии,
угл убл е ние
в
самого
себя,
изображение
вн ут рен ней
своей
жизни,
своих
задушевных
помыслов
и
стрем
лений,
своих
сердечных
страданий
и
надежд» 34.
Совокупность
произведений
Жуковского
1800 — 1820-х
годов,
кроме
тех,
конечно,
к от орые
яв ляли сь
юношескими
учебными
упражнениями
в
поэзии
или
до машн ими
шутками
и
которые
Жуковский
не
печатал,
—
составляет
единство,
по-
25.
34 В.
А.
Ж
у
к
о
в
с
к
и
й,
Чествование
его
па мяти,
Сп б., 1883, стр .
115
добное
единству
поэмы
или
романа.
Они
объединены
о тне се
нием
их
в сех
к
л ичнос ти
автора,
который
в
то
же
время
яв
ляется
героем
стихотворений.
И
это
именно
так
не
только
в
прим ене нии
к
лирическим
стихотворениям,
где
я
—
и
автор
и
герой
явным
образом,
но
и
к
балладам,
где
нет
я,
где
герои
другие ,
но
где
подлинным
героем
является
все-таки
сам
поэт,
расск аз ывающ ий
легенду,
мечтой
и
настроением
которого
и
является
содержание
б алл ады.
Таким
обра з ом,
в
сов ок упнос ти
стихотворений
у
Жуковского
рождается
образ
характера
ду
шевно й
жизни,
сливающий
отдельные
стихотворения
в
единый
лирико-п с ихолог иче с кий
комплекс.
Читатель
узнает
душевный
склад
Жуковского
как
героя
лирического
ро ма на,
в
отдельном
ст их от вор ении,
так
же,
как
мы
узнаем,
скажем,
Печорина
в
отд е льном
его
слове,
жесте;
мы
знаем,
что
есть
темы,
лириче
ск ие
темы,
на ст роен ия,
чувства,
невозможные
в
т вор чест ве
Жуковского,
потому
что
они
противоречат
характеру
единого
героя
его
творчества,
так
же
как
мы
знаем,
что
Татьяна
не
могла
по кину ть
своего
мужа,
так
как
она
—
характер
и
по ви
нуется
она
закону
своего
характера.
Единство
лирического
героя
в
творчестве
Жуко в ско го
влекло
за
собой
единство
стиля,
тона,
общего
характера
его
творчества.
И
то
и
другое
единство
б ыло
новостью
в
русской
ли те ра туре
и
круп ным
идейным
явлением
в
не й.
Поэзия
Жу
ковского
противостоит
в
эт ом
отношении
поэзии
классицизма
и
вообще
всей
ру сск ой
поэз ии
XVIII столетия .
Поэт-классицист
не
присутствует
в
своих
пр ои звед ени ях
как
личность.
Его
стихотворения
соотнесены
не
с
его
индивидуальностью,
а
с
иде ей
жан ра,
идеей
истины
в
рационалистическом
ее
толкова
нии
и
в
ее
разделенности
в
пределах
жанровых
схем.
В
стихо
творении
раскрывается
не
душа
поэта,
а
над
ним
парящая,
надындивидуальная
истина
п онят ия.
Отсюда
и
отсутствие
объ еди не ния
стихотворений
одн ого
поэта
в
образе
их
автора,
отсюда
отсутствие
лирического
единства
книги
поэта.
Оды,
элегии,
идилл ии,
духовные,
од ы,
сатиры
—
в
каждом
из
этих
жанр ов
другая
душа,
и
каж дым
из
них
подчинен
другому
закону
сло га,
тона
(теория трех штилей).
Нежный,
чувстви
тел ьны й
Сумароков
песен
вдр уг
ок азыва ет ся
злы м,
раздра
женным,
сулящим
и
п роклин ающ им
Сумароковым
в
сатирах.
Ибо
нет
Сумарокова
как
темы
и
основы
содержания
стихов,
а
ес ть
различные
сф еры
абстрактного
бы тия,
и
для
одной
из
них
нужен
один
слог,
для
другой
—
др уго й.
Эту
разделенность
сфер
мир о по ни мания
и
слога
преодолел
Дер жа вин.
Он
создал
еди нс тво
героя
своих
стихотворений
и
отнес
их
сод ер жан ие
к
конк рет ному
образу
их
авт ора ,
ставшего
их
гер о ем.
В
это м
он
116
был
предшественником
и
рома нт иков
и
реалистов.
Но,
—
характерная
черта,
—
гов оря
всег да
от
лица
одного
человека,
н акла дыв ая
печать
своего
творческого
и
лингвистического
сво е
образия
на
каждое
свое
произведение,
Де ржав ин
не
стремился
к
ед инств у
лирического
тона
и
стиля
и
не
создал
ег о.
Его
стихотворения
пестр ы
по
настроениям,
тональности,
слогу,
—
от
грандиозных
мо ти вов
оды
на
взятие
Измаила
до
шутли
вости
«Оды на счастье»
или
благодушной
эрот ики
некоторых
анакреонтических
его
стихотворений.
Де ло
в
том,
что
Держа
в ин,
создавая
ед иный
образ
автора-героя
своих
стихов,
созда
вал
внешний
образ,
бытовой,
наглядный,
но
не
погружался
в
психологию.
Единство
его
стихов
—
это
биография
человека,
но
не
психологический
роман
о
нем.
В
ней
расск азы вает ся
о
его
жизни,
быте,
др узья х,
о
его
службе,
отношениях,
о
его
внешности,
о
его
доме
и
времяпрепровождении,
но
не
раскры
вает ся
строй
его
душ и.
Державин
всем
своим
творчеством
создал
биографию
своего
героя,
даже
п орт рет
ег о,
но
этот
портрет
—
веществ ен н о
яркий,
а
не
лирически
углубленный.
В
творчестве
Державина
много
предметов
и
мал о
настроений.
Характера
в
психологическом
смысле
Державин
не
соз д ал.
От сюда
и
нет
у
не го
единства
тона
и
ст иля,
связывающего
внутренним
рисунком
все
произведения.
И ное
де ло
—
Жуковский.
Он
создает
своими
стихотво
рениями
единый
характер,
сложный,
противоречивый,
но
все
же
определенный,
индивидуальный
и
разраб о тан н ый
именно
психологически.
Внешн ей
биографии
его
герой
почти
не
имеет,
—
в
ней
есть
лишь
од ин
ф акт
—
несчастная
любовь.
Но
и
эт от
фа кт
не
развивается
в
творчестве
Жуковского,
а
остается
неизменным
его
спутником.
Отъединив
психику,
характер
от
объективных
условий,
романтик
Жуковский
выключил
в
сво ей
поэзии
время.
У
него
нич то
не
меняется,
не
движется,
создан
ный
им
характер
пополняется
в
новых
стихах
новыми
углубле
ния ми,
но
не
развивается,
и
не
из
чего
ему
развиваться,
так
как
его
не
тол ка ет
объективная, «внешняя»
жизнь.
Отсюда
и
чрезвычайное
единство
тона
и
слога
стихотворений
Жуковско
го.
Он
поет
все
на
одну
ме ло дию,
не с мотря
на
богатство
инто
наций
его
мелодии
и
оттенков
выражаемых
ею
настроений.
В
ка ждом
стихотворении
он
—
все
тот
же
Жуковский,
с
т еми
же
чертами
мечтательного
прекраснодушия.
Здесь
очень
важно
то,
что
весь
стилистический
состав
его
стихотворений
подчинен
единому
характерологическому
заданию;
все
слова
в
своем
лексическом
тоне
и
в
своем
семантическом
строе
обусловлены
соотнесением
с
единым
д уше вным
строем;
это
слова,
рожд е н
ные
этой
д ушой,
и
потому
они
такие
слова,
а
не
иные.
Сов
117
сем
и наче
в
других
системах.
В
классицизме
слова
—
такие,
а
не
ин ые
потому,
что
они
—
слова
д анно го
жанра,
выражаю
ще го
данный
аспект
истины .
У
Державина
слова
—
такие,
а
не
иные
потому,
что
они
изображают
тако й,
а
не
ино й
вн еш
ний
объективный
предмет
или
факт:
слова
о
ветчине
по дч ине
ны
заданию
в кусно
и
изобразительно-вещественно
пока за ть
ветчину,
а
слова
о
мужестве
героя
(не автора)
подчинены
заданию
прославить
г е роизм
русского
воина.
У
Державина
слово
изображает
объ ект
б ольше ,
чем
субъект,
и
в
эт ом
он
более
предшественник
реали зма,
чем
романтизма.
У
Жуковско
го
—
наоборот.
А
вот
у
Пушк ина
1820- х
год ов
слово
—
такое,
а
оное ,
и
потому,
что
оно
изображает
такой,
Ъ
не
и ной
объсь
I.
и
потому,
что
оно
вы раж ает
созн ан ие
та к ого,
а
не
иного
автора-героя.
Но
у
нег о
автор-герой
не
од ин
для
всех
произведений,
а
раз ный
в
разных
произведениях,
и
разный
он
потому,
что
он
образован,
обусловлен
р азны ми
социально -
историческими
условиями.
Слов о
Пу ш кина
—
всегда
слово
Пушкина,
а
все
же
оно
разное:
одно
—
в
«Подражаниях
Кор ану », где обусловлено восточной культурой,
и
другое
—
в
сказках,
где
оно
обусловлено
рус ск ой
на родной
культурой.
В
то
же
время
оно
одно
—
в
изо б ражен ии
боя
и
другое
—
в
изображении
любви.
Та к,
у
зрелого
Пушк ина
слово
и
объек
тивно
и
субъективно
одновременно,
и
самая
субъективность
в
нем
обусловлена
объективным
миром.
Поэ том у-то
у
Пуш ки на
и
нет
т ого
единства
стиля
и
тона,
которое
характерно
для
Жуковского,
нет
и
е дино го
лирического
героя.
Пушкин
—
многообразен,
многоцветен,
Пу шкин
—
Протей,
как
сказал
еще
Гнедич.
Пушкин
—
пылкий
гер ой
Возрождения
в
«Каменном госте», элегический романтик в изображении Лен
ского,
то ржеств ен н ый
одописец
в
описании
Полтавского
бо я,
грек
в
переводе
из
Ксенофана
К оло фонс ког о,
сумрачный
вла
столюбец
в
«Скупом рыцаре», народный бахарь себе на уме в
«Сказке о попе» .
Он
повсюду
ге ниал ен
и
повсюду
сохр аня ет
св ое
пора з и те льное
и,
конечно,
ин див идуа л ьное
искусство,
но
он
и
различный
повсюду.
Жуковский
—
повсюду
тот
же
не
изме нны й
и
е диный.
Он
создал
только
один
основной
харак
те р,
ни
с
чем
не
связанный,
сам
себе
довле ющи й,
—
и
это
был
пе рвы й,
столь
п олно
разр або т анн ый
душевный
характер
в
русской
литературе,
для
которого
психологические
очерки
и
наброски
Карамзина
были
л ишь
эскизами.
На
основе
работы
Жук овс к ого,
объяснив
характер
объективно-социально,
Пу ш
кин
получил
возможность
создать
целу ю
галерею
разных
ха
рактеров,
множество
характеров,
с ко лько
угодно
хар акт е ров.
Единственность
же
характера
у
Жук овс ко го
—
не
случайность
118
и
не
выражение
его
т вор ческ ой
слабости;
она
принципиальна;
Жуковский,
закрыв
глаз а
на
объективный
мир,
видел
только
свою
душу,
свое
я,
—
и
это
бы ла
единственная
для
не го
ре
альность.
С ол ипси зм,
к
к ото рому
тяготело
его
мировоззрение,
об усло вил
это
включение
вс его
мира
в
я,
в
од но
только
я,
единственное
я,
всегда
себе
равное.
Ли шь
разные
условия
объективной
жизни
рожда ют
различие
типов;
отказавшись
от
объективной
жизни,
под чи нив
ее
своему
я,
Жуковский
потерял
возможность
со з дания
разнообразия
характеров
и
разнообразия
лирического
тона
и
слога,
—
потому
что
ведь
у
него
характер
и
построен
прежде
всего
тоном
и
сл ого м.
И
в
этом
отношении
к
Жуковскому
очень
близки
друг ие
р о ма нтики,
поэты
его
круга,
и
Батюшков,
и
да же
Де нис
Давыдов.
Характеры,
со з
данны е
ими,
не
похожи
на
характер,
созданный
Жуковским,
но
и
они
—
поэты
одного
характера,
и
их
творчество
подчинено
принципу
единства
л ириче с кого
ге роя
и
единства
стиля,
тона,
сл ога.
Между
тем
единство
героя
и
стил я
в
поэзии
Жуковского,
как
и
единственность
характера
в
н ей,
вов се
не
является
толь
ко
проявлением
ограниченности
ми р ово ззрен ия
поэта.
Ведь
и
в
раннем
творчестве
Лермонтова
мы
можем
наблюдать
то
же
я влен ие,
а
Лермонтов
ни ког да
не
был
ни
консерватором,
ни
солипсистом.
У
Жу ков ско го
единственность
героя-характера
была
св язан а
с
его
индивидуалистическим
романтизмом,
но
именно
поэтому
она
выражала
и
ту
идею ,
кот ора я
ле жала
в
основе
в сего
его
творчества,
идею
высшей
ценности
личности.
Таким
образом,
творчество
Жуковского,
создавшее
харак
те р,
сливает ся
в
некое
единство,
где
отдельные
произведения
служат
элементами,
частями,
восполняющими
друг
друг а,
а
все
они
вместе
пр е дстают
как
некий
роман
души;
это
был
первый
очерк
пе рв ого
психологического
романа
в
русской
.литературе,
без
опыта
которого
не
мог
бы
быть
построен
по том
и
реали
стический
роман.
При
эт ом
роман,
как
и
об раз
героя,
не
по лу
чается
просто
как
с умма
слагаемых
—
стихо тво р ений,
а
возни
кае т
как
органическое
единство
их.
Это
значит,
что
нет
необходимости
подряд
и
в
определенном
п орядк е
читать
стихо
творения
Жуковского,
но
ка ждое
из
них
напо л няет ся
все м
своим
с мыс лом
на
фоне
других,
на
ф оне
сложившегося
у
чи та
теля
представления
об
общем
характере
творчества
поэта.
Та ким
об разо м,
романтический
пр инцип
сти ля
проя вля ет ся
и
здесь.
Не
только
слово
у
Жуковского
значит
больше,
чем
оно
значит
в
лексиконе,
но
и
стихотворение
значит
больше,
чем
оно
значит
само
по
себе,
отдельно
взятое.
Как
сло во
н апол
няется
е мкими
смыслами
от
контекста,
так
и
стихотворение.
119
Как
сло во
—
и
это
самое
важн ое
—
используется
в
качестве
знак а,
звука,
символа,
вызывающего
в
сознании
чи тат еля
пс и
хологический
комплекс,
в
нем
зало женн ы й,
так
и
стихотворе
ние
вызывает
в
сознании
читателя
ряд
ассоциаций
—
с
соб
ственными
переживаниями
читателя,
но,
в
первую
очередь,
с
об раз ом
ду ши
поэта,
созданным
другими
стихотворениями,
а
эти
д ругие ,
в
свою
очередь,
тре бую т
ассоциаций
с
данным
стихотворением.
Обр аз
возникает
как
бы
между
стихотворе
ниями,
о бним ая
их,
возносясь
над
ним и;
он
не
закл юч ен
в
стихотворении,
а
должен
быть
привнесен
в
нег о
читательским
во сприятием .
Романтизм
х очет
преодолеть
самое
искусство
и
обратиться
через
его
голову
как
бы
прямо
к
душе
челове
ческой,
—
так
по ни мал
дел о
и
Гегель.
Романтизм
стремился
как
бы
выр ват ься
из
фор мы,
из
объективной
стих ии
слова,
которое
ве дь
поэт
не
выду ма л,
а
получил
готовым,
как
объек
тивный
факт,
из
границ
законченности
стихотворения
—
в
безграничный
недифференцированный
поток
ду шевн ой
жизни
и
личности,
каждой
личности.
И
самой
по дл инной
темой
поэзии
Жуковского
должен
оказаться
образ,
ли шь
вы зы вае мый
его
стихами,
но
не
исчерпанный
их
«внешним»
текстом.
Когда
Жуковский
сочувствует
горю
матери
в
элегии
на
смерть
короле в ы
Виртембергской,
мы
должны
помнить
и
ч ув
ствовать,
что
это
—
тот
же
Жуковский,
кот орый
сам
пережи
вает
го ре
несчастной
любви,
и
его
сочувствие
получает
отт ен ок
глубокого
понимания
и
личной
ско р би.
Когда
Жуко вс кий
оп и
сывает
меланхолию
вечера
в
при роде
—
о пять
это
отзвук
его
тоски,
его
любви,
его
пессимизм,
выр аженн ый
в
других
стихах,
но
также
неполно
в
каждом
из
них
в
отдельности.
И
когда
Жуковский
г овори т
в
стихах
о
своей
горестной
любв и,
то
без
н адеж ност ь
ее
углубляется
и
становится
всеобъемлющей,
пото
му
что
мы
знаем,
что
это
люб овь
ду ши,
от к азавшей ся
от
ак
тив нос ти,
не
верящей
в
борьбу,
в
действие,
в
счастье,
унылой
и
отрекшейся
от
зе м ного
успеха.
Так
образ-характер
едино го
лирического
героя
заполняет
псих ол огич еские
наме ки
и
симво
лы
отдельных
те м,
воспринимаемых
не
как
отдельные,
а
как
гра ни
и
проявления
е диног о
психического
строя.
Построенный
поэтическим
творчеством
Жуковского
об
раз-характер
принц ипи ал ьн о
оторван
от
внешней
реальной
жизни.
Тут
возникает
у
Жуковского
противоречие
с
жизнью,
борьба
с
н ею,
в
которой
Жуковский
обязательно
должен
быть
побежден.
В едь
это
он,
Жуковский,
думает,
что
можно
воз
нес тис ь
над
жиз нью ,
над
реальной
объективностью,
а
на
са
мом
де ле
поэту
никак
не
у йти
от
н ее,
не
выскочить
из
н ее.
Жизнь
проникает
и
в
замкнутый
мирок
солипсиста;
она
обус
120
лови ла
и
самый
хара кт ер
его
солипсистского
ми ровоззр е ния ,
и
неизбежность
связей
его
образов
с
вне шним
миром.
Жуков
ск ий
замкну лс я
от
внешнего
мир а
в
себя
—
но
и
его
поэтиче
ское
я
с
аб солю тн ой
закономерностью
тяготело
к
выведению
самого
себя
из
фактов
вне шне го
мира.
Жуковский
не
пускал
дейст вител ьн ос ть
объективной
жизни
в
св ои
стихи;
что
ж
—
эта
дей ств ите ль но сть
р асп ол ожи лась
у
порога
его
творчества,
и
ее
присутствие
б ыло
вид но
всякому
невооруженным
глазом.
Дело
в
том,
что
герой
поэзии
Жуковского,
то
самое
я,
которое
вк лючило
в
себя
все
оттенки
психологической
музыки
Жуков
ского,
не
могло
повиснуть
в
воздухе.
Это
был о
человеческое
я,
и
потому
реальное
я,
и
читатель
неи зб ежно
видел
в
нем
не
какую-то
со зд анную
поэ том
фикцию
душевной
жиз ни,
а
по д
ли нное
раскрытие
душевной
жизни
самого
Жуковского,
реа ль
но го
человека
с
реальной
биографией.
И
де ло
здесь
бы ло
вовсе
не
в
ка кой- либ о
ош ибке
читателя
или
в
его
неп они ма нии.
Таково
было
существо
поэзии
Жуковского.
Ведь
она,
в
отли
чие
от
классицизма,
была
психологически
ко нкр е тна,
в
ней
звучал
голос
одного
человека,
индивидуальной
души;
кто
же
этот
ч елов ек
и
чья
эта
душа?
Конкретность
требовала
реаль
ности;
романтизм
нес
в
себе
предпосылки
реализма;
Жуков
с кий
не
мог
справиться
с
э тим
противоречием,
но
оно
было,
и
оно
то лк ало
его
преемников
вперед,
к
ином у
разрешению
про
блем
искусства
и
м иро во ззр ения
вообще.
Так
и
п олу чило сь
неизбежно,
что
образ-характер
героя
и
носителя
поэзии
Жуковского
был
об разом
его
сам ог о,
был
авт об ио графи чен .
Так
было
для
читателя,
так
был о
и
для
самого
Жуковского,
и
так
были
построены
его
стихи,
что
ина
че
их
и
нельзя
б ыло
понять.
Ж изнь
Жуковского
стоит
за
его
стихами,
х отя
име нно
только
за
ними,
а
не
в
них.
З десь
опя ть
—
то
же
прот и воре чие .
С
одной
стороны,
и
здесь
—
роман
тический
метод;
поэзия
не
г овори т
о
жиз ни,
не
воплощает
свою
т ему
в
прямых
сл ов ах,
но
лишь
вызывает
а сс о циации,
тени
жизни,
ли шь
напоминает
и
намекает.
С
др угой
стороны,
—
романтический
принц ип
сам
подрывает
св ою
ос нов у,
ибо
он
т реб ует
объективного
бытия,
жизни
как
опоры
намека
и
напо
минания,
он
зовет
жизнь,
пу гая сь
ее;
и
он
по дч инен
этой
ре
альной
жизни,
ибо
без
па мяти
о
ней
ему
не
на
что
был о
бы
намекать.
Он
спаса ет
себя
те м,
что
эта
жи знь
—
только
ин
ди видуа ль ная
жизнь,
судьба
е динич ног о
человека,
а
не
об
щества,
—
но
т ще тно;
судьба
единичного
че лов ека
требует
объяснения
обществом.
Как
романтик
Жуковский
не
вопло
щ ает
свою
ж изнь
в
стихах,
не
рассказывает
о
событиях
ее;
но
самораскрытие
его
души
есть
вы зыван ие
об раз ов
жизни;
лири
121
ческий
гер ой
Жуковского
тос куе т
и
бежит
жиз ни;
почему?
В
плане
иде йной
основы
поэзии
Жуковского
—
потому,
что
мир
эпохи
буржуазных
революций
и
их
крушений
трагичен.
Но
в
плане
ближайшем,
сюжетном,
нужно
другое
конкретное
объяс
нение,
так
как
и
сам
лирический
герой
конкретен.
Ит ак,
он
тоскует,
потому
что
он
несчастлив,
потому
что
умирают
его
др у зья,
прежде
всего
потому,
что
его
лю бовь
несчастна.
Кто
этот
несчастный
вл юбле нн ый
мечтатель?
Конечно,
сам
Жуков
ский,
а
ге р оиня
его
люб ви
—
Маша
Протасова,
а
умерший
друг
—
Андр ей
Тургенев.
Поэзия
становится
рассказом
о
подлинной
ж изни,
х отя
пр ямо
о
ней
и
не
говорит.
Жуковский
пишет
печальную
элегию
о
тоске
души;
за
это й
эл ег ией
упорно
стоит
жизнь:
тоска
ду ши
ищет
своего
объяснения:
герой-поэт
тоскует,
потому
что
у
нег о
отняли
его
Машу.
Кто
отнял?
Жизнь,
социальная
действительность.
Так
он а,
социальная
действительность,
напоминает
о
с ебе,
хотя
Жуковский
и
го нит
ее
от
себя.
Таким
образом,
поэзия
Жуковского
оказывается
не
только
романом
души,
но
неизбежно
и
романом
жизни,
хотя
и
не
реализованным,
но
все
же
уже
нам еч енным .
И
современники
так
и
воспринимали
ее.
Трагическая
история
любв и
Жуковско
го
к
Маше
Протасовой-Мойер,
хорошо
и звест ная
многочис
ле нно му
кругу
его
друзей
и
знакомых,
ста ла
как
бы
ос ново й,
ск ры тым
содержанием
его
творчества.
От зв уки
этой
истории
видели
в
каждо м
слове
тв орч еств а
Жуковского.
Она
стала
сюжетом
е дино го
комплекса
его
произведений,
сюже то м
его
бессюжетной
л ир ики.
О
чем
бы
ни
писа л
Ж у ков ский,
все
з вуча ло
как
страницы
его
ро ма на,
реального
и
жизненного.
Д аже
в
«Певце во стане русских воинов»
звучат
н оты
его
личной
судьбы:
Ах!
мысль
о
той ,
кто
все
для
нас,
Нам
спутник
неизменный;
Везде
знакомый
слышим
глас,
З рим
образ
незабвенный!
Она
на
бранных
знаменах,
Она
в
пылу
сраженья;
И
в
ш уме
стана,
и
в
мечтах
Веселых
сновиденья.
Отведа й,
вр аг,
и сто ргн уть
щит,
Рукою
да нный
милой;
С вятой
о бет
на
нем
горит:
Твоя
и
за
могилой!
И
т.
д.
Так
же
и
в
других
стихотворениях
Жуковского;
их
лири
ческие
признания
—
главы
романа.
И
в
переводах
—
все
то
122
же,
даже
в
балладах.
В едь
трудно
в
балладе
«Алина и Аль-
си м », переводной и сюжетной,
не
увидеть
о тк лики
все
т ого
же
ро мана
Жу ко вс кого
и
Маши :
Зачем,
з ачем
вы
раз орвали
Со юз
сердец?
Вам
розно
быть!
—
вы
им
сказали,
—
Всему
конец...
Ког да
случится,
жизни
в
цвете,
Ск азат ь
ду шой
Ему:
ты
будь
моя
на
св ет е-,
А
ей:
ты
мой;
И
вдруг
придется
для
другого
Любовь
забыть
—
Что
жреб ия
страшней
т акого ?
И
льзя
ли
жи ть?
И
вот
Ал ин а-Ма ша
за му жем
за
другим,
она
верна
мужу,
но
л юбит
Аль сим а-Ж ук овс кого
и
любим а
им.
Нет
необходи
мости
умно жать
примеры;
каждый,
читавший
Жук овс ког о,
знает,
какое
зн ачен ие
имеет
для
его
творчества
эт от
автобио
гр афич еск ий
фон
его.
А.
Н.
Веселовский
в
своей
книге
о
Жу
ко вск ом
обнаруживает
да же
в
п розе
Жуковского
те
же
отзву
ки
«сердечной биографии»; он говорит,
что
«две исторические
повести...
появившиеся
в
1808—1809 годах,
получают
значе
ние
для
серд ечно й
би огра фии
Жуковского
в
освещении
его
лирики», —
повести
«Три пояса»
и
«Марьина роща»
—
и
Весело вск и й
убедительно
рас к ры вает
это
сво е
пол о же ние.
При
эт ом
он
замечает
о
повести
«Три пояса»: «Если эта « р у сск ая»
сказка
не
оригинальная,
а
переводная,
то
Жуковский
не
толь ко
пр илад ил
ее
к
русской
древности,
как
он
понимал
ее,
но
и
к
своему
психологическому
настроению:
характерный
прием
творчества,
с
которым
мы
встретимся
не
раз» 35.
Са ма
книга
Веселовского,
блестяще
талантливая,
сос та
вившая
крупное
событие
в
нау ке,
примечательна
в
дан ном
отношении.
Веселов ски й
строит
ее
в
основном
как
биографию
Жуковского
—
по
его
ст их ам.
Он
поддался
биографической
иллю зии
творчества
Жуковского
и
по дч инилс я
тра д иции,
шед
шей
еще
от
современников
поэта,
традиции,
искавшей
его
личн ую
био гр афию
в
его
ст и хах.
К оне чно,
у
Веселовского
получился
н еверн ый
облик
Жуковского-человека,
потому
что
он
о то жес твил
героя
стихов
с
человеком-автором.
Настоящий
Жуковский
вовсе
не
сводился
к
Альсиму.
Но
чутье
великого
ученого
не
обмануло
ег о.
Он
написал
книгу
не
столько
о
Жу-
35 А.
Н.
В
е
с
е
л
о
в
с
к
и
й,
В.
А.
Жуковский.
Поэзия
ч ув ства
и
сердечного
воображения,
СП б ., 1904, стр.
108—109.
123
ковском,
жи вшем
с
1783 по 1852 год,
сколько
о
Жу ков ско м,
вечно
жи вущ ем
герое
его
поэт ичес к ого
романа;
он
воссоздал
в
своей
книге
этот
роман,
сотканный
из
недомолвок
и
намеков
романтической
лирики
Жуковского.
Думая,
что
он
испол ь зуе т
творчество
для
биографии,
он
на
самом
де ле
использовал
био
графию
для
рассказа
о
творчестве,
ту
био гр а фию,
кот орую
Жуковский-поэт
дал
своему
читателю
образами
своих
стихов.
Отсюда
и
характерная
ошибка
Веселовского,
п ок азы вающая ,
как
хорошо
он
понял
Жуковского.
Он
сделал
основным
смыс
лом
ж изни
Жуковского
любовь
к
М аше
Прот а сов ой-М ойер
и
искал
в
стихах
Жуковского
отклик
это й
любви
где
только
мог ,
—
так
же,
как
и
читатели
времени
Жуковского.
Новейший
исследователь,
Ц.
С.
Вольпе,
изучивший
огромное
количество
архивного
мат ер иал а,
в
том
числе
и
не
изученного
Веселовским
и
недоступного
е му,
установил,
что
некоторые
стихотворения,
отнесенные
Веселовским
к
любви
Жуковского
к
Маше,
на
самом
деле
написаны
в
св язи
с
увлечением
Жуковского
други
ми
девушками.
Конечно,
так
оно
и
было
в
жизни
Жуковского.
Но
Веселовский
в
своей
фактической
ошибке
не
был
совсем
не
п рав.
Пусть
Жу ко вский
влюбился
в
Самойлову
и
написал
ей
любовные
стихи;
эти
стихи
в
романе
его
творчества,
едином
и
повествующем
о
любви
к
Маше,
бы ли
стихами
о
ней ,
о
Ма ше.
Веселовский
сде лал
ошибку
в
биогра ф ии
Жуковского,
но
не
в
понимании
сюжета
его
лирического
ро м ана.
В
своем
по ним ании
Жуковского
Веселовский
шел
вслед
за
Белинским,
к отор ый
ведь
то же
объяснял
поэзию
Жуковского
как
от бле ск
его
био
графии;
вспо мн им
ци та ту,
приведенную
из
Белинского,
о
то м,
что
«его (Жук ов с кого)
творения,
может
быт ь,
в
самом
д еле
проистекали
из
обстоятельств
его
жизни», и о том,
что
с
эт им
свя зана
и
манера
Жуковского,
и
его
оригинальность.
В
стат ья х
о
Пушкине
Белинский
пи сал: «До Жуковского на Руси никто
и
не
подозревал,
ч тоб
жизнь
человека
могла
быт ь
в
тесной
свя зи
с
его
поэзией
и
чтоб
произведения
поэ та
могли
быть
вместе
и
лучшею
его
биографиею» (VII,190).
Хорошо
сказал
об
это м
и
Шевы рев
в
1853 году:
в
Жуковском,
по
его
словам,
по ра жает
нера зд ел ьно сть
его
жизни
и
его
поэзии,
черта,
«отличающая Жуковского от всех русских поэтов,
ему
пр едше
ство ва вши х.
Для
Жуковского
были,
как
он
сам
сказал:
Жиз нь
и
поэ зия
одно.
124
...
Но,
чтобы
не
превратно
понять
о тно ше ния,
в
ка ких
по
ставил
он
по эзию
к
жизни,
на доб но
досказать
недосказанное
в
сл овах
ег о» 36.
Так им
образом,
поэтическое
творчество
Жуковского
не
только
бы ло
созданием
первого
в
рус с кой
л ите ра туре
психоло
гического
харак т ера,
но
и
пе рвым
очерком
психологического
романа;
точнее,
в
нем
копил и сь
материалы
для
будущего
соз
дания
романа.
Эти
материалы
были
подвергнуты
перестройке
р еализ мом,
в ыро сшим
из
н едр
романтизма
и
о тм енившим
его,
но
они
были
унаследованы
реализмом,
и
без
них
он
не
мог
обойтись.
И
характернейший
фа кт:
первый
настоящий
русский
роман,
уже
реалистический,
был
на пис ан
в
стихах,
со х раняя
явную
свою
связь
со
своим
происхождением
из
поэзии,
в
частности,
из
поэзии
Жуковского;
это
был
«Евгений Онегин».
И
в
самом
сюжете
этого
романа,
в
трагической
истории
любви
б ыли
отклики
Жуковского.
Недаром
в
заверш ающем
монологе
Та тья ны
в
восьмой
главе,
в
знаменитых
стихах:
Но
я
другому
отд ана;
Я
буду
век
ему
верна,
—
звучат
от клик и
б алл ады
«Алина и Альсим»:
Алин а
с
горем
и
тоскою
Ему
в
ответ:
«Альсим,
я
верной
быть
женою
Дала
обет.
Хот ь
долг
и
тяжкий
и
посты лы й:
Все
покорись;
А
ты
—
не
у мир ай,
друг
милый;
Но. ..
удались».
Конечно,
колоссальный
охват
проблем
«Евгения Онеги
н а», как и все величественное здание реалистического миропо
нимания,
построенное
Пушкиным,
было
чуждо
романтику-
Жуковскому.
Но
его
психологическая
система,
его
разработка
ду шевно го
мир а,
толкавшая
его
на
пу ть
создания
характера
и
на
недоступный
ему
до
ко нца
путь
создания
романа
—
все
это
осталось
в
ру сско м
реалистическом
романе,
как
и
вы со кий
моральный
и
чело вечны й
строй
его
лирической
те мы.
И
через
«Евгения Онегина»
нит и
от
нераскрытого
романа
Жуковского
протянутся
к
Тургеневу
и
ко
мно го му
дру гом у
в
русской
л ите
ратуре
XIX века.
Самый
обр аз
идеальной
гер оини
«Евгения
Оне гин а», —
а
потом,
инач е,
и
Лизы
Калитиной,
—
в оз ника
ет
на
основе
легкого
очерка
гер о ини
поэзии
Жуковского.
И
36 С.
Ш
е
в
ы
р
е
в,
С)
зна че нии
Жу ко вско го
в
русской
ж изни
и
по э
зии,
М. , 1853, стр.
19—20.
125
здесь
Пушкин
был
т ворц ом,
созд ат елем,
но
Жуковский
—
предшественником.
В
поэзии
Жу ков ско го
цар ит
один
образ,
о дин
характер
—
героя,
автора,
поэта.
Но
рядом
с
эти м
обр а
зом
возникает,
как
отблеск
его,
как
его
мечта,
как
его
про яв
ление
и
эма на ция,
втор ой
—
обр аз
любимой.
Он
не
дан
сам о
стоятельно,
отдельно
от
душ евн ой
жиз ни
героя,
он
заключен
в
д уше
е динс тве нно го
героя,
но
он
все
же
существует.
Это
именно
мечта
и
идеал;
но
ведь
эта
мечта
в
рома не
поэзии
Жуковского
трагически
реальна.
И
дело
не
в
то м,
что
подлин
ная
реальная
Маша
Протасова
б ыла
замечательной
русской
женщиной,
действительно
похо же й
на
пуш кинск ую
Татьяну
37,
а
де ло
в
том
также,
что
Жуковский
наметил
обр аз
этой
благо
род ной
русс к ой
же нщ ины
в
своих
сти ха х,
—
только
наметил,
только
нав еял
на
душу
читателя
мысль
о
не й.
Воплотил
этот
об раз
Пушкин;
но
в
Тат ья не
Лариной
есть
душа
Жуковского,
есть
душа
Ма ши
Протасовой,
героини
романа
Жуковского.
Татьяна
создана
русской
на род ной
стихией;
ее
вскормила
род
ная
почва,
родная
сказка
ее
няни,
родная
природа;
но
в
ее
пис ьме
к
О не гину
звучат
далеко
не
только
французские
ром а
ны,
а
и
Жуковский,
и
когда
Пушк ин
в
первый
раз
рисует
ее
облик,
он
не
минует
мотивов
в
духе
Жуковского
д аже
в
пе й
заже,
ок ру жающ ем
ее
и
дорисовывающем
самый
характер
героини.
А
когда
Пушкин
во
второй
раз
обратится
к
Татьяне,
он
скажет
устами
Ленского,
что
она
«грустна и молчалива как
Светлана».
И
еще
ра з,
—
пер ед
главой
пятой,
заключающей
сон
Татьяны
и
опи са ние
ее
именин,
столь
печальных
для
н ее,
—
эпиграф:
О,
не
з най
сих
страшных
снов
Ты,
моя
Светлана!
Жуковский
А
вед ь
эпиграф
у
Пу шк ина
—
это
как
бы
ключ ,
отк ры
вающий
смысл
п рои звед ени я,
музыкальный
ключ,
указываю
щий
на
тональность,
в
кот орой
н адо
читать
его.
37 П.
Н.
Сак улин
посвятил
ей
статью
«М.
А.
Протасова-Мойер
по
ее
письмам» (Изв.
II отд.
Акад ,
наук ,
т.
XII, 1907, к н.
1), в которой писал:
«Когда вчитываешься в письма М.
А.
П рот асовой-М ойер,
как-то
сам
собою
вы плы вает
в
памяти
образ
пу шки нс кой
Тать ян ы.
М аша
—
живой
pendant к ее сверстнице,
г ер оине
"Евгения Онегина"
и
другим
же нс ким
типам
первой
четверти
прошлого
века».
Ссы лаяс ь
на
П.
Н.
Сакулина,
писал
и
В.
И.
Резанов
о
М а ше : «Это — живое воплощение того идеального типа
ру сски х
девушек,
поэтическим
воссо зданием
к оторог о
была
пушкинская
Тат ьян а " («Из разысканий о сочинениях В .
А.
Жуковского», П., 1916, стр.
259).
126
Я
не
думаю,
что
надо
еще
раз
напоминать,
что
есл и
Жу
ко вск ий
был
предшественником
в
указанном
смысле
ру сско го
романа,
то
нема лу ю
р оль
в
это м
на прав лени и
сыграл
и
Карам
зин;
это
яс но
и
без
напоминаний;
так
же,
как
ясно
и
то,
чт о,
приписывая
Жуковскому
важную
роль
в
по дго то вке
Пушкина,
я
нимало
не
отрицаю,
что
именно
Пушкин
со здал
р у сский
роман
и
русский
реализм.
Но
Пушкин
не
свалился
с
неба,
и
я
полагаю
небесполезным
проследить
подготовку
его
созидания
в
различных
направлениях.
Насколько
остро
образ
лирического
героя
раскрывал
про
тиворечия
романтического
метода
и
подв одил
к
проблемам
реалистического
порядка,
видно
из
судьбы
лирического
гер оя
в
творчестве
других
поэтов
этого
же
времени.
В
частности,
наи
боле е
отчетливо
эта
проблема
стояла
в
творчестве
Денис а
Давыдова,
поэта,
разви вавшег ося
независимо
от
Жук овс к ого,
в
меньшей,
чем
он,
степени
зависевшего
от
Карамзина,
но
тем
не
ме нее
во
многих
вопросах
оказавшегося
соседом
Жуковско
го
и
во все
не
случайно
встретившегося
с
ним
в
«Арзамасе» .
Денис
Д ав ыдов
был
пол итич е ски
значительно
«левее»
Жуков
ского;
он
яв но
принадлежал
к
оп поз иции
правительству,
к
околодекабристским
кр уг ам,
и
еще
смолоду,
до
всякого
декаб
ризма,
выступал
со
сме лы ми
са тир ами
против
царя.
В
соот
ветствии
с
эти м
самое
содержание
того
психологического
типа,
который
раскрывался
в
его
творчестве,
сильно
отличалось
от
психологического
содержания
поэзии
Жуковского.
Но
метод
был
близо к,
а
объективный
исторический
смысл
е го,
своб од о
люб ив ый
и
протестующий
против
угнетения
личности,
был
еще
более
ясен
у
Давыдова,
где
он
не
был
затуманен
посред
ствующими
образами
и
отказом
от
активности.
Именно
проблема
характера
в
поэзии
о к азалась
основной
для
творчества
Давыдова.
И
здесь
едины й
характер,
обос но
выва вший
единство
и
выразительность
творчества
Давыдова,
в
еще
бо льше й
сте пен и,
чем
у
Жуковского,
опирался
на
при
мышление
его
личной
биог ра фии .
Давыдов
был
поэтом-
партизаном,
поэтом-гусаром,
по этом-воином,
и
это
сопоставле
ние
было
основой
его
п оэзии ,
его
об ра зов,
да же
его
стиля,
его
се ман тики.
Стихи
Давыдова
и
живут
не
сами
по
себе,
а
благо
даря
обязательному
примышлению
его
биографического
обл ик а.
При
это м
характерно
именно
взаимодействие
биографического
облика
и
поэзии.
Биографический
облик
влияет
на
поэзию
таким
об разом ,
что
даже
стихи
Давыдова,
в
кот оры х
вовсе
не
говорится
о
лих их
подвигах
гусара
на
поле
битвы
и
на
дру
жеской
пирушке,
воспринимаются
как
стихи
все
того
же
Да
выдова
—
рубахи
и
повесы,
стихи
о
том
же
герое.
И
наобо
127
рот,
самая
биография
Давыдова
воспринимается
и
воспринима
ла сь
современниками
под
влиянием
его
лихих,
веселых,
бодрых
с т ихов.
Ис то рики
литературы
установили,
что
подлинный
Да
выдов
вов се
не
был
таким
лихим
рубахой
и
забубенной,
го ло
вушкой
38.
Но
да же
современники,
хорошо
знавшие
Давыдова,
как,
например,
Вяземский,
говоря
о
нем
как
о
человеке,
всегда
го вор или,
в
сущности,
о
герое
его
стихотворений.
Таким
обра
зом ,
созд ался
на
основе
фактов
биографии
Давыдова
и
еще
более
на
основе
его
творчества
определенный
образ,
характер,
персонаж,
оставшийся
в
памят и
потомства,
многократно
воспе
тый
поэтами
XIX столетия,
воплощенный
и
в
живописи
в
знаменитом
портрете
Давыдова
кисти
Кипренского,
великолеп
ном
портрете,
изображающем,
конечно,
именно
героя
стихов
Давыдова,
героя
легенды
о
нем
более,
чем
реального
Давыдо
ва
—
оф ице ра
и
литератора.
А
в едь
на
сам ом
деле
Давы до в,
Д енис
Васильевич,
некрасивый,
нескладный,
проживший
труд
ную
жизнь,
был
не
так
уж
похож
на
т ого
блистательного
гуса
ра,
который
так
привольно
принял
эффектную
поз у
на
по лот не
Кипренского.
Давыдов
стал
литературным
персонажем
в
его
собствен
ном
творчестве,
и
от
н его
этот
персонаж
перешел
к
друг им
п о этам,
не
меняясь,
с охра няя
свой
характер.
И
де ло
здесь
не
только
в
поэта х
—
эпиго на х
Давыдова,
Неведомском
и
отчас
ти
Зайцевском,
повторявших
его
манеру,
но
в
то м,
что
и
как
целая
плеяда
п^воклассных
поэтов
писала
о
Давыдове.
Возник
целый
большой
цикл ,
составленный
разн ым и
по этам и,
цикл
стихов
о
Дав ыдов е.
О браз
героя,
характер,
созданный
Давы
довым,
был
так
ярок ,
так
поразил
современников,
так
отвечал
на
требование
литературы
и
жиз ни
создать
представление
о
конкретном
человеке^
о
персонаже
романа,
что
этот
образ
продолжал
жить
и
в
творчестве
друг их
поэтов
в
качестве
пе р
сонажа
некоего
коллективного
поэтического
произведения.
К
полному
собранию
стихотворений
Дениса
Давыдова,
вышедшему
в
1933 году под редакцией В.
Н.
Орлова,
прило
жен
лю бо пы тнейш ий
по дбор
«Стихотворений,
посвященных
Денису
Давыдову».
Здесь
помещено
тридцать
стихотворений,
н апи санны х:
А.
Пушкиным
(три стихотворения), В .
Жуков
ским
(три стихотворения)
П.
Вязем ски м
(восемь стихотворе
ний ), Баратынским (д ва
стихотворения), Языковым (два
с ти
хотворения)
В ое йк овым,
Ф.
Глинкой,
Неведомским
и
др.
Образ
Давыдова
стал
и звестен
и
за
границей,
и
он
сжато
и
38 См.,
например:
И.
H.
Р
о
з
а
н
о
в,
П оэты
д вадцатых
год ов
XIX
век а,
М. , 1925.
Очерк
«Денис Давыдов».
128
ярко
запечатлелся
во
французском
четверостишии
Арно,
по
священном
ему.
В.
Н.
Орлов
правильно
сделал,
прилож ив
к
стихам
Давыдова
стих и
о
нем.
В
су щнос ти,
и
эти
стихи
—
отчасти
его
же
создание.
В едь
главное
и
лучшее
творение
Давыдова,
основа
его
тво рч ества
—
созданный
им
образ
по
эта-партизана;
а
это т
образ
дан
не
только
в
его
стихах,
но
и
в
стихах
о
нем,
являющихся
как
бы
продолжением
его
стихов
и
дополнением
к
н им.
И
Пушкин,
и
Вяземский,
и
Баратынский
оказались
сотрудниками
Давыдова
в
обрисовке
его
героя,
они
работали
как
бы
по
его
плану,
по
его
творческим
наметкам,
даже
его
стил ем .
Недаром
почти
все
стихи
о
Давыдове
на пи
са ны
как
стилизация
его
лихой
манеры,
его
языка,
его
моти
вов.
Тут
и
обязательные
усы,
и
раздолье,
и
пиры,
и
любовь
пополам
с
пи руш кой,
и
сабельные
удары,
и
весь
гусарский
наряд,
и
залихватский
слог
Давыдова,
—
и
второй
гер ой
его
стихов
—
Бурцов,
дублирующий
пер вого
и
основного,
самого
Давыдова.
Денису
Давыдову
уда лос ь
со здат ь
яркий
и
очень
точно
очерченный
образ
ге роя
своих
стихо тво р ений,
образ
самого
себя,
и
в
эт ом
образе
элементы
его
биографии
нерасторжимо
переплелись
с
чертами
его
поэтического
персонажа.
Если
мы
обратимся
к
его
собственному
творчеству,
то
убедимся,
что
этот
образ
обусловливает
в о спр иятие
каждого
о тде льно го
его
стихотворения.
Он
возникает
именно
из
суммы
его
стихотворе
ний,
в
значительной
с теп ени
ме жду
стихотворениями.
Он
не
заключен
полнос ть ю
ни
в
одном
из
отдельных
стихотворений,
и
каждое
из
них
дополняет
все
остальные.
В
итоге
творчество
Дав ыдов а
—
это
некий
цикл
связанных
дру г
с
дру гом
произ
ведений,
тяготеющий
к
превращению
в
единое
большое
про из
вед ени е,
в
поэму
о
поэте-гусаре,
поэте-воине
и
гуляке.
Чре з
вычайно
характерно
построение
эт ой
еди ной
«поэмы» .
Стихотворения
в
своей
сум ме
не
излагают
связный
сюжет,
биогр аф ию .
Они
фиксируют
л ишь
отдельные
моменты
состоя
ний
и
психологической
жизни
гер оя,
в спы шки
энтузиазма,
или
тоски,
или
любви,
или
вдохновения.
Сам
читатель
до лжен
построить
из
эт их
вс пыше к
е диную
кар тину ,
заполнив
пробелы
между
стихотворными
лирическими
эпизодами
свои м
во об ра
ж ени ем.
Такая
композиция
единства
поэ мы
хорошо
известна
нам.
Это
то
самое,
что
в
прим ене нии
к
байроническим
поэмам
Пуш ки на
В.
М.
Ж ир мун ский
назвал
«вершинной»
композици
ей;
это
—
принцип
построения
лирической
поэ мы
Пушкина.
Само
собой
раз уме ет ся,
что
Пушкин
воспринял
это т
хара кт ер
нейший
романтический
принцип
у
Байрона.
Но
сам ое
восприя
тие
его
у
Байрона
было
подготовлено
формированием
то го
же
129
пр инципа
в
лири че с ких
циклах
русских
романтиков,
в
час т
ности
у
Давыдова
и
Жуковского;
потому
что
ве дь
и
циклиза
ция
поэзии
Жуковского
строится
тем
же
«вершинным»
обр а
з ом.
Романтический
ст иль
приводил
к
одинаковым
эстетическим
исканиям
и
в
Англии
и
в
России.
Байрон
в
п оэ
ма х,
Жуковский
в
лирике
тоски
одино ко й
души,
Давыдов
в
лирике
буйного
весел ья
и
в оинско го
подвига
приходили
к
од
ним
и
тем
же
принципам
по этики,
потому
что
бы ло
нечто,
существенно
обще е
в
их
мировосприятии.
«Вершинная»
же
ком поз ици я
действительно
характерна
для
романтического
метода,
кот орый
стремится
сд елат ь
слово
прозрачным,
—
так,
чтобы
через
н его
читатель
видел
душу,
сделать
слово
намеком,
вызыва ющим
ответное
твор че с тво
воображения
читателя.
Не
заключить
тему
в
словах,
а
вызвать
тему
в
сознании
читателя
словами
—
к
этому
стремится
поэт-романтик.
И
П уш кин,
в
вершинной
к омпоз ици и
своих
п оэм
следуя
Байрону,
в
то
же
время
п одво дил
итог
исканиям
в
области
построения
образа
гер оя,
романтического
характера
целого
ряда
поэтов
эпохи
романтизма,
и,
конечно,
в
том
числе
и
в
первую
оч еред ь
—
русских
поэтов.
Возьмем
окончательный
текс т
стихотворного
наследия
Де
ниса
Давыдова
в
издании
1840 года,
подготовленного
им
са
мим
еще
в
1836—1837 годах.
Это
издание
(том I, содержа
щий
стихотворения)
в
самом
д еле
как
бы
единая
книга,
поэ ма
или
роман
об
одном
человеке.
Начинается
построение
этого
единства
с
т ит уль ного
листа,
на
котором
помещена
гравюрка:
гусары
ноч ью
в
сарае
(видимо,
в
военной
обстановке)
выпи
вают
из
ковшиков,
курят
и
веселятся.
Эго
—
зрительный
образ,
иллюстрирующий
стихи;
тут
на рисо ва но
то,
что
воспето
в
книге;
тут
и
гусарские
ус ы,
и
ментики,
и
кивера,
и
трубки
с
дымом,
все
то,
что
па м ятно
по
стихам
Давыдова.
И
о
чем
бы
ни
шла
ре чь
в
ст иха х,
помещенных
после
этой
картинки,
—
о
любви
ли
или
о
томлении
ску ки,
—
все
равно
образ
гусара,
ли хо
выпивающего
на
биваке,
образ,
нарисованный
на
титуле,
будет
стоять
за
эт ими
стихами.
Эта
гравюрка
—
эпиг раф
к
книге,
ее
лейтмотив,
ее
основа.
Далее
и дет
предисловие
от
издателя
и
«Очерк жизни Дениса Васильевича Давыдова»,
написанный
его
другом
—
генералом
О.
Ю.
О
—
м.
Извест
но,
что
эт от
самый
друг
—
генерал
Ольшевский
—
ни
сн ом
ни
духом
не
виноват
в
нап иса нии
этого
очерка;
автор
его
—
сам
Дав ыдо в,
ка к,
без
сомнения,
он
сам
н апис ал
и
предисловие
«от издателя» .
В
биографии
Д ав ыдов
превознесен.
П оэто му
Давыдов
опубликовал
ее
как
чужое
произведение;
но
он,
как
справедливо
указал
В.
Н.
Орлов,
«сделал все возможное,
130
чтобы
читатели
разгадали
его
мистификацию»
еще
в
первых
ее
публикациях
в
1828 и 1832 годах.
И
читатели
ра зга дали
ее,
что
зас вид ет ель ст во вано
рецензиями
на
нее
39.
Зачем
же
все
это
н адо
было ?
А
зат ем,
что
Давыдову
необходим
был
рассказ
о
гер ое
его
стих о в,
чтобы
еще
крепче
объединить
их,
ему
нужен
был
оче рк,
дающий
связную
характеристику
героя,
так
как
он
не
надеялся
полностью
на
способность
самого
читателя
построить
из
его
стихов
единый
образ.
А
без
эт ого
единого
образа
стихи
теряли
полноту
своего
смысла.
Этот
образ
—
г ла вное
в
них .
И
вот
Давыдов
учи т
читателя.
Он
сам
проде
лывает
за
него
работу
его
воображения,
сам
суммирует
стихи
в
единый
образ
и
по каз ы вает
ег о.
При
эт ом
он
п ок азы вает
его
в
прозе,
с охра няя
тем
самым
для
стихов,
то
есть
для
само го
поэтического
комп лек с а,
вершинность
ко мп оз иции,
пр ин ципи
ально
необходимую
для
его
ме то да.
Прозаический
очерк
в хо
дит
в
построение
к ниги,
оставаясь
комментарием
к
ней
или
введением,
объясняя
ее
поэтическую
сущность.
Он
написан
в
стиле
стихов,
суммирует
мотивы
стихбв,
но
он
—
не
с ами
стихи,
а
придаток
к
н им.
Ту
же
роль
в
ме ньше м
объеме
играет
предисловие
от
издателя.
Именно
потому,
что
«Очерк жизни» (как и предисловие)
яв ляет ся
об ъясн ени ем
стихов,
он
и
не
был
настоящей
биогра
фие й
Дениса
Давыдова,
а
биографией
его
поэтического
героя.
Именно
поэ то му
он
так
яв но
иска жал
факты
реальной
ж изни
и
облик
реального
характера
Давыдова-человека.
Но
никакой
лжи
зд есь
не
было,
так
как
не
о
Давыдове-человеке,
а
о
герое
стихов,
о
характере,
созданном
в
стихах,
шла
в
нем
речь.
По
этому
бессмысленно
уличать
Давыдова
во
лжи
в
его
автобио
графии,
—
потому
что
его
«Очерк»
—
не
автобиография,
а
эл емент
композиции
кн иги
о
поэте-гусаре,
связанном
с
пред
ставлением
о
реальном
Давыдове
и
но сящ ем
его
имя,
но
не
сводимом
к
н ему:
это
Wahrheit und Dichtung о Денисе Давы
дове.
Столь
же
бессмысленно
удивляться
хвастовству
Давы д о
ва
в
«Очерке» .
Д авы дов
вовсе
не
хвастун,
но
герой
его
стихов
—
положительный
герой,
свободомыслящий,
смелый
человек,
презирающий
и
ханжей
александровского
царствования,
и
бюрократов
николаевского,
презирающий
лице мер ие
«высшего
света»
и
на сил ие
над
человеком;
это
—
человек,
за явля ющий
о
своем
праве
на
вес елье,
на
храбрость,
на
независимость,
по-
своему
протестующий,
и
это
—
герой
в
народной
вой не.
Именно
о
положительном
герое
написан
«Очерк жизни», и
39ДенисДавыдов,
П олное
собрание
стихотворений ,
Л., 1933,
ст р.
223.
131
естественно,
что
в
очерке
это т
герой
дан
в
по ложит е льн ых
тонах.
Д ав ыдов
хвалит
не
с ебя,
а
своего
героя,
свой
идеал,
которому
он,
может
быть,
хоте л
бы
следовать
и
в
ж изни.
Поэтому-то
возникала
не об ходи мос ть
псевдонима
для
«Очерка
ж из ни», чтобы не было подозрения в хвастовстве;
а
с
другой
стороны,
не об хо димо
было
сохранить
е динст во
«Очерка»
и
сам их
ст их ов,
и
отсюда
—
читатель
должен
был
знать,
что
это
—
части
о дной
к ниги
одного
автора.
Итак,
уже
вводны й
материал
Давыдова
строит
образ
е ди
ного
героя
его
творчества,
строит
его
и
материалом,
изло
женным
в
нем,
и
самым
стиле м,
бойким,
залихватским,
весел о-
остроумным.
Вот
как
повествуется
об
этом
герое
в
«Очерке
жизни
Д.
В.
Да вы дова »:
«В 1804 году судьба,
уп ра вляюща я
людьм и,
или
люди,
направляющие
ее
ударами,
принудили
повесу
нашего
выйти
в
Белорусский
гусарский
полк,
расположенный
тогда
в
Ки евско й
губернии
в
окрестностях
Звенигородки.
Молодой
гусарский
ротмистр
закрутил
ус ы,
покачнул
кив ер
на
ухо ,
затянулся,
натянулся
и
пустился
плясать
мазурки
до
упа д у...
...
Под
Гродн ом
нап адает
он
на
четырехтысячный
отряд
Фрейлиха,
составленный
из
Венг ер цев :
—
Да в ыдов
в
д уше
гусар
и
любит е ль
природного
их
напитка:
за
стуком
сабель
застучали
стаканы
и
—
г ород
наш!
Тут
ф орту на
об ращ ает ся
к
не му
задом.
Да в ыдов
предста
ет
п ред
л ицем
(характерный сатирический выпад.
—
Гр.
Г.)
генерала
Винценгероде
и
поступает
под
его
на ча льс тв о...
...
В
1819 году он вступает в брак;
а
в
1821 году бракует
се бя
из
спис ко в
фронтовых
генералов
и
поступает
в
список
ген ер ал ов,
состоящих
по
кавалерии...»
О
сво ем
творчестве
Давыдов
говорит
в
том
же
тон е;
он
говорит
о
признании
своих
произведений: «При всем том Да
выд ов
не
искал
авторского
имени
и
как
п риобре л
его
—
сам
не
знает.
Большая
част ь
стихов
его
пахнет
биваком.
Они
бы ли
писаны
на
привалах,
на
дневках,
меж ду
двух
дежурств,
меж ду
двух
сражений,
между
двух
войн;
это
пробные
почерки
пер а,
чинимого
для
пис ания
рапортов
на ч альника м,
приказаний
под-
командующим.
Стихи
эти
б ыли
завербованы
в
некоторые
московские
ти
пографии
тем
же
средством,
как
не когда
вербовали
разного
ро да
бродяг
в
гусарские
полки:
за
шумными
трапезами,
в
винны х
п арах,
сред и
бу йно го
разгула.
Подобно
Давыдову,
во
все х
минувших
в ойнах ,
—
он и,
во
многих
минувших
журналах,
являлись
наездниками,
поодиночке,
наскоком,
очертя
голову,
д ень
их
был
век
их,
и
потому
ник огда
бы
не
решился
он
на
132
собрание
этой
рассеянной
вольн и цы
и
на
помещение
ее
на
непременные
квартиры
у
кн игоп рода в ца,
е сли
б
добрые
люди
не
доказали
ему,
что
о дно
и
то
же
покоиться
ей
розно
или
вместе».
Зд есь
характерна
и
легкость
тона,
и
во ен ные
образы
(рубака - гу с ар
и
о
стихах
говорит
сво им
гусарским
языком), и
сам ая
«стилизация»
фактов.
Конечно,
совсем
не
на
привалах
писаны
стихи
Давыдова,
а
«между двух войн»; Давыдов очень
ловк о
сказал
это
«между двух дежурств,
ме жду
двух
сраже
ний,
между
дву х
во йн»; это звучит так,
как
бу дто
бы
межд у
дв ух
во йн
не
проходят
годы.
На
самом
же
де ле
Давыдов
был
профессионалом-писателем,
очень
серь езно
работавшим
над
своими
произведениями
и
относившимся
к
ним
ревниво;
из
вестно,
ка кой
шум
он
поднял,
когда
Сенковский
отредактиро
вал
ему
неудачно
одну
фразу
в
его
прозаическом
очерке,
по
явившемся
в
«Библиотеке для чтения».
Так
вот,
читатель
кн иги
Давыдова,
ознакомившись
с
«Очерком жизни»,
уже
имел
понятие
о
лирическом
герое
его
ст и хов.
И
затем,
когда
он
приступал
к
чте нию
самих
сти хо в,
они
воспринимались,
как
признания
им енно
эт ого
ге р£Я.
И
тогда,
когда
перед
ним
бы ло
просто
любов ное
стихотворение,
оно
з вуча ло
не
как
обычное
признание
в
люб ви,
а
как
признание
в
любви
гусара,
то го
самого
лихого
усача,
разнежившегося
и
влюбленного.
Так
и
построен
том
1840 года .
После
«Договоров»
идут
«залетные»
гусарские
по сл ания: «Бурцову» («Призывание на пунш»),
«Бурцову», «Гусарский пир», «Решительный вечер гусара»
и
т.
д.
в
том
же
духе;
пос ле
дюжины
таких
стихотворений,
—
«Жестокий друг».
Жестокий
друг !
за
что
мученье?
—
Зачем
приманка
милых
слов ?
Зачем
в
глаз ах
твоих
любовь,
А
в
сердц е
гн ев
и
нетерпенье?
Но
б удь
спокойна
только
ты,
А
я,
на
горе
обреченный,
Я
оставляю
все
мечты
Мо ей
души
разворошенной...
и
т.
д.
Роман
развивается;
гусар
вл юбил ся,
—
и
целый
ци кл
сти
хотворений
говорит
о
его
любви;
гуса р
нежен,
лиричен;
но
нет-
нет,
а
пр орвет ся
гу сарск ая
натура.
Я
вас
люблю
—
не
оттого,
что
вы
Пре к рас ней
все х,
что
стан
ваш
негою
дыши т,
Ус та
роскошствуют
и
взор
Востоком
пышет,
Что
вы
поэзия
от
ног
до
головы.
Я
вас
люблю
без
страха,
опасенья
133
Ни
неба,
ни
земли,
ни
П(ензы), ни Москвы —
Я
мог
бы
вас
любить
глухим,
лиш ен ным
зренья...
Я
вас
люблю
за тем
—•
что
это
вы!
Но,
право,
вас
любить
не
прибегу
к
паспорту
Иссохших
з ави стью
ж еманни ц
отставных
—
Да вно
с
почтением
я
умоляю
их
Не
з аним ат ься
мн ой
и
—
убираться
к
черту!
Но
и
там,
где
совсем
нет
ника ки х
«гусарских»
н от,
за
сти х ами
стоит
образ
гу сар а.
Или
же
в
связи
с
эт им
объ е ди
няющим
книгу
образом
приобретает
значение
дета ль ,
в
другой
с истем е
несущественная,
—
как,
например,
рефрен
стихотворе
ния
«Сижу на берегу потока»:
Си жу
на
берегу
по ток а,
Бор
д рем лет
в
сумраке;
все
с пит
вокруг,
а
я
С ижу
на
берегу
и
мыслию
далеко
Там ,
там...
где
жизнь
моя!..
И
меч
в
ру ке
моей
мутит
струи
потока.
Или
же
боевые
детали
в
канонической
э ле гии:
Не т!
по лно
пробегать
с
улыбкою
любви
Пер стам и
ле гки ми
цевницу
зо лотую ;
Пускай
другой
поет
и
радости
свои,
И
жизни
счастливой
п одругу,
м олбд ую
—
Я
одинок,
как
цвет
степей...
...
О
Лиза!
сколько
раз
на
Марсовы х
поля х,
Среди
грозы
бо ев,
я,
през ирая
страх,
С
воспламененною
душою
Тебя,
как
славу ,
призывал,
И
в
пыл
сраженья
мча л
К рылатые
полки
желез ною
с те ною...
и
т.
д.
Или
о пять
—
«гусарские»
мо тив ы,
впл е тенны е
в
романс,
например:
Чем
чах н уть
от
любви
у ны лой,
Ах!
что
здоровей
может
бьггь,
Как
подписать
отставку
милой
Или
отставку
получить !..
Затем
—
различные
темы
все
время
переплетаются
с
во
енно-гусарскими
стихами,
и,
на ко нец,
сборник
зам ык ает ся
«Современной песней», где былой гусар- бог ат ы рь
расправляет
ся
с
молодежью
измельчавшего
века.
Сказанное
выше
о
единстве
сборника
определяет
суще
ственные
особенности
самого
стиля
Давыд о ва.
Текст
его
ст и
хотворения
не
исчерпывает
его
образного
содержания.
Это
содержание
стоит
за
текстом,
дано
о тч асти
зар ан ее,
до
текста,
как
результат
совокупности
других
стихо тво р ений.
Самый
же
134
текст
по
романтическому
принципу
опирается
на
примышление,
на
воображение
читателя.
Но
здесь
важна
и
сам ая
семантика
Давыдова;
у
н его
отбор
слов,
отбор
стил ис тич ес ких
элементов
текста
обус ловле н
не
только
и
не
столько
темой,
сюжетом
изображения,
объектом
его,
сколько
субъектом
его,
то
есть
обр аз ом
самого
ге роя
поэта.
Задача
стихотворения
—
создать
обра з
не
столько
того,
о
чем
ид ет
ре чь
в
стихотворении,
сколько
того,
кто
это
стихотворение
создал,
или,
вернее,
от
лица
кого
оно
написано.
Э тим
обусловлен
и
стилистический
харак т ер
текста.
Да вы дов
применяет
то
или
ин ое
слов о- обр аз
не
потому,
что
оно
соответствует
задаче
ве рно
и
ярк о
об рис о
вать
объект,
а
потому,
что
оно
по д чинено
задаче
выразить
харак т ер
лирического
я.
Слов о
приобретает
сп ециф иче ску ю
ок раск у,
уже
не
лирический
ореол
эмоциональных
ассоциации
во об ще,
а
функ ци ю
построения
характера,
обращенную
на
суб ъе кт
речи.
Получается
так
называемый
«сказ», нечто вроде
того,
что
—
в
другой,
реалистической,
си стем е
—
мы
в идим
в
«Повести о капитане Копейкине», где подлинным содержанием
яв ляетс я
не
ра сс каз
о
Копейкине,
а
характеристика
рас ск азч и
ка-почтмейстера.
Это
был
совершенно
новы й
пр инцип
поэти
ческ ой
речи,
п ост роен ие
в
ней
образа
не
только
по
теме,
но
и
по
стилистическому
характеру.
В от,
например,
стихотворение
«Решительный вечер гусара».
Оно
начинается
элегическими
ст рочка ми ,
как
будто
не
име ющ ими
ничего
гусарского:
гусар
замечтался;
вскоре
в
тексте
появ ляю т ся
гусарские
мотивы,
а
затем
гусар
—
в есь
пере д
нам и:
С егод ня
вечером
увижусь
я
с
тоб ою
—
Сего дня
вечером
решится
жребий
мо й,
Сегод н я
получу
желаемое
мною
—
Иль
абшид
на
покой.
А
завтра
—
че рт
возьми!
как
зюзя
натянуся;
На
тройке
ухорской
стрелою
полечу;
Пр осп ав шись
до
Тве ри,
в
Твери
опять
напьюся,
И
пьяный
в
Петербург
на
пьянство
приск ачу.
Но
вот
—
опять
мысль
о
любви,
и
опять
элегия:
Но
есл и
счастие
назначено
су дьб ою
Тому,
кто
цел ый
век
со
счастьем
незнаком,
—
и
опять
—
гусар
ост ает ся
верен
себе:
Тогда...
о,
и
тогда
на пьюс ь
свинья
свиньею
И
с
рад ости
пропью
пр ого ны
с
кошельком.
Почему
здесь
такие
«грубые»
слова
и
мотивы?
Т ема
совсем
не
вызывает
их.
Вед ь
это
—
с тихо тв ор ение
о
лю бви,
и
о
л юб
135
ви
сильной,
настоящей.
Но
слова
и
мотивы
обусл овле ны
здесь
не
толь ко
темой,
но
и
задачей
характеризовать
гусара-поэта,
и
потому
—
они
«гусарские».
Или
дру гой
пример:
стихотворение
«Гусарская исповедь»;
это
уже
не
любов ны й
монолог
гусара,
а
мед ита ция,
размышле
ние
гусара.
Тема
социально-сатирическая,
весь ма
серьезная,
и
гуса р
серьезен;
он
ра змы ш ляет
важн ы ми
формулами
выс окой
по эз ии: «От юности моей враг чопорных утех ...» (Ср.
у
Ба
тю шко в а: «От самой юности служитель алтарей ...»
—
«К
другу») -т-
или
«Бегу вас,
сборища...», или «Но
не
ск ажу,
чтобы
в
безумный
де нь
не
согрешил
и
я,
не
посетил
кру г
модный;
Что б
не
искал
присесть
под
благодатну
тен ь», —
так
и
ждешь
пальмы
или
платана.
Но
гусар
остается
гусаром:
Что б
не
искал
присесть
под
благодатну
тень
Рассказчицы
и
сплетницы
д ород ной ...
В
цело м
стихотворение
это,
к онеч но,
серьезное
и
не
ли
шенное
политических
нот
размышление,
это
—
сатира,
но
и
оно
рисует
гусара,
то го
же
гусара
в
его
сатирическом
пафосе
более,
чем
общество;
вот
его
начало
и
конец:
Я
каюсь:
я
гуса р
давно,
всегда
гусар,
И
с
проседью
ус ов
все
раб
младой
прив ычки ;
Л юблю
р азгуль ны й
шум ,
у мов,
речей
пожар
И
громогласные
шампанского
отмычки.
От
юности
мо ей
враг
чопорных
утех,
Мне
душно
на
пи рах
без
вол и
и
р аспа шки.
Да вай
мне
хор
цы ган!
Давай
мне
спор
и
смех ,
И
дым
сто лб ом
от
трубочной
затяжки]
...
Но
то
наб ег,
наскок
—
я
миг
ему
даю,
И
торжествуют
вновь
любимые
привычки,
И
я
спешу
в
мою
1усарскую семью,
Где
хлопают
еще
шампанского
отм ычк и,
Долой,
долой
крючки,
от
г лотки
до
пупа!
Где
трубки?
—
Вейся,
ды м,
на
удалом
раздолье!
Роскошествуй,
веселая
толпа,
В
живом
и
братском
своев оль е!
Для
Давыдова
нет
слов
«низких»
или
«высоких», нет сти
ля
неприличного
для
предмета;
для
не го
все
слова
хорошо,
есл и
они
характеризуют
ге роя
—
нос ите ля
его
лирики
(субъект ее), а предмет для него менее существен.
Так
в
его
поэзию
включаются
неп еч ат ные
слова,
и
это
не
дел ает
ее
че м-
то
«нелитературным»
и
грубым,
а
это
—
характеристика
его
героя.
И
все
это
вырастает
на
основе
автораскрытия
субъекта
лирики,
на
основе
романтического
метода
слов,
обращенных
136
вовне
себя,
и
на
основе
поглощения
об ъект а
изображения
его
субъектом.
Здесь,
одн а ко,
сл ед ует
сд елать
существенное
замечание
и
всячески
подчеркнуть
его.
Дело
в
том ,
что
рома нт изм
д ает
тр ещину
в
творчестве
Давыдова,
х отя
оно
целиком
построено
на
п ринци пах
романтизма.
Романтизм
здесь
уже
гото в
сам
отрицать
себя.
Субъективность
индивидуального
сознания
сама
по
себе
превращается
в
объект,
тяготеет
к
выявлению
св оей
объективности.
В
самом
де ле,
искусство
не
может
существовать
без
объ
екта.
Стремление
романтизма
преодолеть
объективность
б ыло
без наде жно .
Сам а
ду шевн ая
жизнь
автора-героя,
становясь
под лин ной
темой
произведения,
тем
самым
становилась
объ ек
т ом,
объективным
фактом
изображения.
У
Жуковского
эта
тенденция
ра зв ития
романтизма
не
определилась
вполне
ясно,
—
и
это
б ыло
свя зан о
с
пассивностью
непр ият ия
им
мира,
с
его
бегством
от
мира,
с
его
t политическим скептицизмом и
консервативностью.
Но
Давыдов
не
мог
и
не
хотел
витать
в
н еб есах
душевной
мечты.
Он
был
человеком
и
поэтом,
оппо
зиционным
по
отношению
к
правительству,
он
был
натурой
активной,
он
любил
жизнь
и
хотел
др ать ся
за
нее
и
против
негодяев,
от равля ющи х
ее.
Его
сознание
р азви валось
в
русле
дворянской
оппозиционности
начала
в ека,
а
потом
—
под
влиянием
околодекабристских
кругов.
И
его
творчество
бы ло
яркой,
смелой
вспышкой
задорного
протеста
против
монастыр
ск их
уставов
феодальной
реакции.
Отсюда
и
нежелание
Давы
д ова
уйти
от
жизни.
Отсюда
и
то,
что
его
субъективизм
не
имеет
характера
бегства
от
объективной
жиз ни
в
мир
душев
ных
настроений
и
м еч таний.
Но
Давыдов
«бунтует»
во
имя
пра ва
чело век а
на
личное
здоровое
веселье,
мужество,
задор.
Его
мировоззрение
в се- таки
индив иду ал ист ичн о,
и
его
метод
отмечен
печатью
этого
индивидуализма,
культа
личности.
Все
же
разница
между
рома н тиче с ким
индивидуализмом
Жуков
ского
и
индивидуализмом
Давыдова,
также
вырастающим
на
почве
романтизма,
та,
что
су бъек т
у
Жуковского
—
душа,
у
Давыдова
—
душа
и
плоть,
даже
б ыт,
даже
профессия,
пусть
усло вн ые,
но
все
же
существующие.
Это
можно
выразить
так:
стилистический
метод
Жуковского
направлен
на
создание
представления
о
д ушев ной
жизни;
стилистический
метод
Да
выдова
направлен
на
созд ани е
представления
о
х ар актер е;
характер,
построенный
поэзией
Давыдова,
не
б езр азли чен
в
политическом
смысле;
он
направлен
на
окружающую
действи
тел ьн ос ть,
он
является
своео бр азным
протестом
против
нее;
сам
по
се бе
его
характер
уже
нечто
более
объективное,
реаль
137
но
ощутимое,
чем
индивидуальная
душевная
жизнь;
но
если
он
при
эт ом
а ктив но
соотнесен
с
в неш ней
действительностью,
с
отрицаемой
им
социальной
действительностью,
он
тем
самым
в
еще
большей
степени
включается
в
эту
«внешнюю»
дейст ви
тельность,
он
получ а ет
некоторую
долю
объективности.
В
самом
деле,
герой
лирики
Давыдова
—
не
вообще
чувствую
щий
человек,
а
русский
гусар
времени
Давыдова.
В
отличие
от
лирического
я
поэзии
Жуковского,
он
имеет
быт,
условно
замкнутый
в
кругу
кавалерийских
наскоков
на
врага,
пирушек
и
любви;
имеет
внешность
и
одежду
—
усы,
кивер,
ме нтик,
ташку ;
имеет
в не шнюю
повадку
и
свой
специфический
язык,
грубовато-залихватский,
но
откровенный,
прямой,
простодуш
ный
и
в
люб ви,
и
в
веселье,
и
в
бою.
Та ким
об р азом
происхо
дит
как
бы
объективизация
героя,
вых од
его
из
чисто
душев
ной
сферы
во
в неш нюю
объективную
жиз нь.
У
Давыдова
этот
выход
т олько
Намечен
и
не
р еали зован
прин ципиал ь но .
Вклю
чение
его
героя
в
объективный
мир
да но
схематично
—
при
помощи
немногих
ус ло вных
черт;
его
геро й
не
движется,
не
меняется;
он
бывает
влюблен,
бы вает
пьян,
но
он
—
все
тот
же
единый
и
дово ль но
примитивный
характер;
отсутствие
и зм е нения,
д в ижения
яв но
отличает
этот
характер
от
реалисти
ческих
ха рак те ров
—
типов.
Да
ему
и
не
от
чего
двигаться
и
ме няться ,
так
как
и
он
не
объяснен
«внешней»
дей стви тель
ностью,
даже
не
ок р ужен
ею;
он
соотнесен
с
нею,
и
тол ьк о.
В
этом
Давыдов,
конечно,
еще
романтик.
Его
герой
наличием
внешней
характеристики,
быта
и
т.
п.
н апо мина ет
эмпири
ческую
манеру
Дер жа вина .
Д ав ыдов
в
само м
д еле
соединяет
в
се бе
Жуковского
с
Державиным,
с о едине ние
почти
парадок
сальное,
но
приведшее
к
положительному
результату,
хо тя
и
не
к
реализму.
Он
суммирует
внешнего
чело века-л ич н ост ь
Дер жа вина
с
внутренним
человеком-личностью
Жу ко вск ого;
соединение
внешнего
и
психологического
должно
бы,
кажется,
дат ь
по лно ту
реального
представления
о
человеке,
—
и
не
да ет
его.
Не
дает
потому,
что
здесь
мало
арифметической
суммы.
Проблема
зак люч алас ь
в
то м,
чтобы
объяснить
и
внешнего
и
внутреннего
человека
из
фактов
и
явлений
более
мощных,
чем
личность,
из
истории
общества,
на ро да;
это
и
была
проблема,
разр ешен на я
Пушкиным.
Давыдов
же
остался
в
пределах
личности,
себ е
довлеющей
и
ни
от
чего
не
завися
щей ,
то
есть
в
пределах
романтического
мировоззрения.
А
все
же
поэт иче ск ое
творчество
Давыдова
было
харак
терным
этапом
в
развитии
романтизма
именно
в
смысле
выяв
л ения
его
прот ив ореч ий
и
тенденции
эт их
противоречий
обна
руживать
реалистическую
проблематику,
подводить
к
138
перелому,
к
рождению
реализма,
к
пу шк инско му
тв орче с тву
1820—1830- х
годов.
Здесь
сле дует
внести
весьма
важное
ограничение.
В се,
что
б ыло
сказано
о
поэзии
Давыдова
в
отношении
к
проблеме
построения
характера
в
н ей,
полностью
применимо
лиш ь
к
сборнику,
изд анно му
в
1840 году и подготовленному автором в
1836—1837 годах .
Именно
в
этой
книге
Давыдов
построил
материал
своих
стихотворений
таким
образом,
что
получился
единый
образ
г ероя,
предопределяющий
во спр ият ие
ка ж дого
отд е льн ого
произведения.
Меж ду
тем
это
был о
сделано
уже
тогда,
когда
Пушкин
завершил
свой
творческий
путь,
когд а
реализм
в оплот и лся
уже
в
«Евгении Онегине»,
в
«Борисе
Го ду но ве», в рясе шедевров Пушкина.
И
нет
сомнения,
что
именно
реалистические
победы
Пу шкина
по влиял и
на
проясне
ние
тенденции
к
объективации
характера
и
в
творчестве
Дав ы
дова.
Ина че
говоря,
достижения
Давыдова
в
это й
области
были
отча с ти
следствием
пу шк инско го
творчества.
Тем
не
менее
тенденция,
оконч ате л ьно
реализовавшаяся
в
издании
сочинений
Да вы дова
1840 года,
бы ла
свойственна
его
твор
честву
с
самого
начала.
В
1810—1820-х
годах
Давыдов
печа
тал ся
немного.
Конечно,
его
стихотворения,
по па дая
в
печать
изредка
и
появляясь
в
журналах
поодиночке,
не
могли
с
тако й
яркостью
суммироваться
в
единый
ци кл
и
в
совокупности
своей
создавать
единый
образ.
Но
они
все
же
соотносились
с
биографической
легендой
о
Давыдове,
широко
известной.
Кроме
того,
основные
стихотворения
Давыдова,
как
раз
те,
которые
не
печатались,
его
гусарские
«залетные»
стихи,
были
чр езвыч ай но
распространены
в
списках,
и
они
тем
более
св я
зывались
с
легендарным
образом
гусара-партизана;
в
с вою
очере дь*
они
влия ли
на
восприятие
печатных
стихов.
Так
един
ство
образа
возникало
еще
до
появления
сбо р ника
Давыдова,
хотя
и
в
мене е
отчетливом
в иде.
То лько
в
1832 году появилась
книж ка
«Стихотворений Дениса Давыдова», уже с предисло
вие м
«От издателя»
и
с
автобиографией,
названной
здесь
«Некоторые черты из жизни Дениса Васильевича Давыдова» .
Однако
этот
сб орн ик
мог
только
помешать
созданию
единого
образа
героя;
ви димо ,
Давыдов
еще
в
1832 году сам не осоз
нал
значения
этого
образа
для
полноценного
восприятия
его
стихов
читателем.
Ил и,
вернее,
он
не
см ог
еще
преодолеть
в лиян ия
тра дици и:
сборник
1832 года расположен в основном
по
жанрам;
сначала
идут
элегии
(пять стихотворений), затем
р аздел
«Мелкие стихотворения»; без особой внутренней связи
идут
о дно
за
другим
различные
стихотворения
(всего 36
пьес);
при
этом,
в
отличие
от
сборника
1840 года,
о снов ные
гусар
139
ские
сти хи
отнесены
в
конец
книги,
видимо,
как
произведения
более
«низкого»
жанра,
че м,
например,
э л егия.
Тем
самым
конструкция
ци кла
разрушается.
И
лишь
к
концу
жизни
Да
выд ов
окончательно
офор ми л
в
композиции
своей
к ниги
те
тенденции,
к оторы е
из дав на
определяли
направление
его
тво р
ческих
исканий
40.
Я
остановился
на
вопросе
о
формировании
образа
л ир иче
ско го
героя
в
творчестве
Дениса
Давыдова
и
потому,
что
этот
вопрос
существен
далеко
не
только
для
Дениса
Давыдова.
Это
б ыла
одна
из
проблем,
выд ви нут ых
рома н тиз мом
и
не
решен
ных
им,
—
пробле ма
человека,
личности.
Жу ко вский
с
его
интроспективным
психологизмом
поставил
эту
проблему.
Она
выдвигалась
всем
ходом
раз вит ия
литературы
и
культуры
в
целом.
Давыдов
разрешает
ее,
—
и,
конечно,
далеко
не
полно,
в
плане
внешнего
соединения
державинских
завоеваний
с
мето
дом
Жуковского.
В
1820- х
годах
эта
же
проблема
будет
с то
ять
перед
пропагандистами
наследия
Веневитинова,
его
друзьями-любомудрами.
С
эти м
поэтом
п роизо шла
замеча
тел ьн ая
история:
он
получил
полное
(в меру возможностей
позднего
романтизма)
бытие
как
поэт
л ишь
после
своей
сме р
ти.
Пока
он
был
ж ив,
он
писал
стихи
и
статьи,
некоторые
из
них
печатались,
—
и
это
б ыли
только
отдельные
произведения
поэта,
не
сл ишко м
ор игина льно го ,
повторяющего
романтиче-
40 В 1825
го ду
не
все
читатели
ощ уща ли
характер
певца-гусара
как
субстрат
и
осно ву
поэ зии
Да вы дова.
В
одн ой
статье
«Московского телегра
фа»
за
этот
год
ска зан о : «О вине и лени не написано фолиантов,
а
несколь
ко
пр иятн ых
и
замысловатых
пьес,
с то лько
же
укр аша ю щих
н ашу
поэзию,
ско ль ко
оды
А накре оновы
украшают
поэзи ю
Г р еческ ую.
В
это м
роде
песни
Давы до ва
имеют
достоинство
необыкновенной
нар одно сти.
Б атю шков
ис
пол нен
истинной
неги.
Пушкин
не
уступает
Катуллу
в
живом
описании
наслаждений».
Ви димо,
автор
не
от деля ет
образ
Давыдова
от
др угих ,
не
видит
в
нем
его
специфики
(«Московский телеграф», 1825, ч .
II, стр .
71—
72— «О
критике
г -на
А.
Ф.
на
русскую
поэз ию»).
В про чем,
в
том
же
журнале
и
в
том
же
го ду
напечатана
статья,
а втор
кото ро й
отчетливо
ощ у
щает
био гра фиче ски й
субстрат
поэзии
Давыдова;
это
рецензи я
на
«Разбор
трех
ста те й,
помещенных
в
Записках
Напо л ео на»
Давыд ова
(«Московский
телеграф», 1825, ч.
III,
стр.
159); здесь говорится,
что
ме жду
нашими
«воинами -пи са телям и »
«как звезда блестит имя Д В.
Давы до ва.
Е сли
мож но
толковать
пророчество
Суворова,
Д.
В.
т очно
выиграл
три
сражения:
быв
ужасом
врагов
на
полях
брани,
он
был
победителем
св оих
соперников
в
Эротической
Поэзии:
в
мир е
лира
его
пле нял а
нас
з вук ами
очарователь
ной
задумчивости,
пылкой
ст раст и',
на
снежных
би вак ах,
в
таборах
воин ски х
раз давались
его
залетные
пес ни,
лихие
п ослан ия »: тут не только
объединение
поэз ии
в
образе
героя-автора,
не
только
полное
ос вое ние
признаков
стиля
—
об раза
Д авы дова,
но
и
соединение
элег и че ской
поэ зии
его
с
«залетной»
в
единстве
человеческого
ха рак те ра.
140
ский
шаблон
в
духе
ш колы
Жуковского,
с
некоторой
акценти
ровкой
философских
деклараций
ше л лингиа нско го
направления;
впрочем,
эти
д екл араци и
не
могли
ни
овладеть
це лико м
его
творчеством,
ни
определить
его
стиль;
и
мотивы
и
стиль
его
поэзии
были
несамостоятельны
41.
Но
сразу
по сле
его
смерти
все
изменилось.
Вы шел
сборник
его
произведений
в
сти хах
и
прозе
(М ., 1829—1831, 2 ч. ), изданный друзьями;
с бор ник
открывался
небольшой
статьей-очерком
о
р ано
умершем
поэте-
философе,
да ва вшим
основу
для
восприятия
всего
следующего
за
ним
в
книге.
Другое
пр едис ло вие
был о
предпослано
второму
тому.
Обр аз
юноши
поэта-философа,
любомудра,
мечтателя
и
патриота
был
создан
отчасти
уже
этими
в в еде ниями
к
книге,
—
а
за тем
все
содержание
ее
должно
было
восприниматься
как
единство,
и
любовные
стихи
без
всякой
философии
звучали
как
стих и
о
любви
философа,
а
любой,
даже
весьма
скромный,
намек
на
размышление
в
стихах
воспринимался
как
проявление
большой
концепции
русского
шеллингианства.
Таким
обра зо м,
в
результате
композиции
книги
и
те нде нций,
выявленных
в
литературе
этого
времени,
перестраивалась
сам ая
се м антика
стихотворений
Ве нев итино в а.
Его
статьи
в лияли
на
смысловую
структуру
его
стихов,
—
и
все
это
вм есте
приобретало
особый
трагический
оттенок
из-за
того,
что
читатель
уже
зна л
о
с лиш ком
ранней
смерти
героя
и
автора
книги,
поэта-философа.
Так
создалась
легенда
о
«жертве вечерней»
кружка
любомуд
ров,
о
восхитительном
юноше
не
от
ми ра
сего ,
который
не
мог
жить
в
страшном
мире
реальности,
легенда,
во
многом
в полне
соответствовавшая
действительности,
но
все
же
повествующая
б олее
о
гер ое
книги
Веневитинова,
чем
о
нем
самом
(а ведь
книгу
создал
не
только
он
сам,
но
и
его
друз ья
после
его
смерти).
Обр аз
Жуковского,
как
он
жил
от
Плетнева
и
до
Ве с ел овс кого,
образ
Де ниса
Давыдова,
образ
Веневитинова
—
это
все
явления
одного
порядка;
это
об разы ,
со тка нные
из
элементов
творчества
и
элементов
биографии
в
некоем
единстве,
подчиненном,
одн ако ,
законам
романтизма,
выра
ж енно го
в
творчестве
эт их
поэтов,
и
все
же
стремящемся
в ый
ти
за
пр еделы
романтизма.
Характер,
изображение
человека,
а
не
только
уже
культ
и
к ульт ура
личности
—
вот
что
стояло
как
задача
перед
романтиками.
Эту
задачу
разрешить
методом
и
мировоззрением
субъективизма
бы ло
невозможно.
Ее
разре-
41 См.
Л.
Я.
Г
и
н
з
б
у
р
г,
Оп ыт
ф илос офск ой
лирик и.
«Поэтика»,
вып.
V, Л. , 1929.
Попытка
док аз ать
г лубок ое
своеобразие
Веневитинова
в
статье
о
нем
В.
Л.
Комаровича
(предисловие к изданию стихотворении
Веневитинова, 1940), статье,
впрочем,
оче нь
ценной,
неубедительна.
141
шил
реализм,
разрешил
Пушкин,
у
кот оро го
как
раз
нет
цик
лиз ац ии
стихотворений
вок руг
едино го
лирического
героя,
нет
и
ориентировки
текс та
на
примышляемый
читателем
легендар
ный
или
иной
биографический
образ
автора-поэта.
Я
уже
говорил
о
том,
что
поэтическая
работа
Батюшкова
ра зви вал ась
в
русле
того
же
направления
литературы,
которое
представлено
бы ло
Жуковским
и
воз гла вле но
им.
Центром
и
вождем
на
правления
в
целом
был
именно
Жуковский.
«Жуковский сде
лал
несравненно
больше
для
своей
сферы,
чем
Батюшков
для
сво ей » (VII, 252), —
сказал
справедливо
Белинский
(«Статьи
о
П у шкин е»), и еще: «Творения Жуковского
—
это
целый
период
нашей
литературы,
ц елый
период
нравственного
разв и
тия
нашего
общества.
Их
можно
находить
одностороннйми,
но
в
этой-то
од нос торон ност и
и
зак лючает ся
не обход имос ть ,
оправдание
и
достоинство
их...
Направление
и
дух
поэзии
его
(Батюшкова .
—
Г.
Г.)
гораздо
определеннее
и
д ейст ви тель нее
направления
и
дух а
поэ зии
Жуковского;
а
между
тем
кто
из
русских
не
знает
Жуковского,
и
многие
ли
из
них
знают
Ба
тюшкова
не
по
одному
только
им ен и?» (VII, 241); или:
«Батюшков далеко не имеет такого значения в русской литера
туре,
как
Жуковский» (VII,223).
Все
это
совершенно
спра
ведливо,
несмотря
на
то
что
Батюшков
оказал
значительное
влияние
на
молодого
Пушкина,
что
он
был
ближе
к
Пу шки ну
и
по
своему
мировоззрению,
и
по
самой
стилистической
мане
ре,
чем
Жуковский,
—
и
что
все
это
хорошо
понимал
и
прямо
писа л
об
этом
Белинский.
Но,
восприняв
от
Батюшкова
многое
в
своей
манере,
и
да же
мотивы
и
выражения,
Пушкин
обязан
Жуковскому
большим,
хо тя
внешне
его
стихи,
может
быть,
и
мен ее
сходны
с
его
поэзией.
Жуковский
был
главой
и
наиболее
глубоким
вы разит елем
то го
те че ния
романтизма,
психологиче
ского,
которое
дало
Пушк ину
много
и
в
1810-е
годы
и
позд
нее,
когд а
он
стал
на
пу ть
реализма.
В ли яние
Батюшкова
бы ло
более
ли чн ое,
персональное,
влияние
Жуковского
бы ло
влияни
ем
не
его
личного
склада
мысли
и
вкуса,
боле е
или
менее
чуж дог о
Пушкину,
а
вл ияние м
целого
направления
евр оп ей
ск ой
культуры.
Пушкину
бы ло
ближе
в
Батюшкове
отсутствие
лири
ческой
туманности,
зыбкости
смысла,
неопределенности
пс ихо
л огич еских
мотивов.
И
Батюшков,
под об но
Жуковскому,
из
гнал
из
сфер ы
искусства
объективный
реальный
мир;
и
для
Батюшкова
единственная
реальность,
как
и
единственная
цен
ность,
как
и
единственная
те ма
искусства
—
это
дух
чело вече
ский,
воспринимающий
ми р,
а
не
самый
этот
ми р.
И
у
Ба
тюшкова
этот
отказ
от
объективной
действительности
ист ор ии,
142
об щест ва,
материальной
предметности
был,
с
одной
стороны,
следствием
культа
отъединенного
от
вс ех
связей
человека,
с
другой
—
сле дст в ием
отчаяния,
ужаса
перед
реальной
соци
альной
действительностью
его
эпохи.
Тот
же
Белинский
тонко
заметил
о
Б ат юш к о ве: «Не находя удовлетворения в наслаж
дениях
жизни
и
нося
в
д уше
страшную
пустоту,
он
восклицал
в
то ске
своего
разочарования:
Минутам
странники,
мы
ходим
по
гробам;
Все
дни
утратами
считаем...»
(VII, 240).
Недаром
Батюшков
так
люби л
скептического
(и гуманного
в
то
же
время)
Монтеня.
И
не д аром
он,
пр инимав ший
столь
усердное
участие
в
огромных
событиях
эпохи
в
качестве
о фи
ц ера,
—
в
качестве
поэта
меньше
в сех
русских
писателей
откликнулся
на
них;
Батюшков
—
меньш е
всего
поэт
полити
ческой
и
общественной
тематики;
он
как
бы
боится
ее;
он
у бе гает
от
нее
в
свет лы й
мир
античных
в идений
и
культа
св ет
лого
Возрождения
И тал ии.
Вот
здесь-то
и
заключено
его
отличие
от
Жуковского,
весьма
существенное.
Жуковский,
не
ве ривши й
в
объективный
мир
и
да же
в
объективную
истину,
твердо
верил
в
человека,
в
индивидуальную
душ у,
прекрасную
даже
в
своих
страданиях.
И
Жуковский
скорбел
о
страданиях
индивидуальной
души
в
страшном
мире.
Сам ый
трагизм
Жу
ковского
как
бы
с па сает
его ;
он
проносит
че рез
все
горести
высок и й
идеал
незапятнанной
человеческой
души,
в
прекрасное
предназначение
кот орой
он
верит.
Поэтому
он
из ображ ае т
душу
индивидуального
человека
во
всей
ее
сложности
и
зыб
кости,
он
изображает
свою
душу
во
всей
ее
«незаконности», и
это
изо бр аже ние
—
это
культ
души,
остающейся
живой
и
здоровой
в
б ольн ом
и
ложном
мире.
Батюшков
—
поэт
еще
более
трагический,
чем
Жукова
ский.
Это
—
поэ т
безнадежности.
Он
не
может
бежать
от
мира
призраков
и
лжи
в
мир
замкнутой
ду ши,
ибо
он
не
верит
и
в
душу
человеческую,
как
она
ес ть;
душа
человека
для
нег о
—
така я
же
запятнанная,
загубленная,
как
и
мир,
окружающий
ее.
Он
не
м ожет
описывать,
изображать
ее,
ибо
она
—
тл ен.
Индивидуальная
душа,
смертная,
мимолетная,
трагически
об
реченная,
для
Батюшкова
пуста
и
бессмысленна.
И
вот
Ба
тюшков
весь
уходит
в
ме чту
о
другом
человеке,
не
таком,
как ой
есть,
а
таком,
какой
должен
быть,
должен
был
бы
быть.
Жуковский
т оже
мечтает;
его
б аллад а
—
это
мечты
и
с каз ки;
но
и
в
св оих
мечтах
он
интересуется
не
содержанием
мечты,
а
мечтающей
ду шой,
своей
собственной
душой.
По
Жуковскому,
143
идеал,
спасающий
от
бедствий
«жизни существенной», есть;
он
—
в
ду ше
ка жд ого
из
н ас;
по
Батюшкову,
это го
идеала
нет
в
жиз ни,
ни
в
«существенности», ни в душе,
но
он
должен
быть,
он
—
норма.
Спастись
чел овек у
некуда
—
таков
см ысл
поэзии
Батюшкова,
—
если
он
живет
в
настоящем;
спастись
можно
лишь
мыслью
о
возможном,
—
но
будет
ли
когда-
ниб удь
это
воз мо жно е,
Батюшков
не
знает;
и
он
по м ещает
сво ю
мечту
вне
времени
и
пространства,
в
ус ло вном
мире
ан тич нос ти
и
Ренессанса;
этот
мир
дан
у
него
совершенно
внеисторично,
вне
реальных
представлений
о
жизни
тех
времен
и
народов;
это
—
мир
идеала
прекрасного
чело век а
под
п ре
красным
солнцем
сказочного
юг а,
человека
вне
общества,
тр у
д ов,
о тноше ний
42.
Идеал
—
прекрасен,
и
в
лучах
его
Батюш
ков
наслаждается.
Но
в
глубине
этого
насл ажд ения
—
«страшная пустота», «диссонансы сомнения и муки отчаяния»
(Белинский, VII, 240).
Странно
видеть
в
Батюшкове
певца
жизненной
радости.
Мотивы
безнадежности,
как
и
мотивы
религиозных
с мят ений
прямо
выражены
в
его
по эзи и.
Трагич
ны
и
глаЁные
герои
его
«исторических»
элег ий,
Та сс
и
Гом ер.
И
над
это й
пропастью
безнаде жно сти
Батюшков
возводит
легкое
здание
мечты
о
н ормальн ом,
здоровом,
красивом
че ло
веке,
не
в
пример
под ли н ному
человеку
«существенности»
вознесшемся
над
реальностью,
над
жизнью
объективной
и
реально
страшной.
Это
легкое
здание
мечты
и
есть
та
атмо
сфера
светлого
духа,
ко то рая
цар ит
в
некоторых
стихах
Ба
тюшкова,
но
кот ора я
в
эт их
же
стихах
пос то янно
разрушается
трагическим
напо мина нием
о
«существенности»; так рушится
мираж
св етл ого
ми ра
в
«Воспоминаниях», в «Т ен и
друга», в
«Последней весне», в стихотворении «К
другу»
и
других
ше
деврах
Бат юшк ова.
В
сущности,
форм ула
его
поэзии
—
это
и
знаменитое
«Изречение Мельхиседека»
с
его
безысходным
пе сс имиз мом,
и
в
своем
род е
столь
же
знаменитая,
вызы
вавшая
мно го
усмешек
строфа
(с образом,
заимствованным
у
Шатобриана):
Сердце
наш е
кладезь
мрачной:
Тих ,
покоен
сверху
вид,
- ------- 1
42 Плетнев писал в 1822
го ду
о
Батюшкове: «Он.
каж ется,
не
вериг,
чтобы
все ,
прекрасное
для
него,
было
прекрасным
и
для
дру гих ,
и
потому
его
произведения,
выдержавшие
искус
обдуманности,
сбросили
с
себя
ли ч
ность
времени
и
места
и
вышли
в
таком
виде,
в
ка ком
без
зас тенчи вост и
могли
бы
по каза ть ся
в
древности
и
в
ка ком
спокойно
могут
идти
к
будущим
п око лен иям» («Заметка о сочинениях Жуковского и Батюшкова».
—
«Сочинения и переписка П.
А.
Плетнева», т.
I, СПб., 1885, ст р.
28).
144
Но
спу стись
ко
дну...
ужа сно !
Крок од ил
на
нем
лежит!
(«Счастливей,» )
Поэзия
Жуковского
вс ем
своим
составом,
всем
стилем
своим
создает
обра з
ее
носителя,
вводит
читателя
в
мир
душ и
поэта.
Поэзия
Батюшкова
основана
на
столь
же
субъективном
методе.
И
она
говорит
гораздо
менее
о
том,
о
чем
повествует
ся
в
стих ах ,
согласно
их
внешнему
смыслу,
чем
о
том
созна
нии,
о
той
душевной
жизни,
ко то рая
сосредоточена
в
лири
ческом
я
эт их
стих о в.
Но.
здесь,
с огл асно
сказанному
выше,
обнаруживается
прин ципи альное
отличие
от
Жуковского.
Внутренняя
ж изнь
у
Жу ков ско го
—
это
кон крет на я
душевная
ж изнь
индивидуального
я
Жуковского,
это
душа
самого
поэта,
взятая
как
пример
душ и
человека
его
эп охи.
Внутренняя
жизнь
у
Батюшкова
—
это
идеал,
норма;
это
тоже
конкретная
ду
шевная
жизнь,
но
не
душа
Батюшкова,
а
его
ме чта
о
душе
п одл инног о
чело век а,
здорового
духом,
страстного,
пьющ е го
с
наслаждением
кр ас оту
жиз ни
—
и
уже
за
не ю,
как
подпочва
ее
—
тоскующая
душ а
самого
Батюшкова,
очень
похож ая
на
душ у
Жуковского.
Поэтому
в
тех
стиха х
Бат ю шков а,
где
обнаруживается
эта
подоснова,
где
он
гов ор ит
«от себя», в
унылых
стихах
Батюшкова
такое
сходство
со
сти ха ми
Жуков
с кого
(конец стихотворения «К
д ру гу », «Надежда»).
И
по
этому
же
стихи
Батюшкова
так
непохожи
на
его
письма
и
даже
на
его
статьи,
тогда
как
стихи
Жуковского
повторяют
его
задушевные
письма,
многократно
текстуально
повторяют
их,
часто
являются
как
бы
стихотворными
ва р иант ами
прозы
пи
сем .
Таким
образом,
поэзия
Бат юшк ова,
«античного»,
«светлого»
Батюшкова,
всем
стилистическим
составом
своим
конструирует
мир
души
и
интеллекта
идеального
нормального
человека,
человека,
о
ко тором
мечтает
Батюшков.
Поэтому,
име нно
поэтому
она
так
ясна,
определенна,
гармонично
у рав но
вешенна,
так
изя щна ,
так
легка
и
благозвучна.
В едь
и
у
Ба
тюш ко ва
все
элементы
поэтики
(и самая тема)
призваны
ха
рактеризовать
субъект,
а
не
объект
по эзии;
но
сам
этот
субъект
со здан
Батюшковым
как
идеал
и
потому
тяготеет
к
объективированию.
Здесь
важно
и
то,
что
в
поэзии
Батюшко
ва
—
два
субъекта:
ду ша
самого
поэта,
темная
и
трагическая,
и
душ а
его
идеала,
св етлая
и
жизненная.
Вторая
из
них
—
это
т оже
субъект
в
его
поэзии,
так
как
не
о
ней
говорится,
а
от
ее
лица
говорится,
но
она
хоть
и
найдена
Батюшковым
в
недрах
своей
собственной
тоскующей
по
идеалу
души,
все
же
стре
145
ми тся
отделиться
от
нее
в
качестве
общечеловеческого
идеала.
Нет
нуж ды
объяснять,
что
этот
идеал
—
прояв л е ние
т ого
же
культа
свободной,
ни
от
кого
не
зави сящ ей
личности,
который
был
основой
вс его
романтизма
в
целом,
культа
прогрессивного,
выросшего
из
борьбы
чело веч ест ва
против
ф ео дали зма
в
пору
буржуазных
революций.
Для
Батюшкова
не
характерен
стиль
и
словарь
туманных
унылостей.
Наоборот,
типичен
для
не го
словарь
отч е тли вый
и
яркий,
слов а,
как
бы
играющие
своим
изяществом,
спокойным
благозвучием.
Тво й
глас
подобигся
амврозии
не бесной,
Что
Ге ба
юна я
сапфирной
ча шей
льет.
Певец!
в
устах
твоих
поэ зии
прелестной
С л адчайший
Ольмия
благоухает
мед.
1
З десь
д ело
не
только
в
т ом,
что
приведенное
четверости
шие
—
это
ре пли ка
Гомера
(«Гезиод и Омир
—
соперники»),
и
потому
оно
изобилует
античной
терминологией,
айв
то м,
пре жде
всего,
что
преле с тн ой,
сладчайший,
благоухает,
небесной,
са пфи рной ,
мед—
с лова
красивые,
слова,
выра
жающ ие
красоту
полноценной
жизни,
св етло го
покоя
и
гармо
ни и.
И
эти
слова
в
не
меньшей
степени,
чем
у
Жуков ско г о,
субъективны
по
своему
использованию,
так
как
они
характери
з уют
породившую
их
среду
сознания
более,
чем
Гез ио да
или
Гомера;
но
эта
среда
созн ан ия
упивается
мечтой
о
красоте
и
пол но те
жизнеутверждения.
Отсюда
и
самая
мелодия
звуков
Бат ю шко ва,
богатство
звуков
и
напева
поэтического
синтакси
са.
Отсюда
и
символы
античности,
условной
сфер ы
т вор чест ва
и
сил ьной
свежей
жизн и.
Так
же
и
унылый
меланхолический
пе йзаж
Се вер а,
данный
в
тонах
Жуковского,
разрешается
ко нцо вк ой,
выражающей
успокоенность
духа
в
красоте
(«Воспоминания»):
О,
камни
Швец и и,
пустыни
скандинавов,
Обитель
др евня я
и
д облест и
и
нравов!
Ты
слушала
обет
и
гл ас
любви
моей,
Ты
часто
странника
задумчивость
пи тала,
Когда
румяная
денн ица
отражала
И
д ал ьние
с калы
гранитных
бе регов,
И
села
пахарей,
и
кущи
рыбаков
Сквозь
тонки,
утренни
туманы
На
зеркальных
водах
пустынной
Т рол летан ы.
Именно
о
таких
стихах
писал
Бе линс кий : «И как хорош
романтизм
Батюшкова:
в
нем
столько
определенности
и
яс
ности!
Элегия
его
—
это
ясный
вечер,
а
не
темная
ночь,
ве
чер,
в
прозрачных
сумерках
которого
все
предметы
только
146
принимают
на
себ я
какой-то
грустный
оттенок,
а
не
теряют
своей
формы
и
не
превращаются
в
призраки...
Сколько
души
и
сердца
в
стихотворении
"Последняя весна",
и
ка кие
с ти хи!»
(VII, 237).
Это
и
ест ь
ясно сть
стиля
Батюшкова.
Она
вовсе
не
озна
чает,
что
его
семантика
рационалистична.
Нимало.
Его
семан
тика,
романтическая
в
своем
существе,
вызывает
условными
символами
с лов
и
самой
му зык ой
речи
субъективные
сост оя
н ия,
ле жа щие
вне
самого
текста.
Но
эти
состояния
ясны е
и
спокойно
оп ре дел ен ные.
Ясность
слова
у
Батюшкова
—
это
я сно сть
духа,
выраженного
в
н их,
но
не
стремление
точно
терминологически
назвать
это
состояние
духа.
В едь
и
у
Ба
тю шко ва
его
подлинная
тема,
идеальный
покой
д уха
в
счастье
и
в
печали,
в ыра жена
не
рационалистически-словесной
форм у
лой,
а
навевается
всем
т оном
его
сти хо в.
Та
же
здоровая
ясность
ду ха
вы р ажена
и
в
композицион
ной
построенности,
законченности,
закругленности
с ти хотв оре
ний
Батюшкова.
Ес ли
стихи
Жуковского
—
нед и фферен ци ро
ванный
поток
смутных
душевных
движений,
не
им еющ ий
начала
и
конца,
то
сти хи
Батюшкова
—
это
заст ы вшее
состоя
ние,
и
они
отчетливы
в
своей
замкнутости.
Во т,
например,
стихотворение
«Пробуждение»:
Зефир
последний
с веял
сон
С
ресниц,
окованных
м ечтам и,
Но
я
—
не
к
счастью
пробужден
Зефира
тихими
крылами.
Ни
с лад ость
р озовы х
луч ей
Предтечи
утреннего
Фе ба,
Ни
кроткий
блеск
лазур и
н еба,
Ни
з апах,
веющий
с
полей ,
Ни
быстрый
лет
ко ня
ретива
По
ск ату
бархатных
луг ов,
.
И
гонч их
лай,
и
з вон
рогов
Вокруг
пустынного
залива
—
Ни что
душ и
не
ве сел ит,
Души,
вст ревоженной
мечтами,
И
гордый
ум
не
победит
Любви
холодными
слова ми.
Здесь
нельзя
перестанавливать
строфы
и
строки
чут ь
ли
не
по
пр ои звол у,
как
у
Жуковского;
здесь
первая
строфа,
четко
охваченная
кольцом
ан афо ры
(«Зефир,
Зе фи ра»),
—
это
име нно
начало;
затем
—
восемь
стихов
е дино го
движения
(ни,
ни,
ни,
и), и,
нако не ц,
к онцов ка - ит ог: «Ничто»
—
и
и зя щная
словесная
виньетка
в
заключительном
д ву с тишии.
Вообще
концовки
стихотворений
Батюшкова
всегд а
тако в ы:
147
они
подводят
итог
и
легкой
законченностью
рисунка
завер
шают
текст,
так
что
он
не
оставляет
в
душ е
читателя
тян у
щихся
за
с тиха ми
волнении.
Красоту
и
покой
здорового
духа
Батюшков
в ос со здает
в
самых
различных
оттенках
эмоции,
от
страстного
упоения
до
печали
сме рт и.
Что
д аже
страсть
у
него
спокойна
в
сознании
своей
гармонии,
мож но
видеть
хотя
бы
в
стихах
из
греческой
антологии,
напр имер :
С окроем
навсег да
от
з авис ти
людей
Восторги
пыл кие
и
страст и
упоенье.
Как
сладо к
поцелуй
в
безмолвии
ночей,
Как
сладко
тайное
в
любови
наслажденье!
И
это
не
противоречит
сложной,
до
предела
напряженной
в
своей
психологической
утонченности
семантике:
Скалы
чувствительны
к
свирели;
Верблюд
прислушивать
ум еет
песнь
любви,
Стеня
под
бременем;
румянее
крови
—
Ты
видишь
—
розы
покраснели
В
долине
Йеме на
от
песней
со ловь я ...
А
ты,
красавица...
Не
постигаю
я.
Именно
эту
особенность
субъективного
метода
Батюшкова
то нко
уловил
Белинский,
сравнивший
пластику
стихов
Батюш
ко ва
с
неподвижностью
античных
мраморных
статуй,
потому,
что
изо б р азител ьно сть
Батюшкова
не
предметная,
что
пре дм ет
изображения
у
Батюшкова
закл юч ен
как
бы
в
самом
стихе,
в
самом
идеале
его
красоты,
и
что
эт от
идеал
—
вовсе
не
фор ма
как
самоцель,
не
«искусство для искусства», а глубоко идей
ный
комплекс
представлений
о
человеческом
достоинстве.
Поэтом у
Белинский
говорит
о
зримости,
ощутительности
не
изображаемой
картины,
а
самого
стиха
Ба тю шкова : «Стих его
часто
не
только
слышим
уху,
но
видим
глазу:
хо че тся
ощупать
извивы
и
складки
его
мра мор ной
д ра пи ровк и» (VII, 224).
И
есл и
у
Жуковского
пейзаж
ду ши
унылый
и
вечерний,
у
Батюшкова
тож е
пейзаж
д уши,
но
он
сия ющий
и
восхититель
н ый:
Под
тению
черемухи
м леч ной
И
золотом
блистающих
акаций...
(«Беседка муз»)
Ни
сладост ь
розовы х
лучей
Предтечи
утреннего
Феба...
и
т.
п.
Я
уже
го вори л
о
своеобразном
пу ти
объективации
субъек
тив но го
мира,
намечавшемся
в
поэзии
Бат юшк ова.
В
самом
де ле,
психологический
мир ,
в оссо зд аваем ый
в
этой
поэзии,
—
148
конкретен,
но
теряет
свою
индивидуальность.
Эго
общечелове
ческий
идеал,
это
норма,
и
потому
это
—
неч то
тяготеющее
к
выходу
за
пр едел ы
индивидуальной
отъединенноеTM
одного
ду ха
от
другого.
Отьединенность
духа
от
объективного
закона
жизни
еще
сохранена
у
Батюшкова,
но
его
дух
—
таков,
ка
ким
должен
б ыть
дух
каждого
человека,
предписанный
л ич
ности.
Отсюда
преодоление
принципа:
каждый
за
себя;
отс юда
—
м ысль
о
единстве
человечества
в
идеале
красоты.
А
это
уже
мысль,
преодолевающая
романтический
индивидуализм.
Эго
был
существенный
шаг
к
реалистическому
миропонима
нию,
нашедшему
принципы
более
глубокие,
чем
независимость,
самостоятельность
личности.
Реализма
здесь
еще
нет.
Реализм
увидит
основание
да нн ого
характера
личности
в
соц иа ль но-
исторической
объективности.
Батюшков
же
еще
не
ви дит
сов
сем
эту
объективность.
Но
преодоление
индивидуальности
и
подчинение
ее
норме
было
уже,
методологически,
движением
к
проблеме
объяснения
человека.
И
эта
прогрессивность
поэти
ч еск ого
мышления
Батюшкова
по
сравнению
с
Жуковским
была
эстетически
выражением
более
акт ивно го
его
гуманизма,
его
потенциального
с в ободолю бия;
Батюшков,
поэт
безнадеж
нос ти,
поднял
знамя
ид еала
прекрасного
человека,
неосу
ществимого
в
его
время,
то гда
как
Жуковский
верил
в
воз
можность
бегства
в
личность
и
при
неправедных
устоях
жизни.
Культ
личности
у
Жуковского
мог
быть
пассивен.
Кул ьт
идеа
ла
личности
был
поэтической
борьбой
за
идеал,
активностью
и ск усства,
отвергающего
общество
во
имя
это го
идеа ла .
Скеп
сис
и
тр аги зм
у
Батю шко ва
разрешаются
в
его
идеале
чел ове
ка.
Краски
его
романтизма
сливаются
с
красками
по
литическими.
вя з е мский43
43 «Остафьевский архив князей Вяземских», т.
2, Спб . , 1899, стр.
170-171 (письмо к А .
И.
Т урген еву
от
25 февраля 1821
г.).
Вяземский
го вор ит
здесь
о
Байроне;
ц ели ком
его
фра за
звучит
так : «Шиллер гремел в
поль зу
притесненных;
Бай ро н,
который
н осится
в
облаках,
спускается
на
земл ю,
чтобы
грянуть
негодованием
в
прит ес ните лей,
и
краски
его
роман
тизма
сливаются
часто
с
красками
по литич ески ми ».
—
С.
П.
150
1.
Вли ян ие
на
юношу'Пушкина
поэтической
ш колы
Жуков
ск ого
и
Батюшкова,
вл ияние
на
нег о
ид ей
романтического
инд ивид уал изма
и
психологизма,
воплощенного
во
всей
поэти
ческ ой
системе
эт ой
школы,
бы ло
велико
и
плодотворно.
Это
влияние
обус лов ил о
формирование
целого
ря да
существенных
особенностей
литературного
мировоззрения
и
стил я
Пушкина,
нав се гда
оставшихся
характерными
для
него ,
хотя
и
подверг
ши хся
изменению,
обогащению
и
внутренней
перестройке
в
по ру
в ыз рев ания
пу шкинс ко го
ре ализ ма
из
романтической
си стем ы
мысли
и
творчества.
Одна ко
школа
Жуковского
и
Батюшкова
представляла
только
лишь
од но
крыло
русского
романтического
дв иж ения
1800—1820-х
годов,
тогда
как
Пушкин
уже
с
пер вых
лет
своей
литературной
работы
стал
на
путь
объединения
всех
передовых
поэтических
систем,
хо тя
и
боровшихся
между
собою,
но,
в
сво ю
очередь,
об ъе диня в
ши хся
ведущими
идеями
века
в
области
искусства,
идеями
романтизма.
Поэзия
Жуковского
и
Батюшкова,
ост авая сь
передовой
в
св оей
поэтически-философской
сущности,
принципиально
от
странялась
от
общественно-политической
темы,
и
да же
тогда,
когда
Жуковский
писал
«Певца во стане»
или
Батюшков
—
послание
«К Дашкову», политические события представлялись
в
их
т во рчест ве
как
повод ы
индивидуально-психологических
с ос тоян ий,
и
соответственные
сти хи
звучали
как
лично-
лирические
признания.
Наоборот,
подчеркнуто-политический
характер
имело
т вор чест во
антагонистов
Жуковского
и
Батюш
ко ва
в
пределах
русского
романтизма,
поэтов
открытой
поли
тической
направленности,
в
больш е й
или
меньшей
сте пен и
связ анны х
с
тем
д виже нием
мысли
и
искусства,
которое
подго
товило
декабристскую
поэ з ию.
Пу шкин
не
остался
чужд
и
эт ой
струе
русской
поэзии,
определившейся
еще
до
того,
как
оформились
политические
организации
будущих
декабристов.
В
нашей
науке
до
сих
пор
не
преодолена
окончательно
привычка
объединять
поэ тов
в
литературные
группы
по
их
непосредственной
и
организационно
выраж енн ой
групповой
принадлежности.
Так,
до
сих
пор
еще
мо жно
н ере дко
встре
титься
в
науке
со
стремлением
ограничивать
к руг
п оэтов
—
выразителей
декабристского
течения
в
русской
ли те ра туре
—
только
членами
тайных
обществ
и
участниками
восстания
1825
151
г ода:
Рыл еев ,
Одоевский,
В.
Ф.
Раевский,
отчасти
Кюхельбе
к ер,
—
этими
именами
обычно
исчерпывается
список
поэтов-
декабристов,
или
к
ним
присоединяются
очевидно
связанные
с
декабристскими
организациями
и
декабристской
политической
пр опа гандо й
Грибоедов
и
Пушкин,
причем
последний
только
в
части
своих
немногочисленных
политических
стихотворений
(«Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «Кинжал»,
эпи
граммы).
С
другой
стороны,
все
еще
существует
привычка
видеть
декабристскую
поэзию
толь ко
та м,
где
поэт
открыто
и
прямо
излагает
в
стихах
политическую
программу,
политиче
ские
тр еб ова ния
декабристов
или
ст оль
же
открыто
напа д ает
на
политических
врагов
декабристов.
Оба
у каза нных
способа
сужения
п оня тия
поэзии
декабризма
только
м ешают
истории
литературы
понять
сущность
да нно го
явл е ния.
По эзия
д екабр изма
была
бы
сл ишк ом
малозначительным
фактом
истории
русс к ой
литературы,
если
бы
она
сво ди лась
к
эарифмовке
политических
лозунгов,
и
мы
бы
с лиш ком
прини
зи ли
г лу бину
и
широту
самого
декабристского
движения
в
истории
русского
общества,
если
бы
поверили,
что
это
движе
ние
выр а зило
себя
лишь
в
тр ех
десятках
поэтически
оформлен
ных
прокламаций,
написанных
политическими
деятелями
тайно
го
общества,
как
бы
выразительны
и
поэтически
сильны
ни
были
эти
произведения.
На
самом
деле
«декабризм»
—
это
большое
идеологическое
движение,
з ахвати вшее
по чти
всю
передовую
часть
дворянской
интелл игенции ,
создавшее
целое
мировоззрение
и
св ою
литературу,
иде йно
и
тем ат и чески
мно
гообразную.
Кроме
непосредственных
участников
политической
революционной
работы,
б ыло
множество
передовых
людей,
примыкавших
к
движению,
сочувствовавших
ему ,
составлявших
его
идеологический
р езер в;
ср еди
них
могли
бы ть
люд и,
ничего
не
знавшие
о
тайных
обществах,
но
захваченные
в
бо ль шей
или
меньшей
сте пени
тем
же
по токо м
иде й,
тех
иде й,
которые,
з а коном ерно
вырастая
на
почве
самой
исторической
действи
т ельн ост и,
свое
прямое
политическое
выражение
получили
в
тайных
обществах.
Как
и
всякое
другое
значительное
и
пере
д овое
идеологическое
т еч е ни е , «декабризм»
проявился
не
толь
ко,
в
области
политических
идей.
Он
офор мил
мир ов озз ре ние
—
и
философское,
и
моральное,
и
эстетическое,
он
создал
сво й
тип
человека-героя,
отмеченного
специфическими
чертами
и
в
бытовых
своих
проявлениях,
и
во
вс ем
своем
п о вед ении;
он
создал
св ой
стил ь,
литературный
в
том
числе.
И
конечно,
все
это
большое
явл ен ие
русск ой
культуры
не
родилось
гот овым
в
ту
минуту,
когда
вернувшиеся
из
походов
русские
офицеры
образовали
первые
политические
группы.
Оно
им ело
свою
152
традицию,
гораздо
более
да внюю :
оно
явилось
результатом
исторических
проце сс ов ,
существовавших
зад олг о
до
С оюза
Благоденствия.
Вот
это-то
широкое
литературное
течение,
включающее
в
себя
и
поэзию
собственно
декабристов,
раст во
ряющее
в
себе
их
тв орче ст во,
и
сл ед ует
рассматривать
в
его
целостности,
в
его
веду щи х
идеях
и
стилевых
принципах,
в
его
истории.
Пожалуй,
не точ но
было
бы
на зыват ь
его
де кабрис т
с ким
направлением
в
русской
литературе,
поскольку
такое
н азвани е
хронологически
о гра нич ило
бы
ег о;
х отя
именно
де
кабрьское
восстание
было
политическим
пределом,
к
которому
тяготело
все
движение.
Условно
можно
был о
бы
н азва ть
'его
гражданским
направлением
или
гражданским
или
революцион
ным
романтизмом,
поскольку
эстетическая
система
его
яв
ственно
опирается
на
иде и
романтизма,
на
иде и
национального
самоопределения
нар од ов
в
их
романтическом
толковании,
и
поскольку
тема
личности,
героически
сильной,
порывающей
путы
всяческого
подавления
и
всяческих
запретов,
открыто
и
пр ямо
приобретает
в
нем
характер
культа
с вобо ды
это й
лич
но сти.
В
1815 году,
то
есть
год а
за
два
до
образования
тайных
обществ
в
Ро с сии,
Пушк ин
написал
замечательное
стихотворе
ние
«К Лицинию» .
Это
—
типическое
«декабристское»
стихо
творение;
в
нем
соб ран ы
все
основные
черты
будущей
по ли ти
ческ ой
лирики
декабристов,
нач иная
от
античного
республиканского
маскарада
ид ей
и
кончая
спе цифич е ско й
политической
терминологией
1825 года.
Появление
тако го
стихотворения
так
«рано»
удостоверяет,
что
соответствующий
стиль
уже
офор ми лся
до
декабризма
в
узк ом
смысле
слова
и
что
П уш кин,
в
те
годы
явный
ученик
Батюшкова
и
Жуковско
го,
одн овре ме нно
и
не
мен ее
органически
усвоил
сис тем у
взглядов
и
литературную
манеру
революционной
романтики,
все
еще
драпировавшейся
в
одежды
дре вн их
р ес пу блик.
Не
имея
возм о жнос ти
и
не
видя
необходимости
в
да нной
связи
мыслей
охватить
все
черты
и
все
проб ле мы
данн ого
стиля
в
их
отношении
к
творчеству
молодого
Пушкина,
я
оста
н овлюс ь
на
двух
из
них,
достаточных,
как
мне
кажется,
для
прояснения
ведущих
тенденций
его.
Прежде
всего,
когд а
мы
об ращаем ся
к
произведениям
гражданской
поэзии
1810—
1820- х
годов,
хо тя
бы
к
стихотворению
«К Лицинию»
—
мы
не
м ожем
не
заметить
специфического
сгущения
в
них
опреде
ленной
политической
терминологии.
Народ,
отчи зна ,
деспот,
порок ,
добродетель,
тиран,
свобода,
яре м,
во льнос т ь,
гражда
нин,
раб ст во
и
т.
д.
—
эти
слова
составляют
как
бы
лейтмотив
гражданской
поэзии
и
в
иде йно м
и
в
непосредственно
стили
153
стическом
с мыс ле.
Одн ако
эти
словесные
лейтмотивы
не
выд е
ляются
на
фон е
друг их
словесных
групп.
Они
окружены
целы
ми
гнездами
слов-символов,
менее
явственно
окрашенных
по
л ити че ски,
но
не
менее
выразительных
идеологически.
Сю да
относятся
и
древнеримские
имена,
и
самое
название
«Рим», и
целый
ряд
выражений
морально-общественной
св ето т ени:
низ
кий,
стыд,
отчизна,
слабый,
бесславен,
о,
с рам !, гибель,
—
и
г ордый
великий
народ,
дух
воспламеню,
грозное
величие
и
др.
(«К Лицинию») и т .
д.
Сю да
же
относятся
во обще
все
слова,
имеющие
оттенок
великолепия,
ве лич ия,
особой
идеологической
ответственности,
об ра зующ ие
совсем
новый
«высокий»
стиль
и
составляющие
явное
большинство
всей
лексической
массы
стихотворения.
Сюд а
же
—
и
риторика
синтаксиса
с
воскли
цаниям и,
се нте нциям и,
периодами,
и
контрастная
светотень
в
развитии
темы
и
т.
п.
Все
же
наиболее
специфичны
в
эт ом
сти ле
слова,
отдельные
слова,
группы
отдельных
слов,
приоб
ретающие
значение
лозунгов,
самодовлеющих
тематических
комплексов.
Достаточно
было
с каз ать
в
эту
пору
ти ран
и ли,
наоборот,
вол ьнос т ь,
—
и
весь
ряд
ид ей
Французской
рево
люции
немедленно
возникал
в
сознании
читателя.
В
этом
был
скрыт
существенно
новаторский
принцип
семантики,
связанный
с
новыми
формами
мировоззрения
вообще.
Как
уже
говори
лось,
для
классицизма
сл ово
вообще
было
терминологично,
с ухо
конкретно,
отвлеченно:
оно
должно
было
адекватно
соот
ветствовать
общему
поня тию ,
генерализующей
идее,
математи
ческому
знаку,
нейтрализовавшему
подводимые
под
род овую
сущность
видовые
и
индивидуальные
представления.
Так,
слово
«тиран»
обозначало
по нятие
о
мон арх е,
власть
коего
не
ог ра нич ена
законом
(по Монтескье), причем само слово долж
но
было,
воспаряя
в
сф еру
чистой
л огично сти,
быть
очищено
и
от
чувственно-образных
наслоений,
и
от
оц еночны х
эмоцио
нальных
дополнений.
И
оценка
понятия,
и
эмоциональная
характеристика
ег о,
и
образное
его
определение
в
системе
классицизма
возникало
по
преимуществу
в
сочетаниях
подчи
нения
и
соотношения
слов.
Лишая
отдельное
слово
многозначности
и
многозначитель
ности,
выглаживая
пуристически
значения
сл ов
и
нивелируя
их,
подводя
их
все
под
один
р анжир
схемы,
классицизм
образует
центральные
свои
идеи
и
специфицирует
смы сл
прежде
всего
в
с интак сич ес ких
связях.
Логический
характер
синтаксической
конструкции,
абстрактность
ее
свя зей,
незамкнутость
их
в
отд ельном
слове,
—
всегда
все
же,
несмотря
на
все
усилия
классиков,
неотделимого
от
конкретности,
—
соответствовали
идеалу
абстрактности
классицизма,
соответствовали
его
основ
154
ной
идее
по дчин ен ия
конкретной
личности
б езлик ой
дисципли
не
государственной
идеи.
Наоборот,
освобождение
личности
во
все й
эстетической
системе
предромантизма
и
романтизма,
приводившее
к
пр имат у
частного
над
общ им,
к
культу
индивидуального
и
характерного,
перестраивало
и
отношение
к
проблемам
языка
как
стиля.
В
проблеме
стиля
на
пе рвый
пла н
выдвигается
требование
образ
ной
выразительности,
жив ой
и
ощутимой,
конкретной,
индиви
дуальной
об разн ост и
слова.
Это
т реб ова ние
определяет
отно
ше ние
к
ре чи
как
многообразному
конгломерату
сл ов,
в
совокупности
выражающему
хаотический
и
даже
анархический
конгломерат
противоречивых
э м оций,
иде й
и
пр едме то в.
В
связи
с
эти м
синтаксис,
теряя
логическую
построенность,
пер е
страивается
в
плане
эмоц иона л ьно- хаот иче с кой
риторики,
а
основная
смысловая
нагрузка
падает
на
отдельное
слово,
вер
нее
—
на
совокупность
слов,
на
сталкивание
и
с опос тав ление
индивидуальных
слов.
В
св ою
очередь,
каж дое
отдельное
слово
теряет
однозначность
и
ло гиче ск и- понят ийн ый
характер
и
стремится
к
включению
в
се бя
в сего
мир а
в
аспекте
ин див и
дуального
переживания.
С лово
обращается
к
и нди ви дуальн ому
и
в
то
же
время
к
единству
целых
миров
в
мг но венно м
озаре
н ии.
Слово
становится
уже
не
аллегорией,
а
символом,
«конечным знаком бесконечного», и совершенно конкретного
образного
сод ержан и я.
В
сущности,
отдельное
слово
и
внутри
себя
и
вовн е
теря
ло
логическое
сце пле ние
элементов
см ысл а.
Семантическая
структура
слова,
взя то го
отд е льно,
устанавливалась
не
как
по д чине ние
звука
идее,
а
как
бо р ение
множественности
значе
ний
в
звуке.
Отношения
зву ка
и
значения
в
слове,
ранее
ощу
щаемые
как
чистая
условность,
т еперь
воспринимаются
как
результат
накопления
исторического
опыта,
и
в
эт ой
романти
ческой
позиции
характерно
выдви же н ие
на
первый
пл ан
э мо
ционально-образных
элементов
оп ыта.
В
ито ге
извечное
противоречие
слова
как
форм ы
и
как
со
держания,
ра зреш авш ееся
в
классицизме
механическим
отказом
от
самого
противоречия,
априорным
утверждением
равенства
т ого
и
другого
и,
следовательно,
ликвидацией
формы,
—
те
перь
в
романтической
сис тем е
разр ешалось
иначе.
Вернее,
оно
не
столько
разрешалось,
сколько
обнажалось
и
ут вер жд ало сь.
С лову
не
дано
было,
по
эт ой
системе,
проникать
в
сущность
вещей,
но
л ишь
вызывать
образы
ее.
Меж ду
словом
и
его
значением,
меж ду
форм ой
и
содержанием
выдвигались
теперь
отношения
не
логического
п од чинения,
а
сложного,
прот и воре
чивого
и,
прежде
всего,
индивидуального
ед инства .
155
Таким
же
образом
и
сцепление
слов
строилось
—
в
пре
деле
—
не
в
плане
логического
п о дчин ения,
соподчинения,
иерархии
смыслов,
а
в
плане
нанизывания
рядом
пол ож ен ных
слов-красок,
слов -зву к ов.
Романтические
слова
скопляются
в
гр уппы,
в
гнезда,
—
и
взаимоотношение
их
масс
идет,
глав
ным
образом,
по
л инии
л ибо
накопления
единообразных
слов,
либо
противопоставления
двух
контрастных
по токов
слов,
сим
волов
бл ага
и
символов
зл а.
С амая
структура
сло ва
и
ре чи
зде сь
говорила
о
стихийной
свободе,
о
свободе
дерзаний,
чувства
и
мысли.
Именно
в
да нной
системе
становится
понятно
то
особое
значение,
которое
приобретают
в
политической
поэзии
ро ман
тической
поры
слова-символы
освободительной
терминологии,
уже
не
только
от ражающ ие
рационалистическую
систему
про
светительского
движения,
но
и
воплощающие
образы
ко нкре т
ной
политической
истории.
В
частности,
все
такие
слова,
се
ма нтичес ки
осуществляющие
нов ые
пр инципы
суггестивности,
сам и
по
себе
не
адекватны
своему
сод ержан ию ,
которое
не
сравнимо
шир е
их
абстрактного
значения.
Их
«высокость», их
архаичность
связывает
их
сод ер жан ие
с
комплексом
представ
л ений
(образных)
об
античных
республиках,
хот я
бы
в
самих
э тих
словах
не
было
никаких
пря мых
указаний
на
данный
к руг
пре дс тав ле ний.
Их
политическая
содержательность
выз ыва ет
в
сознании,
в
данной
си сте ме,
также
комплексы
представлений
о
Французской
(а ранее американской)
революции.
За
вс ей
политической
терминологией
революционных
ром ан ти ков
жи
вут ,
растут
и
блещут
всеми
красками
патетические
картины
Французской
революции,
ре чи
Мир або ,
статьи
Дюмулена
и
Марата,
песни
революции,
ее
к рова вые
и
героические
дел а
и
т.
д.,
и
все
это
в
сочетании
с
античным
маскарадом,
с толь
характерным
для
стил я
б ур жу азной
революции
и
столь
глу бо ко
объясненным
Марк сом .
Таким
обра зом ,
во- пер вы х,
слова-символы
пол ит иче ско го
порядка
звучали
как
набат
Французской
рев олю ции
и
в
Рос
сии
в
начале
XIX века,
обволакивали
своими
образными
з ву
ч аниям и
окру жа ющи й
их
контекст,
в
своей
совокупности
соз
давали
эмоционально-идейный
тон
произведения.
Во-вторых,
такое
же,
—
или
почти
такое
же,
—
суггестивно
распространительное
значение
приобретали
и
другие
слова
и
словесные
группы,
включенные
в
систему
представлений
граж
данского
па фо са.
Конкретно-образный
и
конкретно-
политический
смыс л
могла
приобретать
даже
интонация
(синтаксически предопределенная)
и
тем
более
выбор
тем,
—
да же
вне
непосредственных
политических
высказываний.
Так,
156
например,
патетическая
рит ор ика
восклицании
или
вопрошений
переполняется
смыслом
потому,
что
си ла
эмо ции
вообще
(и
г ра жда нской
в
частности)
расширительно
понималась
как
па
фос
свободы
человеческого
чувства,
чел овек а
вообще;
и,
с
другой
стороны,
эта
риторика
вызывала
в
сознании
риториче
ский
сти ль
Французской
революции.
Следовательно,
несмотря
на
об иль ное
применение
символики
и
мифологии
классической
древности,
несмотря
на
на лич ие
«высокого»
стиля,
внешне
как
будто
бы
похожего
на
высокий
стиль
классицизма,
несмотря
на
впечатление
«абстрактности», связанное с отсутствием прямого
показа
предмета,
—
стиль
гражданского
романтизма
в
сам ой
своей
сути
чуж д
классицизма
и
опирается
на
существенные
идеи
романтической
поры.
Античность
политической
поэзии
романтиков
—
не
отвлеченная
сфера
идеальной
красоты,
а
суггестивный
образ
свободы
людей
и
в
то
же
время
опреде
ленная
индивидуальная
национальная
культура,
героическая,
но
не
единственная
и
не
общеобязательная.
«Высокий»
стиль
романтиков
не
связан
с
жан ров ой
системой
мыс ли
классициз
ма,
опирающейся
на
его
механистическое
ми ро воззр ен ие
и
далее
—
на
п ринци п
государственно-сословной
и
в ообще
поли
тической
и ер а рх ии; «высокий»
стиль
романтиков
возникает
на
основе
пафоса
освобождающейся
л ичнос ти
чело век а
и
гра жда
нин а
и
не
предрешен
в
отношении
связи
с
темой,
жанром
и
т.
д.
Выключенность
предметов,
объективного
мира
вообще
—
в
гражданском
стиле
романтиков
возникает
вовсе
не
на
осн ове
отвлечения
от
кон кре тн ост и,
об ра зующ ей
стиль
классицизма,
но,
наоборот,
на
основе
включения
в
смысловой
подтекст
столь
обширных
комплексов
конкретностей,
что
они
не
вмещаются
в
слово,
а
ли шь
прикрепляются
к
нему,
и,
кроме
того,
он и,
бу
дучи
пропущены
через
восприятие
освобождающейся
личности,
об ор ачи вают ся
прежде
всего
своей
эм оцион альн о-и де йной
(конкретной,
личной
и
пережитой)
стороной
44.
Ро мант ичес ка я
терминология
политической
поэзии
скл ады
вается
—
еще
не
полноценно
в
иде й ном
смысле,
но
уже
до
статочно
определенно
в
п орядк е
по дг отов ки
стиля
—
еще
в
конце
XVIII столетия во Франции и
—
не
без
воздействия
французской
литературы
—
в
России.
До
ре волюц ии
1789
года
в
России
первые
очертания
да н ного
стиля
осуществляли
в
44 Ощущение слова как символа и представителя целого мировоззре
ния
характерным
образом
выразилось
еще
в
ко нце
XVIII века в некоторых
поступках
императора
Павла
I; в частности,
любопытна
его
борьба
со
с ло
вам и,
для
царского
уха
звучавшими
как
символы
р ев олюц ии.
В
1798 году
Павел
за пр етил
специальным
указом
ряд
сло в
русского
языка.
157
политической
оде
Радищев
и
в
политической
трагедии
Кня ж
нин.
И
у
них
мы
найдем
уже
весь
характерный
подбор
слов,
придававших
множество
дополнительных
революционизирую
щих
значений
смыслу
всего
текста.
Радищев
в
эт ом
отношении
на ибол ее
пр инципиале н.
Именно
у
него
идеологический
и
да же
политический
смысл
приобретают
все
стороны
мировоззрения,
выраженного
поэт иче с ким
словом,
—
то
ест ь
н епо ср едств ен
ные
смысловые
признаки
поэтической
р ечи
пополняются
доба
вочными
семантическими
комплексами,
политически
заострен
ными.
У
Кня жнина
пафос
Росслава
и
Вадима,
все
время
гово
рящих
об
отечестве,
гражданах,
ти ра нах,
вольности
и
т.
д.,
звучит
непосредственными
откликами
пафоса
американских
и
французских
рев олю цион ны х
программ.
Традицию
Радищева,
х отя
и
в
урезанном
виде ,
п ро до лжали
его
ученики,
в
частности
Пн ин,
а
затем
Востоков.
Но
уже
с
первых
лет
XIX века
ру сс кие
предшественники
гражданского
стиля
декабристов
отступают
на
второй
пл ан
перед
нати ско м
живых
образов
Фра нцуз ск ой
революции
и
ее
античной
мифо л ог ии.
Ес ли
да же
не
гов орить
о
публицистике
и
ораторском
искусстве
Француз
ской
революции,
ее
поэзия
становилась
как
бы
ее
знаменем,
гер бо м,
символом.
Еще
Экушар
Лебрен,
начавший
свою
по
этическую
работу
зад о лго
до
ре волю ции
и
воше дши й
в
нее
законченным
мастером,
форми рова л
в
некоторых
своих
ода х
терминологию
и
образную
систему
нового
стиля.
Рядом
с
Лебреном
и
после
не го
можно
на зв ать
ряд
по
э тов
этого
же
революционного
стиля.
Один
из
характерных
представителей
его
—
Мари-Жозеф
Шенье.
Мо жет
быть,
самым
типи ч еск им
образцом
да нного
стиля
является
«Песнь
п рощ ания;
военный
гимн»
Ш енье
(«Le chant du départ; hymne
de la guerre»), написанный им во время революции и пользо
вавшийся
большой
известностью.
Он
напо мина ет
Марсельезу,
также
являющуюся
характерным
образцом
того
же
стиля.
В
нем
тот
же
лирический
подъем,
та
же
яркая
патетика
и
то
же
обилие
подл инно
высоких
слов,
из
которых
каждое
звучало
как
целая
поэма,
не
н ужд ающ аяся
в
пояснениях.
Ко гда
поэт
вос
кл и ц ал: Liberté, liberté chérie! —
то
эти
совсем
простые
слова,
этот
возглас
был
достаточен
именно
потому,
что
самое
имя
сво бо ды
бы ло
величайшей
реальностью
и
величайшим
идеалом
в
те
дни
во
Ф р анции.
И
когда
русские
поэты
1810—1820-х
годов
как
бы
повторяли
слова
Лебрена,
или
Шенье,
или
М ар
сельезы,
они
во все
не
подражали
им.
Они
думали
в
это
время
не
о
поэтах
революции,
а
о
самой
революции,
к ото рой
они
хотели
подражать
(пусть в умеренных ее проявлениях).
Слова
158
поэтов
и
ораторов
революционной
Франции
был и
для
них
такими
же
знаками-символами,
как
к расн ый
фригийский
колпак
или
трехцветное
знамя
революции.
Они
пел и
революцию,
когда
произносили
эти
слова,
—
и
не
только
такие,
как
с воб ода
и
отчизна,
но
и
такие,
как
л ира
и
слава.
Мы
имеем
здесь
дело
не
с
влиянием
искусства
революции,
а
с
революцией
как
темой,
основой
и
про гр ам мой
ст ихо в,
революцией,
отразившейся
в
стиле,
революцией,
узнанной
в
стихах
Шенье
и
узнаваемой
читателем
в
стихах
молодого
Пушкина,
Гнедича
или
Рылеева
да же
та м,
где
как
будто
вовсе
и
не
говорится
о
революции,
но
где
веет
ее
дух ,
где
царят
склад
ее
мыслей,
ее
пафос,
ее
стиль.
В
1810- х
и
даже
в
1820-х
г одах
традицию
революционной
поэзии
продолжал
во
Франции
Делавинь,
и
он
был
интересен
русским
читателям,
близким
к
данному
к ругу,
именно
как
последний
из
могикан.
Не да ром
им
интересовался
Вяземский,
н едар ом
его
переводил
Полежаев.
Но
д ело
в
то м,
что
сам
Делавртнь
находился
в
таком
же,
в
сущности,
отношении
к
ре волюц ии ,
как
русские
по эты
гражданского
стиля
1810-х
годов.
Он
был
наследником
поэзии
ре волю ции ,
а
не
учас тн и
ком
ее.
Он
не
сотоварищ
Ру же
де
Лилля,
а
Руже
де
Лилль
для
не го
—
образ
поэзии
и
отчасти
политической
программы,
как
и
Тиртей.
В
России
с
самого
начала
XIX столетия стиль граждан-
ски-патетической
поэзии
культивировал,
помимо
Востокова,
Гне дич.
К
1805 году относится его радикальное стихотворение
«Перуанец к испанцу»,
целиком
пос трое нное
на
формулах
да н ного
сти ля.
Уже
в
эт ом
стихотворении
п рояви лос ь
стремле
ние
Гнедича
вообще
скоплять
в
стихах
сильные,
особо
значи
тельные
слова,
доводить
всякое
ч увс тво,
всякую
тему
до
пре
дела.
Это
была
романтическая
напряженность,
поэ зия
бури
и
натиска,
поэзия
борьбы,
самым
стилем
своим
противопостав
ленная
спокойствию,
разумной
уравновешенности
классицизма,
выражавшая
нетерпеливое
стр е мл ение
к
ра зры ву
уз
механиче
ского
рац и он али зма,
к
св обод ному
разливу
человеческой
«гениальности»,
беззаконного
вдохновения.
В
эт ом
смысле
вполне
соо тв етст вует
у
Гнедича
с воб одолюб ивом у
сод ержан ию
стихотворения
его
стиль,
изобилующий
страшными,
свир е
пы ми,
страстными
словами.
Но
чт о?
и
кровью
ты
сви реп ств
не
утолил;
Ты
ад
на
свете
сем
для
нас
с ооруд ил,
И
ад ски ми
мен я
трудами
изнуряя,
Желаешь,
чтобы
я
страдал
не
ум ир ая;
Кол ь
хочет
бог
сего ,
немилосерд
т вой
бо г!
Свиреп
он,
как
и
ты,
когда
желать
возмог
159
Окровавленною,
нас иль ст венной,
рук ою
Отечества,
детей,
свободы
и
покою
—
Вс его
на
св ете
сем
за
то
меня
лишить...
Та к,
в
правом
мщении
те бя
я
пр евзо йд у;
До
самой
подлости,
коль
нужно,
н изо йду;
Яд
в
помощь
призову,
и
хитрость,
и
ко вар ство ,
Пройду
все
мрач ное
смертей
ужасных
царство
И
же сточа йшую
из
оных
изберу,
Да
ею
грудь
твою
злодейск и
раздеру!
Здесь
же
след ует
подчеркнуть:
романтический
принцип
семантики
в
таких
стихах
вырастает
на
одной
основе
с
роман
тическим
пр инципо м
ст иля
Жуковского.
И
у
Г недич а
слово
—
не
только
символ
значительной
емкости,
но
и
символ
по
пре
имуществу
субъективного
значения.
Подбор
сл ов
определенной
тональности:
свирепств,
ад,
а дскими,
изнуряя,
страдал,
немило
серд,
св ир еп,
окровавленною,
насильственной
рукою,
м ще нии,
хитрость,
коварство
и
т.
д.
и
т.
д.
—
этот
подбор
строит
определенную
картину
психологического
состояния
—
правого
со циа льно го
гнева.
Все
эти
слова
субъективны
в
своем
значе
нии.
Великая
ст раст ь
ге роя
стихов
—
их
тема.
Конечно,
суще
ственно
отличается
от
субъективизма
Жуко вс ко го
самый
со
с тав,
характер
изображаемого
внутреннего
мир а.
Не
мир
Жуковского,
а
меч
политических
бит в
несет
в
себе
ге рой
Гне
дич а.
Еще
более
в ажно
то,
что
субъективизм
Гнедича
не
ув о
дит
от
политической
действительности,
как
су бъектив изм
Жу
ковского,
а,
на оборот ,
направлен
на
не е.
Но
тем
не
менее
стиль
Гнед ича
сб ли жен
со
стилем
Жуковского
в
общих
кате г о
ри ях
романтического
стиля
45.
Эта
же
манера
предельной
напряженности,
скопления
«сильных»
слов,
гиперболизации
художественных
средств
осталась
признаком
лирического
стиля
Гнедича
навсегда.
И
в
этой
манере
органически
сказалось
сво бод олюб ие ,
глубоко
присущее
вс ему
типу
поэтического
мышления
Гнедича,
так
же
как
в
его
тяготении
к
монументальной
героической
поэзии,
к
поэзии
высоких
помыслов
и
высокого
стиля.
Все
это
делало
Гнедича
поэтом
декабристского
круга,
независимо
от
того,
были
ли
или
не
бы ли
у
не го
в
стихах
пр ямые
но ты
политиче
ского
протеста.
Он
был
поэтом
свободного
героического
чело
века,
—
таков
был
ве сь
его
стиль,
такова
была
его ,
специфи-
45 Манера стихотворения «Пе ру анец
к
ис панц у»
привилась.
Наприм ер,
еще
в
1820годув«Сыне
отечества» (ч.
62) было напечатано стихотворение
А.
И.
П исарева
«Бедный йегр», повторяющее эту манеру,
хотя
и
в
гораздо
бо лее
умеренном
политическом
тон е.
160
ческая
для
него,
тематика;
это
делало
его
попутчиком
декаб
ристов,
о дним
из
созидателей
гражданской
поэзии,
вк лю
чившей
в
свой
сос тав
и
поэзию
декабристов.
Нет
необходи
мости
на поми на ть
в
данной
свя зи
общеизвестные
факты:
и
то,
что
Гнедич
был
лично
близок
к
декабристской
обществен
ности,
и
то,
что
в
литературную
программу
декабристов
входи
ла
пропаганда
героической
поэзии.
В
высшей
степени
харак
терным
произведением
Гне д ича
б ыла
его
поэма
«Рождение
Го мер а» (1816 год) .
В
ней
ничего
не
говорится
о
политике.
Но
это
п оэма
гражданственная
и
даже
по литич е ска я.
Высокий
пафос
свободной
поэзии,
героики
и
величия
человека
был
п афо сом
сво бо ды
и
для
Гнедича,
и
для
его
чи тат ел ей.
Этот
высокий
пафос
звучит
в
величественном
ст иле
нового,
по
су
ществу
романтического,
высокого
сти ля,
в
грандиозной
торже
ст венн ост и
специфически
воз выш енн ых
«сильных»
сло в,
в
риторике
фразы,
в
античном
величии
де к ораци и.
Уже
в
н ачале
поэмы
Гне дич
пишет:
Героев
подвшя
во
гроб е
не
умрут;
Как
холмы,
гр обы
их
бессмертьем
пр оцве ту т.
Поэзия
—
г лагол
святого
вдохновенья;
Доколе
на
з емле
могуществен
и
свя т,
Героям
смерти
не т,
нет
подвигам
забвенья:
Из
вековы х
гробов
певцы
их
во ск рес ят.
Герои,
по дви ги,
бессмертие,
поэ зия
и
вдохновение,
могу
щ еств ен
и
т.
д.
—
такова
символика
прославления
человека,
героя
и
творца,
символика,
тесно
связанная
всем
обликом
стиля
с
символикор
свободы,
борьбы
с
ти ра нией,
рабством,
п орок ом.
То
же
и
в
таком
отрывке:
Но
кто
же
смертный
сей,
сын
таинства
священный?
Ком у
тво й
про м ысл
дал
сей
жребий
возвышенный?
На
сей
ли
он
земле
счастливой
порожден,
От
нимф
ли
родшая
или
от
смертных
жен?
Не
сын
ли
он
цар ей,
и
от
лю дей
гоненья
Сокрыт
в
пустыне
сей
под
вз оры
провиденья?
С
начала
до
конца
по эмы
читатель
находится
в
состоянии
восторга
и
напряжения,
и
это
создает
ту
эмоциональную
среду,
которая
нужна
был а
для
культивирования
гражданского
пафо
са,
высокого
строя
ду ши.
Ве ли чие
Гомера
для
Гнедича
—
величие
личности
человека.
В
примечаниях
к
поэ ме
Гнедич
с
сочувствием
цитирует
слова
Фи дия : «Когда я читаю Гомера,
л юди
представляются
мне
вдвое
большими».
И
тут
же
он
г овори т: «Римский император Калигула оплевал бюст Гомера и
вел ел
выбросить
его
из
чертогов».
Пр едс тави ть
человека
вдвое
161
большим
и
выступить
против
тир ано в,
презирающих
человека,
—
такова
задача
Гнедича.
Тогда
же,
ко гда
Гнедич
создал
«Рождение Гомера», пи
сал
сво и
баллады
Катенин,
—
и
многое
в
них
перекликается
с
поэзией
Гнедича.
Это
бы ло
уже
тогда,
когда
зарождались
первые
мысли
о
тайных
обществах.
Но
героически-
политическая
патетика
оформляется
в
освободительный
стиль
значительно
раньше,
и
здесь
мы
подходим
ко
втор ому
вопро
су,
более
важному,
чем
общий
очерк
политической
передовой
поэзии
в
к онце
XVIII и начале XIX
столетий,
к
воп рос у
о
национальном
пафосе
гражданской
поэзии
и
его
связи
с
этапа
ми
освободительной
мысли
в
России
в
начале
XIX столетия.
2.
По
страницам
множества
книг
и
статей
о
декабристах
из
давна
странствует
совершенно
справедливое
положение
о
том,
что
будущие
деятели
тайных
обще с тв
вынесли
свои
освободи
т ельн ые
идеи
из
опы та
походов
1812—1815 годов .
При
эт ом
сл ишко м
часто
выдвигалось
на
первый
п лан
в лиян ие
зап адны х
впе ча тл ений
на
русскую
оф ице рс кую
молодежь
и
реже
говори
лось
о
роли
национального
по дъем а
1812 года в формировании
политического
мировоззрения
декабризма.
Но
все
же
и
эта
сторона
вопроса
освещена
в
на шей
литературе.
Она
бы ла
вы
ск азан а
уже
самими
декабристами;
она
же
не
осталась
чуждой
и
Л ьву
Толстому
в
его
размышлениях
о
судьбах
русского
общества
первой
четверти
XIX века;
она
же
угадывается
и
в
пу шкинск их
отрывках
X главы «Оне ги на»
и
даже
еще
в
его
ст ихо тво р ении
«Наполеон».
В
то
же
время
вовсе
еще
не
ос ве
щен
вопрос
о
связи
русской
вольнолюбивой
декабристской
поэзии
1820-х
годов
с
тем
же
национально-патриотическим
подъемом,
охватившим
лучших
людей
Ро ссии
в
1812 году,
и
да же
еще
ранее,
вообще
в
пору
вой н
с
Наполеоном.
Между
тем
эт от
вопрос
имеет
первостепенное
историческое
и,
в
част
ности,
историко-литературное
значение.
Если
мы
обратимся
да же
к
бегл о му
обзору
материала
поэзии,
относящейся
к
вой
нам
1805—1815 годов,
то
сразу
у бедимс я,
что
це лый
ряд
тем
и
стилистических
признаков,
ти пиче с ких
для
поэзии
декабрист
ск ого
круга,
не
только
появляется,
но
и
отчетливо
оформляется
именно
в
этой
военной
или,
вернее,
военно-патриотической
поэзии.
162
В
этом
отношении
достаточным
и
показательным
приме
ром
может
сл у жить
стихотворная
трагедия
Озерова
«Дмитрий
Д о нско й», как известно,
им ев шая
необыкновенный
успех
имен
но
в
качестве
политического
выступления
поэта
и
цели ком
построенная
на
«аллюзиях», прозрачных намеках на полити
ческую
современность.
Известно
также,
что
трагедия
Озерова
ответила
призывом
к
борьбе
про тив
на сил ия
врагов-
и ноплем е нник ов
и
к
победе
—
на
подавленность,
на
глубокое
чувство
национального
стыда,
возникшее
в
обществе
в
связи
с
событиями
1806-1807 годов,
неудачной
войной,
а
потом
и
ми ром
46.
Наибольшее
значение
в
ее
успехе
им ел
именно
пафос
борьбы,
жертвы
на
алтарь
отечества,
непримиримости
и
му
жес тв а,
пафос
героики
национально-освободительной
войны,
—
а
не
конкретные
нам еки
или
вообще
логически
оформлен
ные
ид еи
трагедии,
тем
более
—
не
сюжет.
Те,
кто
по р ицал
в
«Дмитрии Донском»
неувязки
сюжета
и
композиции,
истори
ческ и
бил и
мимо
цел и.
«Дмитрий Донской»
—
это
патетиче
ская
реч ь
оратора,
политическая
о да,
лирическое
произведение
—
не
о
любви
Дмитрия
к
Ксении,
а
о
любви
русских
людей
к
отечеству
и
о
ненависти
их
к
тиранам
и
к
тир а нии.
А
ведь
эта
ли рич еск ая
тема
могла
приобрести
в
дальнейшем
развитии
далеко
идущее
толкование,
—
и
получила
его.
Первые
же
строки
трагедии
звучат
многосмысленно,
есл и
угодно
—
двусмысленно:
Р осс ийские
князья,
бояре,
воев оды ,
Прешедшие
чрез
Дон
отыскивать
свободы
И
свергнуть
наконец
насильствия
ярем.
Доколе
бы ло
нам
в
отечестве
свое м
Терпеть
тат аров
власть
и
в
униженной
до ле
Рабами
их
сидеть
на
княжеском
престоле?
46 Трагедия « Дм итр ий
Донской»
вновь
с ыгра ла
р оль
а гитационной
по
литической
пь есы
в
1812 году .
П.
А.
Пл етнев
вспоминал
в
1822 году ,
говоря
о
то м,
что
тем ы
национальной
ге роики
в
искусстве
волнуют
народ:
«Так ли жарки эти слезы,
каки е
проливали
мы
в
несчастный
и
с лав ный
для
России
год,
когда
пред став ля ли
«Дмитрия Донского», когда вдохновленная
Сем ен ова
произносила
стихи
си и:
О
милосердный
бог!
Ты
наш
услышал
глас:
Не
до
конца
еще
прогневался
на
нас,
И
русских
осе нил
ты
силою
своею!
—
ко гда
незабвенный
Кутузов,
в
наб ож ном
у милении,
встал
в
своей
л оже
и,
обл ивая сь
слезами,
кр естил ся
в
вид у
всех
восторженных
зрителей.
Вот
истинное
торжество
народной
п оэ з ии!» (Рецензия на «Ры бак ов», идиллию
Гнедича.
—
«Соревнователь просвещения и благотворения», 1822, XVIII,
стр.
61.
С р : «Сочинения и переписка П .
А.
Плетнева», т.
I, СПб., 1885,
стр.
32).
163
Уже
бл из
двух
век ов,
как
в
ярости
св оей
Поохали
небеса
жестоких
сих
бич ей;
Бли з
двух
веков,
враги
то
явные,
то
скрытны,
Как
вран ы
алч ные ,
как
волки
нена сыт ны,
Тат ары
губят,
ж гут
и
расхищают
нас.
К
отмщенью
нашему
я
созвал
ныне
вас:
Б еды
плати ть
врагам
настало
ныне
время.
Конечно,
Озеров
р азум ел
под
татарами
французов.
Но
пр ив еде нный
отрывок
густо
дает
терминологию
и
символику
национально-освободительной
борьбы
вообще.
Здесь
не о бхо
димо
подчеркнуть
общеисторическое
положение
вещей:
в
на ча
ле
XIX века национально -ос воб оди те ль н ая
борьба
во
всей
Европе
был а
прогрессивным
фа кт ором
истории,
независимо
от
субъективных
намерений
Озерова
и
тем
более
Александра
I.
Война
1813—1814 годов была войной за независимость ряда
евр опе йс ких
государств
от
империалистической
тирании
напо
леоновской
Фра нци и,
и
хотя
плодами
усилий
и
жертв
па т рио
тов
воспользовалась
феодальная
реакция,
патриоты-то
сра жа
лис ь
и
умирали
не
за
королей
и
феодалов,
а
за
передовую
иде ю
свободного
отечества.
Таков
же
был
па фос
войн
России
с
Наполеоном,
особенно
отчетливо
проявившийся
во
время
Отечественной
в ойны
1812 года.
Ха рак терн о,
что
даже
пр ави
тельства
крепостников,
в
частности
правительство
Александ
ра
I, очень хорошо видели это.
Ведь
не
сл уч айно
манифесты
Александра
и
официальные
документы
1812 года вообще ши
роко
использовали
не
толь ко
иде и
и
симв о лы
на ци она льной
независимости,
но
и
символику,
в
данно й
связи
революцион
ную.
Отсюда
Наполеон
—
это
тиран
и
для
демагогов
от
п ра
вительства
47.
И
когда
Александр
в
1812 году не столько бо
ялся
арм ии
Наполеона,
сколько
своего
на рода ,
и
ставил
в
уездах
да же
глубоко
в
тылу
войска
для
усмирения
этого
наро
да,
—
он
боялся
не
только
пропаганды
идей
буржуазной
ре во
люции,
исхо д ив шей
ранее
от
армии
генерала
Бонапарта,
но,
может
быть,
еще
больше
пропаганды
свободы,
шедшей
от
него
самого,
от
Александра,
боялся
подлинного
на родн ого
по дъ ема
в
борьбе
за
независимость,
за
св обо ду
страны,
ибо
от
эт ой
борьбы
до
борьбы
за
свободу
народа
не
бы ло
даже
шага,
а
тираном
был
не
только
Наполеон,
но
и
сам
Александр.
И
на
ополчения,
созы ваемы е
общественной
инициативой,
т ипа
Ма
моновского
по лка,
Александр
смотрел
крайне
подозрительно
и
недоброжелательно.
И
ведь
он
был
п рав
со
своей,
ца рс кой,
точки
з ре ния.
В
1807 году для Озерова тиран
—
это
Наполе-
47 Так говорил Александр I
о
во йне
с
Наполеоном
н
1812 году.
(Н.
К.
Ш
и
л
ь
д
е
р,
И мператор
Александр
I, т.
II, 1897, стр .
4.)
164
он.
Но
пройдет
не с колько
ле т,
освободительная
де маго гия
Александра
обнаружится
как
ложь,
народ,
героически
защи
тивший
отечество,
бу дет
в
«награду»
подавлен
еще
более,
чем
раньше;
тогда
появятся
лю ди,
которые
обратят
национально-
освободительные
идеи
в
идеи
революции
уже
открыто.
В
1812
го ду
Сергей
Глинка
пр изы вал
в
«Сыне отечества»: «Народ
храбрый
и
благочестивый,
м у жайся!
Лу чше
смерть
в
боях,
чем
порабощение;
лучш е
перестать
быть,
чем
быть
в
стыду
и
око
вах» 48, —
и
это
звуч ало
как
благ ородны й
призыв
патриота,
но
через
несколько
лет
этот
же
призыв
мог
звучать
как
пропа
ганда
декабризма.
Поэт ому,
когда
Озеров
в
«Дмитрии Донском»
да ет
пате
тические
монологи,
целиком
построенные
в
стиле
граждански-
ро ман т и ческой
лири ки,
эти
монологи
зв учат
двусмысленно.
А
ведь
самая
семантика
нового
стил я,
опирающаяся
на
много
значность
слова,
на
возможность
«примыслить»
к
сло ву
далеко
идущий
образ,
способствовала
такой
«двусмысленности» .
Озе
ров,
нимало
не
думавший
в
1807 году о революции,
играл
с
огнем,
как
и
Ал екс андр .
Но
Александр
именно
иг рал
и
лг ал,
а
Озеров
искренне
ув лек ся
героикой
национальной
чести,
не
пр едв идя,
конечно,
что
значит
эта
ге ро ика
в
общеисторическом
движении
эпохи.
И
вот
—
в
его
трагедии
мы
в идим
словарь,
терминологию,
ораторскую
манеру,
круг
тем ,
к руг
об ра зов
и
сам ый
стиль
будущей
демократической
политической
л ир ики,
рожденно'й
на
полях
сражений
за
отечество
в
1800-е
годы;
в ерн ее,
вторично
рожденной,
ибо
все
же
родина
ее
—
рево
люции
XVIII столетия;
но
ведь
и
идеология
освободительных
битв
за
отечество
также
выросла
в
революционной
борьбе
и
УЛ!
и
1793 годов.
Ко гда
со
сцены
в
трагедии
Озерова
звуча ли
слова,
гре
мевшие
о
с в ободе
и
мести
тир ана м,
слова
напряженной
патети
ки
(«сильные»
с ло ва),
происходило
по раз ит е льное
явление:
речи
своб од ы
«законно»
и
с
одоб рени я
начальства
звучали
со
сце ны
«императорского»
театра.
И
это
б ыло
опасно
и
странным
о б разом
развязывало
ум ы.
Нет
не об ходи мос ти
приводить
дальнейшие
примеры
из
«Дмитрия Донского»; их много,
да
и
с ама
эта
трагедия
—
лишь
яркий
пример
того,
что
можно
был о
бы
показать
и
ла
других
произведениях
этого
вр емен и.
Ед ва
ли
можно
сомне
ваться
в
сходстве
стиля
и
образной
системы
монологов
этой
т ра гедии
и
поэзии
декабристов.
Но
по ка
что
за
словом
«тиран»
еще
стоит
конк ре тны й
и
живой
образ
Наполеона,
48 «Сын отечества», 1812, ч.
I,No2,стр.
51.
165
«престола хищника» («Дмитрий Донской», д .
I, явл.
3), хотя в
то
же
время
это
—
и
тиран
из
стихов
М арс ел ье зы: Tremblez,
о
tyrans de la terre...»
и
др.
и
им
подобных.
Специфика
стиля
такова,
что
образ,
суггестируемый
сл овом ,
мог
ра сти
и
изме
няться
вместе
с
историческим
б ыти ем.
Он
и
изменился.
Опыт
Озерова
был
подхвачен
сразу.
Уже
в
том
же
1807
год у
юн оша
Ал екс андр
Ск арл ато вич
Сту рдза ,
впоследствии
прославившийся
своей
реакционно-мистической
деятельностью,
но
в
то
время,
да
и
позднее,
вовсе
не
чуждый
либеральных
увлечений
(в 1807 году ему было 16 лет), написал трагедию в
пяти
действиях
и
в
стихах
«Ржевский»: она не была издана,
но
автограф
первых
тр ех
действий
ее
сохранился
в
ар хиве
его
сестры,
известной
Рок са ндры
С турд зы,
гр афи ни
Эд линг
(в
Институте
литературы
Ака демии
наук
СССР).
Сюжет
траге
дии
таков:
См ут ное
время;
под
ст ен ами
Мос кв ы,
занятой
поляками,
собралось
русское
войско;
глава
его
—
Трубецкой;
«вождь»
и
военачальник
—
Ляпунов;
тут
же
—
Заруцкий
во
главе
казаков.
Заруцкий
—
зл од ей,
предатель,
грабитель;
он
за дум ал
использовать
войну
в
своекорыстных
целях
и,
предав
русское
ополчение,
«наложить ярем»
на
Москву,
сделаться
самодержцем
на
Ру си.
Ляп уно в
—
в
ссор е
с
н им.
Дворянин-
патриот
Ржевский
—
вр аг
Ляпунова,
так
как
оба
они
любят
до чь
Трубецкого;
она
люб ит
Ржевского,
но
от ец
хоче т
вы дать
ее
за
Ляпунова
рад и
успеха
де ла
ополчения.
Однако
когда
Заруцкий
устраивает
за г овор
против
Ляпунова,
Ржевский
беззавет н о
за щищ ает
своего
врага,
так
как
видит
в
нем
вождя
русских
войск,
зало г
своб од ы
отечества.
В
трагедии
есть
пря
мые
отклики
озеровского
«Дмитрия Донского», и в сюжете,
и
в
отдельных
мотивах.
Из
той
же
пье сы
идет
и
общее
нас тро е
ние
трагедии
Стурдзы
и
ее
поли тичес кий
пафос.
И
«Ржевский»
—
пьеса,
призванная
возб уди ть
патриотизм
р ус
ских
име нно
в
го дину
Тильзитского
мира
и
применительно
к
событиям
д ня.
При
это м
и
у
Ст урд зы
патриотизм
слит
орга
нически
со
свободолюбием
и
символикой
свободы.
Трагедия
Стурдз ы
начинается
сходно
с
«Дмитрием Дон
ским» .
Тр уб ец к ой , «старейшина российского войска», собрал
вра ж ду ющих
вождей
войска,
Ляпунова
и
Заруцкого,
и
гов о
р ит:
Днесь
утр о
наст ает
—
а
вы
не
примирились,
К
спасенью
сограждан
еще
не
ополчи лись .
Сияет
солнца
луч
—
с воб оды
луч
исчез.
П роходя т
в
р абст ве
дни
—
вы
токи
н аших
сл ез
Отерть
не
ищете
сог ла сьем
благородным.
Свободу
возвратить
сво им
единородным
166
Вы
презираете,
разд ором
воспылав...
...Глас
наш:
Свобода,
бог
и
в
поздны
времена
И
в
бездну
веч нос ти
победы
гл ас
пр ом нетс я.
Поб еда!
—
вскликнем
мы,
—
потомство
о тзов етс я.
Ля пун ов
го вори т,
что
он
Свободу
возвратить
гото в
своею
кровью,
—
но
—
не
хочет
действовать
вместе
с
Заруцким:
И
к оль
покорствовать
осуждена
Россия,
Пус ть
рабствует
— несет
оковы
век ов ые,
Чем ,
пременив
яр ем
и
свергнув
по ляка,
Со д ела ться
ра бой
злодея
к аз ака.
ТРУБЕЦКО Й:
Ст рас тям
предавшися,
не
видишь
ослепленья,
В
котором
ты
св ои
ли шь
множишь
преступленья.
Те бя
избр али
мы
не
судией
о
то м,
Чье
иго
сноснее
—
но
свергни
с
нас
ярем,
Потом
рассудим
мы,
коль
примем
узы
новы,
Твои
ль,
Заруцкого
или
царей
оковы...
Рж евск ий
говорит:
Х отя
ж
не
суждено
свободы
нам
узреть ,
Но
сердце,
долг
велит
за
ону
умереть...
...
Ах!
да йте
страждущим
тиранов
поражать,
Пасть
с
ни ми
мертвые
—
но
прежде
раст ерз ать.
Забудьте
вы
раз дор
и
души
согласите
И
коль
нельзя
спасти
—
с
от чи зной
погребите!
ТРУБЕЦКОЙ:
России
стр ажду щей
внемлите
тяжкий
стон.
Днесь
б лаго
общее
да
буд ет
вам
закон.
Ржевский
хоче т
«расторгнуть узы их ( р ос сиян), восстано
вить
свободу».
«Когда возблещешь ты,
свободы
светлый
день!» 49 —
вос кл иц ает
Трубецкой
и
т.
д.
Уже
в
с лед ую щем , 1808 году появилась трагедия Сергея
Глинки
«Михаил,
к нязь
Черниговский».
Го воря
о
Сер гее
Глинке,
известном
патриоте,
не льзя
забы вать ,
что
он
был
учеником
и
почитателем
Княжнина,
в
молодости
увлекался
Радищевым,
что
он
вовсе
не
был
далек
от
своего
брата-
дека бр иста ,
и
именно
в
эти
годы
во
многом
перекликался
с
ним
и де ологиче ск и.
Самый
патриотизм
С.
Глинки
этих
лет
49 Без сомнения,
на
эту
им енно
трагедию
«Ржевский»
дал
отрица
те льн ый
отзыв
И.
К.
Д мит р иевский
весной
1808 года на заседании Россий
с кой
академии
(см.
М.
И.
Сухомлинов,
Ист ория
Российской
академии,
T. VII, СПб.
1885, с тр.
244-245
и
599).
167
вов се
не
следует
толковать
как
«официальный»
и
тем
более
реакционный.
Т р агедия
«Михаил,
князь
Черниговский»
—
это
как
бы
соединение
«Дмитрия Донского»
с
«Росславом»
К ня жнина,
это
—
пье са
патриотическая
и
свободолюбивая.
В
ней
пове
ствуется
о
русском
герое
и
его
жене.
Татарский
хан
Батый,
подчинивший
себ е
Рус ь,
старается
заставить
князя
Михаила
предать
отечество
и
ве ру,
но
тот
не
уступает
е му,
несмотря
на
са мые
тя жел ые
угрозы;
он
готов
пог ибнут ь
за
отечество.
В
конце
концов,
русские
поднимают
восстание
против
Баты я,
хан
погиб,
и
побе да
о ста ется
за
Михаилом.
Тр агедия
впо лне
злободневна;
она
построена
на
аллюзиях.
Ба тый
—
это
Наполеон.
О
победах.
татар
повествуется
так,
что
не
остается
никаких
сомнений,
что
это
—
победы
Напо
леона;
в
частности,
ре чь
и дет
о
Тильз итск о м
мире;
даже
пря
мо
рассказывается
о
т ом,
как
войска
Батыя
разгромили
Герма
ни ю.
Батый
не
верит
в
бог а;
он
верит
лишь
в
оруж ие ,
власть
и
разум,
и
культ
языческих
бо гов
он
поддерживает
лишь
из
политических
соображений.
Он
—
тиран.
Пафос,
смысл
и
цел ь
трагедии
—
призвать
рус ск их
лю
дей
к
доблестям
предков,
к
м ести
тирану
—
Наполеону,
к
национальной
бо р ьбе,
к
восстанию.
При
эт ом
большую
ро ль
играет
р ел игия,
толкуемая
прежде
все го
как
основа
националь
но го
единств а,
достоинства.
Во
все й
трагедии
—
ни
слова
о
цар е,
о
верности
княз ю.
С.
Глинка
выдвигает
лоз унг
патр ио
тизма,
но
не
монархизма.
Он
п ри зывает
сог ражд ан
ум ерет ь
за
отечество
и
веру,
—
но
не
за
п рес тол.
Вся
трагедия
насыщена
патетикой
и
героикой
на циона льн ых
б итв
за
свободу.
Мих аил
говорит:
Ужель
тир ана
мы
увидим
в
торжестве,
Ти рана,
алчуща
позорна
поклоненья?
Не
смерти
я
страшусь,
стр ашус я
униженья;
За
славу
сограждан
я
умереть
готов...
и
т.
д.
Трагедия
сплошь
испещрена
таким и
фо рм улам и:
Пожертвуем
собой
или
спасем
Ро сси ю!
МИ ХАИЛ :
Настал
спасенья
час!.,
меч
праотцев
моих!
Тоб ою
наш их
стран
во скрес ну т
честь,
свобода.
Лютейша
сердцу
к азнь
—
тираново
воззренье.
Ес ть
бог
—
пад ет
тиран.
...
Н изверг нет ся
тиран;
Победа
или
смерть
—
се
клят ва
Россиян.
(это заключение IV
действия).
168
Характерно
при
этом,
что
Михаил
—
не
самодержавный
князь:
он
«делит власть»
с
по са дски ми;
он
с
гневом
отвергает
предложение
Бат ыя,
об еща юще го
ему
самодержавную
власть
над
Россией;
и
его
жена,
Вельмира,
возмущена
этим
предло
жением
хана.
Таким
образом,
патриотический
героизм
тес но
сп лет ает ся
со
свободолюбием,
и
борьба
против
т ира нии
Напо
леона
оказывается
сомкнутой
с
антидеспотическими
идеями
уже
в
пр име не нии
к
внутреннему
устройству
России;
и
все
это
о пр авды ва ется
ис ко нной
вольностью
и
ис ко нной
доблестью
россиян.
З десь
перебрасывается
мост
от
К няжн ина
и
Рад ищ е
ва
к
декабристам.
Как
и
декабристы,
как
отчасти
уже
и
Княжнин,
С.
Глинка
в
своем
свободолюбии
стремится,
как
ему
кажется,
не
к
новшествам,
а
к
восстановлению
коренных
пра в
русского
н аро да,
коренных
древних
национальных
устоев,
попранных
чужеземными
воздействиями,
влиянием
западных
деспотий.
С
другой
стороны,
С.
Глинка
продолжает
такж е
мысль
Княжнина,
впоследствии
вошедшую
как
одн а
из
основ
в
эстетическую
программу
декабристов,
—
мысль
о
том,
что
свобода
рождает
героев,
что
русский
на род,
ос воб ож дая сь,
возвращается
к
гер о ике
прежних
времен;
и
вообще
—
героизм
неотделим
от
освободительного
пафоса.
И
еще
од на
мысль,
также
характерная:
подлинный
герой
увлекает
своим
примером
други х;
не
жди,
когда
все
подымутся,
иди
вперед,
д ерз ай,
и
за
тобой
пойдут
друг ие .
В
трагедии
«Михаил,
кня зь
Чер ни
говский»
все
русские
князья,
кроме
самого
Ми хаи ла,
покори
лись,
предали
род ин у,
исподличались;
С.
Глинка
как
бы
да ет
картину
падения
высшего
сословия
страны;
но
в
конце
концов
пример
и
призыв
Михаила
и
его
жен ы
за ста вляю т
князей
вспомнить
свой
долг,
поднимают
их
дух,
они
отрекаются
от
предательства,
во сстают
и
мужественно
борются
с
тир аном .
Как
видим,
политическая
проблематика
«Дмитрия Донского»
углубляется
уже
у
С.
Глинки;
уже
в
его
трагедии
внешнеполи
тический
пафос
Озерова
отчетливо
осложняется
«внутриполитическими»
выводами.
Характерно
и
то,
что
С.
Глинка
еще
более
свободно,
чем
Озеров,
обращается
с
традициями
канонического
классицизма.
Т ак,
действие
его
тра геди и
переносится
с
мес та
на
место,
декорация
меняется;
притом
она
не
лишена
романтического
кол орит а
и
усложнен
ности.
Все
эти
тенденции
еще
более
резко
проявились
в
траге
дии
другого
Гл инк и,
Федора
Ни ко лаеви ча,
будущего
декабри
ста,
на пис анно й
в
том
же
1808 году и названной «Вель зен,
или
Освобожденная
Голла нди я» (издана в Смоленске в 1810
году;
посвящение
—
Милорадовичу
—
п одп исано
15 сентября
1808 года) .
Это
явно
революционное
произведение.
Зд есь
169
изображается,
как
тиран
Флоран
поработил
Голл а нди ю.
Св о
бодные
духом
голландцы
во
главе
с
Вельзеном
г ото вят
и
подымают
восстание
пр отив
тир а на.
Важно
подчеркнуть,
что
образ
внеш н его
врага
—
тирана
—
и
внутреннего
—
здесь
с лились .
Флоран
—
и
ино зе мец,
и
«царь»
Голландии.
Вот
нач ало
тр агед ии:
ночь,
оссиановский
п ей заж,
старик
Инслар
и
другие
гол л андс кие
вожди:
ИНС ЛАР:
Друз ь я!
терз аемый
сердечною
тоско ю,
Я
собрал
вас
сюда,
в
час
общ его
покою;
В
тот
самый
час,
ког да
тир ан ство
на
цветах
И
рабст в о
под
ярм ом
спит
крепким
сном
в
цепях,
К
отечеству
лю бовь
зениц
лишь
не
смыкает
50,
И
с
плачем
кр ай
родной
из
гроба
вызывает!
От ечест во
ж ивет
в
сердцах
сво их
сынов.
Наш
дол г
—
око вы
рвать ;
лит ь
сле зы
—
част ь
рабов;
Не
плакать,
не
стенать,
но
действовать
нам
должно...
Или
лютейшая
тирана
власть
безбожно
Отн имет
все
у
нас!..
ЭР ИК:
...
И
можно
ль
не
стенать?
Везде
народ
в
м уч ен ье...
Ц ветущ и
области
поверглись
в
запустенье,
И
здесь
на
грудах
те л,
на
пепле
сел,
гра дов ,
В
странах,
в
обширные
пустыни
пр етво р енн ых,
На
рам е нах
ра бов,
под
иго
преклоненных,
О бл итый
кровию
ж еле зный
св ой
престол
Воздвиг,
и
наводнил
наш
край
реками
зол
Тиран!
—
Толпы
ра бов,
пья
слезы,
кровь,
—
страдают.
Но
слыш ен
ропот
уж! ..
Тирана
пр ок линаю т.
ИНСЛАР:
Лишь
плачут
и
клянут...
иль
нет
мечей
и
рук ?
ГИ ЛЬДЕ РБЕ РГ:
Ув ы!
н арод
стеснен
ве ригой
рабских
мук.
Саксонов
грозна
рать
везде
распространенна,
И
ею
вся
страна
попранна
и
п лене нна.
В
наро да х
гибну щих
от ваги
дух
угас ...
и
т.
д.
и
ниже:
ЭРИК:
В
мр ак
б уду щих
времен
со
трепетом
взираем,
Но
что
нам
предпринять?
ГИЛЬДЕРБЕРГ:
Как
действовать,
не
знаем...
ИНСЛАР:
Не
знаете...
и
вы
еще
хо тите
жить,
Хотите
рабску
цепь
в
безмолвии
влачи ть.
Зря
скорби
стран
родных
в
злосчастные
мин уты ,
Не
знаете,
пресечь
чем
можно
бедства
люты?
—
50 Курсивы Ф .
Гл инки.
170
Слова
сии
вещать
прист ой но
ли
кня зья м?
Незнанье
таково
прилично
лиш ь
р абам:
Рабы
и
робкие
в
от чи зне
бесполезны...
ЭРИК:
П оверь,
что
чувствуем
и
мы
печали
слезны.
ГИЛ ЬДЕ РБЕР Г:
Остав лен ы
от
всех,
злым
рок ом
сражены,
Зря
пок орен ие
родной
св оей
страны,
В
дни
злополучия
и
лю ты,
и
суровы,
Когда
гремят
вез де
позорные
ок овы,
На
все
опасности
гот овы е
л ете ть,
Что
можем
приобресть?
ИНСЛАР:
Свободу
—
или
смерт ь! ..
С трана,
лишенная
законов
и
св обод ы,
Не
ца рс тво
—
но
тюрьма:
в
ней
пленники
народы...
Характерная
де т аль:
в
списке
опечаток
при
издании
тр а
гедии
последний
стих
исправлен
т ак: «темница скорбная
—
в
ней
пл енники
н ар од ы...»
Сам о
собой
разумеется,
что
это
не
опечатка:
очевидно,
мы
имеем
зде сь
исправление
ра ди
отвода
гла з
цензурных
инстанций,
так
как
с лово
«царство»
звучало
как
намек
на
Ро сси ю.
Вообще
в
трагедии
Глинки
Голландия
сама
по
себе
отсутствует.
Реч ь
в
пьесе
ид ет
о
любой
стр ане,
—
и
мысль
автора
явно
обращена
к
его
отеч ес тву .
Конечно,
северный
оссиановский
колорит
пьесы
ниско ль ко
не
противоре
чит
это й
аллюзии
(Россия
—
также
северная
страна).
Инслар
продолжает:
Когда
несчастный
край
л ишен
ог рад
полков,
—
Народ ,
уп орс твуя,
в
боя х
утратит
к ровь,
То
робкие
главы
под
иго
прек лон я ют,
Великодушные
бесстрашно
умирают!
В
одн ом
с ебя
гробу
с
отчиз ной
погр ебем,
Умр ем
и
в
небе
вновь
отечество
найдем!
ГИЛЬДЕРБЕРГ:
Ах!
кто
б
не
предпочел
смерть
славну
рабской
доле?
ИНСЛАР:
П ре рвать
позорный
плен,
друзья!
днес ь
в
наш ей
воле.
ГИЛЬДЕРБЕРГ:
Без
сил
де рзне м
ли
мы
по пр ать
тиранску
вла сть ?
ИНСЛАР:
Дерзайте!.,
на
врагов
уж
гром
готов
ниспасть .
В
дальнейшем
эти
же
формулы
и
призывы
испещряют
тек ст
трагедии.
Например:
Тираны
с
кротостью
губить
всегда
готовы...
171
и ли:
П ож дите,
верные
отечества
с ын ы...
Вы
ск оро
узрите
свободу
сей
страны...
Наоборот,
не год яй,
при с луж ник
тирана,
говорит,
обращаясь
к
своему
властителю:
Н агра да
для
м еня
—
од но
твое
в озз ренье.
Мой
до лг
во
в сем
хранить
к
ц арю
повиновенье:
Я
раб!..
Ха ра ктер но
и
здесь
опять
наименование
властителя
Г ол
л андии
«царем» (по - ру сс ки) .
Так
же
и
сам
деспот
Флоран
г овори т:
Я
царь,
—
она
ра ба;
как
бо г,
над
ней
я
властен...
—
и
еще
так:
Царевы
все
дела
должны
быть
свято
чтимы,
Для
подданных
они
всегда
непостижимы...
Кто
смеет
Сожалеть,
коль
царь
велит
к ар ать!
Рабам
ли
о
делах
монарха
рассуждать?
Тиран
совершает
страшные
злодейства;
он
похищает
же ну
Вел ьзен а
Годм илу
(это имя звучит похоже на русские имена
вроде
Людмилы,
и
это,
мо жет
бы ть,
не
случайно).
Он
подку
пает
для
этого
бандитов,
и
сам
становится
ба ндит ом,
поджига
ет
замок,
убивает
люде й
и
т.
п.
И
Го дмил а
восклицает
(ее
слова
—
как
бы
в озг лас
самого
автора):
А
бог,
а
грозный
бо г!
злодея
не
карает!..
(Воздевая руки к небу .)
Я
вижу
неб еса! .,
но
громы
в
них
молчат!
У вы!
и
громы
здесь
тиранов
не
разят!
Это
—
тоже
обращение
поэта
к
своим
современникам;
но
это
уже
не
призыв
к
брани
против
иностранного
вторжения,
против
На поле она ;
это
—
призыв
к
мести
тирану
внутри
стра
ны,
своему
собственному
тирану.
Единственный
правый
и
мужественный
пу ть
борьбы
с
ти
ранией
—
во сста ние
и
искоренение
тирана
и
его
слуг,
—
таков
прямой
смы сл
трагедии
Глинки.
Вель зен ,
положительный
герой
пьес ы,
восклицает:
Я
мщенье
со ве ршу
неслыханно,
ужасно
Тирану,
извергу,
ко тор ый
отравил
Злым
ядом
жизнь
мою ...
Что б
В ель зен
не
отм стил! ..
Глинка
борется
в
своей
трагедии
с
оппортунизмом,
с
ро
бостью
люд ей,
кот оры е
опасаются
восстания,
не
видят
воз
можностей
отк ры той
борьбы
с
тиранией.
172
Он
утверждает,
что
возможность
есть
—
она
в
мужестве
заговорщиков,
друзей
свободы.
Концепция
декабристского
заговора
уже
налицо
в
его
трагедии,
—
и
уже
в
1808 году!
Важно
подчеркнуть,
что
трагедия
Ф.
Глинки
в
минималь
ной
сте пен и
связана
с
традициями
классицизма.
Это
—
уже
романтическая
драм а.
Она
очень
похожа
во
многом,
в
своей
драматической
и
театральной
технике,
на
французские
мело
драмы
начала
века,
—
тог о
типа,
который
. нашел
наиболее
яркое
выражение
в
творчестве
Пиксерекура.
Един ства
места
в
«Вельзене»
нет;
действие
переносится
с
одного
места
на
дру
гое .
На
сцене,
на
гл азах
у
публики,
убивают,
сражаются,
сж игают
замок
и
разоряют
его,
увозят
пле нны х
на
корабле
по
мо рю.
Декорация
—
слож на я , «романтическая», театральные
эффекты
играют
нема лу ю
роль.
Сюжет
усложнен
до
крайности
и
полон
увлекательно-эффектных
по вор отов.
В
трагедии
разлит
колорит
оссианизма:
тоска,
ночные
мрачные
сцены,
унылость
как
эмоциональная
характеристика
текста;
картины:
скалы,
ущелья
и
т.
п.;
печальные
элегии
в
устах
героев,
перепле
тающиеся
с
романтически-'страстной
напряженностью,
с
без ум
ными
монологами
отчаяния,
дики ми
исс ту пле ниями
(своего
р ода
«шекспиризм»), связанными с дикими ужасами сюжета .
Тиран
заточает
Год милу
с
младенцем
и
об рек ает
их
на
го
лодную
смерть
(мотив Уголино
—
ср.
драму
Герстенберга
«Уголино»).
Она
об ращ ается
к
своему
ребенку:
Ко ль
пищи
аля
теб я
в
г руди
не
ст анет
сей ,
Я
стану
кровию
питать
тебя
моей!
Ве л ьзен,
лишенный
супруги,
говорит:
О
страшный
грозный
рок !
о
гневны
небе са !
Долины
мр ач ные!
безмолвные
леса!
Стенаньям
горестным
супруга
вы
внемлите,
—
И
страждущу
ему
по дру гу
возвратите!
—
Супруга,
отзовись!..
Скажи,
в
каких
местах
Томишься?..
Где
ты,
г де,
в
каких
земли
кра ях,
—
Иль
если
бы
тебя
и
под
зем лей
сокрыли
И
огненными
там
реками
окружили,
Когда
бы
вход
к
тебе
был
тиграми
стре гом ,
Я
и
туда
пойду!.,
пойду
и
сим
мечом
Разрушу
тьмы
пр епон ,
горя
к
тебе
любовью,
Свободу
для
т ебя
куплю
мо ею
кровью...
Я
счастье
в
жизни
сей
с
тоб ой
лишь
на ход ил,
А
без
те бя
весь
св ет
ужасен
и
постыл!
Но
тщетно
в
г оре сти
природу
вопрошаю;
Природа
все
молчит!.. (К
Инслару.)
Где
дочь
твоя?
ИНСЛАР :
Не
знаю!
173
Ин сла р,
оте ц
Годмиль.
в
св ою
оч еред ь
произносит
«романтический»
мон олог :
О
изверг!
кто
ме ня
в сех
радостей
лиш ил,
Ты
торжествуешь
здесь
над
старцем
в
ликованье!..
В
отмщенье
на
т ебя
взошлю
я
за кл инань е;
Услышит
мститель
бог
и
казнь
в рагу
п ошл ет,
Во
ад
преобратит
зло дею
он
сей
све т...
и
т.
д.
...По
ме ре
мук
моих,
сколь
мало
клятвы
сей!
Ах,
е сли
бы
предстал
очам
моим
э л одей!
С
каким
в осто ргом
я,
отмщением
пылая,
—
В
преступну
грудь
его
стократ
мой
меч
в о нзая,
Лютейша
изверга
до
капли
б
кровь
пролил!
Иль
нет! ..
Бог
ви дит,
я
злодею
все
б
простил,
Когда
бы
отдал
мне
он
дочь
мою
н есча стну!
—
Пре ст ал
бы
ненависть
питать
к
нему
ужасну,
Моля,
да
счастье
бог
пошлет
ему
с
неб ес.
О
ты
вино вниц а
мо их
стенаний,
слез !
Почто
не
можешь
зреть,
сколь
страж д ет
т вой
родитель....
Здесь
и
п орывы
страстей,
и
напряженность
стиля,
и
об ъед ин ение
мотивов
политической
ме сти
с
романтикой
чувств.
Или
так ие
формулы:
Творец!
я
здесь
оди н,
од ин
с
моей
тоскою...
—
или:
Где
дочь
моя?
у жель
она
в
плену,
в
ок ова х,
Или
в
ущелиях
сих
диких
гор
су ровы х ?..
Сле д ует
отметить,
что
трагедия
Ф.
Г линк и,
по-видимому,
целиком
выдумана,
то
ес ть
не
основана
на
каком-либо
факте
ис то рии
Г олл анд ии.
Никакого
тирана
Флора на
в
Нид ерла нда х
никогда
не
было,
как
не
бы ло
и
ника ко го
Вел ьзен а.
Ф.
Глинка
придумал
с амое
имя
героя,
мож ет
быть,
ис ходя
из
фамилии
известных
аугсбургских
богачей
XVI века
—
Вельзер.
Во
всяком
сл учае,
ничего
исторического
в
пье се
Гли нки
нет.
С уть
ее
—
в
прямой
политической
пропаганде,
обращенной
к
Р ос
сии
и
оформленной
в
рома н тиче с ком
плане.
Прошло
всего
два
го да
после
оглушительной
политической
демо нс тр ац ии,
в
которую
превратились
первые
представления
«Дмитрия Донского», и тема и стиль этой гражданской траге
дии
были
повторены
Федором
Федоровичем
Ивановым,
до
вольно
известным
драматургом
этого
времени,
но
уже
с
я вным
применением
не
к
в нешн ей
политике,
а
к
внутренней.
В
1809
году
он
изда л
свой
перевод
трагедии
«Роберт,
или
Ат аман
разбойников»;
это
был
пе ре вод
фран ц узск ой
переделки
174
«Разбойников»
Шиллера.
Выбор
пьесы
знаменателен.
На
сцену
она
не
была
пропущена
в
течение
нескольких
л ет.
Сов
сем
была’
запрещена
к
постановке
оригинальная
трагедия
Ива
нова
«Марфа Посадница»,
изданная
в
том
же
1809 году.
Иванов
испол ь зо вал
в
ней
тему
карамзинской
повести
сов ер
шенно
вольно.
Зато
он
близок
к
манере
«Дмитрия Донского»
Озерова.
При
этом
«Марфа Посадница»
—
трагедия
во льн о
любивая,
политически
радикальная.
В
ней
прославлена
борьба
за
свободу
рус ски х
героев-республиканцев
против
тирана
—
Ив ана
III.
В
эт ом
—
само е
главное.
У
Оз ер ова
тиран
—
чужеземец,
и
борьба
против
н его
—
это
борьба
за
независи
мость
отечества.
У
И ва нова
тиран
—
русский
ца рь;
борьба
против
него
—
это
борьба
за
политическую
свободу.
Меж ду
тем
ве сь
сл ова рь,
вся
сумма
формул
и
политических
п риз ывов
ост али сь
прежними.
Па фос
национальных
бит в
обернулся
сво ей
более
г лу бокой
стороной
и
ст ал
пафосом
би тв
за
своб о
ду.
Де кабр ист ска я
политическая
поэтика
ок азал ась
сконструи
рованной.
«Отчизны
славныя
сыны
неустрашимы...
Гр ажда не
Новграда», —
так
языком
якоб инс кого
патриотизма
обращает
ся
посадник
к
нов городца м
в
начале
трагедии,
в
сцене,
анало
гичной
по
содержанию
начальной
с цене
«Дмитрия Донского»;
«Чего нам от царей вселенной дожидаться? ..»
—
вопрошает
Мар фа,
пр езир ающ ая
царского
посла,
так
как
он
«змеею при-
обык
пре д
троном
изгибаться». «Закон
ес ть
вольности
твер
дейшая
ограда», —
говорит
она,
опираясь
на
типи чно
декаб
ристское
представление
о
законе,
отразившееся
и
в
пушкинской
«Вольности».
Трагедия
Иванова
н апис ана
с
явным
воспоминанием
«Вадима Новгородского»
Княжнина.
Как
и
Княжнину,
и
по
том
декабристам,
Иванову
бы ло
свойственно
представление
о
Древней
Руси
как
о
свободной
па триа рха л ьной
республике
и
о
самодержавии
как
силе,
чуждой
ис ко нным
народным
правам
и
традициям,
наносной,
новой.
При
этом
именно
Новгород
пред
ставлялся
последним
оплотом
русской
с воб оды
как
род ина
героев-граждан.
Как
и
Княжнин
и
декабристы,
Иванов
как
бы
говорит
своей
трагедией:
свободная
Р усь
рождала
своих
Б ру
тов
и
Катонов;
освобожденная
от
ти ран ов
Россия
вновь
будет
рождать
их.
М арфа
го вор ит:
Вадим,
чья
кр овь
лилась
ручьями
за
св ободу,
Кто,
жиз ни
не
щад я,
берег
ее
народу]
Бу дь
мне
свидетелем
из
райских
мирных
стран,
Люблю
ли
сла ву
я
и
бла го
сограждан.
175
Я
кровью
то
моей
з апечатлеть
готова,
И
вольность,
или
смерть,
нет
рок а
мне
ино ва.
«Вольность или смерть»
—
это
вед ь
знаменитое
«La liberté ou
la mort».
Марфа
говорит:
П отом ки
вы
С лавян ,
род
славный
издавна,
И
ныне
вам
да ют
мятежных
имена!
За
то
ль,
что
славу
их
из
гроб а
вы
подъяли?
Владыки
не
имев,
пред
кем
мя теж ны
стали?..
...
Потомки
мы
Сл ав ян,
и
нам
венчать
тирана?
Или
такие
ее
слова:
МИЛОСААВ:...
Мы
благоденствуем...
МАРФА:
Ч ему
ж
должны
мы
с им?
Граждане,
не
тому
ль,
что
вольность
свято
чти м?
Зн ай,
ига
рабска
тен ь
блаженс тва
не
рождает,
В еличи е
под
ней
во век
не
созревает.
Да
молит
Иоанн
вселенныя
тв ор ца,
Чтоб
в
гн еве
ослепил
новградцев
он
сер дц а;
Тогда
нам
будет
л ьзя
на
гибель
согласиться;
А
прежде
Новый
гр ад
громам
не
пок о ри тся.
И
л ьзя
ли
ра бст ва
цепь
довольно
по зл ати ть?
С вобо ду
можно
ль
чем,
граждане,
заменить?
Вся
трагедия
пересыпала
с енте нциями
совсем
декабрист
ского
звучания:
Своб одны
будут
вв ек
достойные
свободы,
А
в
рабстве
дни
влекут
порочные
народы...
Ил и:
Но
для
отечества
великой
ж ертвы
нет.
Пускай
умрет
мой
сын
—
ли шь
вольность
пусть
сп асе т.
Злодей
и
предатель
Михаил
г овори т
в
трагедии
то,
что
«полагалось»
говорить
стороннику
«мирной жизни»
при
сам о
державии.
Характерен
и
диалог
Ивана
III с Марфой,
напоми
нающий
диалоги
героев
Княжнина,
Росслава
и
Вадима
с
царя
ми.
ИОАНН:
Свободно
подданны
живут
в
мое й
с тран е;
Их
счастье
моег о
дороже,
Мар фа,
мне;
Раб ов
я
б
не
хотел
владыкой
называться:
Не
зна ет
раб
любить,
он
знает
лиш ь
бояться;
Но вград
во
мне
найдет
нежнейшего
отца,
И
первые
л учи
от
к няж еска
венца
Борецк у
осветят
величием
и
славой.
МАРФА:
Г раж данке
во льн ой
что
льстить
может
под
державой?
В
свободе
кто
возрос,
кто
волею
дышал,
Кто
все,
что
мил о
есть,
за
вольность
потерял,
176
Кто
прахами
детей,
суп руга
пр ахом
клялся
Св об оду
век
хранить,
—
и
тот
чтобы
ласка лся
Названьем
царского
любимого
р аба!
Сво бод ы
зам енит ь
держа ва
царств
слаба.
’Борецкая у ног! ..
Борец кая
рабою!
’
ИОА НН:
Не
льстися,
Ма рфа,
ты,
не
льстись
пус той
мечт о ю,
К
спасенью
Новграда
ч тоб
способы
иметь,
Что
можешь
ты
одна?
МАРФА:
Свободной
умереть.
Наконец,
чр езвыч ай но
характерны
хоры
народа
в
«Марфе»
Иванова.
Это
уже
совсем
готовая
декабристская
лирика.
С
другой
стороны,
это
массовые
песни
—
оды
в
ду хе
Марселье з ы
или
«Прощальной песни»
М.-Ж.
Шенье.
Вот,
например,
хор
народа,
отк рыва ющи й
трагедию:
Гла с,
л ю без нейший
народу ,
Гнусна
рабства
грозный
вра г!
Глас,
вещающий
свободу,
И
тиранам
гордым
страх!
Век
по
сто гна м
раз давайся,
И
свободу
здесь
тверди,
В
сердце
во льн ом
отзывайся
И
блаженс тво
нам
блюди.
Мы,
славянские
п отом ки,
Славу
пр едко в
сохраним;
Их
деянья
чудны,
громки
И
уста вы
свято
чт им.
Пусть
в
ужасной
зл обной
до ле
Вечно
ст онет
тот
из
нас,
Кто
неволю
сладкой
воле
Пред п оч тет
хот я
на
час !
Этот
хор
сопровождается
«звоном вечевого колокола»;
нужно
ли
напоминать,
что
новгородское
вече
и
вечевой
коло
кол
—
это
один
из
основных
об р азов
в
революционной
симво
лике
декабризма.
Не
менее
т ипич ен
другой
хор,
военный:
Пойд ем ,
друзья:
з наме на
веют
Врага
свободы
за
стеной;
Венк и
лавровые
нам
зреют
Над
Иоанновой
главой.
Он
ваших
жен
и
чад
любезных
Цепями
хочет
отягчить;
Да
гибнет
враг
в
мечтаньях
вредных
И
гибель
вс ех
подвластных
зриг...
и
т.
д.
Это
«Пойдем,
друзья»
—-
и
«Да гибнет»
—
не
походят
ли
на
«Marchons, marchons, Qu'un sang impur abreuve nos
177
sillons» так же,
как
«он ваших жен и чад любезных»
—
«ils
viennent jusque dans nos bras Egorger nos fils, nos compagnes»?
Затем
Марфа
напутствует
воинов
свободы:
Сыны
оте че ств а,
рат ь
в
м ире
знаменита,
Славя нов
славный
род
и
вольности
защита!
П риспел
вел ик ий
ча с,
час
грозный,
роковой:
Победа
или
смерть
—
нет
доли
нам
ино й!
Рыкает
воли
враг
за
градскими
стенам и,
О тече ству
бедой
и
вам
грозит
цепя ми ...
и
т.
д.
Я
не
буд у
сейчас
останавливаться
на
других
гражданских
трагедиях
начала
XIX века.
«Марфа Посадница»,
как
и
«Вельзен»,
достаточно
удос тов е ряют ,
что
стиль
и
система
политических
образов
поэзии
декабристов
сложились
уже
в
1809 году в процессе развития национально-ос воб оди т ельн ого
подъема
1800-х
годов,
приводившего
к
радикальным
и
даж е
ре во л юцио нным
выводам.
Дальнейшее
и
быстрое
развитие
данного
идейного
и
по
этического
круга
падает
на
1812 год.
Поэзия
этого
года
пр о
ходит
под
знаком
патриотизма,
и,
что
важно
в
данной
связи,
подлинный
патриотизм
в
эт от
решающий
мом ент
ок азы вает ся
патриотизмом
освободительным.
В
известной
двухт ом но й
книге
«Собрание стихотворений,
относящихся
к
незабвенному
1812
го ду », изданной в 1814 году,
собрано
151 стихотворное произ
в е дение
времени
Отечественной
вой ны.
З десь
представлено
множество
авторов
весьма
различного
толка.
Немало
в
этом
сборнике
казенных
псевдопатриотических,
фаль ши вых
ст ихов
весьма
низкого
иде йно го
и
художественного
уровня.
Но
наряду
с
официально-помещичьими
одами
и
отталкивающими
по ддел
ками
под
«народный склад»
в
духе
растопчинских
афишек,
мы
видим
здес ь
серь езн ые
стихи,
чрезвычайно
показательные
в
смысле
формирования
декабристского
по литиче ско го
мировоз
зрения
и
декабристской
поэтики.
Реакционный
характер
имеет,
например,
официальная
ода,
написанная
в
духе
XVIII века,
«На истребление врагов и
изгнание
их
из
пределов
любезного
отечества»
Пав ла
Ивано
в ича
Голенищева-Кутузова,
прославившегося
изуверскими
доносами
на
Кар амзи н а.
Его
понимание
войны
—
реакционно-
помещичье:
Кремлевы
стены
знамениты,
Теб е
ль,
тебе
ли
их
колебать?
Они
кров ьм и
дворян
омыты,
На
них
священная
печать
Блаж енства
нашег о
и
сл авы;
178
Кровьми
начертаны
уставы
Лю бви
и
в ернос ти
к
царям...
Не
менее
определенны
взгляды
и
стиль
престарелого
Д.
Горчакова:
Усерд ье
зря
с воих
сы нов,
Твой
цар ь
к
ним
нежность
усугубит;
Он
зрел
в
нашествии
вра го в,
Как
Росс
сво их
мон арх ов
люби т,
Он
видел,
как
дворянский
род
За
ве ру,
за
царя ,
народ,
В згоре л
простерть
к
оружью
длани...
И
т.
д.
М ежду
тем
подобные
пр ям олине йные
твердолобые
и
ли
тературно-архаические
тулумбасы
не
могли
устраивать
даж е
са мо
правительство,
царя
и
его
приближенных,
ко торы м
было
удобнее
им еть
де ло
с
неопределенным
и
законопослушным
либерализмом
арз амасск и х
преуспевающих
юно шей,
вроде
Дашкова,
Ува рова ,
Бл удо ва,
чем
с
откровенной
ре а кцией,
и
которые
п редп очита ли
изысканные
формы
русского
ампира
стар озав ет но му
классицизму.
Царь
апеллировал
в
1812 году к
гражданским
и
патриотическим
чувствам
народа
и
об ещ ал,
лицемерно
и
неопределенно,
бл ага
свободы
на роду,
вовлекаясь
обманно
в
общий
поток
политического,
а
не
только
военного
подъема.
Таким
же
об ра зом
официальные
поэты,
более
моло
дые
и
гибкие,
чем
тупица
Голенищев,
включали
в
св ои
стихи
1812 года гражданские мотивировки и темы.
Яз ви цкий
говорит
в
«Стихах,
писа нных
по
прочтении
известия...
кн.
Голенищева-
Кут уз ова
от
28 окт.
из
г.
Е ль ни»:
Спокойся,
все
Славянов
племя,
И
жди
с
терпением
п ремен.
Приидет
вожделенно
время ,
Скорбящих
разрешится
плен.
Все
злополучные
народы,
Лишенные
драгой
своб оды,
Объимут
бл аго
и
покой...
Здесь,
в
офиц иа льн ой
оде ,
—
и
нечто
вр оде
обещания
свободы
народам,
и
национальный
паф ос: «Славянов племя».
«Но се уж близок век златой.
Он
в
наших
громах
зародился».
—
пророчествует
Ив.
Кован ьк о
(«Ода на бегство Наполеона»
и
т.
д. ).
Слова
«отечество», «свобода», даже «т ира н»
усваи
ваются
поэзией
1812 года,
даж е
в
ее
«законопослушном»
крыле.
179
Кто
спас
отечество
от
бед ?
Кто
защитил
его
свободу?
Кто
славу
возврат ил
народу?
—
Кут уз ов, «Щит твердый,
верный
росска
Трона» (А.
Ар
гамаков,
«Ода на изгнание врага»).
Это
бы ла
социальная,
по литич еская
ус тупк а
правительственной
поэзии
н аро ду,
кото
рый
подн им ал
голову
в
бо ях
за
отечество
и
в
пес нях
об
эт их
боях,
м ожет
быть,
иног да
еще
сам
не
понимая,
что
он
—
не
только
патриот,
а
и
свободолюбец.
Да
ведь
подлинный
патр ио
тизм
и
был
и
ес ть
с в ободолю бие ,
и
это
было
прояснено
уже
в
ту
пор у;
и
вед ь
якобинцы
называли
ист инных
революционеров
добрыми
патриотами.
Слова
«отечество», «отчизна»
вы зы вали
биение
сердца
именно
бо льше
всег о
у
свободолюбцев.
Р еакци
он ное
правительство
во все
не
стремилось
к
превращению
в ой
ны
с
фран ц уз ами
в
народную
войну.
Мощный
приз ыв
народа
к
оружию
и
к
мести,
нас ильник ам
—
это
был
лозунг
именно
народной
войны,
лозунг
вооружения
народа.
Так
пошло
и
далее.
Официальная
литература
если
и
п ри зывала
гро мы
в ой
ны,
то
в
план е
уничтожения
фра нц узов ,
как
народа
бунтарей
и
нечестивцев,
—
а
более
вс его
проповедовала
тишину
и
спокой
ствие,
надеясь
на
соц иал ь ное
успокоение.
Наоборот,
радикаль
ная
поэзия
пр опо вед ова ла
упоение
боев,
славу
оружия,
муже
ство
войны,
пробуждая
тем
самым
священную
т рево гу
в
сердцах
г ражд ан
и
воспитывая
в
них
воинов
с вобо ды.
Так
поэзия
свободолюбцев,
вообще
стремившаяся
к
героике
те мы
и
к
напр яж енно ст и
величественного
гражданского
стиля,
стала
воинственной,
и,
напр имер ,
пушкинские
в о енные
сти хи
1820—
1821 годов звучали,
несомненно,
в
радикально-политическом
план е,
б ыли
декабристскими
стихами.
Характерно,
например,
стихотворение:
Мне
бой
знак ом
—
люблю
я
з вук
мечей;
От
первых
лет
поклонник
б ран ной
Славы,
Люблю
войны
кровавые
заба в ы,
И
смерти
мысль
м ила
душ е
мое й.
Во
цвете
лет,
свободы
верный
воин,
Пе ред
с обой
кто
смерти
не
видал .
Тот
полного
весел ья
не
вк ушал
И
милы х
жен
лобзаний
не
д остоин.
Сюда
же
о тносит ся
и
ст ихот вор ение
«Война» («Война!
Под
няты
наконец...») стакимистихами:
Родишься
ль
ты
во
мне,
слепая
сла вы
страсть,
Ты,
жажда
г ибел и,
свирепый
жар
гер о ев?
и
т.
д.
—
180
с
напряженным
словарем
героики
и
пафоса
(вспомним Гнеди
ча)
и
с
прославлением
мужества
битв.
Сюда
же
относится
отчасти
и
стихотворение
«Дочери Карагеоргия» (1820):
Г роза
луны,
свободы
воин,
П ок рытый
кровию
с вя той,
Чудесный
твой
отец,
пр есту п ник
и
герой,
И
ужаса
людей,
и
славы
был
достоин.
Тебя,
младенца,
он
ласкал
На
пламенной
груд и
р укой
ок рова влен ной ...
и
т.
д.
Это
стихотворение
Пушкина,
связанное
с
восстанием
на
Балканах,
и
другие,
б лизк ие
е му,
можно
сопоставить
с
анало
гичными
стихотворениями
других
поэтов
т ого
же
времени,
в
которых
воинственные
мотивы
приобретают
явно
освободи
тельный
характер.
Вот,
наприм ер ,
стихотворение
Ореста
Со
м ова
«Греция .
Подражание
Ардану»,
напеч атанное
в
«Соревнователе просвещения и благотворения», журнале де
кабристской
ориентации,
в
1822 году (ч.
XVII, стр.
195), и
связанное
с
греческим
восстанием:
И
грек
склонил
хре бет ,
на
пр ахе
сих
мужей
Стеня
под
тяжкими
ударами
бичей!
Просн ит есь ,
гро з ные
питомцы
Славы!
Проснись,
полубогов
бесстрашный
с онм!
Да
воспылает
брань
к ругом
И
вновь
за
родину
тек ут
руч ьи
кровавы!
Услышано
мое
моленье!
Грек
за
свободу
ст ал:
в
тиранов
сеет
страх!
И
тени
предков
в
вос хищен ье
Зрят
дух
великий
свой,
ожив ш ий
в
их
сынах!
Разите
—
и
во
гневе
я ром
Уд ары
сыпьте
за
ударом!
Муж айтесь
—
ме сти
грозный
час!
Омойте
кров ью
стыд
свой
пр ежн ий,
Мечом
купите
мир
надежный!..
Вы
за
сво бод у...
Бог
за
вас!
Или
стихотворение
В.
Григорьева,
поэт а
декабристского
стиля,
напечатанное
в
том
же
журнале
в
1825 году (ч.
XXIX,
стр.
157), «Гречанка»; здесь героиня греческого восстания
говорит
о
гибел и
ее
от ца
и
матери:
Но
не
упал
в
бедах
мой
дух;
Я
слышу
сто н
моей
отчизны...
Так
цеп и
з вук
не
заглушит
Не
спящий
в
сердце
глас
свободы :
Ме сть
варварам
мой
твердый
щ иг!
181
Эта
во енн ая
патетика
по луч ила
особое
развитие
именно
в
поэзии
1812—1813 годов,
в
непосредственном
сочетании
с
патетикой
патриотической
и
свободолюбивой.
В
стихах
ряд а
поэтов
эти
мотивы
органически
сл иты.
Таково,
например,
стихотворение
Востокова
«К россиянам .
Диф ир амб ».
Пафос
стихотворения
—
борьба
за
свободу
против
у гнет ения.
Стиль
его
—
тот
величественно-героический,
напряженно-пафосный
и
притом
гомеровский
стиль,
который
культ ив иров а л
Гне ди ч.
Година
страшных
испытаний
На
вас
ниспослана,
Россияне,
судьбой!
Но
изнеможете
ль
во
брани ,
Врагу
торжествовать
дади те
ль
над
собой?
Не т,
нет ,
еще
у
вас
оружемощны
длани
И
г рудь
геройская
устремлена
на
б ой,
И
до
ко нца
вы
у стоите,
Домов
своих,
и
же н,
и
милых
чад
к
защ ите ;
И
угнетенной
днесь
Е вропы
племенам
Со
смертью
изверга
свободу
пода рите:
Свой
мстительной
перун
вручает
небо
в ам...
и
т.
д.
И
ниже:
Др у^
ч елове чества !
Ты
должен
был
извлечь
Молниевидный
сво й
п ротив
злодея
меч
И
грозное
свершить
за
вс ех
людей
отмщенье.
Ты
верный
сво й
на род
во зз вал
—
И
мирны й
гражданин
бесстрашный
во ин
ста л...
Другое
сти х отв ор ен и е, «Прощание с 1812 годом», Восто
ков
заканчивает
обращением
к
Александру:
Мир,
мир
Европе
в озвр ати шь,
И
с
человечества
спадут
постыдны
узы;
Оно
из
рук
тво их
н азад
свои
права
Приимет,
как
из
рук
б л агого
божества,
И
вы ше
звезд
тв ое
поставят
имя
Музы,
—
то
есть
он
призывает
время
св обод ы
человечества
—
в
каком
смысле?
Не
ан алог и чно
ли
этому
призыванию
более
опре д е
ленное,
нап и сан ное
чер ез
семь
лет
пушкинское: «Увижу ль,
о
друзья...»
Еще
более
характерны
стихи
1812 года Воейкова,
в
то
время
св яза нно го
с
передовой
поэтической
м ол од ежью.
В
них
образная
систе ма
вольнолюбивого
па трио тиз ма
приближается
к
декабристской
по эз ии,
включая
т ипич еские
ораторские
ин то на
ци и.
Но
особ о
сл еду ет
отметить
од ну
спе цифич е ску ю
черту.
Патриотическая
тема
ставит
перед
Воейковым
вопрос
не
толь
ко
о
национальной
свободе,
но
и
об
особом
национальном
182
хар акт ер е.
Здесь
именно
зарождалось
то
обра з ное
п р едст авле
ние
о
воинственных
славянах,
о
северных
героях,
суровых,
но
самоотверженных,
к ото рому
суждено
бы ло
столь
значительное
будущее.
Появление
этого
представления
имело
глубокий
смысл
не
только
в
п лане
содержания
само го
об р аза,
но
и
в
пл ане
методологическом.
Важно
бы ло
то,
что
героика
войны
и
свободы
получала
национально-специфическую
окраску.
Тем
самым
падал
универсализм
форм
«высокого»,
построенных
классицизмом
в
у слов но-а н тичном
стиле.
Тем
самым
выдвига
лась
проблема
индивидуальности
уже
не
человека,
а
народа,
страны,
—
и
че лове к
получал
оп ре дел ение
не
только
как
вид
классификации
живых
существ,
и
даж е
не
только
как
эмо цио
н аль ный
к онглом ера т
нас тр о ений,
а
определение
частное
и
объективное,
по
отношению
к
его
вну тр ен нему
мир у
внешнее,
определение
национального
типа.
До
тех
пор
п ока
прекрасное
обязательно
мыслилось
в
об
разах
античности,
умн ож е нных
на
стиль
Людо вик а
XIV, пути
к
объективному
обо сн ов анию
человека
как
образа
не
б ыло.
Не
дали
этих
пу тей
и
эмпирические
от кры тия
Державина.
Не
дал и
их
и
попытки
писать,
например, «сказочно-богатырские
поэмы
в
рус с ком
д ухе », поскольку в них не было главного
—
русск ог о
духа,
то
есть
понимания
с пециф ич нос ти
каждой
на
ци она ль ной
кул ьту ры,
не
внешней,
а
внутренней,
в
складе
хар акт ер а.
Это
понимание
появилось
в
развитом
гражданском
романтизме,
некоторые
этапы
роста
кото ро го
и
над о
просле
дить.
Конечно,
в
этом
процессе,
о
котором
еще
будет
речь
ни
же,
Воейков
со
своими
стихами
1812 года не является откры
вателем,
начинателем,
не
составляет
этапа;
история
вне дре ния
н аци онал ьн ого
колорита
на чинае тся
в
русской
поэзии
до
Воей
к ова
и
помимо
него.
При
этом
важно
то,
что
это
внедрение
(если не говорить о поверхностной внешней стилизации)
воз
никает
именно
в
по литич е ской
и
именно
в
радикальной
поэзии.
Замечательным
и
по ист ине
новаторским
произведением
в
этом
отношении
был а,
например,
неоконченная
поэма
Радищева
«Песни древние».
О
Воейкове
же
стоит
упомянуть
лишь
по
тому,
что
его
стихи
сим пто ма тичны
в
данном
смысле
и
в
да н
ной
связи;
они
показывают,
что
проблема
национал ьно го
коло
рита
в
поэзии
возникала
в
той
же
связи
с
на цио нал ьно-
освободительным
подъемом
э похи
войн
про тив
Наполеона,
как
и
проблема
вообще
гражданского
ре вол юционног о
ст иля
в
поэзии.
183
В
ст ихот вор ении
«К отечеству»
Во ейко в
писал:
О
русская
земля,
благословенна
небом,
Мать
бранных
Скифов,
мать
воинственных
Сл ав ян,
Юг,
запад
и
восток
питающая
хлебом,
К оль
выспренний
удел
тебе
су дьб ою
дан !
Твой
климат,
хл ад
и
м раз,
для
в сех
других
сто ль
грозный,
Иноплеменников
и зне женны х
мертв ит,
Но
крепку
Росса
грудь
питает
и
к реп ит.
Твои
растения
не
мирты
—
дубы,
сосны;
Не
злато,
не
сребро
—
железо
тв ой
ме тал л,
Из
кое го
куем
мы
плуг и
искривленны
И
то
оружие,
с
ко тор ым
сын
тв ой
ста л
Освободителем
Европы
и
вселенны.
Не
производишь
ты
алмазов,
жемчугов:
Седой
гран ит,
кремень
—
твой
драгоценный
камень,
В
которых
закл ючен
струей
те кущ ий
пламень,
Как
пламень
мужества
в
сердцах
твои х
сынов
51.
О
Русс к ая
земля!..
...
О,
да
прильпнет
навек
к
го ртан и
мой
язык,
Десная
пусть
рук а
моя
меня
забудет,
Ког да
не
ты,
не
чест ь
твоя
и
слава
будет
Во сторго в,
х вал
мо их
единственный
предмет.
О
русская
земля,
Отеч ес тво
героев!..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
на ро дам
показала,
Как
не за виси мос ть
и
вер у
защищать,
Как
жизни
не
ща ди ть,
как
смерть
предпочитать
Яр му
железному,
цепям
поз орн ым
рабств а.
В
сердцах
сыно в
твоих
пылает
бран н ый
жар ,
И
пусть
пылает
он!
еще
од ин
уд ар
—
И
идол
с окруш ен,
наказано
к ова рство,
И
в
преисподняя
низвергнуто
ти ра нст во!
О
Росс !
вся
кровь
тв оя
Отчизн е...
и
т.
д.
Как
видим,
здесь
п оэт
пытается
создать
комплекс
пред
ста вле ния
и
о
природе,
и
о
характере
народа
страны
сл ав ян,
причем
это т
комплекс
сп аян
с
те рм иноло гией
освободительной
борьбы
и
с
темой
битв.
Рядом
с
бранными,
воинственными,
кре пко й
грудью
—
освободитель
Европы,
народы
и
незави-
симостъ,
отчизна,
но
именно
от чиз на
сл а вян,
свобода,
хо
ругвь
свободы,
смерть
лучше
ярма
и
поз орн ых
цеп ей
рабства,
тиранство
и
т.
д.
Весь
окруж аю щ ий
эти
опорные
слова-символы
тек ст
стил ис тич ес ки
равен
им:
здесь
и
высокий
гражданский
словарь:
сыны,
деяния,
хвалы,
му жи
и
т.
д.,
и
ораторские
обороты
вроде
«О,
да
прильпнет
навек
к
гортани
мой
я зы к...»
ит.
д.,
и
славянизмы,
воспринимаемые
уже
не
в
51 Те же мысли развивал будущий деятель декабризма Ф .
Н.
Гли нка
в
сво их
«Письмах русского офицера».
184
пл ане
шишковского
высокого
штиля,
а
в
плане
древнеславян
ского
героического
стиля.
Здесь
же
напряженность
выраже
ний,
доведение
всего
до
предела:
неистовая
сп есь;
все,
все
мы
ополчимся;
восторгов,
хвал;
не
ты,
не
че сть
твоя
и
слава;
защищать
—
жизни
не
ща ди ть,
смерть
предпочитать;
струей
текущий
пламень;
тканей
пурпурных,
смарагдов,
перл
и
злата
и
т.
д.
Наконец,
здесь
же
и
воинственность,
поэзия
мечей,
смерти,
железа,
оружия,
ударов
и
т.
п.
Не что
аналогичное
видим
мы
и
в
стихах
Воейкова
«Князю Голенищеву- К уту зо ву
Смоленскому»:
О!
будь
благословен
верховный
вож дь
вождей,
Завоевавший
гроб
священный
своб од ы,
Р асторг ши й
рабства
цепь
и
сок рушив ший
бич!
Тебе
со
плесками
воскликнули
на род ы;
Теб е
звук
ар ф,
глас
труб ,
торжеств
и
славы
кл ич:
Ты
не
отечества
—
вселе нны й
с паси тель!
и
т.
д.
и
т.
д.
Священная
св обо да,
расторгший
рабства
цепь
и
сокру
шивший
бич
(ср .
Покорствуя
б ича м), спаситель отечества,
народы,
—
и
усиления
—
звук
арф,
гл ас
труб,
торжеств
и
сл авы
клич.
Нет
необходимости
останавливаться
на
других
ана ло гич
ных
ст и хах.
Сходно
с
Воейковым
рисует
Ф.
Ф.
Ива нов
(автор
«Марфы Посадницы») героический характер росса («Песнь
великому
вождю
героев»).
У
не го
спаситель
св обод ы
страны
—
не
ца рь
и
не
дворяне,
а
русский
народ.
И
он
говорит
о
тиранах
и
рабах.
Он
славит
ра дос ть
победы
с
мс тит ел ьным
восторгом
в
напряженном
гражданском
стиле:
Усеялись
п оля
несчетными
тела ми ,
Пирует
черный
вр ан,
игр ают
псы
к остя ми
Воителей
твоих,
во жде й.
Или
в
стихотворении
«На разрушение Москвы»:
Вражда!
вражда!
кровава
брань,
И
гну с ных
п олчищ
ис тре блень е!
—
и
тут
же : «Не встретишь здесь рабов,
—
влечешь
их
сонмы
ты», —
в
дух е
с ен тен ций,
характерных
для
всег о
этого
стиля
и
играющих
роль
лозунгов,
бросаемых
в
толпу
народным
три
буном.
Дм.
Глебов
пишет
в
стихах
«Чувствования русского в
Кремле», —
и
здесь
оп я ть : «Отечество...
оно
ко
бр ани
нас
в лек ло»,
—
и
оп я ть : «Отечества сыны»,
—
и
«Освободя
народ
от
сонмища
неверных.
За
целость
чуждых
прав
цар ь
185
Россов
меч
и звлек ...»
и
«Или достойный мир,
народам
всем
свобода,
Иль
непрерывная
кровавая
война,..»
И
да же
«законопослушный»
князь
Шаликов,
сентимен
тальный
и
ро бкий,
реш илс я
на
некую
проповедь
св обод олюби я ,
вп ро чем,
с
ост орож ны ми
оговорками;
в
«Стихах светлейшему
князю
М.
И.
Голенищеву-Кутузову
Смоленскому»
он
юлит:
...
спасать
царе й,
спасать
наро ды ,
И,
перв ое
из
лучших
благ,
Дар
воз вращат ь
злат ой
св обо ды
(Лишь пагубной в дурных сердцах)
Давно
есть
славный
жребий
Россов...
(«Сын отечества», ч.
II, 1812, стр.
280)
Эти
же
мотивы
и
позднее
сопровождают
произведения,
пос вященные
Отечественной
войне;
в
1817 году был издан
текст
«Оратории в трех частях»
Н.
Д.
Горчакова
«Минин и
Пожарский,
или
Освобожденная
Мо ск ва» (музыка С.
Дегтя
рев а).
Это
—
нечто
в роде
пь ески,
це ли ком
п ос трое нной
на
«аллюзиях»; изображая борьбу против поляков,
Н.
Гор чак ов
имеет
в
в иду
борьбу
русского
народа
против
фр а нцу зов.
Вся
пьеска
изобилует
освободительно-патриотической
си мволи кой ;
свобода,
отечество
все
вр емя
упом ин ают ся
в
не й.
Минин
тре бу ет:
Спасать
Отечество
—
И
хищников
к а рать!
Друзья!
сог раж дан е!
Или
не
Россы
мы?
Нас
предки
наши
научили
Х ран ить
с воб оду,
честь .
Мы
все
умрем
на
ратном
поле,
Когда
Отече ст во
зовет.
«Иди спасать свободу...»
—
таково
начало
одной
из
арий.
При
это м
на
протяжении
в сей
пье сы
идет
реч ь
только
о
спа
сен ии
России,
отечества,
св обод ы
и
веры,
а
о
царском
трон е
авто р
вспомнил
лишь
в
конце
пьески.
Или
см.
«Песнь на
мог иле
па дших
за
отечество»
А.
Н.,
напечатанную
в
1818
году,
но
относящуюся
к
событиям
1812—1815 годов.
Зд есь
говорится,
как
будто
не
к
теме:
О
вы,
надменные
владыки!
Что
зн ачит
слава
ваших
дней?
...
Так ,
ваши
имена
забудут,
И
барды
в
песнях
вековых
Т ирано в
прославлять
не
будут;
Их
лиры
—
сл авят
ли шь
благих...
и
т.
д.
186
Далее
автор
переходит
на
«русский»
разм ер ,
что
такж е
харак
терно
(«Соревнователь просвещения и благотворения», 1818,
No
2). .
Таким
образом,
и
в
трагедии,
и
в
патриотической
в оен ной
поэзии
оформ лял а сь
та
система
поэзии,
кот орая
выявилась
впоследствии
как
д екаб ри ст ская
и
оформлялась
в
связи
с
подъемом
национально-освободительного
пафоса
еще
в
го ды
наполеоновских
вой н.
Пушкинское
«К Лицинию»
поэтому
вырос ло
на
органической
и
подготовленной
по чве.
Насколько
Пушк ин
усваивал
традицию
патриотической
поэ з ии,
сыгравшей
для
него
р оль
преддекабристской
поэзии,
видно
из
центрально
го
эпизо д а
«Воспоминаний в Царском Селе», включенного в
эту
традицию.
Ода
эта
на чина ет ся
в
духе
романтизма
Жуков
ского.
Затем
в
ней
переплетаются
черты
стиля
Жуковского
с
реминисценциями
Державина
(и державинского Оссиана. ).
Но
вот
—
т ема
1812 года,
—
и
побеждает
поэзия
воинственного
патриотизма,
поэзия
гражданская:
С трашись,
о
ра ть
иноплемен ных!
Ро ссии
двинулись
сыны ;
Восстал
и
ст ар
и
мл ад:
лет ят
на
дерзновенных,
Сердца
их
мщеньем
возжены.
—
Вострепещи,
тиран!
уж
близок
час
паденья!
Ты
в
каж дом
ра тн ике
узришь
богатыря,
Их
цел ь
иль
победить,
иль
пасть
в
пы лу
сраж ен ья
За
вер у,
за
царя.
Ретивы
кони
бранью
пыщат,
Усея н
ратниками
до л,
За
строем
строй
течет,
все
местью,
славой
дышат,
Восторг
во
гру дь
их
п ереш ел.
Летят
на
грозный
пир;
мечам
добыч и
ищут,
И
се
—
пылает
брань-,
на
хол мах
гром
г ремит ,
В
сгущенном
воз ду хе
с
м ечами
стрелы
сви щут ,
И
брызжет
кровь
на
щи т.
Вера
и
ца рь
встречаются
и
позднее
в
стихах
декабрист
ского
круга.
Вер а
навсегда
осталась
близка
многим
из
декаб
ристов,
и
даже
царь,
конечно,
не
в сякий,
не
всегда
пугал
их.
Но
борьба
с
тираном
у
юноши
П уш кина
сочетается
со
всей
грозной
и
гр омко й
патетикой
б итв,
с
пафо со м
мести,
не
боя
щимся
крови,
—
и
поэтическая
терминология
Пушкина
—
рать,
сыны,
м щен ие,
тиран,
р атни к,
победить
или
пасть,
месть,
слава,
восторг,
ме ч,
стрелы,
и
брызжет
кровь
на
щит
—
это
терминология
специфически
суггестивная;
за
ней
стоят
образы
битв
за
свободу,
образы
римлян,
Бру та
и
Ка т она,
а
за
ними
—
образы
воинов
Вальми,
—
ив
перспективе
те
обра з ы,
к от орые
одевали
величием
бу дущ ий
подвиг
декабристов,
обра
187
зы,
облегчившие
русским
офицерам
их
трагический
под виг
14
декабря.
1814 год
—
«Воспоминания в Царском Селе», 1815 год
—
«К Лицинию», отчасти «Н апо л еон
на
Эльбе»
и
м ногие
строки
стихотворения
«На возвращение государя императора
из
Парижа
в
1815 году», 1817 год
—
«Вольность», —
таково
созревание
гражданской,
а
затем
и
революционной
поэзии
в
творчестве
молодого
Пушкина.
И
еще
в
начале
1820-х
го дов
он
начинае т
работать
над
трагедией
о
Ва диме
в
духе
Озерова,
Ф.
Иванова
и
других
трагиков
той
же
традиции.
Но
вот
что
здесь
ва жно
подче ркн уть:
романтический
пр инц ип
сл ов-
символов,
си сте ма
романтической
суггестивности
в
гражданской
поэзии
молодого
Пушкина,
с
од ной
стороны,
значительно
расширяет
и
углубляет
ре волюц и онн ый
см ысл
его
общеиз
вестных
декабристских
стихотворений,
с
другой,
—
зн ач ит ель
но
расширяет
круг
его
стихотворений,
которые
сл едуе т
считать
декабристскими,
политическими,
гражданскими.
В
самом
д еле,
образная
емкость,
напр име р, «Деревни»
или
«Кинжала»
и
им
подобных
стихотворений
значительно
больше,
чем
непосред
ст ве нный,
так
сказать,
словарный
смысл,
л ежащи й
на
поверх
но сти
их
т екс та.
Когда
Пушкин
гов орит
о
кинжале:
Ты
кроешься
под
с енью
трона,
Под
блеском
пр аз дничны х
одежд,
—
то
он
не
просто
намекает
на
Гармодия
и
Аристогитона.
Намек
—
это
прямое,
логически
то чное,
математически
сухое
со о тно
ше ние
двух
смыслов,
конкретных,
ограниченных
и
о пр едел ен
ных.
«Но вреден север для меня», —
это
намек:
в
нем
подра
зумевается
именно
данный
единичный
ф акт,
ссылка
П ушк ина
в
1820 году,
фа кт
политически
знаменательный,
но
в
данном
стихе
указанный
определенно,
без
символического
расширения.
И ное
дело
«Под блеском праздничных одежд» .
Реч ь
идет,
к онеч но,
о
Гар мод ии
и
Аристогитоне.
Но
сама
история
убийства
тирана
Гиппарха
зде сь
ст ан ов ится
символом
вообще
смелых
и
кровавых
де яний
тираноненавистников
как
в
древ
ности,
так
и
в
пуш кинс ко й
современности.
Иначе
говоря,
сам
объ ект
иносказания
становится
не
тем
толь ко,
что
обозначает
ся,
а
тем
также,
что
выражает
более
сложный
и
ш и рокий
комплекс.
По луч ает ся
двой на я
перспектива
значений,
углубле
ние
смысла;
слова
тянут
за
собой
не
уз ко
определенный
смысл,
а
це лую
систему
эмоци она льн о
окрашенных
и
неопре
деленных
в
своих
множественных
возможностях
значений.
Сло ва,
иногда
по
видимости
нейтральные,
звучат,
как
струны,
вызывающ ие
в
па мяти
знак ом ые
мелодии,
ч уть
только
тр он ешь
188
их.
Но
эти
мелодии
—
не
печаль
Жуковского,
а
звуки
битв
и
р е волюци й.
Ког да
Пушкин
пишет:
Шумит
под
Кесарем
заветный
Рубикон,
Державный
Рим
упа л,
главой
пони к
зако н,
Но
Брут
восстал
вольнолюбивый...
—
он
ор г анизу ет
в
целую
симфонию
эти
звуки
би тв
и
революций;
и
не
только
слова-комплексы:
закон,
вольнолюбивый.
—
иг
ра ют
здесь
роль
символов
р ев олюци и,
но
и
собственные
имена
из
ис тор ии
Римской
республики,
овеянные
всей
системой
обра
зов
Французской
революции
и
под д ер жанные
в
своем
граж
данском,
политическом
звучании
патетическим
строем
вс ей
окружающей
их
ре чи.
Пат ет ика
гр омоз вуч ных,
усилительных
слов:
шумит,
державный,
вольнолюбивый,
з ав етный
—
все
это
патетика
гражданского
подвига.
Ведь
и
здесь,
в
своем
роде,
х оть
и
не
как
у
Жуковского,
слово
в
меньшей
степени
означает
предмет,
объективное
бытие,
прямой
объект
называ
н ия,
чем
эмоцию
—
героическую
и
гражданскую,
чем
отноше
ние
к
предмету,
субъективное
со с тоя ние.
Ру бико н
—
завет
ны й,
согласно
истории:
но
это
объективное
обстоятельство
не
нужно
для
да нных
ст их ов;
эстетически,
идейно
оно
не
суще
ственно.
Су щ еств еннее
то,
что
оно
выражает
преодоление
всего
завет но го
волею
д ер зающе го
гражданина.
Существеннее
то,
что
оно
рождается
в
эмоц ион альн ой
сре де
пафоса.
С лово
соотносится
с
гневом,
подъемом,
дер зан ие м,
величием
ду ши,
родившим
его ,
более
чем
с
предметным
объектом
вне
созна
ния,
отблеском
к оторог о
оно
п ризва но
служить.
Следователь
но,
самый
язык,
как
орудие
поэзии,
переживается
субъективно,
и
в
то
же
время
самый
паф ос
рев олюци онн ы х
б урь
также
пер еж ива ется
субъективно,
а
не
как
исторический
фа кт
народ
ного
самосознания
или
тем
бол ее
действия.
К оне чно,
это
су бъ
ективное
переживание,
в
прот иво положнос т ь
Жук овс ко му,
дается
как
колле к ти вное ,
а
не
личное;
в
это м
залог
движения
данного
стиля
к
объективному
бытию.
Но
и
ко лл ективное
о ста ется
в
пределах
единства
субъективных
переживаний.
И
важно
здесь
то,
что
столь
явно
объективное
бытие,
как
исто
рия,
в
ее
конкретности,
са ма
по
с ебе
не
подлежит
изображе
нию,
а
выст у пает
как
сум ма
символов,
ид ей но -выр азит ельн ых
и
воспринимаемых
на
плоскости
современности.
У глу б ление
смы сла
идет
не
по
линии
исторической
перспективы,
а
по
линии
перспективы
эмоционально-семантической.
Отсюда
и
то,
что
римские
Кесарь
и
Бр ут
(прямо названные),
греческие
Гармодий
и
Ар исто гитон
(подразумеваемые), греческие Аид и
189
Эвменида,
слово
христианской
символики
«апостол»
и
роман
тический
символ
«твоей Германии»
—
все
это
пер еп лет ает ся
и
сплетается
в
единый
комплекс,
не
исторический,
кон е чно,
и
говорящий
о
пафосе
будущ е го
скорее,
чем
о
пафосе
прошлого.
И
все
эти
собственные
и мена
таким
же
образом
сплетены
непосредственно-эмоциональными
симв о лам и,
в
частности,
эпитетами,
расположенными
в
двух
оценочных
рядах,
знако
мых
нам
еще
по
«Смерти поэта»
Лермонтова.
Б есс мер тный,
свобода,
ст раж,
карающий
закон,
праздничный,
гор де ливый ,
святой
и
т.
д.
—
это
о дин
р яд;
п озо ра,
обиды,
прок лят и й,
злодеи,
исчадье
мятежей,
злобный,
презренный,
мрачный,
кровавый,
урод ливый
и
т.
д.
—
это
друг ой
ряд.
Будь
ли
этот
эпитет
прилагательное
или
существительное,
фактически
ис
пользованное
как
эм оциона льны й
эп ите т,
—
эти
сло ва
обра
з уют
вместе
с
указанными
в ыше
словами-комплексами
лири
ческую
тональность
произведения,
воп лоща ют
его
тему;
а
те ма
его
—
гражданский
подъем,
гнев
и
любо вь
к
свободе.
Существенным
отличием
стилистической
манеры
граждан
ск ого
романтизма
от
манеры
Жуковского
является
ее
прямая
оценочность.
Жуковский,
скептик
и
пессимист,
ничего
пр ямо
не
утверждает
и
не
отрицает;
он
—
изображает.
Наоборот,
гражданский
романтизм
несет
в
с ебе
глубокую
в еру
в
св ой,
пус ть
неопределенный,
но
все
же
несомненно
революционный
иде ал.
Он
славит
о дно
(свободу,
мужество,
от ече ст во)
и
хулит
другое
(тиранию,
сл аб о сть ), и его любовь и его ненависть,
оставаясь
в
пре де лах
субъективных
определений
и
выражений,
воплощаются
в
его
стиле,
отчетливо
оценочном,
вплоть
до
светотени
контрастно
сопоставленных
ря дом
с лов-с и м волов.
С ама
по
се бе
пр яма я,
открыто
заявленная,
резкая
в
своей
исступленности,
до веден н ая
до
пр едел ов
выражения
оценка
объекта
была
в
ту
эпоху
фактом
му жест ва
и
св обод ы.
В
век,
к огда
официальная
идеология
б ыла
идеологией
смирения,
когда
ведущая
идеология
в
к уль туре
(карамзинизм)
б ыла
идеологией
пассивности
и
морально-идейного
равнодушия,
смелость
су
дить,
осуждать
и
прославлять
идеи
была
актом,
действием,
политическим
поступком
революционизирующего
значения.
Реакционно
настроенный
беседчик
А.
С.
Хвостов
писал
в
1811
го ду
(статья «О
с т и хот ворс т ве»): «Некто сказал:
дело
са тир и
ка
есть
род
должности
судии
в
обществе.
Опасно
ввер я ть
сие
право
всякому
без
ра збо ра » («Чтения в беседе», кн.
III, 1811,
ст р.
22).
Это
политическое
право
самовольно
бра ли
поэты
гражданско-романтического
стиля.
Когда
поэ т
гов ори л
об
одном:
презренный,
мрачный,
уро дли вый,
а
о
другом
—
св я
то й,
карающий,
бессмертный,
—
он
именно
брал
на
себя
ро ль
190
су дии- гр ажда нина,
решающего
судьбы
ид ей
свободно
и
тем
боле е
смело,
что
он
выступал
как
носитель
субъективного
суд а.
Я,
автор,
герой,
стоящий
за
каждым
вообще
стихотворением
поэзии
всех
времен
и
на родов
—
здесь
выступал
не
как
выра
зитель
н а родного
сознания;
он
вед ь
романтик,
он
личность,
но
он
выст у пал
и
не
как
ко мпле кс
только
личных
психологических
интимных
состояний,
не
выходящий
за
пределы
частной
жиз ни
и
печальный
в
своей
неспособности
судить
и
оценивать,
как
это
было
у
Жуковского.
Он
стоял
за
стихами,
как
свободный
дух
(именно дух,
а
не
объективно
обусловленный
чел овек),
рвущий
зап ре ты
и
бурно
выраж ающи й
св ое
суждение
о
жизни.
Эт от
образ,
органически
построенный
все й
системой
стиля
гра жда нско й
поэзии,
и
у
Пу шкин а
—
об раз,
по литич ес ки
обоснованный,
революционный
уже
в
си лу
своей
своб од ы
и
напряженности
оц е нок,
не з ави симо
от
того,
г оворя т
ли
стихи
пря мо
о
политике
или
нет,
ка к,
например,
в
стихотворении
«Дочери Карагеоргия» .
Эт от
герой-свободолюбец
может
не
только
мечтать
о
ре
волюции,
он
может
любить
женщину,
может
веселиться
и
славить
вино,
—
и
он
все- так и
остается
свободолюбцем.
И
свобода
любви,
свое об разны й
разгул
чувств,
сво б ода
жизнен
н ого
ид еала
(вспомним,
что
речь
идет
о
вр е мени
официального
хан жест ва,
насаждаемого
п ол ице йскими
мерами)
включаются,
—
не
в
программу,
конечно,
—
но
в
образно-эмоциональный
тематический
комплекс
вольнолюбивой
поэз ии.
Так
был о
и
у
Пушкина,
и
у
мол одого
Языкова,
и
у
др угих :
в акхич еские
мотивы
и
мотивы
любви
именно
в
данной
их
интерпретации
нерасторжимо
переплетаются
с
мотивами
вольнолюбия,
вер нее,
составляют
их
органическую
часть.
Таким
о бр азом
и
следует
расширительно
толковать
по ня
тие
гражданской,
вольнолюбивой,
декабристской
лир ики
у
м олод ого
П уш кина.
При
этом
де ло
здесь
о бс тоит
так:
в
да н
ной
системе
стиля
(а она воплощает данную систему мировоз
зрения)
с лова
звуча т
и
звучат
расширительно,
символически.
Од но
слово
ино гда
освещает
весь
текст
изнутри,
включает
окружающий
текс т
в
комплекс
бурн ых
стремлений
свободного
духа.
И
вот
не
только
послание
Всеволожскому
—
это
дек аб
ристские
стихи,
но
и
«Веселый пир» .
Недаром
оба
стихотворе
ния
свя заны
с
представлением
о
«Зеленой лампе» .
Первое
из
них,
написанное
в
то не
легкого
дружеского
послания,
начинает
ся
та к:
П рости,
счастливый
сын
п иров,
Б ало ванный
дит я
свободы!
Ит ак,
от
наших
берегов,
191
От
ме рт вой
области
ра бов,
К апраль ст ва,
при хот и
и
моды
Ты
ска ч ешь
в
мирную
Москву...
И
тому,
что
здесь
славится
«дитя свободы», и осуждается
«область рабов»,
не
мешае т
нимало
ни
цыганка
со
своими
пляс ка ми
и
пе снями
и
сладострастьем,
ни
Кипр ида
и
Вакх,
о
кот оры х
идет
реч ь
дал ьше.
Все
помнят
стихи
о
веселом
пире,
—
изящное
восьмистишие,
славящее,
к азало сь
бы,
сов сем
не
героическое
времяпрепровождение.
Но
вспомним
начало:
Я
люблю
вечерний
пир,
Где
веселье
пр едседат ель ,
А
свобода,
мой
кумир,
За
стол ом
зак онодате ль.
И
вот
—
свобода,
кумир
певца,
окрашивает
все
стихотворе
ние,
потому
что
это
—
слово,
окруженное
оре ол ом
значений
и
пафоса,
потому
что
оно
—
символ
и
знамя,
и
оно
определяет
тональность
все й
вещи .
А
в едь
заданная
тональность
в
данной
романтической
систе ме
определяет
в о спр иятие
и
всех
осталь
ных
слов,
так
как
слова
сами
по
се бе
в
этой
системе
зыбки,
многозначны
и
в
них
выступает
на
первый
план
не
твердо
определенное,
предметное
значение,
а
эмоционально-идейные
их
обертоны.
А
тут
еще
не
только
св обо да,
но
и
кумир,
про
тивопоставленный
официальным
ку мира м,
и
законодатель
—
опять
слово,
политически
су гге сти вно е.
И
вот
пирушка
стано
вится
не
простой
попойкой,
а
свободным
проявлением
буйства
молодого
д уха
небольшого
кружка
посвященных,
небольшого,
ибо
посвященных
м ало,
мало
избранных,
пламенных
и
с воб од
н ых,
—
и
пусть
удалятся
соглядатаи
и
«чернь» .
Тогда
же,
когда
и
цитированные
только
что
стихотворе
ния,
Пушкин
н апис ал
послание
к
Юрьеву
и
восьмистишие
«Уединение» .
Это
восьмистишие
—
перевод
эпиграммы
Арно,
так
сказать
«пустячок», забава молодого гения .
А
в се- таки
и
в
нем,
в
переводе,
Пушкин
верен
своей
манере
этих
лет.
Он
начинает:
Б лаже н,
кто
в
отдаленной
с ени,
Вдали
тиранов
и
нев еж д,
Дни
дел ит
меж
трудов
и
лен и,
Воспоминаний
и
надежд .
И
вот
—
«Вдали тиранов и невежд»
опять
взрывает
весь
«внешний смысл»
стихотворения,
д елая
его
как
бы
интимным
признанием
с вобо долюбц а
и
вновь
вызывая
в
сознании
читате
ля
тех
дн ей
во инст ве нные
призраки
республиканских
идеалов.
А
«лень», столь часто появляющаяся именно в стихах данного
192
круга
поэтов,
—
это
ведь
опять
приз нак
в оль ного
по эта,
сы на
вдохновения,
романтического
ге ния,
приз нак
поэта
то го
харак
тера,
политический
смы сл
ко торо го
не
вызывает
со мнения
52
И
даж е
буйное
и
не
совсем
печатное
пос ла ние
к
Юрьеву
с
его
культом
плотских
рад ост ей
и
«безнравственных»
заб ав
—
то же
дека бр ис тско е
ст ихотв оре н ие,
и
не
только
потому,
что
символика
свободы
овевает
его ,
для
ч его
достаточно
и
одного
слова,
не
только
из-за
намека
на
«Зеленую лампу», но и из -за
прославления
человеческой
молод ос ти ,
счаст ья ,
из-за
общей
тональности
стихов,
открыто,
торжествующе
дерзновенной,
разгульной.
Здорово,
рыцари
лих ие
Любви,
свободы
и
вина!
Для
н ас,
со юз ники
младые,
Над ежды
лампа
з ажжен а.. .
...
Здорово,
молодость
и
счастье,
Застольны й
кубок
и
бордель...
Нет
необходимости
приводить
много
других
примеров.
До ста то чно
указать,
что
подобное
же
переосмысление,
каза
ло сь
бы,
нейтральных
стихотворений
введением
в
них
мотива
вольнолюбия,
своего
ро да
декабристского
«ключа», мы встре
тим
и
у
других
поэтов
то го
же
круга.
Т ак,
напр имер ,
Ф.
Глинка
внутрённе
перестраивает
традиционный
мадригал
новой
по
мыс ли
и
стил ю
концовкой
в
стихотворении
«КN**»
(«Соревнователь просвещения и благотворения», 1820, ч .
X):
Вчера,
задумавшись,
Клим ен а
ук азала
На
ро щи
ближние,
на
дал ьние
поля:
Везде
младая
жизнь
блистала,
И
упоенная
люб ови ю
земля,
Как
гостья
на
пиру
весеннем,
ликовала
В
одежде
праздничной
своей;
Душистой
з елен ью
долина
ус тил ал ась,
И
тих о
нива
ко лыхал ас ь,
Как
грудь
красавицы
тв оей ...
Но
ты,
задумчивый,
уны лы й,
Не
видел
прелестей
весны
И
на
груди
по друг и
ми лой
Дыш ал
желанием
свободы
и
войны.
Приведенные
стихотворения
Пушкина
относятся
к
1819
го ду : «Птичка»
на писа на
в
1823 году,
и
все
же
это
—
декаб
ристские
стихи,
это
своего
рода
ги мн
свободе;
для
романтика
и
св о бода
—
вед ь
это
чувство
и
тоска,
над ежд а
и
пафос,
более
52 «Вдали тиранов и невежд»
—
таков
че рнов ой
текст;
печатный
тек ст,
видимо ,
дает
замену
для
ценз у ры : «Вдали взыскательных невежд» .
193
чем
рациональное,
объективное
понятие.
Об
э том
именно
чув ст ве
и
го вори т
стихотворение.
И
все
в
нем
—
сим вол
и
романтическое
иносказание.
И
чужбина
в
первом
с тихе
—
не
только
намек
на
ссылк у
поэта,
но
и
эмоционально-образное
обозначение
вообще
положения
задыхающегося
под
гнетом
человека.
Отсюда
в
«Птичке»
и
стихи:
Я
стал
доступен
утешенью;
За
что
на
бог а
мне
роптать...
Это
не
только
биографическая
деталь:
тоска
по
родине
имен но
Пу шки на
как
человека;
это
символ
высо ки х
стремлений
к
свободе;
и
восьмистишие
завершается
острием,
вскрывающим
все:
Ког да
хоть
одному
творенью
Я
мог
свободу
даровать!
'
Пушкинская
«Птичка»
имеет
аналогии
в
смысле
общего
ис
т олков а ния
темы
в
предшествующей
ей
поэзии
декабристского
круга.
У
Ф.
Г л инки,
поэта-декабриста,
есть
два
ст их отво рен ия
о
птичках,
лишенных
сво бо ды
и
тоскующих
о
не й.
Оба
они
выдают
как
св ое
лите ра турное
п роисхож де ние ,
так
и
те
ради
кал ьны е
изменения,
к оторы е
внесла
в
традиции
старой
поэз ии
декабристская
романтика.
Первое
из
них , «К снегирю», 1818
года
(«Соревнователь просвещения и благотворения», 1818,
ч.
III), возникло на основе многочисленных песен о птичках,
голубках,
пеночках
и
т.
п.
сентиментального
стиля
(Дмитриева,
Нелединского-Мелецкого,
Ник оле ва
и
др. ).
Но
манера
этих
песен
совсем
изменилась
и
переосмыслилась
у
Г ли нки.
Его
птичка
—
не
в
клетке,
она
летает
по
комнате,
она
живет
в
холе,
но
она
все
же
тоскует:
Отчего
ж
так
ча сто,
милы й,
Грудью
бьешься
ты
в
ст екл о?
Вмес то
песен
—
кр ик
у нылый ?
О т чего?
—
Здесь
так
тепло ! ..
В
гости
просишься
к
своб оде!
Ах!
а
т амо
ястреб
лютый
Бедных
птичек
так
и
ждет,
Из
засад,
з лодей,
ми нуто й
Нал етит
и
заклюет!
Ты
п ог иб ! «Мне все известно,
—
Говоришь
ты,
—
но
где
тесно,
Там
свободы
нет
свя той!
Птичкам
страж
—
их
ма ть-пр и род а:
Все
кричат
мне,
что
свобода
Лучше
клетки
золотой!»
194
П рав
ты,
прав,
о
сын
природ ы!
В ольны м
всюду
жизнь
сладка:
Где
не
свет ит
луч
свободы,
Х леб
постыл
там,
со ль
горька!
Д ругое
стихотворение
Ф.
Г линк и, «К соловью в клетке»,
1819 года («Соревнователь просвещения и благотворения»,
1819, ч.
VII), восходит не столько к карамзинским соловьям,
скол ь ко
к
дер жав инско му
«Соловью»; в нем есть и прямое
подр аж ание
это му
стихотворению;
и
о пять
—
чужая
манера
пер еосм ыслен а.
На
воле
соловей
пел
хор ош о.
Теперь
он
у молк
и
скучен
и
уны л.
Отчего?
—
Он
в
зол от ой
клетке.
Так,
с вяще нная
пр ирод а,
Твой
закон
и
сердца
глас
Нам
вещают,
что
свобода
Ест ь
вторая
жизнь
для
нас!
...
Пусть
т ираны
строют
ковы
И
златя т
цепей
с вин ец,
И
прием лю т
их
око вы
Раб
безгласный,
низкий
льстец.
Поруганье
пья,
как
воду,
Дар
небес
—
сво ю
свободу
—
Предают
за
дым
они!
И,
лобзая
тяжки
длани,
Платят
век
покорства
да ни
И
влачат
без
жизни
дни!
и
т.
д.
Пушкин
1823 года
—
не
Федо р
Г лин ка.
Его
«Птичка»
не
зависит
ни
от
Державина,
ни
от
Дмитриева.
Но
в
ней
—
тот
же
д е каб р истский
зам ысе л
и,
отчасти,
стиль.
Один
современник,
ино ст ра нен
очевидно,
передавая
рус
ск ие
отклики
на
поэму
«Братья -р а збо йники »,
формулируя
понимание
ее
русскими
читателями,
пи са л: «Не является ли
име нно
эта
живая
люб овь
к
независимости,
ст оль
яркая
печать
которой
сво йст венн а
поэзии
Пушкина,
те м,
что
привлекает
чит ател я
сочувственным
об аянием .
Пушкина
любят
вс ей
силой
любви,
об ращен н ой
к
свободе.
И
в
д вух
разбойниках
вл ияния
этого
достаточно,
п о-ви димом у,
чтобы
скрыть
безнравствен
ность
сю ж ета.
Без
со м нения,
в
ст ихе : "Мне тошно здесь.. .
Я
в
лес
х очу",
—
заключено
глубокое
политическое
чувство» 53.
Об
этом
же
стихе
поэм ы
«Московский телеграф»
писал,
что
53 J.-M.
С
hорi
п,
Ст атья
в
«Révue Encyclopédique», 1830 , t. 45 .
См.
В.
П.
З ак р ут к ин , «Братья-ра збойни ки»
Пушкина, «Ученые
записки
Лен инг радск ого
пединститута
им ени
Герцена», т.
VII, 1937, стр.
123.
195
он
приводит
в
трепет.
Выходит
так,
что
стих
«Мне душно
здесь...
Я
в
лес
хоч у...»
был
воспринят
русской
молодежью
как
политический
п ри зыв.
В
сам ом
д еле,
так
именно
уме ли
читать
тогда;
так
и
пис а
ли.
Вспомним,
как
это
подчеркнуто
у
Пушкина:
Он
ум ир ал,
твердя
всеч ас но:
Мне
душно
здесь...
Я
в
лес
хочу...
Я
уверен,
что
в
эт ом
стихе
д ей стви тел ьно
заключен
зов
политического
бунтарства.
Но
это
совсем
не
намек,
не
алл ег о
ри я,
не
аллюзия.
З десь
нет
логически
пр озра чн ого
п одраз ум е
вания.
Вед ь
не
может
же
лес
служить
аллегорией
свободы.
Не
в
это м
дел о,
а
в
том,
что
эм оци он альн ая
напр яж енност ь
этих
стихов
выражала
именно
мучительную
тоску
по
в оле,
в
том,
что
манера,
стиль
гражданского
романтизма
строился
на
зыб
ких
и
огромных
смыслах,
присоединенных
к
с лову,
как
к
свое
му
отдаленному
эху,
что
слово
в
да нной
системе
значило
го
раздо
больше,
чем
в
лексиконе,
что
са ма
т ема
свободы
переживалась
субъективно
и
воплощалась
как
чувс т во,
как
пафос,
который
можно
ли шь
отблеском
выразить
в
слове,
а
не
сказать
о
нем
прямо.
П.
А.
Вяземский
писал
А.
И.
Тургеневу
20 января 1821
года: «Мои слова
—
зерна:
сами
собою
ничего
не
значат,
но,
вверенные
почве
производительной,
они
могут
приготовить
богатую
жат ву ».
А
через
го д, 30 января 1822 года,
он
писал
ему
ж е : «Образ политических мнений невольно отзывается и в
образе
излагать
мысли
св ои
и
не
политические» 54.
Через
много
л ет,
в
1875 году,
тот
же
Вяземский
нашел
слово,
об о
значающее
включение
либеральных
идей
в
старинные
стихи,
как
будто
бы
совсем
не
говорящие
о
политике;
эти
иде и
—
«подчувствуются» 55.
Ес ли
по до йти
с
это й
точки
зрения,
скажем,
к
«Братьям -
ра з бой ни ка м », вся поэма оживет и начнет звучать чрезвычайно
напряженно
в
смысле
политической
эмоции,
о
к ото рой
в
ней,
с о бс твенно,
и
и дет
речь,
х отя
в нешне
ре чи
о
ней
совсем
не т.
Еще
раз
подчеркиваю:
в
том,
что
я
пытаюсь
изложить,
нет
никаких
пу нкто в
соприкосновения
с
известными
попытками
вычитывать
у
Пу шк ина
различные
аллегорические
иносказания
(вроде «тео р ии»
о
том,
что
в
«Египетских ночах»
идет
речь
о
декабристах).
Наоборот,
я
отрицаю
в
приведенных
мн ою
пр и
мерах
аллегорию.
Аллегория
заменяет
одно
определенное
пред-
54 «Остафьевский архив князей Вяземских», т .
II, 1899, стр.
143—
144 и 242.
55 «Хроника недавней старины», 1876, стр .
302.
196
ставление
другим,
условным;
аллегория
условно
заменяет,
в
сущности,
одно
с лово
другим
(надежда
—
як орь).
Здесь
же
замены
нет.
Пушкин
не
подразумевает
под
словом
лес
сло во
своб од а;
он
вообще
не
подразумевает
сво бод у,
вообще
ничего
не
подразумевает.
Он
стремится
выразить
субъективный
ко м
плекс
такой
силы,
многогранности,
емкости,
что
он
не
берется,
не
может,
не
считает
нужным
наз ват ь
его,
да бы
не
обузить,
не
рац ионал изир о вать ,
не
объективировать
его.
И
те
слова,
кото
рые
должны
вызывать
в
читателе
ответный
комплекс,
—
единственные,
которыми
Пушкин
может
добиться
* этого,
а
вовсе
не
заменяющие
или
что-то
скрывающие.
Здесь
Пушкин
—
романтик,
выражающий,
о сужд ающ ий
и
славящий,
но
ниче
го
не
объясняющий.
Чув ств о
своб од ы
и
титанические
образы
свободы
—
о пят ь-та ки
образы
то го
же
чувства,
—
это
его
проповедь.
Потом
придет
мысль
о
чувстве,
придет
мысль,
объясняющая
чувство,
придет
мысль
о
то м,
что
есть
объ ектив
ный
мир
вне
чувства
и
что
сам ое
чувство
—
не
только
пере
ж ив ание,
но
и
объективный
факт.
Разрешая
проблемы,
по ст ав
ленные
эт ой
мы сль ю,
Пушкин
решит
проб ле му
реал изм а.
3.
Итак,
Пушкин
в
начале
своего
творческого
пу ти
осущест
вил
принципы
обо их
ветвей
русского
романтизма
1800—1810-х
год ов,
—
и
психологического
романтизма
Жуковского,
и
гражданского
р ома нтиз ма
преддекабристского
и
декабристского
толка.
Са мо
по
себе
объединение
этих
о боих
путей
романтизма
в
творчестве
юного
Пу шки на
был о
проявлением
независимос
ти,
проявлением
той
тенденции
к
с л иянию
всего
наиболее
пе
редового
и
ценного,
что
был о
в
литературе
до
него,
ко тора я
вс егда
отличала
Пуш ки на
и
впо с ле дств ии.
Если
пр ин ять
при
этом
во
внима ние ,
что
в
то
же
время,
с
1815 по 1820 год,
Пушкин
органически
усваивает
завоевания
Батюшкова,
что
он
уже
в
это
время
сближается
в
отдельных
чертах
с
Крыловым,
что
он
н ес омн енно
учи т ывает
и
опы т
французских
поэ тов
XVII—XVIII
веков,
то
ка рти на
получится
еще
бол ее
ясная.
Правда,
поскольку
смы сл
творческих
побед
Бат юш ко ва,
в
сущности,
близок
к
положительному
содержанию
искусства
Жуковского,
основу
поэ тиче с кой
работы
Пушкина
до
1820
го да
сост авл я ет
все-таки
объединение
шк олы
Жуковского
и
гражданского
романтизма.
Впрочем,
следует
отметить,
что
это
объединение
не
было
в
данный
пе риод
доведено
Пушкиным
197
до
конца,
лишь
в
малой
сте пе ни
элементы
обо их
типов
раннего
русского
романтизма
могут
объединиться
в
это
вре мя
в
преде
лах
одного
стихотворения.
Как
правило,
они
сущ ест ву ют
в
различных
стих отв о рениях ,
на писа нных ,
о днако ,
в
то
же
самое
время
и
вперемежку.
И
все
же
да же
сосуществование
их
в
пределах
един ого
творческого
процесса
одного
поэта
было
творческой
победой
немаловажного
значения.
В
самом
д еле,
до
Пушкина
даже
такое
объединение
не
было
осуществлено,
если
не
с чи тать
слабых
п опыт ок
эп иго нско го
характера,
не
имевших
значения
творческих
достижений.
Подлинным
собирателем
русского
романтизма
был
м олодой
Пушк и н.
Однако
все
же,
несмотря
на
разнообразие
применений
ро
мантического
метода,
несмотря
на
объединение
путей
Жуков
ск ого
и
гражданской
поэзии,
творчество
Пу ш кина
до
1820
год а,
а
в
значительной
части
и
далее,
на
юге ,
ост авалось
замк
нут ым
пределами
романтизма,
его
ми ро воз зрени я
и
стиля.
Романтический
субъективизм
был
свойствен
ему
по
преиму
ществу
в
обоих
его
течениях:
и
лично-психологическом,
и
со
циально-героическом,
так
же,
как
связанный
с
ним
метод
пре
одоления
«внешней»
предметной
действительности,
как
истолкование
поэ зии
и
вообще
культуры
в
качестве
особой
сферы,
парящей
над
объективным
миром.
Отсюда
же
и
невоз
можность
вместить
объективный
мир
в
«духовную»
сущность
сло ва,
и
следовательно,
субъективная
семантика.
Отсюда
—
в
глубокой
связи
с
ограниченностью
революционного
сознания,
чуждающегося
демократической
стихии,
—
отсутствие
ис то
ризма,
отрыв
эмоци и
и
мысли
свободолюбца
от
«неразумной»
и
неукоснительной
закономерности
жизни
на род ов,
характерное
для
декабристской
поэзии;
вспомним,
например, «Думы»
Ры
леева.
Следовательно,
.творчество
молодого
Пу шки на
не
было
и
не
мог ло
быт ь
просто
первым
наброском
его
будущего
реали
стического
творчества,
и
развитие
Пушкина
как
поэта,
проте
кавшее
органически
и
без
крутых
переломов,
не
бы ло
прямо
линейным.
В
творчестве
Пушкина,
начиная
с
1820 года,
накапливались
идейные
и
стилевые
материалы
для
буд уще го
перехода
его
на
позиции
реализма,
осуществленного
в
основ
ном
в
Михайловском,
ок оло
1825 года;
в
свою
очередь,
эти
материалы
воз ни кли
из
развития
тех
н ачал,
к ото рые
бы ли
основными
для
Пушкина
еще
до
1820 года.
Ин аче
говоря,
выход
из
романтического
ми р ово ззрен ия
в
творчестве
Пушки
на
был
обусловлен
диалектикой
развития
самих
рома н тиче с ких
начал
его .
В
частности,
потенции,
зало жен ны е
в
гражданском
романтизме,
в
спе цифич е ско м
их
развитии,
привели
к
круше
198
нию
романтизма
из нут ри.
При
эт ом
оказались
потребны
для
построения
нового
стиля
и
психологические
отк рыт ия
стиля
Жуковского.
Эт от
процесс
внутреннего
движения
рома н тиз ма
може т
быть
п ро слежен
в
любой
грани,
в
любом
признаке
стиля.
Я
остановлюсь
на
одном
признаке,
спе цифич но м
для
гражданского
романтизма;
этот
признак
не
исчерпывает
вопро
са,
но
указывает
направление
движения,
и
для
этого
достаточ
но
рассмотреть
только
его ;
этот
признак
—
романтический
местный
колорит.
Давно
известно,
что
про бле ма
местного
к олори та
была
выдвинута
в
литературе
именно
романтизмом,
и
в
данном
вопросе
выступившим
против
классицизма
с
его
отвлеченным,
внеисторическим,
космополитическим
идеалом
прекрасного,
с
его
тенденцией
и зо браж ать
чело век а
вообще,
вне
времени
и
пространства,
изображать
его
по
законам
искусства,
обязатель
ным
для
всех
времен
и
народов.
Следует
здесь
же
подчерк
нуть,
что
в
Росс ии
эта
проблема
была
поставлена
не
роман
тизмом
вообще,
а
именно
гражданским,
преддекабристским
и
декабристским
романтизмом,
она
осталась
чуждой
романтизму
Жуковского
и
его
школы.
Можно
сказат ь,
что
Жуковский
разрешил
в
русской
поэзии
задачу
воссоздания
пс их ол оги
ческой
индивидуальности
личности
человека;
что
же
касается
р ома нтизма
гражданского,
то
он
приступил
к
разрешению
задачи
поним ания
и
воссоздания
индивидуальности
народа,
индивидуальности
национальной
культуры.
Здесь
нас
не
должны
вводи ть
в
заб лужд ени е,
например,
сред н евек овы е
рыцари
Жуковского.
Они
не
наделены
в
его
балл адах
ника кими
ко нкр етн ыми
чертами
ни
эпохи,
ни
тем
б олее
данной
национальной
к уль туры.
Относительно
б алл ады
о
стар уш ке
даже
невозможно
ска зать ,
где
в
ней
происходит
действие:
так
в
ней
спу та ны
чер ты
православной
церковности
с
за падн ыми
легендами.
Жуковского
легенды
интересуют
не
как
фольклор,
от р ажающи й
лицо
народа,
данного
народа,
не
похо
жего
в
своей
фантазии,
как
и
в
своей
жизни,
на
други е
н аро
ды;
легенды
для
н его
—
это
мечты
душ и,
рвущейся
из
оков
«внешней»
жи зни
в
свободное
творчество
фантазии.
Эс тет изи
рованная
эмоция
—
такова
для
не го
су ть
и
цель
древних
ле
гендарных
мотивов
по эзии.
Освобожденные
от
бытовых
«внешних»
ассоциаций
образы
и
символы
легенд
для
Жук ов
ского
—
наиболее
естественное,
прям ое
воплощение
нес каз уе
мых
состояний
души.
Поэтому
объективирующего
значения
они
для
него
не
имеют,
они
не
опре д ел яют
душевную
тему,
а
определяются
ею.
Не
потому
Смальгольмский
барон
таков,
как
он
дан
в
балладе,
что
он
—
шотландец,
а
потому
в
балладе
199
д ана
Шотландия
(вообще
—
северная
романтика), что тема
ба лла ды
—
тр агич е ские
и
суровые
страсти
56.
В
самом
деле,
в
балладах
Жук овс к ого
нет
народности,
—
в
смысле
объек
тив ной
определенности
субъективной
те мы
объективным
к ол
лективным
сознанием.
Известные
несколько
стихов
из
«Светланы»
о
гада нии
девушек,
—
исключительный
случай
у
Жуковского,
—
не
противоречат
этому.
И
вступление
к
«Светлане»
—
это
эмоциональная
ме ло дия
образов
и
слов,
а
не
воссоздание
этнографического
явления
в
слове,
тем
более
не
стремление
воплотить
тип
народного
со з нания,
из
которого
бы
п оэт
сделал
вывод,
определяющий
его
понимание
личности,
да
и
других
проблем
искусства
и
жизни.
Современники
Жуковского
нисколько
не
заблуждались
в
это м
вопросе.
Н.
Полевой
писал,
что
Жуковский
«не знал
на цион ал ьно сти
р у сс ко й»; «собственные создания Жуковского
в
та кой
ст епен и
космополитны,
так
сказать,
в
мире
литера
турном,
что
е два
отличите
вы
их
от
переводов
сег о
поэта»;
«поэзия Жуковского...
не
могла
быть
нар од ною,
и
народности
не
и щите
у
Жуко вс ког о»: при этом Полевой не считал это
отсутствие
народности
безусловным
недостатком
поэзии
Жу
ковского
57.
В
сво ю
очередь,
Белинский
пис а л: «Жуковский не
народный
поэт,
и
немногие
по пыт ки
его
на
народность
б ыли
неудачны
—
правда;
но
это
совсем
не
недостаток,
а
ск орее
честь
и
сл ава
его.
Он
призван
был
на
другое
ве лик ое
де ло»
(III, 507) —
и
позднее
в
статьях
о
П уш ки не: «Вообще,
ниче<
го
не
чужда
до
такой
ст епе ни
поэзия
Жуковского,
как
русских
на цион аль ных
элементов.
Может
быть,
это
недостаток,
но
в
то
же
время
и
достоинство:
ес ли
б
национальность
составляла
основную
стихию
поэзии
Жуковского,
—
он
не
мог
бы
быть
ро м антиком ,
и
русская
поэзия
не
б ыла
бы
оплодотворена
ро
мантическими
элементами.
Поэтому
все
усилия
Жуковского
бы ть
народным
поэтом
возбуждают
грустное
чувство,
как
зре лищ е
великого
таланта,
который,
вопреки
своему
призва
ни ю,
стремится
идт и
по
чуждому
ему
п ут и» (VII, 186).
Хар а ктер на
разница
поэтического
использования
истории
народов,
скажем,
у
Валь т ера
Ско тта
и
у
Жуковского.
В
своем
«The eve of St. John» В .
Скотт
гов орит
о
соб ы тиях
и
именах
в
романтической
манере,
выз ыва вши х
в
сознании
шотландца
56 Конечно ,
этом у
не
мешает
и
то,
что
эта
баллада
—
перевод
из
Вальтера
Ско тт а.
Жуковский
придал
ей
с вой
колорит.
Кстати
напомнить,
что
я
им ею
в
виду
Жуковского
1800—1810- х
годов.
Жуковский,
начиная
с
1830- х
годов,
значительно
меняется,
от час ти
и
под
вл иян ием
Пушкина.
57 Н.
П ол евой,
Очерки
русской
л ите ра туры,
СПб., 1839, т.
I.
200
славн ые
воспоминания
отечественного
прошлого,
как
у
нас
чрезвычайно
богаты
ассоциациями
и
вну тр е нней
жизнью
упо
минания
в
стихах
Куликова
поля,
Неп рядв ы
и
т.
п.
А
ве дь
Жуковский
никогда
не
оперировал
такими
воспоминаниями
русской
истории,
хо тя
и
обд ум ывал
ряд
лет
поэму
о
Владими
ре,
так
и
не
нап иса нную .
Он
все
п о льзо вался
западными
име
нами-символами,
для
русского
читателя
терявшими
св ою
на
ционально-географическую
напо л ненно с ть,
бы вши ми
только
э ф фектн ыми
именами
яркой
мечты
о
красивом:
А нкра морс кия
битвы
барон
не
вид ал,
Где
потоками
кровь
их
ли ла сь,
Где
на
Эверса
грозно
Боклю
нап ира л,
Где
за
родину
бился
Дуглас.
Для
Вальтера
Скотта
все
эти
име на
и
самое
наименование
знаменитой
битвы,
священной
и
пам ят ной
в
Ш отл андии,
это
—
г ерои ческ ая
история
его
н арод а.
Для
Жуковского
и
его
читателя
—
это
эффектные
декоративные
звук и
неизвестных
бое в,
воображаемых
рыцарей,
потому
что
имена
эти
ничего
не
гов орил и,
как
ничего
не
го ворят
и
до
сих
пор
русскому
читате
лю.
Для
Жуковского
эти
име на
—
не
достояние
народа,
а
эмо ци она ль ное
выраже ни е
душевного
с ос то яния,
взятого
в
его
особности.
И
здесь
ничего
не
изменяют
д овол ьно
пространные
гео
графические
и
исторические
комме нта р ии
к
«Замку Смаль-
го ль м», напечатанные Жуковским в пояснении имен и названий
в
кон це
тома
II своих
«Стихотворений»
1824 года
(комментарий этот заимствован из английского издания Валь
тера
Скотта).
О б ъясн ения
остаются
а каде мич ес ким
довеском,
не
влия ющим
на
во сп ри ятие
текста.
Не даро м
Жуковский,
перепечатавший
их
в
издании
«Стихотворений» 1835 года
(т.
IV), не поместил их в издании своих баллад и повестей
1831 года,
очевидно,
рассчитывая
на
то,
что
и
без
них
тек ст
«дойдет»
до
читателя
полностью.
Исключены
примечания
и
из
и зда ния
«Стихотворений» 1849 года ( т.
IV).
Вообще
говоря,
экзотика
им ен
и
названий
у
Жуковского
не
имеет
этнографи
че ск ого
или
исторического
характера,
а
скорее
—
эмоциональ
но-звуковой.
Они
воздействуют
самым
своим
не обы ч ным,
романтически-эффектным
звучанием,
вроде
все
время
повто
ряемых
им ен
в
б алл аде
«Варвик»:
Никто
не
зрел,
как
н очью
бр осил
в
волны
Эдвина
злой
Варвик...
И
в
Ирлингфор
уже
как
повелитель
Тор ж естве нно
вст упил...
201
Стоял
среди
цветущия
равнины
Ст аринны й
Ирлингфор...
Авон,
шум я
под
древними
сосна ми,
Их
п еной
орош ал.. .
И
т реп етал
во
дремлющем
Леоне
С
звездами
свод
небес...
Спе ш ил,
с
пути
прохожий
совратяся,
На
Ирлингфор
взглянуть...
Один
Варвик
был
ч ужд
красам
п рироды :
Вот ще
в
его
глазах...
И
устремить,
трепещущий,
не
смеет
Он
взора
на
Авон:
Оттоль
з ефир
во
сл ух
убийцы
веет
Эд в инов
жал кий
стон...
Вотще
Варвик
с
родных
брегов
уходит
—
Приюта
в
ми ре
нет...
Он
на ступи л;
со
страхом
провожает
Варвик
ночн ую
тень:
Д р ож и ! (ему глас совести вещает)
Эдвинов
смертный
день!
Дождь
ливмя
ль ет;
волнами
с
во ем
плещет
Разливш ийся
Авон.
Вотще
Ва рвик,
среди
веселий
шума,
Цедит
в
бокал
в ино...
И
д' ень
у гас,
Варвик
спешит
на
ло ж е...
Но
и
в
тиши
ночной...
И
тот
же
слышен
глас ,
Каким
мо лил
он
бы ть
от цом
Эдвину
Вар ви ка
в
смертный
ча с:
«Варвик,
Ва рви к,
свершил
ли
данно
сло во?
И сполнен
ли
обет?
Варвик,
Ва рви к,
во змезд ие
г ото во;
Готов
ли
твой
о тв ет ?»...
...
Од ин
во
мгл е
ночной
Ревел
Авон,
—
но
для
ду ши
смятенной
Был
сладок
бури
вой...
«Спеши,
Ва рвик,
спастись
от
потоплень я ;
Беги,
беги,
Варвик.]»
202
И
к
берегу
он
мч ится
—
под
стен ою
Уже
Аво н
к и пит...
Варвик
зовет,
Варвик
манит
рукою
—
Не
внемля
шу ма
в олн. ..
И
с
трепетом
Варвик
в
челнок
садится
—
Ст релой
помчался
он...
«Нет,
просвистал
в
твой
парус
ветер
ночи»,—
Смутясь,
сказ ал
Варвик...
«Варвик,
Вар вик,
час
смертный
зреть
ужас но ;
Ужасно
умирать,
Варвик,
Ва р вик,
младенцу
ли
напр асно
Тебя
на
помощь
звать?..»
Пловец
гребе т;
челнок
летит
стрелою;
В
смятении
Вар вик. ..
Варвик
дрож ит
—
и
рук у,
страха
по л ный,
К
младенцу
пр отя нул...
Эд вин ов
труп,
холодны й,
недвижимый,
Тя желый
как
свинец!
Утихло
все
—
и
небеса
и
волны:
Исчез
в
водах
Варвик...
Или
см.
им ена
в
балладе
«Эолова арфа»:
Владыко
Морв ен ы,
Жил
в
дедовском
зам ке
мо гу чий
Орд ал. ..
И
вепрей
и
ланей
мо1учий
Ордал
С
отважными
псами
Гонял
по
холмам...
...
В
жилище
Ордала
Веселость
из
ближ ни х
и
да льних
краев
Гостей
соби рала.. .
...
И
в
дружных
беседах
Любил
за
бокалом
расс ка зы
Ордал...
...
Гр еме ла
красою
Мин ван а
и
в
ближних
и
в
да льн их
краях;
В
Морвену
толпою
Стек алися
витязи,
славны
в
боях;
И
дщерь ю
горд ился
Пред
ни ми
отец...
Но
в
тайне
делился
Душою
с
Минваной
Арминий-певец...
203
«...
Минвана.
Минвана,
Я
бедный
певец;
Ты
ж
цар ско го
сан а,
И
предками
славен
твой
гордый
о тец ...»
...
«Заря уж багряна» .
—
«О милый,
постой».—
«.Минвана,
Минвана,
Почто
ж
зам ирает
так
сердце
то ско й ?..»
....
И
поздно
и
ра но
Под
древом
свиданья
Мин ван а
грустит,
Уныло
с
Минваной
О дин
лишь
нагорный
поток
говорит;
Все
пусто;
д ень
ясный
Вз ойдет
и
зайдет
—
Певец
сладкогласный
Минв ан ы
под
древом
свиданья
не
ждет.
Или
см.
имена
в
лирике ,
не
имеющей
ника ко го
историко
этнографического
определения:
«Эдвин,
не
позабудь,
не
позабудь
мен я !» («К Эдвину»).
Или
в
послании
к
Воейкову
1814 года
—
перечисление
назва
ний
народов.
Совершенно
и ное
положение
мы
можем
наблюдать
у
по
этов
«левого»
крыла
русского
романтизма.
Для
них
проблема
национального
колорита
весьма
насу щна.
М ало
того,
это
для
них
политическая
проблема,
одна
из
осн ов
их
политического
мировоззрения
в
искусстве.
В
общем
пл ане
можно
утверждать,
что
ес ли
борьба
за
личность,
за
индивидуальность
человека
и
его
вну тре нню ю
ж изнь
в
искусстве
была
борьбой
за
своб од у
человека
в
обществе,
то
борьба
за
национальное
своеобразие,
индивидуальный
облик
культуры,
склада
мыслей
и
чувств,
быта
и
поверий
народа
была
б орьб ой
за
национальную
свобо
ду.
Нет
необходимости
напоминать
здесь
исто р ию
то го
общего
увлечения
передовой
литературно-общественной
мы сли
фольк
лором,
национальной
стариной,
средневековьем
и
северными
легендами,
которое
охватило
всю
Европу,
нач ина я
с
середины
XVIII века,
а
в
особенности
в
конце
столетия.
Это
была
заря
нов ой
литературной
эры
романтизма,
глубочайшим
образом
связанной
с
судьбами
новой
эры
со циа льно й
жизни
народов,
с
периодом
буржуазных
революций.
Буржуазно-демократические
и
антифеодальные
революци
онн ые
дви жени я
в
эту
эпоху
переплетались
с
национально-
освободительными
дв иж ения ми
и
вой нами .
Американская
рево
люц ия
была
войной
за
независимость,
и
она
же
установила
буржуазно-демократическую
республику.
Яко б инцы
во
Фран
204
ции
называли
себя
патриотами,
и
идеи
французской
нации,
ее
свободы,
ее
достоинства
были
для
них
одной
из
основ
их
ми
ровоззрения,
причем
нацие й
они
считали
все
население
оте
ч ест ва,
кроме
космополитов-аристократов,
врагов
революции,
а
патриотизм
понимали
как
любовь
к
свободе
и
своего
госу
дарства
и
св оего
народа.
И
для
Державина
патриотизм
—
синоним
якобинизма
(см.
в
оде
«На счастье»).
Д алее,
ког да
н аполе онов с кие
войска
из
с илы
революции
превратились
в
сил у
империалистических
захватов,
войны
против
Нап ол еон а,
войны
за
независимость
н ар одов
от
ига
французской
буржуазии
ста ли
войнами
прогрессивными,
национально-освободительными,
и
в
них
рождались
революционные
тенденции
и
замы сл ы
лучших
людей,
оценивших
правильно
героическую
борьбу
народов.
Зат ем
Европу
ряд
лет
потрясали
национально-освободительные
восстания,
переплетавшиеся
с
социально-революционными,
—
греческое
восстание,
итальянские
в ос ста ния,
испа нска я
рево лю
ци я.
Нация
—
это
б ыла
освободительная
идея
в
1775—1825
годах.
Во
имя
свободы
развития
народных
сил
боролись
и
те,
кто
с
ор ужи ем
в
руках
отстаивал
независимость
своей
стр аны,
и
те,
кто
восставал
против
фе ода ль ной
реакции,
и
те,
кто
в
искусстве
отстаивал
права
нации
на
самобытность,
на
с вое об
разие.
Это
своеобразие
не да ром
искал и
в
поверьях,
языке,
обыч а ях,
искусстве
на рода ,
а
не
в
«интеллигентном обиходе»
и
не
в
книгах,
написанных
учеными
людьми.
Право
нации
на
самоопределение
в
области
культуры
и
стиля
был о
другой
стороной
права
народа
на
свободу.
До
этого
времени,
до
рома нт изм а,
в
пор у
власти
класси
цизма
в
литературе
признавался
лишь
один
общечеловеческий
идеал
искусства,
ид еал
красоты,
ра цио нал ьно
дедуцированный
и
ориентированный
на
условную
античность.
Сама
эта
античность
понималась
не
как
ко нкр етн ое
исто
рически
определенное,
хронологически
и
географически
ограни
ченное
бытие,
а
именно
как
условный
общечеловеческий
идеал,
не
связанный
органически
ни
с
историческими,
ни
с
этногра
фическими
национальными
чертами
породившей
его
культуры
и
действительности.
Н аро ды,
в
лиц е
своих
ли т ера тур,
добро
вольно
склоняли
св ои
головы
под
ярм о
классических
н орм
прекрасного
и
разумного.
Но
вот
нача лос ь
великое
восстание
народов
против
вековых
норм,
выкованных
при
феодализме.
Тогда
ок азалось ,
что
не
все
люди
одинаковы
и
не
всегда
и
не
повсюду
действуют
одн и
и
те
же
нормы
прекрасного,
Мало
того,
ок азало сь,
что
не
для
вс ех
народов
приемлемы
о дни
и
те
же
нормы
общественного
бытия.
Во
в сяком
случае,
есл и
рань
ше,
при
классицизме,
национально-исторические
ра з личия
205
к ульт ур
сч ита лись
чем-то
преходящим,
идейно,
а
стало
быть,
и
художественно
малоценным,
теперь
эти
различия
б ыли
пр изна
ны
законным
дос то ян ием
народов,
их
неотъемлемым
правом.
Един ый
универсальный
идеал
античного
классицизма
ру
шился.
В
середине
века
был
обнародован
макферсоновский
Оссиан;
за
ним
появилась
Дат ска я
история
Малле
с
публика
цией
древнескандинавских
поэтических
произведений.
А нгл ий
с кий
фольклор
воше л
в
литературу
со
сборником
Перси.
И
вот
рядом
с
Гомером
и
Еврипидом,
истолкованными
в
качестве
образцов
разумной
гармонии
человеческих
душевных
качеств,
встал
другой
идеал
человека,
культуры
и
красоты,
не
похожий
на
ант ич ный
и
все
же
прекрасный
и
в
своем
род е
законченный.
Ровный
св ет
греческого
солнца
и
симметрия
античных
колонн
совсем
по-н овом у
долж ны
бы ли
бы ть
по няты ,
когда
рядом
с
ними
был
утвержден
в
равных
правах
трагический
сумрак
северной
мифологии,
«неправильный», но по - свое м у
велич е
ственный
идеал
воинственной
культуры
в икинго в
и
ба рд ов,
идеал
мрачной
природы
скал
и
бурь,
идеал
б е дной,
но
мощной
пр иро ды
Шотландии
или
Исландии.
Все
народы
принялись
конструировать
иде ю
своей
национальной
культуры,
отличную
от
классической
античной.
На
первых
порах
это
конструирова
ние
привело
к
раз дел ен ию
двух
типов
культуры,
юж ного
и
сев ер но го,
античного
и
оссиановского.
Гердер
во зве стил
Евро
пе
равноправие
обоих
типов
и,
главное,
народный
характер,
фольклорную
основу
об оих.
Он
же
глу б око
принципиально
и
в
связи
с
проповедью
передовой
социально-политической
д ок
три ны
показал
мощь
народного
искусства
всех
нар од ов
и
пр о
возгласил
закон:
нет
иску сс тв а,
нет
и
не
бы ло
великих
тв оре
ний
по эзи и,
не
вырастающих
на
основе
народного
миропонимания,
народного
склада
мысли,
чувства,
на родной
поэзии.
Де
Сталь
от кры ла
для
Фра нци и
(а потом и для Рос
с ии)
широкие
перспективы
романтизма,
показав
смысл
и
зна
чение
своеобразия
д вух
типов
искусства,
античного
—
южного,
и
северного
—
романтического,
коренящихся
в
ус ло виях
жизни
народов
Древней
Гр е ции,
с
одной
стороны,
и
народов
севера
—
с
другой
(географическая теория Монтескье убедительна
еще
для
Г ерд ера
и
еще
для
де
Сталь).
Одновременно
с
эти м
меняется
облик
самой
античности,
в
ч ас тно сти,
Греции.
Культуру
античности
передовые
мыслители
эпохи
стремятся
осмыслить
как
конкретный
частный
вид
куль
туры
данного
народа,
прекрасный,
но
не
обязательный
для
других
народов.
Наступает
но вая
волна
археологических
и
исторических
разысканий
древнего
мира.
Винкельман,
открыв
ший
вновь
для
Евр опы
подлинную
греческую
красоту,
не
ту,
206
которая
стала
привычной
в
отвлечениях
Р асин а,
а
простую,
прими тив н ую
к расо ту
дет ст ва
человечества,
еще
Винкельман
не
преодолел
вз гляда
на
античность
как
на
идеал.
Но
уже
Вин
к ел ьман
доказывал,
что
это т
ид еал
связан
с
конкретными
ис
торическими
условиями,
что
он
неповторим
в
других
условиях;
при
эт ом
его
концепция
также
имела
передовой
в
по лит и
ческом
смысле
характер.
Чер ез
несколько
десятилетий
де
Сталь,
восхищенная
античностью,
уже
тем
не
менее
совсем
свободна
от
генерализации
античного
идеала.
А
Сисмонди,
также
значительно
по вл ияв ший
на
русских
романтиков,
обос
новал
географическое
и
отчасти
этнографическое
понятие
юж
ной
культуры,
объединившее
элементы
восточной
к ульт уры
с
итало-французским
средневековьем
и
возрождением.
Нацио
наль ная
иде я
каждого
народа,
неподвижная
внутри
с ебя,
но
см еня ющая
од на
дру гую
со
сменой
исторической
роли
народов
в
ми ровой
истории,
ле гла
в
основу
философии
истории
Г егеля .
Все
это
движение
протекало
в
рамках
романтизма
и
и мело
идеалистический
характер.
Сам ое
понятие
нации,
на рода
мыс
ли лось
как
метафизическое,
неизменное,
лишенное,
в
сущ
нос ти,
развития.
История
по нимал а сь
как
сосуществование
или
смена
единых
и
замкнутых
национальных
культур.
Каждая
дан ная
национальная
культура
не
требовала
ин ых
о бъ ясне ний,
кроме
внешнегеографического,
и
—
в
глубине
вещей
—
мета
физической
тавтологии,
объяснения
ее
складом
д уши
народа
или
группы
н ар одов
(южане и северяне).
С
друг ой
стороны,
в
данной
си стем е
каждый
отдельный
человек,
представитель
данной
замкнутой
культуры,
не
объясняется
в
своем
быте
и
характере
ничем,
как
той
же
та втол огией:
он
таков
потому,
что
он
—
шотландец,
или
потому,
что
он—
грек.
И
все
же
воз
можности
развития
эт ой
концепции
бы ли
неограниченны,
и
в
своем
движении
она
привела
к
кр у шению
романтизма,
к
реа
лизму.
Дел о
в
то м,
что
эта
концепция
все
же
выдвигала
про
блему
обоснования
своеобразия
человеческой
личности
чем-то,
вне
ее
лежащим,
для
нее
объективным,
а
име нно
ти пом
данно й
национальной
ку льт уры.
З десь
был
зал ожен
пр инцип
преодо
ления
субъективизма
романтического
мышления,
в
с вою
оче
редь
преодолевшего
рационалистический
схематизм
и
отвле
ченность
классицизма.
Заво ева в
конкретность,
индивидуальность
понимания
человека
и
нации,
романтизм
понял
ее
как
вечную
сущность,
замкнутую,
то
есть
саму
себ е
д овле ющую.
Соц и альн ая
действительность
борьбы
народов
и
скачкообразный
ход
истории,
вы сту пление
ма сс,
изменившее
на
глазах
поколения
мир,
прогрессивное
движение
человечества
и
крушение
метафизических
идеалов
буржуазной
ре вол юции,
207
привели
лучших
людей
начала
XIX века к осознанию истории
как
движения,
р азб или
неподвижное
представление
о
на цио
нальной
культуре.
Еще
Рылеев
мыслил
русскую
героику
как
неподвижную,
то
есть
лишен
был
историзма
как
прин ципа
мировоззрения,
заставляя
рус ск их
героев
всех
в еков
говор ит ь,
мыслить
и
действовать,
как
декабристы.
Но
уже
Гегель
сформулировал
зако ны
диалектики.
Вальтер
Скотт
по каз ал
миру,
что
лю ди
живут
раз но
не
только
в
силу
различия
наци о
н альны х
культ ур,
но
и
в
силу
разл ичи я
исторических
эта пов
бытия
одного
на род а.
Этот
п е рев орот,
по ис тине
решающий
для
судеб
литературы
и
для
р еал изма
в
частности,
был
осу
ществлен
историзмом
искусства.
В
то
же
время
Валь т ер
Скотт
в
«Айвенго»
показал
национальные
различия
как
социальные,
осмыслив
исторические
изменения
общества
и
человека
в
фор
мах
борьбы
социальных
си л.
Валь те р
Скотт
научил
историзму
ученых
историков.
Ба р ант,
первый
в
р яду
историков
—
созд а
телей
теории
классовой
борьбы,
историков,
показавших
науч
но
изменение
людей
с
развитием
общества,
соотнесен
в
своей
работе
с
Вальтером
С ко ттом
и
признает
в л ияние
и ст ориче ск ого
романа
на
исто р ико в.
Тьерри,
разрабатывавший
понятие
о
классовой
борьбе,
изб ир ает
для
своего
капитального
труд а
—
«Истории
завоевания
Англии
Норманнами»
—
тему
«Айвенго»
и
ссылается
на
эт от
роман
в
предисловии
к
книге.
Конечно,
Вальтер
Скотт
был
подготовлен
всем
раз вит ием
романтической
литературы,
так
же
как
построение
социологи
ческой
истории,
бы ло
подготовлено
вс ем
развитием
философии
и
науки
вообще
в
конце
XVIII века.
Вед ь
В ал ьтер
Скотт
заложен
уже
в
«Геце фон Берлихингене»
Гете.
И
все
же
значение
открытия
историзма
и
со ци альн ого
принципа
в
лите
ра туре
было
неизмеримо
велико.
Оно
наш ло
реально-
объективное
объяснение
своео б рази я
конкретного
чело век а
и
типов
людей.
Че лове к
бы вает
таким,
а
не
иным,
потому
что
его
сделала
таким
история
его
народа
и
всего
человечества,
потому
что
его
сделало
таким
его
участие
в
борьбе
социальных
сил
его
эпохи.
Фр анцу з
XVIII века
—
не
француз
XIX века,
и
в
то
же
время
банкир
XIX века не то же,
что
ра б очий
XIX
века,
—
такова
бы ла
новая
установка.
Ее
осуществил
Бальзак,
вышедший
из
романтизма,
из
исторического
рома н а,
ученик
Вал ьт ера
Скотта,
расск азавши й
о
своей
эпохе
как
историк
и
социолог.
Ее
осуществил
Пу ш кин,
начиная
с
середины
1820-х
годов
ст авш ий
прочно
на
почву
исторического,
а
позднее—
и
социально-исторического
по ним ания
человека.
Субъективное
романтизма
не
отменилось,
а
обросло
плотью
объективного,
по луч ило
объяснение
в
истории
и
со циа льно й
жизни.
Люди -
208
индивидуальности
стали
людьми-типами.
Национальная
куль
тур а
стала
сама
фактом
истории
и
дифференцировалась
в
о бъ
ективных
ус лови ях
социальной
борьбы.
Метафизическая
тавто
логи я
расп ал ась .
Реализм
XIX столетия родился.
Мне
пришлось
сделать
кр ат кий
экскурс
в
б уд ущее
для
того,
чтобы
пояснить
те
стороны
романтизма,
кот орые
привл е
кают
з десь
мое
внимание.
Мне
было
важн о
указать,
что
про
блема
«местного колорита»
была,
с
од ной
стороны,
проблемой
политической
в
п лане
национально-освободительной
борьбы,
с
другой
же
стороны,
—
отправным
пунктом
дальнейшего
пр о
грессивного
д в ижения
литературы
к
реализму.
Русская
литература
не
осталась
чу жда
общеевропейскому
движению.
Именно
в
ее
демократических,
а
затем
и
революци
онных
течениях
возникает
интерес
к
на циона л ьном у
искусству,
к
фольклору.
Фольклоризм
Чулков а
и
Попова
в
1760—
1770- х
годах
—
это
явление,
соотнесенное
с
предромантиче-
ским
течением
Запада,
с
Макферсоном,
Перси,
Клопшгоком
и
др.
Оссиан
и
Малле
сыграли
в
России
в
XVIII веке такую же
роль,
как
и
на
З апа де.
Рад ище в,
не
без
в л ияния
Г ерд ера,
утверждает
понимание
фольклора
как
выражения
духа
народа
и
основы
всякого
п од линно го
бо льш ого
искусства.
Он
же
ищ ет
своеобразия
рус с кой
национальной
культуры,
и
и щет
его
име нно
в
народном
сознании,
революционном
по
преимущест
ву.
И
его
теоретические
размышления,
и
его
поэма
«Песни
др евние»
открывают
традицию
революционного
романтизма
в
Рос с ии,
традицию
поисков
на цио нал ьно го
искусства,
характе
ризуемого
освободительной
направленностью
содержания
и
замкнутой
спецификой
национальной
самобытности
формы.
И
в
этом
отношении
гр аждан ски й
и
декабристский
романтизм
наследует
у
Радищева.
Определение
замкнутых
т ипов
национальных
к ульт ур
в
европейской
поэзии,
в
л ит ера туре
вообще
шло
в
основном
—
для
Европы
—
в
дв ух
лин и ях:
северной
культуры
(Оссиан и
д р.)
и
античной
(Гомер и др .); но оно не замкнулось в этих
двух
линиях.
Уже
Гердер
пы та лся
р ас сказ ать
о
кул ьту ре
Во
стока
и
Ам ер ики
как
особых
своеобразных
типах.
Расширение
горизонта
мировой
экономики
и
политики
шло
одновременно
с
расширением
кругозора
романтического
нацио на льно го
пон и
мания
ку льт уры.
Американские
индейцы,
уже
не
по-
вольтеровски,
не
на
манер
французских
просветителей,
на
которых
они
так
похожи
в
«Альзире», были изображены с
попыткой
характеризовать
их
культурный
тип
Шатобрианом.
Парни,
увлекавшийся
Оссиа но м,
со зда ет
ци кл
«Мадагаскарских песен», переводившихся не одним русским
209
поэтом.
Молодой
Гю го
напишет
роман
о
негр ах ,
в
к от ором
по пыт аетс я
в ос соз дать
своеобразие
ду ши
негритянского
ге роя,
—
«Бюг Жаргаль» (еще позднее Мериме будет разоблачать
романтический
показ
негров
в
бессмертной
реалистической
но ве лле
«Таманго») и т.
д.
Не
случайно
в
это
же
вре мя
ста
но вят ся
столь
попул я рны
о пис ания
путешествий
в
экзотические
страны,
и
в
это
же
время
Шамполион
делае т
свои
открытия.
Но
самую
значительную
роль
в
этом
открытии
чуждых
экз о
тич ес ких
к ульт ур
играло
увлечение
Востоком.
Восточный
сти ль,
вы ражаю щи й
восточное
мировоззрение, «душу
Вос то
ка », по многим причинам стал играть в литературе
чрезвычай
но
важную
роль.
Открывается
для
Европы
поэзия
Ирана;
Коран
становится
модной
книгой,
Гете
пишет
свой
«Западно
восточный
д и ван», Радищев говорит о « Гюли ст ан е»
Са ади,
а
затем
Байрон
открывает
новую
поэзию
Востока;
Мур ,
а
потом
В иньи
и
многие
другие
де лают
«восточный стиль»
одн им
из
ведущих
яв ле ний
романтизма.
Здесь,
на
Востоке,
была
найде
на
третья
великая
культура,
богатая
свое об разно й
красотой,
—
ря дом
с
гомеровской
и
оссиановской.
И
опят ь
современников
этого
«открытия»
поражало*
то,
что
вот
п еред
ними
народ
(вернее,
группа
нар о дов ), создавший свой высокий идеал чело
века,
красоты,
мудрости,
не
имеющий
ничего
общего
с
и де ала
ми
Гомера
и
Ос сиана,
на род,
не
знающий
правил
Буало,
ученья
Вольтера
или
даже
искусства
Шекспира
и
тем
не
менее
владеющий
подлинной
кул ь турой.
И
эта
культура
правомерна.
Следовательно,
нет
еди но го
закона
культуры.
Кр итер ием
цен
ности
культуры
ок азы вает ся
не
книжность,
не
проверка
ее
нормами
Южной
Евр оп ы,
а
национальная
орга ни чнос ть
ее,
ее
связь
с
глубинами
д уха
данно го
н а рода,
ее
незави сим о сть ,
замкнутость.
Сохранность
св оеоб рази я
культуры
воспринима
ется
как
следствие
м ужест ва
народа,
сумевшего
героически
отстоять
с вое
лицо,
св ою
независимость,
свою
свободу.
Хо ть
у
китайцев
бы
нам
несколько
занять
Премудрого
у
них
незнанья
иноземцев,
—
об
этом
тоскует
по эт
декабристов
Гр ибо е дов,
и
это
для
н его
—
лозун г
политической
свободы.
Все
три
основные
народные
культуры,
ре зко
очерченные
в
своем
своеобразии,
—
гомеров
ская,
оссиановская
и
восточная,
—
становятся
символами
ге
роики
народной
борьбы
за
независимость,
противопоставлен
ным и
безликой
в
национальном
отношении
к ульт уре
салонов.
И
о пять
у
рома нти ков
эта
иде я
народности
культуры
и
ее
освободительной
функции
внеисторична
(но этнографична)
и,
в
о сно вном,
'
внесоциальна.
П отом
придет
реалистический
210
принцип
исторического
и
социального
определения
культуры
и
при нес ет
иную
характеристику
принципа
народности.
У
зрелого
Пушкина
Пугачев
рассказывает
н ародн ую
сказку,
а
дворяне-
офиц еры
пробавляются
песенкой
из
пошлого,
для
П уш кина,
песенника.
И
еще
в
«Борисе Годунове», реалистической траге
д ии,
основанной
на
историческом
методе,
противопоставлена
русская
национальная
культура
западной
—
польской,
салон
н ой;
а'в
пр ед елах
ру сск ой
культуры
единство
не
разбито:
ца
ревна
причитает
по
жениху
на род ным
складом.
Впрочем,
эта
че рта
зд есь
—
также
историческая
характеристика
допетров
ской
Руси,
в
которой
еще
не
произошло
—
по
Пу шки ну
—
отделения
ве рхуш еч ной
культуры
от
народной.
И
еще
в
«Евгении Онегине»
тр аг едия
О негина
св я зана
с
салонностью
его
вненациональной
культуры,
тогда
как
«милый идеал»
—
Т атьян а
обос нов ана
народной
культурой
во
всем
своем
обл ике ,
и
в
фигуре
няни,
и
в
сне,
в
к отором
мотивы
русских
сказок
побеждают
наносную
стихию
мотивов
западных
романов.
По
то му
что
романтическая
народность
тоже
не
была
уничтожена
пушкинским
реализмом,
а
была
объективирована
им.
Этногра
фическая
метафизичность
была
снята
историческим
и
демокра
тическим
объяснением
ее.
Культура
нации
стала
к ульт урой
данного
исторического
периода,
впоследствии
расслоенной
и
определенной
со ци а льно.
В
«Сценах из рыцарских времен»
—
во
всем
наброске
веет
единый
дух
эпохи
Возрождения,
и
именно
в
ус ло виях
Германии
это й
эпохи;
но
культурный
тип
героев
оп ред елен
не
только
страной
и
эпохой,
но
и
их
соци
альным
местом:
Франц,
Мар тын ,
рыцари
—
это
разные
ку ль
туры.
Между
тем
культура
Востока,
восточного
человека
у
Байрона,
как
и
у
Гете,
—
еди на,
не
разделена
социально
и
неизменна
хронологически.
Она
—
си мв ол.
Она
дана
м иф оло
гически
более,
чем
реально.
Ит ак,
романтический
мес тны й
к олор ит
и
романтическая
народность
б ыли
одной
из
граней
прогрессивного
политическо
го
характера
да н ного
крыла
романтизма.
Они
формулировали
новую
мифологию
и
символику
национально-освободительной
борьбы.
И
на
русс ко й
почве
в
начале
XIX столетия поиски
местного
к олор ита
теснейшим
об разом
сочетаются
с
жи знью
гражданской,
преддекабристской,
а
по том
и
декабристской
по эз ии,
хотя
и
ост аю тся
—
до
Пушк ина
—
в
пределах
роман
тической
иллюзорности
и
внеисторичности.
Я
мо гу
здесь
при
вест и
ли шь
несколько
примеров
в
эт ом
плане,
не
стремясь
исчерпать
материал
или
хо тя
бы
изл о жить
обстоятельно
ис
торию
это го
воп рос а
в
русской
поэзии
1800—1820-х
годов.
Для
да н ного
периода
пе ред овой
русской
литературы
опыты
211
создания
на цио на ль ного
искусства
в
1760—1790- х
годах
—
уже
пр о йденны й
этап,
не
удовлетворяющий
запросов
нового
времени,
вследствие
отсутствия
политической
принципиаль
ности
этих
оп ыт ов,
отсутствия
связи
их
с
проблематикой
осво
бодительной
борьб ы .
Исключение
составляет
только
Ра дище в;
однако
на до
уче с ть,
что
его
«Песни древние»
написаны
уже
в
1801—1802 годах .
При
это м
опыты
XVIII века были замкну
ты
кругом
узконациональных,
только
русских
заданий,
легко
переходя
в
охранительную
или
реакционную
тенденцию
отъединения
«русского склада»
от
пе редов ой
европейской
культуры.
Иное
дело,
например,
Гнедич.
У
него
мы
на блюда
ем
вм есте
с
постановкой
пр об лемы
гражданского
стиля
широ
кую
постановку
проб ле мы
равноправных
типов
культуры,
сходную
с
передовыми
течениями
западной
литературной
м ыс
ли.
Гнедич
в
основном
зна ет
два
ти па
культуры:
гомеровский
и
оссиановский.
Уже
у
него
на м еча ется
вопрос,
важный
для
дальнейшего
развития
русского
искусства:
куда
отнести
ру с
ский
национальный
тип
культуры?
В
качестве
северного
на ро
да
русский
на род
мыслился
в
о ссиано вск ой
группе
(так было,
например,
в
творчестве
ста ро го
Державина); но глубокие исто
рич еск ие
свя зи
с
Грецией
через
Византию,
подчеркнутые
еще
Ломоносовым,
заставляли
сопоставлять
истоки
рус с кой
наци о
на льно й
куль туры
с
гомеровским
типом.
Сюда
же
ве ла
мысль
о
русском
народе,
не
тронутом
рефлексией
и
меланхолией
северной
поэзии,
бодром
и
оптимистическом.
Так
Гнедич
при
ходит
к
попыткам
объ е дине ния
«русского тона»
с
античным
типом
стиля
в
«Рыбаках» 58.
Так
же
он
приходит
к
славяниза
ции
сло га
св оей
«Илиады», истолкованной им как аналог идеа
лов
русской
г ер оики
59.
Еще
в
1804 году Гнедич написал большое стихотворение,
поч ти
что
п оэ м у, «Красоты Оссиана,
или
песни
в
Сельме»; он
хотел,
по
его
собственным
с ловам , «все красоты Оссиана слить
в
эти
пес ни
и
в
них
о дних
показать,
каков
Оссиан».
Это
—
опы т
воссоздания
целостного
облика
стиля
Ос сиа на
как
зам к
нут ого
эстетического
канона,
противостоящего
гомеровскому.
При
этом
характерно
не
только
то,
что
это
стихотворение
пишет
гражданский
п оэт
Гнедич
и
известный
гоме рол юб ец,
«античный»
Г недич ,
но
и
то,
что
он
пиш ет
его
«русским скла-
58 Ср.
А.
М.
Кукулевич,
«Рыбаки»,
идиллия
Гн еди ча.
—
«Ученые записки Ленинградского государственного университета»,
серия
ф илологических
нау к, 1939, No 3.
592Ср.
А.
М.
К
у
к
у
л
е
в
и
ч , «Илиада»
Гнедича.—
«Ученые за
п иски
Ленинградского
го су дар ственн ого
университета»,
серия
филологиче
ск их
наук , 1939, No 2.
212
д ом », признанным в качестве русского народного стиха разме
ром
—
четырехстопным
хореем
с
дактилическими
о ко нч аниями
без
рифм,
раз мер ом
русских
сказочных
поэм.
Так
сближалась
русская
манера
с
оссиановской.
В
1804 году Гнедич тем же
размером
пишет
«Последнюю песнь Оссиана», и в этом сти
хотворении
звучат
воинственные
мот ивы
гражданской
поэзии
и
те ма
гибели
народной
ге роик и
в
ту скл ой
современности:
О
герои ,
о
сп од вижники
Тех
времен,
когда
рука
моя
Раздробляла
щит
трелиственный!
Вы
сокрылись,
вы
оставили
Одного
меня,
печ аль ного!
Ни
меча
и з влечь
не
в
силах
я,
В
битвах
молнией
сверкавшего;
Ни
щита
я
не
мог у
поднять,
И
на
нем
напечатленные
Язвы
б итв,
единоборств
моих,
Я
считаю
осязанием...
и
т.
д.
И
как
бы
вывод:
Так
в
чертогах
пр аот ече ских
По за быт
и
след
великого!
К
1807 году относится замечательное послание Гнедича
«К К.
Н.
Б атю ш ко ву », поэтическая декларация двух народных
и
героических
культур
—
гомеровской
и
оссиановской,
данная
в
стиле
напряженной
гражданской
поэзии.
Нет
сомнения
в
том,
что
это
с ти хотв орен ие
созд ано
под
влиянием
знаменитой
ста тьи
Гердера
о
Гомере
и
О ссиане
(«Über Ossian und die
Lieder alter Völker», 1773).
...
О,
песнь
волшебная
Оми ра
Нас
вмиг
перенесет,
певцо в,
В
край
героического
мира
И
поэтических
богов.
Зе веса,
мечущего
громы,
И
вс ех
бессмертных
вкруг
отца ,
П иры
их
свет лы е
и
до мы
Увидим
в
песня х
мы
с леп ца.
Иль
посетим
М орвен
Фи нгало в,
Ту
С ельм у,
дом
его
отцов,
Где
на
пирах
сто
арф
звучало
И
пламенело
сто
дубов...
Там
Оссиан
теперь
мечтает
О
битвах
и
де лах
былых;
213
И
лир ой
тени
вы з ывает
Могучих
праотцев
своих.
И
вот
Тренмор,
от ец
ге ро ев,
Чертог
воздушный
растворив,
Летит
на
тучах
с
сонмом
в оев,
К
певцу
и
вз ор
и
слух
склонив...
и
т.
д.
Здесь
все
типи чно
и
показательно.
Гнедич
оперирует
яр
кими,
ге роичес к ими
словами-символами,
емкое
значение
кото
рых
—
укор
вялым
современникам:
волшебная
песнь,
певцы,
героический
ми р,
мечущего
г ромы,
бессмертных,
с вет лые
пи ры
и
домы,
отец
ге роев
и
т.
д.
—
весь
этот
яркий,
здоровый,
блестящий
мир
на родно й
патетики
име л
гражданское
звучание.
Гнедич
и щет
эффектных
сопоставлений
и
противопоставлений,
ораторских
оборотов:
В
край
гер оиче ско го
ми ра
И
поэтических
богов.
За тем,
—
Гнедич
стремится
к
нек ой
ст илиз а ции:
в
стро
фах
о
Гомере
он
как
бы
имитирует
подлинную
греческую
ма
не ру
речи
(гомеровскую): «Зевеса,
мечущего
громы»,
б ес
смертные
«вкруг отца», «домы»
—
как
бы
б ыт овая
деталь
простой
первобытной
культуры
а нтич нос ти.
Гомер,
по
Гне дичу :
Среди
бесчисленных
видений
Откроет
нам
весь
др евний
мир...
Гомер
для
Гн еди ча
—
не
условно-идеальный
э пик,
такой
же,
как
Ве ргил ий
или
Вольтер,
но
лучше
их,
—
а
певец
п од
линной,
еще
грубой,
но
ге роиче ск ой
культуры
подлинной
Гре
ции
с
ее
верованиями
и
битвами,
и
са мые
верования
древних
для
Гне д ича
—
не
просто
на бор
мифологических
отвлеченно
ст ей
и
украшений,
а
реальный
этнографический
материал.
Его
античность
и
в
этом
стихотворении
не
такая,
как
у
классицис
тов,
а
новая,
романтическая,
по-новому
подлинная,
рядом
с
другой
подлинностью
—
Оссианом,
Оссиан
же
дан
рядом
ти пиче с ких
мотивов
его
поэм,
для
Гне д ича
не
то лько
х ар акте
ризующих
его
стиль,
но
и
обл ик
народа,
созд авшего
его;
здесь
и
сто
арф,
и
сто
дубов
60, и тени праотцев,
и
другая,
не
г оме
ровская,
сумрачная
мифология
Север а.
При
всем
том
Гнедич
60 Ср.
уже
у
Держ авина
в
его
«оссиановской»
оде
«На победы в Ита
л ии» (1799):
Вста ю т.
—
Сто
арф
звучат
струна ми,
Пред
н ими
сто
дубов
го ря т...
214
мыслит
и
изображает
и
гомеровскую
Гре ц ию,
и
«Морвен
Фингалов»
внеисторически.
Для
него
не
существует,
например,
последовательности
обеих
куль ту р,
не
существует
и
их
смерт
ности.
Это
—
именно
типы
культуры
вообще,
этнографически
и
географически
пр едо пр еделен н ые
и
сами
на
себя
обращен
ные.
Ни
вза имо связ и
ме жду
культурами,
ни
в лиян ия
их
д руг
на
друга,
ни
их
исторических
взаимоотношений
при
таком
их
восприятии
нет.
Каждая
из
культур
представляет
собою
закон
ченное
целое,
непроницаемое
и
неизменное.
История
же
пр е
вращается
не
только
в
географию,
но
и
в
ряд
замкну ты х
ком
плексов,
отдельных
образований,
хронологически
неподвижных
и
закрепленных,
каждая
в
своей
системе
образов,
мотивов,
знаков,
в
кон еч ном
счете
в
своей
мифологии,
в
своей
символи
ке.
П ри знаки
это й
культуры
д аны
з аран ее
для
читателя
книга
ми,
ему
известными
до
стихотворения
Г не дича,
—
Гомером,
Оссианом,
всей
античной
и
северной
поэзией.
Читатель,
зар а
нее
не
носящий
в
своем
сознании
целостного
образа
этих
куль
тур ,
просто
не
может
понять
того,
о
чем
пишет
Г нед ич.
По-
этому-то
ему
нет
необходимости
реально
описывать
Д ревн юю
Грецию
и
Шотландию.
Для
него
д ос та точно
указать
знаки,
символы
эти х
целостных
образов,
—
и
образы
возникнут
в
памяти
читателя.
Так
и
делает
Гн еди ч.
Он
дает
нес ко лько
знакомых
штрихов,
за
которыми
стоят
ши роки е
образные
комплексы,
и
эти
комплексы
опять
имеют
и
политический
смысл,
так
как
это
обра зы
на род ной
героики.
Поэтому
т акое
зна че ние
приобретают
в
данной
системе
имена,
названия,
наи
более
уплотненные
знаки,
вызы вающ ие
р яды
представлений:
Омир,
Зевес,
Морвен,
Ф ингал ,
С ельма ,
Ос сиан,
Тренмор,
Мальвина,
Моина.
Следовательно,
и
здесь
Гнедич
пользуется
романтическим
м е тодом.
Гомер
и
Осс иан
в
данной
системе
стиля,
в
сущности,
—
это
не
историческая
реальность,
а
об
разная
система,
закл ючен н ая
в
сознании
поэта
и
читателя,
более
чем
в
объективной
хронологии.
Гнедич
не
изображает,
а
дает
почувствовать,
вызывает
ви де ния,
знакомые
д уше
и
воо б
ражению
и
значительные
для
н его
не
столько
са ми
по
себ е,
ско ль ко
по
тому
воспитательному
гражданскому
пафосу,
кото
рый
с
ними
связан.
Поэтому
и
здесь
у
н его
—
трехстепенная
сис тем а
образности.
Стихи
—
это
только
слова,
знаки,
суггес
тивные
символы,
вызывающие
комплекс
образов;
в
св ою
оче
редь,
этот
ко мпле кс
—
только
образ
великих
пер еж ива ний,
эти
переживания
и
сос т ав ляют
в ну тр енний
смысл
стихотворе
ния.
Ме жду
словами
и
их
глубинным
смыслом
располагается
по сред ст в ующее
звено:
символический
образ
культуры
данного
типа.
Отсюда
и
поэзия
как
си ст ема
внешних
зн а ков.
Образы
215
культуры
Гомера
и
О сси ана
строятся
у
Гнедина
извне,
нани
зыванием
мифологических
сло в-и мен ,
сл ов
экзотических,
не
обычных,
сло в
сгущенной
выразительности,
а
не
конкретным
и
объективным
изображением
самого
это го
исторически
бывше го
мир а
и
людей,
созданных
этим
мир ом,
как
это
буде т
у
зрелого
Пушкина.
Внеисторизм
Гне ди на,
его
романтическое,
интр о
сп ект ивно е
и
метафизическое
представление
о
культуре
и
раз
личи и
к ул ьтур
ска зы ва ется
и
в
том
характернейшем
о бсто я
тельстве,
что
обе
рисуемые
им
культуры
он
мыслит
в
своем
собственном
сознании
как
вечно
существующие
и
вызываемые
в
д уше
европейца
XIX века .
Его
стихи
—
это
стихи
поэта-
гражданина
1800-х
годов,
вобравшего
и
Гомера
и
Оссиана
в
свое,
именно
в
свое
сознание,
их
воспринимающее.
Между
те м,
когда
романтизм
претворится
у
Пу шки на
в
реализм,
п ро
и зо йдет
обратное.
Пушкин
покажет
мир
Востока
или
древ
ности,
увиденный
как
бы
вне
субъективности
поэта.
При
эт ом
он
в осс озд аст
не
только
в нешний,
но
и
внутренний
мир
че ло
век а
друго й
культуры.
Он
создаст
стихи
—
как
бы
не
от
своего
лица,
а
от
ли ца
араба
(«Подражания Корану»); при
это м
он
останется
Пушкиным,
человеком
XIX века .
У
зр ело го
Пушкина
разнообразным
и
исторически
меняющимся
ста нет
сам
суб ъек т
по эзи и,
тем
самым
превратившийся
в
объект
ее
в
реалистическом
понимании.
У
Гнедича
же
объект
—
Гомер
и
Осси ан
—
лишь
черты
субъекта,
поэта-современника.
В
этом
—
романтическая
ограниченность
по няти я
и
поэтики
народ
нос ти
у
Гнед ич а.
То
же
самое,
хо тя
и
с
индивидуальными
от кл оне ни ями,
можно
ска зат ь
и
о
Катенине,
наиболее
сильном,
гл убок ом
и
пр инципиа льно м
пропагандисте
рома нти че ской
народности
гражданского,
политически
прогрессивного
характера
в
России
до
Пушкина.
Теперь
уже
не
вызы ва ет
сомнений
то
положение,
что
Катенин
—
это
поэт
декабристского
круга,
даже
можно
ска зать
—
поэт-декабрист.
Правда,
его
прямые
политические
стихи,
содержавшие
революционные
призывы,
до
нас
не
дошли
(они,
вероятно,
бы л и), кроме нескольких строк революционной
песни
«Отечество наше страдает Под игом твоим,
о
зло
д ей... ».
Но
все
его
стихотворения
в
целом
вк лючен ы
в
систему
гражданской
героическом
поэзии,
призванной
будить
чув ст ва
с воб оды,
патриотизма,
и
мужества.
При
это м
име нно
проблема
романтического
местного
колорита
призвана
у
Ка тенина
играть
решающую
рол ь
в
это й
политической
воспитательной
функции
его
с т ихов.
В
основном
К атен ин
увлечен
двум я
типами
н аро дной
к ульт уры,
д вумя
стилями:
анти чн ым
и
народным
русским,
хот я
216
он
не
прошел
и
ми мо
дру гих ,
привлекших
внимание
европ ей
ск ой
литературы
его
времени.
Так,
его
п ерев од
романсов
о
Сид е
и
«Пир Иоанна Безземельного»
представляют
опыты
воссоздания
культуры
средневекового
рыц ар ст ва.
Античность
Катенина
в
таких
его
стихотворениях,
как
«Софокл», «Ахилл и
Ом и р», «Идиллия», «Сафо»,
—
это
новая
романтическая
античность,
выдвинутая
против
условности
античного
идеала
к ла ссицизма,
воспринятая
как
подлинная,
примитивная,
перво
бытная
и
народно-героическая,
так
же
как
средневековье
Ка
тени на
—
не
рома нсн ое ,
условно-элегическое
à la Жуковский,
а
пор а
с уро вых
и
грубых
нравов,
воинственных
подвигов,
ры
цар ск их
предрассудков
и
—
опять
—
народной
гер оики.
Те
же
за дан ия
воп лоще н ия
подлинных
и
неприкрашенных
культур
стоят
перед
Катениным
и
в
драме.
Кроме
«Пира Иоанна
Бе зз е м е льно го», здесь наиболее существенна «Ан дром а ха»
—
опыт
трагедии
античной,
простой
и
полно й
пафоса
первобыт
ных
и
жестоких,
но
величественных
подвигов,
проповедующей
культ
цельных,
сильных,
мужественных
и
простых
людей-
героев^
При
это м
метод
самого
показа
античности,
как
и
сред
невековья,
у
Кате нина
специфически
романтический,
несмотря
на
то
что
он
со би рает
в
св ои
стихи
значительно
б ольше е
коли
чество
дета лей
исторического
порядка,
деталей
быта,
а
ино гда,
в
лучш их
своих
произведениях,
поднимается
до
показа
особых
че рт
психики,
особого
мира
представлений
людей
изображае
мой
культуры.
А
все
же
картины
бы лых
культур
для
Катенина
—
только
его
мечта,
прежде
всего
—
вдохновенный
сон
по
эта-гражданина.
В
эт ом
смысле
характерно
превосходное
с ти
хотв оре ни е
«Мир поэта»: это именно ряд картин отдельных
культур,
древнееврейской
и
эл л инск ой,
и
это
не
история,
а
мир
поэта,
чуждого
тусклой
современности
и
зовущего
к
первобыт
ной
яркости
жизни:
Где
м ира
древнего
волшебное
начало?
Где
первых
чад
зем ли
чудесные
дела?
...
И
тщетно
станет
вд охн ов ений
Теп ерь
певец
искать
кругом:
Б ессмер тный
стихотворства
гений
Почиет
непробудным
сно м.
Одн ою
па мя тью
еще
мы
в
свете
живы,
Ее
лишь
призрак и
наш
мертвый
к расят
со н...
...
И
на
крылах
воображенья,
Как
ластица,
скиталица
полей,
Л етит
душа,
сбирая
насл аждень я
С
обильных
ж атв
давно
мин увш их
дне й.
217
Это
было
написано
в
1822 году,
когда
Пу шкин
делал
уже
титаниче ские
у сил ия,
чтобы
оторв а ть
культуры
прошлого
от
душ и
п оэта
и,
наоборот,
понять
душу
поэ та
как
про явл е ние
и
результат
объективного
исторического
развития
культуры
на
родов.
Великой
заслугой
Катенина
является
то,
что
он
смело
пе
решел
от
разработки
стилей
«чуждых», например,
заново
по
нято й
античной
Греции,
к
разработке
стиля
русского,
понятого
не
условно
или
формально,
как
в
XVIII веке,
а
по нято го
как
стиль
ру сс кого
народа,
противопоставленный
наносной
зап ад
ной,
верхушечной
культуре.
Катенин
попытался
отделить
рус
скую
культуру
от
оссиановской
и,
отчасти,
от
греческой
(последнее
—
не
до
конца)
и
обосновать
ее
фольк лором ,
«Словом о полку Игореве», освободительной героикой .
Эта
ориентация
Катенина
име ла
явственно
революционный
смысл,
что
и
н ашло
прямое
выражение
в
лучшем,
наиболее
г луб оком
произведении
этого
ц ик л а: «Мстислав Мстиславич».
В
это й
небольшой
поэме
Катенин
воплотил
тему
воинской
героики
борьбы
русского
народа
за
св ою
независимость,
за
с воб оду.
Национально-освободительная
тема
воплощается
в
стиле
и
в
символике
на цион ал ьн о-на родног о
характера,
в
использовании
безрифменных
фольк лорн ых
ст их ов,
фор мул
ф ольк лорн ой
поэтики,
об раз ов
«Слова о полку».
Стремясь
создать
вп еч ат
ление
не
усл ов но-п оэтич ес кой ,
а
подлинно
народной
героики,
Катенин
вво дит
в
свои
стихи
«низменные», крестьянские фор
му лы,
пря мол ине йно- же с ток ие,
л ишенные
завуалированноеTM
мотивы
суровой
борьбы.
Ибо
он
приучает
читателя
к
обр аза м
крови,
спасительной
свирепости
народной
мести:
Решето
стал
щиг
железный,
Меч
—
зу бча тая
пила. . .
...
Пот ,
с
кровью
смешанный,
каплет
с
гла вы ...
...
На
ть мы
татар
Бойцы
легли ,
И
крови
пар
Встает
с
земли...
В
конце
поэмы
декабристский
смысл
ее
обнажается.
Ха
ра ктерно ,
что
Катенин,
вдруг
с
легкостью
по кид ая
стилизацию,
переходит
от
древнерусского
склада
к
современному
и
в
при
выч ных
четырехстрочных
строфах
четырехстопного
я мба
дает
ал люз ию:
татары
превращаются
в
тиранов,
подавляющих
Русь.
А
ведь
это
—
монолог
Мст и слава
Мстиславича;
так
легко
отказывается
Катенин
от
древнего
стил я,
ибо
и
для
нег о,
как
и
218
для
Рылеева,
историзма
все
еще
не
существует,
и
русский
скл ад
—
это
стихия
национальная,
а
не
историческая,
сл едов а
тельно,
применимая
и
к
современности,
равная
ей.
И
вот
Мстислав
XIII века говорит декабристскую речь:
Не
остановятся
отныне
Успехом
гордые
враги,
Доколь
Росс ию
всю
пустыне
Не
уподобят
их
шаги.. .
Но
чем
бы
ни
решались
битвы,
Моя
надежда
все
крепка:
Услы шит
н аши
бог
молитвы,
И
нас
спасет
его
рук а.
Он
русским
даст
те рпенья
силу,
Они
дождутся
красных
дней;
У
нас
в
земле
найдут
могилу
Враги,
гордившиесь
над
ней.
Отойдя
от
рус ск ого
склада,
Катенин
уже
не
возвращается
к
нему
и
после
монолога
Мстислава
да ет
концовку
п оэмы
в
гекзаметре,
не
ощуща я
противоречия
античного
р азме ра
с
ру сски м
народным
разм ер ом
начала
поэмы.
Впрочем,
постоян
но
меняя
метры,
он
и
до
монолога
М стис лава
допустил
ри ф
мы,
стр оф ы,
а
прямо
перед
эт им
монологом
—
да же
сти х
кл ассиц из ма,
але кс а ндри ец.
Та ким
образом,
романтическая
манера
давать
своеобразие
культуры
внешними
знаками,
а
не
системой
внутренней
психологической
исторической
изобрази
тельности
п рояви ла сь
в
своей
непоследовательности
и
мет афи
зичности.
Это
замет ил
тонкий
литератор
—
современник,
романтик
и
радикал
—
Кюхельбекер.
В
своей
статье
—
обз о
ре
журналов
«Взгляд на текущую словесность», напечатанной
в
«Невском зрителе»
в
1820 году (ч.
I, февраль), Кюхельбе
кер
н ап адает
на
ка тен инск ую
поэму
сна ч ала
с
позиций
еще
арзамасских
(осуждая в ней простонародность,
безвкусие,
ж ес т кос ть ), а затем останавливается на новаторском сочетании
«нескольких родов размеров»
в
поэме
Катенина
(она называ
л ась
в
журнальной
пу бл ика ции
«Мстислав храбрый»).
И
вот
тут
Кюхельбекер
выск азыв ает ся
как
истинны й
романтик,
увле
ченный
идеей
замкнутых
культур,
каждая
из
которых
требует
своих
стилистических
проявлений.
Он
заявляет,
что
у
нас
есть
три
типа
сти хо в: 1) народный стих,
2) ломоносовский
«немецкий»
и
3) «сей же размер,
но
без
рифм,
подражание
количественному
размеру
древних».
Та ким
об ра зом
устанавли
вается
в
метрике
три
типа
культуры:
народная,
новая
за падн о
европейская
и
античная.
«Каждый из сих трех размеров имеет,
219
можно
сказать,
особенный
слог,
сл ог
то го
рода
поэзии,
кое му
он
принадлежал
первоначально.
Смешивать
сии
три
слога
почти
все
равно,
что
говорить,
по
примеру
наш их
бывших
модников,
лепетом,
составленным
из
слов
русских
и
француз
ских,
а
сверх
того,
вмешивать
в ыражен ия
греческие
и
л атин
ские.
Употребление
же
различных
разм еров
одного
и
того
же
рода
не
только
позволительно,
но,
как
нам
кажется,
должно
послужить
к
о бо гащ ению
языка
и
словесности».
Здесь,
в
эт ом
пассаже
Кюхельбекера,
д ана
в
сжатом
в иде
схема
мышления
различными
культурами.
Единый
идеал
кул ьту ры
ра ссып ан
—
остались
равные,
но
своеобразные
культуры.
Отсюда
и
стиль
поэзии
—
уже
не
вообще
«правильный»
стил ь,
а
он
подчинен
но вой
норме,
новому
закону,
закону
стиля
данной
культуры.
И
Сумароков,
и
Карамзин,
и
еще
Жуковский
писа ли
стихи,
не
думая
об
э той
среде,
культурной
атмосфере
своего
стиля.
Они
писал и
стихи
по-русски
так
же,
как
французские
поэты
—
по-
французски,
стремясь
выразить
свою
мысль
или
св ою
эмо цию ,
писал и
ст ихи
от
се бя.
Теперь
по эт
хочет
пис ать
стих и
не
пр о
сто
на
русском
языке,
а
в
русском
духе
и
стиле
или
на
р ус
ско м
языке,
но
в
стиле
античном
или
да же
в
том
же
француз
ском,
как
потом
Мериме
будет
писать
по-французски,
но
в
ис панско м
стиле.
По эт
хочет
писат ь
стихи
не
только
от
се бя,
но
вместе
с
тем
и
от
данной
культуры.
Сл ова
обусловлены
не
просто
намерением
поэта
высказать
мысль,
но
и
зад анием
быть
проявлением
специфики
данно й
кул ьт уры.
Катенин
пи
ше т:
В
той
равнине
холм
высо к ий,
На
хол ме
ракитов
куст.
Это
—
не
просто
деталь
пейзажа,
а
слова
и
образы
рус
ского
народного
склада.
До
системы
романтического
местного
колорита
поэт
сказал
бы
просто,
что
на
хо лме
рос
куст,
но
«ракитов»
и
«в той равнине»
меняет
все
де ло.
Не
о
холме
т олько,
в
первую
оче ре дь
не
о
холме
и
кусте
и дет
здесь
речь,
а
о
русской
песне,
о
бы лине,
русском
чувстве
п ри роды,
о
любви
к
Ру си- от ечест ву.
А
есл и
бы
шла
реч ь
в
оссиановском
северном
стиле,
появ ил ись
бы
ска лы
и,
вероятно,
разбитый
бурей
дуб
и
т.
д.
М ежду
поэтом
и
его
тем ой
появилась
новая
среда,
уже
не
идея
«высокого»
или
«низкого», а живое пред
ставление
о
стиле
и
складе
об раз ов
данного
на рода ,
и
слова
подчинены
закону
этой
среды.
Создать
об раз
ее,
атмосферу
специф ики
к ульт уры
—
эту
задачу
ставят
перед
собой
поэты,
и
эта
задача
имеет
освободительный
смысл.
Ставят
ее
перед
собой
и
поэты-драматурги.
Сто ял а-
она
и
пер ед
Озеровым,
220
одним
из
начинателей
сти ля
гражданского
романтизма
в
рус
ск ой
лит ера т уре.
В
этом
отношении
характерны
в
особенности
две
тра ге дии
Озерова
—
«Фингал» (1805) и «П ол ик сен а» (1809).
Озеров,
вообще
говоря,
следо вал
в
своей
дра ма т ургиче ск ой
пр ак тике
образцам
французской
трагедии
времени
революции,
точнее,
к онца
XVIII —
начала
XIX века.
Именно
в
это
время
и
у
французов
в
трагедии,
сохраняющей
еще
вне шний
каркас
клас
сицизма,
явственно
проступают
но вые
веяния
романтического
характера.
В
частности,
именно
эпоха
революции
принесла,
—
и
не
случайно,
—
интерес
к
ме стн ому
колориту,
к
духу
эпохи,
к
подлинности
культурного
стиля
изображаемой
среды.
Нова
тором
и
провозвестником
в
эт ом
отношении
был
наиболее
значительный
драматург
этого
времени
—
Непомюсен
Лемер
сь е,
в
1800 году поставивший первую французскую романти
ческую
драму
«Пинто» .
Его
трагедия
«Агамемнон»
(поставленная в 1794 году)
ок азал ась
его
шедевром.
Это
б ыла
трагедия,
в
кот орой
налицо
как
будто
бы
привычный
тип
кл ас
сического
произведения.
Но
пафос
трагедии
не
в
этом,
и
успех
ее
не
этим
был
обеспечен.
Наоборот,
трагедия
открывала
но
вые
горизонты
дра ма турги и.
Лемерсье
попытался
показать
на
сцене
Гре цию
в
непривычном,
неклассическом,
не
совсем
условном
об лике.
В
его
пьесе
зритель
увидел
д ре вних
греков
жестокими
полуварварами;
трагедия
мрачна
и
полна
ужаса
свершаемой
воли
беспощадного
рока.
Это
был
опыт
изображе
ния
«подлинной»
гомеровской
Греции,
как
она
представала
ученику
современной
археологической
и
исторической
науки.
Самый
язык
Лемерсье,
по-прежнему
скованный
александрий
ским
стихом,
стремился
к
резкой
энергии,
нарушая
привычную
гармоническую
певучесть
классического
трагедийного
стиха.
Позднее,
в
1821 году,
Лемерсье
поставил
трагедию
«Фредегонда и Брюнего» (Брунгильда),
такж е
имевшую
успех.
В
ней
он
хотел
передать
сумрачную
поэзию
раннего
сред н евек овь я,
изо б р азить
людей
этой
темной
эпохи,
бы ть
исторически
точным,
—
как
он
сам
говорит
об
этом
в
преди
словии
к
трагедии.
Сл еду ет
напомнить,
что
Лемерсье
был
свободолюбцем,
не
примирившимся
с
тира нией
Наполеона.
Его
поиски
романтического
колорита
в
трагедии
бы ли
свя зан ы
с
его
политическим
ра д ика лиз мом.
Не
случайно
и
Орест
Сомов
в
своей
статье
—
д екл араци и
н овой
школ ы
«О романтической
п оэ зи и» (1823) называет Лемерсье в числе французских ро
мантиков,
рядом
с
Парни,
как
автором
поэ мы
«Иснель и
А сл е га», и Шатобрианом .
Одновременно
с
Лемерсье
и
другие
драматурги
Фра нци и
ставили
те
же
проблемы.
Так ,
Дюсис,
221
уже
о пыт ный
трагик,
прославившийся
свои ми
попытками
пр и
вить
Ше кспир а
театру
французского
классицизма,
в
1793 году
поставил
на
сцене
тра ге дию
в
ч ет ырех
действиях
«Абюфар,
или
Арабское
семейство»,
трагедию,
не
чуждую
тенденции
воссоздания
восточного
колорита;
характерно
и
нарушение
классического
пра ви ла
о
пят и
действиях
(во всяком случае,
о
нечетном
их
чи сле). «Абюфар»
имел
успе х.
На
русский
язык
его
перевел
не
кто
иной,
как
Гнедич
(1802).
Не
прошло
мимо
французской
трагедии
и
увлечение
Оссианом.
К
1796 году
относится
трагедия
Арно
«Oscar fils d'Ossian», построенная на
оссиановских
мотивах,
трагедия,
в
задачу
ко то рой
входило
во ссозд ат ь
к олорит
северного
стиля
(об оссиановском стиле,
к отор ый
он
хочет
передать
в
своей
трагедии,
гов ор ит
сам
Ар но
в
пре дис ло вии
к
ней).
«Автор...
отк ры то
зая вля ет,
что
он
хо тел
со зд ать
новый
жанр»,
—
гов орит
об
Арно
исследователь
предромантизма
Ван-Тигем
61.
Он
же
указывает
на
успех
пьесы,
переведенной
да же
на
шведский
язык.
После
«Оскара»
появились
и
ро ман
тич е ские
оперы
—
«Ossian ou les Bardes» с музыкой Лесюера
(Le Sueur, 1809), которую похвалил Наполеон,
и
«Uthal» с
муз ык ой
Мегюля
(Méhul, 1806).
Целая
серия
французских
трагедий
ко нца
XVIII и начала
XIX века разрабатывает мотивы средневековья,
национальной
истории:
например,
Арно
«Blanche et Montcassin ou les
vénitiens», 1798 (в особой заметке при издании трагедии автор
обстоятельно
и
точно
описал
исто р ичес кие
костюмы
XVII
века,
кото р ые
должны
нос ить
его
г е рои); Эньан (Aignan) —
«Brunehaut ou les successeurs de Clovis», 1810; Д'А вр ин ь и
(D'Avrigny) — «Jeanne d'Arc à Rouen», 1819; Ансело
(Ancelot) — «Louis IX», 1819; Вьенне (Viennet) — «Clovis»,
1820; Лиадьер (Liadières) — «Conradin et Frédéric», 1820;
его
же
«Jean-sans-peur», 1821.
Особую
р оль
играли
трагедии
на
б ибл ейские
темы.
Легуве
(Legouvé) поставил еще в 1793 году свою трагедию в трех
действиях
«La mort d'Abel»; в предисловии он говорит,
что
построил
сво ю
пьесу
на
известной
поэме
Г есн ера
«Смерть
Аве ля»; далее он пишет: «Этот сюжет соединял ряд преиму
ществ,
ему
свойственных;
я
и мею
в
в иду
нравы,
новые
на
на шем
театре,
изображение
трогательной
простоты
первобыт
ной
натур ы
и
предметов,
окруж а вш их
д етс тво
мира,
эти
с толь
разительные
картины
ничтожества
человека,
поставленного
61 Paul Van Tieghem, Le préromantisme, P ., 1924, p. 251-
255.
Здесь
ука зан
ряд
«оссиановских»
пь ес
в
Ан гли и,
Германии
и
Италии.
222
рядом
с
могуществом
создателя...,
наконец,
эта
древняя
мечта,
в
к от орую
любит
погружаться
поэзия,
когда,
восходя
к
исто
кам
веков,
она
является
окруженной
их
возвышенной
таин
ственностью,
как
религиозным
облаком,
из
коего
ее
го лос,
кажется,
ис ходи т
более
красноречивым
и
величественным.
Эти
обстоятельства,
способные
сд елат ь
действие
еще
более
при вле
кательным
и
придать
проникновенность
сти лю,
заставили
м еня
решиться».
И
ниже: «...
Я
ра ссея л
в
своей
трагедии
религиоз
ные
черты;
ле гко
по нять
причину
этого.
Первый
человек,
окруженный
чудесами
творения
и
встречающий,
ку да
бы
он
ни
бросил
взор ,
явления,
кото рые
ра дова ли
его
чувства
или
его
душу,
должен
был
все
время
воздавать
хвалы
со зд ат ел ю...»
и
т.
д.
Далее
он
гов ор ит
о
специфическом
слоге
тр аг едии:
«Понятно,
что
мысли
первых
люде й
б ыли
очень
наивны
и
их
язы к
исключительно
прост.
П оэтом у
я
должен
б ыл,
стремясь
заставить
их
говорить
согласно
с
их
нравами,
приблизить,
наск ол ько
мне
это
позволяло
достоинство
и
законы
француз
ского
стихотворства,
мой
сл ог
к
обыкновенной
речи
и
пр ида ть
ему
иную
окраску,
чем
в
на ших
трагедиях,
так
как
ни
одна
из
них
не
представляла
таких
персонажей,
как
мо я,
и
помещенных
в
эпоху
столь
отдаленную...
Я
ограничил
себя
только
в ыра же
нием
первобытных
образов
и
чувств»
и
т.
д.
Н ак онец,
Легуве
п ише т: «Революция,
открыв
всем
гражданам
их
права
и
их
величие,
сделав
их
свидетелями
и
участниками
самых
неожи
данных
событий,
внушила
им
вкус
к
необыкновенному
и
по
требность
в
сильных
чувствах.
Поэ том у
необходимо
придать
боле е
действенности
и
энергии
трагедии,
не ре дко
робкой
и
изнеженной;
но,
чтобы
этого
достигнуть,
необходимо
предо
ставить
ей
также
бол ее
свободы;
не
той
опасной
свободы,
которая
пр ив ела
бы
на
сцену
чудовищные
вещи
и
погруз ила
бы
ее
в
ее
первоначальное
варварство;
но
ту
разумную
свобо
ду,
ко тора я
стремится
отбросить
условные
пр авил а,
во все
не
пр ивод ящ ие
к
красоте,
—
чтобы
возвыс и ть
искусство
согласно
за ко нам
разум а,
при род ы
и
гения...»
Весьма
характерно,
что
эта
декларация,
еще
нерешительная,
но
намечающая
проблема
ти ку
романтизма,
должна
была
оправдать
именно
библ ейс ку ю
трагедию.
Библейские
темы
удержались
во
французской
траге
дии:
еще
в
1822 году была поставлена трагедия Суме
(Soumet) «Saül».
Еще
раньше,
в
1809 году,
имела
успех
опера
«La mort d’Adam» на слова Гильяра (Guillard), с музыкой
Ле сюер а
62.
62 Характерно и обилие в годы Наполеона поэм о средних веках,
о
Карле
Великом
(с аллюзиями)
и
т.
п.
Лемерсье
н аписа л
цик л
п оэм
о
Мои-
223
Нужно
оговорить,
что
с
точки
зрения
позднейших
роман
тических
стилизаций,
например,
по
ср ав нению
с
«Балладами»
Виктора
Гюго,
местный
колорит
во
всех
э тих
произведениях
наме ч ен
незначительно;
он
не
пронизывает
всех
элементов
произведения
насквозь.
Однако
со вр ем енники
ощ ущ али
его
силь но .
Для
них
трагедии
Арно
или
Лемерсье
были
живым
воссозданием
чуждой
культуры.
Это
объясняется
прежде
вс его
самым
принципом
поэтики,
пр инято й
в
данном
литера
турной
среде,
характерно
проявившимся
в
г ражд анск ой
поэзии:
принципом
сл ов-от з вук ов,
мотивов
и
отдельных
признаков
стиля,
за
которыми,
а
не
в
которых,
возникал
знакомый
уже
комплекс
эмо ций
и
представлений.
При
такой
системе
стиля
достаточно
бы ло
немногих
специфических
нот,
чтобы
вся
с им
фо ния
пр оз вуча ла
в
воображении
ч итате ля.
Ме жду
тем
при
вычные
че рты
классицизма
уже
не
воспринимались
остро;
они
были
по с то янным
сопровождающим
условием
сцены,
и
их
мо жно
бы ло
как
бы
не
замечать;
они
выносились
за
с кобк и,
являлись
неизменным
фоном
всякой
трагедии,
и
на
этом,
ставшем
уже
бе сцв е тным,
фоне
тем
ярче
выступали
хо тя
бы
ле гким
абрисом
нанесенные
черты
новой
образности
циклопи
ческой
Эллады
или
же
оссиановской
страстной
и
воинственной
лирики.
Нужно
учесть
при
эт ом
и
еще
одно:
сценическое
оформление
и
исполнение.
Име нно
эпо ха
революции
принесла
французской
сце не
обновление,
параллельное
тому,
что
проис
ходило
в
драматургии.
Не
только
сцена
обставляется
декора
тивно
и
пышно.
На
сцене
трагедии
вместо
условных
дворцов
и
колоннад
по явл яютс я
археологически
во ссозд анн ая
«настоящая»
Г ре ция,
пустыня
и
п ал атки
и
даже
верблюды
(«Абюфар»), оссиановская дикая природа у Арно и т .
д.
Сце
на
оформляется
с
у ста но вкой
на
географическую,
этнографи
ческую,
стилевую
точность
в
соответствии
с
р аз но обра зием
тип ов
изображаемой
культуры.
Ве л икий
Тальма
одновременно
с
эт им
производит
революцию
в
костюме,
вводя
подлинные
оде жды
эпохи
на
сцену
и
отм е няя
условный
костюм
класси
цизма,
почти
оди нако в ый
в
трагедии
об
Ахилле,
об
американ
ских
индейц ах
или
о
персах.
Са мая
декламация
приобретает
бо льш ее
разнообразие
интонаций.
Все
это
мы
найдем
и
у
Озерова.
Подобно
Арно,
он
пи
шет
оссиановскую
тр аге дию
«Фингал»; подобно « А гам ем нон у»
Лемерсье
—
св ою
«Поликсену» .
И
у
не го
немногими,
в
су щ
ности,
чертами,
для
со вре м еннико в,
о д нако,
достаточными,
сее,
Г оме ре,
А лександ ре
Македонском:
характерно
сочетание
эт их
тем
(Библия,
Гомер)
и
аллюз ий.
224
вну шался
зр ит елю
комплекс
оссиановского
т ипа
культуры.
И
у
н его
оссиановская
воинственная
поэ зия
осмысливается
как
народно-героическая.
Характерные
в
этом
смысле
замечания
на хо дим
в
статье
Вяземского
«О жизни и сочинениях Озеро
ва »:
«Воображение Омера богато,
роскошно
и
разноцветно,
как
вечная
весна,
царствующая
на
отеческих
его
полях.
Вооб
ражение
Осс иа на
сурово,
мрачно,
однообразно,
как
вечные
снега
его
род ин ы.
И
у
него
од на
мысль,
од но
чувство:
любовь
к
отечеству,
и
сия
любовь
согревает
его
в
холодном
царстве
зимы
и
становится
обильным
источником
его
вдохновения.
Его
ге ро и—р а тники.
Поприще
их
славы
—
бранное
по ле.
Алтари
—
могил ы
храбрых.
Северной
поэзии
прилично
искать
источ
ников
в
баснословных
преданиях
народа,
име юще го
неч то
общее
с
ее
н ародом ,
когда
разборчивая
строгость
не
дозволяет
ей
дополнить
своими
вымыслами
скудные
средства,
открытые
отечественной
историей.
Северный
поэт
переносится
под
небо,
с ход ное
с
его
небом,
созерцает
п рироду,
сродную
его
природе,
встречает
в
нравах
сынов
ее
простоту,
в
под вига х
их
мужество,
которые
рождают
в
нем
темное,
но
живое
чувство
убеждения,
что
предки
его
горели
тем
же
мужеством,
имели
ту
же
просто
ту
в
нравах,
и
что
свойства
сих
од нород ны х
диких
сынов
севе
ра
отлиты
были
природою
в
общем
льдистом
сосуде.
Самый
яз ык
наш
представляет
бо лее
кр асот
для
живописания
северной
природы.
Цв ет
поэзии
Оссиана
может
бы ть
удачнее
обильного
в
оттенках
цвета
поэзии
Оме р овой
перенесен
на
наш
язы к».
Далее
Вяземский
пи ше т : «Трагедия Фингал
—
торжество
северн ой
п оэ зии », и ниже: «В Фингале ничто не забыто ни
трагиком,
ни
поэтом.
Тот
и
другой
вз ял
с
О ссиана
п олную
да нь.
Сч астли вы й
преемник
Озерова
мо жет
приняться
посл е
не го
за
Эдипа,
частью
сравняться
с
ни м,
а
частью
и
превзойти
ег о;
но
ед ва
ли
дерзнет
кто-нибудь
по
следам
его
искать
до
бы чи
в
поэмах
Оссиана.
Он
найдет
п оле,
уже
пожатое
и
об
наженное
рукою
счастливою
и
иску сно ю
в
выборе.
Представ
ле ние
Фи нг ала
говорит
воображению,
сердцу
и
глазам
зр ите ля.
Тут
все
у
мест а:
пение
бардов,
хоры
жр ецо в,
сраже
ния.
Все
сии
принадлежности,
во
многих
трагедиях
часто
из
лишн ие ,
в
Ф ингал е
нужные,
тесно
связаны
с
гл ав ным
содер
жанием
и,
так
сказать,
ид ут
не
за
сочинителем,
а
за
действующими
лицами».
Итак,
для
Вяземского,
современника,
ум евш его
читать
в
стихах
стиля,
ему
близкого,
больше,
чем
в
них
сказано
только
словами,
для
поэта,
близкого
к
традиции
гражданского
роман
ти зма,
«Фингал»
—
трагедия
романтическая,
героическая,
225
пожалуй,
даж е
политическая
в
декабристском
плане,
трагедия
подлинно
северной
поэтической
культуры
63.
Иначе
отнесется
к
ней
Пушкин,
перерастающий
декабристскую
поэтику,
стр ем я
щи йся
к
и ной
народности,
к
реалистическому
историзму,
к
во пл ощ ению
действительности
в
слове.
Он
откажется
от
поэ
зии
символов
и
от
вызывания
теней
замкнутых
комп лекс ов
культуры.
Он
отвергнет
Озерова,
ибо
ме стн ый
исторический
коло рит
«Бориса Годунова»
пок а зан
в
трагедии,
а
не
л ириче
ски
нав ев ае тся
ею,
оставаясь,
в
сущности,
за
тек стом .
То
же
относится
и
к
«Поликсене»,
признанной
са мим
Озеровым
лучшей
его
вещью
и
«не дошедшей»
полностью
до
современников.
Здесь
Озер ов
поставил
сво ей
за дач ей
создать
образ
подлинной
гомеровской
Гр е ции,
ее
«души».
Его
греки
бы ли
непривычны
для
р усс кой
трагической
сцены.
Это
—
нимало
не
маркизы,
и
сама
трагедия
стремится
преодолеть
салонный
стиль.
Она
нарочито
проста,
ску па
по
сюжет у ,
по д
черкнуто
прямолинейна,
как
архитектура
греков.
Любовь
в
ней
играет
минимальную
роль,
ибо
примитивно-грубые
герои
древ
ности
воевали,
а
не
таяли
в
нежных
чувствах
(любовь—
чув
ст во
северян;
отсюда
меланхолические
элегии
Фингала).
Греки
Озерова
дики,
жестоки,
суеверны.
Он
т оже
видит
в
их
ми фо
логии
обычаи
и
верования
народа,
а
не
поэтический
вымысел.
Его
гр еки
жадно
дел ят
доб ычу,
плен ных ;
они
кичатся
разру
ше ни ем,
уничтожением
врага;
они
готовы
менять
п ленную
царевну
на
дорогую
вещь.
При
всем
том
эти
древние
перво
бытные
лю ди
—
герои;
они
величественны
и
в
своих
рас пр ях,
и
в
битвах,
и
в
культе
мертвых,
которому
должна
быть
прине
се на
в
жертву
невинная
Поликсена.
Озеров
ст арает ся
наделить
сво их
героев
мыслями
и
чувствами
диких
воинов,
неистовых
и
прекрасных
в
своей
юж ной
пылкости,
в
н еразмы шля ющей
преданности
верованиям
своего
народа.
Конечно,
все
это
пере
плетается
в
«Поликсене»
с
условностями
классицизма,
со
сры
вами
в
современность
(например,
в
просветительских
рассуж
де ниях
Аг а ме м но на ), но тенденция намечена отчетливо,
и,
в
условиях
системы
романтизма,
достаточно.
Недаром
Ме рз ля
ков,
в
ме ру
своей
архаической
системы
взглядов
и
еще
бо льше
63 Современный французский критик и переводчик русских драматур
гов
А.
Сен-Прист
(Alexsis de St.-Priest), счи тая ,
что
в
образах
Фингала
и
Старна
Озеров
неверно
передал
О ссиана,
хвалит
все
же
стиль
«Фингала»
именно
за
его
оссиа новск ий
колорит;
он
п и шет : «Самое значительное в этом
произведении
—
стиль:
он
полон
к артин ,
то
мрач ных ,
то
прелестных,
извлеченных
из
скандинавской
мифологии,
меланхолия
ко то рой
так
обая
тел ьн а» . («Chefs-d'oeuvre du Théâtre Russe» в серии «Chefs-d'oeuvre des
Théâtres étrangers», Paris, 1823, p. II).
226
в
мер у
своей
близости
к
Жуковскому,
не
мог
пр инят ь
непере
носимых
для
н его
необычных
греков.
Он
нашел
мног ое
в
«Поликсене» «ст ра нн ы м
и
не бла го при ст ойны м»; он считал,
что
озеровские
титанические
дикари
ведут
себя
низко,
«непорядочно»,
непр илич но .
Это
осуждение
бы ло
победой
Озерова.
Между
тем
стилистическая
тенденция
«Поликсены»
не
прошла
незамеченной
в
русской
драматургии.
Во
второй
ч асти
«Сочинений и переводов»
С.
Т учкова
(1816) была напечатана
его
тр аге дия
«Агамемнон».
Едва
ли
случайно
со вп аде ние
те мы
и
героя
этой
пь есы
с
трагедией
Лемерсье
(в обеих пьесах
описывается
гибель
А га ме м но на ), хотя русская трагедия и не
является
нисколько
переводом
ее.
Но
у
Т учкова
мы
видим
р азв итие
принципов
Лемерсье
и
Озерова.
Ни како й
мор али ,
ника к ого
тезиса
и
ни ка ких
аллюзий
пьеса
Тучкова
не
заключа
ет.
Ге рои
ее
лишены
морального
осуждения
или
по хв алы
авто
ра;
они
не
злы
и
не
добры.
Клитемнестра
преступна,
но
она
оправдана
местью
за
Ифигению,
ненавистью
к
убийце
ее
до
чери.
Агамемнон
не
похож
на
идеальных
государей
классиче
с ких
трагедий,
особенно
русских.
Нет
в
трагедии
ни
концовки;
ни
эффектной
развязки;
Агамемнон
у бит,
и
все
тут.
Су ть
трагедии
не
в
морали,
не
в
учительности,
не
в
сюжете,
а
в
«духе»
Др ев ней
Греции,
наново
понятой:
нав исший
ужас,
свирепость,
кровь,
мифологические
об р азы,
детали
древности
—
вот
что
интересует
автора,
который,
по
собственному
его
зая вл ен ию,
«по большей части подражал»
в
своей
тра ге дии
Эсхилу,
а
не
Еврипиду.
В
трагедии
вов се
нет
любовного
сю
жета;
за то
в
ней
играет
значительную
роль
мотив
античного
рока,
наводящего
ужас
по
ти пу
драм
р ока
немецкого
роман
тизма
(Мюльнер и др. ), но имеющего целью ввести зрителя в
мировоззрение
ант ич ности.
Впрочем,
романтически
должны
были
звучать
и
безумные,
и
трагические
предсказания
Ка с
сан д ры,
как
и
детали
вр оде
огня
на
башне.
Трагедия
Тучкова
—
художественно
слабое
произ в ед ен ие,
и
любопытна
она,
коне чно,
только
как
симптом,
как
проявление
тенденций
лите
ратуры
в
по ним ании
умного
и
свободомыслящего
человека,
некогда
члена
общества,
в
котором
действовал
Ра дищев ,
чело
века,
осуждавшего
социально-политическую
практику
мона р
хии,
каким
был
Тучков.
227
4.
Как
уже
было
сказано,
особую
роль
в
истории
русск ог о
гражданского
романтизма
сыграли
поиски
воссоздания
одной
определенной
экзотической
культуры,
а
им енно
культуры
ближнего
Востока.
«Восточный стиль»
стал
не
только
мод ой,
но
для
передовых
кругов
литературы
—
символом
освободи
тельной
гер о ики
по
преимуществу.
Такова
была
функция
во
об ще
национального
колорита
в
поэзии
начала
XIX века.
Ос о
бенно
же
выд вину лс я
в
этом
смысле
именно
восточный
кол ори т
по
ряд у
пр ичи н.
Во-первых,
если
р усск ая
народная
культура
свя зыв алась
и
с
оссиановской
и
с
гомеровской,
то
не
менее
естественной
казалась
ее
св язь
с
восточной.
Россия
п редст авля лась
страной
как
европейской,
так
и
азиатской.
Затем,
церковно-славянский
язык
был
в
России
языком
Би
блии,
в
свою
оч еред ь
теперь
осмысленной
в
качестве
памятни
ка
истории,
борьбы,
верований
еврейского
на рода .
Во-вторых,
в
п ору
общеевропейского
увлечения
Востоком,
Россия,
во е
вавшая
с
кавказскими
народами,
включавшимися
в
комплекс
восточной
культуры,
сосед ст ву ющая
с
магометанскими
народа
ми,
оказалась
как
бы
естественным
интерпретатором
Во сто ка
для
Европы.
В-третьих,
священный
ореол
библейской
поэзии
способствовал
п одн ятию
ее
на
степень
героической.
В-четвертых,
давняя
общеевропейская
и
русская
т ра диция
использования
библейской
символики
—
псалтыри
и
др.
для
воплощения
по литич е ски
протестующих
настроений
также
поддерживала
обращение
к
ней
и
у
политических
протестантов
начала
XIX века .
В-пятых,
культура
арабов-магометан
и
древ
них
евреев,
с
их
культом
войны
и
гибели
за
идею,
с
их
мстя
щим
богом
во ино в,
импонировала
в
плане
политически
в ос пита
тельном
радикалам
1800—1820-х
годов.
В-шестых,
ко
всему
этому
прибавилось
впоследствии
греческое
восстание,
открыто
овеявшее
культуру
новых
греков
и
молдаван,
также
восприни
мавшуюся
как
включенную
в
восточный
комплекс,
революци
о нным
пафосом.
Так
или
инач е,
но
«восточный стиль»
ст ал
стилем
сво
боды.
При
эт ом
он
не
был
то чно
дифференцирован
ни
нацио
на льн о,
ни
географически,
ни
исторически.
Это
был
«пестрый»,
и
«роскошный»
стиль
неги,
земного
идеа ла
страстей
и
наслаждений,
соединенного
с
б урной
воинствен
ностью
и
неукротимой
жаж дой
воли,
к отор ые
г ражд а нский
романтизм
искал
и
в
других
первобытно-народных
к ульт ура х.
228
Это
был
стиль
Корана
и
стиль
Библии
вместе
и
в
то
же
время
стиль
иранской
поэзии
и
кавказских
легенд
64.
Признаки
всех
эт их
исторических
явлений,
переплетаясь,
складывались
в
единый
образ
Востока,
суммарный,
как
это
только
и
могло
быть
в
романтической
систе ме
мы сли
и
ис
кусства.
Этот-то
об раз
явств енно
им ел
характер
лозунга
борь
бы
наций
против
тирании.
Проследить
это
мож но
на
ряде
примеров.
Остановлюсь
на
неско ль ких .
Я
не
буду,
однако,
прослеживать
самые
ранние
факты,
сю да
относящиеся.
К
1810
году
св язь
восточного
и,
в
частности,
библ е йско го
сти ля
с
политически
острой
со дер жат ельн ост ью
определилась
так
от
четливо,
что
на
эту
модную
те му
откликнулся
даже
А.
А.
Шаховской,
писатель,
всег да
быстро
реагировавший
на
запросы
литературы
и
зрителя,
всегда
умевший
откликнуться
на
литературно-идеологическую
зл обу
дня.
Сл еду ет,
впрочем,
учесть,
что
в
1810-х
годах
Шаховской
был
вовсе
не
чужд
передовым
идеям
ве ка
и
д аже
лично
был
свя зан
с
пе ред овы ми
в
политическом
смысле
группировками.
В
начале
1810 года на петербургской сцене появилась
т р агедия
Шаховского
«Дебора,
или
Торжество
веры».
Это
—
возвышенная
пьеса
о
героической
борьбе
израильского
народа
против
тир ании .
Евреи
у
Шах овск ог о
свободолюбивы;
они
не
терпят
самовластия
ино з емце в.
Герои
трагедии,
в
особенности
Дебора,
совершают
чудеса
беззаветного
мужества
и
са м опо
ж ерт во вания
ради
свободы
отечества.
Меж ду
тем
Шаховской
сделал
все
во змо жн ое,
чтобы
придать
своей
трагедии
вос т оч
ный
библейский
дух
и
стиль,
и
именно
в
плане
усиления
гр аж
д анских
мотивов.
В
предисловии
к
изданию
пьесы
(1811) он
счел
даже
нужным
в
удостоверение
подлинности
стиля
ука
зать,
что
его
консультантом
был
Не вах ович ,
который
«вспомоществовал мне не только своими сведениями в еврей
с кой
словесности,
но
даж е
он
(по сделанному нами плану)
написал
некоторые
яв лен ия
1- го
и
2- го
де йст вий,
пер ело
женные
мн ою
с
не бол ьши ми
пер еме нам и
в
стихи;
многие
мыс -
64 Некоторое влияние на этот русский восточный стиль оказали,
по-
в и ди м ом у, «М адагаскарс кие песни»
П арни
(«Chansons Madecasses»), нем а
ло
переводившиеся
в
начале
XIX века на русский язык .
См.,
напр име р,
характерное
сочетание
ге роик и
битв
с
экзотикой
национальной
культуры
в
стихотворении
«Смерть
юноши.
Ма дагаскар ск ая
песня»
Ме жак ова
(«Уединенный певец», 1817).
Вооб ще
М ежак ов,
примыкавший
к
«Беседе»,
находился
под
влиянием
карамзинистов,
подражал
ста рому
Капнисту,
а
затем
Батюшкову
и
т.
п.
Он
писал
ле гкие
по слан ия
в
духе
«Моих Пена
то в», подражал и Парни .
А
в
1817 году он печатался в органе декабрист
ского
кр уга
писателей
—
«Соревнователе просвещения и благотворения»
229
ли
и
изречения
в
ро ли
первосвященника
и звлеч ены
им
из
Священного
писания;
политическая
ре чь
Деборы
в
су ди лище
почти
вся
принадлежит
ем у» 65.
Затем
Шаховской
гово рит
о
музыке
к
трагедии,
написанной
О.
А.
Козловским,
который
«напитался,
так
ск азать ,
библейским
духом».
В
тексте
самой
трагедии
Шаховской
широко
использовал
имена,
з вуч авшие
экзотически,
библе йски е
обороты,
детали
быта
библейской
Иудеи
и
т.
д.
—
все
вместе
имеющее
задачей
воссо здан и е
сти ля
древневосточного
народа.
Сама
исступленная
религиоз
но сть
героев
трагедии
—
не
столько
программа
автора,
ск оль
ко
характерная
черт а
мировоззрения,
сти ля
и
да же
политиче
ского
уклада
изображаемой
к ульт уры.
Нужно
отметить,
что
и
внешне
трагедия
нарушает
кан оны
классицизма;
в
ней
не
со
бл юде но
единс тво
места;
существенную
роль
играет
хор
наро
да;
декорации
пы шны
и
экзотичны;
любовного
сюжета
нет.
И
вот
с
этой-то
восточной
романтикой
сочетается
основ
ная
политическая
те ма
трагедии.
К
еврейскому
городу
С илому
подступил
сильный
враг,
ца рь
ханаанский
^Сисар.
Он
хоче т
навязать
вольным
гражданам
Силома
царя,
предателя
из
среды
евреев,
Хабера.
Но
вож ди
граждан
Солома,
воин
Лавидон
и
его
ж ена
Дебора,
вместе
с
народом
защищают
с в ободу.
Хабер
хочет
прельстить
Дебору
обе ща ниями,
но
«Не склонится вовек
она
признать
царя» (д.
3, явл.
5).
Патриотизм,
восточный
стиль
и
борьба
за
священную
сво бод у
переплетаются.
Правда,
Шаховской
в
одном
м есте
сам
устами
первосвященника
выска
зывается
за
монархию
вообще
(д.
1, явл.
3), но вся трагедия
опровергает
эту
обязательную
отписку,
ничего
к
тому
же
не
определяющую,
так
как
в
1810 году для большинства русских
свободолюбцев
еще
не
стоял
сколько-нибудь
остро
вопрос
о
республике.
И
еще
одна
характерная
особенность:
трагедия,
подобно
«Дмитрию Донскому»
Озерова,
подобно
французским
траге
ди ям
начала
XIX века,
включает
явственные
пол итич е ские
аллюзии
(намеки на современность).
Ре чь
в
ней
идет,
в
сущ
ности,
и
о
национальной
опасности
русского
народа
пер ед
лицом
врага-победителя,
тирана
Наполеона,
о
сты де
Тильзит
ского
мира.
Шаховской
хочет
поднять
воинственный
дух
рус
ских,
ратует
за
национально-освободительный
подъем,
против
уст упок
Наполеону-Сисару,
против
соглашений
с
ним;
прот ив
65 Л.
Н.
Невахович,
ученый-еврей,
бы л,
между
про чим,
переводчиком
«Мыслей,
относящихся
к
филос офск ой
и стории
человечества»
Гердера.
Это
любопытно
в
данной
связи.
230
полит ик и
мира
любой
це ной;
он
зовет
русский
народ
на
брань
за
сво б оду
и
достоинство
на ции.
ПЕРВОСВЯЩЕННИК:
Меж
тем
как
огн ь
паля щий ,
Как
сокрушитель
ветр,
как
гр ом,
с
небес
р азящи й,
Сын
Хама ,
б ожий
враг,
теснит
нас
в
град е
сем.
ЛАВИДОН:
За
божий
хр ам
и
град,
ко ль
должно,
все
падем.
Кив ота
бла го сти
безбожный
не
коснется,
Доколь
Аврамлих
чад
весь
род
не
пресечется.
Жив
бог,
и
дух
наш
жив;
сотрется
гордых
рог,
Не
сокрушится
р од,
его
же
избрал
бо г.
Лавидон
во с клица е т: «Царь,
избранный
вр агом ,
—
яр ем
и
бич
наро д а».
Это
—
ограничительная
формула,
а
все
же:
цар ь
—
ярем
и
б ич.
Это
звуч ало
си льн о.
З вуча ло
же
для
декабристов
как
освободительный
лозунг
наименование
царя
Ивана
IV
тираном
даж е
в
«Истории»
Карамзина.
Предатель
Ха бер
уговаривает
Лав идо на
смириться:
ЛАВИД ОН:
Ратный
бой.
В
нем
д астся
нам
не
царь,
но
смерть
врага
рукой.
Лестна
во
бр ани
с ме рть,
не
имут
мертвы
сра ма.
ХАБЕ Р:
Услы шь,
о
Лавидон!
Рыдания
вдовиц,
п лач
сирых,
старцев
стон;
П огиб ель
храма
зри,
зри
веры
разрушенье
И
отвергай
потом
сие
одн о
спасенье.
Л АВИДО Н:
Еще
спасенье
ест ь.
ХАБЕ Р:
Какое?
Дебора
восклицает:
Та к,
я
п ред чувс тв ую,
что
близок
злых
конец:
Де нь
казни
н аступил...
...
П окорс тво
робкое
не
отв ра тит
напасть,
Но
право
гордым
даст
на
вящее
г оненье:
Народ
поз нает
то.
Все
эт о,
и
многое
другое
в
трагедии,
—
ре чь
к
современ
никам.
И
здесь
Шаховской,
как
и
Оз е ров,
как
и
Катенин
даже,
—
внеисторичен.
И
все
же,
аллюзии,
характерные
для
гражданской
рома нт иче ск ой
поэзии,
не
только
не
противоречат
романтическому
местному
колориту,
но
и
сочетаются
с
ним
постоянно
и
естественно.
Здесь
дело
б ыло
в
д вух
особенностях
данного
стиля:
во -п ервых ,
он
включал
в
с исте му
подтекста,
в
систему
образных
комплексов,
стоящих
за
словом,
вызываемых
символами
текста,
элемент
сопоставления.
За
римскими
стиха
231
ми
т ипа
пушкинского
«К Лицинию»
стоит
и
декорация
Древ
не го
Рима,
и
Французская
революция.
За
библейской
герои
кой
стоит
и
воинственный
Вос ток ,
и
национальная
борьба
Европы
и
России
против
тирана.
Ведь
романтизм
не
мог
по д
няться
до
подлинного
историзма.
Для
него
библейская
культу
ра
ст оит
рядом
с
русской
или,
скажем,
оссиановской,
как
свое
образная,
но
не
исторически
з а вис имая.
Вед ь
романтизм
говорит
б олее
о
духе
к ульт уры,
о
героике,
подъеме
эмо ции,
чем
о
фактах,
и
исключает,
в
конечном
счете,
объективное
бытие.
Дух
Древнего
Востока
должен
воспламенить
дух
рус
ского
на рода .
Так
смыкается
в
пропагандистской
установке
местный
колорит
и
современность.
В о-вт орых,
в
русской
лите
ратуре
данного
круга
русская
культура,
как
уже
б ыло
ск азан о,
воспринималась
как
связанная
с
восточной
и,
в
частности,
—
с
библейской;
сам а
же
рус ска я
национальная
культура
восприни
малась
внеисторично:
древняя
—
как
живая,
неизменная
и
в
современности.
Те ма
«русского духа»
была
призывом
отка
заться
от
чу ждой
народному
складу
новоевропейской
цивили
зац ии
и
вернуться
к
древним
нравам
и
древней
героике.
Так
же
и
декабристы
истолковывали
свою
политическую
програ мм у
как
в озв рат
к
национальным
устоям
свободы.
Намеченная
у
Шахо вск ог о
ф о рмула
библейской
восточной
трагедии
с
политически-освободительным
содержанием
на шла
дальнейшее
развитие
в
русском
драматургии.
Впрочем,
«Дебора»
не
б ыла
первой
русской
трагедией
на
«иудейскую»
тему,
задуманной
в
восточном
стиле.
Еще
в
1809 году была
издана
трагедия
Державина
«Ирод и Мариамна», сюжет ко
торой
был
в зят
из
Иосифа
Флавия
(на тот же сюжет написана
«Мариамна»
Вольтера).
В
предисловии
Державин
писал,
что
он
обильно
ис по льзова л
текст
Флавия.
«Впрочем,
жестокие
к ровожа жду щи е
выражения,
а
т акже
восточный
слог
употре
бил
я
нарочно,
дабы
с ко лько
возможно
ближе
и
из образ и те ль-
нее
представить
характер
ев ре йско го
народа».
В
самом
де ле,
текс т
трагедии
изобилует
«цветами»
восточного
колорита,
библейскими
образами,
именами,
выражениями
и
т.
п.
Харак
терны
и
хо ры
трагедии,
например:
ХОР
(общий)
Воскликните,
в рата
Солима,
Плещ и
рук ами ,
Иордан:
Грядет
Четверовластник
Рима,
Владыка
палестинских
стран;
Грядет
муж
равный
Соломону,
Играй,
Эс фир ь,
ликуй,
Агарь!
232
Вели ко л епье
храму,
дому
Вед ет
с
собою
славы
царь.
ХОР
(царицы)
Как
роз а
юна
гор
средь
лон а
Жде т
ма йск ая
к
себ е
ро сы,
Царица
неж ная
средь
трона
Так
ждет
царя
лобз ать
красы.
Или
такие
пассажи:
Велик
господь
в
Сионе...
...
Кро вав ых
рек
следы
за
ним и
псы
полижут,
И
дом очадцы
уст
свои х
к
ним
не
приближут...
Или:
И РОД:
Пот щу сь
пред стави ть
я
величье
бог а
в
славе
Судом
и
милостью
в
подвластной
мне
державе;
Ко сн ется
он
го рам,
—
и
гор ы
к роет
дым:
Так
на
врагов
сверк ну
и
я
мечом
своим.
Посмотрит
он
на
дол,
—
и
дол
в
светах
пе стрит ся :
Так
на
моих
друзей
щедрота
просветится.
Пребудет
скиптр
мой
жез л
не умо лим
для
злых ,
А
осенением
смиренных
и
благих.
Исп олню
я
во
всем
законы
М оисея
В
сы нах
Вахидовых,
в
сынах
и
Асмонея:
За
око
—
око
я,
за
зуб
—
исторгну
зуб .
Е сть
в
трагедии
Державина
и
аллюзии
на
современные
события
(отношения России с Наполеоном,
политика
Ал ек
сандр а
I).
Однако
никак ой
политической
прогрессивности
в
«Ироде и Мариамне»
нет .
Наоборот,
именно
политический
смысл
трагедии
«восточного стиля»
был
подхвачен
од ним
из
молодых
современников
Шаховского.
Осенью
1813 года,
в
по ру
п од ъема
национально -
г ерои ческ ой
волны,
на
пе те рбург ском
театре
б ыла
впервые
пр едста вл ена
трагедия
в
т рех
действиях
Петра
Корсакова
66
«Маккавеи» (напечатана в 1815 году).
Корсаков
был
так
же,
как
Шаховской,
связан
с
«Беседой».
И
его
ближайшим
обра
зом
интересовала
современная
ему
французская
трагедия.
В
1815годуонпоместилв «Чтениях
в
беседе»
«Отчаяние Не
рона.
Отрывок
из
трагедии
"Эпихариса и Нерон" (подражание
Легуве)».
Это
—
монолог
Не р он а, «тирана», сверженного с
пр ест ола.
Монолог
—
сплошная
аллюзия:
Нерон
в
нем
—
это
66 П.
А.
Кор сак ов
в
1817 году печатал Пушкина:
впоследствии
он
впал
в
реакционность,
с
1835 года был цензором ,
а
затем
соредактором
«Маяка» .
233
Наполеон.
В
«Русской Талии» (1825 года)
напечатан
отрывок
перевода
трагедии
Жуй
«Сулла», сделанный Корсаковым.
Эта
трагедия,
как
известно,
также
построена
на
аллюзиях,
приче м
в
образе
Суллы
легко
угадывался
тот
же
Наполеон;
эту
име н
но
тра ге дию
имеет
в
виду
ср еди
других
Пу шкин ,
гово ря
о
французских
трагедиях
с
аллюзиями
в
письме
о
«Борисе Году
нове» 67.
«Маккавеи», как и « Де бор а», —
библейская
трагедия
68.
Она
це лико м
построена
на
мот ива х
библейски-восточной
об
разности,
на писа на
в
восточном
стиле,
конечно,
намеченном
толь ко
романтической
мифологией.
В
то
же
время
—
это
трагедия
народной
гер оики.
Еврейские
ге рои
мужественно
гибнут
в
ней
во
имя
отечества,
его
св обод ы,
его
верований
(библейская религия)
в
борьбе
с
тираном,
сирским
царем
Ан
ти охо м.
Этот
Антиох
—
типичный
самодержец-злодей.
«Смириться должен раб,
ко ль
ц арь
не
хочет
пасть», —
таков
его
лозунг
(д.
1, явл.
1).
Наоборот,
Маккавеи
и
их
мать
Со-
ломония
произносят
тирады,
на писа нные
гражданским
пафосом
и
построенные
на
символах
освободительной
борьбы.
Антиох
заяв ляе т,
что
Ма ккав еи
дол жны
отречься
от
отечественного
бога:
АНТИОХ:
...
Иль
смерть
мучительна,
удел
их
буд ет
сл езны й.. .
СОЛО МО НИЯ:
Постой,
т иран!
С ебя
еще
люблю
я
льстить
Наде ждо й
сладкою,
что
все
они
погибнут.
Сомненье
сам ое
в
прот ивно м
стр аш но
мне:
Е вреи
верные
мечты
св оей
достигнут,
И
кровь
не
помрачит
Израиля
в
с еб е...
...
Пей
в
чадах
кровь
мою,
неистовый,
злодей!
Недолго
будешь
ты
мечом,
главы
секущим,
Ли ть
кровь
оставленных
от
Иудей:
Иль
же ртв
сих
сто н
дойти
до
не ба
неудобен?
67 См.
Б.
В.
Т
о
м
а
ш
е
в
с
к
и
й,
Пушкин
и
франц узск ая
литерату
ра.
—
«Литературное наследство», No 31—32, 1938, стр.
6—7 .
Сл еду ет
добавить,
что
сам
Жуй
в
«Историческом предисловии»
к
четвертому
из да
нию
св оей
трагедии
весьма
недвусмысленно
раскры вает
алл юзи ю:
Сулла—
Наполеон.
Интересно
и
то,
что,
излагая
толки
критики
о
его
пьесе,
он
передает
такие
м нения : «Одни определили ее как романтическую,
другие
нашли
ее
сл ишк ом
суровой;
в
ней
порицали
слабость
интриги...»
и
т.
д.
и
ниже: «Меня упрекали в новшествах,
кото рым и
наполнена
эта
пьеса» (Suite
du Repertoire du Théâtre français; Tragédies, tome XI, Paris, 1829, p. 325).
68 Корсаков использовал в ней трагедию «Les Macchabées» Ламотга
(1722), но отнесся к устаревшему для него французскому драматургу со
вершенно
самостоятельно.
Трагедия
Ал.
Гиро
(Guiraud) «Les Macchabées
ou le martyre» относится к более позднему времени, 1822 году;
см.
о
ней
ниж е.
234
Та к,
трепещи,
тиран,
—внемли
мой
ныне
глас;
Час
мести
недалек,
и
близ ок
д ень
господень...
Соломония
говорит
своей
напер снице:
Фар иса!
з наю
я
дух
рода
моего:
По
нем
поб орни к
бог.
Что
—
с
ним
—
судьбы
все
злобны?
Пр ед
б огом
что
тиран
и
лютый
гнев
его?
«О благе своего отечества радея»
—
действовал
ее
сын.
«Я мой спасу народ», —
го ворит
он
(д.
1, явл.
3).
Он
—
«любви к отечеству сей дивный образец», он «О тра д у
подавал
народу
вопиющу» (д.
2, явл.
1).
Он
восклицает:
—
Разрушься,
рабства
цепь !
пог иб ни
враг!
Бог
Изр аиля,
по
Корсак ову,
—
бог
свободы:
Господь,
лиющий
к
нам
в
сердца
струи
отра д,
П о чтенней
тех
богов
являлся
предо
мною,
Чей
дремлющий
молчит
против
тиранов
гро м.
В
«Маккавеях»
со ед ине ние
напряженного
пафоса
граж
данской
поэтики
и
ее
политической
символики
—
и
терминоло
гии
«духа» « бран но го
Востока»
произошло
окончательно.
Ко
не чно,
тр аг едия
изобилует
при
этом
аллюзиями.
Антиох
заставляет
вспоминать
Нап олео на.
Евреи
—
это
доблестный
народ,
русские.
О
них
говорится
в
духе
гражданских
до
блестей;
устами
своих
героев
автор
призывает
русский
народ
свергнуть
иго,
вернуться
к
исконным
зако н ам
св оего
граждан
ского
бытия,
и
его
призывы
опять
звучат
политически
знаме
нательно.
В
траг ед ии
даны
намеки
на
династический
бра к
Наполеона
(д.
1, явл.
1), на всевластие Наполеона в Европе
(д.
1,
яв л.
2), «пророчество»
о
поражении
Ан т иоха
—-
Наполеона
в
1812 году (д .
3, явл.
2).
Соломония
повествует
о
в ойне
евр еев
с
Антиохом
и
о
постыдном
мире,
и
ее
речь
зву
чит
совсем
декабристски.
Эта
речь
—
намек
на
войну
и
мир
1807 года:
Ты
помнишь
те
еще
болезненные
годы,
Как
А поллония
тьмочисленны
полки
На
И ордан ск ие
пришед
прозрачны
вод ы,
Взмутили
их
волной
кровавыя
реки;
К ак,
жажду
нашими
слеза ми
запивая,
Они
глотали
наш
в
восторге
зв ерском
стон,
И,
как
тиранство
их
владыки
прославляя,
Хвалебну
песнь
еще
был
должен
пе ть
С ион.
Дальнейшая
судьба
библейской
трагедии
—
и
о пять
на
тему
о
Маккавеях
—
ведет
нас
пр ямо
к
декабристскому
кругу.
К
1824 году относится попытка коллективного перевода траге
235
дии
А.
Гиро
(Guiraud) «Маккавеи,
или
Муч е ник»,
по
явившейся
в
Париже
в
1822 году .
Б.
В.
Томашевский
пишет:
«Пьеса Гиро представляла собой трагедию,
хотя
и
написанную
по
пр авил ам
классического
французского
канона,
но
яв но
тяго
тевшую
к
но виз не.
...
Еще
одн а
черта
этой
пьесы
могла
содействовать
наме
р ению
переводить
ее:
она
трактовала
о
борьбе
тирана
Антиоха
с
еврейским
народным
движением.
Все
время
произносились
на
сц ене
либеральные
тирады.
Сама я
казнь
Маккавеев
во зве
щалась
автором
как
сигнал
к
победоносному
восстанию
прот ив
А нт иоха.
При
известной
настроенности
з рите лей
тр аг едия
могла
сыграть
ро ль
агитационной
пьесы» 69.
Трагедия
имела
явно
выраженную
тенденцию
к
стилиза
ции
в
восточном,
библейском
духе.
Переводить
трагедию
должны
бы ли,
по-видимому,
с ле дующие
лица :
М.
Е.
Лобанов,
др уг
Крылова
и
Гне дич а,
перевод
которого
«Федры»
был
поддержан
дружеской
критикой
А.
Бестужева
и
О.
Сомова
в
прессе
декабристского
к руга
(Лобанов потом впал в реакцион
но сть ), Рылеев,
Бестужев,
Дельвиг
и
Баратынский.
Пер евод
эт от
не
был,
вероятно,
до вед ен
до
конца.
Но
ха рак те рен
и
выбор
пьесы,
и
состав
переводчиков
70.
В
ис то рию
русской
«библейской»
пьесы,
связанной
с
по
литическим
свободомыслием,
должны
быт ь
включ е ны
и
пере
воды
«Гофолии»
и
«Эсфири»
Р а сина,
без
сомнения,
не
слу
чайно
появившиеся
в
эти
год ы:
первая
в
1810 году в переводе
С.
П.
Потемкина
и
П.
Ф.
Шапошникова,
вторая
—
в
1816
го ду
в
переводе
Катенина.
Как
заметила
Г.
В.
Битнер, «Плач
с ион ских
де в»
в
катенинской
«Эсфири» «м ог
переосмысляться
в
направлении
современных
политических
аллюзий;
при
э том
Кат ен ин
стр ого
выдерживает
библейский
колорит,
усиливая
библеизмы
по
сравнению
с
Расином» 71.
Еще
более
конденсированный
и
ярк ий
характер
приобре
та ет
с ое динен ие
«восточного стиля»
с
освободительной
пропо
ведью
в
лирике .
Здесь
широко
и спо льзо валась
библейская
поэзия
псалмов,
и
эти
но вые
политические
псалмы
становились
декабристской
поэзией.
В
краткой
фо рме
лирического
стихотворения
самые
приз
на ки
восточного
ст иля
определились
отчетливее
все го.
Как
и
в
69 А.
А.
Д
е
л
ь
в
и
г,
Полное
собрание
стих отворе ний,
ре д.
и
при м.
Б.
Томашевского,
Л. , 1934, стр.
49.
70Там же,
ст р.
500.
71 Г.
В.
Б
и
т
н
е
р,
Драматургия
Кат енина, «Ученые записки Ленин
градского
государственного
ун ив ер си тета », серия филологических наук, 1939,
No
33, вып.
2, стр.
74.
236
других
случаях
романтического
местного
колорита,
эти
призна
ки
просты,
немногочисленны
и
имеют
внешний
характер.
По
сл едн ее
связано
именно
с
те м,
что
романтическое
слово
не
ставит
своей
зада ч ей
исчерпать
значение,
вобрать
в
себя
со
держание,
а
лишь
вызывает
его
в
сознании
читателя,
оставаясь
отдельным
от
н его,
как
бы
внешним
для
него.
Восточный
стиль
широко
и
подчеркнуто
использовал
церковнославянизмы
и
библейские
об орот ы
потому,
что
Библия,
известная
русскому
читателю
в
церковнославянском
тексте,
стала
образцом
вос т оч
ной
н а родной
героики,
поэзии
восточного
народа.
В
да нном
стилистическом
контексте
славянизмы,
таким
обра зом ,
приоб
рет али
новый
. смысл,
противоположный
смыслу
сл ав янизмо в
Ломоносова
и,
тем
более,
Шишкова,
смысл
романтический
и
политически-передовой.
Затем:
восточный
стиль
ищ ет
вопло
щения
«роскоши»
и
пестроты
первобытного
южного
вдохнове
ния ;
он
сгущает
великолепные
с р авнения,
параллелизмы,
кон
тр асты ,
анафоры.
Он
скопляет
«роскошные»
слов а,
вроде
роз ы,
неги,
лобзаний,
знойный
и
т.
д.;
он
скопляет
страстные
слова
и
формулы:
и
он
любит
больше
всег о
экзотические
во
сточные
имена,
названия,
внешние
знак и
стиля.
Восточный
стиль
в
1820-х
годах
с тал
модой,
ув лечен и ем;
множество
поэтов
писало
множество
восточных
стихотворений,
и
признаки
восточного
«пестрого»
слога
наконец
ок амен ели .
Еще
в
XVIII веке переложения псалмов использовались
политически
русскими
передовыми
поэтами,
и
Лом онос овым ,
и
Сумароковым,
и
другими.
Известна
цензурная
исто рия
оды
Державина
«Властителям и судиям»
—
переложения
81 псал
ма.
Использовался
в
э том
плане,
например,
Сумароковым,
и
145 псалом .
Но
иначе
зазвучит
этот
псалом
уже
у
Межакова
в
1817 году 72.
В
нем
по яв ятся
слова
современной
политической
терминологии,
сочетаемые
о рганич ески
с
библеизмами,
—
и
псалом
перестанет
быть
прямым
выражением
личного
пр отес та,
а
станет
символом
современной
б орьб ы,
и
именно
потому,
что
это
—
по эзия
н а рода,
национальной
куль ту ры,
в
частности,
восточной
культуры.
У
Межакова
это
еще
то лько
намечено:
О ставим
мы
на дежд ы
лживы
На
власти
мира
горделивы ;
Не
станем
их
с чи тать
оп орой
дел
своих.
Их
блеск,
их
пышность
неп ри стойны ,
Обетов
наших
недост ойны
И
истинных
нам
бла г
не
нуж но
жд ать
от
них...
72 «Уединенный певец», 1817, стр .
51.
237
...
(Бог)
Стесненных
сокрушит
оковы,
Озл облен ных
расторгнет
ковы
, И угнетателей повергнет в нашу власть .
Специально
разрабатывал
данную
манеру
Федор
Гл инк а,
и
у
него
восточный
сти ль
в
его
библе йско м
изводе
окончатель
но
с озрел
как
декабристский
стиль.
Его
стихотворения
этого
цик ла
со бр аны
в
его
сбо р нике
«Опыты священной поэзии»,
вышедшем
в
свет
в
1826 году,
но
разрешенном
к
печати
12
окт яб ря
1825 года и собравшем стихи за несколько лет.
Глинке
чужды
мотивы
не ги
и
роскоши
как
п рояв лен ие
во
сточного
слога.
Но
он
скопляет
другие
признаки
ег о,
и
вместо
гурий
и
пе ри
—
у
него
к рова вые
в оинств енные ,
напряженно
-
страшные
мотивы
первобытного
космизма,
перекликающиеся
со
стилем
Гнедича.
А
глав но е
—
восточная
би блейс к ая
поэзия
у
него
символична
в
смысле
на по лнения
ее
образами
граждан
скими,
декабристскими,
несмотря
даже
на
пессимизм,
часто
овладевающий
поэтом.
Слова
библейской
старины
вызывают
гневные
и
скорбные
эмоции
гражданина
рабской
России
и
перекликаются
со
словами
революционной
терминологии.
Г лин
ка
«перелагает»
псалом
1,—
и
вот
его
праведник
декабри ст
(стихотворение «Б ла женст в о
п ра ве дно го»):
К огда
лукавые
ра бы
Блажат
бездушных
и стук ано в,
Он
видит
бога
над
со бой
—
И
смело
бо ре тся
с
судьбой!
Зажглась
гроза,
синеют
тучи,
Летит,
как
испол ин
могучий,
Как
грозный
князь
воздушных
стран,
Н еуд ержимы й
ураган
И
стелет
ж атвы
и
дубравы...
Но
он
в
полях
стоит
один,
Сей
дуб
к орн исты й,
величавый :
Таков
небесный
гр аж дан ин!
И
процветет
он
в
долгой
жизни,
Как
древо
при
истоках
вод ;
-
Он
будет
памятен
отчизне,
Благословит
его
народ...
и
т.
д.
И ли—
призывы
к
по литич е ским
действиям
во
имя
сво
бо ды
в
ст ихо тво р ении
«Тщета суемудрия» (переложение псал
ма
2).
В
нем
вс е—
Би блия ,
и
все
—
декабризм,
вплоть
до
«исполинов», оказавшихся библейским синонимом тиранов.
В
стихотворении
«Сила имяни божияго»
псалмопевец
Давид
произносит
декабристский
мон оло г:
238
Не
боитесь,
други!
ярой
мести,
Не
унижа йт е сь
пре д
судьбой:
За
дело
правды
мы
и
чести
И
за
от ч изну
держим
бой...
Восстали,
движ ут ся
на род ы,
Идут
искать
мо ей
души,
Искать
Израиля
своб оды .
Зачем
в
полун очной
тиши,
Мои
лу кавы е
злодеи,
По
камням
кр адет ес ь,
как
змеи?
Текут
как
волны
на
оплот!
Как
пчелы
на
душистый
сот!
Как
по
су хим
лесам
пожары!
Готовьтесь,
храбрые
друзь я,
Бесстраш ь ем
встретить
их
удары.
Мужа йт есь :
бога
призвал
я!
Затем
наступает
ка рти на
страшных
со бы тий,
апокалипти
ческие
видения
победы
декабризма,
ос нащ ен ные
восточно-
воинственной
образностью.
Или
в
стихотворении
«Победа»
—
о пять
яркий
гимн
сло
вам и
Библии
и
Французской
революции
вместе
—
«Помазан
от
елея », «Израиль»
—
и
«Отчизны», «Оковы», «Злодей
—
тиран»:
И
я,
п омаза н
от
еле я,
Кипя щим
мужеством
горел:
И
в
очи
страш н ого
элодея
Б ес страш но
юноша
гля де л.
Он
п ал,
как
столп.
Цвети,
отчизна!
Израиль
мой,
с
тво их
сынов
Сн ята
позора
ук ориз на:
Не
знай
ни
плен а,
ни
оков!
И
вот
реч ь
декабриста
к
народу
о
мести
ти ра нам
—
в
одеянии
об ра зов
с вящ енн ого
Востока
(«Из пророка Исайи»):
Бог
рек:
я
восш у млю
им
в
уши,
Зажгу
кипящей
местью
души.
Почто
в
народах
дух
увя л?
Земля
становится
иною...
Я
землю
обн овлю
весною .
Но
хладный
в
вер е
и
люб ви,
Народ!
ты
дух
сво й
обнови
В
святой
купели
покаянья!
Уж
бли зки ,
бл изки
воздаянья!
Се
ча ша
ярости
полна!..
Или
—
п рокля тия
неправому
обществу
тирании
и
рабства
(«Картина иудейских нравов.
Из
п ророк а
Иер еми и»).
Или
—
бог
го ворит
(«Гнев господа на нечестивых.
Из
пророка
Иезекииля»):
239
Уже
мои
готовы
стрелы,
И
звери
жадны е
давно
В
г луши
пустынь
ко
мне
рыкают
И
просят
крови
и
кос тей.
Уже
их
тайный
г лас
сз ывает
На
небывалый
страшный
пир:
И
будут
в
явству
в аши
труп ы,
И
в
п итие
им
ваша
кровь.
И
все,
насытясь,
оп очию т
Меж
вас,
безгробных
мертвецов...
и
т.
д.
(Напечатано впервые в 1825 году,
«Соревнователь просвещения и благотворения», ч .
XXIX)
Как
видим,
это
именно
библ ейс кий
мстительный
страшный
бо г;
Глинка
хочет
выдержать
местный
колорит
и
в
обл ике
своего
бога .
Следует
отметить,
что
соединение
библейских
м от ивов
с
политическими
здесь
не
и мело
и
не
могло
иметь
значения
цензурного
прикрытия
политики
Библией.
Наоборот,
с
точки
зрения
це н зурной ,
оно
бы ло
оп асно,
так
как
закл ючало
кощунственные
для
официальной
церкви
п ри менен ия
це рков ной
литературы.
Это
со е динение
был о
обусловлено
всем
х ар акте
ром
мировоззрения
русских
рад ика лов
первой
четверти
XIX
века.
Так
складывается
поэ зия
б иб лейских
про рок ов
в
декаб
ристской
среде,
зву чащ ая
призывами
к
героизму
и
с вобо де
даже
и
там,
где
она
прямо
не
касается
пол итик и,
в
романти
ческой
си мв олик е.
Сам
по
се бе
эт от
библейски-пророческий
сти ль
осмысливается
радикально.
В
нем
со зд ается
определен
ный
обра з
поэта-пророка,
из
Библии
и
из
декабризма,
и
рядом
с
ним
образ
библ ейс ких
би тв
за
свободу,
и
в
первую
оч еред ь
за
свободу
национальную.
Оба
эти
образа-мотива
нашли
свое
отражение
и
у
Глинки,
и
у
д ругих
поэтов
да нного
круга,
и
у
Пушкина.
В
сборнике
Гл инки
есть
несколько
стихотворений
о
п ро
рок ах
библейского
о б лика,
призванных
богом
вещать
правду
людям,
на род у.
Стихотворение
«Призвание Исайи»
начинается
та к:
Иди
к
народу,
мой
Пророк!
Вещай,
труби
слова
Е говы!
Срывай
с
лукавых
душ
по кро вы
И
гром ко
о блич ай
порок!
Иди
к
народу ,
мой
Пророк!
...
А
ты,
нар од
неблагодарный,
Ты
ласки
все
забыл
Отца .
Как
зм еи
—
д уши
в
вас
ков арны ,
240
Как
ка мни
—
черствые
серд ца!
Что
сделали
с
моим
законом?
Где
лет
мину вш их
чу дес а?
Мой
с лух
пронзен
не вин ных
ст о ном,
Их
вопли
движут
небеса...
А
ва ши
с ильн ые
и
князи,
Пи руя
сладкие
пир ы,
Вошли
с
грабителями
в
свя зи
И
губят
правду
за
да ры.
Где.
правота,
где
суд
народу?
Где
вы,
творящие
добро?
В
вино
мешаете
вы
воду,
Поддел
и
ложь
—
в
с вое
ср ебр о...
и
т.
д.
(Напечатано впервые в 1822
год у
в
«Соревнователе
п росв ещ ения
и
благотворения», ч.
XX)
Или
вот
начало
стихотворения
«Пророк .
(Из Эздры и
Исайи)»:
Тоскуя
о
судьбе
людей,
Сид ел
П ророк
в
глу боко й
думе,
И
се,
из
купины
немой,
Востек
незримо
глас
священный,
Как
песни
тайные
н ебес ...
Сей
гл ас,
как
древле
Моисею,
Вещал:
воздвигнись,
мой
пророк!
Ты
будешь
божьими
у ста ми.
Иди,
разоблачай
порок!
В
т олпах
смущенных
суетами:
Звуч и
в
веках,
живой
глагол!
и
т.
д.
Те
же
моти вы
составляют
основу
пространного
стихотво
рения
«Глас пророка».
Не
ну жно
прои з вод ить
детальный
анализ
вс ех
этих
с тихо тв оре ний,
чтобы
увидеть
их
сходство,
в
целом
и
в
деталях,
с
пу шкинским
«Пророком», написанным на
мотивы
из
той
же
б ибле йско й
книги
пророка
Исайи,
что
и
стихотворение
о
«Пророке»
Глинки.
В
тот*
же
го д,
когда
вы
шел
сборник
Гл инк и,
Пушкин
как
бы
откликнулся
на
его
темы.
Его
«Пророк»
—
это
прод олж е ние
той
же
линии
де
кабристской
поэзии
восточного
стиля.
В
нем
нет
пр ямых
п оли
тических
высказываний,
нет
«аллюзий», но политический ха
рактер
образа
самого
пророка,
как
и
политический
подтекст
всего
стиля
стихотворения,
—
вне
сомнений.
Это
подчерки
в ается
и
свидетельством
Погодина
о
том ,
что
Пушкин
на писа л
тог да
же
еще
три
стихотворения
о
пророке,
направленные
против
Ник ол ая
I.
Дошедшие
до
нас
по
памяти
со вр ем енников
стихи
Пушкина,
с юда
относящиеся:
241
Восстань,
восстань,
пророк
России,
В
позорны
ри зы
об лек и сь...
и
т.
д.
—
обнажают
политическую
направленность
и
дошедшего
до
нас
«Пророка».
Для
современников
уже
са мый
библейский
слог
ег о,
высокая
напряженность
то на,
рисунок
изы ск ан ных
парал
лелизмов
в
со че тании
с
концовкой-декларацией
п ривод или
к
тому,
что
стихо тв оре ние
обрастало
определенными,
в
1826
г оду
—
декабристскими,
а ссо циа циям и.
В
четверостишии
«Восстань,
во сстан ь...»
Пушкин
соеди
няет
библейский
стиль
с
Россией,
как
и
Глинка,
но
не
путем
аллюзии,
а
пря мо
наз ывая
Ро сси ю.
В
«Пророке»
он
от ход ит
от
Глинки
в
том ,
что
не
да ет
аллюзии,
избегая
соединения
Библии
с
современностью,
характерного
для
гражданского
стиля.
Это
и
понятно.
«Пророк»
напис ан
тогда,
когда
Пушкин
уже
преодолел
в
основном
декабристский
романтизм.
Он
резко
осуждал
в
это
время
аллюзии
в
тр а гедиях .
Позднее
он
писал
об
одном
из
ст ихо тво р ений
Гл инки
в
библейском
духе,
что
тот
«заставил бога говорить языком Дениса Давыдова» (Дневник
Пушкина,
запись
22 декабря 1834 года
—
VIII, 61).
Пушкин
хотел
создавать
вещи
д анно го
стиля
целостно
и
с*
полным
погружением
в
эпоху
и
культуру,
как
объективную
реальность,
а
это
исключало
аллюзии.
И
все
же
его
«Пророк», хотя уже и отошел в этом вопросе от декабрист
ского
р о мантиз ма,
еще
тесно
свя зан
с
н им,
и
все
же
«Пророк»
в
#елом хоть и не заключает аллюзий,
ориентирован
на
роман
тич ес кий
подтекст
политической
эм о ции,
то
есть
в
целом
дол
жен
вы зыват ь
п олити чес кие
образы
современности.
Граждански-героическое,
то
е сть
политическое,
декабрист
ское
освещение
библе йско го
стиля
не
исчезло
в
творчестве
Пушкина
и
позднее.
К
1835 году относится неоконченный
отры в ок
«Когда владыка ассирийский», отрывок о Юдифи,
написанный
в
типичном
восточном
ст иле,
в
частности,
в
би
бле йско м
стиле,
с
изобилием
библейских
с лов-с и мвол ов
(Олоферн,
владыка,
десница,
в ера
в
бога
сил,
Изр аиль,
Иудеи,
иереи,
а лта рь,
вретище,
Ветилуя,
сынов
Амм она ,
в ое
нач ал ьник
Ахиор
и
др . ), со специфической церковнославянщи-
ной
(выи,
притек,
зр ит,
препоясалась
и
д р. ), с повторениями
(казнию казнил,
замком
з амкну ты ), с изощренными синтакси
че ским и
узорами,
с
резкими
мотивами
ужаса
и
ве лич ия
(высок
смиреньем
терпеливым
и
крепок;
выи
не
склонил;
проникнул
тр епе т;
народ
завы л,
объятый
страхом,
и
др.).
Общая
т она ль
ность
отрывка
—
та
же
борьба
мужественного
народа
за
свою
с в ободу
против
сатрапа-тирана,
что
и
в
трагедиях
и
стихах
242
декабристской
поры.
Отрывок
о
«Юдифи»
—
это
по з дний
отклик
декабристской
поэзии.
Это
—
ге ниал ьное
произведе
ние,
но
для
Пушк ина
1835 года
—
яв но
устаревшее
по
манере
и
мысли.
Это
стихи,
повторяющие
друг ой
мо тив
б иб ле йских
стихов
декабристского
круга,
помимо
мотива
пророка-поэта,
мотив
битв
и
мести
за
свободу.
У
Г линки
он
представлен
пе
реложением
псалма
136 «Плач плененных иудеев»:
Н емей,
орг ан
наш
г оло систы й,
Как
занемел
наш
в
ра бст ве
ду х!
Не
опозорим
песни
чистой:
Не
ей
л аск ать
з лодеев
слу х!
У вы!
неволи
дни
суровы
Орг ан ам
жизни
не
д ают:
Рабы,
влачащие
ок овы,
Высоких
песней
не
поют!
(Напечатано впервые в « Пол я рно й
з везд е»
на
1823 год)
К
1830 году относится « По др аж ание
псалму
CXXXVI»
Языкова,
в
середине
1820-х
годов
одного
из
самых
яр ких
поэтов
декабристского
круга,
сохранившего
навыки
граждан
с кой
поэзии
до
начала
тридцатых
годов;
стихотворение
оканчи
вается
та к:
Б лажен ,
кто
смелою
десницей
Оковы
плена
сокрушит,
Кто
п лач
Израиля
сто ри цей
На
притеснителях
отмстит]
Кто
в
дом
тир ана
меч
и
п ламе нь
И
см ерть
ужасную
вн есет,
И
с
ярким
х охот ом
о
камень
Его
младенцев
разоб ьет .
Из
этой-то
традиции
и
вышла
пушкинская
«Юдифь».
Пу шк ину
был
яс ен
характер
восточного
и,
в
частности,
библейского
стиля
очень
jpaHO.
В
1821 году он пародировал
это т
стиль
в
«Гавриилиаде».
В
особенности
примечателен
в
этом
отношении
«любовный псалом»
бог а:
Он
с оч инял
любовные
псалмы
И
громко
п ел: «Люблю,
люблю
Марию,
В
унынии
бессмертие
вл ачу...
Где
крылия?
к
Мар ии
полеч у
И
на
груди
красавицы
почию!..»
И
прочее...
все,
что
придумать
мог,
—
Творец
любил
вос точны й,
пестрый
слог .
С
в ел иким
мастерством
Пушкин
в мес тил
в
три
с
полови
ной
строки
это го
любовного
псалма
основные
признаки
восточ
243
ног о
пестрого
слога.
Тут
и
славянские
ф ормы
окончаний:
уны
ние,
бессмертие,
крылия,
и
славянизмы
вообще
(почию), и имя
—
символ
с исте мы
(Марию), и повторение ( люб лю,
л юбл ю),
и
восточная
н ега
(на груди красавицы почию), и изысканный
синтаксис
(смена вопроса восклицанием) .
В
этом
«Псалме»
е сть
и
прямая
пародия
библ ей ско го
псал ма.
Характерно,
что
эти
же
выражения
псалма
п оздн ее
вошли
в
политическую
библейскую
поэзию
декабристского
круга;
в
них
звучала
тоска
по
воле,
выражаем ая
декабристскими
поэтами
в
их
р ома нти
ческой
си ст еме.
Так ,
Гли нка
писал
в
стихотворении
«Земная
грусть.
К
другу»:
О
дай
мн е,
др уг,
дай
крылья
сераф и ма!
Мне
грус тн о
на
земле...
...
Я
полечу,
пылая
жаждой
неб а,
До
утренней
звезды...
(Напечатано впервые в 1821 году в «С ор ев нова т е ле
просвеще
ния
и
благотворения», ч.
XVI, с адресованием не «к
другу», а
«В...
К. ..
К...», то есть В.
К.
Кюхельбекеру,
и
с
цензурными
пропусками
слов).
И
Рылеев,
оставшийся
до
к онца
ве рным
св оей
манере
мыс л ить
и
творить,
пис ал
в
крепости:
Мне
тошно
здесь,
как
на
чужбине!
Когда
я
сброшу
жизнь
мою?
Кто
д аст
крыле
мне
гол убине,
Да
по лечу
и
почию?
И
это
стихотворение
бы ло
декабристским
и
вольнолюби
вым
стихотворением
—
пусть
не
по
прямо
выраженному
в
нем
смыслу,
но
по
более
ши рокому
своему
содержанию,
в оз ник
шему
в
связи
с
его
стилем
73.
Я
о стано вилс я
несколько
подробно
на
библейском
ответ
влении
восточного
стиля
с
его
национальной
героикой.
Не
мен ее
значительна
была
и
друга я
ветвь
этого
стиля,
73 Вовсе вне этой,
декабристской,
традиции
и
вне
сложных
а ссоц иаци й,
возникающих
в
ней,
использован
тот
же
би бле йски й
текст
у
Н.
Иванчина-
Писарева,
поэта-эклектика,
в
нем а лой
сте пе ни
ре акц ион ного ,
в
стихотворе
нии
«Сион» («Сочинения и переводы в стихах», М ., 1819, стр .
21):
О!
кто
мне
д аст
крыле!
под обн о
го лу бине
К
селенью
тиш ины ,
к
спо кой стви ю
долине
От
без дны
тяжких
мук
почить
бы
п оле тел
И
там о
ни
о
чем
душою
б
не
ск орб ел...
Ниже
в
том
же
стихотворении
и
мотив
псалма
136:
Мы
пл аче м,
на
реках
восседши
Вав илонс ких .
Ах!
здесь
ли
во спо ем
от
песней
мы
сионских?..
244
«роскошная поэзия», связанная не с Библией,
а
с
иранским
и
мус ульм анс к им
колоритом.
В
эту
же
сис тем у
включается
стиль
кавказских
представлений
в
русской
поэзии
декабристского
времени.
И
эта
система
восточного
стил я,
несмотря
на
ее
культ
неги
и
великолепия,
свя зывал ась
с
освободительными
мотивами.
Такое
со е дине ние
мы
в идим
в
стихотворениях
А.
А.
Шишкова,
поэта,
близкого
к
декабристам
и
лично,
и
по
своей
судьбе
политически
опального,
и
по
своему
творчеству.
У
н его
есть
ряд
стихотворений
граждански-героического
харак
тера,
написанных
в
манере
декабристской
политической
лирики
(«Ш...
у», «X...
у», «Бард на поле битвы»); его послание «К
Метеллию»
—
прямое
п одраж а ние
пушкинскому
«К Лици-
нию », как бы вольное повторение этого стихотворения,
а
в
конц е
—
подражание
пушкинской
«Деревне».
И
он
же
пишет
ряд
стихотворений
в
восточном
с тиле,
и
это
—
политические
стихи
по
их
внутреннему
ассоциативному
смыслу,
по
их
моти
вам
героики,
мести,
битв.
Таково
стихотворение
«Ф.
Н.
Г.»
(то есть Ф.
Н.
Г линке), достаточно ясное по своим аллюзиям:
В
Аравии
под
зноем
лета
Усталость,
жажд у
и
то ску
Влачил
поклонник
Магомета
По
раскаленному
песку;
Но
далек о
свя тая
Мекк а,
А
тут
ни
тени,
ни
вод ы,
Тут
з апустения
следы
Н апеча тлелис я
от
в ека;
Тут
жизни
нет
—
и,
ут омлен ,
У
неба
смерти
про сит
он!
Но
вот
оазис!
И,
уны лы й,
П осле дние
сз ыв ает
с илы
И
п ри вс тае т: «Туда,
туда!
Там
тень,
и
тр ав ка,
и
во да,
Там
есть
и
место
для
моги л ы!»
Друг,
есть
оазис
и
для
нас !
Ру ка
таинственной
св ят ыни
Нас
и звлечет
в
урочн ы й
час
Из
раскалившейся
пустыни!
Но
как,
одним
ли
мы
путем
С
тобой
до
ц ели
добредем?
Возьми
ж
с
собою
в
пу ть
далекий
Мои
пр оро ческ ие
строки:
Теб я
п ослал
предвечный
бог
Жн ецом
на
ниву
просвещенья,
И
сам
он
грудь
тв ою
облек
Б роней
хол одн ого
терпенья,
И
будет
сам
вождем
твои м
К
выс ок ой
цел и,
где
с
тобо ю
245
Спасении
промыслом
святым,
Мы
обновленною
душою
Его
дел а
бл агосл овим!
Здесь
и
восток,
в
особенности
в
первой
половине,
и
проро
чества
о
великом
дел е
и
обновлении,
и
«нива просвещенья», и
«высокая цель».
В
стихотворении
«Осман»
в
восточном
сти ле
повествуется
о
бра нны х
подвигах
и
в зывает ся
к
мести
порабо
тителям.
В
«Чеченской песне», вставленной в «От рыв ок
из
описательной
поэмы
"Лонский"», —
пр изыв
к
битвам
за
свой
народ
—
восточный
с ти ль: «И пьют Гяуры полной чашей
Чеченцев
пламенную
кро вь ».
Поэма
Шиш ков а
«Дагестанская
узница»
—
т оже
подражание
Пушк ин у;
в
ней
опят ь
и
восточ
ный
стиль,
и
вольнолюбивые
мотивы
(сюжет поэмы основан на
сюжете
«Заиры»
Вольтера).
Такой
же
характер
имеет
цела я
группа
стихотворений
В.
Григорьева,
незаурядного
поэта
декабристского
круга.
Так,
например,
в
стихотворении
«Жалобы израильтян (И з
Байро
на )», напечатанном в 1824 году («Соревнователь просвещения
и
благотворения», ч.
XXV), соединены и восточно -би бле йс к и й
стил ь,
и
явственно
вольнолюбивые
мот и вы;
здесь
оплакивается
утеря
свободы,
раб ст во,
оков ы
Сиона.
В
его
же
стихотворении
«Чувства пленного певца» (1824, там же)
восточный
стиль
дан
бледно,
но
стихи
все
же
библейские
о
гибели
Вавилона
—
и
яв но
политические:
...
Н ет!
лучш е
иссох ни
под
цепью
десная,
И
пылкое
сердце
в
нево ле
истлей,
Чем
арфу
порочить ,
душе
изменяя,
И
песнию
слух
тв ой
лелеять,
элодей!
Повесил
я
ар фу
на
ве тви
оливы.
О
Сал ем,
да
будет
свободен
в
ней
звук!
Когда
твоей
славы
замолкли
о тзыв ы,
Я
спас
ее
с
жизнью
от
вражеских
рук.
И
в
рабстве
Евфрат
небеса
отражает,
И
гордо
по
ни вам
плененным
бежит.
Так
сердце
пе вца
г нев
судьбы
пр езир ает
v
И
песнию
робкой
вр ага
не
дарит!
Или
его
же
стих о тво ре ние
«Падение Вавилона» (1822,
«Соревнователь просвещения и благотворения»,
ч.
XIX) в
котором
—
очевидная
а ллюз ия
на
смерть
Наполеона:
Погиб
тиран!
Возденем
к
не бу
длани!
Давно
ли
мы,
с
по ник шею
главой,
Несли
ему
уничиженья
дани,
Омьггые
кровавою
сле зо й?
246
...Столетний
к едр,
воспитанник
Ливан а,
Воздвигнулся
ветвистою
главой,
В оз веселя сь
погибелью
тир ан а,
—
«Он пал,
—
гласи т,
—
он
пал,
властитель
мой!
Ликуй,
Ливан!
Под
ос тр ием
жел еза,
С вобод ный
днесь,
уж
не
паде т
твой
с ын,
И,
опершись
на
рам ена
утеса,
В озвы си тся,
как
мощный
исполин!»
Укажу
еще,
например,
на
ст ихот вор ение
Платона
Об одоб
с кого
«Падение Иерусалима» (1824, «Соревнователь просве
щения
и
благотворения», ч.
XXV, стр.
48), в котором в густо
восточном
библейском
слоге
по эт
предрекает
паде ние
грешного
Ие ру сал има,
государства
неправды,
в
духе
Федора
Глин ки .
Не
случайно
увлечение
восточным
стилем
ряда
по этов-
декабристов,
не
объяснимое,
конечно,
только
биографически.
Восточная
поэма
А.
И.
Од оев ско го
«Чалма» (до нас дошел
отрывок)
написана
в
Сибири.
Политический
декабристский
характер
имеет
его
ст ихот вор ение
«Узница Востока» (1829).
К
1837—1838 годам относятся его восточные стихотворения
«Роза и соловей», «Моя пери» .
Поэты- де ка бри сты
использо
в али
библе йс кую
поэзию
как
о дну
из
о снов
декабристского
стиля.
Библейские
мотивы
широко
использовал
в
сво ей
лирике
Кюхельбекер.
Та к,
декабристский
характер
—
изображение
мужественного
гражданина
—
имеет,
например,
стихотворение
Кюхельбекера
«К богу» (1824, «Мнемозина»).
Восстал
господь!
бог
мещет
гром ы
На
н ече сти вые
толпы:
На
вихрях
яростных
несо мы й,
Гроз ой
по дъя лся
царь
судьбы.
Летят
пред
ним
его
раб ы,
Летят,
облачены
в
пе руны ,
Повиты
м олни ей
и
мг лой:
Одни
з латые
дви жут
струн ы,
Другие
мощн ою
рук ой
Из
облак,
бурей
окрыленных,
П огиб ель
мещут
на
н ад менны х.
Н ет!
не
покинет
он
ме ня:
Исчезнет
ско рб ь,
пр омчи тся
горе ;
Благо й
десницей
осеня ,
Бог
зрит
меня
в
кипящем
море.
Теките
ж,
гн евн ые
валы ,
Разите,
хляби,
отовсюду:
Вы
встретите
отп ор
скалы;
К
нему
в зыва ю;
т верд
пребуду!
И
после
восстания,
уже
в
заключении,
Кю хельб екер
пр о
долж ал
эту
же
традицию;
он
скорбел
о
неудаче
восстания
247
14 декабря в стихотворении « Пл а ч
Да вида
над
Саулом
и
Ио
на фан ом » (1829):
Столп
воз вы сь
над
п адши ми
сы нам и,
О
Исраиль!
св ят
бессмертный
прах.
Как
же
так
у вяли
под
мечами
Му жи
силы
на
тво их
холмах?
Не
беседуй
в
Ге фе
о
сраженных;
Пусть
не
внемлет
плачу
Аскалон:
Да
не
дмигся
74 дщерь иноплеменных,
Да
не
бу дет
в
радость
ей
тв ой
с тон!
Вы,
холмы
Гельвуи,
пусть
отныне
Не
кропит
вас
до ждь,
н иже
роса!
Уподобьтесь
вы
сухой
п усты не;
Пу сть
вас
позабудут
небеса!
...А х!
на
ваших
выс отйх
могильных
(Не елеем ,
кровию
облит)
Щит
Сау ла,
м ощь
и
слава
с ильны х,
Сыном
Хама
вдребезги
разбит...
и
т.
д.
Особенно
интересна
в
это м
пла не
п оэма
Кюхельбекера
«Единоборство Гомера и Давида» (не ранее 1829 года),
в
которой
сопоставлены
и
противопоставлены
два
стиля,
два
национальных
ти па
и
характера
на род ных
героических
культур:
восточный
библейский
и
гомеровский
греческий.
Здесь
Гоме р
и
Давид
п оют
песни,
каждый
в
духе
своей
кул ьту ры.
Песни
Давида
—
квинтэссенция
«восточного стиля»:
Чуде се н,
ве чен
твой
закон,
И
зла то
что
пр ед
ним ,
о
боже?
Он
камн я
ч естног о
дороже,
Душе
же
сла ще
ме да
он.
Л ета
и
ве ки
пред
тобою
Ничтожны,
как
вч ера шний
день,
И
с
стражею
равны
ночною,
Растут
и
таю т,
б удто
тень.
И
ты
не
славных,
не
надменных,
Не
крепких
силою
владык,
Не т,
слабый
ты
избрал
язык
Сы нов
И сраиля
см ирен ны х.
В е филь,
Силом
ты
возлюбил,
И
брег
утесистый
Кедрона,
И
рощи
тихие
Сарона,
И
в
лес
одеянный
Кармил.
74Дмится — то есть гордится.
248
О!
е сли
их
к огда
'забуду,
Тобою
пусть
отвержен
буду!
Но
и
здесь
н оты
декабристской
политики
звучат
довольно
явно
(аллюзии):
...
Так!
пр авог о
п уть
с
непостижных
небес
Блюдет
милосердный
и
дивный
хранитель ;
Но
бог
повелел
—
и
погибнул
губитель,
Вещал
всем огущ ий
—
строптивый
исчез...
...
Ведет
господ ь
из
уз
и
заточения
Возлюбленный,
избранный
св ой
народ:
Уз рело
море,
полное
смятения,
—
П о бегла
вспять
равнина
шум ных
вод. ..
Песни
Давида
Кюхельбекер
пе ре нес
в
эту
небольшую
по
эму
из
своей
огромной
поэмы
«Давид» (1829).
Специфический
характер
име ет
и
стихотворение
«Ветхозаветные песнопевцы» (1829) и др.
Библейский
стиль
обильно
представлен
в
поэмах
Кюхельбекера.
Восточный
стиль
целиком
принят
в
от ры вке
(начале)
его
поэмы
о
Грибоедове:
Те бя
мо гу
ли
всп омнить,
Дара,
В лады ка
в сех
подлунных
стран,
Тебя,
Хожр оев
бранный
ст ан,
В ас,
битвы
грозн ого
Шап ура?
Здесь,
на
брег ах
плененных
Кура
Гремит
оружием
У рус ...
и
т.
д.
Ю.
Н.
Тынянов
пишет
об
эт ом
отры вк е: «Громадная ра
бота
над
восточной
поэз ие й
и
ее
стилем
чувствуется
в
этом
замеч ат ель н ом
отрывке.
Ра сс каз
о
Грибоедове
ведется
от
име
ни
некоего
Абаса,
познакомившего
Г рибое дов а
с
кла сси кам и
восточных
л ит ера тур.
Кюхельбекер
настаивал
на
возможной
стилистической
близости
в
передаче
античного
и
восточного
материала
(даже широкоизвестные имена собственные он пере
д ает
с
их
оригинальной
окраской:
так,
Дарий
у
него
Дара
и
т.
д .)» 75.
Кюхельбекер
недаром
именно
о
Грибоедове
пис ал
в
во
сточном
стиле.
В
письме
от
18 декабря 1821 года к матери
Кюхельбекер
со о б щал : «Я встретил здесь своего милого пе
тербургского
знакомого:
Грибоедова.
Он
был
око ло
дв ух
лет
секр ет ар ем
посольства
в
Персии;
сломал
се бе
рук у
и
будет
жи ть
теперь
в
Тифлисе
до
своег о
выздоровления.
Он
очень
75 Ю.
Т
ы
н
я
н
о
в,
В.
К.
Кюхельбекер;
в
книге
В.
К.
Кю
хе л ьбекер ,
Лирика
и
поэмы,
т.
I, «Советский писатель», Л ., 1939, стр.
XXXII.
249
талантливый
по эт,
и
его
творения
в
по дл инном
чистом
персид
ско м
тоне
до ст авля ют
мне
бесконечное
наслаждение» 76.
Р ечь
здесь
и дет
о
поэме
Грибоедова
«Странник», из ко
т орой
до
нас
дошел
лишь
от рывок
(«Кальянчи»); но и по
этому
от рывку
видн о,
что
поэ ма
была
написана
действительно
в
восточном
декабристском
стиле.
В
библ е йс ком
д ухе
—
по
типу
стихов
Глинки
—
н аписа но
стихотворение
Гр ибое дов а
«Давид» (1821—1823; напечатано в « Мнемо з ине», 1824),
стихотворение,
имевшее
принц ипи ал ьны й
и
политически
актив
ный
в
декабристском
направлении
смысл;
это
—
переложение
151 псалма,
к оторому
придан,
ос о бенно
в
концовке,
бунтарский
характер:
Далече
страх
я
отженя,
Во
сретенье
исшел:
меня
Он
проклял
идолми
своими;
Но
я
мечом
над
ним
взыграл,
Сразил
его
и
обезглавил
И
стыд
отечества
отъял,
Сы нов
Израиля
пр ослави л!
З на мениты е
«Хищники на Чегеме» (1825) —
гимн
на
циональной
войны
мужественного
народа
и
г имн
в
восточном
стиле.
Отношение
Пушк ина
к
восточному
стилю
и
вообще
к
проблеме
местного
к олори та
б ыло
сложным
и
противоречивым;
но
из
этих
противоречий
рождалось
движение
по эта
к
преодо
лению
романтизма.
До
1820 года эта проблема мало интересо
вала
Пушкина.
В
его
гражданских
стихах
нет
стремления
уло
вить
дух
чужих
замкнутых
к ульт ур.
Оссианические
стихи
юного
Пушкина
«Эвлега»
и
«Осгар»
п овто ряют
ставшую
уже
обычной
формулу
русского
(и французского)
оссианизма.
Тем
менее
можно
искать
са мос т оят ельную
постановку
проблемы
местного
колорита
в
сти ха х,
созданных
под
влиянием
т рад иций
Жуковского
и
Батюшкова
или
традиций
французской
поэзии
XVII—XVIII
веков.
Еще
в
«Руслане и Людмиле»
этот
во
про с
почти
не
поставлен,
да же
в
применении
к
русскому
ск а
зо чно му
материалу.
В
э том
отношении
все
меняется
в
т вор чест ве
Пу шк ина
на чиная
с
1820 года.
Наступает
новый
этап
пушкинского
ро
мантизма.
Поэмы
Байрона
с
их
Востоком
раскрываются
перёд
Пушкиным
как
новый
мир.
Не
мен ее
важно
было
то,
что
новые
миры
раскрыла
п еред
ним
са ма
жизнь.
На
Кавказе,
76 В.
К.
К
ю
х
е
л
к
б
е
к
е
р,
Лирика
и
поэмы,
т.
I, «Советский пи
сатель», Л., 1939, стр.
XXVII.
250
зат ем
от час ти
в
Бессарабии,
он
воочию
убедился
в
том,
что
ес ть
люди,
об лад ающи е
по-своему
высокой
куль ту рой
и
мы с
ли,
и
гражданской
морали,
мужественно
сражаю щиес я
за
ро
дину
и
свободу
на
Кавказе,
имеющие
св ои
др е вние
обы ч аи,
свои
нормы
красоты
и
т.
д.,
но
не
под озре ва ющи е
о
существо
ван ии
ни
Мол ье ра,
ни
Вольтера,
ни
Ломоносова.
Воздействия
литературы
и
жизни
сов п али.
Пушкин
увлечен
вопросом
о
восточном
стиле,
он
быстро
улав лив ает
все
его
черты
в
том
в иде,
как
он
сложился
в
русской,
французской
и
да же
а нглий
ской
поэзии,
и
пародирует
его
в
тр ех
строках
«Гавриилиады».
Дело
в
то м,
что
Пу шки н,
хотя
еще
и
романтик,
не
удовлетво
рен
системой
восточного
стиля
и
вообще
местного
колорита
романтиков
его
времени.
В
1822 году Пушкин уже не одобрял
восточный
стиль
То маса
Мура.
В
1825 году он повторил и
разв ил
этот
отрицательный
от зыв.
Пушкина
яв но
не
удовлет
воряло
внешнее
воспроизведение
данного
стиля,
словесных
признаков
данной
культуры,
только
в
сознании
читателя
соот
нос и мое
с
комплексом
представлений
о
не й.
Его
не
удовлетво
р яло
то,
что
.данная
культура
воссоздается
по-субъективистски,
то
е сть
только
в
ее
«духе», в эмоциях,
в
сущности,
принадле
ж ащих
поэту
и
читателю,
а
не
людям
изображаемой
ку льт уры.
Отсюда
проистекали
аллюзии,
переплетение
своей
культуры
с
чужой,
связанное
с
внеисторическим
мышлением.
Пер ед
Пуш
киным
стояла
уже
с
1820 года,
вероятно,
в
это
время
не
о со знанная ,
но
творчески
настоятельная
задача
—
не
намек
ну ть
на
чужую
культуру,
а
так
ска зать,
влезть
в
душу
че лове
ка
чужой
культуры,
изобразить
его
в ну тр енний
мир
таким,
ка кой
он
есть,
и
понять
его
в
окружении
объективной
реаль
ности
п риро ды,
быта,
склада
вс ей
жизни,
породившей
это т
внутренний
мир.
В
последнем
и
заключалось
прежде
всег о
гениальное
новаторство
Пушкина.
Он
искал
объективных
обоснований
для
субъективных
переживаний
77.
Для
романти
к ов,
которые
влияли
на
не го
еще
и
в
это
время,
наоборот,
объ ективны е
детали
служили
лишь
воссозданию
л ич ного
или
коллективного
субъективного
переживания,
которое
для
них
само
себе
довлело.
Пушкин
ищ ет
объяснения
—и
он
найдет
его
—
душевного
переживания
в
объективном
бытии.
Почему
77 Отсюда и замечания в письме к Вяземскому от марта — апреля
1825 года,
вскрывающие
именн о
отношение
к
вос точно му
стилю
как
к
из обр аже нию
объективного,
по
отно шени ю
к
поэту,
фак та: «Знаешь,
почему
не
люблю
я
Мура?
—
потому
что
он
чересчур
уже
вос точе н.
Он
подражает
ребячески
и
уродливо
—
ребячеству
и
уродливости
Саади,
Гаф иза
и
М аго
мета.
—
Евр оп еец
и
в
упоении
в осточной
ро скош и
должен
сохранить
вку с
и
взор
европейца» (X,135).
251
кавказский
г орец
мыслит,
чувствует,
верит
иначе,
чем
он,
Пушкин,
а
древний
грек
—
опять
иначе?
Этого
вопро са
ро
мантизм
не
ставил
или
отвечал
на
н его
метафизической
та вто
лог ией:
потому
что
он
человек
восточного
скл ада
или
гр ек,
причем
древний
грек,
сражающийся
против
пе рс ов,
и
новый
гр ек,
восстающий
прот ив
турецкого
порабощения,
—
для
него
равны,
одинаковы,
ибо
и
тот
и
другой
—
грек.
Пушкин
не
мир итс я
с
этим.
Он
хочет
и знут ри
понять
чужую
культуру
и
находит
это
понимание
во
в не шних
фак тах
—
сначала
в
фактах
условий
жизни
данного
народа,
а
потом
и
исторических
изме
нений
это й
жизни.
А
эти м
и
самый
склад
«души»
народа
отрывается
от
сознания
изображающего
его
поэта-европейца,
и
снимается
возможность
говорить
о
России
вре ме ни
Александ
ра
I образами Библии или Гомера.
И
само
субъективное
со
д ер жание
чужой
ду шевн ой
жиз ни
становится
объективным
фактом.
Потом
Пушкин
научится
да же
свою
собственную
субъек
тивность,
свое
лирическое
состояние
поним а ть
как
фа кт
и
результат
объективной
социальной
действительности;
это
будет
в
пору
завершения
это го
реализма.
Теперь
же,
в
начале
двад
цатых
годов,
он
работает
над
проблемой
по нима ния
чужой
культуры
как
объективного
факта
вне
субъективности
декаб
рис тс кой
эмоции,
над
проблемой
изображения
эт ой
культуры,
такого
изображения,
чтобы
слова
называли
вещи,
чтобы
те кст
реально
вбирал
в
себя
и зоб р ажаем ое,
а
не
соотносился
бы
с
ним
в
качестве
зна ка
и
символа.
Пу шкин
хоче т
изобразить
чуж ую
кул ьт уру
в
ее
реальности
—
и
в
то
же
врем я
оценить
ее
судом
современного
ему
европейского
ученого,
хочет
влезть
в
ду шу
человека
Востока
—
и
в
то
же
время
объяснить
эту
душу
на
методологическом
уровне
европейского
мыслителя
XIX века.
Путь
этого
объяснения
был
таков:
сначала
яви лось
объяснение
эт ногра ф иче ск ое,
еще
связанное
с
романтизмом,
затем
—
историческое,
и
здесь
ст ал
формироваться
реал изм ,
зат ем
к
историзму
прибавился
анализ
с оциа л ьной
диффе ре н
циа ции
и
ситуа ции,
и
тогда
пушкинский
реа лизм
созр ел.
Но
движение
к
реал изм у
бы ло
предопределено
с
самого
начала,
так
как
все
три
этапа
эт ого
движения
имею т
за дач ей
выведе
ние
с уб ъект ивно го
начала
из
объективного
реального
бытия.
Намеченное
только
что
движение
осуществлялось
трудно,
постепенно
вы зр евая
в нутри
ро ма нтич ес ких
на вык ов
Пушкина,
перекликаясь
с
повторениями
ро ма нтич ес ких
мотивов
и
методов
стиля.
Как
уже
был о
сказано,
это
движение
началось
в
1820
году,
к огда
в
«Кавказском пленнике»
субъективистская
сис те
ма
Байрона
уже
взрывалась
изнутри
объективным
изображе
252
нием
этнографического
материала,
описанием
жизни
кавказских
горцев
и
объективным
пейзажем.
В
1820 году Пушкин занят проблемой романтизма и
местного
колорита.
Он
пишет
«Кавказского пленника» .
Его
лирика
за
этот
год
включа е т
все го
о коло
дюжины
ст ихот в оре
ний .
Из
них
два
—
«Дочери Карагеоргия»
и
«Мне бой зна
ко м»
—
гражданские
романтические
стихотворения
д екаб р ист
ск ого
стиля.
Сюда
же
примыкает
послание
«Чаадаеву» («К
ч ему
хол одны е
со мн ен ья »); «Погасло дневное светило»
—
б айро ни ческ ое
стихотворение.
И
вот
рядом
с
ним
—
экз оти че
ская
стилизация
«Черная шаль», три стихотворения в восточ
ном
стиле
—
«Фонтану Бахчисарайского дворца», «Виноград»
и
«О дева-роза,
я
в
оковах», и,
нако не ц,
четыре
стихотворения
в
духе
А.
Шень е: «Дориде», «Редеет облаков...», «Нереида»,
«Дорида» .
Пос ледн ее
наиболее
замечательно.
Казалось
бы,
что
общего
ме жду
Шен ье
и
Байроном
и
как
они
могу т
совм е
щаться
и
одновременно
занимать
творческую
мысль
поэта?
Между
тем
они
совмещались
в
творч ес к ой
работе
Пушкина.
Дело
в
том,
что
Ше нье
был
для
Пу шки на
од ним
из
мостов
к
про бле ме
нового
воссоздания
уже
не
только
чужой
культуры,
а
целостного,
объективного
исторического
ми ра
—
античной
Греции.
Пушкин
воспринимал
Ш енье
как
поэта,
воссоз
давшего
подлинную
Грецию
в
противоположность
неподлинной
античности
Ра сина.
Пример
Шенье
вдохновил
его.
Совершен
но
спр авед ли во
пишет
Б.
В.
Т о маш евск и й: «Под несомненным
влиянием
Шен ье
напис аны
крымские
стихотворения,
о бъе ди
ненные
в
изд а нии
1826 года под рубрикой
"Подражания
древним".
Это
род
антологических
фрагментов,
про никн уты х
острым
восприятием
юж ной
п риро ды.
Крым
с
его
сре д иземно-
морским
пейзажем
воспринимается
как
угол ок
Д ре вней
Гре
ции» 78.
В
той
же
статье
Б.
В.
Томашевский
замечает,
что
среди
переводов
Пушкина
«лишь один перевод стоит особняком.
Это
п опы тка
пере дат ь
гекзаметрами
идил лию
А.
Шенье
"Слепец".
Пушкин
этим
переводом
как
бы
хотел
ве рнут ь
стихам
А.
Ше
нье
их
античную
оболочку,
к ото рой
они
не
мог ли
иметь
в
п одлин ник е.
Это
не
столько
перевод,
ск оль ко
ре к онс трук ция
творческого
замысла
Шен ье,
своеоб разн ая
интерпретация
поэзии
Ш енье» 79.
78 Б.
В.
Т
о
м
а
ш
е
в
с
к
и
й,
Пушкин
и
француз ская
литература.
—
«Литературное наследство», No 31 —32, 1938, стр .
56.
79Там же,
стр.
12.
253
Таким
образом,
на
овладении
по эзи ей
Ше нье,
который
бы л,
по
мнению
П у шкина, «из классиков классик»,
как
бы
по длинно
античный
поэт ,
он
учится
стилевой
манере
античной
Гр е ции,
переданной
русскими
стихами,
причем
он
стремится
об ъек тивно
воссоздать
Грецию
с
ее
при род ой,
простотой
чувств
и
мыс л ей,
отсутствием
всякой
изысканности
слога,
гармонией
чувствований,
то
есть
вне
всякой
пря мой
темати
ческой
связи
с
ассоциациями
современности,
дека бр изма ,
без
внешних
знаков,
скопления
античных
имен
и
др.
Ведь
Пушкин
пис ал
Вяземскому
5 июля 1824 года,
что
от
Шенье
«так и
несет
древней
греческой
поэзией» (X,96).
Нельзя
не
заметить
тут
же,
что
в
1822 году элегию
Шенье
«Тарентинская дева»
перевел
Гнедич
и
что
это
также
хар акт ер изу ет
его
интерес
к
греческому
к олори ту
у
Шенье.
Пушкин
писа л
по
эт ому
поводу
30 января 1823 года брату
Л ьв у: «Гнедич у меня перебивает лавочку
—
Ув ы,
напрасно
жд ал
теб я
жених
печальный
и
проч.
—
непростительно
прелестно.
Знал
бы
своего
Гомера,
а
то
и
нам
не
бу дет
места
на
Парнасе» (X,54).
В
значитель
ной
степени
продолжением
опытов
во ссозд ан ия
подлинной
Греции
у
Пу шки на
было
стихотворение
«Муза»
след ую щег о,
1821 года.
I
Одновременно
с
античным
стилем,
истолкованным
с
по
мощью
Шенье
и
не
совсем
по-декабристски,
Пушкин
разраба
тыв ает
восточный
стиль,
—
и
тоже
не
совсем
так,
как
его
современники.
Он
хочет
обойтись
без
«аллюзий»,
у ви деть
глазами
европейца
Восток,
но
не
тянуть
Восток
в
Петербург.
Стихотворение
«Виноград»
имеет
несколько
библейский
хара к
тер
по
своему
стилю,
но
Пушкин
да ет
признаки
этого
стиля
только
сл егк а,
и
не
дает
никак их
элементов
национальной
героики.
Другой
извод
восточного
ст иля
дан
в
стихотворении:
«О дева-роза,
я
в
оковах», и также без «применений».
Впро
чем,
п ре одолет ь
романтическую
манеру
Пушк ин
в
эт их
стихах
еще
не
мог,
да,
может
быть,
и
не
хотел.
Одновременно
шли
опыты
воссоздания
культур
в
песн я х,
по
п риме ру
ба й рон овых
восточных
поэм,
вставленных
в
южные
поэмы
Пушкина.
Ис
тория
этих
песен
замечательна:
первая
из
них
—
«Черкесская
песня»
в
«Кавказском пленнике» .
Это
—
пре кра сн ое
стихо
творение,
но
как
че рк есск ая
песня
оно
просто
не
уд алос ь.
Пушкин
еще
не
умеет
схватить
признаки
чужого
стиля,
мысли,
чувства,
слов а,
жизни.
В
пе сне
говорится
почему-то
о
чеченце,
а
совсем
не
о
че рке се
(Пушкин еще,
видимо,
не
считает
суще
с тв енным
дифференцировать
н арод ы); в ней говорится,
соб
ственно,
больше
в сего
о
казаке,
и
песня
в
основном
русского
254
стиля,
отчасти
книжного,
от ча сти
ф ольк ло рного.
Какой
уж
горский,
восточный
к олорит
ст иля
может
быть,
если
в
песне
ес ть
такие
стихи:
В еселый
пляшет
хоровод.
Б егит е,
русские
пев ицы ,
С пеши те,
красные,
домой...
Э го,
конечно,
ру сска я
песня.
Итак,
опы т
не
уда лс я.
Но
и
неудачи
гения
п оучит ельн ы.
Пушкин
продолжал
работу.
В
«Бахчисарайском фонтане»
появляется
«Татарская песня» .
Это
—
восточный
стиль,
но
еще
в
ром ант иче с ком
плане.
Стиль
построен
в
ней
внешне,
знаками,
мифологически.
Главное
в
нем
—
специфические
собственные
имена,
изысканный
стиль
изречений,
пышные
эпитеты,
слов а
«неги»:
1
Дарует
небо
человеку
Замену
слез
и
частых
бед:
Блажен
факир,
узревший
М екку
На
с тарости
печальных
лет.
2
Блажен,
кто
с лавн ый
брег
Дуная
Сво ею
смертью
осв я тит:
К
нем у
навстречу
де ва
рая
С
улыбкой
страстной
п олетит.
3
Но
тот
бл ажен н ей,
о
Зарема,
К то,
мир
и
нег у
возлюбя,
Как
р озу,
в
тиши не
гарема
Лелеет,
милая,
тебя.
Пу шкин
овладел
внешними
знаками
восточного
стиля.
Этот
восточный
стиль
разлит
и
по
в сей
поэме.
В
марте—
ап реле
1825 года Пушкин писал Вяземскому о
«Бахчисарайском фонтане»: «Слог восточный был для меня
образцом,
ск оль ко
возможно
н ам,
благоразумным,
холодным
европейцам» (X,135).
Но
не
это
—
предел
стремлений
Пуш
кина .
Ему
нужно
объективировать
стиль,
поняв
по ро див шую
его
культуру
органически,
во
всем
ее
бытии.
Его
опыты
про
должаются.
В
«Цыганах»
—
новая
песня,
цы га нс кая.
Пушкин
ра з рубил
гордиев
узел.
Он
просто
перевел
настоящую
мо лда в
скую
песню,
и
тем
самым
его
песня
стала,
конечно,
вполне
подлинной
бессарабской.
Но
и
это
ве дь
был
не
пред е л.
Надо
было
именно
самому
нау ч иться
видеть,
понимать
и
изо бр ажать
255
объективные
черты
чужой
культуры,
при
этом
не
тер яя
себя,
европейца
XIX века .
И
вот
Пушкин
берется
за
дел о
все рь ез:
он
принимается
за
изучение
первоисточников,
подходит
к
дел у
на уч но,
вчитывается
в
под ли нник и
восточной
литературы.
Он
и щет
материалов
в
Библии
и
в
Коране.
Его
волнует,
беспокоит
зад ач а,
ускользающая
от
нег о.
Он
взывает
в
пис ьме
к
бр ату
в
ноябре
1824 года: «Библию,
библию!
и
французскую
непр е
м ен н о » (X, 110) (то есть не славянскую,
мешающую
це рков
ными
архаическими
ассоциациями
à la Глинка) .
Коран
у
н его
на
устах
в
это
время
(см.
письмо
к
Вяземскому
от
29 ноября
1824 года). 4
дека бря
он
опять
н апо мина ет
бр ату
о
Библии.
А
ве дь
он
чита л
Шекспира
и
Библию
еще
в
апреле
то го
же
го да
в
О дес се,
и
—
«святой дух иногда мне по сердцу» (X, 86).
Ясно,
что
для
него
и
Библ ия
и
Коран
интересны
вовсе
не
как
культовые
книги,
а
как
па мятники
культуры,
быта,
понятий
и
поэзии
Востока,
причем
он
воспринимает
их
как
проявления
едино й
восточной
куль тур ы.
И
вот ,
изучая
Коран,
Библию,
Пушкин
пишет
свой
вели
ко ле пный
ци кл
«Подражания Корану».
Это
бы ла
победа.
Ч исто
пу шк инско е
ра зрешен и е
проблемы
восточного
стиля
бы ло
найдено.
Это
б ыла
тоже
«библейская»
по эзия ,
и
Пушк ин
сохранил
славянизмы
и
высокую
напряженность
декабристско
го
библе йско го
ст иля.
В
то
же
время
это
была
и
поэзия
му
сульманской
«неги»
и
наслаждений,
—
и
Пушкин
сохра н ил
синтаксическую
эффектность
и
изысканность
эт ой
л инии
во
сточного
стиля
рус с кой
поэзии
его
времени.
Он
сохра н ил
и
другое:
мотивы
суровой,
жестокой
и
священной
воинствен
ности,
темы
пророчества.
Но
он
отбросил
номенклатуру
стиля,
внешние
знаки
слога,
вернее,
собственные
имена.
Только
о дин
раз
встречается
имя
Магомета
и
даже
вместо
Алл ах
или
Алла
Пушкин
говорит:
б ог.
Так
Пушкин
поступал
всегда.
Он
не
отбрасывал
завоеваний
предшествующего
периода,
в
частности,
завоеваний
русских
романтиков,
и
своих
в
том
числе.
Но,
оставив
их
с
отбором
и
отказавшись
от
специфических
черт
романтизма,
он
осл ожн ял
их
новыми
элементами,
прида
в авшим и
им
новое,
уже
реалистическое
к ачеств о.
«Подражания
Корану»
—
это
уже
реалистическое
воссоздание
восточной
культуры.
Самое
сло во
в
этом
цикле
предопределено
в
своем
выборе
и
семантической
структуре
не
только
телеологически,
не
только
задачей
вы звать
зар ан ее
данное
представление
в
со з нании
читателя,
но
и
объективно,
то
ес ть
предопределено
тем
типом
куль тур ы,
к от орый
оно
представляет
и
конкретно
изображает.
Далее,
сам и
изображаемые
л юди
—
это
объек
тив ные ,
вне
п оэта
и
вне
читателя
реально
существующие
люди.
256
Пушк ин
показывает,
а
не
намекает,
и
п ок аз ывает
не
только
психику,
а
быт,
самую
жиз нь,
самые
условия
эт ой
жизни.
И
психика
становится
выводом
из
э тих
условий
жизни.
Суб ъек
тивное
начало
подч иняе т ся
объ ек тивно му ,
не
растворяясь
в
нем.
Пушк ин
обретает
конкретно
точные
определения
народно
го
бытия.
Не
я
ль
в
де нь
жаж ды
нап оил
Тебя
пустынными
вод ам и?
—
это
гов орит
бог
че лове ку
и
гордится
этим,
как
высшей
ми
лостью,
дарованной
им
смертным.
Это
—
действительно
Во
сток,
Аравия.
Вед ь
самое
пр едс тав ле ние
это
мог ло
родиться
только
в
на род е,
для
которого
вод а
—
драгоценность,
в
на ро
де
пу с тыни,
а
никак
не
в
сознании,
например,
русских
людей,
у
к от орых
ре ка
или
озер о
—
где
у год но,
под
боком.
Вот
это
—
дей ств ит ельн о
органическая
связь
ус лов ий
жизни
и
склада
представлений
80.
Вспом ним
тут
же,
что
у
Жуковского
в
«Песне араба над могилою коня» (из Мильвуа, 1810) в реф
рене
го в ор итс я: «Сей друг,
которого
и
ве тр
в
полях
не
обго
нял».
Эти
поля
в
Аравии
для
Пушкина
уже
невозможны.
Или
другой
пример:
Неда ро м
вы
приснились
мне
В
бою
с
обритыми
главами,
С
окровавленными
меч ами,
Во
рвах,
на
башне,
на
стене.
Эти
об ри тые
по
закону
мусульман
головы,
о бр итые
перед
бо ем,
чтобы
в
достойном
ви де
предстать
перед
лицом
смерти
и
хорошо
выглядеть
в
раю
—
оп ять
это
и
п сих ика
Востока,
и
в
то
же
вр емя
конкретное,
бытовое,
фактическое
представление
о
нем,
выпадавшее
из
кругозора
романтика.
Отсюда
же
происте
кае т
существенное
изменение
сам ых
представлений
о
психике
чужой
к ульт уры.
Пушкин
отказывается
от
выбора
только
эстетически
и
этически
эффе кт ны х,
положи те льны х
чер т
ее,
и
от
сближения
ее
со
своим
идеалом,
—
у
декабристов
—
гражданским
(у Жуковского в « Пе сне
араба»
—
лир ич ес ким.)
У
Пу шкина
ч елов ек
восточной
ку льт уры
тоже
во инст в ен,
80УФ.
Глинки
в
цитированном
выш е
«Призвании’Ис а йи», напеча
танном
еще
в
1822 году,
есть
то же
такие
строки
в
р ечи
бога
к
своему
пр орок у: «Вещай:
не
я
ль
тебя
лелеял,
и
на
ру ках
моих
носил,
Т ебе
в
пу сты нях
жизнью
веял,
Те бя
в
безводии
поил».
Но
эта
деталь
у
Глинки
растворяется
в
об щем
к олори те
ром анти ческ и
декоративного
восто чного
стиля
и,
подч ин я ясь
ему,
не
вы хо дит
за
пределы
усилительно-эмоционных
формул
его.
Пушкин,
может
быть,
подметивший
эту
деталь
у
Глинки,
дал
ее
по-своему,
изменив
ее
хар ак тер.
257
храбр,
могуч
в
своей
цельности
и
верности
национальным
преданиям;
но
он
в
то
же
время
свиреп,
чужд
гум аннос ти,
дик
в
своей
жажде
наслаждений,
он
весь
слит
со
своими
вовсе
не
восхищающими
Пушкина
социальными
о быкно в ениям и.
Во д
ности
д ре вних
народов,
измышленной
декабристами
и
выдви
нутой
ими
в
качестве
п рограм мы
для
современности,
в
п уш
кинских
стихах
не т,
и
его
магометане
совсем
не
похожи
на
декабристов.
Внемлите
радостному
кличу,
О
дети
пламенных
п усты нь!
Ведите
в
плен
младых
рабынь,
Д елите
бранную
добычу!
Это
—
мо ти вир овка
воинственности
(рабыни,
до бы ча)
совсем
не
такая,
как
у
Гл инк и,
ко неч но,
менее
приемлемая
для
Пуш
кина
как
п ере д ового
человека
своего
времени
и
своей
культу
ры,
но
более
соответствующая
действительности,
а
это-то
и
нужно
Пушкину.
Люби
сирот,
и
мой
Коран
Дрожащей
т вари
п роповедуй.
Дро ж ащей
тварью
не
Пуш кин
наз ывае т
народ,
а
бог
Магоме
та,
и
таков
склад
мысли
восточного
че лов ека,
а
вовсе
не
идеал
демократических
свобод
1825 года .
То
же,
например,
о
любви.
Восточные
герои
романтиков,
да же
Байрона,
да же
само го
Пушкина
в
«Бахчисарайском фонтане»,
любят
и
вообще
чувствуют
все
еще
как
европейцы-романтики.
У
Жуковского
араб
говорит
(«Песнь араба»):
Брожу
од инок ий,
задумчив,
унылый,
—
и
ни же:
Ты
(конь — Г.
Г.)
видел
и
Зару
—
б лажен ны
часы!
—
Сокровище
сердц а
и
чу до
красы;
Ус та
вероломны
тебя
велич али,
И
нежны е
длани
хребет
твой
ласк али;
Ах!
Зара ,
как
серна,
стыдлива
была;
Как
юная
пальма
долины,
цв ела;
Но
З ара
пришельца
пленилась
красою
И
с кры лась. ..
ты,
сп утник ,
остался
со
мною
81.
81 Жуковский и в этом был не одинок.
Можно
ук аз ать
ряд
стихотво
рен ий
других
п оэто в,
связанных
с
его
школой,
также
по
на зва нию
во ст оч
н ых,
но
не
имеющих
ни ка ких
признаков
наци ональ ног о
колорита
чувств
их
героев
и
трактующих
их
в
сентиментально-романтическом,
субъективно
психологическом
плане,
в
духе
«Песни араба»
Жуковского;
нап ример ,
«Феникс» (из Мильвуа)
А.
И.
Писарева
—
«Сын отечества», 1820, ч.
61,
стр .
33; «Тоска араба по милой»
Ал.
Дурова
—
«Соревнователь просвеще-
258
Пушкин
отбросил
все
это
в
«Подражаниях Корану» .
Здесь
у
не го
—
иная
л юбовь ,
чувственная,
гаремная,
восточ
на я; «Ведите в плен младых рабынь»
—
вот
ее
облик.
Или
стихотворение:
О
же ны
чи стые
пр орок а,
От
всех
вы
жен
отличены...
...Храните
верные
сердца
Для
нег
зак онны х
и
стыд ли вых,
Да
вз ор
лукавый
неч ес тив ых
Не
узрит
ваш его
лица!
А
вы,
о
го сти
Магомета...
...Почтите
пир
его
смиреньем
И
целомудренным
склоненьем
Его
невольниц
молоды х.
Пушкин
дает
пр им еч ание
к
э тим
ст их ам: «Мой пророк,
прибавляет
Алла,
вам
этого
не
скажет,
ибо
он
весь ма
учтив
и
ск ром ен;
но
я
не
имею
нуж ды
с
вами
чиниться,
и
про ч.
Рев
но сть
араба
так
и
дышит
в
сих
заповедях».
Вот
к
эт ому
и
стремится
Пушкин,
—
чтобы
м ыс.ли
и
чув ств а
ар аба
так
и
дышали
в
его
стихах,
и
ему
это
удается
потому,
что
он
нашел
объективное
обоснование
э тих
мыслей
и
чувств.
Это
и
был
переход
к
реализму.
Вс лед
затем
придет
ут оч
н ение
этого
обоснования
в
историзме.
Соб ст вен но
ист о ризм
развивается
у
Пу шкин а
одновременно
с
проблемой
о бъе ктиви
зации
местного
колорита.
Уже
«Песнь о вещем Олеге»
гово
рит
об
этом.
Нак он ец, «Борис Годунов»
завершает
этот
п уть
и,
на
еще
высшей
ступени,
—
«Евгений Онегин», историче
ский
роман
о
со вр ем еннос ти.
5.
Этнографический
колорит,
выдвинутый
как
сущ ествен н ая
проблема
искусства
романтизмом
и
выд вину тый
необходимо,
в
силу
сам ой
сущности
романтизма,
—
неизб еж но
в
ра зв итии
данно й
проблематики
привел
к
по стано вке
воп рос а
о
зависим
мости
характера
человека
от
объективного
мира,
от
типа
национальной
куль тур ы.
Романтизм
понял
—
в
его
революци
онном
те че нии
—
характер
человека
как
личное,
инд ивид у-
ния
и
бла готв орен ия» , 1820, ч.
X, стр.
90; «Могила персидского поэта» (из
Мильвуа)
А.
Крылова
—
«Соревнователь просвещения и благотворения»,
1821, ч.
XIV, стр .
299.
259
альное
пр ояв ле ние
хар акт ера
наро да,
наци и,
своеоб разн о й
индивидуальности
нар о да.
Нация
в
романтизме
выступила
как
н екая
индивидуальность,
а
совокупность
человечества
не
как
единство,
а
как
конгл ом е рат
индивидуально-определенных
на цион альн ых
характеров,
замкнутых,
нес меш ива е мых
и
неиз
меняемых.
Так
еще
значительно
позднее
Аполлон
Гри горь е в,
романтик
в
самых
основах
своего
мышления,
писал
о
народе
—
н ации: «Под именем народа в обширном смысле разумеет
ся
целая
народная
личность,
собирательное
лицо,
сла
гающееся
из
черт
всех
классов
на рода ,
высших
и
низших,
образованных
и
необразованных,
слагающееся
не
механически,
а
органически,
носящее
общую
типич е ску ю,
характерную,
физическую
и
нравственную
физиономию,
отличающую
его
от
других
подобных
ему
собирательных
лиц».
Принцип
индиви
дуализма,
антиколлективизма,
нежелание
увидеть
и
понять
единс тво
общего
(человечества), свойственные романтизму с
его
представлением
об
обществе
не
как
об
единстве,
а
как
об
ан арх ии
аб сол ютно
свободных
личностей,
торжествовал
и
зде сь,
в
применении
к
народу,
нации,
понимаемой
также
не
как
коллектив,
единство,
а
как
личность,
безразлично
повто
ренная
в
множестве
личностей
данно го
народа.
И
здесь,
как
в
психологизме
Жуковского,
бы ло
зало жен о
трагическое
проти
в ор ечие
индив иду али зма :
та м,
в
псих ол огич еско м
романтизме,
изображение
инди в идуа льн ой
души,
метафизически
отрываясь
от
порождающей
ее
среды,
неизбежно
приводило
к
утере
личностью
с пециф иче с кого
характера,
и
все
индивидуальности,
будучи
замкнуты
в
себе
и
отд е лены
от
других,
оставались
в
то
же
время
бесцветны,
не
могли
обрести
своеобразия,
станови
лис ь
похожи
друг
на
друга,
как
ка п.\и
воды.
Так
и
здесь,
в
проблеме
нацио нал ь но го
характера,
каждый
чело век
п р едст авал
именно
как
чистая
«эманация»
национ ал ьно го
духа,
и
все
они
—
в
пределах
одной
нации
—
с тано вились
одинаковыми;
метафизическая
та в тология
побеждала;
все
шотландцы
равны
друг
другу,
ибо
в
каждо м
из
них
—
единый
дух
нации,
и
все
греки
так же
равны
д руг
другу.
Так
ро ма нтич е ский
индивидуа
лиз м
поглощал
сам
себя;
его
раздирало
противоречие
конкрет
но сти
понимания
личности
—
и
метафизического
способа
пр едс та вле ния
о
н ей,
снимавшего
различие
личностей.
Это
бы ло
противоречие
идеалов
эпохи
буржуазной
революции,
бывшей
революцией,
скачком
от
устаревшего
фе ода лиз ма
в
прогрессивное
б удуще е
человека,
но
бывшей
буржуазной,
обезличивавшей
вновь
человека
уже
не
феодальными
привиле
гиями,
а
капит ал исти че ск ой
анархией,
новыми
оковами.
В едь
и
индивидуализму,
и
нацио на льно й
ид ее
в
ее
буржуазном
изводе
260
суждено
был о
остаться
навсегда
спу тникам и
буржуазии,
—
до
самой
ее
гибели,
в
формах,
впоследствии
искаженных
и
обна
ру жив ших
победу
реакционного
своего
элемента
над
р ево лю
ционным,
в
формах
антиобщественности
и
на цио нал изма .
Выход
из
ук азан н ого
противоречия
романтического
мы ш
ления
и
искусства
был
найд ен,
ука зан
и
осуществлен
Пушки
ны м,
и
эт от
выход
—
ис ториз м
и
через
историзм
подлинно
объективное
объяснение
человека
—
был
крушением
роман
тиз ма.
Но
самый
этот
выход
был
предопределен
существом
романтизма,
его
органическими
противоречиями.
Дел о
в
том ,
что
гражданский
романтизм
с
его
идеей
н ацио на льно го
своеоб
разия
и
национального
характера
отчетливо
п одво дил
к
про
блеме
зависимости
че лове ка
от
объективной
по
отношению
к
н ему
стихии
народного
«духа»,
х отя
романтизм,
оставаясь
только
романтизмом,
и
не
мог
совершить
пе ре ход
к
разреше
нию
эт ой
проблемы.
Впрочем,
для
то го
чт обы
Пушк ин
совер
шил
этот
переход,
он
д олжен
был
пережить
эв ол юцию
в
са
мых
основах
своего
социального
мировоззрения;
движение
от
романтически
субъективного
истолкования
п роблем ы
нацио
нального
характера
к
объективному
и
в
п от енции
—
к
реали
стическому
не
могло
быть
и
не
было
движением
только
лите
ратурным
или
отвлеченно-идейным.
Оно
б ыло
движением
общественного
сознания,
переходом
от
декабристской,
ог ран и
ченной
в
своей
социальной
б азе
революционности
к
демократи
ческому
сознанию,
началом
движения
от
Рылеева
к
Герцену.
Ид ея
«народности»
литературы,
стремление
к
приданию
литературе
не
только
большей
общественной
дейс тве нно с ти,
но
и
национальных
черт,
направляя
практику
значительного
числа
поэтов
«левого»
крыла
русского
романтизма,
осознавались
ими
и
теоретически.
При
этом
проблема
национал ьно го
колорита
в
ли терат у ре,
решавшая ся
на
материале
характеров
разн ых
н аро
дов
(оссиановские шотландцы,
гомеровские
греки,
библейские
е в ре и), в конечном счете должна была разрешиться в плане
построения
на циона льно- рус с ког о
колорита,
ст иля.
Именно
к
созданию
сво еоб р азия
русской
литературной
куль тур ы,
как
особого
характера,
ст р емил ись
и
теоретики
и
поэты,
осу
ществлявшие
движение
гражданского,
декабристского
роман
тизма;
однако
эта
задача
решалась
вовсе
не
просто,
а
в
рамках
ром ант иче с кой
замкнутости
окончательно,
по-видимому,
не
могла
быт ь
разрешена
совсе м.
Ориентация
на
фольклор
бы ла
приемлема
для
поэтов
декабристского
круга
лишь
в
очен ь
ограниченном
объеме:
фольклор,
с
их
точки
зрения,
хо тя
и
был
традиционным
искусством
нации,
но,
по
их
мн ени ю,
он
не
заключал
достаточно
героических,
протестующих
гражданских
261
мот ивов.
Декаб р истская
революционность
б ыла
слишком
книжной,
декабристская
идеология
бы ла
слишком
оторвана
от
демократических
корней,
сл ишко м
дале ки
были
с ами
декабрис
ты
от
народа,
чтобы
они
могли
воспринять
глубоко
демо кр ати
ческую
стихию
фольклора.
В
начале
XIX века фольклор про
поведовали
в
качестве
исто ч ника
вдохновения
не
столько
декабристы,
сколько
идеологи
реа к ции
в
л ит ера туре
и,
в
п ер
вую
очередь,
Шишков
(в «Разговорах
о
словесности», 1811)и
его
сторонники,
видевшие
в
н ем,
конечно,
неправомерно,
вы
ражение
фео даль н ых
устоев
в
крестьянском
и зво де.
Для
де
кабристов
проблема
зак люч алась
в
создании
литературы
дв о
р янс кой
интеллигентской
мысли
и
в
то
же
время
народной,
—
и
в
этом
опять
заключалось
глубокое
противоречие
декабрист
ского
мировоззрения
как
революционного,
но
не
демократиче
ско го
в
шир о ком
смысле.
Поэтому
для
построения
спе ци фи че
ско го
русского
сти ля
в
искусстве
не
находилось
достаточно
м ате риал а,
хо тя
все
же
кое-что
из
фол ьк л ора,
как
и
из
«Слова
о
по л к у», использовалось для этой цели,
в
частности
Катени
ным,
наиболее
радикальным
и
наименее
ограниченным
из
по
это в
декабристского
круга.
Эт от
материал
мог
быть
обретен
л ишь
на
пут ях
демократизации
искусства
и
на
путях
историче
ского
понимания
сам ой
проблемы
народности.
И
то
и
другое
бы ло
в
большей
или
мец ьш ей
сте пен и
не дос ту пно
романтикам-
декабристам
и
их
пр едше ст в енника м.
Межд у
тем
именно
в
теч е нии
гражданского
романтизма
возникла
открытая
и
теоретически
обоснованная
проповедь
народности
в
искусстве.
Впрочем,
и
Шишков
по-своему
рато
вал
за
народность.
Но
его
«народность»
не
имела
содержани
ем
даж е
национального
своеобразия;
смысл
ее
—
по
преиму
ществу
«чисто»
по литиче ский
и
притом
реакционный:
проповедь
со хр анен ия
фео даль н ых
устоев;
а
ведь
сам и
эти
«устои»
не
им ели
ничего
специфически
нацио нал ьно го ;
наобо
р от,
феодальная
идеология
б ыла
неизбежно
космополитична;
в
этом
бы ла,
между
прочим,
непоследовательность,
демагогич
но сть
и,
конечно,
полная
безнадежность
позиции
Шишкова.
В
декабристском
и
околодекабристском
круг у
народность
в
литературе
начали
проповедовать
рано,
непосредственно
вслед
за
напо лео но вс кими
войнами
и
в
непосредственной
связи
с
национальным
подъемом,
возбужденным
эти ми
войнами.
Проповедь
«руссизма»
и
ге ро ики
1807—1813 годов,
еще
недифференцированная
политич ески,
была
поч во й,
на
которой
вырастала
проблематика
романтической
народности
в
рус с ком
духе.
Сергей
Гл инка
со
своей
горячей
и
несколько
упрощенной
пропагандой
«русских доблестей»,
преследовавшей,
однако,
262
положительную
задачу
мобилизовать
силы
для
отпора
внешне
му
врагу;
или
И.
М.
Муравьев-Апостол
со
своими
«Письмами
из
Москвы
в
Нижний
Нов го р од», требовавшими беспощадной
борьбы
с
гал ло ма нией
во
имя
русской
национальной
гордости;
мн огочис л ен ные
статьи,
пьесы,
брошюры,
направленные
против
кул ьт урн ого
порабощения
дворянства
Западу
и,
в
частности,
Франции,
порожденные
патриотизмом
О т ечеств ен ной
войны,
были
предвестием
требования
народности
в
лит ера т уре,
хот я
немало
произведений
в сей
этой
патриотической
литературы
по
замыслу
а в торов
имело
консервативную
или
да же
ре акционну ю
направленность.
Им енно
из
этой
литературы
возникает
о коло
середины
1810- х
го дов
преддекабристское,
то
есть
уже
поли
тически
прогрессивное
требование
самобытности
искусства
—
как
оди н
из
п отоков
общественной
мы сли,
вышедший
из
моря
народного
подъема.
Так
случилось
и
с
журналом
«Сын оте
ч е ства », созданным Н .
И.
Гречем
в
1812 году в качестве
военно-патриотического
и
в
то
же
время
официозного
издания
имен но
со
специальной
целью
воспитывать
умы
для
войны,
а
затем
уже
с
1815—1816 годов превратившимся,
—
под
редак
цие й
то го
же
Греча,
—
в
орган
декабристской
ориентации.
В
1815 году Греч напечатал в этом журнале свое « Об озр ен и е
р усск ой
литературы
1814 года», программную статью,
по д
черкнутую
и
внешне,
издательски.
З десь
он
и злага ет
теорию
на ци онал ьн ого
сво еоб разия
н ар одов
в
лит е ра туре
(ч.
XIX).
Эта
те ория ,
отдающая
должное
всем
нар о дам,
ставила
ост ро
воп рос
и
о
русском
народе
и
его
нацио на льно м
характере
как
вопрос
литературной
политики.
Вс лед
за
тем
эта
же
проблема
ста нет
основной
в
теоретических
ра бота х
ли те рат оров
граждан-
ски-романтического
круга.
Требование
Ът
литературы
нацио
нальной
самобытности
будет
гл ав ным
тезисом
про гра м мных
статей
Ореста
Сомова
(«О романтической поэзии»; опыт в
тре х
статьях, 1823; сначаланапечатанв «Соревнователе
про
свещения
и
благотворения»
в
том
же
году), А.
Бестужева
(«Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начала
1825 годов»
—
«Полярная звезда»
на
1825 год;
и
«Взгляд на
старую
и
новую
словесность
в
России»
—
«Полярная звезда»
на
1823 год), Рылеева («Несколько мыслей о поэзии»
—
«Сын отечества», 1825 год), Кюхельбекера («О направлении
нашей
п оэз ии,
особенно
лирической,
в
последнее
дес ятил ет ие»
—
«Мнемозина», 1824 год).
При.этом
весьма
характерно
и
важно
то,
что
понятие
на
родности
во
всем
этом
течении,
в
сущности,
равно
понятию
национального
своеобразия,
нацио наль ного
характера
и
само
бытности.
Нар од
мыслится
писа телям и
декабристского
круга
263
как
нация ,
как
единство
нацио на льно го
типа,
а
не
как
социаль
ное
единство,
то
есть
не
как
демократическая
масса.
Са ма
по
себ е
концепция
народа-нации
не
дифференцирована
социально,
включая
в
себя
потенциально
и
кн язя
Древней
Руси,
и
кре
стьянина
любого
века,
и
современного
дворянина-интеллигента
XIX века.
Ин ое
д ело
—
то,
что
по
эт ой
концепции
правители
страны
и
их
приспешники,
высшее
дворянство,
предали
нацио
нальные
устои
ради
космополитизма,
то гда
как
демократиче
ская
масса
крепко
держится
национальных
устоев:
верований,
обычаев,
одежды,
род ног о
языка,
самобытного
склада
ум а.
Однако
ничего
«предустановленного»,
неизбежного
в
этом
положении
вещей
декабристы
не
видят;
они
считают,
что
и
дворянство,
да же
оставаясь
дворянством,
может
усилием
ума
и
в оли
вернуться
к
национальным
фо рмам
мысли,
бытия
и
твор
чества.
На
осуществление
это го
пов орот а
в
дворянстве
в
его
пе
ре д овой
части
и
направлены
пропагандистские
усилия
декаб
ристских
теоретиков
литературы.
Характерно,
что
они
стремят
ся
самую
борьбу
литературных
с т илей- миро во зз рений
свести
к
борьбе
наци онал ьных
ти пов
культуры;
они
во
всякой
идеоло
гич еск ой
ст рукт уре
готовы
увидеть
на цию,
национальный
ха
рактер.
Так ,
классицизм
для
них
—
это
ф р анцу зский
на цио
нальный
тип
культуры,
а
романтизм
в
духе
Жуковского
—
немецкий.
Еще
Пушкин
считал,
что
Расин
н арод ен
как
вы ра
зитель
на цио нал ьног о
типа
сознания
французов
(«О народ
ности
в
литературе», 1826).
Даж е
сентиментализм
Карамзина
или
салонность
Дми тр иева
Бестужев
склонен
свести
к
воздей
ствию
английского
и
французского
«духа»: «Было время,
что
мы
нев по пад
взд ых али
по-стерновски,
потом
любезничали
по-
французски,
теперь
залетели
в
тридевятую
даль
по-немецки.
Когда
же
попадем
мы
в
с вою
колею?
Ко гда
бу дем
писать
прямо
по-русски?» —
писал
он
во
«Взгляде на русскую сло
весность
в
те ч ение
1824 и начала 1825 годов» .
А
Гнедич
в есь
характер
романтизма
в
духе
Жуковского
готов
объяснить
тем,
что
«германцы любят мрак», что они любят метафизику и
т.
п.,
тем ,
что
«вообще германцы сильнее в теории,
чем
в
практике»
и
что
«север весьма мало благоприятствует искусст
ва м» 82.
Эта
же
ид ея
на род ност и,
и
именно
как
ид ея
нацио наль
но сти
в
пр им енении
к
рус с кой
на роднос ти ,
определяет
очень
многое
в
творческой
практике
поэтов
декабристского
лаге ря .
82 «Записная книжка Н .
И.
Гнедича».
—
П.
Тиханов,
Н.
И.
Г недич,
СПб., 188 4, стр.
72.
264
При
этом
необходимо
всячески
подчеркнуть,
чт о,
несмотря
на
ограниченность
понимания
национальной
иде и,
народность
был а
в
декабристской
литературе
прогрессивным
и
даже
рев о
люционным
лозунгом
—
в
плане
национально-освободительной
идеологии,
свойственной
революционным
движениям
ко нца
XVIII—
начала
XIX века.
Недаром,
например,
те
же
статьи
Бестужева
имеют
довольно
явную
направленность
про тив
в ыс
ших
кругов
властителей
страны,
против
«света»
и
т.
д.
Смысл
национальной
пр о пага нды,
декабристской
ли т ерат уры
заключал
ся
прежде
всего
в
стремлении
воспитать
в
моло до м
поколении
героизм,
мужество,
готовность
к
бор ьбе
за
попра нны е
права
нации,
гордость
национальными
традициями
доблести
и
свобо
долюбия.
Национальный
характер
русского
народа
—
по
де
кабристской
литературе
—
прежде
всего
зак лю чает ся
именно
в
воинских
доблестях,
с в ободолю бии,
любви
к
отечеству.
От сю
да
—
и
теоретически
прокламированное
в
п рогра мма х
дек аб
ристских
организаций,
и
практически
осуществлявшееся
дек аб
ристской
литературой
требование
воспевать
по дв иги
гражданского
и
военно-освободительного
героизма,
извлечен
ные
из
русской
истории
в
качестве
примеров
для
подражания,
примеров,
поднимающих
дух
молодежи.
Именно
так
понятая
народность
является
основой
и
сод ержан и ем
и
рылеевских
«Дум»,
и
«Мстислава Мстиславича»
Катенина,
и
б алл ады-
по эмы
Кюхельбекера
«Рогдаевы псы» (1824, «Мнемозина»),
и
его
же
бал ла ды
в
трех
частях
«Святополк»
(1824,
«Мнемозина»
и
«Полярная звезда»),
в
к от орой
приведен
отрицательный
при мер
предателя-злодея,
и
обширной
не окон
ченной
поэмы
А.
Бестужева-Марлинского
«Андрей,
князь
Переяславский»,
и
поэмы
А.
И.
Одоевского
«Василько»
(последние два произведения написаны уже после восстания
1825 года).
Таковы
же
содержание
и
смысл
замысла
и
набро
ск ов
поэмы
Пушкина
о
Вадиме
(1822; см .
особенно
план
по эмы
—
Полное
собрание
сочинений
Пушкина,
изд.
Акаде
мии
наук
СССР,
т.
IV, 1937, стр .
370—371).
Эта
же
и дея
народности
—
на ци она льной
самобытности
и
на циона льн ой
гордости
—
о пр едел яет
многое
и
в
со дер жан ии
драматических
и
прозаических
произведений
декабристского
круга,
—
ив
«Горе
от
ума»
Грибоедова,
и
в
указанных
трагедиях
(например,
С.
Глин ка , «Михаил,
кня зь
Чер ниго в ский»), и в
набросках
трагедии
Пу шки на
о
Вадиме,
и
в
«Письмах русско
го
офицера», и в «Письмах
к
другу»
Федора
Глинки
и
еще
в
«Андрее Безыменном»
Корниловича
(1832).
И
повсюду
в
этих
произведениях
характерным
об раз ом
нация
не
д иффе рен
цируется
и
противостоит
как
единство
ино пл еме нни кам-в р агам.
265
Представителями
на ции
я вляю тся
почти
всегда
кн язья ,
вожди
и
рук овод ит е.х и
ее.
При
этом
не
так
важно,
конечно,
что
они
—
князья,
как
важно
для
характеристики
мировоззрения
де
кабристского
романтизма
др уго е:
они
—
отдельные
личности,
сильные,
героические,
готовые
погибнуть
за
отечество,
—
но
именно
отдельные
личности.
Они
не
окружены
на род ной
ср е
д ой,
за
ним и
нет
народного
фона.
Они
—
и
не
ти пы,
вопло
щающие
облик
коллектива.
Герои:
Мстислав,
Ан дре й,
Вадим,
Курбский,
Дмитри й
Донской
и
др.
—
действуют,
исходя
из
закона
сво его
индивидуального
героизма
и
личн ой
преданности
отечеству.
В
каждом
из
них
—
частица
д уха
нац ии,
но
ка ж
дый
из
них
воплощает
эт от
дух
и ндив ид уа льно,
сепаратно.
Все
они
—
вожд и,
но
вож ди
без
массы.
Народ
—
это
герои
на
ции,
но
не
коллектив.
Ис тори я
—
это
действия
отдельных
героев,
рук овод ящи хс я
своими
высокими
стремлениями
за
свой
страх
и
за
свою
личную
ответственность;
такова
методология
пол ит ичес кой,
общественной
мысли,
заключенная
в
де ка брист
ских
стихах.
Еще
в
1773 году был создан «Г е ц
фон
Берлихинген»,
произведение,
почти
непо нят но е
по
мощи
предвидения
гряду
щих
путей
раз вит ия
человеческого
мы шле ния:
в
этой
драме
Гете
нарисовал
прошлое
именно
как
прошлое,
в
его
закономер
ных
социальных
процессах,
непов то рим ых ,
хот я
и
прославляе
мых
им
как
идеал.
Правда,
и
в
эт ой
драме
Гете
не
смог
по
строить
характер
человека
в
зависимости
от
исто р ии.
Его
герой
—
скорее
романтик
к онца
XVIII века,
чем
рыцарь
XVI
века,
так
же
как
обе
его
гер о ини
—
скорее
ж енщ ины
его
времени,
чем
типы
прошлого.
Эпоха
осталась
отделена
от
личности
в
качестве
фона,
мало
влияющего
на
самую
личность.
Но
все
же
п роблем а
б ыла
поставлена.
З атем
пришел
Ва льт ер
Скотт,
совершивший
могучий
по рыв
к
преодолению
р ом анти
ческой
метафизики.
Име нно
от
него
и дет
традиция
общеевро
пейского
историзма.
И менно
он
по каз ал
передовому
челове
честву,
что
общество,
бы т,
жизнь
менялись
в
развит ии
истории.
И
все
же
—
и
у
Вальтера
Скотта
эпоха,
им
изобра
женная
с
великой
глубиной,
не
обосновала
человека.
На
ф оне
борьбы
исторических
сил ,
объективных
и
изменяемых,
на
ф оне
ста р инных
замков
и
быта
прошлого
он
выводи т
на
сцену
своих
героев-любовников,
не
подчиняющихся
ник аким
за кона м
ис
т ории,
остающихся
нежными
и
страстными
романтиками
начала
XIX века.
Хар акт ер,
чувство,
мысль
че лов ека
романтически
па рит
и
у
Вальтера
Скотта
над
э похой .
И
только
у чен ики
Вальтера
Скотта,
историки,
школы
Баранта,
Тьерри
и
др .,
поставили
вопрос
о
человеке
как
объективно
обусловленном
266
историей
83.
В
искусстве
же
этот
вопрос
и
разр еше ни е
его
осуществляли
П ушк ин,
Стендаль,
Бальзак,
Мериме.
Я-указы
ваю
здесь
ли шь
основные
явления;
зревшие
вн утри
романтизма
сил ы
буд уще го
ис тор изма
б ыли
количественно
обильнее;
они
выявлялись
и
в
тв ор чест ве
второстепенных
писателей,
и
роман
тиков
в
том
числе.
Эти
с илы
накапливались
пр
ме ре
обнаруже
ния
неудач
индивидуализма,
—
еще
глуб же
—
по
ме ре
обна
ружения
обманчивости
идеалов
буржуазных
революций,
по
мере
все
боле е
настойчивого
выдвигания
великих
пр об лем
подлинной
демократии
ма сс,
угнетенных
как
феод альн ыми
п рив иле гия ми,
так
и
«свободной»
конкуренцией
индивидуаль
ностей.
Однако
для
русских
декабристов
эта
проблематика
исто
ризма
еще
не
стоит
в
п орядк е
дня.
И
даж е
воздействие
Валь
тера
С ко тта,
вплоть
до
«Арапа Петра Великого», дало на
русской
почве
л ибо
ультраромантические
и
весьма
малоистори
ческие
в
глубоком
смысле
с лова
по в ести
Марлинского
или
Булгарина
1820- х
годов ,
с
декорациями
сре дн евек овь я
и
геро
ями,
почти
ничего
общего
не
имеющими
со
средневековьем,
или
же
великолепные
последние
томы
«Истории государства
Российского»
с
титаническими
образами
Ива на
Гроз н ого
и
Бориса
Год унова ,
образами
могучих
индивидуальностей,
тира
нов,
Наполеонов
XVI века,
уж
никак
не
подводимыми
под
понятие
историзма.
Впрочем,
установленная
еще
В.
Масловым
прямая
зависимость
«Дум»
Рылеева
от
«Истории государства
Российского»
не
с лучай на
84.
Метод
Карамзина
был
еще
впол
не
приемлем
для
Рылеева.
Эта
методология
в
самом
своем
существе
внеисторична.
Национальный
колорит
романтизма,
его
поис ки
местных
к ра
сок,
его
интерес
к
народности
—
это
еще
не
историзм,
так
же,
как
культ
фольклора
и
средневековья,
характерный
для
английского
и
немецкого
(а отчасти и русского)
предромантиз-
83 Впрочем ,
предпо сылк и
н ового
метода
были
сформулированы
в
рас
плывчатом
виде
и
нечетко
де
Ст аль
и
Б арант ом
еще
и
до
восприятия
фран
цузской
историографией
влияния
Вальтера
Скотта.
В
работе
своей
«О
ф ранцу зск ой
литературе
в
теч ени е
XVIII столетия» (1 изд .
—
1803 год)
Барант
стремится
пок азать ,
что
не
люди,
как
свободные
л ично сти,
делают
историю
по
своей
во ле,
а
си ла
вещей
и
национальная
традиция,
н еиз бежны й
ход
истори и.
С вой ства
правления,
—
можно
сказать
да же,
что
свойства
правителя,
—
«разве они не зависят от обстоятельств,
в
которых
находится
нация,
и
от
идей,
распространенных
в
н ей ?» или: «Так можно убедиться в
том,
что
революция,
меняющая
лицо
ми ра,
не
я вл яется
следствием
характера
отдельного
человека
или
принятого
им
решения».
84 В.
И.
Масл ов ,
Литератур ная
д еят ель ность
Рылеева ,
Киев,
1912.
267
ма
и
романтизма
XVIII и начала XIX
века.
Человечество
в
своем
развитии
предстает
для
э той
системы
мысли
в
ви де
суммы
наций,
каждая
из
к ото рых
отмечена
чертами
своеобра
зия,
но
является
ве чно й,
се бе
самой
д ов леющей
национальной
сущностью.
Самая
же
ист ор ия,
и
даж е
р аз витие
исто р ии,
об разует ся
не
изменением
сущностей,
а
сменой
их.
На
арену
истории
выход ят
поочередно
н ации,
сменяя
друг
друга,
и
ка ж
дая
пр ино сит
с
собой
свой
вечный
характер,
вносит
в
мировую
сокровищницу
свою
единственную
лепту.
Ве дь
таково
же,
в
сущности,
представление
о
хо де
истории
человечества
еще
у
Гегеля,
человека,
во
многом
определившего
и менно
историче
ск ое
мышление
XIX столетия,
а
все
же
в
указанном
смысле
сохранявшего
привычки
мышления
романтизма.
Самые
же
эти
привычки,
самая
с уть
рома нти че ски х
представлений
о
народ
нос ти
и
исто р ии
глубочайшим
о бр азом
были
св яз аны
с
пред
с тав л ениями
о
с оциа льно й
действительности,
обус л овлен н ыми
практикой
оформляющегося
и
побеждающего
капитализма,
с
его
анархией,
культом
са моз а мк нутого
частного
бытия,
с
его
пр инципом
«свободной»
конкуренции
людей
и
народов
(государств
—
н ац ий ), с его культом успеха и победы.
Но
все
же
в
нач але
XIX столетия эта идеология была идеологией
борьбы
про тив
феодальных
оков,
задерживавших
развитие
и
творчество
и
лю дей
и
народов.
Метафизическое
пон ятие
о
народе-нации
как
само-
замкнутой
сущности
не
допус ка ло
п одл инно
исторического
представления
о
росте
и
изменении
эт ой
сущности
в
романти
ческом
иск ус ств е.
Так,
«голоса народов»
у
Г ерд ера
—
это
именно
выражение
ха ра кте ров
народов
в
пес не,
без
дифферен
циа ции
по
эп ох ам.
Кул ьт
средневековья
у
Тика
и
Новалиса
—
это
не
признание
высшей
ценно с ти
определенного
этапа,
исто
рически
неповторимого,
а
признание
того,
что
в
средние
век а
народы
Европы
наиболее
полн о
осуществляли
свой
нацио наль
ный
идеал.
Отсюда
и
призыв
к
восстановлению
средневековья,
самая
возможность
такого
призыва.
Дело
зд есь
именно
в
том ,
что
для
Тика,
и
Новалиса,
и
Фуке
средневековье
как
тип
бытия
и
духа
повторимо,
может
быть
восстановлено,
мало
т ого
—
должно
быть
восстановлено.
Они
зовут
Европу
вернуться
к
ее
«естественным»
свойствам,
сбросить
чужд ые
ей
формы
мыс ли
и
жизни.
И
«Генрих фон Офтердинген»
и
«Геновефа»
—
не
объективное
изображение
того,
что
было,
а
изо б ра жение
идеала.
И
то
и
другое
произведение
—
скорее
лири ка ,
чем
исторический
эпос
или
драма,
и
это
весьма
важно.
З начит ,
характер
воображаемого
этими
р о манти ками
прошлого
—
это,
по
их
мнению,
их
собственный
подлинный
характер,
и
они
268
могут
лирически
вы ражат ь
себя,
люде й
на
грани
XIX века,
образами
лю дей
IXиXV
веков,
могут
искать
св ою
сущность
в
л юдях
про шлых
веков
и,
наоборот,
видеть
в
людях
прошлого
самих
се бя.
Реч ь
зд есь
идет,
как
и
в
балладе
о
старом
моряке
или
—
mutatis mutandis —
в
«средневековых»
романах
Фл о
риана,
или
в
«средневековых»
драмах
Мюльнера,
За хар ии
Вернера,
или
Коллина,
или
в
поэме
Радищева
«Песни древ
ние», или,
на коне ц,
позднее,
в
«Думах»
Рылеева
—
об
очи
щении
высокого
идеала
национального
типа
от
всех
примесей,
чуждых
в лиян ий,
искажений
и
т.
п.
Но,
конечно,
самый
эт от
идеал,
подлежащий
очищению,
—
решительно
различный:
религиозно-пассивный
идеал
отка за
от
«грубых»
целей
эгоиз
ма,
идеал
мечты
у
немецких
романтиков
типа
Новалиса
и
идеал
с вобод олюб и вой
ге ро ики
у
Радищева
и
Рылеева.
Межд у
тем
в
глубинах
романтизма
исподволь
зрели
э ле
менты
будущего
и сто ри зма,
ко тор ые
и
должны
были
явиться
впоследствии
вратами,
через
которые
пришел
к
жизни
реализм.
Внеисторичность,
представление
о
народе
как
вечной
и
неи з
ме нной
сущности
характерным
о б разом
окрашивает
и
по лит и
ческие
представления,
и
взг ля ды
декабристов.
В
самом
де ле,
они
стремились
осмыслить
свою
глубокую
и
подлинную
рево
люционность
как
восстановление
попранных
исконных
прав
русск ог о
н арод а,
восстановление
того,
что
издре вл е
было
свой
ственно
свободным
формам
государственного
быт ия
Руси,
национальному
сво еоб разию
русских.
Де кабр ис тская
мысль
утверждала,
что
русский
народ
по
своим
национальным
тяготе
ниям
и
характеру
—
свободный
народ,
народ-республиканец,
что
крепостничество
и
само дер жави е
—
это
чуждые
политиче
ские
явления,
привезенные
в
Россию
чуждым
русскому
народу
правительством
царей-тиранов,
царей-немцев.
Отсюда
и
тема
освобождения
от
иноземного
владычества
(например,
от
татар
ского
иг а)
приобретала
в
декабристской
литературе
значение
темы
освобождения
от
русского
самодержавия.
«Царь наш
—
немец
пру сс кий»
—
эта
формул а
агитационной
песни
Рылеева
и
Бестужева
имела
принципиальное
значение,
как
и
более
поздняя
ф орм ула
«Русского бога»
Вяземского
(1828):
Бог
бродяжных
иноземцев,
К
нам
за шедш их
за
порог,
Бог
в
особенности
немцев,
Вот
он,
вот
он,
р усс кий
бог.
Идеал
подлинно
на цио нал ьног о
государственного
уст
ройства
дека брист ы
видели
в
д рев нем
Новгороде,
который
они
т оже
внеисторически
понимали
как
республику
буржуазно-
демократического
т ипа.
Именно
здесь,
в
Новгороде
и
Пск ов е,
269
самодержавием
были
«задушены последние вспышки русской
св обо ды », как писал Рылеев Пушкину.
Поэтому
Нов город
сделался
символом
политической
программы
дека бристо в,
од
ним
из
основных
образов
в
их
политической
поэ зии.
К ульт
Новгорода,
как
ид еала
национальных
устоев,
мы
найдем
и
у
поэтов-декабристов,
и
у
поэтов,
сколько-нибудь
затронутых
передовыми
взглядами
их
эпохи,
—
да же
у
Веневитинова
(«Новгород»).
Этот
же
культ
характерным
образом
продол
жится
в
поэз ии
Лермонтова:
и
в
лирике
(«Поэт») и в поэме
(«Последний сын вольности»).
Нужно
отметить,
что
ко нцеп
ция
свободы,
как
исконного
достояния
русс ког о
н аро да,
и,
в
свя зи
с
этой
концепцией,
культ
св обо дно го
Новгорода
и
него
дование
по
поводу
уничтожения
Новгородского
веча
—
бы ли
свойственны
именно
радикальной
и
ре в олюц ионной
обществен
ной
мысли
в
России
еще
в
конце
XVIII века;
мы
на ходи м
их
у
Княжнина
(«Вадим
Новгородский»)
и
у
Радищева
(«Путешествие»
—
гла ва
«Новгород», «Песни
древние»,
неизданные
выпис к и
по
русской
и с тории); своеобразное пре
ломление
эти
тем ы
нашли
у
Карамзина
и
в
«Марфе Посадни
це», и в «Истории
г осуд арст ва
Российского».
Но
для
декаб
ристского
круга
они
в
особенности
важны.
Именно
с
идеей
восстановления
свободы,
как
возвращения
к
национальным
устоям,
св яза ны
и
с пециф ич ес кие
агитационно-
про па га ндис тс кие
фор мы
деятельности
дека бристо в
—
от
борьбы
с
фраком
у
Грибоедова
в
«Горе от ума»
до
лексики
проектов
будущ е го
государственного
устройства,
в
ко то рых
интернациональные
термины
политики
и
во енн ого
дела
заменя
лись
древнерусскими,
впрочем,
подогнанными
под
новые
поня
тия
западноевропейской
государственности.
Эти
древнерусские
те рми ны
были
связаны
с
таким
же,
в
сущности,
псе вдо исто ри
ческим
маскарадом,
ка к,
например,
античный
мас кар ад
буржу
азной
революции
во
Франции.
В
них
по беж дал
тот
же
метод
«аллюзий», который был свойствен декабристскому искусству.
То
же
происходило
и
в
искусстве
декабризма,
поста
вившем
проблему
нацио на льно го
характера,
но
неизбежно
снимавшем
проблему
исторической
и
социальной
дифференциа
ции
этого
характера.
Декабристская
литература
не
представляла,
конечно,
це
лостного
единства.
В
частности,
в
ней
след ует
различать
два
основных
те ч ения.
Од но
из
них
наибо л ее
отчетливо
представ
лен о
творчеством
Катенина,
к
которому
примыкали
и
Кю хе ль
бекер
и
Грибоедов.
Это
теч е ние
в
литературно-стилистическом
пла не
восходит
во
многом
к
традициям
Радищева,
то
есть
революционного
предромантизма.
Другое
наиболее
я вно
пред
270
ставлено
творчеством
Ры ле ева
и
А.
Бестужева.
Оно
восходит
во
многом
к
той
ветви
предромантизма,
которую
не ре дко
условно
н азыва ли
революционным
классицизмом
и
которая
в
ру сск ой
литературе
представлена
была
у
Кня жнина
и
у
Озеро
ва
(«Дмитрий Донской») и не миновала того же Радищева
(ода «Вольность»).
Оба
те ч ения
декабристской
ли те ра туры
в
ряде
существеннейших
чер т
солидарны
—
ив
стиле
романтиз
ма,
и
в
ге роиче с кой
тематике,
и
в
понимании
задач
поэзии,
и
в
конкретных
чертах
по эт ики,
и
в
на ци она льн о-ос в ободит ельн ом
пафосе.
Но
в
первом
теч е нии,
иногда
(в работах Ю.
Н.
Ты
нянова)
обозначаемом
термином
архаисты,
или
младо-
архаисты,
выдвигались
проблемы
народности
как
«простонародности»
и
на родн о-на ци онал ь ного
колорита
с
б ол ьшей
с илой
и
глубиной,
чем
во
втором,
в
к отором
народно-
национальный
колорит
ст иля
не
признавался
столь
существен
ны м,
как
национальный
пафос
темы;
кроме
того,
второму
течению
был
в
большей
степени
свойствен
интерес
к
проблеме
личности,
индивидуальности,
как
человеческой
и
даж е
психоло
гической
индивидуальности,
выразившейся
в
б айр онич ес ких
увлечениях,
тогда
как
у
«архаистов»
личность
толкуется
в
основном
как
эманация
на родно- на цион альной
индивидуаль
ности.
Впрочем,
никак
нельзя
думать,
что
ме жду
этими
дву мя
те чен ия ми,
явившимися
двумя
сторонами
единого
те ч ения
гражданского
романтизма,
бы ла
непереходимая
грань.
Наобо
рот ,
граница
обоих
те че ний
постоянно
стиралась.
Кюхельбекер
писал
гражданские
оды
без
стиля
«народности», совсем в духе
Рылеева,
и
такой
же
характер
и мел,
по-видимому,
декабрист
с кий
гимн
Катенина:
О течест во
н аше
страдает
Под
иго м
твоим,
о
злодей!
и
т.
д.
Характерна
самая
возможность
по явл ения
в
нау ке
вопроса
о
том ,
кто
был
а в тором
известного
стихотворения
на
смерть
Чернова,
—
Рылеев
или
Кюхельбекер,
—
вопроса,
до
сих
пор
окончательно
не
решенного
и
не
решаемого,
исходя
из
стили
стических
данных.
Гн едич ,
поэт,
бли з кий
к
декабристским
круг а м,
примыкал
к
обоим
течениям,
так
же
как
и
молодой
Языков,
да
и
Федор
Г линк а.
Пушкин
также
включен
в
тр ади
цию
обо их
те ч ений.
В
«Вольности», в « Кин жал е», в послании
к
Чаадаеву
он
дает
основы
той
манеры,
которую
развивал
потом
Рыле ев .
В
«Песне о вещем Олеге», в «Пророке»
и
др.
он
смыкается
с
«архаистами».
271
Отдавая
с ебе
полностью
отчет
в
историко-литературном
значении
различия
дв ух
течений
декабристской
поэзии,
я
тем
не
менее
считаю
возможным
в
данном
изложении
не
диффе
ренцировать
их
вполне
отчетливо
только
потому,
что
я
вовсе
не
ставлю
своей
зад ач ей
изображение
истории
русской
литера
ту ры
начала
XIX столетия во всей сложности протекавшей в
ней
бор ьбы
направлений
и
течений;
моя
за дача
—
пр ослед ит ь
пути
в о зникно в ения
р еал изма
из
недр
само го
р о мант изма
как
мировоззрения,
и
с
то чки
зрения
этой
задач и
некоторые
явл е
н ия,
существенные
в
и ной
свя зи,
в
данно м
изло ж ении
могут
быть
даны
суммарно.
Были
у
обо их
э тих
те че ний
разногласия
и
по
воп ро су
об
«аллюзиях» .
Так ,
Катенин
довольно
решительно
возражал
против
аллюзий
в
трагедии.
В
письме
к
Колосовой
от
3 фев
раля
1824 года он бранит французские трагедии, «в которых
и зоб р ажены
мнимые
исторические
со б ытия,
на
самом
же
д еле
служащие
только
ли чи ною
для
у до бнейш ей
декламации
о
за
конной
власт и ,
о
Бурбонах,
о
Бонапарте,
об
обе их
кам ерах
и
о
половинном
жалованье» 85.
Он
поддерживает
своего
ед ино
мы шле нника
Жандра
в
нападках
на
Озерова;
и
Жандр
и
Ка
тенин
отказывают
Озерову
в
принадлежности
к
романтизму,
про кла мир ова нно й
Вяземским.
При
этом
К ате нин
недоволен
т ем,
что
Оз еров ,
по
его
мнению,
недостаточно
верно
передал
нацио наль ный
колорит
изображаемых
народов,
в
частности,
недостаточно
верно
изобразил
русских
в
«Дмитрии Дон
ском» 86.
Характерно
при
это м,
что
Катенин
озаб о чен
именно
национальным
колоритом,
а
не
исторической
и
социальной
правдой
(хотя у Жандра в критике «Ф инг а ла»
ест ь
и
н оты
осуждения
анахронизмов).
Катенин
избегал
аллюзи й
и
в
своем
собственном
творчестве.
Без
сомнения,
именно
у
не го
более,
чем
у
ког о-н иб удь
другого
из
поэтов
декабристского
круга,
этнографический
ко ло рит,
нацио на льна я
характерность
пр и
ближались
к
реалистической
поста но в ке
вопроса
об
историзме,
как
у
не го
понятие
народности
в
поэзии
наиболее
приближа
лось
к
постановке
пробле мы
народности
как
демократизма
(см.,
например,
его
крестьянскую
ба лладу
«Убийца»).
Именно
Катенин,
романтик,
наиболее
заметно
выя вля ет
тенденции
выращивания
внутри
романтизма
реалистической
п роблем ат ики ,
и
эт им
измеряется
значение
его
творчества
для
Пушкина.
85 Г.
В.
Битнер,
Драматургия
Катенина.
—
«Ученые записки
Ленинградского
государственного
университета»,
серия
филологических
наук,
No
2, 1939, стр .
75.
86Тамже,
стр.
72—73.
272
Иное
де ло,
например,
Рылеев.
Его
«Думы»
целиком
по
ст ро ены
на
методе,
совпадающем
в
существенной
своей
осн ове
с
методом
аллюзий.
Как
известно,
большинство
героев
«Дум»,
от
кн яги ни
Оль ги
до
Дер жав ина,
выглядят
у
Рылеева
дека б
ри ст ами
и
да же
произносят
декабристские
монологи
с
явствен
ным
применением
к
рылеевской
современности.
Рылеев
нимало
не
смущается
этим.
В едь
его
задача
—
показать
не
развитие
(историческое)
русских
л юдей
различных
пе риодов
ис тори
ческой
ж изни
Ро сс ии,
а
именно
на цион альн ое
единство
харак
те ра
русских
лю дей
во
все
времена.
Его
мысль
пр имер но
тако
ва:
русский
народ
свободолюбив
и
героичен;
он
выдвигал
ис к они,
—
таков
его
характер,
—
ге рое в- борц ов
за
свободу
отечества;
так
как
русский
народ
и
теперь
тот
же,
что
и
в
древности,
он
и
тепер ь
должен
выд винут ь
таких
же
героев
свободы
и
любви
к
от еч еств у;
задача
поэ та
—
по каз ать
в
древности
примеры
для
подражания
современникам;
пусть
читатели
«Дум»
выдви ну т
новых
Святославов,
Димитриев,
Волынских.
Следовательно,
в
основе
ко нце пции
«Дум»
лежит
приравнивание
современности
к
древности,
рассмотрение
древ
ности
как
вполне
сохранной
в
современности
и,
наоборот,
со
временности
как
принципиально
такого
же
проявления
русского
духа,
как
это
было
и
в
древности.
С
э тим
же
связано
и
отсут
ст вие
в
тексте
«Дум»
стилизации
древнего
или
да же
фольк
лор ног о
языка.
Рылееву
чуждо
стремление
Катенина
к
по
искам
народного
стиля
и
образности
в
«Слове о полку
И гор еве », в былине,
в
фол ьк л орной
песне.
Он
ощ ущает
с вое
собственное
сознание
как
народное
и
героическое,
и
поэтому
его
собственный
стиль
и
способ
видеть
в ещи
он
считаем 1ри-
менимым
и
к
др евн ости
(ведь там тоже
—
тема
народной
ге ро ик и ); в его понятие народности не входит ни историзм,
ни
достаточно
оф ормле нны й
демократизм,
к оторы й
мог
бы
обус
ловить
тяготение
к
ф оль клорны м
мо тив ам
и
стилю,
поскольку
он
увидел
бы
народность
не
только
в
понятии
национал ьно го
героизма,
но
в
демократической
массе.
Конечно,
не
ме няют
дела
несколько
отдельных
выра же ни й,
взятых
из
«Слова о
полку»
или
же
из
летописи:
персты
Бояна,
вит ая
по
з олот ым
струнам,
«славу рокотали», «Бояна-со лов ья » («Боян»),
или
«первоначальник
славы»
—
с
примечанием
Рылеева:
«Выражение летописца» («Димитрий Донской»).
Даже
эти
вы ра жения ,
попадая
в
среду
современного
Ры лее ву
романтиче
ского
слога,
теряли
св ое
древнее
обличье
и
звучали
как
по эти
ческие
мотивы
романтизма,
как
элементы
речи
декабристских
кружков,
густо
окрашивающие
весь
тек ст
«Дум».
Рылеев
на шел
мотивы
своих
народных
«Дум»
у
Карамзина;
К ат енин
273
искал
их
в
древней
письме нно с ти
и
в
фо льк лоре ,
так
как
он
считал
национальные
формы
сохраненными
в
«Слове о полку
Игореве»
и
в
крестьянской
поэзии
и
преданными
в
книжной
дворянской
кул ь туре
(это радикальнее,
но
и
здесь
еще
кр е
с тьянс тво
выдвигается
как
хранитель
нацио на л ьно го
духа ,
а
не
как
угнетенная
масса,
а
в
принципе
национальный
дух
во сста
новим
и
в
д во ря нс т ве ); Пушкин найдет мотивы своей народ
ности
т оже
в
ф ольклоре ,
но
поймет
его
как
прояв л е ние
именно
демократического
склада
м ысли;
он
найдет
их
в
песнях
о
Ра
зине,
в
истории
«многих мятежей»
народа.
Отсюда
и
всяческие
анахронизмы
рылеевских
«Дум» .
Не
даром
Пушкин
писал
самому
Рыле ев у
о
«Думах»
в
мае
1825
г ода: «Национального,
русского
нет
в
них
ничего,
кроме
имен
(исключаю Ивана Сусанина,
первую
думу,
по
кое й
начал
я
подозревать
в
тебе
ис тинный
талант).
Ты
напрасно
не
попра
вил
в
Олег е
герба
Рос си и.
Древний
герб,
святой
Георгий,
не
мог
нах о дитьс я
на
щит е
язычника
Олега;
нов ейш ий,
двуг ла вый
орел
ес ть
герб
византийский
и
принят
у
нас
во
время
Иоанна
III, не прежде .
Летописец
просто
говорит:
Таже
повеси
щит
св ой
на
вратех
на
показание
побе ды » (X, 143—144).
Дело
в
том,
что
у
Рылеева
в
думе
«Олег Вещий»
сказано
было:
Но
в
треп ет
горд ой
Византии
И
в
память
вс ем
века м
Пр ибил
с вой
щиг
с
ге рбом
России
К
Ц арьградс ким
в оротам.
Пушкина
рассмешил
и
рассердил
этот
анахронизм.
Он
пи
сал
о
нем
еще
в
начале
января
1823 года брату Льву Сергее
вичу,
прочитав
«Олега Вещего»
в
«Новостях литературы»
(1822 год,
No
И).
Между
тем
Рылеев
действительно
не
ис
правил
этой
о шибки
при
вторичной
пу бли кации
«Олега Ве
щего»
в
сборнике
«Дум»
в
1825 году,
и
это
было
для
н его,
очевидно,
несущественно.
Вед ь
он
вообще
не
видел
необходи
мости
в
исторической
точности
и
правдивости,
п ревр ащая
ге
рое в
про шлы х
веков
в
своих
современников.
«Думы»
целиком
—
о дин
сплошной
анахронизм.
У
Рылеева
современники
Боя
на
чувствуют,
как
Жуковский:
Мед,
в
стариках
воспламенивши
кровь,
Протекшую
нап ом нил
младость,
Поб еды
с лавн ые,
во лше бни цу
любов ь,
И
лет
утр ач енн ых
былую
рад ос ть ...
(«Боян»)
274
У
не го
Дими трий
Донской
гов орит
и
мы сл ит,
как
сам
Ры
леев:
Док оль
нам,
други,
пред
ти ра ном
Ск лон ять
покорную
главу...
Лети м
—
и
возвратим
народу
Залог
блаж енс тва
чуждых
стр ан:
Свя тую
праотцев
свободу
И
древн ие
права
граждан...
У
н его
князь
Глинский
в
начале
XVI века говорит: «И
лав р
мне
достался
в
уд ел » («Глинский»); у него князь Курб
ский
воздыхает
т оже
в
духе
Жуковского:
Далеко
от
ст раны
родн ой,
Далеко
от
подруги
милой,
—
Сказал
он,
покачав
гл аво й,
—
Я
дол жен
век
в ести
уны ло й...
Именно
на
таком
внеисторическом
понимании
искусства
обосновывалась
возможность
а ллюзий
в
литературе.
А
такой
внеисторизм
в
б ол ьшей
или
меньшей
с тепе ни
был
свойствен
все м
поэтам
декабристского
круга.
В едь
даж е
Катенин
не
см ог
бы ть
последовательным
в
своем
стремлении
к
местному,
на
циональному,
а
иногда
и
эпохальному
колориту.
Ведь
и
у
не го
Мстислав
М стисл ав ич,
сражавшийся
при
Кал ке,
вдруг
произ
носит
монолог
вполне
современного
Катенину
стиля,
декаб
ристский,
в
сущности,
монолог
и
не
без
а ллюз ий
(см.
выше) .
Ве дь
и
в
его
переводе
«Эсфири»
Расина
в
библейском
стиле
дается
своего
рода
аллюзия
к
современности
87.
То
же
мож но
сказать
и
о
других
«архаистах» .
У
Кюхельбекера
в
«Аргивянах», несмотря на явное стремление воссоздать под
линную
Грецию
с
ее
бытом,
по нятиям и,
религией,
мифологией,
несмотря
на
введение
в
трагедию
античного
хо ра,
ре чь
идет
о
борьбе
политических
мнений
начала
XIX века,
к руг
политиче
ск их
п р едст авлен ий
за мк нут
современностью
декабриста.
«При
классическом
сюжет е
она
был а
современна
по
настроениям»,
—
говорит
о
трагедии
«Аргивяне»
Ю.
Н.
Т ыняно в
88.
Он
же
отметил
еще
в
позднейшей
трагедии
Кюхельбекера
«Прокофий
Ля пун ов» (1834), написанной в значительной степени в манере
Ш екс пира
и
пушкинского
«Бориса Годунова», остатки старой
поэтики,
привнесение
в
пьесу
автобиографически
злобо дне вн ых
87 См.
Г.
В.
Б итнер,
Драматургия
Катенина,
ст р.
74—75.
88 В.
К.
Кюхельбекер,
Лирика
и
поэмы,
т.
I.
Вступ .
с тат ья,
редакция
и
пр йм.
Ю.
Тынянова,
Л ., 1939, стр.
XXIX.
275
мотивов
в
духе
Рылеева
и
самого
Кюхельбекера
1820 года 89 .
Еще
в
большей
с теп ени
можно
сблизить
манеру
«Дум»
Ры
леева
с
методом
«исторических»
национальных
баллад-поэм
Кюхельбекера.
И
даже
Грибоедов
в
своем
заме ча тел ьно м
плане
политической
трагедии
«Родамист и Зенобия»
еще
поч
ти
полностью
внеисторичен;
судя
по
этому,
достаточно
под
робному
плану
—
перед
на ми
зам ы сел
трагедии,
ц ели ком
построенной
на
изображении
современных
Грибоедову
полити
ческих
с иту аций
и
со бы тий,
—
в
одежде
восточного
стиля
и
с
восточными
декорациями,
ли шь
спорадически
влияющими
на
характер
и
действия
героев
(например, «гаремный»
характер
Зенобии
во
II акте).
Нечего
и
говорить,
что
поэмы
самого
Рылеева
—
и
«Войнаровский»
и
«Наливайко»
—
чужд ы
историзма;
в
эт ом
вопросе
они
под обн ы
«Думам», у Рылеева и
Войнаровский
и
Наливайко
—
декабристы.
Таким
образом,
декабристский
романтизм
был
ограничен
и
противоречив
в
своей
методологической
сущности.
Буд учи
течением
революционным,
он
не
смог
реализовать
своей
рево
люционности
в
смысле
основного
пр инципа
отношения
к
дей
ствительности.
Поставив
п робле му
самоопределения
народов,
и
культурного
и
политического,
он
не
смог
понять
народ
как
демократическую
массу,
а
понял
его
как
некое
условное
един
ств о
нации.
Стремясь
к
перелому
в
истории,
он
не
смог
осмыслить
политические
воп рос ы
исторически.
Тольк о
после
1825 года,
наученные
трагическим
опытом
14 декабря,
русские
передовые
романтики
ринулись
в
ист орию ,
как
в
идеологиче
ск ое
спасение.
«Московский вестник»
с де лался
жу р налом
историзма
и
историков.
Погодин
заявил
на
страницах
этого
жу р нала
1827 года в своих программных афоризмах,
что
«историк по преимуществу есть венец народа,
ибо
в
нем
народ
узнает
себя».
Официальный
редактор
журнала
Погодин
был
профессионалом-историком,
и
это
наложило
свой
отпечаток
и
на
его
л ите ра турную
деятельность,
и
на
самый
жур нал .
«Московский вестник»
обратился
и
к
статистическим
изучени
ям
со циа льно го
характера
и
бытия
народных
масс.
И менно
историзм
сблизил
Пу шки на
с
любом удр ам и
и
Погодиным,
привел
Пушкина
в
«Московский вестник»
в
1827 году .
Вслед
за
тем
началась
в
русской
л ит ера туре
полоса
исторических
романов
и
подражаний
Вальтеру
С кот ту.
За
отрывком
из
«Арапа Петра Великого»
появились
романы
Загоскина,
Ла
жечникова,
Сом о ва,
Масальского,
Пол евог о
и
других.
Нача ла
89 « Прокофий Ляпунов,
т раг едия
В.
К юхельб екера», ред .
и
вступ.
статья
Ю.
Тынянова,
Л., 1938, стр.
19.
276
выходить
«История русского народа»
Н.
Полевого.
Но
б ыло
уже
п оз дно.
Ист ор изм
как
ми ровоззр е ни е
романтического
бунтарства
уже
не
смо г
овладеть
литературой.
Наоборот,
ли бо
он
оказывался
путем
бегства
от
современности
в
прошлое,
ли бо
он
был
демагогически
использован
для
реакционной
апологети
ки
николаевского
настоящего.
Это
не
был
подлинный
исто
риз м,
но
лишь
видимость
его.
Декларации
Шевырева
не
б ыли
реа лиз ова ны
в
его
т в орчес кой
пра ктик е.
Его
нео ко нч енная
тр аге дия
«Ромул» (1830) трактует о русском вече и идеях
ран не го
славянофильства
в
одежде
древнеримских
образов.
Погодин
явственно
п орыва л
с
романтизмом,
и
в
своих
п ове стях
и
в
своих
драмах
делал
решительные
по пыт ки
идт и
к
реализму
путем,
близким
пушкинскому
пути.
Вслед
за
тем
оба
они
—
и
Шевырев
и
П огодин
—
эволюционировали
в
сторону
откры
той
реакции
и
успокоились
в
лагере
«официальной народ
ности»,
предав
историзм
ради
прославления
фео да льн о-
церковной
старины,
в
уко р
капитализирующейся
и
демократи
зирующейся
современности.
Булгарин,
Загоскин,
Масальский
опошлили
исторический
метод,
исказили
ег о,
превратив
исто
рический
рома н
в
доказательство
мысли
о
то м,
что
русские
всегда
были
преданы
цар ю
и
церкви
и
что
«предатели» (вроде
декабристов)
всегда
бы ли
от ще пенц ами
на
Руси;
историзм
их
ром а нов
фиктивен.
Полевой
бо ролс я
за
историзм,
но
буржуаз
ная
ог ран иче ннос ть
его
п оз иции
со рва ла
возможность
развития
ее
вглуб ь,
и
он
рано
погиб,
отброшенный
в
реакционную
ап о
логетику.
Всем у
этому
непо лноценно м у
движению
псевдоисто
риз ма
противостоит
могучая
мысль
Пушкина,
неуклонно
дви
гавшегося
именно
в
1820— 1830-х
годах
по
п ути
демократического
угл у бл ения
подлинного
историзма.
Противоречия
декабристского
рома нти з ма
1810— 1820- х
годов
трагически
сближа.\и
его
с
т рад иция ми
XVIII века .
Ме таф изич ес кий
характер
социально-политического
мышления
декабристов,
их
антиисторизм
был
и
положительным
и
отри ца
тельным
наследием
французского
просветительства.
В
основе
этог о
противоречия
меж ду
метафизичностью
и
революцион
ностью
мир ов оз зре ния
декабристов
лежало
более
глубокое
противоречие:
декабристы
б ыли
ограничены
в
своих
социально-
политических
исканиях
свои м
отстранением
от
демократической
массы.
Они
были
благородными
героями
революции,
—
и
они
погибли
за
свой
народ,
и
их
скорбный
труд
не
пропал
для
д ела
освобождения
вс его
народа.
Но
они
чуждались
народных
масс,
в
сущности,
не
считались
с
ни ми,
и,
не
имея
опоры
сво ей
революционности
в
де мокра ти че ской
массе,
они
руководились
в
своем
субъективном
пе р ежив ании
своей
собственной
ре волюц и
277
онности
ф икциям и
метафизического
характера.
Не
опираясь
в
св оих
попытках
революционного
действия
на
ис тори чес кую
реа льнос ть
народной
жизни,
они
не
мог ли
понять
по дли нног о
характера
ис тор ии
как
истории
народа,
и
они
о тме нили
ис
тор ию,
за ме нив
ее
по няти ем
нации.
И
они
неизбе жно
бы ли
романтиками-индивидуалистами,
ибо
они
искали
разрешения
политических
проблем
в
своем
личном
переживании,
а
не
в
закономерности
исторической
судьбы
нар о да,
определяющей
и
каждое
личное
переживание
ее.
В
са мом
деле,
понимание
че лов ека
как
о бъе кта
изображе
ния
п оэзии
в
декабристском
романтизме
субъективно.
Че лов ек
в
нем
все
еще
сам
себе
д о влеет
как
индивидуальность,
ниче му
не
подчиненная,
анархически
св об одн ая.
Ни
оди н
из
героев
«Дум»
и
поэм
Рылеева,
ни
один
из
героев
«Аргивян»
Кю
хельбекера,
ни
од ин
из
героев
Бестужева
ничем
не
обязан
народу,
обществу
в
св оем
характере,
образе
мыслей,
дейст ви
ях.
Все
они
мыс л ят,
чувствуют,
действуют
как
отдельные
личности,
повинующиеся
закону
своей
индивидуальности,
и
народ
для
них
—
это
смутная
стихия,
которую
можно
подчи
нить
своему
руководству,
но
к отор ая
не
име ет
самостоятельной
сил ы
и
судьбы,
несмотря
на
появление
народа,
напр имер ,
в
«Аргивянах», народа,
изображенного
именно
как
сфера
прило
жения
сил
личностей,
борющихся
между
собой.
Откуда
же
берется
личность,
именно
такая,
а
не
ина я?
На
это
декабристский
романтизм
не
отв еча ет,
ибо
для
не го
нет
само го
во пр оса.
Лич но сть
—
это
и
е сть
мир,
реальность,
сумма
всего,
из
которой
проистекает
все
в
жизни.
Вся
про бле
мати ка
действительности
замкнута
для
этого
мышления
в
ин
дивидуальности.
Человек
не
опр едел ен
«внешним»
для
н его
бытием
народа.
Он
выражает
только
самого
се бя,
—
но
са
мого
се бя
как
иде ю
нации,
повторенную
в
каждо м
человеке.
Это
было
явное
противоречие,
потому
что
здесь
д ел алась
п о пытка
слить
отдельное
с
единым,
ча стн ое
с
общим,
попытка
метафизическая,
ибо
она
р ешала
вопрос
не
в
смысле
реального
единства
частного
и
общего,
а
в
смысле
упразднения
самого
частного
и
общего
в
переживании
личности
(в духе теории
тождества
в
идеализме
начала
XIX века) .
От сюда
и
восстано
влени е
морализма
XVIII столетия .
Не
ви дя
в
стремлениях
личности
пр ояв ле ний
объективных
исторических
и
социальных
закономерностей,
декабристский
романтизм
принужден
был
возвратиться
к
истолкованию
эти х
стремлений
как
просто
дур
ных
или
добродетельных,
причем
самая
мораль,
при
отк рыт ой
сво ей
революционности,
оставалась
т оже
метафизической.
Так
появляются
мелодраматические
злодеи
у
Рылеева
(Димитрий
278
С амо з ванец,
Святополк), у Одоевского (Святополк), борьба
дв ух
братьев,
злодея
и
добродетельного,
в
«Аргивянах».
Но
почему
и
как
оди н
чел ове к
становится
дурн ым,
а
др уго й,
в
таких
же
обстоятельствах,
хорошим,
—
это
не
может
бы ть
объяснено
здесь
или,
вернее,
это
объясняется
лишь
те м,
что
таков
характер
их
индивидуальностей,
первопричина
всего.
Таким
образом,
вновь
возникает
противоречие:
иде я
нацио
н альн ого
характера,
не
будучи
объяснением
поступков
и
лич
ности
вообще,
ост аваяс ь
лишь
условным
выявлением
. личн ос ти,
допускает
возникновение
в
той
же
си стем е
иде и
характера
как
метафизической
морали,
не
вытекающей
из
определенности
самого
национального
характера;
добродетель
и
порок
пр ед
ст ают
в
эт ой
си ст еме
как
общечеловеческие
вечные
категории,
единые
для
всех
нар од ов
и
вр емен .
Метафизические
критерии
декабристского
рома н тиз ма
от
личаются
тем
не
менее
от
метафизических
критериев
просвети
те льст ва
XVIII столетия,
в
ча ст нос ти,
в
применении
к
крите
риям
ис тинно го
и
долж но го.
Для
просветителей
XVIII века,
все
еще
рац иона лис тов ,
например,
вопросы
политики
решались
надличной
логикой,
дедукцией
понятий, «разумным»
законом
обще че лове че с кой
мысли.
Для
них
абстрактная
ма тем атика
мысли
сама
и
вполне
о бъе кти вно
раз реша ла
все
проблемы,
независимо
от
жел ан ий
или
со чу вств ий
отдельного
человека.
Тепе рь
у
романтиков
декабристского
т олка
все
вопросы
решает
мн ение
человека,
отдельного
человека,
личности,
—
мнение,
не
подлежащее
апелляции
к
надличным
авторитетам.
Ид ея
для
них
—
и
ест ь
личная
человеческая
мысль.
При
этом
и
здес ь
наследие
просветительства,
хотя
и
в
изм е ненн ом
в иде,
доста
т очно
явно.
Сама
эта
идея,
са ма
мысль
человека-личности
понимается
как
логи ка
чистой
разумности.
Ибо
и
сам ый
на
циональный
характер,
составляющий
в
значительной
мере
характер
личности,
не
определяет
еще
содержания
и сти ны,
а
строится
она
все
же
рационалистически.
Отс юда
и
отвлечен
ные
споры
декабристов
о
то м,
что
лучше
—
республика
или
конституционная
монархия,
споры
«вообще», без достаточного
ана лиза
исторически
сложившейся
реальности
нар о дной
жизни.
Отсюд а
и
метафизический
морализм,
о
котором
говорилось
выше.
Отсюда
и,
к азал ось
бы,
противоречащий
рационализму
декабристский
байронизм,
столь
св о йств енный
и
Р ылеев у,
и
Бестужеву,
и
даже
Кюхе ль бек е ру,
и
даже
Грибо ед ов у
в
ч асти
его
произведений
и
в
его
личной
суд ьбе .
Стихии
индивидуа
лизма
и
рационалистического
просветительства
ос тавал и сь
непримиренными
в
сознании
декабристов,
но
они
противоречи
во
сочетались.
Именно
этой
связ ью
с
традицией
просветитель
279
ства
XVIII века и рационализма следует объяснить пережитки
и
иногда
довольно
зам етн ые
следы
классицизма
XVIII столе
тия
и
в
поэтическом
твор че ст ве
поэтов-декабристов,
их
неж е
лание
порвать
и
с
жанровой
традицией
классицизма
(традиционная ода,
канонические
ф ормы
трагедии
у
Катенина
и
др . ), и иногда с элементами стиля классицизма (н ап рим е р,
«К временщику»
Рылеева,
стихотворения
В.
Ф.
Раевского
и
др .).
Однако
при
на лич ии
связей
с
традицией
классицизма,
ос новные
стилеобразующие
принципы
поэзии
декабристов
вед ут
нас
к
рома нт изм у
как
к
осн ове
их
литературных
иска ний.
Недаром
декабристы
увлекались
и
Монтескье,
и
Шеллингом,
и
Вольтером,
и
Гельвецием,
и
Руссо,
и
Оу эн ом,
и
Сисмонди,
и
Бай роном,
и
де
Сталь,
и
Шиллером,
—
и
эти
влияния
ужи
вались
вмест е.
Недаром,
несмотря
на
Гельвеция
и
Монтескье,
именно
иде ал
с в ободной
личности,
ин див идуа л ьного
бу н
тарства,
во пл ощ енный
в
русском
байронизме,
был
так
важ ен
для
литературной
по л итики
декабристского
движения,
и
байро
нические
поэмы
Пу шкин а
по
праву
воспринимались
как
декаб
ристские
поэмы:
потому
что
все
же
декабристское
д виж ение
в
литературе
опира ло сь
на
иде ю
личности
как
цели
политическо
го
прогресса
и
на
идею
личности
как
с ре доточ ия
мира,
заклю
чающего
в
с ебе
весь
мир
(вместе с логикой рационализма
истины).
В
этом
была
именно
характерная
черта,
включающая
весь
декабризм
в
круг
буржуазно-революционных
движений,
и
в
этом
бы ла
грань,
непреодолимая,
несмотря
на
все
субъек
тивные
попытки
декабристов
преодолеть
ее,
не
меняя
су щест ва
своего
мировоззрения.
Впрочем,
ср азу
же
надо
сделать
две
оговорки:
де кабрис ты
в
своей
массе
и
не
могли
преодолеть
эту
грань,
и
они
в
этом
неповинны,
и
никто
не
имеет
права
осудить
их
за
это ,
так
как
они
подчинялись
закономерности
социальной
д ейст ви тел ьно сти
их
вр еме ни.
С
дру гой
стороны
—
бы ли
единичные
в ел икие
люди,
кот ор ые
вышли
на
дорогу
демократизации
своей
мыс ли.
Прежде
всег о,
это
был
Пушкин,
но
не
он
один.
В след
за
ним
и
рядом
с
ним
преодолевал
со циал ьну ю
замкнутость
и
метаф и
зичность
мышления
декабристского
движения
Гри бое до в.
От
сюда,
без
сомнения,
проистекали
разногласия
его
с
декабриз
мом,
хотя
и
сам
он
был
поэтом
декабристского
движения,
как
и
Пушкин.
И
все
же
«Горе от ума»
—
это
и
декабристская
пр о пага нда,
и
произведение,
выходящее
за
пр едел ы
декабриз
ма
как
в
изображении
людей,
так
и
в
изо б ражен ии
общества;
и
все
же
образ
Репетилова
заключает
в
себ е
гор ьк ое
раздумье
именно
о
слабых
сторонах
движения,
мо жет
быть,
осуж
280
да ющих
на
н еуда чу
те
идеи,
кот оры е
Грибоедов
разделяет.
Конечно,
здесь
спо р
идет
не
о
программе,
а
о
тактике.
Но
ве дь
и
тактика
выражает
принцип
мировоззрения.
Грибоедов
потому
преодолевал
романтизм
и
дв ига лся
к
реали зм у
в
«Горе
от
ум а», что он понял:
сто
че лове к
прапорщиков
хотят
изме
нить
весь
правительственный
быт
России!90.
Он
по нял
то,
что
мир ов оз зре ние
декабристского
заговора
безнадежно
св оей
оторванностью
от
народной
массы.
Эта
проблема
намечена
в
пл ане
«Родамиста и Зенобии», здесь изображается заговор
против
тир а на: «Вообще надобно заметить,
—
пише т
Грибо
едов ,
—
что
на род
не
имеет
участия
в
их
деле,
—
он
бу дто
не
существует.
В
тр еть ем
уже
действии
возмущение
делается
народным,
но
совсем
не
по
тем
причинам,
которыми
движимы
вельможи
и
т.
д.».
Понимание
того,
что
народ
имеет
св ои
интересы
и
зада чи
и
что
он
сам
может
восстать,
и
совсем
не
та к,
как
хотят
заговорщики
из
«высшего класса», и выделяет
Гр иб оед ова.
Вопрос
о
народе
он
поставил
и
в
наброске
драмы
о
1812 годе,
где
герой
—
кр епос тно й,
где
крестьянство
проти
востоит
дворянам,
где
автор
прямо
восклицает
и
именно
о
народе
как
демократической
ма с се : «Сам себе преданный,
—
что
бы
он
мог
произвести?» Те же,
в
сущности,
размышления
о
судьбе
и
бытии
народа,
о
его
собственном
гневе
и
о
его
собственной
воле ,
—
в
замысле
и
набросках
«Грузинской
ночи».
Грибоедов
явственно
нам еча л
преодоление
метафизическо
го
мы шле ния
декабризма,
но
не
осуществил
до
конца
это
п ре
одоление
тв орче ск и.
Он
остался,
и
как
художник,
романтиком
даже
в
своих
последних
планах
и
набросках;
и
в
«Горе от ума»
он
не
достиг
последовательности
и
гл уб ины
реалистического
м иро во ззр ения
зр елог о
Пушкина.
И
все
же
именно
Грибоедов,
как
ник то
из
современников
Пушкина,
уловил
смысл
его
ис
каний
первой
половины
1820-х
годов
и
примкнул
к
не му.
Сти
хотворения
Пушкина,
наиболее
пр инципиа льн ые
в
смысле
нового,
—
в
проекции
развития
реалистического
ис толко ва ния
проблемы
ме стно го
колорита,
—
бы ли,
без
сомнения,
известны
Гри бое д ову.
«Песнь о вещем Олеге»
б ыла
на печ ата на
в
«Северных цветах»
на
1825 год,
вышедших
в
с вет,
когда
Г ри
боедов
был
в
Петербурге.
Уже
в
конце
января
1825 года
Пушкин
пи сал
Б ест уж еву: «Тебе,
каже тся ,
Оле г
не
нравится;
н апр асн о...» (X, 122).
Значит,
в
кругу
декабристских
петер
бургских
лит е рат оров
«Песнь о вещем Олеге»
уже
дебатиро-
90 Эта фраза ,
которую
яко бы
ск азал
Грибоедов,
может
быть
и
леген
дарна.
Но
она,
по-видимому,
в ерно
выр ажает
его
точку
зрения.
281
валась
в
это
время.
А
Гриб оедов ,
приехавший
в
Пе те рбург
1 июня 1824 года,
уехал
из
с толиц ы
только
в
ко нце
мая
1825
года.
«Подражания Корану»
были
напечатаны
в
пушкинской
книжке
1825 года,
вышедшей
в
свет
фактически
уже
в
1826
году
(написаны в ноябре 1824 года); но уже весной 1825 года
они
были
известны
—
чер ез
брата
Пушкина,
Льва,
и
именно
в
тех
же
декабристских
кругах.
В
конце
апреля
1825 года
Рыле ев
писа\
П ушк ину : «В субботу был я у Плетнева с Кю
хельбекером
и
с
братом
твоим.
Лев
прочитал
нам
несколько
новых
тво их
стихотворений.
Они
пр еле стны;
особенно
от рыв ки
из
Алкора н а.
Страшный
суд
ужасен!
Стихи
И
брат
от
брата
п об ежит,
И
сын
от
матери
от пр янет ...
—
превосходны...»
Следовательно,
Кюхельбекер,
др уг
и
едино
мышленник
Грибо едов а ,
уже
знал
«Подражания Корану».
Вообще
эт от
цикл,
видимо,
стал
довольно
широко
изв ест ен
петербургским
литераторам.
И.
И.
Козлов
писал
о
нем
Пуш
кину
31 мая 1825 года: «La fille de Gzerni-Georges, les versets
du Coran et deux Elégies surtout m'ont tourné la tête» 91.
Можно
полагать,
что
именно
«Подражания Корану»
ок азал и
в ли яние
на
Гри б ое дова
при
создании
им
«Хищников на Чегеме», напи
с анных
(во всяком случае,
вчерне)
в
окт ябр е
1825 года на
Кавказе,
че рез
полгода
после
того,
как
ем у,
в идимо ,
стал
из
вестен
пушкинский
цикл.
Сущность
«Хищников на Чегеме»
ана ло гич на
замы сл у
пушкинских
«Подражаний».
И
здесь
по эт
ставит
своей
целью
не
идеализированное,
возведенное
к
некоему
метафизическому
ти пу
национальной
героики,
изображение
«первобытного»
народа,
а
изображение
его
во
вс ей
его
этнографической
харак
терности
и
несходстве
с
нормами
европейской
общественной
мо ра ли.
Грибоедов
я вно
сочувствует
г орц ам;
ему
импо нир у ет
и
их
свободолюбие,
и
их
мужество,
и
ве сь
склад
их
мо гуч ей
жизни,
как
бы
слитой
с
мог уч ей
природой
Кавказа,
и
их
гор
дость
сво им
народом
и
с воей
страной.
Но
тем
не
менее,
он
нисколько
не
закрывает
г лаза
на
то,
что
эти
же
горц ы
—
грабители,
что
они
—
рабовладельцы,
и
он
гов орит
о
рабах
г ол осом
и
мыслью
сам их
гор це в,
признающих
рабство
есте
ст ве нным
явлением,
а
похищение
рабов
—
делом
благородным.
Грибоедов
понял,
как
и
Пушкин,
что
сам ая
мора л ь,
самая
психика
горцев
иная,
ибо
и
жиз нь
этого
народа
иная,
чем
жизнь,
породившая
психику
его,
Грибоедова.
И
он
не
о су жда-
91 «Дочь Карагеоргия,
стихи
из
К орана
и
две
эле гии
осо бенн о
привели
меня
в
в ост орг » (франц.) .
—
Ре д.
282
ет
горцев,
—
он
объясняет
их.
Отсюда
и
ха ракт ерне йш ие
черты
его
стихотворения,
преодолевающие
романтическую
идеализацию
постольку,
пос кольку
Грибоедов
преодолевает
романтический
субъективизм,
преодолевает
замкнутый,
круж
ковый,
абстрактный
характер
политического
мировоззрения
и
социального
мироощущения
д ека б ризма
и
видит
б езнад ежн ост ь
политики,
в
кот орой
f «народ не имеет участия»
и
«будто не
су щест вуе т».
Грибоедов
в нимат ел ьно
рисует
г р абите льс кий
пафос
своих
«хищников» (он уже хорошо знает,
что
они
не
мог ут
имет ь
декабристского
понимания
демократической
св о
бод ы
и
т.
п.):
Ок опа йтесь
р вами,
рвами!
Отразите
смерть
и
пле н
—
Б леском
ружей,
твер жей
ст ен!
Как
ни
крепки
вы
стенам и,
Мы
над
в ами,
мы
над
вами,
Будт о
быстрые
орлы
Над
челом
крутой
с ка лы...
И
ниж е:
...Мы
о бся дем
в
дружном
в ече,
И
по
ряду,
дележом,
Делим
взятое
ножом.
Д оли
луч шие
отложим
Н ашим
панцирным
князьям,
И
джигитам,
узденям
Ю ных
пл е нниц
приумнож им ,
И
кадиям,
л юдям
б ожь им,
К расны х
отр оков
дадим
(Верой стан наш невредим).
Узн икам
удел
обычный,
—
Над
рабами
высока
Их
ст яж ат елей
рука.
Узы
—
жребий
им
пр иличный;
В
их
з емле
и
свет
темничн ый!
И
уж асен
ли
обмен?
До ма
—
цепи!
в
чу же
—
плен!
Делим
женам
ожерелье.
Вот
обломки
хрусталя!
Пь ем
бузу!
Стони,
земля!
Кликом
огласи сь ,
ущелье!
П адшим
мир,
живым
весел ье!
Раз
еще
увидел
взор
Во льн ый
край
роди мы х
гор!
283
В
ранней
редакции
с ти хотв оре ние
так
и
называлось:
«Дележ добычи».
Грибоедова
не
пугает
«низменность»
мот и
вов
войны
у
его
хищников:
они
—
ди ка ри;
их
прельщают
блестящие
поб ряк ушк и
(обломки хрусталя); они относятся к
г рабежу ,
как
к
до ст ой ному
делу,
но
в
их
созн ани и
граб еж
сплетен
с
свободолюбием,
и
для
них
столь
же
сил ьны
иные
мо тивы ,
так
же
ярко
выраженные
Гр ибо е довым : «Вольный
край
родимых
гор», —
и
дикая
ненависть
к
врагам
их
родины,
и
самая
своеобразная
эстетика
дикой
природы
и
дикой
жизни
(«Та же дикость,
красота
По
ущельям
разлита»).
Они
—
в оины
по
натуре,
упивающиеся
борьбой
и
победой:
Мрак
за
нас
но чей
безлунных,
Шум
по ток а,
в ыси
гор,
Дождь
и
мг ла,
и
вихрей
с пор.
На
угон
коней
табунных,
На
овец
золоторунных,
Где
витают
вепрь
и
волк,
Наш
з алег
отважный
пол к.
....
Той
же
тканию
свиенной
Так
же
ск рь ггы
мы
мгн ове нно,
Вм иг
явил ис ь,
миго м
н ет,
Выстрел,
дв а,
и
сгинул
след .
И
здес ь
же
—
объяснение
то го,
что
горские
х ищник и
и
героичны
и
свободолюбивы,
но
совсем
не
в
д ухе
декабристских
идеалов.
Ведь
они
не
только
с
удовольствием
о бр ащают
плен
ников
в
рабство,
но
и
блюдут
дедовские
первобытно-
феодальные
отношения
с
нек им
благоговением:
недаром
они
прежде
всег о
уделяют
лучшие
доли
князьям,
потом
—
джиги
та м,
уз де ням.
И
их
по нятия
о
женщине
не
такие
уж
возвы
ше нны е,
с
точки
зрения
декабриста: «Юных пленниц при
умножим».
И
их
религи оз ны е
п оня тия
дикарские,
хотя
они
и
уверены,
что
«Верой стан наш невредим», так как их вера
выражается
в
т ом,
что
«Кадиям,
людям
божьим»
они
да ют
«красных отроков»; они дикари и в веселье победы («Пьем
бузу!
стони,
земля»
и
т.
д.), и они не годятся в образцы рево
люционности;
они
живут
именно
вековой
традиционностью:
Живы
в
нас
от цов
обряды,
Кро вь
их
буйн ая
жива.
Преданность
национальной
ид ее
и
свободе,
мужество,
зд ор овые,
хотя
и
грубые
страсти,
—
все
это
нравится
Гри бо
едову.
Его
дикари
с
презрением
говорят
о
Р о ссии,
где
в едь
то же
рабство
(«Дома
—
цепи»), но нет их родного раздолья .
Таким
обра з ом,
Грибоедов
и щет
в
св оих
«Хищниках на Чеге
284
ме»
уже
не
иде ю
нации
как
метафизического
субстрата
че лове
ка,
а
конкретную
картину
реального
бы тия
и
даже
быта
нар о
да,
об осн овы вающ ую
структуру
личности,
характера,
чувств
и
мыслей
человека;
и
он
стоит
в
преддверии
реализма,
как
и
Пушкин
в
«Подражаниях Корану» .
Тако й
же
хара кт ер
имеют
и
пл ан
и
наброски
«Грузинской
но чи », трагедии,
над
которой
Грибоедов
раб от ал
в
1826—
1827 годах .
Эта
трагедия
—
потрясающе
сильное
вы ст упл ение
против
крепостного
права,
против
феод ализм а.
Но,
исходя
из
дека бри стских
идей,
Грибоедов
как
мыслитель
ид ет
в
ней
дальше.
Он
решает
проблему
крепостничества
не
апелляцией
к
учениям
о
правах
человека
вооб ще ,
а
изучением
народного
сознания.
Как
и
в
плане
драмы
о
1812 годе,
и
здесь
геро й
трагедии
—
человек
из
порабощенного
народа,
рабыня
грузин
ского
князя,
его
кормилица.
В
пределах
изображения
ее
страшной
д уше вной
др амы
по казан
ужас
рабства.
Дело
для
Гри бо едо ва
вовсе
не
в
том,
что
его
кн язь
—
злодей.
Он
вовсе
и
не
зло де й;
но
он
живет
и
действует
по
зак он ам
фе ода ль ной
морали
и
обычаев.
Все
это
обосновано
у
Гри бое д ова
глу б оким
пони ма ние м
национальной
культуры
людей,
их
страстей
и
склада
мыслей
уже
не
как
предустановленной
метафизической
сущности
нации
вооб ще ,
а
как
характера,
объясняемого
исто
рической,
соц иаль но й
с удьбо й
народа.
Его
герои
—
л юди
вос т очн ого
народа,
но
и
лю ди
феодализма,
при
этом
восточно
го
феодализма.
В
это м
смы сл
метода
Грибоедова
и
смелость
его
концепции
трагедии.
Даже
в
изложении
ее,
написанном
Булгариным
(напечатано в 1830 году), это видно;
ну жно
ду
мат ь,
что
пересказ
Булгарина
пер ед ает
тот
характер
и з ложе
н ия,
кот ор ый
он
усвоил
от
самого
Грибоедова.
Бу.хгарин
пи
шет,
н априм ер,
что
Гри бое дов
«почерпнул предметы оной
(трагедии.
—
Г.
Г.)
из
народных
пре да ний
и
основал
на
ха
рактере
и
нравах
Г р узи и »; князь променял своего раба на
ко ня: «это было делом обыкновенным,
и
потому
князь
не
думал
о
следствиях»; мать раба,
г ерои ня
т р а ге дии, «как азият-
ка,
умышляет
жестокую
мес т ь».
Характерна
и
мотивировка,
которую
выдвигает
кня зь
для
оправдания
«необходимости»
обмена
раб а
на
ко ня,
—в
дошедшем
до
нас
отрывке
тр а гедии:
Я
помню
о
людях,
о
бо ге,
И
сына
твоего
не
дал
бы
без
нужды.
Но
честь
моя
б ыла
в
залоге:
Его
ценой
я
выкупил
коня,
Который
подо
мной
в
боях
ме ня
п росл авил,
Из
ж арких
б итв
он
выносил
ме ня ...
Тот
подл,
кто
бы
его
в
чужих
руках
оста вил.
285
Это
—
це лая
характеристика
народа
воинов
и
наезд ник ов ,
—
ф еода ль ного
мышления
и
фео да льн ой
«чести»; мотив «к у ль та»
коня
едв а
ли
не
вос ход ит
здесь
к
пу ш кинско й
«Песни о вещем
Ол еге» .
И
сама
кормилица,
мат ь
о трока ,
обмененного
на
коня,
мыслит
фео да льн о,
как
рабыня
(она вовсе не декабристка):
Ни
конь
твой
боевой
всей
крепостию
жи л,
Никто
из
слуг
твоих
люби мых
Так
верой-правдою
тебе
не
пос лужи л,
Как
я
в
трудах
неи счис лим ы х.
Мой
отрок,
е сли
б
возмужал,
За
славу
твоего
он
княжеского
дома
Сто
раз
бы
притупил
и
сабл ю
и
кин жал ,
Не
убоялся
бы
он
язв
и
пушек
грома.
Как
ма тер ью
его
ты
был
не
раз
сп асе н,
Так
на
плечах
сво их
тебя
бы
вынес
он.
Именно
стремлением
проникнуть
в
глубины
п сих ики
изо б
ражаемого
н арод а,
пронизать
всю
трагедию
образами
мировоз
зрения
и
представлениями
этого
народа
объясняется
и
«романтика» «Г ру зи нск ой
ноч и » (как и фантастика драмы о
1812 годе), участие в ней духов,
волшебных
сил
грузинских
преданий.
З десь
Грибоедов
ид ет
тем
же
путем,
что
и
К юхель
бекер
в
«Ижорском»
с
его
Кикиморой,
Шишиморой,
Бук ой
и
прочей
сказочной
фантастикой.
Это
был и
попытки
создать
рус с кую
драму
в
духе
«Фауста» .
Но
здесь
же
был
и
предел
реалистических
поисков
Грибоедова
в
драме.
Конечно,
я
не
и мею
здесь
в
вид у
фантастику
как
таковую,
особенно
же
фан
тастику
фольклорного
духа
и
происхождения,
нимал о
не
проти
воречащую
обязательно
и
во
всех
случаях
реализму.
Ведь
фантастика
пушкинской
«Русалки»
не
противоречит
е му.
И
сам и
по
себ е
духи
к авк азск ой
мифологии
не
помешали
бы
Грибоедову
создать
реалистическую
трагедию.
Но
дело
в
том ,
что
он
прибег
к
фантастике,
по-видимому,
именно
потому,
что
он
не
мог
воплотить
жизнь
народа
и
его
психику
в
объек
тивные
формы.
Он
был
принужден
офо рми ть
свою
идею
более
как
субъективное
переживание
его
героини,
чем
как
объек
тив ное
обоснование
этого
переживания.
Характеристика
герои
ни,
как
человека
д анно го
народа
в
данной
историко-социальной
ситуации,
срывается
и
оказывается
погру же ни ем
в
мир
пред
ставлений
героини.
Объективные
события
о казы в аются
содер
жанием
ее
сознания,
верующего
в
духов.
Страшная
реальность
крепостничества
переплетается
с
психологической
реальностью
меч та ний
рабыни.
О б ъ ективный
мир
то
объективно
о бъ ясняет
субъективную
сущность
героини,
то
ок азы вает ся
л ишь
суммой
к расок
на
пал итр е
худож ника ,
необходимых
для
раскрытия
286
суб ъект и вн ого
мира
гнев а
и
протеста.
Противоречие
метода
не
разрешено
в
«Грузинской ночи», как это же противоречие не
разрешено
и
в
«Ижорском»
Кюхельбекера
или
в
его
же
не
ок онч енн ой
драме
«Иван купецкий сын» (1832—1842), и как
оно
не
разр еш ено
и
в
друг их
романтико-фантастических,
но
не
лишенных
реалистических
тенденций
драмах
1830-х
годов
(ср .,
например,
любо пыт н ую,
хотя
и
художественно
слабую
драму
Бернета
«Граф Мец», 1835).
Может
быть,
именно
внутренняя
непоследовательность
замысла
«Грузинской ночи»
и
помешала
Грибоедову
работать
над
ней
дальше,
хотя,
конечно,
мы
не
знаем,
какой
вид
пр и
обрела
бы
эта
вещь,
ес ли
бы
Грибоедов
про жил
дольш е
и
двигался
бы
впер ед
как
художник
и
мыслитель.
Однако
ст оит
об р атить
в ниман ие
еще
на
одну
деталь:
суд я
по
изложению
Булгарина,
в
грибоедовской
трагедии
должен
был
появиться
и
байронический
герой,
в
которого
влюбляется
дочь
кня зя;
вот
что
пишет
об
эт ом
варианте
кавказского
пленника
Булгарин:
«Появляется русский офицер в доме,
таинственное
существо
по
чувствам
и
обра зу
мыслей».
И
в
эт ом
пу нкте
Грибоедов,
вид им о,
не
оторвался
от
рома нт изм а.
Еще
раз
подчеркну
здесь
попутно,
что
нет
никак их
оснований
осуждать
Гри бое д ова
за
его
романтизм
и
за
то,
что
он
не
преодолел
его
до
конца.
Нет
ни к акой
такой
по ви нно сти
для
всех
писателей
1820-х
годов,
как
и
бол ее
позднего
времени,
во
что
бы
то
ни
стало
преодо
лев ать
романтизм.
Я
говорю
здесь
о
том,
что
Грибоедов
не
завершил
построение
реал изм а
(этоотноситсяик «Горю
от
ума»), хотя и стоял на реалистическом пути,
—
только
для
уяснения
отличия
его
от
Пушкина,
кото рому
он
во
многом
близок.
6.
Как
уже
гов ори лос ь,
Пушкин
в
1810-х
и
в
начале
1820-х
годов
движ ется
в
русле
романтических
проблем
русской
лит е
ратуры.
Он
осваивает
психологические
завоевания
так
назы
ваемых
«карамзинистов»
и
на
основе
их
пос те пенно
овладевает
конкретным
представлением
о
человеке
как
о
характере.
Одно
временно
с
эти м
Пушкин,
по
мер е
углубления
его
радикализма
в
политической
области,
все
более
сближается
с
декабристским
романтизмом.
Собственно,
еще
до
основания
декабристских
организаций
Пушк ин
уже
был
поэто м
радикального,
а
потом
и
ре во люц ион ного
дви жен ия
в
России,
первым
поэтом-
287
декабристом.
Затем
он
становится
в
полной
мер е
поэтом
де
кабризма
с
1817 года до начала 1820- х
годов
вк лючит е льн о.
Примерно
начиная
с
1820 года Пушкин стремится по -с во ему
решить
проблему
романтического
«местного колорита»
и
нахо
дит
решение
к
1824 году,
решение,
пр ин ципиа л ьно
выводящее
его
за
пределы
романтического
субъективизма,
поскольку
он
начинает
объяснять
человека
объективной,
вне
его
лежащей
реальностью
национально-народной
жизни,
включать
человека
вместе
с
его
индивидуальной
психикой
в
систему
фактов,
о бъ
емлющих
личность,
а
не
заключенных
в
не й.
Именно
к
этому
времени
заканчивается
борьба
Пу шки на
с
субъективизмом
и
и ндив идуа лиз мом ,
и
зака нч и ва ется
победой.
Эта
борьба
уже
достаточно
ощутима
в
«Кавказском плен
нике».
Ко не ч но , «Кавказский пленник»
—
в
полном
смысле
слова
байроническая
поэма.
В.
М.
Жирмунский
в
своем
пре
восходном
и
капитальном
труде
«Байрон и Пушкин» (1924)
показ ал
с
полной
бесспорностью,
что,
как
это
вид ели
еще
современники
П уш кина,
он
написал
ее
под
воздействием
Бай
рона,
что
не
только
характер
ге роя
в
ней
—
ба йро новс к ий,
но
и
построение
поэмы,
и
отдельные
мотивы
в
ней,
и
самая
трак
тов ка
тем ы
и
ст иля
связаны
с
примером
Байрона.
Романтизм
полностью
поб е дил
в
«Кавказском пленнике», в котором спле
тены
воедино
и
психологический
индивидуализм,
и
декабрист
ские
вольнолюбивые
мечты.
Си ла
эт ой
первой
южной
поэмы
Пушкина
в
то м,
между
прочим,
и
закл юч алас ь ',
что
он
све л
в
ней
в
органический
синтез
оба
течения
русского
романтизма
и
страстный
поры в
к
свободе
личности
воплотил
как
в
смысле
декабристских
политических
тенденций,
так
и
в
смысле
эмо
цио на льно й
обрис ов ки
внутреннего
противоречивого
единства
и
независимости
свободного
потока
эмоций
человека.
Самый
стиль
поэмы,
соотнесенный
с
Байроном,
в
то
же
вре мя
объ
еди н яет
суггестивность
политической
сим вол ики
декабристского
толка
с
субъективизмом,
эмоциональной
настроенностью,
му
зыкальной
л ири чност ью
стиля
Жуковского
и
его
школы.
В
то
же
время
в
нем
от рази ли сь
и
тенденции
«простонародности», и
попытки
прорваться
к
предметности,
характерные
для
н еко то
рых
произведений
Катенина.
Все
это
вме сте
создало
произве
дение
глубоко
оригинальное,
решающее
для
развития
и
Пуш
кина ,
и
вс ей
русской
литературы,
хотя
далеко
еще
не
столь
совершенное,
как
да же
последующие
южн ые
поэмы
самого
Пушкина.
В
«Кавказском пленнике»
Пу шкин
поставил
и
проблему
местного
ко лори та
в
характеристике
жизни
кавказских
горце в .
Однако
местный
к олори т
здесь
еще
не
о влад ел
образами
ге-
288
р оев,
не
обосновал
их
объективно.
И
сам
пл енник
—
человек
«вообще», человек декабристского склада сознания,
характер
коего
сам
себе
до вл еет
и
ниоткуда
не
происходит;
й
черкешен
ка
—
общеромантическая
героиня
(идеал любви), слабо свя
занная
в
своем
поведении
и
псих ике
с
характером
и
быт ом
ее
нар од а:
она
ведет,
себя
скорее
как
условно-романтическая
ди
карка
или
как
руссои ст ск ая
героиня
культа
свободы
чувства,
чем
как
восточная
женщина.
При
всем
том
в
«Кавказском пленнике»
субъективизм,
и
в
частности
байронический
субъективизм,
не
был
цельным.
Через
всю
поэму
п роход ит
тр ещи на,
разрывающая
единство
индивидуального
восприятия
мира
сквозь
душу
автора
или
героя
(что в байронической поэме типа « Кав каз ско го
пле н ни
ка»
почти
одно
и
то
же ).
У
Байрона
весь
«внешний»
материал
дан
как
лирический,
как
выраж ени е
д уши
автора,
отраженной
в
душе
г ероя
и
в
аккомпанементе
главной
ме ло дии,
—
в
д уше
героини,
отблеске
отблеска.
У
Байрона
весь
мир
погружен
в
душе,
мятущейся
и
отвергающей
этот
мир,
теснящийся
в
не й.
Отсюда
полно е
единство
байроновской
поэмы
92.
У
Пушк ина
—
иначе.
Су бъек тивно ст ь
не
поглотила
у
него
всего
мира.
Наоборот,
субъективность
героя
и
автора
сосредоточена
у
н его
именно
только
в
изложении
самого
«романа»
пле нника
и
чер
кешенки.
Но
ведь
это
изложение
вовсе
не
охватывает,
ни
вне шн е,
ни
по
существу,
всег о
материала
поэмы.
Значительная
часть
ее,
и
—
что
ва жно
—
не
в
разбивку,
а
цельным
куском,
посвящена
объективному
описанию
жизни
и
быта
горцев,
не
служащему
отсветом
или
откликом
ду шевн ой
трагедии
г ероя
и
вообще
к
герою
отношения
не
имеющему
(внешняя мотивиров
ка
опис а ния
как
наблюдений
п ле нника
остается
совершенно
ус ло вно й).
И
конечно,
функция
о пис ания
у
Пушкина
совсем
не
та,
что
фун кц ия
лириче ск их
и
декоративных
антрактов
меж
ду
эпизо д ами
у
Байрона,
как
э то,
в идим о,
имел
в
виду
92 Уместно здесь вспомнить глубокую и яркую характеристику поэзии
Козлова,
ученика
Байрона
и
Жуковского,
автора
и стинно
байронических
поэм,
дан ную
Г ог олем
еще
около
1831 года .
Гоголь
пиш ет,
ме жду
прочи м,
о
Козлове: «Он весь в себе.
Вес ь
нераз дельн ы й
мир
сво й
носит
в
д уше
и
не
власте н
оторваться
от
него.
И ногда
стремление
его
центробежно
и
будто
хочет
раз лить ся
во
внеш не м,
но
для
то го
то ль ко,
чтобы
с нова
с
большею
силою
уст ремля т ься
к
своему
центр у,
самому
себе,
как
б удто
угадывая,
что
там
только
его
жизнь,
что
там
только
найдет
ответ
себе.
Если
он
до лго
ост ан авливаетс я
на
внешнем
каком-нибудь
предмете,
он
уже
лишает
его
индивидуальности,
он
проявляет
уже
в
нем
сам ого
себя,
видит
и
развивает
в
нем
мир
собственной
души». (Н.
В.
Г
оголь,
Полное
собр ани е
сочине
ний,
т.
VIII, изд .
АН
СССР,
М., 1952, стр.
154).
289
В.
М.
Жирмунский
в
своей
книге.
Впрочем,
тут
же
сам
В.
М.
Жирмунский
п и ш ет: «Пушкин гораздо богаче Байрона в опи
сательной
части
своих
поэм:
б ольши е
описания,
обособленные
в
композиционном
отношении,
как
в
«Кавказском пленнике»
и
«Бахчисарайском фонтане», в середине повествования у Байро
на
не
встречаются
вов се:
он
ограничивается
описательной
увер
т юрой
к
поэме
и
вступлением
к
отдельным
сценам».
Вообще
В.
М.
Жирмунский
с
бол ьш ой
проницательностью
указывает
отличия
п уш кинс ких
«южных поэм»
от
«восточных поэм»
Байрона.
Он
п иш ет: «Пушкин не только передвинул центр
внимания
с
душевного
мира
героя
на
ок ружаю щу ю
обстановку
и
второстепенных
для
Байрона
действующих
лиц,
он
изменил
самый
стил ь,
в
кот ором
трактуются
эти
психологические
темы,
снизил
тот
патетически
декламационный
тон,
в
кот ор ом
Бай рон
го ворит
о
любви
и
нена ви сти,
восторгах
и
страданиях
своих
героев,
из
демонического
перевел
их
обратно
в
человеческий
мир». «В «восточных
поэмах»
вне шн яя
обстановка
инте ре су ем
Байрона
тол ько
как
дек ор аци я,
как
эффектный
за дний
фон
для
романтических
героев
и
романической
фа бу лы.
В
«южных
поэмах»
описание
не ре дко
становится
самоцелью
и
даже
оттес
няе т
героя,
его
действия
и
переживания
на
зад ний
план».
«...
Уже
в
первой
из
груп пы
«байронических поэм»
Пушкин
яв ств енно
обнаруживает
особенности
сво его
индивидуального
стиля:
преобладание
предметного,
ж ив опис ного
за да ния
над
эмоционально-лирическим:
четкость,
раздельность
и
последо
вательность
в
осуществлении
этого
задания;
в
связи
с
эти м
—
точнос т ь,
экономность
и
сознательность
в
выб оре
и
соедине
нии
слов,
в
особенности
—
в
употреблении
конкретных,
живо
пис у ющих
эпитетов
и
гла гол ов» 93.
Конечно,
отличия
манеры
Пу шк ина
от
Байрона,
в
част
ности
уже
в
«Кавказском пленнике», имеют не количествен
ный,
а
пр инципиа льны й,
качественный
характер.
Дело
здесь
не
ограничивается
тем,
что
у
Пу шк ина
больше
опис ани й,
чем
у
Байрона,
а
сводится
к
тому,
что
единство
байроновского
ми ро
восприятия
взорвано,
разрушено.
Это
единство
у
Байрона
об р азует ся
именно
в
лирическом
пр инципе,
в
душ е
автора
(и
ге ро я ), в которой и через которую поэт видит весь мир,
всю
действительность.
С убъ ективиз м
не
терпит
компромиссов.
Он
прие мле т
душу
как
реальность,
поглощающую
все
объек
тивное.
Если
же
ря дом
с
душою
автора
и
героя
и
вне
этой.
93 В.
Ж
и
р
м
у
н
с
к
и
й,
Байрон
и
Пу шк ин , Academia, Л., 1924,
стр .
50, 139, 150, 174.
290
д уши
п оя вляет ся
материал
быта
и
п ри роды,
не
поглощенный
субъективной
точкой
зр ен ия,
—
единство
субъективного
миро
во сприя т ия
тотчас
рушится,
и
отношение
между
субъектом
и
о бъе ктивны м
ми ром
радикально
ме няе тся.
Субъект
и
объект
как
бы
с
не избе жно сть ю
меняются
местами.
Потому
что
если
су бъе кт
не
есть
основа
и
единственный
критерий
и
единствен
ный
п ринцип
художественного
восприятия
мира,
—
он
стано
вится
сам
по
себе
одним
из
элементов
действительности,
то
ес ть
он
с ам,
как
субъект,
включается
в
с исте му
объективного
мира,
существующего
теперь
как
независимый
от
субъекта.
Иначе
говоря,
если
субъект
не
поглощает
объекта,
он
неиз
бежно
сам
подчиняется
объективному
бы тию,
требует
выв ед е
ния
себ я
из
объективной
действительности.
Таким
образом,
нарушение
единства
субъективно-лирического
восприятия
мира
приводит
необходимо
к
отказу
от
этого
субъективно-
лирического
восприятия
мир а,
в
систему
коего
включается
и
сам а
душа
автора
и
героя,
как
рез ульта т
объективных
причин.
Именно
такое
нарушение
единства
мы
видим
в
«Кавказском
п лен ни ке», где описания жизни горцев даны не для раскрытия
души
авт ора
и
героя
и
не
через
в ос пр иятие
душ и,
а
сами
по
себ е,
рядом
с
раскрытием
души
и
вне
ее.
Это
обстоятельство
придает
и
самому
п ейз ажу
в
поэме
новый
характер,
не
т от,
что
у
Б айр она;
разрушение
единства
поэмы,
как
лирического
единства,
приводит
к
возможности
и
для
пейза ж а
выделиться
в
самостоятельное
описание,
уже
не
несущее
фун кци и
эмоцио
наль но -л ирич еск ой
декорации.
Конечно,
в
«Кавказском пленнике»
перерождение
роман
тизма
еще
не
про изошл о,
и
субъективизм
еще
не
преодолен.
Но
внутренняя
не полнот а
пр име не ния
байронизма
как
принци
па
в
поэме
ес ть.
Можно
сказать,
что
ес ли
бы
Пушкин
остано
ви лся
на
«Кавказском пленнике», мы могли бы и не придать
этой
неполноте,
этому
глубокому
отличию
иде йно й
структуры
поэмы
от
байроновских
по эм
решающего
значения.
Но
так
как
Пушкин
не
остановился
и
так
как
его
развитие
пошл о
именно
в
направлении
углубления
той
трещины,
которая
наметилась
в
его
байронизме
и
романтизме
уже
в
«Кавказском пленнике»,
мы
не
только
можем,
но
и
обя зан ы
уследить
ростки
будущего
объективного
Пу шки на
уже
в
его
ранней
субъективной
по
замыслу
поэме.
И
эти
ростки
прежде
всего
приходится
усмот
реть
в
том,
что
единство
субъективизма
не
получилось
да же
в
«Кавказском пленнике»,
открывая
возможности
перестройки
всего
сознания
поэта
в
пл ане
объективизации
мира
дейст ви
тельности.
291
Сл еду ет
учесть
при
этом,
что
Пушкин,
вообще
говоря,
менее
почти
вс ех
своих
современников-поэтов
мог
поддаться
соблазну
полного
погружения
в
субъективность.
Будучи
около
1820—1824 годов вождем русского романтизма,
он
был
все
же
наименее
подвержен
увлечениям
индивидуализмом
и
субъ
ективизмом.
И
д ело,
здесь
бы ло
не
толь ко
в
его
личном
складе
ума,
трезвом,
оптимистическом
и
и з на чально
наивно-
реалистическом
(хотя и это играло свою роль), но и в креп
ком
влиянии
на
не го
вполне
объективного,
х отя
и
м етаф изиче
ского,
мировоззрения
просвещения
XVIII столетия,
француз
ск ого
и
русского.
Пушкин
с
детства
с лиш ком
органически
воспринял
Вольтера,
Дер жавина,
Фонвизина,
чтобы
до
конца
подчиниться
Байрону,
да
и
Жуковскому,
и
декабристскому
романтизму
(впрочем,
и
декабристы
не
были
чужды
свя зей
с
рационализмом
XVIII века) .
Пушкин
сл ишко м
глубоко
вос
принял
уроки
и
ске пси са
вол ьт еров с кого
типа,
и
материализма
XVIII столетия,
чт обы
душа
стала
для
не го
вс ем.
Оттого
и
Руссо
с
его
идеализмом
и
пафосом
индивидуальности
был
ему
более
чужд,
чем
Вольтер,
и
у
Парни
ему
ближе
манера
его
атеистической
иронии,
чем
псих ол огич еск ая
эмоциональность
его
элегического
цикла.
Оттого
и
в
сам ую
байроническую
сво ю
по ру
он
одновременно
мог
написать
во все
не
байроническую
«Гавриилиаду»; это была тоже «де к а бри с т ск а я», политически
бунтарская
поэма,
и
в
качестве
таковой
он а,
естественно,
сближалась
с
поэзией
байронического
бунтарства,
но
в
ней
принципы
романтической
субъективности
явн о
о к азывал ись
отставленными.
И
ведь
вообще
религиозный
пафос,
субъек
тивно-психологический
в
своей
сути,
свойственный
поэзии
целого
ряда
декабристов,
и
Ф.
Глинки,
и
Кю хельб екер а,
и
даже
отч асти
Рылеева,
и
Катенина,
и
даж е
Грибоедова,
был
со вер ше нно
чужд
декабристскому
Пушкину,
атеисту
по
о сно
вам
своей
психики.
Таким
обра зом , «Кавказский пленник»
ок азался
поэмой
не цел ьно й,
дв ойс тв енной.
Байроническая
характерология
инди
видуальности
борется
в
ней
с
прорывами
в
объективное.
Пуш
кин
и
сам
почувствовал
это.
В
октябре
или
ноябре
1822 года
он
писал
В.
П.
Го рч ако ву : «Характер Пленника неудачен;
д оказ ыва ет
э то,
что
я
не
гожусь
в
геро и
романтического
сти
хотворения...».
Несмотря
на
шутливость
—
это
очень
глубо
кое
замечание,
обнаруживающее
именно
кризис
субъективизма
как
метода
творчества
у
Пушкина.
Далее
Пушкин
пишет
в
том
же
п и сьм е: «Черкесы,
их
обычаи
и
нра вы
занимают
б ольш ую
и
лучшую
часть
мо ей
п овести ;
но
все
это
ни
с
чем
не
связано
и
есть
истинный
hors d’oeuvre» (X, 49—50).
Еще
раньше,
292
29 апреля того же года,
Пушкин
пис ал
Г недину
(черновое)
о
«Кавказском пленнике»: «Описание нравов черкесских,
сам ое
сносное
место
во
всей
поэме,
не
связано
ни
с
ка ким
проис
шествием
и
ест ь
не
что
ин ое,
как
географическая
статья
или
отчет
путешественника...
Местные
краски
верны,
но
понравят
ся
ли
читателям,
избалованным
по этич ес кими
панорамами
Байрона
и
Вальтера
Ско тта.. .» (X, 647).
Наконец
в
пр еди
словии
ко
вт ором у
изданию
«Кавказского пленника» (1828),
состоящем
всего
из
двух
фраз,
Пушкин
говорит: «Сия по
весть,
снисходительно
принятая
публикою,
обязана
сво им
успе
хом
верному,
хотя
слегка
оз на че нному
изображению
Кавказа
и
горских
нравов.
Автор
также
соглашается
с
общим
голосом
критиков,
справедливо
осудивших
характер
пленника...»
Види
мо,
из
дв ух
боров ш ихс я
в
поэме
начал,
представленных
лири
ческим
раскрытием
характера
героя
и
«географической
ста ть ей», «ни с чем не связанной», победила,
и
и менно
в
со
знании
самого
Пушкина,
географическая
ст ат ья.
Пушкин
ищет
путей
объективизации
су бъ ект ивно го
путем
объяснения,
внеиндивидуального
истолкования
психики
че лов е
ка,
склада
понятий
и
характера
индивидуальной
личности.
Эти
поиски
идут
по
линии
романтического
национального
ко ло рита.
Через
байронические
поэмы,
через
освоение
по дл инной
Греции
в
стихах,
написанных
в
духе
Шенье,
че рез
углубление
в
во
сточный
стиль,
через
усвоение,
в
частности,
библ ейс ко го
стиля
и
колорита
Пу шкин
приходит
к
реформе
декабристского
пони
мания
народности
и
на цио нал ьног о
колорита.
Эта
ре форм а
осуществлена
в
«Подражаниях Корану» (1824 года).
Зависи
мость
человека
в
его
вну тр е ннем
ми ре
от
объективного
для
него
склада
не
только
уже
психики,
но
и
бытия
его
народа
как
на ции,
уяснена
и
завоеван а
в
это м
цикле.
Одновременно
с
эт им
создаются
«Цыганы», где человек,
личность,
судим
з ако
ном
общества,
коллектива,
где
нис пров ер гну то
понятие
сво
бо ды
как
абсолютной
с вобо ды
личности,
где
индивидуализм
осужден
в
самом
сюжете
поэмы,
и
осужден
го ло сом
на род ной
м удрост и.
На ко нец,
в
«Цыганах»
человек
обречен
закону
своего
бытия:
Пушкин
заявляет,
что
индивидуальность
не
может
выс коч ить
из
сво его
о бще ств енно го
предопределения
никуда
(а ведь именно этот прыжок из общества в самую
полную
и
безграничную
свободу
личности
и
был
о рганич ес ким
заданием
ром ан т и зма ); «Ты не рожден для дикой доли», —
этот
тезис
столь
же
важен
здесь >
как
и
другой: «Ты для себя
ли шь
хочешь
в оли », и тот же смысл имеет концовка: «И всю
ду
ст раст и
рок овые ,
И
от
судеб
защиты
н ет».
Пушкину
не
свойственно
было
мистическое
понимание
судьбы;
скорей
она
293
для
не го
—
объективный
и
внеположный
для
лич но сти
зак он
реальности,
бытия,
общества
в
самом
широком
смысле.
И
не
случайное
совпадение
—
единовременность
работы
над
«Цыганами»
и
над
«Подражаниями Корану» (поэма закончена
10 октября 1824 года,
цик л
написан
в
ноябре
того
же
года).
Оба
произведения
связаны
с
той
же
проблематикой
преодоле
ния
индивидуализма
и
романтизма
и
—
еще
глубже
—
пр е
одоления
ограниченности
декабристского
мировоззрения,
вы хо
да
к
объективной
ид ее
народа
как
основы
исторического
бытия
и
творчества.
Меж ду
те м,
этнографическое,
так
сказать,
обоснование
ли чн ости
еще
не
решало
проблему
само
по
се бе,
так
как
до
п уск ало
тол ко в ание
отношения
субъективного
и
объективного
как
тождества,
что
и
наблюдается
в
твор че с тве
поэтов-
декабристов.
Пу ш кину
удалось
преодолеть
та кое
понимание
дела
в
1824 году потому,
что,
в
соответствии
с
общим
движе
ни ем
его
мировоззрения,
он
дви га лся
в
сторону
историзма.
Почему
данный
человек
по
складу
своих
по нятий,
чувств,
стремлений
и
действий
та кой,
а
не
иной?
Потому,
что
он
грек,
или
араб,
или
русский.
Таков
ответ
романтической
системы
национального
колорита
в
искус стве .
Но
почему
грек,
или
араб,
или
русский
должен
б ыть
таким,
а
не
ины м?
На
этот
вопрос
может
ответить
только
историческое
и
объективное,
и
в
конечном
счет е
—
демократическое
мировоззрение:
потому,
что
т аким
его
сделала
историческая
судьба
era народа .
«История народа принадлежит царю», —
сказал
К арам
зин.
«История принадлежит народам», —
отве т ил
декабрист
Никита
Мур авь ев.
Но
декабристы
не
реализовали
этот
прин
ц ип,
потому
что
ф актиче ски,
и
в
их
политической
практике,
и
в
их
политической
тео р ии,
и
в
их
художественном
творчестве
они
по ним али
на род
как
нацию,
а
нацию
—
как
конглом е рат
инди
видуальностей.
Для
них,
практически,
история
принадлежала
воле
и
пафо су
личности,
принадлежала
революционеру.
Декаб
рис ты
и
здес ь
ра збу дили
св оих
преемников,
но
не
осуществили
революцию
как
фак т
народной
жизни.
Ближайшим
об ра зом
в
литературе
декабризм
создал
Пушкина,
но
Пушкин
пошел
дальше
декабристов.
Именно
он
с
полной
отчетливостью
по
ставил
указанный
второй
вопрос
обоснования
человека,
вопрос,
стоявший
смутно
перед
декабризмом
в
искусстве
и
не
разре
шенный
им.
Вопрос
этот
настоятельно
встал
перед
Пушкиным
рано,
вскоре
пос ле
того,
как
он
принялся
за
разрешение
проблемы
характерности
нацио на ль ного
колорита
вообще,
и
раньше,
чем
он
разрешил
эту
проблему
по-своему.
Вообще
интерес
П уш
294
к ина
к
истории,
и
именно
к
ис то рии
как
проблеме
об щего
миро во ззр ения ,
вовсе
не
начинается
с
Михайловского.
Еще
из
О дессы
Пушк ин
пис ал
Вяземскому
об
историках,
обнаруживая
знание
Вольтера
(как историка), Робертсона,
Юма,
Ра бо
де
Сент-Этьена,
Л емо нте
(письмо от 5
июля
1824 года,
набро
сок).
О
размышлениях
Пушкина
в
данном
направлении
с
до
статочной
ясностью
свидетельствует
одно
из
этапны х
его
про
изведений,
«Песнь о вещем Олеге»,
датированное
сами м
Пуш ки ным
1 марта 1822 года.
«Песнь о вещем Олеге»
—
баллада,
то
есть
произведение
жанра,
ста вш его
уже
традиционным
для
русского
романтизма.
Из
двух
тип ов
русских
баллад,
соответствующих
двум
течени
ям
русского
р ома н ти з ма , «Песнь», без сомнения,
примыкает
к
бал лад ам
Катенина,
а
не
к
балладам
Жуковского
94.
Меж ду
тем,
продолжая
линию
катенинской
нац иона л ь ной, «народной»
б аллад ы,
Пушкин
углуб ляе т
то,
что
он
получил
от
Катенина.
Народно-национальный
колорит
балладе
Пушкина
пр идан
в
полной
мере.
Но
этого
недостаточно:
ей
придан
и
историче
ск ий
к олор ит
в
такой
ме ре,
как
это
был о
невозможно
ни
для
одного
русского
поэта
до
этого
времени.
Задача
«Песни»
—
не
только
изобразить
русскую
народную
легенду,
выражаю
щую
сущность
русского
ду ха
вообще,
но
именно
изобразить
русскую
культуру
IX—X
веков.
В
этом-то
все
и
дело.
Пуш
кин
понял,
что
не
только
ар аб
отличается
от
русского,
но
что
русский
IX века отличается от русского XIX
века:
человек
определен
в
своем
характере
не
толь ко
нац и ей,
но
и
историей,
и
самый
характер
н ации
определен
историей.
Поэт ом у
в
«Песни о вещем Олеге»
все
—
от
сюжета
до
слога
—
объясняется
именно
историческим
заданием
харак т е
ристики
эпохи
в
пределах
ист ории
народа.
Да же
название
баллады
—
не
обычное;
это
не
«Баллада о том ...»
и
т.
д.
и
не
просто
«Вещий Олег»
или
«Олег вещий», как у Рылеева (с р .
«Мстислав Храбрый»
у
Катенина
и
др.
и
т.
п .).
Это
«Песнь»,
то
есть
уже
в
названии
ес ть
архаический
оттенок.
Пушкин
пишет
св ое
стихотворение
не
от
своег о
лица,
но
и
не
от
ли ца
ино пл еме нника,
как
это
будет
в
«Подражаниях Корану», а от
ли ца
русского
певца,
но
пев ца
X века;
при
этом
он
сохраняет
и
«взгляд европейца», уясняющий взгляды того певца,
от
ли ца
коего
как
бы
со здан а
вещь.
В згл яды
же
эти
опре де ле ны
исто
риче с кими
судьбами
народа.
П еред
н ами
народ
дикий,
воин
ственный,
суеверный,
но
поэтически
настроен-
94 См.
Ю.
H.
Т
ы
н
я
н
о
в,
Архаисты
и
Пушкин;
в
кн иге
«Архаисты и новаторы», Л ., 1929.
295
ный;
это
—
народ-наездник,
номад;
в
ба лла де
нигде
не
описа
ны
до ма,
постройки;
она
вся
—
под
небом,
и
даже
пир
Олега
происходит
неясно
гд е,
и
едет
Ол ег
«со двора», а тризна в
конце
ба лла ды
—
на
холме
и
у
брега.
Вот
именно
у
этого
народа-номада
основой
ле г енды
становится
ко нь
95.
Ко нь
—
это
основа
боевой
«техники», друг номада;
вся
жизнь
его
происходит
на
коне,
и
с
конем
связан ы
его
мыс ли
о
победе,
о
быте,
обо
вс ем
в
его
кругозоре.
Поэтому-то
Пушкин
избир ает
именно
легенду
о
коне
как
судьбе,
и
таким
обр а зом
самый
сюжет
сво ей
баллады
дел ает
выразителем
характера,
и
бытия,
и
круга
понятий
русского
воина
X века.
И
это
же
поддержано
самим
изложением
баллады.
Уже
в
первой
строфе
появляется
к онь
как
заключение
строфы.
Третья
строфа
опять
заключает
ся
темой
коня:
конь
—
это
высшая
ценность,
мерило
щедрос
ти,
мерило
стоимости:
Откр ой
мне
всю
правду,
не
бойся
меня:
В
награду
любого
возьмешь
ты
коня.
За тем
—
целая
строфа
о
коне
в
речи
во лхва.
Затем
—
конь
стан о ви тся
цент р ом
изложения;
он
и
«верный друг»,
и
«товарищ»,
и
«верный слуга»; о нем
—
мысли
и
заботы
Олега.
Сам
Пушкин,
конечно,
понимал
значение
темы
коня
в
его
балладе.
В
январе
1825 года он писал А .
Бестужеву:
«Тебе,
кажется,
Олег
не
нравится;
напрасно.
Товарищеская
любовь
ста ро го
князя
к
своему
коню
и
заботливость
о
его
судьбе
ест ь
черта
трогательного
простодушия,
да
и
пр ои сшест
вие
само
по
себе
в
своей
простоте
имеет
много
поэтического»
(X, 122).
Кул ьт
коня
у
коч евнико в
—
эта
тема
ес ть
и
у
Жу
ковского
в
«Песне араба над могилою коня» (1810, перевод из
Ми льв у а), но там нет совсем ни исторического,
ни
да же
этн о
гр афич еск ого
определения
темы,
а
тем
более
х ар актер а;
стихо
творение
Жуковского
—
в
основном
лирика
«вообще», без
зад ачи
воссоздания
чуждой
Жук ов ско му
культуры.
Сравнение
обоих
произведений
только
подчеркивает
и
их
различие,
и
новаторство
Пушкина.
Весь
текс т
ба ллады
Пушкина
пронизан
историческим
осмыслением
ег о.
Набросок
характера
героя
подчинен
новатор
ск ой
попытке
объяснить
человека
его
эпо хой.
Поэтому
Ол ег,
воинственный
князь,
безропотно
по ко рен
предсказаниям
кудес
ника ;
и
как
бы
карой
за
сомненье
в
истине
сл ов
вещего
сл уги
95 Пушкин знал по примечаниям к « И ст о р ии
государства
Росси йско
го» (т.
I, прим .
332), что легенда о смерти Олега — варяжского проис
хождения.
Но
он,
явн о
сознательно,
придал
ей
характер
име нно
русски й.
296
Перу на
оказывается
смерть
Олега.
Замечательны
в
э том
же
смысле
детали
и злож ени я.
Вот
общеизвестная
первая
с тро фа:
Как
ныне
сбирается
вещий
Олег
Отмс ти ть
неразумным
хазарам:
Их
села
и
н ивы
за
буйный
набег
Обрек
он
меч ам
и
пожарам.
С
дружиной
своей,
в
цареградской
броне,
Княз ь
по
полю
едет
на
верном
коне.
Первые
же
слова
определяют
то нальн ос ть
стиля.
Это
сл о
ва
—
не
архаические,
но
направленные
на
создание
атмосферы
старины
(«Как ныне. ..»).
У
Катенина
сло во,
сверх
своег о
«предметного»
значения,
приобретало
о ттен ок
национальной
характерности
(«ракитов куст»).
З десь
у
Пушкина
оно
приоб
ретает
сверх
то го
еще
и
оттенок
исторической
характерности.
Пра вд а,
здесь
—
еще
только
первая
на ме тка
будущего
разви
тия
этого
принципа,
не
овладевшая
текс том .
Но
вот
что
здесь
уже
завоевано:
представление
о
дре в них
нравах
и
древней
ж из ни; «неразумные»
хазары
—
ведь
не
с
точки
зрения
Пуш ки на
они
неразумны.
Они
совершили
так ой
же
б уйный
набег,
как
сейчас
совершает
сам
Олег.
Или
свирепость
мести
воина-князя: «обрек он мечам и пожарам».
Здесь
нет
речи
о
сочувствии
П уш кина
та ким
международным
отношениям;
это
—
в
духе
диких
времен,
это
буйные
чувства
и
бу йная
по лит и
ка
народов
X века,
их
понятия.
В
пос ле дних
д вух
строках
эт ой
же
строфы
—
едва
ли
не
целая
к онц епция
древней
истории
Руси.
Князь
и
его
верный
конь,
д ру жина
князя,
и
то,
что
ед ут
они
«полем», то есть не по дороге,
ко тор ой
нет,
а
по
п олю
(это,
может
быть,
взято
из
фольклора)
—
все
это
характерно;
но
особенно
характерен
эпитет
«в цареградской броне»; он не
только
эффектен
и
по
звучанию
и
по
семантике;
он
глубок
и
предметен.
Так
вот
в
чем
дело!
Суеверные
номады,
жестокие
победители,
суро вы е
воины,
ж иву щие
под
открытым
неб ом
Hä
ко не
—
эта
Др е вняя
Ру сь
—
мог ут
обречь
мечам
и
пожарам
села
и
нивы
(характерна точность
—
городов
нет),
могут
пировать,
вспоминая
битв ы,
но
сковать
броню
они
не
могут,
не
умеют.
Броня
—
это
оседлый
труд,
это
культура.
Их
нет
у
народа,
у
которого
де ло
князя
—
не
управленье,
а
тол ько
война
(так именно он дан в речи волхва), который воюет,
и
пирует,
и
верует
в
ку дес нико в,
и
совершает
тризны
с
закла
ньем
ко ня,
могущего
служить
во ину
и
в
битвах
на
том
свет е.
И
вот
эту
культуру
Олег
—
вои н
и
дикарь
—
берет
с
бою
в
Византии.
И
вед ь
вообще
культура
на
Рус ь
идет
от ту да,
из
Царьграда,
того
самого,
на
вратах
коего
—
воинский
щит
Олега.
Я
не
думаю,
что
Пушкин
обдуманно
и
намеренно
297
вместил
весь
это т
исторический
смысл
в
слова
«е цареградской
б ро не».
Но
я
думаю,
что
живой
образ
древней
куль т уры,
образ-размышление
о
н ей,
естественно
воплотился
и
в
эт ом
выражении,
одном
из
ранних
случаев
пуш кинс ко й
зрелой
л апи
дарности,
поразительной
сжатости,
вмещающей
целые
системы
мысли
и
чувства
в
кратчайшие
форм улы
чрезвычайной
точ
ности.
Нет
необходимости
разбирать
дальнейший
те кст
баллады,
поскольку
здесь
важны
самые
поиски
Пушкиным
историческо
го
обоснования
его
мировосприятия,
а
наличие
эти х
поисков
и
их
новаторская
спе цифика ,
как
мне
кажется,
очев ид ны
и
из
сказ анного .
Не
говоря
о
других
поэтах
декабристского
круга,
как
до
1822 года,
так
и
после,
да же
Катенин
не
ставил
и
не
мог
ставить
перед
собой
подобные
задачи.
В
первом
томе
«Сочинений и переводов»
Катенина
(1832), содержащем ори
гинальные
произведения,
помещены
пя ть
баллад
на
ру сс кие
тем ы.
Первые
две
из
них
—
«Убийца»
и
«Леший», 1815 и
1816 годов (не
говорю
о
«Наташе» 1814 года,
не
имеющей
ничего
специфически
русского).
В
обеих
—
русские
крестьяне,
обе
построены
в
духе
народных
л еге нд.
Но
исторического
ист олко вания
те мы
или
хо тя
бы
приуроченья
ее
к
определенной
эп охе
в
них
нет
вовс е.
Ник ак
невозможно
ск азат ь
даже,
когда
происходит
де йств ие
этих
баллад:
в
древности,
в
средние
века,
в
XVII веке или же в современности,
в
XIX веке;
это
—
все
равно.
Так ие
баллады
опре де ле ны
как
«русские»
баллады,
но
самое
понятие
ру сско го
не
дифференцировано
исторически.
Отсюда
неизбежна
и
некая
метафизическая
условность
самого
понятия
о
национальном
хар ак те ре:
и
в
«Убийце»
и
в
«Лешем»,
в
сущности,
русского
в
системе
об р азов
м ало;
«Убийца»
—
как
бы
русский
изво д
«Ивиковых журавлей»;
«Леший»
—
распространенный
вариант
«Лесного царя»
Гете,
«Русское»
по
преимуществу
заключено
в
отдельных
деталях,
не
проникая
в
суть
легенды,
в
ее
мировоззрение,
в
ст роя щий
ее
кру г
понятий.
«Певец Услад» (1817) —
лирическое
стихо
творение,
в
котором
Катенин
отдал
дань
влиянию
Жуковского;
это
автобиографическая
ве щь,
то м ная,
печальная,
в
духе
ро
мантических
томлений
и
совсем
чуждая
и
этнографизма
и
историзма;
в
ней
под
им енем
У слада
из обр ажает ся
ун ылый
влюбленный
романтик
начала
XIX века:
«Певец Услад,
—
друз ья
пе ня ли,
Или
э абь ггь
Не
можешь
ввек
одной
печал и,
И
счастлив
быть?»
298
П евец
Услад
им
со
слезами
Сказал
в
ответ:
«Нет счастья мне под небесами,
Надежды
не т.
Певец
У слад
лишь
за
могилой
Бы ть
может
рад:
Авось
там
свидится
с
В сем илой
Певец
Услад».
К
1819 году относится « М ст и сл ав
Мс т ис ла вич », наиболее
зрелое
из
данного
цикла
произведение
Катенина,
в
котором
проблема
нацио на л ьно го
колорита
разрешена
отчетливо
и
ярко;
но
это
именно
проблема
колорита
национал ьно го ,
более
чем
исторического.
Катенин
широко
пользуется
фольклорным
сти
лем
и
фо лькло рным и
образами,
внеисторичными
и
«вечными»,
не
специфическими
для
XIII века.
Самое
«Слово о полку
Иг орев е », использованное в IV
глав е
баллады-поэмы,
он
тол
ку ет
ск орее
в
контексте
фол ьк л ора,
чем
в
пла не
непосред
ственно
историческом.
И
характерно
для
декабристской
поэ
зии,
что
Катенин
не
выдерживает
то на
с воей
ба лла ды
даже
в
фольклорном
духе
(как уже указывалось выше).
Наконец,
последняя
ба лла да , «Старая быль», относится уже к последе-
кабристскому
времени,
к
1828 году,
и
написана
под
явным
влиянием
«Песни о вещем Олеге», мало того,
является
поч ти
прямым
подражанием
пушкинской
вещи.
Поэтому
в
ней
есть
отзвуки
пуш кинс ко й
исторической
манеры.
Но
Катенин
ис
пользует
ее
и
здесь
как
бы
механически,
по-видимому,
не
вникая
в
принципиальность
этой
м анер ы.
Поэтому-то
он
и
не
выдерживает
ее
и
срывается
в
модернизацию,
нарушает
исто
рический
колорит:
то
у
нег о
князь
Вл адимир
«В венце и со
скиптром
в
де с н иц е » (вроде некоего условного западного коро
ля ), то греческий певец
—
о пять
р ом а нтич еский
поэт,
сенти
ментально
нас тро енный: «Он плакал сначала. . . »
—
а
затем
обширная
пес нь
гр еч ес кого
певца,
совсем
лишенная
историче
ского
колорита,
представляющая
собою
лирику
XIX века .
Здесь
и
образ
скр ом ного
князя,
и
комплименты
кроткому
царю,
благодетелю
народов,
и
культ
дамы,
неизвестно
откуда
взявшийся,
и
такие,
например,
места,
вс ем
ск ла дом
про тив оре
чащие
древности:
Велик
предмет,
а
г лас
мой
слаб;
Страшусь...
нет,
бросим
с трах
н апрасн ый:
П очерпнет
с илу
верный
раб
В
глазах
владычицы
прек рас ной. ..
299
О
есл и
бы
сии
пернаты
С вой
жребий
чувствовать
могли,
Они
б
воспели: «Мыстократы
Счастливей
прочих
на
земли.
К
трудам
их
создала
природа;
Что
в
том,
что
крылья
их
лег ки?
Что
значит
мнима я
свобод а,
Когда
ест ь
стрелы
и
силки?..»
и
т.
д.
И
ничего
не
мо жет
изменить
в
этой
«Песне»
гре ка
опи
сание
фантастического
престола
царя.
А
потом
—
кие вс кий
народ
аплодирует
пе вцу : «И плеск раздался из народа», и
ру сский
певец
впадает
в
романтическую
тематику,
опять
ч уть
ли
не
в
д ухе
Жуковского:
П евал
я
о
вит яз ях
смелых
в
боя х
—
Д авно
их
зарыл и
в
могилы;
Певал
о
любви
и
о
радостных
днях
—
Теперь
не
разбудишь
В се мил ы...
Так
же
обстоит
д ело
и
с
переводами-подражаниями
Кате
нина,
помещенными
во
втором
томе
его
сборника.
Он
п ер ево
дит
«Певца»
Гете,
пер енос я
де йст вие
на
Русь,
в
чертоги
князя
Владимира
(1814); тут и использование былин,
и
деталь
из
«Слова о полку», —
и
мотив
явно
не
русского
и
тем
бол ее
не
исторического
происхождения,
а
общеромантического,
—
и
все
в
целом
строит
об лик
некой
условной
«русской»
п оэзии ,
ма ло
конкретизированной
и
специфической.
В
еще
бол ьш ей
ст епе ни
это
относится
к
дв ум
ро ндо
(переделкам с французского,
1830) и к « Пес не» (1832), переделанной из песенки Молье -
рова
Мизантропа,
в
которых
ничего,
кроме
имен,
сп ец ифи че
ского
для
русского
склада,
—
не
говоря
уж
об
историзме,
—
не т.
Совсем
не
ставит
се бе
задачу
воссоздания
колорита,
како
го
бы
то
ни
было,
превосходная,
вп ро чем,
поэ ма- ска зка
Кате
нина
«Княжна Милуша» (1832—1833; издана отдельно в
1834 году); это
—
по эма
в
традиции
Арио ст о,
подновленная
тр адици ей
Байрона
и
Мюссе
(«Намуна», 1833) и отчасти
самого
Пушкина,
в
кот ор ой
сюжет
переплетается
с
беседой
автора
с
читателем
и
с
лирическими
отступлениями.
Путь
Пушкина
от
«Песни о вещем Олеге»
лежал,
в
сущ
ности,
мимо
дек абр ист ско го
романтизма,
хо тя
сама
«Песнь»
и
выросла
из
этого
име нно
течения
русского
р о манти зма.
Неда
ром
«в декабристских и околодекабристских кругах пушкинская
баллада,
будучи
опубликована,
была
встречена
с
полуосужде
нием.
Не
нравилась
ист орич еск ая
конкретность
«Песни»; в ней
не
было
романтического
п аф оса,
которым
отличались
произве
300
дения
поэтов-декабристов,
но
который
Пушкиным
преодоле
вался» 96.
Мь|
видели
выше,
что
Бестужеву
она
не
понрави
лась ,
как
можно
заключить
из
письма
к
нему
Пушкина.
Жур
нал
декабристского
круг а
«Сын отечества» (статья,
в ер оятно,
Н.
И.
Греча)
писа л
о
«Песне», что в ней «видна
какая-то
холодность,
совершенно
пр отив ополож на я
тем
порывам
чувства
и
воображения,
кот оры е
нас
восхищают
и,
так
сказать,
увле
кают
в
мир,
всегда
удачно
созд аваем ый
поэтом» 97; Пушкин
уже
не
мог
принять
это й
кр итик и.
Он
двигался
неуклонно
вперед
по
пути,
завершенному
«Борисом Годуновым» .
1.
Движение
П у шкина
к
разрешению
противоречий
романти
че с кого
метода,
дви жен ие,
исх о дивш ее
из
про бл ем
самого
романтизма,
но
приведшее
к
созданию
новых
пр инципо в
ис
кусства,
названных
самим
Пушкиным
«истинным романтиз
мо м», а нами с полным правом именуемых реализмом,
проте
кало
нис кольк о
не
в
о тв ле ченно
эстетической
сфере,
не
б ыло
только
логическим
развитием
про бл е матики
иску сс тв а.
Оно
бы ло
эстетическим
осознанием
глу б оких
процессов,
опреде
ливших
изменение
мировоззрения
Пушкина
в
первой
половине
1820-х
годов,
и
прежде
в сего
его
социально-политического
мировоззрения.
Пут ь
Пу шкин а
от
романтического
субъекти
визма
к
объективному
истолкованию
действительности
о пи рал
ся
на
политическую
эво лю цию
поэта,
на
его
сомнения,
ра з
мышления
и
идейные
открытия,
близкие
к
те м,
которые
обусловили
особое
мест о
в
де ка брис тс кой
литературе
Грибо
ед ова
и
его
идейно-художественные
поиски.
Впрочем,
пу ш кин
с кие
решения
тех
же
пр об лем
были
последовательнее,
р ади
кальнее,
и
они
да ли
более
глубокие
и
смелые
результаты
в
самой
реорганизации
ис кус ства .
Пуш кин
уехал
на
юг
России,
в
ссыл ку,
полный
декаб
ристских
идей.
В
1820 году он,
без
сомнения,
был
еще
вполн е
учеником
декабристов;
он
был
им
в
1821—1822 и даже в
пос ле дующ ие
годы.
Но
в
то
же
время
уже
с
1822—1823
год ов
оби льн ые
впечатления
русской
действительности
и
евро-
96 Н.
И.
Мордовченко,
Комментарии
к
стихо тв орен ия м
Пуш
ки на
1821—1825
гг.
А.
С.
П
у
ш
к
и
н,
Стихотворения,
т.
I, 1940,
«Библиотека поэта», стр.
570.
97Тамже.
301
пейской
политической
истор ии
этих
лет
заст ави ли
П уш кина
усиленно
и
и ной
раз
му ч ите льно
думать
о
судьбах
освободи
те льной
мысли
и
освободительного
движения.
По-видимому,
здесь
играли
преобладающую
роль
два
обстоятельства,
влияв
шие
на
Пушкина.
В о- пе рвых,
это
б ыла
волна
восстаний,
ре во
л юцио нных
вспышек
на
З апад е.
Б.
В.
Томашевский,
убеди
те льно
выдвинувший
эту
пробл е му
иде йно й
би огра фии
Пушкина,
собрал
в
своих
раб от ах
немало
материала,
удостове
ряющего,
что
для
Пушкина
судьбы
революционного
д в ижения
во
в сей
Е вропе
были
чрезвычайно
близки
(как и для других
люде й
де ка брист с кого
к руга ).
В
1819—1821 годах это движе
ние
шло
на
подъем
и,
к азалось ,
вот-вот
охватит
всю
Евр опу;
казалось,
что
бл изя тся
великие
события
и,
может
быть,
вели
кие
победы
революции.
Ге рман ия
волновалась;
в
И спа нии
революция,
возглавленная
Риего,
победила:
в
Италии
револю
ционные
в сп ышки
также
не
встретили
сильного
сопротивления;
во
Франции
правительству
реставрации
угрожали
заговоры,
действия
революционеров
и
смелая
пр о паг анда
либерализма,
захватившая
уже
парламентскую
тр ибуну
и
часть
прессы;
в
Португалии
правительство
такж е
принуждено
б ыло
бороться
с
попытками
восстания;
наконе ц,
в
на чале
1821 года началось
восстание
в
Мо лда вии
и
Гр е ции;
это
было
уже
рядом
с
Р ос
сией
и
рядом
с
Пушкиным,
жившим
в
Кишиневе
и
лично
знавшим
Ипсиланти.
Еще
раньше
произошел
бун т
Семенов
ского
полка
в
Петербурге.
М ежду
тем
Пушкина
ок р ужали
и
в
Петербурге,
и
потом
на
юге
декабристы,
атмосфера
политиче
ского
заговора
и
энтузиазма
свободы.
Все
это
со зда вало
опти
мистический
тонус
революционных
надежд,
ослепляло,
укреп
ляло
веру
в
возможность
успешного
исхода
революционного
движения
и
в
России.
Но
уже
с
то го
же
1821 года начались явные поражения.
Не
говоря
уже
о
том,
что
вспышки
во
Ф ран ции,
Португалии,
Германии
не
разрослись
в
революцию,
в
Италии
восстание
бы ло
п одав лен о;
интер в енция
подавила
революцию
в
Испании,
и
Риего
был
каз нен ;
греческое
восстание,
не
поддержанное
извне
и,
в
частности,
не
поддержанное
Россией,
потерпело
ряд
значительных
неудач,
а
руков одс т во
его
ок аза лось
неспособ
ным
ни
возглавить
народ,
ни
стойко
бороться
против
врага.
В
России
реакция
душила
вс якие
попытки
отк ры того
протеста.
Священный
союз,
Меттерних,
Александр
I мобилизовали силы
реакции
во
в сей
Европе
и
яв но
бы ли
п обе дител ям и.
Неизбеж
но
наступало
разочарование,
похмелье.
Мечты
о
б лизк ом
взр ыве
начинали
каз ать ся
фа нтас тич ес ким и,
и
пытливый
ум
Пушкина
мучительно
ис кал
объяснения
неудачи
революции
и
302
силы
ре ак ции.
Романтический
пафо с
становился
п оме хой
в
этих
поисках
ужасной
правды,
как
и
романтический
су бъ ектив из м;
выяснилось,
что
бурные
стремления
благородных
личностей
разбиваются
о
каменную
стену
ка кой- то
железн ой
не обходи
мости,
трезво
объективной
и
более
могучей,
чем
все
мечты
и
вся
героика
Риего,
Ипсиланти,
З анда,
Лувеля
и,
конечно,
Николая
Тур г ене ва,
Владимира
Раевского,
арестованного
в
начале
1822 года,
да
и
самого
Пушкина.
В
то
же
время
вступила
в
силу
другая
серия
впеч ат лени й:
это
бы ли
результаты
н абл юде ний
над
Р осси ей,
впервые
широ
ко
и
оби льно
столпившихся
в
сознании
Пушкина.
Только
тепе рь ,
в
ссылке,
в
поездках
по
России,
он
узн ал
жизнь
нар о
да
не
по
теориям
Н ико лая
Ту рг ен ева,
не
по
мечтам
романти
ков,
не
по
книгам
французских
просветителей
XVIII столетия .
Эти
впечатления
сказа.\ись
не
сразу,
тем
более
что
они
ст алк и
вали сь
и
боролись
с
впеч атле ниям и
но вых
декабристских
св я
зей
и
бесед,
с
впечатлениями
по дъе ма
р е вол юционной
волны
в
Европе,
с
вл ияниям и
Раевских,
Пестеля,
Каменки,
одесской
инт елл иге нции.
А
все
же
эти
впечатления
на капл ив ал ись
и
подтачивали
привычку
мы сл ить
теориями
более,
чем
ф а ктами
народной
жизни.
Пушкин
видел
теперь
различные
сло и
нас е
ления
Р осси йск ой
империи.
Он
увидел
и
косную
консерватив
ность
дв оря нск ой
обывательщины.
Он
у ви дел,
—
и
это
был о
самое
главн о е,
—
и
народ
—
и
не
мог
не
убедиться
в
то м,
что
есть
непереходимая
пропасть
между
декабристскими
кр уж
ками
и
народной
ма ссой .
Из
вс его
этого
положения
вещей
выяснилось,
что
кре
постнической
деспотии
в
России
пр отиво ст ояли
две
с илы,
разли ч ные,
не
ста вши е
союзниками,
хот я
декабристы
и
стре
мили сь
искренне
и
благородно
к
освобождению
народа.
Отсю
да
и
два
пути
—
либо
б оротьс я,
пу сть
во
имя
народа,
но
без
него;
либо
по нять,
что
без
народа
борь ба
безнадежна.
Пуш
кин,
в
отличие
от
многих
св оих
друзей
и
учителей,
постепенно
и
мучительно
открывал
для
се бя
второй
путь.
Этому
учила
его
действительность:
и
судьба
Ипсиланти,
р азош едш его ся
с
народным
движением,
и
гибе ль
Риего,
и
разгром
других
вспышек
революции,
и
равнодушие,
—
как
ему
к азалось ,
—
русского
народа
к
декабристскому
пафосу,
и
косная
си ла
российской
старозаветной
жизни,
подавлявшая
меч ту
и
смеявшаяся
над
не й.
Это
не
зн а чит,
нисколько
не
зн ач ит,
что
в
эти
годы
Пуш
кин
отходил
от
радикализма,
от
революционной
идеологии.
Наоборот,
именно
в
го ды
южной
ссылки
пушкинский
якоби-
ни зм
углублялся,
становился
более
непримиримым,
более
про
303
думанным
и
отчетливым.
В
нем
мало-помалу
проступали
все
более
черты
демократизма,
по
мере
того,
как
в
п оле
зрения
Пушкина
по падал и
впечатления
народной
жизни,
по
мере
того,
как
он
все
бол ее
думал
о
суд ьб ах
свободы
не
отвлеченно -
теоретически,
а
в
свя зи
с
судьбами
и
настроениями
народа.
Именно
на
юге
Пушкин
сблизился
с
наиболее
по сле дов ате ль
ными,
глубокими
и
радикальными
декабристами;
достаточно
напомнить
имя
Пестеля.
К
1822 году относится запись
П.
И.
Долгорукова
о
т ом,
как
Пушкин
г ов орил
о
дворянах
русских,
что
«их надобно всех повесить,
а
если
б
это
было,
то
он
с
удовольствием
затягивал
бы
петл и».
Эти
но ты
робеспьеровских
увлечений
не
противоречат
глубокому
процессу
распада
декабристского
мышления
в
со
знании
Пушкина.
Не
противоречит
ему
и
то
обстоятельство,
что
в
Ка ме нке
Пушкин
отк ры то
попытался
стать
членом
т ай
ного
общества
и
был
очень
опечален
неудачей
эт ой
по пыт ки.
Н ика кой
враждебности
к
декабристам
и
декабристскому
дел у
у
Пу ш кина
не
б ыло
и
не
могло
быть
ни
на
юге,
ни
позднее,
до
самого
конца
его
жизни.
Пушкин
навсегда
остался
декаб
ристом,
че лов еко м,
воспитанным
декабристским
подъемом
и
верным
идеям,
воплощенным
в
декабристском
движении.
Но
вну три
этого
движения
и
его
идеологии
Пушкин
на
прот яже
нии
не ск ол ьких
лет,
вплоть
до
1825 года,
искал
св оих
соб
ст ве нных
по зи ций,
и
постепенно
эти
п оз иции
определялись
как
выходящие
за
пределы
типично
декабристского
метода
мысли.
Не
в
и деал ах,
не
в
программе-максимум
расходился
П уш кин,
начиная
с
1824— 1825 годов,
с
декабристами,
а
в
методоло
г ии,
и
отсюда
—
в
т акти ке.
И
это
б ыло
чрезвычайно
важно.
Это
о пред е лило
и
выход
Пушкина
на
новые
творческие
п ози
ции
как
поэта,
и
выход
Пушкина
на
по з иции
демократизма,
не до ст упные
«ортодоксальным»
декабристам,
и
отказ
Пу шкина
от
непосредственной
ст авки
на
революцию
в
России.
Те
поиски
Пушкина
в
области
понимания
национального
стиля,
о
которых
шла
речь
выше,
бы ли
уже
пр ояв ле нием
само
ст оят ел ьно сти
социально-политического
сознания
Пушкина.
Де ло
шло
об
отказе
от
индивидуализма
в
истолковании
по ня
тия
нар од а.
Для
декабристов
народ,
н ация
полностью
выраже
ны
в
личности,
и
личность,
раск р ывая
себя,
раск р ывает
«дух
народа».
Так
и
политические
вопросы
декабристы
решали,
исходя
из
своих
личных
мнений
и
вкусов,
недостаточно
мысля
о
реальном
характере
условий
народной
жизни
и
об
и сто ри
ческой
закономерности
ее.
Смысл
пушкинских
иска ний
в
эт ой
области
заключается
именно
в
ст ре мл ении
поня ть
«душу»
народа,
массы
как
о бъе ктив ное
бытие,
а
не
как
образ,
возник
304
ший
в
сознании
поэта,
и
не
как
образ,
суггестивно
бу дя щий
представления
декабризма,
и
в
то
же
время
понять
«душу»
народа
как
результат
его
исторического
бытия
и
опыта.
Все
сво ди ло сь,
та ким
образом,
к
все
более
обострявшейся
в
созна
нии
Пу шкина
проблеме
народа,
а
отсюда
и
к
проблеме
воз
можности
реализовать
мечты
декабристов,
поскольку
они
остаются
мечтами,
планами,
мыслями
отдельных
лю дей,
груп
пы
людей,
но
мож ет
быть,
не
народной
массы.
Так
определяется
самыми
глубокими
пе ре жи ва ниями
Пушкина
ци кл
его
стихов
южной
поры,
заключающий
трагиче
ские
со м нения
в
возможности,
в
реальности
декабристских
мечтаний:
Я
пережил
свои
желанья,
Я
р азл юбил
сво и
мечты,
—
писал
Пушкин
в
1821 году,
и,
хо тя
нет
оснований
видеть
в
этих
«мечтах»
именно
политич ес кие
мечты,
все
же
общий
эмоциональный
смысл
э тих
стихов
говорит
именно
о
присту пах
разочарования
в
мечтах,
в
пафо се
мечты,
—
а
ведь
и
п олит и
ческие
мечты
в ключе ны
сюда
же.
Конечно,
и
в
1821 году и
по здн ее
Пушкин
писал
и
декабристские
стихи.
В
его
твор
честве
переплетаются
мотивы
декабристских
субъективных
свободолюбивых
по рыв ов
и
мотивы
ра з оча рова ния
в
них.
К
то му
же
1821 году относится и « Кинжа л», и послание к Дель
в игу
с
характерным
ст ихом: «Одна свобода мой кумир», и
декабристское
стих о тво ре ние,
вставленное
в
письмо
к
Н.
И.
Гнедичу,
и
декабристское
по слан ие
к
Чаадаеву
со
сти
х ами
в ро де: «Вольнолюбивые надежды оживи ...»
и
др.
Но
вот
в
отк ры то
декабристском
послании
т ого
же
г ода
кВ.
Л.
Да
выдову
даны
в
сочетании
и
смелые
остроумные
намеки
на
ре вол юцио нн ые
беседы
в
кругу
декабристов,
и
—
в
заключе
ние
—
оптимистическая
надежда
на
революцию,
и
мысли
о
нежелании
революции
европейскими
народами.
Вот
эвхаристия
[другая],
К огда
и
ты,
и
м илый
бр ат,
Перед
камином
надевая
Демократический
халат,
Спасенья
ч ашу
наполняли
Беспенной,
мерзлою
с труей,
И
за
з доровь е
тех
и
той
До
дна,
до
капли
выпивали!
Но
те
в
Н еапол е
шалят,
А
та
едва
ли
там
во ск рес не т...
Народы
тишины
хотят,
И
до лго
их
ярем
не
треснет.
Ужель
надежды
луч
Исчез?
305
Но
нет!
—
мы
счастьем
насладимся,
Кровавой
ча шей
причастимся
—
И
я
ск аж у: «Христос воскрес» .
Здесь
эти
мысли
о
народах,
кот оры е
«тишины хотят», по
беждены
«лучом надежды»
на
кровавое
причастие
революции.
В
1822—1823 годы
—
опя ть
ряд
стихотворений,
связанных
с
декабристским
пафосом
и
оптимизмом: «Я.
Н.
Толстому»,
«Послание цензору», «Ф .
Гли нк е », «Гречанка
верная,
не
плачь,
—
он
пал
героем»
и
др.
Но
к
1823 году относится и
«притча»
о
сеятеле.
Это
—
свидетельство
тяж ких
раздумий
Пушкина;
это
—
уже
разочарование
в
декабризме
как
методе
мысли
и
дей ств ий.
И зыде
с еяте ль
сеяти
семена
своя.
С вободы
сеятель
пустынный,
Я
вы шел
ран о,
до
зв ез ды;
Ру кою
чист ой
и
безвинной
В
порабощенные
бразды
Б росал
живительное
семя
—
Но
потерял
я
только
время,
Благие
м ысли
и
труды...
Пасит есь ,
мирные
народ ы!
Вас
не
ра збу дит
чести
клич.
К
чему
стадам
д ары
свободы?
Их
должно
рез ать
или
стри чь.
Н асле дство
их
из
рода
в
роды
Ярм о
с
гремушками
да
бич.
Конечно,
был о
бы
неосторожно
относить
обращение
«мирные народы»
именно
к
русскому
народу,
то
есть
к
кре
ст ьянск ой
ма ссе.
Пушкин
в
эти
годы,
по-видимому,
еще
не
дифференцирует
сознательно
и
отчетливо
народ
в
с оци ал ьном
плане,
и
в
косности
он
обвиняет
как
демократическую
массу,
так
и
обывательщину,
в
том
числе
и
из
сво его
собственного
социального
круга.
Но
общий
смысл
этого
серьезного
и,
для
Пушкина,
без
сомнения,
мучительного
стихотворения
-—
имен
но
в
том,
что
индивидуальные
усилия
благ оро дны х
люде й
не
могут
изменить
ход
истории;
а
ведь
ход
ис то рии
для
него
все
более
становится
фактом
жиз ни
народа
в
целом.
Сл ед ует
оговорить,
что
в
том
же
1823 году,
к огда
Пуш
кин
так
резк о
вы ра зил
утрату
наде жд
на
революцию,
не
под
держанную
народом,
то
ес ть
на
декабристскую
революцию,
он
начал
писат ь
стихотворение
об
Александре
I и явлении ему
тени
На поле она ;
в
этом
ст ихот вор ении
намечалась
скорее
об
ратная
мысль.
Александр
и
реакция
торжествуют:
306
От
тибровых
валов
до
Вислы
и
Невы,
От
царскосельских
лип
до
башен
Гибралтара:
Все
мо лча
ждет
удара,
Все
п ало
—
под
яр ем
склонились
все
главы .
Свершилось!
—
молвил
он.
Д авно
ль
народы
мира
Паденье
славили
великого
кумира...
Все
р ев олюци он ные
движения
и
поры вы
подавлены;
в
своем
самоупоении
Ал екса ндр
смеется
над
попытками
восста
ни и;
он
дума ет :
Давно
Хи
ветхая
Евр опа
свирепела?
Надеждой
но вою
Германия
ки п ела,
Шаталась
Авст рия ,
Н еапо ль
в ос став ал,
За
Пиренеями
давно
ль
судьбой
народа
Уж
правила
своб од а,
И
самовластие
лишь
север
укрывал?
Давно
ль
—
и
где
же
вы,
зиждители
свободы?
Ну
что
ж?
ви тийст ву йте,
ищите
п рав
природы,
Волнуйте,
мудрецы,
безумную
толпу
—
Вот
Кесарь
—
где
же
Б рут?
О
г р озные
витии,
Ц елуйте
же зл
России
И
вас
поправшую
железную
стопу.
Но
р ано
возв есели лся
ц арь
о
своей
п об еде.
Жив
еще
дух
Бонапарта
—
не
столько
императора,
ско л ько
еще
полководца
войск,
ниспровергавших
троны.
Он
является
А л ексан дру
как
символ
непобежденного
духа
восстаний
и
битв
народов.
Не
возможно
сказать,
как
должно
было
развернуться
это
потря
сающ ее
стихотворение
даль ше,
но,
по-видимому,
смысл
его
в
том,
что
победа
реак ци и
—
мнимая
и
ненадолго.
М ысль
о
Наполеоне,
именно
как
мысль
о
су дь бах
революций,
тревожи
ла
Пушкина.
К
с ле дую щ ем у, 1824 году относится изумитель
ный
по
глубине
и
блеску
набросок
Пушкина
о
Наполеоне:
Зачем
ты
послан
бы л,
и
кто
т ебя
поа ха л?
Чего
—
добра
иль
зла
ты
верный
был
свершитель?
Зачем
потух,
з ачем
блистал,
Земли
чудесный
[посетитель]?
В ещали
кни жн ики,
тревожились
цари,
Толпа
пред
ним и
волновалась,
Раз обл ачен ные
пустели
алтар и,
Св обо ды
бур я
подымалась
И
вд руг
нагрянула...
Упали
в
прах
и
в
кровь,
Разбились
в етхие
скрижали.
Явился
муж
судеб,
рабы
зат ихл и
вновь,
Мечи,
доспехи
зазв у чали,
И
гордо
меч
Прошел
[и] [ст ал]
разврат,
П орочны е
сердца
застыли.
307
Отечество
[рабы]
в
отчаянье
забыли,
За
з лато
продал
бр ата
брат .
Рекли
безумцы:
нет
Свободы,
И
им
поверили
на род ы,
Добро
и
зло
—
все
стало
тенью,
Все
бы ло
предано
презренью,
Как
ветру
предан
дольний
прах
98.
Здес ь
нет
решения
вопроса.
Пушкин
к олеб лет ся
в
оценке
судьбы
революции
в
Европе.
С
одной
стороны,
революция
погиб ла
под
пятой
Наполеона
и
на
ее
мест е
воцарились
р аз
вра т
и
рабство
и
самый
па три оти зм
уду ш ен.
Но
с
другой
с то
роны
—
тол ько
бе зу мцы
делают
из
происшедшего
вывод:
нет
Св обод ы;
а
все
же
народы
по вер или
э тим
безумцам.
Так
вы
ражаются
сомнения
Пушкина.
Результат
этих
со мне ний
в
творчестве
Пушкина
дв ойн ой.
С
одной
стороны
—
это
у силе
ние
романтического
индивидуализма,
байр он иче ско го
о тстр ане
ния
от
мира
и
лю дей,
это
«Разговор книгопродавца с поэтом»;
это
и
ст ихот вор ение
«К морю»
с
его
пессимизмом,
с
его
мыс
лями
о
Бай ро не
и
Н апо лео не,
с
пр из нание м
б езнад еж ност и
порывов
в
мире,
где
повсюду
«на страже иль просвещенье,
иль
тиран», это и «Демон» («Не верилонлюбви,
св об о де. ..»).
С
другой
стороны,
это
—
«Подражания Корану» 1824 года,
выход
из
субъективизма
в
широкий
мир
реального
бытия
на
родов,
пу ть,
который
приведет
к
«Борису Годунову», к пре-
98 Эти два стихотворения о Наполеоне ( о со бе нн о
первое
из
них)
мог ут
быть
свя зан ы
с
шес той
«Messénienne» Делавиня «A Napoléon».
Здесь
образ
Наполеона
и
понимание
его
близки
пуш ки нс кому.
Если
принять,
что
Пушкин
вз ял
моти в
Дел авиня
и,
так
сказать,
п ере
вернул
его,
пр им енив
к
А л ександру,
то
мы
сможем
полагать,
что
и
в
п уш
к инск ом
стих отвор ении
власть
А лекс ан дра
(реакции)
должна
б ыла
оказать
ся
эф ем ерн ой.
Отм ечу
ещ е,
что,
осуждая
Наполеона
за
убийство
свободы,
Делавинь
говорит,
что
Ватерлоо
перенесло
цепи,
сковывавшие
при
Н апо лео
не
царей,
на
народы,
сражавшиеся
за
этих
цар ей.
Эта
мысль
так же
была,
без
сомнения,
близ ка
Пушкину.
Пушкин
знал,
и
в
середине
1820-х
годо в
даже
це нил
творчество
Де
лавин я,
хотя
и
не
любил
его ,
считал
связанным
с
традициями
классицизма:
«La Vigne [подражатель]
школь ник
Вол ьте ра
—
и
бьется
[все]
в
старых
сетя х
Аристотеля»
—
(черновик письма к Вяземскому 4
ноября
1823).
«Ты,
кажется,
любишь
Казимира,
а
я
так
нет.
Конечно,
он
поэт,
но
все
не
В оль тер,
не
Гете». (Ему
ж е, 25 мая 1825).
Сти хо тво рен ие
Делавиня
«К
Наполеону»
ходил о
по
ру кам
(ив списках)
в
к ругу
пушкинских
друзей.
Вяземский
писал
10 мая 1824
г ода
А.
И.
Ту р ге не в у: «Я имею Наполеона
La Vigne.
Итак,
не
присылай
списка,
а
раз ве
печатан ого,
если
найдешь».
И
ему
же
20 марта 1824
г о да : «Найди мне в Петербурге новые Messéniennes,
в
которых
Le voyageur, Napoléon и прочее».
И
ию ля
1823 года
Н.Н.
Р аевск ий
пис ал
св оему
брату
А. Н.
из
Петербурга: «Voicilesdernières
Poésies de Casimir Delavigne pour Pouskin, je n'ai le temps de lui écrire».
308
одолению
декабристской
замкнутости,
к
проблеме
народности,
уже
не
как
нацио на льно с ти,
а
как
демократизма.
Характерным
об раз ом
вы разил ись
искания
Пушкина,
его
сомнения
в
революционном
движении,
истолкованном
в
декаб
ристском
духе ,
—
в
его
отношении
к
греческому
восстанию.
В
1821 году,
когда
восстание
началось,
Пушкин
полон
пафоса
и
на дежд ы.
Он
воспринимает
восстание
в
романтическом
плане,
он
полон
героических
мечтаний
и
еще
не
думает
о
необходи
мости
анализировать
исторические
и
социальные
силы,
опреде
ляющие
ход
вещей.
Для
не го
греки
—
потомки
д ре вних
гр е
ков,
и
он
не
размышляет
о
двух
тысячах
лет
истории,
изменившей
и
облик
и
судьбу
нар од а.
Он
пишет
В.
Л.
Давы
дову:
«Уведомляю тебя о происшествиях,
которые
будут
иметь
следствия,
важные
не
только
для
нашего
края,
но
и
для
всей
Европы...
Я
видел
письмо
одного
инсургента:
с
жаром
описы
вает
он
обряд
освящения
знамен
и
меча
кня зя
Ипсиланти,
вос т орг
духовенства
и
народа
и
прекрасные
мину ты
Надежды
и
Свободы...
Восторг
умов
до шел
до
высочайшей
степени,
все
мысли
уст рем лены
к
одному
предмету
—
к
независимости
древнего
отечества.
В
Одессах
я
уже
не
зас тал
любопытного
зрелища:
в
лавках,
на
улицах,
в
трактирах
—
везд е
соб ира ли сь
толпы
гр еко в,
все
продавали
за
ничто
св ое
имущество,
покупали
сабли,
ружья,
пистолеты,
все
говорили
об
Лео нид е,
об
Фемис-
токле,
все
шли
в
войско
счастливца
Ипс и ла нт и» (X, 22—23).
Пу шкин
не
дифференцирует
еще
«вождей», их индивиду
альные
ст ре мле ния,
и
народ,
его
характер
и
желания.
Пафос
для
него
важнее
всего .
Античные
воспоминания
ослепляют
его
и
кажу тся
ему
реальностью
его
времени.
Ипсиланти
для
него
—
герой,
решающий
судьбы
р о дины,
а
восстание
—
н ачало
общеевропейских
событий.
Еще
осенью
1822 года Пушкин
ждал
пе ре ворот а
и
в
Ро ссии ;
декабристская
пате тика
заслоняла
для
него
подлинное
положение
вещ ей.
1 сентября 1822 года он
писал
Вяземскому: «Люди,
которые
умеют
читать
и
писать,
скоро
будут
нужны
в
России,
тогда
надеюсь
с
тобою
бол ее
сблизиться» (X,42).
Но
вот
менее
чем
через
два
г ода
все
изменилось.
Наступило
разочарование.
Народу
чужды
мечта
нья
и
на деж ды
декабристов.
То
же
относится
к
грекам.
Народ
и
там
ид ет
сво им
путем,
гораздо
менее
эффектным,
чем
Ипси
л анти;
то,
что
этот
менее
эффектный
путь
и
более
героичен
и
более
революционен,
Пу шкин
поймет
позднее;
теперь
он
уви
дел
реальность,
и
она
поразила
его
свои м
несоответствием
декабристскому
идеалу
гомеровской
героики.
24—25 июня
309
1824 года Пушкин писал Вяземскому: «Греция мне огадила.
О
суд ьбе
греков
позволено
рассуждать,
как
о
судьбе
моей
братьи
не г ров,
мо жно
тем
и
другим
желать
освобождения
от
раб ст ва
нестерпимого.
Но
чтобы
все
просвещенные
европейские
наро
ды
бре дил и
Гре цие й
—
это
непростительное
ребячество.
Иезуиты
натолковали
нам
о
Фем исто кле
и
Перикле,
а
мы
вообразили,
что
пакостный
народ,
состоящий
из
разбойников
и
лавочников,
есть
законнорожденный
их
потомок
и
наследник
их
школьной
славы.
Ты
скажешь,
что
я
переменил
свое
мне
ние .
Приехал
бы
ты
к
нам
в
Одессу
посмотреть
на
соотече
ст ве ннико в
Мильтиада
и
ты
бы
со
мною
согласился» (X,
92—93).
Так
разв ея лась
ме чта
о
греках
как
всегда
пребывающей
не из менно й
нации
античных
гер ое в;
Фемис то к л,
Перикл,
Мильтиад
—
их
нет
в
по дли нной
действительности
греков
XIX века,
и
гр еки
эти
показались
Пушкину
ужа сн ы,
буд учи
лишены
античных
декораций.
Это
был
горький
о пыт
и
тяж ел ая
мысль,
—
но
она
была
необходима,
ибо
освобождала
сознание
Пушкина
от
иллюзий
индивиду а лис тич ес ко й
замкнутости.
Пушкин
настолько
не
ск рыв ал
своего
нового
отношения
к
грека м ,
что
это
могло
производить
впечатление
его
отхода
от
освободительной
идео л оги и,
че го
на
сам ом
д еле
вовсе
не
было.
Отсюда
—
его
письмо
к
В.
Л.
Давыдову
от
июня
1823 —
июля
1824 года ( черн ов ое): «С удивлением слышу я,
что
ты
по читае шь
мен я
врагом
освобождающейся
Греции
и
поборни
ком
турецкого
рабства.
Видно,
слова
мои
бы ли
тебе
с тр анно
пе ре толк ова ны.
Но
что
бы
те бе
ни
говорили,
ты
не
должен
был
в ер ить,
чтобы
когда-нибудь
сердце
мое
недоброжела-
тельствовало
бл а городны м
усихиям
возрождающегося
народа.
Жалея,
что
принужден
оправдываться
перед
тобою,
повторю
и
зде сь
то,
что
случалось
мне
говорить
касательно
гре ков » (X,
98) — «Мы
виде ли
этих
новы х
Леонидов
на
улицах
Одессы
и
Кишинева
—
со
многими
из
них
л ично
знакомы,
мы
можем
удостоверить
их
полное
ничтожество
—
они
ум уд рили сь
быть
болванами
д аже
в
такую
ми нут у,
когда
их
р асс казы
должны
был и
интересовать
в сяк ого
европейца
—
ни
ма л ейшего
поня
тия
о
воен но м
деле,
никакого
представления
о
чести,
никако го
энтузиазма
—
французы
и
русские,
которые
здесь
живут,
выка зыва ют
им'
вполне
заслуженное
презрение;
они
все
сно
ся т,
да же
палочные
удары,
с
хладнокровием,
достойным
Фе-
мистокла.
Я
не
варвар
и
не
проповедник
Корана, * дело Греции
в ызыв ает
во
мне
горячее
сочувствие,
им енно
по этому-то
я
и
негодую,
видя,
что
на
эт их
ничтожных
людей
возложена
свя
щенная
обязанность
защищать
свободу»
(X,
310
764—765).
Пушкин
повторяет
здесь
о б винения
против
во с
ставшего
народа,
исходившие
от
круг ов
Ипсиланти
и
вообще
верхушки
восстания.
Прой д ет
несколько
ле т,
и
Пушкин
пой
мет,
что
дело
обстояло
наоборот,
что
пр еда ли
восстание
«вожди», аристократы,
не
умевшие
совершить,
ничего,
кроме
произнесения
го ря чих
и,
конечно,
искр е нних
речей.
В
своем
«Кирджали» (1834) Пушкин писал об этом так: «Александр
Ипсиланти
был
лич но
храбр,
но
не
име л
сво й ств,
нужных
для
роли ,
за
которую
взял ся
так
гор ячо
и
так
неосторожно.
Он
не
у мел
сладить
с
людь ми ,
которыми
принужден
был
предводи
тельствовать.
Они
не
имели
к
нем у
ни
уважения,
ни
доверен
ности.
По сле
несчастного
сражения,
где
погиб
цвет
греческого
юношества,
Иордаки
Олимбиоти
присоветовал
ему
удалиться
и
сам
заступил
его
место.
Ипсиланти
ускакал
к
границам
Ав
стрии
и
оттуда
послал
с вое
проклятие
людям,
к оторы х
н азы вал
ослушниками,
трусами
и
нег од яям и.
Эти
трусы
и
него дяи
большею
частию
по гибл и
в
стенах
монастыря
Секу
или
на
берегах
Прута,
от ч аянно
защищаясь
прот ив у
неприятеля,
вде
сятеро
сильнейшего».
Можно
ска зать
коротко,
что
в
1830-х
го дах
Пушкин
полностью
ст оял
на
почве
народности
в
самом
глубоком
и
уже
демократическом
смысле,
оценивая
греческое
во сс тание.
В
1824 году он только стоял в преддверии этой проблематики и
быстро
двигался
к
ее
положительному
разрешению.
Во
всяком
с луча е,
уже
летом
1824 года мысль о народе и его участии в
ис т ории,
и
в
частности
в
ре во л юции,
стояла
перед
ним
как
важнейший
вопрос,
требующий
разрешения.
И
в
то
же
время
наступало
явное
разочарование
в
па тет ике
революции,
вы не
сенной
из
интел_\игентских,
дв орян ски х
кружков.
Массы
на ро
да,
живущие
своей
особой
«объективной»
жизнью,
недоучтен
ные
декабристами,
нас то йч иво
требовали
от
Пушкина
ответа
на
свои
вопросы.
Кучка
благородных
революционеров,
людей
книги,
людей
пафоса
и
индивидуально,
субъективно
у беди тел ь
ных
идей,
предстала
ему
как
малый
островок
в
безбрежном
море
народной
жизни
и
косной
государственности
Р осси й ской
империи.
Где
их
сил а?
Ее
нет.
Эго
бы ли
мучительные
раз
мышле н ия
Грибоедова
о
сотне
прапорщиков.
Это
б ыла
страш
ная
в
своей
ясности
мыс ль
о
бессилии
да же
самых
лучших
людей
и
самых
лучших
и дей,
—
перед
чем?
Перед
непобеди
мой
силой
истории.
А
вед ь
ис тор ия
—
это
история
народа,
массы,
миллионов.
Неизбежно
Пушкин
двигался
к
историзму,
к
погружению
в
проблему
закономерностей
народной
жизни.
Разочарование
в
революции
инте л лиге нто в
и
в
субъективном
пафосе
не
отбро
311
си ло
его
ни
в
пе с сими зм,
ни
в
консервативность.
Он
не
сбли
жался
с
Карамзиным
или
даже
Жуковским,
а
отдалялся
от
ни х.
Он
ис кал
ответа
на
субъективные
сомнения
в
объективном
бытии
народа,
и
здесь
он
увидел
реальную
силу ,
ту
самую,
которая
творит
историю.
Так
возникло
страстное
стремление
понять
объективную
д ушу
чужого
народа
и
пу ть
к
по ним анию
ее,
обретенный
в
подлинном
бытии
ег о,
закрепленном
в
его
творчестве,
—
«Подражания Корану» .
Так
возн ик
особый
интерес
к
Ше кспиру ,
еще
на
юге,
интерес,
сменивший
увлече
ние
Ба йроном .
Так
рушился
романтизм
в
сознании
Пушкина,
ибо
рушился
индивидуализм,
отрешавший
лич нос ть
от
народа,
от
психологического
и
со ци альн ого
подчинения
ее
коллективу,
субъективизм
и
в
миропонимании,
и
в
по лити ке,
и
в
эстетике.
Пушкин
освобождается
от
романтического
метода
мысли
и
де йств ий
декабристов,
ибо
он
начинает
понимать,
что
истин
ным
критерием
реа льнос т и
политической
ко нцепц ии
и
про
граммы
является
не
субъективная
убедительность
ее,
а
обосно
ванность
ее
народной
с удьбой ,
историей,
свя зь
ее
со
стр ем лениям и
на ро да.
Декабристское
движение,
не
возникшее
из
народа,
обречено;
за
ним
не
стоит
си ла
на ст оящ его
суб ъ екта
истории
—
народа.
То
же
относится
и
к
искусству.
Оно
э фе
мерно,
если
является
выражением
только
и нди ви дуальн ого
духа,
ес ли
сам
эт от
дух
не
есть
эма на ция
ду ха
народа.
Отсюда
возникающий
у
Пушкина
именно
в
это
вре мя
инт ер ес
к
пр о
блеме
народности
литературы,
стоявшей
уже
в
декабристской
литературе,
но
им
разрешаемой
по-своему.
Отсюда
явная
тен
денция
и
с вое
собственное
творчество
подчинить
задаче
по
с тр оения
народной
поэзии.
Нет
сомнения
в
том,
что
в
1824 и даже 1825 годах поня
тие
на рода
у
Пушкина
не
имело
еще
отчетливой
социальной
дифференциации,
как
это
б ыло
у
н его
позднее,
в
1830-е
годы.
Народ»
—
для
не го
еще
и
теперь
понятие,
в
сил ьно й
степени
окрашенное
определением
духовной
кул ьту ры,
притом
не
впол
не
явно
определенное
в
сословном
(тем более классовом)
смыс ле.
Но
тем
не
менее
Пушкин
яв но
преодолевает
тенден
цию
декабристского
романтизма
по ним ать
народ
как
нацию
и
народность
как
национальное
своеобразие.
Народ
для
н его
—
уже
демократическая
ма сса,
а
нена ро дно е
—
это
личное,
ин
дивидуальное,
оторванное
от
массы
бы тие
(жизнь и мысли)
интеллигента,
то
е сть
инт е лли ген т а-д воря нина
по
преимущест
ву.
Ненародно
для
н его
и
все
связанное
с
подавлением
на род а,
правительственное,
значит,
и
дворянское
как
таковое,
а
значит,
и
народ
—
все
же
прежде
всег о
именно
демократическая
сти
хия.
Не
достигнув
еще
в
полной
мере
социально
312
дифференцированного
истолкования
п онятия
народ,
Пушкин
в
1825 году вполне достиг исторического его истолкования,
в
общем
демократического
и
прежде
всего
объективного
в
прин
ципе.
В
это
время
п еред
Пушкиным
стояла
проблема
в
общем
в иде
—
про бле ма
дву х
типов
бытия
и
ку льт уры
в
стране,
в
Ро с сии:
типа
народного,
живого,
творческого,
мощного,
массо
вого,
демократического;
и
ти па
верхушечного,
внутренне
пусто
го,
ненародного
и
а нтинар о дно го
(эта концепция легла в основу
«Евгения Онегина»).
Связь
этой
ко нцепции
с
декабристским
мировоззрением
очевидна;
но
не
менее
оч евид но
и
то,
что
она
выходит
за
п ред елы
декабристского
мировоззрения
в
силу
своей
п отен циа льной
демократичности
и
преодоления
замк ну
тости,
индивидуалистической,
а
в
глубине
ве щей
и
социальной.
Следует
отметить
также,
что
пушкинское
мировоззрение,
как
органическая
сущность
со з нания,
выразившаяся
в
твор
честве,
опережало
его
теоретические
формулировки,
в
которых
он
бывал
бол ее
подчинен
традиции.
Пушкин
уже
со зд авал
«Бориса Годунова»,
разрешая
в
нем
пр обл ему
народа
как
демократической
массы,
исторически
сложившейся
в
сво ем
коллективном
бытии
и
в
сознании,
а
в
теории
он
мог
еще
повторять
положения,
им
творчески
пре одо л енные .
В
1822 году Пушкин,
размышляя
о
русской
истории
XVIII столетия,
пи сал: «Аристокрация после его ( П ет ра I
—
Г.
Г.)
неоднократно
зам ышля ла
ограничить
самодержавие:
к
счастию,
хи трос ть
гос ударе й
то ржес т вова ла
над
честолюбием
вельмож,
и
образ
правления
остался
непр икос нове нны м.
Это
спасло
нас
от
чудов ищ ног о
феодализма
и
существование
наро
да
не
отделилось
вечною
чертою
от
существования
дворян»
(VIII, 122).
Пушкин
считал
в
это
время,
что
пу ть
для
объединения
дво ря нств а
и
порабощенной
мас сы
не
закрыт,
что
этот
путь,
например,
в
освобождении
крестьян
и
в
открытии
доступа
в
дворянство
всем
сословиям.
Но
в
то
же
время
самая
проблема
р аз дел ения
на ции
стояла
перед
ним
уже
ощутительно,
хо тя
еще
в
дек аб рист ск ом
плане.
В
1825 году Пушкин мог еще
фо рмул иро ва ть
теоретически
понятие
о
народности
ли те рат уры
в
тесной
св язи
с
метафизически
по няты м
н ацио нал ьным
харак
тером.
В
статье
«О поэзии классической и романтической»
он
писал:
«Два обстоятельства имели решительное действие на дух
европейской
поэзии:
нашествие
мавров
и
крестовые
походы.
Мав ры
внушили
ей
ис сту пление
и
нежность
любви,
при
верженность
к
чудесному
и
роскошное
кра снор еч ие
востока;
рыцари
сообщили
сво ю
набожность
и
простодушие,
свои
поня
313
тия
о
геройстве
и
в ольнос ть
нравов
походных
станов
Годфреда
и
Ричарда» (VII,35).
Здесь
характерным
образом
переплета
ю тся
два
принципа:
вл ияние
мавров
Пушкин
то лк ует
как
вл ия
ние
национального
характера,
метафизически
свойственного
это му
народу.
Характер
рыц ар ей
(самое понятие это
—
вне-
на ци онал ь но),
наоборот,
возвод и т ся
отчасти
к
условиям
их
бытия
(«Походные станы . ..») ".
В
1826 году Пушкин писал в
наброске
о
народности
в
л итер а ту р е: «Климат,
образ
пр авле
ни я,
ве ра
даю т
каждому
н ароду
особенную
физ ион оми ю,
кото
рая
более
или
м енее
отражается
в
з ер кале
поэзии.
Ест ь
образ
мыслей
и
чувствований,
есть
т ьма
обычаев,
поверий
и
привы
че к,
принадлежащих
ис клю ч ител ьно
какому-нибудь
на род у»
(VII, 39—40).
Здесь,
в
первой
фразе,
устанавливается
объективное,
даже
историческое
обоснование
народного
характера,
но
это
обосно
вание
отстает
от
практики
«Бориса Годунова», так как оно не
включает
реальных
условий
с оци ально го
бытия
народа
и
сов
сем
не
дифференцирует
его,
то
есть
приемлет
его
как
единство
нации.
Совсем
иначе
понимал
Пушкин
народ,
народный
харак
тер,
народность^ 1830году.
В
заметках
о
народной
драме
и
о
«Марфе Посаднице»
По г одина
он
п ис ал: «Народная трагедия
родилась
на
площади,
образовалась
и
потом
уже
б ыла
приз в а
на
в
аристократическое
общество.
Тр аге дия
наша,
образованная
по
примеру
трагедии
Р аси-
ново й,
может
ли
отвыкнуть
от
аристократических
своих
привы
ч ек?
Как
ей
пе р ейти
от
сво его
разговора,
размеренного,
важ
ного
и
благопристойного,
к
грубой
откровенности
народных
страстей,
к
вольности
суждений
площади
—
как
ей
вдр уг
отстать
от
подобострастия,
как
обойтись
без
правил,
к
кото
рым
она
привыкла,
насильственного
приноровления
вс его
рус
ского
ко
всему
европейскому,
гд е,
у
ко го
выучиться
наречию,
понятному
н а роду?
Какие
су ть
страсти
се го
на рода ,
ка кие
струны
его
сердца,
где
найдет
она
себ е
со зв уч ия ...?» (VII,
216— 217).
Здесь,
конечно,
м ы шление
Пушкина
уже
де мокра ти чно.
Оно
было,
в
сущности,
так им
еще
в
1825 году,
в
«Борисе
Годунове», —
но
тогда
социальные
уточнения
не
были
в
такой
ме ре
дос тупн ы
рациональному
пр оясне нию
пушкинской
мысли.
Постановка
пр обл емы
народа
как
носителя
истории
и
ее
делателя
и
народа
как
колл е ктив ного
субъекта
п оэзии ,
тво р-
99 Конечно,
Пушкин
не
был
ори гин ален
в
приведенной
ц итате;
но
это
не
меняет
дела,
так
как
она
выражает
его
теоретические
мнения,
хотя
бы
и
навеянные
книгами.
314
чества
поэта,
окончательно
определилась
у
Пушкина
в
Мих ай
ловском.
Был о
бы
нев ер но
игнорировать
здесь
биографические
условия,
осложнившие
и
подчеркнувшие
впечатления
от
кр у
шения
революционных
попыток
в
Западной
Европе,
попол
нившие
смысл
чтений
Шекспира,
историков,
углубившие
со б
ствен н ые
размышления.
Русская
деревня,
нища я,
неподвижная
—
по
первому
впечатлению
сразу
же
переносящая
наблюдате
ля
в
г лубь
веков,
живущая
так,
как
будто
бы
не
было
нико гда
не
только
Французской
рев о. моц ии
и
Байрона,
но
даже
Пе т
ра
I, старинные монастыри,
во спом инания
ист ор ии
на
каждом
шагу,
—
все
это
плотно
обступило
Пушкина
в
Михайловском.
В
то
же
время
за
внешностью
заст о я,
за
древним
обликом
внимательному
взгляду
открывалась
своя
живая,
полноценная
жизнь,
традиционная,
глу бо ко
народная,
свое
творчество,
це
лый
м ир , «тьма обычаев,
поверий
и
пр ив ы чек », свойственных
народу
и
раскрывающих
его
своеобразную
культуру.
Пушкину
в
Михайловском
раск р ыли сь
богатства
фольк лора
и
в
сказках
Арины
Родионовны,
и
в
песнях,
и
в
живой
речи,
и
в
тр ад ици
ях
бы та
крестьян.
Конечно,
самый
путь
идейного
развития
Пуш ки на
подвел
его
к
во сп рия тию
э тих
б ога тств.
Не
потому
Пушк ин
обратился
к
народности,
что
Ар ина
Родионовна
ска
зывала
ему
сказки
в
уед ине нии
деревенской
сс ыл ки,
а
наобо
рот ,
потому
он
стал
слушать
эти
сказки,
потому
в ник
в
них
и
восхитился
им и,
потому
стал
собирать
песни
и
слушать
речь
народную
на
ярмарочных
сборищах,
что
перед
ним
встала
проблема
народа
и
народности
в
сил у
кр и зиса
декабристских
методов
мышления
и
романтического
субъективизма.
Вед ь
и
ран ь ше,
еще
в
детстве,
слыхал
Пушкин
ск азки
Арины
Родио
новны,
но
они
не
«дошли»
до
его
сознания
как
целая
к уль тура
мысли
и
творчества,
и
да же
не
отразились
в
сказочной
поэме
его
молодос т и,
в
«Руслане и Людмиле»; тогда они не воспри
нимались
глубоко,
ибо
не
был о
для
них
идеологической
аппер
цепции
в
самом
Пушкине,
ибо
мысль
Пушкина
не
нуждалась
то гда
в
опоре
на
чуждую
ее
книжности
народную
стихию.
Теперь
—
и ное
дело.
Впечатления
Михайловского
оказали,
однако,
свое
благотворное
влияние.
И
может
быть,
самое
главное
в
этом
было
то,
что
народ
был
по нят
Пушкиным
как
стихия
«мятежей».
Народ
имеет
свой
собственный
склад
и
характер
по нима
ния
жизни
и
действия.
Об
этом
характере
Пушкин
и
будет
писать
в
«Борисе Годунове».
Это
—
характер
бунтарский
и
реальный
в
своей
мощи.
Это
и
есть
су ть
русской
истории.
Отсюда
и
резкая
формулировка
в
письме
к
бр ат у: «Вот тебе
зад ач а:
историческое,
сухое
известие
о
Сеньке
Разине,
един
315
ств енно м
поэтическом
лице
русской
исто р ии» (ноябрь 1824
года)
(X, 108).
Отсюда
и
создание
Пушкиным
его
песен
о
Ра зине .
Пушкин
погружается
в
народное
сознание,
хоче т
до
бит ься
творческого
понимания
народной
жизни
и
психики
из нут ри
ее,
хочет
писа ть
«голосом народа», —
и
он
создает
песни
не
о
чем-либо
другом,
а
именно
о
Разине.
И менно
поэ
зию
восстания
нашел
Пушкин,
обратившись
к
разработке
фольклора.
Про долж ая
работать
над
русской
ба лладой ,
уже
теперь
не
только
исторической,
а
народной
по
заданию,
он
обращается
к
«разбойной»
теме
«Жениха».
Переход
от
овла
дения
объективностью
экзотической
народной
культуры
Восто
ка
к
овладению
объективностью
народной
жизни
отечества,
России,
обернулся
углублением
бунтарской
проблематики.
Это
не
значит,
конечно,
что
Пушкин
становится
в
Михайловском
крестьянским
революционером;
он
ск лон ен
считать
кр ес тьян
ск ий
бунт
бе спе р спе ктив ным.
Но
это
значит,
что
самый
вопрос
о
дворянском
бу нте
личностей,
кружка
он
решает
теперь
исхо
дя
из
мысли
о
народной
истории
и
народном
бунте.
Творче
ск ое
разрешение
в опрос а
восстания
он
найдет
не
в
оде ,
не
в
пате тич е ской
лирике,
а
в
трагедии,
в
объективном
изображении
«судьбы народной», и именно трагическом изображении ее,
ибо
судьба
народная
—
для
него
трагедия.
Но
возврата
к
индивидуализму
нет.
Именно
в
Михайловском
были
в
основ
ном
написаны
«Цыганы», в которых глубоко и принципиально
осужден
и
ба йрон изм ,
и
поиски
путей
ин див идуа л ьного
пр о
теста
вообще,
в
к от орых
противоречие
между
«необразованным»
народом
и
инд ив идуа льнос тью ,
интеллиген
том,
человеком
не
из
народа
разрешено
в
пользу
здорового
чувства
морали
и
общ ес тв енно го
инст инкта
народа.
В
Миха й
ловском
завершился
пу шкинс кий
романтизм
и
был
создан
русский
реализм:
первой
завершенной
победой
его
был
«Борис
Годунов», поскольку «Евгений
Онегин»
в
эти
годы
не
был
еще
закончен.
316
Несколько
слов
о
Григории
Александровиче
Гуковском
и
его
книге.
Исполнилось
сорок
п ять
лет
со
дня
гибели
вы
дающегося
ученого,
попавше го
в
с талин ск ие
жернова
уже
на
исходе
сталинской
эпохи.
Печа льн о
и
несправедливо,
что
его
имя,
несмотря
на
высокий
авторитет
в
науч ной
среде,
звучит
ка к-то
глухо.
Достаточно
сказать,
что
за
трид
цать
по сле дних
лет
не
вышло
ни
одной
его
книги.
Предпри
ня тое
переиздание,
мож ет
быть,
лучшей
раб оты
Гуковско
го
призвано
х оть
н емног о
исправить
эту
несправедливость,
тем
более
что
потребность
в
э той
книге
оч ень
велика.
Тр уд
Гуковского,
как
всякое
классическое
произведение,
интересен
и
нуж ен
сегодня,
хотя
нап и сан
он
и
впе рв ые
опубликован
пятьдесят
лет
назад,
в
т яже лой
для
свобод
ной
научной
мысли
обстановке,
вын ужд авш ей
автора
на
страницах
своей
книги
оправдываться
перед
"марксистскими"
литературоведческими
ортодоксами.
При
эт ом
сам
Гуковский
тяг о тел
к
историко-социологическому
изучению
л ите ратур ы,
к
широким
теоретическим
обобще
ниям,
но
широта
и
смелость
этих
обобщений
всегда
со че
тал ас ь,
а
точнее,
исходила
из
к ропот ливог о
ис сле дован ия
литературных
фактов,
увлекательного
по г ружени я
в
глу
бину
слова
и
стиля.
Эта
замечательная
способность
—
погружаясь,
парить
—
придает
его
раб от ам
неповторимый
характер,
в
то
же
время
заставляя
вспомнить,
что
он
начинал
свою
научную
деятельность
в
Институте
ис
тории
искусств,
ряд ом
с
Ю.
Н.
Тыняновым
и
Б.
М.
Эйхен
баумом,
и
прошел
школу
"формального метода".
Вызывает
ува жени е
и
та
непреклонная
последователь
ность,
с
которой
Гуковский
продвигался
в
своих
нау чны х
т руд ах:
н ачав
с
изучения
русской
литературы
XVIII века,
317
ст ав
одним
из
лучших
ее
знатоков
и
исследователей,
он
двинулся
дальше
—
в
век
девятнадцатый.
Но
и
фундамен-
талъные
монографии
о
Пушкине
и
Гоголе,
над
которыми
он
раб от ал
в
последние
г оды
сво ей
жизни,
—
ли шь
гл авы
большого
и,
к
с ожале н ию,
неоконченного
тр уда
—
"Очерков
по
истории
русско г о
реал изма".
С
Гуковским,
конечно,
мо жно
спорить
и
не
соглашать
ся
—
его
работы
не
монумент,
а
живое
явле ние
культуры,
—
но
и
не
соглашаясь
с
ним,
берешь
у
него
урок и.
Григорий
Алекс а ндро в ич
Гуковский
(1902 — 1950)
родился
в
Петербурге.
В
1923 году окончил факультет
общ ест венн ых
наук
Петроградского
университета;
рабо
тал
в
Институте
истории
иску сс тв
в
Ленинграде,
воз
главлял
группу
по
изуч ению
р ус ской
ли тера туры
XVIII
века
при
П ушки н ском
доме;
яв лялс я
профессором
Ленин
градского
и
Саратовского
у ниве рси тето в
(в Саратове
ра бот ал
в
г оды
войны).
В
1949 году был арестован;
погиб
в
лагерях.
Посмертно
реабилитирован.
Книги
Г.
А.
Гуковского:
Р усск ая
п оэзия
XVIII века .
—
Л ., 1927.
Очерки
по
ист ор ии
русской
л и терат уры
XVIII века.
—
М. —Л. , 1936.
Очерки
по
ист ор ии
русской
л и терат уры
и
общественной
мысли
XVIII века .
—
Л ., 1938.
Русская
л и те ратура
XVIII века.
—
М. , 1939.
318
Пушкин
и
р у сские
ро мант ики.
—
Саратов,
1946.
(второе изд.
—
М., 1965).
Пушкин
и
проблемы
реалистического
стиля.
—
М., 1957.
Реализм
Г огол я.
—
М.—Л ., 1959.
Изучение
литературного
произведения
в
школе.
—
М.—Л., 1966.
Настоящее
издание
воспроизводит
изд а ние
1965 г .;
при
этом
учтено
и
первое
издание
1946 г .,
сопоставление
с
которым
позволи
ло
исп рави ть
н екот орые
явн ые
опечатки.
С.В .
Путилов
ОГЛ АВ ЛЕ НИЕ
ГЛАВА
ПЕРВАЯ....................................................................... 3
1 ..................................................................................................4
2............................ .................................................................. 12
3 ................................................................................................18
4..................................................................................................... 25
5 ............................................................................................... 33
6 ............................................................................................... 73
7 ..................................................................................................... 90
8 .................................................................................................... 114
ГЛАВА
ВТОРАЯ....................................................................149
1 .............................................................................................. 150
2 ...........................................i.. .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... 161
3 ..............................................................................................19^
4................................................................................................... 227
5 ............................................................................................. 258
6 ............................................................................................. 286
7................................................................................................... 300
Несколько
с лов
о
Г.
А.
Гуковском
и
его
книге....................316
Григорий
Александрович
Гуковский.
Пушкин
и
русские
романтики.
Подготовка
текста
С. В.
Путилова.
И здан ие
осуществлено
совместно
с
МП
"Лабиринт" .
Лице нзия
ЛР
No
060256 от 3. 10. 91 г.
Отпе ча та но
в
ТОО
«Рязоблтипография»
390023, г.
Ря зан ь,
ул.
Новая, 69/12
Заказ
1681, тираж 2000 экз.