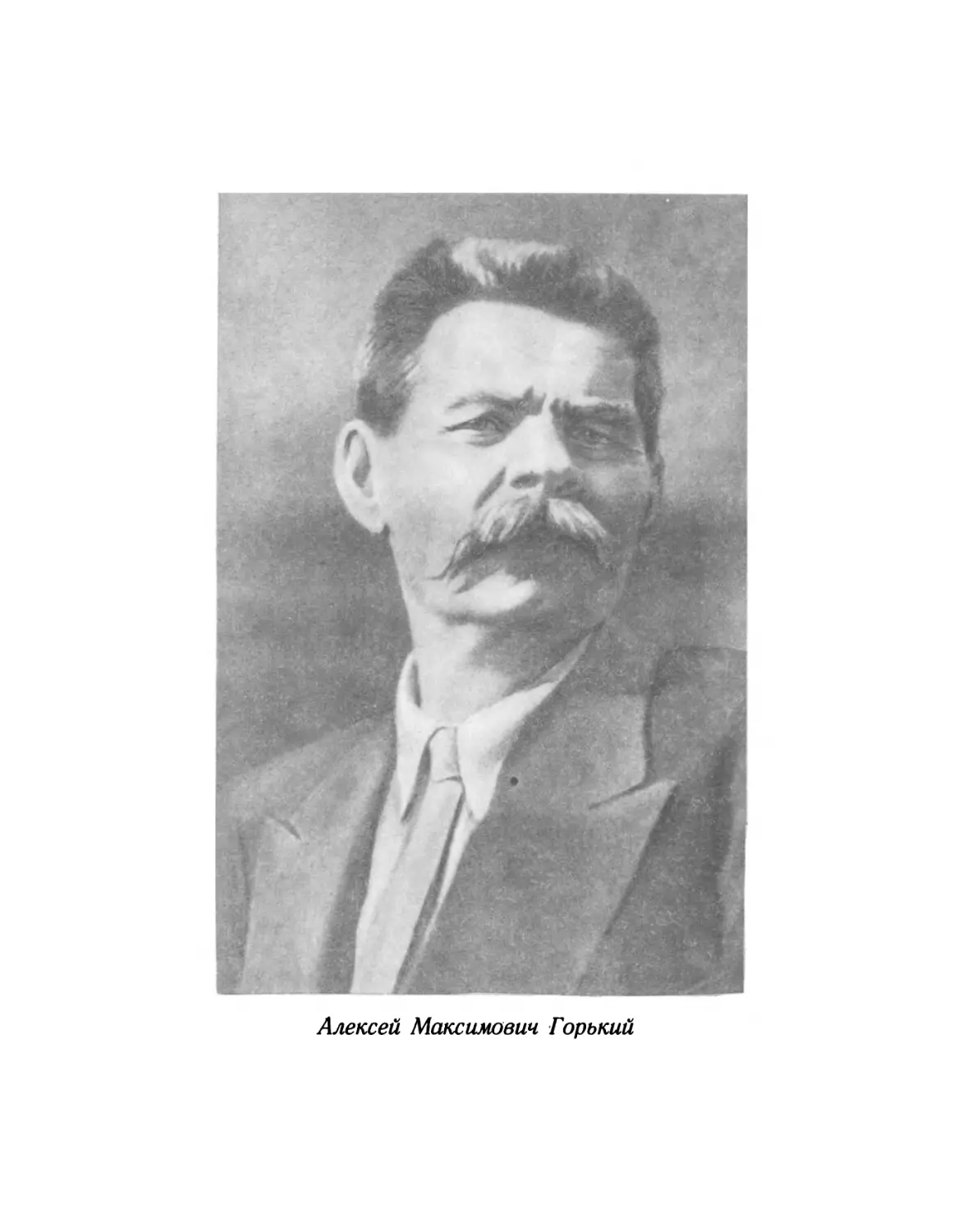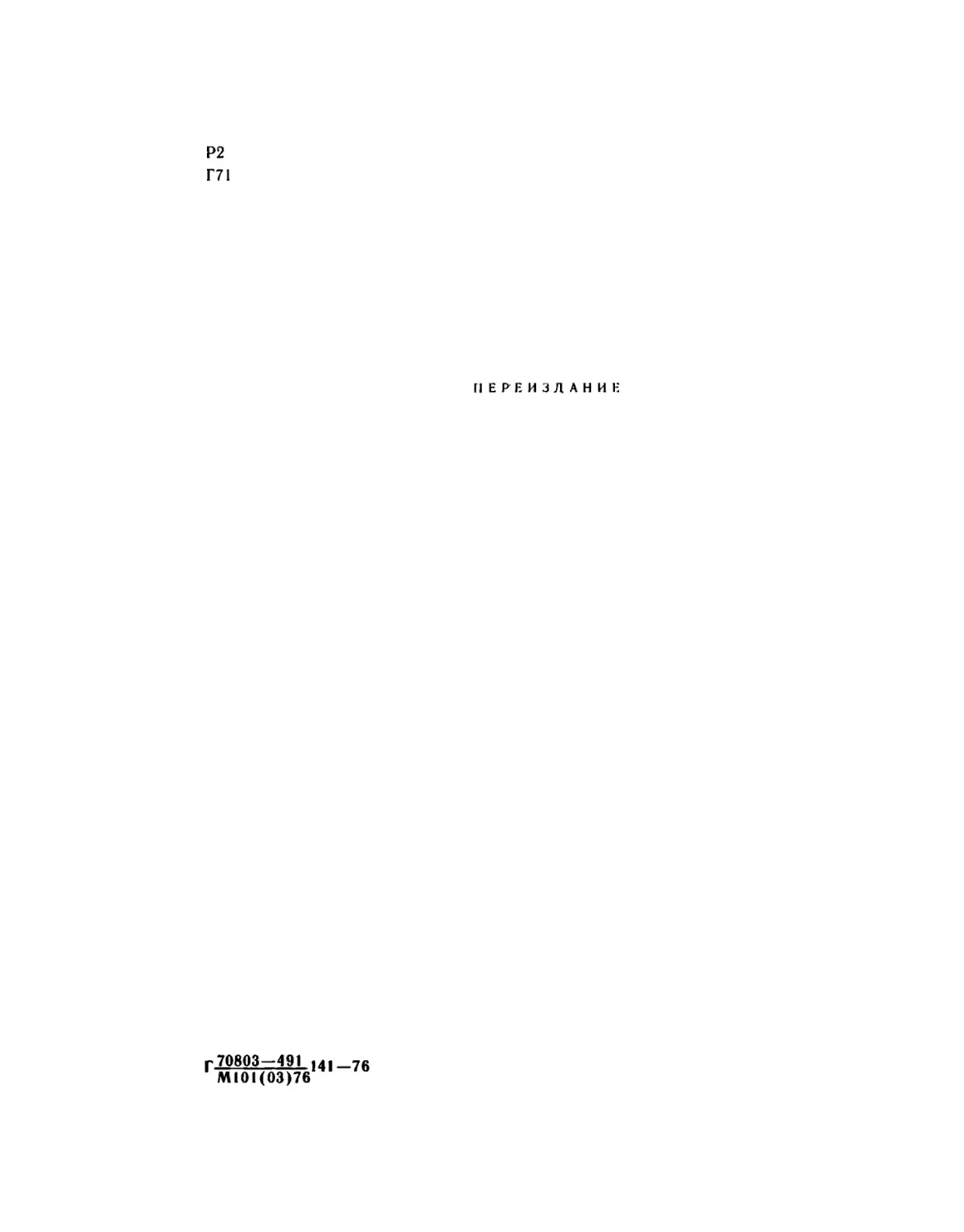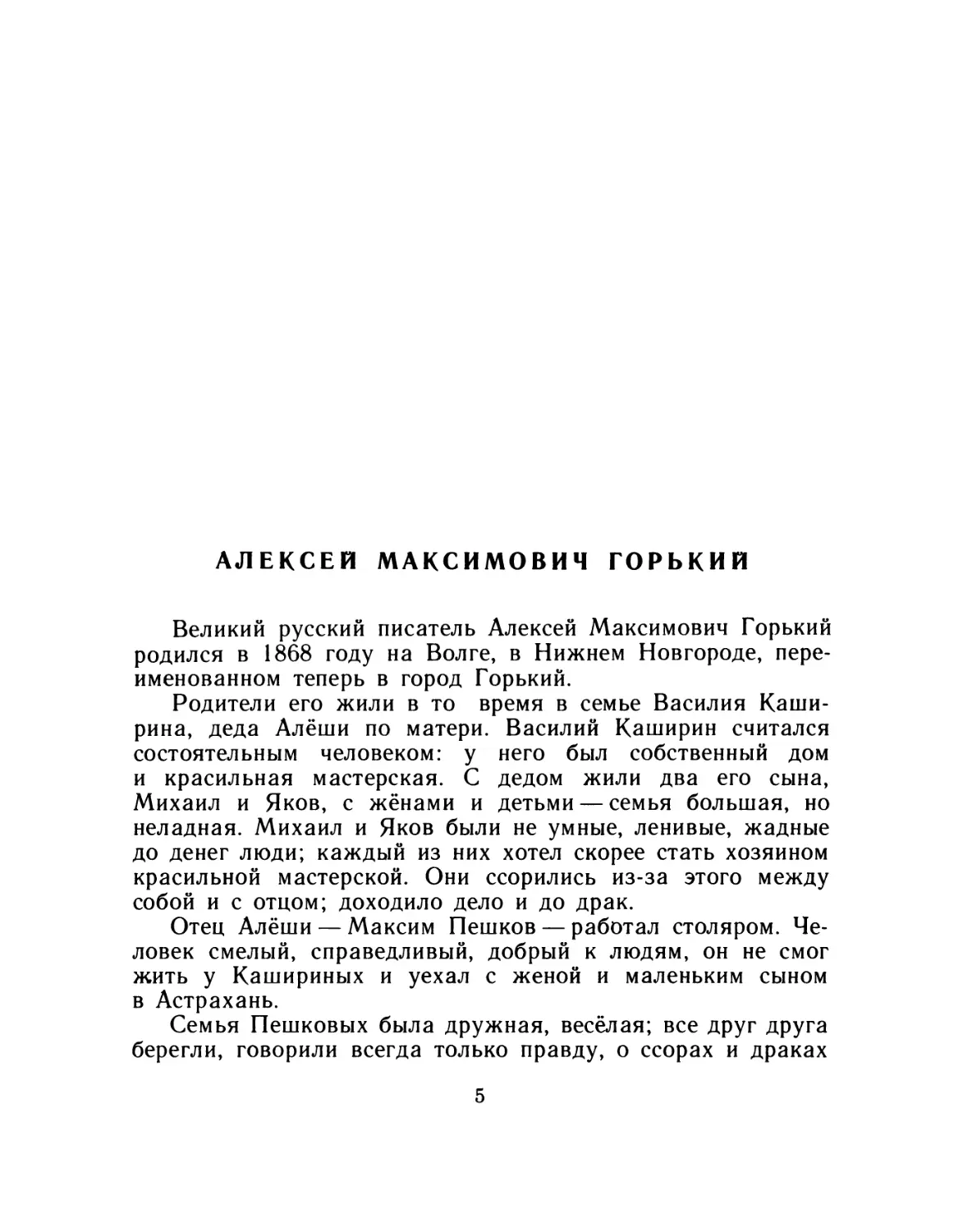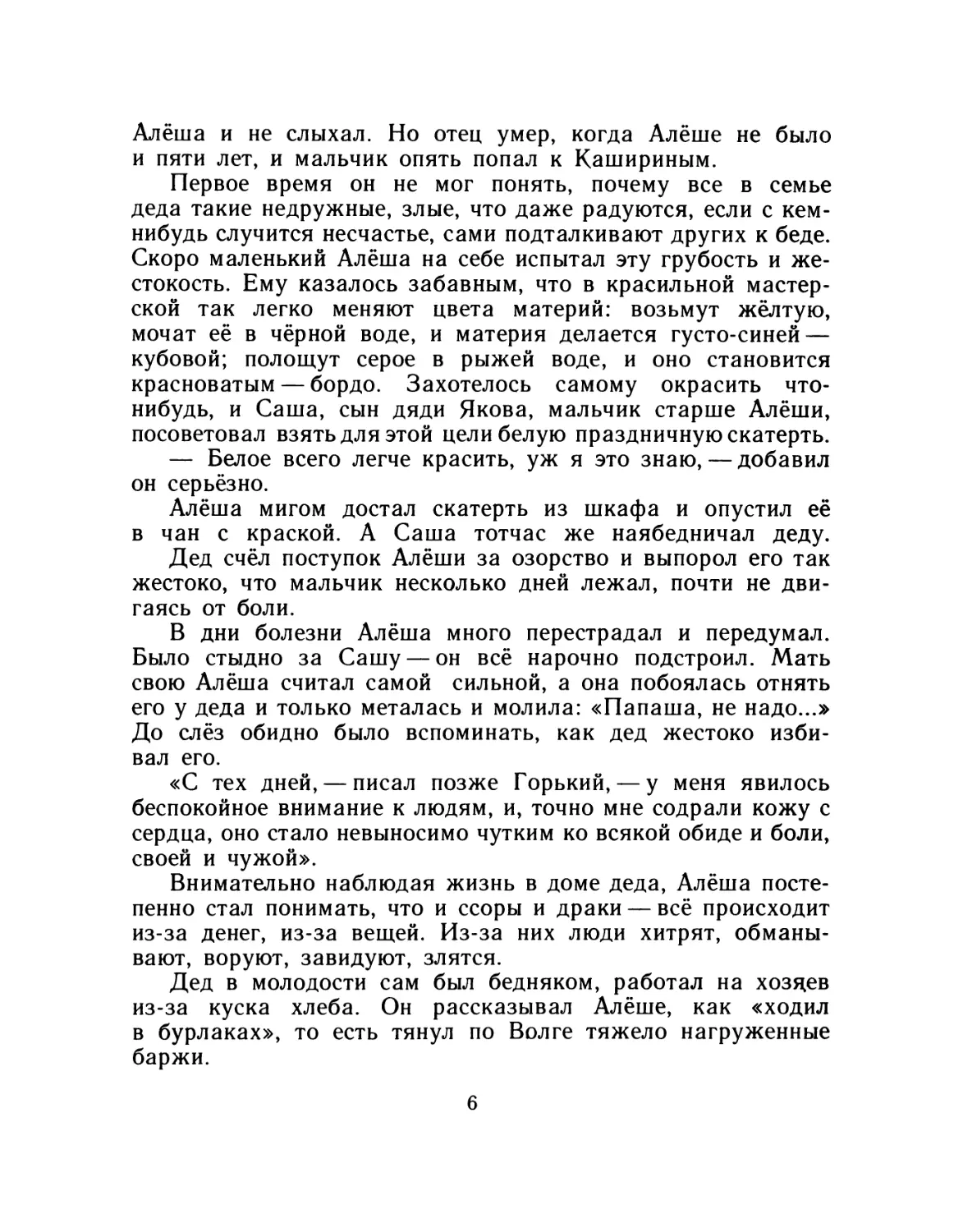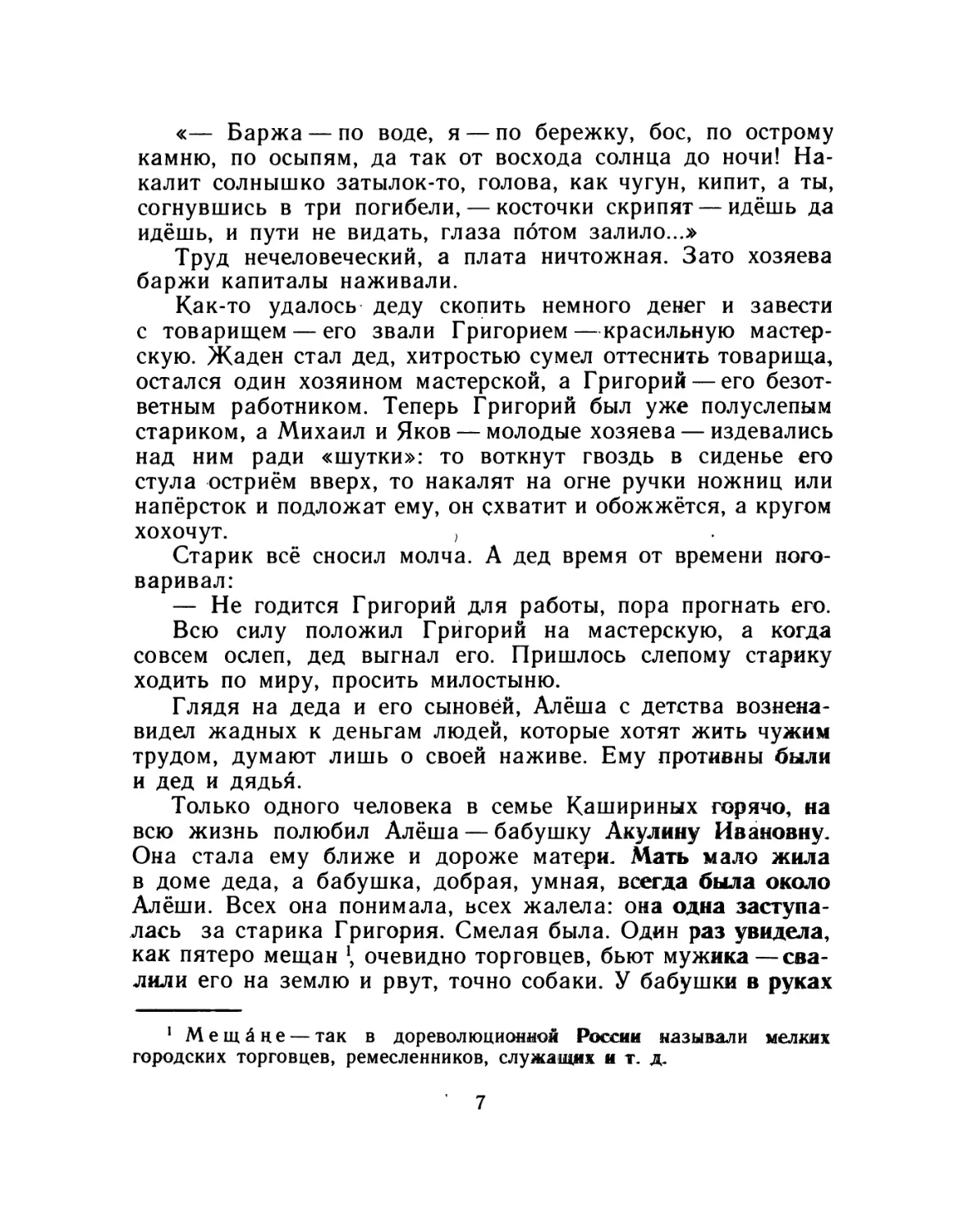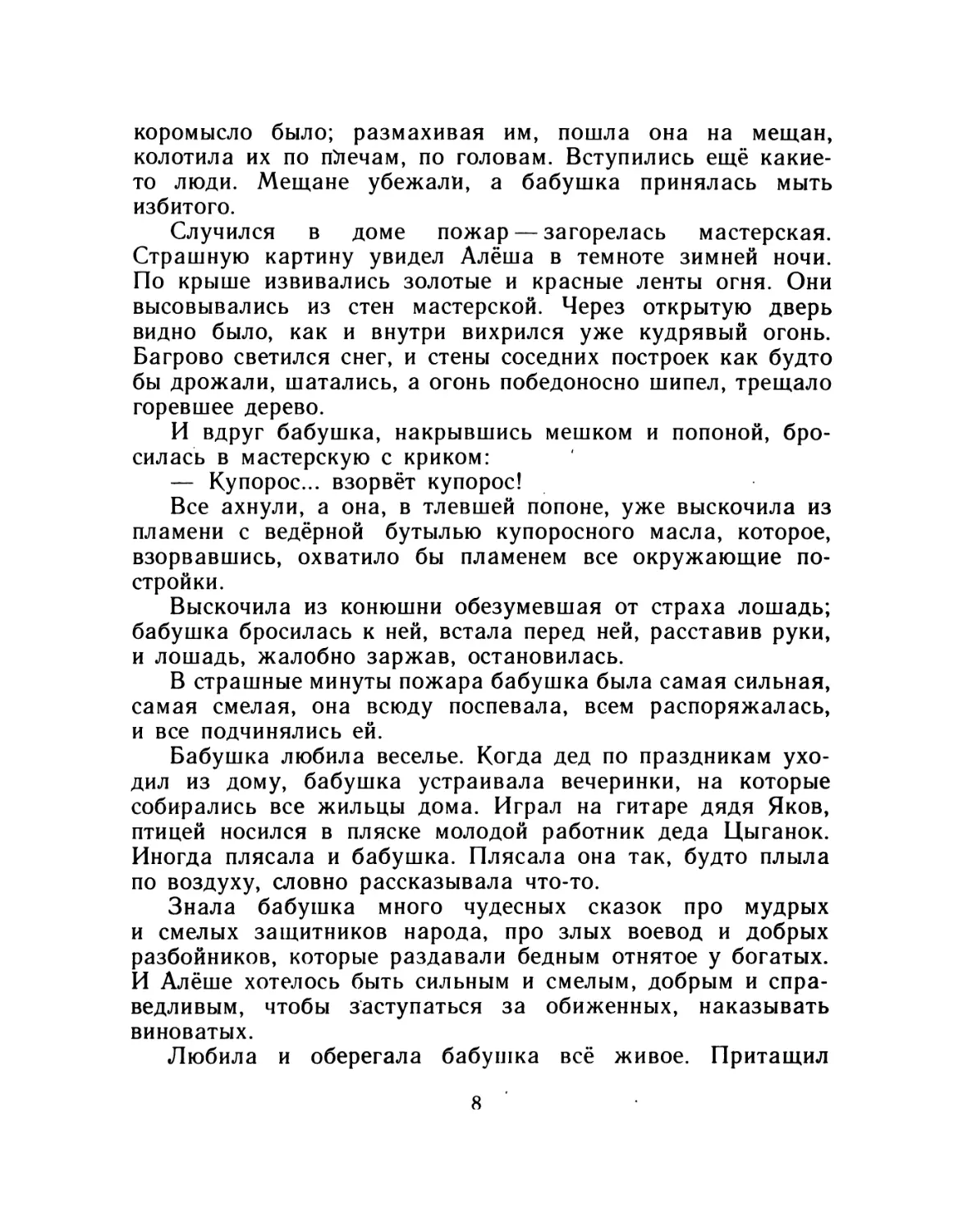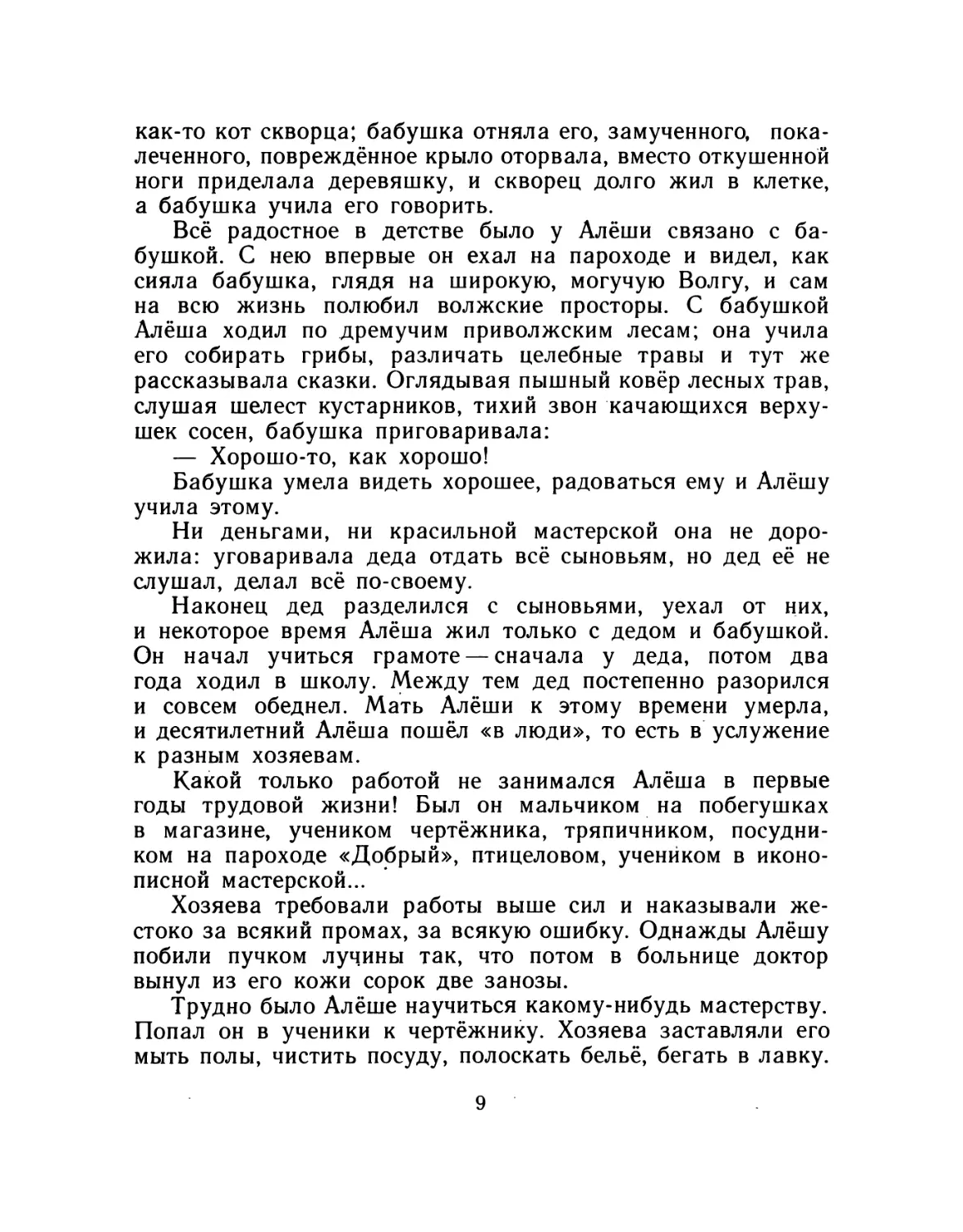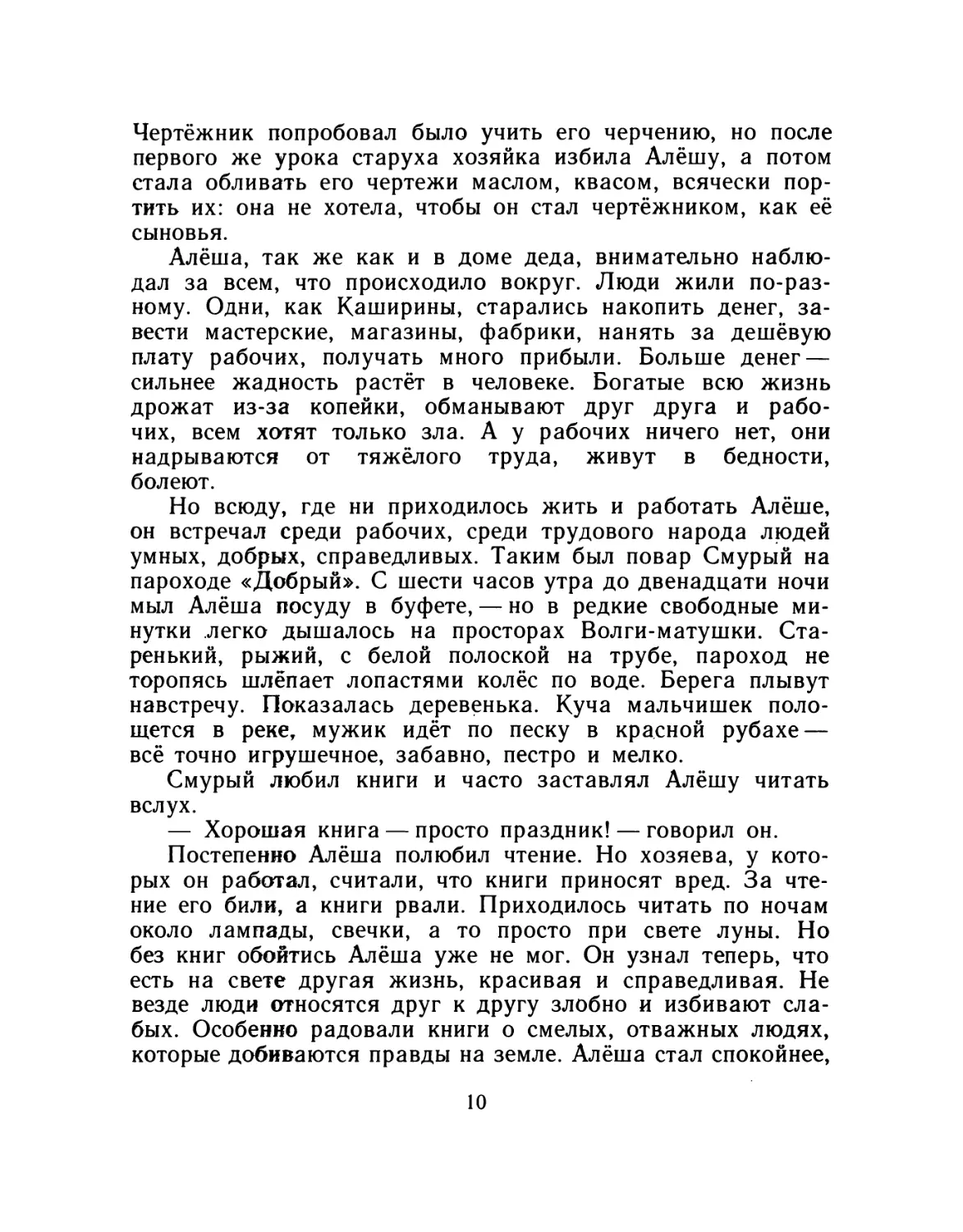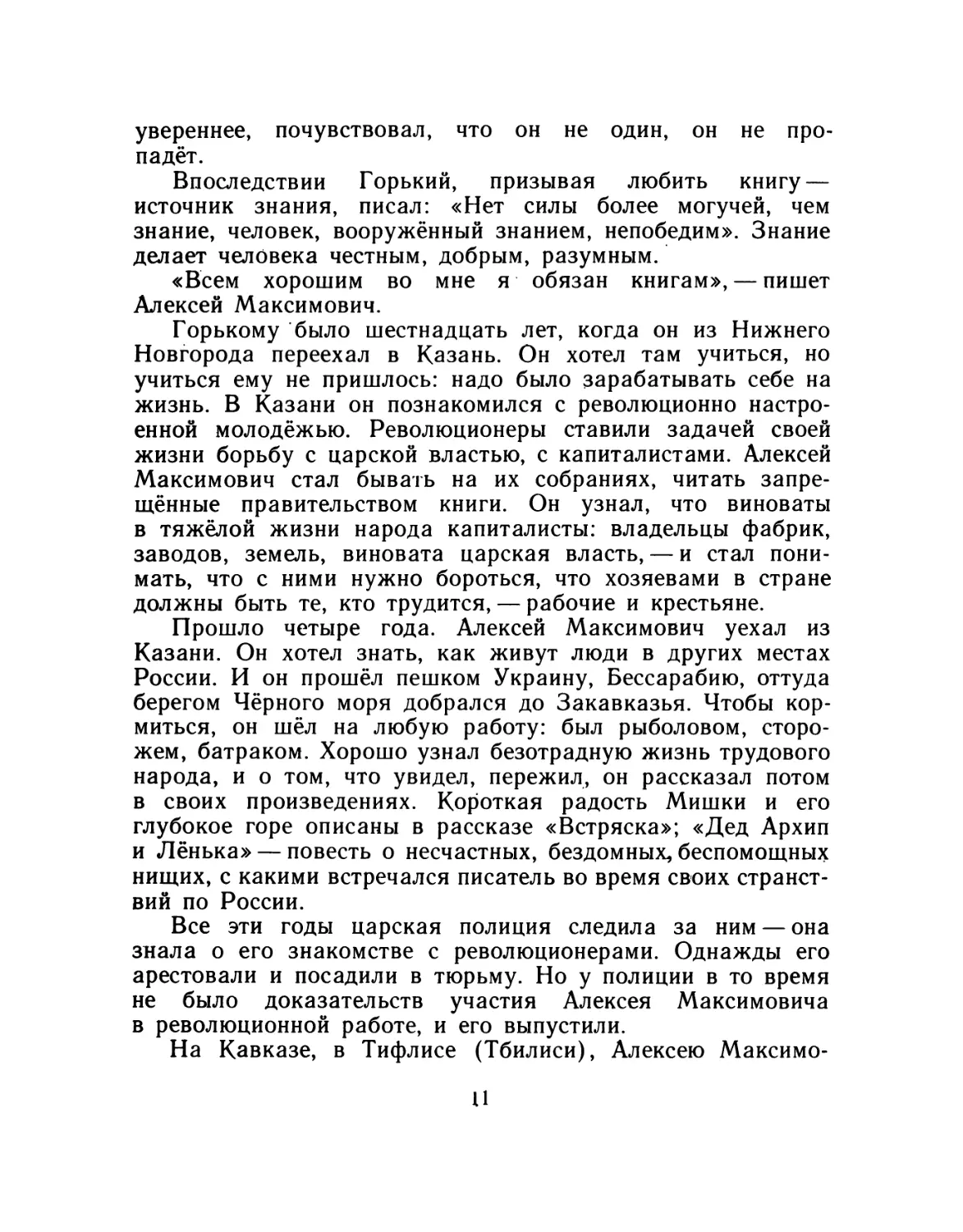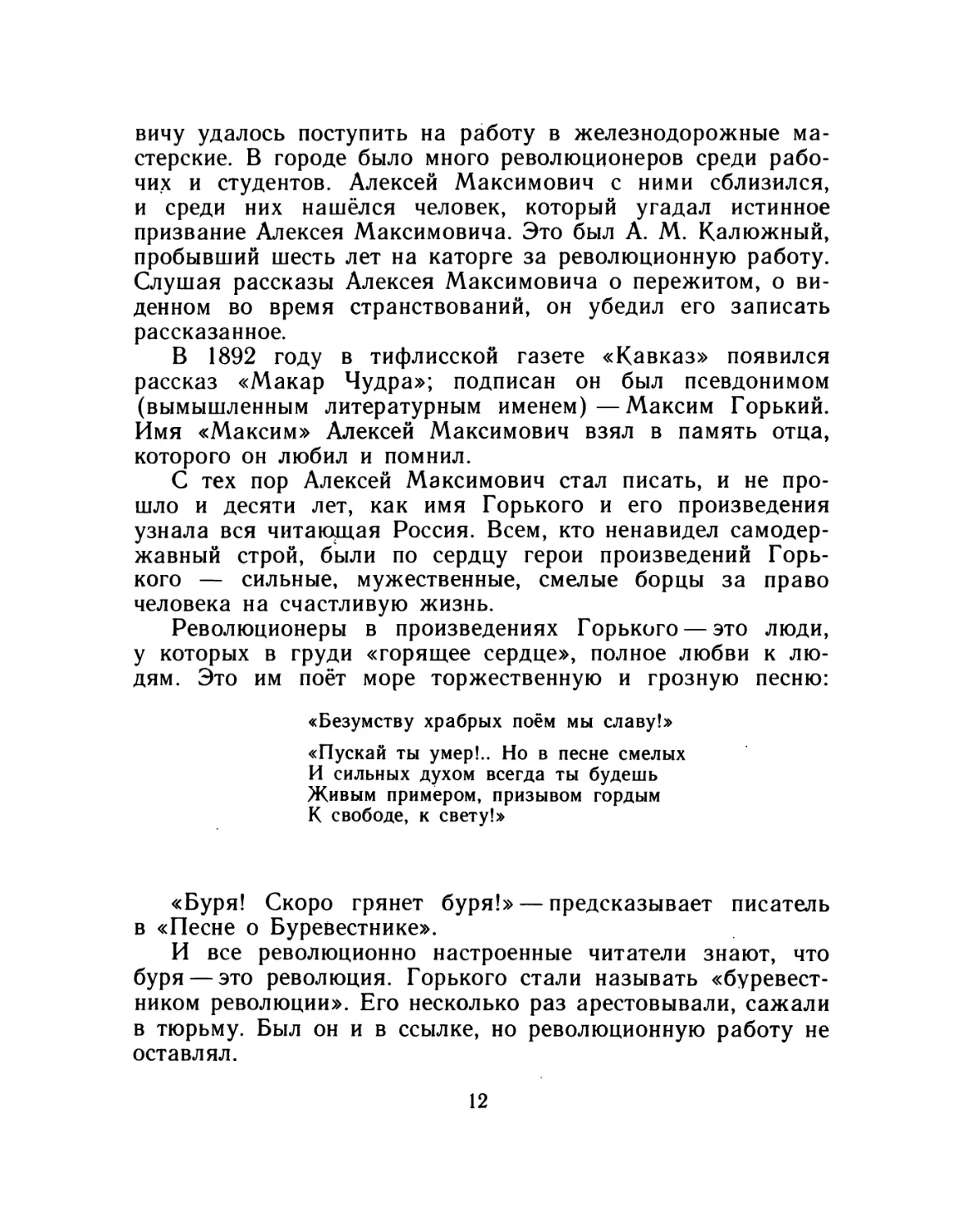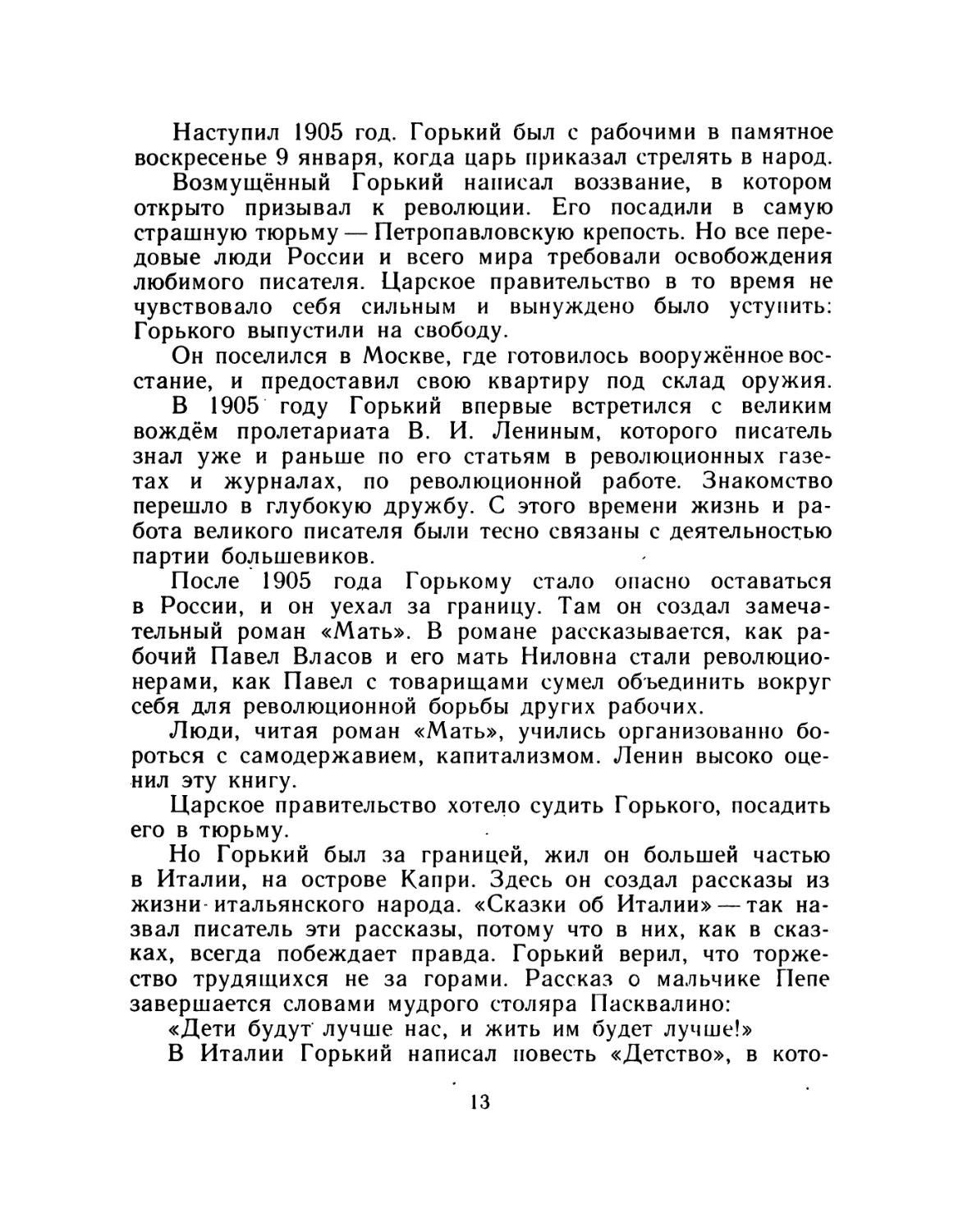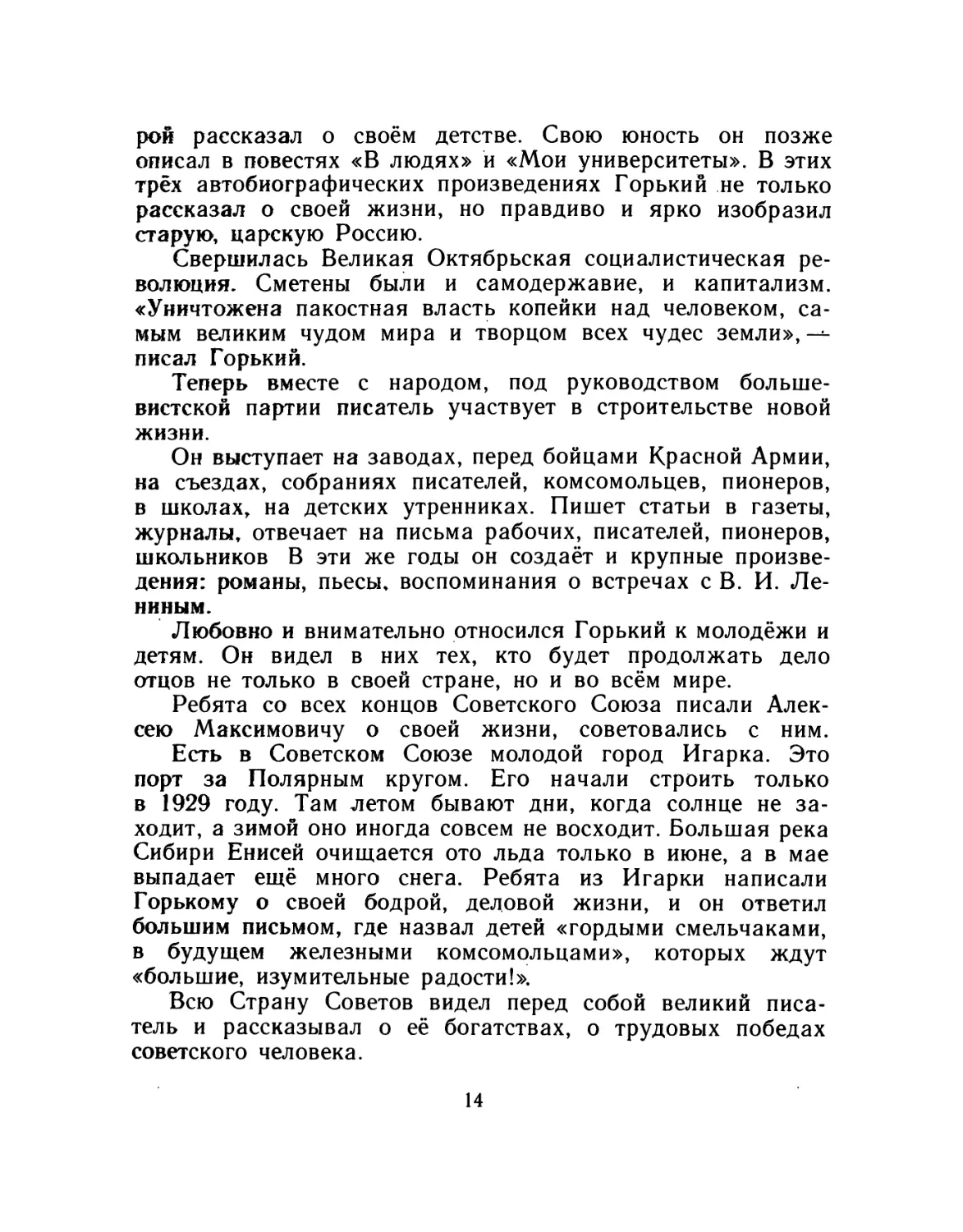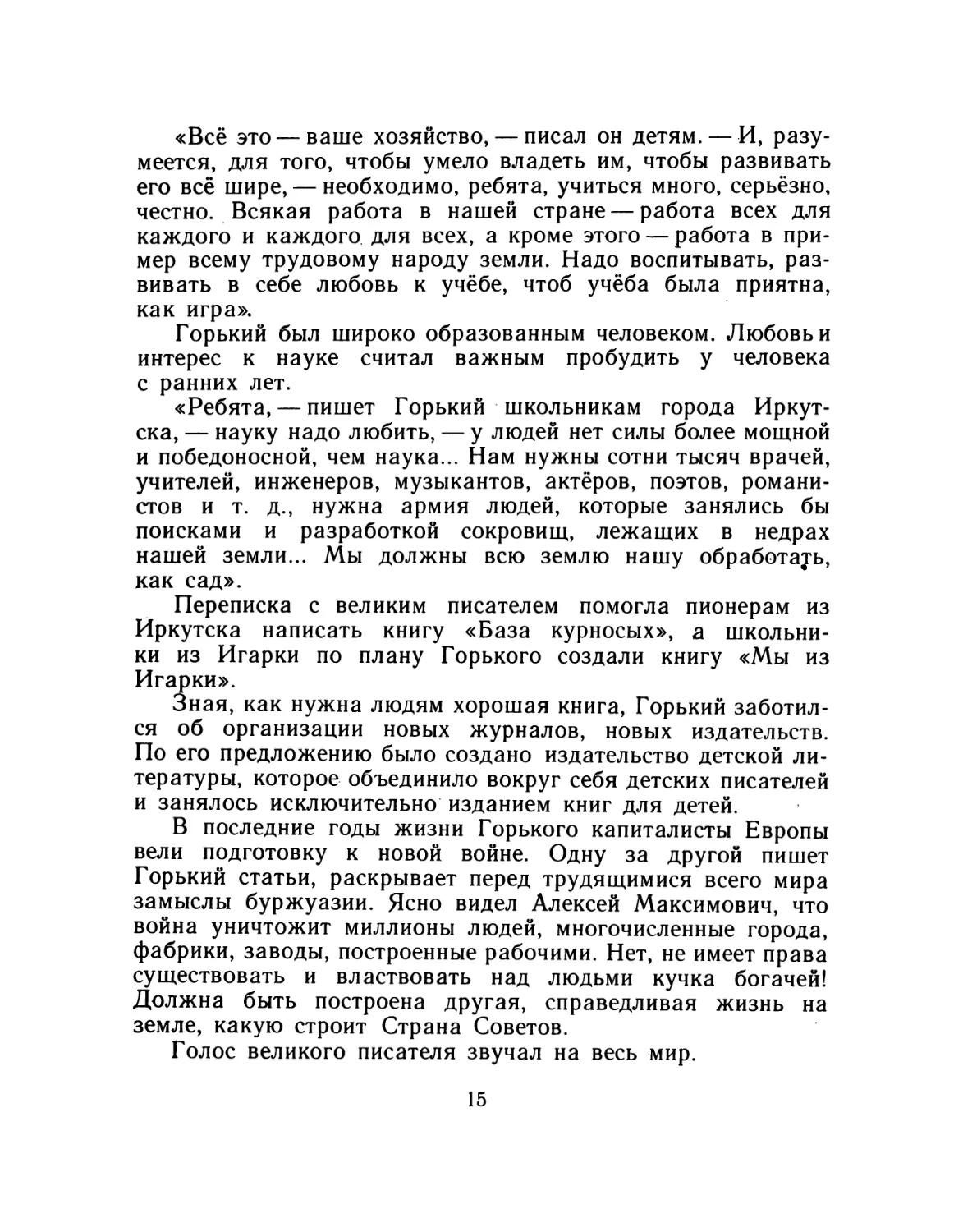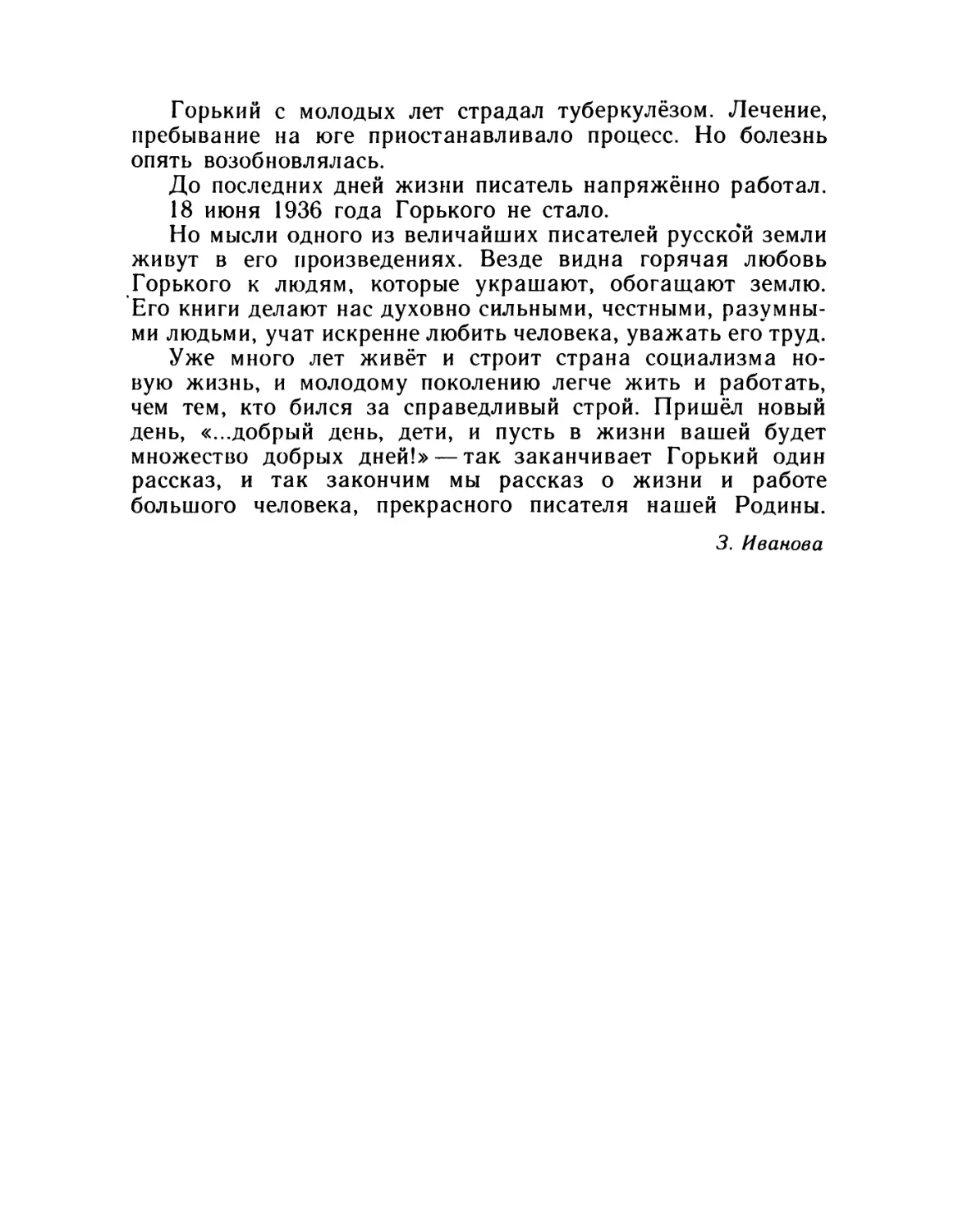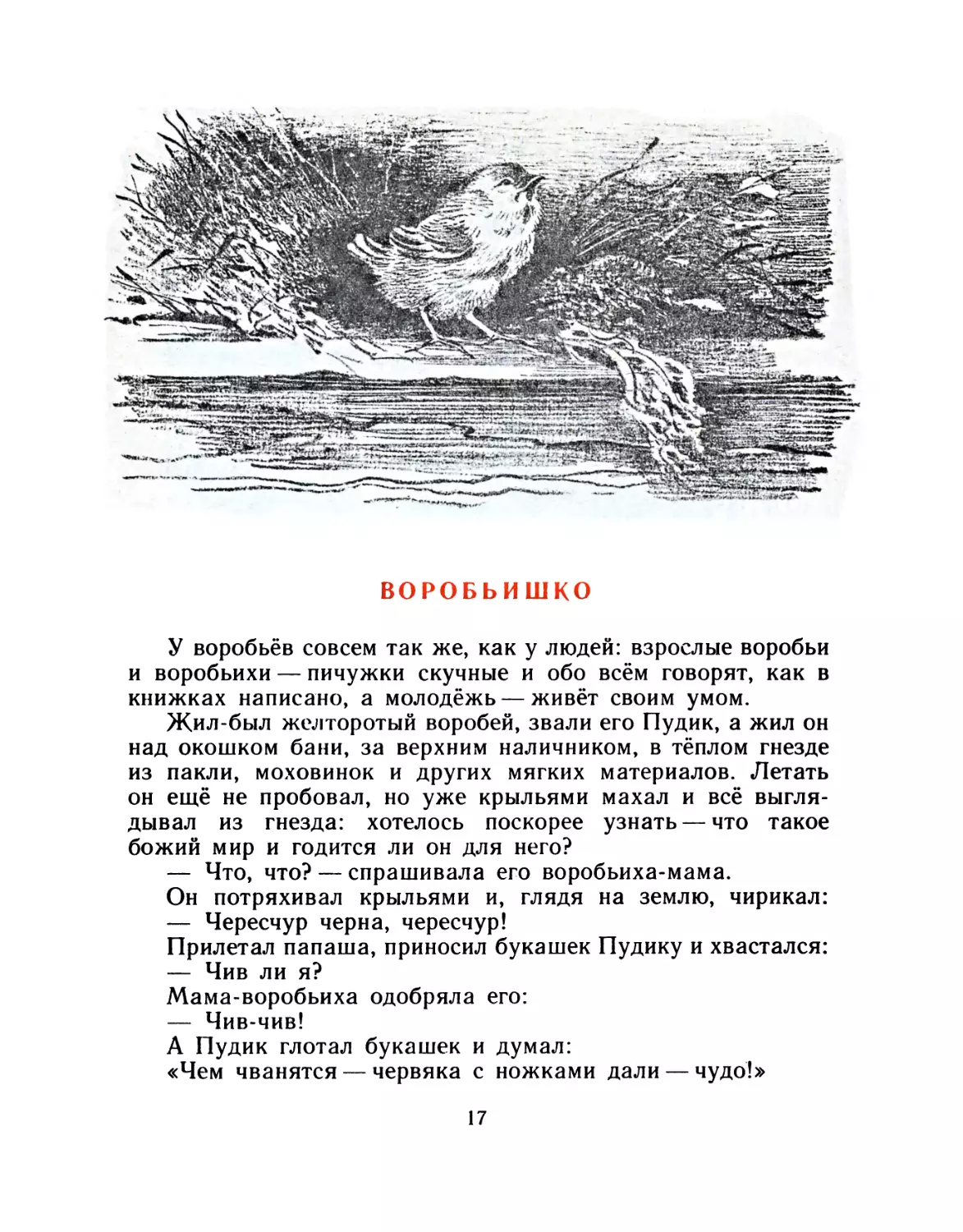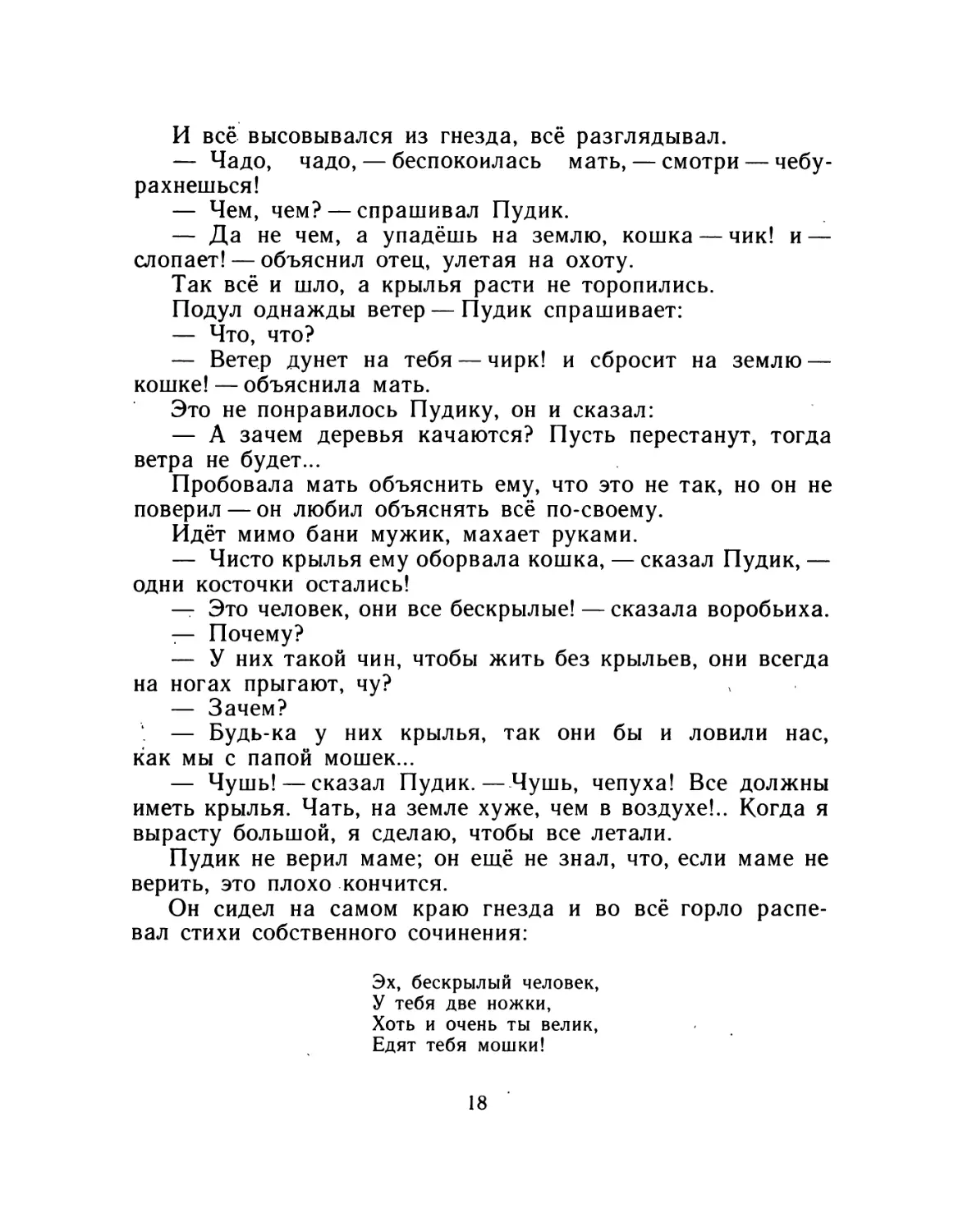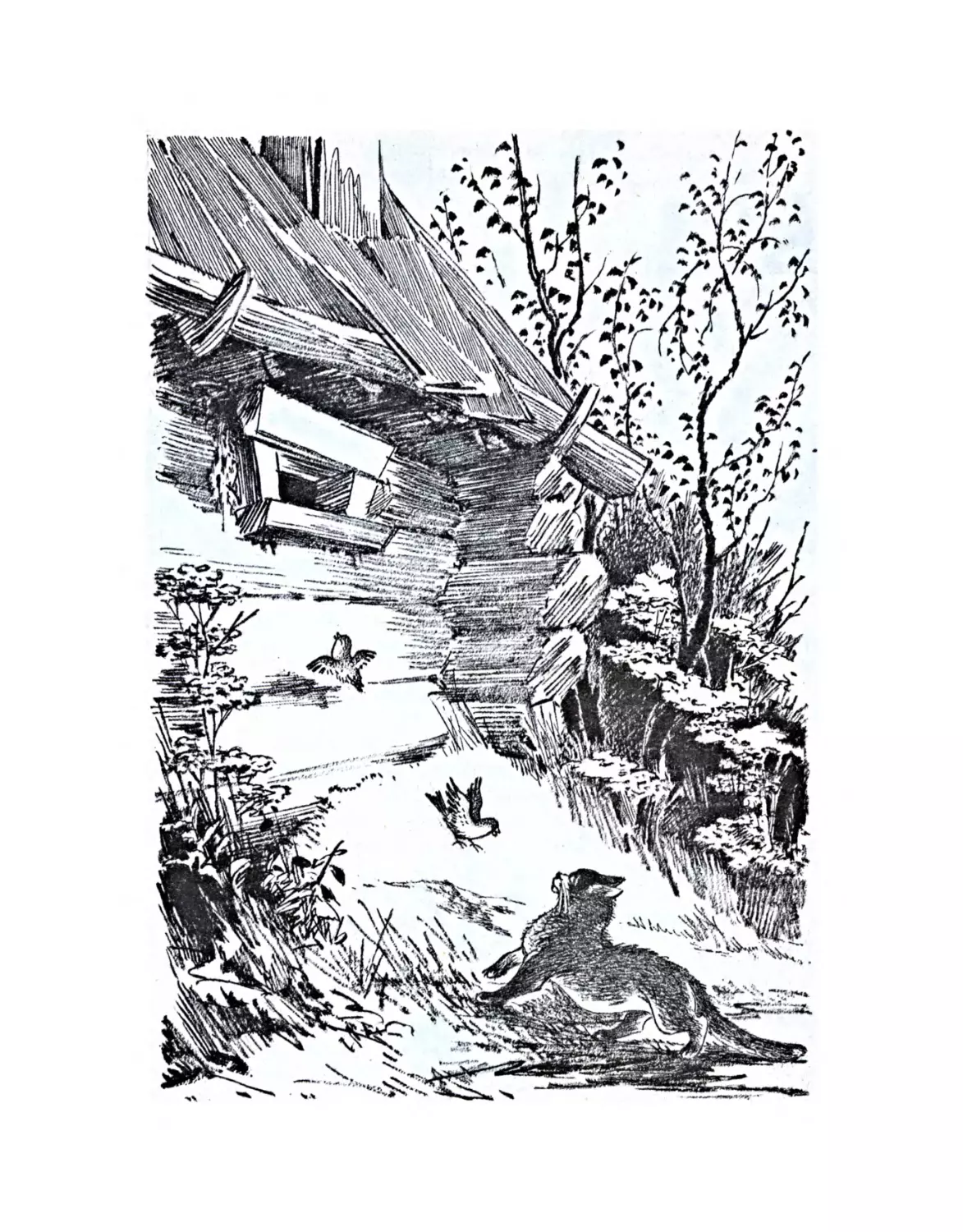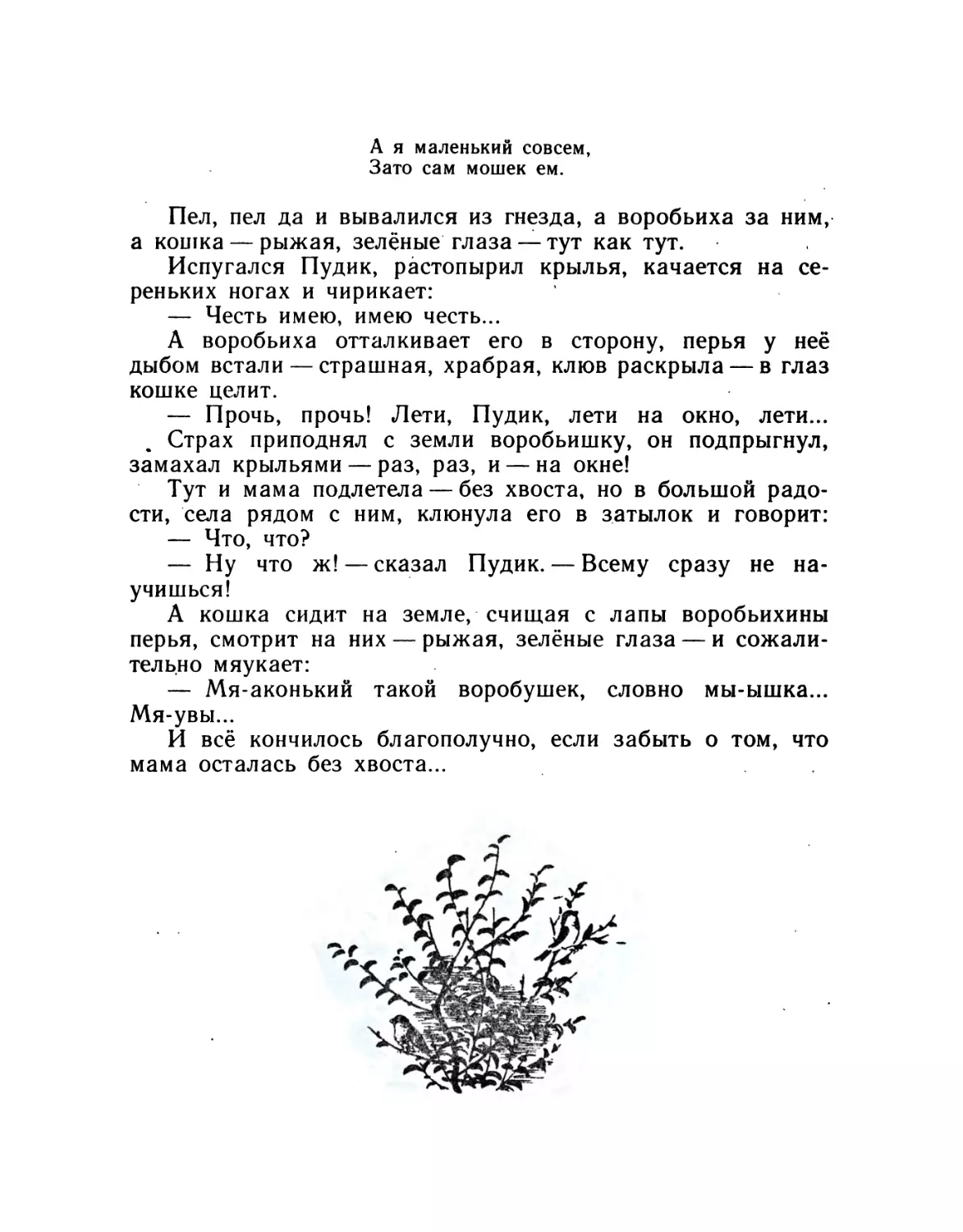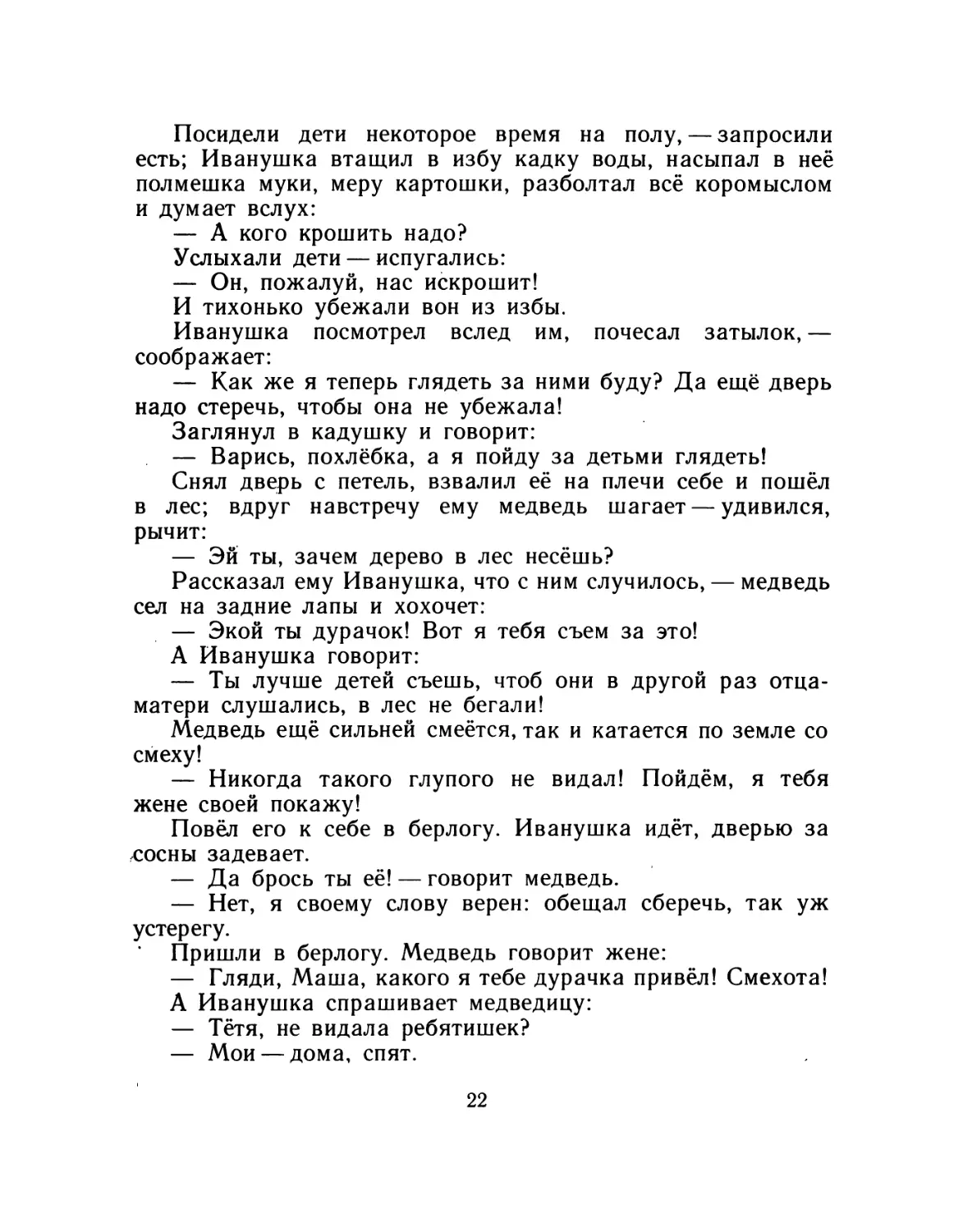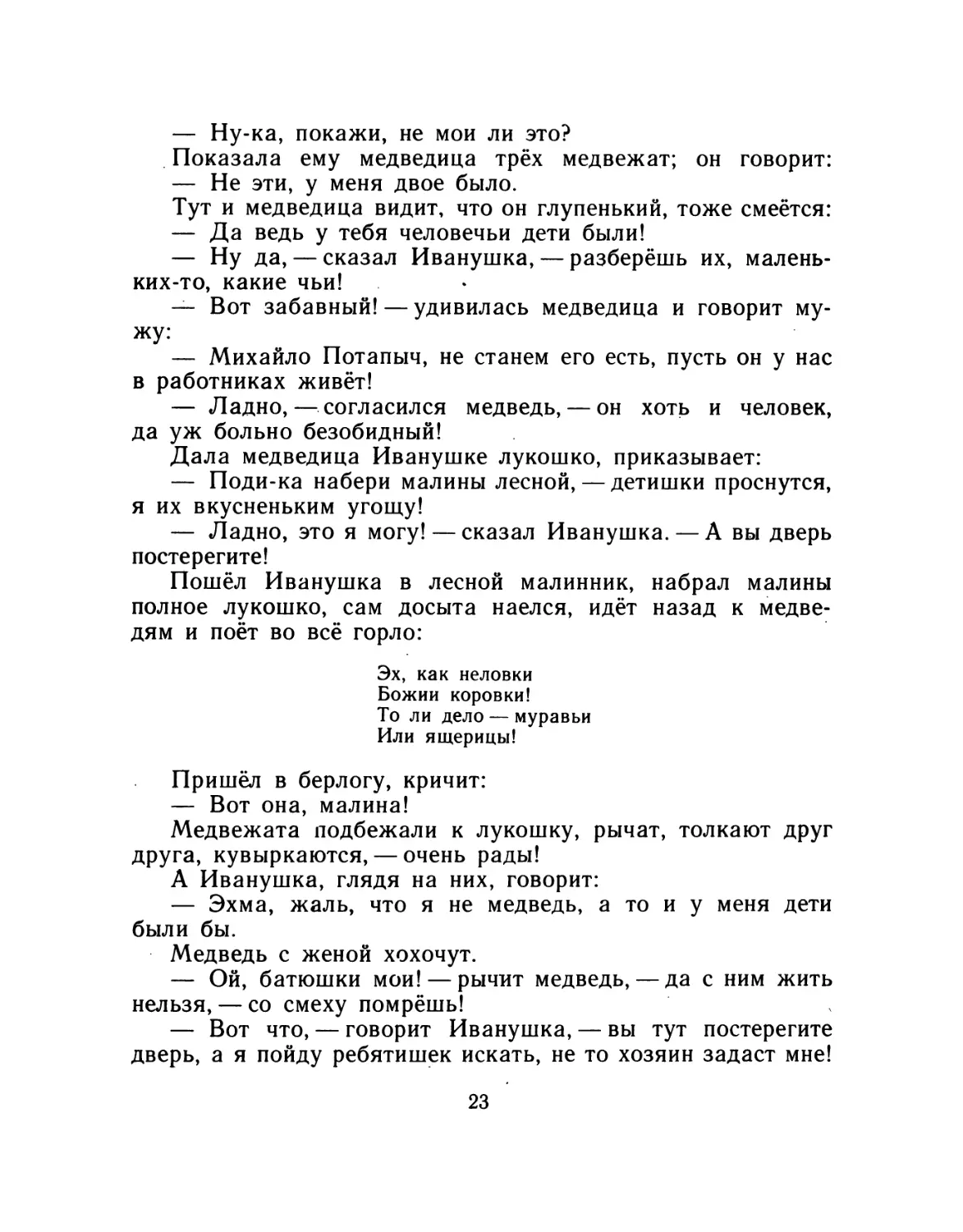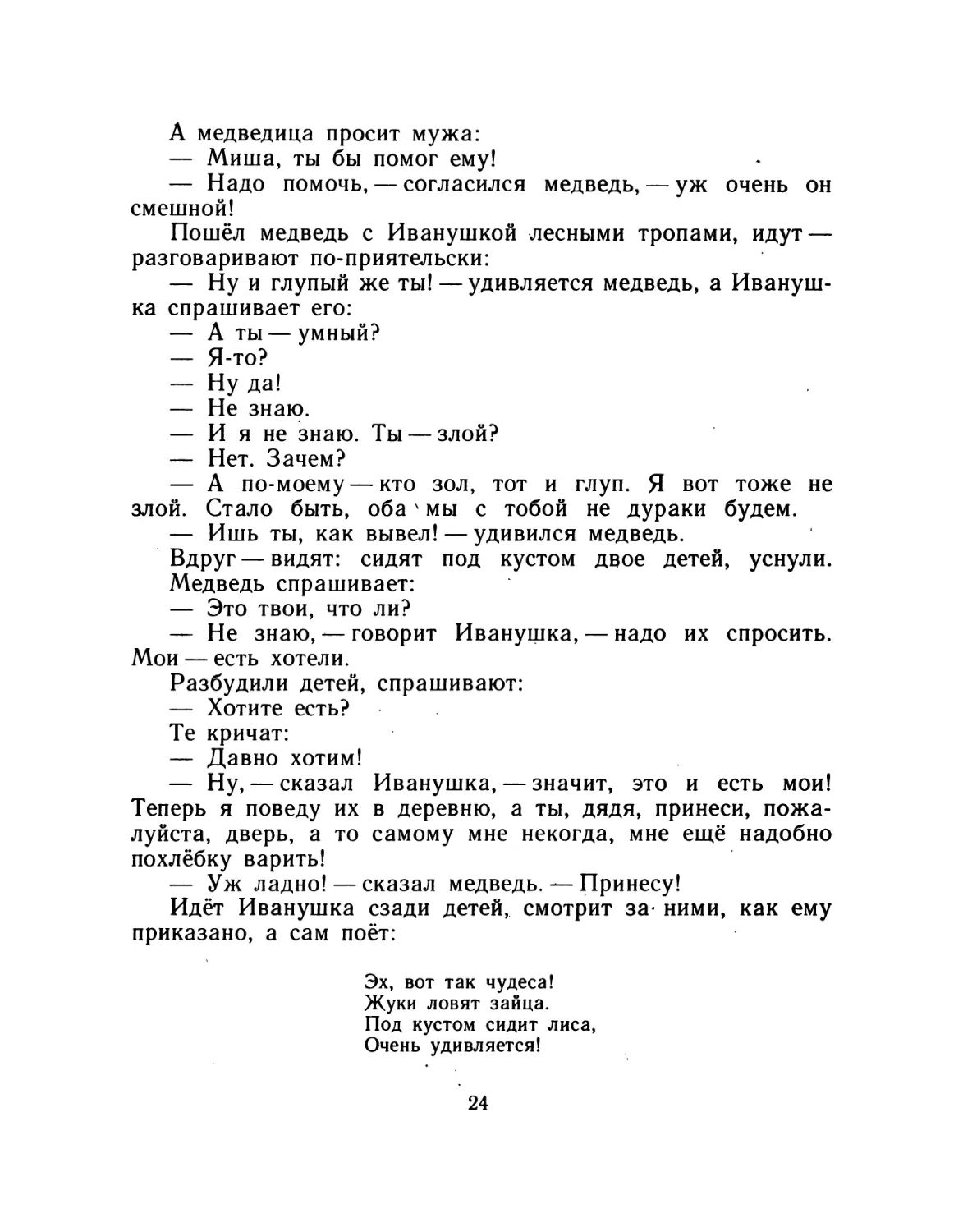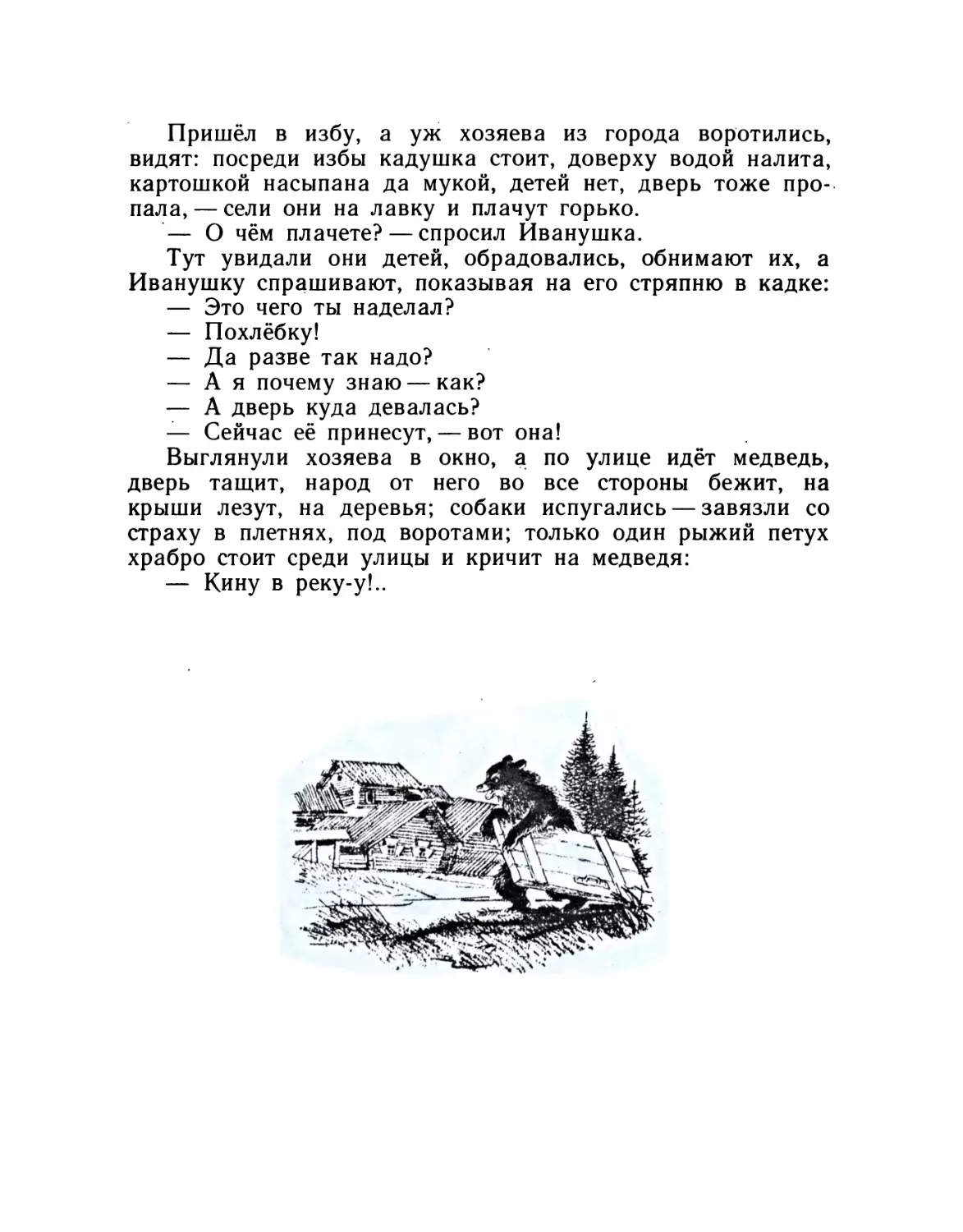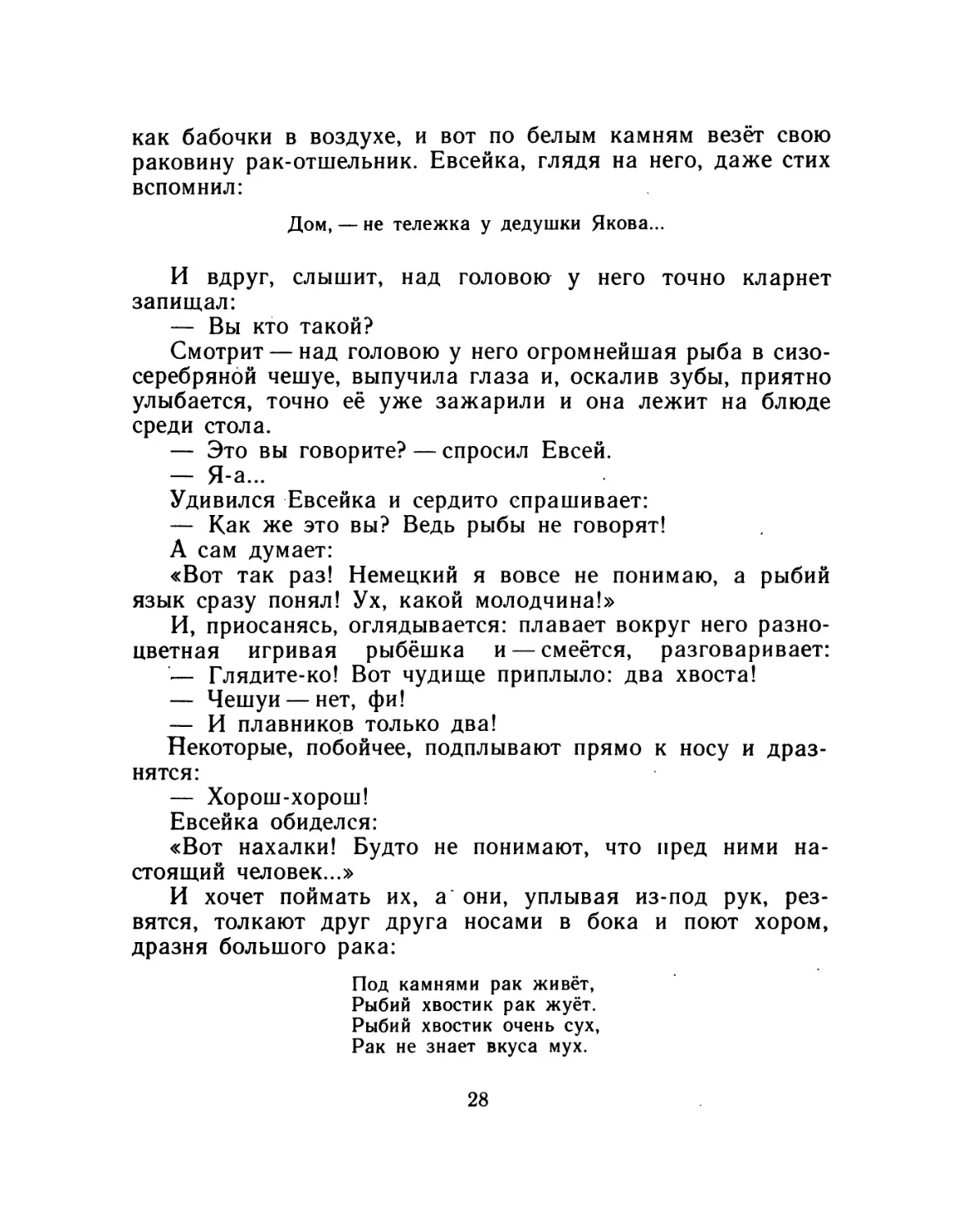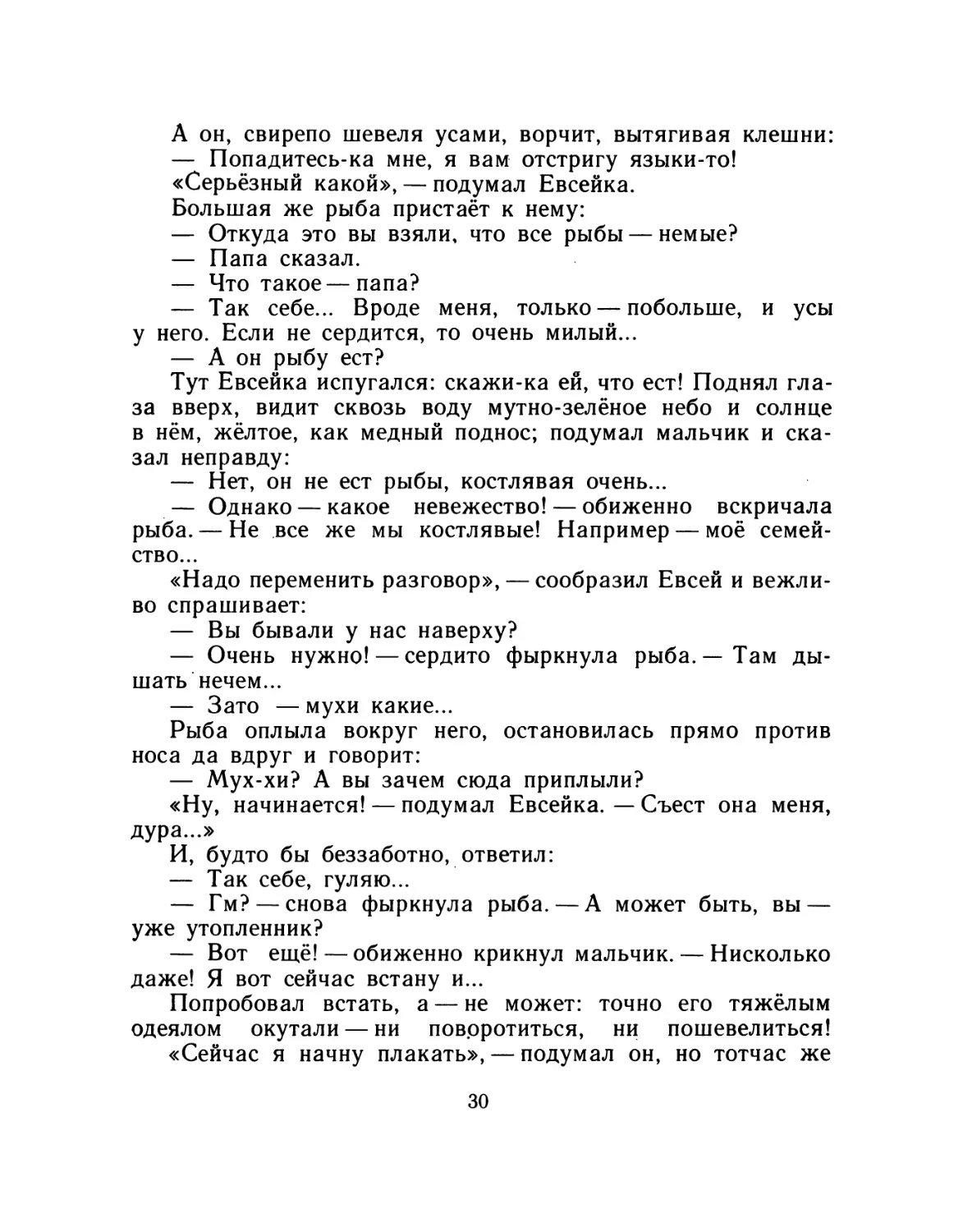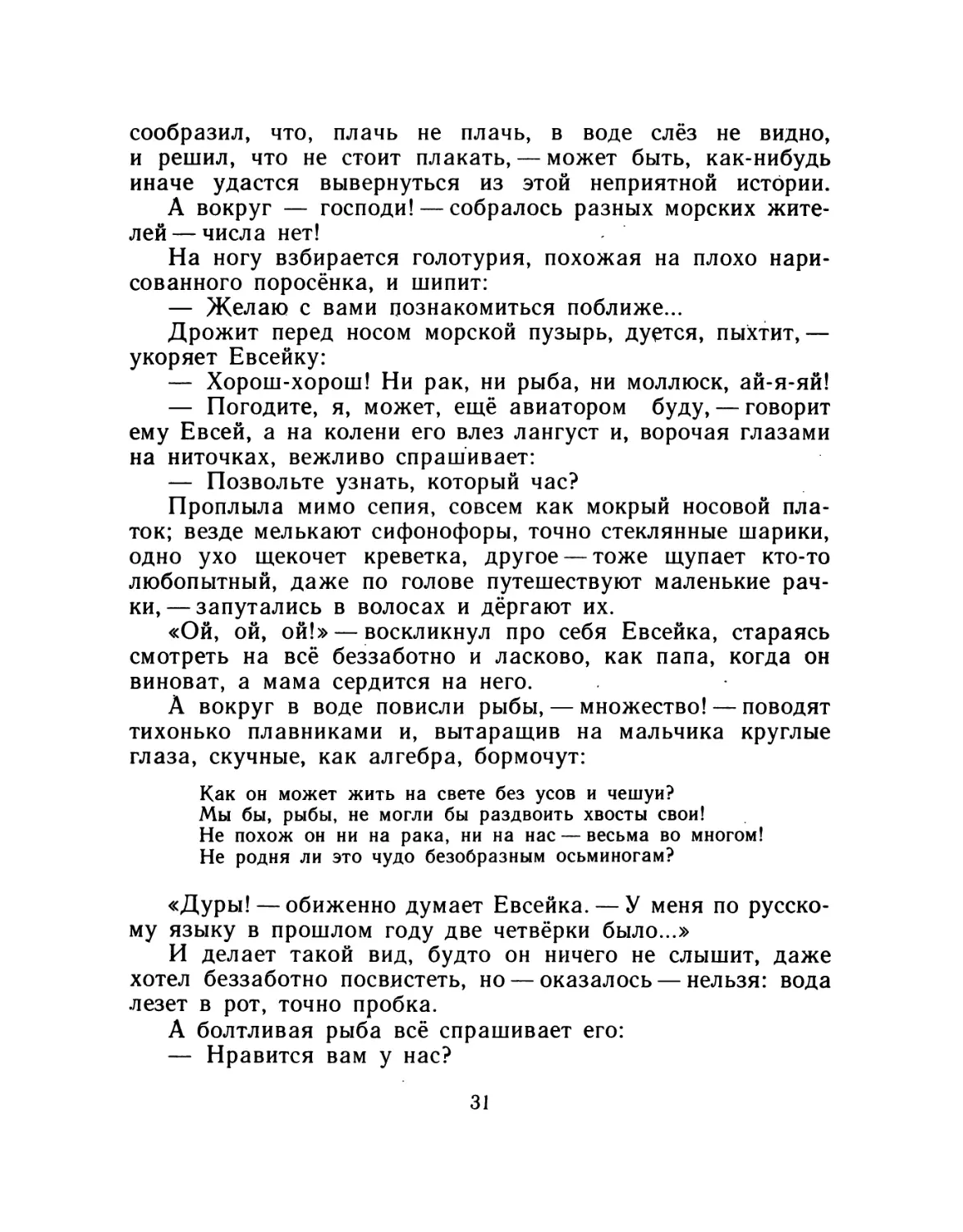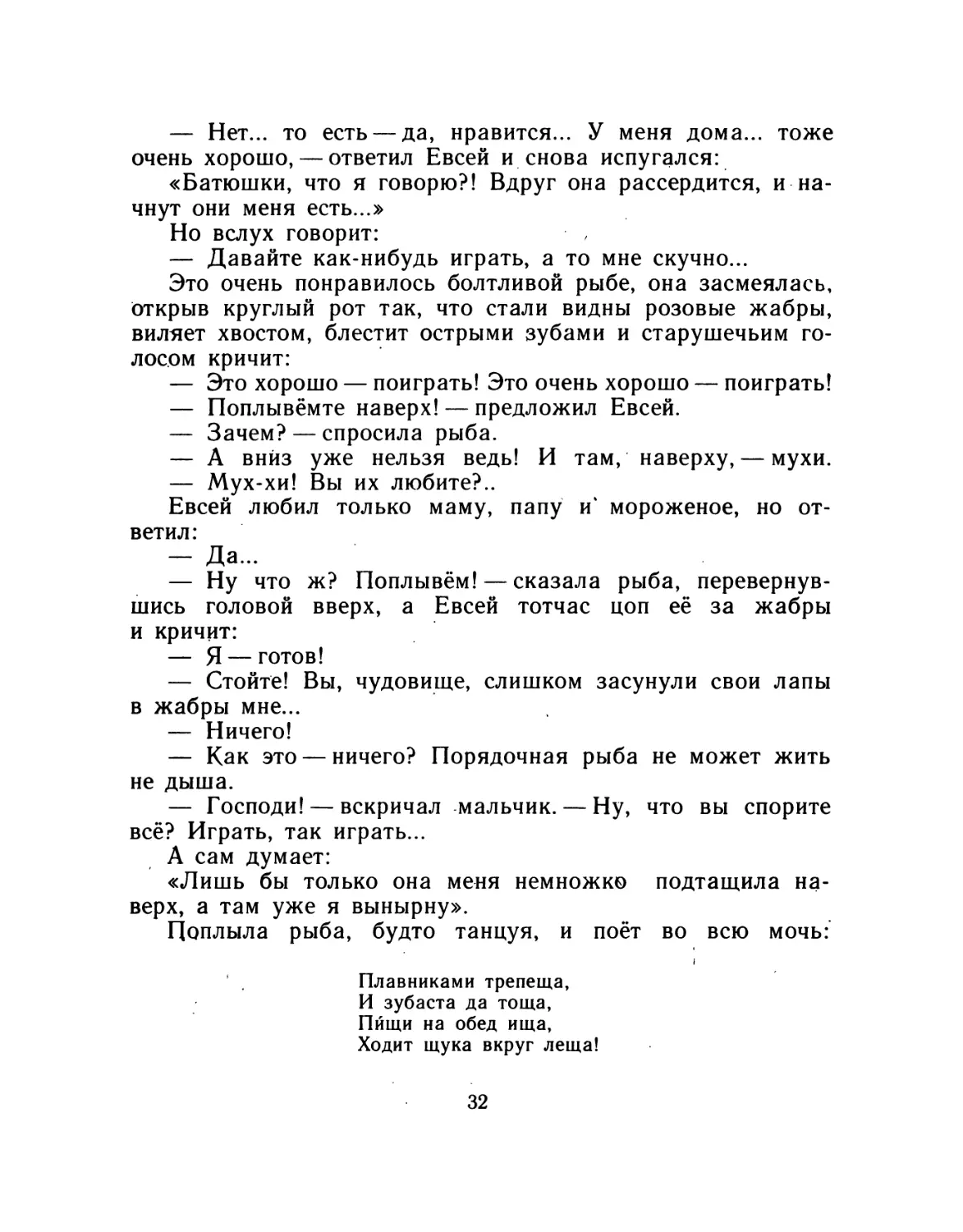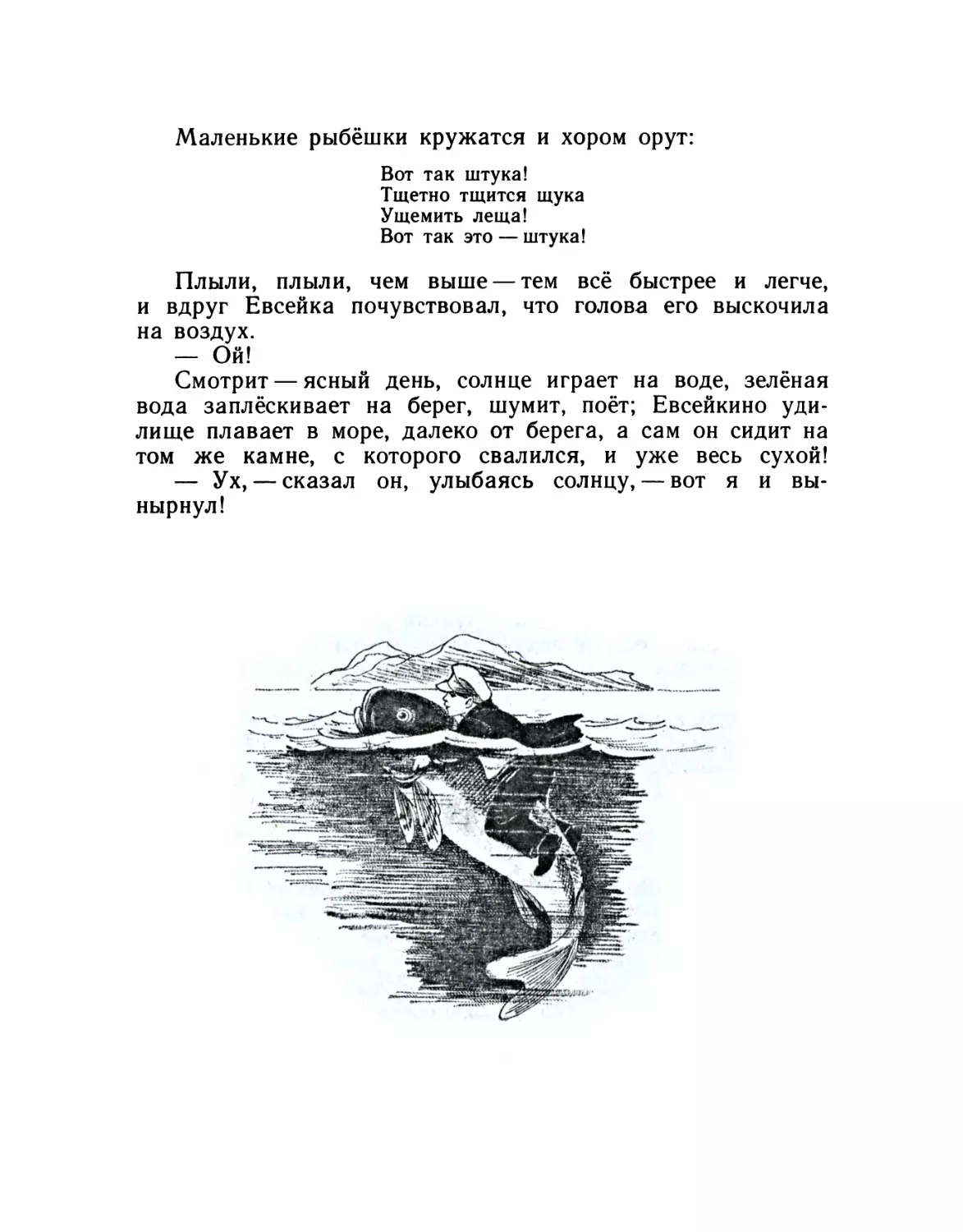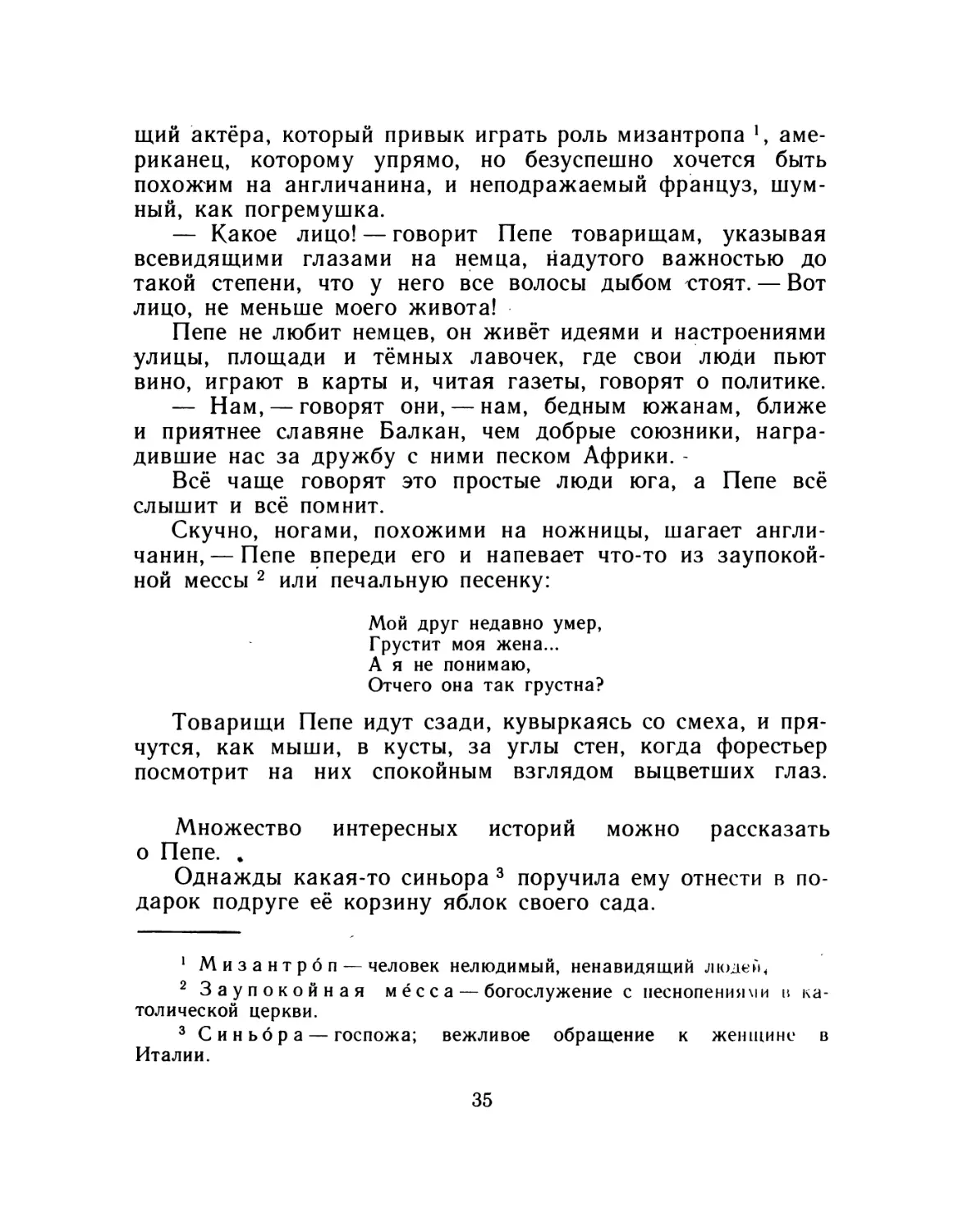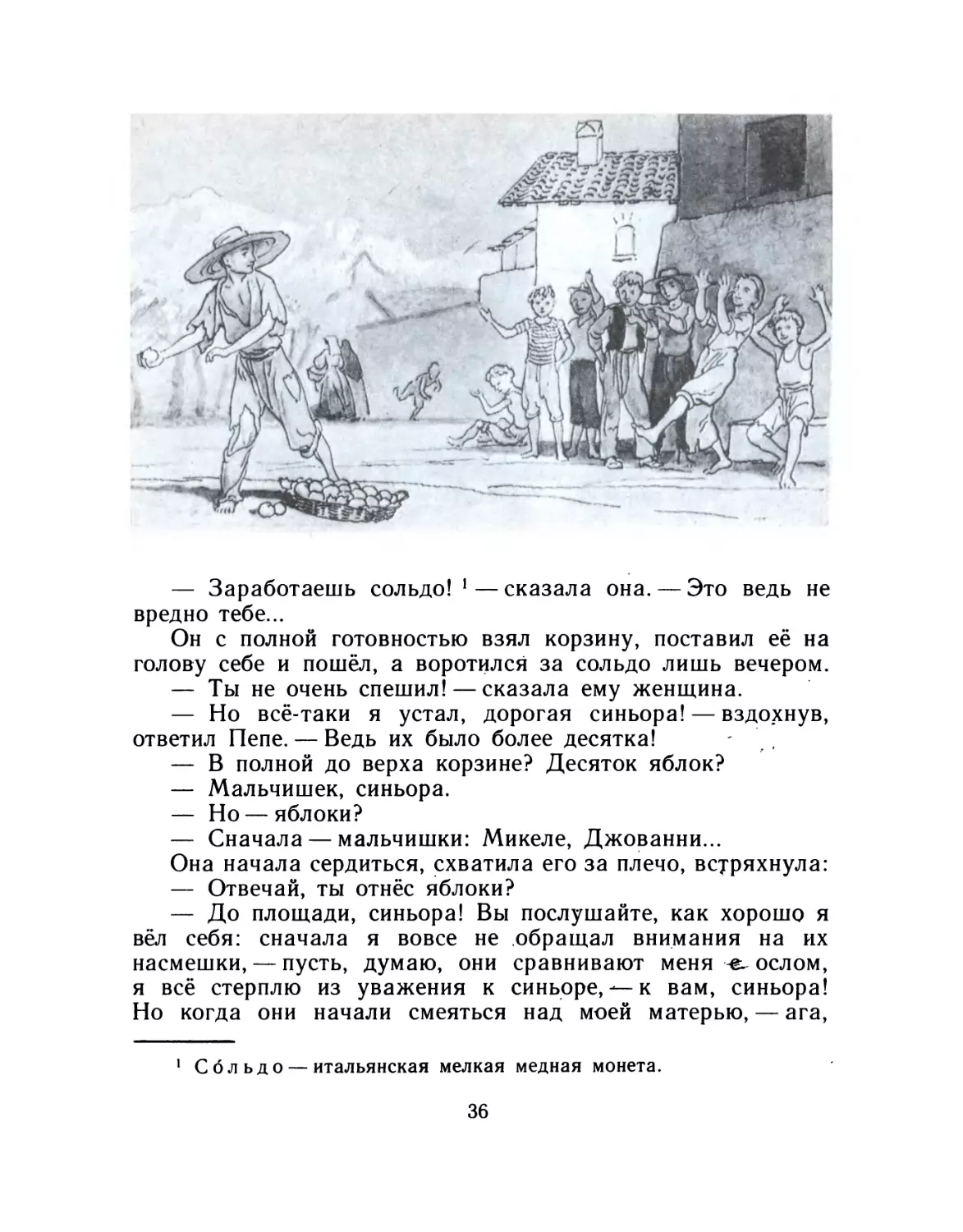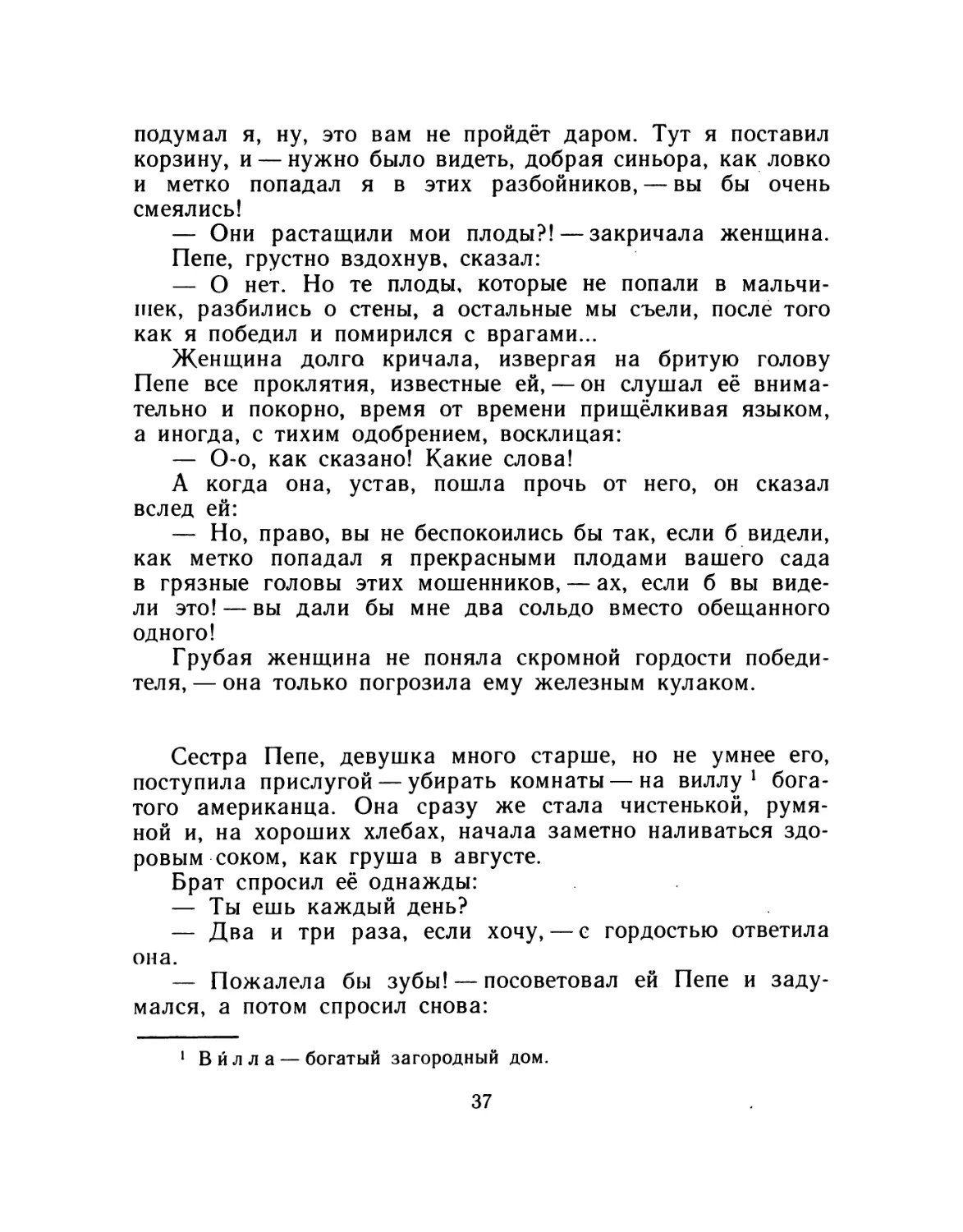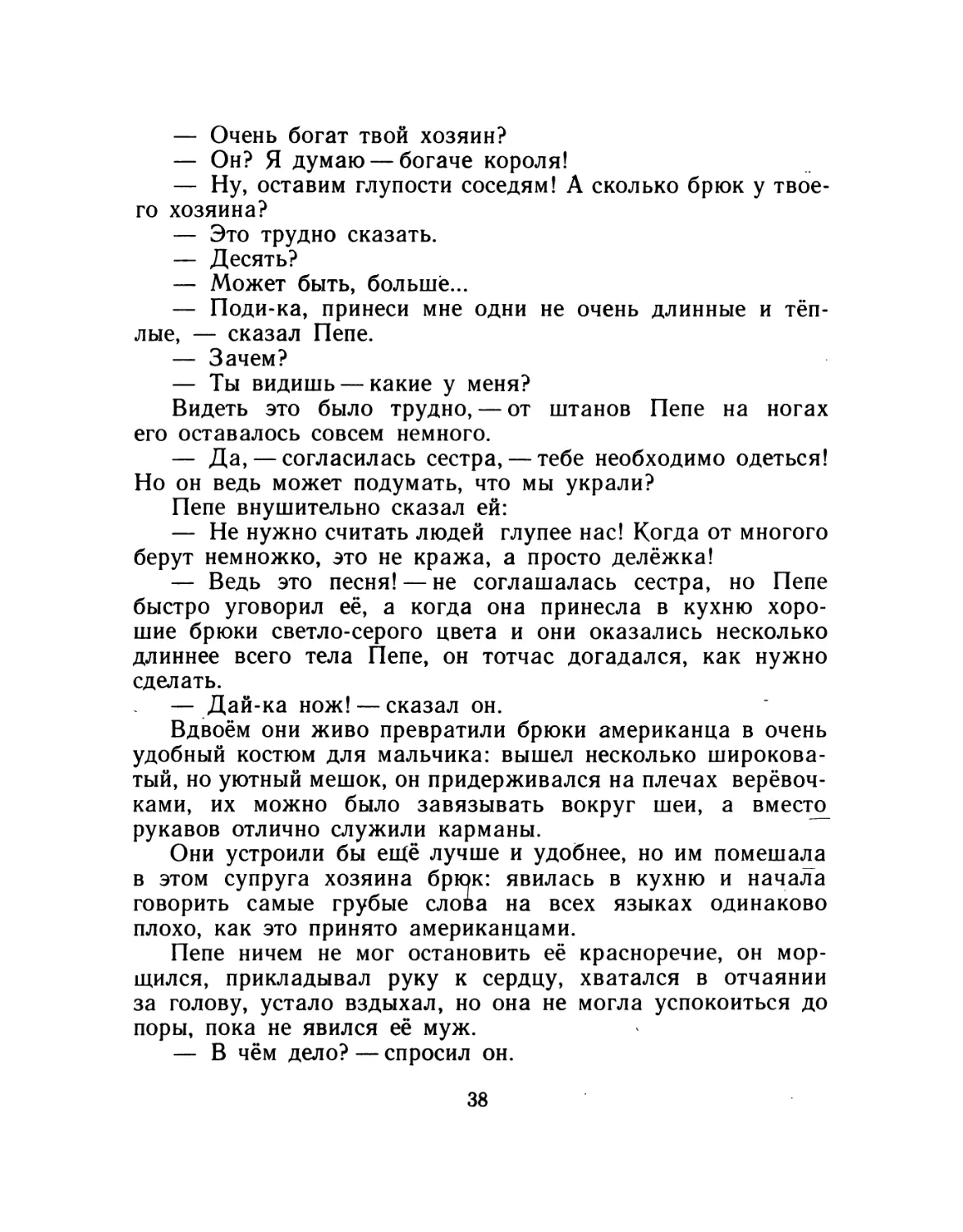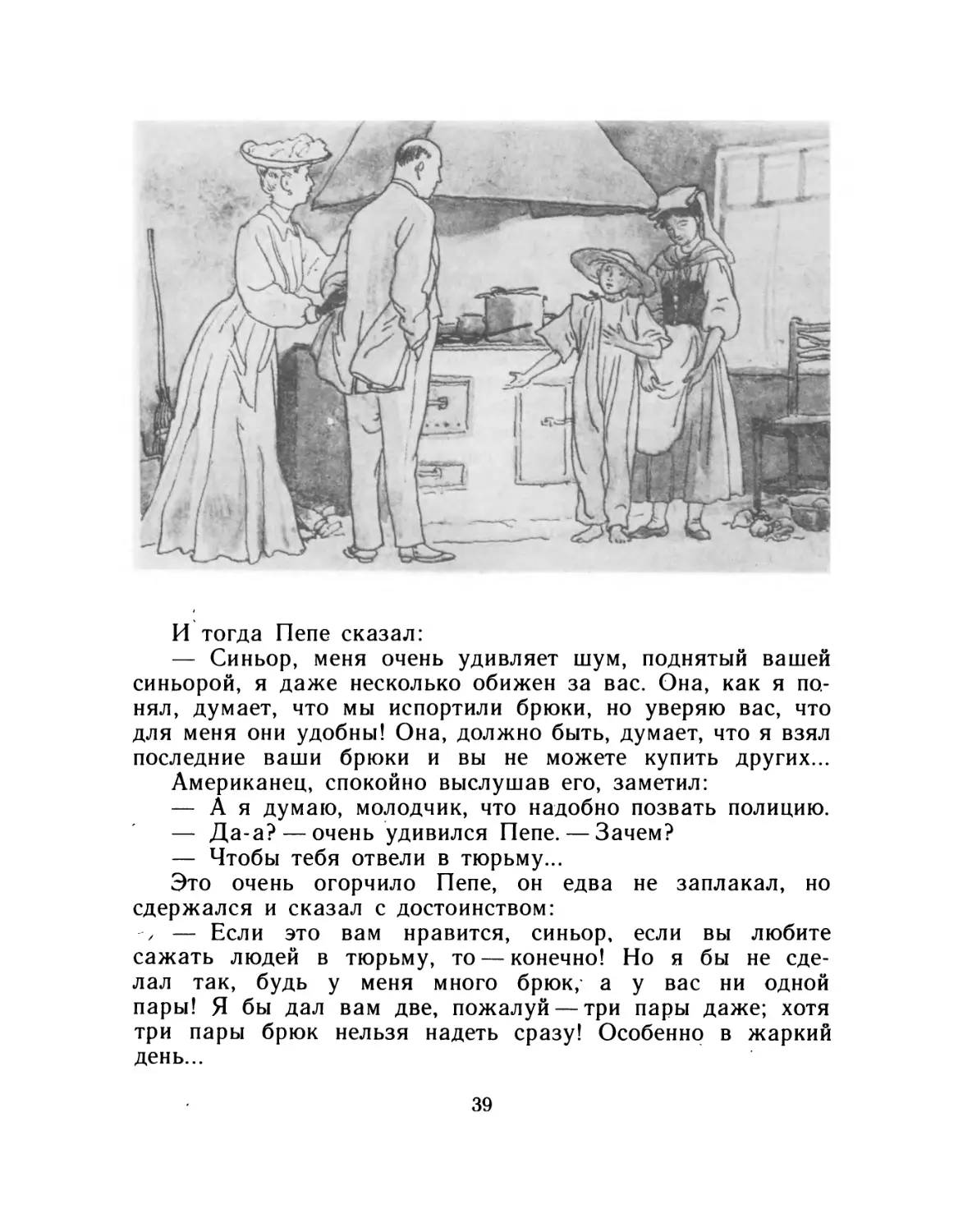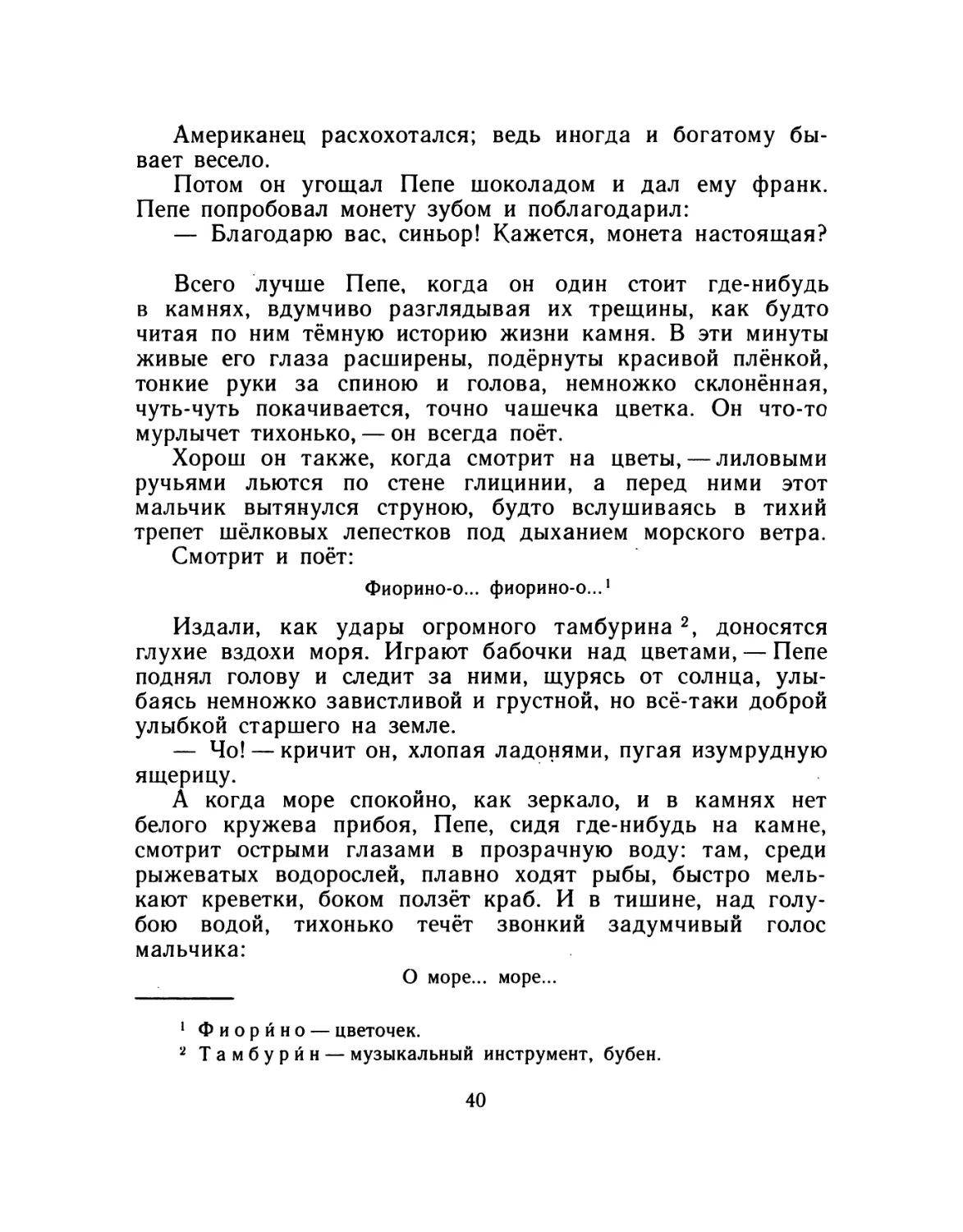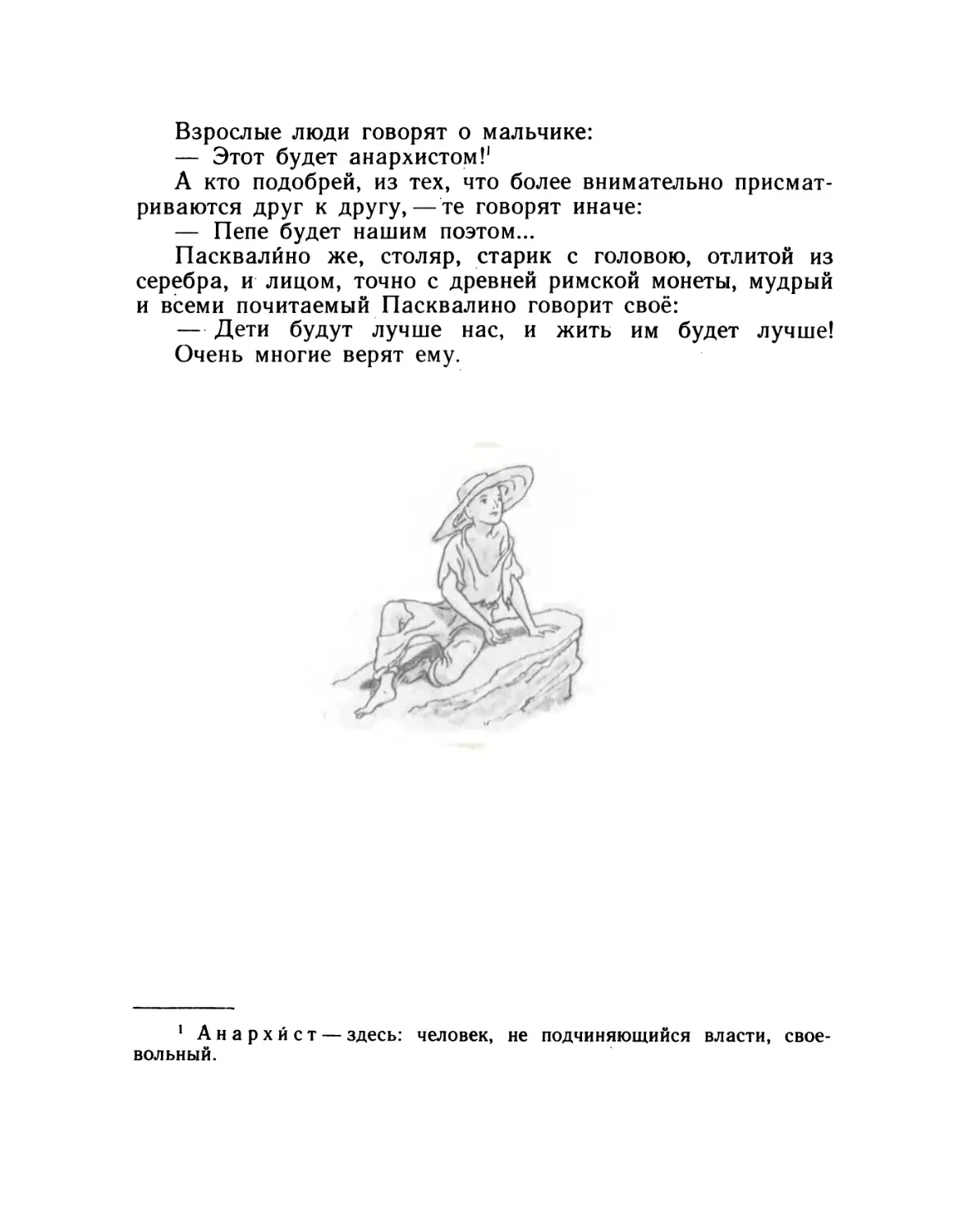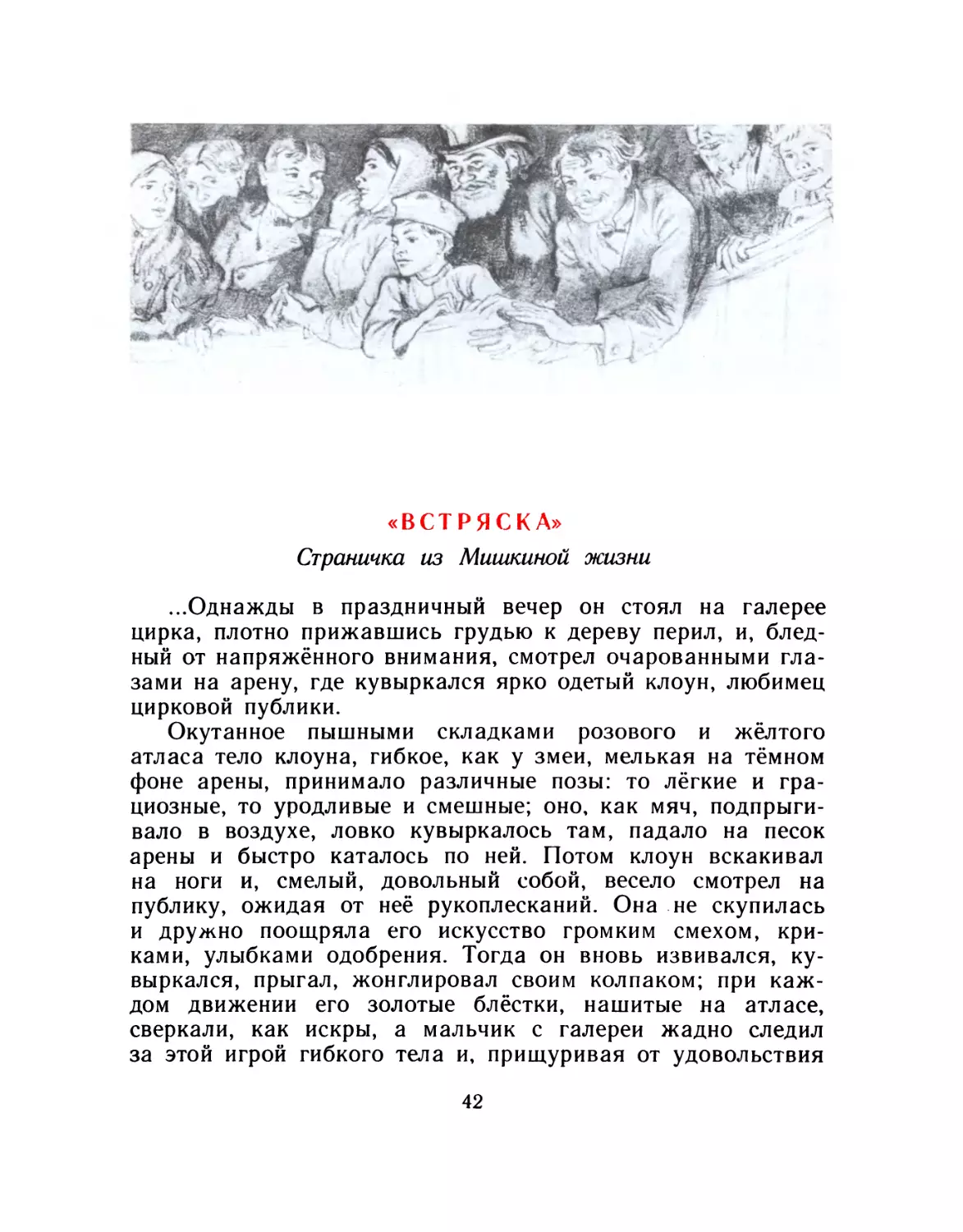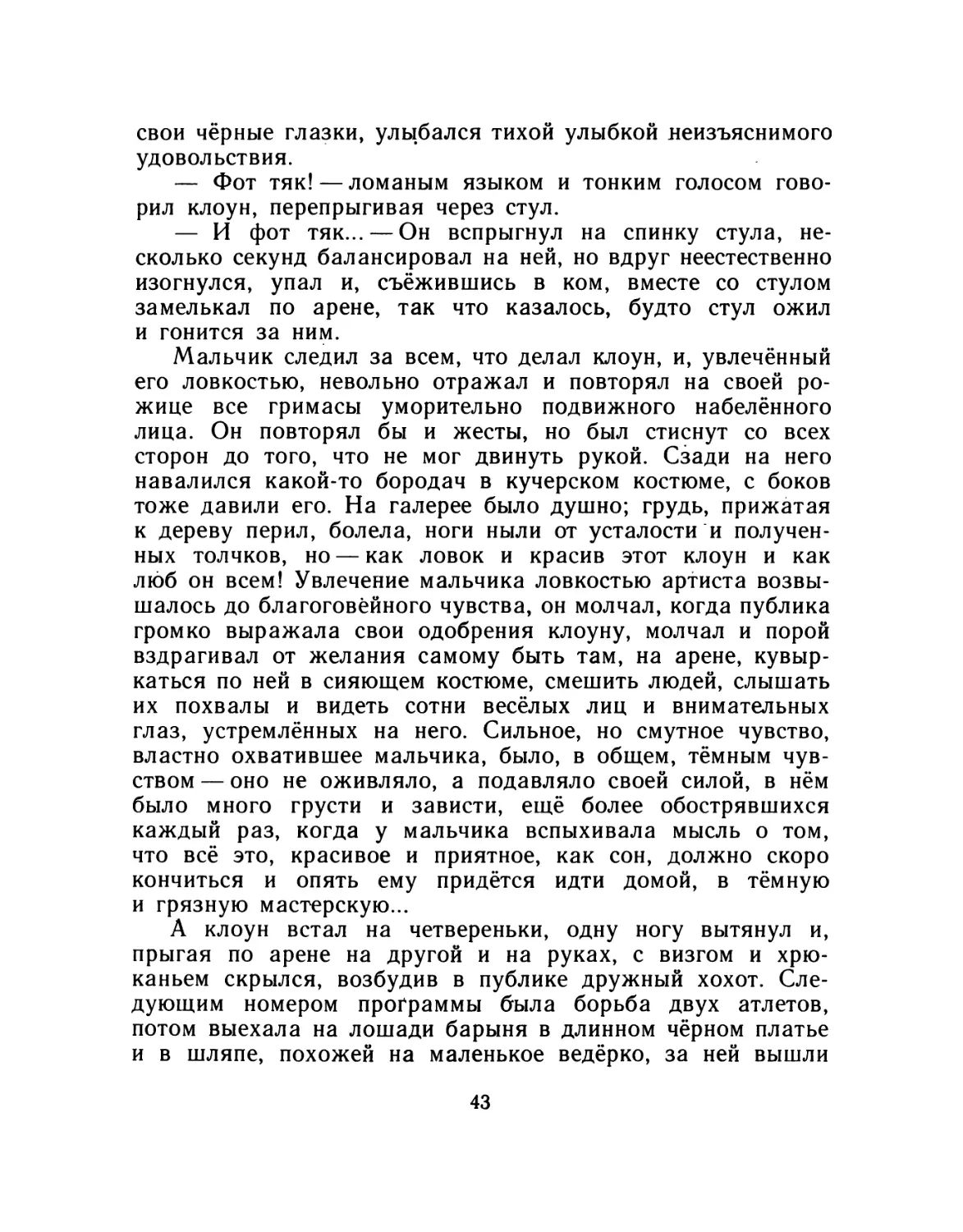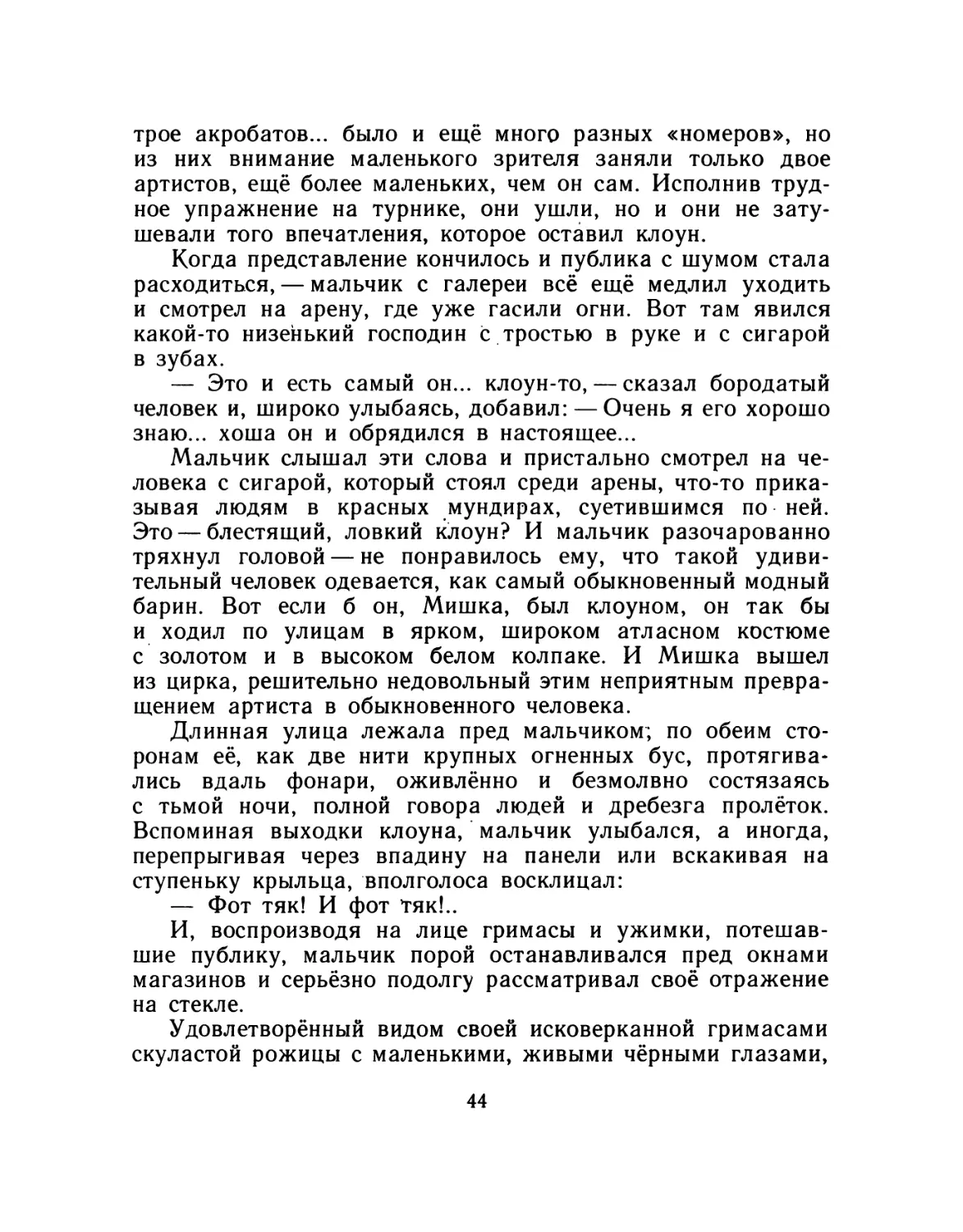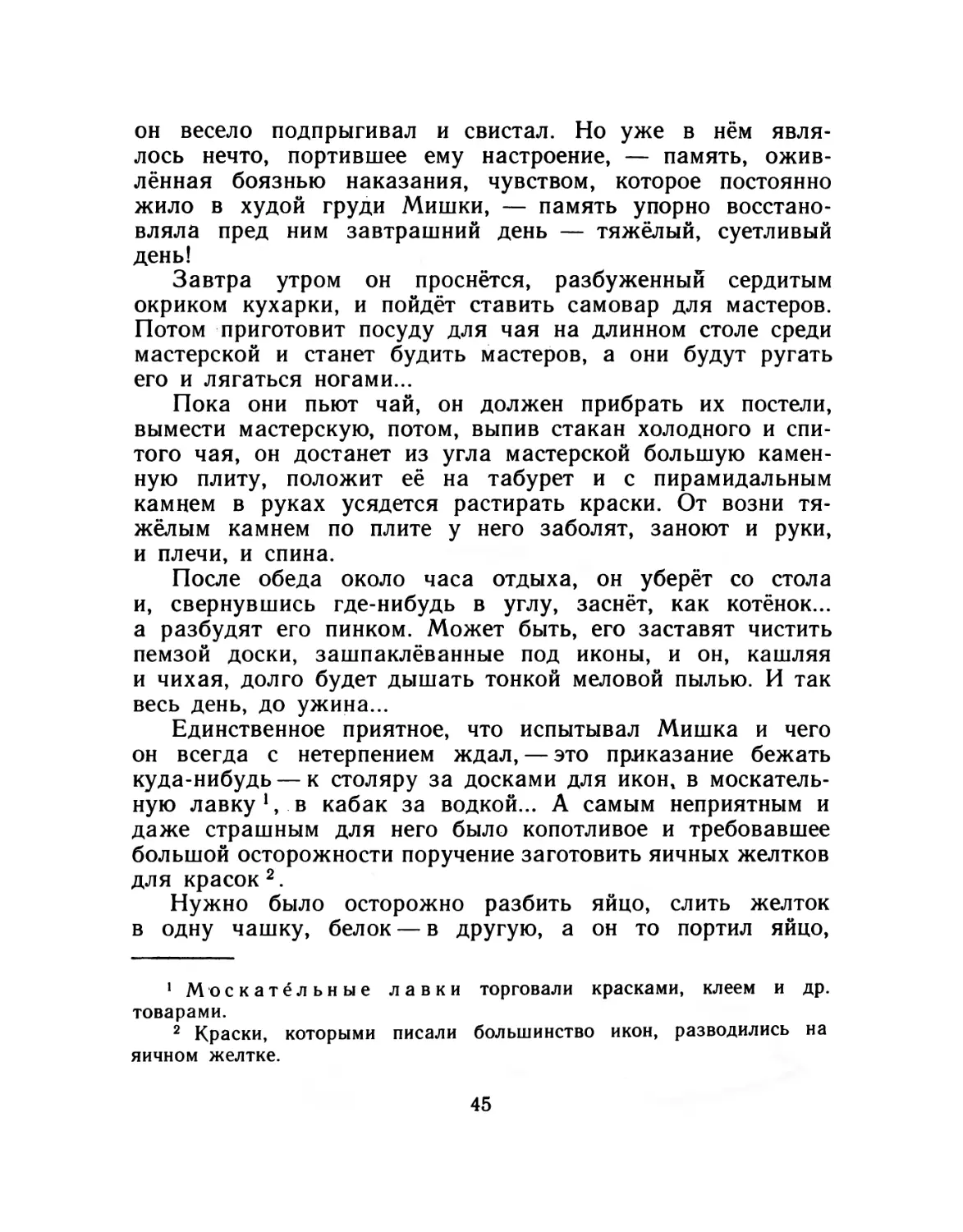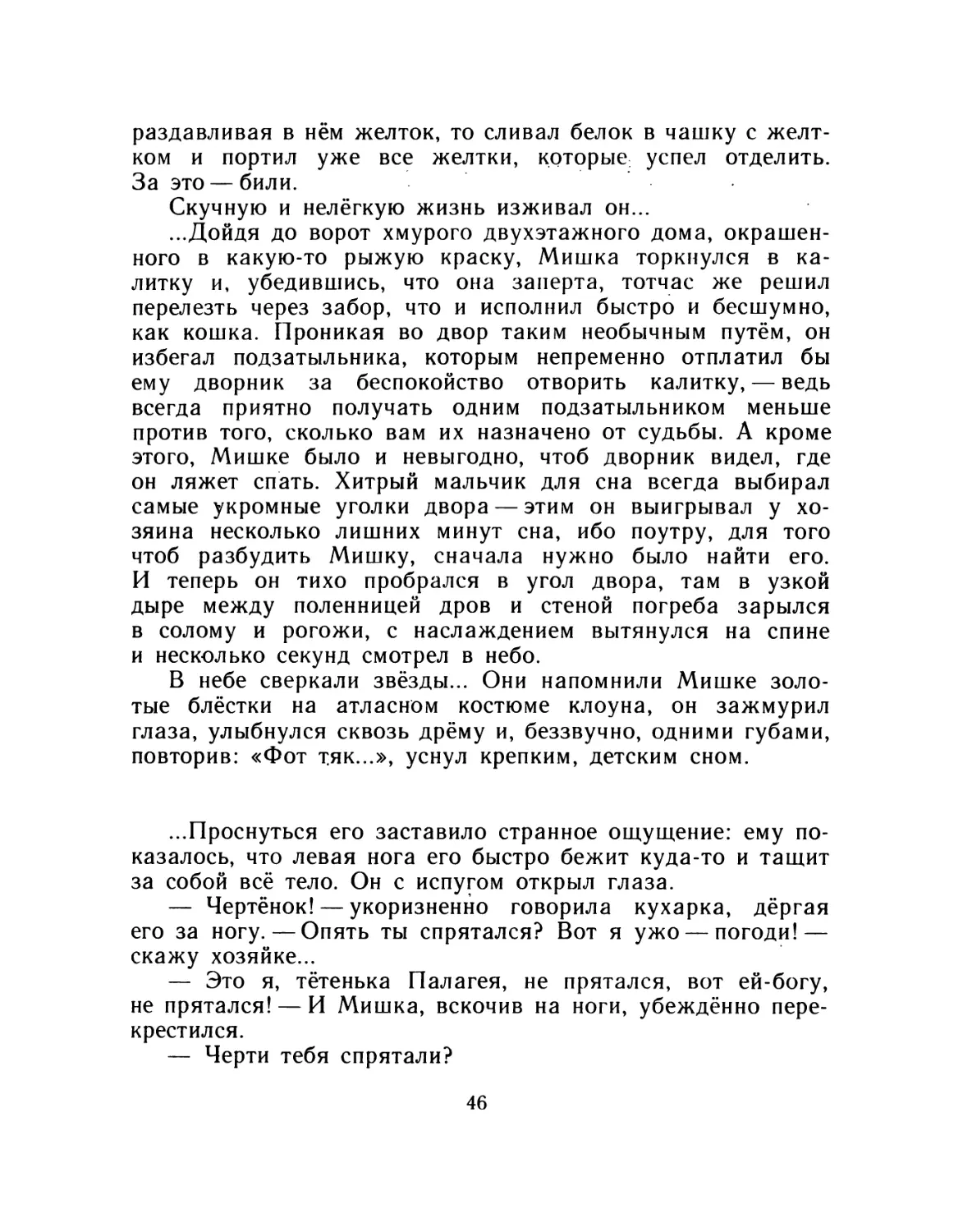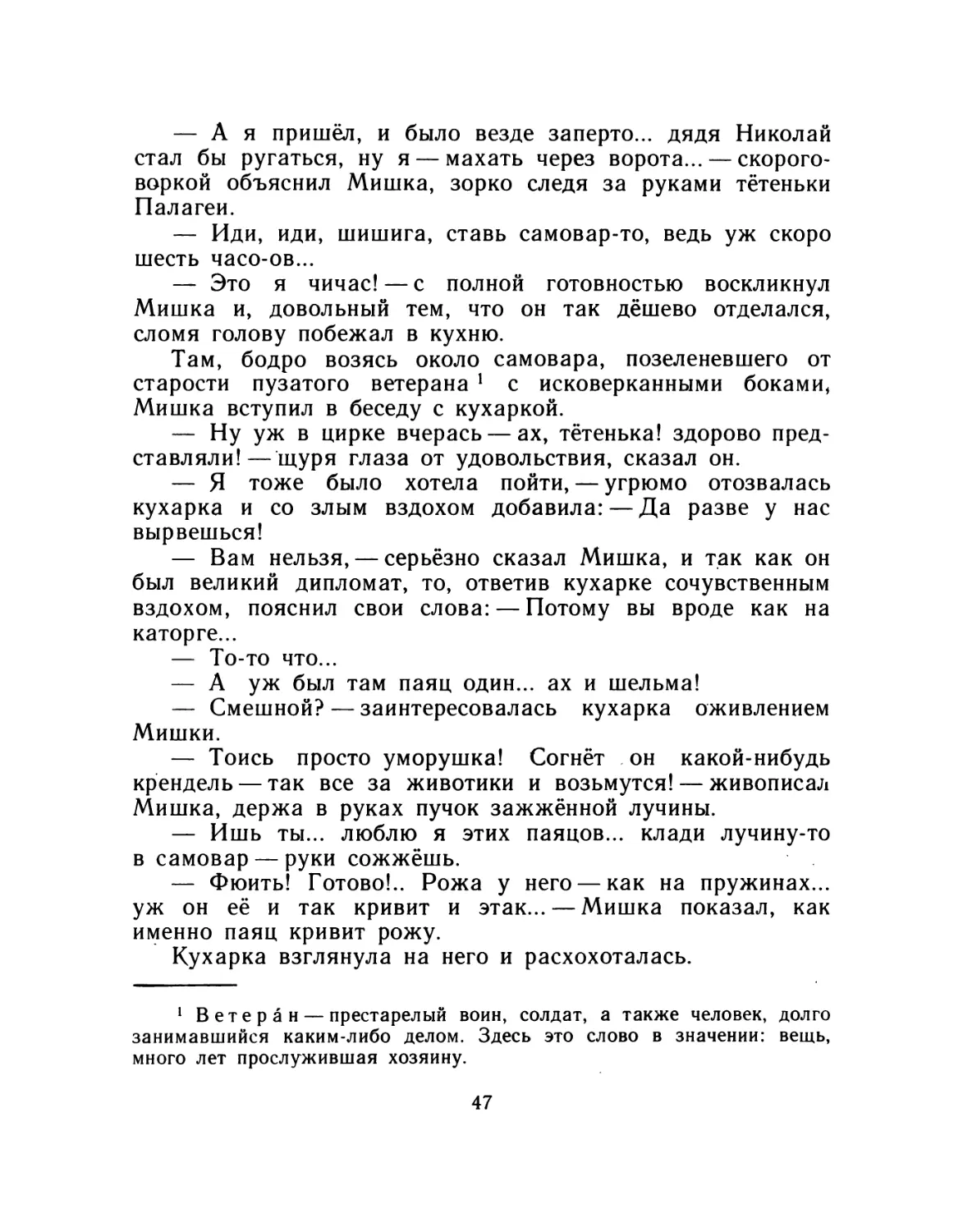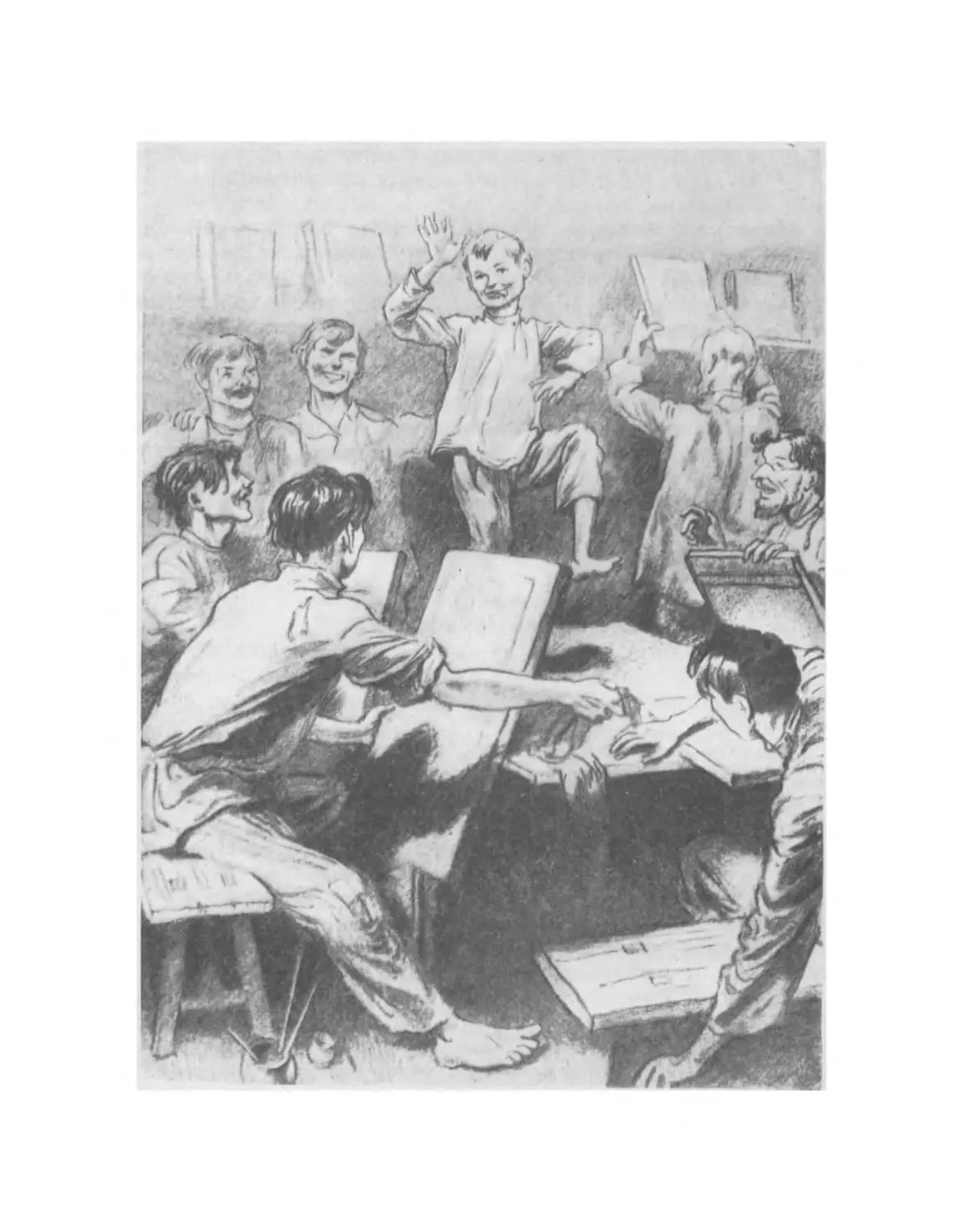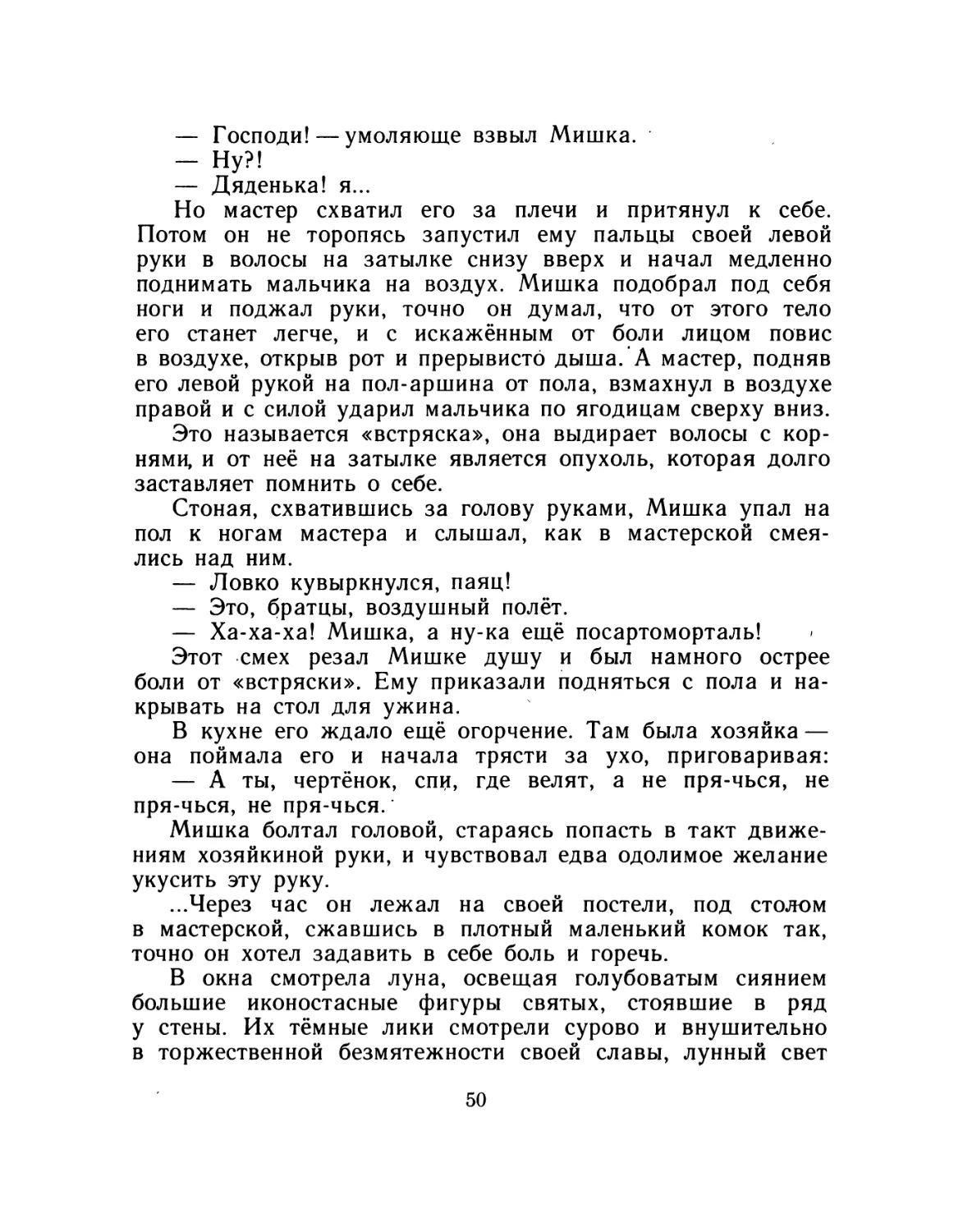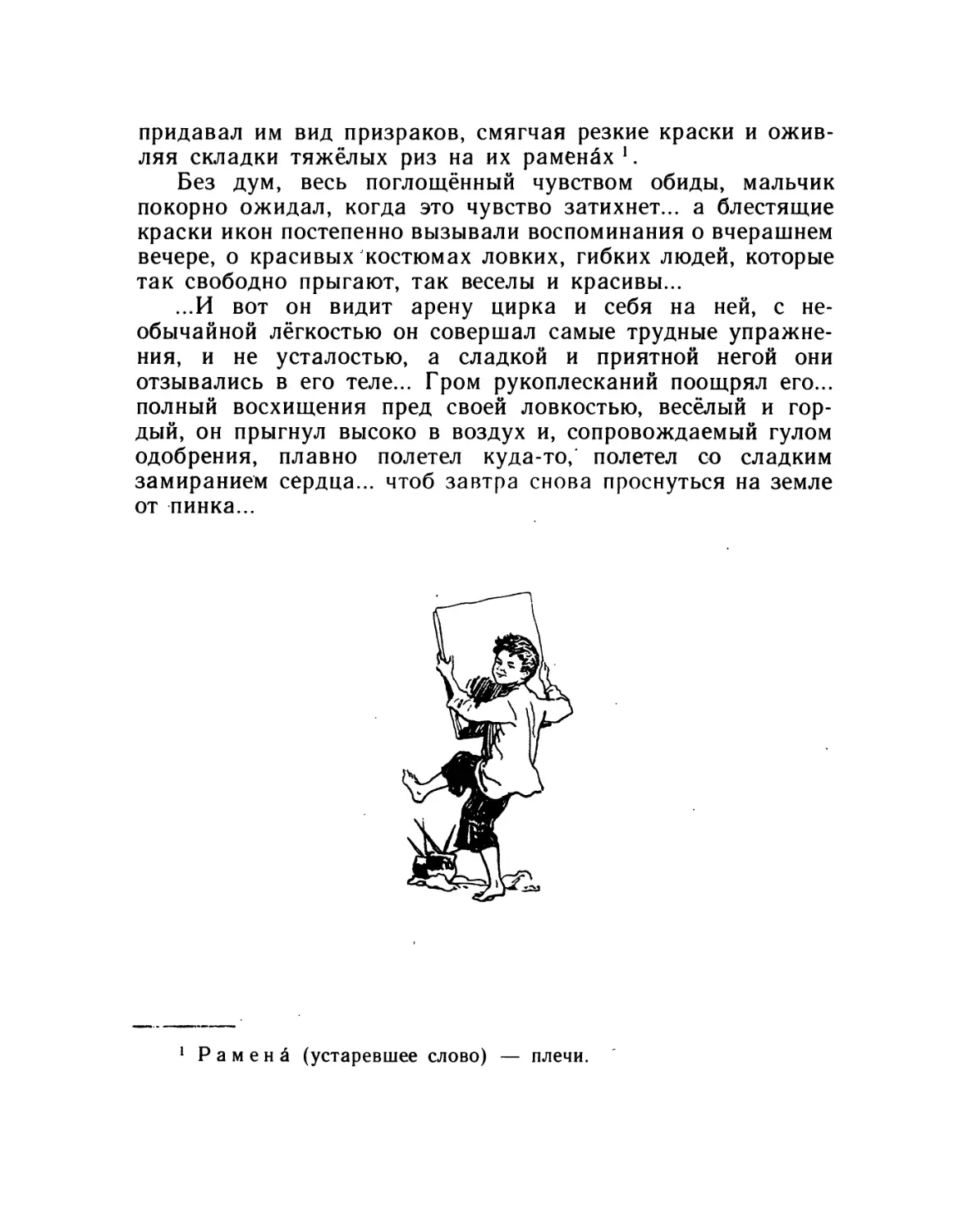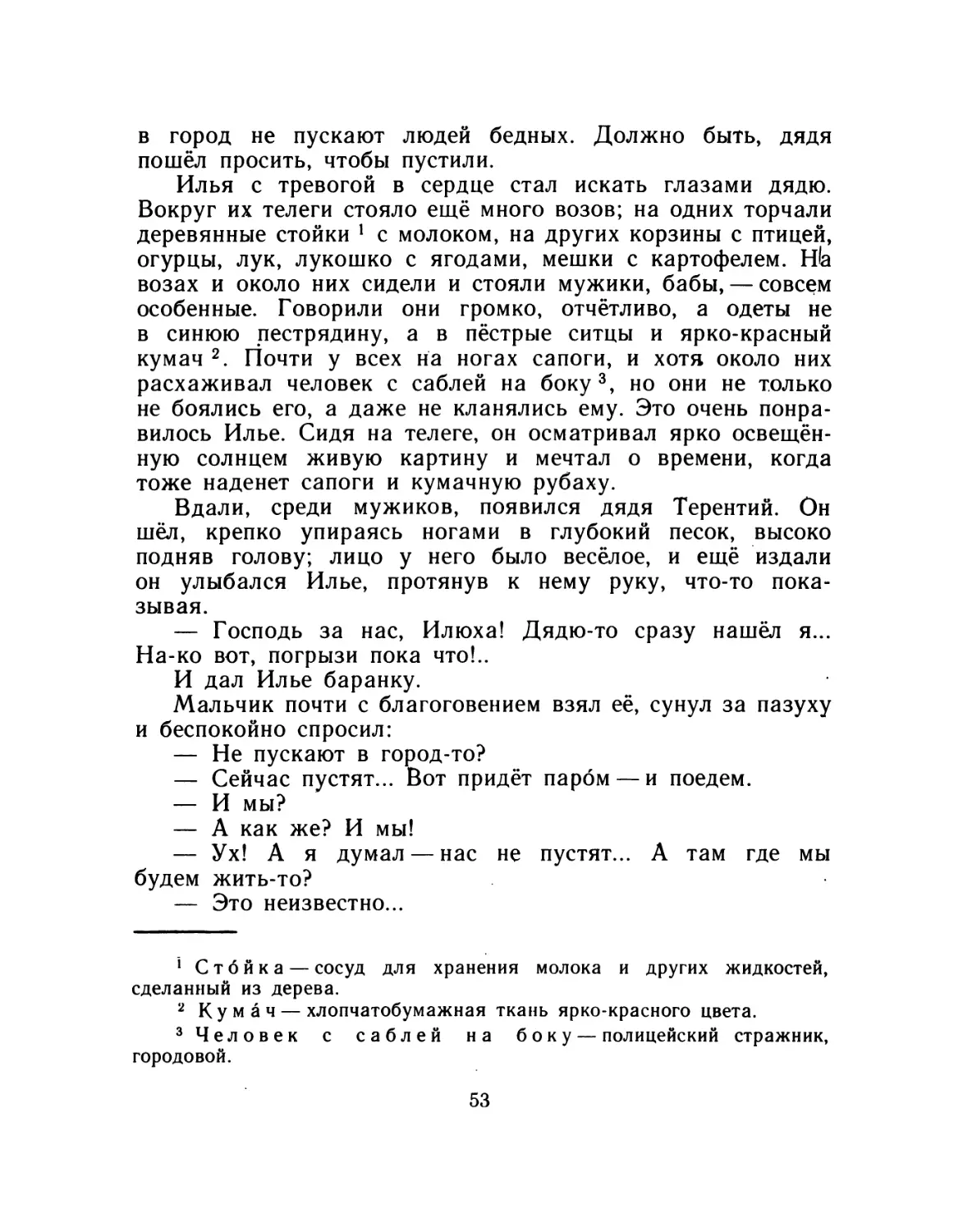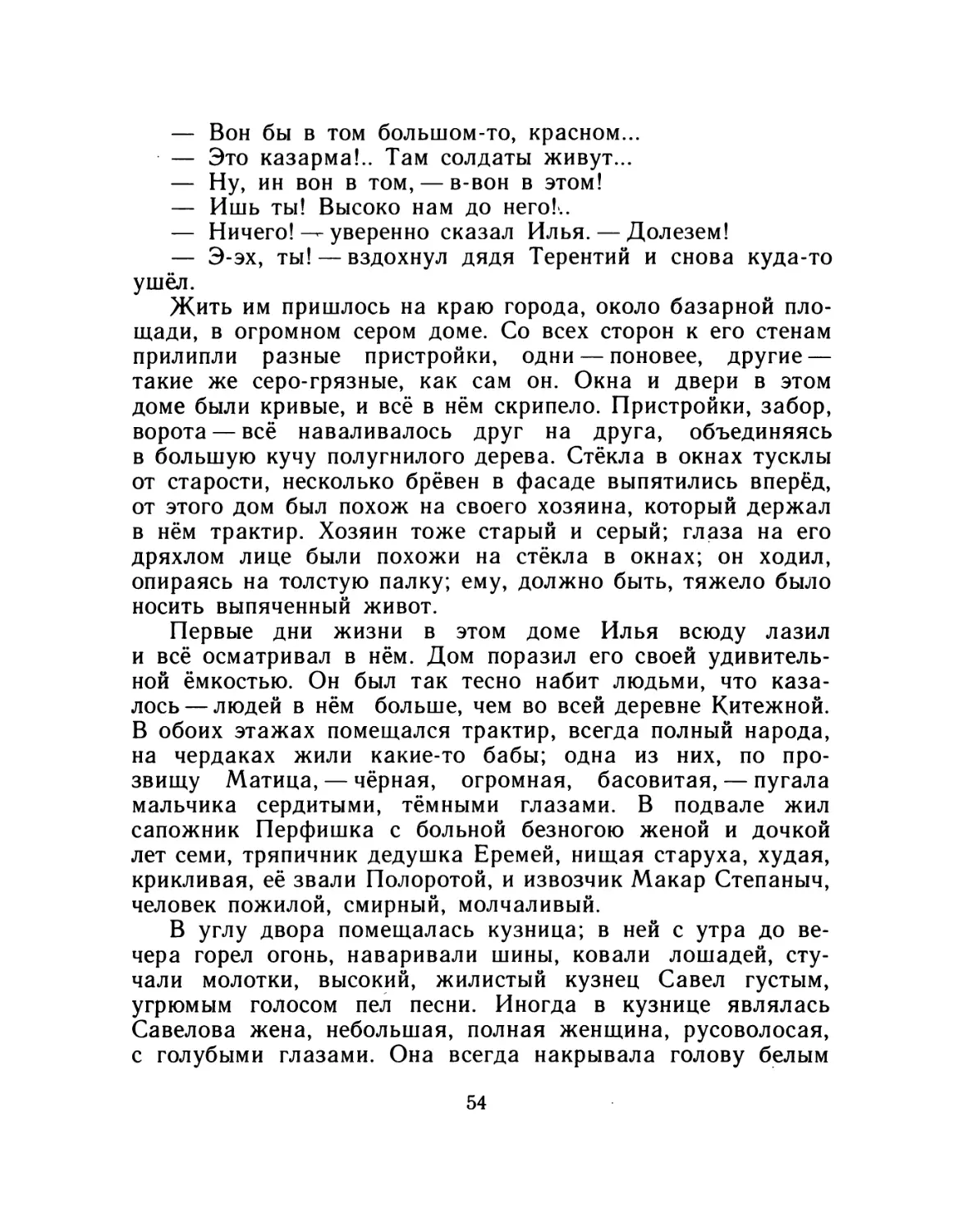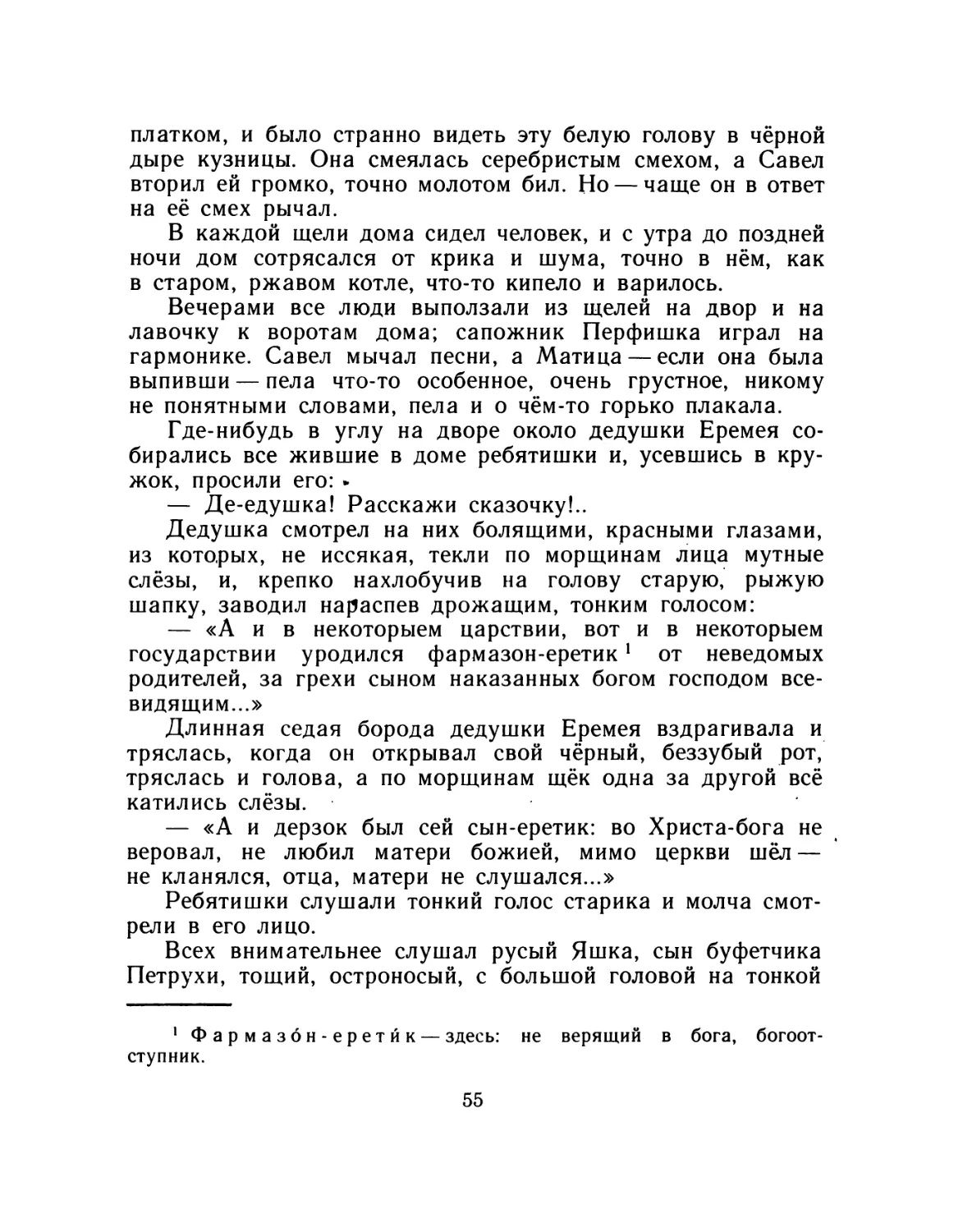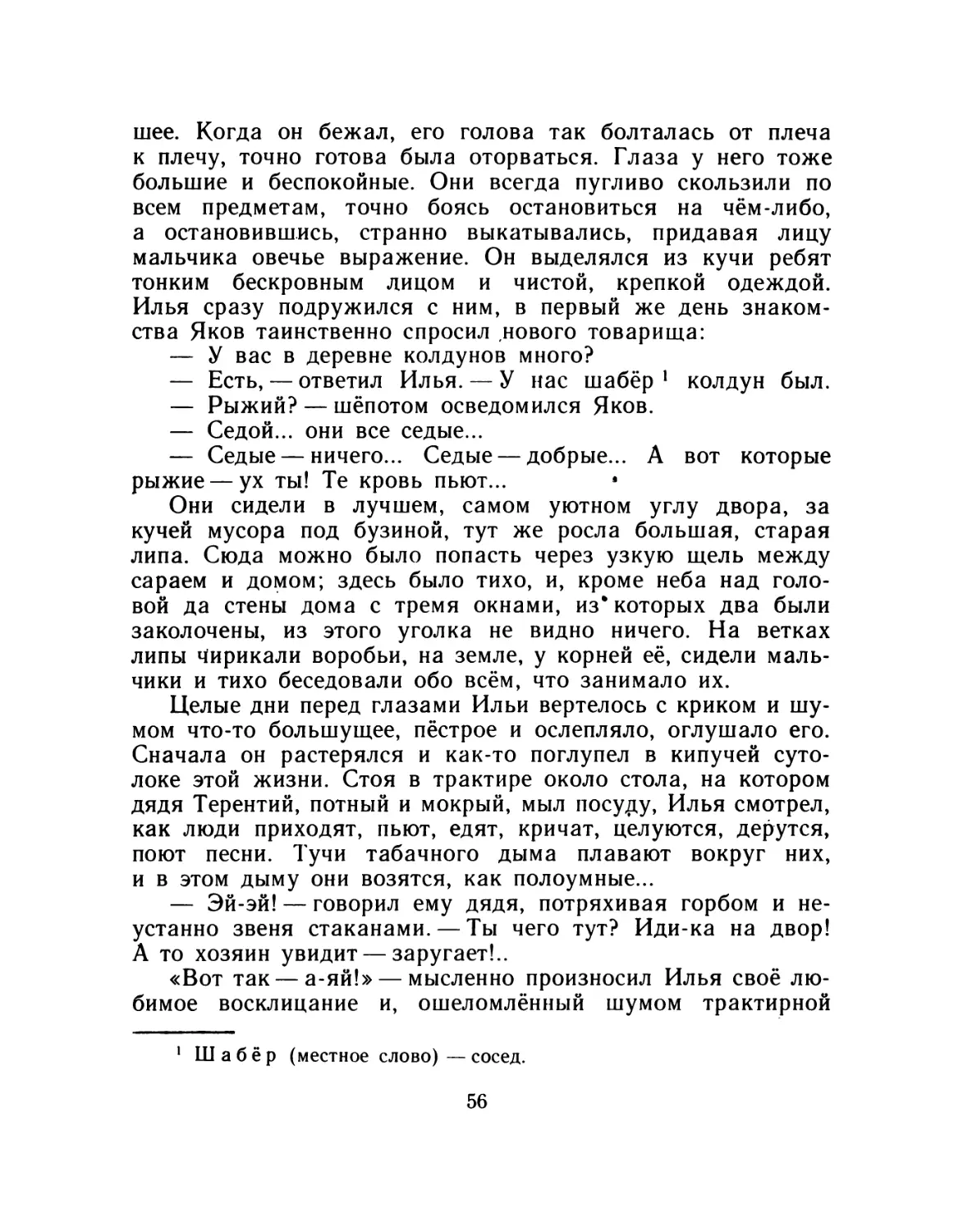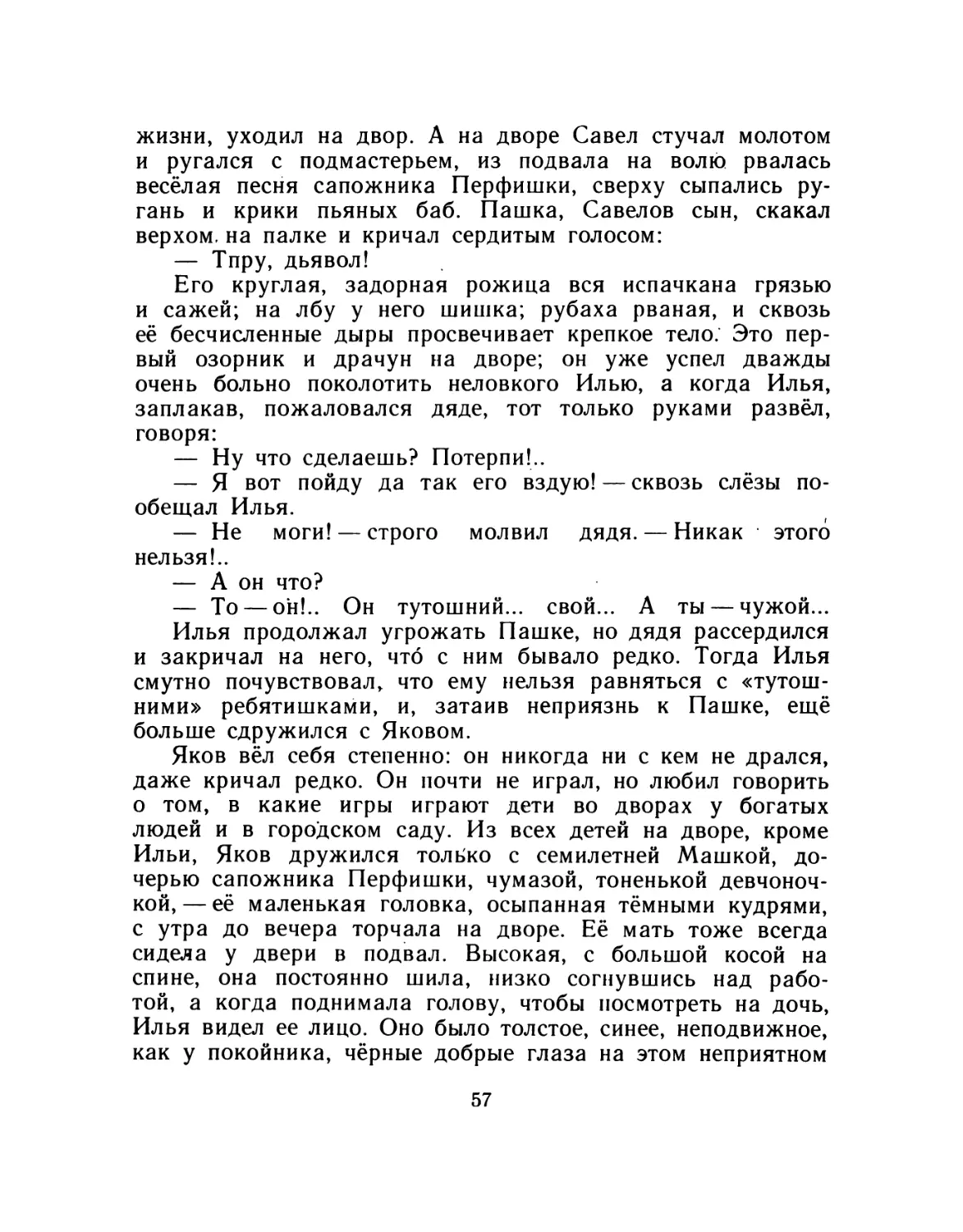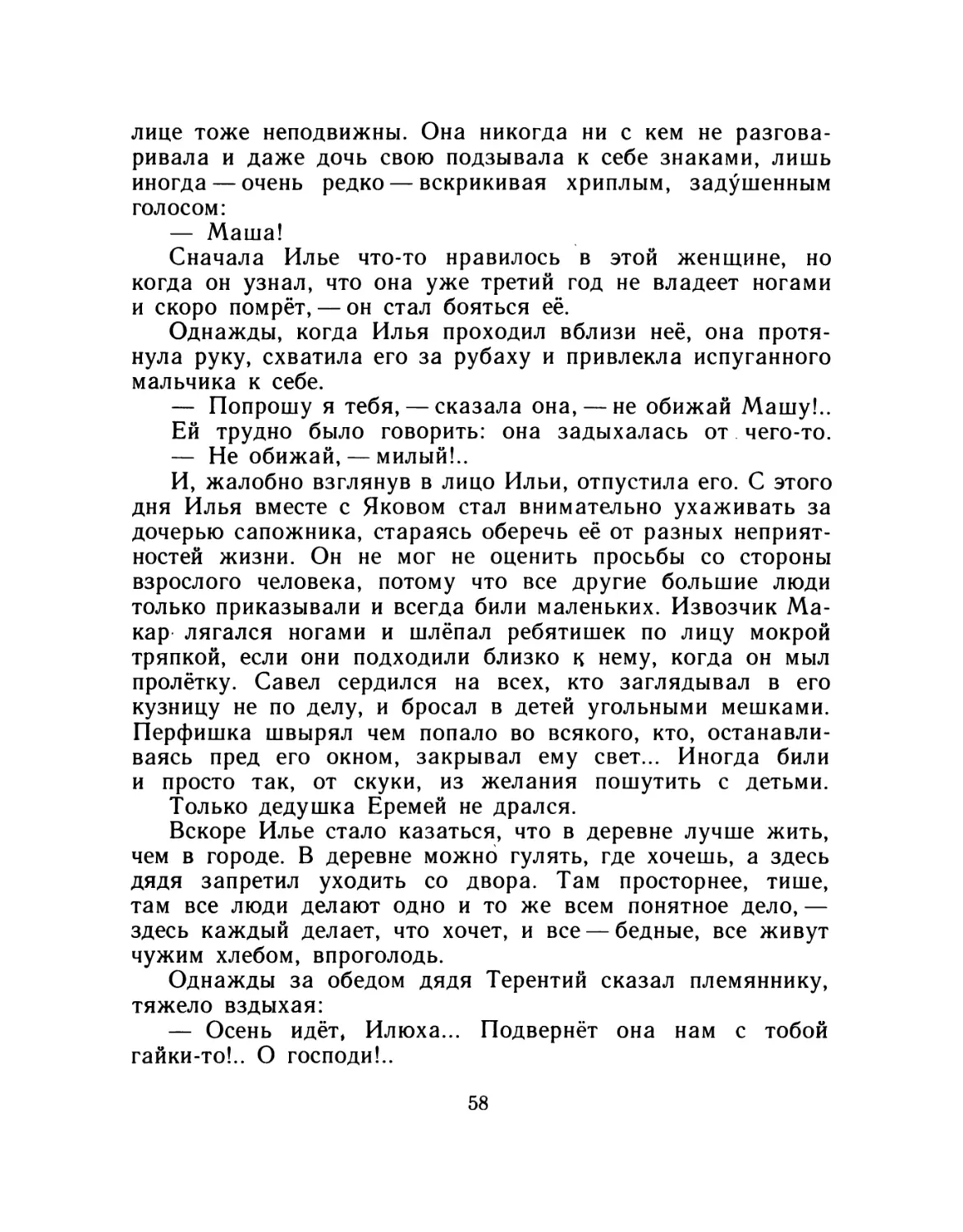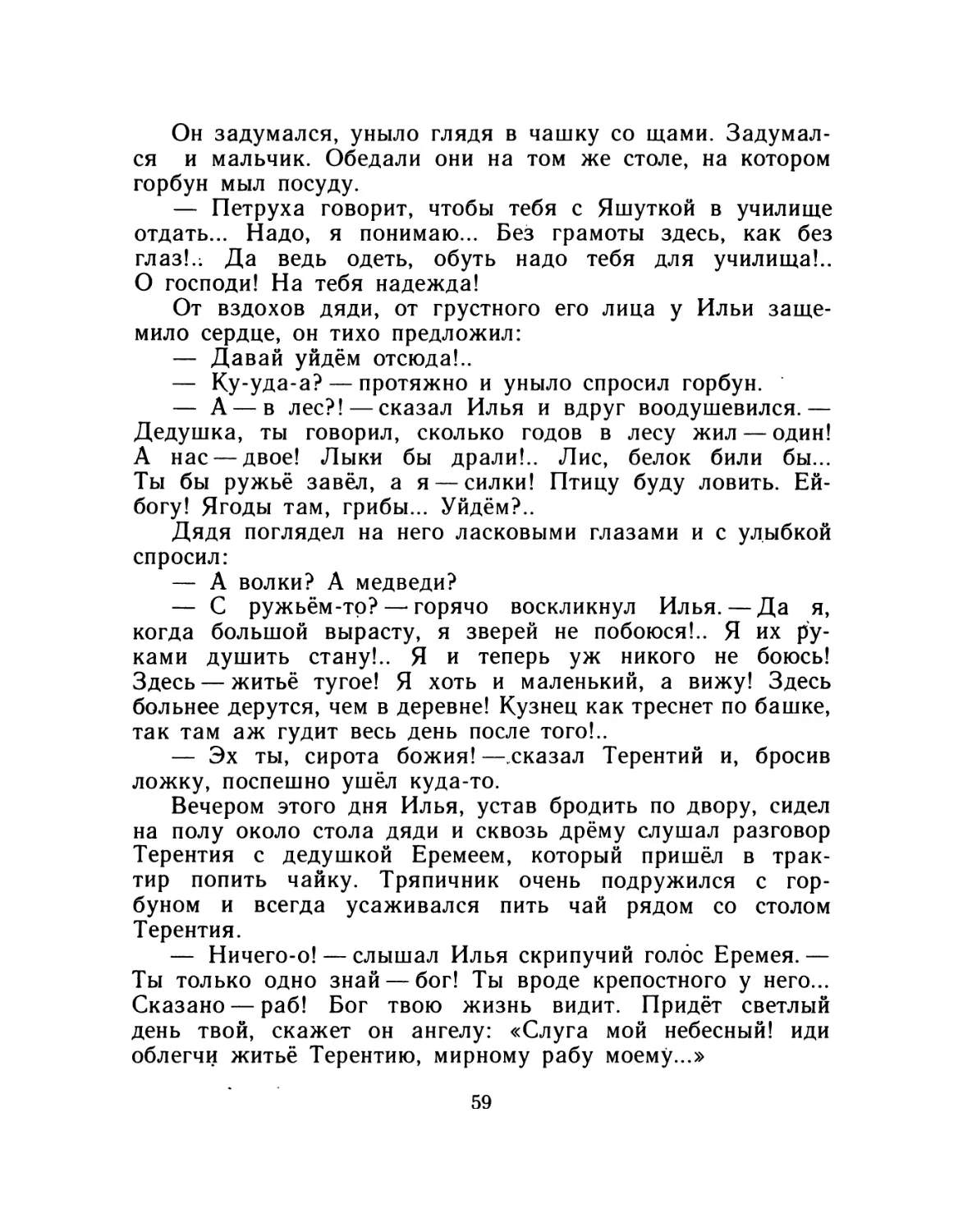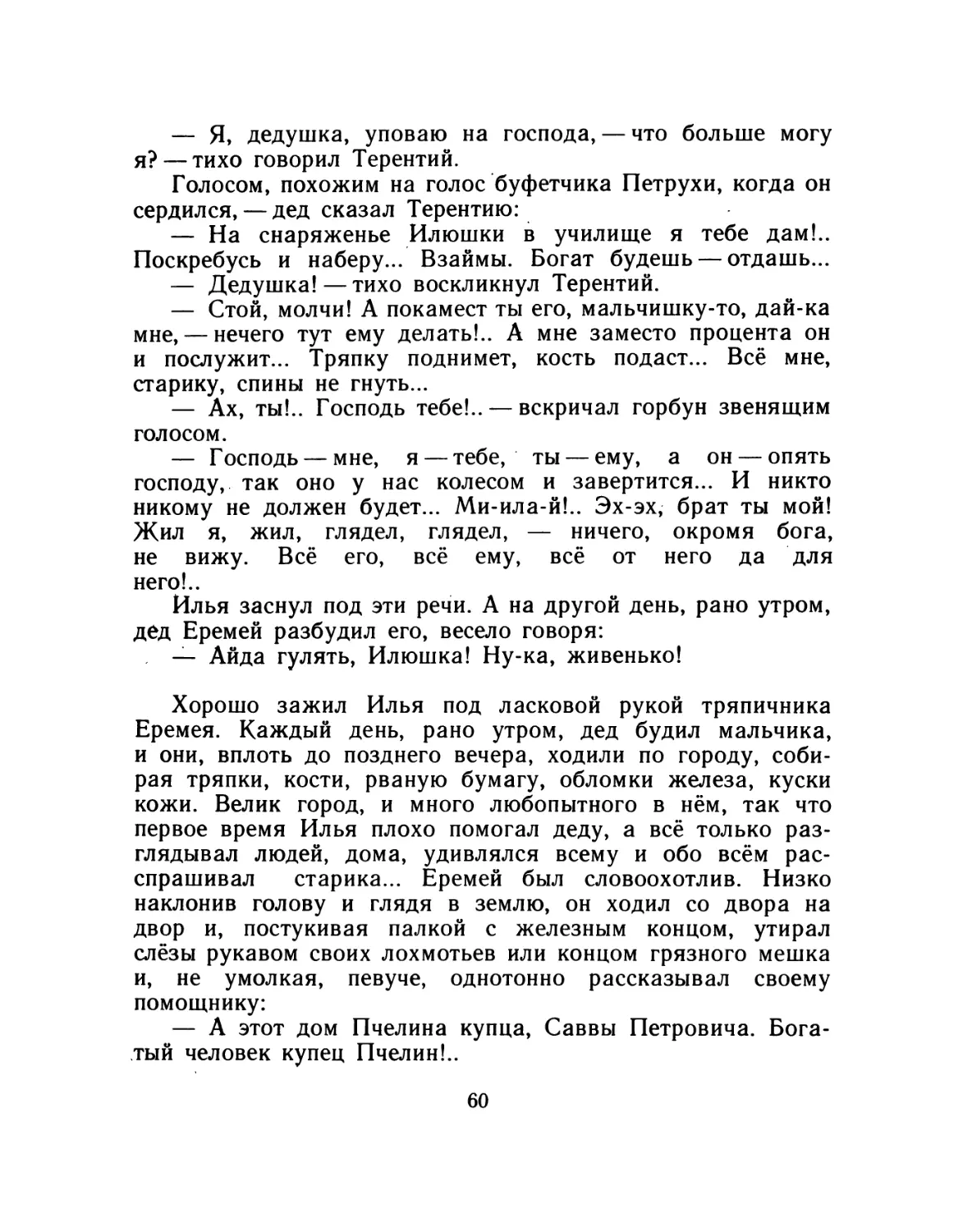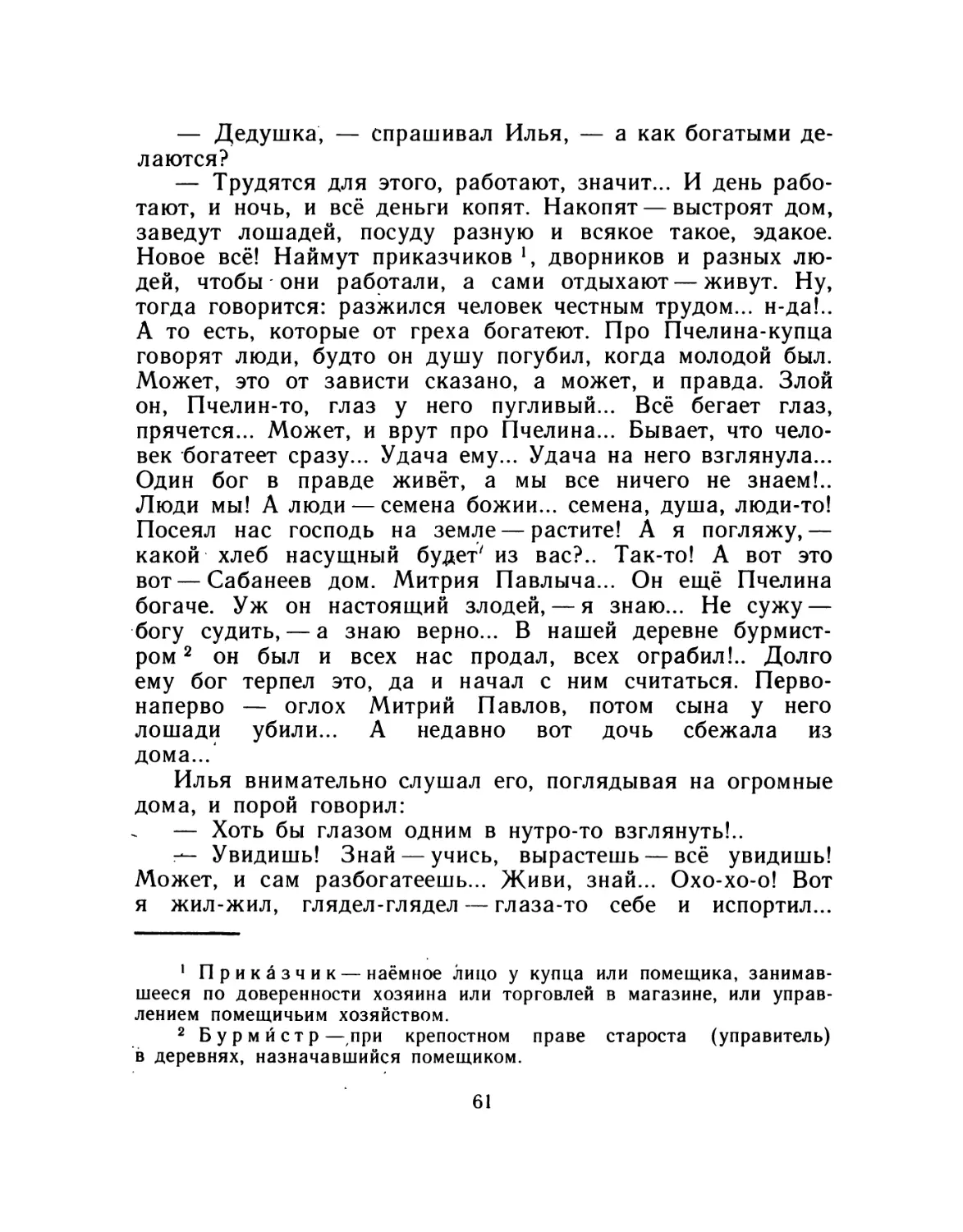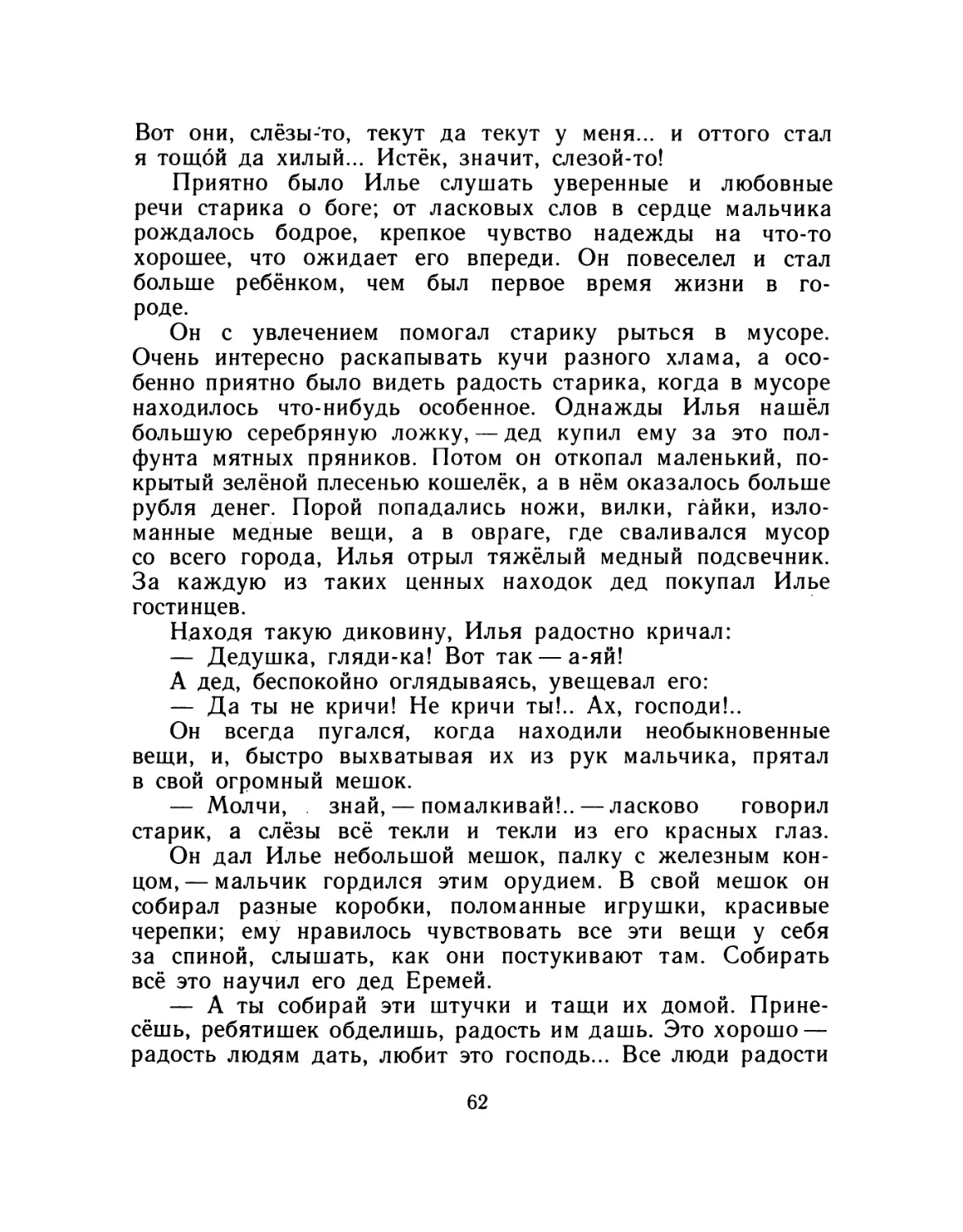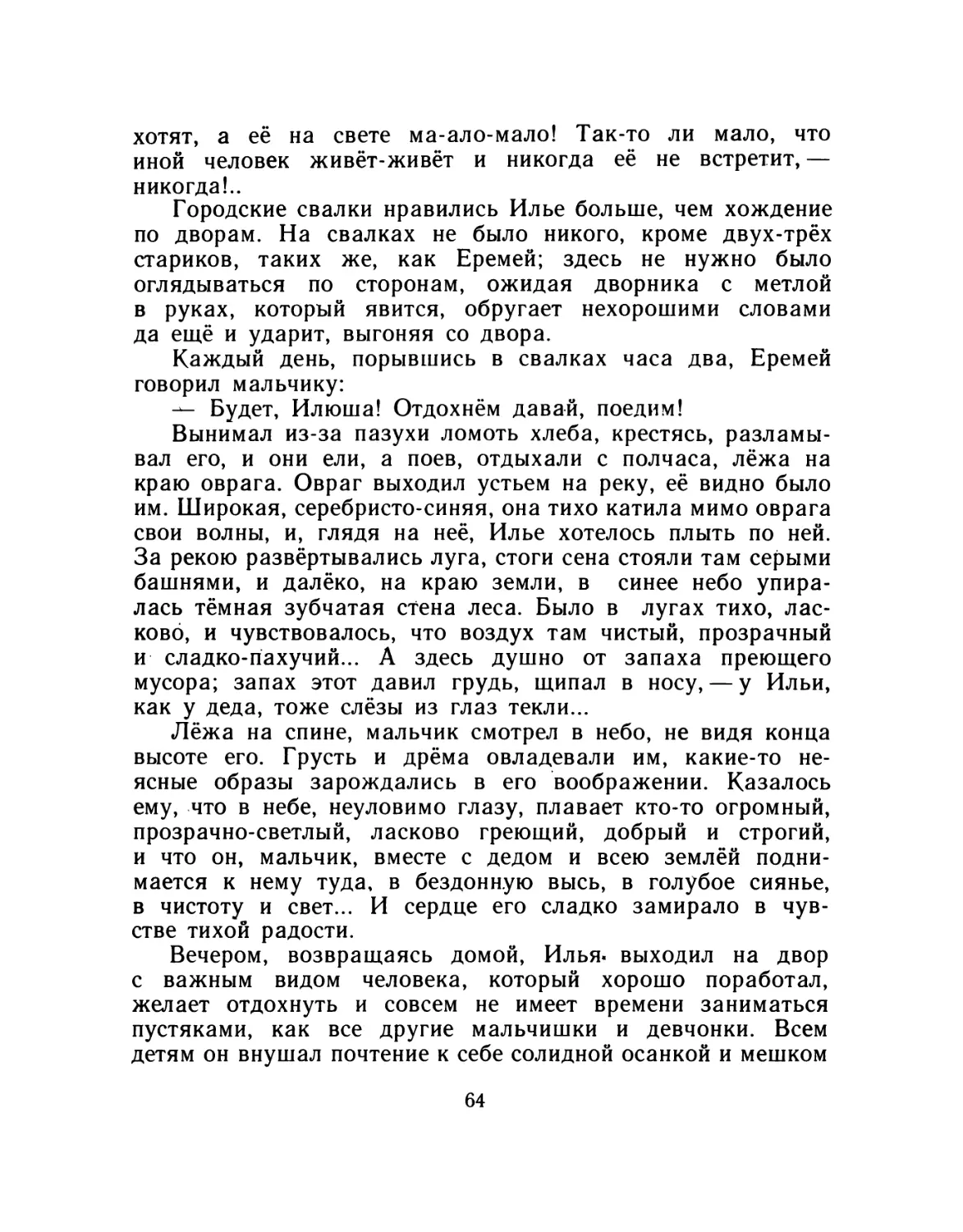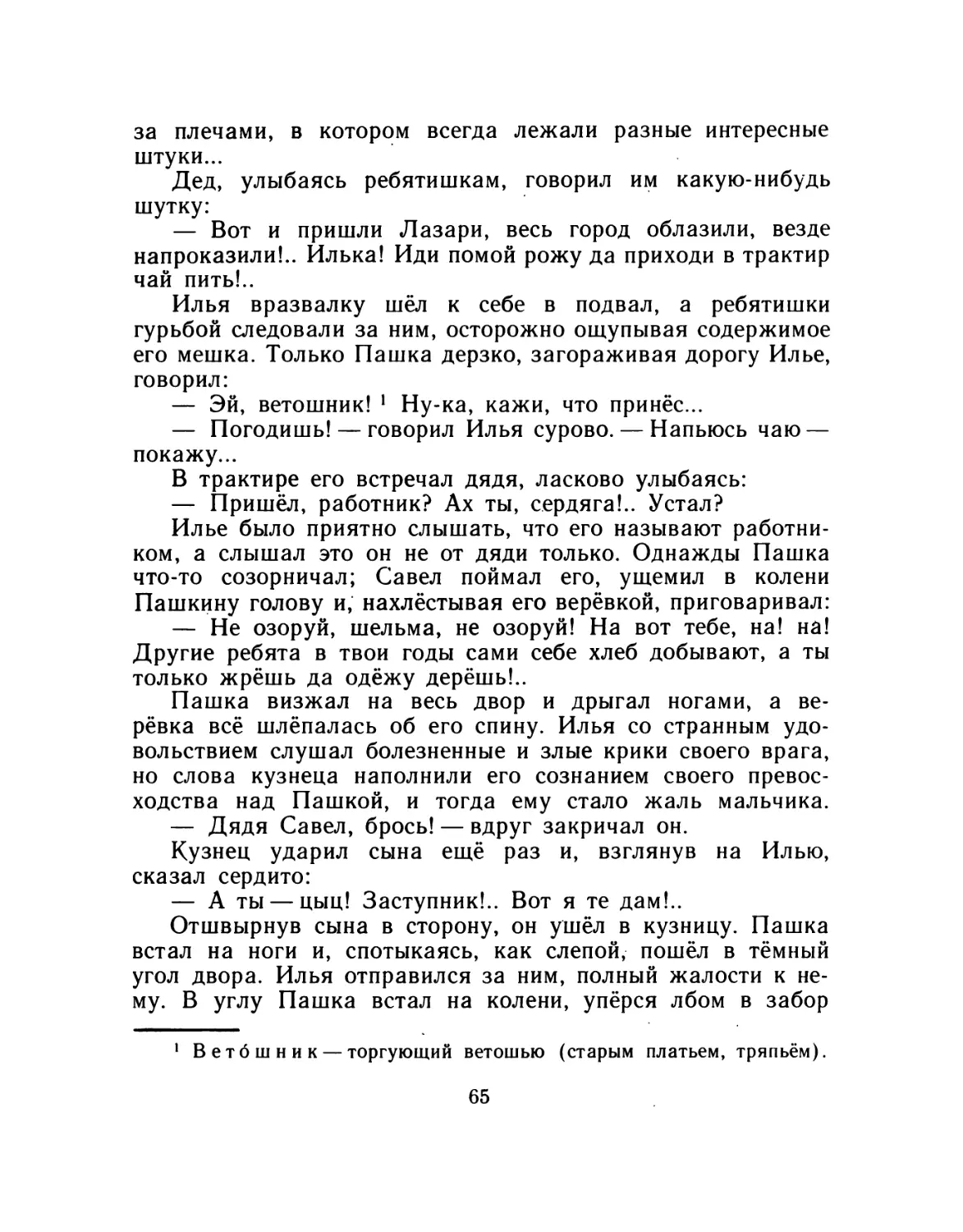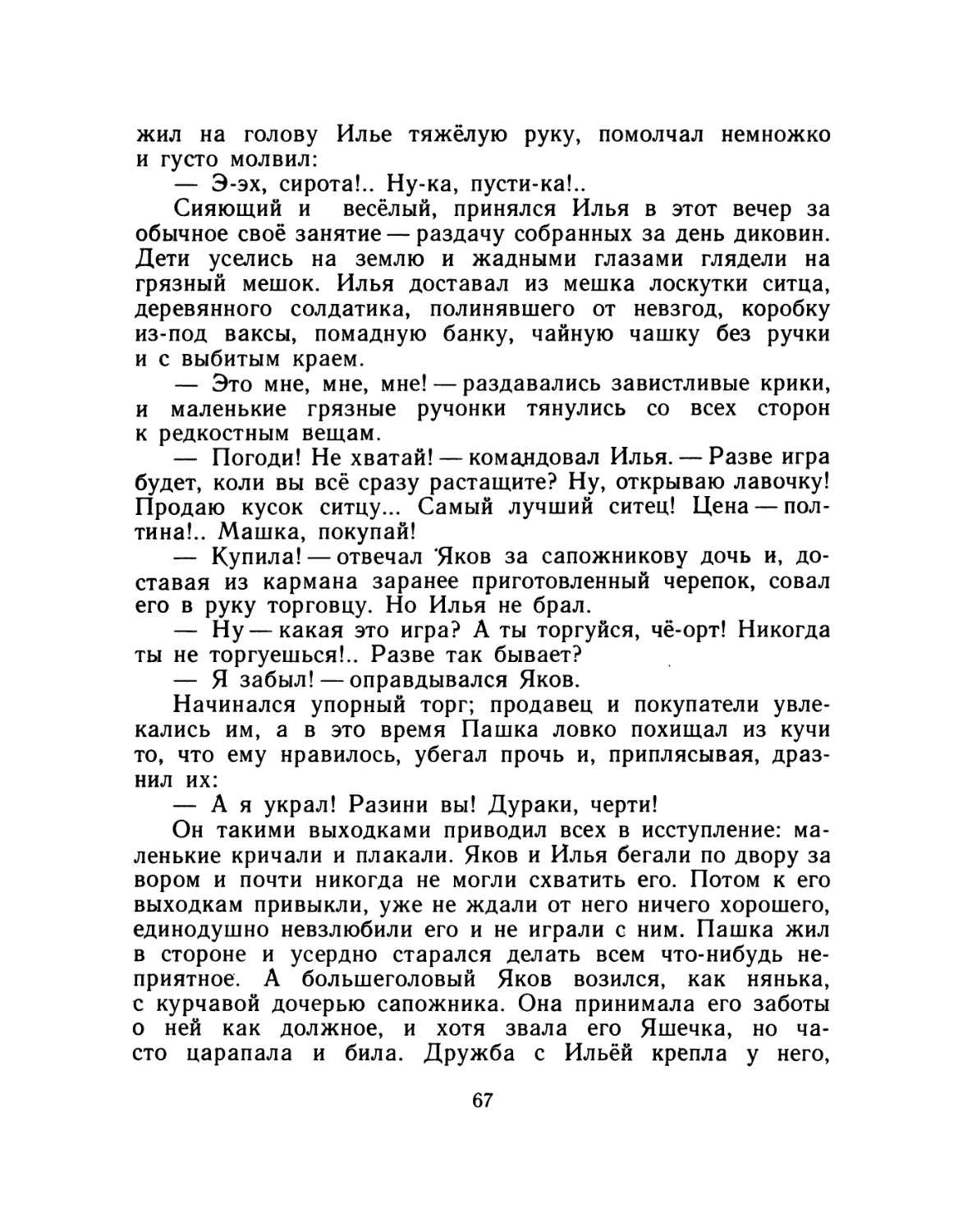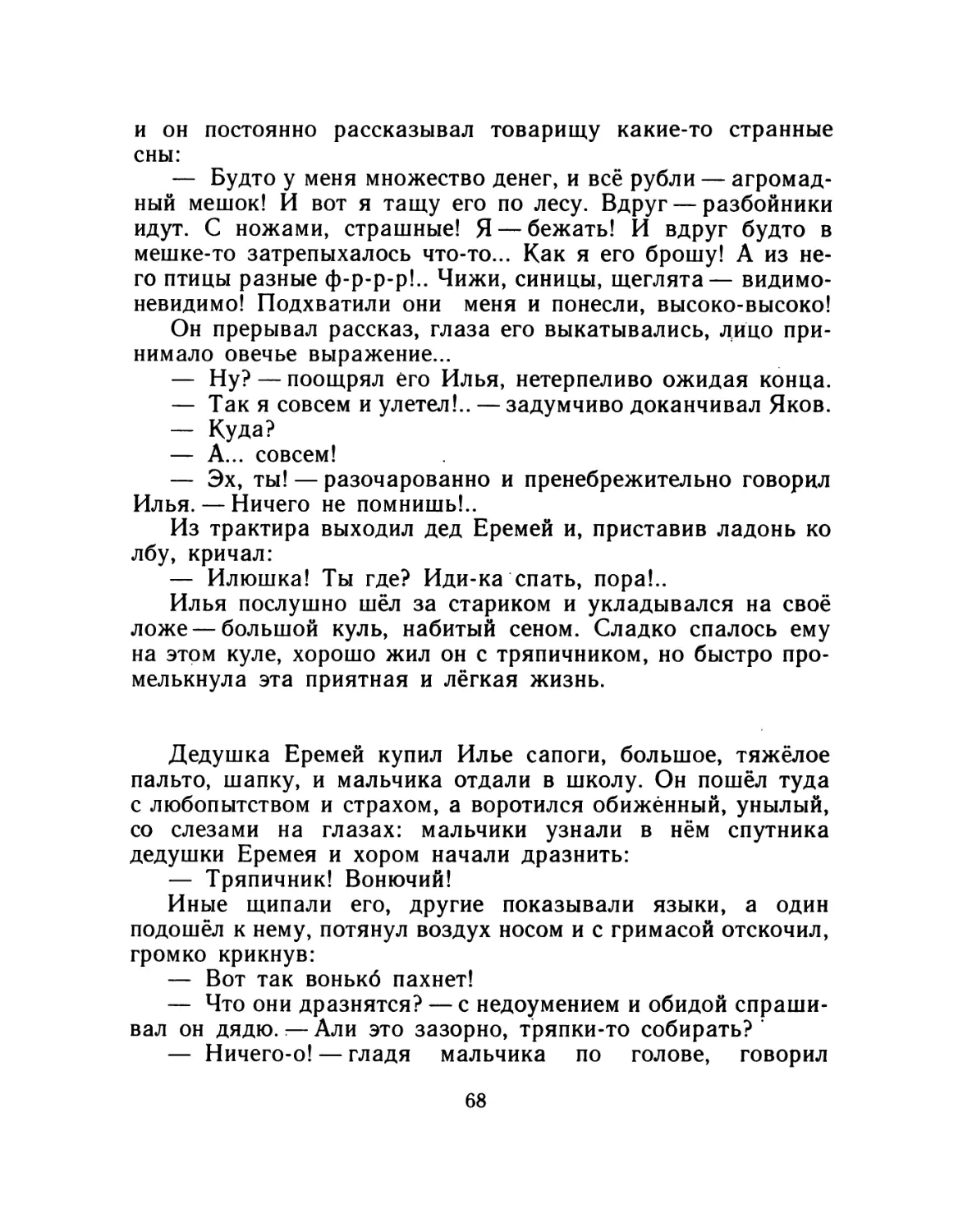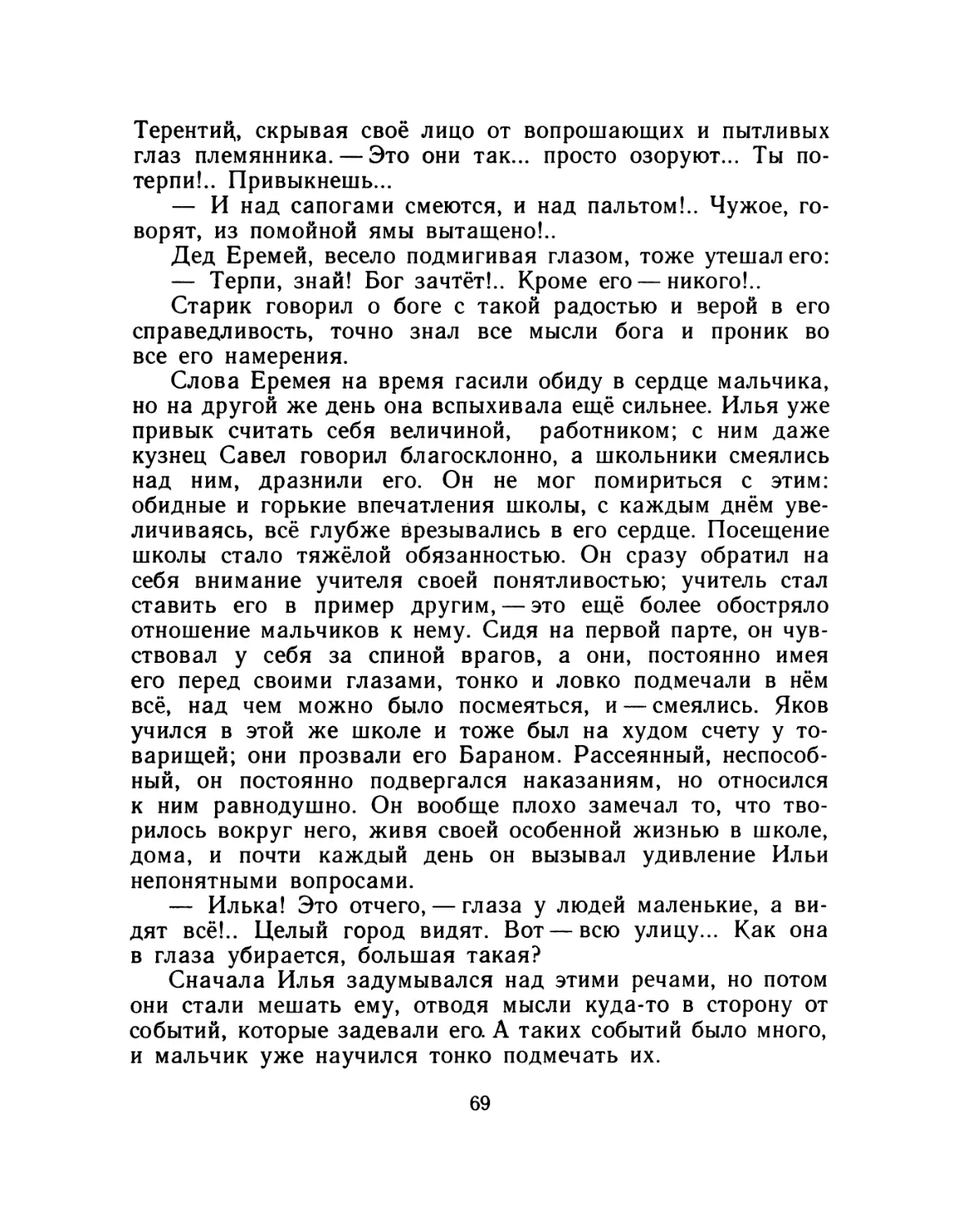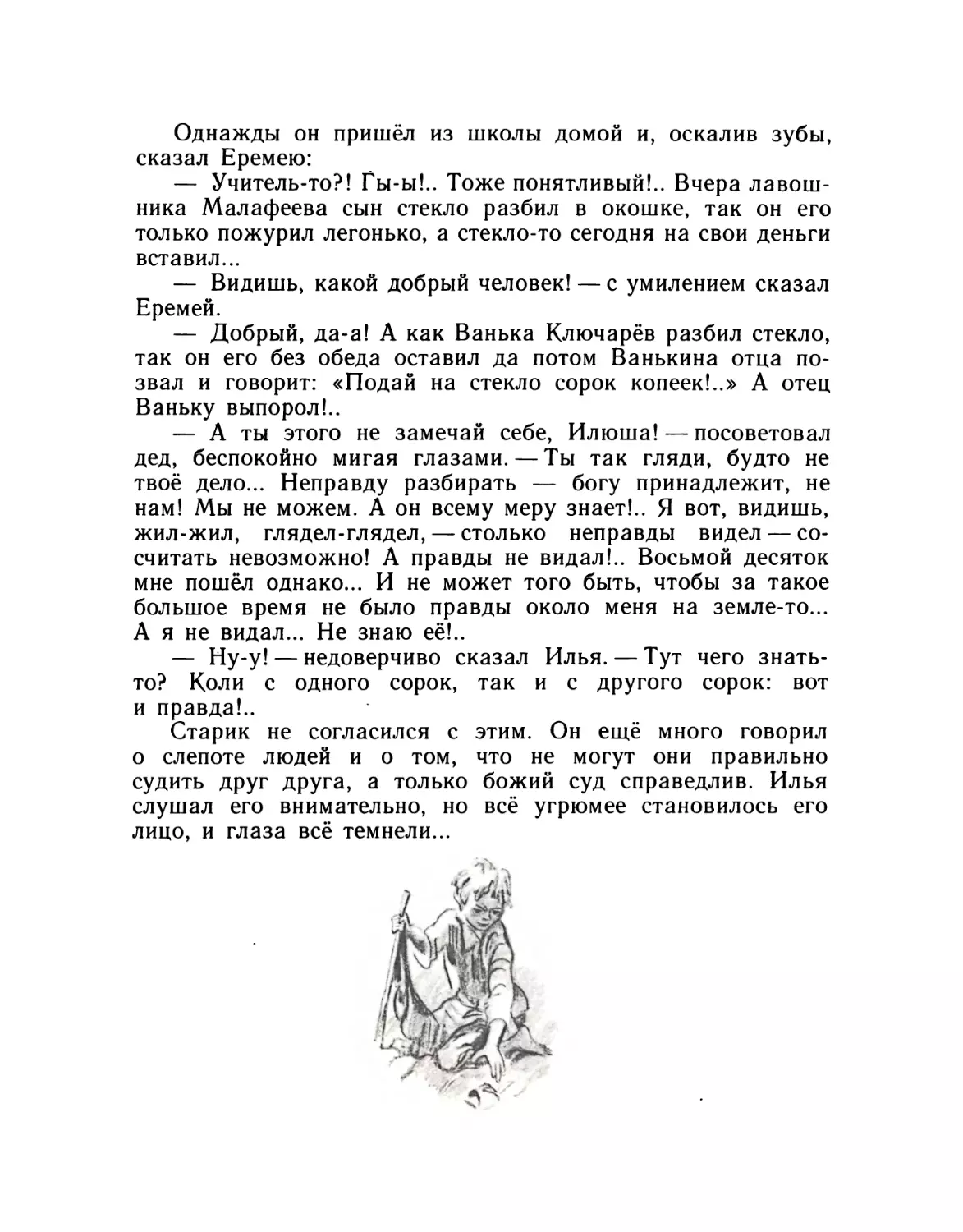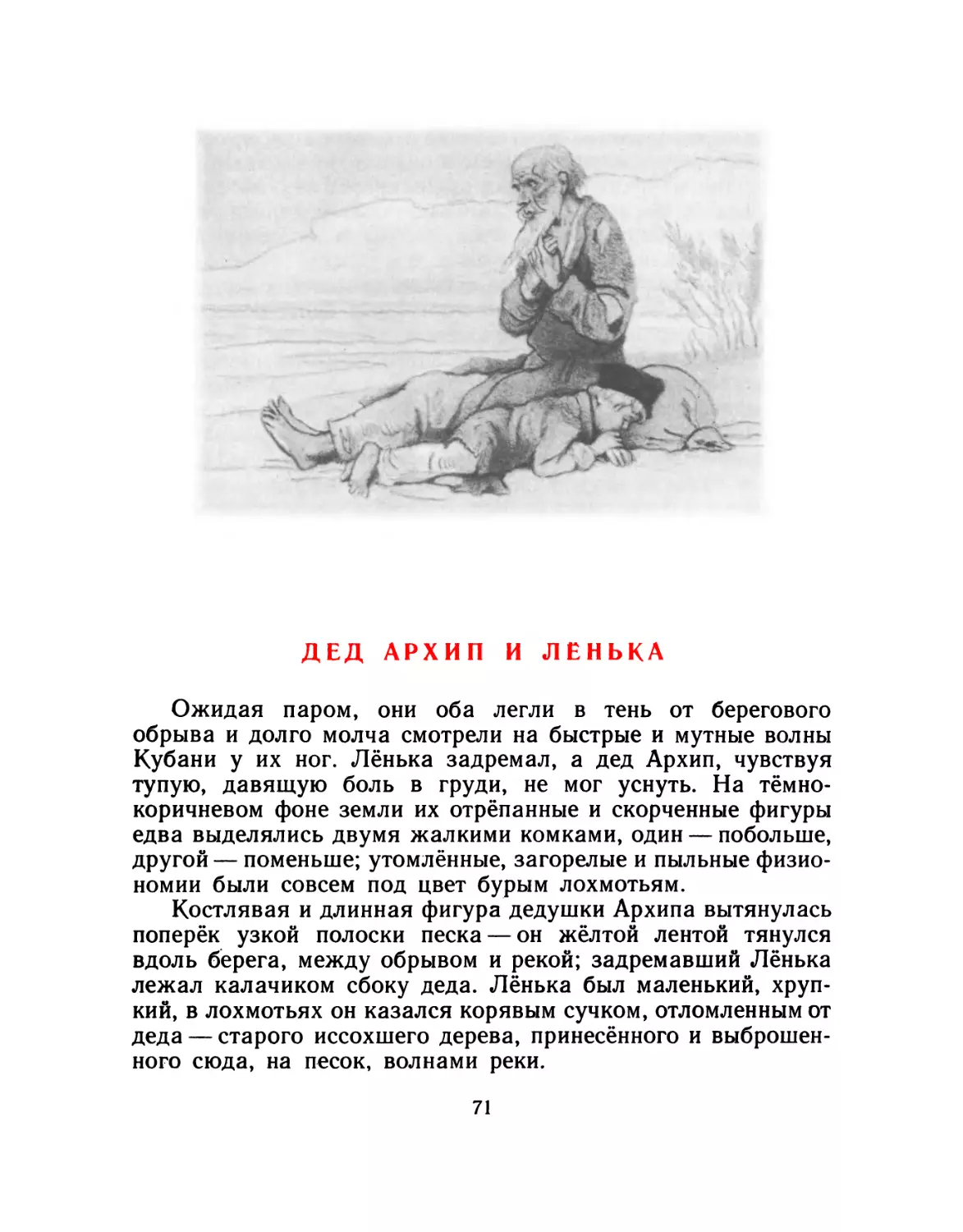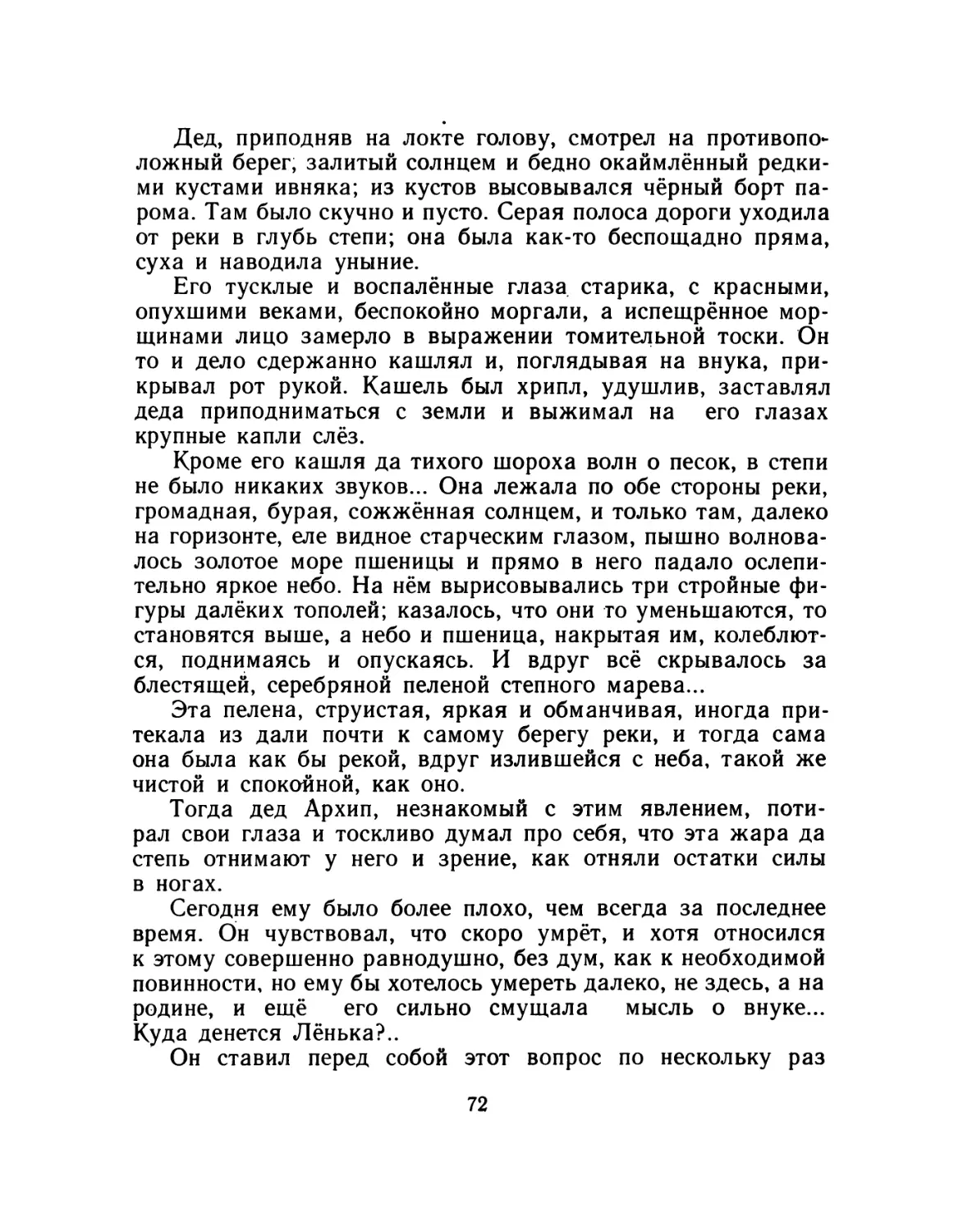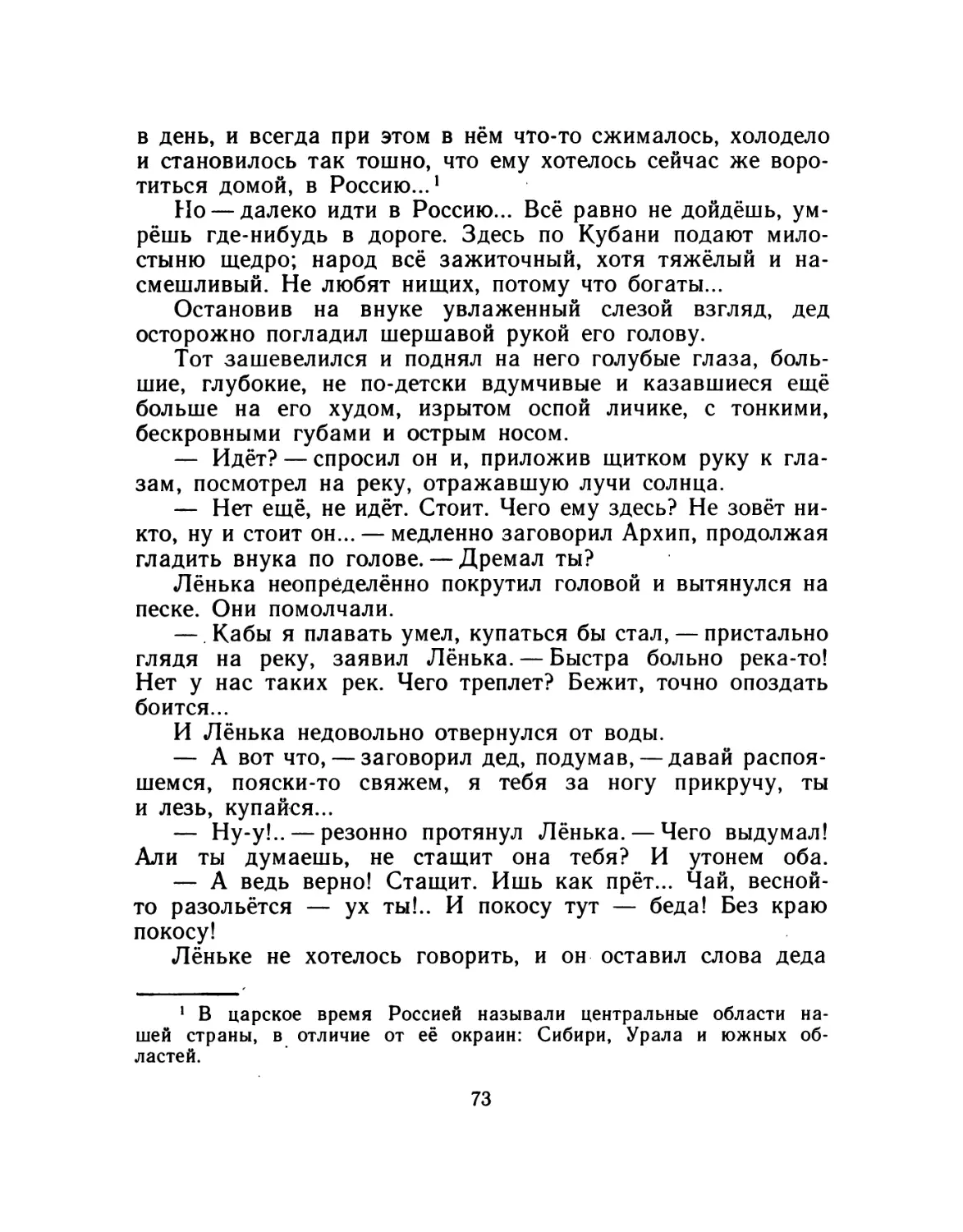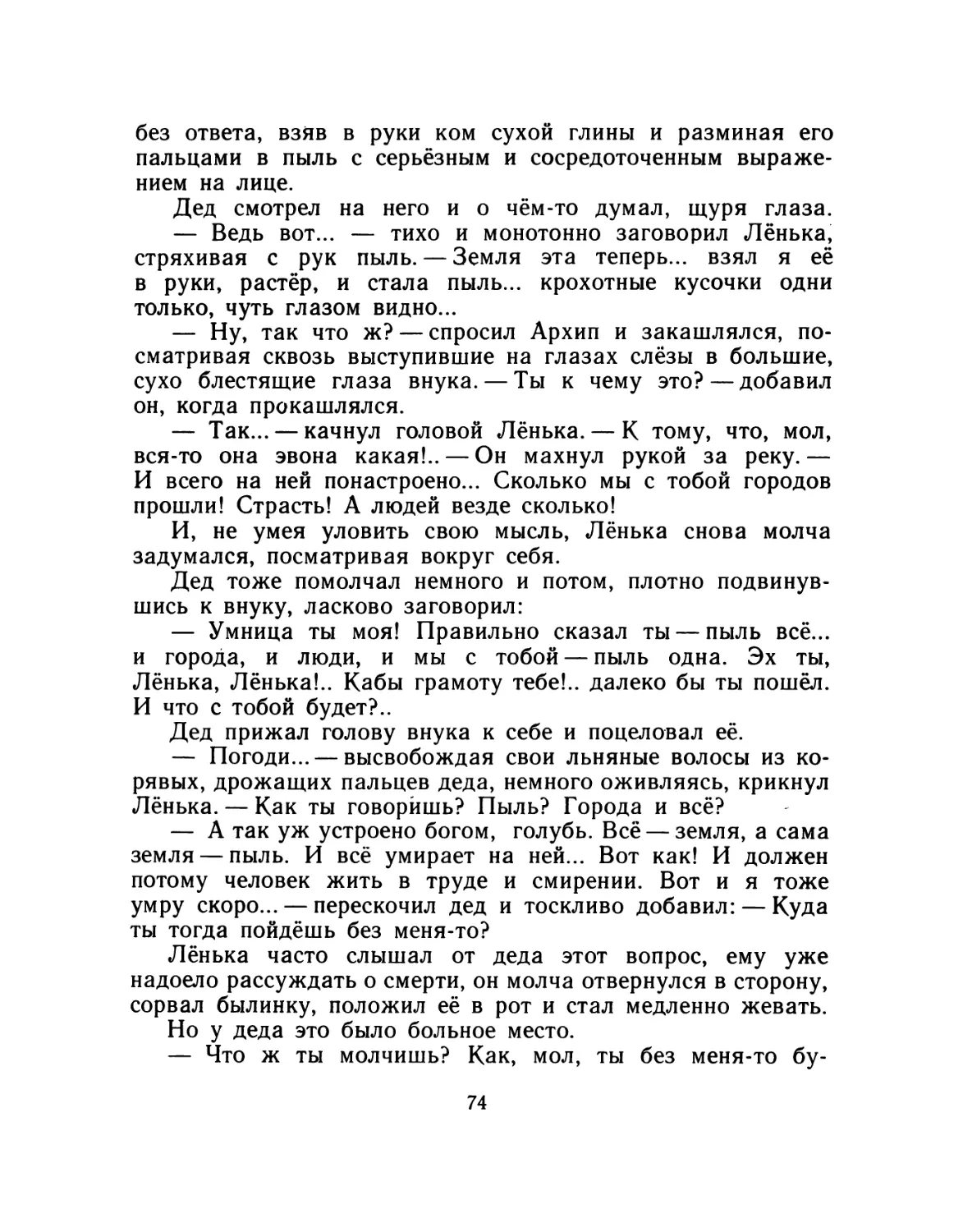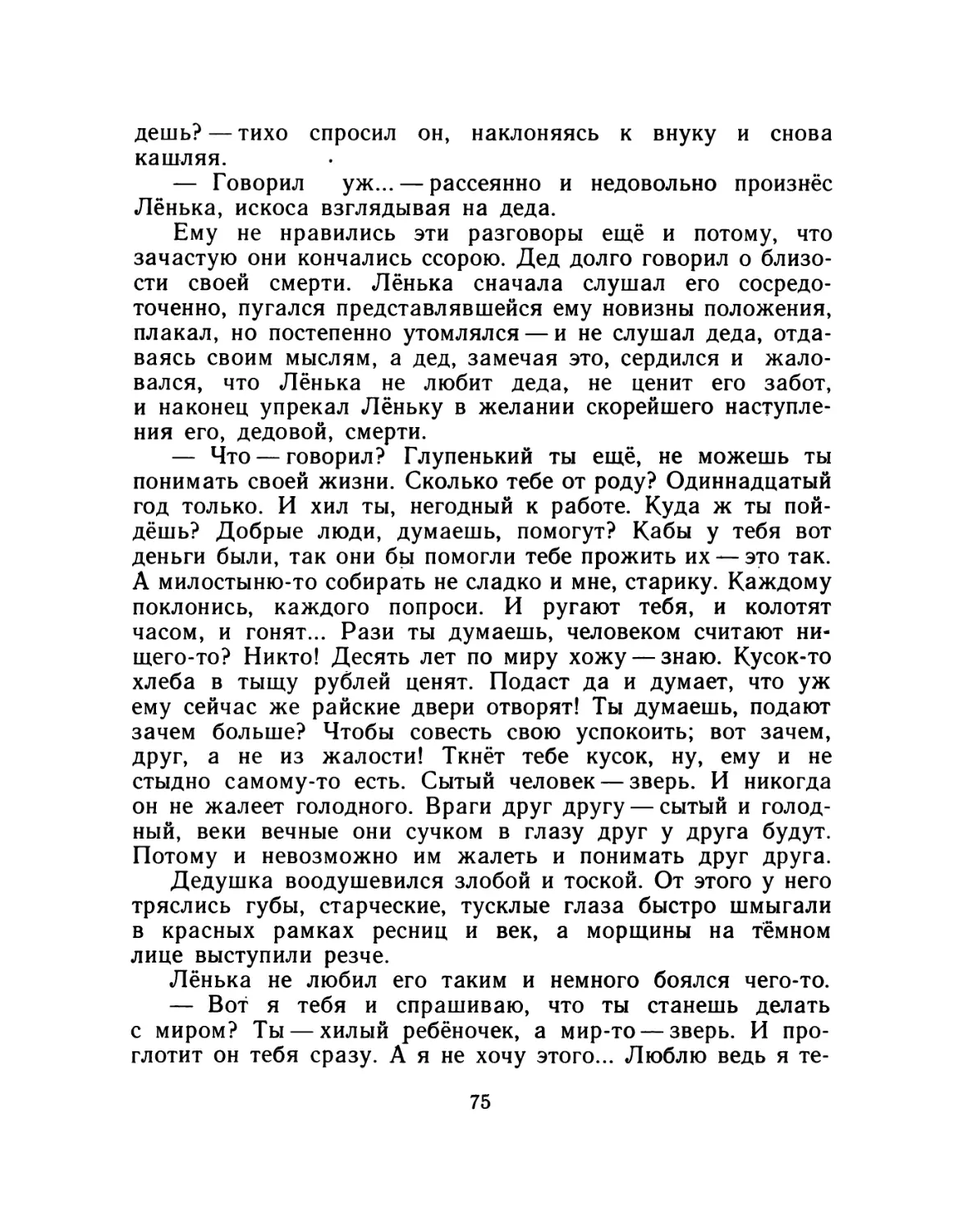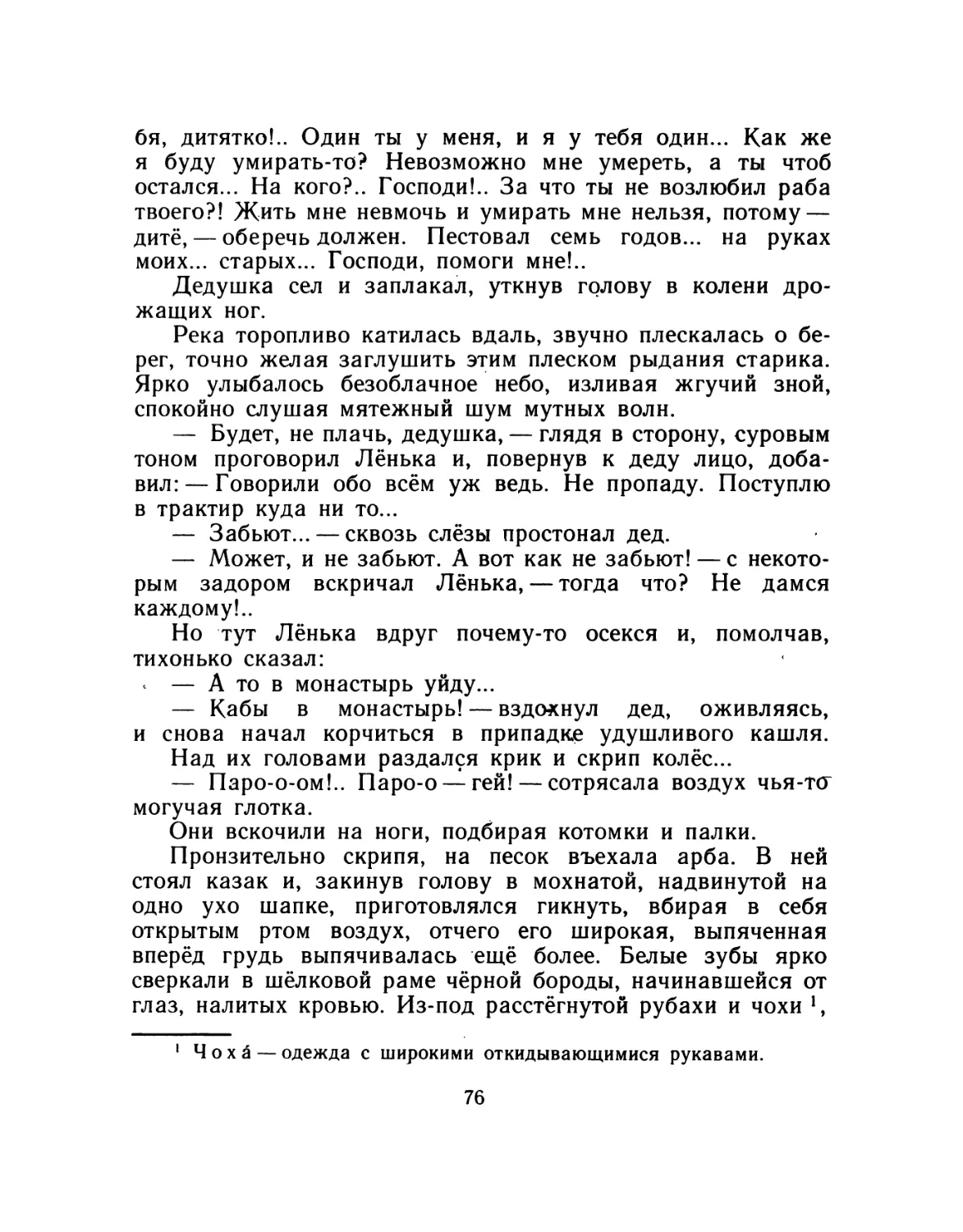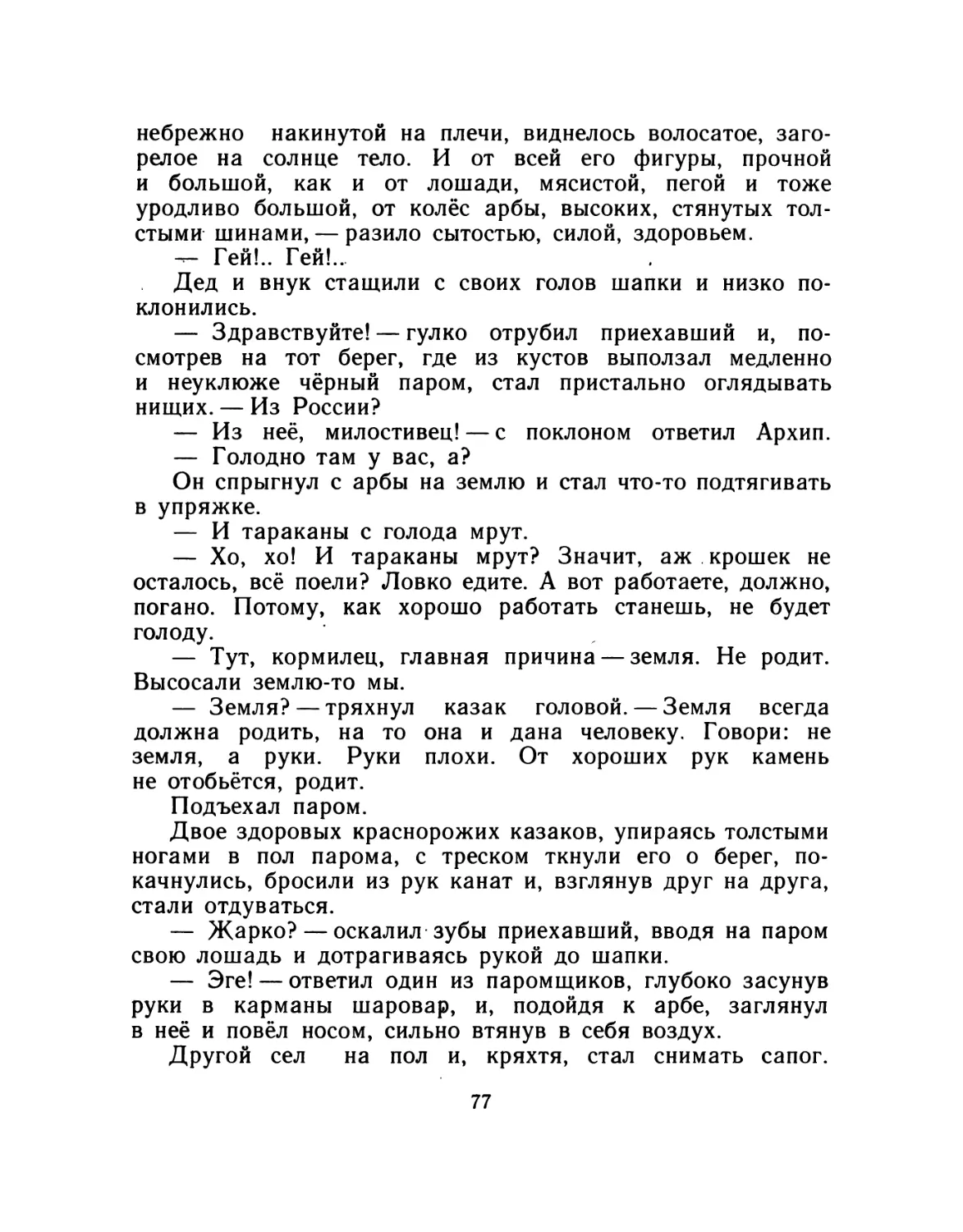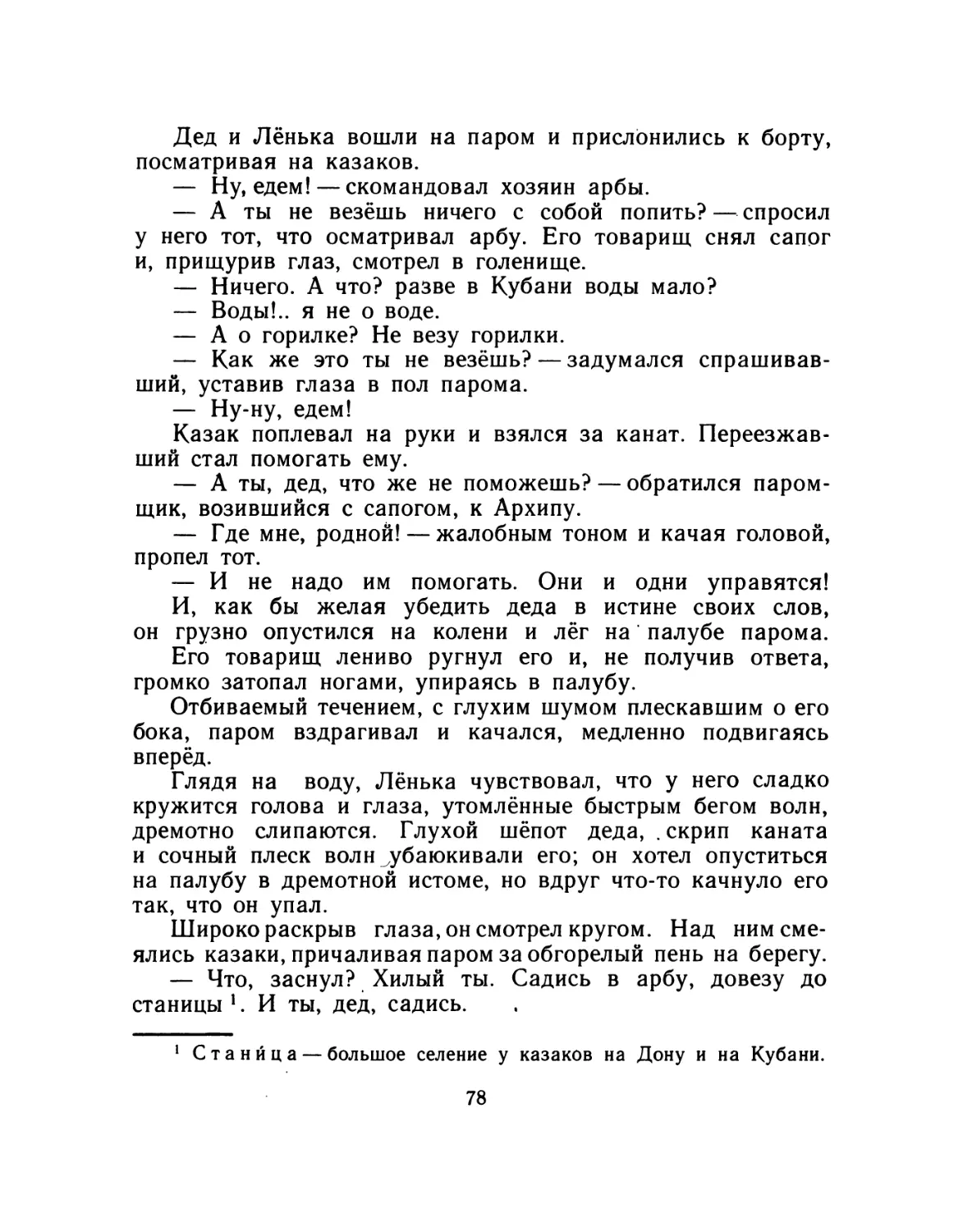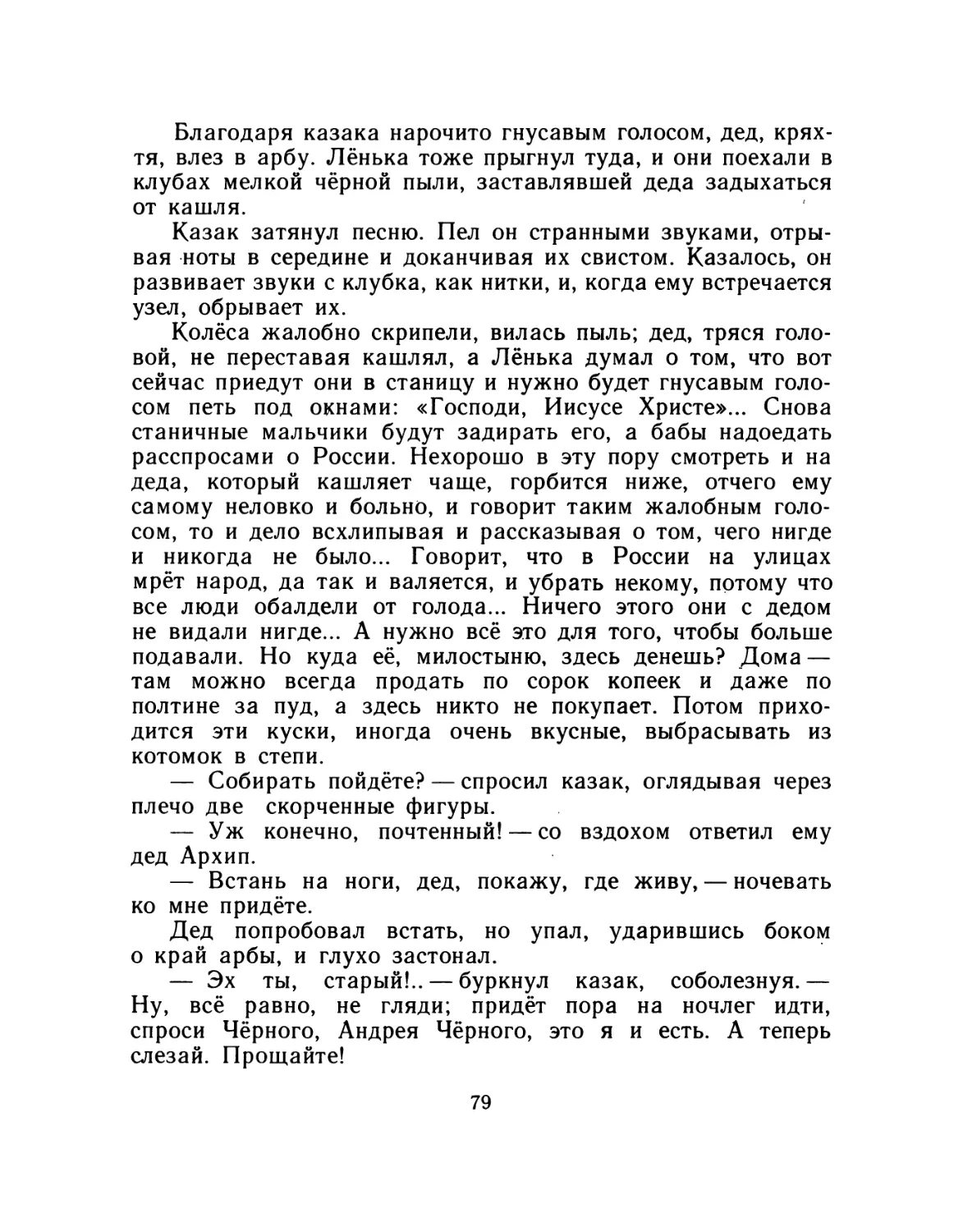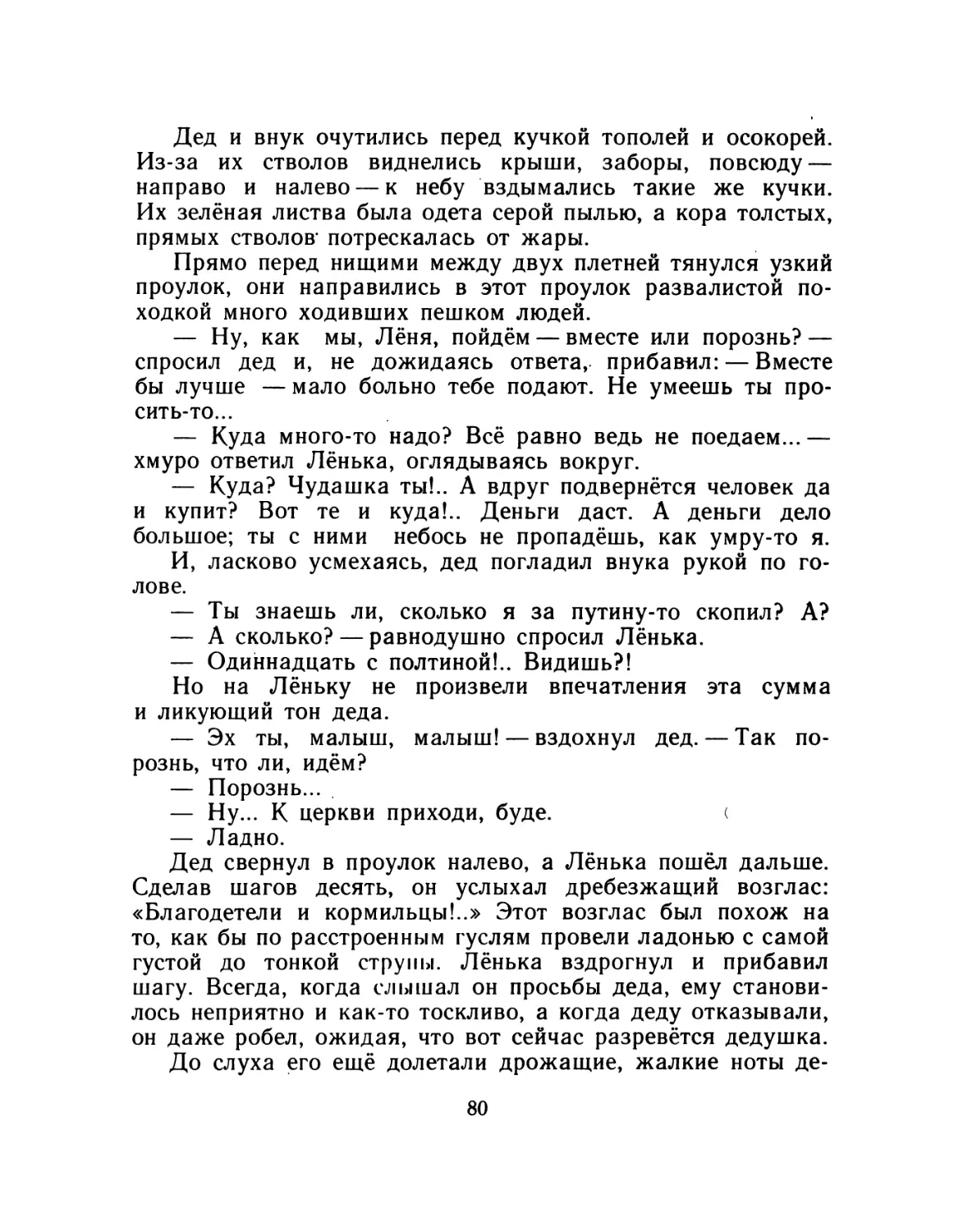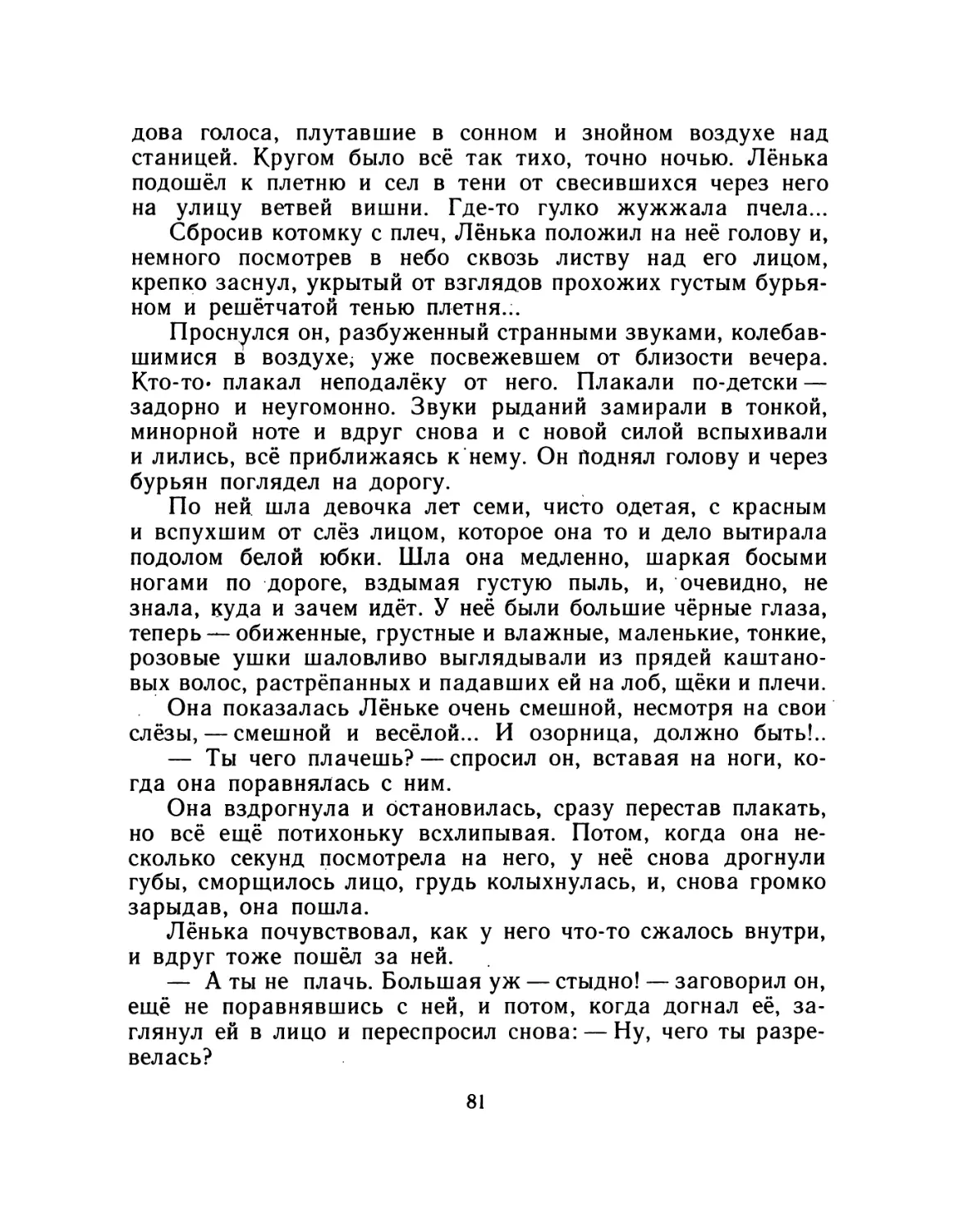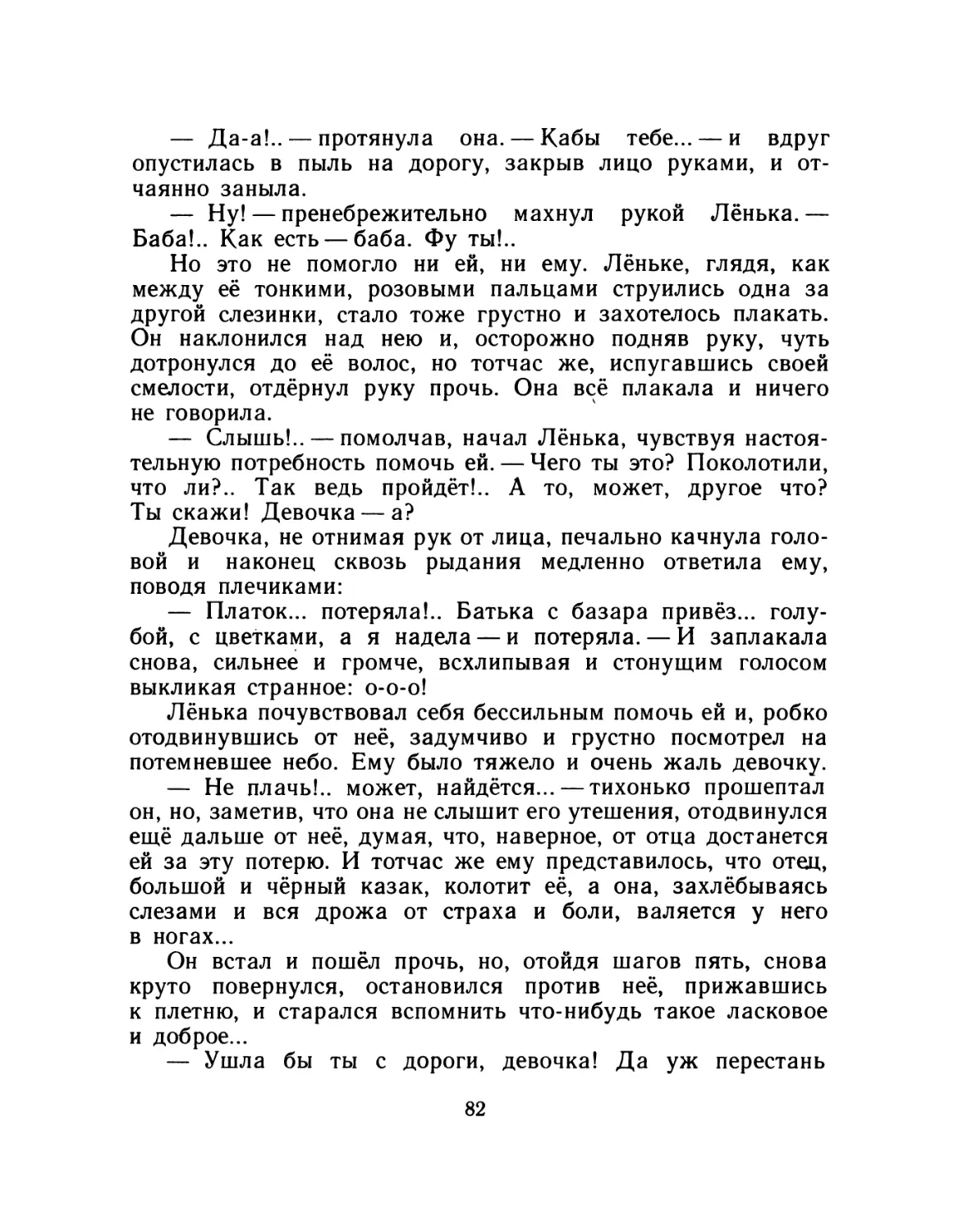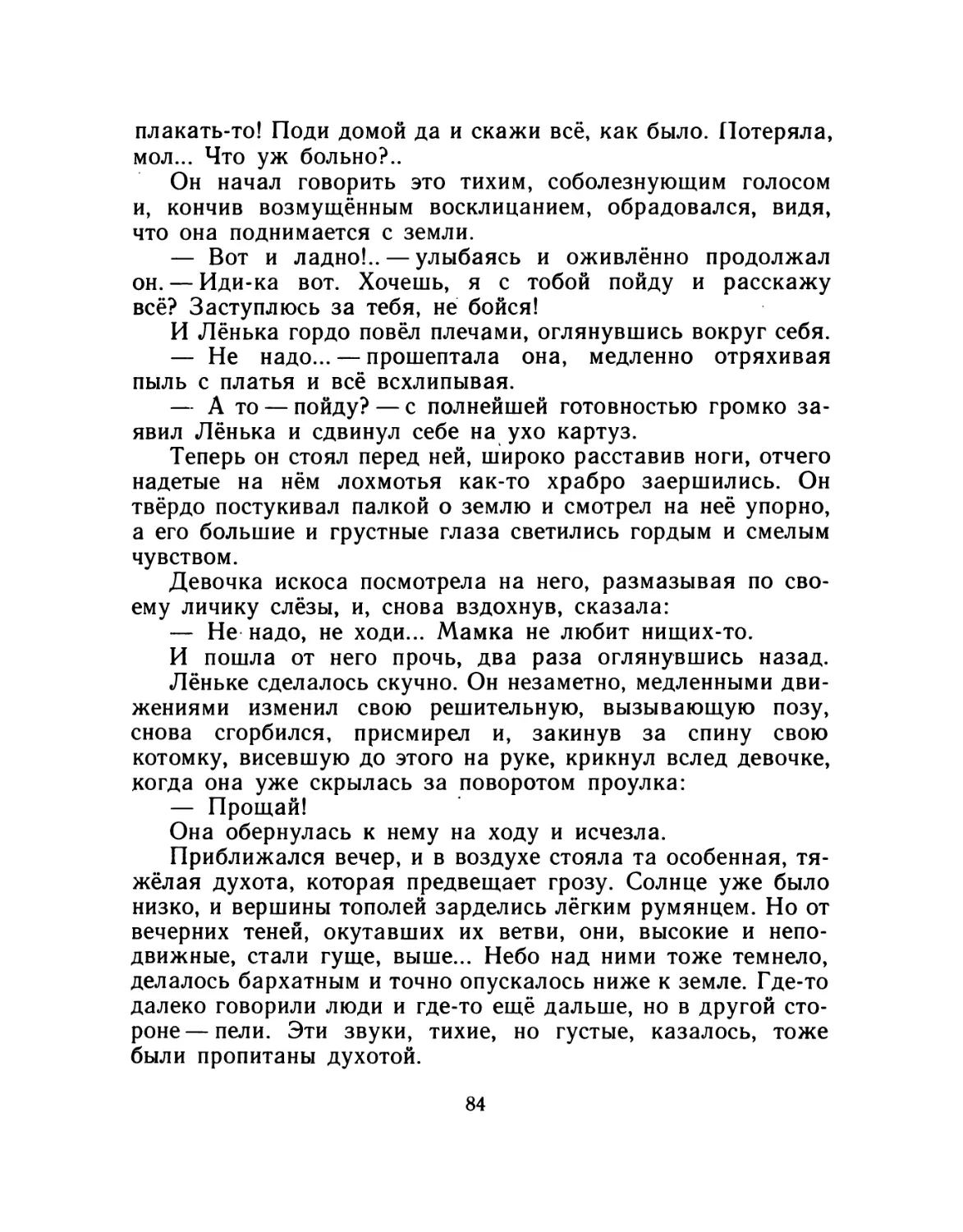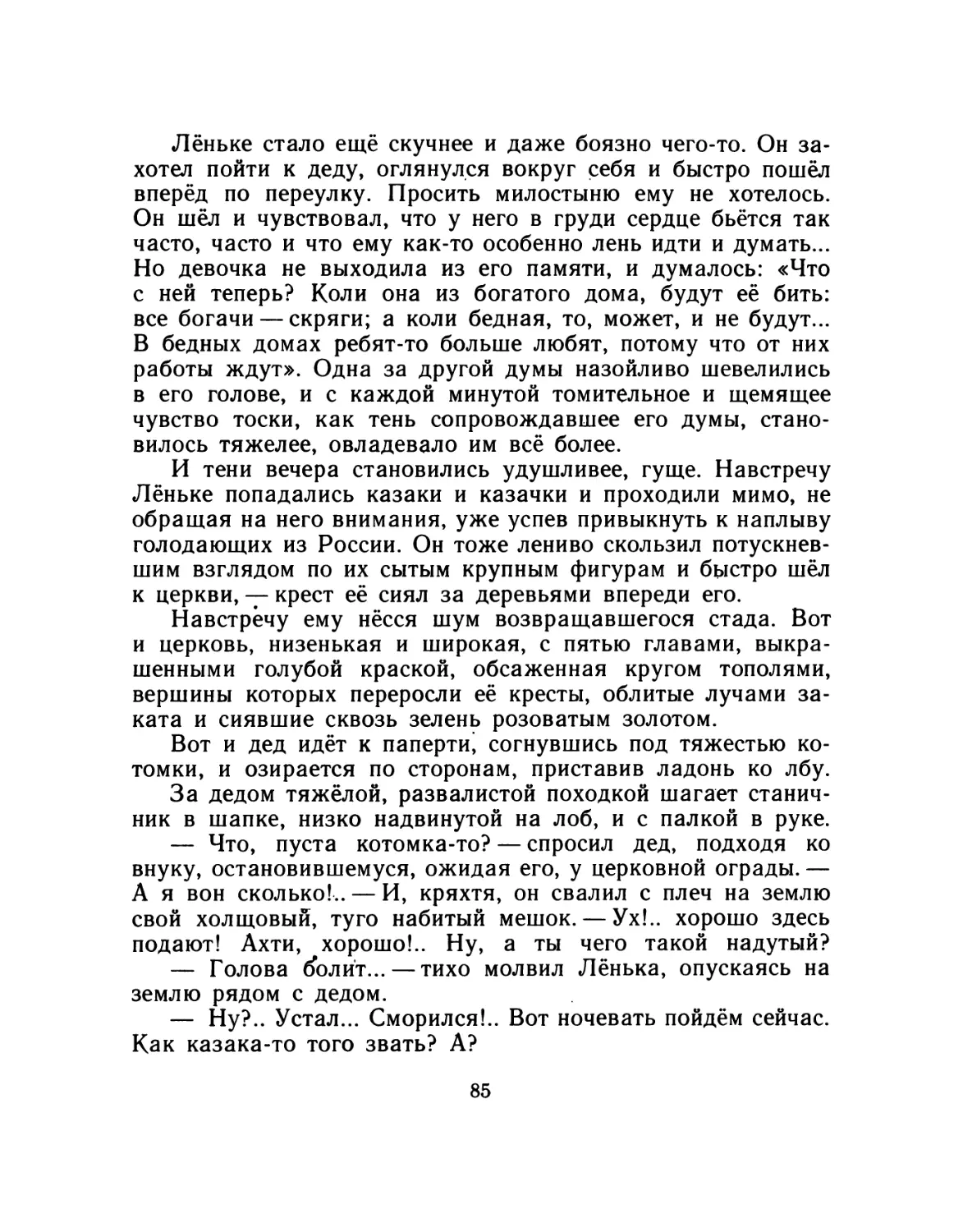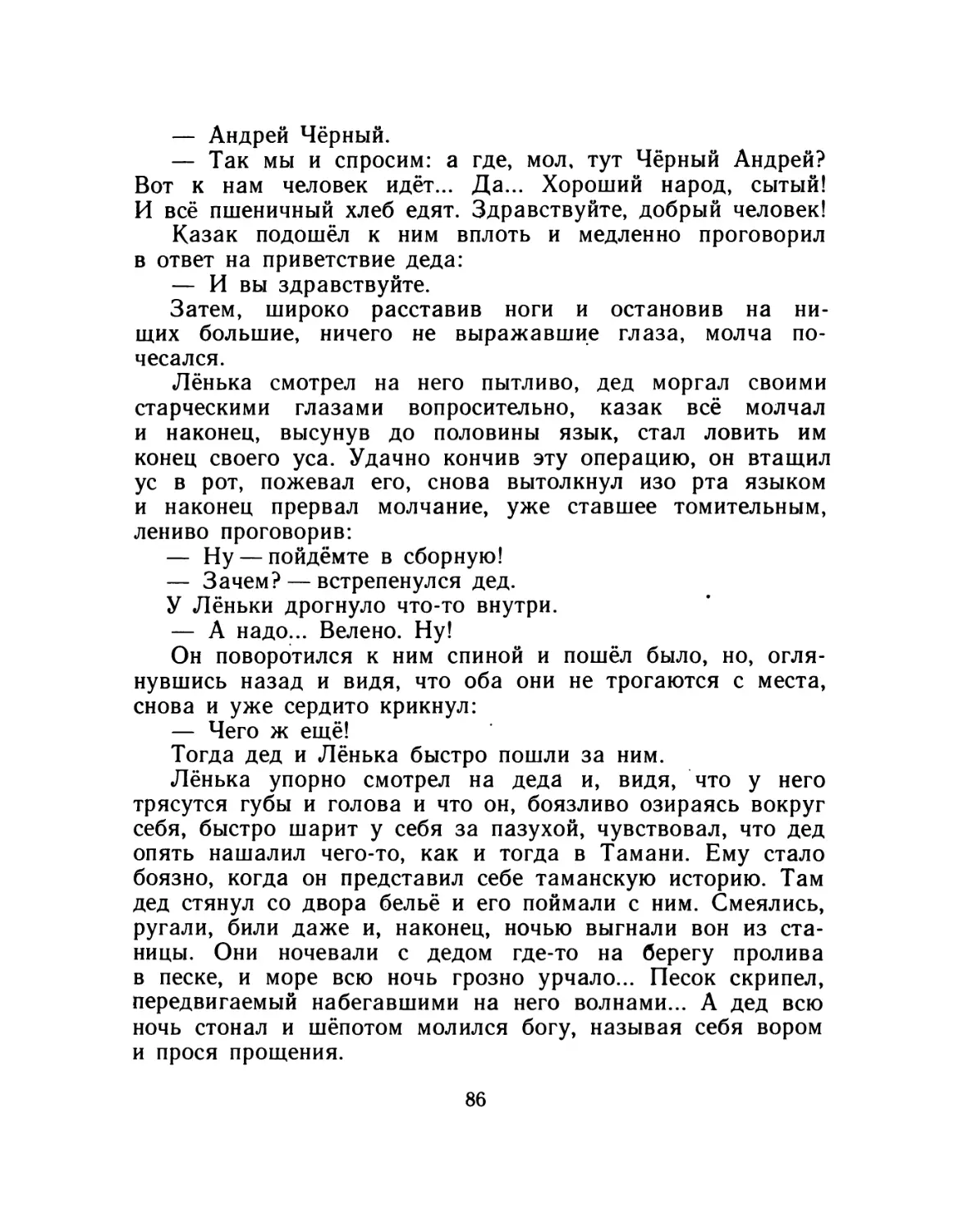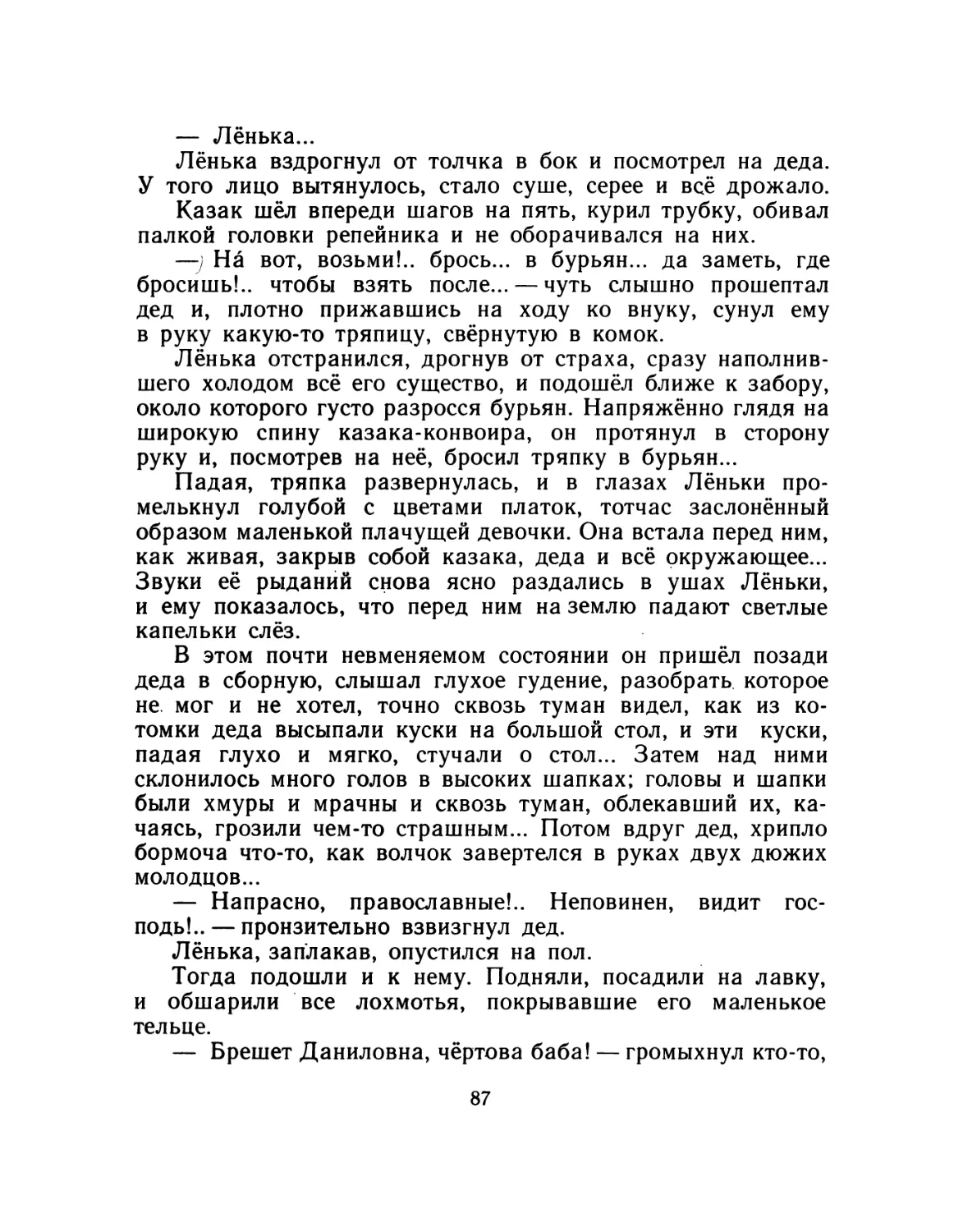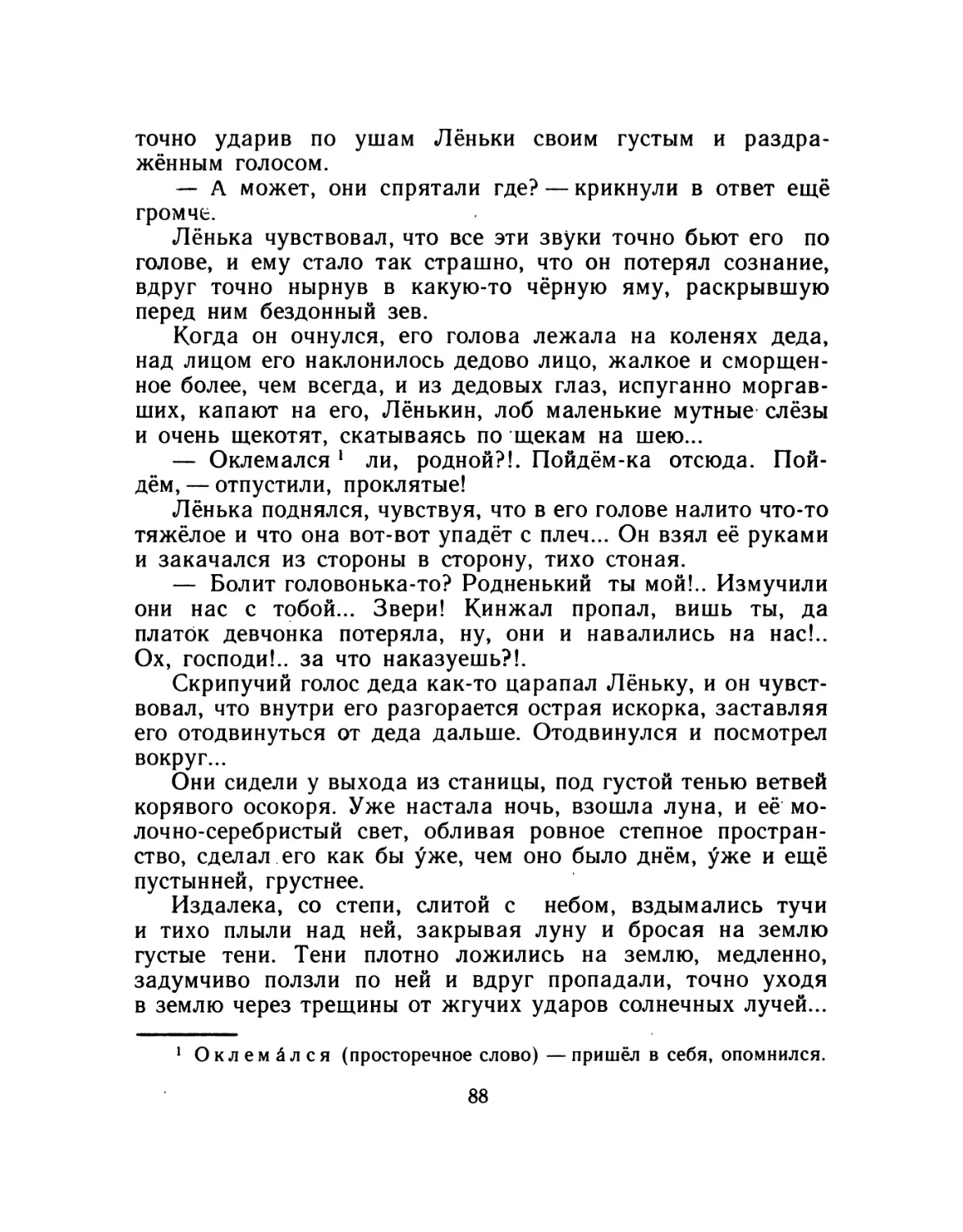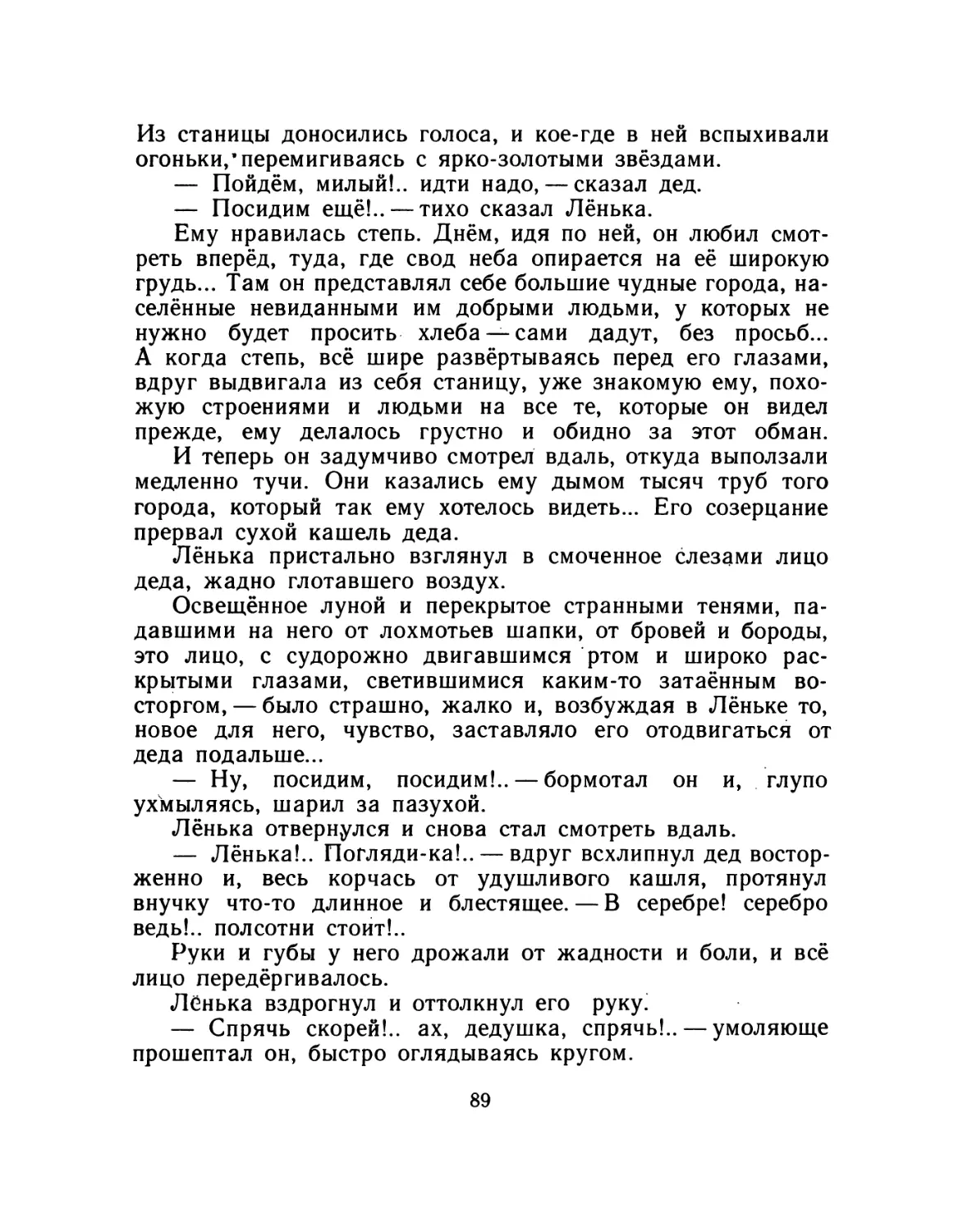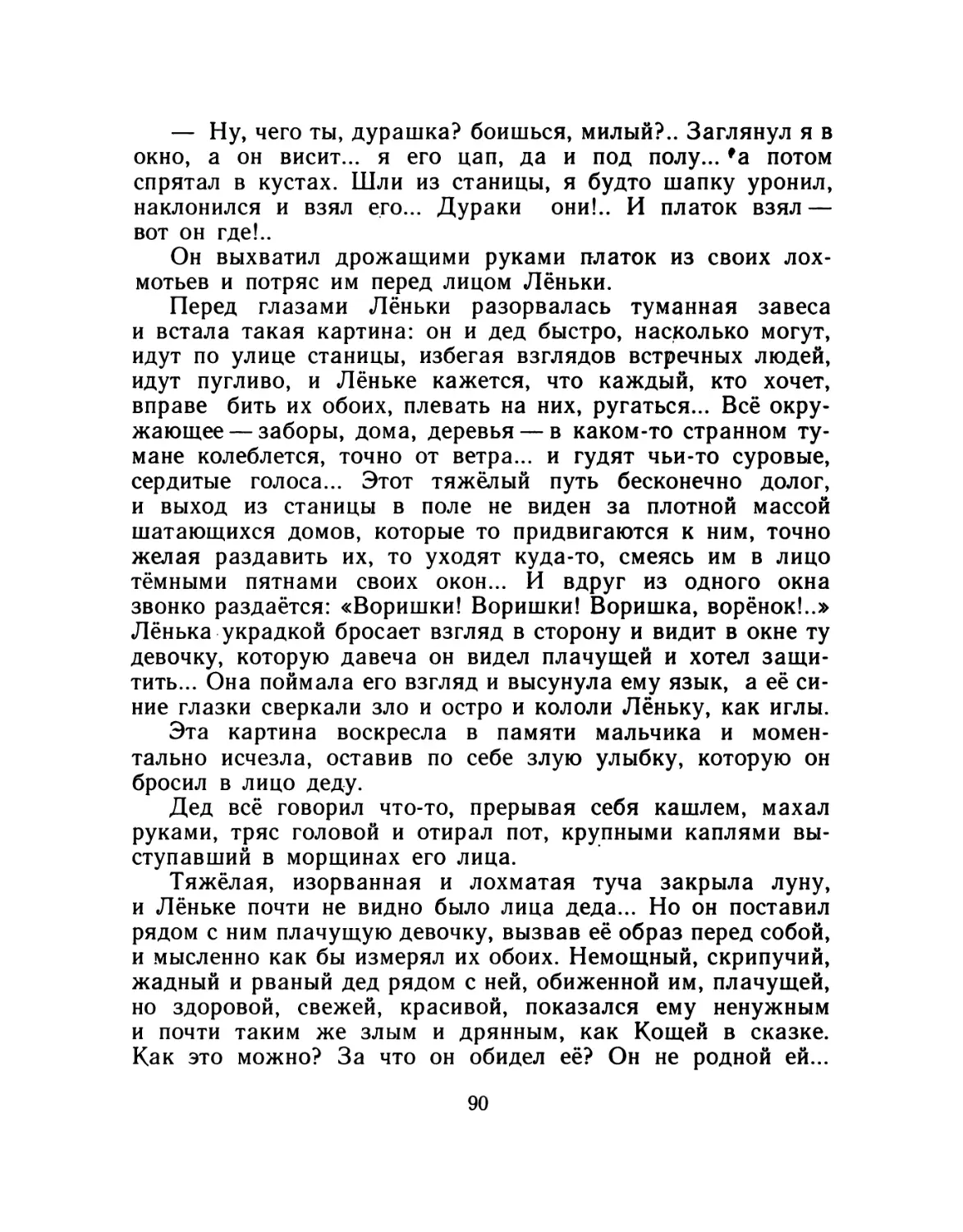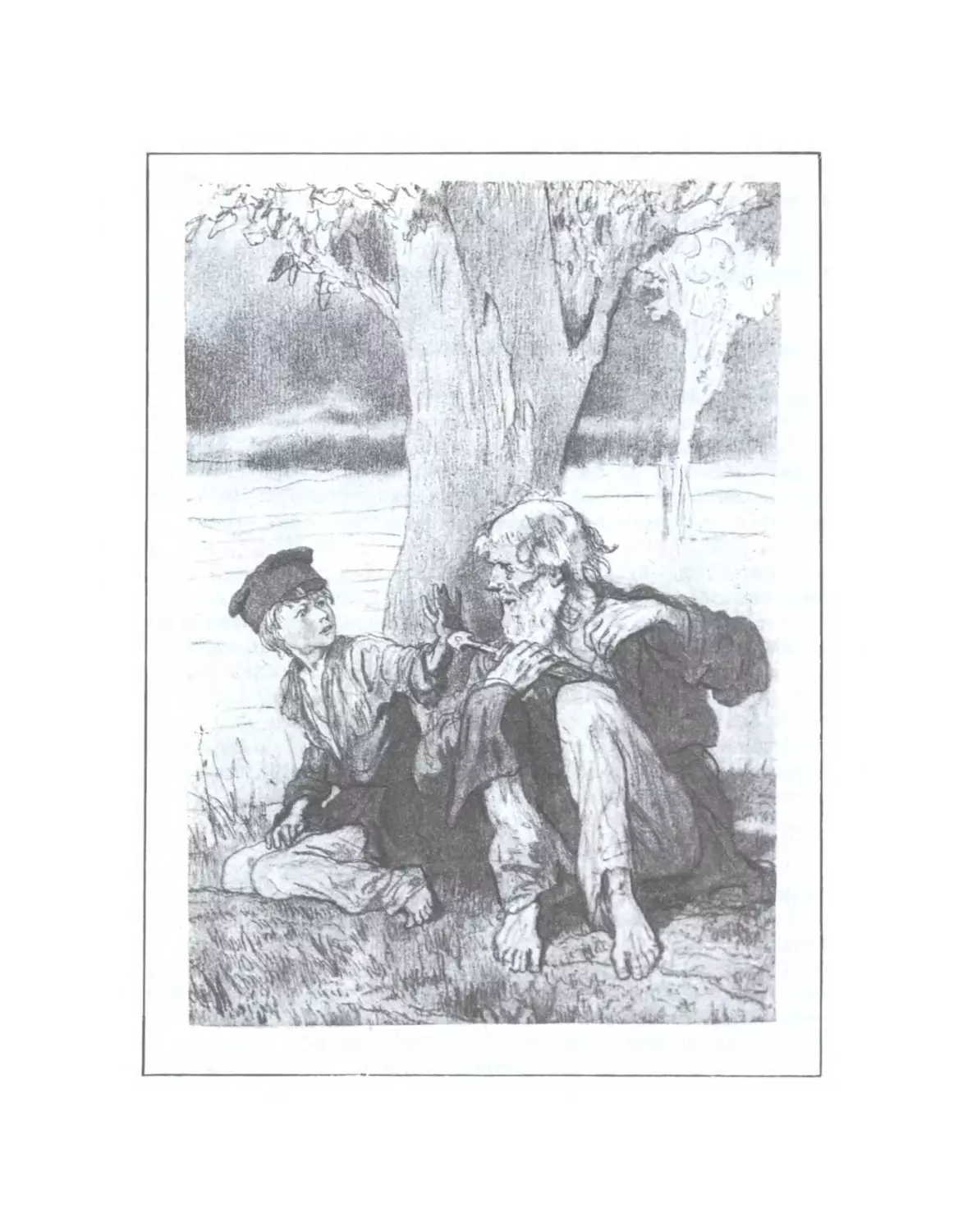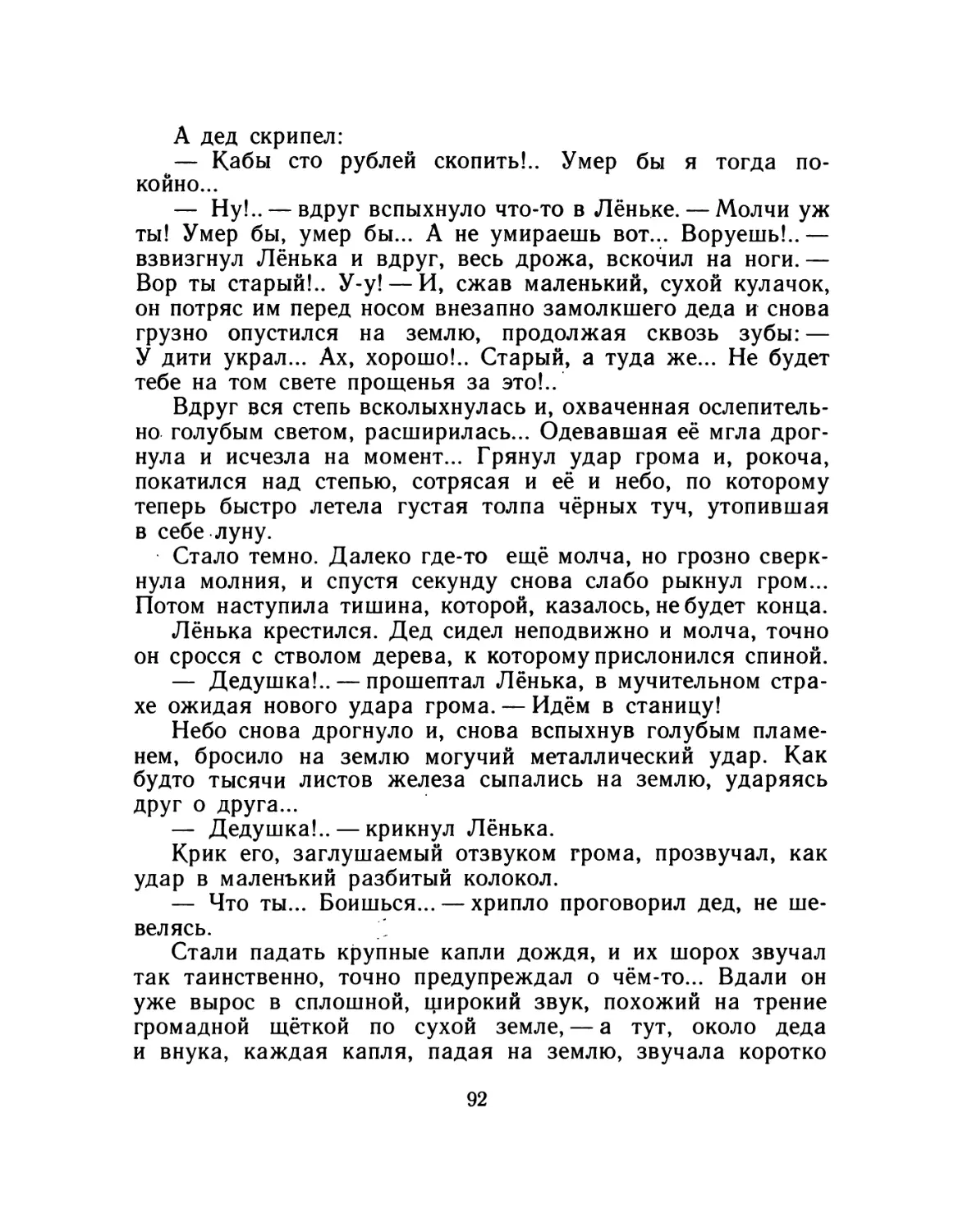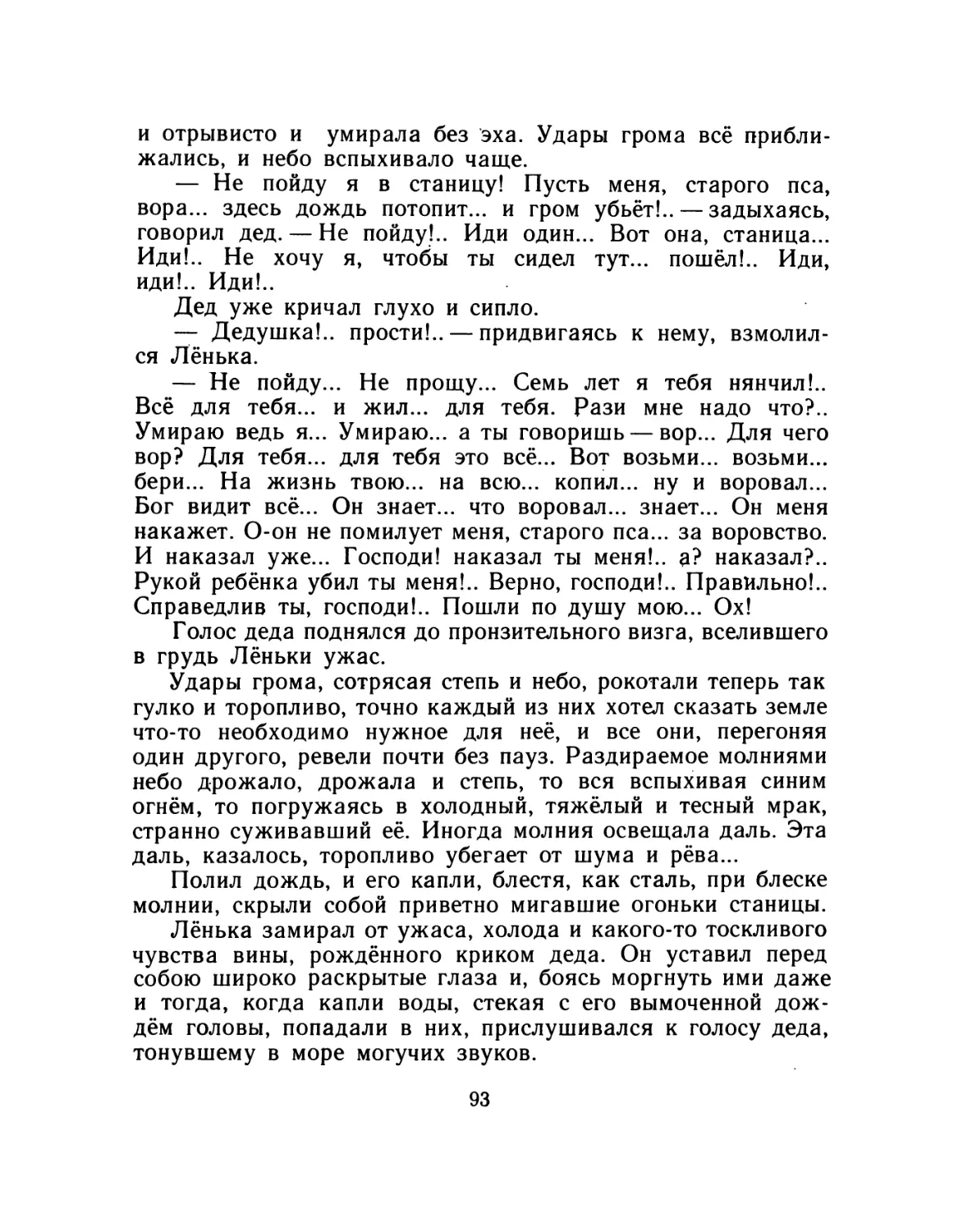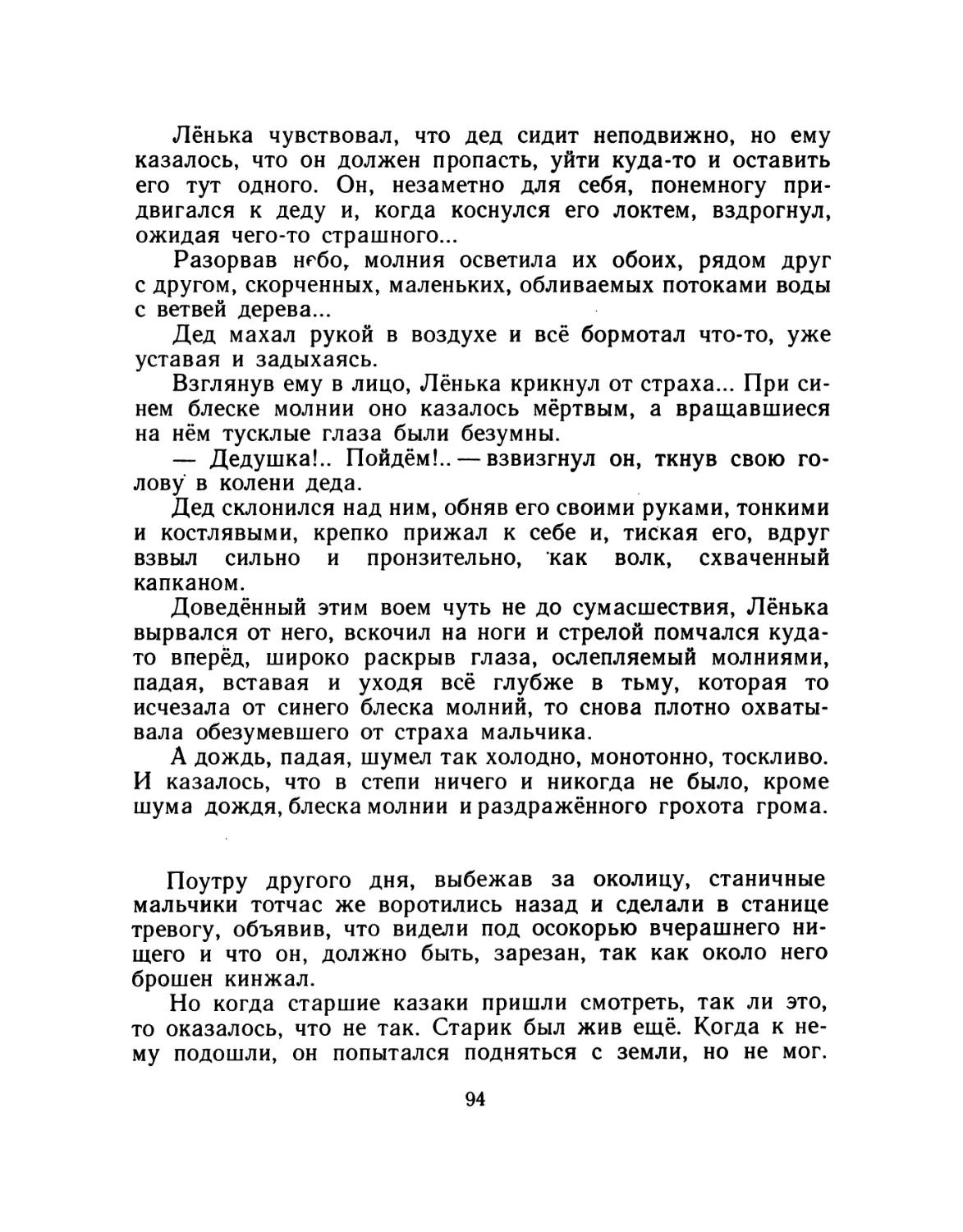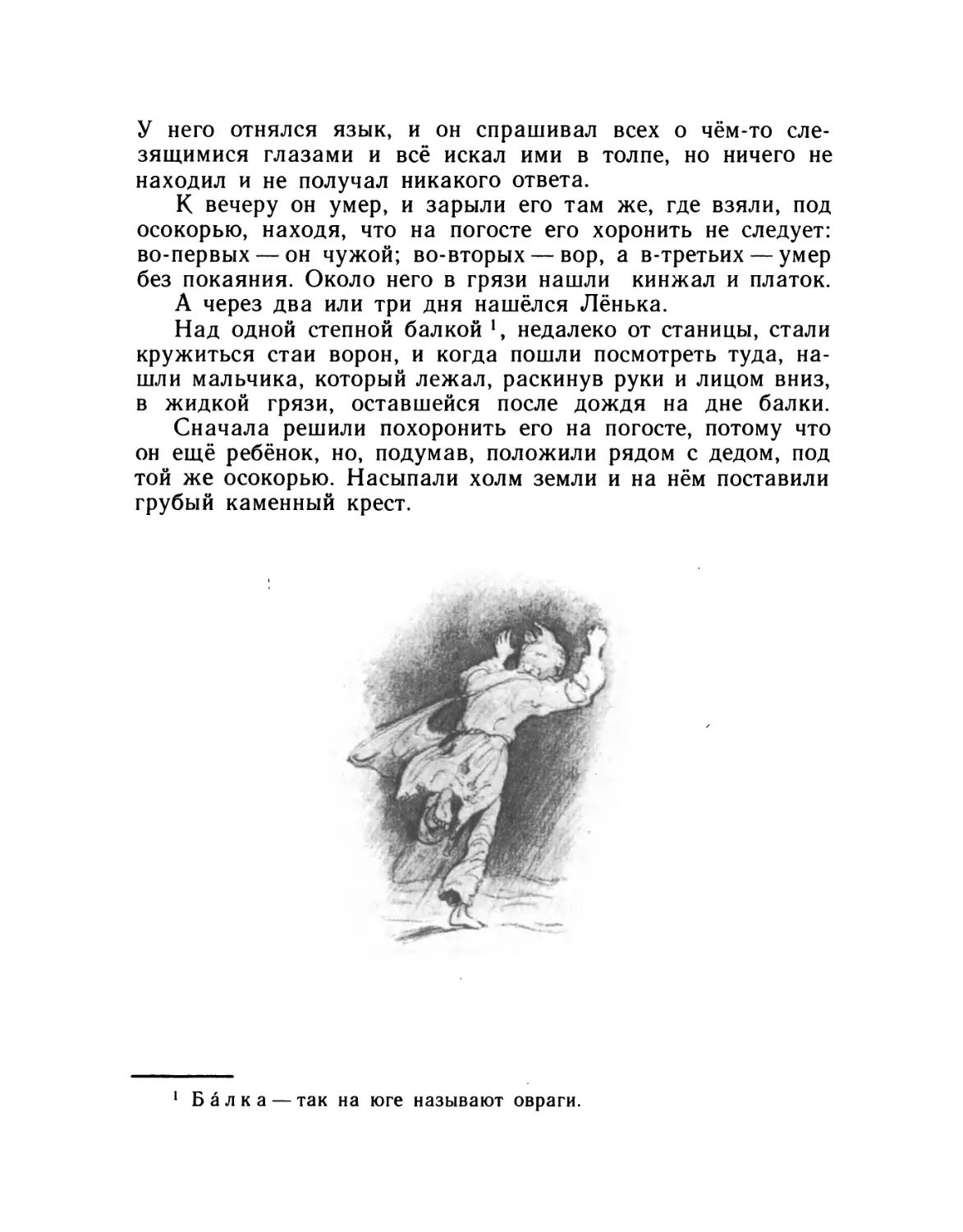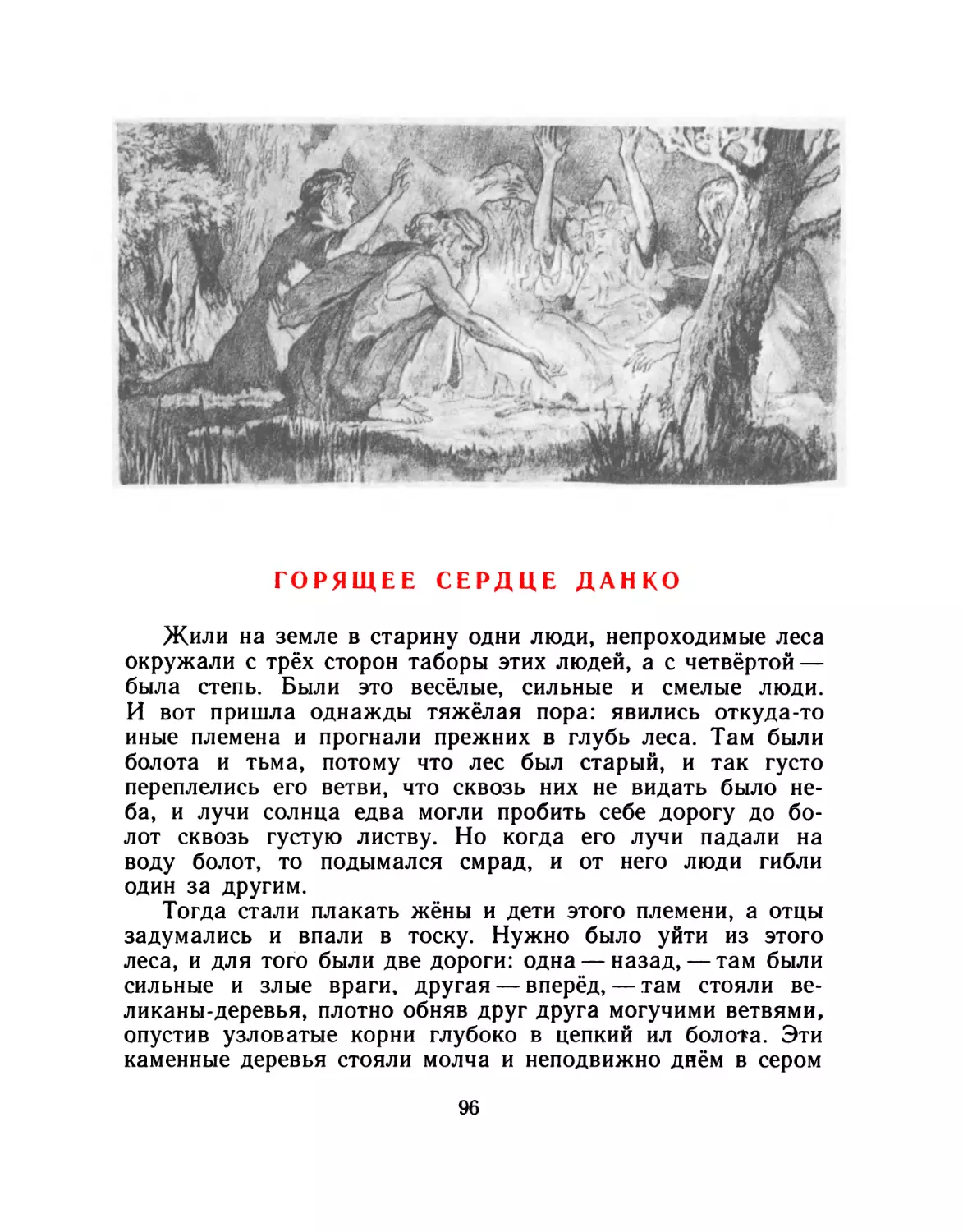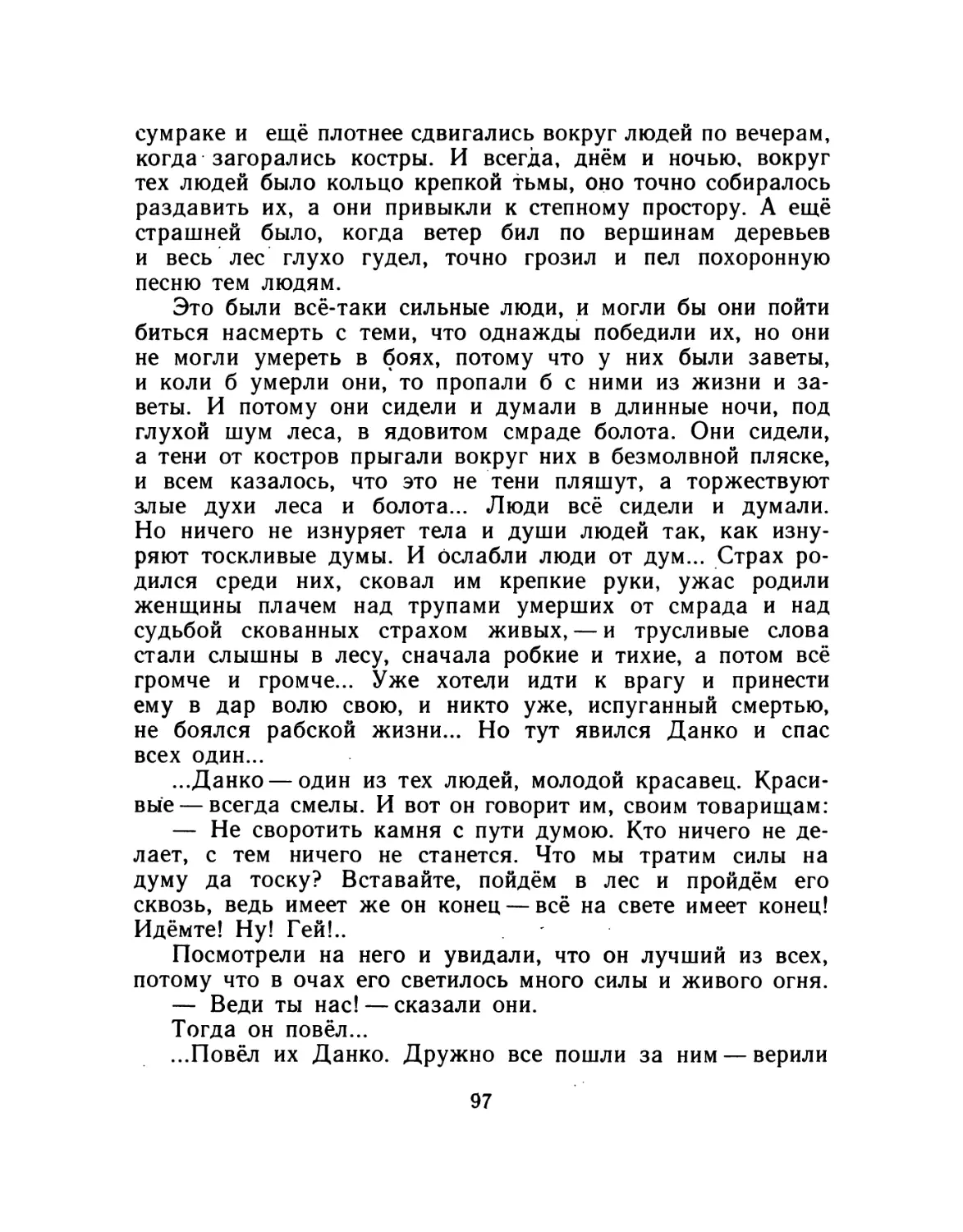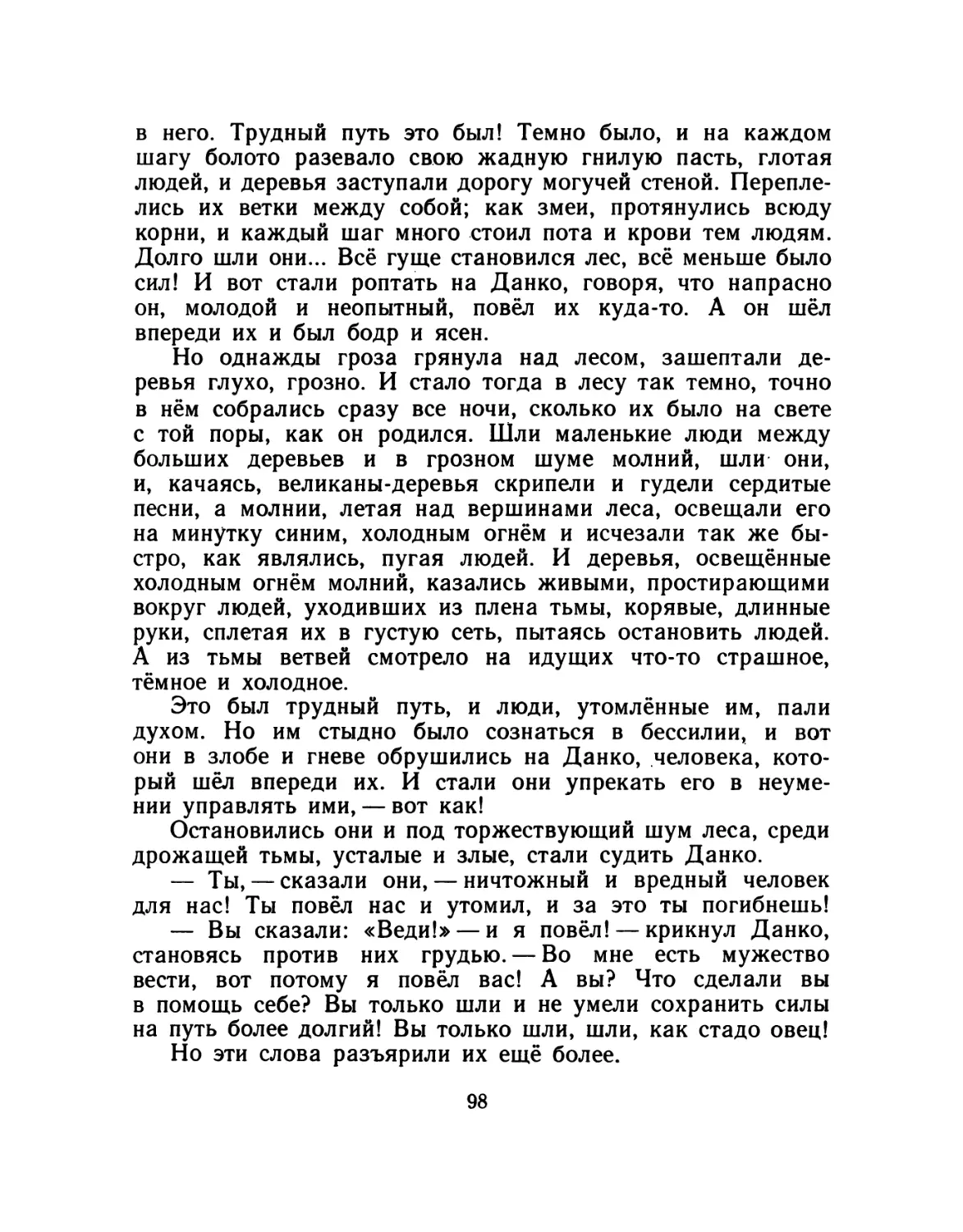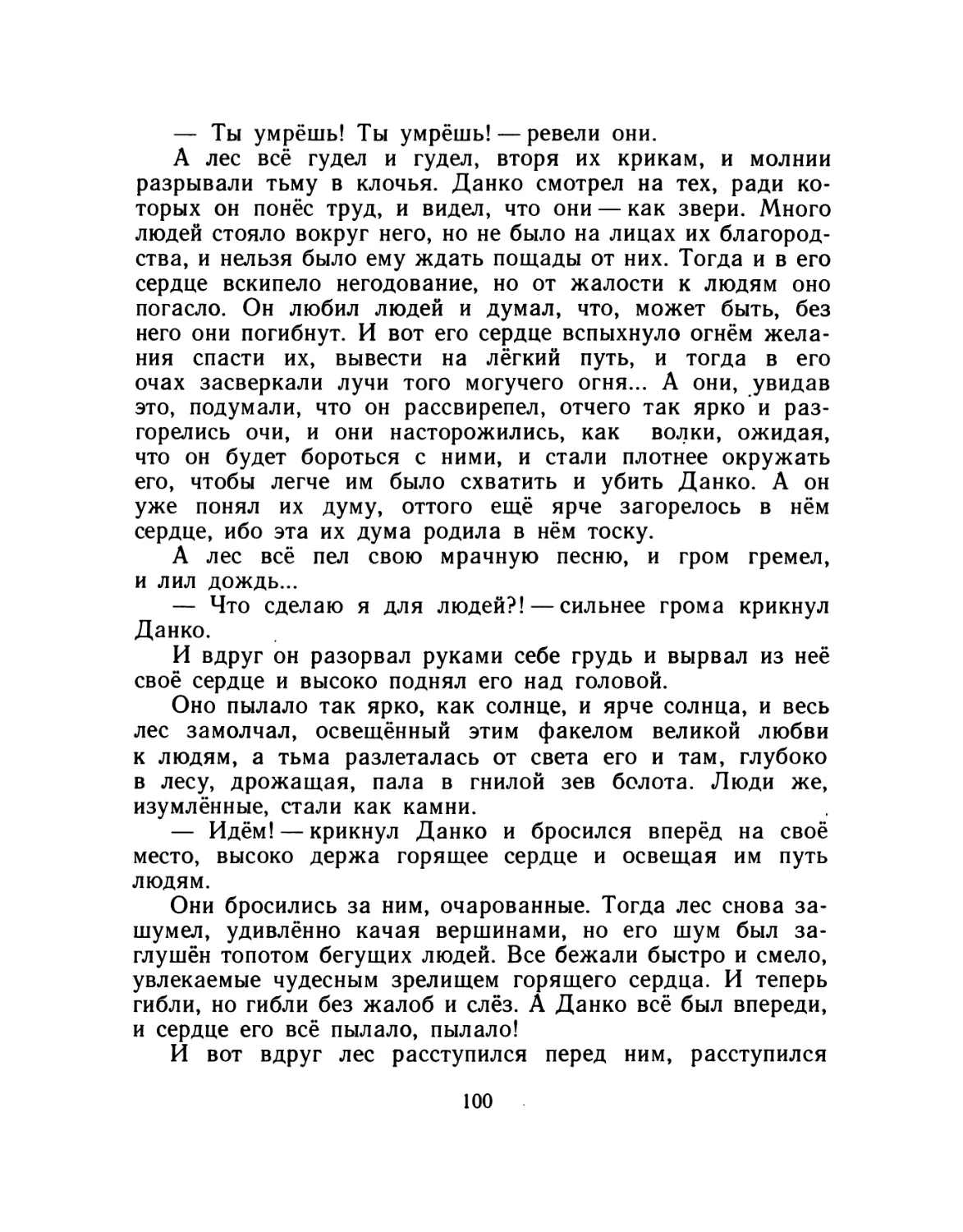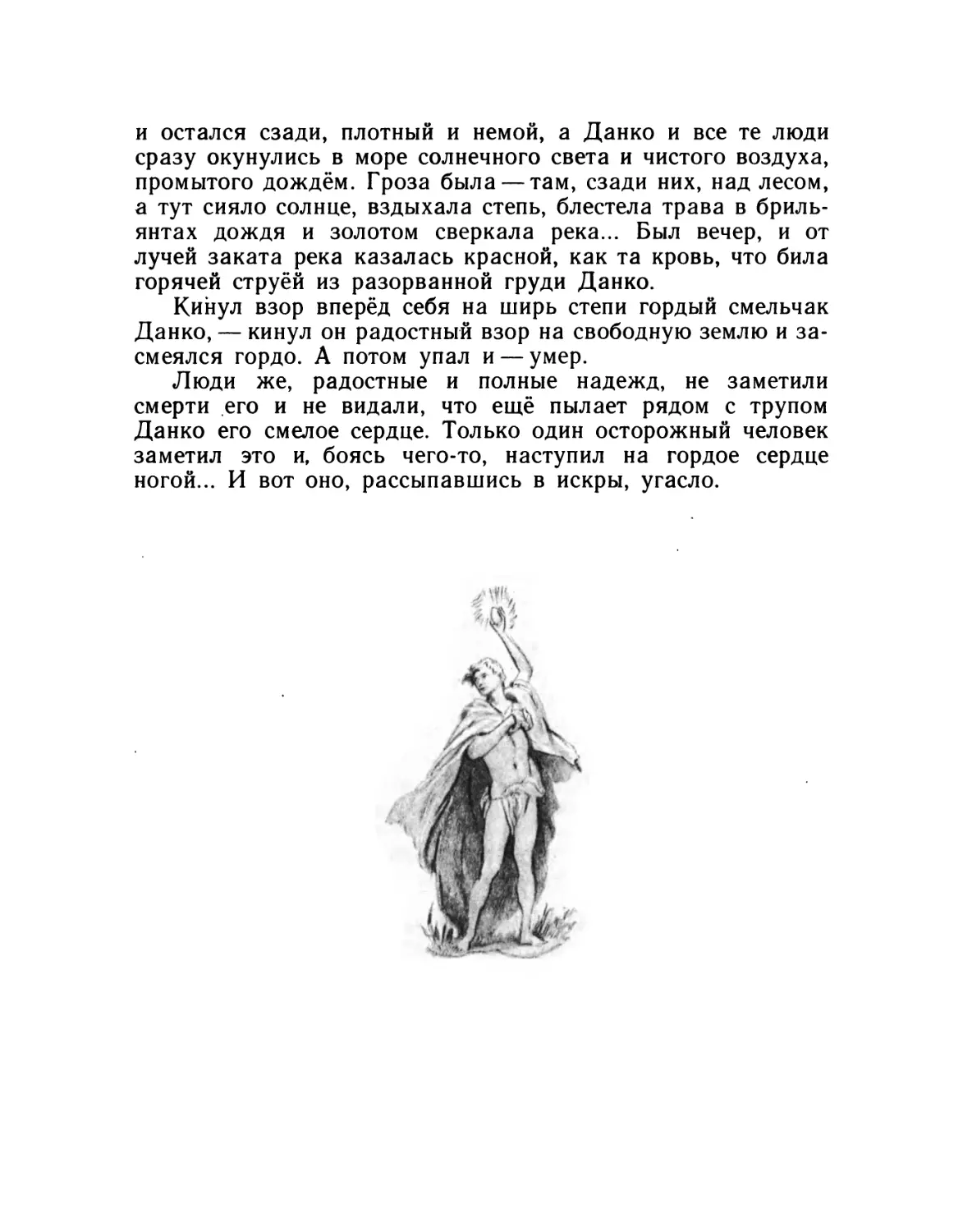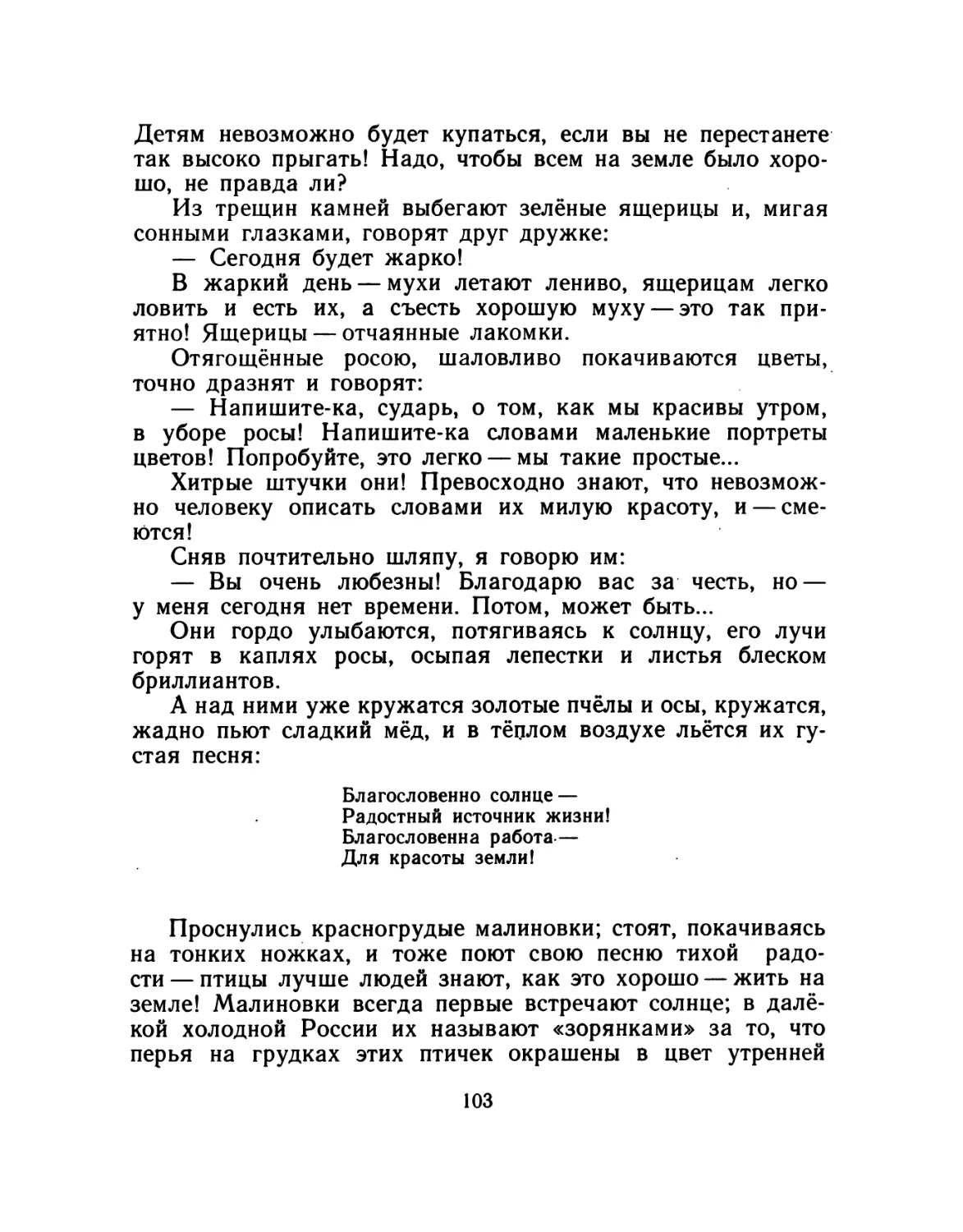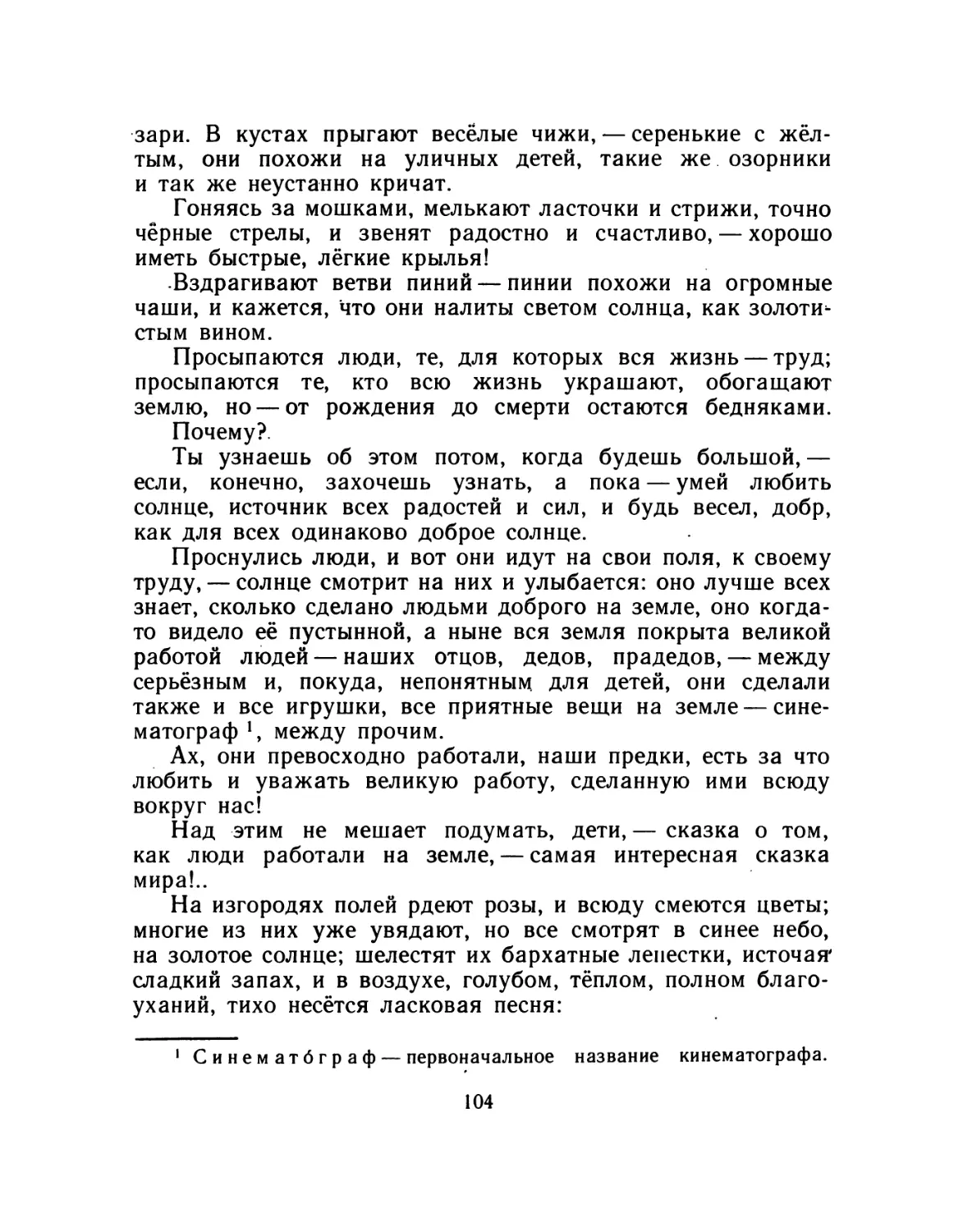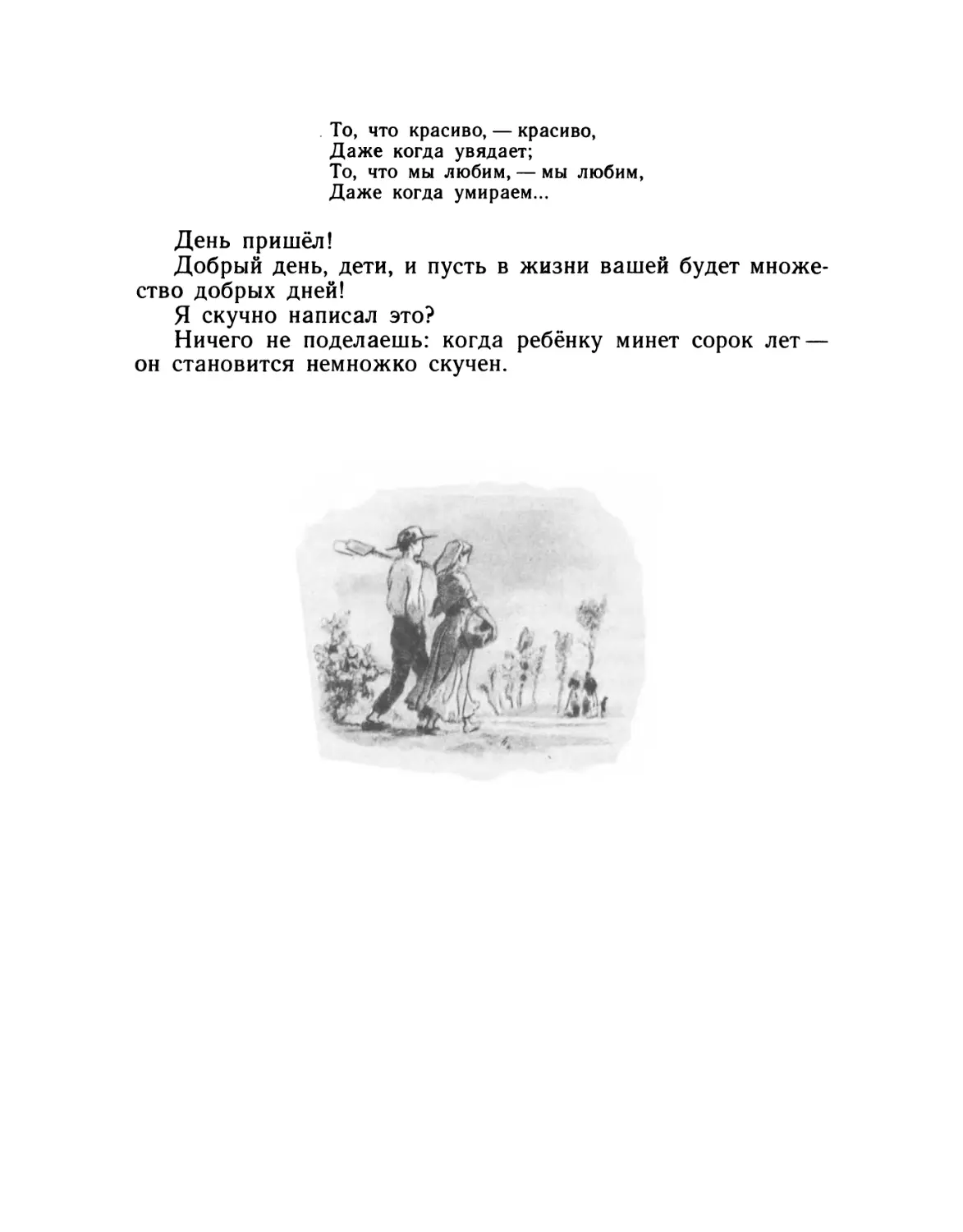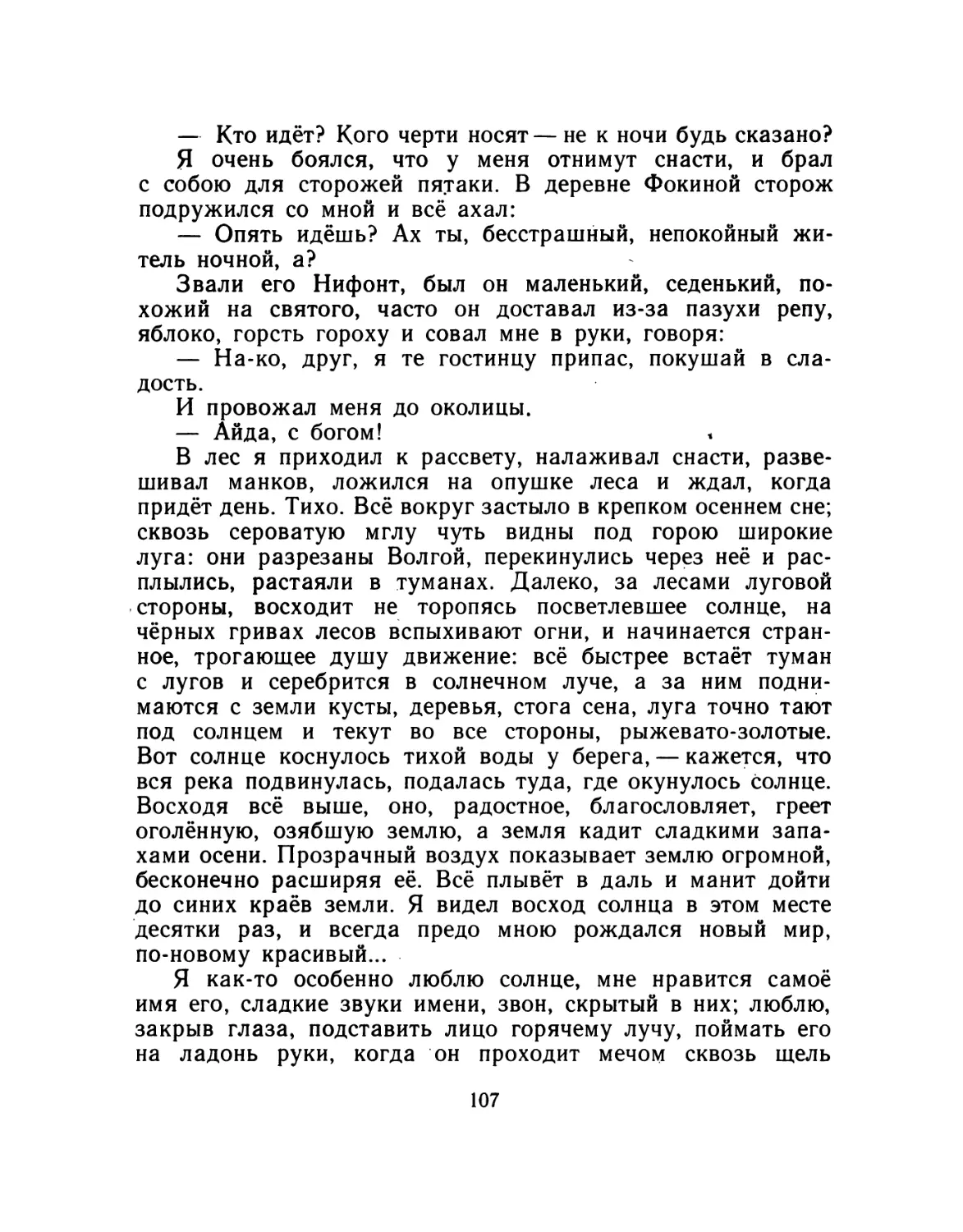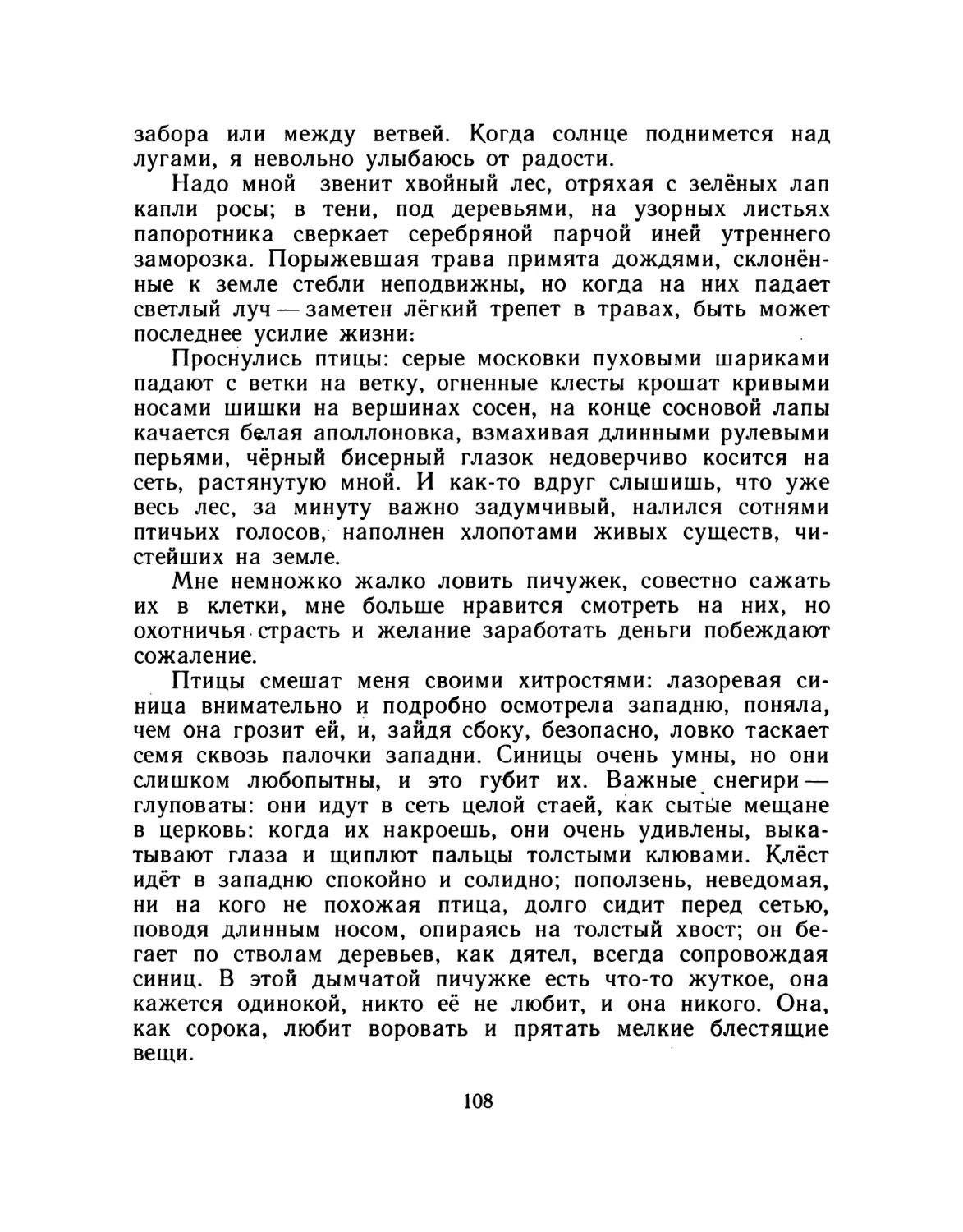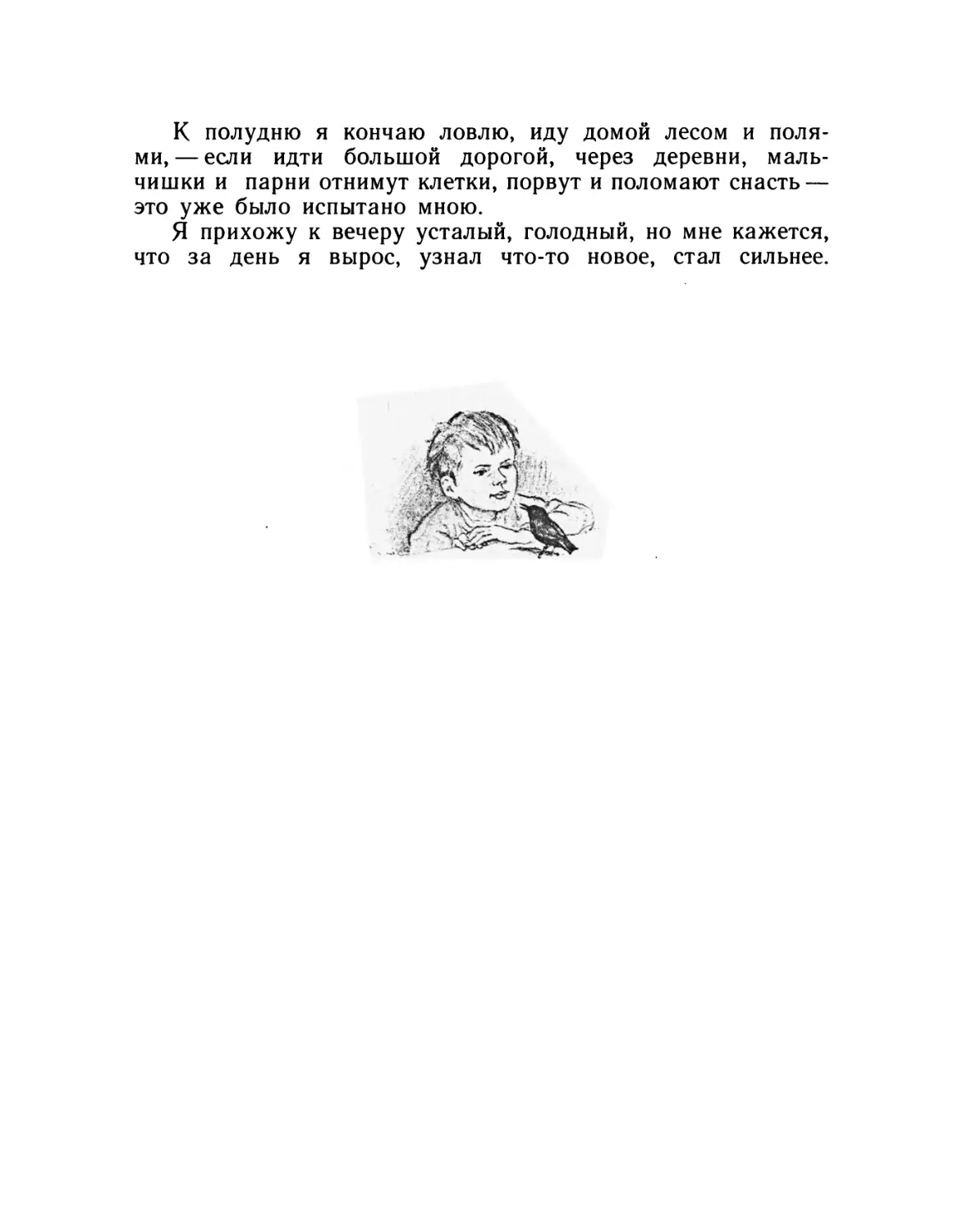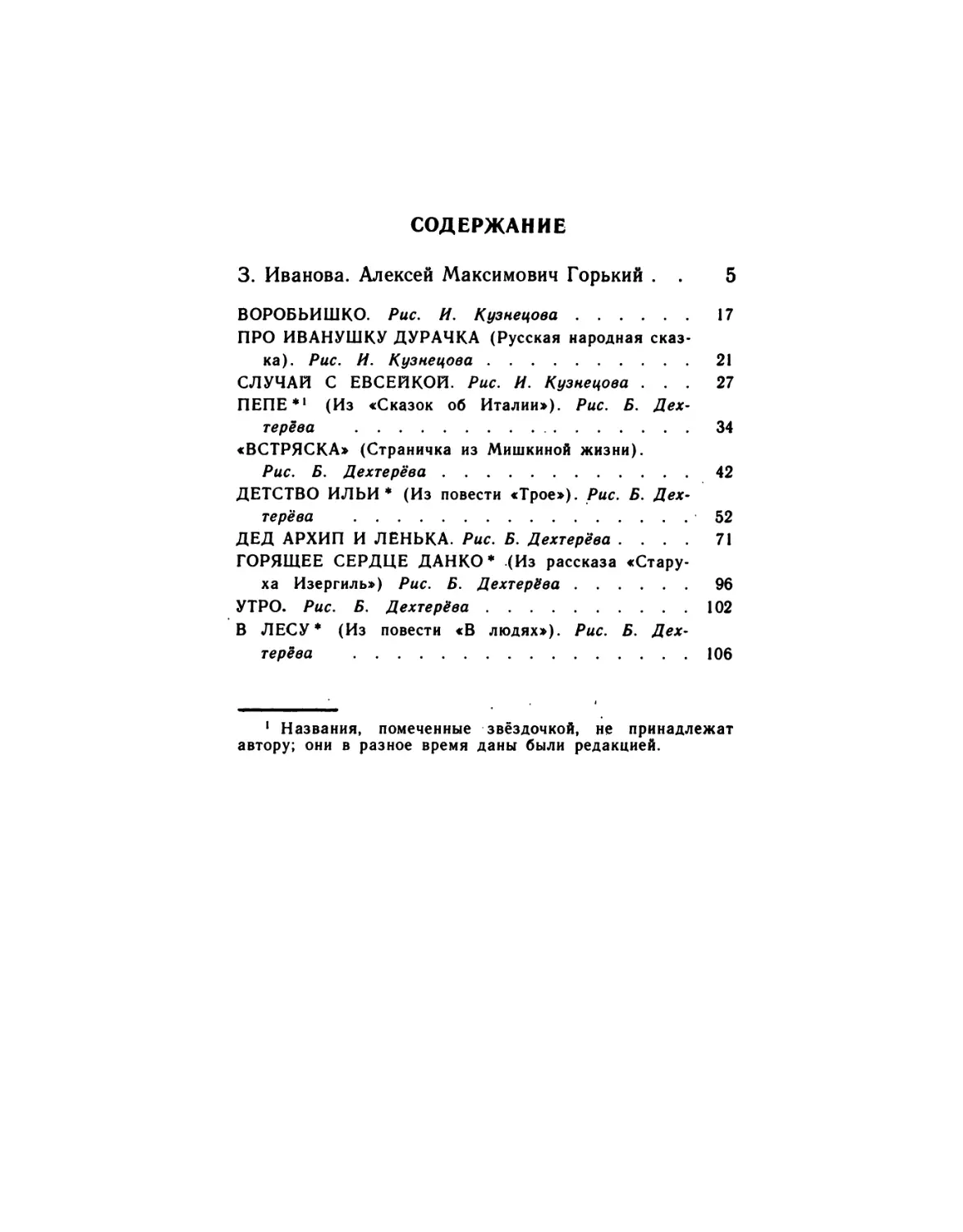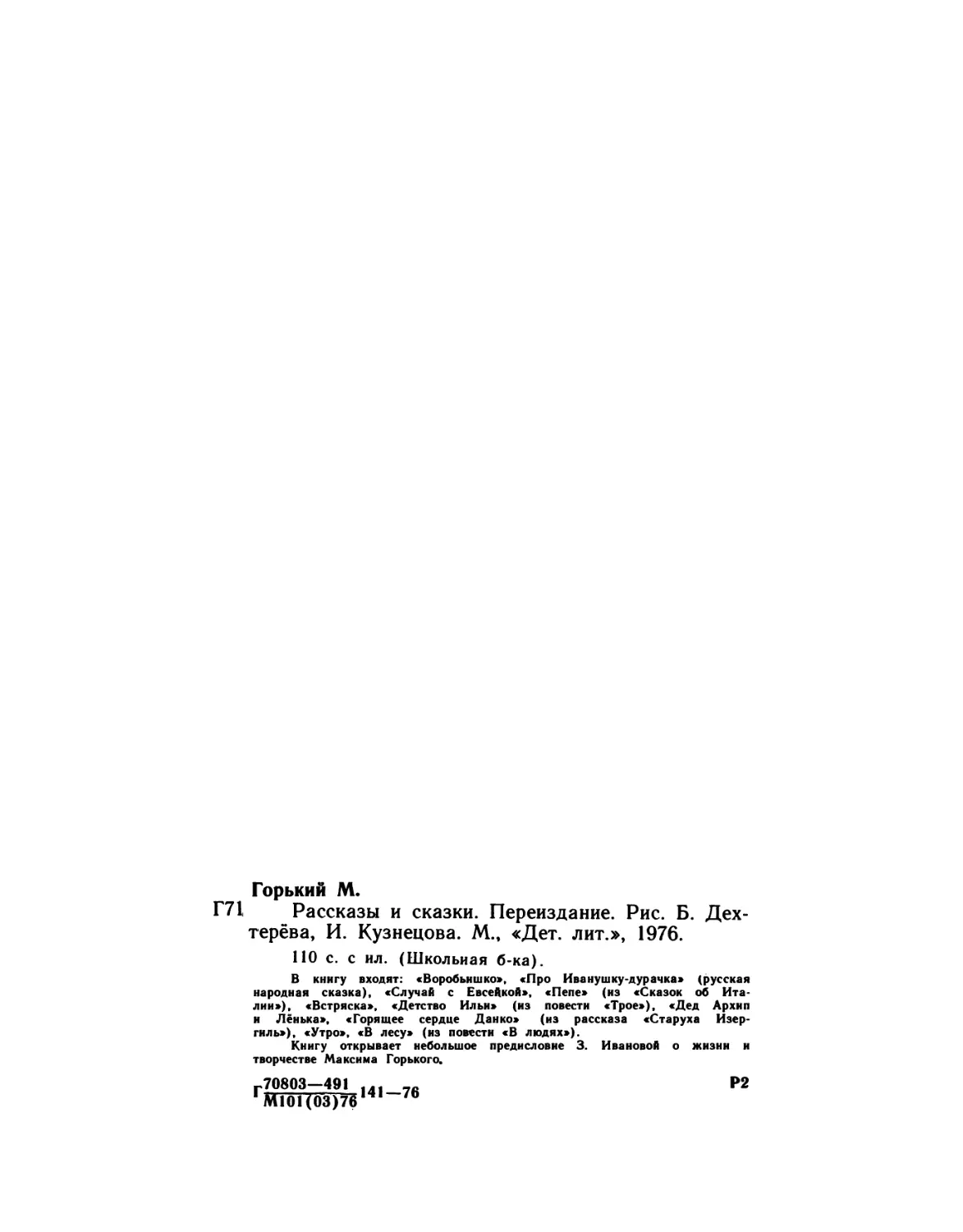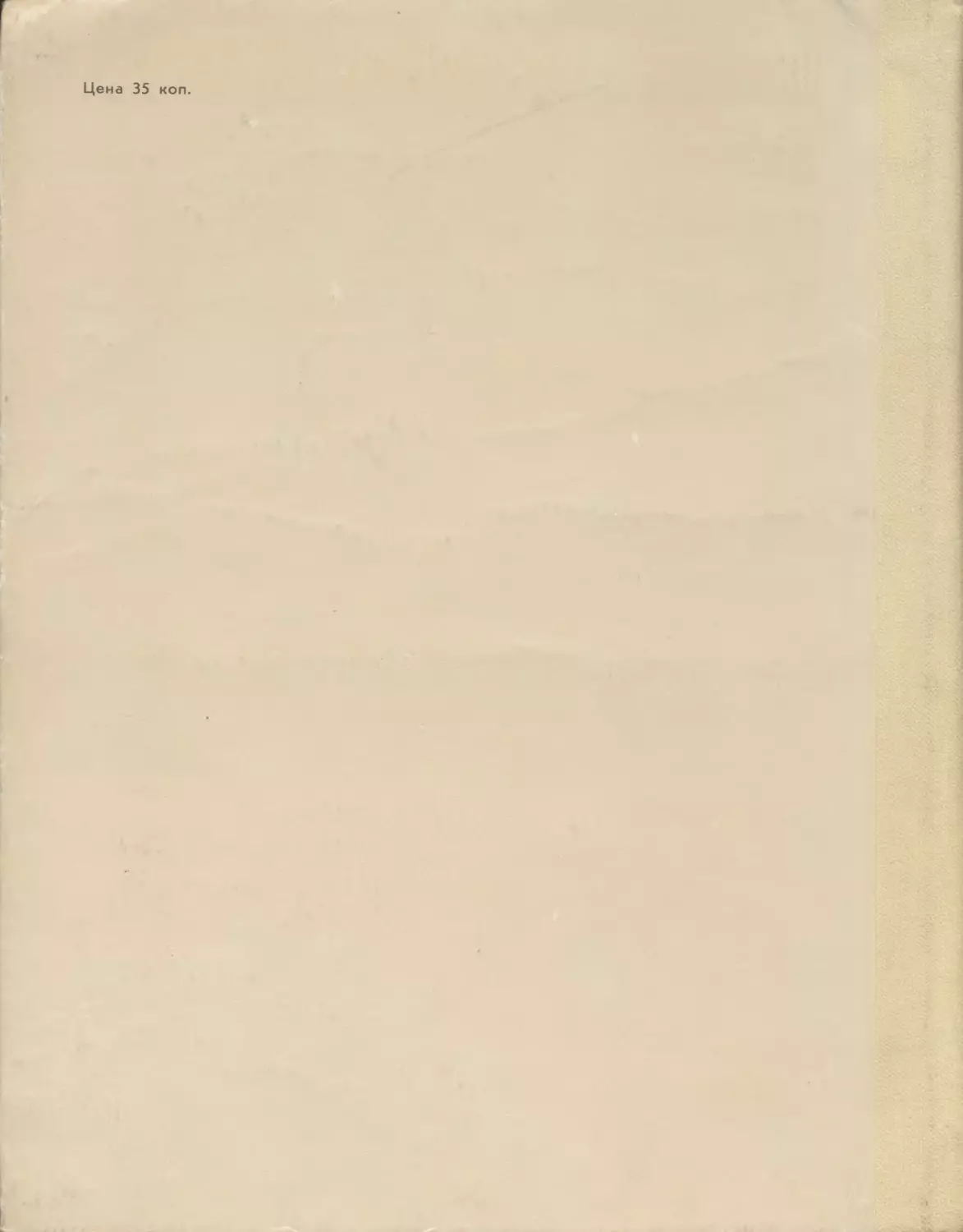Similar
Text
Алексей Максимович Горький
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИО Т Е КА
/
ькии
и
МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 197«
ЗДАНИИ
Р2
Г71
П Е Р В
141—76
70803-491
МІОІ (03)76
Г
АЛЕКСЕИ МАКСИМОВИЧ ГОРЬКИЙ
Великий русский писатель Алексей Максимович Горький
родился в 1868 году на Волге, в Нижнем Новгороде,
переименованном теперь в город Горький.
Родители его жили в то время в семье Василия
Каширина, деда Алёши по матери. Василий Каширин считался
состоятельным человеком: у него был собственный дом
и красильная мастерская. С дедом жили два его сына,
Михаил и Яков, с жёнами и детьми — семья большая, но
неладная. Михаил и Яков были не умные, ленивые, жадные
до денег люди; каждый из них хотел скорее стать хозяином
красильной мастерской. Они ссорились из-за этого между
собой и с отцом; доходило дело и до драк.
Отец Алёши — Максим Пешков — работал столяром.
Человек смелый, справедливый, добрый к людям, он не смог
жить у Кашириных и уехал с женой и маленьким сыном
в Астрахань.
Семья Пешковых была дружная, весёлая; все друг друга
берегли, говорили всегда только правду, о ссорах и драках
5
Алёша и не слыхал. Но отец умер, когда Алёше не было
и пяти лет, и мальчик опять попал к Кашириным.
Первое время он не мог понять, почему все в семье
деда такие недружные, злые, что даже радуются, если с кем-
нибудь случится несчастье, сами подталкивают других к беде.
Скоро маленький Алёша на себе испытал эту грубость и
жестокость. Ему казалось забавным, что в красильной
мастерской так легко меняют цвета материй: возьмут жёлтую,
мочат её в чёрной воде, и материя делается густо-синей —
кубовой; полощут серое в рыжей воде, и оно становится
красноватым — бордо. Захотелось самому окрасить что-
нибудь, и Саша, сын дяди Якова, мальчик старше Алёши,
посоветовал взять для этой цели белую праздничную скатерть.
— Белое всего легче красить, уж я это знаю, — добавил
он серьёзно.
Алёша мигом достал скатерть из шкафа и опустил её
в чан с краской. А Саша тотчас же наябедничал деду.
Дед счёл поступок Алёши за озорство и выпорол его так
жестоко, что мальчик несколько дней лежал, почти не
двигаясь от боли.
В дни болезни Алёша много перестрадал и передумал.
Было стыдно за Сашу — он всё нарочно подстроил. Мать
свою Алёша считал самой сильной, а она побоялась отнять
его у деда и только металась и молила: «Папаша, не надо...»
До слёз обидно было вспоминать, как дед жестоко
избивал его.
«С тех дней, — писал позже Горький, — у меня явилось
беспокойное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с
сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли,
своей и чужой».
Внимательно наблюдая жизнь в доме деда, Алёша
постепенно стал понимать, что и ссоры и драки — всё происходит
из-за денег, из-за вещей. Из-за них люди хитрят,
обманывают, воруют, завидуют, злятся.
Дед в молодости сам был бедняком, работал на хозяев
из-за куска хлеба. Он рассказывал Алёше, как «ходил
в бурлаках», то есть тянул по Волге тяжело нагруженные
баржи.
6
«— Баржа — по воде, я — по бережку, бос, по острому
камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи!
Накалит солнышко затылок-то, голова, как чугун, кипит, а ты,
согнувшись в три погибели, — косточки скрипят — идёшь да
идёшь, и пути не видать, глаза потом залило...»
Труд нечеловеческий, а плата ничтожная. Зато хозяева
баржи капиталы наживали.
Как-то удалось деду скопить немного денег и завести
с товарищем — его звали Григорием—красильную
мастерскую. Жаден стал дед, хитростью сумел оттеснить товарища,
остался один хозяином мастерской, а Григорий — его
безответным работником. Теперь Григорий был уже полуслепым
стариком, а Михаил и Яков — молодые хозяева — издевались
над ним ради «шутки»: то воткнут гвоздь в сиденье его
стула остриём вверх, то накалят на огне ручки ножниц или
напёрсток и подложат ему, он схватит и обожжётся, а кругом
хохочут. ,
Старик всё сносил молча. А дед время от времени
поговаривал:
— Не годится Григорий для работы, пора прогнать его.
Всю силу положил Григорий на мастерскую, а когда
совсем ослеп, дед выгнал его. Пришлось слепому старику
ходить по миру, просить милостыню.
Глядя на деда и его сыновей, Алёша с детства
возненавидел жадных к деньгам людей, которые хотят жить чужим
трудом, думают лишь о своей наживе. Ему противны были
и дед и дядья.
Только одного человека в семье Кашириных горячо, на
всю жизнь полюбил Алёша — бабушку Акулину Ивановну.
Она стала ему ближе и дороже матери. Мать мало жила
в доме деда, а бабушка, добрая, умная, всегда была около
Алёши. Всех она понимала, всех жалела: она одна
заступалась за старика Григория. Смелая была. Один раз увидела,
как пятеро мещан \ очевидно торговцев, бьют
мужика—свалили его на землю и рвут, точно собаки. У бабушки в руках
1 М е щ £ н.е — так в дореволюционной России называли мелких
городских торговцев, ремесленников, служащих и т. д.
7
коромысло было; размахивая им, пошла она на мещан,
колотила их по пйечам, по головам. Вступились ещё какие-
то люди. Мещане убежали, а бабушка принялась мыть
избитого.
Случился в доме пожар — загорелась мастерская.
Страшную картину увидел Алёша в темноте зимней ночи.
По крыше извивались золотые и красные ленты огня. Они
высовывались из стен мастерской. Через открытую дверь
видно было, как и внутри вихрился уже кудрявый огонь.
Багрово светился снег, и стены соседних построек как будто
бы дрожали, шатались, а огонь победоносно шипел, трещало
горевшее дерево.
И вдруг бабушка, накрывшись мешком и попоной,
бросилась в мастерскую с криком:
— Купорос... взорвёт купорос!
Все ахнули, а она, в тлевшей попоне, уже выскочила из
пламени с ведёрной бутылью купоросного масла, которое,
взорвавшись, охватило бы пламенем все окружающие
постройки.
Выскочила из конюшни обезумевшая от страха лошадь;
бабушка бросилась к ней, встала перед ней, расставив руки,
и лошадь, жалобно заржав, остановилась.
В страшные минуты пожара бабушка была самая сильная,
самая смелая, она всюду поспевала, всем распоряжалась,
и все подчинялись ей.
Бабушка любила веселье. Когда дед по праздникам
уходил из дому, бабушка устраивала вечеринки, на которые
собирались все жильцы дома. Играл на гитаре дядя Яков,
птицей носился в пляске молодой работник деда Цыганок.
Иногда плясала и бабушка. Плясала она так, будто плыла
по воздуху, словно рассказывала что-то.
Знала бабушка много чудесных сказок про мудрых
и смелых защитников народа, про злых воевод и добрых
разбойников, которые раздавали бедным отнятое у богатых.
И Алёше хотелось быть сильным и смелым, добрым и
справедливым, чтобы заступаться за обиженных, наказывать
виноватых.
Любила и оберегала бабушка всё живое. Притащил
8
как-то кот скворца; бабушка отняла его, замученного,
покалеченного, повреждённое крыло оторвала, вместо откушенной
ноги приделала деревяшку, и скворец долго жил в клетке,
а бабушка учила его говорить.
Всё радостное в детстве было у Алёши связано с
бабушкой. С нею впервые он ехал на пароходе и видел, как
сияла бабушка, глядя на широкую, могучую Волгу, и сам
на всю жизнь полюбил волжские просторы. С бабушкой
Алёша ходил по дремучим приволжским лесам; она учила
его собирать грибы, различать целебные травы и тут же
рассказывала сказки. Оглядывая пышный ковёр лесных трав,
слушая шелест кустарников, тихий звон качающихся
верхушек сосен, бабушка приговаривала:
— Хорошо-то, как хорошо!
Бабушка умела видеть хорошее, радоваться ему и Алёшу
учила этому.
Ни деньгами, ни красильной мастерской она не
дорожила: уговаривала деда отдать всё сыновьям, но дед её не
слушал, делал всё по-своему.
Наконец дед разделился с сыновьями, уехал от них,
и некоторое время Алёша жил только с дедом и бабушкой.
Он начал учиться грамоте — сначала у деда, потом два
года ходил в школу. Между тем дед постепенно разорился
и совсем обеднел. Мать Алёши к этому времени умерла,
и десятилетний Алёша пошёл «в люди», то есть в услужение
к разным хозяевам.
Какой только работой не занимался Алёша в первые
годы трудовой жизни! Был он мальчиком на побегушках
в магазине, учеником чертёжника, тряпичником,
посудником на пароходе «Добрый», птицеловом, учеником в
иконописной мастерской...
Хозяева требовали работы выше сил и наказывали
жестоко за всякий промах, за всякую ошибку. Однажды Алёшу
побили пучком лучины так, что потом в больнице доктор
вынул из его кожи сорок две занозы.
Трудно было Алёше научиться какому-нибудь мастерству.
Попал он в ученики к чертёжнику. Хозяева заставляли его
мыть полы, чистить посуду, полоскать бельё, бегать в лавку.
9
Чертёжник попробовал было учить его черчению, но после
первого же урока старуха хозяйка избила Алёшу, а потом
стала обливать его чертежи маслом, квасом, всячески
портить их: она не хотела, чтобы он стал чертёжником, как её
сыновья.
Алёша, так же как и в доме деда, внимательно
наблюдал за всем, что происходило вокруг. Люди жили
по-разному. Одни, как Каширины, старались накопить денег,
завести мастерские, магазины, фабрики, нанять за дешёвую
плату рабочих, получать много прибыли. Больше денег —
сильнее жадность растёт в человеке. Богатые всю жизнь
дрожат из-за копейки, обманывают друг друга и
рабочих, всем хотят только зла. А у рабочих ничего нет, они
надрываются от тяжёлого труда, живут в бедности,
болеют.
Но всюду, где ни приходилось жить и работать Алёше,
он встречал среди рабочих, среди трудового народа людей
умных, добрых, справедливых. Таким был повар Смурый на
пароходе «Добрый». С шести часов утра до двенадцати ночи
мыл Алёша посуду в буфете, — но в редкие свободные
минутки легко дышалось на просторах Волги-матушки.
Старенький, рыжий, с белой полоской на трубе, пароход не
торопясь шлёпает лопастями колёс по воде. Берега плывут
навстречу. Показалась деревенька. Куча мальчишек
полощется в реке, мужик идёт по песку в красной рубахе —
всё точно игрушечное, забавно, пестро и мелко.
Смурый любил книги и часто заставлял Алёшу читать
вслух.
— Хорошая книга — просто праздник! — говорил он.
Постепенно Алёша полюбил чтение. Но хозяева, у
которых он работал, считали, что книги приносят вред. За
чтение его били, а книги рвали. Приходилось читать по ночам
около лампады, свечки, а то просто при свете луны. Но
без книг обойтись Алёша уже не мог. Он узнал теперь, что
есть на свете другая жизнь, красивая и справедливая. Не
везде люди относятся друг к другу злобно и избивают
слабых. Особенно радовали книги о смелых, отважных людях,
которые добиваются правды на земле. Алёша стал спокойнее,
10
увереннее, почувствовал, что он не один, он не
пропадёт.
Впоследствии Горький, призывая любить книгу —
источник знания, писал: «Нет силы более могучей, чем
знание, человек, вооружённый знанием, непобедим». Знание
делает человека честным, добрым, разумным.
«Всем хорошим во мне я обязан книгам», — пишет
Алексей Максимович.
Горькому было шестнадцать лет, когда он из Нижнего
Новгорода переехал в Казань. Он хотел там учиться, но
учиться ему не пришлось: надо было зарабатывать себе на
жизнь. В Казани он познакомился с революционно
настроенной молодёжью. Революционеры ставили задачей своей
жизни борьбу с царской властью, с капиталистами. Алексей
Максимович стал бывать на их собраниях, читать
запрещённые правительством книги. Он узнал, что виноваты
в тяжёлой жизни народа капиталисты: владельцы фабрик,
заводов, земель, виновата царская власть, — и стал
понимать, что с ними нужно бороться, что хозяевами в стране
должны быть те, кто трудится, — рабочие и крестьяне.
Прошло четыре года. Алексей Максимович уехал из
Казани. Он хотел знать, как живут люди в других местах
России. И он прошёл пешком Украину, Бессарабию, оттуда
берегом Чёрного моря добрался до Закавказья. Чтобы
кормиться, он шёл на любую работу: был рыболовом,
сторожем, батраком. Хорошо узнал безотрадную жизнь трудового
народа, и о том, что увидел, пережил, он рассказал потом
в своих произведениях. Короткая радость Мишки и его
глубокое горе описаны в рассказе «Встряска»; «Дед Архип
и Лёнька» — повесть о несчастных, бездомных, беспомощных
нищих, с какими встречался писатель во время своих
странствий по России.
Все эти годы царская полиция следила за ним — она
знала о его знакомстве с революционерами. Однажды его
арестовали и посадили в тюрьму. Но у полиции в то время
не было доказательств участия Алексея Максимовича
в революционной работе, и его выпустили.
На Кавказе, в Тифлисе (Тбилиси), Алексею
Максимо11
вичу удалось поступить на работу в железнодорожные
мастерские. В городе было много революционеров среди
рабочих и студентов. Алексей Максимович с ними сблизился,
и среди них нашёлся человек, который угадал истинное
призвание Алексея Максимовича. Это был А. М. Калюжный,
пробывший шесть лет на каторге за революционную работу.
Слушая рассказы Алексея Максимовича о пережитом, о
виденном во время странствований, он убедил его записать
рассказанное.
В 1892 году в тифлисской газете «Кавказ» появился
рассказ «Макар Чудра»; подписан он был псевдонимом
(вымышленным литературным именем)—Максим Горький.
Имя «Максим» Алексей Максимович взял в память отца,
которого он любил и помнил.
С тех пор Алексей Максимович стал писать, и не
прошло и десяти лет, как имя Горького и его произведения
узнала вся читающая Россия. Всем, кто ненавидел
самодержавный строй, были по сердцу герои произведений
Горького — сильные, мужественные, смелые борцы за право
человека на счастливую жизнь.
Революционеры в произведениях Горького — это люди,
у которых в груди «горящее сердце», полное любви к
людям. Это им поёт море торжественную и грозную песню:
«Безумству храбрых поём мы славу!»
«Пускай ты умер!.. Но в песне смелых
И сильных духом всегда ты будешь
Живым примером, призывом гордым
К свободе, к свету!»
«Буря! Скоро грянет буря!» — предсказывает писатель
в «Песне о Буревестнике».
И все революционно настроенные читатели знают, что
буря — это революция. Горького стали называть
«буревестником революции». Его несколько раз арестовывали, сажали
в тюрьму. Был он и в ссылке, но революционную работу не
оставлял.
12
Наступил 1905 год. Горький был с рабочими в памятное
воскресенье 9 января, когда царь приказал стрелять в народ.
Возмущённый Горький написал воззвание, в котором
открыто призывал к революции. Его посадили в самую
страшную тюрьму — Петропавловскую крепость. Но все
передовые люди России и всего мира требовали освобождения
любимого писателя. Царское правительство в то время не
чувствовало себя сильным и вынуждено было уступить:
Горького выпустили на свободу.
Он поселился в Москве, где готовилось вооружённое
восстание, и предоставил свою квартиру под склад оружия.
В 1905 году Горький впервые встретился с великим
вождём пролетариата В. И. Лениным, которого писатель
знал уже и раньше по его статьям в революционных
газетах и журналах, по революционной работе. Знакомство
перешло в глубокую дружбу. С этого времени жизнь и
работа великого писателя были тесно связаны с деятельностью
партии большевиков.
После 1905 года Горькому стало опасно оставаться
в России, и он уехал за границу. Там он создал
замечательный роман «Мать». В романе рассказывается, как
рабочий Павел Власов и его мать Ниловна стали
революционерами, как Павел с товарищами сумел объединить вокруг
себя для революционной борьбы других рабочих.
Люди, читая роман «Мать», учились организованно
бороться с самодержавием, капитализмом. Ленин высоко
оценил эту книгу.
Царское правительство хотело судить Горького, посадить
его в тюрьму.
Но Горький был за границей, жил он большей частью
в Италии, на острове Капри. Здесь он создал рассказы из
жизни-итальянского народа. «Сказки об Италии» — так
назвал писатель эти рассказы, потому что в них, как в
сказках, всегда побеждает правда. Горький верил, что
торжество трудящихся не за горами. Рассказ о мальчике Пепе
завершается словами мудрого столяра Пасквалино:
«Дети будут лучше нас, и жить им будет лучше!»
В Италии Горький написал повесть «Детство», в
кото13
рой рассказал о своём детстве. Свою юность он позже
описал в повестях «В людях» и «Мои университеты». В этих
трёх автобиографических произведениях Горький не только
рассказал о своей жизни, но правдиво и ярко изобразил
старую, царскую Россию.
Свершилась Великая Октябрьская социалистическая
революция. Сметены были и самодержавие, и капитализм.
«Уничтожена пакостная власть копейки над человеком,
самым великим чудом мира и творцом всех чудес земли», —
писал Горький.
Теперь вместе с народом, под руководством
большевистской партии писатель участвует в строительстве новой
жизни.
Он выступает на заводах, перед бойцами Красной Армии,
на съездах, собраниях писателей, комсомольцев, пионеров,
в школах, на детских утренниках. Пишет статьи в газеты,
журналы, отвечает на письма рабочих, писателей, пионеров,
школьников В эти же годы он создаёт и крупные
произведения: романы, пьесы, воспоминания о встречах с В. И.
Лениным.
Любовно и внимательно относился Горький к молодёжи и
детям. Он видел в них тех, кто будет продолжать дело
отцов не только в своей стране, но и во всём мире.
Ребята со всех концов Советского Союза писали
Алексею Максимовичу о своей жизни, советовались с ним.
Есть в Советском Союзе молодой город Игарка. Это
порт за Полярным кругом. Его начали строить только
в 1929 году. Там летом бывают дни, когда солнце не
заходит, а зимой оно иногда совсем не восходит. Большая река
Сибири Енисей очищается ото льда только в июне, а в мае
выпадает ещё много снега. Ребята из Игарки написали
Горькому о своей бодрой, деловой жизни, и он ответил
большим письмом, где назвал детей «гордыми смельчаками,
в будущем железными комсомольцами», которых ждут
«большие, изумительные радости!».
Всю Страну Советов видел перед собой великий
писатель и рассказывал о её богатствах, о трудовых победах
советского человека.
14
«Всё это — ваше хозяйство, — писал он детям. — И,
разумеется, для того, чтобы умело владеть им, чтобы развивать
его всё шире, — необходимо, ребята, учиться много, серьёзно,
честно. Всякая работа в нашей стране — работа всех для
каждого и каждого для всех, а кроме этого — работа в
пример всему трудовому народу земли. Надо воспитывать,
развивать в себе любовь к учёбе, чтоб учёба была приятна,
как игра».
Горький был широко образованным человеком. Любовь и
интерес к науке считал важным пробудить у человека
с ранних лет.
«Ребята, — пишет Горький школьникам города
Иркутска, — науку надо любить, — у людей нет силы более мощной
и победоносной, чем наука... Нам нужны сотни тысяч врачей,
учителей, инженеров, музыкантов, актёров, поэтов,
романистов и т. д., нужна армия людей, которые занялись бы
поисками и разработкой сокровищ, лежащих в недрах
нашей земли... Мы должны всю землю нашу обработавъ,
как сад».
Переписка с великим писателем помогла пионерам из
Иркутска написать книгу «База курносых», а
школьники из Игарки по плану Горького создали книгу «Мы из
Игарки».
Зная, как нужна людям хорошая книга, Горький
заботился об организации новых журналов, новых издательств.
По его предложению было создано издательство детской
литературы, которое объединило вокруг себя детских писателей
и занялось исключительно изданием книг для детей.
В последние годы жизни Горького капиталисты Европы
вели подготовку к новой войне. Одну за другой пишет
Горький статьи, раскрывает перед трудящимися всего мира
замыслы буржуазии. Ясно видел Алексей Максимович, что
война уничтожит миллионы людей, многочисленные города,
фабрики, заводы, построенные рабочими. Нет, не имеет права
существовать и властвовать над людьми кучка богачей!
Должна быть построена другая, справедливая жизнь на
земле, какую строит Страна Советов.
Голос великого писателя звучал на весь мир.
15
Горький с молодых лет страдал туберкулёзом. Лечение,
пребывание на юге приостанавливало процесс. Но болезнь
опять возобновлялась.
До последних дней жизни писатель напряжённо работал.
18 июня 1936 года Горького не стало.
Но мысли одного из величайших писателей русско'й земли
живут в его произведениях. Везде видна горячая любовь
Горького к людям, которые украшают, обогащают землю.
Его книги делают нас духовно сильными, честными,
разумными людьми, учат искренне любить человека, уважать его труд.
Уже много лет живёт и строит страна социализма
новую жизнь, и молодому поколению легче жить и работать,
чем тем, кто бился за справедливый строй. Пришёл новый
день, «...добрый день, дети, и пусть в жизни вашей будет
множество добрых дней!» — так заканчивает Горький один
рассказ, и так закончим мы рассказ о жизни и работе
большого человека, прекрасного писателя нашей Родины.
3. Иванова
ВОРОБЬИШКО
У воробьёв совсем так же, как у людей: взрослые воробьи
и воробьихи — пичужки скучные и обо всём говорят, как в
книжках написано, а молодёжь — живёт своим умом.
Жил-был желторотый воробей, звали его Пудик, а жил он
над окошком бани, за верхним наличником, в тёплом гнезде
из пакли, моховинок и других мягких материалов. Летать
он ещё не пробовал, но уже крыльями махал и всё
выглядывал из гнезда: хотелось поскорее узнать — что такое
божий мир и годится ли он для него?
— Что, что? — спрашивала его воробьиха-мама.
Он потряхивал крыльями и, глядя на землю, чирикал:
— Чересчур черна, чересчур!
Прилетал папаша, приносил букашек Пудику и хвастался:
— Чив ли я?
Мама-воробьиха одобряла его:
— Чив-чив!
А Пудик глотал букашек и думал:
«Чем чванятся — червяка с ножками дали — чудо!»
17
И всё высовывался из гнезда, всё разглядывал.
— Чадо, чадо, — беспокоилась мать, — смотри —
чебурахнешься!
— Чем, чем? — спрашивал Пудик.
— Да не чем, а упадёшь на землю, кошка — чик! и —
слопает! — объяснил отец, улетая на охоту.
Так всё и шло, а крылья расти не торопились.
Подул однажды ветер — Пудик спрашивает:
— Что, что?
— Ветер дунет на тебя — чирк! и сбросит на землю —
кошке! — объяснила мать.
Это не понравилось Пудику, он и сказал:
— А зачем деревья качаются? Пусть перестанут, тогда
ветра не будет...
Пробовала мать объяснить ему, что это не так, но он не
поверил — он любил объяснять всё по-своему.
Идёт мимо бани мужик, махает руками.
— Чисто крылья ему оборвала кошка, — сказал Пудик, —
одни косточки остались!
— Это человек, они все бескрылые! — сказала воробьиха.
— Почему?
— У них такой чин, чтобы жить без крыльев, они всегда
на ногах прыгают, чу?
— Зачем?
— Будь-ка у них крылья, так они бы и ловили нас,
как мы с папой мошек...
— Чушь! — сказал Пудик. — Чушь, чепуха! Все должны
иметь крылья. Чать, на земле хуже, чем в воздухе!.. Когда я
вырасту большой, я сделаю, чтобы все летали.
Пудик не верил маме; он ещё не знал, что, если маме не
верить, это плохо кончится.
Он сидел на самом краю гнезда и во всё горло
распевал стихи собственного сочинения:
Эх, бескрылый человек,
У тебя две ножки,
Хоть и очень ты велик,
Едят тебя мошки!
18
А я маленький совсем,
Зато сам мошек ем.
Пел, пел да и вывалился из гнезда, а воробьиха за ним,
а кошка — рыжая, зелёные глаза — тут как тут.
Испугался Пудик, растопырил крылья, качается на
сереньких ногах и чирикает:
— Честь имею, имею честь...
А воробьиха отталкивает его в сторону, перья у неё
дыбом встали — страшная, храбрая, клюв раскрыла — в глаз
кошке целит.
— Прочь, прочь! Лети, Пудик, лети на окно, лети...
Страх приподнял с земли воробьишку, он подпрыгнул,
замахал крыльями — раз, раз, и — на окне!
Тут и мама подлетела — без хвоста, но в большой
радости, села рядом с ним, клюнула его в затылок и говорит:
— Что, что?
— Ну что ж! — сказал Пудик. — Всему сразу не
научишься!
А кошка сидит на земле, счищая с лапы воробьихины
перья, смотрит на них — рыжая, зелёные глаза — и сожали-
тельно мяукает:
— Мя-аконький такой воробушек, словно мы-ышка...
Мя-увы...
И всё кончилось благополучно, если забыть о том, что
мама осталась без хвоста...
ПРО И ВАНУ ШКУ-ДУРАЧКА
Русская народная сказка
Жил-был Иванушка-дурачок, собою красавец, а что ни
сделает, всё у него смешно выходит, не так, как у людей.
Нанял его в работники один мужик, а сам с женой
собрался в город; жена и говорит Иванушке:
— Останешься ты с детьми, гляди за ними, накорми их!
— А чем? — спрашивает Иванушка.
— Возьми воды, муки, картошки, покроши да свари —
будет похлёбка!
Мужик приказывает:
— Дверь стереги, чтобы дети в лес не убежали!
Уехал мужик с женой; Иванушка влез на полати,
разбудил детей, стащил их на пол, сам сел сзади их и говорит:
— Ну вот, я гляжу за вами!
21
Посидели дети некоторое время на полу, — запросили
есть; Иванушка втащил в избу кадку воды, насыпал в неё
полмешка муки, меру картошки, разболтал всё коромыслом
и думает вслух:
— А кого крошить надо?
Услыхали дети — испугались:
— Он, пожалуй, нас искрошит!
И тихонько убежали вон из избы.
Иванушка посмотрел вслед им, почесал затылок, —
соображает:
— Как же я теперь глядеть за ними буду? Да ещё дверь
надо стеречь, чтобы она не убежала!
Заглянул в кадушку и говорит:
— Варись, похлёбка, а я пойду за детьми глядеть!
Снял дверь с петель, взвалил её на плечи себе и пошёл
в лес; вдруг навстречу ему медведь шагает — удивился,
рычит:
— Эй ты, зачем дерево в лес несёшь?
Рассказал ему Иванушка, что с ним случилось, — медведь
сел на задние лапы и хохочет:
— Экой ты дурачок! Вот я тебя съем за это!
А Иванушка говорит:
— Ты лучше детей съешь, чтоб они в другой раз отца-
матери слушались, в лес не бегали!
Медведь ещё сильней смеётся, так и катается по земле со
смеху!
— Никогда такого глупого не видал! Пойдём, я тебя
жене своей покажу!
Повёл его к себе в берлогу. Иванушка идёт, дверью за
׳сосны задевает.
— Да брось ты её! — говорит медведь.
— Нет, я своему слову верен: обещал сберечь, так уж
устерегу.
Пришли в берлогу. Медведь говорит жене:
— Гляди, Маша, какого я тебе дурачка привёл! Смехота!
А Иванушка спрашивает медведицу:
— Тётя, не видала ребятишек?
— Мои — дома, спят.
22
— Ну-ка, покажи, не мои ли это?
Показала ему медведица трёх медвежат; он говорит:
— Не эти, у меня двое было.
Тут и медведица видит, что он глупенький, тоже смеётся:
— Да ведь у тебя человечьи дети были!
— Ну да, — сказал Иванушка, — разберёшь их, малень-
ких-то, какие чьи!
— Вот забавный! — удивилась медведица и говорит
мужу:
— Михайло Потапыч, не станем его есть, пусть он у нас
в работниках живёт!
— Ладно, — согласился медведь, — он хоть и человек,
да уж больно безобидный!
Дала медведица Иванушке лукошко, приказывает:
— Поди-ка набери малины лесной, — детишки проснутся,
я их вкусненьким угощу!
— Ладно, это я могу! — сказал Иванушка. — А вы дверь
постерегите!
Пошёл Иванушка в лесной малинник, набрал малины
полное лукошко, сам досыта наелся, идёт назад к
медведям и поёт во всё горло:
Эх, как неловки
Божии коровки!
То ли дело — муравьи
Или ящерицы!
Пришёл в берлогу, кричит:
— Вот она, малина!
Медвежата подбежали к лукошку, рычат, толкают друг
друга, кувыркаются, — очень рады!
А Иванушка, глядя на них, говорит:
— Эхма, жаль, что я не медведь, а то и у меня дети
были бы.
Медведь с женой хохочут.
— Ой, батюшки мои! — рычит медведь, — да с ним жить
нельзя, — со смеху помрёшь!
— Вот что, — говорит Иванушка, — вы тут постерегите
дверь, а я пойду ребятишек искать, не то хозяин задаст мне!
23
А медведица просит мужа:
— Миша, ты бы помог ему!
— Надо помочь, — согласился медведь, — уж очень он
смешной!
Пошёл медведь с Иванушкой лесными тропами, идут —
разговаривают по-приятельски:
— Ну и глупый же ты! — удивляется медведь, а
Иванушка спрашивает его:
— А ты — умный?
— Я-то?
— Ну да!
— Не знаю.
— И я не знаю. Ты — злой?
— Нет. Зачем?
— А по-моему — кто зол, тот и глуп. Я вот тоже не
злой. Стало быть, оба ' мы с тобой не дураки будем.
— Ишь ты, как вывел! — удивился медведь.
Вдруг — видят: сидят под кустом двое детей, уснули.
Медведь спрашивает:
— Это твои, что ли?
— Не знаю, — говорит Иванушка, — надо их спросить.
Мои — есть хотели.
Разбудили детей, спрашивают:
— Хотите есть?
Те кричат:
— Давно хотим!
— Ну, — сказал Иванушка, — значит, это и есть мои!
Теперь я поведу их в деревню, а ты, дядя, принеси,
пожалуйста, дверь, а то самому мне некогда, мне ещё надобно
похлёбку варить!
— Уж ладно! — сказал медведь. — Принесу!
Идёт Иванушка сзади детей, смотрит за• ними, как ему
приказано, а сам поёт:
Эх, вот так чудеса!
Жуки ловят зайца.
Под кустом сидит лиса,
Очень удивляется!
24
V
Пришёл в избу, а уж хозяева из города воротились,
видят: посреди избы кадушка стоит, доверху водой налита,
картошкой насыпана да мукой, детей нет, дверь тоже
пропала, — сели они на лавку и плачут горько.
— О чём плачете? — спросил Иванушка.
Тут увидали они детей, обрадовались, обнимают их, а
Иванушку спрашивают, показывая на его стряпню в кадке:
— Это чего ты наделал?
— Похлёбку!
— Да разве так надо?
— А я почему знаю — как?
— А дверь куда девалась?
— Сейчас её принесут, — вот она!
Выглянули хозяева в окно, а по улице идёт медведь,
дверь тащит, народ от него во все стороны бежит, на
крыши лезут, на деревья; собаки испугались — завязли со
страху в плетнях, под воротами; только один рыжий петух
храбро стоит среди улицы и кричит на медведя:
— Кину в реку-у!..
СЛУЧАЙ С ЕВСЕИКОЙ
Однажды маленький мальчик Евсейка — очень хороший
человек! — сидя на берегу моря, удил рыбу.
Это очень скучное дело, если рыба, капризничая, не
клюёт. А день был жаркий; стал Евсейка, со скуки, дремать
и — бултых! — свалился в воду.
Свалился, но ничего, не испугался и плывёт тихонько,
а потом нырнул и тотчас достиг морского дна.
Сел на камень, мягко покрытый рыжими водорослями,
смотрит вокруг — очень хорошо!
Ползёт не торопясь алая морская звезда, солидно ходят
по камням усатые лангусты, боком-боком двигается краб;
везде на камнях, точно крупные вишни, рассеяны актинии,
и всюду множество всяких любопытных штук: вот цветут-
качаются морские лилии, мелькают, точно мухи, быстрые
креветки, вот тащится морская черепаха, и над её
тяжёлым щитом играют две маленькие зелёные рыбёшки, совсем
27
как бабочки в воздухе, и вот по белым камням везёт свою
раковину рак-отшельник. Евсейка, глядя на него, даже стих
вспомнил:
Дом, — не тележка у дедушки Якова...
И вдруг, слышит, над головою у него точно кларнет
запищал:
— Вы кто такой?
Смотрит — над головою у него огромнейшая рыба в сизо-
серебряной чешуе, выпучила глаза и, оскалив зубы, приятно
улыбается, точно её уже зажарили и она лежит на блюде
среди стола.
— Это вы говорите? — спросил Евсей.
— Я-а...
Удивился Евсейка и сердито спрашивает:
— Как же это вы? Ведь рыбы не говорят!
А сам думает:
«Вот так раз! Немецкий я вовсе не понимаю, а рыбий
язык сразу понял! Ух, какой молодчина!»
И, приосанясь, оглядывается: плавает вокруг него
разноцветная игривая рыбёшка и — смеётся, разговаривает:
— Глядите-ко! Вот чудище приплыло: два хвоста!
— Чешуи — нет, фи!
— И плавников только два!
Некоторые, побойчее, подплывают прямо к носу и
дразнятся:
— Хорош-хорош!
Евсейка обиделся:
«Вот нахалки! Будто не понимают, что пред ними
настоящий человек...»
И хочет поймать их, а они, уплывая из-под рук,
резвятся, толкают друг друга носами в бока и поют хором,
дразня большого рака:
Под камнями рак живёт,
Рыбий хвостик рак жуёт.
Рыбий хвостик очень сух,
Рак не знает вкуса мух.
28
А он, свирепо шевеля усами, ворчит, вытягивая клешни:
— Попадитесь-ка мне, я вам отстригу языки-то!
«Серьёзный какой», — подумал Евсейка.
Большая же рыба пристаёт к нему:
— Откуда это вы взяли, что все рыбы — немые?
— Папа сказал.
— Что такое—папа?
— Так себе... Вроде меня, только — побольше, и усы
у него. Если не сердится, то очень милый...
— А он рыбу ест?
Тут Евсейка испугался: скажи-ка ей, что ест! Поднял
глаза вверх, видит сквозь воду мутно-зелёное небо и солнце
в нём, жёлтое, как медный поднос; подумал мальчик и
сказал неправду:
— Нет, он не ест рыбы, костлявая очень...
— Однако — какое невежество! — обиженно вскричала
рыба. — Не все же мы костлявые! Например — моё
семейство...
«Надо переменить разговор», — сообразил Евсей и
вежливо спрашивает:
— Вы бывали у нас наверху?
— Очень нужно! — сердито фыркнула рыба,—Там
дышать нечем...
— Зато — мухи какие...
Рыба оплыла вокруг него, остановилась прямо против
носа да вдруг и говорит:
— Мух-хи? А вы зачем сюда приплыли?
«Ну, начинается! — подумал Евсейка. — Съест она меня,
дура...»
И, будто бы беззаботно, ответил:
— Так себе, гуляю...
— Гм? — снова фыркнула рыба. — А может быть, вы —
уже утопленник?
— Вот ещё! — обиженно крикнул мальчик. — Нисколько
даже! Я вот сейчас встану и...
Попробовал встать, а — не может: точно его тяжёлым
одеялом окутали — ни поворотиться, ни пошевелиться!
«Сейчас я начну плакать», — подумал он, но тотчас же
30
сообразил, что, плачь не плачь, в воде слёз не видно,
и решил, что не стоит плакать, — может быть, как-нибудь
иначе удастся вывернуться из этой неприятной истории.
А вокруг — господи! — собралось разных морских
жителей— числа нет!
На ногу взбирается голотурия, похожая на плохо
нарисованного поросёнка, и шипит:
— Желаю с вами познакомиться поближе...
Дрожит перед носом морской пузырь, дуется, пыхтит,—
укоряет Евсейку:
— Хорош-хорош! Ни рак, ни рыба, ни моллюск, ай-я-яй!
— Погодите, я, может, ещё авиатором буду, — говорит
ему Евсей, а на колени его влез лангуст и, ворочая глазами
на ниточках, вежливо спрашивает:
— Позвольте узнать, который час?
Проплыла мимо сепия, совсем как мокрый носовой
платок; везде мелькают сифонофоры, точно стеклянные шарики,
одно ухо щекочет креветка, другое — тоже щупает кто-то
любопытный, даже по голове путешествуют маленькие
рачки, — запутались в волосах и дёргают их.
«Ой, ой, ой!» — воскликнул про себя Евсейка, стараясь
смотреть на всё беззаботно и ласково, как папа, когда он
виноват, а мама сердится на него.
А вокруг в воде повисли рыбы, — множество! — поводят
тихонько плавниками и, вытаращив на мальчика круглые
глаза, скучные, как алгебра, бормочут:
Как он может жить на свете без усов и чешуи?
Мы бы, рыбы, не могли бы раздвоить хвосты свои!
Не похож он ни на рака, ни на нас — весьма во многом!
Не родня ли это чудо безобразным осьминогам?
«Дуры! — обиженно думает Евсейка. — У меня по
русскому языку в прошлом году две четвёрки было...»
И делает такой вид, будто он ничего не слышит, даже
хотел беззаботно посвистеть, но — оказалось — нельзя: вода
лезет в рот, точно пробка.
А болтливая рыба всё спрашивает его:
— Нравится вам у нас?
31
— Нет... то есть — да, нравится... У меня дома... тоже
очень хорошо, — ответил Евсей и снова испугался:
«Батюшки, что я говорю?! Вдруг она рассердится, и
начнут они меня есть...»
Но вслух говорит:
— Давайте как-нибудь играть, а то мне скучно...
Это очень понравилось болтливой рыбе, она засмеялась,
открыв круглый рот так, что стали видны розовые жабры,
виляет хвостом, блестит острыми зубами и старушечьим
голосом кричит:
— Это хорошо — поиграть! Это очень хорошо — поиграть!
— Поплывёмте наверх! — предложил Евсей.
— Зачем? — спросила рыба.
— А вниз уже нельзя ведь! И там, наверху, — мухи.
— Мух-хи! Вы их любите?..
Евсей любил только маму, папу и' мороженое, но
ответил:
— Да...
— Ну что ж? Поплывём! — сказала рыба,
перевернувшись головой вверх, а Евсей тотчас цоп её за жабры
и кричит:
— Я — готов!
— Стойте! Вы, чудовище, слишком засунули свои лапы
в жабры мне...
— Ничего!
— Как это — ничего? Порядочная рыба не может жить
не дыша.
— Господи! — вскричал мальчик. — Ну, что вы спорите
всё? Играть, так играть...
А сам думает:
«Лишь бы только она меня немножко подтащила
наверх, а там уже я вынырну».
Поплыла рыба, будто танцуя, и поёт во всю мочь:
Плавниками трепеща,
И зубаста да тоща,
Пйщи на обед ища,
Ходит щука вкруг леща!
32
Маленькие рыбёшки кружатся и хором орут:
Вот так штука!
Тщетно тщится щука
Ущемить леща!
Вот так это — штука!
Плыли, плыли, чем выше — тем всё быстрее и легче,
и вдруг Евсейка почувствовал, что голова его выскочила
на воздух.
— Ой!
Смотрит — ясный день, солнце играет на воде, зелёная
вода заплёскивает на берег, шумит, поёт; Евсейкино
удилище плавает в море, далеко от берега, а сам он сидит на
том же камне, с которого свалился, и уже весь сухой!
— Ух, — сказал он, улыбаясь солнцу, — вот я и
вынырнул!
ПЕПЕ
Пепе — лет десять, он хрупкий, тоненький, быстрый,
как ящерица, пёстрые лохмотья болтаются на узких плечах,
в бесчисленные дыры выглядывает кожа, тёмная от солнца
и грязи.
Он похож на сухую былинку, — дует ветер с моря и
носит её, играя ею, — Пепе прыгает по камням острова, с
восхода солнца по закат, и ежечасно откуда-нибудь льётся его
неутомимый голосишко:
Италия прекрасная,
Италия моя!..
Его всё занимает: цветы, густыми ручьями текущие по
доброй земле, ящерицы среди лиловатых камней, птицы
в чеканной листве олив, в малахитовом кружеве
виноградника, рыбы в тёмных садах на дне моря и форестьеры 1
на узких, запутанных улицах города: толстый немец, с
расковырянным шпагою лицом, англичанин, всегда напоминаю-
1 Форестьёр — чужестранец
34
щий актёра, который привык играть роль мизантропа ',
американец, которому упрямо, но безуспешно хочется быть
похожим на англичанина, и неподражаемый француз,
шумный, как погремушка.
— Какое лицо! — говорит Пепе товарищам, указывая
всевидящими глазами на немца, надутого важностью до
такой степени, что у него все волосы дыбом стоят. — Вот
лицо, не меньше моего живота!
Пепе не любит немцев, он живёт идеями и настроениями
улицы, площади и тёмных лавочек, где свои люди пьют
вино, играют в карты и, читая газеты, говорят о политике.
— Нам, — говорят они, — нам, бедным южанам, ближе
и приятнее славяне Балкан, чем добрые союзники,
наградившие нас за дружбу с ними песком Африки. -
Всё чаще говорят это простые люди юга, а Пепе всё
слышит и всё помнит.
Скучно, ногами, похожими на ножницы, шагает
англичанин, — Пепе впереди его и напевает что-то из
заупокойной мессы 1 2 или печальную песенку:
Мой друг недавно умер,
Грустит моя жена...
А я не понимаю,
Отчего она так грустна?
Товарищи Пепе идут сзади, кувыркаясь со смеха, и
прячутся, как мыши, в кусты, за углы стен, когда форестьер
посмотрит на них спокойным взглядом выцветших глаз.
Множество интересных историй можно рассказать
о Пепе. .
Однажды какая-то синьора 3 поручила ему отнести в
подарок подруге её корзину яблок своего сада.
1 Мизантрбп — человек нелюдимый, ненавидящий люде״,
2 Заупокойная месса — богослужение с песнопениями н
католической церкви.
3 Синьора — госпожа; вежливое обращение к женщине в
Италии.
35
— Заработаешь сольдо! 1 — сказала она. — Это ведь не
вредно тебе...
Он с полной готовностью взял корзину, поставил её на
голову себе и пошёл, а воротился за сольдо лишь вечером.
— Ты не очень спешил! — сказала ему женщина.
— Но всё-таки я устал, дорогая синьора! — вздохнув,
ответил Пепе. — Ведь их было более десятка!
— В полной до верха корзине? Десяток яблок?
— Мальчишек, синьора.
— Но — яблоки?
— Сначала — мальчишки: Микеле, Джованни...
Она начала сердиться, схватила его за плечо, встряхнула:
— Отвечай, ты отнёс яблоки?
— До площади, синьора! Вы послушайте, как хорошо я
вёл себя: сначала я вовсе не обращал внимания на их
насмешки, — пусть, думаю, они сравнивают меня -е. ослом,
я всё стерплю из уважения к синьоре, — к вам, синьора!
Но когда они начали смеяться над моей матерью, — ага,
1 Сольдо — итальянская мелкая медная монета.
36
подумал я, ну, это вам не пройдёт даром. Тут я поставил
корзину, и — нужно было видеть, добрая синьора, как ловко
и метко попадал я в этих разбойников, — вы бы очень
смеялись!
— Они растащили мои плоды?! — закричала женщина.
Пепе, грустно вздохнув, сказал:
— О нет. Но те плоды, которые не попали в
мальчишек, разбились о стены, а остальные мы съели, после того
как я победил и помирился с врагами...
Женщина долго кричала, извергая на бритую голову
Пепе все проклятия, известные ей, — он слушал её
внимательно и покорно, время от времени прищёлкивая языком,
а иногда, с тихим одобрением, восклицая:
— О-о, как сказано! Какие слова!
А когда она, устав, пошла прочь от него, он сказал
вслед ей:
— Но, право, вы не беспокоились бы так, если б видели,
как метко попадал я прекрасными плодами вашего сада
в грязные головы этих мошенников, — ах, если б вы
видели это! — вы дали бы мне два сольдо вместо обещанного
одного!
Грубая женщина не поняла скромной гордости
победителя, — она только погрозила ему железным кулаком.
Сестра Пепе, девушка много старше, но не умнее его,
поступила прислугой — убирать комнаты — на виллу1
богатого американца. Она сразу же стала чистенькой,
румяной и, на хороших хлебах, начала заметно наливаться
здоровым соком, как груша в августе.
Брат спросил её однажды:
— Ты ешь каждый день?
— Два и три раза, если хочу, — с гордостью ответила
она.
— Пожалела бы зубы! — посоветовал ей Пепе и
задумался, а потом спросил снова:
1 В й л л а — богатый загородный дом.
37
— Очень богат твой хозяин?
— Он? Я думаю — богаче короля!
— Ну, оставим глупости соседям! А сколько брюк у
твоего хозяина?
— Это трудно сказать.
— Десять?
— Может быть, больше...
— Поди-ка, принеси мне одни не очень длинные и
тёплые, — сказал Пепе.
— Зачем?
— Ты видишь — какие у меня?
Видеть это было трудно, — от штанов Пепе на ногах
его оставалось совсем немного.
— Да, — согласилась сестра, — тебе необходимо одеться!
Но он ведь может подумать, что мы украли?
Пепе внушительно сказал ей:
— Не нужно считать людей глупее нас! Когда от многого
берут немножко, это не кража, а просто делёжка!
— Ведь это песня! — не соглашалась сестра, но Пепе
быстро уговорил её, а когда она принесла в кухню
хорошие брюки светло-серого цвета и они оказались несколько
длиннее всего тела Пепе, он тотчас догадался, как нужно
сделать.
— Дай-ка нож! — сказал он.
Вдвоём они живо превратили брюки американца в очень
удобный костюм для мальчика: вышел несколько
широковатый, но уютный мешок, он придерживался на плечах
верёвочками, их можно было завязывать вокруг шеи, а вместо
рукавов отлично служили карманы.
Они устроили бы еіЦё лучше и удобнее, но им помешала
в этом супруга хозяина брюк: явилась в кухню и начала
говорить самые грубые слова на всех языках одинаково
плохо, как это принято американцами.
Пепе ничем не мог остановить её красноречие, он
морщился, прикладывал руку к сердцу, хватался в отчаянии
за голову, устало вздыхал, но она не могла успокоиться до
поры, пока не явился её муж.
— В чём дело? — спросил он.
38
— Синьор, меня очень удивляет шум, поднятый вашей
синьорой, я даже несколько обижен за вас. Она, как я
понял, думает, что мы испортили брюки, но уверяю вас, что
для меня они удобны! Она, должно быть, думает, что я взял
последние ваши брюки и вы не можете купить других...
Американец, спокойно выслушав его, заметил:
— А я думаю, молодчик, что надобно позвать полицию.
— Да-а? — очень удивился Пепе. — Зачем?
— Чтобы тебя отвели в тюрьму...
Это очень огорчило Пепе, он едва не заплакал, но
сдержался и сказал с достоинством:
/ — Если это вам нравится, синьор, если вы любите
сажать людей в тюрьму, то — конечно! Но я бы не
сделал так, будь у меня много брюк, а у вас ни одной
пары! Я бы дал вам две, пожалуй — три пары даже; хотя
три пары брюк нельзя надеть сразу! Особенно в жаркий
день...
39
Американец расхохотался; ведь иногда и богатому
бывает весело.
Потом он угощал Пепе шоколадом и дал ему франк.
Пепе попробовал монету зубом и поблагодарил:
— Благодарю вас, синьор! Кажется, монета настоящая?
Всего лучше Пепе, когда он один стоит где-нибудь
в камнях, вдумчиво разглядывая их трещины, как будто
читая по ним тёмную историю жизни камня. В эти минуты
живые его глаза расширены, подёрнуты красивой плёнкой,
тонкие руки за спиною и голова, немножко склонённая,
чуть-чуть покачивается, точно чашечка цветка. Он что-то
мурлычет тихонько, — он всегда поёт.
Хорош он также, когда смотрит на цветы, — лиловыми
ручьями льются по стене глицинии, а перед ними этот
мальчик вытянулся струною, будто вслушиваясь в тихий
трепет шёлковых лепестков под дыханием морского ветра.
Смотрит и поёт:
Фиорино־о... фиорино-о...1
Издали, как удары огромного тамбурина 2, доносятся
глухие вздохи моря. Играют бабочки над цветами, — Пепе
поднял голову и следит за ними, щурясь от солнца,
улыбаясь немножко завистливой и грустной, но всё-таки доброй
улыбкой старшего на земле.
— Чо! — кричит он, хлопая ладонями, пугая изумрудную
ящерицу.
А когда море спокойно, как зеркало, и в камнях нет
белого кружева прибоя, Пепе, сидя где-нибудь на камне,
смотрит острыми глазами в прозрачную воду: там, среди
рыжеватых водорослей, плавно ходят рыбы, быстро
мелькают креветки, боком ползёт краб. И в тишине, над
голубою водой, тихонько течёт звонкий задумчивый голос
мальчика:
О море... море...
1 Фиорйно — цветочек.
2 Тамбурйн — музыкальный инструмент, бубен.
40
Взрослые люди говорят о мальчике:
— Этот будет анархистом!'
А кто подобрей, из тех, что более внимательно
присматриваются друг к другу, — те говорят иначе:
— Пепе будет нашим поэтом...
Пасквалйно же, столяр, старик с головою, отлитой из
серебра, и лицом, точно с древней римской монеты, мудрый
и всеми почитаемый Пасквалйно говорит своё:
— Дети будут лучше нас, и жить им будет лучше!
Очень многие верят ему. 11 Анархйст — здесь: человек, не подчиняющийся власти,
своевольный.
«ВСТРЯСКА»
Страничка из Мишкиной жизни
...Однажды в праздничный вечер он стоял на галерее
цирка, плотно прижавшись грудью к дереву перил, и,
бледный от напряжённого внимания, смотрел очарованными
глазами на арену, где кувыркался ярко одетый клоун, любимец
цирковой публики.
Окутанное пышными складками розового и жёлтого
атласа тело клоуна, гибкое, как у змеи, мелькая на тёмном
фоне арены, принимало различные позы: то лёгкие и
грациозные, то уродливые и смешные; оно, как мяч,
подпрыгивало в воздухе, ловко кувыркалось там, падало на песок
арены и быстро каталось по ней. Потом клоун вскакивал
на ноги и, смелый, довольный собой, весело смотрел на
публику, ожидая от неё рукоплесканий. Она не скупилась
и дружно поощряла его искусство громким смехом,
криками, улыбками одобрения. Тогда он вновь извивался,
кувыркался, прыгал, жонглировал своим колпаком; при
каждом движении его золотые блёстки, нашитые на атласе,
сверкали, как искры, а мальчик с галереи жадно следил
за этой игрой гибкого тела и, прищуривая от удовольствия
42
свои чёрные глазки, улыбался тихой улыбкой неизъяснимого
удовольствия.
— Фот тяк! — ломаным языком и тонким голосом
говорил клоун, перепрыгивая через стул.
— И фот тяк... — Он вспрыгнул на спинку стула,
несколько секунд балансировал на ней, но вдруг неестественно
изогнулся, упал и, съёжившись в ком, вместе со стулом
замелькал по арене, так что казалось, будто стул ожил
и гонится за ним.
Мальчик следил за всем, что делал клоун, и, увлечённый
его ловкостью, невольно отражал и повторял на своей
рожице все гримасы уморительно подвижного набелённого
лица. Он повторял бы и жесты, но был стиснут со всех
сторон до того, что не мог двинуть рукой. Сзади на него
навалился какой-то бородач в кучерском костюме, с боков
тоже давили его. На галерее было душно; грудь, прижатая
к дереву перил, болела, ноги ныли от усталости и
полученных толчков, но — как ловок и красив этот клоун и как
люб он всем! Увлечение мальчика ловкостью артиста
возвышалось до благоговейного чувства, он молчал, когда публика
громко выражала свои одобрения клоуну, молчал и порой
вздрагивал от желания самому быть там, на арене,
кувыркаться по ней в сияющем костюме, смешить людей, слышать
их похвалы и видеть сотни весёлых лиц и внимательных
глаз, устремлённых на него. Сильное, но смутное чувство,
властно охватившее мальчика, было, в общем, тёмным
чувством — оно не оживляло, а подавляло своей силой, в нём
было много грусти и зависти, ещё более обострявшихся
каждый раз, когда у мальчика вспыхивала мысль о том,
что всё это, красивое и приятное, как сон, должно скоро
кончиться и опять ему придётся идти домой, в тёмную
и грязную мастерскую...
А клоун встал на четвереньки, одну ногу вытянул и,
прыгая по арене на другой и на руках, с визгом и
хрюканьем скрылся, возбудив в публике дружный хохот.
Следующим номером программы была борьба двух атлетов,
потом выехала на лошади барыня в длинном чёрном платье
и в шляпе, похожей на маленькое ведёрко, за ней вышли
43
трое акробатов... было и ещё много разных «номеров», но
из них внимание маленького зрителя заняли только двое
артистов, ещё более маленьких, чем он сам. Исполнив
трудное упражнение на турнике, они ушли, но и они не
затушевали того впечатления, которое оставил клоун.
Когда представление кончилось и публика с шумом стала
расходиться, — мальчик с галереи всё ещё медлил уходить
и смотрел на арену, где уже гасили огни. Вот там явился
какой-то низенький господин с тростью в руке и с сигарой
в зубах.
— Это и есть самый он... клоун-то, — сказал бородатый
человек и, широко улыбаясь, добавил: — Очень я его хорошо
знаю... хоша он и обрядился в настоящее...
Мальчик слышал эти слова и пристально смотрел на
человека с сигарой, который стоял среди арены, что-то
приказывая людям в красных мундирах, суетившимся по ней.
Это — блестящий, ловкий клоун? И мальчик разочарованно
тряхнул головой — не понравилось ему, что такой
удивительный человек одевается, как самый обыкновенный модный
барин. Вот если б он, Мишка, был клоуном, он так бы
и ходил по улицам в ярком, широком атласном костюме
с золотом и в высоком белом колпаке. И Мишка вышел
из цирка, решительно недовольный этим неприятным
превращением артиста в обыкновенного человека.
Длинная улица лежала пред мальчиком; по обеим
сторонам её, как две нити крупных огненных бус,
протягивались вдаль фонари, оживлённо и безмолвно состязаясь
с тьмой ночи, полной говора людей и дребезга пролёток.
Вспоминая выходки клоуна, мальчик улыбался, а иногда,
перепрыгивая через впадину на панели или вскакивая на
ступеньку крыльца, вполголоса восклицал:
— Фот тяк! И фот тяк!..
И, воспроизводя на лице гримасы и ужимки,
потешавшие публику, мальчик порой останавливался пред окнами
магазинов и серьёзно подолгу рассматривал своё отражение
на стекле.
Удовлетворённый видом своей исковерканной гримасами
скуластой рожицы с маленькими, живыми чёрными глазами,
44
он весело подпрыгивал и свистал. Но уже в нём
являлось нечто, портившее ему настроение, — память,
оживлённая боязнью наказания, чувством, которое постоянно
жило в худой груди Мишки, — память упорно восстано-
вляла пред ним завтрашний день — тяжёлый, суетливый
день!
Завтра утром он проснётся, разбуженный сердитым
окриком кухарки, и пойдёт ставить самовар для мастеров.
Потом приготовит посуду для чая на длинном столе среди
мастерской и станет будить мастеров, а они будут ругать
его и лягаться ногами...
Пока они пьют чай, он должен прибрать их постели,
вымести мастерскую, потом, выпив стакан холодного и
спитого чая, он достанет из угла мастерской большую
каменную плиту, положит её на табурет и с пирамидальным
камнем в руках усядется растирать краски. От возни
тяжёлым камнем по плите у него заболят, заноют и руки,
и плечи, и спина.
После обеда около часа отдыха, он уберёт со стола
и, свернувшись где-нибудь в углу, заснёт, как котёнок...
а разбудят его пинком. Может быть, его заставят чистить
пемзой доски, зашпаклёванные под иконы, и он, кашляя
и чихая, долго будет дышать тонкой меловой пылью. И так
весь день, до ужина...
Единственное приятное, что испытывал Мишка и чего
он всегда с нетерпением ждал, — это приказание бежать
куда-нибудь — к столяру за досками для икон, в
москательную лавку 1, в кабак за водкой... А самым неприятным и
даже страшным для него было копотливое и требовавшее
большой осторожности поручение заготовить яичных желтков
для красок 2.
Нужно было осторожно разбить яйцо, слить желток
в одну чашку, белок — в другую, а он то портил яйцо,
1 Москательные лавки торговали красками, клеем и др.
товарами.
2 Краски, которыми писали большинство икон, разводились на
яичном желтке.
45
раздавливая в нём желток, то сливал белок в чашку с
желтком и портил уже все желтки, которые успел отделить.
За это — били.
Скучную и нелёгкую жизнь изживал он...
...Дойдя до ворот хмурого двухэтажного дома,
окрашенного в какую-то рыжую краску, Мишка торкнулся в
калитку и, убедившись, что она заперта, тотчас же решил
перелезть через забор, что и исполнил быстро и бесшумно,
как кошка. Проникая во двор таким необычным путём, он
избегал подзатыльника, которым непременно отплатил бы
ему дворник за беспокойство отворить калитку, — ведь
всегда приятно получать одним подзатыльником меньше
против того, сколько вам их назначено от судьбы. А кроме
этого, Мишке было и невыгодно, чтоб дворник видел, где
он ляжет спать. Хитрый мальчик для сна всегда выбирал
самые укромные уголки двора — этим он выигрывал у
хозяина несколько лишних минут сна, ибо поутру, для того
чтоб разбудить Мишку, сначала нужно было найти его.
И теперь он тихо пробрался в угол двора, там в узкой
дыре между поленницей дров и стеной погреба зарылся
в солому и рогожи, с наслаждением вытянулся на спине
и несколько секунд смотрел в небо.
В небе сверкали звёзды... Они напомнили Мишке
золотые блёстки на атласном костюме клоуна, он зажмурил
глаза, улыбнулся сквозь дрёму и, беззвучно, одними губами,
повторив: «Фот тяк...», уснул крепким, детским сном.
...Проснуться его заставило странное ощущение: ему
показалось, что левая нога его быстро бежит куда-то и тащит
за собой всё тело. Он с испугом открыл глаза.
— Чертёнок! — укоризненно говорила кухарка, дёргая
его за ногу.—Опять ты спрятался? Вот я ужо — погоди! —
скажу хозяйке...
— Это я, тётенька Палагея, не прятался, вот ей-богу,
не прятался! — И Мишка, вскочив на ноги, убеждённо
перекрестился.
— Черти тебя спрятали?
46
— А я пришёл, и было везде заперто... дядя Николай
стал бы ругаться, ну я — махать через ворота... —
скороговоркой объяснил Мишка, зорко следя за руками тётеньки
Палагеи.
— Иди, иди, шишига, ставь самовар-то, ведь уж скоро
шесть часо-ов...
— Это я чичас! — с полной готовностью воскликнул
Мишка и, довольный тем, что он так дёшево отделался,
сломя голову побежал в кухню.
Там, бодро возясь около самовара, позеленевшего от
старости пузатого ветерана 1 с исковерканными боками,
Мишка вступил в беседу с кухаркой.
— Ну уж в цирке вчерась — ах, тётенька! здорово
представляли!— щуря глаза от удовольствия, сказал он.
— Я тоже было хотела пойти, — угрюмо отозвалась
кухарка и со злым вздохом добавила: — Да разве у нас
вырвешься!
— Вам нельзя, — серьёзно сказал Мишка, и так как он
был великий дипломат, то, ответив кухарке сочувственным
вздохом, пояснил свои слова: — Потому вы вроде как на
каторге...
— То-то что...
— А уж был там паяц один... ах и шельма!
— Смешной? — заинтересовалась кухарка оживлением
Мишки.
— Тоись просто уморушка! Согнёт он какой-нибудь
крендель — так все за животики и возьмутся! — живописал
Мишка, держа в руках пучок зажжённой лучины.
— Ишь ты... люблю я этих паяцов... клади лучину-то
в самовар — руки сожжёшь.
— Фюить! Готово!.. Рожа у него — как на пружинах...
уж он её и так кривит и этак... — Мишка показал, как
именно паяц кривит рожу.
Кухарка взглянула на него и расхохоталась.
1 Ветеран— престарелый воин, солдат, а также человек, долго
занимавшийся каким-либо делом. Здесь это слово в значении: вещь,
много лет прослужившая хозяину.
47
— Ах ты... таракан ты... ведь уж перенял! Ступай убирай
мастерскую-то, ангилютка..
— И фот тяк! — пискливо крикнул Мишка, исчезая из
кухни, сопровождаемый добродушным смехом Палагеи.
Прежде чем попасть в мастерскую, он подбежал в сенях
к кадке с водой и, глядя в неё, проделал несколько
гримас. Выходило настолько хорошо, что он даже сам
рассмеялся.
...Этот день стал для него роковым днём и днём
триумфа '. С утра он рассказывал в мастерской о клоуне,
воспроизводил его гримасы, изгибы его тела, пискливую
речь и всё, что врезалось в его память. Мастеров томила
скука, они рады были и той незатейливой забаве, которую
предлагал им увлечённый Мишка, они поощряли его
выходки и к вечеру уже звали его — паяц.
— Паяц! На-ко вымой кисти!
—* Паяц! Принеси лазури!
И Мишка, чувствуя себя героем дня, белкой прыгал по
мастерской, всё более входя в роль потешника, гримасничая
и ломаясь. Эта роль, привлекая к нему общее и доброе
внимание мастеров, льстила его маленькому самолюбию
и весь день охраняла его от щелчков, пинков и иных
поощрений, обычных в его жизни. Но — чем выше встанешь, тем
хуже падать, это ведь известно.
Вечером, пред концом работы, один из мастеров,
писавший поясной образ св. великомученика Пантелеймона,
подозвал к себе Мишку и сказал ему, чтобы он поставил
икону, ещё сырую, на окно. Мишка, кривляясь, схватил
образ и... смазал пальцем краску с ящичка в руке св.
целителя... Бледный от испуга, он молча и вопросительно
взглянул на мастера.
— Что? Дорвался? — ехидно спросил тот.
— Я нечаянно-о... — тихо протянул Мишка.
— Дай сюда...
Мишка покорно отдал ему икону и потупился.
— Давай башку! 11 Триумф — торжество.
48
— Господи! — умоляюще взвыл Мишка.
— Ну?!
— Дяденька! я...
Но мастер схватил его за плечи и притянул к себе.
Потом он не торопясь запустил ему пальцы своей левой
руки в волосы на затылке снизу вверх и начал медленно
поднимать мальчика на воздух. Мишка подобрал под себя
ноги и поджал руки, точно он думал, что от этого тело
его станет легче, и с искажённым от боли лицом повис
в воздухе, открыв рот и прерывисто дыша. А мастер, подняв
его левой рукой на пол-аршина от пола, взмахнул в воздухе
правой и с силой ударил мальчика по ягодицам сверху вниз.
Это называется «встряска», она выдирает волосы с
корнями, и от неё на затылке является опухоль, которая долго
заставляет помнить о себе.
Стоная, схватившись за голову руками, Мишка упал на
пол к ногам мастера и слышал, как в мастерской
смеялись над ним.
— Ловко кувыркнулся, паяц!
— Это, братцы, воздушный полёт.
— Ха-ха-ха! Мишка, а ну-ка ещё посартоморталь!
Этот смех резал Мишке душу и был намного острее
боли от «встряски». Ему приказали подняться с пола и
накрывать на стол для ужина.
В кухне его ждало ещё огорчение. Там была хозяйка —
она поймала его и начала трясти за ухо, приговаривая:
— А ты, чертёнок, спи, где велят, а не пря-чься, не
пря-чься, не пря-чься.
Мишка болтал головой, стараясь попасть в такт
движениям хозяйкиной руки, и чувствовал едва одолимое желание
укусить эту руку.
...Через час он лежал на своей постели, под столом
в мастерской, сжавшись в плотный маленький комок так,
точно он хотел задавить в себе боль и горечь.
В окна смотрела луна, освещая голубоватым сиянием
большие иконостасные фигуры святых, стоявшие в ряд
у стены. Их тёмные лики смотрели сурово и внушительно
в торжественной безмятежности своей славы, лунный свет
50
придавал им вид призраков, смягчая резкие краски и
оживляя складки тяжёлых риз на их раменйх 1.
Без дум, весь поглощённый чувством обиды, мальчик
покорно ожидал, когда это чувство затихнет... а блестящие
краски икон постепенно вызывали воспоминания о вчерашнем
вечере, о красивых костюмах ловких, гибких людей, которые
так свободно прыгают, так веселы и красивы...
...И вот он видит арену цирка и себя на ней, с
необычайной лёгкостью он совершал самые трудные
упражнения, и не усталостью, а сладкой и приятной негой они
отзывались в его теле... Гром рукоплесканий поощрял его...
полный восхищения пред своей ловкостью, весёлый и
гордый, он прыгнул высоко в воздух и, сопровождаемый гулом
одобрения, плавно полетел куда-то, полетел со сладким
замиранием сердца... чтоб завтра снова проснуться на земле
от пинка...
1 Раменй (устаревшее слово) — плечи.
ДЕТСТВО ИЛЬИ
Помнил Илья, как он приехал в город. Проснулся он
рано утром и увидал перед собою широкую, .мутную реку,
а за нею, на высокой горе, кучу домов с красными и
зелёными крышами и густые сады. Дома поднимались по горе
густою красивой толпой всё выше, на самом гребне горы
они вытянулись в ровную линию и гордо смотрели оттуда
через реку. Золотые кресты и главы церквей поднимались
над крышами, уходя глубоко в небо. Только что взошло
солнце; косые его лучи отражались в окнах домов, и весь
город горел яркими красками, сиял золотом.
— Вот так — а-яй! — воскликнул мальчик, широко
раскрытыми глазами глядя на чудесную картину, и замер
в молчаливом восхищении. Потом в душе его родилась
беспокойная мысль, — где будет жить он, маленький,
вихрастый мальчик в пестрядинных 1 штанишках, и его горбатый,
неуклюжий дядя? Пустят ли их туда, в этот чистый,
богатый, блестящий золотом, огромный город? Он подумал, что
их телега именно потому стоит здесь, на берегу реки, что
1 Пестрядина, пёстрядь — грубая, домашнего
изготовления ткань.
52
в город не пускают людей бедных. Должно быть, дядя
пошёл просить, чтобы пустили.
Илья с тревогой в сердце стал искать глазами дядю.
Вокруг их телеги стояло ещё много возов; на одних торчали
деревянные стойки 1 с молоком, на других корзины с птицей,
огурцы, лук, лукошко с ягодами, мешки с картофелем. НІа
возах и около них сидели и стояли мужики, бабы, — совсем
особенные. Говорили они громко, отчётливо, а одеты не
в синюю пестрядину, а в пёстрые ситцы и ярко-красный
кумач 2. Почти у всех на ногах сапоги, и хотя около них
расхаживал человек с саблей на боку3, но они не только
не боялись его, а даже не кланялись ему. Это очень
понравилось Илье. Сидя на телеге, он осматривал ярко
освещённую солнцем живую картину и мечтал о времени, когда
тоже наденет сапоги и кумачную рубаху.
Вдали, среди мужиков, появился дядя Терентий. Он
шёл, крепко упираясь ногами в глубокий песок, высоко
подняв голову; лицо у него было весёлое, и ещё издали
он улыбался Илье, протянув к нему руку, что-то
показывая.
— Господь за нас, Илюха! Дядю-то сразу нашёл я...
На-ко вот, погрызи пока что!..
И дал Илье баранку.
Мальчик почти с благоговением взял её, сунул за пазуху
и беспокойно спросил:
— Не пускают в город-то?
— Сейчас пустят... Вот придёт паром — и поедем.
— И мы?
— А как же? И мы!
— Ух! А я думал — нас не пустят... А там где мы
будем жить-то?
— Это неизвестно...
1 Стбйка— сосуд для хранения молока и других жидкостей,
сделанный из дерева.
2 Кумач — хлопчатобумажная ткань ярко-красного цвета.
3Человек с саблей на боку — полицейский стражник,
городовой.
53
— Вон бы в том большом-то, красном...
— Это казарма!.. Там солдаты живут...
— Ну, ин вон в том, — в-вон в этом!
— Ишь ты! Высоко нам до него!..
— Ничего! — уверенно сказал Илья. — Долезем!
— Э-эх, ты! — вздохнул дядя Терентий и снова куда-то
ушёл.
Жить им пришлось на краю города, около базарной
площади, в огромном сером доме. Со всех сторон к его стенам
прилипли разные пристройки, одни — поновее, другие —
такие же серо-грязные, как сам он. Окна и двери в этом
доме были кривые, и всё в нём скрипело. Пристройки, забор,
ворота — всё наваливалось друг на друга, объединяясь
в большую кучу полугнилого дерева. Стёкла в окнах тусклы
от старости, несколько брёвен в фасаде выпятились вперёд,
от этого дом был похож на своего хозяина, который держал
в нём трактир. Хозяин тоже старый и серый; глаза на его
дряхлом лице были похожи на стёкла в окнах; он ходил,
опираясь на толстую палку; ему, должно быть, тяжело было
носить выпяченный живот.
Первые дни жизни в этом доме Илья всюду лазил
и всё осматривал в нём. Дом поразил его своей
удивительной ёмкостью. Он был так тесно набит людьми, что
казалось— людей в нём больше, чем во всей деревне Китежной.
В обоих этажах помещался трактир, всегда полный народа,
на чердаках жили какие-то бабы; одна из них, по
прозвищу Матица, — чёрная, огромная, басовитая, — пугала
мальчика сердитыми, тёмными глазами. В подвале жил
сапожник Перфишка с больной безногою женой и дочкой
лет семи, тряпичник дедушка Еремей, нищая старуха, худая,
крикливая, её звали Полоротой, и извозчик Макар Степаныч,
человек пожилой, смирный, молчаливый.
В углу двора помещалась кузница; в ней с утра до
вечера горел огонь, наваривали шины, ковали лошадей,
стучали молотки, высокий, жилистый кузнец Савел густым,
угрюмым голосом пел песни. Иногда в кузнице являлась
Савелова жена, небольшая, полная женщина, русоволосая,
с голубыми глазами. Она всегда накрывала голову белым
54
платком, и было странно видеть эту белую голову в чёрной
дыре кузницы. Она смеялась серебристым смехом, а Савел
вторил ей громко, точно молотом бил. Но — чаще он в ответ
на её смех рычал.
В каждой щели дома сидел человек, и с утра до поздней
ночи дом сотрясался от крика и шума, точно в нём, как
в старом, ржавом котле, что-то кипело и варилось.
Вечерами все люди выползали из щелей на двор и на
лавочку к воротам дома; сапожник Перфишка играл на
гармонике. Савел мычал песни, а Матица — если она была
выпивши — пела что-то особенное, очень грустное, никому
не понятными словами, пела и о чём-то горько плакала.
Где-нибудь в углу на дворе около дедушки Еремея
собирались все жившие в доме ребятишки и, усевшись в
кружок, просили его: »
— Де-едушка! Расскажи сказочку!..
Дедушка смотрел на них болящими, красными глазами,
из которых, не иссякая, текли по морщинам лица мутные
слёзы, и, крепко нахлобучив на голову старую, рыжую
шапку, заводил нараспев дрожащим, тонким голосом:
— «Айв некоторыем царствии, вот и в некоторыем
государствии уродился фармазон-еретик1 от неведомых
родителей, за грехи сыном наказанных богом господом
всевидящим...»
Длинная седая борода дедушки Еремея вздрагивала и
тряслась, когда он открывал свой чёрный, беззубый рот,
тряслась и голова, а по морщинам щёк одна за другой всё
катились слёзы.
— «А и дерзок был сей сын-еретик: во Христа-бога не
веровал, не любил матери божией, мимо церкви шёл —
не кланялся, отца, матери не слушался...»
Ребятишки слушали тонкий голос старика и молча
смотрели в его лицо.
Всех внимательнее слушал русый Яшка, сын буфетчика
Петрухи, тощий, остроносый, с большой головой на тонкой
1 Фармазон-еретйк — здесь: не верящий в бога,
богоотступник.
55
шее. Когда он бежал, его голова так болталась от плеча
к плечу, точно готова была оторваться. Глаза у него тоже
большие и беспокойные. Они всегда пугливо скользили по
всем предметам, точно боясь остановиться на чём-либо,
а остановившись, странно выкатывались, придавая лицу
мальчика овечье выражение. Он выделялся из кучи ребят
тонким бескровным лицом и чистой, крепкой одеждой.
Илья сразу подружился с ним, в первый же день
знакомства Яков таинственно спросил ,нового товарища:
— У вас в деревне колдунов много?
— Есть, — ответил Илья. — У нас шабёр 1 колдун был.
— Рыжий? — шёпотом осведомился Яков.
— Седой... они все седые...
— Седые—ничего... Седые — добрые... А вот которые
рыжие — ух ты! Те кровь пьют... •
Они сидели в лучшем, самом уютном углу двора, за
кучей мусора под бузиной, тут же росла большая, старая
липа. Сюда можно было попасть через узкую щель между
сараем и домом; здесь было тихо, и, кроме неба над
головой да стены дома с тремя окнами, из* которых два были
заколочены, из этого уголка не видно ничего. На ветках
липы Чирикали воробьи, на земле, у корней её, сидели
мальчики и тихо беседовали обо всём, что занимало их.
Целые дни перед глазами Ильи вертелось с криком и
шумом что-то большущее, пёстрое и ослепляло, оглушало его.
Сначала он растерялся и как-то поглупел в кипучей
сутолоке этой жизни. Стоя в трактире около стола, на котором
дядя Терентий, потный и мокрый, мыл посуду, Илья смотрел,
как люди приходят, пьют, едят, кричат, целуются, дерутся,
поют песни. Тучи табачного дыма плавают вокруг них,
и в этом дыму они возятся, как полоумные...
— Эй-эй! — говорил ему дядя, потряхивая горбом и
неустанно звеня стаканами. — Ты чего тут? Иди-ка на двор!
А то хозяин увидит — заругает!..
«Вот так—а-яй!» — мысленно произносил Илья своё
любимое восклицание и, ошеломлённый шумом трактирной
1 Шабёр (местное слово) — сосед.
56
жизни, уходил на двор. А на дворе Савел стучал молотом
и ругался с подмастерьем, из подвала на волю рвалась
весёлая песня сапожника Перфишки, сверху сыпались
ругань и крики пьяных баб. Пашка, Савелов сын, скакал
верхом, на палке и кричал сердитым голосом:
— Тпру, дьявол!
Его круглая, задорная рожица вся испачкана грязью
и сажей; на лбу у него шишка; рубаха рваная, и сквозь
её бесчисленные дыры просвечивает крепкое тело. Это
первый озорник и драчун на дворе; он уже успел дважды
очень больно поколотить неловкого Илью, а когда Илья,
заплакав, пожаловался дяде, тот только руками развёл,
говоря:
— Ну что сделаешь? Потерпи!..
— Я вот пойду да так его вздую! — сквозь слёзы
пообещал Илья.
— Не моги! — строго молвил дядя. — Никак этого
нельзя!..
— А он что?
— То — он!.. Он тутошний... свой... А ты — чужой...
Илья продолжал угрожать Пашке, но дядя рассердился
и закричал на него, что с ним бывало редко. Тогда Илья
смутно почувствовал, что ему нельзя равняться с
«тутошними» ребятишками, и, затаив неприязнь к Пашке, ещё
больше сдружился с Яковом.
Яков вёл себя степенно: он никогда ни с кем не дрался,
даже кричал редко. Он почти не играл, но любил говорить
о том, в какие игры играют дети во дворах у богатых
людей и в городском саду. Из всех детей на дворе, кроме
Ильи, Яков дружился только с семилетней Машкой,
дочерью сапожника Перфишки, чумазой, тоненькой
девчоночкой, — её маленькая головка, осыпанная тёмными кудрями,
с утра до вечера торчала на дворе. Её мать тоже всегда
сидела у двери в подвал. Высокая, с большой косой на
спине, она постоянно шила, низко согнувшись над
работой, а когда поднимала голову, чтобы посмотреть на дочь,
Илья видел ее лицо. Оно было толстое, синее, неподвижное,
как у покойника, чёрные добрые глаза на этом неприятном
57
лице тоже неподвижны. Она никогда ни с кем не
разговаривала и даже дочь свою подзывала к себе знаками, лишь
иногда — очень редко — вскрикивая хриплым, задушенным
голосом:
— Маша!
Сначала Илье что-то нравилось в этой женщине, но
когда он узнал, что она уже третий год не владеет ногами
и скоро помрёт, — он стал бояться её.
Однажды, когда Илья проходил вблизи неё, она
протянула руку, схватила его за рубаху и привлекла испуганного
мальчика к себе.
— Попрошу я тебя, — сказала она, — не обижай Машу!..
Ей трудно было говорить: она задыхалась от чего-то.
— Не обижай, — милый!..
И, жалобно взглянув в лицо Ильи, отпустила его. С этого
дня Илья вместе с Яковом стал внимательно ухаживать за
дочерью сапожника, стараясь оберечь её от разных
неприятностей жизни. Он не мог не оценить просьбы со стороны
взрослого человека, потому что все другие большие люди
только приказывали и всегда били маленьких. Извозчик
Макар лягался ногами и шлёпал ребятишек по лицу мокрой
тряпкой, если они подходили близко к нему, когда он мыл
пролётку. Савел сердился на всех, кто заглядывал в его
кузницу не по делу, и бросал в детей угольными мешками.
Перфишка швырял чем попало во всякого, кто,
останавливаясь пред его окном, закрывал ему свет... Иногда били
и просто так, от скуки, из желания пошутить с детьми.
Только дедушка Еремей не дрался.
Вскоре Илье стало казаться, что в деревне лучше жить,
чем в городе. В деревне можно гулять, где хочешь, а здесь
дядя запретил уходить со двора. Там просторнее, тише,
там все люди делают одно и то же всем понятное дело, —
здесь каждый делает, что хочет, и все — бедные, все живут
чужим хлебом, впроголодь.
Однажды за обедом дядя Терентий сказал племяннику,
тяжело вздыхая:
— Осень идёт, Илюха... Подвернёт она нам с тобой
гайки-то!.. О господи!..
58
Он задумался, уныло глядя в чашку со щами.
Задумался и мальчик. Обедали они на том же столе, на котором
горбун мыл посуду.
— Петруха говорит, чтобы тебя с Яшуткой в училище
отдать... Надо, я понимаю... Без грамоты здесь, как без
глаз!.: Да ведь одеть, обуть надо тебя для училища!..
О господи! На тебя надежда!
От вздохов дяди, от грустного его лица у Ильи
защемило сердце, он тихо предложил:
— Давай уйдём отсюда!..
— Ку-уда-а? — протяжно и уныло спросил горбун.
— А — в лес?!—сказал Илья и вдруг воодушевился.—
Дедушка, ты говорил, сколько годов в лесу жил — один!
А нас — двое! Лыки бы драли!.. Лис, белок били бы...
Ты бы ружьё завёл, а я — силки! Птицу буду ловить. Ей-
богу! Ягоды там, грибы... Уйдём?..
Дядя поглядел на него ласковыми глазами и с улыбкой
спросил:
— А волки? А медведи?
— С ружьём-тр? — горячо воскликнул Илья. — Да я,
когда большой вырасту, я зверей не побоюся!.. Я их
руками душить стану!.. Я и теперь уж никого не боюсь!
Здесь — житьё тугое! Я хоть и маленький, а вижу! Здесь
больнее дерутся, чем в деревне! Кузнец как треснет по башке,
так там аж гудит весь день после того!..
— Эх ты, сирота божия! —.сказал Терентий и, бросив
ложку, поспешно ушёл куда-то.
Вечером этого дня Илья, устав бродить по двору, сидел
на полу около стола дяди и сквозь дрёму слушал разговор
Терентия с дедушкой Еремеем, который пришёл в
трактир попить чайку. Тряпичник очень подружился с
горбуном и всегда усаживался пить чай рядом со столом
Терентия.
— Ничего-о! — слышал Илья скрипучий голос Еремея. —
Ты только одно знай — бог! Ты вроде крепостного у него...
Сказано — раб! Бог твою жизнь видит. Придёт светлый
день твой, скажет он ангелу: «Слуга мой небесный! иди
облегчи житьё Терентию, мирному рабу моему...»
59
— Я, дедушка, уповаю на господа, — что больше могу
я? — тихо говорил Терентий.
Голосом, похожим на голос буфетчика Петрухи, когда он
сердился, — дед сказал Терентию:
— На снаряженье Илюшки в училище я тебе дам!..
Поскребусь и наберу... Взаймы. Богат будешь — отдашь...
— Дедушка! — тихо воскликнул Терентий.
— Стой, молчи! А покамест ты его, мальчишку-то, дай-ка
мне, — нечего тут ему делать!.. А мне заместо процента он
и послужит... Тряпку поднимет, кость подаст... Всё мне,
старику, спины не гнуть...
— Ах, ты!.. Господь тебе!.. — вскричал горбун звенящим
голосом.
— Господь — мне, я — тебе, ты — ему, а он — опять
господу, так оно у нас колесом и завертится... И никто
никому не должен будет... Ми-ила-й!.. Эх-эх, брат ты мой!
Жил я, жил, глядел, глядел, — ничего, окромя бога,
не вижу. Всё его, всё ему, всё от него да для
него!..
Илья заснул под эти речи. А на другой день, рано утром,
дед Еремей разбудил его, весело говоря:
— Айда гулять, Илюшка! Ну-ка, живенько!
Хорошо зажил Илья под ласковой рукой тряпичника
Еремея. Каждый день, рано утром, дед будил мальчика,
и они, вплоть до позднего вечера, ходили по городу,
собирая тряпки, кости, рваную бумагу, обломки железа, куски
кожи. Велик город, и много любопытного в нём, так что
первое время Илья плохо помогал деду, а всё только
разглядывал людей, дома, удивлялся всему и обо всём
расспрашивал старика... Еремей был словоохотлив. Низко
наклонив голову и глядя в землю, он ходил со двора на
двор и, постукивая палкой с железным концом, утирал
слёзы рукавом своих лохмотьев или концом грязного мешка
и, не умолкая, певуче, однотонно рассказывал своему
помощнику:
— А этот дом Пчелина купца, Саввы Петровича.
Богатый человек купец Пчелин!..
60
— Дедушка, — спрашивал Илья, — а как богатыми
делаются?
— Трудятся для этого, работают, значит... И день
работают, и ночь, и всё деньги копят. Накопят — выстроят дом,
заведут лошадей, посуду разную и всякое такое, эдакое.
Новое всё! Наймут приказчиков *, дворников и разных
людей, чтобы они работали, а сами отдыхают — живут. Ну,
тогда говорится: разжился человек честным трудом... н-да!..
А то есть, которые от греха богатеют. Про Пчелина-купца
говорят люди, будто он душу погубил, когда молодой был.
Может, это от зависти сказано, а может, и правда. Злой
он, Пчелин-то, глаз у него пугливый... Всё бегает глаз,
прячется... Может, и врут про Пчелина... Бывает, что
человек богатеет сразу... Удача ему... Удача на него взглянула...
Один бог в правде живёт, а мы все ничего не знаем!..
Люди мы! А люди — семена божии... семена, душа, люди-то!
Посеял нас господь на земле — растите! А я погляжу, —
какой хлеб насущный будет׳ из вас?.. Так-то! А вот это
вот — Сабанеев дом. Митрия Павлыча... Он ещё Пчелина
богаче. Уж он настоящий злодей, — я знаю... Не сужу —
богу судить, — а знаю верно... В нашей деревне
бурмистром 1 2 он был и всех нас продал, всех ограбил!.. Долго
ему бог терпел это, да и начал с ним считаться. Перво-
наперво — оглох Митрий Павлов, потом сына у него
лошади убили... А недавно вот дочь сбежала из
дома...
Илья внимательно слушал его, поглядывая на огромные
дома, и порой говорил:
— Хоть бы глазом одним в нутро-то взглянуть!..
— Увидишь! Знай — учись, вырастешь — всё увидишь!
Может, и сам разбогатеешь... Живи, знай... Охо-хо-о! Вот
я жил-жил, глядел-глядел — глаза-то себе и испортил...
1 Приказчик — наёмное лицо у купца или помещика,
занимавшееся по доверенности хозяина или торговлей в магазине, или
управлением помещичьим хозяйством.
2 Бурмистр — при крепостном праве староста (управитель)
в деревнях, назначавшийся помещиком.
61
Вот они, слёзы-то, текут да текут у меня... и оттого стал
я тощой да хилый... Истёк, значит, слезой-то!
Приятно было Илье слушать уверенные и любовные
речи старика о боге; от ласковых слов в сердце мальчика
рождалось бодрое, крепкое чувство надежды на что-то
хорошее, что ожидает его впереди. Он повеселел и стал
больше ребёнком, чем был первое время жизни в
городе.
Он с увлечением помогал старику рыться в мусоре.
Очень интересно раскапывать кучи разного хлама, а
особенно приятно было видеть радость старика, когда в мусоре
находилось что-нибудь особенное. Однажды Илья нашёл
большую серебряную ложку, — дед купил ему за это
полфунта мятных пряников. Потом он откопал маленький,
покрытый зелёной плесенью кошелёк, а в нём оказалось больше
рубля денег. Порой попадались ножи, вилки, гайки,
изломанные медные вещи, а в овраге, где сваливался мусор
со всего города, Илья отрыл тяжёлый медный подсвечник.
За каждую из таких ценных находок дед покупал Илье
гостинцев.
Находя такую диковину, Илья радостно кричал:
— Дедушка, гляди-ка! Вот так — а-яй!
А дед, беспокойно оглядываясь, увещевал его:
— Да ты не кричи! Не кричи ты!.. Ах, господи!..
Он всегда пугался, когда находили необыкновенные
вещи, и, быстро выхватывая их из рук мальчика, прятал
в свой огромный мешок.
— Молчи, знай, — помалкивай!.. — ласково говорил
старик, а слёзы всё текли и текли из его красных глаз.
Он дал Илье небольшой мешок, палку с железным
концом, — мальчик гордился этим орудием. В свой мешок он
собирал разные коробки, поломанные игрушки, красивые
черепки; ему нравилось чувствовать все эти вещи у себя
за спиной, слышать, как они постукивают там. Собирать
всё это научил его дед Еремей.
— А ты собирай эти штучки и тащи их домой.
Принесёшь, ребятишек обделишь, радость им дашь. Это хорошо —
радость людям дать, любит это господь... Все люди радости
62
хотят, а её на свете ма-ало-мало! Так-то ли мало, что
иной человек живёт-живёт и никогда её не встретит, —
никогда!..
Городские свалки нравились Илье больше, чем хождение
по дворам. На свалках не было никого, кроме двух-трёх
стариков, таких же, как Еремей; здесь не нужно было
оглядываться по сторонам, ожидая дворника с метлой
в руках, который явится, обругает нехорошими словами
да ещё и ударит, выгоняя со двора.
Каждый день, порывшись в свалках часа два, Еремей
говорил мальчику:
-־- Будет, Илюша! Отдохнём давай, поедим!
Вынимал из-за пазухи ломоть хлеба, крестясь,
разламывал его, и они ели, а поев, отдыхали с полчаса, лёжа на
краю оврага. Овраг выходил устьем на реку, её видно было
им. Широкая, серебристо-синяя, она тихо катила мимо оврага
свои волны, и, глядя на неё, Илье хотелось плыть по ней.
За рекою развёртывались луга, стоги сена стояли там серыми
башнями, и далёко, на краю земли, в синее небо
упиралась тёмная зубчатая стена леса. Было в лугах тихо,
ласково, и чувствовалось, что воздух там чистый, прозрачный
и сладко-пахучий... А здесь душно от запаха преющего
мусора; запах этот давил грудь, щипал в носу, — у Ильи,
как у деда, тоже слёзы из глаз текли...
Лёжа на спине, мальчик смотрел в небо, не видя конца
высоте его. Грусть и дрёма овладевали им, какие-то
неясные образы зарождались в его воображении. Казалось
ему, что в небе, неуловимо глазу, плавает кто-то огромный,
прозрачно-светлый, ласково греющий, добрый и строгий,
и что он, мальчик, вместе с дедом и всею землёй
поднимается к нему туда, в бездонную высь, в голубое сиянье,
в чистоту и свет... И сердце его сладко замирало в
чувстве тихой радости.
Вечером, возвращаясь домой, Илья• выходил на двор
с важным видом человека, который хорошо поработал,
желает отдохнуть и совсем не имеет времени заниматься
пустяками, как все другие мальчишки и девчонки. Всем
детям он внушал почтение к себе солидной осанкой и мешком
64
за плечами, в котором всегда лежали разные интересные
штуки...
Дед, улыбаясь ребятишкам, говорил им какую-нибудь
шутку:
— Вот и пришли Лазари, весь город облазили, везде
напроказили!.. Илька! Иди помой рожу да приходи в трактир
чай пить!..
Илья вразвалку шёл к себе в подвал, а ребятишки
гурьбой следовали за ним, осторожно ощупывая содержимое
его мешка. Только Пашка дерзко, загораживая дорогу Илье,
говорил:
— Эй, ветошник! 1 Ну-ка, кажи, что принёс...
— Погодишь! — говорил Илья сурово. — Напьюсь чаю —
покажу...
В трактире его встречал дядя, ласково улыбаясь:
— Пришёл, работник? Ах ты, сердяга!.. Устал?
Илье было приятно слышать, что его называют
работником, а слышал это он не от дяди только. Однажды Пашка
что-то созорничал; Савел поймал его, ущемил в колени
Пашкину голову и, нахлёстывая его верёвкой, приговаривал:
— Не озоруй, шельма, не озоруй! На вот тебе, на! на!
Другие ребята в твои годы сами себе хлеб добывают, а ты
только жрёшь да одёжу дерёшь!..
Пашка визжал на весь двор и дрыгал ногами, а
верёвка всё шлёпалась об его спину. Илья со странным
удовольствием слушал болезненные и злые крики своего врага,
но слова кузнеца наполнили его сознанием своего
превосходства над Пашкой, и тогда ему стало жаль мальчика.
— Дядя Савел, брось! — вдруг закричал он.
Кузнец ударил сына ещё раз и, взглянув на Илью,
сказал сердито:
— А ты — цыц! Заступник!.. Вот я те дам!..
Отшвырнув сына в сторону, он ушёл в кузницу. Пашка
встал на ноги и, спотыкаясь, как слепой, пошёл в тёмный
угол двора. Илья отправился за ним, полный жалости к
нему. В углу Пашка встал на колени, упёрся лбом в забор
1 Ветбшник — торгующий ветошью (старым платьем, тряпьём).
65
жил на голову Илье тяжёлую руку, помолчал немножко
и густо молвил:
— Э-эх, сирота!.. Ну-ка, пусти-ка!..
Сияющий и весёлый, принялся Илья в этот вечер за
обычное своё занятие — раздачу собранных за день диковин.
Дети уселись на землю и жадными глазами глядели на
грязный мешок. Илья доставал из мешка лоскутки ситца,
деревянного солдатика, полинявшего от невзгод, коробку
из-под ваксы, помадную банку, чайную чашку без ручки
и с выбитым краем.
— Это мне, мне, мне! — раздавались завистливые крики,
и маленькие грязные ручонки тянулись со всех сторон
к редкостным вещам.
— Погоди! Не хватай! — комаддовал Илья. — Разве игра
будет, коли вы всё сразу растащите? Ну, открываю лавочку!
Продаю кусок ситцу... Самый лучший ситец! Цена —
полтина!.. Машка, покупай!
— Купила! — отвечал Яков за Сапожникову дочь и,
доставая из кармана заранее приготовленный черепок, совал
его в руку торговцу. Но Илья не брал.
— Ну — какая это игра? А ты торгуйся, чё-орт! Никогда
ты не торгуешься!.. Разве так бывает?
— Я забыл! — оправдывался Яков.
Начинался упорный торг; продавец и покупатели
увлекались им, а в это время Пашка ловко похищал из кучи
то, что ему нравилось, убегал прочь и, приплясывая,
дразнил их:
— А я украл! Разини вы! Дураки, черти!
Он такими выходками приводил всех в исступление:
маленькие кричали и плакали. Яков и Илья бегали по двору за
вором и почти никогда не могли схватить его. Потом к его
выходкам привыкли, уже не ждали от него ничего хорошего,
единодушно невзлюбили его и не играли с ним. Пашка жил
в стороне и усердно старался делать всем что-нибудь
неприятное. А большеголовый Яков возился, как нянька,
с курчавой дочерью сапожника. Она принимала его заботы
о ней как должное, и хотя звала его Яшечка, но
часто царапала и била. Дружба с Ильёй крепла у него,
67
и он постоянно рассказывал товарищу какие-то странные
сны:
— Будто у меня множество денег, и всё рубли — агромад-
ный мешок! И вот я тащу его по лесу. Вдруг — разбойники
идут. С ножами, страшные! Я — бежать! И вдруг будто в
мешке-то затрепыхалось что-то... Как я его брошу! А из
него птицы разные ф-р-р-р!.. Чижи, синицы, щеглята— видимо-
невидимо! Подхватили они меня и понесли, высоко-высоко!
Он прерывал рассказ, глаза его выкатывались, лицо
принимало овечье выражение...
— Ну? — поощрял его Илья, нетерпеливо ожидая конца.
— Так я совсем и улетел!.. — задумчиво доканчивал Яков.
— Куда?
— А... совсем!
— Эх, ты! — разочарованно и пренебрежительно говорил
Илья. — Ничего не помнишь!..
Из трактира выходил дед Еремей и, приставив ладонь ко
лбу, кричал:
— Илюшка! Ты где? Иди-ка спать, пора!..
Илья послушно шёл за стариком и укладывался на своё
ложе — большой куль, набитый сеном. Сладко спалось ему
на этом куле, хорошо жил он с тряпичником, но быстро
промелькнула эта приятная и лёгкая жизнь.
Дедушка Еремей купил Илье сапоги, большое, тяжёлое
пальто, шапку, и мальчика отдали в школу. Он пошёл туда
с любопытством и страхом, а воротился обиженный, унылый,
со слезами на глазах: мальчики узнали в нём спутника
дедушки Еремея и хором начали дразнить:
— Тряпичник! Вонючий!
Иные щипали его, другие показывали языки, а один
подошёл к нему, потянул воздух носом и с гримасой отскочил,
громко крикнув:
— Вот так вонькб пахнет!
— Что они дразнятся? — с недоумением и обидой
спрашивал он дядю.:— Али это зазорно, тряпки-то собирать?
— Ничего-о! — гладя мальчика по голове, говорил
68
Терентий, скрывая своё лицо от вопрошающих и пытливых
глаз племянника. — Это они так... просто озоруют... Ты
потерпи!.. Привыкнешь...
— И над сапогами смеются, и над пальтом!.. Чужое,
говорят, из помойной ямы вытащено!..
Дед Еремей, весело подмигивая глазом, тоже утешал его:
— Терпи, знай! Бог зачтёт!.. Кроме его — никого!..
Старик говорил о боге с такой радостью и верой в его
справедливость, точно знал все мысли бога и проник во
все его намерения.
Слова Еремея на время гасили обиду в сердце мальчика,
но на другой же день она вспыхивала ещё сильнее. Илья уже
привык считать себя величиной, работником; с ним даже
кузнец Савел говорил благосклонно, а школьники смеялись
над ним, дразнили его. Он не мог помириться с этим:
обидные и горькие впечатления школы, с каждым днём
увеличиваясь, всё глубже врезывались в его сердце. Посещение
школы стало тяжёлой обязанностью. Он сразу обратил на
себя внимание учителя своей понятливостью; учитель стал
ставить его в пример другим, — это ещё более обостряло
отношение мальчиков к нему. Сидя на первой парте, он
чувствовал у себя за спиной врагов, а они, постоянно имея
его перед своими глазами, тонко и ловко подмечали в нём
всё, над чем можно было посмеяться, и — смеялись. Яков
учился в этой же школе и тоже был на худом счету у
товарищей; они прозвали его Бараном. Рассеянный,
неспособный, он постоянно подвергался наказаниям, но относился
к ним равнодушно. Он вообще плохо замечал то, что
творилось вокруг него, живя своей особенной жизнью в школе,
дома, и почти каждый день он вызывал удивление Ильи
непонятными вопросами.
— Илька! Это отчего, — глаза у людей маленькие, а
видят всё!.. Целый город видят. Вот — всю улицу... Как она
в глаза убирается, большая такая?
Сначала Илья задумывался над этими речами, но потом
они стали мешать ему, отводя мысли куда-то в сторону от
событий, которые задевали его А таких событий было много,
и мальчик уже научился тонко подмечать их.
69
Однажды он пришёл из школы домой и, оскалив зубы,
сказал Еремею:
— Учитель-то?! Гы-ы!.. Тоже понятливый!.. Вчера лавош-
ника Малафеева сын стекло разбил в окошке, так он его
только пожурил легонько, а стекло-то сегодня на свои деньги
вставил...
— Видишь, какой добрый человек! — с умилением сказал
Еремей.
— Добрый, да-а! А как Ванька Ключарёв разбил стекло,
так он его без обеда оставил да потом Ванькина отца
позвал и говорит: «Подай на стекло сорок копеек!..» А отец
Ваньку выпорол!..
— А ты этого не замечай себе, Илюша! — посоветовал
дед, беспокойно мигая глазами. — Ты так гляди, будто не
твоё дело... Неправду разбирать — богу принадлежит, не
нам! Мы не можем. А он всему меру знает!.. Я вот, видишь,
жил-жил, глядел-гл я дел, — столько неправды видел —
сосчитать невозможно! А правды не видал!.. Восьмой десяток
мне пошёл однако... И не может того быть, чтобы за такое
большое время не было правды около меня на земле-то...
А я не видал... Не знаю её!..
— Ну-у! — недоверчиво сказал Илья. — Тут чего знать-
то? Коли с одного сорок, так и с другого сорок: вот
и правда!..
Старик не согласился с этим. Он ещё много говорил
о слепоте людей и о том, что не могут они правильно
судить друг друга, а только божий суд справедлив. Илья
слушал его внимательно, но всё угрюмее становилось его
лицо, и глаза все темнели...
ДЕД АРХИП И ЛЕНЬКА
Ожидая паром, они оба легли в тень от берегового
обрыва и долго молча смотрели на быстрые и мутные волны
Кубани у их ног. Лёнька задремал, а дед Архип, чувствуя
тупую, давящую боль в груди, не мог уснуть. На тёмно-
коричневом фоне земли их отрёпанные и скорченные фигуры
едва выделялись двумя жалкими комками, один — побольше,
другой — поменьше; утомлённые, загорелые и пыльные
физиономии были совсем под цвет бурым лохмотьям.
Костлявая и длинная фигура дедушки Архипа вытянулась
поперёк узкой полоски песка — он жёлтой лентой тянулся
вдоль берега, между обрывом и рекой; задремавший Лёнька
лежал калачиком сбоку деда. Лёнька был маленький,
хрупкий, в лохмотьях он казался корявым сучком, отломленным от
деда — старого иссохшего дерева, принесённого и
выброшенного сюда, на песок, волнами реки.
71
Дед, приподняв на локте голову, смотрел на
противоположный берег, залитый солнцем и бедно окаймлённый
редкими кустами ивняка; из кустов высовывался чёрный борт
парома. Там было скучно и пусто. Серая полоса дороги уходила
от реки в глубь степи; она была как-то беспощадно пряма,
суха и наводила уныние.
Его тусклые и воспалённые глаза старика, с красными,
опухшими веками, беспокойно моргали, а испещрённое
морщинами лицо замерло в выражении томительной тоски. Он
то и дело сдержанно кашлял и, поглядывая на внука,
прикрывал рот рукой. Кашель был хрипл, удушлив, заставлял
деда приподниматься с земли и выжимал на его глазах
крупные капли слёз.
Кроме его кашля да тихого шороха волн о песок, в степи
не было никаких звуков... Она лежала по обе стороны реки,
громадная, бурая, сожжённая солнцем, и только там, далеко
на горизонте, еле видное старческим глазом, пышно
волновалось золотое море пшеницы и прямо в него падало
ослепительно яркое небо. На нём вырисовывались три стройные
фигуры далёких тополей; казалось, что они то уменьшаются, то
становятся выше, а небо и пшеница, накрытая им,
колеблются, поднимаясь и опускаясь. И вдруг всё скрывалось за
блестящей, серебряной пеленой степного марева...
Эта пелена, струистая, яркая и обманчивая, иногда
притекала из дали почти к самому берегу реки, и тогда сама
она была как бы рекой, вдруг излившейся с неба, такой же
чистой и спокойной, как оно.
Тогда дед Архип, незнакомый с этим явлением,
потирал свои глаза и тоскливо думал про себя, что эта жара да
степь отнимают у него и зрение, как отняли остатки силы
в ногах.
Сегодня ему было более плохо, чем всегда за последнее
время. Он чувствовал, что скоро умрёт, и хотя относился
к этому совершенно равнодушно, без дум, как к необходимой
повинности, но ему бы хотелось умереть далеко, не здесь, а на
родине, и ещё его сильно смущала мысль о внуке...
Куда денется Лёнька?..
Он ставил перед собой этот вопрос по нескольку раз
72
в день, и всегда при этом в нём что-то сжималось, холодело
и становилось так тошно, что ему хотелось сейчас же
воротиться домой, в Россию...1
Но — далеко идти в Россию... Всё равно не дойдёшь,
умрёшь где-нибудь в дороге. Здесь по Кубани подают
милостыню щедро; народ всё зажиточный, хотя тяжёлый и
насмешливый. Не любят нищих, потому что богаты...
Остановив на внуке увлаженный слезой взгляд, дед
осторожно погладил шершавой рукой его голову.
Тот зашевелился и поднял на него голубые глаза,
большие, глубокие, не по-детски вдумчивые и казавшиеся ещё
больше на его худом, изрытом оспой личике, с тонкими,
бескровными губами и острым носом.
— Идёт? — спросил он и, приложив щитком руку к
глазам, посмотрел на реку, отражавшую лучи солнца.
— Нет ещё, не идёт. Стоит. Чего ему здесь? Не зовёт
никто, ну и стоит он... — медленно заговорил Архип, продолжая
гладить внука по голове. — Дремал ты?
Лёнька неопределённо покрутил головой и вытянулся на
песке. Они помолчали.
— Кабы я плавать умел, купаться бы стал, — пристально
глядя на реку, заявил Лёнька. — Быстра больно река-то!
Нет у нас таких рек. Чего треплет? Бежит, точно опоздать
боится...
И Лёнька недовольно отвернулся от воды.
— А вот что, — заговорил дед, подумав, — давай
распояшемся, пояски-то свяжем, я тебя за ногу прикручу, ты
и лезь, купайся...
— Ну-у!.. — резонно протянул Лёнька. — Чего выдумал!
Али ты думаешь, не стащит она тебя? И утонем оба.
— А ведь верно! Стащит. Ишь как прёт... Чай, весной-
то разольётся — ух ты!.. И покосу тут — беда! Без краю
покосу!
Лёньке не хотелось говорить, и он оставил слова деда
1 В царское время Россией называли центральные области
нашей страны, в отличие от её окраин: Сибири, Урала и южных
областей.
73
без ответа, взяв в руки ком сухой глины и разминая его
пальцами в пыль с серьёзным и сосредоточенным
выражением на лице.
Дед смотрел на него и о чём-то думал, щуря глаза.
— Ведь вот... — тихо и монотонно заговорил Лёнька,
стряхивая с рук пыль. — Земля эта теперь... взял я её
в руки, растёр, и стала пыль... крохотные кусочки одни
только, чуть глазом видно...
— Ну, так что ж? — спросил Архип и закашлялся,
посматривая сквозь выступившие на глазах слёзы в большие,
сухо блестящие глаза внука. — Ты к чему это?—добавил
он, когда прокашлялся.
— Так... — качнул головой Лёнька. — К тому, что, мол,
вся-то она эвона какая!.. — Он махнул рукой за реку. —
И всего на ней понастроено... Сколько мы с тобой городов
прошли! Страсть! А людей везде сколько!
И, не умея уловить свою мысль, Лёнька снова молча
задумался, посматривая вокруг себя.
Дед тоже помолчал немного и потом, плотно
подвинувшись к внуку, ласково заговорил:
— Умница ты моя! Правильно сказал ты — пыль всё...
и города, и люди, и мы с тобой — пыль одна. Эх ты,
Лёнька, Лёнька!.. Кабы грамоту тебе!., далеко бы ты пошёл.
И что с тобой будет?..
Дед прижал голову внука к себе и поцеловал её.
— Погоди... — высвобождая свои льняные волосы из
корявых, дрожащих пальцев деда, немного оживляясь, крикнул
Лёнька. — Как ты говоришь? Пыль? Города и всё?
— А так уж устроено богом, голубь. Всё — земля, а сама
земля — пыль. И всё умирает на ней... Вот как! И должен
потому человек жить в труде и смирении. Вот и я тоже
умру скоро... — перескочил дед и тоскливо добавил: — Куда
ты тогда пойдёшь без меня-то?
Лёнька часто слышал от деда этот вопрос, ему уже
надоело рассуждать о смерти, он молча отвернулся в сторону,
сорвал былинку, положил её в рот и стал медленно жевать.
Но у деда это было больное место.
— Что ж ты молчишь? Как, мол, ты без меня-то
бу74
дешь? — тихо спросил он, наклоняясь к внуку и снова
кашляя.
— Говорил уж... — рассеянно и недовольно произнёс
Лёнька, искоса взглядывая на деда.
Ему не нравились эти разговоры ещё и потому, что
зачастую они кончались ссорою. Дед долго говорил о
близости своей смерти. Лёнька сначала слушал его
сосредоточенно, пугался представлявшейся ему новизны положения,
плакал, но постепенно утомлялся — и не слушал деда,
отдаваясь своим мыслям, а дед, замечая это, сердился и
жаловался, что Лёнька не любит деда, не ценит его забот,
и наконец упрекал Лёньку в желании скорейшего
наступления его, дедовой, смерти.
— Что — говорил? Глупенький ты ещё, не можешь ты
понимать своей жизни. Сколько тебе от роду? Одиннадцатый
год только. И хил ты, негодный к работе. Куда ж ты
пойдёшь? Добрые люди, думаешь, помогут? Кабы у тебя вот
деньги были, так они бы помогли тебе прожить их — это так.
А милостыню-то собирать не сладко и мне, старику. Каждому
поклонись, каждого попроси. И ругают тебя, и колотят
часом, и гонят... Рази ты думаешь, человеком считают ни-
щего-то? Никто! Десять лет по миру хожу — знаю. Кусок-то
хлеба в тыщу рублей ценят. Подаст да и думает, что уж
ему сейчас же райские двери отворят! Ты думаешь, подают
зачем больше? Чтобы совесть свою успокоить; вот зачем,
друг, а не из жалости! Ткнёт тебе кусок, ну, ему и не
стыдно самому-то есть. Сытый человек — зверь. И никогда
он не жалеет голодного. Враги друг другу — сытый и
голодный, веки вечные они сучком в глазу друг у друга будут.
Потому и невозможно им жалеть и понимать друг друга.
Дедушка воодушевился злобой и тоской. От этого у него
тряслись губы, старческие, тусклые глаза быстро шмыгали
в красных рамках ресниц и век, а морщины на тёмном
лице выступили резче.
Лёнька не любил его таким и немного боялся чего-то.
— Вот я тебя и спрашиваю, что ты станешь делать
с миром? Ты — хилый ребёночек, а мир-то — зверь. И
проглотит он тебя сразу. А я не хочу этого... Люблю ведь я
те75
бя, дитятко!.. Один ты у меня, и я у тебя один... Как же
я буду умирать-то? Невозможно мне умереть, а ты чтоб
остался... На кого?.. Господи!.. За что ты не возлюбил раба
твоего?! Жить мне невмочь и умирать мне нельзя, потому —
дитё, — оберечь должен. Пестовал семь годов... на руках
моих... старых... Господи, помоги мне!..
Дедушка сел и заплакал, уткнув голову в колени
дрожащих ног.
Река торопливо катилась вдаль, звучно плескалась о
берег, точно желая заглушить этим плеском рыдания старика.
Ярко улыбалось безоблачное небо, изливая жгучий зной,
спокойно слушая мятежный шум мутных волн.
— Будет, не плачь, дедушка, — глядя в сторону, суровым
тоном проговорил Лёнька и, повернув к деду лицо,
добавил:— Говорили обо всём уж ведь. Не пропаду. Поступлю
в трактир куда ни то...
— Забьют... — сквозь слёзы простонал дед.
— Может, и не забьют. А вот как не забьют! — с
некоторым задором вскричал Лёнька, — тогда что? Не дамся
каждому!..
Но тут Лёнька вдруг почему-то осекся и, помолчав,
тихонько сказал:
< — А то в монастырь уйду...
— Кабы в монастырь! — вздохнул дед, оживляясь,
и снова начал корчиться в припадке удушливого кашля.
Над их головами раздался крик и скрип колёс...
— Паро-о-ом!.. Паро-о — гей! — сотрясала воздух чья-тсг
могучая глотка.
Они вскочили на ноги, подбирая котомки и палки.
Пронзительно скрипя, на песок въехала арба. В ней
стоял казак и, закинув голову в мохнатой, надвинутой на
одно ухо шапке, приготовлялся гикнуть, вбирая в себя
открытым ртом воздух, отчего его широкая, выпяченная
вперёд грудь выпячивалась ещё более. Белые зубы ярко
сверкали в шёлковой раме чёрной бороды, начинавшейся от
глаз, налитых кровью. Из-под расстёгнутой рубахи и чохи *, 11 Чоха — одежда с широкими откидывающимися рукавами.
76
небрежно накинутой на плечи, виднелось волосатое,
загорелое на солнце тело. И от всей его фигуры, прочной
и большой, как и от лошади, мясистой, пегой и тоже
уродливо большой, от колёс арбы, высоких, стянутых
толстыми шинами, — разило сытостью, силой, здоровьем.
— Гей!.. Гей!..
Дед и внук стащили с своих голов шапки и низко
поклонились.
— Здравствуйте! — гулко отрубил приехавший и,
посмотрев на тот берег, где из кустов выползал медленно
и неуклюже чёрный паром, стал пристально оглядывать
нищих. — Из России?
— Из неё, милостивец! — с поклоном ответил Архип.
— Голодно там у вас, а?
Он спрыгнул с арбы на землю и стал что-то подтягивать
в упряжке.
— И тараканы с голода мрут.
— Хо, хо! И тараканы мрут? Значит, аж крошек не
осталось, всё поели? Ловко едите. А вот работаете, должно,
погано. Потому, как хорошо работать станешь, не будет
голоду.
— Тут, кормилец, главная причина — земля. Не родит.
Высосали землю-то мы.
— Земля? — тряхнул казак головой. — Земля всегда
должна родить, на то она и дана человеку. Говори: не
земля, а руки. Руки плохи. От хороших рук камень
не отобьётся, родит.
Подъехал паром.
Двое здоровых краснорожих казаков, упираясь толстыми
ногами в пол парома, с треском ткнули его о берег,
покачнулись, бросили из рук канат и, взглянув друг на друга,
стали отдуваться.
— Жарко? — оскалил зубы приехавший, вводя на паром
свою лошадь и дотрагиваясь рукой до шапки.
— Эге! — ответил один из паромщиков, глубоко засунув
руки в карманы шаровар, и, подойдя к арбе, заглянул
в неё и повёл носом, сильно втянув в себя воздух.
Другой сел на пол и, кряхтя, стал снимать сапог.
77
Дед и Лёнька вошли на паром и прислонились к борту,
посматривая на казаков.
— Ну, едем! — скомандовал хозяин арбы.
— А ты не везёшь ничего с собой попить? — спросил
у него тот, что осматривал арбу. Его товарищ снял сапог
и, прищурив глаз, смотрел в голенище.
— Ничего. А что? разве в Кубани воды мало?
— Воды!., я не о воде.
— А о горилке? Не везу горилки.
— Как же это ты не везёшь? — задумался
спрашивавший, уставив глаза в пол парома.
— Ну-ну, едем!
Казак поплевал на руки и взялся за канат.
Переезжавший стал помогать ему.
— А ты, дед, что же не поможешь? — обратился
паромщик, возившийся с сапогом, к Архипу.
— Где мне, родной! — жалобным тоном и качая головой,
пропел тот.
— И не надо им помогать. Они и одни управятся!
И, как бы желая убедить деда в истине своих слов,
он грузно опустился на колени и лёг на палубе парома.
Его товарищ лениво ругнул его и, не получив ответа,
громко затопал ногами, упираясь в палубу.
Отбиваемый течением, с глухим шумом плескавшим о его
бока, паром вздрагивал и качался, медленно подвигаясь
вперёд.
Глядя на воду, Лёнька чувствовал, что у него сладко
кружится голова и глаза, утомлённые быстрым бегом волн,
дремотно слипаются. Глухой шёпот деда, .скрип каната
и сочный плеск волн ^убаюкивали его; он хотел опуститься
на палубу в дремотной истоме, но вдруг что-то качнуло его
так, что он упал.
Широко раскрыв глаза, он смотрел кругом. Над ним
смеялись казаки, причаливая паром за обгорелый пень на берегу.
— Что, заснул? Хилый ты. Садись в арбу, довезу до
станицы 1. И ты, дед, садись.
1 Станйца — большое селение у казаков на Дону и на Кубани.
78
Благодаря казака нарочито гнусавым голосом, дед,
кряхтя, влез в арбу. Лёнька тоже прыгнул туда, и они поехали в
клубах мелкой чёрной пыли, заставлявшей деда задыхаться
от кашля.
Казак затянул песню. Пел он странными звуками,
отрывая ноты в середине и доканчивая их свистом. Казалось, он
развивает звуки с клубка, как нитки, и, когда ему встречается
узел, обрывает их.
Колёса жалобно скрипели, вилась пыль; дед, тряся
головой, не переставая кашлял, а Лёнька думал о том, что вот
сейчас приедут они в станицу и нужно будет гнусавым
голосом петь под окнами: «Господи, Иисусе Христе»... Снова
станичные мальчики будут задирать его, а бабы надоедать
расспросами о России. Нехорошо в эту пору смотреть и на
деда, который кашляет чаще, горбится ниже, отчего ему
самому неловко и больно, и говорит таким жалобным
голосом, то и дело всхлипывая и рассказывая о том, чего нигде
и никогда не было... Говорит, что в России на улицах
мрёт народ, да так и валяется, и убрать некому, потому что
все люди обалдели от голода... Ничего этого они с дедом
не видали нигде... А нужно всё это для того, чтобы больше
подавали. Но куда её, милостыню, здесь денешь? Дома —
там можно всегда продать по сорок копеек и даже по
полтине за пуд, а здесь никто не покупает. Потом
приходится эти куски, иногда очень вкусные, выбрасывать из
котомок в степи.
— Собирать пойдёте? — спросил казак, оглядывая через
плечо две скорченные фигуры.
— Уж конечно, почтенный! — со вздохом ответил ему
дед Архип.
— Встань на ноги, дед, покажу, где живу, — ночевать
ко мне придёте.
Дед попробовал встать, но упал, ударившись боком
о край арбы, и глухо застонал.
— Эх ты, старый!.. — буркнул казак, соболезнуя. —
Ну, всё равно, не гляди; придёт пора на ночлег идти,
спроси Чёрного, Андрея Чёрного, это я и есть. А теперь
слезай. Прощайте!
79
Дед и внук очутились перед кучкой тополей и осокорей.
Из-за их стволов виднелись крыши, заборы, повсюду —
направо и налево — к небу вздымались такие же кучки.
Их зелёная листва была одета серой пылью, а кора толстых,
прямых стволов- потрескалась от жары.
Прямо перед нищими между двух плетней тянулся узкий
проулок, они направились в этот проулок развалистой
походкой много ходивших пешком людей.
— Ну, как мы, Лёня, пойдём — вместе или порознь? —
спросил дед и, не дожидаясь ответа, прибавил: — Вместе
бы лучше — мало больно тебе подают. Не умеешь ты про-
сить-то...
— Куда много-то надо? Всё равно ведь не поедаем... —
хмуро ответил Лёнька, оглядываясь вокруг.
— Куда? Чудашка ты!.. А вдруг подвернётся человек да
и купит? Вот те и куда!.. Деньги даст. А деньги дело
большое; ты с ними небось не пропадёшь, как умру-то я.
И, ласково усмехаясь, дед погладил внука рукой по
голове.
— Ты знаешь ли, сколько я за путину-то скопил? А?
— А сколько? — равнодушно спросил Лёнька.
— Одиннадцать с полтиной!.. Видишь?!
Но на Лёньку не произвели впечатления эта сумма
и ликующий тон деда.
— Эх ты, малыш, малыш! — вздохнул дед. — Так
порознь, что ли, идём?
— Порознь...
— Ну... К церкви приходи, буде. <
— Ладно.
Дед свернул в проулок налево, а Лёнька пошёл дальше.
Сделав шагов десять, он услыхал дребезжащий возглас:
«Благодетели и кормильцы!..» Этот возглас был похож на
то, как бы по расстроенным гуслям провели ладонью с самой
густой до тонкой струны. Лёнька вздрогнул и прибавил
шагу. Всегда, когда слышал он просьбы деда, ему
становилось неприятно и как-то тоскливо, а когда деду отказывали,
он даже робел, ожидая, что вот сейчас разревётся дедушка.
До слуха его ещё долетали дрожащие, жалкие ноты
де80
дова голоса, плутавшие в сонном и знойном воздухе над
станицей. Кругом было всё так тихо, точно ночью. Лёнька
подошёл к плетню и сел в тени от свесившихся через него
на улицу ветвей вишни. Где-то гулко жужжала пчела...
Сбросив котомку с плеч, Лёнька положил на неё голову и,
немного посмотрев в небо сквозь листву над его лицом,
крепко заснул, укрытый от взглядов прохожих густым
бурьяном и решётчатой тенью плетня.:.
Проснулся он, разбуженный странными звуками,
колебавшимися в воздухе, уже посвежевшем от близости вечера.
Кто-то• плакал неподалёку от него. Плакали по-детски —
задорно и неугомонно. Звуки рыданий замирали в тонкой,
минорной ноте и вдруг снова и с новой силой вспыхивали
и лились, всё приближаясь к нему. Он Поднял голову и через
бурьян поглядел на дорогу.
По ней шла девочка лет семи, чисто одетая, с красным
и вспухшим от слёз лицом, которое она то и дело вытирала
подолом белой юбки. Шла она медленно, шаркая босыми
ногами по дороге, вздымая густую пыль, и, очевидно, не
знала, куда и зачем идёт. У неё были большие чёрные глаза,
теперь — обиженные, грустные и влажные, маленькие, тонкие,
розовые ушки шаловливо выглядывали из прядей
каштановых волос, растрёпанных и падавших ей на лоб, щёки и плечи.
Она показалась Лёньке очень смешной, несмотря на свои
слёзы, — смешной и весёлой... И озорница, должно быть!..
— Ты чего плачешь? — спросил он, вставая на ноги,
когда она поравнялась с ним.
Она вздрогнула и остановилась, сразу перестав плакать,
но всё ещё потихоньку всхлипывая. Потом, когда она
несколько секунд посмотрела на него, у неё снова дрогнули
губы, сморщилось лицо, грудь колыхнулась, и, снова громко
зарыдав, она пошла.
Лёнька почувствовал, как у него что-то сжалось внутри,
и вдруг тоже пошёл за ней.
— А ты не плачь. Большая уж — стыдно! — заговорил он,
ещё не поравнявшись с ней, и потом, когда догнал её,
заглянул ей в лицо и переспросил снова: — Ну, чего ты
разревелась?
81
— Да-а!.. — протянула она. — Кабы тебе... — и вдруг
опустилась в пыль на дорогу, закрыв лицо руками, и
отчаянно заныла.
— Ну! — пренебрежительно махнул рукой Лёнька. —
Баба!.. Как есть — баба. Фу ты!..
Но это не помогло ни ей, ни ему. Лёньке, глядя, как
между её тонкими, розовыми пальцами струились одна за
другой слезинки, стало тоже грустно и захотелось плакать.
Он наклонился над нею и, осторожно подняв руку, чуть
дотронулся до её волос, но тотчас же, испугавшись своей
смелости, отдёрнул руку прочь. Она всё плакала и ничего
не говорила.
— Слышь!.. — помолчав, начал Лёнька, чувствуя
настоятельную потребность помочь ей. — Чего ты это? Поколотили,
что ли?.. Так ведь пройдёт!.. А то, может, другое что?
Ты скажи! Девочка — а?
Девочка, не отнимая рук от лица, печально качнула
головой и наконец сквозь рыдания медленно ответила ему,
поводя плечиками:
— Платок... потеряла!.. Батька с базара привёз...
голубой, с цветками, а я надела — и потеряла. — И заплакала
снова, сильнее и громче, всхлипывая и стонущим голосом
выкликая странное: о-о-о!
Лёнька почувствовал себя бессильным помочь ей и, робко
отодвинувшись от неё, задумчиво и грустно посмотрел на
потемневшее небо. Ему было тяжело и очень жаль девочку.
— Не плачь!., может, найдётся... — тихонько прошептал
он, но, заметив, что она не слышит его утешения, отодвинулся
ещё дальше от неё, думая, что, наверное, от отца достанется
ей за эту потерю. И тотчас же ему представилось, что отец,
большой и чёрный казак, колотит её, а она, захлёбываясь
слезами и вся дрожа от страха и боли, валяется у него
в ногах...
Он встал и пошёл прочь, но, отойдя шагов пять, снова
круто повернулся, остановился против неё, прижавшись
к плетню, и старался вспомнить что-нибудь такое ласковое
и доброе...
— Ушла бы ты с дороги, девочка! Да уж перестань
82
плакать־то! Поди домой да и скажи всё, как было. Потеряла,
мол... Что уж больно?..
Он начал говорить это тихим, соболезнующим голосом
и, кончив возмущённым восклицанием, обрадовался, видя,
что она поднимается с земли.
— Вот и ладно!.. — улыбаясь и оживлённо продолжал
он. — Иди-ка вот. Хочешь, я с тобой пойду и расскажу
всё? Заступлюсь за тебя, не бойся!
И Лёнька гордо повёл плечами, оглянувшись вокруг себя.
— Не надо... — прошептала она, медленно отряхивая
пыль с платья и всё всхлипывая.
— А то — пойду? — с полнейшей готовностью громко
заявил Лёнька и сдвинул себе на ухо картуз.
Теперь он стоял перед ней, широко расставив ноги, отчего
надетые на нём лохмотья как-то храбро заершились. Он
твёрдо постукивал палкой о землю и смотрел на неё упорно,
а его большие и грустные глаза светились гордым и смелым
чувством.
Девочка искоса посмотрела на него, размазывая по
своему личику слёзы, и, снова вздохнув, сказала:
— Не надо, не ходи... Мамка не любит нищих-то.
И пошла от него прочь, два раза оглянувшись назад.
Лёньке сделалось скучно. Он незаметно, медленными
движениями изменил свою решительную, вызывающую позу,
снова сгорбился, присмирел и, закинув за спину свою
котомку, висевшую до этого на руке, крикнул вслед девочке,
когда она уже скрылась за поворотом проулка:
— Прощай!
Она обернулась к нему на ходу и исчезла.
Приближался вечер, и в воздухе стояла та особенная,
тяжёлая духота, которая предвещает грозу. Солнце уже было
низко, и вершины тополей зарделись лёгким румянцем. Но от
вечерних теней, окутавших их ветви, они, высокие и
неподвижные, стали гуще, выше... Небо над ними тоже темнело,
делалось бархатным и точно опускалось ниже к земле. Где-то
далеко говорили люди и где-то ещё дальше, но в другой
стороне— пели. Эти звуки, тихие, но густые, казалось, тоже
были пропитаны духотой.
84
Лёньке стало ещё скучнее и даже боязно чего-то. Он
захотел пойти к деду, оглянулся вокруг себя и быстро пошёл
вперёд по переулку. Просить милостыню ему не хотелось.
Он шёл и чувствовал, что у него в груди сердце бьётся так
часто, часто и что ему как-то особенно лень идти и думать...
Но девочка не выходила из его памяти, и думалось: «Что
с ней теперь? Коли она из богатого дома, будут её бить:
все богачи — скряги; а коли бедная, то, может, и не будут...
В бедных домах ребят-то больше любят, потому что от них
работы ждут». Одна за другой думы назойливо шевелились
в его голове, и с каждой минутой томительное и щемящее
чувство тоски, как тень сопровождавшее его думы,
становилось тяжелее, овладевало им всё более.
И тени вечера становились удушливее, гуще. Навстречу
Лёньке попадались казаки и казачки и проходили мимо, не
обращая на него внимания, уже успев привыкнуть к наплыву
голодающих из России. Он тоже лениво скользил
потускневшим взглядом по их сытым крупным фигурам и быстро шёл
к церкви, — крест её сиял за деревьями впереди его.
Навстречу ему нёсся шум возвращавшегося стада. Вот
и церковь, низенькая и широкая, с пятью главами,
выкрашенными голубой краской, обсаженная кругом тополями,
вершины которых переросли её кресты, облитые лучами
заката и сиявшие сквозь зелень розоватым золотом.
Вот и дед идёт к папертщ согнувшись под тяжестью
котомки, и озирается по сторонам, приставив ладонь ко лбу.
За дедом тяжёлой, развалистой походкой шагает
станичник в шапке, низко надвинутой на лоб, и с палкой в руке.
— Что, пуста котомка-то? — спросил дед, подходя ко
внуку, остановившемуся, ожидая его, у церковной ограды. —
А я вон сколько!.. — И, кряхтя, он свалил с плеч на землю
свой холщовый, туго набитый мешок. — Ух!., хорошо здесь
подают! Ахти, хорошо!.. Ну, а ты чего такой надутый?
— Голова болит...— тихо молвил Лёнька, опускаясь на
землю рядом с дедом.
— Ну?.. Устал... Сморился!.. Вот ночевать пойдём сейчас.
Как казака-то того звать? А?
85
— Андрей Чёрный.
— Так мы и спросим: а где, мол, тут Чёрный Андрей?
Вот к нам человек идёт... Да... Хороший народ, сытый!
И всё пшеничный хлеб едят. Здравствуйте, добрый человек!
Казак подошёл к ним вплоть и медленно проговорил
в ответ на приветствие деда:
— И вы здравствуйте.
Затем, широко расставив ноги и остановив на
нищих большие, ничего не выражавшие глаза, молча
почесался.
Лёнька смотрел на него пытливо, дед моргал своими
старческими глазами вопросительно, казак всё молчал
и наконец, высунув до половины язык, стал ловить им
конец своего уса. Удачно кончив эту операцию, он втащил
ус в рот, пожевал его, снова вытолкнул изо рта языком
и наконец прервал молчание, уже ставшее томительным,
лениво проговорив:
— Ну — пойдёмте в сборную!
— Зачем? — встрепенулся дед.
У Лёньки дрогнуло что-то внутри.
— А надо... Велено. Ну!
Он поворотился к ним спиной и пошёл было, но,
оглянувшись назад и видя, что оба они не трогаются с места,
снова и уже сердито крикнул:
— Чего ж ещё!
Тогда дед и Лёнька быстро пошли за ним.
Лёнька упорно смотрел на деда и, видя, что у него
трясутся губы и голова и что он, боязливо озираясь вокруг
себя, быстро шарит у себя за пазухой, чувствовал, что дед
опять нашалил чего-то, как и тогда в Тамани. Ему стало
боязно, когда он представил себе таманскую историю. Там
дед стянул со двора бельё и его поймали с ним. Смеялись,
ругали, били даже и, наконец, ночью выгнали вон из
станицы. Они ночевали с дедом где-то на берегу пролива
в песке, и море всю ночь грозно урчало... Песок скрипел,
передвигаемый набегавшими на него волнами... А дед всю
ночь стонал и шёпотом молился богу, называя себя вором
и прося прощения.
86
— Лёнька...
Лёнька вздрогнул от толчка в бок и посмотрел на деда.
У того лицо вытянулось, стало суше, серее и всё дрожало.
Казак шёл впереди шагов на пять, курил трубку, обивал
палкой головки репейника и не оборачивался на них.
—) На вот, возьми!., брось... в бурьян... да заметь, где
бросишь!., чтобы взять после... — чуть слышно прошептал
дед и, плотно прижавшись на ходу ко внуку, сунул ему
в руку какую-то тряпицу, свёрнутую в комок.
Лёнька отстранился, дрогнув от страха, сразу
наполнившего холодом всё его существо, и подошёл ближе к забору,
около которого густо разросся бурьян. Напряжённо глядя на
широкую спину казака-конвоира, он протянул в сторону
руку и, посмотрев на неё, бросил тряпку в бурьян...
Падая, тряпка развернулась, и в глазах Лёньки
промелькнул голубой с цветами платок, тотчас заслонённый
образом маленькой плачущей девочки. Она встала перед ним,
как живая, закрыв собой казака, деда и всё окружающее...
Звуки её рыданий снова ясно раздались в ушах Лёньки,
и ему показалось, что перед ним на землю падают светлые
капельки слёз.
В этом почти невменяемом состоянии он пришёл позади
деда в сборную, слышал глухое гудение, разобрать которое
не. мог и не хотел, точно сквозь туман видел, как из
котомки деда высыпали куски на большой стол, и эти куски,
падая глухо и мягко, стучали о стол... Затем над ними
склонилось много голов в высоких шапках; головы и шапки
были хмуры и мрачны и сквозь туман, облекавший их,
качаясь, грозили чем-то страшным... Потом вдруг дед, хрипло
бормоча что-то, как волчок завертелся в руках двух дюжих
молодцов...
— Напрасно, православные!.. Неповинен, видит
господь!..— пронзительно взвизгнул дед.
Лёнька, заплакав, опустился на пол.
Тогда подошли и к нему. Подняли, посадили на лавку,
и обшарили все лохмотья, покрывавшие его маленькое
тельце.
— Брешет Даниловна, чёртова баба! — громыхнул кто-то,
87
точно ударив по ушам Лёньки своим густым и
раздражённым голосом.
— А может, они спрятали где? — крикнули в ответ ещё
громче.
Лёнька чувствовал, что все эти звуки точно бьют его по
голове, и ему стало так страшно, что он потерял сознание,
вдруг точно нырнув в какую-то чёрную яму, раскрывшую
перед ним бездонный зев.
Когда он очнулся, его голова лежала на коленях деда,
над лицом его наклонилось дедово лицо, жалкое и
сморщенное более, чем всегда, и из дедовых глаз, испуганно
моргавших, капают на его, Лёнькин, лоб маленькие мутные слёзы
и очень щекотят, скатываясь по щекам на шею...
— Оклемался 1 ли, родной?!. Пойдём-ка отсюда.
Пойдём, — отпустили, проклятые!
Лёнька поднялся, чувствуя, что в его голове налито что-то
тяжёлое и что она вот-вот упадёт с плеч... Он взял её руками
и закачался из стороны в сторону, тихо стоная.
— Болит головонька-то? Родненький ты мой!.. Измучили
они нас с тобой... Звери! Кинжал пропал, вишь ты, да
платок девчонка потеряла, ну, они и навалились на нас!..
Ох, господи!., за что наказуешь?!.
Скрипучий голос деда как-то царапал Лёньку, и он
чувствовал, что внутри его разгорается острая искорка, заставляя
его отодвинуться от деда дальше. Отодвинулся и посмотрел
вокруг...
Они сидели у выхода из станицы, под густой тенью ветвей
корявого осокоря. Уже настала ночь, взошла луна, и её
молочно-серебристый свет, обливая ровное степное
пространство, сделал его как бы ^же, чем оно было днём, уже и ещё
пустынней, грустнее.
Издалека, со степи, слитой с небом, вздымались тучи
и тихо плыли над ней, закрывая луну и бросая на землю
густые тени. Тени плотно ложились на землю, медленно,
задумчиво ползли по ней и вдруг пропадали, точно уходя
в землю через трещины от жгучих ударов солнечных лучей...
1 Оклемался (просторечное слово) —пришёл в себя, опомнился.
88
Из станицы доносились голоса, и кое-где в ней вспыхивали
огоньки,’перемигиваясь с ярко-золотыми звёздами.
— Пойдём, милый!., идти надо, — сказал дед.
— Посидим ещё!.. — тихо сказал Лёнька.
Ему нравилась степь. Днём, идя по ней, он любил
смотреть вперёд, туда, где свод неба опирается на её широкую
грудь... Там он представлял себе большие чудные города,
населённые невиданными им добрыми людьми, у которых не
нужно будет просить хлеба —сами дадут, без просьб...
А когда степь, всё шире развёртываясь перед его глазами,
вдруг выдвигала из себя станицу, уже знакомую ему,
похожую строениями и людьми на все те, которые он видел
прежде, ему делалось грустно и обидно за этот обман.
И теперь он задумчиво смотрел вдаль, откуда выползали
медленно тучи. Они казались ему дымом тысяч труб того
города, который так ему хотелось видеть... Его созерцание
прервал сухой кашель деда.
Лёнька пристально взглянул в смоченное слезами лицо
деда, жадно глотавшего воздух.
Освещённое луной и перекрытое странными тенями,
падавшими на него от лохмотьев шапки, от бровей и бороды,
это лицо, с судорожно двигавшимся ртом и широко
раскрытыми глазами, светившимися каким-то затаённым
восторгом, — было страшно, жалко и, возбуждая в Лёньке то,
новое для него, чувство, заставляло его отодвигаться от
деда подальше...
— Ну, посидим, посидим!.. — бормотал он и, глупо
ухмыляясь, шарил за пазухой.
Лёнька отвернулся и снова стал смотреть вдаль.
— Лёнька!.. Погляди-ка!.. — вдруг всхлипнул дед
восторженно и, весь корчась от удушливого кашля, протянул
внучку что-то длинное и блестящее. — В серебре! серебро
ведь!., полсотни стоит!..
Руки и губы у него дрожали от жадности и боли, и всё
лицо передёргивалось.
Лёнька вздрогнул и оттолкнул его руку;
— Спрячь скорей!., ах, дедушка, спрячь!.. — умоляюще
прошептал он, быстро оглядываясь кругом.
89
— Ну, чего ты, дурашка? боишься, милый?.. Заглянул я в
окно, а он висит... я его цап, да и под полу... ♦а потом
спрятал в кустах. Шли из станицы, я будто шапку уронил,
наклонился и взял его... Дураки они!.. И платок взял —
вот он где!..
Он выхватил дрожащими руками платок из своих
лохмотьев и потряс им перед лицом Лёньки.
Перед глазами Лёньки разорвалась туманная завеса
и встала такая картина: он и дед быстро, насколько могут,
идут по улице станицы, избегая взглядов встречных людей,
идут пугливо, и Лёньке кажется, что каждый, кто хочет,
вправе бить их обоих, плевать на них, ругаться... Всё
окружающее — заборы, дома, деревья — в каком-то странном
тумане колеблется, точно от ветра... и гудят чьи-то суровые,
сердитые голоса... Этот тяжёлый путь бесконечно долог,
и выход из станицы в поле не виден за плотной массой
шатающихся домов, которые то придвигаются к ним, точно
желая раздавить их, то уходят куда-то, смеясь им в лицо
тёмными пятнами своих окон... И вдруг из одного окна
звонко раздаётся: «Воришки! Воришки! Воришка, ворёнок!..»
Лёнька украдкой бросает взгляд в сторону и видит в окне ту
девочку, которую давеча он видел плачущей и хотел
защитить... Она поймала его взгляд и высунула ему язык, а её
синие глазки сверкали зло и остро и кололи Лёньку, как иглы.
Эта картина воскресла в памяти мальчика и
моментально исчезла, оставив по себе злую улыбку, которую он
бросил в лицо деду.
Дед всё говорил что-то, прерывая себя кашлем, махал
руками, тряс головой и отирал пот, крупными каплями
выступавший в морщинах его лица.
Тяжёлая, изорванная и лохматая туча закрыла луну,
и Лёньке почти не видно было лица деда... Но он поставил
рядом с ним плачущую девочку, вызвав её образ перед собой,
и мысленно как бы измерял их обоих. Немощный, скрипучий,
жадный и рваный дед рядом с ней, обиженной им, плачущей,
но здоровой, свежей, красивой, показался ему ненужным
и почти таким же злым и дрянным, как Кощей в сказке.
Как это можно? За что он обидел её? Он не родной ей...
90
А дед скрипел:
— Кабы сто рублей скопить!.. Умер бы я тогда
покойно...
— Ну!.. — вдруг вспыхнуло что-то в Лёньке. — Молчи уж
ты! Умер бы, умер бы... А не умираешь вот... Воруешь!..—
взвизгнул Лёнька и вдруг, весь дрожа, вскочил на ноги. —
Вор ты старый!.. У-у! — И, сжав маленький, сухой кулачок,
он потряс им перед носом внезапно замолкшего деда и снова
грузно опустился на землю, продолжая сквозь зубы: —
У дити украл... Ах, хорошо!.. Старый, а туда же... Не будет
тебе на том свете прощенья за это!..
Вдруг вся степь всколыхнулась и, охваченная
ослепительно голубым светом, расширилась... Одевавшая её мгла
дрогнула и исчезла на момент... Грянул удар грома и, рокоча,
покатился над степью, сотрясая и её и небо, по которому
теперь быстро летела густая толпа чёрных туч, утопившая
в себе луну.
Стало темно. Далеко где-то ещё молча, но грозно
сверкнула молния, и спустя секунду снова слабо рыкнул гром...
Потом наступила тишина, которой, казалось, не будет конца.
Лёнька крестился. Дед сидел неподвижно и молча, точно
он сросся с стволом дерева, к которому прислонился спиной.
— Дедушка!.. — прошептал Лёнька, в мучительном
страхе ожидая нового удара грома. — Идём в станицу!
Небо снова дрогнуло и, снова вспыхнув голубым
пламенем, бросило на землю могучий металлический удар. Как
будто тысячи листов железа сыпались на землю, ударяясь
друг о друга...
— Дедушка!.. — крикнул Лёнька.
Крик его, заглушаемый отзвуком грома, прозвучал, как
удар в маленький разбитый колокол.
— Что ты... Боишься... — хрипло проговорил дед, не
шевелясь.
Стали падать крупные капли дождя, и их шорох звучал
так таинственно, точно предупреждал о чём-то... Вдали он
уже вырос в сплошной, широкий звук, похожий на трение
громадной щёткой по сухой земле, — а тут, около деда
и внука, каждая капля, падая на землю, звучала коротко
92
и отрывисто и умирала без эха. Удары грома всё
приближались, и небо вспыхивало чаще.
— Не пойду я в станицу! Пусть меня, старого пса,
вора... здесь дождь потопит... и гром убьёт!.. — задыхаясь,
говорил дед. — Не пойду!.. Иди один... Вот она, станица...
Иди!.. Не хочу я, чтобы ты сидел тут... пошёл!.. Иди,
иди!.. Иди!..
Дед уже кричал глухо и сипло.
— Дедушка!., прости!.. — придвигаясь к нему,
взмолился Ленька.
— Не пойду... Не прощу... Семь лет я тебя нянчил!..
Всё для тебя... и жил... для тебя. Рази мне надо что?..
Умираю ведь я... Умираю... а ты говоришь — вор... Для чего
вор? Для тебя... для тебя это всё... Вот возьми... возьми...
бери... На жизнь твою... на всю... копил... ну и воровал...
Бог видит всё... Он знает... что воровал... знает... Он меня
накажет. О-он не помилует меня, старого пса... за воровство.
И наказал уже... Господи! наказал ты меня!., а? наказал?..
Рукой ребёнка убил ты меня!.. Верно, господи!.. Правильно!..
Справедлив ты, господи!.. Пошли по душу мою... Ох!
Голос деда поднялся до пронзительного визга, вселившего
в грудь Лёньки ужас.
Удары грома, сотрясая степь и небо, рокотали теперь так
гулко и торопливо, точно каждый из них хотел сказать земле
что-то необходимо нужное для неё, и все они, перегоняя
один другого, ревели почти без пауз. Раздираемое молниями
небо дрожало, дрожала и степь, то вся вспыхивая синим
огнём, то погружаясь в холодный, тяжёлый и тесный мрак,
странно суживавший её. Иногда молния освещала даль. Эта
даль, казалось, торопливо убегает от шума и рёва...
Полил дождь, и его капли, блестя, как сталь, при блеске
молнии, скрыли собой приветно мигавшие огоньки станицы.
Лёнька замирал от ужаса, холода и какого-то тоскливого
чувства вины, рождённого криком деда. Он уставил перед
собою широко раскрытые глаза и, боясь моргнуть ими даже
и тогда, когда капли воды, стекая с его вымоченной
дождём головы, попадали в них, прислушивался к голосу деда,
тонувшему в море могучих звуков.
93
Лёнька чувствовал, что дед сидит неподвижно, но ему
казалось, что он должен пропасть, уйти куда-то и оставить
его тут одного. Он, незаметно для себя, понемногу
придвигался к деду и, когда коснулся его локтем, вздрогнул,
ожидая чего-то страшного...
Разорвав небо, молния осветила их обоих, рядом друг
с другом, скорченных, маленьких, обливаемых потоками воды
с ветвей дерева...
Дед махал рукой в воздухе и всё бормотал что-то, уже
уставая и задыхаясь.
Взглянув ему в лицо, Лёнька крикнул от страха... При
синем блеске молнии оно казалось мёртвым, а вращавшиеся
на нём тусклые глаза были безумны.
— Дедушка!.. Пойдём!.. — взвизгнул он, ткнув свою
голову в колени деда.
Дед склонился над ним, обняв его своими руками, тонкими
и костлявыми, крепко прижал к себе и, тиская его, вдруг
взвыл сильно и пронзительно, как волк, схваченный
капканом.
Доведённый этим воем чуть не до сумасшествия, Лёнька
вырвался от него, вскочил на ноги и стрелой помчался куда-
то вперёд, широко раскрыв глаза, ослепляемый молниями,
падая, вставая и уходя всё глубже в тьму, которая то
исчезала от синего блеска молний, то снова плотно
охватывала обезумевшего от страха мальчика.
А дождь, падая, шумел так холодно, монотонно, тоскливо.
И казалось, что в степи ничего и никогда не было, кроме
шума дождя, блеска молнии и раздражённого грохота грома.
Поутру другого дня, выбежав за околицу, станичные
мальчики тотчас же воротились назад и сделали в станице
тревогу, объявив, что видели под осокорью вчерашнего
нищего и что он, должно быть, зарезан, так как около него
брошен кинжал.
Но когда старшие казаки пришли смотреть, так ли это,
то оказалось, что не так. Старик был жив ещё. Когда к
нему подошли, он попытался подняться с земли, но не мог.
94
У него отнялся язык, и он спрашивал всех о чём-то
слезящимися глазами и всё искал ими в толпе, но ничего не
находил и не получал никакого ответа.
К вечеру он умер, и зарыли его там же, где взяли, под
осокорью, находя, что на погосте его хоронить не следует:
во-первых — он чужой; во-вторых — вор, а в-третьих — умер
без покаяния. Около него в грязи нашли кинжал и платок.
А через два или три дня нашёлся Лёнька.
Над одной степной балкой 1, недалеко от станицы, стали
кружиться стаи ворон, и когда пошли посмотреть туда,
нашли мальчика, который лежал, раскинув руки и лицом вниз,
в жидкой грязи, оставшейся после дождя на дне балки.
Сначала решили похоронить его на погосте, потому что
он ещё ребёнок, но, подумав, положили рядом с дедом, под
той же осокорью. Насыпали холм земли и на нём поставили
грубый каменный крест.
1 Балка — так на юге называют овраги.
ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ ДАНКО
Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса
окружали с трёх сторон таборы этих людей, а с четвёртой —
была степь. Были это весёлые, сильные и смелые люди.
И вот пришла однажды тяжёлая пора: явились откуда-то
иные племена и прогнали прежних в глубь леса. Там были
болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо
переплелись его ветви, что сквозь них не видать было
неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до
болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на
воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли
один за другим.
Тогда стали плакать жёны и дети этого племени, а отцы
задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого
леса, и для того были две дороги: одна — назад, — там были
сильные и злые враги, другая — вперёд, — там стояли
великаны-деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями,
опустив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. Эти
каменные деревья стояли молча и неподвижно днём в сером
96
сумраке и ещё плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам,
когда загорались костры. И всегда, днём и ночью, вокруг
тех людей было кольцо крепкой тьмы, оно точно собиралось
раздавить их, а они привыкли к степному простору. А ещё
страшней было, когда ветер бил по вершинам деревьев
и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную
песню тем людям.
Это были всё-таки сильные люди, и могли бы они пойти
биться насмерть с теми, что однажды победили их, но они
не могли умереть в боях, потому что у них были заветы,
и коли б умерли они, то пропали б с ними из жизни и
заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи, под
глухой шум леса, в ядовитом смраде болота. Они сидели,
а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске,
и всем казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют
злые духи леса и болота... Люди всё сидели и думали.
Но ничего не изнуряет тела и души людей так, как
изнуряют тоскливые думы. И ослабли люди от дум... Страх
родился среди них, сковал им крепкие руки, ужас родили
женщины плачем над трупами умерших от смрада и над
судьбой скованных страхом живых, — и трусливые слова
стали слышны в лесу, сначала робкие и тихие, а потом всё
громче и громче... Уже хотели идти к врагу и принести
ему в дар волю свою, и никто уже, испуганный смертью,
не боялся рабской жизни... Но тут явился Данко и спас
всех один...
...Данко — один из тех людей, молодой красавец.
Красивые— всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам:
— Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не
делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на
думу да тоску? Вставайте, пойдём в лес и пройдём его
сквозь, ведь имеет же он конец — всё на свете имеет конец!
Идёмте! Ну! Гей!..
Посмотрели на него и увидали, что он лучший из всех,
потому что в очах его светилось много силы и живого огня.
— Веди ты нас! — сказали они.
Тогда он повёл...
...Повёл их Данко. Дружно все пошли за ним — верили
97
в него. Трудный путь это был! Темно было, и на каждом
шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая
людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной.
Переплелись их ветки между собой; как змеи, протянулись всюду
корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям.
Долго шли они... Всё гуще становился лес, всё меньше было
сил! И вот стали роптать на Данко, говоря, что напрасно
он, молодой и неопытный, повёл их куда-то. А он шёл
впереди их и был бодр и ясен.
Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали
деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно
в нём собрались сразу все ночи, сколько их было на свете
с той поры, как он родился. Шли маленькие люди между
больших деревьев и в грозном шуме молний, шли они,
и, качаясь, великаны-деревья скрипели и гудели сердитые
песни, а молнии, летая над вершинами леса, освещали его
на минутку синим, холодным огнём и исчезали так же
быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, освещённые
холодным огнём молний, казались живыми, простирающими
вокруг людей, уходивших из плена тьмы, корявые, длинные
руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей.
А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное,
тёмное и холодное.
Это был трудный путь, и люди, утомлённые им, пали
духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот
они в злобе и гневе обрушились на Данко, человека,
который шёл впереди их. И стали они упрекать его в
неумении управлять ими, — вот как!
Остановились они и под торжествующий шум леса, среди
дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко.
— Ты, — сказали они, — ничтожный и вредный человек
для нас! Ты повёл нас и утомил, и за это ты погибнешь!
— Вы сказали: «Веди!» — и я повёл! — крикнул Данко,
становясь против них грудью. — Во мне есть мужество
вести, вот потому я повёл вас! А вы? Что сделали вы
в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы
на путь более долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец!
Но эти слова разъярили их ещё более.
98
— Ты умрёшь! Ты умрёшь! — ревели они.
А лес всё гудел и гудел, вторя их крикам, и молнии
разрывали тьму в клочья. Данко смотрел на тех, ради
которых он понёс труд, и видел, что они — как звери. Много
людей стояло вокруг него, но не было на лицах их
благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его
сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно
погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без
него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнём
желания спасти их, вывести на лёгкий путь, и тогда в его
очах засверкали лучи того могучего огня... А они, увидав
это, подумали, что он рассвирепел, отчего так ярко и
разгорелись очи, и они насторожились, как волки, ожидая,
что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать
его, чтобы легче им было схватить и убить Данко. А он
уже понял их думу, оттого ещё ярче загорелось в нём
сердце, ибо эта их дума родила в нём тоску.
А лес всё пел свою мрачную песню, и гром гремел,
и лил дождь...
— Что сделаю я для людей?! — сильнее грома крикнул
Данко.
И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из неё
своё сердце и высоко поднял его над головой.
Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь
лес замолчал, освещённый этим факелом великой любви
к людям, а тьма разлеталась от света его и там, глубоко
в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же,
изумлённые, стали как камни.
— Идём! — крикнул Данко и бросился вперёд на своё
место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь
людям.
Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова
зашумел, удивлённо качая вершинами, но его шум был
заглушён топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело,
увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь
гибли, но гибли без жалоб и слёз. А Данко всё был впереди,
и сердце его всё пылало, пылало!
И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился
100
и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди
сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха,
промытого дождём. Гроза была — там, сзади них, над лесом,
а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в
брильянтах дождя и золотом сверкала река... Был вечер, и от
лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била
горячей струёй из разорванной груди Данко.
Кинул взор вперёд себя на ширь степи гордый смельчак
Данко, — кинул он радостный взор на свободную землю и
засмеялся гордо. А потом упал и — умер.
Люди же, радостные и полные надежд, не заметили
смерти его и не видали, что ещё пылает рядом с трупом
Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек
заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце
ногой... И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло.
УТРО
Самое лучшее в мире — смотреть, как рождается день!
В небе вспыхнул первый луч солнца — ночная тьма
тихонько прячется в ущелья гор и трещины камней, прячется
в густой листве деревьев, в кружевах травы, окроплённой
росою, а вершины горы улыбаются ласковой улыбкой —
точно говорят мягким теням ночи:
— Не бойтесь — это солнце!
Волны моря высоко поднимают белые головы, кланяются
солнцу, как придворные красавицы своему королю,
кланяются и поют:
— Приветствуем вас, владыка мира!
Доброе солнце смеётся: эти волны всю ночь, играя,
кружились, кружились, и теперь они такие растрёпанные, их
зелёные одежды измяты, бархатные шлейфы спутаны.
— Добрый день! — говорит солнце, поднимаясь над
морем.— Добрый день, красавицы! Но — довольно, тише!
102
Детям невозможно будет купаться, если вы не перестанете
так высоко прыгать! Надо, чтобы всем на земле было
хорошо, не правда ли?
Из трещин камней выбегают зелёные ящерицы и, мигая
сонными глазками, говорят друг дружке:
— Сегодня будет жарко!
В жаркий день — мухи летают лениво, ящерицам легко
ловить и есть их, а съесть хорошую муху — это так
приятно! Ящерицы — отчаянные лакомки.
Отягощённые росою, шаловливо покачиваются цветы,
точно дразнят и говорят:
— Напишите-ка, сударь, о том, как мы красивы утром,
в уборе росы! Напишите-ка словами маленькие портреты
цветов! Попробуйте, это легко — мы такие простые...
Хитрые штучки они! Превосходно знают, что
невозможно человеку описать словами их милую красоту, и —
смеются!
Сняв почтительно шляпу, я говорю им:
— Вы очень любезны! Благодарю вас за честь, но —
у меня сегодня нет времени. Потом, может быть...
Они гордо улыбаются, потягиваясь к солнцу, его лучи
горят в каплях росы, осыпая лепестки и листья блеском
бриллиантов.
А над ними уже кружатся золотые пчёлы и осы, кружатся,
жадно пьют сладкий мёд, и в тёплом воздухе льётся их
густая песня:
Благословенно солнце —
Радостный источник жизни!
Благословенна работа■—
Для красоты земли!
Проснулись красногрудые малиновки; стоят, покачиваясь
на тонких ножках, и тоже поют свою песню тихой
радости— птицы лучше людей знают, как это хорошо — жить на
земле! Малиновки всегда первые встречают солнце; в
далёкой холодной России их называют «зорянками» за то, что
перья на грудках этих птичек окрашены в цвет утренней
103
зари. В кустах прыгают весёлые чижи, — серенькие с
жёлтым, они похожи на уличных детей, такие же озорники
и так же неустанно кричат.
Гоняясь за мошками, мелькают ласточки и стрижи, точно
чёрные стрелы, и звенят радостно и счастливо, — хорошо
иметь быстрые, лёгкие крылья!
•Вздрагивают ветви пиний — пинии похожи на огромные
чаши, и кажется, что они налиты светом солнца, как золоти^
стым вином.
Просыпаются люди, те, для которых вся жизнь — труд;
просыпаются те, кто всю жизнь украшают, обогащают
землю, но—от рождения до смерти остаются бедняками.
Почему?.
Ты узнаешь об этом потом, когда будешь большой,—
если, конечно, захочешь узнать, а пока — умей любить
солнце, источник всех радостей и сил, и будь весел, добр,
как для всех одинаково доброе солнце.
Проснулись люди, и вот они идут на свои поля, к своему
труду, — солнце смотрит на них и улыбается: оно лучше всех
знает, сколько сделано людьми доброго на земле, оно когда-
то видело её пустынной, а ныне вся земля покрыта великой
работой людей — наших отцов, дедов, прадедов, — между
серьёзным и, покуда, непонятным, для детей, они сделали
также и все игрушки, все приятные вещи на
земле—синематограф *, между прочим.
Ах, они превосходно работали, наши предки, есть за что
любить и уважать великую работу, сделанную ими всюду
вокруг нас!
Над этим не мешает подумать, дети, — сказка о том,
как люди работали на земле, — самая интересная сказка
мира!..
На изгородях полей рдеют розы, и всюду смеются цветы;
многие из них уже увядают, но все смотрят в синее небо,
на золотое солнце; шелестят их бархатные лепестки, источая׳
сладкий запах, и в воздухе, голубом, тёплом, полном
благоуханий, тихо несётся ласковая песня: 11 С и нем атб граф — первоначальное название кинематографа.
104
То, что красиво, — красиво,
Даже когда увядает;
То, что мы любим, — мы любим,
Даже когда умираем...
День пришёл!
Добрый день, дети, и пусть в жизни вашей будет
множество добрых дней!
Я скучно написал это?
Ничего не поделаешь: когда ребёнку минет сорок лет —
он становится немножко скучен.
В ЛЕСУ
Я решил заняться ловлей певчих птиц; мне казалось,
что это хорошо прокормит: я буду ловить, а бабушка —
продавать...
Я обзавёлся хорошими снастями; беседы со старыми
птицеловами многому научили меня, — я один ходил ловить
птиц почти за тридцать вёрст, в Кстовский лес, на берег
Волги, где в мачтовом сосняке водились клесты и ценимые
любителями синицы-аполлоновки — длиннохвостые белые
птички редкой красоты.
Бывало — выйдешь с вечера и всю ночь шлёпаешь по
казанскому тракту, иногда — под осенним дождём, по
глубокой грязи. За спиною обшитый клеёнкой мешок, в нём садки
и клетки с приманочной птицей. В руке солидная ореховая
палка. Холодновато и боязно в осенней тьме, очень боязно!..
Стоят по сторонам дороги старые, битые громом берёзы,
простирая над головой моей мокрые сучья; слева,под
горой, над чёрной Волгой, плывут, точно в бездонную
пропасть уходя, редкие огоньки на мачтах последних пароходов
и барж, бухают колёса по воде, гудят свистки.
С чугунной земли встают избы придорожных деревень,
подкатываются под ноги сердитые, голодные собаки, сторож
бьёт в било и пугливо кричит:
106
— Кто идёт? Кого черти носят — не к ночи будь сказано?
Я очень боялся, что у меня отнимут снасти, и брал
с собою для сторожей пятаки. В деревне Фокиной сторож
подружился со мной и всё ахал:
— Опять идёшь? Ах ты, бесстрашный, непокойный
житель ночной, а?
Звали его Нифонт, был он маленький, седенький,
похожий на святого, часто он доставал из-за пазухи репу,
яблоко, горсть гороху и совал мне в руки, говоря:
— На-ко, друг, я те гостинцу припас, покушай в
сладость.
И провожал меня до околицы.
— Айда, с богом! і
В лес я приходил к рассвету, налаживал снасти,
развешивал манков, ложился на опушке леса и ждал, когда
придёт день. Тихо. Всё вокруг застыло в крепком осеннем сне;
сквозь сероватую мглу чуть видны под горою широкие
луга: они разрезаны Волгой, перекинулись через неё и
расплылись, растаяли в туманах. Далеко, за лесами луговой
стороны, восходит не торопясь посветлевшее солнце, на
чёрных гривах лесов вспыхивают огни, и начинается
странное, трогающее душу движение: всё быстрее встаёт туман
с лугов и серебрится в солнечном луче, а за ним
поднимаются с земли кусты, деревья, стога сена, луга точно тают
под солнцем и текут во все стороны, рыжевато-золотые.
Вот солнце коснулось тихой воды у берега, — кажется, что
вся река подвинулась, подалась туда, где окунулось солнце.
Восходя всё выше, оно, радостное, благословляет, греет
оголённую, озябшую землю, а земля кадит сладкими
запахами осени. Прозрачный воздух показывает землю огромной,
бесконечно расширяя её. Всё плывёт в даль и манит дойти
до синих краёв земли. Я видел восход солнца в этом месте
десятки раз, и всегда предо мною рождался новый мир,
по-новому красивый...
Я как-то особенно люблю солнце, мне нравится самоё
имя его, сладкие звуки имени, звон, скрытый в них; люблю,
закрыв глаза, подставить лицо горячему лучу, поймать его
на ладонь руки, когда он проходит мечом сквозь щель
107
забора или между ветвей. Когда солнце поднимется над
лугами, я невольно улыбаюсь от радости.
Надо мной звенит хвойный лес, отряхая с зелёных лап
капли росы; в тени, под деревьями, на узорных листьях
папоротника сверкает серебряной парчой иней утреннего
заморозка. Порыжевшая трава примята дождями,
склонённые к земле стебли неподвижны, но когда на них падает
светлый луч — заметен лёгкий трепет в травах, быть может
последнее усилие жизни:
Проснулись птицы: серые московки пуховыми шариками
падают с ветки на ветку, огненные клесты крошат кривыми
носами шишки на вершинах сосен, на конце сосновой лапы
качается белая аполлоновка, взмахивая длинными рулевыми
перьями, чёрный бисерный глазок недоверчиво косится на
сеть, растянутую мной. И как-то вдруг слышишь, что уже
весь лес, за минуту важно задумчивый, налился сотнями
птичьих голосов, наполнен хлопотами живых существ,
чистейших на земле.
Мне немножко жалко ловить пичужек, совестно сажать
их в клетки, мне больше нравится смотреть на них, но
охотничья страсть и желание заработать деньги побеждают
сожаление.
Птицы смешат меня своими хитростями: лазоревая
синица внимательно и подробно осмотрела западню, поняла,
чем она грозит ей, и, зайдя сбоку, безопасно, ловко таскает
семя сквозь палочки западни. Синицы очень умны, но они
слишком любопытны, и это губит их. Важные снегири —
глуповаты: они идут в сеть целой стаей, как сытіііе мещане
в церковь: когда их накроешь, они очень удивлены,
выкатывают глаза и щиплют пальцы толстыми клювами. Клёст
идёт в западню спокойно и солидно; поползень, неведомая,
ни на кого не похожая птица, долго сидит перед сетью,
поводя длинным носом, опираясь на толстый хвост; он
бегает по стволам деревьев, как дятел, всегда сопровождая
синиц. В этой дымчатой пичужке есть что-то жуткое, она
кажется одинокой, никто её не любит, и она никого. Она,
как сорока, любит воровать и прятать мелкие блестящие
вещи.
108
К полудню я кончаю ловлю, иду домой лесом и
полями, — если идти большой дорогой, через деревни,
мальчишки и парни отнимут клетки, порвут и поломают снасть —
это уже было испытано мною.
Я прихожу к вечеру усталый, голодный, но мне кажется,
что за день я вырос, узнал что-то новое, стал сильнее.
СОДЕРЖАНИЕ
3. Иванова. Алексей Максимович Горький . . 5
ВОРОБЬИШКО. Рис. И. Кузнецова 17
ПРО ИВАНУШКУ ДУРАЧКА (Русская народная
сказка). Рис. И. Кузнецова 21
СЛУЧАИ С ЕВСЕИКОИ. Рис. И. Кузнецова ... 27
ПЕПЕ*1 (Из «Сказок об Италии»). Рис. Б. Дех-
терёва 34
«ВСТРЯСКА» (Страничка из Мишкиной жизни).
Рис. Б. Дехтерёва 42
ДЕТСТВО ИЛЬИ* (Из повести «Трое»). Рис. Б.
Дехтерёва 52
ДЕД АРХИП И ЛЕНЬКА. Рис. Б. Дехтерёва .... 71
ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ ДАНКО* (Из рассказа
«Старуха Изергиль») Рис. Б. Дехтерёва 96
УТРО. Рис. Б. Дехтерёва 102
В ЛЕСУ* (Из повести «В людях»). Рис. Б.
Дехтерёва 106
1 Названия, помеченные звёздочкой, не принадлежат
автору; они в разное время даны были редакцией.
Переплёт Б. Дехтерёва
Для средней школы
Алексей Максимович Горький
РАССКАЗЫ И СКАЗКИ
Ответственный редактор
Н. М. Кожемякина
Художественный редактор
Т. М. Токарева
Технический редактор
Н. Ю. Крапоткина
Корректоры
Л. М. Агафонова н В. В. Борисова
Сдано в набор 15/1 1976 г. Подписано к печати
20/ѴІІ 1976 г. Формат 70 x 90/16. Бум. типогр. № 1.
Печ. л. 7. Уел. печ. л. 8,19. Уч.-иэд. л. 5,7.
Тираж 900 000 (450 001—900 000) экэ. Заказ № 49.
Цена 35 коп. Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Детская литература». Москва, Центр,
М. Черкасский пер., 1.
Калининский ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия
СССР . Росглавполиграфпрома Госкомиздата Совета
Министров РСФСР. Калинин, проспект 50-летия
Октября, 46.
Горький М.
Рассказы и сказки. Переиздание. Рис. Б. Дех-
терёва, И. Кузнецова. М., «Дет. лит.», 1976.
ПО с. с ил. (Школьная б־ка).
В книгу входят: «Воробьишко», «Про Иванушку-дурачка» (русская
народная сказка), «Случай с ЕвсеАкой», «Пепе» (из «Сказок об
Италии»), «Встряска», «Детство Ильи» (из повести «Трое»), «Дед Архип
и Лёнька», «Горящее сердце Данко» (из рассказа «Старуха Изер-
гиль»), «Утро», «В лесу» (из повести «В людях»).
Книгу открывает небольшое предисловие 3. Ивановой о жизни и
творчестве Максима Горького.
Р2
141—76
г70803—491
МіОІ (03)76