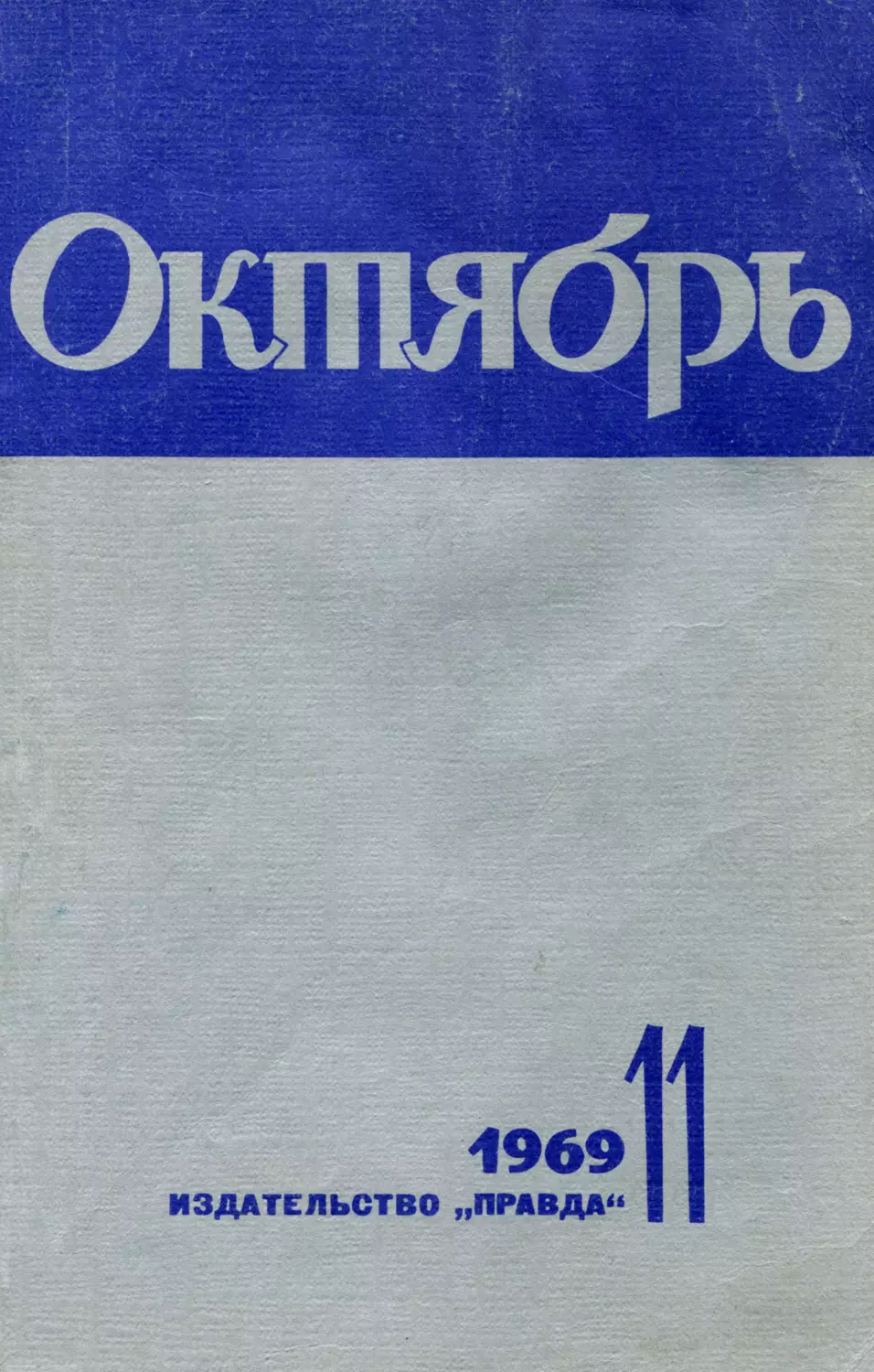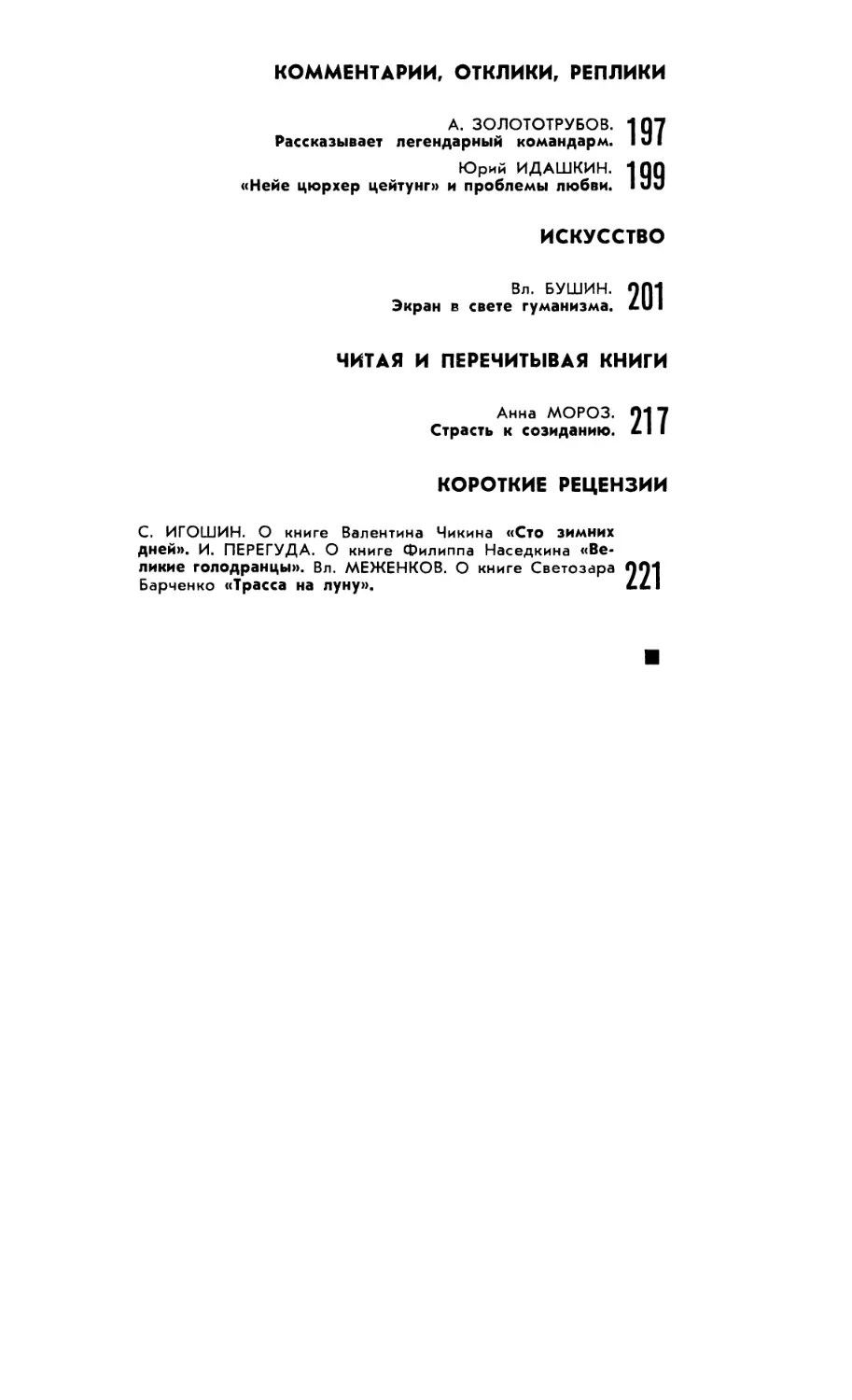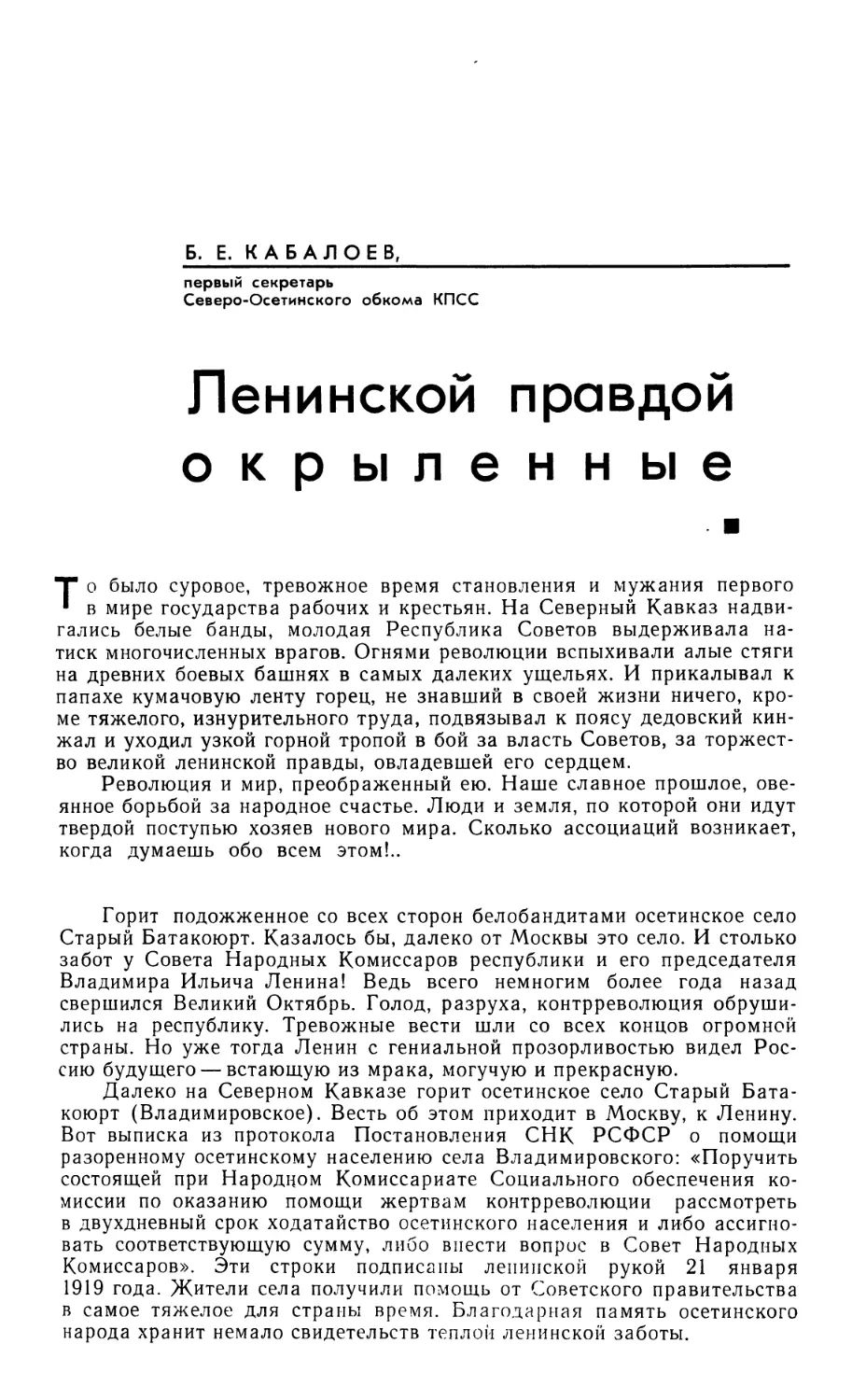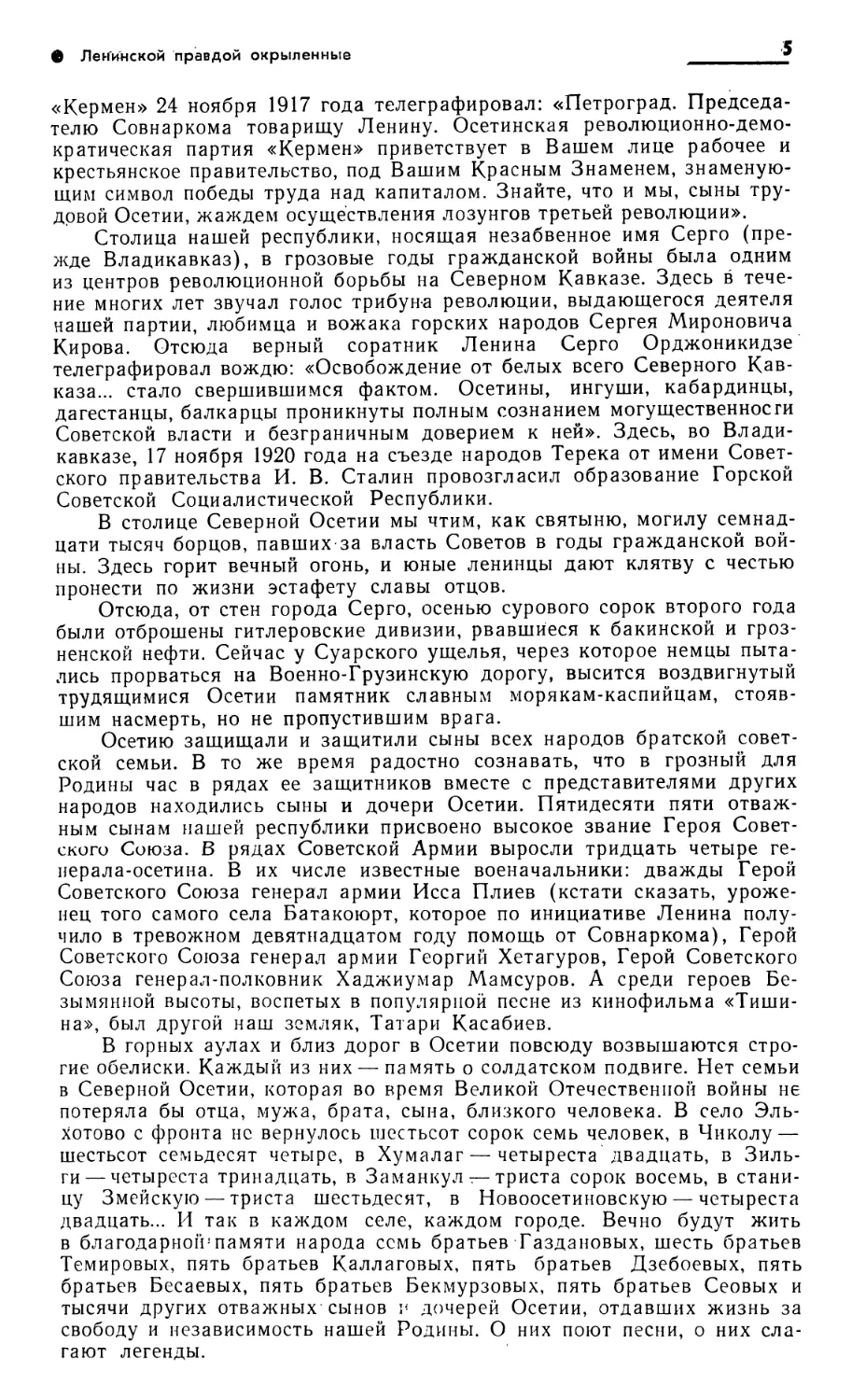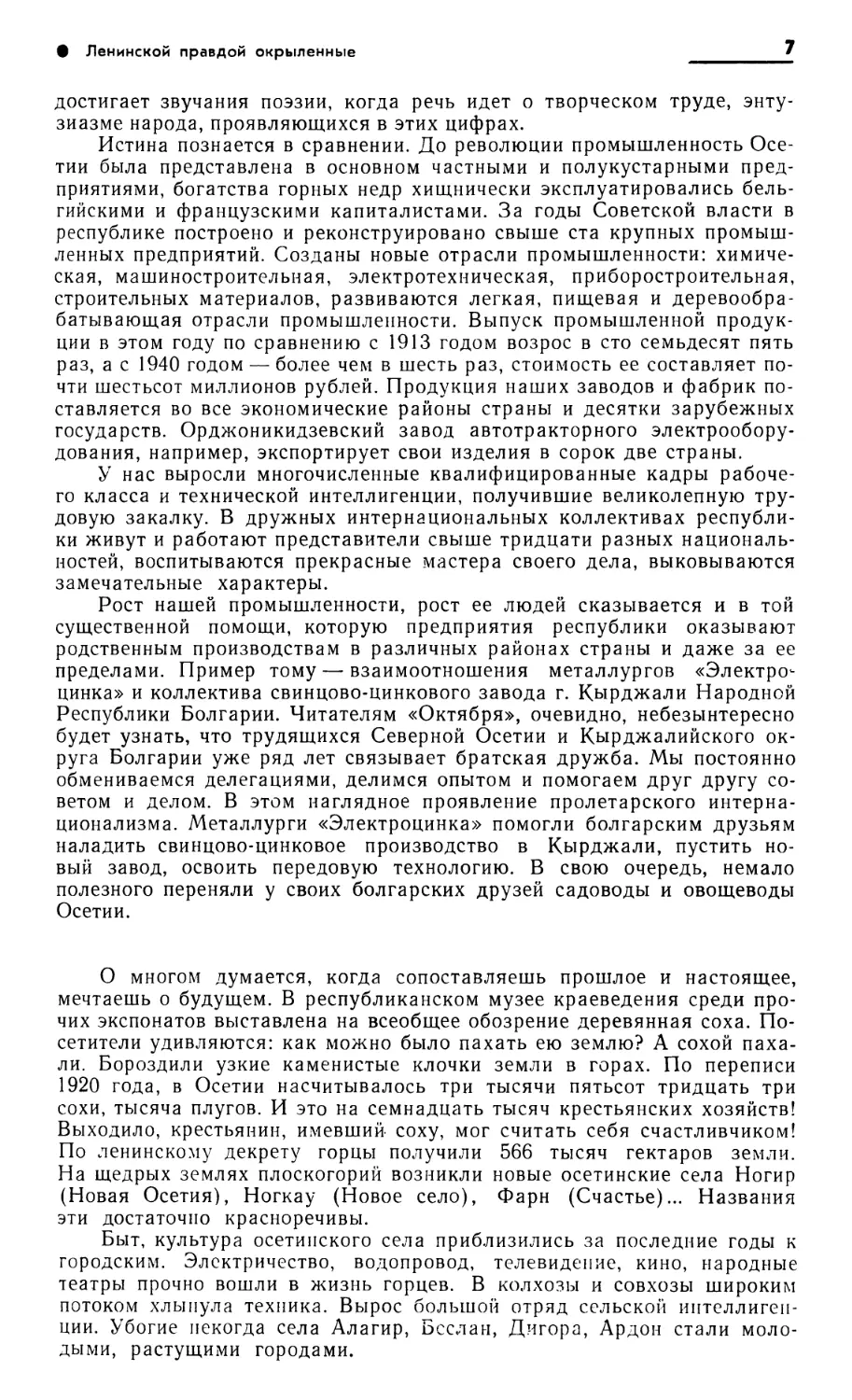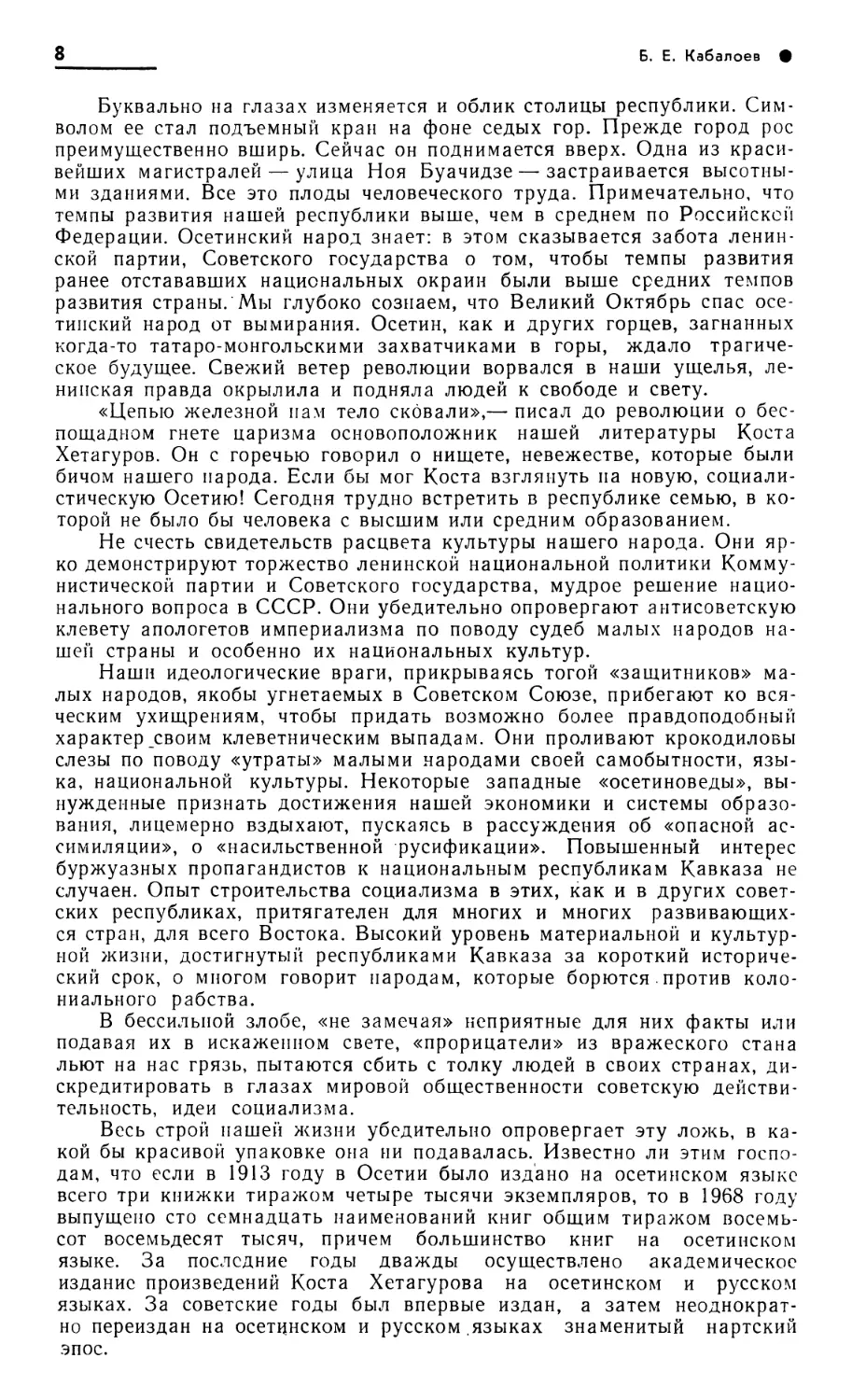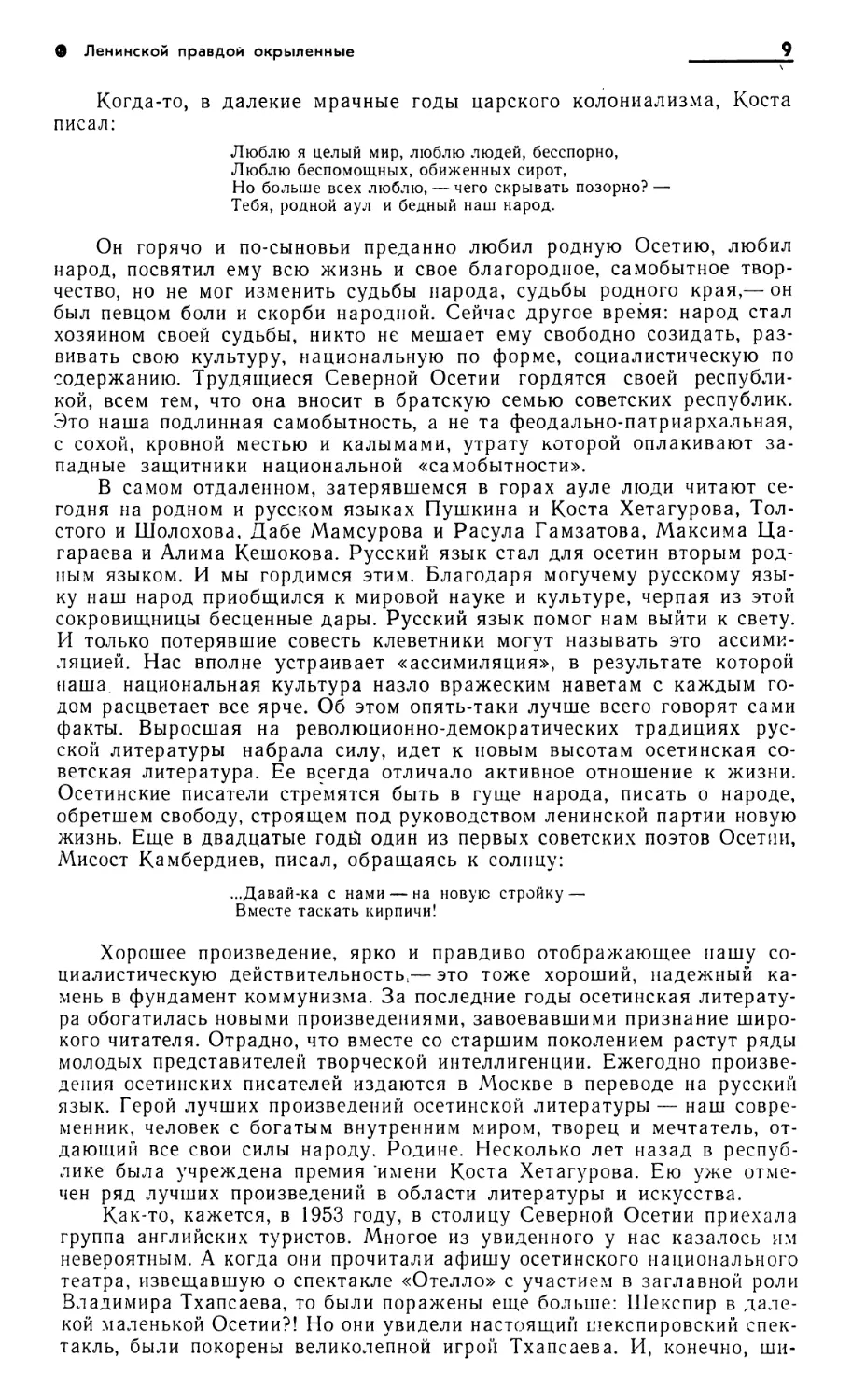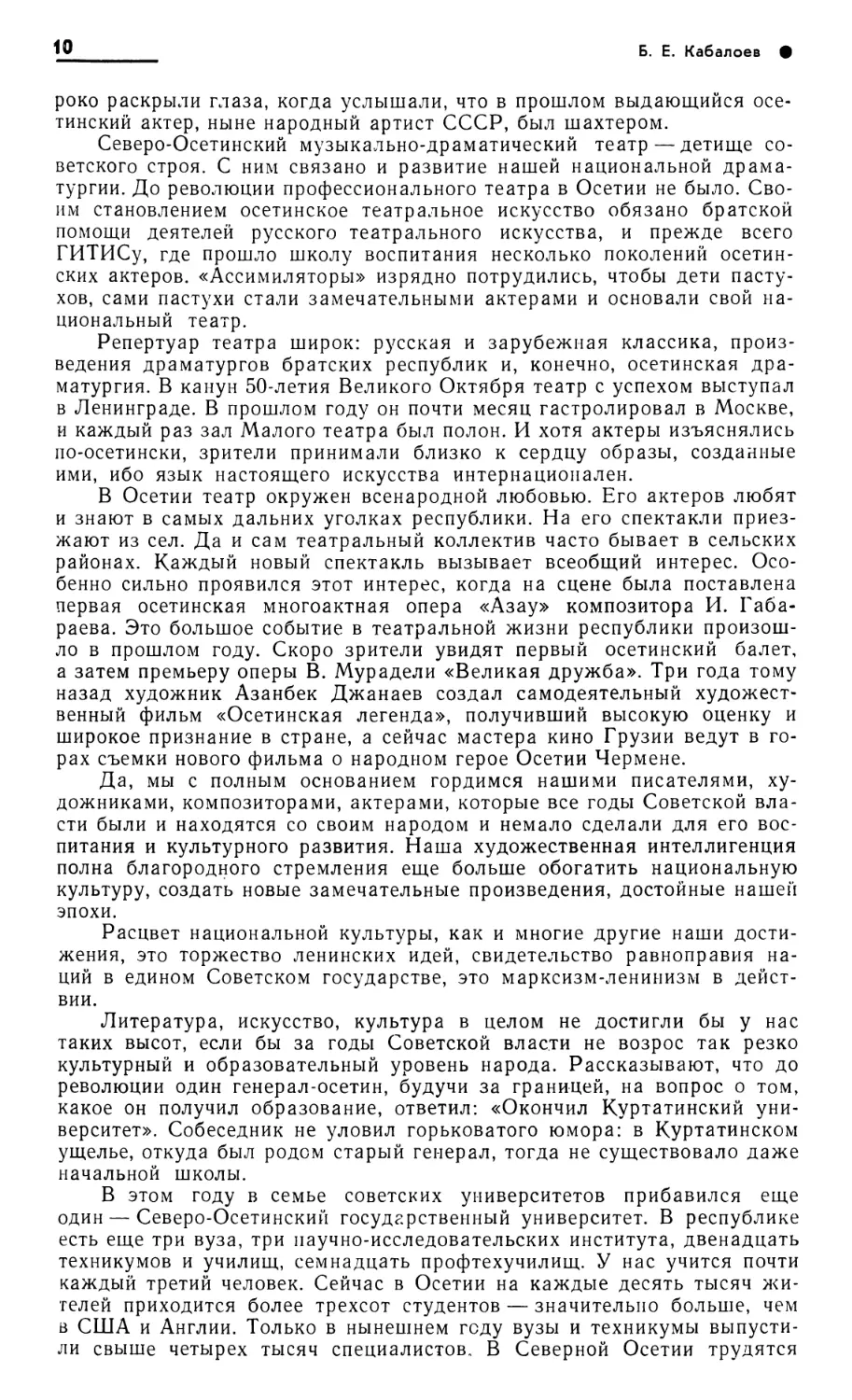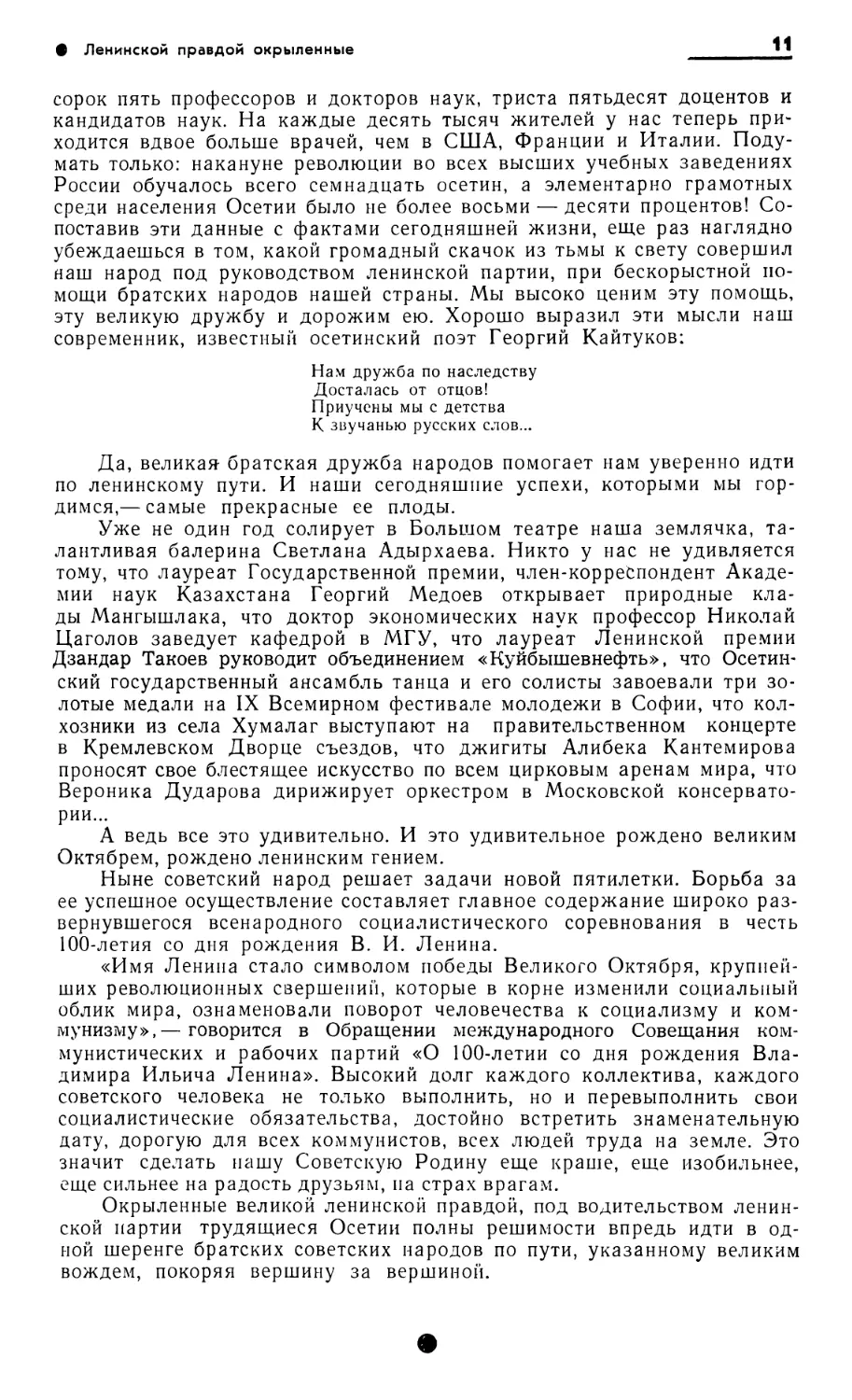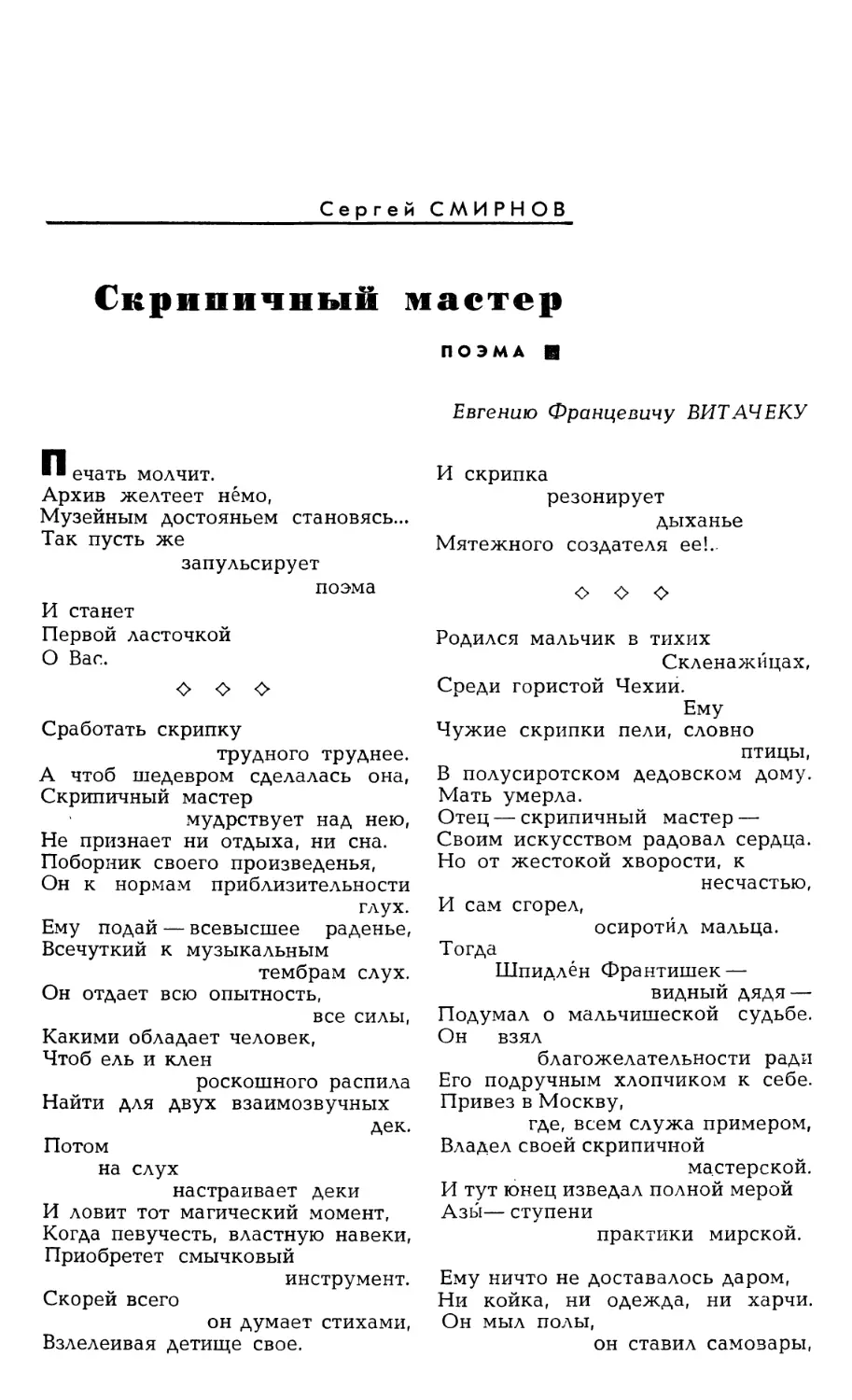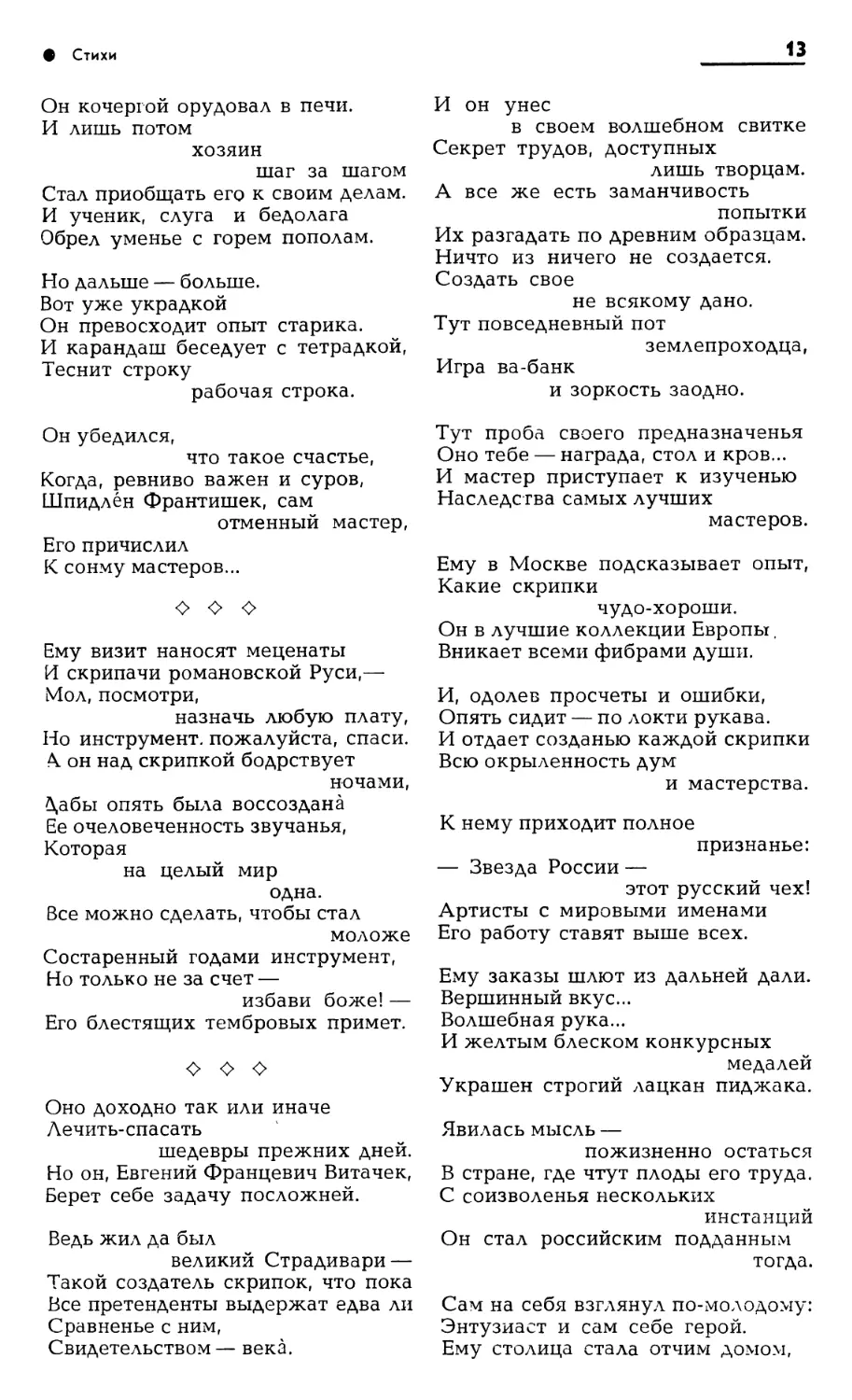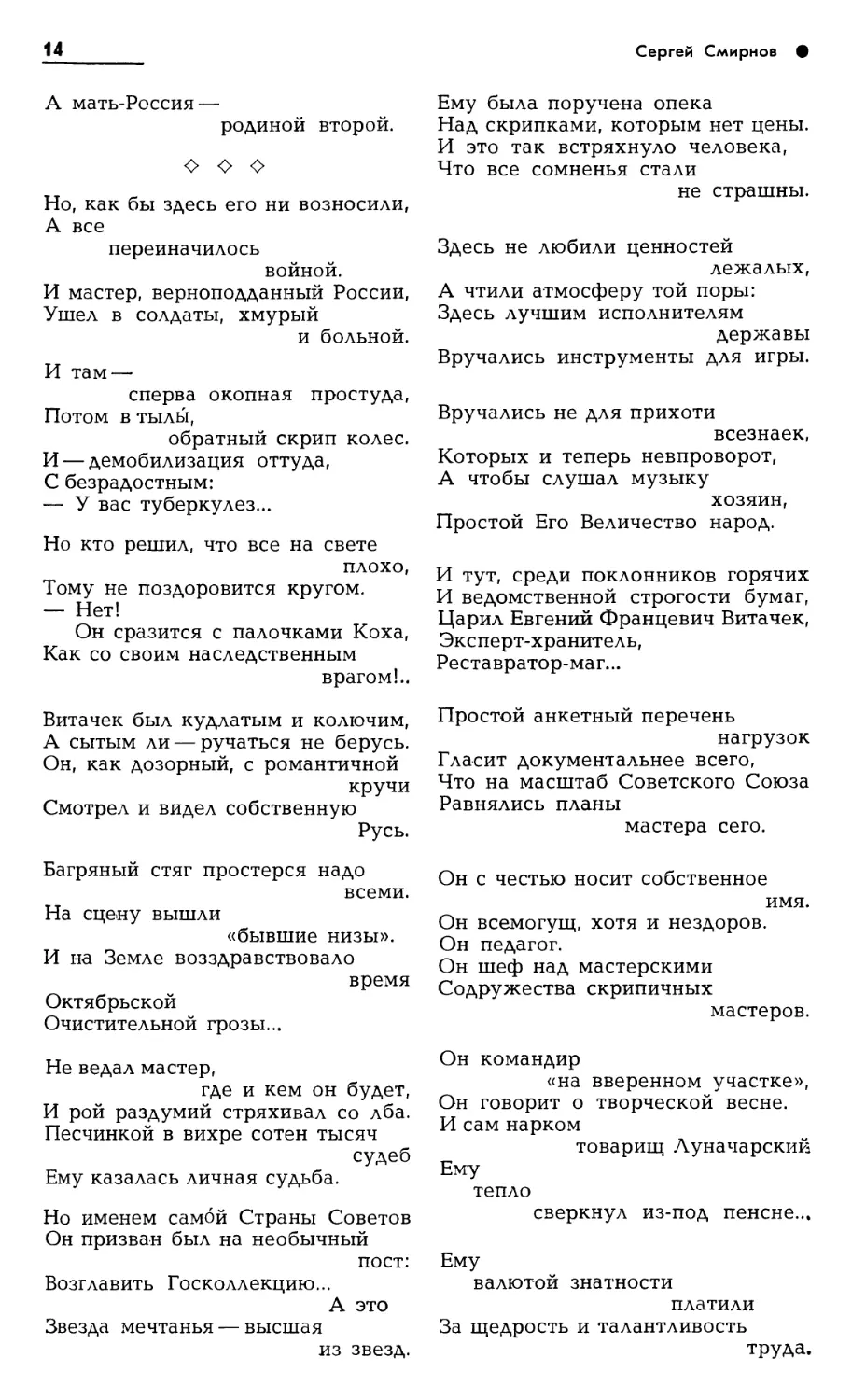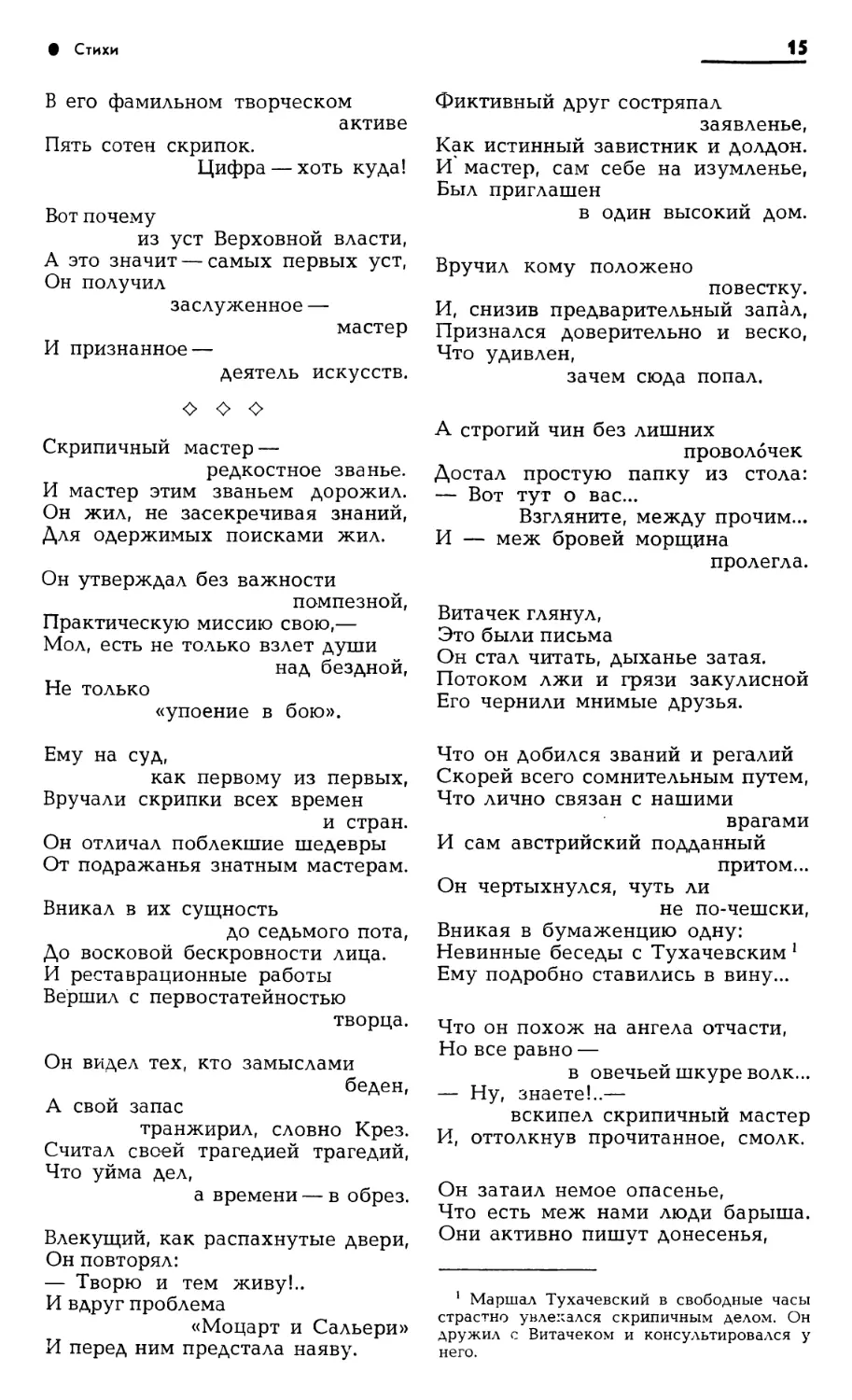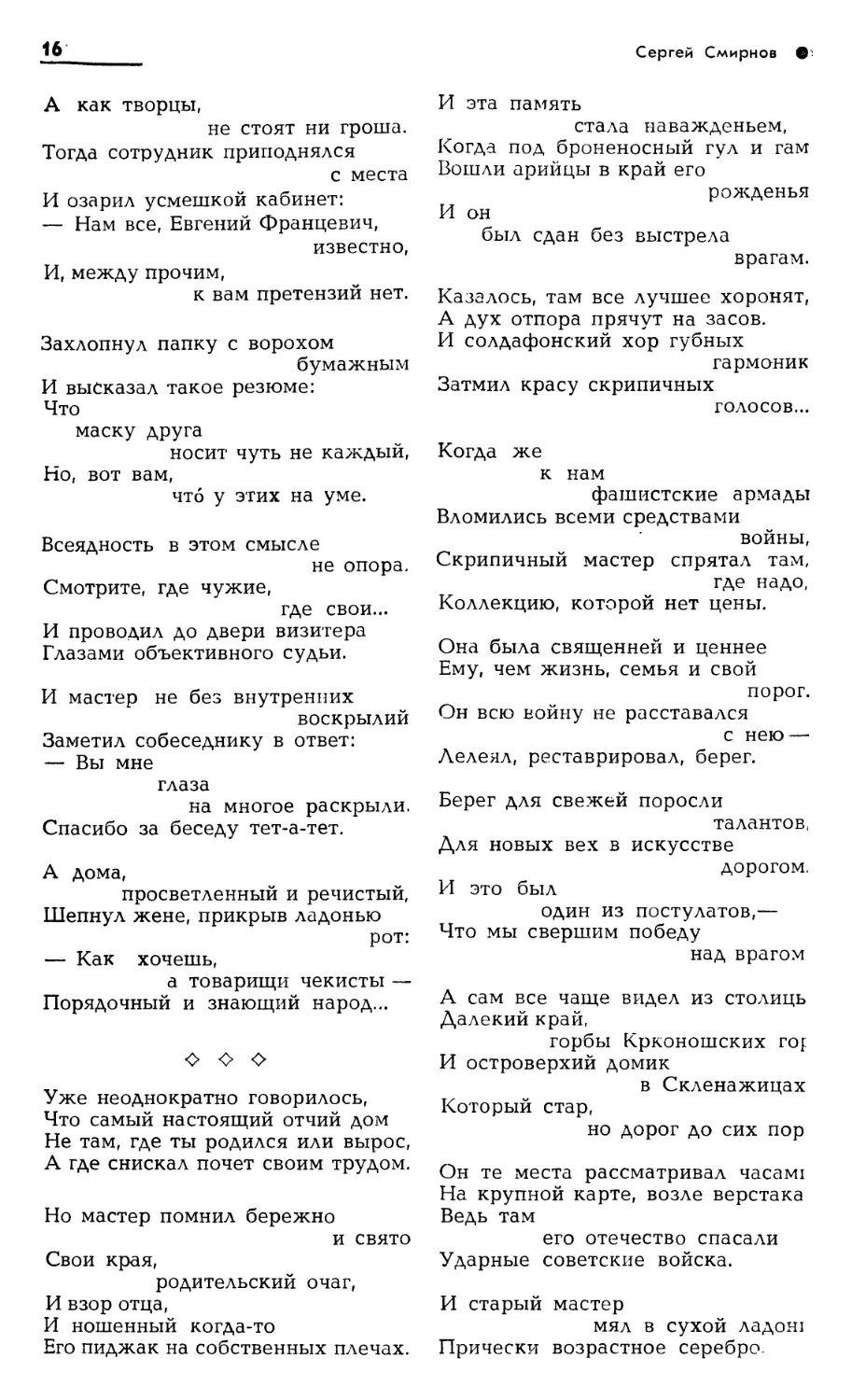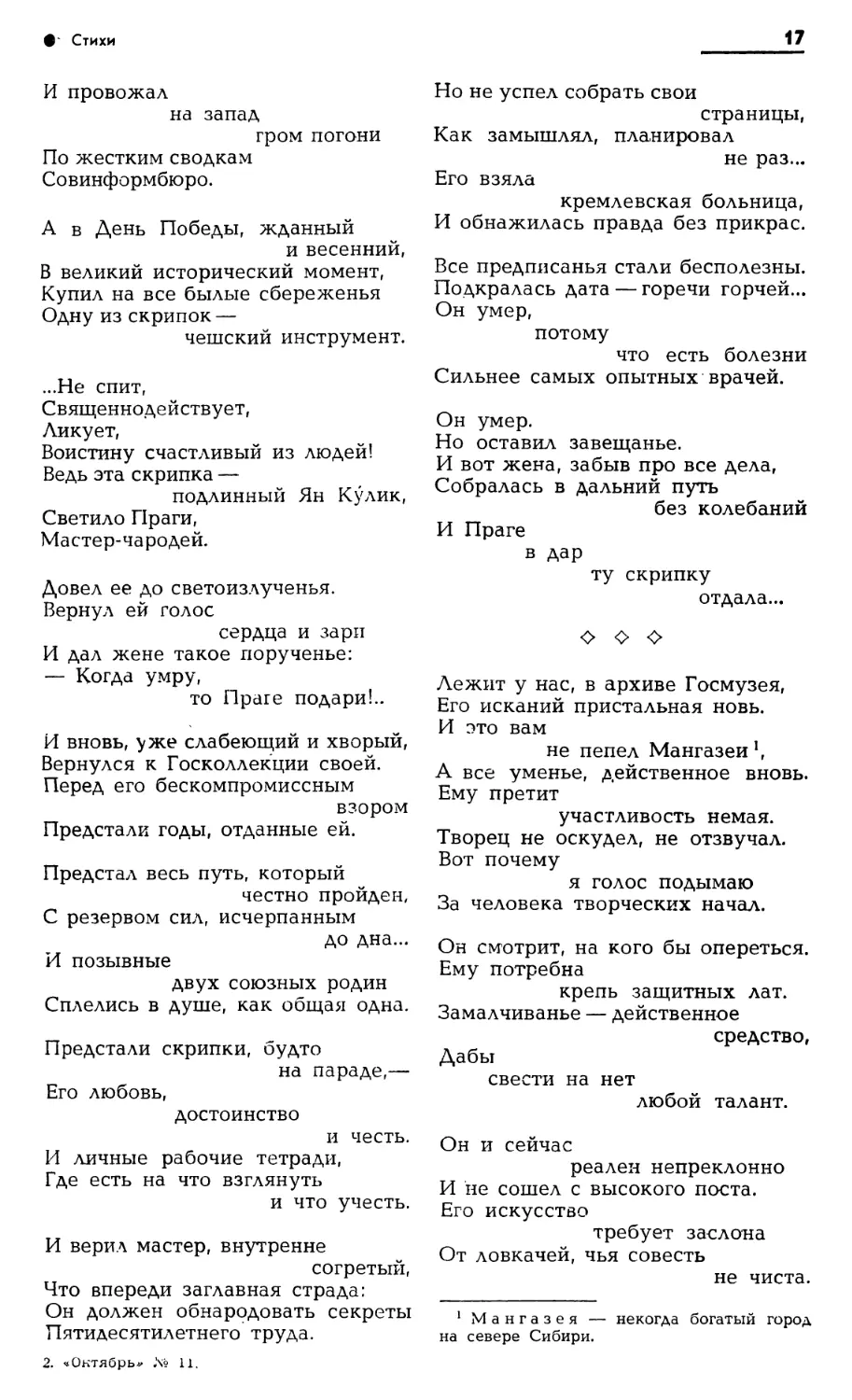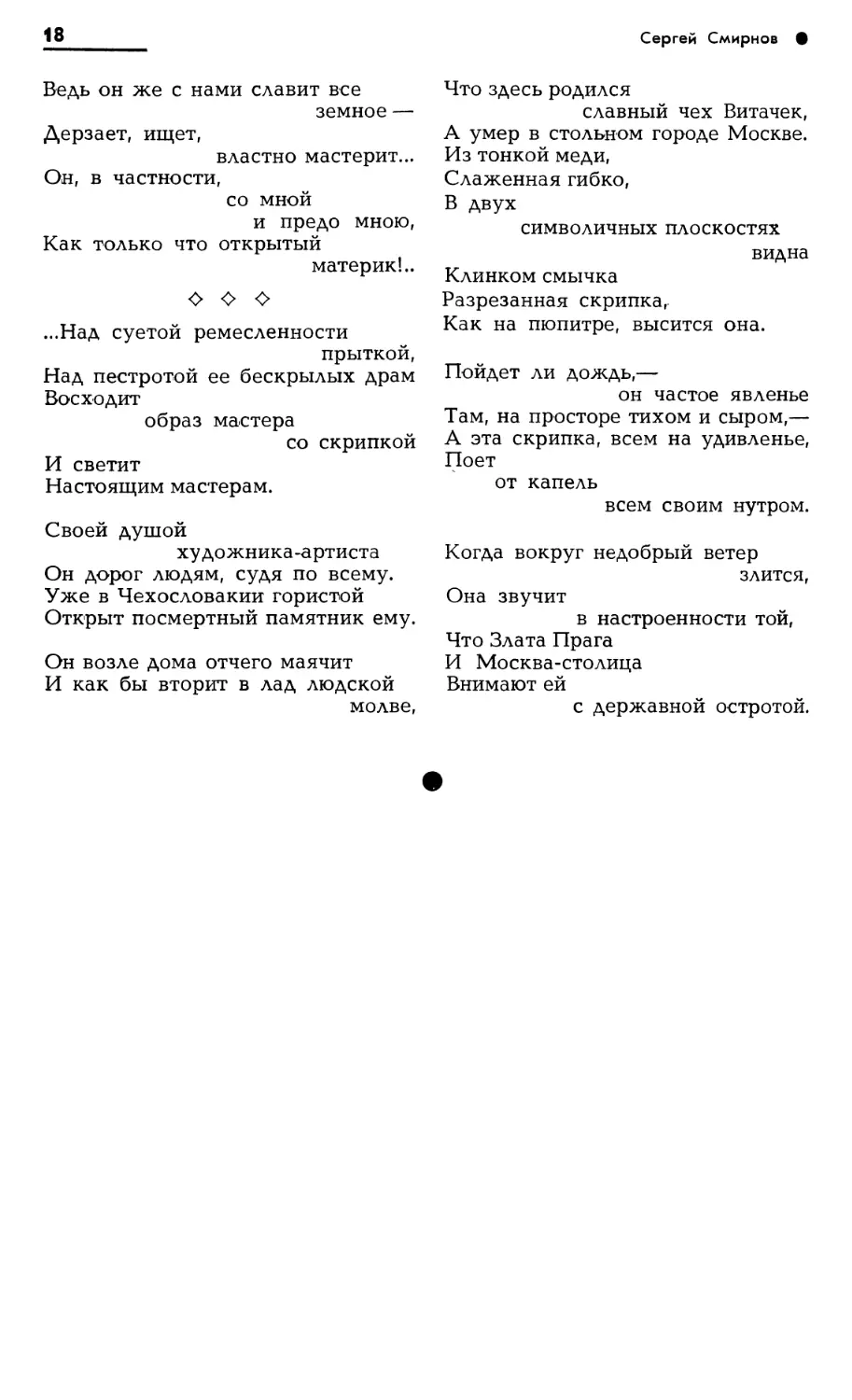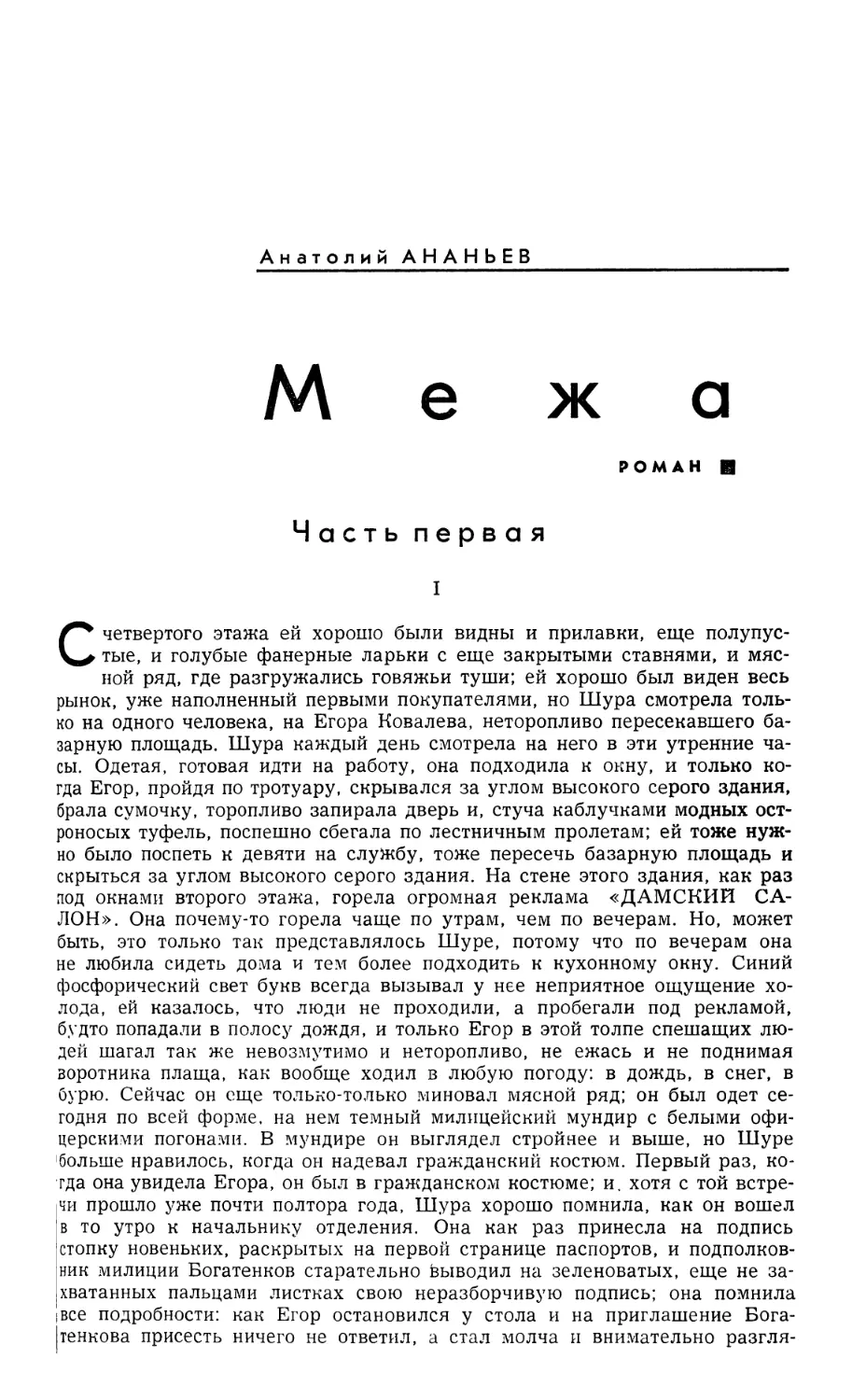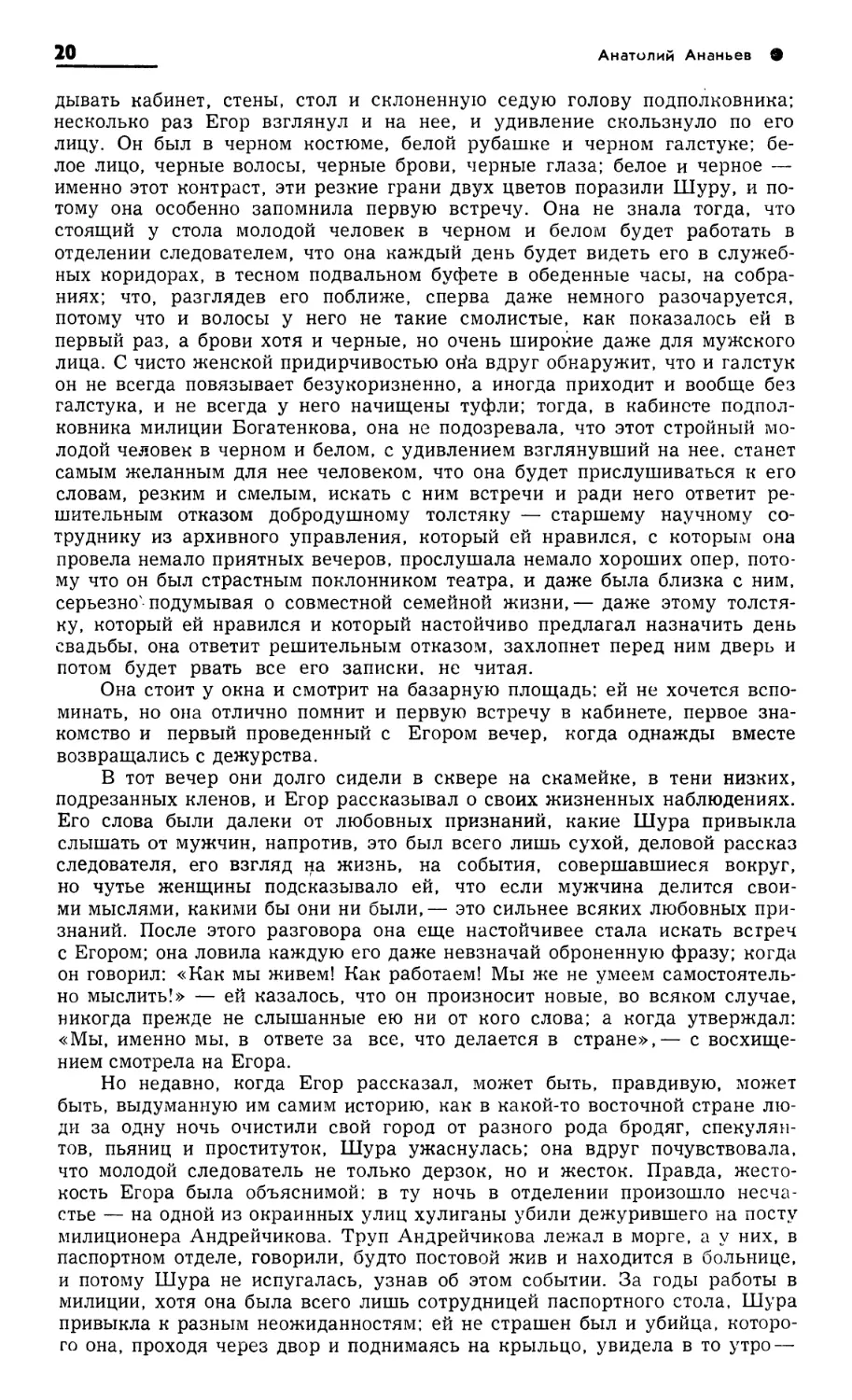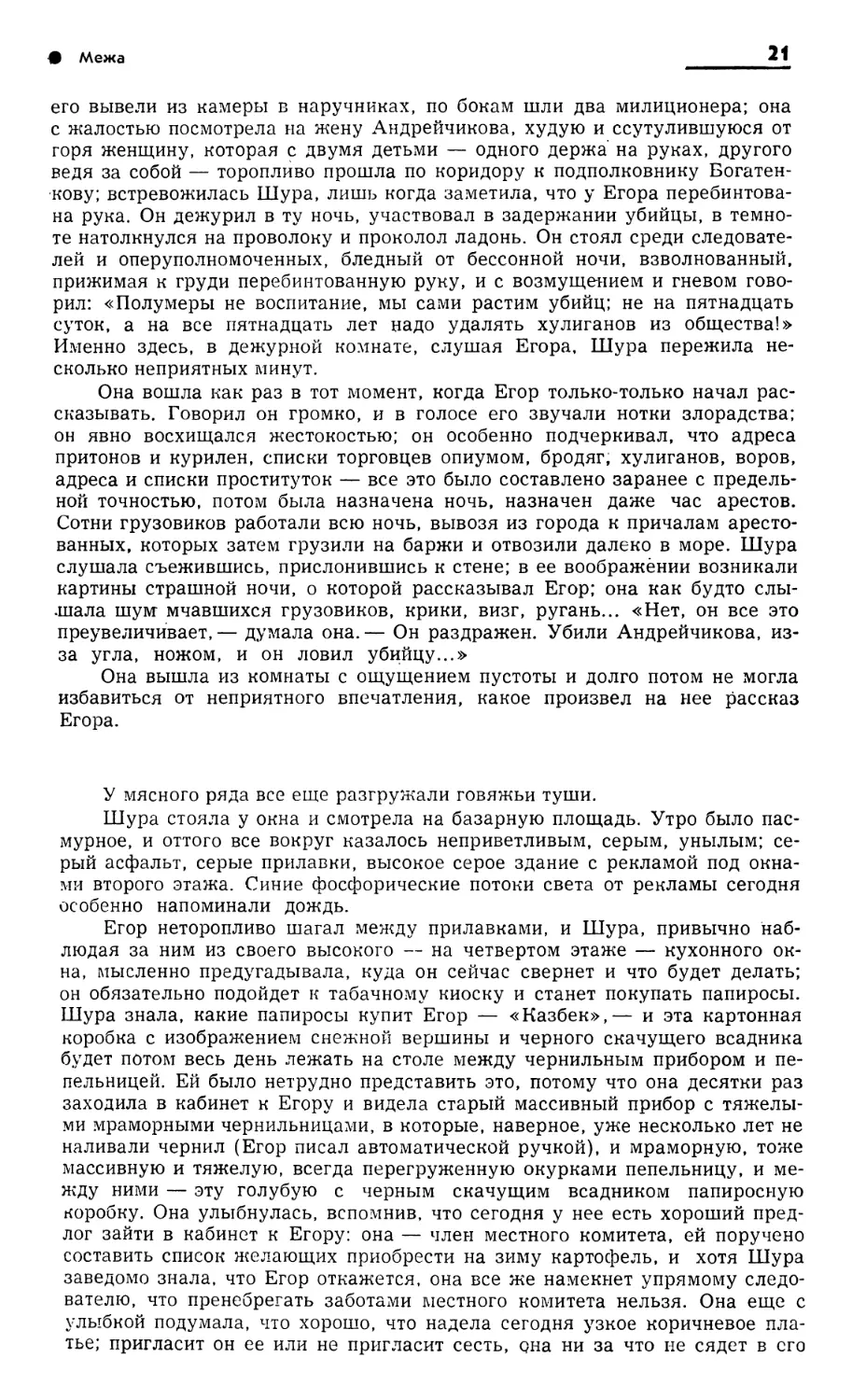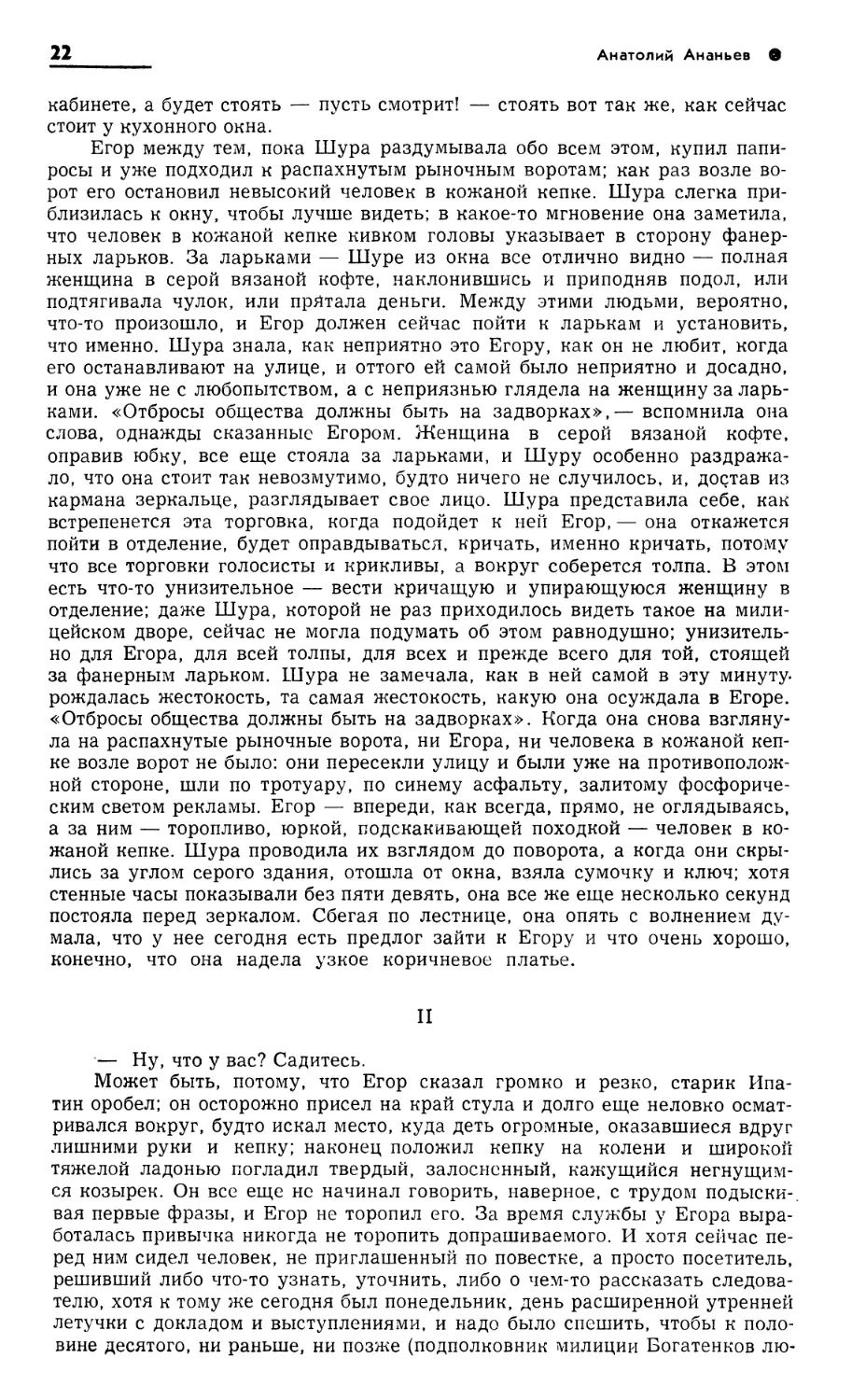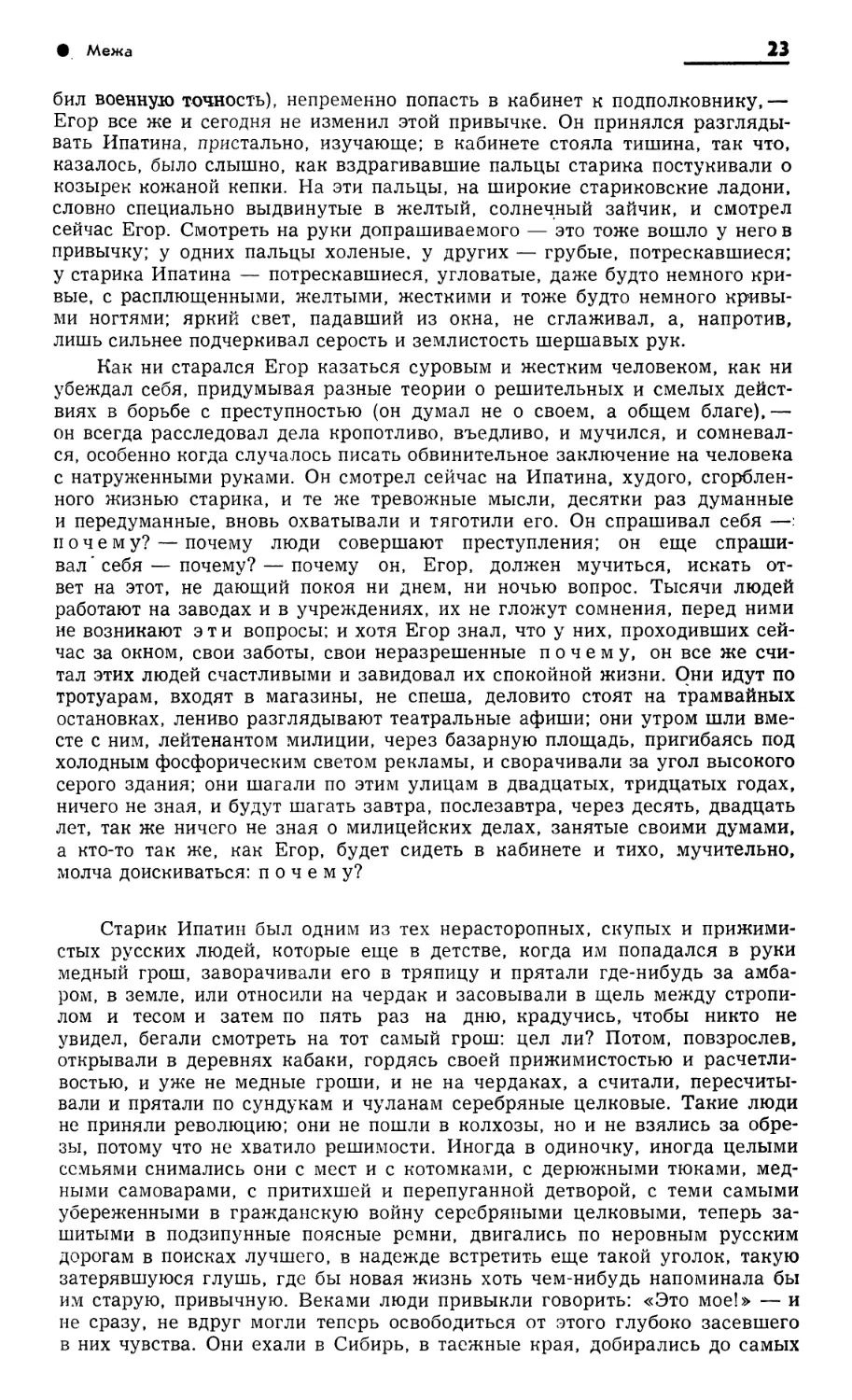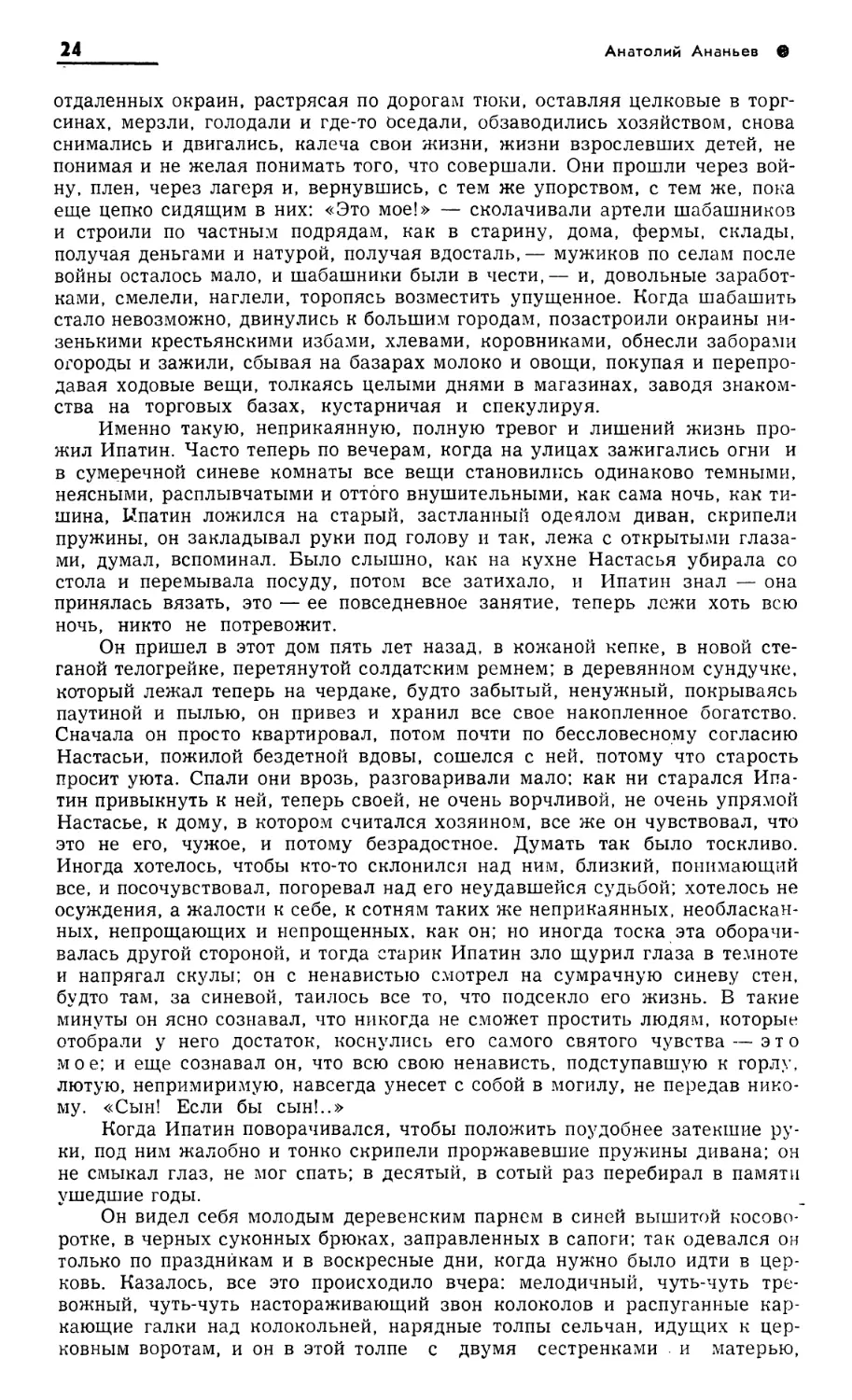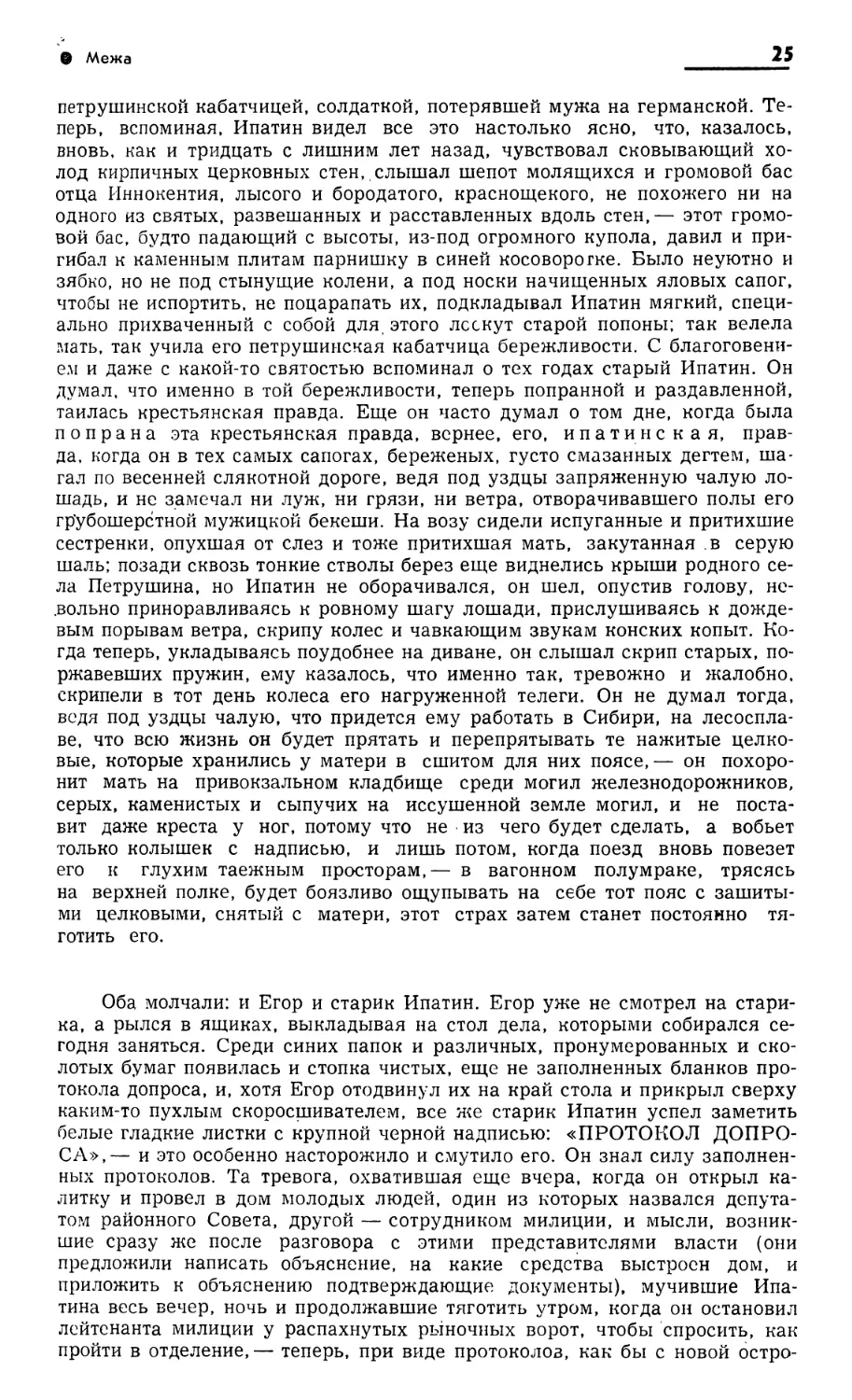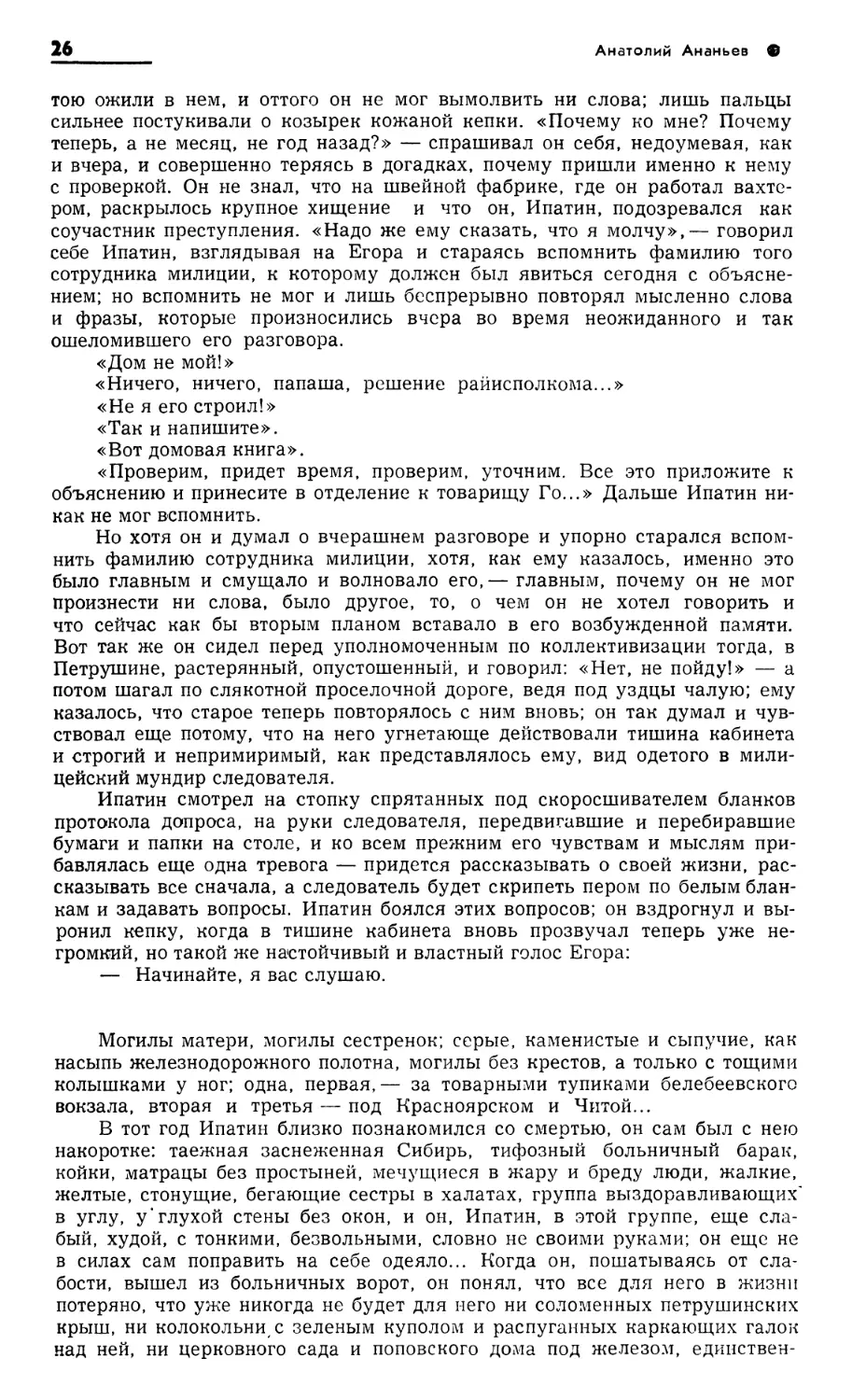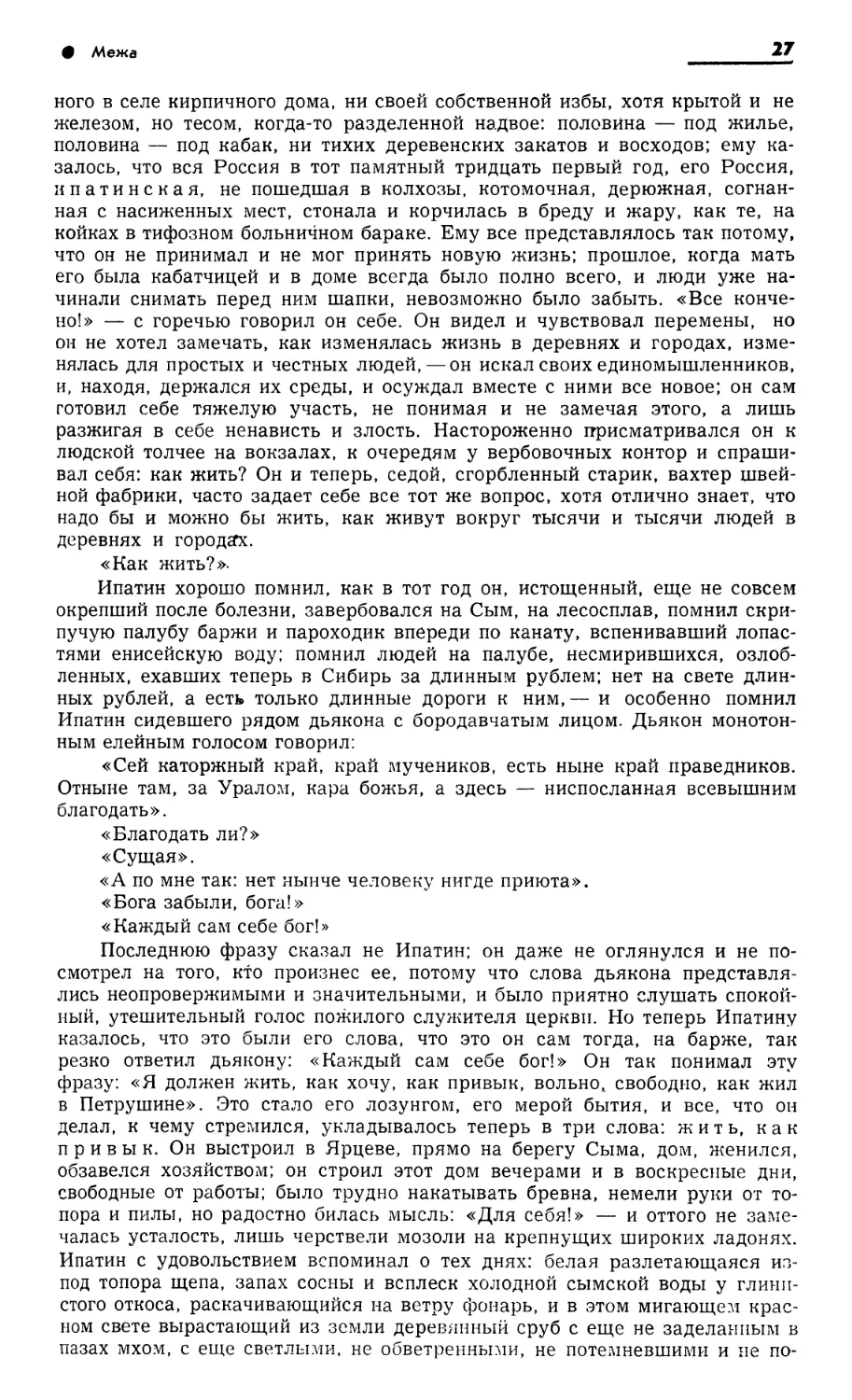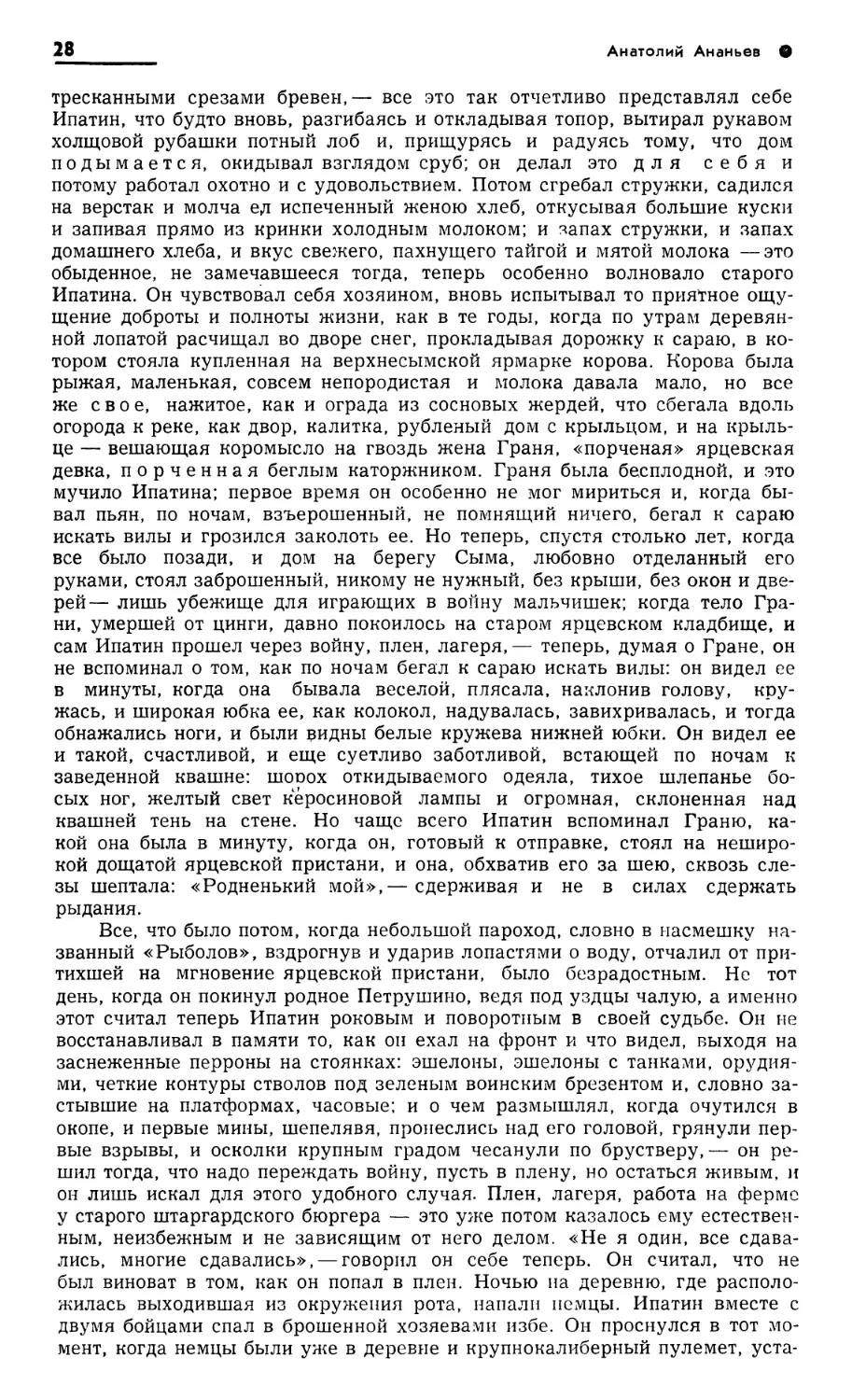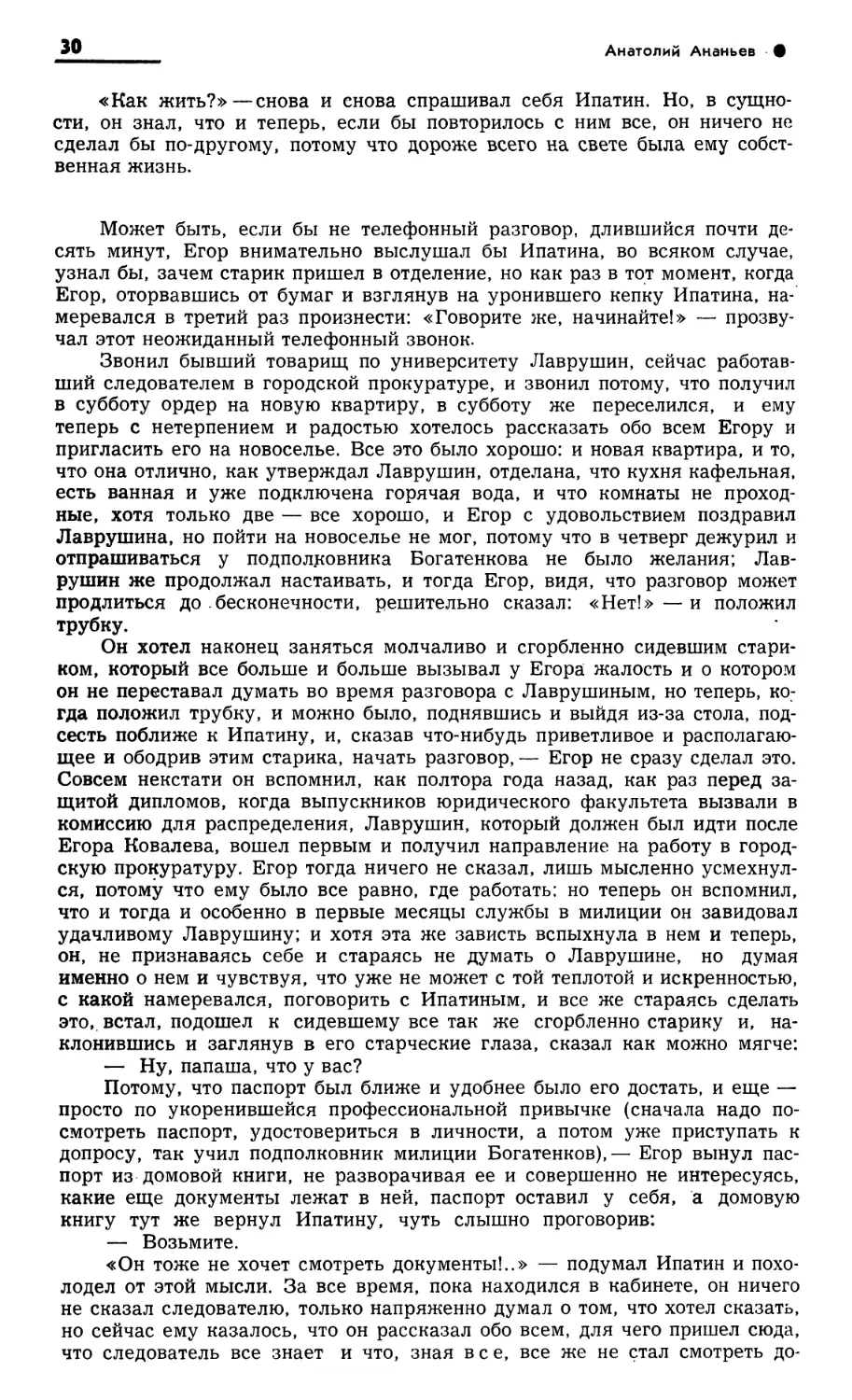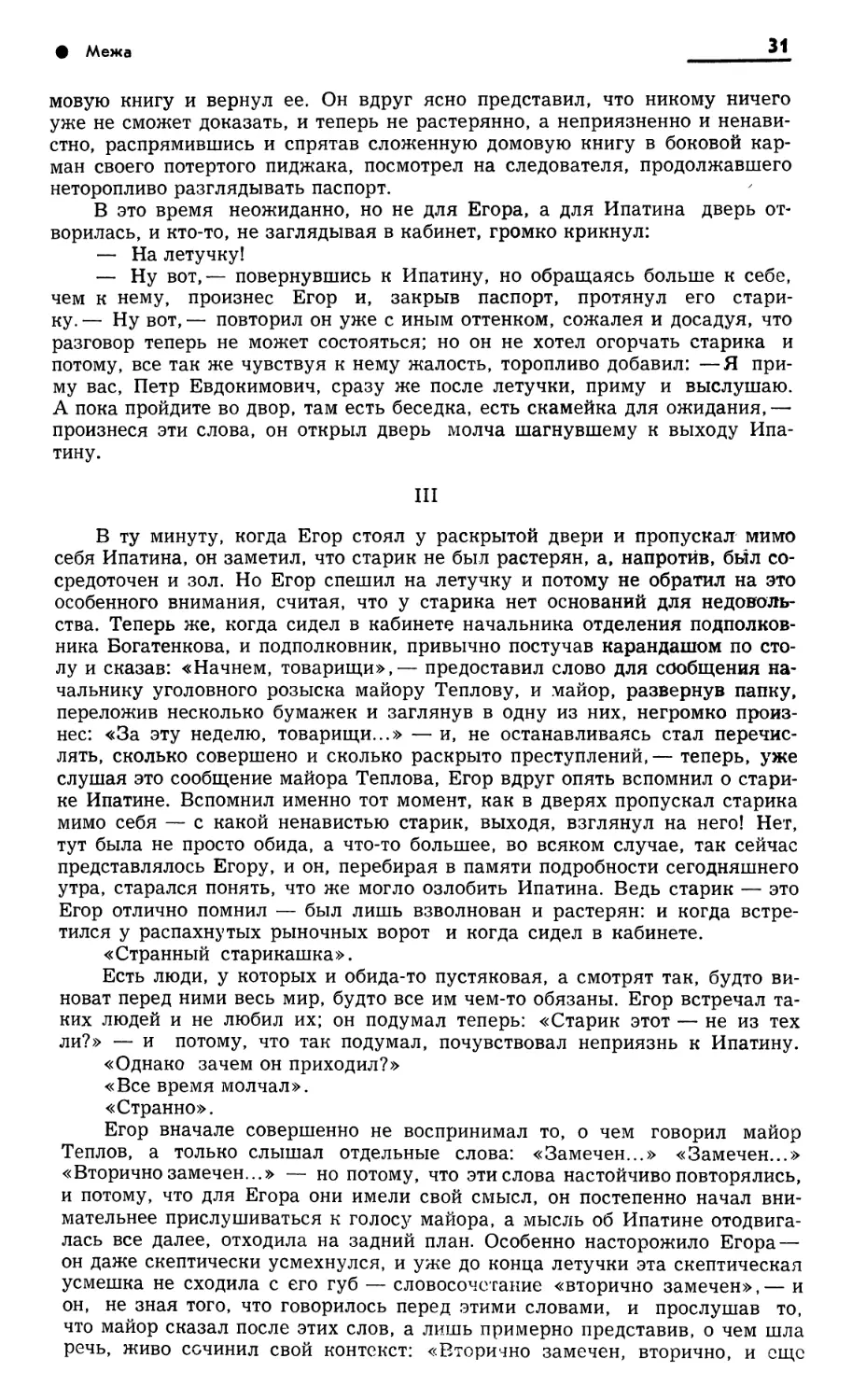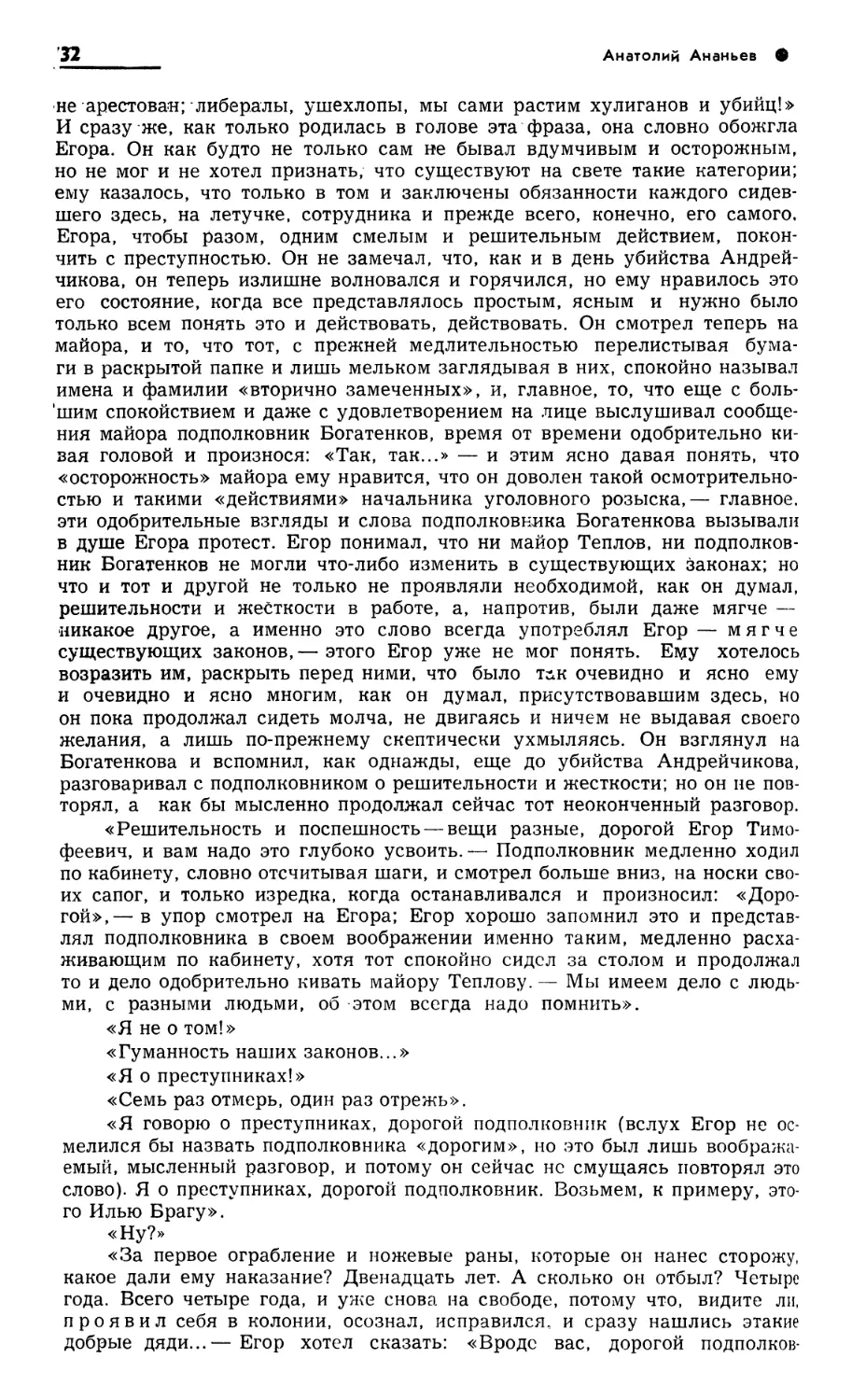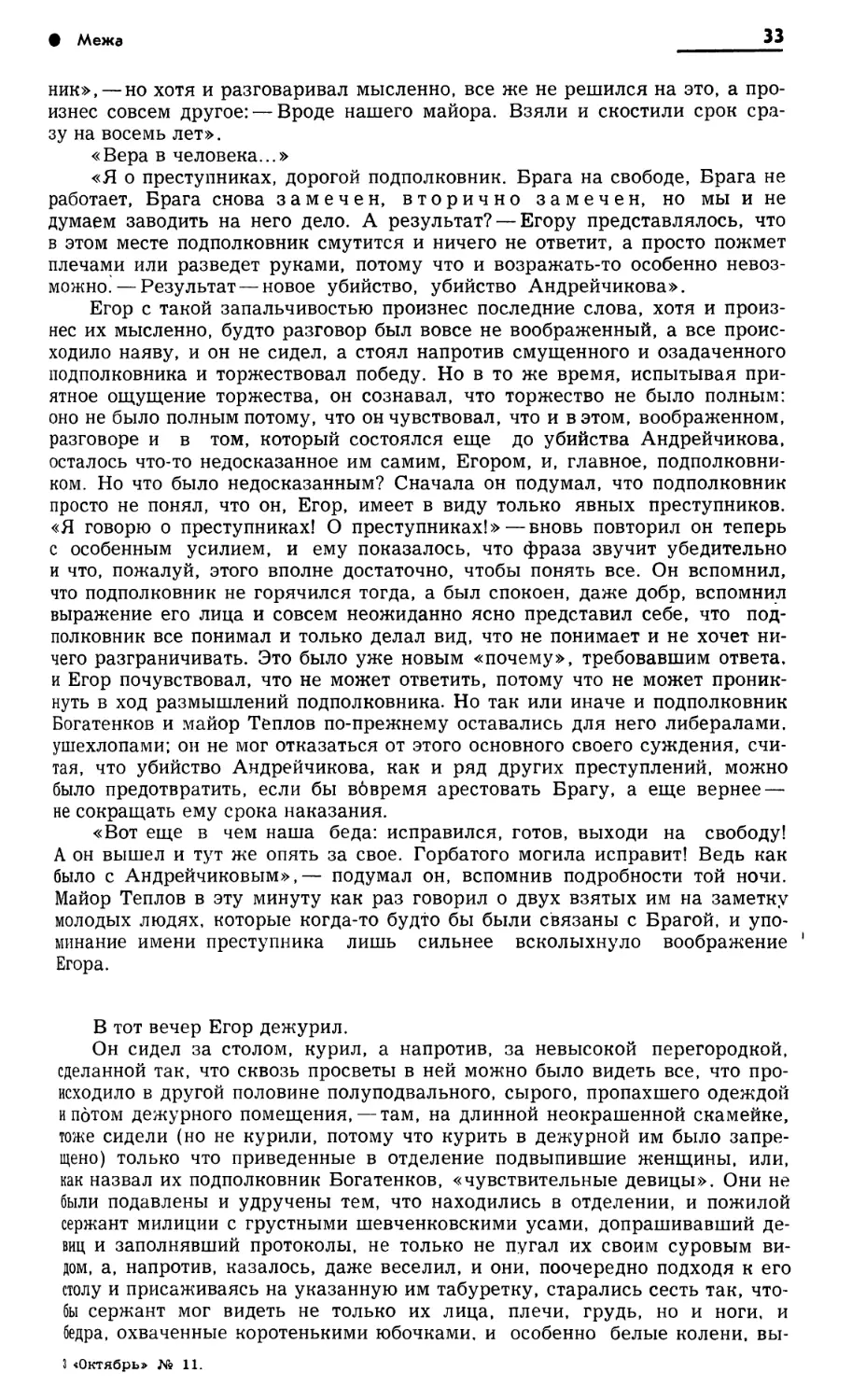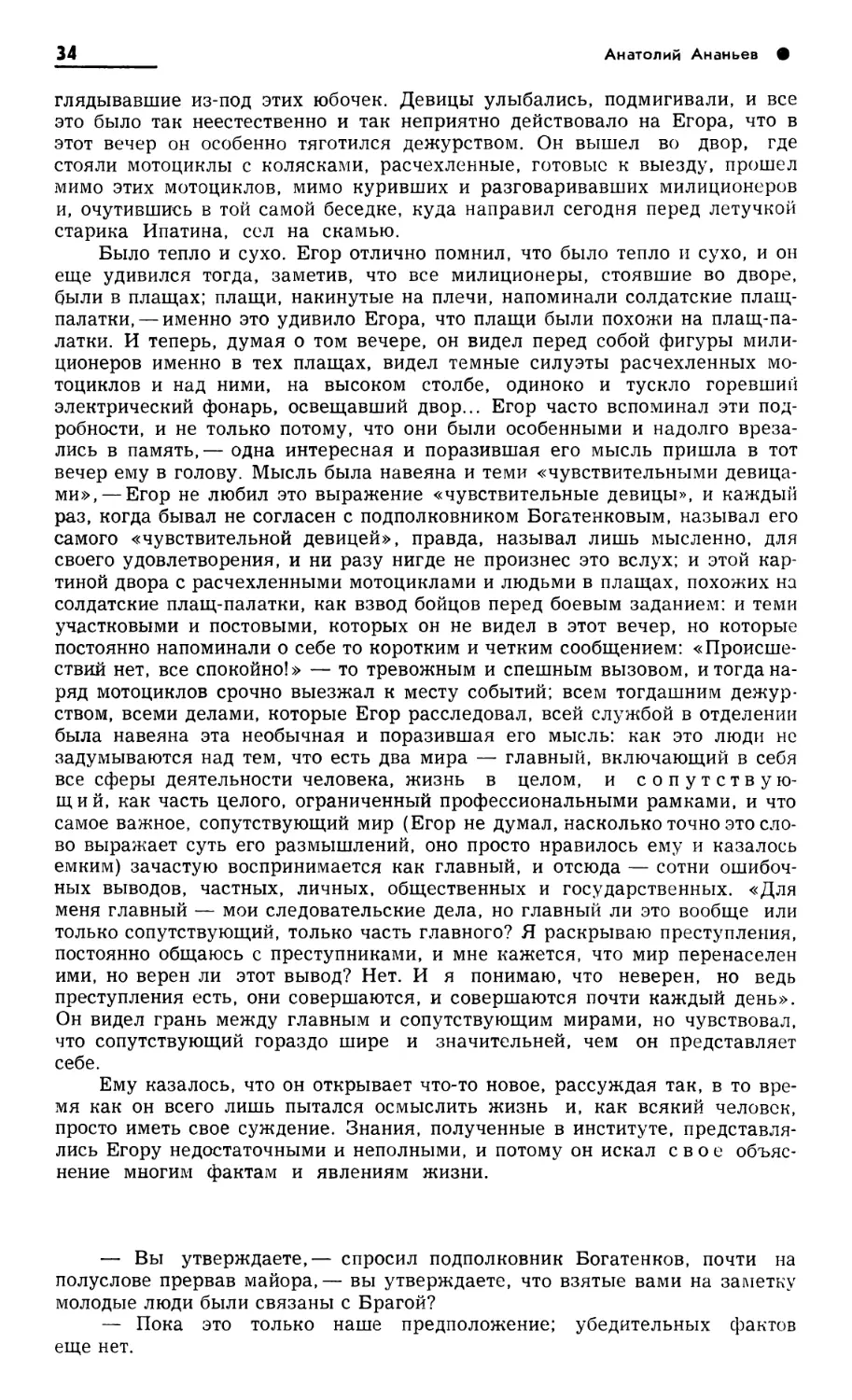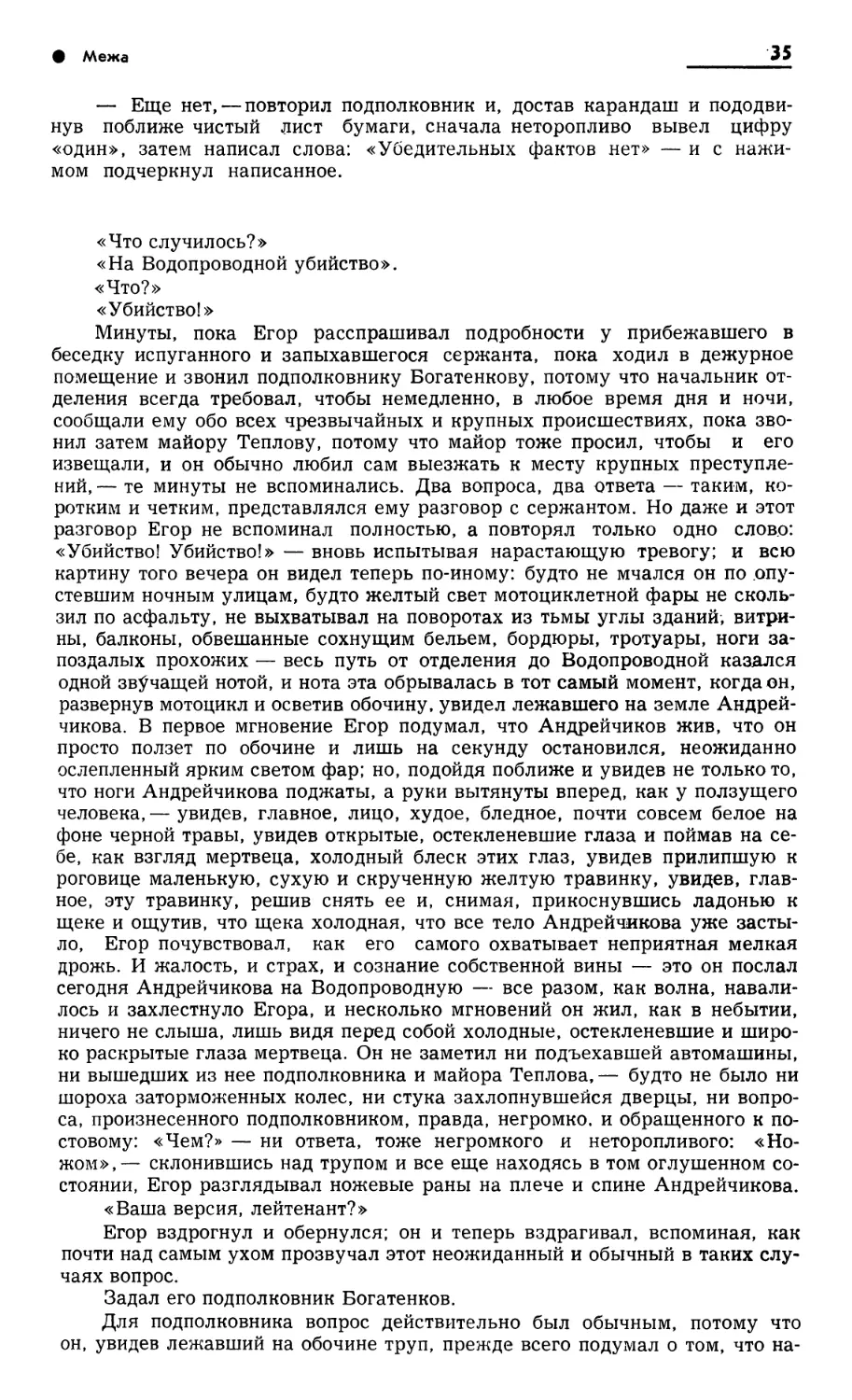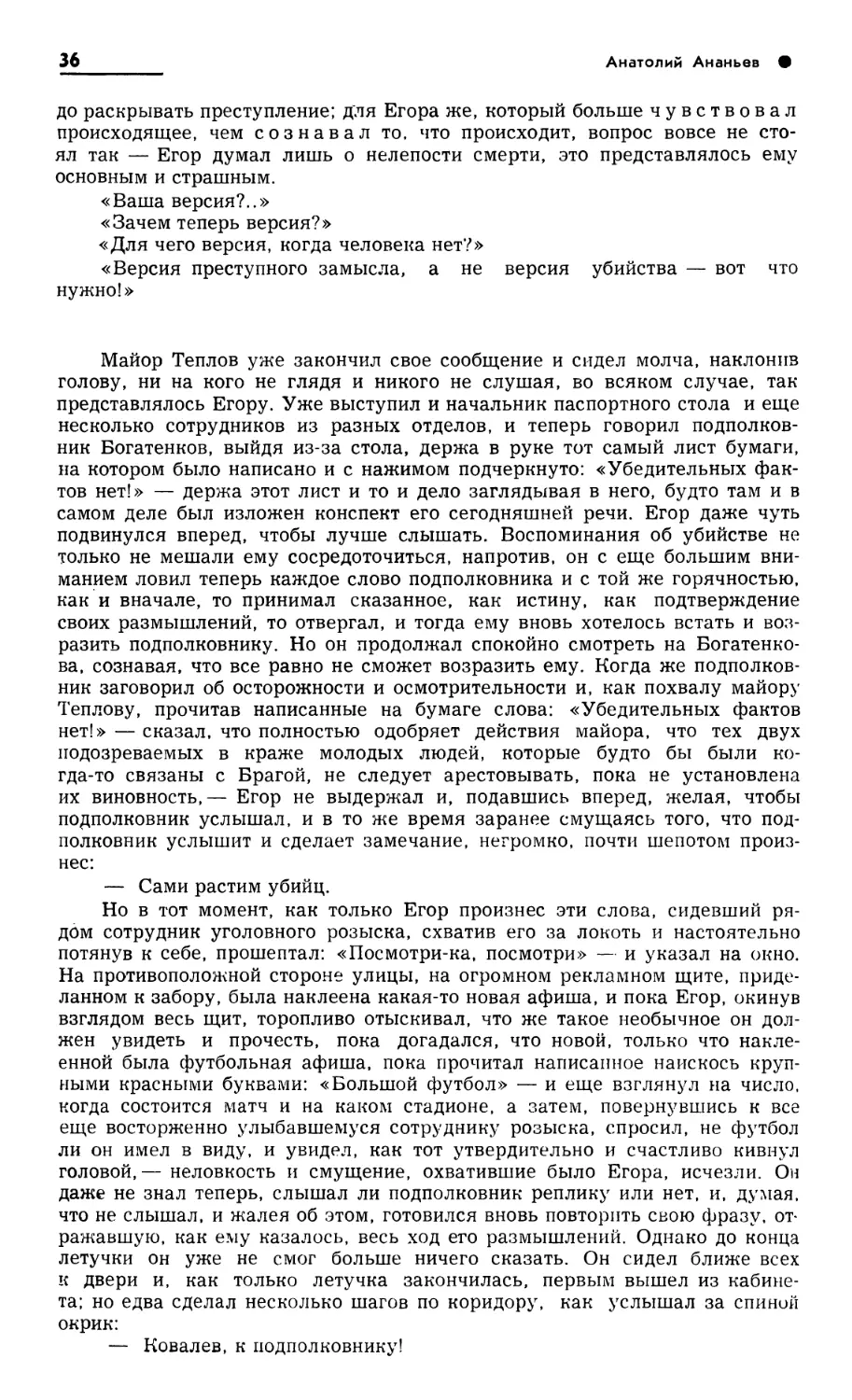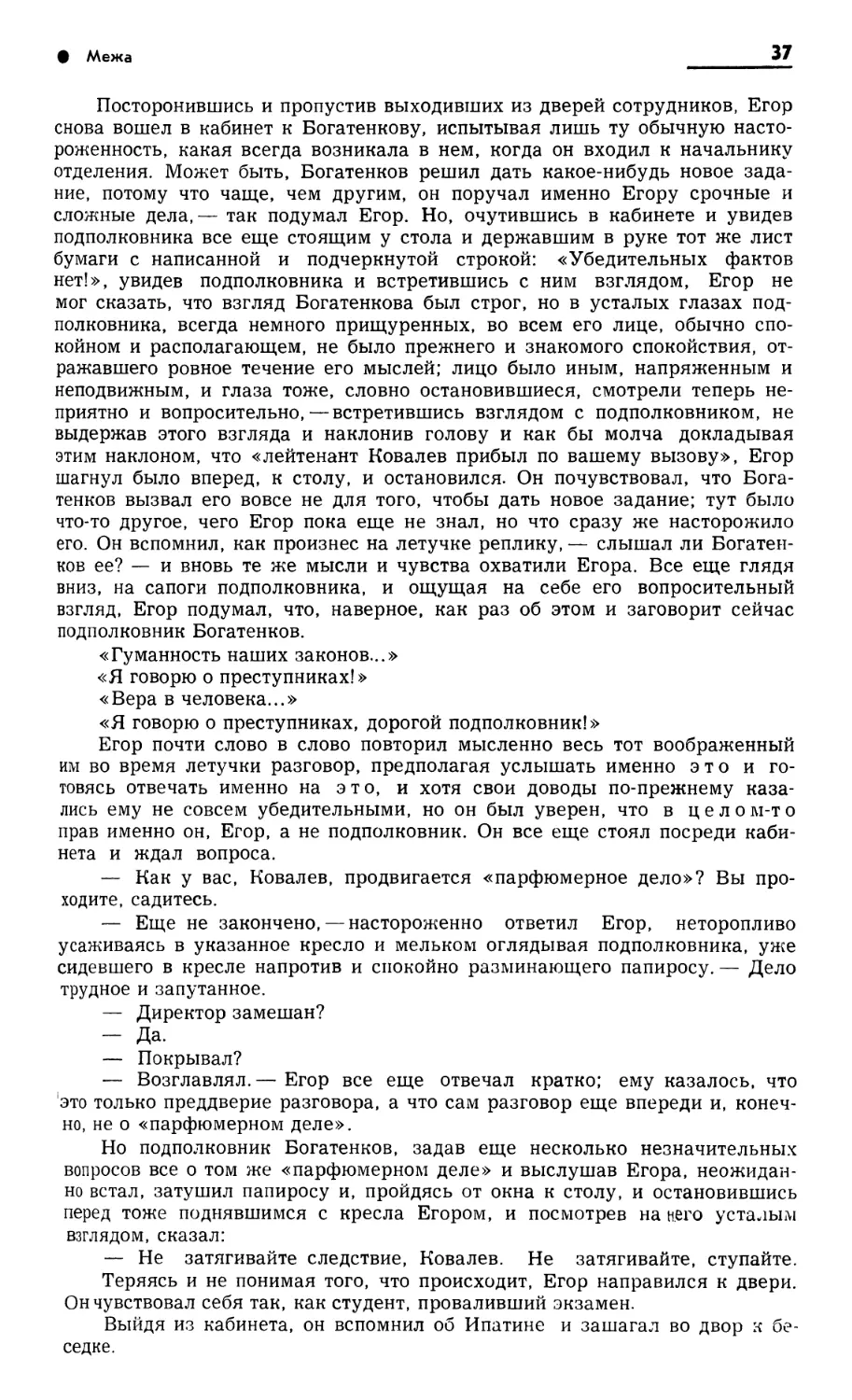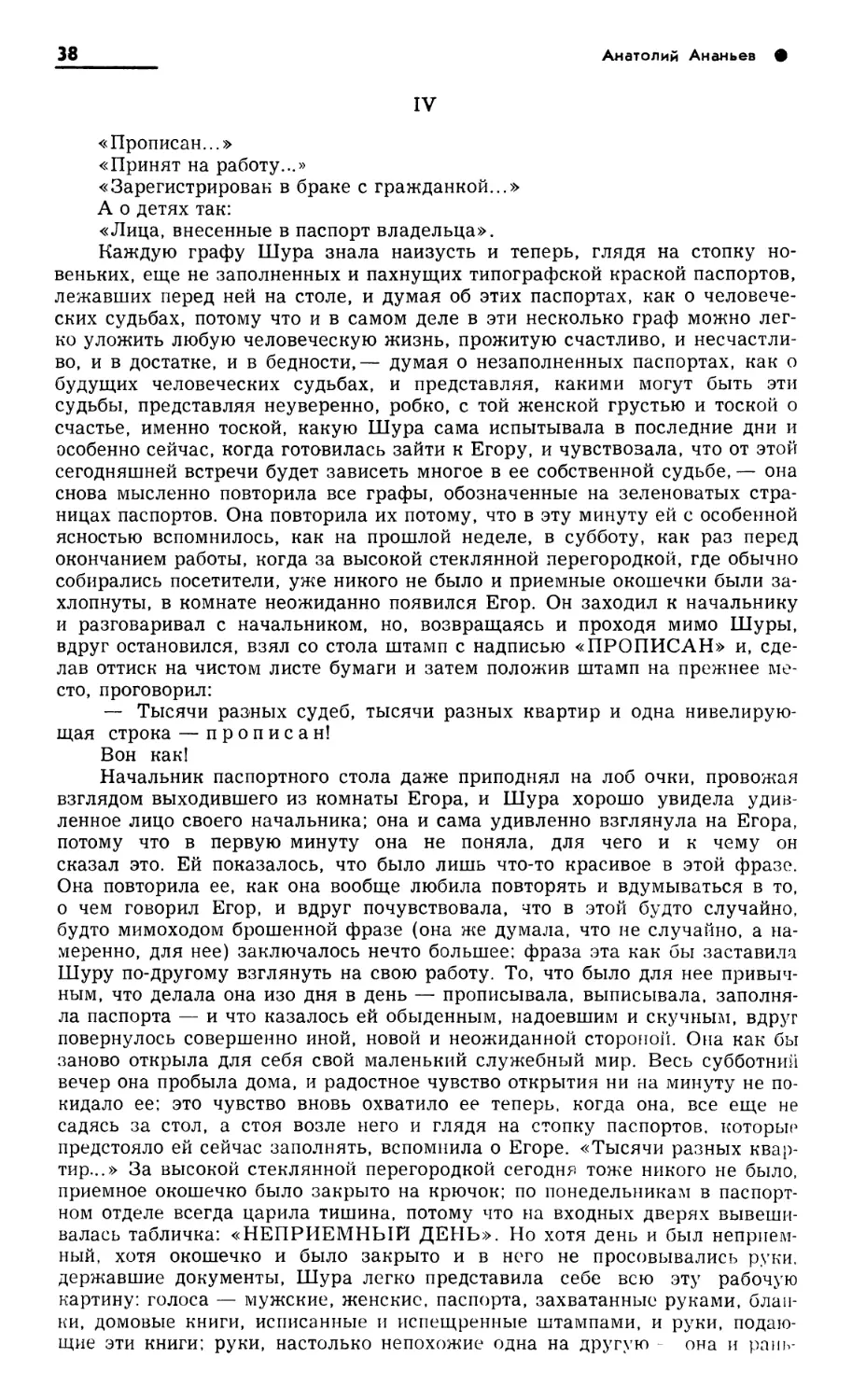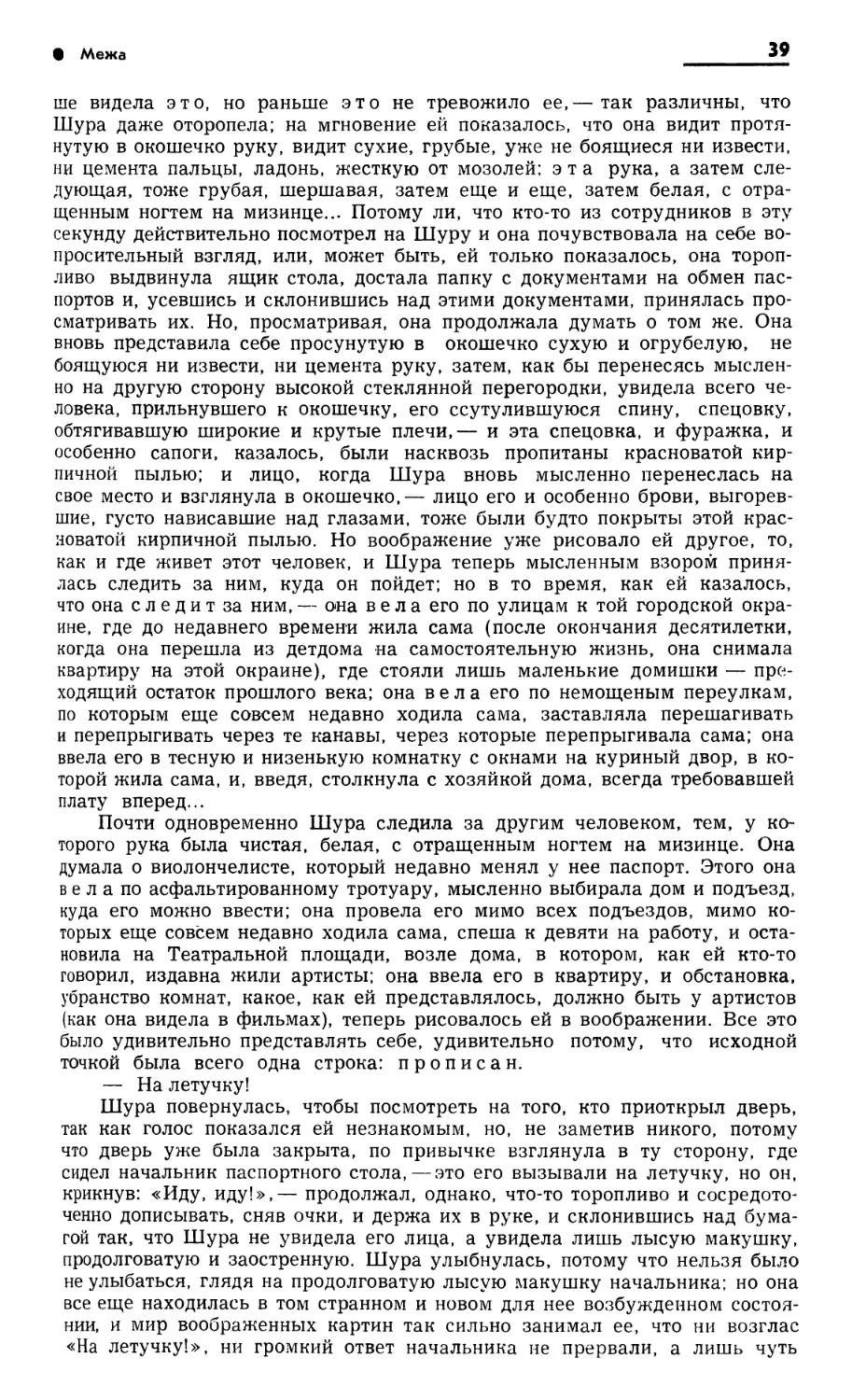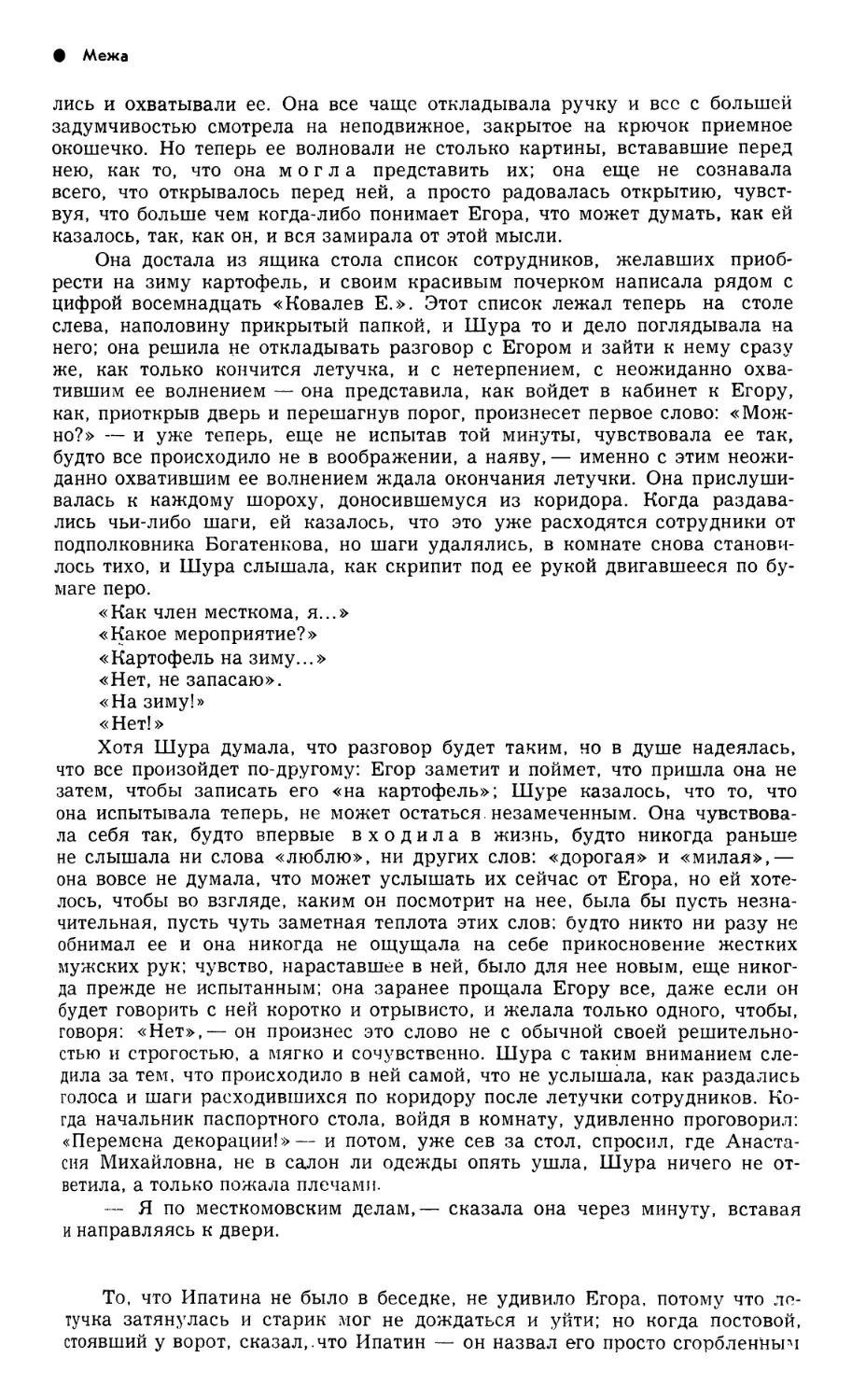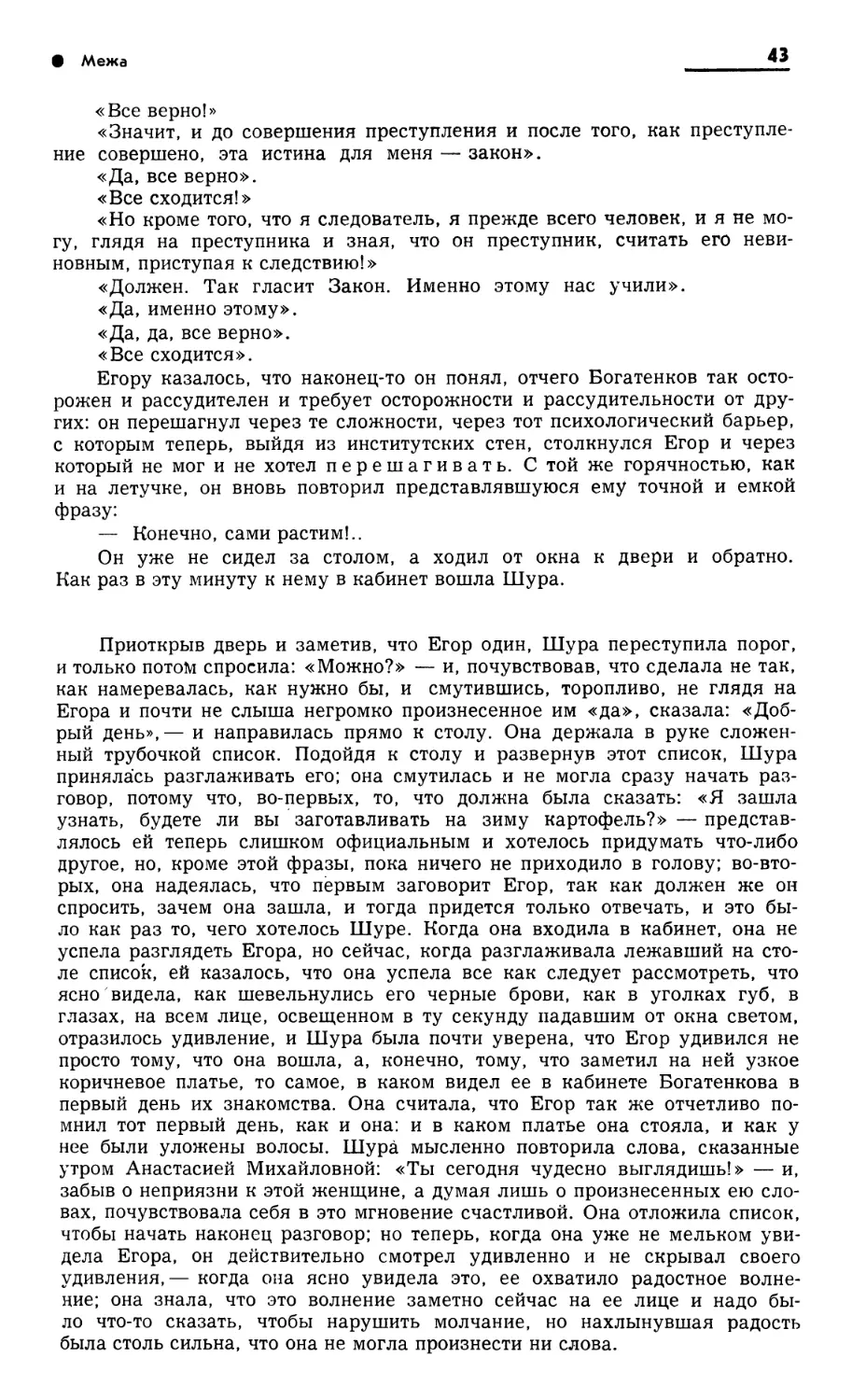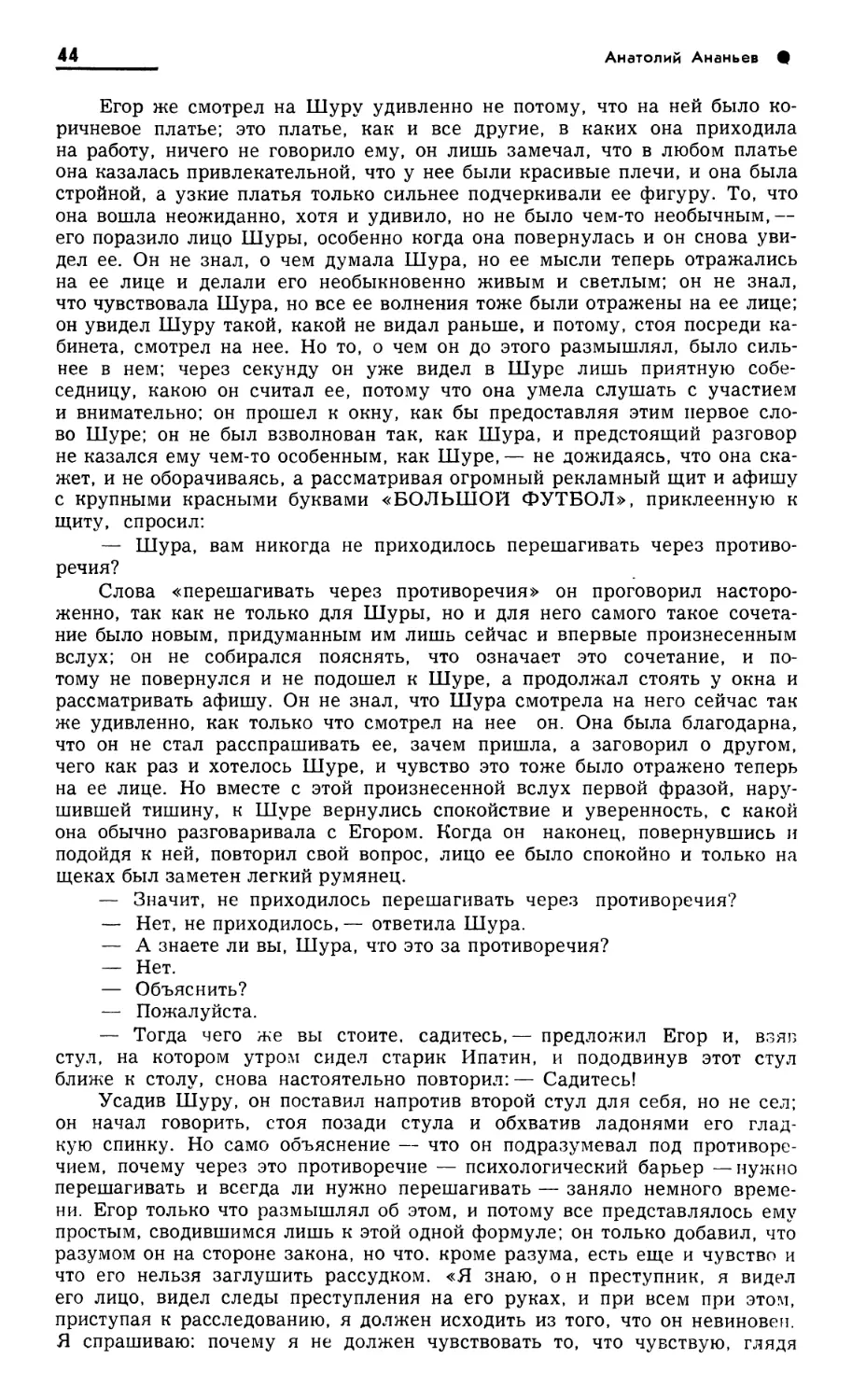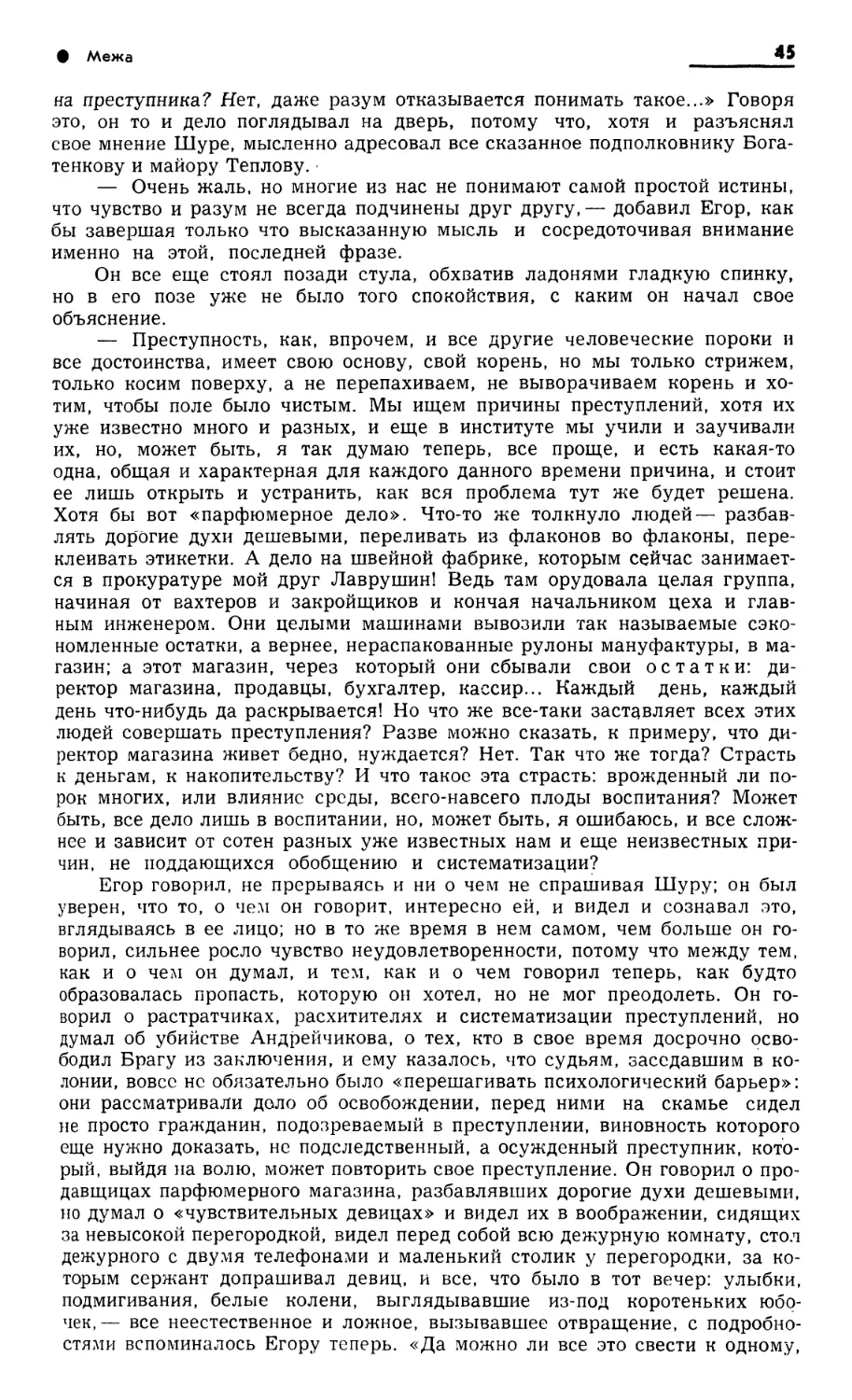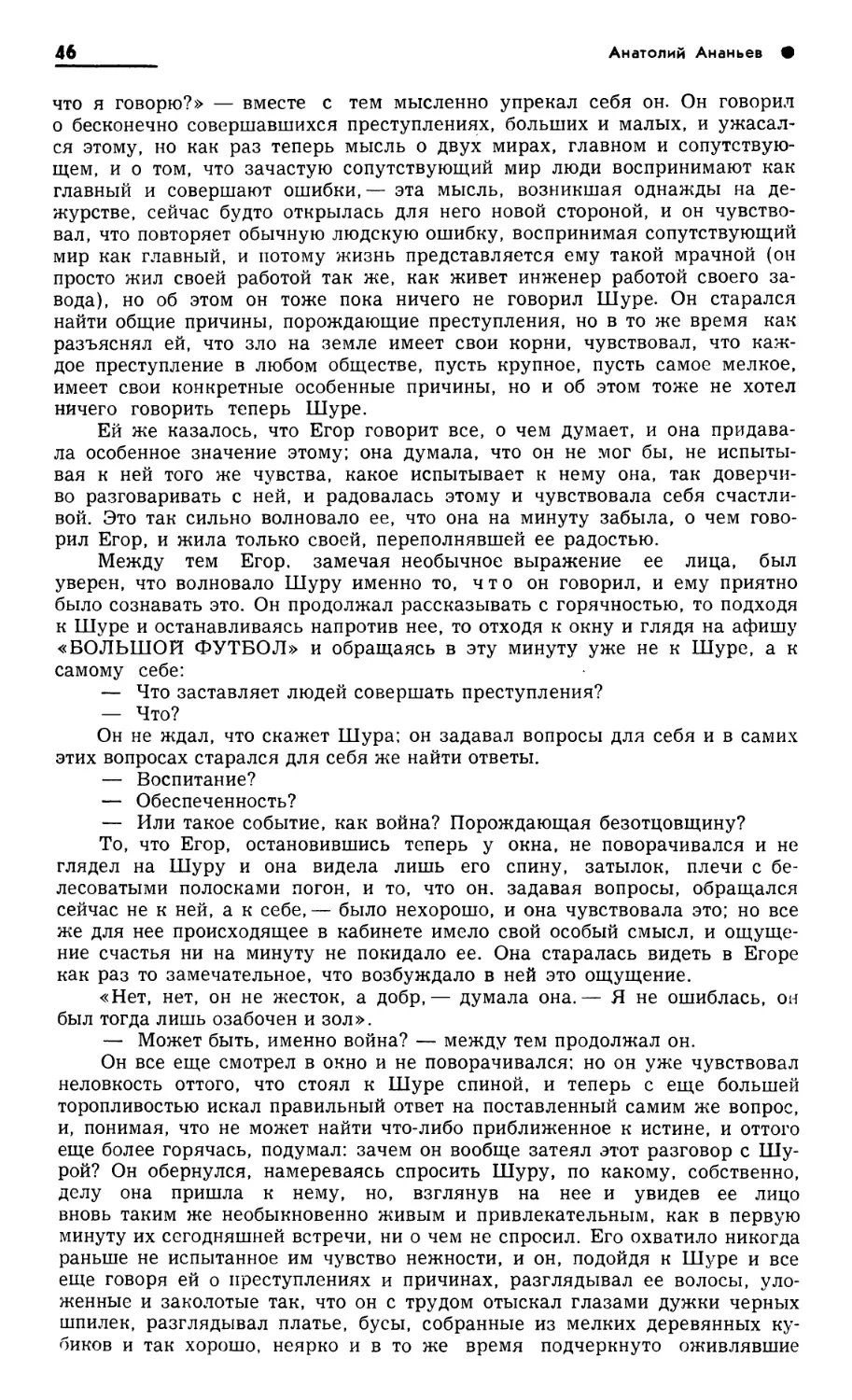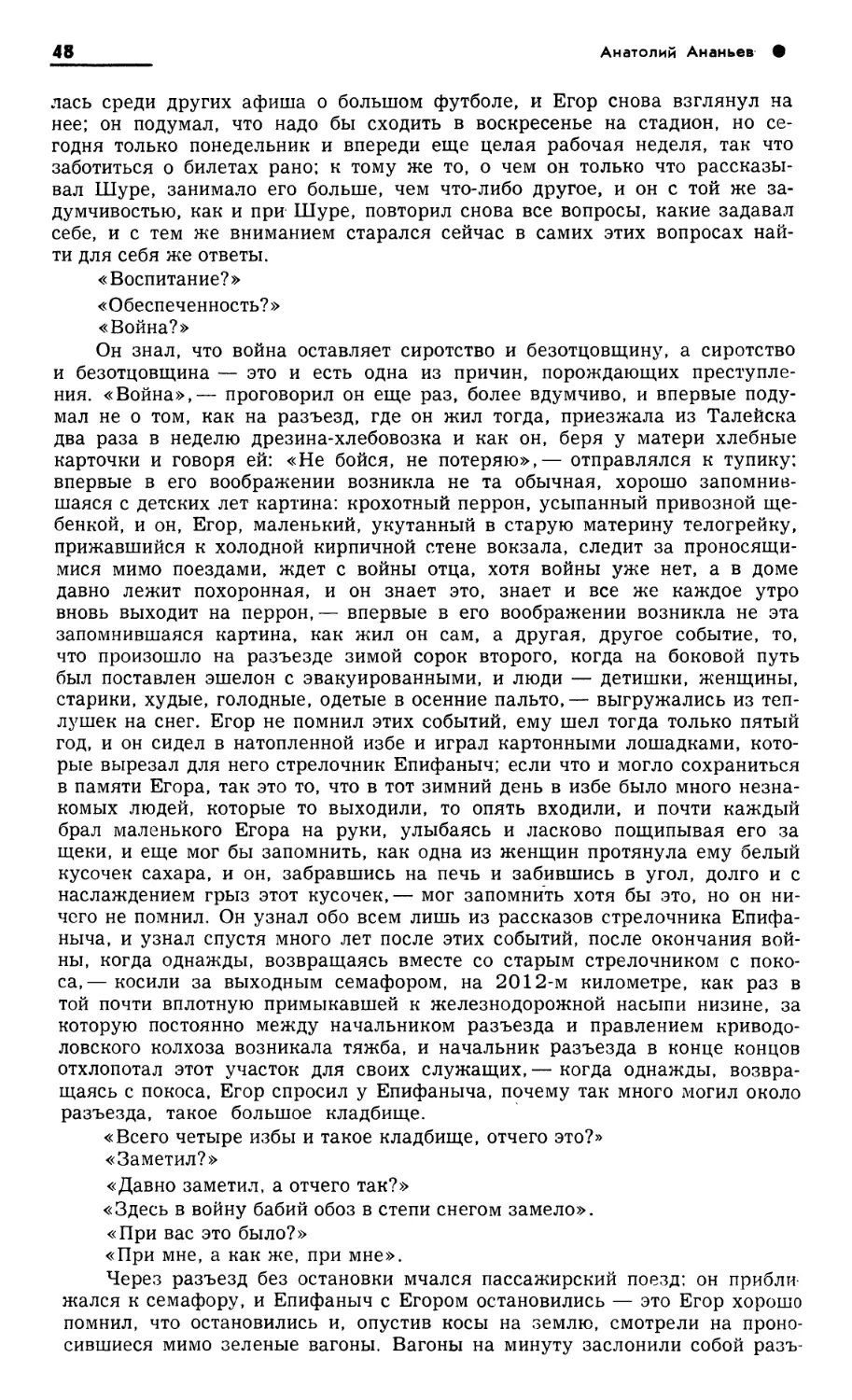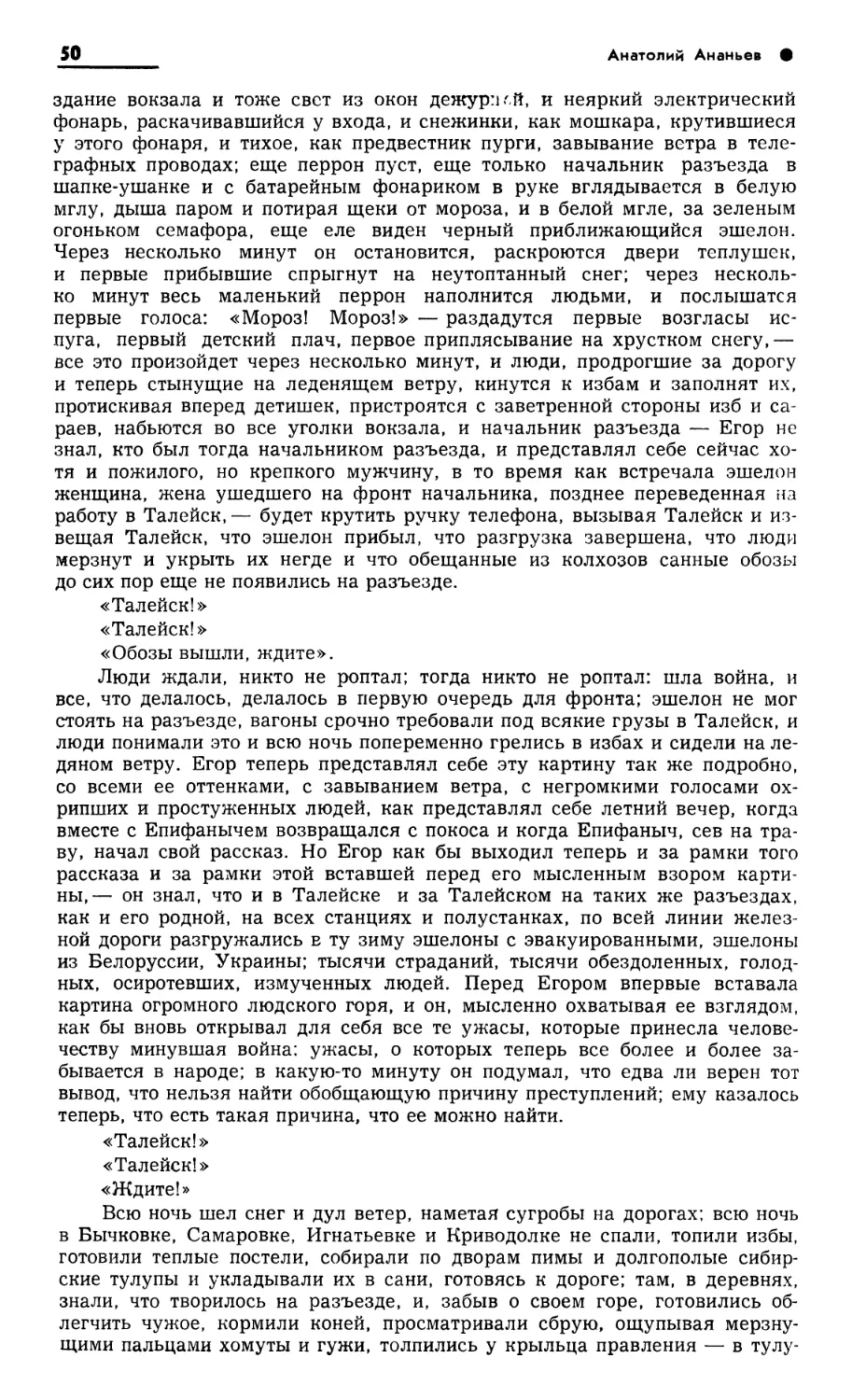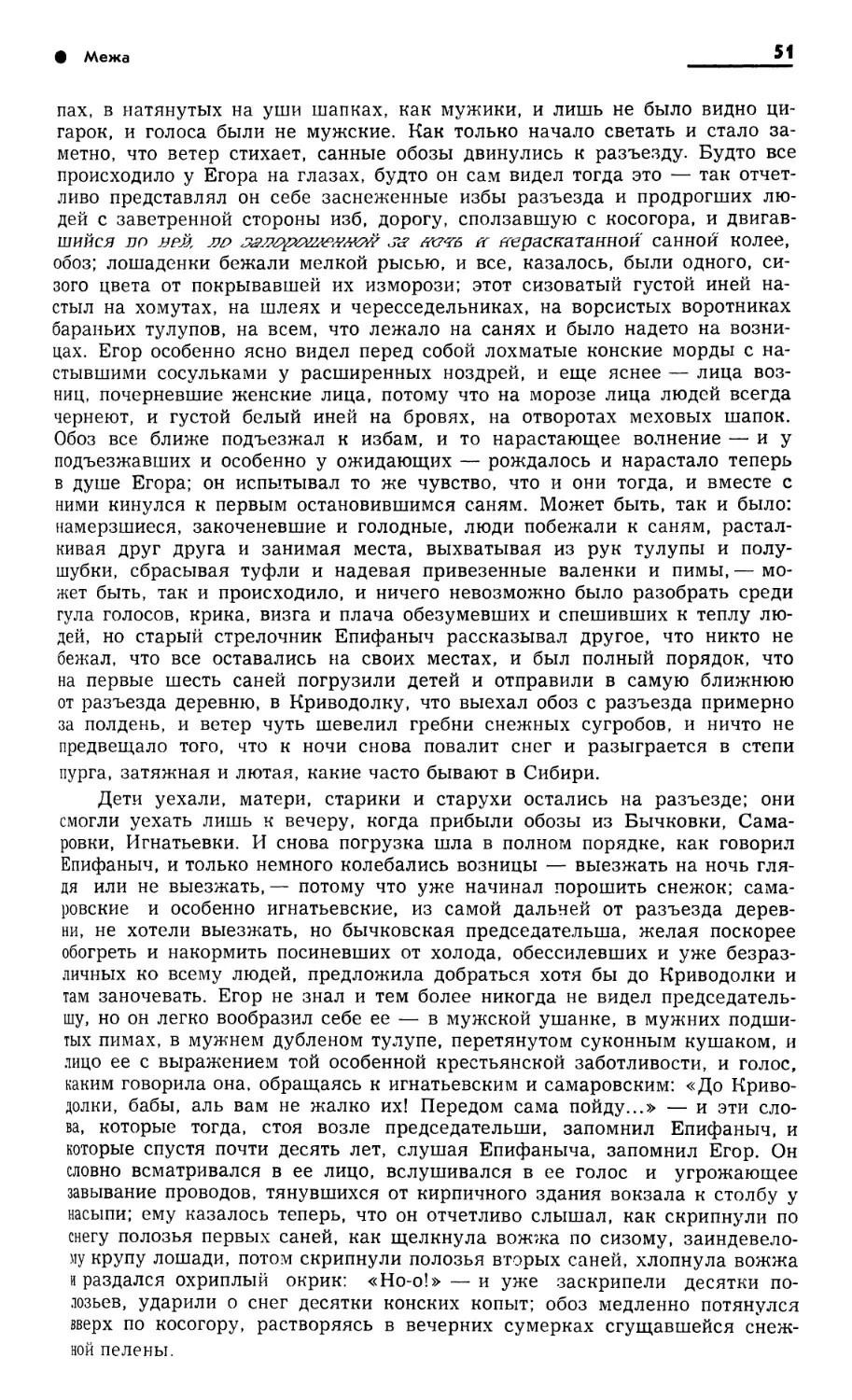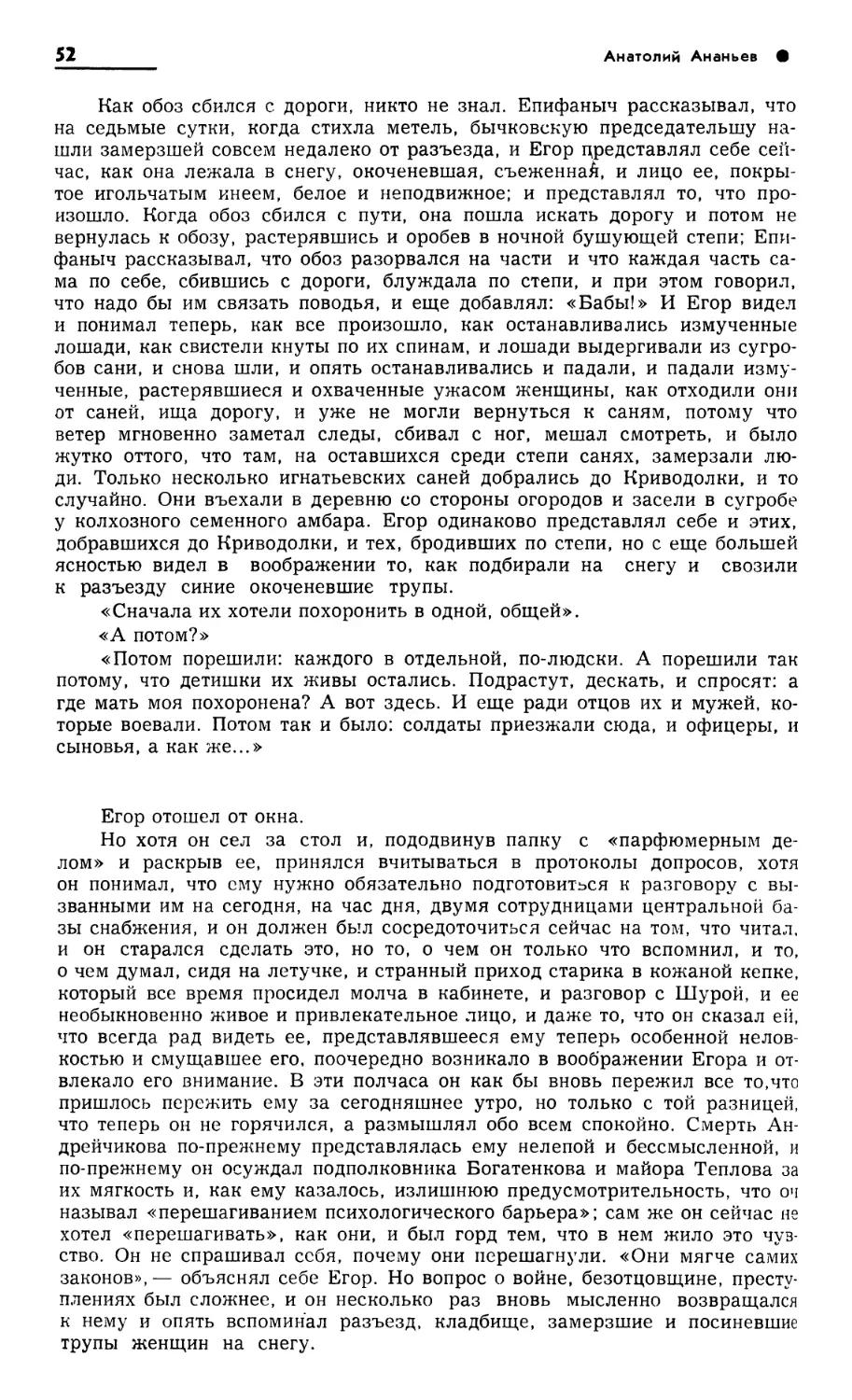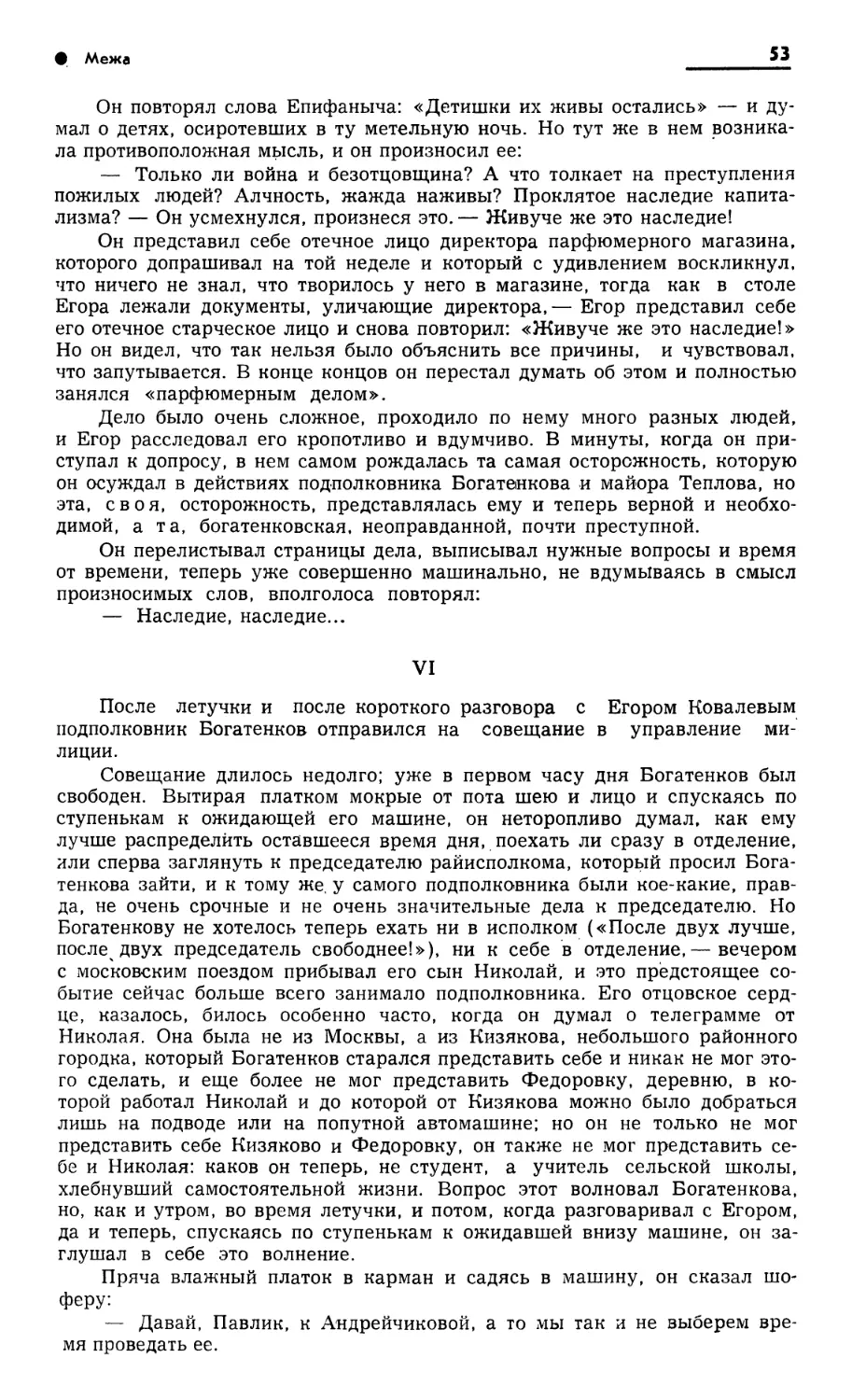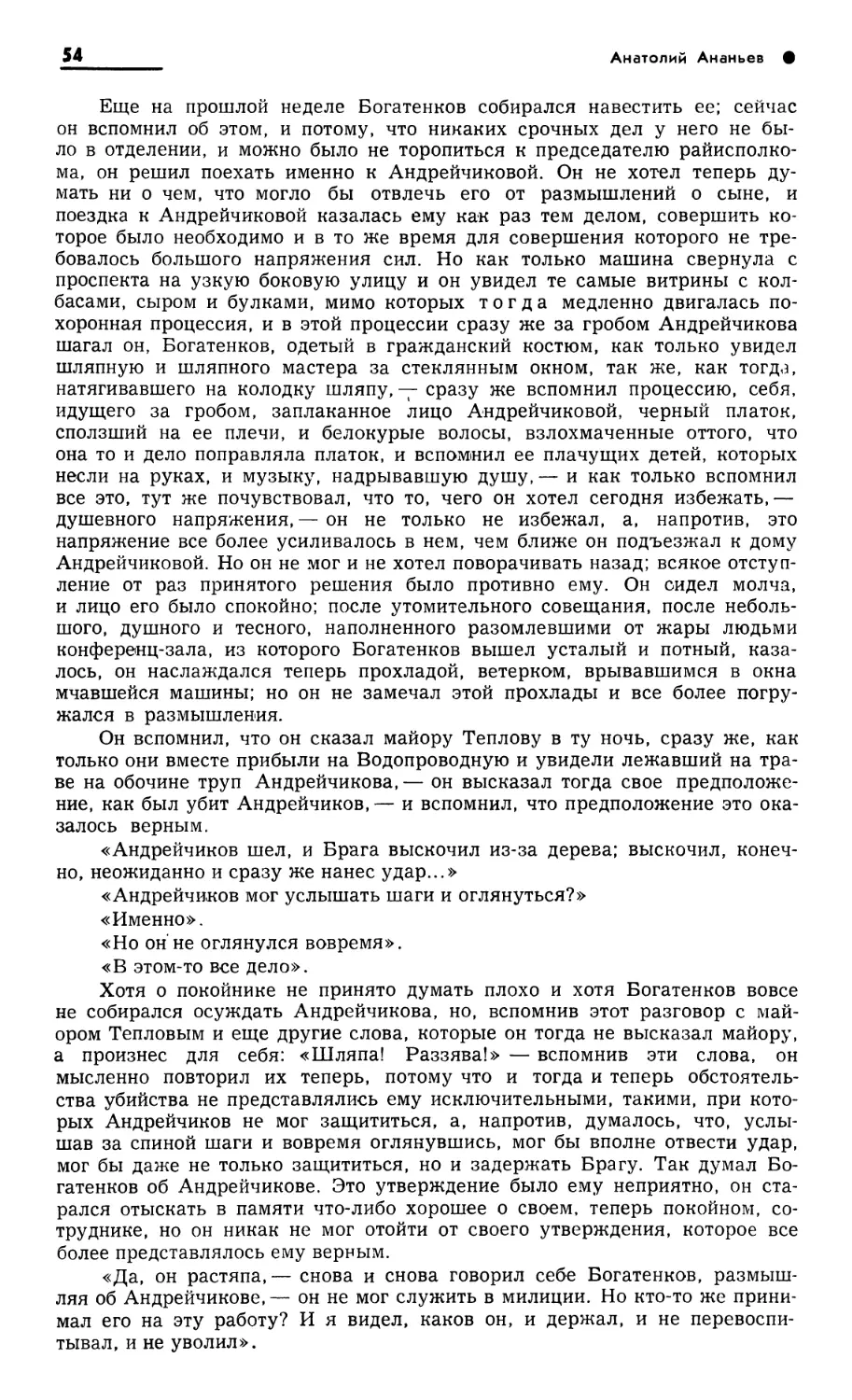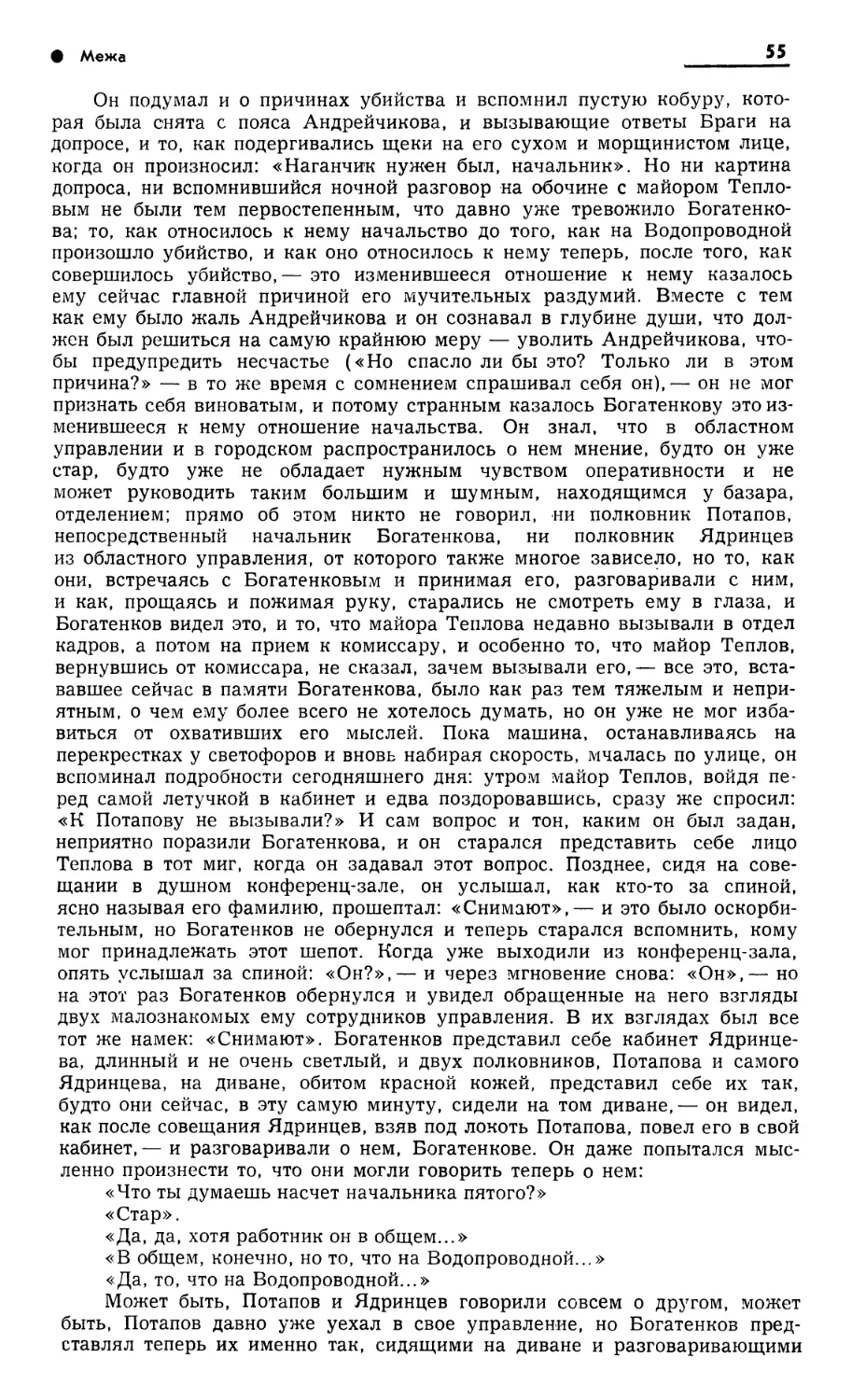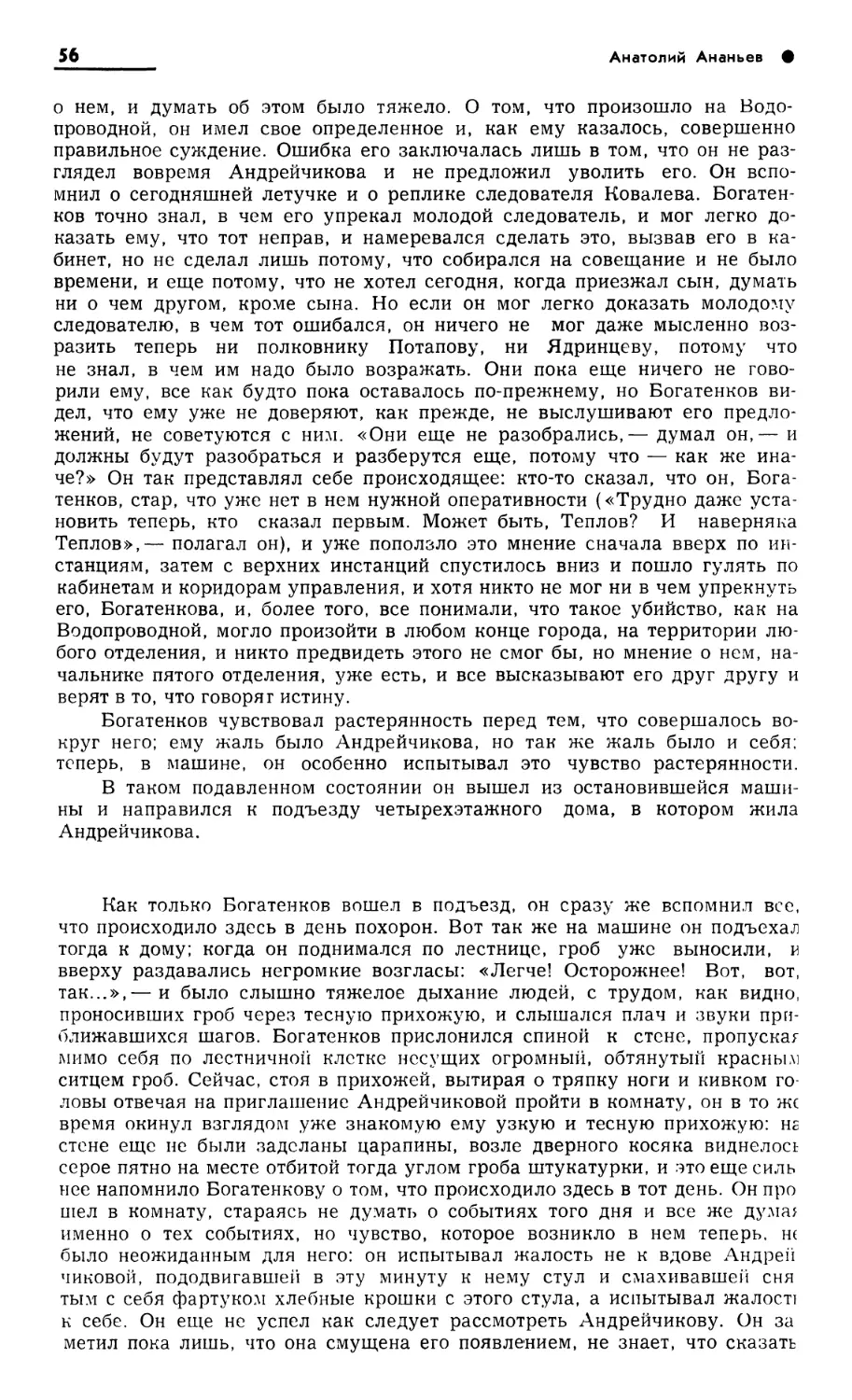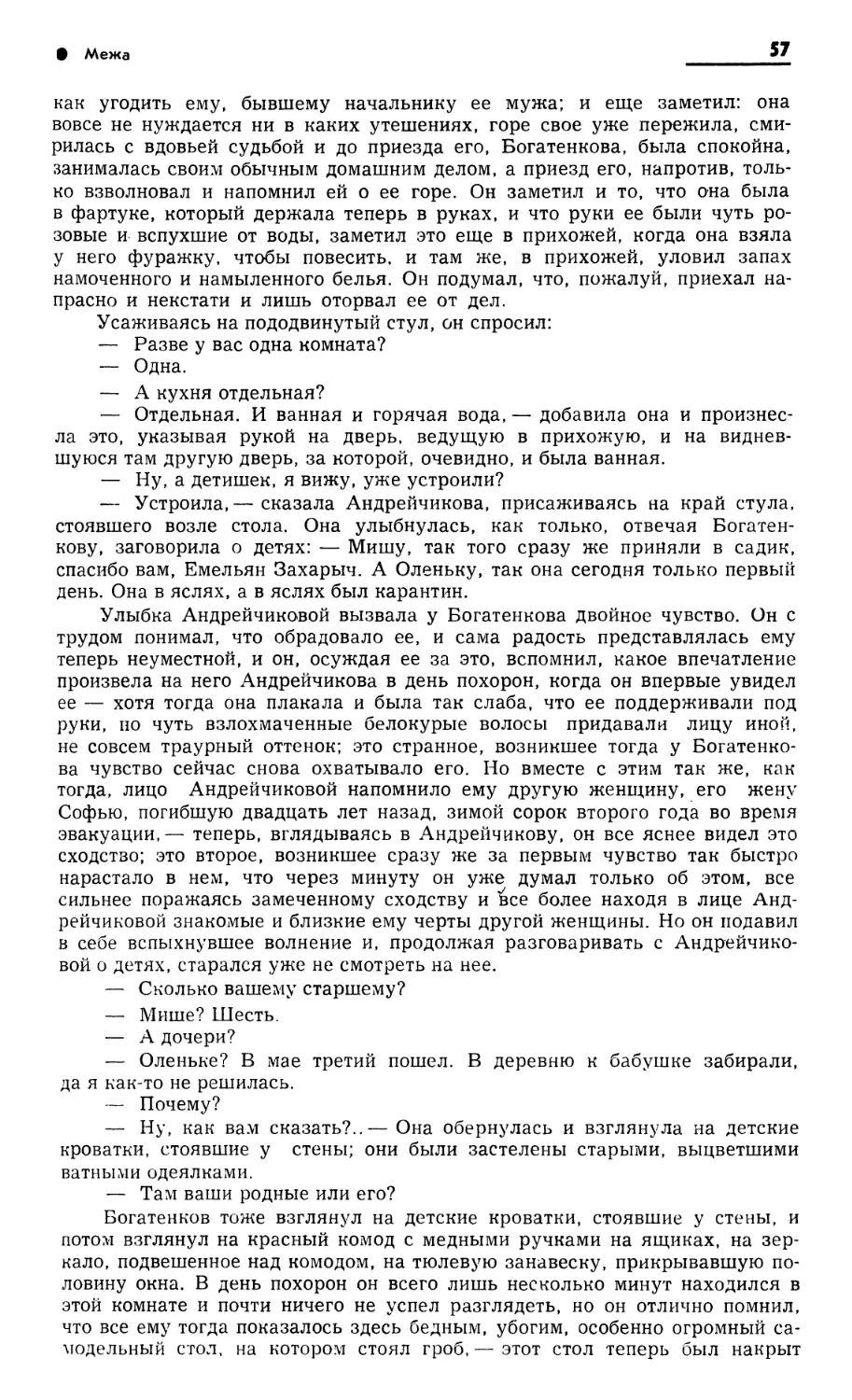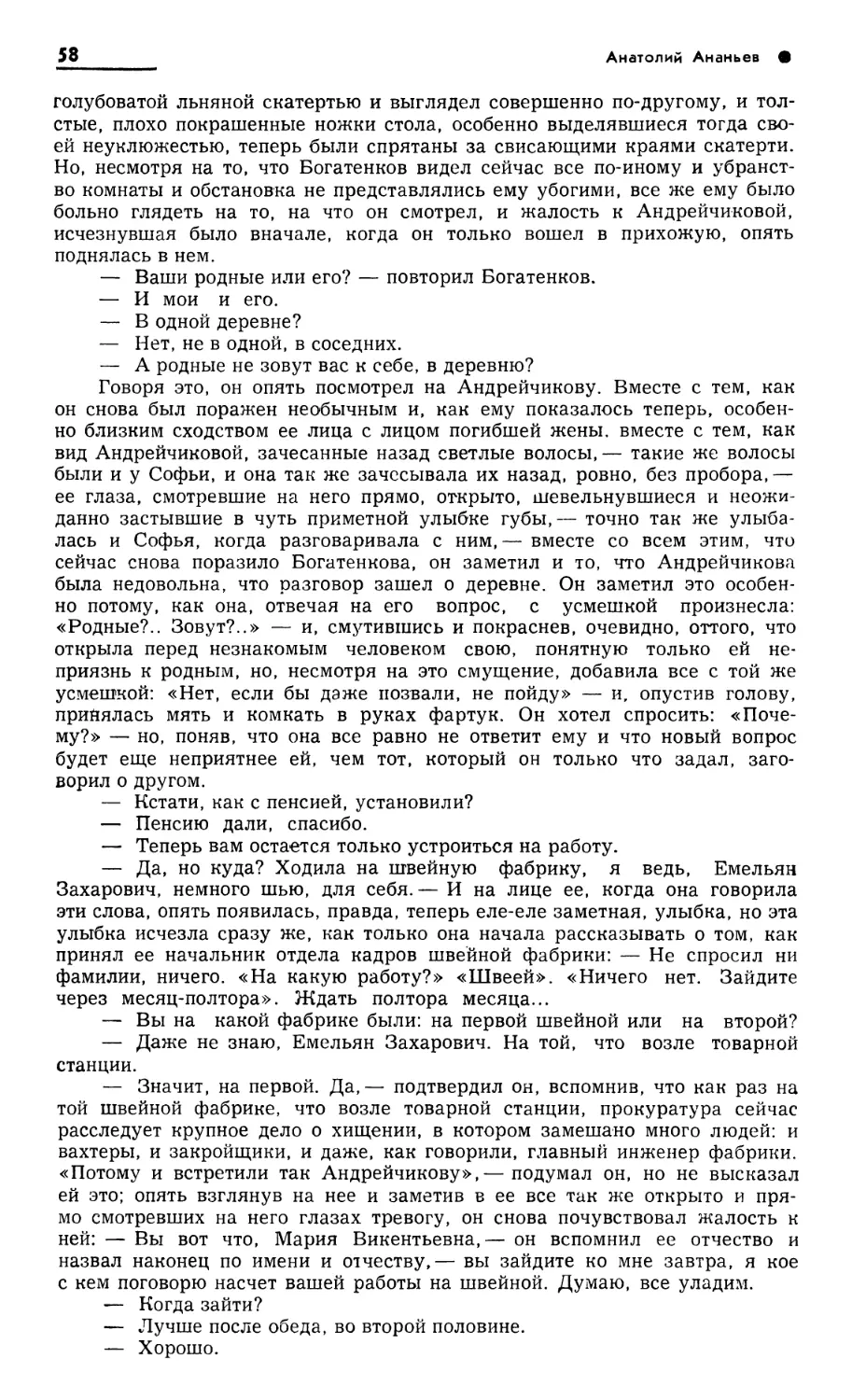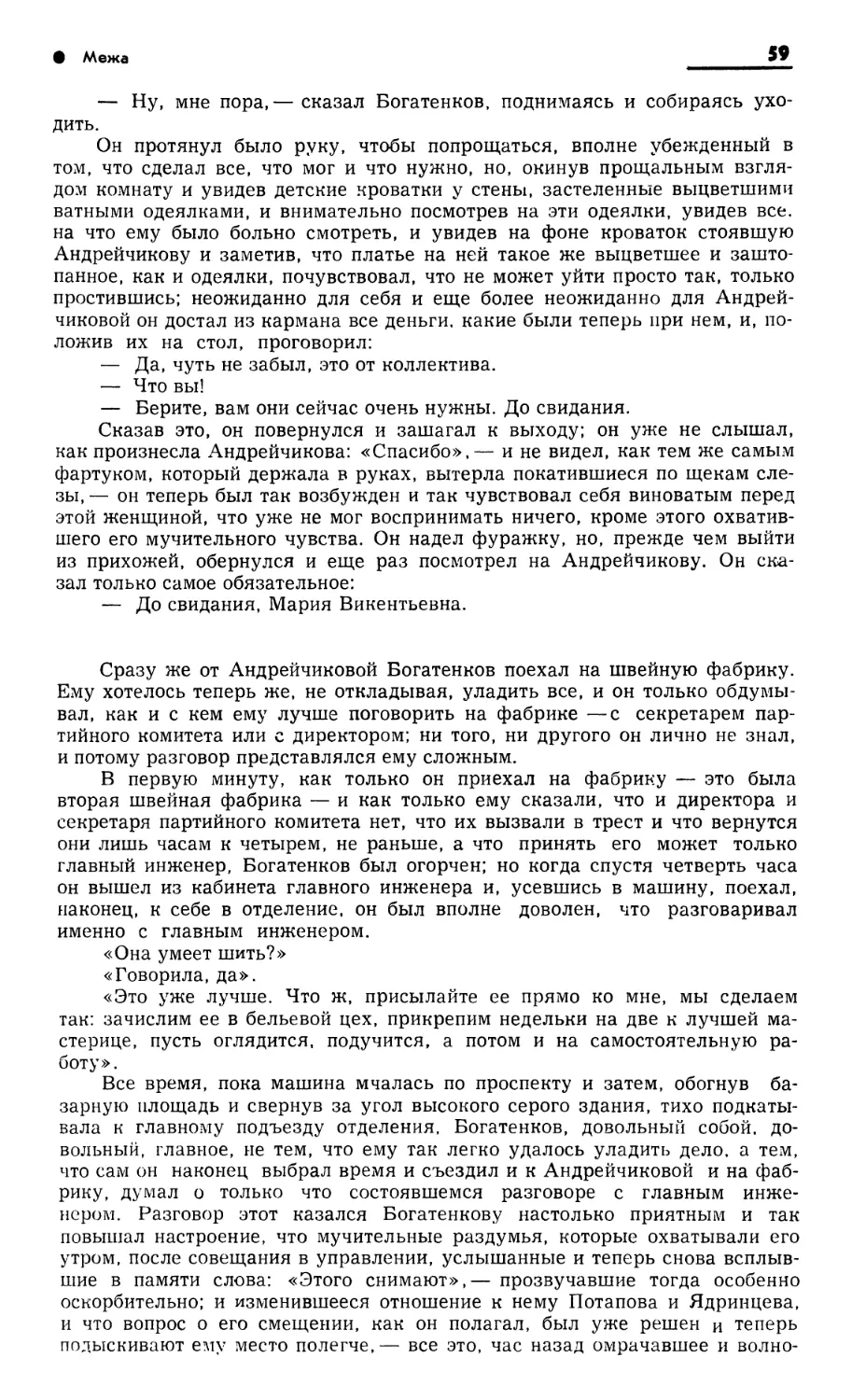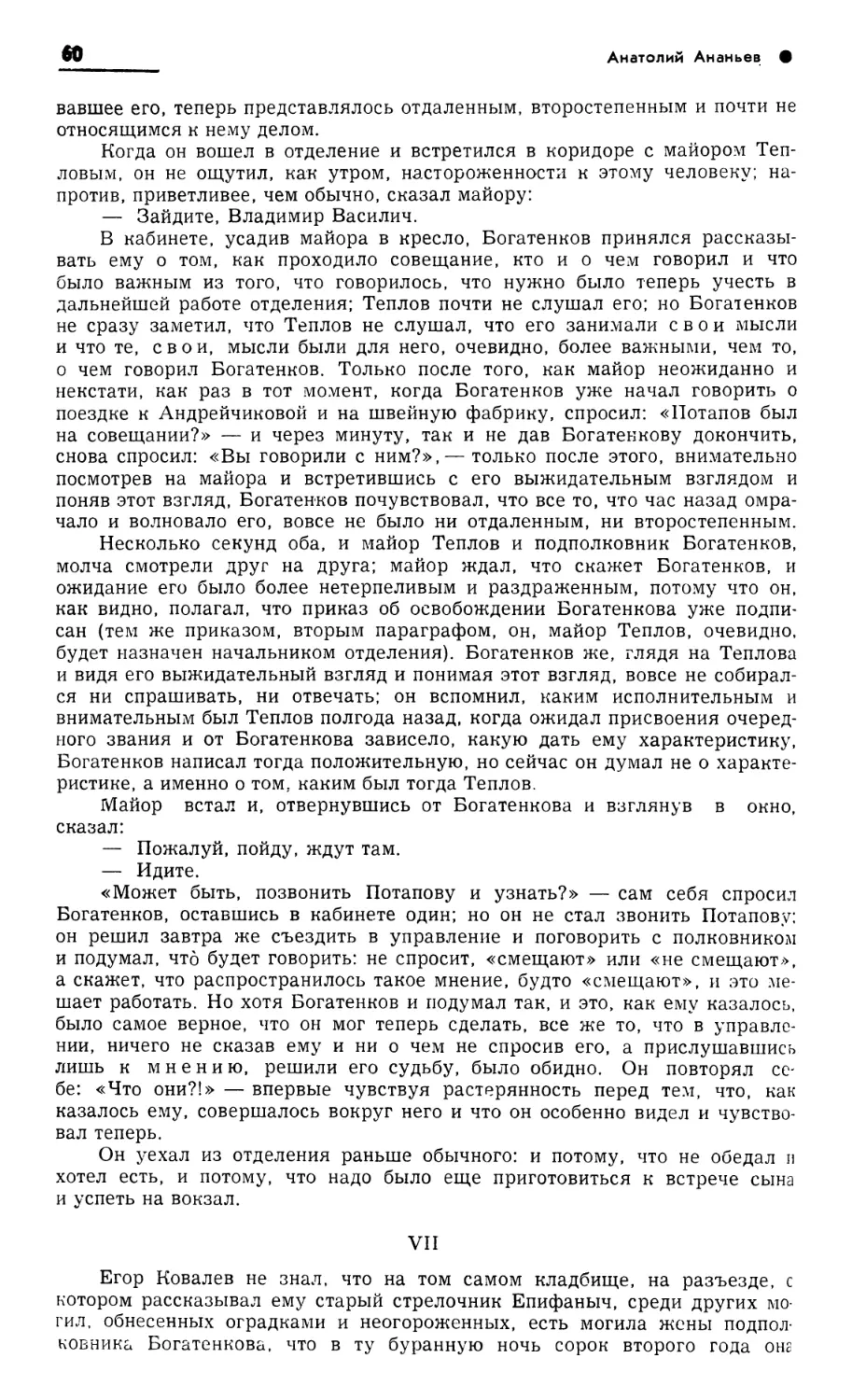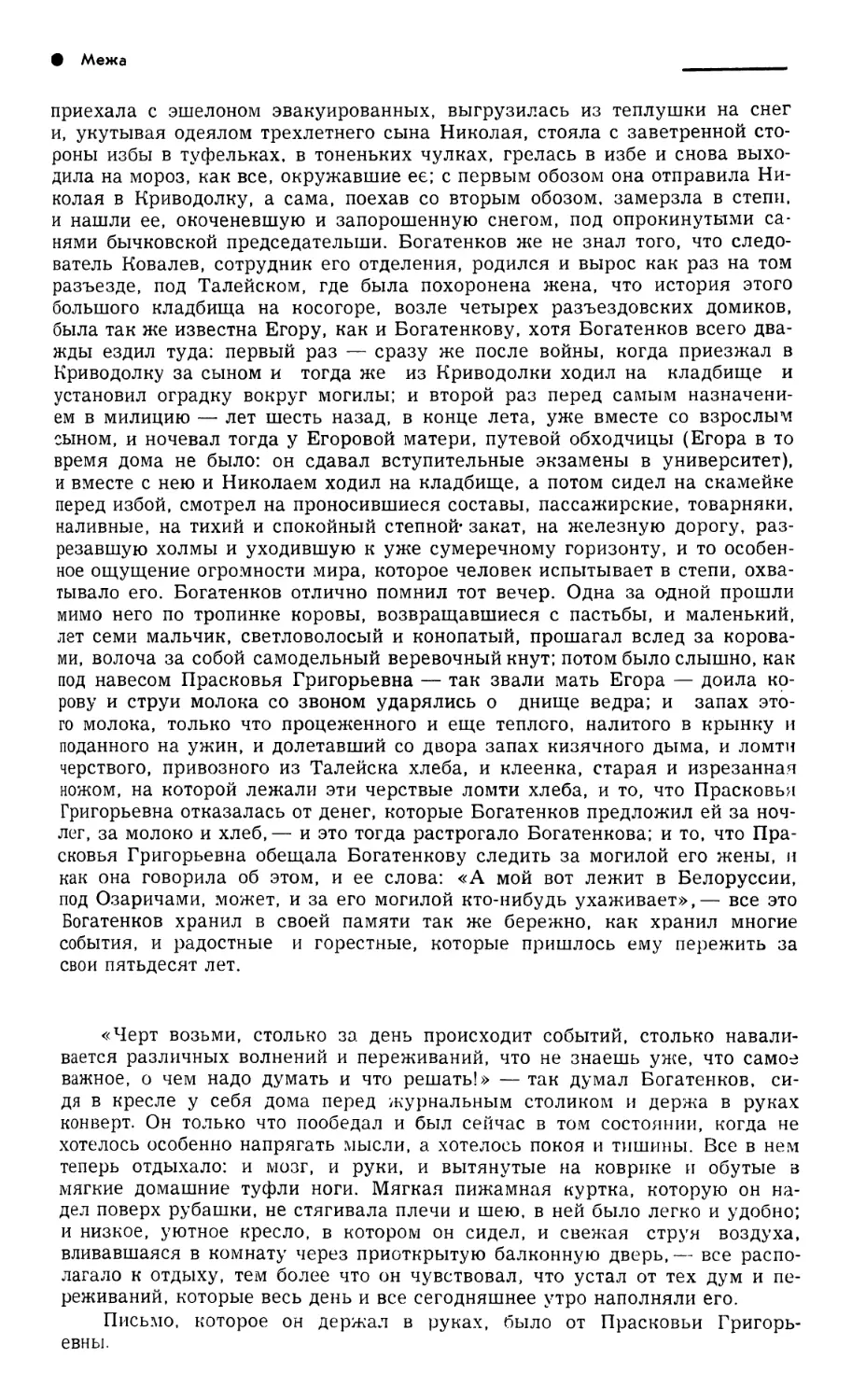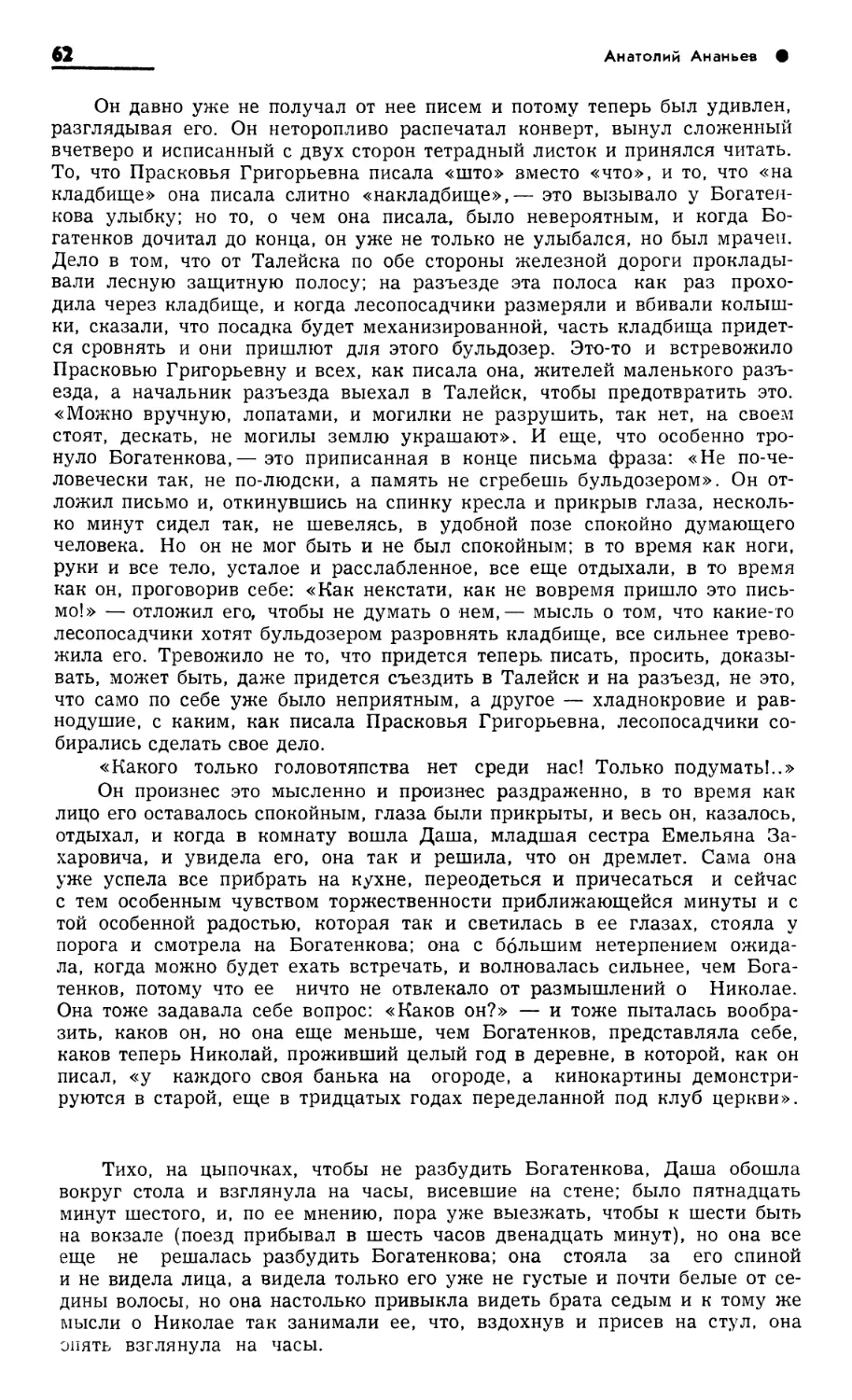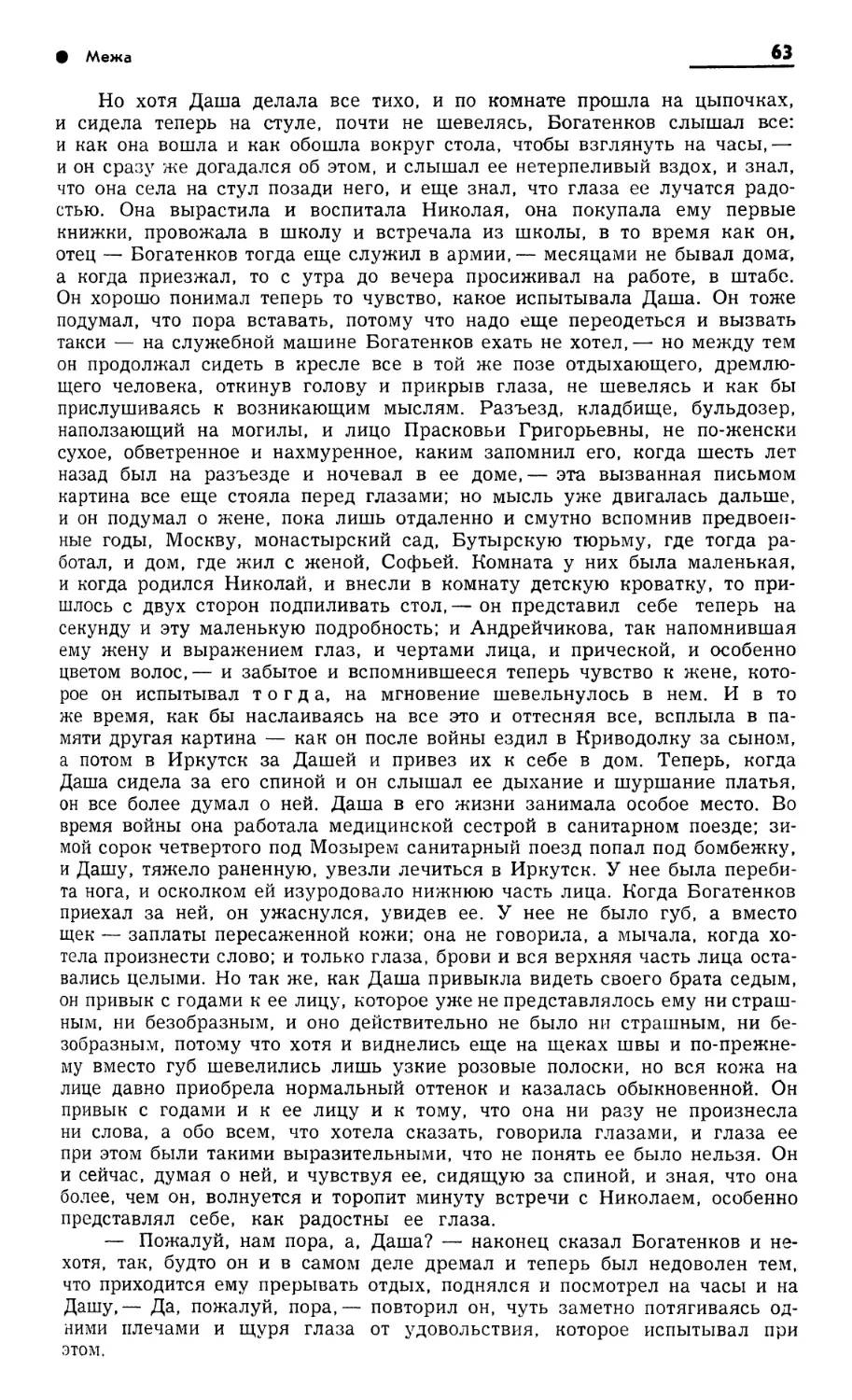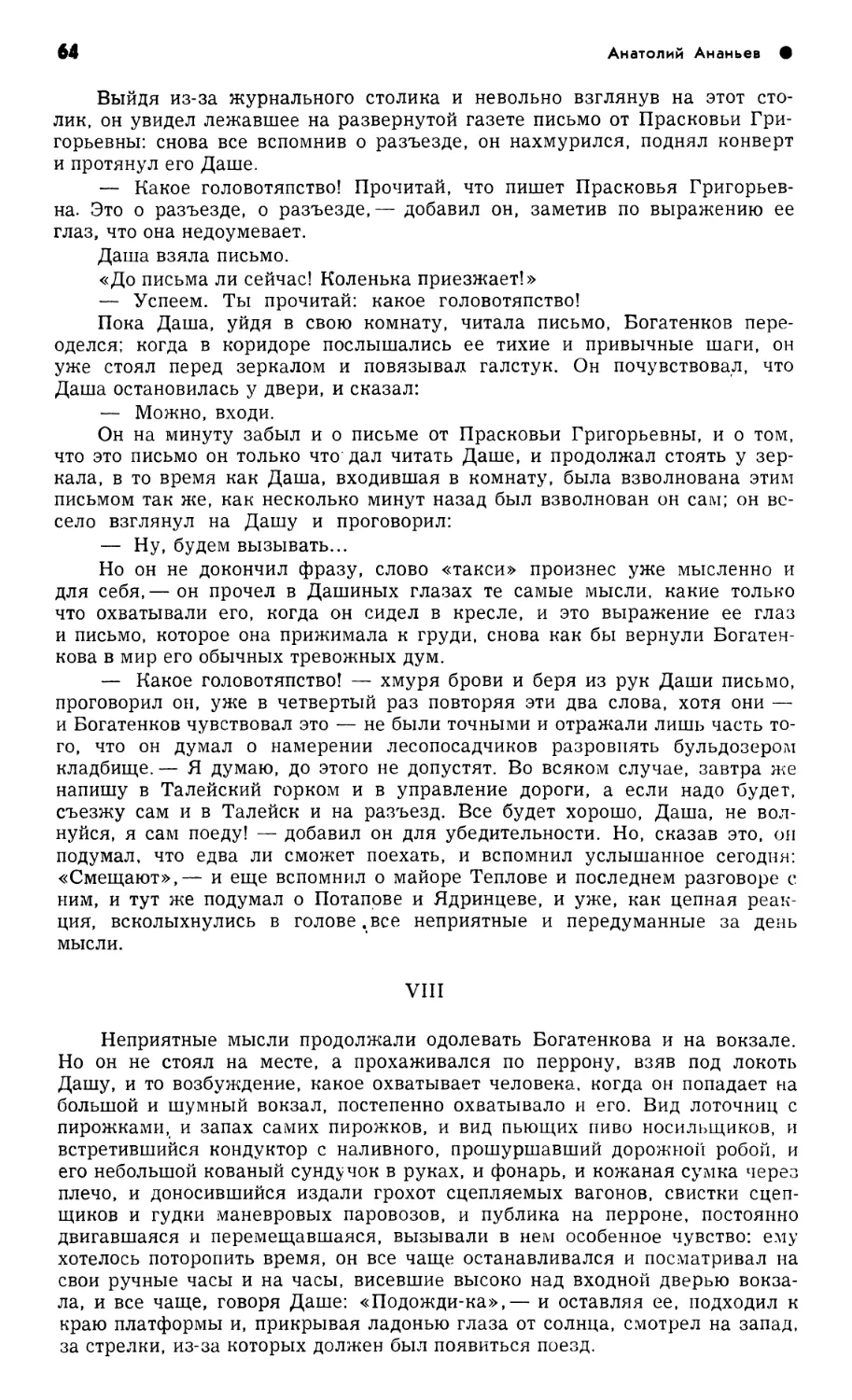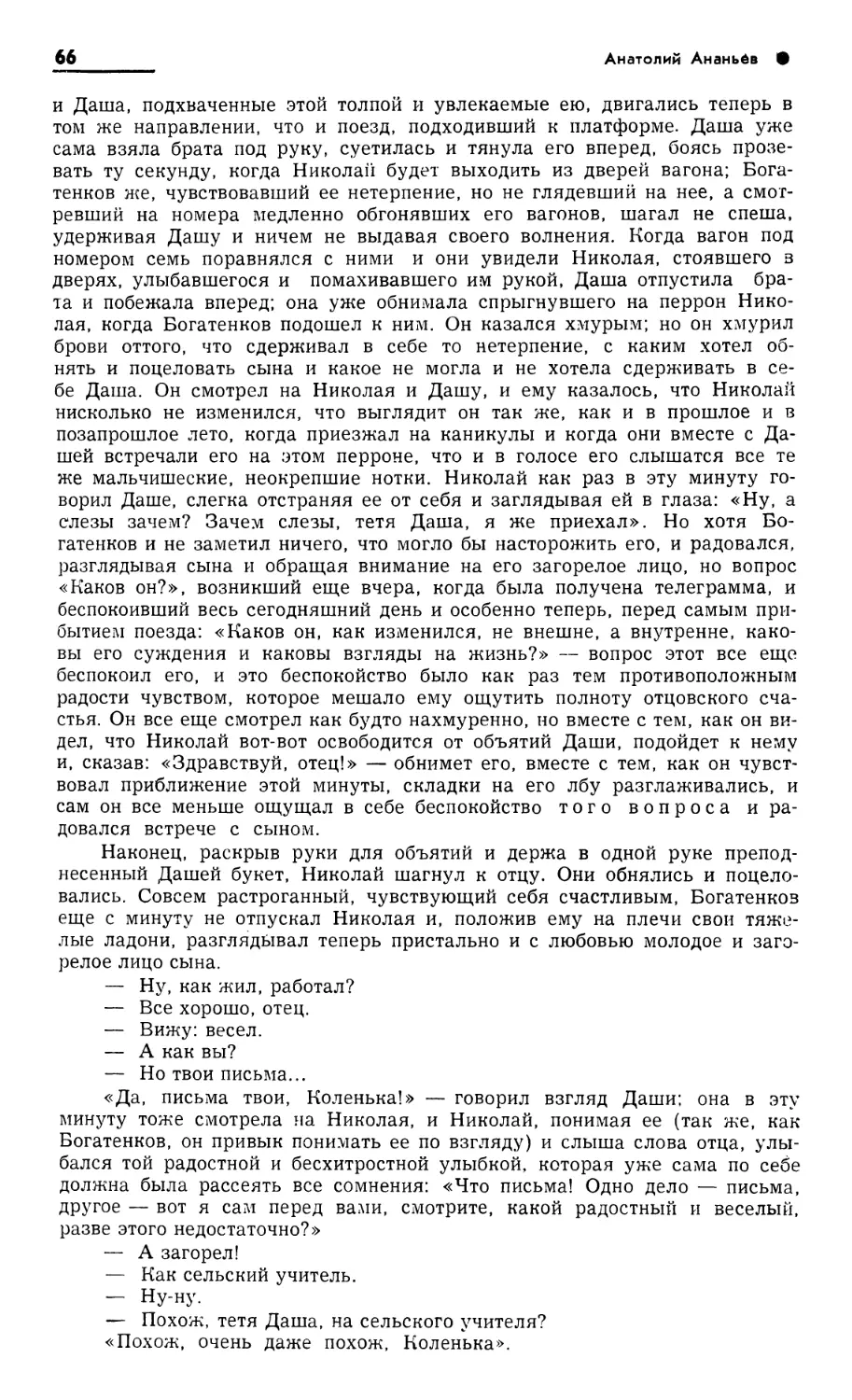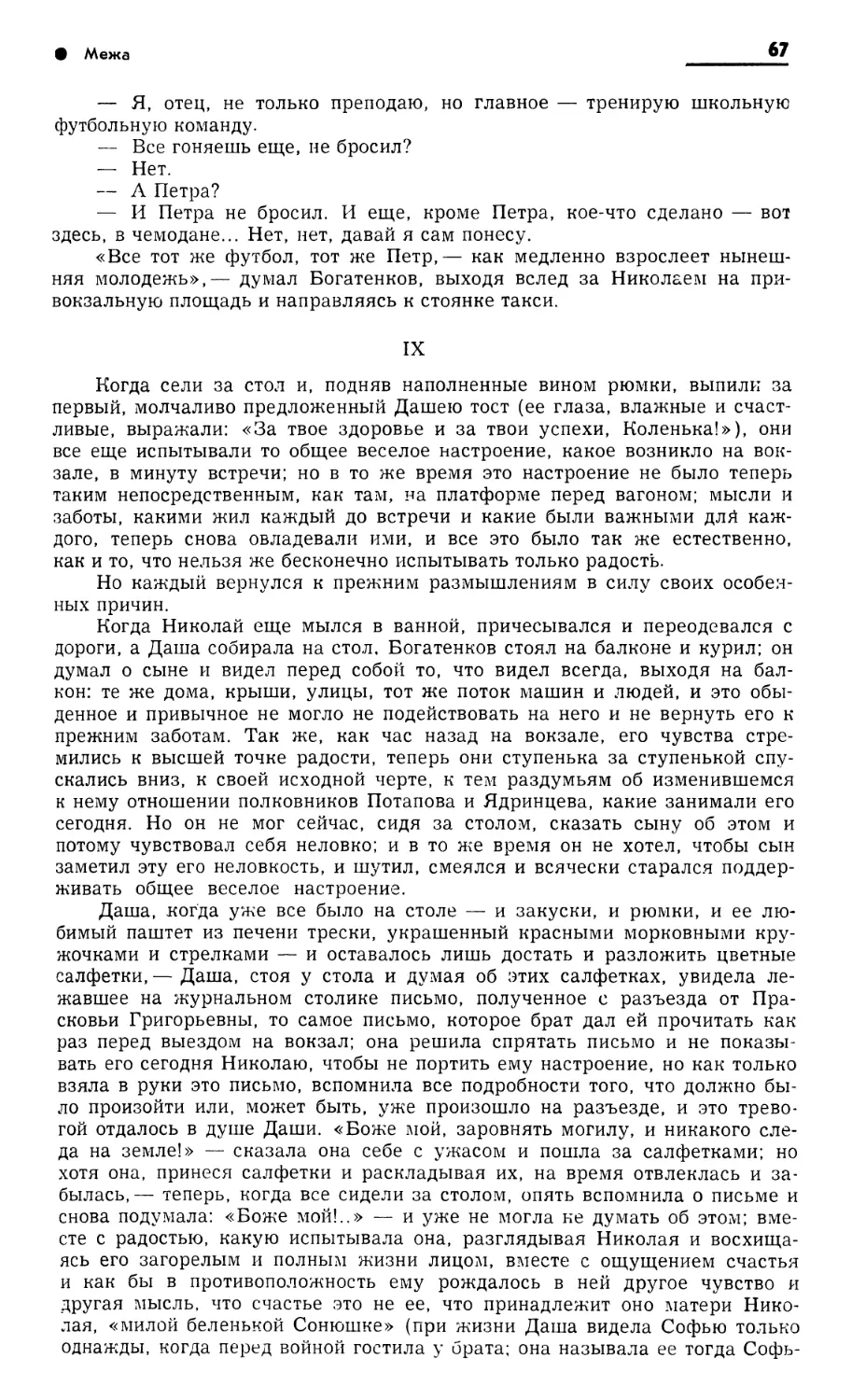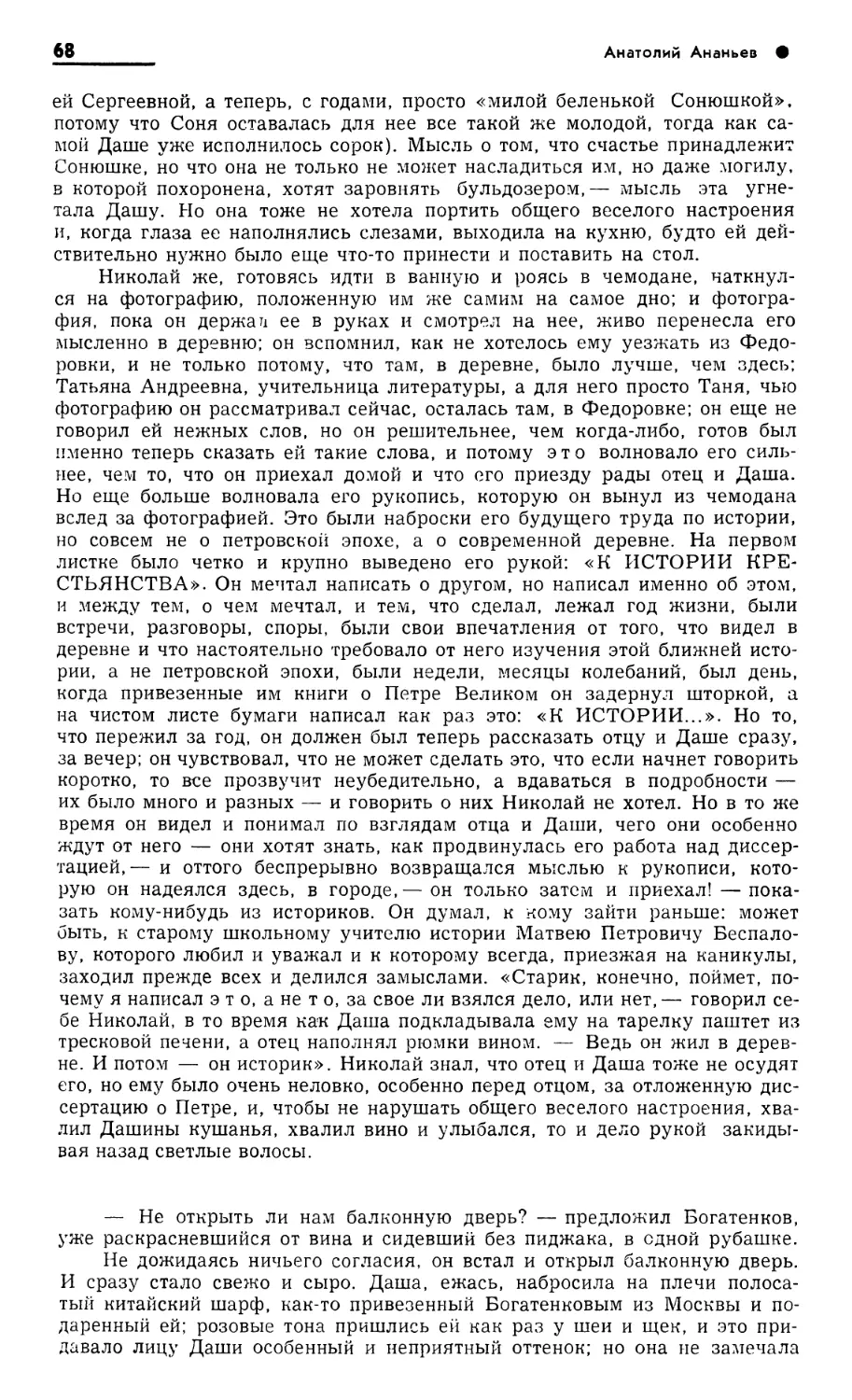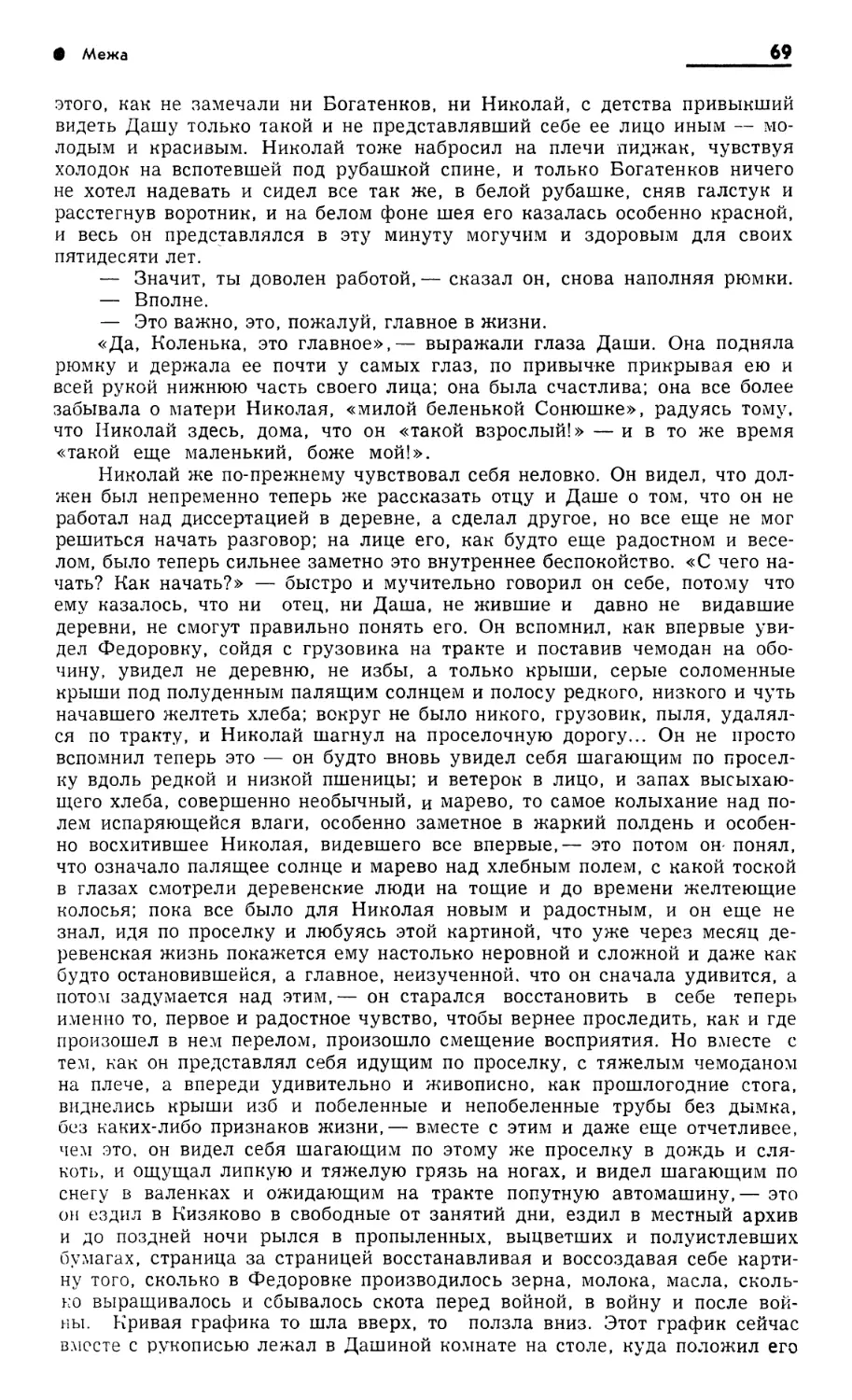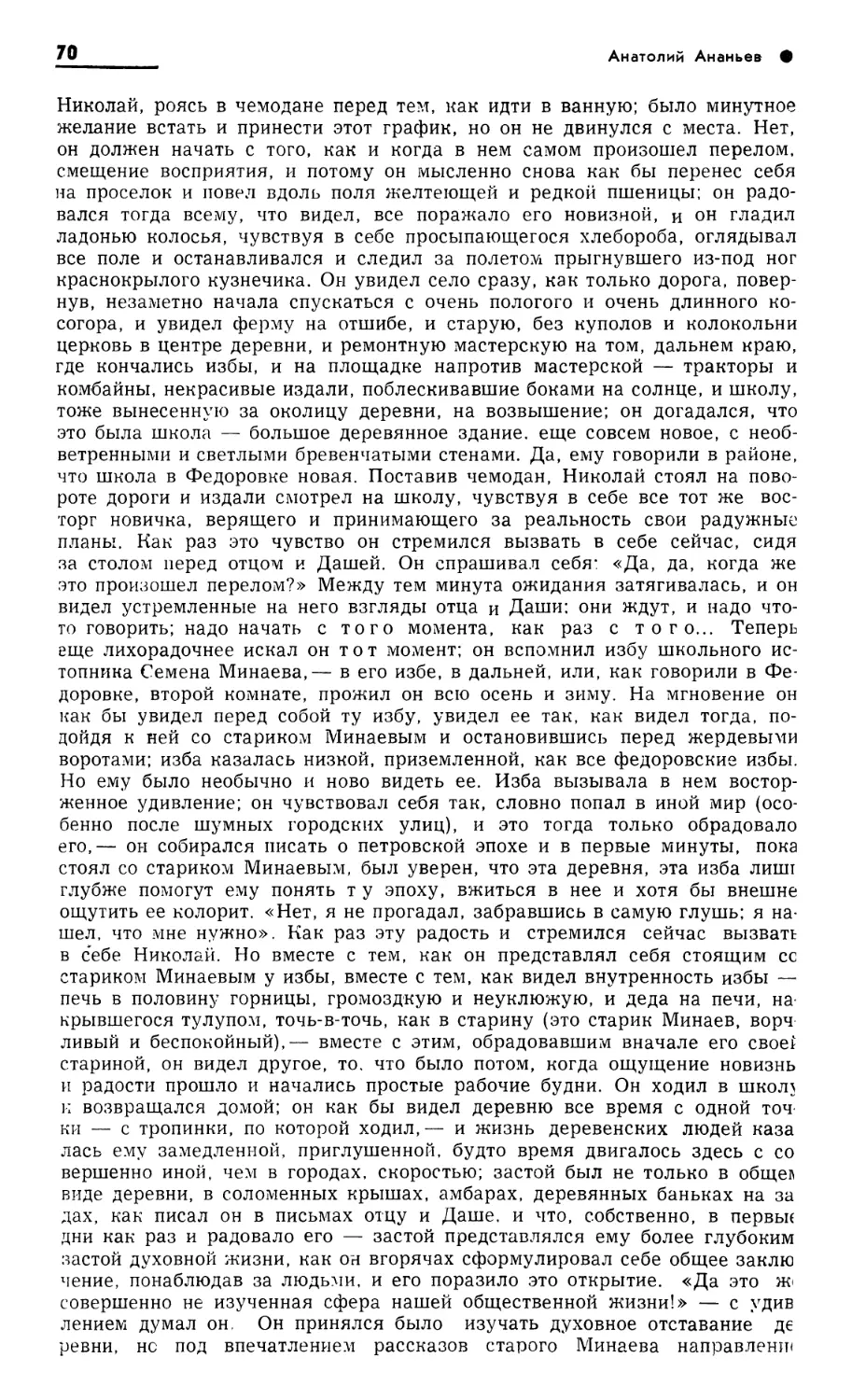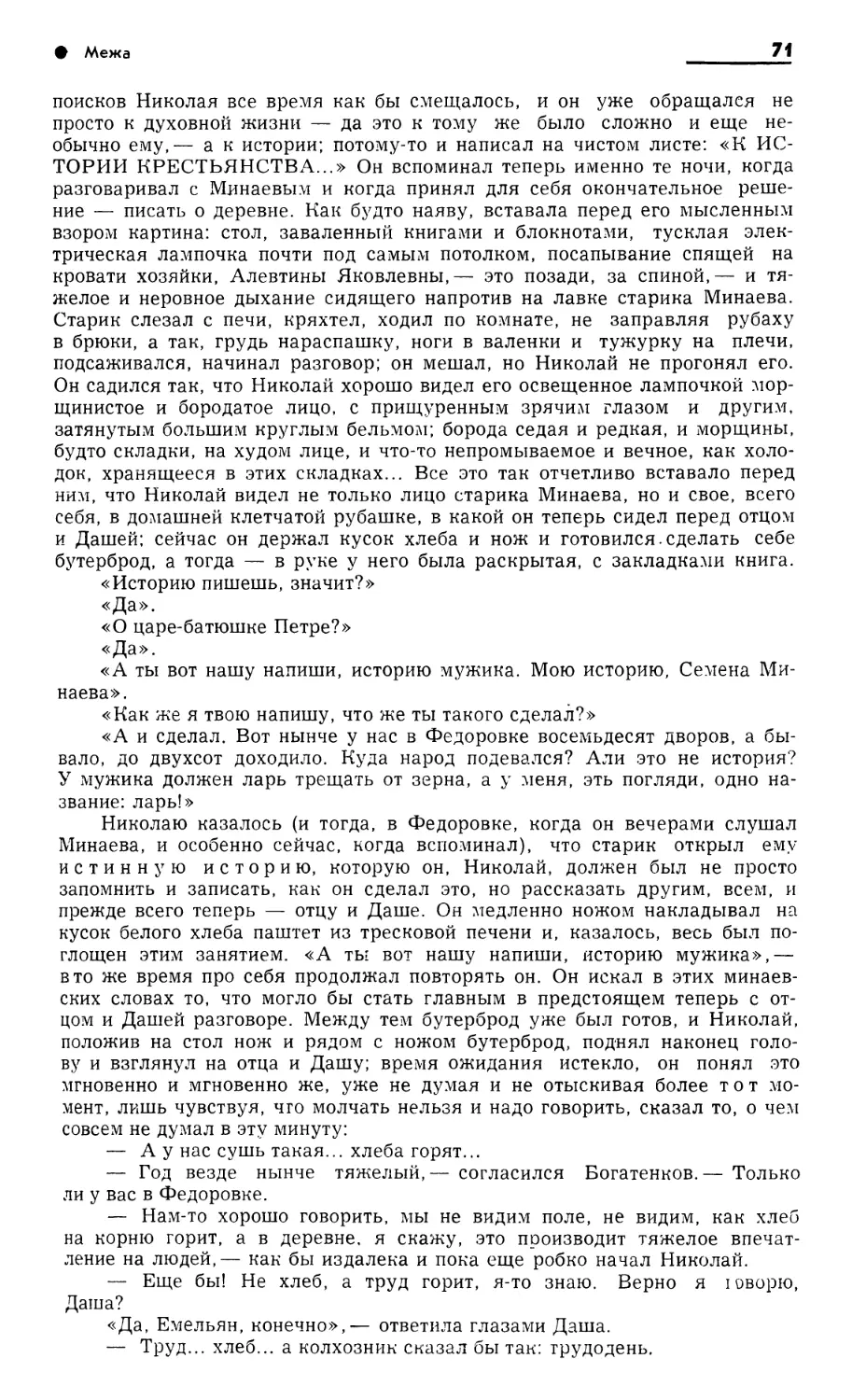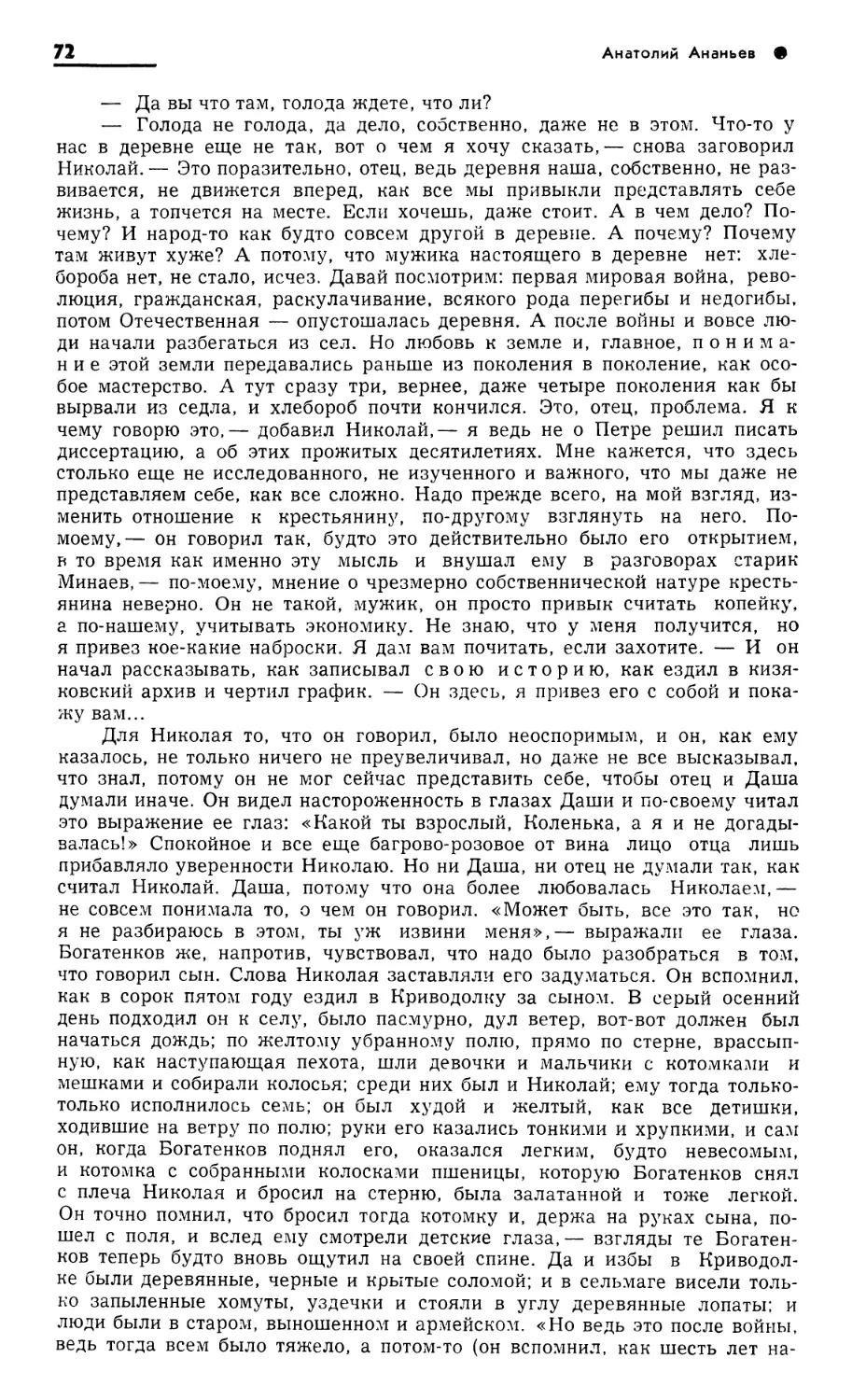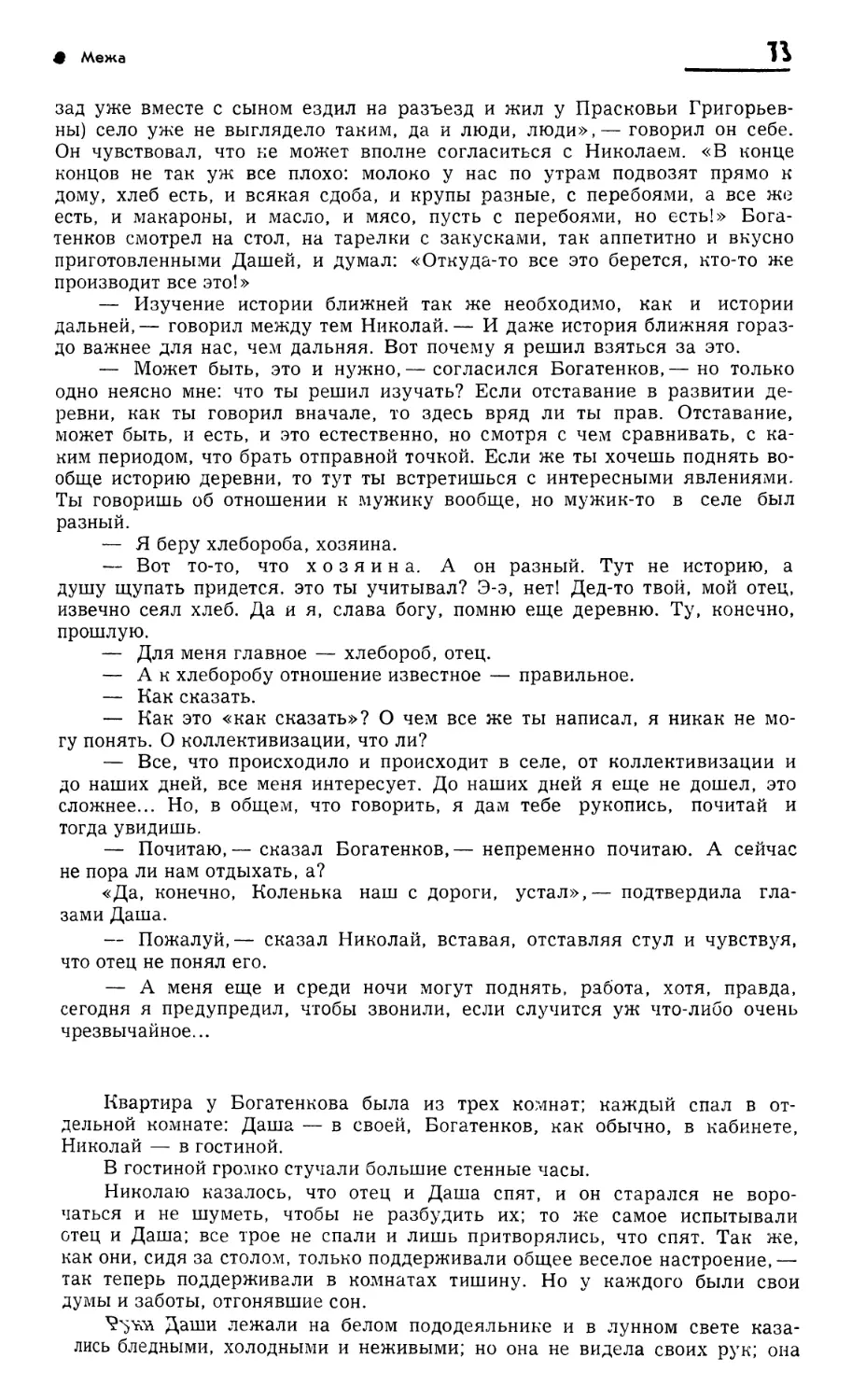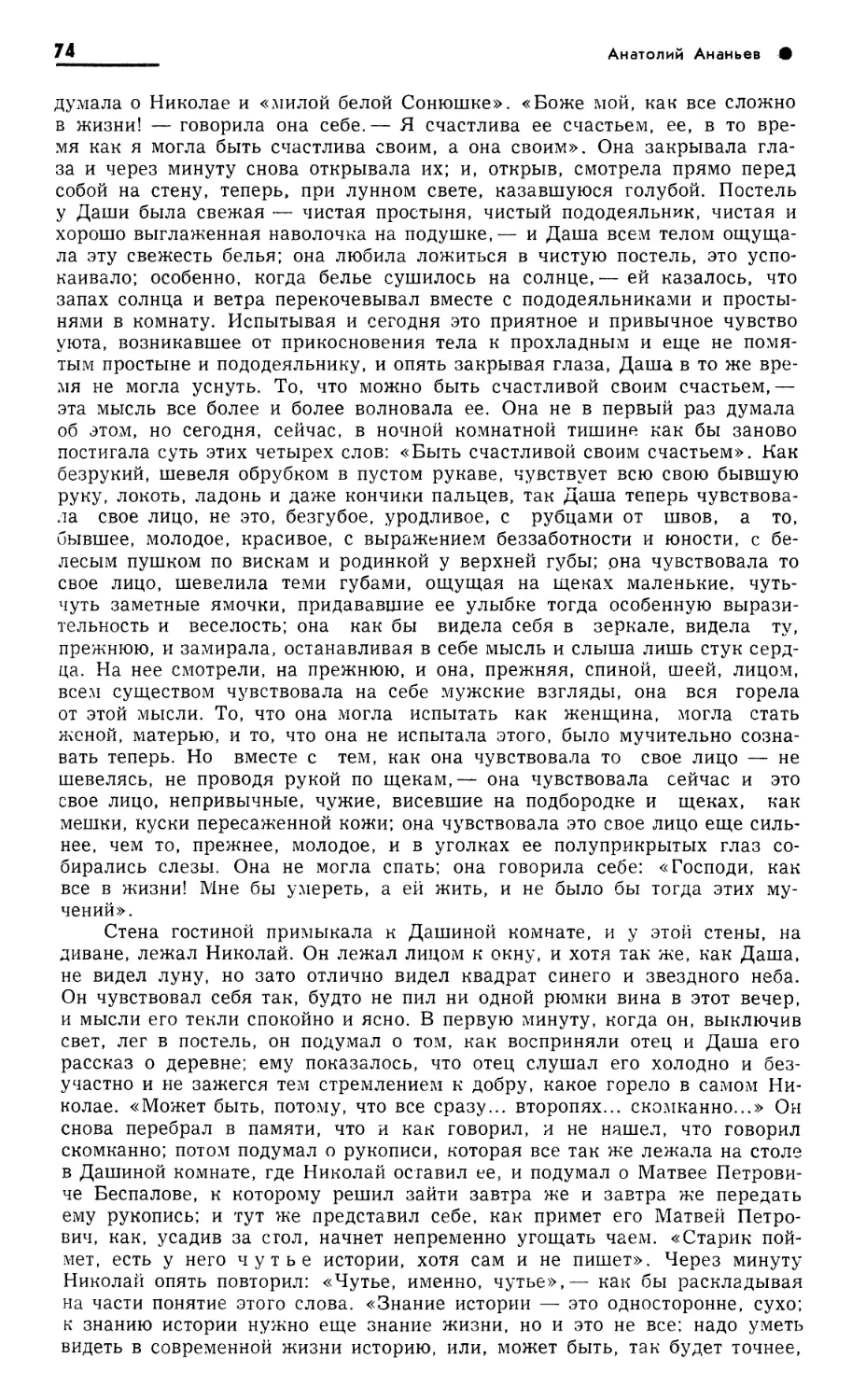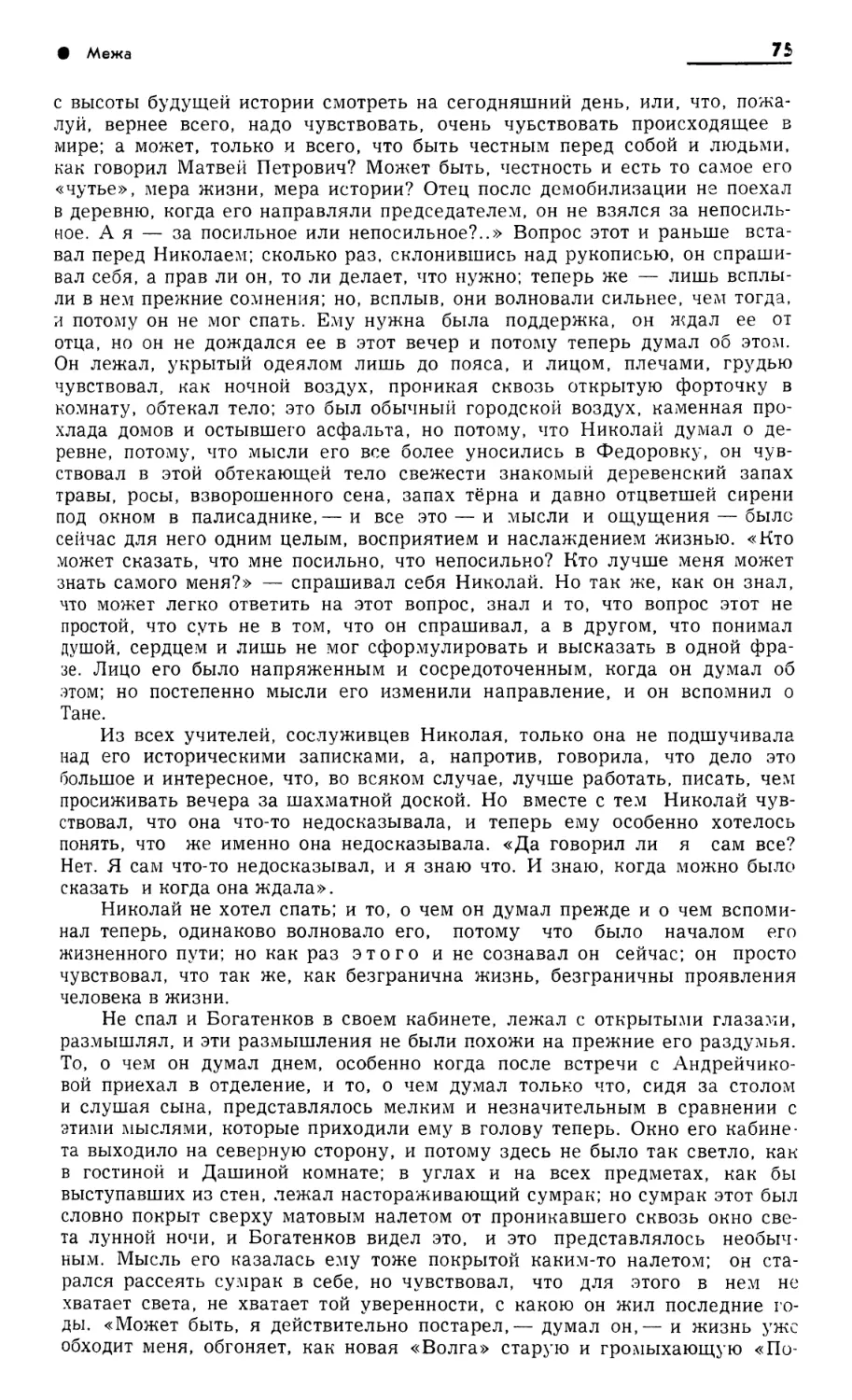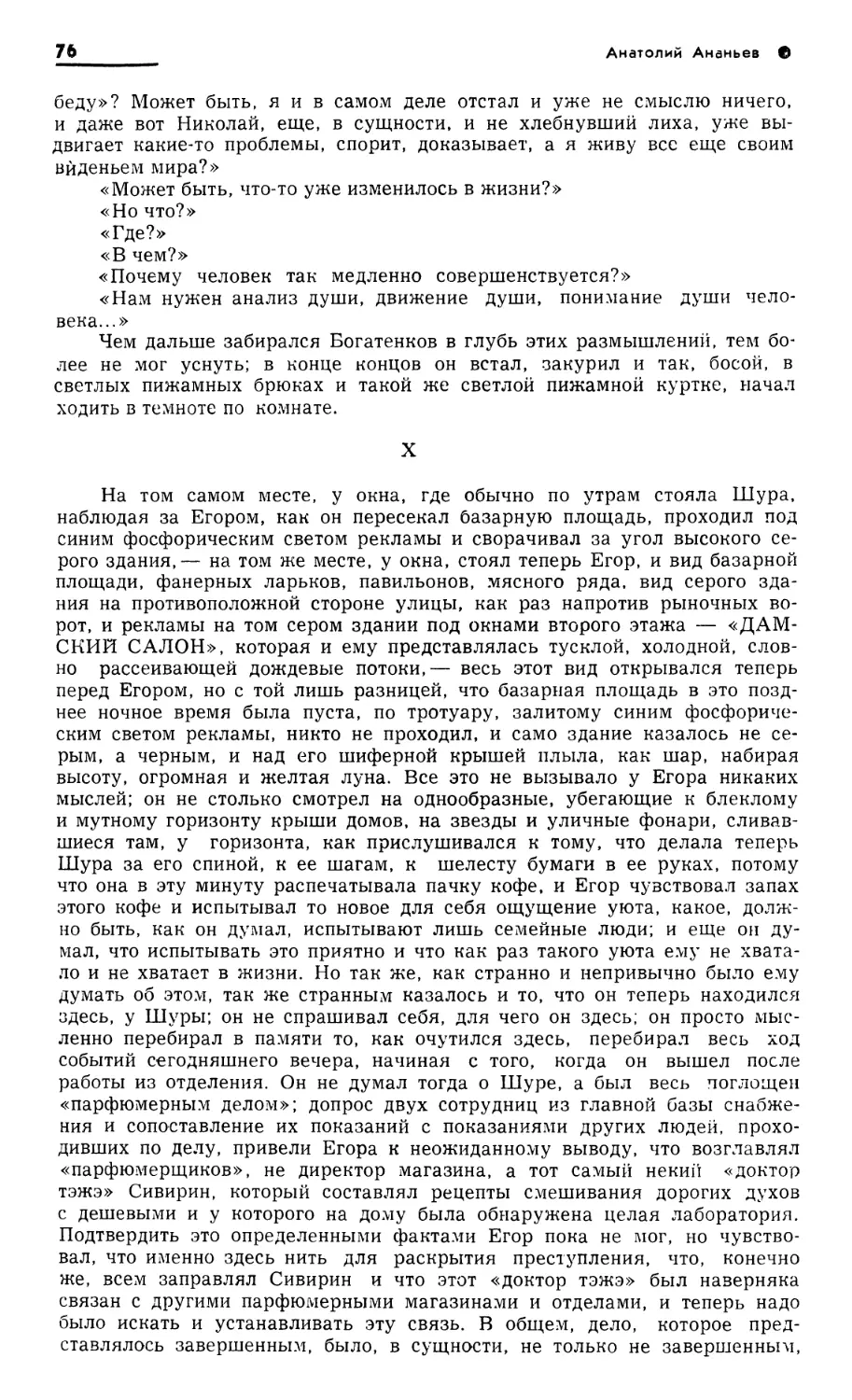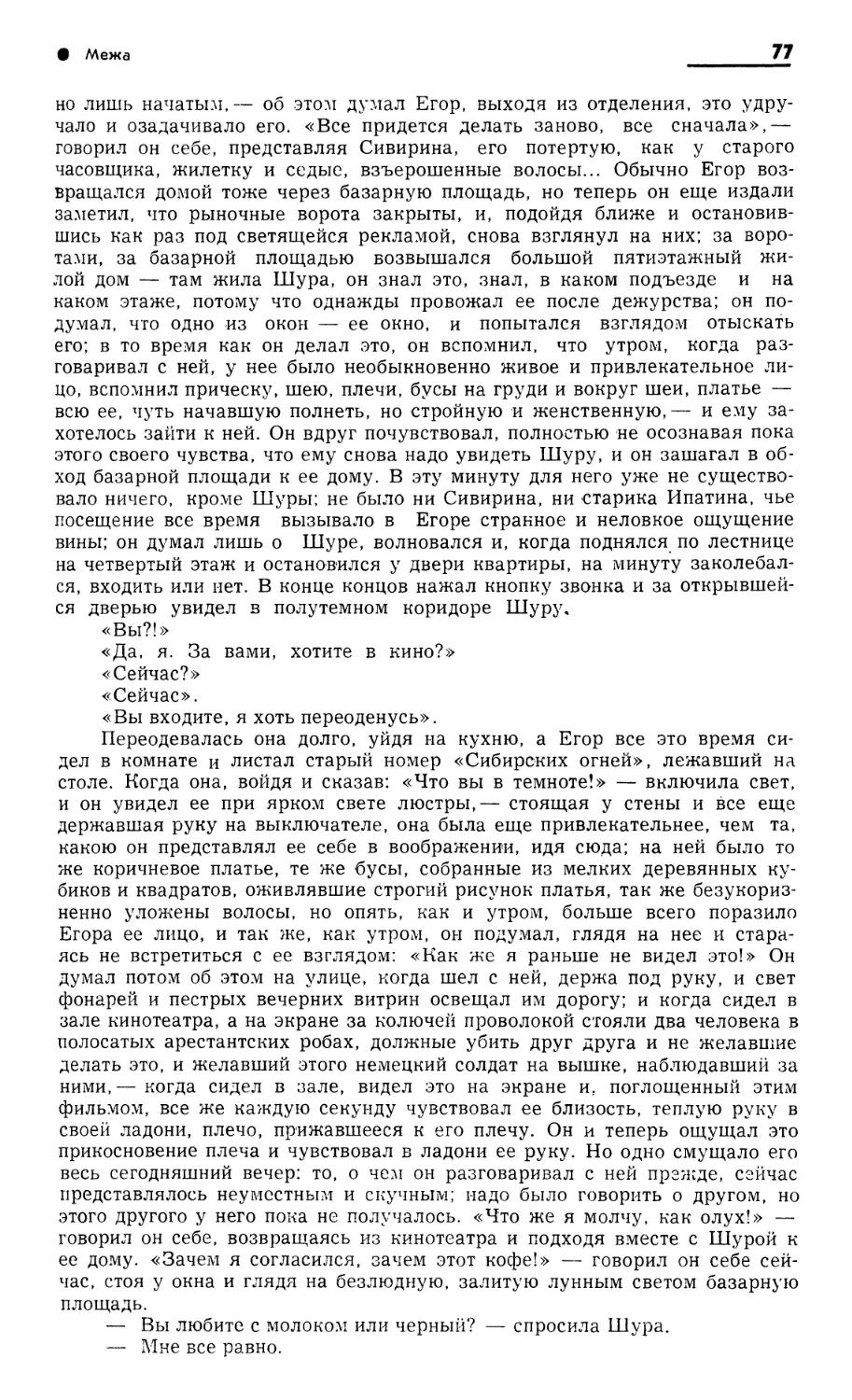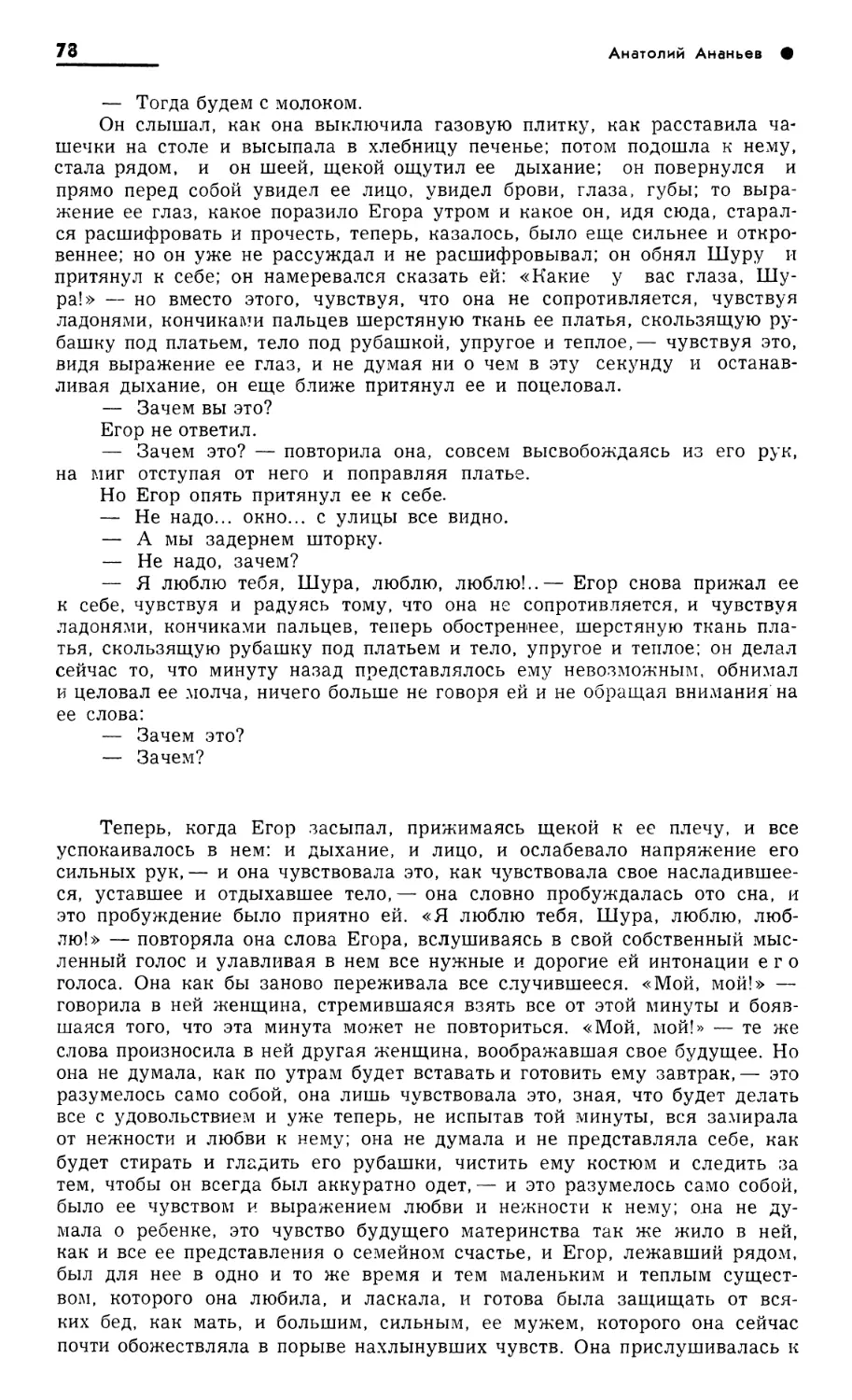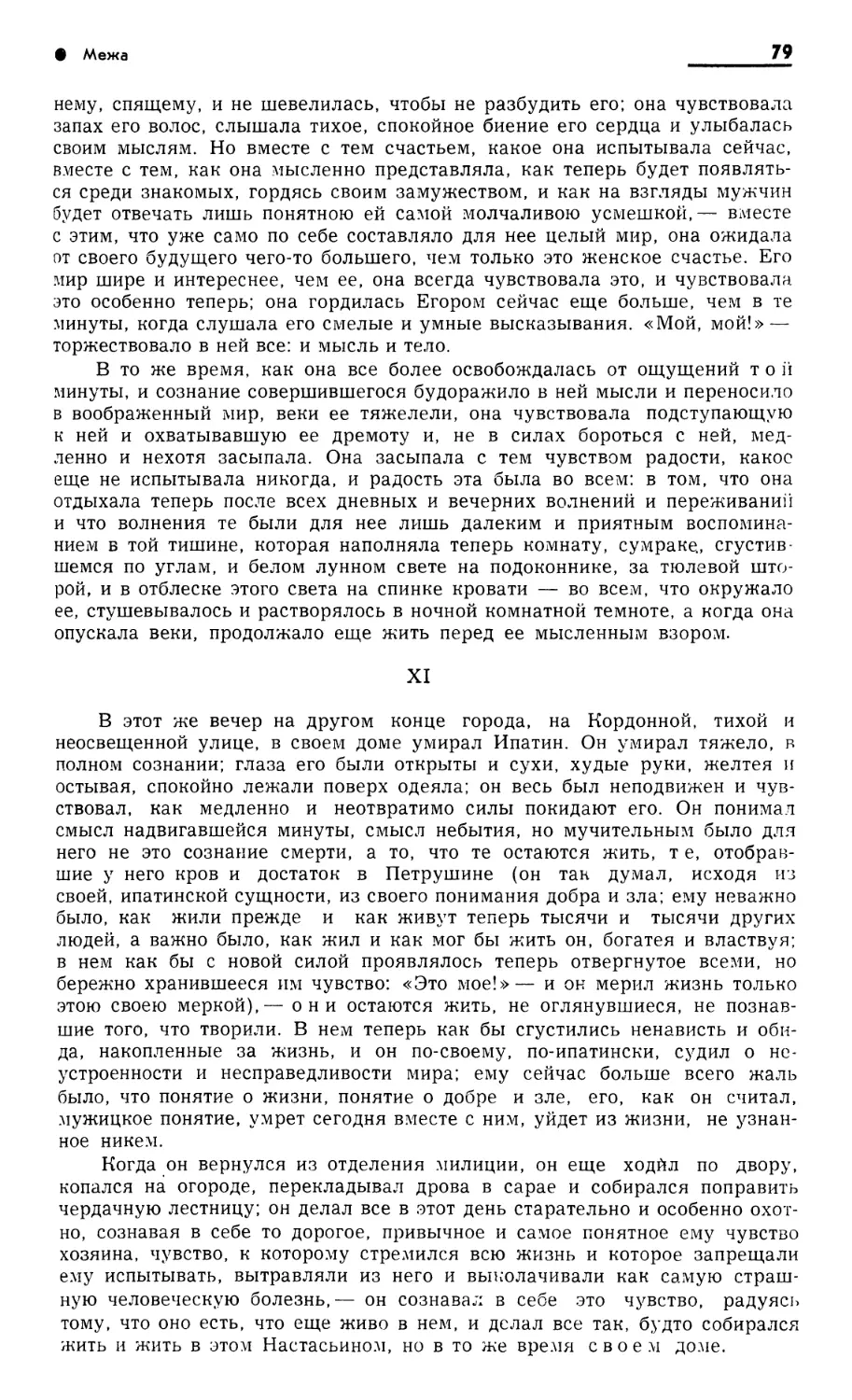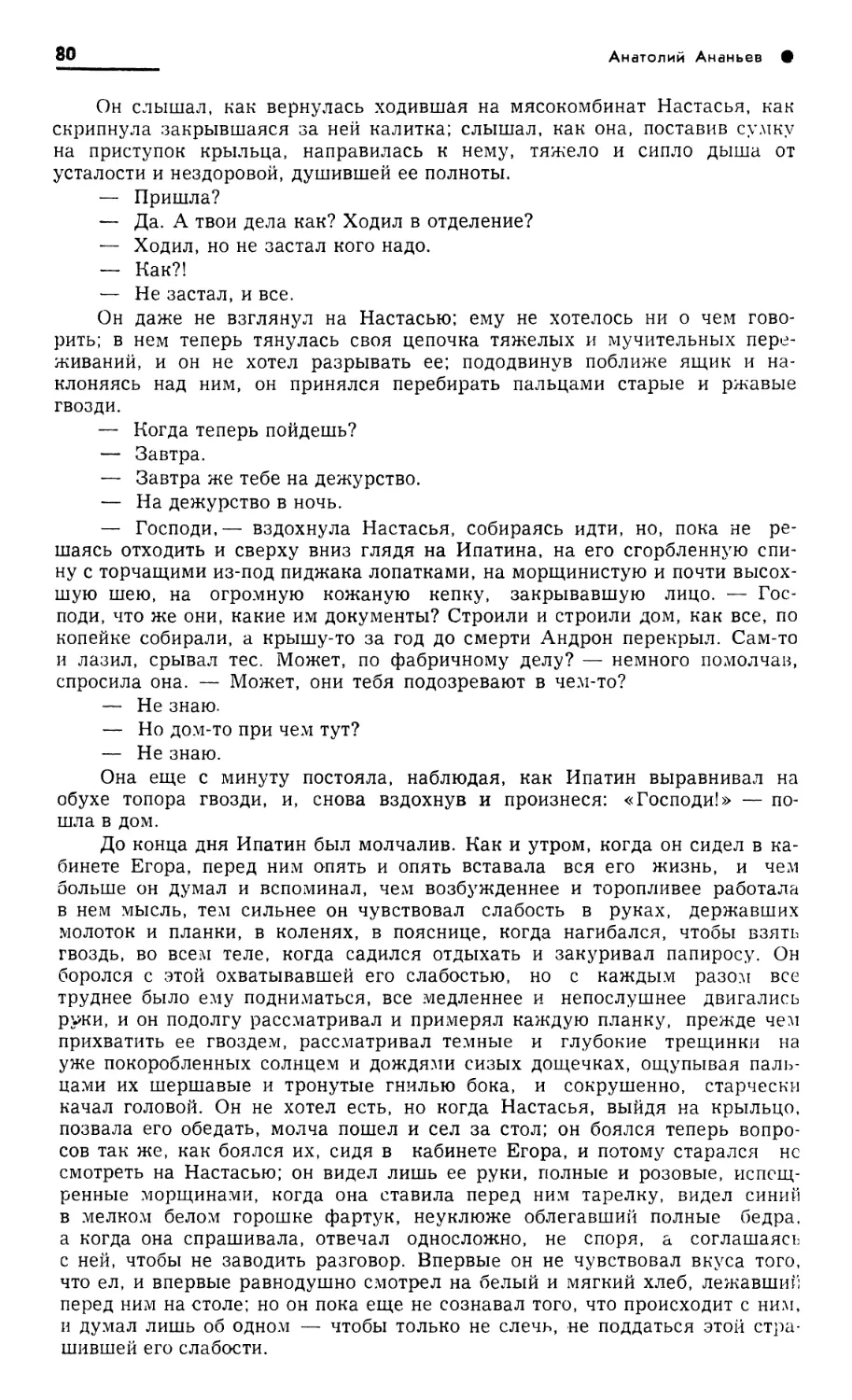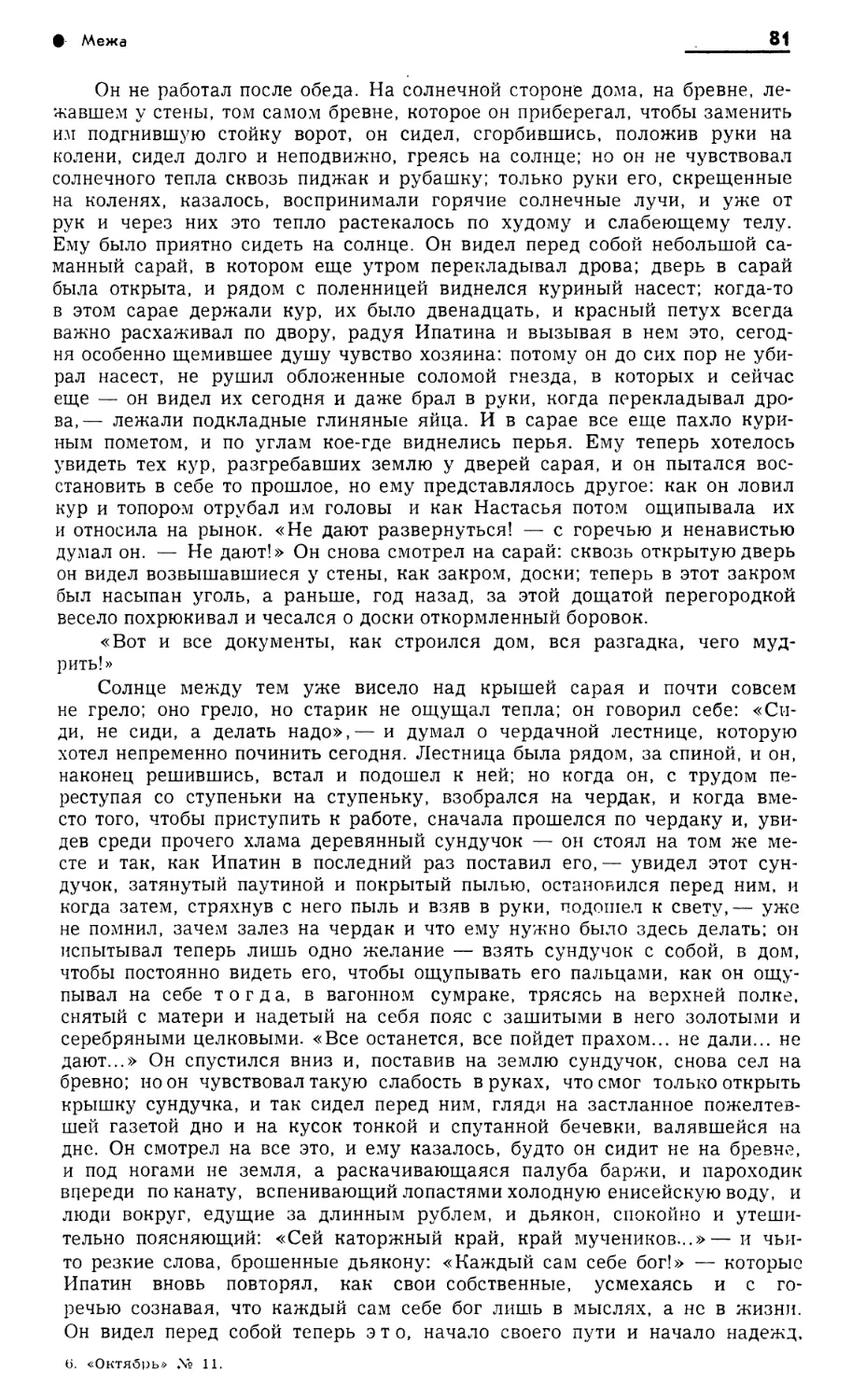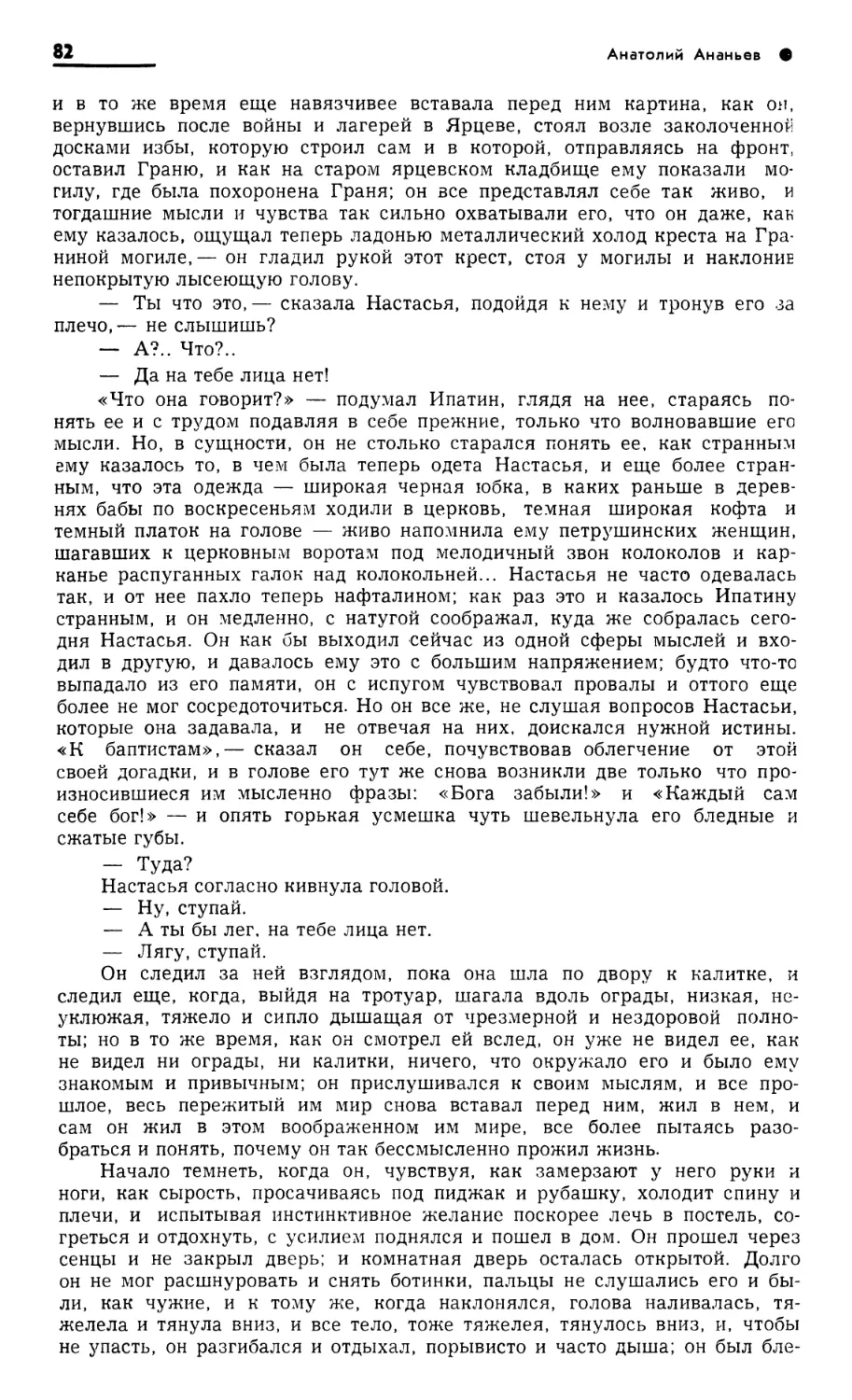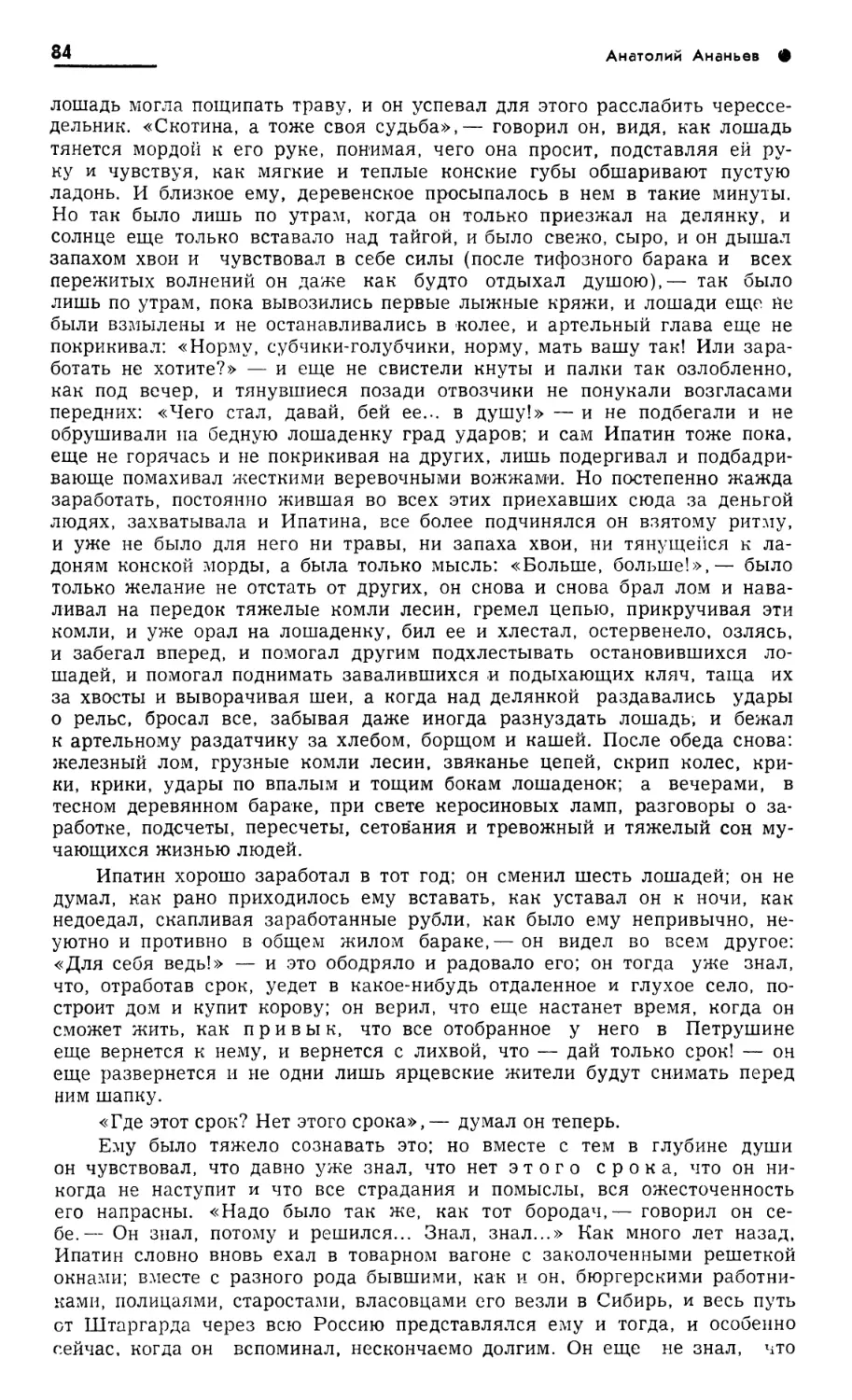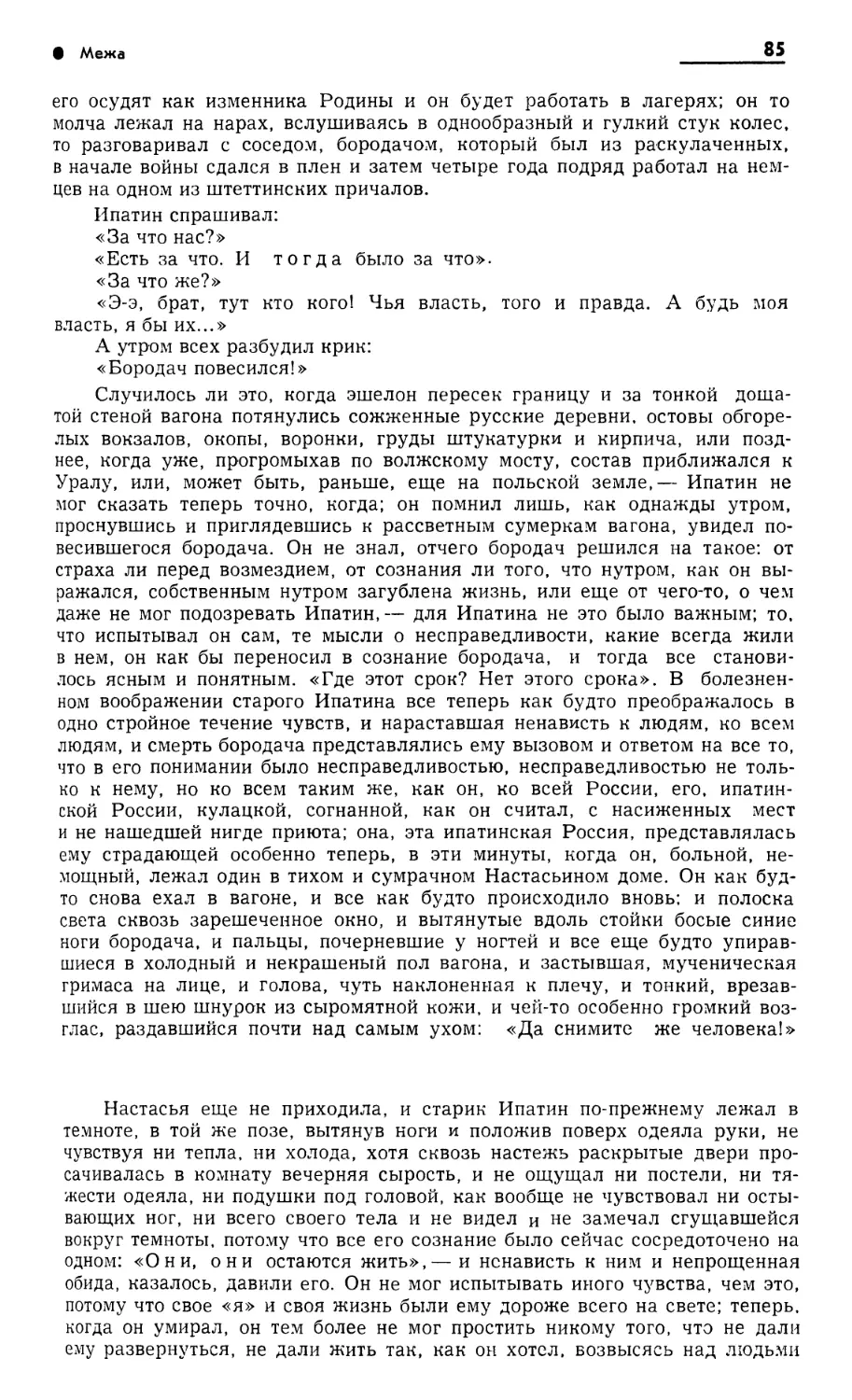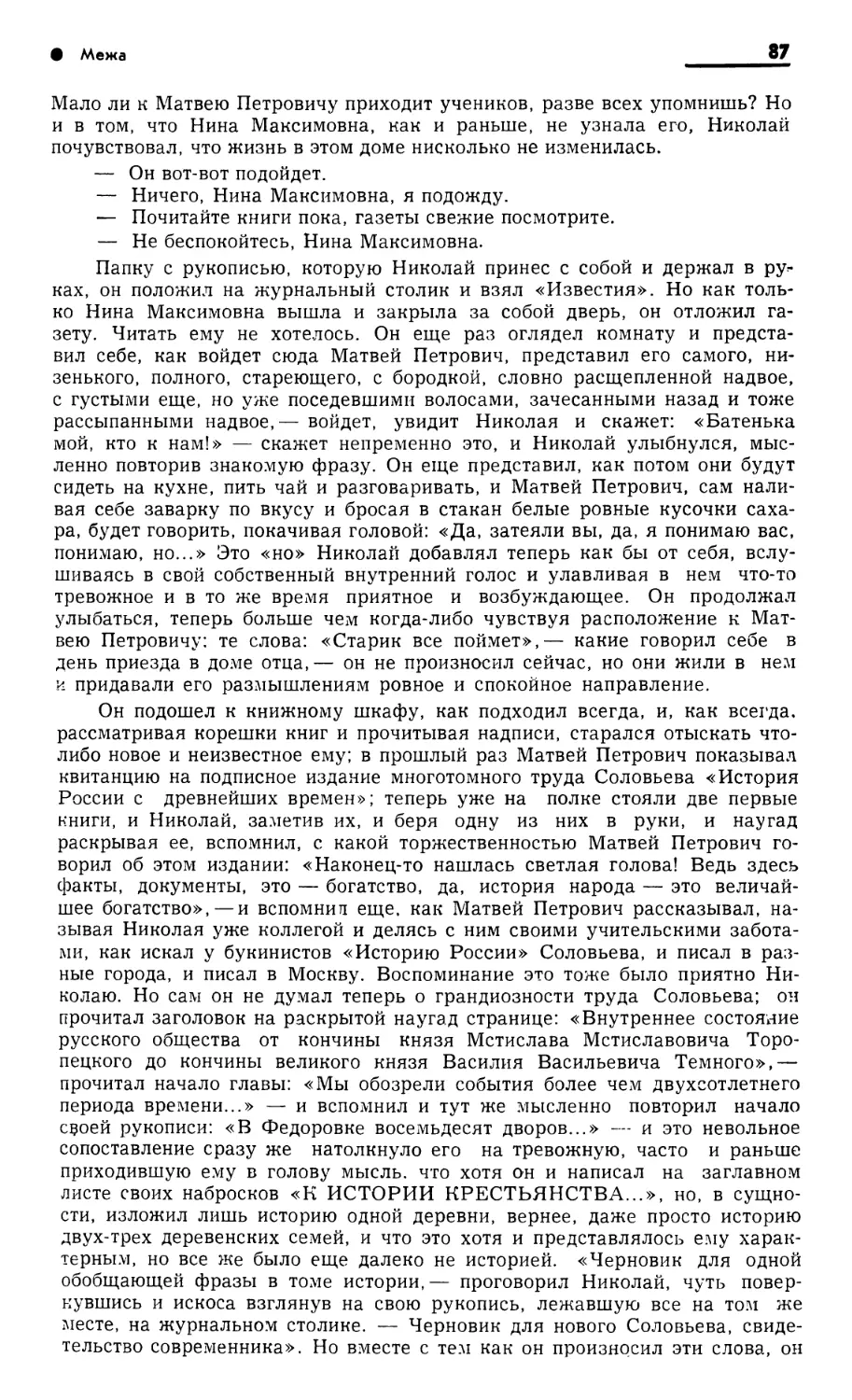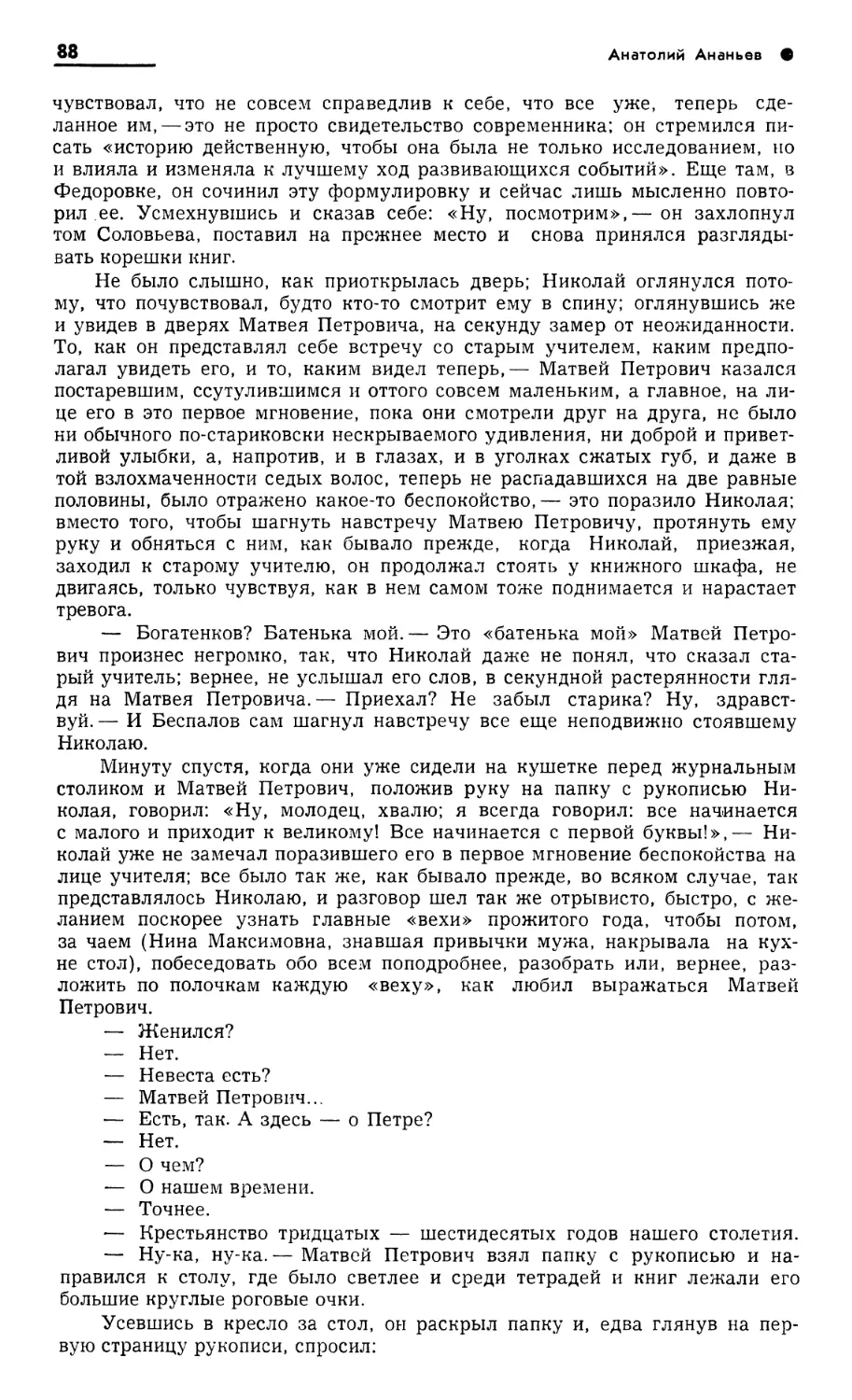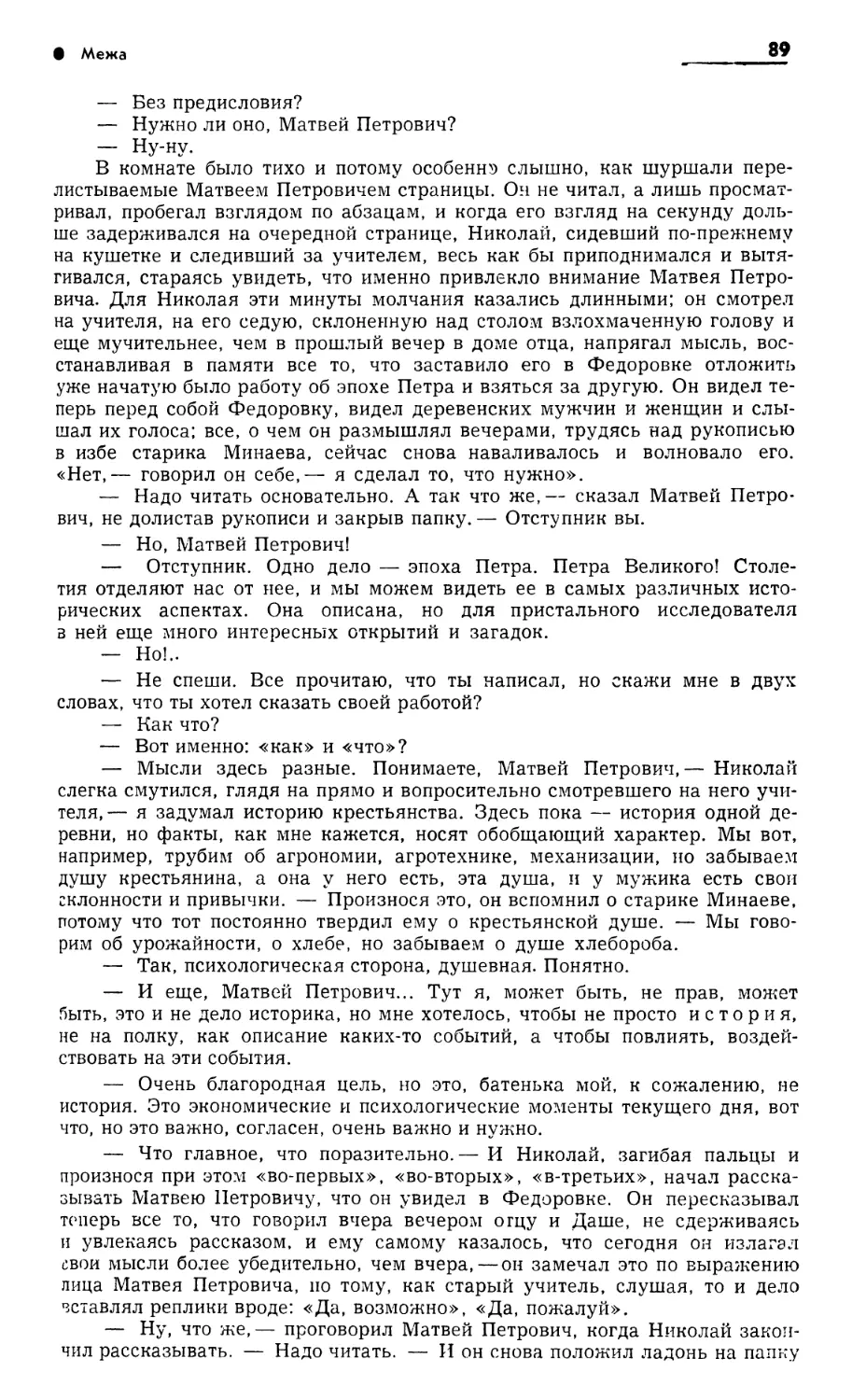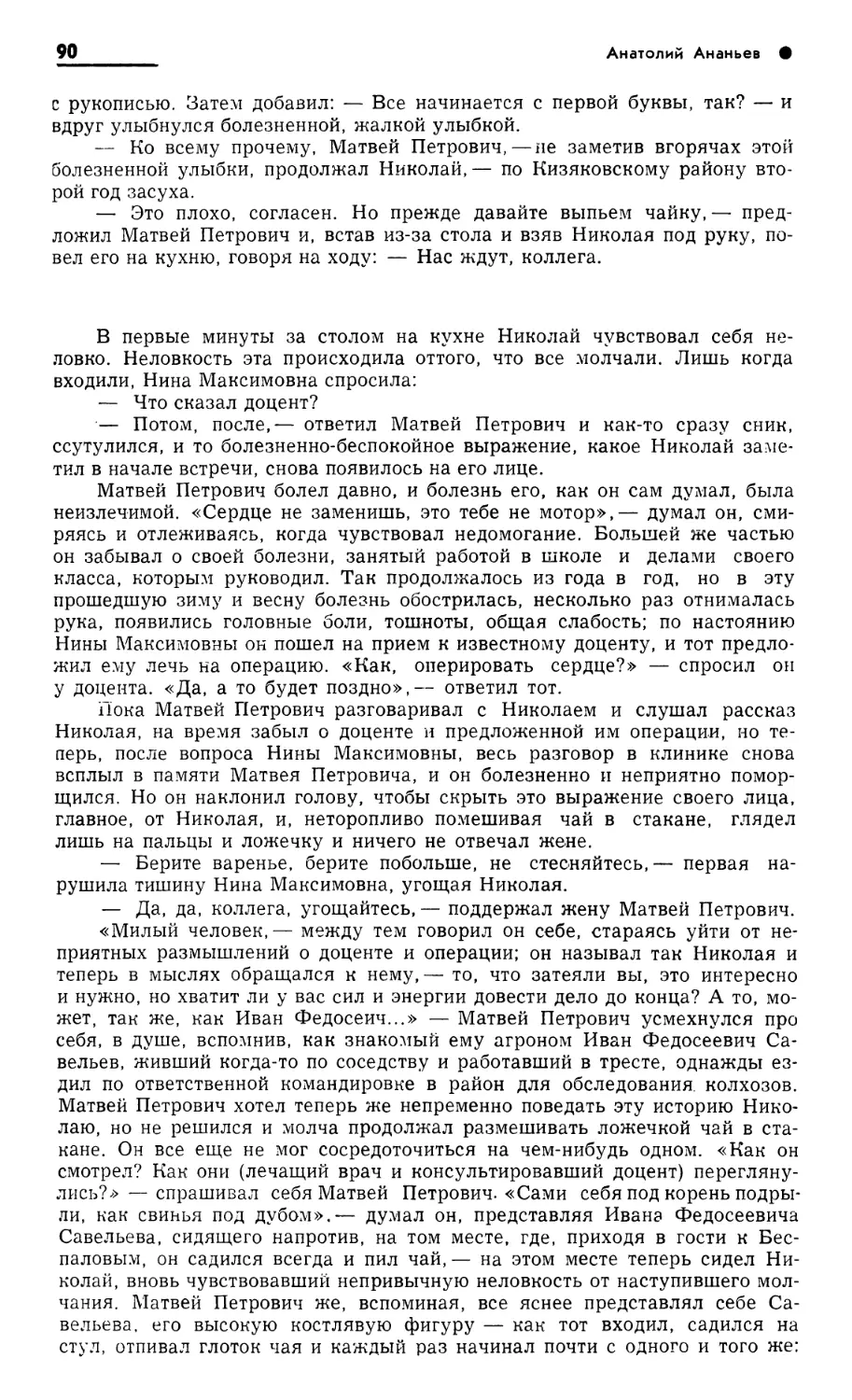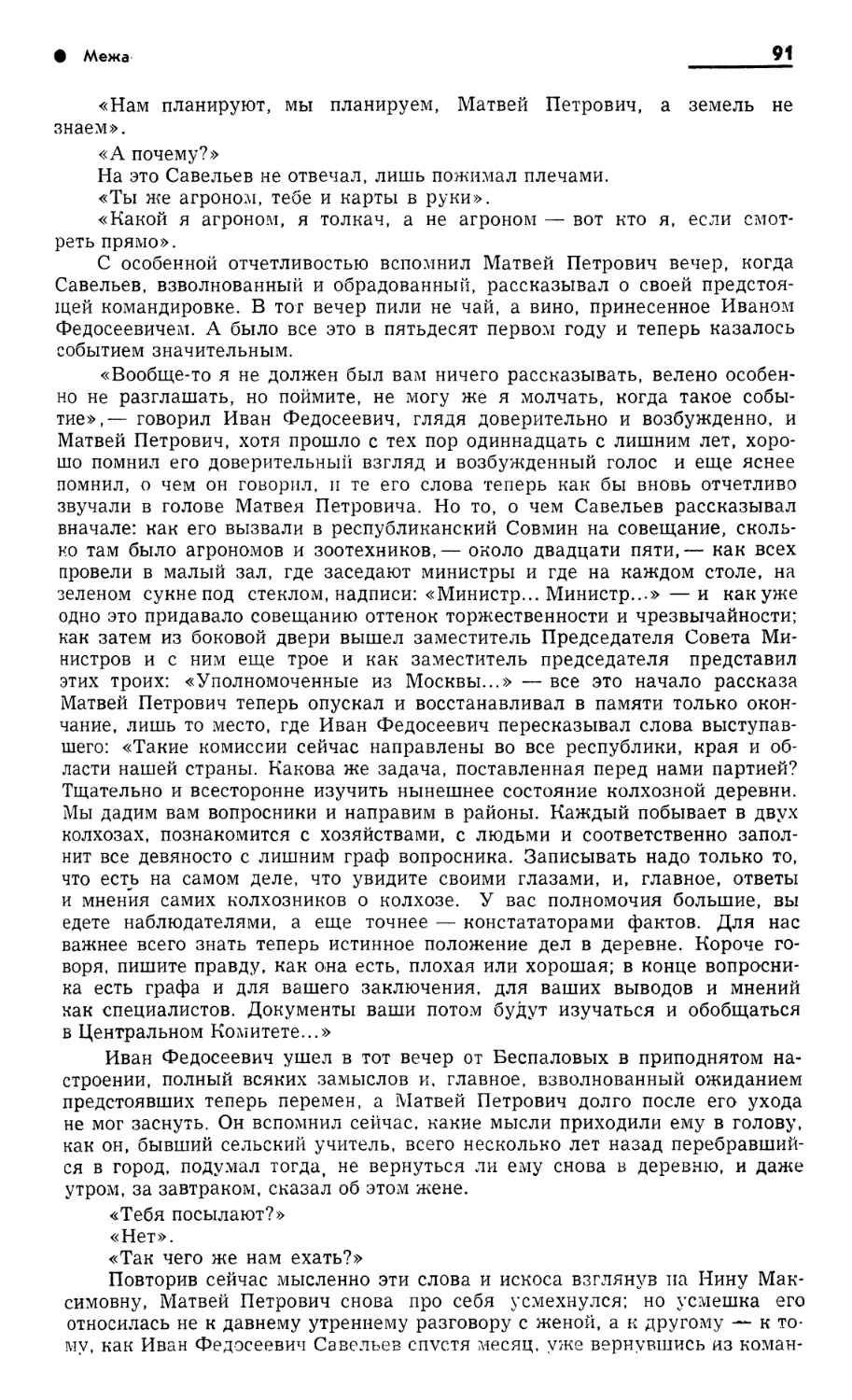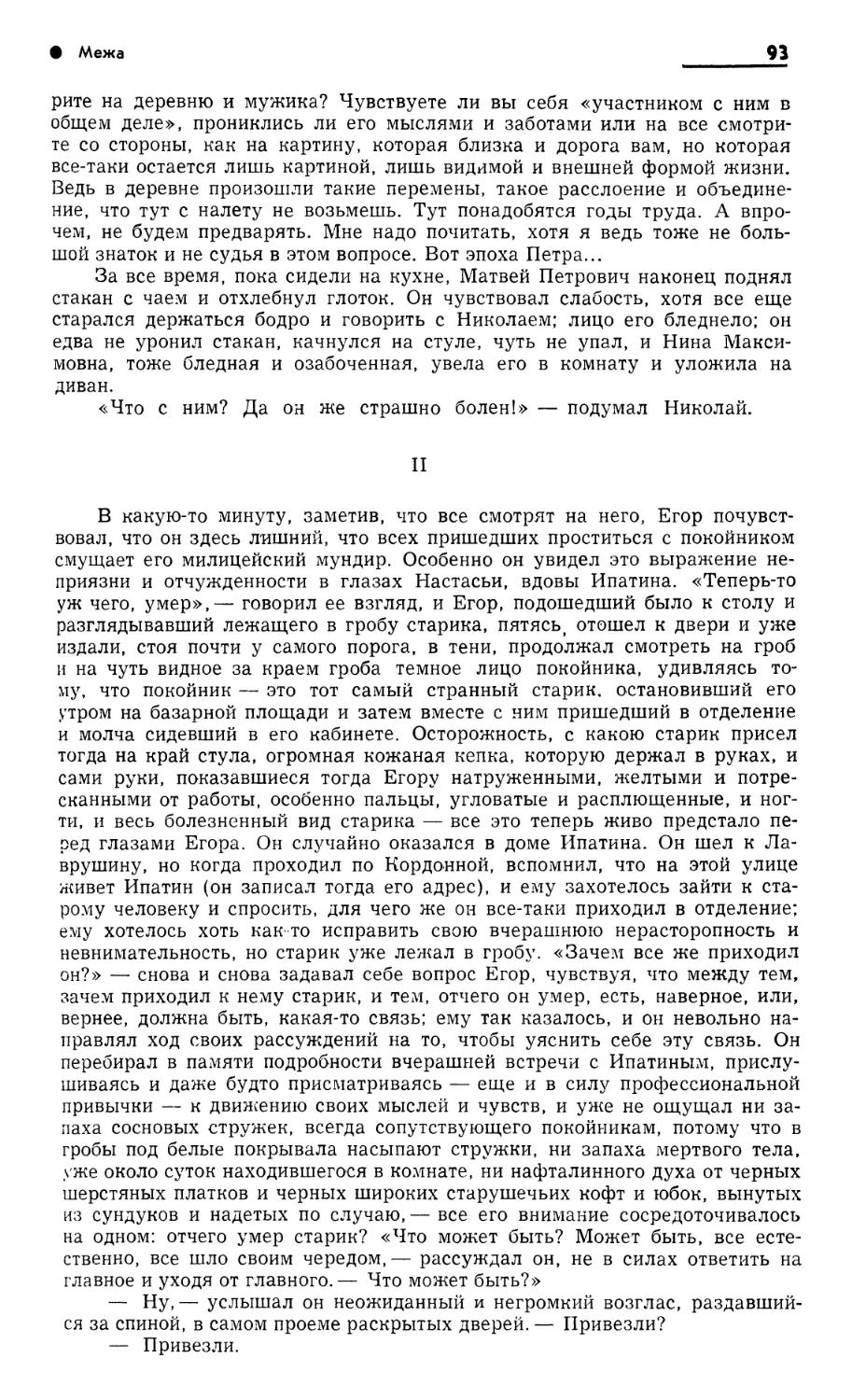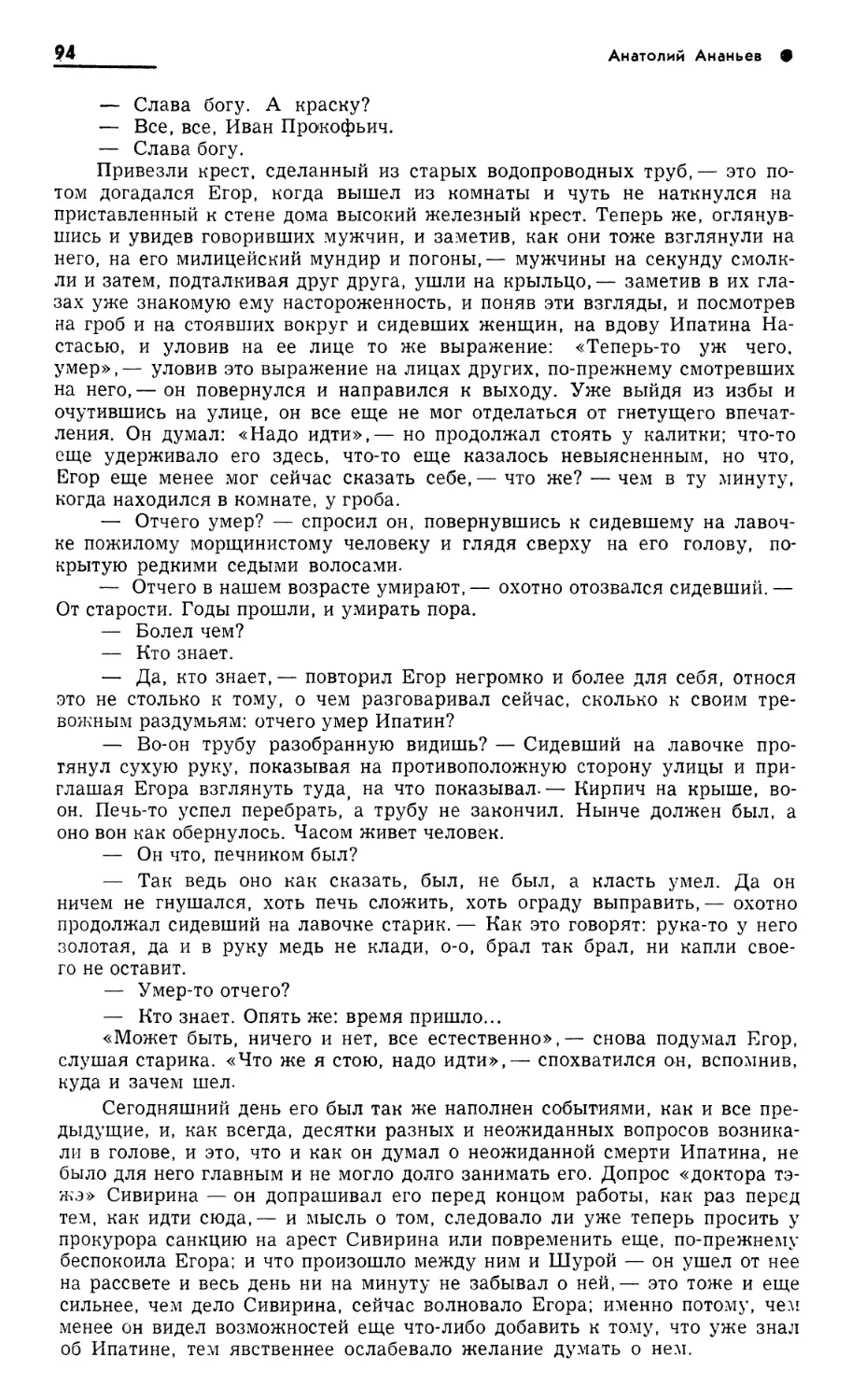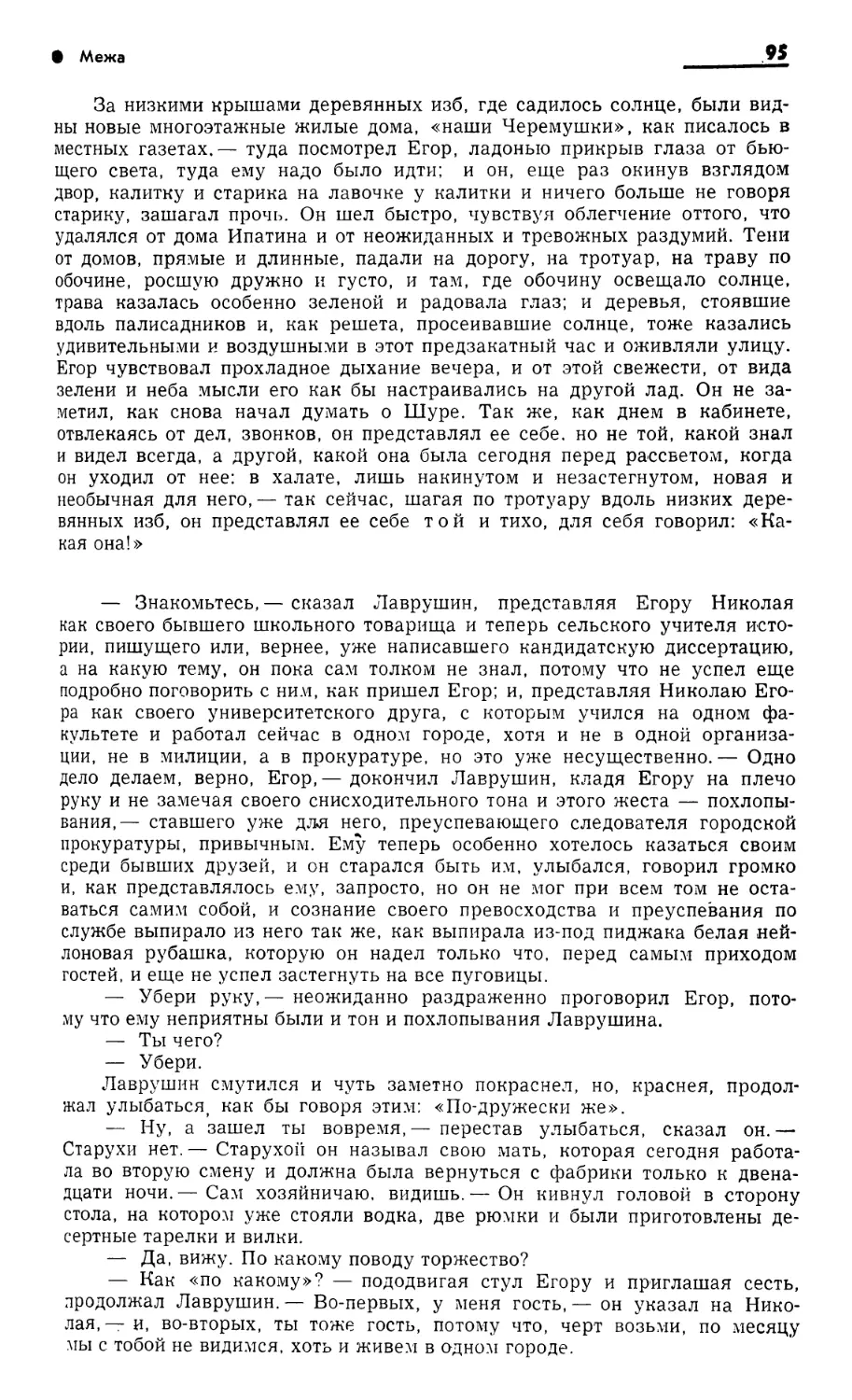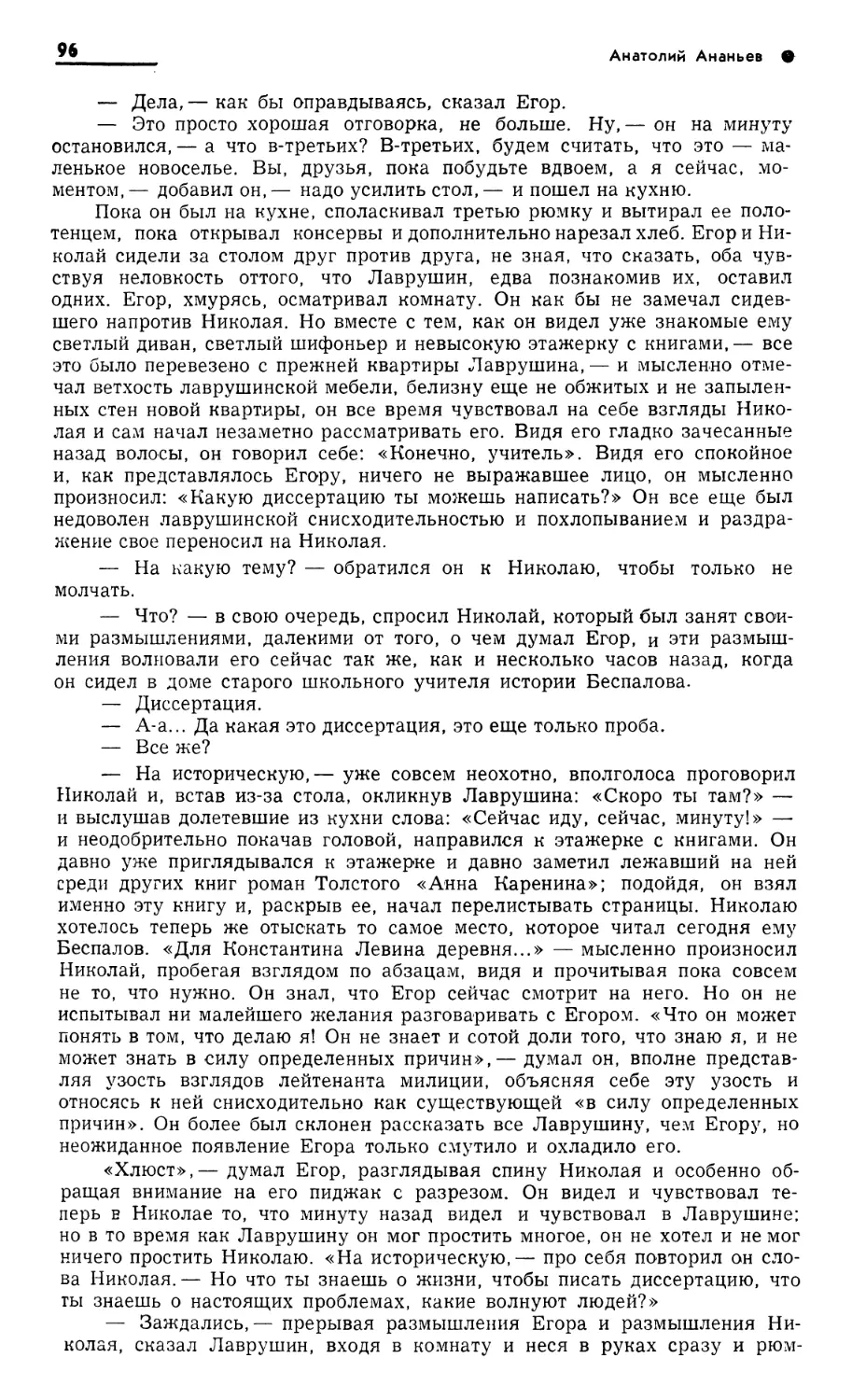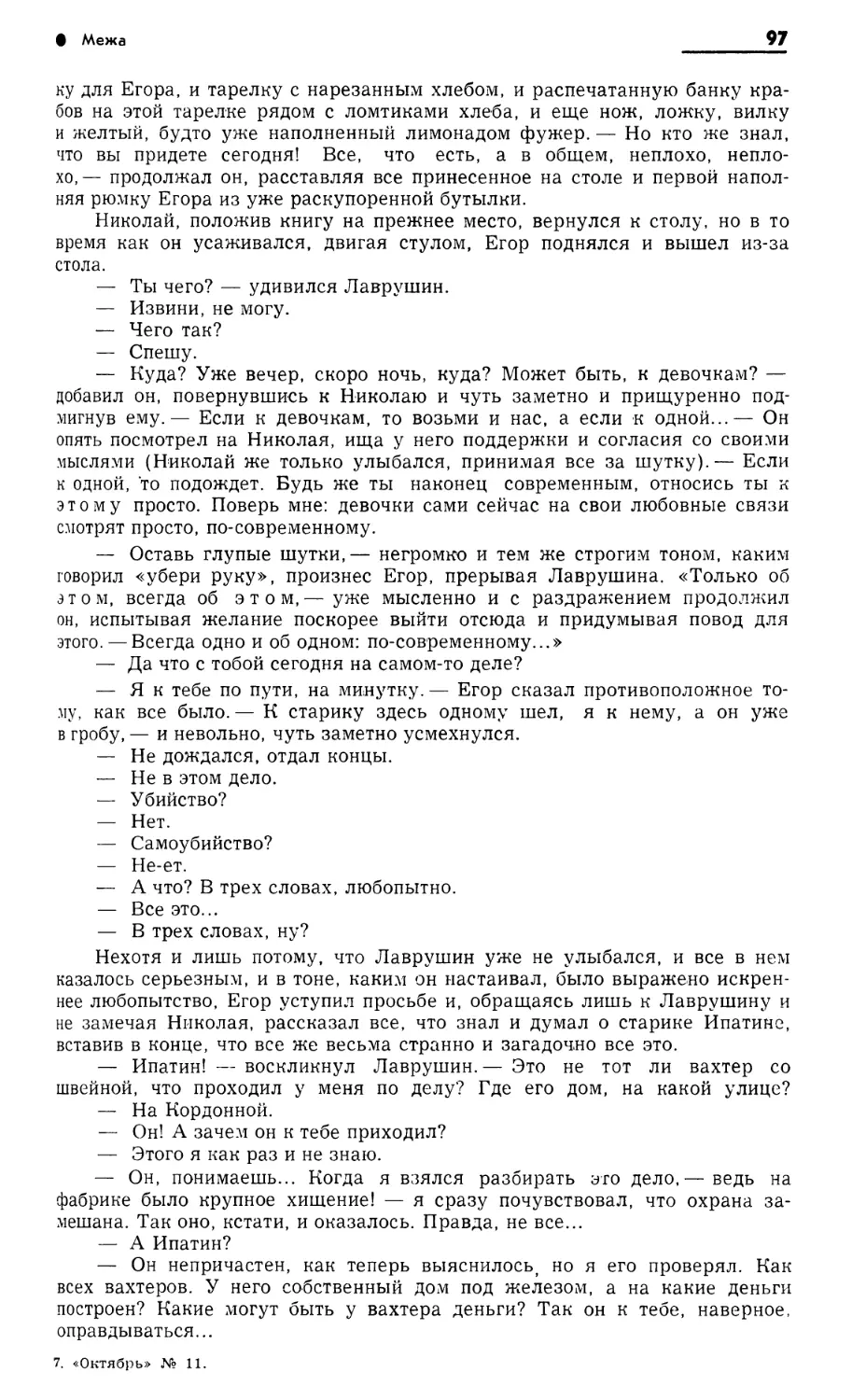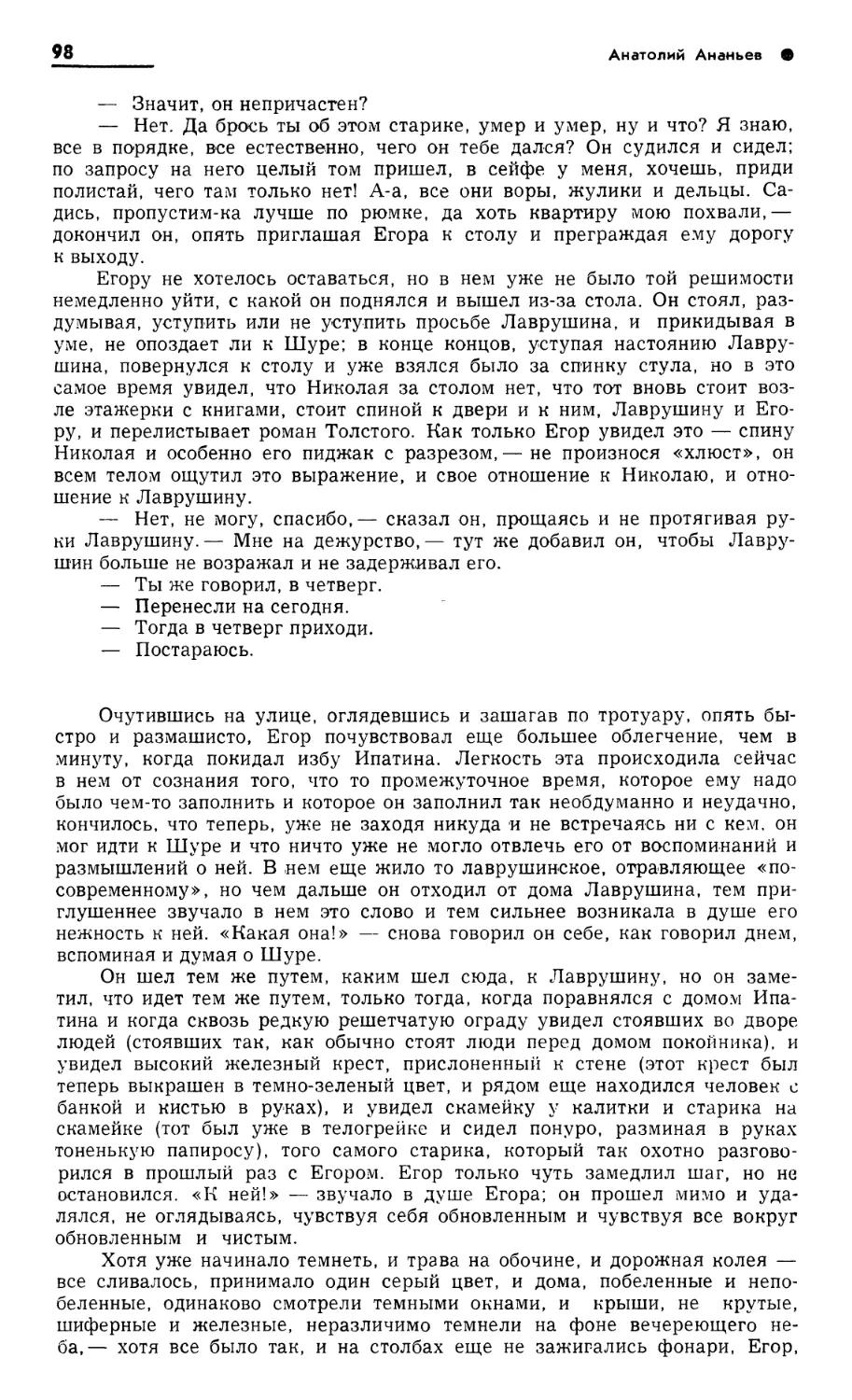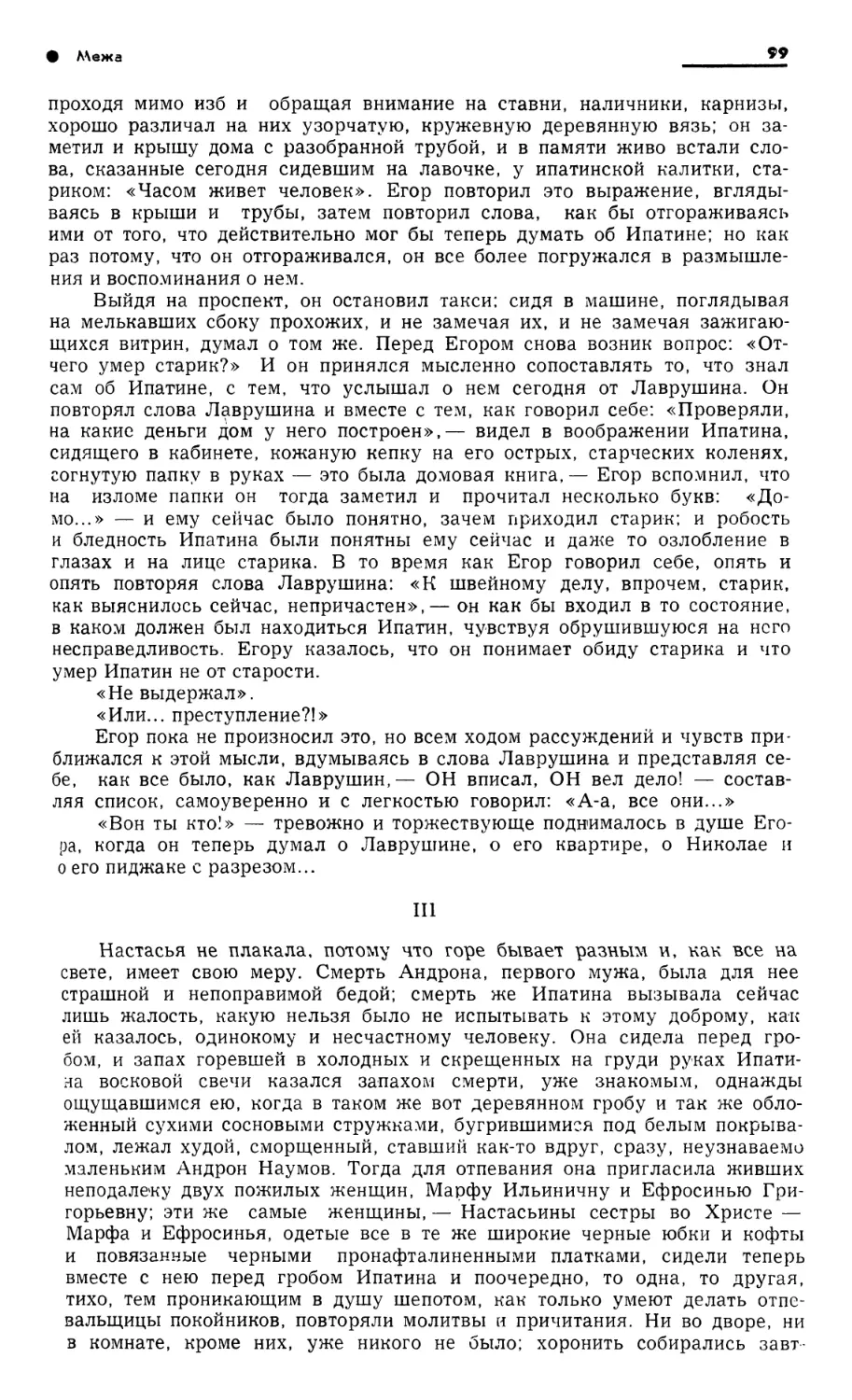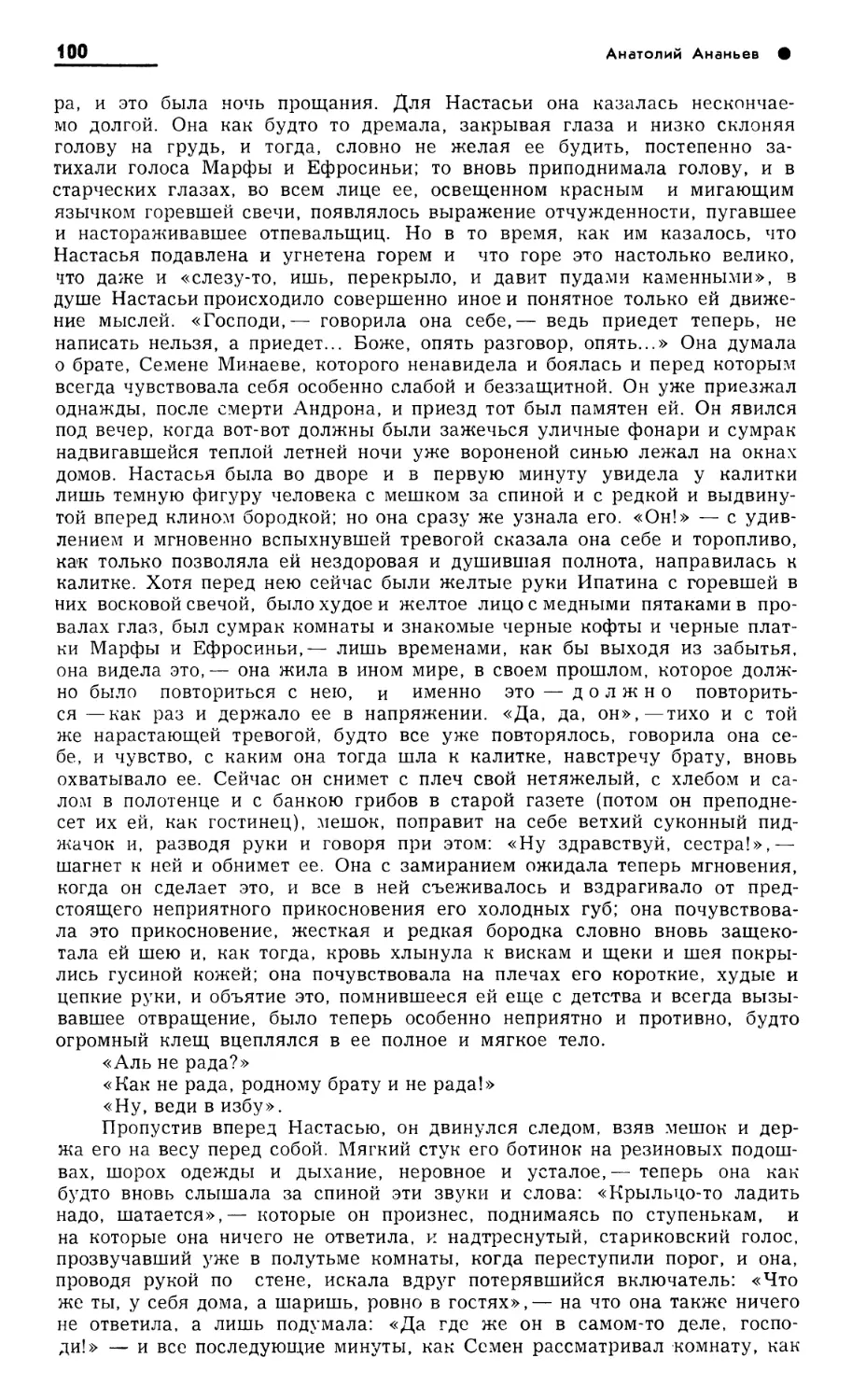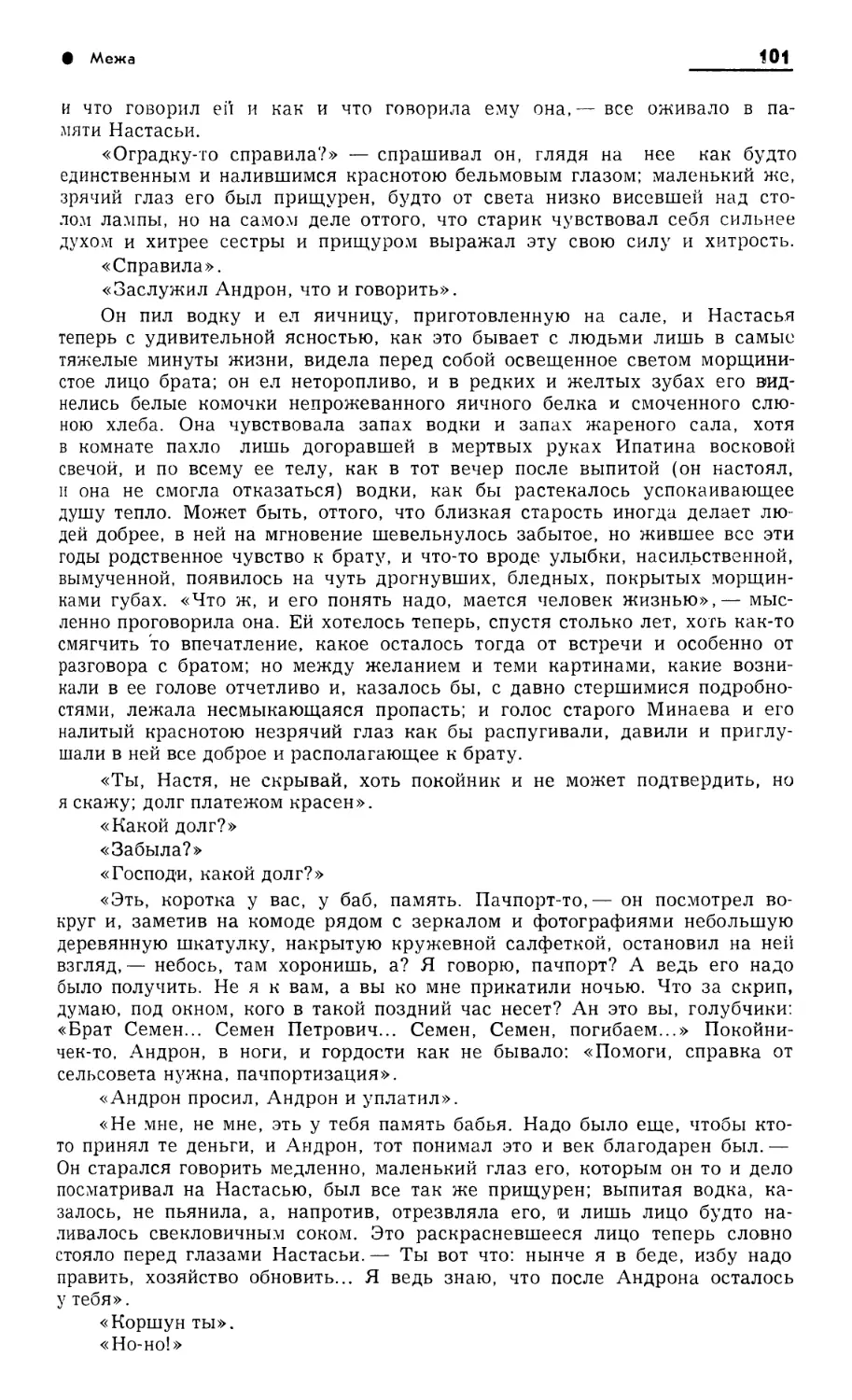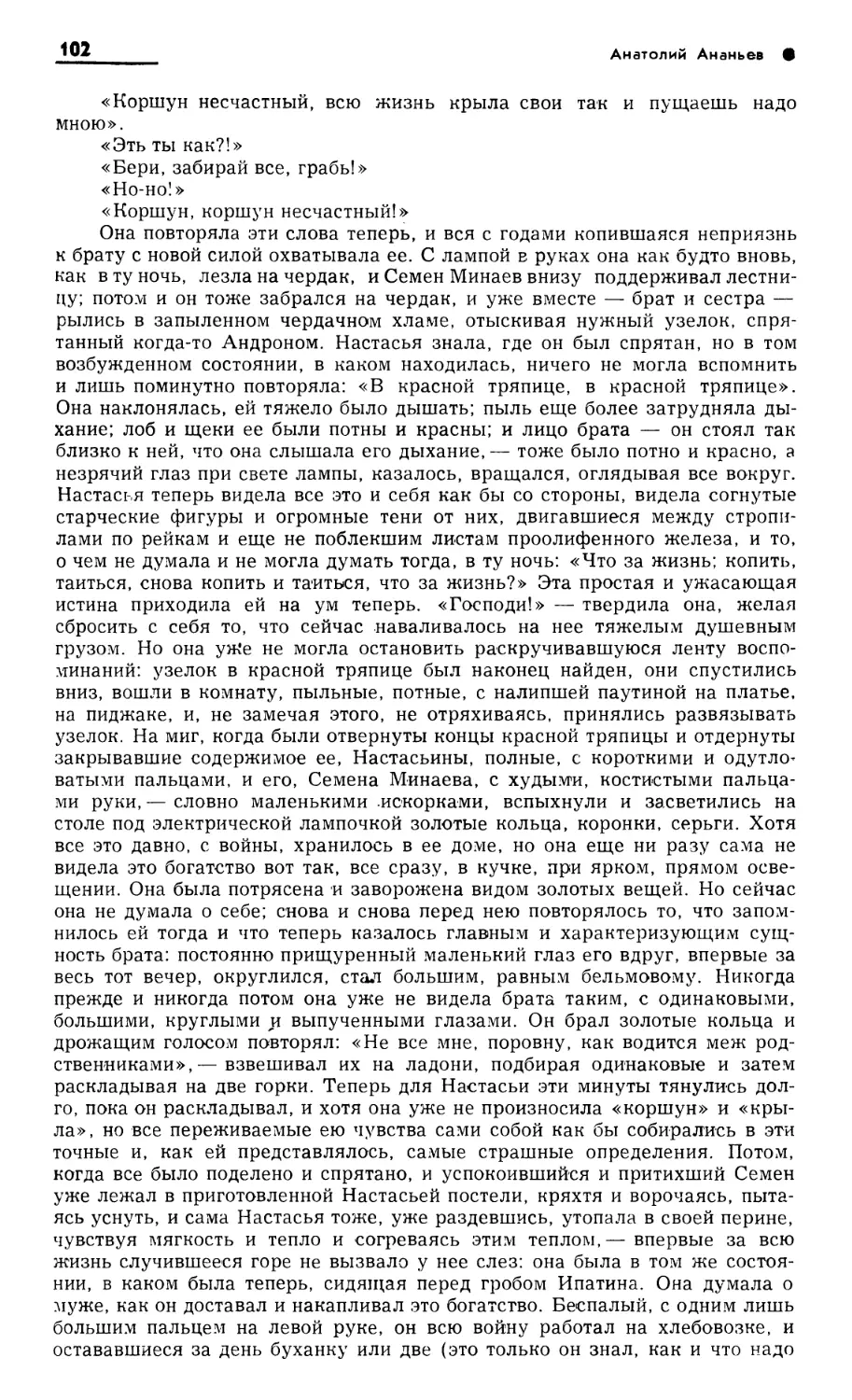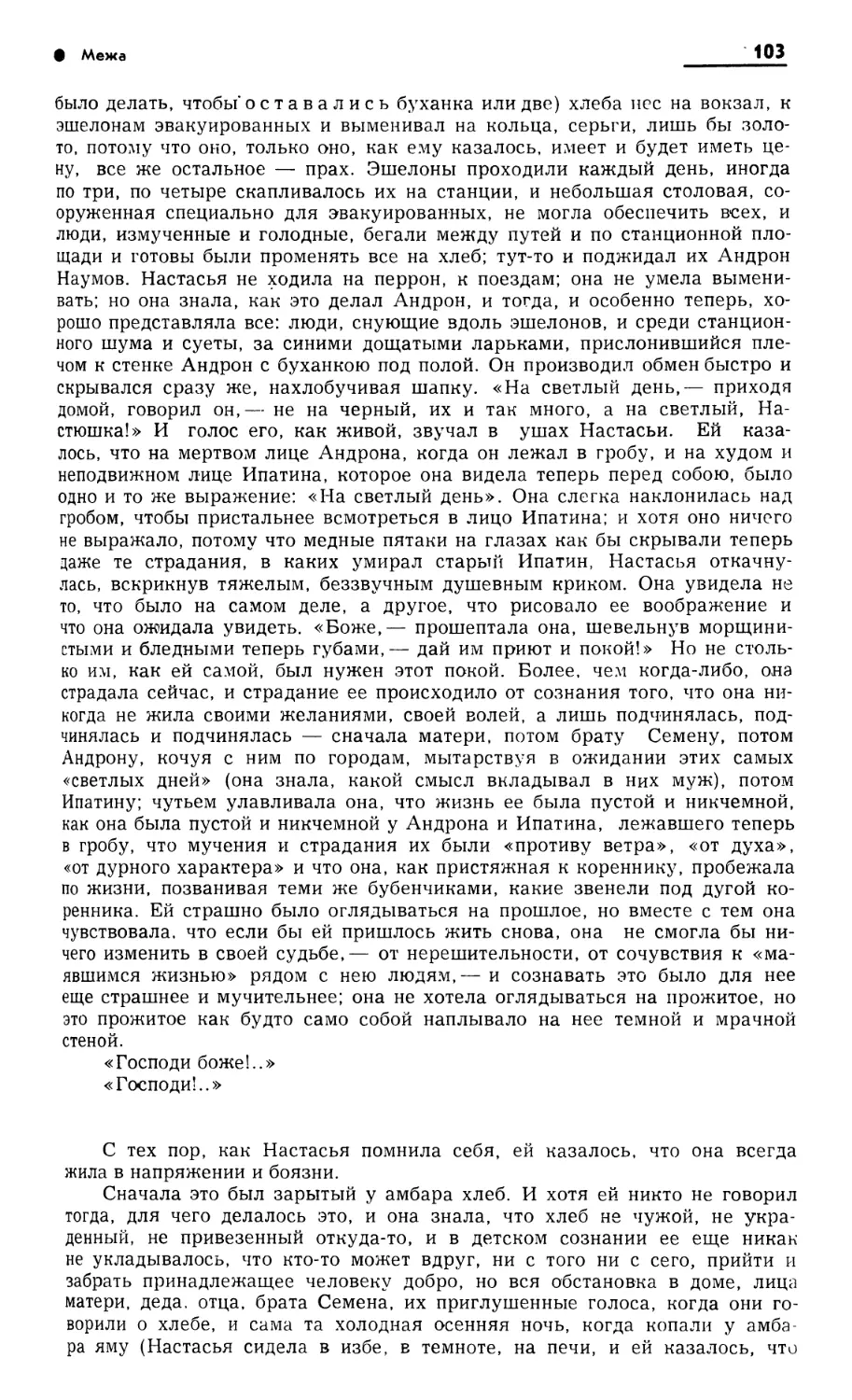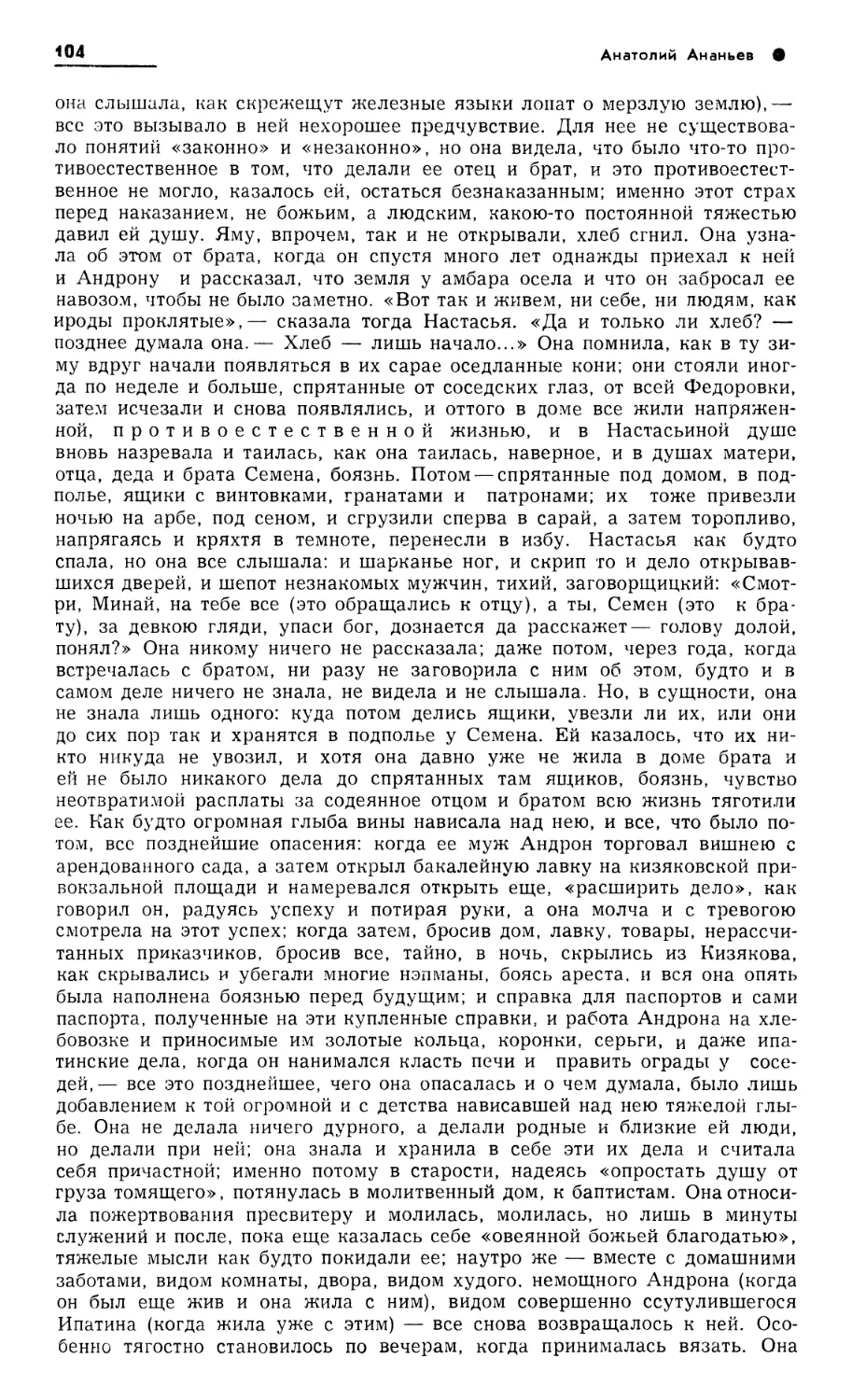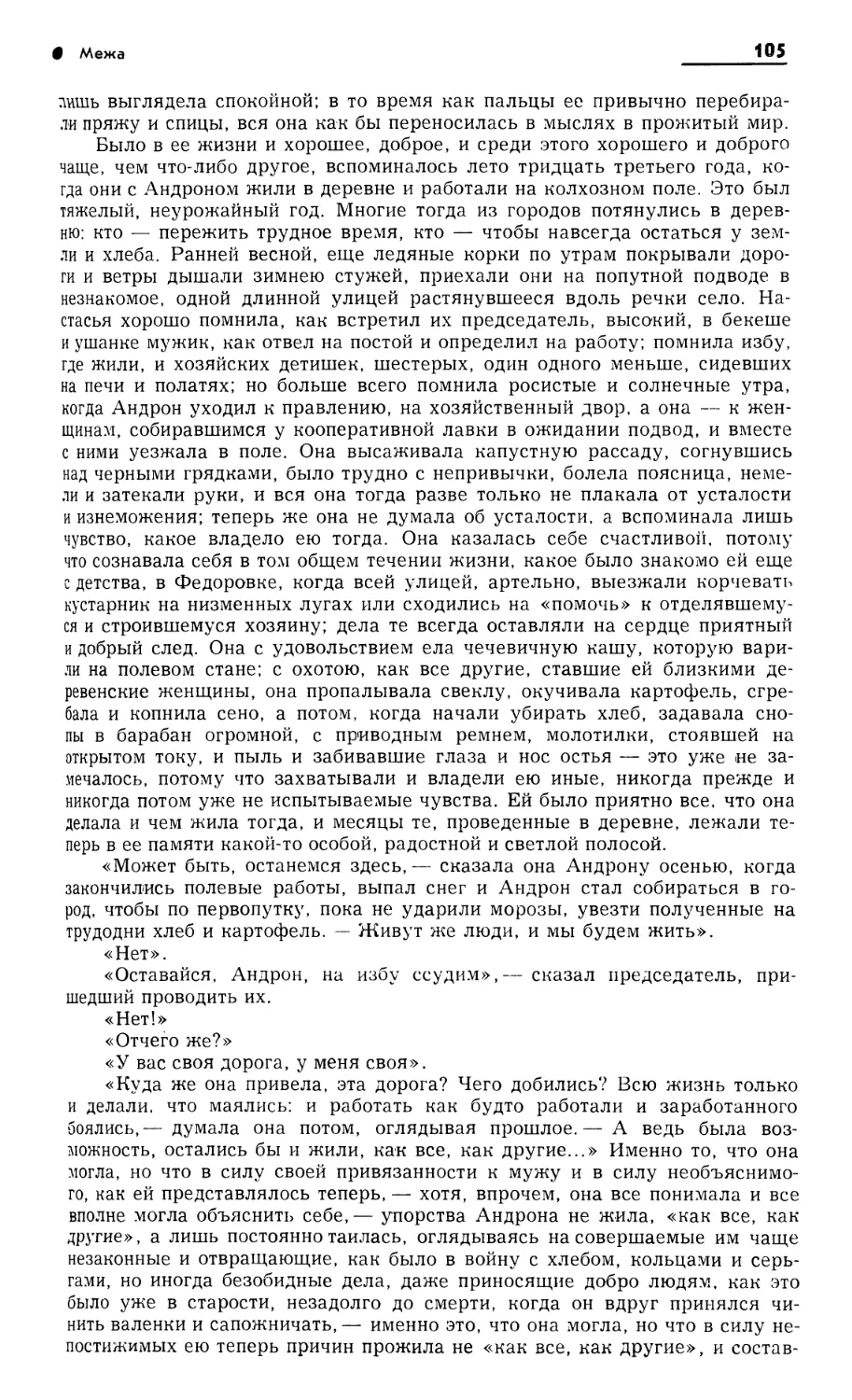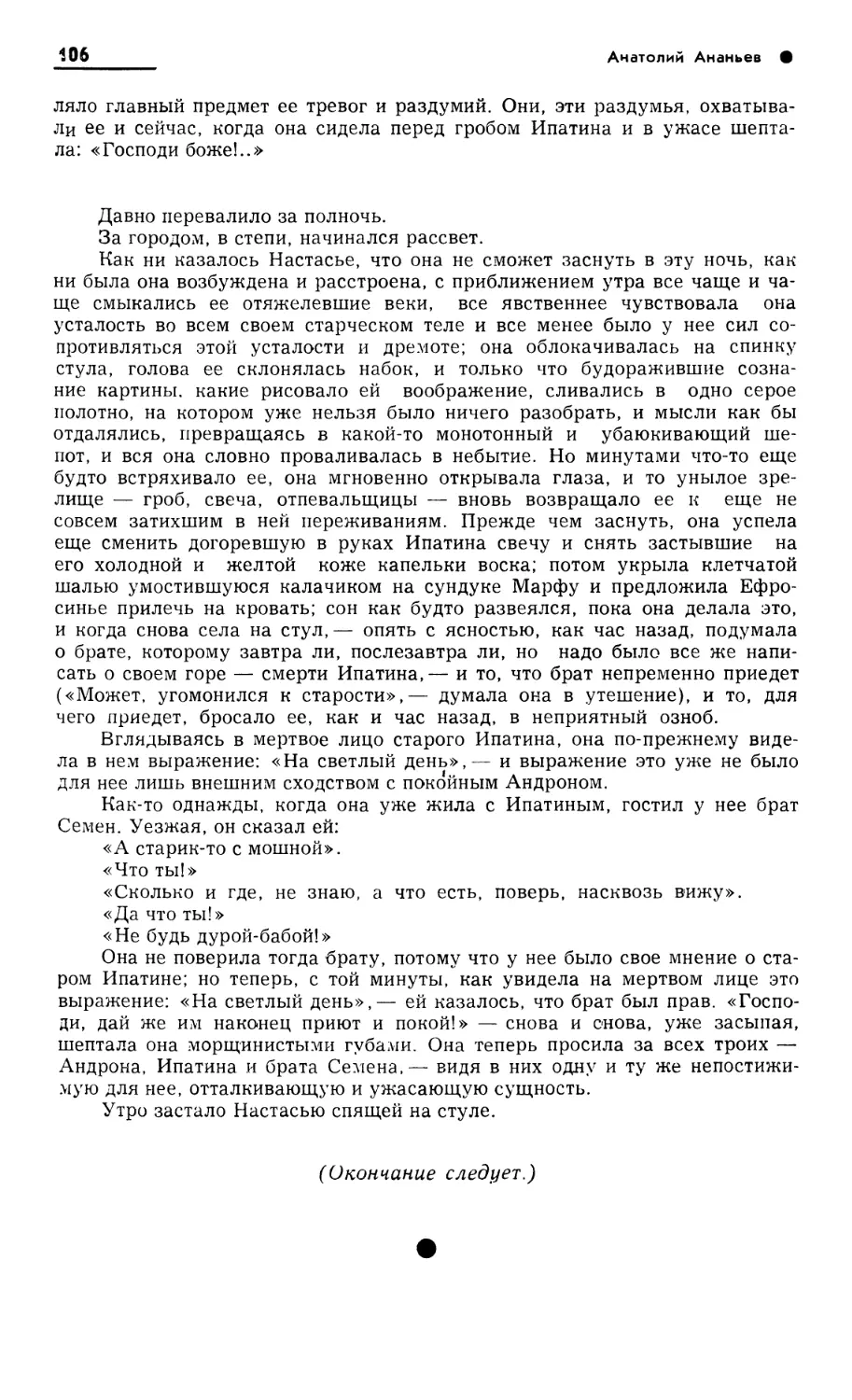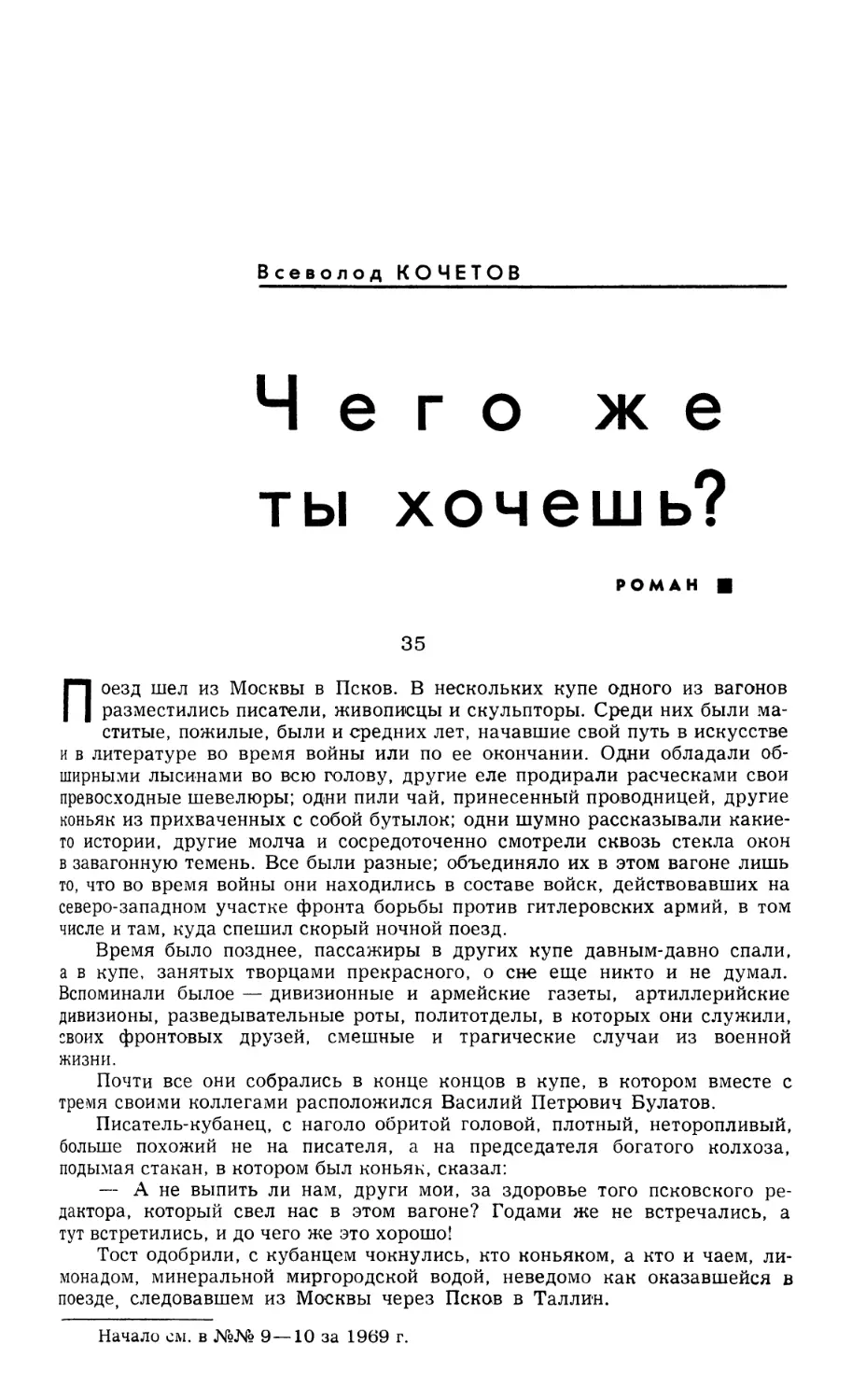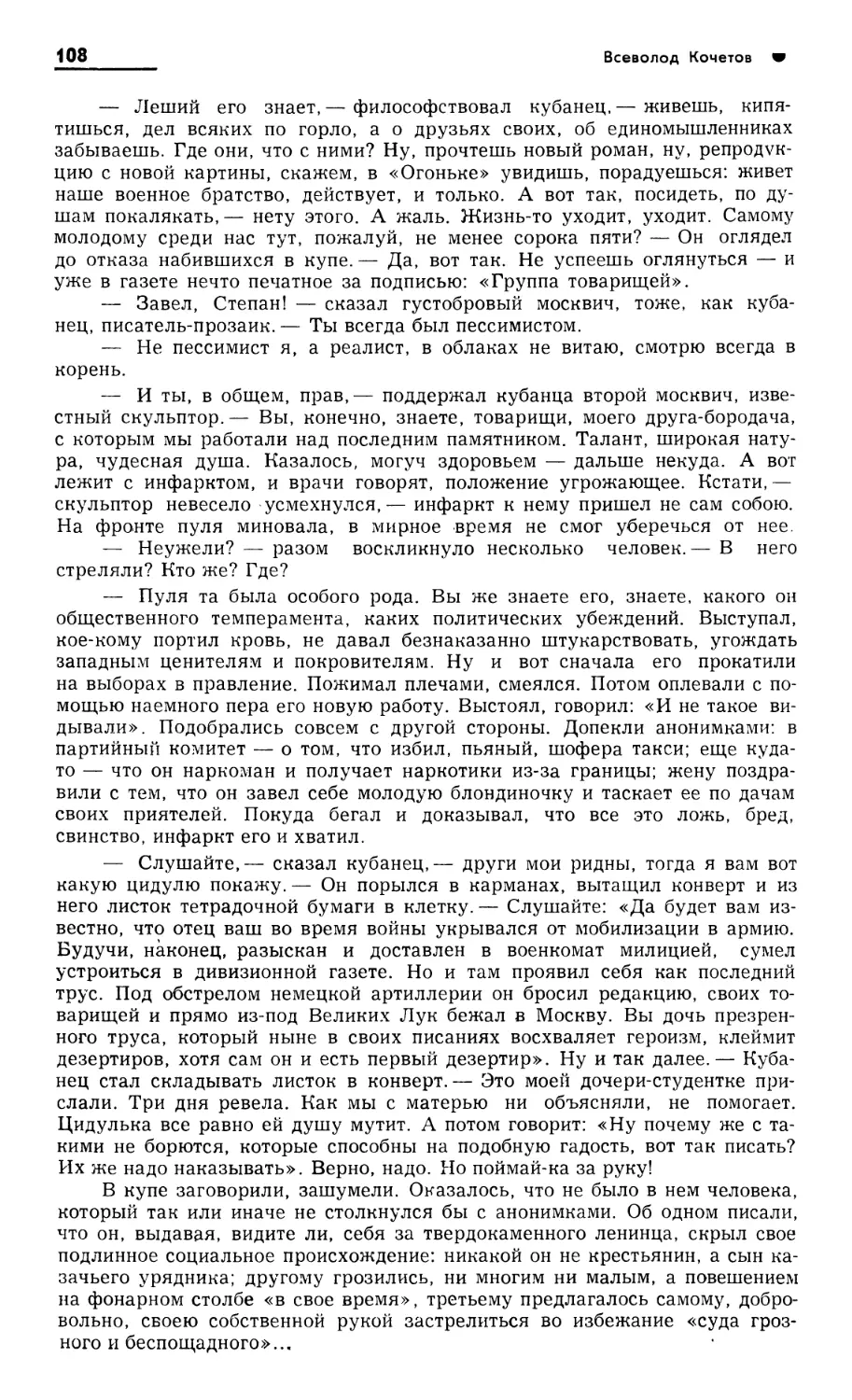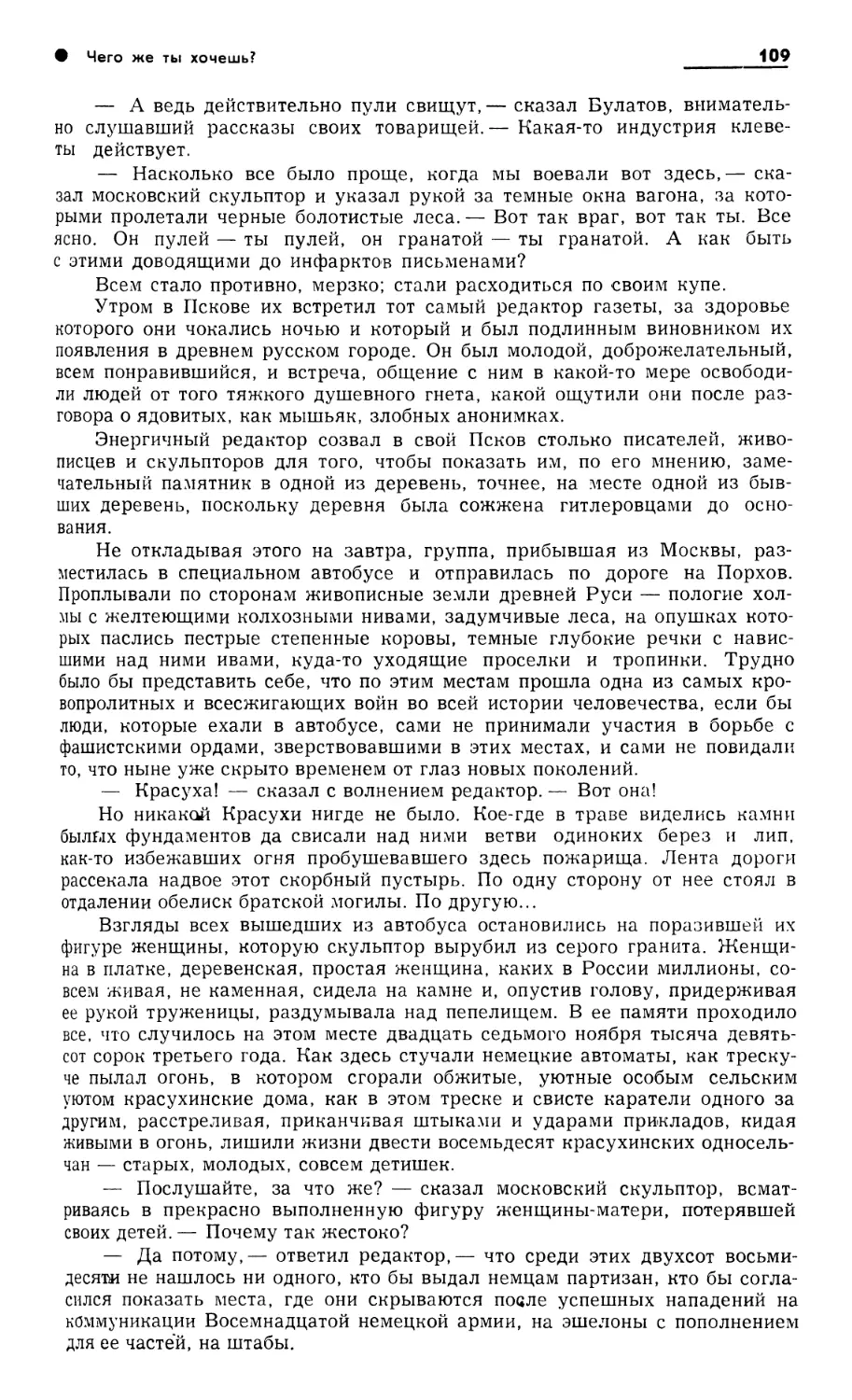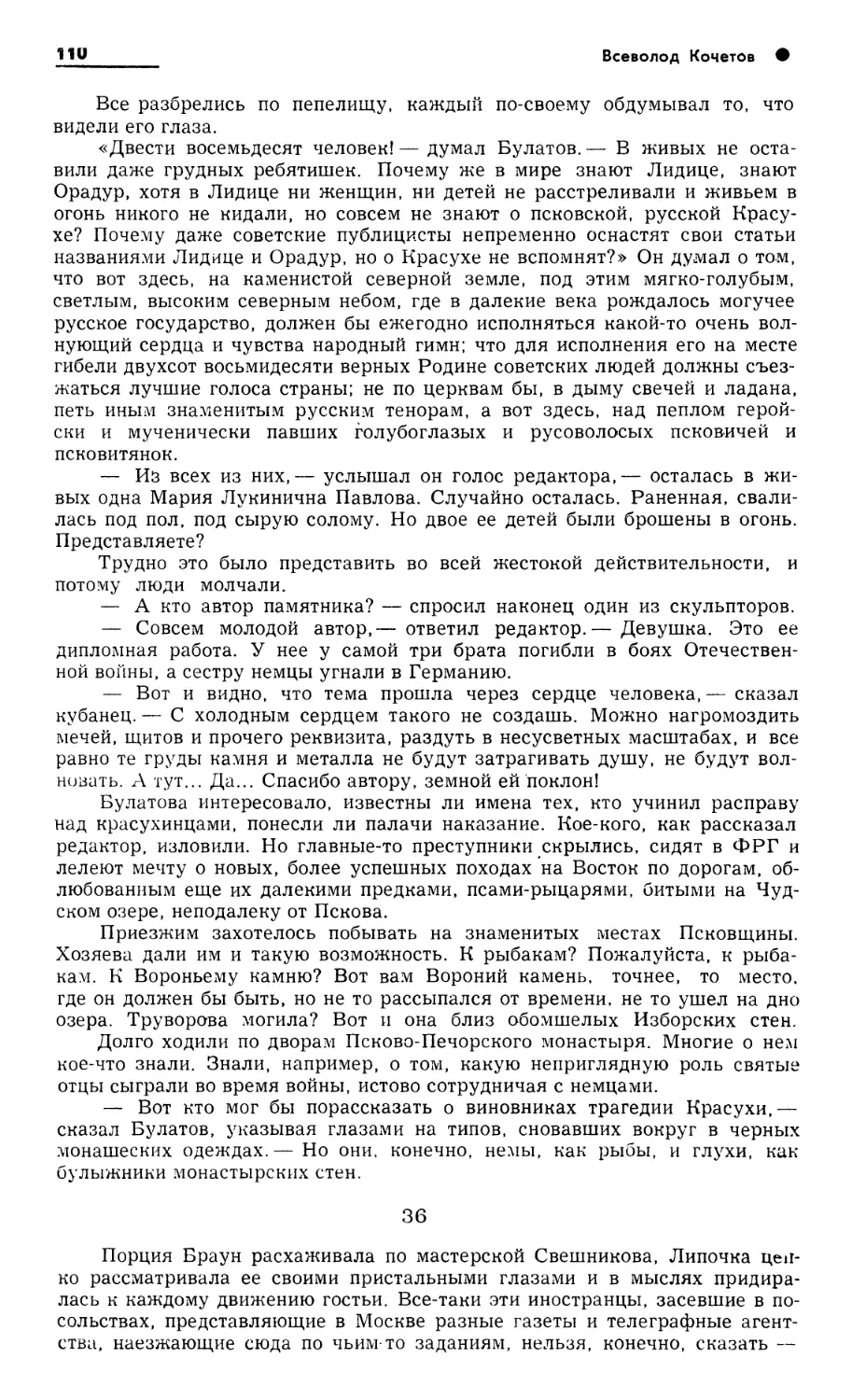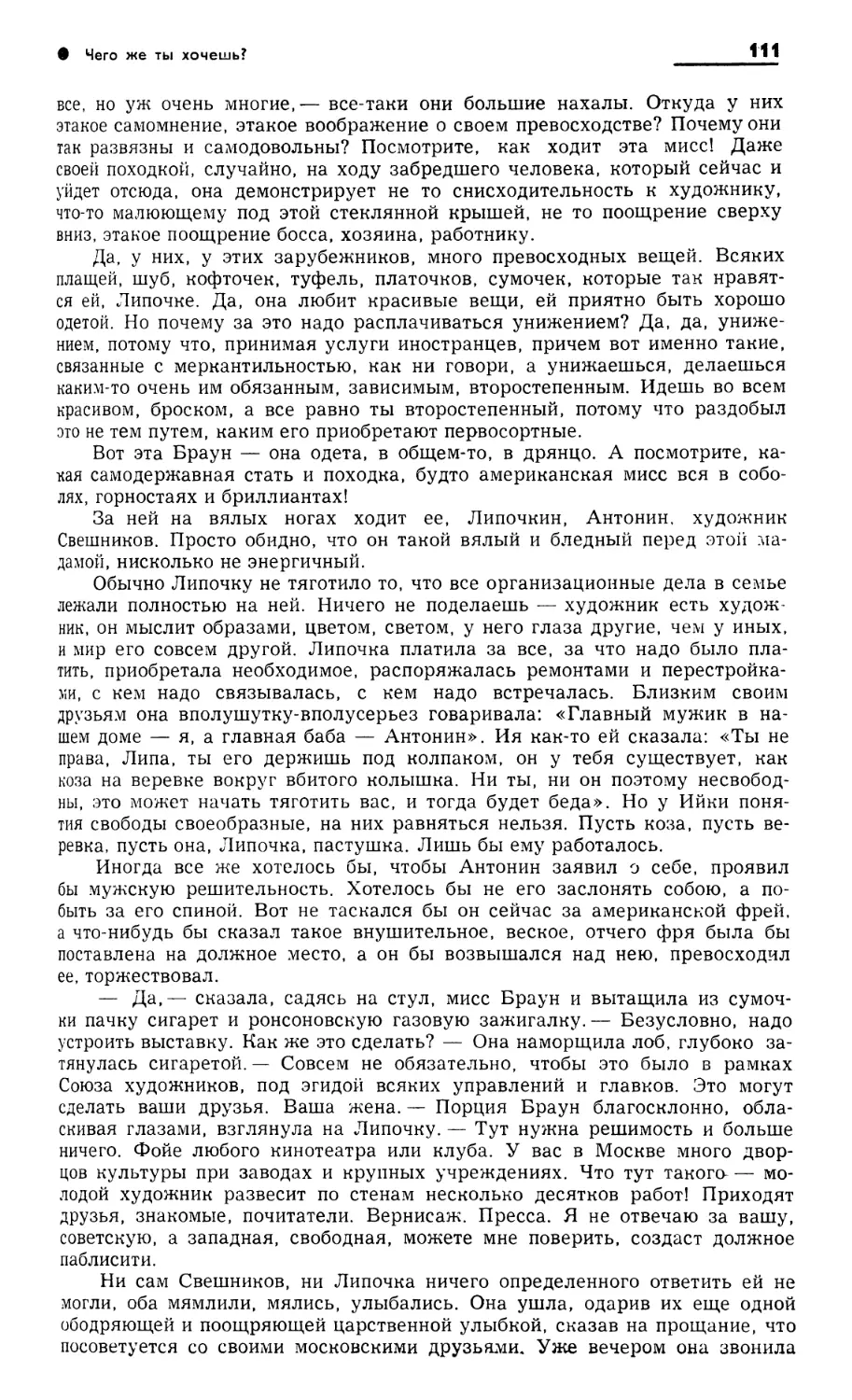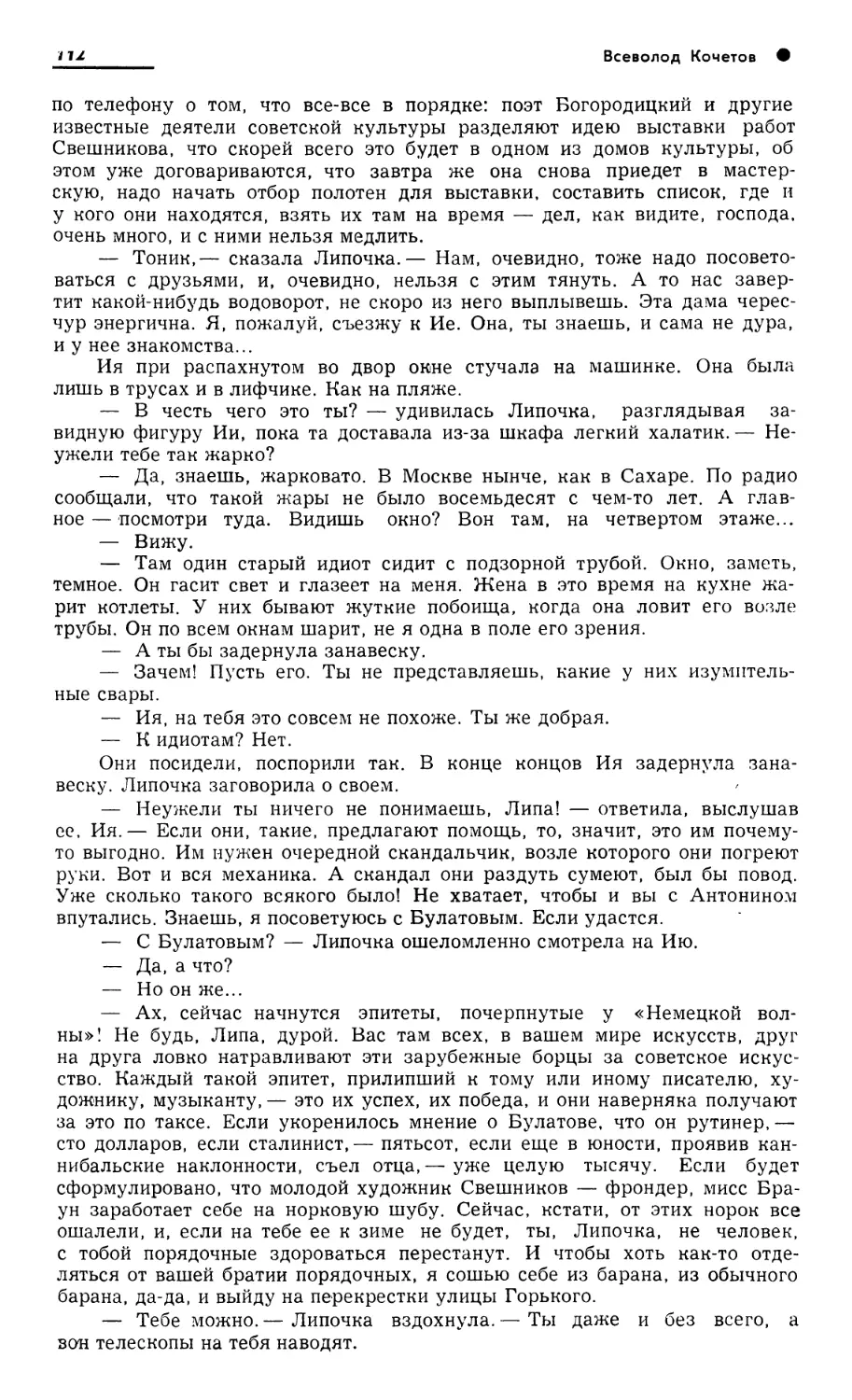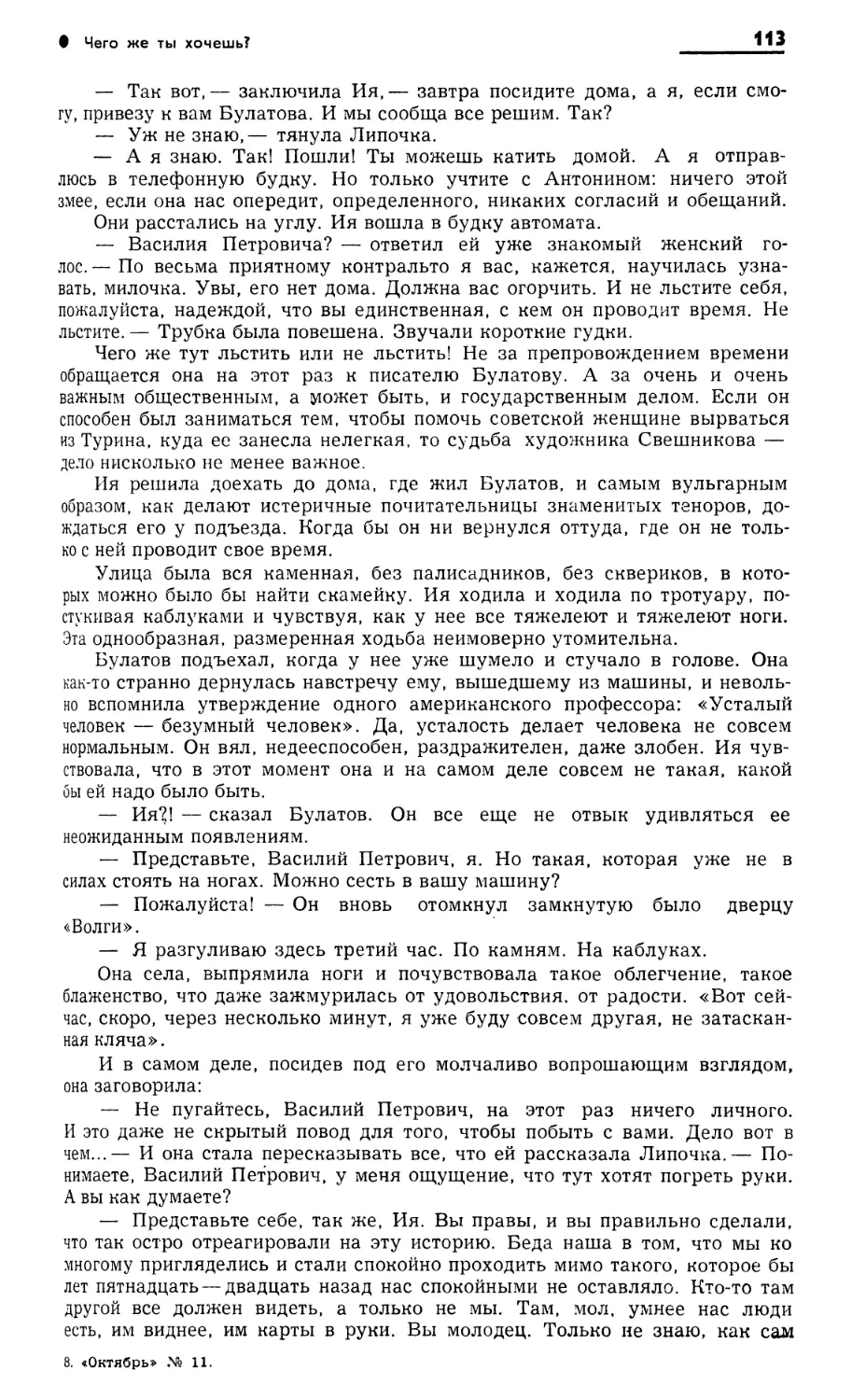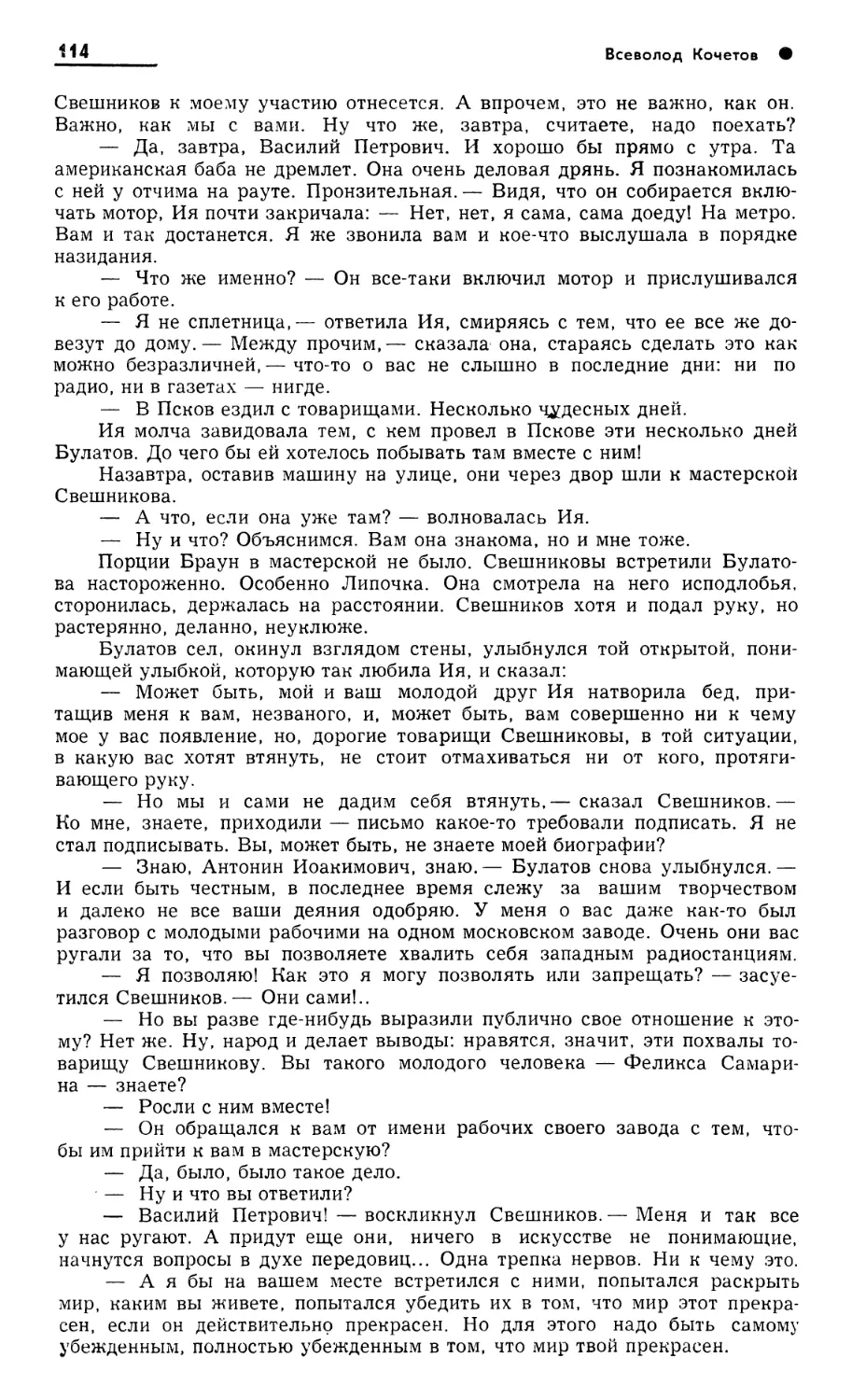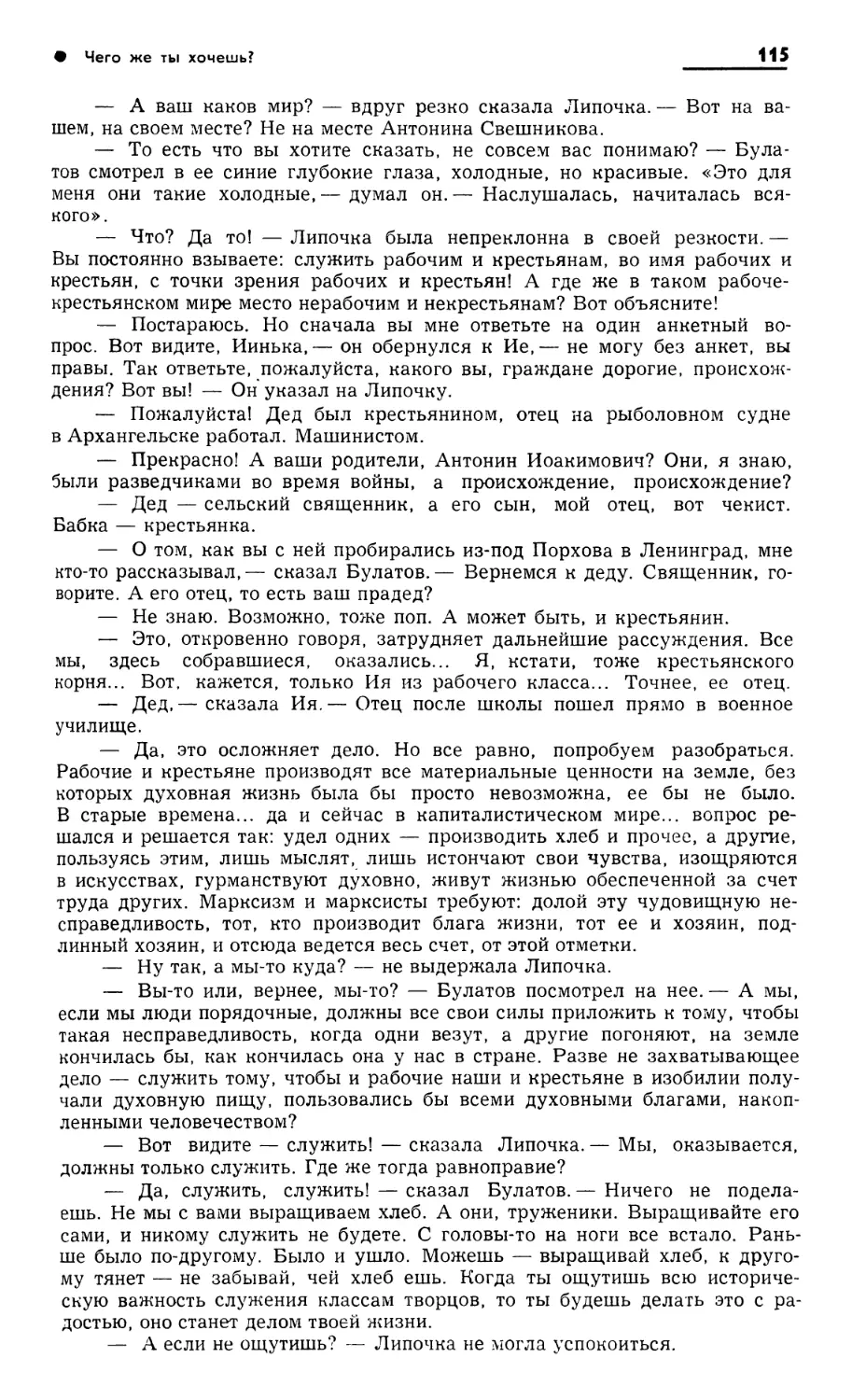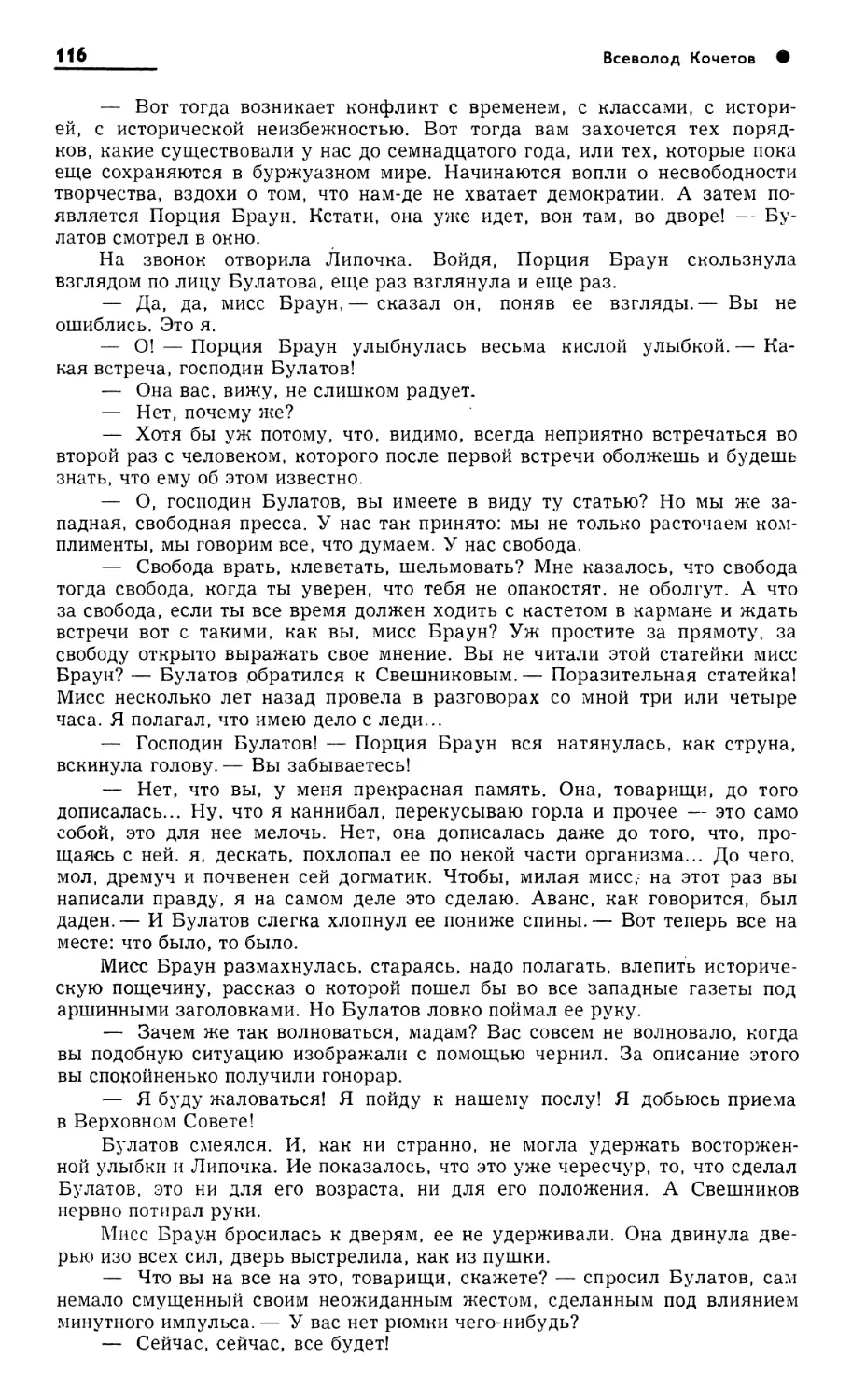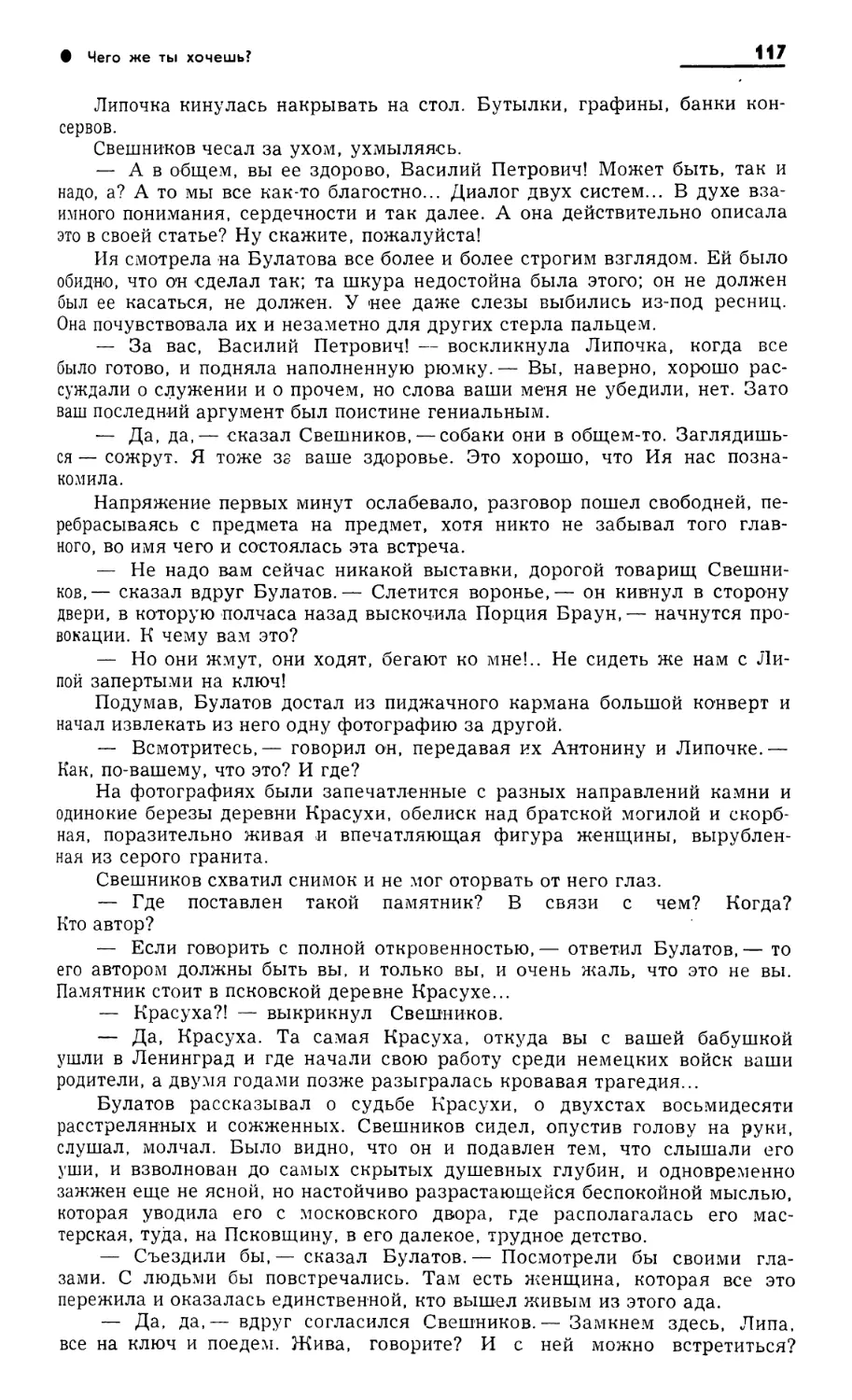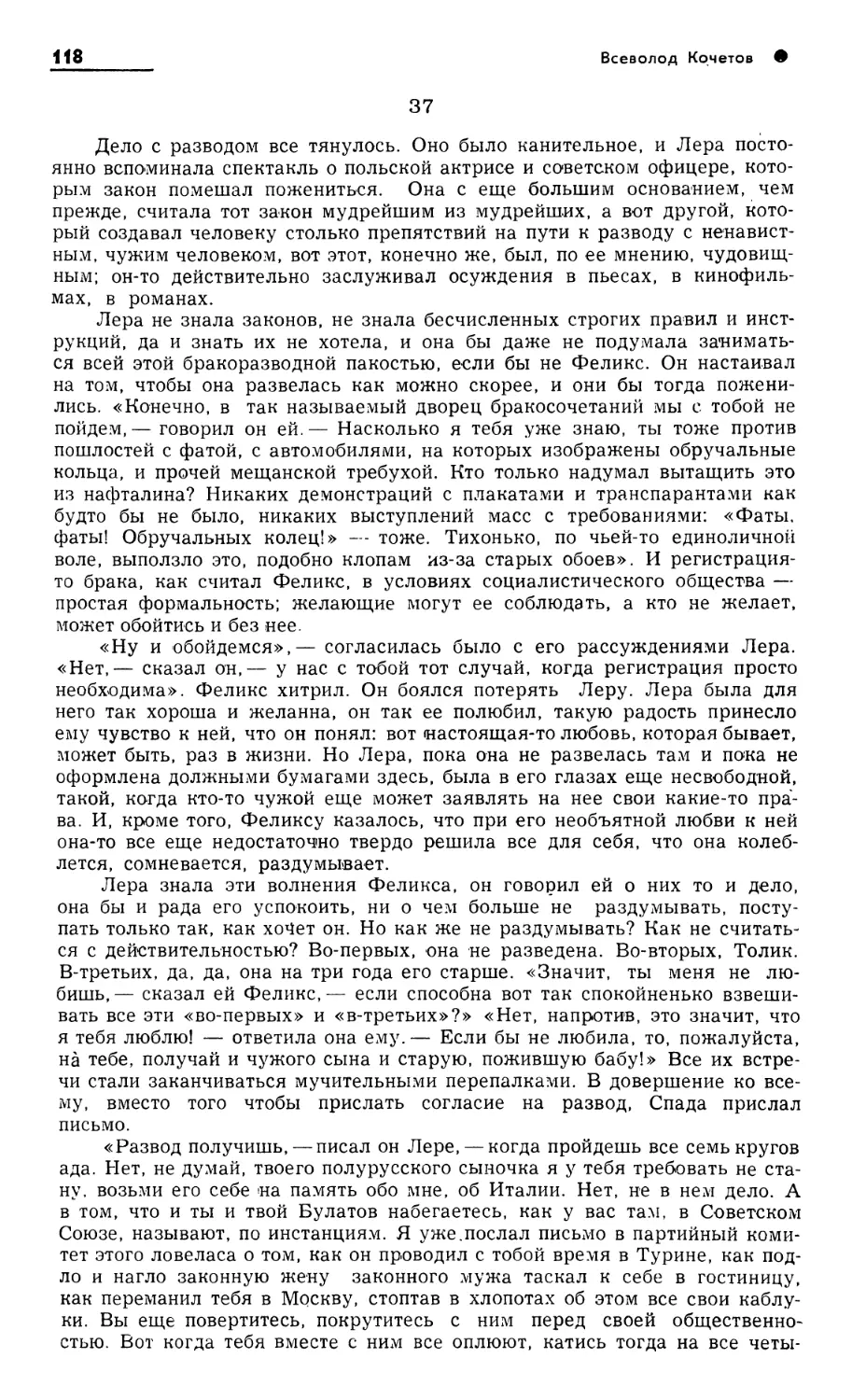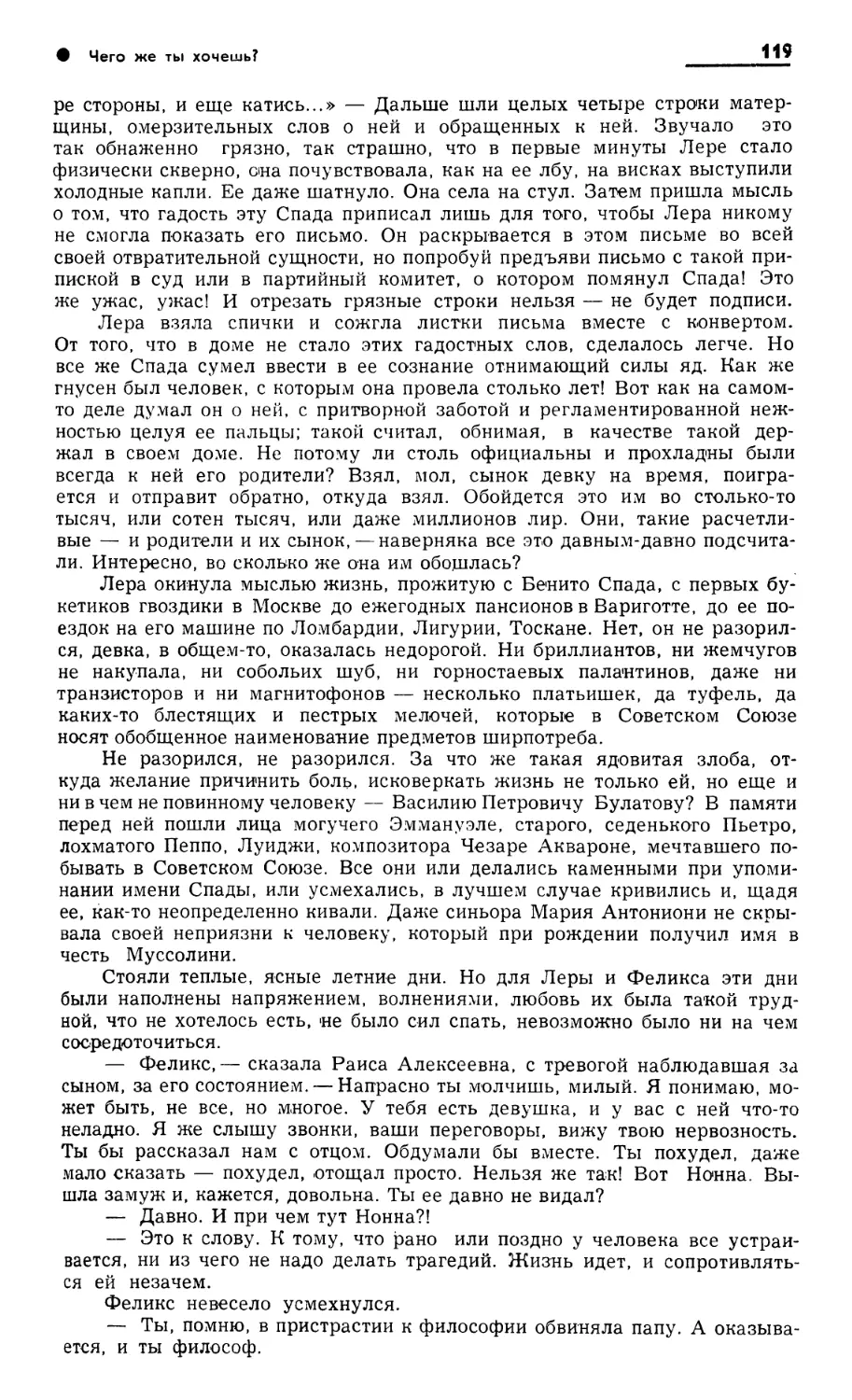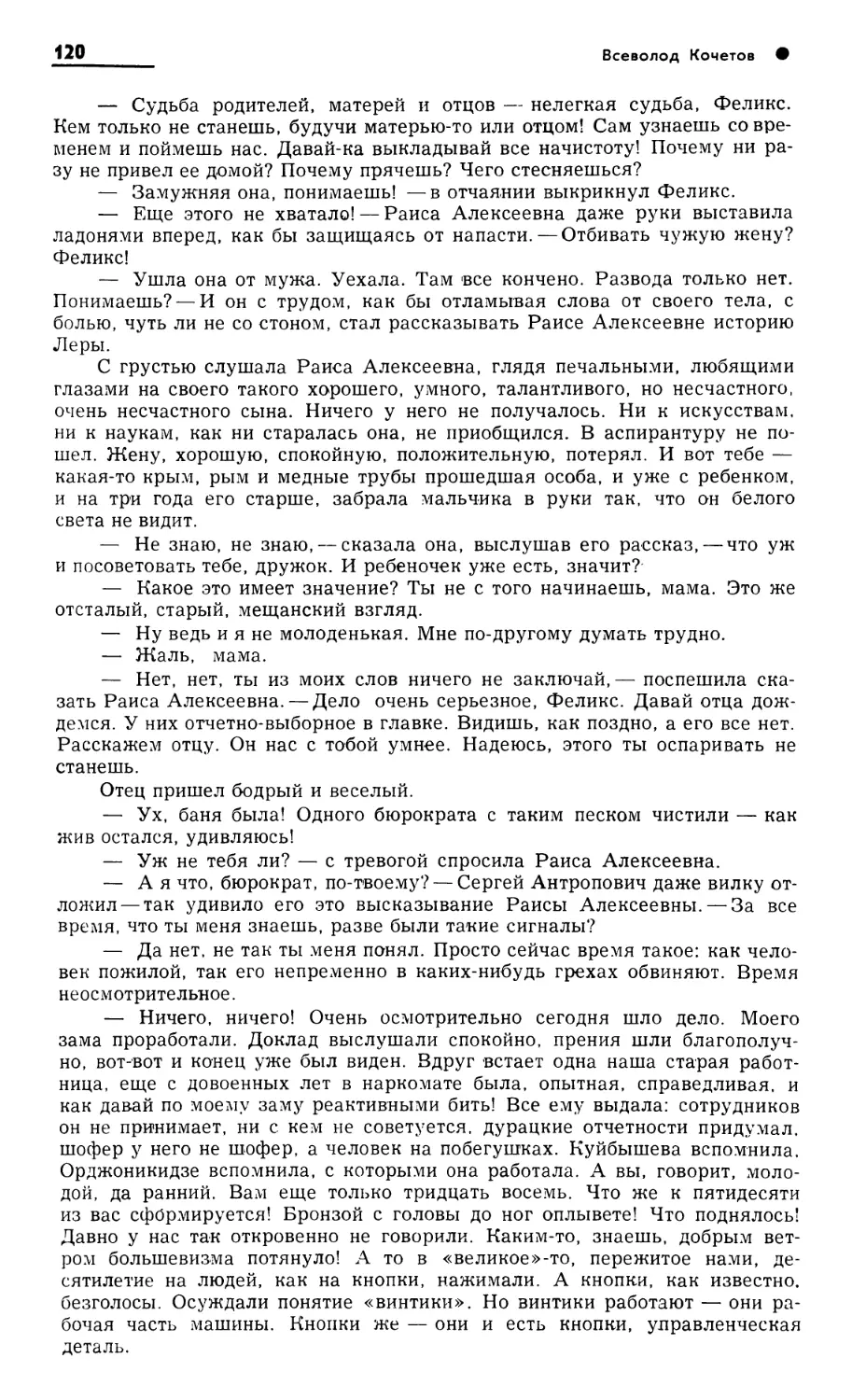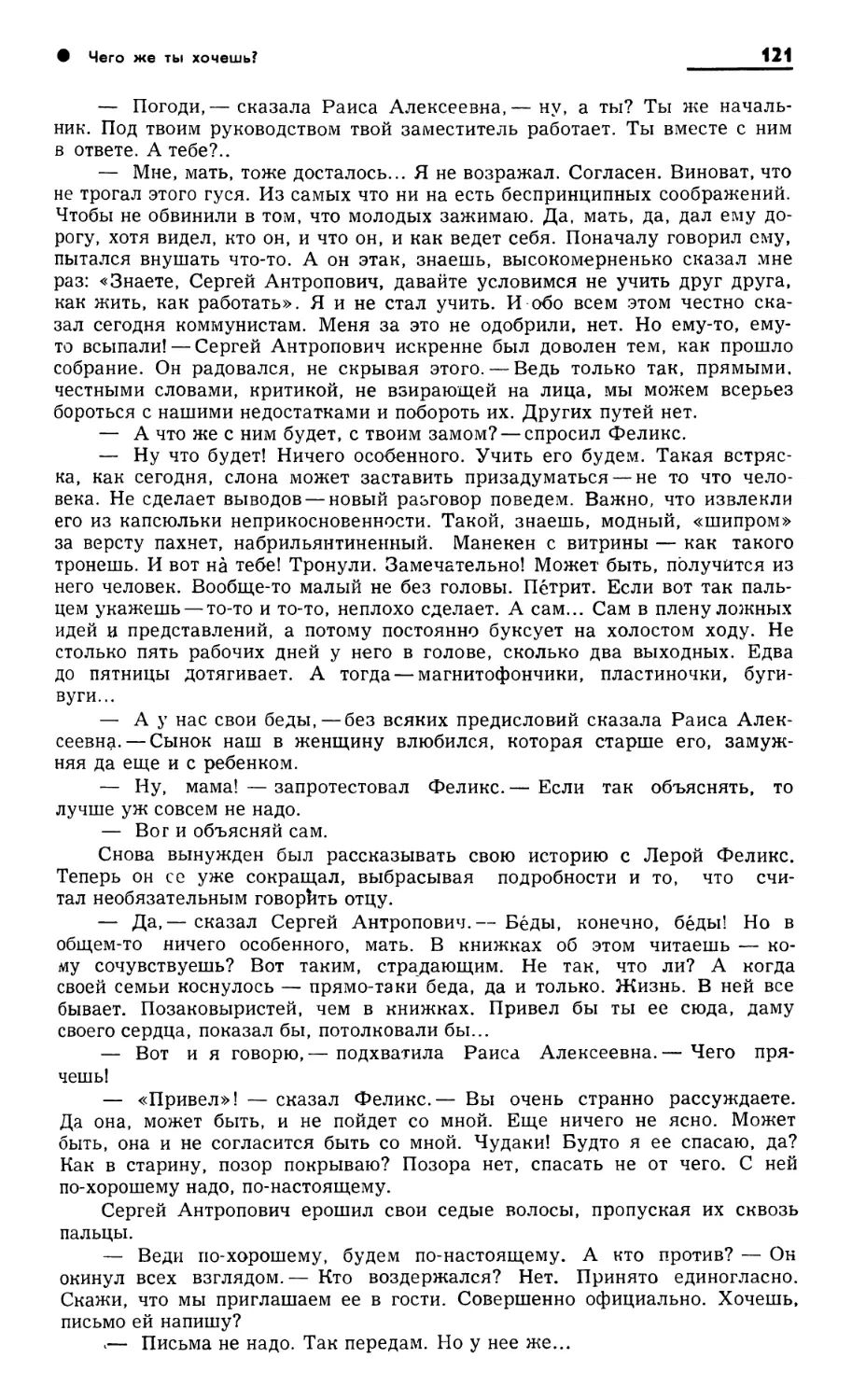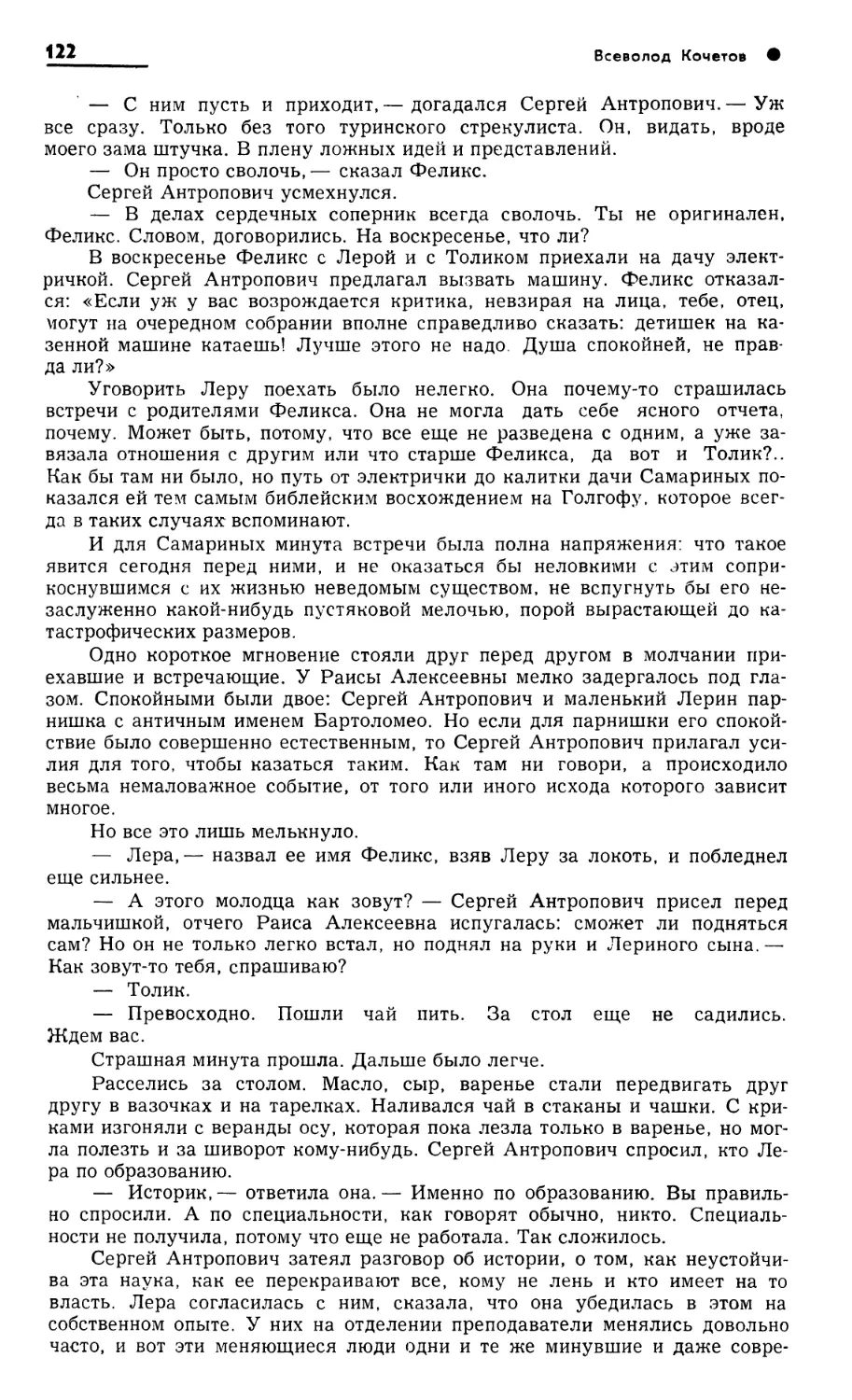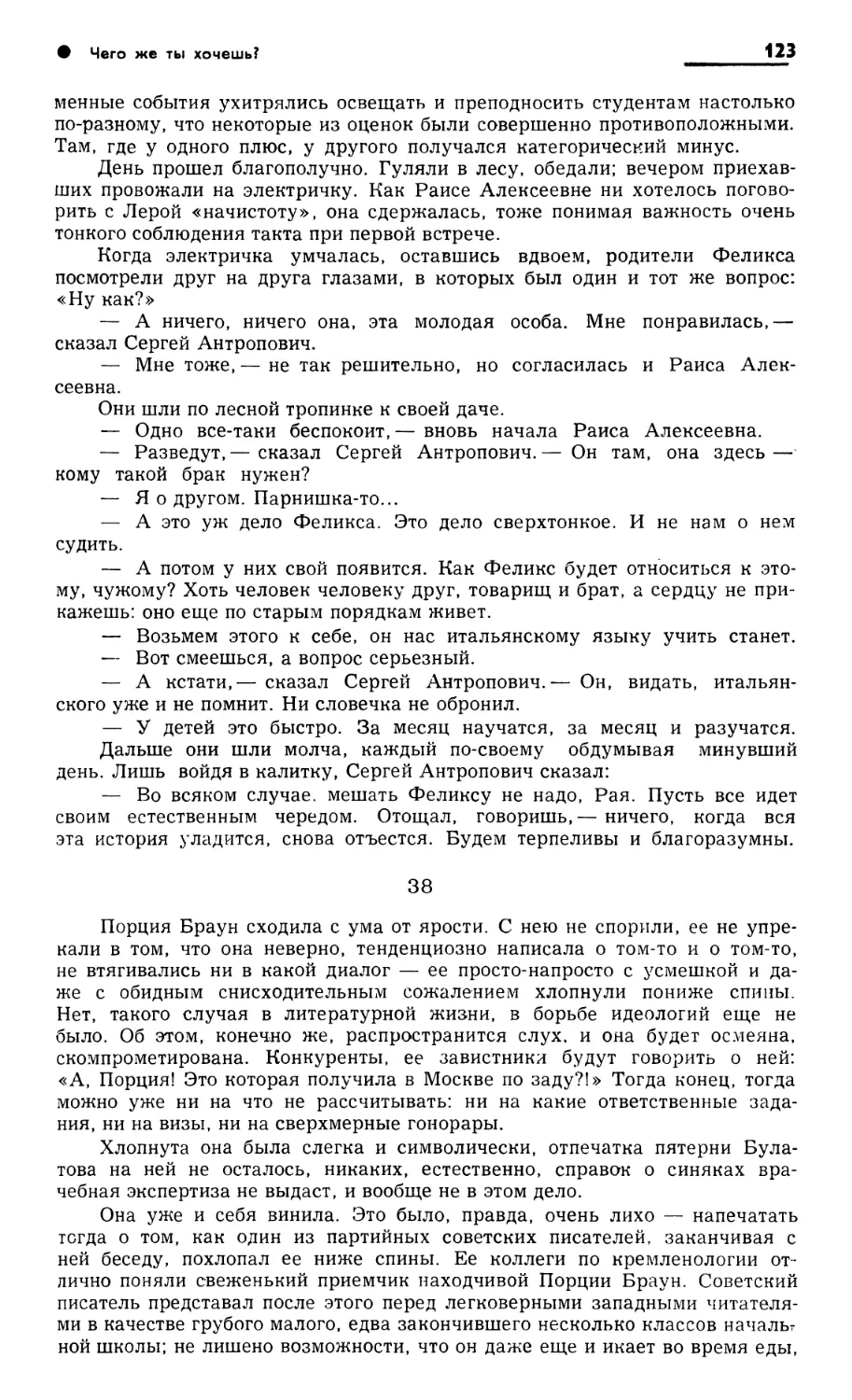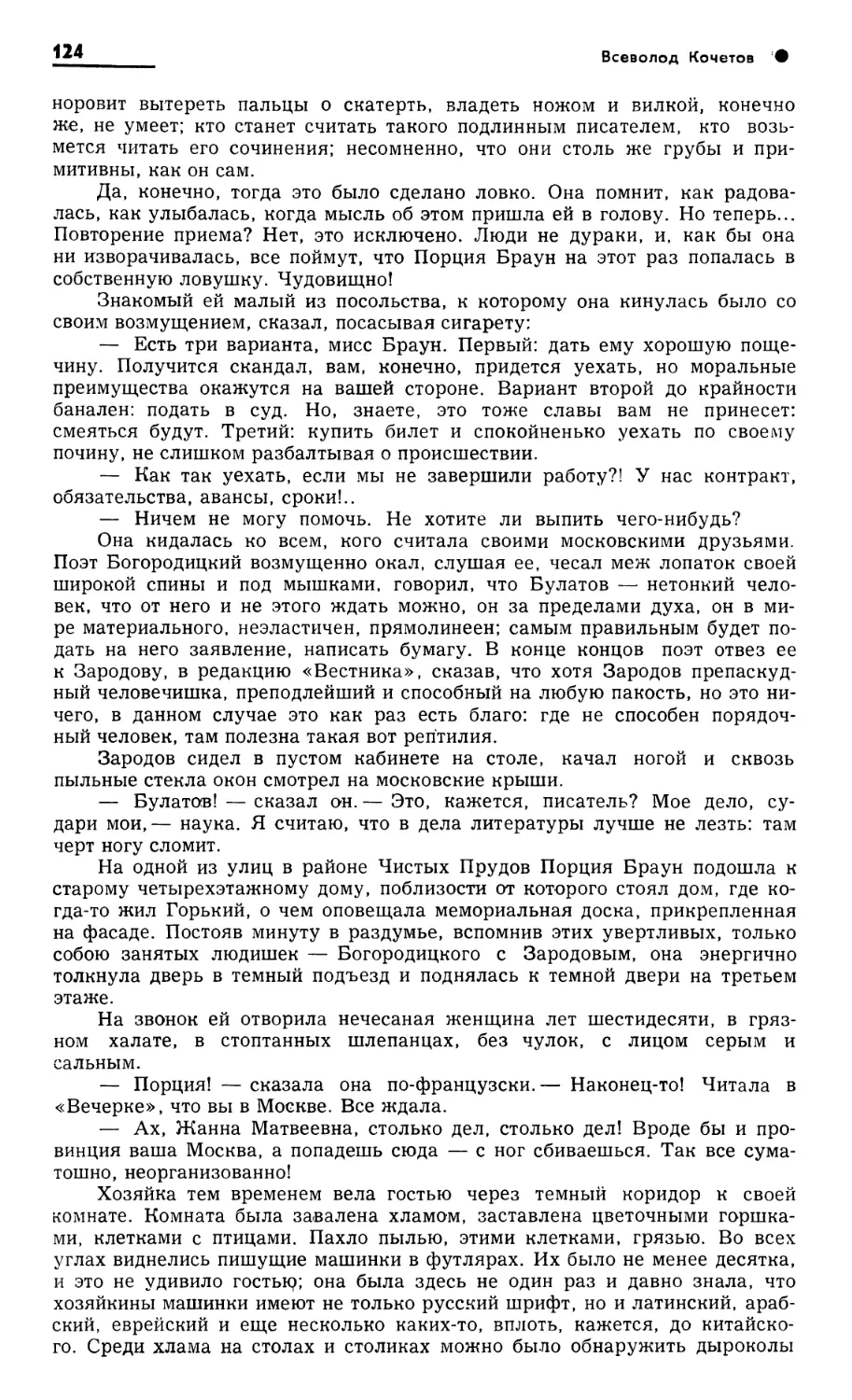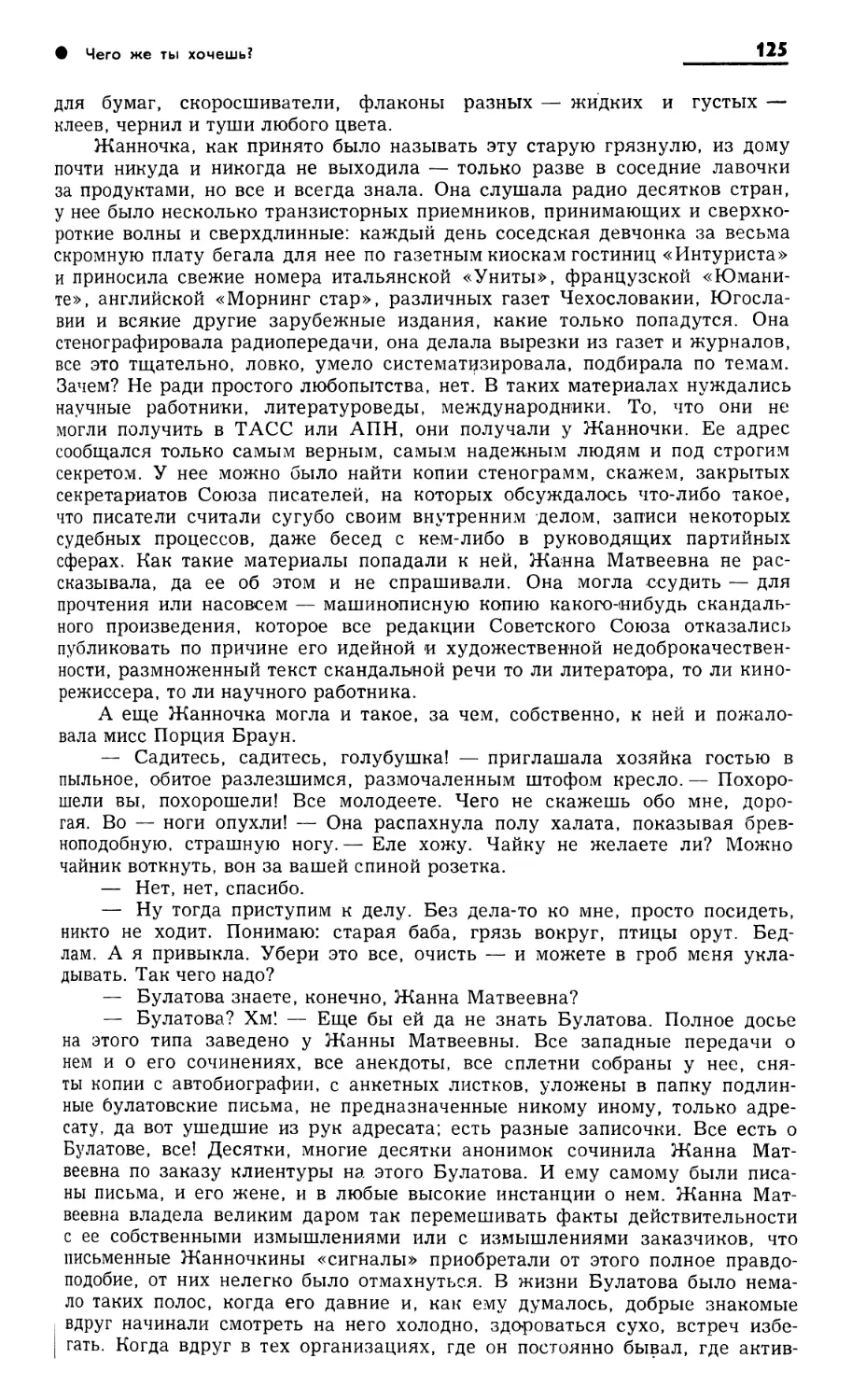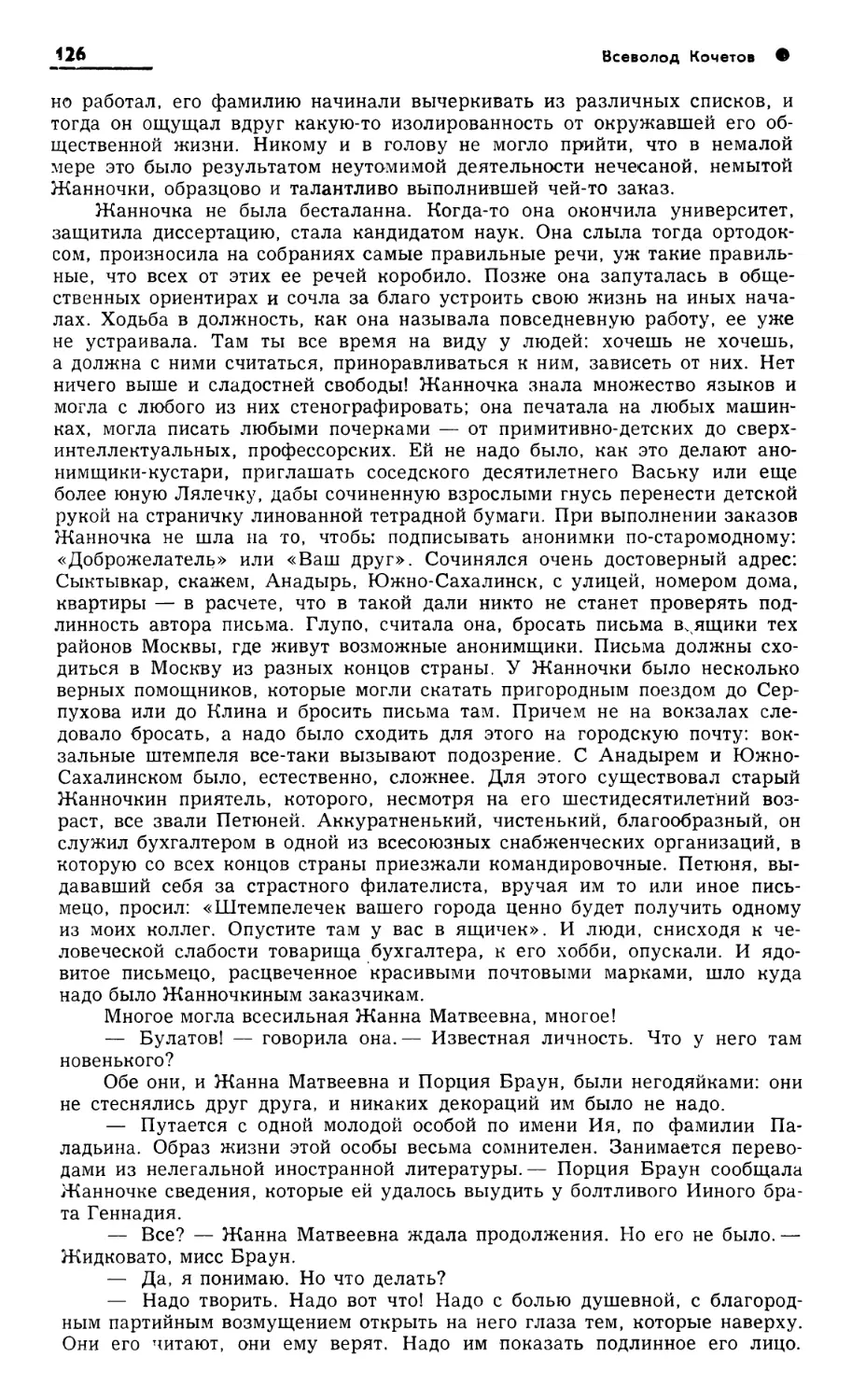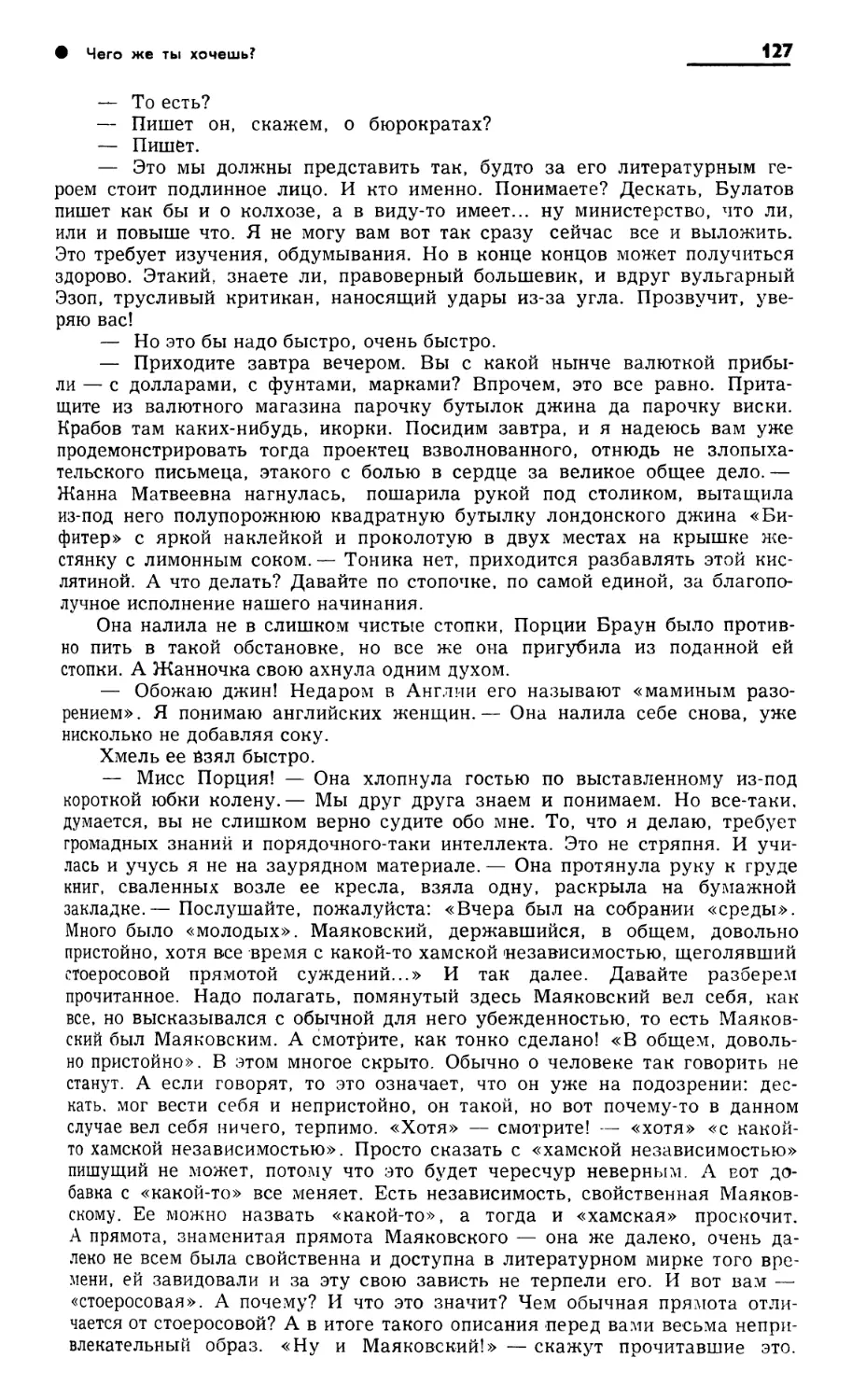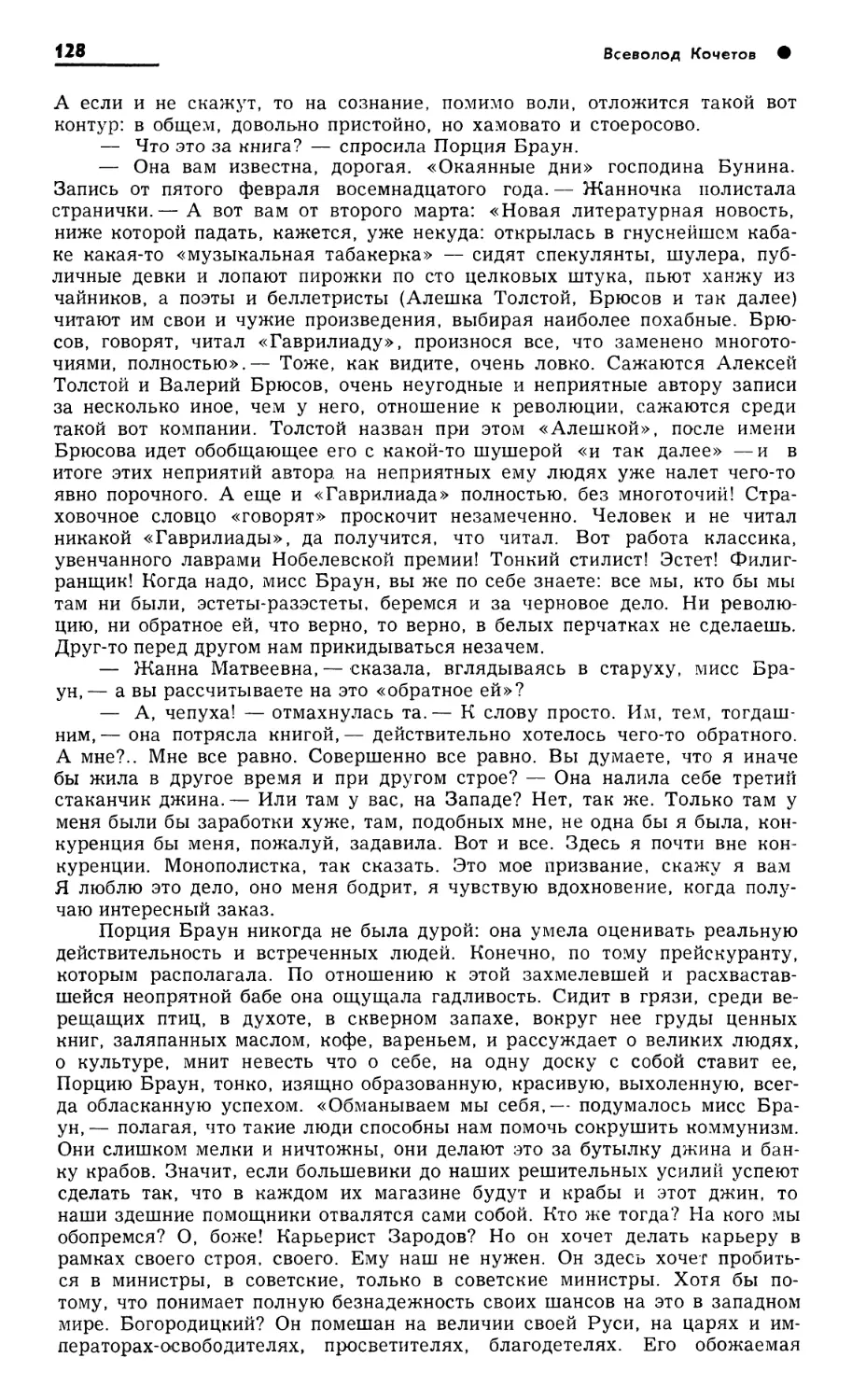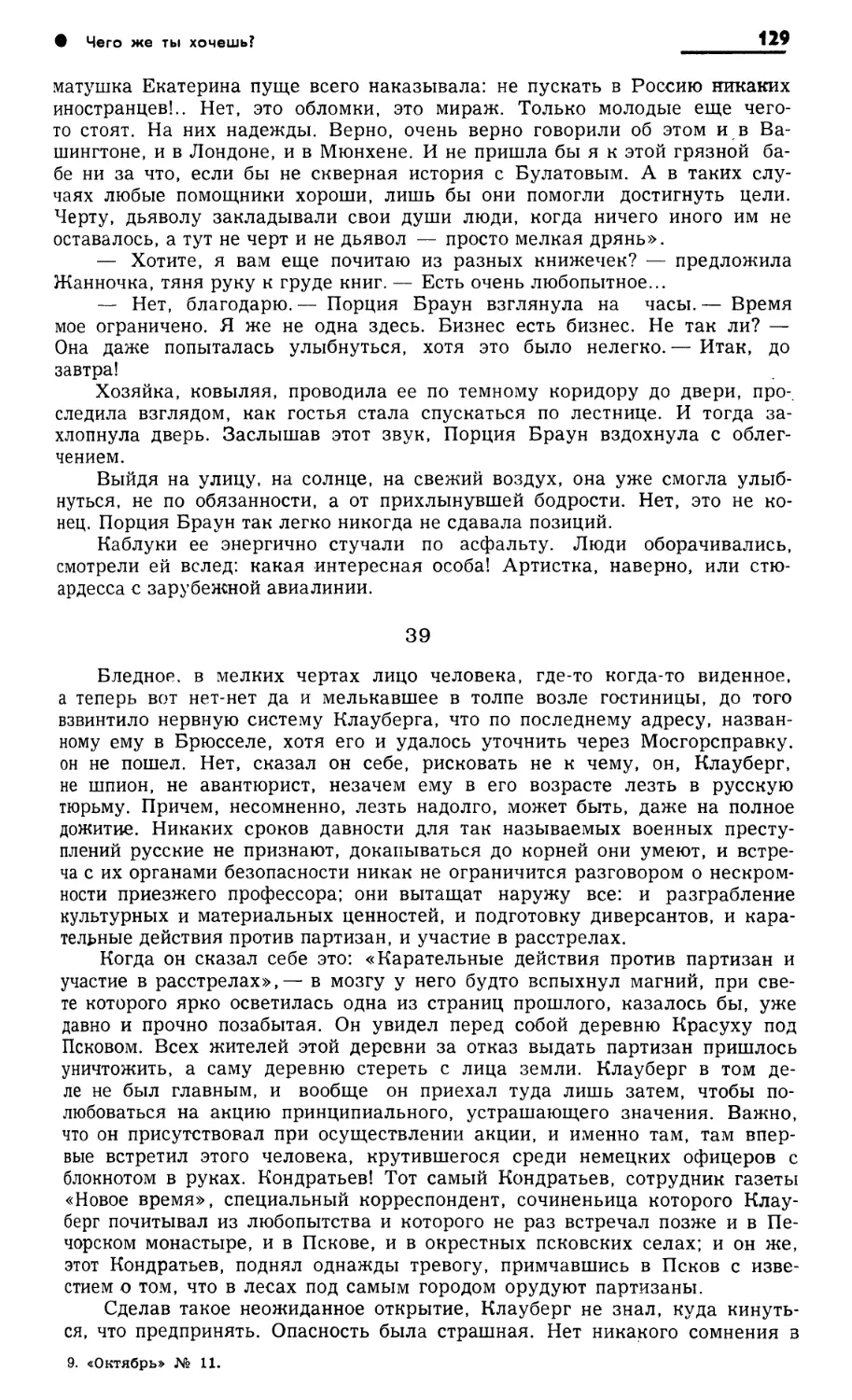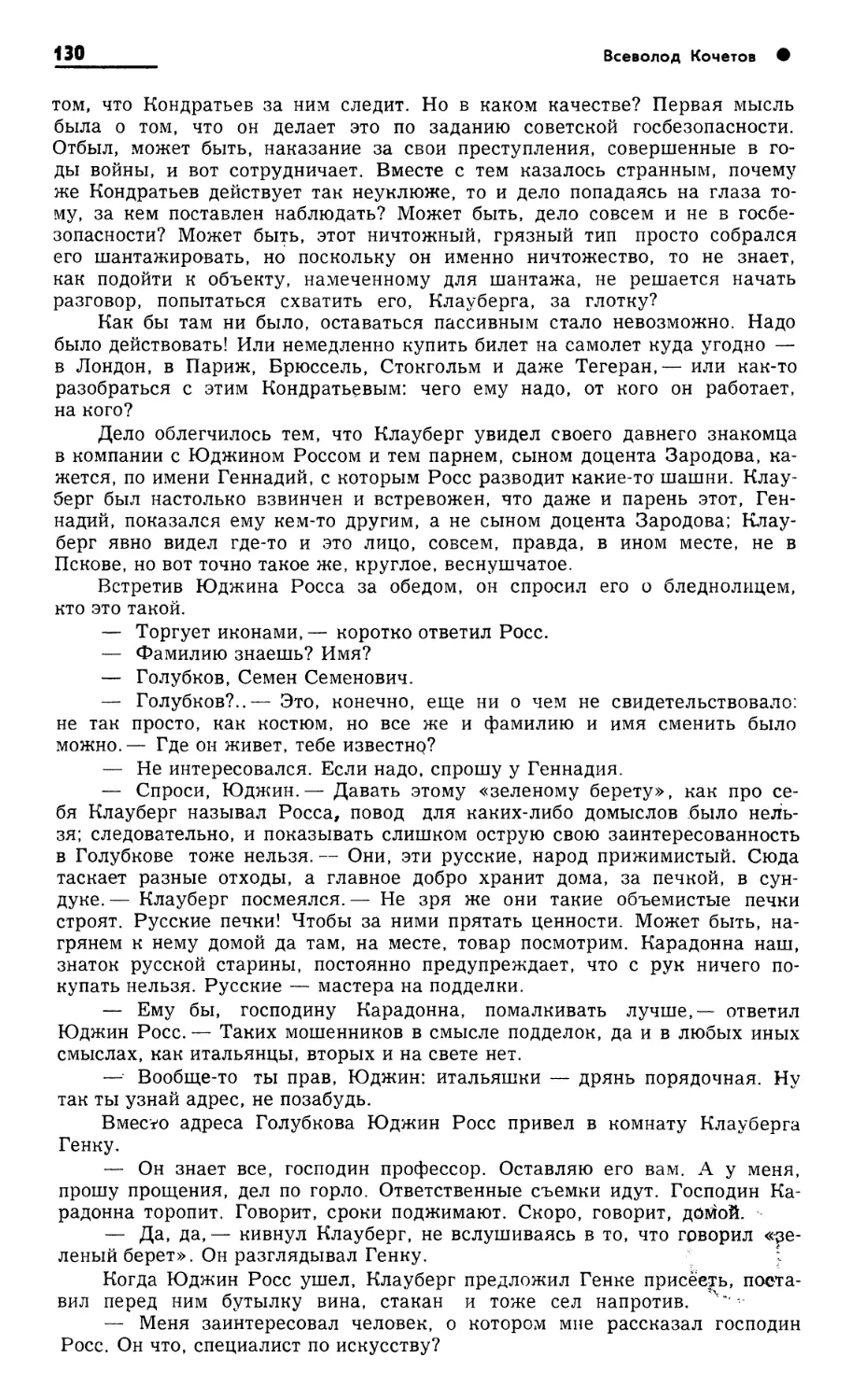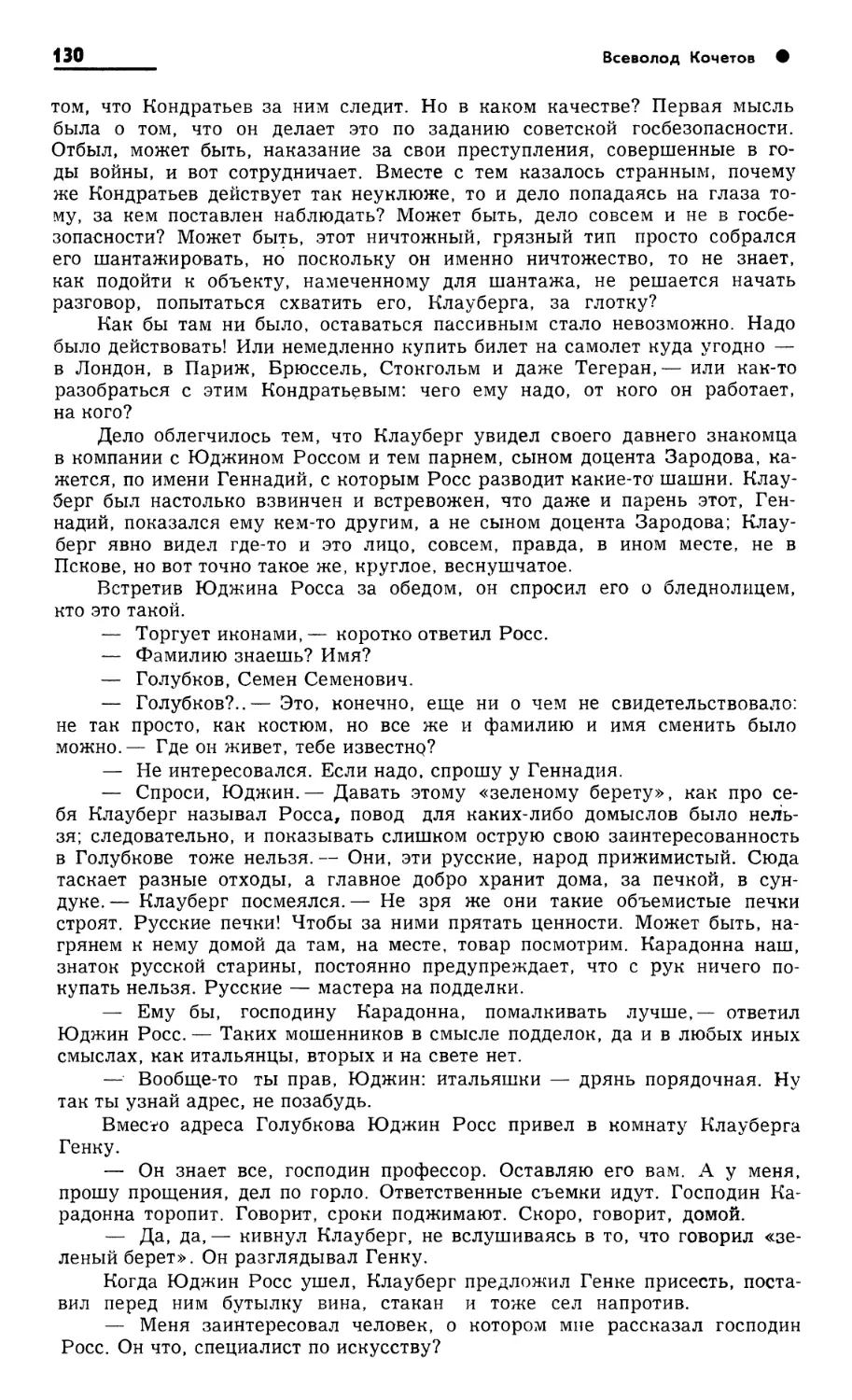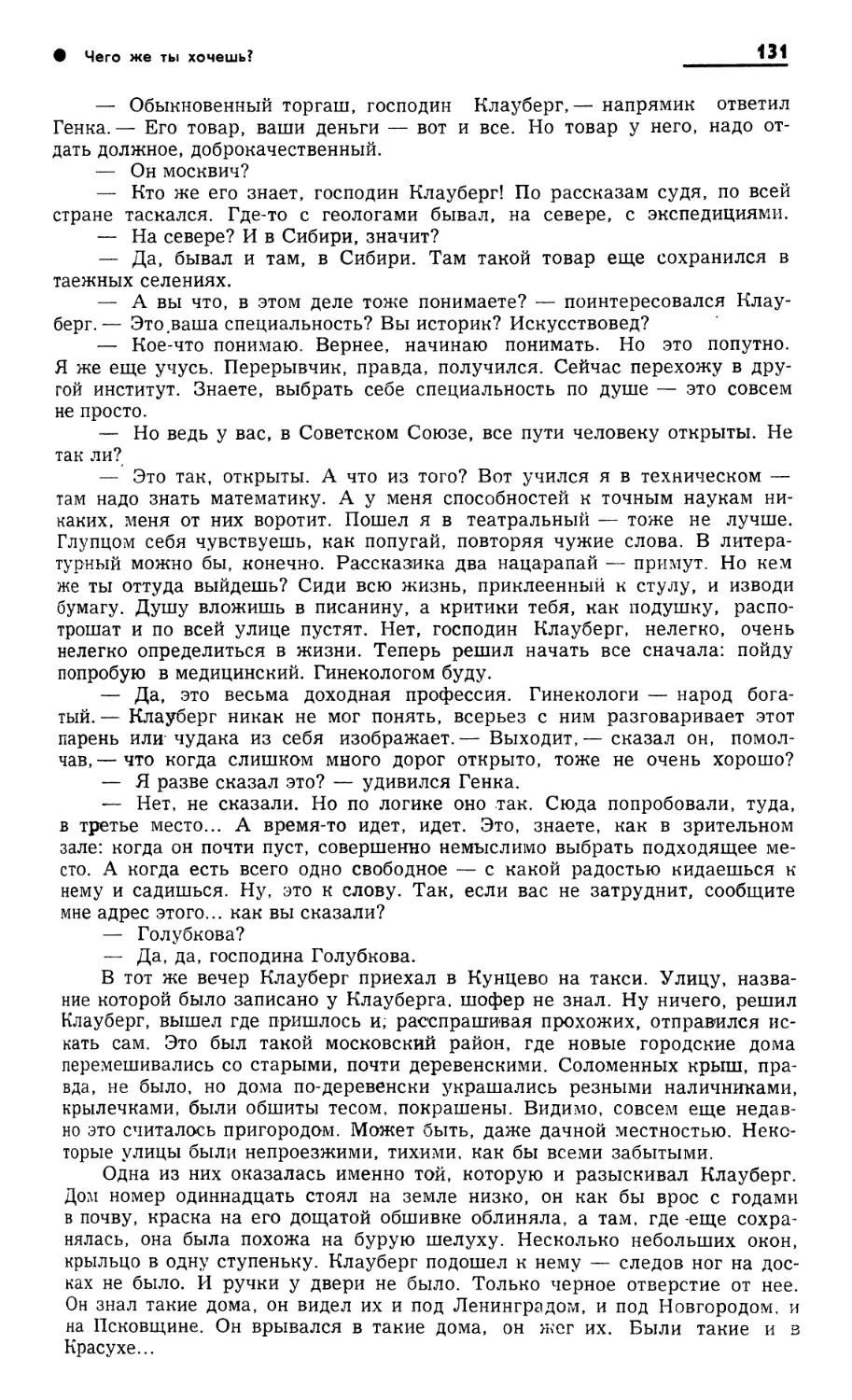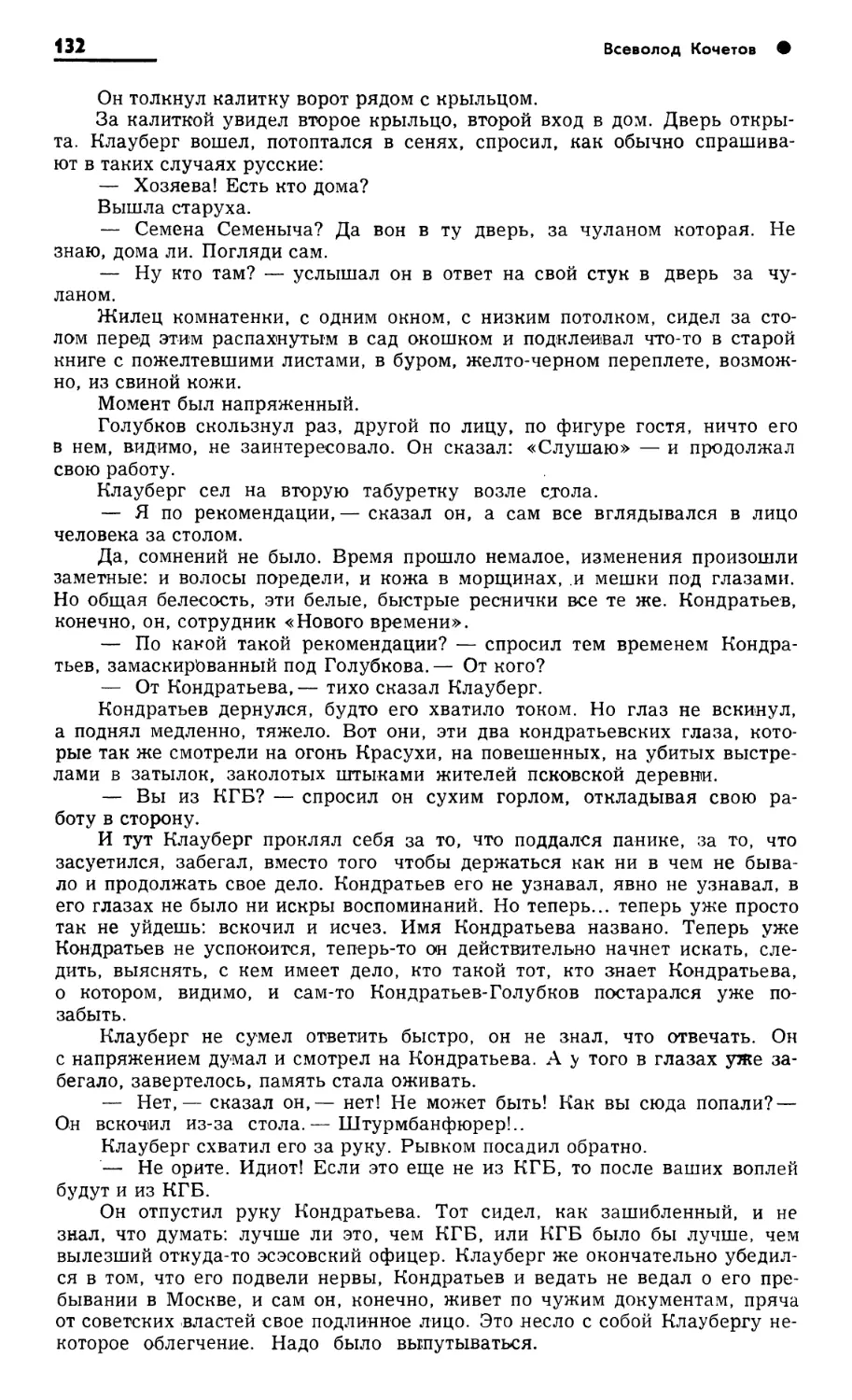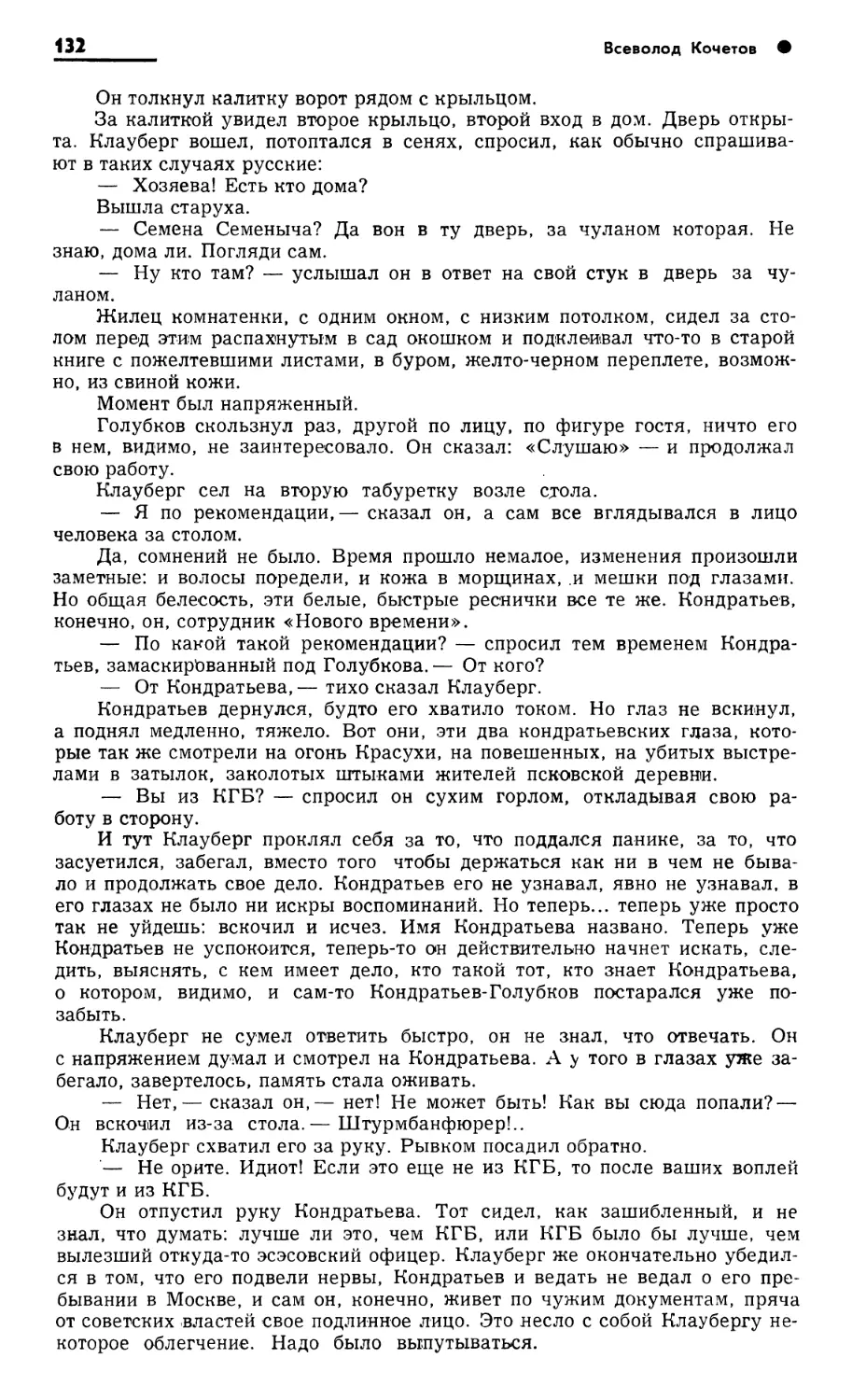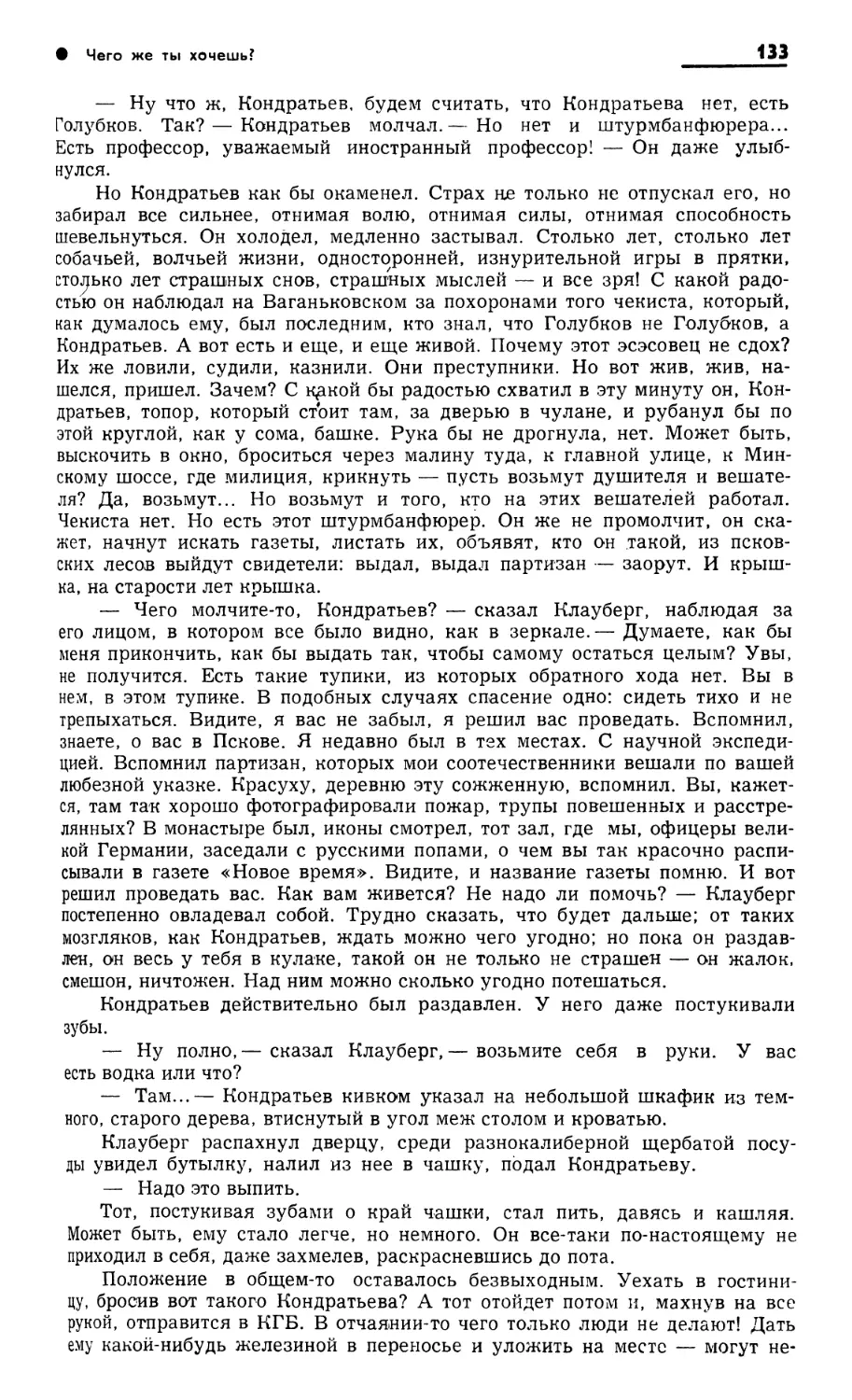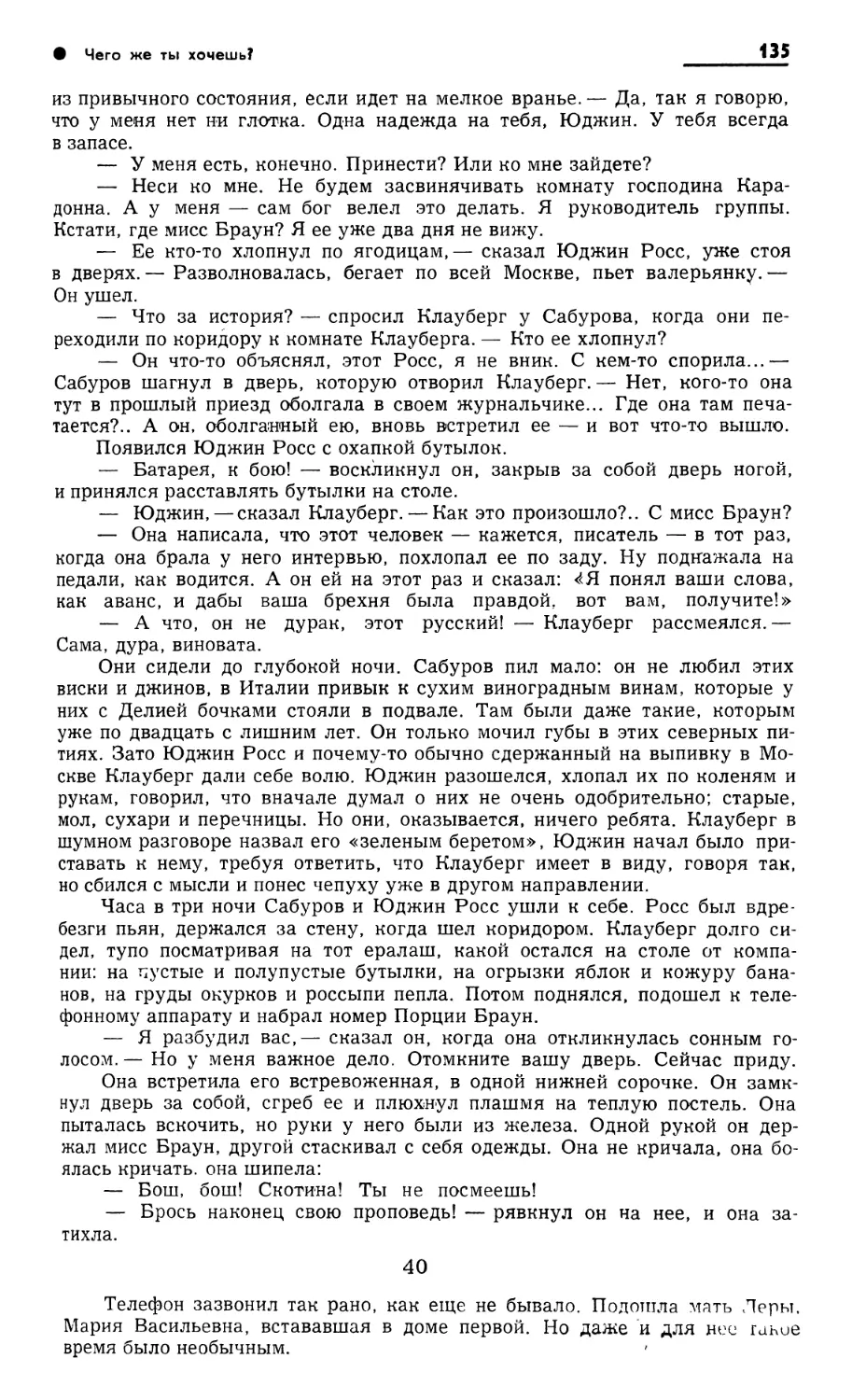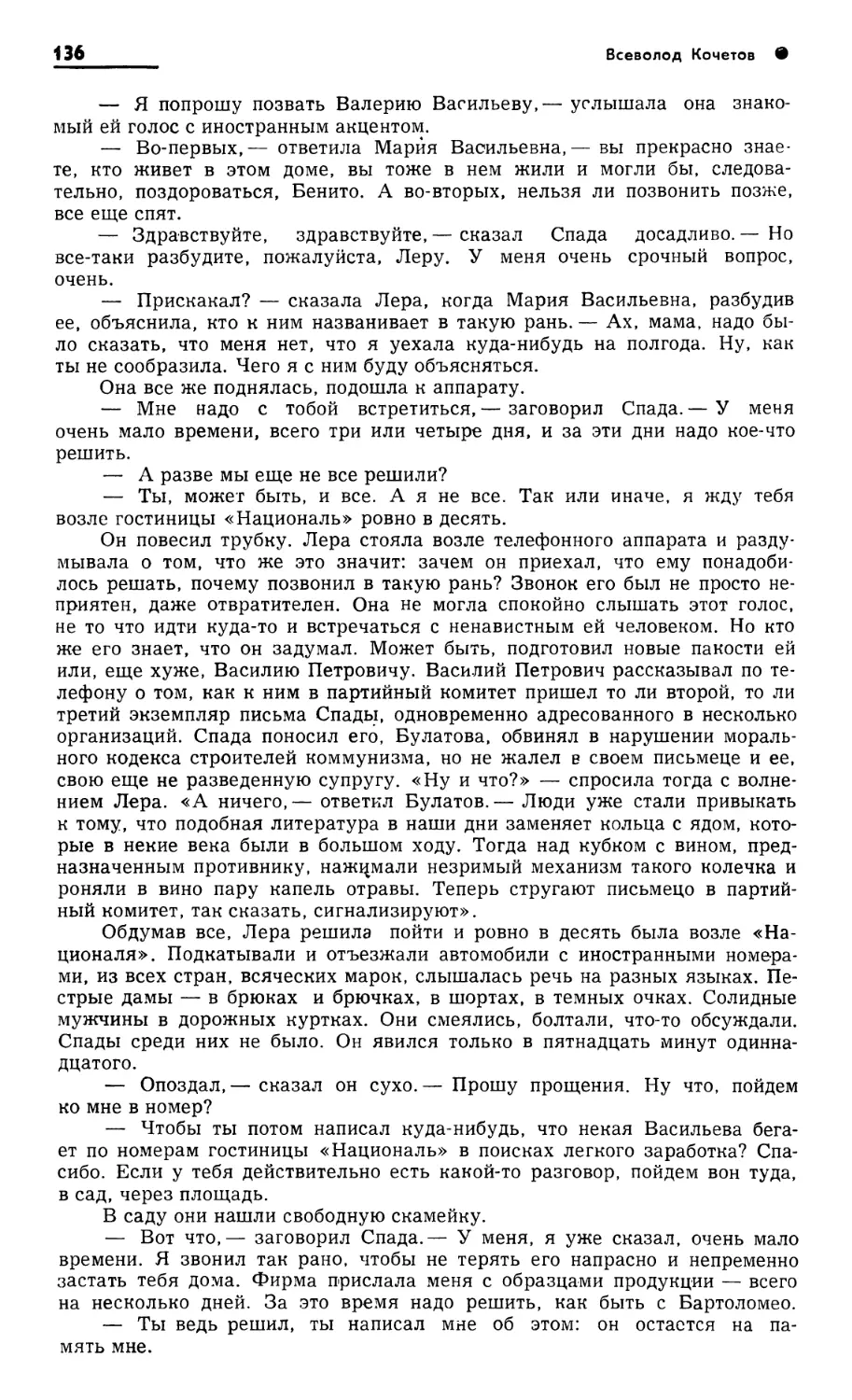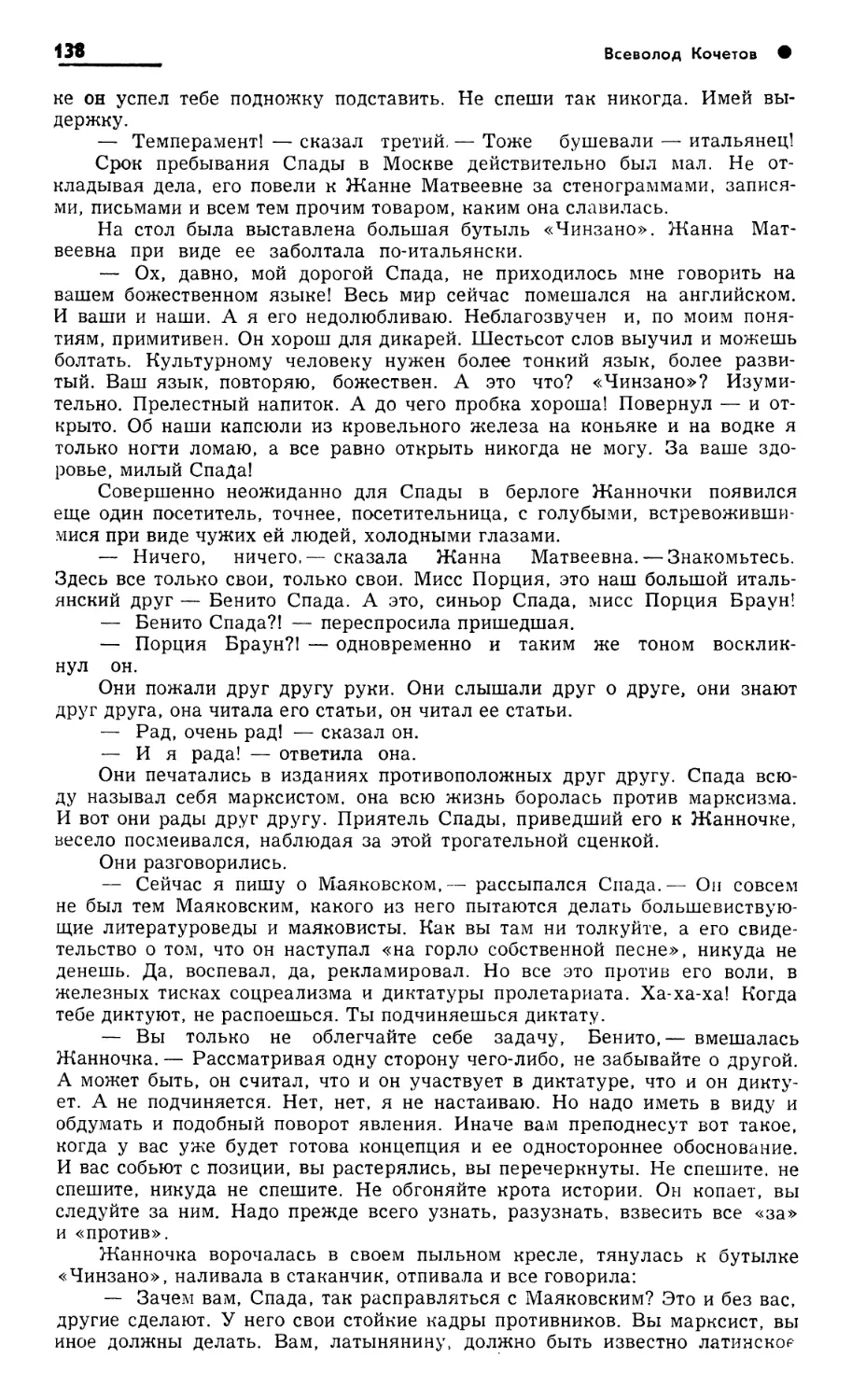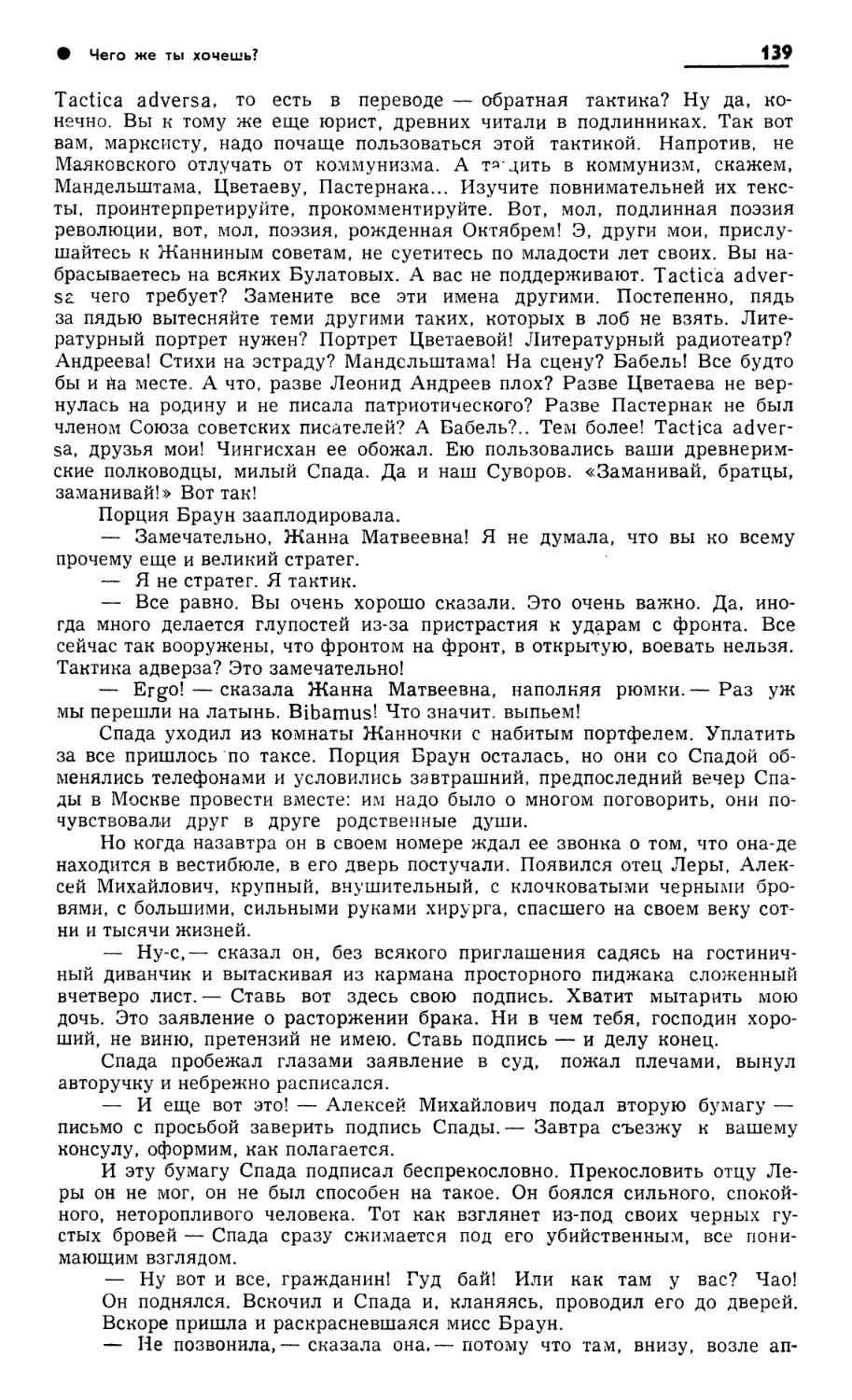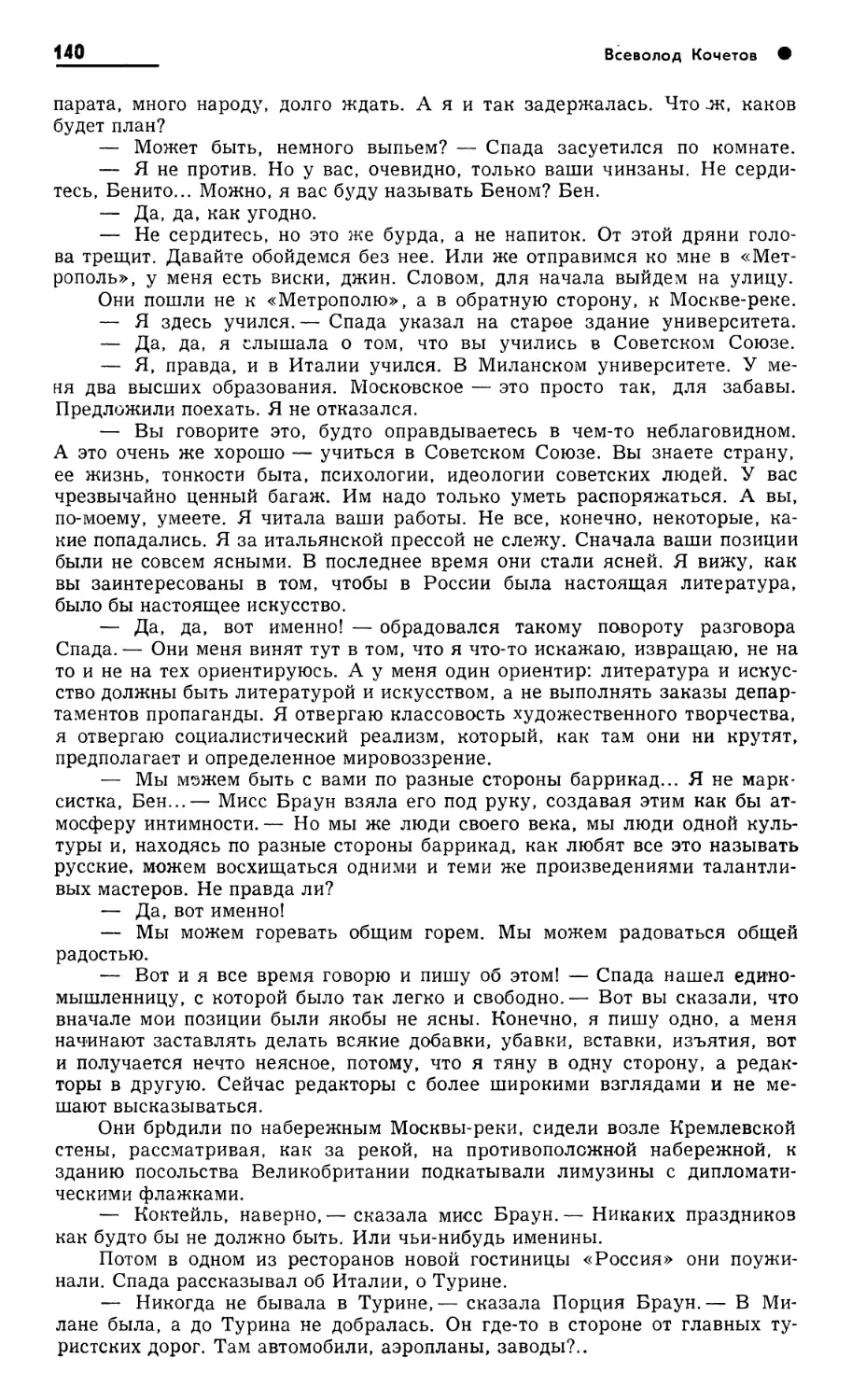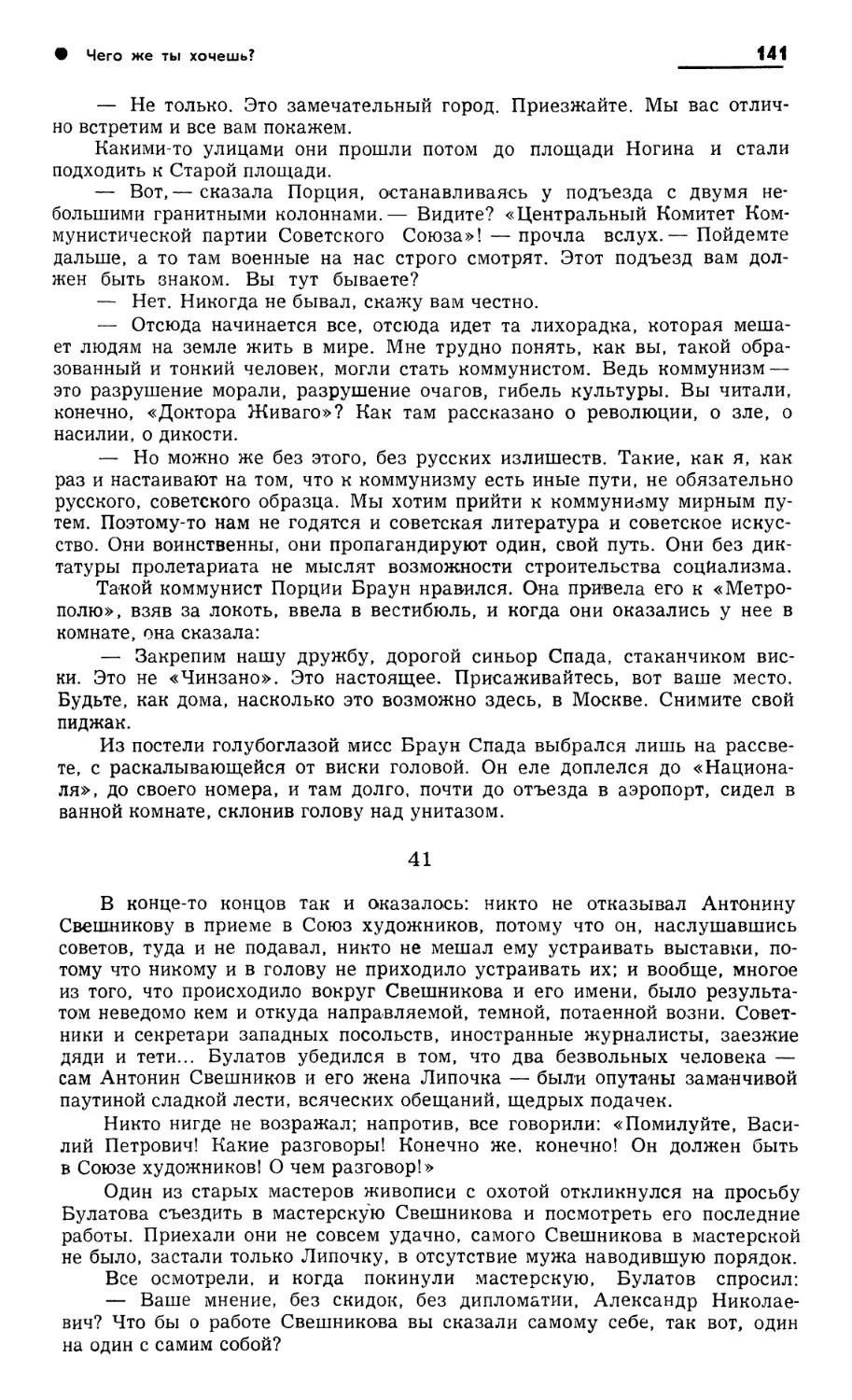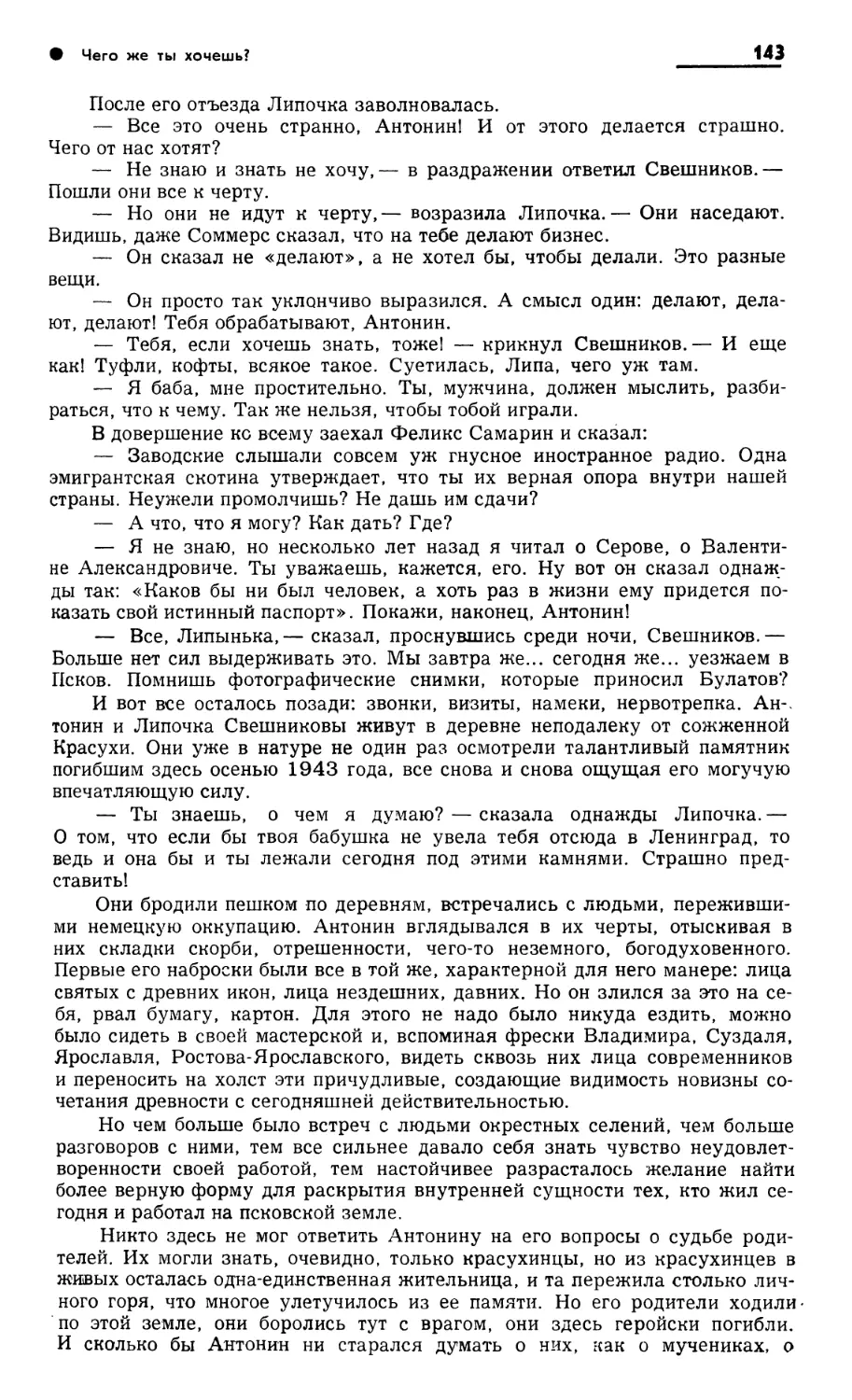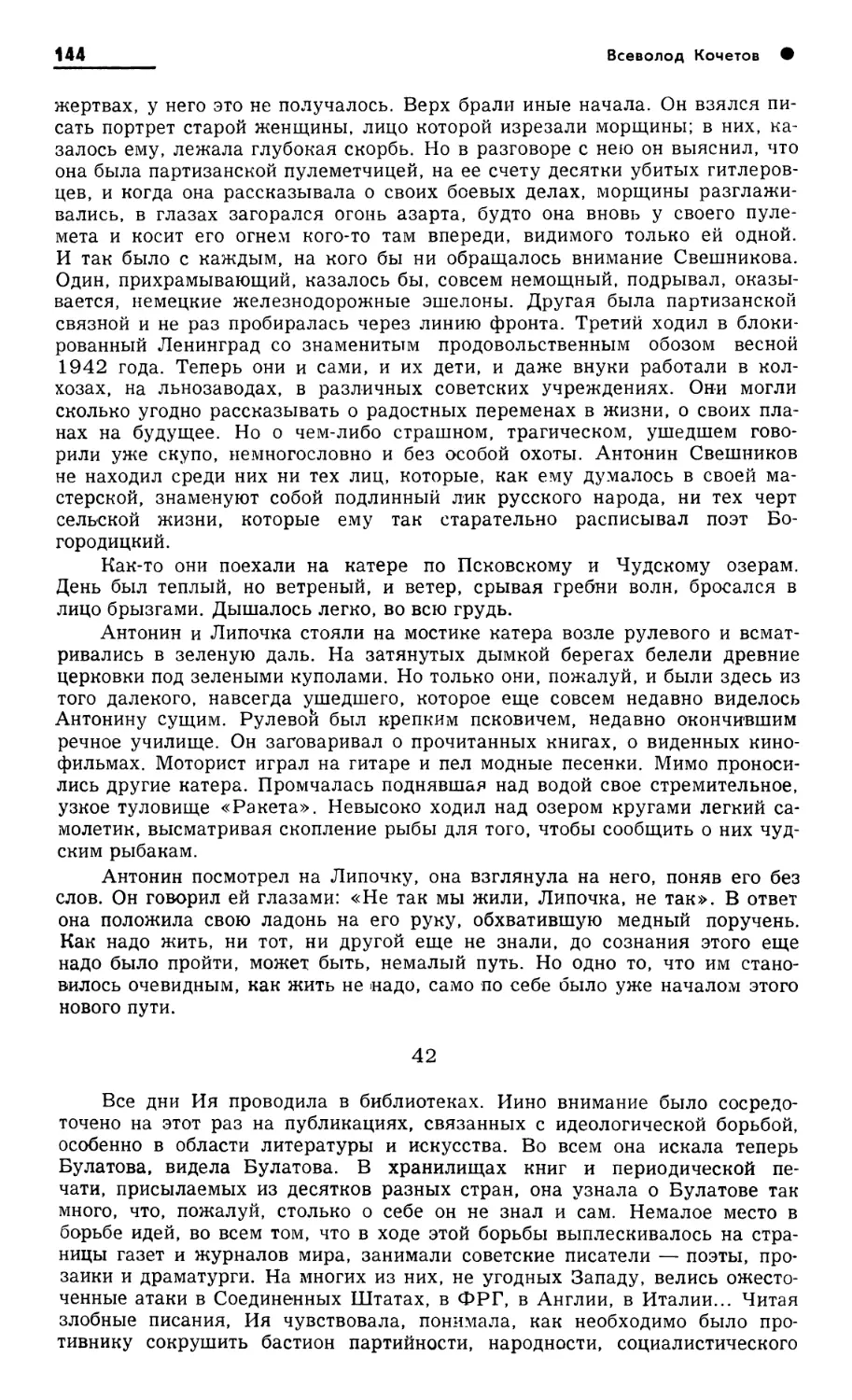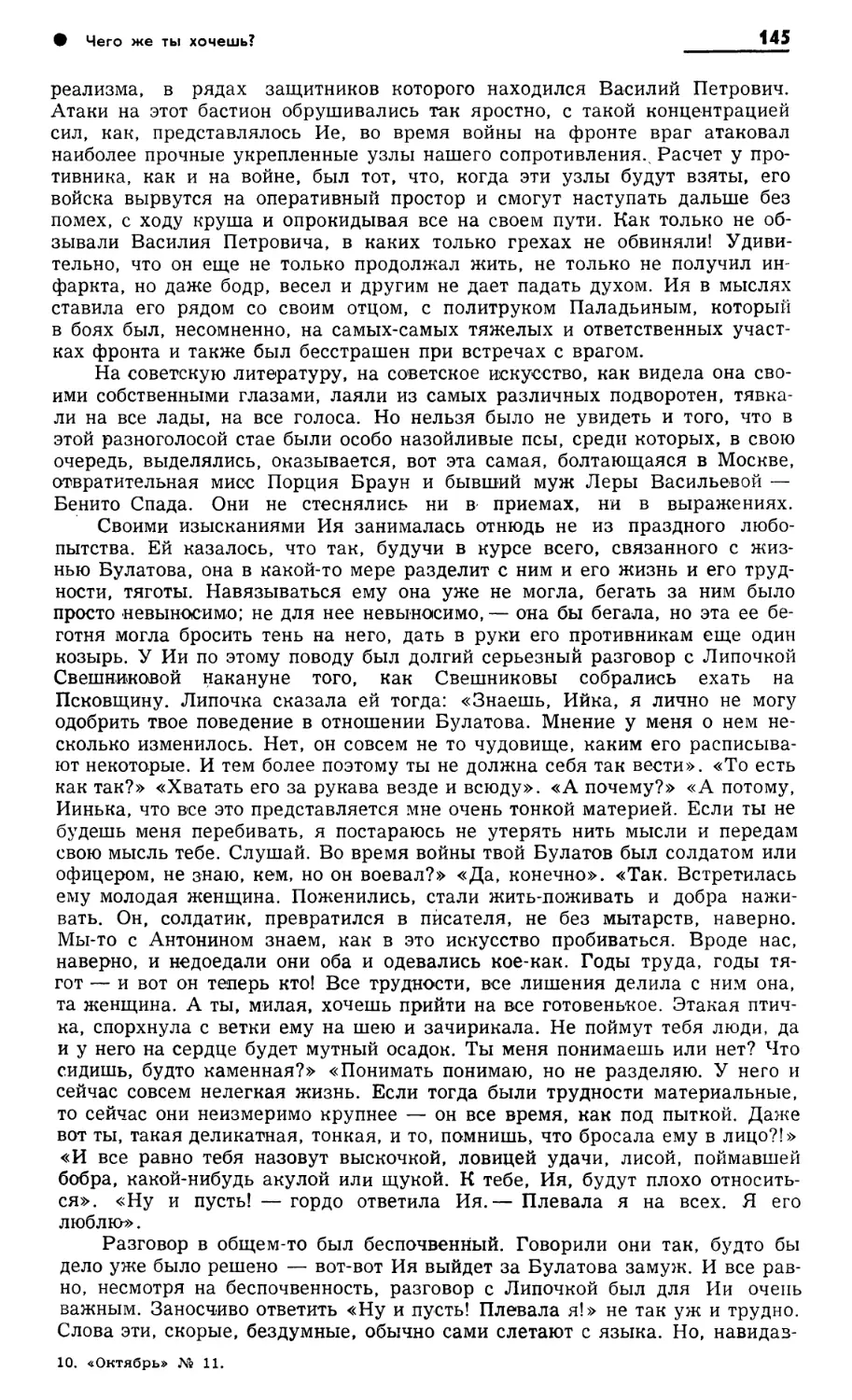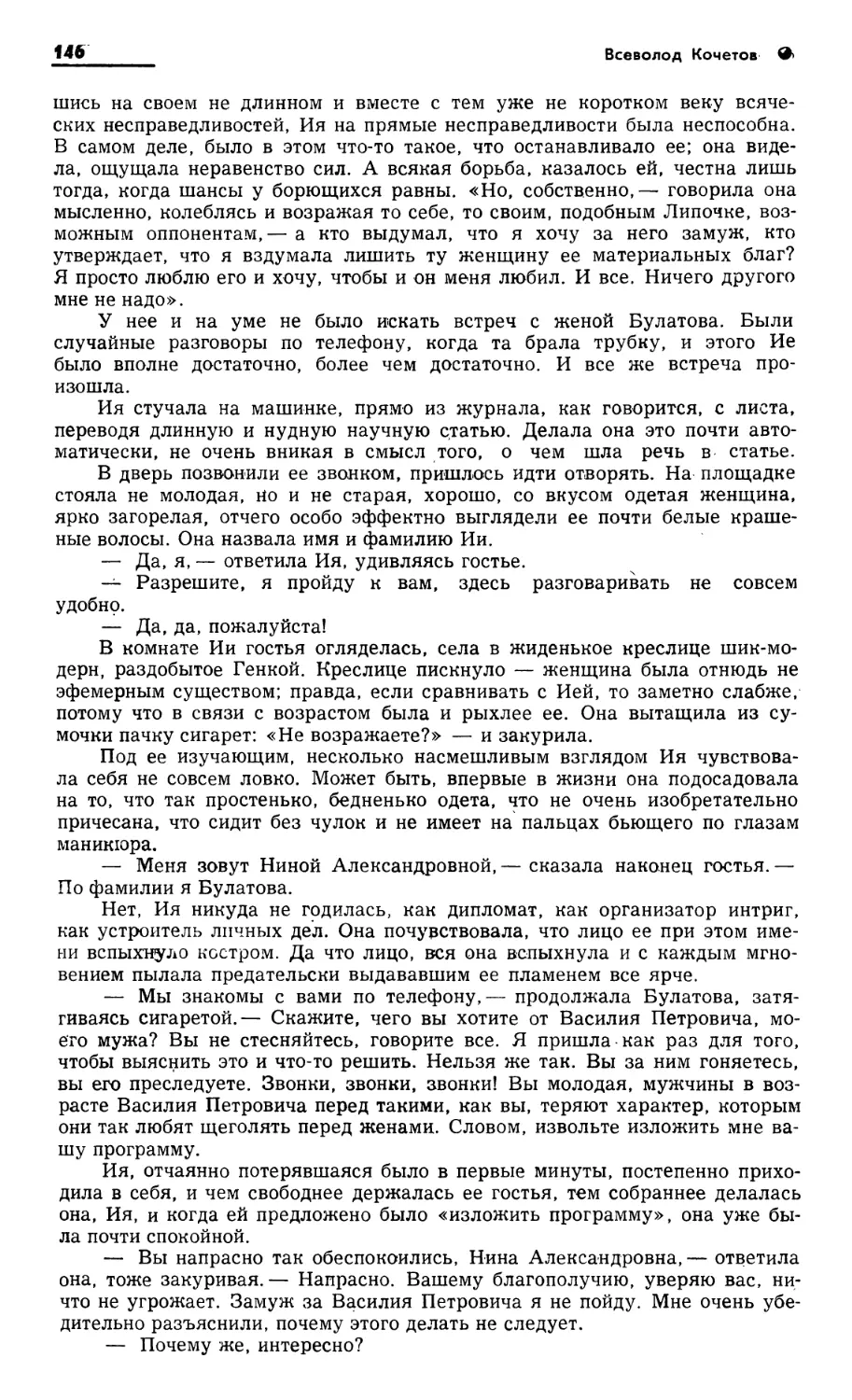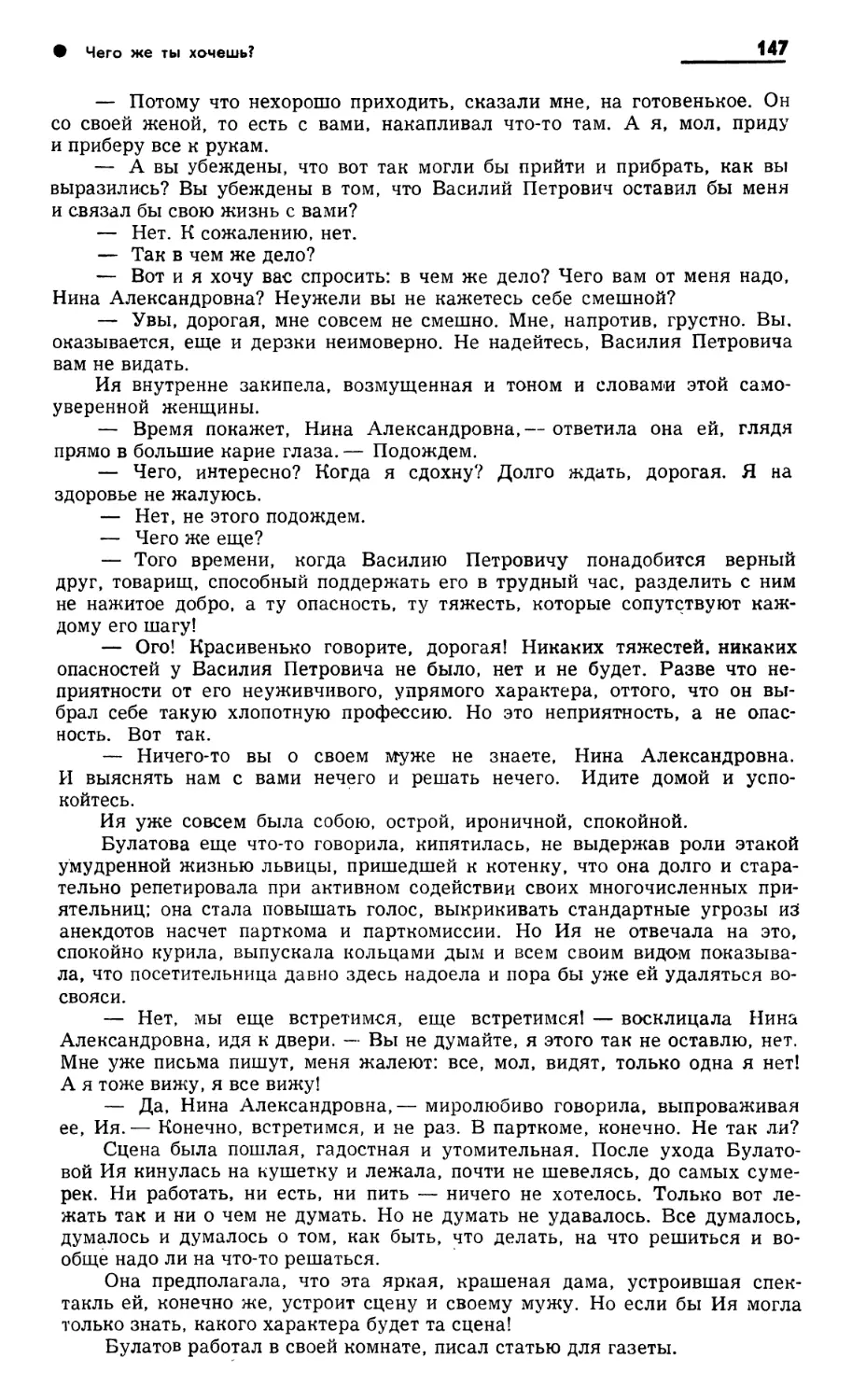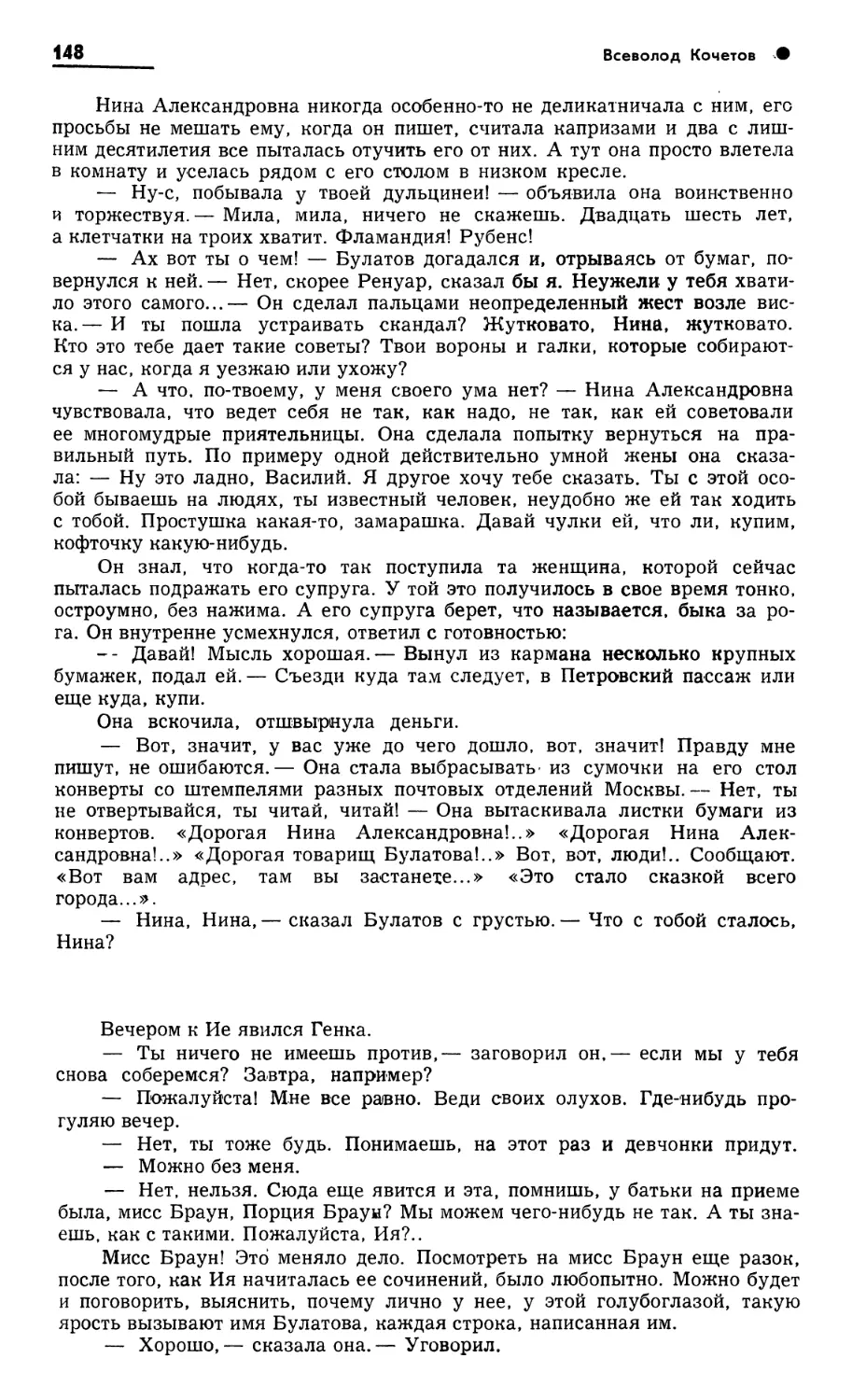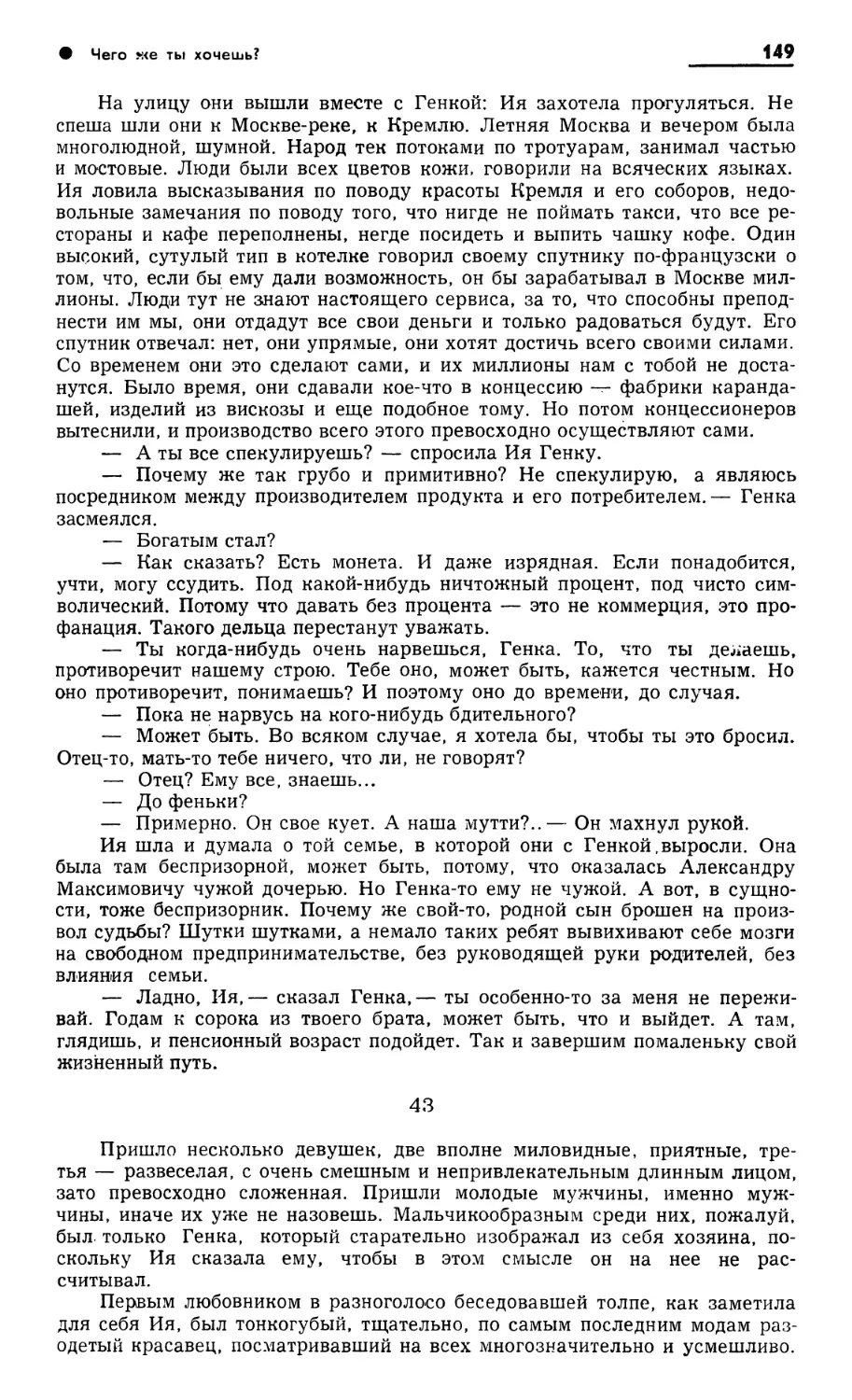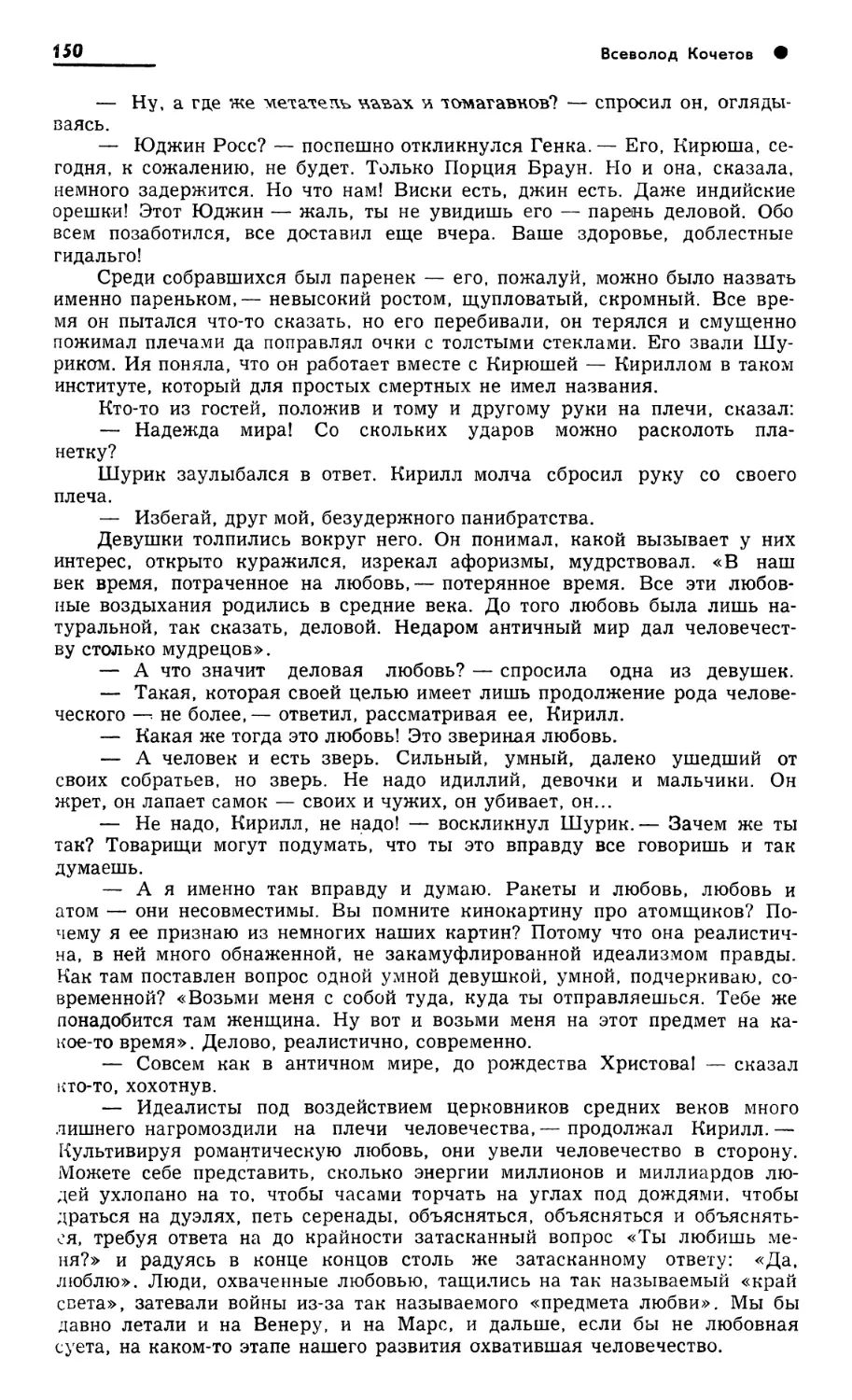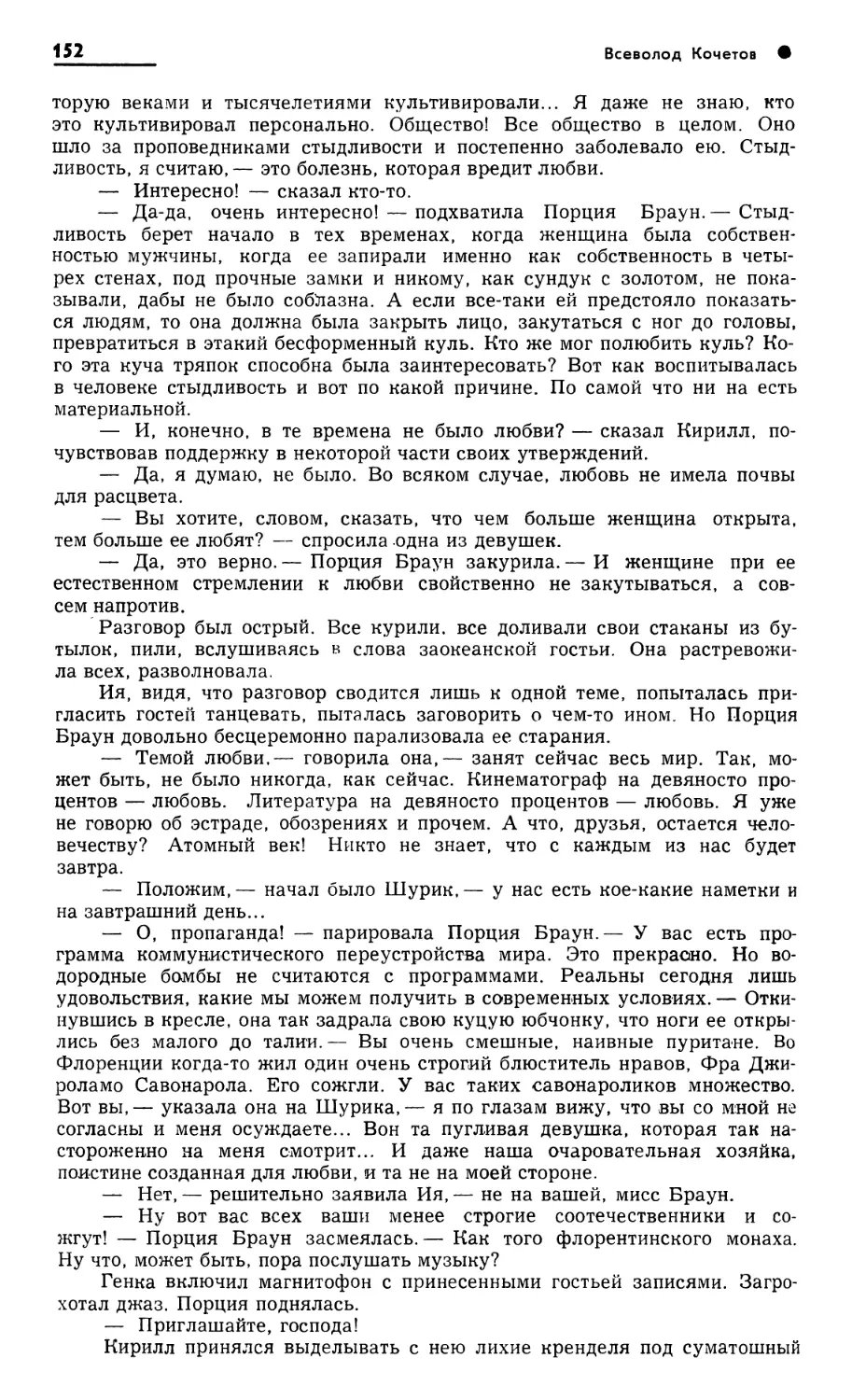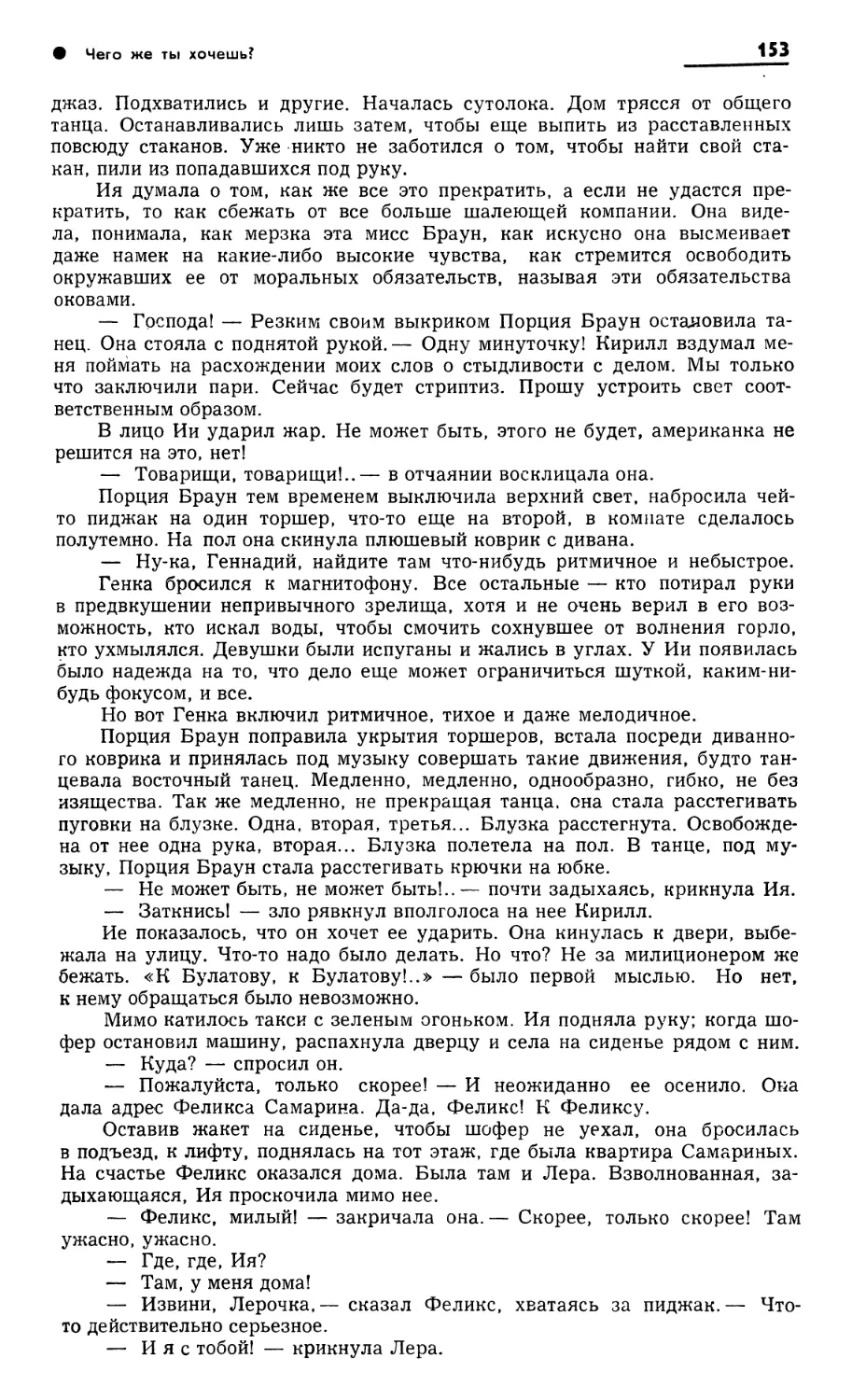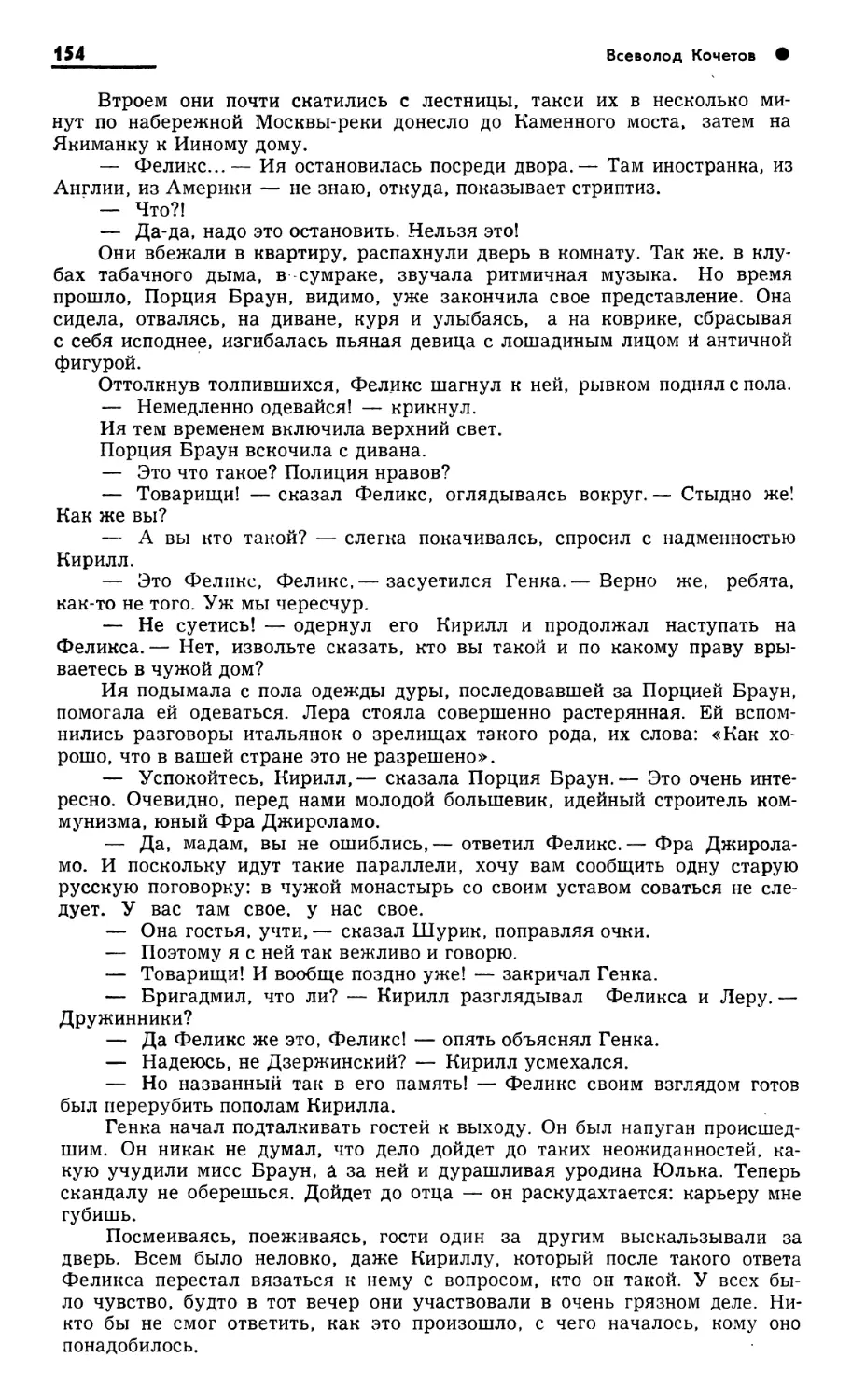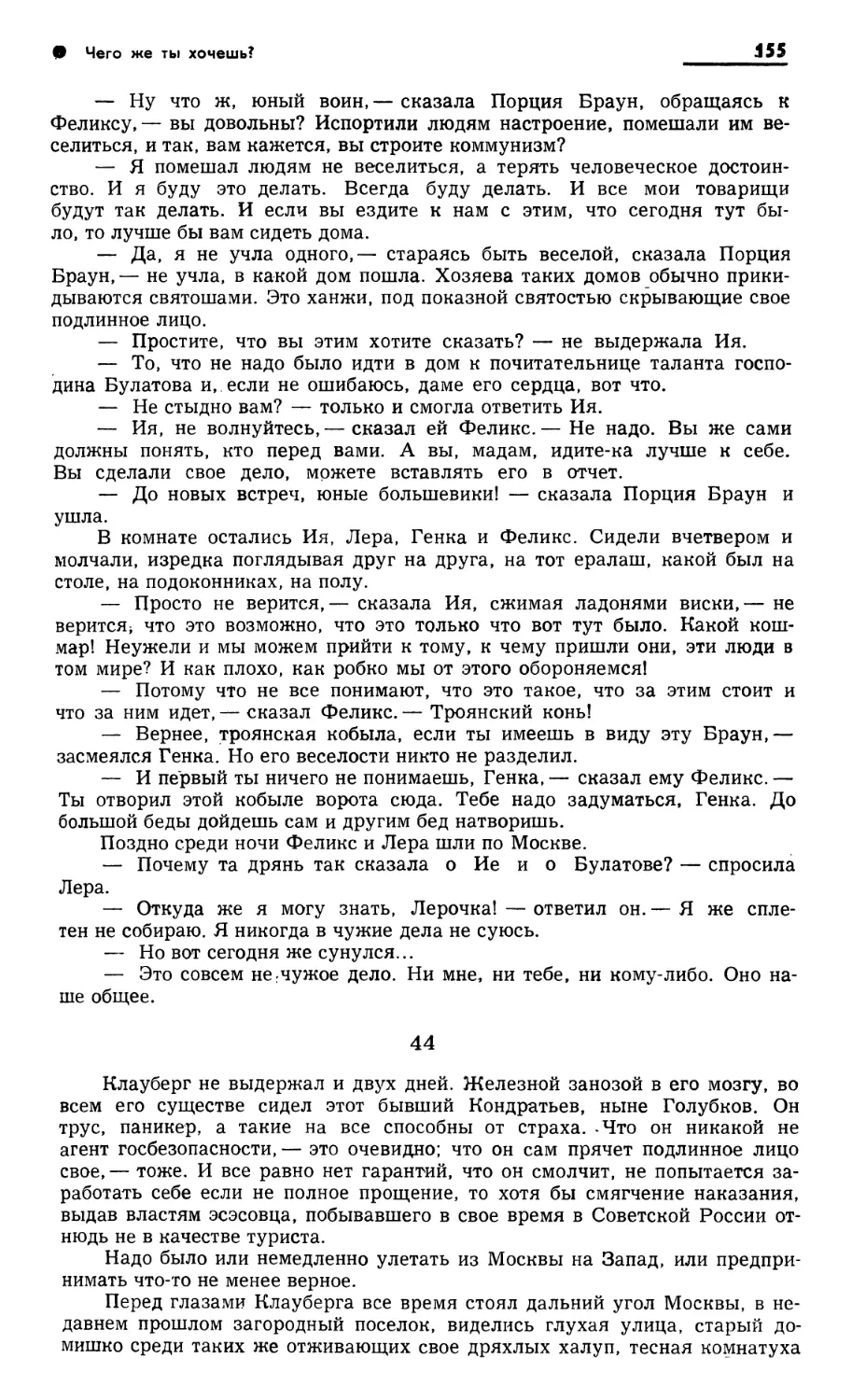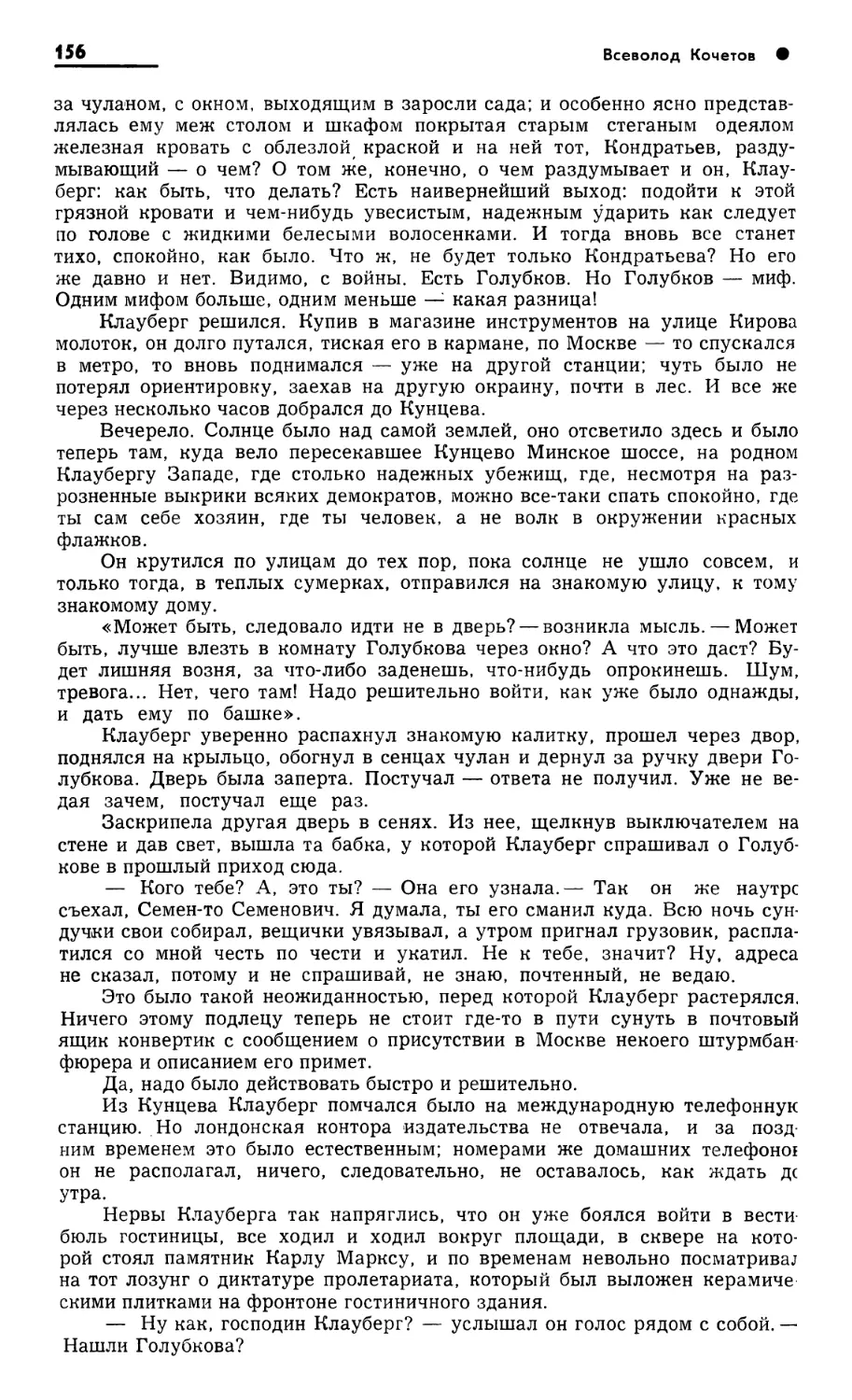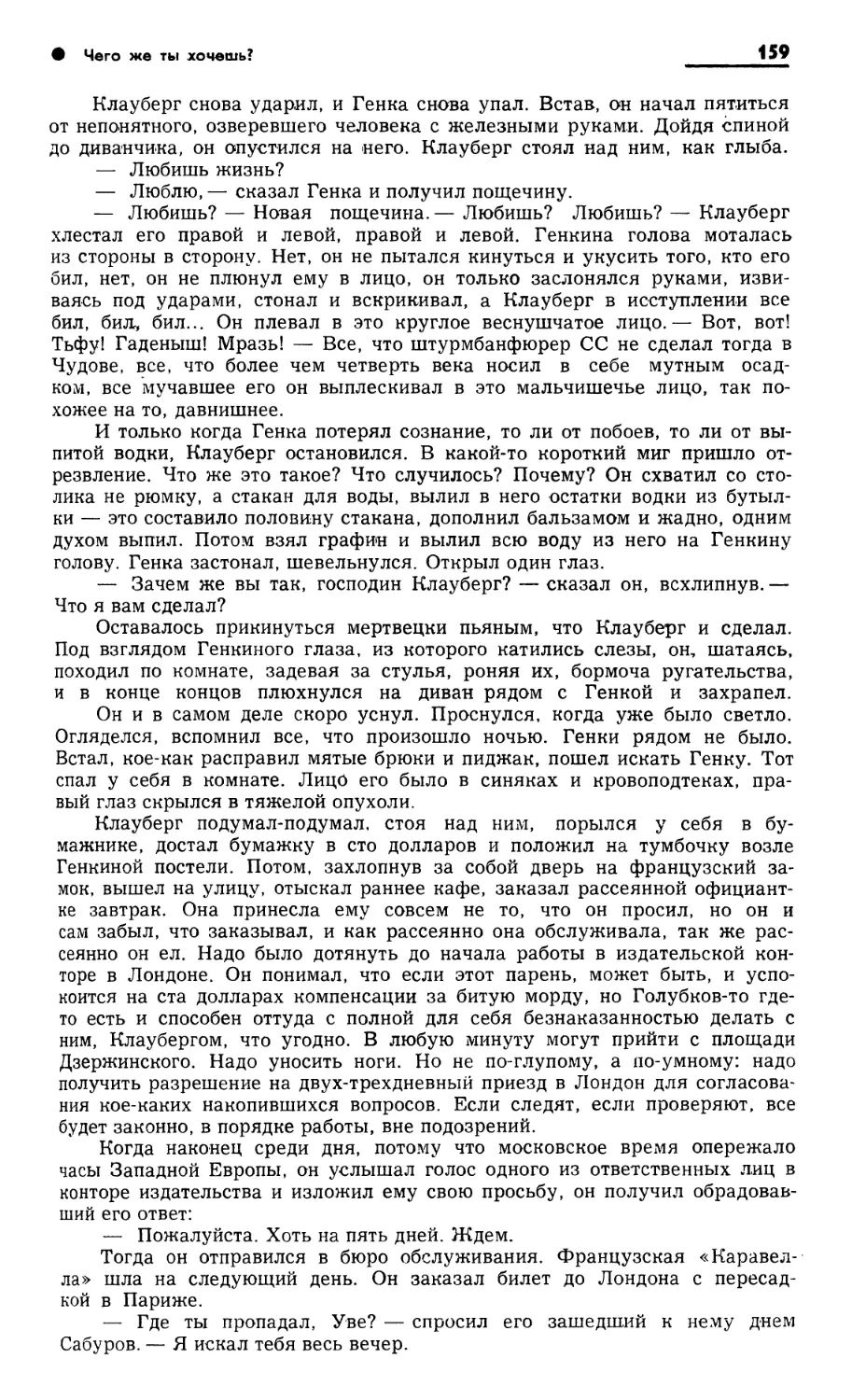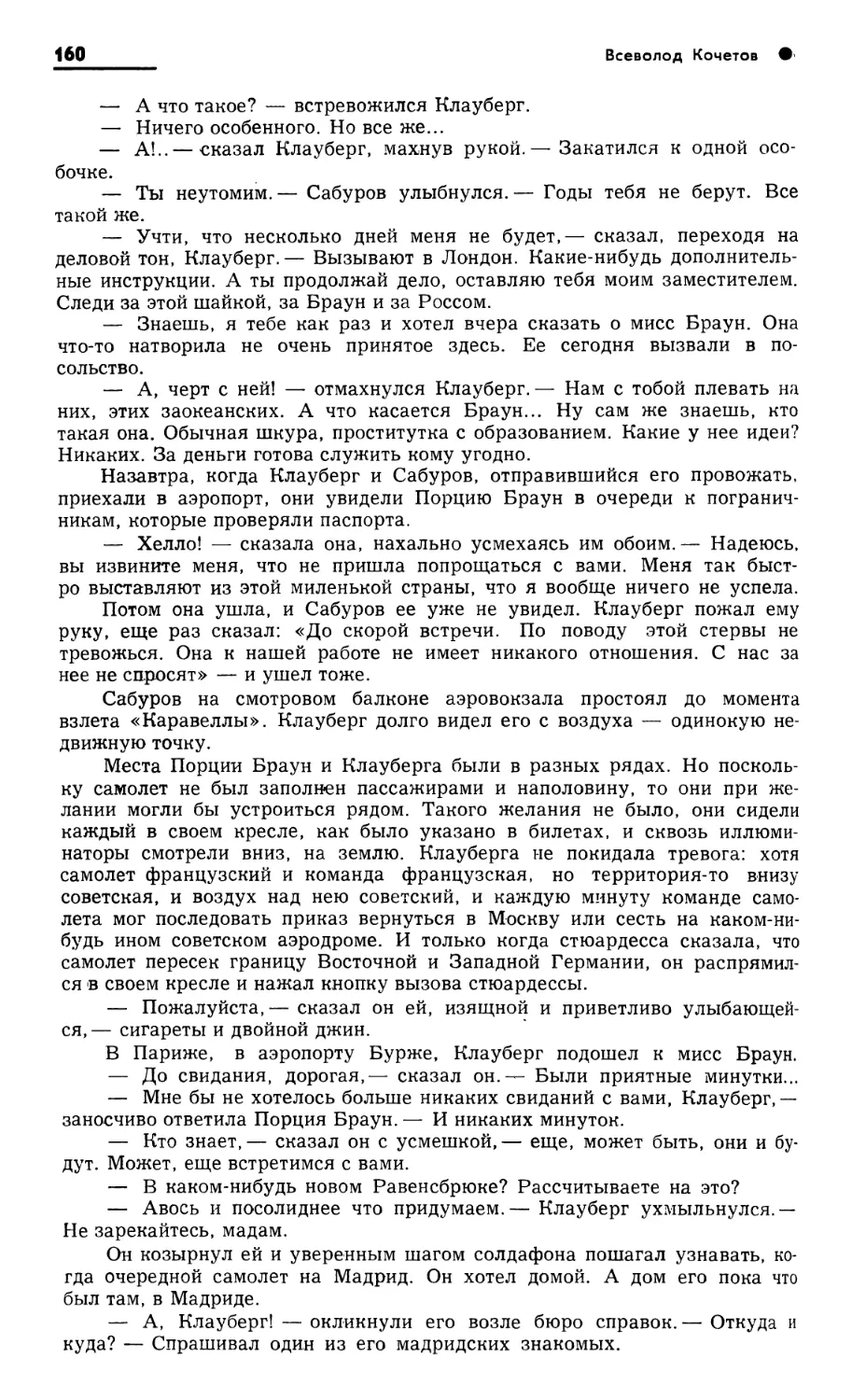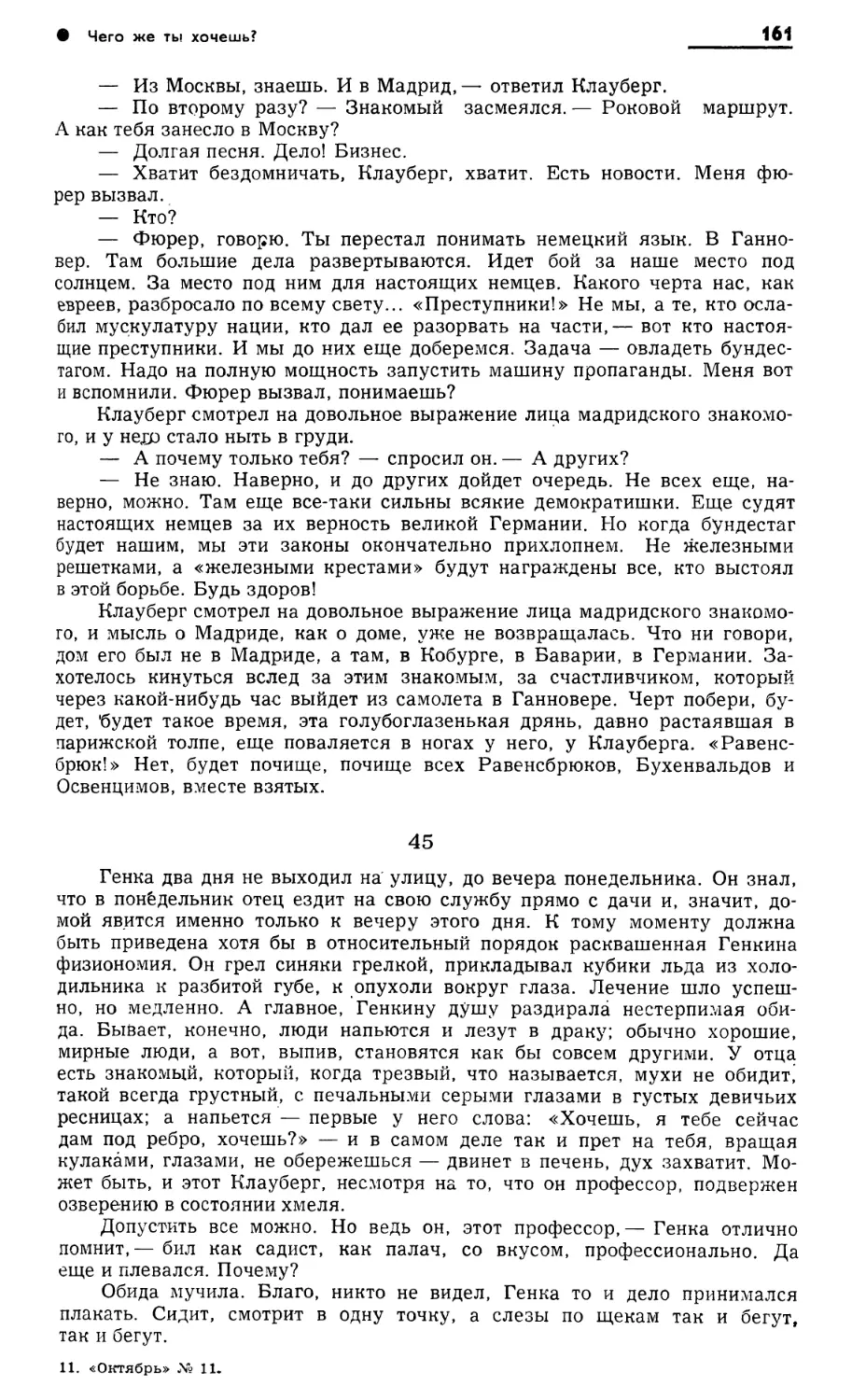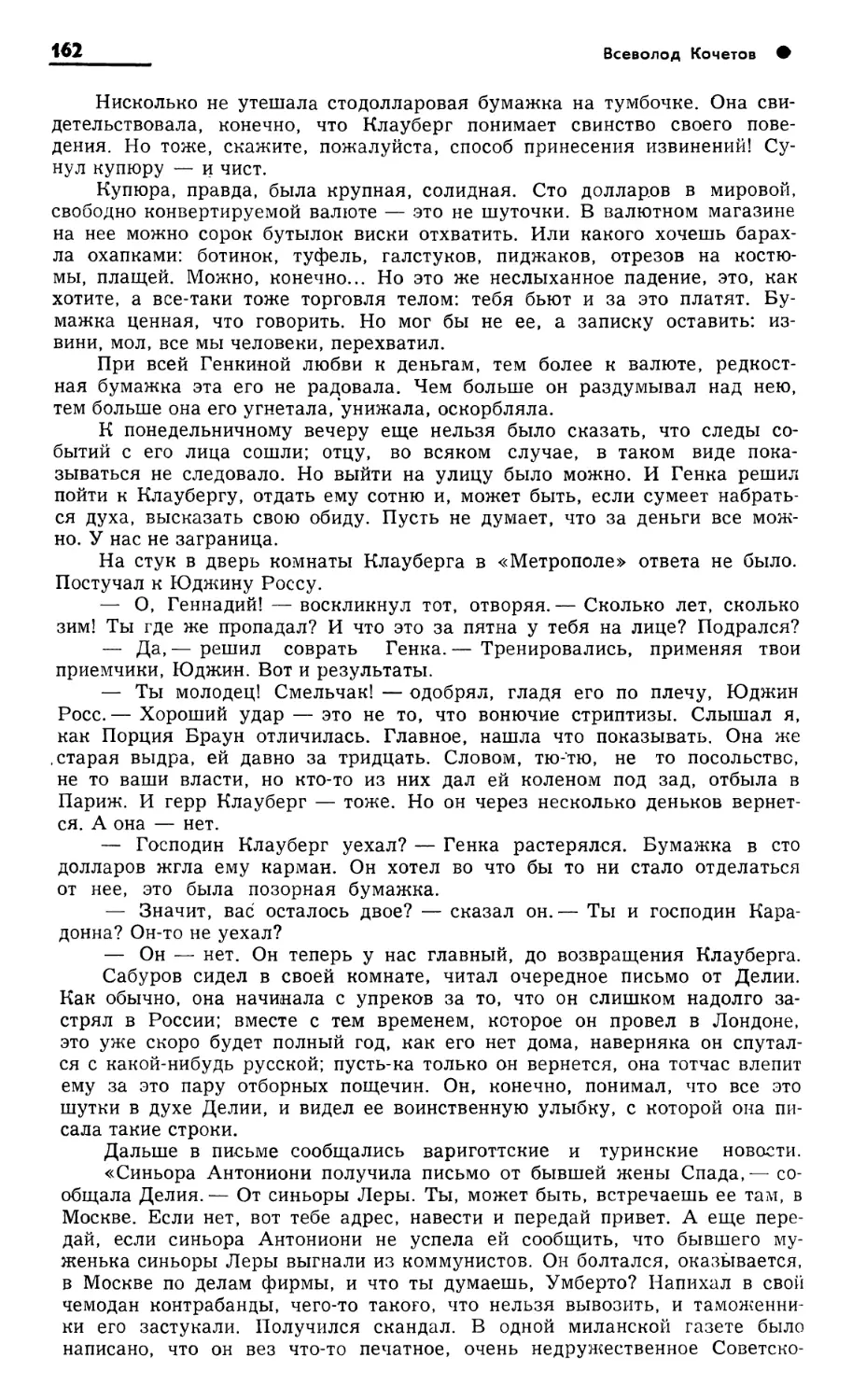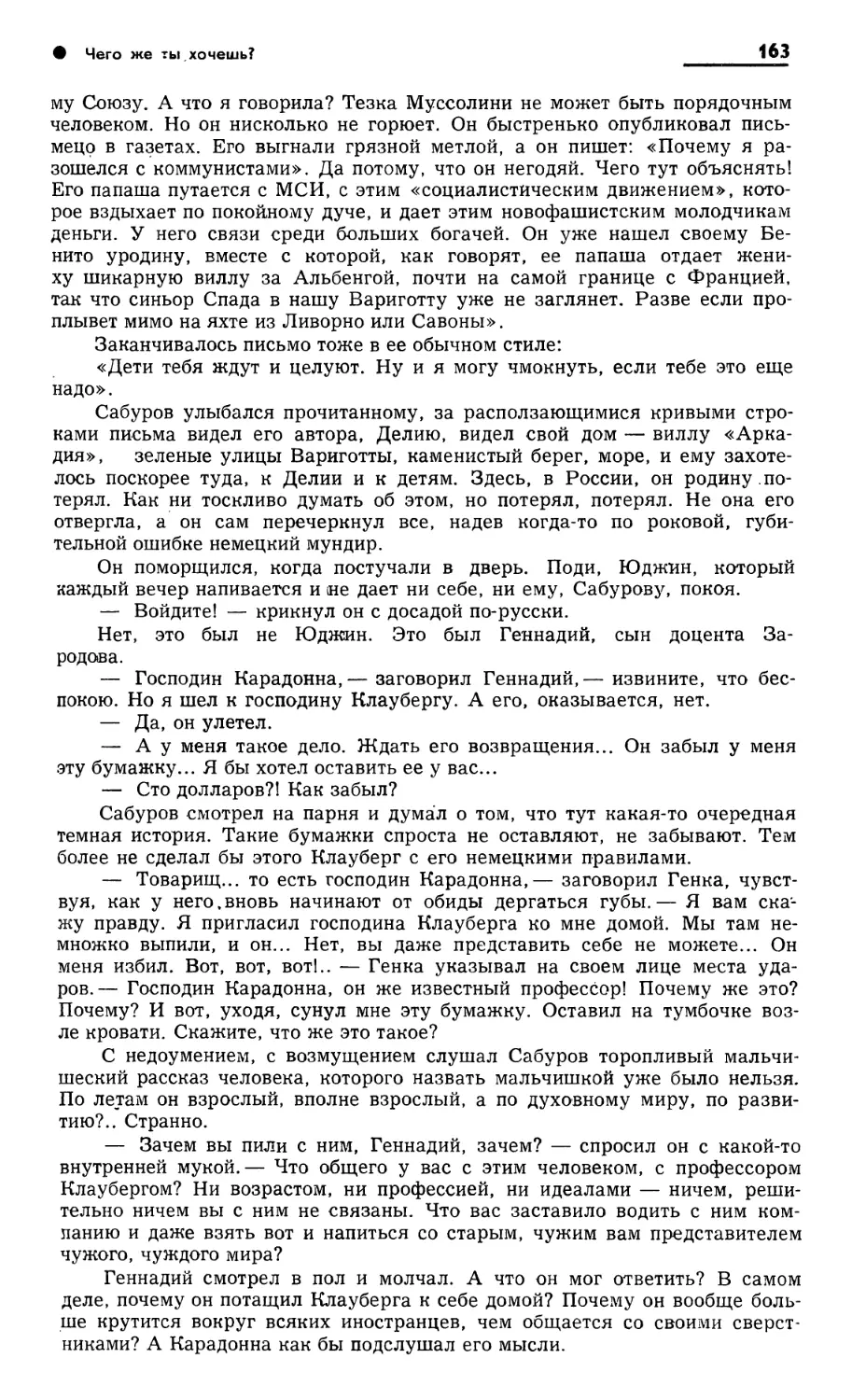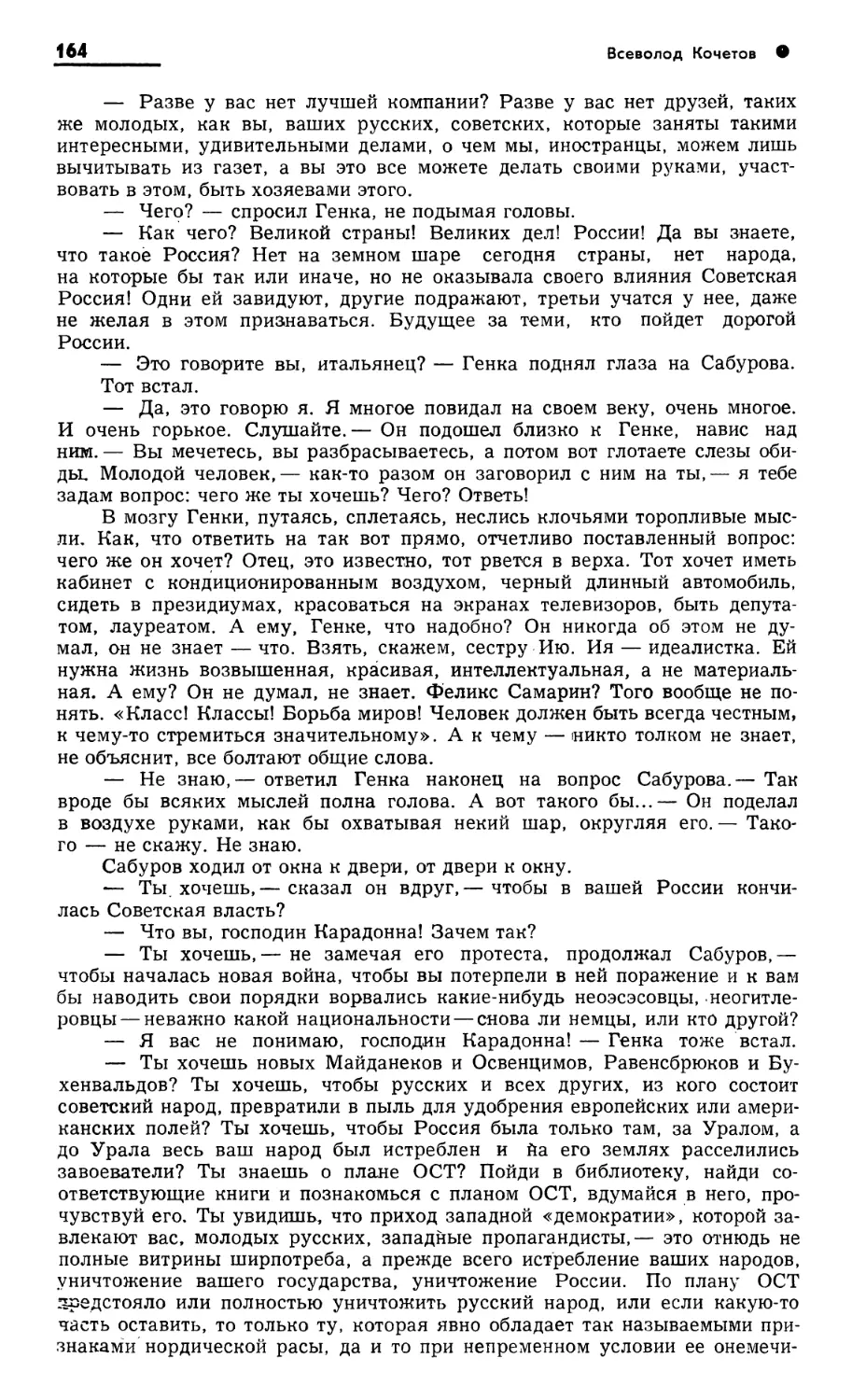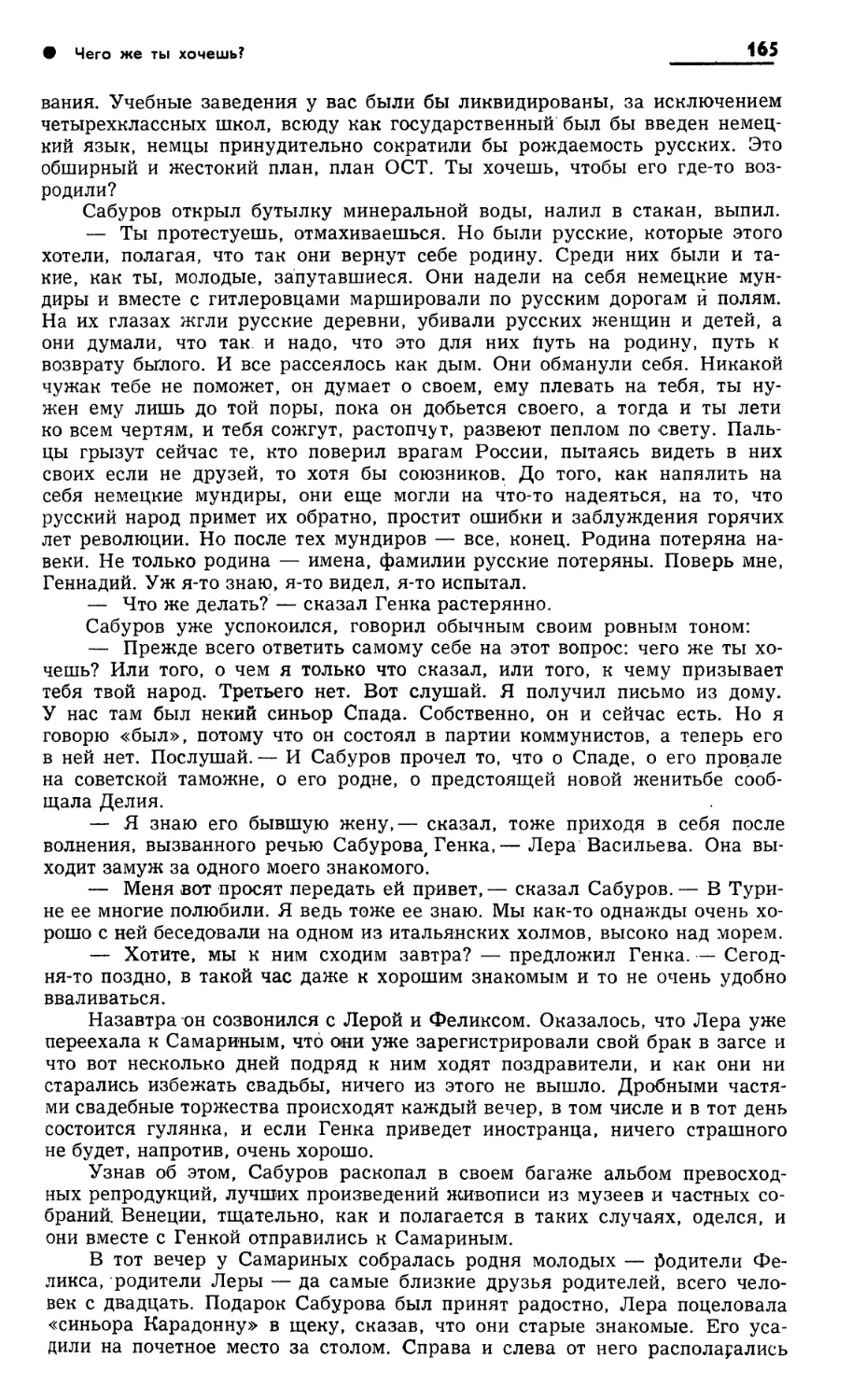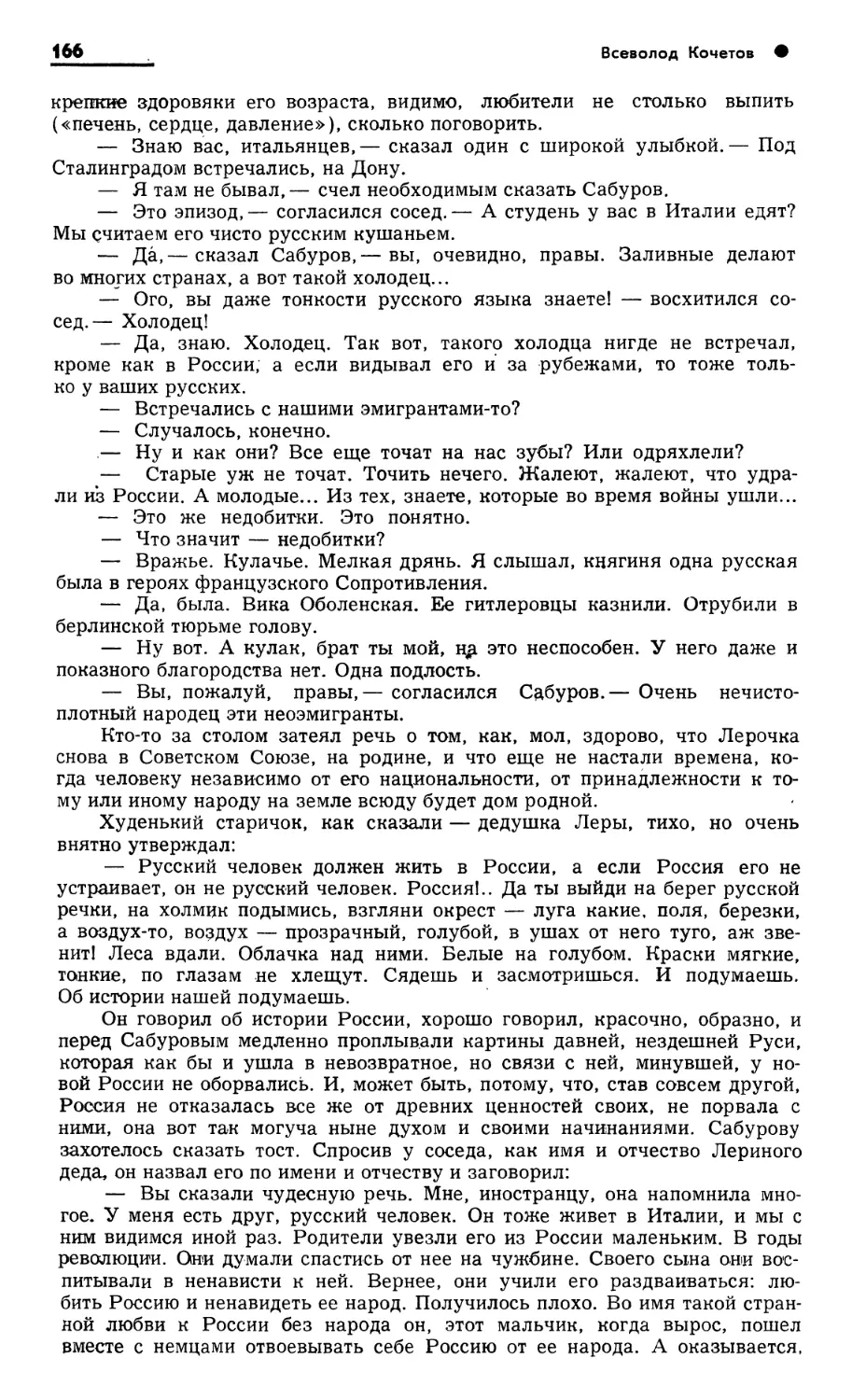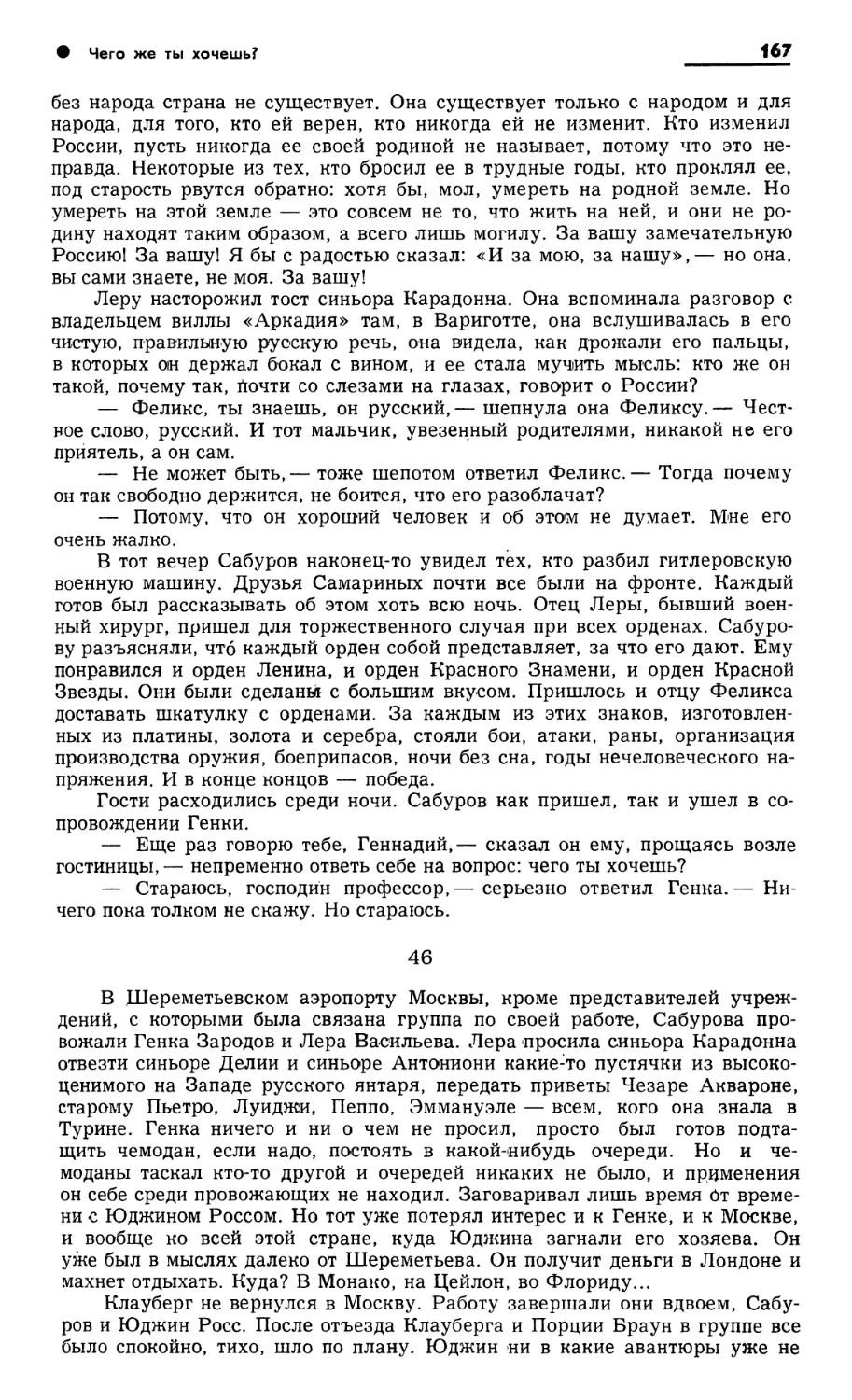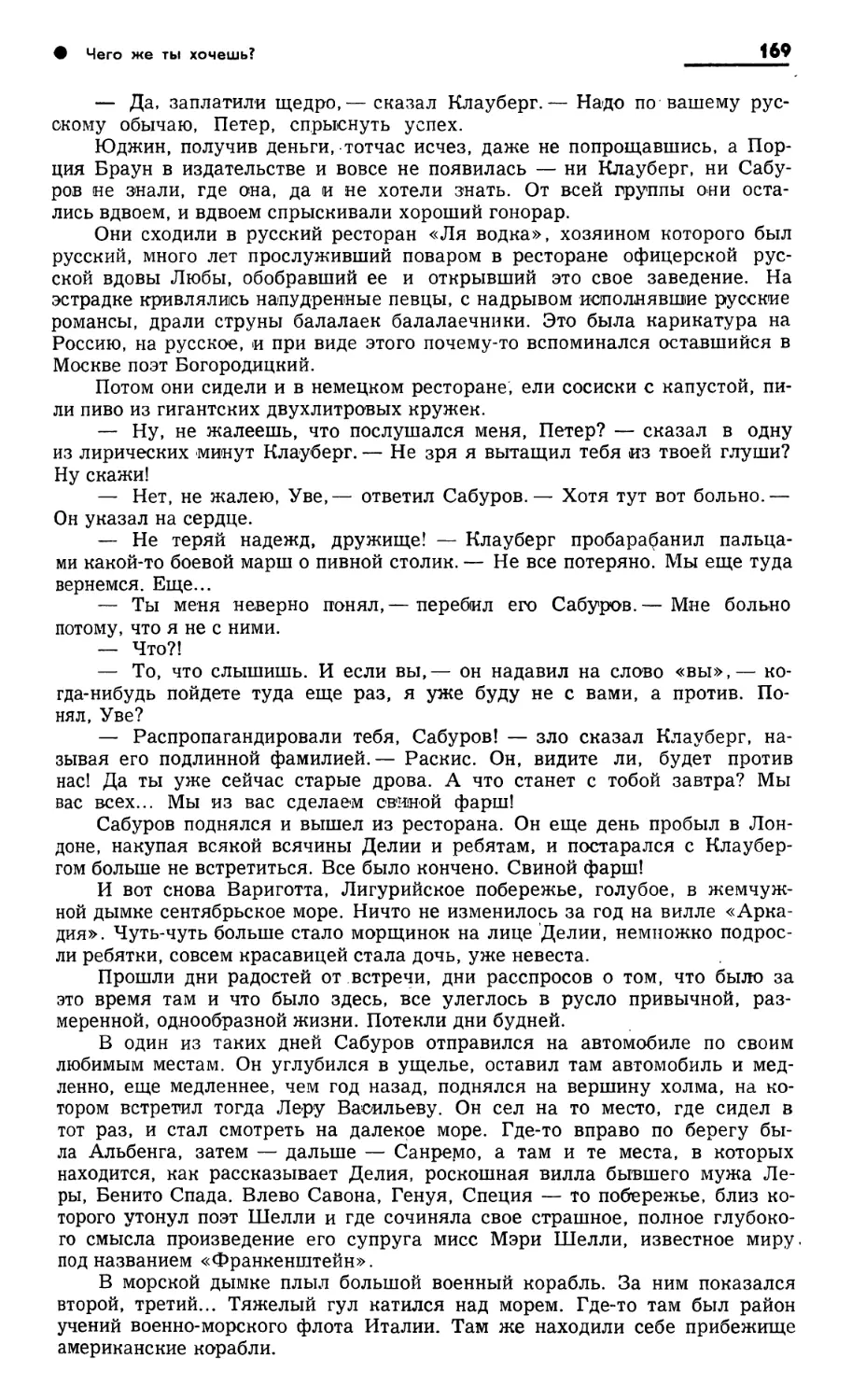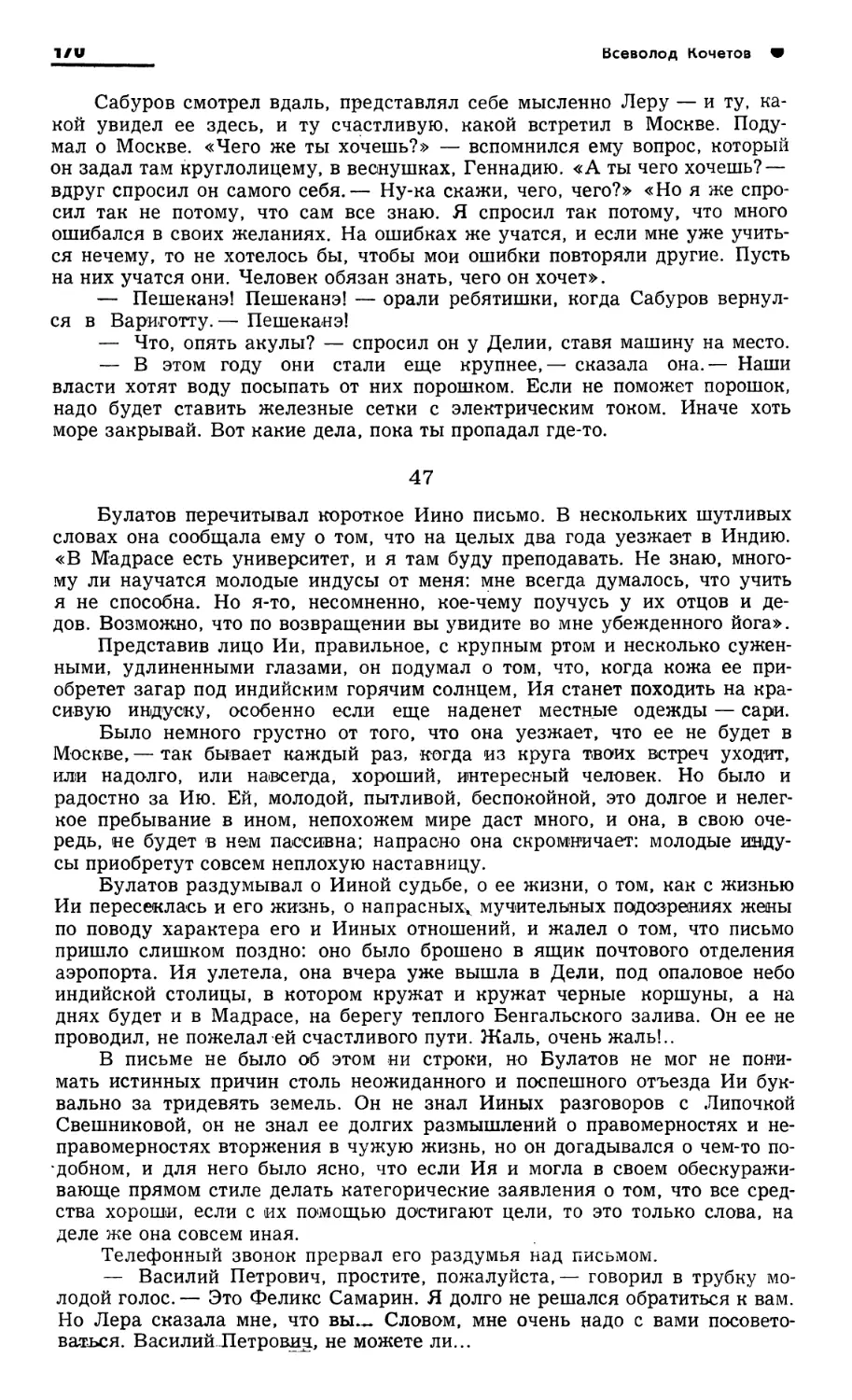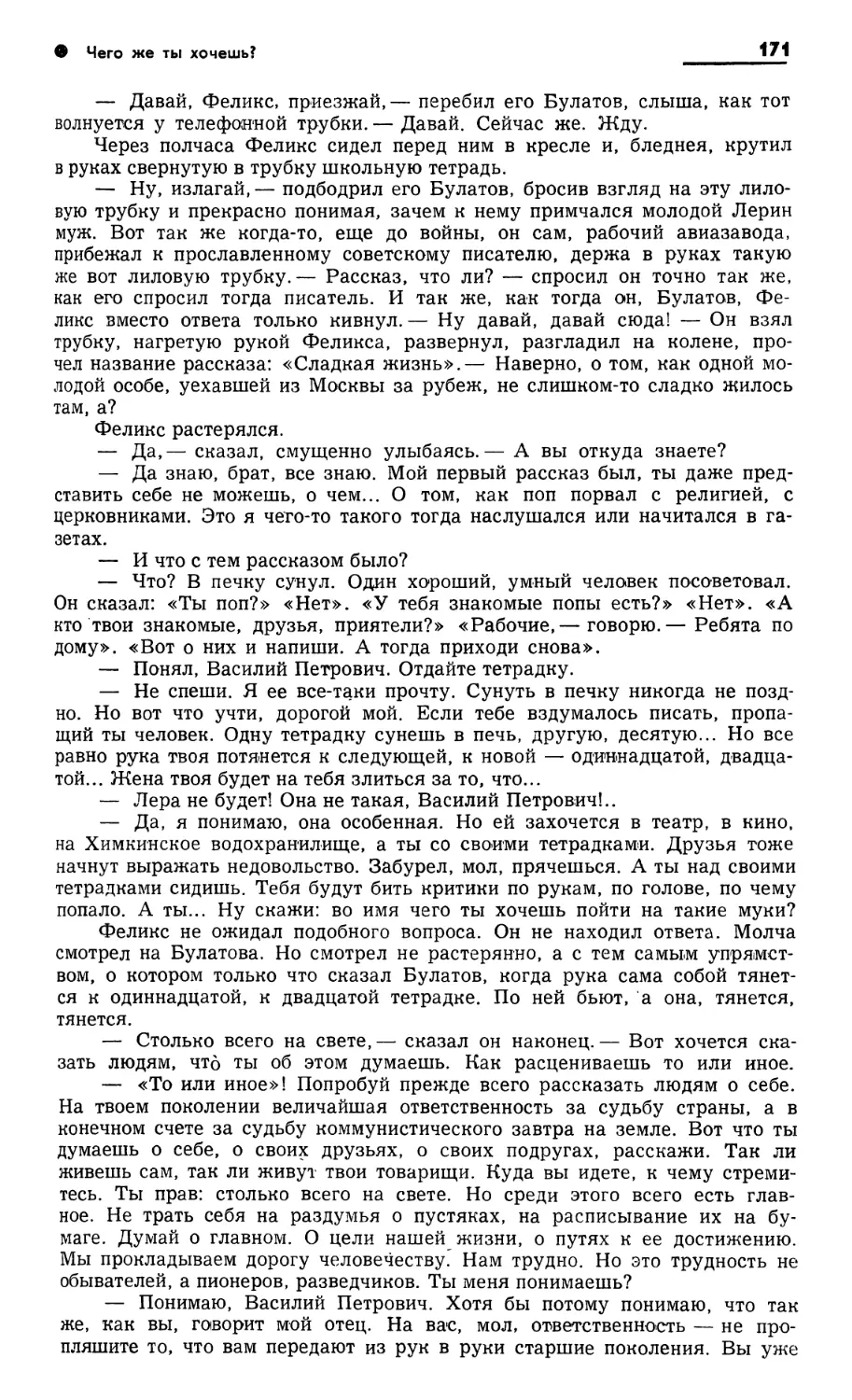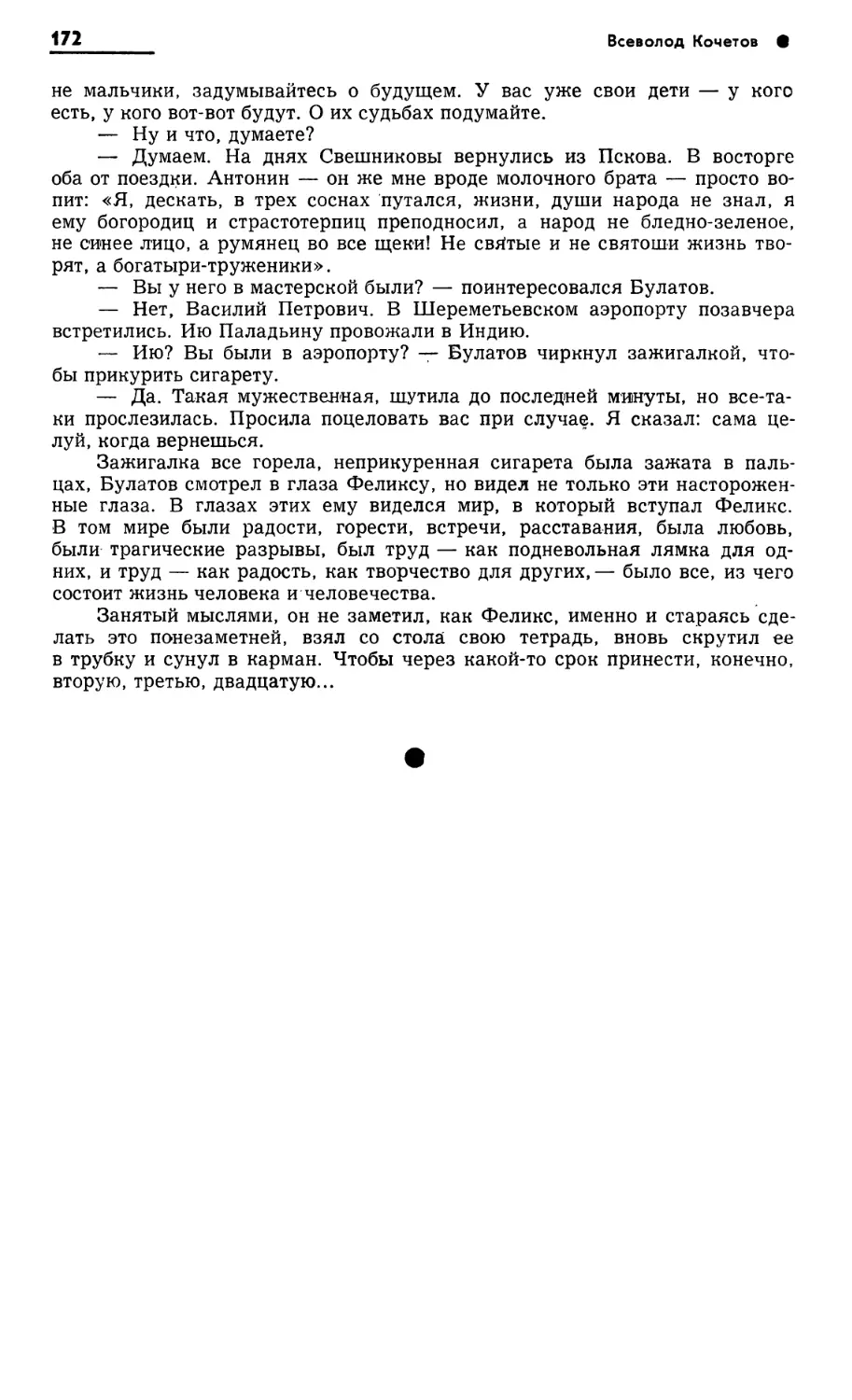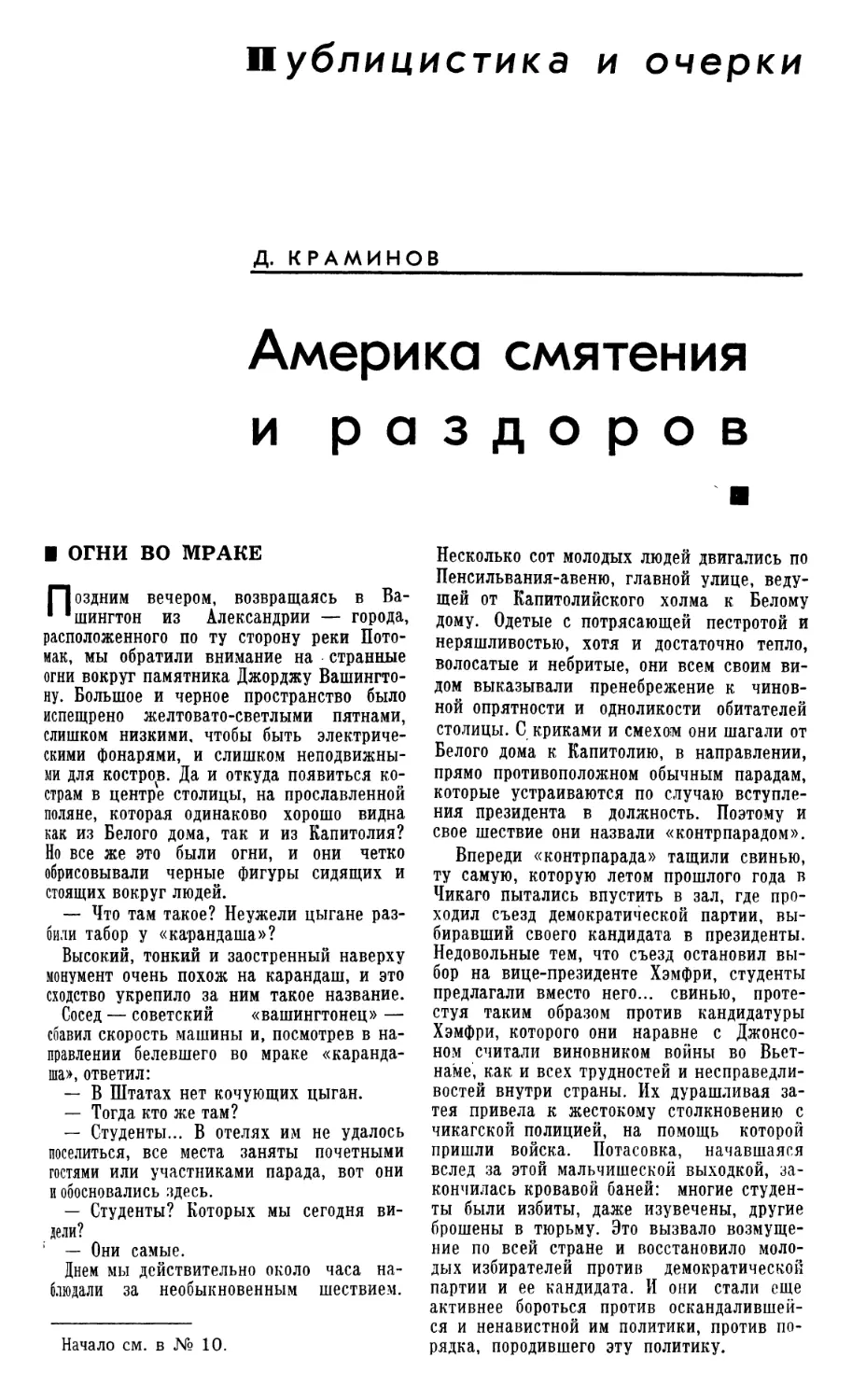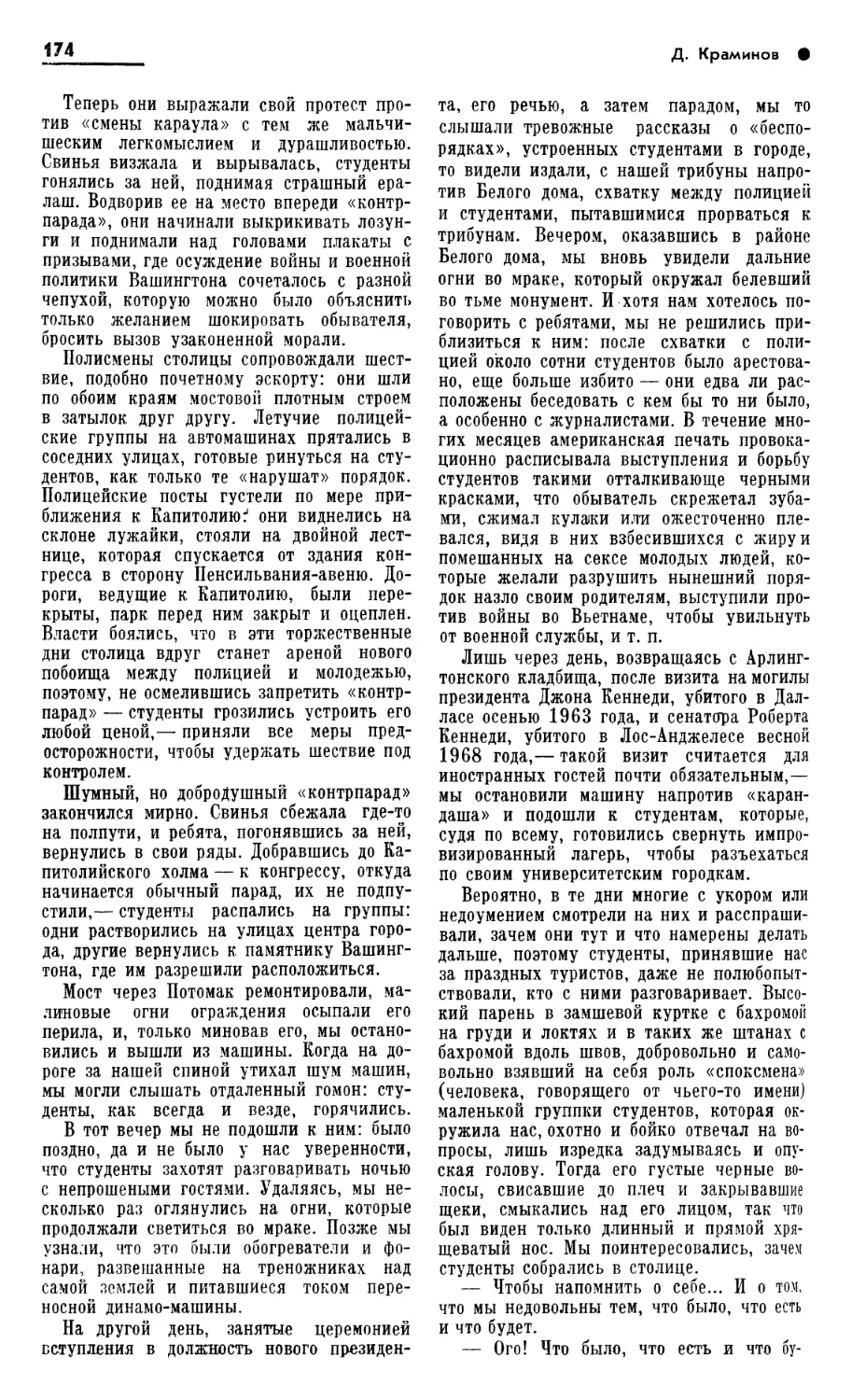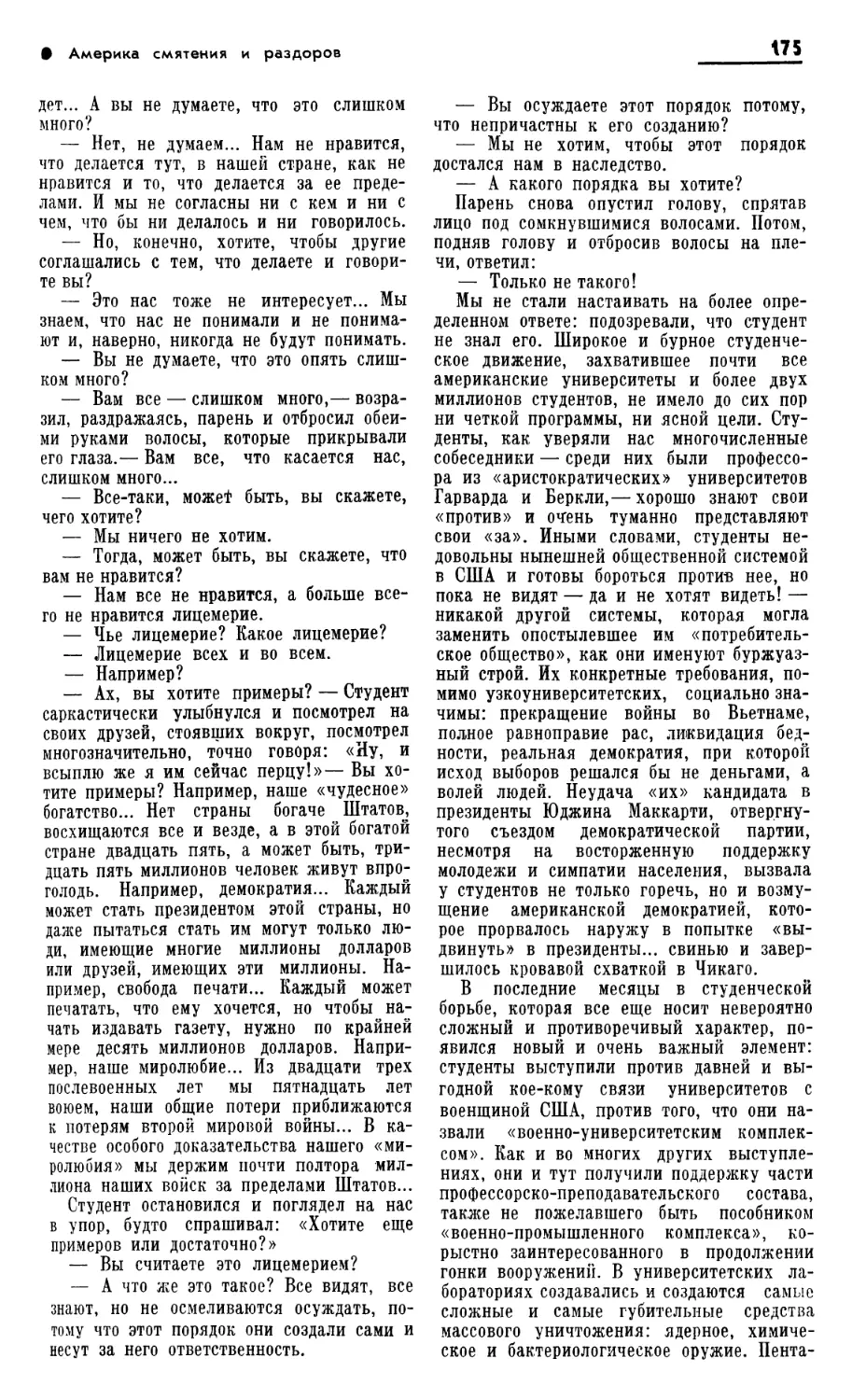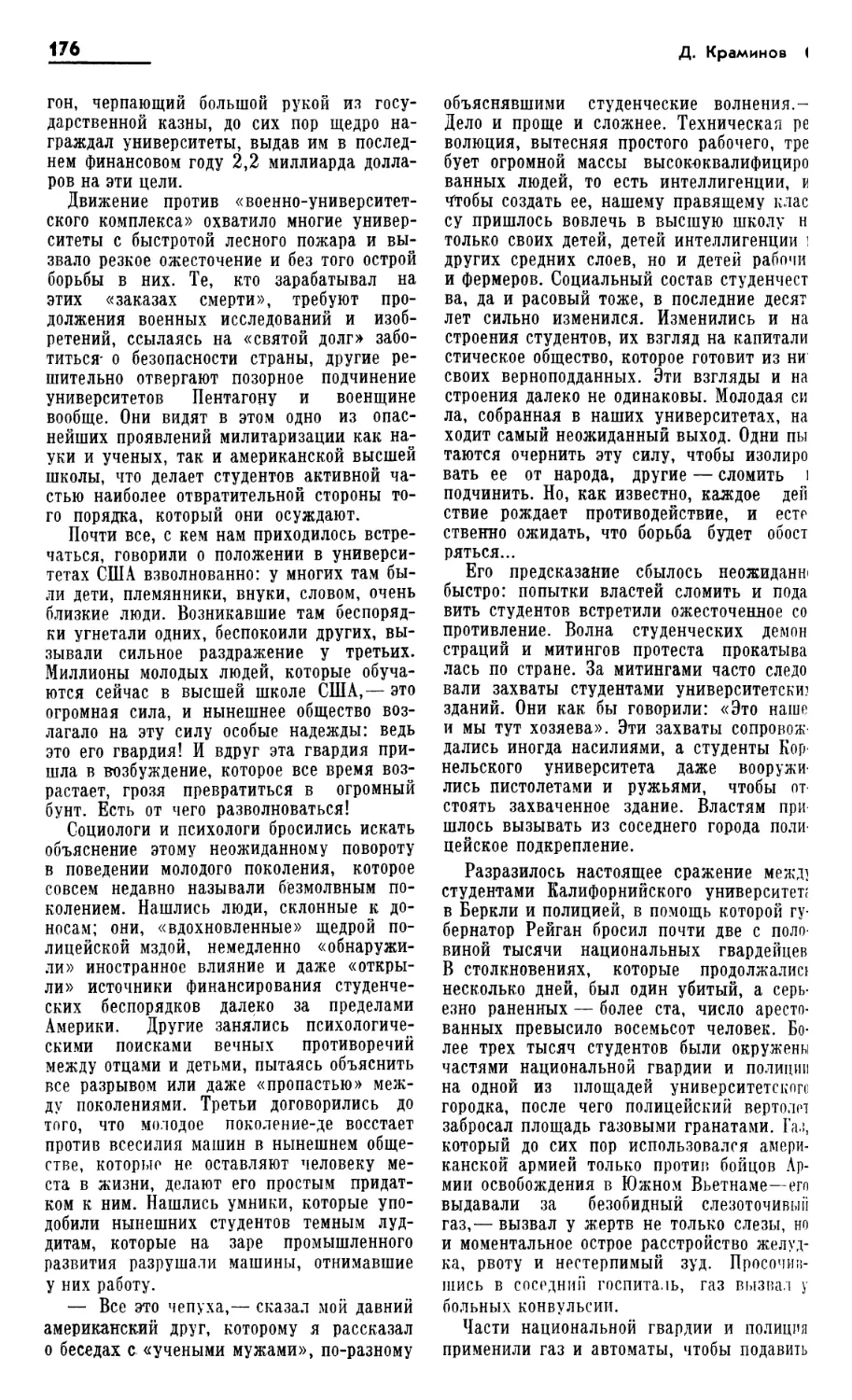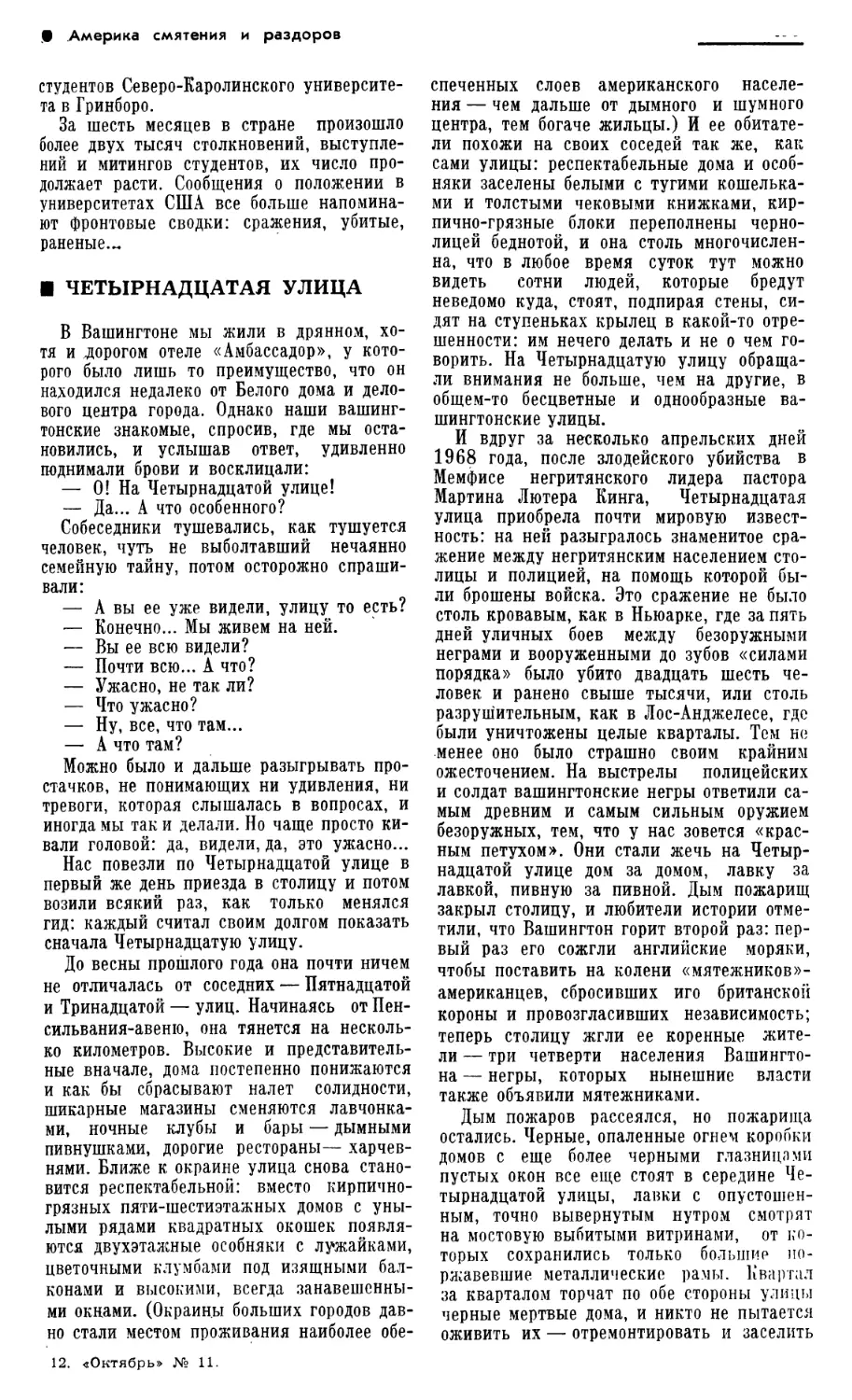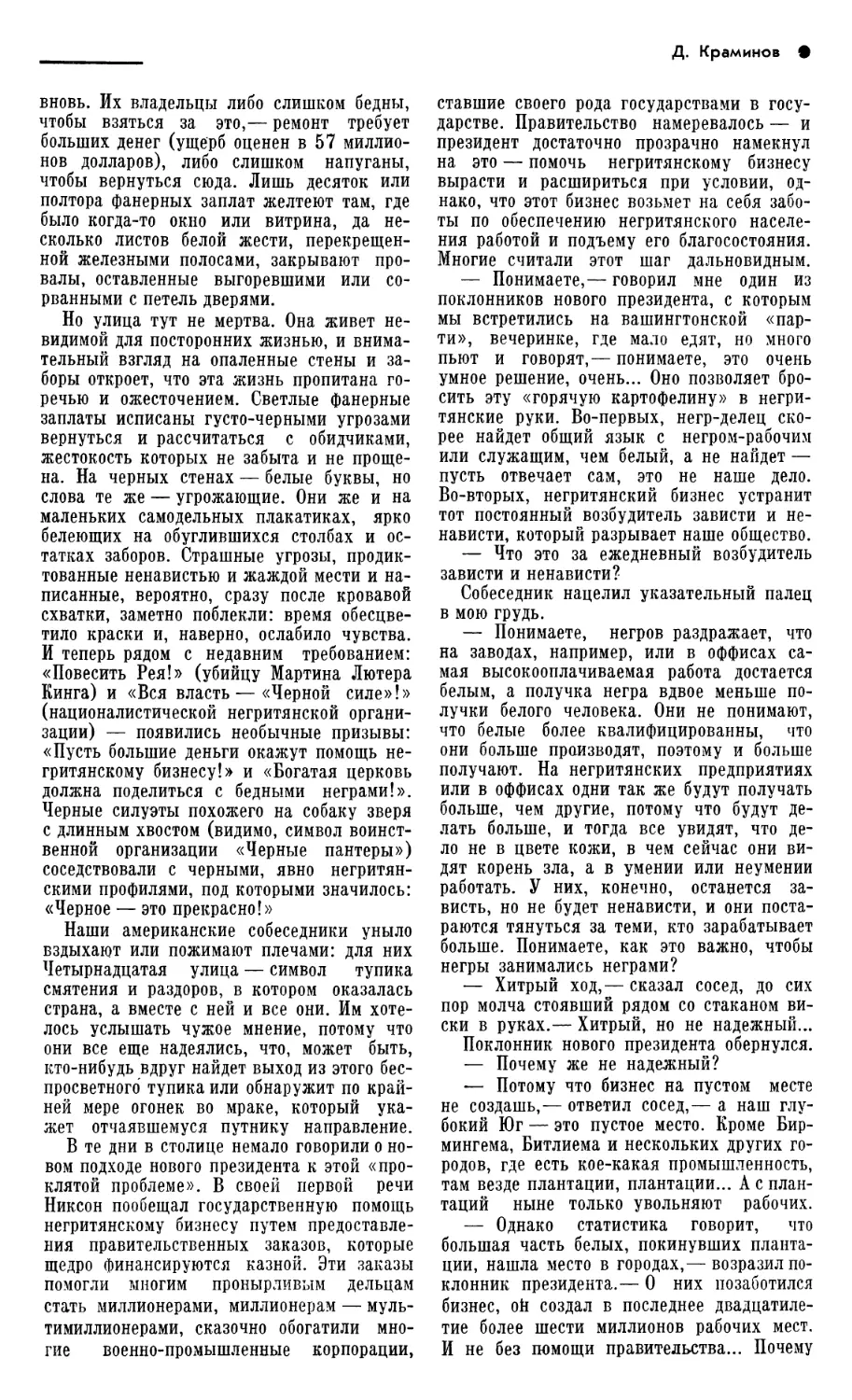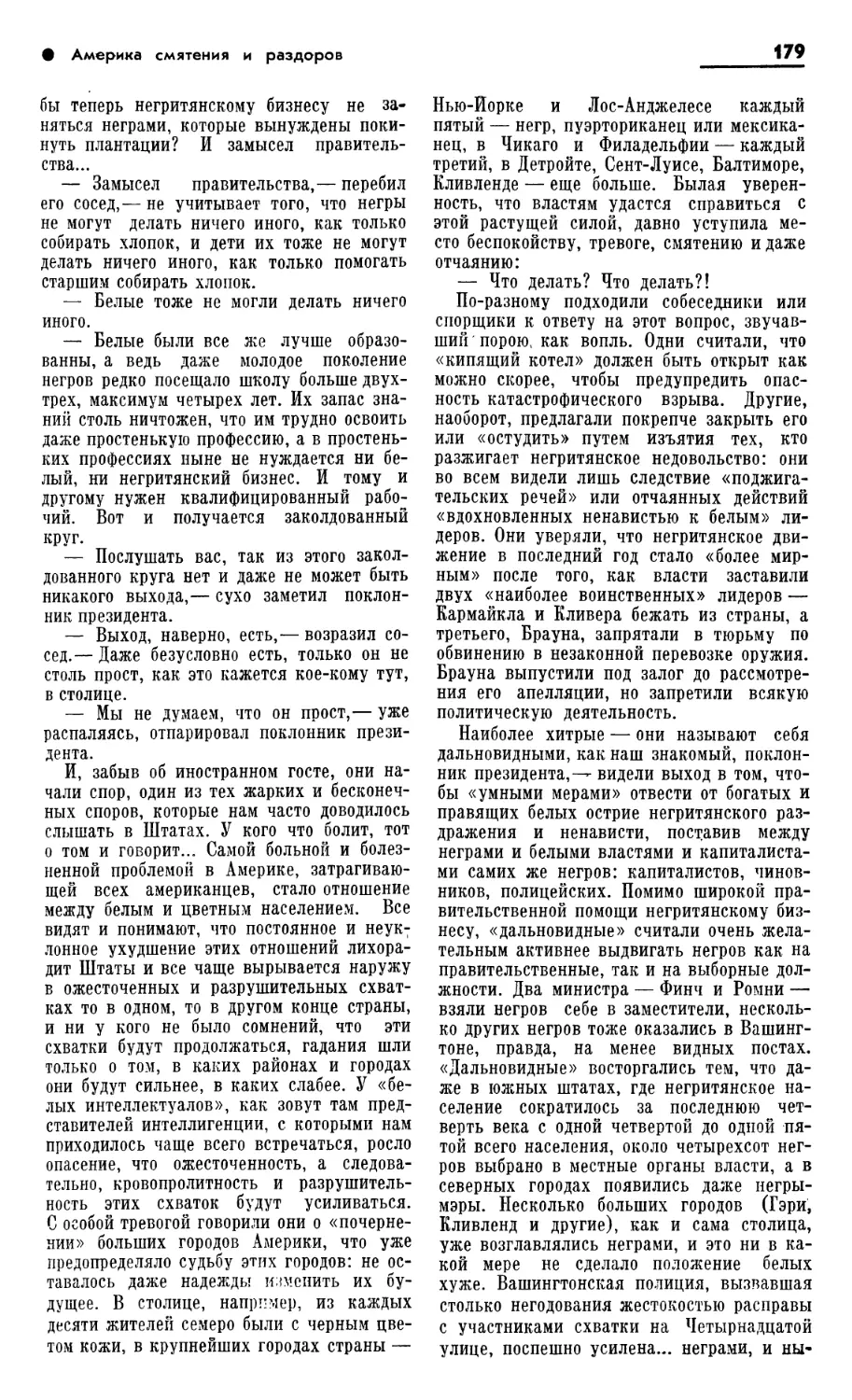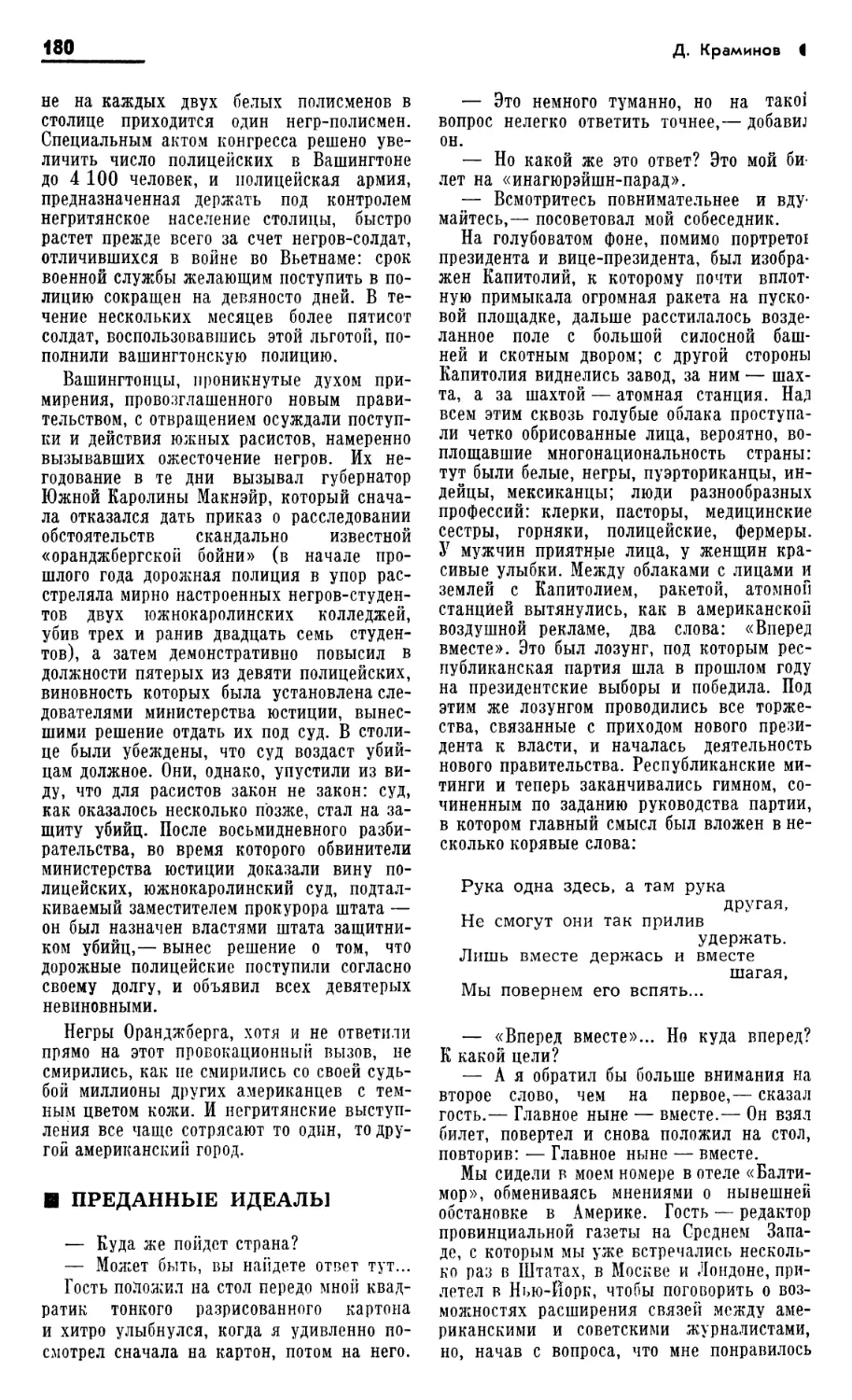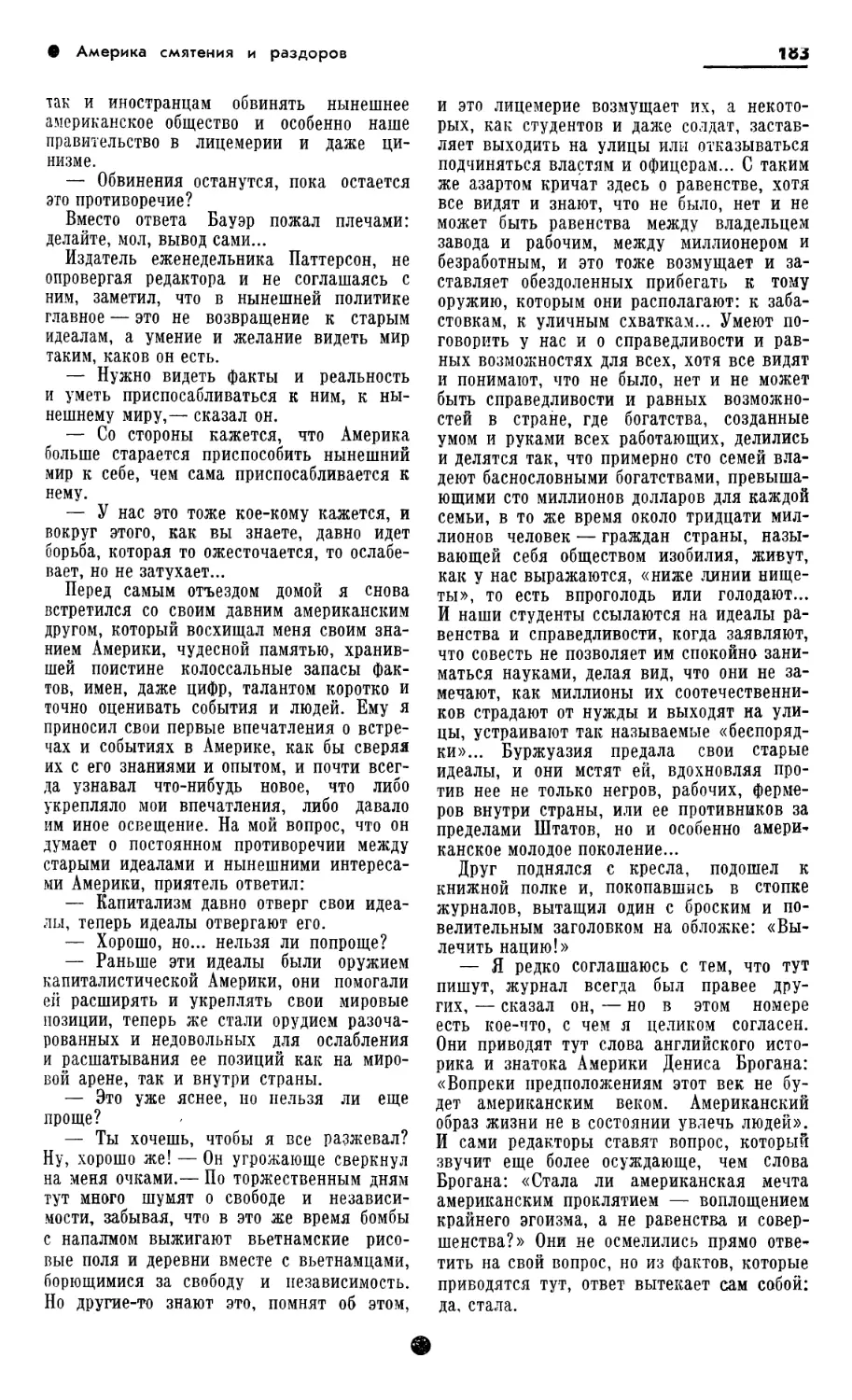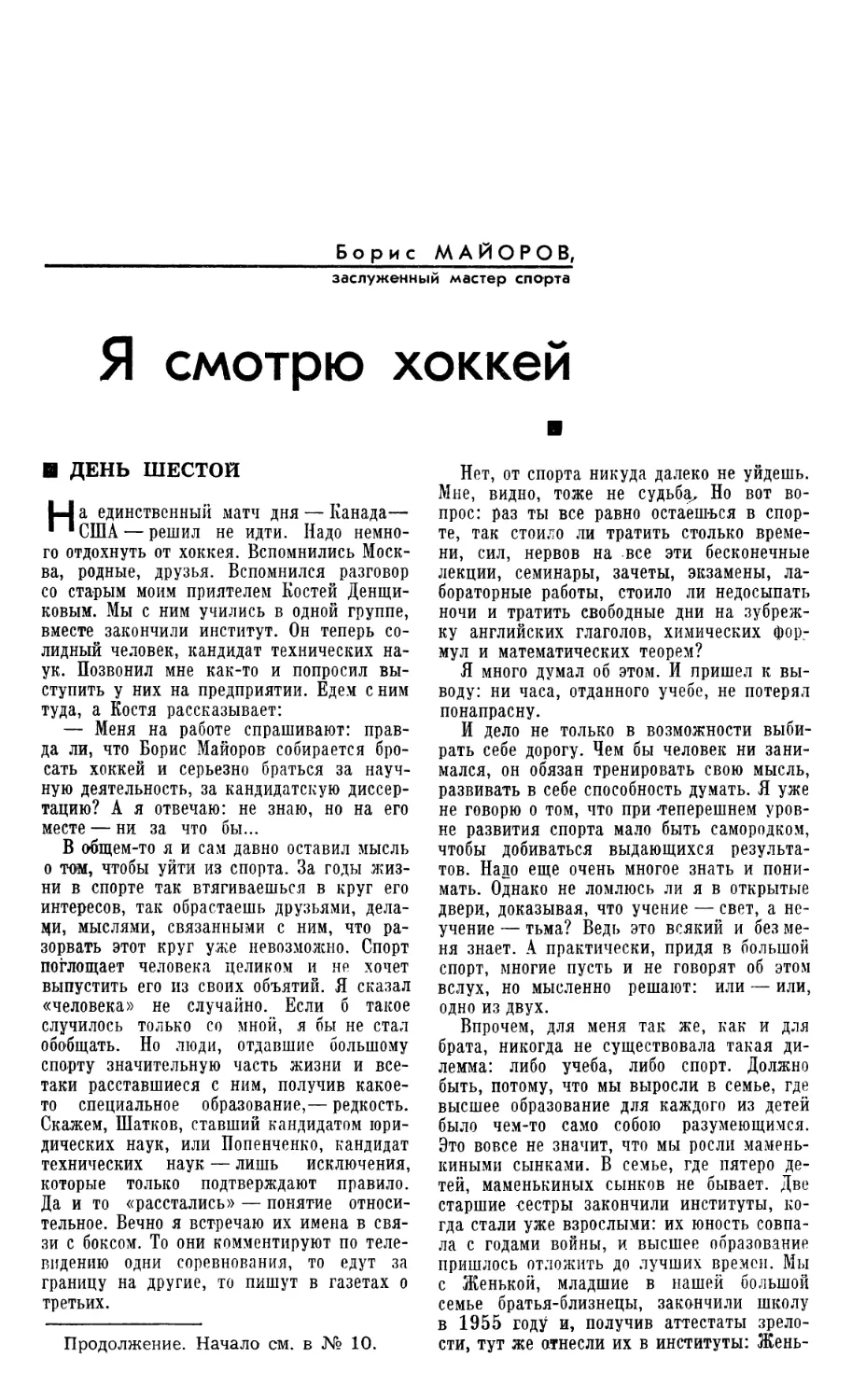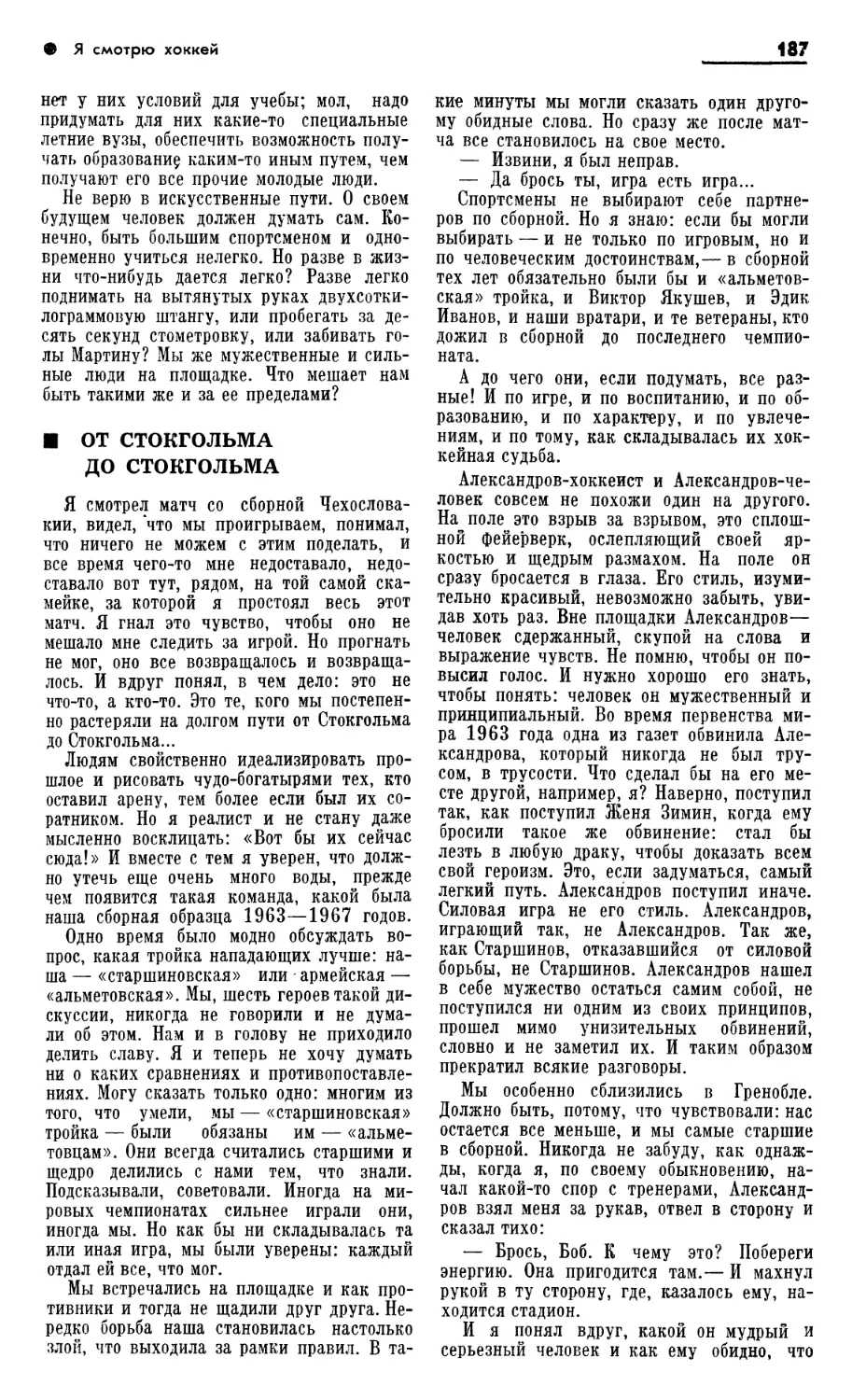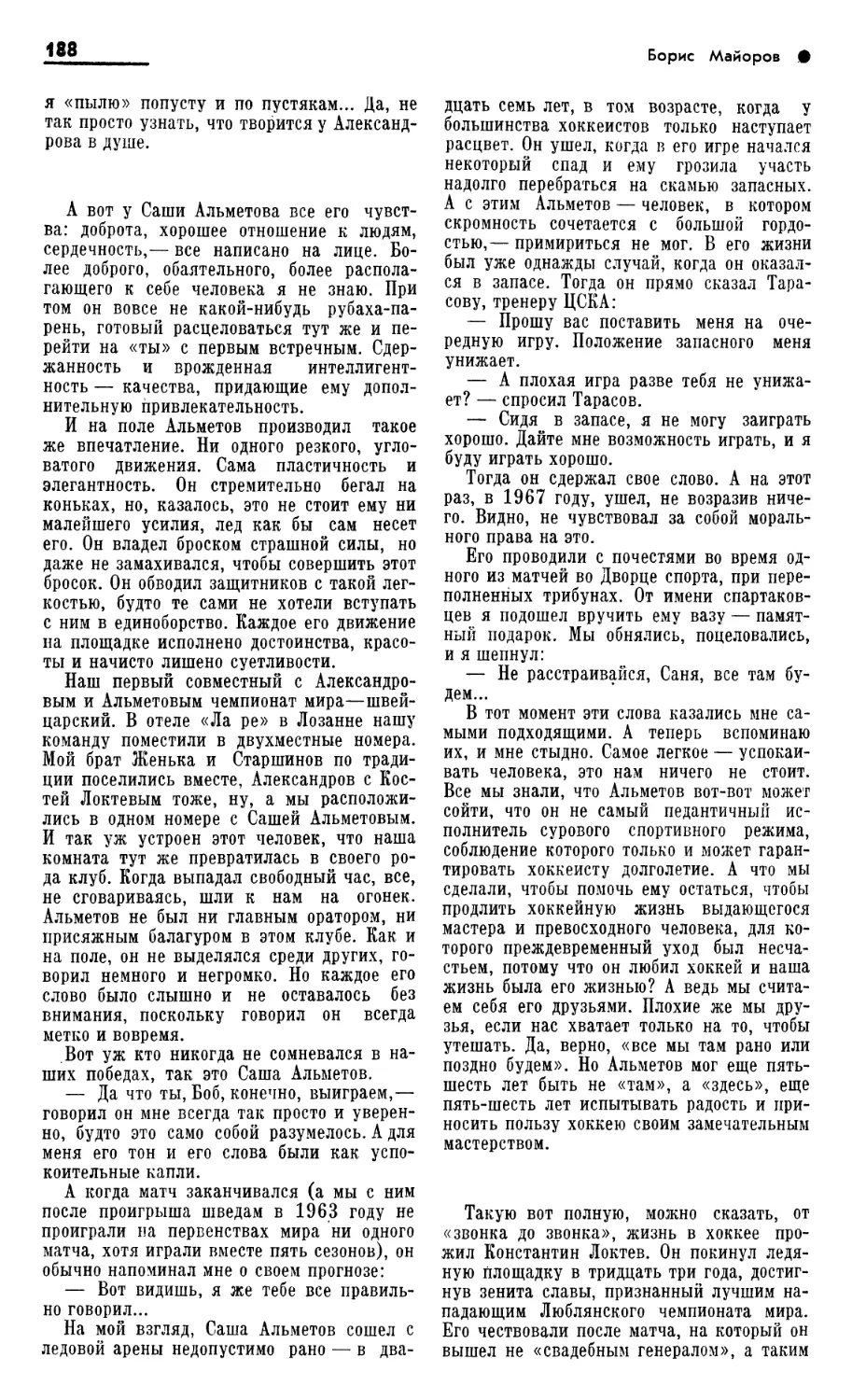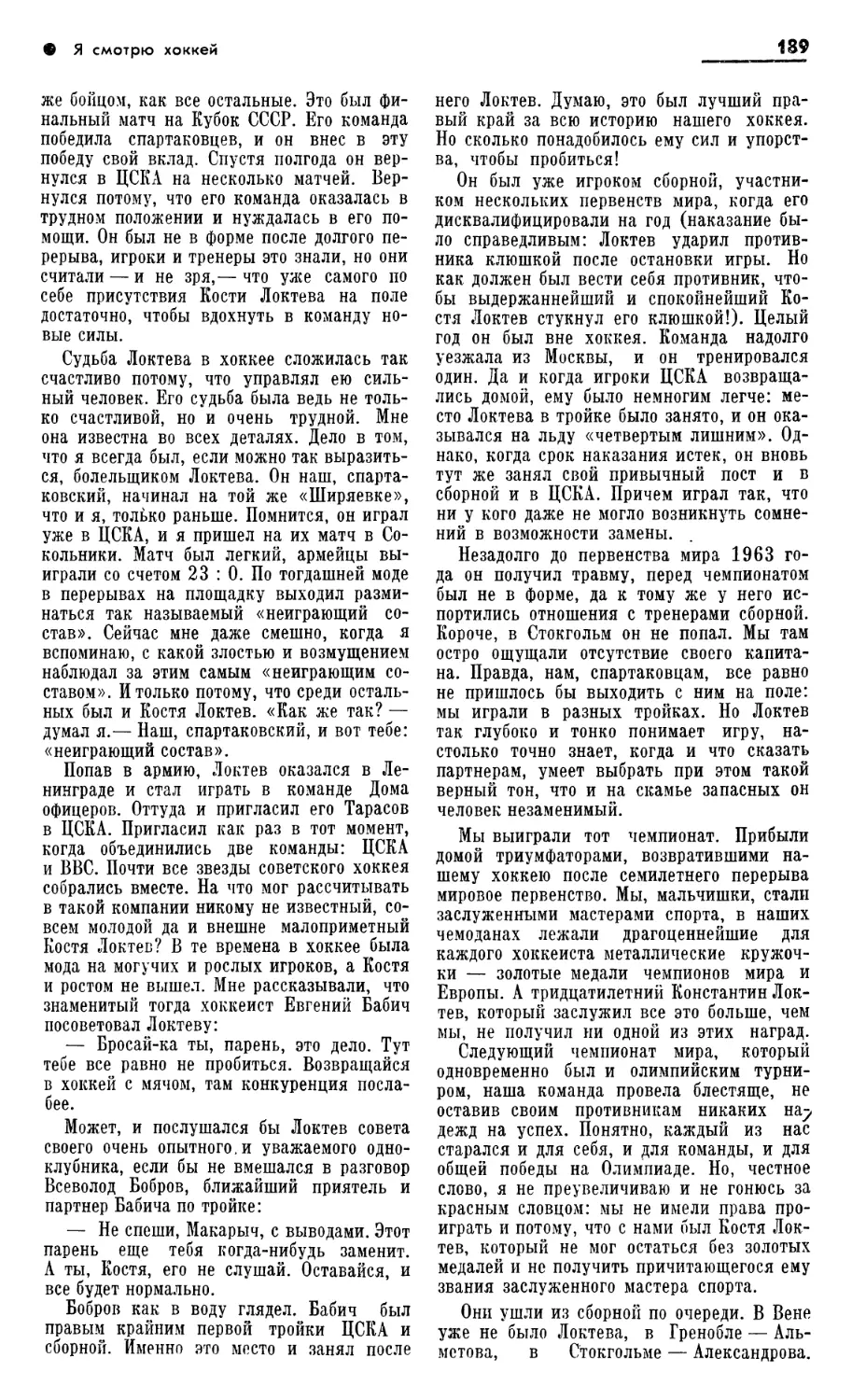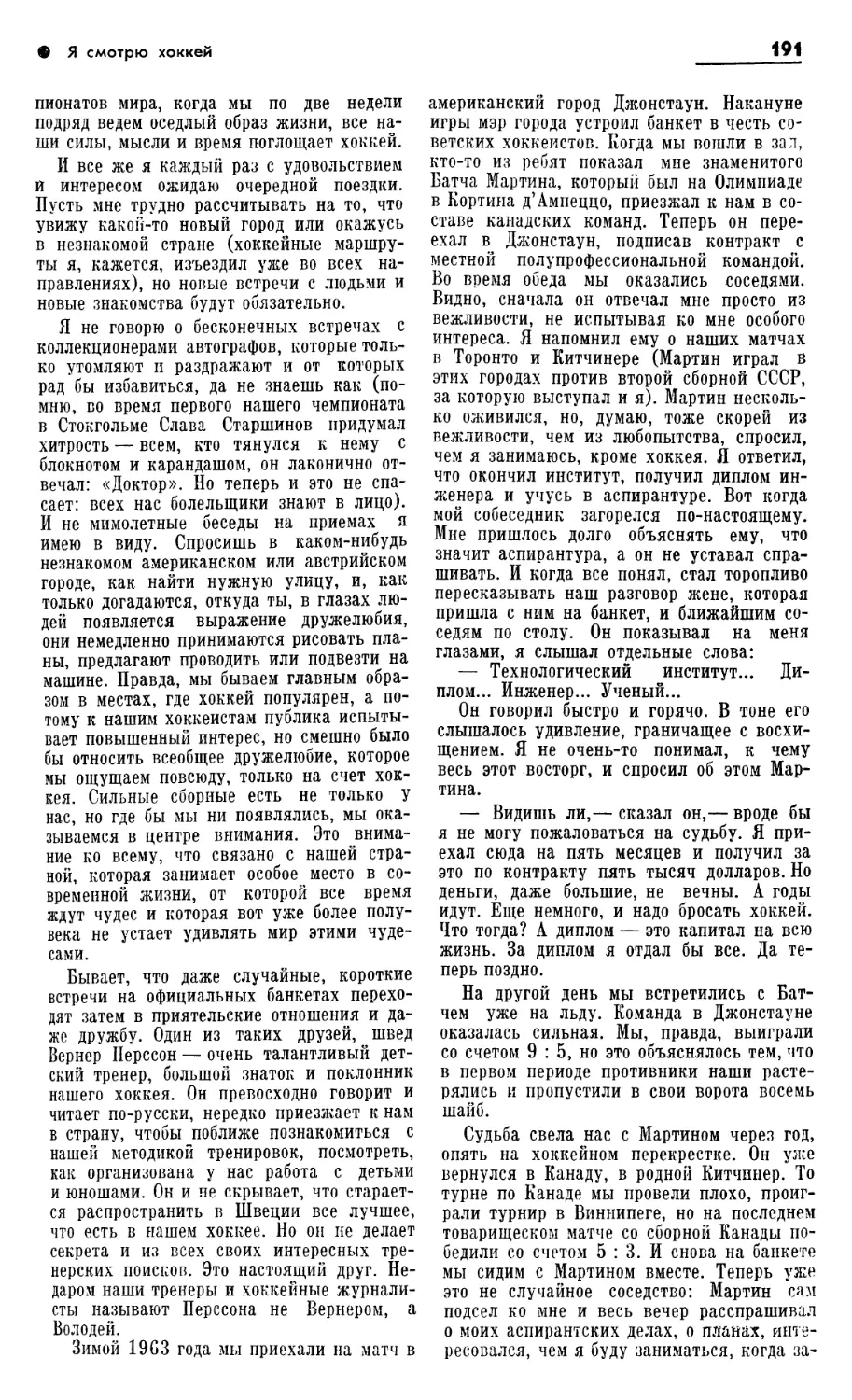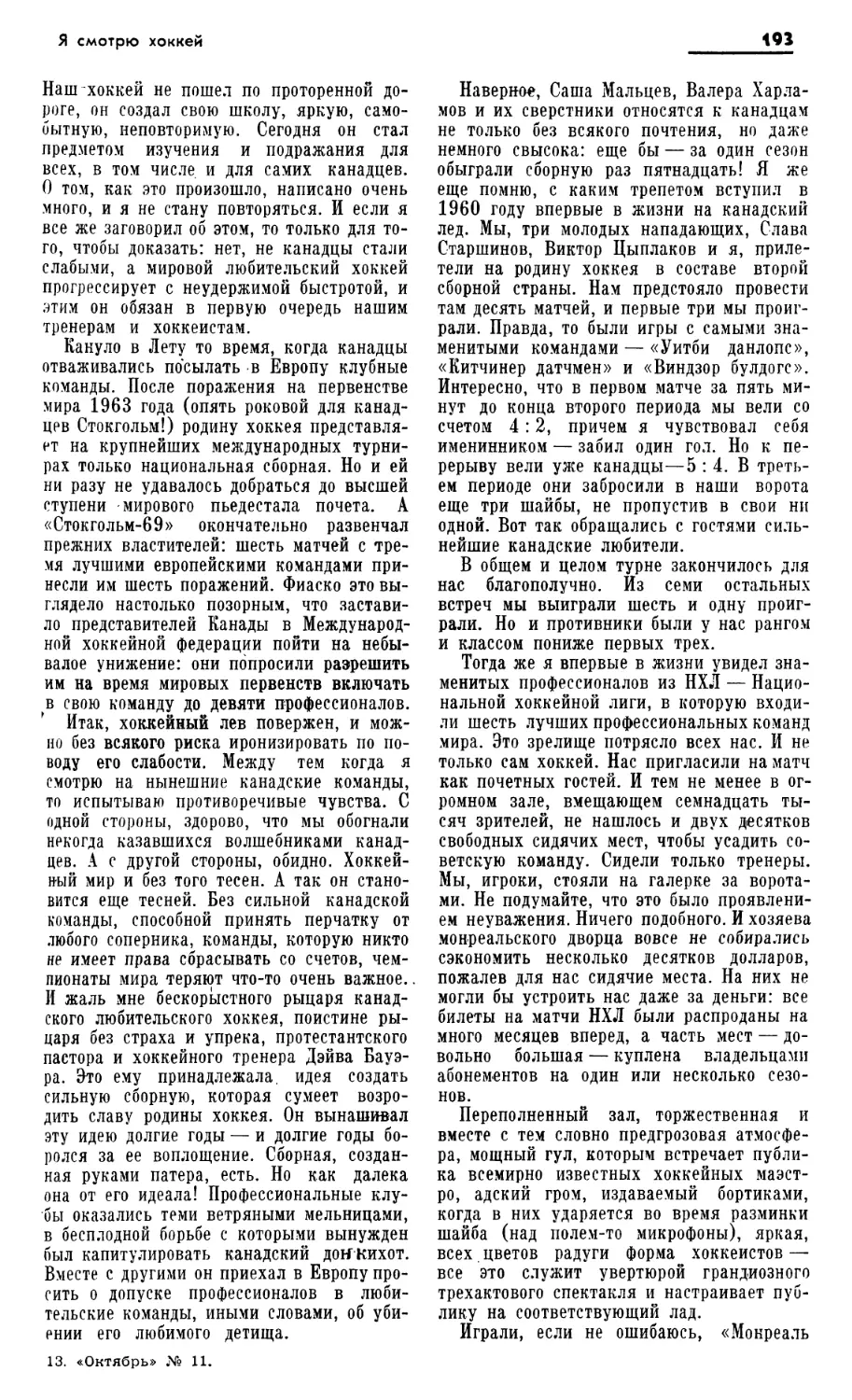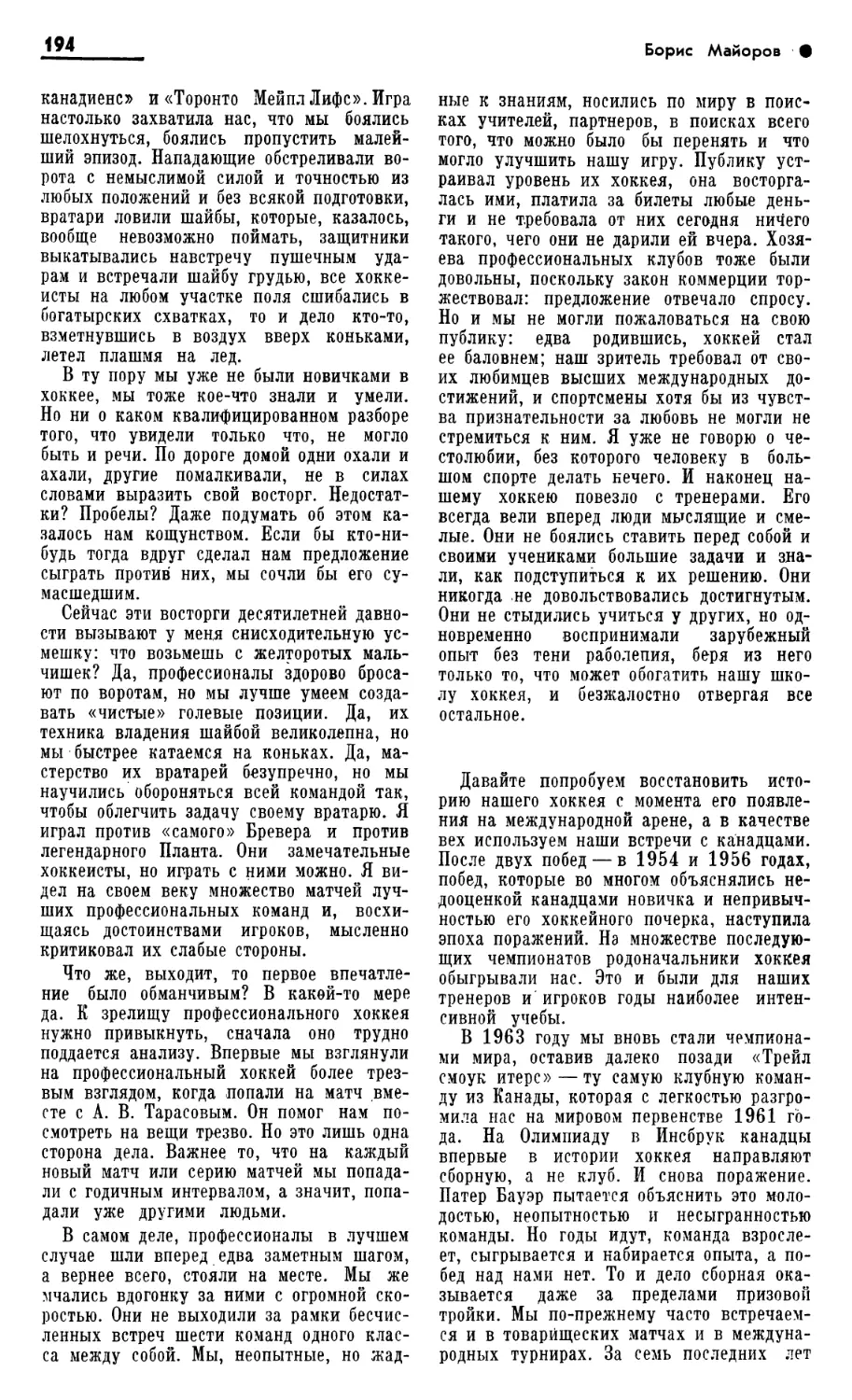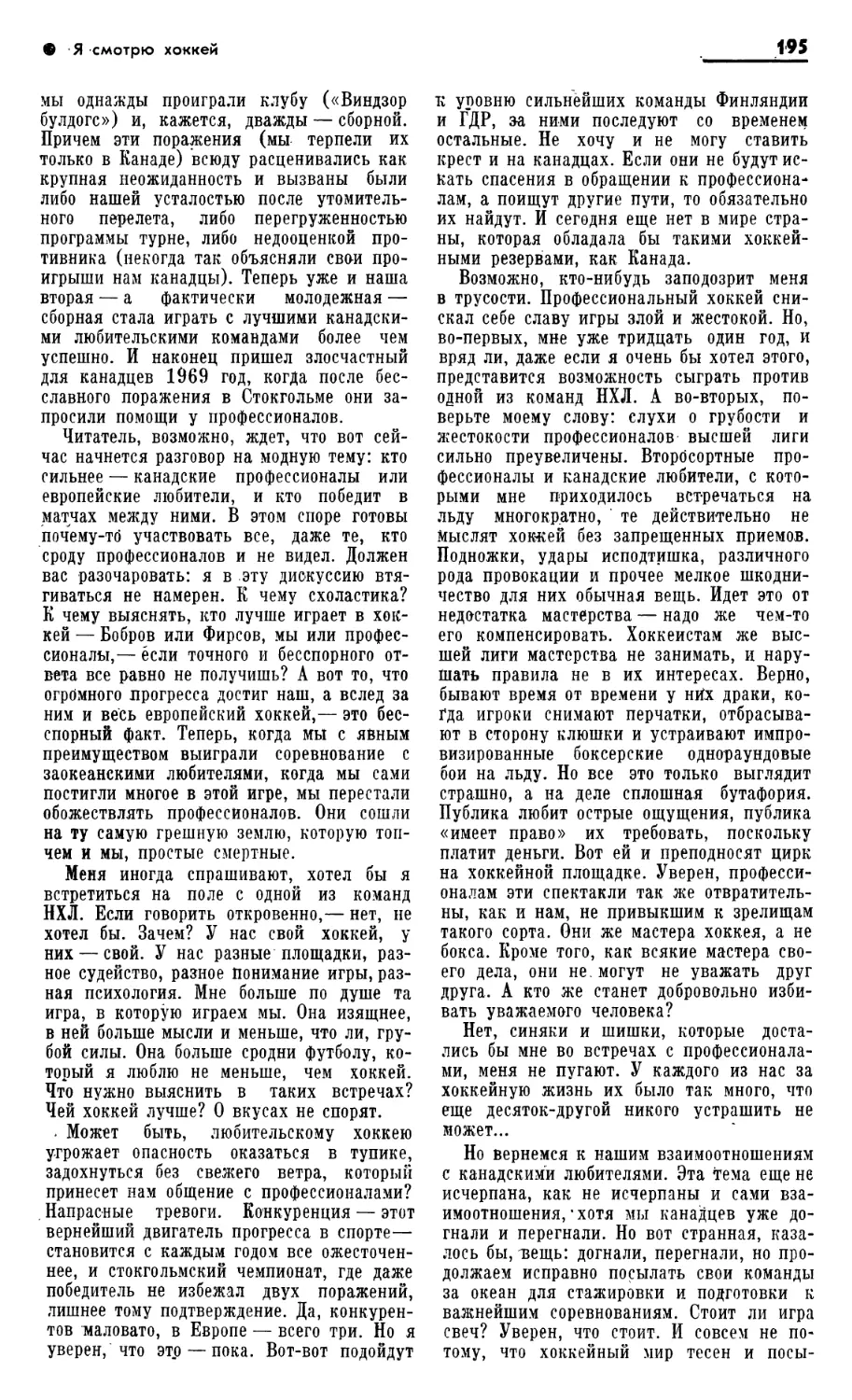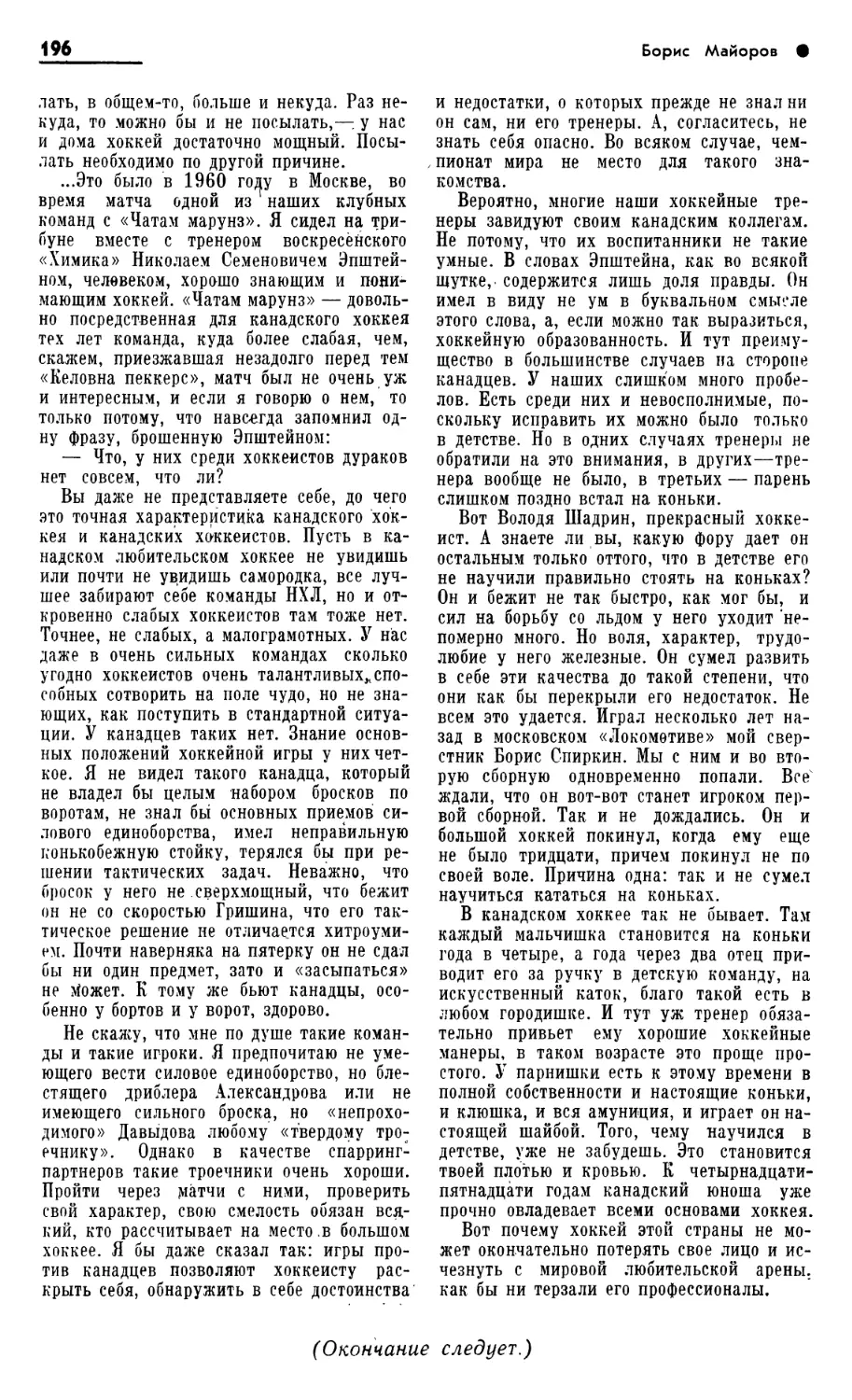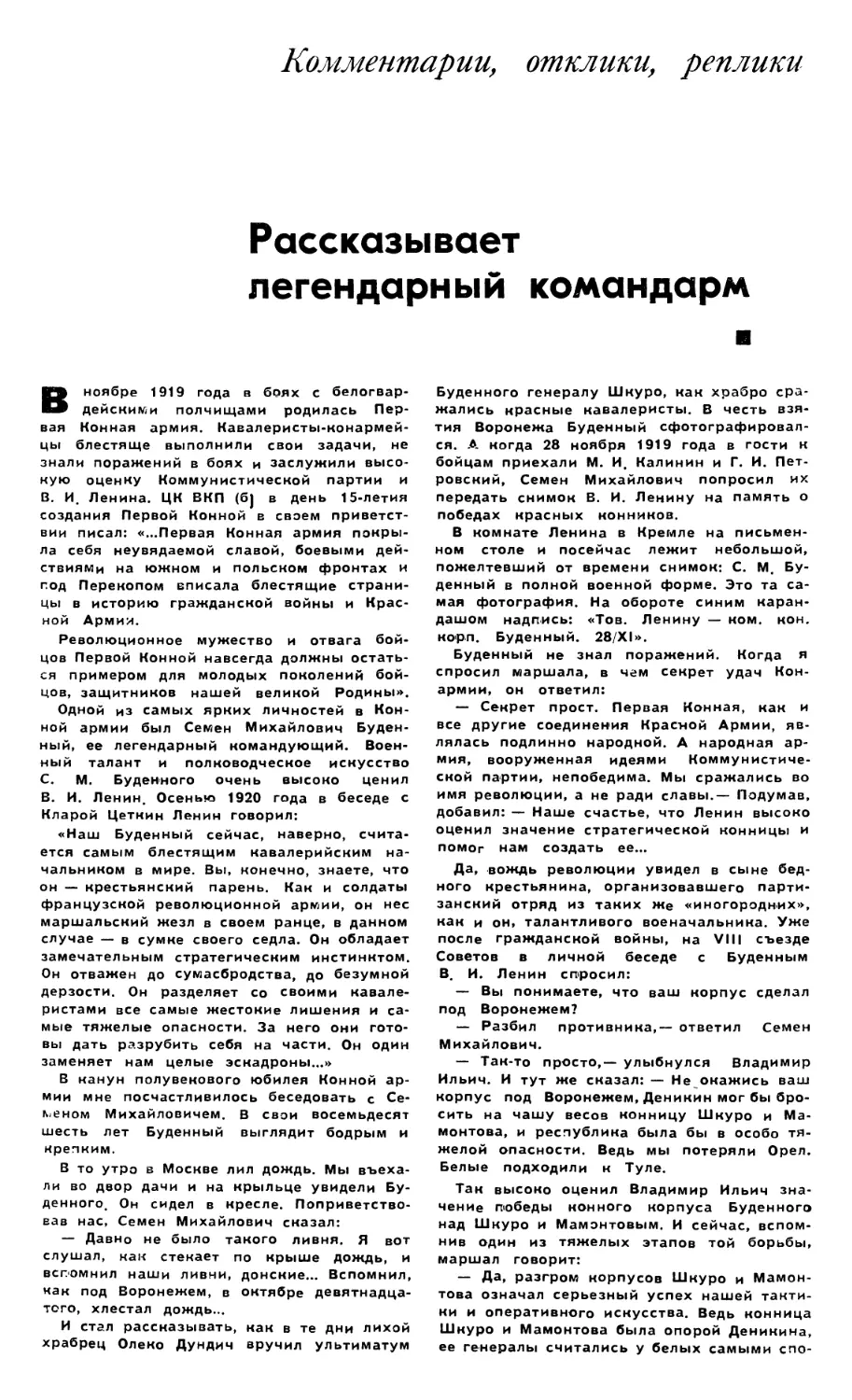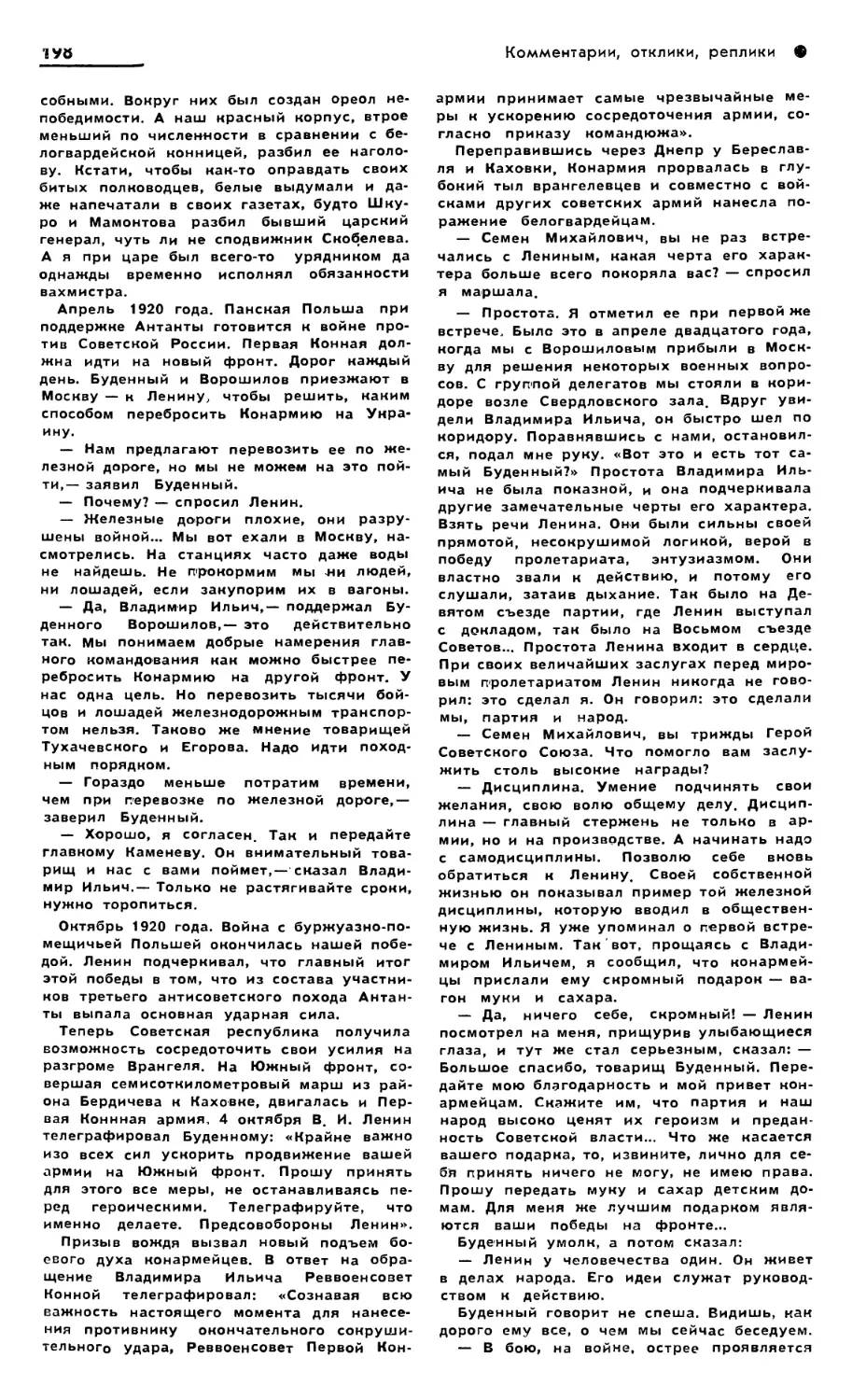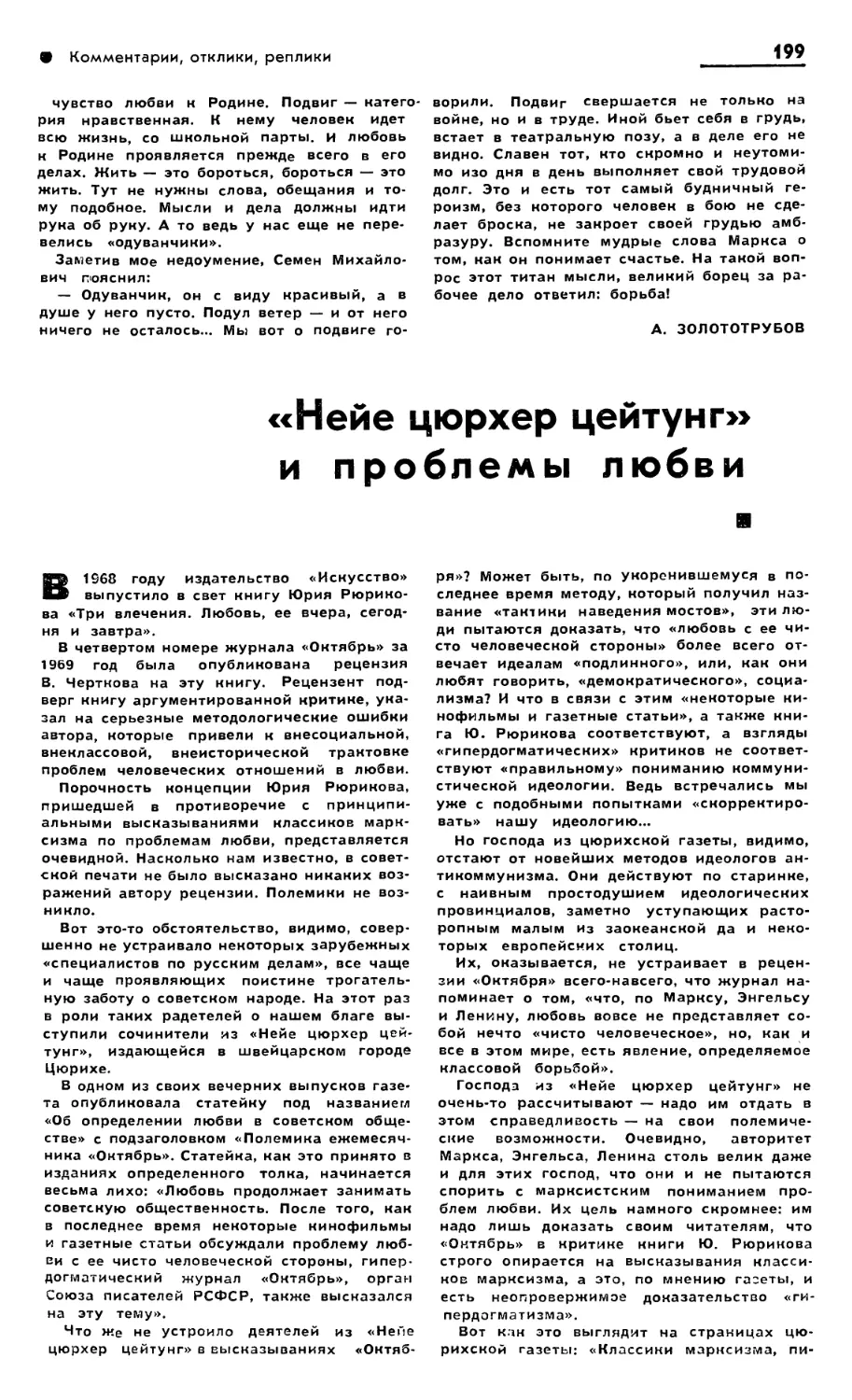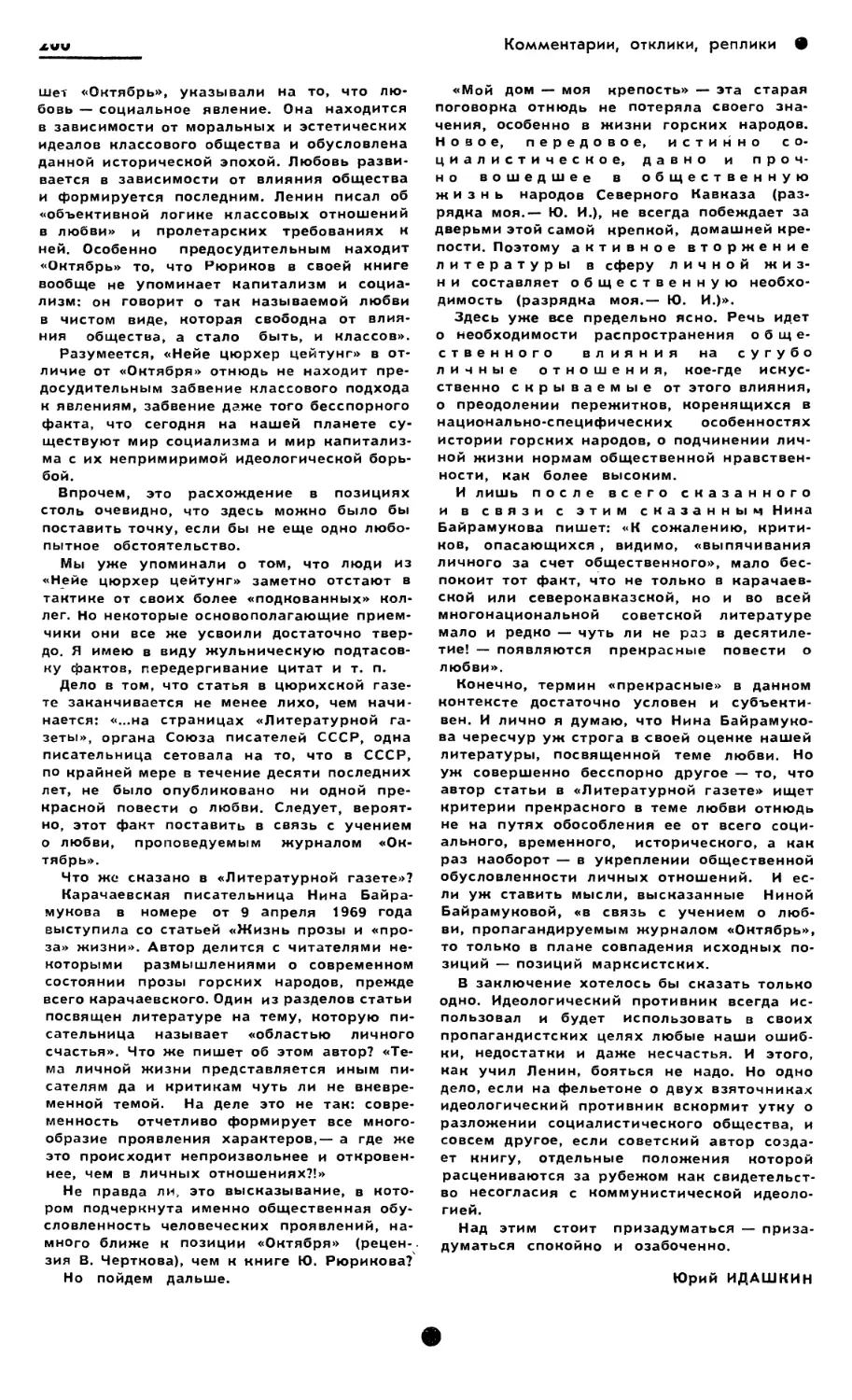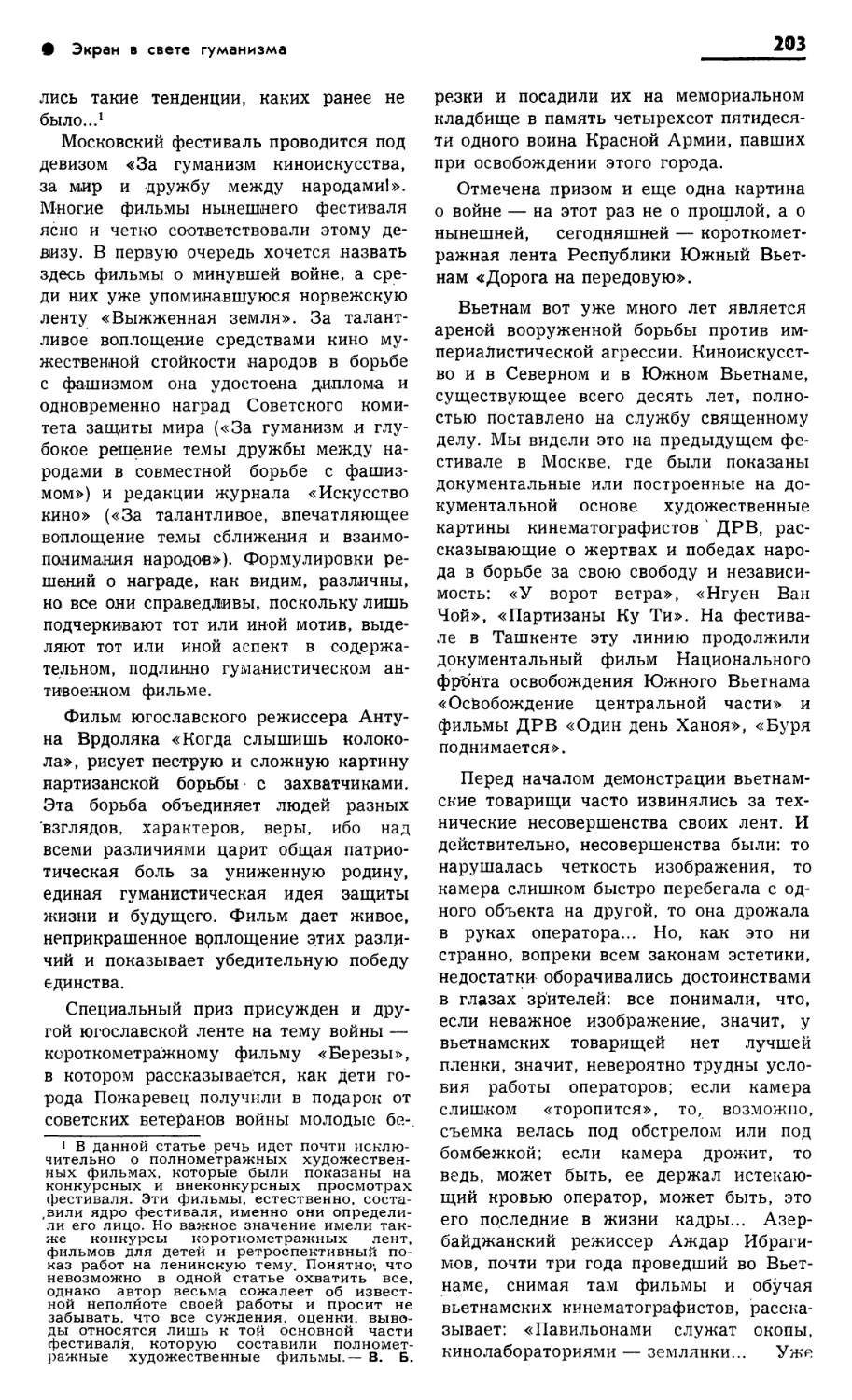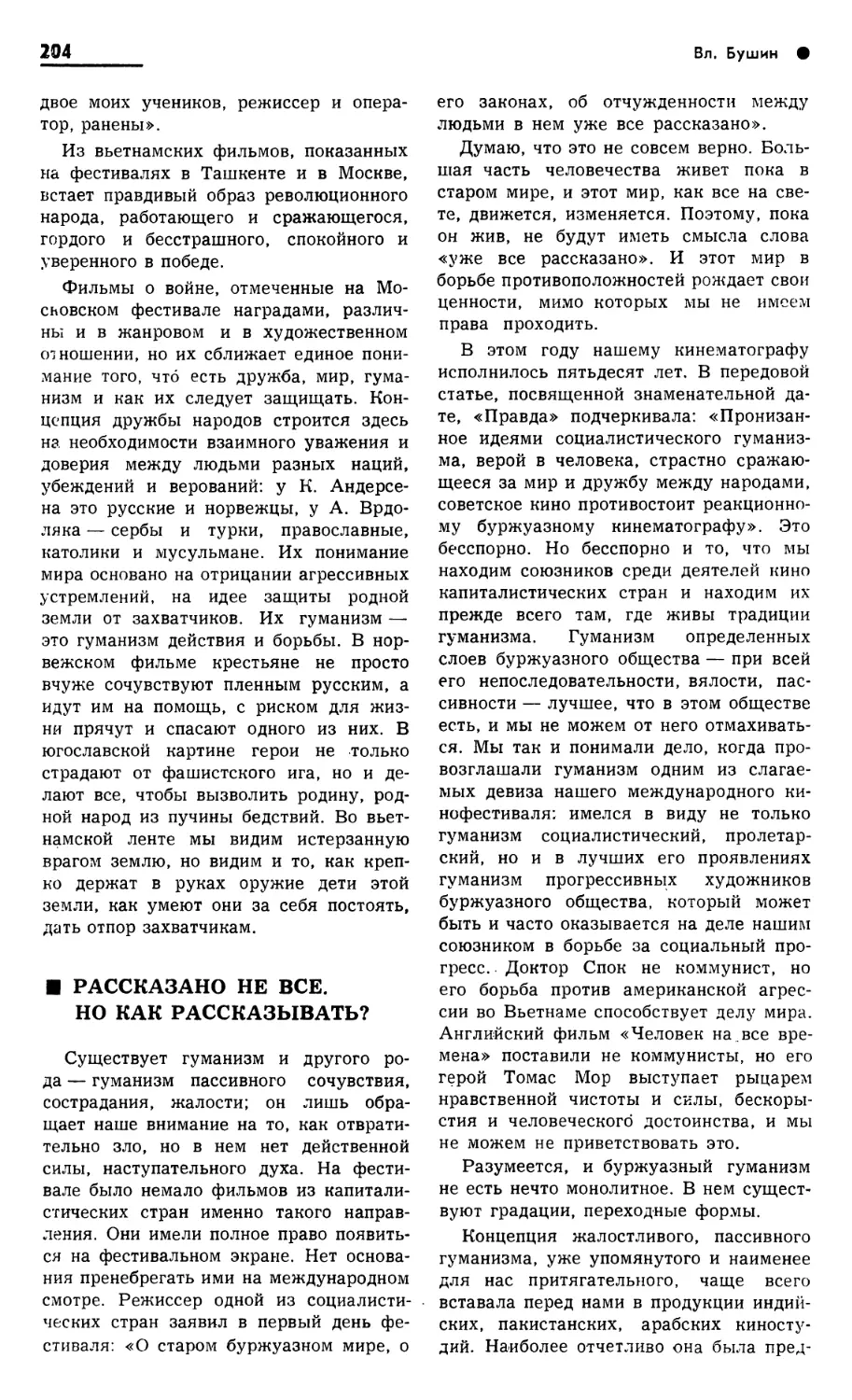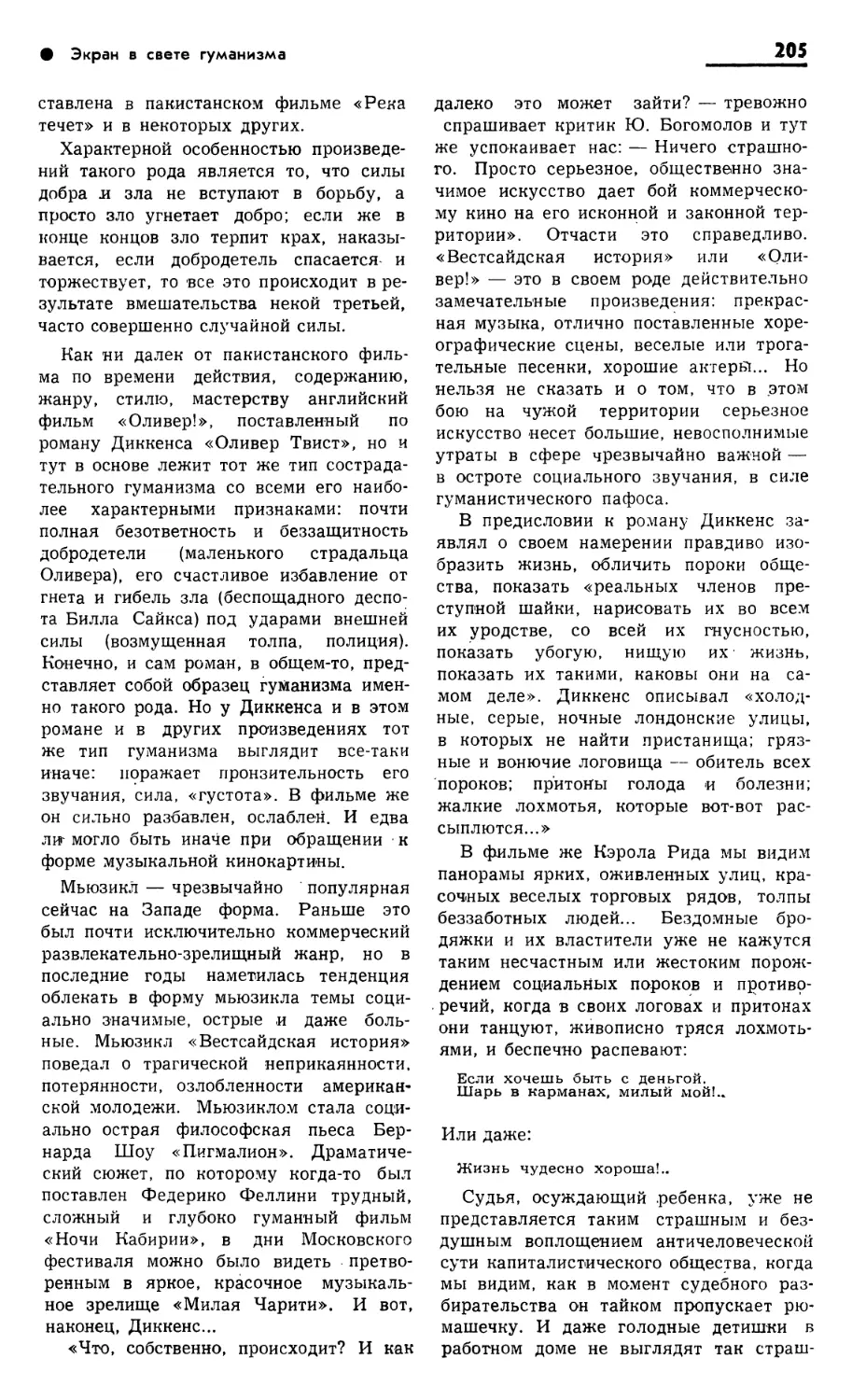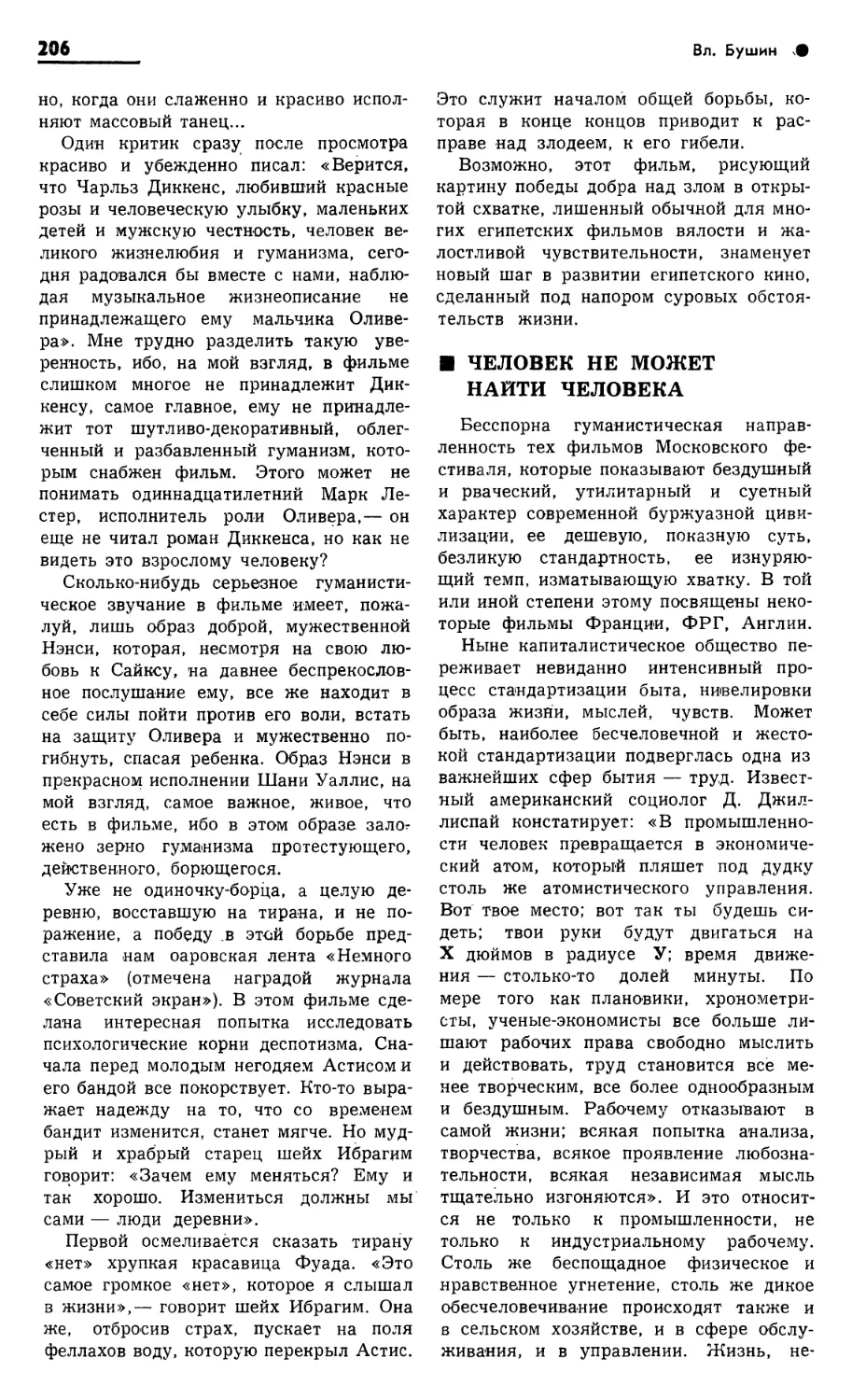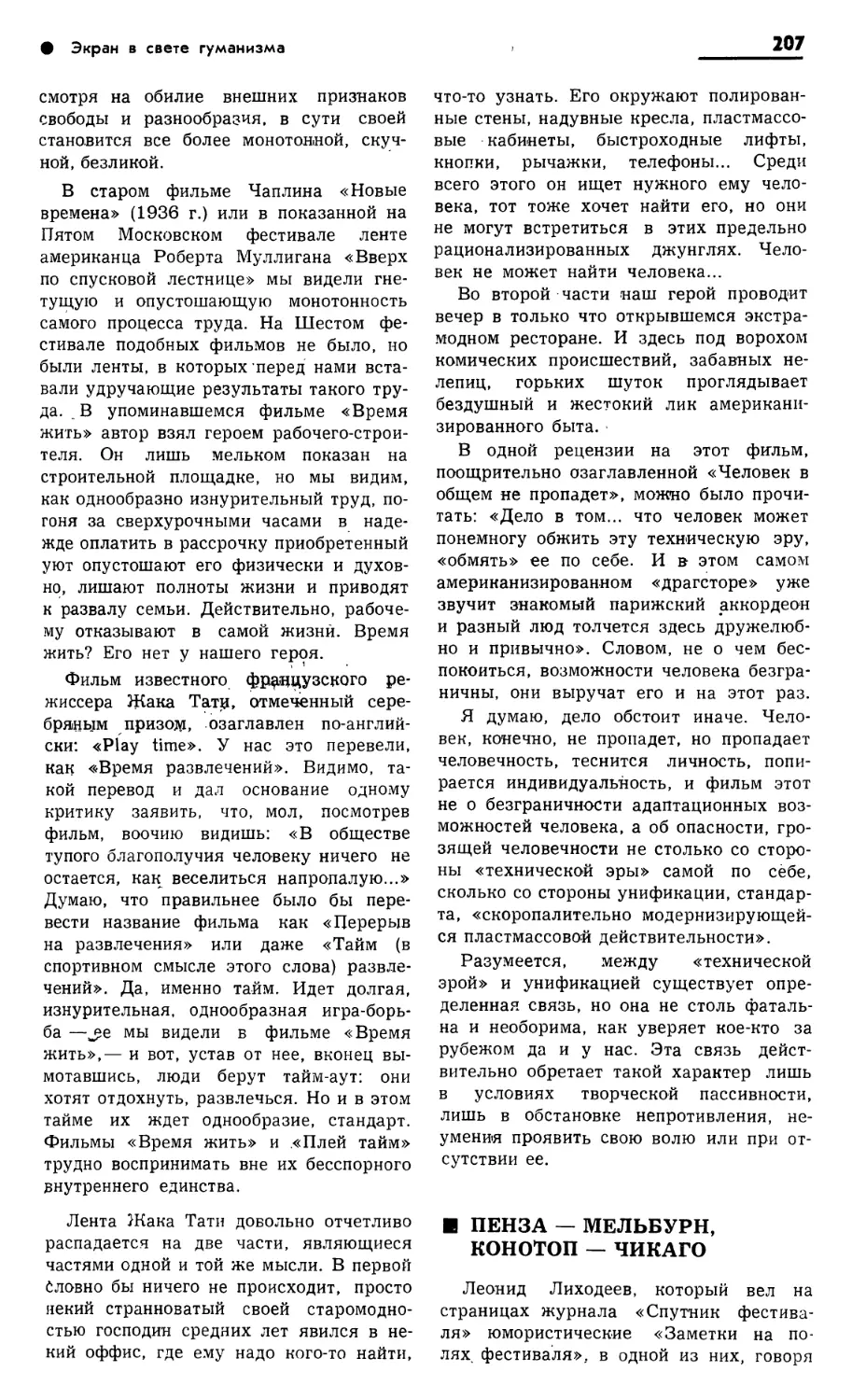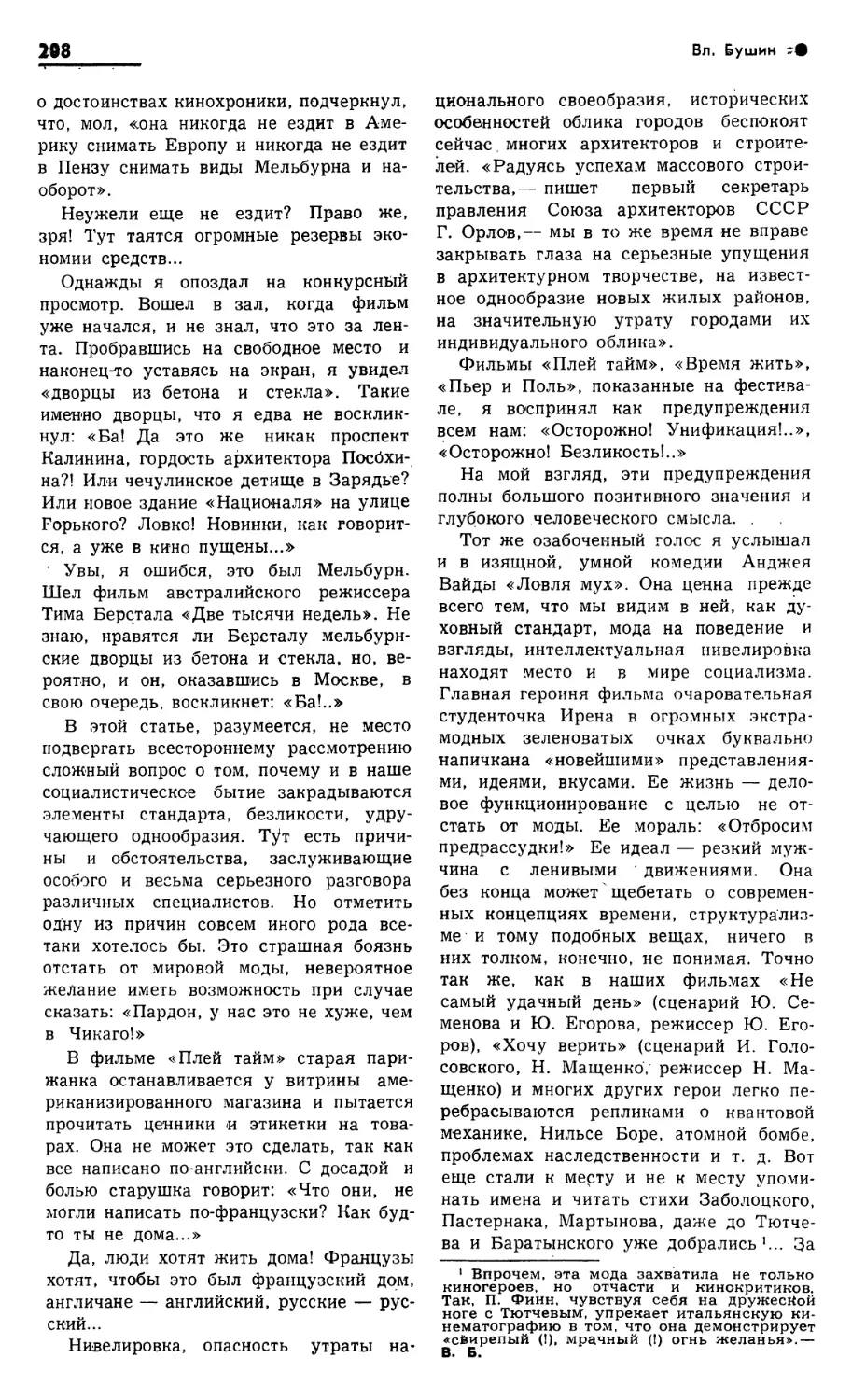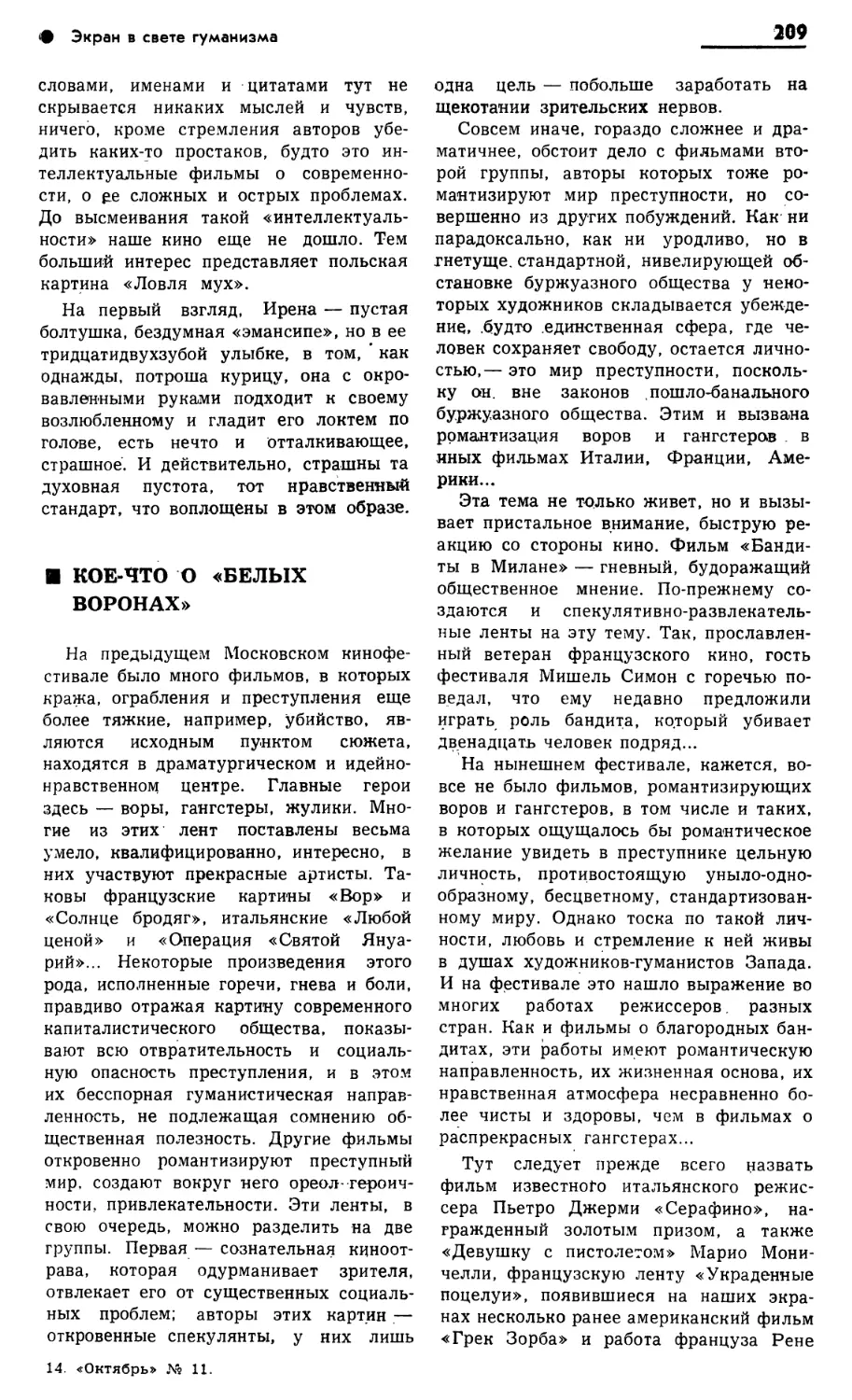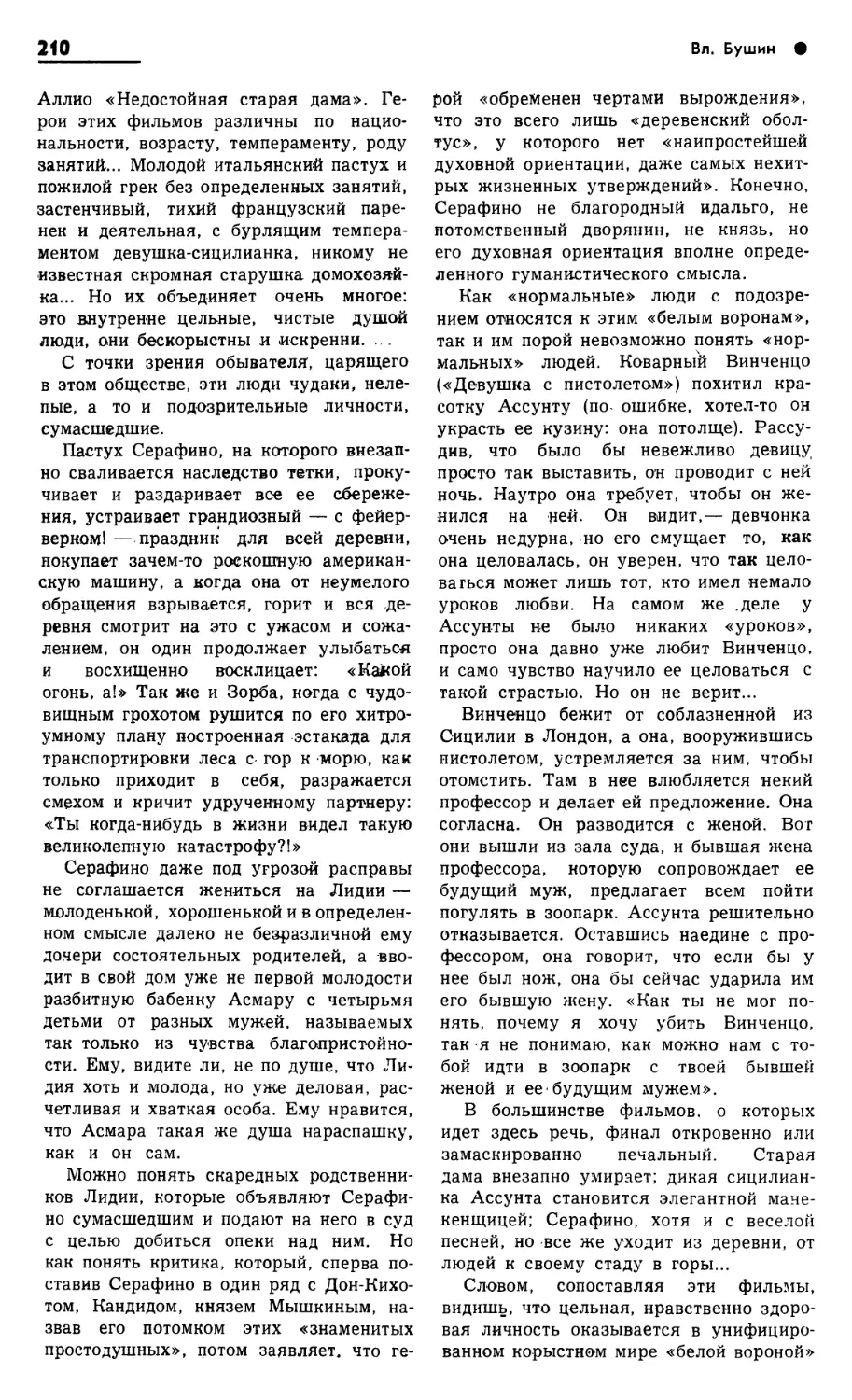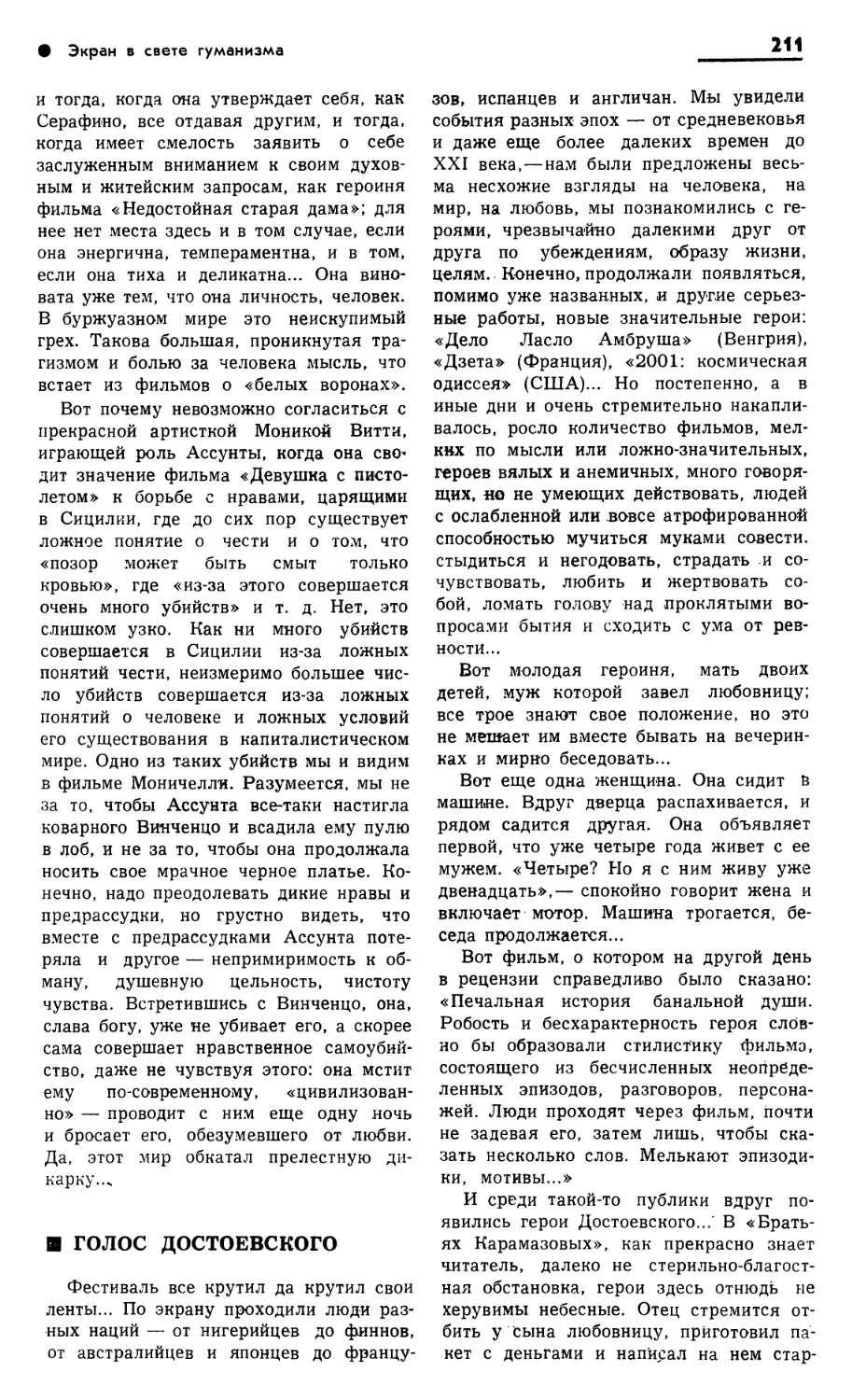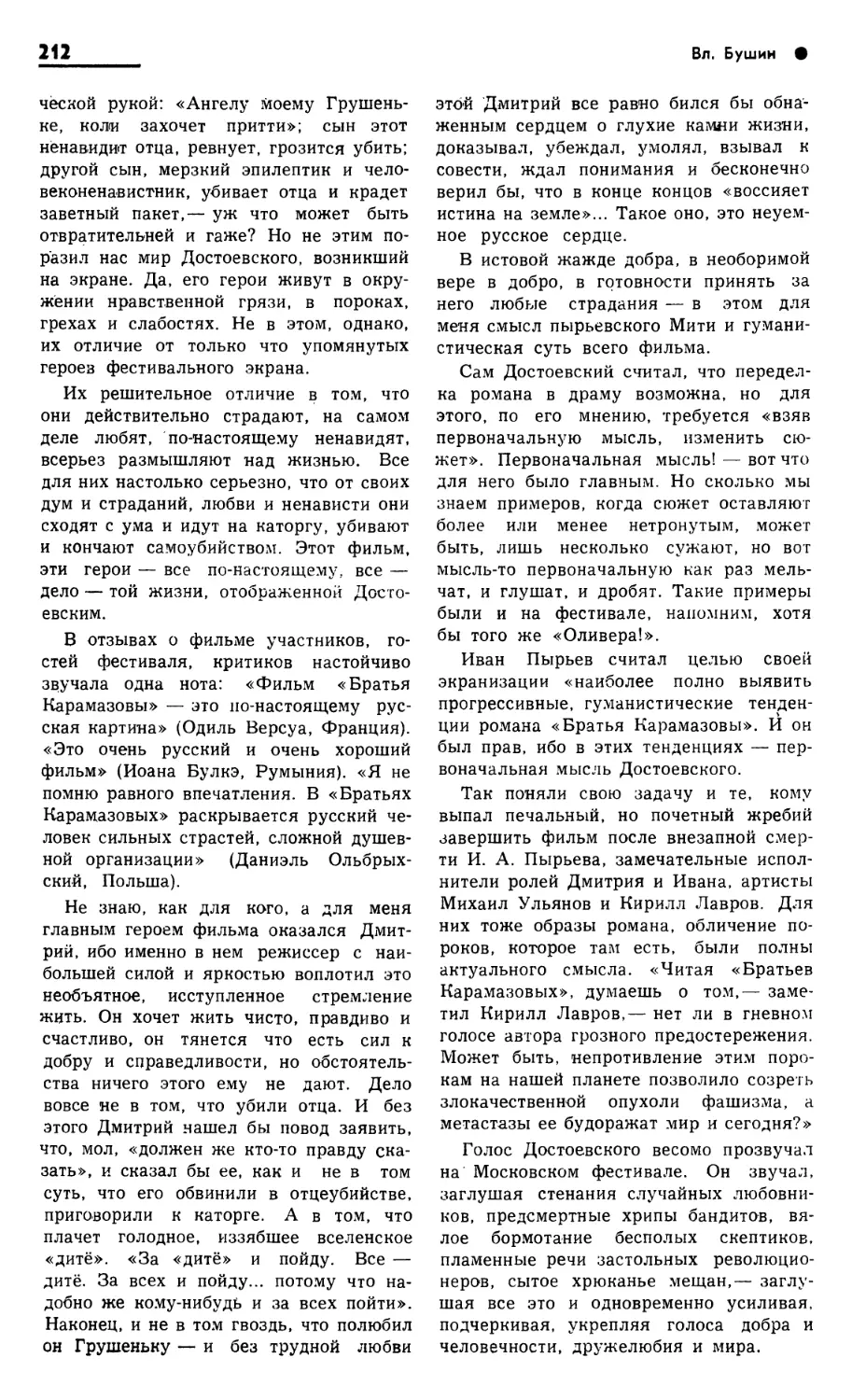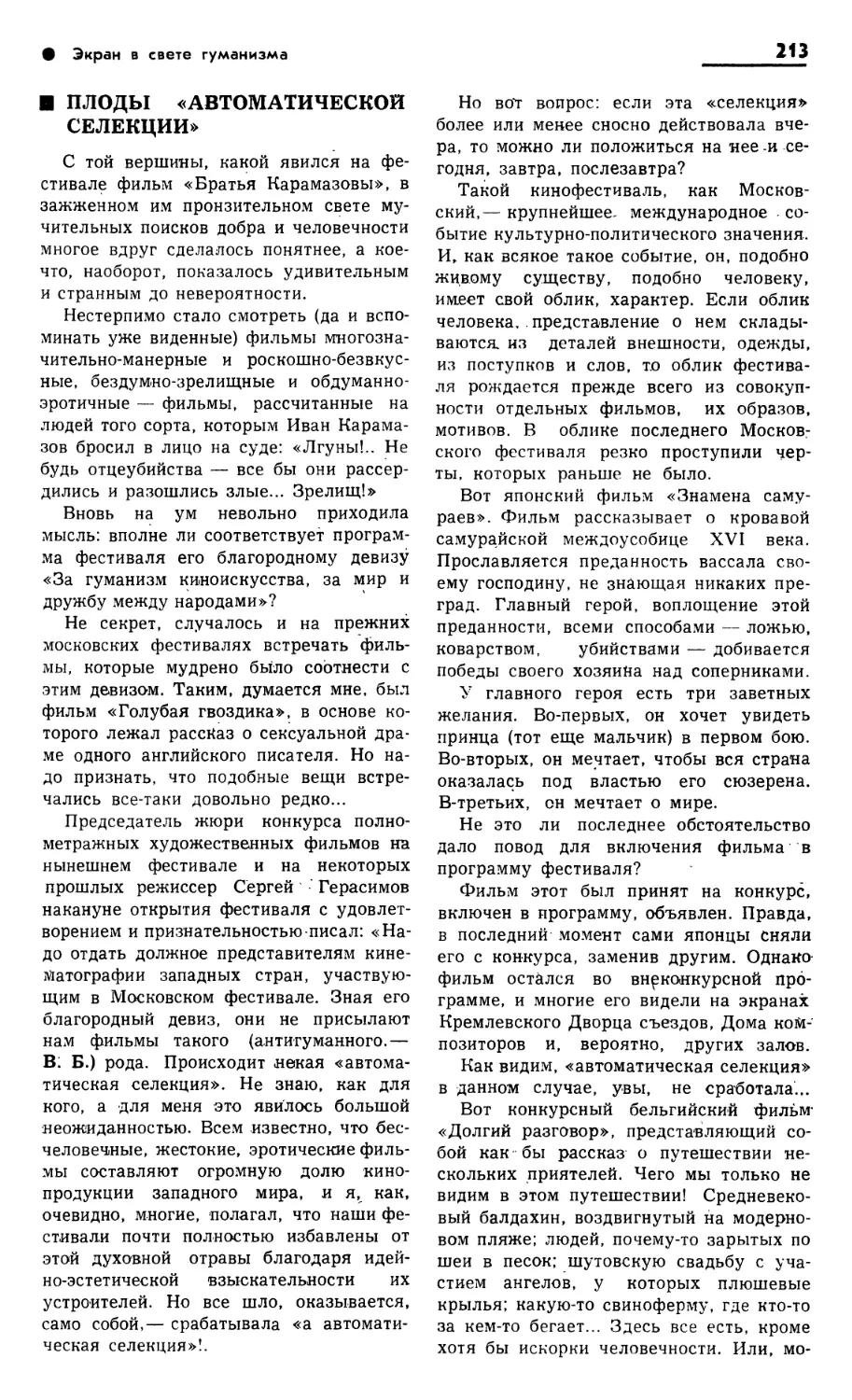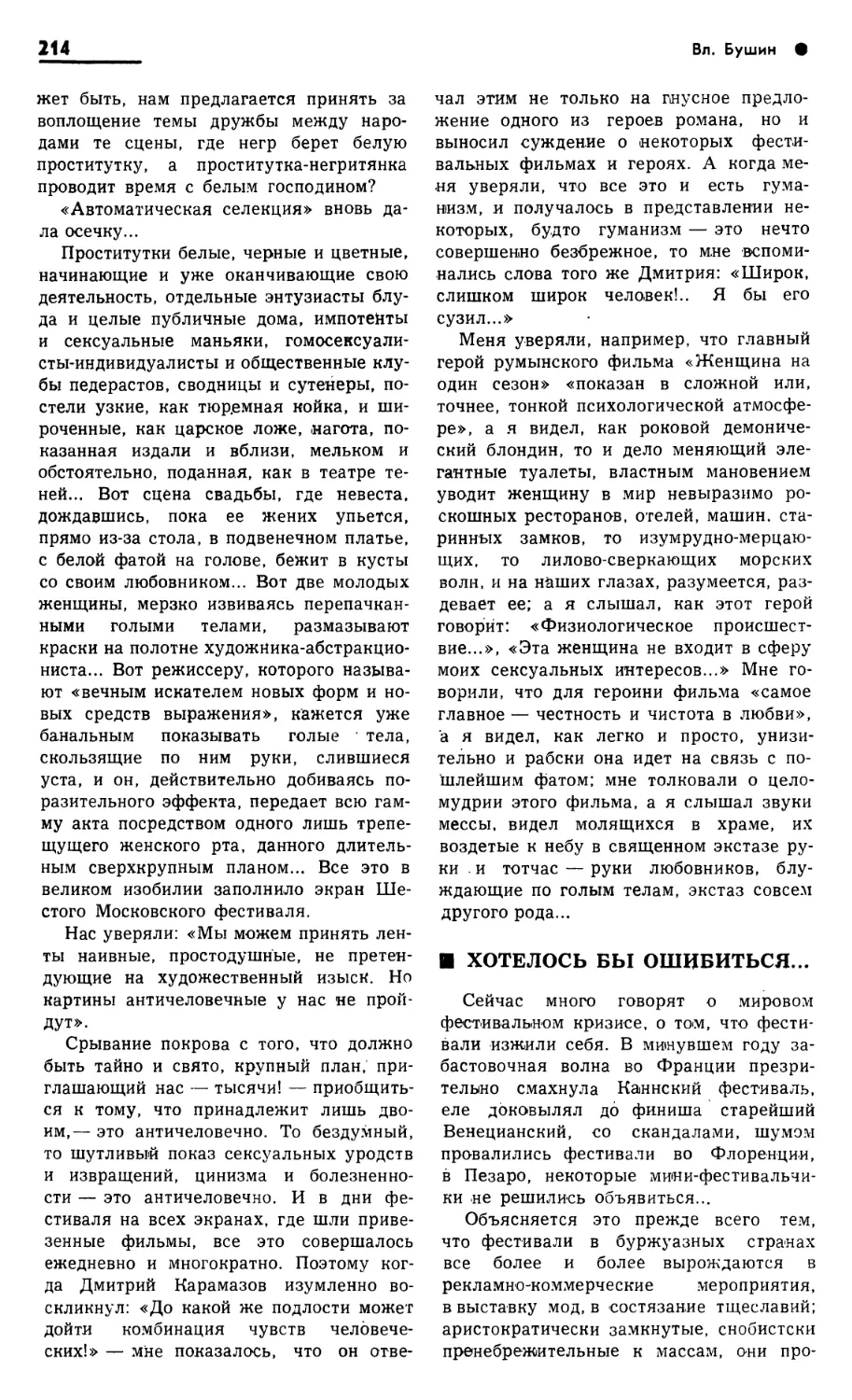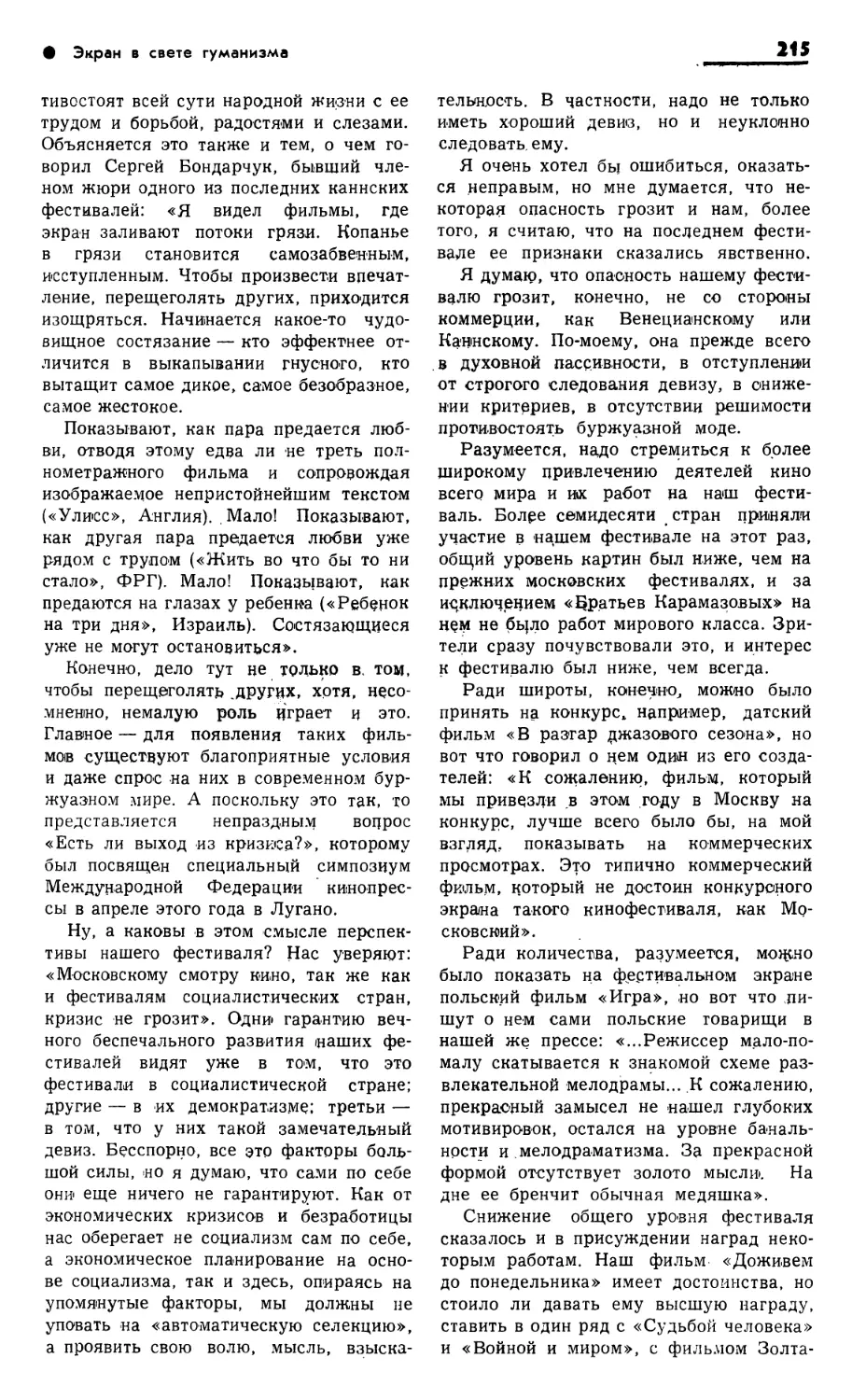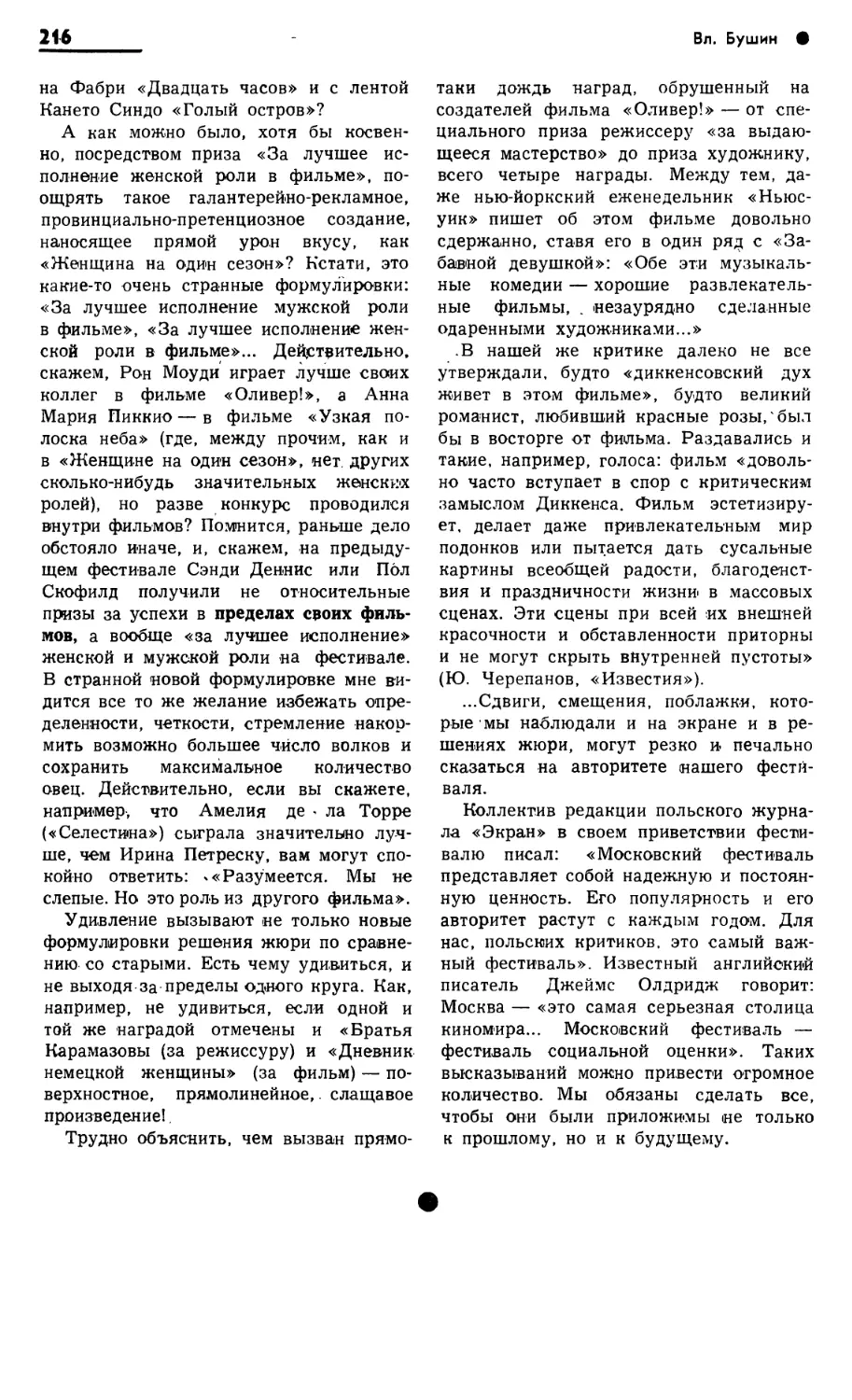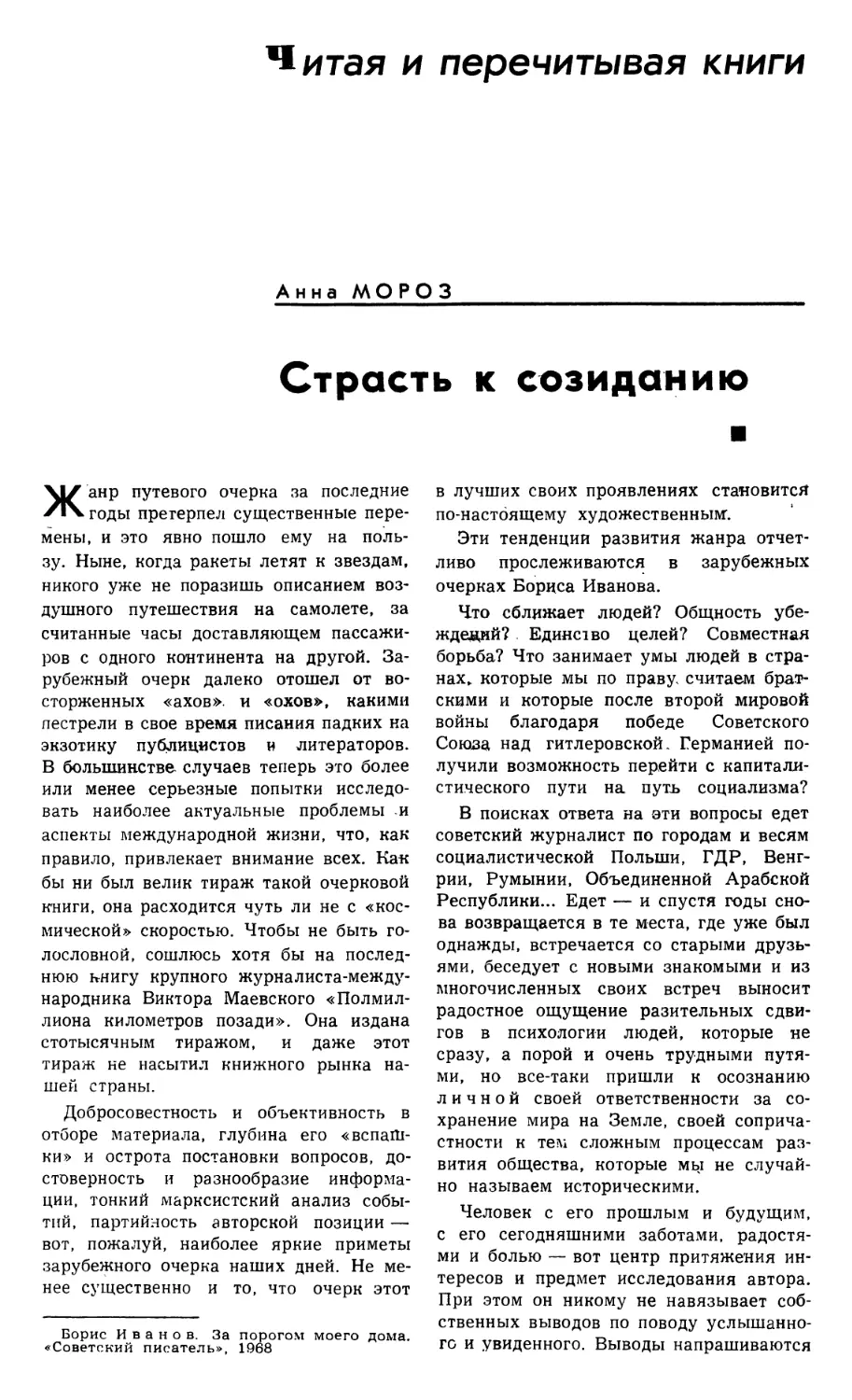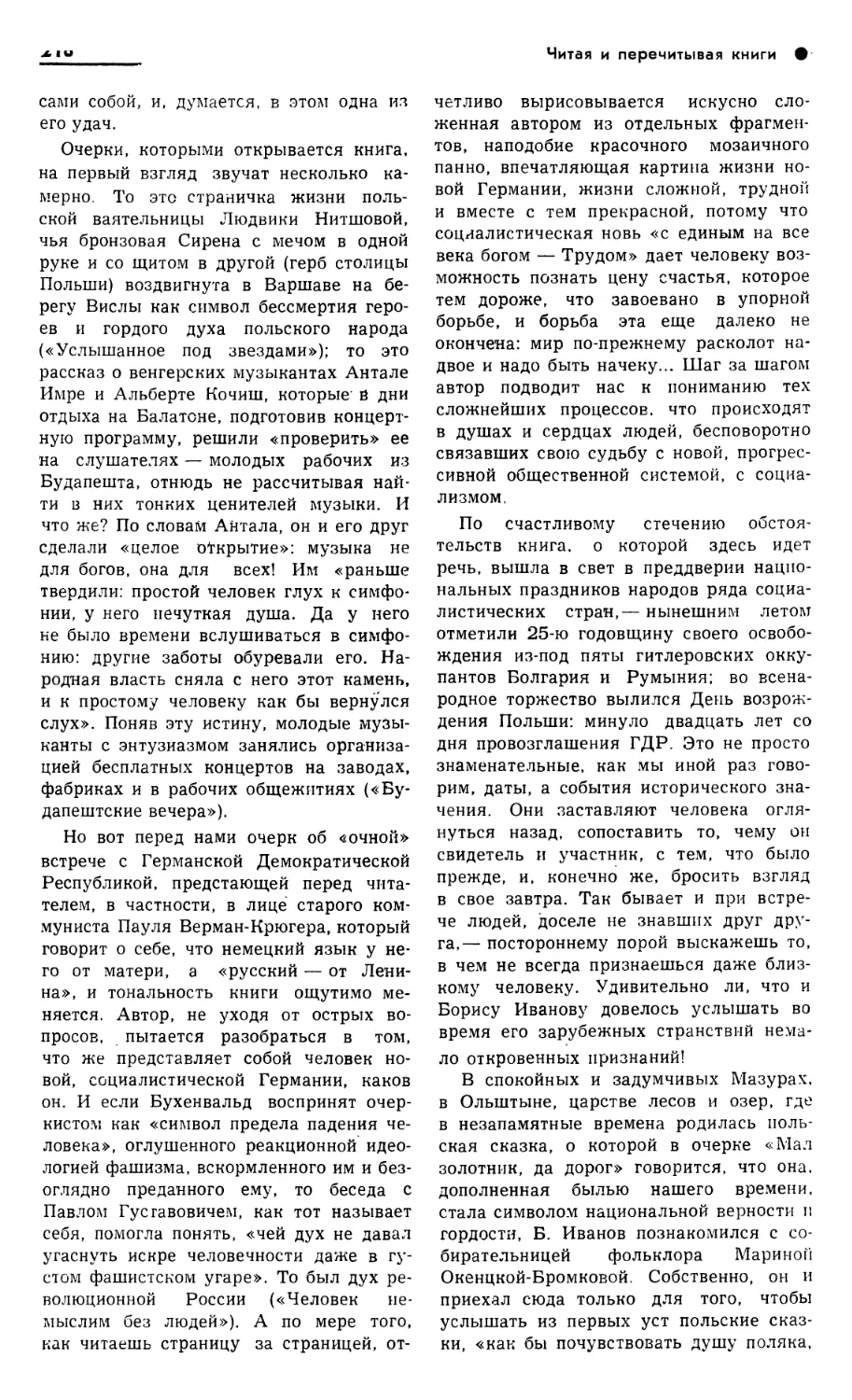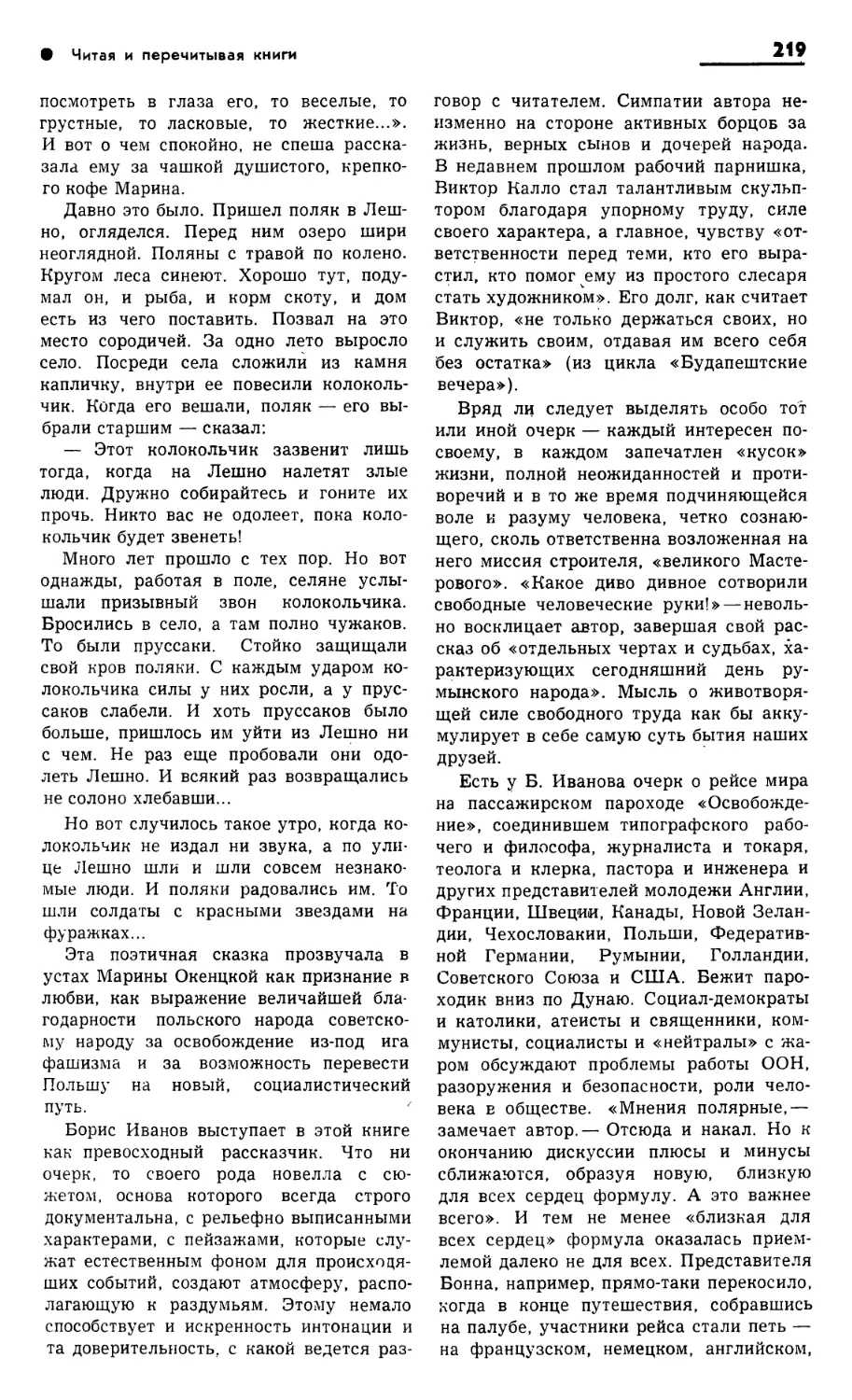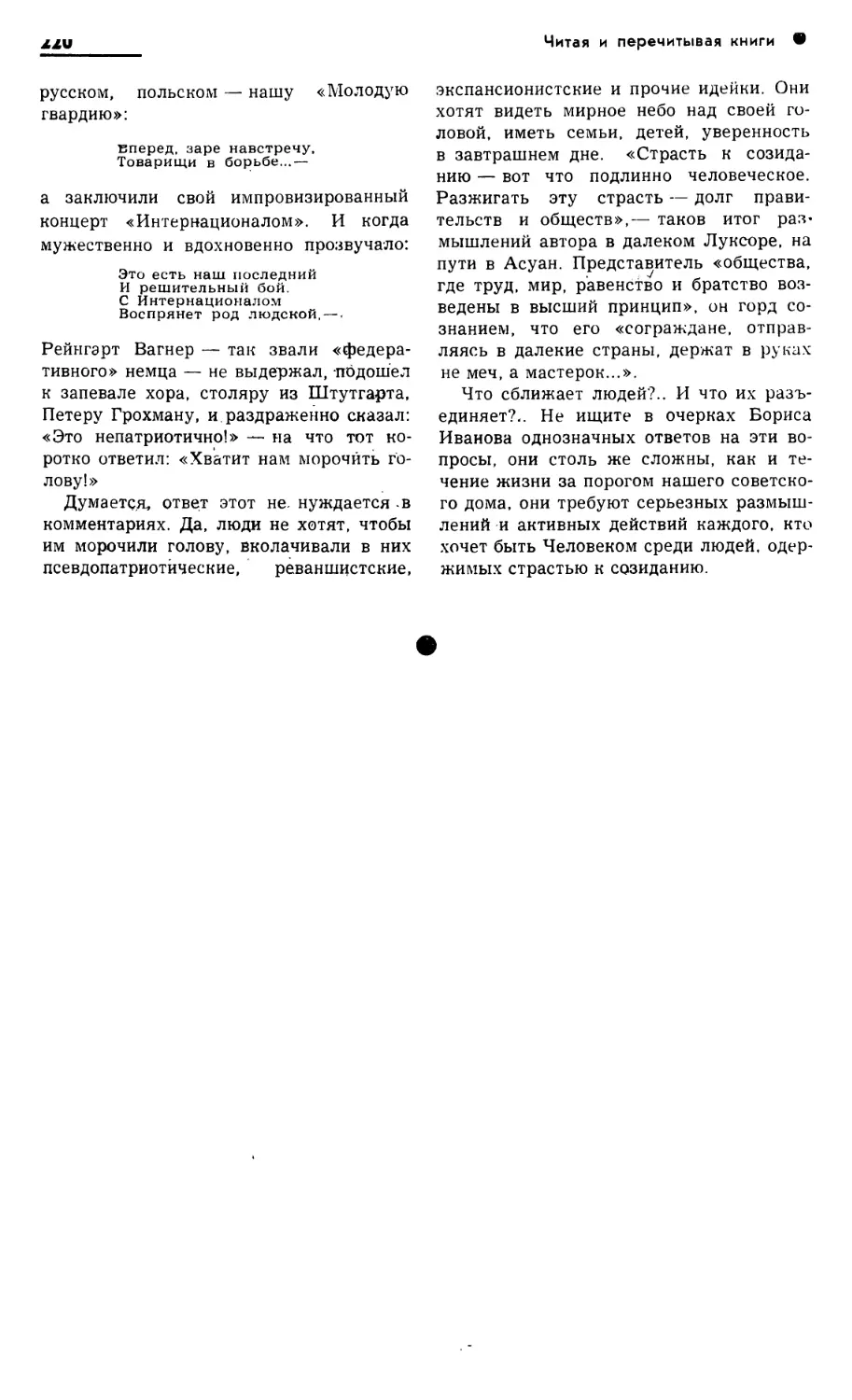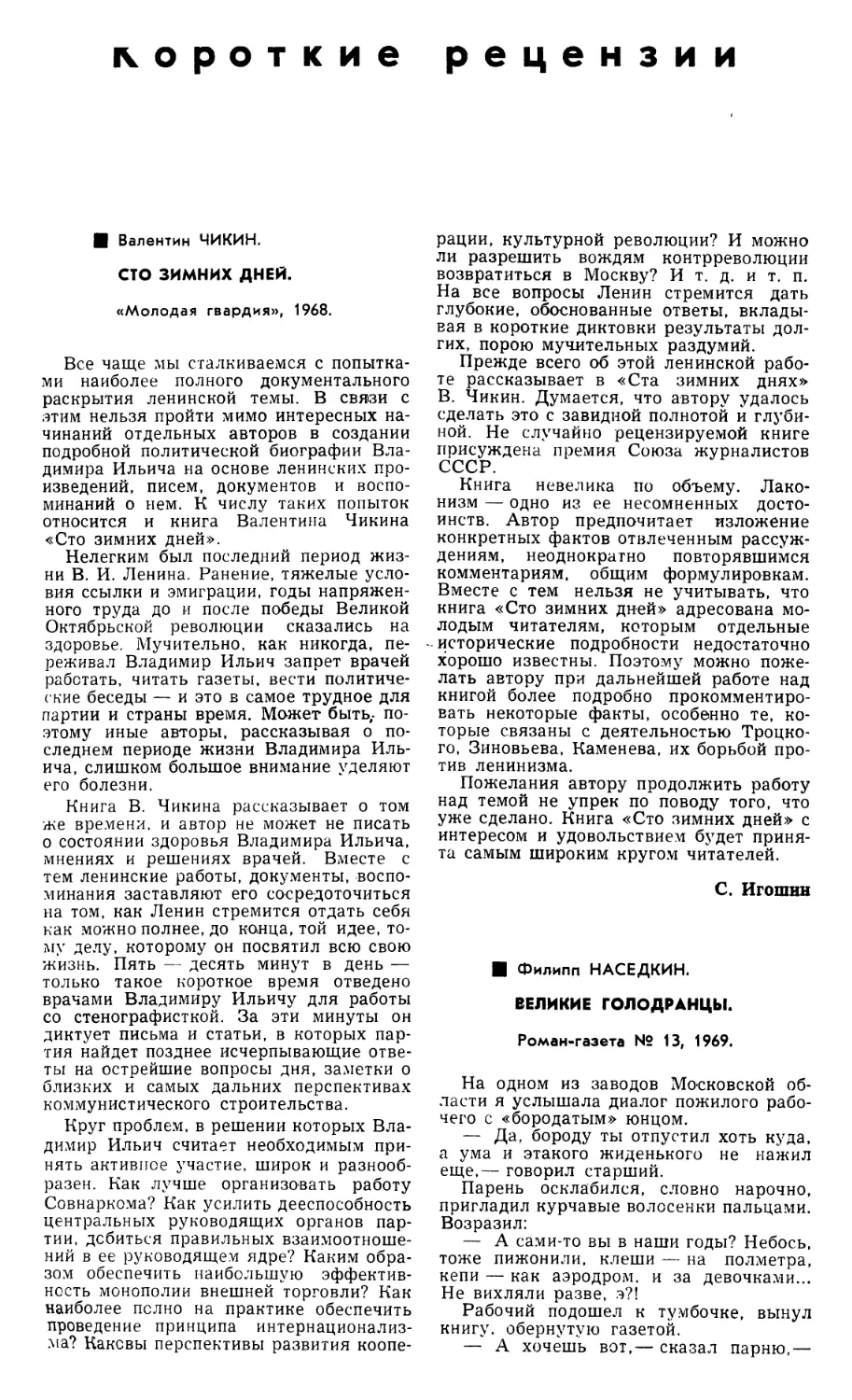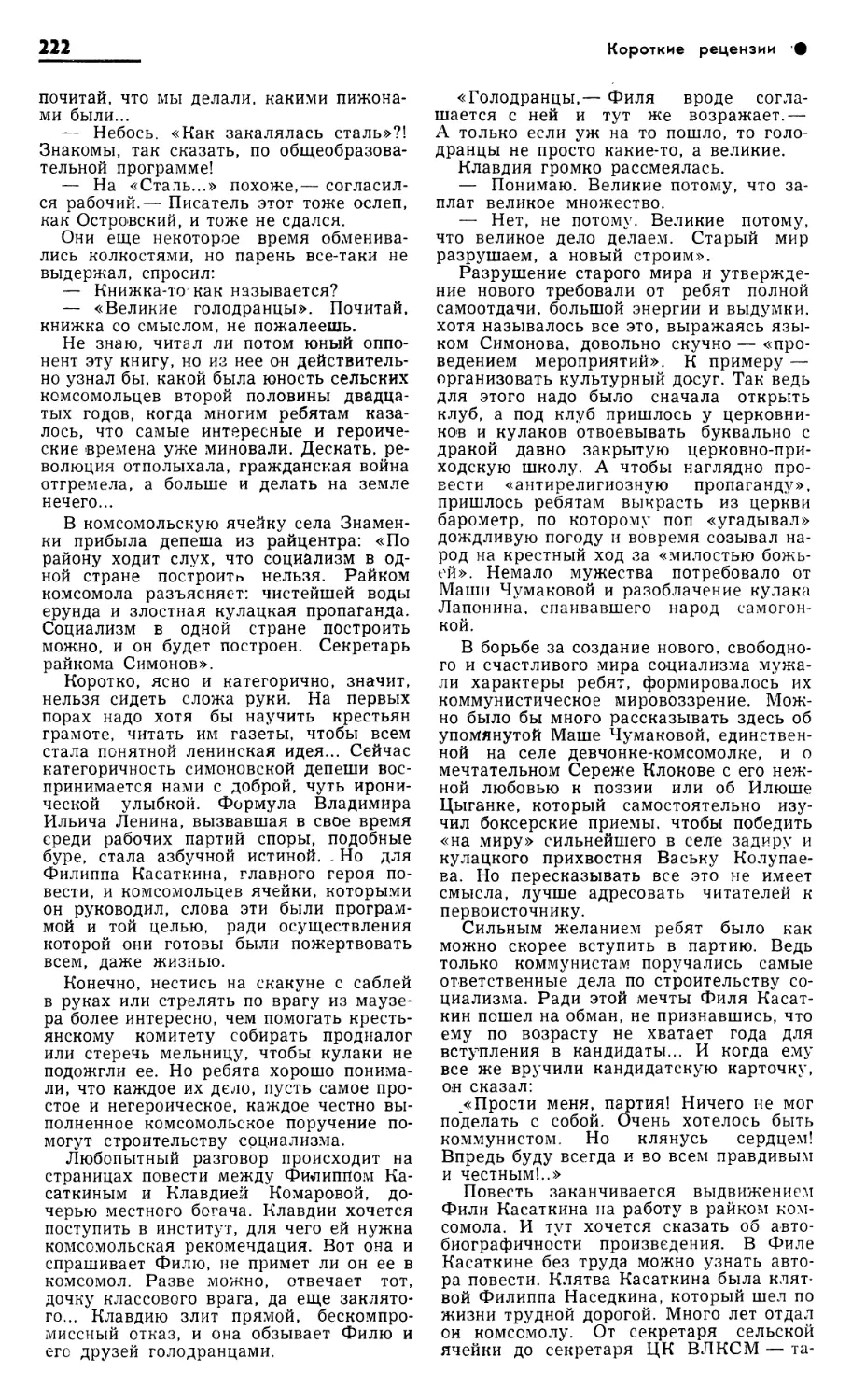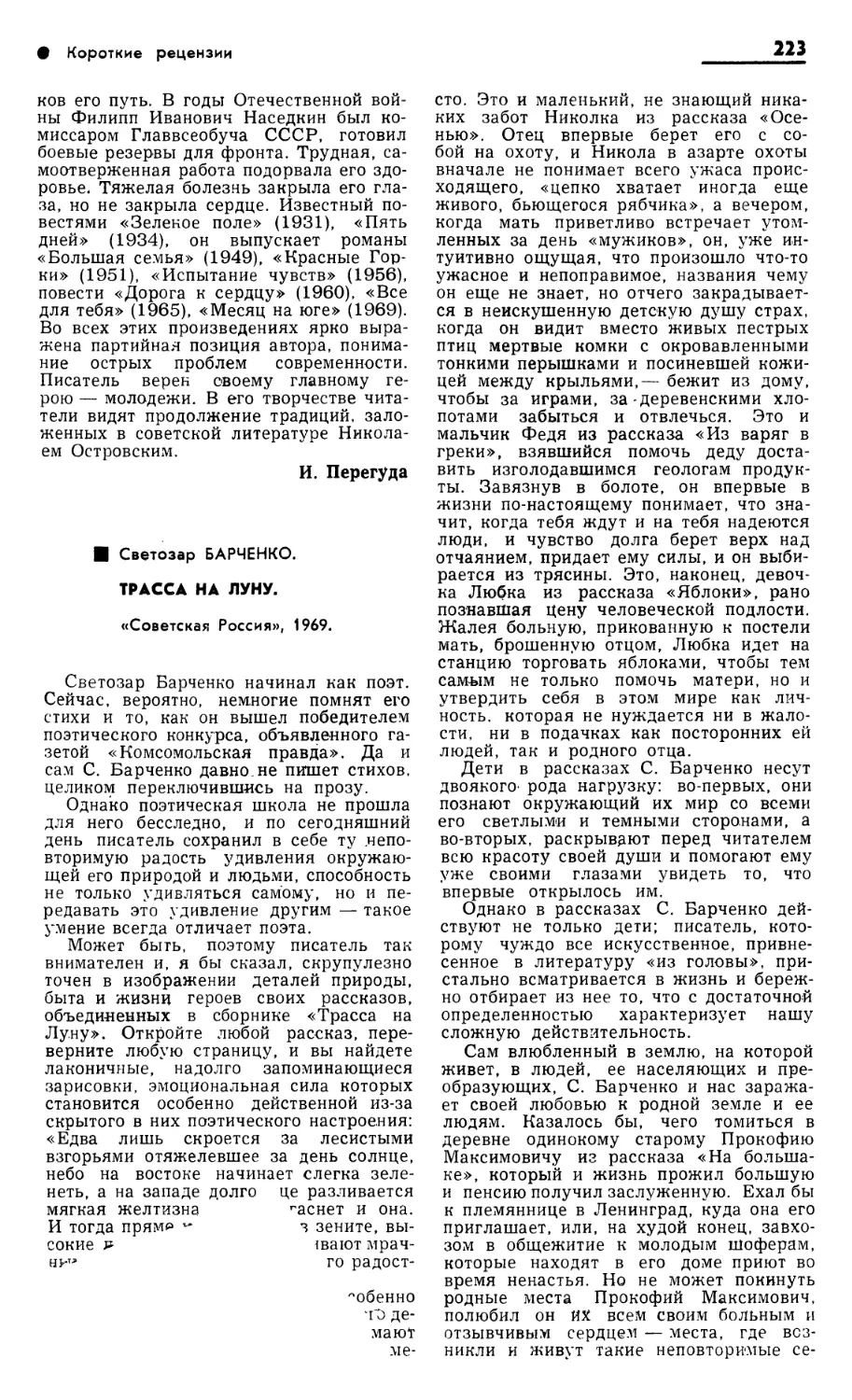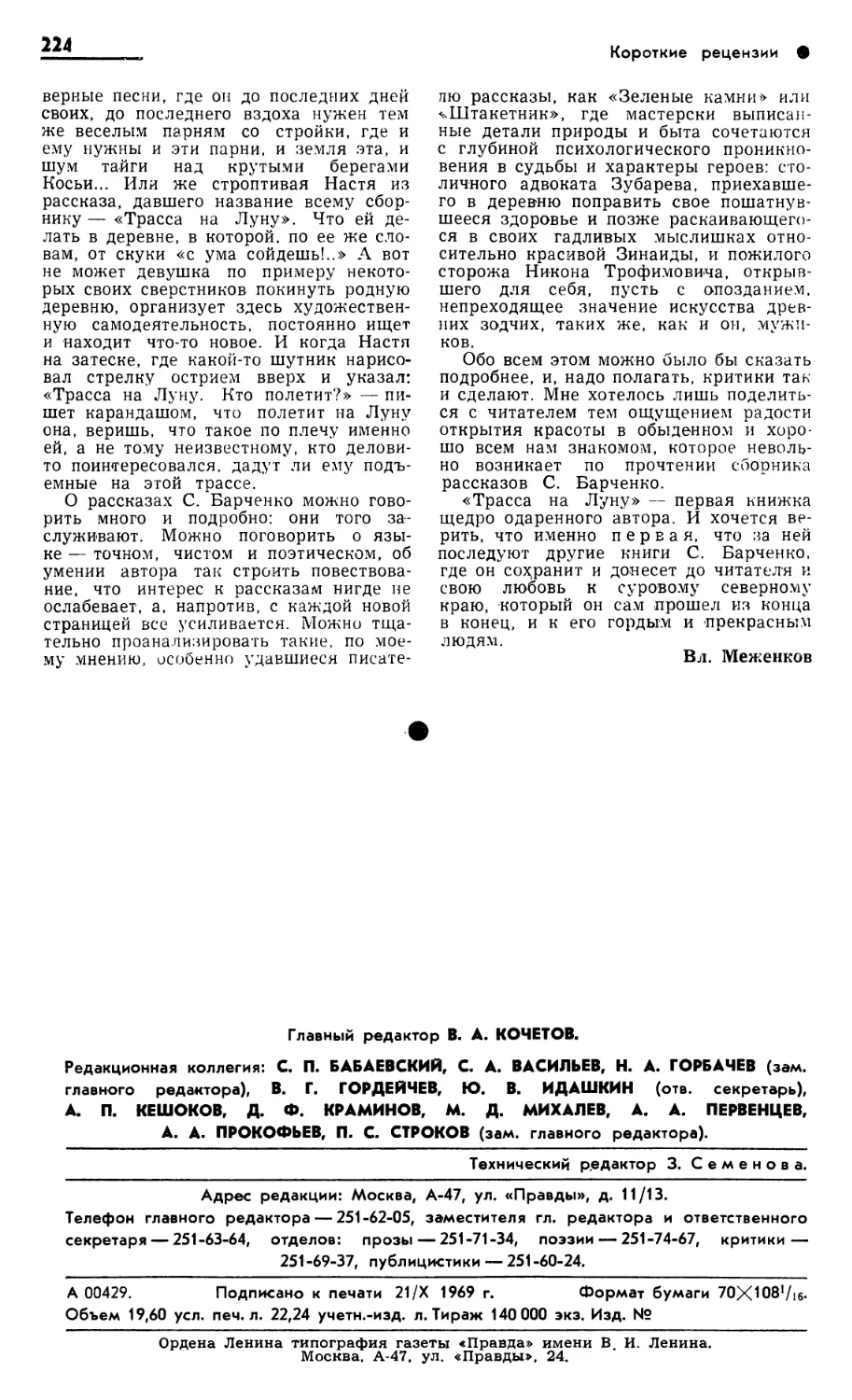Tags: журнал литературно-художественный журнал журнал октябрь
Year: 1969
Text
Октябрь
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА
И
НОЯБРЬ
19 6 9
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
В
H
о
M
Е :
Б. Е. КАБАЛОЕВ.
Ленинской правдой окрыленные.
Сергей СМИРНОВ.
Скрипичный мастер. Поэма.
Анатолий АНАНЬЕВ.
Межа. Роман.
3
12
19
Всеволод КОЧЕТОВ. 1П7
Чего же ты хочешь! Роман. I U ■
ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ
Д. КРАМИНОВ,
Америка смятения и раздоров,
Д. КРАМИНОВ. 17Q
Борис МАЙОРОВ. 1ДЛ
Я смотрю хоккей. 104
КОММЕНТАРИИ, ОТКЛИКИ, РЕПЛИКИ
А. ЗОЛОТОТРУБОВ. 1 Q7
Рассказывает легендарный командарм,
Юрий ИДАШКИН. inn
«Нейе цюрхер цейтунг» и проблемы любви. ■ ЭЭ
ИСКУССТВО
Вл. БУШИН. 0П1
Экран в свете гуманизма. LM I
ЧИТАЯ И ПЕРЕЧИТЫВАЯ КНИГИ
Анна МОРОЗ. 017
Страсть к созиданию. L I I
КОРОТКИЕ РЕЦЕНЗИИ
С. ИГОШИН. О книге Валентина Чикина «Сто зимних
дней». И. ПЕРЕГУДА. О книге Филиппа Наседкина
«Великие голодранцы». Вл. МЕЖЕНКОВ. О книге Светозара 001
Барченко «Трасса на луну». LL I
Б. Е. КАБАЛОЕВ,
первый секретарь
Северо-Осетинского обкома КПСС
Ленинской правдой
окрыленные
• ■
Т о было суровое, тревожное время становления и мужания первого
■ в мире государства рабочих и крестьян. На Северный Кавказ
надвигались белые банды, молодая Республика Советов выдерживала
натиск многочисленных врагов. Огнями революции вспыхивали алые стяги
на древних боевых башнях в самых далеких ущельях. И прикалывал к
папахе кумачовую ленту горец, не знавший в своей жизни ничего,
кроме тяжелого, изнурительного труда, подвязывал к поясу дедовский
кинжал и уходил узкой горной тропой в бой за власть Советов, за
торжество великой ленинской правды, овладевшей его сердцем.
Революция и мир, преображенный ею. Наше славное прошлое,
овеянное борьбой за народное счастье. Люди и земля, по которой они идут
твердой поступью хозяев нового мира. Сколько ассоциаций возникает,
когда думаешь обо всем этом!..
Горит подожженное со всех сторон белобандитами осетинское село
Старый Батакоюрт. Казалось бы, далеко от Москвы это село. И столько
забот у Совета Народных Комиссаров республики и его председателя
Владимира Ильича Ленина! Ведь всего немногим более года назад
свершился Великий Октябрь. Голод, разруха, контрреволюция
обрушились на республику. Тревожные вести шли со всех концов огромной
страны. Но уже тогда Ленин с гениальной прозорливостью видел
Россию будущего — встающую из мрака, могучую и прекрасную.
Далеко на Северном Кавказе горит осетинское село Старый
Батакоюрт (Владимировское). Весть об этом приходит в Москву, к Ленину.
Вот выписка из протокола Постановления СНК РСФСР о помощи
разоренному осетинскому населению села Владимировского: «Поручить
состоящей при Народном Комиссариате Социального обеспечения
комиссии по оказанию помощи жертвам контрреволюции рассмотреть
в двухдневный срок ходатайство осетинского населения и либо
ассигновать соответствующую сумму, либо внести вопрос в Совет Народных
Комиссаров». Эти строки подписаны ленинской рукой 21 января
1919 года. Жители села получили помощь от Советского правительства
в самое тяжелое для страны время. Благодарная память осетинского
народа хранит немало свидетельств теплой ленинской заботы.
4
Б. Е. Кабалоев 0
Имя Ленина близко и дорого людям. В сознании трудового горца
в нем воплотились новая жизнь, свободная от социального и
национального гнета, все самое дорогое и справедливое на земле. И недаром
первая советская песня, рожденная в горах Осетии, была о Ленине.
...Всю свою жизнь он боролся
За дело народа.
Будь светел, Ленин!
Трудовому народу
Он подарил право на жизнь.
Будь светел, Ленин!
К сожалению, подстрочный перевод стирает национальный колорит,
не может передать всех красок, глубокой поэтичности этой песни. Но
надо услышать, как поют ее у нас в горах, вслушаться в ее мелодию!
Песню сложили в Куртатинском ущелье те, у кого до революции был
один удел: до конца своих дней пасти чужих овец, жить в темной,
дымной сакле, не знать, что такое книга и школа для детей. Ее сложили
в 1924 году бывшие батраки во главе с первым председателем Хидикус-
Даллагкауского сельсовета, красным партизаном, старым коммунистом
Вано Гуриевым. Песня эта стала народной. Ее поют теперь во всех
уголках Северной Осетии. В Куртатинском ущелье стоит и один из
первых в стране памятников В. И. Ленину. Он был установлен в день
смерти Владимира Ильича горцами, которые, не имея никакой
техники, где на быках, где силой собственных своих рук передвигали метр
за метром огромную гранитную глыбу. На черном камне высечено:
«Ленин. 1924».
Сейчас рядом с обелиском — многоэтажные корпуса нового поселка
горняков. Это Фиагдонский рудник, разбудивший древние горы,— одно
из предприятий выросшего в горах Осетии гигантского комбината
современной цветной металлургии.
Великий Октябрь, торжество ленинских идей, рождение первого в
мире социалистического рабоче-крестьянского государства сыграли
решающую роль в,судьбах народов Кавказа, как и других братских
народов, находившихся до революции под гнетом царизма, местной
буржуазии и феодалов.
Утверждение власти Советов проходило у нас в сложных условиях.
Проводившаяся царизмом политика «разделяй и властвуй» была
рассчитана на то, чтобы вызвать у горских народов недоверие к русскому
народу, посеять рознь между самими горскими народами. Политика эта
потерпела крах. Очистительная буря революции спл»отила трудящихся
разных национальностей в борьбе за общие идеалы, за ленинскую
правду. На Северном Кавказе эту борьбу возглавляли посланцы партии,
верные соратники Ленина — С. М. Киров и Серго Орджоникидзе. Под их
руководством самоотверженно работали, отдавали все силы делу
революции сыны всех народов, населяющих Кавказ: грузины Ной Буачидзе и
Мамия Орахелашвили, осетины Георгий Цаголов и Саханджери Мамсу-
ров, дагестанец Уллубий Буйнакский, кабардинец Бетал Калмыков,
чеченец Асланбек Шерипов, ингуш Гапур Ахриев — сотни, тысячи
бойцов партии, беспредельно преданных идеалам коммунизма.
Большую роль в утверждении Советской власти в Осетии сыграла
осетинская революционная партия «Кермен», названная так по имени
легендарного народного героя. Эта партия (ее организаторы — Дебола
Гибизов, Андрей Гостиев, Николай Кесаев и другие) свою
революционную работу вела под руководством Владикавказского комитета
большевиков. Многие из керменистов отдали жизнь за народное счастье. Мы
гордимся тем, что в невероятно сложных и тяжелых условиях в горах
Осетии родилась эта замечательная организация революционных
борцов. Мы гордимся тем, что от имени трудовых горцев Осетии ЦК партии
Ф Ленинской правдой окрыленные
5
«Кермен» 24 ноября 1917 года телеграфировал: «Петроград.
Председателю Совнаркома товарищу Ленину. Осетинская
революционно-демократическая партия «Кермен» приветствует в Вашем лице рабочее и
крестьянское правительство, под Вашим Красным Знаменем,
знаменующим символ победы труда над капиталом. Знайте, что и мы, сыны
трудовой Осетии, жаждем осуществления лозунгов третьей революции».
Столица нашей республики, носящая незабвенное имя Серго
(прежде Владикавказ), в грозовые годы гражданской войны была одним
из центров революционной борьбы на Северном Кавказе. Здесь в
течение многих лет звучал голос трибуна революции, выдающегося деятеля
нашей партии, любимца и вожака горских народов Сергея Мироновича
Кирова. Отсюда верный соратник Ленина Серго Орджоникидзе
телеграфировал вождю: «Освобождение от белых всего Северного
Кавказа... стало свершившимся фактом. Осетины, ингуши, кабардинцы,
дагестанцы, балкарцы проникнуты полным сознанием могущественности
Советской власти и безграничным доверием к ней». Здесь> во
Владикавказе, 17 ноября 1920 года на съезде народов Терека от имени
Советского правительства И. В. Сталин провозгласил образование Горской
Советской Социалистической Республики.
В столице Северной Осетии мы чтим, как святыню, могилу
семнадцати тысяч борцов, павших за власть Советов в годы гражданской
войны. Здесь горит вечный огонь, и юные ленинцы дают клятву с честью
пронести по жизни эстафету славы отцов.
Отсюда, от стен города Серго, осенью сурового сорок второго года
были отброшены гитлеровские дивизии, рвавшиеся к бакинской и
грозненской нефти. Сейчас у Суарского ущелья, через которое немцы
пытались прорваться на Военно-Грузинскую дорогу, высится воздвигнутый
трудящимися Осетии памятник славным морякам-каспийцам,
стоявшим насмерть, но не пропустившим врага.
Осетию защищали и защитили сыны всех народов братской
советской семьи. В то же время радостно сознавать, что в грозный для
Родины час в рядах ее защитников вместе с представителями других
народов находились сыны и дочери Осетии. Пятидесяти пяти
отважным сынам нашей республики присвоено высокое звание Героя
Советского Союза. В рядах Советской Армии выросли тридцать четыре
генерала-осетина. В их числе известные военачальники: дважды Герой
Советского Союза генерал армии Исса Плиев (кстати сказать,
уроженец того самого села Батакоюрт, которое по инициативе Ленина
получило в тревожном девятнадцатом году помощь от Совнаркома), Герой
Советского Союза генерал армии Георгий Хетагуров, Герой Советского
Союза генерал-полковник Хаджиумар Мамсуров. А среди героев
Безымянной высоты, воспетых в популярной песне из кинофильма
«Тишина», был другой наш земляк, Татари Касабиев.
В горных аулах и близ дорог в Осетии повсюду возвышаются
строгие обелиски. Каждый из них — память о солдатском подвиге. Нет семьи
в Северной Осетии, которая во время Великой Отечественной войны не
потеряла бы отца, мужа, брата, сына, близкого человека. В село Эль-
хотово с фронта не вернулось шестьсот сорок семь человек, в Чиколу —
шестьсот семьдесят четыре, в Хумалаг — четыреста двадцать, в Зиль-
ги — четыреста тринадцать, в Заманкул — триста сорок восемь, в
станицу Змейскую — триста шестьдесят, в Новоосетиновскую — четыреста
двадцать... И так в каждом селе, каждом городе. Вечно будут жить
в благодарной!памяти народа семь братьев Газдановых, шесть братьев
Темировых, пять братьев Каллаговых, пять братьев Дзебоевых, пять
братьев Бесаевых, пять братьев Бекмурзовых, пять братьев Сеовых и
тысячи других отважных сынов и дочерей Осетии, отдавших жизнь за
свободу и независимость нашей Родины. О них поют песни, о них
слагают легенды.
6
Б. Е. Кабалоев #
Мы никогда не забудем нашего славного прошлого. Оно с нами —
и в наших свершениях и в помыслах. Оно помогает лучше осмыслить
настоящее, увереннее шагать в будущее. Пятьдесят два года страна
Октября неуклонно идет по пути, указанному В. И. Лениным. За этот
исторически короткий срок неузнаваемо изменился ее облик. И это
вынуждены ныне признавать даже враги. Так, рупор американских
монополий, газета «Нью-Йорк тайме», та самая, которая за три первых года
существования Советской власти десятки раз предрекала ей
неминуемую скорую гибель, недавно писала, что «...Советский Союз является
одной из двух самых мощных и влиятельных стран мира, уровень жизни
его народа стал самым высоким за всю историю страны, мир стал
богаче благодаря вкладу Советского Союза в науку, музыку и литературу».
Не будет преувеличением сказать, что национальный вопрос — один
из острейших вопросов современности. Под знаменем борьбы за свою
национальную независимость идут в бой с вдесятеро превосходящим
по силе врагом патриоты Южного Вьетнама, мужественно отстаивают
свои права народ Португальской Гвинеи, трудящиеся Северной
Ирландии... В то же время реакционные империалистические круги в своих
грязных целях ничего не жалеют для разжигания национализма, для
распаления националистических страстей. К каким трагическим для
народов последствиям это приводит, видно из событий, развертывающихся
на Ближнем Востоке, из горького опыта Чехословакии. Нет и не может
быть национальной независимости под эгидой империализма!
Ленинская национальная политика самоопределения народов — вот основа
подлинной, а не мнимой их независимости и свободы, вот основа их
дружбы и братства, основа интернационализма. Национализм
разъединяет народы, интернационализм сближает их.
Социалистическая Осетия — характерный пример того, как
решается национальный вопрос в Стране Советов. Наша республика рука об
руку с другими братскими республиками прошла путь величайших
преобразований в экономике, политической жизни, культуре. Это был путь
от феодально-буржуазного уклада жизни, от сохи, народного горя,
нищеты и бескультурья до светлой судьбы цветущей социалистической
республики. Яркие вехи на этом пути — строительство предприятий
социалистической индустрии, таких, как завод «Электроцинк» — один из
гигантов советской цветной металлургии, Бесланоский маисовый
комбинат— крупнейший в Европе, одна из первых в стране — высоконапорная
Гизельдонская ГЭС, сооруженная в горах. Росли заводы, фабрики,
росли люди — энтузиасты социалистического строительства.
Весьма колоритной, созвучной времени была фигура инициатора
строительства ГизельдонГЭС Циппу Байматова. Полуграмотный горец,
он был от природы наделен недюжинным техническим талантом. Еще
задолго до революции у него созрел дерзкий проект — укротить водопад
Пурт на реке Гизельдон, направить его энергию на благо людей, зажечь
в горах «второе солнце». Циппу обивал пороги разных канцелярий, но
тщетно: царские чиновники отмахивались от его проектов, считая их
сумасбродными. Только после революции власть рабочих и крестьян по
достоинству оценила талант простого горца. Его проект получил
одобрение, Советское правительство выделило средства, и в горах началась
одна из первых ударных строек пятилеток. ГизельдонГЭС строила вся
страна, посланцы многих республик. Здесь трудились русские,
украинцы, осетины, грузины, дагестанцы, ингуши. И как символ этой
нерушимой дружбы народов, стоит теперь в горах Осетии ГизельдонГЭС,
посылая энергию в единое энергетическое кольцо Северного Кавказа.
Это только один пример. Но их десятки, сотни. И каждый
убедительно свидетельствует о том, как выросла и расцвела древняя
осетинская земля, как щедро раскрылись таланты ее людей, окрыленных
Октябрем, великой ленинской правдой. Говорят, язык цифр сух. Но он
• Ленинской правдой окрыленные
7
достигает звучания поэзии, когда речь идет о творческом труде,
энтузиазме народа, проявляющихся в этих цифрах.
Истина познается в сравнении. До революции промышленность
Осетии была представлена в основном частными и полукустарными
предприятиями, богатства горных недр хищнически эксплуатировались
бельгийскими и французскими капиталистами. За годы Советской власти в
республике построено и реконструировано свыше ста крупных
промышленных предприятий. Созданы новые отрасли промышленности:
химическая, машиностроительная, электротехническая, приборостроительная,
строительных материалов, развиваются легкая, пищевая и
деревообрабатывающая отрасли промышленности. Выпуск промышленной
продукции в этом году по сравнению с 1913 годом возрос в сто семьдесят пять
раз, а с 1940 годом — более чем в шесть раз, стоимость ее составляет
почти шестьсот миллионов рублей. Продукция наших заводов и фабрик
поставляется во все экономические районы страны и десятки зарубежных
государств. Орджоникидзевский завод автотракторного
электрооборудования, например, экспортирует свои изделия в сорок две страны.
У нас выросли многочисленные квалифицированные кадры
рабочего класса и технической интеллигенции, получившие великолепную
трудовую закалку. В дружных интернациональных коллективах
республики живут и работают представители свыше тридцати разных
национальностей, воспитываются прекрасные мастера своего дела, выковываются
замечательные характеры.
Рост нашей промышленности, рост ее людей сказывается и в той
существенной помощи, которую предприятия республики оказывают
родственным производствам в различных районах страны и даже за ее
пределами. Пример тому — взаимоотношения металлургов
«Электроцинка» и коллектива свинцово-цинкового завода г. Кырджали Народной
Республики Болгарии. Читателям «Октября», очевидно, небезынтересно
будет узнать, что трудящихся Северной Осетии и Кырджалийского
округа Болгарии уже ряд лет связывает братская дружба. Мы постоянно
обмениваемся делегациями, делимся опытом и помогаем друг другу
советом и делом. В этом наглядное проявление пролетарского
интернационализма. Металлурги «Электроцинка» помогли болгарским друзьям
наладить свинцово-цинковое производство в Кырджали, пустить
новый завод, освоить передовую технологию. В свою очередь, немало
полезного переняли у своих болгарских друзей садоводы и овощеводы
Осетии.
О многом думается, когда сопоставляешь прошлое и настоящее,
мечтаешь о будущем. В республиканском музее краеведения среди
прочих экспонатов выставлена на всеобщее обозрение деревянная соха.
Посетители удивляются: как можно было пахать ею землю? А сохой
пахали. Бороздили узкие каменистые клочки земли в горах. По переписи
1920 года, в Осетии насчитывалось три тысячи пятьсот тридцать три
сохи, тысяча плугов. И это на семнадцать тысяч крестьянских хозяйств!
Выходило, крестьянин, имевший- соху, мог считать себя счастливчиком!
По ленинскому декрету горцы получили 566 тысяч гектаров земли.
На щедрых землях плоскогорий возникли новые осетинские села Ногир
(Новая Осетия), Ногкау (Новое село), Фарн (Счастье)... Названия
эти достаточно красноречивы.
Быт, культура осетинского села приблизились за последние годы к
городским. Электричество, водопровод, телевидение, кино, народные
театры прочно вошли в жизнь горцев. В колхозы и совхозы широким
потоком хлынула техника. Вырос большой отряд сельской
интеллигенции. Убогие некогда села Алагир, Беслан, Дигора, Ардон стали
молодыми, растущими городами.
8
Б. Е. Кабалоев #
Буквально на глазах изменяется и облик столицы республики.
Символом ее стал подъемный кран на фоне седых гор. Прежде город рос
преимущественно вширь. Сейчас он поднимается вверх. Одна из
красивейших магистралей — улица Ноя Буачидзе — застраивается
высотными зданиями. Все это плоды человеческого труда. Примечательно, что
темпы развития нашей республики выше, чем в среднем по Российской
Федерации. Осетинский народ знает: в этом сказывается забота
ленинской партии, Советского государства о том, чтобы темпы развития
ранее отстававших национальных окраин были выше средних темпов
развития страны. Мы глубоко сознаем, что Великий Октябрь спас
осетинский народ от вымирания. Осетин, как и других горцев, загнанных
когда-то татаро-монгольскими захватчиками в горы, ждало
трагическое будущее. Свежий ветер революции ворвался в наши ущелья,
ленинская правда окрылила и подняла людей к свободе и свету.
«Цепью железной мам тело сковали»,— писал до революции о
беспощадном гнете царизма основоположник нашей литературы Коста
Хетагуров. Он с горечью говорил о нищете, невежестве, которые были
бичом нашего народа. Если бы мог Коста взглянуть на новую,
социалистическую Осетию! Сегодня трудно встретить в республике семью, в
которой не было бы человека с высшим или средним образованием.
Не счесть свидетельств расцвета культуры нашего народа. Они
ярко демонстрируют торжество ленинской национальной политики
Коммунистической партии и Советского государства, мудрое решение
национального вопроса в СССР. Они убедительно опровергают антисоветскую
клевету апологетов империализма по поводу судеб малых народов
нашей страны и особенно их национальных культур.
Наши идеологические враги, прикрываясь тогой «защитников»
малых народов, якобы угнетаемых в Советском Союзе, прибегают ко
всяческим ухищрениям, чтобы придать возможно более правдоподобный
характер_своим клеветническим выпадам. Они проливают крокодиловы
слезы по поводу «утраты» малыми народами своей самобытности,
языка, национальной культуры. Некоторые западные «осетиноведы»,
вынужденные признать достижения нашей экономики и системы
образования, лицемерно вздыхают, пускаясь в рассуждения об «опасной
ассимиляции», о «насильственной русификации». Повышенный интерес
буржуазных пропагандистов к национальным республикам Кавказа не
случаен. Опыт строительства социализма в этих, как и в других
советских республиках, притягателен для многих и многих
развивающихся стран, для всего Востока. Высокий уровень материальной и
культурной жизни, достигнутый республиками Кавказа за короткий
исторический срок, о многом говорит народам, которые борются против
колониального рабства.
В бессильной злобе, «не замечая» неприятные для них факты или
подавая их в искаженном свете, «прорицатели» из вражеского стана
льют на нас грязь, пытаются сбить с толку людей в своих странах,
дискредитировать в глазах мировой общественности советскую
действительность, идеи социализма.
Весь строй нашей жизни убедительно опровергает эту ложь, в
какой бы красивой упаковке она ни подавалась. Известно ли этим
господам, что если в 1913 году в Осетии было издано на осетинском языке
всего три книжки тиражом четыре тысячи экземпляров, то в 1968 году
выпущено сто семнадцать наименований книг общим тиражом
восемьсот восемьдесят тысяч, причем большинство книг на осетинском
языке. За последние годы дважды осуществлено академическое
издание произведений Коста Хетагурова на осетинском и русском
языках. За советские годы был впервые издан, а затем
неоднократно переиздан на осетинском и русском .языках знаменитый нартский
эпос.
ф Ленинской правдой окрыленные 9
Когда-то, в далекие мрачные годы царского колониализма, Коста
писал:
Люблю я целый мир, люблю людей, бесспорно,
Люблю беспомощных, обиженных сирот,
Но больше всех люблю, — чего скрывать позорно? —
Тебя, родной аул и бедный наш народ.
Он горячо и по-сыновьи преданно любил родную Осетию, любил
народ, посвятил ему всю жизнь и свое благородное, самобытное
творчество, но не мог изменить судьбы народа, судьбы родного края,— он
был певцом боли и скорби народной. Сейчас другое время: народ стал
хозяином своей судьбы, никто не мешает ему свободно созидать,
развивать свою культуру, национальную по форме, социалистическую по
содержанию. Трудящиеся Северной Осетии гордятся своей
республикой, всем тем, что она вносит в братскую семью советских республик.
Это наша подлинная самобытность, а не та феодально-патриархальная,
с сохой, кровной местью и калымами, утрату которой оплакивают
западные защитники национальной «самобытности».
В самом отдаленном, затерявшемся в горах ауле люди читают
сегодня на родном и русском языках Пушкина и Коста Хетагурова,
Толстого и Шолохова, Дабе Мамсурова и Расула Гамзатова, Максима Ца-
гараева и Алима Кешокова. Русский язык стал для осетин вторым
родным языком. И мы гордимся этим. Благодаря могучему русскому
языку наш народ приобщился к мировой науке и культуре, черпая из этой
сокровищницы бесценные дары. Русский язык помог нам выйти к свету.
И только потерявшие совесть клеветники могут называть это
ассимиляцией. Нас вполне устраивает «ассимиляция», в результате которой
наша, национальная культура назло вражеским наветам с каждым
годом расцветает все ярче. Об этом опять-таки лучше всего говорят сами
факты. Выросшая на революционно-демократических традициях
русской литературы, набрала силу, идет к новым высотам осетинская
советская литература. Ее всегда отличало активное отношение к жизни.
Осетинские писатели стремятся быть в гуще народа, писать о народе,
обретшем свободу, строящем под руководством ленинской партии новую
жизнь. Еще в двадцатые годй один из первых советских поэтов Осетии,
Мисост Камбердиев, писал, обращаясь к солнцу:
...Давай-ка с нами — на новую стройку —
Вместе таскать кирпичи!
Хорошее произведение, ярко и правдиво отображающее нашу
социалистическую действительность;—это тоже хороший, надежный
камень в фундамент коммунизма. За последние годы осетинская
литература обогатилась новыми произведениями, завоевавшими признание
широкого читателя. Отрадно, что вместе со старшим поколением растут ряды
молодых представителей творческой интеллигенции. Ежегодно
произведения осетинских писателей издаются в Москве в переводе на русский
язык. Герой лучших произведений осетинской литературы — наш
современник, человек с богатым внутренним миром, творец и мечтатель,
отдающий все свои силы народу. Родине. Несколько лет назад в
республике была учреждена премия "имени Коста Хетагурова. Ею уже
отмечен ряд лучших произведений в области литературы и искусства.
Как-то, кажется, в 1953 году, в столицу Северной Осетии приехала
группа английских туристов. Многое из увиденного у нас казалось им
невероятным. А когда они прочитали афишу осетинского национального
театра, извещавшую о спектакле «Отелло» с участием в заглавной роли
Владимира Тхапсаева, то были поражены еще больше: Шекспир в
далекой маленькой Осетии?! Но они увидели настоящий шекспировский
спектакль, были покорены великолепной игрой Тхапсаева. И, конечно, ши-
10
Б. Е. Кабалоев •
роко раскрыли глаза, когда услышали, что в прошлом выдающийся
осетинский актер, ныне народный артист СССР, был шахтером.
Северо-Осетинский музыкально-драматический театр — детище
советского строя. С ним связано и развитие нашей национальной
драматургии. До революции профессионального театра в Осетии не было.
Своим становлением осетинское театральное искусство обязано братской
помощи деятелей русского театрального искусства, и прежде всего
ГИТИСу, где прошло школу воспитания несколько поколений
осетинских актеров. «Ассимиляторы» изрядно потрудились, чтобы дети
пастухов, сами пастухи стали замечательными актерами и основали свой
национальный театр.
Репертуар театра широк: русская и зарубежная классика,
произведения драматургов братских республик и, конечно, осетинская
драматургия. В канун 50-летия Великого Октября театр с успехом выступал
в Ленинграде. В прошлом году он почти месяц гастролировал в Москве,
и каждый раз зал Малого театра был полон. И хотя актеры изъяснялись
по-осетински, зрители принимали близко к сердцу образы, созданные
ими, ибо язык настоящего искусства интернационален.
В Осетии театр окружен всенародной любовью. Его актеров любят
и знают в самых дальних уголках республики. На его спектакли
приезжают из сел. Да и сам театральный коллектив часто бывает в сельских
районах. Каждый новый спектакль вызывает всеобщий интерес.
Особенно сильно проявился этот интерес, когда на сцене была поставлена
первая осетинская многоактная опера «Азау» композитора И. Габа-
раева. Это большое событие в театральной жизни республики
произошло в прошлом году. Скоро зрители увидят первый осетинский балет,
а затем премьеру оперы В. Мурадели «Великая дружба». Три года тому
назад художник Азанбек Джанаев создал самодеятельный
художественный фильм «Осетинская легенда», получивший высокую оценку и
широкое признание в стране, а сейчас мастера кино Грузии ведут в
горах съемки нового фильма о народном герое Осетии Чермене.
Да, мы с полным основанием гордимся нашими писателями,
художниками, композиторами, актерами, которые все годы Советской
власти были и находятся со своим народом и немало сделали для его
воспитания и культурного развития. Наша художественная интеллигенция
полна благородного стремления еще больше обогатить национальную
культуру, создать новые замечательные произведения, достойные нашей
эпохи.
Расцвет национальной культуры, как и многие другие наши
достижения, это торжество ленинских идей, свидетельство равноправия
наций в едином Советском государстве, это марксизм-ленинизм в
действии.
Литература, искусство, культура в целом не достигли бы у нас
таких высот, если бы за годы Советской власти не возрос так резко
культурный и образовательный уровень народа. Рассказывают, что до
революции один генерал-осетин, будучи за границей, на вопрос о том,
какое он получил образование, ответил: «Окончил Куртатинский
университет». Собеседник не уловил горьковатого юмора: в Куртатинском
ущелье, откуда был родом старый генерал, тогда не существовало даже
начальной школы.
В этом году в семье советских университетов прибавился еще
один — Северо-Осетинский государственный университет. В республике
есть еще три вуза, три научно-исследовательских института, двенадцать
техникумов и училищ, семнадцать профтехучилищ. У нас учится почти
каждый третий человек. Сейчас в Осетии на каждые десять тысяч
жителей приходится более трехсот студентов — значительно больше, чем
в США и Англии. Только в нынешнем году вузы и техникумы
выпустили свыше четырех тысяч специалистов, В Северной Осетии трудятся
• Ленинской правдой окрыленные
11
сорок пять профессоров и докторов наук, триста пятьдесят доцентов и
кандидатов наук. На каждые десять тысяч жителей у нас теперь
приходится вдвое больше врачей, чем в США, Франции и Италии.
Подумать только: накануне революции во всех высших учебных заведениях
России обучалось всего семнадцать осетин, а элементарно грамотных
среди населения Осетии было не более восьми — десяти процентов!
Сопоставив эти данные с фактами сегодняшней жизни, еще раз наглядно
убеждаешься в том, какой громадный скачок из тьмы к свету совершил
наш народ под руководством ленинской партии, при бескорыстной
помощи братских народов нашей страны. Мы высоко ценим эту помощь,
эту великую дружбу и дорожим ею. Хорошо выразил эти мысли наш
современник, известный осетинский поэт Георгий Кайтуков:
Нам дружба по наследству
Досталась от отцов!
Приучены мы с детства
К звучанью русских слов...
Да, великая- братская дружба народов помогает нам уверенно идти
по ленинскому пути. И наши сегодняшние успехи, которыми мы
гордимся,— самые прекрасные ее плоды.
Уже не один год солирует в Большом театре наша землячка,
талантливая балерина Светлана Адырхаева. Никто у нас не удивляется
тому, что лауреат Государственной премии, член-корреспондент
Академии наук Казахстана Георгий Медоев открывает природные
клады Мангышлака, что доктор экономических наук профессор Николай
Цаголов заведует кафедрой в МГУ, что лауреат Ленинской премии
Дзандар Такоев руководит объединением «Куйбышевнефть», что
Осетинский государственный ансамбль танца и его солисты завоевали три
золотые медали на IX Всемирном фестивале молодежи в Софии, что
колхозники из села Хумалаг выступают на правительственном концерте
в Кремлевском Дворце съездов, что джигиты Алибека Кантемирова
проносят свое блестящее искусство по всем цирковым аренам мира, что
Вероника Дударова дирижирует оркестром в Московской
консерватории...
А ведь все это удивительно. И это удивительное рождено великим
Октябрем, рождено ленинским гением.
Ныне советский народ решает задачи новой пятилетки. Борьба за
ее успешное осуществление составляет главное содержание широко
развернувшегося всенародного социалистического соревнования в честь
100-летия со дня рождения В. И. Ленина.
«Имя Ленина стало символом победы Великого Октября,
крупнейших революционных свершений, которые в корне изменили социальный
облик мира, ознаменовали поворот человечества к социализму и
коммунизму»,— говорится в Обращении международного Совещания
коммунистических и рабочих партий «О 100-летии со дня рождения
Владимира Ильича Ленина». Высокий долг каждого коллектива, каждого
советского человека не только выполнить, но и перевыполнить свои
социалистические обязательства, достойно встретить знаменательную
дату, дорогую для всех коммунистов, всех людей труда на земле. Это
значит сделать нашу Советскую Родину еще краше, еще изобильнее,
еще сильнее на радость друзьям, на страх врагам.
Окрыленные великой ленинской правдой, под водительством
ленинской партии трудящиеся Осетии полны решимости впредь идти в
одной шеренге братских советских народов по пути, указанному великим
вождем, покоряя вершину за вершиной.
•
Сергей СМИРНОВ
Скрипичный мастер
ПОЭМА H
■■ечать молчит.
Архив желтеет немо,
Музейным достояньем становясь...
Так пусть же
запульсирует
поэма
И станет
Первой ласточкой
О Вас.
<0> О <>
Сработать скрипку
трудного труднее.
А чтоб шедевром сделалась она,
Скрипичный мастер
мудрствует над нею,
Не признает ни отдыха, ни сна.
Поборник своего произведенья,
Он к нормам приблизительности
глух.
Ему подай — всевысшее раденье,
Всечуткий к музыкальным
тембрам слух.
Он отдает всю опытность,
все силы,
Какими обладает человек,
Чтоб ель и клен
роскошного распила
Найти для двух взаимозвучных
дек.
Потом
на слух
настраивает деки
И ловит тот магический момент,
Когда певучесть, властную навеки,
Приобретет смычковый
инструмент.
Скорей всего
он думает стихами,
Взлелеивая детище свое.
Евгению Францевичу ВИТАЧЕКУ
И скрипка
резонирует
дыханье
Мятежного создателя ее!..
О О О
Родился мальчик в тихих
Скленажйцах,
Среди гористой Чехии.
Ему
Чужие скрипки пели, словно
птицы,
В полусиротскохМ дедовском дому.
Мать умерла.
Отец — скрипичный мастер —
Своим искусством радовал сердца.
Но от жестокой хворости, к
несчастью,
И сам сгорел,
осиротил мальца.
Тогда
Шпидлен Франтишек —
видный дядя —
Подумал о мальчишеской судьбе.
Он взял
благожелательности ради
Его подручным хлопчиком к себе.
Привез в Москву,
где, всем служа примером,
Владел своей скрипичной
мастерской.
И тут юнец изведал полной мерой
Азы— ступени
практики мирской.
Ему ничто не доставалось даром,
Ни койка, ни одежда, ни харчи.
Он мыл полы,
он ставил самовары,
Ф Стихи
13
Он кочергой орудовал в печи.
И лишь потом
хозяин
шаг за шагом
Стал приобщать его к своим делам.
И ученик, слуга и бедолага
Обрел уменье с горем пополам.
Но дальше — больше.
Вот уже украдкой
Он превосходит опыт старика.
И карандаш беседует с тетрадкой,
Теснит строку
рабочая строка.
Он убедился,
что такое счастье,
Когда, ревниво важен и суров,
Шпидлен Франтишек, сам
отменный мастер,
Его причислил
К сонму мастеров...
О <> О
Ему визит наносят меценаты
И скрипачи романовской Руси,—
Мол, посмотри,
назначь любую плату,
Но инструмент, пожалуйста, спаси.
А. он над скрипкой бодрствует
ночами,
\абы опять была воссоздана
Ее очеловеченность звучанья,
Которая
на целый мир
одна.
Все можно сделать, чтобы стал
моложе
Состаренный годами инструмент,
Но только не за счет —
избави боже! —
Его блестящих тембровых примет.
<С> <0> О
Оно доходно так или иначе
Лечить-спасать
шедевры прежних дней.
Но он, Евгений Францевич Витачек,
Берет себе задачу посложней.
Ведь жил да был
великий Страдивари —
Такой создатель скрипок, что пока
Все претенденты выдержат едва ли
Сравненье с ним,
Свидетельством— века.
И он унес
в своем волшебном свитке
Секрет трудов, доступных
лишь творцам.
А все же есть заманчивость
попытки
Их разгадать по древним образцам.
Ничто из ничего не создается.
Создать свое
не всякому дано.
Тут повседневный пот
землепроходца,
Игра ва-банк
и зоркость заодно.
Тут проба своего предназначенья
Оно тебе — награда, стол и кров...
И мастер приступает к изученью
Наследства самых лучших
мастеров.
Ему в Москве подсказывает опыт,
Какие скрипки
чудо-хороши.
Он в лучшие коллекции Европы,
Вникает всеми фибрами души.
И, одолев просчеты и ошибки,
Опять сидит — по локти рукава.
И отдает созданью каждой скрипки
Всю окрыленность дум
и мастерства.
К нему приходит полное
признанье:
— Звезда России —
этот русский чех!
Артисты с мировыми именами
Его работу ставят выше всех.
Ехму заказы шлют из дальней дали.
Вершинный вкус...
Волшебная рука...
И желтым блеском конкурсных
медалей
Украшен строгий лацкан пиджака.
Явилась мысль —
пожизненно остаться
В стране, где чтут плоды его труда.
С соизволенья нескольких
инстанций
Он стал российским подданным
тогда.
Сам на себя взглянул по-молодому:
Энтузиаст и сам себе герой.
Ему столица стала отчим домом,
14
Сергей Смирнов •
А мать-Россия —
родиной второй.
<> О О
Но, как бы здесь его ни возносили,
А все
переиначилось
войной.
И мастер, верноподданный России,
Ушел в солдаты, хмурый
и больной.
И там —
сперва окопная простуда,
Потом в тылы,
обратный скрип колес.
И — демобилизация оттуда,
С безрадостным:
— У вас туберкулез...
Но кто решил, что все на свете
плохо,
Тому не поздоровится кругом.
— Нет!
Он сразится с палочками Коха,
Как со своим наследственным
врагом!..
Витачек был кудлатым и колючим,
А сытым ли — ручаться не берусь.
Он, как дозорный, с романтичной
кручи
Смотрел и видел собственную
Русь.
Багряный стяг простерся надо
всеми.
На сцену вышли
«бывшие низы».
И на Земле возздравствовало
время
Октябрьской
Очистительной грозы...
Не ведал мастер,
где и кем он будет,
И рой раздумий стряхивал со лба.
Песчинкой в вихре сотен тысяч
судеб
Ему казалась личная судьба.
Но именем самой Страны Советов
Он призван был на необычный
пост:
Возглавить Госколлекцию...
А это
Звезда мечтанья — высшая
из звезд.
Ему была поручена опека
Над скрипками, которым нет цены.
И это так встряхнуло человека,
Что все сомненья стали
не страшны.
Здесь не любили ценностей
лежалых,
А чтили атмосферу той поры:
Здесь лучшим исполнителям
державы
Вручались инструменты для игры.
Вручались не для прихоти
всезнаек,
Которых и теперь невпроворот,
А чтобы слушал музыку
хозяин,
Простой Его Величество народ.
И тут, среди поклонников горячих
И ведомственной строгости бумаг,
Царил Евгений Францевич Витачек,
Эксперт-хранитель,
Реставратор-маг...
Простой анкетный перечень
нагрузок
Гласит документальнее всего,
Что на масштаб Советского Союза
Равнялись планы
мастера сего.
Он с честью носит собственное
имя.
Он всемогущ, хотя и нездоров.
Он педагог.
Он шеф над мастерскими
Содружества скрипичных
мастеров.
Он командир
«на вверенном участке»,
Он говорит о творческой весне.
И сам нарком
товарищ Луначарский
Ему
тепло
сверкнул из-под пенсне...
Ему
валютой знатности
платили
За щедрость и талантливость
труда.
# Стихи
15
В его фамильном творческом
активе
Пять сотен скрипок.
Цифра — хоть куда!
Вот почему
из уст Верховной власти,
А это значит — самых первых уст,
Он получил
заслуженное —
мастер
И признанное —
деятель искусств.
О О О
Скрипичный мастер —
редкостное званье.
И мастер этим званьем дорожил.
Он жил, не засекречивая знаний,
Для одержимых поисками жил.
Он утверждал без важности
помпезной,
Практическую миссию свою,—
Мол, есть не только взлет души
над бездной,
Не только
«упоение в бою».
Ему на суд,
как первому из первых,
Вручали скрипки всех времен
и стран.
Он отличал поблекшие шедевры
От подражанья знатным мастерам.
Вникал в их сущность
до седьмого пота,
До восковой бескровности лица.
И реставрационные работы
Вершил с первостатейностью
творца.
Он вкдел тех, кто замыслами
беден,
А свой запас
транжирил, словно Крез.
Считал своей трагедией трагедий,
Что уйма дел,
а времени — в обрез.
Влекущий, как распахнутые двери,
Он повторял:
— Творю и тем живу!..
И вдруг проблема
«Моцарт и Сальери»
И перед ним предстала наяву.
Фиктивный друг состряпал
заявленье,
Как истинный завистник и долдон.
И мастер, сам себе на изумленье,
Был приглашен
в один высокий дом.
Вручил кому положено
повестку.
И, снизив предварительный запал,
Признался доверительно и веско,
Что удивлен,
зачем сюда попал.
А строгий чин без лишних
проволочек
Достал простую папку из стола:
— Вот тут о вас...
Взгляните, между прочим...
И — меж бровей морщина
пролегла.
Витачек глянул,
Это были письма
Он стал читать, дыханье затая.
Потоком лжи и грязи закулисной
Его чернили мнимые друзья.
Что он добился званий и регалий
Скорей всего сомнительным путем,
Что лично связан с нашими
врагами
И сам австрийский подданный
притом...
Он чертыхнулся, чуть ли
не по-чешски,
Вникая в бумаженцию одну:
Невинные беседы с Тухачевским 1
Ему подробно ставились в вину...
Что он похож на ангела отчасти,
Но все равно —
в овечьей шкуре волк...
— Ну, знаете!..—
вскипел скрипичный мастер
И, оттолкнув прочитанное, смолк.
Он затаил немое опасенье,
Что есть меж нами люди барыша.
Они активно пишут донесенья,
1 Маршал Тухачевский в свободные часы
страстно увлекался скрипичным делом. Он
дружил с Витачеком и консультировался у
него.
16
Сергей Смирнов О-
А как творцы,
не стоят ни гроша.
Тогда сотрудник приподнялся
с места
И озарил усмешкой кабинет:
— Нам все, Евгений Францевич,
известно,
И, между прочим,
к вам претензий нет.
Захлопнул папку с ворохом
бумажным
И высказал такое резюме:
Что
маску друга
носит чуть не каждый,
Но, вот вам,
что у этих на уме.
Всеядность в этом смысле
не опора.
Смотрите, где чужие,
где свои...
И проводил до двери визитера
Глазами объективного судьи.
И мастер не без внутренних
воскрылий
Заметил собеседнику в ответ:
— Вы мне
глаза
на многое раскрыли.
Спасибо за беседу тет-а-тет.
А дома,
просветленный и речистый,
Шепнул жене, прикрыв ладонью
рот:
— Как хочешь,
а товарищи чекисты —
Порядочный и знающий народ...
О О О
Уже неоднократно говорилось,
Что самый настоящий отчий дом
Не там, где ты родился или вырос,
А где снискал почет своим трудом.
Но мастер помнил бережно
и свято
Свои края,
родительский очаг,
И взор отца,
И ношенный когда-то
Его пиджак на собственных плечах.
И эта память
стала наважденьем,
Когда под броненосный гул и гам
Вошли арийцы в край его
рожденья
И он
был сдан без выстрела
врагам.
Казалось, там все лучшее хоронят,
А дух отпора прячут на засов.
И солдафонский хор губных
гармоник
Затмил красу скрипичных
голосов...
Когда же
к нам
фашистские армады
Вломились всеми средствами
войны,
Скрипичный мастер спрятал там,
где надо,
Коллекцию, которой нет цены.
Она была священней и ценнее
Ему, чем жизнь, семья и свой
порог.
Он всю войну не расставался
с нею —
Лелеял, реставрировал, берег.
Берег для свежей поросли
талантов,
Для новых вех в искусстве
дорогом.
И это был
один из постулатов,—
Что мы свершим победу
над врагом
А сам все чаще видел из столиць
Далекий край,
горбы Крконошских го[
И островерхий домик
в Скленажицах
Который стар,
но дорог до сих пор
Он те хместа рассматривал часамг
На крупной карте, возле верстака
Ведь там
его отечество спасали
Ударные советские войска.
И старый мастер
мял в сухой ладош
Прически возрастное серебро.
•? Стихи
17
И провожал
на запад
гром погони
По жестким сводкам
Совинформбюро.
А в День Победы, жданный
и весенний,
В великий исторический момент,
Купил на все былые сбереженья
Одну из скрипок —
чешский инструмент.
...Не спит,
Священнодействует,
Ликует,
Воистину счастливый из людей!
Ведь эта скрипка —
подлинный Ян Кулик,
Светило Праги,
Мастер-чародей.
Довел ее до светоизлученья.
Вернул ей голос
сердца и зари
И дал жене такое порученье:
— Когда умру,
то Праге подари!..
И вновь, уже слабеющий и хворый,
Вернулся к Госколлекции своей.
Перед его бескомпромиссным
взором
Предстали годы, отданные ей.
Предстал весь путь, который
честно пройден,
С резервом сил, исчерпанным
до дна...
И позывные
двух союзных родин
Сплелись в душе, как общая одна.
Предстали скрипки, будто
на параде,—
Его любовь,
достоинство
и честь.
И личные рабочие тетради,
Где есть на что взглянуть
и что учесть.
И верил мастер, внутренне
согретый,
Что впереди заглавная страда:
Он должен обнародовать секреты
Пятидесятилетнего труда.
Но не успел собрать свои
страницы,
Как замышлял, планировал
не раз...
Его взяла
кремлевская больница,
И обнажилась правда без прикрас.
Все предписанья стали бесполезны.
Подкралась дата — горечи горчей...
Он умер,
потому
что есть болезни
Сильнее самых опытных врачей.
Он умер.
Но оставил завещанье.
И вот жена, забыв про все дела,
Собралась в дальний путь
без колебаний
И Праге
в дар
ту скрипку
отдала...
<С> О <С>
Лежит у нас, в архиве Госмузея,
Его исканий пристальная новь.
И это вам
не пепел Мангазеи1,
А все уменье, действенное вновь.
Ему претит
участливость немая.
Творец не оскудел, не отзвучал.
Вот почему
я голос подымаю
За человека творческих начал.
Он смотрит, на кого бы опереться.
Ему потребна
крепь защитных лат.
Замалчиванье — действенное
средство,
Дабы
свести на нет
любой талант.
Он и сейчас
реален непреклонно
И не сошел с высокого поста.
Его искусство
требует заслона
От ловкачей, чья совесть
не чиста.
1 Мангазея — некогда богатый город
на севере Сибири.
2. «Октябрь» Mo 11.
18
Сергей Смирнов #
Ведь он же с нами славит все
земное —
Дерзает, ищет,
властно мастерит...
Он, в частности,
со мной
и предо мною,
Как только что открытый
материк!..
О О О
...Над суетой ремесленности
прыткой,
Над пестротой ее бескрылых драм
Восходит
образ мастера
со скрипкой
И светит
Настоящим мастерам.
Своей душой
художника-артиста
Он дорог людям, судя по всему.
Уже в Чехословакии гористой
Открыт посмертный памятник ему.
Он возле дома отчего маячит
И как бы вторит в лад людской
молве,
Что здесь родился
славный чех Витачек,
А умер в стольном городе Москве.
Из тонкой меди,
Слаженная гибко,
В двух
символичных плоскостях
видна
Клинком смычка
Разрезанная скрипка,
Как на пюпитре, высится она.
Пойдет ли дождь,—
он частое явленье
Там, на просторе тихом и сыром,—
А эта скрипка, всем на удивленье,
Поет
от капель
всем своим нутром.
Когда вокруг недобрый ветер
злится,
Она звучит
в настроенности той,
Что Злата Прага
И Москва-столица
Внимают ей
с державной остротой.
•
Анатолий АНАНЬЕВ
M
ж а
РОМАН
Часть первая
i
С четвертого этажа ей хорошо были видны и прилавки, еще
полупустые, и голубые фанерные ларьки с еще закрытыми ставнями, и
мясной ряд, где разгружались говяжьи туши; ей хорошо был виден весь
рынок, уже наполненный первыми покупателями, но Шура смотрела
только на одного человека, на Егора Ковалева, неторопливо пересекавшего
базарную площадь. Шура каждый день смотрела на него в эти утренние
часы. Одетая, готовая идти на работу, она подходила к окну, и только
когда Егор, пройдя по тротуару, скрывался за углом высокого серого здания,
брала сумочку, торопливо запирала дверь и, стуча каблучками модных
остроносых туфель, поспешно сбегала по лестничным пролетам; ей тоже
нужно было поспеть к девяти на службу, тоже пересечь базарную площадь и
скрыться за углом высокого серого здания. На стене этого здания, как раз
под окнами второго этажа, горела огромная реклама «ДАМСКИЙ
САЛОН». Она почему-то горела чаще по утрам, чем по вечерам. Но, может
быть, это только так представлялось Шуре, потому что по вечерам она
не любила сидеть дома и тем более подходить к кухонному окну. Синий
фосфорический свет букв всегда вызывал у нее неприятное ощущение
холода, ей казалось, что люди не проходили, а пробегали под рекламой,
будто попадали в полосу дождя, и только Егор в этой толпе спешащих
людей шагал так же невозмутимо и неторопливо, не ежась и не поднимая
воротника плаща, как вообще ходил в любую погоду: в дождь, в снег, в
бурю. Сейчас он еще только-только миновал мясной ряд; он был одет
сегодня по всей форме, на нем темный милицейский мундир с белыми
офицерскими погонами. В мундире он выглядел стройнее и выше, но Шуре
!болыпе нравилось, когда он надевал гражданский костюм. Первый раз,
когда она увидела Егора, он был в гражданском костюме; и. хотя с той
встречи прошло уже почти полтора года, Шура хорошо помнила, как он вошел
в то утро к начальнику отделения. Она как раз принесла на подпись
стопку новеньких, раскрытых на первой странице паспортов, и
подполковник милиции Богатенков старательно выводил на зеленоватых, еще не
захватанных пальцами листках свою неразборчивую подпись; она помнила
все подробности: как Егор остановился у стола и на приглашение Бога-
тенкова присесть ничего не ответил, а стал молча и внимательно разгля-
20
Анатолий Ананьев Ф
дывать кабинет, стены, стол и склоненную седую голову подполковника;
несколько раз Егор взглянул и на нее, и удивление скользнуло по его
лицу. Он был в черном костюме, белой рубашке и черном галстуке;
белое лицо, черные волосы, черные брови, черные глаза; белое и черное —
именно этот контраст, эти резкие грани двух цветов поразили Шуру, и
потому она особенно запомнила первую встречу. Она не знала тогда, что
стоящий у стола молодой человек в черном и белом будет работать в
отделении следователем, что она каждый день будет видеть его в
служебных коридорах, в тесном подвальном буфете в обеденные часы, на
собраниях; что, разглядев его поближе, сперва даже немного разочаруется,
потому что и волосы у него не такие смолистые, как показалось ей в
первый раз, а брови хотя и черные, но очень широкие даже для мужского
лица. С чисто женской придирчивостью oria вдруг обнаружит, что и галстук
он не всегда повязывает безукоризненно, а иногда приходит и вообще без
галстука, и не всегда у него начищены туфли; тогда, в кабинете
подполковника милиции Богатенкова, она не подозревала, что этот стройный
молодой человек в черном и белом, с удивлением взглянувший на нее, станет
самым желанным для нее человеком, что она будет прислушиваться к его
словам, резким и смелым, искать с ним встречи и ради него ответит
решительным отказом добродушному толстяку — старшему научному
сотруднику из архивного управления, который ей нравился, с которым она
провела немало приятных вечеров, прослушала немало хороших опер,
потому что он был страстным поклонником театра, и даже была близка с ним,
серьезно' подумывая о совместной семейной жизни,— даже этому
толстяку, который ей нравился и который настойчиво предлагал назначить день
свадьбы, она ответит решительным отказом, захлопнет перед ним дверь и
потом будет рвать все его записки, не читая.
Она стоит у окна и смотрит на базарную площадь; ей не хочется
вспоминать, но она отлично помнит и первую встречу в кабинете, первое
знакомство и первый проведенный с Егором вечер, когда однажды вместе
возвращались с дежурства.
В тот вечер они долго сидели в сквере на скамейке, в тени низких,
подрезанных кленов, и Егор рассказывал о своих жизненных наблюдениях.
Его слова были далеки от любовных признаний, какие Шура привыкла
слышать от мужчин, напротив, это был всего лишь сухой, деловой рассказ
следователя, его взгляд на жизнь, на события, совершавшиеся вокруг,
но чутье женщины подсказывало ей, что если мужчина делится
своими мыслями, какими бы они ни были,— это сильнее всяких любовных
признаний. После этого разговора она еще настойчивее стала искать встреч
с Егором; она ловила каждую его даже невзначай оброненную фразу; когда
он говорил: «Как мы живем! Как работаем! Мы же не умеем
самостоятельно мыслить!» — ей казалось, что он произносит новые, во всяком случае,
никогда прежде не слышанные ею ни от кого слова; а когда утверждал:
«Мы, именно мы, в ответе за все, что делается в стране»,— с
восхищением смотрела на Егора.
Но недавно, когда Егор рассказал, может быть, правдивую, может
быть, выдуманную им самим историю, как в какой-то восточной стране
люди за одну ночь очистили свой город от разного рода бродяг,
спекулянтов, пьяниц и проституток, Шура ужаснулась; она вдруг почувствовала,
что молодой следователь не только дерзок, но и жесток. Правда,
жестокость Егора была объяснимой: в ту ночь в отделении произошло
несчастье — на одной из окраинных улиц хулиганы убили дежурившего на посту
милиционера Андрейчикова. Труп Андрейчикова лежал в морге, а у них, в
паспортном отделе, говорили, будто постовой жив и находится в больнице,
и потому Шура не испугалась, узнав об этом событии. За годы работы в
милиции, хотя она была всего лишь сотрудницей паспортного стола, Шура
привыкла к разным неожиданностям; ей не страшен был и убийца,
которого она, проходя через двор и поднимаясь на крыльцо, увидела в то утро —
# Межа
21
его вывели из камеры в наручниках, по бокам шли два милиционера; она
с жалостью посмотрела на жену Андрейчикова, худую и ссутулившуюся от
горя женщину, которая с двумя детьми — одного держа на руках, другого
ведя за собой — торопливо прошла по коридору к подполковнику Богатен-
кову; встревожилась Шура, лишь когда заметила, что у Егора
перебинтована рука. Он дежурил в ту ночь, участвовал в задержании убийцы, в
темноте натолкнулся на проволоку и проколол ладонь. Он стоял среди
следователей и оперуполномоченных, бледный от бессонной ночи, взволнованный,
прижимая к груди перебинтованную руку, и с возмущением и гневом
говорил: «Полумеры не воспитание, мы сами растим убийц; не на пятнадцать
суток, а на все пятнадцать лет надо удалять хулиганов из общества!»
Именно здесь, в дежурной комнате, слушая Егора, Шура пережила
несколько неприятных минут.
Она вошла как раз в тот момент, когда Егор только-только начал
рассказывать. Говорил он громко, и в голосе его звучали нотки злорадства;
он явно восхищался жестокостью; он особенно подчеркивал, что адреса
притонов и курилен, списки торговцев опиумом, бродяг, хулиганов, воров,
адреса и списки проституток — все это было составлено заранее с
предельной точностью, потом была назначена ночь, назначен даже час арестов.
Сотни грузовиков работали всю ночь, вывозя из города к причалам
арестованных, которых затем грузили на баржи и отвозили далеко в море. Шура
слушала съежившись, прислонившись к стене; в ее воображении возникали
картины страшной ночи, о которой рассказывал Егор; она как будто слы-
.шала шум мчавшихся грузовиков, крики, визг, ругань... «Нет, он все это
преувеличивает,— думала она.— Он раздражен. Убили Андрейчикова, из-
за угла, ножом, и он ловил убийцу...»
Она вышла из комнаты с ощущением пустоты и долго потом не могла
избавиться от неприятного впечатления, какое произвел на нее рассказ
Егора.
У мясного ряда все еще разгружали говяжьи туши.
Шура стояла у окна и смотрела на базарную площадь. Утро было
пасмурное, и оттого все вокруг казалось неприветливым, серым, унылым;
серый асфальт, серые прилавки, высокое серое здание с рекламой под
окнами второго этажа. Синие фосфорические потоки света от рекламы сегодня
особенно напоминали дождь.
Егор неторопливо шагал между прилавками, и Шура, привычно
наблюдая за ним из своего высокого — на четвертом этаже — кухонного
окна, мысленно предугадывала, куда он сейчас свернет и что будет делать;
он обязательно подойдет к табачному киоску и станет покупать папиросы.
Шура знала, какие папиросы купит Егор — «Казбек»,— и эта картонная
коробка с изображением снежной вершины и черного скачущего всадника
будет потом весь день лежать на столе между чернильным прибором и
пепельницей. Ей было нетрудно представить это, потому что она десятки раз
заходила в кабинет к Егору и видела старый массивный прибор с
тяжелыми мраморными чернильницами, в которые, наверное, уже несколько лет не
наливали чернил (Егор писал автоматической ручкой), и мраморную, тоже
массивную и тяжелую, всегда перегруженную окурками пепельницу, и
между ними — эту голубую с черным скачущим всадником папиросную
коробку. Она улыбнулась, вспомнив, что сегодня у нее есть хороший
предлог зайти в кабинет к Егору: она — член местного комитета, ей поручено
составить список желающих приобрести на зиму картофель, и хотя Шура
заведомо знала, что Егор откажется, она все же намекнет упрямому
следователю, что пренебрегать заботами местного комитета нельзя. Она еще с
улыбкой подумала, что хорошо, что надела сегодня узкое коричневое
платье; пригласит он ее или не пригласит сесть, она ни за что не сядет в его
22
Анатолий Ананьев в
кабинете, а будет стоять — пусть смотрит! — стоять вот так же, как сейчас
стоит у кухонного окна.
Егор между тем, пока Шура раздумывала обо всем этом, купил
папиросы и уже подходил к распахнутым рыночным воротам; как раз возле
ворот его остановил невысокий человек в кожаной кепке. Шура слегка
приблизилась к окну, чтобы лучше видеть; в какое-то мгновение она заметила,
что человек в кожаной кепке кивком головы указывает в сторону
фанерных ларьков. За ларьками — Шуре из окна все отлично видно — полная
женщина в серой вязаной кофте, наклонившись и приподняв подол, или
подтягивала чулок, или прятала деньги. Между этими людьми, вероятно,
что-то произошло, и Егор должен сейчас пойти к ларькам и установить,
что именно. Шура знала, как неприятно это Егору, как он не любит, когда
его останавливают на улице, и оттого ей самой было неприятно и досадно,
и она уже не с любопытством, а с неприязнью глядела на женщину за
ларьками. «Отбросы общества должны быть на задворках»,— вспомнила она
слова, однажды сказанные Егором. Женщина в серой вязаной кофте,
оправив юбку, все еще стояла за ларьками, и Шуру особенно
раздражало, что она стоит так невозмутимо, будто ничего не случилось, и, достав из
кармана зеркальце, разглядывает свое лицо. Шура представила себе, как
встрепенется эта торговка, когда подойдет к ней Егор, — она откажется
пойти в отделение, будет оправдываться, кричать, именно кричать, потому
что все торговки голосисты и крикливы, а вокруг соберется толпа. В этом
есть что-то унизительное — вести кричащую и упирающуюся женщину в
отделение; даже Шура, которой не раз приходилось видеть такое на
милицейском дворе, сейчас не могла подумать об этом равнодушно;
унизительно для Егора, для всей толпы, для всех и прежде всего для той, стоящей
за фанерным ларьком. Шура не замечала, как в ней самой в эту минуту,
рождалась жестокость, та самая жестокость, какую она осуждала в Егоре.
«Отбросы общества должны быть на задворках». Когда она снова
взглянула на распахнутые рыночные ворота, ни Егора, ни человека в кожаной
кепке возле ворот не было: они пересекли улицу и были уже на
противоположной стороне, шли по тротуару, по синему асфальту, залитому
фосфорическим светом рекламы. Егор — впереди, как всегда, прямо, не оглядываясь,
а за ним — торопливо, юркой, подскакивающей походкой — человек в
кожаной кепке. Шура проводила их взглядом до поворота, а когда они
скрылись за углом серого здания, отошла от окна, взяла сумочку и ключ; хотя
стенные часы показывали без пяти девять, она все же еще несколько секунд
постояла перед зеркалом. Сбегая по лестнице, она опять с волнением
думала, что у нее сегодня есть предлог зайти к Егору и что очень хорошо,
конечно, что она надела узкое коричневое платье.
II
— Ну, что у вас? Садитесь.
Может быть, потому, что Егор сказал громко и резко, старик Нпа-
тин оробел; он осторожно присел на край стула и долго еще неловко
осматривался вокруг, будто искал место, куда деть огромные, оказавшиеся вдруг
лишними руки и кепку; наконец положил кепку на колени и широкой
тяжелой ладонью погладил твердый, залосненный, кажущийся
негнущимся козырек. Он все еще не начинал говорить, наверное, с трудом подыски-.
вая первые фразы, и Егор не торопил его. За время службы у Егора
выработалась привычка никогда не торопить допрашиваемого. И хотя сейчас
перед ним сидел человек, не приглашенный по повестке, а просто посетитель,
решивший либо что-то узнать, уточнить, либо о чем-то рассказать
следователю, хотя к тому же сегодня был понедельник, день расширенной утренней
летучки с докладом и выступлениями, и надо было спешить, чтобы к
половине десятого, ни раньше, ни позже (подполковник милиции Богатенков лк>
Ф Межа
23
бил военную точность), непременно попасть в кабинет к подполковнику,—
Егор все же и сегодня не изменил этой привычке. Он принялся
разглядывать Ипатина, пристально, изучающе; в кабинете стояла тишина, так что,
казалось, было слышно, как вздрагивавшие пальцы старика постукивали о
козырек кожаной кепки. На эти пальцы, на широкие стариковские ладони,
словно специально выдвинутые в желтый, солнечный зайчик, и смотрел
сейчас Егор. Смотреть на руки допрашиваемого — это тоже вошло у него в
привычку; у одних пальцы холеные, у других — грубые, потрескавшиеся;
у старика Ипатина — потрескавшиеся, угловатые, даже будто немного
кривые, с расплющенными, желтыми, жесткими и тоже будто немного
кривыми ногтями; яркий свет, падавший из окна, не сглаживал, а, напротив,
лишь сильнее подчеркивал серость и землистость шершавых рук.
Как ни старался Егор казаться суровым и жестким человеком, как ни
убеждал себя, придумывая разные теории о решительных и смелых
действиях в борьбе с преступностью (он думал не о своем, а общем благе),—
он всегда расследовал дела кропотливо, въедливо, и мучился, и
сомневался, особенно когда случалось писать обвинительное заключение на человека
с натруженными руками. Он смотрел сейчас на Ипатина, худого,
сгорбленного жизнью старика, и те же тревожные мысли, десятки раз думанные
и передуманные, вновь охватывали и тяготили его. Он спрашивал себя —:
почему? — почему люди совершают преступления; он еще
спрашивал'себя— почему? — почему он, Егор, должен мучиться, искать
ответ на этот, не дающий покоя ни днем, ни ночью вопрос. Тысячи людей
работают на заводах и в учреждениях, их не гложут сомнения, перед ними
не возникают эти вопросы; и хотя Егор знал, что у них, проходивших
сейчас за окном, свои заботы, свои неразрешенные почему, он все же
считал этих людей счастливыми и завидовал их спокойной жизни. Они идут по
тротуарам, входят в магазины, не спеша, деловито стоят на трамвайных
остановках, лениво разглядывают театральные афиши; они утром шли
вместе с ним, лейтенантом милиции, через базарную площадь, пригибаясь под
холодным фосфорическим светом рекламы, и сворачивали за угол высокого
серого здания; они шагали по этим улицам в двадцатых, тридцатых годах,
ничего не зная, и будут шагать завтра, послезавтра, через десять, двадцать
лет, так же ничего не зная о милицейских делах, занятые своими думами,
а кто-то так же, как Егор, будет сидеть в кабинете и тихо, мучительно,
молча доискиваться: почему?
Старик Ипатин был одним из тех нерасторопных, скупых и
прижимистых русских людей, которые еще в детстве, когда им попадался в руки
медный грош, заворачивали его в тряпицу и прятали где-нибудь за
амбаром, в земле, или относили на чердак и засовывали в щель между
стропилом и тесом и затем по пять раз на дню, крадучись, чтобы никто не
увидел, бегали смотреть на тот самый грош: цел ли? Потом, повзрослев,
открывали в деревнях кабаки, гордясь своей прижимистостью и
расчетливостью, и уже не медные гроши, и не на чердаках, а считали,
пересчитывали и прятали по сундукам и чуланам серебряные целковые. Такие люди
не приняли революцию; они не пошли в колхозы, но и не взялись за
обрезы, потому что не хватило решимости. Иногда в одиночку, иногда целыми
семьями снимались они с мест и с котомками, с дерюжными тюками,
медными самоварами, с притихшей и перепуганной детворой, с теми самыми
убереженными в гражданскую войну серебряными целковыми, теперь
зашитыми в подзипунные поясные ремни, двигались по неровным русским
дорогам в поисках лучшего, в надежде встретить еще такой уголок, такую
затерявшуюся глушь, где бы новая жизнь хоть чем-нибудь напоминала бы
им старую, привычную. Веками люди привыкли говорить: «Это мое!» — и
не сразу, не вдруг могли теперь освободиться от этого глубоко засевшего
в них чувства. Они ехали в Сибирь, в таежные края, добирались до самых
24
Анатолий Ананьев ©
отдаленных окраин, растрясая по дорогам тюки, оставляя целковые в торг-
синах, мерзли, голодали и где-то оседали, обзаводились хозяйством, снова
снимались и двигались, калеча свои жизни, жизни взрослевших детей, не
понимая и не желая понимать того, что совершали. Они прошли через
войну, плен, через лагеря и, вернувшись, с тем же упорством, с тем же, пока
еще цепко сидящим в них: «Это мое!» — сколачивали артели шабашников
и строили по частным подрядам, как в старину, дома, фермы, склады,
получая деньгами и натурой, получая вдосталь,— мужиков по селам после
войны осталось мало, и шабашники были в чести,— и, довольные
заработками, смелели, наглели, торопясь возместить упущенное. Когда шабашить
стало невозможно, двинулись к большим городам, позастроили окраины
низенькими крестьянскими избами, хлевами, коровниками, обнесли заборами
огороды и зажили, сбывая на базарах молоко и овощи, покупая и
перепродавая ходовые вещи, толкаясь целыми днями в магазинах, заводя
знакомства на торговых базах, кустарничая и спекулируя.
Именно такую, неприкаянную, полную тревог и лишений жизнь
прожил Ипатин. Часто теперь по вечерам, когда на улицах зажигались огни и
в сумеречной синеве комнаты все вещи становились одинаково темными,
неясными, расплывчатыми и оттого внушительными, как сама ночь, как
тишина, Ипатин ложился на старый, застланный одеялом диван, скрипели
пружины, он закладывал руки под голову и так, лежа с открытыми
глазами, думал, вспоминал. Было слышно, как на кухне Настасья убирала со
стола и перемывала посуду, потом все затихало, и Ипатин знал — она
принялась вязать, это — ее повседневное занятие, теперь лежи хоть всю
ночь, никто не потревожит.
Он пришел в этот дом пять лет назад, в кожаной кепке, в новой
стеганой телогрейке, перетянутой солдатским ремнем; в деревянном сундучке,
который лежал теперь на чердаке, будто забытый, ненужный, покрываясь
паутиной и пылью, он привез и хранил все свое накопленное богатство.
Сначала он просто квартировал, потом почти по бессловесному согласию
Настасьи, пожилой бездетной вдовы, сошелся с ней, потому что старость
просит уюта. Спали они врозь, разговаривали мало; как ни старался
Ипатин привыкнуть к ней, теперь своей, не очень ворчливой, не очень упрямой
Настасье, к дому, в котором считался хозяином, все же он чувствовал, что
это не его, чужое, и потому безрадостное. Думать так было тоскливо.
Иногда хотелось, чтобы кто-то склонился над ним, близкий, понимающий
все, и посочувствовал, погоревал над его неудавшейся судьбой; хотелось не
осуждения, а жалости к себе, к сотням таких же неприкаянных,
необласканных, непрощающих и непрощенных, как он; но иногда тоска эта
оборачивалась другой стороной, и тогда старик Ипатин зло щурил глаза в темноте
и напрягал скулы; он с ненавистью смотрел на сумрачную синеву стен,
будто там, за синевой, таилось все то, что подсекло его жизнь. В такие
минуты он ясно сознавал, что никогда не сможет простить людям, которые
отобрали у него достаток, коснулись его самого святого чувства — это
мое; и еще сознавал он, что всю свою ненависть, подступавшую к горлу,
лютую, непримиримую, навсегда унесет с собой в могилу, не передав
никому. «Сын! Если бы сын!..»
Когда Ипатин поворачивался, чтобы положить поудобнее затекшие
руки, под ним жалобно и тонко скрипели проржавевшие пружины дивана; он
не смыкал глаз, не мог спать; в десятый, в сотый раз перебирал в памяти
ушедшие годы.
Он видел себя молодым деревенским парнем в синей вышитой
косоворотке, в черных суконных брюках, заправленных в сапоги; так одевался он
только по праздникам и в воскресные дни, когда нужно было идти в
церковь. Казалось, все это происходило вчера: мелодичный, чуть-чуть
тревожный, чуть-чуть настораживающий звон колоколов и распуганные
каркающие галки над колокольней, нарядные толпы сельчан, идущих к
церковным воротам, и он в этой толпе с двумя сестренками и матерью,
8 Межа
25
петрушинской кабатчицей, солдаткой, потерявшей мужа на германской.
Теперь, вспоминая, Ипатин видел все это настолько ясно, что, казалось,
вновь, как и тридцать с лишним лет назад, чувствовал сковывающий
холод кирпичных церковных стен, слышал шепот молящихся и громовой бас
отца Иннокентия, лысого и бородатого, краснощекого, не похожего ни на
одного из святых, развешанных и расставленных вдоль стен,— этот
громовой бас, будто падающий с высоты, из-под огромного купола, давил и
пригибал к каменным плитам парнишку в синей косоворотке. Было неуютно и
зябко, но не под стынущие колени, а под носки начищенных яловых сапог,
чтобы не испортить, не поцарапать их, подкладывал Ипатин мягкий,
специально прихваченный с собой для, этого лсскут старой попоны; так велела
мать, так учила его петрушинская кабатчица бережливости. С
благоговением и даже с какой-то святостью вспоминал о тех годах старый Ипатин. Он
думал, что именно в той бережливости, теперь попранной и раздавленной,
таилась крестьянская правда. Еще он часто думал о том дне, когда была
попрана эта крестьянская правда, вернее, его, и п а т и н с к а я,
правда, когда он в тех самых сапогах, береженых, густо смазанных дегтем,
шагал по весенней слякотной дороге, ведя под уздцы запряженную чалую
лошадь, и не замечал ни луж, ни грязи, ни ветра, отворачивавшего полы его
гр'убошерстной мужицкой бекеши. На возу сидели испуганные и притихшие
сестренки, опухшая от слез и тоже притихшая мать, закутанная в серую
шаль; позади сквозь тонкие стволы берез еще виднелись крыши родного
села Петрушина, но Ипатин не оборачивался, он шел, опустив голову,
невольно приноравливаясь к ровному шагу лошади, прислушиваясь к
дождевым порывам ветра, скрипу колес и чавкающим звукам конских копыт.
Когда теперь, укладываясь поудобнее на диване, он слышал скрип старых,
поржавевших пружин, ему казалось, что именно так, тревожно и жалобно,
скрипели в тот день колеса его нагруженной телеги. Он не думал тогда,
ведя под уздцы чалую, что придется ему работать в Сибири, на
лесосплаве, что всю жизнь он будет прятать и перепрятывать те нажитые
целковые, которые хранились у матери в сшитом для них поясе,— он
похоронит мать на привокзальном кладбище среди могил железнодорожников,
серых, каменистых и сыпучих на иссушенной земле могил, и не
поставит даже креста у ног, потому что не из чего будет сделать, а вобьет
только колышек с надписью, и лишь потом, когда поезд вновь повезет
его к глухим таежным просторам,— в вагонном полумраке, трясясь
на верхней полке, будет боязливо ощупывать на себе тот пояс с
зашитыми целковыми, снятый с матери, этот страх затем станет постоянно
тяготить его.
Оба молчали: и Егор и старик Ипатин. Егор уже не смотрел на
старика, а рылся в ящиках, выкладывая на стол дела, которыми собирался
сегодня заняться. Среди синих папок и различных, пронумерованных и
сколотых бумаг появилась и стопка чистых, еще не заполненных бланков
протокола допроса, и, хотя Егор отодвинул их на край стола и прикрыл сверху
каким-то пухлым скоросшивателем, все же старик Ипатин успел заметить
белые гладкие листки с крупной черной надписью: «ПРОТОКОЛ
ДОПРОСА»,— и это особенно насторожило и смутило его. Он знал силу
заполненных протоколов. Та тревога, охватившая еще вчера, когда он открыл
калитку и провел в дом молодых людей, один из которых назвался
депутатом районного Совета, другой — сотрудником милиции, и мысли,
возникшие сразу же после разговора с этими представителями власти (они
предложили написать объяснение, на какие средства выстроен дом, и
приложить к объяснению подтверждающие документы), мучившие Ипа-
тина весь вечер, ночь и продолжавшие тяготить утром, когда он остановил
лейтенанта милиции у распахнутых рыночных ворот, чтобы спросить, как
пройти в отделение,— теперь, при виде протоколов, как бы с новой остро-
26
Анатолий Ананьев Ф
тою ожили в нем, и оттого он не мог вымолвить ни слова; лишь пальцы
сильнее постукивали о козырек кожаной кепки. «Почему ко мне? Почему
теперь, а не месяц, не год назад?» — спрашивал он себя, недоумевая, как
и вчера, и совершенно теряясь в догадках, почему пришли именно к нему
с проверкой. Он не знал, что на швейной фабрике, где он работал
вахтером, раскрылось крупное хищение и что он, Ипатин, подозревался как
соучастник преступления. «Надо же ему сказать, что я молчу»,— говорил
себе Ипатин, взглядывая на Егора и стараясь вспомнить фамилию того
сотрудника милиции, к которому должен был явиться сегодня с
объяснением; но вспомнить не мог и лишь беспрерывно повторял мысленно слова
и фразы, которые произносились вчера во время неожиданного и так
ошеломившего его разговора.
«Дом не мой!»
«Ничего, ничего, папаша, решение райисполкома...»
«Не я его строил!»
«Так и напишите».
«Вот домовая книга».
«Проверим, придет время, проверим, уточним. Все это приложите к
объяснению и принесите в отделение к товарищу Го...» Дальше Ипатин
никак не мог вспомнить.
Но хотя он и думал о вчерашнем разговоре и упорно старался
вспомнить фамилию сотрудника милиции, хотя, как ему казалось, именно это
было главным и смущало и волновало его,— главным, почему он не мог
произнести ни слова, было другое, то, о чем он не хотел говорить и
что сейчас как бы вторым планом вставало в его возбужденной памяти.
Вот так же он сидел перед уполномоченным по коллективизации тогда, в
Петрушине, растерянный, опустошенный, и говорил: «Нет, не пойду!» — а
потом шагал по слякотной проселочной дороге, ведя под уздцы чалую; ему
казалось, что старое теперь повторялось с ним вновь; он так думал и
чувствовал еще потому, что на него угнетающе действовали тишина кабинета
и строгий и непримиримый, как представлялось ему, вид одетого в
милицейский мундир следователя.
Ипатин смотрел на стопку спрятанных под скоросшивателем бланков
протокола допроса, на руки следователя, передвигавшие и перебиравшие
бумаги и папки на столе, и ко всем прежним его чувствам и мыслям
прибавлялась еще одна тревога — придется рассказывать о своей жизни,
рассказывать все сначала, а следователь будет скрипеть пером по белым
бланкам и задавать вопросы. Ипатин боялся этих вопросов; он вздрогнул и
выронил кепку, когда в тишине кабинета вновь прозвучал теперь уже
негромкий, но такой же настойчивый и властный голос Егора:
— Начинайте, я вас слушаю.
Могилы матери, могилы сестренок; серые, каменистые и сыпучие, как
насыпь железнодорожного полотна, могилы без крестов, а только с тощими
колышками у ног; одна, первая,— за товарными тупиками белебеевского
вокзала, вторая и третья — под Красноярском и Читой...
В тот год Ипатин близко познакомился со смертью, он сам был с нею
накоротке: таежная заснеженная Сибирь, тифозный больничный барак,
койки, матрацы без простыней, мечущиеся в жару и бреду люди, жалкие,
желтые, стонущие, бегающие сестры в халатах, группа выздоравливающих'
в углу, у'глухой стены без окон, и он, Ипатин, в этой группе, еще
слабый, худой, с тонкими, безвольными, словно не своими руками; он еще не
в силах сам поправить на себе одеяло... Когда он, пошатываясь от
слабости, вышел из больничных ворот, он понял, что все для него в жизни
потеряно, что уже никогда не будет для него ни соломенных петрушинских
крыш, ни колокольное зеленым куполом и распуганных каркающих галок
над ней, ни церковного сада и поповского дома под железом, единствен-
# Межа
27
ного в селе кирпичного дома, ни своей собственной избы, хотя крытой и не
железом, но тесом, когда-то разделенной надвое: половина — под жилье,
половина — под кабак, ни тихих деревенских закатов и восходов; ему
казалось, что вся Россия в тот памятный тридцать первый год, его Россия,
ипатинекая, не пошедшая в колхозы, котомочная, дерюжная,
согнанная с насиженных мест, стонала и корчилась в бреду и жару, как те, на
койках в тифозном больничном бараке. Ему все представлялось так потому,
что он не принимал и не мог принять новую жизнь; прошлое, когда мать
его была кабатчицей и в доме всегда было полно всего, и люди уже
начинали снимать перед ним шапки, невозможно было забыть. «Все
кончено!» — с горечью говорил он себе. Он видел и чувствовал перемены, но
он не хотел замечать, как изменялась жизнь в деревнях и городах,
изменялась для простых и честных людей, — он искал своих единомышленников,
и, находя, держался их среды, и осуждал вместе с ними все новое; он сам
готовил себе тяжелую участь, не понимая и не замечая этого, а лишь
разжигая в себе ненависть и злость. Настороженно присматривался он к
людской толчее на вокзалах, к очередям у вербовочных контор и
спрашивал себя: как жить? Он и теперь, седой, сгорбленный старик, вахтер
швейной фабрики, часто задает себе все тот же вопрос, хотя отлично знает, что
надо бы и можно бы жить, как живут вокруг тысячи и тысячи людей в
деревнях и городам.
«Как жить?».
Ипатин хорошо помнил, как в тот год он, истощенный, еще не совсем
окрепший после болезни, завербовался на Сым, на лесосплав, помнил
скрипучую палубу баржи и пароходик впереди по канату, вспенивавший
лопастями енисейскую воду; помнил людей на палубе, несмирившихся,
озлобленных, ехавших теперь в Сибирь за длинным рублем; нет на свете
длинных рублей, а есть только длинные дороги к ним,— и особенно помнил
Ипатин сидевшего рядом дьякона с бородавчатым лицом. Дьякон
монотонным елейным голосом говорил:
«Сей каторжный край, край мучеников, есть ныне край праведников.
Отныне там, за Уралом, кара божья, а здесь — ниспосланная всевышним
благодать».
«Благодать ли?»
«Сущая».
«А по мне так: нет нынче человеку нигде приюта».
«Бога забыли, бога!»
«Каждый сам себе бог!»
Последнюю фразу сказал не Ипатин; он даже не оглянулся и не
посмотрел на того, кто произнес ее, потому что слова дьякона
представлялись неопровержимыми и значительными, и было приятно слушать
спокойный, утешительный голос пожилого служителя церкви. Но теперь Ипатину
казалось, что это были его слова, что это он сам тогда, на барже, так
резко ответил дьякону: «Каждый сам себе бог!» Он так понимал эту
фразу: «Я должен жить, как хочу, как привык, вольно, свободно, как жил
в Петрушине». Это стало его лозунгом, его мерой бытия, и все, что он
делал, к чему стремился, укладывалось теперь в три слова: жить, как
привык. Он выстроил в Ярцеве, прямо на берегу Сыма, дом, женился,
обзавелся хозяйством; он строил этот дом вечерами и в воскресные дни,
свободные от работы; было трудно накатывать бревна, немели руки от
топора и пилы, но радостно билась мысль: «Для себя!» — и оттого не
замечалась усталость, лишь черствели мозоли на крепнущих широких ладонях.
Ипатин с удовольствием вспоминал о тех днях: белая разлетающаяся из-
под топора щепа, запах сосны и всплеск холодной сымской воды у
глинистого откоса, раскачивающийся на ветру фонарь, и в этом мигающем
красном свете вырастающий из земли деревянный сруб с еще не заделанным в
пазах мхом, с еще светлыми, не обветренными, не потемневшими и не по-
28
Анатолий Ананьев О
тресканными срезами бревен,— все это так отчетливо представлял себе
Ипатин, что будто вновь, разгибаясь и откладывая топор, вытирал рукавом
холщовой рубашки потный лоб и, прищурясь и радуясь тому, что дом
подымается, окидывал взглядом сруб; он делал это для себя и
потому работал охотно и с удовольствием. Потом сгребал стружки, садился
на верстак и молча ед испеченный женою хлеб, откусывая большие куски
и запивая прямо из кринки холодным молоком; и запах стружки, и запах
домашнего хлеба, и вкус свежего, пахнущего тайгой и мятой молока —это
обыденное, не замечавшееся тогда, теперь особенно волновало старого
Ипатина. Он чувствовал себя хозяином, вновь испытывал то приятное
ощущение доброты и полноты жизни, как в те годы, когда по утрам
деревянной лопатой расчищал во дворе снег, прокладывая дорожку к сараю, в
котором стояла купленная на верхнесымскои ярмарке корова. Корова была
рыжая, маленькая, совсем непородистая и молока давала мало, но все
же свое, нажитое, как и ограда из сосновых жердей, что сбегала вдоль
огорода к реке, как двор, калитка, рубленый дом с крыльцом, и на
крыльце — вешающая коромысло на гвоздь жена Граня, «порченая» ярцевская
девка, порченная беглым каторжником. Граня была бесплодной, и это
мучило Ипатина; первое время он особенно не мог мириться и, когда
бывал пьян, по ночам, взъерошенный, не помнящий ничего, бегал к сараю
искать вилы и грозился заколоть ее. Но теперь, спустя столько лет, когда
все было позади, и дом на берегу Сыма, любовно отделанный его
руками, стоял заброшенный, никому не нужный, без крыши, без окон и
дверей— лишь убежище для играющих в войну мальчишек; когда тело
Грани, умершей от цинги, давно покоилось на старом ярцевском кладбище, и
сам Ипатин прошел через войну, плен, лагеря,— теперь, думая о Гране, он
не вспоминал о том, как по ночам бегал к сараю искать вилы: он видел ее
в минуты, когда она бывала веселой, плясала, наклонив голову,
кружась, и широкая юбка ее, как колокол, надувалась, завихривалась, и тогда
обнажались ноги, и были видны белые кружева нижней юбки. Он видел ее
и такой, счастливой, и еще суетливо заботливой, встающей по ночам к
заведенной квашне: шооох откидываемого одеяла, тихое шлепанье
босых ног, желтый свет керосиновой лампы и огромная, склоненная над
квашней тень на стене. Но чаще всего Ипатин вспоминал Граню,
какой она была в минуту, когда он, готовый к отправке, стоял на
неширокой дощатой ярцевской пристани, и она, обхватив его за шею, сквозь
слезы шептала: «Родненький мой»,— сдерживая и не в силах сдержать
рыдания.
Все, что было потом, когда небольшой пароход, словно в насмешку
названный «Рыболов», вздрогнув и ударив лопастями о воду, отчалил от
притихшей на мгновение ярцевской пристани, было безрадостным. Не тот
день, когда он покинул родное Петрушино, ведя под уздцы чалую, а именно
этот считал теперь Ипатин роковым и поворотным в своей судьбе. Он не
восстанавливал в памяти то, как он ехал на фронт и что видел, выходя на
заснеженные перроны на стоянках: эшелоны, эшелоны с танками,
орудиями, четкие контуры стволов под зеленым воинским брезентом и, словно
застывшие на платформах, часовые; и о чем размышлял, когда очутился в
окопе, и первые мины, шепелявя, пронеслись над его головой, грянули
первые взрывы, и осколки крупным градом чесанули по брустверу,— он
решил тогда, что надо переждать войну, пусть в плену, но остаться живым, и
он лишь искал для этого удобного случая. Плен, лагеря, работа на ферме
у старого штаргардского бюргера — это уже потом казалось ему
естественным, неизбежным и не зависящим от него делом. «Не я один, все
сдавались, многие сдавались», — говорил он себе теперь. Он считал, что не
был виноват в том, как он попал в плен. Ночью на деревню, где
расположилась выходившая из окружения рота, напали немцы. Ипатин вместе с
двумя бойцами спал в брошенной хозяевами избе. Он проснулся в тот
момент, когда немцы были уже в деревне и крупнокалиберный пулемет, уста-
ф Межа
29
новленный на паперти, трассирующими пулями насквозь простреливал
ночную улицу. Вместе с бойцами Ипатин выбежал из избы и бросился к
огороду, но добежали они только до деревянной бани, стоявшей на задах,
и там, оглушенные и притихшие, прислушивались к отдалявшемуся к лесу
бою; там и взяли их немцы утром, прочесывая деревню. Все это живо
помнил Ипатин: и баньку, и рассвет в крохотном, как бойница, окне, и
приближавшиеся шаги немецких солдат, и скрип двери, и клацанье
автоматных затворов, заглушённое криком: «Хальт!»,— и то, как он бросил
винтовку, встал и поднял руки. Он живо помнил это, но не это
представлялось ему главным. Ему казалось, что он ничем не запятнал своей
солдатской чести, и если бы не случайное окружение, мог бы еще гордиться
собой, а под старость рассказывать о себе удивленным детям и внукам,
но у него ни детей, ни внуков, ни незапятнанной чести, а лишь боль,
мучительная, разъедающая душу боль от новой, как он считал, свершенной
над ним несправедливости: таких, как он, бывших солдат, а потом
бюргерских работников и всякого рода бывших старост, полицаев и власовцев,
теперь погрузили в теплушки, приставили конвой и уже как заключенных,
этапом отправили в Сибирь, на Колыму.
Запоминаются не годы, не месяцы, а дни, часы, минуты, именно
минуты. Тот звук прибиваемых к окнам решеток и теперь часто будил Ипатина
по утрам, старик вскакивал, хотя в голубоватых рассветных сумерках
видел стены, сундук, коврик, кровать у печи и спящую Настасью на кровати,
укутанную одеялом и ничего не слышащую и не видящую, хотя ничто в
комнате не напоминало ему ни вагонных нар, ни оконца над нарами,
к которому приколачивалась решетка.
Еще отчетливее возникала в воображении Ипатина другая картина:
когда он уже был в лагере, за колючей проволокой, его вызвали на допрос
к следователю, и на этом же первом допросе следователь сказал, что ему,
Ипатину, нечего оправдываться, что он изменник родины, потому что
работал на немцев, и что нечего доказывать, будто у него совесть чиста: у
предателя совесть не может быть чистой. Бланк протокола, взгляд
следователя и, главное, слова, которые он произнес: «Измеьник родины,
предатель»,— от всего этого и теперь, вспоминая, Ипатин холодел и начинал
вздрагивать всем телом. Сейчас ему особенно казалось, что он не совершал
ничего преступного и злого. «Я никого не предал; я не выдал того, кто
лежал в капустных грядках; я работал, работал с утра и до ночи, работал,
чтобы не пропасть!» Он говорил так, будто все еще продолжалось
расследование по его делу и слова эти могли размягчить, разжалобить и убедить
следователя. Лишь однажды — это было на старом ярцевском кладбище,
когда он стоял перед могилой Грани и когда воспоминания и боль за свою
нескладную и горестную жизнь казались ему особенно невыносимыми
и давили его,— в нем шевельнулось раскаяние, он подумал, что мог бы не
сдаваться в плен, не отсиживаться в деревянной баньке на огороде, а,
отстреливаясь, догнать роту и вместе со всеми отойти к лесу, что мог бы
отказаться от работы у бюргера, как отказывались другие, и тогда — но
кто знает, что было бы с ним тогда, остался бы жив, или лежал в
солдатской могиле без гроба и без сапог, как хоронят убитых на войне, или ждал
бы казни где-нибудь в лагере смерти, как тот бежавший из концлагеря
поляк или француз, изможденный и серый, которого Ипатин увидел в
капустных грядках там, на неметчине, на фермерском поле, и которого не выдал,
но и не помог ничем, хотя на подводе в узелке лежали хлеб и
сало. Ипатину была страшна своя участь, страшно было ему и
теперешнее его смятение, но еще страшнее представлялась ему участь того
поляка или француза, которого спустя несколько дней нашли мертвым в
придорожной канаве, —он лежал на боку, распухший и разлагающийся, с
арестантским номером на полосатой куртке, и полные, розовощекие юнцы в
коричневых куртках-гитлерюгендках, смеясь и потешаясь, забрасывали труп
* камнями.
30
Анатолий Ананьев #
«Как жить?»—снова и снова спрашивал себя Ипатин. Но, в
сущности, он знал, что и теперь, если бы повторилось с ним все, он ничего не
сделал бы по-другому, потому что дороже всего на свете была ему
собственная жизнь.
Может быть, если бы не телефонный разговор, длившийся почти
десять минут, Егор внимательно выслушал бы Ипатина, во всяком случае,
узнал бы, зачем старик пришел в отделение, но как раз в тот момент, когда
Егор, оторвавшись от бумаг и взглянув на уронившего кепку Ипатина,
намеревался в третий раз произнести: «Говорите же, начинайте!» —
прозвучал этот неожиданный телефонный звонок.
Звонил бывший товарищ по университету Лаврушин, сейчас
работавший следователем в городской прокуратуре, и звонил потому, что получил
в субботу ордер на новую квартиру, в субботу же переселился, и ему
теперь с нетерпением и радостью хотелось рассказать обо всем Егору и
пригласить его на новоселье. Все это было хорошо: и новая квартира, и то,
что она отлично, как утверждал Лаврушин, отделана, что кухня кафельная,
есть ванная и уже подключена горячая вода, и что комнаты не
проходные, хотя только две — все хорошо, и Егор с удовольствием поздравил
Лаврушина, но пойти на новоселье не мог, потому что в четверг дежурил и
отпрашиваться у подполковника Богатенкова не было желания;
Лаврушин же продолжал настаивать, и тогда Егор, видя, что разговор может
продлиться до бесконечности, решительно сказал: «Нет!»—и положил
трубку.
Он хотел наконец заняться молчаливо и сгорбленно сидевшим
стариком, который все больше и больше вызывал у Егора жалость и о котором
он не переставал думать во время разговора с Лаврушиным, но теперь, ко:
гда положил трубку, и можно было, поднявшись и выйдя из-за стола,
подсесть поближе к Ипатину, и, сказав что-нибудь приветливое и
располагающее и ободрив этим старика, начать разговор, — Егор не сразу сделал это.
Совсем некстати он вспомнил, как полтора года назад, как раз перед
защитой дипломов, когда выпускников юридического факультета вызвали в
комиссию для распределения, Лаврушин, который должен был идти после
Егора Ковалева, вошел первым и получил направление на работу в
городскую прокуратуру. Егор тогда ничего не сказал, лишь мысленно
усмехнулся, потому что ему было все равно, где работать; но теперь он вспомнил,
что и тогда и особенно в первые месяцы службы в милиции он завидовал
удачливому Лаврушину; и хотя эта же зависть вспыхнула в нем и теперь,
он, не признаваясь себе и стараясь не думать о Лаврушине, но думая
именно о нем и чувствуя, что уже не может с той теплотой и искренностью,
с какой намеревался, поговорить с Ипатиным, и все же стараясь сделать
это, встал, подошел к сидевшему все так же сгорбленно старику и,
наклонившись и заглянув в его старческие глаза, сказал как можно мягче:
— Ну, папаша, что у вас?
Потому, что паспорт был ближе и удобнее было его достать, и еще —
просто по укоренившейся профессиональной привычке (сначала надо
посмотреть паспорт, удостовериться в личности, а потом уже приступать к
допросу, так учил подполковник милиции Богатенков),— Егор вынул
паспорт из домовой книги, не разворачивая ее и совершенно не интересуясь,
какие еще документы лежат в ней, паспорт оставил у себя, а домовую
книгу тут же вернул Ипатину, чуть слышно проговорив:
— Возьмите.
«Он тоже не хочет смотреть документы!..» — подумал Ипатин и
похолодел от этой мысли. За все время, пока находился в кабинете, он ничего
не сказал следователю, только напряженно думал о том, что хотел сказать,
но сейчас ему казалось, что он рассказал обо всем, для чего пришел сюда,
что следователь все знает и что, зная все, все же не стал смотреть до-
# Межа
31
мовую книгу и вернул ее. Он вдруг ясно представил, что никому ничего
уже не сможет доказать, и теперь не растерянно, а неприязненно и
ненавистно, распрямившись и спрятав сложенную домовую книгу в боковой
карман своего потертого пиджака, посмотрел на следователя, продолжавшего
неторопливо разглядывать паспорт.
В это время неожиданно, но не для Егора, а для Ипатина дверь
отворилась, и кто-то, не заглядывая в кабинет, громко крикнул:
— На летучку!
— Ну вот,— повернувшись к Ипатину, но обращаясь больше к себе,
чем к нему, произнес Егор и, закрыв паспорт, протянул его
старику.— Ну вот,— повторил он уже с иным оттенком, сожалея и досадуя, что
разговор теперь не может состояться; но он не хотел огорчать старика и
потому, все так же чувствуя к нему жалость, торопливо добавил: —Я
приму вас, Петр Евдокимович, сразу же после летучки, приму и выслушаю.
А пока пройдите во двор, там есть беседка, есть скамейка для ожидания,—
произнеся эти слова, он открыл дверь молча шагнувшему к выходу
Ипатину.
III
В ту минуту, когда Егор стоял у раскрытой двери и пропускал мимо
себя Ипатина, он заметил, что старик не был растерян, а, напротив, был
сосредоточен и зол. Но Егор спешил на летучку и потому не обратил на это
особенного внимания, считая, что у старика нет оснований для
недовольства. Теперь же, когда сидел в кабинете начальника отделения
подполковника Богатенкова, и подполковник, привычно постучав карандашом по
столу и сказав: «Начнем, товарищи»,— предоставил слово для сообщения
начальнику уголовного розыска майору Теплову, и майор, развернув папку,
переложив несколько бумажек и заглянув в одну из них, негромко
произнес: «За эту неделю, товарищи...» — и, не останавливаясь стал
перечислять, сколько совершено и сколько раскрыто преступлений,— теперь, уже
слушая это сообщение майора Теплова, Егор вдруг опять вспомнил о
старике Ипатине. Вспомнил именно тот момент, как в дверях пропускал старика
мимо себя — с какой ненавистью старик, выходя, взглянул на него! Нет,
тут была не просто обида, а что-то большее, во всяком случае, так сейчас
представлялось Егору, и он, перебирая в памяти подробности сегодняшнего
утра, старался понять, что же могло озлобить Ипатина. Ведь старик — это
Егор отлично помнил — был лишь взволнован и растерян: и когда
встретился у распахнутых рыночных ворот и когда сидел в кабинете.
«Странный старикашка».
Есть люди, у которых и обида-то пустяковая, а смотрят так, будто
виноват перед ними весь мир, будто все им чем-то обязаны. Егор встречал
таких людей и не любил их; он подумал теперь: «Старик этот — не из тех
ли?» — и потому, что так подумал, почувствовал неприязнь к Ипатину.
«Однако зачем он приходил?»
«Все время молчал».
«Странно».
Егор вначале совершенно не воспринимал то, о чем говорил майор
Теплов, а только слышал отдельные слова: «Замечен...» «Замечен...»
«Вторично замечен...» — но потому, что эти слова настойчиво повторялись,
и потому, что для Егора они имели свой смысл, он постепенно начал
внимательнее прислушиваться к голосу майора, а мысль об Ипатине
отодвигалась все далее, отходила на задний план. Особенно насторожило Егора —
он даже скептически усмехнулся, и уже до конца летучки эта скептическая
усмешка не сходила с его губ — словосочетание «вторично замечен»,— и
он, не зная того, что говорилось перед этими словами, и прослушав то,
что майор сказал после этих слов, а лишь примерно представив, о чем шла
речь, живо сочинил свой контекст: «Вторично замечен, вторично, и еще
32
Анатолий Ананьев Ф
не арестован; либералы, ушехлопы, мы сами растим хулиганов и убийц!»
И сразу же, как только родилась в голове эта фраза, она словно обожгла
Егора. Он как будто не только сам не бывал вдумчивым и осторожным,
но не мог и не хотел признать, что существуют на свете такие категории;
ему казалось, что только в том и заключены обязанности каждого
сидевшего здесь, на летучке, сотрудника и прежде всего, конечно, его самого.
Егора, чтобы разом, одним смелым и решительным действием,
покончить с преступностью. Он не замечал, что, как и в день убийства Андрей-
чикова, он теперь излишне волновался и горячился, но ему нравилось это
его состояние, когда все представлялось простым, ясным и нужно было
только всем понять это и действовать, действовать. Он смотрел теперь на
майора, и то, что тот, с прежней медлительностью перелистывая
бумаги в раскрытой папке и лишь мельком заглядывая в них, спокойно называл
имена и фамилии «вторично замеченных», и, главное, то, что еще с боль-
'шим спокойствием и даже с удовлетворением на лице выслушивал
сообщения майора подполковник Богатенков, время от времени одобрительно
кивая головой и произнося: «Так, так...» — и этим ясно давая понять, что
«осторожность» майора ему нравится, что он доволен такой
осмотрительностью и такими «действиями» начальника уголовного розыска,— главное,
эти одобрительные взгляды и слова подполковника Богатенкова вызывали
в душе Егора протест. Егор понимал, что ни майор Теплов, ни
подполковник Богатенков не могли что-либо изменить в существующих законах; но
что и тот и другой не только не проявляли необходимой, как он думал,
решительности и жесткости в работе, а, напротив, были даже мягче —
никакое другое, а именно это слово всегда употреблял Егор — мягче
существующих законов, — этого Егор уже не мог понять. Ему хотелось
возразить им, раскрыть перед ними, что было т^к очевидно и ясно ему
и очевидно и ясно многим, как он думал, присутствовавшим здесь, но
он пока продолжал сидеть молча, не двигаясь и ничем не выдавая своего
желания, а лишь по-прежнему скептически ухмыляясь. Он взглянул на
Богатенкова и вспомнил, как однажды, еще до убийства Андрейчикова,
разговаривал с подполковником о решительности и жесткости; но он не
повторял, а как бы мысленно продолжал сейчас тот неоконченный разговор.
«Решительность и поспешность — вещи разные, дорогой Егор
Тимофеевич, и вам надо это глубоко усвоить. — Подполковник медленно ходил
по кабинету, словно отсчитывая шаги, и смотрел больше вниз, на носки
своих сапог, и только изредка, когда останавливался и произносил:
«Дорогой»,— в упор смотрел на Егора; Егор хорошо запомнил это и
представлял подполковника в своем воображении именно таким, медленно
расхаживающим по кабинету, хотя тот спокойно сидел за столом и продолжал
то и дело одобрительно кивать майору Теплову. — Мы имеем дело с
людьми, с разными людьми, об этом всегда надо помнить».
«Я не о том!»
«Гуманность наших законов...»
«Я о преступниках!»
«Семь раз отмерь, один раз отрежь».
«Я говорю о преступниках, дорогой подполковник (вслух Егор не
осмелился бы назвать подполковника «дорогим», но это был лишь
воображаемый, мысленный разговор, и потому он сейчас не смущаясь повторял это
слово). Я о преступниках, дорогой подполковник. Возьмем, к примеру,
этого Илью Брагу».
«Ну?»
«За первое ограбление и ножевые раны, которые он нанес сторожу,
какое дали ему наказание? Двенадцать лет. А сколько он отбыл? Четыре
года. Всего четыре года, и уже снова на свободе, потому что, видите ли,
проявил себя в колонии, осознал, исправился, и сразу нашлись этакие
добрые дяди...— Егор хотел сказать: «Вроде вас, дорогой подполков-
• Межа
33
ник», — но хотя и разговаривал мысленно, все же не решился на это, а
произнес совсем другое: — Вроде нашего майора. Взяли и скостили срок
сразу на восемь лет».
«Вера в человека...»
«Я о преступниках, дорогой подполковник. Брага на свободе, Брага не
работает, Брага снова замечен, вторично замечен, но мы и не
думаем заводить на него дело. А результат? — Егору представлялось, что
в этом месте подполковник смутится и ничего не ответит, а просто пожмет
плечами или разведет руками, потому что и возражать-то особенно
невозможно.— Результат — новое убийство, убийство Андрейчикова».
Егор с такой запальчивостью произнес последние слова, хотя и
произнес их мысленно, будто разговор был вовсе не воображенный, а все
происходило наяву, и он не сидел, а стоял напротив смущенного и озадаченного
подполковника и торжествовал победу. Но в то же время, испытывая
приятное ощущение торжества, он сознавал, что торжество не было полным:
оно не было полным потому, что он чувствовал, что и в этом, воображенном,
разговоре и в том, который состоялся еще до убийства Андрейчикова,
осталось что-то недосказанное им самим, Егором, и, главное,
подполковником. Но что было недосказанным? Сначала он подумал, что подполковник
просто не понял, что он, Егор, имеет в виду только явных преступников.
«Я говорю о преступниках! О преступниках!»—вновь повторил он теперь
с особенным усилием, и ему показалось, что фраза звучит убедительно
и что, пожалуй, этого вполне достаточно, чтобы понять все. Он вспомнил,
что подполковник не горячился тогда, а был спокоен, даже добр, вспомнил
выражение его лица и совсем неожиданно ясно представил себе, что
подполковник все понимал и только делал вид, что не понимает и не хочет
ничего разграничивать. Это было уже новым «почему», требовавшим ответа.
и Егор почувствовал, что не может ответить, потому что не может
проникнуть в ход размышлений подполковника. Но так или иначе и подполковник
Богатенков и майор Теплов по-прежнему оставались для него либералами,
ушехлопами: он не мог отказаться от этого основного своего суждения,
считая, что убийство Андрейчикова, как и ряд других преступлений, можно
было предотвратить, если бы вовремя арестовать Брагу, а еще вернее —
не сокращать ему срока наказания.
«Вот еще в чем наша беда: исправился, готов, выходи на свободу!
А он вышел и тут же опять за свое. Горбатого могила исправит! Ведь как
было с Андрейчиковым»,— подумал он, вспомнив подробности той ночи.
Майор Теплов в эту минуту как раз говорил о двух взятых им на заметку
молодых людях, которые когда-то будто бы были связаны с Брагой, и
упоминание имени преступника лишь сильнее всколыхнуло воображение
Егора.
В тот вечер Егор дежурил.
Он сидел за столом, курил, а напротив, за невысокой перегородкой,
сделанной так, что сквозь просветы в ней можно было видеть все, что
происходило в другой половине полуподвального, сырого, пропахшего одеждой
и потом дежурного помещения,—там, на длинной неокрашенной скамейке,
тоже сидели (но не курили, потому что курить в дежурной им было
запрещено) только что приведенные в отделение подвыпившие женщины, или,
как назвал их подполковник Богатенков, «чувствительные девицы». Они не
были подавлены и удручены тем, что находились в отделении, и пожилой
сержант милиции с грустными шевченковскими усами, допрашивавший
девиц и заполнявший протоколы, не только не пугал их своим суровым
видом, а, напротив, казалось, даже веселил, и они, поочередно подходя к его
столу и присаживаясь на указанную им табуретку, старались сесть так,
чтобы сержант мог видеть не только их лица, плечи, грудь, но и ноги, и
бедра, охваченные коротенькими юбочками, и особенно белые колени, вы-
3. «Октябрь» № 11.
34
Анатолий Ананьев Ф
глядывавшие из-под этих юбочек. Девицы улыбались, подмигивали, и все
это было так неестественно и так неприятно действовало на Егора, что в
этот вечер он особенно тяготился дежурством. Он вышел во двор, где
стояли мотоциклы с колясками, расчехленные, готовые к выезду, прошел
мимо этих мотоциклов, мимо куривших и разговаривавших милиционеров
и, очутившись в той самой беседке, куда направил сегодня перед летучкой
старика Ипатина, сел на скамью.
Было тепло и сухо. Егор отлично помнил, что было тепло и сухо, и он
еще удивился тогда, заметив, что все милиционеры, стоявшие во дворе,
были в плащах; плащи, накинутые на плечи, напоминали солдатские плащ-
палатки,— именно это удивило Егора, что плащи были похожи на
плащ-палатки. И теперь, думая о том вечере, он видел перед собой фигуры
милиционеров именно в тех плащах, видел темные силуэты расчехленных
мотоциклов и над ними, на высоком столбе, одиноко и тускло горевший
электрический фонарь, освещавший двор... Егор часто вспоминал эти
подробности, и не только потому, что они были особенными и надолго
врезались в память, — одна интересная и поразившая его мысль пришла в тот
вечер ему в голову. Мысль была навеяна и теми «чувствительными
девицами»,— Егор не любил это выражение «чувствительные девицы», и каждый
раз, когда бывал не согласен с подполковником Богатенковым, называл его
самого «чувствительной девицей», правда, называл лишь мысленно, для
своего удовлетворения, и ни разу нигде не произнес это вслух; и этой
картиной двора с расчехленными мотоциклами и людьми в плащах, похожих на
солдатские плащ-палатки, как взвод бойцов перед боевым заданием: и теми
участковыми и постовыми, которых он не видел в этот вечер, но которые
постоянно напоминали о себе то коротким и четким сообщением:
«Происшествий нет, все спокойно!» — то тревожным и спешным вызовом, и тогда
наряд мотоциклов срочно выезжал к месту событий; всем тогдашним
дежурством, всеми делами, которые Егор расследовал, всей службой в отделении
была навеяна эта необычная и поразившая его мысль: как это люди не
задумываются над тем, что есть два мира — главный, включающий в себя
все сферы деятельности человека, жизнь в целом, и
сопутствующий, как часть целого, ограниченный профессиональными рамками, и что
самое важное, сопутствующий мир (Егор не думал, насколько точно это
слово выражает суть его размышлений, оно просто нравилось ему и казалось
емким) зачастую воспринимается как главный, и отсюда — сотни
ошибочных выводов, частных, личных, общественных и государственных. «Для
меня главный — мои следовательские дела, но главный ли это вообще или
только сопутствующий, только часть главного? Я раскрываю преступления,
постоянно общаюсь с преступниками, и мне кажется, что мир перенаселен
ими, но верен ли этот вывод? Нет. И я понимаю, что неверен, но ведь
преступления есть, они совершаются, и совершаются почти каждый день».
Он видел грань между главным и сопутствующим мирами, но чувствовал,
что сопутствующий гораздо шире и значительней, чем он представляет
себе.
Ему казалось, что он открывает что-то новое, рассуждая так, в то
время как он всего лишь пытался осмыслить жизнь и, как всякий человек,
просто иметь свое суждение. Знания, полученные в институте,
представлялись Егору недостаточными и неполными, и потому он искал свое
объяснение многим фактам и явлениям жизни.
— Вы утверждаете,— спросил подполковник Богатенков, почти на
полуслове прервав майора,— вы утверждаете, что взятые вами на заметку
молодые люди были связаны с Брагой?
— Пока это только наше предположение; убедительных фактов
еще нет.
# Межа
35
— Еще нет, — повторил подполковник и, достав карандаш и
пододвинув поближе чистый лист бумаги, сначала неторопливо вывел цифру
«один», затем написал слова: «Убедительных фактов нет» — и с
нажимом подчеркнул написанное.
«Что случилось?»
«На Водопроводной убийство».
«Что?»
«Убийство!»
Минуты, пока Егор расспрашивал подробности у прибежавшего в
беседку испуганного и запыхавшегося сержанта, пока ходил в дежурное
помещение и звонил подполковнику Богатенкову, потому что начальник
отделения всегда требовал, чтобы немедленно, в любое время дня и ночи,
сообщали ему обо всех чрезвычайных и крупных происшествиях, пока
звонил затем майору Теплову, потому что майор тоже просил, чтобы и его
извещали, и он обычно любил сам выезжать к месту крупных
преступлений, — те минуты не вспоминались. Два вопроса, два ответа — таким,
коротким и четким, представлялся ему разговор с сержантом. Но даже и этот
разговор Егор не вспоминал полностью, а повторял только одно слово:
«Убийство! Убийство!» — вновь испытывая нарастающую тревогу; и всю
картину того вечера он видел теперь по-иному: будто не мчался он по
опустевшим ночным улицам, будто желтый свет мотоциклетной фары не
скользил по асфальту, не выхватывал на поворотах из тьмы углы зданий,
витрины, балконы, обвешанные сохнущим бельем, бордюры, тротуары, ноги
запоздалых прохожих — весь путь от отделения до Водопроводной казался
одной звучащей нотой, и нота эта обрывалась в тот самый момент, когда он,
развернув мотоцикл и осветив обочину, увидел лежавшего на земле Андрей-
чикова. В первое мгновение Егор подумал, что Андрейчиков жив, что он
просто ползет по обочине и лишь на секунду остановился, неожиданно
ослепленный ярким светом фар; но, подойдя поближе и увидев не только то,
что ноги Андрейчикова поджаты, а руки вытянуты вперед, как у ползущего
человека,— увидев, главное, лицо, худое, бледное, почти совсем белое на
фоне черной травы, увидев открытые, остекленевшие глаза и поймав на
себе, как взгляд мертвеца, холодный блеск этих глаз, увидев прилипшую к
роговице маленькую, сухую и скрученную желтую травинку, увидев,
главное, эту травинку, решив снять ее и, снимая, прикоснувшись ладонью к
щеке и ощутив, что щека холодная, что все тело Андрейчикова уже
застыло, Егор почувствовал, как его самого охватывает неприятная мелкая
дрожь. И жалость, и страх, и сознание собственной вины — это он послал
сегодня Андрейчикова на Водопроводную — все разом, как волна,
навалилось и захлестнуло Егора, и несколько мгновений он жил, как в небытии,
ничего не слыша, лишь видя перед собой холодные, остекленевшие и
широко раскрытые глаза мертвеца. Он не заметил ни подъехавшей автомашины,
ни вышедших из нее подполковника и майора Теплова, — будто не было ни
шороха заторможенных колес, ни стука захлопнувшейся дверцы, ни
вопроса, произнесенного подполковником, правда, негромко, и обращенного к
постовому: «Чем?» — ни ответа, тоже негромкого и неторопливого:
«Ножом»,— склонившись над трупом и все еще находясь в том оглушенном
состоянии, Егор разглядывал ножевые раны на плече и спине Андрейчикова.
«Ваша версия, лейтенант?»
Егор вздрогнул и обернулся; он и теперь вздрагивал, вспоминая, как
почти над самым ухом прозвучал этот неожиданный и обычный в таких
случаях вопрос.
Задал его подполковник Богатенков.
Для подполковника вопрос действительно был обычным, потому что
он, увидев лежавший на обочине труп, прежде всего подумал о том, что на-
36
Анатолий Ананьев 9
до раскрывать преступление; для Егора же, который больше чувствовал
происходящее, чем сознавал то. что происходит, вопрос вовсе не
стоял так — Егор думал лишь о нелепости смерти, это представлялось ему
основным и страшным.
«Ваша версия?..»
«Зачем теперь версия?»
«Для чего версия, когда человека нет?»
«Версия преступного замысла, а не версия убийства — вот что
нужно!»
Майор Теплов уже закончил свое сообщение и сидел молча, наклонив
голову, ни на кого не глядя и никого не слушая, во всяком случае, так
представлялось Егору. Уже выступил и начальник паспортного стола и еще
несколько сотрудников из разных отделов, и теперь говорил
подполковник Богатенков, выйдя из-за стола, держа в руке тот самый лист бумаги,
на котором было написано и с нажимом подчеркнуто: «Убедительных
фактов нет!» — держа этот лист и то и дело заглядывая в него, будто там и в
самом деле был изложен конспект его сегодняшней речи. Егор даже чуть
подвинулся вперед, чтобы лучше слышать. Воспоминания об убийстве не
только не мешали ему сосредоточиться, напротив, он с еще большим
вниманием ловил теперь каждое слово подполковника и с той же горячностью,
как и вначале, то принимал сказанное, как истину, как подтверждение
своих размышлений, то отвергал, и тогда ему вновь хотелось встать и
возразить подполковнику. Но он продолжал спокойно смотреть на Богатенко-
ва, сознавая, что все равно не сможет возразить ему. Когда же
подполковник заговорил об осторожности и осмотрительности и, как похвалу майору
Теплову, прочитав написанные на бумаге слова: «Убедительных фактов
нет!» — сказал, что полностью одобряет действия майора, что тех двух
подозреваемых в краже молодых людей, которые будто бы были
когда-то связаны с Брагой, не следует арестовывать, пока не установлена
их виновность,— Егор не выдержал и, подавшись вперед, желая, чтобы
подполковник услышал, и в то же время заранее смущаясь того, что
подполковник услышит и сделает замечание, негромко, почти шепотом
произнес:
— Сами растим убийц.
Но в тот момент, как только Егор произнес эти слова, сидевший
рядом сотрудник уголовного розыска, схватив его за локоть и настоятельно
потянув к себе, прошептал: «Посмотри-ка, посмотри» — и указал на окно.
На противоположной стороне улицы, на огромном рекламном щите,
приделанном к забору, была наклеена какая-то новая афиша, и пока Егор, окинув
взглядом весь щит, торопливо отыскивал, что же такое необычное он
должен увидеть и прочесть, пока догадался, что новой, только что
наклеенной была футбольная афиша, пока прочитал написанное наискось
крупными красными буквами: «Большой футбол» — и еще взглянул на число,
когда состоится матч и на каком стадионе, а затем, повернувшись к все
еще восторженно улыбавшемуся сотруднику розыска, спросил, не футбол
ли он имел в виду, и увидел, как тот утвердительно и счастливо кивнул
головой,— неловкость и смущение, охватившие было Егора, исчезли. Он
даже не знал теперь, слышал ли подполковник реплику или нет, и, думая,
что не слышал, и жалея об этом, готовился вновь повторить свою фразу,
отражавшую, как ему казалось, весь ход его размышлений. Однако до конца
летучки он уже не смог больше ничего сказать. Он сидел ближе всех
к двери и, как только летучка закончилась, первым вышел из
кабинета; но едва сделал несколько шагов по коридору, как услышал за спиной
окрик:
— Ковалев, к подполковнику!
• Межа
37
Посторонившись и пропустив выходивших из дверей сотрудников, Егор
снова вошел в кабинет к Богатенкову, испытывая лишь ту обычную
настороженность, какая всегда возникала в нем, когда он входил к начальнику
отделения. Может быть, Богатенков решил дать какое-нибудь новое
задание, потому что чаще, чем другим, он поручал именно Егору срочные и
сложные дела,— так подумал Егор. Но, очутившись в кабинете и увидев
подполковника все еще стоящим у стола и державшим в руке тот же лист
бумаги с написанной и подчеркнутой строкой: «Убедительных фактов
нет!», увидев подполковника и встретившись с ним взглядом, Егор не
мог сказать, что взгляд Богатенкова был строг, но в усталых глазах
подполковника, всегда немного прищуренных, во всем его лице, обычно
спокойном и располагающем, не было прежнего и знакомого спокойствия,
отражавшего ровное течение его мыслей; лицо было иным, напряженным и
неподвижным, и глаза тоже, словно остановившиеся, смотрели теперь
неприятно и вопросительно,—встретившись взглядом с подполковником, не
выдержав этого взгляда и наклонив голову и как бы молча докладывая
этим наклоном, что «лейтенант Ковалев прибыл по вашему вызову», Егор
шагнул было вперед, к столу, и остановился. Он почувствовал, что
Богатенков вызвал его вовсе не для того, чтобы дать новое задание; тут было
что-то другое, чего Егор пока еще не знал, но что сразу же насторожило
его. Он вспомнил, как произнес на летучке реплику,— слышал ли
Богатенков ее? — и вновь те же мысли и чувства охватили Егора. Все еще глядя
вниз, на сапоги подполковника, и ощущая на себе его вопросительный
взгляд, Егор подумал, что, наверное, как раз об этом и заговорит сейчас
подполковник Богатенков.
«Гуманность наших законов...»
«Я говорю о преступниках!»
«Вера в человека...»
«Я говорю о преступниках, дорогой подполковник!»
Егор почти слово в слово повторил мысленно весь тот воображенный
им во время летучки разговор, предполагая услышать именно это и
готовясь отвечать именно на это, и хотя свои доводы по-прежнему
казались ему не совсем убедительными, но он был уверен, что в целом-то
прав именно он, Егор, а не подполковник. Он все еще стоял посреди
кабинета и ждал вопроса.
— Как у вас, Ковалев, продвигается «парфюмерное дело»? Вы
проходите, садитесь.
— Еще не закончено, — настороженно ответил Егор, неторопливо
усаживаясь в указанное кресло и мельком оглядывая подполковника, уже
сидевшего в кресле напротив и спокойно разминающего папиросу. — Дело
трудное и запутанное.
— Директор замешан?
— Да.
— Покрывал?
— Возглавлял. — Егор все еще отвечал кратко; ему казалось, что
это только преддверие разговора, а что сам разговор еще впереди и,
конечно, не о «парфюмерном деле».
Но подполковник Богатенков, задав еще несколько незначительных
вопросов все о том же «парфюмерном деле» и выслушав Егора,
неожиданно встал, затушил папиросу и, пройдясь от окна к столу, и остановившись
перед тоже поднявшимся с кресла Егором, и посмотрев на него усталым
взглядом, сказал:
— Не затягивайте следствие, Ковалев. Не затягивайте, ступайте.
Теряясь и не понимая того, что происходит, Егор направился к двери.
Он чувствовал себя так, как студент, проваливший экзамен.
Выйдя из кабинета, он вспомнил об Ипатине и зашагал во двор к
беседке.
38
Анатолий Ананьев #
IV
«Прописан...»
«Принят на работу...»
«Зарегистрирован в браке с гражданкой...»
А о детях так:
«Лица, внесенные в паспорт владельца».
Каждую графу Шура знала наизусть и теперь, глядя на стопку
новеньких, еще не заполненных и пахнущих типографской краской паспортов,
лежавших перед ней на столе, и думая об этих паспортах, как о
человеческих судьбах, потому что и в самом деле в эти несколько граф можно
легко уложить любую человеческую жизнь, прожитую счастливо, и
несчастливо, и в достатке, и в бедности,— думая о незаполненных паспортах, как о
будущих человеческих судьбах, и представляя, какими могут быть эти
судьбы, представляя неуверенно, робко, с той женской грустью и тоской о
счастье, именно тоской, какую Шура сама испытывала в последние дни и
особенно сейчас, когда готовилась зайти к Егору, и чувствозала, что от этой
сегодняшней встречи будет зависеть многое в ее собственной судьбе, — она
снова мысленно повторила все графы, обозначенные на зеленоватых
страницах паспортов. Она повторила их потому, что в эту минуту ей с особенной
ясностью вспомнилось, как на прошлой неделе, в субботу, как раз перед
окончанием работы, когда за высокой стеклянной перегородкой, где обычно
собирались посетители, уже никого не было и приемные окошечки были
захлопнуты, в комнате неожиданно появился Егор. Он заходил к начальнику
и разговаривал с начальником, но, возвращаясь и проходя мимо Шуры,
вдруг остановился, взял со стола штамп с надписью «ПРОПИСАН» и,
сделав оттиск на чистом листе бумаги и затем положив штамп на прежнее
место, проговорил:
— Тысячи разных судеб, тысячи разных квартир и одна
нивелирующая строка — прописан!
Вон как!
Начальник паспортного стола даже приподнял на лоб очки, провожая
взглядом выходившего из комнаты Егора, и Шура хорошо увидела
удивленное лицо своего начальника; она и сама удивленно взглянула на Егора,
потому что в первую минуту она не поняла, для чего и к чему он
сказал это. Ей показалось, что было лишь что-то красивое в этой фразе.
Она повторила ее, как она вообще любила повторять и вдумываться в то,
о чем говорил Егор, и вдруг почувствовала, что в этой будто случайно,
будто мимоходом брошенной фразе (она же думала, что не случайно, а
намеренно, для нее) заключалось нечто большее; фраза эта как бы заставила
Шуру по-другому взглянуть на свою работу. То, что было для нее
привычным, что делала она изо дня в день — прописывала, выписывала,
заполняла паспорта — и что казалось ей обыденным, надоевшим и скучным, вдруг
повернулось совершенно иной, новой и неожиданной стороной. Она как бы
заново открыла для себя свой маленький служебный мир. Весь субботний
вечер она пробыла дома, и радостное чувство открытия ни на минуту не
покидало ее; это чувство вновь охватило ее теперь, когда она, все еще не
садясь за стол, а стоя возле него и глядя на стопку паспортов, которые
предстояло ей сейчас заполнять, вспомнила о Егоре. «Тысячи разных
квартир...» За высокой стеклянной перегородкой сегодня тоже никого не было,
приемное окошечко было закрыто на крючок; по понедельникам в
паспортном отделе всегда царила тишина, потому что на входных дверях
вывешивалась табличка: «НЕПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ». Но хотя день и был
неприемный, хотя окошечко и было закрыто и в него не просовывались руки,
державшие документы, Шура легко представила себе всю эту рабочую
картину: голоса — мужские, женские, паспорта, захватанные руками,
бланки, домовые книги, исписанные и испещренные штампами, и руки,
подающие эти книги; руки, настолько непохожие одна на другую -■-- она и рань-
• Межа
39
ше видела это, но раньше это не тревожило ее,— так различны, что
Шура даже оторопела; на мгновение ей показалось, что она видит
протянутую в окошечко руку, видит сухие, грубые, уже не боящиеся ни извести,
ни цемента пальцы, ладонь, жесткую от мозолей; эта рука, а затем
следующая, тоже грубая, шершавая, затем еще и еще, затем белая, с
отращенным ногтем на мизинце... Потому ли, что кто-то из сотрудников в эту
секунду действительно посмотрел на Шуру и она почувствовала на себе
вопросительный взгляд, или, может быть, ей только показалось, она
торопливо выдвинула ящик стола, достала папку с документами на обмен
паспортов и, усевшись и склонившись над этими документами, принялась
просматривать их. Но, просматривая, она продолжала думать о том же. Она
вновь представила себе просунутую в окошечко сухую и огрубелую, не
боящуюся ни извести, ни цемента руку, затем, как бы перенесясь
мысленно на другую сторону высокой стеклянной перегородки, увидела всего
человека, прильнувшего к окошечку, его ссутулившуюся спину, спецовку,
обтягивавшую широкие и крутые плечи,— и эта спецовка, и фуражка, и
особенно сапоги, казалось, были насквозь пропитаны красноватой
кирпичной пылью; и лицо, когда Шура вновь мысленно перенеслась на
свое место и взглянула в окошечко,— лицо его и особенно брови,
выгоревшие, густо нависавшие над глазами, тоже были будто покрыты этой
красноватой кирпичной пылью. Но воображение уже рисовало ей другое, то,
как и где живет этот человек, и Шура теперь мысленным взором
принялась следить за ним, куда он пойдет; но в то время, как ей казалось,
что она следит за ним, — она вела его по улицам к той городской
окраине, где до недавнего времени жила сама (после окончания десятилетки,
когда она перешла из детдома на самостоятельную жизнь, она снимала
квартиру на этой окраине), где стояли лишь маленькие домишки —
преходящий остаток прошлого века; она вела его по немощеным переулкам,
по которым еще совсем недавно ходила сама, заставляла перешагивать
и перепрыгивать через те канавы, через которые перепрыгивала сама; она
ввела его в тесную и низенькую комнатку с окнами на куриный двор, в
которой жила сама, и, введя, столкнула с хозяйкой дома, всегда требовавшей
плату вперед...
Почти одновременно Шура следила за другим человеком, тем, у
которого рука была чистая, белая, с отращенным ногтем на мизинце. Она
думала о виолончелисте, который недавно менял у нее паспорт. Этого она
в е л а по асфальтированному тротуару, мысленно выбирала дом и подъезд,
куда его можно ввести; она провела его мимо всех подъездов, мимо
которых еще совсем недавно ходила сама, спеша к девяти на работу, и
остановила на Театральной площади, возле дома, в котором, как ей кто-то
говорил, издавна жили артисты; она ввела его в квартиру, и обстановка,
убранство комнат, какое, как ей представлялось, должно быть у артистов
(как она видела в фильмах), теперь рисовалось ей в воображении. Все это
было удивительно представлять себе, удивительно потому, что исходной
точкой была всего одна строка: прописан.
— На летучку!
Шура повернулась, чтобы посмотреть на того, кто приоткрыл дверь,
так как голос показался ей незнакомым, но, не заметив никого, потому
что дверь уже была закрыта, по привычке взглянула в ту сторону, где
сидел начальник паспортного стола,—это его вызывали на летучку, но он,
крикнув: «Иду, иду!»,— продолжал, однако, что-то торопливо и
сосредоточенно дописывать, сняв очки, и держа их в руке, и склонившись над
бумагой так, что Шура не увидела его лица, а увидела лишь лысую макушку,
продолговатую и заостренную. Шура улыбнулась, потому что нельзя было
не улыбаться, глядя на продолговатую лысую макушку начальника; но она
все еще находилась в том странном и новом для нее возбужденном
состоянии, и мир воображенных картин так сильно занимал ее, что ни возглас
«На летучку!», ни громкий ответ начальника не прервали, а лишь чуть
40
Анатолий Ананьев ф
приостановили движение ее мыслей. Только когда начальник паспортного
стола, взглянув на часы и проговорив: «О, черт!» — сунул папку под
мышку и вышел из кабинета, и Шура, искоса глядя на него, проводила его
взглядом до дверей, и когда сидевшая позади Щуры за небольшим
столиком, тоже у стеклянной перегородки, у своего, закрытого на крючок
приемного окошечка, сотрудница — это была незамужняя пожилая и все еще
молодящаяся женщина, всегда и всем говорившая: «Зовите меня просто
Асей», но, несмотря на это, все, в том числе и Шура, обращаясь к ней,
называли ее не иначе, как по имени и отчеству, Анастасией
Михайловной,— когда Анастасия Михайловна, вздохнув, потянувшись и при этом
тоненько пропев: «У-э-х»,— встала и, подойдя к Шуре и кивнув головой
на дверь, за которой только что скрылся начальник, полушепотом
произнесла: «Наконец-то»,— и потом, достав из сумочки зеркальце и глядясь
в него и поправляя прическу, начала громко, уже никого не боясь и не
стесняясь, рассказывать, как встретилась сегодня утром в троллейбусе
со старым знакомым, который не захотел узнать ее, — Шура почувствовала,
что она уже не сможет вернуться к своим размышлениям прежде, чем не
закончит свой рассказ Анастасия Михайловна.
— Шура, ты сегодня чудесно выглядишь, — сказала Анастасия
Михайловна, неожиданно прервав себя и разглядывая Шуру.
— Что вы!
— Не возражай, я же знаю: ты всегда умеешь подбирать бусы к
платью, — добавила она, трогая Шурины бусы.
Она сказала это так, будто умение подбирать бусы к платью было
главным для женщин, будто Шура оттого и выглядела всегда чудесно, что
умела делать это, а сама Анастасия Михайловна оттого только и
-выглядела не всегда чудесно, что не умела этого делать.
— И прическа! Я все утро смотрю на тебя...
— Ничего особенного...
;-=- Наоборот!.. Ты никуда не собираешься сейчас? Пока он там,—
произнося «он», Анастасия Михайловна опять кивком головы указала на
дверь,—я сбегаю в салон одежды. Я быстро. Они там не меньше часа
будут заседать, успею. Шура, ты последи за моим столом, убирать ничего не
буду, пусть все как есть.— Она подошла к своему столу, раскрыла еще
несколько папок, чтобы стол выглядел более в рабочем состоянии. И,
сказав: «Ну, вот теперь...» — и затем добавив, оглянувшись на Шуру:
«Я побежала!»,— вышла из комнаты.
Оставшись одна/ Шура подошла к окну и, открыв створку так, что в
стекло можно было посмотреться, как в зеркало, оглядела свою
прическу; не заметив ничего, что могло бы огорчить ее, а, напротив, увидев, что
волосы уложены ровно, что шпильки заколоты хорошо и что ей,
собственно, не о чем беспокоиться, вернулась к столу; но все эти секунды, пока
вставала,, подходила к окну, и теперь, когда уже опять сидела за
столом и, готовясь заполнять очередной паспорт, ладонью разглаживала
зеленоватую страницу, — все эти секунды Шуру ни на миг не покидало
ощущение неловкости, возникшее сразу же, как только Анастасия Михайловна
заговорила о ее прическе. Неприятно было не то, что сказала Анастасия
Михайловна, а другое, что она все утро рассматривала Шурин затылок, что
каждое утро она рассматривает Шуру, потому что сидит за спиной. Шура
не раз, оборачиваясь, замечала это. .Давно уже она собиралась переставить
стол так, чтобы сидеть ближе к окошечку и лицом к свету, но только
теперь наконец решилась сделать это. Она сложила все папки с
документами на пол, развернула стол, как ей было удобнее, застелила белой
бумагой и, лишь закончив все, снова села за работу. Она была довольна тем, что
сделала, и спокойно и неторопливо вписывала своим красивым почерком
имена и фамилии в новые паспорта, стараясь сосредоточиться, углубиться
в работу, но постепенно размышления о судьбах людей и нивелирующей
строке, так занимавшие недавно ее воображение, снова как бы подбира-
# Межа
лись и охватывали ее. Она все чаще откладывала ручку и все с большей
задумчивостью смотрела на неподвижное, закрытое на крючок приемное
окошечко. Но теперь ее волновали не столько картины, встававшие перед
нею, как то, что она могла представить их; она еще не сознавала
всего, что открывалось перед ней, а просто радовалась открытию,
чувствуя, что больше чем когда-либо понимает Егора, что может думать, как ей
казалось, так, как он, и вся замирала от этой мысли.
Она достала из ящика стола список сотрудников, желавших
приобрести на зиму картофель, и своим красивым почерком написала рядом ç
цифрой восемнадцать «Ковалев Е.». Этот список лежал теперь на столе
слева, наполовину прикрытый папкой, и Шура то и дело поглядывала на
него; она решила не откладывать разговор с Егором и зайти к нему сразу
же, как только кончится летучка, и с нетерпением, с неожиданно
охватившим ее волнением — она представила, как войдет в кабинет к Егору,
как, приоткрыв дверь и перешагнув порог, произнесет первое слово:
«Можно?» — и уже теперь, еще не испытав той минуты, чувствовала ее так,
будто все происходило не в воображении, а наяву, — именно с этим
неожиданно охватившим ее волнением ждала окончания летучки. Она
прислушивалась к каждому шороху, доносившемуся из коридора. Когда
раздавались чьи-либо шаги, ей казалось, что это уже расходятся сотрудники от
подполковника Богатенкова, но шаги удалялись, в комнате снова
становилось тихо, и Шура слышала, как скрипит под ее рукой двигавшееся по
бумаге перо.
«Как член месткома, я...»
«Какое мероприятие?»
«Картофель на зиму...»
«Нет, не запасаю».
«На зиму!»
«Нет!»
Хотя Шура думала, что разговор будет таким, но в душе надеялась,
что все произойдет по-другому: Егор заметит и поймет, что пришла она не
затем, чтобы записать его «на картофель»; Шуре казалось, что то, что
она испытывала теперь, не может остаться, незамеченным. Она
чувствовала себя так, будто впервые входила в жизнь, будто никогда раньше
не слышала ни слова «люблю», ни других слов: «дорогая» и «милая»,—
она вовсе не думала, что может услышать их сейчас от Егора, но ей
хотелось, чтобы во взгляде, каким он посмотрит на нее, была бы пусть
незначительная, пусть чуть заметная теплота этих слов; будто никто ни разу не
обнимал ее и она никогда не ощущала на себе прикосновение жестких
мужских рук; чувство, нараставшее в ней, было для нее новым, еще
никогда прежде не испытанным; она заранее прощала Егору все, даже если он
будет говорить с ней коротко и отрывисто, и желала только одного, чтобы,
говоря: «Нет»,— он произнес это слово не с обычной своей
решительностью и строгостью, а мягко и сочувственно. Шура с таким вниманием
следила за тем, что происходило в ней самой, что не услышала, как раздались
голоса и шаги расходившихся по коридору после летучки сотрудников.
Когда начальник паспортного стола, войдя в комнату, удивленно проговорил:
«Перемена декорации!»— и потом, уже сев за стол, спросил, где
Анастасия Михайловна, не в салон ли одежды опять ушла, Шура ничего не
ответила, а только пожала плечами.
— Я по месткомовским делам,— сказала она через минуту, вставая
и направляясь к двери.
То, что Ипатина не было в беседке, не удивило Егора, потому что
летучка затянулась и старик мог не дождаться и уйти; но когда постовой,
стоявший у ворот, сказал,.что Ипатин — он назвал его просто сгорбленным
42
Анатолий Ананьев Ф
старичком в кожаной кепке — даже не заходил в беседку, а, всего лишь
минуту постояв во дворе, совсем ушел из отделения, Егор снова подумал
о странном поведении старика. Он опять вспомнил все: как Ипатин
остановил его у распахнутых рыночных ворот, как сидел потом в кабинете, держа
на коленях свою огромную кожаную кепку с залосненным, твердым,
негнущимся козырьком, и молчал, как затем для чего-то подавал домовую книгу
и как неприязненно и зло взглянул он на Егора, когда выходил из
кабинета. «Нехорошо получилось»,— про себя проговорил Егор, еще не сознавая,
но чувствуя, что было что-то неприятное в том, как он обошелся с Ипати-
ным. Он решил, что надо бы, пока еще помнил, записать фамилию и адрес
этого человека; оторвав листок от настольного календаря, он написал на
нем: «Ипатин, ул. Кордонная»,— но номера дома не запомнил так, как
название улицы, потому что само слово «Кордонная» показалось ему тогда
необычным. Он вывел сначала цифру шестнадцать, потом зачеркнул ее и
поставил: «Двадцать шесть» — и рядом, в скобках, еще одну: «Тридцать
шесть»,— и, пробежав взглядом написанное, положил листок в стол. И
сразу же, как только захлопнул ящик стола, сказал себе, что все, что
можно было еще поправить со стариком, поправлено и сделано, что о нем уже
думать нечего, а пора приниматься за другое — к часу дня на сегодня он
вызвал для беседы двух сотрудниц из центральной базы снабжения, и надо
было теперь перечитать еще раз кое-какие протоколы предыдущих
допросов и подготовиться к разговору. Но Егор потянулся рукой не к папке с
надписью «Парфюмерное дело», а к коробке «Казбека», лежавшей между
тяжелым мраморным чернильным прибором и такой же тяжелой мраморной
пепельницей, и, достав папиросу и закурив, негромко произнес: «Да, мы
сами растим убийц...» Он произнес эту фразу не вызывающе, а спокойно,
просто, удивляясь тому, как это майор Теплов и, главное, подполковник
Богатенков, которого Егор, несмотря на то, что во многом был не
согласен с ним, уважал,— как это они до сих пор не могут понять очевидной
истины, что только мерами решительными можно успешно бороться с
преступностью. На одной из летучек Богатенков сказал, что есть черта, за
которой кончаются права и следователя и постового, и что каждый должен
чувствовать эту черту. И тогда и теперь Егор был согласен, что она есть
и что ее надо всегда чувствовать, но, как ему казалось, подполковник
проводил ее очень близко, почти у самых ног, тогда как она должна быть
отдалена к горизонту. Взяв ручку, Егор медленно провел линию на чистом
бланке протокола, лежавшем перед ним на столе, затем, смяв бланк,
бросил его в корзинку. В то время как он должен был теперь же, не
откладывая, заняться «парфюмерным делом», он чувствовал, что не может
сосредоточиться, и это раздражало его; но он не мог сосредоточиться не только
потому, что мысли, занимавшие его на летучке, продолжали и теперь
волновать его, была еще и другая причина, то, о чем неприятно было думать
Егору, но о чем он все же не мог не думать — острее, чем в ту минуту,
когда слушал на летучке Богатенкова, он почувствовал неубедительность и
противоречивость своих доводов, и потому ему хотелось именно теперь же
разобраться, в чем заключалась эта неубедительность и противоречивость.
Он принялся мысленно рассуждать, неторопливо произнося и обдумывая
фразы:
«Следователь, принимаясь за дело, должен всегда исходить из того,
что человек невиновен».
«Так?»
«Так. Именно всегда — это азбучная истина».
«Хотя, к примеру, я знаю, что данный человек виновен, и знаю, что
есть против него улики, но, приступая к следствию, я не могу считать
его виновным. Я должен во всем разобраться без так называемой
предвзятости».
«Да, все сходится».
• Межа
43
«Все верно!»
«Значит, и до совершения преступления и после того, как
преступление совершено, эта истина для меня — закон».
«Да, все верно».
«Все сходится!»
«Но кроме того, что я следователь, я прежде всего человек, и я не
могу, глядя на преступника и зная, что он преступник, считать его
невиновным, приступая к следствию!»
«Должен. Так гласит Закон. Именно этому нас учили».
«Да, именно этому».
«Да, да, все верно».
«Все сходится».
Егору казалось, что наконец-то он понял, отчего Богатенков так
осторожен и рассудителен и требует осторожности и рассудительности от
других: он перешагнул через те сложности, через тот психологический барьер,
с которым теперь, выйдя из институтских стен, столкнулся Егор и через
который не мог и не хотел перешагивать. С той же горячностью, как
и на летучке, он вновь повторил представлявшуюся ему точной и емкой
фразу:
— Конечно, сами растим!..
Он уже не сидел за столом, а ходил от окна к двери и обратно.
Как раз в эту минуту к нему в кабинет вошла Шура.
Приоткрыв дверь и заметив, что Егор один, Шура переступила порог,
и только потом спросила: «Можно?» — и, почувствовав, что сделала не так,
как намеревалась, как нужно бы, и смутившись, торопливо, не глядя на
Егора и почти не слыша негромко произнесенное им «да», сказала:
«Добрый день»,— и направилась прямо к столу. Она держала в руке
сложенный трубочкой список. Подойдя к столу и развернув этот список, Шура
принялась разглаживать его; она смутилась и не могла сразу начать
разговор, потому что, во-первых, то, что должна была сказать: «Я зашла
узнать, будете ли вы заготавливать на зиму картофель?» —
представлялось ей теперь слишком официальным и хотелось придумать что-либо
другое, но, кроме этой фразы, пока ничего не приходило в голову;
во-вторых, она надеялась, что первым заговорит Егор, так как должен же он
спросить, зачем она зашла, и тогда придется только отвечать, и это
было как раз то, чего хотелось Шуре. Когда она входила в кабинет, она не
успела разглядеть Егора, но сейчас, когда разглаживала лежавший на
столе список, ей казалось, что она успела все как следует рассмотреть, что
ясно видела, как шевельнулись его черные брови, как в уголках губ, в
глазах, на всем лице, освещенном в ту секунду падавшим от окна светом,
отразилось удивление, и Шура была почти уверена, что Егор удивился не
просто тому, что она вошла, а, конечно, тому, что заметил на ней узкое
коричневое платье, то самое, в каком видел ее в кабинете Богатенкова в
первый день их знакомства. Она считала, что Егор так же отчетливо
помнил тот первый день, как и она: и в каком платье она стояла, и как у
нее были уложены волосы. Шура мысленно повторила слова, сказанные
утром Анастасией Михайловной: «Ты сегодня чудесно выглядишь!» — и,
забыв о неприязни к этой женщине, а думая лишь о произнесенных ею
словах, почувствовала себя в это мгновение счастливой. Она отложила список,
чтобы начать наконец разговор; но теперь, когда она уже не мельком
увидела Егора, он действительно смотрел удивленно и не скрывал своего
удивления,— когда она ясно увидела это, ее охватило радостное
волнение; она знала, что это волнение заметно сейчас на ее лице и надо
было что-то сказать, чтобы нарушить молчание, но нахлынувшая радость
была столь сильна, что она не могла произнести ни слова.
44
Анатолий Ананьев Ф
Егор же смотрел на Шуру удивленно не потому, что на ней было
коричневое платье; это платье, как и все другие, в каких она приходила
на работу, ничего не говорило ему, он лишь замечал, что в любом платье
она казалась привлекательной, что у нее были красивые плечи, и она была
стройной, а узкие платья только сильнее подчеркивали ее фигуру. То, что
она вошла неожиданно, хотя и удивило, но не было чем-то необычным,—
его поразило лицо Шуры, особенно когда она повернулась и он снова
увидел ее. Он не знал, о чем думала Шура, но ее мысли теперь отражались
на ее лице и делали его необыкновенно живым и светлым; он не знал,
что чувствовала Шура, но все ее волнения тоже были отражены на ее лице;
он увидел Шуру такой, какой не видал раньше, и потому, стоя посреди
кабинета, смотрел на нее. Но то, о чем он до этого размышлял, было
сильнее в нем; через секунду он уже видел в Шуре лишь приятную
собеседницу, какою он считал ее, потому что она умела слушать с участием
и внимательно; он прошел к окну, как бы предоставляя этим первое
слово Шуре; он не был взволнован так, как Шура, и предстоящий разговор
не казался ему чем-то особенным, как Шуре,— не дожидаясь, что она
скажет, и не оборачиваясь, а рассматривая огромный рекламный щит и афишу
с крупными красными буквами «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ», приклеенную к
щиту, спросил:
— Шура, вам никогда не приходилось перешагивать через
противоречия?
Слова «перешагивать через противоречия» он проговорил
настороженно, так как не только для Шуры, но и для него самого такое
сочетание было новым, придуманным им лишь сейчас и впервые произнесенным
вслух; он не собирался пояснять, что означает это сочетание, и
потому не повернулся и не подошел к Шуре, а продолжал стоять у окна и
рассматривать афишу. Он не знал, что Шура смотрела на него сейчас так
же удивленно, как только что смотрел на нее он. Она была благодарна,
что он не стал расспрашивать ее, зачем пришла, а заговорил о другом,
чего как раз и хотелось Шуре, и чувство это тоже было отражено теперь
на ее лице. Но вместе с этой произнесенной вслух первой фразой,
нарушившей тишину, к Шуре вернулись спокойствие и уверенность, с какой
она обычно разговаривала с Егором. Когда он наконец, повернувшись и
подойдя к ней, повторил свой вопрос, лицо ее было спокойно и только на
щеках был заметен легкий румянец.
— Значит, не приходилось перешагивать через противоречия?
— Нет, не приходилось,— ответила Шура.
— А знаете ли вы, Шура, что это за противоречия?
— Нет.
— Объяснить?
— Пожалуйста.
— Тогда чего же вы стоите, садитесь,— предложил Егор и, взяв
стул, на котором утром сидел старик Ипатин, и пододвинув этот стул
ближе к столу, снова настоятельно повторил:— Садитесь!
Усадив Шуру, он поставил напротив второй стул для себя, но не сел;
он начал говорить, стоя позади стула и обхватив ладонями его
гладкую спинку. Но само объяснение — что он подразумевал под
противоречием, почему через это противоречие — психологический барьер —нужно
перешагивать и всегда ли нужно перешагивать — заняло немного
времени. Егор только что размышлял об этом, и потому все представлялось ему
простым, сводившимся лишь к этой одной формуле; он только добавил, что
разумом он на стороне закона, но что. кроме разума, есть еще и чувство и
что его нельзя заглушить рассудком. «Я знаю, он преступник, я видел
его лицо, видел следы преступления на его руках, и при всем при этом,
приступая к расследованию, я должен исходить из того, что он невиновен.
Я спрашиваю: почему я не должен чувствовать то, что чувствую, глядя
• Межа
45
на преступника? Нет, даже разум отказывается понимать такое...» Говоря
это, он то и дело поглядывал на дверь, потому что, хотя и разъяснял
свое мнение Шуре, мысленно адресовал все сказанное подполковнику Бога-
тенкову и майору Теплову.
— Очень жаль, но многие из нас не понимают самой простой истины,
что чувство и разум не всегда подчинены друг другу,— добавил Егор, как
бы завершая только что высказанную мысль и сосредоточивая внимание
именно на этой, последней фразе.
Он все еще стоял позади стула, обхватив ладонями гладкую спинку,
но в его позе уже не было того спокойствия, с каким он начал свое
объяснение.
— Преступность, как, впрочем, и все другие человеческие пороки и
все достоинства, имеет свою основу, свой корень, но мы только стрижем,
только косим поверху, а не перепахиваем, не выворачиваем корень и
хотим, чтобы поле было чистым. Мы ищем причины преступлений, хотя их
уже известно много и разных, и еще в институте мы учили и заучивали
их, но, может быть, я так думаю теперь, все проще, и есть какая-то
одна, общая и характерная для каждого данного времени причина, и стоит
ее лишь открыть и устранить, как вся проблема тут же будет решена.
Хотя бы вот «парфюмерное дело». Что-то же толкнуло людей—
разбавлять дорогие духи дешевыми, переливать из флаконов во флаконы,
переклеивать этикетки. А дело на швейной фабрике, которым сейчас
занимается в прокуратуре мой друг Лаврушин! Ведь там орудовала целая группа,
начиная от вахтеров и закройщиков и кончая начальником цеха и
главным инженером. Они целыми машинами вывозили так называемые
сэкономленные остатки, а вернее, нераспакованные рулоны мануфактуры, в
магазин; а этот магазин, через который они сбывали свои остатки:
директор магазина, продавцы, бухгалтер, кассир... Каждый день, каждый
день что-нибудь да раскрывается! Но что же все-таки заставляет всех этих
людей совершать преступления? Разве можно сказать, к примеру, что
директор магазина живет бедно, нуждается? Нет. Так что же тогда? Страсть
к деньгам, к накопительству? И что такое эта страсть: врожденный ли
порок многих, или влияние среды, всего-навсего плоды воспитания? Может
быть, все дело лишь в воспитании, но, может быть, я ошибаюсь, и все
сложнее и зависит от сотен разных уже известных нам и еще неизвестных
причин, не поддающихся обобщению и систематизации?
Егор говорил, не прерываясь и ни о чем не спрашивая Шуру; он был
уверен, что то, о чем он говорит, интересно ей, и видел и сознавал это,
вглядываясь в ее лицо; но в то же время в нем самом, чем больше он
говорил, сильнее росло чувство неудовлетворенности, потому что между тем,
как и о чем он думал, и тем, как и о чем говорил теперь, как будто
образовалась пропасть, которую он хотел, но не мог преодолеть. Он
говорил о растратчиках, расхитителях и систематизации преступлений, но
думал об убийстве Андрейчикова, о тех, кто в свое время досрочно
освободил Брагу из заключения, и ему казалось, что судьям, заседавшим в
колонии, вовсе не обязательно было «перешагивать психологический барьер»:
они рассматривали дало об освобождении, перед ними на скамье сидел
не просто гражданин, подозреваемый в преступлении, виновность которого
еще нужно доказать, не подследственный, а осужденный преступник,
который, выйдя на волю, может повторить свое преступление. Он говорил о
продавщицах парфюмерного магазина, разбавлявших дорогие духи дешевыми,
но думал о «чувствительных девицах» и видел их в воображении, сидящих
за невысокой перегородкой, видел перед собой всю дежурную комнату, стол
дежурного с двумя телефонами и маленький столик у перегородки, за
которым сержант допрашивал девиц, и все, что было в тот вечер: улыбки,
подмигивания, белые колени, выглядывавшие из-под коротеньких
юбочек,— все неестественное и ложное, вызывавшее отвращение, с
подробностями вспоминалось Егору теперь. «Да можно ли все это свести к одному,
46
Анатолий Ананьев •
что я говорю?» — вместе с тем мысленно упрекал себя он. Он говорил
о бесконечно совершавшихся преступлениях, больших и малых, и ужасал-
ся этому, но как раз теперь мысль о двух мирах, главном и
сопутствующем, и о том, что зачастую сопутствующий мир люди воспринимают как
главный и совершают ошибки,— эта мысль, возникшая однажды на
дежурстве, сейчас будто открылась для него новой стороной, и он
чувствовал, что повторяет обычную людскую ошибку, воспринимая сопутствующий
мир как главный, и потому жизнь представляется ему такой мрачной (он
просто жил своей работой так же, как живет инженер работой своего
завода), но об этом он тоже пока ничего не говорил Шуре. Он старался
найти общие причины, порождающие преступления, но в то же время как
разъяснял ей, что зло на земле имеет свои корни, чувствовал, что
каждое преступление в любом обществе, пусть крупное, пусть самое мелкое,
имеет свои конкретные особенные причины, но и об этом тоже не хотел
ничего говорить теперь Шуре.
Ей же казалось, что Егор говорит все, о чем думает, и она
придавала особенное значение этому; она думала, что он не мог бы, не
испытывая к ней того же чувства, какое испытывает к нему она, так
доверчиво разговаривать с ней, и радовалась этому и чувствовала себя
счастливой. Это так сильно волновало ее, что она на минуту забыла, о чем
говорил Егор, и жила только своей, переполнявшей ее радостью.
Между тем Егор, замечая необычное выражение ее лица, был
уверен, что волновало Шуру именно то, что он говорил, и ему приятно
было сознавать это. Он продолжал рассказывать с горячностью, то подходя
к Шуре и останавливаясь напротив нее, то отходя к окну и глядя на афишу
«БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ» и обращаясь в эту минуту уже не к Шуре, а к
самому себе:
— Что заставляет людей совершать преступления?
— Что?
Он не ждал, что скажет Шура; он задавал вопросы для себя и в самих
этих вопросах старался для себя же найти ответы.
— Воспитание?
— Обеспеченность?
— Или такое событие, как война? Порождающая безотцовщину?
То, что Егор, остановившись теперь у окна, не поворачивался и не
глядел на Шуру и она видела лишь его спину, затылок, плечи с
белесоватыми полосками погон, и то, что он. задавая вопросы, обращался
сейчас не к ней, а к себе, — было нехорошо, и она чувствовала это; но все
же для нее происходящее в кабинете имело свой особый смысл, и
ощущение счастья ни на минуту не покидало ее. Она старалась видеть в Егоре
как раз то замечательное, что возбуждало в ней это ощущение.
«Нет, нет, он не жесток, а добр,— думала она.— Я не ошиблась, он
был тогда лишь озабочен и зол».
— Может быть, именно война? — между тем продолжал он.
Он все еще смотрел в окно и не поворачивался; но он уже чувствовал
неловкость оттого, что стоял к Шуре спиной, и теперь с еще большей
торопливостью искал правильный ответ на поставленный самим же вопрос,
и, понимая, что не может найти что-либо приближенное к истине, и оттого
еще более горячась, подумал: зачем он вообще затеял этот разговор с
Шурой? Он обернулся, намереваясь спросить Шуру, по какому, собственно,
делу она пришла к нему, но, взглянув на нее и увидев ее лицо
вновь таким же необыкновенно живым и привлекательным, как в первую
минуту их сегодняшней встречи, ни о чем не спросил. Его охватило никогда
раньше не испытанное им чувство нежности, и он, подойдя к Шуре и все
еще говоря ей о преступлениях и причинах, разглядывал ее волосы,
уложенные и заколотые так, что он с трудом отыскал глазами дужки черных
шпилек, разглядывал платье, бусы, собранные из мелких деревянных
кубиков и так хорошо, неярко и в то же время подчеркнуто оживлявшие
% Межа
47
строгий рисунок ее платья. Он будто впервые увидел, что у нее красивые
плечи, а когда она встала, слегка смущаясь, очевидно, оттого, что он так
разглядывал ее, он увидел всю ее стройную, чуть начавшую полнеть
фигуру, грудь, бедра, ноги, обтянутые тонкими, под цвет тела, чулками. Он
как бы снова почувствовал разрыв между тем, что говорил, и тем, о чем
думал, и разрыв этот был неприятен ему и путал мысли, потому что думал
он совершенно о другом, о том, что можно бы сходить с Шурой в кино или
в театр, что, пожалуй, можно бы и покрутить с ней (он сказал себе это слово
потому, что так часто говорил Лаврушин: «Покрутить бы сейчас с
хорошенькой!»). Но Егор в то же время знал, что никогда не будет крутить с
Шурой, что это просто не в его характере.
Он уже не мог продолжать прежний разговор, потому что его
внимание занимали эти новые мысли, но еще более не мог он говорить о том,
какие мысли занимали его, и снова подумал, что самое время сейчас
прервать разговор, и готовая уже фраза: «По какому, собственно, делу вы
пришли ко мне?» — вновь всплыла в сознании. Глядя на Шуру и еще сильнее
испытывая нежность к ней, он сказал с непривычной для себя мягкостью:
— Вы, наверное, по делу ко мне? А мои скучные рассуждения — их
можно продолжать без конца.
— Нет, что вы! Слушать вас интересно,— возразила Шура, радуясь
тому, что Егор обратился к ней, и смущаясь оттого, как ответила она,
и главное, не в силах скрыть ни радости, ни смущения и оттого еще
больше волнуясь.
Она протянула было руку, чтобы взять со стола листок с фамилиями
сотрудников отделения, желавших заготовить на зиму картофель, но Егор,
заметив ее движение и лежавший на столе листок, взял его, опередив
Шуру, и быстро пробежал глазами.
— Богатенков — сто, Теплов — двести... Семья, как же! Да вы тут,
оказывается, и меня вписали. Это вы напрасно, я не запасаю.
— Я думала...
— Нет, Шура, вычеркните мою фамилию, — сказал он, возвращая ей
список.— У меня, если уж говорить правду, и хранить-то картофель негде.
— Вы же на частной живете? Разве у хозяйки нет погреба или
подвала?
— Есть, но у нее там свой картофель, так что вычеркивайте безо
всякого.
— Ну хорошо,— согласилась Шура, сворачивая листок в трубку.
Она понимала, что разговор окончен, пора уходить, но ей было так
приятно стоять рядом с Егором, смотреть на него, слышать его мягкий и
ласковый голос и так хотелось продлить то радостное ощущение, какое
она испытывала теперь, что она еще несколько секунд колебалась,
уходить или не уходить, и наконец все же решившись и сказав: « Я только
по этому делу и приходила» — направилась к двери.
— Я рад, что вы пришли,— сказал он.— Вы же знаете, я всегда
рад вас видеть.
Он сказал это неожиданно и уже в то время, когда произносил эти
слова, почувствовал, что не должен был говорить их. «Ведь я приглашаю
ее!» Но хотя он и сознавал, что не должен приглашать ее, все же в
дверях, когда Шура оглянулась и он увидел ее все так же
необыкновенно живое, привлекательное и улыбающееся лицо, снова сказал:
— Я всегда рад вас видеть, Шура.
V
Егор не сразу принялся за работу.
Как только за Шурой закрылась дверь, он прошелся по кабинету, все.
еще живя впечатлениями последних минут, и остановился у окна. На
противоположной стороне улицы, на рекламном щите все так же ярко выделя-
48
Анатолий Ананьев #
лась среди других афиша о большом футболе, и Егор снова взглянул на
нее; он подумал, что надо бы сходить в воскресенье на стадион, но
сегодня только понедельник и впереди еще целая рабочая неделя, так что
заботиться о билетах рано; к тому же то, о чем он только что
рассказывал Шуре, занимало его больше, чем что-либо другое, и он с той же
задумчивостью, как и при Шуре, повторил снова все вопросы, какие задавал
себе, и с тем же вниманием старался сейчас в самих этих вопросах
найти для себя же ответы.
«Воспитание?»
«Обеспеченность?»
«Война?»
Он знал, что война оставляет сиротство и безотцовщину, а сиротство
и безотцовщина — это и есть одна из причин, порождающих
преступления. «Война»,— проговорил он еще раз, более вдумчиво, и впервые
подумал не о том, как на разъезд, где он жил тогда, приезжала из Талейска
два раза в неделю дрезина-хлебовозка и как он, беря у матери хлебные
карточки и говоря ей; «Не бойся, не потеряю»,— отправлялся к тупику;
впервые в его воображении возникла не та обычная, хорошо
запомнившаяся с детских лет картина: крохотный перрон, усыпанный привозной
щебенкой, и он, Егор, маленький, укутанный в старую материну телогрейку,
прижавшийся к холодной кирпичной стене вокзала, следит за
проносящимися мимо поездами, ждет с войны отца, хотя войны уже нет, а в доме
давно лежит похоронная, и он знает это, знает и все же каждое утро
вновь выходит на перрон, — впервые в его воображении возникла не эта
запомнившаяся картина, как жил он сам, а другая, другое событие, то,
что произошло на разъезде зимой сорок второго, когда на боковой путь
был поставлен эшелон с эвакуированными, и люди — детишки, женщины,
старики, худые, голодные, одетые в осенние пальто,— выгружались из
теплушек на снег. Егор не помнил этих событий, ему шел тогда только пятый
год, и он сидел в натопленной избе и играл картонными лошадками,
которые вырезал для него стрелочник Епифаныч; если что и могло сохраниться
в памяти Егора, так это то, что в тот зимний день в избе было много
незнакомых людей, которые то выходили, то опять входили, и почти каждый
брал маленького Егора на руки, улыбаясь и ласково пощипывая его за
щеки, и еще мог бы запомнить, как одна из женщин протянула ему белый
кусочек сахара, и он, забравшись на печь и забившись в угол, долго и с
наслаждением грыз этот кусочек,— мог запомнить хотя бы это, но он
ничего не помнил. Он узнал обо всем лишь из рассказов стрелочника Епифа-
ныча, и узнал спустя много лет после этих событий, после окончания
войны, когда однажды, возвращаясь вместе со старым стрелочником с
покоса,— косили за выходным семафором, на 2012-м километре, как раз в
той почти вплотную примыкавшей к железнодорожной насыпи низине, за
которую постоянно между начальником разъезда и правлением криводо-
ловского колхоза возникала тяжба, и начальник разъезда в конце концов
отхлопотал этот участок для своих служащих, — когда однажды,
возвращаясь с покоса, Егор спросил у Епифаныча, почему так много могил около
разъезда, такое большое кладбище.
«Всего четыре избы и такое кладбище, отчего это?»
«Заметил?»
«Давно заметил, а отчего так?»
«Здесь в войну бабий обоз в степи снегом замело».
«При вас это было?»
«При мне, а как же, при мне».
Через разъезд без остановки мчался пассажирский поезд; он
приближался к семафору, и Епифаныч с Егором остановились — это Егор хорошо
помнил, что остановились и, опустив косы на землю, смотрели на
проносившиеся мимо зеленые вагоны. Вагоны на минуту заслонили собой разъ-
• Межа
49
езд, домики, только что так ярко освещенные лучами заходящего солнца,
и кладбище по косогору, начинавшееся сразу от домиков; были только
вагоны и тени от вагонов, длинные, бегущие по траве, и тот особенный
ровный грохот колес, как музыка, заглушающая одни мысли и вызывают
щая другие. На крыше последнего вагона, прижавшись к вентиляционной
трубе, сидели три подростка, и Егор отчетливо видел, что они были без
фуражек, и ветер трепал их нестриженые и взлохмаченные волосы. Но
тогда он сразу же забыл об этих мальчишках; поезд прошел, и снова стал
виден разъезд, домики, все так же ярко залитые лучами заходящего
солнца, и кладбище — взбегающие на косогор могилы, кресты, надгробные
нетесаные камни, деревянные и железные оградки, ухоженные и
неухоженные, и все это тоже было залито лучами закатного солнца.
«Там что, одни женщины похоронены?»
«Да нет, всякий народ. Так уж говорят — бабий обоз...»
«Все в одну ночь померзли?»
«Все в одну».
«Как же это они?»
«Метель была, а конями правили бабы. На передних санях сама
председательша из Бычковки... Присядем давай, вишь, закат какой ясный,
завтра опять парить будет, так что с обеда копнить пойдем. Ну, слушай,
коли интерес есть...»
Сели на траву у тропинки. Пассажирский поезд был уже далеко,
почти у горизонта; он двигался на восток, и над густой зеленью травы и
на фоне сгущавшейся синевы той, восточной стороны неба была видна
лишь тоненькая черная змейка вагонов и дым от паровоза, медленно и
нехотя отползавший в сторону от насыпи; но рельсы еще гудели, и их
тихий, умирающий стон, и затихающий вечерний стрекот кузнечиков, и
еле слышный шорох воробьиных крыльев на проводах — все это,
угасавшее и затихавшее, было лишь отголоском звонкого дня, было тем
приятно разливавшимся по телу ощущением усталости, какое испытывали и
Егор и Епифаныч, сидя на траве у тропинки. Как по утрам бывает
прозрачно, чисто и видно все далеко и ясно, и все предметы будто прибли1
жены, особенно в тот момент, когда над землей поднимается солнце, — в
этот безоблачный летний вечер в той стороне, куда смотрели Егор и
Епифаныч, было также прозрачно и чисто, и домики, и кресты, и могилы
были будто приближены, и бревенчатые стены изб, изъеденные временем и
покрытые тонким налетом голубого сибирского мха, и деревянные кресты,
тоже будто покрытые голубоватым.налетом, с каждой секундой все
заметнее окрашивались по краям розовой краской заката; так неожиданно
повеяло свежестью, и свежесть эта, казалось, исходила от травы; трава
будто на глазах становилась влажной и особенно душистой; будто именно
теперь, в эту самую секунду, когда солнце касалось земли, в траве
рождалась вечерняя роса; Егор ладонью провел по траве, и ладонь его стала
мокрой и прохладной...
Прошло много лет, а Егор помнил самые мельчайшие подробности
того вечера: и этот ясный закат, и прохладу, и мокрую ладонь, и Епифаны-
ча, щурившегося на солнце и державшего в руках цветной ситцевый кисет
и свернутую для цигарок газету (теперь Епифаныча уже не было в живых,
он умер в тот год, когда Егор заканчивал первый курс юридического
факультета, и похоронили Епифаныча на том же большом кладбище, ближе
к железнодорожному полотну, чтобы, как просил он, слышать грохот
проходивших поездов),— Егор отлично помнил все мельчайшие подробности
того летнего вечера, но теперь эта картина лишь на мгновение возникла в
его голове; теперь он не просто слышал слова Епифаныча, а видел в своем
воображении то, о чем рассказывал старый стрелочник, и события
представлялись ему так, будто он сам был участником их и сам пережил все
ужасы той зимы. Он видел перед собой избы, занесенные снегом, и слабый
и желтый свет из окон, разливавшийся по сугробам, маленькое кирпичное
4. «Октябрь» № 11.
50
Анатолий Ананьев #
здание вокзала и тоже свет из окон дежурили, и неяркий электрический
фонарь, раскачивавшийся у входа, и снежинки, как мошкара, крутившиеся
у этого фонаря, и тихое, как предвестник пурги, завывание ветра в
телеграфных проводах; еще перрон пуст, еще только начальник разъезда в
шапке-ушанке и с батарейным фонариком в руке вглядывается в белую
мглу, дыша паром и потирая щеки от мороза, и в белой мгле, за зеленым
огоньком семафора, еще еле виден черный приближающийся эшелон.
Через несколько минут он остановится, раскроются двери теплушек,
и первые прибывшие спрыгнут на неутоптанный снег; через
несколько минут весь маленький перрон наполнится людьми, и послышатся
первые голоса: «Мороз! Мороз!» — раздадутся первые возгласы
испуга, первый детский плач, первое приплясывание на хрустком снегу,—
все это произойдет через несколько минут, и люди, продрогшие за дорогу
и теперь стынущие на леденящем ветру, кинутся к избам и заполнят их,
протискивая вперед детишек, пристроятся с заветренной стороны изб и
сараев, набьются во все уголки вокзала, и начальник разъезда — Егор не
знал, кто был тогда начальником разъезда, и представлял себе сейчас
хотя и пожилого, но крепкого мужчину, в то время как встречала эшелон
женщина, жена ушедшего на фронт начальника, позднее переведенная на
работу в Талейск, — будет крутить ручку телефона, вызывая Талейск и
извещая Талейск, что эшелон прибыл, что разгрузка завершена, что люди
мерзнут и укрыть их негде и что обещанные из колхозов санные обозы
до сих пор еще не появились на разъезде.
«Талейск!»
«Талейск!»
«Обозы вышли, ждите».
Люди ждали, никто не роптал; тогда никто не роптал: шла война, и
все, что делалось, делалось в первую очередь для фронта; эшелон не мог
стоять на разъезде, вагоны срочно требовали под всякие грузы в Талейск, и
люди понимали это и всю ночь попеременно грелись в избах и сидели на
ледяном ветру. Егор теперь представлял себе эту картину так же подробно,
со всеми ее оттенками, с завыванием ветра, с негромкими голосами
охрипших и простуженных людей, как представлял себе летний вечер, когда
вместе с Епифанычем возвращался с покоса и когда Епифаныч, сев на
траву, начал свой рассказ. Но Егор как бы выходил теперь и за рамки того
рассказа и за рамки этой вставшей перед его мысленным взором
картины,— он знал, что и в Талейске и за Талейском на таких же разъездах,
как и его родной, на всех станциях и полустанках, по всей линии
железной дороги разгружались в ту зиму эшелоны с эвакуированными, эшелоны
из Белоруссии, Украины; тысячи страданий, тысячи обездоленных,
голодных, осиротевших, измученных людей. Перед Егором впервые вставала
картина огромного людского горя, и он, мысленно охватывая ее взглядом,
как бы вновь открывал для себя все те ужасы, которые принесла
человечеству минувшая война; ужасы, о которых теперь все более и более
забывается в народе; в какую-то минуту он подумал, что едва ли верен тот
вывод, что нельзя найти обобщающую причину преступлений; ему казалось
теперь, что есть такая причина, что ее можно найти.
«Талейск!»
«Талейск!»
«Ждите!»
Всю ночь шел снег и дул ветер, наметая сугробы на дорогах; всю ночь
в Бычковке, Самаровке, Игнатьевке и Криводолке не спали, топили избы,
готовили теплые постели, собирали по дворам пимы и долгополые
сибирские тулупы и укладывали их в сани, готовясь к дороге; там, в деревнях,
знали, что творилось на разъезде, и, забыв о своем горе, готовились
облегчить чужое, кормили коней, просматривали сбрую, ощупывая
мерзнущими пальцами хомуты и гужи, толпились у крыльца правления — в тулу-
• Межа
51
пах, в натянутых на уши шапках, как мужики, и лишь не было видно
цигарок, и голоса были не мужские. Как только начало светать и стало
заметно, что ветер стихает, санные обозы двинулись к разъезду. Будто все
происходило у Егора на глазах, будто он сам видел тогда это — так
отчетливо представлял он себе заснеженные избы разъезда и продрогших
людей с заветренной стороны изб, дорогу, сползавшую с косогора, и
двигавшийся по мрД мр ^лф/зсш^жкяг s<? ш^в ее fee раскатанной санной колее,
обоз; лошаденки бежали мелкой рысью, и все, казалось, были одного,
сизого цвета от покрывавшей их изморози; этот сизоватый густой иней
настыл на хомутах, на шлеях и чересседельниках, на ворсистых воротниках
бараньих тулупов, на всем, что лежало на санях и было надето на
возницах. Егор особенно ясно видел перед собой лохматые конские морды с
настывшими сосульками у расширенных ноздрей, и еще яснее — лица
возниц, почерневшие женские лица, потому что на морозе лица людей всегда
чернеют, и густой белый иней на бровях, на отворотах меховых шапок.
Обоз все ближе подъезжал к избам, и то нарастающее волнение — и у
подъезжавших и особенно у ожидающих — рождалось и нарастало теперь
в душе Егора; он испытывал то же чувство, что и они тогда, и вместе с
ними кинулся к первым остановившимся саням. Может быть, так и было:
намерзшиеся, закоченевшие и голодные, люди побежали к саням,
расталкивая друг друга и занимая места, выхватывая из рук тулупы, и
полушубки, сбрасывая туфли и надевая привезенные валенки и пимы, —
может быть, так и происходило, и ничего невозможно было разобрать среди
гула голосов, крика, визга и плача обезумевших и спешивших к теплу
людей, но старый стрелочник Епифаныч рассказывал другое, что никто не
бежал, что все оставались на своих местах, и был полный порядок, что
на первые шесть саней погрузили детей и отправили в самую ближнюю
от разъезда деревню, в Криводолку, что выехал обоз с разъезда примерно
за полдень, и ветер чуть шевелил гребни снежных сугробов, и ничто не
предвещало того, что к ночи снова повалит снег и разыграется в степи
пурга, затяжная и лютая, какие часто бывают в Сибири.
Дети уехали, матери, старики и старухи остались на разъезде; они
смогли уехать лишь к вечеру, когда прибыли обозы из Бычковки, Сама-
ровки, Игнатьевки. И снова погрузка шла в полном порядке, как говорил
Епифаныч, и только немного колебались возницы — выезжать на ночь
глядя или не выезжать, — потому что уже начинал порошить снежок; сама-
ровские и особенно игнатьевские, из самой дальней от разъезда
деревни, не хотели выезжать, но бычковская председательша, желая поскорее
обогреть и накормить посиневших от холода, обессилевших и уже
безразличных ко всему людей, предложила добраться хотя бы до Криводолки и
там заночевать. Егор не знал и тем более никогда не видел
председательшу, но он легко вообразил себе ее — в мужской ушанке, в мужних
подшитых пимах, в мужнем дубленом тулупе, перетянутом суконным кушаком, и
лицо ее с выражением той особенной крестьянской заботливости, и голос,
каким говорила она, обращаясь к игнатьевским и самаровским: «До
Криводолки, бабы, аль вам не жалко их! Передом сама пойду...» — и эти
слова, которые тогда, стоя возле председательши, запомнил Епифаныч, и
которые спустя почти десять лет, слушая Епифаныча, запомнил Егор. Он
словно всматривался в ее лицо, вслушивался в ее голос и угрожающее
завывание проводов, тянувшихся от кирпичного здания вокзала к столбу у
насыпи; ему казалось теперь, что он отчетливо слышал, как скрипнули по
снегу полозья первых саней, как щелкнула вожжа по сизому,
заиндевелому крупу лошади, потом скрипнули полозья вторых саней, хлопнула вожжа
и раздался охриплый окрик: «Но-о!» —и уже заскрипели десятки
полозьев, ударили о снег десятки конских копыт; обоз медленно потянулся
вверх по косогору, растворяясь в вечерних сумерках сгущавшейся
снежной пелены.
52
Анатолий Ананьев Ш
Как обоз сбился с дороги, никто не знал. Епифаныч рассказывал, что
на седьмые сутки, когда стихла метель, бычковскую председательшу
нашли замерзшей совсем недалеко от разъезда, и Егор цредставлял себе
сейчас, как она лежала в снегу, окоченевшая, съеженнай, и лицо ее,
покрытое игольчатым инеем, белое и неподвижное; и представлял то, что
произошло. Когда обоз сбился с пути, она пошла искать дорогу и потом не
вернулась к обозу, растерявшись и оробев в ночной бушующей степи;
Епифаныч рассказывал, что обоз разорвался на части и что каждая часть
сама по себе, сбившись с дороги, блуждала по степи, и при этом говорил,
что надо бы им связать поводья, и еще добавлял: «Бабы!» И Егор видел
и понимал теперь, как все произошло, как останавливались измученные
лошади, как свистели кнуты по их спинам, и лошади выдергивали из
сугробов сани, и снова шли, и опять останавливались и падали, и падали
измученные, растерявшиеся и охваченные ужасом женщины, как отходили они
от саней, ища дорогу, и уже не могли вернуться к саням, потому что
ветер мгновенно заметал следы, сбивал с ног, мешал смотреть, и было
жутко оттого, что там, на оставшихся среди степи санях, замерзали
люди. Только несколько игнатьевских саней добрались до Криводолки, и то
случайно. Они въехали в деревню со стороны огородов и засели в сугробе
у колхозного семенного амбара. Егор одинаково представлял себе и этих,
добравшихся до Криводолки, и тех, бродивших по степи, но с еще большей
ясностью видел в воображении то, как подбирали на снегу и свозили
к разъезду синие окоченевшие трупы.
«Сначала их хотели похоронить в одной, общей».
«А потом?»
«Потом порешили: каждого в отдельной, по-людски. А порешили так
потому, что детишки их живы остались. Подрастут, дескать, и спросят: а
где мать моя похоронена? А вот здесь. И еще ради отцов их и мужей,
которые воевали. Потом так и было: солдаты приезжали сюда, и офицеры, и
сыновья, а как же...»
Егор отошел от окна.
Но хотя он сел за стол и, пододвинув папку с «парфюмерным
делом» и раскрыв ее, принялся вчитываться в протоколы допросов, хотя
он понимал, что ему нужно обязательно подготовиться к разговору с
вызванными им на сегодня, на час дня, двумя сотрудницами центральной
базы снабжения, и он должен был сосредоточиться сейчас на том, что читал,
и он старался сделать это, но то, о чем он только что вспомнил, и то,
о чем думал, сидя на летучке, и странный приход старика в кожаной кепке,
который все время просидел молча в кабинете, и разговор с Шурой, и ее
необыкновенно живое и привлекательное лицо, и даже то, что он сказал ей,
что всегда рад видеть ее, представлявшееся ему теперь особенной
неловкостью и смущавшее его, поочередно возникало в воображении Егора и
отвлекало его внимание. В эти полчаса он как бы вновь пережил все то,что
пришлось пережить ему за сегодняшнее утро, но только с той разницей,
что теперь он не горячился, а размышлял обо всем спокойно. Смерть Ан-
дрейчикова по-прежнему представлялась ему нелепой и бессмысленной, и
по-прежнему он осуждал подполковника Богатенкова и майора Теплова за
их мягкость и, как ему казалось, излишнюю предусмотрительность, что он
называл «перешагиванием психологического барьера»; сам же он сейчас не
хотел «перешагивать», как они, и был горд тем, что в нем жило это чуз-
ство. Он не спрашивал себя, почему они перешагнули. «Они мягче самих
законов»,— объяснял себе Егор. Но вопрос о войне, безотцовщине,
преступлениях был сложнее, и он несколько раз вновь мысленно возвращался
к нему и опять вспоминал разъезд, кладбище, замерзшие и посиневшие
трупы женщин на снегу.
• Межа
53
Он повторял слова Епифаныча: «Детишки их живы остались» — и
думал о детях, осиротевших в ту метельную ночь. Но тут же в нем
возникала противоположная мысль, и он произносил ее:
— Только ли война и безотцовщина? А что толкает на преступления
пожилых людей? Алчность, жажда наживы? Проклятое наследие
капитализма? — Он усмехнулся, произнеся это. — Живуче же это наследие!
Он представил себе отечное лицо директора парфюмерного магазина,
которого допрашивал на той неделе и который с удивлением воскликнул,
что ничего не знал, что творилось у него в магазине, тогда как в столе
Егора лежали документы, уличающие директора,— Егор представил себе
его отечное старческое лицо и снова повторил: «Живуче же это наследие!»
Но он видел, что так нельзя было объяснить все причины, и чувствовал,
что запутывается. В конце концов он перестал думать об этом и полностью
занялся «парфюмерным делом».
Дело было очень сложное, проходило по нему много разных людей,
и Егор расследовал его кропотливо и вдумчиво. В минуты, когда он
приступал к допросу, в нем самом рождалась та самая осторожность, которую
он осуждал в действиях подполковника Богатенкова и майора Теплова, но
эта, своя, осторожность, представлялась ему и теперь верной и
необходимой, а та, богатенковская, неоправданной, почти преступной.
Он перелистывал страницы дела, выписывал нужные вопросы и время
от времени, теперь уже совершенно машинально, не вдумываясь в смысл
произносимых слов, вполголоса повторял:
— Наследие, наследие...
VI
После летучки и после короткого разговора с Егором Ковалевым
подполковник Богатенков отправился на совещание в управление
милиции.
Совещание длилось недолго; уже в первом часу дня Богатенков был
свободен. Вытирая платком мокрые от пота шею и лицо и спускаясь по
ступенькам к ожидающей его машине, он неторопливо думал, как ему
лучше распределить оставшееся время дня, поехать ли сразу в отделение,
или сперва заглянуть к председателю райисполкома, который просил
Богатенкова зайти, и к тому же, у самого подполковника были кое-какие,
правда, не очень срочные и не очень значительные дела к председателю. Но
Богатенкову не хотелось теперь ехать ни в исполком («После двух лучше,
после двух председатель свободнее!»), ни к себе в отделение,— вечером
с московским поездом прибывал его сын Николай, и это предстоящее
событие сейчас больше всего занимало подполковника. Его отцовское
сердце, казалось, билось особенно часто, когда он думал о телеграмме от
Николая. Она была не из Москвы, а из Кизякова, небольшого районного
городка, который Богатенков старался представить себе и никак не мог
этого сделать, и еще более не мог представить Федоровку, деревню, в
которой работал Николай и до которой от Кизякова можно было добраться
лишь на подводе или на попутной автомашине; но он не только не мог
представить себе Кизяково и Федоровку, он также не мог представить
себе и Николая: каков он теперь, не студент, а учитель сельской школы,
хлебнувший самостоятельной жизни. Вопрос этот волновал Богатенкова,
но, как и утром, во время летучки, и потом, когда разговаривал с Егором,
да и теперь, спускаясь по ступенькам к ожидавшей внизу машине, он
заглушал в себе это волнение.
Пряча влажный платок в карман и садясь в машину, он сказал
шоферу:
— Давай, Павлик, к Андрейчиковой, а то мы так и не выберем
время проведать ее.
54
Анатолий Ананьев #
Еще на прошлой неделе Богатенков собирался навестить ее; сейчас
он вспомнил об этом, и потому, что никаких срочных дел у него не
было в отделении, и можно было не торопиться к председателю
райисполкома, он решил поехать именно к Андрейчиковой. Он не хотел теперь
думать ни о чем, что могло бы отвлечь его от размышлений о сыне, и
поездка к Андрейчиковой казалась ему как раз тем делом, совершить
которое было необходимо и в то же время для совершения которого не
требовалось большого напряжения сил. Но как только машина свернула с
проспекта на узкую боковую улицу и он увидел те самые витрины с
колбасами, сыром и булками, мимо которых тогда медленно двигалась
похоронная процессия, и в этой процессии сразу же за гробом Андрейчикова
шагал он, Богатенков, одетый в гражданский костюм, как только увидел
шляпную и шляпного мастера за стеклянным окном, так же, как тогда,
натягивавшего на колодку шляпу, — сразу же вспомнил процессию, себя,
идущего за гробом, заплаканное лицо Андрейчиковой, черный платок,
сползший на ее плечи, и белокурые волосы, взлохмаченные оттого, что
она то и дело поправляла платок, и вспомнил ее плачущих детей, которых
несли на руках, и музыку, надрывавшую душу, — и как только вспомнил
все это, тут же почувствовал, что то, чего он хотел сегодня избежать,—
душевного напряжения, — он не только не избежал, а, напротив, это
напряжение все более усиливалось в нем, чем ближе он подъезжал к дому
Андрейчиковой. Но он не мог и не хотел поворачивать назад; всякое
отступление от раз принятого решения было противно ему. Он сидел молча,
и лицо его было спокойно; после утомительного совещания, после
небольшого, душного и тесного, наполненного разомлевшими от жары людьми
конференц-зала, из которого Богатенков вышел усталый и потный,
казалось, он наслаждался теперь прохладой, ветерком, врывавшимся в окна
мчавшейся машины; но он не замечал этой прохлады и все более
погружался в размышления.
Он вспомнил, что он сказал майору Теплову в ту ночь, сразу же, как
только они вместе прибыли на Водопроводную и увидели лежавший на
траве на обочине труп Андрейчикова,— он высказал тогда свое
предположение, как был убит Андрейчиков,— и вспомнил, что предположение это
оказалось верным.
«Андрейчиков шел, и Брага выскочил из-за дерева; выскочил,
конечно, неожиданно и сразу же нанес удар...»
«Андрейчиков мог услышать шаги и оглянуться?»
«Именно».
«Но он не оглянулся вовремя».
«В этом-то все дело».
Хотя о покойнике не принято думать плохо и хотя Богатенков вовсе
не собирался осуждать Андрейчикова, но, вспомнив этот разговор с
майором Тепловым и еще другие слова, которые он тогда не высказал майору,
а произнес для себя: «Шляпа! Раззява!» — вспомнив эти слова, он
мысленно повторил их теперь, потому что и тогда и теперь
обстоятельства убийства не представлялись ему исключительными, такими, при
которых Андрейчиков не мог защититься, а, напротив, думалось, что,
услышав за спиной шаги и вовремя оглянувшись, мог бы вполне отвести удар,
мог бы даже не только защититься, но и задержать Брагу. Так думал
Богатенков об Андрейчикове. Это утверждение было ему неприятно, он
старался отыскать в памяти что-либо хорошее о своем, теперь покойном,
сотруднике, но он никак не мог отойти от своего утверждения, которое все
более представлялось ему верным.
«Да, он растяпа, — снова и снова говорил себе Богатенков,
размышляя об Андрейчикове,— он не мог служить в милиции. Но кто-то же
принимал его на эту работу? И я видел, каков он, и держал, и не
перевоспитывал, и не уволил».
# Межа
55
Он подумал и о причинах убийства и вспомнил пустую кобуру,
которая была снята с пояса Андрейчикова, и вызывающие ответы Браги на
допросе, и то, как подергивались щеки на его сухом и морщинистом лице,
когда он произносил: «Наганчик нужен был, начальник». Но ни картина
допроса, ни вспомнившийся ночной разговор на обочине с майором
Тепловым не были тем первостепенным, что давно уже тревожило
Богатенкова; то, как относилось к нему начальство до того, как на Водопроводной
произошло убийство, и как оно относилось к нему теперь, после того, как
совершилось убийство,— это изменившееся отношение к нему казалось
ему сейчас главной причиной его мучительных раздумий. Вместе с тем
как ему было жаль Андрейчикова и он сознавал в глубине души, что
должен был решиться на самую крайнюю меру — уволить Андрейчикова,
чтобы предупредить несчастье («Но спасло ли бы это? Только ли в этом
причина?» — в то же время с сомнением спрашивал себя он),— он не мог
признать себя виноватым, и потому странным казалось Богатенкову это
изменившееся к нему отношение начальства. Он знал, что в областном
управлении и в городском распространилось о нем мнение, будто он уже
стар, будто уже не обладает нужным чувством оперативности и не
может руководить таким большим и шумным, находящимся у базара,
отделением; прямо об этом никто не говорил, «и полковник Потапов,
непосредственный начальник Богатенкова, ни полковник Ядринцев
из областного управления, от которого также многое зависело, но то, как
они, встречаясь с Богатенковым и принимая его, разговаривали с ним,
и как, прощаясь и пожимая руку, старались не смотреть ему в глаза, и
Богатенков видел это, и то, что майора Теплова недавно вызывали в отдел
кадров, а потом на прием к комиссару, и особенно то, что майор Теплов,
вернувшись от комиссара, не сказал, зачем вызывали его,— все это,
встававшее сейчас в памяти Богатенкова, было как раз тем тяжелым и
неприятным, о чем ему более всего не хотелось думать, но он уже не мог
избавиться от охвативших его мыслей. Пока машина, останавливаясь на
перекрестках у светофоров и вновь набирая скорость, мчалась по улице, он
вспоминал подробности сегодняшнего дня: утром майор Теплов, войдя
перед самой летучкой в кабинет и едва поздоровавшись, сразу же спросил:
«К Потапову не вызывали?» И сам вопрос и тон, каким он был задан,
неприятно поразили Богатенкова, и он старался представить себе лицо
Теплова в тот миг, когда он задавал этот вопрос. Позднее, сидя на
совещании в душном конференц-зале, он услышал, как кто-то за спиной,
ясно называя его фамилию, прошептал: «Снимают»,— и это было
оскорбительным, но Богатенков не обернулся и теперь старался вспомнить, кому
мог принадлежать этот шепот. Когда уже выходили из конференц-зала,
опять услышал за спиной: «Он?»,— и через мгновение снова: «Он»,— но
на этот раз Богатенков обернулся и увидел обращенные на него взгляды
двух малознакомых ему сотрудников управления. В их взглядах был все
тот же намек: «Снимают». Богатенков представил себе кабинет Ядринце-
ва, длинный и не очень светлый, и двух полковников, Потапова и самого
Ядринцева, на диване, обитом красной кожей, представил себе их так,
будто они сейчас, в эту самую минуту, сидели на том диване,— он видел,
как после совещания Ядринцев, взяв под локоть Потапова, повел его в свой
кабинет, — и разговаривали о нем, Богатенкове. Он даже попытался
мысленно произнести то, что они могли говорить теперь о нем:
«Что ты думаешь насчет начальника пятого?»
«Стар».
«Да, да, хотя работник он в общем...»
«В общем, конечно, но то, что на Водопроводной...»
«Да, то, что на Водопроводной...»
Может быть, Потапов и Ядринцев говорили совсем о другом, может
быть, Потапов давно уже уехал в свое управление, но Богатенков
представлял теперь их именно так, сидящими на диване и разговаривающими
56
Анатолий Ананьев %
о нем, и думать об этом было тяжело. О том, что произошло на
Водопроводной, он имел свое определенное и, как ему казалось, совершенно
правильное суждение. Ошибка его заключалась лишь в том, что он не
разглядел вовремя Андрейчикова и не предложил уволить его. Он
вспомнил о сегодняшней летучке и о реплике следователя Ковалева. Богатен-
ков точно знал, в чем его упрекал молодой следователь, и мог легко
доказать ему, что тот неправ, и намеревался сделать это, вызвав его в
кабинет, но не сделал лишь потому, что собирался на совещание и не было
времени, и еще потому, что не хотел сегодня, когда приезжал сын, думать
ни о чем другом, кроме сына. Но если он мог легко доказать молодому
следователю, в чем тот ошибался, он ничего не мог даже мысленно
возразить теперь ни полковнику Потапову, ни Ядринцеву, потому что
не знал, в чем им надо было возражать. Они пока еще ничего не
говорили ему, все как будто пока оставалось по-прежнему, но Богатенков
видел, что ему уже не доверяют, как прежде, не выслушивают его
предложений, не советуются с ним. «Они еще не разобрались,— думал он,— и
должны будут разобраться и разберутся еще, потому что — как же
иначе?» Он так представлял себе происходящее: кто-то сказал, что он,
Богатенков, стар, что уже нет в нем нужной оперативности («Трудно даже
установить теперь, кто сказал первым. Может быть, Теплов? И наверняка
Теплов»,— полагал он), и уже поползло это мнение сначала вверх по
инстанциям, затем с верхних инстанций спустилось вниз и пошло гулять по
кабинетам и коридорам управления, и хотя никто не мог ни в чем упрекнуть
его, Богатенкова, и, более того, все понимали, что такое убийство, как на
Водопроводной, могло произойти в любом конце города, на территории
любого отделения, и никто предвидеть этого не смог бы, но мнение о нем,
начальнике пятого отделения, уже есть, и все высказывают его друг другу и
верят в то, что говорят истину.
Богатенков чувствовал растерянность перед тем, что совершалось
вокруг него; ему жаль было Андрейчикова, но так же жаль было и себя;
теперь, в машине, он особенно испытывал это чувство растерянности.
В таком подавленном состоянии он вышел из остановившейся
машины и направился к подъезду четырехэтажного дома, в котором жила
Андрейчикова.
Как только Богатенков вошел в подъезд, он сразу же вспомнил все,
что происходило здесь в день похорон. Вот так же на машине он подъехал
тогда к дому; когда он поднимался по лестнице, гроб уже выносили, и
вверху раздавались негромкие возгласы: «Легче! Осторожнее! Вот, вот,
так...»,— и было слышно тяжелое дыхание людей, с трудом, как видно,
проносивших гроб через тесную прихожую, и слышался плач и звуки
приближавшихся шагов. Богатенков прислонился спиной к стене, пропускав
мимо себя по лестничной клетке несущих огромный, обтянутый красны ai
ситцем гроб. Сейчас, стоя в прихожей, вытирая о тряпку ноги и кивком
головы отвечая на приглашение Андрейчиковой пройти в комнату, он в то же
время окинул взглядом уже знакомую ему узкую и тесную прихожую: не
стене еще не были заделаны царапины, возле дверного косяка виднелось
серое пятно на месте отбитой тогда углом гроба штукатурки, и этоещесиль
нее напомнило Богатенкову о том, что происходило здесь в тот день. Он про
шел в комнату, стараясь не думать о событиях того дня и все же дума*
именно о тех событиях, но чувство, которое возникло в нем теперь, ш
было неожиданным для него: он испытывал жалость не к вдове Андреи
чиковой, пододвигавшей в эту минуту к нему стул и смахивавшей сня
тым с себя фартуком хлебные крошки с этого стула, а испытывал жалост!
к себе. Он еще не успел как следует рассмотреть Андрейчикову. Он за
метил пока лишь, что она смущена его появлением, не знает, что сказать
# Межа
57
как угодить ему, бывшему начальнику ее мужа; и еще заметил: она
вовсе не нуждается ни в каких утешениях, горе свое уже пережила,
смирилась с вдовьей судьбой и до приезда его, Богатенкова, была спокойна,
занималась своим обычным домашним делом, а приезд его, напротив,
только взволновал и напомнил ей о ее горе. Он заметил и то, что она была
в фартуке, который держала теперь в руках, и что руки ее были чуть
розовые и вспухшие от воды, заметил это еще в прихожей, когда она взяла
у него фуражку, чтобы повесить, и там же, в прихожей, уловил запах
намоченного и намыленного белья. Он подумал, что, пожалуй, приехал
напрасно и некстати и лишь оторвал ее от дел.
Усаживаясь на пододвинутый стул, он спросил:
— Разве у вас одна комната?
— Одна.
— А кухня отдельная?
— Отдельная. И ванная и горячая вода, — добавила она и
произнесла это, указывая рукой на дверь, ведущую в прихожую, и на
видневшуюся там другую дверь, за которой, очевидно, и была ванная.
— Ну, а детишек, я вижу, уже устроили?
— Устроила,— сказала Андрейчикова, присаживаясь на край стула,
стоявшего возле стола. Она улыбнулась, как только, отвечая Богатен-
кову, заговорила о детях: — Мишу, так того сразу же приняли в садик,
спасибо вам, Емельян Захарыч. А Оленьку, так она сегодня только первый
день. Она в яслях, а в яслях был карантин.
Улыбка Андрейчиковой вызвала у Богатенкова двойное чувство. Он с
трудом понимал, что обрадовало ее, и сама радость представлялась ему
теперь неуместной, и он, осуждая ее за это, вспомнил, какое впечатление
произвела на него Андрейчикова в день похорон, когда он впервые увидел
ее — хотя тогда она плакала и была так слаба, что ее поддерживали под
руки, но чуть взлохмаченные белокурые волосы придавали лицу иной,
не совсем траурный оттенок; это странное, возникшее тогда у
Богатенкова чувство сейчас снова охватывало его. Но вместе с этим так же, как
тогда, лицо Андрейчиковой напомнило ему другую женщину, его жену
Софью, погибшую двадцать лет назад, зимой сорок второго года во время
эвакуации,— теперь, вглядываясь в Андрейчикову, он все яснее видел это
сходство; это второе, возникшее сразу же за первым чувство так быстро
нарастало в нем, что. через минуту он уже думал только об этом, все
сильнее поражаясь замеченному сходству и все более находя в лице
Андрейчиковой знакомые и близкие ему черты другой женщины. Но он подавил
в себе вспыхнувшее волнение и, продолжая разговаривать с
Андрейчиковой о детях, старался уже не смотреть на нее.
— Сколько вашему старшему?
— Мише? Шесть.
— А дочери?
— Оленьке? В мае третий пошел. В деревню к бабушке забирали,
да я как-то не решилась.
— Почему?
— Ну, как вам сказать?..— Она обернулась и взглянула на детские
кроватки, стоявшие у стены; они были застелены старыми, выцветшими
ватными одеялками.
— Там ваши родные или его?
Богатенков тоже взглянул на детские кроватки, стоявшие у стены, и
потом взглянул на красный комод с медными ручками на ящиках, на
зеркало, подвешенное над комодом, на тюлевую занавеску, прикрывавшую
половину окна. В день похорон он всего лишь несколько минут находился в
этой комнате и почти ничего не успел разглядеть, но он отлично помнил,
что все ему тогда показалось здесь бедным, убогим, особенно огромный
самодельный стол, на котором стоял гроб,— этот стол теперь был накрыт
58
Анатолий Ананьев ф
голубоватой льняной скатертью и выглядел совершенно по-другому, и
толстые, плохо покрашенные ножки стола, особенно выделявшиеся тогда
своей неуклюжестью, теперь были спрятаны за свисающими краями скатерти.
Но, несмотря на то, что Богатенков видел сейчас все по-иному и
убранство комнаты и обстановка не представлялись ему убогими, все же ему было
больно глядеть на то, на что он смотрел, и жалость к Андрейчиковой,
исчезнувшая было вначале, когда он только вошел в прихожую, опять
поднялась в нем.
— Ваши родные или его? — повторил Богатенков.
— И мои и его.
— В одной деревне?
— Нет, не в одной, в соседних.
— А родные не зовут вас к себе, в деревню?
Говоря это, он опять посмотрел на Андрейчикову. Вместе с тем, как
он снова был поражен необычным и, как ему показалось теперь,
особенно близким сходством ее лица с лицом погибшей жены, вместе с тем, как
вид Андрейчиковой, зачесанные назад светлые волосы,— такие же волосы
были и у Софьи, и она так же зачесывала их назад, ровно, без пробора,—
ее глаза, смотревшие на него прямо, открыто, шевельнувшиеся и
неожиданно застывшие в чуть приметной улыбке губы, — точно так же
улыбалась и Софья, когда разговаривала с ним,— вместе со всем этим, что
сейчас снова поразило Богатенкова, он заметил и то, что Андрейчикова
была недовольна, что разговор зашел о деревне. Он заметил это
особенно потому, как она, отвечая на его вопрос, с усмешкой произнесла:
«Родные?.. Зовут?..» — и, смутившись и покраснев, очевидно, оттого, что
открыла перед незнакомым человеком свою, понятную только ей
неприязнь к родным, но, несмотря на это смущение, добавила все с той же
усмешкой: «Нет, если бы даже позвали, не пойду» — и, опустив голову,
прийялась мять и комкать в руках фартук. Он хотел спросить:
«Почему?» — но, поняв, что она все равно не ответит ему и что новый вопрос
будет еще неприятнее ей, чем тот, который он только что задал,
заговорил о другом.
— Кстати, как с пенсией, установили?
— Пенсию дали, спасибо.
— Теперь вам остается только устроиться на работу.
— Да, но куда? Ходила на швейную фабрику, я ведь, Емельян
Захарович, немного шью, для себя. — И на лице ее, когда она говорила
эти слова, опять появилась, правда, теперь еле-еле заметная, улыбка, но эта
улыбка исчезла сразу же, как только она начала рассказывать о том, как
принял ее начальник отдела кадров швейной фабрики: — Не спросил ни
фамилии, ничего. «На какую работу?» «Швеей». «Ничего нет. Зайдите
через месяц-полтора». Ждать полтора месяца...
— Вы на какой фабрике были: на первой швейной или на второй?
— Даже не знаю, Емельян Захарович. На той, что возле товарной
станции.
— Значит, на первой. Да,— подтвердил он, вспомнив, что как раз на
той швейной фабрике, что возле товарной станции, прокуратура сейчас
расследует крупное дело о хищении, в котором замешано много людей: и
вахтеры, и закройщики, и даже, как говорили, главный инженер фабрики.
«Потому и встретили так Андрейчикову»,— подумал он, но не высказал
ей это; опять взглянув на нее и заметив в ее все так же открыто и
прямо смотревших на него глазах тревогу, он снова почувствовал жалость к
ней: — Вы вот что, Мария Викентьевна,— он вспомнил ее отчество и
назвал наконец по имени и отчеству,— вы зайдите ко мне завтра, я кое
с кем поговорю насчет вашей работы на швейной. Думаю, все уладим.
— Когда зайти?
:— Лучше после обеда, во второй половине.
— Хорошо.
• Межа
59
— Ну, мне пора,— сказал Богатенков, поднимаясь и собираясь
уходить.
Он протянул было руку, чтобы попрощаться, вполне убежденный в
том, что сделал все, что мог и что нужно, но, окинув прощальным
взглядом комнату и увидев детские кроватки у стены, застеленные выцветшими
ватными одеялками, и внимательно посмотрев на эти одеялки, увидев все.
на что ему было больно смотреть, и увидев на фоне кроваток стоявшую
Андрейчикову и заметив, что платье на ней такое же выцветшее и
заштопанное, как и одеялки, почувствовал, что не может уйти просто так, только
простившись; неожиданно для себя и еще более неожиданно для Андрей-
чиковой он достал из кармана все деньги, какие были теперь при нем, и,
положив их на стол, проговорил:
— Да, чуть не забыл, это от коллектива.
— Что вы!
— Берите, вам они сейчас очень нужны. До свидания.
Сказав это, он повернулся и зашагал к выходу; он уже не слышал,
как произнесла Андрейчикова: «Спасибо»,— и не видел, как тем же самым
фартуком, который держала в руках, вытерла покатившиеся по щекам
слезы,— он теперь был так возбужден и так чувствовал себя виноватым перед
этой женщиной, что уже не мог воспринимать ничего, кроме этого
охватившего его мучительного чувства. Он надел фуражку, но, прежде чем выйти
из прихожей, обернулся и еще раз посмотрел на Андрейчикову. Он
сказал только самое обязательное:
— До свидания, Мария Викентьевна.
Сразу же от Андрейчиковой Богатенков поехал на швейную фабрику.
Ему хотелось теперь же, не откладывая, уладить все, и он только
обдумывал, как и с кем ему лучше поговорить на фабрике —с секретарем
партийного комитета или с директором; ни того, ни другого он лично не знал,
и потому разговор представлялся ему сложным.
В первую минуту, как только он приехал на фабрику — это была
вторая швейная фабрика — и как только ему сказали, что и директора и
секретаря партийного комитета нет, что их вызвали в трест и что вернутся
они лишь часам к четырем, не раньше, а что принять его может только
главный инженер, Богатенков был огорчен; но когда спустя четверть часа
он вышел из кабинета главного инженера и, усевшись в машину, поехал,
наконец, к себе в отделение, он был вполне доволен, что разговаривал
именно с главным инженером.
«Она умеет шить?»
«Говорила, да».
«Это уже лучше. Что ж, присылайте ее прямо ко мне, мы сделаем
так: зачислим ее в бельевой цех, прикрепим недельки на две к лучшей
мастерице, пусть оглядится, подучится, а потом и на самостоятельную
работу».
Все время, пока машина мчалась по проспекту и затем, обогнув
базарную площадь и свернув за угол высокого серого здания, тихо
подкатывала к главному подъезду отделения, Богатенков, довольный собой,
довольный, главное, не тем, что ему так легко удалось уладить дело, а тем,
что сам он наконец выбрал время и съездил и к Андрейчиковой и на
фабрику, думал о только что состоявшемся разговоре с главным
инженером. Разговор этот казался Богатенкову настолько приятным и так
повышал настроение, что мучительные раздумья, которые охватывали его
утром, после совещания в управлении, услышанные и теперь снова
всплывшие в памяти слова: «Этого снимают»,— прозвучавшие тогда особенно
оскорбительно; и изменившееся отношение к нему Потапова и Ядринцева,
и что вопрос о его смещении, как он полагал, был уже решен и теперь
подыскивают ему место полегче,— все это, час назад омрачавшее и волно-
«о
Анатолий Ананьев •
вавшее его, теперь представлялось отдаленным, второстепенным и почти не
относящимся к нему делом.
Когда он вошел в отделение и встретился в коридоре с майором
Тепловым, он не ощутил, как утром, настороженности к этому человеку;
напротив, приветливее, чем обычно, сказал майору:
— Зайдите, Владимир Василич.
В кабинете, усадив майора в кресло, Богатенков принялся
рассказывать ему о том, как проходило совещание, кто и о чем говорил и что
было важным из того, что говорилось, что нужно было теперь учесть в
дальнейшей работе отделения; Теплов почти не слушал его; но Богатенков
не сразу заметил, что Теплов не слушал, что его занимали свои мысли
и что те, свои, мысли были для него, очевидно, более важными, чем то,
о чем говорил Богатенков. Только после того, как майор неожиданно и
некстати, как раз в тот момент, когда Богатенков уже начал говорить о
поездке к Андрейчиковой и на швейную фабрику, спросил: «Потапов был
на совещании?» — и через минуту, так и не дав Богатеккову докончить,
снова спросил: «Вы говорили с ним?»,— только после этого, внимательно
посмотрев на майора и встретившись с его выжидательным взглядом и
поняв этот взгляд, Богатенков почувствовал, что все то, что час назад
омрачало и волновало его, вовсе не было ни отдаленным, ни второстепенным.
Несколько секунд оба, и майор Теплов и подполковник Богатенков,
молча смотрели друг на друга; майор ждал, что скажет Богатенков, и
ожидание его было более нетерпеливым и раздраженным, потому что он,
как видно, полагал, что приказ об освобождении Богатенкова уже
подписан (тем же приказом, вторым параграфом, он, майор Теплов, очевидно,
будет назначен начальником отделения). Богатенков же, глядя на Теплова
и видя его выжидательный взгляд и понимая этот взгляд, вовсе не
собирался ни спрашивать, ни отвечать; он вспомнил, каким исполнительным и
внимательным был Теплов полгода назад, когда ожидал присвоения
очередного звания и от Богатенкова зависело, какую дать ему характеристику,
Богатенков написал тогда положительную, но сейчас он думал не о
характеристике, а именно о том, каким был тогда Теплов.
Майор встал и, отвернувшись от Богатенкова и взглянув в окно,
сказал:
— Пожалуй, пойду, ждут там.
— Идите.
«Может быть, позвонить Потапову и узнать?» — сам себя спросил
Богатенков, оставшись в кабинете один; но он не стал звонить Потапову:
он решил завтра же съездить в управление и поговорить с полковником
и подумал, что будет говорить: не спросит, «смещают» или «не смещают»,
а скажет, что распространилось такое мнение, будто «смещают», и это
мешает работать. Но хотя Богатенков и подумал так, и это, как ему казалось,
было самое верное, что он мог теперь сделать, все же то, что в
управлении, ничего не сказав ему и ни о чем не спросив его, а прислушавшись
лишь к мнению, решили его судьбу, было обидно. Он повторял
себе: «Что они?!» — впервые чувствуя растерянность перед тем, что, как
казалось ему, совершалось вокруг него и что он особенно видел и
чувствовал теперь.
Он уехал из отделения раньше обычного: и потому, что не обедал и
хотел есть, и потому, что надо было еще приготовиться к встрече сына
и успеть на вокзал.
VII
Егор Ковалев не знал, что на том самом кладбище, на разъезде, с
котором рассказывал ему старый стрелочник Епифаныч, среди других
могил, обнесенных оградками и неогороженных, есть могила жены
подполковника Богатенкова, что в ту буранную ночь сорок второго года онг
• Межа
приехала с эшелоном эвакуированных, выгрузилась из теплушки на снег
и, укутывая одеялом трехлетнего сына Николая, стояла с заветренной
стороны избы в туфельках, в тоненьких чулках, грелась в избе и снова
выходила на мороз, как все, окружавшие ее; с первым обозом она отправила
Николая в Криводолку, а сама, поехав со вторым обозом, замерзла в степи,
и нашли ее, окоченевшую и запорошенную снегом, под опрокинутыми
санями бычковской председательши. Богатенков же не знал того, что
следователь Ковалев, сотрудник его отделения, родился и вырос как раз на том
разъезде, под Талейском, где была похоронена жена, что история этого
большого кладбища на косогоре, возле четырех разъездовских домиков,
была так же известна Егору, как и Богатенкову, хотя Богатенков всего
дважды ездил туда: первый раз — сразу же после войны, когда приезжал в
Криводолку за сыном и тогда же из Криводолки ходил на кладбище и
установил оградку вокруг могилы; и второй раз перед самым
назначением в милицию — лет шесть назад, в конце лета, уже вместе со взрослым
сыном, и ночевал тогда у Егоровой матери, путевой обходчицы (Егора в то
время дома не было: он сдавал вступительные экзамены в университет),
и вместе с нею и Николаем ходил на кладбище, а потом сидел на скамейке
перед избой, смотрел на проносившиеся составы, пассажирские, товарняки,
наливные, на тихий и спокойный степной- закат, на железную дорогу,
разрезавшую холмы и уходившую к уже сумеречному горизонту, и то
особенное ощущение огромности мира, которое человек испытывает в степи,
охватывало его. Богатенков отлично помнил тот вечер. Одна за одной прошли
мимо него по тропинке коровы, возвращавшиеся с пастьбы, и маленький,
лет семи мальчик, светловолосый и конопатый, прошагал вслед за
коровами, волоча за собой самодельный веревочный кнут; потом было слышно, как
под навесом Прасковья Григорьевна — так звали мать Егора — доила
корову и струи молока со звоном ударялись о днище ведра; и запах
этого молока, только что процеженного и еще теплого, налитого в крынку и
поданного на ужин, и долетавший со двора запах кизячного дыма, и ломти
черствого, привозного из Талейска хлеба, и клеенка, старая и изрезанная
ножом, на которой лежали эти черствые ломти хлеба, и то, что Прасковья
Григорьевна отказалась от денег, которые Богатенков предложил ей за
ночлег, за молоко и хлеб,— и это тогда растрогало Богатенкова; и то, что
Прасковья Григорьевна обещала Богатенкову следить за могилой его жены, и
как она говорила об этом, и ее слова: «А мой вот лежит в Белоруссии,
под Озаричами, может, и за его могилой кто-нибудь ухаживает»,— все это
Богатенков хранил в своей памяти так же бережно, как хранил многие
события, и радостные и горестные, которые пришлось ему пережить за
свои пятьдесят лет.
«Черт возьми, столько за день происходит событий, столько
наваливается различных волнений и переживаний, что не знаешь уже, что самое
важное, о чем надо думать и что решать!» —так думал Богатенков,
сидя в кресле у себя дома перед журнальным столиком и держа в руках
конверт. Он только что пообедал и был сейчас в том состоянии, когда не
хотелось особенно напрягать мысли, а хотелось покоя и тишины. Все в нем
теперь отдыхало: и мозг, и руки, и вытянутые на коврике и обутые в
мягкие домашние туфли ноги. Мягкая пижамная куртка, которую он
надел поверх рубашки, не стягивала плечи и шею, в ней было легко и удобно;
и низкое, уютное кресло, в котором он сидел, и свежая струя воздуха,
вливавшаяся в комнату через приоткрытую балконную дверь,— все
располагало к отдыху, тем более что он чувствовал, что устал от тех дум и
переживаний, которые весь день и все сегодняшнее утро наполняли его.
Письмо, которое он держал в руках, было от Прасковьи
Григорьевны.
62
Анатолий Ананьев #
Он давно уже не получал от нее писем и потому теперь был удивлен,
разглядывая его. Он неторопливо распечатал конверт, вынул сложенный
вчетверо и исписанный с двух сторон тетрадный листок и принялся читать.
То, что Прасковья Григорьевна писала «што» зместо «что», и то, что «на
кладбище» она писала слитно «накладбище»,— это вызывало у Богатеи-
кова улыбку; но то, о чем она писала, было невероятным, и когда Бо-
гатенков дочитал до конца, он уже не только не улыбался, но был мрачен.
Дело в том, что от Талейска по обе стороны железной дороги
прокладывали лесную защитную полосу; на разъезде эта полоса как раз
проходила через кладбище, и когда лесопосадчики размеряли и вбивали
колышки, сказали, что посадка будет механизированной, часть кладбища
придется сровнять и они пришлют для этого бульдозер. Это-то и встревожило
Прасковью Григорьевну и всех, как писала она, жителей маленького
разъезда, а начальник разъезда выехал в Талейск, чтобы предотвратить это.
«Можно вручную, лопатами, и могилки не разрушить, так нет, на своем
стоят, дескать, не могилы землю украшают». И еще, что особенно
тронуло Богатенкова,— это приписанная в конце письма фраза: «Не
по-человечески так, не по-людски, а память не сгребешь бульдозером». Он
отложил письмо и, откинувшись на спинку кресла и прикрыв глаза,
несколько минут сидел так, не шевелясь, в удобной позе спокойно думающего
человека. Но он не мог быть и не был спокойным; в то время как ноги,
руки и все тело, усталое и расслабленное, все еще отдыхали, в то время
как он, проговорив себе: «Как некстати, как не вовремя пришло это
письмо!» — отложил его, чтобы не думать о нем,— мысль о том, что какие-то
лесопосадчики хотят бульдозером разровнять кладбище, все сильнее
тревожила его. Тревожило не то, что придется теперь, писать, просить,
доказывать, может быть, даже придется съездить в Талейск и на разъезд, не это,
что само по себе уже было неприятным, а другое — хладнокровие и
равнодушие, с каким, как писала Прасковья Григорьевна, лесопосадчики
собирались сделать свое дело.
«Какого только головотяпства нет среди нас! Только подумать!..»
Он произнес это мысленно и произнес раздраженно, в то время как
лицо его оставалось спокойным, глаза были прикрыты, и весь он, казалось,
отдыхал, и когда в комнату вошла Даша, младшая сестра Емельяна
Захаровича, и увидела его, она так и решила, что он дремлет. Сама она
уже успела все прибрать на кухне, переодеться и причесаться и сейчас
с тем особенным чувством торжественности приближающейся минуты и с
той особенной радостью, которая так и светилась в ее глазах, стояла у
порога и смотрела на Богатенкова; она с большим нетерпением
ожидала, когда можно будет ехать встречать, и волновалась сильнее, чем Бога-
тенков, потому что ее ничто не отвлекало от размышлений о Николае.
Она тоже задавала себе вопрос: «Каков он?» — и тоже пыталась
вообразить, каков он, но она еще меньше, чем Богатенков, представляла себе,
каков теперь Николай, проживший целый год в деревне, в которой, как он
писал, «у каждого своя банька на огороде, а кинокартины
демонстрируются в старой, еще в тридцатых годах переделанной под клуб церкви».
Тихо, на цыпочках, чтобы не разбудить Богатенкова, Даша обошла
вокруг стола и взглянула на часы, висевшие на стене; было пятнадцать
минут шестого, и, по ее мнению, пора уже выезжать, чтобы к шести быть
на вокзале (поезд прибывал в шесть часов двенадцать минут), но она все
еще не решалась разбудить Богатенкова; она стояла за его спиной
и не видела лица, а видела только его уже не густые и почти белые от
седины волосы, но она настолько привыкла видеть брата седым и к тому же
мысли о Николае так занимали ее, что, вздохнув и присев на стул, она
опять взглянула на часы.
• Межа
63
Но хотя Даша делала все тихо, и по комнате прошла на цыпочках,
и сидела теперь на стуле, почти не шевелясь, Богатенков слышал все:
и как она вошла и как обошла вокруг стола, чтобы взглянуть на часы,—
и он сразу же догадался об этом, и слышал ее нетерпеливый вздох, и знал,
что она села на стул позади него, и еще знал, что глаза ее лучатся
радостью. Она вырастила и воспитала Николая, она покупала ему первые
книжки, провожала в школу и встречала из школы, в то время как он,
отец — Богатенков тогда еще служил в армии, — месяцами не бывал дома,
а когда приезжал, то с утра до вечера просиживал на работе, в штабе.
Он хорошо понимал теперь то чувство, какое испытывала Даша. Он тоже
подумал, что пора вставать, потому что надо еще переодеться и вызвать
такси — на служебной машине Богатенков ехать не хотел, — но между тем
он продолжал сидеть в кресле все в той же позе отдыхающего,
дремлющего человека, откинув голову и прикрыв глаза, не шевелясь и как бы
прислушиваясь к возникающим мыслям. Разъезд, кладбище, бульдозер,
наползающий на могилы, и лицо Прасковьи Григорьевны, не по-женски
сухое, обветренное и нахмуренное, каким запомнил его, когда шесть лет
назад был на разъезде и ночевал в ее доме,— эта вызванная письмом
картина все еще стояла перед глазами; но мысль уже двигалась дальше,
и он подумал о жене, пока лишь отдаленно и смутно вспомнив
предвоенные годы, Москву, монастырский сад, Бутырскую тюрьму, где тогда
работал, и дом, где жил с женой, Софьей. Комната у них была маленькая,
и когда родился Николай, и внесли в комнату детскую кроватку, то
пришлось с двух сторон подпиливать стол,— он представил себе теперь на
секунду и эту маленькую подробность; и Андрейчикова, так напомнившая
ему жену и выражением глаз, и чертами лица, и прической, и особенно
цветом волос,— и забытое и вспомнившееся теперь чувство к жене,
которое он испытывал тогда, на мгновение шевельнулось в нем. И в то
же время, как бы наслаиваясь на все это и оттесняя все, всплыла в
памяти другая картина — как он после войны ездил в Криводолку за сыном,
а потом в Иркутск за Дашей и привез их к себе в дом. Теперь, когда
Даша сидела за его спиной и он слышал ее дыхание и шуршание платья,
он все более думал о ней. Даша в его жизни занимала особое место. Во
время войны она работала медицинской сестрой в санитарном поезде;
зимой сорок четвертого под Мозырем санитарный поезд попал под бомбежку,
и Дашу, тяжело раненную, увезли лечиться в Иркутск. У нее была
перебита нога, и осколком ей изуродовало нижнюю часть лица. Когда Богатенков
приехал за ней, он ужаснулся, увидев ее. У нее не было губ, а вместо
щек — заплаты пересаженной кожи; она не говорила, а мычала, когда
хотела произнести слово; и только глаза, брови и вся верхняя часть лица
оставались целыми. Но так же, как Даша привыкла видеть своего брата седым,
он привык с годами к ее лицу, которое уже не представлялось ему ни
страшным, ни безобразным, и оно действительно не было ни страшным, ни
безобразным, потому что хотя и виднелись еще на щеках швы и
по-прежнему вместо губ шевелились лишь узкие розовые полоски, но вся кожа на
лице давно приобрела нормальный оттенок и казалась обыкновенной. Он
привык с годами и к ее лицу и к тому, что она ни разу не произнесла
ни слова, а обо всем, что хотела сказать, говорила глазами, и глаза ее
при этом были такими выразительными, что не понять ее было нельзя. Он
и сейчас, думая о ней, и чувствуя ее, сидящую за спиной, и зная, что она
более, чем он, волнуется и торопит минуту встречи с Николаем, особенно
представлял себе, как радостны ее глаза.
— Пожалуй, нам пора, а, Даша? — наконец сказал Богатенков и
нехотя, так, будто он и в самом деле дремал и теперь был недоволен тем,
что приходится ему прерывать отдых, поднялся и посмотрел на часы и на
Дашу,— Да, пожалуй, пора,— повторил он, чуть заметно потягиваясь
одними плечами и щуря глаза от удовольствия, которое испытывал при
этом.
64
Анатолий Ананьев О
Выйдя из-за журнального столика и невольно взглянув на этот
столик, он увидел лежавшее на развернутой газете письмо от Прасковьи
Григорьевны: снова все вспомнив о разъезде, он нахмурился, поднял конверт
и протянул его Даше.
— Какое головотяпство! Прочитай, что пишет Прасковья
Григорьевна. Это о разъезде, о разъезде, — добавил он, заметив по выражению ее
глаз, что она недоумевает.
Даша взяла письмо.
«До письма ли сейчас! Коленька приезжает!»
— Успеем. Ты прочитай: какое головотяпство!
Пока Даша, уйдя в свою комнату, читала письмо, Богатенков
переоделся; когда в коридоре послышались ее тихие и привычные шаги, он
уже стоял перед зеркалом и повязывал галстук. Он почувствовал, что
Даша остановилась у двери, и сказал:
— Можно, входи.
Он на минуту забыл и о письме от Прасковьи Григорьевны, и о том,
что это письмо он только что дал читать Даше, и продолжал стоять у
зеркала, в то время как Даша, входившая в комнату, была взволнована этим
письмом так же, как несколько минут назад был взволнован он сам; он
весело взглянул на Дашу и проговорил:
— Ну, будем вызывать...
Но он не докончил фразу, слово «такси» произнес уже мысленно и
для себя,— он прочел в Дашиных глазах те самые мысли, какие только
что охватывали его, когда он сидел в кресле, и это выражение ее глаз
и письмо, которое она прижимала к груди, снова как бы вернули Богатен-
кова в мир его обычных тревожных дум.
— Какое головотяпство! — хмуря брови и беря из рук Даши письмо,
проговорил он, уже в четвертый раз повторяя эти два слова, хотя они —
и Богатенков чувствовал это — не были точными и отражали лишь часть
того, что он думал о намерении лесопосадчиков разровнять бульдозером
кладбище. — Я думаю, до этого не допустят. Во всяком случае, завтра же
напишу в Талейский горком и в управление дороги, а если надо будет,
съезжу сам и в Талейск и на разъезд. Все будет хорошо, Даша, не
волнуйся, я сам поеду! — добавил он для убедительности. Но, сказав это, он
подумал, что едва ли сможет поехать, и вспомнил услышанное сегодня:
«Смещают»,— и еще вспомнил о майоре Теплове и последнем разговоре с
ним, и тут же подумал о Потапове и Ядринцеве, и уже, как цепная
реакция, всколыхнулись в голове .все неприятные и передуманные за день
мысли.
VIII
Неприятные мысли продолжали одолевать Богатенкова и на вокзале.
Но он не стоял на месте, а прохаживался по перрону, взяв под локоть
Дашу, и то возбуждение, какое охватывает человека, когда он попадает на
большой и шумный вокзал, постепенно охватывало и его. Вид лоточниц с
пирожками, и запах самих пирожков, и вид пьющих пиво носильщиков, и
встретившийся кондуктор с наливного, прошуршавший дорожной робой, и
его небольшой кованый сундучок в руках, и фонарь, и кожаная сумка через
плечо, и доносившийся издали грохот сцепляемых вагонов, свистки
сцепщиков и гудки маневровых паровозов, и публика на перроне, постоянно
двигавшаяся и перемещавшаяся, вызывали в нем особенное чувство: ему
хотелось поторопить время, он все чаще останавливался и посматривал на
свои ручные часы и на часы, висевшие высоко над входной дверью
вокзала, и все чаще, говоря Даше: «Подожди-ка»,— и оставляя ее, подходил к
краю платформы и, прикрывая ладонью глаза от солнца, смотрел на запад,
за стрелки, из-за которых должен был появиться поезд.
• Межа
65
«Ну что?»
Он читал этот вопрос в глазах Даши.
— Пока не видно. Но уже время, время,— говорил он, возвращаясь
и снова беря под локоть Дашу и с удовольствием глядя на ее зеленое
платье, на легкую соломенную шляпу, на букет цветов, который она
держала так, что вся нижняя часть ее лица была прикрыта этими цветами, и
он видел только ее лоб и глаза, теперь еще более светившиеся радостью. —
Уже время...
Но вместе с тем, как оба они с нетерпением ожидали прибытия
поезда, и нетерпение это с каждой минутой росло, вместе с тем, как им
хотелось поскорее встретить Николая,— и Богатенков, и Даша все
настойчивее думали о нем: «Каков он?», Богатенков хорошо видел этот вопрос в
глазах Даши, но не отвечал ей. Он мысленно произносил себе: «Эпоха
Петра...» — и нескрываемое удивление отражалось на его лице; он думал
теперь о Николае так, как еще никогда не думал о нем,— он открывал
для себя сына, и открытие это, чем больше разных подробностей он
восстанавливал в памяти, тем представлялось неожиданней и приятней.
Сначала он вспомнил лишь то, как, провожая в прошлом году Николая на
работу в деревню, нес по перрону чемодан с книгами; чемодан был
тяжелый, и Богатенков то и дело перекидывал его с руки на руку; уже в
вагоне, в купе, когда поднимали чемодан на полку — поднимали вдвоем с
Николаем,— Богатенков спросил:
«О Петре?»
«Да».
«В подарок сельской библиотеке?..»
«Хоть смейся, хоть не смейся, а меня не собьешь. Я серьезно
говорю, отец: школа школой, а к аспирантуре я буду готовиться и
кандидатскую, как и дипломную, буду писать об эпохе Петра, и вообще изучение
этой эпохи — цель моей жизни».
Эти последние слова «цель моей жизни», как показалось Богатенко-
ву, прозвучали особенно по-мальчишески, и он тогда улыбнулся и ничего
не ответил, и Даша, стоявшая тут же, в купе, и слышавшая все, тоже
улыбнулась, и Богатенков прочел в ее глазах: «Не сдавайся, не
сдавайся, Коленька!» И это еще больше развеселило Богатенкова. Когда-то он
сам был таким и, поступая на рабфак, тоже готовился изучать разные
исторические эпохи, но в один прекрасный день его вызвали в комитет
комсомола и предложили не изучать, а создавать историю, и направили
работать в органы... «Вот как хлебнешь сам жизни, узнаешь, какова в
ней твоя цель!..» — сказал Богатенков слышанную им мещанскую
мудрость, и сказал даже*не вслух, а для себя, и на Николая посмотрел с
улыбкой. Теперь же, прохаживаясь по платформе с Дашей и думая о
Николае и его увлечении эпохой Петра, он старался уяснить себе, как
возникло у сына это увлечение. «Какой размах, какие перемены!» — как-то
говорил Николай о петровской эпохе, и Богатенков с удовольствием
повторил сейчас эту фразу, вспомнив ее и еще вспомнив комнату в
студенческом общежитии, и стол, где занимался Николай, и гравюру
Петра Великого над столом, на которой царь, преобразователь России,
долговязый и неуклюжий, не сгибаясь, шагал навстречу ветру по
топкой невской набережной. «Да, ясно, да, пожалуй, так и есть,— имея в
виду хорошее стремление сына, продолжал говорить себе Богатенков, в то
же время поглядывая на Дашу и на часы, и выходя, и вглядываясь в
даль, не появился ли возле полосатых будок стрелочников поезд. — Да,
так оно, пожалуй, и есть...» Но хотя Богатенков и вглядывался в даль,
выходя на край платформы, он все же упустил тот момент, когда из-за
полосатых будок показался сначала тепловоз, потом поплыли один за
другим длинные зеленые вагоны, и лишь услыхал, как станционное радио,
трескуче и хрипло, объявило, что московский поезд прибывает на первый
путь. Из открытых дверей вокзала хлынула на перрон толпа. Богатенков
5. «Октябрь» № 11.
66
Анатолий Ананьев Ш
и Даша, подхваченные этой толпой и увлекаемые ею, двигались теперь в
том же направлении, что и поезд, подходивший к платформе. Даша уже
сама взяла брата под руку, суетилась и тянула его вперед, боясь
прозевать ту секунду, когда Николай будет выходить из дверей вагона; Бога-
тенков же, чувствовавший ее нетерпение, но не глядевший на нее, а
смотревший на номера медленно обгонявших его вагонов, шагал не спеша,
удерживая Дашу и ничем не выдавая своего волнения. Когда вагон под
номером семь поравнялся с ними и они увидели Николая, стоявшего з
дверях, улыбавшегося и помахивавшего им рукой, Даша отпустила
брата и побежала вперед; она уже обнимала спрыгнувшего на перрон
Николая, когда Богатенков подошел к ним. Он казался хмурым; но он хмурил
брови оттого, что сдерживал в себе то нетерпение, с каким хотел
обнять и поцеловать сына и какое не могла и не хотела сдерживать в
себе Даша. Он смотрел на Николая и Дашу, и ему казалось, что Николай
нисколько не изменился, что выглядит он так же, как и в прошлое и в
позапрошлое лето, когда приезжал на каникулы и когда они вместе с
Дашей встречали его на этом перроне, что и в голосе его слышатся все те
же мальчишеские, неокрепшие нотки. Николай как раз в эту минуту
говорил Даше, слегка отстраняя ее от себя и заглядывая ей в глаза: «Ну, а
слезы зачем? Зачем слезы, тетя Даша, я же приехал». Но хотя
Богатенков и не заметил ничего, что могло бы насторожить его, и радовался,
разглядывая сына и обращая внимание на его загорелое лицо, но вопрос
«Каков он?», возникший еще вчера, когда была получена телеграмма, и
беспокоивший весь сегодняшний день и особенно теперь, перед самым
прибытием поезда: «Каков он, как изменился, не внешне, а внутренне,
каковы его суждения и каковы взгляды на жизнь?» — вопрос этот все еще
беспокоил его, и это беспокойство было как раз тем противоположным
радости чувством, которое мешало ему ощутить полноту отцовского
счастья. Он все еще смотрел как будто нахмуренно, но вместе с тем, как он
видел, что Николай вот-вот освободится от объятий Даши, подойдет к нему
и, сказав: «Здравствуй, отец!» — обнимет его, вместе с тем, как он
чувствовал приближение этой минуты, складки на его лбу разглаживались, и
сам он все меньше ощущал в себе беспокойство того вопроса и
радовался встрече с сыном.
Наконец, раскрыв руки для объятий и держа в одной руке
преподнесенный Дашей букет, Николай шагнул к отцу. Они обнялись и
поцеловались. Совсем растроганный, чувствующий себя счастливым, Богатенков
еще с минуту не отпускал Николая и, положив ему на плечи свои
тяжелые ладони, разглядывал теперь пристально и с любовью молодое и
загорелое лицо сына.
— Ну, как жил, работал?
— Все хорошо, отец.
— Вижу: весел.
— А как вы?
— Но твои письма...
«Да, письма твои, Коленька!» — говорил взгляд Даши; она в эту
минуту тоже смотрела на Николая, и Николай, понимая ее (так же, как
Богатенков, он привык понимать ее по взгляду) и слыша слова отца,
улыбался той радостной и бесхитростной улыбкой, которая уже сама по себе
должна была рассеять все сомнения: «Что письма! Одно дело — письма,
другое — вот я сам перед вами, смотрите, какой радостный и веселый,
разве этого недостаточно?»
— А загорел!
— Как сельский учитель.
— Ну-ну.
— Похож, тетя Даша, на сельского учителя?
«Похож, очень даже похож, Коленька».
в Межа
67
— Я, отец, не только преподаю, но главное — тренирую школьную
футбольную команду.
— Все гоняешь еще, не бросил?
— Нет.
— Л Петра?
— И Петра не бросил. И еще, кроме Петра, кое-что сделано — вот
здесь, в чемодане... Нет, нет, давай я сам понесу.
«Все тот же футбол, тот же Петр,— как медленно взрослеет
нынешняя молодежь»,— думал Богатенков, выходя вслед за Николаем на
привокзальную площадь и направляясь к стоянке такси.
IX
Когда сели за стол и, подняв наполненные вином рюмки, выпили за
первый, молчаливо предложенный Дашею тост (ее глаза, влажные и
счастливые, выражали: «За твое здоровье и за твои успехи, Коленька!»), они
все еще испытывали то общее веселое настроение, какое возникло на
вокзале, в минуту встречи; но в то же время это настроение не было теперь
таким непосредственным, как там, на платформе перед вагоном; мысли и
заботы, какими жил каждый до встречи и какие были важными дли
каждого, теперь снова овладевали ими, и все это было так же естественно,
как и то, что нельзя же бесконечно испытывать только радость.
Но каждый вернулся к прежним размышлениям в силу своих
особенных причин.
Когда Николай еще мылся в ванной, причесывался и переодевался с
дороги, а Даша собирала на стол, Богатенков стоял на балконе и курил; он
думал о сыне и видел перед собой то, что видел всегда, выходя на
балкон: те же дома, крыши, улицы, тот же поток машин и людей, и это
обыденное и привычное не могло не подействовать на него и не вернуть его к
прежним заботам. Так же, как час назад на вокзале, его чувства
стремились к высшей точке радости, теперь они ступенька за ступенькой
спускались вниз, к своей исходной черте, к тем раздумьям об изменившемся
к нему отношении полковников Потапова и Ядринцева, какие занимали его
сегодня. Но он не мог сейчас, сидя за столом, сказать сыну об этом и
потому чувствовал себя неловко; и в то же время он не хотел, чтобы сын
заметил эту его неловкость, и шутил, смеялся и всячески старался
поддерживать общее веселое настроение.
Даша, когда уже все было на столе — и закуски, и рюмки, и ее
любимый паштет из печени трески, украшенный красными морковными
кружочками и стрелками — и оставалось лишь достать и разложить цветные
салфетки,—Даша, стоя у стола и думая об этих салфетках, увидела
лежавшее на журнальном столике письмо, полученное с разъезда от
Прасковьи Григорьевны, то самое письмо, которое брат дал ей прочитать как
раз перед выездом на вокзал; она решила спрятать письмо и не
показывать его сегодня Николаю, чтобы не портить ему настроение, но как только
взяла в руки это письмо, вспомнила все подробности того, что должно
было произойти или, может быть, уже произошло на разъезде, и это
тревогой отдалось в душе Даши. «Боже мой, заровнять могилу, и никакого
следа на земле!» — сказала она себе с ужасом и пошла за салфетками; но
хотя она, принеся салфетки и раскладывая их, на время отвлеклась и
забылась,— теперь, когда все сидели за столом, опять вспомнила о письме и
снова подумала: «Боже мой!..» — и уже не могла не думать об этом;
вместе с радостью, какую испытывала она, разглядывая Николая и
восхищаясь его загорелым и полным жизни лицом, вместе с ощущением счастья
и как бы в противоположность ему рождалось в ней другое чувство и
другая мысль, что счастье это не ее, что принадлежит оно матери
Николая, «милой беленькой Сонюшке» (при жизни Даша видела Софью только
однажды, когда перед войной гостила у брата; она называла ее тогда Софь-
68
Анатолий Ананьев ф
ей Сергеевной, а теперь, с годами, просто «милой беленькой Сонюшкой»,
потому что Соня оставалась для нее все такой же молодой, тогда как
самой Даше уже исполнилось сорок). Мысль о том, что счастье принадлежит
Сонюшке, но что она не только не может насладиться им, но даже могилу,
в которой похоронена, хотят заровнять бульдозером,— мысль эта
угнетала Дашу. Но она тоже не хотела портить общего веселого настроения
и, когда глаза ее наполнялись слезами, выходила на кухню, будто ей
действительно нужно было еще что-то принести и поставить на стол.
Николай же, готовясь идти в ванную и роясь в чемодане,
наткнулся на фотографию, положенную им же самим на самое дно; и
фотография, пока он держап ее в руках и смотрел на нее, живо перенесла его
мысленно в деревню; он вспомнил, как не хотелось ему уезжать из Федо-
ровки, и не только потому, что там, в деревне, было лучше, чем здесь;
Татьяна Андреевна, учительница литературы, а для него просто Таня, чью
фотографию он рассматривал сейчас, осталась там, в Федоровке; он еще не
говорил ей нежных слов, но он решительнее, чем когда-либо, готов был
именно теперь сказать ей такие слова, и потому это волновало его
сильнее, чем то, что он приехал домой и что его приезду рады отец и Даша.
Но еще больше волновала его рукопись, которую он вынул из чемодана
вслед за фотографией. Это были наброски его будущего труда по истории,
но совсем не о петровской эпохе, а о современной деревне. На первом
листке было четко и крупно выведено его рукой: «К ИСТОРИИ
КРЕСТЬЯНСТВА». Он мечтал написать о другом, но написал именно об этом,
и между тем, о чем мечтал, и тем, что сделал, лежал год жизни, были
встречи, разговоры, споры, были свои впечатления от того, что видел в
деревне и что настоятельно требовало от него изучения этой ближней
истории, а не петровской эпохи, были недели, месяцы колебаний, был день,
когда привезенные им книги о Петре Великом он задернул шторкой, а
на чистом листе бумаги написал как раз это: «К ИСТОРИИ...». Но то,
что пережил за год, он должен был теперь рассказать отцу и Даше сразу,
за вечер; он чувствовал, что не может сделать это, что если начнет говорить
коротко, то все прозвучит неубедительно, а вдаваться в подробности —
их было много и разных — и говорить о них Николай не хотел. Но в то же
время он видел и понимал по взглядам отца и Даши, чего они особенно
ждут от него — они хотят знать, как продвинулась его работа над
диссертацией,— и оттого беспрерывно возвращался мыслью к рукописи,
которую он надеялся здесь, в городе,— он только затем и приехал! —
показать кому-нибудь из историков. Он думал, к кому зайти раньше: может
быть, к старому школьному учителю истории Матвею Петровичу
Беспалову, которого любил и уважал и к которому всегда, приезжая на каникулы,
заходил прежде всех и делился замыслами. «Старик, конечно, поймет,
почему я написал э т о, а не т о, за свое ли взялся дело, или нет, — говорил
себе Николай, в то время как Даша подкладывала ему на тарелку паштет из
тресковой печени, а отец наполнял рюмки вином. — Ведь он жил в
деревне. И потом — он историк». Николай знал, что отец и Даша тоже не осудят
его, но ему было очень неловко, особенно перед отцом, за отложенную
диссертацию о Петре, и, чтобы не нарушать общего веселого настроения,
хвалил Дашины кушанья, хвалил вино и улыбался, то и дело рукой
закидывая назад светлые волосы.
— Не открыть ли нам балконную дверь? — предложил Богатенков,
уже раскрасневшийся от вина и сидевший без пиджака, в одной рубашке.
Не дожидаясь ничьего согласия, он встал и открыл балконную дверь.
И сразу стало свежо и сыро. Даша, ежась, набросила на плечи
полосатый китайский шарф, как-то привезенный Богатенковым из Москвы и
подаренный ей; розовые тона пришлись ей как раз у шеи и щек, и это
придавало лицу Даши особенный и неприятный оттенок; но она не замечала
Ф Межа
69
этого, как не замечали ни Богатенков, ни Николай, с детства привыкший
видеть Дашу только такой и не представлявший себе ее лицо иным —
молодым и красивым. Николай тоже набросил на плечи пиджак, чувствуя
холодок на вспотевшей под рубашкой спине, и только Богатенков ничего
не хотел надевать и сидел все так же, в белой рубашке, сняв галстук и
расстегнув воротник, и на белом фоне шея его казалась особенно красной,
и весь он представлялся в эту минуту могучим и здоровым для своих
пятидесяти лет.
— Значит, ты доволен работой,— сказал он, снова наполняя рюмки.
— Вполне.
— Это важно, это, пожалуй, главное в жизни.
«Да, Коленька, это главное»,— выражали глаза Даши. Она подняла
рюмку и держала ее почти у самых глаз, по привычке прикрывая ею и
всей рукой нижнюю часть своего лица; она была счастлива; она все более
забывала о матери Николая, «милой беленькой Сонюшке», радуясь тому,
что Николай здесь, дома, что он «такой взрослый!» — и в то же время
«такой еще маленький, боже мой!».
Николай же по-прежнему чувствовал себя неловко. Он видел, что
должен был непременно теперь же рассказать отцу и Даше о том, что он не
работал над диссертацией в деревне, а сделал другое, но все еще не мог
решиться начать разговор; на лице его, как будто еще радостном и
веселом, было теперь сильнее заметно это внутреннее беспокойство. «С чего
начать? Как начать?» — быстро и мучительно говорил он себе, потому что
ему казалось, что ни отец, ни Даша, не жившие и давно не видавшие
деревни, не смогут правильно понять его. Он вспомнил, как впервые
увидел Федоровку, сойдя с грузовика на тракте и поставив чемодан на
обочину, увидел не деревню, не избы, а только крыши, серые соломенные
крыши под полуденным палящим солнцем и полосу редкого, низкого и чуть
начавшего желтеть хлеба; вокруг не было никого, грузовик, пыля,
удалялся по тракту, и Николай шагнул на проселочную дорогу... Он не просто
вспомнил теперь это — он будто вновь увидел себя шагающим по
проселку вдоль редкой и низкой пшеницы; и ветерок в лицо, и запах
высыхающего хлеба, совершенно необычный, и марево, то самое колыхание над
полем испаряющейся влаги, особенно заметное в жаркий полдень и
особенно восхитившее Николая, видевшего все впервые,— это потом он-понял,
что означало палящее солнце и марево над хлебным полем, с какой тоской
в глазах смотрели деревенские люди на тощие и до времени желтеющие
колосья; пока все было для Николая новым и радостным, и он еще не
знал, идя по проселку и любуясь этой картиной, что уже через месяц
деревенская жизнь покажется ему настолько неровной и сложной и даже как
будто остановившейся, а главное, неизученной, что он сначала удивится, а
потом задумается над этим,— он старался восстановить в себе теперь
именно то, первое и радостное чувство, чтобы вернее проследить, как и где
произошел в нем перелом, произошло смещение восприятия. Но вместе с
тем, как он представлял себя идущим по проселку, с тяжелым чемоданом
на плече, а впереди удивительно и живописно, как прошлогодние стога,
виднелись крыши изб и побеленные и непобеленные трубы без дымка,
без каких-либо признаков жизни,— вместе с этим и даже еще отчетливее,
чем это, он видел себя шагающим по этому же проселку в дождь и
слякоть, и ощущал липкую и тяжелую грязь на ногах, и видел шагающим по
снегу в валенках и ожидающим на тракте попутную автомашину,— это
он ездил в Кизяково в свободные от занятий дни, ездил в местный архив
и до поздней ночи рылся в пропыленных, выцветших и полуистлевших
бумагах, страница за страницей восстанавливая и воссоздавая себе
картину того, сколько в Федоровке производилось зерна, молока, масла,
сколько выращивалось и сбывалось скота перед войной, в войну и после
войны. Кривая графика то шла вверх, то ползла вниз. Этот график сейчас
вместе с рукописью лежал в Дашиной комнате на столе, куда положил его
70
Анатолий Ананьев Ф
Николай, роясь в чемодане перед тем, как идти в ванную; было минутное
желание встать и принести этот график, но он не двинулся с места. Нет,
он должен начать с того, как и когда в нем самом произошел перелом,
смещение восприятия, и потому он мысленно снова как бы перенес себя
на проселок и повел вдоль поля желтеющей и редкой пшеницы; он
радовался тогда всему, что видел, все поражало его новизной, и он гладил
ладонью колосья, чувствуя в себе просыпающегося хлебороба, оглядывал
все поле и останавливался и следил за полетом прыгнувшего из-под ног
краснокрылого кузнечика. Он увидел село сразу, как только дорога,
повернув, незаметно начала спускаться с очень пологого и очень длинного
косогора, и увидел ферму на отшибе, и старую, без куполов и колокольни
церковь в центре деревни, и ремонтную мастерскую на том, дальнем краю,
где кончались избы, и на площадке напротив мастерской — тракторы и
комбайны, некрасивые издали, поблескивавшие боками на солнце, и школу,
тоже вынесенную за околицу деревни, на возвышение; он догадался, что
это была школа — большое деревянное здание, еще совсем новое, с
необветренными и светлыми бревенчатыми стенами. Да, ему говорили в районе,
что школа в Федоровке новая. Поставив чемодан, Николай стоял на
повороте дороги и издали смотрел на школу, чувствуя в себе все тот же
восторг новичка, верящего и принимающего за реальность свои радужные
планы. Как раз это чувство он стремился вызвать в себе сейчас, сидя
за столом перед отцом и Дашей. Он спрашивал себя: «Да, да, когда же
это произошел перелом?» Между тем минута ожидания затягивалась, и он
видел устремленные на него взгляды отца и Даши; они ждут, и надо что-
то говорить; надо начать с того момента, как раз с того... Теперь
еще лихорадочнее искал он тот момент; он вспомнил избу школьного
истопника Семена Минаева,— в его избе, в дальней, или, как говорили в
Федоровке, второй комнате, прожил он всю осень и зиму. На мгновение он
как бы увидел перед собой ту избу, увидел ее так, как видел тогда,
подойдя к ней со стариком Минаевым и остановившись перед жердевыми
воротами; изба казалась низкой, приземленной, как все федоровские избы.
Но ему было необычно и ново видеть ее. Изба вызывала в нем
восторженное удивление; он чувствовал себя так, словно попал в иной мир
(особенно после шумных городских улиц), и это тогда только обрадовало
его,— он собирался писать о петровской эпохе и в первые минуты, пока
стоял со стариком Минаевым, был уверен, что эта деревня, эта изба лишь
глубже помогут ему понять т у эпоху, вжиться в нее и хотя бы внешне
ощутить ее колорит. «Нет, я не прогадал, забравшись в самую глушь; я
нашел, что мне нужно». Как раз эту радость и стремился сейчас вызвать
в себе Николай. Но вместе с тем, как он представлял себя стоящим ее
стариком Минаевым у избы, вместе с тем, как видел внутренность избы —
печь в половину горницы, громоздкую и неуклюжую, и деда на печи,
накрывшегося тулупом, точь-в-точь, как в старину (это старик Минаев, ворч
ливый и беспокойный),— вместе с этим, обрадовавшим вначале его свое*
стариной, он видел другое, то, что было потом, когда ощущение новизнь
и радости прошло и начались простые рабочие будни. Он ходил в школ>
к возвращался домой; он как бы видел деревню все время с одной точ
ки — с тропинки, по которой ходил,— и жизнь деревенских людей каза
лась ему замедленной, приглушенной, будто время двигалось здесь с со
вершенно иной, чем в городах, скоростью; застой был не только в общеп
виде деревни, в соломенных крышах, амбарах, деревянных баньках на за
дах, как писал он в письмах отцу и Даше, и что, собственно, в первые
дни как раз и радовало его — застой представлялся ему более глубоким
застой духовной жизни, как он вгорячах сформулировал себе общее заклю
чение, понаблюдав за людьми, и его поразило это открытие. «Да это ж<
совершенно не изученная сфера нашей общественной жизни!» — с удив
лением думал он, Он принялся было изучать духовное отставание де
ревни, но под впечатлением рассказов старого Минаева направлена
# Межа
71
поисков Николая все время как бы смещалось, и он уже обращался не
просто к духовной жизни — да это к тому же было сложно и еще
необычно ему,— а к истории; потому-то и написал на чистом листе: «К
ИСТОРИИ КРЕСТЬЯНСТВА...» Он вспоминал теперь именно те ночи, когда
разговаривал с Млнаевым и когда принял для себя окончательное
решение — писать о деревне. Как будто наяву, вставала перед его мысленным
взором картина: стол, заваленный книгами и блокнотами, тусклая
электрическая лампочка почти под самым потолком, посапывание спящей на
кровати хозяйки, Алевтины Яковлевны,— это позади, за спиной,— и
тяжелое и неровное дыхание сидящего напротив на лавке старика Минаева.
Старик слезал с печи, кряхтел, ходил по комнате, не заправляя рубаху
в брюки, а так, грудь нараспашку, ноги в валенки и тужурку на плечи,
подсаживался, начинал разговор; он мешал, но Николай не прогонял его.
Он садился так, что Николай хорошо видел его освещенное лампочкой
морщинистое и бородатое лицо, с прищуренным зрячим глазом и другим,
затянутым большим круглым бельмом; борода седая и редкая, и морщины,
будто складки, на худом лице, и что-то непромываемое и вечное, как
холодок, хранящееся в этих складках... Все это так отчетливо вставало перед
ним, что Николай видел не только лицо старика Минаева, но и свое, всего
себя, в домашней клетчатой рубашке, в какой он теперь сидел перед отцом
и Дашей; сейчас он держал кусок хлеба и нож и готовился.сделать себе
бутерброд, а тогда — в руке у него была раскрытая, с закладками книга.
«Историю пишешь, значит?»
«Да».
«О царе-батюшке Петре?»
«Да».
«А ты вот нашу напиши, историю мужика. Мою историю, Семена
Минаева».
«Как же я твою напишу, что же ты такого сделал?»
«А и сделал. Вот нынче у нас в Федоровке восемьдесят дворов, а
бывало, до двухсот доходило. Куда народ подевался? Али это не история?
У мужика должен ларь трещать от зерна, а у меня, эть погляди, одно
название: ларь!»
Николаю казалось (и тогда, в Федоровке, когда он вечерами слушал
Минаева, и особенно сейчас, когда вспоминал), что старик открыл ему
истинную историю, которую он, Николай, должен был не просто
запомнить и записать, как он сделал это, но рассказать другим, всем, и
прежде всего теперь — отцу и Даше. Он медленно ножом накладывал на
кусок белого хлеба паштет из тресковой печени и, казалось, весь был
поглощен этим занятием. «А ты вот нашу напиши, историю мужика»,—
вто же время про себя продолжал повторять он. Он искал в этих
минаевских словах то, что могло бы стать главным в предстоящем теперь с
отцом и Дашей разговоре. Между тем бутерброд уже был готов, и Николай,
положив на стол нож и рядом с ножом бутерброд, поднял наконец
голову и взглянул на отца и Дашу; время ожидания истекло, он понял это
мгновенно и мгновенно же, уже не думая и не отыскивая более тот
момент, лишь чувствуя, чго молчать нельзя и надо говорить, сказал то, о чем
совсем не думал в эту минуту:
— А у нас сушь такая... хлеба горят...
— Год везде нынче тяжелый,— согласился Богатенков.— Только
ли у вас в Федоровке.
— Нам-то хорошо говорить, мы не видим поле, не видим, как хлеб
на корню горит, а в деревне, я скажу, это производит тяжелое
впечатление на людей,— как бы издалека и пока еще робко начал Николай.
— Еще бы! Не хлеб, а труд горит, я-то знаю. Верно я i оворю,
Даша?
«Да, Емельян, конечно»,— ответила глазами Даша.
— Труд... хлеб... а колхозник сказал бы так: трудодень.
72
Анатолий Ананьев •
— Да вы что там, голода ждете, что ли?
— Голода не голода, да дело, собственно, даже не в этом. Что-то у
нас в деревне еще не так, вот о чем я хочу сказать,— снова заговорил
Николай. — Это поразительно, отец, ведь деревня наша, собственно, не
развивается, не движется вперед, как все мы привыкли представлять себе
жизнь, а топчется на месте. Если хочешь, даже стоит. А в чем дело?
Почему? И народ-то как будто совсем другой в деревне. А почему? Почему
там живут хуже? А потому, что мужика настоящего в деревне нет:
хлебороба нет, не стало, исчез. Давай посмотрим: первая мировая война,
революция, гражданская, раскулачивание, всякого рода перегибы и недогибы,
потом Отечественная — опустошалась деревня. А после войны и вовсе
люди начали разбегаться из сел. Но любовь к земле и, главное,
понимание этой земли передавались раньше из поколения в поколение, как
особое мастерство. А тут сразу три, вернее, даже четыре поколения как бы
вырвали из седла, и хлебороб почти кончился. Это, отец, проблема. Я к
чему говорю это,— добавил Николай,— я ведь не о Петре решил писать
диссертацию, а об этих прожитых десятилетиях. Мне кажется, что здесь
столько еще не исследованного, не изученного и важного, что мы даже не
представляем себе, как все сложно. Надо прежде всего, на мой взгляд,
изменить отношение к крестьянину, по-другому взглянуть на него. По-
моему,— он говорил так, будто это действительно было его открытием,
в то время как именно эту мысль и внушал ему в разговорах старик
Минаев, — по-моему, мнение о чрезмерно собственнической натуре
крестьянина неверно. Он не такой, мужик, он просто привык считать копейку,
а по-нашему, учитывать экономику. Не знаю, что у меня получится, но
я привез кое-какие наброски. Я дам вам почитать, если захотите. — И он
начал рассказывать, как записывал свою историю, как ездил в кизя-
ковский архив и чертил график. — Он здесь, я привез его с собой и
покажу вам...
Для Николая то, что он говорил, было неоспоримым, и он, как ему
казалось, не только ничего не преувеличивал, но даже не все высказывал,
что знал, потому он не мог сейчас представить себе, чтобы отец и Даша
думали иначе. Он видел настороженность в глазах Даши и по-своему читал
это выражение ее глаз: «Какой ты взрослый, Коленька, а я и не
догадывалась!» Спокойное и все еще багрово-розовое от вина лицо отца лишь
прибавляло уверенности Николаю. Но ни Даша, ни отец не думали так, как
считал Николай. Даша, потому что она более любовалась Николаем,—
не совсем понимала то, о чем он говорил. «Может быть, все это так, но
я не разбираюсь в этом, ты уж извини меня»,— выражали ее глаза.
Богатенков же, напротив, чувствовал, что надо было разобраться в том,
что говорил сын. Слова Николая заставляли его задуматься. Он вспомнил,
как в сорок пятом году ездил в Криводолку за сыном. В серый осенний
день подходил он к селу, было пасмурно, дул ветер, вот-вот должен был
начаться дождь; по желтому убранному полю, прямо по стерне,
врассыпную, как наступающая пехота, шли девочки и мальчики с котомками и
мешками и собирали колосья; среди них был и Николай; ему тогда только-
только исполнилось семь; он был худой и желтый, как все детишки,
ходившие на ветру по полю; руки его казались тонкими и хрупкими, и сам
он, когда Богатенков поднял его, оказался легким, будто невесомым,
и котомка с собранными колосками пшеницы, которую Богатенков снял
с плеча Николая и бросил на стерню, была залатанной и тоже легкой.
Он точно помнил, что бросил тогда котомку и, держа на руках сына,
пошел с поля, и вслед ему смотрели детские глаза,— взгляды те
Богатенков теперь будто вновь ощутил на своей спине. Да и избы в Криводол-
ке были деревянные, черные и крытые соломой; и в сельмаге висели
только запыленные хомуты, уздечки и стояли в углу деревянные лопаты; и
люди были в старом, выношенном и армейском. «Но ведь это после войны,
ведь тогда всем было тяжело, а потом-то (он вспомнил, как шесть лет на-
# Межа
M
зад уже вместе с сыном ездил на разъезд и жил у Прасковьи
Григорьевны) село уже не выглядело таким, да и люди, люди»,— говорил он себе.
Он чувствовал, что ке может вполне согласиться с Николаем. «В конце
концов не так уж все плохо: молоко у нас по утрам подвозят прямо к
дому, хлеб есть, и всякая сдоба, и крупы разные, с перебоями, а все же
есть, и макароны, и масло, и мясо, пусть с перебоями, но есть!» Бога-
тенков смотрел на стол, на тарелки с закусками, так аппетитно и вкусно
приготовленными Дашей, и думал: «Откуда-то все это берется, кто-то же
производит все это!»
— Изучение истории ближней так же необходимо, как и истории
дальней, — говорил между тем Николай. — И даже история ближняя
гораздо важнее для нас, чем дальняя. Вот почему я решил взяться за это.
— Может быть, это и нужно,— согласился Богатенков,— но только
одно неясно мне: что ты решил изучать? Если отставание в развитии
деревни, как ты говорил вначале, то здесь вряд ли ты прав. Отставание,
может быть, и есть, и это естественно, но смотря с чем сравнивать, с
каким периодом, что брать отправной точкой. Если же ты хочешь поднять
вообще историю деревни, то тут ты встретишься с интересными явлениями.
Ты говоришь об отношении к мужику вообще, но мужик-то в селе был
разный.
— Я беру хлебороба, хозяина.
— Вот то-то, что хозяина. А он разный. Тут не историю, а
душу щупать придется, это ты учитывал? Э-э, нет! Дед-то твой, мой отец,
извечно сеял хлеб. Да и я, слава богу, помню еще деревню. Ту, конечно,
прошлую.
— Для меня главное — хлебороб, отец.
— А к хлеборобу отношение известное — правильное.
— Как сказать.
— Как это «как сказать»? О чем все же ты написал, я никак не
могу понять. О коллективизации, что ли?
— Все, что происходило и происходит в селе, от коллективизации и
до наших дней, все меня интересует. До наших дней я еще не дошел, это
сложнее... Но, в общем, что говорить, я дам тебе рукопись, почитай и
тогда увидишь.
— Почитаю, — сказал Богатенков, — непременно почитаю. А сейчас
не пора ли нам отдыхать, а?
«Да, конечно, Коленька наш с дороги, устал»,— подтвердила
глазами Даша.
— Пожалуй,— сказал Николай, вставая, отставляя стул и чувствуя,
что отец не понял его.
— А меня еще и среди ночи могут поднять, работа, хотя, правда,
сегодня я предупредил, чтобы звонили, если случится уж что-либо очень
чрезвычайное...
Квартира у Богатенкова была из трех комнат; каждый спал в
отдельной комнате: Даша — в своей, Богатенков, как обычно, в кабинете,
Николай — в гостиной.
В гостиной громко стучали большие стенные часы.
Николаю казалось, что отец и Даша спят, и он старался не
ворочаться и не шуметь, чтобы не разбудить их; то же самое испытывали
отец и Даша; все трое не спали и лишь притворялись, что спят. Так же,
как они, сидя за столом, только поддерживали общее веселое настроение,—
так теперь поддерживали в комнатах тишину. Но у каждого были свои
думы и заботы, отгонявшие сон.
^уюь Даши лежали на белом пододеяльнике и в лунном свете
казались бледными, холодными и неживыми; но она не видела своих рук; она
74
Анатолий Ананьев -#
думала о Николае и «милой белой Сонюшке». «Боже мой, как все сложно
в жизни! — говорила она себе.— Я счастлива ее счастьем, ее, в то
время как я могла быть счастлива своим, а она своим». Она закрывала
глаза и через минуту снова открывала их; и, открыв, смотрела прямо перед
собой на стену, теперь, при лунном свете, казавшуюся голубой. Постель
у Даши была свежая — чистая простыня, чистый пододеяльник, чистая и
хорошо выглаженная наволочка на подушке,— и Даша всем телом
ощущала эту свежесть белья; она любила ложиться в чистую постель, это
успокаивало; особенно, когда белье сушилось на солнце,— ей казалось, что
запах солнца и ветра перекочевывал вместе с пододеяльниками и
простынями в комнату. Испытывая и сегодня это приятное и привычное чувство
уюта, возникавшее от прикосновения тела к прохладным и еще не
помятым простыне и пододеяльнику, и опять закрывая глаза, Даша в то же
время не могла уснуть. То, что можно быть счастливой своим счастьем,—
эта мысль все более и более волновала ее. Она не в первый раз думала
об этом, но сегодня, сейчас, в ночной комнатной тишине как бы заново
постигала суть этих четырех слов: «Быть счастливой своим счастьем». Как
безрукий, шевеля обрубком в пустом рукаве, чувствует всю свою бывшую
руку, локоть, ладонь и даже кончики пальцев, так Даша теперь
чувствовала свое лицо, не это, безгубое, уродливое, с рубцами от швов, а то,
бывшее, молодое, красивое, с выражение?л беззаботности и юности, с
белесым пушком по вискам и родинкой у верхней губы; она чувствовала то
свое лицо, шевелила теми губами, ощущая на щеках маленькие, чуть-
чуть заметные ямочки, придававшие ее улыбке тогда особенную
выразительность и веселость; она как бы видела себя в зеркале, видела ту,
прежнюю, и замирала, останавливая в себе мысль и слыша лишь стук
сердца. На нее смотрели, на прежнюю, и она, прежняя, спиной, шеей, лицом,
всем существом чувствовала на себе мужские взгляды, она вся горела
от этой мысли. То, что она могла испытать как женщина, могла стать
женой, матерью, и то, что она не испытала этого, было мучительно
сознавать теперь. Но вместе с тем, как она чувствовала то свое лицо — не
шевелясь, не проводя рукой по щекам,— она чувствовала сейчас и это
свое лицо, непривычные, чужие, висевшие на подбородке и щеках, как
мешки, куски пересаженной кожи; она чувствовала это свое лицо еще
сильнее, чем то, прежнее, молодое, и в уголках ее полуприкрытых глаз
собирались слезы. Она не могла спать; она говорила себе: «Господи, как
все в жизни! Мне бы умереть, а ей жить, и не было бы тогда этих
мучений».
Стена гостиной примыкала к Дашиной комнате, и у этой стены, на
диване, лежал Николай. Он лежал лицом к окну, и хотя так же, как Даша,
не видел луну, но зато отлично видел квадрат синего и звездного неба.
Он чувствовал себя так, будто не пил ни одной рюмки вина в этот вечер,
и мысли его текли спокойно и ясно. В первую минуту, когда он, выключив
свет, лег в постель, он подумал о том, как восприняли отец и Даша его
рассказ о деревне; ему показалось, что отец слушал его холодно и
безучастно и не зажегся тем стремлением к добру, какое горело в самом
Николае. «Может быть, потому, что все сразу... второпях... скомканно...» Он
снова перебрал в памяти, что и как говорил, и не нашел, что говорил
скомканно; потом подумал о рукописи, которая все так же лежала на столе
в Дашиной комнате, где Николай оставил ее, и подумал о Матвее
Петровиче Беспалове, к которому решил зайти завтра же и завтра же передать
ему рукопись; и тут же представил себе, как примет его Матвей
Петрович, как, усадив за стол, начнет непременно угощать чаем. «Старик
поймет, есть у него чутье истории, хотя сам и не пишет». Через минуту-
Николай опять повторил: «Чутье, именно, чутье»,— как бы раскладывая
на части понятие этого слова. «Знание истории — это односторонне, сухо;
к знанию истории нужно еще знание жизни, но и это не все; надо уметь
видеть в современной жизни историю, или, может быть, так будет точнее,
Ф Межа
75
с высоты будущей истории смотреть на сегодняшний день, или, что,
пожалуй, вернее всего, надо чувствовать, очень чувствовать происходящее в
мире; а может, только и всего, что быть честным перед собой и людьми,
как говорил Матвей Петрович? Может быть, честность и есть то самое его
«чутье», мера жизни, мера истории? Отец после демобилизации не поехал
в деревню, когда его направляли председателем, он не взялся за
непосильное. А я — за посильное или непосильное?..» Вопрос этот и раньше
вставал перед Николаем; сколько раз, склонившись над рукописью, он
спрашивал себя, а прав ли он, то ли делает, что нужно; теперь же — лишь
всплыли в нем прежние сомнения; но, всплыв, они волновали сильнее, чем тогда,
и потому он не мог спать. Ему нужна была поддержка, он ждал ее от
отца, но он не дождался ее в этот вечер и потому теперь думал об этом.
Он лежал, укрытый одеялом лишь до пояса, и лицом, плечами, грудью
чувствовал, как ночной воздух, проникая сквозь открытую форточку в
комнату, обтекал тело; это был обычный городской воздух, каменная
прохлада домов и остывшего асфальта, но потому, что Николай думал о
деревне, потому, что мысли его все более уносились в Федоровку, он
чувствовал в этой обтекающей тело свежести знакомый деревенский запах
травы, росы, взворошенного сена, запах тёрна и давно отцветшей сирени
под окном в палисаднике,— и все это — и мысли и ощущения — было
сейчас для него одним целым, восприятием и наслаждением жизнью. «Кто
может сказать, что мне посильно, что непосильно? Кто лучше меня может
знать самого меня?» — спрашивал себя Николай. Но так же, как он знал,
что может легко ответить на этот вопрос, знал и то, что вопрос этот не
простой, что суть не в том, что он спрашивал, а в другом, что понимал
душой, сердцем и лишь не мог сформулировать и высказать в одной
фразе. Лицо его было напряженным и сосредоточенным, когда он думал об
этом; но постепенно мысли его изменили направление, и он вспомнил о
Тане.
Из всех учителей, сослуживцев Николая, только она не подшучивала
над его историческими записками, а, напротив, говорила, что дело это
большое и интересное, что, во всяком случае, лучше работать, писать, чем
просиживать вечера за шахматной доской. Но вместе с тем Николай
чувствовал, что она что-то недосказывала, и теперь ему особенно хотелось
понять, что же именно она недосказывала. «Да говорил ли я сам все?
Нет. Я сам что-то недосказывал, и я знаю что. И знаю, когда можно было
сказать и когда она ждала».
Николай не хотел спать; и то, о чем он думал прежде и о чем
вспоминал теперь, одинаково волновало его, потому что было началом его
жизненного пути; но как раз этого и не сознавал он сейчас; он просто
чувствовал, что так же, как безгранична жизнь, безграничны проявления
человека в жизни.
Не спал и Богатенков в своем кабинете, лежал с открытыми глазами,
размышлял, и эти размышления не были похожи на прежние его раздумья.
То, о чем он думал днем, особенно когда после встречи с Андрейчико-
вой приехал в отделение, и то, о чем думал только что, сидя за столом
и слушая сына, представлялось мелким и незначительным в сравнении с
этими мыслями, которые приходили ему в голову теперь. Окно его
кабинета выходило на северную сторону, и потому здесь не было так светло, как
в гостиной и Дашиной комнате; в углах и на всех предметах, как бы
выступавших из стен, лежал настораживающий сумрак; но сумрак этот был
словно покрыт сверху матовым налетом от проникавшего сквозь окно
света лунной ночи, и Богатенков видел это, и это представлялось
необычным. Мысль его казалась ему тоже покрытой каким-то налетом; он
старался рассеять сумрак в себе, но чувствовал, что для этого в нем не
хватает света, не хватает той уверенности, с какою он жил последние
годы. «Может быть, я действительно постарел,— думал он,— и жизнь уже
обходит меня, обгоняет, как новая «Волга» старую и громыхающую «По-
76
Анатолий Ананьев О
беду»? Может быть, я и в самом деле отстал и уже не смыслю ничего,
и даже вот Николай, еще, в сущности, и не хлебнувший лиха, уже
выдвигает какие-то проблемы, спорит, доказывает, а я живу все еще своим
виденьем мира?»
«Может быть, что-то уже изменилось в жизни?»
«Но что?»
«Где?»
«В чем?»
«Почему человек так медленно совершенствуется?»
«Нам нужен анализ души, движение души, понимание души
человека...»
Чем дальше забирался Богатенков в глубь этих размышлений, тем
более не мог уснуть; в конце концов он встал, закурил и так, босой, в
светлых пижамных брюках и такой же светлой пижамной куртке, начал
ходить в темноте по комнате.
X
На том самом месте, у окна, где обычно по утрам стояла Шура,
наблюдая за Егором, как он пересекал базарную площадь, проходил под
синим фосфорическим светом рекламы и сворачивал за угол высокого
серого здания,— на том же месте, у окна, стоял теперь Егор, и вид базарной
площади, фанерных ларьков, павильонов, мясного ряда, вид серого
здания на противоположной стороне улицы, как раз напротив рыночных
ворот, и рекламы на том сером здании под окнами второго этажа —
«ДАМСКИЙ САЛОН», которая и ему представлялась тусклой, холодной,
словно рассеивающей дождевые потоки,— весь этот вид открывался теперь
перед Егором, но с той лишь разницей, что базарная площадь в это
позднее ночное время была пуста, по тротуару, залитому синим
фосфорическим светом рекламы, никто не проходил, и само здание казалось не
серым, а черным, и над его шиферной крышей плыла, как шар, набирая
высоту, огромная и желтая луна. Все это не вызывало у Егора никаких
мыслей; он не столько смотрел на однообразные, убегающие к блеклому
и мутному горизонту крыши домов, на звезды и уличные фонари,
сливавшиеся там, у горизонта, как прислушивался к тому, что делала теперь
Шура за его спиной, к ее шагам, к шелесту бумаги в ее руках, потому
что она в эту минуту распечатывала пачку кофе, и Егор чувствовал запах
этого кофе и испытывал то новое для себя ощущение уюта, какое,
должно быть, как он думал, испытывают лишь семейные люди; и еще он
думал, что испытывать это приятно и что как раз такого уюта ему не
хватало и не хватает в жизни. Но так же, как странно и непривычно было ему
думать об этом, так же странным казалось и то, что он теперь находился
здесь, у Шуры; он не спрашивал себя, для чего он здесь; он просто
мысленно перебирал в памяти то, как очутился здесь, перебирал весь ход
событий сегодняшнего вечера, начиная с того, когда он вышел после
работы из отделения. Он не думал тогда о Шуре, а был весь поглощен
«парфюмерным делом»; допрос двух сотрудниц из главной базы
снабжения и сопоставление их показаний с показаниями других людей,
проходивших по делу, привели Егора к неожиданному выводу, что возглавлял
«парфюмерщиков», не директор магазина, а тот самый некий «доктор
тэжэ» Сивирин, который составлял рецепты смешивания дорогих духов
с дешевыми и у которого на дому была обнаружена целая лаборатория.
Подтвердить это определенными фактами Егор пока не мог, но
чувствовал, что именно здесь нить для раскрытия преступления, что, конечно
же, всем заправлял Сивирин и что этот «доктор тэжэ» был наверняка
связан с другими парфюмерными магазинами и отделами, и теперь надо
было искать и устанавливать эту связь. В общем, дело, которое
представлялось завершенным, было, в сущности, не только не завершенным,
Ф Межа
77
но лишь начатым,— об этом думал Егор, выходя из отделения, это
удручало и озадачивало его. «Все придется делать заново, все сначала»,^-
говорил он себе, представляя Сивирина, его потертую, как у старого
часовщика, жилетку и седые, взъерошенные волосы... Обычно Егор
возвращался домой тоже через базарную площадь, но теперь он еще издали
заметил, что рыночные ворота закрыты, и, подойдя ближе и
остановившись как раз под светящейся рекламой, снова взглянул на них; за
воротами, за базарной площадью возвышался большой пятиэтажный
жилой дом — там жила Шура, он знал это, знал, в каком подъезде и на
каком этаже, потому что однажды провожал ее после дежурства; он
подумал, что одно из окон — ее окно, и попытался взглядом отыскать
его; в то время как он делал это, он вспомнил, что утром, когда
разговаривал с ней, у нее было необыкновенно живое и привлекательное
лицо, вспомнил прическу, шею, плечи, бусы на груди и вокруг шеи, платье —
всю ее, чуть начавшую полнеть, но стройную и женственную,— и ему
захотелось зайти к ней. Он вдруг почувствовал, полностью не осознавая пока
этого своего чувства, что ему снова надо увидеть Шуру, и он зашагал в
обход базарной площади к ее дому. В эту минуту для него уже не
существовало ничего, кроме Шуры; не было ни Сивирина, ни старика Ипатина, чье
посещение все время вызывало в Егоре странное и неловкое ощущение
вины; он думал лишь о Шуре, волновался и, когда поднялся по лестнице
на четвертый этаж и остановился у двери квартиры, на минуту
заколебался, входить или нет. В конце концов нажал кнопку звонка и за
открывшейся дверью увидел в полутемном коридоре Шуру,
«Вы?!»
«Да, я. За вами, хотите в кино?»
«Сейчас?»
«Сейчас».
«Вы входите, я хоть переоденусь».
Переодевалась она долго, уйдя на кухню, а Егор все это время
сидел в комнате и листал старый номер «Сибирских огней», лежавший на
столе. Когда она, войдя и сказав: «Что вы в темноте!» — включила свет,
и он увидел ее при ярком свете люстры,— стоящая у стены и все еще
державшая руку на выключателе, она была еще привлекательнее, чем та,
какою он представлял ее себе в воображении, идя сюда; на ней было то
же коричневое платье, те же бусы, собранные из мелких деревянных
кубиков и квадратов, оживлявшие строгий рисунок платья, так же
безукоризненно уложены волосы, но опять, как и утром, больше всего поразило
Егора ее лицо, и так же, как утром, он подумал, глядя на нее и
стараясь не встретиться с ее взглядом: «Как же я раньше не видел это!» Он
думал потом об этом на улице, когда шел с ней, держа под руку, и свет
фонарей и пестрых вечерних витрин освещал им дорогу; и когда сидел в
зале кинотеатра, а на экране за колючей проволокой стояли два человека в
полосатых арестантских робах, должные убить друг друга и не желавшие
делать это, и желавший этого немецкий солдат на вышке, наблюдавший за
ними,— когда сидел в зале, видел это на экране и, поглощенный этим
фильмом, все же каждую секунду чувствовал ее близость, теплую руку в
своей ладони, плечо, прижавшееся к его плечу. Он и теперь ощущал это
прикосновение плеча и чувствовал в ладони ее руку. Но одно смущало его
весь сегодняшний вечер: то, о чем он разговаривал с ней прежде, сейчас
представлялось неуместным и скучным; надо было говорить о другом, но
этого другого у него пока не получалось. «Что же я молчу, как олух!» —
говорил он себе, возвращаясь из кинотеатра и подходя вместе с Шурой к
ее дому. «Зачем я согласился, зачем этот кофе!» — говорил он себе
сейчас, стоя у окна и глядя на безлюдную, залитую лунным светом базарную
площадь.
— Вы любите с молоком или черный? — спросила Шура.
— Мне все равно.
78
Анатолий Ананьев Ф
— Тогда будем с молоком.
Он слышал, как она выключила газовую плитку, как расставила
чашечки на столе и высыпала в хлебницу печенье; потом подошла к нему,
стала рядом, и он шеей, щекой ощутил ее дыхание; он повернулся и
прямо перед собой увидел ее лицо, увидел брови, глаза, губы; то
выражение ее глаз, какое поразило Егора утром и какое он, идя сюда,
старался расшифровать и прочесть, теперь, казалось, было еще сильнее и
откровеннее; но он уже не рассуждал и не расшифровывал; он обнял Шуру и
притянул к себе; он намеревался сказать ей: «Какие у вас глаза,
Шура!» — но вместо этого, чувствуя, что она не сопротивляется, чувствуя
ладонями, кончиками пальцев шерстяную ткань ее платья, скользящую
рубашку под платьем, тело под рубашкой, упругое и теплое,— чувствуя это,
видя выражение ее глаз, и не думая ни о чем в эту секунду и
останавливая дыхание, он еще ближе притянул ее и поцеловал.
— Зачем вы это?
Егор не ответил.
— Зачем это? — повторила она, совсем высвобождаясь из его рук,
на миг отступая от него и поправляя платье.
Но Егор опять притянул ее к себе.
— Не надо... окно... с улицы все видно.
— А мы задернем шторку.
— Не надо, зачем?
— Я люблю тебя, Шура, люблю, люблю!..— Егор снова прижал ее
к себе, чувствуя и радуясь тому, что она не сопротивляется, и чувствуя
ладонями, кончиками пальцев, теперь обостреннее, шерстяную ткань
платья, скользящую рубашку под платьем и тело, упругое и теплое; он делал
сейчас то, что минуту назад представлялось ему невозможным, обнимал
и целовал ее молча, ничего больше не говоря ей и не обращая внимания на
ее слова:
— Зачем это?
— Зачем?
Теперь, когда Егор засыпал, прижимаясь щекой к ее плечу, и все
успокаивалось в нем: и дыхание, и лицо, и ослабевало напряжение его
сильных рук,— и она чувствовала это, как чувствовала свое
насладившееся, уставшее и отдыхавшее тело, — она словно пробуждалась ото сна, и
это пробуждение было приятно ей. «Я люблю тебя, Шура, люблю,
люблю!» — повторяла она слова Егора, вслушиваясь в свой собственный
мысленный голос и улавливая в нем все нужные и дорогие ей интонации его
голоса. Она как бы заново переживала все случившееся. «Мой, мой!» —
говорила в ней женщина, стремившаяся взять все от этой минуты и
боявшаяся того, что эта минута может не повториться. «Мой, мой!» — те же
слова произносила в ней другая женщина, воображавшая свое будущее. Но
она не думала, как по утрам будет вставать и готовить ему завтрак, — это
разумелось само собой, она лишь чувствовала это, зная, что будет делать
все с удовольствием и уже теперь, не испытав той минуты, вся замирала
от нежности и любви к нему; она не думала и не представляла себе, как
будет стирать и гладить его рубашки, чистить ему костюм и следить за
тем, чтобы он всегда был аккуратно одет, — и это разумелось само собой,
было ее чувством и выражением любви и нежности к нему; она не
думала о ребенке, это чувство будущего материнства так же жило в ней,
как и все ее представления о семейном счастье, и Егор, лежавший рядом,
был для нее в одно и то же время и тем маленьким и теплым
существом, которого она любила, и ласкала, и готова была защищать от
всяких бед, как мать, и большим, сильным, ее мужем, которого она сейчас
почти обожествляла в порыве нахлынувших чувств. Она прислушивалась к
ф Межа
79
нему, спящему, и не шевелилась, чтобы не разбудить его; она чувствовала
запах его волос, слышала тихое, спокойное биение его сердца и улыбалась
своим мыслям. Но вместе с тем счастьем, какое она испытывала сейчас,
вместе с тем, как она мысленно представляла, как теперь будет
появляться среди знакомых, гордясь своим замужеством, и как на взгляды мужчин
будет отвечать лишь понятною ей самой молчаливою усмешкой, — вместе
с этим, что уже само по себе составляло для нее целый мир, она ожидала
от своего будущего чего-то большего, чем только это женское счастье. Его
мир шире и интереснее, чем ее, она всегда чувствовала это, и чувствовала
это особенно теперь; она гордилась Егором сейчас еще больше, чем в те
минуты, когда слушала его смелые и умные высказывания. «Мой, мой!» —
торжествовало в ней все: и мысль и тело.
В то же время, как она все более освобождалась от ощущений т о и
минуты, и сознание совершившегося будоражило в ней мысли и переносило
в воображенный мир, веки ее тяжелели, она чувствовала подступающую
к ней и охватывавшую ее дремоту и, не в силах бороться с ней,
медленно и нехотя засыпала. Она засыпала с тем чувством радости, какое
еще не испытывала никогда, и радость эта была во всем: в том, что она
отдыхала теперь после всех дневных и вечерних волнений и переживаний
и что волнения те были для нее лишь далеким и приятным
воспоминанием в той тишине, которая наполняла теперь комнату, сумраке.,
сгустившемся по углам, и белом лунном свете на подоконнике, за тюлевой
шторой, и в отблеске этого света на спинке кровати — во всем, что окружало
ее, стушевывалось и растворялось в ночной комнатной темноте, а когда она
опускала веки, продолжало еще жить перед ее мысленным взором.
XI
В этот же вечер на другом конце города, на Кордонной, тихой и
неосвещенной улице, в своем доме умирал Ипатин. Он умирал тяжело, в
полном сознании; глаза его были открыты и сухи, худые руки, желтея и
остывая, спокойно лежали поверх одеяла; он весь был неподвижен и
чувствовал, как медленно и неотвратимо силы покидают его. Он понимал
смысл надвигавшейся минуты, смысл небытия, но мучительным было для
него не это сознание смерти, а то, что те остаются жить, т е,
отобравшие у него кров и достаток в Петрушине (он так думал, исходя из
своей, ипатинскои сущности, из своего понимания добра и зла; ему неважно
было, как жили прежде и как живут теперь тысячи и тысячи других
людей, а важно было, как жил и как мог бы жить он, богатея и властвуя;
в нем как бы с новой силой проявлялось теперь отвергнутое всеми, но
бережно хранившееся им чувство: «Это мое!»— и он мерил жизнь только
этою своею меркой),— они остаются жить, не оглянувшиеся, не
познавшие того, что творили. В нем теперь как бы сгустились ненависть и
обида, накопленные за жизнь, и он по-своему, по-ипатински, судил о
неустроенности и несправедливости мира; ему сейчас больше всего жаль
было, что понятие о жизни, понятие о добре и зле, его, как он считал,
мужицкое понятие, умрет сегодня вместе с ним, уйдет из жизни, не
узнанное никем.
Когда он вернулся из отделения милиции, он еще ходил по двору,
копался на огороде, перекладывал дрова в сарае и собирался поправить
чердачную лестницу; он делал все в этот день старательно и особенно
охотно, сознавая в себе то дорогое, привычное и самое понятное ему чувство
хозяина, чувство, к которому стремился всю жизнь и которое запрещали
ему испытывать, вытравляли из него и выколачивали как самую
страшную человеческую болезнь,— он сознавал в себе это чувство, радуясь
тому, что оно есть, что еще живо в нем, и делал все так, будто собирался
жить и жить в этом Настасьином, но в то же время своем долю.
80
Анатолий Ананьев #
Он слышал, как вернулась ходившая на мясокомбинат Настасья, как
скрипнула закрывшаяся за ней калитка; слышал, как она, поставив сумку
на приступок крыльца, направилась к нему, тяжело и сипло дыша от
усталости и нездоровой, душившей ее полноты.
— Пришла?
— Да. А твои дела как? Ходил в отделение?
— Ходил, но не застал кого надо.
— Как?!
— Не застал, и все.
Он даже не взглянул на Настасью; ему не хотелось ни о чем
говорить; в нем теперь тянулась своя цепочка тяжелых и мучительных
переживаний, и он не хотел разрывать ее; пододвинув поближе ящик и
наклоняясь над ним, он принялся перебирать пальцами старые и ржавые
гвозди.
— Когда теперь пойдешь?
— Завтра.
— Завтра же тебе на дежурство.
— На дежурство в ночь.
— Господи,— вздохнула Настасья, собираясь идти, но, пока не
решаясь отходить и сверху вниз глядя на Ипатина, на его сгорбленную
спину с торчащими из-под пиджака лопатками, на морщинистую и почти
высохшую шею, на огромную кожаную кепку, закрывавшую лицо. —
Господи, что же они, какие им документы? Строили и строили дом, как все, по
копейке собирали, а крышу-то за год до смерти Андрон перекрыл. Сам-то
и лазил, срывал тес. Может, по фабричному делу? — немного помолчав,
спросила она. — Может, они тебя подозревают в чем-то?
— Не знаю.
— Но дом-то при чем тут?
— Не знаю.
Она еще с минуту постояла, наблюдая, как Ипатин выравнивал на
обухе топора гвозди, и, снова вздохнув и произнеся: «Господи!» —
пошла в дом.
До конца дня Ипатин был молчалив. Как и утром, когда он сидел в
кабинете Егора, перед ним опять и опять вставала вся его жизнь, и чем
больше он думал и вспоминал, чем возбужденнее и торопливее работала
в нем мысль, тем сильнее он чувствовал слабость в руках, державших
молоток и планки, в коленях, в пояснице, когда нагибался, чтобы взять
гвоздь, во всем теле, когда садился отдыхать и закуривал папиросу. Он
боролся с этой охватывавшей его слабостью, но с каждым разом все
труднее было ему подниматься, все медленнее и непослушнее двигались
руки, и он подолгу рассматривал и примерял каждую планку, прежде чем
прихватить ее гвоздем, рассматривал темные и глубокие трещинки на
уже покоробленных солнцем и дождями сизых дощечках, ощупывая
пальцами их шершавые и тронутые гнилью бока, и сокрушенно, старчески
качал головой. Он не хотел есть, но когда Настасья, выйдя на крыльцо,
позвала его обедать, молча пошел и сел за стол; он боялся теперь
вопросов так же, как боялся их, сидя в кабинете Егора, и потому старался не
смотреть на Настасью; он видел лишь ее руки, полные и розовые,
испещренные морщинами, когда она ставила перед ним тарелку, видел синий
в мелком белом горошке фартук, неуклюже облегавший полные бедра,
а когда она спрашивала, отвечал односложно, не споря, а соглашаясь
с ней, чтобы не заводить разговор. Впервые он не чувствовал вкуса того,
что ел, и впервые равнодушно смотрел на белый и мягкий хлеб, лежавший
перед ним на столе; но он пока еще не сознавал того, что происходит с ним,
и думал лишь об одном — чтобы только не слечь, не поддаться этой
страшившей его слабости.
О Межа
81
Он не работал после обеда. На солнечной стороне дома, на бревне,
лежавшем у стены, том самом бревне, которое он приберегал, чтобы заменить
им подгнившую стойку ворот, он сидел, сгорбившись, положив руки на
колени, сидел долго и неподвижно, греясь на солнце; но он не чувствовал
солнечного тепла сквозь пиджак и рубашку; только руки его, скрещенные
на коленях, казалось, воспринимали горячие солнечные лучи, и уже от
рук и через них это тепло растекалось по худому и слабеющему телу.
Ему было приятно сидеть на солнце. Он видел перед собой небольшой
саманный сарай, в котором еще утром перекладывал дрова; дверь в сарай
была открыта, и рядом с поленницей виднелся куриный насест; когда-то
в этом сарае держали кур, их было двенадцать, и красный петух всегда
важно расхаживал по двору, радуя Ипатина и вызывая в нем это,
сегодня особенно щемившее душу чувство хозяина: потому он до сих пор не
убирал насест, не рушил обложенные соломой гнезда, в которых и сейчас
еще — он видел их сегодня и даже брал в руки, когда перекладывал
дрова,— лежали подкладные глиняные яйца. И в сарае все еще пахло
куриным пометом, и по углам кое-где виднелись перья. Ему теперь хотелось
увидеть тех кур, разгребавших землю у дверей сарая, и он пытался
восстановить в себе то прошлое, но ему представлялось другое: как он ловил
кур и топором отрубал им головы и как Настасья потом ощипывала их
и относила на рынок. «Не дают развернуться! — с горечью и ненавистью
думал он. — Не дают!» Он снова смотрел на сарай: сквозь открытую дверь
он видел возвышавшиеся у стены, как закром, доски; теперь в этот закром
был насыпан уголь, а раньше, год назад, за этой дощатой перегородкой
весело похрюкивал и чесался о доски откормленный боровок.
«Вот и все документы, как строился дом, вся разгадка, чего
мудрить!»
Солнце между тем уже висело над крышей сарая и почти совсем
не грело; оно грело, но старик не ощущал тепла; он говорил себе:
«Сиди, не сиди, а делать надо»,— и думал о чердачной лестнице, которую
хотел непременно починить сегодня. Лестница была рядом, за спиной, и он,
наконец решившись, встал и подошел к ней; но когда он, с трудом
переступая со ступеньки на ступеньку, взобрался на чердак, и когда
вместо того, чтобы приступить к работе, сначала прошелся по чердаку и,
увидев среди прочего хлама деревянный сундучок — он стоял на том же
месте и так, как Ипатин в последний раз поставил его, — увидел этот
сундучок, затянутый паутиной и покрытый пылью, остановился перед ним, и
когда затем, стряхнув с него пыль и взяв в руки, подошел к свету,— уже
не помнил, зачем залез на чердак и что ему нужно было здесь делать; он
испытывал теперь лишь одно желание — взять сундучок с собой, в дом,
чтобы постоянно видеть его, чтобы ощупывать его пальцами, как он
ощупывал на себе тогда, в вагонном сумраке, трясясь на верхней полке,
снятый с матери и надетый на себя пояс с зашитыми в него золотыми и
серебряными целковыми. «Все останется, все пойдет прахом... не дали... не
дают...» Он спустился вниз и, поставив на землю сундучок, снова сел на
бревно; но он чувствовал такую слабость в руках, что смог только открыть
крышку сундучка, и так сидел перед ним, глядя на застланное
пожелтевшей газетой дно и на кусок тонкой и спутанной бечевки, валявшейся на
дне. Он смотрел на все это, и ему казалось, будто он сидит не на бревне,
и под ногами не земля, а раскачивающаяся палуба баржи, и пароходик
вцереди по канату, вспенивающий лопастями холодную енисейскую воду, и
люди вокруг, едущие за длинным рублем, и дьякон, спокойно и
утешительно поясняющий: «Сей каторжный край, край мучеников...»— и чьи-
то резкие слова, брошенные дьякону: «Каждый сам себе бог!» — которые
Ипатин вновь повторял, как свои собственные, усмехаясь и с
горечью сознавая, что каждый сам себе бог лишь в мыслях, а не в жизни.
Он видел перед собой теперь это, начало своего пути и начало надежд,
6. «Октябрь» ,\ь 11.
82
Анатолий Ананьев Ф
и в то же время еще навязчивее вставала перед ним картина, как он,
вернувшись после войны и лагерей в Ярцеве, стоял возле заколоченной
досками избы, которую строил сам и в которой, отправляясь на фронт,
оставил Граню, и как на старом ярцевском кладбище ему показали
могилу, где была похоронена Граня; он все представлял себе так живо, и
тогдашние мысли и чувства так сильно охватывали его, что он даже, как
ему казалось, ощущал теперь ладонью металлический холод креста на
Граниной могиле,— он гладил рукой этот крест, стоя у могилы и наклониЕ
непокрытую лысеющую голову.
— Ты что это,— сказала Настасья, подойдя к нему и тронув его за
плечо,— не слышишь?
— А?.. Что?..
— Да на тебе лица нет!
«Что она говорит?» — подумал Ипатин, глядя на нее, стараясь
понять ее и с трудом подавляя в себе прежние, только что волновавшие его
мысли. Но, в сущности, он не столько старался понять ее, как странным
ему казалось то, в чем была теперь одета Настасья, и еще более
странным, что эта одежда — широкая черная юбка, в каких раньше в
деревнях бабы по воскресеньям ходили в церковь, темная широкая кофта и
темный платок на голове — живо напомнила ему петрушинских женщин,
шагавших к церковным воротам под мелодичный звон колоколов и
карканье распуганных галок над колокольней... Настасья не часто одевалась
так, и от нее пахло теперь нафталином; как раз это и казалось Ипатину
странным, и он медленно, с натугой соображал, куда же собралась
сегодня Настасья. Он как бы выходил сейчас из одной сферы мыслей и
входил в другую, и давалось ему это с большим напряжением; будто что-то
выпадало из его памяти, он с испугом чувствовал провалы и оттого еще
более не мог сосредоточиться. Но он все же, не слушая вопросов Настасьи,
которые она задавала, и не отвечая на них, доискался нужной истины.
«К баптистам»,— сказал он себе, почувствовав облегчение от этой
своей догадки, и в голове его тут же снова возникли две только что
произносившиеся им мысленно фразы: «Бога забыли!» и «Каждый сам
себе бог!» — и опять горькая усмешка чуть шевельнула его бледные и
сжатые губы.
— Туда?
Настасья согласно кивнула головой.
— Ну, ступай.
— А ты бы лег, на тебе лица нет.
— Лягу, ступай.
Он следил за ней взглядом, пока она шла по двору к калитке, и
следил еще, когда, выйдя на тротуар, шагала вдоль ограды, низкая,
неуклюжая, тяжело и сипло дышащая от чрезмерной и нездоровой
полноты; но в то же время, как он смотрел ей вслед, он уже не видел ее, как
не видел ни ограды, ни калитки, ничего, что окружало его и было ему
знакомым и привычным; он прислушивался к своим мыслям, и все
прошлое, весь пережитый им мир снова вставал перед ним, жил в нем, и
сам он жил в этом воображенном им мире, все более пытаясь
разобраться и понять, почему он так бессмысленно прожил жизнь.
Начало темнеть, когда он, чувствуя, как замерзают у него руки и
ноги, как сырость, просачиваясь под пиджак и рубашку, холодит спину и
плечи, и испытывая инстинктивное желание поскорее лечь в постель,
согреться и отдохнуть, с усилием поднялся и пошел в дом. Он прошел через
сенцы и не закрыл дверь; и комнатная дверь осталась открытой. Долго
он не мог расшнуровать и снять ботинки, пальцы не слушались его и
были, как чужие, и к тому же, когда наклонялся, голова наливалась,
тяжелела и тянула вниз, и все тело, тоже тяжелея, тянулось вниз, и, чтобы
не упасть, он разгибался и отдыхал, порывисто и часто дыша; он был бле~
• Межа
83
ден, но никто не видел и не мог видеть его бледности, и сам он теперь
думал не об этом. «Что за черт?» — говорил он себе, снова и снова
наклоняясь, расшнуровывая ботинок и уже совсем не чувствуя пальцами ни
шнурка, ни кожаного отворота ботинка. «Что же это такое?» — продолжал
говорить он, слыша в себе другой и будто совсем незнакомый ему голос:
«Ты не просто ослаб и захворал, разве сам не видишь, что это твоя
сегодняшняя слабость непохожа на те, прежние; ты уже не жилец, все,
отжил свое...» Непривычным и странным казалось Ипатину это звучание
в нем второго голоса; на секунду приостановившись и прислушавшись, он
сказал себе: «Нет»,— и затем начал повторять это слово с нарастающим
и почти душившим его беззвучным криком: «Нет, нет!» Но в то же время
он все яснее чувствовал, что то, что происходит с ним, неизбежно и
неотвратимо, что жизнь кончается, и оттого мысль его теперь металась,
торопливо и судорожно ища выхода; но чем больше сознавал он
неотвратимость происходившего с ним, тем сильнее поднималось в нем другое
чувство, растравлявшее и мучившее его, — они остаются жить, они,
которые не понимали его и которых не понимал он. «Что уж теперь,— думал
он,— надо было тогда, тогда, а теперь их верх». Они — это был для
него весь тот, огромный новый мир, перед которым он всегда чувствовал
бессилие; он видел торжество этого мира и, ненавидя и не принимая его,
мучился и страдал, и эти его страдания теперь, когда он уже лежал на
кровати, вытянув коченеющие ноги и положив руки поверх одеяла,
особенно отражались на его сухом, старом лице; он искал облегчения
страданиям и искал сейчас, перед смертью, смысл в своей прожитой жизни.
Он вспомнил, как он был отвозчиком, когда завербовался на
лесоповал, на Сым.
«Разве я жалел себя, чтобы заработать?»
«Нет».
«Не-ет!»
Он шагал тогда по утрам к конюшням, почти примыкавшим к
деревянному жилому бараку; здесь завербованные отвозчики (весь этот люд,
двинувшийся в Сибирь за длинным рублем) получали лошадей, запрягали
их и, сидя на передках, обмотанных холодными и погромыхивающими
цепями, ехали к делянкам. Лошади были анемийные, выбракованные в
сибирских селах и согнанные сюда, на лесосеку; на них от зари и до зари
стаскивали волоком огромные поваленные лесины к большой дороге, их
били кнутами, палками по худым, впалым бокам, понукали криком и матом,
чтобы выгнать норму и заработать побольше. «Деньгу зашибают»,— думал
Ипатин, и в его тогда еще не совсем огрубевшей душе шевелилась
жалость к истощенным и измученным животным. Он был хозяином в ту
минуту, а не завербованным отвозчиком, когда выводил из конюшни
закрепленную за ним лошадь, похлопывая ее ладонью по лохматой и жилистой
шее, когда запускал руки под гриву и чувствовал тепло, и это было
особенно приятно в морозные дни, и когда надевал хомут на послушно
вытянутую морду и потом, медленно и деловито приговаривая: «Ногу, ну,
ногу!» — заводил в оглобли; и когда ехал к делянке, сидя на передке,
свесив ноги и поглядывая на раскачивающийся впереди тощий и костистый
круп лошади, на траву под колесами, тонкую и бледную, веками
заглушавшуюся непроходимой тайгой, на пни, выкорчеванные и собранные в
кучи для сжигания, на огромные черные круги горевших вчера костров,
на кедры (их не вырубали, и они стояли теперь, как в степи, одиноко и
величественно), на синюю и все приближавшуюся кромку тайги, откуда
уже доносились голоса работающих на повале людей, удары топоров,
жужжание пил и треск падающих деревьев.
Ипатин старался подъехать к лесине так, чтобы, пока он с
подсобниками будет наваливать ее комлем на передок и прикручивать цепью,
84
Анатолий Ананьев fft
лошадь могла пощипать траву, и он успевал для этого расслабить
чересседельник. «Скотина, а тоже своя судьба»,— говорил он, видя, как лошадь
тянется мордой к его руке, понимая, чего она просит, подставляя ей
руку и чувствуя, как мягкие и теплые конские губы обшаривают пустую
ладонь. И близкое ему, деревенское просыпалось в нем в такие минуты.
Но так было лишь по утрам, когда он только приезжал на делянку, и
солнце еще только вставало над тайгой, и было свежо, сыро, и он дышал
запахом хвои и чувствовал в себе силы (после тифозного барака и всех
пережитых волнений он даже как будто отдыхал душою),— так было
лишь по утрам, пока вывозились первые лыжные кряжи, и лошади еще не
были взмылены и не останавливались в колее, и артельный глава еще не
покрикивал: «Норму, субчики-голубчики, норму, мать вашу так! Или
заработать не хотите?» — и еще не свистели кнуты и палки так озлобленно,
как под вечер, и тянувшиеся позади отвозчики не понукали возгласами
передних: «Чего стал, давай, бей ее... в душу!» — и не подбегали и не
обрушивали на бедную лошаденку град ударов; и сам Ипатин тоже пока,
еще не горячась и не покрикивая на других, лишь подергивал и
подбадривающе помахивал жесткими веревочными вожжами. Но постепенно жажда
заработать, постоянно жившая во всех этих приехавших сюда за деньгой
людях, захватывала и Ипатина, все более подчинялся он взятому ритму,
и уже не было для него ни травы, ни запаха хвои, ни тянущейся к
ладоням конской морды, а была только мысль: «Больше, больше!»,— было
только желание не отстать от других, он снова и снова брал лом и
наваливал на передок тяжелые комли лесин, гремел цепью, прикручивая эти
комли, и уже орал на лошаденку, бил ее и хлестал, остервенело, озлясь,
и забегал вперед, и помогал другим подхлестывать остановившихся
лошадей, и помогал поднимать завалившихся и подыхающих кляч, таща их
за хвосты и выворачивая шеи, а когда над делянкой раздавались удары
о рельс, бросал все, забывая даже иногда разнуздать лошадь, и бежал
к артельному раздатчику за хлебом, борщом и кашей. После обеда снова:
железный лом, грузные комли лесин, звяканье цепей, скрип колес,
крики, крики, удары по впалым и тощим бокам лошаденок; а вечерами, в
тесном деревянном бараке, при свете керосиновых ламп, разговоры о
заработке, подсчеты, пересчеты, сетов'ания и тревожный и тяжелый сон
мучающихся жизнью людей.
Ипатин хорошо заработал в тот год; он сменил шесть лошадей; он не
думал, как рано приходилось ему вставать, как уставал он к ночи, как
недоедал, скапливая заработанные рубли, как было ему непривычно,
неуютно и противно в общем жилом бараке,— он видел во всем другое:
«Для себя ведь!» — и это ободряло и радовало его; он тогда уже знал,
что, отработав срок, уедет в какое-нибудь отдаленное и глухое село,
построит дом и купит корову; он верил, что еще настанет время, когда он
сможет жить, как привык, что все отобранное у него в Петрушине
еще вернется к нему, и вернется с лихвой, что — дай только срок! — он
еще развернется и не одни лишь ярцевские жители будут снимать перед
ним шапку.
«Где этот срок? Нет этого срока»,— думал он теперь.
Ему было тяжело сознавать это; но вместе с тем в глубине души
он чувствовал, что давно уже знал, что нет этого срока, что он
никогда не наступит и что все страдания и помыслы, вся ожесточенность
его напрасны. «Надо было так же, как тот бородач,— говорил он
себе.— Он знал, потому и решился... Знал, знал...» Как много лет назад,
Ипатин словно вновь ехал в товарном вагоне с заколоченными решеткой
окнами; вместе с разного рода бывшими, как и он, бюргерскими
работниками, полицаями, старостами, власовцами его везли в Сибирь, и весь путь
от Штаргарда через всю Россию представлялся ему и тогда, и особенно
сейчас, когда он вспоминал, нескончаемо долгим. Он еще не знал, что
# Межа
85
его осудят как изменника Родины и он будет работать в лагерях; он то
молча лежал на нарах, вслушиваясь в однообразный и гулкий стук колес,
то разговаривал с соседом, бородачом, который был из раскулаченных,
в начале войны сдался в плен и затем четыре года подряд работал на
немцев на одном из штеттинских причалов.
Ипатин спрашивал:
«За что нас?»
«Есть за что. И тогда было за что».
«За что же?»
«Э-э, брат, тут кто кого! Чья власть, того и правда. А будь моя
власть, я бы их...»
А утром всех разбудил крик:
«Бородач повесился!»
Случилось ли это, когда эшелон пересек границу и за тонкой
дощатой стеной вагона потянулись сожженные русские деревни, остовы
обгорелых вокзалов, окопы, воронки, груды штукатурки и кирпича, или
позднее, когда уже, прогромыхав по волжскому мосту, состав приближался к
Уралу, или, может быть, раньше, еще на польской земле,— Ипатин не
мог сказать теперь точно, когда; он помнил лишь, как однажды утром,
проснувшись и приглядевшись к рассветным сумеркам вагона, увидел
повесившегося бородача. Он не знал, отчего бородач решился на такое: от
страха ли перед возмездием, от сознания ли того, что нутром, как он
выражался, собственным нутром загублена жизнь, или еще от чего-то, о чем
даже не мог подозревать Ипатин, — для Ипатина не это было важным; то,
что испытывал он сам, те мысли о несправедливости, какие всегда жили
в нем, он как бы переносил в сознание бородача, и тогда все
становилось ясным и понятным. «Где этот срок? Нет этого срока». В
болезненном воображении старого Ипатина все теперь как будто преображалось в
одно стройное течение чувств, и нараставшая ненависть к людям, ко всем
людям, и смерть бородача представлялись ему вызовом и ответом на все то,
что в его понимании было несправедливостью, несправедливостью не
только к нему, но ко всем таким же, как он, ко всей России, его, ипатин-
ской России, кулацкой, согнанной, как он считал, с насиженных мест
и не нашедшей нигде приюта; она, эта ипатинская Россия, представлялась
ему страдающей особенно теперь, в эти минуты, когда он, больной,
немощный, лежал один в тихом и сумрачном Настасьином доме. Он как
будто снова ехал в вагоне, и все как будто происходило вновь; и полоска
света сквозь зарешеченное окно, и вытянутые вдоль стойки босые синие
ноги бородача, и пальцы, почерневшие у ногтей и все еще будто
упиравшиеся в холодный и некрашеный пол вагона, и застывшая, мученическая
гримаса на лице, и голова, чуть наклоненная к плечу, и тонкий,
врезавшийся в шею шнурок из сыромятной кожи, и чей-то особенно громкий
возглас, раздавшийся почти над самым ухом: «Да снимите же человека!»
Настасья еще не приходила, и старик Ипатин по-прежнему лежал в
темноте, в той же позе, вытянув ноги и положив поверх одеяла руки, не
чувствуя ни тепла, ни холода, хотя сквозь настежь раскрытые двери
просачивалась в комнату вечерняя сырость, и не ощущал ни постели, ни
тяжести одеяла, ни подушки под головой, как вообще не чувствовал ни
остывающих ног, ни всего своего тела и не видел и не замечал сгущавшейся
вокруг темноты, потому что все его сознание было сейчас сосредоточено на
одном: «Они, они остаются жить»,— и ненависть к ним и непрощенная
обида, казалось, давили его. Он не мог испытывать иного чувства, чем это,
потому что свое «я» и своя жизнь были ему дороже всего на свете; теперь,
когда он умирал, он тем более не мог простить никому того, что не дали
ему развернуться, не дали жить так, как он хотел, возвысясь над людьми
86
Анатолий Ананьев #
(он представлял себе свой деревенский мир) и властвуя; они, кто мог бы
ломать перед ним шапку, они остаются жить, веселые и счастливые,
забывшие о нем и не ведавшие его страданий,— именно это было болью
Ипатина, их счастье, которое он видел все эти годы и на которое было ему
невыносимо и мучительно смотреть. Он искал то, что бы еще мог сделать
им теперь (он никогда не хотел людям добра; он мечтал лишь о мести)
остающимся жить, думал, как заставить их оглянуться. «Он не выдержал,
но он был прав»,— говорил себе Ипатин, вспомнив о бородаче. «Да, это...
только это»,— уже через минуту произносил он, решаясь наконец на то,
что прежде всегда осуждал и на что не мог решиться. В то время как он
лежал неподвижно на кровати и уже не в силах был даже пошевелить
пальцами и приподнять веки, в мыслях он ходил по сараю и искал ремень
из сыромятной кожи и никак не мог найти его, потому что там не было
никакого ремня, а в руки ему то и дело попадался обрывок спутанной
бечевки, которую он видел сегодня в своем снятом с чердака деревянном
сундучке; в то время как он лежал неподвижно, в мыслях он привязывал
найденную бечевку к стойке, и ему не казалось странным, что стойка нар
была посреди комнаты и что комната была вовсе не комната, а в одно
и то же время и комната и вагон; он подвязывал бечевку, готовил
петлю и, накинув петлю на шею, медленно спускал ноги с верхней полки.Он
искал кончиками пальцев холодный и некрашеный пол вагона, чтобы
упереться в половицы, как тот бородач, но пола не было, и петля
перехватывала дыхание. В то время как он лежал совершенно неподвижно, он все
еще тянулся носками к полу; наконец, пальцы его уперлись в доски, и
это было последним его ощущением жизни; он уже не мог дышать, но в
угасающем сознании еще промелькнуло: «Как он, как он...» — и все потухло,
он умер, и весь мир, его мир, ипатинский, только что
существовавший и мучившийся в нем, умер вместе с ним; на кровати лежало
бесчувственное остывающее тело.
Настасья же еще только выходила из молитвенного дома, и ее
полное и морщинистое старушечье лицо отражало тихое и спокойное течение
мыслей.
Часть вторая
i
В доме школьного учителя истории Матвея Петровича Беспалова все
было таким же, как и прежде, и стояло на том же месте: и большой, по-
канцелярски неуклюжий письменный стол с книгами, газетами и зеленой
настольной лампой, и книжный шкаф позади стола, у стены, а между
столом и шкафом старое деревянное кресло с жесткими подлокотниками и
мягкой подушечкой на сиденье, лоснившейся, как и прежде, и лежавшей
так, будто никто ни разу не сдвигал ее с места с тех самых пор, как
Николай был здесь в последний раз. Те же однотонные и тусклые
оконные гардины, крупными складками стекавшие к полу. Тот же журнальный
столик, неуместно и неуклюже стоявший перед кушеткой. И сама кушетка,
на которую Нина Максимовна предлагала теперь Николаю присесть, тоже
была застлана знакомым шерстяным клетчатым пледом. Все здесь было
таким же, и даже Нина Максимовна, эта пожилая и близорукая женщина,
казалось, была в том же неизменном широком платье, в каком он видел
ее прежде, и встретила она Николая у дверей тем же вопросом: «К
Матвею Петровичу?» — и так же, добавив «Входите», пропустила его вперед,
а затем пристально рассматривала лицо. Она не узнала Николая; и даже
когда он назвал себя: «Богатенков, помните?» — и она ответила: «Ах да,
как же, помню»,— по тону ее голоса понял, что она все же не узнала его.
• Межа
87
Мало ли к Матвею Петровичу приходит учеников, разве всех упомнишь? Но
и в том, что Нина Максимовна, как и раньше, не узнала его, Николай
почувствовал, что жизнь в этом доме нисколько не изменилась.
— Он вот-вот подойдет.
— Ничего, Нина Максимовна, я подожду.
— Почитайте книги пока, газеты свежие посмотрите.
— Не беспокойтесь, Нина Максимовна.
Папку с рукописью, которую Николай принес с собой и держал в
ручках, он положил на журнальный столик и взял «Известия». Но как
только Нина Максимовна вышла и закрыла за собой дверь, он отложил
газету. Читать ему не хотелось. Он еще раз оглядел комнату и
представил себе, как войдет сюда Матвей Петрович, представил его самого,
низенького, полного, стареющего, с бородкой, словно расщепленной надвое,
с густыми еще, но уже поседевшими волосами, зачесанными назад и тоже
рассыпанными надвое,— войдет, увидит Николая и скажет: «Батенька
мой, кто к нам!» — скажет непременно это, и Николай улыбнулся,
мысленно повторив знакомую фразу. Он еще представил, как потом они будут
сидеть на кухне, пить чай и разговаривать, и Матвей Петрович, сам
наливая себе заварку по вкусу и бросая в стакан белые ровные кусочки
сахара, будет говорить, покачивая головой: «Да, затеяли вы, да, я понимаю вас,
понимаю, но...» Это «но» Николай добавлял теперь как бы от себя,
вслушиваясь в свой собственный внутренний голос и улавливая в нем что-то
тревожное и в то же время приятное и возбуждающее. Он продолжал
улыбаться, теперь больше чем когда-либо чувствуя расположение к
Матвею Петровичу: те слова: «Старик все поймет»,— какие говорил себе в
день приезда в доме отца, — он не произносил сейчас, но они жили в нем
и придавали его размышлениям ровное и спокойное направление.
Он подошел к книжному шкафу, как подходил всегда, и, как всегда,
рассматривая корешки книг и прочитывая надписи, старался отыскать что-
либо новое и неизвестное ему; в прошлый раз Матвей Петрович показывал
квитанцию на подписное издание многотомного труда Соловьева «История
России с древнейших времен»; теперь уже на полке стояли две первые
книги, и Николай, заметив их, и беря одну из них в руки, и наугад
раскрывая ее, вспомнил, с какой торжественностью Матвей Петрович
говорил об этом издании: «Наконец-то нашлась светлая голова! Ведь здесь
факты, документы, это — богатство, да, история народа — это
величайшее богатство», — и вспомнил еще, как Матвей Петрович рассказывал,
называя Николая уже коллегой и делясь с ним своими учительскими
заботами, как искал у букинистов «Историю России» Соловьева, и писал в
разные города, и писал в Москву. Воспоминание это тоже было приятно
Николаю. Но сам он не думал теперь о грандиозности труда Соловьева; он
прочитал заголовок на раскрытой наугад странице: «Внутреннее состояние
русского общества от кончины князя Мстислава Мстиславовича Торо-
пецкого до кончины великого князя Василия Васильевича Темного»,—
прочитал начало главы: «Мы обозрели события более чем двухсотлетнего
периода времени...» — и вспомнил и тут же мысленно повторил начало
своей рукописи: «В Федоровке восемьдесят дворов...» — и это невольное
сопоставление сразу же натолкнуло его на тревожную, часто и раньше
приходившую ему в голову мысль, что хотя он и написал на заглавном
листе своих набросков «К ИСТОРИИ КРЕСТЬЯНСТВА...», но, в
сущности, изложил лишь историю одной деревни, вернее, даже просто историю
двух-трех деревенских семей, и что это хотя и представлялось ему
характерным, но все же было еще далеко не историей. «Черновик для одной
обобщающей фразы в томе истории,— проговорил Николай, чуть
повернувшись и искоса взглянув на свою рукопись, лежавшую все на том же
месте, на журнальном столике. — Черновик для нового Соловьева,
свидетельство современника». Но вместе с тем как он произносил эти слова, он
88
Анатолий Ананьев Ф
чувствовал, что не совсем справедлив к себе, что все уже, теперь
сделанное им, — это не просто свидетельство современника; он стремился
писать «историю действенную, чтобы она была не только исследованием, но
и влияла и изменяла к лучшему ход развивающихся событий». Еще там, в
Федоровке, он сочинил эту формулировку и сейчас лишь мысленно
повторил ее. Усмехнувшись и сказав себе: «Ну, посмотрим»,— он захлопнул
том Соловьева, поставил на прежнее место и снова принялся
разглядывать корешки книг.
Не было слышно, как приоткрылась дверь; Николай оглянулся
потому, что почувствовал, будто кто-то смотрит ему в спину; оглянувшись же
и увидев в дверях Матвея Петровича, на секунду замер от неожиданности.
То, как он представлял себе встречу со старым учителем, каким
предполагал увидеть его, и то, каким видел теперь,— Матвей Петрович казался
постаревшим, ссутулившимся и оттого совсем маленьким, а главное, на
лице его в это первое мгновение, пока они смотрели друг на друга, не было
ни обычного по-стариковски нескрываемого удивления, ни доброй и
приветливой улыбки, а, напротив, и в глазах, и в уголках сжатых губ, и даже в
той взлохмаченности седых волос, теперь не распадавшихся на две равные
половины, было отражено какое-то беспокойство,— это поразило Николая;
вместо того, чтобы шагнуть навстречу Матвею Петровичу, протянуть ему
руку и обняться с ним, как бывало прежде, когда Николай, приезжая,
заходил к старому учителю, он продолжал стоять у книжного шкафа, не
двигаясь, только чувствуя, как в нем самом тоже поднимается и нарастает
тревога.
— Богатенков? Батенька мой.— Это «батенька мой» Матвей
Петрович произнес негромко, так, что Николай даже не понял, что сказал
старый учитель; вернее, не услышал его слов, в секундной растерянности
глядя на Матвея Петровича.— Приехал? Не забыл старика? Ну,
здравствуй. — И Беспалов сам шагнул навстречу все еще неподвижно стоявшему
Николаю.
Минуту спустя, когда они уже сидели на кушетке перед журнальным
столиком и Матвей Петрович, положив руку на папку с рукописью
Николая, говорил: «Ну, молодец, хвалю; я всегда говорил: все начинается
с малого и приходит к великому! Все начинается с первой буквы!»,—
Николай уже не замечал поразившего его в первое мгновение беспокойства на
лице учителя; все было так же, как бывало прежде, во всяком случае, так
представлялось Николаю, и разговор шел так же отрывисто, быстро, с
желанием поскорее узнать главные «вехи» прожитого года, чтобы потом,
за чаем (Нина Максимовна, знавшая привычки мужа, накрывала на
кухне стол), побеседовать обо всем поподробнее, разобрать или, вернее,
разложить по полочкам каждую «веху», как любил выражаться Матвей
Петрович.
— Женился?
— Нет.
— Невеста есть?
— Матвей Петрович...
— Есть, так. А здесь — о Петре?
— Нет.
— О чем?
— О нашем времени.
— Точнее.
— Крестьянство тридцатых — шестидесятых годов нашего столетия.
— Ну-ка, ну-ка. — Матвей Петрович взял папку с рукописью и
направился к столу, где было светлее и среди тетрадей и книг лежали его
большие круглые роговые очки.
Усевшись в кресло за стол, он раскрыл папку и, едва глянув на
первую страницу рукописи, спросил:
О Межа
89
— Без предисловия?
— Нужно ли оно, Матвей Петрович?
— Ну-ну.
В комнате было тихо и потому особенна слышно, как шуршали
перелистываемые Матвеем Петровичем страницы. Он не читал, а лишь
просматривал, пробегал взглядом по абзацам, и когда его взгляд на секунду
дольше задерживался на очередной странице, Николай, сидевший по-прежнему
на кушетке и следивший за учителем, весь как бы приподнимался и
вытягивался, стараясь увидеть, что именно привлекло внимание Матвея
Петровича. Для Николая эти минуты молчания казались длинными; он смотрел
на учителя, на его седую, склоненную над столом взлохмаченную голову и
еще мучительнее, чем в прошлый вечер в доме отца, напрягал мысль,
восстанавливая в памяти все то, что заставило его в Федоровке отложить
уже начатую было работу об эпохе Петра и взяться за другую. Он видел
теперь перед собой Федоровку, видел деревенских мужчин и женщин и
слышал их голоса; все, о чем он размышлял вечерами, трудясь над рукописью
в избе старика Минаева, сейчас снова наваливалось и волновало его.
«Нет,— говорил он себе,— я сделал то, что нужно».
— Надо читать основательно. А так что же,— сказал Матвей
Петрович, не долистав рукописи и закрыв папку. — Отступник вы.
— Но, Матвей Петрович!
— Отступник. Одно дело — эпоха Петра. Петра Великого!
Столетия отделяют нас от нее, и мы можем видеть ее в самых различных
исторических аспектах. Она описана, но для пристального исследователя
з ней еще много интересных открытий и загадок.
— Но!..
— Не спеши. Все прочитаю, что ты написал, но скажи мне в двух
словах, что ты хотел сказать своей работой?
— Как что?
— Вот именно: «как» и «что»?
— Мысли здесь разные. Понимаете, Матвей Петрович,— Николай
слегка смутился, глядя на прямо и вопросительно смотревшего на него
учителя,— я задумал историю крестьянства. Здесь пока — история одной
деревни, но факты, как мне кажется, носят обобщающий характер. Мы вот,
например, трубим об агрономии, агротехнике, механизации, но забываем
душу крестьянина, а она у него есть, эта душа, и у мужика есть свои
склонности и привычки. — Произнося это, он вспомнил о старике Минаеве,
потому что тот постоянно твердил ему о крестьянской душе. — Мы
говорим об урожайности, о хлебе, но забызаем о душе хлебороба.
— Так, психологическая сторона, душевная. Понятно.
— И еще, Матвей Петрович... Тут я, может быть, не прав, может
Пыть, это и не дело историка, но мне хотелось, чтобы не просто история,
не на полку, как описание каких-то событий, а чтобы повлиять,
воздействовать на эти события.
— Очень благородная цель, но это, батенька мой, к сожалению, не
история. Это экономические и психологические моменты текущего дня, вот
что, но это важно, согласен, очень важно и нужно.
— Что главное, что поразительно.— И Николай, загибая пальцы и
произнося при этом «во-первых», «во-вторых», «в-третьих», начал
рассказывать Матвею Петровичу, что он увидел в Федоровке. Он пересказывал
теперь все то, что говорил вчера вечером отцу и Даше, не сдерживаясь
и увлекаясь рассказом, и ему самому казалось, что сегодня он излагал
свои мысли более убедительно, чем вчера,—он замечал это по выражению
лица Матвея Петровича, но тому, как старый учитель, слушая, то и дело
вставлял реплики вроде: «Да, возможно», «Да, пожалуй».
— Ну, что же,— проговорил Матвей Петрович, когда Николай
закончил рассказывать. — Надо читать. — И он снова положил ладонь на папку
90
Анатолий Ананьев #
с рукописью. Затем добавил: — Все начинается с первой буквы, так? — и
вдруг улыбнулся болезненной, жалкой улыбкой.
— Ко всему прочему, Матвей Петрович,—не заметив вгорячах этой
болезненной улыбки, продолжал Николай, — по Кизяковскому району
второй год засуха.
— Это плохо, согласен. Но прежде давайте выпьем чайку, —
предложил Матвей Петрович и, встав из-за стола и взяв Николая под руку,
повел его на кухню, говоря на ходу: — Нас ждут, коллега.
В первые минуты за столом на кухне Николай чувствовал себя
неловко. Неловкость эта происходила оттого, что все молчали. Лишь когда
входили, Нина Максимовна спросила:
— Что сказал доцент?
— Потом, после,— ответил Матвей Петрович и как-то сразу сник,
ссутулился, и то болезненно-беспокойное выражение, какое Николай
заметил в начале встречи, снова появилось на его лице.
Матвей Петрович болел давно, и болезнь его, как он сам думал, была
неизлечимой. «Сердце не заменишь, это тебе не мотор»,— думал он,
смиряясь и отлеживаясь, когда чувствовал недомогание. Большей же частью
он забывал о своей болезни, занятый работой в школе и делами своего
класса, которым руководил. Так продолжалось из года в год, но в эту
прошедшую зиму и весну болезнь обострилась, несколько раз отнималась
рука, появились головные боли, тошноты, общая слабость; по настоянию
Нины Максимовны он пошел на прием к известному доценту, и тот
предложил ему лечь на операцию. «Как, оперировать сердце?» — спросил он
у доцента. «Да, а то будет поздно»,— ответил тот.
Пока Матвей Петрович разговаривал с Николаем и слушал рассказ
Николая, на время забыл о доценте и предложенной им операции, но
теперь, после вопроса Нины Максимовны, весь разговор в клинике снова
всплыл в памяти Матвея Петровича, и он болезненно и неприятно
поморщился. Но он наклонил голову, чтобы скрыть это выражение своего лица,
главное, от Николая, и, неторопливо помешивая чай в стакане, глядел
лишь на пальцы и ложечку и ничего не отвечал жене.
— Берите варенье, берите побольше, не стесняйтесь,— первая
нарушила тишину Нина Максимовна, угощая Николая.
— Да, да, коллега, угощайтесь, — поддержал жену Матвей Петрович.
«Милый человек,— между тем говорил он себе, стараясь уйти от
неприятных размышлений о доценте и операции; он называл так Николая и
теперь в мыслях обращался к нему, — то, что затеяли вы, это интересно
и нужно, но хватит ли у вас сил и энергии довести дело до конца? А то,
может, так же, как Иван Федосеич...» — Матвей Петрович усмехнулся про
себя, в душе, вспомнив, как знакомый ему агроном Иван Федосеевич
Савельев, живший когда-то по соседству и работавший в тресте, однажды
ездил по ответственной командировке в район для обследования, колхозов.
Матвей Петрович хотел теперь же непременно поведать эту историю
Николаю, но не решился и молча продолжал размешивать ложечкой чай в
стакане. Он все еще не мог сосредоточиться на чем-нибудь одном. «Как он
смотрел? Как они (лечащий врач и консультировавший доцент)
переглянулись?»— спрашивал себя Матвей Петрович. «Сами себя под корень
подрыли, как свинья под дубом»,— думал он, представляя Ивана Федосеевича
Савельева, сидящего напротив, на том месте, где, приходя в гости к
Беспаловым, он садился всегда и пил чай,— на этом месте теперь сидел
Николай, вновь чувствовавший непривычную неловкость от наступившего
молчания. Матвей Петрович же, вспоминая, все яснее представлял себе
Савельева, его высокую костлявую фигуру — как тот входил, садился на
стул, отпивал глоток чая и каждый раз начинал почти с одного и того же:
• Межа
91
«Нам планируют, мы планируем, Матвей Петрович, а земель не
знаем».
«А почему?»
На это Савельев не отвечал, лишь пожимал плечами.
«Ты же агроном, тебе и карты в руки».
«Какой я агроном, я толкач, а не агроном — вот кто я, если
смотреть прямо».
С особенной отчетливостью вспомнил Матвей Петрович вечер, когда
Савельев, взволнованный и обрадованный, рассказывал о своей
предстоящей командировке. В тог вечер пили не чай, а вино, принесенное Иваном
Федосеевичем. А было все это в пятьдесят первом году и теперь казалось
событием значительным.
«Вообще-то я не должен был вам ничего рассказывать, велено
особенно не разглашать, но поймите, не могу же я молчать, когда такое
событие»,— говорил Иван Федосеевич, глядя доверительно и возбужденно, и
Матвей Петрович, хотя прошло с тех пор одиннадцать с лишним лет,
хорошо помнил его доверительный взгляд и возбужденный голос и еще яснее
помнил, о чем он говорил, и те его слова теперь как бы вновь отчетливо
звучали в голове Матвея Петровича. Но то, о чем Савельев рассказывал
вначале: как его вызвали в республиканский Совмин на совещание,
сколько там было агрономов и зоотехников,— около двадцати пяти,— как всех
провели в малый зал, где заседают министры и где на каждом столе, на
зеленом сукне под стеклом, надписи: «Министр... Министр...»—и как уже
одно это придавало совещанию оттенок торжественности и чрезвычайности;
как затем из боковой двери вышел заместитель Председателя Совета
Министров и с ним еще трое и как заместитель председателя представил
этих троих: «Уполномоченные из Москвы...» — все это начало рассказа
Матвей Петрович теперь опускал и восстанавливал в памяти только
окончание, лишь то место, где Иван Федосеевич пересказывал слова
выступавшего: «Такие комиссии сейчас направлены во все республики, края и
области нашей страны. Какова же задача, поставленная перед нами партией?
Тщательно и всесторонне изучить нынешнее состояние колхозной деревни.
Мы дадим вам вопросники и направим в районы. Каждый побывает в двух
колхозах, познакомится с хозяйствами, с людьми и соответственно
заполнит все девяносто с лишним граф вопросника. Записывать надо только то,
что есть на самом деле, что увидите своими глазами, и, главное, ответы
и мнения самих колхозников о колхозе. У вас полномочия большие, вы
едете наблюдателями, а еще точнее — констататорами фактов. Для нас
важнее всего знать теперь истинное положение дел в деревне. Короче
говоря, пишите правду, как она есть, плохая или хорошая; в конце
вопросника есть графа и для вашего заключения, для ваших выводов и мнений
как специалистов. Документы ваши потом будут изучаться и обобщаться
в Центральном Комитете...»
Иван Федосеевич ушел в тот вечер от Беспаловых в приподнятом
настроении, полный всяких замыслов и, главное, взволнованный ожиданием
предстоявших теперь перемен, а Матвей Петрович долго после его ухода
не мог заснуть. Он вспомнил сейчас, какие мысли приходили ему в голову,
как он, бывший сельский учитель, всего несколько лет назад
перебравшийся в город, подумал тогда, не вернуться ли ему снова в деревню, и даже
утром, за завтраком, сказал об этом жене.
«Тебя посылают?»
«Нет».
«Так чего же нам ехать?»
Повторив сейчас мысленно эти слова и искоса взглянув на Нину
Максимовну, Матвей Петрович снова про себя усмехнулся; но усмешка его
относилась не к давнему утреннему разговору с женой, а к другому — к
тому, как Иван Федосеевич Савельев спустя месяц, уже вернувшись из коман-
n
Анатолий Ананьев •
дировки, сдав вопросник и отчитавшись, опять сидел на кухне и
рассказывал о том, что он увидел в селе и что и как написал в графах вопросника.
«Не мог написать всего, ну, не мог, плохой мне колхоз достался».
«Смелости не хватило?»
«Как можно сказать, что в колхозе плохо? Как? Язык не
поворачивается, а ведь на самом деле так и было в этом колхозе».
«Но ведь от вас требовали правду!»
«Не мог».
«А другие?»
«Что другие? Не знаю. Кто в каком районе был...»
«Ты обманул государство, народ. На основе этих документов будут
делаться выводы, а ты?!.»
Так же, как тогда, в тот вечер, Матвей Петрович, мысленно
воспроизводя теперь этот диалог, испытывал то же неприятное чувство, и на
болезненном лице его появлялись и расплывались красные пятна. «Нет,
этого не следует сейчас рассказывать Николаю, — мысленно проговорил он
себе. — После, потом; надо сначала почитать рукопись, посмотреть, а
потом, после...»
— Что же все-таки сказал тебе доцент? — опять заговорила Нина
Максимовна; она думала о своем, и ей непременно хотелось узнать, что
сказал консультировавший мужа доцент. Она видела теперь болезненное
выражение на лице Матвея Петровича, и ее волновало это.
— Потом, потом о доценте,— ответил Матвей Петрович, едва
взглянув на жену и ладонью слегка дотронувшись до ее плеча.— Вы помните
Левина из «Анны Карениной»? — обратился он к Николаю, чувствуя
потребность возобновить и продолжить именно тот разговор, начатый еще в
кабинете.
— Да.
— Его изыскания, философский трактат о мужике?
— Да.
— Его споры с братом Сергеем Ивановичем? Да что говорить, я
сейчас прочту вам.
Он сходил в другую комнату, кабинет, как она называлась, и сейчас
же вернулся с томом Толстого.
— Слушайте. Ниночка, слушай и ты, это весьма любопытно: «Для
Константина Левина деревня была местом жизни, то есть радостей,
страданий, труда; для Сергея Ивановича деревня была, с одной стороны,
отдых от труда, с другой — полезное противоядие испорченности, которое
он принимал с удовольствием и сознанием его пользы. Для Константина
Левина деревня была тем хороша, что она представляла поприще для
труда несомненно полезного; для Сергея Ивановича деревня была особенно
хороша тем, что там можно и должно ничего не делать». И вот дальше:
«Сергей Иванович говорил, что он любит и знает народ, и что беседовал с
мужиками, что он умел делать хорошо, не притворяясь и не ломаясь, и из
каждой такой беседы выводил общие данные в пользу народа и в
доказательство, что знал этот народ». А вот: «Для Константина Левина народ
был только главный участник в общем труде, и, несмотря на все
уважение и какую-то кровную любовь к мужику, всосанную им, как он сам
говорил, вероятно, с молоком бабы-кормилицы, он, как участник с ними в
общем деле, иногда приходивший в восхищение от силы, кротости,
справедливости этих людей, очень часто, когда в общем деле требовались другие
качества, приходил в озлобление на народ за его беспечность,
неряшливость, пьянство, ложь».
Он закрыл книгу и обвел сидящих вопросительным взглядом.
— Ну и что? — совершенно неожиданно для Матвея Петровича
сказала Нина Максимовна.
— Как «что»? Разве не ясно: два отношения, два взгляда на вещи.
Это я для вас, батенька мой,— обратился он к Николаю,— как вы смот-
# Межа
93
рите на деревню и мужика? Чувствуете ли вы себя «участником с ним в
общем деле», прониклись ли его мыслями и заботами или на все
смотрите со стороны, как на картину, которая близка и дорога вам, но которая
все-таки остается лишь картиной, лишь видимой и внешней формой жизни.
Ведь в деревне произошли такие перемены, такое расслоение и
объединение, что тут с налету не возьмешь. Тут понадобятся годы труда. А
впрочем, не будем предварять. Мне надо почитать, хотя я ведь тоже не
большой знаток и не судья в этом вопросе. Вот эпоха Петра...
За все время, пока сидели на кухне, Матвей Петрович наконец поднял
стакан с чаем и отхлебнул глоток. Он чувствовал слабость, хотя все еще
старался держаться бодро и говорить с Николаем; лицо его бледнело; он
едва не уронил стакан, качнулся на стуле, чуть не упал, и Нина
Максимовна, тоже бледная и озабоченная, увела его в комнату и уложила на
диван.
«Что с ним? Да он же страшно болен!» — подумал Николай.
II
В какую-то минуту, заметив, что все смотрят на него, Егор
почувствовал, что он здесь лишний, что всех пришедших проститься с покойником
смущает его милицейский мундир. Особенно он увидел это выражение
неприязни и отчужденности в глазах Настасьи, вдовы Ипатина. «Теперь-то
уж чего, умер»,— говорил ее взгляд, и Егор, подошедший было к столу и
разглядывавший лежащего в гробу старика, пятясь, отошел к двери и уже
издали, стоя почти у самого порога, в тени, продолжал смотреть на гроб
и на чуть видное за краем гроба темное лицо покойника, удивляясь
тому, что покойник — это тот самый странный старик, остановивший его
утром на базарной площади и затем вместе с ним пришедший в отделение
и молча сидевший в его кабинете. Осторожность, с какою старик присел
тогда на край стула, огромная кожаная кепка, которую держал в руках, и
сами руки, показавшиеся тогда Егору натруженными, желтыми и потре-
сканными от работы, особенно пальцы, угловатые и расплющенные, и
ногти, и весь болезненный вид старика — все это теперь живо предстало
перед глазами Егора. Он случайно оказался в доме Ипатина. Он шел к Ла-
врушину, но когда проходил по Кордонной, вспомнил, что на этой улице
живет Ипатин (он записал тогда его адрес), и ему захотелось зайти к
старому человеку и спросить, для чего же он все-таки приходил в отделение;
ему хотелось хоть как-то исправить свою вчерашнюю нерасторопность и
невнимательность, но старик уже лежал в гробу. «Зачем все же приходил
он?» — снова и снова задавал себе вопрос Егор, чувствуя, что между тем,
зачем приходил к нему старик, и тем, отчего он умер, есть, наверное, или,
вернее, должна быть, какая-то связь; ему так казалось, и он невольно
направлял ход своих рассуждений на то, чтобы уяснить себе эту связь. Он
перебирал в памяти подробности вчерашней встречи с Ипатиным,
прислушиваясь и даже будто присматриваясь — еще и в силу профессиональной
привычки — к движению своих мыслей и чувств, и уже не ощущал ни
запаха сосновых стружек, всегда сопутствующего покойникам, потому что в
гробы под белые покрывала насыпают стружки, ни запаха мертвого тела,
уже около суток находившегося в комнате, ни нафталинного духа от черных
шерстяных платков и черных широких старушечьих кофт и юбок, вынутых
из сундуков и надетых по случаю, — все его внимание сосредоточивалось
на одном: отчего умер старик? «Что может быть? Может быть, все
естественно, все шло своим чередом,— рассуждал он, не в силах ответить на
главное и уходя от главного.— Что может быть?»
— Ну,— услышал он неожиданный и негромкий возглас,
раздавшийся за спиной, в самом проеме раскрытых дверей. — Привезли?
— Привезли.
94
Анатолий Ананьев ф
— Слава богу. А краску?
— Все, все, Иван Про'кофьич.
— Слава богу.
Привезли крест, сделанный из старых водопроводных труб,— это
потом догадался Егор, когда вышел из комнаты и чуть не наткнулся на
приставленный к стене дома высокий железный крест. Теперь же,
оглянувшись и увидев говоривших мужчин, и заметив, как они тоже взглянули на
него, на его милицейский мундир и погоны,— мужчины на секунду
смолкли и затем, подталкивая друг друга, ушли на крыльцо,— заметив в их
глазах уже знакомую ему настороженность, и поняв эти взгляды, и посмотрев
на гроб и на стоявших вокруг и сидевших женщин, на вдову Ипатина
Настасью, и уловив на ее лице то же выражение: «Теперь-то уж чего,
умер»,— уловив это выражение на лицах других, по-прежнему смотревших
на него, — он повернулся и направился к выходу. Уже выйдя из избы и
очутившись на улице, он все еще не мог отделаться от гнетущего
впечатления. Он думал: «Надо идти»,— но продолжал стоять у калитки; что-то
еще удерживало его здесь, что-то еще казалось невыясненным, но что,
Егор еще менее мог сейчас сказать себе, — что же? — чем в ту минуту,
когда находился в комнате, у гроба.
— Отчего умер? — спросил он, повернувшись к сидевшему на
лавочке пожилому морщинистому человеку и глядя сверху на его голову,
покрытую редкими седыми волосами.
— Отчего в нашем возрасте умирают, — охотно отозвался сидевший. —
От старости. Годы прошли, и умирать пора.
— Болел чем?
— Кто знает.
— Да, кто знает, — повторил Егор негромко и более для себя, относя
это не столько к тому, о чем разговаривал сейчас, сколько к своим
тревожным раздумьям: отчего умер Ипатин?
— Во-он трубу разобранную видишь? — Сидевший на лавочке
протянул сухую руку, показывая на противоположную сторону улицы и
приглашая Егора взглянуть туда, на что показывал.— Кирпич на крыше, во-
он. Печь-то успел перебрать, а трубу не закончил. Нынче должен был, а
оно вон как обернулось. Часом живет человек.
— Он что, печником был?
— Так ведь оно как сказать, был, не был, а класть умел. Да он
ничем не гнушался, хоть печь сложить, хоть ограду выправить,— охотно
продолжал сидевший на лавочке старик. — Как это говорят: рука-то у него
золотая, да и в руку медь не клади, о-о, брал так брал, ни капли
своего не оставит.
— Умер-то отчего?
— Кто знает. Опять же: время пришло...
«Может быть, ничего и нет, все естественно»,— снова подумал Егор,
слушая старика. «Что же я стою, надо идти»,— спохватился он, вспомнив,
куда и зачем шел.
Сегодняшний день его был так же наполнен событиями, как и все
предыдущие, и, как всегда, десятки разных и неожиданных вопросов
возникали в голове, и это, что и как он думал о неожиданной смерти Ипатина, не
было для него главным и не могло долго занимать его. Допрос «доктора тэ-
жэ» Сивирина — он допрашивал его перед концом работы, как раз перед
тем, как идти сюда,— и мысль о том, следовало ли уже теперь просить у
прокурора санкцию на арест Сивирина или повременить еще, по-прежнему
беспокоила Егора; и что произошло между ним и Шурой — он ушел от нее
на рассвете и весь день ни на минуту не забывал о ней,— это тоже и еще
сильнее, чем дело Сивирина, сейчас волновало Егора; именно потому, чем
менее он видел возможностей еще что-либо добавить к тому, что уже знал
об Ипатине, тем явственнее ослабевало желание думать о нем.
# Межа
95
За низкими крышами деревянных изб, где садилось солнце, были
видны новые многоэтажные жилые дома, «наши Черемушки», как писалось в
местных газетах,— туда посмотрел Егор, ладонью прикрыв глаза от
бьющего света, туда ему надо было идти; и он, еще раз окинув взглядом
двор, калитку и старика на лавочке у калитки и ничего больше не говоря
старику, зашагал прочь. Он шел быстро, чувствуя облегчение оттого, что
удалялся от дома Ипатина и от неожиданных и тревожных раздумий. Тени
от домов, прямые и длинные, падали на дорогу, на тротуар, на траву по
обочине, росшую дружно и густо, и там, где обочину освещало солнце,
трава казалась особенно зеленой и радовала глаз; и деревья, стоявшие
вдоль палисадников и, как решета, просеивавшие солнце, тоже казались
удивительными и воздушными в этот предзакатный час и оживляли улицу.
Егор чувствовал прохладное дыхание вечера, и от этой свежести, от вида
зелени и неба мысли его как бы настраивались на другой лад. Он не
заметил, как снова начал думать о Шуре. Так же, как днем в кабинете,
отвлекаясь от дел, звонков, он представлял ее себе, но не той, какой знал
и видел всегда, а другой, какой она была сегодня перед рассветом, когда
он уходил от нее: в халате, лишь накинутом и незастегнутом, новая и
необычная для него,— так сейчас, шагая по тротуару вдоль низких
деревянных изб, он представлял ее себе той и тихо, для себя говорил:
«Какая она!»
— Знакомьтесь,— сказал Лаврушин, представляя Егору Николая
как своего бывшего школьного товарища и теперь сельского учителя
истории, пишущего или, вернее, уже написавшего кандидатскую диссертацию,
а на какую тему, он пока сам толком не знал, потому что не успел еще
подробно поговорить с ним, как пришел Егор; и, представляя Николаю
Егора как своего университетского друга, с которым учился на одном
факультете и работал сейчас в одном городе, хотя и не в одной
организации, не в милиции, а в прокуратуре, но это уже несущественно.— Одно
дело делаем, верно, Егор,— докончил Лаврушин, кладя Егору на плечо
руку и не замечая своего снисходительного тона и этого жеста —
похлопывания,— ставшего уже для него, преуспевающего следователя городской
прокуратуры, привычным. Ему теперь особенно хотелось казаться своим
среди бывших друзей, и он старался быть им, улыбался, говорил громко
и, как представлялось ему, запросто, но он не мог при всем том не
оставаться самим собой, и сознание своего превосходства и преуспевания по
службе выпирало из него так же, как выпирала из-под пиджака белая
нейлоновая рубашка, которую он надел только что, перед самым приходом
гостей, и еще не успел застегнуть на все пуговицы.
— Убери руку,— неожиданно раздраженно проговорил Егор,
потому что ему неприятны были и тон и похлопывания Лаврушина.
— Ты чего?
— Убери.
Лаврушин смутился и чуть заметно покраснел, но, краснея,
продолжал улыбаться, как бы говоря этим: «По-дружески же».
— Ну, а зашел ты вовремя,— перестав улыбаться, сказал он.—
Старухи нет. — Старухой он называл свою мать, которая сегодня
работала во вторую смену и должна была вернуться с фабрики только к
двенадцати ночи.— Сам хозяйничаю, видишь.— Он кивнул головой в сторону
стола, на котором уже стояли водка, две рюмки и были приготовлены
десертные тарелки и вилки.
— Да, вижу. По какому поводу торжество?
— Как «по какому»? — пододвигая стул Егору и приглашая сесть,
продолжал Лаврушин.— Во-первых, у меня гость,— он указал на
Николая,— и, во-вторых, ты тоже гость, потому что, черт возьми, по месяцу
мы с тобой не видимся, хоть и живем в одном городе.
96
Анатолий Ананьев О
— Дела, — как бы оправдываясь, сказал Егор.
— Это просто хорошая отговорка, не больше. Ну,— он на минуту
остановился, — а что в-третьих? В-третьих, будем считать, что это —
маленькое новоселье. Вы, друзья, пока побудьте вдвоем, а я сейчас,
моментом,— добавил он,— надо усилить стол,— и пошел на кухню.
Пока он был на кухне, споласкивал третью рюмку и вытирал ее
полотенцем, пока открывал консервы и дополнительно нарезал хлеб. Егор и
Николай сидели за столом друг против друга, не зная, что сказать, оба
чувствуя неловкость оттого, что Лаврушин, едва познакомив их, оставил
одних. Егор, хмурясь, осматривал комнату. Он как бы не замечал
сидевшего напротив Николая. Но вместе с тем, как он видел уже знакомые ему
светлый диван, светлый шифоньер и невысокую этажерку с книгами,— все
это было перевезено с прежней квартиры Лаврушина, — и мысленно
отмечал ветхость лаврушинской мебели, белизну еще не обжитых и не
запыленных стен новой квартиры, он все время чувствовал на себе взгляды
Николая и сам начал незаметно рассматривать его. Видя его гладко зачесанные
назад волосы, он говорил себе: «Конечно, учитель». Видя его спокойное
и, как представлялось Егору, ничего не выражавшее лицо, он мысленно
произносил: «Какую диссертацию ты можешь написать?» Он все еще был
недоволен лаврушинской снисходительностью и похлопыванием и
раздражение свое переносил на Николая.
— На какую тему? — обратился он к Николаю, чтобы только не
молчать.
— Что? — в свою очередь, спросил Николай, который был занят
своими размышлениями, далекими от того, о чем думал Егор, и эти
размышления волновали его сейчас так же, как и несколько часов назад, когда
он сидел в доме старого школьного учителя истории Беспалова.
— Диссертация.
— А-а... Да какая это диссертация, это еще только проба.
— Все же?
— На историческую,— уже совсем неохотно, вполголоса проговорил
Николай и, встав из-за стола, окликнув Лаврушина: «Скоро ты там?» —
и выслушав долетевшие из кухни слова: «Сейчас иду, сейчас, минуту!» —
и неодобрительно покачав головой, направился к этажерке с книгами. Он
давно уже приглядывался к этажерке и давно заметил лежавший на ней
среди других книг роман Толстого «Анна Каренина»; подойдя, он взял
именно эту книгу и, раскрыв ее, начал перелистывать страницы. Николаю
хотелось теперь же отыскать то самое место, которое читал сегодня ему
Беспалов. «Для Константина Левина деревня...» — мысленно произносил
Николай, пробегая взглядом по абзацам, видя и прочитывая пока совсем
не то, что нужно. Он знал, что Егор сейчас смотрит на него. Но он не
испытывал ни малейшего желания разговаривать с Егором. «Что он может
понять в том, что делаю я! Он не знает и сотой доли того, что знаю я, и не
может знать в силу определенных причин»,— думал он, вполне
представляя узость взглядов лейтенанта милиции, объясняя себе эту узость и
относясь к ней снисходительно как существующей «в силу определенных
причин». Он более был склонен рассказать все Лаврушину, чем Егору, но
неожиданное появление Егора только смутило и охладило его.
«Хлюст»,— думал Егор, разглядывая спину Николая и особенно
обращая внимание на его пиджак с разрезом. Он видел и чувствовал
теперь в Николае то, что минуту назад видел и чувствовал в Лаврушине:
но в то время как Лаврушину он мог простить многое, он не хотел и не мог
ничего простить Николаю. «На историческую,— про себя повторил он
слова Николая. — Но что ты знаешь о жизни, чтобы писать диссертацию, что
ты знаешь о настоящих проблемах, какие волнуют людей?»
— Заждались,— прерывая размышления Егора и размышления
Николая, сказал Лаврушин, входя в комнату и неся в руках сразу и рюм-
• Межа
97
ку для Егора, и тарелку с нарезанным хлебом, и распечатанную банку
крабов на этой тарелке рядом с ломтиками хлеба, и еще нож, ложку, вилку
и желтый, будто уже наполненный лимонадом фужер. — Но кто же знал,
что вы придете сегодня! Все, что есть, а в общем, неплохо,
неплохо,— продолжал он, расставляя все принесенное на столе и первой
наполняя рюмку Егора из уже раскупоренной бутылки.
Николай, положив книгу на прежнее место, вернулся к столу; но в то
время как он усаживался, двигая стулом, Егор поднялся и вышел из-за
стола.
— Ты чего? — удивился Лаврушин.
— Извини, не могу.
— Чего так?
— Спешу.
— Куда? Уже вечер, скоро ночь, куда? Может быть, к девочкам? —
добавил он, повернувшись к Николаю и чуть заметно и прищуренно
подмигнув ему.— Если к девочкам, то возьми и нас, а если к одной...— Он
опять посмотрел на Николая, ища у него поддержки и согласия со своими
мыслями (Николай же только улыбался, принимая все за шутку).— Если
к одной, то подождет. Будь же ты наконец современным, относись ты к
этому просто. Поверь мне: девочки сами сейчас на свои любовные связи
смотрят просто, по-современному.
— Оставь глупые шутки,— негромко и тем же строгим тоном, каким
говорил «убери руку», произнес Егор, прерывая Лаврушина. «Только об
этом, всегда об этом,— уже мысленно и с раздражением продолжил
он, испытывая желание поскорее выйти отсюда и придумывая повод для
этого. — Всегда одно и об одном: по-современному...»
— Да что с тобой сегодня на самом-то деле?
— Як тебе по пути, на минутку.— Егор сказал противоположное
тому, как все было. — К старику здесь одному шел, я к нему, а он уже
в гробу, — и невольно, чуть заметно усмехнулся.
— Не дождался, отдал концы.
— Не в этом дело.
— Убийство?
— Нет.
— Самоубийство?
— Не-ет.
— А что? В трех словах, любопытно.
— Все это...
— В трех словах, ну?
Нехотя и лишь потому, что Лаврушин уже не улыбался, и все в нем
казалось серьезным, и в тоне, каким он настаивал, было выражено
искреннее любопытство, Егор уступил просьбе и, обращаясь лишь к Лаврушину и
не замечая Николая, рассказал все, что знал и думал о старике Ипатине,
вставив в конце, что все же весьма странно и загадочно все это.
— Ипатин! — воскликнул Лаврушин.— Это не тот ли вахтер со
швейной, что проходил у меня по делу? Где его дом, на какой улице?
— На Кордонной.
— Он! А зачем он к тебе приходил?
— Этого я как раз и не знаю.
— Он, понимаешь... Когда я взялся разбирать это дело,— ведь на
фабрике было крупное хищение! — я сразу почувствовал, что охрана
замешана. Так оно, кстати, и оказалось. Правда, не все...
— А Ипатин?
— Он непричастен, как теперь выяснилось, но я его проверял. Как
всех вахтеров. У него собственный дом под железом, а на какие деньги
построен? Какие могут быть у вахтера деньги? Так он к тебе, наверное,
оправдываться...
7. «Октябрь» № 11.
98
Анатолий Ананьев 9
— Значит, он непричастен?
— Нет. Да брось ты об этом старике, умер и умер, ну и что? Я знаю,
все в порядке, все естественно, чего он тебе дался? Он судился и сидел;
по запросу на него целый том пришел, в сейфе у меня, хочешь, приди
полистай, чего там только нет! А-а, все они воры, жулики и дельцы.
Садись, пропустим-ка лучше по рюмке, да хоть квартиру мою похвали,—
докончил он, опять приглашая Егора к столу и преграждая ему дорогу
к выходу.
Егору не хотелось оставаться, но в нем уже не было той решимости
немедленно уйти, с какой он поднялся и вышел из-за стола. Он стоял,
раздумывая, уступить или не уступить просьбе Лаврушина, и прикидывая в
уме, не опоздает ли к Шуре; в конце концов, уступая настоянию
Лаврушина, повернулся к столу и уже взялся было за спинку стула, но в это
самое время увидел, что Николая за столом нет, что тот вновь стоит
возле этажерки с книгами, стоит спиной к двери и к ним, Лаврушину и
Егору, и перелистывает роман Толстого. Как только Егор увидел это — спину
Николая и особенно его пиджак с разрезом,— не произнося «хлюст», он
всем телом ощутил это выражение, и свое отношение к Николаю, и
отношение к Лаврушину.
— Нет, не могу, спасибо,— сказал он, прощаясь и не протягивая
руки Лаврушину.— Мне на дежурство,— тут же добавил он, чтобы Лавру-
шин больше не возражал и не задерживал его.
— Ты же говорил, в четверг.
— Перенесли на сегодня.
— Тогда в четверг приходи.
— Постараюсь.
Очутившись на улице, оглядевшись и зашагав по тротуару, опять
быстро и размашисто, Егор почувствовал еще большее облегчение, чем в
минуту, когда покидал избу Ипатина. Легкость эта происходила сейчас
в нем от сознания того, что то промежуточное время, которое ему надо
было чем-то заполнить и которое он заполнил так необдуманно и неудачно,
кончилось, что теперь, уже не заходя никуда и не встречаясь ни с кем, он
мог идти к Шуре и что ничто уже не могло отвлечь его от воспоминаний и
размышлений о ней. В нем еще жило то лаврушинское, отравляющее «по-
современному», но чем дальше он отходил от дома Лаврушина, тем
приглушеннее звучало в нем это слово и тем сильнее возникала в душе его
нежность к ней. «Какая она!» — снова говорил он себе, как говорил днем,
вспоминая и думая о Шуре.
Он шел тем же путем, каким шел сюда, к Лаврушину, но он
заметил, что идет тем же путем, только тогда, когда поравнялся с домом
Ипатина и когда сквозь редкую решетчатую ограду увидел стоявших во дворе
людей (стоявших так, как обычно стоят люди перед домом покойника), и
увидел высокий железный крест, прислоненный к стене (этот крест был
теперь выкрашен в темно-зеленый цвет, и рядом еще находился человек с
банкой и кистью в руках), и увидел скамейку у калитки и старика на
скамейке (тот был уже в телогрейке и сидел понуро, разминая в руках
тоненькую папиросу), того самого старика, который так охотно
разговорился в прошлый раз с Егором. Егор только чуть замедлил шаг, но не
остановился. «К ней!» — звучало в душе Егора; он прошел мимо и
удалялся, не оглядываясь, чувствуя себя обновленным и чувствуя все вокруг
обновленным и чистым.
Хотя уже начинало темнеть, и трава на обочине, и дорожная колея —
все сливалось, принимало один серый цвет, и дома, побеленные и непо-
беленные, одинаково смотрели темными окнами, и крыши, не крутые,
шиферные и железные, неразличимо темнели на фоне вечереющего
неба,— хотя все было так, и на столбах еще не зажигались фонари, Егор,
# Межа
99
проходя мимо изб и обращая внимание на ставни, наличники, карнизы,
хорошо различал на них узорчатую, кружевную деревянную вязь; он
заметил и крышу дома с разобранной трубой, и в памяти живо встали
слова, сказанные сегодня сидевшим на лавочке, у ипатинской калитки,
стариком: «Часом живет человек». Егор повторил это выражение,
вглядываясь в крыши и трубы, затем повторил слова, как бы отгораживаясь
ими от того, что действительно мог бы теперь думать об Ипатине; но как
раз потому, что он отгораживался, он все более погружался в
размышления и воспоминания о нем.
Выйдя на проспект, он остановил такси; сидя в машине, поглядывая
на мелькавших сбоку прохожих, и не замечая их, и не замечая
зажигающихся витрин, думал о том же. Перед Егором снова возник вопрос:
«Отчего умер старик?» И он принялся мысленно сопоставлять то, что знал
сам об Ипатине, с тем, что услышал о нем сегодня от Лаврушина. Он
повторял слова Лаврушина и вместе с тем, как говорил себе: «Проверяли,
на какие деньги дом у него построен»,— видел в воображении Ипатина,
сидящего в кабинете, кожаную кепку на его острых, старческих коленях,
согнутую папку в руках — это была домовая книга, — Егор вспомнил, что
на изломе папки он тогда заметил и прочитал несколько букв: «До-
мо...» — и ему сейчас было понятно, зачем приходил старик; и робость
и бледность Ипатина были понятны ему сейчас и даже то озлобление в
глазах и на лице старика. В то время как Егор говорил себе, опять и
опять повторяя слова Лаврушина: «К швейному делу, впрочем, старик,
как выяснилось сейчас, непричастен»,— он как бы входил в то состояние,
в каком должен был находиться Ипатин, чувствуя обрушившуюся на него
несправедливость. Егору казалось, что он понимает обиду старика и что
умер Ипатин не от старости.
«Не выдержал».
«Или... преступление?!»
Егор пока не произносил это, но всем ходом рассуждений и чувств
приближался к этой мысли, вдумываясь в слова Лаврушина и представляя
себе, как все было, как Лаврушин,— ОН вписал, ОН вел дело! —
составляя список, самоуверенно и с легкостью говорил: «А-а, все они...»
«Вон ты кто!» — тревожно и торжествующе поднималось в душе
Егора, когда он теперь думал о Лаврушине, о его квартире, о Николае и
о его пиджаке с разрезом...
Ill
Настасья не плакала, потому что горе бывает разным и, как все на
свете, имеет свою меру. Смерть Андрона, первого мужа, была для нее
страшной и непоправимой бедой; смерть же Ипатина вызывала сейчас
лишь жалость, какую нельзя было не испытывать к этому доброму, как
ей казалось, одинокому и несчастному человеку. Она сидела перед
гробом, и запах горевшей в холодных и скрещенных на груди руках
Ипатина восковой свечи казался запахом смерти, уже знакомым, однажды
ощущавшимся ею, когда в таком же вот деревянном гробу и так же
обложенный сухими сосновыми стружками, бугрившимися под белым
покрывалом, лежал худой, сморщенный, ставший как-то вдруг, сразу, неузнаваемо
маленьким Андрон Наумов. Тогда для отпевания она пригласила живших
неподалеку двух пожилых женщин, Марфу Ильиничну и Ефросинью
Григорьевну; эти же самые женщины, — Настасьины сестры во Христе —
Марфа и Ефросинья, одетые все в те же широкие черные юбки и кофты
и повязанные черными пронафталиненными платками, сидели теперь
вместе с нею перед гробом Ипатина и поочередно, то одна, то другая,
тихо, тем проникающим в душу шепотом, как только умеют делать отпе-
валыцицы покойников, повторяли молитвы и причитания. Ни во дворе, ни
в комнате, кроме них, уже никого не было; хоронить собирались завт-
100
Анатолий Ананьев #
pa, и это была ночь прощания. Для Настасьи она казалась
нескончаемо долгой. Она как будто то дремала, закрывая глаза и низко склоняя
голову на грудь, и тогда, словно не желая ее будить, постепенно
затихали голоса Марфы и Ефросиньи; то вновь приподнимала голову, и в
старческих глазах, во всем лице ее, освещенном красным и мигающим
язычком горевшей свечи, появлялось выражение отчужденности, пугавшее
и настораживавшее отпевалыциц. Но в то время, как им казалось, что
Настасья подавлена и угнетена горем и что горе это настолько велико,
что даже и «слезу-то, ишь, перекрыло, и давит пудами каменными», в
душе Настасьи происходило совершенно иное и понятное только ей
движение мыслей. «Господи,— говорила она себе,— ведь приедет теперь, не
написать нельзя, а приедет... Боже, опять разговор, опять...» Она думала
о брате, Семене Минаеве, которого ненавидела и боялась и перед которым
всегда чувствовала себя особенно слабой и беззащитной. Он уже приезжал
однажды, после смерти Андрона, и приезд тот был памятен ей. Он явился
под вечер, когда вот-вот должны были зажечься уличные фонари и сумрак
надвигавшейся теплой летней ночи уже вороненой синью лежал на окнах
домов. Настасья была во дворе и в первую минуту увидела у калитки
лишь темную фигуру человека с мешком за спиной и с редкой и
выдвинутой вперед клином бородкой; но она сразу же узнала его. «Он!» — с
удивлением и мгновенно вспыхнувшей тревогой сказала она себе и торопливо,
как только позволяла ей нездоровая и душившая полнота, направилась к
калитке. Хотя перед нею сейчас были желтые руки Ипатина с горевшей в
них восковой свечой, было худое и желтое лицо с медными пятаками в
провалах глаз, был сумрак комнаты и знакомые черные кофты и черные
платки Марфы и Ефросиньи,— лишь временами, как бы выходя из забытья,
она видела это,— она жила в ином мире, в своем прошлом, которое
должно было повториться с нею, и именно это — должно
повториться — как раз и держало ее в напряжении. «Да, да, он»,—тихо и с той
же нарастающей тревогой, будто все уже повторялось, говорила она
себе, и чувство, с каким она тогда шла к калитке, навстречу брату, вновь
охватывало ее. Сейчас он снимет с плеч свой нетяжелый, с хлебом и
салом в полотенце и с банкою грибов в старой газете (потом он
преподнесет их ей, как гостинец), мешок, поправит на себе ветхий суконный
пиджачок и, разводя руки и говоря при этом: «Ну здравствуй, сестра!»,—
шагнет к ней и обнимет ее. Она с замиранием ожидала теперь мгновения,
когда он сделает это, и все в ней съеживалось и вздрагивало от
предстоящего неприятного прикосновения его холодных губ; она
почувствовала это прикосновение, жесткая и редкая бородка словно вновь
защекотала ей шею и, как тогда, кровь хлынула к вискам и щеки и шея
покрылись гусиной кожей; она почувствовала на плечах его короткие, худые и
цепкие руки, и объятие это, помнившееся ей еще с детства и всегда
вызывавшее отвращение, было теперь особенно неприятно и противно, будто
огромный клещ вцеплялся в ее полное и мягкое тело.
«Аль не рада?»
«Как не рада, родному брату и не рада!»
«Ну, веди в избу».
Пропустив вперед Настасью, он двинулся следом, взяв мешок и
держа его на весу перед собой. Мягкий стук его ботинок на резиновых
подошвах, шорох одежды и дыхание, неровное и усталое,— теперь она как
будто вновь слышала за спиной эти звуки и слова: «Крыльцо-то ладить
надо, шатается»,— которые он произнес, поднимаясь по ступенькам, и
на которые она ничего не ответила, к надтреснутый, стариковский голос,
прозвучавший уже в полутьме комнаты, когда переступили порог, и она,
проводя рукой по стене, искала вдруг потерявшийся включатель: «Что
же ты, у себя дома, а шаришь, ровно в гостях»,— на что она также ничего
не ответила, а лишь подумала: «Да где же он в самом-то деле,
господи!» — и все последующие минуты, как Семен рассматривал комнату, как
# Межа
101
и что говорил ей и как и что говорила ему она,— все оживало в
памяти Настасьи.
«Оградку-то справила?» — спрашивал он, глядя на нее как будто
единственным и налившимся краснотою бельмовым глазом; маленький же,
зрячий глаз его был прищурен, будто от света низко висевшей над
столом лампы, но на самом деле оттого, что старик чувствовал себя сильнее
духом и хитрее сестры и прищуром выражал эту свою силу и хитрость.
«Справила».
«Заслужил Андрон, что и говорить».
Он пил водку и ел яичницу, приготовленную на сале, и Настасья
теперь с удивительной ясностью, как это бывает с людьми лишь в самые
тяжелые минуты жизни, видела перед собой освещенное светом
морщинистое лицо брата; он ел неторопливо, и в редких и желтых зубах его
виднелись белые комочки непрожеванного яичного белка и смоченного
слюною хлеба. Она чувствовала запах водки и запах жареного сала, хотя
в комнате пахло лишь догоравшей в мертвых руках Ипатина восковой
свечой, и по всему ее телу, как в тот вечер после выпитой (он настоял,
и она не смогла отказаться) водки, как бы растекалось успокаивающее
душу тепло. Может быть, оттого, что близкая старость иногда делает
людей добрее, в ней на мгновение шевельнулось забытое, но жившее все эти
годы родственное чувство к брату, и что-то вроде улыбки, насильственной,
вымученной, появилось на чуть дрогнувших, бледных, покрытых
морщинками губах. «Что ж, и его понять надо, мается человек жизнью»,—
мысленно проговорила она. Ей хотелось теперь, спустя столько лет, хоть как-то
смягчить то впечатление, какое осталось тогда от встречи и особенно от
разговора с братом; но между желанием и теми картинами, какие
возникали в ее голове отчетливо и, казалось бы, с давно стершимися
подробностями, лежала несмыкающаяся пропасть; и голос старого Минаева и его
налитый краснотою незрячий глаз как бы распугивали, давили и
приглушали в ней все доброе и располагающее к брату.
«Ты, Настя, не скрывай, хоть покойник и не может подтвердить, но
я скажу; долг платежом красен».
«Какой долг?»
«Забыла?»
«Господи, какой долг?»
«Эть, коротка у вас, у баб, память. Пачпорт-то,— он посмотрел
вокруг и, заметив на комоде рядом с зеркалом и фотографиями небольшую
деревянную шкатулку, накрытую кружевной салфеткой, остановил на ней
взгляд,— небось, там хоронишь, а? Я говорю, пачпорт? А ведь его надо
было получить. Не я к вам, а вы ко мне прикатили ночью. Что за скрип,
думаю, под окном, кого в такой поздний час несет? Ан это вы, голубчики:
«Брат Семен... Семен Петрович... Семен, Семен, погибаем...»
Покойничек-то, Андрон, в ноги, и гордости как не бывало: «Помоги, справка от
сельсовета нужна, пачпортизация».
«Андрон просил, Андрон и уплатил».
«Не мне, не мне, эть у тебя память бабья. Надо было еще, чтобы кто-
то принял те деньги, и Андрон, тот понимал это и век благодарен был.—
Он старался говорить медленно, маленький глаз его, которым он то и дело
посматривал на Настасью, был все так же прищурен; выпитая водка,
казалось, не пьянила, а, напротив, отрезвляла его, и лишь лицо будто
наливалось свекловичным соком. Это раскрасневшееся лицо теперь словно
стояло перед глазами Настасьи. — Ты вот что: нынче я в беде, избу надо
править, хозяйство обновить... Я ведь знаю, что после Андрона осталось
у тебя».
«Коршун ты».
«Но-но!»
102
Анатолий Анвньев Ш
«Коршун несчастный, всю жизнь крыла свои так и пущаешь надо
мною».
«Эть ты как?!»
«Бери, забирай все, грабь!»
«Но-но!»
«Коршун, коршун несчастный!»
Она повторяла эти слова теперь, и вся с годами копившаяся неприязнь
к брату с новой силой охватывала ее. С лампой в руках она как будто вновь,
как в ту ночь, лезла на чердак, и Семен Минаев внизу поддерживал
лестницу; потом и он тоже забрался на чердак, и уже вместе — брат и сестра —
рылись в запыленном чердачном хламе, отыскивая нужный узелок,
спрятанный когда-то Андроном. Настасья знала, где он был спрятан, но в том
возбужденном состоянии, в каком находилась, ничего не могла вспомнить
и лишь поминутно повторяла: «В красной тряпице, в красной тряпице».
Она наклонялась, ей тяжело было дышать; пыль еще более затрудняла
дыхание; лоб и щеки ее были потны и красны; и лицо брата — он стоял так
близко к ней, что она слышала его дыхание, — тоже было потно и красно, а
незрячий глаз при свете лампы, казалось, вращался, оглядывая все вокруг.
Настасья теперь видела все это и себя как бы со стороны, видела согнутые
старческие фигуры и огромные тени от них, двигавшиеся между
стропилами по рейкам и еще не поблекшим листам проолифенного железа, и то,
о чем не думала и не могла думать тогда, в ту ночь: «Что за жизнь; копить,
таиться, снова копить и таиться, что за жизнь?» Эта простая и ужасающая
истина приходила ей на ум теперь. «Господи!» — твердила она, желая
сбросить с себя то, что сейчас наваливалось на нее тяжелым душевным
грузом. Но она уже не могла остановить раскручивавшуюся ленту
воспоминаний: узелок в красной тряпице был наконец найден, они спустились
вниз, вошли в комнату, пыльные, потные, с налипшей паутиной на платье,
на пиджаке, и, не замечая этого, не отряхиваясь, принялись развязывать
узелок. На миг, когда были отвернуты концы красной тряпицы и отдернуты
закрывавшие содержимое ее, Настасьины, полные, с короткими и
одутловатыми пальцами, и его, Семена Минаева, с худыми, костистыми
пальцами руки, — словно маленькими .искорками, вспыхнули и засветились на
столе под электрической лампочкой золотые кольца, коронки, серьги. Хотя
все это давно, с войны, хранилось в ее доме, но она еще ни разу сама не
видела это богатство вот так, все сразу, в кучке, при ярком, прямом
освещении. Она была потрясена и заворожена видом золотых вещей. Но сейчас
она не думала о себе; снова и снова перед нею повторялось то, что
запомнилось ей тогда и что теперь казалось главным и характеризующим
сущность брата: постоянно прищуренный маленький глаз его вдруг, впервые за
весь тот вечер, округлился, стал большим, равным бельмовому. Никогда
прежде и никогда потом она уже не видела брата таким, с одинаковыми,
большими, круглыми и выпученными глазами. Он брал золотые кольца и
дрожащим голосом повторял: «Не все мне, поровну, как водится меж
родственниками»,— взвешивал их на ладони, подбирая одинаковые и затем
раскладывая на две горки. Теперь для Настасьи эти минуты тянулись
долго, пока он раскладывал, и хотя она уже не произносила «коршун» и
«крыла», но все переживаемые ею чувства сами собой как бы собирались в эти
точные и, как ей представлялось, самые страшные определения. Потом,
когда все было поделено и спрятано, и успокоившийся и притихший Семен
уже лежал в приготовленной Настасьей постели, кряхтя и ворочаясь,
пытаясь уснуть, и сама Настасья тоже, уже раздевшись, утопала в своей перине,
чувствуя мягкость и тепло и согреваясь этим теплом,— впервые за всю
жизнь случившееся горе не вызвало у нее слез; она была в том же
состоянии, в каком была теперь, сидящая перед гробом Ипатина. Она думала о
муже, как он доставал и накапливал это богатство. Беспалый, с одним лишь
большим пальцем на левой руке, он всю войну работал на хлебовозке, и
остававшиеся за день буханку или две (это только он знал, как и что надо
# Межа
103
было делать, чтобы' оставались буханка или две) хлеба нес на вокзал, к
эшелонам эвакуированных и выменивал на кольца, серьги, лишь бы
золото, потому что оно, только оно, как ему казалось, имеет и будет иметь
цену, все же остальное — прах. Эшелоны проходили каждый день, иногда
по три, по четыре скапливалось их на станции, и небольшая столовая,
сооруженная специально для эвакуированных, не могла обеспечить всех, и
люди, измученные и голодные, бегали между путей и по станционной
площади и готовы были променять все на хлеб; тут-то и поджидал их Андрон
Наумов. Настасья не ходила на перрон, к поездам; она не умела
выменивать; но она знала, как это делал Андрон, и тогда, и особенно теперь,
хорошо представляла все: люди, снующие вдоль эшелонов, и среди
станционного шума и суеты, за синими дощатыми ларьками, прислонившийся
плечом к стенке Андрон с буханкою под полой. Он производил обмен быстро и
скрывался сразу же, нахлобучивая шапку. «На светлый день,— приходя
домой, говорил он,— не на черный, их и так много, а на светлый, На-
стюшка!» И голос его, как живой, звучал в ушах Настасьи. Ей
казалось, что на мертвом лице Андрона, когда он лежал в гробу, и на худом и
неподвижном лице Ипатина, которое она видела теперь перед собою, было
одно и то же выражение: «На светлый день». Она слегка наклонилась над
гробом, чтобы пристальнее всмотреться в лицо Ипатина; и хотя оно ничего
не выражало, потому что медные пятаки на глазах как бы скрывали теперь
даже те страдания, в каких умирал старый Ипатин, Настасья
откачнулась, вскрикнув тяжелым, беззвучным душевным криком. Она увидела не
то, что было на самом деле, а другое, что рисовало ее воображение и
что она ожидала увидеть. «Боже,— прошептала она, шевельнув
морщинистыми и бледными теперь губами,— дай им приют и покой!» Но не
столько им, как ей самой, был нужен этот покой. Более, чем когда-либо, она
страдала сейчас, и страдание ее происходило от сознания того, что она
никогда не жила своими желаниями, своей волей, а лишь подчинялась,
подчинялась и подчинялась — сначала матери, потом брату Семену, потом
Андрону, кочуя с ним по городам, мытарствуя в ожидании этих самых
«светлых дней» (она знала, какой смысл вкладывал в них муж), потом
Ипатину; чутьем улавливала она, что жизнь ее была пустой и никчемной,
как она была пустой и никчемной у Андрона и Ипатина, лежавшего теперь
в гробу, что мучения и страдания их были «противу ветра», «от духа»,
«от дурного характера» и что она, как пристяжная к кореннику, пробежала
по жизни, позванивая теми же бубенчиками, какие звенели под дугой
коренника. Ей страшно было оглядываться на прошлое, но вместе с тем она
чувствовала, что если бы ей пришлось жить снова, она не смогла бы
ничего изменить в своей судьбе,— от нерешительности, от сочувствия к
«маявшимся жизнью» рядом с нею людям,— и сознавать это было для нее
еще страшнее и мучительнее; она не хотела оглядываться на прожитое, но
это прожитое как будто само собой наплывало на нее темной и мрачной
стеной.
« Господи боже !.. »
«Господи!..»
С тех пор, как Настасья помнила себя, ей казалось, что она всегда
жила в напряжении и боязни.
Сначала это был зарытый у амбара хлеб. И хотя ей никто не говорил
тогда, для чего делалось это, и она знала, что хлеб не чужой, не
украденный, не привезенный откуда-то, и в детском сознании ее еще никак
не укладывалось, что кто-то может вдруг, ни с того ни с сего, прийти и
забрать принадлежащее человеку добро, но вся обстановка в доме, лица
матери, деда, отца, брата Семена, их приглушенные голоса, когда они
говорили о хлебе, и сама та холодная осенняя ночь, когда копали у
амбара яму (Настасья сидела в избе, в темноте, на печи, и ей казалось, что
104
Анатолий Ананьев Ф
она слышала, как скрежещут железные языки лопат о мерзлую землю),—
все это вызывало в ней нехорошее предчувствие. Для нее не
существовало понятий «законно» и «незаконно», но она видела, что было что-то
противоестественное в том, что делали ее отец и брат, и это
противоестественное не могло, казалось ей, остаться безнаказанным; именно этот страх
перед наказанием, не божьим, а людским, какою-то постоянной тяжестью
давил ей душу. Яму, впрочем, так и не открывали, хлеб сгнил. Она
узнала об этом от брата, когда он спустя много лет однажды приехал к ней
и Андрону и рассказал, что земля у амбара осела и что он забросал ее
навозом, чтобы не было заметно. «Вот так и живем, ни себе, ни людям, как
ироды проклятые»,— сказала тогда Настасья. «Да и только ли хлеб? —
позднее думала она.— Хлеб — лишь начало...» Она помнила, как в ту
зиму вдруг начали появляться в их сарае оседланные кони; они стояли
иногда по неделе и больше, спрятанные от соседских глаз, от всей Федоровки,
затем исчезали и снова появлялись, и оттого в доме все жили
напряженной, противоестественной жизнью, и в Настасьинои душе
вновь назревала и таилась, как она таилась, наверное, и в душах матери,
отца, деда и брата Семена, боязнь. Потом — спрятанные под домом, в
подполье, ящики с винтовками, гранатами и патронами; их тоже привезли
ночью на арбе, под сеном, и сгрузили сперва в сарай, а затем торопливо,
напрягаясь и кряхтя в темноте, перенесли в избу. Настасья как будто
спала, но она все слышала: и шарканье ног, и скрип то и дело
открывавшихся дверей, и шепот незнакомых мужчин, тихий, заговорщицкий:
«Смотри, Минай, на тебе все (это обращались к отцу), а ты, Семен (это к
брату), за девкою гляди, упаси бог, дознается да расскажет— голову долой,
понял?» Она никому ничего не рассказала; даже потом, через года, когда
встречалась с братом, ни разу не заговорила с ним об этом, будто и в
самом деле ничего не знала, не видела и не слышала. Но, в сущности, она
не знала лишь одного: куда потом делись ящики, увезли ли их, или они
до сих пор так и хранятся в подполье у Семена. Ей казалось, что их
никто никуда не увозил, и хотя она давно уже не жила в доме брата и
ей не было никакого дела до спрятанных там ящиков, боязнь, чувство
неотвратимой расплаты за содеянное отцом и братом всю жизнь тяготили
ее. Как будто огромная глыба вины нависала над нею, и все, что было
потом, все позднейшие опасения: когда ее муж Андрон торговал вишнею с
арендованного сада, а затем открыл бакалейную лавку на кизяковской
привокзальной площади и намеревался открыть еще, «расширить дело», как
говорил он, радуясь успеху и потирая руки, а она молча и с тревогою
смотрела на этот успех; когда затем, бросив дом, лавку, товары, нерассчи-
танных приказчиков, бросив все, тайно, в ночь, скрылись из Кизякова,
как скрывались и убегали многие нэпманы, боясь ареста, и вся она опять
была наполнена боязнью перед будущим; и справка для паспортов и сами
паспорта, полученные на эти купленные справки, и работа Андрона на
хлебовозке и приносимые им золотые кольца, коронки, серьги, и даже ипа-
тинские дела, когда он нанимался класть печи и править ограды у
соседей,— все это позднейшее, чего она опасалась и о чем думала, было лишь
добавлением к той огромной и с детства нависавшей над нею тяжелой
глыбе. Она не делала ничего дурного, а делали родные и близкие ей люди,
но делали при ней; она знала и хранила в себе эти их дела и считала
себя причастной; именно потому в старости, надеясь «опростать душу от
груза томящего», потянулась в молитвенный дом, к баптистам. Она
относила пожертвования пресвитеру и молилась, молилась, но лишь в минуты
служений и после, пока еще казалась себе «овеянной божьей благодатью»,
тяжелые мысли как будто покидали ее; наутро же — вместе с домашними
заботами, видом комнаты, двора, видом худого, немощного Андрона (когда
он был еще жив и она жила с ним), видом совершенно ссутулившегося
Ипатина (когда жила уже с этим) — все снова возвращалось к ней.
Особенно тягостно становилось по вечерам, когда принималась вязать. Она
ф Межа
105
лишь выглядела спокойной; в то время как пальцы ее привычно
перебирали пряжу и спицы, вся она как бы переносилась в мыслях в прожитый мир.
Было в ее жизни и хорошее, доброе, и среди этого хорошего и доброго
чаще, чем что-либо другое, вспоминалось лето тридцать третьего года,
когда они с Андроном жили в деревне и работали на колхозном поле. Это был
тяжелый, неурожайный год. Многие тогда из городов потянулись в
деревню: кто — пережить трудное время, кто — чтобы навсегда остаться у
земли и хлеба. Ранней весной, еще ледяные корки по утрам покрывали
дороги и ветры дышали зимнею стужей, приехали они на попутной подводе в
незнакомое, одной длинной улицей растянувшееся вдоль речки село.
Настасья хорошо помнила, как встретил их председатель, высокий, в бекеше
и ушанке мужик, как отвел на постой и определил на работу; помнила избу,
где жили, и хозяйских детишек, шестерых, один одного меньше, сидевших
на печи и полатях; но больше всего помнила росистые и солнечные утра,
когда Андрон уходил к правлению, на хозяйственный двор, а она — к
женщинам, собиравшимся у кооперативной лавки в ожидании подвод, и вместе
с ними уезжала в поле. Она высаживала капустную рассаду, согнувшись
над черными грядками, было трудно с непривычки, болела поясница,
немели и затекали руки, и вся она тогда разве только не плакала от усталости
и изнеможения; теперь же она не думала об усталости, а вспоминала лишь
чувство, какое владело ею тогда. Она казалась себе счастливой, потому
что сознавала себя в том общем течении жизни, какое было знакомо ей еще
с детства, в Федоровке, когда всей улицей, артельно, выезжали корчевать
кустарник на низменных лугах или сходились на «помочь» к
отделявшемуся и строившемуся хозяину; дела те всегда оставляли на сердце приятный
и добрый след. Она с удовольствием ела чечевичную кашу, которую
варили на полевом стане; с охотою, как все другие, ставшие ей близкими
деревенские женщины, она пропалывала свеклу, окучивала картофель,
сгребала и копнила сено, а потом, когда начали убирать хлеб, задавала
снопы в барабан огромной, с приводным ремнем, молотилки, стоявшей на
открытом току, и пыль и забивавшие глаза и нос остья — это уже не
замечалось, потому что захватывали и владели ею иные, никогда прежде и
никогда потом уже не испытываемые чувства. Ей было приятно все, что она
делала и чем жила тогда, и месяцы те, проведенные в деревне, лежали
теперь в ее памяти какой-то особой, радостной и светлой полосой.
«Может быть, останемся здесь,— сказала она Андрону осенью, когда
закончились полевые работы, выпал снег и Андрон стал собираться в
город, чтобы по первопутку, пока не ударили морозы, увезти полученные на
трудодни хлеб и картофель. ■— Живут же люди, и мы будем жить».
«Нет».
«Оставайся, Андрон, на избу ссудим»,— сказал председатель,
пришедший проводить их.
«Нет!»
«Отчего же?»
«У вас своя дорога, у меня своя».
«Куда же она привела, эта дорога? Чего добились? Всю жизнь только
и делали, что маялись: и работать как будто работали и заработанного
боялись,— думала она потом, оглядывая прошлое.— А ведь была
возможность, остались бы и жили, как все, как другие...» Именно то, что она
могла, но что в силу своей привязанности к мужу и в силу
необъяснимого, как ей представлялось теперь, — хотя, впрочем, она все понимала и все
вполне могла объяснить себе,— упорства Андрона не жила, «как все, как
другие», а лишь постоянно таилась, оглядываясь на совершаемые им чаще
незаконные и отвращающие, как было в войну с хлебом, кольцами и
серьгами, но иногда безобидные дела, даже приносящие добро людям, как это
было уже в старости, незадолго до смерти, когда он вдруг принялся
чинить валенки и сапожничать,— именно это, что она могла, но что в силу
непостижимых ею теперь причин прожила не «как все, как другие», и состав-
Î06
Анатолий Ананьев #
ляло главный предмет ее тревог и раздумий. Они, эти раздумья,
охватывали ее и сейчас, когда она сидела перед гробом Ипатина и в ужасе
шептала: «Господи боже!..»
Давно перевалило за полночь.
За городом, в степи, начинался рассвет.
Как ни казалось Настасье, что она не сможет заснуть в эту ночь, как
ни была она возбуждена и расстроена, с приближением утра все чаще и
чаще смыкались ее отяжелевшие веки, все явственнее чувствовала она
усталость во всем своем старческом теле и все менее было у нее сил
сопротивляться этой усталости и дремоте; она облокачивалась на спинку
стула, голова ее склонялась набок, и только что будоражившие
сознание картины, какие рисовало ей воображение, сливались в одно серое
полотно, на котором уже нельзя было ничего разобрать, и мысли как бы
отдалялись, превращаясь в какой-то монотонный и убаюкивающий
шепот, и вся она словно проваливалась в небытие. Но минутами что-то еще
будто встряхивало ее, она мгновенно открывала глаза, и то унылое
зрелище — гроб, свеча, отпевалыцицы — вновь возвращало ее к еще не
совсем затихшим в ней переживаниям. Прежде чем заснуть, она успела
еще сменить догоревшую в руках Ипатина свечу и снять застывшие на
его холодной и желтой коже капельки воска; потом укрыла клетчатой
шалью умостившуюся калачиком на сундуке Марфу и предложила
Ефросинье прилечь на кровать; сон как будто развеялся, пока она делала это,
и когда снова села на стул,— опять с ясностью, как час назад, подумала
о брате, которому завтра ли, послезавтра ли, но надо было все же
написать о своем горе — смерти Ипатина, — и то, что брат непременно приедет
(«Может, угомонился к старости»,— думала она в утешение), и то, для
чего приедет, бросало ее, как и час назад, в неприятный озноб.
Вглядываясь в мертвое лицо старого Ипатина, она по-прежнему
видела в нем выражение: «На светлый день»,— и выражение это уже не было
для нее лишь внешним сходством с покойным Андроном.
Как-то однажды, когда она уже жила с Ипатиным, гостил у нее брат
Семен. Уезжая, он сказал ей:
«А старик-то с мошной».
«Что ты!»
«Сколько и где, не знаю, а что есть, поверь, насквозь вижу».
«Да что ты!»
«Не будь дурой-бабой!»
Она не поверила тогда брату, потому что у нее было свое мнение о
старом Ипатине; но теперь, с той минуты, как увидела на мертвом лице это
выражение: «На светлый день»,— ей казалось, что брат был прав.
«Господи, дай же им наконец приют и покой!» — снова и снова, уже засыпая,
шептала она морщинистыми губами. Она теперь просила за всех троих —
Андрона, Ипатина и брата Семена,— видя в них одну и ту же
непостижимую для нее, отталкивающую и ужасающую сущность.
Утро застало Настасью спящей на стуле.
(Окончание следует.)
•
Всеволод КОЧЕТОВ
Чего же
ты хочешь?
РОМАН ■
35
Поезд шел из Москвы в Псков. В нескольких купе одного из вагонов
разместились писатели, живописцы и скульпторы. Среди них были
маститые, пожилые, были и средних лет, начавшие свой путь в искусстве
и в литературе во время войны или по ее окончании. Одни обладали
обширными лысинами во всю голову, другие еле продирали расческами свои
превосходные шевелюры; одни пили чай, принесенный проводницей, другие
коньяк из прихваченных с собой бутылок; одни шумно рассказывали какие-
то истории, другие молча и сосредоточенно смотрели сквозь стекла окон
в завагонную темень. Все были разные; объединяло их в этом вагоне лишь
то, что во время войны они находились в составе войск, действовавших на
северо-западном участке фронта борьбы против гитлеровских армий, в том
числе и там, куда спешил скорый ночной поезд.
Время было позднее, пассажиры в других купе давным-давно спали,
а в купе, занятых творцами прекрасного, о сне еще никто и не думал.
Вспоминали былое — дивизионные и армейские газеты, артиллерийские
дивизионы, разведывательные роты, политотделы, в которых они служили,
своих фронтовых друзей, смешные и трагические случаи из военной
жизни.
Почти все они собрались в конце концов в купе, в котором вместе с
тремя своими коллегами расположился Василий Петрович Булатов.
Писатель-кубанец, с наголо обритой головой, плотный, неторопливый,
больше похожий не на писателя, а на председателя богатого колхоза,
подымая стакан, в котором был коньяк, сказал:
— А не выпить ли нам, други мои, за здоровье того псковского
редактора, который свел нас в этом вагоне? Годами же не встречались, а
тут встретились, и до чего же это хорошо!
Тост одобрили, с кубанцем чокнулись, кто коньяком, а кто и чаем,
лимонадом, минеральной миргородской водой, неведомо как оказавшейся в
поезде, следовавшем из Москвы через Псков в Таллин.
Начало см. в №№ 9—10 за 1969 г.
108
Всеволод Кочетов w
— Леший его знает, — философствовал кубанец, — живешь,
кипятишься, дел всяких по горло, а о друзьях своих, об единомышленниках
забываешь. Где они, что с ними? Ну, прочтешь новый роман, ну,
репродукцию с новой картины, скажем, в «Огоньке» увидишь, порадуешься: живет
наше военное братство, действует, и только. А вот так, посидеть, по
душам покалякать,— нету этого. А жаль. Жизнь-то уходит, уходит. Самому
молодому среди нас тут, пожалуй, не менее сорока пяти? — Он оглядел
до отказа набившихся в купе. — Да, вот так. Не успеешь оглянуться — и
уже в газете нечто печатное за подписью: «Группа товарищей».
— Завел, Степан! — сказал густобровый москвич, тоже, как
кубанец, писатель-прозаик.— Ты всегда был пессимистом.
— Не пессимист я, а реалист, в облаках не витаю, смотрю всегда в
корень.
— И ты, в общем, прав,— поддержал кубанца второй москвич,
известный скульптор.— Вы, конечно, знаете, товарищи, моего друга-бородача,
с которым мы работали над последним памятником. Талант, широкая
натура, чудесная душа. Казалось, могуч здоровьем — дальше некуда. А вот
лежит с инфарктом, и врачи говорят, положение угрожающее. Кстати, —
скульптор невесело усмехнулся,— инфаркт к нему пришел не сам собою.
На фронте пуля миновала, в мирное время не смог уберечься от нее.
— Неужели? — разом воскликнуло несколько человек.— В него
стреляли? Кто же? Где?
— Пуля та была особого рода. Вы же знаете его, знаете, какого он
общественного темперамента, каких политических убеждений. Выступал,
кое-кому портил кровь, не давал безнаказанно штукарствовать, угождать
западным ценителям и покровителям. Ну и вот сначала его прокатили
на выборах в правление. Пожимал плечами, смеялся. Потом оплевали с
помощью наемного пера его новую работу. Выстоял, говорил: «И не такое
видывали». Подобрались совсем с другой стороны. Допекли анонимками: в
партийный комитет — о том, что избил, пьяный, шофера такси; еще куда-
то — что он наркоман и получает наркотики из-за границы; жену
поздравили с тем, что он завел себе молодую блондиночку и таскает ее по дачам
своих приятелей. Покуда бегал и доказывал, что все это ложь, бред,
свинство, инфаркт его и хватил.
— Слушайте,— сказал кубанец,— други мои ридны, тогда я вам вот
какую цидулю покажу. — Он порылся в карманах, вытащил конверт и из
него листок тетрадочной бумаги в клетку. — Слушайте: «Да будет вам
известно, что отец ваш во время войны укрывался от мобилизации в армию.
Будучи, наконец, разыскан и доставлен в военкомат милицией, сумел
устроиться в дивизионной газете. Но и там проявил себя как последний
трус. Под обстрелом немецкой артиллерии он бросил редакцию, своих
товарищей и прямо из-под Великих Лук бежал в Москву. Вы дочь
презренного труса, который ныне в своих писаниях восхваляет героизм, клеймит
дезертиров, хотя сам он и есть первый дезертир». Ну и так далее.—
Кубанец стал складывать листок в конверт. — Это моей дочери-студентке
прислали. Три дня ревела. Как мы с матерью ни объясняли, не помогает.
Цидулька все равно ей душу мутит. А потом говорит: «Ну почему же с
такими не борются, которые способны на подобную гадость, вот так писать?
Их же надо наказывать». Верно, надо. Но поймай-ка за руку!
В купе заговорили, зашумели. Оказалось, что не было в нем человека,
который так или иначе не столкнулся бы с анонимками. Об одном писали,
что он, выдавая, видите ли, себя за твердокаменного ленинца, скрыл свое
подлинное социальное происхождение: никакой он не крестьянин, а сын
казачьего урядника; другому грозились, ни многим ни малым, а повешением
на фонарном столбе «в свое время», третьему предлагалось самому,
добровольно, своею собственной рукой застрелиться во избежание «суда
грозного и беспощадного»...
• Чего же ты хочешь?
109
— А ведь действительно пули свищут,— сказал Булатов,
внимательно слушавший рассказы своих товарищей. — Какая-то индустрия
клеветы действует.
— Насколько все было проще, когда мы воевали вот здесь,—
сказал московский скульптор и указал рукой за темные окна вагона, за
которыми пролетали черные болотистые леса. — Вот так враг, вот так ты. Все
ясно. Он пулей — ты пулей, он гранатой — ты гранатой. А как быть
с этими доводящими до инфарктов письменами?
Всем стало противно, мерзко; стали расходиться по своим купе.
Утром в Пскове их встретил тот самый редактор газеты, за здоровье
которого они чокались ночью и который и был подлинным виновником их
появления в древнем русском городе. Он был молодой, доброжелательный,
всем понравившийся, и встреча, общение с ним в какой-то мере
освободили людей от того тяжкого душевного гнета, какой ощутили они после
разговора о ядовитых, как мышьяк, злобных анонимках.
Энергичный редактор созвал в свой Псков столько писателей,
живописцев и скульпторов для того, чтобы показать им, по его мнению,
замечательный памятник в одной из деревень, точнее, на месте одной из
бывших деревень, поскольку деревня была сожжена гитлеровцами до
основания.
Не откладывая этого на завтра, группа, прибывшая из Москвы,
разместилась в специальном автобусе и отправилась по дороге на Порхов.
Проплывали по сторонам живописные земли древней Руси — пологие
холмы с желтеющими колхозными нивами, задумчивые леса, на опушках
которых паслись пестрые степенные коровы, темные глубокие речки с
нависшими над ними ивами, куда-то уходящие проселки и тропинки. Трудно
было бы представить себе, что по этим местам прошла одна из самых
кровопролитных и всесжигающих войн во всей истории человечества, если бы
люди, которые ехали в автобусе, сами не принимали участия в борьбе с
фашистскими ордами, зверствовавшими в этих местах, и сами не повидали
то, что ныне уже скрыто временем от глаз новых поколений.
— Красуха! — сказал с волнением редактор. — Вот она!
Но никакой Красухи нигде не было. Кое-где в траве виделись камни
былых фундаментов да свисали над ними ветви одиноких берез и лип,
как-то избежавших огня пробушевавшего здесь пожарища. Лента дороги
рассекала надвое этот скорбный пустырь. По одну сторону от нее стоял в
отдалении обелиск братской могилы. По другую...
Взгляды всех вышедших из автобуса остановились на поразившей их
фигуре женщины, которую скульптор вырубил из серого гранита.
Женщина в платке, деревенская, простая женщина, каких в России миллионы,
совсем живая, не каменная, сидела на камне и, опустив голову, придерживая
ее рукой труженицы, раздумывала над пепелищем. В ее памяти проходило
все, что случилось на этом месте двадцать седьмого ноября тысяча
девятьсот сорок третьего года. Как здесь стучали немецкие автоматы, как
трескуче пылал огонь, в котором сгорали обжитые, уютные особым сельским
уютом красухинские дома, как в этом треске и свисте каратели одного за
другим, расстреливая, приканчивая штыками и ударами прикладов, кидая
живыми в огонь, лишили жизни двести восемьдесят красухинских
односельчан — старых, молодых, совсем детишек.
— Послушайте, за что же? — сказал московский скульптор,
всматриваясь в прекрасно выполненную фигуру женщины-матери, потерявшей
своих детей.— Почему так жестоко?
— Да потому,— ответил редактор,— что среди этих двухсот
восьмидесяти не нашлось ни одного, кто бы выдал немцам партизан, кто бы
согласился показать места, где они скрываются после успешных нападений на
коммуникации Восемнадцатой немецкой армии, на эшелоны с пополнением
для ее частей, на штабы.
ПО
Всеволод Кочетов •
Все разбрелись по пепелищу, каждый по-своему обдумывал то, что
видели его глаза.
«Двести восемьдесят человек! — думал Булатов. — В живых не
оставили даже грудных ребятишек. Почему же в мире знают Лидице, знают
Орадур, хотя в Лидице ни женщин, ни детей не расстреливали и живьем в
огонь никого не кидали, но совсем не знают о псковской, русской Красу-
хе? Почему даже советские публицисты непременно оснастят свои статьи
названиями Лидице и Орадур, но о Красухе не вспомнят?» Он думал о том,
что вот здесь, на каменистой северной земле, под этим мягко-голубым,
светлым, высоким северным небом, где в далекие века рождалось могучее
русское государство, должен бы ежегодно исполняться какой-то очень
волнующий сердца и чувства народный гимн; что для исполнения его на месте
гибели двухсот восьмидесяти верных Родине советских людей должны
съезжаться лучшие голоса страны; не по церквам бы, в дыму свечей и ладана,
петь иным знаменитым русским тенорам, а вот здесь, над пеплом
геройски и мученически павших голубоглазых и русоволосых псковичей и
псковитянок.
— Из всех из них,— услышал он голос редактора,— осталась в
живых одна Мария Лукинична Павлова. Случайно осталась. Раненная,
свалилась под пол, под сырую солому. Но двое ее детей были брошены в огонь.
Представляете?
Трудно это было представить во всей жестокой действительности, и
потому люди молчали.
— А кто автор памятника? — спросил наконец один из скульпторов.
— Совсем молодой автор,— ответил редактор.— Девушка. Это ее
дипломная работа. У нее у самой три брата погибли в боях
Отечественной войны, а сестру немцы угнали в Германию.
— Вот и видно, что тема прошла через сердце человека, — сказал
кубанец. — С холодным сердцем такого не создашь. Можно нагромоздить
мечей, щитов и прочего реквизита, раздуть в несусветных масштабах, и все
равно те груды камня и металла не будут затрагивать душу, не будут
волновать. А тут... Да... Спасибо автору, земной ей поклон!
Булатова интересовало, известны ли имена тех, кто учинил расправу
над красухинцами, понесли ли палачи наказание. Кое-кого, как рассказал
редактор, изловили. Но главные-то преступники скрылись, сидят в ФРГ и
лелеют мечту о новых, более успешных походах на Восток по дорогам,
облюбованным еще их далекими предками, псами-рыцарями, битыми на
Чудском озере, неподалеку от Пскова.
Приезжим захотелось побывать на знаменитых местах Псковщины.
Хозяева дали им и такую возможность. К рыбакам? Пожалуйста, к
рыбакам. К Вороньему камню? Вот вам Вороний камень, точнее, то место,
где он должен бы быть, но не то рассыпался от времени, не то ушел на дно
озера. Труворова могила? Вот и она близ обомшелых Изборских стен.
Долго ходили по дворам Псково-Печорского монастыря. Многие о нем
кое-что знали. Знали, например, о том, какую неприглядную роль святые
отцы сыграли во время войны, истово сотрудничая с немцами.
— Вот кто мог бы порассказать о виновниках трагедии Красухи,—
сказал Булатов, указывая глазами на типов, сновавших вокруг в черных
монашеских одеждах.— Но они, конечно, немы, как рыбы, и глухи, как
булыжники монастырских стен.
36
Порция Браун расхаживала по мастерской Свешникова, Липочка
цепко рассматривала ее своими пристальными глазами и в мыслях
придиралась к каждому движению гостьи. Все-таки эти иностранцы, засевшие в
посольствах, представляющие в Москве разные газеты и телеграфные
агентства, наезжающие сюда по чьим-то заданиям, нельзя, конечно, сказать —
• Чего же ты хочешь?
111
все, но уж очень многие,— все-таки они большие нахалы. Откуда у них
этакое самомнение, этакое воображение о своем превосходстве? Почему они
так развязны и самодовольны? Посмотрите, как ходит эта мисс! Даже
своей походкой, случайно, на ходу забредшего человека, который сейчас и
уйдет отсюда, она демонстрирует не то снисходительность к художнику,
что-то малюющему под этой стеклянной крышей, не то поощрение сверху
вниз, этакое поощрение босса, хозяина, работнику.
Да, у них, у этих зарубежников, много превосходных вещей. Всяких
плащей, шуб, кофточек, туфель, платочков, сумочек, которые так
нравятся ей, Липочке. Да, она любит красивые вещи, ей приятно быть хорошо
одетой. Но почему за это надо расплачиваться унижением? Да, да,
унижением, потому что, принимая услуги иностранцев, причем вот именно такие,
связанные с меркантильностью, как ни говори, а унижаешься, делаешься
каким-то очень им обязанным, зависимым, второстепенным. Идешь во всем
красивом, броском, а все равно ты второстепенный, потому что раздобыл
это не тем путем, каким его приобретают первосортные.
Вот эта Браун — она одета, в общем-то, в дрянцо. А посмотрите,
капая самодержавная стать и походка, будто американская мисс вся в
соболях, горностаях и бриллиантах!
За ней на вялых ногах ходит ее, Липочкин, Антонин, художник
Свешников. Просто обидно, что он такой вялый и бледный перед этой ма-
дамой, нисколько не энергичный.
Обычно Липочку не тяготило то, что все организационные дела в семье
лежали полностью на ней. Ничего не поделаешь — художник есть
художник, он мыслит образами, цветом, светом, у него глаза другие, чем у иных,
и мир его совсем другой. Липочка платила за все, за что надо было
платить, приобретала необходимое, распоряжалась ремонтами и
перестройками, с кем надо связывалась, с кем надо встречалась. Близким своим
друзьям она вполушутку-вполусерьез говаривала: «Главный мужик в
нашем доме — я, а главная баба — Антонин». Ия как-то ей сказала: «Ты не
права, Липа, ты его держишь под колпаком, он у тебя существует, как
коза на веревке вокруг вбитого колышка. Ни ты, ни он поэтому
несвободны, это может начать тяготить вас, и тогда будет беда». Но у Ийки
понятия свободы своеобразные, на них равняться нельзя. Пусть коза, пусть
веревка, пусть она, Липочка, пастушка. Лишь бы ему работалось.
Иногда все же хотелось бы, чтобы Антонин заявил о себе, проявил
бы мужскую решительность. Хотелось бы не его заслонять собою, а
побыть за его спиной. Вот не таскался бы он сейчас за американской фрей,
а что-нибудь бы сказал такое внушительное, веское, отчего фря была бы
поставлена на должное место, а он бы возвышался над нею, превосходил
ее, торжествовал.
— Да,— сказала, садясь на стул, мисс Браун и вытащила из
сумочки пачку сигарет и ронсоновскую газовую зажигалку. — Безусловно, надо
устроить выставку. Как же это сделать? — Она наморщила лоб, глубоко
затянулась сигаретой. — Совсем не обязательно, чтобы это было в рамках
Союза художников, под эгидой всяких управлений и главков. Это могут
сделать ваши друзья. Ваша жена. — Порция Браун благосклонно,
обласкивая глазами, взглянула на Липочку. — Тут нужна решимость и больше
ничего. Фойе любого кинотеатра или клуба. У вас в Москве много
дворцов культуры при заводах и крупных учреждениях. Что тут такого- —
молодой художник развесит по стенам несколько десятков работ! Приходят
друзья, знакомые, почитатели. Вернисаж. Пресса. Я не отвечаю за вашу,
советскую, а западная, свободная, можете мне поверить, создаст должное
паблисити.
Ни сам Свешников, ни Липочка ничего определенного ответить ей не
могли, оба мямлили, мялись, улыбались. Она ушла, одарив их еще одной
ободряющей и поощряющей царственной улыбкой, сказав на прощание, что
посоветуется со своими московскими друзьями. Уже вечером она звонила
ill
Всеволод Кочетов •
по телефону о том, что все-все в порядке: поэт Богородицкий и другие
известные деятели советской культуры разделяют идею выставки работ
Свешникова, что скорей всего это будет в одном из домов культуры, об
этом уже договариваются, что завтра же она снова приедет в
мастерскую, надо начать отбор полотен для выставки, составить список, где и
у кого они находятся, взять их там на время — дел, как видите, господа,
очень много, и с ними нельзя медлить.
— Тоник,— сказала Липочка.— Нам, очевидно, тоже надо
посоветоваться с друзьями, и, очевидно, нельзя с этим тянуть. А то нас
завертит какой-нибудь водоворот, не скоро из него выплывешь. Эта дама
чересчур энергична. Я, пожалуй, съезжу к Ие. Она, ты знаешь, и сама не дура,
и у нее знакомства...
Ия при распахнутом во двор окне стучала на машинке. Она была
лишь в трусах и в лифчике. Как на пляже.
— В честь чего это ты? — удивилась Липочка, разглядывая
завидную фигуру Ии, пока та доставала из-за шкафа легкий халатик. —
Неужели тебе так жарко?
— Да, знаешь, жарковато. В Москве нынче, как в Сахаре. По радио
сообщали, что такой жары не было восемьдесят с чем-то лет. А
главное—посмотри туда. Видишь окно? Вон там, на четвертом этаже...
— Вижу.
— Там один старый идиот сидит с подзорной трубой. Окно, заметь,
темное. Он гасит свет и глазеет на меня. Жена в это время на кухне
жарит котлеты. У них бывают жуткие побоища, когда она ловит его возле
трубы. Он по всем окнам шарит, не я одна в поле его зрения.
— А ты бы задернула занавеску.
— Зачем! Пусть его. Ты не представляешь, какие у них
изумительные свары.
— Ия, на тебя это совсем не похоже. Ты же добрая.
— К идиотам? Нет.
Они посидели, поспорили так. В конце концов Ия задернула
занавеску. Липочка заговорила о своем.
— Неужели ты ничего не понимаешь, Липа! — ответила, выслушав
ее, Ия.— Если они, такие, предлагают помощь, то, значит, это им почему-
то выгодно. Им нужен очередной скандальчик, возле которого они погреют
руки. Вот и вся механика. А скандал они раздуть сумеют, был бы повод.
Уже сколько такого всякого было! Не хватает, чтобы и вы с Антонином
впутались. Знаешь, я посоветуюсь с Булатовым. Если удастся.
— С Булатовым? — Липочка ошеломленно смотрела на Ию.
— Да, а что?
— Но он же...
— Ах, сейчас начнутся эпитеты, почерпнутые у «Немецкой
волны»'. Не будь, Липа, дурой. Вас там всех, в вашем мире искусств, друг
на друга ловко натравливают эти зарубежные борцы за советское
искусство. Каждый такой эпитет, прилипший к тому или иному писателю,
художнику, музыканту, — это их успех, их победа, и они наверняка получают
за это по таксе. Если укоренилось мнение о Булатове, что он рутинер, —
сто долларов, если сталинист,— пятьсот, если еще в юности, проявив
каннибальские наклонности, съел отца,— уже целую тысячу. Если будет
сформулировано, что молодой художник Свешников — фрондер, мисс
Браун заработает себе на норковую шубу. Сейчас, кстати, от этих норок все
ошалели, и, если на тебе ее к зиме не будет, ты, Липочка, не человек,
с тобой порядочные здороваться перестанут. И чтобы хоть как-то
отделяться от вашей братии порядочных, я сошью себе из барана, из обычного
барана, да-да, и выйду на перекрестки улицы Горького.
— Тебе можно.— Липочка вздохнула.— Ты даже и без всего, а
вон телескопы на тебя наводят.
• Чего же ты хочешь?
113
— Так вот,— заключила Ия,— завтра посидите дома, а я, если
смогу, привезу к вам Булатова. И мы сообща все решим. Так?
— Уж не знаю,— тянула Липочка.
— А я знаю. Так! Пошли! Ты можешь катить домой. А я
отправлюсь в телефонную будку. Но только учтите с Антонином: ничего этой
змее, если она нас опередит, определенного, никаких согласий и обещаний.
Они расстались на углу. Ия вошла в будку автомата.
— Василия Петровича? — ответил ей уже знакомый женский
голос—По весьма приятному контральто я вас, кажется, научилась
узнавать, милочка. Увы, его нет дома. Должна вас огорчить. И не льстите себя,
пожалуйста, надеждой, что вы единственная, с кем он проводит время. Не
льстите. — Трубка была повешена. Звучали короткие гудки.
Чего же тут льстить или не льстить! Не за препровождением времени
обращается она на этот раз к писателю Булатову. А за очень и очень
важным общественным, а может быть, и государственным делом. Если он
способен был заниматься тем, чтобы помочь советской женщине вырваться
из Турина, куда ее занесла нелегкая, то судьба художника Свешникова —
дело нисколько не менее важное.
Ия решила доехать до дома, где жил Булатов, и самым вульгарным
образом, как делают истеричные почитательницы знаменитых теноров,
дождаться его у подъезда. Когда бы он ни вернулся оттуда, где он не
только с ней проводит свое время.
Улица была вся каменная, без палисадников, без сквериков, в
которых можно было бы найти скамейку. Ия ходила и ходила по тротуару,
постукивая каблуками и чувствуя, как у нее все тяжелеют и тяжелеют ноги.
Эта однообразная, размеренная ходьба неимоверно утомительна.
Булатов подъехал, когда у нее уже шумело и стучало в голове. Она
как-то странно дернулась навстречу ему, вышедшему из машины, и
невольно вспомнила утверждение одного американского профессора: «Усталый
человек — безумный человек». Да, усталость делает человека не совсем
нормальным. Он вял, недееспособен, раздражителен, даже злобен. Ия
чувствовала, что в этот момент она и на самом деле совсем не такая, какой
бы ей надо было быть.
— Ия?! — сказал Булатов. Он все еще не отвык удивляться ее
неожиданным появлениям.
— Представьте, Василий Петрович, я. Но такая, которая уже не в
силах стоять на ногах. Можно сесть в вашу машину?
— Пожалуйста! — Он вновь отомкнул замкнутую было дверцу
«Волги».
— Я разгуливаю здесь третий час. По камням. На каблуках.
Она села, выпрямила ноги и почувствовала такое облегчение, такое
блаженство, что даже зажмурилась от удовольствия, от радости. «Вот
сейчас, скоро, через несколько минут, я уже буду совсем другая, не
затасканная кляча».
И в самом деле, посидев под его молчаливо вопрошающим взглядом,
она заговорила:
— Не пугайтесь, Василий Петрович, на этот раз ничего личного.
И это даже не скрытый повод для того, чтобы побыть с вами. Дело вот в
чем...— И она стала пересказывать все, что ей рассказала Липочка.—
Понимаете, Василий Петрович, у меня ощущение, что тут хотят погреть руки.
А вы как думаете?
— Представьте себе, так же, Ия. Вы правы, и вы правильно сделали,
что так остро отреагировали на эту историю. Беда наша в том, что мы ко
многому пригляделись и стали спокойно проходить мимо такого, которое бы
лет пятнадцать — двадцать назад нас спокойными не оставляло. Кто-то там
другой все должен видеть, а только не мы. Там, мол, умнее нас люди
есть, им виднее, им карты в руки. Вы молодец. Только не знаю, как сам
8. «Октябрь» N° 11.
114
Всеволод Кочетов #
Свешников к моему участию отнесется. А впрочем, это не важно, как он.
Важно, как мы с вами. Ну что же, завтра, считаете, надо поехать?
— Да, завтра, Василий Петрович. И хорошо бы прямо с утра. Та
американская баба не дремлет. Она очень деловая дрянь. Я познакомилась
с ней у отчима на рауте. Пронзительная.— Видя, что он собирается
включать мотор, Ия почти закричала: — Нет, нет, я сама, сама доеду! На метро.
Вам и так достанется. Я же звонила вам и кое-что выслушала в порядке
назидания.
— Что же именно? — Он все-таки включил мотор и прислушивался
к его работе.
— Я не сплетница,— ответила Ия, смиряясь с тем, что ее все же
довезут до дому. — Между прочим, — сказала она, стараясь сделать это как
можно безразличней, — что-то о вас не слышно в последние дни: ни по
радио, ни в газетах — нигде.
— В Псков ездил с товарищами. Несколько чудесных дней.
Ия молча завидовала тем, с кем провел в Пскове эти несколько дней
Булатов. До чего бы ей хотелось побывать там вместе с ним!
Назавтра, оставив машину на улице, они через двор шли к мастерской
Свешникова.
— А что, если она уже там? — волновалась Ия.
— Ну и что? Объяснимся. Вам она знакома, но и мне тоже.
Порции Браун в мастерской не было. Свешниковы встретили
Булатова настороженно. Особенно Липочка. Она смотрела на него исподлобья,
сторонилась, держалась на расстоянии. Свешников хотя и подал руку, но
растерянно, деланно, неуклюже.
Булатов сел, окинул взглядом стены, улыбнулся той открытой,
понимающей улыбкой, которую так любила Ия, и сказал:
— Может быть, мой и ваш молодой друг Ия натворила бед,
притащив меня к вам, незваного, и, может быть, вам совершенно ни к чему
мое у вас появление, но, дорогие товарищи Свешниковы, в той ситуации,
в какую вас хотят втянуть, не стоит отмахиваться ни от кого,
протягивающего руку.
— Но мы и сами не дадим себя втянуть,— сказал Свешников.—
Ко мне, знаете, приходили — письмо какое-то требовали подписать. Я не
стал подписывать. Вы, может быть, не знаете моей биографии?
— Знаю, Антонин Иоакимович, знаю.— Булатов снова улыбнулся.—
И если быть честным, в последнее время слежу за вашим творчеством
и далеко не все ваши деяния одобряю. У меня о вас даже как-то был
разговор с молодыми рабочими на одном московском заводе. Очень они вас
ругали за то, что вы позволяете хвалить себя западным радиостанциям.
— Я позволяю! Как это я могу позволять или запрещать? —
засуетился Свешников.— Они сами!..
— Но вы разве где-нибудь выразили публично свое отношение к
этому? Нет же. Ну, народ и делает выводы: нравятся, значит, эти похвалы
товарищу Свешникову. Вы такого молодого человека — Феликса
Самарина — знаете?
— Росли с ним вместе!
— Он обращался к вам от имени рабочих своего завода с тем,
чтобы им прийти к вам в мастерскую?
— Да, было, было такое дело.
— Ну и что вы ответили?
— Василий Петрович! — воскликнул Свешников. — Меня и так все
у нас ругают. А придут еще они, ничего в искусстве не понимающие,
начнутся вопросы в духе передовиц... Одна трепка нервов. Ни к чему это.
— А я бы на вашем месте встретился с ними, попытался раскрыть
мир, каким вы живете, попытался убедить их в том, что мир этот
прекрасен, если он действительно прекрасен. Но для этого надо быть самому
убежденным, полностью убежденным в том, что мир твой прекрасен.
• Чего же ты хочешь?
115
— А ваш каков мир? — вдруг резко сказала Липочка. — Вот на
вашем, на своем месте? Не на месте Антонина Свешникова.
— То есть что вы хотите сказать, не совсем вас понимаю? —
Булатов смотрел в ее синие глубокие глаза, холодные, но красивые. «Это для
меня они такие холодные,— думал он.— Наслушалась, начиталась
всякого».
— Что? Да то! — Липочка была непреклонна в своей резкости. —
Вы постоянно взываете: служить рабочим и крестьянам, во имя рабочих и
крестьян, с точки зрения рабочих и крестьян! А где же в таком рабоче-
крестьянском мире место нерабочим и некрестьянам? Вот объясните!
— Постараюсь. Но сначала вы мне ответьте на один анкетный
вопрос. Вот видите, Иинька,— он обернулся к Ие,— не могу без анкет, вы
правы. Так ответьте, пожалуйста, какого вы, граждане дорогие,
происхождения? Вот вы! — Он указал на Липочку.
— Пожалуйста! Дед был крестьянином, отец на рыболовном судне
в Архангельске работал. Машинистом.
— Прекрасно! А ваши родители, Антонин Иоакимович? Они, я знаю,
были разведчиками во время войны, а происхождение, происхождение?
— Дед — сельский священник, а его сын, мой отец, вот чекист.
Бабка — крестьянка.
— О том, как вы с ней пробирались из-под Порхова в Ленинград, мне
кто-то рассказывал,— сказал Булатов.— Вернемся к деду. Священник,
говорите. А его отец, то есть ваш прадед?
— Не знаю. Возможно, тоже поп. А может быть, и крестьянин.
— Это, откровенно говоря, затрудняет дальнейшие рассуждения. Все
мы, здесь собравшиеся, оказались... Я, кстати, тоже крестьянского
корня... Вот, кажется, только Ия из рабочего класса... Точнее, ее отец.
— Дед,— сказала Ия.— Отец после школы пошел прямо в военное
училище.
— Да, это осложняет дело. Но все равно, попробуем разобраться.
Рабочие и крестьяне производят все материальные ценности на земле, без
которых духовная жизнь была бы просто невозможна, ее бы не было.
В старые времена... да и сейчас в капиталистическом мире... вопрос
решался и решается так: удел одних — производить хлеб и прочее, а другие,
пользуясь этим, лишь мыслят, лишь истончают свои чувства, изощряются
в искусствах, гурманствуют духовно, живут жизнью обеспеченной за счет
труда других. Марксизм и марксисты требуют: долой эту чудовищную
несправедливость, тот, кто производит блага жизни, тот ее и хозяин,
подлинный хозяин, и отсюда ведется весь счет, от этой отметки.
— Ну так, а мы-то куда? — не выдержала Липочка.
— Вы-то или, вернее, мы-то? — Булатов посмотрел на нее.— А мы,
если мы люди порядочные, должны все свои силы приложить к тому, чтобы
такая несправедливость, когда одни везут, а другие погоняют, на земле
кончилась бы, как кончилась она у нас в стране. Разве не захватывающее
дело — служить тому, чтобы и рабочие наши и крестьяне в изобилии
получали духовную пищу, пользовались бы всеми духовными благами,
накопленными человечеством?
— Вот видите — служить! — сказала Липочка. — Мы, оказывается,
должны только служить. Где же тогда равноправие?
— Да, служить, служить! — сказал Булатов. — Ничего не
поделаешь. Не мы с вами выращиваем хлеб. А они, труженики. Выращивайте его
сами, и никому служить не будете. С головы-то на ноги все встало.
Раньше было по-другому. Было и ушло. Можешь — выращивай хлеб, к
другому тянет — не забывай, чей хлеб ешь. Когда ты ощутишь всю
историческую важность служения классам творцов, то ты будешь делать это с
радостью, оно станет делом твоей жизни.
— А если не ощутишь? — Липочка не могла успокоиться.
116
Всеволод Кочетов •
— Вот тогда возникает конфликт с временем, с классами, с
историей, с исторической неизбежностью. Вот тогда вам захочется тех
порядков, какие существовали у нас до семнадцатого года, или тех, которые пока
еще сохраняются в буржуазном мире. Начинаются вопли о несвободности
творчества, вздохи о том, что нам-де не хватает демократии. А затем
появляется Порция Браун. Кстати, она уже идет, вон там, во дворе! --
Булатов смотрел в окно.
На звонок отворила Липочка. Войдя, Порция Браун скользнула
взглядом по лицу Булатова, еще раз взглянула и еще раз.
— Да, да, мисс Браун,— сказал он, поняв ее взгляды.— Вы не
ошиблись. Это я.
— О! — Порция Браун улыбнулась весьма кислой улыбкой. —
Какая встреча, господин Булатов!
— Она вас, вижу, не слишком радует.
— Нет, почему же?
— Хотя бы уж потому, что, видимо, всегда неприятно встречаться во
второй раз с человеком, которого после первой встречи оболжешь и будешь
знать, что ему об этом известно.
— О, господин Булатов, вы имеете в виду ту статью? Но мы же
западная, свободная пресса. У нас так принято: мы не только расточаем
комплименты, мы говорим все, что думаем. У нас свобода.
— Свобода врать, клеветать, шельмовать? Мне казалось, что свобода
тогда свобода, когда ты уверен, что тебя не опакостят, не оболгут. А что
за свобода, если ты все время должен ходить с кастетом в кармане и ждать
встречи вот с такими, как вы, мисс Браун? Уж простите за прямоту, за
свободу открыто выражать свое мнение. Вы не читали этой статейки мисс
Браун? — Булатов обратился к Свешниковым.— Поразительная статейка!
Мисс несколько лет назад провела в разговорах со мной три или четыре
часа. Я полагал, что имею дело с леди...
— Господин Булатов! — Порция Браун вся натянулась, как струна,
вскинула голову. — Вы забываетесь!
— Нет, что вы, у меня прекрасная память. Она, товарищи, до того
дописалась... Ну, что я каннибал, перекусываю горла и прочее — это само
собой, это для нее мелочь. Нет, она дописалась даже до того, что,
прощаясь с ней. я, дескать, похлопал ее по некой части организма... До чего,
мол, дремуч и почвенен сей догматик. Чтобы, милая мисс,- на этот раз вы
написали правду, я на самом деле это сделаю. Аванс, как говорится, был
даден.— И Булатов слегка хлопнул ее пониже спины.— Вот теперь все на
месте: что было, то было.
Мисс Браун размахнулась, стараясь, надо полагать, влепить
историческую пощечину, рассказ о которой пошел бы во все западные газеты под
аршинными заголовками. Но Булатов ловко поймал ее руку.
— Зачем же так волноваться, мадам? Вас совсем не волновало, когда
вы подобную ситуацию изображали с помощью чернил. За описание этого
вы спокойненько получили гонорар.
— Я буду жаловаться! Я пойду к нашему послу! Я добьюсь приема
в Верховном Совете!
Булатов смеялся. И, как ни странно, не могла удержать
восторженной улыбки и Липочка. Не показалось, что это уже чересчур, то, что сделал
Булатов, это ни для его возраста, ни для его положения. А Свешников
нервно потирал руки.
Мисс Браун бросилась к дверям, ее не удерживали. Она двинула
дверью изо всех сил, дверь выстрелила, как из пушки.
— Что вы на все на это, товарищи, скажете? — спросил Булатов, сам
немало смущенный своим неожиданным жестом, сделанным под влиянием
минутного импульса. — У вас нет рюмки чего-нибудь?
— Сейчас, сейчас, все будет!
# Чего же ты хочешь?
117
Липочка кинулась накрывать на стол. Бутылки, графины, банки
консервов.
Свешников чесал за ухом, ухмыляясь.
— А в общем, вы ее здорово, Василий Петрович! Может быть, так и
надо, а? А то мы все как-то благостно... Диалог двух систем... В духе
взаимного понимания, сердечности и так далее. А она действительно описала
это в своей статье? Ну скажите, пожалуйста!
Ия смотрела на Булатова все более и более строгим взглядом. Ей было
обидно, что он сделал так; та шкура недостойна была этого; он не должен
был ее касаться, не должен. У -нее даже слезы выбились из-под ресниц.
Она почувствовала их и незаметно для других стерла пальцем.
— За вас, Василий Петрович! — воскликнула Липочка, когда все
было готово, и подняла наполненную рюмку.— Вы, наверно, хорошо
рассуждали о служении и о прочем, но слова ваши меня не убедили, нет. Зато
ваш последний аргумент был поистине гениальным.
— Да, да,— сказал Свешников, — собаки они в общем-то.
Заглядишься — сожрут. Я тоже зг ваше здоровье. Это хорошо, что Ия нас
познакомила.
Напряжение первых минут ослабевало, разговор пошел свободней,
перебрасываясь с предмета на предмет, хотя никто не забывал того
главного, во имя чего и состоялась эта встреча.
— Не надо вам сейчас никакой выставки, дорогой товарищ
Свешников,— сказал вдруг Булатов.— Слетится воронье,— он кивнул в сторону
двери, в которую полчаса назад выскочила Порция Браун,— начнутся
провокации. К чему вам это?
— Но они жмут, они ходят, бегают ко мне!.. Не сидеть же нам с
Липой запертыми на ключ!
Подумав, Булатов достал из пиджачного кармана большой конверт и
начал извлекать из него одну фотографию за другой.
— Всмотритесь,— говорил он, передавая их Антонину и Липочке.—
Как, по-вашему, что это? И где?
На фотографиях были запечатленные с разных направлений камни и
одинокие березы деревни Красухи, обелиск над братской могилой и
скорбная, поразительно живая и впечатляющая фигура женщины,
вырубленная из серого гранита.
Свешников схватил снимок и не мог оторвать от него глаз.
— Где поставлен такой памятник? В связи с чем? Когда?
Кто автор?
— Если говорить с полной откровенностью, — ответил Булатов, — то
его автором должны быть вы, и только вы, и очень жаль, что это не вы.
Памятник стоит в псковской деревне Красухе...
— Красуха?! — выкрикнул Свешников.
— Да, Красуха. Та самая Красуха, откуда вы с вашей бабушкой
ушли в Ленинград и где начали свою работу среди немецких войск ваши
родители, а двумя годами позже разыгралась кровавая трагедия...
Булатов рассказывал о судьбе Красухи, о двухстах восьмидесяти
расстрелянных и сожженных. Свешников сидел, опустив голову на руки,
слушал, молчал. Было видно, что он и подавлен тем, что слышали его
уши, и взволнован до самых скрытых душевных глубин, и одновременно
зажжен еще не ясной, но настойчиво разрастающейся беспокойной мыслью,
которая уводила его с московского двора, где располагалась его
мастерская, туда, на Псковщину, в его далекое, трудное детство.
— Съездили бы,— сказал Булатов.— Посмотрели бы своими
глазами. С людьми бы повстречались. Там есть женщина, которая все это
пережила и оказалась единственной, кто вышел живым из этого ада.
— Да, да,— вдруг согласился Свешников.— Замкнем здесь, Липа,
все на ключ и поедем. Жива, говорите? И с ней можно встретиться?
118
Всеволод Кочетов •
37
Дело с разводом все тянулось. Оно было канительное, и Лера
постоянно вспоминала спектакль о польской актрисе и советском офицере,
которым закон помешал пожениться. Она с еще большим основанием, чем
прежде, считала тот закон мудрейшим из мудрейших, а вот другой,
который создавал человеку столько препятствий на пути к разводу с
ненавистным, чужим человеком, вот этот, конечно же, был, по ее мнению,
чудовищным; он-то действительно заслуживал осуждения в пьесах, в
кинофильмах, в романах.
Лера не знала законов, не знала бесчисленных строгих правил и
инструкций, да и знать их не хотела, и она бы даже не подумала
заниматься всей этой бракоразводной пакостью, если бы не Феликс. Он настаивал
на том, чтобы она развелась как можно скорее, и они бы тогда
поженились. «Конечно, в так называемый дворец бракосочетаний мы с тобой не
пойдем,— говорил он ей.— Насколько я тебя уже знаю, ты тоже против
пошлостей с фатой, с автомобилями, на которых изображены обручальные
кольца, и прочей мещанской требухой. Кто только надумал вытащить это
из нафталина? Никаких демонстраций с плакатами и транспарантами как
будто бы не было, никаких выступлений масс с требованиями: «Фаты,
фаты! Обручальных колец!» — тоже. Тихонько, по чьей-то единоличной
воле, выползло это, подобно клопам из-за старых обоев». И регистрация-
то брака, как считал Феликс, в условиях социалистического общества —
простая формальность; желающие могут ее соблюдать, а кто не желает,
может обойтись и без нее.
«Ну и обойдемся»,— согласилась было с его рассуждениями Лера.
«Нет,— сказал он,— у нас с тобой тот случай, когда регистрация просто
необходима». Феликс хитрил. Он боялся потерять Леру. Лера была для
него так хороша и желанна, он так ее полюбил, такую радость принесло
ему чувство к ней, что он понял: вот «настоящая-то любовь, которая бывает,
может быть, раз в жизни. Но Лера, пока она не развелась там и по«а не
оформлена должными бумагами здесь, была в его глазах еще несвободной,
такой, когда кто-то чужой еще может заявлять на нее свои какие-то
права. И, кроме того, Феликсу казалось, что при его необъятной любви к ней
она-то все еще недостаточно твердо решила все для себя, что она
колеблется, сомневается, раздумывает.
Лера знала эти волнения Феликса, он говорил ей о них то и дело,
она бы и рада его успокоить, ни о чем больше не раздумывать,
поступать только так, как хочет он. Но как же не раздумывать? Как не
считаться с действительностью? Во-первых, она не разведена. Во-вторых, Толик.
В-третьих, да, да, она на три года его старше. «Значит, ты меня не
любишь,— сказал ей Феликс,— если способна вот так спокойненько
взвешивать все эти «во-первых» и «в-третьих»?» «Нет, напротив, это значит, что
я тебя люблю! — ответила она ему.— Если бы не любила, то, пожалуйста,
на тебе, получай и чужого сына и старую, пожившую бабу!» Все их
встречи стали заканчиваться мучительными перепалками. В довершение ко
всему, вместо того чтобы прислать согласие на развод, Спада прислал
письмо.
«Развод получишь,—писал он Лере, — когда пройдешь все семь кругов
ада. Нет, не думай, твоего полурусского сыночка я у тебя требовать не
стану, возьми его себе <на память обо мне, об Италии. Нет, не в нем дело. А
в том, что и ты и твой Булатов набегаетесь, как у вас там, в Советском
Союзе, называют, по инстанциям. Я уже.послал письмо в партийный
комитет этого ловеласа о том, как он проводил с тобой время в Турине, как
подло и нагло законную жену законного мужа таскал к себе в гостиницу,
как переманил тебя в Москву, стоптав в хлопотах об этом все свои
каблуки. Вы еще повертитесь, покрутитесь с ним перед своей
общественностью. Вот когда тебя вместе с ним все оплюют, катись тогда на все четы-
• Чего же ты хочешь?
11»
ре стороны, и еще катись...» — Дальше шли целых четыре строки
матерщины, омерзительных слов о ней и обращенных к ней. Звучало это
так обнаженно грязно, так страшно, что в первые минуты Лере стало
физически скверно, она почувствовала, как на ее лбу, на висках выступили
холодные капли. Ее даже шатнуло. Она села на стул. Затем пришла мысль
о том, что гадость эту Спада приписал лишь для того, чтобы Лера никому
не смогла показать его письмо. Он раскрывается в этом письме во всей
своей отвратительной сущности, но попробуй предъяви письмо с такой
припиской в суд или в партийный комитет, о котором помянул Спада! Это
же ужас, ужас! И отрезать грязные строки нельзя — не будет подписи.
Лера взяла спички и сожгла листки письма вместе с конвертом.
От того, что в доме не стало этих гадостных слов, сделалось легче. Но
все же Спада сумел ввести в ее сознание отнимающий силы яд. Как же
гнусен был человек, с которым она провела столько лет! Вот как на самом-
то деле думал он о ней, с притворной заботой и регламентированной
нежностью целуя ее пальцы; такой считал, обнимая, в качестве такой
держал в своем доме. Не потому ли столь официальны и прохладны были
всегда к ней его родители? Взял, мол, сынок девку на время,
поиграется и отправит обратно, откуда взял. Обойдется это им во столько-то
тысяч, или сотен тысяч, или даже миллионов лир. Они, такие
расчетливые — и родители и их сынок, — наверняка все это давным-давно
подсчитали. Интересно, во сколько же она им обошлась?
Лера окинула мыслью жизнь, прожитую с Бенито Спада, с первых
букетиков гвоздики в Москве до ежегодных пансионов в Вариготте, до ее
поездок на его машине по Ломбардии, Лигурии, Тоскане. Нет, он не
разорился, девка, в общем-то, оказалась недорогой. Ни бриллиантов, ни жемчугов
не накупала, ни собольих шуб, ни горностаевых палантинов, даже ни
транзисторов и ни магнитофонов — несколько платьишек, да туфель, да
каких-то блестящих и пестрых мелочей, которые в Советском Союзе
носят обобщенное наименование предметов ширпотреба.
Не разорился, не разорился. За что же такая ядовитая злоба,
откуда желание причинить боль, исковеркать жизнь не только ей, но еще и
ни в чем не повинному человеку — Василию Петровичу Булатову? В памяти
перед ней пошли лица могучего Эммануэле, старого, седенького Пьетро,
лохматого Пеппо, Луиджи, композитора Чезаре Аквароне, мечтавшего
побывать в Советском Союзе. Все они или делались каменными при
упоминании имени Спады, или усмехались, в лучшем случае кривились и, щадя
ее, как-то неопределенно кивали. Даже синьора Мария Антониони не
скрывала своей неприязни к человеку, который при рождении получил имя в
честь Муссолини.
Стояли теплые, ясные летние дни. Но для Леры и Феликса эти дни
были наполнены напряжением, волнениями, любовь их была такой
трудной, что не хотелось есть, не было сил спать, невозможно было ни на чем
сосредоточиться.
— Феликс,— сказала Раиса Алексеевна, с тревогой наблюдавшая за
сыном, за его состоянием. — Напрасно ты молчишь, милый. Я понимаю,
может быть, не все, но многое. У тебя есть девушка, и у вас с ней что-то
неладно. Я же слышу звонки, ваши переговоры, вижу твою нервозность.
Ты бы рассказал нам с отцом. Обдумали бы вместе. Ты похудел, даже
мало сказать — похудел, отощал просто. Нельзя же так! Вот Нонна.
Вышла замуж и, кажется, довольна. Ты ее давно не видал?
— Давно. И при чем тут Нонна?!
— Это к слову. К тому, что рано или поздно у человека все
устраивается, ни из чего не надо делать трагедий. Жизнь идет, и
сопротивляться ей незачем.
Феликс невесело усмехнулся.
—- Ты, помню, в пристрастии к философии обвиняла папу. А
оказывается, и ты философ.
120
Всеволод Кочетов •
— Судьба родителей, матерей и отцов — нелегкая судьба, Феликс.
Кем только не станешь, будучи матерью-то или отцом! Сам узнаешь со
временем и поймешь нас. Давай-ка выкладывай все начистоту! Почему ни
разу не привел ее домой? Почему прячешь? Чего стесняешься?
— Замужняя она, понимаешь! —в отчаянии выкрикнул Феликс.
— Еще этого не хватало! — Раиса Алексеевна даже руки выставила
ладонями вперед, как бы защищаясь от напасти. — Отбивать чужую жену?
Феликс!
— Ушла она от мужа. Уехала. Там все кончено. Развода только нет.
Понимаешь? — И он с трудом, как бы отламывая слова от своего тела, с
болью, чуть ли не со стоном, стал рассказывать Раисе Алексеевне историю
Леры.
С грустью слушала Раиса Алексеевна, глядя печальными, любящими
глазами на своего такого хорошего, умного, талантливого, но несчастного,
очень несчастного сына. Ничего у него не получалось. Ни к искусствам,
ни к наукам, как ни старалась она, не приобщился. В аспирантуру не
пошел. Жену, хорошую, спокойную, положительную, потерял. И вот тебе —
какая-то крым, рым и медные трубы прошедшая особа, и уже с ребенком,
и на три года его старше, забрала мальчика в руки так, что он белого
света не видит.
— Не знаю, не знаю, — сказала она, выслушав его рассказ,—что уж
и посоветовать тебе, дружок. И ребеночек уже есть, значит?
— Какое это имеет значение? Ты не с того начинаешь, мама. Это же
отсталый, старый, мещанский взгляд.
— Ну ведь и я не молоденькая. Мне по-другому думать трудно.
— Жаль, мама.
— Нет, нет, ты из моих слов ничего не заключай,— поспешила
сказать Раиса Алексеевна. — Дело очень серьезное, Феликс. Давай отца
дождемся. У них отчетно-выборное в главке. Видишь, как поздно, а его все нет.
Расскажем отцу. Он нас с тобой умнее. Надеюсь, этого ты оспаривать не
станешь.
Отец пришел бодрый и веселый.
— Ух, баня была! Одного бюрократа с таким песком чистили — как
жив остался, удивляюсь!
— Уж не тебя ли? — с тревогой спросила Раиса Алексеевна.
— А я что, бюрократ, по-твоему? — Сергей Антропович даже вилку
отложил— так удивило его это высказывание Раисы Алексеевны. — За все
время, что ты меня знаешь, разве были такие сигналы?
— Да нет. не так ты меня понял. Просто сейчас время такое: как
человек пожилой, так его непременно в каких-нибудь грехах обвиняют. Время
неосмотрительное.
— Ничего, ничего! Очень осмотрительно сегодня шло дело. Моего
зама проработали. Доклад выслушали спокойно, прения шли
благополучно, вот-вот и конец уже был виден. Вдруг встает одна наша старая
работница, еще с довоенных лет в наркомате была, опытная, справедливая, и
как давай по моему заму реактивными бить! Все ему выдала: сотрудников
он не принимает, ни с кем не советуется, дурацкие отчетности придумал,
шофер у него не шофер, а человек на побегушках. Куйбышева вспомнила.
Орджоникидзе вспомнила, с которыми она работала. А вы, говорит,
молодой, да ранний. Вам еще только тридцать восемь. Что же к пятидесяти
из вас сформируется! Бронзой с головы до ног оплывете! Что поднялось!
Давно у нас так откровенно не говорили. Каким-то, знаешь, добрым
ветром большевизма потянуло! А то в «великое»-то, пережитое нами,
десятилетие на людей, как на кнопки, нажимали. А кнопки, как известно,
безголосы. Осуждали понятие «винтики». Но винтики работают — они
рабочая часть машины. Кнопки же — они и есть кнопки, управленческая
деталь.
# Чего же ты хочешь?
121
— Погоди,— сказала Раиса Алексеевна,— ну, а ты? Ты же
начальник. Под твоим руководством твой заместитель работает. Ты вместе с ним
в ответе. А тебе?..
— Мне, мать, тоже досталось... Я не возражал. Согласен. Виноват, что
не трогал этого гуся. Из самых что ни на есть беспринципных соображений.
Чтобы не обвинили в том, что молодых зажимаю. Да, мать, да, дал ему
дорогу, хотя видел, кто он, и что он, и как ведет себя. Поначалу говорил ему,
пытался внушать что-то. А он этак, знаешь, высокомерненько сказал мне
раз: «Знаете, Сергей Антропович, давайте условимся не учить друг друга,
как жить, как работать». Я и не стал учить. И обо всем этом честно
сказал сегодня коммунистам. Меня за это не одобрили, нет. Но ему-то, ему-
то всыпали! — Сергей Антропович искренне был доволен тем, как прошло
собрание. Он радовался, не скрывая этого. — Ведь только так, прямыми,
честными словами, критикой, не взирающей на лица, мы можем всерьез
бороться с нашими недостатками и побороть их. Других путей нет.
— А что же с ним будет, с твоим замом? — спросил Феликс.
— Ну что будет! Ничего особенного. Учить его будем. Такая
встряска, как сегодня, слона может заставить призадуматься — не то что
человека. Не сделает выводов — новый разговор поведем. Важно, что извлекли
его из капсюльки неприкосновенности. Такой, знаешь, модный, «шипром»
за версту пахнет, набрильяитиненный. Манекен с витрины — как такого
тронешь. И вот на тебе! Тронули. Замечательно! Может быть, получится из
него человек. Вообще-то малый не без головы. Петрит. Если вот так
пальцем укажешь — то-то и то-то, неплохо сделает. А сам... Сам в плену ложных
идей и представлений, а потому постоянно буксует на холостом ходу. Не
столько пять рабочих дней у него в голове, сколько два выходных. Едва
до пятницы дотягивает. А тогда — магнитофончики, пластиночки, буги-
вуги...
— А у нас свои беды,—без всяких предисловий сказала Раиса
Алексеевна.— Сынок наш в женщину влюбился, которая старше его,
замужняя да еще и с ребенком.
— Ну, мама! — запротестовал Феликс. — Если так объяснять, то
лучше уж совсем не надо.
— Вот и объясняй сам.
Снова вынужден был рассказывать свою историю с Лерой Феликс.
Теперь он се уже сокращал, выбрасывая подробности и то, что
считал необязательным говорить отцу.
— Да,— сказал Сергей Антропович.— Беды, конечно, беды! Но в
общем-то ничего особенного, мать. В книжках об этом читаешь —
кому сочувствуешь? Вот таким, страдающим. Не так, что ли? А когда
своей семьи коснулось — прямо-таки беда, да и только. Жизнь. В ней все
бывает. Позаковыристей, чем в книжках. Привел бы ты ее сюда, даму
своего сердца, показал бы, потолковали бы...
— Вот и я говорю, — подхватила Раиса Алексеевна. — Чего
прячешь!
— «Привел»! — сказал Феликс.— Вы очень странно рассуждаете.
Да она, может быть, и не пойдет со мной. Еще ничего не ясно. Может
быть, она и не согласится быть со мной. Чудаки! Будто я ее спасаю, да?
Как в старину, позор покрываю? Позора нет, спасать не от чего. С ней
по-хорошему надо, по-настоящему.
Сергей Антропович ерошил свои седые волосы, пропуская их сквозь
пальцы.
— Веди по-хорошему, будем по-настоящему. А кто против? — Он
окинул всех взглядом.— Кто воздержался? Нет. Принято единогласно.
Скажи, что мы приглашаем ее в гости. Совершенно официально. Хочешь,
письмо ей напишу?
^— Письма не надо. Так передам. Но у нее же...
122
Всеволод Кочетов •
— С ним пусть и приходит, — догадался Сергей Антропович. — Уж
все сразу. Только без того туринского стрекулиста. Он, видать, вроде
моего зама штучка. В плену ложных идей и представлений.
— Он просто сволочь, — сказал Феликс.
Сергей Антропович усмехнулся.
— В делах сердечных соперник всегда сволочь. Ты не оригинален,
Феликс. Словом, договорились. На воскресенье, что ли?
В воскресенье Феликс с Лерой и с Толиком приехали на дачу
электричкой. Сергей Антропович предлагал вызвать машину. Феликс
отказался: «Если уж у вас возрождается критика, невзирая на лица, тебе, отец,
могут на очередном собрании вполне справедливо сказать: детишек на
казенной машине катаешь! Лучше этого не надо. Душа спокойней, не
правда ли?»
Уговорить Леру поехать было нелегко. Она почему-то страшилась
встречи с родителями Феликса. Она не могла дать себе ясного отчета,
почему. Может быть, потому, что все еще не разведена с одним, а уже
завязала отношения с другим или что старше Феликса, да вот и Толик?..
Как бы там ни было, но путь от электрички до калитки дачи Самариных
показался ей тем самым библейским восхождением на Голгофу, которое
всегда в таких случаях вспоминают.
И для Самариных минута встречи была полна напряжения: что такое
явится сегодня перед ними, и не оказаться бы неловкими с этим
соприкоснувшимся с их жизнью неведомым существом, не вспугнуть бы его
незаслуженно какой-нибудь пустяковой мелочью, порой вырастающей до
катастрофических размеров.
Одно короткое мгновение стояли друг перед другом в молчании
приехавшие и встречающие. У Раисы Алексеевны мелко задергалось под
глазом. Спокойными были двое: Сергей Антропович и маленький Лерин
парнишка с античным именем Бартоломео. Но если для парнишки его
спокойствие было совершенно естественным, то Сергей Антропович прилагал
усилия для того, чтобы казаться таким. Как там ни говори, а происходило
весьма немаловажное событие, от того или иного исхода которого зависит
многое.
Но все это лишь мелькнуло.
— Лера,— назвал ее имя Феликс, взяв Леру за локоть, и побледнел
еще сильнее.
— А этого молодца как зовут? — Сергей Антропович присел перед
мальчишкой, отчего Раиса Алексеевна испугалась: сможет ли подняться
сам? Но он не только легко встал, но поднял на руки и Лериного сына.—
Как зовут-то тебя, спрашиваю?
— Толик.
— Превосходно. Пошли чай пить. За стол еще не садились.
Ждем вас.
Страшная минута прошла. Дальше было легче.
Расселись за столом. Масло, сыр, варенье стали передвигать друг
другу в вазочках и на тарелках. Наливался чай в стаканы и чашки. С
криками изгоняли с веранды осу, которая пока лезла только в варенье, но
могла полезть и за шиворот кому-нибудь. Сергей Антропович спросил, кто
Лера по образованию.
— Историк,— ответила она.— Именно по образованию. Вы
правильно спросили. А по специальности, как говорят обычно, никто.
Специальности не получила, потому что еще не работала. Так сложилось.
Сергей Антропович затеял разговор об истории, о том, как
неустойчива эта наука, как ее перекраивают все, кому не лень и кто имеет на то
власть. Лера согласилась с ним, сказала, что она убедилась в этом на
собственном опыте. У них на отделении преподаватели менялись довольно
часто, и вот эти меняющиеся люди одни и те же минувшие и даже совре-
• Чего же ты хочешь?
123
менные события ухитрялись освещать и преподносить студентам настолько
по-разному, что некоторые из оценок были совершенно противоположными.
Там, где у одного плюс, у другого получался категорический минус.
День прошел благополучно. Гуляли в лесу, обедали; вечером
приехавших провожали на электричку. Как Раисе Алексеевне ни хотелось
поговорить с Лерой «начистоту», она сдержалась, тоже понимая важность очень
тонкого соблюдения такта при первой встрече.
Когда электричка умчалась, оставшись вдвоем, родители Феликса
посмотрели друг на друга глазами, в которых был один и тот же вопрос:
«Ну как?»
— А ничего, ничего она, эта молодая особа. Мне понравилась,—
сказал Сергей Антропович.
— Мне тоже, — не так решительно, но согласилась и Раиса
Алексеевна.
Они шли по лесной тропинке к своей даче.
— Одно все-таки беспокоит,— вновь начала Раиса Алексеевна.
— Разведут, — сказал Сергей Антропович. — Он там, она здесь —
кому такой брак нужен?
— Я о другом. Парнишка-то...
— А это уж дело Феликса. Это дело сверхтонкое. И не нам о нем
судить.
— А потом у них свой появится. Как Феликс будет относиться к
этому, чужому? Хоть человек человеку друг, товарищ и брат, а сердцу не
прикажешь: оно еще по старым порядкам живет.
— Возьмем этого к себе, он нас итальянскому языку учить станет.
— Вот смеешься, а вопрос серьезный.
— А кстати,— сказал Сергей Антропович.— Он, видать,
итальянского уже и не помнит. Ни словечка не обронил.
— У детей это быстро. За месяц научатся, за месяц и разучатся.
Дальше они шли молча, каждый по-своему обдумывая минувший
день. Лишь войдя в калитку, Сергей Антропович сказал:
— Во всяком случае, мешать Феликсу не надо, Рая. Пусть все идет
своим естественным чередом. Отощал, говоришь,— ничего, когда вся
эта история уладится, снова отъестся. Будем терпеливы и благоразумны.
38
Порция Браун сходила с ума от ярости. С нею не спорили, ее не
упрекали в том, что она неверно, тенденциозно написала о том-то и о том-то,
не втягивались ни в какой диалог — ее просто-напросто с усмешкой и
даже с обидным снисходительным сожалением хлопнули пониже спины.
Нет, такого случая в литературной жизни, в борьбе идеологий еще не
было. Об этом, конечно же, распространится слух, и она будет осмеяна,
скомпрометирована. Конкуренты, ее завистники будут говорить о ней:
«А, Порция! Это которая получила в Москве по заду?!» Тогда конец, тогда
можно уже ни на что не рассчитывать: ни на какие ответственные
задания, ни на визы, ни на сверхмерные гонорары.
Хлопнута она была слегка и символически, отпечатка пятерни
Булатова на ней не осталось, никаких, естественно, справок о синяках
врачебная экспертиза не выдаст, и вообще не в этом дело.
Она уже и себя винила. Это было, правда, очень лихо — напечатать
тогда о том, как один из партийных советских писателей, заканчивая с
ней беседу, похлопал ее ниже спины. Ее коллеги по кремленологии
отлично поняли свеженький приемчик находчивой Порции Браун. Советский
писатель представал после этого перед легковерными западными
читателями в качестве грубого малого, едва закончившего несколько классов начальт
ной школы; не лишено возможности, что он даже еще и икает во время еды,
124
Всеволод Кочетов •
норовит вытереть пальцы о скатерть, владеть ножом и вилкой, конечно
же, не умеет; кто станет считать такого подлинным писателем, кто
возьмется читать его сочинения; несомненно, что они столь же грубы и
примитивны, как он сам.
Да, конечно, тогда это было сделано ловко. Она помнит, как
радовалась, как улыбалась, когда мысль об этом пришла ей в голову. Но теперь...
Повторение приема? Нет, это исключено. Люди не дураки, и, как бы она
ни изворачивалась, все поймут, что Порция Браун на этот раз попалась в
собственную ловушку. Чудовищно!
Знакомый ей малый из посольства, к которому она кинулась было со
своим возмущением, сказал, посасывая сигарету:
— Есть три варианта, мисс Браун. Первый: дать ему хорошую
пощечину. Получится скандал, вам, конечно, придется уехать, но моральные
преимущества окажутся на вашей стороне. Вариант второй до крайности
банален: подать в суд. Но, знаете, это тоже славы вам не принесет:
смеяться будут. Третий: купить билет и спокойненько уехать по своему
почину, не слишком разбалтывая о происшествии.
— Как так уехать, если мы не завершили работу?! У нас контракт,
обязательства, авансы, сроки!..
— Ничем не могу помочь. Не хотите ли выпить чего-нибудь?
Она кидалась ко всем, кого считала своими московскими друзьями.
Поэт Богородицкий возмущенно окал, слушая ее, чесал меж лопаток своей
широкой спины и под мышками, говорил, что Булатов — нетонкий
человек, что от него и не этого ждать можно, он за пределами духа, он в
мире материального, неэластичен, прямолинеен; самым правильным будет
подать на него заявление, написать бумагу. В конце концов поэт отвез ее
к Зародову, в редакцию «Вестника», сказав, что хотя Зародов препаскуд-
ный человечишка, преподлейший и способный на любую пакость, но это
ничего, в данном случае это как раз есть благо: где не способен
порядочный человек, там полезна такая вот рептилия.
Зародов сидел в пустом кабинете на столе, качал ногой и сквозь
пыльные стекла окон смотрел на московские крыши.
— Булатов! — сказал он. — Это, кажется, писатель? Мое дело,
судари мои,— наука. Я считаю, что в дела литературы лучше не лезть: там
черт ногу сломит.
На одной из улиц в районе Чистых Прудов Порция Браун подошла к
старому четырехэтажному дому, поблизости от которого стоял дом, где
когда-то жил Горький, о чем оповещала мемориальная доска, прикрепленная
на фасаде. Постояв минуту в раздумье, вспомнив этих увертливых, только
собою занятых людишек — Богородицкого с Зародовым, она энергично
толкнула дверь в темный подъезд и поднялась к темной двери на третьем
этаже.
На звонок ей отворила нечесаная женщина лет шестидесяти, в
грязном халате, в стоптанных шлепанцах, без чулок, с лицом серым и
сальным.
— Порция! — сказала она по-французски. — Наконец-то! Читала в
«Вечерке», что вы в Москве. Все ждала.
— Ах, Жанна Матвеевна, столько дел, столько дел! Вроде бы и
провинция ваша Москва, а попадешь сюда — с ног сбиваешься. Так все
суматошно, неорганизованно!
Хозяйка тем временем вела гостью через темный коридор к своей
комнате. Комната была завалена хламом, заставлена цветочными
горшками, клетками с птицами. Пахло пылью, этими клетками, грязью. Во всех
углах виднелись пишущие машинки в футлярах. Их было не менее десятка,
и это не удивило гостыс; она была здесь не один раз и давно знала, что
хозяйкины машинки имеют не только русский шрифт, но и латинский,
арабский, еврейский и еще несколько каких-то, вплоть, кажется, до
китайского. Среди хлама на столах и столиках можно было обнаружить дыроколы
• Чего же ты хочешь?
125
для бумаг, скоросшиватели, флаконы разных — жидких и густых —
клеев, чернил и туши любого цвета.
Жанночка, как принято было называть эту старую грязнулю, из дому
почти никуда и никогда не выходила — только разве в соседние лавочки
за продуктами, но все и всегда знала. Она слушала радио десятков стран,
у нее было несколько транзисторных приемников, принимающих и
сверхкороткие волны и сверхдлинные: каждый день соседская девчонка за весьма
скромную плату бегала для нее по газетным киоскам гостиниц «Интуриста»
и приносила свежие номера итальянской «Униты», французской «Юмани-
те», английской «Морнинг стар», различных газет Чехословакии,
Югославии и всякие другие зарубежные издания, какие только попадутся. Она
стенографировала радиопередачи, она делала вырезки из газет и журналов,
все это тщательно, ловко, умело систематизировала, подбирала по темам.
Зачем? Не ради простого любопытства, нет. В таких материалах нуждались
научные работники, литературоведы, международники. То, что они не
могли получить в ТАСС или АПН, они получали у Жанночки. Ее адрес
сообщался только самым верным, самым надежным людям и под строгим
секретом. У нее можно было найти копии стенограмм, скажем, закрытых
секретариатов Союза писателей, на которых обсуждалось что-либо такое,
что писатели считали сугубо своим внутренним делом, записи некоторых
судебных процессов, даже бесед с кем-либо в руководящих партийных
сферах. Как такие материалы попадали к ней, Жанна Матвеевна не
рассказывала, да ее об этом и не спрашивали. Она могла ссудить — для
прочтения или насовсем — машинописную копию какого-нибудь
скандального произведения, которое все редакции Советского Союза отказались
публиковать по причине его идейной <и художественной
недоброкачественности, размноженный текст скандальной речи то ли литератора, то ли
кинорежиссера, то ли научного работника.
А еще Жанночка могла и такое, за чем, собственно, к ней и
пожаловала мисс Порция Браун.
— Садитесь, садитесь, голубушка! — приглашала хозяйка гостью в
пыльное, обитое разлезшимся, размочаленным штофом кресло. —
Похорошели вы, похорошели! Все молодеете. Чего не скажешь обо мне,
дорогая. Во — ноги опухли! — Она распахнула полу халата, показывая брев-
ноподобную, страшную ногу. — Еле хожу. Чайку не желаете ли? Можно
чайник воткнуть, вон за вашей спиной розетка.
— Нет, нет, спасибо.
— Ну тогда приступим к делу. Без дела-то ко мне, просто посидеть,
никто не ходит. Понимаю: старая баба, грязь вокруг, птицы орут.
Бедлам. А я привыкла. Убери это все, очисть — и можете в гроб меня
укладывать. Так чего надо?
— Булатова знаете, конечно, Жанна Матвеевна?
— Булатова? Хм! — Еще бы ей да не знать Булатова. Полное досье
на этого типа заведено у Жанны Матвеевны. Все западные передачи о
нем и о его сочинениях, все анекдоты, все сплетни собраны у нее,
сняты копии с автобиографии, с анкетных листков, уложены в папку
подлинные булатовские письма, не предназначенные никому иному, только
адресату, да вот ушедшие из рук адресата; есть разные записочки. Все есть о
Булатове, все! Десятки, многие десятки анонимок сочинила Жанна
Матвеевна по заказу клиентуры на этого Булатова. И ему самому были
писаны письма, и его жене, и в любые высокие инстанции о нем. Жанна
Матвеевна владела великим даром так перемешивать факты действительности
с ее собственными измышлениями или с измышлениями заказчиков, что
письменные Жанночкины «сигналы» приобретали от этого полное
правдоподобие, от них нелегко было отмахнуться. В жизни Булатова было
немало таких полос, когда его давние и, как ему думалось, добрые знакомые
I вдруг начинали смотреть на него холодно, здороваться сухо, встреч избе-
| гать. Когда вдруг в тех организациях, где он постоянно бывал, где актив-
126
Всеволод Кочетов •
но работал, его фамилию начинали вычеркивать из различных списков, и
тогда он ощущал вдруг какую-то изолированность от окружавшей его
общественной жизни. Никому и в голову не могло прийти, что в немалой
мере это было результатом неутомимой деятельности нечесаной, немытой
Жанночки, образцово и талантливо выполнившей чей-то заказ.
Жанночка не была бесталанна. Когда-то она окончила университет,
защитила диссертацию, стала кандидатом наук. Она слыла тогда
ортодоксом, произносила на собраниях самые правильные речи, уж такие
правильные, что всех от этих ее речей коробило. Позже она запуталась в
общественных ориентирах и сочла за благо устроить свою жизнь на иных
началах. Ходьба в должность, как она называла повседневную работу, ее уже
не устраивала. Там ты все время на виду у людей: хочешь не хочешь,
а должна с ними считаться, приноравливаться к ним, зависеть от них. Нет
ничего выше и сладостней свободы! Жанночка знала множество языков и
могла с любого из них стенографировать; она печатала на любых
машинках, могла писать любыми почерками — от примитивно-детских до
сверхинтеллектуальных, профессорских. Ей не надо было, как это делают
анонимщики-кустари, приглашать соседского десятилетнего Ваську или еще
более юную Лялечку, дабы сочиненную взрослыми гнусь перенести детской
рукой на страничку линованной тетрадной бумаги. При выполнении заказов
Жанночка не шла на то, чтобы подписывать анонимки по-старомодному:
«Доброжелатель» или «Ваш друг». Сочинялся очень достоверный адрес:
Сыктывкар, скажем, Анадырь, Южно-Сахалинск, с улицей, номером дома,
квартиры — в расчете, что в такой дали никто не станет проверять
подлинность автора письма. Глупо, считала она, бросать письма в^ящики тех
районов Москвы, где живут возможные анонимщики. Письма должны
сходиться в Москву из разных концов страны. У Жанночки было несколько
верных помощников, которые могли скатать пригородным поездом до
Серпухова или до Клина и бросить письма там. Причем не на вокзалах
следовало бросать, а надо было сходить для этого на городскую почту:
вокзальные штемпеля все-таки вызывают подозрение. С Анадырем и Южно-
Сахалинском было, естественно, сложнее. Для этого существовал старый
Жанночкин приятель, которого, несмотря на его шестидесятилетний
возраст, все звали Петюней. Аккуратненький, чистенький, благообразный, он
служил бухгалтером в одной из всесоюзных снабженческих организаций, в
которую со всех концов страны приезжали командировочные. Петюня,
выдававший себя за страстного филателиста, вручая им то или иное
письмецо, просил: «Штемпелечек вашего города ценно будет получить одному
из моих коллег. Опустите там у вас в ящичек». И люди, снисходя к
человеческой слабости товарища бухгалтера, к его хобби, опускали. И
ядовитое письмецо, расцвеченное красивыми почтовыми марками, шло куда
надо было Жанночкиным заказчикам.
Многое могла всесильная Жанна Матвеевна, многое!
— Булатов! — говорила она.— Известная личность. Что у него там
новенького?
Обе они, и Жанна Матвеевна и Порция Браун, были негодяйками: они
не стеснялись друг друга, и никаких декораций им было не надо.
— Путается с одной молодой особой по имени Ия, по фамилии Па-
ладьина. Образ жизни этой особы весьма сомнителен. Занимается
переводами из нелегальной иностранной литературы.— Порция Браун сообщала
Жанночке сведения, которые ей удалось выудить у болтливого Ииного
брата Геннадия.
— Все? — Жанна Матвеевна ждала продолжения. Но его не было. —
Жидковато, мисс Браун.
— Да, я понимаю. Но что делать?
— Надо творить. Надо вот что! Надо с болью душевной, с
благородным партийным возмущением открыть на него глаза тем, которые наверху.
Они его читают, они ему верят. Надо им показать подлинное его лицо.
• Чего же ты хочешь?
127
— То есть?
— Пишет он, скажем, о бюрократах?
— Пишет.
— Это мы должны представить так, будто за его литературным
героем стоит подлинное лицо. И кто именно. Понимаете? Дескать, Булатов
пишет как бы и о колхозе, а в виду-то имеет... ну министерство, что ли,
или и повыше что. Я не могу вам вот так сразу сейчас все и выложить.
Это требует изучения, обдумывания. Но в конце концов может получиться
здорово. Этакий, знаете ли, правоверный большевик, и вдруг вульгарный
Эзоп, трусливый критикан, наносящий удары из-за угла. Прозвучит,
уверяю вас!
— Но это бы надо быстро, очень быстро.
— Приходите завтра вечером. Вы с какой нынче валюткой
прибыли — с долларами, с фунтами, марками? Впрочем, это все равно.
Притащите из валютного магазина парочку бутылок джина да парочку виски.
Крабов там каких-нибудь, икорки. Посидим завтра, и я надеюсь вам уже
продемонстрировать тогда проектец взволнованного, отнюдь не
злопыхательского письмеца, этакого с болью в сердце за великое общее дело. —
Жанна Матвеевна нагнулась, пошарила рукой под столиком, вытащила
из-под него полупорожнюю квадратную бутылку лондонского джина «Би-
фитер» с яркой наклейкой и проколотую в двух местах на крышке
жестянку с лимонным соком. — Тоника нет, приходится разбавлять этой
кислятиной. А что делать? Давайте по стопочке, по самой единой, за
благополучное исполнение нашего начинания.
Она налила не в слишком чистые стопки, Порции Браун было
противно пить в такой обстановке, но все же она пригубила из поданной ей
стопки. А Жанночка свою ахнула одним духом.
— Обожаю джин! Недаром в Англии его называют «маминым
разорением». Я понимаю английских женщин.— Она налила себе снова, уже
нисколько не добавляя соку.
Хмель ее озял быстро.
— Мисс Порция! — Она хлопнула гостью по выставленному из-под
короткой юбки колену.— Мы друг друга знаем и понимаем. Но все-таки,
думается, вы не слишком верно судите обо мне. То, что я делаю, требует
громадных знаний и порядочного-таки интеллекта. Это не стряпня. И
училась и учусь я не на заурядном материале. — Она протянула руку к груде
книг, сваленных возле ее кресла, взяла одну, раскрыла на бумажной
закладке.— Послушайте, пожалуйста: «Вчера был на собрании «среды».
Много было «молодых». Маяковский, державшийся, в общем, довольно
пристойно, хотя все время с какой-то хамской 'независимостью, щеголявший
стоеросовой прямотой суждений...» И так далее. Давайте разберем
прочитанное. Надо полагать, помянутый здесь Маяковский вел себя, как
все, но высказывался с обычной для него убежденностью, то есть
Маяковский был Маяковским. А смотрите, как тонко сделано! «В общем,
довольно пристойно». В этом многое скрыто. Обычно о человеке так говорить не
станут. А если говорят, то это означает, что он уже на подозрении:
дескать, мог вести себя и непристойно, он такой, но вот почему-то в данном
случае вел себя ничего, терпимо. «Хотя» — смотрите! — «хотя» «с какой-
то хамской независимостью». Просто сказать с «хамской независимостью»
пишущий не может, потому что это будет чересчур неверным. А вот
добавка с «какой-то» все меняет. Есть независимость, свойственная
Маяковскому. Ее можно назвать «какой-то», а тогда и «хамская» проскочит.
А прямота, знаменитая прямота Маяковского — она же далеко, очень
далеко не всем была свойственна и доступна в литературном мирке того
времени, ей завидовали и за эту свою зависть не терпели его. И вот вам —
«стоеросовая». А почему? И что это значит? Чем обычная прямота
отличается от стоеросовой? А в итоге такого описания перед вами весьма
непривлекательный образ. «Ну и Маяковский!» — скажут прочитавшие это.
128
Всеволод Кочетов •
А если и не скажут, то на сознание, помимо воли, отложится такой вот
контур: в общем, довольно пристойно, но хамовато и стоеросово.
— Что это за книга? — спросила Порция Браун.
— Она вам известна, дорогая. «Окаянные дни» господина Бунина.
Запись от пятого февраля восемнадцатого года. — Жанночка полистала
странички.— А вот вам от второго марта: «Новая литературная новость,
ниже которой падать, кажется, уже некуда: открылась в гнуснейшем
кабаке какая-то «музыкальная табакерка» — сидят спекулянты, шулера,
публичные девки и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из
чайников, а поэты и беллетристы (Алешка Толстой, Брюсов и так далее)
читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные.
Брюсов, говорят, читал «Гаврилиаду», произнося все, что заменено
многоточиями, полностью».— Тоже, как видите, очень ловко. Сажаются Алексей
Толстой и Валерий Брюсов, очень неугодные и неприятные автору записи
за несколько иное, чем у него, отношение к революции, сажаются среди
такой вот компании. Толстой назван при этом «Алешкой», после имени
Брюсова идет обобщающее его с какой-то шушерой «и так далее» —и в
итоге этих неприятий автора на неприятных ему людях уже налет чего-то
явно порочного. А еще и «Гаврилиада» полностью, без многоточий!
Страховочное словцо «говорят» проскочит незамеченно. Человек и не читал
никакой «Гаврилиады», да получится, что читал. Вот работа классика,
увенчанного лаврами Нобелевской премии! Тонкий стилист! Эстет!
Филигранщик! Когда надо, мисс Браун, вы же по себе знаете: все мы, кто бы мы
там ни были, эстеты-разэстеты, беремся и за черновое дело. Ни
революцию, ни обратное ей, что верно, то верно, в белых перчатках не сделаешь.
Друг-то перед другом нам прикидываться незачем.
— Жанна Матвеевна, — сказала, вглядываясь в старуху, мисс
Браун,— а вы рассчитываете на это «обратное ей»?
— А, чепуха! — отмахнулась та.— К слову просто. Им, тем,
тогдашним, — она потрясла книгой, — действительно хотелось чего-то обратного.
А мне?.. Мне все равно. Совершенно все равно. Вы думаете, что я иначе
бы жила в другое время и при другом строе? — Она налила себе третий
стаканчик джина.— Или там у вас, на Западе? Нет, так же. Только там у
меня были бы заработки хуже, там, подобных мне, не одна бы я была,
конкуренция бы меня, пожалуй, задавила. Вот и все. Здесь я почти вне
конкуренции. Монополистка, так сказать. Это мое призвание, скажу я вам
Я люблю это дело, оно меня бодрит, я чувствую вдохновение, когда
получаю интересный заказ.
Порция Браун никогда не была дурой: она умела оценивать реальную
действительность и встреченных людей. Конечно, по тому прейскуранту,
которым располагала. По отношению к этой захмелевшей и
расхваставшейся неопрятной бабе она ощущала гадливость. Сидит в грязи, среди
верещащих птиц, в духоте, в скверном запахе, вокруг нее груды ценных
книг, заляпанных маслом, кофе, вареньем, и рассуждает о великих людях,
о культуре, мнит невесть что о себе, на одну доску с собой ставит ее,
Порцию Браун, тонко, изящно образованную, красивую, выхоленную,
всегда обласканную успехом. «Обманываем мы себя,— подумалось мисс
Браун,— полагая, что такие люди способны нам помочь сокрушить коммунизм.
Они слишком мелки и ничтожны, они делают это за бутылку джина и
банку крабов. Значит, если большевики до наших решительных усилий успеют
сделать так, что в каждом их магазине будут и крабы и этот джин, то
наши здешние помощники отвалятся сами собой. Кто же тогда? На кого мы
обопремся? О, боже! Карьерист Зародов? Но он хочет делать карьеру в
рамках своего строя, своего. Ему наш не нужен. Он здесь хочет
пробиться в министры, в советские, только в советские министры. Хотя бы
потому, что понимает полную безнадежность своих шансов на это в западном
мире. Богородицкий? Он помешан на величии своей Руси, на царях и
императорах-освободителях, просветителях, благодетелях. Его обожаемая
• Чего же ты хочешь?
129
матушка Екатерина пуще всего наказывала: не пускать в Россию никаких
иностранцев!.. Нет, это обломки, это мираж. Только молодые еще чего-
то стоят. На них надежды. Верно, очень верно говорили об этом ив
Вашингтоне, и в Лондоне, и в Мюнхене. И не пришла бы я к этой грязной
бабе ни за что, если бы не скверная история с Булатовым. А в таких
случаях любые помощники хороши, лишь бы они помогли достигнуть цели.
Черту, дьяволу закладывали свои души люди, когда ничего иного им не
оставалось, а тут не черт и не дьявол — просто мелкая дрянь».
— Хотите, я вам еще почитаю из разных книжечек? — предложила
Жанночка, тяня руку к груде книг. — Есть очень любопытное...
— Нет, благодарю.— Порция Браун взглянула на часы.— Время
мое ограничено. Я же не одна здесь. Бизнес есть бизнес. Не так ли? —
Она даже попыталась улыбнуться, хотя это было нелегко.— Итак, до
завтра!
Хозяйка, ковыляя, проводила ее по темному коридору до двери, про-,
следила взглядом, как гостья стала спускаться по лестнице. И тогда
захлопнула дверь. Заслышав этот звук, Порция Браун вздохнула с
облегчением.
Выйдя на улицу, на солнце, на свежий воздух, она уже смогла
улыбнуться, не по обязанности, а от прихлынувшей бодрости. Нет, это не
конец. Порция Браун так легко никогда не сдавала позиций.
Каблуки ее энергично стучали по асфальту. Люди оборачивались,
смотрели ей вслед: какая интересная особа! Артистка, наверно, или
стюардесса с зарубежной авиалинии.
39
Бледное, в мелких чертах лицо человека, где-то когда-то виденное,
а теперь вот нет-нет да и мелькавшее в толпе возле гостиницы, до того
взвинтило нервную систему Клауберга, что по последнему адресу,
названному ему в Брюсселе, хотя его и удалось уточнить через Мосгорсправку,
он не пошел. Нет, сказал он себе, рисковать не к чему, он, Клауберг,
не шпион, не авантюрист, незачем ему в его возрасте лезть в русскую
тюрьму. Причем, несомненно, лезть надолго, может быть, даже на полное
дожитие. Никаких сроков давности для так называемых военных
преступлений русские не признают, докапываться до корней они умеют, и
встреча с их органами безопасности никак не ограничится разговором о
нескромности приезжего профессора; они вытащат наружу все: и разграбление
культурных и материальных ценностей, и подготовку диверсантов, и
карательные действия против партизан, и участие в расстрелах.
Когда он сказал себе это: «Карательные действия против партизан и
участие в расстрелах»,— в мозгу у него будто вспыхнул магний, при
свете которого ярко осветилась одна из страниц прошлого, казалось бы, уже
давно и прочно позабытая. Он увидел перед собой деревню Красуху под
Псковом. Всех жителей этой деревни за отказ выдать партизан пришлось
уничтожить, а саму деревню стереть с лица земли. Клауберг в том
деле не был главным, и вообще он приехал туда лишь затем, чтобы
полюбоваться на акцию принципиального, устрашающего значения. Важно,
что он присутствовал при осуществлении акции, и именно там, там
впервые встретил этого человека, крутившегося среди немецких офицеров с
блокнотом в руках. Кондратьев! Тот самый Кондратьев, сотрудник газеты
«Новое время», специальный корреспондент, сочиненьица которого
Клауберг почитывал из любопытства и которого не раз встречал позже и в
Печорском монастыре, и в Пскове, и в окрестных псковских селах; и он же,
этот Кондратьев, поднял однажды тревогу, примчавшись в Псков с
известием о том, что в лесах под самым городом орудуют партизаны.
Сделав такое неожиданное открытие, Клауберг не знал, куда
кинуться, что предпринять. Опасность была страшная. Нет никакого сомнения з
9. «Октябрь» № 11.
130
Всеволод Кочетов •
том, что Кондратьев за ним следит. Но в каком качестве? Первая мысль
была о том, что он делает это по заданию советской госбезопасности.
Отбыл, может быть, наказание за свои преступления, совершенные в
годы войны, и вот сотрудничает. Вместе с тем казалось странным, почему
же Кондратьев действует так неуклюже, то и дело попадаясь на глаза
тому, за кем поставлен наблюдать? Может быть, дело совсем и не в
госбезопасности? Может быть, этот ничтожный, грязный тип просто собрался
его шантажировать, но поскольку он именно ничтожество, то не знает,
как подойти к объекту, намеченному для шантажа, не решается начать
разговор, попытаться схватить его, Клауберга, за глотку?
Как бы там ни было, оставаться пассивным стало невозможно. Надо
было действовать! Или немедленно купить билет на самолет куда угодно —
в Лондон, в Париж, Брюссель, Стокгольм и даже Тегеран,— или как-то
разобраться с этим Кондратьевым: чего ему надо, от кого он работает,
на кого?
Дело облегчилось тем, что Клауберг увидел своего давнего знакомца
в компании с Юджином Россом и тем парнем, сыном доцента Зародова,
кажется, по имени Геннадий, с которым Росс разводит какие-то шашни.
Клауберг был настолько взвинчен и встревожен, что даже и парень этот,
Геннадий, показался ему кем-то другим, а не сыном доцента Зародова;
Клауберг явно видел где-то и это лицо, совсем, правда, в ином месте, не в
Пскове, но вот точно такое же, круглое, веснушчатое.
Встретив Юджина Росса за обедом, он спросил его о бледнолицем,
кто это такой.
— Торгует иконами, — коротко ответил Росс.
— Фамилию знаешь? Имя?
— Голубков, Семен Семенович.
— Голубков?..— Это, конечно, еще ни о чем не свидетельствовало:
не так просто, как костюм, но все же и фамилию и имя сменить было
можно.— Где он живет, тебе известнее?
— Не интересовался. Если надо, спрошу у Геннадия.
— Спроси, Юджин.— Давать этому «зеленому берету», как про
себя Клауберг называл Росса, повод для каких-либо домыслов было
нельзя; следовательно, и показывать слишком острую свою заинтересованность
в Голубкове тоже нельзя. — Они, эти русские, народ прижимистый. Сюда
таскает разные отходы, а главное добро хранит дома, за печкой, в
сундуке.— Клауберг посмеялся.— Не зря же они такие объемистые печки
строят. Русские печки! Чтобы за ними прятать ценности. Может быть,
нагрянем к нему домой да там, на месте, товар посмотрим. Карадонна наш,
знаток русской старины, постоянно предупреждает, что с рук ничего
покупать нельзя. Русские — мастера на подделки.
— Ему бы, господину Карадонна, помалкивать лучше,— ответил
Юджин Росс.— Таких мошенников в смысле подделок, да и в любых иных
смыслах, как итальянцы, вторых и на свете нет.
— Вообще-то ты прав, Юджин: итальяшки — дрянь порядочная. Ну
так ты узнай адрес, не позабудь.
Вместо адреса Голубкова Юджин Росс привел в комнату Клауберга
Генку.
— Он знает все, господин профессор. Оставляю его вам. А у меня,
прошу прощения, дел по горло. Ответственные съемки идут. Господин
Карадонна торопит. Говорит, сроки поджимают. Скоро, говорит, дойоЙ: \
— Да, да,— кивнул Клауберг, не вслушиваясь в то, что говорил
«зеленый берет». Он разглядывал Генку. \
Когда Юджин Росс ушел, Клауберг предложил Генке присеешь,
поставил перед ним бутылку вина, стакан и тоже сел напротив. ^ *"■■-■
— Меня заинтересовал человек, о котором мне рассказал господин
Росс. Он что, специалист по искусству?
130
Всеволод Кочетов #
том, что Кондратьев за ним следит. Но в каком качестве? Первая мысль
была о том, что он делает это по заданию советской госбезопасности.
Отбыл, может быть, наказание за свои преступления, совершенные в
годы войны, и вот сотрудничает. Вместе с тем казалось странным, почему
же Кондратьев действует так неуклюже, то и дело попадаясь на глаза
тому, за кем поставлен наблюдать? Может быть, дело совсем и не в
госбезопасности? Может быть, этот ничтожный, грязный тип просто собрался
его шантажировать, но поскольку он именно ничтожество, то не знает,
как подойти к объекту, намеченному для шантажа, не решается начать
разговор, попытаться схватить его, Клауберга, за глотку?
Как бы там ни было, оставаться пассивным стало невозможно. Надо
было действовать! Или немедленно купить билет на самолет куда угодно —
в Лондон, в Париж, Брюссель, Стокгольм и даже Тегеран,— или как-то
разобраться с этим Кондратьевым: чего ему надо, от кого он работает,
на кого?
Дело облегчилось тем, что Клауберг увидел своего давнего знакомца
в компании с Юджином Россом и тем парнем, сыном доцента Зародова,
кажется, по имени Геннадий, с которым Росс разводит какие-то шашни.
Клауберг был настолько взвинчен и встревожен, что даже и парень этот,
Геннадий, показался ему кем-то другим, а не сыном доцента Зародова;
Клауберг явно видел где-то и это лицо, совсем, правда, в ином месте, не в
Пскове, но вот точно такое же, круглое, веснушчатое.
Встретив Юджина Росса за обедом, он спросил его о бледнолицем,
кто это такой.
— Торгует иконами, — коротко ответил Росс.
— Фамилию знаешь? Имя?
— Голубков, Семен Семенович.
— Голубков?..— Это, конечно, еще ни о чем не свидетельствовало:
не так просто, как костюм, но все же и фамилию и имя сменить было
можно.— Где он живет, тебе известнее?
— Не интересовался. Если надо, спрошу у Геннадия.
— Спроси, Юджин.— Давать этому «зеленому берету», как про
себя Клауберг называл Росса, повод для каких-либо домыслов было
нельзя; следовательно, и показывать слишком острую свою заинтересованность
в Голубкове тоже нельзя. — Они, эти русские, народ прижимистый. Сюда
таскает разные отходы, а главное добро хранит дома, за печкой, в
сундуке.— Клауберг посмеялся.— Не зря же они такие объемистые печки
строят. Русские печки! Чтобы за ними прятать ценности. Может быть,
нагрянем к нему домой да там, на месте, товар посмотрим. Карадонна наш,
знаток русской старины, постоянно предупреждает, что с рук ничего
покупать нельзя. Русские — мастера на подделки.
— Ему бы, господину Карадонна, помалкивать лучше,— ответил
Юджин Росс.— Таких мошенников в смысле подделок, да и в любых иных
смыслах, как итальянцы, вторых и на свете нет.
— Вообще-то ты прав, Юджин: итальяшки — дрянь порядочная. Ну
так ты узнай адрес, не позабудь.
Вместо адреса Голубкова Юджин Росс привел в комнату Клауберга
Генку.
— Он знает все, господин профессор. Оставляю его вам. А у меня,
прошу прощения, дел по горло. Ответственные съемки идут. Господин
Карадонна торопит. Говорит, сроки поджимают. Скоро, говорит, домой.
— Да, да,— кивнул Клауберг, не вслушиваясь в то, что говорил
«зеленый берет». Он разглядывал Генку.
Когда Юджин Росс ушел, Клауберг предложил Генке присесть,
поставил перед ним бутылку вина, стакан и тоже сел напротив.
— Меня заинтересовал человек, о котором мне рассказал господин
Росс. Он что, специалист по искусству?
• Чего же ты хочешь?
131
— Обыкновенный торгаш, господин Клауберг,— напрямик ответил
Генка.— Его товар, ваши деньги — вот и все. Но товар у него, надо
отдать должное, доброкачественный.
— Он москвич?
— Кто же его знает, господин Клауберг! По рассказам судя, по всей
стране таскался. Где-то с геологами бывал, на севере, с экспедициями.
— На севере? И в Сибири, значит?
— Да, бывал и там, в Сибири. Там такой товар еще сохранился в
таежных селениях.
— А вы что, в этом деле тоже понимаете? — поинтересовался
Клауберг.— Это,ваша специальность? Вы историк? Искусствовед?
— Кое-что понимаю. Вернее, начинаю понимать. Но это попутно.
Я же еще учусь. Перерывчик, правда, получился. Сейчас перехожу в
другой институт. Знаете, выбрать себе специальность по душе — это совсем
не просто.
— Но ведь у вас, в Советском Союзе, все пути человеку открыты. Не
так ли?
— Это так, открыты. А что из того? Вот учился я в техническом —
там надо знать математику. А у меня способностей к точным наукам
никаких, меня от них воротит. Пошел я в театральный — тоже не лучше.
Глупцом себя чувствуешь, как попугай, повторяя чужие слова. В
литературный можно бы, конечно. Рассказика два нацарапай — примут. Но кем
же ты оттуда выйдешь? Сиди всю жизнь, приклеенный к стулу, и изводи
бумагу. Душу вложишь в писанину, а критики тебя, как подушку,
распотрошат и по всей улице пустят. Нет, господин Клауберг, нелегко, очень
нелегко определиться в жизни. Теперь решил начать все сначала: пойду
попробую в медицинский. Гинекологом буду.
— Да, это весьма доходная профессия. Гинекологи — народ
богатый.— Клауберг никак не мог понять, всерьез с ним разговаривает этот
парень или'чудака из себя изображает.— Выходит,— сказал он,
помолчав,— что когда слишком много дорог открыто, тоже не очень хорошо?
— Я разве сказал это? — удивился Генка.
— Нет, не сказали. Но по логике оно так. Сюда попробовали, туда,
в третье место... А время-то идет, идет. Это, знаете, как в зрительном
зале: когда он почти пуст, совершенно немыслимо выбрать подходящее
место. А когда есть всего одно свободное — с какой радостью кидаешься к
нему и садишься. Ну, это к слову. Так, если вас не затруднит, сообщите
мне адрес этого... как вы сказали?
— Голубкова?
— Да, да, господина Голубкова.
В тот же вечер Клауберг приехал в Кунцево на такси. Улицу,
название которой было записано у Клауберга, шофер не знал. Ну ничего, решил
Клауберг, вышел где пришлось и; расспрашивая прохожих, отправился
искать сам. Это был такой московский район, где новые городские дома
перемешивались со старыми, почти деревенскими. Соломенных крыш,
правда, не было, но дома по-деревенски украшались резными наличниками,
крылечками, были обшиты тесом, покрашены. Видимо, совсем еще
недавно это считалось пригородом. Может быть, даже дачной местностью.
Некоторые улицы были непроезжими, тихими, как бы всеми забытыми.
Одна из них оказалась именно той, которую и разыскивал Клауберг.
Дом номер одиннадцать стоял на земле низко, он как бы врос с годами
в почву, краска на его дощатой обшивке облиняла, а там, где -еще
сохранялась, она была похожа на бурую шелуху. Несколько небольших окон,
крыльцо в одну ступеньку. Клауберг подошел к нему — следов ног на
досках не было. И ручки у двери не было. Только черное отверстие от нее.
Он знал такие дома, он видел их и под Ленинградом, и под Новгородом, и
на Псковщине. Он врывался в такие дома, он жег их. Были такие и в
Красухе...
132
Всеволод Кочетов •
Он толкнул калитку ворот рядом с крыльцом.
За калиткой увидел второе крыльцо, второй вход в дом. Дверь
открыта. Клауберг вошел, потоптался в сенях, спросил, как обычно
спрашивают в таких случаях русские:
— Хозяева! Есть кто дома?
Вышла старуха.
— Семена Семеныча? Да вон в ту дверь, за чуланом которая. Не
знаю, дома ли. Погляди сам.
— Ну кто там? — услышал он в ответ на свой стук в дверь за
чуланом.
Жилец комнатенки, с одним окном, с низким потолком, сидел за
столом перед этим распахнутым в сад окошком и подклеивал что-то в старой
книге с пожелтевшими листами, в буром, желто-черном переплете,
возможно, из свиной кожи.
Момент был напряженный.
Голубков скользнул раз, другой по лицу, по фигуре гостя, ничто его
в нем, видимо, не заинтересовало. Он сказал: «Слушаю» — и продолжал
свою работу.
Клауберг сел на вторую табуретку возле с;гола.
— Я по рекомендации,— сказал он, а сам все вглядывался в лицо
человека за столом.
Да, сомнений не было. Время прошло немалое, изменения произошли
заметные: и волосы поредели, и кожа в морщинах, и мешки под глазами.
Но общая белесость, эти белые, быстрые реснички все те же. Кондратьев,
конечно, он, сотрудник «Нового времени».
— По какой такой рекомендации? — спросил тем временем
Кондратьев, замаскированный под Голубкова.— От кого?
— От Кондратьева,— тихо сказал Клауберг.
Кондратьев дернулся, будто его хватило током. Но глаз не вскинул,
а поднял медленно, тяжело. Вот они, эти два кондратьевских глаза,
которые так же смотрели на огонь Красухи, на повешенных, на убитых
выстрелами в затылок, заколотых штыками жителей псковской деревни.
— Вы из КГБ? — спросил он сухим горлом, откладывая свою
работу в сторону.
И тут Клауберг проклял себя за то, что поддался панике, за то, что
засуетился, забегал, вместо того чтобы держаться как ни в чем не
бывало и продолжать свое дело. Кондратьев его не узнавал, явно не узнавал, в
его глазах не было ни искры воспоминаний. Но теперь... теперь уже просто
так не уйдешь: вскочил и исчез. Имя Кондратьева названо. Теперь уже
Кондратьев не успокоится, теперь-то он действительно начнет искать,
следить, выяснять, с кем имеет дело, кто такой тот, кто знает Кондратьева,
о котором, видимо, и сам-то Кондратьев-Голубков постарался уже
позабыть.
Клауберг не сумел ответить быстро, он не знал, что отвечать. Он
с напряжением думал и смотрел на Кондратьева. А у того в глазах уже
забегало, завертелось, память стала оживать.
— Нет,— сказал он,— нет! Не может быть! Как вы сюда попали? —
Он вскочил из-за стола.— Штурмбанфюрер!..
Клауберг схватил его за руку. Рывком посадил обратно.
— Не орите. Идиот! Если это еще не из КГБ, то после ваших воплей
будут и из КГБ.
Он отпустил руку Кондратьева. Тот сидел, как зашибленный, и не
знал, что думать: лучше ли это, чем КГБ, или КГБ было бы лучше, чем
вылезший откуда-то эсэсовский офицер. Клауберг же окончательно
убедился в том, что его подвели нервы, Кондратьев и ведать не ведал о его
пребывании в Москве, и сам он, конечно, живет по чужим документам, пряча
от советских властей свое подлинное лицо. Это несло с собой Клаубергу
некоторое облегчение. Надо было выпутываться.
132
Всеволод Кочетов •
Он толкнул калитку ворот рядом с крыльцом.
За калиткой увидел второе крыльцо, второй вход в дом. Дверь
открыта. Клауберг вошел, потоптался в сенях, спросил, как обычно
спрашивают в таких случаях русские:
— Хозяева! Есть кто дома?
Вышла старуха.
— Семена Семеныча? Да вон в ту дверь, за чуланом которая. Не
знаю, дома ли. Погляди сам.
— Ну кто там? — услышал он в ответ на свой стук в дверь за
чуланом.
Жилец комнатенки, с одним окном, с низким потолком, сидел за
столом перед этим распахнутым в сад окошком и подклеивал что-то в старой
книге с пожелтевшими листами, в буром, желто-черном переплете,
возможно, из свиной кожи.
Момент был напряженный.
Голубков скользнул раз, другой по лицу, по фигуре гостя, ничто его
в нем, видимо, не заинтересовало. Он сказал: «Слушаю» — и продолжал
свою работу.
Клауберг сел на вторую табуретку возле стола.
— Я по рекомендации,— сказал он, а сам все вглядывался в лицо
человека за столом.
Да, сомнений не было. Время прошло немалое, изменения произошли
заметные: и волосы поредели, и кожа в морщинах, и мешки под глазами.
Но общая белесость, эти белые, быстрые реснички все те же. Кондратьев,
конечно, он, сотрудник «Нового времени».
— По какой такой рекомендации? — спросил тем временем
Кондратьев, замаскирЬванный под Голубкова.— От кого?
— От Кондратьева,— тихо сказал Клауберг.
Кондратьев дернулся, будто его хватило током. Но глаз не вскинул,
а поднял медленно, тяжело. Вот они, эти два кондратьевских глаза,
которые так же смотрели на огонь Красухи, на повешенных, на убитых
выстрелами в затылок, заколотых штыками жителей псковской деревни.
— Вы из КГБ? — спросил он сухим горлом, откладывая свою
работу в сторону.
И тут Клауберг проклял себя за то, что поддался панике, за то, что
засуетился, забегал, вместо того чтобы держаться как ни в чем не
бывало и продолжать свое дело. Кондратьев его не узнавал, явно не узнавал, в
его глазах не было ни искры воспоминаний. Но теперь... теперь уже просто
так не уйдешь: вскочил и исчез. Имя Кондратьева названо. Теперь уже
Кондратьев не успокоится, теперь-то он действительно начнет искать,
следить, выяснять, с кем имеет дело, кто такой тот, кто знает Кондратьева,
о котором, видимо, и сам-то Кондратьев-Голубков постарался уже
позабыть.
Клауберг не сумел ответить быстро, он не знал, что отвечать. Он
с напряжением думал и смотрел на Кондратьева. А у того в глазах уже
забегало, завертелось, память стала оживать.
— Нет,— сказал он,— нет! Не может быть! Как вы сюда попали? —
Он вскочил из-за стола.— Штурмбанфюрер!..
Клауберг схватил его за руку. Рывком посадил обратно.
— Не орите. Идиот! Если это еще не из КГБ, то после ваших воплей
будут и из КГБ.
Он отпустил руку Кондратьева. Тот сидел, как зашибленный, и не
знал, что думать: лучше ли это, чем КГБ, или КГБ было бы лучше, чем
вылезший откуда-то эсэсовский офицер. Клауберг же окончательно
убедился в том, что его подвели нервы, Кондратьев и ведать не ведал о его
пребывании в Москве, и сам он, конечно, живет по чужим документам, пряча
от советских властей свое подлинное лицо. Это несло с собой Клаубергу
некоторое облегчение. Надо было выпутываться.
• Чего же ты хочешь?
133
— Ну что ж, Кондратьев, будем считать, что Кондратьева нет, есть
Голубков. Так? — Кондратьев молчал.—Но нет и штурмбанфюрера...
Есть профессор, уважаемый иностранный профессор! — Он даже
улыбнулся.
Но Кондратьев как бы окаменел. Страх не только не отпускал его, но
забирал все сильнее, отнимая волю, отнимая силы, отнимая способность
шевельнуться. Он холодел, медленно застывал. Столько лет, столько лет
собачьей, волчьей жизни, односторонней, изнурительной игры в прятки,
столько лет страшных снов, страшных мыслей — и все зря! С какой
радостью он наблюдал на Ваганьковском за похоронами того чекиста, который,
как думалось ему, был последним, кто знал, что Голубков не Голубков, а
Кондратьев. А вот есть и еще, и еще живой. Почему этот эсэсовец не сдох?
Их же ловили, судили, казнили. Они преступники. Но вот жив, жив,
нашелся, пришел. Зачем? С к^кой бы радостью схватил в эту минуту он,
Кондратьев, топор, который стоит там, за дверью в чулане, и рубанул бы по
этой круглой, как у сома, башке. Рука бы не дрогнула, нет. Может быть,
выскочить в окно, броситься через малину туда, к главной улице, к
Минскому шоссе, где милиция, крикнуть — пусть возьмут душителя и
вешателя? Да, возьмут... Но возьмут и того, кто на этих вешателей работал.
Чекиста нет. Но есть этот штурмбанфюрер. Он же не промолчит, он
скажет, начнут искать газеты, листать их, объявят, кто он такой, из
псковских лесов выйдут свидетели: выдал, выдал партизан — заорут. И
крышка, на старости лет крышка.
— Чего молчите-то, Кондратьев? — сказал Клауберг, наблюдая за
его лицом, в котором все было видно, как в зеркале.— Думаете, как бы
меня прикончить, как бы выдать так, чтобы самому остаться целым? Увы,
не получится. Есть такие тупики, из которых обратного хода нет. Вы в
нем, в этом тупике. В подобных случаях спасение одно: сидеть тихо и не
трепыхаться. Видите, я вас не забыл, я решил вас проведать. Вспомнил,
знаете, о вас в Пскове. Я недавно был в тех местах. С научной
экспедицией. Вспомнил партизан, которых мои соотечественники вешали по вашей
любезной указке. Красуху, деревню эту сожженную, вспомнил. Вы,
кажется, там так хорошо фотографировали пожар, трупы повешенных и
расстрелянных? В монастыре был, иконы смотрел, тот зал, где мы, офицеры
великой Германии, заседали с русскими попами, о чем вы так красочно
расписывали в газете «Новое время». Видите, и название газеты помню. И вот
решил проведать вас. Как вам живется? Не надо ли помочь? — Клауберг
постепенно овладевал собой. Трудно сказать, что будет дальше; от таких
мозгляков, как Кондратьев, ждать можно чего угодно; но пока он
раздавлен, он весь у тебя в кулаке, такой он не только не страшен — он жалок,
смешон, ничтожен. Над ним можно сколько угодно потешаться.
Кондратьев действительно был раздавлен. У него даже постукивали
зубы.
— Ну полно,— сказал Клауберг,— возьмите себя в руки. У вас
есть водка или что?
— Там...— Кондратьев кивком указал на небольшой шкафик из
темного, старого дерева, втиснутый в угол меж столом и кроватью.
Клауберг распахнул дверцу, среди разнокалиберной щербатой
посуды увидел бутылку, налил из нее в чашку, подал Кондратьеву.
— Надо это выпить.
Тот, постукивая зубами о край чашки, стал пить, давясь и кашляя.
Может быть, ему стало легче, но немного. Он все-таки по-настоящему не
приходил в себя, даже захмелев, раскрасневшись до пота.
Положение в общем-то оставалось безвыходным. Уехать в
гостиницу, бросив вот такого Кондратьева? А тот отойдет потом и, махнув на все
рукой, отправится в КГБ. В отчаянии-то чего только люди не делают! Дать
ему какой-нибудь железиной в переносье и уложить на месте — могут не-
134
Всеволод Кочетов •
сколько дней не хватиться, а тем временем улететь из Москвы? А вдруг
это обнаружится быстрее? Зайдет через полчаса та бабка — и тревога.
Отпечатки подошв во дворе, на улице, на этой мягкой сельской земле,
ищейки, уголовный розыск...
— Эх, Кондратьев, Кондратьев! — сказал Клауберг.— Какого вы
черта остались в России! Жили бы в свободном мире, свободным
человеком, не тряслись бы от стука в дверь, имени могли бы не менять. Россию
вам подавай!
— На черта мне эта Россия! — огрызнулся вдруг Кондратьев.— Но
и вас, вас мне не надо!
— А чего вам надо? Денег?
— Есть у меня деньги, есть! — Хмель все-таки действовал на
Кондратьева.— Вас с вашими потрохами купить могу. Долларами могу
уплатить, кронами, фунтами.
— Все, все купишь, заяц! Только покоя себе не купишь!
Чтобы уйти, не оставалось ничего другого, как посильнее припугнуть
Кондратьева.
— Итак, Кондратьев,— сказал Клауберг, вставая с табуретки,—
если вы раскроете где-нибудь .рот, будете, словом, нескромны, для меня все
это обойдется неприятным собеседованием, поскольку я подданный такой
страны, с которой ваши власти не захотят ссориться из-за моей персоны, —
она не столь велика и заметна. А вот я скромничать уже не- стану, и вы
предстанете перед вашим судом со всеми, как вы изволили выразиться,
вашими коллаборационистскими потрохами.. Изменник родины! Враг народа!
Вот так, Кондратьев!
Он ушел. Но шел неторопливо, шел трудно, его тянуло назад, чтобы
развязать затянувшийся узел как-то иначе, радикальней, надежней.
Отыскал стоянку такси на одном из перекрестков, попросил довезти
до центра. Расплатился у Библиотеки Ленина, к гостинице шел пешком, все
раздумывал. Возле гостиницы машинально, как делал постоянно, поднял
глаза к фронтону, и прочел надпись, указанную ему однажды Сабуровым:
«Только диктатура пролетариата в состоянии освободить человечество от
гнета капитала. В. И. Ленин».
Поднявшись на свой этаж, постучался в комнату Сабурова. Был уже
одиннадцатый час. При свете сильных ламп Сабуров и Юджин Росс
рассматривали превосходно выполненные Россом большие цветные
фотоснимки не только с икон или старых картин. Юджин Росс ухитрился
сфотографировать и те полотна французов, которые имелись в Москве,— Сезанна,
Дега, Ренуара, и много знаменитых ценностей Третьяковской галереи.
— Чудесно, чудесно! — восхищался Сабуров. Юджин Росс,
самодовольно ухмыляясь, жевал резинку.— Я надеюсь, Юджин, что вы мне
подарите комплект ваших снимков. Мне это будет бесконечно дорого там, в
моей далекой Вариготте, на Лигурийском берегу. Такая память о России!
О нашем совместном путешествии. Оно мне кажется очень удачным. Не так
ли, профессор? — Он взглянул на Клауберга.
Лицо у Клауберга было темное, напряженное.
— Да, безусловно, — ответил он как-то тускло и для него
непривычно.— Надо бы выпить по этому поводу. У тебя, конечно, ничего нет.— Он
посмотрел на Сабурова. — У меня тоже.. Один русский юнец вылакал
остатки.
— Да! — сказал Юджин. — Как вы сговорились, профессор, с
Геннадием? Он дал вам адрес того торговца?
— Дал.
— Вы были там?
— Нет еще. На днях соберусь, — ответил Клауберг и тотчас подумал:
зачем соврал? Кондратьев встретит того юнца или этого Росса, может
болтнуть, и пойдет закручиваться клубок. Как все скверно, когда врешь без
нужды и не по программе, и как, значит, он, Клауберг, основательно выбит
• Чего же ты хочешь?
135
из привычного состояния, если идет на мелкое вранье.— Да, так я говорю,
что у меня нет ни глотка. Одна надежда на тебя, Юджин. У тебя всегда
в запасе.
— У меня есть, конечно. Принести? Или ко мне зайдете?
— Неси ко мне. Не будем засвинячивать комнату господина Кара-
донна. А у меня — сам бог велел это делать. Я руководитель группы.
Кстати, где мисс Браун? Я ее уже два дня не вижу.
— Ее кто-то хлопнул по ягодицам,— сказал Юджин Росс, уже стоя
в дверях.— Разволновалась, бегает по всей Москве, пьет валерьянку.—
Он ушел.
— Что за история? — спросил Клауберг у Сабурова, когда они
переходили по коридору к комнате Клауберга. — Кто ее хлопнул?
— Он что-то объяснял, этот Росс, я не вник. С кем-то спорила...—
Сабуров шагнул в дверь, которую отворил Клауберг. — Нет, кого-то она
тут в прошлый приезд оболгала в своем журнальчике... Где она там
печатается?.. А он, оболганный ею, вновь встретил ее — и вот что-то вышло.
Появился Юджин Росс с охапкой бутылок.
— Батарея, к бою! — воскликнул он, закрыв за собой дверь ногой,
и принялся расставлять бутылки на столе.
— Юджин,—сказал Клауберг. — Как это произошло?.. С мисс Браун?
— Она написала, что этот человек — кажется, писатель — в тот раз,
когда она брала у него интервью, похлопал ее по заду. Ну поднажала на
педали, как водится. А он ей на этот раз и сказал: <Ш понял ваши слова,
как аванс, и дабы ваша брехня была правдой, вот вам, получите!»
— А что, он не дурак, этот русский! — Клауберг рассмеялся.—
Сама, дура, виновата.
Они сидели до глубокой ночи. Сабуров пил мало: он не любил этих
виски и джинов, в Италии привык к сухим виноградным винам, которые у
них с Делией бочками стояли в подвале. Там были даже такие, которым
уже по двадцать с лишним лет. Он только мочил губы в этих северных
питиях. Зато Юджин Росс и почему-то обычно сдержанный на выпивку в
Москве Клауберг дали себе волю. Юджин разошелся, хлопал их по коленям и
рукам, говорил, что вначале думал о них не очень одобрительно; старые,
мол, сухари и перечницы. Но они, оказывается, ничего ребята. Клауберг в
шумном разговоре назвал его «зеленым беретом», Юджин начал было
приставать к нему, требуя ответить, что Клауберг имеет в виду, говоря так,
но сбился с мысли и понес чепуху уже в другом направлении.
Часа в три ночи Сабуров и Юджин Росс ушли к себе. Росс был
вдребезги пьян, держался за стену, когда шел коридором. Клауберг долго
сидел, тупо посматривая на тот ералаш, какой остался на столе от
компании: на пустые и полупустые бутылки, на огрызки яблок и кожуру
бананов, на груды окурков и россыпи пепла. Потом поднялся, подошел к
телефонному аппарату и набрал номер Порции Браун.
— Я разбудил вас,— сказал он, когда она откликнулась сонным
голосом. — Но у меня важное дело. Отомкните вашу дверь. Сейчас приду.
Она встретила его встревоженная, в одной нижней сорочке. Он
замкнул дверь за собой, сгреб ее и плюхнул плашмя на теплую постель. Она
пыталась вскочить, но руки у него были из железа. Одной рукой он
держал мисс Браун, другой стаскивал с себя одежды. Она не кричала, она
боялась кричать, она шипела:
— Бош, бош! Скотина! Ты не посмеешь!
— Брось наконец свою проповедь! — рявкнул он на нее, и она
затихла.
40
Телефон зазвонил так рано, как еще не бывало. Подошла мать Леры,
Мария Васильевна, встававшая в доме первой. Но даже и для нее такие
время было необычным.
136
Всеволод Кочетов •
— Я попрошу позвать Валерию Васильеву,— услышала она
знакомый ей голос с иностранным акцентом.
— Во-первых, — ответила Мария Васильевна, — вы прекрасно
знаете, кто живет в этом доме, вы тоже в нем жили и могли бы,
следовательно, поздороваться, Бенито. А во-вторых, нельзя ли позвонить позже,
все еще спят.
— Здравствуйте, здравствуйте,— сказал Спада досадливо. — Но
все-таки разбудите, пожалуйста, Леру. У меня очень срочный вопрос,
очень.
— Прискакал? — сказала Лера, когда Мария Васильевна, разбудив
ее, объяснила, кто к ним названивает в такую рань. — Ах, мама, надо
было сказать, что меня нет, что я уехала куда-нибудь на полгода. Ну, как
ты не сообразила. Чего я с ним буду объясняться.
Она все же поднялась, подошла к аппарату.
— Мне надо с тобой встретиться, — заговорил Спада. — У меня
очень мало времени, всего три или четыре дня, и за эти дни надо кое-что
решить.
— А разве мы еще не все решили?
— Ты, может быть, и все. А я не все. Так или иначе, я жду тебя
возле гостиницы «Националь» ровно в десять.
Он повесил трубку. Лера стояла возле телефонного аппарата и
раздумывала о том, что же это значит: зачем он приехал, что ему
понадобилось решать, почему позвонил в такую рань? Звонок его был не просто
неприятен, даже отвратителен. Она не могла спокойно слышать этот голос,
не то что идти куда-то и встречаться с ненавистным ей человеком. Но кто
же его знает, что он задумал. Может быть, подготовил новые пакости ей
или, еще хуже, Василию Петровичу. Василий Петрович рассказывал по
телефону о том, как к ним в партийный комитет пришел то ли второй, то ли
третий экземпляр письма Спады, одновременно адресованного в несколько
организаций. Спада поносил его, Булатова, обвинял в нарушении
морального кодекса строителей коммунизма, но не жалел в своем письмеце и ее,
свою еще не разведенную супругу. «Ну и что?» — спросила тогда с
волнением Лера. «А ничего,— ответил Булатов.— Люди уже стали привыкать
к тому, что подобная литература в наши дни заменяет кольца с ядом,
которые в некие века были в большом ходу. Тогда над кубком с вином,
предназначенным противнику, нажимали незримый механизм такого колечка и
роняли в вино пару капель отравы. Теперь стругают письмецо в
партийный комитет, так сказать, сигнализируют».
Обдумав все, Лера решила пойти и ровно в десять была возле «На-
ционаля». Подкатывали и отъезжали автомобили с иностранными
номерами, из всех стран, всяческих марок, слышалась речь на разных языках.
Пестрые дамы — в брюках и брючках, в шортах, в темных очках. Солидные
мужчины в дорожных куртках. Они смеялись, болтали, что-то обсуждали.
Спады среди них не было. Он явился только в пятнадцать минут
одиннадцатого.
— Опоздал,— сказал он сухо.— Прошу прощения. Ну что, пойдем
ко мне в номер?
— Чтобы ты потом написал куда-нибудь, что некая Васильева
бегает по номерам гостиницы «Националь» в поисках легкого заработка?
Спасибо. Если у тебя действительно есть какой-то разговор, пойдем вон туда,
в сад, через площадь.
В саду они нашли свободную скамейку.
— Вот что,— заговорил Спада.— У меня, я уже сказал, очень мало
времени. Я звонил так рано, чтобы не терять его напрасно и непременно
застать тебя дома. Фирма прислала меня с образцами продукции — всего
на несколько дней. За это время надо решить, как быть с Бартоломео.
— Ты ведь решил, ты написал мне об этом: он остается на
память мне.
• Чего же ты хочешь?
137
— Я написал в раздражении. Я должен его забрать.
— Что ж, попробуй. У нас не Италия. С полицией по такому делу не
придешь, судей не подкупишь, гангстеров не наймешь. Действуйте, синьор
Спада, действуйте, в добрый час. Это все?
— Нет, это не все! — Спада вскочил. У него вообще никаких дел к
Лере не было, и ребенок ему был не нужен. Правдой в его словах было
только то, что он приехал по делам фирмы, в сущности, как посыльный.
Остальное он выдумал, чтобы только потрепать нервы Лере.— Не все, не
все! — восклицал он, не зная, что же сказать еще. Его бесило спокойствие
Леры, бесило то, что теперь она была неуязвима. Это там, у себя в
Турине, он мог издеваться над нею сколько ему было угодно. Здесь она была у
себя, ее от него защищал закон ее страны. Ничего не мог он сделать с
этой женщиной в этой стране, хотя эта женщина все еще оставалась по
документам его законной женой.
Он метался возле скамьи, Лера смотрела на яего с усмешкой.
— Что,— сказала она,— не приходит ли тебе на память ваша
итальянская кинокартина о разводе по-итальянски, не припоминаешь ли ты того
итальянского мужа, который в мечтах видел, как он варит мыло из своей
жены? Ах, золотая мечта! Да? — Лера встала. — Учти, — сказала она, —
что больше я на твои звонки не отвечу, больше мы не встретимся. Если
тебе еще что-то надо,— говори. Нет? Тогда будьте здоровы, синьор Спада!
Успехов вам в продвижении по службе!
Как он ни бесился, она ушла, на его глазах спустилась по ступеням в
подземный переход и там исчезла.
— Будь ты проклята! — сказал он вслух с такой злобой, что на
него оглянулись.— «Будь ты проклята со всей своей страной вместе!» —
добавил он уже про себя.
В Москве у Спады были приятели. Днем он делал дела фирмы в
соответствующих советских организациях, вечерами таскался к ним, к
приятелям, с которыми окончил университет. Один из них состоял в штате
какого-то журнала, другой писал в газеты статьи по театру, третий был
связан с кино. Собственно, под их воздействием еще тогда, когда учился, он,
выбравший себе профессией юриспруденцию, приобщился к делам литерал-
туры и искусства,
— Что нового? — интересовался он теперь. — Чем живет
литературная Москва?
Сплетен было сколько угодно, хоть отбавляй. За бутылками
принесенных Спадой дешевых вермутов «Чинзано» и «Кампари» представители
литературного, как в старину называли «демимонда», или «полусвета»,
наперебой рассказывали ему анекдоты о том, о другом, о третьем; так или
иначе были помянуты и художник Свешников, и поэт Богородицкий, и
ретроград Булатов, который... и так далее. За это время, пока Спады не было
в Москве, кого-то где-то обсуждали, кого-то прорабатывали, кого-то
разделали под орех в газете, в журнале. В этой мутной словесной воде он
плавал, как болотный линь, упиваясь слухами, кухонными рассказами, и так
и этак разваливался на тинистом дне жизни, какой жили его здешние
единомышленники-обыватели. В этой тине было привольно, вЬльготно.
Благодать!
— Только бы мне прихватить кое-что с собой! — время от времени
повторял он.— Вот эта ненапечатанная статейка есть где-нибудь? А это
коллективное письмо? А эту беседу кто-нибудь записал?
— Есть, есть,— говорили ему.— Чего не найдем у себя, у Жанноч-
ки получим. Ты Жанну-то Матвеевну не забыл? То-то! Прихватишь своего
«Чинзано», и все тебе будет сделано. Ты молодец, Бенито, мы читали
твои статьи, твои письма в газеты, заметки. Не только Жанночка, многие
теперь насобачились переводить. Здорово пишешь! Как ты Булатова
оттаскал за его очерки — одно удовольствие читать.
— Только поспешил, — сказал второй приятель. — В последнем кус-
138
Всеволод Кочетов •
ке он успел тебе подножку подставить. Не спеши так никогда. Имей
выдержку.
— Темперамент! — сказал третий. — Тоже бушевали — итальянец!
Срок пребывания Спады в Москве действительно был мал. Не
откладывая дела, его повели к Жанне Матвеевне за стенограммами,
записями, письмами и всем тем прочим товаром, каким она славилась.
На стол была выставлена большая бутыль «Чинзано». Жанна
Матвеевна при виде ее заболтала по-итальянски.
— Ох, давно, мой дорогой Спада, не приходилось мне говорить на
вашем божественном языке! Весь мир сейчас помешался на английском.
И ваши и наши. А я его недолюбливаю. Неблагозвучен и, по моим
понятиям, примитивен. Он хорош для дикарей. Шестьсот слов выучил и можешь
болтать. Культурному человеку нужен более тонкий язык, более
развитый. Ваш язык, повторяю, божествен. А это что? «Чинзано»?
Изумительно. Прелестный напиток. А до чего пробка хороша! Повернул — и
открыто. Об наши капсюли из кровельного железа на коньяке и на водке я
только ногти ломаю, а все равно открыть никогда не могу. За ваше
здоровье, милый Спада!
Совершенно неожиданно для Спады в берлоге Жанночки появился
еще один посетитель, точнее, посетительница, с голубыми,
встревожившимися при виде чужих ей людей, холодными глазами.
— Ничего, ничего,— сказала Жанна Матвеевна. — Знакомьтесь.
Здесь все только свои, только свои. Мисс Порция, это наш большой
итальянский друг — Бенито Спада. А это, синьор Спада, мисс Порция Браун!
— Бенито Спада?! — переспросила пришедшая.
— Порция Браун?! — одновременно и таким же тоном
воскликнул он.
Они пожали друг другу руки. Они слышали друг о друге, они знают
ДРУГ друга, она читала его статьи, он читал ее статьи.
— Рад, очень рад! — сказал он.
— И я рада! — ответила она.
Они печатались в изданиях противоположных друг другу. Спада
всюду называл себя марксистом, она всю жизнь боролась против марксизма.
И вот они рады друг другу. Приятель Спады, приведший его к Жанночке,
весело посмеивался, наблюдая за этой трогательной сценкой.
Они разговорились.
— Сейчас я пишу о Маяковском,— рассыпался Спада.— Он совсем
не был тем Маяковским, какого из него пытаются делать большевиствую-
щие литературоведы и маяковисты. Как вы там ни толкуйте, а его
свидетельство о том, что он наступал «на горло собственной песне», никуда не
денешь. Да, воспевал, да, рекламировал. Но все это против его воли, в
железных тисках соцреализма и диктатуры пролетариата. Ха-ха-ха! Когда
тебе диктуют, не распоешься. Ты подчиняешься диктату.
— Вы только не облегчайте себе задачу, Бенито,— вмешалась
Жанночка. — Рассматривая одну сторону чего-либо, не забывайте о другой.
А может быть, он считал, что и он участвует в диктатуре, что и он
диктует. А не подчиняется. Нет, нет, я не настаиваю. Но надо иметь в виду и
обдумать и подобный поворот явления. Иначе вам преподнесут вот такое,
когда у вас уже будет готова концепция и ее одностороннее обоснование.
И вас собьют с позиции, вы растерялись, вы перечеркнуты. Не спешите, не
спешите, никуда не спешите. Не обгоняйте крота истории. Он копает, вы
следуйте за ним. Надо прежде всего узнать, разузнать, взвесить все «за»
и «против».
Жанночка ворочалась в своем пыльном кресле, тянулась к бутылке
«Чинзано», наливала в стаканчик, отпивала и все говорила:
— Зачем вам, Спада, так расправляться с Маяковским? Это и без вас,
другие сделают. У него свои стойкие кадры противников. Вы марксист, вы
иное должны делать. Вам, латынянину, должно быть известно латинское
• Чего же ты хочешь?
139
Tactica adversa, то есть в переводе — обратная тактика? Ну да,
конечно. Вы к тому же еще юрист, древних читали в подлинниках. Так вот
вам, марксисту, надо почаще пользоваться этой тактикой. Напротив, не
Маяковского отлучать от коммунизма. А т^дить в коммунизм, скажем,
Мандельштама, Цветаеву, Пастернака... Изучите повнимательней их
тексты, проинтерпретируйте, прокомментируйте. Вот, мол, подлинная поэзия
революции, вот, мол, поэзия, рожденная Октябрем! Э, други мои,
прислушайтесь к Жанниным советам, не суетитесь по младости лет своих. Вы
набрасываетесь на всяких Булатовых. А вас не поддерживают. Tactica
adversa чего требует? Замените все эти имена другими. Постепенно, пядь
за пядью вытесняйте теми другими таких, которых в лоб не взять.
Литературный портрет нужен? Портрет Цветаевой! Литературный радиотеатр?
Андреева! Стихи на эстраду? Мандельштама! На сцену? Бабель! Все будто
бы и на месте. А что, разве Леонид Андреев плох? Разве Цветаева не
вернулась на родину и не писала патриотического? Разве Пастернак не был
членом Союза советских писателей? А Бабель?.. Тем более! Tactica
adversa, друзья мои! Чингисхан ее обожал. Ею пользовались ваши
древнеримские полководцы, милый Спада. Да и наш Суворов. «Заманивай, братцы,
заманивай!» Вот так!
Порция Браун зааплодировала.
— Замечательно, Жанна Матвеевна! Я не думала, что вы ко всему
прочему еще и великий стратег.
— Я не стратег. Я тактик.
— Все равно. Вы очень хорошо сказали. Это очень важно. Да,
иногда много делается глупостей из-за пристрастия к ударам с фронта. Все
сейчас так вооружены, что фронтом на фронт, в открытую, воевать нельзя.
Тактика адверза? Это замечательно!
— Ergo! — сказала Жанна Матвеевна, наполняя рюмки. — Раз уж
мы перешли на латынь. Bibamus! Что значит, выпьем!
Спада уходил из комнаты Жанночки с набитым портфелем. Уплатить
за все пришлось по таксе. Порция Браун осталась, но они со Спадой
обменялись телефонами и условились завтрашний, предпоследний вечер
Спады в Москве провести вместе: им надо было о многом поговорить, они
почувствовали друг в друге родственные души.
Но когда назавтра он в своем номере ждал ее звонка о том, что она-де
находится в вестибюле, в его дверь постучали. Появился отец Леры,
Алексей Михайлович, крупный, внушительный, с клочковатыми черными
бровями, с большими, сильными руками хирурга, спасшего на своем веку
сотни и тысячи жизней.
— Ну-с,— сказал он, без всякого приглашения садясь на
гостиничный диванчик и вытаскивая из кармана просторного пиджака сложенный
вчетверо лист.— Ставь вот здесь свою подпись. Хватит мытарить мою
дочь. Это заявление о расторжении брака. Ни в чем тебя, господин
хороший, не виню, претензий не имею. Ставь подпись — и делу конец.
Спада пробежал глазами заявление в суд, пожал плечами, вынул
авторучку и небрежно расписался.
— И еще вот это! — Алексей Михайлович подал вторую бумагу —
письмо с просьбой заверить подпись Спады.— Завтра съезжу к вашему
консулу, оформим, как полагается.
И эту бумагу Спада подписал беспрекословно. Прекословить отцу
Леры он не мог, он не был способен на такое. Он боялся сильного,
спокойного, неторопливого человека. Тот как взглянет из-под своих черных
густых бровей — Спада сразу сжимается под его убийственным, все
понимающим взглядом.
— Ну вот и все, гражданин! Гуд бай! Или как там у вас? Чао!
Он поднялся. Вскочил и Спада и, кланяясь, проводил его до дверей.
Вскоре пришла и раскрасневшаяся мисс Браун.
— Не позвонила,— сказала она,— потому что там, внизу, возле ап-
140
Всеволод Кочетов •
парата, много народу, долго ждать. А я и так задержалась. Что ~ж, каков
будет план?
— Может быть, немного выпьем? — Спада засуетился по комнате.
— Я не против. Но у вас, очевидно, только ваши чинзаны. Не
сердитесь, Бенито... Можно, я вас буду называть Беном? Бен.
— Да, да, как угодно.
— Не сердитесь, но это же бурда, а не напиток. От этой дряни
голова трещит. Давайте обойдемся без нее. Или же отправимся ко мне в
«Метрополь», у меня есть виски, джин. Словом, для начала выйдем на улицу.
Они пошли не к «Метрополю», а в обратную сторону, к Москве-реке.
— Я здесь учился.— Спада указал на старое здание университета.
— Да, да, я слышала о том, что вы учились в Советском Союзе.
— Я, правда, и в Италии учился. В Миланском университете. У
меня два высших образования. Московское — это просто так, для забавы.
Предложили поехать. Я не отказался.
— Вы говорите это, будто оправдываетесь в чем-то неблаговидном.
А это очень же хорошо — учиться в Советском Союзе. Вы знаете страну,
ее жизнь, тонкости быта, психологии, идеологии советских людей. У вас
чрезвычайно ценный багаж. Им надо только уметь распоряжаться. А вы,
по-моему, умеете. Я читала ваши работы. Не все, конечно, некоторые,
какие попадались. Я за итальянской прессой не слежу. Сначала ваши позиции
были не совсем ясными. В последнее время они стали ясней. Я вижу, как
вы заинтересованы в том, чтобы в России была настоящая литература,
было бы настоящее искусство.
— Да, да, вот именно! — обрадовался такому повороту разговора
Спада. — Они меня винят тут в том, что я что-то искажаю, извращаю, не на
то и не на тех ориентируюсь. А у меня один ориентир: литература и
искусство должны быть литературой и искусством, а не выполнять заказы
департаментов пропаганды. Я отвергаю классовость художественного творчества,
я отвергаю социалистический реализм, который, как там они ни крутят,
предполагает и определенное мировоззрение.
— Мы мэжем быть с вами по разные стороны баррикад... Я не
марксистка, Бен...— Мисс Браун взяла его под руку, создавая этим как бы
атмосферу интимности. — Но мы же люди своего века, мы люди одной
культуры и, находясь по разные стороны баррикад, как любят все это называть
русские, можем восхищаться одними и теми же произведениями
талантливых мастеров. Не правда ли?
— Да, вот именно!
— Мы можем горевать общим горем. Мы можем радоваться общей
радостью.
— Вот и я все время говорю и пишу об этом! — Спада нашел
единомышленницу, с которой было так легко и свободно. — Вот вы сказали, что
вначале мои позиции были якобы не ясны. Конечно, я пишу одно, а меня
начинают заставлять делать всякие добавки, убавки, вставки, изъятия, вот
и получается нечто неясное, потому, что я тяну в одну сторону, а
редакторы в другую. Сейчас редакторы с более широкими взглядами и не
мешают высказываться.
Они брЬдили по набережным Москвы-реки, сидели возле Кремлевской
стены, рассматривая, как за рекой, на противоположной набережной, к
зданию посольства Великобритании подкатывали лимузины с
дипломатическими флажками.
— Коктейль, наверно,—сказала мисс Браун.— Никаких праздников
как будто бы не должно быть. Или чьи-нибудь именины.
Потом в одном из ресторанов новой гостиницы «Россия» они
поужинали. Спада рассказывал об Италии, о Турине.
— Никогда не бывала в Турине,— сказала Порция Браун.— В
Милане была, а до Турина не добралась. Он где-то в стороне от главных
туристских дорог. Там автомобили, аэропланы, заводы?..
• Чего же ты хочешь?
141
— Не только. Это замечательный город. Приезжайте. Мы вас
отлично встретим и все вам покажем.
Какими-то улицами они прошли потом до площади Ногина и стали
подходить к Старой площади.
— Вот,— сказала Порция, останавливаясь у подъезда с двумя
небольшими гранитными колоннами.— Видите? «Центральный Комитет
Коммунистической партии Советского Союза»!—прочла вслух.— Пойдемте
дальше, а то там военные на нас строго смотрят. Этот подъезд вам
должен быть знаком. Вы тут бываете?
— Нет. Никогда не бывал, скажу вам честно.
— Отсюда начинается все, отсюда идет та лихорадка, которая
мешает людям на земле жить в мире. Мне трудно понять, как вы, такой
образованный и тонкий человек, могли стать коммунистом. Ведь коммунизм —
это разрушение морали, разрушение очагов, гибель культуры. Вы читали,
конечно, «Доктора Живаго»? Как там рассказано о революции, о зле, о
насилии, о дикости.
— Но можно же без этого, без русских излишеств. Такие, как я, как
раз и настаивают на том, что к коммунизму есть иные пути, не обязательно
русского, советского образца. Мы хотим прийти к коммунизму мирным
путем. Поэтому-то нам не годятся и советская литература и советское
искусство. Они воинственны, они пропагандируют один, свой путь. Они без
диктатуры пролетариата не мыслят возможности строительства социализма.
Такой коммунист Порции Браун нравился. Она привела его к
«Метрополю», взяв за локоть, ввела в вестибюль, и когда они оказались у нее в
комнате, она сказала:
— Закрепим нашу дружбу, дорогой синьор Спада, стаканчиком
виски. Это не «Чинзано». Это настоящее. Присаживайтесь, вот ваше место.
Будьте, как дома, насколько это возможно здесь, в Москве. Снимите свой
пиджак.
Из постели голубоглазой мисс Браун Спада выбрался лишь на
рассвете, с раскалывающейся от виски головой. Он еле доплелся до «Национа-
ля», до своего номера, и там долго, почти до отъезда в аэропорт, сидел в
ванной комнате, склонив голову над унитазом.
41
В конце-то концов так и оказалось: никто не отказывал Антонину
Свешникову в приеме в Союз художников, потому что он, наслушавшись
советов, туда и не подавал, никто не мешал ему устраивать выставки,
потому что никому и в голову не приходило устраивать их; и вообще, многое
из того, что происходило вокруг Свешникова и его имени, было
результатом неведомо кем и откуда направляемой, темной, потаенной возни.
Советники и секретари западных посольств, иностранные журналисты, заезжие
дяди и тети... Булатов убедился в том, что два безвольных человека —
сам Антонин Свешников и его жена Липочка — были опутаны заманчивой
паутиной сладкой лести, всяческих обещаний, щедрых подачек.
Никто нигде не возражал; напротив, все говорили: «Помилуйте,
Василий Петрович! Какие разговоры! Конечно же, конечно! Он должен быть
в Союзе художников! О чем разговор!»
Один из старых мастеров живописи с охотой откликнулся на просьбу
Булатова съездить в мастерскую Свешникова и посмотреть его последние
работы. Приехали они не совсем удачно, самого Свешникова в мастерской
не было, застали только Липочку, в отсутствие мужа наводившую порядок.
Все осмотрели, и когда покинули мастерскую, Булатов спросил:
— Ваше мнение, без скидок, без дипломатии, Александр
Николаевич? Что бы о работе Свешникова вы сказали самому себе, так вот, один
на один с самим собой?
142
Всеволод Кочетов #
— Самому себе-то? — заговорил старик, усевшись в машину. — Ну
как вам сказать? История эта, по-видимому, не простая. Но в искусстве —
закономерная. Парень способный... Я не хочу бросаться великим словом
«талант». Не говорю, значит, что талантливый, я говорю осторожно:
способный. Но он без школы, Василий Петрович. Мало и плохо ученый.
Припомните, пожалуйста, портретик той бледной девицы, который у окна...
Вяло, неуверенно наметил линию ее лица, да еще и на каком мутном фоне
его выписал. Лицо сплылось с этим фоном, пятно, мазня получилась.
А как бы надо-то, по науке, по здравому живописному смыслу?..— Он стал
объяснять Булатову законы и тонкости рисунка, цвета, света.— Ну, я его
не во всем виню,.— сказал дальше.— От себя он виноват в том, что не
доучился, не больно умно обиделся на нас, стариков, которые учиться-то его
заставляли. Но есть грех у нас и общий. Краски у нас пока еще неважные.
И у Антонина вашего красок должных нет. Однако все на краски тоже не
свалишь. И муть только отсутствием должных красок не объяснишь. Идет
она, если хотите знать, оттого, что свои тональные искания он производит
не в воображении, как делали великие мастера, а по-ремесленнически, тут
же, на полотне. Из одного тюбика наляпал, из другого, перемешал все это
кистью, вот грязь и получилась. Лицо-то у дипломата сине-лиловое вышло.
Кто это?.. Будто бы Римский-Корсаков сказал: есть, мол, композиторы без
рояля, а есть композиторы у рояля. Что сие значит? Без рояля который, он
всем своим существом слышит и творит музыку, она в нем в самом звучит,
поет в нем музыка. А который у рояля — тот эмпирическим путем,
тренькая и бренькая, сочиняет. Не так, так этак; И краски тоже, подобно
музыке, всю гамму их, всю радугу нутром чуять надо, ощущать их с
закрытыми, завязанными глазами. А вот этак мешать, что пойло корове в ведре,—
нет, братики, это не художество!
— Значит?..
— Да ничего еще оно не значит! — досадливо отмахнулся старик.—
В основе, говорю, парень способный. Рисунок у него есть, удар, как
говорится, точный. Не будет лениться, будет работать,— свое возьмет. А
история-то, начал я с чего, насчет общего-то нашего греха, она
непростая. Она вот чем непростая. Какие-то суетливые людишки, не пойму уж и
кто, ухитрились-таки разъединить нас, старых и молодых. Вот и
Свешников ваш страдает из-за этого разъединения. Маракует что-то сам —
один, сызнова самовар да велосипед изобретает, А они уже давно есть —
и велосипед, и самовар, и что хочешь. Он к старикам не идет — внушили
ему предубеждение против них, они к нему тоже не идут, они не любят,
когда к ним по-хамски относятся. Ну и в самом деле, Василий Петрович!..
Получаю вот на днях письмишко... Вот оно, кстати...— Он достал из
кармана пиджака измятый, конверт, вытащил из него листок бумаги. — Чего
пишет гражданин! «Прочел вашу статейку в газете. Хватит трезвонить,
долой с колокольни! Сорок лет давил ты своей преуспевающей тушей наше
искусство. Хватит! Или загибайся сам скорее. Или...» А подпись: «Один
из молодых». И откуда? Штемпель-то... Из Бобруйска! Кому я там, в
Бобруйске, так насолил, что «или» предлагают сделать, диву даешься. Ну как
тут быть?
Шум насчет возможностей выставки Свешникова в эти дни все
нарастал. В мастерскую наведывались заказчики Антонина, они звонили ему,
на что-то намекали, все время как бы подмигивали. Антонин даже стал
побаиваться оставаться в мастерской один на один с ними.
Прикатил в своем длинном голубом автомобиле Гарри Соммерс,
добродушный корреспондент сразу нескольких газет. Он был из какого-то
иного теста, чем многие из его коллег, ничего скандального никогда не писал;
он, кажется, даже симпатизировал Советскому Союзу.
Он сказал:
— Мое дело десятое, как говорят у вас в России. Но мне было бы
очень жаль, если бы на вас мои коллеги сделали бизнес.
• Чего же ты хочешь?
143
После его отъезда Липочка заволновалась.
— Все это очень странно, Антонин! И от этого делается страшно.
Чего от нас хотят?
— Не знаю и знать не хочу,— в раздражении ответил Свешников.—
Пошли они все к черту.
— Но они не идут к черту,— возразила Липочка.— Они наседают.
Видишь, даже Соммерс сказал, что на тебе делают бизнес.
— Он сказал не «делают», а не хотел бы, чтобы делали. Это разные
вещи.
— Он просто так уклончиво выразился. А смысл один: делают,
делают, делают! Тебя обрабатывают, Антонин.
— Тебя, если хочешь знать, тоже! — крикнул Свешников.— И еще
как! Туфли, кофты, всякое такое. Суетилась, Липа, чего уж там.
— Я баба, мне простительно. Ты, мужчина, должен мыслить,
разбираться, что к чему. Так же нельзя, чтобы тобой играли.
В довершение ко всему заехал Феликс Самарин и сказал:
— Заводские слышали совсем уж гнусное иностранное радио. Одна
эмигрантская скотина утверждает, что ты их верная опора внутри нашей
страны. Неужели промолчишь? Не дашь им сдачи?
— А что, что я могу? Как дать? Где?
— Я не знаю, но несколько лет назад я читал о Серове, о
Валентине Александровиче. Ты уважаешь, кажется, его. Ну вот он сказал
однажды так: «Каков бы ни был человек, а хоть раз в жизни ему придется
показать свой истинный паспорт». Покажи, наконец, Антонин!
— Все, Липынька,— сказал, проснувшись среди ночи, Свешников.—
Больше нет сил выдерживать это. Мы завтра же... сегодня же... уезжаем в
Псков. Помнишь фотографические снимки, которые приносил Булатов?
И вот все осталось позади: звонки, визиты, намеки, нервотрепка. Ан-.
тонин и Липочка Свешниковы живут в деревне неподалеку от сожженной
Красухи. Они уже в натуре не один раз осмотрели талантливый памятник
погибшим здесь осенью 1943 года, все снова и снова ощущая его могучую
впечатляющую силу.
— Ты знаешь, о чем я думаю? — сказала однажды Липочка.—
О том, что если бы твоя бабушка не увела тебя отсюда в Ленинград, то
ведь и она бы и ты лежали сегодня под этими камнями. Страшно
представить!
Они бродили пешком по деревням, встречались с людьми,
пережившими немецкую оккупацию. Антонин вглядывался в их черты, отыскивая в
них складки скорби, отрешенности, чего-то неземного, богодуховенного.
Первые его наброски были все в той же, характерной для него манере: лица
святых с древних икон, лица нездешних, давних. Но он злился за это на
себя, рвал бумагу, картон. Для этого не надо было никуда ездить, можно
было сидеть в своей мастерской и, вспоминая фрески Владимира, Суздаля,
Ярославля, Ростова-Ярославского, видеть сквозь них лица современников
и переносить на холст эти причудливые, создающие видимость новизны
сочетания древности с сегодняшней действительностью.
Но чем больше было встреч с людьми окрестных селений, чем больше
разговоров с ними, тем все сильнее давало себя знать чувство
неудовлетворенности своей работой, тем настойчивее разрасталось желание найти
более верную форму для раскрытия внутренней сущности тех, кто жил
сегодня и работал на псковской земле.
Никто здесь не мог ответить Антонину на его вопросы о судьбе
родителей. Их могли знать, очевидно, только красухинцы, но из красухинцев в
живых осталась одна-единственная жительница, и та пережила столько
личного горя, что многое улетучилось из ее памяти. Но его родители ходили
по этой земле, они боролись тут с врагом, они здесь геройски погибли.
И сколько бы Антонин ни старался думать о них, как о мучениках, о
144
Всеволод Кочетов •
жертвах, у него это не получалось. Верх брали иные начала. Он взялся
писать портрет старой женщины, лицо которой изрезали морщины; в них,
казалось ему, лежала глубокая скорбь. Но в разговоре с нею он выяснил, что
она была партизанской пулеметчицей, на ее счету десятки убитых
гитлеровцев, и когда она рассказывала о своих боевых делах, морщины
разглаживались, в глазах загорался огонь азарта, будто она вновь у своего
пулемета и косит его огнем кого-то там впереди, видимого только ей одной.
И так было с каждым, на кого бы ни обращалось внимание Свешникова.
Один, прихрамывающий, казалось бы, совсем немощный, подрывал,
оказывается, немецкие железнодорожные эшелоны. Другая была партизанской
связной и не раз пробиралась через линию фронта. Третий ходил в
блокированный Ленинград со знаменитым продовольственным обозом весной
1942 года. Теперь они и сами, и их дети, и даже внуки работали в
колхозах, на льнозаводах, в различных советских учреждениях. Они могли
сколько угодно рассказывать о радостных переменах в жизни, о своих
планах на будущее. Но о чем-либо страшном, трагическом, ушедшем
говорили уже скупо, немногословно и без особой охоты. Антонин Свешников
не находил среди них ни тех лиц, которые, как ему думалось в своей
мастерской, знаменуют собой подлинный лик русского народа, ни тех черт
сельской жизни, которые ему так старательно расписывал поэт Бо-
городицкий.
Как-то они поехали на катере по Псковскому и Чудскому озерам.
День был теплый, но ветреный, и ветер, срывая гребни волн, бросался в
лицо брызгами. Дышалось легко, во всю грудь.
Антонин и Липочка стояли на мостике катера возле рулевого и
всматривались в зеленую даль. На затянутых дымкой берегах белели древние
церковки под зелеными куполами. Но только они, пожалуй, и были здесь из
того далекого, навсегда ушедшего, которое еще совсем недавно виделось
Антонину сущим. Рулевой был крепким псковичем, недавно окончившим
речное училище. Он заговаривал о прочитанных книгах, о виденных
кинофильмах. Моторист играл на гитаре и пел модные песенки. Мимо
проносились другие катера. Промчалась поднявшая над водой свое стремительное,
узкое туловище «Ракета». Невысоко ходил над озером кругами легкий
самолетик, высматривая скопление рыбы для того, чтобы сообщить о них
чудским рыбакам.
Антонин посмотрел на Липочку, она взглянула на него, поняв его без
слов. Он говорил ей глазами: «Не так мы жили, Липочка, не так». В ответ
она положила свою ладонь на его руку, обхватившую медный поручень.
Как надо жить, ни тот, ни другой еще не знали, до сознания этого еще
надо было пройти, может быть, немалый путь. Но одно то, что им
становилось очевидным, как жить не надо, само по себе было уже началом этого
нового пути.
42
Все дни Ия проводила в библиотеках. Иино внимание было
сосредоточено на этот раз на публикациях, связанных с идеологической борьбой,
особенно в области литературы и искусства. Во всем она искала теперь
Булатова, видела Булатова. В хранилищах книг и периодической
печати, присылаемых из десятков разных стран, она узнала о Булатове так
много, что, пожалуй, столько о себе он не знал и сам. Немалое место в
борьбе идей, во всем том, что в ходе этой борьбы выплескивалось на
страницы газет и журналов мира, занимали советские писатели — поэты,
прозаики и драматурги. На многих из них, не угодных Западу, велись
ожесточенные атаки в Соединенных Штатах, в ФРГ, в Англии, в Италии... Читая
злобные писания, Ия чувствовала, понимала, как необходимо было
противнику сокрушить бастион партийности, народности, социалистического
• Чего же ты хочешь?
145
реализма, в рядах защитников которого находился Василий Петрович.
Атаки на этот бастион обрушивались так яростно, с такой концентрацией
сил, как, представлялось Ие, во время войны на фронте враг атаковал
наиболее прочные укрепленные узлы нашего сопротивления.s Расчет у
противника, как и на войне, был тот, что, когда эти узлы будут взяты, его
войска вырвутся на оперативный простор и смогут наступать дальше без
помех, с ходу круша и опрокидывая все на своем пути. Как только не
обзывали Василия Петровича, в каких только грехах не обвиняли!
Удивительно, что он еще не только продолжал жить, не только не получил
инфаркта, но даже бодр, весел и другим не дает падать духом. Ия в мыслях
ставила его рядом со своим отцом, с политруком Паладьиным, который
в боях был, несомненно, на самых-самых тяжелых и ответственных
участках фронта и также был бесстрашен при встречах с врагом.
На советскую литературу, на советское искусство, как видела она
своими собственными глазами, лаяли из самых различных подворотен,
тявкали на все лады, на все голоса. Но нельзя было не увидеть и того, что в
этой разноголосой стае были особо назойливые псы, среди которых, в свою
очередь, выделялись, оказывается, вот эта самая, болтающаяся в Москве,
отвратительная мисс Порция Браун и бывший муж Леры Васильевой —
Бенито Спада. Они не стеснялись ни в приемах, ни в выражениях.
Своими изысканиями Ия занималась отнюдь не из праздного
любопытства. Ей казалось, что так, будучи в курсе всего, связанного с
жизнью Булатова, она в какой-то мере разделит с ним и его жизнь и его
трудности, тяготы. Навязываться ему она уже не могла, бегать за ним было
просто невыносимо; не для нее невыносимо, — она бы бегала, но эта ее
беготня могла бросить тень на него, дать в руки его противникам еще один
козырь. У Ии по этому поводу был долгий серьезный разговор с Липочкой
Свешниковой накануне того, как Свешниковы собрались ехать на
Псковщину. Липочка сказала ей тогда: «Знаешь, Ийка, я лично не могу
одобрить твое поведение в отношении Булатова. Мнение у меня о нем
несколько изменилось. Нет, он совсем не то чудовище, каким его
расписывают некоторые. И тем более поэтому ты не должна себя так вести». «То есть
как так?» «Хватать его за рукава везде и всюду». «А почему?» «А потому,
Иинька, что все это представляется мне очень тонкой материей. Если ты не
будешь меня перебивать, я постараюсь не утерять нить мысли и передам
свою мысль тебе. Слушай. Во время войны твой Булатов был солдатом или
офицером, не знаю, кем, но он воевал?» «Да, конечно». «Так. Встретилась
ему молодая женщина. Поженились, стали жить-ложивать и добра
наживать. Он, солдатик, превратился в писателя, не без мытарств, наверно.
Мы-то с Антонином знаем, как в это искусство пробиваться. Вроде нас,
наверно, и недоедали они оба и одевались кое-как. Годы труда, годы
тягот — и вот он теперь кто! Все трудности, все лишения делила с ним она,
та женщина. А ты, милая, хочешь прийти на все готовенькое. Этакая
птичка, спорхнула с ветки ему на шею и зачирикала. Не поймут тебя люди, да
и у него на сердце будет мутный осадок. Ты меня понимаешь или нет? Что
сидишь, будто каменная?» «Понимать понимаю, но не разделяю. У него и
сейчас совсем нелегкая жизнь. Если тогда были трудности материальные,
то сейчас они неизмеримо крупнее — он все время, как под пыткой. Даже
вот ты, такая деликатная, тонкая, и то, помнишь, что бросала ему в лицо?!»
«И все равно тебя назовут выскочкой, ловицей удачи, лисой, поймавшей
бобра, какой-нибудь акулой или щукой. К тебе, Ия, будут плохо
относиться». «Ну и пусть! — гордо ответила Ия.— Плевала я на всех. Я его
люблю».
Разговор в общем-то был беспочвенный. Говорили они так, будто бы
дело уже было решено — вот-вот Ия выйдет за Булатова замуж. И все
равно, несмотря на беспочвенность, разговор с Липочкой был для Ии очень
важным. Заносчиво ответить «Ну и пусть! Плевала я!» не так уж и трудно.
Слова эти, скорые, бездумные, обычно сами слетают с языка. Но, навидаз-
10. «Октябрь» № 11.
14*
Всеволод Кочетов Ф>
шись на своем не длинном и вместе с тем уже не коротком веку
всяческих несправедливостей, Ия на прямые несправедливости была неспособна.
В самом деле, было в этом что-то такое, что останавливало ее; она
видела, ощущала неравенство сил. А всякая борьба, казалось ей, честна лишь
тогда, когда шансы у борющихся равны. «Но, собственно,— говорила она
мысленно, колеблясь и возражая то себе, то своим, подобным Липочке,
возможным оппонентам,— а кто выдумал, что я хочу за него замуж, кто
утверждает, что я вздумала лишить ту женщину ее материальных благ?
Я просто люблю его и хочу, чтобы и он меня любил. И все. Ничего другого
мне не надо».
У нее и на уме не было искать встреч с женой Булатова: Были
случайные разговоры по телефону, когда та брала трубку, и этого Ие
было вполне достаточно, более чем достаточно. И все же встреча
произошла.
Ия стучала на машинке, прямо из журнала, как говорится, с листа,
переводя длинную и нудную научную статью. Делала она это почти
автоматически, не очень вникая в смысл того, о чем шла речь в статье.
В дверь позвонили ее звонком, пришлось идти отворять. На площадке
стояла не молодая, но и не старая, хорошо, со вкусом одетая женщина,
ярко загорелая, отчего особо эффектно выглядели ее почти белые
крашеные волосы. Она назвала имя и фамилию Ии.
— Да, я, — ответила Ия, удивляясь гостье.
— Разрешите, я пройду к вам, здесь разговаривать не совсем
удобно.
— Да, да, пожалуйста!
В комнате Ии гостья огляделась, села в жиденькое креслице
шик-модерн, раздобытое Генкой. Креслице пискнуло — женщина была отнюдь не
эфемерным существом; правда, если сравнивать с Ией, то заметно слабже,
потому что в связи с возрастом была и рыхлее ее. Она вытащила из
сумочки пачку сигарет: «Не возражаете?» — и закурила.
Под ее изучающим, несколько насмешливым взглядом Ия
чувствовала себя не совсем ловко. Может быть, впервые в жизни она подосадовала
на то, что так простенько, бедненько одета, что не очень изобретательно
причесана, что сидит без чулок и не имеет на пальцах бьющего по глазам
маникюра.
— Меня зовут Ниной Александровной, — сказала наконец гостья. —
По фамилии я Булатова.
Нет, Ия никуда не годилась, как дипломат, как организатор интриг,
как устроитель личных дел. Она почувствовала, что лицо ее при этом
имени вспыхнуло костром. Да что лицо, вся она вспыхнула и с каждым
мгновением пылала предательски выдававшим ее пламенем все ярче.
— Мы знакомы с вами по телефону,— продолжала Булатова,
затягиваясь сигаретой.— Скажите, чего вы хотите от Василия Петровича,
моего мужа? Вы не стесняйтесь, говорите все. Я пришла как раз для того,
чтобы выяснить это и что-то решить. Нельзя же так. Вы за ним гоняетесь,
вы его преследуете. Звонки, звонки, звонки! Вы молодая, мужчины в
возрасте Василия Петровича перед такими, как вы, теряют характер, которым
они так любят щеголять перед женами. Словом, извольте изложить мне
вашу программу.
Ия, отчаянно потерявшаяся было в первые минуты, постепенно
приходила в себя, и чем свободнее держалась ее гостья, тем собраннее делалась
она, Ия, и когда ей предложено было «изложить программу», она уже
была почти спокойной.
— Вы напрасно так обеспокоились, Нина Александровна,— ответила
она, тоже закуривая.— Напрасно. Вашему благополучию, уверяю вас,
ничто не угрожает. Замуж за Василия Петровича я не пойду. Мне очень
убедительно разъяснили, почему этого делать не следует.
— Почему же, интересно?
• Чего же ты хочешь?
147
— Потому что нехорошо приходить, сказали мне, на готовенькое. Он
со своей женой, то есть с вами, накапливал что-то там. А я, мол, приду
и приберу все к рукам.
— А вы убеждены, что вот так могли бы прийти и прибрать, как вы
выразились? Вы убеждены в том, что Василий Петрович оставил бы меня
и связал бы свою жизнь с вами?
— Нет. К сожалению, нет.
— Так в чем же дело?
— Вот и я хочу вас спросить: в чем же дело? Чего вам от меня надо,
Нина Александровна? Неужели вы не кажетесь себе смешной?
— Увы, дорогая, мне совсем не смешно. Мне, напротив, грустно. Вы,
оказывается, еще и дерзки неимоверно. Не надейтесь, Василия Петровича
вам не видать.
Ия внутренне закипела, возмущенная и тоном и словами этой
самоуверенной женщины.
— Время покажет, Нина Александровна,— ответила она ей, глядя
прямо в большие карие глаза. — Подождем.
— Чего, интересно? Когда я сдохну? Долго ждать, дорогая. Я на
здоровье не жалуюсь.
— Нет, не этого подождем.
— Чего же еще?
— Того времени, когда Василию Петровичу понадобится верный
друг, товарищ, способный поддержать его в трудный час, разделить с ним
не нажитое добро, а ту опасность, ту тяжесть, которые сопутствуют
каждому его шагу!
— Ого! Красивенько говорите, дорогая! Никаких тяжестей, никаких
опасностей у Василия Петровича не было, нет и не будет. Разве что
неприятности от его неуживчивого, упрямого характера, оттого, что он
выбрал себе такую хлопотную профессию. Но это неприятность, а не
опасность. Вот так.
— Ничего-то вы о своем муже не знаете, Нина Александровна.
И выяснять нам с вами нечего и решать нечего. Идите домой и
успокойтесь.
Ия уже совсем была собою, острой, ироничной, спокойной.
Булатова еще что-то говорила, кипятилась, не выдержав роли этакой
умудренной жизнью львицы, пришедшей к котенку, что она долго и
старательно репетировала при активном содействии своих многочисленных
приятельниц; она стала повышать голос, выкрикивать стандартные угрозы иЗ
анекдотов насчет парткома и парткомиссии. Но Ия не отвечала на это,
спокойно курила, выпускала кольцами дым и всем своим видом
показывала, что посетительница давно здесь надоела и пора бы уже ей удаляться
восвояси.
— Нет, мы еще встретимся, еще встретимся! — восклицала Нина
Александровна, идя к двери.— Вы не думайте, я этого так не оставлю, нет.
Мне уже письма пишут, меня жалеют: все, мол, видят, только одна я нет!
А я тоже вижу, я все вижу!
— Да, Нина Александровна,— миролюбиво говорила, выпроваживая
ее, Ия.— Конечно, встретимся, и не раз. В парткоме, конечно. Не так ли?
Сцена была пошлая, гадостная и утомительная. После ухода
Булатовой Ия кинулась на кушетку и лежала, почти не шевелясь, до самых
сумерек. Ни работать, ни есть, ни пить — ничего не хотелось. Только вот
лежать так и ни о чем не думать. Но не думать не удавалось. Все думалось,
думалось и думалось о том, как быть, что делать, на что решиться и
вообще надо ли на что-то решаться.
Она предполагала, что эта яркая, крашеная дама, устроившая
спектакль ей, конечно же, устроит сцену и своему мужу. Но если бы Ия могла
только знать, какого характера будет та сцена!
Булатов работал в своей комнате, писал статью для газеты.
148
Всеволод Кочетов #
Нина Александровна никогда особенно-то не деликатничала с ним, его
просьбы не мешать ему, когда он пишет, считала капризами и два с
лишним десятилетия все пыталась отучить его от них. А тут она просто влетела
в комнату и уселась рядом с его столом в низком кресле.
— Ну-с, побывала у твоей дульцинеи! — объявила она воинственно
и торжествуя. — Мила, мила, ничего не скажешь. Двадцать шесть лет,
а клетчатки на троих хватит. Фламандия! Рубенс!
— Ах вот ты о чем! — Булатов догадался и, отрываясь от бумаг,
повернулся к ней. — Нет, скорее Ренуар, сказал бы я. Неужели у тебя
хватило этого самого...— Он сделал пальцами неопределенный жест возле
виска.— И ты пошла устраивать скандал? Жутковато, Нина, жутковато.
Кто это тебе дает такие советы? Твои вороны и галки, которые
собираются у нас, когда я уезжаю или ухожу?
— А что. по-твоему, у меня своего ума нет? — Нина Александровна
чувствовала, что ведет себя не так, как надо, не так, как ей советовали
ее многомудрые приятельницы. Она сделала попытку вернуться на
правильный путь. По примеру одной действительно умной жены она
сказала: — Ну это ладно, Василий. Я другое хочу тебе сказать. Ты с этой
особой бываешь на людях, ты известный человек, неудобно же ей так ходить
с тобой. Простушка какая-то, замарашка. Давай чулки ей, что ли, купим,
кофточку какую-нибудь.
Он знал, что когда-то так поступила та женщина, которой сейчас
пыталась подражать его супруга. У той это получилось в свое время тонко,
остроумно, без нажима. А его супруга берет, что называется, быка за
рога. Он внутренне усмехнулся, ответил с готовностью:
— - Давай! Мысль хорошая. — Вынул из кармана несколько крупных
бумажек, подал ей.— Съезди куда там следует, в Петровский пассаж или
еще куда, купи.
Она вскочила, отшвырнула деньги.
— Вот, значит, у вас уже до чего дошло, вот, значит! Правду мне
пишут, не ошибаются.— Она стала выбрасывать- из сумочки на его стол
конверты со штемпелями разных почтовых отделений Москвы. — Нет, ты
не отвертывайся, ты читай, читай! — Она вытаскивала листки бумаги из
конвертов. «Дорогая Нина Александровна!..» «Дорогая Нина
Александровна!..» «Дорогая товарищ Булатова!..» Вот, вот, люди!.. Сообщают.
«Вот вам адрес, там вы застанете...» «Это стало сказкой всего
города...».
— Нина, Нина,— сказал Булатов с грустью.— Что с тобой сталось,
Нина?
Вечером к Ие явился Генка.
— Ты ничего не имеешь против,— заговорил он,— если мы у тебя
снова соберемся? Завтра, например?
— Пожалуйста! Мне все равно. Веди своих олухов. Где-нибудь
прогуляю вечер.
— Нет, ты тоже будь. Понимаешь, на этот раз и девчонки придут.
— Можно без меня.
— Нет, нельзя. Сюда еще явится и эта, помнишь, у батьки на приеме
была, мисс Браун, Порция Брауы? Мы можем чего-нибудь не так. А ты
знаешь, как с такими. Пожалуйста, Ия?..
Мисс Браун! Это меняло дело. Посмотреть на мисс Браун еще разок,
после того, как Ия начиталась ее сочинений, было любопытно. Можно будет
и поговорить, выяснить, почему лично у нее, у этой голубоглазой, такую
ярость вызывают имя Булатова, каждая строка, написанная им.
— Хорошо, — сказала она. — Уговорил.
• Чего же ты хочешь?
149
На улицу они вышли вместе с Генкой: Ия захотела прогуляться. Не
спеша шли они к Москве-реке, к Кремлю. Летняя Москва и вечером была
многолюдной, шумной. Народ тек потоками по тротуарам, занимал частью
и мостовые. Люди были всех цветов кожи, говорили на всяческих языках.
Ия ловила высказывания по поводу красоты Кремля и его соборов,
недовольные замечания по поводу того, что нигде не поймать такси, что все
рестораны и кафе переполнены, негде посидеть и выпить чашку кофе. Один
высокий, сутулый тип в котелке говорил своему спутнику по-французски о
том, что, если бы ему дали возможность, он бы зарабатывал в Москве
миллионы. Люди тут не знают настоящего сервиса, за то, что способны
преподнести им мы, они отдадут все свои деньги и только радоваться будут. Его
спутник отвечал: нет, они упрямые, они хотят достичь всего своими силами.
Со временем они это сделают сами, и их миллионы нам с тобой не
достанутся. Было время, они сдавали кое-что в концессию — фабрики
карандашей, изделий из вискозы и еще подобное тому. Но потом концессионеров
вытеснили, и производство всего этого превосходно осуществляют сами.
— А ты все спекулируешь? — спросила Ия Генку.
— Почему же так грубо и примитивно? Не спекулирую, а являюсь
посредником между производителем продукта и его потребителем.— Генка
засмеялся.
— Богатым стал?
— Как сказать? Есть монета. И даже изрядная. Если понадобится,
учти, могу ссудить. Под какой-нибудь ничтожный процент, под чисто
символический. Потому что давать без процента — это не коммерция, это
профанация. Такого дельца перестанут уважать.
— Ты когда-нибудь очень нарвешься, Генка. То, что ты делаешь,
противоречит нашему строю. Тебе оно, может быть, кажется честным. Но
оно противоречит, понимаешь? И поэтому оно до времени, до случая.
— Пока не нарвусь на кого-нибудь бдительного?
— Может быть. Во всяком случае, я хотела бы, чтобы ты это бросил.
Отец-то, мать-то тебе ничего, что ли, не говорят?
— Отец? Ему все, знаешь...
— До феньки?
— Примерно. Он свое кует. А наша мутти?..— Он махнул рукой.
Ия шла и думала о той семье, в которой они с Генкой .выросли. Она
была там беспризорной, может быть, потому, что оказалась Александру
Максимовичу чужой дочерью. Но Генка-то ему не чужой. А вот, в
сущности, тоже беспризорник. Почему же свой-то, родной сын брошен на
произвол судьбы? Шутки шутками, а немало таких ребят вывихивают себе мозги
на свободном предпринимательстве, без руководящей руки родителей, без
влияния семьи.
— Ладно, Ия,— сказал Генка,— ты особенно-то за меня не
переживай. Годам к сорока из твоего брата, может быть, что и выйдет. А там,
глядишь, и пенсионный возраст подойдет. Так и завершим помаленьку свой
жизненный путь.
43
Пришло несколько девушек, две вполне миловидные, приятные,
третья — развеселая, с очень смешным и непривлекательным длинным лицом,
зато превосходно сложенная. Пришли молодые мужчины, именно
мужчины, иначе их уже не назовешь. Мальчикообразным среди них, пожалуй,
был. только Генка, который старательно изображал из себя хозяина,
поскольку Ия сказала ему, чтобы в этом смысле он на нее не
рассчитывал.
Первым любовником в разноголосо беседовавшей толпе, как заметила
для себя Ия, был тонкогубый, тщательно, по самым последним модам
разодетый красавец, посматривавший на всех многозначительно и усмешливо.
i50
Всеволод Кочетов •
— Ну, а где же метатеиъ ъъъъл ъ томагавков? — спросил он,
оглядываясь.
— Юджин Росс? — поспешно откликнулся Генка.— Его, Кирюша,
сегодня, к сожалению, не будет. Только Порция Браун. Но и она, сказала,
немного задержится. Но что нам! Виски есть, джин есть. Даже индийские
орешки! Этот Юджин — жаль, ты не увидишь его — парень деловой. Обо
всем позаботился, все доставил еще вчера. Ваше здоровье, доблестные
гидальго!
Среди собравшихся был паренек — его, пожалуй, можно было назвать
именно пареньком,— невысокий ростом, щупловатый, скромный. Все
время он пытался что-то сказать, но его перебивали, он терялся и смущенно
пожимал плечами да поправлял очки с толстыми стеклами. Его звали
Шуриком. Ия поняла, что он работает вместе с Кирюшей — Кириллом в таком
институте, который для простых смертных не имел названия.
Кто-то из гостей, положив и тому и другому руки на плечи, сказал:
— Надежда мира! Со скольких ударов можно расколоть пла-
нетку?
Шурик заулыбался в ответ. Кирилл молча сбросил руку со своего
плеча.
— Избегай, друг мой, безудержного панибратства.
Девушки толпились вокруг него. Он понимал, какой вызывает у них
интерес, открыто куражился, изрекал афоризмы, мудрствовал. «В наш
век время, потраченное на любовь,— потерянное время. Все эти
любовные воздыхания родились в средние века. До того любовь была лишь
натуральной, так сказать, деловой. Недаром античный мир дал
человечеству столько мудрецов».
— А что значит деловая любовь? — спросила одна из девушек.
— Такая, которая своей целью имеет лишь продолжение рода
человеческого —: не более, — ответил, рассматривая ее, Кирилл.
— Какая же тогда это любовь! Это звериная любовь.
— А человек и есть зверь. Сильный, умный, далеко ушедший от
своих собратьев, но зверь. Не надо идиллий, девочки и мальчики. Он
жрет, он лапает самок — своих и чужих, он убивает, он...
— Не надо, Кирилл, не надо! — воскликнул Шурик.— Зачем же ты
так? Товарищи могут подумать, что ты это вправду все говоришь и так
думаешь.
— А я именно так вправду и думаю. Ракеты и любовь, любовь и
атом — они несовместимы. Вы помните кинокартину про атомщиков?
Почему я ее признаю из немногих наших картин? Потому что она
реалистична, в ней много обнаженной, не закамуфлированной идеализмом правды.
Как там поставлен вопрос одной умной девушкой, умной, подчеркиваю,
современной? «Возьми меня с собой туда, куда ты отправляешься. Тебе же
понадобится там женщина. Ну вот и возьми меня на этот предмет на
какое-то время». Делово, реалистично, современно.
— Совсем как в античном мире, до рождества Христова! — сказал
кто-то, хохотнув.
— Идеалисты под воздействием церковников средних веков много
лишнего нагромоздили на плечи человечества,— продолжал Кирилл.—
Культивируя романтическую любовь, они увели человечество в сторону.
Можете себе представить, сколько энергии миллионов и миллиардов
людей ухлопано на то, чтобы часами торчать на углах под дождями, чтобы
драться на дуэлях, петь серенады, объясняться, объясняться и
объясняться, требуя ответа на до крайности затасканный вопрос «Ты любишь
меня?» и радуясь в конце концов столь же затасканному ответу: «Да,
люблю». Люди, охваченные любовью, тащились на так называемый «край
света», затевали войны из-за так называемого «предмета любви». Мы бы
давно летали и на Венеру, и на Марс, и дальше, если бы не любовная
суета, на каком-то этапе нашего развития охватившая человечество.
• Чего же ты хочешь?
151
— Послушайте, Кирилл,— не выдержала Ия.— Или вы просто
дразните всех оригинальностью своих суждений, или вы страшный человек.
— Всех, кто не стеснялся говорить человечеству правду, предавали
анафеме,— ответил Кирилл небрежно.— А некоторых даже жгли на
кострах. Но правда от этого не переставала быть правдой.
— Мне думается, что дело обстоит совсем иначе,— не сдавалась
Ия.—Любовь не убила энергию человечества, а породила и порождает
ее. Без любви не было бы литературы, музыки, живописи, скульптуры, не
было бы искусств и вообще не было бы духовных богатств, какими мы
располагаем.
— Вот вы и убили себя этим высказыванием, богиня! — обрадован-
но воскликнул Кирилл.— В своей пламенной речи вы не назвали ничего,
что двигало бы прогресс. Искусство, литература! Это же словесность,
болтовня, мазня. Это нематериально. Вот-вот, так мысль человеческая и
пошла уходить в этот суетный песок. Все это порождено чувствами, а не
мыслью. Не любовь Ньютона к какой-то тогдашней красотке дала нам
закон всемирного тяготения, а его мысль, трезвая мысль. Не любовь дала
нам представление о строении Вселенной, а мысль, мысль Галилео
Галилея. Не любовь, не эти воздыхания дали нам возможность влезть в атом,
вырваться за пределы земного притяжения, а мысль, мысль, мысль. Ваши
«духовные богатства» — только помеха на пути человека к прогрессу.
Недаром, когда Гитлер задумал до зубов вооружить свою Германию, он
прежде всего сжег книги, и прежде всего про любовь. Солдату нужна не
любовь, а...
— Публичный дом! — сказал вдруг Шурик со злостью.
Кирилл усмехнулся, взглянув на него.
— Устами младенцев глаголет истина. Браво, мой мальчик!
Нарочитой оригинальностью своих суждений Кирилл раздражал не
только Ию и не только своего сослуживца Шурика, но и других. Они,
правда, переглядываясь и пожимая плечами, молчали. И неведомо, до
какого напряжения дошло бы дело, если бы не явилась наконец-то Порция
Браун. Она мило улыбалась, видя, сколько молодых мужчин обратило на
нее заинтересованные взоры. Она не зря оделась так легко и открыто в
короткую юбчонку выше колен, в невесомую блузку без рукавов, не сковав
себя никакими поясами и прочими невыносимыми летом оковами туалета.
— Я виновата,— сказала она.— Я надеюсь, меня простят. О,
госпожа Ия! — Она протянула руку.— Как приятно!..— Но рукопожатие ее
было вялым. Именно Ия, эта красивая девушка, была свидетельницей
того, как с ней обошелся Булатов. Да, неприятно. Но что поделаешь...
Ей налили виски, она выпила, раскраснелась.
— У вас есть магнитофон? Да? Я принесла новые записи. Самые
последние.— Она вынула из сумочки две бобины магнитофонной пленки.—
Кто умеет, может потом завести.
Генка тотчас предложил тост за гостью, прибывшую в Советский
Союз с такой благородной целью — показать миру красоту русского
искусства. Все выпили. Кирилл, улыбаясь, заговорил с ней.
— Перед вашим приходом мы решали один важный вопрос, мисс
Браун: что такое любовь в жизни человечества — прогрессивна она или
регрессивна?
— О, это очень важная проблема! — Порция Браун стрельнула
голубыми глазами, прошлась ими по лицу Кирилла. — Я не большой
специалист в этой области. Но мне кажется, что любовью, друзья, как и
всем иным, чем располагает человек, надо уметь пользоваться. Она
может и ничего не приносить человеку, а может и очень много ему
приносить.
— Не очень ясно, объясните.
— Надо уметь чувствовать того, кого любишь, развивать эти
чувства, — стала объяснять Порция Браун. — Л этому мешает стыдливость, ко-
152
Всеволод Кочетов •
торую веками и тысячелетиями культивировали... Я даже не знаю, кто
это культивировал персонально. Общество! Все общество в целом. Оно
шло за проповедниками стыдливости и постепенно заболевало ею.
Стыдливость, я считаю, — это болезнь, которая вредит любви.
— Интересно! — сказал кто-то.
— Да-да, очень интересно! — подхватила Порция Браун.—
Стыдливость берет начало в тех временах, когда женщина была
собственностью мужчины, когда ее запирали именно как собственность в
четырех стенах, под прочные замки и никому, как сундук с золотом, не
показывали, дабы не было соблазна. А если все-таки ей предстояло
показаться людям, то она должна была закрыть лицо, закутаться с ног до головы,
превратиться в этакий бесформенный куль. Кто же мог полюбить куль?
Кого эта куча тряпок способна была заинтересовать? Вот как воспитывалась
в человеке стыдливость и вот по какой причине. По самой что ни на есть
материальной.
— И, конечно, в те времена не было любви? — сказал Кирилл,
почувствовав поддержку в некоторой части своих утверждений.
— Да, я думаю, не было. Во всяком случае, любовь не имела почвы
для расцвета.
— Вы хотите, словом, сказать, что чем больше женщина открыта,
тем больше ее любят? — спросила одна из девушек.
— Да, это верно. — Порция Браун закурила. — И женщине при ее
естественном стремлении к любви свойственно не закутываться, а
совсем напротив.
Разговор был острый. Все курили, все доливали свои стаканы из
бутылок, пили, вслушиваясь в слова заокеанской гостьи. Она
растревожила всех, разволновала.
Ия, видя, что разговор сводится лишь к одной теме, попыталась
пригласить гостей танцевать, пыталась заговорить о чем-то ином. Но Порция
Браун довольно бесцеремонно парализовала ее старания.
— Темой любви,— говорила она,— занят сейчас весь мир. Так,
может быть, не было никогда, как сейчас. Кинематограф на девяносто
процентов — любовь. Литература на девяносто процентов — любовь. Я уже
не говорю об эстраде, обозрениях и прочем. А что, друзья, остается
человечеству? Атомный век! Никто не знает, что с каждым из нас будет
завтра.
— Положим,— начал было Шурик,— у нас есть кое-какие наметки и
на завтрашний день...
— О, пропаганда! — парировала Порция Браун.— У вас есть
программа коммунистического переустройства мира. Это прекрасно. Но
водородные бомбы не считаются с программами. Реальны сегодня лишь
удовольствия, какие мы можем получить в современных условиях. —
Откинувшись в кресле, она так задрала свою куцую юбчонку, что ноги ее
открылись без малого до талии. — Вы очень смешные, наивные пуритане. Во
Флоренции когда-то жил один очень строгий блюститель нравов, Фра Джи-
роламо Савонарола. Его сожгли. У вас таких савонароликов множество.
Вот вы,— указала она на Шурика,— я по глазам вижу, что вы со мной не
согласны и меня осуждаете... Вон та пугливая девушка, которая так
настороженно на меня смотрит... И даже наша очаровательная хозяйка,
поистине созданная для любви, и та не на моей стороне.
— Нет,— решительно заявила Ия,— не на вашей, мисс Браун.
— Ну вот вас всех ваши менее строгие соотечественники и
сожгут! — Порция Браун засмеялась. — Как того флорентийского монаха.
Ну что, может быть, пора послушать музыку?
Генка включил магнитофон с принесенными гостьей записями.
Загрохотал джаз. Порция поднялась.
— Приглашайте, господа!
Кирилл принялся выделывать с нею лихие кренделя под суматошный
• Чего же ты хочешь?
153
джаз. Подхватились и другие. Началась сутолока. Дом трясся от общего
танца. Останавливались лишь затем, чтобы еще выпить из расставленных
повсюду стаканов. Уже никто не заботился о том, чтобы найти свой
стакан, пили из попадавшихся под руку.
Ия думала о том, как же все это прекратить, а если не удастся
прекратить, то как сбежать от все больше шалеющей компании. Она
видела, понимала, как мерзка эта мисс Браун, как искусно она высмеивает
даже намек на какие-либо высокие чувства, как стремится освободить
окружавших ее от моральных обязательств, называя эти обязательства
оковами.
— Господа! — Резким своим выкриком Порция Браун остановила
танец. Она стояла с поднятой рукой. — Одну минуточку! Кирилл вздумал
меня поймать на расхождении моих слов о стыдливости с делом. Мы только
что заключили пари. Сейчас будет стриптиз. Прошу устроить свет
соответственным образом.
В лицо Ии ударил жар. Не может быть, этого не будет, американка не
решится на это, нет!
— Товарищи, товарищи!..— в отчаянии восклицала она.
Порция Браун тем временем выключила верхний свет, набросила чей-
то пиджак на один торшер, что-то еще на второй, в комнате сделалось
полутемно. На пол она скинула плюшевый коврик с дивана.
— Ну-ка, Геннадий, найдите там что-нибудь ритмичное и небыстрое.
Генка бросился к магнитофону. Все остальные — кто потирал руки
в предвкушении непривычного зрелища, хотя и не очень верил в его
возможность, кто искал воды, чтобы смочить сохнувшее от волнения горло,
кто ухмылялся. Девушки были испуганы и жались в углах. У Ии появилась
было надежда на то, что дело еще может ограничиться шуткой,
каким-нибудь фокусом, и все.
Но вот Генка включил ритмичное, тихое и даже мелодичное.
Порция Браун поправила укрытия торшеров, встала посреди
диванного коврика и принялась под музыку совершать такие движения, будто
танцевала восточный танец. Медленно, медленно, однообразно, гибко, не без
изящества. Так же медленно, не прекращая танца, она стала расстегивать
пуговки на блузке. Одна, вторая, третья... Блузка расстегнута.
Освобождена от нее одна рука, вторая... Блузка полетела на пол. В танце, под
музыку, Порция Браун стала расстегивать крючки на юбке.
— Не может быть, не может быть!..— почти задыхаясь, крикнула Ия.
— Заткнись! — зло рявкнул вполголоса на нее Кирилл.
Ие показалось, что он хочет ее ударить. Она кинулась к двери,
выбежала на улицу. Что-то надо было делать. Но что? Не за милиционером же
бежать. «К Булатову, к Булатову!..» — было первой мыслью. Но нет,
к нему обращаться было невозможно.
Мимо катилось такси с зеленым огоньком. Ия подняла руку; когда
шофер остановил машину, распахнула дверцу и села на сиденье рядом с ним.
— Куда? — спросил он.
— Пожалуйста, только скорее! — И неожиданно ее осенило. Она
дала адрес Феликса Самарина. Да-да, Феликс! К Феликсу.
Оставив жакет на сиденье, чтобы шофер не уехал, она бросилась
в подъезд, к лифту, поднялась на тот этаж, где была квартира Самариных.
На счастье Феликс оказался дома. Была там и Лера. Взволнованная,
задыхающаяся, Ия проскочила мимо нее.
— Феликс, милый! — закричала она. — Скорее, только скорее! Там
ужасно, ужасно.
— Где, где, Ия?
— Там, у меня дома!
— Извини, Лерочка, — сказал Феликс, хватаясь за пиджак. — Что-
то действительно серьезное.
— И я с тобой! — крикнула Лера.
154
Всеволод Кочетов #
Втроем они почти скатились с лестницы, такси их в несколько
минут по набережной Москвы-реки донесло до Каменного моста, затем на
Якиманку к Ииному дому.
— Феликс...— Ия остановилась посреди двора.— Там иностранка, из
Англии, из Америки — не знаю, откуда, показывает стриптиз.
— Что?!
— Да-да, надо это остановить. Нельзя это!
Они вбежали в квартиру, распахнули дверь в комнату. Так же, в
клубах табачного дыма, в сумраке, звучала ритмичная музыка. Но время
прошло, Порция Браун, видимо, уже закончила свое представление. Она
сидела, отвалясь, на диване, куря и улыбаясь, а на коврике, сбрасывая
с себя исподнее, изгибалась пьяная девица с лошадиным лицом й античной
фигурой.
Оттолкнув толпившихся, Феликс шагнул к ней, рывком поднял с пола.
— Немедленно одевайся! — крикнул.
Ия тем временем включила верхний свет.
Порция Браун вскочила с дивана.
— Это что такое? Полиция нравов?
— Товарищи! —сказал Феликс, оглядываясь вокруг.— Стыдно же!
Как же вы?
— А вы кто такой? — слегка покачиваясь, спросил с надменностью
Кирилл.
— Это Феликс, Феликс,— засуетился Генка.— Верно же, ребята,
как-то не того. Уж мы чересчур.
— Не суетись! — одернул его Кирилл и продолжал наступать на
Феликса.— Нет, извольте сказать, кто вы такой и по какому праву
врываетесь в чужой дом?
Ия подымала с пола одежды дуры, последовавшей за Порцией Браун,
помогала ей одеваться. Лера стояла совершенно растерянная. Ей
вспомнились разговоры итальянок о зрелищах такого рода, их слова: «Как
хорошо, что в вашей стране это не разрешено».
— Успокойтесь, Кирилл,— сказала Порция Браун.— Это очень
интересно. Очевидно, перед нами молодой большевик, идейный строитель
коммунизма, юный Фра Джироламо.
— Да, мадам, вы не ошиблись,— ответил Феликс.— Фра
Джироламо. И поскольку идут такие параллели, хочу вам сообщить одну старую
русскую поговорку: в чужой монастырь со своим уставом соваться не
следует. У вас там свое, у нас свое.
— Она гостья, учти,— сказал Шурик, поправляя очки.
— Поэтому я с ней так вежливо и говорю.
— Товарищи! И вообще поздно уже! — закричал Генка.
— Бригадмил, что ли? — Кирилл разглядывал Феликса и Леру. —
Дружинники?
— Да Феликс же это, Феликс! — опять объяснял Генка.
— Надеюсь, не Дзержинский? — Кирилл усмехался.
— Но названный так в его память! — Феликс своим взглядом готов
был перерубить пополам Кирилла.
Генка начал подталкивать гостей к выходу. Он был напуган
происшедшим. Он никак не думал, что дело дойдет до таких неожиданностей,
какую учудили мисс Браун, â за ней и дурашливая уродина Юлька. Теперь
скандалу не оберешься. Дойдет до отца — он раскудахтается: карьеру мне
губишь.
Посмеиваясь, поеживаясь, гости один за другим выскальзывали за
дверь. Всем было неловко, даже Кириллу, который после такого ответа
Феликса перестал вязаться к нему с вопросом, кто он такой. У всех
было чувство, будто в тот вечер они участвовали в очень грязном деле.
Никто бы не смог ответить, как это произошло, с чего началось, кому оно
понадобилось.
Щ Чего же ты хочешь?
155
— Ну что ж, юный воин,— сказала Порция Браун, обращаясь к
Феликсу,— вы довольны? Испортили людям настроение, помешали им
веселиться, и так, вам кажется, вы строите коммунизм?
— Я помешал людям не веселиться, а терять человеческое
достоинство. И я буду это делать. Всегда буду делать. И все мои товарищи
будут так делать. И если вы ездите к нам с этим, что сегодня тут
было, то лучше бы вам сидеть дома.
— Да, я не учла одного,— стараясь быть веселой, сказала Порция
Браун, — не учла, в какой дом пошла. Хозяева таких домов обычно
прикидываются святошами. Это ханжи, под показной святостью скрывающие свое
подлинное лицо.
— Простите, что вы этим хотите сказать? — не выдержала Ия.
— То, что не надо было идти в дом к почитательнице таланта
господина Булатова и, если не ошибаюсь, даме его сердца, вот что.
— Не стыдно вам? — только и смогла ответить Ия.
— Ия, не волнуйтесь, — сказал ей Феликс. — Не надо. Вы же сами
должны понять, кто перед вами. А вы, мадам, идите-ка лучше к себе.
Вы сделали свое дело, можете вставлять его в отчет.
— До новых встреч, юные большевики! — сказала Порция Браун и
ушла.
В комнате остались Ия, Лера, Генка и Феликс. Сидели вчетвером и
молчали, изредка поглядывая друг на друга, на тот ералаш, какой был на
столе, на подоконниках, на полу.
— Просто не верится,— сказала Ия, сжимая ладонями виски,— не
верится, что это возможно, что это только что вот тут было. Какой
кошмар! Неужели и мы можем прийти к тому, к чему пришли они, эти люди в
том мире? И как плохо, как робко мы от этого обороняемся!
— Потому что не все понимают, что это такое, что за этим стоит и
что за ним идет, — сказал Феликс. — Троянский конь!
— Вернее, троянская кобыла, если ты имеешь в виду эту Браун,—
засмеялся Генка. Но его веселости никто не разделил.
— И первый ты ничего не понимаешь, Генка, — сказал ему Феликс. —
Ты отворил этой кобыле ворота сюда. Тебе надо задуматься, Генка. До
большой беды дойдешь сам и другим бед натворишь.
Поздно среди ночи Феликс и Лера шли по Москве.
— Почему та дрянь так сказала о Ие и о Булатове? — спросила
Лера.
— Откуда же я могу знать, Лерочка! — ответил он. — Я же
сплетен не собираю. Я никогда в чужие дела не суюсь.
— Но вот сегодня же сунулся...
— Это совсем негчужое дело. Ни мне, ни тебе, ни кому-либо. Оно
наше общее.
44
Клауберг не выдержал и двух дней. Железной занозой в его мозгу, во
всем его существе сидел этот бывший Кондратьев, ныне Голубков. Он
трус, паникер, а такие на все способны от страха. Что он никакой не
агент госбезопасности, — это очевидно; что он сам прячет подлинное лицо
свое,— тоже. И все равно нет гарантий, что он смолчит, не попытается
заработать себе если не полное прощение, то хотя бы смягчение наказания,
выдав властям эсэсовца, побывавшего в свое время в Советской России
отнюдь не в качестве туриста.
Надо было или немедленно улетать из Москвы на Запад, или
предпринимать что-то не менее верное.
Перед глазами Клауберга все время стоял дальний угол Москвы, в
недавнем прошлом загородный поселок, виделись глухая улица, старый
домишко среди таких же отживающих свое дряхлых халуп, тесная комнатуха
156
Всеволод Кочетов О
за чуланом, с окном, выходящим в заросли сада; и особенно ясно
представлялась ему меж столом и шкафом покрытая старым стеганым одеялом
железная кровать с облезлой краской и на ней тот, Кондратьев,
раздумывающий — о чем? О том же, конечно, о чем раздумывает и он, Клау-
берг: как быть, что делать? Есть наивернейший выход: подойти к этой
грязной кровати и чем-нибудь увесистым, надежным ударить как следует
по голове с жидкими белесыми волосенками. И тогда вновь все станет
тихо, спокойно, как было. Что ж, не будет только Кондратьева? Но его
же давно и нет. Видимо, с войны. Есть Голубков. Но Голубков — миф.
Одним мифом больше, одним меньше — какая разница!
Клауберг решился. Купив в магазине инструментов на улице Кирова
молоток, он долго путался, тиская его в кармане, по Москве — то спускался
в метро, то вновь поднимался — уже на другой станции; чуть было не
потерял ориентировку, заехав на другую окраину, почти в лес. И все же
через несколько часов добрался до Кунцева.
Вечерело. Солнце было над самой землей, оно отсветило здесь и было
теперь там, куда вело пересекавшее Кунцево Минское шоссе, на родном
Клаубергу Западе, где столько надежных убежищ, где, несмотря на
разрозненные выкрики всяких демократов, можно все-таки спать спокойно, где
ты сам себе хозяин, где ты человек, а не волк в окружении красных
флажков.
Он крутился по улицам до тех пор, пока солнце не ушло совсем, и
только тогда, в теплых сумерках, отправился на знакомую улицу, к тому
знакомому дому.
«Может быть, следовало идти не в дверь? — возникла мысль. — Может
быть, лучше влезть в комнату Голубкова через окно? А что это даст?
Будет лишняя возня, за что-либо заденешь, что-нибудь опрокинешь. Шум,
тревога... Нет, чего там! Надо решительно войти, как уже было однажды,
и дать ему по башке».
Клауберг уверенно распахнул знакомую калитку, прошел через двор,
поднялся на крыльцо, обогнул в сенцах чулан и дернул за ручку двери
Голубкова. Дверь была заперта. Постучал — ответа не получил. Уже не
ведая зачем, постучал еще раз.
Заскрипела другая дверь в сенях. Из нее, щелкнув выключателем на
стене и дав свет, вышла та бабка, у которой Клауберг спрашивал о Голуб-
кове в прошлый приход сюда.
— Кого тебе? А, это ты? — Она его узнала.— Так он же наутрс
съехал, Семен-то Семенович. Я думала, ты его сманил куда. Всю ночь
сундучки свои собирал, вещички увязывал, а утром пригнал грузовик,
расплатился со мной честь по чести и укатил. Не к тебе, значит? Ну, адреса
не сказал, потому и не спрашивай, не знаю, почтенный, не ведаю.
Это было такой неожиданностью, перед которой Клауберг растерялся.
Ничего этому подлецу теперь не стоит где-то в пути сунуть в почтовый
ящик конвертик с сообщением о присутствии в Москве некоего штурмбан-
фюрера и описанием его примет.
Да, надо было действовать быстро и решительно.
Из Кунцева Клауберг помчался было на международную телефоннук
станцию. Но лондонская контора издательства не отвечала, и за
поздним временем это было естественным; номерами же домашних телефоно!
он не располагал, ничего, следовательно, не оставалось, как ждать дс
утра.
Нервы Клауберга так напряглись, что он уже боялся войти в вести
бюль гостиницы, все ходил и ходил вокруг площади, в сквере на
которой стоял памятник Карлу Марксу, и по временам невольно посматрива;
на тот лозунг о диктатуре пролетариата, который был выложен керамиче
скими плитками на фронтоне гостиничного здания.
— Ну как, господин Клауберг? — услышал он голос рядом с собой. —
Нашли Голубкова?
• Чего же ты хочешь?
157
Он готов был бежать от этого возгласа, полагая, что его вот-вот
схватят за локти и скуют руки стальными браслетами. Но возле него стоял
безобидный, улыбающийся приятель Юджина Росса, сын доцента Зародова.
— Что? — сказал Клауберг, бешено ненавидя этого парня и все же
стараясь быть приветливым.— Голубкова? Да-да, конечно. Мы с ним
договорились встретиться еще. Но он почему-то не приходит.
— Не приходит? Я съезжу к нему завтра, спрошу, чего это он.
Обычно он аккуратен. Деловой человек. Вы куда-то шли? Я вам не помешаю?
— Нет-нет. — У Клауберга мелькнула мысль, нельзя ли
предстоящую ночь провести не в гостинице, а скажем, у этого парня или у кого-
то из его приятелей. — Гуляю, гуляю, — сказал он, пытаясь улыбаться. —
Изучаю вашу московскую жизнь. Скоро уже и конец, домой отправимся.
Как поживают ваши родители?
— Муттер на даче. Фатер — в трудах. Сегодня он, правда, тоже на
даче. Суббота! Уик энд!
Клауберг запомнил дом, в котором жили Зародовы. Сопровождаемый
Генкой, он шел такой дорогой, чтобы выйти на улицу Горького и как бы
случайно добраться именно до их дома. А там, кто знает, может быть,
этот простодушный малый пригласит его к себе.
Так и случилось. Возле своего дома Генка сказал:
— Наша берлога!
— Что это означает? — Клауберг сделал вид, что не понимает его
терминологии.
— Здесь мы живем, — пояснил Генка. — Вы же у нас были, господин
Клауберг.
— Неужели? — изумился Клауберг.— Плохая память! Да и вообще
в новом городе с первого раза можно запомнить лишь нечто равнозначное
Эйфелевой башне, вашему Кремлю, Колизею. А уж, скажем, башню, на
которой установлен лондонский Биг Бен, вполне спутаешь с башнями
Стокгольма или Брюсселя, а папский собор святого Петра — с Казанским
собором в Ленинграде. Да-да, теперь вспоминаю вашу квартиру, очень было
мило, гостеприимно.
— Господин Клауберг,— сказал Генка,— может быть, зайдем к нам?
Правда, родителей нет. Но если хотите...
Клауберг помедлил ровно столько, сколько надо было, чтобы это
походило на его натуральные колебания и в то же время, чтобы русский
малый не успел сказать: «Ну что ж, не смею настаивать»,— и
согласился.
— Люблю изучать жизнь,— сказал он, подымаясь в лифте.— А где
еще увидишь ее так отчетливо, как можно увидеть в домашней,
неофициальной обстановке?
Если бы мать и особенно отец узнали, что Генка без всяких
приготовлений приведет к ним в квартиру гостя, да еще и иностранца, они бы
обрушили на голову своего сыночка все ругательства, какие им были
известны. Без предварительных приглашений в квартиру Зародовых не пускали
никого по причинам крайней неряшливости всех ее обитателей. Сам
Александр Максимович, на людях появлявшийся в ультразападном виде, дома
расхаживал в старых шлепанцах, небритый, всюду сыпал пепел сигарет и
сигар. Супруга его была ему под стать. По всем комнатам были
раскиданы ее импортные кофты, юбки, чулки, пояса. В доме был пылесос, были
полотерная машина, совки, веники. Но добровольно никто к ним не
прикасался. Поэтому, когда разговор заходил о том, что кого-то надо позвать,
кому-то устроить, как у Зародовых называлось, прием, в квартиру созывались
многочисленные родственники Александра Максимовича, и вот они-то и
наводили должный порядок. А сами Зародовы грязи, среди которой
проходила их жизнь, не замечали, грязь для них была явлением нормальным,
бытовым. Тем более она не тревожила Генку. Стены есть, потолок есть,
магнитофон есть, холодильник тоже — ну и ладно. Берлога!
158
Всеволод Кочетов •
Немец Клауберг сразу увидел разницу между тем, как выглядела
квартира Зародовых тогда, во время приема, и какой она предстала перед
ним теперь. Можно было подумать, что здесь или готовились к ремонту,
или к переезду. Но, конечно, он и слова не сказал о своих впечатлениях.
Генка усадил его на диван перед овальным столиком.
— Сейчас, господин Клауберг, кое-что будет. Одна минута!
Он натащил из холодильника бутылок — и начатых и неначатых,
банок с консервами, нарезал прямо на газете, которую разостлал на
столике, большими ломтями хлеб.
— Ни виски, ни джина, извините, нету,— пояснял он.— Но вот
хорошая, холодненькая водчонка. Вот армянский коньяк. Три звездочки.
А это для знатоков. Это нам из Болгарии привезли — мастика. Пахнет
каплями датского короля. Вы знаете такие — от кашля? А это очень
ценный напиток. Черный рижский бальзам. В керамической посудине который.
В нем травы какие-то. От всех болезней. Его можно и так, голый. А
можно и в водку капать. Запах отбивает и вкус облагораживает.
— Вы большой знаток выпивок, Геннадий, — сказал Клауберг, все
раздумывая об этом проклятом Кондратьеве-Голубкове.
— Ну какой там знаток! Дилетант. Любитель. А что, господин
Клауберг, некоторые думают, что выпить — это разложение. А это же жизнь,
верно? Выпьешь — какие-то фантазии возникают в голове, идеи
рождаются, чего-то такого особенного хочется. И даже сам себе кажешься лучше,
чем есть. Ну, за ваше здоровье, за успешное окончание вашей работы,
за благополучное ваше возвращение домой!
Оба они выпили водки, подкрашенной рижским бальзамом.
— Меня, господин Клауберг, все кроют: и родственники и разные
там солидные знакомые. Дескать, не определился, балбес, и все такое.
А что значит не определился! Зарабатываю? Зарабатываю. А что еще вам
от меня надо? Не ваше ем. Свое. Я, понимаете, жизнь люблю. Вот так,
чтобы жилось — и все. А жизнь, я вам скажу, у нас очень приличная. Были
бы деньги!
— Верно, верно, — кивал на его слова Клауберг и подливал себе в
рюмку то водки, то бальзама. — Вы правы. Жизнь у человека одна, и нет
никакого смысла вколачивать ее в колодки принятых правил. Надо ею
пользоваться.
Оба они понемногу хмелели, особенно Генка, который, красуясь перед
иностранцем, лихо выливал рюмку за рюмкой себе в рот и не закусывал.
В комнате стоял полусвет от торшера с абажуром из синтетической
пленки. В этом свете лицо Генки казалось бледнее обычного, оно было
почти белым и, круглое, мальчишеское, постепенно стало все больше
тревожить память Клауберга. Мало этого проклятого Голубкова, думал он, вот
и еще кто-то из прошлого лезет в душу, будь он тоже проклят. Он увидел
рыжие веснушки на этом белом круглом лице, увидел растрепавшиеся Ген-
кины светлые волосы и глаза, устремленные на него с каким-то вопросом.
«Он,— сказал себе Клауберг.— он! Тот, из Чудова. Звереныш». Его
бросило в жар, он не донес рюмку до рта, поставил ее обратно на стол.
Забытое, острое, ни с чем иным не сравнимое чувство жестокого
властвования над человеком передернуло его всего, охватило неудержимой
судорожной дрожью.
— Жизнь, значит, любишь? — сказал он, подымаясь.— А смерть ты
видел?
Пьяному Генке показался смешным вопрос гостя. Он ухмыльнулся во
весь рот, добродушно и понимающе: дескать, оба мы надрались, ну и
что тут такого? И тотчас ощутил удар в лицо. Это было как толчок —
тупое, резкое, бросающее на спину.
Недоумевая, он поднялся с пола, б глазах его были смятение,
растерянность.
• Чего же ты хочешь?
159
Клауберг снова ударил, и Генка снова упал. Встав, он начал пятиться
от непонятного, озверевшего человека с железными руками. Дойдя спиной
до диванчика, он опустился на «его. Клауберг стоял над ним, как глыба.
— Любишь жизнь?
— Люблю, — сказал Генка и получил пощечину.
— Любишь? — Новая пощечина. — Любишь? Любишь? — Клауберг
хлестал его правой и левой, правой и левой. Генкина голова моталась
из стороны в сторону. Нет, он не пытался кинуться и укусить того, кто его
бил, нет, он не плюнул ему в лицо, он только заслонялся руками,
извиваясь под ударами, стонал и вскрикивал, а Клауберг в исступлении все
бил, бил, бил... Он плевал в это круглое веснушчатое лицо.— Вот, вот!
Тьфу! Гаденыш! Мразь! — Все, что штурмбанфюрер СС не сделал тогда в
Чудове, все, что более чем четверть века носил в себе мутным
осадком, все мучавшее его он выплескивал в это мальчишечье лицо, так
похожее на то, давнишнее.
И только когда Генка потерял сознание, то ли от побоев, то ли от
выпитой водки, Клауберг остановился. В какой-то короткий миг пришло
отрезвление. Что же это такое? Что случилось? Почему? Он схватил со
столика не рюмку, а стакан для воды, вылил в него остатки водки из
бутылки — это составило половину стакана, дополнил бальзамом и жадно, одним
духом выпил. Потом взял графин и вылил всю воду из него на Генкину
голову. Генка застонал, шевельнулся. Открыл один глаз.
— Зачем же вы так, господин Клауберг? — сказал он, всхлипнув.—
Что я вам сделал?
Оставалось прикинуться мертвецки пьяным, что Клауберг и сделал.
Под взглядом Генкиного глаза, из которого катились слезы, он, шатаясь,
походил по комнате, задевая за стулья, роняя их, бормоча ругательства,
и в конце концов плюхнулся на диван рядом с Генкой и захрапел.
Он и в самом деле скоро уснул. Проснулся, когда уже было светло.
Огляделся, вспомнил все, что произошло ночью. Генки рядом не было.
Встал, кое-как расправил мятые брюки и пиджак, пошел искать Генку. Тот
спал у себя в комнате. Лицо его было в синяках и кровоподтеках,
правый глаз скрылся в тяжелой опухоли.
Клауберг подумал-подумал, стоя над ним, порылся у себя в
бумажнике, достал бумажку в сто долларов и положил на тумбочку возле
Генкиной постели. Потом, захлопнув за собой дверь на французский
замок, вышел на улицу, отыскал раннее кафе, заказал рассеянной
официантке завтрак. Она принесла ему совсем не то, что он просил, но он и
сам забыл, что заказывал, и как рассеянно она обслуживала, так же
рассеянно он ел. Надо было дотянуть до начала работы в издательской
конторе в Лондоне. Он понимал, что если этот парень, может быть, и
успокоится на ста долларах компенсации за битую морду, но Голубков-то где-
то есть и способен оттуда с полной для себя безнаказанностью делать с
ним, Клаубергом, что угодно. В любую минуту могут прийти с площади
Дзержинского. Надо уносить ноги. Но не по-глупому, а по-умному: надо
получить разрешение на двух-трехдневный приезд в Лондон для
согласования кое-каких накопившихся вопросов. Если следят, если проверяют, все
будет законно, в порядке работы, вне подозрений.
Когда наконец среди дня, потому что московское время опережало
часы Западной Европы, он услышал голос одного из ответственных лиц в
конторе издательства и изложил ему свою просьбу, он получил
обрадовавший его ответ:
— Пожалуйста. Хоть на пять дней. Ждем.
Тогда он отправился в бюро обслуживания. Французская
«Каравелла» шла на следующий день. Он заказал билет до Лондона с
пересадкой в Париже.
— Где ты пропадал, Уве? — спросил его зашедший к нему днем
Сабуров. — Я искал тебя весь вечер.
160
Всеволод Кочетов •>
— А что такое? — встревожился Клауберг.
— Ничего особенного. Но все же...
— А!..— сказал Клауберг, махнув рукой.— Закатился к одной осо-
бочке.
— Ты неутомим.— Сабуров улыбнулся.— Годы тебя не берут. Все
такой же.
— Учти, что несколько дней меня не будет,— сказал, переходя на
деловой тон, Клауберг.— Вызывают в Лондон. Какие-нибудь
дополнительные инструкции. А ты продолжай дело, оставляю тебя моим заместителем.
Следи за этой шайкой, за Браун и за Россом.
— Знаешь, я тебе как раз и хотел вчера сказать о мисс Браун. Она
что-то натворила не очень принятое здесь. Ее сегодня вызвали в
посольство.
— А, черт с ней! — отмахнулся Клауберг. — Нам с тобой плевать на
них, этих заокеанских. А что касается Браун... Ну сам же знаешь, кто
такая она. Обычная шкура, проститутка с образованием. Какие у нее идеи?
Никаких. За деньги готова служить кому угодно.
Назавтра, когда Клауберг и Сабуров, отправившийся его провожать,
приехали в аэропорт, они увидели Порцию Браун в очереди к
пограничникам, которые проверяли паспорта.
— Хелло! — сказала она, нахально усмехаясь им обоим.— Надеюсь,
вы извините меня, что не пришла попрощаться с вами. Меня так
быстро выставляют из этой миленькой страны, что я вообще ничего не успела.
Потом она ушла, и Сабуров ее уже не увидел. Клауберг пожал ему
руку, еще раз сказал: «До скорой встречи. По поводу этой стервы не
тревожься. Она к нашей работе не имеет никакого отношения. С нас за
нее не спросят» — и ушел тоже.
Сабуров на смотровом балконе аэровокзала простоял до момента
взлета «Каравеллы». Клауберг долго видел его с воздуха — одинокую
недвижную точку.
Места Порции Браун и Клауберга были в разных рядах. Но
поскольку самолет не был заполнен пассажирами и наполовину, то они при
желании могли бы устроиться рядом. Такого желания не было, они сидели
каждый в своем кресле, как было указано в билетах, и сквозь
иллюминаторы смотрели вниз, на землю. Клауберга не покидала тревога: хотя
самолет французский и команда французская, но территория-то внизу
советская, и воздух над нею советский, и каждую минуту команде
самолета мог последовать приказ вернуться в Москву или сесть на
каком-нибудь ином советском аэродроме. И только когда стюардесса сказала, что
самолет пересек границу Восточной и Западной Германии, он
распрямился в своем кресле и нажал кнопку вызова стюардессы.
— Пожалуйста, — сказал он ей, изящной и приветливо
улыбающейся,— сигареты и двойной джин.
В Париже, в аэропорту Бурже, Клауберг подошел к мисс Браун.
— До свидания, дорогая,— сказал он.— Были приятные минутки...
— Мне бы не хотелось больше никаких свиданий с вами, Клауберг,—
заносчиво ответила Порция Браун.— И никаких минуток.
— Кто знает,— сказал он с усмешкой,— еще, может быть, они и
будут. Может, еще встретимся с вами.
— В каком-нибудь новом Равенсбрюке? Рассчитываете на это?
— Авось и посолиднее что придумаем.— Клауберг ухмыльнулся.—
Не зарекайтесь, мадам.
Он козырнул ей и уверенным шагом солдафона пошагал узнавать,
когда очередной самолет на Мадрид. Он хотел домой. А дом его пока что
был там, в Мадриде.
— А, Клауберг! — окликнули его возле бюро справок. — Откуда и
куда? — Спрашивал один из его мадридских знакомых.
• Чего же ты хочешь?
161
— Из Москвы, знаешь. И в Мадрид, — ответил Клауберг.
— По второму разу? — Знакомый засмеялся. — Роковой маршрут.
А как тебя занесло в Москву?
— Долгая песня. Дело! Бизнес.
— Хватит бездомничать, Клауберг, хватит. Есть новости. Меня
фюрер вызвал.
— Кто?
— Фюрер, говорю. Ты перестал понимать немецкий язык. В
Ганновер. Там большие дела развертываются. Идет бой за наше место под
солнцем. За место под ним для настоящих немцев. Какого черта нас, как
евреев, разбросало по всему свету... «Преступники!» Не мы, а те, кто
ослабил мускулатуру нации, кто дал ее разорвать на части,— вот кто
настоящие преступники. И мы до них еще доберемся. Задача — овладеть
бундестагом. Надо на полную мощность запустить машину пропаганды. Меня вот
и вспомнили. Фюрер вызвал, понимаешь?
Клауберг смотрел на довольное выражение лица мадридского
знакомого, и у нею стало ныть в груди.
— А почему только тебя? — спросил он. — А других?
— Не знаю. Наверно, и до других дойдет очередь. Не всех еще,
наверно, можно. Там еще все-таки сильны всякие демократишки. Еще судят
настоящих немцев за их верность великой Германии. Но когда бундестаг
будет нашим, мы эти законы окончательно прихлопнем. Не железными
решетками, а «железными крестами» будут награждены все, кто выстоял
в этой борьбе. Будь здоров!
Клауберг смотрел на довольное выражение лица мадридского
знакомого, и мысль о Мадриде, как о доме, уже не возвращалась. Что ни говори,
дом его был не в Мадриде, а там, в Кобурге, в Баварии, в Германии.
Захотелось кинуться вслед за этим знакомым, за счастливчиком, который
через какой-нибудь час выйдет из самолета в Ганновере. Черт побери,
будет, 'будет такое время, эта голубоглазенькая дрянь, давно растаявшая в
парижской толпе, еще поваляется в ногах у него, у Клауберга. «Равенс-
брюк!» Нет, будет почище, почище всех Равенсбрюков, Бухенвальдов и
Освенцимов, вместе взятых.
45
Генка два дня не выходил на улицу, до вечера понедельника. Он знал,
что в понедельник отец ездит на свою службу прямо с дачи и, значит,
домой явится именно только к вечеру этого дня. К тому моменту должна
быть приведена хотя бы в относительный порядок расквашенная Генкина
физиономия. Он грел синяки грелкой, прикладывал кубики льда из
холодильника к разбитой губе, к опухоли вокруг глаза. Лечение шло
успешно, но медленно. А главное, Генкину душу раздирала нестерпимая
обида. Бывает, конечно, люди напьются и лезут в драку; обычно хорошие,
мирные люди, а вот, выпив, становятся как бы совсем другими. У отца
есть знакомый, который, когда трезвый, что называется, мухи не обидит,
такой всегда грустный, с печальными серыми глазами в густых девичьих
ресницах; а напьется — первые у него слова: «Хочешь, я тебе сейчас
дам под ребро, хочешь?» — ив самом деле так и прет на тебя, вращая
кулаками, глазами, не обережешься — двинет в печень, дух захватит.
Может быть, и этот Клауберг, несмотря на то, что он профессор, подвержен
озверению в состоянии хмеля.
Допустить все можно. Но ведь он, этот профессор, — Генка отлично
помнит,— бил как садист, как палач, со вкусом, профессионально. Да
еще и плевался. Почему?
Обида мучила. Благо, никто не видел, Генка то и дело принимался
плакать. Сидит, смотрит в одну точку, а слезы по щекам так и бегут,
так и бегут.
11. «Октябрь» № 11.
162
Всеволод Кочетов •
Нисколько не утешала стодолларовая бумажка на тумбочке. Она
свидетельствовала, конечно, что Клауберг понимает свинство своего
поведения. Но тоже, скажите, пожалуйста, способ принесения извинений!
Сунул купюру — и чист.
Купюра, правда, была крупная, солидная. Сто долларов в мировой,
свободно конвертируемой валюте — это не шуточки. В валютном магазине
на нее можно сорок бутылок виски отхватить. Или какого хочешь
барахла охапками: ботинок, туфель, галстуков, пиджаков, отрезов на
костюмы, плащей. Можно, конечно... Но это же неслыханное падение, это, как
хотите, а все-таки тоже торговля телом: тебя бьют и за это платят.
Бумажка ценная, что говорить. Но мог бы не ее, а записку оставить:
извини, мол, все мы человеки, перехватил.
При всей Генкиной любви к деньгам, тем более к валюте,
редкостная бумажка эта его не радовала. Чем больше он раздумывал над нею,
тем больше она его угнетала,'унижала, оскорбляла.
К понедельничному вечеру еще нельзя было сказать, что следы
событий с его лица сошли; отцу, во всяком случае, в таком виде
показываться не следовало. Но выйти на улицу было можно. И Генка решил
пойти к Клаубергу, отдать ему сотню и, может быть, если сумеет
набраться духа, высказать свою обиду. Пусть не думает, что за деньги все
можно. У нас не заграница.
На стук в дверь комнаты Клауберга в «Метрополе» ответа не было.
Постучал к Юджину Россу.
— О, Геннадий! — воскликнул тот, отворяя.— Сколько лет, сколько
зим! Ты где же пропадал? И что это за пятна у тебя на лице? Подрался?
— Да, — решил соврать Генка. — Тренировались, применяя твои
приемчики, Юджин. Вот и результаты.
— Ты молодец! Смельчак! — одобрял, гладя его по плечу, Юджин
Росс.— Хороший удар — это не то, что вонючие стриптизы. Слышал я,
как Порция Браун отличилась. Главное, нашла что показывать. Она же
.старая выдра, ей давно за тридцать. Словом, тю-'тю, не то посольстве,
не то ваши власти, но кто-то из них дал ей коленом под зад, отбыла в
Париж. И герр Клауберг — тоже. Но он через несколько деньков
вернется. А она — нет.
— Господин Клауберг уехал? — Генка растерялся. Бумажка в сто
долларов жгла ему карман. Он хотел во что бы то ни стало отделаться
от нее, это была позорная бумажка.
— Значит, вас осталось двое? — сказал он.— Ты и господин Кара-
донна? Он-то не уехал?
— Он — нет. Он теперь у нас главный, до возвращения Клауберга.
Сабуров сидел в своей комнате, читал очередное письмо от Делии.
Как обычно, она начинала с упреков за то, что он слишком надолго
застрял в России; вместе с тем временем, которое он провел в Лондоне,
это уже скоро будет полный год, как его нет дома, наверняка он
спутался с какой-нибудь русской; пусть-ка только он вернется, она тотчас влепит
ему за это пару отборных пощечин. Он, конечно, понимал, что все это
шутки в духе Делии, и видел ее воинственную улыбку, с которой она
писала такие строки.
Дальше в письме сообщались вариготтские и туринские новости.
«Синьора Антониони получила письмо от бывшей жены Спада,—
сообщала Делия.— От синьоры Леры. Ты, может быть, встречаешь ее там, в
Москве. Если нет, вот тебе адрес, навести и передай привет. А еще
передай, если синьора Антониони не успела ей сообщить, что бывшего
муженька синьоры Леры выгнали из коммунистов. Он болтался, оказывается,
в Москве по делам фирмы, и что ты думаешь, Умберто? Напихал в свой
чемодан контрабанды, чего-то такого, что нельзя вывозить, и
таможенники его застукали. Получился скандал. В одной миланской газете было
написано, что он вез что-то печатное, очень недружественное Советско-
• Чего же ты хочешь?
163
му Союзу. А что я говорила? Тезка Муссолини не может быть порядочным
человеком. Но он нисколько не горюет. Он быстренько опубликовал
письмецо в газетах. Его выгнали грязной метлой, а он пишет: «Почему я
разошелся с коммунистами». Да потому, что он негодяй. Чего тут объяснять!
Его папаша путается с МСИ, с этим «социалистическим движением»,
которое вздыхает по покойному дуче, и дает этим новофашистским молодчикам
деньги. У него связи среди больших богачей. Он уже нашел своему Бе-
нито уродину, вместе с которой, как говорят, ее папаша отдает
жениху шикарную виллу за Альбенгой, почти на самой границе с Францией,
так что синьор Спада в нашу Вариготту уже не заглянет. Разве если
проплывет мимо на яхте из Ливорно или Савоны».
Заканчивалось письмо тоже в ее обычном стиле:
«Дети тебя ждут и целуют. Ну и я могу чмокнуть, если тебе это еще
надо».
Сабуров улыбался прочитанному, за расползающимися кривыми
строками письма видел его автора, Делию, видел свой дом — виллу
«Аркадия», зеленые улицы Вариготты, каменистый берег, море, и ему
захотелось поскорее туда, к Делии и к детям. Здесь, в России, он
родину.потерял. Как ни тоскливо думать об этом, но потерял, потерял. Не она его
отвергла, а он сам перечеркнул все, надев когда-то по роковой,
губительной ошибке немецкий мундир.
Он поморщился, когда постучали в дверь. Поди, Юджин, который
каждый вечер напивается и не дает ни себе, ни ему, Сабурову, покоя.
— Войдите! — крикнул он с досадой по-русски.
Нет, это был не Юджин. Это был Геннадий, сын доцента
Зарод ова.
— Господин Карадонна,— заговорил Геннадий,— извините, что
беспокою. Но я шел к господину Клаубергу. А его, оказывается, нет.
— Да, он улетел.
— А у меня такое дело. Ждать его возвращения... Он забыл у меня
эту бумажку... Я бы хотел оставить ее у вас...
— Сто долларов?! Как забыл?
Сабуров смотрел на парня и думал о том, что тут какая-то очередная
темная история. Такие бумажки спроста не оставляют, не забывают. Тем
более не сделал бы этого Клауберг с его немецкими правилами.
— Товарищ... то есть господин Карадонна,— заговорил Генка,
чувствуя, как у него .вновь начинают от обиды дергаться губы.— Я вам
скажу правду. Я пригласил господина Клауберга ко мне домой. Мы там
немножко выпили, и он... Нет, вы даже представить себе не можете... Он
меня избил. Вот, вот, вот1.. — Генка указывал на своем лице места
ударов.— Господин Карадонна, он же известный профессор! Почему же это?
Почему? И вот, уходя, сунул мне эту бумажку. Оставил на тумбочке
возле кровати. Скажите, что же это такое?
С недоумением, с возмущением слушал Сабуров торопливый
мальчишеский рассказ человека, которого назвать мальчишкой уже было нельзя.
По летам он взрослый, вполне взрослый, а по духовному миру, по
развитию?.. Странно.
— Зачем вы пили с ним, Геннадий, зачем? — спросил он с какой-то
внутренней мукой.— Что общего у вас с этим человеком, с профессором
Клаубергом? Ни возрастом, ни профессией, ни идеалами — ничем,
решительно ничем вы с ним не связаны. Что вас заставило водить с ним
компанию и даже взять вот и напиться со старым, чужим вам представителем
чужого, чуждого мира?
Геннадий смотрел в пол и молчал. А что он мог ответить? В самом
деле, почему он потащил Клауберга к себе домой? Почему он вообще
больше крутится вокруг всяких иностранцев, чем общается со своими
сверстниками? А Карадонна как бы подслушал его мысли.
164
Всеволод Кочетов •
— Разве у вас нет лучшей компании? Разве у вас нет друзей, таких
же молодых, как вы, ваших русских, советских, которые заняты такими
интересными, удивительными делами, о чем мы, иностранцы, можем лишь
вычитывать из газет, а вы это все можете делать своими руками,
участвовать в этом, быть хозяевами этого.
— Чего? — спросил Генка, не подымая головы.
— Как чего? Великой страны! Великих дел! России! Да вы знаете,
что такое Россия? Нет на земном шаре сегодня страны, нет народа,
на которые бы так или иначе, но не оказывала своего влияния Советская
Россия! Одни ей завидуют, другие подражают, третьи учатся у нее, даже
не желая в этом признаваться. Будущее за теми, кто пойдет дорогой
России.
— Это говорите вы, итальянец? — Генка поднял глаза на Сабурова.
Тот встал.
— Да, это говорю я. Я многое повидал на своем веку, очень многое.
И очень горькое. Слушайте.— Он подошел близко к Генке, навис над
ним.— Вы мечетесь, вы разбрасываетесь, а потом вот глотаете слезы
обиды. Молодой человек,— как-то разом он заговорил с ним на ты,— я тебе
задам вопрос: чего же ты хочешь? Чего? Ответь!
В мозгу Генки, путаясь, сплетаясь, неслись клочьями торопливые
мысли. Как, что ответить на так вот прямо, отчетливо поставленный вопрос:
чего же он хочет? Отец, это известно, тот рвется в верха. Тот хочет иметь
кабинет с кондиционированным воздухом, черный длинный автомобиль,
сидеть в президиумах, красоваться на экранах телевизоров, быть
депутатом, лауреатом. А ему, Генке, что надобно? Он никогда об этом не
думал, он не знает — что. Взять, скажем, сестру Ию. Ия — идеалистка. Ей
нужна жизнь возвышенная, красивая, интеллектуальная, а не
материальная. А ему? Он не думал, не знает. Феликс Самарин? Того вообще не
понять. «Класс! Классы! Борьба миров! Человек должен быть всегда честным,
к чему-то стремиться значительному». А к чему — никто толком не знает,
не объяснит, все болтают общие слова.
— Не знаю,— ответил Генка наконец на вопрос Сабурова.— Так
вроде бы всяких мыслей полна голова. А вот такого бы...— Он поделал
в воздухе руками, как бы охватывая некий шар, округляя его. —
Такого — не скажу. Не знаю.
Сабуров ходил от окна к двери, от двери к окну.
— Ты. хочешь, — сказал он вдруг, — чтобы в вашей России
кончилась Советская власть?
— Что вы, господин Карадонна! Зачем так?
— Ты хочешь,— не замечая его протеста, продолжал Сабуров,—
чтобы началась новая война, чтобы вы потерпели в ней поражение и к вам
бы наводить свои порядки ворвались какие-нибудь неоэсэсовцы, -
неогитлеровцы— неважно какой национальности — снова ли немцы, или кто другой?
— Я вас не понимаю, господин Карадонна! — Генка тоже встал.
— Ты хочешь новых Майданеков и Освенцимов, Равенсбрюков и Бу-
хенвальдов? Ты хочешь, чтобы русских и всех других, из кого состоит
советский народ, превратили в пыль для удобрения европейских или
американских полей? Ты хочешь, чтобы Россия была только там, за Уралом, а
до Урала весь ваш народ был истреблен и йа его землях расселились
завоеватели? Ты знаешь о плане ОСТ? Пойди в библиотеку, найди
соответствующие книги и познакомься с планом ОСТ, вдумайся в него,
прочувствуй его. Ты увидишь, что приход западной «демократии», которой
завлекают вас, молодых русских, западные пропагандисты,— это отнюдь не
полные витрины ширпотреба, а прежде всего истребление ваших народов,
уничтожение вашего государства, уничтожение России. По плану ОСТ
!федстояло или полностью уничтожить русский народ, или если какую-то
часть оставить, то только ту, которая явно обладает так называемыми
признаками нордической расы, да и то при непременном условии ее онемечи-
• Чего же ты хочешь?
165
вания. Учебные заведения у вас были бы ликвидированы, за исключением
четырехклассных школ, всюду как государственный был бы введен
немецкий язык, немцы принудительно сократили бы рождаемость русских. Это
обширный и жестокий план, план ОСТ. Ты хочешь, чтобы его где-то
возродили?
Сабуров открыл бутылку минеральной воды, налил в стакан, выпил.
— Ты протестуешь, отмахиваешься. Но были русские, которые этого
хотели, полагая, что так они вернут себе родину. Среди них были и
такие, как ты, молодые, запутавшиеся. Они надели на себя немецкие
мундиры и вместе с гитлеровцами маршировали по русским дорогам и полям.
На их глазах жгли русские деревни, убивали русских женщин и детей, а
они думали, что так. и надо, что это для них йуть на родину, путь к
возврату былого. И все рассеялось как дым. Они обманули себя. Никакой
чужак тебе не поможет, он думает о своем, ему плевать на тебя, ты
нужен ему лишь до той поры, пока он добьется своего, а тогда и ты лети
ко всем чертям, и тебя сожгут, растопчут, развеют пеплом по свету.
Пальцы грызут сейчас те, кто поверил врагам России, пытаясь видеть в них
своих если не друзей, то хотя бы союзников. До того, как напялить на
себя немецкие мундиры, они еще могли на что-то надеяться, на то, что
русский народ примет их обратно, простит ошибки и заблуждения горячих
лет революции. Но после тех мундиров — все, конец. Родина потеряна
навеки. Не только родина — имена, фамилии русские потеряны. Поверь мне,
Геннадий. Уж я-то знаю, я-то видел, я-то испытал.
— Что же делать? — сказал Генка растерянно.
Сабуров уже успокоился, говорил обычным своим ровным тоном:
— Прежде всего ответить самому себе на этот вопрос: чего же ты
хочешь? Или того, о чем я только что сказал, или того, к чему призывает
тебя твой народ. Третьего нет. Вот слушай. Я получил письмо из дому.
У нас там был некий синьор Спада. Собственно, он и сейчас есть. Но я
говорю «был», потому что он состоял в партии коммунистов, а теперь его
в ней нет. Послушай. — И Сабуров прочел то, что о Спаде, о его провале
на советской таможне, о его родне, о предстоящей новой женитьбе
сообщала Делия.
— Я знаю его бывшую жену,— сказал, тоже приходя в себя после
волнения, вызванного речью Сабурова/Генка,— Лера Васильева. Она
выходит замуж за одного моего знакомого.
— Меня вот просят передать ей привет,— сказал Сабуров. — В
Турине ее многие полюбили. Я ведь тоже ее знаю. Мы как-то однажды очень
хорошо с ней беседовали на одном из итальянских холмов, высоко над морем.
— Хотите, мы к ним сходим завтра? — предложил Генка. —
Сегодня-то поздно, в такой час даже к хорошим знакомым и то не очень удобно
вваливаться.
Назавтра он созвонился с Лерой и Феликсом. Оказалось, что Лера уже
переехала к Самариным, что они уже зарегистрировали свой брак в загсе и
что вот несколько дней подряд к ним ходят поздравители, и как они ни
старались избежать свадьбы, ничего из этого не вышло. Дробными
частями свадебные торжества происходят каждый вечер, в том числе и в тот день
состоится гулянка, и если Генка приведет иностранца, ничего страшного
не будет, напротив, очень хорошо.
Узнав об этом, Сабуров раскопал в своем багаже альбом
превосходных репродукций, лучших произведений живописи из музеев и частных
собраний. Венеции, тщательно, как и полагается в таких случаях, оделся, и
они вместе с Генкой отправились к Самариным.
В тот вечер у Самариных собралась родня молодых — родители
Феликса, родители Леры — да самые близкие друзья родителей, всего
человек с двадцать. Подарок Сабурова был принят радостно, Лера поцеловала
«синьора Карадонну» в щеку, сказав, что они старые знакомые. Его
усадили на почетное место за столом. Справа и слева от него располагались
166
Всеволод Кочетов •
крепкие здоровяки его возраста, видимо, любители не столько выпить
(«печень, сердце, давление»), сколько поговорить.
— Знаю вас, итальянцев, — сказал один с широкой улыбкой. — Под
Сталинградом встречались, на Дону.
— Я там не бывал,— счел необходимым сказать Сабуров.
— Это эпизод, — согласился сосед. — А студень у вас в Италии едят?
Мы считаем его чисто русским кушаньем.
— Да,— сказал Сабуров,— вы, очевидно, правы. Заливные делают
во многих странах, а вот такой холодец...
— Ого, вы даже тонкости русского языка знаете! — восхитился
сосед.— Холодец!
— Да, знаю. Холодец. Так вот, такого холодца нигде не встречал,
кроме как в России, а если видывал его и за рубежами, то тоже
только у ваших русских.
— Встречались с нашими эмигрантами-то?
— Случалось, конечно.
— Ну и как они? Все еще точат на нас зубы? Или одряхлели?
— Старые уж не точат. Точить нечего. Жалеют, жалеют, что
удрали из России. А молодые... Из тех, знаете, которые во время войны ушли...
— Это же недобитки. Это понятно.
— Что значит — недобитки?
— Вражье. Кулачье. Мелкая дрянь. Я слышал, княгиня одна русская
была в героях французского Сопротивления.
— Да, была. Вика Оболенская. Ее гитлеровцы казнили. Отрубили в
берлинской тюрьме голову.
— Ну вот. А кулак, брат ты мой, н£ это неспособен. У него даже и
показного благородства нет. Одна подлость.
— Вы, пожалуй, правы,— согласился Сабуров.— Очень
нечистоплотный народец эти неоэмигранты.
Кто-то за столом затеял речь о том, как, мол, здорово, что Лерочка
снова в Советском Союзе, на родине, и что еще не настали времена,
когда человеку независимо от его национальности, от принадлежности к
тому или иному народу на земле всюду будет дом родной.
Худенький старичок, как сказали — дедушка Леры, тихо, но очень
внятно утверждал:
— Русский человек должен жить в России, а если Россия его не
устраивает, он не русский человек. Россия!.. Да ты выйди на берег русской
речки, на холмик подымись, взгляни окрест — луга какие, поля, березки,
а воздух-то, воздух — прозрачный, голубой, в ушах от него туго, аж
звенит! Леса вдали. Облачка над ними. Белые на голубом. Краски мягкие,
тонкие, по глазам не хлещут. Сядешь и засмотришься. И подумаешь.
Об истории нашей подумаешь.
Он говорил об истории России, хорошо говорил, красочно, образно, и
перед Сабуровым медленно проплывали картины давней, нездешней Руси,
которая как бы и ушла в невозвратное, но связи с ней, минувшей, у
новой России не оборвались. И, может быть, потому, что, став совсем другой,
Россия не отказалась все же от древних ценностей своих, не порвала с
ними, она вот так могуча ныне духом и своими начинаниями. Сабурову
захотелось сказать тост. Спросив у соседа, как имя и отчество Лериного
деда, он назвал его по имени и отчеству и заговорил:
— Вы сказали чудесную речь. Мне, иностранцу, она напомнила
многое. У меня есть друг, русский человек. Он тоже живет в Италии, и мы с
ним видимся иной раз. Родители увезли его из России маленьким. В годы
революции. Они думали спастись от нее на чужбине. Своего сына они
воспитывали в ненависти к ней. Вернее, они учили его раздваиваться:
любить Россию и ненавидеть ее народ. Получилось плохо. Во имя такой
странной любви к России без народа он, этот мальчик, когда вырос, пошел
вместе с немцами отвоевывать себе Россию от ее народа. А оказывается,
• Чего же ты хочешь?
167
без народа страна не существует. Она существует только с народом и для
народа, для того, кто ей верен, кто никогда ей не изменит. Кто изменил
России, пусть никогда ее своей родиной не называет, потому что это
неправда. Некоторые из тех, кто бросил ее в трудные годы, кто проклял ее,
под старость рвутся обратно: хотя бы, мол, умереть на родной земле. Но
умереть на этой земле — это совсем не то, что жить на ней, и они не
родину находят таким образом, а всего лишь могилу. За вашу замечательную
Россию! За вашу! Я бы с радостью сказал: «И за мою, за нашу»,— но она.
вы сами знаете, не моя. За вашу!
Леру насторожил тост синьора Карадонна. Она вспоминала разговор с
владельцем виллы «Аркадия» там, в Вариготте, она вслушивалась в его
чистую, правильную русскую речь, она видела, как дрожали его пальцы,
в которых ом держал бокал с вином, и ее стала мучить мысль: кто же он
такой, почему так, почти со слезами на глазах, говорит о России?
— Феликс, ты знаешь, он русский,— шепнула она Феликсу.—
Честное слово, русский. И тот мальчик, увезенный родителями, никакой не его
приятель, а он сам.
— Не может быть,— тоже шепотом ответил Феликс.— Тогда почему
он так свободно держится, не боится, что его разоблачат?
— Потому, что он хороший человек и об этом не думает. Мне его
очень жалко.
В тот вечер Сабуров наконец-то увидел тех, кто разбил гитлеровскую
военную машину. Друзья Самариных почти все были на фронте. Каждый
готов был рассказывать об этом хоть всю ночь. Отец Леры, бывший
военный хирург, пришел для торжественного случая при всех орденах.
Сабурову разъясняли, что каждый орден собой представляет, за что его дают. Ему
понравился и орден Ленина, и орден Красного Знамени, и орден Красной
Звезды. Они были сделаны с большим вкусом. Пришлось и отцу Феликса
доставать шкатулку с орденами. За каждым из этих знаков,
изготовленных из платины, золота и серебра, стояли бои, атаки, раны, организация
производства оружия, боеприпасов, ночи без сна, годы нечеловеческого
напряжения. И в конце концов — победа.
Гости расходились среди ночи. Сабуров как пришел, так и ушел в
сопровождении Генки.
— Еще раз говорю тебе, Геннадий,— сказал он ему, прощаясь возле
гостиницы,— непременно ответь себе на вопрос: чего ты хочешь?
— Стараюсь, господин профессор,— серьезно ответил Генка.—
Ничего пока толком не скажу. Но стараюсь.
46
В Шереметьевском аэропорту Москвы, кроме представителей
учреждений, с которыми была связана группа по своей работе, Сабурова
провожали Генка Зародов и Лера Васильева. Лера просила синьора Карадонна
отвезти синьоре Делии и синьоре Антониони какие:то пустячки из высоко-
ценимого на Западе русского янтаря, передать приветы Чезаре Аквароне,
старому Пьетро, Луиджи, Пеппо, Эммануэле — всем, кого она знала в
Турине. Генка ничего и ни о чем не просил, просто был готов
подтащить чемодан, если надо, постоять в какой-нибудь очереди. Но и
чемоданы таскал кто-то другой и очередей никаких не было, и применения
он себе среди провожающих не находил. Заговаривал лишь время от
времени с Юджином Россом. Но тот уже потерял интерес и к Генке, и к Москве,
и вообще ко всей этой стране, куда Юджина загнали его хозяева. Он
уже был в мыслях далеко от Шереметьева. Он получит деньги в Лондоне и
махнет отдыхать. Куда? В Монако, на Цейлон, во Флориду...
Клауберг не вернулся в Москву. Работу завершали они вдвоем,
Сабуров и Юджин Росс. После отъезда Клауберга и Порции Браун в группе все
было спокойно, тихо, шло по плану. Юджин ни в какие авантюры уже не
168
Всеволод Кочетов •
лез, учтя опыт Порции. Какие у нее были инструкции, он не знал, но ему
было сказано весьма строго, что он обязан был делать свое дело в таких
пределах, чтобы ни в коем случае не скомпрометироваться и не попасть в
число таких иностранцев, которым въездных виз в Советский Союз больше
никогда не дают. Он только зверски напивался каждый вечер и тогда
мучил Сабурова бесконечными разговорами.
Среди толпы провожающих это сделать было нелегко, но Лера
все-таки ухитрилась отвести Сабурова в сторонку и почти в самое ухо спросила:
— Синьор Карадонна, вы не в первый раз в Москве? Вообще в
Советском Союзе?
— Нет, не в первый,— ответил он, помолчав.
— А родились вы «е в России? Если не хотите, можете не отвечать.
Но меня это очень волнует. Вы тогда сказали такой тост...
— Да, я родился в России. Я русский, Лера.
— Но тогда почему же?.. Почему?..
— Невозможно. — Он понял ее. — Я опоздал. Лежать в земле? Не
все ли равно в какой! А жить на этой земле с высоко поднятой головой
я не могу, не имею права. Я ей изменял. Спасибо за участие. — Он пожал
ее руку.
В положенный час самолет поднялся в воздух. Внизу лежали поля,
изрезанные реками и речками, бесконечные леса. В них скрывались селения,
заводы, города и городки. Карта под крылом была зеленой и голубой —
от лесов и воды. Сабурову приходилось летать над многими странами. Они
были раскрашены в другие цвета. Италия, от ее холмов, гор и ущелий,
казалась бурой и лиловой, Германия почти вся была застроена, и всюду
можно было видеть только красную черепицу. Нет, таких красок, мягких и
тонких — старик, дед Леры, прав,— нигде, кроме как в России, не найдешь.
Вот она там, бесконечная, неохватная, огромная. Какой идиот мог вбить
себе в голову, что он может покорить, завоевать эту страну! Она
плыла, плыла, плыла под крыльями самолета. Она уходила в оставленную
даль. И Сабуров понимал, что от него она уходит уже навечно, что новой
встречи с нею никогда больше не будет. От этого сжималось сердце, к
горлу подкатывало, щемило. Юджин Росс возле него давно спал, приоткрыв
рот. Тоже русский, думал о нем Сабуров. Ничтожество, обломок народа,
пыль, разнесенная по свету ветром истории. Как было когда-то и с ним, с
Сабуровым, этот щенок помогает ныне врагам России, прислуживает им, но
он, Сабуров, не эная правды, делал это из той ложной идеи, будто бы
русский народ томится под властью большевиков и что он, идя на восток
локоть о локоть с врагом, выполняет освободительную миссию,
завещанную ему отцом. А этот? Он за деньги вредит родине своих отцов.
Наемник. Ландскнехт. Мразь.
Подумав так, он усмехнулся. До чего же хитроумен человек! Всему,
что касается его самого, он найдет " оправдание. Смотрите, как ловко
отделил себя от этого Росса. Он-де идейный, а тот наемник. На самом
же деле разницы между ними нет никакой. Психологи, может быть, еще
и могут копаться в их душах, история же заниматься этим не будет. Для
истории они оба навсегда, на вечные времена эмигранты и даже, как в
Советском Союзе по сей день говорят, белоэмигранты.
Под самолетом была уже Польша. Потом приблизилась и тоже ушла
Восточная Германия. Потом Западная. Дания. Голландия. А дальше
началось море, а за ним возникли берега Англии,
В Лондоне их встретил Клауберг. Он слетал, оказывается, в Мадрид,
а к возвращению группы, к расчетам с издательством вот подоспел-. Он был
бодр, полон планов, на что-то намекал, подмигивал, говорил, что, видимо,
махнет в Германию, в Ганновер.
Издательство приняло работу группы, специалисты хорошо о ней
отозвались, и Сабуров получил такую сумму денег в английских фунтах, на
какую даже и не рассчитывал.
• Чего же ты хочешь?
169
— Да, заплатили щедро,— сказал Клауберг.— Надо по вашему
русскому обычаю, Петер, спрыснуть успех.
Юджин, получив деньги, тотчас исчез, даже не попрощавшись, а
Порция Браун в издательстве и вовсе не появилась — ни Клауберг, ни
Сабуров не знали, где она, да и не хотели знать. От всей группы они
остались вдвоем, и вдвоем спрыскивали хороший гонорар.
Они сходили в русский ресторан «Ля водка», хозяином которого был
русский, много лет прослуживший поваром в ресторане офицерской
русской вдовы Любы, обобравший ее и открывший это свое заведение. На
эстрадке кривлялись напудренные певцы, с надрывом иополлявшие русские
романсы, драли струны балалаек балалаечники. Это была карикатура на
Россию, на русское, и при виде этого почему-то вспоминался оставшийся в
Москве поэт Богородицкий.
Потом они сидели и в немецком ресторане, ели сосиски с капустой,
пили пиво из гигантских двухлитровых кружек.
— Ну, не жалеешь, что послушался меня, Петер? — сказал в одну
из лирических минут Клауберг. — Не зря я вытащил тебя из твоей глуши?
Ну скажи!
— Нет, не жалею, Уве,— ответил Сабуров.— Хотя тут вот больно.—
Он указал на сердце.
— Не теряй надежд, дружище! — Клауберг пробарабанил
пальцами какой-то боевой марш о пивной столик. — Не все потеряно. Мы еще туда
вернемся. Еще...
— Ты меня неверно понял,— перебил его Сабуров.— Мне больно
потому, что я не с ними.
— Что?!
— То, что слышишь. И если вы,— он надавил на слово «вы»,—
когда-нибудь пойдете туда еще раз, я уже буду не с вами, а против.
Понял, Уве?
— Распропагандировали тебя, Сабуров! — зло сказал Клауберг,
называя его подлинной фамилией.— Раскис. Он, видите ли, будет против
нас! Да ты уже сейчас старые дрова. А что станет с тобой завтра? Мы
вас всех... Мы из вас сделаем св'Шой фарш!
Сабуров поднялся и вышел из ресторана. Он еще день пробыл в
Лондоне, накупая всякой всячины Делии и ребятам, и постарался с Клаубер-
гом больше не встретиться. Все было кончено. Свиной фарш!
И вот снова Вариготта, Лигурийское побережье, голубое, в
жемчужной дымке сентябрьское море. Ничто не изменилось за год на вилле
«Аркадия». Чуть-чуть больше стало морщинок на лице Делии, немножко
подросли ребятки, совсем красавицей стала дочь, уже невеста.
Прошли дни радостей от встречи, дни расспросов о том, что было за
это время там и что было здесь, все улеглось в русло привычной,
размеренной, однообразной жизни. Потекли дни будней.
В один из таких дней Сабуров отправился на автомобиле по своим
любимым местам. Он углубился в ущелье, оставил там автомобиль и
медленно, еще медленнее, чем год назад, поднялся на вершину холма, на
котором встретил тогда Леру Васильеву. Он сел на то место, где сидел в
тот раз, и стал смотреть на далекое море. Где-то вправо по берегу
была Альбенга, затем — дальше — Санремо, а там и те места, в которых
находится, как рассказывает Делия, роскошная вилла бывшего мужа Ле-
ры, Бенито Спада. Влево Савона, Генуя, Специя — то побережье, близ
которого утонул поэт Шелли и где сочиняла свое страшное, полное
глубокого смысла произведение его супруга мисс Мэри Шелли, известное миру,
под названием «Франкенштейн».
В морской дымке плыл большой военный корабль. За ним показался
второй, третий... Тяжелый гул катился над морем. Где-то там был район
учений военно-морского флота Италии. Там же находили себе прибежище
американские корабли.
1/U
Всеволод Кочетов w
Сабуров смотрел вдаль, представлял себе мысленно Леру — и ту,
какой увидел ее здесь, и ту счастливую, какой встретил в Москве.
Подумал о Москве. «Чего же ты хочешь?» — вспомнился ему вопрос, который
он задал там круглолицему, в веснушках, Геннадию. «А ты чего хочешь? —
вдруг спросил он самого себя.— Ну-ка скажи, чего, чего?» «Но я же
спросил так не потому, что сам все знаю. Я спросил так потому, что много
ошибался в своих желаниях. На ошибках же учатся, и если мне уже
учиться нечему, то не хотелось бы, чтобы мои ошибки повторяли другие. Пусть
на них учатся они. Человек обязан знать, чего он хочет».
— Пешеканэ! Пешеканэ! — орали ребятишки, когда Сабуров
вернулся в Вариготту. — Пешеканэ!
— Что, опять акулы? — спросил он у Делии, ставя машину на место.
— В этом году они стали еще крупнее,— сказала она.— Наши
власти хотят воду посыпать от них порошком. Если не поможет порошок,
надо будет ставить железные сетки с электрическим током. Иначе хоть
море закрывай. Вот какие дела, пока ты пропадал где-то.
47
Булатов перечитывал короткое Иино письмо. В нескольких шутливых
словах она сообщала ему о том, что на целых два года уезжает в Индию.
«В Мадрасе есть университет, и я там буду преподавать. Не знаю,
многому ли научатся молодые индусы от меня: мне всегда думалось, что учить
я не способна. Но я-то, несомненно, кое-чему поучусь у их отцов и
дедов. Возможно, что по возвращении вы увидите во мне убежденного йога».
Представив лицо Ии, правильное, с крупным ртом и несколько
суженными, удлиненными глазами, он подумал о том, что, когда кожа ее
приобретет загар под индийским горячим солнцем, Ия станет походить на
красивую индуску, особенно если еще наденет местные одежды — сари.
Было немного грустно от того, что она уезжает, что ее не будет в
Москве, — так бывает каждый раз, когда из круга твоих встреч уходит,
или надолго, или навсегда, хороший, интересный человек. Но было и
радостно за Ию. Ей, молодой, пытливой, беспокойной, это долгое и
нелегкое пребывание в ином, непохожем мире даст много, и она, в свою
очередь, не будет в нем пассивна; напрасно она скромничает: молодые
индусы приобретут совсем неплохую наставницу.
Булатов раздумывал о Инной судьбе, о ее жизни, о том, как с жизнью
Ии пересеклась и его жизнь, о напрасных^ мучительных подозрениях жены
по поводу характера его и Ииных отношений, и жалел о том, что письмо
пришло слишком поздно: оно было брошено в ящик почтового отделения
аэропорта. Ия улетела, она вчера уже вышла в Дели, под опаловое небо
индийской столицы, в котором кружат и кружат черные коршуны, а на
днях будет и в Мадрасе, на берегу теплого Бенгальского залива. Он ее не
проводил, не пожелал ей счастливого пути. Жаль, очень жаль!..
В письме не было об этом ни строки, но Булатов не мог не
понимать истинных причин столь неожиданного и поспешного отъезда Ии
буквально за тридевять земель. Он не знал Ииных разговоров с Липочкой
Свешниковой, он не знал ее долгих размышлений о правомерностях и не-
правомерностях вторжения в чужую жизнь, но он догадывался о чем-то
подобном, и для него было ясно, что если Ия и могла в своем
обескураживающе прямом стиле делать категорические заявления о том, что все
средства хороши, если с их помощью достигают цели, то это только слова, на
деле же она совсем иная.
Телефонный звонок прервал его раздумья над письмом.
— Василий Петрович, простите, пожалуйста,— говорил в трубку
молодой голос.— Это Феликс Самарин. Я долго не решался обратиться к вам.
Но Лера сказала мне, что вы_ Словом, мне очень надо с вами
посоветоваться. Василий-Петрович, не можете ли...
• Чего же ты хочешь?
171
— Давай, Феликс, приезжай, — перебил его Булатов, слыша, как тот
волнуется у телефонной трубки. — Давай. Сейчас же. Жду.
Через полчаса Феликс сидел перед ним в кресле и, бледнея, крутил
в руках свернутую в трубку школьную тетрадь.
— Ну, излагай,— подбодрил его Булатов, бросив взгляд на эту
лиловую трубку и прекрасно понимая, зачем к нему примчался молодой Лерин
муж. Вот так же когда-то, еще до войны, он сам, рабочий авиазавода,
прибежал к прославленному советскому писателю, держа в руках такую
же вот лиловую трубку.— Рассказ, что ли? — спросил он точно так же,
как его спросил тогда писатель. И так же, как тогда он, Булатов,
Феликс вместо ответа только кивнул.— Ну давай, давай сюда! — Он взял
трубку, нагретую рукой Феликса, развернул, разгладил на колене,
прочел название рассказа: «Сладкая жизнь».— Наверно, о том, как одной
молодой особе, уехавшей из Москвы за рубеж, не слишком-то сладко жилось
там, а?
Феликс растерялся.
— Да,— сказал, смущенно улыбаясь.— А вы откуда знаете?
— Да знаю, брат, все знаю. Мой первый рассказ был, ты даже
представить себе не можешь, о чем... О том, как поп порвал с религией, с
церковниками. Это я чего-то такого тогда наслушался или начитался в
газетах.
— И что с тем рассказом было?
— Что? В печку сунул. Один хороший, умный человек посоветовал.
Он сказал: «Ты поп?» «Нет». «У тебя знакомые попы есть?» «Нет». «А
кто твои знакомые, друзья, приятели?» «Рабочие,— говорю.— Ребята по
дому». «Вот о них и напиши. А тогда приходи снова».
— Понял, Василий Петрович. Отдайте тетрадку.
— Не спеши. Я ее все-таки прочту. Сунуть в печку никогда не
поздно. Но вот что учти, дорогой мой. Если тебе вздумалось писать,
пропащий ты человек. Одну тетрадку сунешь в печь, другую, десятую... Но все
равно рука твоя потянется к следующей, к новой — одиннадцатой,
двадцатой... Жена твоя будет на тебя злиться за то, что...
— Лера не будет! Она не такая, Василий Петрович!..
— Да, я понимаю, она особенная. Но ей захочется в театр, в кино,
на Химкинское водохранилище, а ты со своими тетрадками. Друзья тоже
начнут выражать недовольство. Забурел, мол, прячешься. А ты над своими
тетрадками сидишь. Тебя будут бить критики по рукам, по голове, по чему
попало. А ты... Ну скажи: во имя чего ты хочешь пойти на такие муки?
Феликс не ожидал подобного вопроса. Он не находил ответа. Молча
смотрел на Булатова. Но смотрел не растерянно, а с тем самым
упрямством, о котором только что сказал Булатов, когда рука сама собой
тянется к одиннадцатой, к двадцатой тетрадке. По ней бьют, а она, тянется,
тянется.
— Столько всего на свете,— сказал он наконец.— Вот хочется
сказать людям, что ты об этом думаешь. Как расцениваешь то или иное.
— «То или иное»! Попробуй прежде всего рассказать людям о себе.
На твоем поколении величайшая ответственность за судьбу страны, а в
конечном счете за судьбу коммунистического завтра на земле. Вот что ты
думаешь о себе, о своих друзьях, о своих подругах, расскажи. Так ли
живешь сам, так ли живут твои товарищи. Куда вы идете, к чему
стремитесь. Ты прав: столько всего на свете. Но среди этого всего есть
главное. Не трать себя на раздумья о пустяках, на расписывание их на
бумаге. Думай о главном. О цели нашей жизни, о путях к ее достижению.
Мы прокладываем дорогу человечеству. Нам трудно. Но это трудность не
обывателей, а пионеров, разведчиков. Ты меня понимаешь?
— Понимаю, Василий Петрович. Хотя бы потому понимаю, что так
же, как вы, говорит мой отец. На вас, мол, ответственность — не
пропляшите то, что вам передают из рук в руки старшие поколения. Вы уже
172
Всеволод Кочетов •
не мальчики, задумывайтесь о будущем. У вас уже свои дети — у кого
есть, у кого вот-вот будут. О их судьбах подумайте.
— Ну и что, думаете?
— Думаем. На днях Свешниковы вернулись из Пскова. В восторге
оба от поездки. Антонин — он же мне вроде молочного брата — просто
вопит: «Я, дескать, в трех соснах путался, жизни, души народа не знал, я
ему богородиц и страстотерпиц преподносил, а народ не бледно-зеленое,
не синее лицо, а румянец во все щеки! Не святые и не святоши жизнь
творят, а богатыри-труженики».
— Вы у него в мастерской были? — поинтересовался Булатов.
— Нет, Василий Петрович. В Шереметьевском аэропорту позавчера
встретились. Ию Паладьину провожали в Индию.
— Ию? Вы были в аэропорту? —'■ Булатов чиркнул зажигалкой,
чтобы прикурить сигарету.
— Да. Такая мужественная, шутила до последней минуты, но
все-таки прослезилась. Просила поцеловать вас при случае. Я сказал: сама
целуй, когда вернешься.
Зажигалка все горела, неприкуренная сигарета была зажата в
пальцах, Булатов смотрел в глаза Феликсу, но видел не только эти
настороженные глаза. В глазах этих ему виделся мир, в который вступал Феликс.
В том мире были радости, горести, встречи, расставания, была любовь,
были трагические разрывы, был труд — как подневольная лямка для
одних, и труд — как радость, как творчество для других, — было все, из чего
состоит жизнь человека и человечества.
Занятый мыслями, он не заметил, как Феликс, именно и стараясь
сделать это понезаметнеи, взял со стола свою тетрадь, вновь скрутил ее
в трубку и сунул в карман. Чтобы через какой-то срок принести, конечно,
вторую, третью, двадцатую...
•
Публицистика и очерки
Д. КРАМИНОВ
Америка смятения
и раздоров
■ огни во мраке
Поздним вечером, возвращаясь в Ва-
■ 'шингтон из Александрии — города,
расположенного по ту сторону реки
Потомак, мы обратили внимание на странные
огни вокруг памятника Джорджу
Вашингтону. Большое и черное пространство было
испещрено желтовато-светлыми пятнами,
слишком низкими, чтобы быть
электрическими фонарями, и слишком
неподвижными для костров. Да и откуда появиться
кострам в центре столицы, на прославленной
поляне, которая одинаково хорошо видна
как из Белого дома, так и из Капитолия?
Но все же это были огни, и они четко
обрисовывали черные фигуры сидящих и
стоящих вокруг людей.
—- Что там такое? Неужели цыгане
разбили табор у «карандаша»?
Высокий, тонкий и заостренный наверху
монумент очень похож на карандаш, и это
сходство укрепило за ним такое название.
Сосед — советский «вашингтонец» —
сбавил скорость машины и, посмотрев в
направлении белевшего во мраке
«карандаша», ответил:
— В Штатах нет кочующих цыган.
— Тогда кто же там?
— Студенты... В отелях им не удалось
поселиться, все места заняты почетными
гостями или участниками парада, вот они
и обосновались здесь.
— Студенты? Которых мы сегодня
видели?
f — Они самые.
Днем мы действительно около часа
наблюдали за необыкновенным шествием.
Начало см. в № 10.
Несколько сот молодых людей двигались по
Пенсильвания-авеню, главной улице,
ведущей от Капитолийского холма к Белому
дому. Одетые с потрясающей пестротой и
неряшливостью, хотя и достаточно тепло,
волосатые и небритые, они всем своим
видом выказывали пренебрежение к
чиновной опрятности и одноликости обитателей
столицы. С криками и смехом они шагали от
Белого дома к Капитолию, в направлении,
прямо противоположном обычным парадам,
которые устраиваются по случаю
вступления президента в должность. Поэтому и
свое шествие они назвали «контрпарадом».
Впереди «контрпарада» тащили свинью,
ту самую, которую летом прошлого года в
Чикаго пытались впустить в зал, где
проходил съезд демократической партии,
выбиравший своего кандидата в президенты.
Недовольные тем, что съезд остановил
выбор на вице-президенте Хэмфри, студенты
предлагали вместо него... свинью,
протестуя таким образом против кандидатуры
Хэмфри, которого они наравне с
Джонсоном считали виновником войны во
Вьетнаме, как и всех трудностей и
несправедливостей внутри страны. Их дурашливая
затея привела к жестокому столкновению с
чикагской полицией, на помощь которой
пришли войска. Потасовка, начавшаяся
вслед за этой мальчишеской выходкой,
закончилась кровавой баней: многие
студенты были избиты, даже изувечены, другие
брошены в тюрьму. Это вызвало
возмущение по всей стране и восстановило
молодых избирателей против демократической
партии и ее кандидата. И они стали еще
активнее бороться против
оскандалившейся и ненавистной им политики, против
порядка, породившего эту политику.
174
Д. Краминов Ш
Теперь они выражали свой протест
против «смены караула» с тем же
мальчишеским легкомыслием и дурашливостью.
Свинья визжала и вырывалась, студенты
гонялись за ней, поднимая страшный
ералаш. Водворив ее на место впереди
«контрпарада», они начинали выкрикивать
лозунги и поднимали над головами плакаты с
призывами, где осуждение войны и военной
политики Вашингтона сочеталось с разной
чепухой, которую можно было объяснить
только желанием шокировать обывателя,
бросить вызов узаконенной морали.
Полисмены столицы сопровождали
шествие, подобно почетному эскорту: они шли
по обоим краям мостовой плотным строем
в затылок друг другу. Летучие
полицейские группы на автомашинах прятались в
соседних улицах, готовые ринуться на
студентов, как только те «нарушат» порядок.
Полицейские посты густели по мере
приближения к Капитолию:1 они виднелись на
склоне лужайки, стояли на двойной
лестнице, которая спускается от здания
конгресса в сторону Пенсильвания-авеню.
Дороги, ведущие к Капитолию, были
перекрыты, парк перед ним закрыт и оцеплен.
Власти боялись, что в эти торжественные
дни столица вдруг станет ареной нового
побоища между полицией и молодежью,
поэтому, не осмелившись запретить
«контрпарад» — студенты грозились устроить его
любой ценой,— приняли все меры
предосторожности, чтобы удержать шествие под
контролем.
Шумный, но добродушный «контрпарад»
закончился мирно. Свинья сбежала где-то
на полпути, и ребята, погонявшись за ней,
вернулись в свои ряды. Добравшись до
Капитолийского холма — к конгрессу, откуда
начинается обычный парад, их не
подпустили,— студенты распались на группы:
одни растворились на улицах центра
города, другие вернулись к памятнику
Вашингтона, где им разрешили расположиться.
Мост через Потомак ремонтировали,
малиновые огни ограждения осыпали его
перила, и, только миновав его, мы
остановились и вышли из машины. Когда на
дороге за нашей спиной утихал шум машин,
мы могли слышать отдаленный гомон:
студенты, как всегда и везде, горячились.
В тот вечер мы не подошли к ним: было
поздно, да и не было у нас уверенности,
что студенты захотят разговаривать ночью
с непрошеными гостями. Удаляясь, мы
несколько раз оглянулись на огни, которые
продолжали светиться во мраке. Позже мы
узнали, что это были обогреватели и
фонари, развешанные на треножниках над
самой землей и питавшиеся током
переносной динамо-машины.
На другой день, занятые церемонией
вступления в должность нового
президента, его речью, а затем парадом, мы то
слышали тревожные рассказы о
«беспорядках», устроенных студентами в городе,
то видели издали, с нашей трибуны
напротив Белого дома, схватку между полицией
и студентами, пытавшимися прорваться к
трибунам. Вечером, оказавшись в районе
Белого дома, мы вновь увидели дальние
огни во мраке, который окружал белевший
во тьме монумент. И хотя нам хотелось
поговорить с ребятами, мы не решились
приблизиться к ним: после схватки с
полицией около сотни студентов было
арестовано, еще больше избито — они едва ли
расположены беседовать с кем бы то ни было,
а особенно с журналистами. В течение
многих месяцев американская печать
провокационно расписывала выступления и борьбу
студентов такими отталкивающе черными
красками, что обыватель скрежетал
зубами, сжимал кулажи или ожесточенно
плевался, видя в них взбесившихся с жируй
помешанных на сексе молодых людей,
которые желали разрушить нынешний
порядок назло своим родителям, выступили
против войны во Вьетнаме, чтобы увильнуть
от военной службы, и т. п.
Лишь через день, возвращаясь с
Арлингтонского кладбища, после визита на могилы
президента Джона Кеннеди, убитого в
Далласе осенью 1963 года, и сенатора Роберта
Кеннеди, убитого в Лос-Анджелесе весной
1968 года,— такой визит считается для
иностранных гостей почти обязательным,—
мы остановили машину напротив
«карандаша» и подошли к студентам, которые,
судя по всему, готовились свернуть
импровизированный лагерь, чтобы разъехаться
по своим университетским городкам.
Вероятно, в те дни многие с укором или
недоумением смотрели на них и
расспрашивали, зачем они тут и что намерены делать
дальше, поэтому студенты, принявшие нас
за праздных туристов, даже не
полюбопытствовали, кто с ними разговаривает.
Высокий парень в замшевой куртке с бахромой
на груди и локтях и в таких же штанах с
бахромой вдоль швов, добровольно и
самовольно взявший на себя роль «споксмена»
(человека, говорящего от чьего-то имени)
маленькой группки студентов, которая
окружила нас, охотно и бойко отвечал на
вопросы, лишь изредка задумываясь и
опуская голову. Тогда его густые черные
волосы, свисавшие до плеч и закрывавшие
щеки, смыкались над его лицом, так что
был виден только длинный и прямой
хрящеватый нос. Мы поинтересовались, зачем
студенты собрались в столице.
— Чтобы напомнить о себе... И о том,
что мы недовольны тем, что было, что есть
и что будет.
— Ого! Что было, что есть и что бу-
# Америка смятения и раздоров
175
дет... А вы не думаете, что это слишком
много?
— Нет, не думаем... Нам не нравится,
что делается тут, в нашей стране, как не
нравится и то, что делается за ее
пределами. И мы не согласны ни с кем и ни с
чем, что бы ни делалось и ни говорилось.
— Но, конечно, хотите, чтобы другие
соглашались с тем, что делаете и
говорите вы?
— Это нас тоже не интересует... Мы
знаем, что нас не понимали и не
понимают и, наверно, никогда не будут понимать.
— Вы не думаете, что это опять
слишком много?
— Вам все — слишком много,—
возразил, раздражаясь, парень и отбросил
обеими руками волосы, которые прикрывали
его глаза.— Вам все, что касается нас,
слишком много...
— Все-таки, может быть, вы скажете,
чего хотите?
— Мы ничего не хотим.
— Тогда, может быть, вы скажете, что
вам не нравится?
— Нам все не нравится, а больше
всего не нравится лицемерие.
— Чье лицемерие? Какое лицемерие?
— Лицемерие всех и во всем.
— Например?
— Ах, вы хотите примеры? — Студент
саркастически улыбнулся и посмотрел на
своих друзей, стоявших вокруг, посмотрел
многозначительно, точно говоря: «Ну, и
всыплю же я им сейчас перцу!»— Вы
хотите примеры? Например, наше «чудесное»
богатство... Нет страны богаче Штатов,
восхищаются все и везде, а в этой богатой
стране двадцать пять, а может быть,
тридцать пять миллионов человек живут
впроголодь. Например, демократия... Каждый
может стать президентом этой страны, но
далее пытаться стать им могут только
люди, имеющие многие миллионы долларов
или друзей, имеющих эти миллионы.
Например, свобода печати... Каждый может
печатать, что ему хочется, но чтобы
начать издавать газету, нужно по крайней
мере десять миллионов долларов.
Например, наше миролюбие... Из двадцати трех
послевоенных лет мы пятнадцать лет
воюем, наши общие потери приближаются
к потерям второй мировой войны... В
качестве особого доказательства нашего
«миролюбия» мы держим почти полтора
миллиона наших войск за пределами Штатов...
Студент остановился и поглядел на нас
в упор, будто спрашивал: «Хотите еще
примеров или достаточно?»
— Вы считаете это лицемерием?
— А что же это такое? Все видят, все
знают, но не осмеливаются осуждать,
потому что этот порядок они создали сами и
несут за него ответственность.
— Вы осуждаете этот порядок потому,
что непричастны к его созданию?
— Мы не хотим, чтобы этот порядок
достался нам в наследство.
— А какого порядка вы хотите?
Парень снова опустил голову, спрятав
лицо под сомкнувшимися волосами. Потом,
подняв голову и отбросив волосы на
плечи, ответил:
— Только не такого!
Мы не стали настаивать на более
определенном ответе: подозревали, что студент
не знал его. Широкое и бурное
студенческое движение, захватившее почти все
американские университеты и более двух
миллионов студентов, не имело до сих пор
ни четкой программы, ни ясной цели.
Студенты, как уверяли нас многочисленные
собеседники — среди них были
профессора из «аристократических» университетов
Гарварда и Беркли,— хорошо знают свои
«против» и оч"ень туманно представляют
свои «за». Иными словами, студенты
недовольны нынешней общественной системой
в США и готовы бороться против нее, но
пока не видят — да и не хотят видеть! —
никакой другой системы, которая могла
заменить опостылевшее им
«потребительское общество», как они именуют
буржуазный строй. Их конкретные требования,
помимо узкоуниверситетских, социально
значимы: прекращение войны во Вьетнаме,
полное равноправие рас, ликвидация
бедности, реальная демократия, при которой
исход выборов решался бы не деньгами, а
волей людей. Неудача «их» кандидата в
президенты Юджина Маккарти,
отвергнутого съездом демократической партии,
несмотря на восторженную поддержку
молодежи и симпатии населения, вызвала
у студентов не только горечь, но и
возмущение американской демократией,
которое прорвалось наружу в попытке
«выдвинуть» в президенты... свинью и
завершилось кровавой схваткой в Чикаго.
В последние месяцы в студенческой
борьбе, которая все еще носит невероятно
сложный и противоречивый характер,
появился новый и очень важный элемент:
студенты выступили против давней и
выгодной кое-кому связи университетов с
военщиной США, против того, что они
назвали «военно-университетским
комплексом». Как и во многих других
выступлениях, они и тут получили поддержку части
профессорско-преподавательского состава,
также не пожелавшего быть пособником
«военно-промышленного комплекса»,
корыстно заинтересованного в продолжении
гонки вооружений. В университетских
лабораториях создавались и создаются самые
сложные и самые губительные средства
массового уничтожения: ядерное,
химическое и бактериологическое оружие. Пента-
176
Д. Краминов (
гон, черпающий большой рукой из
государственной казны, до сих пор щедро
награждал университеты, выдав им в
последнем финансовом году 2,2 миллиарда
долларов на эти цели.
Движение против «
военно-университетского комплекса» охватило многие
университеты с быстротой лесного пожара и
вызвало резкое ожесточение и без того острой
борьбы в них. Те, кто зарабатывал на
этих «заказах смерти», требуют
продолжения военных исследований и
изобретений, ссылаясь на «святой долг»
заботиться- о безопасности страны, другие
решительно отвергают позорное подчинение
университетов Пентагону и военщине
вообще. Они видят в этом одно из
опаснейших проявлений милитаризации как
науки и ученых, так и американской высшей
школы, что делает студентов активной
частью наиболее отвратительной стороны
того порядка, который они осуждают.
Почти все, с кем нам приходилось
встречаться, говорили о положении в
университетах США взволнованно: у многих там
были дети, племянники, внуки, словом, очень
близкие люди. Возникавшие там
беспорядки угнетали одних, беспокоили других,
вызывали сильное раздражение у третьих.
Миллионы молодых людей, которые
обучаются сейчас в высшей школе США,— это
огромная сила, и нынешнее общество
возлагало на эту силу особые надежды: ведь
это его гвардия! И вдруг эта гвардия
пришла в возбуждение, которое все время
возрастает, грозя превратиться в огромный
бунт. Есть от чего разволноваться!
Социологи и психологи бросились искать
объяснение этому неожиданному повороту
в поведении молодого поколения, которое
совсем недавно называли безмолвным
поколением. Нашлись люди, склонные к
доносам; они, «вдохновленные» щедрой
полицейской мздой, немедленно
«обнаружили» иностранное влияние и даже
«открыли» источники финансирования
студенческих беспорядков далеко за пределами
Америки. Другие занялись
психологическими поисками вечных противоречий
между отцами и детьми, пытаясь объяснить
все разрывом или даже «пропастью»
между поколениями. Третьи договорились до
того, что молодое поколение-де восстает
против всесилия машин в нынешнем
обществе, которые не оставляют человеку
места в жизни, делают его простым
придатком к ним. Нашлись умники, которые
уподобили нынешних студентов темным
луддитам, которые на заре промышленного
развития разрушали машины, отнимавшие
у них работу.
— Все это чепуха,— сказал мой давний
американский друг, которому я рассказал
о беседах а «учеными мужами», по-разному
объяснявшими студенческие волнения.-
Дело и проще и сложнее. Техническая ре
волюция, вытесняя простого рабочего, тре
бует огромной массы высококвалифициро
ванных людей, то есть интеллигенции, и
чтобы создать ее, нашему правящему клас
су пришлось вовлечь в высшую школу н
только своих детей, детей интеллигенции i
других средних слоев, но и детей рабочи:
и фермеров. Социальный состав студенчест
ва, да и расовый тоже, в последние десят
лет сильно изменился. Изменились и на
строения студентов, их взгляд на капитали
стическое общество, которое готовит из ни:
своих верноподданных. Эти взгляды и на
строения далеко не одинаковы. Молодая си
ла, собранная в наших университетах, на
ходит самый неожиданный выход. Одни пы
таются очернить эту силу, чтобы изолиро
вать ее от народа, другие — сломить i
подчинить. Но, как известно, каждое дей
ствие рождает противодействие, и есте
ственно ожидать, что борьба будет обост
ряться...
Его предсказание сбылось неожиданн'
быстро: попытки властей сломить и пода
вить студентов встретили ожесточенное со
противление. Волна студенческих демон
страций и митингов протеста прокатыва
лась по стране. За митингами часто следо
вали захваты студентами университетски?
зданий. Они как бы говорили: «Это наше
и мы тут хозяева». Эти захваты
сопровождались иногда насилиями, а студенты Кор
нельского университета даже
вооружились пистолетами и ружьями, чтобы от
стоять захваченное здание. Властям при
шлось вызывать из соседнего гор-ода поли
цейское подкрепление.
Разразилось настоящее сражение междч
студентами Калифорнийского университете
в Беркли и полицией, в помощь которой
губернатор Рейган бросил почти две с
половиной тысячи национальных гвардейцев
В столкновениях, которые продолжалиы
несколько дней, был один убитый, а
серьезно раненных — более ста, число
арестованных превысило восемьсот человек.
Более трех тысяч студентов были окружены
частями национальной гвардии и полиции
на одной из площадей университетского
городка, после чего полицейский вертолет
забросал площадь газовыми гранатами. Га;'»,
который до сих пор использовался
американской армией только против бойцов
Армии освобождения в Южном Вьетнаме—его
выдавали за безобидный слезоточивый
газ,— вызвал у жертв не только слезы, но
и моментальное острое расстройство
желудка, рвоту и нестерпимый зуд.
Просочившись в соседний госпиталь, газ вызвал у
больных конвульсии.
Части национальной гвардии и полиция
применили газ и автоматы, чтобы подавить
9 Америка смятения и раздоров
студентов Северо-Каролинского
университета в Гринборо.
За шесть месяцев в стране произошло
более двух тысяч столкновений,
выступлений и митингов студентов, их число
продолжает расти. Сообщения о положении в
университетах США все больше
напоминают фронтовые сводки: сражения, убитые,
раненые.«
■ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ УЛИЦА
В Вашингтоне мы жили в дрянном,
хотя и .дорогом отеле «Амбассадор», у
которого было лишь то преимущество, что он
находился недалеко от Белого дома и
делового центра города. Однако наши
вашингтонские знакомые, спросив, где мы
остановились, и услышав ответ, удивленно
поднимали брови и восклицали:
— О! На Четырнадцатой улице!
— Да... А что особенного?
Собеседники тушевались, как тушуется
человек, чуть не выболтавший нечаянно
семейную тайну, потом осторожно
спрашивали:
— А вы ее уже видели, улицу то есть?
— Конечно... Мы живем на ней.
— Вы ее всю видели?
— Почти всю... А что?
— Ужасно, не так ли?
— Что ужасно?
— Ну, все, что там...
— А что там?
Можно было и дальше разыгрывать
простачков, не понимающих ни удивления, ни
тревоги, которая слышалась в вопросах, и
иногда мы так и делали. Но чаще просто
кивали головой: да, видели, да, это ужасно...
Нас повезли по Четырнадцатой улице в
первый же день приезда в столицу и потом
возили всякий раз, как только менялся
гид: каждый считал своим долгом показать
сначала Четырнадцатую улицу.
До весны прошлого года она почти ничем
не отличалась от соседних — Пятнадцатой
и Тринадцатой — улиц. Начинаясь от
Пенсильвания-авеню, она тянется на
несколько километров. Высокие и
представительные вначале, дома постепенно понижаются
и как бы сбрасывают налет солидности,
шикарные магазины сменяются
лавчонками, ночные клубы и бары — дымными
пивнушками, дорогие рестораны—
харчевнями. Ближе к окраине улица снова
становится респектабельной: вместо кирпично-
грязных пяти-шестиэтажных домов с
унылыми рядами квадратных окошек
появляются двухэтажные особняки с лужайками,
цветочными клумбами под изящными
балконами и высокими, всегда
занавешенными окнами. (Окраины больших городов
давно стали местом проживания наиболее
обеспеченных слоев американского
населения — чем дальше от дымного и шумного
центра, тем богаче жильцы.) И ее
обитатели похожи на своих соседей так же, как
сами улицы: респектабельные дома и
особняки заселены белыми с тугими
кошельками и толстыми чековыми книжками, кир-
пично-грязные блоки переполнены
чернолицей беднотой, и она столь
многочисленна, что в любое время суток тут можно
видеть еотни людей, которые бредут
неведомо куда, стоят, подпирая стены,
сидят на ступеньках крылец в какой-то
отрешенности: им нечего делать и не о чем
говорить. На Четырнадцатую улицу
обращали внимания не больше, чем на другие, в
общем-то бесцветные и однообразные
вашингтонские улицы.
И вдруг за несколько апрельских дней
1968 года, после злодейского убийства в
Мемфисе негритянского лидера пастора
Мартина Лютера Кинга, Четырнадцатая
улица приобрела почти мировую
известность: на ней разыгралось знаменитое
сражение между негритянским населением
столицы и полицией, на помощь которой
были брошены войска. Это сражение не было
столь кровавым, как в Ньюарке, где за пять
дней уличных боев между безоружными
неграми и вооруженными до зубов «силами
порядка» было убито двадцать шесть
человек и ранено свыше тысячи, или столь
разрушительным, как в Лос-Анджелесе, где
были уничтожены целые кварталы. Тем но
менее оно было страшно своим крайним
ожесточением. На выстрелы полицейских
и солдат вашингтонские негры ответили
самым древним и самым сильным оружием
безоружных, тем, что у нас зовется
«красным петухом». Они стали жечь на
Четырнадцатой улице дом за домом, лавку за
лавкой, пивную за пивной. Дым пожарищ
закрыл столицу, и любители истории
отметили, что Вашингтон горит второй раз:
первый раз его сожгли английские моряки,
чтобы поставить на колени «мятежников»-
американцев, сбросивших иго британской
короны и провозгласивших независимость;
теперь столицу жгли ее коренные
жители — три четверти населения
Вашингтона — негры, которых нынешние власти
также объявили мятежниками.
Дым пожаров рассеялся, но пожарища
остались. Черные, опаленные огнем коробки
домов с еще более черными глазницами
пустых окон все еще стоят в середине
Четырнадцатой улицы, лавки с
опустошенным, точно вывернутым нутром смотрят
на мостовую выбитыми витринами, от
которых сохранились только большие
поржавевшие металлические рамы. Квартал
за кварталом торчат по обе стороны улицы
черные мертвые дома, и никто не пытается
оживить их — отремонтировать и заселить
12. «Октябрь» № 11.
Д. Краминов •
вновь. Их владельцы либо слишком бедны,
чтобы взяться за это,— ремонт требует
больших денег (ущерб оценен в 57
миллионов долларов), либо слишком напуганы,
чтобы вернуться сюда. Лишь десяток или
полтора фанерных заплат желтеют там, где
было когда-то окно или витрина, да
несколько листов белой жести,
перекрещенной железными полосами, закрывают
провалы, оставленные выгоревшими или
сорванными с петель дверями.
Но улица тут не мертва. Она живет
невидимой для посторонних жизнью, и
внимательный взгляд на опаленные стены и
заборы откроет, что эта жизнь пропитана
горечью и ожесточением. Светлые фанерные
заплаты исписаны густо-черными угрозами
вернуться и рассчитаться с обидчиками,
жестокость которых не забыта и не
прощена. На черных стенах — белые буквы, но
слова те же — угрожающие. Они же и на
маленьких самодельных плакатиках, ярко
белеющих на обуглившихся столбах и
остатках заборов. Страшные угрозы,
продиктованные ненавистью и жаждой мести и
написанные, вероятно, сразу после кровавой
схватки, заметно поблекли: время
обесцветило краски и, наверно, ослабило чувства.
И теперь рядом с недавним требованием:
«Повесить Рея!» (убийцу Мартина Лютера
Кинга) и «Вся власть—«Черной силе»?»
(националистической негритянской
организации) — появились необычные призывы:
«Пусть большие деньги окажут помощь
негритянскому бизнесу!» и «Богатая церковь
должна поделиться с бедными неграми!».
Черные силуэты похожего на собаку зверя
с длинным хвостом (видимо, символ
воинственной организации «Черные пантеры»)
соседствовали с черными, явно
негритянскими профилями, под которыми значилось:
«Черное — это прекрасно!»
Наши американские собеседники уныло
вздыхают или пожимают плечами: для них
Четырнадцатая улица — символ тупика
смятения и раздоров, в котором оказалась
страна, а вместе с ней и все они. Им
хотелось услышать чужое мнение, потому что
они все еще надеялись, что, может быть,
кто-нибудь вдруг найдет выход из этого
беспросветного тупика или обнаружит по
крайней мере огонек во мраке, который
укажет отчаявшемуся путнику направление.
В те дни в столице немало говорили о
новом подходе нового президента к этой
«проклятой проблеме». В своей первой речи
Никсон пообещал государственную помощь
негритянскому бизнесу путем
предоставления правительственных заказов, которые
щедро финансируются казной. Эти заказы
помогли многим пронырливым дельцам
стать миллионерами, миллионерам —
мультимиллионерами, сказочно обогатили
многие военно-промышленные корпорации,
ставшие своего рода государствами в
государстве. Правительство намеревалось — и
президент достаточно прозрачно намекнул
на это — помочь негритянскому бизнесу
вырасти и расшириться при условии,
однако, что этот бизнес возьмет на себя
заботы по обеспечению негритянского
населения работой и подъему его благосостояния.
Многие считали этот шаг дальновидным.
— Понимаете,— говорил мне один из
поклонников нового президента, с которым
мы встретились на вашингтонской «пар-
ти», вечеринке, где мало едят, но много
пьют и говорят,— понимаете, это очень
умное решение, очень... Оно позволяет
бросить эту «горячую картофелину» в
негритянские руки. Во-первых, негр-делец
скорее найдет общий язык с негром-рабочим
или служащим, чем белый, а не найдет —
пусть отвечает сам, это не наше дело.
Во-вторых, негритянский бизнес устранит
тот постоянный возбудитель зависти и
ненависти, который разрывает наше общество.
— Что это за ежедневный возбудитель
зависти и ненависти?
Собеседник нацелил указательный палец
в мою грудь.
— Понимаете, негров раздражает, что
на заводах, например, или в оффисах
самая высокооплачиваемая работа достается
белым, а получка негра вдвое меньше
получки белого человека. Они не понимают,
что белые более квалифицированны, что
они больше праизводят, поэтому и больше
получают. На негритянских предприятиях
или в оффисах одни так же будут получать
больше, чем другие, потому что будут
делать больше, и тогда все увидят, что
дело не в цвете кожи, в чем сейчас они
видят корень зла, а в умении или неумении
работать. У них, конечно, останется
зависть, но не будет ненависти, и они
постараются тянуться за теми, кто зарабатывает
больше. Понимаете, как это важно, чтобы
негры занимались неграми?
— Хитрый ход,— сказал сосед, до сих
пор молча стоявший рядом со стаканом
виски в руках.— Хитрый, но не надежный...
Поклонник нового президента обернулся.
— Почему же не надежный?
— Потому что бизнес на пустом месте
не создашь,— ответил сосед,— а наш
глубокий Юг — это пустое место. Кроме
Бирмингема, Битлиема и нескольких других
городов, где есть кое-какая промышленность,
там везде плантации, плантации... А с
плантаций ныне только увольняют рабочих.
— Однако статистика говорит, что
большая часть белых, покинувших
плантации, нашла место в городах,— возразил
поклонник президента.— О них позаботился
бизнес, он создал в последнее
двадцатилетие более шести миллионов рабочих мест.
И не без помощи правительства... Почему
# Америка смятения и раздоров
179
бы теперь негритянскому бизнесу не
заняться неграми, которые вынуждены
покинуть плантации? И замысел
правительства...
— Замысел правительства,— перебил
его сосед,— не учитывает того, что негры
не могут делать ничего иного, как только
собирать хлопок, и дети их тоже не могут
делать ничего иного, как только помогать
старшим собирать хлопок.
— Белые тоже не могли делать ничего
иного.
— Белые были все же лучше
образованны, а ведь даже молодое поколение
негров редко посещало школу больше двух-
трех, максимум четырех лет. Их запас
знаний столь ничтожен, что им трудно освоить
даже простенькую профессию, а в
простеньких профессиях ныне не нуждается ни
белый, ни негритянский бизнес. И тому и
другому нужен квалифицированный
рабочий. Вот и получается заколдованный
круг.
— Послушать вас, так из этого
заколдованного круга нет и даже не может быть
никакого выхода,— сухо заметил
поклонник президента.
— Выход, наверно, есть,— возразил
сосед.— Даже безусловно есть, только он не
столь прост, как это кажется кое-кому тут,
в столице.
— Мы не думаем, что он прост,— уже
распаляясь, отпарировал поклонник
президента.
И, забыв об иностранном госте, они
начали спор, один из тех жарких и
бесконечных споров, которые нам часто доводилось
слышать в Штатах. У кого что болит, тот
о том и говорит... Самой больной и
болезненной проблемой в Америке,
затрагивающей всех американцев, стало отношение
между белым и цветным населением. Все
видят и понимают, что постоянное и неукт
лонное ухудшение этих отношений
лихорадит Штаты и все чаще вырывается наружу
в ожесточенных и разрушительных
схватках то в одном, то в другом конце страны,
и ни у кого не было сомнений, что эти
схватки будут продолжаться, гадания шли
только о том, в каких районах и городах
они будут сильнее, в каких слабее. У
«белых интеллектуалов», как зовут там
представителей интеллигенции, с которыми нам
приходилось чаще всего встречаться, росло
опасение, что ожесточенность, а
следовательно, кровопролитность и
разрушительность этих схваток будут усиливаться.
С особой тревогой говорили они о
«почернении» больших городов Америки, что уже
предопределяло судьбу этих городов: не
оставалось даже надежды изменить их
будущее. В столице, например, из каждых
десяти жителей семеро были с черным
цветом кожи, в крупнейших городах страны —
Нью-Йорке и Лос-Анджелесе каждый
пятый — негр, пуэрториканец или
мексиканец, в Чикаго и Филадельфии — каждый
третий, в Детройте, Сент-Луисе, Балтиморе,
Кливленде — еще больше. Былая
уверенность, что властям удастся справиться с
этой растущей силой, давно уступила
место беспокойству, тревоге, смятению и даже
отчаянию:
— Что делать? Что делать?!
По-разному подходили собеседники или
спорщики к ответу на этот вопрос,
звучавший порою, как вопль. Одни считали, что
«кипящий котел» должен быть открыт как
можно скорее, чтобы предупредить
опасность катастрофического взрыва. Другие,
наоборот, предлагали покрепче закрыть его
или «остудить» путем изъятия тех, кто
разжигает негритянское недовольство: они
во всем видели лишь следствие
«поджигательских речей» или отчаянных действий
«вдохновленных ненавистью к белым»
лидеров. Они уверяли, что негритянское
движение в последний год стало «более
мирным» после того, как власти заставили
двух «наиболее воинственных» лидеров —
Кармайкла и Кливера бежать из страны, а
третьего, Брауна, запрятали в тюрьму по
обвинению в незаконной перевозке оружия.
Брауна выпустили под залог до
рассмотрения его апелляции, но запретили всякую
политическую деятельность.
Наиболее хитрые — они называют себя
дальновидными, как наш знакомый,
поклонник президента,— видели выход в том,
чтобы «умными мерами» отвести от богатых и
правящих белых острие негритянского
раздражения и ненависти, поставив между
неграми и белыми властями и
капиталистами самих же негров: капиталистов,
чиновников, полицейских. Помимо широкой
правительственной помощи негритянскому
бизнесу, «дальновидные» считали очень
желательным активнее выдвигать негров как на
правительственные, так и на выборные
должности. Два министра — Финч и Ромни —
взяли негров себе в заместители,
несколько других негров тоже оказались в
Вашингтоне, правда, на менее видных постах.
«Дальновидные» восторгались тем, что
даже в южных штатах, где негритянское
население сократилось за последнюю
четверть века с одной четвертой до одной
пятой всего населения, около четырехсот
негров выбрано в местные органы власти, а в
северных городах появились даже иегры-
мэры. Несколько больших городов (Гэри,
Кливленд и другие), как и сама столица,
уже возглавлялись неграми, и это ни в
какой мере не сделало положение белых
хуже. Вашингтонская полиция, вызвавшая
столько негодования жестокостью расправы
с участниками схватки на Четырнадцатой
улице, поспешно усилена... неграми, и ны-
180
Д. Краминов I
не на каждых двух белых полисменов в
столице приходится один негр-полисмен.
Специальным актом конгресса решено
увеличить число полицейских в Вашингтоне
до 4 100 человек, и полицейская армия,
предназначенная держать под контролем
негритянское население столицы, быстро
растет прежде всего за счет негров-солдат,
отличившихся в войне во Вьетнаме: срок
военной службы желающим поступить в
полицию сокращен на девяносто дней. В
течение нескольких месяцев более пятисот
солдат, воспользовавшись этой льготой,
пополнили вашингтонскую полицию.
Вашингтонцы, проникнутые духом
примирения, провозглашенного новым
правительством, с отвращением осуждали
поступки и действия южных расистов, намеренно
вызывавших ожесточение негров. Их
негодование в те дни вызывал губернатор
Южной Каролины Макнэйр, который
сначала отказался дать приказ о расследовании
обстоятельств скандально известной
«оранджбергской бойни» (в начале
прошлого года дорожная полиция в упор
расстреляла мирно настроенных
негров-студентов двух южнокаролинских колледжей,
убив трех и ранив двадцать семь
студентов), а затем демонстративно повысил в
должности пятерых из девяти полицейских,
виновность которых была установлена
следователями министерства юстиции,
вынесшими решение отдать их под суд. В
столице были убеждены, что суд воздаст
убийцам должное. Они, однако, упустили из
виду, что для расистов закон не закон: суд,
как оказалось несколько позлее, стал на
защиту убийц. После восьмидневного
разбирательства, во время которого обвинители
министерства юстиции доказали вину
полицейских, южнокаролинский суд,
подталкиваемый заместителем прокурора штата —
он был назначен властями штата
защитником убийц,— вынес решение о том, что
дорожные полицейские поступили согласно
своему долгу, и объявил всех девятерых
невиновными.
Негры Оранджберга, хотя и не ответили
прямо на этот провокационный вызов, не
смирились, как не смирились со своей
судьбой миллионы других американцев с
темным цветом кожи. И негритянские
выступления все чаще сотрясают то один, то
другой американский город.
■ ПРЕДАННЫЕ ИДЕАЛЫ
— Куда же пойдет страна?
— Может быть, вы найдете ответ тут...
Гость положил на стол передо мной
квадратик тонкого разрисованного картона
и хитро улыбнулся, когда я удивленно
посмотрел сначала на картон, потом на него.
— Это немного туманно, но на тако!
вопрос нелегко ответить точнее,— добавю
он.
— Но какой же это ответ? Это мой
билет на «инагюрэйшн-парад».
— Всмотритесь повнимательнее и
вдумайтесь,— посоветовал мой собеседник.
На голубоватом фоне, помимо портретов
президента и вице-президента, был изобра-
жен Капитолий, к которому почти
вплотную примыкала огромная ракета на
пусковой площадке, дальше расстилалось
возделанное поле с большой силосной
башней и скотным двором; с другой стороны
Капитолия виднелись завод, за ним —
шахта, а за шахтой — атомная станция. Над
всем этим сквозь голубые облака
проступали четко обрисованные лица, вероятно,
воплощавшие многонациональность страны :
тут были белые, негры, пуэрториканцы,
индейцы, мексиканцы; люди разнообразных
профессий: клерки, пасторы, медицинские
сестры, горняки, полицейские, фермеры.
У мужчин приятные лица, у женщин
красивые улыбки. Между облаками с лицами и
землей с Капитолием, ракетой, атомной
станцией вытянулись, как в американской
воздушной рекламе, два слова: «Вперед
вместе». Это был лозунг, под которым
республиканская партия шла в прошлом году
на президентские выборы и победила. Под
этим же лозунгом проводились все
торжества, связанные с приходом нового
президента к власти, и началась деятельность
нового правительства. Республиканские
митинги и теперь заканчивались гимном,
сочиненным по заданию руководства партии,
в котором главный смысл был вложен в
несколько корявые слова:
Рука одна здесь, а там рука
другая,
Не смогут они так прилив
удержать.
Лишь вместе держась и вместе
шагая,
Мы повернем его вспять...
— «Вперед вместе»... Но куда вперед?
К какой цели?
— А я обратил бы больше внимания на
второе слово, чем на первое,— сказал
гость.— Главное ныне — вместе.— Он взял
билет, повертел и снова положил на стол,
повторив: — Главное ныне — вместе.
Мы сидели в моем номере в отеле
«Балтимор», обмениваясь мнениями о нынешней
обстановке в Америке. Гость — редактор
провинциальной газеты на Среднем
Западе, с которым мы уже встречались
несколько раз в Штатах, в Москве и Лондоне,
прилетел в Нью-Йорк, чтобы поговорить о
возможностях расширения связей между
американскими и советскими журналистами,
но, начав с вопроса, что мне понравилось
# Америка смятения и раздоров
161
и не понравилось в стране, где я провел
почти три недели, увлекся и даже
разволновался. Он был обеспокоен тем, что
выборы нового президента и смена
правительства мало изменили обстановку в Штатах.
Обычного затишья, наступающего после
выборов, когда недовольные, проголосовав
против надоевшей правящей партии,
успокаивались, на этот раз почти не
чувствовалось. Призыв нового президента к при-
ниревию внутри страны был дружно
поддержан печатью, радио, телевидением, но
не захватил широкие слои населения.
Нервное напряжение, в котором находится
страна уже длительное время — со страшных
лней убийства президента Кеннеди, за
которым последовало убийство на глазах по-
чти всей страны его убийцы с
последующими таинственными убийствами или
исчезновениями причастных и непричастных,—
не ослабло, несмотря на старания
Вашингтона добиться успокоения. Сохранялось
прежнее ожесточение между неграми и
белыми властями, между студентами и
правительством, между рабочими и
предпринимателями. Пока еще не было чудовищных
уличных схваток и кровавых сражений,
подобных тем, которые потрясали страну
все прошлое лето, но в воздухе, в
атмосфере больших городов уже чувствовалась
крайняя нервозность, готовая при
малейшей искре завершиться взрывом. (Эти
опасения вскоре оправдались.)
Студенческие выступления стали
многочисленнее и ожесточеннее, а левая часть
студенческого движения все чаще
действовала как организованная сила. В некоторых
местах студенты попытались связаться с
бастующими рабочими. Правда, взрослые
рабочие встретили их сдержанно и не
раскрыли своих объятий, но молодые рабочие
начали появляться на студенческих
митингах.
Редактор был удручен разладом между
разными слоями населения, угнетен все
растущими раздорами, которые отравляли
жизнь многим семьям. Вероятно, поэтому
он видел спасение в том, что предлагало
нынешнее правительство, обязавшееся
положить конец расколу и раздорам внутри
страны, и, кажется, даже верил, что
этого можно добиться под лозунгом «Вперед
вместе».
На мое замечание, что нужна большая,
понятная и близкая всем цель, чтобы
объединить разные силы и разные слои, он с
усмешкой ответил:
— По примеру Рузвельта наши
президенты имеют обыкновение ставить большие
цели, но это мало помогает. В свое время
много шумели о «Честном курсе», «Новых
рубежах», «Великом обществе», а что
толку?-. Раскол оставался, раздоры
продолжались... Главное — устранить их, сделать
так, чтобы нация держалась вместе и
вместе добивалась такого будущего, где не
будет нынешнего недовольства и
ожесточения...
— А не пытаетесь ли вы устранить
следствия, оставляя нетронутыми причины?
— Что вы имеете ц виду?
— Если почти все недовольны почти
всем, значит, непорядок в самой основе, то
есть в системе.
— Ну, об изменении системы у нас
никто, кроме ваших друзей-коммунистов да
левых студентов, не думает и не говорит.
— Положим, я слышал такие разговоры
не только от коммунистов.
— От кого вы могли слышать их?
— От некоторых очень образованных и
знающих людей.
Совсем недавно один из профессоров
Гарвардского университета, посмеиваясь
над удивлением своих слушателей,
доказывал в разговоре, что Америка созрела для
новой системы, основой которой будет
некий «коллективизм», и ссылался на то, что
ныне ни одно крупное начинание
немыслимо без заранее спланированного,
согласованного и тесного сотрудничества
правительства, промышленности, науки и далее...
военных. В доказательство он привел
космическую программу, в которой это
сотрудничество так блестяще проявило себя. По
его словам, этот успех объясняется тем, что
в космосе общенациональные интересы не
вступили в конфликт с частными
интересами. На земле «коллективизм» пока не
удавался: многолетние попытки нации
остановить, например, дальнейшее загрязнение
воды и воздуха,— а от этого зависит не
только здоровье, но и само существование
будущих поколений американцев,—
провалились, натолкнувшись на частные
интересы корпораций, которые увиливают как
от забот и расходов в этом деле, так и от
ответственности за ухудшение окружающей
человека природы. Профессор не
осмелился сделать логический вывод: интересы
нации требуют устранения частных
интересов,— но такой вывод напрашивался сам
собой. Кроме нас, его слушало несколько
американцев, и ни один из них не возразил.
Редактор выслушал мой пересказ
рассуждений профессора и пожал плечами.
— Наши интеллектуалы — странный
народ,— сказал он после короткого
раздумья.— Ныне модно быть либералами и
даже радикалами, и чем необычнее идеи,
которые кое-кто высказывает, тем больше
внимания привлекается к ним самим.
— Вы думаете, погоня за
популярностью?
— Не только это.— Редактор посмотрел
в окно на соседнее здание, где, несмотря
на погожий полдень, ярко светились ряды
окон (улицы в центре Нью-Йорка узки, а
182
Д. Краминов ф
здания так высоки, что работать все время
приходится с искусственным светом),
потом повернулся ко мне и повторил: — Не
только это. Видите ли, у нас сейчас
интеллектуалом считается только тот, кого
признают либералом, а еще лучше радикалом,
и каждый, кто хочет прослыть
интеллектуалом, выступает против нынешнего
порядка, против того, что зовется
«истэблишмент».
— Но почему ваша интеллигенция,
занимающая такое видное место в этом
«истэблишменте», недовольна нынешним
порядком, критикует его?
— Я думаю, что это недовольство в ее
характере. Некоторые наши видные
интеллектуалы даже проповедуют теорию,
что недовольство это как бы долг
интеллигенции, и интеллектуал, который не
выполняет этого долга, плохо служит
обществу.
— Это тоже мало что объясняет.
Вопрос: почему? — остается...
Во время встреч в Нью-Йорке,
Вашингтоне, других местах я не раз поднимал
этот вопрос: почему значительная часть
американской интеллигенции, играющей
действительно большую роль в нынешней
Америке, занимает столь резко выражен^
ную критическую позицию в отношении
политики страны, внутренних условий и
общественного порядка вообще? Ответы
были различны, как и сами люди, которые
давали их, но очень показательны.
В один из тех дней мы встретились с
руководителями еженедельника «Сатэрдей
ревью», который читается главным
образом американской интеллигенцией. В ходе
длительной беседы разговор коснулся
нынешней американской философии. С
легкостью и блеском, как человек, отлично
знающий предмет, главный редактор
еженедельника Норман Казинс изложил
философию прагматизма, подчеркнув, что она
все еще рассматривается как своего рода
идейная основа американской политики,
иотому-де, что предусматривает
использование разума для решения сложных
проблем, выдвигаемых жизнью».
— А нам показалось, что ныне в
Соединенных Штатах чаще говорят о разуме
и разумности (слова «ризон» и «ри-
зонбл» встречаются почти в каждой
речи и каждом авторитетном заявлении), чем
руководствуются ими.
Норман Казинс, позволявший себе резко
критиковать свое правительство,— он
только что опубликовал злую статью,
возмущаясь тем, что сотни американских
солдат были убиты во Вьетнаме, пока
американские дипломаты на переговорах в
Париже спорили о форме стола (круглый или
квадратный), за которым предполагалось
гости переговоры,— почти не терпел
критических замечаний с чужой стороны и
тут же отверг наш намек.
— Тогда чем же объяснить столь
частые обвинения в лицемерии, которые
раздаются тут не только по адресу
правительства, но и всего общества?
— Лицемерие — одно из самых ходких
слов.
— Но люди, которых обвиняют в
лицемерии...
— Они вовсе не считают себя
лицемерами,— вставил молчавший почти все
время «общий редактор» Баузер.— Видите,
вся Америка оказалась в положении
человека, который проповедует одно, а делает
другое.
— Лицемерит?
— Вы можете сказать так, но это не так
просто.
— Что не так просто?
— Сейчас я объясню вам.
Невысокого роста, темнолицый и
седоголовый Баузер говорил тихим, но
удивительно четким голосом с великолепными,
почти артистическими интонациями, и все,
сидевшие за большим столом, повернулись
к нему. Он был единственным негром
среди нас.
— Основы нашей философии заложены
задолго до Дьюи, который выдумал
словечко «прагматизм». Первыми
американскими философами можно считать наиболее
просвященных из основателей Соединенных
Штатов — Джефферсона, Франклина и
некоторых других. Это они сформулировали
идеи свободы, независимости, равенства я
справедливости, которые были и остаются
привлекательными для новых поколений.
Они провозгласили эти идеалы, когда
Соединенные Штаты боролись против
Британской империи, за свою независимость и
свободу, когда им хотелось равенства с
более сильными и богатыми Англией и
Францией, потому что их притесняли мощные
европейские державы. Идеалы осталисг
неизменными, и всех нас, как наших отцо*
и дедов раньше, как наших детей теперь
учили и учат почитать их, словно
святыню. Но Америка изменилась, она стала
богатой и сильной; изменилось ее положение
в мире: она не только сравнялась с Англией
и Францией, но стала значительно сильнее
их, сильнее многих других стран.
Теоретически мы признаем старые идеалы, не
практически в политике и в жизни не
считаемся с ними, потому что они
противоречат нашим интересам, как их
понимает Вашингтон, нашим нынешним позициям
в мире, как их видят люди, стоящие вс
главе страны.— Баузер посмотрел на
слушателей с робким выжиданием: «Как
отнесетесь вы к этому?» — и закончил: —
Это вот постоянное противоречие и дает
основание как недовольным американцам,
• Америка смятения и раздоров
163
так и иностранцам обвинять нынешнее
американское общество и особенно наше
правительство в лицемерии и даже
цинизме.
— Обвинения останутся, пока остается
это противоречие?
Вместо ответа Бауэр пожал плечами:
делайте, мол, вывод сами...
Издатель еженедельника Паттерсон, не
опровергая редактора и не соглашаясь с
ним, заметил, что в нынешней политике
главное — это не возвращение к старым
идеалам, а умение и желание видеть мир
таким, каков он есть.
— Нужно видеть факты и реальность
и уметь приспосабливаться к ним, к
нынешнему миру,— сказал он.
— Со стороны кажется, что Америка
больше старается приспособить нынешний
мир к себе, чем сама приспосабливается к
нему.
— У нас это тоже кое-кому кажется, и
вокруг этого, как вы знаете, давно идет
борьба, которая то ожесточается, то
ослабевает, но не затухает...
Перед самым отъездом домой я снова
встретился со своим давним американским
другом, который восхищал меня своим
знанием Америки, чудесной памятью,
хранившей поистине колоссальные запасы
фактов, имен, даже цифр, талантом коротко и
точно оценивать события и людей. Ему я
приносил свои первые впечатления о
встречах и событиях в Америке, как бы сверяя
их с его знаниями и опытом, и почти
всегда узнавал что-нибудь новое, что либо
укрепляло мои впечатления, либо давало
им иное освещение. На мой вопрос, что он
думает о постоянном противоречии между
старыми идеалами и нынешними
интересами Америки, приятель ответил:
— Капитализм давно отверг свои
идеалы, теперь идеалы отвергают его.
— Хорошо, но... нельзя ли попроще?
— Раньше эти идеалы были оружием
капиталистической Америки, они помогали
ей расширять и укреплять свои мировые
позиции, теперь же стали орудием
разочарованных и недовольных для ослабления
и расшатывания ее позиций как на
мировой арене, так и внутри страны.
— Это уже яснее, но нельзя ли еще
проще?
— Ты хочешь, чтобы я все разжевал?
Ну, хорошо же! — Он угрожающе сверкнул
на меня очками.— По торжественным дням
тут много шумят о свободе и
независимости, забывая, что в это же время бомбы
с напалмом выжигают вьетнамские
рисовые поля и деревни вместе с вьетнамцами,
борющимися за свободу и независимость.
Но другие-то знают это, помнят об этом,
и это лицемерие возмущает их, а
некоторых, как студентов и далее солдат,
заставляет выходить на улицы или отказываться
подчиняться властям и офицерам... С таким
же азартом кричат здесь о равенстве, хотя
все видят и знают, что не было, нет и не
может быть равенства между владельцем
завода и рабочим, между миллионером и
безработным, и это тоже возмущает и
заставляет обездоленных прибегать к тому
оружию, которым они располагают: к
забастовкам, к уличным схваткам... Умеют
поговорить у нас и о справедливости и
равных возможностях для всех, хотя все видят
и понимают, что не было, нет и не может
быть справедливости и равных
возможностей в стране, где богатства, созданные
умом и руками всех работающих, делились
и делятся так, что примерно сто семей
владеют баснословными богатствами,
превышающими сто миллионов долларов для каждой
семьи, в то же время около тридцати
миллионов человек — граждан страны,
называющей себя обществом изобилия, живут,
как у нас выражаются, «ниже ллнии
нищеты», то есть впроголодь или голодают...
И наши студенты ссылаются на идеалы
равенства и справедливости, когда заявляют,
что совесть не позволяет им спокойна
заниматься науками, делая вид, что они не
замечают, как миллионы их
соотечественников страдают от нужды и выходят на
улицы, устраивают так называемые
«беспорядки»... Буржуазия предала свои старые
идеалы, и они мстят ей, вдохновляя
против нее не только негров, рабочих,
фермеров внутри страны, или ее противников за
пределами Штатов, но и особенно
американское молодое поколение...
Друг поднялся с кресла, подошел к
книжной полке и, покопавшись в стопке
журналов, вытащил один с броским и
повелительным заголовком на обложке:
«Вылечить нацию!»
— Я редко соглашаюсь с тем, что тут
пишут, журнал всегда был правее
других, — сказал он, — но в этом номере
есть кое-что, с чем я целиком согласен.
Они приводят тут слова английского
историка и знатока Америки Дениса Брогана:
«Вопреки предположениям этот век не
будет американским веком. Американский
образ жизни не в состоянии увлечь людей».
И сами редакторы ставят вопрос, который
звучит еще более осуждающе, чем слова
Брогана: «Стала ли американская мечта
американским проклятием — воплощением
крайнего эгоизма, а не равенства и
совершенства?» Они не осмелились прямо
ответить на свой вопрос, но из фактов, которые
приводятся тут, ответ вытекает сам собой:
да, стала.
»
Борис МАЙОРОВ,
заслуженный мастер спорта
Я смотрю хоккей
■ ДЕНЬ ШЕСТОЙ
I—| а единственный матч дня — Канада—
■ "США — решил не идти. Надо
немного отдохнуть от хоккея. Вспомнились
Москва, родные, друзья. Вспомнился разговор
со старым моим приятелем Костей Денщи-
ковым. Мы с ним учились в одной группе,
вместе закончили институт. Он теперь
солидный человек, кандидат технических
наук. Позвонил мне как-то и попросил
выступить у них на предприятии. Едем с ним
туда, а Костя рассказывает:
— Меня на работе спрашивают:
правда ли, что Борис Майоров собирается
бросать хоккей и серьезно браться за
научную деятельность, за кандидатскую
диссертацию? А я отвечаю: не знаю, но на его
месте — ни за что бы...
В общем-то я и сам давно оставил мысль
о том, чтобы уйти из спорта. За годы
жизни в спорте так втягиваешься в круг его
интересов, так обрастаешь друзьями,
делами, мыслями, связанными с ним, что
разорвать этот круг уже невозможно. Спорт
поглощает человека целиком и не хочет
выпустить его из своих объятий. Я сказал
«человека» не случайно. Если б такое
случилось только со мной, я бы не стал
обобщать. Но люди, отдавшие большому
спорту значительную часть жизни и все-
таки расставшиеся с ним, получив какое-
то специальное образование,— редкость.
Скажем, Шатков, ставший кандидатом
юридических наук, или Попенченко, кандидат
технических наук — лишь исключения,
которые только подтверждают правило.
Да и то «расстались» — понятие
относительное. Вечно я встречаю их имена в
связи с боксом. То они комментируют по
телевидению одни соревнования, то едут за
границу на другие, то пишут в газетах о
третьих.
Продолжение. Начало см. в № 10.
Нет, от спорта никуда далеко не уйдешь.
Мне, видно, тоже не судьба, Но вот
вопрос: раз ты все равно остаешься в
спорте, так стоило ли тратить столько
времени, сил, нервов на все эти бесконечные
лекции, семинары, зачеты, экзамены,
лабораторные работы, стоило ли недосыпать
ночи и тратить свободные дни на
зубрежку английских глаголов, химических
формул и математических теорем?
Я много думал об этом. И пришел к
выводу: ни часа, отданного учебе, не потерял
понапрасну.
И дело не только в возможности
выбирать себе дорогу. Чем бы человек ни
занимался, он обязан тренировать свою мысль,
развивать в себе способность думать. Я уже
не говорю о том, что при -теперешнем
уровне развития спорта мало быть самородком,
чтобы добиваться выдающихся
результатов. Надо еще очень многое знать и
понимать. Однако не ломлюсь ли я в открытые
двери, доказывая, что учение — свет, а
неучение — тьма? Ведь это всякий и без
меня знает. А практически, придя в большой
спорт, многие пусть и не говорят об этом
вслух, но мысленно решают: или — или,
одно из двух.
Впрочем, для меня так же, как и для
брата, никогда не существовала такая
дилемма: либо учеба, либо спорт. Должно
быть, потому, что мы выросли в семье, где
высшее образование для каждого из детей
было чем-то само собою разумеющимся.
Это вовсе не значит, что мы росли
маменькиными сынками. В семье, где пятеро
детей, маменькиных сынков не бывает. Две
старшие пестры закончили институты,
когда стали уже взрослыми: их юность
совпала с годами войны, и высшее образование
пришлось отложить до лучших времен. Мы
с Женькой, младшие в нашей большой
семье братья-близнецы, закончили школу
в 1955 году и, получив аттестаты
зрелости, тут же отнесли их в институты: Жень-
# Я смотрю хоккей
185
ка — в Менделеевский, я — в
авиационный технологический.
Мы тогда уже занимались спортом
вовсю. Весной 1956 года меня даже приняли
в команду мастеров.
Собственно, спорт и в школьные годы
отнимал у нас уйму времени. Мы
пропадали на стадионе и во дворе целыми днями.
Зимой играли в русский хоккей, как
только таял лед — начинали гонять
футбольный мяч. А когда не играли сами, шли на
«Ширяевку» — спартаковский стадион в
Сокольниках — смотреть тренировки или
матчи «Спартака» по хоккею, хоккею с
мячом, футболу. Мы прибегали с «Ширяевки»
домой, кидали в угол, подальше от глаз
родителей, свои спортивные доспехи,
хватали школьные портфели и едва-едва
поспевали к звонку, возвещавшему о начале
второй смены.
Вуз и команда мастеров — это уже
совсем другое дело. И то и другое требует
очень много времени и большой
самоотдачи. Конфликт между тем и другим
неизбежен. И, бывает, он приобретает столь
антагонистический характер, что человек
решает с одним из двух распрощаться. Чаще в
жертву приносится вуз.
Не думайте, что положение игрока
команды мастеров давало мне в ту пору
хоть какие-то привилегии. О том, чем я
занимаюсь вне института, в деканате
понятия не имели. Единственное, на что я мог
рассчитывать, так это на кое-какие
поблажки как игрок институтской команды.
Однако весь объем работы, который
положен любому студенту дневного отделения,
был положен и мне. Никаких «хвостов»
мне не простили бы. Поступивший вместе
со мной и в институт и в команду
мастеров Дима Китаев не сдал один экзамен
зимней сессии (не успел подготовиться из-
за хоккея), и его не допустили к летней, а
осенью отчислили из института. Словом,
наши спортивные увлечения
преподавателей не интересовали. Но мои первые
студенческие шаги относятся еще к той поре,
когда спорт, хоть и отнимал много часов,
не претендовал все же на первое место в
моей жизни.
Переломным в этом смысле можно
считать ноябрь 1956 года. «Спартак» влачил
тогда жалкое существование в первенстве
страны по хоккею, и, как часто бывает в
таких случаях, было решено прибегнуть к
экстраординарным мерам — резко
омолодить команду. Нас с Димой Китаевым
вызвали в клуб и сказали, что мы теперь
будем постоянно играть в основном составе.
Помню, первый свой матч от звонка до
звонка я провел против «крылышек» — в
те времена одной из сильнейших команд
страны. Сыграли мы, в общем, удачно,
вели 3 :1 и проиграли с минимальным
счетом — 3 : 4. Вот когда я почувствовал, что
становлюсь серьезным спортсменом, что в
спорте меня может ожидать какое-то
будущее.
И тут-то мне стало по-настоящему
трудно. Теперь не могло быть и речи о том,
чтобы пропустить игру или тренировку, а
отказ от участия в поездке вызывал
неминуемые осложнения с Анатолием
Владимировичем Сеглиным, который тренировал
нашу команду и с которого спрашивали за
каждое недобранное «Спартаком» очко. И
все же приходилось пропускать долгие
поездки. Я ведь учился в техническом вузе,
где никакие учебники, никакие конспекты
лекций, одолженные у товарища, не
спасут. Ты обязан выполнить и сдать
определенное число лабораторных работ. И никто
за тебя этого не сделает. Вот и
приходилось крутиться, как белка в колесе.
Я не зря вспомнил о своих
злоключениях более чем десятилетней давности. Мне
кажется, мой опыт кое в чем поучителен.
Человеку, с головой ушедшему в большой
спорт, если он не хочет остаться без
образования, важно не упустить момент, не
допустить паузы. Когда после школы ты, не
мешкая, поступаешь учиться дальше и
потом не пропускаешь сессий, не
откладываешь зачетов, то привыкаешь к такому
режиму жизни, и он не видится тебе ни
чрезмерно утомительным, ни
противоестественным.
Мне везло. Я закрепился в сборной,
будучи студентом пятого курса. Лекций и
курсовых работ уже почти не стало, центр
тяжести к тому времени был перенесен на
самостоятельные занятия. На пропуски и
переносы экзаменов в деканате на пятом
курсе смотрят сквозь пальцы. Кое-какими
привилегиями пользуются не только
избранные, а многие студенты. Тогда и я в
связи со множеством поездок «Спартака» и
сборной дважды сдвигал сроки сессий. Но
у меня словно гора свалилась с плеч, когда
защитил дипломную работу. Было лето,
прекрасная погода, я был свободен, мог
заниматься чем хочу и не думать ни о каких
долгах. И знаете, что делал я первые три
дня после защиты? Чертил. Честное слово!
Чертил диплом своему товарищу. Он
должен был защищать его в конце месяца, но
не успевал, ему было трудно: жена, дети...
И мы с ним сидели три дня с утра до ночи
и все успели. В другое время мне,
пожалуй, и в голову не пришла бы такая
мысль — делать кому-то чертежи: со
своими делами управиться бы, и для себя суток
не хватает. А тут, подумаешь, три дня!
Настроение было превосходное,
чувствовал я себя прекрасно, хотелось двигаться,
что-то делать, куда-то тратить
освободившийся запас энергии, который казался мне
беспредельным. Я защитил диплом 5 июня,
186
Борис Майоров Ф
три дня помогал чертить Жоре Еориишину,
а 19 июня уже играл в футбол против
«Пахтакора», впервые в жизни играл в
футбол за команду мастеров.
Между прочим, могу считать себя
соавтором знаменитого клича «Шайбу!
Шайбу!», который теперь знают, по-моему, на
всех стадионах мира. Это тогда, 19 июня
1961 года, спартаковские болельщики,
увидав на футбольном поле хоккеиста, стали
подбадривать нас таким оригинальным
способом: «Шайбу! Шай-бу!»
Диплом я защищал уже после
распределения. Меня оставили при институте. Где
бы вы думали? На кафедре физкультуры.
«Налаживай, — говорят, — спортивную
жизнь МАТИ и одновременно готовься в
аспирантуру». Я был рад: уж с этой
кафедрой свои хоккейные дела как-нибудь
улажу, а с аспирантурой видно будет.
Заканчивая институт, ни о какой научной
деятельности и не помышлял. Но аспирантура
тем не менее вошла в мою жизнь, вошла
раньше, чем я того ожидал.
— Сколько лет ты будешь еще гонять
по полю шайбу? — сказал мне однажды
профессор Н. И. Поляков, который
заведовал одной из кафедр МАТИ.— Ну три, ну
четыре года. Только время потеряешь.
А способности к научной работе у тебя
явные. Сдавай в аспирантуру, года через три
станешь кандидатом наук, будешь
преподавать. Работа интересная. Всегда с людьми.
Я вообще легко поддаюсь уговорам,
особенно если уговаривает меня человек,
которого я уважаю. Я поступил на курсы
соискателей, сдал на «отлично»
кандидатский минимум по философии, сдал на
четверку аспирантские экзамены по
английскому и профилирующему предмету.
Так началась моя аспирантская жизнь.
Я увлекся своей новой работой, делал ее
охотно и с интересом, хотя чувствовал уже,
правда, не признаваясь пока даже самому
себе, что от спорта мне никуда не уйти, что
я уже не сумею жить вне его интересов,
страстей, радостей и огорчений. Трудился
много и с удовольствием, любыми путями
выкраивая время для занятий, то отставая,
то наверстывая упущенное. После Инсбрук-
ской олимпиады, после трудного сезона
1964 года, у меня образовалась
задолженность по языку: миллион печатных знаков
технического текста и двести тысяч знаков
газетного. И за два с половиной месяца от
этого «хвоста» не осталось и помина.
Сейчас даже самому не верится, что я мог
совершать такие подвиги во славу науки.
И вот летом 1966 года четырехкратный
чемпион мира и аспирант Борис Майоров—
который уже раз в жизни! — принимает
решение, как всегда, «окончательное и
бесповоротное»: с хоккеем прощаюсь, берусь
за диссертацию. Ребята уехали
отдыхать, а я заперся на все лето на одном
заводе, точил образцы, рассчитывал, изучал
литературу, начал писать вступление к
диссертации и был чрезвычайно доволен
собой и своей новой жизнью. Но мои
благие намерения пошли прахом, как только
в Москве появился первый искусственный
лед и по бортам хоккейных полей
застучали шайбы. Я сыграл за свою команду матч,
другой, третий, а потом...
Потом была победа в Вене, одна из
самых прекрасных и ярких наших побед,
были обещания друг другу «дожить до
Гренобля»... Да и как было бросить все это,
когда предстояла Олимпиада — самое
заманчивое, самое желанное соревнование для
любого спортсмена! Мы снова победили, и
я искренне считал, что все мечты мои
сбылись и я могу поставить точку. Я сообщил
свое очередное «окончательное» решение
ребятам и тренерам. Мне никто не сказал
«нет», меня никто не отговаривал.
Просто, отпуская меня домой со сборов,
тренер «Спартака» Николай Иванович Карпов
сказал на прощание:
— Мы, конечно, во всех матчах на
тебя не рассчитываем, но в трудную
минуту ты нам помоги. Если что, я тебе
позвоню.
Они уехали в Ленинград, а я остался в
Москве. Занимался, отдыхал. Когда команда
вернулась, пошел на тренировку. Просто
так, для себя. Играл на тренировке в
четвертой тройке. Потом наступило это самое
«если что» — полуфинальный матч с
«Локомотивом» на приз газеты «Советский
спорт». Сыграл здорово: забил два гола
сам, выдал Женьке пас, и он забросил
шайбу в пустые ворота. Я чувствовал себя
счастливым. Затем был финальный матч с
ЦСКА — на тот же приз «Советского
спорта», за ним другой — на первенство
страны, затем каждое очко стало для
«Спартака» на вес золота...
Что там притворяться, уходя, я и сам
втайне отлично сознавал, что это попытка
с негодными средствами: знал, что никуда
от хоккея и от «Спартака» мне уже не
деться...
Я пишу эти строки летом, когда у
хоккеистов каникулы. Сейчас самая пора
принимать очередное решение. Но я уже сдался.
Спокойно жду первой тренировки. Вот-вот
начнется мой четырнадцатый сезон в
команде мастеров «Спартака»...
Мне осталось играть недолго: я'один из
самых взрослых (не хочется говорить
«старых») игроков в классе «А». Но из хоккея,
уверен, не уйду. Буду тренировать, может
быть, судить, обязательно играть. Не во
Дворце спорта, так на «Ширяевке», не за
«вторую клубную», так за ветеранов.
Я часто слышу сострадательные речи о
том, что вот, мол, бедняги хоккеисты:
• Я смотрю хоккей
187
нет у них условий для учебы; мол, надо
придумать для них какие-то специальные
летние вузы, обеспечить возможность
получать образование каким-то иным путем, чем
получают его все прочие молодые люди.
Не верю в искусственные пути. О своем
будущем человек должен думать сам.
Конечно, быть большим спортсменом и
одновременно учиться нелегко. Но разве в
жизни что-нибудь дается легко? Разве легко
поднимать на вытянутых руках
двухсоткилограммовую штангу, или пробегать за
десять секунд стометровку, или забивать
голы Мартину? Мы же мужественные и
сильные люди на площадке. Что мешает нам
быть такими же и за ее пределами?
■ ОТ СТОКГОЛЬМА
ДО СТОКГОЛЬМА
Я смотрел матч со сборной
Чехословакии, видел, 'что мы проигрываем, понимал,
что ничего не можем с этим поделать, и
все время чего-то мне недоставало,
недоставало вот тут, рядом, на той самой
скамейке, за которой я простоял весь этот
матч. Я гнал это чувство, чтобы оно не
мешало мне следить за игрой. Но прогнать
не мог, оно все возвращалось и
возвращалось. И вдруг понял, в чем дело: это не
что-то, а кто-то. Это те, кого мы
постепенно растеряли на долгом пути от Стокгольма
до Стокгольма...
Людям свойственно идеализировать
прошлое и рисовать чудо-богатырями тех, кто
оставил арену, тем более если был их
соратником. Но я реалист и не стану даже
мысленно восклицать: «Вот бы их сейчас
сюда!» И вместе с тем я уверен, что
должно утечь еще очень много воды, прежде
чем появится такая команда, какой была
наша сборная образца 1963—1967 годов.
Одно время было модно обсуждать
вопрос, какая тройка нападающих лучше:
наша — «старшиновская» или армейская —
«альметовская». Мы, шесть героев такой
дискуссии, никогда не говорили и не
думали об этом. Нам и в голову не приходило
делить славу. Я и теперь не хочу думать
ни о каких сравнениях и
противопоставлениях. Могу сказать только одно: многим из
того, что умели, мы — «старшиновская»
тройка — были обязаны им — «альме-
товцам». Они всегда считались старшими и
щедро делились с нами тем, что знали.
Подсказывали, советовали. Иногда на
мировых чемпионатах сильнее играли они,
иногда мы. Но как бы ни складывалась та
или иная игра, мы были уверены: каждый
отдал ей все, что мог.
Мы встречались на площадке и как
противники и тогда не щадили друг друга.
Нередко борьба наша становилась настолько
злой, что выходила за рамки правил. В
такие минуты мы могли сказать один
другому обидные слова. Но сразу же после
матча все становилось на свое место.
— Извини, я был неправ.
— Да брось ты, игра есть игра...
Спортсмены не выбирают себе
партнеров по сборной. Но я знаю: если бы могли
выбирать — и не только по игровым, но и
по человеческим достоинствам,— в сборной
тех лет обязательно были бы и
«альметовская» тройка, и Виктор Якушев, и Эдик
Иванов, и наши вратари, и те ветераны, кто
дожил в сборной до последнего
чемпионата.
А до чего они, если подумать, все
разные! И по игре, и по воспитанию, и по
образованию, и по характеру, и по
увлечениям, и по тому, как складывалась их
хоккейная судьба.
Александров-хоккеист и
Александров-человек совсем не похожи один на другого.
На поле это взрыв за взрывом, это
сплошной фейерверк, ослепляющий своей
яркостью и щедрым размахом. На поле он
сразу бросается в глаза. Его стиль,
изумительно красивый, невозможно забыть,
увидав хоть раз. Вне площадки Александров-
человек сдержанный, скупой на слова и
выражение чувств. Не помню, чтобы он
повысил голос. И нужно хорошо его знать,
чтобы понять: человек он мужественный и
принципиальный. Во время первенства
мира 1963 года одна из газет обвинила
Александрова, который никогда не был
трусом, в трусости. Что сделал бы на его
месте другой, например, я? Наверно, поступил
так, как поступил Женя Зимин, когда ему
бросили такое же обвинение: стал бы
лезть в любую драку, чтобы доказать всем
свой героизм. Это, если задуматься, самый
легкий путь. Александров поступил иначе.
Силовая игра не его стиль. Александров,
играющий так, не Александров. Так же,
как Старшинов, отказавшийся от силовой
борьбы, не Старшинов. Александров нашел
в себе мужество остаться самим собой, не
поступился ни одним из своих принципов,
прошел мимо унизительных обвинений,
словно и не заметил их. И таким образом
прекратил всякие разговоры.
Мы особенно сблизились в Гренобле.
Должно быть, потому, что чувствовали: нас
остается все меньше, и мы самые старшие
в сборной. Никогда не забуду, как
однажды, когда я, по своему обыкновению,
начал какой-то спор с тренерами,
Александров взял меня за рукав, отвел в сторону и
сказал тихо:
— Брось, Боб. К чему это? Побереги
энергию. Она пригодится там.— И махнул
рукой в ту сторону, где, казалось ему,
находится стадион.
И я понял вдруг, какой он мудрый и
серьезный человек и как ему обидно, что
188
Борис Майоров #
я «пылю» попусту и по пустякам... Да, не
так просто узнать, что творится у
Александрова в душе.
А вот у Саши Альметова все его
чувства: доброта, хорошее отношение к людям,
сердечность,— все написано на лице.
Более доброго, обаятельного, более
располагающего к себе человека я не знаю. При
том он вовсе не какой-нибудь
рубаха-парень, готовый расцеловаться тут же и
перейти на «ты» с первым встречным.
Сдержанность и врожденная
интеллигентность — качества, придающие ему
дополнительную привлекательность.
И на поле Альметов производил такое
же впечатление. Ни одного резкого,
угловатого движения. Сама пластичность и
элегантность. Он стремительно бегал на
коньках, но, казалось, это не стоит ему ни
малейшего усилия, лед как бы сам несет
его. Он владел броском страшной силы, но
даже не замахивался, чтобы совершить этот
бросок. Он обводил защитников с такой
легкостью, будто те сами не хотели вступать
с ним в единоборство. Каждое его движение
на площадке исполнено достоинства,
красоты и начисто лишено суетливости.
Наш первый совместный с
Александровым и Альметовым чемпионат
мира—швейцарский. В отеле «Ла ре» в Лозанне нашу
команду поместили в двухместные номера.
Мой брат Женька и Старшинов по
традиции поселились вместе, Александров с
Костей Локтевым тоже, ну, а мы
расположились в одном номере с Сашей Альметовым.
И так уж устроен этот человек, что наша
комната тут же превратилась в своего
рода клуб. Когда выпадал свободный час, все,
не сговариваясь, шли к нам на огонек.
Альметов не был ни главным оратором, ни
присяжным балагуром в этом клубе. Как и
на поле, он не выделялся среди других,
говорил немного и негромко. Но каждое его
слово было слышно и не оставалось без
внимания, поскольку говорил он всегда
метко и вовремя.
Вот уж кто никогда не сомневался в
наших победах, так это Саша Альметов.
— Да что ты, Боб, конечно, выиграем,—
говорил он мне всегда так просто и
уверенно, будто это само собой разумелось. А для
меня его тон и его слова были как
успокоительные капли.
А когда матч заканчивался (а мы с ним
после проигрыша шведам в 1963 году не
проиграли на первенствах мира ни одного
матча, хотя играли вместе пять сезонов), он
обычно напоминал мне о своем прогнозе:
— Вот видишь, я же тебе все
правильно говорил...
На мой взгляд, Саша Альметов сошел с
ледовой арены недопустимо рано — в
двадцать семь лет, в том возрасте, когда у
большинства хоккеистов только наступает
расцвет. Он ушел, когда в его игре начался
некоторый спад и ему грозила участь
надолго перебраться на скамью запасных.
А с этим Альметов — человек, в котором
скромность сочетается с большой
гордостью,— примириться не мог. В его жизни
был уже однажды случай, когда он
оказался в запасе. Тогда он прямо сказал
Тарасову, тренеру ЦСКА:
— Прошу вас поставить меня на
очередную игру. Положение запасного меня
унижает.
— А плохая игра разве тебя не
унижает? — спросил Тарасов.
— Сидя в запасе, я не могу заиграть
хорошо. Дайте мне возможность играть, и я
буду играть хорошо.
Тогда он сдержал свое слово. А на этот
раз, в 1967 году, ушел, не возразив
ничего. Видно, не чувствовал за собой
морального права на это.
Его проводили с почестями во время
одного из матчей во Дворце спорта, при
переполненных трибунах. От имени
спартаковцев я подошел вручить ему вазу —
памятный подарок. Мы обнялись, поцеловались,
и я шепнул:
— Не расстраивайся, Саня, все там
будем...
В тот момент эти слова казались мне
самыми подходящими. А теперь вспоминаю
их, и мне стыдно. Самое легкое —
успокаивать человека, это нам ничего не стоит.
Все мы знали, что Альметов вот-вот может
сойти, что он не самый педантичный
исполнитель сурового спортивного режима,
соблюдение которого только и может
гарантировать хоккеисту долголетие. А что мы
сделали, чтобы помочь ему остаться, чтобы
продлить хоккейную жизнь выдающегося
мастера и превосходного человека, для
которого преждевременный уход был
несчастьем, потому что он любил хоккей и наша
жизнь была его жизнью? А ведь мы
считаем себя его друзьями. Плохие же мы
друзья, если нас хватает только на то, чтобы
утешать. Да, верно, «все мы там рано или
поздно будем». Но Альметов мог еще пять-
шесть лет быть не «там», а «здесь», еще
пять-шесть лет испытывать радость и
приносить пользу хоккею своим замечательным
мастерством.
Такую вот полную, можно сказать, от
«звонка до звонка», жизнь в хоккее
прожил Константин Локтев. Он покинул
ледяную площадку в тридцать три года,
достигнув зенита славы, признанный лучшим
нападающим Люблянского чемпионата мира.
Его чествовали после матча, на который он
вышел не «свадебным генералом», а таким
Ф Я смотрю хоккей
139
же бойцом, как все остальные. Это был
финальный матч на Кубок СССР. Его команда
победила спартаковцев, и он внес в эту
победу свой вклад. Спустя полгода он
вернулся в ЦСКА на несколько матчей.
Вернулся потому, что его команда оказалась в
трудном положении и нуждалась в его
помощи. Он был не в форме после долгого
перерыва, игроки и тренеры это знали, но они
считали — и не зря,— что уже самого но
себе присутствия Кости Локтева на поле
достаточно, чтобы вдохнуть в команду
новые силы.
Судьба Локтева в хоккее сложилась так
счастливо потому, что управлял ею
сильный человек. Его судьба была ведь не
только счастливой, но и очень трудной. Мне
она известна во всех деталях. Дело в том,
что я всегда был, если можно так
выразиться, болельщиком Локтева. Он наш,
спартаковский, начинал на той же «Ширяевке»,
что и я, только раньше. Помнится, он играл
уже в ЦСКА, и я пришел на их матч в
Сокольники. Матч был легкий, армейцы
выиграли со счетом 23 : 0. По тогдашней моде
в перерывах на площадку выходил
разминаться так называемый «неиграющий
состав». Сейчас мне даже смешно, когда я
вспоминаю, с какой злостью и возмущением
наблюдал за этим самым «неиграющим
составом». И только потому, что среди
остальных был и Костя Локтев. «Как же так? —
думал я.— Наш, спартаковский, и вот тебе:
«неиграющий состав».
Попав в армию, Локтев оказался в
Ленинграде и стал играть в команде Дома
офицеров. Оттуда и пригласил его Тарасов
в ЦСКА. Пригласил как раз в тот момент,
когда объединились две команды: ЦСКА
и ВВС. Почти все звезды советского хоккея
собрались вместе. На что мог рассчитывать
в такой компании никому не известный,
совсем молодой да и внешне малоприметный
Костя Локтев? В те времена в хоккее была
мода на могучих и рослых игроков, а Костя
и ростом не вышел. Мне рассказывали, что
знаменитый тогда хоккеист Евгений Бабич
посоветовал Локтеву:
— Бросай-ка ты, парень, это дело. Тут
тебе все равно не пробиться. Возвращайся
в хоккей с мячом, там конкуренция
послабее.
Может, и послушался бы Локтев совета
своего очень опытного .и уважаемого
одноклубника, если бы не вмешался в разговор
Всеволод Бобров, ближайший приятель и
партнер Бабича по тройке:
— Не спеши, Макарыч, с выводами. Этот
парень ^ еще тебя когда-нибудь заменит.
А ты, Костя, его не слушай. Оставайся, и
все будет нормально.
Бобров как в воду глядел. Бабич был
правым крайним первой тройки ЦСКА и
сборной. Именно это место и занял после
него Локтев. Думаю, это был лучший
правый край за всю историю нашего хоккея.
Но сколько понадобилось ему сил и
упорства, чтобы пробиться!
Он был уже игроком сборной,
участником нескольких первенств мира, когда его
дисквалифицировали на год (наказание
было справедливым: Локтев ударил
противника клюшкой после остановки игры. Но
как должен был вести себя противник,
чтобы выдержаннейший и спокойнейший
Костя Локтев стукнул его клюшкой!). Целый
год он был вне хоккея. Команда надолго
уезжала из Москвы, и он тренировался
один. Да и когда игроки ЦСКА
возвращались домой, ему было немногим легче:
место Локтева в тройке было занято, и он
оказывался на льду «четвертым лишним».
Однако, когда срок наказания истек, он вновь
тут же занял свой привычный пост и в
сборной и в ЦСКА. Причем играл так, что
ни у кого даже не могло возникнуть
сомнений в возможности замены.
Незадолго до первенства мира 1963
года он получил травму, перед чемпионатом
был не в форме, да к тому же у него
испортились отношения с тренерами сборной.
Короче, в Стокгольм он не попал. Мы там
остро ощущали отсутствие своего
капитана. Правда, нам, спартаковцам, все равно
не пришлось бы выходить с ним на поле:
мы играли в разных тройках. Но Локтев
так глубоко и тонко понимает игру,
настолько точно знает, когда и что сказать
партнерам, умеет выбрать при этом такой
верный тон, что и на скамье запасных он
человек незаменимый.
Мы выиграли тот чемпионат. Прибыли
домой триумфаторами, возвратившими
нашему хоккею после семилетнего перерыва
мировое первенство. Мы, мальчишки, стали
заслуженными мастерами спорта, в наших
чемоданах лежали драгоценнейшие для
каждого хоккеиста металлические
кружочки — золотые медали чемпионов мира и
Европы. А тридцатилетний Константин
Локтев, который заслужил все это больше, чем
мы, не получил ни одной из этих наград.
Следующий чемпионат мира, который
одновременно был и олимпийским
турниром, наша команда провела блестяще, не
оставив своим противникам никаких на^
дежд на успех. Понятно, каждый из нас
старался и для себя, и для команды, и для
общей победы на Олимпиаде. Но, честное
слово, я не преувеличиваю и не гонюсь за
красным словцом: мы не имели права
проиграть и потому, что с нами был Костя
Локтев, который не мог остаться без золотых
медалей и не получить причитающегося ему
звания заслуженного мастера спорта.
Они ушли из сборной по очереди. В Вене
уже не было Локтева, в Гренобле — Аль-
метова, в Стокгольме — Александрова.
1У11
Борис Майоров ф
И каждый раз команда остро ощущала
очередную потерю. Хоть и говорят, что
незаменимых людей нет, но еще очень много
просеется разных игроков через сито сборной,
прежде чем родится новая тройка, по силе
напоминающая «альметовскую».
На долгом своем пути мы оставили еще
двух хоккеистов, о которых я должен
сказать уже хотя бы потому, что и по своей
роли в сборной и по мастерству они не
уступали этим трем. И на них каждый
всегда и во всем мог положиться, как на
самого себя. Если они и стоят чуть-чуть
особняком, то только потому, что были
единственными представителями своих клубов в
сборной команде (я веду речь о Викторе
Якушеве и Викторе Коноваленко).
У Якушева и Коноваленко есть и еще
одно сходство: они гораздо больше любят
молчать, чем говорить. Для Якушева
хоккейная тема, кажется, вообще не
существует. Во всяком случае, почти за полтора
десятка лет, что мы знакомы, я разговаривал
с ним о хоккее один-единственный раз.
В Любляне его поставили в нашу тройку, и
он задал нам со Старшиновым несколько
вопросов по поводу того, что он должен
делать в тех или иных ситуациях. Но
собеседник он интересный. Умный и
наблюдательный. За каждым его словом стоит что-
то еще, что он не высказал. Однажды кто-
то из журналистов брал у Якушева
интервью и задал ему обычный в таких
случаях вопрос: на кого из хоккеистов хотел
быть он похож в молодости? Якушев, не
задумываясь, ответил:
— На Гурышева.
Не знаю, обратил ли внимание на эту
деталь журналист, но для меня Якушев
открылся вдруг по-новому. В нашем хоккее
Алексей Гурышев — абсолютный
рекордсмен по количеству забитых шайб. Не знаю,
сумеет ли кто-нибудь догнать его, хотя сам
Гурышев уже много лет не играет.
Результативность была его главным достоинством.
Но Якушев не стал вторым Гурышевым. Он
избрал себе другое амплуа. Якушева
называют чернорабочим хоккея, чернорабочим в
том смысле, что он делает на поле работу,
которая большинству из нас не по душе:
трудится за других в обороне, организует
наступление, поддерживает своих
партнеров в атаке. Что и говорить, роль
неблагодарная. Но Якушев взял ее на себя. Взял
не по принуждению. Он отказался от
амплуа премьера потому, что тут некому
было его заменить.
Очень заманчиво для каждого хоккеиста
играть в ЦСКА или «Спартаке». Видное
положение, на худой конец всегда
обеспечена серебряная медаль. Якушева взяли бы
в любую команду, только заикнись. Но
Якушев всю жизнь верен своему «Локомотиву»,
рядовой команде, один раз за всю историю
добравшейся до третьего места. Наверное,
о каждом сильном хоккеисте рано или
поздно ходил слух: «Говорят, он переходит в
ЦСКА («Спартак», «Динамо»)». О Якушеве
ничего подобного никто не то что говорить,
даже подумать такого не мог. Не тот он
человек.
На Коноваленко тоже неоднократно
покушались московские команды. Но и он как
скала. И в самом деле он чем-то напоминает
скалу: могучий, угловатый, коренастый,
весь из мышц. И молчаливый. Вообще для
меня, да, по-моему, и для остальных,
Коноваленко в некотором роде загадка. И,
думаю, не только потому, что видимся мы
сравнительно редко: он горьковчанин.
Встретишься с ним, станешь
расспрашивать:
— Как дела, Витя?
— Нормально,— отвечает.
И на все у него один ответ:
«Нормально». А сам никогда ни о чем не
спрашивает. Он будто всегда в воротах стоит.
Никак к нему не пробьешься. Ты его с одной
стороны хочешь «распечатать», с другой,
а он все парирует: «Нормально».
Положиться на него можно было всегда.
Выходя на трудный матч, мы могли
сказать про Виктора, как и друг про друга:
«Не подведет».
Вот какие разные и вместе с тем
похожие своим отношением к делу, которому
служат, подобрались в команде люди. Им
обязан наш хоккей тем, что вернул себе
чемпионский титул и навсегда занял место
лидера на международной арене. Я не
случайно сказал «навсегда». Это вовсе не
значит, что мы теперь чемпионы навечно
(хотя и неплохо бы...). Но с репутацией
ведущего наш хоккей уже расстаться не
может: слишком велики eço заслуги и
авторитет.
■ КОГДА ШАЙБА ВНЕ ИГРЫ
Спортсмены ездят по миру много. Для
спортсмена из сборной поездка за рубеж —
это рядовое явление. Я, например,
несколько раз был в Париже, трижды — в Нью-
Йорке, изъездил вдоль и поперек Канаду,
видел Лондон, Стокгольм, Вену, Хельсинки,
Варшаву, Прагу, Берлин и множество
других городов. Попав в чужие края, каждый
из нас с интересом всматривается в
детали незнакомой ж;изни. Но много ли
увидишь из окна автобуса или гостиничного
номера? А на большее времени обычно нет.
Программа наших зарубежных турне сжата
до предела. Тренировка, игра, переезд из
города в город — вот и все, что мы
успеваем. А надо ведь еще и отдыхать: ведь
едем, не проигрывать. И даже в дни чем-
# Я смотрю хоккей
191
пионатов мира, когда мы по две недели
подряд ведем оседлый образ жизни, все
наши силы, мысли и время поглощает хоккей.
И все же я каждый раз с удовольствием
й интересом ожидаю очередной поездки.
Пусть мне трудно рассчитывать на то, что
увижу какой-то новый город или окажусь
в незнакомой стране (хоккейные
маршруты я, кажется, изъездил уже во всех
направлениях), но новые встречи с людьми и
новые знакомства будут обязательно.
Я не говорю о бесконечных встречах с
коллекционерами автографов, которые
только утомляют и раздражают и от которых
рад бы избавиться, да не знаешь как
(помню, во время первого нашего чемпионата
в Стокгольме Слава Старшинов придумал
хитрость — всем, кто тянулся к нему с
блокнотом и карандашом, он лаконично
отвечал: «Доктор». Но теперь и это не
спасает: всех нас болельщики знают в лицо).
И не мимолетные беседы на приемах я
имею в виду. Спросишь в каком-нибудь
незнакомом американском или австрийском
городе, как найти нужную улицу, и, как
только догадаются, откуда ты, в глазах
людей появляется выражение дружелюбия,
они немедленно принимаются рисовать
планы, предлагают проводить или подвезти на
машине. Правда, мы бываем главным
образом в местах, где хоккей популярен, а
потому к нашим хоккеистам публика
испытывает повышенный интерес, но смешно было
бы относить всеобщее дружелюбие, которое
мы ощущаем повсюду, только на счет
хоккея. Сильные сборные есть не только У
нас, но где бы мы ни появлялись, мы
оказываемся в центре внимания. Это
внимание ко всему, что связано с нашей
страной, которая занимает особое место в
современной жизни, от которой все время
ждут чудес и которая вот уже более
полувека не устает удивлять мир этими
чудесами.
Бывает, что даже случайные, короткие
встречи на официальных банкетах
переходят затем в приятельские отношения и
даже дружбу. Один из таких друзей, швед
Вернер Перссон — очень талантливый
детский тренер, большой знаток и поклонник
нашего хоккея. Он превосходно говорит и
читает по-русски, нередко приезжает к нам
в страну, чтобы поближе познакомиться с
нашей методикой тренировок, посмотреть,
как организована у нас работа с детьми
и юношами. Он и не скрывает, что
старается распространить в Швеции все лучшее,
что есть в нашем хоккее. Но он не делает
секрета и из всех своих интересных
тренерских поисков. Это настоящий друг.
Недаром наши тренеры и хоккейные
журналисты называют Перссона не Вернером, а
Володей.
Зимой 1963 года мы приехали на матч в
американский город Джонстаун. Накануне
игры мэр города устроил банкет в честь
советских хоккеистов. Когда мы вошли в зал,
кто-то из ребят показал мне знаменитого
Батча Мартина, который был на Олимпиаде
в Кортина д'Ампеццо, приезжал к нам в
составе канадских команд. Теперь он
переехал в Джонстаун, подписав контракт с
местной полупрофессиональной командой.
Во время обеда мы оказались соседями.
Видно, сначала он отвечал мне просто из
вежливости, не испытывая ко мне особого
интереса. Я напомнил ему о наших матчах
в Торонто и Китчинере (Мартин играл в
этих городах против второй сборной СССР,
за которую выступал и я). Мартин
несколько оживился, но, думаю, тоже скорей из
вежливости, чем из любопытства, спросил,
чем я занимаюсь, кроме хоккея. Я ответил,
что окончил институт, получил диплом
инженера и учусь в аспирантуре. Вот когда
мой собеседник загорелся по-настоящему.
Мне пришлось долго объяснять ему, что
значит аспирантура, а он не уставал
спрашивать. И когда все понял, стал торопливо
пересказывать наш разговор жене, которая
пришла с ним на банкет, и ближайшим
соседям по столу. Он показывал на меня
глазами, я слышал отдельные слова:
— Технологический институт...
Диплом... Инженер... Ученый...
Он говорил быстро и горячо. В тоне его
слышалось удивление, граничащее с
восхищением. Я не очень-то понимал, к чему
весь этот восторг, и спросил об этом
Мартина.
— Видишь ли,—сказал он,— вроде бы
я не могу пожаловаться на судьбу. Я
приехал сюда на пять месяцев и получил за
это по контракту пять тысяч долларов. Но
деньги, даже большие, не вечны. А годы
идут. Еще немного, и надо бросать хоккей.
Что тогда? А диплом — это капитал на всю
жизнь. За диплом я отдал бы все. Да
теперь поздно.
На другой день мы встретились с Бат-
чем уже на льду. Команда в Джонстауне
оказалась сильная. Мы, правда, выиграли
со счетом 9 : 5, но это объяснялось тем, что
в первом периоде противники наши
растерялись и пропустили в свои ворота восемь
шайб.
Судьба свела нас с Мартином через год,
опять на хоккейном перекрестке. Он уже
вернулся в Канаду, в родной Китчинер. То
турне по Канаде мы провели плохо,
проиграли турнир в Виннипеге, но на последнем
товарищеском матче со сборной Канады
победили со счетом 5 : 3. И снова на банкете
мы сидим с Мартином вместе. Теперь уже
это не случайное соседство: Мартин сам
подсел ко мне и весь вечер расспрашивал
о моих аспирантских делах, о планах,
интересовался, чем я буду заниматься, когда за-
Я смотрю хоккей
1М
Наш хоккей не пошел по проторенной
дороге, он создал свою школу, яркую,
самобытную, неповторимую. Сегодня он стал
предметом изучения и подражания для
всех, в том числе и для самих канадцев.
О том, как это произошло, написано очень
много, и я не стану повторяться. И если я
все же заговорил об этом, то только для
того, чтобы доказать: нет, не канадцы стали
слабыми, а мировой любительский хоккей
прогрессирует с неудержимой быстротой, и
этим он обязан в первую очередь нашим
тренерам и хоккеистам.
Кануло в Лету то время, когда канадцы
отваживались посылать в Европу клубные
команды. После поражения на первенстве
мира 1963 года (опять роковой для
канадцев Стокгольм!) родину хоккея
представляет на крупнейших международных
турнирах только национальная сборная. Но и ей
ни разу не удавалось добраться до высшей
ступени мирового пьедестала почета. А
«Стокгольм-69» окончательно развенчал
прежних властителей: шесть матчей с
тремя лучшими европейскими командами
принесли им шесть поражений. Фиаско это
выглядело настолько позорным, что
заставило представителей Канады в
Международной хоккейной федерации пойти на
небывалое унижение: они попросили разрешить
им на время мировых первенств включать
в свою команду до девяти профессионалов.
Итак, хоккейный лев повержен, и
можно без всякого риска иронизировать по
поводу его слабости. Между тем когда я
смотрю на нынешние канадские команды,
то испытываю противоречивые чувства. С
одной стороны, здорово, что мы обогнали
некогда казавшихся волшебниками
канадцев. А с другой стороны, обидно.
Хоккейный мир и без того тесен. А так он
становится еще тесней. Без сильной канадской
команды, способной принять перчатку от
любого соперника, команды, которую никто
не имеет права сбрасывать со счетов,
чемпионаты мира теряют что-то очень важное..
И жаль мне бескорыстного рыцаря
канадского любительского хоккея, поистине
рыцаря без страха и упрека, протестантского
пастора и хоккейного тренера Дэйва
Бауэра. Это ему принадлежала, идея создать
сильную сборную, которая сумеет
возродить славу родины хоккея. Он вынашивал
эту идею долгие годы — и долгие годы
боролся за ее воплощение. Сборная,
созданная руками патера, есть. Но как далека
она от его идеала! Профессиональные
клубы оказались теми ветряными мельницами,
в бесплодной борьбе с которыми вынужден
был капитулировать канадский доккихот.
Вместе с другими он приехал в Европу
просить о допуске профессионалов в
любительские команды, иными словами, об
убиении его любимого детища.
Наверное, Саша Мальцев, Валера
Харламов и их сверстники относятся к канадцам
не только без всякого почтения, но даже
немного свысока: еще бы — за один сезон
обыграли сборную раз пятнадцать! Я же
еще помню, с каким трепетом вступил в
1960 году впервые в жизни на канадский
лед. Мы, три молодых нападающих, Слава
Старшинов, Виктор Цыплаков и я,
прилетели на родину хоккея в составе второй
сборной страны. Нам предстояло провести
там десять матчей, и первые три мы
проиграли. Правда, то были игры с самыми
знаменитыми командами — «Уитби данлопс»,
«Китчинер датчмен» и «Виндзор булдогс».
Интересно, что в первом матче за пять
минут до конца второго периода мы вели со
счетом 4:2, причем я чувствовал себя
именинником — забил один гол. Но к
перерыву вели уже канадцы—5 : 4. В
третьем периоде они забросили в наши ворота
еще три шайбы, не пропустив в свои ни
одной. Вот так обращались с гостями
сильнейшие канадские любители.
В общем и целом турне закончилось для
нас благополучно. Из семи остальных
встреч мы выиграли шесть и одну
проиграли. Но и противники были у нас рангом
и классом пониже первых трех.
Тогда же я впервые в жизни увидел
знаменитых профессионалов из НХЛ —
Национальной хоккейной лиги, в которую
входили шесть лучших профессиональных команд
мира. Это зрелище потрясло всех нас. И не
только сам хоккей. Нас пригласили на матч
как почетных гостей. И тем не менее в
огромном зале, вмещающем семнадцать
тысяч зрителей, не нашлось и двух десятков
свободных сидячих мест, чтобы усадить
советскую команду. Сидели только тренеры.
Мы, игроки, стояли на галерке за
воротами. Не подумайте, что это было
проявлением неуважения. Ничего подобного. И хозяева
монреальского дворца вовсе не собирались
сэкономить несколько десятков долларов,
пожалев для нас сидячие места. На них не
могли бы устроить нас даже за деньги: все
билеты на матчи НХЛ были распроданы на
много месяцев вперед, а часть мест —
довольно большая — куплена владельцами
абонементов на один или несколько
сезонов.
Переполненный зал, торжественная и
вместе с тем словно предгрозовая
атмосфера, мощный гул, которым встречает
публика всемирно известных хоккейных
маэстро, адский гром, издаваемый бортиками,
когда в них ударяется во время разминки
шайба (над полем-то микрофоны), яркая,
всех цветов радуги форма хоккеистов—
все это служит увертюрой грандиозного
трехактового спектакля и настраивает
публику на соответствующий лад.
Играли, если не ошибаюсь, «Монреаль
13. «Октябрь» jVo 11.
194
Борис Майоров •
канадиенс» и «Торонто Мейпл Лифе». Игра
настолько захватила нас, что мы боялись
шелохнуться, боялись пропустить
малейший эпизод. Нападающие обстреливали
ворота с немыслимой силой и точностью из
любых положений и без всякой подготовки,
вратари ловили шайбы, которые, казалось,
вообще невозможно поймать, защитники
выкатывались навстречу пушечным
ударам и встречали шайбу грудью, все
хоккеисты на любом участке поля сшибались в
богатырских схватках, то и дело кто-то,
взметнувшись в воздух вверх коньками,
летел плашмя на лед.
В ту пору мы уже не были новичками в
хоккее, мы тоже кое-что знали и умели.
Но ни о каком квалифицированном разборе
того, что увидели только что, не могло
быть и речи. По дороге домой одни охали и
ахали, другие помалкивали, не в силах
словами выразить свой восторг.
Недостатки? Пробелы? Даже подумать об этом
казалось нам кощунством. Если бы
кто-нибудь тогда вдруг сделал нам предложение
сыграть против них, мы сочли бы его
сумасшедшим.
Сейчас эти восторги десятилетней
давности вызывают у меня снисходительную
усмешку: что возьмешь с желторотых
мальчишек? Да, профессионалы здорово
бросают по воротам, но мы лучше умеем
создавать «чистые» голевые позиции. Да, их
техника владения шайбой великолепна, но
мы быстрее катаемся на коньках. Да,
мастерство их вратарей безупречно, но мы
научились обороняться всей командой так,
чтобы облегчить задачу своему вратарю. Я
играл против «самого» Бревера и против
легендарного Планта, Они замечательные
хоккеисты, но играть с ними можно. Я
видел на своем веку множество матчей
лучших профессиональных команд и,
восхищаясь достоинствами игроков, мысленно
критиковал их слабые стороны.
Что же, выходит, то первое
впечатление было обманчивым? В какой-то мере
да. К зрелищу профессионального хоккея
нужно привыкнуть, сначала оно трудно
поддается анализу. Впервые мы взглянули
на профессиональный хоккей более
трезвым взглядом, когда попали на матч
вместе с А. В. Тарасовым. Он помог нам
посмотреть на вещи трезво. Но это лишь одна
сторона дела. Важнее то, что на каждый
новый матч или серию матчей мы
попадали с годичным интервалом, а значит,
попадали уже другими людьми.
В самом деле, профессионалы в лучшем
случае шли вперед едва заметным шагом,
а вернее всего, стояли на месте. Мы же
мчались вдогонку за ними с огромной
скоростью. Они не выходили за рамки
бесчисленных встреч шести команд одного
класса между собой. Мы, неопытные, но
жадные к знаниям, носились по миру в
поисках учителей, партнеров, в поисках всего
того, что можно было бы перенять и что
могло улучшить нашу игру. Публику
устраивал уровень их хоккея, она
восторгалась ими, платила за билеты любые
деньги и не требовала от них сегодня ничего
такого, чего они не дарили ей вчера.
Хозяева профессиональных клубов тоже были
довольны, поскольку закон коммерции
торжествовал: предложение отвечало спросу.
Но и мы не могли пожаловаться на свою
публику: едва родившись, хоккей стал
ее баловнем; наш зритель требовал от
своих любимцев высших международных
достижений, и спортсмены хотя бы из
чувства признательности за любовь не могли не
стремиться к ним. Я уже не говорю о
честолюбии, без которого человеку в
большом спорте делать нечего. И наконец
нашему хоккею повезло с тренерами. Его
всегда вели вперед люди мыслящие и
смелые. Они не боялись ставить перед собой и
своими учениками большие задачи и
знали, как подступиться к их решению. Они
никогда не довольствовались достигнутым.
Они не стыдились учиться у других, но
одновременно воспринимали зарубежный
опыт без тени раболепия, беря из него
только то, что может обогатить нашу
школу хоккея, и безжалостно отвергая все
остальное.
Давайте попробуем восстановить
историю нашего хоккея с момента его
появления на международной арене, а в качестве
вех используем наши встречи с канадцами.
После двух побед — в 1954 и 1956 годах,
побед, которые во многом объяснялись
недооценкой канадцами новичка и
непривычностью его хоккейного почерка, наступила
эпоха поражений. На множестве
последующих чемпионатов родоначальники хоккея
обыгрывали нас. Это и были для наших
тренеров и игроков годы наиболее
интенсивной учебы.
В 1963 году мы вновь стали
чемпионами мира, оставив далеко позади «Трейл
смоук итерс» — ту самую клубную
команду из Канады, которая с легкостью
разгромила нас на мировом первенстве 1961
года* На Олимпиаду в Инсбрук канадцы
впервые в истории хоккея направляют
сборную, а не клуб. И снова поражение.
Патер Бауэр пытается объяснить это
молодостью, неопытностью и несыгранностью
команды. Но годы идут, команда
взрослеет, сыгрывается и набирается опыта, а
побед над нами нет. То и дело сборная
оказывается даже за пределами призовой
тройки. Мы по-прежнему часто
встречаемся и в товарищеских матчах и в
международных турнирах. За семь последних лет
• Я смотрю хоккей
195
мы однажды проиграли клубу («Виндзор
булдогс») и, кажется, дважды — сборной.
Причем эти поражения (мы терпели их
только в Канаде) всюду расценивались как
крупная неожиданность и вызваны были
либо нашей усталостью после
утомительного перелета, либо перегруженностью
программы турне, либо недооценкой
противника (некогда так объясняли сваи
проигрыши нам канадцы). Теперь уже и наша
вторая — а фактически молодежная —
сборная стала играть с лучшими
канадскими любительскими командами более чем
успешно. И наконец пришел злосчастный
для канадцев 1969 год, когда после
бесславного поражения в Стокгольме они
запросили помощи у профессионалов.
Читатель, возможно, ждет, что вот
сейчас начнется разговор на модную тему: кто
сильнее — канадские профессионалы или
европейские любители, и кто победит в
матчах между ними. В этом споре готовы
почему-тб участвовать все, даже те, кто
сроду профессионалов и не видел. Должен
вас разочаровать: я в эту дискуссию
втягиваться не намерен. К чему схоластика?
К чему выяснять, кто лучше играет в
хоккей — Бобров или Фирсов, мы или
профессионалы,— если точного и бесспорного
ответа все равно не получишь? А вот то, что
огромного прогресса достиг наш, а вслед за
ним и весь европейский хоккей,— это
бесспорный факт. Теперь, когда мы с явным
преимуществом выиграли соревнование с
заокеанскими любителями, когда мы сами
постигли многое в этой игре, мы перестали
обожествлять профессионалов. Они сошли
на ту самую грешную землю, которую
топчем и мы, простые смертные.
Меня иногда спрашивают, хотел бы я
встретиться на поле с одной из команд
НХЛ. Если говорить откровенно,— нет, не
хотел бы. Зачем? У нас свой хоккей, у
них — свой. У нас разные площадки,
разное судейство, разное понимание игры,
разная психология. Мне больше по душе та
игра, в которую играем мы. Она изящнее,
в ней больше мысли и меньше, что ли,
грубой силы. Она больше сродни футболу,
который я люблю не меньше, чем хоккей.
Что нужно выяснить в таких встречах?
Чей хоккей лучше? О вкусах не спорят.
,- Может быть, любительскому хоккею
угрожает опасность оказаться в тупике,
задохнуться без свежего ветра, который
принесет нам общение с профессионалами?
, Напрасные тревоги. Конкуренция — этот
вернейший двигатель прогресса в спорте—
становится с каждым годом все
ожесточеннее, и стокгольмский чемпионат, где даже
победитель не избежал двух поражений,
лишнее тому подтверждение. Да,
конкурентов маловато, в Европе — всего три. Но я
уверен, что это — пока. Вот-вот подойдут
■к уровню сильнейших команды Финляндии
и ГДР, за ними последуют со временем
остальные. Не хочу и не могу ставить
крест и на канадцах. Если они не будут
искать спасения в обращении к
профессионалам, а поищут другие пути, то обязательно
их найдут. И сегодня еще нет в мире
страны, которая обладала бы такими
хоккейными резервами, как Канада.
Возможно, кто-нибудь заподозрит меня
в трусости. Профессиональный хоккей
снискал себе славу игры злой и жестокой. Но,
во-первых, мне уже тридцать один год, и
вряд ли, даже если я очень бы хотел этого,
представится возможность сыграть против
одной из команд НХЛ. А во-вторых,
поверьте моему слову: слухи о грубости и
жестокости профессионалов высшей лиги
сильно преувеличены. Второсортные
профессионалы и канадские любители, с
которыми мне приходилось встречаться на
льду многократно, те действительно не
мыслят хоккей без запрещенных приемов.
Подножки, удары исподтишка, различного
рода провокации и прочее мелкое шкодни-
чество для них обычная вещь. Идет это от
недостатка мастерства — надо же чем-то
его компенсировать. Хоккеистам же
высшей лиги мастерства не занимать, и
нарушать правила не в их интересах. Верно,
бывают время от времени у них драки,
когда игроки снимают перчатки,
отбрасывают в сторону клюшки и устраивают
импровизированные боксерские однораундовые
бои на льду. Но все это только выглядит
страшно, а на деле сплошная бутафория.
Публика любит острые ощущения, публика
«имеет право» их требовать, поскольку
платит деньги. Вот ей и преподносят цирк
на хоккейной площадке. Уверен,
профессионалам эти спектакли так же
отвратительны, как и нам, не привыкшим к зрелищам
такого сорта. Они же мастера хоккея, а не
бокса. Кроме того, как всякие мастера
своего дела, они не. могут не уважать друг
друга. А кто же станет добровольно
избивать уважаемого человека?
Нет, синяки и шишки, которые
достались бы мне во встречах с
профессионалами, меня не пугают. У каждого из нас за
хоккейную жизнь их было так много, что
еще десяток-другой никого устрашить не
может...
Но вернемся к нашим взаимоотношениям
с канадскими любителями. Эта тема еще не
исчерпана, как не исчерпаны и сами
взаимоотношения,* хотя мы канадцев уже
догнали и перегнали. Но вот странная,
казалось бы, тзещь: догнали, перегнали, но
продолжаем исправно посылать свои команды
за океан для стажировки и подготовки к
важнейшим соревнованиям. Стоит ли игра
свеч? Уверен, что стоит. И совсем не
потому, что хоккейный мир тесен и посы-
196
Борис Майоров •
лать, в общем-то, больше и некуда. Раз
некуда, то можно бы и не посылать,— у нас
и дома хоккей достаточно мощный.
Посылать необходимо по другой причине.
...Это было в 1960 году в Москве, во
время матча одной из наших клубных
команд с «Чатам марунз». Я сидел на
трибуне вместе с тренером Воскресенского
«Химика» Николаем Семеновичем Эпштей-
ном, человеком, хорошо знающим и
понимающим хоккей. «Чатам марунз» —
довольно посредственная для канадского хоккея
тех лет команда, куда более слабая, чем,
скажем, приезжавшая незадолго перед тем
«Келовна пеккерс», матч был не очень уж
и интересным, и если я говорю о нем, то
только потому, что навсегда запомнил
одну фразу, брошенную Эпштейном:
— Что, у них среди хоккеистов дураков
нет совсем, что ли?
Вы даже не представляете себе, до чего
это точная характеристика канадского
хоккея и канадских хоккеистов. Пусть в
канадском любительском хоккее не увидишь
или почти не увидишь самородка, все
лучшее забирают себе команды НХЛ, но и
откровенно слабых хоккеистов там тоже нет.
Точнее, не слабых, а малограмотных. У нас
даже в очень сильных командах сколько
угодно хоккеистов очень
талантливых*способных сотворить на поле чудо, но не
знающих, как поступить в стандартной
ситуации. У канадцев таких нет. Знание
основных положений хоккейной игры у них
четкое. Я не видел такого канадца, который
не владел бы целым набором бросков по
воротам, не знал бы основных приемов
силового единоборства, имел неправильную
конькобежную стойку, терялся бы при
решении тактических задач. Неважно, что
бросок у него не сверхмощный, что бежит,
он не со скоростью Гришина, что его
тактическое решение не отличается
хитроумием. Почти наверняка на пятерку он не сдал
бы ни один предмет, зато и «засыпаться»
не йожет. К тому же бьют канадцы,
особенно у бортов и у ворот, здорово.
Не скаясу, что мне по душе такие
команды и такие игроки. Я предпочитаю не
умеющего вести силовое единоборство, но
блестящего дриблера Александрова или не
имеющего сильного броска, но
«непроходимого» Давыдова любому «твердому
троечнику». Однако в качестве спарринг-
партнеров такие троечники очень хороши.
Пройти через матчи с ними, проверить
свой характер, свою смелость обязан
всякий, кто рассчитывает на место .в большом
хоккее. Я бы даже сказал так: игры
против канадцев позволяют хоккеисту
раскрыть себя, обнаружить в себе достоинства
и недостатки, о которых прежде не знал ни
он сам, ни его тренеры. А, согласитесь, не
знать себя опасно. Во всяком случае,
чемпионат мира не место для такого
знакомства.
Вероятно, многие наши хоккейные
тренеры завидуют своим канадским коллегам.
Не потому, что их воспитанники не такие
умные. В словах Эпштейна, как во всякой
шутке, содержится лишь доля правды. Он
имел в виду не ум в буквальном смысле
этого слова, а, если можно так выразиться,
хоккейную образованность. И тут
преимущество в большинстве случаев на стороне
канадцев. У наших слишком много
пробелов. Есть среди них и невосполнимые,
поскольку исправить их можно было только
в детстве. Но в одних случаях тренеры не
обратили на это внимания, в
других—тренера вообще не было, в третьих — парень
слишком поздно встал на коньки.
Вот Володя Шадрин, прекрасный
хоккеист. А знаете ли вы, какую фору дает он
остальным только оттого, что в детстве его
не научили правильно стоять на коньках?
Он и бежит не так быстро, как мог бы, и
сил на борьбу со льдом у него уходит
непомерно много. Но воля, характер,
трудолюбие у него железные. Он сумел развить
в себе эти качества до такой степени, что
они как бы перекрыли его недостаток. Не
всем это удается. Играл несколько лет
назад в московском «Локомотиве» мой
сверстник Борис Спиркин. Мы с ним и во
вторую сборную одновременно попали. Все
ждали, что он вот-вот станет игроком
первой сборной. Так и не дождались. Он и
большой хоккей покинул, когда ему еще
не было тридцати, причем покинул не по
своей воле. Причина одна: так и не сумел
научиться кататься на коньках.
В канадском хоккее так не бывает. Там
каждый мальчишка становится на коньки
года в четыре, а года через два отец
приводит его за ручку в детскую команду, на
искусственный каток, благо такой есть в
любом городишке. И тут уж тренер
обязательно привьет ему хорошие хоккейные
манеры, в таком возрасте это проще
простого. У парнишки есть к этому времени в
полной собственности и настоящие коньки,
и клюшка, и вся амуниция, и играет он
настоящей шайбой. Того, чему научился в
детстве, уже не забудешь. Это становится
твоей плотью и кровью. К четырнадцати-
пятнадцати годам канадский юноша уже
прочно овладевает всеми основами хоккея.
Вот почему хоккей этой страны не
может окончательно потерять свое лицо и
исчезнуть с мировой любительской арены,
как бы ни терзали его профессионалы.
(Окончание следует )
Комментарии, отклики, реплики
Рассказывает
легендарный командарм
В ноябре 1919 года в боях с
белогвардейскими полчищами родилась
Первая Конная армия.
Кавалеристы-конармейцы блестяще выполнили свои задачи, не
знали поражений в боях и заслужили
высокую оценку Коммунистической партии и
B. И. Ленина. ЦК ВКП (б) в день 15-летия
создания Первой Конной в своем
приветствии писал: «...Первая Конная армия
покрыла себя неувядаемой славой, боевыми
действиями на южном и польском фронтах и
год Перекопом вписала блестящие
страницы в историю гражданской войны и
Красной Армии.
Революционное мужество и отвага
бойцов Первой Конной навсегда должны
остаться примером для молодых поколений
бойцов, защитников нашей великой Родины».
Одной из самых ярких личностей в
Конной армии был Семен Михайлович
Буденный, ее легендарный командующий.
Военный талант и полководческое искусство
C. М. Буденного очень высоко ценил
В. И. Ленин. Осенью 1920 года в беседе с
Кларой Цеткин Ленин говорил:
«Наш Буденный сейчас, наверно,
считается самым блестящим кавалерийским
начальником в мире. Вы, конечно, знаете, что
он — крестьянский парень. Как и солдаты
французской революционной армии, он нес
маршальский жезл в своем ранце, в данном
случае — в сумке своего седла. Он обладает
замечательным стратегическим инстинктом.
Он отважен до сумасбродства, до безумной
дерзости. Он разделяет со своими
кавалеристами все самые жестокие лишения и
самые тяжелые опасности. За него они
готовы дать разрубить себя на части. Он один
заменяет нам целые эскадроны...»
В канун полувекового юбилея Конной
армии мне посчастливилось беседовать с
Семеном Михайловичем. В свои восемьдесят
шесть лет Буденный выглядит бодрым и
крепким.
В то утро в Москве лил дождь. Мы
въехали во двор дачи и на крыльце увидели
Буденного. Он сидел в кресле.
Поприветствовав нас, Семен Михайлович сказал:
— Давно не было такого ливня. Я вот
слушал, как стекает по крыше дождь, и
вспомнил наши ливни, донские... Вспомнил,
как под Воронежем, в октябре
девятнадцатого, хлестал дождь...
И стал рассказывать, как в те дни лихой
храбрец Олеко Дундич вручил ультиматум
Буденного генералу Шкуро, как храбро
сражались красные кавалеристы. В честь
взятия Воронежа Буденный
сфотографировался. А когда 28 ноября 1919 года в гости к
бойцам приехали М. И. Калинин и Г. И.
Петровский, Семен Михайлович попросил их
передать снимок В. И. Ленину на память о
победах красных конников.
В комнате Ленина в Кремле на
письменном столе и посейчас лежит небольшой,
пожелтевший от времени снимок: С. М.
Буденный в полной военной форме. Это та
самая фотография. На обороте синим
карандашом надпись: «Тов. Ленину — ком. кон.
корп. Буденный. 28/XI».
Буденный не знал поражений. Когда я
спросил маршала, в чем секрет удач
Конармии, он ответил:
— Секрет прост. Первая Конная, как и
все другие соединения Красной Армии,
являлась подлинно народной. А народная
армия, вооруженная идеями
Коммунистической партии, непобедима. Мы сражались во
имя революции, а не ради славы.— Подумав,
добавил: — Наше счастье, что Ленин высоко
оценил значение стратегической конницы и
помог нам создать ее...
Да, вождь революции увидел в сыне
бедного крестьянина, организовавшего
партизанский отряд из таких же «иногородних»,
как и он, талантливого военачальника. Уже
после гражданской войны, на VIII съезде
Советов в личной беседе с Буденным
В. И. Ленин сшросил:
— Вы понимаете, что ваш корпус сделал
под Воронежем?
— Разбил противника,— ответил Семен
Михайлович.
— Так-то просто,— улыбнулся Владимир
Ильич. И тут же сказал: — Не окажись ваш
корпус под Воронежем, Деникин мог бы
бросить на чашу весов конницу Шкуро и
Мамонтова, и республика была бы в особо
тяжелой опасности. Ведь мы потеряли Орел.
Белые подходили к Туле.
Так высоко оценил Владимир Ильич
значение победы конного корпуса Буденного
над Шкуро и Мамонтовым. И сейчас,
вспомнив один из тяжелых этапов той борьбы,
маршал говорит:
— Да, разгром корпусов Шкуро и
Мамонтова означал серьезный успех нашей
тактики и оперативного искусства. Ведь конница
Шкуро и Мамонтова была опорой Деникина,
ее генералы считались у белых самыми спо-
ТУ В
Комментарии, отклики, реплики %
собными. Вонруг них был создан ореол
непобедимости. А наш красный корпус, втрое
меньший по численности в сравнении с
белогвардейской конницей, разбил ее
наголову. Кстати, чтобы как-то оправдать своих
битых полководцев, белые выдумали и
даже напечатали в своих газетах, будто Шку-
ро и Мамонтова разбил бывший царский
генерал, чуть ли не сподвижник Скобелева.
А я при царе был всего-то урядником да
однажды временно исполнял обязанности
вахмистра.
Апрель 1920 года. Панская Польша при
поддержке Антанты готовится к войне
против Советской России. Первая Конная
должна идти на новый фронт. Дорог каждый
день. Буденный и Ворошилов приезжают в
Москву — н Ленину, чтобы решить, каким
способом перебросить Конармию на
Украину.
— Нам предлагают перевозить ее по
железной дороге, но мы не можем на это
пойти,— заявил Буденный.
— Почему? — спросил Ленин.
— Железные дороги плохие, они
разрушены войной... Мы вот ехали в Москву,
насмотрелись. На станциях часто даже воды
не найдешь. Не прокормим мы ли людей,
ни лошадей, если закупорим их в вагоны.
— Да, Владимир Ильич,— поддержал
Буденного Ворошилов,— это действительно
так. Мы понимаем добрые намерения
главного командования как можно быстрее
перебросить Конармию на другой фронт. У
нас одна цель. Но перевозить тысячи
бойцов и лошадей железнодорожным
транспортом нельзя. Таково же мнение товарищей
Тухачевского и Егорова. Надо идти
походным порядком.
— Гораздо меньше потратим времени,
чем при перевозке по железной дороге,—
заверил Буденный.
— Хорошо, я согласен. Так и передайте
главкому Каменеву. Он внимательный
товарищ и нас с вами поймет,— сказал
Владимир Ильич.— Только не растягивайте сроки,
нужно торопиться.
Октябрь 1920 года. Война с
буржуазно-помещичьей Польшей окончилась нашей
победой. Ленин подчеркивал, что главный итог
этой победы в том, что из состава
участников третьего антисоветского похода
Антанты выпала основная ударная сила.
Теперь Советская республика получила
возможность сосредоточить свои усилия на
разгроме Врангеля. На Южный фронт,
совершая семисоткилометровый марш из
района Бердичева к Каховке, двигалась и
Первая Коннная армия, 4 октября В. И. Ленин
телеграфировал Буденному: «Крайне важно
изо всех сил ускорить продвижение вашей
армии на Южный фронт. Прошу принять
для этого все меры, не останавливаясь
перед героическими. Телеграфируйте, что
именно делаете. Предсовобороны Ленин».
Призыв вождя вызвал новый подъем
боевого духа конармейцев. В ответ на
обращение Владимира Ильича Реввоенсовет
Конной телеграфировал: «Сознавая всю
важность настоящего момента для
нанесения противнику окончательного
сокрушительного удара, Реввоенсовет Первой
Конармии принимает самые чрезвычайные
меры к ускорению сосредоточения армии,
согласно приказу командюжа».
Переправившись через Днепр у Береслав-
ля и Каховки, Конармия прорвалась в
глубокий тыл врангелевцев и совместно с
войсками других советских армий нанесла
поражение белогвардейцам.
— Семен Михайлович, вы не раз
встречались с Лениным, какая черта его
характера больше всего покоряла вас? — спросил
я маршала.
— Простота. Я отметил ее при первой же
встрече, Было это в апреле двадцатого года,
когда мы с Ворошиловым прибыли в
Москву для решения некоторых военных
вопросов. С группой делегатов мы стояли в
коридоре возле Свердловского зала. Вдруг
увидели Владимира Ильича, он быстро шел по
коридору. Поравнявшись с нами,
остановился, подал мне руку. «Вот это и есть тот
самый Буденный?» Простота Владимира
Ильича не была показной, и она подчеркивала
другие замечательные черты его характера.
Взять речи Ленина. Они были сильны своей
прямотой, несокрушимой логикой, верой в
победу пролетариата, энтузиазмом. Они
властно звали к действию, и потому его
слушали, затаив дыхание. Так было на
Девятом съезде партии, где Ленин выступал
с докладом, так было на Восьмом съезде
Советов... Простота Ленина входит в сердце.
При своих величайших заслугах перед
мировым пролетариатом Ленин ниногда не
говорил: это сделал я. Он говорил: это сделали
мы, партия и народ.
— Семен Михайлович, вы трижды Герой
Советского Союза. Что помогло вам
заслужить столь высокие награды?
— Дисциплина. Умение подчинять свои
желания, свою волю общему делу.
Дисциплина — главный стержень не только в
армии, но и на производстве. А начинать надо
с самодисциплины. Позволю себе вновь
обратиться к Ленину. Своей собственной
жизнью он показывал пример той железной
дисциплины, которую вводил в
общественную жизнь. Я уже упоминал о первой
встрече с Лениным. Так вот, прощаясь с
Владимиром Ильичем, я сообщил, что
конармейцы прислали ему скромный подарок —
вагон муки и сахара.
— Да, ничего себе, скромный! — Ленин
посмотрел на меня, прищурив улыбающиеся
глаза, и тут же стал серьезным, сказал: —
Большое спасибо, товарищ Буденный.
Передайте мою благодарность и мой привет
конармейцам. Скажите им, что партия и наш
народ высоко ценят их героизм и
преданность Советской власти... Что же касается
вашего подарка, то, извините, лично для
себя принять ничего не могу, не имею права.
Прошу передать муку и сахар детским
домам. Для меня же лучшим подарком
являются ваши победы на фронте...
Буденный умолк, а потом сказал:
— Ленин у человечества один. Он живет
в делах народа. Его идеи служат
руководством к действию.
Буденный говорит не спеша. Видишь, как
дорого ему все, о чем мы сейчас беседуем.
— В бою, на войне, острее проявляется
• Комментарии, отклики, реплики
199
чувство любви к Родине. Подвиг — катего
рия нравственная. К нему человек идет
всю жизнь, со школьной парты. И любовь
к Родине проявляется прежде всего в его
делах. Жить — это бороться, бороться — это
жить. Тут не нужны слова, обещания и
тому подобное. Мысли и дела должны идти
рука об руку. А то ведь у нас еще не
перевелись «одуванчики».
Заметив мое недоумение, Семен
Михайлович пояснил:
— Одуванчик, он с виду красивый, а в
душе у него пусто. Подул ветер — и от него
ничего не осталось... Мы вот о подвиге го-
В1968 году издательство «Искусство»
выпустило в свет книгу Юрия Рюрико-
ва «Три влечения. Любовь, ее вчера,
сегодня и завтра».
В четвертом номере журнала «Октябрь» за
1969 год была опубликована рецензия
В. Черткова на эту книгу. Рецензент
подверг книгу аргументированной критине,
указал на серьезные методологические ошибки
автора, которые привели к внесоциальной,
внеклассовой, внеисторической трактовке
проблем человеческих отношений в любви.
Порочность концепции Юрия Рюрикова,
пришедшей в противоречие с
принципиальными высказываниями классиков
марксизма по проблемам любви, представляется
очевидной. Насколько нам известно, в
советской печати не было высказано никаких
возражений автору рецензии. Полемики не
возникло.
Вот это-то обстоятельство, видимо,
совершенно не устраивало некоторых зарубежных
«специалистов по русским делам», все чаще
и чаще проявляющих поистине
трогательную заботу о советском народе. На этот раз
в роли таких радетелей о нашем благе
выступили сочинители из «Нейе цюрхер цей-
тунг», издающейся в швейцарском городе
Цюрихе.
В одном из своих вечерних выпусков
газета опубликовала статейку под названием
«Об определении любви в советском
обществе» с подзаголовком «Полемика
ежемесячника «Октябрь». Статейка, как это принято в
изданиях определенного толка, начинается
весьма лихо: «Любовь продолжает занимать
советскую общественность. После того, как
в последнее время некоторые нинофильмы
и газетные статьи обсуждали проблему
любви с ее чисто человеческой стороны,
гипердогматический журнал «Октябрь», орган
Союза писателей РСФСР, также высназался
на эту тему».
Что же не устроило деятелей из «Нейе
цюрхер цейтунг» в высказываниях «Октяб-
ворили. Подвиг свершается не только на
войне, но и в труде. Иной бьет себя в грудь,
встает в театральную позу, а в деле его не
видно. Славен тот, кто скромно и
неутомимо изо дня в день выполняет свой трудовой
долг. Это и есть тот самый будничный
героизм, без которого человек в бою не
сделает броска, не закроет своей грудью
амбразуру. Вспомните мудрые слова Маркса о
том, как он понимает счастье. На такой
вопрос этот титан мысли, великий борец за
рабочее дело ответил: борьба!
А. ЗОЛОТОТРУБОВ
ря»? Может быть, по укоренившемуся в
последнее время методу, который получил
название «тактики наведения мостов», эти
люди пытаются доказать, что «любовь с ее
чисто человеческой стороны» более всего
отвечает идеалам «подлинного», или, как они
любят говорить, «демократического»,
социализма? И что в связи с этим «некоторые
кинофильмы и газетные статьи», а также
книга Ю. Рюрикова соответствуют, а взгляды
«гипердогматических» критиков не
соответствуют «правильному» пониманию
коммунистической идеологии. Ведь встречались мы
уже с подобными попытками
«скорректировать» нашу идеологию...
Но господа из цюрихской газеты, видимо,
отстают от новейших методов идеологов
антикоммунизма. Они действуют по старинке,
с наивным простодушием идеологических
провинциалов, заметно уступающих
расторопным малым из заокеанской да и
некоторых европейских столиц.
Их, оказывается, не устраивает в
рецензии «Октября» всего-навсего, что журнал
напоминает о том, «что, по Марксу, Энгельсу
и Ленину, любовь вовсе не представляет
собой нечто «чисто человеческое», но, как и
все в этом мире, есть явление, определяемое
классовой борьбой».
Господа из «Нейе цюрхер цейтунг» не
очень-то рассчитывают — надо им отдать в
этом справедливость — на свои
полемические возможности. Очевидно, авторитет
Маркса, Энгельса, Ленина столь велик даже
и для этих господ, что они и не пытаются
спорить с марксистским пониманием
проблем любви. Их цель намного скромнее: им
надо лишь доказать своим читателям, что
«Октябрь» в критике книги Ю. Рюрикова
строго опирается на высказывания
классиков марксизма, а это, по мнению газеты, и
есть неопровержимое доказательство
«гипердогматизма».
Вот кан это выглядит на страницах
цюрихской газеты: «Классики марксизма, пи-
«Нейе цюрхер цейтунг»
и проблемы любви
xuu
Комментарии, отклики, реплики Ф
шет «Октябрь», указывали на то, что
любовь — социальное явление. Она находится
в зависимости от моральных и эстетических
идеалов классового общества и обусловлена
данной исторической эпохой. Любовь
развивается в зависимости от влияния общества
и формируется последним. Ленин писал об
«объективной логике классовых отношений
в любви» и пролетарских требованиях к
ней. Особенно предосудительным находит
«Октябрь» то, что Рюриков в своей книге
вообще не упоминает капитализм и
социализм: он говорит о так называемой любви
в чистом виде, которая свободна от
влияния общества, а стало быть, и классов».
Разумеется, «Нейе цюрхер цейтунг» в
отличие от «Онтября» отнюдь не находит
предосудительным забвение классового подхода
к явлениям, забвение даже того бесспорного
факта, что сегодня на нашей планете
существуют мир социализма и мир
капитализма с их непримиримой идеологической
борьбой.
Впрочем, это расхождение в позициях
столь очевидно, что здесь можно было бы
поставить точку, если бы не еще одно
любопытное обстоятельство.
Мы уже упоминали о том, что люди из
«Нейе цюрхер цейтунг» заметно отстают в
тактике от своих более «подкованных»
коллег. Но некоторые основополагающие прием-
чини они все же усвоили достаточно
твердо. Я имею в виду жульническую
подтасовку фактов, передергивание цитат и т. п.
Дело в том, что статья в цюрихской
газете заканчивается не менее лихо, чем
начинается: «...на страницах «Литературной
газеты», органа Союза писателей СССР, одна
писательница сетовала на то, что в СССР,
по крайней мере в течение десяти последних
лет, не было опубликовано ни одной
прекрасной повести о любви. Следует,
вероятно, этот факт поставить в связь с учением
о любви, проповедуемым журналом
«Октябрь».
Что же сказано в «Литературной газете»?
Карачаевская писательница Нина Байра-
мукова в номере от 9 апреля 1969 года
выступила со статьей «Жизнь прозы и
«проза» жизни». Автор делится с читателями
некоторыми размышлениями о современном
состоянии прозы горских народов, прежде
всего карачаевского. Один из разделов статьи
посвящен литературе на тему, которую
писательница называет «областью личного
счастья». Что же пишет об этом автор?
«Тема личной жизни представляется иным
писателям да и критикам чуть ли не
вневременной темой. На деле это не так:
современность отчетливо формирует все
многообразие проявления характеров,— а где же
это происходит непроизвольнее и
откровеннее, чем в личных отношениях?!»
Не правда ли, это высказывание, в
котором подчеркнута именно общественная
обусловленность человеческих проявлений,
намного ближе к позиции «Октября» (рецен-.
зия В. Черткова), чем к книге Ю. Рюрикова?
Но пойдем дальше.
«Мой дом — моя крепость» — эта старая
поговорка отнюдь не потеряла своего
значения, особенно в жизни горских народов.
Новое, передовое, истинно
социалистическое, давно и
прочно вошедшее в общественную
жизнь народов Северного Кавказа
(разрядка моя.— Ю. И.), не всегда побеждает за
дверьми этой самой крепкой, домашней
крепости. Поэтому активное вторжение
литературы в сферу личной ж и з-
н и составляет общественную
необходимость (разрядка моя.— Ю. И.)».
Здесь уже все предельно ясно. Речь идет
о необходимости распространения
общественного влияния на сугубо
личные отношения, кое-где
искусственно скрываемые от этого влияния,
о преодолении пережитков, коренящихся в
национально-специфических особенностях
истории горских народов, о подчинении
личной жизни нормам общественной
нравственности, как более высоким.
И лишь после всего сказанного
и в связи с этим сказанным Нина
Байрамукова пишет: «К сожалению,
критиков, опасающихся , видимо, «выпячивания
личного за счет общественного», мало
беспокоит тот факт, что не только в
карачаевской или северокавказской, но и во всей
многонациональной советской литературе
мало и редко — чуть ли не раз в
десятилетие! — появляются прекрасные повести о
любви».
Конечно, термин «прекрасные» в данном
контексте достаточно условен и
субъективен. И лично я думаю, что Нина
Байрамукова чересчур уж строга в своей оценке нашей
литературы, посвященной теме любви. Но
уж совершенно бесспорно другое — то, что
автор статьи в «Литературной газете» ищет
критерии прекрасного в теме любви отнюдь
не на путях обособления ее от всего
социального, временного, исторического, а как
раз наоборот — в укреплении общественной
обусловленности личных отношений. И
если уж ставить мысли, высказанные Ниной
Байрамуковой, «в связь с учением о
любви, пропагандируемым журналом «Октябрь»,
то только в плане совпадения исходных
позиций — позиций марксистских.
В заключение хотелось бы сказать только
одно. Идеологический противник всегда
использовал и будет использовать в своих
пропагандистских целях любые наши
ошибки, недостатки и даже несчастья. И этого,
как учил Ленин, бояться не надо. Но одно
дело, если на фельетоне о двух взяточниках
идеологический противник вскормит утку о
разложении социалистического общества, и
совсем другое, если советский автор
создает книгу, отдельные положения которой
расцениваются за рубежом как
свидетельство несогласия с коммунистической
идеологией.
Над этим стоит призадуматься —
призадуматься спокойно и озабоченно.
Юрий ИДАШКИН
•
И скусство
В л. БУШИН
Экран в свете гуманизма
ЗАМЕТКИ О ШЕСТОМ ■
МОСКОВСКОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ
Кинематографу идет восьмой
десяток... Это почтенный возраст для
человека, но' для вида искусства — а
некоторые «виды и жанры пережили
становление, расцвет и гибель государств,
народов, цивилизаций — такой срок
почти ничто. И, однако же, в наш век, в
пору все ускоряющегося развития едва
ли не во всех сферах бытия, и этот срок
оказался достаточным для
поразительных успехов нового вида искусства,
явившегося синтезом художественного и
технического гения человека.
Кинематограф все более властно и
глубоко вторгается в дела и думы
людей, все шире охватывает земные
пределы. За время жизни одного поколения
он вышел из кустарных киноателье и
полукустарных кинофабрик на просторы
наций, государств, континентов. Одних
только полнометражных художественных
фильмов ныне создается ежегодно около
трех тысяч. Короткометражных же
(документальных, научно-популярных,
учебных и т. п.), по подсчетам некоторых
специалистов, тысяч пятьдесят.
В этих гигантских* цифрах с каждым
годом все большую долю составляет
продукция совсем молодых, даже
начинающих кинематографий, прежде Bdero
кинематографий стран Азии и Африки.
Если еще лет десять—двенадцать тому
назад нам было известно лишь
китайское да японское, индийское да
египетское кино, то теперь мы знаем фильмы
Пакистана, Нигера, Сомали, Сенегала,
Камбоджи, Туниса, Иордании и других
стран. Это дало возможность провести в
Ташкенте Первый кинофестиваль стран
Азии и Африки.
Ныне, когда идеологическая борьба
социализма и капитализма, сил
демократии и реакции, мира и войны вступила
в стадию небывалой напряженности и
остроты, нередки и такие случаи, когда
борьба на экране выплескивается за его
пределы и бушует в самой жизни.
Особенно часто это случается вокруг
фильмов, так или иначе
рассказывающих о нашей стране, о героической
борьбе Вьетнама, о великих социальных
сдвигах, происходящих сейчас в мире,
о рабочем классе.
Норвежский режиссер Кнут Андерсен
привез на Московский фестиваль свой
фильм «Выжженная земля», в котором
речь идет о дружбе трудящихся
Норвегии и воинов Советской Армии, о их
взаимной поддержке и помощи в радостные
и трагические дни освобождения страны
Ч)? фашистских захватчиков. Фильм этот
не художественный вымысел, в его
основе лежат действительные факты. Фильм
идет сейчас в стране с огромным
успехом, и зритель и критика оценили его
высоко. На Московском фестивале ему
присуждено несколько премий. Но путь
этого честного, гуманного и
мужественного фильма к зрителю и к признанию был
долгим и трудным. Почти десять лет
готовый сценарий пролежал без движения:
никто не желал его ставить. Помогли
сами трудящиеся, помогли советские
кинематографисты. Задушить прогрессивный
замысел не удалось.
Известный японский режиссер Сацуо
Ямамото, откликаясь на просьбу
рабочих, решил поставить фильм о
беспримерной пятилетней забастовке на
металлообрабатывающем заводе «Ниппон ро-
202
Вл. Бушин #
ру». На постановку требовалось около
шестидесяти миллионов иен.
Рассчитывать на участие могущественного
продюсера, на поддержку сильных мира кино и
тут не приходилось. Сами рабочие
собрали шестнадцать миллионов иен,
остальное удалось наверстать за счет
бесплатного участия рабочих (почти
четырнадцати тысяч) в массовых сценах, за счет
того, что режиссер, сценарист, оператор,
технический персонал — все трудились
безвозмездно. Фильм под названием
«Завод рабов» был снят. Не сумев
задушить дитя в колыбели, реакционные
силы попытались закрыть ему дорогу в
мир: прокатчики отказались
предоставить залы для демонстрации фильма. Но
картину стали показывать в рабочих
клубах, в мелких независимых
театриках, в парках под открытым небом.
«Успех оказался потрясающим,—
рассказывает исполнитель главной роли,
гость Московского фестиваля актер Аки-
ра Кимура,— это самая кассовая
картина года, она демонстрируется до сих
пор».
Такой же заговор возник и вокруг
фильма французского режиссера Берна-
ра Поля «Время жить», в котором
автор поставил своей целью рассказать,
как беспощадная система
капиталистической эксплуатации разрушает здоровье
рабочих, их семейную жизнь, их души.
Два года режиссер собирал деньги на
постановку. Но денег было все-таки мало,
и фильм появился на экранах лишь
благодаря тому, что все актеры (а среди них
есть и такие знаменитые, как Марина
Влади) отказались от высоких гонораров,
а рабочие городка Мартиг, близ
Марселя, где происходили съемки, сделали все,
чтобы помочь постановщикам. На
фестивале в Москве этот фильм «за
достоверное изображение жизни рабочей семьи»
отмечен наградой Союза
кинематографистов СССР.
Режиссеры нескольких стран (СССР,
США, Англии, Японии, Голландии)
сняли фильмы о Вьетнаме. Разумеется,
они преследовали разные цели. В
голливудских «Зеленых беретах»,
представляя американских парашютистов во
Вьетнаме живым воплощением всех
мыслимых добродетелей, авторы делают
гнусную попытку извратить истинную
суть пребывания американцев на
вьетнамской земле. Фильм этот вот уже
второй год американская пропаганда
всеми средствами пытается навязать
зрителям разных стран мира, но едва ли
не повсеместно его демонстрация
сопровождается протестом демократических
сил, а то и схватками с полицией. Так
было даже в натовской Бельгии, в ее
столице Брюсселе. В первый же день
демонстрации фильма зал кинотеатра
«Эльдорадо», а затем и центральная площадь
города стали местом отчаянной схватки
зрителей и полиции. Несколько десятков
человек были арестованы. В связи с этим
газета «Пёпль» писала: «Что ж,
полицейская дубинка, видимо, становится одним
из излюбленных инструментов
кинокритики». Сказано едко, но, увы,
неисчерпывающе: «инструментом кинокритики»
ныне в руках реакции стали не только
полицейские дубинки, но и слезоточивые
бомбы и даже пули...
Прогрессивный нидерландский
режиссер, лауреат Ленинской премии - мира
Иорис Ивенс тоже снял фильм о
Вьетнаме — «Семнадцатая параллель». Эта
лента правдиво и страстно рассказывает
о злобном бессилии американцев в
стремлении к военной победе, об их зверствах,
и о мужестве, непреклонности сынов
и дочерей Вьетнама. На пути фильма
реакционеры всех стран, где он
демонстрировался, чинили и чинят самые
подлые препятствия. В Тулузе (Франция) в
зрительный зал бросили слезоточивую
бомбу. Но зрители вышвырнули ее,
проветрили помещение и досмотрели фильм
до конца...
■ ГУМАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
И БОРЬБЫ
Та часть мирового киноэкрана,
которая открылась нам в дни последнего
Московского -фестиваля, заставляет о
многом задуматься, побуждает к
серьезным выводам относительно и
сегодняшнего дня мирового кино и самого нашего
фестиваля.
Задуматься о характере, существе и
видах на будущее Московского
фестиваля побуждает несколько причин. И то,
что он в этом году юбиляр — ему
исполнилось десять лет,— и то, что во всем
мире сейчас ведутся упорные разговоры
о «кризисе кинофестивалей», и то, что
на этот раз в, нашем фестивале прояви-
# Экран в свете гуманизма
203
лись такие тенденции, каких ранее не
было...1
Московский фестиваль проводится под
девизом «За гуманизм киноискусства,
за мир и дружбу между народами!».
Многие фильмы нынешнего фестиваля
ясно и четко соответствовали этому
девизу. В первую очередь хочется назвать
здесь фильмы о минувшей войне, а
среди них уже упоминавшуюся норвежскую
ленту «Выжженная земля». За
талантливое воплощение средствами кино
мужественной стойкости народов в борьбе
с фашизмом она удостоена диплома и
одновременно наград Советского
комитета защиты мира («За гуманизм и
глубокое решение темы дружбы между
народами в совместной борьбе с
фашизмом») и редакции журнала «Искусство
кино» («За талантливое, впечатляющее
воплощение темы сближения и
взаимопонимания народов»). Формулировки
решений о награде, как видим, различны,
но все они справедливы, поскольку лишь
подчеркивают тот или иной мотив,
выделяют тот или иной аспект в
содержательном, подлинно гуманистическом
антивоенном фильме.
Фильм югославского режиссера Анту-
на Врдоляка «Когда слышишь
колокола», рисует пеструю и сложную картину
партизанской борьбы е захватчиками.
Эта борьба объединяет людей разных
'взглядов, характеров, веры, ибо над
всеми различиями царит общая
патриотическая боль за униженную родину,
единая гуманистическая идея защиты
жизни и будущего. Фильм дает живое,
неприкрашенное воплощение этих
различий и показывает убедительную победу
единства.
Специальный приз присужден и
другой югославской ленте на тему войны —
короткометражному фильму «Березы»,
в котором рассказывается, как дети
города Пожаревец получили в подарок от
советских ветеранов войны молодые бе-.
1 В данной статье речь идет почти
исключительно о полнометражных
художественных фильмах, которые были показаны на
конкурсных и внеконкурсных просмотрах
фестиваля. Эти фильмы, естественно,
составили ядро фестиваля, именно они
определили его лицо. Но важное значение имели
также конкурсы короткометражных лент,
фильмов для детей и ретроспективный
показ работ на ленинскую тему. Понятно-, что
невозможно в одной статье охватить все,
однако автор весьма сожалеет об
известной неполйоте своей работы и просит не
забывать, что все суждения, оценки,
выводы относятся лишь к той основной части
фестиваля, которую составили
полнометражные художественные фильмы.— В. Б.
резки и посадили их на мемориальном
кладбище в память четырехсот
пятидесяти одного воина Красной Армии, павших
при освобождении этого города.
Отмечена призом и еще одна картина
о войне — на этот раз не о прошлой, а о
нынешней, сегодняшней —
короткометражная лента Республики Южный
Вьетнам «Дорога на передовую».
Вьетнам вот уже много лет является
ареной вооруженной борьбы против
империалистической агрессии.
Киноискусство и в Северном и в Южном Вьетнаме,
существующее всего десять лет,
полностью поставлено на службу священному
делу. Мы видели это на предыдущем
фестивале в Москве, где были показаны
документальные или построенные на
документальной основе художественные
картины кинематографистов * ДРВ,
рассказывающие о жертвах и победах
народа в борьбе за свою свободу и
независимость: «У ворот ветра», «Нгуен Ван
Чой», «Партизаны Ку Ти». На
фестивале в Ташкенте эту линию продолжили
документальный фильм Национального
фронта освобождения Южного Вьетнама
«Освобождение центральной части» и
фильмы ДРВ «Один день Ханоя», «Буря
поднимается».
Перед началом демонстрации
вьетнамские товарищи часто извинялись за
технические несовершенства своих лент. И
действительно, несовершенства были: то
нарушалась четкость изображения, то
камера слишком быстро перебегала с
одного объекта на другой, то она дрожала
в руках оператора... Но, как это ни
странно, вопреки всем законам эстетики,
недостатки оборачивались достоинствами
в глазах зрителей: все понимали, что,
если неважное изображение, значит, у
вьетнамских товарищей нет лучшей
пленки, значит, невероятно трудны
условия работы операторов; если камера
слишком «торопится», то, возможно,
съемка велась под обстрелом или под
бомбежкой; если камера дрожит, то
ведь, может быть, ее держал
истекающий кровью оператор, может быть, это
его последние в жизни кадры...
Азербайджанский режиссер Аждар
Ибрагимов, почти три года проведший во
Вьетнаме, снимая там фильмы и обучая
вьетнамских кинематографистов,
рассказывает: «Павильонами служат окопы,
кино лабораториями — землянки... Уже
204
Вл. Бушин •
двое моих учеников, режиссер и
оператор, ранены».
Из вьетнамских фильмов, показанных
на фестивалях в Ташкенте и в Москве,
встает правдивый образ революционного
народа, работающего и сражающегося,
гордого и бесстрашного, спокойного и
уверенного в победе.
Фильмы о войне, отмеченные на
Московском фестивале наградами,
различны и в жанровом и в художественном
07 ношении, но их сближает единое
понимание того, что есть дружба, мир,
гуманизм и как их следует защищать.
Концепция дружбы народов строится здесь
на необходимости взаимного уважения и
доверия между людьми разных наций,
убеждений и верований: у К.
Андерсена это русские и норвежцы, у А. Врдо-
ляка — сербы и турки, православные,
католики и мусульмане. Их понимание
мира основано на отрицании агрессивных
устремлений, на идее защиты родной
земли от захватчиков. Их гуманизм —
это гуманизм действия и борьбы. В
норвежском фильме крестьяне не просто
вчуже сочувствуют пленным русским, а
идут им на помощь, с риском для
жизни прячут и спасают одного из них. В
югославской картине герои не только
страдают от фашистского ига, но и
делают все, чтобы вызволить родину,
родной народ из пучины бедствий. Во
вьетнамской ленте мы видим истерзанную
врагом землю, но видим и то, как
крепко держат в руках оружие дети этой
земли, как умеют они за себя постоять,
дать отпор захватчикам.
■ РАССКАЗАНО НЕ ВСЕ.
НО КАК РАССКАЗЫВАТЬ?
Существует гуманизм и другого
рода — гуманизм пассивного сочувствия,
сострадания, жалости; он лишь
обращает наше внимание на то, как
отвратительно зло, но в нем нет действенной
силы, наступательного духа. На
фестивале было немало фильмов из
капиталистических стран именно такого
направления. Они имели полное право
появиться на фестивальном экране. Нет
основания пренебрегать ими на международном
смотре. Режиссер одной из
социалистических стран заявил в первый день
фестиваля: «О старом буржуазном мире, о
его законах, об отчужденности между
людьми в нем уже все рассказано».
Думаю, что это не совсем верно.
Большая часть человечества живет пока в
старом мире, и этот мир, как все на
свете, движется, изменяется. Поэтому, пока
он жив, не будут иметь смысла слова
«уже все рассказано». И этот мир в
борьбе противоположностей рождает свои
ценности, мимо которых мы не имеем
права проходить.
В этом году нашему кинематографу
исполнилось пятьдесят лет. В передовой
статье, посвященной знаменательной
дате, «Правда» подчеркивала:
«Пронизанное идеями социалистического
гуманизма, верой в человека, страстно
сражающееся за мир и дружбу между народами,
советское кино противостоит
реакционному буржуазному кинематографу». Это
бесспорно. Но бесспорно и то, что мы
находим союзников среди деятелей кино
капиталистических стран и находим их
прежде всего там, где живы традиции
гуманизма. Гуманизм определенных
слоев буржуазного общества — при всей
его непоследовательности, вялости,
пассивности — лучшее, что в этом обществе
есть, и мы не можем от него
отмахиваться. Мы так и понимали дело, когда
провозглашали гуманизм одним из
слагаемых девиза нашего международного
кинофестиваля; имелся в виду не только
гуманизм социалистический,
пролетарский, но и в лучших его проявлениях
гуманизм прогрессивных художников
буржуазного общества, который может
быть и часто оказывается на деле нашим
союзником в борьбе за социальный
прогресс. Доктор Спок не коммунист, но
его борьба против американской
агрессии во Вьетнаме способствует делу мира.
Английский фильм «Человек на все
времена» поставили не коммунисты, но его
герой Томас Мор выступает рыцарем
нравственной чистоты и силы,
бескорыстия и человеческого достоинства, и мы
не можем не приветствовать это.
Разумеется, и буржуазный гуманизм
не есть нечто монолитное. В нем
существуют градации, переходные формы.
Концепция жалостливого, пассивного
гуманизма, уже упомянутого и наименее
для нас притягательного, чаще всего
вставала перед нами в продукции
индийских, пакистанских, арабских
киностудий. Наиболее отчетливо она была пред-
ф Экран в свете гуманизма
205
ставлена в пакистанском фильме «Река
течет» и в некоторых других.
Характерной особенностью
произведений такого рода является то, что силы
добра я зла не вступают в борьбу, а
просто зло угнетает добро; если же в
конце концов зло терпит крах,
наказывается, если добродетель спасается- и
торжествует, то все это происходит в
результате вмешательства некой третьей,
часто совершенно случайной силы.
Как ни далек от пакистанского
фильма по времени действия, содержанию,
жанру; стилю, мастерству английский
фильм «Оливер!», поставленный по
роману Диккенса «Оливер Твист», но и
тут в основе лежит тот же тип
сострадательного гуманизма со всеми его
наиболее характерными признаками: почти
полная безответность и беззащитность
добродетели (маленького страдальца
Оливера), его счастливое избавление от
гнета и гибель зла (беспощадного
деспота Билла Сайкса) под ударами внешней
силы (возмущенная толпа, полиция).
Конечно, и сам роман, в общем-то,
представляет собой образец гуманизма
именно такого рода. Но у Диккенса и в этом
романе и в других произведениях тот
же тип гуманизма выглядит все-таки
иначе: поражает пронзительность его
звучания, сила, «густота». В фильме же
он сильно разбавлен, ослаблен. И едва
лиг могло быть иначе при обращении к
форме музыкальной кинокартины.
Мьюзикл — чрезвычайно популярная
сейчас на Западе форма. Раньше это
был почти исключительно коммерческий
развлекательно-зрелищный жанр, но в
последние годы наметилась тенденция
облекать в форму мьюзикла темы
социально значимые, острые и даже
больные. Мьюзикл «Вестсайдская история»
поведал о трагической неприкаянности,
потерянности, озлобленности
американской молодежи. Мьюзиклом стала
социально острая философская пьеса
Бернарда Шоу «Пигмалион».
Драматический сюжет, по которому когда-то был
поставлен Федерико Феллини трудный,
сложный и глубоко гуманный фильм
«Ночи Кабирии», в дни Московского
фестиваля можно было видеть
претворенным в яркое, красочное
музыкальное зрелище «Милая Чарити». И вот,
наконец, Диккенс...
«Что, собственно, происходит? И как
далеко это может зайти? — тревожно
спрашивает критик Ю. Богомолов, и тут
же успокаивает нас: — Ничего
страшного. Просто серьезное, общественно
значимое искусство дает бой
коммерческому кино на его исконной и законной
территории». Отчасти это справедливо.
«Вестсайдская история» или
«Оливер!» — это в своем роде действительно
замечательные произведения:
прекрасная музыка, отлично поставленные
хореографические сцены, веселые или
трогательные песенки, хорошие актеры... Но
нельзя не сказать и о том, что в этом
бою на чужой территории серьезное
искусство несет большие, невосполнимые
утраты в сфере чрезвычайно важной —
в остроте социального звучания, в силе
гуманистического пафоса.
В предисловии к роману Диккенс
заявлял о своем намерении правдиво
изобразить жизнь, обличить пороки
общества, показать «реальных членов
преступной шайки, нарисовать их во всем
их уродстве, со всей их гнусностью,
показать убогую, нищую их жизнь,
показать их такими, каковы они на
самом деле». Диккенс описывал
«холодные, серые, ночные лондонские улицы,
в которых не найти пристанища;
грязные и вонючие логовища — обитель всех
пороков; притоны голода « болезни;
жалкие лохмотья, которые вот-вот
рассыплются...»
В фильме же Кэрола Рида мы видим
панорамы ярких, оживленных улиц,
красочных веселых торговых рядов, толпы
беззаботных людей... Бездомные
бродяжки и их властители уже не кажутся
таким несчастным или жестоким
порождением социальных пороков и
противоречий, когда в своих логовах и притонах
они танцуют, живописно тряся
лохмотьями, и беспечно распевают:
Если хочешь быть с деньгой.
Шарь в карманах, милый мой!..
Или даже:
Жизнь чудесно хороша!..
Судья, осуждающий ребенка, уже не
представляется таким страшным и
бездушным воплощением античеловеческой
сути капиталистического общества, когда
мы видим, как в момент судебного
разбирательства он тайком пропускает рю-
машечку. И даже голодные детишки в
работном доме не выглядят так страш-
206
Вл. Бушин -••
но, когда они слаженно и красиво
исполняют массовый танец...
Один критик сразу после просмотра
красиво и убежденно писал: «Верится,
что Чарльз Диккенс, любивший красные
розы и человеческую улыбку, маленьких
детей и мужскую честность, человек
великого жизнелюбия и гуманизма,
сегодня радовался бы вместе с нами,
наблюдая музыкальное жизнеописание не
принадлежащего ему мальчика
Оливера». Мне трудно разделить такую
уверенность, ибо, на мой взгляд, в фильме
слишком многое не принадлежит
Диккенсу, самое главное, ему не
принадлежит тот шутливо-декоративный,
облегченный и разбавленный гуманизм,
которым снабжен фильм. Этого может не
понимать одиннадцатилетний Марк
Лестер, исполнитель роли Оливера,— он
еще не читал роман Диккенса, но как не
видеть это взрослому человеку?
Сколько-нибудь серьезное
гуманистическое звучание в фильме имеет,
пожалуй, лишь образ доброй, мужественной
Нэнси, которая, несмотря на свою
любовь к Сайксу, на давнее
беспрекословное послушание ему, все же находит в
себе силы пойти против его воли, встать
на защиту Оливера и мужественно
погибнуть, спасая ребенка. Образ Нэнси в
прекрасном исполнении Шани Уаллис, на
мой взгляд, самое важное, живое, что
есть в фильме, ибо в этом образе, зало^
жено зерно гуманизма протестующего,
действенного, борющегося.
Уже не одиночку-борца, а целую
деревню, восставшую на тирана, и не
поражение, а победу в этой борьбе
представила нам оаровская лента «Немного
страха» (отмечена наградой журнала
«Советский экран»). В этом фильме
сделана интересная попытка исследовать
психологические корни деспотизма,
Сначала перед молодым негодяем Астисоми
его бандой все покорствует. Кто-то
выражает надежду на то, что со временем
бандит изменится, станет мягче. Но
мудрый и храбрый старец шейх Ибрагим
говорит: «Зачем ему меняться? Ему и
так хорошо. Измениться должны мы
сами — люди деревни».
Первой осмеливается сказать тирану
«нет» хрупкая красавица Фуада. «Это
самое громкое «нет», которое я слышал
в жизни»,— говорит шейх Ибрагим. Она
же, отбросив страх, пускает на поля
феллахов воду, которую перекрыл Астис.
Это служит началом общей борьбы,
которая в конце концов приводит к
расправе над злодеем, к его гибели.
Возможно, этот фильм, рисующий
картину победы добра над злом в
открытой схватке, лишенный обычной для
многих египетских фильмов вялости и
жалостливой чувствительности, знаменует
новый шаг в развитии египетского кино,
сделанный под напором суровых
обстоятельств жизни.
■ ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ
НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
Бесспорна гуманистическая
направленность тех фильмов Московского
фестиваля, которые показывают бездушный
и рваческий, утилитарный и суетный
характер современной буржуазной
цивилизации, ее дешевую, показную суть,
безликую стандартность, ее
изнуряющий темп, изматывающую хватку. В той
или иной степени этому посвящены
некоторые фильмы Франции, ФРГ, Англии.
Ныне капиталистическое общество
переживает невиданно интенсивный
процесс стандартизации быта, нивелировки
образа жизни, мыслей, чувств. Может
быть, наиболее бесчеловечной и
жестокой стандартизации подверглась одна из
важнейших сфер бытия — труд.
Известный американский социолог Д. Джил-
лиспай констатирует: «В
промышленности человек превращается в
экономический атом, который пляшет под дудку
столь же атомистического управления.
Вот твое место; вот так ты будешь
сидеть; твои руки будут двигаться на
X дюймов в радиусе У; время
движения — столько-то долей минуты. По
мере того как плановики,
хронометристы, ученые-экономисты все больше
лишают рабочих права свободно мыслить
и действовать, труд становится все
менее творческим, все более однообразным
и бездушным. Рабочему отказывают в
самой жизни; всякая попытка анализа,
творчества, всякое проявление
любознательности, всякая независимая мысль
тщательно изгоняются». И это
относится не только к промышленности, не
только к индустриальному рабочему.
Столь же беспощадное физическое и
нравственное угнетение, столь же дикое
обесчеловечивание происходят также и
в сельском хозяйстве, и в сфере
обслуживания, и в управлении. Жизнь, не-
# Экран в свете гуманизма
207
смотря на обилие внешних признаков
свободы и разнообразия, в сути своей
становится все более монотонной,
скучной, безликой.
В старом фильме Чаплина «Новые
времена» (1936 г.) или в показанной на
Пятом Московском фестивале ленте
американца Роберта Муллигана «Вверх
по спусковой лестнице» мы видели
гнетущую и опустошающую монотонность
самого процесса труда. На Шестом
фестивале подобных фильмов не было, но
были ленты, в которых перед нами
вставали удручающие результаты такого
труда. _ В упоминавшемся фильме «Время
жить» автор взял героем
рабочего-строителя. Он лишь мельком показан на
строительной площадке, но мы видим,
как однообразно изнурительный труд,
погоня за сверхурочными часами в
надежде оплатить в рассрочку приобретенный
уют опустошают его физически и
духовно, лишают полноты жизни и приводят
к развалу семьи. Действительно,
рабочему отказывают в самой жизни. Время
жить? Его нет у нашего героя.
Фильм известного французского
режиссера Жака Тати, отмеченный
серебряным призом, озаглавлен
по-английски: «Play time». У нас это перевели,
как «Время развлечений». Видимо,
такой перевод и дал основание одному
критику заявить, что, мол, посмотрев
фильм, воочию видишь: «В обществе
тупого благополучия человеку ничего не
остается, как веселиться напропалую...»
Думаю, что правильнее было бы
перевести название фильма как «Перерыв
на развлечения» или даже «Тайм (в
спортивном смысле этого слова)
развлечений». Да, именно тайм. Идет долгая,
изнурительная, однообразная
игра-борьба —„ее мы видели в фильме «Время
жить»,— и вот, устав от нее, вконец
вымотавшись, люди берут тайм-аут: они
хотят отдохнуть, развлечься. Но и в этом
тайме их ждет однообразие, стандарт.
Фильмы «Время жить» и .«Плей тайм»
трудно воспринимать вне их бесспорного
внутреннего единства.
Лента Жака Тати довольно отчетливо
распадается на две части, являющиеся
частями одной и той же мысли. В первой
словно бы ничего не происходит, просто
некий странноватый своей
старомодностью господин средних лет явился в
некий оффис, где ему надо кого-то найти,
что-то узнать. Его окружают
полированные стены, надувные кресла,
пластмассовые кабинеты, быстроходные лифты,
кнопки, рычажки, телефоны... Среди
всего этого он ищет нужного ему
человека, тот тоже хочет найти его, но они
не могут встретиться в этих предельно
рационализированных джунглях.
Человек не может найти человека...
Во второй части наш герой проводит
вечер в только что открывшемся
экстрамодном ресторане. И здесь под ворохом
комических происшествий, забавных
нелепиц, горьких шуток проглядывает
бездушный и жестокий лик
американизированного быта.
В одной рецензии на этот фильм,
поощрительно озаглавленной «Человек в
общем не пропадет», можно было
прочитать: «Дело в том... что человек может
понемногу обжить эту техническую эру,
«обмять» ее по себе. И в- этом самом
американизированном «драгсторе» уже
звучит знакомый парижский аккордеон
и разный люд толчется здесь
дружелюбно и привычно». Словом, не о чем
беспокоиться, возможности человека
безграничны, они выручат его и на этот раз.
Я думаю, дело обстоит иначе.
Человек, конечно, не пропадет, но пропадает
человечность, теснится личность,
попирается индивидуальность, и фильм этот
не о безграничности адаптационных
возможностей человека, а об опасности,
грозящей человечности не столько со
стороны «технической эры» самой по себе,
сколько со стороны унификации,
стандарта, «скоропалительно
модернизирующейся пластмассовой действительности».
Разумеется, между «технической
эрой» и унификацией существует
определенная связь, но она не столь
фатальна и необорима, как уверяет кое-кто за
рубежом да и у нас. Эта связь
действительно обретает такой характер лишь
в условиях творческой пассивности,
лишь в обстановке непротивления,
неумения проявить свою волю или при
отсутствии ее.
■ ПЕНЗА — МЕЛЬБУРН,
КОНОТОП — ЧИКАГО
Леонид Лиходеев, который вел на
страницах журнала «Спутник
фестиваля» юмористические «Заметки на
полях, фестиваля», в одной из них, говоря
208
Вл. Буш ин ■?#
о достоинствах кинохроники, подчеркнул,
что, мол, <шна никогда не ездит в
Америку снимать Европу и никогда не ездит
в Пензу снимать виды Мельбурна и
наоборот».
Неужели еще не ездит? Право же,
зря! Тут таятся огромные резервы
экономии средств...
Однажды я опоздал на конкурсный
просмотр. Вошел в зал, когда фильм
уже начался, и не знал, что это за
лента. Пробравшись на свободное место и
наконец-то уставясь на экран, я увидел
«дворцы из бетона и стекла». Такие
именно дворцы, что я едва не
воскликнул: «Ба! Да это же никак проспект
Калинина, гордость архитектора Посохи-
на?! Или чечулинское детище в Зарядье?
Или новое здание «Националя» на улице
Горького? Ловко! Новинки, как
говорится, а уже в кино пущены...»
Увы, я ошибся, это был Мельбурн.
Шел фильм австралийского режиссера
Тима Берстала «Две тысячи недель». Не
знаю, нравятся ли Берсталу
мельбурнские дворцы из бетона и стекла, но,
вероятно, и он, оказавшись в Москве, в
свою очередь, воскликнет: «Ба!..»
В этой статье, разумеется, не место
подвергать всестороннему рассмотрению
сложный вопрос о том, почему и в наше
социалистическое бытие закрадываются
элементы стандарта, безликости,
удручающего однообразия. Тут есть
причины и обстоятельства, заслуживающие
особого и весьма серьезного разговора
различных специалистов. Но отметить
одну из причин совсем иного рода все-
таки хотелось бы. Это страшная боязнь
отстать от мировой моды, невероятное
желание иметь возможность при случае
сказать: «Пардон, у нас это не хуже, чем
в Чикаго!»
В фильме «Плей тайм» старая
парижанка останавливается у витрины
американизированного магазина и пытается
прочитать ценники <и этикетки на
товарах. Она не может это сделать, так как
все написано по-английски. С досадой и
болью старушка говорит: «Что они, не
могли написать по-французски? Как
будто ты не дома...»
Да, люди хотят жить дома! Французы
хотят, чтобы это был французский дом,
англичане — английский, русские —
русский...
Нивелировка, опасность утраты
национального своеобразия, исторических
особенностей облика городов беспокоят
сейчас. многих архитекторов и
строителей. «Радуясь успехам массового
строительства,— пишет первый секретарь
правления Союза архитекторов СССР
Г. Орлов,— мы в то же время не вправе
закрывать глаза на серьезные упущения
в архитектурном творчестве, на
известное однообразие новых жилых районов,
на значительную утрату городами их
индивидуального облика».
Фильмы «Плей тайм», «Время жить»,
«Пьер и Поль», показанные на
фестивале, я воспринял как предупреждения
всем нам: «Осторожно! Унификация!..»,
«Осторожно! Безликость!..»
На мой взгляд, эти предупреждения
полны большого позитивного значения и
глубокого человеческого смысла.
Тот же озабоченный голос я услышал
и в изящной, умной комедии Анджея
Вайды «Ловля мух». Она ценна прежде
всего тем, что мы видим в ней, как
духовный стандарт, мода на поведение и
взгляды, интеллектуальная нивелировка
находят место и в мире социализма.
Главная героиня фильма очаровательная
студенточка Ирена в огромных
экстрамодных зеленоватых очках буквально
напичкана «новейшими»
представлениями, идеями, вкусами. Ее жизнь —
деловое функционирование с целью не
отстать от моды. Ее мораль: «Отбросим
предрассудки!» Ее идеал — резкий
мужчина с ленивыми движениями. Она
без конца может щебетать о
современных концепциях времени,
структурализме и тому подобных вещах, ничего в
них толком, конечно, не понимая. Точно
так же, как в наших фильмах «Не
самый удачный день» (сценарий Ю.
Семенова и Ю. Егорова, режиссер Ю.
Егоров), «Хочу верить» (сценарий И. Голо-
совского, Н. Мащенко, режиссер Н.
Мащенко) и многих других герои легко
перебрасываются репликами о квантовой
механике, Нильсе Боре, атомной бомбе,
проблемах наследственности и т. д. Вот
еще стали к месту и не к месту
упоминать имена и читать стихи Заболоцкого,
Пастернака, Мартынова, даже до
Тютчева и Баратынского уже добрались1... За
1 Впрочем, эта мода захватила не только
киногероев, но отчасти и кинокритиков.
Так, П. Финн, чувствуя себя на дружеской
ноге с Тютчевым, упрекает итальянскую
кинематографию в том, что она демонстрирует
«свирепый (!), мрачный (!) огнь желанья».—
# Экран в свете гуманизма
209
словами, именами и цитатами тут не
скрывается никаких мыслей и чувств,
ничего, кроме стремления авторов
убедить каких-то простаков, будто это
интеллектуальные фильмы о
современности, о е,е сложных и острых проблемах.
До высмеивания такой
«интеллектуальности» наше кино еще не дошло. Тем
больший интерес представляет польская
картина «Ловля мух».
На первый взгляд, Ирена — пустая
болтушка, бездумная «эмансипе», но в ее
тридцатидвухзубой улыбке, в том, как
однажды, потроша курицу, она с
окровавленными руками подходит к своему
возлюбленному и гладит его локтем по
голове, есть нечто и отталкивающее,
страшное. И действительно, страшны та
духовная пустота, тот нравственный
стандарт, что воплощены в этом образе.
Ш КОЕ-ЧТО О «БЕЛЫХ
ВОРОНАХ»
На предыдущем Московском
кинофестивале было много фильмов, в которых
кража, ограбления и преступления еще
более тяжкие, например, убийство,
являются исходным пунктом сюжета,
находятся в драматургическом и идейно-
нравственном центре. Главные герои
здесь — воры, гангстеры, жулики.
Многие из этих лент поставлены весьма
умело, квалифицированно, интересно, в
них участвуют прекрасные артисты.
Таковы французские картины «Вор» и
«Солнце бродяг», итальянские «Любой
ценой» и «Операция «Святой Януа-
рий»... Некоторые произведения этого
рода, исполненные горечи, гнева и боли,
правдиво отражая картину современного
капиталистического общества,
показывают всю отвратительность и
социальную опасность преступления, и в этом
их бесспорная гуманистическая
направленность, не подлежащая сомнению
общественная полезность. Другие фильмы
откровенно романтизируют преступный
мир, создают вокруг него ореол - герои ч-
ности, привлекательности. Эти ленты, в
свою очередь, можно разделить на две
группы. Первая — сознательная кцноот-
рава, которая одурманивает зрителя,
отвлекает его от существенных
социальных проблем; авторы этих картин —
откровенные спекулянты, у них лишь
одна цель — побольше заработать на
щекотании зрительских нервов.
Совсем иначе, гораздо сложнее и
драматичнее, обстоит дело с фильмами
второй группы, авторы которых тоже
романтизируют мир преступности, но
совершенно из других побуждений. Как ни
парадоксально, как ни уродливо, но в
гнетуще, стандартной, нивелирующей
обстановке буржуазного общества у
некоторых художников складывается
убеждение, .будто .единственная сфера, где
человек сохраняет свободу, остается
личностью,— это мир преступности,
поскольку он. вне законов .пошло-банального
буржуазного общества. Этим и вызвана
романтизация воров и гангстеров . в
иных фильмах Италия, Франции,
Америки...
Эта тема не только живет, но и
вызывает пристальное внимание, быструю
реакцию со стороны кино. Фильм
«Бандиты в Милане» — гневный, будоражащий
общественное мнение. По-прежнему
создаются и
спекулятивно-развлекательные ленты на эту тему. Так,
прославленный ветеран французского кино, гость
фестиваля Мишель Симон с горечью
поведал, что ему недавно предложили
играть роль бандита, который убивает
двенадцать человек подряд...
На нынешнем фестивале, кажется,
вовсе не было фильмов, романтизирующих
воров и гангстеров, в том числе и таких,
в которых ощущалось бы романтическое
желание увидеть в преступнике цельную
личность, противостоящую
уныло-однообразному, бесцветному,
стандартизованному миру. Однако тоска по такой
личности, любовь и стремление к ней живы
в душах художников-гуманистов Запада.
И на фестивале это нашло выражение во
многих работах режиссеров, разных
стран. Как и фильмы.о благородных
бандитах, эти работы имеют романтическую
направленность, их жизненная основа, их
нравственная атмосфера несравненно
более чисты и здоровы, чем в фильмах о
распрекрасных гангстерах...
Тут следует прежде всего назвать
фильм известного итальянского
режиссера Пьетро Джерми «Серафино»,
награжденный золотым призом, а также
«Девушку с пистолетом» Марио Мони-
челли, французскую ленту «Украденные
поцелуи», появившиеся на наших
экранах несколько ранее американский фильм
«Грек Зорба» и работа француза Рене
14. «Октябрь» № 11.
210
Вл. Бушин #
Аллио «Недостойная старая дама».
Герои этих фильмов различны по
национальности, возрасту, темпераменту, роду
занятий... Молодой итальянский пастух и
пожилой грек без определенных занятий,
застенчивый, тихий французский
паренек и деятельная, с бурлящим
темпераментом девушка-сицилианка, никому не
известная скромная старушка
домохозяйка... Но их объединяет очень многое:
это внутренне цельные, чистые душой
люди, они бескорыстны и искренни. .;.
С точки зрения обывателя, царящего
в этом обществе, эти люди чудаки,
нелепые, а то и подозрительные личности,
сумасшедшие.
Пастух Серафино, на которого
внезапно сваливается наследство тетки,
прокучивает и раздаривает все ее
сбережения, устраивает грандиозный — с
фейерверком! —праздник для всей деревни,
покупает зачем-то роскошную
американскую машину, а когда она от неумелого
обращения взрывается, горит и вся
деревня смотрит на это с ужасом и
сожалением, он один продолжает улыбаться
и восхищенно восклицает: «Ка&ой
огонь, а!» Так же и Зорба, когда с
чудовищным грохотом рушится по eFO
хитроумному плану построенная эстакада для
транспортировки леса с гор к морю, как
только приходит в себя, разражается
смехом и кричит удрученному партнеру:
«.Ты когда-нибудь в жизни видел такую
великолепную катастрофу?!»
Серафино даже под угрозой расправы
не соглашается жениться на Лидии —
молоденькой, хорошенькой и в
определенном смысле далеко не безразличной ему
дочери состоятельных родителей, а
вводит в свой дом уже не первой молодости
разбитную бабенку Асмару с четырьмя
детьми от разных мужей, называемых
так только из чувства
благопристойности. Ему, видите ли, не по душе, что
Лидия хоть и молода, но уже деловая,
расчетливая и хваткая особа. Ему нравится,
что Асмара такая же душа нараспашку,
как и он сам.
Можно понять скаредных
родственников Лидии, которые объявляют
Серафино сумасшедшим и подают на него в суд
с целью добиться опеки над ним. Но
как понять критика, который, сперва
поставив Серафино в один ряд с
Дон-Кихотом, Кандидом, князем Мышкиным,
назвав его потомком этих «знаменитых
простодушных», потом заявляет, что
герой «обременен чертами вырождения»,
что это всего лишь «деревенский
оболтус», у которого нет «наипростейшей
духовной ориентации, даже самых
нехитрых жизненных утверждений». Конечно,
Серафино не благородный идальго, не
потомственный дворянин, не князь, но
его духовная ориентация вполне
определенного гуманистического смысла.
Как «нормальные» люди с
подозрением относятся к этим «белым воронам»,
так и им порой невозможно понять
«нормальных» людей. Коварный Винченцо
(«Девушка с пистолетом») похитил
красотку Ассунту (по ошибке, хотел-то он
украсть ее кузину: она потолще).
Рассудив, что было бы невежливо девицу
просто так выставить, он проводит с ней
ночь. Наутро она требует, чтобы он
женился на ней. Он видит,— девчонка
очень недурна, но его смущает то, как
она целовалась, он уверен, что так
целоваться может лишь тот, кто имел немало
уроков любви. На самом же .деле у
Ассунты не было никаких «уроков»,
просто она давно уже любит Винченцо,
и само чувство научило ее целоваться с
такой страстью. Но он не верит...
Винченцо бежит от соблазненной из
Сицилии в Лондон, а она, вооружившись
пистолетом, устре*мляется за ним, чтобы
отомстить. Там в нее влюбляется некий
профессор и делает ей предложение. Она
согласна. Он разводится с женой. Вот
они вышли из зала суда, и бывшая жена
профессора, которую сопровождает ее
будущий муж, предлагает всем пойти
погулять в зоопарк. Ассунта решительно
отказывается. Оставшись наедине с
профессором, она говорит, что если бы у
нее был нож, она бы сейчас ударила им
его бывшую жену. «Как ты не мог
понять, почему я хочу убить Винченцо,
так я не понимаю, как можно нам с
тобой идти в зоопарк с твоей бывшей
женой и ее будущим мужем».
В большинстве фильмов, о которых
идет здесь речь, финал откровенно или
замаскированно печальный. Старая
дама внезапно умирает; дикая сицилиан-
ка Ассунта становится элегантной
манекенщицей; Серафино, хотя и с веселой
песней, но все же уходит из деревни, от
людей к своему стаду в горы...
Словом, сопоставляя эти фильмы,
видишь, что цельная, нравственно
здоровая личность оказывается в
унифицированном корыстном мире «белой вороной»
Ф Экран в свете гуманизма
211
и тогда, когда она утверждает себя, как
Серафино, все отдавая другим, и тогда,
когда имеет смелость заявить о себе
заслуженным вниманием к своим
духовным и житейским запросам, как героиня
фильма «Недостойная старая дама»; для
нее нет места здесь и в том случае, если
она энергична, темпераментна, и в том,
если она тиха и деликатна... Она
виновата уже тем, что она личность, человек.
В буржуазном мире это неискупимый
грех. Такова большая, проникнутая
трагизмом и болью за человека мысль, что
встает из фильмов о «белых воронах».
Вот почему невозможно согласиться с
прекрасной артисткой Моникой Витти,
играющей роль Ассунты, когда она
сводит значение фильма «Девушна с
пистолетом» к борьбе с нравами, царящими
в Сицилии, где до сих пор существует
ложное понятие о чести и о том, что
«позор может быть смыт только
кровью», где «из-за этого совершается
очень много убийств» и т. д. Нет, это
слишком узко. Как ни много убийств
совершается в Сицилии из-за ложных
понятий чести, неизмеримо большее
число убийств совершается из-за ложных
понятий о человеке и ложных условий
его существования в капиталистическом
мире. Одно из таких убийств мы и видим
в фильме Моничелли. Разумеется, мы не
за то, чтобы Ассунта все-таки настигла
коварного Винченцо и всадила ему пулю
в лоб, и не за то, чтобы она продолжала
носить свое мрачное черное платье.
Конечно, надо преодолевать дикие нравы и
предрассудки, но грустно видеть, что
вместе с предрассудками Ассунта
потеряла и другое — непримиримость к
обману, душевную цельность, чистоту
чувства. Встретившись с Винченцо, она,
слава богу, уже не убивает его, а скорее
сама совершает нравственное
самоубийство, даже не чувствуя этого: она мстит
ему по-современному,
«цивилизованно» — проводит с ним еще одну ночь
и бросает его, обезумевшего от любви.
Да, этот мир обкатал прелестную
дикарку...
■ ГОЛОС ДОСТОЕВСКОГО
Фестиваль все крутил да крутил свои
ленты... По экрану проходили люди
разных наций — от нигерийцев до финнов,
от австралийцев и японцев до
французов, испанцев и англичан. Мы увидели
события разных эпох — от средневековья
и даже еще более далеких времен до
XXI века,—нам были предложены
весьма несхожие взгляды на человека, на
мир, на любовь, мы познакомились с
героями, чрезвычайно далекими друг от
друга по убеждениям, образу жизни,
целям. Конечно, продолжали появляться,
помимо уже названных, и другие
серьезные работы, новые значительные герои:
«Дело Ласло Амбруша» (Венгрия),
«Дзета» (Франция), «2001: космическая
одиссея» (США)... Но постепенно, а в
иные дни и очень стремительно
накапливалось, росло количество фильмов,
мелких по мысли или ложно-значительных,
героев вялых и анемичных, много
говорящих, «о не умеющих действовать, людей
с ослабленной или вовсе атрофированной
способностью мучиться муками совести,
стыдиться и негодовать, страдать и
сочувствовать, любить и жертвовать
собой, ломать голову над проклятыми
вопросами бытия и сходить с ума от
ревности...
Вот молодая героиня, мать двоих
детей, муж которой завел любовницу;
все трое знают свое положение, но это
не мешает им вместе бывать на
вечеринках и мирно беседовать...
Вот еще одна женщина. Она сидит в
машине. Вдруг дверца распахивается, и
рядом садится другая. Она объявляет
первой, что уже четыре года живет с ее
мужем. «Четыре? Но я с ним живу уже
двенадцать»,— спокойно говорит жена и
включает мотор. Машина трогается,
беседа продолжается...
Вот фильм, о котором на другой день
в рецензии справедливо было сказано:
«Печальная история банальной души.
Робость и бесхарактерность героя
словно бы образовали стилистику фильма,
состоящего из бесчисленных
неопределенных эпизодов, разговоров,
персонажей. Люди проходят через фильм, почти
не задевая его, затем лишь, чтобы
сказать несколько слов. Мелькают
эпизодики, мотивы...»
И среди такой-то публики вдруг
появились герои Достоевского..." В
«Братьях Карамазовых», как прекрасно знает
читатель, далеко не
стерильно-благостная обстановка, герои здесь отнюдь не
херувимы небесные. Отец стремится
отбить у сына любовницу, приготовил
пакет с деньгами и написал на нем стар-
212
Вл. Бушин •
ческой рукой: «Ангелу моему Грушень-
ке, коли захочет притти»; сын этот
ненавидит отца, ревнует, грозится убить;
другой сын, мерзкий эпилептик и
человеконенавистник, убивает отца и крадет
заветный пакет,— уж что может быть
отвратительней и гаже? Но не этим
поразил нас мир Достоевского, возникший
на экране. Да, его герои живут в
окружении нравственной грязи, в пороках,
грехах и слабостях. Не в этом, однако,
их отличие от только что упомянутых
героев фестивального экрана.
Их решительное отличие в том, что
они действительно страдают, на самом
деле любят, по-настоящему ненавидят,
всерьез размышляют над жизнью. Все
для них настолько серьезно, что от своих
дум и страданий, любви и ненависти они
сходят с ума и идут на каторгу, убивают
и кончают самоубийством. Этот фильм,
эти герои — все по-настоящему, все —
дело — той жизни, отображенной
Достоевским.
В отзывах о фильме участников,
гостей фестиваля, критиков настойчиво
звучала одна нота: «Фильм «Братья
Карамазовы» — это по-настоящему
русская картина» (Одиль Версуа, Франция).
«Это очень русский и очень хороший
фильм» (Иоана Булкэ, Румыния). «Я не
помню равного впечатления. В «Братьях
Карамазовых» раскрывается русский
человек сильных страстей, сложной
душевной организации» (Даниэль Ольбрых-
ский, Польша).
Не знаю, как для кого, а для меня
главным героем фильма оказался
Дмитрий, ибо именно в нем режиссер с
наибольшей силой и яркостью воплотил это
необъятное, исступленное стремление
жить. Он хочет жить чисто, правдиво и
счастливо, он тянется что есть сил к
добру и справедливости, но
обстоятельства ничего этого ему не дают. Дело
вовсе не в том, что убили отца. И без
этого Дмитрий нашел бы повод заявить,
что, мол, «должен же кто-то правду
сказать», и сказал бы ее, как и не в том
суть, что его обвинили в отцеубийстве,
приговорили к каторге. А в том, что
плачет голодное, иззябшее вселенское
«дитё». «За «дитё» и пойду. Все —
дитё. За всех и пойду... потому что
надобно же кому-нибудь и за всех пойти».
Наконец, и не в том гвоздь, что полюбил
он Грушеньку — и без трудной любви
этой Дмитрий все равно бился бы
обнаженным сердцем о глухие камни жизни,
доказывал, убеждал, умолял, взывал к
совести, ждал понимания и бесконечно
верил бы, что в конце концов «воссияет
истина на земле»... Такое оно, это
неуемное русское сердце.
В истовой жажде добра, в необоримой
вере в добро, в готовности принять за
него любые страдания — в этом для
меня смысл пырьевского Мити и
гуманистическая суть всего фильма.
Сам Достоевский считал, что
переделка романа в драму возможна, но для
этого, по его мнению, требуется «взяв
первоначальную мысль, изменить
сюжет». Первоначальная мысль! — вот что
для него было главным. Но сколько мы
знаем примеров, когда сюжет оставляют
более или менее нетронутым, может
быть, лишь несколько сужают, но вот
мысль-то первоначальную как раз
мельчат, и глушат, и дробят. Такие примеры
были и на фестивале, напомним, хотя
бы того же «Оливера!».
Иван Пырьев считал целью своей
экранизации «наиболее полно выявить
прогрессивные, гуманистические
тенденции романа «Братья Карамазовы». И он
был прав, ибо в этих тенденциях —
первоначальная мысль Достоевского.
Так поняли свою задачу и те, кому
выпал печальный, но почетный жребий
завершить фильм после внезапной
смерти И. А. Пырьева, замечательные
исполнители ролей Дмитрия и Ивана, артисты
Михаил Ульянов и Кирилл Лавров. Для
них тоже образы романа, обличение
пороков, которое там есть, были полны
актуального смысла. «Читая «Братьев
Карамазовых», думаешь о том,—
заметил Кирилл Лавров,— нет ли в гневном
голосе автора грозного предостережения.
Может быть, непротивление этим
порокам на нашей планете позволило созреть
злокачественной опухоли фашизма, а
метастазы ее будоражат мир и сегодня?»
Голос Достоевского весомо прозвучал
на Московском фестивале. Он звучал,
заглушая стенания случайных
любовников, предсмертные хрипы бандитов,
вялое бормотание бесполых скептиков,
пламенные речи застольных
революционеров, сытое хрюканье мещан,—
заглушая все это и одновременно усиливая,
подчеркивая, укрепляя голоса добра и
человечности, дружелюбия и мира.
# Экран в свете гуманизма
213
■ ПЛОДЫ «АВТОМАТИЧЕСКОЙ
СЕЛЕКЦИИ»
С той вершины, какой явился на
фестивале фильм «Братья Карамазовы», в
зажженном им пронзительном свете
мучительных поисков добра и человечности
многое вдруг сделалось понятнее, а кое-
что, наоборот, показалось удивительным
и странным до невероятности.
Нестерпимо стало смотреть (да и
вспоминать уже виденные) фильмы
многозначительно-манерные и
роскошно-безвкусные, бездумно-зрелищные и обдуманно-
эротичные — фильмы, рассчитанные на
людей того сорта, которым Иван
Карамазов бросил в лицо на суде: «Лгуны!.. Не
будь отцеубийства — все бы они
рассердились и разошлись злые... Зрелищ!»
Вновь на ум невольно приходила
мысль: вполне ли соответствует
программа фестиваля его благородному девизу
«За гуманизм киноискусства, за мир и
дружбу между народами»?
Не секрет, случалось и на прежних
московских фестивалях встречать
фильмы, которые мудрено было соотнести с
этим девизом. Таким, думается мне, был
фильм «Голубая гвоздика», в основе
которого лежал рассказ о сексуальной
драме одного английского писателя. Но
надо признать, что подобные вещи
встречались все-таки довольно редко...
Председатель жюри конкурса
полнометражных художественных фильмов ив
нынешнем фестивале и на некоторых
прошлых режиссер Сергей •" Герасимов
накануне открытия фестиваля с
удовлетворением и признательностью писал:
«Надо отдать должное представителям
кинематографии западных стран,
участвующим в Московском фестивале. Зная его
благородный девиз, они не присылают
нам фильмы такого (антигуманного.—
В: Б.) рода. Происходит некая
«автоматическая селекция». Не знаю, как для
кого, а для меня это явилось большой
неожиданностью. Всем известно, что
бесчеловечные, жестокие, эротические
фильмы составляют огромную долю
кинопродукции западного мира, и я, как,
очевидно, многие, полагал, что наши
фестивали почти полностью избавлены от
этой духовной отравы благодаря
идейно-эстетической взыскательности их
устроителей. Но все шло, оказывается,
само собой,— срабатывала «а
автоматическая селекция»!.
Но вот вопрос: если эта «селекция»
более или менее сносно действовала
вчера, то можно ли положиться на нее-и
сегодня, завтра, послезавтра?
Такой кинофестиваль, как
Московский,— крупнейшее, международное
событие культурно-политического значения.
И, как всякое такое событие, он, подобно
живому существу, подобно человеку,
имеет свой облик, характер. Если облик
человека, . представление о нем
складываются из деталей внешности, одежды,
из поступков и слов, то облик
фестиваля рождается прежде всего из
совокупности отдельных фильмов, их образов,
мотивов. В облике последнего Москов:
ского фестиваля резко проступили
черты, которых раньше не было.
Вот японский фильм «Знамена
самураев». Фильм рассказывает о кровавой
самурайской междоусобице XVI века.
Прославляется преданность вассала
своему господину, не знающая никаких
преград. Главный герой, воплощение этой
преданности, всеми способами — ложью,
коварством, убийствами — добивается
победы своего хозяина над соперниками.
У главного героя есть три заветных
желания. Во-первых, он хочет увидеть
принца (тот еще мальчик) в первом бою.
Во-вторых, он мечтает, чтобы вся страна
оказалась под властью его сюзерена.
В-третьих, он мечтает о мире.
Не это ли последнее обстоятельство
дало повод для включения фильма в
программу фестиваля?
Фильм этот был принят на конкурс,
включен в программу, объявлен. Правда,
в последний момент сами японцы сняли
его с конкурса, заменив другим. Однако
фильм остался во внеконкурсной
программе, и многие его видели на экранах
Кремлевского Дворца съездов, Дома
композиторов и, вероятно, других залов.
Как видим, «автоматическая селекция»
в данном случае, увы, не сработала...
Вот конкурсный бельгийский фильм-
«Долгий разговор», представляющий
собой как бы рассказ о путешествии
нескольких приятелей. Чего мы только не
видим в этом путешествии!
Средневековый балдахин, воздвигнутый на
модерновом пляже; людей, почему-то зарытых по
шеи в песок; шутовскую свадьбу с
участием ангелов, у которых плюшевые
крылья; какую-то свиноферму, где кто-то
за кем-то бегает... Здесь все есть, кроме
хотя бы искорки человечности. Или, мо-
214
Вл. Бушин •
жет быть, нам предлагается принять за
воплощение темы дружбы между
народами те сцены, где негр берет белую
проститутку, а проститутка-негритянка
проводит время с белым господином?
«Автоматическая селекция» вновь
дала осечку...
Проститутки белые, черные и цветные,
начинающие и уже оканчивающие свою
деятельность, отдельные энтузиасты
блуда и целые публичные дома, импотенты
и сексуальные маньяки,
гомосексуалисты-индивидуалисты и общественные
клубы педерастов, сводницы и сутенеры,
постели узкие, как тюремная койка, и
широченные, как царское ложе, магота,
показанная издали и вблизи, мельком и
обстоятельно, поданная, как в театре
теней... Вот сцена свадьбы, где невеста,
дождавшись, пока ее жених упьется,
прямо из-за стола, в подвенечном платье,
с белой фатой на голове, бежит в кусты
со своим любовником... Вот две молодых
женщины, мерзко извиваясь
перепачканными голыми телами, размазывают
краски на полотне
художника-абстракциониста... Вот режиссеру, которого
называют «вечным искателем новых форм и
новых средств выражения», кажется уже
банальным показывать голые * тела,
скользящие по ним руки, слившиеся
уста, и он, действительно добиваясь
поразительного эффекта, передает всю
гамму акта посредством одного лишь
трепещущего женского рта, данного
длительным сверхкрупным планом... Все это в
великом изобилии заполнило экран
Шестого Московского фестиваля.
Нас уверяли: «Мы можем принять
ленты наивные, простодушные, не
претендующие на художественный изыск. Но
картины античеловечные у нас не
пройдут».
Срывание покрова с того, что должно
быть тайно и свято, крупный план,
приглашающий нас — тысячи! —
приобщиться к тому, что принадлежит лишь
двоим,— это античеловечно. То бездумный,
то шутливый показ сексуальных уродств
и извращений, цинизма и
болезненности — это античеловечно. И в дни
фестиваля на всех экранах, где шли
привезенные фильмы, все это совершалось
ежедневно и многократно. Поэтому
когда Дмитрий Карамазов изумленно
воскликнул: «До какой же подлости может
дойти комбинация чувств
человеческих!» — мне показалось, что он
отвечал этим не только на гаусное
предложение одного из героев романа, но и
выносил суждение о некоторых
фестивальных фильмах и героях. А когда
меня уверяли, что все это и есть
гуманизм, и получалось в представлении
некоторых, будто гуманизм — это нечто
совершенно безбрежное, то мне
вспоминались слова того же Дмитрия: «Широк,
слишком широк человек!.. Я бы его
сузил...»
Меня уверяли, например, что главный
герой румынского фильма «Женщина на
один сезон» «показан в сложной или,
точнее, тонкой психологической
атмосфере», а я видел, как роковой
демонический блондин, то и дело меняющий
элегантные туалеты, властным мановением
уводит женщину в мир невыразимо
роскошных ресторанов, отелей, машин,
старинных замков, то
изумрудно-мерцающих, то лилово-сверкающих морских
волн, и на наших глазах, разумеется,
раздевает ее; а я слышал, как этот герой
говорит: «Физиологическое
происшествие...», «Эта женщина не входит в сферу
моих сексуальных интересов...» Мне
говорили, что для героини фильма «самое
главное — честность и чистота в любви»,
а я видел, как легко и просто,
унизительно и рабски она идет на связь с
пошлейшим фатом; мне толковали о
целомудрии этого фильма, а я слышал звуки
мессы, видел молящихся в храме, их
воздетые к небу в священном экстазе
руки . и тотчас — руки любовников,
блуждающие по голым телам, экстаз совсем
другого рода...
■ ХОТЕЛОСЬ БЫ ОШИБИТЬСЯ...
Сейчас много говорят о мировом
фестивальном кризисе, о том, что
фестивали изжили себя. В минувшем году
забастовочная волна во Франции
презрительно смахнула Каннский фестиваль,
еле доковылял до финиша старейший
Венецианский, со скандалами, шумом
провалились фестивали во Флоренции,
в Пезаро, некоторые мини-фестивальчи-
ки не решились объявиться...
Объясняется это прежде всего тем,
что фестивали в буржуазных странах
все более и более вырождаются в
рекламно-коммерческие мероприятия,
в выставку мод, в состязание тщеславий;
аристократически замкнутые, снобистски
пренебрежительные к массам, они про-
• Экран в свете гуманизма
215
тивостоят всей сути народной жизни с ее
трудом и борьбой, радостями и слезами.
Объясняется это также и тем, о чем
говорил Сергей Бондарчук, бывший
членом жюри одного из последних каннских
фестивалей: «Я видел фильмы, где
экран заливают потоки грязи. Копанье
в грязи становится самозабвенным,
исступленным. Чтобы произвести
впечатление, перещеголять других, приходится
изощряться. Начинается какое-то
чудовищное состязание — кто эффектнее
отличится в выкапывании гнусно-го, кто
вытащит самое дикое, самое безобразное,
самое жестокое.
Показывают, как пара предается
любви, отводя этому едва ли не треть
полнометражного фильма и сопровождая
изображаемое непристойнейшим текстом
(«Улисс», Англия). Мало! Показывают,
как другая пара предается любви уже
рядом с трупом («Жить во что бы то ни
стало», ФРГ). Мало! Показывают, как
предаются на глазах у ребенка («Ребенок
на три дня», Израиль). Состязающиеся
уже не могут остановиться».
Конечно, дело тут не только в. том,
чтобы перещеголять ^других, хотя,
несомненно, немалую роль играет и это.
Главное — для появления таких
фильмов существуют благоприятные условия
и даже спрос на них в современном
буржуазном мире. А поскольку это так, то
представляется непраздным вопрос
«Есть ли выход из кризиса?», которому
был посвящен специальный симпозиум
Международной Федерации
кинопрессы в апреле этого года в Лугано.
Ну, а каковы в этом смысле
перспективы нашего фестиваля? Нас уверяют:
«Московскому смотру кино, так же как
и фестивалям социалистических стран,
кризис не грозит». Одни» гарантию
вечного беспечального развития наших
фестивалей видят уже. в том, что это
фестивали в социалистической стране;
другие — в их демократизме; третьи —
в том, что у них такой замечательный
девиз. Бесспорно, все это факторы
большой силы, но я думаю, что сами по себе
они- еще ничего не гарантируют. Как от
экономических кризисо-в и безработицы
нас оберегает не социализм сам по себе,
а экономическое планирование на
основе социализма, так и здесь, опираясь на
упомянутые факторы, мы должны не
уповать на «автоматическую селекцию»,
а проявить свою волю, мысль,
взыскательность. В частности, надо не только
иметь хороший девио, но и неуклонно
следовать, ему.
Я очень хотел бы ошибиться,
оказаться неправым, но мне думается, что
некоторая опасность грозит и нам, более
того, я считаю, что на последнем
фестивале ее признаки сказались явственно.
Я думаю, что опасность нашему
фестивалю грозит, конечно, не со стороны
коммерции, как Венецианскому или
Каннскому. По-моему, она прежде всего
.в духовной пассивности, в отступлении
от строгого следования девизу, в
снижении критериев, в отсутствии решимости
противостоять буржуазной. моде.
Разумеется, надо стремиться к более
широкому привлечению деятелей кино
всего мира и иос работ на наш
фестиваль. Более семидесяти стран приняли
участие в нашем фестивале на этот раз,
общий уровень картин был ниже, чем на
прежних московских фестивалях, и за
исключением «Е&атьев Карамазовых» на
нем не бцло работ мирового класса.
Зрители сразу почувствовали это, и интерес
к фестивалю был ниже, чем всегда.
Ради широты, конечно, можно было
принять на конкурс,, например, датский
фильм «В разгар джазового сезона», но
вот что говорил о нем одни из его
создателей: «К сожалению, фильм, который
мы привезли .в этом году в Москву на
конкурс, лучше всего было бы, на мой
взгляд, показывать на коммерческих
просмотрах. Это типично коммерческий
фильм, который не достоин конкурсного
экра/на такого кинофестиваля, как
Московский».
Ради количества, разумеется, можно
было показать на фестивальном экране
польский фильм «Игра», но вот что
пишут о нем сами польские товарищи в
нашей же прессе: «...Режиссер,
мало-помалу скатывается к знакомой схеме
развлекательной мелодрамы... К сожалению,
прекрасный замысел не нашел глубоких
мотивировок, остался на уровне
банальности и мелодраматизма. За прекрасной
формой отсутствует золото мысли». На
дне ее бренчит обычная медяшка».
Снижение общего уро-вня фестиваля
сказалось и в присуждении наград
некоторым работам. Наш фильм «Доживем
до понедельника» имеет достоинства, но
стоило ли давать ему высшую награду,
ставить в один ряд с «Судьбой человека»
и «Войной и миром», с фильмом Зол та-
216
Вл. Бушин #
на Фабри «Двадцать часов» и с лентой
Кането Синдо «Голый остров»?
А как мож;но было, хотя бы
косвенно, посредством приза «За лучшее
исполнение женской роли в фильме»,
поощрять такое галантерейно-рекламное,
провинциально-претенциозное создание,
наносящее прямой урон вкусу, как
«Женщина на один сезон»? Кстати, это
какие-то очень странные формулировки:
«За лучшее исполнение мужской роли
в фильме», «За лучшее исполнение
женской роли в фильме»... Действительно,
скажем, Рон Моуди играет лучше своих
коллег в фильме «Оливер!», а Анна
Мария Пиккио — в фильме «Узкая
полоска неба» (где, между прочим, как и
в «Женщине на один сезон», нет. других
сколько-нибудь значительных женских
ролей), но разве конкурс проводился
внутри фильмов? Помнится, раньше дело
обстояло иначе, и, скажем, на
предыдущем фестивале Сэнди Деннис или Пол
Скофилд получили не относительные
призы за успехи в пределах своих
фильмов, а вообще «за лучшее исполнение»
женской и мужской роли -на фестивале.
В странной новой формулировке мне
видится все то же желание избежать
определенности, четкости, стремление
накормить возможно большее число волков и
сохранить максимальное количество
овец. Действительно, если вы скажете,
например, что Амелия де - ла Торре
(«Селестииа») сыграла значительно
лучше, чем Ирина Петреску, вам могут
спокойно ответить: .«Разумеется. Мы не
слепые. Но это роль из другого фильма».
Удивление вызывают не только новые
формулировки решения жюри по
сравнению со старыми. Есть чему удивиться, и
не выходя за пределы одного круга. Как,
например, не удивиться, если одной и
той же наградой отмечены и «Братья
Карамазовы (за режиссуру) и «Дневник
немецкой женщины» (за фильм) —
поверхностное, прямолинейное,. слащавое
произведение!.
Трудно объяснить, чем вызван прямо-
таки дождь наград, обрушенный на
создателей фильма «Оливер!» — от
специального приза режиссеру «за
выдающееся мастерство» до приза художнику,
всего четыре награды. Между тем,
даже нью-йоркский еженедельник «Ньюс-
уик» пишет об этом фильме довольно
сдержанно, ставя его в один ряд, с
«Забавной девушкой»: «Обе эти
музыкальные комедии — хорошие
развлекательные фильмы, . незаурядно сделанные
одаренными художниками...»
.В нашей же критике далеко не все
утверждали, будто «диккенсовский дух
живет в этом фильме», будто великий
романист, любивший красные розы, был
бы в восторге от фильма. Раздавались и
такие, например, голоса: фильм
«довольно часто вступает в спор с критическим
замыслом Диккенса. Фильм
эстетизирует, делает даже привлекательным мир
подонков или пытается дать сусальные
картины всеобщей радости,
благоденствия и праздничности жизни в массовых
сценах. Эти сцены при всей их внешней
красочности и обставленности приторны
и не могут скрыть внутренней пустоты»
(Ю. Черепанов, «Известия»).
...Сдвиги, смещения, поблажки,
которые мы наблюдали и на экране и в
решениях жюри, могут резко и печально
сказаться на авторитете нашего
фестиваля.
Коллектив редакции польского
журнала «Экран» в своем приветствии
фестивалю писал: «Московский фестиваль
представляет собой надежную и
постоянную ценность. Его популярность и его
авторитет растут с каждым годом. Для
нас, польских критиков, это самый
важный фестиваль». Известный английский
писатель Джеймс Олдридж говорит:
Москва — «это самая серьезная столица
киномира... Московский фестиваль —
фестиваль социальной оценки». Таких
высказываний можно привести огромное
количество. Мы обязаны сделать все,
чтобы они были приложимы не только
к прошлому, но и к будущему.
•
**итая и перечитывая книги
Анна МОРОЗ
Страсть к созиданию
XIX анр путевого очерка за последние
^1\ годы претерпел существенные
перемены, и это явно пошло ему на
пользу. Ныне, когда ракеты летят к звездам,
никого уже не поразишь описанием
воздушного путешествия на самолете, за
считанные часы доставляющем
пассажиров с одного континента на другой.
Зарубежный очерк далеко отошел от
восторженных «ахов», м. «охов», какими
пестрели в свое время писания падких на
экзотику публицистов -и литераторов.
В большинстве- случаев теперь это более
или менее серьезные попытки
исследовать наиболее актуальные проблемы и
аспекты международной жизни, что, как
правило, привлекает внимание всех. Как
бы ни был велик тираж такой очерковой
книги, она расходится чуть ли не с
«космической» скоростью. Чтобы не быть
голословной, сошлюсь хотя бы на
последнюю ьнигу крупного
журналиста-международника Виктора Маевского
«Полмиллиона километров позади». Она издана
стотысячным тиражом, и даже этот
тираж не насытил книжного рынка
нашей страны.
Добросовестность и объективность в
отборе материала, глубина его
«вспашки» и острота постановки вопросов,
достоверность и разнообразие
информации, тонкий марксистский анализ
событий, партийность авторской позиции —
вот, пожалуй, наиболее яркие приметы
зарубежного очерка наших дней. Не
менее существенно и то, что очерк этот
Борис Иванов. За порогом моего дома.
«Советский писатель», 1968
в лучших своих проявлениях становится
по-настоящему художественным.
Эти тенденций развития жанра
отчетливо прослеживаются в зарубежных
очерках Бориса Иванова.
Что сближает людей? Общность
убеждений? Единство целей? Совместная
борьба? Что занимает умы людей в
странах,, которые мы по праву, считаем
братскими и которые после второй мировой
войны благодаря победе Советского
Союза над гитлеровской. Германией
получили возможность перейти с
капитадиетического пути на путь социализма?
В поисках ответа на эти вопросы едет
советский журналист по городам и весям
социалистической Польши, ГДР,
Венгрии, Румынии, Объединенной Арабской
Республики... Едет — и спустя годы
снова возвращается в те места, где уже был
однажды, встречается со старыми
друзьями, беседует с новыми знакомыми и из
многочисленных своих встреч выносит
радостное ощущение разительных
сдвигов в психологии людей, которые не
сразу, а порой и очень трудными
путями, но все-таки пришли к осознанию
личной своей ответственности за
сохранение мира на Земле, своей
сопричастности к тем сложным процессам
развития общества, которые мы не
случайно называем историческими.
Человек с его прошлым и будущим,
с его сегодняшними заботами,
радостями и болью — вот центр притяжения
интересов и предмет исследования автора.
При этом он никому не навязывает
собственных выводов по поводу
услышанного и увиденного. Выводы напрашиваются
Читая и перечитывая книги Ф
сами собой, и, думается, в этом одна из
его удач.
Очерки, которыми открывается книга,
на первый взгляд звучат несколько
камерно. То это страничка жизни
польской ваятельницы Людвики Нитшовой,
чья бронзовая Сирена с мечом в одной
руке и со щитом в другой (герб столицы
Польши) воздвигнута в Варшаве на
берегу Вислы как символ бессмертия
героев и гордого духа польского народа
(«Услышанное под звездами»); то это
рассказ о венгерских музыкантах Антале
Имре и Альберте Кочиш, которые' й дни
отдыха на Балатоне, подготовив
концертную программу, решили «проверить» ее
на слушателях — молодых рабочих из
Будапешта, отнюдь не рассчитывая
найти в них тонких ценителей музыки. И
что же? По словам Антала, он и его друг
сделали «целое открытие»: музыка не
для богов, она для всех! Им «раньше
твердили: простой человек глух к
симфонии, у него нечуткая душа. Да у него
не было времени вслушиваться в
симфонию: другие заботы обуревали его.
Народная власть сняла с него этот камень,
и к простому человеку как бы вернулся
слух». Поняв эту истину, молодые
музыканты с энтузиазмом занялись
организацией бесплатных концертов на заводах,
фабриках и в рабочих общежитиях
(«Будапештские вечера»).
Но вот перед нами очерк об «очной»
встрече с Германской Демократической
Республикой, предстающей перед
читателем, в частности, в лице старого
коммуниста Пауля Верман-Крюгера, который
говорит о себе, что немецкий язык у
него от матери, а «русский — от
Ленина», и тональность книги ощутимо
меняется. Автор, не уходя от острых
вопросов, пытается разобраться в том,
что же представляет собой человек
новой, социалистической Германии, каков
он. И если Бухенвальд воспринят
очеркистом как «символ предела падения
человека», оглушенного реакционной
идеологией фашизма, вскормленного им и
безоглядно преданного ему, то беседа с
Павлом Густавовичем, как тот называет
себя, помогла понять, «чей дух не давал
угаснуть искре человечности даже в
густом фашистском угаре». То был дух
революционной России («Человек
немыслим без людей»). А по мере того,
как читаешь страницу за страницей,
отчетливо вырисовывается искусно
сложенная автором из отдельных
фрагментов, наподобие красочного мозаичного
панно, впечатляющая картина жизни
новой Германии, жизни сложной, трудной
и вместе с тем прекрасной, потому что
социалистическая новь «с единым на все
века богом — Трудом» дает человеку
возможность познать цену счастья, которое
тем дороже, что завоевано в упорной
борьбе, и борьба эта еще далеко не
окончена: мир по-прежнему расколот
надвое и надо быть начеку... Шаг за шагом
автор подводит нас к пониманию тех
сложнейших процессов, что происходят
в душах и сердцах людей, бесповоротно
связавших свою судьбу с новой,
прогрессивной общественной системой, с
социализмом,
По счастливому стечению
обстоятельств книга, о которой здесь идет
речь, вышла в свет в преддверии
национальных праздников народов ряда
социалистических стран,— нынешним летом
отметили 25-ю годовщину своего
освобождения из-под пяты гитлеровских
оккупантов Болгария и Румыния: во
всенародное торжество вылился День
возрождения Польши: минуло двадцать лет со
дня провозглашения ГДР. Это не просто
знаменательные, как мы иной раз
говорим, даты, а события исторического
значения. Они заставляют человека
оглянуться назад, сопоставить то, чему он
свидетель и участник, с тем, что было
прежде, и, конечно же, бросить взгляд
в свое завтра. Так бывает и при
встрече людей, доселе не знавших друг
друга,— постороннему порой выскажешь то,
в чем не всегда признаешься даже
близкому человеку. Удивительно ли, что и
Борису Иванову довелось услышать во
время его зарубежных странствий
немало откровенных признаний!
В спокойных и задумчивых Мазурах,
в Ольштыне, царстве лесов и озер, где
в незапамятные времена родилась
польская сказка, о которой в очерке «Мал
золотник, да дорог» говорится, что она.
дополненная былью нашего времени,
стала символом национальной верности г.
гордости, Б. Иванов познакомился с
собирательницей фольклора Мариной
Окенцкой-Бромковой. Собственно, он и
приехал сюда только для того, чтобы
услышать из первых уст польские
сказки, «как бы почувствовать душу поляка.
• Читая и перечитывая книги
219
посмотреть в глаза его, то веселые, то
грустные, то ласковые, то жесткие...».
И вот о чем спокойно, не спеша
рассказала ему за чашкой душистого,
крепкого кофе Марина.
Давно это было. Пришел поляк в Леш-
но, огляделся. Перед ним озеро шири
неоглядной. Поляны с травой по колено.
Кругом леса синеют. Хорошо тут,
подумал он, и рыба, и корм скоту, и дом
есть из чего поставить. Позвал на это
место сородичей. За одно лето выросло
село. Посреди села сложили из камня
капличку, внутри ее повесили
колокольчик. Когда его вешали, поляк — его
выбрали старшим — сказал:
— Этот колокольчик зазвенит лишь
тогда, когда на Лешно налетят злые
люди. Дружно собирайтесь и гоните их
прочь. Никто вас не одолеет, пока
колокольчик будет звенеть!
Много лет прошло с тех пор. Но вот
однажды, работая в поле, селяне
услышали призывный звон колокольчика.
Бросились в село, а там полно чужаков.
То были пруссаки. Стойко защищали
свой кров поляки. С каждым ударом
колокольчика силы у них росли, а у
пруссаков слабели. И хоть пруссаков было
больше, пришлось им уйти из Лешно ни
с чем. Не раз еще пробовали они
одолеть Лешно. И всякий раз возвращались
не солоно хлебавши...
Но вот случилось такое утро, когда
колокольчик не издал ни звука, а по
улице Лешно шли и шли совсем
незнакомые люди. И поляки радовались им. То
шли солдаты с красными звездами на
фуражках...
Эта поэтичная сказка прозвучала в
устах Марины Окенцкой как признание в
любви, как выражение величайшей
благодарности польского народа
советскому народу за освобождение из-под ига
фашизма и за возможность перевести
Польшу на новый, социалистический
путь.
Борис Иванов выступает в этой книге
как превосходный рассказчик. Что ни
очерк, то своего рода новелла с
сюжетом, основа которого всегда строго
документальна, с рельефно выписанными
характерами, с пейзажами, которые
служат естественным фоном для
происходящих событий, создают атмосферу,
располагающую к раздумьям. Этому немало
способствует и искренность интонации и
та доверительность, с какой ведется
разговор с читателем. Симпатии автора
неизменно на стороне активных борцов за
жизнь, верных сынов и дочерей народа.
В недавнем прошлом рабочий парнишка,
Виктор Калло стал талантливым
скульптором благодаря упорному труду, силе
своего характера, а главное, чувству
«ответственности перед теми, кто его
вырастил, кто помог ему из простого слесаря
стать художником». Его долг, как считает
Виктор, «не только держаться своих, но
и служить своим, отдавая им всего себя
без остатка» (из цикла «Будапештские
вечера»).
Вряд ли следует выделять особо тот
или иной очерк — каждый интересен по-
своему, в каждом запечатлен «кусок»
жизни, полной неожиданностей и
противоречий и в то же время подчиняющейся
воле и разуму человека, четко
сознающего, сколь ответственна возложенная на
него миссия строителя, «великого
Мастерового». «Какое диво дивное сотворили
свободные человеческие руки!»
—невольно восклицает автор, завершая свой
рассказ об «отдельных чертах и судьбах,
характеризующих сегодняшний день
румынского народа». Мысль о
животворящей силе свободного труда как бы
аккумулирует в себе самую суть бытия наших
друзей.
Есть у Б. Иванова очерк о рейсе мира
на пассажирском пароходе
«Освобождение», соединившем типографского
рабочего и философа, журналиста и токаря,
теолога и клерка, пастора и инженера и
других представителей молодежи Англии,
Франции, Швеции, Канады, Новой
Зеландии, Чехословакии, Польши,
Федеративной Германии, Румынии, Голландии,
Советского Союза и США. Бежит
пароходик вниз по Дунаю. Социал-демократы
и католики, атеисты и священники,
коммунисты, социалисты и «нейтралы» с
жаром обсуждают проблемы работы ООН,
разоружения и безопасности, роли
человека в обществе. «Мнения полярные,—
замечает автор.— Отсюда и накал. Но к
окончанию дискуссии плюсы и минусы
сближаются, образуя новую, близкую
для всех сердец формулу. А это важнее
всего». И тем не менее «близкая для
всех сердец» формула оказалась
приемлемой далеко не для всех. Представителя
Бонна, например, прямо-таки перекосило,
когда в конце путешествия, собравшись
на палубе, участники рейса стали петь —
на французском, немецком, английском,
Al\3
Читая и перечитывая книги •
русском, польском — нашу «Молодую
гвардию»:
вперед, заре навстречу.
Товарищи в борьбе... —
а заключили свой импровизированный
концерт «Интернационалом». И когда
мужественно и вдохновенно прозвучало:
Это есть наш последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской. — .
Рейнгэрт Вагнер — так звали
«федеративного» немца — не выдержал, подошел
к запевале хора, столяру из Штутгарта,
Петеру Грохману, и.раздраженно сказал:
«Это непатриотично!» — на что тот
коротко ответил: «Хватит нам морочить
голову!»
Думается., ответ этот не- нуждается в
комментариях. Да, люди не хотят, чтобы
им морочили голову, вколачивали в них
псевдопатриотйческие, реваншистские,
экспансионистские и прочие идейки. Они
хотят видеть мирное небо над своей
головой, иметь семьи, детей, уверенность
в завтрашнем дне. «Страсть к
созиданию — вот что подлинно человеческое.
Разжигать эту страсть — долг
правительств и обществ»,— таков итог
размышлений автора в далеком Луксоре, на
пути в Асуан. Представитель «общества,
где труд, мир, равенство и братство
возведены в высший принцип», он горд
сознанием, что его «сограждане,
отправляясь в далекие страны, держат в руках
не меч, а мастерок...».
Что сближает людей?.. И что их
разъединяет?.. Не ищите в очерках Бориса
Иванова однозначных ответов на эти
вопросы, они столь же сложны, как и
течение жизни за порогом нашего
советского дома, они требуют серьезных
размышлений и активных действий каждого, кто
хочет быть Человеком среди людей,
одержимых страстью к созиданию.
•
короткие рецензии
■ Валентин ЧИКИН.
СТО ЗИМНИХ ДНЕЙ.
«Молодая гвардия», 1968.
Все чаще мы сталкиваемся с
попытками наиболее полного документального
раскрытия ленинской темы. В связи с
этим нельзя пройти мимо интересных
начинаний отдельных авторов в создании
подробной политической биографии
Владимира Ильича на основе ленинских
произведений, писем, документов и
воспоминаний о нем. К числу таких попыток
относится и книга Валентина Чикина
«Сто зимних дней».
Нелегким был последний период
жизни В. И. Ленина. Ранение, тяжелые
условия ссылки и эмиграции, годы
напряженного труда до и после победы Великой
Октябрьской революции сказались на
здоровье. Мучительно, как никогда,
переживал Владимир Ильич запрет врачей
работать, читать газеты, вести
политические беседы — и это в самое трудное для
партии и страны время. Может быть,-
поэтому иные авторы, рассказывая о
последнем периоде жизни Владимира
Ильича, слишком большое внимание уделяют
его болезни.
Книга В. Чикина рассказывает о том
же времени, и автор не может не писать
о состоянии здоровья Владимира Ильича,
мнениях и решениях врачей. Вместе с
тем ленинские работы, документы,
воспоминания заставляют его сосредоточиться
на том, как Ленин стремится отдать себя
как можно полнее, до ко.нца, той идее,
тому делу, которому он посвятил всю свою
жизнь. Пять — десять минут в день —
только такое короткое время отведено
врачами Владимиру Ильичу для работы
со стенографисткой. За эти минуты он
диктует письма и статьи, в которых
партия найдет позднее исчерпывающие
ответы на острейшие вопросы дня, заметки о
близких и самых дальних перспективах
коммунистического строительства.
Круг проблем, в решении которых
Владимир Ильич считает необходимым
принять активное участие, широк и
разнообразен. Как лучше организовать работу
Совнаркома? Как усилить дееспособность
центральных руководящих органов
партии, добиться правильных
взаимоотношений в ее руководящем ядре? Каким
образом обеспечить наибольшую
эффективность монополии внешней торговли? Как
наиболее полно на практике обеспечить
проведение принципа
интернационализма? Каковы перспективы развития
кооперации, культурной революции? И можно
ли разрешить вождям контрреволюции
возвратиться в Москву? И т. д. и т. п.
На все вопросы Ленин стремится дать
глубокие, обоснованные ответы,
вкладывая в короткие диктовки результаты
долгих, порою мучительных раздумий.
Прежде всего об этой ленинской
работе рассказывает в «Ста зимних днях»
В. Чикин. Думается, что автору удалось
сделать это с завидной полнотой и
глубиной. Не случайно рецензируемой книге
присуждена премия Союза журналистов
СССР.
Книга невелика по объему.
Лаконизм — одно из ее несомненных
достоинств. Автор предпочитает изложение
конкретных фактов отвлеченным
рассуждениям, неоднократно повторявшимся
комментариям, общим формулировкам.
Вместе с тем нельзя не учитывать, что
книга «Сто зимних дней» адресована
молодым читателям, которым отдельные
исторические подробности недостаточно
хорошо известны. Поэтому можно
пожелать автору при дальнейшей работе над
книгой более подробно
прокомментировать некоторые факты, особенно те,
которые связаны с деятельностью
Троцкого, Зиновьева, Каменева, их борьбой
против ленинизма.
Пожелания автору продолжить работу
над темой не упрек по поводу того, что
уже сделано. Книга «Сто зимних дней» с
интересом и удовольствием будет
принята самым широким кругом читателей.
С. Игошнн
■ Филипп НАСЕДКИН.
ВЕЛИКИЕ ГОЛОДРАНЦЫ.
Роман-газета № 13, 1969.
На одном из заводов Московской
области я услышала диалог пожилого
рабочего с «бородатым» юнцом.
— Да, бороду ты отпустил хоть куда,
а ума и этакого жиденького не нажил
еще,— говорил старший.
Парень осклабился, словно нарочно,
пригладил курчавые волосенки пальцами.
Возразил:
— А сами-то вы в наши годы? Небось,
тоже пижонили, клеши — на полметра,
кепи — как аэродром, и за девочками...
Не вихляли разве, э?!
Рабочий подошел к тумбочке, вынул
книгу, обернутую газетой.
— А хочешь вот,— сказал парню,—
222
Короткие рецензии •
почитай, что мы делали, какими
пижонами были...
— Небось. «Как закалялась сталь»?!
Знакомы, так сказать, по
общеобразовательной программе!
— На «Сталь...» похоже,—
согласился рабочий.— Писатель этот тоже ослеп,
как Остро>вский, и тоже не сдался.
Они еще некоторое время
обменивались колкостями, но парень все-таки не
выдержал, спросил:
— Книжка-то как называется?
— «Великие голодранцы». Почитай,
книжка со смыслом, не пожалеешь.
Не знаю, читал ли потом юный
оппонент эту книгу, но из нее он
действительно узнал бы, какой была юность сельских
комсомольцев второй половины
двадцатых годов, когда многим ребятам
казалось, что самые интересные и
героические «времена уже миновали. Дескать,
революция отполыхала, гражданская война
отгремела, а больше и делать на земле
нечего...
В комсомольскую ячейку села
Знаменки прибыла депеша из райцентра: «По
району ходит слух, что социализм в
одной стране построить нельзя. Райком
комсомола разъясняет: чистейшей воды
ерунда и злостная кулацкая пропаганда.
Социализм в одной стране построить
можно, и он будет построен. Секретарь
райкома Симонов».
Коротко, ясно и категорично, значит,
нельзя сидеть сложа руки. На первых
порах надо хотя бы научить крестьян
грамоте, читать им газеты, чтобы всем
стала понятной ленинская идея... Сейчас
категоричность симоновской депеши
воспринимается нами с доброй, чуть
иронической улыбкой. Формула Владимира
Ильича Ленина, вызвавшая в свое время
среди рабочих партий споры, подобные
буре, стала азбучной истиной. - Но для
Филиппа Касаткина, главного героя
повести, и комсомольцев ячейки, которыми
он руководил, слова эти были
программой и той целью, ради осуществления
которой они готовы были пожертвовать
всем, даже жизнью.
Конечно, нестись на скакуне с саблей
в руках или стрелять по врагу из
маузера более интересно, чем помогать
крестьянскому комитету собирать продналог
или стеречь мельницу, чтобы кулаки не
подожгли ее. Но ребята хорошо
понимали, что каждое их дело, пусть самое
простое и негероическое, каждое честно
выполненное комсомольское поручение
помогут строительству социализма.
Любопытный разговор происходит на
страницах повести между Филиппом
Касаткиным и Клавдией Комаровой,
дочерью местного богача. Клавдии хочется
поступить в институт, для чего ей нужна
комсомольская рекомендация. Вот она и
спрашивает Филю, не примет ли он ее в
комсомол. Разве можно, отвечает тот,
дочку классового врага, да еще
заклятого... Клавдию злит прямой,
бескомпромиссный отказ, и она обзывает Филю и
его друзей голодранцами.
«Голодранцы,— Филя вроде
соглашается с ней и тут же возражает.—
А только если уж на то пошло, то
голодранцы не просто какие-то, а великие.
Клавдия громко рассмеялась.
— Понимаю. Великие потому, что
заплат великое множество.
— Нет, не потому. Великие потому,
что великое дело делаем. Старый мир
разрушаем, а новый строим».
Разрушение старого мира и
утверждение нового требовали от ребят полной
самоотдачи, большой энергии и выдумки,
хотя называлось все это, выражаясь
языком Симонова, довольно скучно —
«проведением мероприятий». К примеру—
организовать культурный досуг. Так ведь
для этого надо было сначала открыть
клуб, а под клуб пришлось у
церковников и кулаков отвоевывать буквально с
дракой давно закрытую церковно-при-
ходскую школу. А чтобы наглядно
провести «антирелигиозную пропаганду»,
пришлось ребятам выкрасть из церкви
барометр, по которому поп «угадывал»
дождливую погоду и вовремя созывал
народ на крестный ход за «милостью
божьей». Немало мужества потребовало от
Маши Чумаковой и разоблачение кулака
Лапонина. спаивавшего народ
самогонкой.
В борьбе за создание нового,
свободного и счастливого мира социализма
мужали характеры ребят, формировалось их
коммунистическое мировоззрение.
Можно было бы много рассказывать здесь об
упомянутой Маше Чумаковой,
единственной на селе девчонке-комсомолке, и о
мечтательном Сереже Клокове с его
нежной любовью к поэзии или об Илюше
Цыганке, который самостоятельно
изучил боксерские приемы, чтобы победить
«на миру» сильнейшего в селе задиру и
кулацкого прихвостня Ваську Колупае-
ва. Но пересказывать все это не имеет
смысла, лучше адресовать читателей к
первоисточнику.
Сильным желанием ребят было как
можно скорее вступить в партию. Ведь
только коммунистам поручались самые
ответственные дела по строительству
социализма. Ради этой мечты Филя
Касаткин пошел на обман, не признавшись, что
ему по возрасту не хватает года для
вступления в кандидаты... И когда ему
все же вручили кандидатскую карточку,
он сказал:
/<Прости меня, партия! Ничего не мог
поделать с собой. Очень хотелось быть
коммунистом. Но клянусь сердцем!
Впредь буду всегда и во всем правдивым
и честным!..»
Повесть заканчивается выдвижением
Фили Касаткина на работу в райком
комсомола. И тут хочется сказать об
автобиографичности произведения. В Филе
Касаткине без труда можно узнать
автора повести. Клятва Касаткина была
клятвой Филиппа Наседкина, который шел по
жизни трудной дорогой. Много лет отдал
он комсомолу. От секретаря сельской
ячейки до секретаря ЦК ВЛКСМ — та-
• Короткие рецензии
223
ков его путь. В годы Отечественной
войны Филипп Иванович Наседкин был
комиссаром Главвсеобуча СССР, готовил
боевые резервы для фронта. Трудная,
самоотверженная работа подорвала его
здоровье. Тяжелая болезнь закрыла его
глаза, но не закрыла сердце. Известный
повестями «Зеленое поле» (1931), «Пять
дней» (1934), он выпускает романы
«Большая семья» (1949), «Красные
Горки» (1951), «Испытание чувств» (1956),
повести «Дорога к сердцу» (1960), «Все
для тебя» (1965), «Месяц на юге» (1969).
Во всех этих произведениях ярко
выражена партийная позиция автора,
понимание острых проблем современности.
Писатель верен своему главному
герою — молодежи. В его творчестве
читатели видят продолжение традиций,
заложенных в советской литературе
Николаем Островским.
И. Перегуда
■ Светозар БАРЧЕНКО.
ТРАССА НА ЛУНУ.
«Советская Россия», 1969.
Светозар Барченко начинал как поэт.
Сейчас, вероятно, немногие помнят его
стихи и то, как он вышел победителем
поэтического конкурса, объявленного
газетой «Комсомольская правда». Да и
сам С. Барченко давно.не пишет стихов,
целиком переключившись на прозу.
Однако поэтическая школа не прошла
для него бесследно, и по сегодняшний
день писатель сохранил в себе ту
неповторимую радость удивления
окружающей его природой и людьми, способность
не только удивляться самому, но и
передавать это удивление другим — такое
умение всегда отличает поэта.
Может быть, поэтому писатель так
внимателен и, я бы сказал, скрупулезно
точен в изображении деталей природы,
быта и жизни героев своих рассказов,
объединенных в сборнике «Трасса на
Луну». Откройте любой рассказ,
переверните любую страницу, и вы найдете
лаконичные, надолго запоминающиеся
зарисовки, эмоциональная сила которых
становится особенно действенной из-за
скрытого в них поэтического настроения:
«Едва лишь скроется за лесистыми
взгорьями отяжелевшее за день солнце,
небо на востоке начинает слегка
зеленеть, а на западе долго це разливается
мягкая желтизна паснет и она.
И тогда прям^ ~ з зените,
высокие р шают мрач-
ни* го радост-
"обенно
то де-
мают
место. Это и маленький, не знающий
никаких забот Николка из рассказа
«Осенью». Отец впервые берет его с
собой на охоту, и Никола в азарте охоты
вначале не понимает всего ужаса
происходящего, «цепко хватает иногда еще
живого, бьющегося рябчика», а вечером,
когда мать приветливо встречает
утомленных за день «мужиков», он, уже
интуитивно ощущая, что произошло что-то
ужасное и непоправимое, названия чему
он еще не знает, но отчего
закрадывается в неискушенную детскую душу страх,
когда он видит вместо живых пестрых
птиц мертвые комки с окровавленными
тонкими перышками и посиневшей
кожицей между крыльями,— бежит из дому,
чтобы за играми, за-деревенскими
хлопотами забыться и отвлечься. Это и
мальчик Федя из рассказа «Из варяг в
греки», взявшийся помочь деду
доставить изголодавшимся геологам
продукты. Завязнув в болоте, он впервые в
жизни по-настоящему понимает, что
значит, когда тебя ждут и на тебя надеются
люди, и чувство долга берет верх над
отчаянием, придает ему силы, и он
выбирается из трясины. Это, наконец,
девочка Любка из рассказа «Яблоки», рано
познавшая Цену человеческой подлости.
Жалея больную, прикованную к постели
мать, брошенную отцом, Любка идет на
станцию торговать яблоками, чтобы тем
самым не только помочь матери, но и
утвердить себя в этом мире как
личность, которая не нуждается ни в
жалости, ни в подачках как посторонних ей
людей, так и родного отца.
Дети в рассказах С. Барченко несут
двоякого- рода нагрузку: во-первых, они
познают окружающий их мир со всеми
его светлыми и темными сторонами, а
во-вторых, раскрывают перед читателем
всю красоту своей души и помогают ему
уже своими глазами увидеть то, что
впервые открылось им.
Однако в рассказах С. Барченко
действуют не только дети; писатель,
которому чуждо все искусственное,
привнесенное в литературу «из головы»,
пристально всматривается в жизнь и
бережно отбирает из нее то, что с достаточной
определенностью характеризует нашу
сложную действительность.
Сам влюбленный в землю, на которой
живет, в людей, ее населяющих и
преобразующих, С. Барченко и нас
заражает своей любовью к родной земле и ее
людям. Казалось бы, чего томиться в
деревне одинокому старому Прокофию
Максимовичу из рассказа «На
большаке», который и жизнь прожил большую
и пенсию получил заслуженную. Ехал бы
к племяннице в Ленинград, куда она его
приглашает, или, на худой конец,
завхозом в общежитие к молодым Шоферам,
которые находят в его доме приют во
время ненастья. Но не может покинуть
родные места Прокофий Максимович,
полюбил он их всем своим больным и
отзывчивым сердцем — места, где
возникли и живут такие неповторимые се-
224
Короткие рецензии S
верные песни, где он до последних дней
своих, до последнего вздоха нужен тем
же веселым парням со стройки, где и
ему нужны и эти парни, и земля эта, и
шум тайги над крутыми берегами
Косьи... Или же строптивая Настя из
рассказа, давшего название всему
сборнику— «Трасса на Луну». Что ей
делать в деревне, в которой, по ее же
словам, от скуки «с ума сойдешь!..» А вот
не может девушка по примеру
некоторых своих сверстников покинуть родную
деревню, организует здесь
художественную самодеятельность, постоянно ищет
и находит что-то новое. И когда Настя
на затеске, где какой-то шутник
нарисовал стрелку острием вверх и указал:
«Трасса на Луну. Кто полетит?» —
пишет карандашом, что полетит на Луну
она, веришь, что такое по плечу именно
ей, а не тому неизвестному, кто
деловито поинтересовался, дадут ли ему
подъемные на этой трассе.
О рассказах С. Барченко можно
говорить много и подробно: они того
заслуживают. Можно поговорить о
языке — точном, чистом и поэтическом, об
умении автора так строить
повествование, что интерес к рассказам нигде не
ослабевает, а, напротив, с каждой новой
страницей все усиливается. Можно
тщательно проанализировать такие, по
моему мнению, особенно удавшиеся
писателю рассказы, как «Зеленые камни» или
^Штакетник», где мастерски
выписанные детали природы и быта сочетаются
с глубиной психологического
проникновения в судьбы и характеры героев:
столичного адвоката Зубарева,
приехавшего в деревню поправить свое
пошатнувшееся здоровье и позже
раскаивающегося в своих гадливых мыслишках
относительно красивой Зинаиды, и пожилого
сторожа Никона Трофимовича,
открывшего для себя, пусть с опозданием,
непреходящее значение искусства
древних зодчих, таких же, как и он,
мужиков.
Обо всем этом можно было бы сказать
подробнее, и, надо полагать, критики так
и сделают. Мне хотелось лишь
поделиться с читателем тем ощущением радости
открытия красоты в обыденном и
хорошо всем нам знакомом, которое
невольно возникает по прочтении сборника
рассказов С. Барченко.
«Трасса на Луну» — первая книжка
щедро одаренного автора. И хочется
верить, что именно первая, что за ней
последуют другие книги С. Барченко,
где он сохранит и донесет до читателя и
свою любовь к суровому северному
краю, который он сам прошел из конца
в конец, и к его гордым и прекрасным
людям.
Вл. Меженков
Главный редактор В. А. КОЧЕТОВ.
Редакционная коллегия: С. П. БАБАЕВСКИЙ, С. А. ВАСИЛЬЕВ, Н. А. ГОРБАЧЕВ (зам.
главного редактора), В. Г. ГОРДЕЙЧЕВ, Ю. В. ИДАШКИН (отв. секретарь),
А. П. КЕШОКОВ, Д. Ф. КРАМИНОВ, М. Д. МИХАЛЕВ, А. А. ПЕРВЕНЦЕВ,
А. А. ПРОКОФЬЕВ, П. С. СТРОКОВ (зам. главного редактора).
Технический редактор 3. Семенова.
Адрес редакции: Москва, А-47, ул. «Правды», д. 11/13.
Телефон главного редактора — 251-62-05, заместителя гл. редактора и ответственного
секретаря — 251-63-64, отделов: прозы — 251-71-34, поэзии — 251-74-67, критики —
251 -69-37, публицистики — 251 -60-24.
А 00429. Подписано к печати 21/Х 1969 г. Формат бумаги 70X108Vi6.
Объем 19,60 усл. печ. л. 22,24 учетн.-изд. л. Тираж 140 000 экз. Изд. №
Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва. А-47, ул. «Правды», 24.