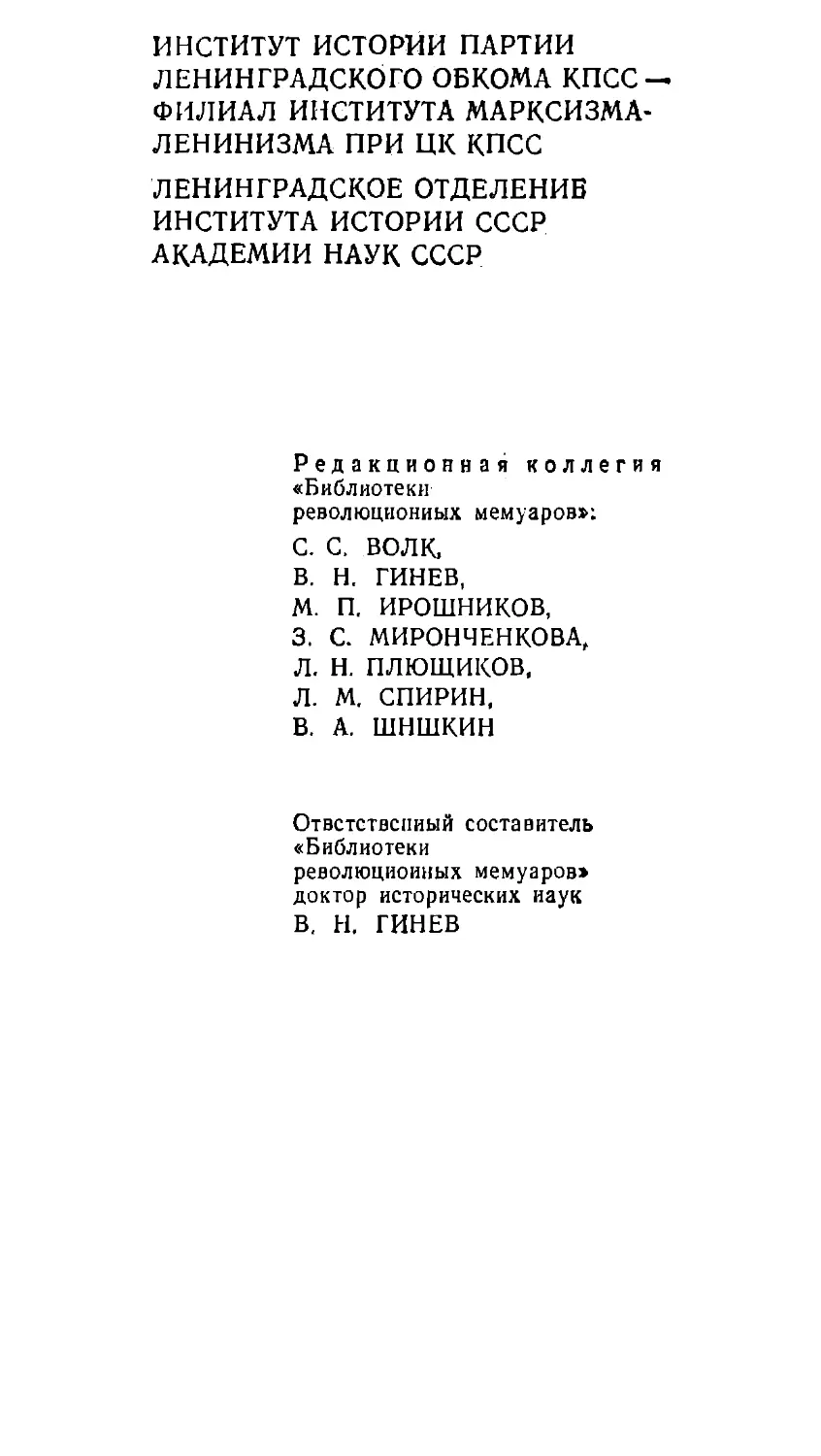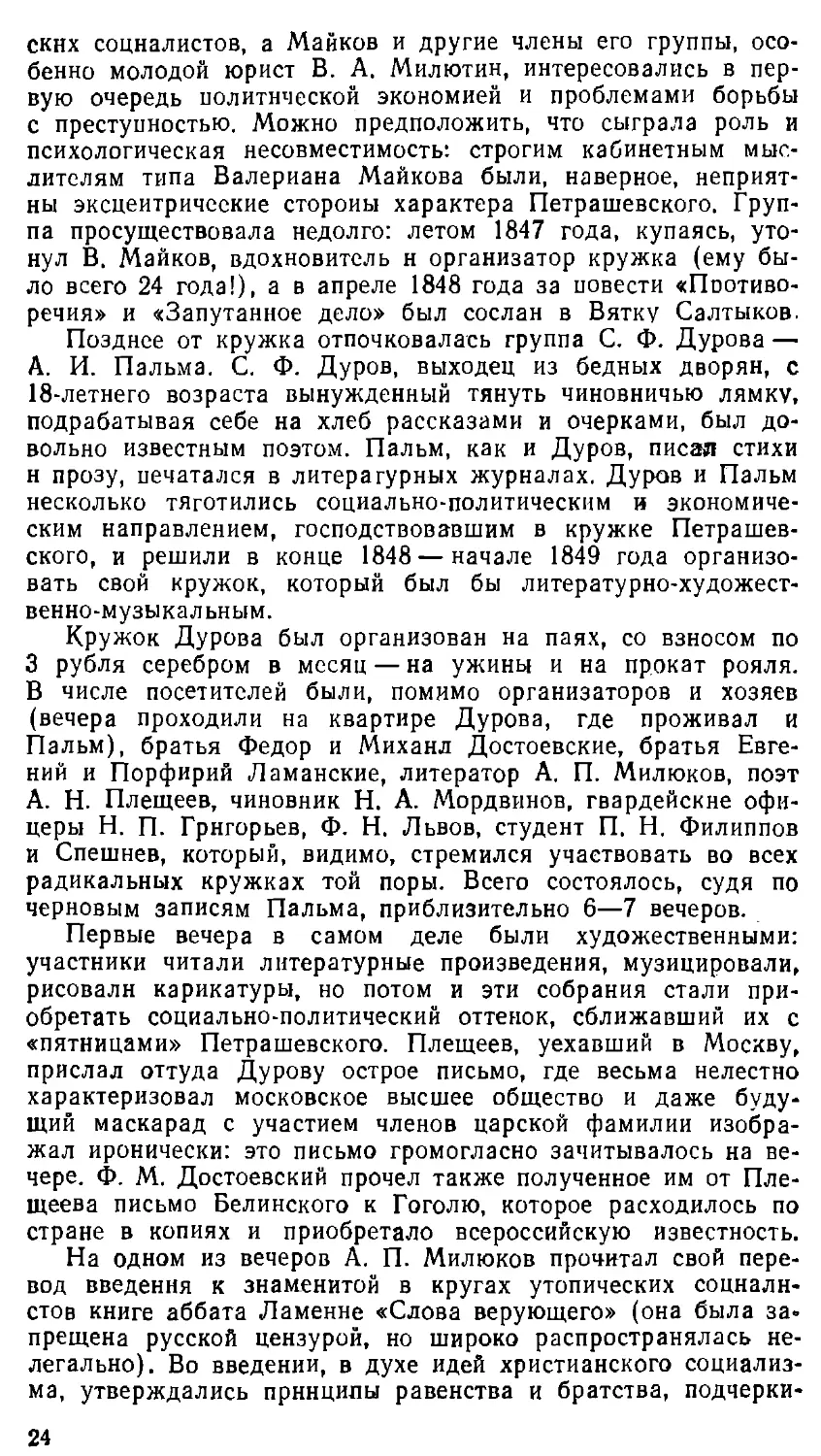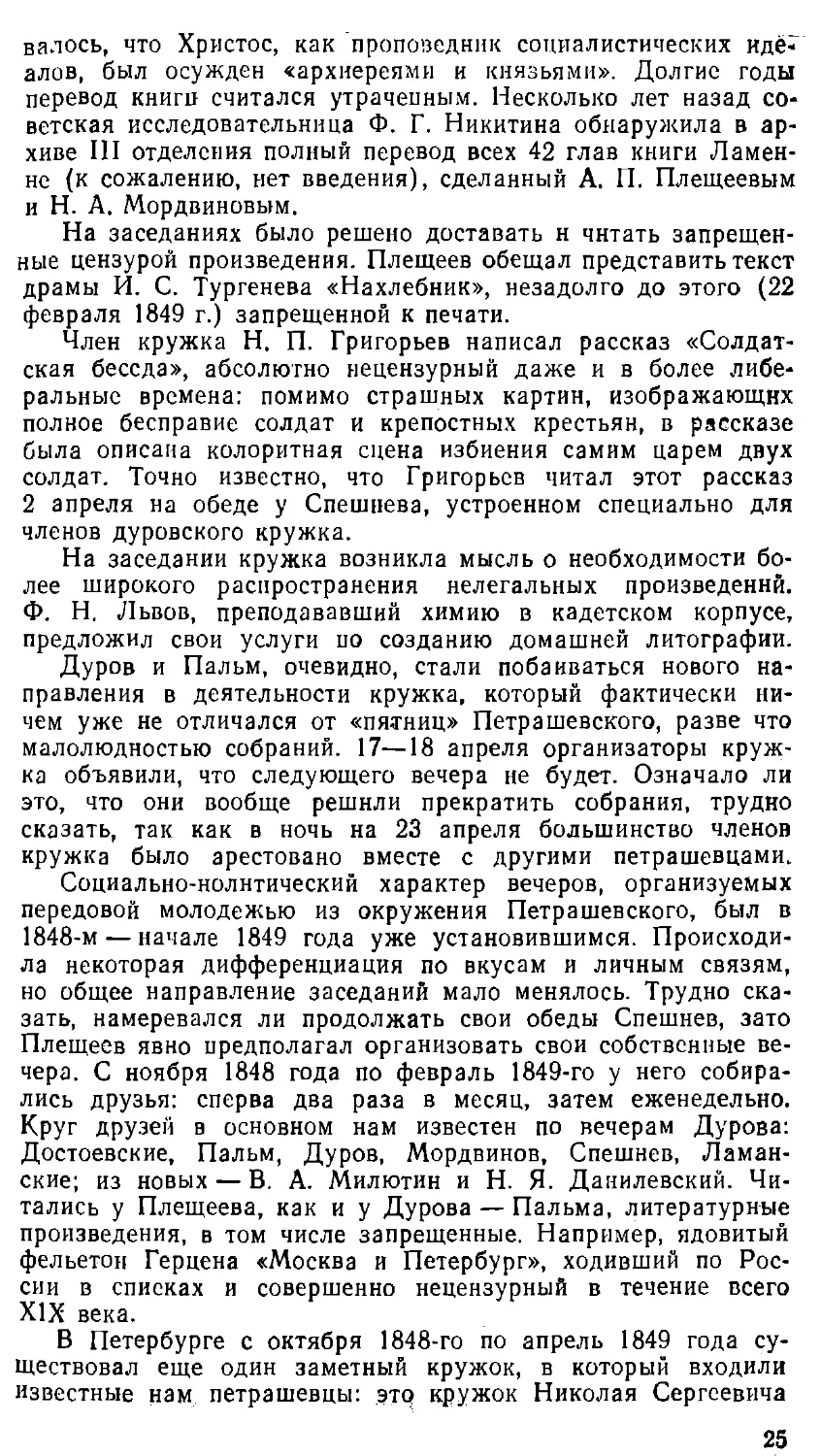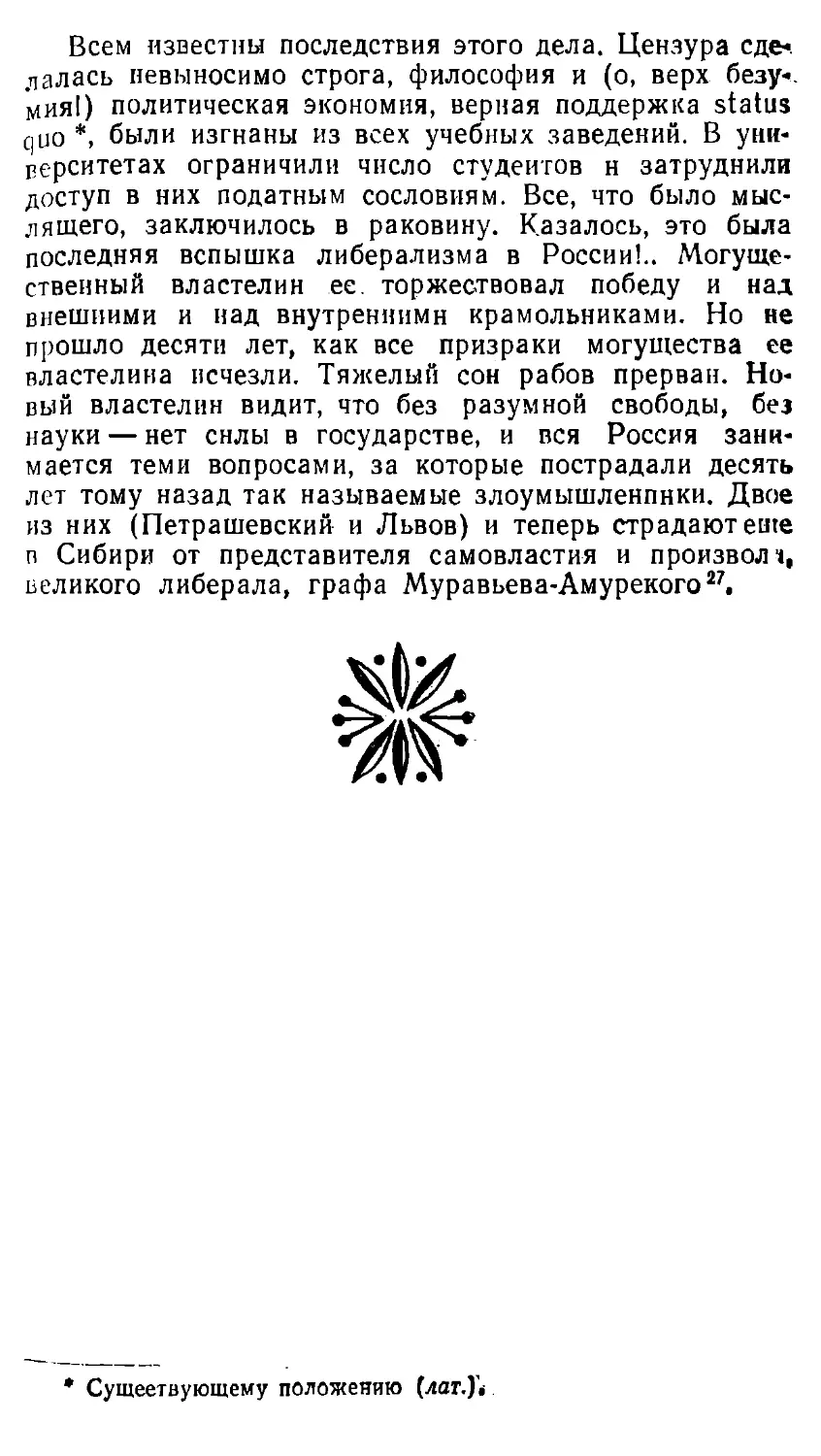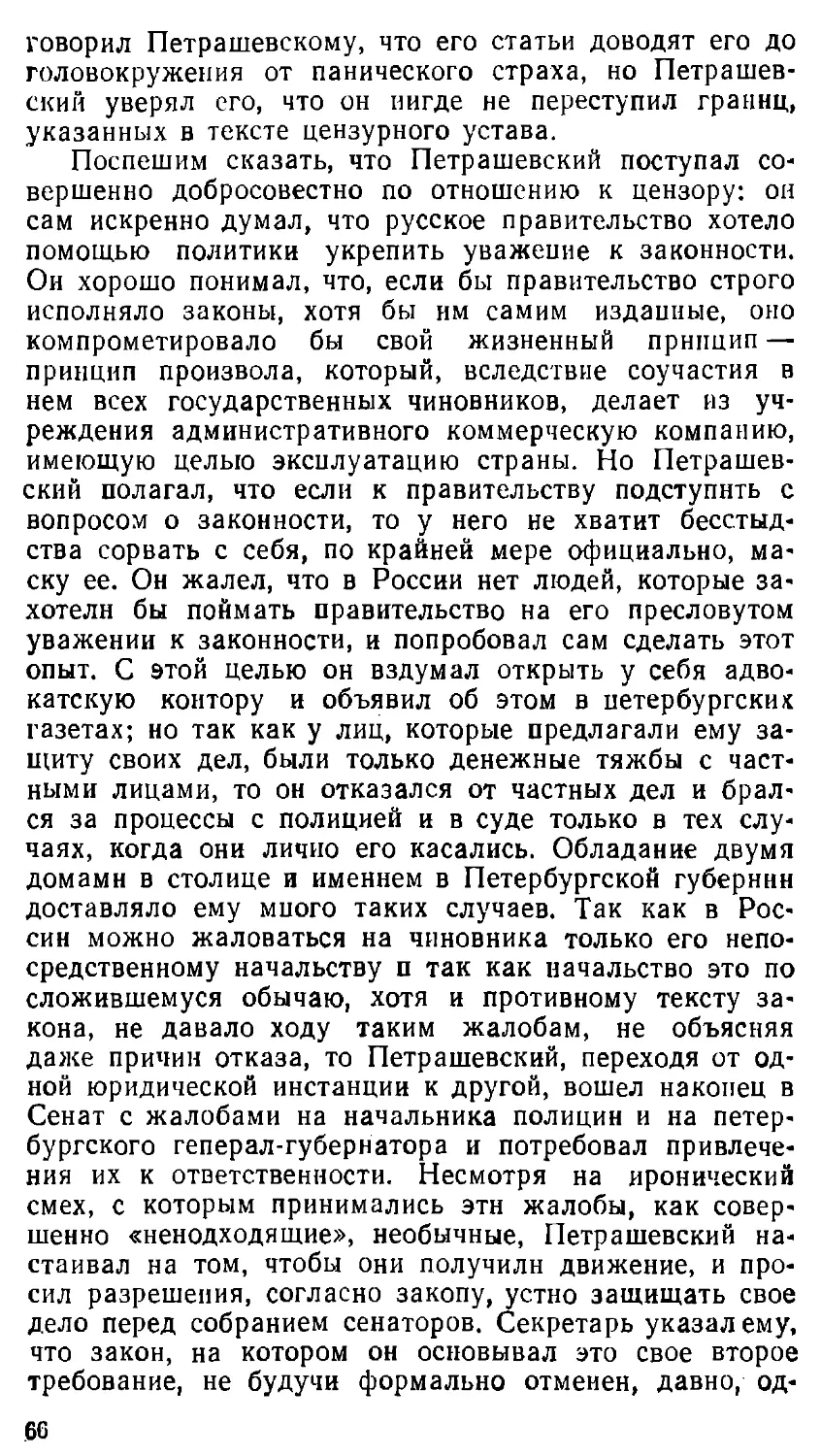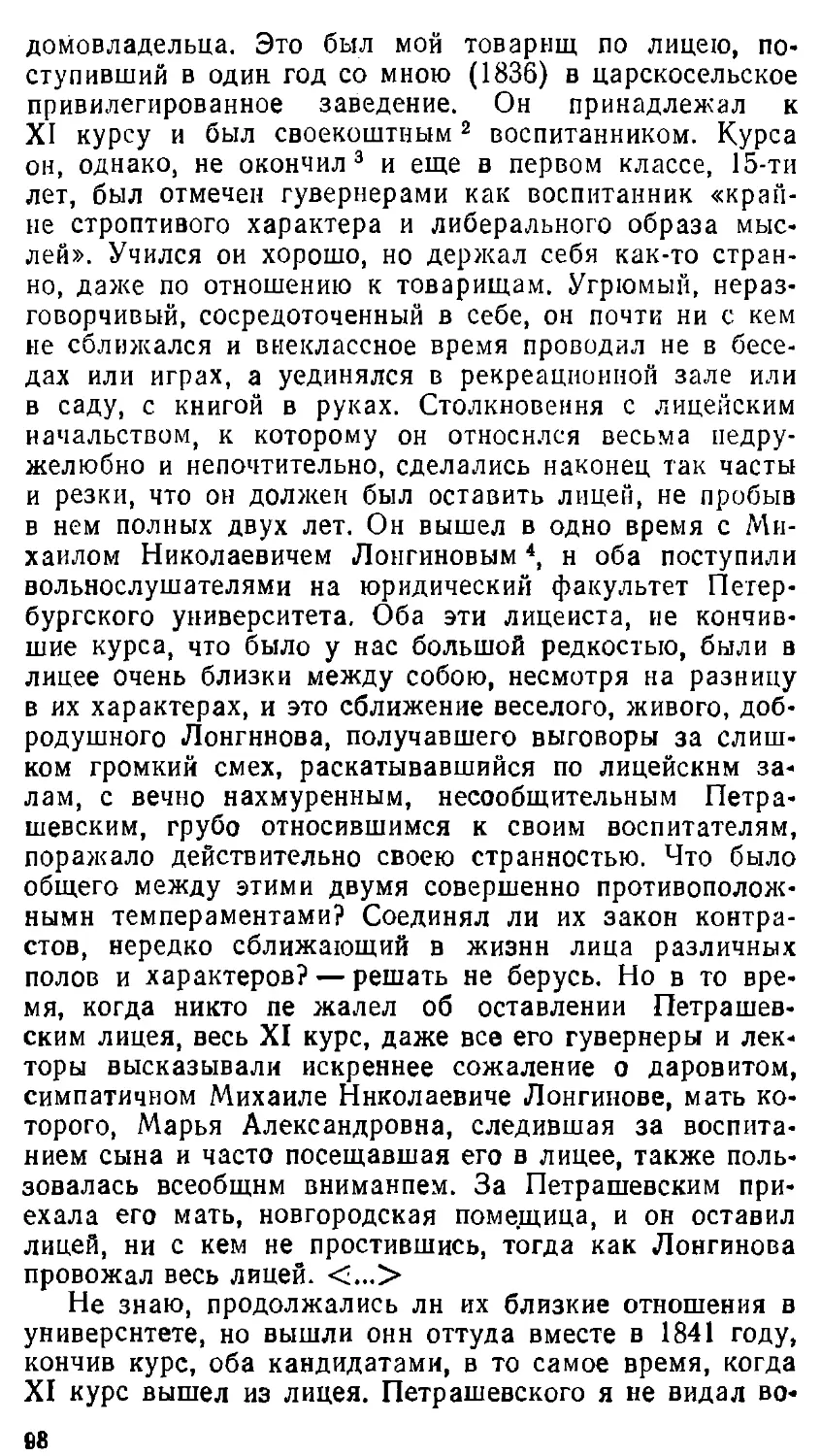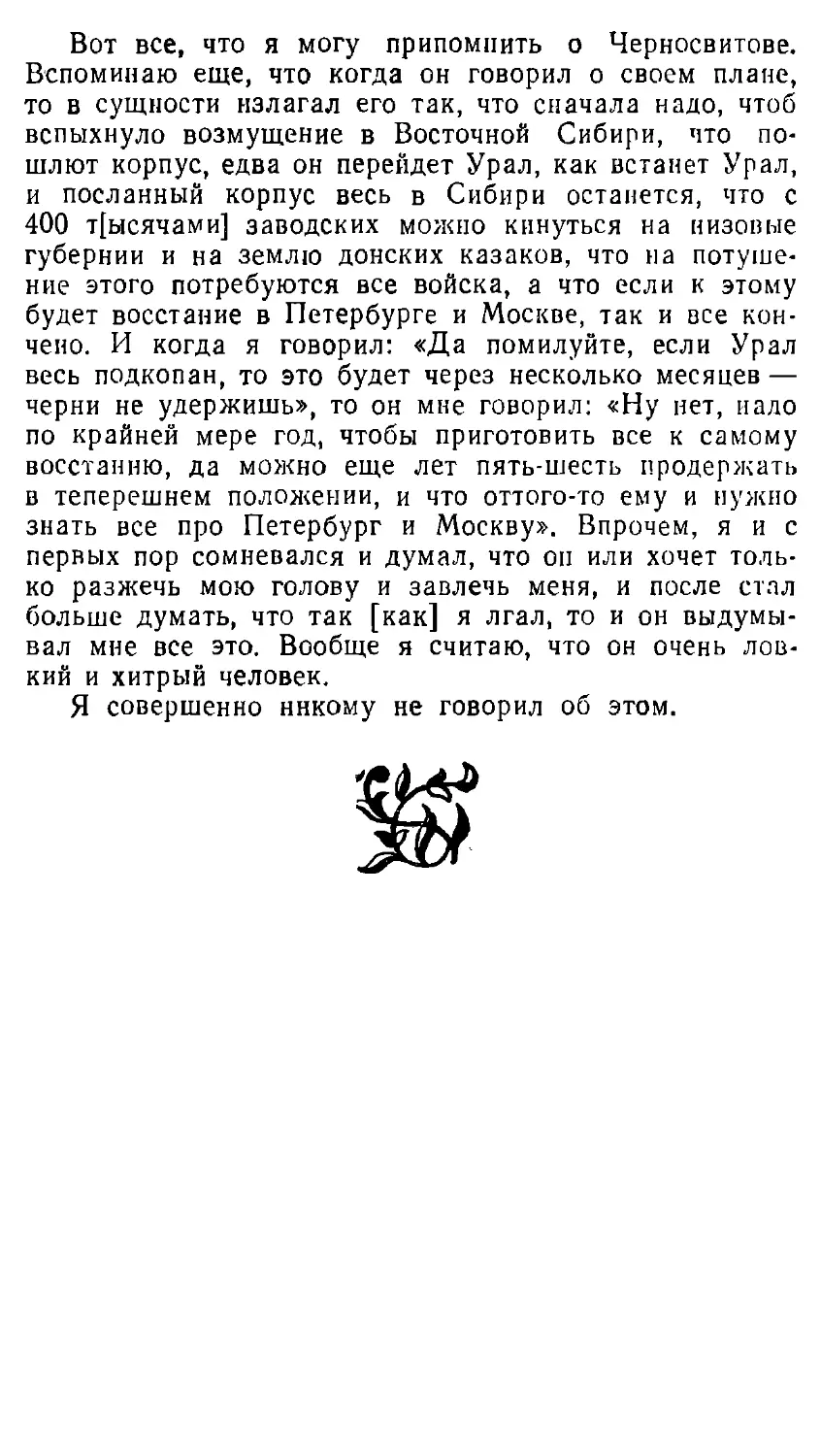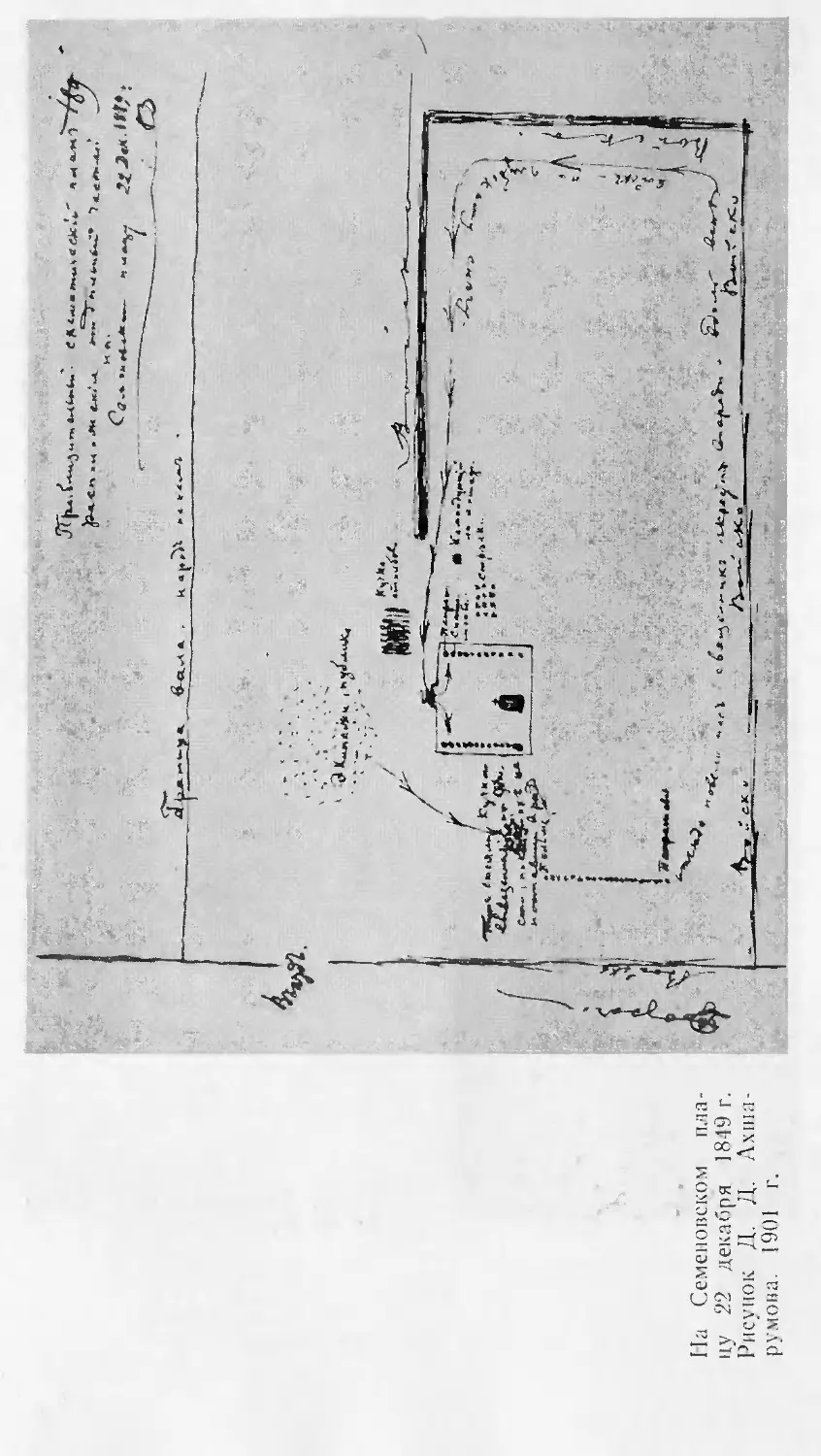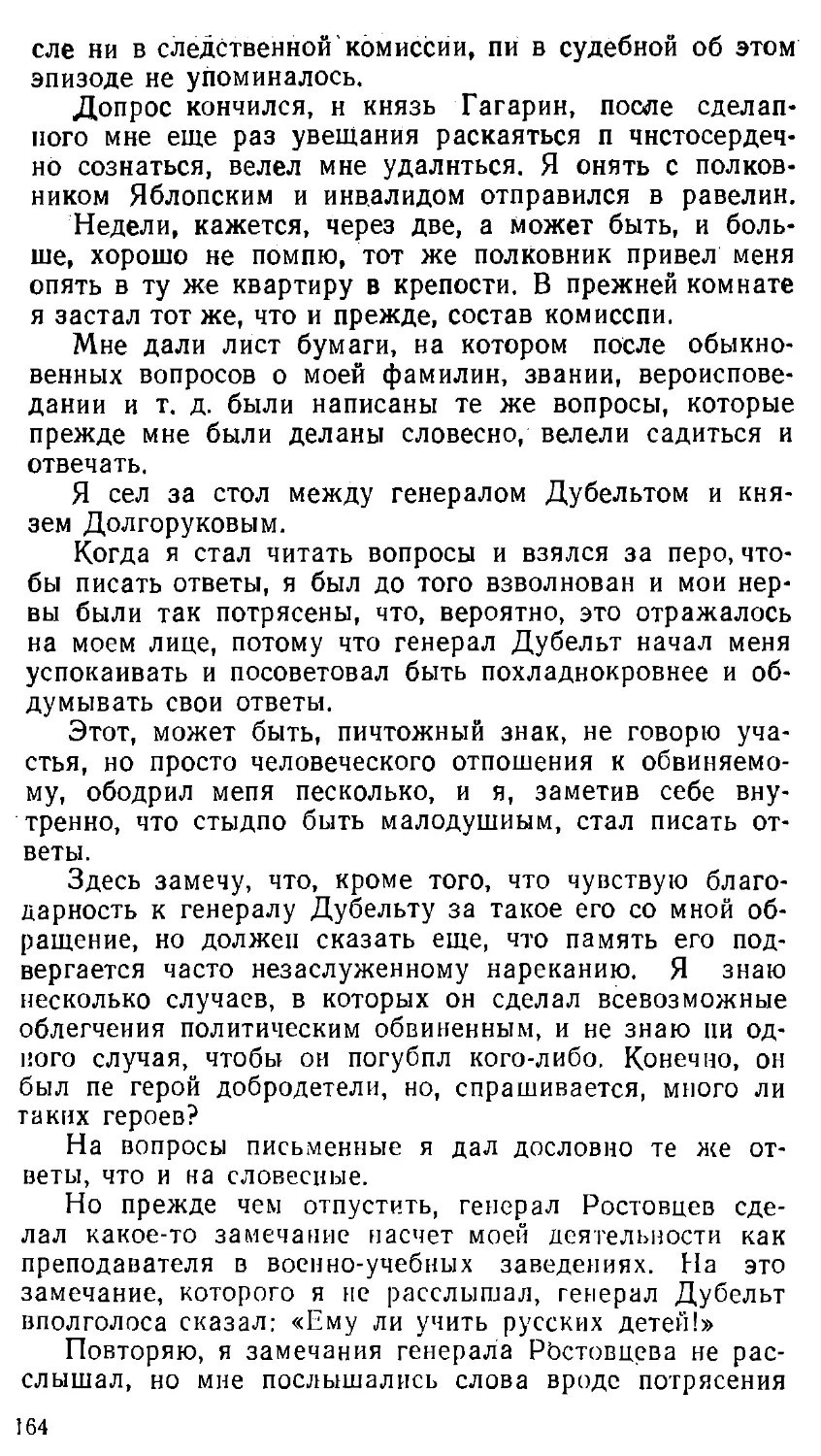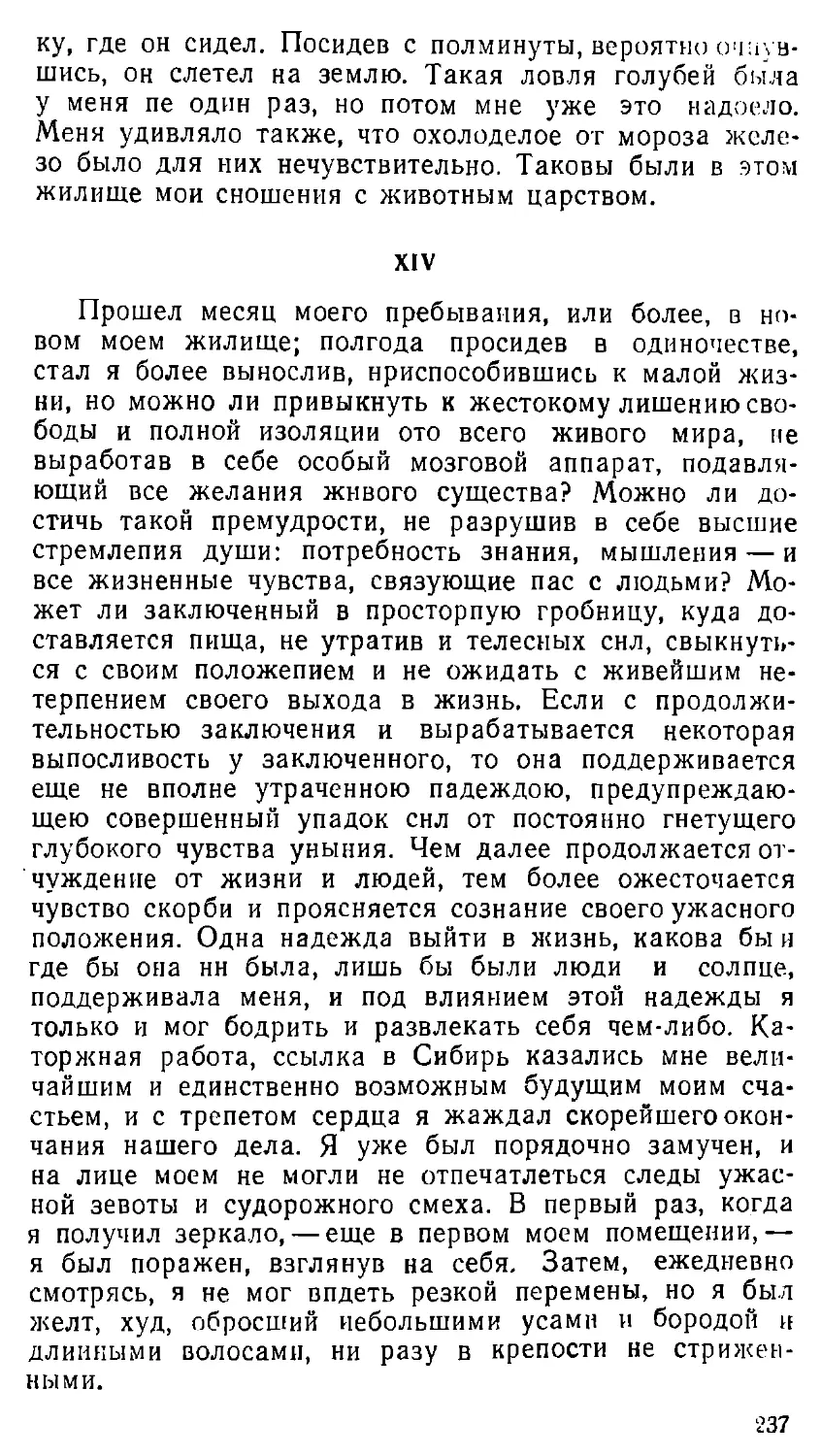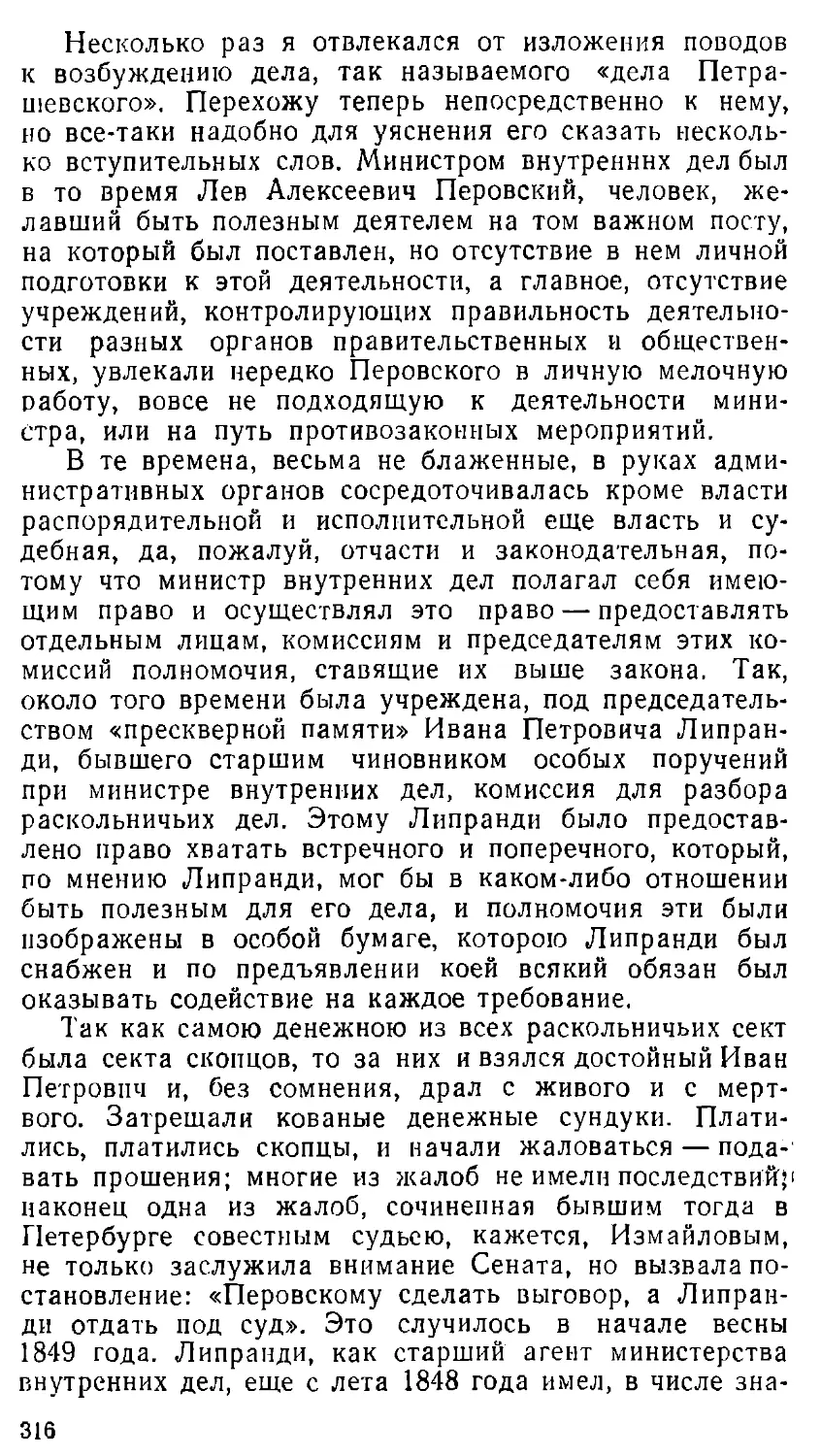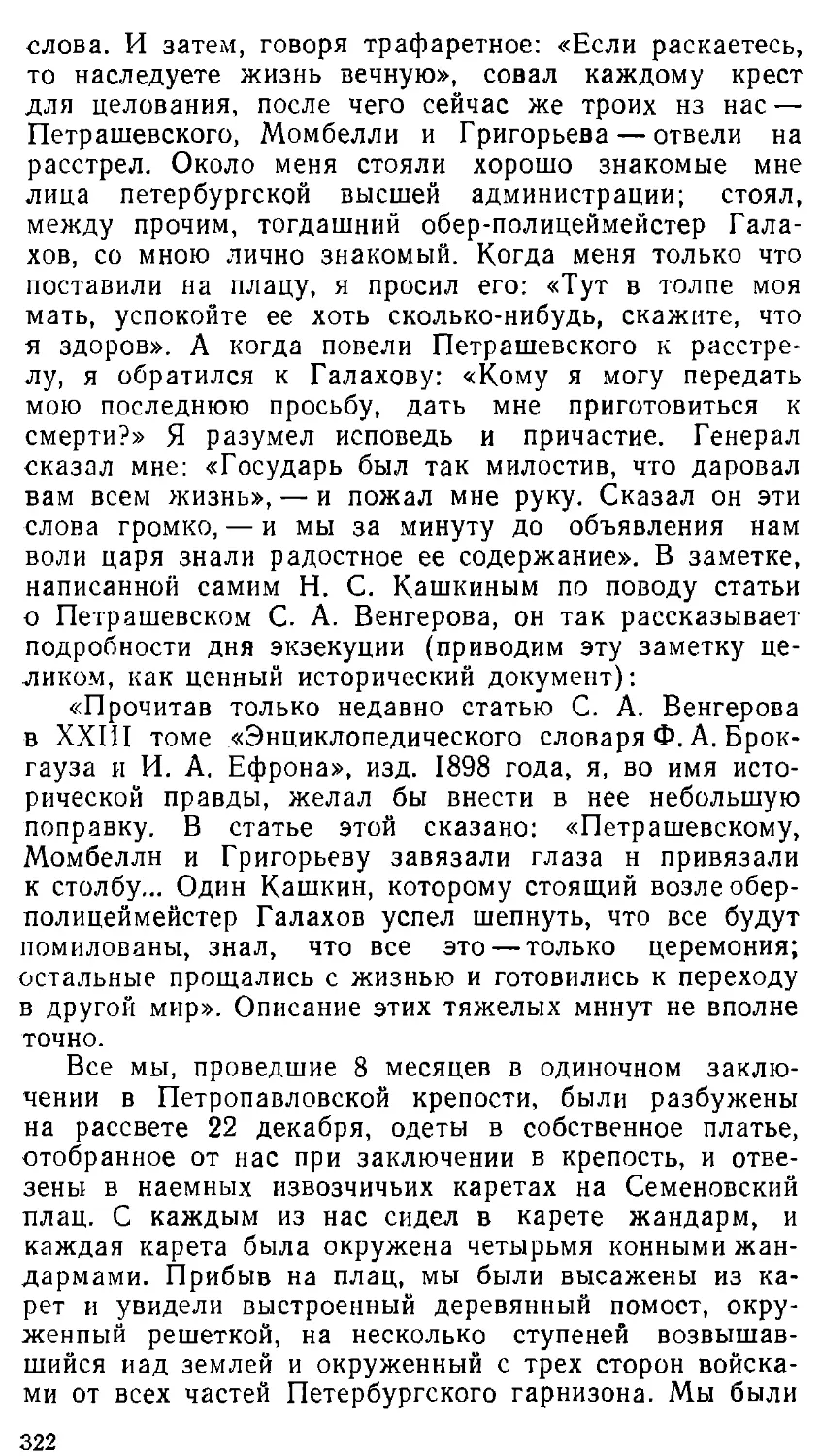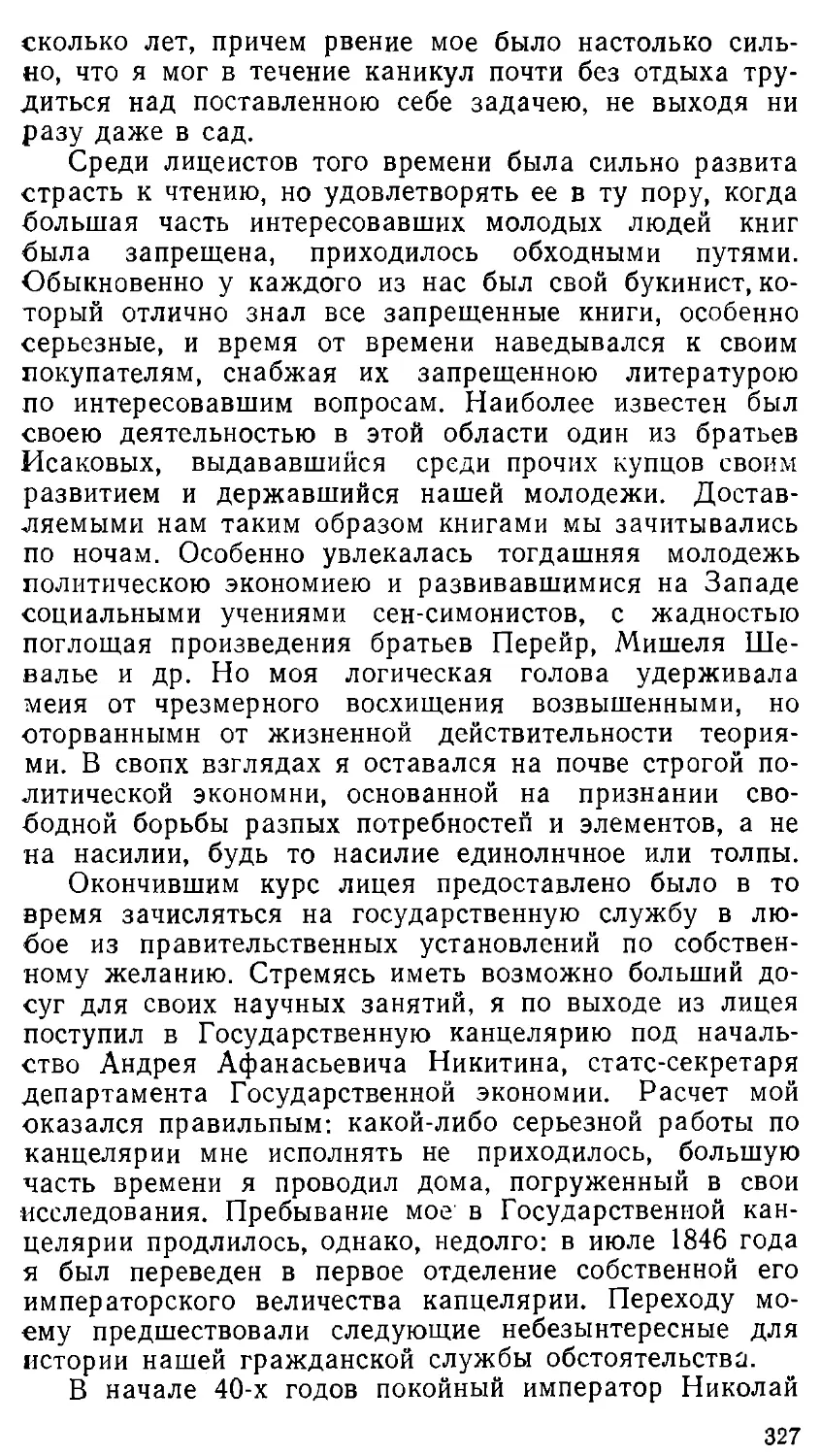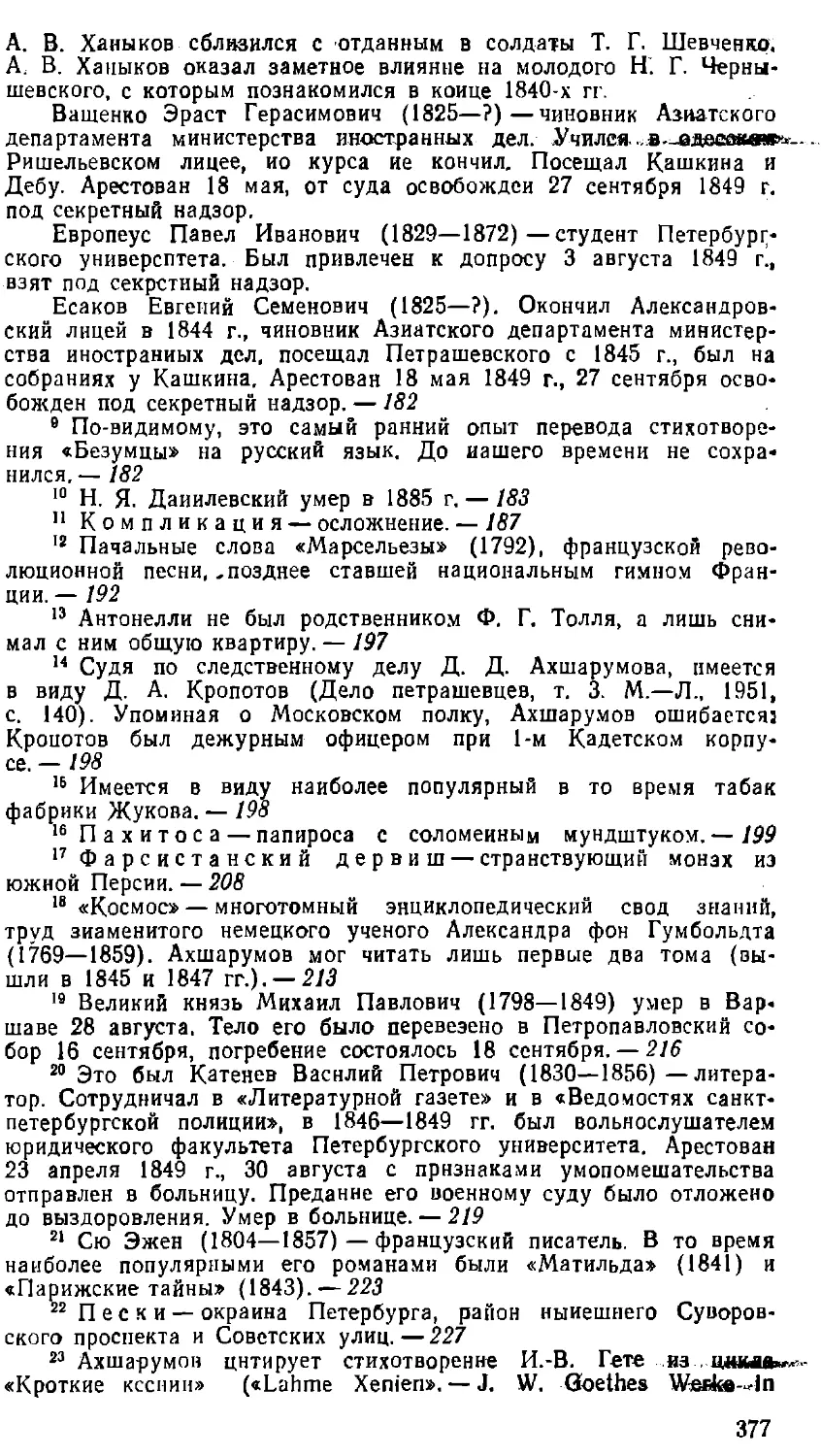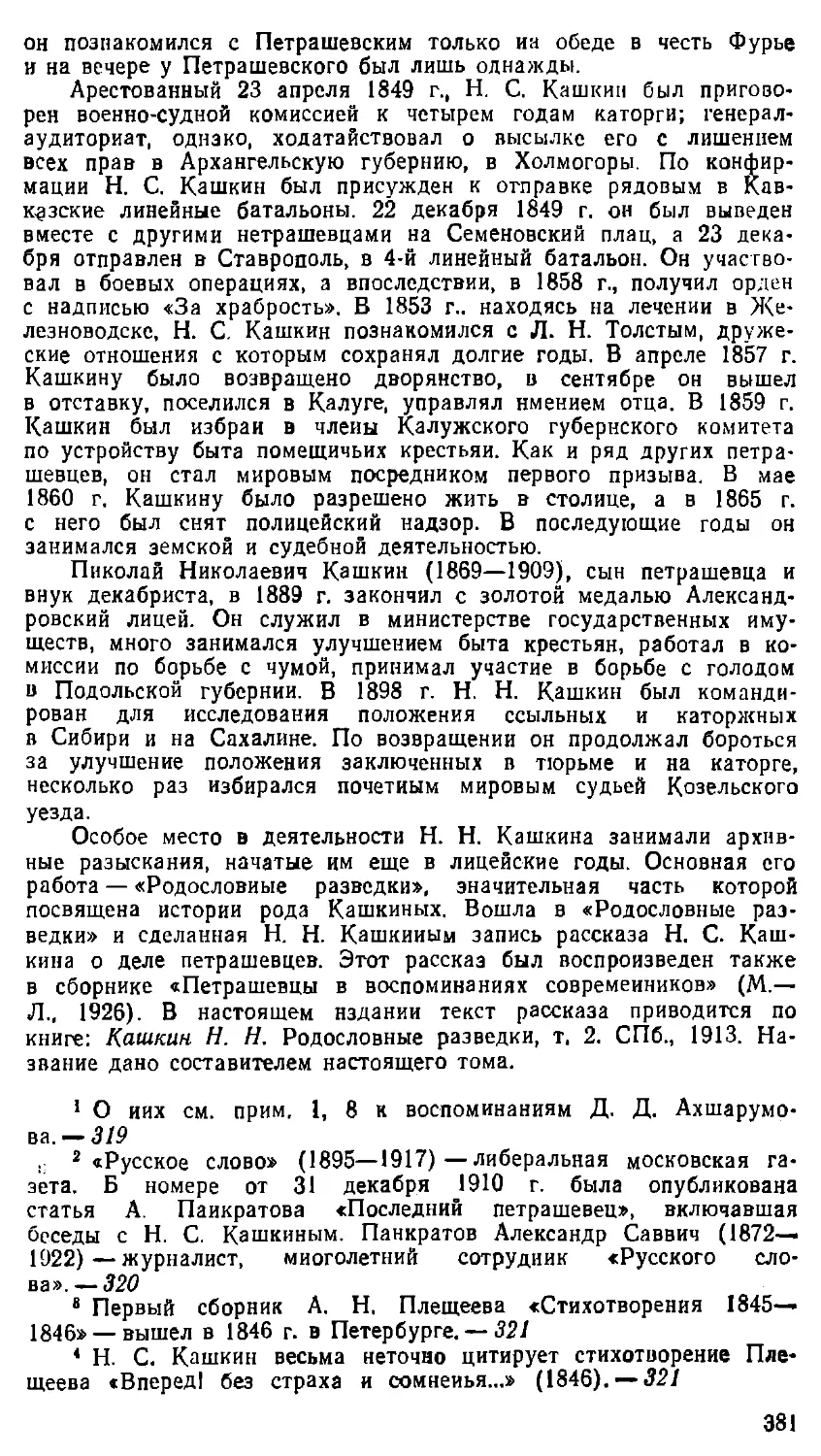Author: Гинев В.Н.
Tags: социализм лениздат русский социализм биографии социалистов история социализма в россии
Year: 1984
Text
ВИГкчНОТ'''л
РЕВОЛЮЦИООШ \
МЕМУАРОВ'
« VV3 KCV0 ОИ
ВОЗГОРИ"
ПЛАМЯ »
Г lift
К ** •** ■ I
к Д JL. ■*» яУ»/впJ
f »1йййЬ ЯЖКХЛ)1
' '• l
Il
■1
ПЕРВЫЕ
РУССКИЕ
СОЦИАЛИСТЫ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ПАРТИИ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБКОМА КПСС —
ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА МАРКСИЗМА-
ЛЕНИНИЗМА ПРИ ЦК КПСС
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ СССР
АКАДЕМИИ НАУК СССР
Редакционная коллегия
«Библиотеки
революционных мемуаров»:
С. С. ВОЛК,
В. Н. ГИНЕВ,
М. П. ИРОШНИКОВ,
3. С. МИРОНЧЕНКОВА,
Л. Н. ПЛЮЩИКОВ,
Л. М, СПИРИН,
В. А. ШИШКИН
Ответственный составитель
«Библиотеки
революционных мемуаров»
доктор исторических наук
В. Н. ГИНЕВ
библиотека
РЕВОЛЮЦИОННЫХ
МЕМУАРОВ
«из искры
ВОЗГОРИТСЯ
ПЛАМЯ»
ПЕРВЫЕ
РУССКИЕ
СОЦИАЛИСТЫ
Воспоминания участников
кружков петрашевцев
в Петербурге
Составитель
доктор филологических наук
Б. Ф. ЕГОРОВ
Научный редактор
доктор исторических наук
С. С. ВОЛК
Лениздат • 1984
63.3(2)47
П26
Рецензент
доктор исторических наук
В. Р. Лейкина-Свирская
Первые русские социалисты: Воспоминания
П26 участников кружков петрашевцев в Петербурге/
Сост. Б. Ф. Егоров. — Л., Лениздат, 1984. — 392 с.,
ил.
Николаевская реакция, наступившая после подавления восстания
декабристов, не смогла заглушить передовую общественную мысль
и подавить борьбу с деспотизмом. И в этот период видимого тор¬
жества реакции Петербург наряду с Москвой оставался центром
свободомыслия. В Петербурге были созданы первые кружки утопи*
ческих социалистов.
В книге собраны воспоминания петрашевцев — участников пер*
вых общественно-политических кружков в России, пропагандировав*
тих социалистические идеалы: Д. Д. Ахшарумова, Ф, М. Достоев¬
ского, П. А. Кузмина, Ф. Н. Львова, Ф. Г. Толля, И. Л. Ястр¬
жембского и др.
0505020000—2067С
М171(03)—84
63.3(2)47
© Лениздат, 1984
ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
В РОССИИ
Расправившись с декабристами, Николай I отнюдь не об
рел спокойствия. Всю жизнь его преследовала боязнь за
говоров и тайных обществ. Одним из самых первых его ме-
роприятий после вступления на престол была организация
значительно более жесткой, чем ранее, системы охранитель¬
ных мер. Для усиления обычной полицейской деятельности
был создан «высший» полицейский орган — III отделение
«собственной его императорского величества» канцелярии,
которому был для усиления придан корпус жандармов.
Новый царь мечтал превратить страну в чиновничье-воен'
ную машину, своего рода грандиозную казарму, где каждый
человек должен находиться на предназначенном ему месте,
беспрекословно исполнять приказания высших инстанций, ни
в коем случае не проявлять «всезнайства и противоречия».
Всякое нарушение субординации, «иерархии» должно было
строго караться.
Все административные, социальные, экономические изме¬
нения в стране могли совершаться лишь по предначертани¬
ям царя или созданных им секретных комитетов. Даже дво¬
рянам не разрешалось обсуждать кровно интересующие их
вопросы, например возможные меры по смягчению отжива¬
ющего крепостного права или создание системы дворянского
совещательного представительства. Попытки некоторых.жур¬
налистов печатать весьма робкие, но все же самостоятельные
проблемные статьи обычно заканчивались весьма плачевно —
запрещением журнала. Так был в 1832 году закрыт журнал
И. В. Киреевского «Европеец», в 1834-м — «Московский теле¬
граф» Н. А. Полевого, в 1836-м — «Телескоп» Н. И. Надеж
дина.
В страхе перед европейским революционным движением
правительство ограничило культурные связи России с Запа¬
дом. В университетах были закрыты кафедры философии
(преподавание основ философии было поручено священни¬
кам). Чтобы представители низших сословий (мещане и кре-
5
стьяне) не проникали в административный и ученый мир,
были усилены сословные различия между учебными заведе¬
ниями: гимназии и университеты — для дворян, семинарии —
для духовенства, низшие училища—для мещан и крестьян.
Обучать и воспитывать в них молодежь надлежало в духе
преданности властям, руководствуясь «триединой» форму¬
лой: «православие, самодержавие, народность», придуманной
министром народного просвещения графом С. С. Уваровым.
Однако, несмотря на все репрессивные меры, антисамодер-
жавное и антикрепостническое движение в России хотя и ос¬
лабло, но не было полностью уничтожено. Прежде всего, не
были спокойны народные массы: то в одной, то в другой гу¬
бернии стихийно возникали разрозненные выступления кресть¬
ян против помещиков, вспыхивали бунты в городе и деревне
(в 1830—1831 годах) в связи с эпидемиями холеры, волнения
в армии и флоте, крупное восстание в новгородских («арак¬
чеевских») военных поселениях в 1831 году, восстания горно¬
заводских рабочих на Урале и т. д. Однако все эти выступ¬
ления царское правительство беспощадно подавляло. С сере¬
дины 1830-х годов в России происходит некоторый спад на¬
родных волнений, но с начала 1840-х годов их количество и
размах возрастают очень заметно (всего за десятилетие при¬
мерно 350 столкновений крестьян с помещиками против 143
в 1830-х годах). Особенно неспокойным стал 1848 год: летняя
эпидемия холеры, унесшая 700 тысяч человеческих жизней, и
страшный осенний неурожай заметно увеличили число выс¬
туплений в деревне, их было в том году 70 (против 48 в
1847 году). Разумеется, на этом фоне становились еще более
заметными пороки самодержавно-крепостнического строя, вы¬
зывая протест всех мыслящих и честных людей России.
И после 1825 года, как бы следуя декабристской тради¬
ции, продолжали организовываться, несмотря на бдительный
надзор III отделения, нелегальные кружки, тайные общества,
где изучалась запрещенная литература, обсуждались вопро¬
сы, связанные с возможным восстанием против монархиче¬
ского строя. Только в Московском университете в конце
1820-х — начале 1830-х годов известны три подпольных поли¬
тических кружка: братьев Критских, Н. П. Сунгурова, Герце¬
на и Огарева. Когда их деятельность обнаружили, несколько
десятков участников этих кружков были отправлены по воле
Николая I в тюрьмы, на каторгу, в ссылку, в солдаты. Но
прогрессивное движение молодежи невозможно было остано¬
вить, участники кружков 40-х годов, к которым принадлежат
и петрашевцы, продолжили дело своих старших товарищей.
Важно, однако, учесть, что в свете декабристской траге¬
дии передовые мыслители все яснее понимали ограниченность
прежних форм революционной борьбы. Пушкинские мысли о
провале любых политических начинаний без опоры на на¬
родное мнение и — с другой стороны — об ограниченности
«бессмысленного и беспощадного» крестьянского бунта не
были индивидуальной догадкой гениального человека — они
6
носились в воздухе. К этим идеям уже подходили некоторые
декабристы, позднее об этом же: думали и писали Белин¬
ский и Герцен. Однако при тогдашнем уровне социально-по¬
литического и экономического развития России не было ус¬
ловий для соединения этих трагически расходившихся соци¬
альных групп: инициаторов борьбы и народа.
При общественно-политическом застое в стране (особенно
сказавшемся во второй половине 1830-х — начале 1840-х го¬
дов) создавалась наиболее благоприятная почва для рас¬
пространения утопий, то есть теорий, конструирующих идеаль¬
ный общественно-политический строй (или какие-либо его
частные сферы: экономическую, техническую, воспитательную
и т. п.) не на основе научного изучения реальных возможно¬
стей развития, а по принципу долженствования: какой, с точ¬
ки зрения автора, должна быть идеальная общественная си¬
стема... В. И. Ленин в статье «Две утопии» (1912 г.) назвал
причины, наиболее благоприятные для развития этого явле¬
ния: «Чем меньше свободы в стране, чем скуднее проявле¬
ния открытой борьбы классов, чем ниже уровень просвещения
масс, — тем легче возникают обыкновенно политические уто¬
пии и тем дольше они держатся» *.
В период реакции 30-х и особенно 40-х годов утопии рас¬
пространялись весьма интенсивно. Одним из утопистов этого
времени был П. Я- Чаадаев, трагическая фигура в истории
русской общественной мысли. Относительно случайно ока¬
завшийся не замешанным в деле декабристов (он был в
1823—1826 гг. за границей), он мучительно раздумывал о
судьбе Родины и в цикле «Философических писем» (начало
1830-х гг.) подробно развил свои утопические идеи. Чаадаев
резко отрицательно относился к историческому прошлому и
к современному состоянию России, противопоставлял ей идеа¬
лизированную историю и культуру западноевропейских наро¬
дов. Чрезвычайно большое место отводил он религии, как
главенствующей области духовной жизни человека, и изобра¬
жал католичество как идеал организации, объединяющей лю¬
дей в целостное сообщество и способствующей развитию куль¬
туры; тем самым утопия Чаадаева приобретала религиозный
оттенок.
Передовая русская молодежь больше всего оценила в
«Философическом письме» (было напечатано в 1836 г. лишь
первое из цикла) негативную часть, резкую критику прошло¬
го и настоящего самодержавной России. По-своему реагиро¬
вал на это и Николай I, приказав закрыть журнал «Телес¬
коп», где было опубликовано «Письмо», издателя, профессо¬
ра Н. И. Надеждина, сослать на дальний Север, а Чаадаева
объявить сумасшедшим.
Как своеобразная реакция и на движение декабристов, и
на утопию Чаадаева в конце 30-х годов возникла славяно¬
фильская идеология, представители которой (А. С. Хомяков,
* Ленин В. И. Поля. собр. соч., т, 22, с. 117,
7
братья И. В. и П. В. Киреевские, К. С. Аксаков, 10. Ф. Са-
марин и др.), не отрицая пороков древней и в особенности
современной России, в целом идеализировали патриархаль¬
ный строй, православную культуру и противопоставляли их
европейским буржуазным формам жизни.
Славянофилам противостояли либеральные западники
(Т. Н. Грановский, П. Н. Кудрявцев, К. Д. Кавелин и др.),
которые идеализировали социально-политический строй бур¬
жуазных государств Западной Европы и утопически мечтали
мирными средствами осуществить этот идеал в своей стране.
Но в отличие от Чаадаева они были совершенно равнодуш¬
ны к религиозным проблемам и занимались светской, «секу¬
ляризованной» культурой. К ним примыкал известный либе¬
ральный общественный деятель, писатель, публицист князь
В. Ф. Одоевский, создавший несколько утопических произве¬
дений, из которых наиболее значителен неоконченный роман
«4338-й год», писавшийся в течение 1830—1840-х годов (при
ж-изни Одоевского были опубликованы лишь два отрывка).
Сейчас жанр этого произведения назвали бы научно-фанта¬
стическим. Одоевского больше всего занимали безграничные
возможности технического прогресса, способного облегчить
существование человека и создать условия для подлинно гу¬
манистического общественного строя. Но все эти преобразо¬
вания, мечтал автор, можно совершить, сохранив основы са¬
модержавного строя и сословное неравенство.
Мощное воздействие на русскую общественную мысль
1830—1840-х годов оказали идеи европейского утопического
социализма. Они были в эти годы весьма популярны и в
странах Западной Европы, особенно на своей родине — во
Франции, где посленаполеоновская реставрация бурбонской
монархии, а также интенсивное развитие капитализма спо¬
собствовали появлению теорий, отрицающих существующий
строй, который стремился увековечить общественное и эконо¬
мическое неравенство людей.
После смерти Анри де Сен-Симона (1760—1825), осново¬
положника утопического социализма XIX века, его произве¬
дения и его мысли широко популяризировались учениками,
организаторами сен-симонистских журналов и обществ. Сен¬
симонисты создавали в Париже и во французской провинции
трудовые коммуны, кооперативные мастерские, которые, прав¬
да, просуществовали недолго из-за идейных и материальных
трудностей внутри самих организаций и из-за репрессий со
стороны государства, но все же сыграли большую роль в про¬
паганде социалистических принципов: общественная собст¬
венность, коллективный труд, справедливое распределение
доходов, социальное равенство всех членов, в том числе и
женщин, и т. п. Однако эти принципы не имели у сен-симо-
нистов (как и вообще у всех последователей утопического со¬
циализма) реальной социально-экономической основы, они
были пожеланием, которое, по словам В. И. Ленина, «не опи¬
8
рается на общественные силы и которое не подкрепляется ро¬
стом, развитием политических, классовых сил» *.
Великий французский утопист Шарль Фурье (1772—1837)
в своих произведениях глубоко вскрыл противоречия и поро¬
ки феодальной и капиталистической систем. По учению Фурье,
на смену буржуазному строю должен прийти «строй гармо¬
нии», где первичными общественными ячейками станут боль¬
шие коммуны — фаланги, в которых, однако, личная собст¬
венность и даже личный капитал будут сохранены. В фалан¬
гах должно быть разделение труда по вкусам и способностям
членов общества. Интересный и свободный труд, разумная и
справедливая организация коллективного хозяйства сулили
большие выгоды всем и каждому. В будущем воцарятся сча¬
стье и мир, так как все человечество на конкретных примерах
поймет преимущества социалистической жизни и всюду орга¬
низует фаланги-общины. Одновременно Фурье критиковал
сен-симонистов за то, что в своем учении они слишком боль¬
шую роль отводили религии.
Страстная пропаганда фурьеристов возымела действие:
нашлись желающие участвовать в социалистических общинах
(даже и состоятельных лиц оказалось немало), были закуп¬
лены участки во Франции и в Соединенных Штатах, по¬
строены фаланстеры (дома-дворцы для совместного прожива¬
ния). Наличие формальных буржуазных политических свобод
создавало у организаторов иллюзию возможности мирного и
постепенного осуществления справедливого строя. Однако
большинство этих общин распалось через несколько лет: от
неумелого ведения хозяйства, от притока любителей пожи¬
виться за чужой счет, от враждебного капиталистического
окружения... Но значение фурьеристских фаланг для пропа¬
ганды социалистических идей оказалось очень велико.
Идеи утопического социализма стали проникать и в Рос¬
сию. Еще в первой половине 30-х годов в переписке Пушки¬
на и Чаадаева затрагивались эти проблемы. Учение Сен-Си¬
мона внимательнейшим образом изучалось в студенческом
кружке Герцена и Огарева. А в начале 40-х годов в России
уже появилась фурьеристская литература. К идеям великих
социалистов-утопистов очень сочувственно отнесся В. Г. Бе¬
линский. В письме к В. П. Боткину от 8 сентября 1841 г. он
торжественно объявил: «...я теперь в новой крайности — это
идея социализма, которая стала для меня идеею идей, бы¬
тием бытия...» Правда, и Белинский и Герцен с самого на¬
чала неодобрительно воспринимали утопические крайности
Фурье (главным образом мелочную регламентацию быта), но
общие принципы фурьеризма оценивали весьма положитель¬
но. Лишь во второй половине 40-х годов Белинский и Герцен
начали критиковать и теоретические построения утопических
социалистов в целом, главным образом за беспочвенное фан¬
тазирование, нереалистический подход к действительности,
* Ленин В. И. Поли. собр. соч,, т. 22, с, 117.
9
Вместе с тем и Белинский я Герцен пытались найти основы
для создания теории и практики социализма, хотя реальной
почвы для создания теории научного социализма в России
тогда еще не было. Белинского начала 40-х годов можно, та¬
ким образом, считать предтечей русского утопического социа¬
лизма как общественного течения. Смерть в мае 1848 года
помешала ему развить свои социалистические взгляды в це¬
лостную систему, Герцен же в начале 50-х годов стал осново¬
положником крестьянского общинного социализма — русской
разновидности утопического социализма. Но Белинский и Гер¬
цен. были не только социалистами-утопистами, они в то же
время великие революционные демократы.
В течение 40-х годов В. Г. Белинский объединял почти
всех прогрессивных писателей, публицистов, критиков, созда¬
вая духовную атмосферу, в которой возникали выдающиеся
произведения литературы. Идейными центрами русского об¬
щественного движения были журналы, во главе которых сто¬
ял Белинский: до 1846 года — «Отечественные записки», а
с 1847 года — приобретенный Н. А. Некрасовым и И. И. Па¬
наевым «Современник».
Статьи Белинского о литературе и журналистике, сопналь-
нотфилософские очерки Герцена, статьи прогрессивного уче¬
ного В. А. Милютина о политической экономии в доступной
для легальной печати форме знакомили читателей с наиболее
прогрессивными взглядами в общественно-политической, фи¬
лософской, экономической, литературно-критической областях.
Вершиной революционно-демократической идеологии 1840-х
годов стало известное письмо Белинского к Гоголю (1847),
распространявшееся по стране в списках. Великий писатель
оказался весьма консервативным мыслителем: он создал в
течение 40-х годов реакционную утопию в виде сборника
«Выбранные места из переписки с друзьями». Именно эта
книга послужила поводом для замечательного письма Белин¬
ского, в котором выдвигались не утопические, а самые на¬
сущные жизненные требования, прежде всего — необходи¬
мость отмены крепостного права.
Белинский был властителем дум молодежи 40-х годов. По
воспоминаниям современников, новые книжки передовых жур¬
налов разрезались прежде всего на тех страницах, где пуб¬
ликовались статьи Белинского. Чрезвычайно велико было воз¬
действие критика на художественную мысль его времени. Он
способствовал расшатыванию прежних кумиров молодых чи¬
тателей, высмеивая эпигонов «старого», консервативного ро¬
мантизма (Н. Кукольника, В. Бенедиктова), а заодно от него
доставалось и новым романтикам славянофильского толка
(К. Аксакову, Ю. Самарину). Упрочение в русском искусст¬
ве реалистического направления (оно тогда называлось «на¬
туральной школой») также во многом совершалось благодаря
влиянию идей Белинского о сближении искусства с действи¬
тельностью. Социально-критическая направленность большин¬
ства произведений «натуральной школы», антикрепостниче¬
10
ский пафос их («Записки охотника» И. Тургенева, «Деревня»
Д. Григоровича) усиливались под прямым воздействием Бе¬
линского.
Немалую роль в критическом развитии общественной мыс¬
ли 40-х годов сыграли также статьи и повести А. И. Герцена
(«Кто виноват?», «Сорока-воровка»),
Отъезд Герцена за границу в 1847 году и смерть Белин¬
ского в 1848 году очень ослабили прогрессивный лагерь рус¬
ской интеллигенции, но именно в эти годы усилилась деятель¬
ность самого крупного тогда социалистического объединения
в России — кружка М. В. Буташевича-Петрашевского. Этот
кружок не был уникальным явлением. В условиях николаев¬
ской реакции, когда лишь деятелям масштаба Белинского и
Герцена удавалось регулярно печатать свои оппозиционно-
критические произведения, да и то со множеством иносказа¬
ний, чрезвычайно большую роль приобретали «камерные»,
частные формы выражения общественной мысли.
Тяжелое положение крестьян и пути их освобождения,
неравенство сословий, угнетение женщин, зависимость печа¬
ти от указаний сверху или даже от каприза цензора — эти и
им подобные проблемы были чрезвычайно злободневны, они
носились в воздухе эпохи, но они были абсолютно нецензур¬
ными. Как уже было отмечено, категорически запрещалось
публичное обсуждение любых социально-политических вопро¬
сов, поэтому споры переносились в домашние собрания, в
переписку, а в периодике, в художественных произведениях
они получали лишь косвенное отражение в виде иносказа¬
ний, частных примеров и т. п.
Домашние собрания получали, таким образом, очень боль¬
шое значение как способ относительно свободного выраже¬
ния общественного мнения. Обсуждение социально-политиче¬
ских проблем велось и в дворянских домах, и даже в аристо¬
кратических салонах, но, конечно, наиболее радикальная, наи¬
более оппозиционная господствующим (правительственным)
точкам зрения постановка вопросов имела место в демокра¬
тических кружках.
Как правило, эти кружки не были организационно упоря¬
дочены, не были откровенно нелегальными, не имели четкой
позитивной программы действий, а возникали стихийно во¬
круг своеобразных лидеров, которые по своим умственным,
деловым, волевым качествам способны были руководить людь¬
ми, сплачивать их, выдвигать ценные идеи для коллективного
обсуждения. В некоторых кружках эти идеи приобретали со¬
циалистический оттенок.
Объективно перед Россией стояли задачи демократиче¬
ских, буржуазных преобразований. Прогрессивное развитие
страны требовало скорейшей отмены крепостного права, за¬
мены самодержавия и чиновничьей бюрократии системой
парламентарного и местного представительного управления,
что способствовало бы быстрому капиталистическому разви¬
тию промышленности и сельского хозяйства.
11
Однако русские социалисты желали большего. К середине
XIX века капитализм в Европе, обеспечив невиданный до
того экономический прогресс, одновременно обнаружил и свои
отрицательные стороны: социальные контрасты, растущую
нищету народных масс, усиление эксплуатации, разорение
крестьянства, падение нравов. Могли ли передовые люди
России желать этого и для своей страны? Невольно возникала
мысль воспользоваться европейским опытом и не повторять
«ошибок» развития буржуазного Запада. Тем более что в Ев¬
ропе уже появились учения, пропагандирующие иной, спра¬
ведливый общественный строй.
Так и на русской почве появлялись утопии, представляв¬
шие вначале смесь фурьеризма с зародышами общинного
крестьянского социализма. Эти утопии имели ту российскую
особенность, что социалистические мечтания в них были со¬
единены с попытками решения действительно реальных и не¬
отложных демократических задач, уже перечисленных выше,
таких, как уничтожение крепостного права, монархии и т. п.
Это была такая пора общественного развития России, ког¬
да, по выражению В. И. Ленина, «демократизм и социа¬
лизм сливались в одно неразрывное, неразъединимое целое» *.
Ленин, говоря об этом своеобразном явлении, приводил в ка¬
честве примера «эпоху Чернышевского», но его наблюдение
вполне можно распространить и на 40-е годы прошлого века.
Самодержавно-чиновничий произвол, полицейский гнет, пол¬
ное отсутствие политических свобод и легальных возможно¬
стей пропаганды социалистических и демократических идей
очень быстро превращали многих русских утопических социа¬
листов из мирных мечтателей типа Фурье в революционеров.
В Петербурге 40-х годов существовало несколько ради¬
кальных объединений. Заметен, например, кружок братьев
Бекетовых, из которых старший, Алексей Николаевич, окон¬
чил в 1844 году Главное инженерное училище, а младшие,
Андрей и Николай, в будущем известные ученые-естествен¬
ники, были еще студентами. Ядро кружка составляла сту¬
денческая молодежь, частым посетителем кружка был поэт
A. Н. Плещеев, студент восточного отделения Петербургского
университета. Старший Бекетов привел в кружок своих одно¬
кашников, будущих писателей Ф. М. Достоевского и
Д. В. Г ригоровича. Последний в своих воспоминаниях сооб¬
щает о широком круге обсуждавшихся вопросов и об откро¬
венных, честных мнениях: «...везде слышался негодующий
благородный порыв против угнетения и несправедливости».
Кружок распался в 1847 году из-за перевода Бекетовых в
Казань, где вокруг младших братьев снова образовался кру¬
жок, в котором вырос, в частности, известный радикально¬
демократический социолог и экономист 60—70-х годов
B. В. Берви-Флеровский.
Будущий петрашевец Н. А. Момбелли, поручик лейб-гвар-
* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 280.
12
дни Московского полка, организовал среди своих сослужив¬
цев научно-литературный кружок, где с сентября 1846 по
февраль 1847 года было прочитано и обсуждено несколько де¬
сятков докладов. Это были обзоры сочинений Вольтера и
французских энциклопедистов; исследования по русской исто¬
рии на полузапретные темы: о народных восстаниях, о Пет¬
ре III, о процессе царевича Алексея Петровича и т. п. Из ак¬
тивных участников кружка и активных докладчиков на науч¬
ные темы следует назвать Ф. Н. Львова, тоже будущего пет¬
рашевца. О собраниях у Момбелли узнало полковое началь¬
ство, о них было доложено дивизионному командиру, велико¬
му князю Александру Николаевичу (будущему Александ¬
ру II), и наследник запретил их.
Были известны и другие кружки, и не только в столице,
но и в Москве, Казани, Ростове-Ярославском. В Киеве и
Харькове в конце 1845 — начале 1846 года организовалось
тайное Кирилло-Мефодиевское общество, основателями кота-
рого были молодые прогрессивные ученые Н. И. Костома¬
ров, Н. И. Гулак и В. М. Белозерский. Они привлекли к уча¬
стию в обществе видных представителей украинской интелли¬
генции, через несколько месяцев в общество вступил
Т. Г. Шевченко. Предатель А. М. Петров выдал правительст¬
ву членов общества, весной 1847 года они были арестованы,
судимы и отправлены в ссылку и на каторгу. Трагическая
судьба Кирилло-Мефодиевского общества на два года пред¬
варила расправу над петрашевцами.
Таким образом, историю кружков петрашевцев следует
поставить в весьма широкий исторический контекст, связать
их с подобными организациями по всей России. Петрашевцы,
однако, создали самую многочисленную и наиболее последо¬
вательно социалистическую организацию в стране. Не слу¬
чайно В. И. Ленин выводил родословную российской социа¬
листической интеллигенции «начиная от кружка петрашевцев,
примерно» *.
Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский, будущий
руководитель кружка, познакомился с учением Фурье еще в
первой половине 40-х годов. Он хорошо знал труды и сен¬
симонистов, и великого английского утописта Роберта Оуэна,
и немецкого материалиста Людвига Фейербаха. До европей¬
ских революций 1848 года большинство произведений передо¬
вых западных мыслителей не было запрещено в России —
цензоры не сразу поняли «вред» их идей. Запрещенные кни¬
ги тоже проникали в страну, и Петрашевскому удалось соста¬
вить прекрасную библиотеку из трудов демократов и утопиче¬
ских социалистов. Создавать такую библиотеку он принялся
еще до организации кружка. Когда же с 1845 года в его доме
на Покровской (ныне Тургеневская) площади ** начались по-
* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 7, с. 438.
** Деревянный двухэтажный дом Петрашевского не сохра¬
нился. Он находился на участках современных домов № 109 и 111
по Садовой улице.
13
■етоянные собрания молодежи, вскоре ставшие знаменитыми
на весь Петербург «пятницами», Петрашевский предложил
покупать книги в складчину, и выписка книг благодаря кол¬
лективному участию нескольких пайщиков еще более расши¬
рилась.
Еще на заре создания кружка Петрашевскому удалось вы¬
ступить с печатной пропагандой демократических и социали¬
стических идей. Некий Н. С. Кирилов задумал издавать «Кар¬
манный словарь иностранных слов, вошедших в состав русско¬
го языка». С помощью Валериана Майкова, разделявшего
идеи утопистов, Кирилову удалось в 1845 году издать вы¬
пуск словаря (до слова «Марионетки»), Есть основания пред¬
полагать что на последних этапах к работе над первым вы¬
пуском был привлечен и Петрашевский: весьма радикальные
статьи типа «Анархия» или «Деспотизм» принадлежат ско¬
рее перу Петрашевского, чем Майкова. Второй выпуск слова¬
ря (до слова «Орден») вышел уже под редакцией Петрашев¬
ского, большинство статей этого тома написано им.
В статьях «Натуральное состояние», «Непотизм», «Нова¬
торство», «Новатор», «Нормальное состояние», «Овенизм»,
«Органическая эпоха», «Организация производства или про¬
изведения» излагаются идеи утопических социалистов. Золо¬
той век, подчеркивал Петрашевский вслед за Сен-Симоном, не
позади, а впереди нас: человечеству присуще бесконечное со¬
вершенствование. Всестороннее и гармоническое развитие лич¬
ности должно стать идеалом нормального общества: не лич¬
ность нужно приносить в жертву обществу, а само общество
должно быть так организовано, чтобы оно максимально удов¬
летворяло потребности каждого. Только тогда будет достиг¬
нуто счастье человечества. Если нее в современном обществе
господствует зло, процветают насилие и порок, люди не рав¬
ны по состояниям и по положению, между ними растет враж¬
да, то необходимо радикально «изменить формы организации»
общества. Человечество должно добровольно объединиться в
коллективы, в ассоциации, создать общую собственность на
орудия производства, материалы, на недвижимые ценности, и
каждый будет получать свою долю дохода пропорционально
«содействию, оказанному им в умножении общественного
богатства».
Иными словами, во втором выпуске «Карманного слова¬
ря иностранных слов» Петрашевский изложил общие прин¬
ципы утопического социализма, как бы объединяя учения
Сен-Симона, Фурье и Оуэна, выделяя именно общие их нача¬
ла и затушевывая разногласия и противоречия. Так как Пет¬
рашевскому ближе всех других учений была система Фурье,
то впоследствии он популяризировал главным образом ее:
на обычных своих «пятницах», на обеде в честь дня рождения
Фурье, устроенном петрашевцами 7 апреля 1849 года, и даже
в показаниях, данных следственной комиссии в конце мая
1849 года. В показаниях Петрашевский подробно изложил
учение Фурье, вплоть до подробного описания оптимального
14
фаланстера на 2000 человек (организация быта и труда, эко-,
номнческие проблемы, воспитание детей и т. д.).
В словаре описания более обобщенные, схематические, но
Петрашевский снабдил статьи обильными ссылками на труды
Фурье и других утопистов. В апреле 1846 года второй вы¬
пуск словаря поступил в книжные магазины. Петрашевский
запутал цензора Крылова многочисленными вставками и по¬
правками в рукописи, так что в результате уже невозможно
было понять, что цензор читал и утверждал, а что вписано
потом, без его ведома. Корректуру же из типографии Крылов
не читал, то ли по лени, то ли по легкомысленному доверию,
и, таким образом, словарь вышел из печати и поступил в про¬
дажу в совершенно бесцензурном виде, с обилием антимонар¬
хических и антиклерикальных тирад, не говоря уже о про¬
паганде социалистических идей.
Правда, и петербургский цензурный комитет, и министр
народного просвещения граф С. С. Уваров спустя несколько
дней спохватились и запретили второй выпуск словаря, но
было уже поздно: около 400 экземпляров разошлось; остав¬
шиеся 1600 экземпляров были впоследствии уничтожены.
Позднее правительство заметило крамольность и первого вы¬
пуска; обсуждалось увольнение Крылова от должности цен¬
зора, но в 1849 году уволили самого министра Уварова: он
оказался для Николая I слишком либеральным! Новый ми¬
нистр, князь П. А. Ширинский-Шихматов, хорошо относивший¬
ся к Крылову, ограничился выговором.
Так произошел первый конфликт Петрашевского с само¬
державной властью, закончившийся пока для него безболез¬
ненно. А словарь имел громадный успех у читающей п думаю¬
щей публики. Белинский напечатал в «Отечественных запис¬
ках» (1845, № 5) рецензию, в которой дал весьма высокую
оценку первому выпуску, поэтому на словарь обратили вни¬
мание, и еще до выхода второго выпуска он стал широко
известен.
После запрещения словаря Петрашевский не оставил сво¬
их печатно-пропагандистских замыслов. Весной 1848 года в
Петербургской губернии должны были состояться дворянские
выборы. Дворяне всей губернии съезжались, чтобы избрать
предводителя дворянства, судебных заседателей и т. п. Петра¬
шевский отпечатал перед выборами литографированную за¬
писку под заглавием «О способах увеличения ценности дво¬
рянских или населенных имений», в которой предлагал разре¬
шить купцам покупать помещичьи земли вместе с крестья¬
нами, которые при этом переставали быть крепостными, и
уравнять таких купцов с помещиками в дворянских собра¬
ниях; организовать по стране широкую сеть кредитных учреж¬
дений, банков, сберегательных касс в помощь землевладель¬
цам, улучшить судопроизводство и надзор за администрацией
и т. д. По существу это была попытка постепенного преобра¬
зования крепостнической системы.
Петрашевский отпечатал свою записку более чем в 200
15
экземплярах. Он раздавал ее петербургским дворянам, съе¬
хавшимся для участия в выборах; естественно, распространял
среди участников своего кружка, а также рассылал ее знако¬
мым по всей стране: в Киев, Казань, Тамбов, Ярославскую гу¬
бернию.
Крепостники враждебно встретили записку Петрашевско¬
го. Губернский предводитель дворянства А. М. Потемкин, ве¬
роятно донесший о ней императору, передал Петрашевскому
устное запрещение Николая I рассуждать о подобных пред¬
метах. Мечта Петрашевского о публичном обсуждении запис¬
ки развеялась. Вместо этого он попал под надзор III отделе¬
ния и полиции, и с этого момента слежка за ним не прекра¬
щалась до самого его ареста.
Вообще Петрашевскому, как будто нарочно для развеива¬
ния просветительски-утопических надежд, в течение всей вто¬
рой половины 40-х годов сопутствовали неудачи в области
«мирной», «юридической» борьбы с несправедливыми действи¬
ями властей. Терпели крах и попытки утопических преобра¬
зований крепостной деревни.
Одно из таких мероприятий описано в воспоминаниях ли¬
тератора В. Р. Зотова. Петрашевский решил в своей деревне
в Петербургской губернии на практике применить фурьерист-
ские идеи: уговорил крестьян объединиться в фалангу, пост¬
роил светлый, просторный фаланстер, но перед переселением
крестьян в это «общежитие» оно дотла сгорело...
Подобные драмы довольно часто происходили у русских
утопических социалистов. Например, Н. П. Огарев приобрел
в 1848 году в Симбирской губернии Тальскую писчебумаж¬
ную фабрику вместе с крепостными рабочими и намеревался
на разумных началах организовать их быт, но почти все на¬
чинания Огарева рушились из-за его непрактичности. В
1855 году фабрика неожиданно сгорела — не исключен под¬
жог со стороны недовольных рабочих... Более удачны были
небольшие «коммуны», организованные в городах. Н. П. Бэл¬
лин рассказывает в своих воспоминаниях о своеобразном
«фаланстере» Н. И. Барановского и петрашевца В. А. Го¬
ловинского. Очевидно, подобная коммуна на паях была и в
квартире С. Ф. Дурова и А. И. Пальма.
Самой значительной организацией русских утопических со¬
циалистов стал кружок Петрашевского. Он начал создавать¬
ся осенью 1845 года. С весны 1846 года собрания в доме Пет¬
рашевского приобрели довольно систематический характер,
был избран определенный день — пятница. Первоначально
участников было немного, не более 10—15 человек, но. это
был цвет тогдашней интеллигентной молодежи Петербурга,
лицеисты и студенты, молодые учителя, офицеры, чиновники.
В первый период (1845—1846 гг.) среди посетителей из¬
вестны: М. Е. Салтыков — будущий знаменитый сатирик Сал¬
тыков-Щедрин, а тогда еще начинающий писатель; В. Н. Май¬
ков, редактор первого выпуска «Словаря иностранных слов»,
талантливый критик и публицист, пропагандист ранних про¬
16
изведений Достоевского; А. Н. Плещеев, уже тогда известный
поэт, автор своеобразного гимна радикальной молодежи 40-х
годов — «Вперед! без страха и сомненья...»; В. А. Милютин,
прогрессивный ученый и публицист, сотрудник «Отечествен¬
ных записок» и «Современника», друг Салтыкова и Майкова;
А. П. Баласогло, поэт, прозаик, очеркист, один из самих близ¬
ких друзей Петрашевского; А. В. Ханыков, студент Петербург¬
ского университета, уволенный за неблагонадежность в
1847 году, один из первых идейных учителей Н. Г. Черны¬
шевского; Н. Я. Данилевский, молодой естественник и фи¬
лософ, прекрасный знаток трудов Фурье (впоследствии он
станет консервативным публицистом).
Во втором зимнем сезоне (1846—1847 гг.) у Петрашевско¬
го появятся не менее примечательные лица: Ф. М. Достоев¬
ский, повести которого «Бедные люди» и «Двойник» уже сде¬
лали его имя известным всей читающей России, и брат Ва¬
лериана Майкова Аполлон, уже тогда видный поэт. В 1846 го¬
ду кружок посещал еще один поэт — Аполлон Григорьев, ав¬
тор .нескольких бесцензурных стихотворений радикального ха¬
рактера; он скептически отнесся к учению Фурье, но горячо
проповедовал идеи христианского социализма Жорж Санд
и Пьера Леру, возникшего благодаря своеобразной эволюции
сен-симонизма.
В следующем сезоне (1847—1848 гг.) в кружок влились пи¬
сатели С. Ф. Дуров и А. И. Пальм (вскоре они организовали
свой собственный кружок); братья К. М. и И. М. Дебу, чи¬
новники министерства иностранных дел, интересовавшиеся со¬
циальными проблемами; штабс-капитан П. А. Кузмин, офи¬
цер Генерального штаба, который отличится чрезвычайно ум¬
ным и находчивым поведением во время следствия; а глав¬
ное— в кружок вошел Н. А. Спешнев, о нем еще речь впе¬
реди.
В последний период существования кружка (1848—1849 гг.)
в нем стало участвовать еще несколько видных и активных
деятелей: уже известные нам офицеры Н. А. Момбелли и
Ф. Н. Львов (их собственный кружок был запрещен военным
начальством); преподаватель политической экономии и ста¬
тистики И. Л. Ястржембский; офицер конной гвардии
Н. П. Григорьев; студент П. Н. Филиппов, автор документа,
потрясающего по антикрепостническому накалу, «Десять за¬
поведей» (библейские заповеди были переделаны в револю¬
ционном духе); Д. Д. Ахшарумов, востоковед, чиновник ми¬
нистерства иностранных дел, в будущем самый обстоятельный
мемуарист, оставивший подробные воспоминания о деле пет¬
рашевцев.
Постепенно «пятницы» Петрашевского стали широко из¬
вестны в Петербурге, количество посетителей обычно состав¬
ляло около 20 человек. Их могло быть значительно больше,
если бы доступ был открытый, но Петрашевский сперва зна¬
комился с желающими участвовать в кружке, выяснял инте¬
ресы и степень идеологической и научной подготовленности
17
(если находил ее недостаточной, то давал: соответствующие
книги и руководил образованием): и лишь потом вводил в
кружок. Однако и при таком отборе на «пятницы» могли по¬
падать случайные люди и даже тайные агенты правительст¬
ва,— ниже еще будет идти речь о шпионе П. Д. Антонелли.
На вечерах у Петрашевского или у других петрашевцев
бывали выдающиеся деятели русской культуры: композиторы
М. И. Глинка и А. Г. Рубинштейн, музыканты П. В. Верев¬
кин, А. Д. Щелков, Н. А. Кашевский, художники П. А. Федо¬
тов, Е. Е. Вернадский, А. И. Берестов, литераторы и журна¬
листы Ф. К. Дершау, А. П. Милюков, В. В. Толбин, профес¬
сор И. В. Вернадский, будущие профессора Н. М. Благове¬
щенский и Б. И. Утин, актер Ф. А. Бурдин...
Важно отметить расширение состава участников не только
в профессиональном, но и в региональном отношении: на за¬
седаниях кружка бывали и москвичи, и волжане, и сибиряки,
да кроме того в провинции стали организовываться как бы
филиалы общества. Последнее обстоятельство с тревогой от¬
мечалось в документах следственной комиссии: «Бумаги аре¬
стованных лиц обнаружили, что подобными миссионерами
были: в Тамбове—Кузмин, в Сибири — Черносвитов, в Ре¬
веле— Тимковский, в Москве — Плещеев, в Ростове — Кай-
данов. <...> Паства эта, не знающая иностранных языков,
в таком городе, как Ростов, конечно, должна была состоять
из местных городских обывателей среднего класса, уездных
чиновников, а также и самих купцов, мещан и т. п. Какой яд
должен был разливаться от такой закваски в городе, куда на
ярмарку стекаются со всех оконечностей государства?»
Еще более существенно, чем профессиональное и регио¬
нальное, социальное расширение кружков. В том же следст¬
венном документе указывалось, что вместе «с гвардейскими
офицерами и с чиновниками министерства иностранных дел
рядом находятся не кончившие курс студенты, мелкие худож¬
ники, купцы, мещане, даже лавочники, торгующие табаком.
Очевидно... сеть была заткана такая, которая должна была
захватить все народонаселение».
Действительно, в социально-сословном отношении кружки
петрашевцев представляли собой несравненно более широкие
организации, чем декабристские общества. Особенно приме¬
чательно участие разночинцев, как характерно и постоянное
внимание Петрашевского к «среднему» сословию, к купечест¬
ву и мещанству. Начинался переход от дворянского к ново¬
му этапу освободительного движения — к разночинному.
Обилие посетителей, их пестрый состав, однако, услож¬
няли работу кружка. При разнообразии интересов, уровней
подготовки и мнений участников вечера становились несколь¬
ко хаотическими, бессистемными. Петрашевский решил с осе¬
ни 1848 года упорядочить их по тематике: на каждую «пятни¬
цу» намечался доклад по определенной проблеме с последу¬
ющим обсуждением. Избранный «президент» вечера следил
за порядком и очередностью выступлений.
18
Темы, выносившиеся на публичное обсуждение, были весь¬
ма острые и злободневные: о гласном судопроизводстве, о
крепостном праве, о свободе книгопечатания, о современных
общественно-политических учениях, о воспитании, «о нена¬
добности религии в социальном смысле».
По сохранившимся печатным и рукописным произведени¬
ям петрашевцев, по их показаниям во время следствия, по
донесениям шпиона Антонелли можно достаточно ясно пред¬
ставить социально-политические и философские воззрения Пет¬
рашевского и его единомышленников.
В 1848 году, т. е. одновременно с упомянутой выше запис¬
кой для петербургского дворянства, Петрашевский составил
«Проект об освобождении крестьян» — один из самых про¬
грессивных документов, которые были созданы русскими мыс¬
лителями при крепостном строе. Автор требовал безусловного
освобождения крестьян «с тою землею, которая ими была об¬
рабатываема, без всякого вознаграждения за то помещика».
Абсолютно все участники кружка были противниками кре¬
постного права. На заседаниях кружка спорили лишь о по¬
следовательности будущих реформ. Петрашевский, например,
ратовал за первоочередность судебной реформы, как необ¬
ходимой всем сословиям, но большинство его оппонентов
(особенно Н. А. Спешнев) настаивало на первенстве крестьян¬
ского вопроса.
В постановке вопроса об отмене крепостного права, в пои¬
сках радикальных путей к освобождению народа и заключа¬
ется главное отличие петрашевцев и вообще всех русских ре¬
волюционных демократов от западноевропейских утопических
социалистов начала XIX века. Там системы Сен-Симона,
Фурье, Оуэна были противодействием буржуазно-капитали¬
стическим отношениям, уже господствовавшим во Франции и
Англии. Русский же социализм 40-х годов создавался в ус¬
ловиях кризиса феодально-крепостнической системы. Поэтому
какими бы разновидностями он ни характеризовался: конк¬
ретным заимствованием некоторых идей и форм, предлагав¬
шихся французскими утопистами (Петрашевский), более об¬
щими принципами революционного демократизма и социализ¬
ма (поздний Белинский), поисками, с опорой на общину, осо¬
бого русского социализма (Герцен),— все-таки на первом
плане стояли проблемы уничтожения феодально-крепостниче¬
ского строя. Следует учесть, что некоторые петрашевцы (сам
руководитель, А. В. Ханыков, В. А. Головинский) еще до Гер¬
цена обратили внимание на русскую общину, усматривая в ней
«социалистические» черты, но не развили эти наблюдения в
целостную систему.
Многие ведущие деятели кружка Петрашевского: он сам,
Спешнев, Толль, Ястржембский, Баласогло, Момбелли — бы¬
ли атеистами, считавшими религию безнравственной, ибо она
воспитывает в человеке не этическую самоответственность, а
страх перед наказанием. Некоторые петрашевцы, правда, ос¬
тавались верующими, .но не в официальные церковные догмы,
19
а в социалистическое христианство в духе идей французского
аббата Ламенне и Жорж Санд: Христос воспринимался как
проповедник братства и равенства всех людей, противник вла¬
стителей и богачей.
Борьба за демократические преобразования в стране под¬
водила петрашевцев к решению политических вопросов,
вплоть до свержения монархического строя.
Идеалом общественно-политического устройства большин¬
ство петрашевцев считало социалистическую республику или
даже добровольное объединение нескольких республик. Пра¬
вительство предполагалось демократическое, выбранное все¬
народным голосованием. Считалось необходимым провести
демократические преобразования во всем государственном ап¬
парате. В первую очередь мыслилась судебная реформа, пре¬
вращающая закрытые суды в открытые и создающая инсти¬
тут выборных присяжных заседателей.
Сложнее, запутаннее были представления петрашевцев о
путях изменения существующего в России строя. Петрашев¬
цы начинали как мирные просветители. Они верили в добрую
природу человека, в торжество разумного начала, в способ»
ность человека все усвоить, все понять: и абсурдность монар¬
хического принципа, и бессмысленность назначения сверху на
все должности в государстве, что приводило к бесконтроль¬
ности деяний, и преимущества демократического и республи¬
канского общественно-политического строя. Петрашевский,
как и большинство утопических социалистов, верил в то, что
помещиков можно убедить в экономическом превосходстве
свободного сельского хозяйства.
Но чем шире и детальнее обсуждались на заседаниях
кружка идеальные картины будущего, тем все чаще возникали
сомнения в возможности осуществить намерения мирным пу¬
тем, с помощью уговоров и примеров.
Выше уже отмечалась неудачная попытка Петрашевского
с помощью литографированной записки пропагандировать сре¬
ди дворян Петербургской губернии необходимость экономиче¬
ских, социальных, административных реформ, попытка, за¬
кончившаяся запрещением Николая I заниматься подобными
делами.
Известны также демонстративные протесты Петрашевского
против чиновничьего произвола, протесты и устные и пись¬
менные, вплоть до обращения в высшие судебные и админи¬
стративные инстанции. Разумеется, и эти акции заканчивались
безрезультатно. Нельзя сказать, что тем самым просветитель¬
ские иллюзии были полностью развеяны, но все-таки «мир¬
ный» утопизм расшатывался...
Постепенно Петрашевский приходил к мысли о революции.
О ней трудно было не думать после европейских бурь 1848 го¬
да. На заседаниях кружка обсуждалаоь возможность воору¬
женного восстания против самодержавия.
Осторожный, стремившийся опираться на реальные уело
вия, Петрашевский не торопился. Он сдерживал некоторых
20
чрезмерно ретивых товарищей. В памяти всплывали декабрь¬
ские события 1825 года. Петрашевский прямо заявлял, что
главными ошибками предшественников были малое число
участников и спешка в организации восстания. Важно, считал
он, агитировать не группы военных, а народную массу: если
поднимется масса, то и войско ничего против нее не сможет
сделать.
Петрашевский очень опасался, что в результате вооружен¬
ной борьбы в стране может восторжествовать военный деспо¬
тизм, что победой революционеров воспользуется какой-либо
диктатор. Интересный спор возник на «пятнице» 1 апреля
1849 года: молодой, горячий юрист В. А. Головинский дока¬
зывал необходимость диктатуры как первого этапа при пе¬
ремене власти, Петрашевский же не менее горячо возражал,
что он первый поднимет руку на любого диктатора.
Петрашевский считал главным и первоочередным делом
агитацию в широких массах: внушать массам мысль о необ¬
ходимости перемены правления в стране, о необходимости ос¬
вобождения из-под власти царя, помещиков, чиновников. Упо¬
вал Петрашевский и на недовольство угнетенных народов Рос¬
сии, на недовольство раскольников и сектантов.
С появлением в кружке Р. А. Черносвитова стали возни¬
кать разговоры об Урале и Сибири. Личность Черносвитова
до сих пор остается загадочной. Его высказывания, неожидан¬
ные революционные проекты как-то очень не вяжутся с его
социальным положением и с его деятельностью до знакомст¬
ва с Петрашевским. Золотопромышленник, бывший исправ¬
ник, с помощью войска подавлявший около 10 лет назад бун¬
ты рабочих на уральских заводах, становится революционе¬
ром. Многие петрашевцы подозревали, что Черносвитов по¬
дослан к ним. Однако суровое наказание, вынесенное судом
Черносвитову, никак не согласуется с такими подозрениями.
Никаких документальных объяснений резкой перемены взгля¬
дов Черносвитова нет, можно лишь строить гипотезы. Наибо¬
лее вероятная из них следующая. Черносвитов — недюжин¬
ная натура, мечтавшая о более широких масштабах деятель¬
ности, чем ему уготовила судьба. Патриот и знаток Сибири,
он прекрасно понимал, какие необъятные возможности таит
этот край. Знакомство с петрашевцами, разговоры и намеки
в их кругу могли развить в сознании Черносвитова представ¬
ление о том, что революционный взрыв в стране очень бли¬
зок. И Черносвитов мог мечтать о Сибири как об особой рос¬
сийской республике, где ему предстояло играть значительную
политическую роль. Зная глубину недовольства уральских
рабочих, он вполне серьезно мог предполагать там наличие
больших повстанческих резервов, и планы его, изложенные
в показаниях Н. А. Спешнева,— отнюдь не хлестаковщина и
не мальчишество, а реальная уверенность в силе Урала.
Почти такой же загадочной фигурой остается и Н. А. Спеш¬
нее, самый значительный после Петрашевского член кружка.
На заседаниях кружка он имел, обыкновение отмалчиваться;
21
следственное дело Спешнева исчезло из архива — таким обра¬
зом, мы имеем очень мало материалов для характеристики его
мировоззрения, его идеалов. Но все-таки и сохранившиеся
данные свидетельствуют о крайнем радикализме его взгля¬
дов: он не только ратовал за освобождение крестьян, но счи¬
тал необходимым в будущем осуществить национализацию
земли и промышленности, полное социально-политическое
уравнение всех сословий и т. п.
Спешнев был среди петрашевцев одним из самых начитан¬
ных в современной научной литературе. Из записей Петра¬
шевского — кто из знакомых какие книги брал из его библио¬
теки — узнаем, что Спешнев изучал не только труды утопиче¬
ских социалистов, но и полемическую книгу К. Маркса «Ни¬
щета философии» (1847 г.), направленную против идеалисти¬
ческого и мелкобуржуазного мировоззрения Прудона. Неиз¬
вестно, кто еще из членов кружка читал книгу Маркса, но
важно, что она имелась в библиотеке Петрашевского.
В бумагах Спешнева, захваченных при его аресте, сохра¬
нился замечательный документ — черновой проект обязатель¬
ной подписки для вступающих в «Русское тайное общество».
Первый параграф проекта гласит: «1. Когда Распорядительный
комитет общества, сообразив силы общества, обстоятельства
и представляющийся случай, решит, что настало время бунта,
то я обязываюсь, не щадя себя, принять полное и открытое
участие в восстании и даже, т. е. по извещению от Комитета,
обязываюсь быть в назначенный день, в назначенный час в
назначенном месте, обязываюсь явиться туда и там, воору¬
жившись огнестрельным или холодным оружием, или тем и
другим, не щадя себя, принять участие в драке и как только
могу способствовать успеху восстания». Второй и третий пунк¬
ты проекта были посвящены вербовке новых членов.
На следствии Спешнев пытался доказать, что проект пи¬
сан им еще за границей четыре года назад, при изучении
истории европейских тайных обществ. Но ведь при научном
исследовании вряд ли нужно было писать свой проект орга¬
низации русского общества! Да и показания других допраши¬
ваемых, в частности Петрашевского, свидетельствуют о том,
что Спешнев составлял проект уже в последние месяцы перед
арестом, где-то на грани 1848 и 1849 годов.
Из этого проекта, а также из сохранившихся копий пока¬
заний Спешнева на следствии видно, что он пошел значи¬
тельно дальше своих коллег в разработке структуры тайных
обществ и планов восстания.
От своих зарубежных друзей (вероятно, от польского эми¬
гранта К.-Э. Хоецкого) Спешнев получил предложение печа¬
таться в журнале французских утопических социалистов «Не¬
зависимое обозрение». Известно, что Хоецкий намеревался
еще до Герцена организовать вольную русскую типографию в
Париже, а Спешнев планировал приобретение и создание со¬
ответствующих рукописей. Спешнев предлагал также и дру¬
22
гим петрашевцам готовить свои нелегальные Произведения для
отправки за границу с целью их опубликования в печати.
Имеются достоверные данные о попытке Спешнева орга¬
низовать и свою типографию в Петербурге. Ап. Майков, ока¬
завшийся свидетелем этой попытки (Достоевский приглашал
его участвовать в этой работе), подробно поведал о ней в
позднейшем письме к П. А. Висковатову. Еще более подроб¬
но Майков рассказал об этом своему другу, поэту А. А. Го¬
ленищеву-Кутузову (сохранилась запись этого разговора, сде¬
ланная Голенищевым-Кутузовым). Майков назвал тех, кто
участвовал в создании типографии: Спешнева, Филиппова,
Мордвинова, Момбелли, Григорьева, Достоевского, Милюти¬
на. Здесь несколько сомнительно последнее имя: Милютин
давно уже не посещал кружки петрашевцев. К тому же вес¬
ной 1849 года он уехал из Петербурга в командировку в юж¬
ные губернии России. Остальные имена вполне достоверны:
это актив кружка Дурова — Пальма.
Из воспоминаний Майкова и из показаний петрашевцев на
следствии вырисовывается следующая картина: не удовлетво¬
ренные идеей литографии, некоторые члены кружка замысли¬
ли создать собственную подпольную типографию. Спешнев
дал деньги, а Филиппов сделал чертежи отдельных частей
типографского станка и заказал их для конспирации в раз¬
ных петербургских мастерских. Изготовленные детали были
свезены на квартиру Мордвинова, где и собраны в единый
механизм. Работать на станке не удалось, так как вскоре все
участники кружка были арестованы. Обыскивавшие кварти¬
ру жандармы не обратили внимания на станок: он стоял в
комнате физических и химических приборов и был принят за
такой же. Жандармы опечатали комнату, но родные Мордви¬
нова так ловко открыли дверь, сняв ее с петель, что печати
не были повреждены, и изъяли станок из комнаты.
Петрашевцы не успели еще создать подлинно революци¬
онную организацию и находились лишь на подступах к ней.
Но само признание необходимости политической борьбы су¬
щественно отличает радикальное крыло петрашевцев от боль¬
шинства принципиально аполитичных западноевропейских уто¬
пических социалистов.
Споры и разногласия в кружке, все увеличивающиеся из-
за постоянного притока новых членов, послужили причиной
неоднократного отпочкования от основного кружка более
узких групп, в чем-то не согласных с Петрашевским или с
деятельностью кружка.
Самая ранняя из образовавшихся «дочерних» групп (нача¬
ло 1847 г.) —кружок В. Н. Майкова — В. А. Милютина, куда
также входили М. Е. Салтыков, студент Р. Р. Штрандман (со¬
ратник Майкова по «Карманному словарю»), будущий зна¬
менитый критик В. В. Стасов и еще несколько человек. Раз¬
ногласия членов этой группы с Петрашевским возникли из-за
тематики выписываемых в складчину из-за границы книг.
Петрашевский настаивал на приобретении трудов европей¬
23
ских социалистов, а Майков и другие члены его группы, осо¬
бенно молодой юрист В. А. Милютин, интересовались в пер¬
вую очередь политической экономией и проблемами борьбы
с преступностью. Можно предположить, что сыграла роль и
психологическая несовместимость: строгим кабинетным мыс¬
лителям типа Валериана Майкова были, наверное, неприят¬
ны эксцентрические стороны характера Петрашевского. Груп¬
па просуществовала недолго: летом 1847 года, купаясь, уто¬
нул В. Майков, вдохновитель и организатор кружка (ему бы¬
ло всего 24 года!), а в апреле 1848 года за повести «Поотиво-
речия» и «Запутанное дело» был сослан в Вятку Салтыков.
Позднее от кружка отпочковалась группа С. Ф. Дурова —
А. И. Пальма. С. Ф. Дуров, выходец из бедных дворян, с
18-летнего возраста вынужденный тянуть чиновничью лямку,
подрабатывая себе на хлеб рассказами и очерками, был до¬
вольно известным поэтом. Пальм, как и Дуров, писал стихи
и прозу, печатался в литературных журналах. Дуров и Пальм
несколько тяготились социально-политическим и экономиче¬
ским направлением, господствовавшим в кружке Петрашев¬
ского, и решили в конце 1848 — начале 1849 года организо¬
вать свой кружок, который был бы литературно-художест¬
венно-музыкальным.
Кружок Дурова был организован на паях, со взносом по
3 рубля серебром в месяц — на ужины и на прокат рояля.
В числе посетителей были, помимо организаторов и хозяев
(вечера проходили на квартире Дурова, где проживал и
Пальм), братья Федор и Михаил Достоевские, братья Евге¬
ний и Порфирий Ламанские, литератор А. П. Милюков, поэт
А. Н. Плещеев, чиновник Н. А. Мордвинов, гвардейские офи¬
церы Н. П. Григорьев, Ф. Н. Львов, студент П. Н. Филиппов
и Спешнев, который, видимо, стремился участвовать во всех
радикальных кружках той поры. Всего состоялось, судя по
черновым записям Пальма, приблизительно 6—7 вечеров.
Первые вечера в самом деле были художественными:
участники читали литературные произведения, музицировали,
рисовали карикатуры, но потом и эти собрания стали при¬
обретать социально-политический оттенок, сближавший их с
«пятницами» Петрашевского. Плещеев, уехавший в Москву,
прислал оттуда Дурову острое письмо, где весьма нелестно
характеризовал московское высшее общество и даже буду¬
щий маскарад с участием членов царской фамилии изобра¬
жал иронически: это письмо громогласно зачитывалось на ве¬
чере. Ф. М. Достоевский прочел также полученное им от Пле¬
щеева письмо Белинского к Гоголю, которое расходилось по
стране в копиях и приобретало всероссийскую известность.
На одном из вечеров А. П. Милюков прочитал свой пере¬
вод введения к знаменитой в кругах утопических социали¬
стов книге аббата Ламенне «Слова верующего» (она была за¬
прещена русской цензурой, но широко распространялась не¬
легально). Во введении, в духе идей христианского социализ¬
ма, утверждались принципы равенства и братства, подчерки¬
24
валось, что Христос, как проповедник социалистических иде¬
алов, был осужден «архиереями и князьями». Долгие годы
перевод книги считался утраченным. Несколько лет назад со¬
ветская исследовательница Ф. Г. Никитина обнаружила в ар¬
хиве III отделения полный перевод всех 42 глав книги Ламен-
не (к сожалению, нет введения), сделанный А. Н. Плещеевым
и Н. А. Мордвиновым.
На заседаниях было решено доставать и читать запрещен¬
ные цензурой произведения. Плещеев обещал представить текст
драмы И. С. Тургенева «Нахлебник», незадолго до этого (22
февраля 1849 г.) запрещенной к печати.
Член кружка Н. П. Григорьев написал рассказ «Солдат¬
ская беседа», абсолютно нецензурный даже и в более либе¬
ральные времена: помимо страшных картин, изображающих
полное бесправие солдат и крепостных крестьян, в рассказе
была описана колоритная сцена избиения самим царем двух
солдат. Точно известно, что Григорьев читал этот рассказ
2 апреля на обеде у Спешнева, устроенном специально для
членов дуровского кружка.
На заседании кружка возникла мысль о необходимости бо¬
лее широкого распространения нелегальных произведений.
Ф. Н. Львов, преподававший химию в кадетском корпусе,
предложил свои услуги по созданию домашней литографии.
Дуров и Пальм, очевидно, стали побаиваться нового на¬
правления в деятельности кружка, который фактически ни¬
чем уже не отличался от «пятниц» Петрашевского, разве что
малолюдностью собраний. 17—18 апреля организаторы круж¬
ка объявили, что следующего вечера не будет. Означало ли
это, что они вообще решили прекратить собрания, трудно
сказать, так как в ночь на 23 апреля большинство членов
кружка было арестовано вместе с другими петрашевцами.
Социально-политический характер вечеров, организуемых
передовой молодежью из окружения Петрашевского, был в
1848-м — начале 1849 года уже установившимся. Происходи¬
ла некоторая дифференциация по вкусам и личным связям,
но общее направление заседаний мало менялось. Трудно ска¬
зать, намеревался ли продолжать свои обеды Спешнев, зато
Плещеев явно предполагал организовать свои собственные ве¬
чера. С ноября 1848 года по февраль 1849-го у него собира¬
лись друзья: сперва два раза в месяц, затем еженедельно.
Круг друзей в основном нам известен по вечерам Дурова:
Достоевские, Пальм, Дуров, Мордвинов, Спешнев, Ламан-
ские; из новых — В. А. Милютин и Н. Я. Данилевский. Чи¬
тались у Плещеева, как и у Дурова — Пальма, литературные
произведения, в том числе запрещенные. Например, ядовитый
фельетон Герцена «Москва и Петербург», ходивший по Рос¬
сии в списках и совершенно нецензурный в течение всего
XIX века.
В Петербурге с октября 1848-го по апрель 1849 года су¬
ществовал еще один заметный кружок, в который входили
известные нам петрашевцы: это кружок Николая Сергеевича
25
Кашкина. Сын декабриста, он серьезно заинтересовался со¬
циалистическими системами, особенно фурьеризмом. Узнав,
что его сослуживцы, братья Константин и Ипполит Дебу, по¬
сещавшие «пятницы» Петрашевского, знакомы с трудами
Фурье, Кашкин пригласил их к себе для совместного изуче¬
ния и толкования сочинений французского утописта. К Каш-
кину стали ходить и другие петрашевцы, в том числе «небла¬
гонадежный» студент А. В. Ханыков, молодой чиновник, быв¬
ший лицеист, Е. С. Есаков и вездесущий Спешнев: он был же¬
ланным гостем во всех кружках и в самом деле успевал всю¬
ду! Из будущих петрашевцев, то есть из тех членов, которые
вначале вошли в кружок Кашкина, а затем уже стали посе¬
щать «пятницы», следует назвать Д. Д. Ахшарумова. Еще в
кружке участвовали сослуживцы или друзья Кашкина:
О. Ф. Отт, А. И. Европеус, Э. Г. Ващенко — всего до 12 че¬
ловек.
Собрания были, как и у Петрашевского, еженедельные, но
по вторникам. К новому, 1849 году в квартире Кашкина по¬
селились его родители, ему стало неудобно приглашать к
себе единомышленников, и он упросил приятеля О. Ф. Отта
устраивать вечера у него. В первые два месяца 1849 года
собрания были перенесены в дом Отта. В марте же несколь¬
ко вечеров было проведено снова у Кашкина. Главная тема
собраний — изучение трудов Фурье, а также дискуссии по
проблемам философии, морали, политической экономии.
Было решено организовать библиотеку из произведений
социалистов и политэкономов, заведующим ею выбрали
К- М. Дебу.
Почему же Кашкин и его друзья, интересовавшиеся глав¬
ным образом фурьеризмом, не влились в «пятницы»? Воз¬
можно, им не нравился весьма пестрый состав посе¬
тителей Петрашевского, среди которых можно было подозре¬
вать и агентов полиции, и вообще — большое количество на¬
рода, разноголосица мнений. Кроме того, Кашкин и братья
Дебу, только еще начинавшие изучать фурьеризм, намерева¬
лись всерьез штудировать труды Фурье, а этим лучше было
заниматься в малочисленной компании.
Однако Кашкин и его друзья видались с Петрашевским, об¬
суждали с ним фурьеристские проблемы и дела по организа¬
ции своей библиотеки из книг утопических социалистов. Они
даже просили Петрашевского помочь в выписке этих книг: он
уже поднаторел в общении с книгопродавцами, рисковавши¬
ми доставать запрещенные издания, да и книги ему обходи¬
лись дешевле (при крупных закупках книгопродавцы делали
скидку). Члены кружка Кашкина пригласили Петрашевского
на обед, который был организован в день рождения Фурье,
7 апреля 1849 года. В Париже и в других западных центрах
фурьеризма, вплоть до городов Северной и Южной Америки,
ученики и продолжатели ежегодно отмечали день рождения
основателя системы. Русские поклонники Фурье решили не
отставать от зарубежных единомышленников. Бывший лице¬
26
ист А. И. Европеус, серьезно интересовавшийся политэконо¬
мией, предоставил для обеда свою квартиру. Из Парижа был
выписан портрет Фурье. Участвовали в собрании почти все
члены кружка Кашкина, Спешнев, Петрашевский — всего 11
человек. Ханыков, Петрашевский и Ахшарумов произнесли
речи-доклады. В этих речах звучали призывы к разрушению
современных государств. Петрашевский подчеркивал, что
важно соединить политические и социальные преобразования
общества.
Благодаря относительной замкнутости кружков Дурова —
Пальма и Кашкина полицейские и жандармские сыщики уз¬
нали про них не сразу. Но к «пятницам» Петрашевского они
давно уже присматривались. Угроза над петрашевцами на¬
висала медленно, но верно.
Как часто случается в истории, правительственные круги
не только борются с оппозиционным движением как с полити¬
ческим врагом, угрожающим разрушить существующий миро¬
порядок, но еще и стремятся использовать эту борьбу, что¬
бы укрепить свое влияние.
В деле петрашевцев не в первый раз уже в течение ни¬
колаевского царствования ревниво столкнулись интересы ми¬
нистерства внутренних дел под началом Л. А. Перовского
(так сказать, полицейское ведомство) и III отделения, руко¬
водимого шефом жандармов графом А. Ф. Орловым и управ¬
ляющим Л. В. Дубельтом.
Во всеподданнейшем докладе генерал-аудиториата (выс¬
шей военно-судебной инстанции, подписавшей в конце процес¬
са наиболее строгий приговор), где подводились итоги следст¬
вия, участие двух ведомств в деле петрашевцев было опи¬
сано так, что можно было предполагать единство и дружест¬
венную согласованность действий: в марте 1848 года шеф
жандармов А. Ф. Орлов приказал учредить за Петрашевским
надзор, а затем передал все дело министру внутренних дел
графу Л. А. Перовскому, и тот поручил вести его действи¬
тельному статскому советнику И. П. Липранди.
На самом деле все было куда запутаннее и напряженнее.
Шеф жандармов узнал впервые о Петрашевском не в 1848 го¬
ду, а значительно раньше. В 1844 году начальство петербург¬
ского Александровского лицея обнаружило, что трое учащих¬
ся, юноши 14—16 лет (А. Унковский, В. Константинов,
А. Бантыш), без разрешения посещают квартиру Петрашев¬
ского и впитывают там крамольные мысли «относительно
предметов веры и существующего общественного порядка».
Лицеисты были строго наказаны, а распространение Петра¬
шевским вредных идей тоже не осталось без внимания: глав-
нозаведующий лицеем принц Ольденбургский обратился с
соответствующим заявлением к шефу жандармов. Граф
А. Ф. Орлов велел учредить над Петрашевским секретный
надзор. Однако кружка фактически еще не существовало, был
жив отец Петрашевского, хозяин дома, «пятницы» у сына еще
не организовались, поэтому соглядатаи ничего предосудитель¬
27
ного не обнаружили, и надзор через два месяца был снш,
Жандармы поторопились с выводами: как раз вскоре и на¬
чались «пятницы»1
Второй раз III отделение узнало о Петрашевском из-за
шумной истории по поводу литографированной «листовки»
Петрашевского с проектом освобождения крестьян; упомина¬
ние об учреждении надзора в марте 1848 года, содержав¬
шееся в докладе генерал-аудиториата (возможно, это место
было вставлено по настоянию графа Орлова!), скорее всего
относится именно к этой истории. Но вряд ли III отделение
приняло и в этом случае серьезные меры. Все-таки приори¬
тет в слежке принадлежит министру внутренних дел, точ¬
нее — чиновнику по особым поручениям при министерстве,
известному еще по декабристским временам, И. П. Липранди.
Личность Ивана Петровича Липранди печально знамени¬
та в русской истории. В его биографии немало загадочных
эпизодов и даже целых периодов: не доказано, что он предал
декабристов, но уж очень он, будучи близок к Южному об¬
ществу, легко отделался (кратковременный арест). Не дока¬
зано, что он вымогал взятки, хотя об этом ходили упорные
слухи (см., например, воспоминания П. А. Кузмина), но два
его совершенно «уголовных» преступления все-таки докумен¬
тально подтверждены. Во-первых, являясь после разгрома
Наполеона начальником русской военной разведки в Париже,
Липранди присвоил себе книги из королевской библиотеки
Бурбонов; во-вторых, по разысканиям советского историка-
юриста А. Ф. Возного, он, конфисковав оставшиеся непродан¬
ными экземпляры «Карманного словаря», присвоил 650 руб¬
лей казенных денег, выданных на их скупку.
Более чем вероятна справедливость слухов о том, что и
значительно раньше, в конце 1847-го или в начале 1848 года,
над Липранди нависала опасность судебного следствия по по¬
воду вымогательства взяток у сектантов, и он, спасаясь, пред¬
ложил своему начальнику Перовскому блистательную опера¬
цию, которая прежде всего выручала из беды самого Липран¬
ди, а кроме того, наносила большой моральный урон III от¬
делению. (Перовский ненавидел соперников по сыску и наве¬
дению порядка, ревновал к вниманию, которое оказывал
Николай I изобретенному им самим ведомству.) Липранди
уже был осведомлен о собраниях у Петрашевского и предло¬
жил Перовскому свои услуги по разоблачению революцион¬
ного гнезда: тем самым в глазах Николая I прославлялись
Перовский и Липранди, а III отделение оставалось с носом.
Таким образом, Липранди получил в свои руки очень вы¬
годное для него дело и ревностно принялся за работу. Преж¬
де всего нужно было заслать к Петрашевскому своих людей.
Агентом номер один Липранди стал Петр Дмитриевич Анто¬
нелли, сын почтенного академика живописи Д. И. Анто¬
нелли (который умер в 1842 году, не дожив до се¬
мейного позора). Сын отличался прекрасной памятью, но яв¬
но не хотел учиться: почему-то .он девять лет сидел в гимна¬
28
зии (вместо шести) и очень недолго был студентом восточного
отделения Петербургского университета. Сам ли он предло¬
жил свои услуги полицейскому сыску или был завербован —
неясно, но, по разысканиям известного историка В. И. Семев-
ского, уже в 1847 году он работал у Липранди. А в январе
1848 года его устраивают чиновником в тот же департамент
министерства иностранных дел, где служил Петрашевский.
Антонелли пришлось несколько месяцев втираться в дове¬
рие к Петрашевскому, да еще потом выслушивать от него це¬
лые лекции об учении Фурье, о современных политических
проблемах, о стратегии и тактике кружковой работы, штуди¬
ровать предложенные им книги, переводить с французского
и т. д. А криминальных дел пока было не видать, на свои
«пятницы» Петрашевский упорно не приглашал Антонелли.
Вряд ли Петрашевский заподозрил в нем агента: скорее все¬
го считал, что недоучившийся студент еще слишком мало
знает в области социализма и политэкономии, чтобы участ¬
вовать в обсуждении серьезных проблем.
По справедливому замечанию А. Ф. Возного, Липранди не
устраивали такая замедленность и отсутствие реальных кри¬
минальных фактов, и он искусственно создает провокацион¬
ные «обстоятельства», которые, с одной стороны, должны ук¬
репить авторитет агента Антонелли в среде петрашевцев, а
с другой — побудить Петрашевского от революционных слов
перейти к «делу», спровоцированному агентом.
Из дворцовой охраны было выделено несколько черкесов,
с которыми Антонелли познакомил Петрашевского: они яко¬
бы готовы на решительные действия. Петрашевский стал под¬
робно излагать Антонелли принципы пропагандистской рабо¬
ты среди народов Кавказа, политические идеалы самоуправ¬
ления и федерализма. Однако немного времени спустя Петра¬
шевский предложил Антонелли отложить черкесский вопрос
до решения более общих проблем. То ли он увидел нереаль¬
ность или неэффективность пропаганды среди царских страж¬
ников, то ли в самом деле понял частность этого вопроса вви¬
ду других проблем, однако хотя бы половины задуманного
Липранди достиг: Петрашевский стал более откровенен с Ан¬
тонелли. С января 1849 года Антонелли часто встречается с
«учителем» и затем пишет подробные донесения с изложени¬
ем мировоззрения Петрашевского и биографических сведений
о нем.
Много усилий пришлось приложить Антонелли, чтобы по¬
пасть на вечера Петрашевского. Так и не дождавшись пригла¬
шения, он 11 марта 1849 года дерзко сам явился без зова,
возбудил, естественно, сильные подозрения, но ловко выкру¬
тился, объяснив приход чистой случайностью, и стал затем^ус-
пешно втираться в доверие к другим посетителям «пятниц».
Так, Ф. Г. Толль, вначале очень не доверявший Антонелли и
даже заподозривший его в шпионстве, вскоре успокоился и,
более того, поселился с Антонелли на одной квартире. Начи¬
ная с 11 марта Антонелли бывал уже на всех «пятницах» до
29
самого ареста петрашевцев и писал подробные донесения о
вечерах.
Кроме Антонелли Липранди подослал к кружку еще двух
своих агентов, но уже рангом пониже: купца В. М. Шапош¬
никова и мещанина Н. Ф. Наумова. Им удалось войти в
приятельские отношения с П. Г. Шапошниковым (однофа¬
мильцем шпиона), владельцем табачной лавки и хорошим
знакомым многих членов кружка Петрашевского. В. М. Ша¬
пошников и Наумов выведывали интересующие их сведения
у тех петрашевцев, которые посещали лавку. Особенно много
информации дали им горячие, неопытные студенты А. Д. Тол¬
стов и В. П. Катенев, открыто бранившие царя, правительст¬
во, религию. Катенев готов был совершить цареубийство, на¬
деялся на революционное восстание в Петербурге и осматри¬
вал город с точки зрения удобных и неудобных мест для бар¬
рикад и уличных боев. Не обошлось, видимо, и здесь без про¬
вокации. Агент Наумов сообщал в донесении, что Катенев
намеревался разбрасывать в публичном маскараде билетики
лотереи, на которых было написано о якобы происшедшем
в Москве бунте и об убийстве там царя. Катенев же на до¬
просе в следственной комиссии показал, что Наумов сам под¬
бивал его написать образец такой листовки и он исполнил
его просьбу.
Конечно, невозможно было удержать в глубокой тайне
замыслы властей. По Петербургу поползли слухи о предстоя¬
щих арестах. В донесении Антонелли от 27 марта 1849 года
сказано, что Толль сообщил ему о решении правительства
схватить всех петрашевцев, которые соберутся в следующую
«пятницу».
Слухи о предстоящих арестах распространялись все шире.
В донесении от 10 апреля Антонелли передает уже сведения,
полученные от самого Петрашевского: тот был в доме
В. А. Милютина и услышал от горничной, что его, Петрашев¬
ского, «скоро возьмут в полицию». Петрашевский усмотрел
здесь лишь болтливость Милютина, не более того. «Пятницы»
продолжали функционировать, авторы докладов и участники
обсуждений на них нисколько не ослабили радикального духа.
Перовский и Липранди, наверное, намеревались не торо¬
питься, агенты с каждым днем сообщали все новые и новые
имена участников кружка, все новые и новые сведения о раз¬
говорах, об идеях, но ведь настоящего «дела» еще не было.
Николаю 1, однако, не терпелось скорее завершить операцию,
и в середине апреля он приказал передать все списки в
III отделение для подготовки арестов. 20 апреля Липранди пе¬
редал дела своему бывшему приятелю Л. В. Дубельту.
21 апреля граф Орлов уже представил царю подробную
записку о деле петрашевцев и получил письменную резолю¬
цию: «Я все прочел, дело важно, ибо ежели было только одно
вранье, то и оно в высшей степени преступно и нетерпимо.
Приступить к арестованию, как ты полагаешь. <...> С богом!
Да будет воля его!»
30
Антонелли, узнав о готовящейся операции, видимо, тру¬
сил и предупреждал Липранди, что некоторые петрашевцы
(сам глава, затем Дуров, Филиппов, Толль, Ястржембский)
очень сильны, каждый из них справится «с тремя добрыми
мужиками», у некоторых имеется оружие; у Петрашевского
есть несколько пистолетов и т. д. Антонелли советовал ата¬
ковать дом сразу с двух входов — парадного и черного.
Дубельт же решил не рисковать своими «добрыми мужи¬
ками» и отказался от захвата петрашевцев всех сразу в Од¬
ной квартире. Аресты были намечены в ночь с 22 на 23 апре¬
ля, с пятницы на субботу, но уже после вечера у Петрашев¬
ского. Эта «пятница», последняя, завершилась где-то около
четырех часов утра, а аресты начались еще позднее, около
шести часов (может быть, кто-то из агентов дежурил на ули¬
це и сообщил о разъезде гостей?). И все же к дому Петра¬
шевского подъехало сразу несколько черных карет; видимо,
боялись вооруженного сопротивления. Арестовывать главу
кружка пошел сам Дубельт.
Утром 23 апреля Антонелли еще строчил последнее доне¬
сение о вчерашней «пятнице», а все ее участники, кроме са¬
мого агента, уже были в страшном доме у Цепного моста.
Ночью, без шума, в III отделение было привезено 34 «зло¬
умышленника». Кстати, арестованные быстро узнали, кто их
предал. Помощник Дубельта А. А. Сагтынский, отмечавший
прибывших в приемном зале, держал перед собой список, ку¬
да для проформы был внесен и Антонелли, но его явно не
собирались арестовывать, около его фамилии значилось:
«агент». Ф. М. Достоевский удосужился заглянуть в этот спи¬
сок и прочел знаменательную пометку. Тотчас же он расска¬
зал об увиденном всем товарищам, которые находились в зале.
Долгое время считалось, что сотрудники III отделения до¬
пустили оплошность, не спрятав от арестованных список.
А. Ф. Возный же резонно предположил, что А. А. Сагтын¬
ский, презиравший шпионов (он еще в 1840 году предупреж¬
дал Герцена о них), да еще служащих в соперничавшем ве¬
домстве (министерстве внутренних дел), нарочно так держал
список, чтобы кто-нибудь из арестованных смог прочитать по¬
зорную пометку у фамилии Антонелли.
В течение суток арестованных переправили в Петропав¬
ловскую крепость, где большинству из них предстояло прове¬
сти до конца следствия долгих 8 месяцев. Позднее были до¬
ставлены в Петропавловскую крепость петрашевцы, которых
не было в Петербурге в момент облавы: Плещеев — из Моск¬
вы, А. П. Беклемишев и К. И. Тимковский — из Ревеля, Чер¬
носвитов — из Томской губернии, Н. Я. Данилевский — из
Тульской губернии. Несколько человек, в том числе М. М. До¬
стоевский, брат писателя, были арестованы в Петербурге и
отданы под следствие тоже позднее из-за разных причин.
Всего привлекалось к следствию 122 человека.
Для ведения процесса над петрашевцами 23 и 26 апреля
были созданы две комиссии: одна — непосредственно следст¬
31
венная, под председательством генерал-адъютанта И. А. На¬
бокова, коменданта Петропавловской крепости; вторая — ко¬
миссия под председательством статс-секретаря князя А. Ф. Го¬
лицына — занималась разбором и анализом громадной массы
книг и бумаг, изъятых при обысках. Комиссии уже в первые
дни приступили к работе, с 28 апреля начались допросы, но
следствие тянулось очень долго.
Многодневное и даже многомесячное сидение в одиночных
камерах Петропавловской крепости, без свежего воздуха, без
прогулок, без медицинской помощи, при полном незнании, что
творится на воле, как ведут себя товарищи по несчастью,—
все это явилось суровым испытанием для заключенных. В
несчастье, да еще длительном, сильнее проявляются как му¬
жество, выдержка, мировоззренческая и нравственная стой¬
кость, так и отрицательные свойства. Среди петрашевцев ока¬
зались и слабые духом. Нестойким проявил себя вскоре со¬
шедший с ума Н. П. Григорьев. Он уже в конце апреля, и
недели не отсидев в тюрьме, обратился к Николаю I с по¬
каянным письмом, с уверениями в верноподданнических чув¬
ствах, с униженными мольбами о помиловании. Не помогло;
он попал в основную группу «злоумышленников», пригово¬
ренных к расстрелу, который был потом заменен ему 15 го¬
дами каторжных работ.
Самым недостойным в нравственном отношении образом
повел себя уже на первом допросе 28 апреля офицер
Д. А. Кропотов: он стал всю вину валить на Петрашевского,
изображая его к тому же полупомешанным дураком, сооб¬
щая все анекдоты, которые ходили в публике о поведении
главы кружка. И своими низостями Кропотов вымолил про¬
щение: он был отпущен на волю 6 июля, в одной из первых
групп освобожденных.
Но в большинстве арестованные оказались более стойки¬
ми. Даже те, кто каялся и просил пощады, не старались,
спасая себя, «утопить» ближнего, а всячески стремились к
абстрактным разглагольствованиям — чтобы как можно мень¬
ше было конкретных фактов — и очень широко использовали
формулы забывчивости и незнания: «не видел», «не помню»,
«не знаю», «не знаком». А наиболее сильные духом даже
старались взять вину на себя, выручая товарища. Спешнев
соревновался с Филипповым в благородстве, ибо каждый до¬
казывал, что именно по его инициативе был изготовлен ти¬
пографский станок.
Яркая и деятельная натура Петрашевского достойно про¬
явила себя и на следствии. Он не защищался, а непрерывно
нападал и требовал. Требовал свод законов, требовал предъ¬
явить доносы, по коим клеветнически обвиняются подозревае¬
мые. Учил комиссию, какими принципами ей руководствовать¬
ся: не методом Ришелье, который готов был из любых семи
слов составить фразу такого преступного смысла, за кото¬
рый можно присудить к смертной казни, а известным изре¬
чением: «Лучше простить десять виновных, нежели одного не¬
32
винного наказать». А главное — сам обвинял: обвинял аре¬
стовавших его в том, что в течение трех суток, как положено
по закону, не была объявлена причина заключения в кре¬
пость; обвинял комиссию в том, что в ходе следствия посто¬
янно нарушались законы, имели место злоупотребления вла¬
стью, подлоги по службе, и прочее, и прочее. Петрашевский
действовал как хороший юрист, прекрасно осведомленный о
всех тонкостях ведения процесса. Вдобавок он еще завалил
комиссию посланиями-проектами, которые требовал довести
до сведения императора. Ясно, что такое поведение могло
лишь до белого каления доводить следователей (как потом,
в Сибири, Петрашевский своей постоянной борьбой за правду
и справедливость нажил смертельного врага в лице губерна¬
тора и был сослан в такую глушь, где смерть не заставила
себя долго ждать).
Петрашевский не мог не чувствовать той великой ответ¬
ственности за судьбу своих товарищей, которую он, вольно
или невольно, взял на себя. И ему очень хотелось, чтобы
друзья по несчастью вели себя подобно ему, то есть избра¬
ли бы сходную, наступательную тактику. А так как допраши¬
вали заключенных поодиночке, а свиданий и прогулок не бы¬
ло, то он решил разбросать по дороге в следственную комис¬
сию своеобразные инструкции. Петрашевский процарапывал
их на покрытых клеевой краской кусках штукатурки, кото¬
рые он отдирал от стен камеры. В них он рекомендовал те же
приемы, какие использовал сам: требовать предъявления до¬
носов, требовать очных ставок, протестовать против любых
нарушений законов, как можно меньше сообщать фактов, са¬
мим задавать вопросы, не обороняться, а нападать... Конечно,
чрезвычайно мало было шансов, что эти записки достанутся
заключенным, они и в самом деле попадали в руки стражни¬
ков (но, может быть, какая-то часть все-таки дошла до адре¬
сатов?).
Интенсивнейшая деятельность Петрашевского в крепости
и его расшатанная от перенапряжения нервная система при¬
вели к самым драматическим последствиям: приблизительно
с конца июня у него появились признаки умопомешательст¬
ва. Они отразились в его неоднократных письменных обра¬
щениях в следственную комиссию, которая не могла не заме¬
чать ненормальности, но колебалась: не хитрая ли это улов¬
ка вполне здорового человека? Думается, что Петрашевский
не лукавил, а на самом деле на какое-то время оказался
душевнобольным: следы этой болезни видны в тексте его вос¬
поминаний, написанных совместно с Львовым в Сибири.
Одно из самых темных и загадочных пятен в истории
следствия — это проблема пыток: применялись ли те яды,
наркотики, электрошоки, прекращение выдачи еды и питья,
о которых писал в своих жалобах и воспоминаниях Петра¬
шевский, о чем он рассказывал в Тобольске Н. Д. Фонвизи¬
ной? Похоже, что нет дыма без огня, и если пытка электри¬
ческой машиной и ядами — плод воспаленного воображения
2
Зак. № Б28
33
узника, то успокоительные и усыпляющие лекарства, море¬
ние голодом и жаждой, угрозы физической расправы — вещи,
возможно, реальные. Недаром ведь трое заключенных сошли
с ума во время следствия: В. В. Востров, В. Г1. Катенев,
Н. П. Григорьев.
Очень странно повел себя на следствии Спешнев. То ли
от чрезмерной гордыни, не позволяющей «юлить», то ли в
страхе за судьбу двух своих малых детей-сирот (их мать
умерла), он давал достаточно подробные и откровенные по¬
казания, в которых, с одной стороны, оправдывал товари¬
щей и брал очень многие «вины» па себя, а с другой — сооб¬
щал факты, которые без показаний Спешнева, возможно, и
не стали бы известны комиссии: например, подробности раз¬
говоров с Черносвитовым о всероссийском восстании. И вы¬
шло так, что в результате Петрашевский получил бессроч¬
ную каторгу, Момбелли и Григорьев — по 15 лет каторги,
Львов—12 лет, а Спешнев, фактически революционер номер
один, единственный составитель проекта о тайном общест¬
ве,— всего 10 лет каторжных работ...
Образцом выдержки, железной воли и хитрости может слу¬
жить поведение штабс-капитана П. А. Кузмина. Он никого
не выдал, никого не обвинил, на вопросы отвечал четко, но
уклончиво или старался представить себя совершенно соли¬
дарным с мнением членов комиссии и даже правительства.
Разговоры у Петрашевского насчет недостатков судопроиз¬
водства? Да, были, конечно. В высших судебных инстанци¬
ях сидят люди очень опытные, но ведь не все подают апел¬
ляцию, у многих и средств нет, чтобы приехать в Петербург
хлопотать; разве сочувствие к таким людям вредно?! Раз¬
говоры об отмене крепостного права? Да, были. Но ведь и
правительство принимает меры по улучшению быта крестьян
(далее он пересказывает указ об обязанных крестьянах); не¬
ужели кто-нибудь станет опровергать благодетельность этих
узаконений?! Письмо Белинского к Гоголю? Да, читалось. Оно
произвело грустное впечатление, видно, что писано в разд¬
раженном, болезненном состоянии. Но «не суди, да не осуж¬
ден будешь»; и вспоминал еще евангельскую притчу (следу¬
ют цитаты: «Пусть первый камень бросит тот...» и т. д.). Та¬
ким образом, Кузмин ни разу не дал себя за что-нибудь «за¬
цепить», блистательно выкрутился, истолковывая в благона¬
меренном духе весьма острые и опасные места из своих днев¬
ников и заметок, и 26 сентября 1849 года был освобожден
из крепости (конечно, все освобожденные попадали затем на
долгие годы под секретный надзор).
Комиссия усмотрела главную опасность деяний петрашев¬
цев не в агитации за фурьеристский' фаланстер, главными
пунктами обвинения стали не мечты об улучшении судопро¬
изводства и даже не проекты отмены крепостного рабства, а
попытка создания тайного антиправительственного общества.
Отягчающим вину обстоятельством служили отрицательные
отзывы о самодержавии и самом Николае I.
34
Так, Н. Я. Данилевский, один из лучших знатоков учения
Фурье, докладчик о фурьеризме на «пятницах», заработал
всего лишь административную ссылку в Вологду, а не столь
сведущего в фурьеризме петрашевца Н. П. Григорьева, вина
которого, однако, заключалась в создании рассказа «Солдат¬
ская беседа», где в очень неприглядном виде был представ¬
лен царь, приговорили к расстрелу, замененному 15 годами
каторги.
Следует еще учесть, что в следственную комиссию не вхо¬
дили служащие министерства внутренних дел, горячо заин¬
тересованные в раздувании дела до грандиозных масштабов,
а член комиссии Л. В. Дубельт был готов даже, наоборот,
всячески сгладить остроту: III отделение было кровно заинте¬
ресовано в том, чтобы показать дело, затеянное соперничав¬
шим ведомством Перовского, не стоящим внимания. В неко¬
торых воспоминаниях петрашевцев Дубельт выглядит чуть ли
не добряком, по крайней мере — сочувствующим арестован¬
ным и допрашиваемым... Еще бы ему быть грозным судией!
Он готов был любому петрашевцу подсказать ответы, которые
представили бы действия кружковцев невинными. Липранди
чувствовал возможность относительно либеральных выводов,
к которым придет комиссия, нервничал и писал для комиссии
докладные записки, всячески раздувая «состав преступления»
и юридическую «виновность» участников.
17 сентября следственная комиссия подготовила всепод¬
даннейший доклад о 28 главных «злоумышленниках». По ука¬
занию Николая I 24 сентября для судилища была создана
военно-судная комиссия под председательством генерал-
адъютанта В. А. Перовского (брата министра). Хотя в нее
наряду с тремя генералами ввели трех гражданских лиц, се¬
наторов, но комиссия называлась именно военно-судной. Боль¬
шая часть петрашевцев не принадлежала к военному сосло¬
вию, но правительству было выгодно судить их по законам
военного времени: за измену отечеству, за бунт и т. п. Эта
комиссия закончила свою работу 16 ноября и вынесла при¬
говор 23 петрашевцам, освободив двоих (еще трое были ос¬
вобождены Николаем I по ходатайству следственной комис¬
сии). 15 из 23 были приговорены к расстрелу.
Решение комиссии поступило на рассмотрение самой выс¬
шей военно-судебной инстанции — генерал-аудиториата, со¬
стоявшего из восьми генералов. Генерал-аудиториат, очевид¬
но под давлением свыше, 17 декабря изменил решение воен¬
но-судной комиссии и приговорил к расстрелу уже 21 челове¬
ка (в живых оставлялись лишь Черносвитов и сошедший с
ума Катенев). Николай I 19 декабря приказал вывести всех
приговоренных на место казни, разыграть процедуру подго¬
товки к расстрелу, а затем от имени царя сообщить о по¬
миловании и о приговорах к каторге или ссылке.
Рано утром 22 декабря 1849 года петрашевцев вывели на
Семеновский плац — на то место, где сейчас стоит ленин¬
градский ТЮЗ и раскинут парк, всегда полный детей,— про¬
35
чли приговор, поставили первых троих — Петрашевского, Гри¬
горьева, Момбелли — под ружья солдат, а потом прискакал
всадник с царской милостью... О том, что это была заранее
подготовленная инсценировка, петрашевцы узнали позднее.
Петрашевского, заковав в кандалы, прямо с эшафота от¬
правили в Сибирь, остальных — некоторое время спустя. Из
23 подсудимых лишь нескольким приговоренным к арестант¬
ским ротам и к солдатчине удалось остаться в европейской
части страны, да сибиряка Черносвитова не отправили на
родину — он был заключен в Кексгольмскую крепость. Только
Пальм отделался легким наказанием: переводом из гвардии
в армию.
По-разному складывалась дальнейшая судьба петрашев¬
цев. Некоторые ушли из жизни очень быстро: Ханыков умер
от холеры в 1853 году в Орской крепости; Филиппов в дейст¬
вующей Кавказской армии умер от раны, полученной при
штурме Карса; затравленный властями, неоднократно ссыла¬
емый уже в самой Сибири, умер в 1866 году Петрашевский.
Но многие петрашевцы, несмотря на невзгоды каторги, ссыл¬
ки, солдатчины, выдержали тяжелые физические и нравст¬
венные испытания и активно участвовали в гражданской и
культурной жизни России второй половины XIX века. Из них
вышло немало ученых, военных деятелей, но больше всего,
пожалуй, писателей, на творчество которых радикальная за¬
кваска 40-х годов, идеи молодости оказали неизгладимое
влияние. И это необходимо учитывать по отношению к писа¬
телям любого масштаба — от Достоевского и Салтыкова-
Щедрина до значительно более скромных по результатам
творческой деятельности Плещеева, Пальма, Дурова, Толля,
Баласогло.
Значительна роль петрашевцев и в истории освободитель¬
ного движения в России. Вместе с Белинским, Герценом,
Огаревым они явились связующим звеном между декабриста¬
ми и революционерами-шестидесятниками и хронологически
(ведь их деятельность относится к довольно длительному,
почти десятилетнему периоду очень глухой, мрачной нико¬
лаевской эпохи), и социально, знаменуя расширением сослов¬
но-классового состава своих кружков (как и состава пропа¬
гандируемых социальных групп населения) переход от дво¬
рянского к разночинному периоду освободительного движе¬
ния. Даже в биографиях петрашевцев обнаруживается нема¬
ло таких связей: Петрашевский и Львов совместно с декаб¬
ристами боролись в Сибири за правду и справедливость;
Кашкин был сыном декабриста; Ханыков был идейным учи¬
телем юного студента Чернышевского. Идеалы утопических
социалистов оказали значительное влияние на русских ше¬
стидесятников и семидесятников, без этих идеалов невозмож¬
но понять творчество Н. Г. Чернышевского, Н. К. Михайлов¬
ского, П. Л. Лаврова. С другой стороны, дожившие до сере¬
дины века декабристы — такие, как М. А. Фонвизин,— вни«
36
мательно штудировали на старости лет труды, излагающие
взгляды утопистов.
Изучение жизни и деятельности петрашевцев началось
чуть ли не сразу после разгрома их кружков: уже в 1851 го¬
ду Герцен вкратце рассказал о них в очерке «О развитии
революционных идей в России» и в том же году поручил
В. А. Энгельсону написать для французского публициста и
историка Ж. Мишле историю кружка Петрашевского. В 60-х
годах Герцен много материалов о петрашевцах (и статей са¬
мих петрашевцев) опубликовал в «Колоколе» и «Полярной
звезде». С конца 1860-х годов и в России стали появляться
сведения об их жизни и деятельности: некрологи, очерки, вос¬
поминания, научные исследования. Но лишь в 1907 году
В. М. Саблину разрешено было издать первый сборник мате¬
риалов «Петрашевцы», куда вошли некоторые бумаги следст¬
венной комиссии, записки и речи Петрашевского, Ханыкова,
Ахшарумова, «Солдатская беседа» Григорьева.
Хотя уже вскоре после смерти Николая I кто-то осмели¬
вался тайком копировать секретные документы следствия и
суда и пересылать их Герцену (по разысканиям Н. Я. Эйдель¬
мана, эго был скорее всего ученый-архивист А. Н. Афанась¬
ев), но открыто работать в секретных архивах удалось толь¬
ко после 1905 года В. И. Семевскому, замечательному исто¬
рику, создавшему целую серию статей о петрашевцах. Смерть
в 1916 году помешала ему довести до конца задуманное мно¬
готомное исследование; в 1922 году вышла в свет лишь пер¬
вая часть первого тома его труда «М. В. Буташевич-Петра-
шевский и петрашевцы».
Октябрьская революция широко открыла доступ в цар¬
ские архивы. Под редакцией П. Е. Щеголева вышел трехтом¬
ный сборник «Петрашевцы» (М.— Л., 1926—1928), куда
включены избранные воспоминания, статьи петрашевцев, ма¬
териалы следствия и суда, подробная библиография, состав¬
ленная В. Р. Лейкиной-Свирской. Еше позднее было напе¬
чатано трехтомное «Дело петрашевцев» (М.— Л., 1937—1951),
содержащее следственные дела тридцати арестованных и до-
носительные реляции Антонелли.
Литературовед В. Л. Комарович проделал большую рабо¬
ту, выискивая в изданиях XIX века стихотворения петрашев¬
цев. Под его редакцией они впервые были собраны в сбор¬
нике «Поэты-петрашевцы» [Л., 1940 («Библиотека поэта».
Большая серия); 2-е изд.— Л., 1957]. Художественная проза
петрашевцев до сих пор не собрана воедино.
В 1953 году издан объемистый сборник «Философские и
, общественно-политические произведения петрашевцев», подго-
, товленный В. Е. Евграфовым и М. Я- Поляковым; некоторые
материалы (например, письма Спешнева о философии) были
здесь обнародованы впервые.
За десятилетия, минувшие после выхода книги Семевско-
го, опубликовано немало трудов о петрашевцах; наиболее из¬
вестные принадлежат В. Р. Лейкиной-Свирской. Первая ее
37
книга — «Петрашевцы» — появилась в Москве в 1924 году,
вторая под тем же заглавием — в 1965-м.
К настоящему времени многие аспекты жизни и деятельно¬
сти петрашевцев изучены достаточно обстоятельно. Исследо¬
ваны биографии почти всех ведущих деятелей, их социально-
политические воззрения, этапы в развитии кружков, судеб¬
ный процесс над петрашевцами, пребывание в сибирской ссыл¬
ке. Однако немало проблем и тем остаются еще слабо разра¬
ботанными.
Как ни странно, но до сих пор почти совершенно не за¬
тронут вопрос о месте творческого наследия петрашевцев в
истории русских социалистических учений: во-первых, вопрос
о связях и взаимоотношениях петрашевцев с современными им
радикальными группами, прежде всего с кругом Белинского
и Герцена; во-вторых, об их конкретных воздействиях на дея¬
тельность позднейших русских социалистов (Чернышевский,
Добролюбов, Писарев, народники 1870-х годов). Необходимы
также сопоставления воззрений и деяний петрашевцев с ана¬
логичными и современными им социалистическими группами:
с Кирилло-Мефодиевским братством на Украине, с соответ¬
ствующими польскими кружками, с западноевропейскими со¬
циалистическими объединениями.
Недостаточно еще изучены философские взгляды петра¬
шевцев, особенно сложные соотношения с позитивизмом 40-х
годов.
Да и жизнь и деятельность некоторых петрашевцев поч¬
ти не исследованы. Например, лишь в последние годы стали
доступными ценнейшие рукописи Н. А. Спешнева, переданные
внуками в архивы Москвы и Иркутска. Загадочной остается
биография Р. А. Черносвитова после 1849 года (он в 1857 го¬
ду неожиданно выступил в печати с проектом дирижабля, на¬
много опережая русскую авиационную техническую мысль!),
и т. п. Будущим исследователям петрашевцев есть что изу¬
чать и обобщать...
В советское время воспоминания петрашевцев были един¬
ственный раз в очень сокращенном виде собраны в пер¬
вом томе сборника «Петрашевцы» под редакцией Г1. Е. Ще¬
голева (М., 1926). В предлагаемой читателю книге комплекс
таких воспоминаний представлен более полно. Так, очерк
Пальма о Львове никогда до сих пор не переиздавался, а с
момента единственной публикации прошло сто лет. Некото¬
рые очерки были обнаружены и обнародованы уже после вы¬
хода сборника 1926 года: воспоминания Н. П. Баллина, за¬
писка Ф. Н. Львова и М. В. Петрашевского, показания
Н. А. Спешнева. В результате впервые все петрашевцы, чьи
воспоминания в настоящее время известны, представлены в
одной книге. И хотя, как правило, эти воспоминания печата¬
ются не полностью, а в извлечениях, многие из них даются
в- значительно более расширенном объеме по сравнению с
изданием 1926 года (воспоминания Д. Д. Ахшарумова,
П. А. Кузмина, П. П. Семенова-Тян-Шанского и др.)
38
Воспоминания о кружках петрашевцев, об арестах и след¬
ствии по их делу, о гражданской казни оставили как веду¬
щие деятели (Петрашевский, Спешнев, Львов, Ястржемб¬
ский), так и рядовые участники и даже относительно случай¬
ные посетители, сохранившие, однако, ценные свидетельства
о кружках (Зотов, Милюков, Семенов-Тян-Шанский, А. Май¬
ков, Ламанский). Авторы многих воспоминаний подробно
описывают свою жизнь за пределами деятельности кружков,
в ссылке и т. п. В таких случаях, как правило, публикуются
лишь разделы, непосредственно посвященные петербургским
кружкам петрашевцев.
Жанры публикуемых произведений — не всегда «чистые»
мемуары: здесь встречаются и письма-воспоминания, и очер¬
ки, и записи мемуарных рассказов другими лицами.
Книга воспоминаний о кружках петрашевцев даст воз¬
можность современному читателю разобраться в сложной об¬
щественно-политической и культурной атмосфере 40-х годов
прошлого столетия, понять идеологическую сущность и конк¬
ретные формы деятельности первых русских социалистов, уви¬
деть в их взглядах и в чертах их характеров предвестье тех
особенностей, которые в более глубоких и разнообразных ви¬
дах проявятся в последующие десятилетия: политический ра¬
дикализм и пафос социальных преобразований, демократизм,
постоянное внимание к народу и его положению, максима¬
лизм требований и нравственная чистота помыслов, приво¬
дившие деятелей освободительного движения к неустанным
поискам новых путей социалистического преобразования От¬
чизны.
Б. Ф. Егоров
Ф. Н. Львов,
М. В. Буташевич-Петрашевский
[ЗАПИСКА О ДЕЛЕ ПЕТРАШЕВЦЕВ]
[СОБРАНИЯ ПЕТРАШЕВЦЕВ]
овые стремления в Европе, выразив¬
шиеся революциею 1848 года, имели
сильное влияние на образованную мо¬
лодежь в России, и преимущественно в
Петербурге. Надобно было видеть, с
какою жадностью читались газеты того времени и ка¬
кое сочувствие возбуждали первые успехи социализма.
Апатическая дотоле молодежь встрепенулась, ожила.
Несмотря на все затруднения, сочинения Прудона, Луи
Блана, фурьеристов, сен-симонистов переходили из рук
в руки; все старались познакомиться с новыми начала¬
ми, во имя которых произошла революция. Неудиви¬
тельно, что те, которые до [18]48-го года были уже зна¬
комы с социальными учениями, которые имели у себя
почти полную библиотеку всех последователей нового
направления, сделались, естественно, центрами притя¬
жения для всех мыслящих молодых людей. К числу та¬
ких центров принадлежал Михаил Васильевич Буташе¬
вич-Петрашевский, который, вместе с кружком, около
него собравшимся, должен был сделаться козлом очи¬
щения— жертвою вечернею* за грехи русского парода.
Еще в начале 40-х годов Петрашевский познакомил¬
ся с социальными учениями и по влечению страстной
натуры своей сделался их усердным пропагатором. По¬
лучая около трех тысяч рублен серебром годового до¬
хода, он имел возможность принимать у себя довольно
* Аресты политических преступников производятся всегда
ночью. — Примеч. Львова,
40
многочисленное общество, состоявшее преимущественно
из фурьеристов; но с 1848 года эти собрания получили
некоторую организацию. По предложению хозяина на¬
значено было собираться вечером по пятницам и посвя¬
щать это время на критический разбор различных со¬
циальных систем, а для большего порядка во время
прений, которые могли возникнуть, старший по летам
должен был при помощи колокольчика восстановлять
тишину в собрании. (Колокольчик этот впоследствии
казался страшным орудием революции для следовате¬
лей.) Многие приняли на себя обязанность сделать из¬
ложение социальных систем (напр[имер], Данилев¬
ский1— фурьеризма, Спешнев — коммунизма), а Пет¬
рашевский предложил, что, прежде чем говорить о со¬
циализме, полезно было бы возобновить в памяти на¬
чала политической экономии, чтобы яснее понимать на¬
стоящие экономические отношения общества, которые
так строго осуждаются социальными теориями. Эту
обязанность принял на себя Ястржембский.
Вечера начались осенью 1848 года. В пять-шесть се¬
ансов Ястржембский изложил главные начала полити¬
ческой экономии. Взгляд его на эту науку приближался
всего более к Миллю2. Во все время он позволил себе
одну только либеральную выходку. «Правительство, —
говорил он, — в смысле политико-экономическом, есть
тоже товар: граждане в виде податей и налогов поку¬
пают себе внешнюю и внутреннюю безопасность,
т. е. жертвуют частью своего достояния, чтобы иметь
войско, флот, суды, администрацию, полицию и т. п.
Следовательно, если товар этот дешев и хорошего ка¬
чества, то содержание правительства не противоречит
долитико-экономическим началам. Если божиего мило¬
стью купец Чаплин продает нам дешево хороший чай,
то мы все покупаем у него; но если он начинает прода¬
вать дорого худой, то мы обращаемая] к другому, ко¬
торый тоже купец божиего милостью».
После этих интересных бесед порядок, в котором
предполагалось их продолжать, нарушился: Данилев¬
ский должен был отлучиться из Петербурга, а Спешнев
отказался от изложения учения коммунистов. А потому
некоторые из посетителей этих вечерних собраний чи¬
тали свои разъяснения о разных вопросах: напр[имер],
Толль3 — «О происхождении религиозного чувства»,
Львов — «О связи между наукой и промышленностью»,
«Об энциклопедическом и специальном образовании»
и т. п. Из них рассуждение Толля заслуживает внима¬
41
ния по тому обороту, какое дала ему следственная ко¬
миссия. Толль (лютеранин) старался доказать, что чув¬
ство подавленности человека пред громадными и неве¬
домыми силами природы послужило основанием рели¬
гиозному чувству и что этим страхом воспользовались
умные люди, чтобы провести нравственные законы для
человеческих обществ, под авторитетом тех существ,
которые управляют этими силами. (Следственная ко¬
миссия назвала эту диссертацию речью против бога.)
В ноябре месяце Тимковский 4 прочитал речь, в ко¬
торой вызывал всех к действию. «Пока,— говорил он,—
мы здесь толкуем о превосходстве одной социальной
системы перед другою, которые, по моему мнению,
только концентрические круги, описанные из одного
центра, реакция задавит социальное движение. Вы, сла¬
бые, не страшитесь моих слов — я вас не зову на пло¬
щадь! Вы, сильные, не торопитесь! Но пусть каждый
из нас в своем кружке действует, как он знает, для
торжества новых идей».
Речь эта вызвала несколько рукоплесканий, но про¬
извела вообще очень дурной эффект. Пышный набор
фраз, заимствованный из последней речи какого-то де¬
путата Национального собрания, оказался ни больше
ни меньше, как фейерверком. В самом деле: неужели
можно было надеяться, что тридцать-сорок петербург¬
ских юношей остановят начинавшийся поток реакции в
Европе? Кто такие были слабые и сильные в этом соб¬
рании? Зачем понадобилась площадь? Все это было не¬
уместно и не могло принести никакой практической
пользы для людей, которым надобно было только по¬
литическое воспитание. Более всех недоволен был этою
речью сам хозяин Петрашевский: разговаривая со
Львовым и со многими другими, он говорил, что увлечь
на площадь сотню, тысячу пылкой молодежи легко, но
к чему бы это послужило? Их перестреляли бы карте¬
чью или повесили бы не только без всякой пользы для
дела, которого они хотели быть защитниками, но и во
вред ему. А на подозрения в робости он отвечал: «Я,
конечно, выйду последним на площадь, если даже этого
потребует необходимость, но зато последним и сойду
с нее»6.
Черносвитов также находил, что все теории — пре¬
красные вещи, но что, дескать, они мало подвигают
дело. Мастер говорить, он увлекал и других к либе¬
ральничанью, которое совершенно безвредно теперь и
которое было так опасно тогда.
42
Наконец в 1849 году, в марте месяце, один молодой
человек (девятнадцати лет)—Головинский0 высказал¬
ся яснее: что мы рассуждаем о таких вопросах, кото¬
рые в настоящую минуту не могут быть практически
решены в России, займемся лучше такими, которые
представляют существенный интерес. «Пожалуй,—от¬
вечал Петрашевский. — У нас в России три жизненных
вопроса: вопрос о судопроизводстве и судоустройстве,
вопрос крестьянский и вопрос о свободе слова. Я,—
продолжал он, — ставлю вопрос о реформе суда пер¬
вым, и вот почему: прежде всего надобно удовлетво¬
рить общей потребности, а в справедливости нуждают¬
ся все в государстве. Крестьянский вопрос заденет ин¬
тересы дворян, вопрос же об улучшении судопроизвод¬
ства найдет в большей части граждан полное сочув¬
ствие». Показав потом всю важность учреждения от¬
крытого суда и присяжных, он заключил, что и самый
крестьянский вопрос подвинется, потому что пред все¬
ми откроется все безобразие и вся несостоятельность
крепостного права из частных дел, решаемых публично
в суде. Для достижения этой реформы стоило только,
по его мнению, дворянским и городским обществам
всех губерний воспользоваться, на основании своих гра¬
мот, правом рассуждать о своих нуждах и потребно¬
стях, в числе которых, разумеется, первое место долж¬
но занимать правосудие, и обратиться потом с адреса¬
ми или с прошениями к правительству об изменении су¬
доустройства и судопроизводства. Без явного наруше¬
ния справедливости, по его же мнению, правительство
не могло бы отказать в этом, тем более что это не
представляло бы для него ни малейшей опасности.
Головинский едва мог дождаться окончания длин¬
ной речи Петрашевского. «Нет! — вскричал он. — Самая
вопиющая несправедливость есть рабство 60 миллионов
крестьян (ему заметили, что их только 20 миллионов) 1.
Все равно!» — продолжал он и говорил очень горячо и
очень хорошо против рабства, против эксплуатации че¬
ловека человеком и т. п. «Все это так, — возразил Пет¬
рашевский,— и все это мы очень хорошо знаем, но ка¬
ким же образом можно будет достигнуть освобождения
крестьян? У нас у всех, может быть, наберется тысячи
две-три душ. Если мы их отпустим на волю, мы будем
только дураками: сами лишимся состояния, а их поло¬
жения не улучшим, они перейдут только от одного по¬
мещика к другому, худшему — к государству, к окруж¬
ным начальникам». — «Нет, — возразил Головинский, —•
43
крестьяне не могут долее сносить своего положения,
они готовы восстать». — «Неужели вас может пре¬
льщать перспектива пугачевщины?» — заметил ему
Львов. «Или вы желаете, — сказал Петрашевский, —
чтобы власть перешла в руки попов — другого образо¬
ванного сословия после дворян?» — «Нет! — возразил
Головинский. — Крестьянам надобно диктатора, кото¬
рый бы повел их!» — «Как! — прервал его Петрашев¬
ский тихим, но твердым голосом.— Диктатора, который
бы самоуправно распоряжался! Я ни в ком не терплю
самоуправства, и если бы мой лучший друг объявил
себя диктатором, я почел бы своею обязанностью тот¬
час же убить его». Этот разговор был последний — он
мотивировал арест.
Все эти разговоры происходили в присутствии аген¬
та Ивана Петровича Липранди8 — Антонелли*, кото¬
рый введен был на вечера Петрашевского Толлем 9, че¬
ловеком доверчивым ко всем, кто только выдавал себя
за либерала. Антонелли давно уже вертелся около
Петрашевского, но не был им приглашаем на «пятни¬
цы». Толль, увидя его раз поутру у Петрашевского,
сошелся с ним за бутылкою вина в трактире, и решил¬
ся с ним вместе нанять квартиру, и в первый же после
того вечер привез его к Петрашевскому, не предварив
его о том. Петрашевский был этим недоволен потому,
что считал Антонелли пустоголовым мальчиком. Но
этот мерзавец, достойно носящий фамилию знамени¬
того кардинала10, воспользовался случаем, чтобы вте¬
реться не только к Петрашевскому, но и к другим зна¬
комым Толля, и совершенно безвинно предал их на не¬
сколько тяжелых недель крепостного заключения. Но
будем справедливы: как было устоять Антонелли про¬
тив искушения — получить 1000 рублей серебром на¬
грады? И мало ли нашлось бы Антонеллей в то время?
Кроме этих вечеров у Петрашевского, о которых Ан-
* Рукою Петрашевского на полях: Примеч. Петрашевский
познакомился с Антонелли случайно, в СПб. управе благочиния,
куда как тот, [так] и другой пришли по делу. Мундир министерства
иностранных дел, который был на Антонелли (он служил в казна¬
чействе М. И. Д.), был поводом к сближению. Потом Антонелли
явился к Петрашевскому с просьбою совета по делам о наследстве.
Антонелли Петрашевскому едва [ли] не был обязан хорошим исхо¬
дом своих дел, т. е. получением 6 или 10 тысяч [рублей] сер[ебром]
наследства, а Толлю едва ли не жизнью, ибо он без Толля был бы
выброшен из окна Преображенских казарм.
О провокаторских действиях Антонелли и Липранди могут
быть сообщены известия Толлем.
44
тонелли делал еженедельно подробный донос, были
другие собрания, на которых Антонелли не присутство¬
вал, но о которых следственная комиссия узнала уже
из собственных показаний заключенных. Главнейшие
из них были следующие:
Фурьеристский обед в день смерти Фурье11, на ко¬
тором было произнесено несколько речей, впрочем ве¬
сьма миролюбивого содержания, не имевших важных
последствий для участи в нем участвовавших *.
Собрание у Кашкина для складчины на библиотеку
запрещенных книг, причем Кашкин говорил речь о том,
как Россия может перейти от монархического образа
правления сперва к конституционному и потом к рес¬
публиканскому **.
Вечера у Дурова происходили на складчину 14 че¬
ловек. На них участвовали наполовину литераторы я
музыканты, хотя и бывавшие у Петрашевского, но не
очень симпатизировавшие с ним; им казалось, что у
него недостает теплого чувства, что у него один только
холодный ум и, наконец, что он упрям, как бык, кото¬
рый уперся рогами в одно место и с него не сходит. По¬
ловина этих вечеров посвящалась музыке, а другая —
литературным чтениям, не имевшим никакого почти зна¬
чения, и частным разговорам, разумеется, очень сво¬
бодным, о событиях дня, о новостях из Европы, о их
значении и т. п. Зашла было на этих вечерах речь о за¬
ведении домашней литографии для распространения не¬
цензурных сочинений, но Федор Достоевский не согла¬
сился на это, и замечательно, что он один именно и
был осужден за намерение завести литографию (как
внимательно делались обвинения!). Но самым важным
по печальным своим последствиям было чтение сказки
конногренадерского поручика Григорьева12. Это было
уже в доме Спешнева, который пригласил вместо обыч¬
ного вечера к себе обедать всех собиравшихся у Ду¬
рова, потому что начали замечать каких-то подозри¬
тельных людей, которые ходили около дверей квартиры
Дурова, когда собиралось у него общество. Сказка эта
* Рукою Петрашевского на полях: П р и м е ч. Этого нельзя
сказать безусловно. Для некоторых и это обстоятельство послужило
поводом к обвинениям и осуждениям — как, напр[имер], Ханыков
единственно за речь на сем обеде подвергся осуждению.
** Рукою Петрашевского на полях: П р и м е ч. Едва ли это
справедливо. О сем обстоятельстве следует справиться у Кашкина
и без согласия лиц, которые при сем находились, делать ошибоч¬
но I?] сообщение не следует,
45
была не что иное, как истинный рассказ о том, как «не¬
забвенный» 13 собственноручно поколотил в кабаке двух
матросов за то, что они, едва держась на ногах, пред¬
почли войти в пристань, а не салютовать ему при
встрече снятием фуражек. Рассказ заключился вообще
рассуждением о плохом житье-бытье солдата фронто¬
вого и бессрочно-отпускного. Дорого же обошелся этот
юмористический рассказ Григорьеву! *
Разговор между Черносвитовым, Спешневым и Пет¬
рашевским заслуживает внимания потому только, что
в деле этому хотели придать особенную важность. Го¬
ворил Черносвитов о том, возможен ли бунт в России
и откуда он мог бы с успехом начаться. По его предполо¬
жению, бунт мог бы начаться с нерчинских заводов,по¬
том на Алтае и на Урале и наконец в России, в Петер¬
бурге. Он основывал это на всеобщем неудовольствии
горных рабочих, которые будто всегда готовы поднять¬
ся, и на том, что такие местные восстания, начиная с
самых отдаленных мест государства, заставят удалить
войска из Центра. Если Черносвитов не был агентом-
провокатором, то это была только самая пустая и не¬
лепая фанфаронада с его стороны, начиная с бунта на
нерчинских и алтайских заводах, потому что кто хотя
сколько-нибудь знает эти заводы, тотчас поймет всю
невозможность какого-либо политического движения из
этого источника **.
Наконец, самым важным пред глазами следственной
комиссии было совещание 5-ти, известное между ними
под именем «перепеличьего сыра» н. Момбелли |5, раз¬
говаривая со Львовым о всех пакостях высоких санов¬
ников, которые не страшатся нисколько общественного
мнения, тем более что оно почти и не существовало не
только в России, но и в Петербурге, сказал: «А недур¬
но было бы составить тайное общество, которое бы
имело целью направлять общественное мнение против
всего мерзкого, подлого, рабского, против произвола и
насилия и возвышать все хорошее, доброе, граждан¬
♦ Рукою Петрашевского на полях: Примеч. Для Григорьева
этот рассказ слишком много получил значения в смысле обвинения,
ибо он был написан печатными буквами. А Спешнев, у которого
он был найден, обещался Григорьеву взять это на себя, но при
следствии объявил, что это сочинено Григорьевым, которого следо¬
ватели почли распространителем и других вещей, которые будто бы
ходили по городу.
*♦ Рукою Петрашевского на полях: О сем ничего [не] следует
сообщать. М. В. П. Весь предыдущий абзац, которому относится
это замечание, начиная со слова Разговор, зачеркнут им же,
46
скую доблесть и пр., а также выдвигать всех не только
передовых, но и вообще честных и умных людей, ста¬
раться, чтобы они заняли влиятельное положение как
на службе, так и в обществе. Какая была бы сила у
нас через несколько лет!» — «Да, — отвечал Львов,—
такое общество могло бы принести и другую пользу:
если в России совершится когда-нибудь политический
переворот, то из этого общества могут выйти готовые
политические деятели». Так рассуждали двадцатитрех¬
летние юноши под неостывшим еще впечатлением
«Juif errant» *. Эту мысль Момбелли сообщил Петра¬
шевскому, который после одного вечера в пятницу по¬
просил Львова, только что с ним познакомившегося,
остаться, когда все разойдутся, и затем предложил ему
внезапно вопрос о тайном обществе. На этом первом
совещании же положено было не давать политического
направления обществу, если оно составится, но только,
отбросив всякую личность, братски помогать друг дру¬
гу к достижению предположенной цели: т. е. направ¬
лять известным образом общественное мнение и выво¬
дить вперед людей достойных и, разумеется, не при¬
верженцев самовластия. Тут же положено было пригла¬
сить Спешнева для обсуждения этого дела. По полу¬
чении его согласия назначено было 7 декабря собрать¬
ся к Спешневу вечером. Петрашевский, всегда несколь¬
ко подозрительный, предполагал, что Момбелли и Львов
будут действовать всегда заодно, и, не надеясь на
Спешнева, пригласил еще от себя Дебу 1б, на поддерж¬
ку которого он рассчитывал и думал таким образом
привести в равновесие все влияния **. 7, 14 и 23 декаб¬
ря происходили совещания, на которых всякий пооче¬
редно излагал свое мнение. Момбелли и Львов оста¬
лись верными своей программе; Львов только приба¬
вил, что членов мало для того, чтобы совещаться об
организации общества и о том, как устроить его аффи-
лиации18. Петрашевский прибавил к первоначальной
программе и пропаганду социальных учений, а в осо¬
бенности фурьеризма ***. Но Дебу, к общему удивле¬
* «Вечный жид» 17 (франц.).
** Рукою Петрашевского на полях: Еще потому, что, зная
миролюбивый характер Дебу, сим надеялся воздержать других от
крайностей и неблагоразумных решимостей.
*** Рукою Петрашевского на полях: Петрашевский указывал
и изложил образ действия лиги об отмене хлебных пошлин в Анг¬
лии и указал на О’Коннеля 1в, как на образец, как должно дей¬
ствовать, желая реформ в государстве.
47
нию, объявил, что он видит только спасение настоя¬
щего общества в осуществлении системы Фурье, а по¬
тому он будет ее пропагировать; все же другие
реформы в общественном и политическом быте он счи¬
тает бесполезными, потому что конечный результат их
такое же (разумеется, с фурьеристской точки зрения)
ложное и вредное положение, как и теперь. И что, сле¬
довательно, он готов быть членом, но для того только,
чтобы пропагировать свою религию. Наконец, в послед¬
ний вечер Спешнев говорил*: «Есть три способа для
достижения какой-либо политической цели: иезуитский,
тайной интриги, как предлагают Момбелли, Львов и
отчасти Петрашевский, явной пропаганды, как предла¬
гает Дебу, и открытою силою. Если бы мне нужно было
действовать, я бы избрал последний, а средством к то¬
му— бунт крестьян! Теперь я предлагаю, что, если
хотя один член не будет согласен на составление тай¬
ного общества, то обществу не быть, и этот член я».
Впоследствии, когда сделана была попытка нового
сближения с ним, он отвечал письмом **, в котором пи¬
сал между прочим, что, по его понятию, занятием об¬
щества будет chasse aux places ***. Таким образом, об¬
щество рушилось в самом начале, и между расшедши-
мися членами было постановлено никому не говорить об
этой неудачной попытке ****. Как узнала об этом след¬
ственная комиссия — это тайна; верно только, что ни
Львов, ни Момбелли, ни Петрашевский этого не выда¬
ли. Спешнев же впоследствии вообще отказывался от
всех разговоров, касающихся до дела*****.
* К слову говорил Петрашевским сделано примечание:
(прочитал по рукописи. Рукопись эта тогда же была сожжена).
** Слова от когда до письмом зачеркнуты Петрашевским и
вместо них вставлено: Спешнев написал письмо, в котором, оправ¬
дывая свое мнение и упорство в нем, изъяснил, что все другое,
кроме крестьянского немедленного освобождения,
*** Погоня за местами (франц.)
**** Слова от общество до попытке изменены Петрашевским
на: из разговоров о составлении тайного общества ничего не вы¬
шло. Все разговорившиеся об этом обязались никому не говорить.
***** руКОЮ Петрашевского на полях: Так, Петрашевскому он
объявил, что он ему ничего не скажет, ибо, пожалуй, это может
Петрашевский огласить, вместе с гем давая ему понять, что форма
подписки в вступление его и общество была им написана по тре¬
бованию следователей и потом обращена в обвинительный акт
против него и послужила ловушкою для других, — что такой же
характер ловушки имел дневник его, написанный в СПб. крепости.
Ибо ничего не значит форма, чужой ответ или показание ни для
кого не обязательно, всякий может отпереться.
48
II
ЗАКУЛИСНЫЕ ПОВОДЫ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Всем известно, что арест Петрашевского и его зна¬
комых последовал по доносу Ивана Липранди, без уча¬
стия III отделения и жандармов. Действительный стат¬
ский советник Липранди служил в министерстве вну¬
тренних дел и известен был своими преследованиями
раскольников, составлявшими для него выгодную ста¬
тью дохода. Это была для него золотая россыпь, из
которой он хищнически добывал драгоценный металл.
Жадный к деньгам, он не гнушался никаким делом и
запутался наконец в деле наследников золотопромыш¬
ленника Мясникова, так что, несмотря на поддержку
министра внутренних дел Перовского, он мог риско¬
вать идти на поселение. Надобно было оказать такую
услугу Николаю Павловичу, которая бы навсегда упро¬
чила его положение. Зная честолюбие Перовского, он
внушал ему, что вся полиция, как тайная, так и явная,
должна быть сосредоточена у него в руках, тем более
что III отделение ничего не делает, что оно даже не
следит за революционными собраниями, известными
всему Петербургу, что он берется устроить дело таким
образом, что государь увидит ревность министерства вну¬
тренних дел к охранению государства от внутренних и
опасных врагов и недеятельность жандармов. Конечно,
Перовский согласился. Желая же угодить Орлову, он
думал затянуть в общество Петрашевского золотопро¬
мышленников, дабы Орлов мог найти удобный предлог
воспользоваться теми россыпями, которые останутся
неразработанными по удалении их хозяев в крепости
или в ссылку. Но, к сожалению, последний расчет ему
не удался.
Понятно, почему Липранди избрал преимуществен¬
но Петрашевского предметом своей нежной заботливо¬
сти: Петрашевский был лично ненавистен Николаю
Павловичу и Перовскому *.
При самом начале французской революции в С.-Пе¬
тербургской губернии были дворянские выборы. Под
рукой дано было знать, что государю будет приятно,
если дворяне поднесут ему адрес, в котором будет
осуждаться движение Западной Европы, и ответом на
этот адрес готовился знаменитый манифест «С нами
* Последнюю фразу Петрашевский переделал так: Петрашев¬
ский мог быть неприятен Николаю Павловичу и лично ненавистен
Перовскому.
49
бог, разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами бог»20.
Но Петрашевский, как член петербургского дворянства,
начал доказывать всю неуместность осуждения поли¬
тических дел; он говорил, что дворянское собрание не
вправе рассуждать о том, что по закону принадлежит
только Государственному совету, что петербургское
дворянство, как бы вызывая на бой этим адресом всю
Европу, не зная желаний других сословий государства,
должно одно взять на себя тягость войны и что, нако¬
нец, самое выражение верноподданнических чувств
дворянства, которые дворяне всосали вместе с молоком
и которое перешло в их кровь, было, по его мнению,
излишним; потому что можно бы подумать, что прави¬
тельство сомневается в этом, или что верховная власть
требует подкрепления и т. п., и в заключение он ска¬
зал: «А топ avis, да ne sera pas une adresse, mais une
veritable maladresse» *.
Результатом всего этого было то, что 142 голосами
против 42 подписом своих имен отвергнуто было осуж¬
дение движения Западной Европы и положено было
только выразить в адресе верноподданнические чувства
государю. Следствием этого был отказ в принятии ад¬
реса, и Николай Павлович, призвав к себе некоторых
из дворян, передал им, что он не сомневается в чув¬
ствах дворянства, и уверял их, что они могут быть по¬
койны насчет крестьян, что он даже никогда не думал
об их освобождении, а также, что журналистика рус¬
ская более не будет затрагивать этого вопроса.
Петрашевский, верный своей идее, налитографиро¬
вал также в восьми пунктах предложения дворянскому
сословию — заняться обсуждением того, что касалось
их нужд и потребностей. В числе их между прочим
было: а) о дозволении купцам покупать заселенные
имения под условием делать крестьян обязанными,
б) изменение судоустройства и судопроизводства и
в) надзор за административными властями, — и пред¬
лагал по обсуждении его предложений просить прави¬
тельство об утверждении новых учреждений (земледель¬
ческих банков, приходских касс и т. п.) и реформ. Его
не допустили прочесть пред собранием этих предложе¬
ний, потому что он явился не в мундире **.
* Игра слов, основанная на созвучии слов «adresse» и
«maladresse»; буквально: «По-моему, это будет не адрес, а поистине
неловкий поступок» (франц.).
** Рукою Петрашевского добавлено на полях: Петрашевский,
по убеждению губернского предводителя дворянства Потемкина,
60
Перовский же сделался личным врагом Петрашев¬
ского по следующему обстоятельству. В преобразован¬
ной Петербургской городской думе Петрашевский пред¬
ложил себя к выбору в секретари думы и налитографи¬
ровал программу, из которой видно было, что полиция
будет устранена от многих хозяйственных распоряже¬
ний по городу, а домохозяева получат определенные
гарантии относительно неисправных жильцов и против
притязания полиции. Министерство предложило своего
кандидата и неправильными выборами доставило ему
место секретаря. Петрашевский завел с министерством
по этому случаю процесс в Сенате и уже в крепости
получил отказ на свою просьбу.
Наконец, падение Петрашевского и его кружка, по¬
клонников гниющего Запада, могло быть приятно уль-
траславянофильской московской партии и могло при¬
мирить их с правительством, что при тогдашнем поло¬
жении дел было очень важно.
Таким образом, все предвещало блестящий успех
г. Липранди,
III
СЛЕДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
И УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ЗАСТЕНОК
В ночь с 23 на 24 апреля 184921 года все собирав¬
шиеся у Петрашезского и даже многие носившие оди¬
наковую фамилию с его знакомыми были арестованы,
исключая Львова, вместо которого взяли его однофа¬
мильца и однополчанина; забраны были все бумаги и
все книги, и все это было свезено сначала в III отде¬
ление, а потом в крепость. В городе распустили слух,
что арестовали злоумышленников, собиравшихся в ка¬
ких-то подземельях, что у них был умысел убить царя
на разводе 23 апреля (отчего и парадный этот развод
был отменен), а также, что это люди были безбожные,
которые будто бы испражнялись на образа, и т. п. не¬
лепости.
этих предложений не сделал, а вместо этого литографированную
программу распространил в собрании, что было причиною того, что
и некоторые другие из СПб. дворян тоже приготовленные у них
проекты о вопросах, до крестьян относящихся, не предложили, ибо
под рукой говорили, что если это сделается, то дворянское собра¬
ние для выборов закроется и все лица будут оставлены на прежних
должностях или назначены от правительства.
Отпетом на это н послужило эабаллотирование адреса
подпискою.
61
Следователями назначены были: Набоков, старый
солдат, змей — князь Павел Павлович Гагарин,
Иаков — энтузиаст Ростовцев, надутый барскою спесью
князь Долгоруков (теперешний шеф жандармов) и из¬
вестный Леонтий Васильевич Дубельт22. Самым благо¬
намеренным из этих членов был... Дубельт!
Сначала следователи всякого уверяли, что дело
очень важно, что оно имеет характер государственного
преступления, что открыт будто бы заговор, замысел
бунта и т. п. и что только чистосердечное признание
может спасти заключенного; вместе с тем они внуша¬
ли, по крайней мере весьма многим, менее компромети¬
рованным доносом Антонелли, что их еще завлекали,
что не открывали настоящих намерений, и требовали в
доказательство их невинности подробного рассказа о
всем виденном и слышанном на вечерах Петрашевского
и других знакомых. Часто очень они льстили уму мо¬
лодых людей, удивлялись, как они могли связаться
avec cette canaille-la * и т. п. Одним из обыкновенных
приемов их политики было то, что один член начинал
нападать, угрожать даже, а другой отстаивать и как бы
ссориться со своим сочленом, для того чтобы приобре¬
сти расположение к себе подсудимого, и если этот ма¬
невр удавался, то в келейной беседе друг-следователь
старался выудить из неопытного юноши все, что было
нужно. Вслед за этим стали появляться угрозы более
сильные. «Что с ним церемониться, — говорил Гагарин
про Спешнева, — надобно его под палки поставить!»
Но Ростовцев закричал, что он этого не позволит, по¬
тому что Спешнев все-таки еще дворянин, хотя и пре¬
ступный. «Мы вас штыком приткнем к стене, если вы
не будете отвечать», — говорил Гагарин Петрашевско¬
му, когда он отказался отвечать на какой-то вопрос, не
относящийся к делу. «Что ж, вы думаете, что получите
ответ? — возразил спокойно Петрашевский.— Немножко
крови, и больше ничего».
Неудивительно, что через шесть или семь недель ко¬
миссия знала все, что только можно было знать о со¬
державшихся в крепости, и даже больше. Всякий ме¬
нее компрометированный рассказал все, что только
слышал, желая тем показать, что он не участвовал ни
в каком заговоре и что даже разговоры, им слышан¬
ные, не могли заставить его думать о существовании
какого-либо серьезного замысла. С другой стороны,
* С этой сволочью (франц.).
52
строгое одиночное заключение заставляло разыгры¬
ваться фантазию молодых людей, по большей части
владеющих хорошо пером, и они давали простор своей
сочинительской привычке, описывая свои чувствования,
свои впечатления и вдаваясь в анализ своих и чужих
стремлений. Они не подозревали того, что просто вы¬
думывали и на себя, и на других, что то, что им каза¬
лось действительностью, было следствием их расстро¬
енного воображения и болезненного чувства одиноче¬
ства, развившихся в мрачном каземате Петропавлов¬
ской крепости.
Несмотря на все старания следственной комиссии,
опа не нашла никаких фактов, которые бы обнаружи¬
вали преступление против первых двух пунктов23; спра¬
ведливость требовала бы освобождения из тяжкого
крепостного заключения почти полсотни молодых лю¬
дей, и все, что самая подозрительная политика могла
бы сделать для своей безопасности, — это разослать эту
молодежь на жительство по разным уголкам империи
и представить пред публикою все их совещания в смеш¬
ном виде. Но не того хотелось Николаю Павловичу.
Он желал показать пример неумолимой строгости про¬
тив всякого дерзнувшего подумать, что его правление
не есть идеал совершенства. Хитрый князь Гагарин
очень хорошо понимал это, и к тому же ему казалось
неловким компрометировать правительство, будто оно
без достаточного основания решилось на такую крутую
меру, как арестование нескольких десятков молодых
людей и заключение их в крепость; наконец, ему надоб¬
но было показать свои гениальные способности в по¬
литических процессах и показать, что Россия не оску¬
дела Ушаковыми и Шешковскими24.
Следствие превратилось в proces de tendences, в
процесс о стремлениях. Задачею Гагарина стало оты¬
скать не факты, а принципы заключенных и вывести из
них, какой бы вред эти молодые люди впоследствии
сделали бы государству по примеру Франции и Герма¬
нии. Показания заключенных, разбор их бумаг особою
комиссиею, в которой заседал Липранди, давали уже
достаточно к тому материалов, но Гагарину казалось
этого мало: он потребовал от многих profession de foi *
о разных политических и социальных вопросах в виде
мнений и употребил самую ужасную пытку.
Тут пошли вопросы о том, что вы думаете о комму¬
низме? о фурьеризме? Что, по вашему мнению,
* Исповедание веры (франц.),
53
выше — человечество, государство или семейство? и т. п.
Чтобы показать, какие выводы он умел делать из этих
показаний, достаточно рассказать, что на последний во¬
прос Львов отвечал, что понятие о человечестве, как
общее, выше понятия частного: о государстве н семей¬
стве. «Следовательно, — прибавил Гагарин, — если бы
интересы человечества не сходились с интересами госу¬
дарства и семейства, вы бы ими пожертвовали для
воображаемого вами блага человечества — я этого и
ожидал. Это совершенно согласно с мнением вашего
учителя». Петрашевскому даже предложен был вопрос:
как он желает, чтобы над ним произведено было след¬
ствие? На это ои отвечал: есть два способа произво¬
дить следствие: первый, существующий в наших зако¬
нах, который охарактеризован словами великой Ека¬
терины: «Лучше простить десять виновных, нежели на¬
казать одного невинного». Другой — придуманный кар¬
диналом Ришелье, который говорил: «Дайте мне де¬
сять слов, написанных рукою подсудимого, я его об¬
виню в преступлении, заслуживающем смертную казнь».
Разумеется, я желаю первого рода следствия, но по
всему вижу, что оно будет второго рода, потому что
Дубельт в обвинение мое смел сказать: «Мы знаем, что
у вас сожжены некоторые бумаги, и я даже видел пе¬
пел». Если бы кардинал Ришелье встал из гроба, то он
на коленях бы признал себя школьником перед Леон¬
тием Васильевичем, потому что тот основывал свое об¬
винение все-таки на каком-нибудь факте, а Л. В. осно¬
вывает его на кучке пепла, случайно оставшегося от
раскуривания трубки.
Для чего же понадобилась пытка, когда все откро¬
венно излагали свои мнения, а на них только и осно¬
вывалось осуждение? А вот для чего: у Спешнева на¬
шли в доме типографский станок25 и оторванный ли¬
сток бумаги, на котором было что-то вроде проекта
подписки какому-то русскому тайному обществу.
У Григорьева найдена была в палке шпага с какою-то
масонскою надписью, у Григорьева, который недавно
приехал в Петербург, успел познакомиться с либера¬
лами и социалистами и выдвинулся вперед со своею
возмутительною сказкою. Для комиссии ясно было, что
существует русское тайное общество, что, вероятно, оно
не одно и что Григорьев — агент какого-нибудь из них,
посланный в Петербург, чтобы разведать, что там. де¬
лается; тем более что у него нашли тетрадь, в которой
были физиологические очерки встречавшихся ему лю¬
54
дей в разных уголках России и, вероятно, отличавших¬
ся какими-нибудь особенностями. Это почтено было за
список, и вот собрали этих бедных людей и убедились,
что между ними не было никакой связи, а в голове у
них ни одной политической идеи. «А сказка? Непре¬
менно написана она для возбуждения гвардии к мяте¬
жу»,— думала следственная комиссия и принялась за
дело.
Спешнева морили три дня голодом; надобно пола¬
гать, что он сдался и сделал те открытия, какие только
мог. Его показания, написанные в виде журнала, по¬
служили для комиссии драгоценным материалом; в них
почти ничего не было забыто, даже ничтожная басня
«Запасные магазины», сочиненная на министра госу¬
дарственных имуществ и кем-то рассказанная. Надобно,
однако, отдать справедливость Спешневу: тон его по¬
казаний был тон насмешки — презрения ко всем по¬
чти участвовавшим в этом деле. Он хотел показать, что
серьезного дела нельзя было и замышлять с такими
ничтожными людьми и что он один только между ними
имел преступные намерения, а отвернулся от этой мо¬
лодежи потому, что не находил в них опоры. Он пред¬
полагал, может быть, что спасет этим других и один
сделается интересною жертвою. Но комиссия извлекла
из его показаний все разговоры, которые клонились к
осуждению правительственных лиц и распоряжений, и
возвела их в преступления. Усиливая тон насмешки или
презрения, господствовавший в показаниях Спешнева,
она раздражала допрашиваемых против него самого
или против других, кому она влагала в уста этот тон.
Форма журнала способствовала уличать запиравшегося
в словах, им произнесенных, потому что небольшие вы¬
держки из него, показываемые или читаемые, наводили
на мысль, что этот журнал был захвачен у кого-то вме¬
сте с бумагами и что, следовательно, он был написан
до начала следствия. И в наказание Спешневу комис¬
сия помиловала его: вместо бессрочной он был осуж¬
ден на десять лет каторжной работы и заклеймен в
приговоре особенным уважением ее к искреннему его
раскаянию и важным открытиям, им сделанным.
Но эта пытка была слишком проста, она могла от¬
крыть только факты, а не сокровенные мысли: прибег¬
ли к систематической отраве наркотическими средства¬
ми, преимущественно белладонной. Жертвами были
преимущественно' Петрашевский. и Григорьев, вероятно,
Катенев и отчасти Момбелли.
S3
Вот в какое положение приводили несчастных стра¬
дальцев. Расширение зрачка, видение мух или искрьГ:
перед глазами, приливы крови к голове, запор на низ,
жиление, которое оканчивалось у некоторых выпадени¬
ем заднепроходной кишки и разрывом промежности;
страшное раздражение слуха и осязания до такой сте¬
пени, что, кажется, вся кожа слышала, а малейший
стук казался пушечным выстрелом. Упадок волн, чрез¬
вычайное развитие фантазии и воображения. Неудер¬
жимая наклонность к нелепым действиям (напр[имер],
улететь в форточку). Галлюцинации, бешенство и про¬
должительные обмороки. И в это-то время за стенами
начинались разговоры, казалось, что невидимые духи
окружают несчастного и терзают его, казалось, что ле¬
тающие призраки, мухи говорят и неотвязно жужжат
около него иногда одно нелепое или бранное какое-ни¬
будь слово. В другое время слышался рассказ, что буд¬
то в Петербурге произошла революция и все товарищи
во главе временного правительства, а пытаемого оста¬
вили будто в крепости, потому что не хотят с ним раз¬
делить власти; или что крепость еще держится и про¬
брались только смельчаки, которые требуют приказа¬
ния, что делать с императором. Если ты боишься ска¬
зать, то плюнь, когда пробьют часы, — это будет зна¬
чить, что его надобно убить. Но более всех досталось
Григорьеву. Не зная, с какой стороны его взять, они
окружали его то мнимыми франкмасонами, то иллю¬
минатами, то староверами или раскольниками, то иезуи¬
тами-поляками и даже евреями, и все они обещали его
освободить, если он скажет, что он их. Староверы обе¬
щали его увезти, когда приедут чистить отхожие ме¬
ста, франкмасоны уверяли, что стоит им ударить мо¬
лотками и Николашка все сделает, и т. п. нелепости, ко¬
торые только выводили из терпения несчастного. В ис¬
ступлении он вскрикивал: «Что вам, черти проклятые,
от меня надобно?» — и получал в ответ: «Нет, Кокоша
(Григорьева зовут Николай Петрович), скажи, что тебе
было надобно?» И ответ сопровождался сатанинским
хохотом. Не имея почти никаких сведений в естествен¬
ных науках, почти не знакомый ни с целями, ни с сред-,,н
ствами тайных и мистических обществ и перед крепост-7/
ным заключением страдавший печенью, он окончатель¬
но погиб и помешался на сверхъестественном влиянии
тайных обществ. Жизнь его с этих пор стала постоян¬
ным сном, ум его работает только над воспроизведе¬
нием образов; для него не существует ни места, ни вре-
56
мени. Его рассказ, когда он говорил еще много, пере¬
носился из Испании в Палестину, оттуда в Шотлан¬
дию, в Крым, в Запорожскую Сечь, в Россию и сводил
вместе личности разных наций и племен: князей Теля-
тевских с какими-то шотландскими баронами, с Гирея-
ми, с Нарышкиными, с Робеспьером и, наконец, с со¬
вершенно не существовавшими никогда Малиновыми
Крулями, каким-то Петром Ивановичем и какою-то ба¬
бушкой, которая из дыры дует в медные трубы и за¬
ставляет его страдать. Все они резались, умирали, вос¬
кресали при содействии иезуитов, франкмасонов, там¬
плиеров и т. п. В первое время в ссылке ему помогали
еще слабительные и на него находили светлые минуты,
но сильное подозрение, которое он имел ко всему, что
ему давали, воображая, что это яд, заставило его на¬
конец с упорством и даже бешенством от всего отказы¬
ваться, и он погрузился, если еще живет, в непробуд¬
ный умственный сон.
Петрашевский был крепче его и выдержал: он не
верил ни во что сверхъестественное и понимал свое по¬
ложение. Раз в крепости, сидя в ванне и только при-
шедши в чувство, он говорил рыжему доктору по-ла¬
тыни: «Ты видишь, что я умучен, возврати мне своею
наукою здоровье и рассудок, он мне теперь всего нуж¬
нее». Но доктор, приложив руку к его голове, отвечал
как будто кому другому: «У него голова еще не очень
горяча». В бешенстве Петрашевский выломал дверь,
несколько времени был в сумасшедшей рубашке при¬
вязан к постели и, вероятно, несколько дней был в со¬
вершенном беспамятстве, потому что он не имел созна¬
ния, когда ему пускали кровь. <...> 26
IV
[ОБРЯД КАЗНИ]
Но вдруг, как будто опомнясь, прибавил полицей¬
ским тоном: «А разве вы имеете сказать что-нибудь
особенное?» — «Ничего,— отвечал Момбелли с презре¬
нием, — я так спросил». Вслед за тем Петрашевского,
Момбелли и Григорьева повели, привязали к столбам
и завязали глаза. «Момбелли, подымите ноги выше, —
сказал Петрашевский, — а то с насморком придете в
царство небесное». Между тем на эшафоте все стояли
очень прилично, у большей части была на лицах не¬
изъяснимо спокойная улыбка, только один Тимковский
67
пошел к священнику исповедоваться. Достоевский был
несколько восторжен, вспоминал «Последний день осуж¬
денного на смерть» Виктора Гюго и, подойдя к Спеш¬
неву, сказал: «Nous serons avec le Christ». — «Un peu
de poussiere» *, — отвечал тот с усмешкою. Через пять
минут отвязали жертвы от столбов и привели обратно
на эшафот. Объявили, что император дарует преступ¬
никам жизнь и заменяет казнь другими наказаниями.
«Кто просил?» — заметил раздражительный Дуров. Но
в То же время на правой стороне раздался один голос:
«Да здравствует император Николай!» Отзыва не было,
и как бы в извинение тот же голос продолжал: «Для
меня великодушие заразительно».
Все, как известно, были приговорены к смертной
казни за более или менее преступные намерения, кло¬
нившиеся к изменению общественного быта в России,—
и вдруг какая разница. Петрашевского ссылают без
срока на каторгу в рудники, а Пальма переводят тем
же чином в армию!
Тут же на эшафоте Петрашевского заковали в кан¬
далы, он протестовал (дворяне свободны от телесных
наказаний, в списке которых первыми помещены око¬
вы), но его не слушали**. Подана была повозка с жан¬
дармом и другая с фельдъегерским офицером. «Что при¬
кажете сказать вашей матушке?» — спросил у Петра¬
шевского жандармский штаб-офицер. «Скажите, что я
поехал путешествовать в Сибирь на казенный счет».
И затем, опершись одною рукою, несмотря на восьми¬
фунтовые (по закону должны быть 4’/2-фунтовые) кан¬
далы, перепрыгнул через сани и сел уже в них с дру¬
гой стороны. «Вишь, каналья, скачет!» — заметил жан¬
дармский штаб-офицер, официальный душеприказчик
Петрашевского. Но колокольчик зазвенел, и помчалась
первая тройка в Сибирь, пролагая путь другим. Она
долетела в десятый день до Тобольска.
Остальные тем же порядком были отвезены в кре¬
пость. Им позволили целый час видеться с родными,
потом с 23-го на 24 декабря по ночам стали отправлять
остальных по четыре и по трое, также скованных в тя¬
желых кандалах. «Ма tete a fait tort a mes pieds» *** •***,—
заметил кто-то из них.
* «Мы будем вместе с Христом». — «Горстью праха» (франц.).
Рукою Петрашевского добавлено: Петрашевский на эшафоте
объявил, что он подвергался пытке и будет требовать пересмотра
дела и что приговор юридически: недействителен.
•*** Моя голова повредила ногам (франц.).
58
Всем известны последствия этого дела. Цензура еде*,
далась невыносимо строга, философия и (о, верх безу¬
мия!) политическая экономия, верная поддержка status
quo *, были изгнаны из всех учебных заведений. В уни¬
верситетах ограничили число студентов и затруднили
доступ в них податным сословиям. Все, что было мыс¬
лящего, заключилось в раковину. Казалось, это была
последняя вспышка либерализма в России!.. Могуще¬
ственный властелин ее. торжествовал победу и над
внешними и над внутренними крамольниками. Но не
прошло десяти лет, как все призраки могущества ее
властелина исчезли. Тяжелый сон рабов прерван. Но¬
вый властелин видит, что без разумной свободы, без
науки — нет силы в государстве, и вся Россия зани¬
мается теми вопросами, за которые пострадали десять
лет тому назад так называемые злоумышленники. Двое
из них (Петрашевский и Львов) и теперь страдают eute
в Сибири от представителя самовластия и произвол ч,
великого либерала, графа Муравьева-Амурского27.
Существующему положению (лат.)’.
В. А. Энгельсон
ПЕТРАШЕВСКИЙ
Если Барбье, говоря о святой черни *, разу¬
мел величавую простоту, чистоту побуж¬
дений, смелость перед последствиями,
полное отсутствие коварства и всякой
задней мысли о личном тщеславии,— ка¬
чества, которые в наше время встречаются, к сожале¬
нию, только в простонародье и, как исключения, в дру¬
гих классах общества, — то Петрашевского можно без
всякого преувеличения считать святым. Парижский га-
мен, который идет умирать на баррикаду, не заботясь
о том, вспомнит ли кто-нибудь о нем после смерти, а
в случае победы забывает попросить себе должность
или орден, — таков европейский тип, к которому ближе
всего можно причислить Петрашевского. Он был «га-
меном» не по воспитанию и не по убеждению, — он был
им по призванию, по характеру. Гамеиом был он даже
по внешности: угловатая фигура, ниже среднего роста,
руки нервные, голова круглая, слегка склонявшаяся на¬
бок, нос маленький, но правильный; его темно-серые
глаза сверкали беспрестанно; его походка и все движе¬
ния отличались порывистостью; мечтательность, dolce
far niente* были для него невыносимы. Несмотря на со¬
вершенно искреннее желание хорошо одеваться, галстук
у него был надет всегда криво, но предметом особен¬
ной радости для посещавших его насмешников служил
его халат: со времени окончания гимназии и вплоть до
ареста он не мог обзавестись приличным, цельным ха¬
латом; один рукав был всегда оторван от плеча, так
* ничегонеделание (итал.).
60
что, одеваясь, Петрашевский надевал сперва халат без
этого рукава, а потом не без труда всовывал в свободный
рукав свою руку. В этом именно одеянии, хорошо из¬
вестном его друзьям, он был застигнут 23 апреля
(5 мая) 1849 г. в 4 часа утра генералом Дубельтом, ко¬
торый пришел его арестовать. «Будьте любезны,— ска¬
зал генерал, объявив свое звание, — одеться и ехать со
мной в III отделение собственной] е[го] императорско¬
го] в[еличества] канцелярии».—«Я готов»,—ответил Пет¬
рашевский. «Однако, — возразил генерал, удивленный,
что он, по-видимому, и не думал одеваться, —- неужели
вы думаете ехать в таком костюме?» — «Сейчас ночь,—
сказал Петрашевский, — а я в это время не привык
одеваться иначе». — «Так как вы не знаете, — возразил
Дубельт, — с кем вам придется говорить, то я советую
вам надеть более приличное платье». — «Ладно», — от¬
ветил дерзкий шалун и начал одеваться, а генерал стал
рассматривать книги, разбросанные по столу и по пол¬
кам. «Генерал, ради бога, не смотрите этих книг!» —
воскликнул Петрашевский. «Почему же?» — «Потому
что у меня, видите ли, есть только запрещенные сочи¬
нения; при одном взгляде на них вам станет дурно».—
«Почему же вы бережете такие книги?» — «Это дело
вкуса», — ответил Петрашевский, добродушно покачи¬
вая головой.
Он был крепкого здоровья, никогда не пил и курил
только в лицее, потому что там это было запрещено.
Познания его были разнообразны, выражения — остро¬
умны. Необходимость практической деятельности не
оставляла ему ни времени, ни спокойствия, нужного
для построения социальной системы; он даже не оста¬
новился определенно ни на одной из готовых социали¬
стических доктрин, хотя считал себя фурьеристом; он
занят был исключительно изысканием возможных
средств для низвержения современного управления в
России, а так как он полагал, что главной причиной по¬
рабощения русского народа были религиозные пред¬
ставления, то направил свою атаку главным образом
против религии. Что касается его идей о национально¬
сти, то мы можем цитировать собственные его слова,
напечатанные в энциклопедическом словаре, о котором
еще будем говорить.
«Всякий народ или нация, рассматриваемая с гу¬
манной точки зрения, является в тех же отношениях к
целому человечеству, как вид в отношении к роду, и
только постепенно развиваясь, т. е. утрачивая свои ин¬
61
дивидуальные, частные признаки или прирожденные
свойства, он может стать на высоту человечественного^
космополитического развития, тогда только может .на¬
стать для него время постижения общечеловеческих ин¬
тересов, тогда только развитие его жизненных сил будет
совершаться гармонически с требованиями целого че¬
ловечества. Тогда только может какой-либо народ вне¬
сти свою собственную лепту в сокровищницу человече¬
ских знаний, дать самодеятельный толчок общечелове¬
ческому развитию, когда будет им усвоена, вместится
в нем совершенно вся предшествовавшая образован¬
ность и будут поняты все интересы жившего до него
человечества и пережиты им все его страдания путем
собственного тяжелого опыта. В этом смысле Россию и
русских ждет высокая и великая будущность... Чем на
низшей степени своего нравственного, политического
или религиозного развития находится какой-либо на¬
род, чем менее способов к всестороннему и разнообраз¬
ному удовлетворению его потребностей представляет
ему развитие у него промышленности, чем менее нахо¬
дится он в дружественном общении с прочими народа¬
ми, чем предосудительнее и даже чем беззаконнее для
него кажутся сношения с чужестранцами, усвоение себе
их идей и форм их быта общественного,— тем резче бу¬
дет выказываться его национальность (овеществление
в нем общечеловеческого духа), тем резче будет он от¬
личаться от других народов, тем будет он национальнее
и уединеннее среди общения общечеловеческого, тем
более отпечатков дикости и варварства будет носить в
себе его национальность; и тем с большим фанатизмом
будет он ее держаться и даже будет бессознательно го¬
тов принесть в жертву благосостояние других народов
для торжества своей национальности, погубить плоды
тысячелетних трудов человечества, сравнять с землей
памятники наук и искусств и на развалинах их гордо
и самодовольно раскинуть свою кочевую палатку и рас¬
садить капусту...»
В интимной обстановке Петрашевский был весьма
мягкий и безмерно терпеливый человек. Всякое возра¬
жение со стороны порядочных людей, всякая критика,
как бы горька она ни была, принимались им и никогда
не возбуждали в нем никакой вражды. Никогда мысль
о своем превосходстве над окружающими не только не
проскальзывала в его словах, но даже не приходила
ему в голову; он был слишком поглощен своими проек-,
тами, чтобы заниматься собственной персоной.
62
Поступив 13-ти лет в Царскосельский лицей (учреж¬
дение, основанное в 1811 г. императором Александром
для воспитания государственных деятелей, совершенно
переделанное ныне Николаем; оно прославлено пребы¬
ванием Пушкина в числе его учеников), Петрашевский
с первых же месяцев выделился своими способностями
и усидчивостью в такой же степени, как и своими ша¬
лостями. В этом отношении он оставлял далеко за со¬
бой большинство своих товарищей, зараженных аристо¬
кратической спесью и нелепыми понятиями о приличии;
вот почему большинство их, и особенно немцы, прерва¬
ли с ним всякую товарищескую связь. Петрашевский
не мог понять золотой середины, столь свойственной не¬
мецкому характеру, и когда заходила речь о каком-ни¬
будь заговоре учеников для наказания надзирателя за
нахальство, он тотчас предлагал свои услуги даже
враждебным ему товарищам, брал на себя исполнение
мести и просил в качестве вознаграждения только тай¬
ну. Но затем обычно он переходил границы желаний
своих сообщников, которые после упрекали его в том,
что он навлек на всех них порицание за отступление от
царившего в лицее корпоративного духа.
Кончив в 1839 г. курс наук, он за свое непослуша¬
ние получил только самый последний из чинов, при¬
своенных лицеистам. Когда его позвали вместе с това¬
рищами для вручения им бумаг, Петрашевский пора¬
зил всех присутствовавших при этой церемонии, произ¬
неся речь (вещь, малоупотребительная в России), в
которой в самом серьезном тоне благодарил начальни¬
ков заведения за их попечения о воспитанниках и при¬
глашал своих товарищей предать отныне забвению их
школьные ссоры. Изумленное столь мудрой речью, ис¬
ходящей из уст Петрашевского, начальство публично
выразило свое сожаление, что до сих пор не сумело
оценить по справедливости воодушевлявшие его чув¬
ства. Настолько не поняли, что речь эта была фарсом,
который Петрашевский разыграл, чтобы смутить педа¬
гогов; до такой степени не заметили иронии в обращен¬
ных к начальству благодарностях, что литератор Бул¬
гарин, прославившийся своим раболепием перед прави¬
тельством, напечатал эту речь в «Северной пчеле», а
«Петербургские ведомости» перепечатали ее2.
Петрашевский поступил на службу в министерство
иностранных дел, сохраняя за собой право, присвоенное
воспитанникам лицея, — слушать в течение двух лет
лекции в Петербургском университете, продолжая счи¬
63
таться на действительной службе. По истечении двух
лет он блестяще выдержал экзамен в университете, что
подвинуло его по службе на два класса. В министер¬
стве он служил переводчиком в тех случаях, когда жив¬
шие в Петербурге иностранцы имели какие-либо столк¬
новения с полицией. Это поставило его в близкие от¬
ношения с чиновниками столичной полиции — презрен¬
ный класс людей, вид которых возбуждал отвращение
в петербуржцах, — но зато это же подало ему повод
вывести из затруднительного положения несколько бед¬
ных людей, попавших в когти полиции.
Его революционная деятельность началась еще в
университете. Там он начал общаться с молодыми
людьми, старался давать им запрещенные цензурой
книги и учил их в беседах. Интересно отметить, что со¬
чинением, которому Петрашевский приписывал наи¬
большую революционную силу, был старый и плохой
русский перевод французской книги, изданной в конце
прошлого столетия или в первых годах XIX в. одним
иезуитским аббатом, которого звали, если не ошиба¬
юсь, Баррюэль, под заглавием «Якобинцы и вольтерь¬
янцы»3. Эта книга, написанная с той неистовой яро¬
стью, которая свойственна духовным авторам, представ¬
ляет французскую революцию результатом обдуманно¬
го заговора, который давно был составлен главой фа¬
натиков Вейсгауптом4, Вольтером, Руссо, Робеспьером
и несколькими другими лицами. Автор до такой степе¬
ни увлек Петрашевского, что он наметил в своем воо¬
бражении, и довольно остроумно, план обширного за¬
говора. Поэтому Петрашевский рекомендовал эту кни¬
гу всем своим знакомым, полагая, что для всех, кто
знакомился с нею, как и для него, не существовало
больше вопроса о том, законна ли и желательна ли ре¬
волюция в России, а оставалось только найти средства
для ее выполнения. Вследствие такой манеры отно¬
ситься к настроению петербургских умов он сразу от¬
толкнул от себя многих молодых людей, которые охот¬
но либеральничали, желая считать себя вольнодумца¬
ми, но не размышляли серьезно о революции. В то же
время эта роковая иезуитская книга внушила самому
Петрашевскому, хотя он и не замечал этого, мысль,
что революция может быть делом нескольких отдель¬
ных лиц, без участия толпы, которую толкают на этот
путь сила событий, промахи правительства и распро¬
странение идей5. Поэтому он никогда не мог совершен¬
но отказаться от мысли организовать тайное общество,
64
чтобы нанести удар правительству. Нескольким его дру¬
зьям, державшимся противоположного взгляда, удалось
все-таки отвлечь его на некоторое время от этой идеи,
и до 1848 г. Петрашевский ограничивал свою револю¬
ционную деятельность привозом книг из-за границы с
помощью одного несчастного книгопродавца, которого
правительство стерло теперь с лица земли6, устной про¬
пагандой своих идей в собраниях, которые еженедель¬
но устраивались в его доме, и печатанием статей в эн¬
циклопедическом словаре.
Появление этой маленькой книги в России, класси¬
ческой стране цензуры, и под покровительством покой¬
ного великого князя Михаила, брата императора Нико¬
лая, которому посвящен этот труд, — факт удивитель¬
ный. Узнав, что некий Кирилов намерен издавать с чи¬
сто коммерческими целями «Карманный словарь ино¬
странных слов, вошедших в состав русского языка»,
Петрашевский пришел к нему и предложил себя в со¬
трудники, прося, и то только для того, чтобы не воз¬
будить подозрения, весьма умеренного вознаграждения.
Предприниматель, обрадовавшись столь выгодному
предложению, предоставил Петрашевскому объяснение
выбранных им слов. Петрашевский с жадностью схва¬
тился за случай распространить свои идеи при помощи
книги, на вид совершенно незначительной; он расширил
весь ее план, прибавив к обычным существительным
имена собственные, ввел своей властью в русский язык
такие иностранные слова, которых до тех пор никто не
употреблял, — все это для того, чтобы под разными за¬
головками изложить основания социалистических уче¬
ний, перечислить главные статьи конституции, предло¬
женной первым французским учредительным собрани¬
ем, сделать ядовитую критику современного состояния
России и указать заглавия некоторых сочинений таких
писателей, как Сен-Симон, Фурье, Гольбах, Кабе7, Луи
Блан и др. Основная идея Фейербаха относительно ре¬
лигии выражена без всяких околичностей в статье о
Натурализме. Петрашевский дошел до того, что цити¬
ровал по поводу слова Ода стихи Беранже.
Успели выйти (в 1845 г.) 8 только два выпуска сло¬
варя (до слова — Орден рыцарский) и продано было
лишь несколько сот экземпляров, как полиция аресто¬
вала все остальные, лежавшие в книжных лавках. Цен¬
зор (Крылов) был представлен в верховный цензурный
суд; я не знаю, какая судьба постигла его; это был
очень боязливый и робкий человек; он несколько раз
3
Зак. № 528
65
говорил Петрашевскому, что его статьи доводят его до
головокружения от панического страха, но Петрашев¬
ский уверял его, что он нигде не переступил границ,
указанных в тексте цензурного устава.
Поспешим сказать, что Петрашевский поступал со¬
вершенно добросовестно по отношению к цензору: он
сам искренно думал, что русское правительство хотело
помощью политики укрепить уважение к законности.
Он хорошо понимал, что, если бы правительство строго
исполняло законы, хотя бы им самим изданные, оно
компрометировало бы свой жизненный принцип —
принцип произвола, который, вследствие соучастия в
нем всех государственных чиновников, делает из уч¬
реждения административного коммерческую компанию,
имеющую целью эксплуатацию страны. Но Петрашев¬
ский полагал, что если к правительству подступить с
вопросом о законности, то у него не хватит бесстыд¬
ства сорвать с себя, по крайней мере официально, ма¬
ску ее. Он жалел, что в России нет людей, которые за¬
хотели бы поймать правительство на его пресловутом
уважении к законности, и попробовал сам сделать этот
опыт. С этой целью он вздумал открыть у себя адво¬
катскую контору и объявил об этом в петербургских
газетах; но так как у лиц, которые предлагали ему за¬
щиту своих дел, были только денежные тяжбы с част¬
ными лицами, то он отказался от частных дел и брал¬
ся за процессы с полицией и в суде только в тех слу¬
чаях, когда они лично его касались. Обладание двумя
домами в столице и имением в Петербургской губернии
доставляло ему много таких случаев. Так как в Рос¬
сии можно жаловаться на чиновника только его непо¬
средственному начальству и так как начальство это по
сложившемуся обычаю, хотя и противному тексту за¬
кона, не давало ходу таким жалобам, не объясняя
даже причин отказа, то Петрашевский, переходя от од¬
ной юридической инстанции к другой, вошел наконец в
Сенат с жалобами на начальника полиции и на петер¬
бургского генерал-губернатора и потребовал привлече¬
ния их к ответственности. Несмотря на иронический
смех, с которым принимались эти жалобы, как совер¬
шенно «неподходящие», необычные, Петрашевский на¬
стаивал на том, чтобы они получили движение, и про¬
сил разрешения, согласно закону, устно защищать свое
дело перед собранием сенаторов. Секретарь указал ему,
что закон, на котором он основывал это свое второе
требование, не будучи формально отменен, давно, од¬
66
нако, вышел из употребления и что по теперешним обы¬
чаям и привычкам Сената истцы дают свои объяснения
лишь письменно. Петрашевский не захотел уступить
ради самовольно введенного обычая право, установлен¬
ное в законе, и его жалобы никогда не достигали сво¬
его назначения.
В качестве землевладельца он имел совещательный
голос в собраниях петербургского дворянства, которое
созывается раз в три года для выборов предводителей,
судей и других должностных лиц, а также для распре¬
деления местных налогов. Здесь Петрашевский высту¬
пал поборником строгой законности и заставлял впи¬
сывать в протоколы заседаний свои протесты против
нарушений закона, на которые он напрасно указывал
членам собрания. В январе 1848 г. он распространил
между ними проект, составленный, по-видимому, с це¬
лью остановить все возраставшее падение цен на дво¬
рянские имения. В качестве главной меры он предла¬
гал разрешить купцам приобретать населенные имения,
с условием обращать крепостных, прикрепленных к об¬
щинным землям, во «временнообязанных крестьян» *;
он требовал, кроме того, образования ипотечных бан¬
ков9, основанных на принципе подвижности имений**,
* Указ от 2 апреля 1842 г„ который официальные писатели вос¬
хвалили как великую хартию освобождения русских крестьян, дает
право помещикам входить в соглашения со своими крепостными
и составлять договоры (одобренные и утвержденные государем),
устанавливающие те отношения, которые существуют теперь только
на деле между хозяевами и крепостными. Правительство заявило
помещикам, что раз права и взаимные обязанности выражены на
бумаге, то оно уже берет на себя заботу о точном исполнении
общинами их обязательств, «а ваши помещики, — говорило оно
крестьянам, — не смогут отныне увеличивать по своему желанию
ваши обязательства, и вы не будете больше называться крепост¬
ными, но крестьянами обязанными». Но так как перед глазами
крепостных всегда стояла судьба 20 миллионов] государственных
крестьян, еше более печальная, чем их собственная, и так как они
считали вмешательство правительства в их дела новым и неисчер¬
паемым источником беззаконий и насилий, то и не спешили вос¬
пользоваться правом, которое предлагало им отеческое правитель¬
ство, — узаконить договорами то, что они считали несправедливым,
и князь Меншиков мог с полным правом дать тому классу кресть¬
ян, который хотели создать, прозвище «крестьян обязанных»,
(Подстрочные примечания сделаны В. А. Энгельсоном. — Сост.).
** В настоящее время всякая недвижимость, заложенная в ка¬
честве ипотеки в каком-нибудь зависящем от правительства кре¬
дитном учреждении, не может стать ипотечной при малейшем сле¬
дующем долге, если даже ее ценность многим превосходит гаран¬
тируемый ею долг. Неудобства этой системы уже внушили князю
Любецкому, члену Государственного совета, мысль, которую он
67
взаимных страховых обществ и т. д. Собрание не при¬
няло этого весьма разумного проекта.
Вспыхивает февральская революция11. Известие об
этом произвело в Петербурге потрясающее впечатле¬
ние. Прекратились сейчас же все слухи, которые осо¬
бенно сильно распространялись с ноября 1847 г., о на¬
мерении царя провозгласить освобождение крестьян.
В мире официальном делались бесконечные упреки
Франции вообще и Луи-Филиппу12 в особенности —
«этой непризнанной бездарности», как говорили о нем
и приписывали это выражение Тьеру *, «которая долж¬
на была служить пробкой, удерживающей взрыв рево¬
люционного народа, и не сумела не полететь вверх».
Но скоро упреки сменились мрачным, безмолвным уны¬
нием; не знали, что сказать, когда прусский король во¬
друзил знамя единства в Германии, а Меттерних 14 по¬
следовал примеру Луи-Филиппа. Все были так заняты,
что даже великий князь Михаил, этот образец военного
педантизма, отказался выйти на смотр к войскам, ко¬
торые он велел привести для этого: он был погружен
в чтение газет. Я говорю «газет», потому что иных осг
ведомительных источников у правительства не было;
быстрота событий так смутила императорские посоль¬
ства, что они не знали, как составлять свои телеграм¬
мы, и не посылали их совсем. Смущение было так ве¬
лико, что для того, чтобы получить точные разъяснения
европейских дел, царь не стал больше обращаться к
Нессельроде15, а послал на место событий помощника
начальника тайной полиции, Сагтынского, того самого
старика с седыми волосами, который совершил круго¬
светное путешествие по Европе в июне этого года и по
возвращении которого в Петербург Карлье 16 оказался
сообщил царю, — образовать в России национальный банк, который
был бы, по примеру Польского банка, основан на принципе по¬
движности поместий. Граф Канкрин, тогдашний министр финансов,
противился этому проекту. «Несомненно, государь, — сказал он
самодержцу, — что торговля и даже казна будут процветать,
но через десять лет в[ашему] в[еличеству] не придется управлять
Россией, потому что она станет совсем другой страной». См. ин¬
тересную и добросовестную книгу, изданную недавно в Лейпциге
анонимным конституционалистом, под заглавием Russland und die
Gegeriwart [«Россия и современность» 10 (нел«.).].
* Позже Тьер13 дал тот же эпитет Наполеону III; поэтому
особенно любопытно, что такое же выражение известно было и
в России в применении к Луи-Филиппу.
68
кавалером русского ордена *. В кофейнях Излера и До¬
миника публика вырывала друг у друга газеты; соби¬
рались в группы и кто-нибудь громко читал известия,
потому что не хватало терпения ждать своей очереди.
Тому, кто знает угрюмую чопорность петербуржцев,
этот простой факт может показаться невероятным. Мо¬
лодежь, и особенно друзья Петрашевского, бросилась
в лихорадочную деятельность. Нельзя было оставаться
в границах обычного благоразумия. Почти на глазах
у царя, в четырех местах, были установлены периоди¬
ческие собрания. Надежды на то, что русские револю¬
ционеры не окажутся отвергнутыми революционерами
немецкими и французскими, укреплялись известиями о
дружественных отношениях Бакунина и Герцена с та¬
кими людьми, как Прудон. Еще до февраля «Система
экономических противоречий» Прудона продавалась от¬
крыто благодаря грубому невежеству полиции, и ее
изучали с жадностью, неведомою в странах, где отсут¬
ствие цензуры отнимает у революционных сочинений
всю сладость запретного плода. Один генерал-адъютант,
впавший в немилость, объявил себя во всеуслышание
последователем Прудона. Потом номера «Representant
du Peuple»18, который доставали контрабандой, выучи¬
вались буквально наизусть. Июньские газеты, правда,
огорчили петербургскую молодежь, но все же, прокли¬
ная Марраста, Кавеньяка и их товарищей, она не па¬
дала духом. Наоборот, Версальский и Буржский судеб¬
ные процессы довели умы до фанатизма; говорили не
столько о радости триумфа, сколько о благородстве
мучеников. Каждый завидовал высокой роли Бар-
беса 19.
Но уже в августе 1848 г. министр внутренних дел
получил уведомление о поведении Петрашевского. Он
поселил одного шпиона в качестве торговца табаком в
доме Петрашевского, чтобы войти в доверие его при¬
слуги, а другого, по фамилии Антонелли, официально
причисленного к министерству иностранных дел, обя¬
зали сообщать министерству о заседаниях общества.
Счастливый своим открытием, Перовский докладывает
о нем государю, но, может быть, вы думаете, что он
* Наградам, которые дает царь, можно действительно припи¬
сать своего рода тайную силу: едва прошло три месяца, как Карлье
был сделан придворным, и происходит скандал в лотерее золотых
слитков, причем газета, обыкновенно защищавшая Карлье, «Inde¬
pendance Beige» 17 делает даже намек на то, что дело это может
стоять в связи с отставкой, которую подал префект полиции.
09
шепнул об этом и своему коллеге по тайной полиции,
графу Орлову? Боже сохрани! Он потерял бы тогда
отличный случай доказать царю, что тайная полиция
состоит из ничтожеств. Перовский хочет оставить себе
одному честь спасения отечества. Поэтому гр[аф] Ор¬
лов в течение шести месяцев не знает об этом большом
деле; Перовский потирает себе руки и ухмыляется. К со¬
жалению, он не может велеть государю хранить тайну:
в минуту гнева государь, прежде чем его птицелов ус¬
пел протянуть все силки, сказал графу Орлову, что у
его ищеек нет нюха, что это — сопливые собаки. Оскорб¬
ленный в своем самолюбии, граф Орлов собирает све¬
дения и докладывает царю, что министр внутренних
дел, чтобы возвысить себя, наговорил его величеству
всякого вздора, что дело это совсем не так значитель¬
но, как его описывают, что не надо разукрашивать его,
особенно в глазах иностранцев, и, приняв некоторые
патриархальные меры против главных вождей, можно
прекратить дело без шума и скандала. Тогда Перов¬
ский, боясь, как бы столкновение мнений не выяснило
правду, как бы не нашли только зародыш заговора, да¬
леко не достигшего приписываемых ему размеров, и
опасаясь, что вследствие этого ему не будет дан в воз¬
награждение графский титул, упрашивает царя отсро¬
чить арест виновных. При этом он сказал царю (он сам
хвастался потом): «Государь, позвольте мне еще неко¬
торое время следить за поведением этих заговорщи¬
ков, и я обещаю доложить вашему величеству не толь¬
ко об их разговорах, но и о мечтах, грезящихся им во
сне». Но у государя хватило терпения только на 8 ме¬
сяцев; статья в «La Semaine»20, которая, обсуждая вен¬
герские дела, говорила, что скоро у царя будет много
своих хлопот, была каплей, переполнившей чашу. Царь
не внимал убеждениям Перовского и назначил набег в
ночь на 23 апреля (5 мая) 1849 г. Взаимное недоверие
между начальниками двух полиций было так сильно,
что каждый послал своего помощника. Со стороны гра¬
фа Орлова был генерал Дубельт, а со стороны Перов¬
ского— Липранди. Они вместе, в одной карете, при¬
ехали к дому Петрашевского, но так как в эту ночь на¬
деялись захватить собрание всех участников, то Лип¬
ранди решил предоставить своему военному коллеге
риск подняться в квартиру Петрашевского, а сам спря¬
тался в карете. Дубельт нашел Петрашевского в обще¬
стве одного друга, перед отходом ко сну. В начале этой
заметки мы уже рассказали, что произошло между
70
ними. Как только первые подсудимые, в числе 48, были
приведены утром в канцелярию графа Орлова, он имел
удовольствие убедиться собственными глазами в том,
что доклады Перовского были не вполне точны, по край¬
ней мере в смысле личной значительности заговорщи¬
ков. Среди обвиняемых, на которых падали самые тя¬
желые подозрения, был мальчик 14—15 лет21; жандар¬
мы разбудили его рано утром, и он мирно доканчивал
свой сон в зале канцелярии, пока его не разбудил вне¬
запно громкий голос графа Орлова: «Что заставило вас
устроить заговор, а?.. Вас слишком хорошо кормили,
сукины сыны, вы с жиру беситесь!» * Этот взрыв гнева
не был притворством знатного графа; он был искренен,
потому что видел перед собой молодых людей, при по¬
мощи которых министр внутренних дел чуть было не
подставил ему знатную подножку **.
Следственная комиссия работала уже три месяца,
не жалея пыток для заключенных; Липранди, назна¬
ченный в канцелярию самого графа Орлова, копался с
почти религиозным рвением в бумагах, взятых у подсу¬
димых; каждый день привозили новых арестованных из
Москвы, из провинции и даже из Сибири; и все-таки
трудно было доказать, что Перовский открыл заговор,
поставивший было государство на край гибели. Царь,
который никогда не имеет терпения дождаться конца
интересующих его процессов, следит обыкновенно за их
ходом и приказывает возобновить следствие, если ду¬
мает, что первое расследование не поведет по закону
к тяжелым наказаниям, почувствовал себя смущенным
при виде оборота, принимаемого делом Петрашевского;
он с грустью признается, что слишком поспешил с аре¬
стом подсудимых, и раскаивается, что не последовал
совету Перовского «дать заговору созреть и расширить¬
ся, чтобы можно было одним ударом вырвать все пле¬
велы из русской земли». Перовский торжествует: не
* Подумать только, что слова эти были произнесены челове¬
ком, родной брат которого (Михаил Орлов) участвовал в заговоре
14 декабря!
** Министр внутр[енпих] дел Перовский внушает большой страх
своим соперникам в соискании царских милостей, потому что его
считают человеком, который ловко умеет устраивать свои дела. Он
и его брат, генерал-адъютант Перовский (прославившийся своей
неудачной экспедицией в Хиву22),— незаконные дети графа Разу¬
мовского. Его законный сын был лишен наследства и заключен
в Спасо-Ефимьевский монастырь во Владимирской губ., под пред¬
логом неуважения к матери Перовских; его держали в монастыре
больше 15 лет. Говорят, что он сошел с ума,
71
удастся доказать, что он преувеличил опасность, а если
следы заговора потеряны, то в этом виноват не он. То¬
гда разгневанный царь в первых числах августа прика¬
зывает устроить новую облаву в Петербурге. «Пусть
посадят, — пишет он из одного летнего лагеря в след¬
ственную комиссию, — половину жителей столицы, но
пусть отыщут все нити заговора». И ночные аресты во¬
зобновились с новым неистовством.
Ярость, с которой полицейские агенты приступили к
домашним обыскам, заставляла думать, что правитель¬
ство боится не просто мирной пропаганды, а чего-то
другого. В некоторых домах стали ломать рояли и под¬
нимать половицы, чтобы найти бумаги и оружие. Груст¬
но признаться в этом, но жандармские нижние чины,
не получившие никакого воспитания, обращались гораз¬
до человечнее, чем высшие чины и адъютанты, на ко¬
торых был внешний лоск светских людей. В качестве
образца жестокости называют особенно некоего Ино¬
земцева, адъютанта при генерале Полозове23, молодого
человека, имеющего порядочный капитал и служащего
в полиции только ради чинов. Действительно ли обви¬
няемые имели в виду сделать покушение на жизнь го¬
сударя? Хорошо мы этого не знаем. Скажем только,
что в Петербурге ходили слухи, будто некоторые изних
решили заколоть царя кинжалами в ночь на 21 апреля
(3 мая) 1849 г. в публичном маскараде, который
устраивался в зале дворянского собрания, и будто в
этот вечер должна была быть лотерея, для чего они
приготовили уже и билеты, на которых написаны были
призывы к восстанию, — их они думали бросить в ко¬
лесо. План Петербурга, где указаны были места для
баррикад, был, говорят, найден у одного офицера; пе¬
редавали, что государь сказал коменданту Царского
Села: «Представь себе, эти чудовища хотели не только
убить меня, но и уничтожить всю мою семью». Если о
подобных проектах не упоминается в официальном от¬
чете, то это не доказывает, что их не было; царь, быть
может, боялся распространять слух о них, так как он
постоянно старается отдалять от народной мысли идею
покушения на его жизнь. Какой строгий выговор сде¬
лал он императрице за то, что, узнав о неудавшемся
покушении в Позене24, она приказала отслужить благо¬
дарственный молебен в петербургском Казанском со¬
боре; войскам и народу, присутствовавшему на этой ре¬
лигиозной церемонии, не сообщили ничего о причине, по
которой царица велела отслужить молебен, а после,
75
чтобы успокоить народное любопытство, распространи¬
ли слух, что он был по случаю большой победы, одер¬
жанной на Кавказе.
В сентябре комиссия окончила следствие по делу
Петрашевского. 23 человека были преданы чрезвычай¬
ному военному суду; остальные были выпущены из ка¬
зематов Петропавловской крепости, где провели пред¬
варительное заключение, и большая часть была сосла¬
на в «места не столь отдаленные», с обязательством
поступить на казенную службу «регистраторами» или
писцами. (Официальный доклад выражает это так: «Все
лица, признанные вовлеченными в преступные намере¬
ния другими либо случайно, либо по их легкомыслию,
были по высочайшему повелению освобождены от вся¬
кого дальнейшего законного преследования».) Что ка¬
сается 23-х, преданных суду, то все думали, что их при¬
говорят самое большее к отдаче в солдаты на Кавказ
или, в крайнем случае, к ссылке в Сибирь на поселе¬
ние. Таково было, по-видимому, и намерение судной ко¬
миссии под председательством генерала Перовского
(брата министра внутренних дел). Но государь, узнав
об этом, пришел в ярость: «Если суд будет столь мило¬
стив, то мне останется действительно, пользуясь пра¬
вом помилования, совершенно простить преступников!
Но разве судьи не знают, что подобное добродушие с
их стороны представляет собой захват права помилова¬
ния, которое является прерогативой монарха? Суд дол¬
жен применять закон во всей строгости, а это уж мое
дело обратить внимание на смягчающие обстоятель¬
ства!» Поэтому царь приказал возобновить процедуру
суда и судить на этот раз не по общему уголовному
своду, а по военным законам25. Суд приговорил всех
к расстрелу. Это решение проникло в публику лишь
23 декабря 1849 г. (4 января 1850 г.).
В этот день, когда утренний туман еще не успел рас¬
сеяться, войска большими колоннами выстроились на
Семеновском плацу. Они образовали параллелограмм
вокруг эшафота, состоявшего из подмостков, к которым
приделано было семь виселиц26. Вокруг войск, на ши¬
роком расстоянии, городовые образовали цепь, чтобы
удерживать народ, который стекался массами, желая
видеть даровое зрелище, преподносимое ему царем-ба¬
тюшкою. Около восьми часов показался ехавший бы¬
строй рысью кортеж, который открывался отрядом жан¬
дармов с обнаженными шашками; за ними следовала
двадцать одна карета, по одному осужденному в каж¬
73
дой *, под стражей двух солдат внутри и двух жандар¬
мов верхами, около дверцы; окна карет были закрыты
и замерзли, так что через них нельзя было видеть лица
заключенных; процессия замыкалась вторым отрядом
жандармов. Заключенные не знали, с какой целью за¬
ставляли их делать эту прогулку. Привезя на Семенов¬
ский плац, их поставили на эшафот и прочитали смерт¬
ный приговор, вынесенный судом; затем на них надели
саваны с капюшонами, падавшими на лицо, и постави¬
ли по тро(е к виселицам. Хрипло прозвучал рожок —
был сильный мороз; прокатилась барабанная дробь; из
рядов каждого батальона вышли солдаты с ружьями,
приблизились к осужденным и стали целиться. Воца¬
рилось гробовое молчание... Но отчего солдаты так дол¬
го не стреляют? Может быть, для того, чтобы продлить
у осужденных предсмертную тоску? Петрашевский, все¬
гда верный себе, приподнял капюшон, чтобы посмот¬
реть, что происходило вокруг.
Наконец становится известно, что все это было про¬
стым фарсом, декорацией, лишним парадом, устроен¬
ным его величеством. Генерал Ростовцев объявляет
приговоренным, что царь дарует им жизнь. Напраши¬
валась мысль, что из всех генералов был выбран имен¬
но этот для объявления милости потому, что он был
заикою. Солдаты возвращаются в строй, а преступни¬
кам читается указ, которым государь, по своей неизре¬
ченной доброте, заменяет смертную казнь для одних
каторжными работами в сибирских рудниках, для дру¬
гих — зачислением в дисциплинарные роты, для треть¬
их — отдачею в солдаты на Кавказ и киргизские гра¬
ницы.
Почему же царь не обошелся с этими людьми так
же, как с поляками? Это объясняют тем, что несколько
недель назад он узнал, что австрийское правительство
велело повесить всех венгерских офицеров, которые сда¬
лись Паскевичу, хотя Паскевич ходатайствовал за них
в Вене, а с мятежниками, которые сдались австрий¬
ским генералам, поступило менее строго; царь был
оскорблен этим, считая такой способ действий «неслы¬
ханным», и, в то время как гр. Толстой начал писать
свои «Донесения о действиях русской армии в Вен¬
* Из двух остальных обвиненных следственной комиссией один
был оправдан судом, — в официальном отчете мы увидим, что сде¬
лал государь; другой сошел с ума во время процесса ”.
74
грии»*, он сам захотел пристыдить венский кабинет
своим «милосердием» по отношению к заговорщикам.
Когда чтение акта о помиловании было кончено, на
Петрашевского надели костюм каторжника и кандалы.
Осматривая себя в этом одеянии, он сказал, улыбаясь:
«Ей-богу, как они умеют одевать людей! В таком ко¬
стюме делаешься противен сам себе!» Генерал Греч,
помощник командира, плюнул ему в лицо и восклик¬
нул: «Экий ты негодяй, сукин сын!» — «Сволочь, — от¬
ветил Петрашевский, у которого руки были уже зако¬
ваны, — хотел бы я видеть тебя на моем месте». Его
бросили в сани и повезли прямо в Сибирь, в свинцовые
рудники. Когда сани тронулись, какой-то неизвестный,
выйдя из толпы, снял с себя меховую шапку и шубу и
бросил их Петрашевскому. Генерал Греч умер вскоре
после этого.
Остальные двадцать были отвезены с Семеновского
плаца в Петропавловскую крепость, где они сидели во
время процесса. Их отъезд был назначен на следующий
день. Родственники думали, что им будет позволено,
как это делалось со времени приговора заговорщикам
14 декабря 1825 г., проститься с осужденными, и стол¬
пились около крепости. Но комендант Набоков объявил
им, что не может разрешить свиданий, не получив пред¬
варительно разрешения от государя. А как добиться
его? Обратились к графу Орлову, человеку, которого
Николай представлял неаполитанскому королю как
«своего близкого друга». Граф Орлов совершенно отка¬
зался передать государю просьбу несчастных родствен¬
ников. Попробовали просить императрицу ходатайство¬
вать за них перед царем—она тоже побоялась. Тогда,
в отчаянии, родственники бросились опять к генералу
Набокову. Наконец этот ворчун 1812 года, который за
свирепой солдатской и отталкивающей внешностью
скрывал не вполне извращенное и полное благочестия
сердце, решил осмелиться и, осенив себя крестным зна¬
мением, рискнул войти в кабинет царя. Он получил ми¬
лостивое разрешение дать родителям проститься с деть¬
* В «Independance Beige» (последние числа октября) сообщают
из Вены, что гр. Толстой приступает теперь ко второму изданию
этого сочинения и что предисловие будет раскаянием, которое
делает чесать правдивости автора. Он скажет там, что все, написан¬
ное им о недоверии австрийцев к русской армии, было заблужде¬
нием. Если бы можно было допустить, что гр. Толстой пишет сам
от себя, то его отпирательство могло бы служить примером для
шпионов, чтобы они осторожнее писали свои доносы 28.
75
ми. Но так как один из осужденных, лейтенант Мом¬
белли, после мучений, которые он претерпел во время
следствия, страдал от костоеды, а Набоков отправил
его в военный госпиталь прежде, чем сослать его при
морозе в 23° R в рудники, то, несмотря на орден, полу¬
ченный им за следствие, в котором он председатель¬
ствовал, государь сделал ему строгий выговор за такую
мягкость по отношению к государственному преступ¬
нику.
Министр внутренних] дел Перовский имел удоволь¬
ствие видеть 11 000 листов, заполненных протоколом
дела, и не менее 500 арестованных, из которых 22 были
наказаны публично, а вдвое большее число сослано без
суда29. За это он получил титул графа. Но помощнику
его, Липранди, досталась в награду только тысяча руб¬
лей. Он тяжко заболел; поднявшись же с одра болезни,
пришел в канцелярию министерства внутренних] дел и
грозил скоро представить новые и еще более неопро¬
вержимые доказательства слепоты полицейских агентов
графа Орлова. Можно поэтому надеяться, что полицей¬
ские графы не прекратили, а только приостановили
свой поединок на шпионах.
* * *
Р. S. Едва мы кончили эту статью, как газеты под¬
твердили наше предположение. «Кельнская газета» на¬
печатала следующее письмо, посланное ей с границ
Польши, от 20 октября: «Здесь ходят слухи, что в Пе¬
тербурге открыли новый заговор среди дворян и что
арестовано много влиятельных лиц, имеющих близкое
отношение ко двору. Заговор открыт будто бы гвардей¬
скими офицерами-черкесами. Их пробовали подкупить,
но они пошли и объявили обо всем государю. Подроб¬
ности еще неизвестны». (См. «La Republique» от 25 ок¬
тября.)
77. 77. Семенов-Тян-Шанский
МЕМУАРЫ
иколай Яковлевич Данилевский1, с ко¬
торым так тесно были сплетены мои
университетские годы, так как мы не
только жили вместе, но и делили меж¬
ду собою все свои занятия, был в выс¬
шей степени оригинальной и симпатичной личностью.
Сын бойкого и типичного гусара, часто переменявшего,
в особенности при командовании полком, а потом и в
генеральском чине, место своего жительства, Данилев¬
ский был отдан своим отцом в ранние годы в очень хо¬
роший пансион в Дерпте и оттуда уже поступил в Цар¬
скосельский лицей, где в своем классе был самым та¬
лантливым и самым разносторонне образованным из
лицейских воспитанников. После выпуска из лицея он
не удовольствовался полученным им образованием и
захотел дополнить его университетским. В университет¬
ские годы произошла в нем резкая перемена: из чело¬
века консервативного направления и набожного он бы¬
стро перешел в крайнего либерала сороковых годов,
причем увлекся социалистическими идеями, и в особен¬
ности теорией Фурье. Данилевский обладал огромной
эрудициею: перечитали мы с ним кроме книг, относив¬
шихся к нашей специальности — естествоведению, це¬
лую массу книг из области истории, социологии и по¬
литической экономии, между прочим все лучшие тогда
исторические сочинения о французской революции и
оригинальные изложения всех социалистических учений
(Фурье, С[ен-]Симона, Оуэна и т. д.) <...>
Во время моей совместной жизни с Данилевским,
после отъезда брата и дяди из Петербурга, круг на¬
шего знакомства значительно расширился, главным об¬
разом потому, что Данилевский, не имея никакого со¬
стояния, должен был обеспечивать свое существование
77
литературным трудом и писал обширные очень дельные
научные статьи в «Отечественных записках». Это ввело
его в знакомство не только с Краевским (редактором
их), но и со многими другими литературными деятелями
и критиками — Белинским и Валерьяном Майковым. Они
оценили необыкновенно логичный ум Данилевского, его
изумительную диалектику и обширную, разностороннюю
эрудицию. Таким образом, кружок даже наших близ¬
ких знакомых был во время посещения нами универси¬
тета не исключительно студенческий, а состоял из мо¬
лодой, уже закончившей высшее образование интелли¬
генции того времени. К нему принадлежали не только
некоторые молодые ученые, но и начинавшие литера¬
турную деятельность молодые литераторы, как,
например, лицейские товарищи Данилевского Сал¬
тыков (Щедрин) 2 и Мей, Ф. М. Достоевский, Дм. В. Гри¬
горович, Ал. Ник. Плещеев, Аполлон и Валерьян Май¬
ковы и др. Посещали мы друг друга не особенно ча¬
сто, но главным местом и временем нашего общения
были определенные дни (пятницы), в которые мы со¬
бирались у одного из лицейских товарищей брата и Да¬
нилевского— Михаила Васильевича Буташевича-Пет-
рашевского. Там мы и перезнакомились с кружком пе¬
тербургской интеллигентной молодежи того времени, в
среде которой я более других знал из пострадавших в
истории Петрашевского — Спешнева, двух Дебу, Ду¬
рова, Пальма, Кашкина и избегших их участи —
Д. В. Григоровича, А. М. Жемчужникова, двух Майко¬
вых, Е. И. Ламанского, Беклемишева3, двух Мордви¬
новых, Владимира Милютина 4, Панаева и др. Все эти
лица охотно посещали гостеприимного Петрашевского,
главным образом потому, что он имел собственный дом
и возможность устраивать подобные очень интересные
для нас вечера, хотя сам Петрашевский казался нам
крайне эксцентричным, если не сказать сумасбродным.
Как лицеист, он числился на службе, занимая долж¬
ность переводчика в министерстве иностранных дел;
единственная его обязанность состояла в том, что его
посылали в качестве переводчика при процессах ино¬
странцев, а еще более при составлении описей их вы¬
морочного имущества, особливо библиотек. Это послед¬
нее занятие было крайне на руку Петрашевскому: он
выбирал из этих библиотек все запрещенные иностран¬
ные книги, заменяя их разрешенными, а из запрещен¬
ных формировал свою библиотеку, которую дополнял
покупкою различных книг и предлагал к услугам всем
78
своим знакомым, не исключая даже и членов купече¬
ской и мещанской управ и городской думы, в которой
сам состоял гласным. Будучи крайним либералом и ра¬
дикалом того времени, атеистом, республиканцем и со¬
циалистом, он представлял замечательный тип прирож¬
денного агитатора: ему нравились именно пропаганда
и агитаторская деятельность, которую он старался про¬
явить во всех слоях общества. Он проповедовал, хотя
и очень несвязно и непоследовательно, какую-то смесь
антимонархических, даже революционных и социали¬
стических идей не только в кружках тогдашней интел¬
лигентной молодежи, но и между сословными избира¬
телями городской думы. Стремился он для целей про¬
паганды сделаться учителем и в военно-учебных заве¬
дениях, и на вопрос Ростовцева5, которому он предста¬
вился, какие предметы он может преподавать, он пред¬
ставил ему список одиннадцати предметов; когда же
его допустили к испытанию в одном из них, он начал
свою пробную лекцию словами: «На этот предмет мож¬
но смотреть с двадцати точек зрения» — и действитель¬
но изложил все 20, но в учителя принят не был. В ко¬
стюме своем он отличался крайней оригинальностью:
не говоря уже о строго преследовавшихся в то время
длинных волосах, усах и бороде, он ходил в какой-то
альмавиве испанского покроя и цилиндре с четырьмя
углами6, стараясь обратить на себя внимание публики,
которую он привлекал всячески, например пусканием
фейерверков, произнесением речей, раздачею книжек
и т. п., а потом вступал с нею в конфиденциальные раз¬
говоры. Один раз он пришел в Казанский собор пере¬
одетый в женское платье, стал между дамами и при¬
творился чинно молящимся, но его несколько разбой¬
ничья физиономия и черная борода, которую он не осо¬
бенно тщательно скрыл, обратили на него внимание со¬
седей, и когда наконец подошел к нему квартальный
надзиратель со словами: «Милостивая государыня, вы,
кажется, переодетый мужчина», он ответил ему: «Ми¬
лостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая
женщина». Квартальный смутился, а Петрашевский
воспользовался этим, чтобы исчезнуть в толпе, и уехал
домой.
Весь наш приятельский кружок, конечно не прини¬
мавший самого Петрашевского за сколько-нибудь серь¬
езного и основательного человека, посещал однако же
его по пятницам и при этом видел каждый раз, что у
него появлялись все новые лица. В пятницу на страст¬
79
ной неделе он выставлял на столе, на котором обыкно¬
венно была выставляема закуска, кулич, пасху, крас¬
ные яйца и т. п. На пятничных вечерах, кроме ожив¬
ленных разговоров, в которых в особенности молодые
писатели выливали свою душу, жалуясь на цензурные
притеснения, в то время страшно тяготевшие над ли¬
тературою, производились литературные чтения и уст¬
ные рефераты по самым разнообразным научным и ли¬
тературным предметам, разумеется, с тем либеральным
освещением, которое недоступно было тогда печатному
слову. Многие из нас ставили себе идеалом освобож¬
дение крестьян из крепостной зависимости, но эти
стремления оставались еще в пределах несбыточных
мечтаний и были более серьезно обсуждаемы только в
тесном кружке, когда впоследствии до него дошла че¬
рез одного из его посетителей прочитанная в одном из
частных собраний кружка и составлявшая в то время
государственную тайну записка сотрудника министра
государственных имуществ Киселева, А. П. Заблоцкого-
Десятовского, по возбужденному императором Никола¬
ем I вопросу об освобождении крестьян7.
Н. Я. Данилевский читал целый ряд рефератов о
социализме и в особенности о фурьеризме, которым он
чрезвычайно увлекался, и развивал свои идеи с необык¬
новенно увлекательной логикою. Достоевский читал от¬
рывки из своих повестей «Бедные люди» и «Неточна
Незванова» и высказывался страстно против злоупот¬
реблений помещиками крепостным правом. Обсуждал¬
ся вопрос о борьбе с ненавистной всем цензурою, и
Петрашевский предложил в виде пробного камня один
опыт, за выполнение которого принялись многие из его
кружка. Они предприняли издание под заглавием «Сло¬
варь иностранных слов, вошедших в употребление в
русский язык», и на каждое из таких слов писались ча¬
сто невозможные с точки зрения тогдашней цензуры
статьи. Цензировали этот лексикон, выходивший не¬
большими выпусками, разные цензора, а потому, если
один цензор не пропускал статью, то она переносилась
почти целиком под другое слово и шла к другому цен¬
зору и таким образом протискивалась через цензуру,
хотя бы и с некоторыми урезками; притом же Петра¬
шевский, который сам держал корректуру статей, по¬
сылаемых цензору, ухитрялся расставлять знаки пре¬
пинания так, что после получения рукописи, пропущен¬
ной цензором, он достигал, при помощи перестановки
этих знаков и изменения нескольких букв, совершенно
80
другого смысла фраз, уже пропущенных цензурою. Ос¬
нователем и первоначальным редактором лексикона
был офицер, воспитатель одного из военно-учебных за¬
ведений Н. С. Кирилов, человек совершенно благона¬
меренный с точки зрения цензурного управления и со¬
вершенно не соображавший того, во что превратилось
перешедшее в руки Петрашевского его издание, посвя¬
щенное великому князю Михаилу Павловичу.
Петрашевскому было в то время 27 лет. Почти ро¬
весником ему был Н. А. Спешнев, очень выдающийся
по своим способностям, впоследствии приговоренный к
смертной казни. Н. А. Спешнев отличался замечатель¬
ной мужественной красотою. С него прямо можно было
рисовать этюд головы и фигуры спасителя. Замеча¬
тельно образованный, культурный и начитанный, он
воспитывался в лицее, принадлежал к очень зажиточ¬
ной дворянской семье и был сам крупным помещиком.
Романическое происшествие в его жизни заставило его
провести несколько лет во Франции в начале и сере¬
дине сороковых годов8. Когда ему был 21 год, он го¬
стил в деревне у своего приятеля, богатого помещи¬
ка С., и влюбился в его молодую и красивую жену. Вза¬
имная страсть молодых людей начала принимать серь¬
езный оборот, и тогда Спешнев решил покинуть внезап¬
но дом С-х, оставив предмету своей страсти письмо,
объясняющее причины его неожиданного отъезда. Но
г-жа С. приняла не менее внезапное решение: пользуясь
временным отсутствием своего мужа, она уехала из сво¬
его имения, разыскала Спешнева и отдалась ему
навсегда... Уехали они за границу без паспортов и про¬
жили несколько лет во Франции, до той поры, пока
молодая и страстная беглянка не умерла, окруженная
трогательными попечениями своего верного любов¬
ника.
Эта жизненная драма наложила на Спешнева не¬
изгладимый отпечаток: Спешнев обрек себя на служе¬
ние гуманитарным идеям. Всегда серьезный и задумчи¬
вый, он поехал после этого прежде всего в свое име¬
ние, где приложил заботы к улучшению быта своих кре¬
стьян, но скоро убедился, что главным средством к та¬
кому улучшению может служить только освобождение
их от крепостной зависимости к что такая крупная ре¬
форма может осуществиться не иначе, как по инициа¬
тиве верховной власти.
Шестилетнее пребывание во Франции выработало из
него типичного либерала сороковых годов: освобожде¬
81
ние крестьян и народное представительство сделались
его идеалами. Обладая прекрасным знанием европей¬
ских языков и обширною эрудицией, он уже во время
своего пребывания во Франции увлекался не только
произведениями Жорж Санд и Беранже, философски¬
ми учениями Огюста Конта, но и социалистическими
теориями С[ен-]Симона, Оуэна и Фурье; однако, сочув¬
ствуя им как гуманист, Спешнев считал их неосуще¬
ствимыми утопиями. Получив амнистию за свой бес¬
паспортный побег за границу, он прибыл в Петербург
и, найдя в кружке Петрашевского много лиц, с которы¬
ми сходился во взглядах и идеалах, сделался одним из
самых выдающихся деятелей этого кружка. Будучи
убежден, что для восприятия идеи освобождения кре¬
стьян и народного представительства необходимо под¬
готовить русское общество путем печатного слова, он
возмущался цензурным его притеснением и первый за¬
думал основать свободный заграничный журнал на рус¬
ском языке, не заботясь о том, как он попадет в Рос¬
сию. Спешнев непременно бы осуществил это предприя¬
тие, если бы не попал в группу лиц, осужденных за го¬
сударственное преступление.
Пробыв 6 лет в каторге и потеряв свое имение, пе¬
решедшее при лишении его всех прав состояния к его
сестре, Спешнев был помилован с возвращением ему
прав состояния только при вступлении на престол им¬
ператора Александра II. Верный своим идеалам, он е
восторгом следил за делом освобождения крестьян и
после 19 февраля 1861 года сделался одним из лучших
мировых посредников первого призыва®. В этом звании
я видел его в 1863 году, в первый раз после его осуж¬
дения: он казался, несмотря на то что был еще в цвете
лет (ему было 42 года), глубоким, хотя все еще вели¬
чественным, старцем.
Выдающимися лицами в кружке были братья Дебу,
из которых старший, Константин, был начальником от¬
деления в Азиатском департаменте министерства ино¬
странных дел. В противоположность Спешневу, они не
имели корней в земле, а принадлежали к столичной
бюрократической интеллигенции. Оба Дебу окончили
курс университета и в 1848 году уже занимали адми¬
нистративные должности в министерстве иностранных
дел. Как и многие либеральные чиновники того време¬
ни, хорошо образованные и начитанные, они отдались
изучению экономических и политических наук и поста¬
вили себе идеалом отмену крепостного права и введе¬
82
ние конституционного правления. Но о революционном
способе достижения этих идеалов оба Дебу и не дума¬
ли. Они примкнули к кружку Петрашевского потому,
что встретили в нем много людей, сочувствовавших их
идеалам, и живой обмен мыслями с людьми, гораздо
лучше их знающими быт русского народа. Старший
Дебу слишком хорошо изучил историю французской
революции, а с другой стороны — имел уже слишком
большую административную опытность, чтобы не знать,
что в то время в России революции произойти было не¬
откуда. Столичной интеллигенции предъявлять какие бы
то ни было желания, а тем более требования, было бы
напрасно и даже безумно, а народ, порабощенный тою
же, но земскою интеллигенцией, был связан по рукам и
ногам крепостным правом.
При всем том движение, происходившее в конце со¬
роковых годов во всей Европе, находило себе отголо¬
сок и встречало сочувствие именно в столичной интел¬
лигенции не только Петербурга, но и Москвы, и ее на¬
строение тогда выразилось очень определенно в следу¬
ющих стихах И. Аксакова:
Вставала Венгрия, Славянские народы...
Все оживало, шло вперед:
Тогда мы слушали с восторженным вниманьем
Далекий шум святой борьбы,
Дрожала наша грудь тревожным ожиданьем
Перед решением судьбы.
Мы братьев видели в защитниках свободы,
Мы не могли их не любить...
Могучий дух тогда воспламенял народы!
И нас он мог ли не пленить? 10
Но подобные братьям Дебу либеральные интелли¬
гентные бюрократы того времени (а их было много)
только прислушивались с восторженным вниманием к
далекому шуму борьбы за свободу, а сами никакой
борьбы не затевали и революционерами не были, огра¬
ничиваясь борьбою за некоторую свободу печатного
слова.
Самым оригинальным и своеобразным из группы
осужденных был Ф. М. Достоевский, великий русский
писатель-художник.
Данилевский и я познакомились с двумя Достоев¬
скими в то время, когда Федор Михайлович сразу во¬
шел в большую славу своим романом «Бедные люди»,
но уже рассорился с Белинским и Тургеневым, совер¬
шенно оставил их литературный кружок и стал посе¬
83
щать чаще кружки Петрашевского и Дурова. В это
время Достоевский по обыкновению боролся с нуждою.
Успех «Бедных людей» сначала доставил ему некото¬
рые материальные выгоды, но затем принес ему в ма¬
териальном же отношении более вреда, чем пользы, по¬
тому что возбудил в нем неосуществимые ожидания и
вызвал в дальнейшем нерасчетливые затраты денег.
Неуспех следующих его произведений, как, напр[имер],
«Двойник», над которым он так много работал, и «Хо¬
зяйка», от которой так много ожидал, привел его к за¬
ключению, что слава, по выражению Пушкина, только
яркая заплата
На ветхом рубище певца 11
Биография Достоевского прекрасно разработана, но
с двумя выводами некоторых его биографов я никак не
могу согласиться. Первое — это то, что Достоевский
будто бы был очень начитанный, но необразованный
человек. Мы знали близко Достоевского в 1846—
1849 гг., когда он часто приходил к нам и вел продол¬
жительные разговоры с Данилевским. Я утверждаю
вместе с О. Ф. Миллером, что Достоевский был не
только начитанным, но и образованным человеком.
В детские годы он имел прекрасную подготовку от сво¬
его научно образованного отца, московского военного
медика. Ф. М. Достоевский знал французский и немец¬
кий языки достаточно для того, чтобы понимать до
точности все прочитанное на этих языках. Отец обучал
его даже латинскому языку. Вообще воспитание Ф. М.
велось правильно и систематично до поступления его
в шестнадцатилетнем возрасте в высшее учебное заве¬
дение— Инженерное училище, в котором он также си¬
стематически изучал с полным успехом кроме общеоб¬
разовательных предметов высшую математику, физику,
механику и технические предметы, относящиеся до ин¬
женерного искусства. Он окончил курс в 1843 году, два¬
дцати двух лет от роду. Таким образом, это было хотя
и специальное, но высшее и систематическое образова¬
ние, которому широким дополнением служила его на¬
читанность. Если принять в соображение, что он с дет¬
ских лет читал и много раз перечитывал всех русских
поэтов и беллетристов, а историю Карамзина знал по¬
чти наизусть, что, изучая с большим интересом фран¬
цузских и немецких писателей, он увлекался в особен¬
ности Шиллером, Гете, Виктором Гюго, Ламартином,
Беранже, Жорж Сандом, перечитал много французских
84
исторических сочинений, в том числе и историю фран¬
цузской революции Тьера, Минье и Луи Блана и Cours
de philosophie positive* Огюста Конта, что читал и со¬
циалистические сочинения С[ен-]Симона и Фурье, то
нельзя было не признать Ф. М. Достоевского челове¬
ком образованным. Во всяком случае он был образо¬
ваннее многих русских литераторов своего времени, как,
например, Некрасова, Панаева, Григоровича, Плещеева
и даже самого Гоголя.
Но всего менее я могу согласиться с мнением био¬
графов, что Ф. М. Достоевский был «истерически нерв¬
ным сыном города». Истерически нервным он действи¬
тельно был, но был им от рождения и остался бы та¬
ким, если бы даже никогда не выезжал из деревни, в
которой пробыл лучшие годы своего детства.
В эти-то годы он был ближе к крестьянам, их быту
и всему нравственному облику русского народа, чем не
только интеллигентные и либеральные столичные бю¬
рократы, никогда не бывавшие в деревне в свои дет¬
ские и юношеские годы, но даже, может быть, и мно¬
гие из зажиточных столичных столбовых русских дво¬
рян, например гр[аф] Алексей Толстой, граф Соллогуб и
даже Тургенев (последний ближе познакомился с де¬
ревнею уже в более поздний период своей жизни, во
время своих охотничьих экскурсий), которых родители
намеренно держали вдали от всякого общения с кре¬
стьянами.
Стоит вспомнить показания Андрея Михайловича
Достоевского о детстве его брата, слышанное нами со¬
знание самого Ф. М. Достоевского о том, что деревня
оставила на всю его жизнь неизгладимые впечатления,
и его собственные рассказы о крестьянине Марее и
страстные сообщения на вечерах Петрашевского о том,
что делают помещики со своими крестьянами, его идеа¬
листическое отношение к освобождению крестьян с зем¬
лею и, наконец, его глубокую веру в русский народ,
разумея под таковым сельское население—крестьян,
чтобы убедиться в том, что Ф. М. Достоевский был сы¬
ном деревни, а не города.
Особенностью высокохудожественного творчества
Ф. М. Достоевского было то, что он мог изображать,
притом с необыкновенной силою, только тех людей, с
которыми освоился так, как будто бы влез в их кожу,
проник в их душу, страдал их страданиями, радовался
* Курс позитивной философии (франц.).
85
их радостями. Таким он был, когда еще в детские годы
привез жбан воды жаждущему ребенку и когда помо¬
гал крестьянам в их работах. Когда же он впервые пи¬
сал свой роман «Бедные люди», то у него случайно не
было под рукою другого объекта для его творчества,
кроме «городского разночинца-пролетария».
Но сам Достоевский не был ни разночинцем, ни
пролетарием. Он чувствовал себя дворянином даже и
на каторге, и не с действительной нуждою он боролся,
а с несоответствием своих средств, даже не с действи¬
тельными потребностями, а нередко с психопатически¬
ми запросами его болезненной воли; вот хотя бы, на¬
пример, его запросы отцу на лагерные расходы. Я жил
в одном с ним лагере, в такой же полотняной палатке,
отстоявшей от палатки, в которой он находился (мы
тогда еще не были знакомы), всего только в двадцати
саженях расстояния, и обходился без своего чая (ка¬
зенный давали у нас по утрам и вечерам, а в Инженер¬
ном училище один раз в день), без собственных сапог,
довольствуясь казенными, и без сундука для книг, хотя
я читал их не менее, чем Ф. М. Достоевский. Стало
быть, все это было не действительной потребностью, а
делалось просто для того, чтобы не отстать от других
товарищей, у которых были и свой чай, и свои сапоги,
и свой сундук. В нашем более богатом, аристократиче¬
ском заведении мои товарищи тратили в среднем руб¬
лей триста на лагерь, а были и такие, которых траты
доходили до 3000 рублей, мне же присылали, и то не¬
аккуратно, 10 рублей на лагерь, и я не тяготился без¬
денежьем.
По окончании Инженерного училища, до выхода
своего в отставку, Достоевский получал жалованье и
от опекуна, всего 5000 руб. ассигнациями, а я получал
после окончания курса в военно-учебном заведении и
во время слушания лекций в университете всего
1000 рублей ассигнациями] в год.
Только в первый год после выхода в отставку
(1844 г.) и до успеха его «Бедных людей» Достоевский
мог быть в действительной нужде, потому что уже не
имел ничего, кроме своего литературного заработка.
Н. Я. Данилевский, не имея ничего и ничего ниоткуда
не получая, жил таким же заработком с 1841-го по
1849 год и не был в нужде, хотя тот же Краевский
оплачивал его статьи меньшей платою, чем беллетри¬
стические произведения Достоевского. Но хроническая,
относительная нужда Достоевского не прекращалась и
86
после того, как он в 1845 году вошел сразу в большую
славу: когда мы с ним сблизились, он жил «предвосхи¬
щением вещественных получений», а с действительной
нуждою познакомился разве только после выхода из
каторги, с 1854 года. По возвращении в 1859 году из
ссылки Достоевский вошел уже окончательно в свою
столь заслуженную славу, и хотя все еще нуждался в
средствах, но не был, однако, и не мог быть пролета¬
рием.
О том, какое несомненное влияние имело на Досто¬
евского его пребывание на каторге, я буду говорить в
другом месте. Здесь же могу сказать только то, что ре¬
волюционером Достоевский никогда не был и не мог
быть, но, как человек чувства, мог увлекаться чувства¬
ми негодования и даже злобою при виде насилия, со¬
вершаемого над униженными и оскорбленными, что и
случилось, например, когда он увидел или узнал, как
был прогнан сквозь строй фельдфебель Финляндского
полка. Только в минуты таких порывов Достоевский
был способен выйти на площадь с красным знаменем,
о чем, впрочем, почти никто из кружка Петрашевского
и не помышлял.
Помоложе Достоевского был уже составивший себе
имя как лирический поэт Алексей Николаевич Плещеев.
Он был блондин, приятной наружности, но «бледен
был лик его туманный»... Столь же туманно было и
направление этого идеалиста в душе, человека доброго
и мягкого характера. Он сочувствовал всему, что каза¬
лось ему гуманным и высоким, но определенных тен¬
денций у него не было, а примкнул он к кружку пото¬
му, что видел в нем более идеалистические, чем прак¬
тические, стремления. В кружке Петрашевского он по¬
лучил прозвание Andre Chenier 12.
Младший из всех осужденных был Кашкин, лицеист
XV курса, только что окончивший Царскосельский ли¬
цей и до того получивший прекрасное домашнее обра¬
зование, так как принадлежал к зажиточной дворян¬
ской семье, владевшей значительными поместьями.
Кашкин был в высшей степени симпатичный молодой
человек с очень гуманными воззрениями. Одним из
главных идеалов жизни он ставил себе освобождение
крестьян. Верный этому идеалу, он, так же как Спеш¬
нев, после 1861 года сделался мировым посредником
первого призыва.
Григорьев, Момбелли, Львов и Пальм были офице¬
ры гвардейских полков.
87
Три первые отличались своей- серьезной любозна¬
тельностью. Они перечитали- множество сочинений, со
бранных Петрашевским в его «библиотеке запрещен¬
ных книг», которой он хотел придать общественный ха¬
рактер и сделать доступною. Он радовался присутствию
в своем кружке офицеров и возлагал надежду на их
пропаганду не между нижними чинами, о чем никто и
не думал, кроме разве автора, впрочем очень умерен¬
ной, «Солдатской беседы» Григорьева, а между своими
товарищами, которые принадлежали к лучшим в Рос¬
сии дворянским фамилиям.
Четвертый из гвардейских офицеров — Пальм, чело¬
век поверхностный и добродушный, примкнул к круж¬
ку по юношескому увлечению, безо всякой определен¬
ной цели.
Из группы осужденных кроме Петрашевского разве
только одного Дурова 13 можно было считать до неко¬
торой степени революционером, т. е. человеком, желав¬
шим провести либеральные реформы путем насилия.
Однако между Петрашевским и Дуровым была суще¬
ственная разница. Первый был революционером по
призванию; для него революция не была средством к
достижению каких бы то ни было определенных ре¬
зультатов, а целью-, ему нравилась деятельность агита¬
тора, он стремился к революции для революции. На¬
оборот, для Дурова революция, по-видимому, казалась
средством не для достижения определенных целей, а
для сокрушения существующего порядка и для личного
достижения какого-нибудь выдающегося положения во
вновь возникшем. Для него это тем более было необ¬
ходимо, что он уже разорвал свои семейные и обще¬
ственные связи рядом безнравственных поступков и мог
ожидать реабилитации только от революционной дея¬
тельности, которую он начал образованием особого
кружка (дуровцев), нераздельного, но и не слившегося
с кружком Петрашевского14. Известно, что, когда Ду¬
ров и Достоевский очутились на каторге в одном «мерт¬
вом доме», они оба пришли к заключению, что в их
убеждениях и идеалах нет ничего общего и что они
могли попасть в одно место заточения по фатальному
недоразумению 15.
Из лиц, близких кружку Петрашевского (я повто¬
ряю — к кружку, — потому что организованного, хотя
бы и тайного общества в этом случае никогда не было),
не внесены были следственной комиссиею в группу
осуждаемых еще двое только потому, что они окончи-
88
ли свою жизнь как раз в то время, когда следственная
комиссия только что приступала к своим занятиям. Это
были: Валерьян Николаевич Майков, принимавший са¬
мое деятельное и талантливое участие в издаваемом
кружком Петрашевского словаре Кирилова и умерший
летом 1847 года от удара в купальне, и Виссарион Гри¬
горьевич Белинский (скончавшийся весною 1848 г.),
пользовавшийся высоким уважением во всех кружках
сороковых годов (где не пропущенные цензурою его со¬
чинения читались с такой жадностью, что член одного
из кружков был даже присужден к смертной казни за
распространение письма Белинского к Гоголю). Осталь¬
ные же посетители кружка ускользнули от внимания
следствия только потому, что не произносили никаких
речей на собраниях, а в свои научные статьи и лите¬
ратурные произведения не вводили ничего слишком
тенденциозного или антицензурного, кроме, может
быть, Михаила Евграфовича Салтыкова, который, к
своему счастию, попал под цензурно-административные
преследования ранее начала арестов и был сослан ад¬
министративным порядком в Вятку ранней весною
1848 года.
Уже в конце апреля 1849 года быстро разнесся меж¬
ду нами слух об аресте Петрашевского и многих лиц,
его посещавших, об обыске их квартир, об обвинении
их в государственном преступлении. Мы в особенности
были огорчены арестом Спешнева, Достоевского, Пле¬
щеева и Кашкина, так же как и некоторых лиц, впо¬
следствии освобожденных, как, например, Беклемише¬
ва, молодая жена которого сильно заболела и, сколько
мне помнится, умерла от испуга, а также Владимира
Милютина, при обыске квартиры которого была взята
секретная записка, представлявшая отчет министру го¬
сударственных имуществ графу Киселеву, А. П. Заблоц-
кого-Десятовского по секретной командировке для ис¬
следования отношений помещиков к крепостным в раз¬
ных частях России. Записка эта была первым весьма
смелым обвинительным актом против крепостного пра¬
ва в России, и чтение ее произвело сильное впечатле¬
ние в кружках, стремившихся к освобождению кре¬
стьян. Из Милютиных только один Владимир часто по¬
сещал кружок Петрашевского. Братья его, будучи род¬
ными племянниками графа Киселева, очень опасались,
чтобы нахождение в кружке Петрашевского записки
Заблоцкого не послужило к аресту многих лиц, тем бо¬
лее что записка эта не была известна императору Ни-
89
колаю I, которому Киселев не решился представить ее,
так как заметил в государе с 1848 года сильное охлаж¬
дение стремлений освободить крестьян из крепостной
зависимости. На семейном совете Милютиных решено
было постараться получить как-нибудь записку обрат¬
но, для того чтобы она не попала в руки следственной
комиссии. Поручение это было возложено на самого
осторожного и осмотрительного из семейства, Дмитрия
Алексеевича (впоследствии графа и фельдмаршала) 16.
Милютин, бывший тогда полковником Главного штаба,
отправился к очень уважавшему графа Киселева князю
Александру Федоровичу Голицыну, бывшему статс-сек¬
ретарем комиссии принятия прошений и назначенному
самим государем членом следственной комиссии. К сча¬
стью, князь Александр Федорович был страстный лю¬
битель редких манускриптов. На предложенный
Д. А. Милютиным в самой деликатной форме вопрос о
том, не встретился ли князю в делах следственной ко¬
миссии манускрипт записки Заблоцкого о положении
в разных губерниях России крепостных крестьян,
кн[язь] А. Ф. Голицын не ответил ни слова, но пригла¬
сил Милютина в свою спальню и, открыв потайной
шкаф, показал ему лежавший в одном из ящиков шка¬
фа манускрипт со словами: «Читал я один. Пока я
жив — никуда отсюда не выйдет».
Возвращаюсь к нашему путешествию. Данилевский
замедлял наш отъезд, ожидая, что и у нас будет про¬
изведен обыск, а так как у нас никогда решительно ни¬
чего запрещенного не было, то мы были уверены в том,
что дело кончится ничем и мы арестованы не будем.
Однако же аресты и обыски кончились, и к нам не при¬
ходил никто. Тогда мы тронулись в путь в исходе мая.
Проехав через Москву, мы прежде всего заехали в Под¬
осинки к сестре, проехали оттуда на границу чернозем¬
ного пространства, следуя по ней через Рязанскую и
Тульскую губернии. <...>
Первый наш привал там был на берегах реки Кра¬
сивой Мечи, вдоль которой мы предприняли экскурсию,
продолжавшуюся до вечера; начинало уже темнеть, ко¬
гда мы возвращались на постоялый двор со своей на¬
учной добычею; из этого постоялого двора вышел к нам
навстречу офицер в шинели, из-под которой был ви¬
ден его форменный сюртук голубого цвета. Это был
жандармский полковник Назимов, брат генерал-адъю¬
танта, а впоследствии генерал-губернатора Северо-За¬
падного края. Так как я шел шагов на десять впереди
ео
Данилевского, то Назимов обратился ко мне с вопро¬
сом, не Данилевский ли я. Я ответил, что моя фамилия
Семенов, а что Данилевский — фамилия моего спутни¬
ка. Назимов пригласил нас обоих на постоялый двор и
тут, с глазу на глаз предъявив высочайшее повеление
об аресте магистранта Спб. университета Николая Яков¬
левича Данилевского, объяснил, что обязан отвезти его
немедленно в Петербург по делу Петрашевского. Вме¬
сте с тем он отобрал все бумаги, которые были при нас,
и не только наш готовый отчет Вольно-экономическому
обществу, но даже и черновик его. Все это пропало
впоследствии бесследно. Оказалось, что Назимов, ис¬
полняя свое поручение, приехал сначала в имение мо¬
его дяди Подосинки, где его появление страшно напу¬
гало всю нашу семью, а затем, по указанию дяди, ко¬
торому Назимов, впрочем, объяснил откровенно, что его
дело касается не меня, а только Данилевского, напра¬
вился в Русский Брод (Ливенского уезда), но приехал
уже на другой день после нашего отъезда. Конечно,
появление жандармского полковника для розыска Да¬
нилевского было страшным ударом для Веры Никола¬
евны Беклемишевой 17, Узнав от нее о принятом нами
направлении, Назимов догнал нас на Красивой Мече.
По аресте Данилевского я решился прежде всего воз¬
вратиться в Подосинки для того, чтобы успокоить неж¬
но меня любивших сестру и тетку. Узнав о таком моем
решении, Назимов, как человек деликатный и благород¬
ный, предложил Данилевскому ехать в тарантасе со
мною до того места, где мне предстояло свернуть с
большой дороги в Подосинки. Мы взяли почтовых ло¬
шадей и ехали таким образом часов 15. В той душев¬
ной тревоге, в которой Данилевский находился, я был
ему действительно успокоением. Он взял с меня слово,
что после его процесса, который, по всей вероятности,
кончится для него ссылкою в Сибирь или куда бы то
ни было, я, если сам буду на свободе, весною поеду к
Вере Николаевне и объясню ей все, что он перечувство¬
вал, прося ее забыть о нем и об ее обещании. Место
нашего расставания было всего только в трех верстах
от Подосинок; мы старались сохранить наружное спо¬
койствие, но оно было нарушено трогательным отчаянием
верного старого крепостного слуги Данилевского, Андрея,
который должен был остаться со мною и которого я по¬
сле отъезда Данилевского, пересевшего в экипаж На¬
зимова, долго не мог привести в себя. Этот Андрей был
замечательным типом лучших крепостных дворовых
91
людей того времени. Он никогда не расставался со
своим господином, привыкнув, при беззаботности Да¬
нилевского, быть его дядькой. Во время нашего сов¬
местного жительства с Данилевским он был нашим по¬
варом, так как при мне был мой крепостной лакей; но,
исполняя должность повара, Андрей нес все матери¬
альные заботы о своем барине. Как я уже упоминал,
Данилевский жил литературным трудом, но по своей
беззаботности начинал свои статьи для «Отечественных
записок» только тогда, когда Андрей приходил к нему
с заявлением, что у него денег почти нет и что скоро,
как он выражался, придется «зубы на полку положить».
Тогда Данилевский принимался за дело и быстро окан¬
чивал уже начатую и ожидаемую Краевским статью.
Андрей заведовал также и всем туалетом Данилев¬
ского и, когда признавал необходимым, заказывал ему
белье и платье по своему усмотрению, причем излюб¬
ленным портным Данилевского был приятель Андрея —
Карпуха, с которым последний нередко проводил вре¬
мя, возвращаясь домой совершенно пьяным. Данилев¬
скому незачем было учитывать Андрея, смотревшего на
доход барина как на общее их достояние, так как на
его, Андрея, долю доставалась, конечно, всегда самая
ничтожная часть, соответствовавшая его скромным по¬
требностям. <...>
Навестив брата, мы с сестрою проехали опять через
Москву и отправились в Петербург осенью 1849 года.
Сестра по приезде водворилась у добрых и госте¬
приимных Гирсов, а я нанял себе в том же доме и на
одной лестнице с К. К. Гротом квартиру, которую мне
пришлось меблировать вновь, так как всю мою мебель,
оставленную у Петрашевского, я должен был считать
погибшею. Уцелело только самое для меня дорогое: до¬
вольно обширная моя библиотека и коллекции, кото¬
рые отданы были мною на хранение Александру Кар¬
ловичу Гирсу. По этому поводу Гире объяснил мне со
свойственным ему добродушием, что он и все Бунины
очень были перепуганы произведенным у него обыском
оставленных у него наших, т. е. Данилевского и моих,
вещей, для чего он должен был приезжать с дачи в го¬
род; обыск продолжался три дня, потому что переби¬
рали все книги и бумаги, но не нашли ничего запре¬
щенного, так как мы никогда не держали у себя ни од¬
ной запрещенной книги, а пользовались общественной
библиотекою, устроенной Петрашевским и хранимой им
в подвалах его дома. Через несколько дней после мо¬
92
его водворения в новой квартире, в октябре 1849 года,
я был обрадован появлением Данилевского. После ра¬
боты следственной комиссии его обвинительный акт был
передан в числе других в судную комиссию. Данилев¬
ский неминуемо подвергся бы общей участи со всеми
другими подсудимыми, приговоренными к смертной каз¬
ни, если бы судная комиссия, одним из влиятельней¬
ших членов которой был Я. И. Ростовцев, пересмот¬
рев дело следственной комиссии, не обратила особен¬
ного внимания на то, что Данилевский обвинялся толь¬
ко в чтении лекций о социализме на собраниях у Пет¬
рашевского и что в деле находилось изложение содер¬
жания этих лекций, сделанное самим Данилевским.
Я. И. Ростовцев прочел все объяснение Данилевского,
в котором он, опровергнув многие социалистические
учения, с необыкновенной логикою изложил учение Фу¬
рье. По прочтении увлекательного и проникнутого глу¬
боким убеждением в непреложности теории Фурье из¬
ложения Данилевского Ростовцев и другие члены суд¬
ной комиссии убедились, что Фурье никогда не пропо¬
ведовал ничего революционного, а напротив, предлагал
правительствам устроить для блага человечества фа-
ланстерии, т. е. работные дома, в которых каждый на¬
шел бы себе применение своим склонностям и способ¬
ностям. Впоследствии Ростовцев говорил в шутку, что
по прочтении увлекательных объяснений Данилевского
все члены судной комиссии сделались сами более или
менее фурьеристами. Данилевский был оправдан суд¬
ной комиссиею, но, по докладе государю, в котором ко¬
миссия отозвалась с похвалою об уме и разносторонней
образованности Данилевского, государь выразился, что
чем умнее и образованнее человек, тем он может быть
опаснее, а потому положил резолюцию об администра¬
тивной ссылке Данилевского в Вологду. Впрочем, та¬
кие административные ссылки в царствование импера¬
тора Николая I носили патриархальный характер:
ссылаемые определялись на государственную службу
под отеческий надзор губернатора. Так, близкий наш
приятель Михаил Евграфович Салтыков, сосланный
весною того же года в Вятку за вольнодумство, выка¬
занное им в его литературных произведениях, был на¬
значен осенью того же года добродушным губернато¬
ром, моим дядею Н. Н. Семеновым, сначала старшим
чиновником особых поручений, в следующем году со¬
ветником губернского правления, а через 8 лет переве¬
ден на должность вице-губернатора в Рязанскую губер¬
93
нию. Данилевский же был назначен чиновником особых
поручений при вологодском губернаторе, хотя без пра¬
ва выезда из губернии. По возвращении моем в Петер¬
бург, в ноябре 1849 года, ему было позволено, после
стодневного заключения в крепости, пробыть у меня
три дня, а затем он уехал в свою ссылку.
Через месяц (в декабре 1849 г.) потрясающее впе¬
чатление произвел на меня суровый приговор, постиг¬
ший всех лиц, окончательно осужденных судною ко¬
миссией. Все они одинаково были приговорены к смерт¬
ной казни и выведены 22 декабря 1849 года на эша¬
фот, устроенный на Семеновском плацу. Здесь им был
прочитан смертный приговор, на всех них, кроме од¬
ного помилованного (Пальма), надеты были смертные
рубахи, над дворянами были переломлены их шпаги, а
трем были завязаны глаза, и они привязаны к столбу;
только затем им было объявлено помилование (о кото¬
ром они ничего предварительно не знали) и назначение
каждому степени его наказания. Самое легкое доста¬
лось на долю поручика гвардии Пальма, который пе¬
реведен был тем же чином в армейский полк на Кав¬
каз; некоторые были разжалованы в солдаты, а дру¬
гие, будучи лишены всех прав состояния, сосланы в Си¬
бирь в арестантские роты или на каторжные работы;
в числе последних Петрашевский — без срока. После
прочтения помилования ударили отбой; привязанным к
столбу развязали глаза, Петрашевского посадили в
сани и с фельдъегерем отправили в Сибирь; остальных
возвратили в крепость и разослали по местам назначе¬
ния после праздника рождества христова, кроме одно¬
го (поручика лейб-гвардии конно-гренадерского полка
Григорьева), который был так потрясен всем тем, что
ему пришлось пережить, что сошел с ума.
Передо мною естественно возник вопрос: в чем же
собственно состояло преступление самых крайних из
людей сороковых годов, принадлежавших к посещае¬
мым нами кружкам, и в чем состояло их различие от
всех остальных, не судившихся и не осужденных?
Живо вспоминаю, с каким наслаждением стреми¬
лись мы к облегченному нам основательным знанием
европейских языков чтению произведений иностранной
литературы, как строго научной, философской, истори¬
ческой, экономической и юридической, так и беллетри¬
стической и публицистической, конечно, в оригинале и
притом безо всяких до абсурда нелепых цензурных по¬
марок и вырезок, и в особенности тех серьезных науч-
94
ных сочинений, которые без достаточных оснований сов¬
сем не пропускались цензурою. Не изгладится из моей
памяти, как отрадно было самым талантливым писате¬
лям из нашей среды выливать перед нами всю свою
душу, читая нам как свои произведения, так и произ¬
ведения самых любимых нами других современных пи¬
сателей не в том виде, как они выходили обезображен¬
ными из рук тогдашней цензуры, а в том виде,
Как песнь зарождает души глубина.
Как охотно и страстно говорили многие из нас о
своих стремлениях к свободе печатного слова и к та¬
кому идеальному правосудию, которое превратило бы
Россию из полицейского государства в правовое! И при¬
слушиваясь к таким свободным речам, мы радовались
тому, что «по воздуху вихрь свободно шумит», не со¬
знавая, «откуда и куда он летит». Конечно, были в про¬
износимых перед нами речах и увлечения, при которых
случалось, что и «минута была нашим повелителем».
Но все-таки, чувствуя, что самое великое для России
может произойти от освобождения крестьян, мы жела¬
ли достичь его не путем революции, а «по манию царя».
Таково было общее настроение людей сороковых го¬
дов, сходившихся в то время в либеральных кружках
Петрашевского и других. Присужденные к смертной
казни мало чем отличались по своему направлению и
стремлениям от других. Только на одного Петрашев¬
ского можно было указать как на несколько сумасброд¬
ного агитатора, старавшегося при всех возможных слу¬
чаях возбуждать знакомых и незнакомых с ншм лиц
против правительства. Все же остальные, сходившиеся
у него и между собою, не составляли никакого тайного
общества и не только не совершали, но и не замышля¬
ли никаких преступных действий, да и не преследовали
никаких определенных противогосударственных целей,
не занимались никакой преступной пропагандою и даже
далеко не сходились между собою в своих идеалах,как
показали впоследствии отношения заключенных в од¬
ной и той же арестантской роте Достоевского и Ду¬
рова.
Единственное, что могло бы служить судебным об¬
винением, если бы было осуществлено, было намерение
издавать за границей журнал на русском языке без
цензурных стеснений и без забот об его распростране¬
нии в России, куда он неминуемо проник бы сам со¬
бою. Но и к осуществлению этого предположения не
93
было приступлено, и оно осталось даже совершенно не¬
известным следственной комиссии. Затем единственным
обвинением оставалось только свободное обращение в
кружке Петрашевского запрещенных книг и некоторая
формальность, введенная в беседы только в последние
годы на вечерах Петрашевского, а именно избрание
при рассуждениях о каких бы то ни было предметах
председателя, который с колокольчиком в руках давал
голос желающим говорить. Потрясающее на меня впе¬
чатление произвело присуждение к смертной казни це¬
лой группы лиц, вырванных почти случайно из кружка,
в действиях и даже убеждениях которых я не мог по
совести найти ничего преступного. Очевидно, что в уго¬
ловном уложении, в законе о смертной казни и вооб¬
ще о политических преступлениях было что-то нелад¬
ное...
В. Р. Зотов
ПЕТЕРБУРГ В 40-х ГОДАХ
о нас все эти европейские волнения
нисколько не касались ', мы только
с любопытством следили за ними из
нашего «прекрасного далека». Не
кбыло у нас ни рабочего вопроса, ни
пролетариата, ни демократии, ни политических и соци¬
альных партий: последнее восстание в Польше было
потушено 18 лет назад, последний заговор уничтожен
почти четверть века назад. И вдруг в Петербурге, в
конце апреля, разнесся слух об открытии какого-то со¬
циалистического заговора. Как всегда в подобных слу¬
чаях, при полном отсутствии гласности, слухи приняли
громадные размеры, фантастическую окраску. Говори¬
ли сначала о полсотне, потом о сотне арестованных, о
чрезвычайно ловких действиях сыщиков, устроивших
табачную лавочку в доме, где собирались тайные засе¬
дания, о разветвлении общества в провинции, о приез¬
де в Петербург из Парижа двух последователей уче¬
ния Прудона, о котором, как и вообще о социализме,
даже высшее общество наше имело весьма смутные по¬
нятия. Исчезновение из небольшого кружка столичной
интеллигенции некоторых известных лиц, как Достоев¬
ский, Плещеев, Дуров, Пальм, Европеус, Дебу, Белец¬
кий, Щелков, Спешнев, Кропотов, Ахшарумов, Григорь¬
ев, Кашкин, Момбелли, Львов, придавало правдоподо¬
бие городским слухам.
Главою тайного общества называли кандидата Пе¬
тербургского университета Михаила Васильевича Бу-
ташевича-Петрашевского, помещика и петербургского
4 Зак. № 528
97
домовладельца. Это был мой товарищ по лицею, по-
ступивший в один год со мною (1836) в царскосельское
привилегированное заведение. Он принадлежал к
XI курсу и был своекоштным2 воспитанником. Курса
он, однако, не окончил3 и еще в первом классе, 15-ти
лет, был отмечен гувернерами как воспитанник «край¬
не строптивого характера и либерального образа мыс¬
лей». Учился он хорошо, но держал себя как-то стран¬
но, даже по отношению к товарищам. Угрюмый, нераз¬
говорчивый, сосредоточенный в себе, он почти ни с кем
не сближался и внеклассное время проводил не в бесе¬
дах или играх, а уединялся в рекреационной зале или
в саду, с книгой в руках. Столкновения с лицейским
начальством, к которому он относился весьма недру¬
желюбно и непочтительно, сделались наконец так часты
и резки, что он должен был оставить лицей, не пробыв
в нем полных двух лет. Он вышел в одно время с Ми¬
хаилом Николаевичем Лонгиновым4, и оба поступили
вольнослушателями на юридический факультет Петер¬
бургского университета. Оба эти лицеиста, не кончив¬
шие курса, что было у нас большой редкостью, были в
лицее очень близки между собою, несмотря на разницу
в их характерах, и это сближение веселого, живого, доб¬
родушного Лонгинова, получавшего выговоры за слиш¬
ком громкий смех, раскатывавшийся по лицейским за¬
лам, с вечно нахмуренным, несообщительным Петра¬
шевским, грубо относившимся к своим воспитателям,
поражало действительно своею странностью. Что было
общего между этими двумя совершенно противополож¬
ными темпераментами? Соединял ли их закон контра¬
стов, нередко сближающий в жизни лица различных
полов и характеров? — решать не берусь. Но в то вре¬
мя, когда никто не жалел об оставлении Петрашев¬
ским лицея, весь XI курс, даже все его гувернеры и лек¬
торы высказывали искреннее сожаление о даровитом,
симпатичном Михаиле Николаевиче Лонгинове, мать ко¬
торого, Марья Александровна, следившая за воспита¬
нием сына и часто посещавшая его в лицее, также поль¬
зовалась всеобщим вниманием. За Петрашевским при¬
ехала его мать, новгородская помещица, и он оставил
лицей, ни с кем не простившись, тогда как Лонгинова
провожал весь лицей. <...>
Не знаю, продолжались ли их близкие отношения в
университете, но вышли они оттуда вместе в 1841 году,
кончив курс, оба кандидатами, в то самое время, когда
XI курс вышел из лицея. Петрашевского я не видал во¬
08
все лет пять по выходе из лицея. В' начале 1846 года
он приехал ко мне — возобновить знакомство, как он
говорил,— рассказывал о том, что он зиму живет в Пе¬
тербурге, а на лето уезжает в деревню к своей матери,
что он много занимается изучением социальных наук,
что у него по пятницам собирается небольшой кружок
приятелей потолковать о современных вопросах, и убе¬
дительно просил навестить его в одну из пятниц. Я от¬
вечал, что день этот для меня неудобен, так как и ко
мне в пятницу приходят обыкновенно товарищи, пять-
шесть литераторов, и мы тоже толкуем, но больше о ли¬
тературе, читаем стихи, разбираем журнальные явле¬
ния. Он изъявил сожаление, что это так неудачно при¬
шлось, но все-таки взял с меня слово, что я приеду в
один из назначенных дней, «как бы ни было поздно, по¬
слушать о чем беседуют, и, может быть, мне понравит¬
ся». Я расспрашивал его о «Карманном словаре», вто¬
рой выпуск которого был только что остановлен цензу¬
рою, а первый отобран из книжных магазинов. Петра¬
шевский неохотно распространялся об этом издании, го¬
ворил, что его не так поняли, но обещал доставить мне
оба выпуска— и исполнил обещание дня через два. На¬
до было отвечать на эту любезность — и я отправился
к нему в ближайшую пятницу, часу в одиннадцатом.
Жил он недалеко от меня, на углу Покровской площа¬
ди и Садовой, в доме своей матери. Общество у него
было довольно многочисленное, человек 20, все больше
студенты, учителя, писатели. Я пришел поздно и застал
только конец чтения какой-то записки, где дело шло о
необходимости освобождения крестьян. Затем начались
прения о прочитанном. Говорили, как всегда у нас, не¬
складно, длинно, неубедительно, горячась без толку,
перебивая друг друга, поминутно отвлекаясь предмета¬
ми, вовсе не идущими к делу, не умея ни возражать, ни
выслушивать чужих доводов. Хозяин, из учтивости ко¬
нечно, спросил и мое мнение по этому вопросу.
— Не могу ничего сказать,— отвечал я,— не слыхав
начала записки и не зная, на каких основаниях автор
полагает устроить освобождение.
— Стало быть, вы не сочувствуете великой идее
эмансипации? — крикнул на меня кто-то, считавший
своим долгом тотчас же обидеться.
— Странно было бы не сочувствовать такой идее,—
отвечал я,— но дело тут вовсе не в нашем сочувствии,
от которого крестьянам ни тепло ни холодно, а в сред¬
ствах осуществления идеи. Вот эти-то средства и следу¬
99
ет обсуждать прежде всего, а не спорить о принципе,
по которому не может быть разногласия.
Тут посыпались предложения всякого рода, и воз¬
можные и совершенно фантастические, но все это было
до того не разработано, не приведено в систему, не вы¬
яснено, а главное—до того непрактично, что поневоле
приходилось вспомнить об одном месте, вымощенном
добрыми намерениями 5, где хоть и больше огня, но, по¬
жалуй, не меньше дыму, хоть и не табачного. А этот
дым выжил меня из собрания раньше, чем я распола¬
гал, и мое участие в пятничных сборищах ограничилось
этим первым и последним посещением старого товари¬
ща. Как все фантазеры, увлеченные одною господствую¬
щею у них идеею, он всегда был в каком-то возбужден¬
ном, ненормальном состоянии. У Петрашевского глав¬
ною идеею было не уничтожение крепостничества, не
гласность суда, не политические и конституционные во¬
просы,— к реформам управления, по свидетельству До¬
стоевского, приводимому Орестом Миллером (см. «Ма¬
териалы для жизнеописания Достоевского»), он был со¬
вершенно равнодушен6: господствующею идеею его бы¬
ла фаланстерия Фурье, сен-симонизм, учение Оуэна,
«Икария» Кабе. Это был восторженный приверженец
всех теорий социализма, наивно веривший в возмож¬
ность их осуществления даже на русской почве. Сообщу
здесь то, что знаю о его опыте насаждения этого за¬
морского плода в новгородских лесах. История первой
фаланстерии в России мало кому известна и весьма по¬
учительна.
Уверенность этого фанатического поклонника фурье¬
ризма в том, что русский мужик способен проникнуться
идеями фаланстерианского общежития и усвоить их се¬
бе, была до того велика в Петрашевском, что он заду¬
мал осуществить ее на деле еще в 1847 году, хотя и в
незначительных размерах7. Был у него недалеко от
уездного города небольшой выселок в семь дворов,
ютившихся на болоте, у опушки огромного соснового
бора. Во всех дворах было душ сорок и с ребятами;
земли было достаточно, с десяток лошадей, но коровы,
не приживались, да и жилье самих мужиков на боло¬
тистом грунте было неказистое, и хозяйство у них ве¬
лось плохое: допотопные плуги и бороны работали пло¬
хо, избы подгнили, лес хоть под боком, да господский.
Староста пришел просить бревен на починку развалив¬
шихся лачуг. Тогда барина осенила гениальная мысль:
он повел беседу о том, не лучше ли будет крестьянам
100
вместо того, чтобы подновить свои избы на заведомо
нездоровом месте, выстроить в бору, на сухой почве,
одну просторную новую избу, где бы поместились все
семь семейств, каждое в отдельной комнате, но с одной
общей кухней для стряпни и такой же залой для об¬
щих зимних работ и посидков, с надворными пристрой¬
ками и амбарами для домашних принадлежностей, за¬
пасов и инструментов, которые также должны быть об¬
щими, как и вообще все крестьянское хозяйство. Барин
долго развивал все выгоды такого общежития, обещая,
конечно, все устроить на свой счет, купить заново все
необходимые сельские орудия и домашнюю утварь:
горшки, чашки, плошки. Староста слушал, «уставясь в
землю лбом»8, с тою сосредоточенною миною русско¬
го мужика, по которой никак не узнаешь, понимает ли
слушающий, что ему говорят, или думает о говорящем:
«Ничего-то, брат, ты сам не понимаешь и только вздор
городишь». Он только низко кланялся при перечислении
всех благ, какими барин сбирался наградить своих вер¬
ноподданных в их новой жизни, и на все его вопросы:
«Ведь так будет не в пример лучше и выгоднее?» — от¬
вечал: «Воля ваша, вам лучше знать, мы люди темные,
как прикажете, так и сделаем». Барин напрасно ста¬
рался добиться от него самостоятельного мнения об
удобствах такого общежития, напрасно ждал, когда в
его верном Личарде «новогородская душа заговорит мо¬
сковской речью величавой» 9; Личарда только кланялся
и повторял: «Вы наши отцы, как положите — так и бу¬
дет».
Нежелание мужиков изменить исконный, заповед¬
ный образ жизни было очевидно, хотя и не высказыва¬
лось прямо, но оно было так естественно, что барин не
удивлялся этому, хотя и решил все-таки привести в ис¬
полнение свою идею, надеясь, что, испытав на деле все
удобства нового рода жизни, они оценят заботы об улуч¬
шении их быта. От вековых привычек отстать нелегко.
Крестьяне — те же дети, которых надо силою приучать
к порядку, чистоте, опрятности. С манчестерским прин¬
ципом: laisser faire, laisser aller *—тут ничего не поде¬
лаешь, и барин положил осчастливить детей природы
вопреки их желаниям. «Не вытащить их из их болота,
так они и совсем в нем завязнут»,— говорил он и на¬
чал строить в лесу фаланстерию. Работа подвигалась
быстро, и к зиме все было готово. Беседы и разъясне-
* отсутствие принуждения (франц.).
ния шли своим чередом во время построек. Несколько
раз барин водил стариков в готовящееся для них по¬
мещение, знакомил их предварительно с его планом и
расположением комнат, с новыми порядками, каким
надо было следовать в общежитии, спрашивал, доволь¬
ны ли они? Они ходили за ним по постройке с видом
приговоренных к тюремному заключению, бормотали
угрюмо: «Много довольны! Как будет угодно вашей ми¬
лости!» При свидании со мной Петрашевский не раз со¬
общал мне о ходе дела, обещал рассказать подробнее,
как они начнут жить в новой обстановке с рождества
1847 года. Прошло и рождество, но он не показывался
в Петербурге. После Нового года я узнал, что он при¬
ехал, но ко мне не являлся. Еще через неделю я слу¬
чайно столкнулся с ним на Невском.
— Что же ты не заходишь ко мне? Ведь ты же зна¬
ешь, как меня интересует твоя попытка,— сказал я.
Он казался сконфуженным и отвечал как-то нео¬
хотно:
— Да что, братец! Ты и представить себе не мо¬
жешь, какие это дикари, сущие звери. Что они со мной
сделали!
— Что же? Отказались переселиться в твою фалан-
стерию?
— Как же смели бы они это сделать, когда им при¬
казывал барин?
— Так что же, наконец?
— Вообрази: накануне переезда я еще раз обо¬
шел с ними всю постройку, назначил каждой семье ее
помещение, указал на все его удобства, выгоды, пере¬
дал всю утварь, какую закупил для них, все инстру¬
менты, велел перевести с утра скот и лошадей в новые
хлева и конюшни, перенести весь скарб и запасы в ам¬
бары. С сознанием исполненного долга и доброго дела
оставил я их, обещая на другое же утро приехать к ним
на новоселье из дома лесничего, где я обыкновенно жил
во время моих поездок...
— Ну и что же? — спросил я, видя, что он остано¬
вился на последних словах, высказанных прерываю¬
щимся голосом.
— Приезжаю рано утром и нахожу на месте моей
фаланстерии одни обгорелые балки. В ночь они сожгли
ее со всем, что я выстроил и купил для них.
В тоне его голоса было столько горечи, столько ра¬
зочарования, что я не мог смеяться над развязкой этой
барской затеи на социальной подкладке. Но этот не-
102
исправимый фантазер, несмотря на неуспех своих по¬
пыток, упорно продолжал дело пропаганды, которою
он думал осчастливить свое отечество. Он пробовал сна¬
чала сделать ее орудием педагогику и еще в 1844 году
просил об определении его наставником в лицей, в чем,
конечно, получил отказ. Несмотря на это, как старый
лицеист, сохраняя по примеру всех лицеистов крепкие
связи с заведением, давшим ему образование, он успел
так повлиять на трех воспитанников, посещавших его
по праздникам, что «в них обнаружилось скептическое
направление мысли относительно предметов веры и су¬
ществующего общественного порядка» *°. Это свиде¬
тельствует и записка следственной комиссии, получен¬
ная Василием Ивановичем Семевским нз редакции
«Русской старины», несколько раз цитируемая в его за¬
мечательном труде «Крестьянский вопрос в России», где
делу Петрашевского посвящена особая глава, XII, пред¬
ставляющая обстоятельные сведения по этому предме¬
ту («Русская старина» напечатала еще в 1872 году об¬
ширную, хотя и одностороннюю, записку И. П. Липран¬
ди по делу Петрашевского). В. И. Семевский говорит,
что из троих лицеистов, увлеченных учением Петрашев¬
ского, один был исключен из заведения, а другой под¬
вергнут исправительному наказанию. Почтенный автор
«Крестьянского вопроса» приписывает также слишком
много значения «Карманному словарю», составленно¬
му кружком Петрашевского. В лексикографическом от¬
ношении это чрезвычайно слабая вещь; как орудие про¬
паганды — книга не достигла своей цели, излагая ту¬
манно и неясно основные положения учения Оуэна,
Фурье, Сен-Симона, наполняя статьи об них вычурной
риторикой, не идущей к делу, длинным рядом точек или
глумлениями, неуместными в серьезном сочинении ”. Я
говорил уже об этой книге в статье «Наши энциклопе¬
дические словари» («Исторический вестник», 1888 г., том
XXXII, стр. 444). Доказательством тому, что книге не
приписывалось никакого серьезного значения, служит
то, что по изъятии ее из обращения ни автор, ни изда¬
тель, ни цензор не подвергались никакому преследова¬
нию, хотя Липранди в своей записке и сожалеет об
этом, так же как и о том, что «не спрошено было даже
о лицах, доставлявших статьи».
Гораздо серьезнее была попытка Петрашевского по¬
влиять на мнения нашего дворянства по крестьянско¬
му вопросу, о чем подробно рассказывает В. И. Семев¬
ский в своей книге, хотя и вышедшей в 1888 году, но
ЮЗ
мало оцененной публикою и еще меньше нашей крити¬
кой. В 1848 году, во время губернских выборов, Петра¬
шевский роздал петербургским дворянам более 200 эк¬
земпляров литографированной записки «О способах
увеличения ценности дворянских или населенных име¬
ний». Под этим заглавием, способным возбудить любо¬
пытство помещиков, скрывалось приглашение их к ос¬
вобождению крестьян. Записка следственной комиссии
говорит, что в своих рассуждениях автор «совершенно
выходит из пределов, допускаемых законом, считает ги¬
бельным для общественного благосостояния предостав¬
ление права владения населенными землями исключи¬
тельно одному классу, хочет улучшения форм судопро¬
изводства, надзора за исполнительными и администра¬
тивными властями, так как эти меры развивают нравст¬
венные и материальные силы в народе, находящемся
ныне в дремотном состоянии». Меры эти осуществились
через десять лет с небольшим 12, но в то время, как го¬
ворит В. И. Семевский, «петербургский губернский пред¬
водитель дворянства, Потемкин, сказал Петрашевско¬
му, что государю императору благоугодно, дабы о сем
предмете не было рассуждений, и Петрашевский своей
записки нигде не читал». Он только разослал ее своим
приятелям в Петербурге и жившим в провинции: Кай-
данову, Кузмину, Тимковскому, Черносвитову13. Всех
этих лиц записка Липранди представляет отчаянными
революционерами, так как они, и в особенности Голо¬
винский, Ястржембский, Филиппов, желали освобож¬
дения крестьян, гласного суда и свободы печати и в сво¬
их речах «отличались красноречием, дерзостью выра¬
жений и самым зловредным духом». Но записка Лип¬
ранди, по его словам, основана на доносах его шпиона,
а этому человеку, бывшему актеру «на выход» в Алек¬
сандрийском театре и выгнанному за сильное подозре¬
ние в воровстве, странно было бы доверять безусловно.
Это доказывал и О. Миллер в своих «Материалах для
жизнеописания Достоевского». Более года этот шпион
следил за «пятницами» Петрашевского, посылая к Лип¬
ранди доносы о каждой беседе, а тот составлял по ним
обвинительный акт для каждого подсудимого. Наконец:
министр внутренних дел дал предписание передать дело
в III отделение, арестовав одновременно 38 лиц из круж¬
ка петрашевцев. Все они были взяты 23 апреля. <...>
Ф. Н. Львов
ПИСЬМО к д. и. ЗАВАЛИШИНУ
[О ПЕТРАШЕВСКОМ]
Иркутск. Августа 4 [1860 г.]
Многоуважаемый Дмитрий Иринар-
хович! Я получил письмо Ваше со
вложенным в него письмом к Пет¬
рашевскому, которое я отправил по
назначению, сняв предварительно
с него копию. Письмо это имеет большую для меня важ¬
ность (независимо от внутреннего его достоинства), по¬
тому что большую часть того, что Вы пишете, я в про¬
должение 12 лет не переставал повторять моему това¬
рищу, в особенности в отношении страсти его к гербо¬
вой бумаге, которая имеет для него какую-то обаятель¬
ную силу.
Но Вы справедливо замечаете, что у нас путаница,
что мы друг друга не понимаем, а потому, прежде все¬
го, спешу разъяснить, что только могу: начну с лично¬
сти самого Петрашевского, которую Вы почти не зна¬
ете, а потому несколько ошибаетесь. Михаил Василье¬
вич, прежде всего, человек страстный, увлекающийся,
но предметом его увлечений бывают преимущественно
его же фикции. Душа у него добрая, способная не толь¬
ко сочувствовать всему, что заслуживает сочувствия, но
и действовать горячо, настойчиво, даже запальчиво, в
пользу предмета его симпатии и напротив: для унич¬
тожения антипатичного ему лица или дела. Но он име¬
ет тот недостаток, что всеми мерами старается и дру¬
гих и даже самого себя уверить, что он действует не по
внушению чувства, а по расчету самого холодного ра¬
зума. Множество бескорыстных поступков, полных са¬
моотвержения, было им совершено предо мною, и ког¬
да я имел неловкость замечать ему, что он поступает
105
по чувству, а не по разуму, он почти оскорблялся и
силился—хотя и очень неудачно—доказать противное.
Ум его сложен тоже очень оригинальным образом: лю¬
бимая его метода суждения — это: дилемма, трилемма,
квадрилемма и пр. На каждый факт, особливо челове¬
ческой деятельности, он непременно смотрит как на по¬
следствие причины — это, конечно, очень хорошо; но
вот что неверно: он ищет только ближайшие причины,
а забывает, что множество человеческих слов и дейст¬
вий имеют только самую отдаленную причину (имен¬
но: воспитание, образ жизни, окружавшую среду и т. п.)
и во время своего обнаружения говорятся или произво¬
дятся людьми почти бессознательно. Самый ничтожный
факт, напр[имер], человек плюнул, может у него разыг¬
раться в очень важное. Он станет думать, отчего чело¬
век плюнул, и придумает: или он плюнул оттого, что
имеет дурную привычку, или что у него кашель, или что
он в это время курил крепкий табак, или чтобы пока¬
зать свое презрение и т. д. Потом станет разбирать, ка¬
кое из этих предположений имеет более основания, и
очень легко может дойти до того, что сочтет безразлич¬
ное совершенно действие очень умышленным, напр[имер],
в данном случае, что человек плюнул, чтобы показать
свое презрение. Как человек страстный, он всего ско¬
рее выберет то из предположений, которое ему нравит¬
ся в данный момент, и возведет его в убеждение, на ос¬
новании которого и начинает уже действовать. От это¬
го он создавал себе часто совсем понапрасну самых
ожесточенных врагов и после удивлялся своей прозор¬
ливости. Впрочем, я должен сказать правду, что у него
чутье нравственное довольно верное.
Характер у него до крайности непреклонный; он
стремится к цели своей настойчиво, дерзко, не останав¬
ливаясь ни пред какими препятствиями. Но при этой
силе, которой он обладает, и не жалея лба, чтобы про¬
ломить стену, он вдруг прибегает к хитрости, к интри¬
ге, то есть к оружию слабых. И это бывает почти всег¬
да неудачно, точно как усатый гренадер нарядится в
юбку, закроется платком и воображает, что его при¬
мут за женщину. В частной жизни есть у него порок,
от которого, не знаю, отстал ли он в последнее время,—
это запой, но не вином, а картежною игрою, это всего
более ему вредило всегда и везде, потому что он про¬
игрывал и деньги, и время, и свое достоинство.
Кто мало его знает, тот очень часто, вступая с ним
в сношения, получает к нему сильную антипатию,
106
вследствие его чрезвычайной строгости, требовательно¬
сти и оскорбительной подозрительности, которую осо¬
бенно развило в нем крепостное заключение и пытка.
К тому же надобно прибавить, что язык его чрезвычай¬
но резок и он попадает чрезвычайно метко на больное
место своей жертвы, которую он мнится приносить
правде.
Fiat justicia, pereat mundus* — его любимый девиз,
хотя я и говорил ему: на что же нужна и как будет
существовать справедливость, когда мир погибнет?
Вследствие этого он и в Петербурге, и в ссылке везде
зацеплялся за законы и старался на основании их до¬
казать или несправедливость, или нелепость какого-
нибудь действия или постановления. Отсюда происте¬
кали его процессы с министром Перовским за город¬
ские выборы и протесты на эшафоте, в Шилке, в Нер¬
чинском] заводе, в Иркутске и пр *. В' принципах вы
с ним не расходитесь в этом случае, но разница в том,
что он тратит себя на мелочи, что, конечно, произво¬
дит неблагоприятный эффект.
Наконец, в некоторых случаях он принадлежит к по¬
роде так называемых] enfants terribles **, т. е., говоря
канцелярским словом, часто приводит к немедленному
исполнению то, что должно быть помечено к сведению,
и это бывает иногда очень некстати, так что его на¬
добно предупреждать, о чем нужно до времени помол¬
чать, или даже вовсе не говорить ему ничего.
Я представил Вам нравственный портрет моего то¬
варища не для того, конечно, чтобы отвратить Вас от
него, но потому, что считал своим долгом высказать
Вам правду для того, чтобы могли, сообразуясь с этим,
знать, чего можно от него ожидать и как понимать его
действия. <...>
Теперь несколько слов о себе: я, конечно, не могу
и не имею претензии хвалиться особою энергиею в про¬
тиводействии злу; но тем не менее всегда и везде не
оставлял никакого проявления самовластия, произво¬
ла и сервилизма2 без обличительного слова. Не имея
такой силы ума и характера, как Вы, я не мог рабо¬
тать неутомимо (тем более что у меня нет таких боль¬
ших связей, как у Вас). И притом я боялся предаться
безраздельно, как Вы, политическому или обществен¬
ному делу, потому что не уверен ни в своей зрелости.
* Да восторжествует справедливость, хотя бы погиб мир (лат.),
** ужасное дитя (франц.).
107
ни в своих силах (не пассивных — для страдания, а
в активных — для произведения полного эффекта), и
еще потому, что устремление всех сил души на один
предмет делало меня прежде того односторонним, а
потому и не совсем справедливым. Михаил Васильевич
часто упрекал еще меня в сентиментальности, но о ней,
как Вы сами видели, он имеет самые извращенные по¬
нятия. Я не склонен на дерзкие предприятия, но имею
довольно мужества, чтобы жертвовать и собою, и сво¬
ими материальными выгодами для пользы общей, но
только при убеждении, что я действительно ее достав¬
лю или, по крайней мере, что того действительно тре¬
бует чувство долга. Самое же трудное для меня, это —
оскорбить другого человека, даже когда он этого за¬
служивает.
Я верю, подобно Вам, только в живые силы, но не
разъединенные с природой; но официальной религии
не признаю именно потому, что в ней уже очень много
мертвого, хотя и не вооружаюсь против нее, потому что
она не закончила еще всего своего круга благотворно¬
го действия, и нравственная сторона, по крайней мере
христианской религии, имеет довольно живучести, хо¬
тя она и не может служить руководством для разви¬
тия вполне гражданской нравственности. Впрочем, я
полагаю, что теоретические и метафизические идеи и
рассуждения мои вовсе неважны ни для Вас, ни для
дела.
Не во имя каких-либо отвлеченных идей, не могу¬
щих быть доказанными, я считаю себя обязанным дей¬
ствовать, а во имя того идеала общества, в котором не
только есть гарантия для разумно-нравственной сво¬
боды, но и солидарность между его членами, где бла¬
госостояние и развитие индивидуальное и обществен¬
ное не только представляются как возможность, но где
они должны неминуемо проявляться de facto *, как пло¬
ды внутреннего убеждения и взаимной любви всех его
членов. <„.>
■■
фактически (лат.).
Н. А. Спешнев
[О ЧЕРНОСВИТОВЕ]
ноябре месяце (1848 г.) появился вдруг
у Петрашевского один человек, и если
есть действительно какая-нибудь пере¬
мена в намерениях и действиях Петра¬
шевского, то я приписываю ее именно
влиянию этого человека. Это именно некто Черносви¬
тов Я не знаю, каким он образом и чрез кого он там
проявился. Вот все, что я помню.
Я знаю, что я в первый раз его и не заметил. Я
рассказывал уже, как я держался в обществе Петра¬
шевского. Я помню только, что весь тот вечер было поч¬
ти все общество около одного стола, а я потому на¬
рочно и не подходил туда, слышал, что там идет спор
и разговор, но был все время в другой комнате и раз¬
говаривал с двумя-тремя, которые там были. Я пом¬
ню только, что когда я ушел от Петрашевского вместе
с другими, то у меня все спрашивали: «Ах, слышали вы,
видели вы, какой должен быть замечательный чело¬
век?» — «Да кто такой?» — «Да этот хромой, Черно¬
свитов».— «Об чем же говорит?» — «Да обо всем, об
чем угодно, и как ловко говорит». Я поехал к Петра¬
шевскому не в следующую пятницу, а через одну, про¬
шел опять в его кабинет, закурил сигару, сел и развер¬
нул книгу, нас тут было еще трое или четверо; вскоре
пришел Черносвитов в эту же комнату, повертелся око¬
ло моего стола, сел тут и завел разговор о чем-то пу¬
стом. Я был очень неразговорчив в этот вечер, он ско¬
ро и ушел. За ужином Черносвитов очутился опять
около меня. Разговор был о Мальтусе2 и о социализ¬
ме, потому что именно в тот вечер Тимковский читал
109
свою речь3. Черносвитов говорил умно и не без зна¬
ния, старался только внушить мысль, что ведь собст¬
венно и либерализм и социализм — это все одно и то
же. Говорил он очень красно — только завертывался
как-то все в апологии и анекдоты и старался всех вы¬
звать на резкость. И действительно, разговор в этот ве¬
чер становился резче, чем когда-либо, один офицер
Львов (не тот, с которым я был несколько часов в зале
III отделения, а другой, маленький ростом; он где-то
преподает химию) стал рассматривать какую-то бас¬
ню (о запасных магазинах)4. Но Черносвитов заминал
тогда разговор, подделывался под вкус каждого и опять
выставлял какой-нибудь парадокс. Тут меня стало
брать подозрение; я стал пристально глядеть на него,
так что он у меня наконец спросил, что я на него так
всматриваюсь; я попросил извинения, если ему это не¬
приятно, что я просто задумался. А между тем стал
как будто поддаваться под его влияние и оканчивать
его двусмысленность резкостями. Так я помню, что ког¬
да он, прицепив к чему-то, стал говорить: «Да вот,
г[оспода], беда нас русских — к палке мы-то очень при¬
выкли, она нам нипочем». Я ему очень быстро отвечал:
«Палка о двух концах», и он мне: «Да другого-то конца
мы сыскать не умеем». Впрочем, говорил он о Восточ¬
ной Сибири, все объясняя, что она совсем отдельная
страна от России, богатая, прекрасная, и что ей, вер¬
но, когда-нибудь суждено быть отдельной империей.
Потом длинно рассказывал черты из своих любовных
похождений и рассказывал и доказывал, что он на все
мастер. И действительно, он должен быть очень заме¬
чательный человек.
Было поздно, и все ушли. Я помню только, что До¬
стоевский на улице сказал: «Черт знает, этот человек
говорит по-русски, точно как Гоголь пишет», и потом,
подойдя ко мне, сказал: «Знаете что, Спешнев, мне ка¬
жется, что Черносвитов просто шпион»,— «Я думаю,—
отвечал я,— что он человек с задними мыслями». Он
оставил во мне впечатление или эмиссара, или главы
какого-нибудь тайного общества в Сибири, который
приехал набирать людей. Он и звал всех в Сибирь:
«А знаете что, господа, поедемте все в Сибирь — слав¬
ная сторона, славные люди».
Дня через два заехал ко мне Петрашевский и пос¬
ле какого-то очень простого разговора спросил: «Ну
что, как тебе нравится Черносвитов?» Я ему рассказал
предположение и Достоевского и свое и заключил, что
ПО
если так мое предположение, то тут затевается что-го
плохое, и что с таким человеком и связываться нечего.
Но между тем меня так и подмывало любопытство, и
я решился во что б то ни стало выведать или сам, или
через Петрашевского, что там такое затевается и за¬
тевается ли что? Петрашевский не отвечал ничего.
На следующую пятницу я поехал к Петрашевско¬
му. Подходил к Черносвитову, но в толпе ничего не
мог начать говорить. Я хотел было уже уехать, тогда
Петрашевский подошел ко мне и стал говорить: «По¬
дожди, пожалуйста, у меня есть дело».— «А что та¬
кое?»— сказал я, и петом вполголоса: «Выведал ты,
что ли, что?» — только Петрашевский взял у меня из
рук шляпу. Все уехали, и мы остались втроем. Тогда
Черносвитов стал говорить про Тимковского: и что ка¬
кая неосторожность говорить такие речи, и что зачем
и пускать к себе такого человека, который не умеет
языка держать за зубами; я, по правде, не считал речь
Тимковского особенно резкою и стал излагать свое об
ней мнение. Черносвитов начал хвалить осторожность,
практичность, и как дорого она дается, и потом стал
говорить: «Ну вот посмотрите, г[оспода], не может
быть, чтоб в России не было тайного общества,— вот
эти все пожары в этом (1848) году, да то, что (уж не
помню, в каком году) в низовых губерниях5 было,—
все это доказывает существование тайного общества,
только люди они осторожные, молчащие». Я уж не
знал более, что и думать, и сбивался в догадках. Пет¬
рашевский поддерживал Черносвитова, я стал слушать.
Тогда Черносвитов поглядел на часы и сказал, что «по¬
ра уж ехать». Была какая-то неладйца,— Петрашев¬
ский удерживал, побежал за какой-то книгой, и Черно¬
свитов подошел и стал вроде комплимента мне гово¬
рить, что «Мих[аил] Васильевич] говорил мне о догад¬
ке Достоевского и об вашей», и взял за руку и пожал
мне ее. Теперь я, кажется, понимаю немного это, но тог¬
да мне только показалось странным, как это Черносви¬
тов так скоро знает об этом. Вышли мы вместе. Сани
Черносвитова стояли у ворот, он спросил, где я живу,
и, узнав, что в Кирочной, сказал: «А, так нам одна до¬
рога» — и предложил меня довезти, что я и принял. До¬
рогой я стал перекидываться то на Сибирь, то на Рос¬
сию, но Черносвитов стал говорить только, я помню,
что все сосланные «глупы», что они на той точке и ос¬
тались, как были, что о фурьеризме и социализме и
слышать не хотят. Потом стал спрашивать: какая бы,
111
по моему мнению, была самая теперь полезная рефор¬
ма в России? Я ему очень откровенно сказал, что ре¬
форма крепостного состояния. Он мне сказал, что и он
то же думает. Потом мы и расстались.
Дня через два прислал ко мне Черносвитов звать
к себе, велел сказать, что он болен и чтоб я, по сосед¬
ству, навестил бы его. Я подумал сначала: ехать ли мне
или нет? Любопытство взяло свое, я поехал. Но Черно¬
свитов объявил мне, что он «болен весь» и что в та¬
кие дни рта не раскрывает; попросил, чтоб я ему рас¬
сказывал, например, о фурьеризме. Я стал излагать
свое откровенное мнение. Разговор был самый ученый,
и я скоро уехал, думая, что ничего больше не узнаю.
Однако дня через два Черносвитов приехал ко мне,
застал у меня Тимковского, пересидел его. Я помню
только, что мы говорили с Тимковским о Калифорнии,
когда он приехал, и что он в подробности расспраши¬
вал его об этой стране. Когда Тимковский уехал, он
стал мне говорить, что я ему очень понравился, стал
выхвалять мои физические и нравственные качества и,
наконец, сказал, что если бы ему надо было поручить
что исполнить, так он никому, как мне бы поручил. Ме¬
ня это несколько удивило, и я спросил: отчего ж бы он
сам не хотел бы исполнить своего дела? Он мне отве¬
чал темно, что он более способен на другое. Я возра¬
зил, что нахожу, что он способен на все, и стал в свою
очередь делать похвалу его практичности, меткости
взгляда — одним словом, полную апологию. Тут я уви¬
дал, что он поддается, тогда уж я стал прикидываться,
что и я «кое-что знаю». Он стал говорить, что нужна
откровенность, а я ему — что после того, что я слышал
от него у Петрашевского про осторожность, он только
и имеет право говорить про молчание, и тут он мне
сказал: «Ну да, без сомнения, да ведь надо ж знать, с
кем — с иным можно переговорить». Я согласился и
сказал, что отчего ж он ни слова не говорит? Тут он
мне сказал: «Знаете что? Не послать ли уж за Ми¬
хаилом] Васильевичем] (т. е. Петр[ашевским]) ?». Я не
понимал, что это такое, и сказал: «Ну, пожалуй, как
хотите, да, впрочем, зачем?» — «Да втроем как-то луч¬
ше говорится». Взял бумагу и стал писать записку к
Петрашевскому. Я думал, что он увернулся, стал хо¬
дить по комнате и соображать. Когда я послал запис¬
ку, он мне сказал: «Да это невозможное дело, ведь я б
знал тоже что-нибудь». Я ему возразил: «И ведь вы
говорили ж сами, что должно быть общество».— «Ну да
112
я это так, по соображению»,— сказал он мне. Потом
подумал и сказал: «Ну да вы только мне намекните,
где? Здесь или в Москве?» Я подумал сказать «здесь»,
он всех моих знакомых почти видел. «Ну, разумеется,
в Москве».— «Не знаю,— сказал он,— я Москву тоже
немного знаю, а, впрочем, может быть». Всего, что я го¬
ворил, уж я не упомню, знаю только, что лгал я бессо¬
вестно и оттого все ходил по комнате, чтоб он бы мне
не смотрел прямо в лицо. Помню, что стал спрашивать
он меня про «план действия». Это мне трудно было вы¬
думать в минуту: «Да плана собственно нету еще»; и
он у меня спрашивал: «Да неужели ж совершенно без
плана?» — «Да, план зависит от случая. Вот теперь, го¬
ворят, на Волыни не так смирно; а, впрочем, какой же
бы надо было план?» Тут вопросная часть перешла на
мою сторону. «Ну, Волынь— оно что? — сказал он
мне.— Там войска много, разве будет заграничная вой¬
на»; и тут он мне стал намекать про пермские заводы,
что тут разом 400 000 народу и оружие под рукою и что
он эту страну хорошо знает, что там все так только и
ждет первой вспышки. Стал говорить, что была уж
когда-то вспышка и что ему обязано правительство, что
он затушил. Больше не припомню, знаю только, что он
не стал ждать Петрашевского, а сказал: «Приезжайте
лучше ко мне, у вас тут как-то много народу». Дейст¬
вительно, у меня несколько служащих.
Петрашевский пришел что-то очень не в духе, не
пошел далее моей передней, спросил: «Что такое?» —
и, когда мы вышли на улицу, я ему сказал, что Черно¬
свитов хочет переговорить со мной и с ним. «Только я
буду представляться, что я глава целой партии,— при¬
бавил я,— пожалуйста, и ты сделай то же, а то он ни¬
чего не скажет».— «Ну да на что это?» — отвечал мне
несколько с сердцем Петрашевский. «Ну как хо¬
чешь»,— сказал я ему. Мое положение становилось за¬
труднительно. Мы молчали всю дорогу, и уж под конец
я спросил у Петрашевского: что он имеет что против
меня? Он отвечал, что никогда ни против кого ничего
■ не имеет.
Когда мы пришли и закурили трубки, Черносвитов
посадил нас на диван, а сам сел напротив таким обра¬
зом, что мне, кроме как мимо его, другого выхода не
было, и сказал: «Ну, господа, ведь теперь дело надо ве¬
сти начистоту».— «Ну да»,— сказал Петрашевский и,
круто обращаясь ко мне, сказал: «Вот не угодно ли,
например, вам, Ник[олай] Александрович], сказать, ка¬
113
кие и где вы видите способы к восстанию?» Я немного
смутился, но не показал этого и, подумав, отвечал: «Да
вот (имени Черносвитова теперь не помню) за час или
полтора тому назад говорил мне, что у него весь Урал
под рукою — 400 т[ыс.] народу, это сила огромная».
Петрашевский начал было что-то говорить, что «то, что
говорил Черносвитов, относится до него», Только я рад
был каждой уловке, чтобы выйти из затруднительно¬
го положения, и, перебив его, сказал, что если ему угод¬
но говорить, то я рад слушать, что я, впрочем, про не¬
го не все знаю, может быть, он и имеет, что сказать?
Петрашевский отказался. Черносвитов начал опять:
«Вы мне говорили про Москву». Петрашевский всту¬
пил опять в речь и, зная, что я солгал, стал ему явно
намекать на это, говоря, что, разумеется, можно стро¬
ить химеры, что надо говорить серьезно. Это меня раз¬
досадовало, и я сказал: «Вы, кажется, господа, оши¬
баетесь насчет наших отношений, я с вами не связан ни¬
какими обязательствами, не состою с вами здесь в тай¬
ном обществе, и я решительно не понимаю, с чего вы
думаете, что имеете право заставлять меня говорить».
Тогда сделалось молчание, я выбил в углу трубку и
пошел к окну набить ее снова и уж больше не садился.
«Вы мне сказали,— начал опять Черносвитов,— <ьто
уже несколько лет существует что-то в Москве». Я мол¬
чал. «Невероятным кажется мне, чтобы могло сущест¬
вовать несколько лет общество и нигде и ни в чем не
проявлялось бы его действие». Я не отвечал ни слова.
«Ну да, впрочем, не в том дело»,— сказал он; помол¬
чав, стал говорить про совершенную откровенность и
заключил наконец: «Можете ли вы мне сказать одно:
не существует ли чего в гвардии?» Я сказал, что ни¬
когда не слыхивал ничего о существовании тайного об¬
щества в гвардии, что, впрочем, за исключением тех
немногих офицеров, которых видал у Петрашевского,
и никого из них не знаю. «А это было бы очень важ¬
но»,— сказал Черносвитов. Петрашевский сказал тоже,
что ничего не знает, потом Петрашевский стал говорить
вообще против бунта и восстаний черни, говорил о
фурьеризме и заключил, что нам он, может быть, по¬
кажется смешон, но что он на своем веку надеется и
видеть, и жить в фаланстере,— и говорил, как мне ка¬
залось, не притворно. После этого я взял шляпу, рас¬
прощался с ними и уехал, оставив там Петрашевского.
Как долго он там был и что у них было, этого я не
знаю и узнать не мог.
114
Вот все, что я могу припомнить о Черносвитове.
Вспоминаю еще, что когда он говорил о своем плане,
то в сущности излагал его так, что сначала надо, чтоб
вспыхнуло возмущение в Восточной Сибири, что по¬
шлют корпус, едва он перейдет Урал, как встанет Урал,
и посланный корпус весь в Сибири останется, что с
400 т[ысячами] заводских можно кинуться на низовые
губернии и на землю донских казаков, что на потуше-
ние этого потребуются все войска, а что если к этому
будет восстание в Петербурге и Москве, так и все кон¬
чено. И когда я говорил: «Да помилуйте, если Урал
весь подкопан, то это будет через несколько месяцев —
черни не удержишь», то он мне говорил: «Ну нет, надо
по крайней мере год, чтобы приготовить все к самому
восстанию, да можно еще лет пять-шесть продержать
в теперешнем положении, и что оттого-то ему и нужно
знать все про Петербург и Москву». Впрочем, я и с
первых пор сомневался и думал, что он или хочет толь¬
ко разжечь мою голову и завлечь меня, и после стал
больше думать, что так [как] я лгал, то и он выдумы¬
вал мне все это. Вообще я считаю, что он очень лов¬
кий и хитрый человек.
Я совершенно никому не говорил об этом.
А. И. Пальм
ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ ЛЬВОВ.
ИЗ СТАРЫХ ВОСПОМИНАНИЙ
Читатель не посетует на отрывоч¬
ность моих личных воспомина¬
ний — полнота и законченность их,
может быть, теперь были бы не-
х удобны или преждевременны, хотя
все это — «дела давно минувших лет».
Я застал Львова в 1842 году уже подпоручиком в
лейб-гвардии егерском полку, куда он был выпущен
как лучший воспитанник Московского кадетского кор¬
пуса. Гвардейская служба того времени проходила ис¬
ключительно в караулах, дежурствах и парадах. Фрон¬
товое ученье только летом было усилено, а зимой обу¬
чением солдат в казармах занимались унтер-офицеры
под наблюдением ротных командиров, а субалтерн-офи¬
церы собирались в дежурную комнату только затем,
чтобы поболтать, узнать служебные новости и прочи¬
тать «Инвалида» и «Северную пчелу»; в образование
солдат, в их внутреннюю жизнь, в хозяйственные и ка¬
зарменные распорядки они не входили. Обязанности
их были, так сказать, совершенно фигурантские: по во¬
скресеньям являться в новеньком мундирчике в Ми¬
хайловский манеж к разводу с церемонией, в высоко¬
торжественные дни быть на выходе или на бале, затем
раз в неделю, уже в стареньких мундирах с потертым
шитьем на воротнике и поблекших, смятых эполетах,
отправляться на очередное дежурство по батальону
или в караул, где караулить было почти нечего,— на
Сенатскую площадь, например, где обязательно было
до сумерек торчать на платформе, чтобы не прозевать
116
проезжающих мимо генералов,— этот пост был самый
беспокойный и опасный в смысле легкой возможности
получить распеканцию или угодить под арест за то,
что не рассмотришь издали генеральской фигуры и
опоздаешь вызвать караул для отдания чести... Много
было и спокойных постов, например на Шлиссельбург¬
ской заставе или в Галерной гавани, куда приходилось
маршировать верст десять для того, чтобы, расстегнув
мундир, завалиться спать на сутки,— там караулить то¬
же было нечего,— но и там стерегла нашего брата сво¬
его рода опасность в виде ночного наезда дежурною
по караулам либо плац-адъютанта, единственно ради
того, чтобы изловить в оплошности и упечь на гаупт¬
вахту неисправного прапорщика. К этому сводились
все служебные печали и задачи. Ничего общего в офи¬
церском кругу не было — ни собраний, ни табльдотов *,
ни даже необходимых военному физических упражне¬
ний, фехтования, гимнастики. Стрельбе в цель нижние
чины обучались только в лагерях, два месяца в году,
а господа офицеры — никогда.
Таким образом, фронтовые занятия в течение по
крайней мере 8 месяцев в году оставляли офицеру
ужасно много праздного времени, а караульная гар¬
низонная служба притупляла молодые силы, попавшие
на военную службу случайно, может быть, даже про¬
тив воли и вопреки наклонностям и темпераменту, или
мечтавшие, что военная карьера даст их честолюбию
иные задачи, способные поглотить всего человека, не
оставив места преобладанию иных стремлений. Знание
«Уставчика» и маршировка в манеже «шагом журав¬
линым», выпятив грудь и неестественно перекосив торс
направо, к стороне начальника, не могли же возбудить
никакой головной работы,— относиться к ним небреж¬
но и полупрезрительно считалось своего рода шиком.
Начальство старалось только подтягивать и изловлять
молодых офицеров, как зайцев, преимущественно за
несоблюдение формы, длинные волосы, ношение калош
и т. п. Обращение командиров с подчиненными было
грубо, дерзко до неприличия. Что называется, «обо¬
рвать» прапорщика во фронте за малейшую ошибку —
ничего не значило. Командиры нередко избирались чуть
ли не из выслужившихся бурбонов 1 и по образованию
были несравненно ниже среднего уровня прапорщиков,
кончивших специальные классы кадетского корпуса.
* Общий обеденный стол.
117
Нижние чины в строю на ученьях обыкновенно подвер¬
гались огулом — весь батальон, вся рота—самой от¬
борной ругани, какому-то виртуозному сквернословию,
изрыгая которое один генерал часто прибавлял; «Иск¬
лючая господ офицеров» (1). Про ум и грамотность
некоторых ходили уморительные анекдоты. Так, напри¬
мер, командиром одного полка был некоторый леген¬
дарный барон, вообразивший раз, что сам государь
интересуется пением его соловьев... Вопрос государя,
конечно, прямо относился к солдатам... Молодежь
боялась, но едва ли могла уважать таких гениальных
командиров, которые к тому нее, как всем было извест¬
но, наживали целые состояния от обмундировки и про¬
довольствия полка хозяйственным способом.
Молодые офицеры, не имея центров соединения,
жили вразброд, смотря по состоянию, связям и родству
каждого; большею частью вертелись на балах и вече¬
ринках, начиная от аристократических зал до казенной
квартиры какого-нибудь превосходительного чиновника,
даже до начальника отделения, если он обладает хо¬
рошенькой женой или взрослыми барышнями. Общий
идеал формулировался так: достичь скорее полковничь¬
их эполет, получить армейский полк и жениться на
богатой московской (непременно московской!) куп¬
чихе. <...>
Оговорюсь... Нарисованная мною картина вышла не¬
приглядною, но я передаю более рельефные, типичные
черты давно прошедшего, которые отнюдь обобщать не
следует. И тогда в военном обществе встречались люди
умные, хорошо образованные, талантливые. В нашем
же лейб-егерском полку служили: Б. — очень известный
нумизмат, Степанов]2 — остроумный карикатурист,близ¬
кий друг Брюллова, Глинки, Даргомыжского и многих
артистических sommites * того времени, К[астриот]-
С[кандербек] 3 — даровитый композитор. В других пол¬
ках тоже были выдающиеся личности, как жанрист Фе¬
дотов 4 или даже знаменитый шалун Костя Булгаков 5...
Но все они смотрели на службу как на временное ярмо
и искали выхода в другие сферы, более удовлетворяю¬
щие их человеческим потребностям и наклонностям.
Неудовлетворенность, тоска — были общим лозун¬
гом. Время уж, знать, было такое — вспомните лейб-гу¬
сара Лермонтова...
Но при самых лучших условиях в такой все-таки
* знаменитостей (франц.).
118
бессодержательной и праздной атмосфере молодому че¬
ловеку, жаждущему каких-либо умственных интересов,
серьезно учившемуся в школе и понимающему, что об¬
разование, данное кадетским корпусом, составляет толь¬
ко азбуку знания, жить было нестерпимо тяжело, а
стремление к самообразованию, к созданию хоть како¬
го-нибудь умственного интереса было вполне естествен¬
но. Иные, чтобы заглушить эту придавленную духовную
потребность, кидались в омут самой беспорядочной жиз¬
ни— в кутежи, картеж, дешевенькое донжуанство или
в беспутное мотовство, наживали кучу неоплатных дол¬
гов, две-три скандальные истории и вылетали из гвар¬
дии в дальние линейные полки.
И все то немногое, чему учили нас в корпусах, да¬
же элементарные знания специально-военных наук ока¬
зывались на этой службе ненужными, неприложимыми.
Из такой среды, понятно, не могли выйти Скобелевы е,—
да они и не выходили, что наглядно доказала война
1854—1856 годов 7...
Львов был всегда одержим страстью к серьезным
занятиям и в то время, когда товарищи зачитывались
модными тогда «Тремя мушкетерами»8, он доставал
где-то сочинения по математике и химии, приносил их
с собой на дежурство и углублялся в чтение. Склад ума
его был строго аналитический, склонный к усвоению
точных истин и не терпевший ничего мечтательного, не¬
определенного, смутного.
В' то время (1843 год) у меня уже были кое-какие
литературные связи и знакомства, я страстно любил
поэзию, читал Белинского и сам писал стихи, сперва
под большим секретом, а потом, по настояниям Ф. А. Ко¬
ни9, печатал некоторые вещицы в издаваемой нм «Ли¬
тературной газете».
С Львовым мы скоро сошлись и сдружились, как лю¬
ди, у которых нашлось нечто общее, вне круга отупля¬
ющих служебных обязанностей, которые мы несли как
подневольную поденщину. По правде сказать, мы были
плохими службистами и очень нередко (особенно я)
попадали на гауптвахту. Федор Николаевич был стар¬
ше меня по службе и гораздо степеннее по характеру.
Как часто в егерских казармах, в дежурной комнате,
где обыкновенно дежурные по целым ночам дулись в
преферанс, мы с Львовым толковали о наших любимых
занятиях, читали заветные тетрадки и уносились бог
знает куда из прокуренной Жуковым табаком комнаты,
где помещалась довольно мизерная полковая библио¬
119
тека. Федор Николаевич сообщал мне новейшие откры¬
тия по химии, а я скандировал перед ним новоиспечен¬
ные плоды моей музы. Помню, что он строго порицал
неточность моих выражений, осмеивал поэтические воль¬
ности и туманность мысли, преследовал даже такие из¬
любленные тогдашними поэтами словечки, как «сны»,
«грезы», «мечты», советуя заменять их просто словом
«мысли» или, пожалуй, «думы». Я горячо отстаивал, но
все-таки любил критические придирки Львова и охот¬
но читал ему свои элегии... А стоявший в дверях унтер-
офицер Сивоконев, заведовавший полковою библиоте¬
кою, просвещенный рядовой и горький пьяница, глядит,
бывало, на нас и думает: «Ну уж эти ученые господа,
за карты небось не сядут, а у меня припасены четыре
игры атласных. Вот те и заработок на нонешнее дежур¬
ство, тю-тю!»
Стихотворения мои были плохи. Воспевая в них
«беспредметную тоску», «печальное разочарование»,
двадцатидвухлетний юноша был несколько смешон, го¬
ре его казалось напускным и подражательным, тем бо¬
лее что оно было в моде, но в нем была значительная
доля психической правды, только я не умел ее строго
анализировать и выразить просто, естественно; только
раз мне это удалось в стихотворении «Няня» («Оте¬
чественные] зап[иски]», 1847 г.), одобренном даже стро¬
гим Львовым. Но действительно тоска бесцельной, пу¬
стой жизни меня душила до того, что я очертя голову
кинулся в развеселую компанию кутящих товарищей...
На это время Львов — серьезный, воздержный, трудо¬
любивый— покинул меня. Мы разошлись без резкого
разрыва, без всяких объяснений. Он просто и холодно
посторонился.
Года через два мы по-прежнему протянули друг дру¬
гу руки. Я жил в одной квартире с Д[уровы]м. У нас со¬
биралась почти исключительно «штатская» молодежь с
самыми разнообразными, но тоже «штатскими» вкусами,
стремлениями и взглядами. Поэзия, музыка, живопись
были культом нашего небольшого кружка. Львов, хотя
и не питал эстетических наклонностей, но, найдя меня 1
в этом обществе, как будто обрадовался происшедшей9
во мне перемене, стал часто заходить к нам, перезна-*
комился со всеми моими приятелями и вскоре сделался
постоянным посетителем вечеров наших, и в особен¬
ности— Петрашевского, так как туда, помимо эстетики,
по инициативе хозяина и по какой-то стихийной силе
неизбежным образом вторгались все общественные вея¬
120
ния того времени. Сен-Симон, Фурье, Кабе, Рёге Enfan-
tin *, потом Лам[ен]не, Луи Блан и наконец Прудон за¬
хватили общее внимание, читались, перечитывались,
комментировались и разбирались как интересные явле¬
ния движения европейской мысли, с их чисто теорети¬
ческой стороны, как искания идеального будущего и без
малейшей попытки к их практическому применению в
настоящем... Мы, сами того не замечая, становились на
весьма скользкую покатость...
Замечательнее всего, что юные сен-симонисты, фурь¬
еристы и коммунисты отлично мирились с своим настоя¬
щим общественным положением: чиновники преисправ-
по ходили на службу в департаменты, офицеры марши¬
ровали и дежурили, даже педагоги преподавали по ста¬
рым одобренным учебникам, словом, на практике все
были исправные консерваторы. Если в частных беседах,
преимущественно в спорах, было много резкости и юно¬
шеской запальчивости, то положительно можно сказать,
что конкретных, твердо намеченных целей ни у кого не
было... Но последствия доказали, что мы были на
скользкой и опасной дороге...
В ночь на 23 апреля 1849 года в Петербурге произ¬
ведено одновременно множество арестов. Никто не знал
повода к этой крутой мере. Сами арестованные не мог¬
ли хорошенько понять, в чем дело, так как в залах
III отделения, куда их собрали, встречались совершен¬
но незнакомые между собою лица и выкликались фами¬
лии, многим неизвестные. Часть арестованных, бывавших
по пятницам на вечерах Буташевича-Петрашевского;
кое о чем, конечно, догадывались, но почему сюда же
попали лица, никогда у Петрашевского не являвшиеся?
Думали, что тут или полицейская путаница, или... уж
не открыто ли какое большое, весьма серьезное дело,
в котором собственно гости Петрашевского могли быть
привлечены к допросу только в качестве свидетелей, ко¬
торых потом отпустят с миром.
Таково было общее впечатление той тревожной ночи.
И. П. Липранди, как хозяин, принимал оторопелых го¬
стей, разыгрывал роль загадочного сфинкса, бормотал
что-то, не то успокоительное, не то внушающее тре¬
пет,— и увеличивал повальное недоумение.
Апрельская ночь в Петербурге короче воробьиного
носа; к утру арестованные огляделись в просторных
* Отец Анфантен 10 (франц.).
121
прекрасных залах, обнюхались (сообщение не возбра¬
нялось) и поняли, что дельце их никуда не годится. Тут
же условились откровенно говорить всю правду, ниче¬
го не скрывать; если окажутся глупости в доносах не¬
вежественных шпионов, то разъяснять их честно, ста¬
раясь выяснить, что в поведении нашем было много не¬
простительного легкомыслия, были проступки, но не
было преступления. Решительно никто не хотел при¬
знать за собой политического, а тем более государст¬
венного преступления...
Меня арестовал жандармский полковник с тремя во¬
оруженными жандармами, в присутствии нашего полко¬
вого адъютанта Г[артонга], который, кажется, сильнее
меня был поражен неожиданностью такого казуса. Бли¬
жайшее мое начальство не было предуведомлено ни о
чем, хотя дня за три какой-то партикулярный господин
был в полковой канцелярии и частным образом выписал
несколько адресов квартир офицеров, в том числе мой
и Львова,— другие, верно, нужны были, чтобы замаски¬
ровать справку даже от писарей.
— Объясните, что такое? Как доложить генералу? —
Испуганный адъютант даже заговорил по-французски,
вероятно, чтобы скрыть свой вопрос от жандармов.—
Au nom du Ciel, dites moi, l’affaire est-elle grave?
— Mais non! Bagatelle! * Скажите генералу, что он
за меня не пострадает...
В обширной зале III отделения встречаю я штабс-ка¬
питана нашего полка Петра Сергеевича Львова. Он в
новеньком мундире (я и все другие военные в сюрту¬
ках, как были дома), перепуган смертельно, лица на
нем нет. Обрадовавшись встрече со мною, он обратился
умоляющим тоном:
— Ради бога, Александр] Иванович], выручите ме¬
ня. Вы тут, как я вижу, все-таки кое-кого знаете, а я —
совсем чужой. Спасите меня, выведите из недоразуме¬
ния...
— Как, да разве вы арестованы?
— Видите! Это, наверное, ошибка. Я уж говорил
Дубельту — он только улыбнулся и сказал: все в свое
время разъяснится, будьте покойны. Согласитесь са¬
ми, как могу я быть покоен? Пожалуйста, помогите мне,
пойдем объясним... Я принят за другого — верно, им
— Ради бога, скажите, дело серьезное?
— Ну нет! Пустяк! (Франц.)
122
Львова Федора Николаича нужно, а второпях схватили
меня.
— Да, пожалуй, что так...
Я вспомнил, что Федор Николаич тоже штабс-капи¬
тан, но он давно откомандирован от полка, кажется, ку¬
да-то в преподаватели или в офицерские классы артил¬
лерийского училища, стало быть, адреса его в полковой
канцелярии и быть не могло,— очевидно, что он теперь
пока гуляет на свободе, а вместо него взят другой
Львов, П. С.
Сообразив, что значит хотя бы день свободы для
Федора Николаича и как в сущности безвредно для
Петра Сергеича провести даже несколько дней с нами
в этих прекрасных апартаментах с даровым угощением
чаем, кофеем, вином, обедом и т. д., я отклонил от себя
всякие объяснения под тем предлогом, что мне, как под¬
судимому, не поверят. Хорошо ли я поступил — право,
до сих пор решить не могу...
Вечером всех арестованных обошел шеф жандармов,
князь А. Ф. Орлов, и был к каждому очень внимателен,
даже любезен. Надо заметить, что вся история подня¬
та и раздута была не им и даже совершенно вопреки
его взгляду на дело, которое ему давно было известно.
В' следующую ночь всех нас перевезли в Петропавлов¬
скую крепость. Мне пришлось ехать в карете вместе
с П. С. Львовым, который горько сетовал на то, что его
Дубельт выслушал с улыбкой коварной лисицы и —
главное — рекомендовал «быть покойным».
— А вы ничего за собой не чувствуете, никакой ви¬
ны?
— Клянусь, ничего!
— А помните, вы наизусть читали вслух некоторые
нецензурные стихотворения Пушкина и Лермонтова?
Это ничего?
— Ах, полноте шутить!
Не вспомню, о чем мы болтали. Дорога показалась
бесконечною. Троицкий мост был разведен; нас везли в
объезд по Васильевскому острову. От скуки, что ли, я
совершенно бессознательно запел арию из какой-то
итальянской оперы.
— И вы еще можете петь в такую минуту, о-о!
— Для вас же,— хочу ободрить трусливого государ¬
ственного преступника.
Карета с глухим гулом вкатилась в какой-то длин¬
ный туннель. Мы были в крепости. Я уж больше не
пел...
123
Впоследствии мне стало известно, что Ф. Н. Львов
в день нашего ареста прибегал на мою квартиру. Пла¬
чущий денщик, мой верный Иван, указал опечатанные
двери комнат и объяснил, что произошло ночью. Он
рассказывал мне, что Федор Николаич крепко тужил,
«ажно прослезился».
Несколько дней прошло, пока добрались до него; он
мог бы легко скрыться — бежать на купеческом судне
через Кронштадт за границу. Но он не сделал ника¬
кого покушения к побегу. «Надо заодно с товарищами
ответ держать. Притом ведь ничего особенно важного
выйти не может, как бы там ни раздували эту сомни¬
тельную, темную историю...»
Неповинный П. С. Львов, конечно, был немедленно
освобожден <...>
Мы, бедные идеалисты, сидя в казематах, верили и
до последней минуты надеялись, что явится честный,
смелый голос, который найдет путь к сердцу цареву...
До последней минуты не переставали надеяться...
В начале шестидесятых годов я приехал в Петер¬
бург; узнал, что Ф. Н. Львов возвращен из ссылки и
живет здесь в Большой Морской, в генерал-губернатор¬
ском доме. Разумеется, бегу к нему, вкушаю радость
свидания с добрым товарищем. Он был женат (еще в
Сибири), бодр, здоров и занимал небольшую квартиру
в казенном доме. Пошли взаимные расспросы.
— Как вы тут живете? Что значит эта казенная
квартира?
— Служу в канцелярии князя Суворова ”, а за ка¬
зенную квартиру обязан жандармам.
— Браво! Это уж во второй раз, значит, они достав¬
ляют вам казенное помещение... Но это все-таки лучше,
чем первое... помните?
— Ха-ха! забавный случай. Не очень давно ко мне
является вестник от жандармерии и объявляет прика¬
зание в двадцать четыре часа выехать из Петербурга,
так как в столицах мне проживать якобы запрещено.
Я, признаюсь, растерялся, однако отвечал наотрез, что
без разрешения начальника, у которого состою на
службе, выехать не могу. Посланный удалился с угро¬
зой. Я — к нашему князю. Рассказываю: так и так, из¬
гоняют <...> Он сейчас же приказал дать мне штатное
место в канцелярии и поселить в доме генерал-губерна¬
тора, а к шефу жандармов написал самое любезное
письмо, что «такой-то Львов служит у меня в канцеля¬
124
рии и очень мне нужен; что живет он в моем доме, ста¬
ло быть, постоянно состоит под самым бдительным
надзором полиции...». Таким образом, вот я тут и про¬
цветаю благополучно,— прибавил, улыбаясь, Федор
Николаич.
Не поминая лихом прошлого, мы от души поздрави¬
ли друг друга с настоящим, обещавшим такое светлое,
прекрасное будущее. В нашей задушевной беседе опять
невольно замелькали старомодные словечки: «грезы»,
«сны», «мечты» <...>
И. И. Венедиктов
ЗА ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ
В числе вышедших со мною с этого вече¬
ра 1 был мой однокашник, лейб-сгерско-
го полка штабс-капитан Львов, который,
услыхав мое намерение переменить
квартиру, пригласил меня на сожи¬
тельство с ним. Я обрадовался этому предложению как
потому, что мне представлялась возможность платить
за квартиру дешевле, так и в особенности потому, что
не испытанная мною до этого времени жизнь в одино¬
честве в самое короткое время стала для меня невыно¬
симою. Я вскоре переехал. Оказалось, всего одна ком¬
ната, перегороженная ширмами, за которыми спал
Львов, а перед ширмами я. Знал я Львова, как сына
адъютанта нашего корпуса, когда он бегал еще в гу¬
сарской курточке, и провел с ним в корпусе более семи
лет, но не видел в нем ничего другого, как славного то¬
варища и разумного малого, предавшегося любимому
им предмету — химии, что дало ему право быть препо¬
давателем в Павловском кадетском корпусе. Но при
совместной жизни стал замечать в нем какую-то от
меня скрытность, одностороннее направление, не к делу
химии, и как любимый предмет разговоров с посещав¬
шими его, большею частью мне неизвестными липа¬
ми,— разговоры, ощутительно стесняемые моим присут¬
ствием. Уяснив себе суть направления Львова, я по-то¬
варищески и шутя стал повторять свое мнение, что луч¬
ше бы этих приятелей побоку. Ведь молодо-зелено. По¬
жалуй, высекут. Вскоре же узнал, что пятница такой
день, который Львов считает обязательным проводить
у какого-то Петрашевского, где и встречается со мно¬
гими специальными знакомыми.
126
В' числе немногих, которые заходили собственно ко
мне, был давний мой знакомый Зимин. Он как-то пере¬
дал мне, что в городе ходят слухи о каком-то обществе,
которое собирается в Коломне у Петрашевского, и что
эти сходки добром не кончатся. Я передал это Львову.
Если за обществом следят, то, конечно, знают уже и
лиц, которые сходятся у Петрашевского, почему я не
счел нужным скрывать мои опасения за Львова; после
чего у нас завязались совещания, как бы отвлечь Льво¬
ва хотя [бы] от соблюдения пятниц, вследствие чего Зи¬
мин скоро зашел к нам с приглашением прибыть в
первую пятницу к нему провести вечер, поиграть и по¬
ужинать. Жил Зимин на углу Морской и Вознесенско¬
го проспекта, нанимая комнаты у г-жи Бремме, имев¬
шей нескольких таких жильцов2. Мы пришли, поболта¬
ли, поиграли, а когда стали собирать ужин, Львов взял¬
ся за фуражку, объявив, что долее оставаться не мо¬
жет. Погода была ужасающая. Я, после усиленных
уговоров Львова изменить намерение, сказал, что если
он идет домой, то и я с ним, а если не домой, то оста¬
нусь ночевать у Зимина. Он уехал, а я остался.
Поутру, часу в шестом, вошел лакей, видимо по ка¬
кому-то делу. Поговорил с Зиминым и ушел. Зимин
взволновался и объявил, что дело дрянь. Ночыо у Брем¬
ме были жандармы, арестовали Достоевского, и, как
узнал дворник, всю ночь ездили по городу кареты и за¬
брали многих.
Понятно, я побежал немедленно домой. Спрашиваю
у дворника: «Все у нас благополучно?» — «Ничего,— го¬
ворит,— слава богу». Иду к себе, отворяет дверь ден¬
щик Львова — физиономия не в порядке... «Дома Фе¬
дор?»—«Давно ушли».—«Ушел?»—«Ушли».—«Куда?»—
«Не знаю».— «Ну да говори толком, что случилось?» —
«Только что,— говорит,— Федор Николаевич вернулись
домой, поздненько, и легли спать, как прибежал из
московских казарм солдат сказать, что ночью жандар¬
мы взяли поручика Момбелли. Федор Николаевич вско¬
чил и стал разбирать бумаги. Собрав кучу, приказал
мне где-нибудь их сжечь. Вспомнив, что внизу топится
прачешная, я бросился туда и бумаги сжег. Когда вер¬
нулся, Федор Николаевич был уже одет и тотчас ушел».
Чувствуя, что каша заварилась, и недоумевая, как
она миновала Львова, я вспомнил, что в том же полку
есть еще другой Львов, и, желая успокоить себя, пос¬
лал денщика в казармы, приказав проведать с черного
крыльца, дома ли он. Денщик вернулся с печальным
127
известием, что этого Львова ночью взяли. Недоразуме¬
ние и ошибка стали очевидными.
Последствие этой ошибки и публичное извинение
императора Николая перед Львовым, взятым по недо¬
разумению, были описаны по разным случаям во многих
журналах, почему я не повторяю здесь этого инцидента.
Когда Львов вернулся домой, я ему советовал на¬
деть мундир и ехать прямо к Ростовцеву, благоволив¬
шему к семейству Львова и любившему его самого с
малолетства, и высказать откровенно, что, сообразив ог¬
ласившиеся имена арестованных с Петрашевским во
главе, думать можно, что арестованы лица, собиравшие¬
ся у Петрашевского, а так как к числу их принадлежал
он, Федор Львов, тогда как арестован его однофамилец,
никогда не бывавший у Петрашевского, то спешит вы¬
дать себя, чтобы охранить от неприятностей своего то¬
варища. При таком совете я имел в виду, кроме добро¬
го дела, что такое признание будет принято как смяг¬
чающее вину обстоятельство. Но Львов отклонил мое
предложение и, как оказалось потом, сделал худо. Ког¬
да открылась комиссия и был введен арестованный
Львов, то Ростовцев сказал громко: «Ну вот, я говорил,
что не может быть мой». Эта поспешно высказанная и
оказавшаяся ошибочною уверенность, конечно, лишила
Львова того более теплого отношения, на какое он мог
рассчитывать со стороны влиятельного Ростовцева.
В то же утро к нам приехал один из неблизких род¬
ственников Львова, человек состоятельный, и, не стес¬
няясь моим присутствием, сказал Львову, что, собрав
все, что можно было найти дома,— около полуторы
тысячи рублей,— он предлагает это взять и до вечера
убраться, а потом что бог даст. «На первых порах по¬
можем, а потом сам устроишься». Но Львов, отблаго¬
дарив дружеским поцелуем за это предложение, от не¬
го отказался.
Началось тяжелое время ожиданий, что будет. Про¬
шло около недели. Наконец как-то под утро меня что-то
разбудило. Открываю глаза — в дверях стоит денщик,
в одном белье, и входят двое военных. Когда очнулся,
узнал в одном из них директора Павловского кадетско¬
го корпуса Языкова, а в другом — известного всем по
подвязанной руке жандармского полковника Василье¬
ва. Денщик бросился за ширмы и вышел сопровождае¬
мый Львовым, успевшим накинуть халат.
— Мне поручено,— обращаясь к Львову, начал Ва¬
сильев,— пригласить вас отправиться со мною в особую
128
комиссию, которая ожидает получить от вас кое-какие
сведения; при этом я обязан осмотреть и взять, какие
могут касаться дела, бумаги. Так как в числе ваших бу¬
маг могут быть и такие, которые вы не желали бы пре¬
давать гласности, то я предоставляю вам время взять
ваши бумаги за ширмы, пересмотреть и отдать мне толь¬
ко безвредные для вас.
Даже в такую тяжелую минуту Львов выразил бла¬
годарность за эту любезность с нескрываемою улыбкою,
вероятно, подумал: «Так ли бы ты, милый человек,
действовал, если бы приехал неделю ранее!» — «Возь¬
мите, что найдете нужным»,— отвечал Львов, открывая
ящики письменного стола.
Васильев сложил все в один ящик, перевязал бечев¬
кою и приложил печать. Потом посоветовал одеться и
взять мундир, прибавив, что все эти неприятности, ве¬
роятно, разъяснятся в самом непродолжительном вре¬
мени. Затем мы простились, и Львова увезли. Ух как
стало грустно! Если бы вынесли тело, кажется, было
бы легче. И теперь вспомнить скверно.
Через несколько времени стали ходить слухи, что
Набоков, комендант крепости, относится к заключен¬
ным с отеческим состраданием, а затем я получил от
Львова записку с уведомлением о данном ему разреше¬
нии получить некоторые книги, преимущественно по ча¬
сти химии. Я отправил, и все надолго замолкло.
Много времени спустя вбежал рано утром денщик,
в слезах, успев только выговорить: «Федора Николаеви¬
ча везут на Семеновский плац расстреливать»,— и скрыл¬
ся... Я очумел, но ехать туда не хватило мужества. Вско¬
ре обозначилось, что Львов, в числе первых, кажется,
пятерых, был приговорен к лишению жизни, но когда
эти лица были приведены к столбам для расстрелива-
ния, подскакал стоявший вдали фельдъегерь с объявле¬
нием замены смертной казни каторжными работами на
двенадцать лет.
В конце шестидесятых годов нежданно-недуманно
Львов прибыл ко мне. Встретив е,го радостно, у меня
недостало духу не только при этом свидании, но и по¬
том удовлетворять свое любопытство расспросами о
прожитой жизни, тем более что это был уже не преж¬
ний Львов: строгий в суждениях, резкий в приговорах
и притом замкнутый и несловоохотливый. Все-гаки уда¬
лось узнать, что каторгу, в том виде физических стра¬
даний, в каком она представляется обыкновенно, Львов
не испытал. В «мертвом доме» не был3. По прибытии
5 Зак. № 528
129
на место был назначен к огороду. Потом прилепился к
аптеке. Далее ген[ерал]-губерн[атор] Муравьев причис¬
лил его сначала к своей канцелярии в каком-то мудре¬
ном звании, а потом — к пробирному управлению 4.
Между тем добрые люди не дремали и вызвали со¬
чувствие знавшего отца Львова петербургского ген[е-
рал]-губерн[атора], светлейшего князя Суворова. Льво¬
ву удалось получить разрешение на отпуск в Рязань5,
но он рискнул направить свой путь через Петербург, где
и явился прямо к Суворову. Добрейший князь причис¬
лил его немедля к своей канцелярии, чем вызвал страш¬
ную против себя бурю со стороны шефа жандармов; но,
вынеся множество неприятностей и нахлобучек, как сам
выражался, отстоял за Львовым право остаться в Пе¬
тербурге. Тут его взял под свое покровительство пред¬
седатель Русского технического общества Петр Аркадь¬
евич Кочубей, повлиявший на избрание Львова секре¬
тарем общества. Ко времени открытия Петровской вы¬
ставки в Москве Львову были возвращены его права ®,
а за участие в этой выставке даже дали орден. Настоль¬
ко почетно Львов оправдал рекомендацию Кочубея и
выбор общества, что, будучи поставлен в необходимость
оставить место по надломленному здоровью, получил
пенсию от правительства и особо от общества, а когда
умер, то в числе собравшихся в скромную квартирку на
вынос тела прибыл, как однокашник, военный министр,
генерал-адъютант Ванновский, а на могиле Львова по¬
ставлен памятник его почитателями. Итак, самая тень
политической ошибки Львова была совершенно смыта.
Хороший был человек — мир праху твоему, многостра¬
дальный товарищ!
Когда, после арестования Львова, аресты стали про¬
должаться, тогда, по правде сказать, вструхнул и я, в
особенности когда ко мне пришел человек профессора
технологии Витта7 сказать, что и его барина взяли.
У Витта собирались по вторникам многие. В том чи¬
сле бывал и я. Ну, думаю, долго ли до беды! Вот тебе
и служба. <...>
А. 77. Милюков
ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ
ознакомился я с Ф. М. Достоевским
зимою 1848 года. Это было тяжелое
время для тогдашней образованной
молодежи. С первых дней парижской
февральской революции самые не¬
ожиданные события сменялись в Европе одни други¬
ми. Небывалые реформы Пия IX1 отозвались восста¬
ниями в Милане, Венеции, Неаполе; взрыв свободных
идей в Германии вызвал революции в Берлине и Вене.
Казалось, готовится какое-то общее перерождение все¬
го европейского мира. Гнилые основы старой реакции
падали, и новая жизнь зачиналась во всей Европе. Но
в то же время в России господствовал тяжелый застой;
наука и печать все более и более стеснялись, и придав¬
ленная общественная жизнь ничем не проявляла своей
деятельности. Из-за границы проникала контрабандным
путем масса либеральных сочинений, как ученых, так
и чисто литературных; во французских и немецких га¬
зетах, несмотря на их кастрированье, беспрестанно про¬
ходили возбудительные статьи; а между тем у нас,
больше чем когда-нибудь, стеснялась научная и литера¬
турная деятельность, и цензура заразилась самой ост¬
рой книгобоязнью. Понятно, как все это действовало
раздражительно на молодых людей, которые, с одной
стороны, из проникающих из-за границы книг знакоми¬
лись не только с либеральными идеями, но и с самы¬
ми крайними программами социализма, а с другой —
видели у нас преследование всякой мало-мальски сво¬
бодней мысли; читали жгучие речи, произносимые во
французской палате, на Франкфуртском съезде2, и в
131
то же время понимали, что легко можно пострадать за
какое-нибудь недозволенное сочинение, даже за неосто¬
рожное слово. Чуть не каждая заграничная почта при¬
носила известие о новых правах, даруемых, волей или
неволей, народам, а между тем в русском обществе хо¬
дили только слухи о новых ограничениях и стеснениях.
Кто помнит то время, тот знает, как все это отзывалось
на умах интеллигентной молодежи.
И вот в Петербурге начали мало-помалу образо¬
вываться небольшие кружки близких по образу мыслей
молодых людей, недавно покинувших высшие учебные
заведения, сначала с единственной целью сойтись в при¬
ятельском доме, поделиться новостями и слухами, об¬
меняться идеями, поговорить свободно, не опасаясь по¬
стороннего нескромного уха и языка. В таких приятель¬
ских кружках завязывались новые знакомства, закреп¬
лялись дружеские связи. Чаще всего бывал я на еже¬
недельных вечерах у тогдашнего моего сослуживца,
Иринарха Ивановича Введенского, известного перевод¬
чика Диккенса. Обычными посетителями там были
В. В. Дерикер — литератор и впоследствии доктор-го¬
меопат, Н. Г. Чернышевский и Г. Е. Благосветлов 3, тог¬
да еще студенты, и преподаватель русской словесности
в одной из столичных гимназий, а потом помощник ин¬
спектора классов в Смольном монастыре А. М. Печкин.
На вечерах говорили большею частию о литературе и
европейских событиях. Те же молодые люди бывали и
у меня.
Однажды Печкин пришел ко мне утром и, между
прочим, спросил, не хочу ли я познакомиться с молодым
начинающим поэтом А. Н. Плещеевым 4. Перед тем я
только что прочел небольшую книжку его стихотворе¬
ний, и мне понравились в ней, с одной стороны, непод¬
дельное чувство и простодушие, а с другой — свежесть
и юношеская пылкость мысли. Особенно обратили на¬
ше внимание небольшие пьесы: «Поэту» и «Вперед». И
могли ли, по тогдашнему настроению молодежи, не ув¬
лекать такие строфы, как, например:
Вперед! без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я.
Смелей1 дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперед,
И пусть под знаменем науки
Союз наш крепнет и растет!6
132
Разумеется, я ответил Печкину, что очень рад по¬
знакомиться с молодым поэтом. И мы скоро сошлись.
Плещеев стал ездить ко мне, а через несколько време¬
ни пригласил к себе на приятельский вечер, говоря, что
я найду у него несколько хороших людей, с которыми
ему хочется меня познакомить.
И действительно, я сошелся на этом вечере с людь¬
ми, о которых память навсегда останется для меня до¬
рогою. В числе других тут были: Порфирий Иванович
Ламанский, Сергей Федорович Дуров, гвардейские офи¬
церы — Николай Александрович Момбелли и Александр
Иванович Пальм — и братья Достоевские, Михаил Ми¬
хайлович и Федор Михайлович. Вся эта молодежь была
мне очень симпатична. Особенно сошелся я с Достоев¬
скими и Момбелли. Последний жил тогда в Московских
казармах6, и у него тоже сходился кружок молодых
людей. Там я встретил еще несколько новых лиц и уз¬
нал, что в Петербурге есть более обширный кружок
М. В. Буташевича-Петрашевского, где на довольно мно¬
голюдных сходках читаются речи политического и со¬
циального характера. Не помню, кто именно предложил
мне познакомиться с этим домом, но я отклонил это не
из опасения или равнодушия, а оттого, что сам Петра¬
шевский, с которым я незадолго перед тем встретился,
показался мне не очень симпатичным по резкой пара¬
доксальности его взглядов и холодности ко всему рус¬
скому 7.
Иначе отнесся я к предложению сблизиться с не¬
большим кружком С. Ф. Дурова, который состоял, как
узнал я, из людей, посещавших Петрашевского, но не
вполне согласных с его мнениями. Это была кучка мо¬
лодежи более умеренной. Дуров жил тогда вместе с
Пальмом и Алексеем Дмитриевичем Щелковым 8 на Го¬
роховой улице, за Семеновским мостом. В небольшой
квартире их собирался уже несколько времени органи¬
зованный кружок молодых военных и статских, и так
как хозяева были люди небогатые, а между тем гости
сходились каждую неделю и засиживались обыкновен¬
но часов до трех ночи, то всеми делался ежемесячный
взнос на чай и ужин и на оплату взятого напрокат роя¬
ля. Собирались обыкновенно по пятницам. Я вошел в
этот кружок среди зимы и посещал его регулярно до
самого прекращения вечеров после ареста Петрашев¬
ского и посещавших его лиц. Здесь, кроме тех, с кем
я познакомился у Плещеева и Момбелли, постоянно бы¬
вали Николай Александрович Спешнев и Павел Нико¬
133
лаевич Филиппов, оба люди очень образованные и ми¬
лые.
О собраниях Петрашевского я знаю только по слу¬
хам. Что же касается кружка Дурова, который я посе¬
щал постоянно и считал как бы своей дружеской семь¬
ей, то могу сказать положительно, что в нем не было
чисто революционных замыслов, и сходки эти, не имев¬
шие не только писаного устава, но и никакой опреде¬
ленной программы, ни в каком случае нельзя было на¬
звать тайным обществом. В кружке получались толь¬
ко и передавались друг другу недозволенные в тогдаш¬
нее время книги революционного и социального содер¬
жания, да разговоры большею частию обращались на
вопросы, которые не могли тогда обсуждаться открыто.
Больше всего занимал нас вопрос об освобождении
крестьян, и на вечерах постоянно рассуждали о том, ка¬
кими путями и когда может он разрешиться. Иные вы¬
сказывали мнение, что ввиду реакции, вызванной у нас
революциями в Европе, правительство едва ли присту¬
пит к решению этого дела и скорее следует ожидать
движения снизу, чем сверху. Другие, напротив, говори¬
ли, что народ наш не пойдет по следам европейских ре¬
волюционеров и, не веруя в новую пугачевщину, будет
терпеливо ждать решения своей судьбы от верховной
власти. В этом смысле с особенной настойчивостью вы¬
сказывался Ф. М. Достоевский. Я помню, как однаж¬
ды, с обычной своей энергией, он читал стихотворение
Пушкина «Уединение». Как теперь, слышу восторжен¬
ный голос, каким он прочел заключительный куплет:
Увижу ль, о друзья, народ не угнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет лн наконец прекрасная заря?9
Когда при этом кто-то выразил сомнение в возмож¬
ности освобождения крестьян легальным путем,
Ф. М.. Достоевский резко возразил, что ни в какой иной
путь он не верит.
Другой предмет, на который также часто обраща¬
лись беседы в нашем кружке, была тогдашняя цензура.
Нужно вспомнить, до каких крайностей доходили в то
время цензурные стеснения, какие ходили в обществе
рассказы по этому предмету и как умудрялись тогда
писатели провести какую-нибудь смелую мысль под ву¬
алей целомудренной скромности, чтобы представить, в
каком смысле высказывалась в нашем кружке моло¬
дежь, горячо любившая литературу. Это тем понятнее,
134
что между нами были не только начинавшие литерато¬
ры, но и такие, которые обратили уже на себя внима¬
ние публики, а роман Ф. М. Достоевского «Бедные лю¬
ди» обещал уже в авторе крупный талант. Разумеется
вопрос об отмене цензуры не находил у нас ни одного
противника.
Толки о литературе происходили большею частию по
поводу каких-нибудь замечательных статей в тогдаш¬
них журналах, и особенно таких, которые соответство¬
вали направлению кружка. Но разговор обращался и
на старых писателей, причем высказывались мнения рез¬
кие и иногда довольно односторонние и несправедли¬
вые. Однажды, я помню, речь зашла о Державине, и
кто-то заявил, что видит в нем скорее напыщенного ри¬
тора и низкопоклонного панегириста, чем великого поэ¬
та, каким величали его современники и школьные пе¬
данты. При этом Ф. М. Достоевский вскочил как ужа¬
ленный и закричал:
— Как? Да разве у Державина не было поэтиче¬
ских, вдохновенных порывов? Вот это разве не высокая
поэзия?
И он прочел на память стихотворение «Властителям
и судиям» с такою силою, с таким восторженным чувст¬
вом, что всех увлек своей декламацией и без всяких
комментарий поднял в общем мнении певца Фелицы *°.
В другой раз читал он несколько стихотворений Пуш¬
кина и Виктора Гюго, сходных по основной мысли или
картинам, и при этом мастерски доказывал, насколько
наш поэт выше как художник.
В дуровском кружке было несколько жарких социа¬
листов. Увлекаясь гуманными утопиями европейских
реформаторов, они видели в их учении начало новой ре¬
лигии, долженствующей будто бы пересоздать челове¬
чество и устроить общество на новых социальных на¬
чалах. Все, что являлось нового по этому предмету во
французской литературе, постоянно получалось, рас¬
пространялось и обсуживалась на наших сходках. Толки
о Ныо-Ланарке Роберта Оуэна и об Икарии Кабе ”, а
в особенности о фаланстере Фурье и теории прогрессив¬
ного налога Прудона 12 занимали иногда значительную
часть вечера. Все мы изучали этих социалистов, но да¬
леко не все верили в возможность практического осу¬
ществления их планов. В числе последних был Ф. М. До¬
стоевский. Он читал социальных писателей, но относил¬
ся к ним критически. Соглашаясь, что в основе их уче¬
ний была цель благородная, он, однако ж, считал их
135
только честными фантазерами. В особенности настаи¬
вал он на том, чго все эти теории для нас не имеют зна¬
чения, что мы должны искать источников для развития
русского общества не в учениях западных социалистов,
а в жизни и вековом историческом строе нашего наро¬
да, где в общине, артели и круговой поруке давно уже
существуют основы более прочные и нормальные, чем
все мечтания Сен-Симона и его школы 13. Он говорил,
что жизнь в икарийской коммуне или фаланстере пред¬
ставляется ему ужаснее и противнее всякой каторги. Ко¬
нечно, наши упорные проповедники социализма не со¬
глашались с ним.
Не меньше занимали нас беседы о тогдашних зако¬
нодательных и административных новостях, и понятно,
что при этом высказывались резкие суждения, основан¬
ные иногда на неточных слухах или не вполне досто¬
верных рассказах и анекдотах. И это в то время было
естественно в молодежи, с одной стороны, возмущаемой
зрелищем произвола нашей администрации, стеснением
науки и литературы, а с другой — возбужденной гран¬
диозными событиями, какие совершались в Европе, по¬
рождая надежды на лучшую, более свободную и дея¬
тельную жизнь. В этом отношении Ф. М. Достоевский
высказывался с не меньшей резкостью и увлечением,
чем и другие члены нашего кружка. Не могу теперь
привести с точностью его речей, но помню хорошо, что
он всегда энергически говорил против мероприятий, спо¬
собных стеснить чем-нибудь народ, и в особенности воз¬
мущали его злоупотребления, от которых страдали низ¬
шие классы и учащаяся молодежь. В суждениях его
постоянно слышался автор «Бедных людей», горячо со¬
чувствующий человеку в самом приниженном его состо¬
янии. Когда, по предложению одного из членов нашего
кружка ч, решено было писать статьи обличительного
содержания и читать их на наших вечерах, Ф М, До¬
стоевский одобрил эту мысль и обещал с своей сторо¬
ны работать, но, сколько я знаю, не успел ничего при¬
готовить в этом роде. К первой же статье, написанной
одним из офицеров, где рассказывался известный тогда
в городе анекдот 15, он отнесся неодобрительно и пори¬
цал как содержание ее, так и слабость литературной
формы. Я, с своей стороны, прочел на одном из наших
вечеров переведенную мною на церковнославянский
язык главу из «Paroles d’un croyant» * Ламенне 1в, и
• «Слова верующего» (франц.).
136
Ф. М. Достоевский сказал мне, что суровая библейская
речь этого сочинения вышла в моем переводе вырази¬
тельнее, чем в оригинале. Конечно, он разумел при
этом только самое свойство языка, но отзыв его был
для меня очень приятен. К сожалению, у меня не сохра¬
нилось рукописи. В последние недели существования
дуровского кружка возникло предположение литогра¬
фировать и сколько можно более распространять этим
путем статьи, которые будут одобрены по общему со¬
глашению, но мысль эта не была приведена в исполне¬
ние, так как вскоре большая часть наших друзей, имен¬
но все, кто посещал вечера Петрашевского, были аре¬
стованы.
Незадолго перед закрытием кружка один из наших
членов ездил в Москву и привез оттуда список извест¬
ного письма Белинского к Гоголю, писанного по поводу
его «Переписки с друзьями». Ф. М. Достоевский про¬
чел это письмо на вечере и потом, как сам он говорил,
читал его в разных знакомых домах и давал списы¬
вать с него копии. Впоследствии это послужило одним
из главных мотивов к его обвинению и ссылке. Письмо
это, которое в настоящее время едва ли увлечет кого-
нибудь своей односторонней парадоксальностью, произ¬
вело в то время сильное впечатление 17. У многих из на¬
ших знакомых оно обращалось в списках вместе с при¬
везенной также из Москвы юмористической статьею
А. Герцена, в которой остроумно и зло сравнивались
обе наши столицы 18. Вероятно, при аресте петрашевцев
немало экземпляров этих сочинений отобрано и переда¬
но было в Третье отделение. Нередко С. Ф. Дуров чи¬
тал свои стихотворения, и я помню, с каким удовольст¬
вием слушали мы его перевод известной пьесы Барбье
«Киайя», в которой цензура уничтожила несколько сти¬
хов. Кроме бесед и чтения у нас бывала по вечерам и
музыка. Последний вечер наш заключился тем, что один
даровитый пианист, Кашевский, сыграл на рояле увер¬
тюру из «Вильгельма Телля» Россини.
Двадцать третьего апреля 1849 года, возвратясь до¬
мой с лекции, я застал у себя М. М. Достоевского, ко¬
торый давно ожидал меня. С первого взгляда я заме¬
тил, что он был очень встревожен.
— Что с вами? — спросил я.
— Да разве вы не знаете! — сказал он.
— Что такое?
— Брат Федор арестован.
137
— Чго вы говорите! Когда?
— Нынче ночью... обыск был... его увезли... кварти¬
ра опечатана...
■— А другие что?
— Петрашевский, Спешнев взяты... кто еще — не
знаю... меня тоже не сегодня, так завтра увезут.
— Отчего вы это думаете?
— Брата Андрея арестовали... он ничего не знает,
никогда не бывал с нами... его взяли по ошибке вместо
меня.
Мы уговорились идти сейчас же разузнать, кто еще
из наших друзей арестован, а вечером опять повидаться.
Прежде всего я отправился к квартире С. Ф. Дурова:
она была заперта и на дверях виднелись казенные пе¬
чати. То же самое нашел я у Н. А. Момбелли, в Москов¬
ских казармах, и на Васильевском острове — у
П. Н. Филиппова. На вопросы мои денщику и дворни¬
кам мне отвечали: «Господ увезли ночью». Денщик
Момбелли, который знал меня, говорил это со слезами
на глазах. Вечером я зашел к М. М. Достоевскому, и
мы обменялись собранными сведениями. Он был у дру¬
гих наших общих знакомых и узнал, что большая часть
из них арестованы в прошлую ночь. По тому, что мы уз¬
нали, можно было заключить, что задержаны те только,
кто бывал на сходках у Петрашевского, а принадле¬
жавшие к одному дуровскому кружку остались пока на
свободе. Ясно было, что об этом кружке еще не знали,
и если Дуров, Пальм и Щелков арестованы, то не,по
поводу их вечеров, а только по знакомству с Петрашев¬
ским. М. М. Достоевский тоже бывал у него и, очевидно,
не взят был только потому, что вместо пего по ошибке
задержали его брата, Андрея Михайловича. Таким об¬
разом, и над ним повис дамоклов меч, и он целые две
недели ждал каждую ночь неизбежных гостей. Все это
время мы видались ежедневно и обменивались ново¬
стями, хотя существенного ничего не могли разведать.
Кроме слухов, которые ходили в городе и представ¬
ляли дело Петрашевского с. обычными в таких случаях
прибавлениями, мы узнали только, что арестовано око¬
ло тридцати человек и все они сначала привезены были
в Третье отделение, а оттуда препровождены в Петро¬
павловскую крепость и сидят в одиночных казематах.
За кружком Петрашевского, как теперь оказалось, сле¬
дили давно уже, и на вечера к нему введен был от ми¬
нистерства внутренних дел один молодой человек, ко¬
торый прикинулся сочувствующим идеям либеральной
138
молодежи, аккуратно бывал на сходках, сам подстре¬
кал других на радикальные разговоры и потом записы¬
вал все, что говорилось на вечерах, и передавал куда
следует. М. М. Достоевский говорил мне, что он давно
казался ему подозрительным. Скоро сделалось извест¬
но, что для исследования дела Петрашевского назнача¬
ется особенная следственная комиссия, под председа¬
тельством коменданта крепости генерала Набокова, из
князя Долгорукова, Л. В. Дубельта, князя П. П. Гага¬
рина и Я. И. Ростовцева.
Прошло две недели, и вот однажды рано утром при¬
слали мне сказать, что и М. М. Достоевский в прош¬
лую ночь арестован. Жена и дети его остались без вся¬
ких средств, так как он нигде не служил, не имел ни¬
какого состояния и жил одними литературными работа¬
ми для «Отечественных записок», где вел ежемесячно
«Внутреннее обозрение» и помещал небольшие повести.
С арестом его семейство очутилось в крайне тяжелом
положении, и только А. А. Краевсхий 19 помог ему пере¬
жить это несчастное время. Я не боялся особенно за
М. М. Достоевского, зная его скромность и сдержан¬
ность; хотя он и бывал у Петрашевского, но не симпати¬
зировал большинству его гостей и нередко высказывал
мне свое несочувствие к тем резкостям, которые позво¬
ляли себе там более крайние и неосторожные люди.
Сколько я знал, на него не могло быть сделано ника¬
ких серьезно опасных показаний, да притом в последнее
время он почти совсем отстал от кружка. Поэтому я
надеялся, что арест его не будет продолжителен, в чем
и не ошибся.
В конце мая месяца (1849 г.) я нанял небольшую
летнюю квартиру в Колтовской, поблизости от Крестов¬
ского острова, и взял погостить к себе старшего сына
М. М. Достоевского, которому тогда было, если не оши¬
баюсь, лет семь. Мать навещала его каждую неделю.
Однажды, кажется, в средине июля, я сидел в нашем
садике, и вдруг маленький Федя бежит ко мне с кри¬
ком: «Папа, папа приехал!» В самом деле, в это утро
моего приятеля освободили, и он поспешил видеть сына
и повидаться со мною. Понятно, с какой радостью об¬
нялись мы после двухмесячной разлуки. Вечером по¬
шли мы на острова, и он рассказал мне подробности
о своем аресте и содержании в каземате, о допросах в
следственной комиссии и данных им показаниях. Он
сообщил мне и то, что именно из данных ему вопрос¬
ных пунктов относилось к Федору Михайловичу. Мы за-
139
ключили, что хотя он обвиняется только в либераль¬
ных разговорах, порицании некоторых высокопостав¬
ленных лии и распространении запрещенных сочинений
и рокового письма Белинского, но если делу захотят
придать серьезное значение, что по тогдашнему време¬
ни было очень вероятно, то развязка может быть пе¬
чальная. Правда, несколько человек из арестованных в
апреле постепенно были освобождены, зато о других хо¬
дили неутешительные слухи. Говорили, что многим не
миновать ссылки.
Лето тянулось печально. Одни из близких моих зна¬
комых были в крепости, другие жили на дачах, кто в
Парголове, кто в Царском Селе. Я изредка видался с
И. И. Введенским и каждую неделю с М. М. Достоев¬
ским. В конце августа переехал я опять в город, и мы
стали бывать друг у друга еще чаще. Известия о на¬
ших друзьях были очень неопределенные: мы знали
только, что они здоровы, но едва ли кто-нибудь из них
выйдет на свободу. Следственная комиссия закончила
свои заседания, и надобно было ожидать окончательно¬
го решения дела. Но до этого было, однако, еще дале¬
ко. Прошла осень, потянулась зима, и только перед
святками решена была участь осужденных. К крайнему
удивлению и ужасу нашему, все приговорены были к
смертной казни расстрелянием. Но, как известно, при¬
говор этот не был приведен в исполнение. В день каз¬
ни на Семеновском плацу, на самом эшафоте, куда вве¬
дены были все приговоренные, прочитали им новое ре¬
шение, по которому им дарована жизнь, с заменою
смертной казни другими наказаниями. По этому при¬
говору Ф. М. Достоевскому назначалась ссылка в ка¬
торжные работы на четыре года, с зачислением его, по
окончании этого срока, рядовым в один из сибирских
линейных батальонов. Все это случилось так быстро и
неожиданно, что ни я, ни брат его не были на Семенов¬
ском плацу и узнали о судьбе наших друзей, когда все
уже было кончено и их снова перевезли в Петропавлов¬
скую крепость, кроме М. В. Петрашевского, который
прямо с эшафота отправлен был в Сибирь.
Осужденных отвозили из крепости в ссылку партия¬
ми по два и по три человека. Если не ошибаюсь, на тре¬
тий день после экзекуции на Семеновской площади
М. М. Достоевский приехал ко мне и сказал, что бра¬
та его отправляют в тот же вечер и он едет проститься
с ним20. Мне тоже хотелось попрощаться с тем, кого
долго, а может быть и никогда, не придется видеть. Мы
140
поехали в крепость, прямо к известному уже нам плац-
майору М[айдел]ю, через которого надеялись получить
разрешение на свидание. Это был человек в высокой
степени доброжелательный. Он подтвердил, что дейст¬
вительно в этот вечер отправляют в Омск Достоевско¬
го и Дурова, но видеться с уезжающими, кроме близ¬
ких родственников, нельзя без разрешения коменданта.
Это сначала меня очень огорчило, но, зная доброе серд¬
це и снисходительность генерала Набокова, я решился
обратиться к нему лично за позволением проститься с
друзьями. И я не ошибся в своей надежде: комендант
разрешил и мне видеться с Ф. М. Достоевским и Дуро¬
вым.
Нас провели в какую-то большую комнату, в ниж¬
нем этаже комендантского дома. Давно уже был вечер,
и она освещалась одною лампою. Мы ждали довольно
долго, так что крепостные куранты раза два успели
проиграть четверть на своих разнотонных колокольчи¬
ках. Но вот дверь отворилась, за нею брякнули прикла¬
ды ружей, и в сопровождении офицера вошли Ф. М. До¬
стоевский и С. Ф. Дуров. Горячо пожали мы друг другу
руки. Несмотря на восьмимесячное заключение в ка¬
зематах, они почти не переменились: то же серьезное
спокойствие на лице одного, та же приветливая улыбка
у другого. Оба уже одеты были в дорожное арестант¬
ское платье — в полушубках и валенках. Крепостной
офицер скромно поместился на стуле, недалеко от вхо¬
да, и нисколько не стеснял нас. Федор Михайлович
прежде всего высказал свою радость брату, что он не
пострадал вместе с другими, и с теплой заботливостью
расспрашивал его о семействе, о детях, входил в самые
мелкие подробности о их здоровье и занятиях. Во вре¬
мя нашего свидания он обращался к этому несколько
раз. На вопросы о том, каково было содержание в кре¬
пости, Достоевский и Дуров с особенной теплотою ото¬
звались о коменданте, который постоянно заботился о
них и облегчал, чем только мог, их положение. Ни ма¬
лейшей жалобы не высказали ни тот, ни другой на стро¬
гость суда или суровость приговора. Перспектива ка¬
торжной жизни не страшила их, и, конечно, в это вре¬
мя они не предчувствовали, как она отзовется на их
здоровье.
Когда Федор Михайлович начал говорить с братом
о семейных делах, Дуров рассказывал мне, как он ма¬
ло-помалу свыкся с казематом, особенно с того време¬
ни, когда им стали присылать книги и журналы. При
141
этом он высказал свои замечания о сочинениях, кото¬
рые особенно почему-нибудь обратили его внимание.
Если бы кто прислушался к нашему разговору, то по¬
думал бы, что мы виделись еще на днях и у моего со¬
беседника нет других интересов, кроме политических но¬
востей и литературы. Передавая мне небольшой листок
почтовой бумаги, он сказал: «Это мои последние сти¬
хи... на днях написал в каземате... возьмите на память...
может, когда-нибудь напечатаете». <...> 21
Смотря на прощанье братьев Достоевских, всякий
заметил бы, что из них страдает более тот, который
остается на свободе в Петербурге, а не тот, кому сей¬
час предстоит ехать в Сибирь на каторгу. В глазах
старшего брата стояли слезы, губы его дрожали, а Фе¬
дор Михайлович был спокоен и утешал его.
— Перестань же, брат,— говорил он,— ты знаешь
меня, не в гроб же я уйду, не в могилу провожаешь,—
и в каторге не звери, а люди, может, еще и лучше меня,
может, достойнее меня... Да мы еще увидимся, я наде¬
юсь на это,— я даже не сомневаюсь, что увидимся... А
вы пишите, да, когда обживусь — книг присылайте, я
напишу, каких; ведь читать можно будет... А выйду из
каторги — писать начну. В эти месяцы я много пережил,
в себе-то самом много пережил, а там впереди-то что
увижу и переживу,— будет о чем писать...
Можно было подумать, что этот человек смотрел на
свою будущую каторгу, точно на какую-нибудь поезд¬
ку за границу, где ему предстоит любоваться красотами
природы и памятниками искусства и знакомиться с но¬
выми, привлекательными людьми, при полной свободе
и со всеми средствами и удобствами путешественника.
Он как будто не думал о том, что должен провести че¬
тыре года в «мертвом доме», в цепях, вместе с людьми,
выброшенными из общества за страшные преступления;
а может быть, его именно занимала как бы врожденная
и всегда присущая ему мысль найти в самых низко пад¬
ших преступниках те человеческие черты, ту глубоко
под пеплом затаившуюся, но не погасшую искру огня
божия, которая живет, как он верил, в самом закоре¬
нелом злодее и последнем отверженце.
Более получаса продолжалось наше свидание, но
оно показалось нам очень коротким, хотя мы много-
много переговорили. Печально перезванивали колоколь¬
чики на крепостных часах, когда вошел плац-майор и
сказал, что нам время расстаться. В последний раз об¬
нялись мы и пожали друг другу руки. Я не предчувст¬
142
вовал тогда, что с Дуровым никогда уже более не встре¬
чусь, а Ф. М. Достоевского увижу только через восемь
лет. Мы поблагодарили М[айдел]я за его снисхождение,
а он сказал нам, что друзей наших повезут через час
или даже раньше. Их повели через двор с офицером
и двумя конвойными солдатами. Несколько времени мы
помедлили в крепости, потом вышли и остановились у
тех ворот, откуда должны были выехать осужденные.
Ночь была не холодная и светлая. На крепостной коло¬
кольне куранты проиграли девять часов, когда выехали
двое ямских саней, и на каждых сидел арестант с жан¬
дармом.
— Прощайте! — крикнули мы.
— До свидания! До свидания! — отвечали нам22.
Н. П. Баллин
50 ЛЕТ МОЕЙ ЖИЗНИ
Из всех товарищей во время пребывания
в училище я ближе всех был к М. Е. Ко¬
валевскому Мы сидели с ним на одной
скамейке, в рекреации всегда ходили
вместе, кровати наши близко стояли ря¬
дом. Он был очень остроумным мальчиком, умел рисо¬
вать карикатуры, сочинял смешные стишки, хотя ни¬
когда не писал их, рассказывал о путешествиях своего
дяди Егора Петровича, о своих знакомых, т. е. о зна¬
комых своего отца, который впоследствии был минист¬
ром народного просвещения, о Неваховиче2, который
издавал тогда карикатурный листок. Он же приносил
много книг в училище. Систематически мы ничего не
читали, но вскоре приобрели вкус к чтению, сложились
и устроили общую библиотеку романов на французском
языке. Но эта библиотека скоро нас перестала интере¬
совать; Ковалевский познакомил меня с Кабе, с сен-си-
монистами, с фурьеристами, с Луи Бланом, с Прудо¬
ном, и я стал по воскресеньям ходить на толкучку поку¬
пать старые книги и образовал себе приличную библио¬
теку. Любили мы особенно Беранже. Я усердно читал
сочинения Бентама, возражения Тьера на памфлеты
Прудона, Руссо и книги по истории французской рево¬
люции. Ковалевский тоже ходил на толкучку, купил
Монтеня, Монтескье. Но для меня Монтень и «Дух за¬
конов» были скучны. Мы увлекались более неясными
грезами о фурьеризме.
Сочинения Фурье нам тогда не попадались, да если
бы и попались, мы бы их, вероятно, тогда не читали,
хотя читали Сен-Симона, который был гораздо скуч¬
нее. Мы почерпали, выуживали фурьеристические идеи
144
везде: и в попадавшихся нам социалистических брошю¬
рах, и даже в Байроне и Гулливере. Но Ковалевский вы¬
уживал из книг преимущественно то, что давало пищу
его сатирическому уму, а я склонен был более к фан¬
тастическому, к мистическому. Ковалевский восхищал¬
ся великими людьми, а я — высокими настроениями. Ко¬
валевский смеялся до слез, перечитывая даже «Нос»
Гоголя, а я добивался в нем смысла и не находил. Он
любил Вальтера Скотта, драмы Виктора Гюго; я за¬
читывался сочинениями Купера. Он восхищался Пру¬
доном, Маратом, Робеспьером, Дантоном; а я — отжив¬
шею жизнью греческого политеизма, любил бессмыс¬
ленно повторять, что я знаю, что ничего не знаю.
...Революция 1848 года значительно содействовала
развитию моих социальных стремлений. Мы были уже
подготовлены к этому. Любимой нашей песнью была
«Марсельеза». И мы рады были, когда образовалось
временное правительство3. Французские газеты в кон¬
дитерской Иванова (у Семионовского моста) пришли с
революционными надписями.
В понедельник, после того как получено было изве¬
стие о событиях в Париже, один из учеников 5-го клас¬
са, Ямонд 2-й, во время перемены взошел на кафедру и
торжественно заявил: «Господа! Теперь Франция не ко¬
ролевство, а республика. Французы прогнали короля и
трон сожгли». Это было уже во время директорства ли¬
берального Голицына. Это заявление вызвало целую
историю. Воспитатель 5-го класса, Носов 1-й, из новых
(новые были хуже старых), немедленно дал знать ди¬
ректору. Тот, разумеется, сказал подходящий к случаю
спич и отправился к Ольденбургскому4. Решено было
выгнать Ямонда из училища. Нас это возмутило, в осо¬
бенности потому, что мы не любили Носова и Голицы¬
на (хотя этот последний был и добрый). Не помню, как
мы протестовали, но помню, что несколько человек из
нас: Арсеньев, Пузанов и я—сговорились приготовить
Ямонда к университету. В университет Ямонду посту¬
пить не удалось, так как поступление в университет бы¬
ло ограничено или прекращено; но он поступил в Горе-
горецкое училище 5.
Не знаю, много ли я принес пользы Ямонду, но пом¬
ню, что давание ему уроков доставляло мне высокое
нравственное удовлетворение и заставило меня вы¬
учиться кое-чему, чего я не знал или что позабыл. Я не
помню хорошенько, насколько внимательно мы относи¬
лись к принятой нами на себя обязанности; но помню,
N5
что нами руководило не только желание выразить наш
протест, но и искреннее желание сделать доброе дело.
Я не стану разбирать, почему мы думали, что делаем
доброе дело, что учим своего обиженного товарища для
поступления в высшее учебное заведение. Важно уж
то, что мы захотели сделать доброе дело сообща...
Сочинение Ламартина «История жирондистов» при¬
шлось нам как раз по зубам. На меня оно подейство¬
вало очень хорошо. От нас стали требовать усиленной
благонадежности, усиленного благонравия, усиленного
благоутробия6 тем более, чем более мы увлекались ге¬
роями и поэтами, напр[имер] Мицкевичем, Байроном и
другими популярными писателями, чем более мы созна¬
вали в себе развитие личности.
«Истории» случались беспрестанно. Вдруг на двух
из товарищей наших двумя классами ниже меня (я был
в 1-м классе, они были в 3-м) был сделан донос одним
из моих товарищей по классу, остававшимся несколь¬
ко раз в классе и теперь бывшим в 3-м классе,— Полит¬
ковским. Насколько серьезен был донос, я не знаю, но
донос был сделан на ребят лет 16 — князя Гагарина и
Беликовича. Оба были умные и хорошие мальчики, хо¬
рошо учившиеся. Донос был сделан политический. По
сделанному нами дознанию оказалось впоследствии, что
Политковскому какой-то агент Третьего отделения да¬
вал деньги и обещал еще более; тот и рассказал о ли¬
берализме Гагарина и Беликовича. Без всякого сомне¬
ния, эти «либералы» были не более либеральны любого
из нас. Политический, религиозный и нравственный ни¬
гилизм (разумеется, в зародыше) был тогда нашим об¬
щим недостатком и при несдержанности языка, особен¬
но у бойких на язык мальчиков, легко мог в товари¬
щеской беседе привести к разным «нетерпимым выра¬
жениям». Так же, как попались Беликович и Гагарин,
могли бы попасться, без сомнения, многие из нас, ес¬
ли бы в числе нас попадались фискалы. С воспитате¬
лями мы «глупостей» говорить опасались; но, вероятно,
если бы кто-нибудь из нас и сморозил какую-нибудь
«глупость» хорошему воспитателю или преподавателю,
то он бы слушать не стал или постарался бы ответить
на «глупость» надлежащим внушением. В товарище¬
ской же беседе «глупости» развиваются без удержу,
поддерживаются смешками, возражениями и дополне¬
ниями.
У Беликовича и Гагарина сделали обыск: у Гага¬
рина нашли «Марсельезу», а у Беликовича — «Еще
146
Польска не згинела». Затем уличенных «преступников»
засадили в карцер и—чего никогда не бывало — приста¬
вили солдат к входу. Через несколько дней их спрова¬
дили из училища. Гагарин угодил на военную службу
на Кавказ, а Беликович — в Орскую крепость. Что
с ними потом было, не знаю. Впечатление, произведен¬
ное арестом Б. и Г., было очень сильное. Мы не без
пристрастия допросили Политковского, и решено было,
что его следует вон, что мы его терпеть в училище не
будем, а не то расправа у нас будет бесцеремонная.
Сначала думали, что это решение принято сгоряча. По¬
литковский исчез из класса. Но потом оказалось, что
поступок его не мог быть забыт, и начальству было ка¬
тегорично заявлено требование об удалении Политков¬
ского и на него самого было произведено давление. Не
знаю, сам ли он ушел или начальство посоветовало ему
удалиться, но он исчез.
Хотя мы и стращали Политковского, что мы ему ко¬
сти переломаем, но, к чести нашей благовоспитанности,
дальше простых запугиваний мы не заходили. Мне его
даже жалко было; но он был противен для меня до не¬
выносимости. <...>
В это же время в Петербурге организовался кружок
петрашевцев, который скоро приобрел известность. Я
был приятелем с двумя товарищами — Барановс¬
ким Н. И.7 и Головинским-старшим, которые только
что окончили курс и поселились в 16-й линии Василь¬
евского] о[строва], в особом помещении, которое они
называли фаланстером, потому что они хотели прово¬
дить фурьеристские тенденции в жизнь. В фаланстере
я видел некоторых петрашевцев, помню Филиппова,
Достоевского.
Накануне ареста Головинского я заехал в фалан¬
стер. Там был чиновник департамента иностранных ис¬
поведаний, молодой человек Толстой (граф), чуть ли
не будущий знаменитый министр. Я его потом уже ни¬
когда не встречал.
Он завел с Головинским речь о Петрашевском.
— Охота вам с ними возиться,— говорил он,— ведь
они воду толкут.
— Это так, они толкут что-то вроде воды,— согла¬
сился Головинский,— но поставьте вместо воды что-
нибудь другое, и выйдет более или менее полезная ра¬
бота.
Головинский в числе 20 петрашевцев был пригово¬
рен к смертной казни, но потом помилован; его сосла¬
147
ли в солдаты на Кавказ без выслуги. Он был очень
маленького роста, очень слабого сложения и очень нер¬
вен. Он скоро умер 8.
Вина его заключалась в том, что он в собрании пет¬
рашевцев произнес речь приблизительно следующего
содержания:
— Некоторые из нас интересуются преимуществен¬
но освобождением печати, другие — преимущественно
организацией публичного судопроизводства, многие,
наконец, заботятся исключительно об освобождении
крестьян. Я, с своей стороны, думаю, что освобожде¬
ние печати почти не важно потому, что мысль свобод¬
на, какую бы цензуру ни учредило начальство, да, кро¬
ме того, у нас мало пишут, мало и читают. Публичное
судопроизводство действительно дает новые права все¬
му населению, но какие оно может развить права, ког¬
да у нас сорок миллионов крепостных? Я думаю, что
прежде всего необходимо позаботиться о доставлении
этим сорока миллионам человеческих прав и человече¬
ских стремлений, без которых немыслим прогресс. Но я
не имею в виду навязывать своего мнения. Я знаю, что
многие интересуются уничтожением цензуры или уст¬
ройством публичного судопроизводства специально и не
думают об освобождении крестьян по той или другой
причине. Я думаю, что все имеющиеся добрые стрем¬
ления должны подать друг другу руку, помогать друг
другу, и тогда мы все достигнем разработки всех вопро¬
сов, нас интересующих. Цель у всех у нас одна: сво¬
бода, равенство и братство. Пусть каждый делает свое
дело и помогает своим единомышленникам в своей сфе¬
ре всем сердцем, всей душой.
Ф. М. Достоевский был судим за распространение
известного письма Белинского к Гоголю. Он был сна¬
чала тоже приговорен к расстрелянию и затем помило¬
ван — отправлен в арестантские роты9. Вина его счи¬
талась гораздо более вины Головинского. Но в дейст¬
вительности всякий из нас не позадумался бы распро¬
странить письмо Белинского. Мы его переписывали и
распространяли после ареста петрашевцев. Достоев¬
ский, хотя и пользовался в нашем кружке репутацией
умного и талантливого писателя, мне не нравился, хо¬
тя тогдашние повести его некоторые мне нравились.
Он мне казался крайне самомнительным, самолюбивым
и сентиментальным. Он как бы хвастался своей впечат¬
лительностью и тем, что закуривался папиросами до
дурману в голове.
148
О Филиппове я припоминаю только, что он доказы¬
вал, что есть дифференциал дифференциала и т. д.
К петрашевцам принадлежал и Пальм, товарищ
Неваховича, издававший с ним сатирический альбом.
Потом я встретился, с ним при других обстоятельст¬
вах. Он написал о петрашевцах роман «Алексей Сло¬
бодин».
Фаланстер Головинского и Баранозского был нечто
подобное коммунам, устраивавшимся впоследствии в
шестидесятых годах. Это был дом коммунаров на шесть
или восемь человек. Впоследствии он был переведен
к Большому театру в доме Никитина, где были наня¬
ты правоведами, окончившими курс, четыре этажа дво¬
рового флигеля: в каждом этаже жили по два и иног¬
да по три правоведа.
Это время совпало с увлечением итальянской опе¬
рой, и фаланстер превратился чуть-чуть не в меломан¬
ское общество. Три раза в неделю здесь собиралось
после оперы пропасть народу, здесь бывали разные
музыканты, велись нескончаемые музыкальные споры.
Барановский жил в доме Никитина, и я часто посещал
преимущественно его.
Казнь петрашевцев произвела на меня впечатление
очень глубокое. Это была смесь комедиантства, лицеме¬
рия, бесчеловечия и насилия общества над личностью.
Но мы так привыкли к насилию, что теперь воспоми¬
нания о казни петрашевцев мне представляются блед¬
ными. Я вспоминаю, что петрашевцев доставили на
место казни в отдельных извозчичьих каретах (их было
20); что им велено было присутствовать при исполне¬
нии приговора в сюртуках и без шапок, несмотря на
10-градусный мороз10; что они переодевались в арес¬
тантское платье на платформе; что Петрашевский, Гри¬
горьев, Момбелли стояли несколько минут у позорного
столба перед прицеливающимися в них солдатами в
саванах, прежде чем их помиловали; что над дворяна¬
ми повесили надпиленные и ненадпиленные шпаги ”.
Уже в конце сороковых годов чувствовалось, что из¬
девательство над чувствами и насилие над мыслью не
может продолжаться нескончаемо. Протестовали уже
все лучшие люди, все чуткие люди всяких оттенков...
Люди пятидесятых годов — Чернышевский и Добролю¬
бов— еще не показывались, но «Отечественные запис¬
ки» и потом «Современник» несколько намечали дорож¬
ку к свободе, к освобождению.
Ф. М. Достоевский
[ОБ АРЕСТЕ]
вадцать второго или, лучше ска¬
зать, двадцать третьего апреля
(1849 год) я воротился домой часу
в четвертом от Григорьева, лег
,спать и тотчас же заснул. Не более
как через час я, сквозь сон, заметил, что в мою ком¬
нату вошли какие-то подозрительные и необыкновен¬
ные люди. Брякнула сабля, нечаянно за что-то задев¬
шая. Что за странность? С усилием открываю глаза
и слышу мягкий, симпатический голос:
— Вставайте!
Смотрю: квартальный или частный пристав, с кра¬
сивыми бакенбардами. Но говорил не он; говорил гос¬
подин, одетый в голубое *, с подполковничьими эполе¬
тами.
— Что случилось? — спросил я, привстав с кровати.
— По повелению...
Смотрю: действительно «по повелению». В дверях
стоял солдат, тоже голубой. У него-то и звякнула саб¬
ля...
«Эге, да это вот что!» — подумал я.
— Позвольте ж мне...— начал было я.
— Ничего, ничего! Одевайтесь. Мы подождем-с,—
прибавил подполковник еше более симпатическим го¬
лосом.
Пока я одевался, они потребовали все книги и ста¬
ли рыться; немного нашли, но все перерыли. Бумаги
и письма мои аккуратно связали веревочкой. Пристав
обнаружил при этом много предусмотрительности; он
полез в печку к пошарил моим чубуком в старой золе.
150
Жандармский унтер-офицер по его приглашению стал
на стул и полез на печь, ню оборвался с карниза и
громко упал на стул, а потом со стулом на пол. Тогда
прозорливые господа убедились, что на печи ничего
не было.
На столе лежал пятиалтынный, старый и согнутый.
Пристав внимательно разглядывал его и наконец кив¬
нул подполковнику.
— Уж не фальшивый ли? — спросил я.
— Гм... Это, однако же, надо исследовать...— бор¬
мотал пристав и кончил тем, что присоединил и его
к делу.
Мы вышли. Нас провожала испуганная хозяйка и
человек ее Иван, хотя и очень испуганный, но глядев¬
ший с какою-то тупою торжественностью, приличною
событию, впрочем, торжественностью не праздничною.
У подъезда стояла карета; в карету сели солдат, я, при¬
став и подполковник; мы отправились на Фонтанку, к
Цепному мосту, у Летнего сада2. Там было много ходь¬
бы и народа. Я встретил многих знакомых. Все были
заспанные и молчаливые. Какой-то господин, статский,
но в большом чине, принимал... Беспрерывно входили
голубые господа с разными жертвами.
— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — сказал мне
кто-то на ухо.
23 апреля был действительно Юрьев день 3.
Мы мало-помалу окружили статского господина со
списком в руках. В списке перед именем Господина]
Антонелли написано было карандашом: «агент по най¬
денному делу».
«Так это Антонелли!» — подумали мы.
Нас разместили по разным углам в ожидании окон¬
чательного решения, куда кого девать. В так называе¬
мой белой зале нас собралось человек семнадцать...
Вошел Леонтий Васильевич...
Но здесь я прерываю мой рассказ. Долго рассказы¬
вать. Но уверяю, что Леонтий Васильевич был препрн-
ятный человек 4.
24 мая 1860
Ф. Достоевский.
И5-|
И. Л. Ястржембский
МЕМУАР ПЕТРАШЕВЦА
вадцать второго апреля 1849 года я
возвратился в свою квартиру в Тех¬
нологическом институте поздно, или
скорее это случилось 23-го в треть¬
ем часу утра. Я опустил шторы и
улегся спать. Но едва успел задремать, как услышал,
что кто-то приподнимает штору, и тут же заметил ка¬
кую-то черную массу, в полумраке движущуюся по
комнате, и над ней развевающийся белый конский
хвост.
Черная масса приблизилась к моей кровати и спро¬
сила:
— Вы ли помощник инспектора классов Ястржемб¬
ский?
Я отвечал: «Да». Тогда масса объявила мне, что
она — полковник корпуса жандармов, добавляя, что
«арестует меня по воле государя императора», и тут же
подала мне какую-то бумагу, сладенько произнеся: «Тво¬
рю волю пославшего мя». Я сказал на это, что вижу,
кто он, и потому не имею нужды читать его бумаги, и
попросил позволения напиться чаю. Тогда он вышел в
другую комнату и послал кого-то за полицмейстером
института.
Я последовал за ним и увидел целую полицейскую
команду московской части с частным приставом во
главе.
Явились полицмейстер и директор института ген[е-
рал] Блай. Жандармский полковник потребовал мои
бумаги, вложил их все вместе в портфель, велел его
запечатать моею печатью, собрал книги и куда-то их
152
уложил, составил, кажется, протокол и передал осталь¬
ные мои вещи полицмейстеру института; но предвари¬
тельно обшарил всю мебель и даже висевшие на сте¬
нах картинки, причем те из них, которые были наклее¬
ны на папке, разрезал.
Мы вышли на двор, и там я увидел карету, в кото¬
рую мы и поместились и поехали, как я догадывался,
в III отделение.
Как все мои знакомые молодые люди, так и я,—
все мы были так заняты начавшимся тогда в Европе
социально-экономическим движением (политикой в соб¬
ственном смысле мы не занимались), что почти не об¬
ращали внимания на то, что делалось в России и в Пе¬
тербурге. Поэтому неудивительно, что я не догадался,
по какому случаю меня арестовали, и все надеялся, что
сейчас после объяснения в III отделении меня отпу¬
стят. Оказалось, однако, что я считал без хозяина.
Мы приехали в III отделение и вошли в большие
сени, где я с удивлением заметил стоявшую посредине
большую статую Венеры Каллипиги.
В зале я заметил всех, с кем я встречался на вече¬
рах у Петрашевского, и его самого.
После долгого, почти десятичасового, ожидания меня
позвали в кабинет ген(ерала] Дубельта. Тот, посмотрев
на меня, сказал; «Г-н Ястржембский, я вам отвел здесь
квартиру».
Арестовавший меня жандармский полковник сдал
меня жандарму, и меня повели через двор в нумер аре¬
стантского помещения. Там посетил меня и граф Ор¬
лов и спросил только: «Как ваша фамилия?»
В течение целого дня я в окно видел въезжающие
во двор почтовые телеги, из которых высаживались
разные лица в сопровождении жандармов.
Наконец в 9 часов вечера ко мне в номер вошел
жандармский унтер-офицер и велел мне одеваться и
идти за ним.
Мы пошли опять з кабинет ген[ерала] Дубельта, где
я застал жандармского поручика, которому ген[ерал^
Дубельт отдал какой-то толстый пакет, а мне сказал:
«Поезжайте с этим офицером». Мы вышли, сели в ка¬
рету и поехали.
Я недоумевал, куда мы едем. Мосты были только
что разведены, и лед из Ладоги еше не проходил, и
притом был сильный ветер, чуть не буря. Мне казалось,
что мы никак не могли ехать в крепость.
153
Однако мост оказался наведенным, и мы приехали
в крепость к комендантской квартире.
Там привезший меня офицер сдал меня коменданту,
а два солдата крепостной инвалидной команды отвели
меня в место моего содержания, которое, как я узнал
впоследствии, было Алексеевскнп равелин.
В равелине я просидел с 23 апреля по 23 декабря
1849 года, и если бы мне пришлось посидеть еше не¬
делю, я, вероятно, не вышел бы из него живым.
Все гигиенические условия были там удовлетвори¬
тельны: чистый воздух, опрятность, здоровая пища
и т. д., все было хорошо; доказательством того может
служить то обстоятельство, что, хотя в то время в Пе¬
тербурге была сильная холера, из заключенных не за¬
болел ни один. Убивающее влияние на меня оказало
одиночное заключение. При одной мысли, что я нахо¬
жусь «аи secret» *, уже через две недели заключения
со мною стали случаться нервные припадки, обмороки
и биение сердца.
Приступлю к специально теперь занимающему меня
предмету — к допросам в следственной комиссии и к
тому, что случилось со мною на так названном суде.
Вспоминая теперь все это, никак не могу сказать:
«Dulce et decorum est pro patria moril»**1
В половине мая, вечером, после того как мой нумер
заперли снаружи и вынули ключ для отнесения его
смотрителю, опять я услышал, что ключ щелкнул в
замке; дверь отворилась; вошли солдаты и ефрейтор и
подали мне мое платье, которое в первый вечер моего
пребывания в равелине было от меня отобрано и заме¬
нено местным халатом и ночным колпаком; велели мне
одеваться и идти за ними. Я оделся, вышел в коридор
и увидел там смотрителя, полковника Яблонского (фа¬
милию, разумеется, я узнал гораздо позже), в сопро¬
вождении которого я и пришел в квартиру какого-то
чиновника комендантского управления, отведенную для
заседаний следственной комиссии.
Не могу здесь не вспомнить, что этот Яблонский,
полковник по армии, производил на меня неимоверно
удручающее впечатление. Высокий ростом, кривой на
один глаз, седой как лунь, в то время как я привык
видеть самых старых генералов черноволосыми (как
известно, тогда красить свои куафюры2 военным было
* в темнице (франц.).
** Сладостно и почетно умереть за отечество! (Лат.)
154
обязательно), он единственным своим глазом всматри¬
вался в меня так пристально, что, мне казалось, он так
и хотел сказать: «Знаю я тебя, голубчик... лучше со¬
знайся».
Не могу допустить, что это впечатление явилось у
меня вследствие того, что он был тюремный смотри¬
тель. Ведь был же там и другой офицер, инвалидный
поручик, но он на меня нимало не производил оттал¬
кивающего впечатления. То был обыкновенный служа¬
ка, который исполнял свою должность бессознательно,
не сознавая решительно всей ее нравственной непри¬
глядности. Напротив, Яблонский, видимо, знал, что де¬
лает, он сознавал всю подлость своей обязанности и
все-таки ради разных выгод исполнял ее «соп атоге» *.
В его единственном взгляде ясно отражались крово¬
жадность кошки и хитрость лисицы. С первого взгляда
его собеседника могла ввести в обман ленточка Геор¬
гия в петлице3, но это продолжалось недолго, в осо¬
бенности если делалось известно, что он орден этот по¬
лучил, служа в фельдъегерях и храбро удирая на фельдъ¬
егерской телеге в 1812 году, когда ему в глаз выстре¬
лил какой-то французский застрельщик.
Впрочем, не знаю, может быть, такое мнение о пол¬
ковнике Яблонском я себе составил вследствие рас¬
стройства моих нервов.
Как бы то ни было, мы пришли в квартиру, в кото¬
рой заседала следственная комиссия. Полковник
Яблонский ввел меня в комнату, в которой никого не
было. Увидев себя в зеркале, я ужаснулся. Прибыл я
в равелин молодым, цветущим здоровьем тридцатилет¬
ним мужчиной, — в зеркале я увидел исхудалого, с по¬
мутившимися глазами шестидесятилетнего старика.
Моя шляпа была вся покрыта зеленою плесенью. Че¬
рез запертую дверь в другой смежной комнате я услы¬
шал веселые голоса детей и через щель в двери увидел
и самих детей, весело болтавших с пришедшим на
праздник братцем-кадетом. Как подействовали эти от¬
голоски жизни на меня, заживо погребенного в мрач¬
ной могиле, я выразить не в состоянии.
Наконец, после долгого ожидания, мы с полковни¬
ком Яблонским вошли через сени в комнату, в которой
заседала следственная комиссия.
В этой комнате, за продолговатым столом, сидели
следователи. Из них я знал только генерала Набокова,
* С любовью, старательно (итал.).
155
коменданта крепости, который меня посещал в раве¬
лине, генерала Ростовцева, начальника штаба военно¬
учебных заведений, где я был преподавателем, и гене¬
рала Дубельта. После я узнал имена и других двух
следователей-инквизиторов, — то были генерал князь
Долгоруков, бывший впоследствии шефом жандармов,
и князь Гагарин, впоследствии председатель Государ¬
ственного совета.
Все эти господа смотрели на меня в упор, за исклю¬
чением генерала Ростовцева, сидевшего ко входной две¬
ри спиной, и с видимым любопытством, особенно князь
Гагарин, который принял на себя руководство ведени¬
ем следствия, хотя председателем комиссии был гене¬
рал Набоков.
Сначала они перемигивались между собою и посы¬
лали один другому какие-то записочки, и наконец князь
Гагарин напустился на меня:
— Вы сошлись с заговорщиками и крамольниками
и изменили отечеству! Мы всё знаем. Лучше сознай¬
тесь и раскайтесь (разумеется: «выдайте других»). Рас¬
каяние будет вам в пользу.
Заметив при слове «отечество» на моем лице неко¬
торое волнение и как бы желание возражать и проте¬
стовать против этого слова, он добавил:
— Да, отечеству, вами избранному.
Он, вероятно, предполагал, что я стану протесто¬
вать и против выражения «отечество избранное», но я,
очень хорошо понимая, к каким опасным для меня спо¬
рам и препирательствам повел бы всякий с моей сто¬
роны протест, и желая поскорее узнать, в чем меня об¬
виняют, хладнокровно ответил:
— Россию я почитаю за отечество, данное мне про¬
видением!
Я очень хорошо знал, что если бы вместо слова
«провидение» я употребил выражение «непреложные
законы исторической жизни», то почтенные члены след¬
ственной комиссии, наверное, меня бы не поняли. Это
заявление прекратило все пререкания, которые не по¬
вели бы ни к чему для меня хорошему.
Тогда И. Я. Ростовцев с приторно-сладенькой улыб¬
кой и гоном ben comando* сказал: «Ужели вы, госпо¬
дин] Ястржембский, не видели, что собиравшиеся у Пет¬
рашевского были заговорщики и изменники?»
На это я отвечал, что я уже во второй раз слышу
* не вызывающим возражений (игал.),
156
слова «заговор» и «измена» и категорически заявляю,
что судить о том, заговорщики ли и изменники лица,
которых я видывал у Петрашевского, я не берусь, но
что в их поведении ни заговора, ни измены я не заме¬
чал; что же касается до меня лично, то я твердо про¬
тестую; что я верноподданный и никогда долга верного
подданного ни в чем не нарушил.
Тогда князь Гагарин напустился на меня снова:
— Как вы смеете утверждать, что они не заговор¬
щики и не изменники? Сознайтесь, что они именно та¬
ковы...
Я отвечал:
— Я не утверждаю нимало, что они не заговорщи¬
ки и не изменники, только заявляю, что об этом ниче¬
го не знаю.
Тогда князь Гагарин, обращаясь к сидевшему позади
него за особым столиком какому-то чиновнику с крас¬
ным воротником 4, взял у него лист бумаги и приказал
мне написать на нем мое заявление о лицах, бывших у
Петрашевского.
Я написал дословно так: «О том, заговорщики или
изменники означенные лица, я ничего не знаю, но если
господа члены следственной комиссии признают их та¬
ковыми, то я спорить и прекословить не смею».
Когда красноворотный чиновник прочитал эго, то и
он вздумал показать, что и он-де не последняя спица
в колеснице, и, обращаясь к князю Гагарину, сказал:
— Да ведь «он» написал не то, что говорил.
«Он» было произнесено с невыразимым акцентом; в
этом акценте явно слышалось: он — изменник, не стоит
суда: его бы прямо на плаху; а я, мол, член следствен¬
ной комиссии, благонамеренный чиновник, очевидно, за¬
служиваю 25 рублей награды, или, по крайней мере,
Анны третьей степени, или хоть уже Станислава5.
Но эту его прыть немного посбил генерал Ростов¬
цев, сказав тоном, поставившим его тотчас же на над¬
лежащее место:
— Г[осподи]н Ястржембский написал то, что следует.
Тогда начались допросы.
Князь Гагарин: «Что вы скажете о Вильне?»
Я: «В Вильне я не был с 1832 года».
Кн. Гагарин: «Что вы знаете о Варшаве?»
Я: «О Варшаве знаю только, под каким градусом
широты и долготы она лежит».
Тут члены комиссии переглянулись между собой и
опять начали друг другу передавать записочки.
157
Князь Гагарин — человек совсем пожилой — скла¬
дом своей речи, акцентом и всеми приемами сделал па
меня впечатление бюрократа старой школы, воспитан¬
ного в малороссийской семинарии и даже в разговор¬
ной речи сохранившего слог бумаг канцелярских и се¬
минарских риторик.
Генерал Ростовцев, видимо, старался принять вид
участия и сострадания, причем выказываться в харак¬
тере доброго и очень вежливого начальника, не очень
взыскательного по части служебного этикета. Однако,
по крайней мере по отношению ко мне, это ему вполне
не удалось. Он мне показался слабохарактерным и дву¬
личным человеком. Такое мое впечатление подтверди¬
лось впоследствии его действиями в комитетах по осво¬
бождению крестьян.
Генерал Набоков, видимо, в комиссии чувствовал
себя не на своем месте; казалось, он вполне был убеж¬
ден в существовании зловредного заговора вообще и в
моей к нему прикосновенности в особенности; но в чем
именно состоял заговор и какая была моя вина, он в
этом не мог дать себе отчета.
Князь Долгоруков — почему-то и сам не знаю —
произвел на меня впечатление очень симпатической
личности.
О генерале Набокове скажу еще, что он казался не¬
поколебимо убежденным в том, что я — республиканец
и коммунист и что я пропагандировал коммунистиче¬
ские и республиканские идеи. Притом он несколько раз
высказывал убеждение, что иметь только образ мыслей,
несообразный с обыкновенно принятым шаблоном, уже
само по себе составляло преступление, достойное каз¬
ни; что если человек арестован и особенно если он по¬
сажен в Алексеевский равелин, то уже ему по праву
нечего ожидать чего другого, кроме плахи или, по край¬
ней мере, каторги. Он при всяком вопросе князя Гага¬
рина, обращенном ко мне, посматривал на меня глаза¬
ми, в которых я читал ясно: «Что? А ведь ты виноват!»
При всяком моем ответе, казалось, недоумевал: как
это я осмеливаюсь возражать на такие меткие вопросы,
а не прошу на коленях прощения или снисхождения?
Он, видимо, был очень напуган появившимся тогда во
Франции и в Европе так называемым социализмом.
Вопросы же, обращаемые ко мне в следственной ко¬
миссии, как увидит читатель, были просто нелепы, тен¬
денциозны и пристрастны. Они уже заключали в себе
прямые обвинения, которых, однако, или нельзя было
158
доказать, или такие, которые, даже доказав, не за что
fouetter les chats *, а тем более морить человека в ра¬
велине, и притом вопросы эти делались лишь для фор¬
мы, решение же моей участи было принято давно и
безапелляционно, в чем и князь Гагарин сознался от¬
кровенно при допросе Дурова. Вот эти знаменитые во¬
просы:
Кн. Гагарин: «Давно ли вы сделались республикан¬
цем?»
Я'. «Когда мне было 17 лет, я было пристрастился
к республиканскому образу правления, прочитав Плу¬
тарха, Тита Ливия, Тацита и др., но после, в зрелом
возрасте, присмотревшись к истории и фактам жизни
теперешних европейских народов, я переменил совер¬
шенно мнение и вижу, что для этих народов единствен¬
но пригодный образ правления — монархический; я —
твердо убежденный монархист».
Тут генерал Набоков посмотрел на меня с таким
наивным недоумением, что, будь это при иной обста¬
новке, я бы непременно расхохотался.
Кн. Гагарин: «Вы коммунист, последователь Пру¬
дона?»
Я: «Это я отвергаю; напротив, на вечерах у Петра¬
шевского я не без успеха опровергал учение Прудона
о поземельной собственности. Почитаю необходимым за¬
явить, что я убежденный последователь учения Фурье».
Прежде чем я успел договорить это, генерал Набо¬
ков, услышав, что речь идет о Прудоне, перебил меня
и с улыбкой не то осуждения, не то сострадания о
моем увлечении учением Прудона сказал:
— А ведь Прудон в тюрьме!6
Почтенный комендант Петропавловской твердыни и
командир гренадерского корпуса, нечаянно-негаданно
превратившийся в инквизитора, присяжного заседателя
и вместе судью по политическому делу, о сущности ко¬
торого, равно как и об обязанностях принятой на себя
роли судьи, не имел решительно ни малейшего поня¬
тия, был твердо убежден, что если уже кто посажен в
тюрьму, то, конечно, он уже тем самым виноват и за¬
служил казнь.
В то время, как известно, военные почитались спо¬
собными, по самой причине ношения эполет, на заня¬
тие всяких самых разнообразных должностей. Так,
Клейнмихель был министром путей сообщения, он же
* Тратить время зря; буквально: Сечь кошек (франц.).
159
на должность директора Института путей сообщения
назначил пехотного ступайку генерала Энгельгардта.
Тогда был в ходу анекдот об очень характеристической
остроте великого князя Михаила Павловича. Ска¬
зывали, что будто один раз император Николай Пав¬
лович сказал брату, что он находится в затруднении,
кого назначить на открывшуюся вакансию петербург¬
ского митрополита. Михаил Павлович отвечал на это
будто бы: «Назначьте Клейнмихеля».
Всякого мало-мальски мыслящего человека, конеч¬
но, удивит и поразит, что для производства следствия
по делу, в котором не было и помина о каких-либо
преступных действиях, а только исследовались мнения
и тенденции, и для чего, конечно, необходимо было по¬
ручить дело ученым специалистам, назначены были
круглые невежды. А эти невежды решали участь мно¬
гих молодых людей и упекли их в Сибирь.
Допрос продолжался.
Кн. Гагарин: «Вы насмехались над здешнею чино-
маниею, над чиновниками и сравнивали Россию с Ки¬
таем?»
Я: «Это не совсем верно. Я сознаюсь, что не пони¬
маю значения теперешних чинов, которые при их вве¬
дении императором Петром I соответствовали опреде¬
ленным должностям, а теперь составляют одни пустые
титулы. Я понимаю то значение и вес, которые челове¬
ку дают в обществе рождение, знатность, богатство, за¬
слуги государству, талант, но значения чина не пони¬
маю. Если же мне иногда (чего, впрочем, не помню) и
случалось насмехаться над некоторыми чиновниками,
имеющими слишком высокое или неправильное поня¬
тие о своей чиновности, то в этом я столько же вино¬
ват, сколько и актеры Александрийского театра и ав¬
торы различных пьес, в которых выставляются в смеш¬
ном виде чиновники: между тем и актеры эти и авторы
не привлечены к ответственности».
/<н. Гагарин: «Вы в своих речах осмелились поно¬
сить высших сановников и даже дерзко отзывались о
священной особе государя императора, называя его
богдыханом?»
Я: «Ие знаю, о каких таких сановниках ваше пре¬
восходительство говорите и при ком и в каких обстоя¬
тельствах я будто отзывался о них дурно. Что же ка¬
сается слова «богдыхан», то я самым решительным об¬
разом отвергаю это обвинение и утверждаю, что
ложно».
160
Анри де Сен-Симон. Лито¬
графированный портрет. 1825 г.
Шарль Фурье. Медальон ху¬
дожника Гийо.
6 Зак. № 528
В. Г. Белинский. Литография
В. Тимма по рисунку К. Гор¬
бунова. 1843 г.
А. И. Герцен. Рисунок А. Л.
Витберга. 1836 г.
М. В. Буташевич-Петрашев
ский. Акварель 1840-х гг.
Н. А. Спешнев. Дагерротип
1840-х гг.
А. Н. Плещеев. Литографиро¬
ванный портрет с фотографии
конца 1850-х гг.
Ф. М. Достоевский. Рисунок
К. А. Трутовского. 1847 г.
(SfofrS&nM, >uw) i /ZK... ./«
tOs /au/UZM
,'/ /
, -as tAs/aMi, г
) .
мваьА Лиапамь'- .У/a. -
•лемМ-л-ь^мУе/у caat6-
)1 Ума Ул Q'-uff
Sit.Hif **/fii*
/<'
cAy
■/"
гмв^а an.au ayi
.-e^4 < > ■
,«y.„ C”""""—/,
■y.,,.,1 .i Ann- AZ/gf'^/s a-yannnna
&£ - W^tStUCty
шпжми са-Ут.
i i^uMaftAf/a &u/a^-
’•tofUl JeAttQy, A/t/Ml tfe
"a,/l
4fa* "/ US’ S'a>“f ’ ■ ~ , f -V»
Gf/Oafy , >/>„ .nn. - ^'•■,, xynAf^^-^ "
y„.~ ,У>/,..<. <i <,//..<,. At *''<-■'••-"»
aataaoAM(f h/ ^^цГ,,i ,-ay.,.* ■ ■""'’ '••'">•" '"/”'?'■
J ~ "’ tif 6/ 4Jp
» м*™-
iS/UMArst*'* e* *'»***'"*'', - - , , r ,
'■■>■■ . yt f tjf idum /-}УУл Aat .л.У
■ * ,/,/<■ ,. А,.п„,„,.л<,.п 'Аг'—>.n.
W/м AM АМЛ,.
X74«*» !».«.»■— /
p is (etf jM>n At,,y,,-,r^./,A. ... ауМалуАпа-яц^
'Wia AfJi ' „j^/ ,fv„ - •'“■■' '”"•■'•■ *‘~- Л^-Лммй»»»*-
ММОЛМ -
: i/'/Amw4aA <У
jAfast" S /•>»{ Airtfev&t О -t ,л «‘«•«Z/T
/£/, ,,~>,«Z^/ *b& fa./ У ,
^7-
Л.гЛх
t-M/'r >>/« X I >1A'
■M. .
■i>'^ fa><M'$r/d*>t'/St*t''t-M,f
0—. ' s' s'" л A3
,.,n Zt'sefa/t . #*b- Aai.A>,ai^ 6/ r)S'S*
УКошачв rr.f»ia /t//aA; a.-faitfAtiiM-' е-УУ/t, ^*-п^л/
( Л»,«.«л,.хА'*' X',,f> &tts ал/ам* aS/£&£
/> A. a , It i „a, ,a^t a^ ,\9л a» ^aA, a..af..,/^/^n.--At,fy
ft AMA *4f~ - *+<•/ <* * ~’ < i>1<’ "X "*■' ■ * ' _.
Ct’cfcSz, 9 У> a s', K,, ,/ a .., Sass'S<* ' A. Л. f a^aa/s.^ *
C' ' У/'ПА* > >i4-ft isfaif ■■/tr/ 4a>../*}; fib as '^ ft -a-ri a it 9tf.it.a,
(A/A’,A^atai a>Si\tft<aaJa> / t > „« & , a ъ/ t/Л
r jr a
fyoba/sifXftSi/j У**> ^//)*^>^/ЧА/алА/4Л4^.
tA/M a/ttin
fan# /ttoa*b~~o)ft/Za ’-V '"•-K/i
?/1ГЗаЦ' /ffAaa^aaafoJjy/^
4/ Ь»м# ZnnJ'A» ) QiMM>tSt/^a >-
%а,^А«'/мАЬМм.м/6 /t.t/ ttf-i-9f^
. r, , -‘(“'f /fAf'A.i/AZ
E> .‘*Л»»-«-
гг-
(?/-;-глг>г<Ог t'?.--^’
&/t.t,9. «■ an ,»/(, J
/,„//!«« A7-.-4
' " />->-*<^5z</<■<% v‘V *'^,/f 5g У'f
a . ..
,.М^„Ма Л~МА~,
>£-/£*JS^e^M-aAA/tf''
, ,, $А)Г a - ’ "—У чАИ^~4^’с--*А^1,а^
Ответы Ф. M. Достоевского на
вопросы следственной комис¬
сии.
А. И. Пальм. Портрет
1840-х гг.
С. Ф. Дуров. Фотография
1850-х гг.
Д. Д. Ахшарумов. Фотогра¬
фия 1850-х гг.
Александровский лицей на Ка¬
менноостровском проспекте
(ныне Кировский пр., 21). Ак¬
варель 1840-х гг.
М. Е. Салтыков-Щедрин. Фо¬
тография конца 1850 гг.
Н. С. Кашкин. Акварель
1848—1849 гг.
Ф. Н. Львов. Фотография
1840-х гг.
Н. А. Момбелли. Фотография
1840-х гг.
Главный штаб и панорама
Петербурга. Рисунок тушью
1830-х гг.
Р. А. Черносвитов. Фотогра¬
фия 1840-х гг.
И. М. Дебу. Фотография
1860-х гг.
Ф. Г. Толль. Фотография
1860-х гг.
В. Н. Майков. Портрет сере¬
дины 1840-х гг.
Училище правоведения на Фон¬
танке (ныне наб. р. Фонтан¬
ки, 6). Фотография 1880-х гг.
К. И. Тимковский. Фотогра¬
фия 1850-х гг.
П. П. Семенов-Тян-Шанский.
Фотография 1850-х гг.
Н. Я. Данилевский. Литогра¬
фированный портрет с фото¬
графии 1870-х гг.
А. В. Ханыков. Дагерротип
конца 1840-х гг.
РУССК1Й ИНВААИДЪ.
*. м > »♦ *
ГОД» ТРИДЦАТЬ-ШЕСТОЙ.
Четвертом».
» 276.
22” Дм
1849
Пагубамя улетя, нородиаиоя смуты ■ мятежа во всей Западной Еарои». I угро-
жеккцй вс«ро«вржсы1СМ» ас «и» о порядка в благосостоянье народов», отозвались,
к» соакалаиио, в» «которой степени, и л машс'п. отечеств».
Но а» Госс'», где Сватав В»ра, любою» к» Монарх» и предоявоеть гь Иреего-
лу—основаны ев нрвродаых» свойствах» варода в доселе хранятся непоколебимо
в» еердц» каждаго-только горсте людей, совершенно ивчтожных», ббльагею частйо
жмадих* ■ безнравственных», мечтала о яозможноов попрать священн»йш»а нрава
Рславтй, завом и собственности. Дейстшя з.юумы1н.»енников» могла бы только то¬
гда получать опасное развита , села бы бдительность Нравательстиа ие открыла
зла л гамом» начал».
, Генераль-Луд8тор1вть, ио раземотрьню д».», прок жедеянаго Воевио-Судцою
Кочквсс1ею, призвал, что 31 подсудимый, в» большей или мбныйей степени, во
вс» виновны: 98 улыелл. N'i псп/шарженЬ <yuMmaywvia}» нъечсстенпыяя
I лчквнонв к iw<jd<ipciii»en:hi.o ооряЗк'», — а потому п определил»: подвергну гь
ах» смертаой казна разстрвляншм»:
•сто ожлвчкотно, по прочтете всенодданньвшаго доклада Генсралъ-Лудвтс-
piata, изволил» обратить Всемядостивьйшее внимао1е па т» обстоятельства, кото¬
рый могут», в» «которой степени, служить емягчеи1ем» ваказааЬ, а «мьдспИе
того Ваюачайше поае.пль: прочитав» подсудимым» приговор» оуда, яра сбор*
войск», а, по roeepiaeiiin всьхъ обрвдозъ, предшествующих» смертей казав,
объявить, «то Гоотдагь Император» дарует» им» жамвь, a Mrs*», вместо
смертей кадвя, подвергнуть их» следующим» иаказан1и*ь:
Огешадго Каиикадгб Ло
«ссора Ceprta 4w*’*e-
Лл.)
За уадстте »» враетуивыг» адмнелах», учре-
«цедав у об» р кмрпврв eefyecol ди ио#
цЫа я » шжуоввв п. риауосгражя»^ Ко-
Подаерпаут» еяертжЛ мяк рад
арЫиаам».
Огстзиаго ИвянаерТгПорря-
и ведора ^олкхасгадв.
пит, ПрдапелсЛа.
За уадспе п простуигао» жикяось, рад-
Иодовртиул сверяв# ямпа рад
«рЬивоогк
(Т>« «*•<
BV,d£r***“ жраяивя» протай. Ираном»-
вой Цертя а Верьжюб места, я м жяуте-
ве гъ распростраию», поерцепеэт. дояашжв
f'- » *, Л*.
„
„ »
Ляиа» яс«п яряп, еоетовАц свел
миряну» ft&wj п, xptancmx ад «тир.
■ живя» ояредьюл радои*»
Ляаяаг» жлл ер«п состав^ w
жюрИфв роботу И «ptaaenn м
I-Ой», о «пев» capstan радлил
Сообщение в газете «Русский
инвалид» о приговоре по делу
петрашевцев.
В. В. Толбин. Фотография
1850-х гг
А. Н. Майков. Литографиро¬
ванный портрет с фотографии
середины 1850-х гг.
А. П. Милюков. Фотография
1850-х гг.
'■••Л**?//''^»yt
Ъп^л/Л/‘- J'lJ/’
f 'a-c. t;-' M> *>г /"'- ~ ,_ • #A .у^~*Л4
■■ /г,...ча.-, ••■' f/ l,-чл-ч-*- '>*•<***’ “С /, n. M"*——'*1
• /-x Г,'Ж»:^
4 S^X'X^:r* *"..-
> ^rl...z^-—j< 7^-yX — /лг~“л
Л-'» J * 7^ fa «. ~—< Z «u>*«***-*'**e * a
\ Л*г" С£°ГУУ-' „'-Wy
i **-•/ ,„„~.л» <X‘“~-rX7'
; ••» ,
'■"*•"« ■•■'■ ) fa,M'-~~'M
fays' " ~,,„^fM-
;. /У*- * ~
//-■•—•
ь e-X a
'''-■‘./-■у-■ z„. A.z a
. j:,t л-'—- - -
/,чгьчл-7ч, лнлу'#,
'—b
r"V.
,.у.У“‘Д2/ у «.y^z^''"'* еЛ/>
z" ,<.-s ' ■ ДДХ- - Mf -„
a.dhru'^ . «r^.v“" " 7-
£ / I, . /./уЛу".*-''
■A-y.Ly.’'^j, -уДуда;■ -X^7l^Lz„y
4 o»^ ~~
е^ел^/^ 1
yb". r~~~ УУ'- Ь"Г' tiv-s'r f
/иК.С'.р.Ул^' ,
(y,^ Л*~.«ЛА"у ,
%U^7 ,
_ <<цм ,„,. ..ч.
O^ fxjG n **£•"”* .' —
у <«уф-о >7,-, '«Л
A^x-^Ue^. p.
4<лЛ> Жгл> ff »'н*--'<'ч}ч.
-* Ah.-: J '
’-'T> “r/*(?i*y '^Z.,.
Автограф письма Ф. M. До¬
стоевского брату Михаилу от
22 декабря 1849 г.
Кн. Гагарин: «Десять человек подтвердили это об¬
винение».
Я: «Надеюсь, что мне с ними будет дана очная
ставка».
Молчание.
Надо заметить, что никогда ни я, ни еще кто-либо
другой на вечерах у Петрашевского (а что касается
меня, то и ни в каком-либо другом месте) даже не вспо¬
минали имени императора Николая Павловича. Что же
касается сановников, то об одном из них я говорил дей¬
ствительно, и разговор этот я привожу здесь откро¬
венно.
В то время в целой России было много сильных по¬
жаров. Тогдашний министр внутренних дел Перовский
по этому поводу не выдумал ничего лучше, как воз¬
двигнуть гонение на зажигательные спички. Спички
были обложены пошлиной, так что пачка, стоившая
1 коп[ейку], продавалась по 1 рублю. Министр финан¬
сов Вронченко энергически противился обложению спи¬
чек пошлиной, и Перовский воспользовался его бо¬
лезнью для того, чтобы провести эту меру. Надо же
было случиться, чтобы Вронченко вскоре после этого
был пожалован графский титул. Это пожалованье воз¬
будило неудовольствие так называемого (неизвестно на
каком основании) аристократического кружка в Петер¬
бурге.
Пришедши один раз к Петрашевскому, я застал мно¬
гих молодых людей, желавших, вероятно, заявить о
своей принадлежности к аристократии, порицающих это
пожалованье и трунящих над Вронченко. Случилось
так, что тогда же я получил, конечно с утверждения
Вронченко, награду 500 рублей. Натурально, я стал за¬
щищать министра финансов. Кто-то из присутствующих
сказал: «Какой он министр?» Я возразил: «Он министр,
как и все другие, укажите мне лучшего». Мне назвали
Перовского. «Перовский,— сказал я,— вот министр! Вы¬
думал пошлину на спички для избежания пожаров. Да
я предлагаю проект гораздо лучше. Ведь пожары
производят не спички, а руки. Вот я предлагаю, чтобы
руки всех граждан Российской империи были всегда
связаны и чтобы они не могли употреблять их иначе,
как с разрешения и под надзором полиции, для чего
всякий раз обязаны подавать прошение на 15-копееч¬
ной бумаге».
Если бы об этом разговоре меня спросили в след¬
ственной комиссии подробно, я бы непременно сознал¬
7 Зак. № 628
161
ся, а может быть, и повинился бы; но комиссия сочла
за лучшее умолчать об этом и все-таки сюда приплела
нелепую сказку о богдыхане. <...>
Следующий затем вопрос, при полном бессмыслии,
представлял еще следы ехидства и подлости шпиона
Антонелли, вызвавшего его своим доносом.
Кн. Гагарин: «Вы сказали у Петрашевского, что в
военно-учебных заведениях статистика называется ста¬
тистикою потому, что так повелел великий князь Ми¬
хаил Павлович».
Чудовищная нелепость этого вопроса так меня по¬
разила и озадачила, что я не вдруг нашелся, что отве¬
тить. Генерал Ростовцев взялся опять ободрять меня:
— Не беспокойтесь, господин] Ястржембский, со¬
знайтесь, не обращайте внимания на то, что здесь упо¬
минается имя великого князя; его высочество по отно¬
шению к вам стоит так неизмеримо высоко, что ваши
слова не могут его обидеть.
Несмотря на сладенький тон, которым эти слова
были произнесены, я очень хорошо заметил все их ин¬
квизиторское ехидство.
— Я не могу, — отвечал я, — сознаться в том, что я
сказал такую нелепость. Я думаю о себе настолько хо¬
рошо, что говорить таких нелепостей неспособен. Я ска¬
зал вот что. Однажды у Петрашевского я читал рас¬
суждение «о предмете статистики как науки». Напо¬
мнив о том, что многие ученые — от Ахенбаха7 до Кет-
ле8 — не только еще не выяснили значения статистики
в области наук, но еще спорят даже о ее названии, я
заметил, что все равно как называть науку, а важно
точно обозначить ее предмет. Если люди живут в об¬
ществе и государстве, то должна существовать и нау¬
ка о законах общественной и государственной жизни,
и ничто не мешает назвать эту науку статистикой; циф¬
ры же, выражающие собою статистические данные, не
больше как формулы законов государственной жизни,
формулы положительные или отрицательные, выража¬
ющие отступления от этих законов и последствия этих
отступлений, формулы, взятые из опыта и наблюдений,
на которых ученые основывают свои выводы. Такая нау¬
ка преподается в военно-учебных заведениях и по про¬
грамме, утвержденной великим князем, называется ста¬
тистикой.
Замечу здесь, что, как известно, такая наука на¬
родилась в последнее время под названием «социо¬
логии».
162
Князь Гагарин опять вскрикнул: «Вот и извернул¬
ся», но о каверзе уже не вспомнил.
Наконец последний вопрос.
Князь Гагарин: «Вы возмущали в Петербурге про¬
стой народ и проповедовали извозчикам, что надо уби¬
вать господ?»
На это я ответил, что «это просто неправда».
Тогда князь Гагарин возразил: «Вы положительно
проповедовали эту мысль одному извозчику, с которым
ехали по Екатерининскому каналу».
Я опять отрицал это.
Тогда князь Долгоруков в первый раз прервал мол¬
чание и сказал: «Да ведь мы же отыщем этого извоз¬
чика и сведем вас с ним на очную ставку».
На это князь Гагарин с улыбкой заметил: «Он-де
(т. е. я) очень хорошо знает, что этого сделать нельзя».
Во мне же слова князя Долгорукова породили убеж¬
дение, что его благородная натура не способна была
к роли политического сыщика-инквизитора.
Основанием этому обвинению послужило следующее
обстоятельство. У меня несчастная привычка фланиро¬
вать и вступать в разговоры с лицами знакомыми и не¬
знакомыми, но охотниками поболтать. В то время при¬
вычка такая, как я узнал по опыту, вела к большой
опасности. Есть у меня еще и другая не менее несчаст¬
ная и не менее опасная привычка — думать вслух.
Однажды действительно я торговался с извозчиком;
он запросил тридцать копеек, я же убеждал его до¬
вольствоваться двадцатью. Желая отстоять свою цену,
извозчик приводил то обстоятельство, что он обязан
платить оброк барину. На это я в шутку ответил: «Ну,
уж лучше на этот раз ты барину оброк убавь, а с меня
возьми двадцать копеек». Извозчик, хотя и согласился,
но, едучи со мной, все жаловался на значительность об¬
рока, причем сказал: «Некому за нас заступиться, бог
высоко, царь далеко». В это время я задумался и, по
обыкновению, стал думать вслух: «Вот французы, нем¬
цы и прочие нехристи свободны, а православные рус¬
ские в рабстве».
Этот случай я рассказывал у Петрашевского, а мой
рассказ подслушал Антонелли и донес куда следует,
конечно с добавлениями и извращениями собственного
изобретения.
В следственной комиссии я рассказал откровенно,
как было дело, не знаю, поверили мне или нет, но по-
J63
еле ни в следственной комиссии, ни в судебной об этом
эпизоде не упоминалось.
Допрос кончился, и князь Гагарин, после сделан¬
ного мне еще раз увещания раскаяться и чистосердеч¬
но сознаться, велел мне удалиться. Я опять с полков¬
ником Яблонским и инвалидом отправился в равелин.
Недели, кажется, через две, а может быть, и боль¬
ше, хорошо не помню, тот же полковник привел меня
опять в ту же квартиру в крепости. В прежней комнате
я застал тот же, что и прежде, состав комиссии.
Мне дали лист бумаги, на котором после обыкно¬
венных вопросов о моей фамилии, звании, вероиспове¬
дании и т. д. были написаны те же вопросы, которые
прежде мне были деланы словесно, велели садиться и
отвечать.
Я сел за стол между генералом Дубельтом и кня¬
зем Долгоруковым.
Когда я стал читать вопросы и взялся за перо, что¬
бы писать ответы, я был до того взволнован и мои нер¬
вы были так потрясены, что, вероятно, это отражалось
на моем лице, потому что генерал Дубельт начал меня
успокаивать и посоветовал быть похладнокровнее и об¬
думывать свои ответы.
Этот, может быть, ничтожный знак, не говорю уча¬
стья, но просто человеческого отношения к обвиняемо¬
му, ободрил меня несколько, и я, заметив себе вну¬
тренне, что стыдно быть малодушным, стал писать от¬
веты.
Здесь замечу, что, кроме того, что чувствую благо¬
дарность к генералу Дубельту за такое его со мной об¬
ращение, но должен сказать еще, что память его под¬
вергается часто незаслуженному нареканию. Я знаю
несколько случаев, в которых он сделал всевозможные
облегчения политическим обвиненным, и не знаю ни од¬
ного случая, чтобы он погубил кого-либо. Конечно, он
был не герой добродетели, но, спрашивается, много ли
таких героев?
На вопросы письменные я дал дословно те же от¬
веты, что и на словесные.
Но прежде чем отпустить, генерал Ростовцев сде¬
лал какое-то замечание насчет моей деятельности как
преподавателя в военно-учебных заведениях. На это
замечание, которого я не расслышал, генерал Дубельт
вполголоса сказал: «Ему ли учить русских детей!»
Повторяю, я замечания генерала Рбстовцева не рас¬
слышал, но мне послышались слова вроде потрясения
164
..основ, превратных толкований и т. п. По поводу этого
замечания я, как это объясню ниже, в моих письмен¬
ных ответах сделал один промах, за который я, как
юрист, крепко себя упрекаю. Именно: я забежал впе¬
ред, отвечал на то, о чем меня не спрашивали.
Надо заметить, что тогдашние консерваторы и охра¬
нители, особенно высшие чины чиновничьей олигархии,
были очень напуганы, всеми тогдашними движениями,
.проявившимися уже в Вене и Берлине и вызвавшими
памятное «с нами бог, разумейте, языцы, и покоряй¬
тесь»9, боялись крестьянской даже жакерии10. А уж все
эти политико-экономические и социальные рассуждения
о труде, капитале, рабочем вопросе, пролетариате и т. д.
этим господам, получившим образование в прежних
корпусах и семинариях, решительно не лезли в голову.
Как я, так все, кого я встречал у Петрашевского,
занимались преимущественно вопросами политико-эко¬
номическими. Сверх того, я в особенности, как убеж¬
денный последователь ученья Фурье, политикой в
собственном смысле не интересовался вовсе и в осо¬
бенности к форме правления был совершенно равно¬
душен.
Поступив преподавателем статистики в Дворянский
полк и второй корпус, я старался исполнить программу
преподавания добросовестно. Программы по всем пред¬
метам для корпусов были выработаны особой комис¬
сией и утверждены Николаем Павловичем. Утвердив
эти программы, государь добавил: «Вменить в обязан¬
ность преподающим, чтобы они непременно преподава¬
ли предметы так, чтобы учение прежде всего служило
средством развития учащихся».
Соображая мое преподавание с этой программой, я
прежде всего заботился о том, чтобы передать научные
факты истинно, не делал сам от себя никаких заклю¬
чений, а предоставлял выводить их логически самим
ученикам. Конечно, я не защищал софистов консерва¬
тивно-буржуазной школы — Молинари, Бастиа и дру¬
гих, но и не нападал на них, зная очень хорошо, что,
сравнив их мысленно с изложенными ими законами об¬
щественной жизни, мои слушатели сами оценят их по
достоинству.
Все это я желал объяснить генералу Ростовцеву, на¬
ивно полагая, что он поймет это. Объяснить это я же¬
лал тем более, что на третий год моего преподавания
я получил от благосклонных, хотя мне незнакомых, лиц
предостережения насчет скользкости пути, по которому
165
следовал, и даже дружеские замечания насчет моей ме¬
тоды наставника-наблюдателя по Дворянскому полку.
Я желал объясниться тут же в комиссии, но князь
Гагарин сказал:
— Ступайте на ваше место, вам дадут двенадцать
листов бумаги, напишите полное сознание — Еам же
лучше будет.
Так я ушел и действительно написал, но что — уже
не помню, скажу только, что я не извинялся, не созна¬
вался, а тем более не просил прощения, только юриди¬
чески защищался. Худо было только то, что я защи¬
щался против того, о чем меня не спрашивали, объяс¬
няя мое преподавание в корпусах. Кажется, я до того
был наивен, что хотел обратить допрашивающий меня
синедрион 11 в учение Фурье.
Меня опять отвели в равелин. Прошли долгие и
скучные дни, в которые я не раз вспомнил стих из
Слова о полку Игореве: «долго ночь меркнет».
Наконец, в конце, кажется, июля, против обыкнове¬
ния, мне принесли мое платье днем и велели одеваться.
Мы опять пошли с полковником Яблонским в крепость.
Меня ввели в какой-то дом, в большую залу. Там я за¬
метил множество, как их называл мой проводник, «вель¬
мож», из которых я знал в лицо одного лишь графа
Строганова, а посреди них, на возвышенном несколько
седалище, какого-то «вельможу» в казачьем облачении,
с лежащей перед ним белой папахой. Впоследствии я
узнал, что это был генерал Перовский, совершавший
победоносный поход в Хиву12.
Посреди залы стоял небольшой покрытый сукном
столик, похожий на аналой. На столике лежало объе¬
мистое «дело», а возле столика стоял аудитор с влади¬
мирским крестом на шее13.
Аудитор развернул дело и стал читать; я заметил
только, что «открывшихся злоумышленников государь
император велел судить по полевому уложению».
Чтение продолжалось едва несколько минут. Когда
аудитор остановился, генерал Перовский предложил
мне подписать что-то и указал рукою в сторону.
Я пошел по указанному направлению и заметил под
стеною другой аналой, на котором лежала кипа напи¬
санной бумаги, разрезанной в четверть листа, стояла
чернильница и лежало несколько перьев.
Я взял один из листов; на нем было написано: «Я,
нижеподписавшийся, сим свидетельствую, что ничего
не могу привести в свое оправдание».
166
Генерал Перовский, видя, что я стою в недоумении,
сказал: «Подпишите».
На это я возразил, что «подписать этой бумаги я не
могу, так как не знаю даже, в чем меня обвиняют; сам
же я виновным себя не признаю».
Генерал Перовский аудитору: «Прочитайте». Ко
мне: «Да, вы должны признать себя виновным в том,
о чем вас спрашивали в следственной комиссии».
Я отвечал, что ничего не помню, что было в комис¬
сии.
Генерал Перовский опять к аудитору: «Прочитайте».
Аудитор начинает что-то бормотать, но вдруг оста¬
навливается.
Генерал Перовский снова настоятельно требует, что¬
бы н подписал, но я твердо отказываюсь.
Наконец, утомленный и раздраженный этою неза¬
конною настойчивостью, я подошел к аналою и на од¬
ной из бумаг написал: «Я, нижеподписавшийся, сим
объявляю, что никогда злоумышленником не был и ни¬
какой вины за собой не признаю».
Тогда генерал Перовский, обращаясь ко мне с не¬
выразимо язвительной улыбкой, сказал на прощанье:
«Так вы не виноваты? В таком случае ступайте и спи¬
те спокойно». (Дословно.)
Я не сомневаюсь, что это мое энергическое отрица¬
ние своей виновности было единственным поводом того,
что 4-летний срок каторжной работы (который мне бла¬
говолил назначить генерал-аудиториат) был всемило¬
стивейше заменен шестилетним. В этом отрицании я
вижу также причину того, что мне в Сибири уже было
прочитано следующее: «Воля государя императора есть,
чтобы преступник Ястржембский был в полном смысле
каторжным арестантом», вследствие чего поручено было
окружному стряпчему в Таре ежемесячно свидетель¬
ствовать меня и наблюдать за исполнением этого пове¬
ления. Вследствие той же, я полагаю, причины, когда
года через два сестра моя подала было прошение о
смягчении моей участи, ей велено было ответить, что
«такой преступник, как Ястржембский, не может ожи¬
дать никакого помилования». Да и после возвращения
из Сибири, когда уже все мои товарищи по делу Пет¬
рашевского были в Петербурге, я скитался в провин¬
ции под надзором полиции 18 лет.
Так кончилась эта судебная комедия, и я просидел
в Алексеевском равелине до известной трагикомедии на
плацу в Семеновском полку.
167
Добавлю, что из верного источника я слышал, что
судебная комиссия решила: по недостатку доказа¬
тельств от ответственности нас освободить. Это тем ве¬
роятнее, что в деле о состоящих под надзором лицах
(которое было.у меня в руках) о решении этой комис¬
сии не,сказано ни сдова. Да, впрочем, и передавать ре¬
шение этой комиссии на ревизию генерал-аудиториата
не предстояло никакого юридического основания, так
как специальная судебная комиссия, назначенная по
высочайшему именному повелению, если ее и не счи¬
тать верховной (которой она, однако, имела все атри¬
буции), все-таки иерархически была выше генерал-ауди¬
ториата.
Еще две характерные подробности.
Когда из судебной комиссии я возвратился в раве¬
лин, я спросил у полковника Яблонского: нельзя ли
мне достать экземпляр полевого уложения?
На этот вопрос в единственном глазе сего почтен¬
ного стража отразилось столько удивления и недоуме¬
ния, что его достаточно было бы для освещения не¬
скольких десятков глаз.
— На что вам уложение?
— Да ведь меня, — сказал я, — будут судить поэто¬
му уложению...
— Не нужно вам уложения... Начальство само
знает, как судить...
Дуров говорил мне, что князь Гагарин при допросе
спрашивал его: называл ли Ястржембский государя
богдыханом и правда ли, что он дурно отзывался о не¬
которых высокопоставленных лицах?
Когда Дуров отрицал это, князь Гагарин сказал:
— Convenez qu’il a dit cela par esprit de causticity... •
Он добавил!
— Впрочем, все равно: ему и так не миновать Си¬
бири.
Дуров сказал еще князю, что я только раз как-то
сказал, что действительные тайные советники часто
вследствие старости выживают из ума.
Вот какие в то время были следствия и суды!
Кончу торжественным заявлением, что все здесь рас¬
сказанное вполне истинно и все разговоры до малей¬
шей подробности верны.
1883 г., 6 мая.
Петербург.
* Согласитесь, однако, что он говорил язвительно (франц.}.
г Г. J
Д. Д), Ахшарумов
ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИИ
чЖ Ш изнь моя текла мирно и покойно
Л до двадцатипятилетнего возра-
К ста, когда я был в один день, по
и Я I обстоятельствам, почти от меня
Л. А Ж. не зависевшим, лишен свободы и
заключен безвыходно в одинокое жилище, отделенное
снутри толстою, окованною железом дверью и снаружи
железною решеткою у окна. Это было в Петербурге, в
1849 году, в конце апреля, когда начинали зеленеть де¬
ревья. Я помню этот день: поздно вечером стемнело, я
ехал от Цепного моста в карете, не зная куда меня ве¬
зут. Мосты на Неве были разведены, и объезд был дол¬
гий. Я был в легкой одежде теплого весеннего дня, и
мне было свежо, — жутко и тяжело на душе. После
продолжительной езды, через Васильевский остров,
Тучков мост и Петербургскую сторону, карета въехала
в крепость и остановилась. Было совершенно темно.
В сопровождении двух человек я переходил какой-то
мостик и за ним темные своды; потом введен был в ко¬
ридор полуосвещенный; в коридоре передо мною отво¬
рилась толстая дверь в боковую темную комнату,—
мне предложили в нее войти: темнота, спертый воздух,
неизвестность, куда я вошел, произвели на меня потря¬
сающее впечатление; я потребовал свечу. Желание мое
было исполнено сейчас же, и я увидел себя в малень¬
кой, узкой комнате, без мебели, — у стены стояла кро¬
вать, накрытая одеялом серого солдатского сукна, та¬
буретка и ящик. Затем мне предложено было раздеть¬
ся совершенно и надеть длинную рубашку из грубого
169
подкладочного холста и из такого же холста сшитые,
высокие, выше колен, чулки. Мне указали на туфли и
на халат из серого сукна. Платье мое и все вещи, быв¬
шие на мне, были у меня взяты. По просьбе моей остав¬
лена была у меня только моя холодная шинель. Затем
зажжена была на окне какая-то светильня, висящая
с края глиняного блюдечка; свеча унесена, дверь за¬
хлопнулась на ключ, и я остался один в полумраке, в
изумлении и в страхе от того, что со мною случилось.
Я сидел на кровати, смотря на тяжелую дверь, в кото¬
рой несколько секунд еще ворочался ключ, запиравший
меня, потом слышны были шаги уходивших люден и
гремевшая связка больших ключей.
Смутное чувство убийственной тоски, мрачные, зло¬
вещие предчувствия овладели мною, — мне казалось, я
стою на пороге конца моей жизни; несколько минут я
был без мысли, как бы ошеломленный ударом в голову.
Опомнившись несколько, я стал осматриваться, но об¬
становка вся была столь мала и отвратительна, что я
вновь погрузился в свои мысли. «Неужели это и конец
моей жизни», — думал я. Причина, подвергшая меня
заключению, была мне известна; я был в то время со¬
вершенный юноша, несмотря на мой 25-летний возраст,
мечтающий, увлекающийся, исполненный горячих и не¬
сбыточных желаний, то болезненно оживленный, то так
же быстро упадающий духом. На душе не было ни
угрызения совести, ни преступления. Мысли убийства,
насилия были мне вовсе незнакомы; я смотрел на
жизнь с своей идеальной точки зрения и вовсе не знал,
не умел различать людей, а в размышлениях моих
стремился найти истинный путь ко всеобщему благу че¬
ловечества, — и вот, как государственный преступник,
за эти помышления мои был я обвинен и заключен в
каземат. В голове моей толпились различные мысли и
чувства: невозможность оправдаться, строгость закона,
страх заключения и слухи, распространенные в народе
об ужасах жизни в сырых, холодных казематах, — все
это вместе слилось в смутное ощущение, объявшее
меня внезапно. Я осматривал в потемках жилище мое,
и виденное мною поражало меня своей мрачной пусто¬
той, и халат, на мне надетый, был заношенный, места¬
ми изорванный, из солдатского серого сукна. В комна¬
те было одно окно, большое. Вдвинув ноги и широкие
старые туфли, я встал с кровати, на которой неловко
было сидеть — я скатывался с нее. Мысли перебива¬
лись в голове, то осматривал я жилище, то стоял вновь
170
в раздумье. Боковую часть стены, справа от двери, со¬
ставляла печь, затапливающаяся снаружи — из коридо¬
ра; вид печи был мне утешителен. Моя шинель была
единственным остатком от жизни моей, кроме моего
собственного тела. Я сбросил с себя на пол грязный ха¬
лат и надел мою шинель. Подойдя к окну, я был пора¬
жен видом мрачного светильника моей комнаты: это
был какой-то черепок в виде плошки, с края которой
висел кончик светильни; застывшая сальная масса на¬
полняла его. Не зная, куда приютиться, — и в мыслях
моих и в жилище моем, — я заплакал и стал молиться;
несколько минут стоял я на коленях и горько плакал,
опустившись на пол. Мне вспоминались потерянные
дни свободы и дом родной — братья, сестра, старушка
тетушка и все близкие нашему семейству. Казалось
мне, все они стояли, обступив меня, и, смотря на меня
с жалостью, плакали надо мною, как над погиб¬
шим. <...>
Когда я увидел при дневном свете мое новое жили¬
ще, глазам моим предстала маленькая грязная комнатаз
она была узкая, длиною сажени в 2’/г или менее, шири¬
ною сажени 1'/г, с высоким потолком; стены, оштукатурен¬
ные известью, давно потерявшей свой белый цвет. Они
были повсюду испачканы пальцем человека, не имев¬
шего бумаги для обыкновенного употребления. С одной
стороны было окно, очень большое (сравнительно с ве¬
личиною комнаты), с мелкими клетками стекол, закра¬
шенное, все до верхнего ряда, белою пожелтевшею мас¬
ляною краскою. Верхний ряд стекол, один только, был
не закрашен и оканчивался с правой стороны форткою,
величиною с 9Л листа писчей бумаги. За окном была
железная решетка. С противоположной окну стороны
дверь, массивная, окованная железом, и большое гряз¬
ное зеркало изразцовой печи, затапливающейся снару¬
жи. В комнате кроме кровати были столик, табуретка
и ящик с крышкой; на площадке окна стояла кружка
и догоревшая уже плошка.
Таково было новое мое жилище, в котором я был
заперт безвыходно.
Осмотревшись немного, я стал на большую площад¬
ку окна, но, при малом моем росте, не мог достать гла¬
зом незакрашенного верхнего ряда стекол, который
оканчивался с правой стороны форткою; я отворил
фортку; свежий воздух пахнул на меня и мне принеа
как бы что-то родное, — я вдохнул его, упился им пол-
171
ною грудью и еще более почувствовал желание взгля¬
нуть в окно, но и поднявшись на цыпочки, сколько
было сил, я не мог увидеть ничего; я подскочил,-т-пе¬
ред глазами моими мелькнуло что-то вроде двора.
Нельзя ли подставить что-либо под ноги? На площад¬
ке окна, где я стоял, была упомянутая деревянная
кружка с крышкою, вроде кадочки; на донышке ее
было немного воды, мне показалась она чистою и я
выпил ее, потом снова влез на окно^ стал на крышку
запертой кружки и увидел дворик небольшой, треуголь¬
ной формы: против меня, шагах в 40, стоял фас кре¬
постной стены, замыкавший дворик,—у самого окна
ходил часовой с ружьем. (Впоследствии я узнал, что
отделение это, в котором была заключена группа аре¬
стованных, было одним из равелинов крепости.) Мне
было холодно и так уже; всю ночь укрывался я чем
мог; погода была свежая, из окна дул ветер, и я скоро
промерз, что заставило меня сойти с окна...
II
Новые предметы, — обстановка, окружавшая меняй
поразившая меня своею неприглядностью, — были
только отвлечением от смутных предчувствий и мрач¬
ных мыслей, которые преследовали меня и ночью, в
беспрестанно сменявшихся коротких сновидениях. Со
:мною вместе одновременно взято было много других,—
я видел мельком их почти всех; мне живо представля¬
лась картина вчерашнего ареста: 23 апреля, часов око¬
ло 10 утра, в карете я был привезен в III отделение,
что было у Цепного моста; меня вели по многим ком¬
натам, в которых я видел других арестованных знако¬
мых мне лиц, и между ними стояли часовые с ружья¬
ми. В особенности поразила меня большая зала своим
многолюдством: арестованные стояли кругом, а между
ними часовые; слышен был говор и по временам сту¬
чанье прикладом об пол, при разговоре (так приказа¬
но было). Меня привели наконец в маленькую комна¬
ту, где я нашел двух мне знакомых товарищей. Затем
граф Орлов, мужчина высокого роста, с маленькой го¬
ловой, бледным лицом, сопутствуемый немногими, об¬
ходил все комнаты. Один из чиновников нес за ним
список, по которому поименно представляем был ему
каждый из нас. При представлении ему одного из нас —
г-на Белецкого — он спросил: «Вы учитель кадетского
корпуса?» И, получив утвердительный ответ, он сказал:
172
«Прекрасный- учитель! Отведите его в особую комнату».
Меня это поразило, тем более что Белецкий ни разу,
сколько мне известно, не был на собраниях Петрашев¬
ского, и я считал его вовсе непричастным возникшему
делу. (Он и был впоследствии по суду оправдан.)
В III отделении нас угощали обедом, чаем и сигарами,
но никому охоты не было вкушать чего-либо. Между
прочим, подходили к нам служащие в отделении чи¬
новники и, как бы с участием относясь к нам, заявля¬
ли, что они состоят на службе в другом отделении, но
за недостатком места комнаты их отделения были за¬
няты для помещения арестованных. Еще одно обстоя¬
тельство заслуживает упоминания: в этот же день сде¬
лалось нам всем известным, что список, который носим
был при обходе Орловым, начинался словами: «А[нто-
нелли] — агент наряженного дела». Впоследствии, в
бытность мою на Кавказе, узнал я, что П. И. Белец¬
кий, о котором только что было упомянуто, по выходе
своем из Петропавловской крепости встретил А[нтонел-
ли] на Адмиралтейском бульваре и, будучи им привет¬
ствован, как знакомый, по своему горячему характеру,
вскипев гневом, ударил его в лицо и указал на него
прохожим как на доносчика, за что и был вновь аре¬
стован и сослан на жительство в Вологду.
Арестованы мы были почти все в пятницу, в ночь
с 22 на 23 апреля, сейчас по расхождении с собрания
Петрашевского, часу в 4-м ночи, когда все уже были
по домам и спали; я же не всегда бывал у Петрашев¬
ского и в эту пятницу не был, а по весеннему времени
ночевал за городом и потому арестован был утром
23 апреля. В этот самый день погода изменилась и сде¬
лалась холодною. 23 апреля, поздно ночью, нас отвез¬
ли всех в крепость. События этого дня мелькали в го¬
лове моей, и я погружен был в мрачную думу. Многие
из взятых, говорил я сам себе, будут оправданы и ос¬
вобождены, но мне не оправдаться — уже слишком
много найдется улик—в сущности ничтожных, ничем
меня не порочащих, но, по тогдашним взглядам, счи¬
тавшихся тяжеловесными и вполне достаточными для
обвинения меня в государственном преступлении. Эго
было время сороковых годов, когда вполне законными
признавалось крепостное право, закрытый суд без при¬
сяжных, телесное наказание и всякий разговор об уни¬
чтожении рабства и введении лучших порядков считал¬
ся нарушением основных законов государства. Так ду¬
мая, я то стоял, то садился на табуретку за стол или
173
на кровать, то подходил к окну или двери, не зная,
куда приютиться в моем новом жилище, а мрачные
мысли толпились в голове. «Нет мне спасенья, — ду¬
мал я, — как и многим моим товарищам!» В особенно¬
сти горько мне было за судьбу двух мне близких дру¬
зей, которых я любил и уважал, — это двух братьев
Дебу ’, и в особенности Ипполита Дебу, с которым был
очень дружен, затем вспоминались мне и прочие постра¬
давшие со мною вместе товарищи, и я не мог заглу¬
шить в себе досады на Петрашевского и не упрекнуть
его в случившемся с нами несчастий. Последнее время
уже возникали во мне все более опасенья вверять себя
стольким незнакомым лицам, бывавшим у него, но мы
все имели же полное право рассчитывать, что Петра-
шевский, как человек весьма умный, очень осмотрите¬
лен в выборе своих посетителей, а между тем вот что
случилось! Но, погубив всех нас, ведь он и сам погиб,
а потому и ставить ему это в вину было с моей сторо¬
ны недостойно и малодушно. Мне вспомнилось тоже,
что Петрашевскин имел уже некоторые сомнения в лич¬
ности А[нтонелли]. На предпоследнем собрании, 15 ап¬
реля, он отозвал меня в сторону и спросил: «Скажите,
вас звал к себе А[нтонелли]?» Я ответил, что звал, но я
не пойду, так как его вовсе не знаю. «Я и хотел преду¬
предить вас, — сказал он мне, — чтобы вы к нему не
ходили. Этот человек, не обнаруживший себя никаким
направлением, совершенно неизвестный по своим мыс¬
лям, перезнакомился со всеми и всех зовет к себе. Не
странно ли это, я не имею к нему доверия».
От воспоминаний этих переходил я к мысли о моем
настоящем положении: как быть, что делать? Как те¬
перь жить—в сей день — в моем новом жилище? Уже¬
ли мне долго придется оставаться в нем? Как скверно,
как холодно, как грязно!
Я забыл упомянуть при описании комнаты, что в се¬
редине двери было маленькое, величиною в 8-ю долю
листа бумаги, отверстие, в которое вставлено было
стекло. Снаружи, со стороны коридора, оно было заве¬
шано темной тряпкой, которую сторожу можно было
поднимать и видеть, что делает арестованный. Мне
было очень холодно, и я попробовал постучать: послы¬
шались шаги, и тряпка сейчас же поднялась, и пока¬
залось смотрящее на меня чье-то лицо. «Чего сту¬
чишь?»— спрашивало оно меня. «Надо затопить печь,
очень холодно, затопите печь». Ответа не последовало,
тряпка опустилась и все оставалось по-прежнему.
174
Прошло некоторое время, когда послышались в ко¬
ридоре шаги, беготня и звон связки ключей. Я слышал,
как втыкались в двери других келий ключи и они отво¬
рялись, и шествие это производилось подряд во все от¬
дельные помещения. Вот и до меня очень скоро дошла
очередь. Ключ всунут был не вдруг, казалось, ошибкой
не тот, потом щелкнула крепкая пружина замка, дверь
отворилась настежь: в нее вошел толстый, старый ге¬
нерал в сопровождении двух офицеров и служителей:
«Что вы? Как живете, все ли благополучно? Все ли
имеете? Я комендант крепости». (Это был генерал На¬
боков.)— «Мне очень холодно, прикажите затопить
печь», — ответил я. Тогда отдано было, с гневом, при¬
казание затопить немедленно печи везде, «чтобы не жа¬
ловались более на холод». С этими словами он вышел
со своей свитою, и я остался вновь один, запертый на
ключ. Таково было быстрое посещение генерала! А дру¬
гие все нужды? Все ли я имею? У меня ничего нет! Ни
воды, ни пищи, я не умывшись с утра... Но кружка сто¬
ит для воды, стало быть, полагается вода, и, вероятно,
подадут какую-нибудь и пищу. Через несколько време¬
ни все вновь утихло, и затем вскоре вновь раздались
хождения с отмыканием дверей; и вот растворилась и
моя дверь, и в комнату мою быстрыми шагами вошел
солдат с посудой, и, поставив ее на стол, ни слова не
сказав, поспешно вышел, и дверь захлопнулась на ключ.
Наверху посуды лежал большой кусок черного хлеба,
а под ним была миска с супом и в нем лежали куски
говядины. Не помню хорошенько, было ли еще отдель¬
но какое мясо, — прошло 35 лет с тех пор, и я совер¬
шенно забыл. Помню только хорошо, что, несмотря на
голод, я съел несколько супа и хлеба, до мяса же не
прикоснулся. Причина тому отчасти лежала в предыду¬
щей моей жизни: уже более трех лет как я оставил
привычку есть мясо, желая, по убеждению моему, сде¬
латься вегетарианцем. «Человек, — думал я, — по при¬
роде своей, как физической, так и духовной, не может
быть поставлен в отделе хищных млекопитающих, а
потому и употребление мясной пищи может быть оправ¬
дано только недостатком растительной пищи или из¬
вращением его природных условий жизни. Физиоло¬
ги,— думал я, — во многом ошибаются, a Cuvier в
своем сочинении «Le regne animal» *, описывая, между
прочим, зубы обезьян, говорит, что они по виду своему
• Кювье... «Животное царство» (франц.).
175
хищнее, чем зубы человека, а потом, говоря о их пище,
замечает, что они питаются исключительно плодами,
животную же пищу едят только в крайности, когда не¬
чего есть». Как бы то ни было, справедливо ли мое за¬
ключение или нет, — этого я и теперь себе достаточно
уяснить не могу, но это было мое личное убеждение, и
я в такой степени был уже отвыкшим от мясной пищи,
что она мне была противна и без нее я был здоров и
крепок силами. При таком особенном моем отношении
к выбору пищи тюремный обед, поставленный передо
мною на стол, пришелся мне очень не по вкусу, но я
был голоден и черный хлеб мне был очень приятен. Че¬
рез полчаса вновь вошел солдат и за ним дежурный
офицер, которого я настойчиво просил приказать мне
сейчас подать воды в количестве, достаточном для пи¬
тья и для умывания, а также я заявил и о необходи¬
мой надобности в полотенце. Кружка, стоявшая у меня
на окне пустою, была схвачена служителем и, напол¬
ненная водою, принесена обратно. Затем без лишних
слов все исчезли, приняв остатки обеда, кроме черного
хлеба, который был в достаточном количестве и остав¬
лен был мною у себя, затем я снова был накрепко за¬
хлопнут в моем жилище. Полотенце было обещано в
будущем. Оставшись один, я стал умываться с помо¬
щью рта и вытерся рукавом рубашки. Вскоре за тем за¬
метил я, что в комнате стало теплее, и, приложив руку
к печной стене, я убедился, что она нагревается. Итак,
я имею все, что нужно, хозяева тюрьмы дали мне все,
что они могли, — я сыт, умыт, одет и согрет.
Так началась и потекла моя жизнь в тюрьме; дни
сменялись днями; каждый день по однообразию и без¬
делью казался чрезвычайно долгим, не доживаемым до
вечера; недели текли за неделями, и месяцы, к ужасу
моему, стали сменяться месяцами. Ежедневно первое
время два, а потом три раза отворялась дверь, стави¬
лась и принималась пища; черный хлеб стал моею лю¬
бимою пищею и его было у меня всегда достаточно.
В первое время я настойчиво требовал большего про-
тиву обыкновенно приносимого количества воды для
мытья и питья, но после это делалось уже и без мо¬
его докучливого напоминания; полотенце было мне
дано тоже. Белье из грубого подкладочного холста, ста¬
рое, состоявшее из длинной рубахи и чулок выше ко¬
лен, в виде мешков, подвязывающихся тесемками, сме¬
няемо было каждую неделю.
176
Однообразно текла моя жизнь при монотонном пе¬
реливе колокольного звона каждые четверть часа на
колокольне Петропавловского собора. По временам,
однако же, это однообразие тюремной жизни и жесто¬
кая темничная тоска были нарушаемы чем-нибудь вы¬
ходящим из ряда обыкновенного течения, и всякое по¬
добное, хотя бы и незначительное, обстоятельство осве¬
жало и развлекало меня. Об этих особенных пертурба¬
циях, иногда сильно волновавших меня, упомяну я в
хронологическом порядке, насколько воспоминания об
этих давно минувших тяжких днях сохранились в моей
памяти. Но главное, что желал бы я описать и разъ¬
яснить, — это мучительное душевное, болезненное со¬
стояние безвыходно и долго одиночно-заключенного,
чувство жестокой темничной тоски, мрачные мысли,
преследовавшие меня безотвязно, и по временам упа¬
док сил до потери голоса и изнеможения. Я дни и ночи
говорил сам с собою и, не получая ниоткуда впечатле¬
ний извне, вращался в самом себе, в кругу своих бо¬
лезненных представлений.
ill
Я тогда только что окончил курс в Петербургском
университете кандидатом восточных языков2. Несмот¬
ря на окончание курса в высшем учебном заведении и
уже вполне зрелый возраст, я был очень мало развит
в понимании самых простых и обыкновенных для жиз¬
ни вещей. По природе своей я ненавидел зло, к людям
был очень доверчив и очень скоро сближался с ними.
Любил трудиться и составлять выписки из серьезных
общеобразовательных сочинений, но, не имея средств,
большую часть их покупал на толкучем рынке и много
времени проводил в его книжных рядах. Апраксин двор
в былое время вмещал в себе особый отдел — ряды
огромного склада книг самого разного содержания. Го¬
нения на букинистов затрудняли это дело, а пожар,
бывший позже3, окончательно разрушил этот драго¬
ценный книжный склад. Там находил я разнообразней¬
шие книги и, заплатив за них безделицу, как сокровище
нес к себе домой. Произведения знаменитых поэтов,
как русских, так и иностранных, были для меня самым
лучшим чтением, — я восхищался ими, бредил ими и,
находясь вне занятий, дома и по улицам города твер¬
дил их. Английский и итальянский языки мне были по¬
чти незнакомы, и я старался изучать их и с помощью
177
лексикона и грамматики перекладывал на русский язык
песни Петрарки на смерть Лауры. Летом со страстью
занимался я ботаникою и зоологией, «Atlas botanique»
Maout, «Flora Deutschlands» Kittel’n * и «Le regne ani¬
mal» de Cuvier были моими настольными книгами. Ме¬
дицинские книги привлекали меня тоже, и я с увлече¬
нием читал «Encheiridium medicum» Huffeland’a, «Ме-
decine populaire» Raspail’fl ** и описание анатомии че¬
ловеческого тела, составленное Загорским. Астрономия
Гершеля была прочтена мною с большим любопыт¬
ством. Языкознание и сравнительное изучение языков
казалось мне весьма интересным; кроме европейских
языков я был знаком с языками латинским, греческим,
арабским, персидским и турецким. По временам преда¬
вался я чтению исторических монографий какого-либо
периода времени, и история Востока занимала меня не
менее истории европейских народов. С жадностью
стремился я приобретать себе познания по всем отрас¬
лям наук (кроме философии, политической экономии и
математики, которые в то время казались мне слишком
утомительными). События 48-го года, происходившие в
Италии, Франции и Германии, сильно интересовали
меня. Социальное учение Fourier, сочинения его «Le
nouveau monde industriel»***, также различные бро¬
шюры последователей его Considerant, Toussenel’n **** *****
и других и популярнейшие журналы того времени «А1-
manach phalansterien» и более ученый «Phalan¬
ge****** увлекали меня нередко до того, что я забы¬
вал все прочее. Большие сочинения Fourier «Theorie
des quatre mouvements...» и «Theorie de l’unite univer-
selle» ****** были по временам просматриваемы мною,
но по дороговизне я не мог их приобрести В это
время жизнь моя носилась в каких-то идеальных
мечтаниях, отчего и избран был мною факультет во¬
сточных языков, чтобы уехать куда-то на дальний юго-
восток. Петербург же со всем его разнообразием жиз¬
ни и множеством общественных развлечений, которыми
я не имел ни малейшего желания пользоваться, казался
• «Ботанический атлас» May, «Флора Германии» Киттеля
(франц., нем.),
** «Медицинское руководство» Гуффеланда, «Народная ме¬
дицина» Распайля (лат., франц.).
*** Фурье... «Новый промышленный мир» (франц.).
**** Консидерапа, Туссенеля 4 (франц.).
***** «Фаланстерский альманах» ... «Фаланга» (франц.).
****** фурье «Теория четырех движений».., «Теория всеобщего
единства» (франц.),
178
мне ничтожеством в сравнении с привольною жизнью
среди южной природы.
Таков я был, когда от меня потребовалось в жизни
первое серьезное испытание, совершенно иного рода,
чем те, которые выдержал я в университете. Дело жиз¬
ни, в ее разнообразных проявлениях, есть высшая шко¬
ла человека. Высокая доблесть терпеть и безропотно,
молчаливо и стойко переносить лишения всякого рода
никому не дается сразу, но приобретается, вырабаты¬
вается более или менее продолжительным опытом как
в общественной среде, так и в отдельных личностях.
Никто не сведущ достаточно в великой науке жизни, и
только трудом, терпением и опытностью немногими
приобретается мудрость, — потому столько ошибок
жизни, сожалений и упреков, которые людьми пони¬
маются очень различно. И мои воспоминания этого
времени небезупречны — я расскажу все в последова¬
тельности.
Теперь прошло уже 35 лет, и я спрашиваю себя: в
чем же тогда состояла моя вина и за что был я так
внезапно схвачен как преступник и посажен в кре¬
пость? Всякое деяние человека может быть оценено
различно, смотря по периоду времени, строю жизни,
общественной среде и месту, где оно совершается. То,
что в 49-м году вменялось нам в вину и за что после
восьмимесячного одиночного заключения полевым уго¬
ловным судом мы были приговорены к смертной казни
расстрелянием, в настоящее время показалось бы ма¬
ловажным и не заслуживающим никакого преследова¬
ния: у нас не было никакого организованного общест¬
ва, никаких общих планов действия, но раз в неделю
у Петрашевского бывали собрания, на которых вовсе
не бывали постоянно все одни и те же люди; иные бы¬
вали часто на этих вечерах, другие приходили редко и
всегда можно было видеть новых людей. Это был ин¬
тересный калейдоскоп разнообразнейших мнений о со¬
временных событиях, распоряжениях правительства, о
произведениях новейшей литературы по различным от¬
раслям знания; приносились городские новости, гово¬
рилось громко обо всем, без всякого стеснения. Иногда
кем-либо из специалистов делалось сообщение вроде
лекции: Ястржембский читал о политической экономии,
Данилевский — о системе Fourier. В одном из собраний
читалось Достоевским письмо Белинского к Гоголю по
случаю выхода его «Писем к друзьям». Белинского из¬
бавила только болезнь и преждевременная смерть от
179
общей с нами участи. Для порйдка и предупреждения
шума от одновременных разговоров и споров многих
лиц Петрашевский поручал кому-либо из гостей наблю¬
дать за порядком в качестве председателя. На собра¬
ниях этих не вырабатывались никогда никакие опреде¬
ленные проекты или заговоры, но были высказываемы
осуждения существующего порядка, насмешки, сожале¬
ния о настоящем нашем положении. Что было бы впо¬
следствии — конечно, неизвестно. Если и предположить,
что по истечении многих годов могло бы образоваться
общество, имеющее целью ниспровержение существу¬
ющего государственного строя, к которому примкнули
бы, может быть, весьма многие, то, во всяком случае,
можно почти наверно сказать, что, по' новости и совер¬
шенной неопытности ведения такого дела, действия его
были бы в раннем периоде обнаружены и дальнейшее
его развитие остановлено правительством. Наш кру¬
жок, выражавший собою современные общечеловече¬
ские стремления, был одним из естественных передо¬
вых явлений в жизни народа и несомненно оставил по
себе некоторые следы.
Число арестованных, явно прикосновенных к этому
делу, хотя и казалось незначительным — оно доходило
до 100, может быть, и превышало это число, но мы не
были какими-либо выродками, происшедшими самопро¬
извольно и внезапно, мы были произведения образо¬
ванного класса земли русской—эндатические растения
страны5, в которой мы рождены, а потому и оставших¬
ся на свободе людей одинакового с нами образа мыс¬
лей, нам сочувствовавших, без сомнения, надо было
считать не сотнями, а тысячами. Наш маленький кру¬
жок, сосредоточивавшийся вокруг Петрашевского в
конце 40-х годов, носил в себе зерно всех реформ 60-х
годов.
Вечера Петрашевского, по содержанию разговоров,
касавшихся преимущественно социально-политических
вопросов, представляли большой интерес для нас и по¬
тому, что они были единственными в своем роде в Пе¬
тербурге. Собрания эти продолжались обыкновенно до
поздней ночи, часов до двух или трех, и кончались
скромным ужином. Знакомство собственно мое с Пет-
трашевским началось с весны 1848 года. Он был чело¬
век лет 34 е, среднего роста, полный собою, весьма креп¬
кого сложения, брюнет, на одежду свою он обращал
мало внимания, волосы ёго были часто в беспорядке,
небольшая бородка, соединявшаяся с бакенбардами,
180
придавала круглоту его лицу. Черные глаза его, не¬
сколько прищуренные, как. бы. проникали. в даль.. Лоб
у него был. большого размера, нахмуренный; он гово¬
рил голосом низким и негромким, разговор его был
всегда серьезный, часто с насмешливым тоном; во взо¬
ре .более .всего выражались , глубокая вдумчивость,
презрение, и едкая, насмещка. Это. был человек сильной
души, крепкой воли, много трудившийся .над самооб¬
разованием, всегда углубленный, в чтение новых сочи¬
нений и неустанно деятельный. Он воспитывался пер¬
воначально в лицее, но, по своему резкому поведение,
был оттуда исключен, после чего, поступал вольнослу-:
щателем в Петербургский университет по. юридическо?
му- факультету и, окончив курс, состоял на службе при
министерстве иностранных дел. Он имел большую биб¬
лиотеку новейших сочинений, преимущественно по ча;
сти истории, политической экономии и социальных наук,
и охотно делился ею не только со всеми старыми сво¬
ими приятелями, но и с людьми ему малознакомыми,
но которые казались ему порядочными, и делал это
по убеждению, для общественной пользы. Он говорил
мне, что в течение около 8 лет много людей перебыва¬
ли у него и разъехались в разные города России, и
преимущественно в университетские. Он давал читать
всем просившим его и снабжал уезжающих книгами,
которые, по его усмотрению, были полезны для умст¬
венного развития общества. Вовсе не интересуясь об¬
щественными увеселениями, он бывал повсюду: в клу¬
бах, дворянских собраниях, маскарадах —с единствен¬
ною целью заводить знакомства для узнания и выбора
людей. Утро проводил он большею частью в чтении
книг и в составлении какого-либо им намеченного тру¬
да. Плодом таких занятий был известный в свое время
напечатанный им словарь употребительных в русской
речи иностранных слов, в котором разъяснялись в осо¬
бенности подробно слова, обозначающие известные фор¬
мы государственного управления. Таков был Михаил
Васильевич Петрашевский, окончивший жизнь свою
8 декабря 1867 г. в Минусинске Енисейской губернии7.
О прочих участниках нашего дела я не могу сказать
ничего по малому моему знакомству с ними. Мы все,
кажется, жили, не помышляя о нашем единении, ко¬
торое только и произошло после претерпенного нами
обшего несчастия.
Иногда некоторые из участвовавших в собраниях
Петрашевского собирались у Н. С. Кашкина. Таких
181
было немного, и определенных дней для того не было.
Собирались также у К. М. Дебу люди, близко друг
другу знакомые. Свой особенный кружок, сколько мне
известно, с особым направлением, составлял Спешнев,
как бы соперничая с Петрашевским и некоторое время
готовый устраниться от него, но Петрашевский, видя в
этом ослабление общего дела, сумел предупредить та¬
кое разъединение.
Кроме этих, известных мне кружков, вероятно, были
и другие, и образованием таких кружков имелась в
виду пропаганда и распространение в обществе пра¬
вильных понятий о настоящем нашем положении. Не¬
которые из нас вносили деньги, кто сколько мог, на
общую библиотеку, для выписки новейЩих сочинений
по различным отраслям знаний, причем вовсе не име¬
лись в виду одни запрещенные какие-либо цензурою
книги, но вообще в этом отношении разницы не дела¬
лось никакой. Все мы вообще были то, что теперь на¬
зывают либералами, но общественного союза в каком-
либо определенном направлении между нами не было
и мысли наши, хотя выражались словами в разговорах
и ими иногда пачкались, наедине, клочки бумаги, но
в действие они никогда не приходили. Между нами
было несколько человек, называвшихся фурьеристами,
так назывались мы потому, что восхищались сочинени¬
ями Fourier и в его системе, в осуществлении его про¬
екта организованного труда, видели спасение челове¬
чества от всяких зол, бедствий и напрасных револю¬
ций. 7 апреля этого года (1849), в день рождения Fou¬
rier, был у нас устроен в память его banquet social *.
Обед был на квартире А. И. Европеуса; портрет Fou¬
rier в настоящую величину, по пояс, выписанный из
Парижа к этому дню, висел на стене; нас было 11 че¬
ловек — Петрашевский, Спешнев, Европеус, Кашкин,
Конст. Дебу, И. Дебу, Ханыков, Ващенко, меньшой
брат Европеуса, Есаков8 и я. Обед был очень оживлен
и приятен для всех; сказано было 3 речи: Петрашев¬
ским, Ханыковым и мною. Н. С. Кашкиным прочтено
было в русском переводе стихотворение Beranger «Les
foux» **. И. М. Дебу предложено было перевесть на рус¬
ский язык более доступное для всех сочинение Fouri¬
er — «Le nouveau monde industries, которое, принесен¬
ное им, было тут же разделено на части, и каждый
* общественный обед (франц.),
** Беранже «Безумцы»” (франц.).
182
взял себе часть для перевода. На обеде этом не было,
однако же, самого главного ревностного последователя
и талантливого проповедника учения Фурье — Н. Я. Да¬
нилевского, впоследствии известного славянофила. Не¬
задолго до моего знакомства с Петрашевским читал
он лекции о системе Фурье, которые сохранились в па¬
мяти у всех присутствовавших и были, по словам слу¬
шателей, очень увлекательны. Ему известно было о на¬
шем обеде, и он обещал Петрашевскому быть, но обе¬
щания своего не исполнил. Причины тому остались для
нас совершенно неизвестными, и мы все очень сожале¬
ли о его неприходе. Мы разошлись поздно вечером.
При выходе Петрашевский задержал меня и двух Дебу
и уговорил нас сопровождать его к Данилевскому, что¬
бы пристыдить его в его ренегатстве. Был поздний час
ночи, и мы ехали на двух петербургских гитарах —
дрожки того времени, на которых садились верхом или
боком.
Я ехал с К. Дебу, и мы оба были того мнения, что
Данилевского следовало оставить в покое. Желание
Петрашевского было исполнено; мы прибыли на квар¬
тиру Данилевского, — он жил, кажется, на Офицер¬
ской улице. Петрашевский разбудил его, вызвал его из
спальни и в нашем присутствии упрекал его в непри¬
бытии. Не помню, что Данилевский отвечал и как
оправдывался, но при виде человека разбуженного и
сконфуженного я пожалел еще более о моем участии
в этом деле, да и, кроме того, мы не имели никакого
права упрекать его. Если он жив, то я от всей моей
души прошу у него прощения в этом неразумном моем
поступке *°.
Вот в чем состояла вина так называемых
ныне петрашевцев, или апрелистов, как я слышал это
название от некоторых случайно встреченных людей на
Кавказе и в России, и впервые от графа Лорис-Мели-
кова, во время проезда его чрез Сунженскую станицу
с пленником Хаджи-Муратом, тогда бывшим в чине
полковника при корпусном штабе. В действительности,
однако же, ни то, ни другое из вышеприведенных на¬
званий не соответствовало разнообразию кружков схо¬
дившихся людей в доме Петрашевского. Более подхо¬
дящим для нас было бы название «русских социали¬
стов» 1849 года, в смысле тогдашнего идеального на¬
правления различных социальных учений во Фран¬
ции. Наше возбужденное, как бы протестующее, со¬
стояние и было настоящим отголоском событий, совер-
183
шищшцся в Европе в 18Ю*соду:.'Между прочим,нахд^'
дясЕ-в&ееылке, и даже позже, я неоднократно слыша#
престранные о нас мнения, высказываемые мне при
встрече разными лицами, что заставляет Меня полагать,
что какие-Tq'з#6наМёренные*аЙ№с умыслом^распуска¬
ли о нас .самые.'нелепые и. позорящие нас в народе слу¬
хи,—быть может, с той целью, чтобы уничтожить вся¬
кое к нам сожаление и восстановить против-нас общест¬
венное мнение, — так, напр[иМер], говорили, что кружок
Петрашевского состоял в» .«безбожников», не признавав¬
ших ничего святого, что будто бы в пятницу на страст¬
ной неделе1 мы кощунствовали над плащаницею в доме
Петрашевского, и тому подобные нелепости! Люди, нас
судившие или близко нас знавшие, были бы не менее,
чем мы, удивлены этими слухами. Источником их, без
сомнения, могли быть только полное незнание или чер¬
ная клевета..
IV
Воспоминания мои увлекли меня далеко за пределы
тюрьмы, но мысли мои тогда беспрестанно возвращались
к этим, предшествовавшим заключению, дням: то думал
я о виновности нашей-, в отдельности для каждого, то
вспоминалась мне моя родная семья — братья, сестра,
старушка тетушка, которые были напуганы ночью и глу¬
боко огорчены моим -внезапно совершившимся арестом.
Мне вспоминались они вместе собравшимися, горюющи¬
ми о случившемся, оплакивающими меня как погибше¬
го, навсегда исчезнувшего из нашего -родного кружка.
Слезы текли невольно из глаз, и, обращаясь к каждому
из них, я жаловался на судьбу, мысленно обнимал и
прощался с каждым: «Кончилась жизнь моя с вами, ми¬
новали счастливые дни и долгие годы моего с вами жи¬
тья, мои милые, мои дорогие друзья! Останусь ли я
жив, и, если уцелею от этого погрома, где я буду жить,
и увижусь ли с вами, и когда, и где?» 'Гак говоря сам с
собою, я плакал тихо, но горько; разлука с ними, неза¬
висимо ото всего остального, казалась мне великим го¬
рем, и прежняя свободная жизнь моя казалась мне идеа¬
лом счастия, потерянным раем. Не один я, однако же,
подавлен был до слез приступами жестокой тоски, — по
временам то с одной, то с другой от меня стороны слы¬
шен был плач в кельях заключенных.
Промучившись еще день, не зная, куда приютиться,
то становился я на окно, то ходил взад и вперед в моей
184
клетке, безо всяких занятий; вращаясь все в одном и том
же кругу моих безотвязных мыслей, ничем не переби¬
ваемых, дожил я до вечера: одиночество, безделье, том¬
ление мучило .меня. Нередко садился я и на под, и, сидя
нд коленях, закрывая лицо обеими руками, я громко се¬
товал и плакал, затем, поспешно вставая, вскакивал на
oiuio; минутно упиваясь воздухом у фортки, сходил с
окна, шел к двери, садился на кровать, на табуретку и
опять лез на окно, — так метался я, запертый в тесном
жилище. Снова были слышны хождения, звон ключей,
отворялась дверь, приносима и принимаема была без¬
молвным солдатом пища.
Наступила вторая ночь, и на окне моем зажглась
снова сальная плошка. Она издавала особый запах с ко¬
потью, и вид ее был мне противен, я подошел к окну и
задул ее. Замученный, я лег на кровать; спать хотелось,
и я заснул, но от жесткой подушки и на покатом тюфя¬
ке я беспрестанно просыпался и переменял положение.
Так прошло не знаю сколько времени, как в коридоре
послышалось движение и разговор у моей двери. Потом
я услышал стук в окно двери и слова, обращенные ко
мне: «Зачем потушили огонь?» Я ничего не отвечал и
старался забыться и заснуть, но в скором времени, од¬
нако же, я услышал звон ключей у моей двери; дверь
отворилась и вошел дежурный крепостной офицер и
сторож, — мне выговаривали за потушение светильни и
нарушение заведенного порядка. Плошка была снова
зажжена, и я остался один. В эту ночь мне не было хо¬
лодно, но в остальном она была такая же, как и преды¬
дущая.
В эту ночь, кажется, мне снился сон, которого от¬
дельные картины сохранились у меня по сие время в
памяти.
Мне снилось мое жилище в Большой Морской, в ин¬
ституте восточных языков (где я числился студентом).
Оно состояло из комнаты, выходившей в общий с дру¬
гими жилищами коридор, во втором этаже большого
дома (министерства иностранных дел).
В комнате было одно окно и в нем большая фортка.
В этом жилище моем было несколько запрещенных цен¬
зурою книг и моих письменных набросков, за которые я
мог быть обвинен и о которых я много думал в эти два
дня; мне снилось, что я ночью вошел тихонько в кори¬
дор, думая пробраться в комнату, и вижу: все спят и
часовой стоит у дверей комнаты, а на двери лежит боль¬
шая печать. Сердце у меня сжалось, и я тихонько ушел,
185
вышел на улицу и обошел кругом весь квартал, и во¬
шел вновь на двор этого дома через ворота (со стороны
Монки), и, найдя там знакомого дворника, подговорил
его подставить к окну моему, выходившему на двор, вы¬
сокую лестницу, чтобы можно было через фортку про¬
браться в комнату. И вот я уже отворил фортку и влез
в комнату; у меня в руках уже схвачены злополучные
письмена, как вдруг слышу я голос дворника: «Барин!
Спасайтесь, идут1» Я хотел бежать, но в фортке смот¬
рело уже на меня знакомое мне при аресте моем лицо...
Я проснулся, сердце стучало в грудь... Все было тихо,
плошка горела.
Утром встал я, замученный еще более прежнего.
Ночь была столь же тяжела, как и предыдущая. Голова
у меня болела, и местами больно было дотрагиваться до
нее, и пальцы мои, которые я подкладывал под голову,
были чувствительны.
Уже рассвело; замазанное окно закрывало меня от
всего живущего. Вот третий день, как я один, и все гроз¬
нее встают одни и те же мысли! На душе было так же
душно, как и в комнате. Я отворил фортку, — повеяло
чистым воздухом, встал на кружку и уткнулся носом в
открытое окно: передо мною был крепостной вал и пустой
дворик, где не было никого. Чистый весенний воздух
пахнул мне в лицо. Я стоял так несколько минут, как
вдруг услышал стук сзади меня; я обернулся и увидел,
что в окошке двери тряпка поднята и сторож стучит
пальцем в стекло и, смотря на меня, кричит: «Сойдите
с окна!» В сердце как бы кольнуло что-то; медленно со¬
шел я с окна. Надо же мне умыться, хоть насколько
возможно, от грязи, меня окружающей, — и вот я мо¬
юсь, набирая в рот воды, наклонившись над упомянутым
ящиком, мою лицо и руки, боюсь проронить напрасно
каждую каплю воды, которой у меня было мало. Но вот
умылся; что же я буду делать в настоящий день, как
доживу я до вечера? И сколько дней еще придется си¬
деть взаперти?! Вопрос этот с первого же дня беспре¬
станно возникал во мне, и я, по простоте души, в сооб¬
ражении моем разрешал его очень наивно: чрез две не¬
дели, конечно, разъяснится уже все дело, но как про¬
жить эти две недели?! А затем начинался другой, еще
более трудно разрешимый вопрос: «А после этого заклю¬
чения что будет с нами?!» Вопрос этот был безответен,
но предчувствия были зловещи и давали повод к раз¬
личным мрачным мыслям... Что же далее? Стоит ли еще
описывать это однообразное, мучительное верчение в
186
себе самом и в тесной клетке моего темничного заклю¬
чения? Изучение последовательных изменений в состоя¬
нии души и тела, наступающих у одиночно-заключенных
на продолжительные сроки, составляет высокий интерес
для ученого психолога и психиатра, но наблюдать их не
удалось еще никому, — их только знают и чувствуют на
себе сами заключенные; а затем, если они и возвраща¬
ются в свободную жизнь, то нуждаются в продолжи¬
тельном отдыхе и забвении всего перенесенного, а раз¬
рушенная прежняя обстановка жизни требует нового и
большого труда от человека уже с надломленными си¬
лами, и только если кому-либо из таковых, по истечении
долгих лет, посчастливится оправиться, насколько воз¬
можно, и обеспечить вновь свою жизнь, — тот может
предаться воспоминаниям давно прошедшего, сквозь ту¬
манную завесу десятков лет едва различая образы ми¬
нувшего.
V
В дальнейшем течении моей тюремной жизни, как
бы она, по-видимому, в сущности однообразна и мо¬
нотонна ни была, вспоминаются, однако же, в течение
столь продолжительного времени случавшиеся иногда
и различные отступления от обыкновенного порядка —
случайные происшествия дня, развлекавшие или отяг¬
чавшие меня еще большими мучениями. Об них хоте¬
лось бы упомянуть в хронологическом порядке и на не¬
которых остановиться большее время. Хронологический
порядок, однако, же, хотя и желателен, но он едва ли
исполним, — потому я желаю, насколько не изменит па¬
мять, придерживаться его.
По прошествии нескольких дней у меня сильно бо¬
лела голова от маленьких на ней опухолей, переходив¬
ших в нагноения, и вместе с тем стали делаться нары¬
вы на концах пальцев — вроде ногтоед, которые меня
немало мучили. Нагноение было на всех пальцах рук,
кроме больших пальцев. На голове оно произошло от
давления жесткою подушкой и, может быть, от грязной
наволочки, на руках же — потому, что ладонная часть
и пальцы руки были постоянно подкладываемы под
щеку и голову. В сравнении с тюремным заключением
эта маленькая беда была, конечно, ничтожна, но, одна¬
ко же, она мне причиняла ежеминутные страдания и
озабочивала меня желанием избавиться от нее. Я тогда
же понял настоящую причину этой несносной комплика-
ции11 общей большой нашей беды, и вот, в утренний
18?
’приход ко мне дежурного офицера, я просил его ■ дать
мне мыла и воды как можно более, а также и переме¬
нить подушку —по крайней мере, прйказать дать, мне
чистое постельное белье. Просьба моя относительно воды
и мыла была исполнена в тот же день, но подушка оста¬
лась до субботы — дня, в который переменялось белье
всем. Чувствительность кожи головы у меня стала мало-
помалу уменьшаться, и нарывы все стали проходить.
Вся эта болезнь; однако же, продолжалась около двух
недель.' ' . ' л ;■
Беспрестанно предавался я; соображениям о том,' как
долго будем мы заключены в крепости, и всегда утешал
себя тою мыслью, что недели две необходимо нашим
судьям для рассмотрения нашего дела, но более этого
срока я никак не давал им. С одной стороны, дело’ ка¬
залось мне весьма несложным и незначительным, а с
другой — я просто с отвращением и боязнью убегал от
всякой мысли о возможности продолжительного сидения
нашего в крепости и каждый прошедший день считал
уже пережитым жестоким страданием. Невозможно же
человека запереть безвыходно, без воздуха, в полутем¬
ную комнату одного, без всяких занятий и не торопить¬
ся освободить его. Ведь теперь весна, а мы все задыха¬
емся в гнилом воздухе грязных тесных келий.
Так думал я и, влезая на окно к фортке, впивал в
себя струю свежего воздуха. Каждый день прошедший
приближает меня к выходу. «Алчущие и жаждущие
правды» судьи наши, без сомнения, торопятся привести
в известность и кончить дело, и для них тоже не имею¬
щее ничего привлекательного. Часто также думал я о
времени; я спрашивал себя: «Да какой же у нас теперь
день и число?» На этот вопрос я никак ие мог дать себе
верного ответа, до того при этом внезапном погроме пе¬
репуталось в голове исчисление. Каждый день спраши¬
вал я себя: «Конец ли апреля у нас или уже май ме¬
сяц?» Прошло уже много дней— 10 или более, много
дум перебывало в голове, как вдруг услышал я голоса
людей, и звон в этот день на Петропавловском соборе,
казалось, был более, чем в обыкновенные дни; я вско¬
чил с особенным любопытством на окно и на кружку и
увидел проходящих и останавливающихся на валу кре¬
пости перед нашими окнами: люди, по-видимому, раз¬
личных сословий, по-праздничному одетые мужчины,
женщины и дети пррходили и, приостанавливаясь,
вглядывались в наши окна и за решетками спрятанные
в них лица и бросали медные деньги на маленький
188
двор наш. Я* устремив -на них глаза, всматривался в
каждого из любопытства, а также и из возможности
увидеть кого-либо из знакомы*. Пятаки шлепали о
землю, в разговорах упоминалось о святом Николае,
иные шептались, смотря на нас. Грустное чувство про¬
извело на меня это шествие людей, подающих нам ми¬
лостыню. Нас жалеют, помочь не могут и бросают
деньги, как несчастным замученным. Шествие это про¬
должалось недолго — с V4 часа, потом все утихло, ис¬
чезло, как видение, и мы остались по-прежнему одино¬
кими. Неожиданное явление это имело влияние на
разъяснение путаницы счета дней. Я уразумел вдруг,
что этот день есть 9 мая, николин день, и был даже
обрадован моим неожиданным открытием истинного
времени. С этого дня я твердо установился в исчисле¬
нии времени и неупустительно вел его в продолжение
всех 8 месяцев моего заключения в крепости.
В один из дней первой половины мая тюремная
жизнь моя была вдруг нарушена следующим обстоя¬
тельством: в утренний час я услышал хождение и бе¬
готню в коридоре и вскоре за тем звон ключей, остано¬
вившийся у моей двери: вошел знакомый уже мне де¬
журный офицер по крепости. (Их было всего два и
третий плац-майор, и они сменялись поочередно.) Вме¬
сте с этим служитель принес мое платье, в котором я
был арестован и которое у меня было отобрано. Мне
сказано было одеваться. Сердце мое забилось: неужели
меня освободят? Нет, что-то другое ожидает меня! Да,
конечно, меня требуют в суд, к допросу. А потом? По¬
том приведут опять сюда! Я оделся поспешно; офицер
не расположен был разговаривать, и мы вышли.
И я увидел днем те места, по которым меня вели
ночью при аресте 23 апреля. Я проходил дворик по¬
перек и затем проделанный ход через толстую крепост¬
ную стену, потом мостик, и затем я увидел себя на
большом дворе крепости у заднего фаса со стороны
Невы. Несмотря на мое беспокойство и мысли, сосредо¬
точенные на предстоящем допросе, я ощущал какое-то
особое чувство радости, благосостояния от воздуха,
меня объявшего вне стен и потолка душной тюрьмы; я
смотрел на небо и по сторонам с каким-то наслаждени¬
ем, взор отдыхал на представших вдруг глазам моим
новых предметах. Весенний день казался мне ослепи¬
тельным, чудным, живительным. Вот я прохожу буль¬
варом, — на нем распускающиеся деревья и зеленая
трава. Не видев их в этом году, я был удивлен, как
189
вдруг все выросло после апрельских холодных дней и
готово уже перейти в лето. «0x1 засиделся я в тюрь¬
ме!— думал я. — Как хороша жизнь на свободе!» Ря¬
дом со мною шел офицер, а сзади следовал солдат. Мы
подошли к белому двухэтажному дому и вошли в него.
Там введен я был по лестнице во второй этаж, и затем
передо мною отворилась дверь и я вошел в небольшую
светлую комнату: в ней увидел я сидящих за столом
нескольких человек. Они имели вид старых, заслужен¬
ных генералов, и между ними один был в статском
платье со звездою. Их было пятеро; как я узнал впо¬
следствии, это были: князь Гагарин, в статском пла¬
тье, полный, бледный, седой, казался старейшим из них;
князь Долгоруков; генералы: Ростовцев, Набоков —
комендант крепости — и Дубельт. Сначала удостоверены
были мое имя и фамилия, а потом князь Гагарин объ¬
явил мне, что я состою участником преступного дела,
за которое и арестован, и единственная возможность
смягчения моей участи — это полное признание во всем
и открытие всего мне известного в деле злоумышления.
Я должен был отвечать немедленно: какое у нас было
общество, кто члены его, поименовать всех и объяс¬
нить, какая цель была тайного общества, какие сред¬
ства употреблялись для достижения цели.
Закиданный такими вопросами, я был удивлен и от¬
вечал, что у нас не было никакого общества, а потому
и ответить на все остальные вопросы я не знаю что. Я
же не могу нарочно вымышлять... Тогда я был спрошен
о собраниях в доме Петрашевского, на которых и я бы¬
вал. Мне прибавлено было, что им все известно и вся¬
ким скрытием я только запутаю себя еще более. «Что
происходило на таком-то собрании, такого-то числа и
на том — тогда-то?» Я отвечал, что я бывал иногда на
вечерах Петрашевского, там говорилось о различных
предметах — ученых, литературных, политических. Что
именно говорилось в какой-либо день, я не помню,
тем более что я не всегда же и бывал на этих вечерах.
— Нет, вот такого-то числа — пятого декабря — вы
были, и вы не можете не знать, что там делалось и
кто о чем говорил.
— Я решительно не помню и не могу сказать. Мне
казались эти разговоры не столь важными, чтобы их
помнить, и я никак не думал, чтобы когда-либо я дол¬
жен был отвечать об этом.
— Кто бывал на этих ваших сходках? Назовите
всех, кого вы видели.
190
Я назвал нескольких лиц из тех, кого видел аресто¬
ванными в III отделении 23 апреля.
— Я был знаком с немногими, — ответил я, — боль¬
шинство людей, встречаемых там мною, было мне не¬
известно, и Петрашевский не имел обыкновения знако¬
мить нас.
Таким образом я был допрашиваем в этот раз с пол¬
часа времени. Вопросы предлагаемы мне были то тем,
то другим из присутствующих, с увещаниями и угро¬
зами, но, видя, что ответы мои ничего не разъясня¬
ют, они не знали, что уже спрашивать, и я был от¬
пущен.
Допросом этим я был сильно взволнован и спу¬
скался с лестницы, сопровождаемый теми же провожа¬
тыми.
Мы вышли снова на крепостной двор, меня снова
обнял нежным своим дыханием весенний, чистый, не¬
замкнутый воздух; я упивался им с наслаждением и
замедлял ход.
— Опять туда же вы меня ведете?
— Опять туда же, — ответил сопровождавший меня
офицер.
— Надолго ли, как думаете?
— Не могу вам сказать, — мне ведь ничего неиз¬
вестно.
Мы придвигались все ближе к прежнему подсводно¬
му ходу и мостику, и вот я вновь перехожу маленький
дворик, и двери тюремного коридора уже отворились,
и я вошел в него и сразу почувствовал разительную пе¬
ремену воздушной среды. Темно и душно; в амбразурах
видна Нева; вот и дверь моей кельи открыта, и я вновь
введен в нее и заперт на ключ. Вот и суд начался, ду¬
мал я, а уже более двух недель сижу я в тюрьме и
сколько еще времени просижу? Неужели еще две неде¬
ли? И отчего так медленно ведут они дело? Разве оно
такое большое?1 Тяжело было на душе, и мысли с каж¬
дым днем все более мрачные отягчали меня! Тюремная
моя келья была, кажется, четвертая от входной двери
мрачного коридора. Стены отделяли меня от моих со¬
седей справа и слева. Мне слышны были их шаги, по
временам слышались глубокие громкие вздохи. Иногда
то там, то здесь слышен был по коридору, через не¬
сколько стен, плач кого-либо — то рыдание, то всхли¬
пывание.
Тишина, спертый воздух, полнейшее безделье, дохо¬
дившие до меня то возгласы, то вздохи заключенных
191
товарищей, неизвестных мне,— все это вместе произво¬
дило удручающее влияние, отнимавшее окончательно
бодрость духа. Нервное утомление, или, лучше сказать,
переутомление, начало выражаться беспрестанной зе¬
вотой; часто слезы текли из глаз, иногда пробегала ка¬
кая-то дрожь по спине. По временам появлялись при¬
ступы более сильной тоски и выражались каким-то,
прежде сего никогда не знакомым мне, неостановимым
плачем, после чего впадал я в совершенную апатию и
оставался без движения, без мысли. Запас жизни, одна¬
ко, меня пробуждал снова к деятельности в замкнутом
кругу. Мысли роились снова, то блуждая в воспомина¬
ниях прошедшего, то останавливаясь на безвыходном
положении настоящего. По истечении некоторого време¬
ни стали слышаться не одни печальные стоны, но и пес¬
ни кое-где между заключенными. Песни становились бо¬
лее частыми и более громкими; по содержанию они были
весьма разнообразны; то слышалась знакомая песня,
протяжная, заунывная, то незнакомые мне напевы,—
слов нельзя было разобрать; однажды услышал я «А1-
lons enfants de la patrie, le jour de la gloire est arri¬
ve...» *, что было как бы ободряющим и призывающим к
терпению. Делать нечего, надо было утешать и обод¬
рять себя чем возможно, хотя бы минутным обманом,
лишь бы как-нибудь пережить это трудное, мучительное
заключение. Вскоре и сосед мой с правой стороны стал
петь, и голос его и пение, слышанные мною часто, при¬
влекали мой слух и развлекали меня немало. Он пел,
как соловей поет в клетке. Имя его я узнал прежде вы¬
хода моего из тюрьмы, как о том я объясню ниже.
Однажды, осматривая кровать мою, старую, расша¬
танную временем уже, я заметил в одном углу ее тор¬
чащий гвоздь; взявшись за него, я увидел, что он си¬
дит не очень крепко, его можно с усилием расшатать и
вытащить. Гвоздь этот казался мне вещыо полезною в
моем положении: как орудие самозащиты и самоубий¬
ства в случае уже невозможности перенести неизвест¬
ное, ожидаемое мною. Я ухватил его крепко и шагал и
тянул с роздыхами до тех пор, пока не вытянул. Гвоздь
оказался длинным, с палец, и толстым — с писчее перо.
У меня ничего не было, потому и гвоздь этот составлял
для меня ценную вещь, и он мне, в беспомощном моем
положении, оказался небесполезным, как я объясню пос¬
ле. Первое употребление, которое я извлек из него,—
* Вперед, сыны отечества, день славы наступил12 (франц.).
192
это чистка ногтей несколько раз в продолжение дня.
По извлечении его он почти не выходил у меня из рук.
Я его тщательно прятал от взоров сторожей и входив¬
ших ко мне ежедневно для подачи пищи офицеров и
служителей. Стоя на окне у фортки, я точил его о же¬
лезную решетку или слегка затуплял его, смотря по
расположению духа. Гвоздь этот я берег, как вещь мне
весьма нужную, и тщательно сохранял его до конца
моего пребывания в крепости. Об употреблении его я
скажу после.
Первый месяц тюремной жизни в Петропавловской
крепости казался мне жестоким, невыносимым, но по
истечении его образовалась уже некоторая выносли¬
вость. Не то чтобы пребывание это в заключении сде¬
лалось более сносным,— нет, я жил одною мыслью, что
дело наше должно окончиться если не сегодня, то завт¬
ра, но вместе с тем меня не удивляла уже и не возбуж¬
дала во мне омерзения моя душная, с загрязненными
стенами тюремная келья. Я применился к минимальной
простейшей жизни и размышлял о том, как сделать ее
менее тягостною, менее вредною для здоровья, убеждая
себя, что ведь пройдет же это время не завтра, так по¬
слезавтра, через неделю. Фортка держалась открытою
день и ночь, во всякую погоду; воды я не переставал
требовать два раза в день, большую кружку; стал хо¬
дить по комнате для движения, а иногда прыгал и де¬
лал гимнастику; ел чрезвычайно мало. Большую часть
дня стал проводить я, стоя на окне, носом в фортке.
Сторож, присматривавший в наши кельи, редко испол¬
нял свои обязанности. Иногда, увидев меня стоящим на
окне, он стучал и говорил: «Сойдите с окна», я сейчас
же сходил, но потом вскоре опять вспрыгивал на пло¬
щадку окна и стоял, пока не уставал. Наконец и сто¬
рожа, все одни и те же, уже привыкли к нашим без¬
вредным привычкам и, внося пищу столько раз и не по¬
лучая ни от нас, ни через нас никаких неприятностей
по службе, считали нас уже как бы своими людьми,
которых обижать без надобности не следует, и эти на¬
поминания о схождении с окна совершенно прекрати¬
лись. Офицеры, посещавшие нас, которых было всего
три (один рыжий, всегда кашлявший, больной, худой,
для меня весьма неприятный, другой — брюнет, очень
высокий, худой тоже, который мне нравился, и третий —
миловидный плац-майор — немец — для меня безразлич¬
ный), вначале бывшие с нами почти совершенно бессло¬
весными, стали более внимательны к нам и не так мол¬
8 Зак. № 628
193
чаливы и безучастны. Один из них, не помню который,
на просьбу мою, нельзя ли получить какую-нибудь кни¬
гу для чтения, предложил мне сначала имеющуюся у
него в распоряжении Библию, которую я и просил его
принесть мне, а потом он достал мне вскоре и другую
книгу — один из старых журналов — кажется, «Отечест¬
венные записки». На книги эти я набросился с жадно¬
стью и читал.
VI
Чтение доставленных мне, кажется плац-майором,
книг было для меня большим развлечением. Библию на
славянском языке я нередко перелистывал и прежде,
когда был на воле, и многое было прочитано мною уже
прежде, но имея эту книгу в такое бедственное время,
я накинулся на нее с особенным увлечением, ища в ней
пищи для размышления и утешения. Я развертывал ее
в разных местах и прочитывал целые главы. Пятикни¬
жие прочитано было уже мною прежде, все подряд, по¬
тому я читал далее — из книг: Иисуса Навина, Судей,
Царей и Пророков. Псалмы Давида, страдания Иова и
книга Эсфирь прочитаны были с большим вниманием.
Но все тяжелая, убийственная тоска не оставляла меня,
и по временам я впадал в какое-то малодушное отчая¬
ние. Чем долее длилось заключение, тем ненавистнее и
ужаснее казалось оно мне. В груди начинало появлять¬
ся какое-то судорожное дрожание — не то плач, не то
смех. Как ни старался я утешать себя размышлением,
что не я один, но все же мы страдаем и что и прежде
было так, и люди и лучше и выше меня во всех отно¬
шениях бывали заключаемы в темницах и нередко кон¬
чали и жизнь свою в муках, так отчего же мне должна
быть лучшая судьба? И чья в действительности луч¬
шая судьба, живущего ли в довольстве на свободе, угод¬
ника людских страстей, или гонимого людьми, заклю¬
ченного в темницу? Такого рода разные размышления,
наводившие меня на истинный правдивый путь, посе¬
щали меня по временам, возвышали дух мой над обык¬
новенным уровнем житейского моря, в котором так лег¬
ко захлебнуться и пойти ко дну, но это было кратковре¬
менно, минутно, а все остальное время я готов был
горько расплакаться о потерянной мною жизни, кото¬
рую я страстно любил! Но вот настало второе испыта¬
ние— я вновь приведен был пред лицо судей:
— Вы говорили нам, что вы ничего не знаете, и мы
194
поверили тому, но теперь из дела обнаружилось, что
вы один из более виновных, замышлявших произвести
государственный переворот. Вы стремились перевернуть
вверх дном весь настоящий порядок — разрушить все
города!
Я стоял и слушал. «Они, без сомнения, прочли на¬
бросанную мною речь за обедом Фурье»,— думал я.
— Какие собрания были у вас? Какой обед у вас
был и у кого, и что там было?
— У Петрашевского,— отвечал я.
— Это же неправда, вы лжете. Назовите вашего то¬
варища, у которого был обед!
— Обед был у меня,— отвечал я, смущенный.
— Вы нас не можете обмануть или скрыть чего-ли¬
бо: все дело ваше нам известно... У кого был обед, кто
был там и о чем было там говорено?
— Вам же известно все наше дело, зачем же вы ме¬
ня спрашиваете? О себе хочу я объяснить, что я не имел
в виду никакого насильственного переворота...
— Да, только хотели разрушить столицы и города!..
Знаете ли вы, что вас ожидает по закону?
При этих словах князь Гагарин развернул том за¬
кона и прочитал соответственное место о смертной каз¬
ни. Я стоял, не зная, что говорить.
— Ахшарумов,— сказал мне справа сидевший за
столом генерал, это был Ростовцев, как я узнал впо¬
следствии,— мне жаль вас! Я знал вашего отца, он был
заслуженный генерал, преданный государю, а вы, сын
его, сделались участником такого дела!
Обращаясь ко мне с этими словами, он смотрел на
меня пристально, как бы с участием, и в глазах его по¬
казались слезы. Меня удивило это участие незнакомо¬
го мне лица, и оно казалось мне искренним.
— Вы поймите то,— говорил князь Гагарин,— что
ваша жалкая участь может быть только облегчена ва¬
шим признанием и раскрытием всего, как это означено
в этом пункте закона.
Я стоял молча, и меня, сколько мне помнится, боль¬
ше ни о чем не спрашивали.
— Нам с ним больше говорить нечего,— продолжал
князь Гагарин,— ему надо дать время одуматься; дело
это касается его жизни. Вот мы вам предлагаем писать
все, что у вас было. Ступайте!
Мы вышли. Ничего не говоря, шел я, куда меня ве¬
ли; представшая минутно моим удивленным глазам
картина уже вполне наставшего лета, перехода которо-
19»
гс с весны я совсем не видел, и живительный воздух
светлого майского дня исчезли для меня, и я захлоп¬
нут был снова тюремною дверью.
Замученный месячным тюремным заключением, пе¬
ред судом, однако же, предстал я в возбужденном со¬
стоянии и был сдержан в моих ответах, но когда остал¬
ся я один, сам с собою, слезы полились, и я заплакал,
как никогда в жизни со мною не случалось.
Отдавшись весь тоске, я плакал горько, как вдруг
услышал, что ключ воткнут был снова в замок моей
двери. Это остановило меня сейчас же. Дверь отвори¬
лась; вошел какой-то чиновник и, положив ко мне на
стол бумагу, чернила и перо, обратился с вопросом:
«Здесь шесть листов, довольно ли будет?» — «Возьмите
вашу бумагу и оставьте меня»,— сказал я ему. Он по¬
смотрел на меня с удивлением и, не ответив мне ничего,
ушел.
Не могу вспомнить я более, что было со мною в этот
день, как прожил я его, но день этот был для меня один
из самых мучительных. На другой день я проснулся
очень утомленный. Во сне преследовали меня все те же
дневные картины предшествовавшего дня, смертная
казнь в различных ее видах начала представляться мне.
Вспомнились мне и рассказы, слышанные мною прежде
о заключенных в казематах крепости.
Бумага лежала на столе,— писать или не писать?
Вопросы эти начинали все более и чаще неотвязно пре¬
следовать меня. «Они увеличивают нашу вину; им пред¬
ставляется бог знает что: тайное общество, заговоры!..
Если бы они знали в действительности всю правду, то,
может быть, и успокоились бы!» Такие мысли начинали
все чаще появляться и все более упрочиваться в моем
мышлении и привели меня мало-помалу к тому заклю¬
чению, что лучше изложить им дело, как оно было в
действительности, упомянув об обстоятельствах, кото¬
рые несомненно должны быть им известны или не мо¬
гут не быть узнаны из найденных у нас бумаг. Некото¬
рые из нас незадолго до ареста говорили, что хорошо
бы все происходящее записывать, и один из них — Ха¬
ныков,—человек самого живого характера, которого
любимым делом было поддерживать связь между всеми
нами, имевший огромный круг знакомства, уже принял¬
ся, как это было мне известно, за описание деятельно¬
сти отдельных кружков. Кроме того, А[нтонелли], агент
III отделения, более полугода посещал собрания Петра-
196
шевского. Он же был родственник Голля |3, который го¬
раздо раньше был знаком с Петрашевским, чем я. От
него разузнал он, без сомнения, обо всем и предал его
и нас всех. «Мне надо писать,— говорил я,— писанием
моим я не сделаю ни малейшего вреда никому из арес¬
тованных, а может быть, даже кого-либо удастся оправ¬
дать или уменьшить вменяемую ему вину; Петрашевско¬
го, конечно, оправдать я не могу — на нем лежит вина
всех нас вместе».
Что касается меня самого, то вопрос этот казался
мне всего менее трудным: нечего более и думать скрыть
что-либо, а надо прямо, откровенно рассказать все, при¬
знать себя виновным и просить прощения,— так как
смерть моя не принесет пользы никому, а жизнь я лю¬
бил слишком горячо, чтобы расстаться с нею.
Так размышлял я, с различными вариациями, еще
целый следующий день, а на третий утром стал писать.
И вот написал, что Петрашевский один только и ви¬
новен, он один только и действовал, желая изменить об¬
щественное мнение, но действие каким-либо насилием
никогда не было у него в виду. Я поименовал тех лиц,
которых видел арестованными, и выражал мнение, что
неправильно думать, что все посещавшие собрания Пет¬
рашевского были с ним одинаковых мыслей относитель¬
но политических и социальных вопросов; что у Петра¬
шевского собирались весьма различные люди и были не
одни только осуждения настоящего государственного по¬
рядка, но и горячие споры в защиту его. Одно посеще¬
ние собраний Петрашевского никак не может быть ко¬
му-либо поставлено в вину. Наконец, окончив описание
фактов, вменяемых нам в общую вину, я перешел к под¬
робному изложению об участии моем в этом деле, и,
признавая себя виновным письменно и мысленно, я на¬
писал, по правде сказать, о себе много лишнего, чего бы
вовсе не следовало писать, но я был очень упавши ду¬
хом и испуган смертною казнью. Окончил я мое писа¬
ние несколькими строками, обращенными к государю,
в которых я изъявлял искреннее мое во всем раскаяние
и просил о прощении моей вины, но я не могу не при¬
бавить теперь, что я постыдно лгал на себя, так как по
совести не чувствовал за собой никакой вины.
Рукопись эта была у меня взята, а некоторые листы
бумаги, написанные мною, разорваны в мельчайшие
клочки и выброшены. На другой день я был позван в
суд. Меня пригласили прочесть написанное, останавли¬
вая меня на некоторых местах расспросами. Ростовцев
197
интересовался одним вместе с нами арестованным офи¬
цером Московского полка (фамилию его я не помню),
о котором я упоминал, как о заслуживающем от прави¬
тельства награды, а не наказания 14. Он и не был впо¬
следствии в числе обвиненных.
Меня спросили еще о Данилевском, но я отвечал, что
он прежде посещал собрания Петрашевского, но потом
удалился ото всех. Меня заставили написать сказанное
о нем, что и было мною сделано между строками.
Такова была моя письменная апология, составлен¬
ная под страхом насильственной смерти. После этого
прошло уже слишком 35 лет, и вот я стою перед кон¬
цом моей жизни и пишу рукопись о былом — как мою
исповедь!
VII
Прошел месяц моего пребывания в крепости. Прибли¬
зительно около этого времени, в конце 4-й недели или
начале 5-й, произошли некоторые перемены вообще в
ежедневном, однообразном ходе нашей жизни, кроме
того, и некоторые случайные новости, собственно мои,
на которые я натолкнулся в моем одиночестве, соста¬
вившие для меня в свое время события дня весьма важ¬
ные. В' точности не могу вспомнить, но приблизительно
в это время двери наши отворялись не два, а три раза:
нам подавался чай утром, затем обед и с вечерней пи¬
щей приносился и чай. Для этого были у меня стакан,
блюдечко и чайник. В июне месяце были у меня свеча
и спички, гребенка и зеркальце, и я ежедневно делал
кое-как свой туалет.
Однажды с ветром залетел ко мне в фортку табач¬
ный дым, и запах этот, которого я давно не слышал,
был мною воспринят с особенным удовольствием. Я ку¬
рил в то время, и хотя лишения этого ввиду лишения
вообще свободы я почти не чувствовал, но при ощуще¬
нии приятного запаха прежде любимого мною курения
я пожалел, что у меня нет нужных для того припасов,
и при первом же отворении двери я спросил об этом де¬
журного офицера. Он очень любезно ответил, что куре¬
ние дозволяется, но только на свой счет. Я сказал, что
в день ареста у меня был в кармане кошелек с несколь¬
кими рублями, и просил его купить мне какую-нибудь
простую, небольшую трубку — тогда папирос еще не
было — и Жукова табаку 15. Желание это было исполне¬
но в тот же день; не помню я, какая трубка у меня была,
198
но ’Л-фунтовую, в синей бумаге, пачку знаменитого жел¬
того «Жукова кнастеру» едва ли кто из куривших его
в прежние времена может забыть. Аромат его, кажется
мне, и теперь я узнал бы из множества в природе сущест¬
вующих запахов, так же как и впоследствии Mari land
doux * и соломенных пахитос 16. Как мне ни было тоск¬
ливо и отвратительно на душе, но, набив трубку милей¬
шим табаком и потянув его, я почувствовал как бы раз¬
лившееся по жилам моим приятнейшее ощущение. Удо¬
вольствие, как бы опьянение какое, продолжалось, ко¬
нечно, минутно и было только в первый раз для меня
столь приятно. Потом скоро оно сделалось обыкновен¬
ным и даже, полагаю, оказывало свое угнетающее вли¬
яние на выносливость заключения.
В одно время произошло еще одно обстоятельство,
имевшее самое большое влияние на все это мучитель¬
ное и долгое время заключения. Оно внесло отвлекаю¬
щий элемент от мыслей о себе самом: родным заклю¬
ченных, вероятно своими просьбами, удалось получить
разрешение иметь непосредственные сведения от нас и
вместе с тем улучшить, насколько возможно, наше до¬
вольно суровое содержание. Мне было предложено на¬
писать письмо родным и просить их прислать книг и
всего, что нужно для развлечения. По написании же
бумага и чернила были отобраны, корреспонденция от¬
давалась открытою. Я, конечно, с радостью воспользо¬
вался этим, и вот мне в скором времени присланы бы¬
ли книги, которые я желал. Я получил несколько ча¬
стей сочинений Гете, некоторые романы Вальтера Скот¬
та, Comedies de Moliere ** и другие, которые я теперь
не помню. Вместе с этим мне было сообщено, что полу¬
чены деньги для моих издержек, присланы фрукты и
конфеты. Когда я взглянул на все мне доставленное, то
меня это прежде всего ужасно огорчило: так много при¬
слано мне, стало быть, нет надежды на скорое оконча¬
ние нашего дела, и мне казалось, что прежде, чем я не
съем всю корзину, наше дело не может кончиться. Ве¬
личина запаса, присланного для моего утешения моими
братьями и тетушкой моей, произвела на меня угнетаю¬
щее впечатление. Они же, вероятно, осведомились, что
дело еще не скоро кончится, и вот потому и прислали
так много, чтобы хотя чем-нибудь облегчить мое тяже¬
лое заключение. Несмотря на это, однако же, я в мыс¬
* Мэрилендский нежный (франц.).
** Комедии Мольера (франц.).
199
лях моих никак не мог допускать,— единственно пото¬
му, что это казалось мне ужасным,— чтобы дело наше
могло продолжаться еще более двух недель. Это самый
долгий срок, думал я, но как же дождаться окончания
его? Сладости, присланные мне, меня нисколько не ра¬
довали,— горе и лишение существенных жизненных по¬
требностей были слишком велики, и все мысли и жела¬
ния мои были фиксированы на одном вопросе: когда
же, наконец, окончится суд над нами?
В1 одно утро, стоя у форточки, я услышал тихий
разговор справа от меня сидящего с заключенным, сво¬
им тоже правым соседом. Я вслушивался, но слов разо¬
брать не мог,— амбразура — оконное углубление ка¬
менной стены было глубиною более полуаршина; непо¬
средственно за рамой окна — на расстоянии вершков
двух — была вбитая в камень железная решетка, да и
высунуться головой из маленькой фортки было невоз¬
можно. Как я ни вслушивался, но слов расслышать не
мог. Слыша, однако же, как соседи мои беспрепятст¬
венно мило беседуют, и я наконец тихим голосом обра¬
тился к моему соседу — и от него сейчас получил ответ:
фамилия его была Щелков, моя сделалась известна ему
также. Я узнал от него, что подле него сидит такой-то —
не помню кто, а за ним Дебу-старший. Далее сего све¬
дения его не простирались. Щелкова видел я иногда у
Петрашевского, но знаком с ним не был. Мы начали
разговаривать тихо, и так бы, может быть, и продолжа¬
лось все время, пока мы сидели рядом, но вдруг слева
от меня кто-то громко назвал меня по фамилии, и ча¬
совой, ходивший около окон, закричал: «Послать ефрей¬
тора!», и затем произошли на дворе переговоры стражи.
Этим прекратились все наши дальнейшие попытки к ти¬
хой беседе — столь благодетельному и отрадному раз¬
влечению для одиночно-заключенных. Наши невинные
обращения одного к другому, могшие доставить нам ис¬
тинное утешение в одиночестве, не остались без послед¬
ствий. О Щелкове суду, кажется, осталось совершенно
неизвестным, но полагалось, что я с каким-то аресто¬
ванным вступил в недозволенное сношение, вследствие
чего на другой же день я потребован был в суд. Аресто¬
ванный этот был Европеус, но это осталось суду неиз¬
вестным. В суде в этот раз на меня напустился со всею
военною строгостью комендант Набоков. Затем, после
допроса о том, с кем я говорил и о чем, и после полу¬
ченных от меня во всем отрицательных ответов,— «что
разговора еще не было, но была только попытка раз¬
200
говора, и что я даже не знаю с кем», — мне сказал князь
Гагарин, что фортка моя будет запечатана. Мне было
ужасно услышать это, и я с горячностью возразил:
— Да разве возможно запечатать фортку, ведь я же
задохнусь!
— Невозможно? А разве фортка у вас для разгово¬
ра?
— Я обещаю, что более не буду говорить, а фортку
прошу мне оставить, я без воздуха жить не могу.
— Вы довольны своим помещением? — спросил у
меня гневным тоном Набоков.
Я не знал, что отвечать на такой неожиданно по¬
ставленный мне вопрос, но чувствовал, что надо отве¬
тить утвердительно.
— Надо быть довольным,— сказал я тихим голосом.
— В крепости у меня есть куда вас посадить — та¬
кие места...— тут он не договорил,— там не будете раз¬
говаривать!
Существовали ли в действительности в 1849 г. та¬
кие места в Петропавловской крепости или слова эти
сказаны были только для устрашения меня, но они на
меня произвели сильное впечатление, и когда меня отпу¬
стили, то я шел с большим опасением, чтобы меня не
перевели куда-либо в подвальную яму; занимаемое мною
помещение казалось мне приютом, убежищем еще от
больших страданий. «Еще новая беда,— подумал я,—
и в худшем есть еще гораздо худшее!» Вся моя забота,
все мое желание сосредоточилось в этот день на том,
как бы мне сохранить мою драгоценную келью.
Прошло еще недели две или более, как я вновь по¬
требован был в суд. Во все эти единственные выходы
мои из полутемной и душной кельи, в которой меня дер¬
жали взаперти, безвыходно, в самое прекрасное летнее
время года, когда я только ступал на двор крепости и
кругом меня не было ни стен, ни потолка, а над голо¬
вою открывалось ничем не заслоненное небо, меня об¬
нимало какое-то упоительное чувство. Глаза, привык¬
шие к полутьме, немного прищуривались от ослепитель¬
ного блеска летнего дня, и воздух, обдававший меня со
всех сторон, казался мне живительным, чудным, но что
более всего поражало меня — это скачки времен года,
прежде в жизни никогда не виданные, внезапные пере¬
ходы в природе: я взят был 23 апреля, когда деревья
еще не распускались; выведенный через 2 недели, я
увидел весну в полном ее развитии, а затем вдруг пе¬
ред глазами моими вполне облиственные деревья, и на¬
201
конец внезапно, как бы с поднятием, занавеса, полная
картина цветущего лета. Едва успевал я предаваться
этим оживляющим ощущениям, как уже вводим был в
белый двухэтажный дом, стоявший среди крепости. Там
заседала следственная комиссия, казавшаяся мне, по
неведению моему, окончательным уже судом над нами.
И в этот раз, восприяв наслаждение выхода из тюрь¬
мы, я через пять минут стоял уже вновь перед лицом
моих судей.
— В последнем вашем с нами разговоре и письмен¬
ном вашем показании вы утверждали, что у вас не было
никакого тайного общества и никаких определенных це¬
лей, а между тем это оказалось ложью.
— Я все сказал, что я знаю, и теперь утверждаю то
же — что у нас не было никакого общества.
— Ну, так чтобы доказать вам, уличить вас во лжи,
вот...— При этих словах князь Гагарин .показал мне ка¬
кой-то лист и, обернув его ко мне и закрыв рукою под¬
пись, сказал:— Читайте!
Я прочел следующие строки, меня немало удивив¬
шие: «Вступая в общество, я обязуюсь, когда комитет
объявит, что общество уже в силе, быть в назначенный
день и час в назначенном месте, имея при себе холод¬
ное или огнестрельное оружие...»
Далее я был остановлен в чтении.
— Теперь вы видите! Чья это рука,— разве вы не
знаете, кто были участники этого общества?
— Я не знаю об этом ничего,— отвечал я.
— А если будет доказано, что вы это знали, то вам
не будет сделано никакого снисхождения.
— Если будет доказано это, тогда только я и могу
быть обвинен.
— Вы надеетесь на то, что это не будет доказано,—
сказал Ростовцев,— и потому считаете себя вправе
умолчать об этом.
— Я вас уверяю, что об этом я ничего не знаю и не
знаю, кто писал эти строки. Между нами, арестованны¬
ми по одному делу, вовсе не было таких близких отно¬
шений, чтобы мы могли знать почерк каждого и кто что
делал.
— Знакомы вы с Черносвитовым? — спросил меня
князь Гагарин.
— Я первый раз слышу такую фамилию и не знаю,
о ком вы меня спрашиваете.
Я вышел под особым впечатлением узнанной мною
новости. Воздушное путешествие мое было кратковре¬
202
менно, и я вновь был заперт в ненавистную мне тюрь¬
му. Мысль о прочтенных мною, для меня весьма инте-
ресных, строках и какой-то загадочной для меня лич¬
ности Черносвитова не выходила у меня из головы. Я
знал, что между лицами, посещавшими собрания Пет¬
рашевского, были и самые отчаянные личности, кото¬
рым собрания Петрашевского по мирному ходу бесед
казались бездеятельными и ни к чему не ведущими, и
что они готовы были отделиться и составить свой реши¬
тельно действующий кружок, но с ними я почти не был
знаком и вовсе не желал сближаться.
Существование тайного общества, которое было бы
достаточно сильно, чтобы избавить от заключения всех
приговариваемых к смертной казни, без сомнения, было
бы великою новостью для всех арестованных, но надеж¬
ды на это у меня вовсе не было никакой,— потому и эго,
казалось бы, очень важное, новое для меня сведение
было только новостью дня, нарушившею несколько од¬
нообразие тюремного заключения, и вместе с тем по¬
казало мне еще более, как легкомысленны и безумны
были люди, замышлявшие насильственный государст¬
венный переворот. Новость эта отягчала мои мысли
еще тем, что обнаружились новые обстоятельства, кото¬
рые усложняли и потому затягивали рассмотрение на¬
шего дела, уже и так продолжавшегося около двух ме¬
сяцев. Надежда на скорое окончание рушилась и отло¬
жена была вновь на двухнедельный срок, казавшийся
мне наиболее длинным и совершенно, по моему крайне¬
му легкомыслию, достаточным для выяснения всякого
сложного дела.
«После столького сидения,— думал я,— еще две не¬
дели! Это невыносимо!»
Двухнедельным сроком обманывал я себя все время
заключения, и, если бы не этот утешавший меня само¬
обман, я впал бы в совершенное уныние, с полным
убеждением не выжить этой долгой пытки.
И вот прошло еще две недели, как не в обыкновен¬
ное время отворилась дверь моей кельи и принесена
была мне большая, сшитая in folio *, тетрадь. Принес¬
ший, вручая мне ее, сказал: «Это вопросы, поставлен¬
ные вам судом, на которые требуется ваш письменный
ответ». Сказав это, он ушел, оставив меня в неприят¬
ном удивлении и новом тягостном вопросе: что это еще
такое?!
* в половину большого листа (лат.),
203
— Опять задержка! Когда же будет конец всему
этому?!
Принесенная тетрадь прежде всего поразила меня
своею тяжеловесностью; положив ее на стол, я раскрыл
и увидел на каждой странице особый вопрос. Некото¬
рые оставлены были пустыми, для полноты ответа. Пер¬
вый вопрос казался мне лишним: спрашивалось, как
меня зовут, мое имя, отчество, фамилия, лета, где вос¬
питывался; а второй за тем вопрос был для меня удиви¬
телен и страшен: спрашивалось, когда я исповедовался
и приобщался святых тайн! Для чего это, как не для
предстоящей мне смертной казни. Так думал я тогда,
да и теперь не знаю, предлагается ли такой вопрос во¬
обще всем подсудимым или только тем, которые осуж¬
даются на смертную казнь. Сердце у меня сжалось как-
то по прочтении этого вопроса, и все остальные вопро¬
сы казались мне уже ничтожными. И в действительно¬
сти они оказались такими,— те же самые вопросы, что
и были предложены мне на суде и на которые я отве¬
чал уже словесно и письменно. Но вопросов этих было
очень много — их было всех 43. Начиналось вопросом
о моих отношениях к Петрашевскому, давно ли я с ним
знаком и что побудило меня познакомиться с ним, за¬
тем следовали вопросы о том, что за общество было у
нас и т. д. Между прочим, спрашивалось еще — зна¬
ком ли я был с Черносвитовым и что мне о нем извест¬
но. Вопрос этот заставил меня вновь задуматься об
этой загадочной, неизвестной мне личности и наводил
меня на мысль, что Черносвитов этот должен быть гла¬
вою какого-либо мне вовсе неизвестного заговора.
Перелистывая дальше, я увидел вопросы, касающие¬
ся собственно меня, моего соучастия, и, главным обра¬
зом, речи моей, произнесенной на обеде в память Фурье,
сохранившиеся наброски которой оканчивались прибли¬
зительно словами:
«Нам предстоит великая задача: разрушить все сто¬
лицы и города, и ныне существующую безобразную,
глупую, жалкую, мученическую жизнь людей заменить
жизнью разумною, счастливою, в довольстве и труде».
Я уже объяснял на суде, и письменно, и словесно, как
понимать это аллегорическое выражение о «разруше¬
нии столиц и городов», что не огнем и мечом имелось
в виду произвести громадное дело, а понималось под
этим тихое, мирное изменение жизни, безо всяких поли¬
тических потрясений, вследствие устройства особого ро¬
да поселений, приспособленных к разнообразному тру¬
204
ду и общему хозяйству и благосостоянию живущих вме¬
сте поселенцев. Такого рода были приблизительно мои
толкования и разъяснения этих поразивших судей моих
ужасных слов о предвещаемом мною разрушении сто¬
лиц и городов. Но и эти разъяснения мои не сняли с
меня жестокого обвинения.
Между обыкновенными вопросами обратил мое вни¬
мание при дальнейшем перелистывании один,— написа¬
но было: «Какое влияние имел на вас Ипполит Дебу?»
Ипполит Дебу был мне самый близкий человек —
товарищ мой по гимназии, одного выпуска по универси¬
тету. С малых лет я подружился с ним, делился с ним
всеми моими мыслями и впечатлениями. Наша жизнь
была как бы общая, и мы шли вместе с ним рука об
руку — пока судьба нас не разлучила. Вспоминается
мне, когда уже мы были разлучены,— мне пришлось
жить арестантом в Херсонской арестантской роте, а ему
в Килийской крепости на Дунае,— как часто мыслен¬
но соединялся я с ним, с чувством самой нежной и креп¬
кой дружбы, которую и выражал словами сам с собою,
а иногда и стихами. <...>
Ипполит Дебу в общественном и политическом отно¬
шениях всегда упреждал меня; от него узнавал я о но¬
вых ходивших сочинениях, преимущественно тогда во
Франции, по части новейшей истории, политико-эконо¬
мических вопросов и социальных систем. Он же раньше
меня познакомился с Петрашевским и меня познакомил
с ним. Желая меня выгородить, он перед судом объяс¬
нял свое влияние на меня, чтобы оправдать меня, и при¬
нимал, таким образом, еще большую вину на себя. Этот
благороднейший поступок его мною был оценен и вы¬
звал сейчас же во мне ответ, не менее соответствовав¬
ший нашей безукоризненной дружбе и взаимной под¬
держке: я отрицал его влияние на меня и признавал се¬
бя самостоятельно действовавшим.
VIII
Мое сидение в крепости продолжалось неизменно, и
надежда на скорое окончание нашего дела исчезала, а
мысли становились все более болезненно-мрачными;
зловещие предчувствия тяготели надо мною, и по вре¬
менам мелькали перед глазами туманные картины: за¬
тягивания шеи веревкой и других родов насильственной
смерти. Болезненный бред преследовал меня и в снови¬
дениях,— я помню хорошо сон: ночь, внезапный шум и
205
беготня в коридоре, затем переговоры шепотом и шаги
многих людей, остановившихся у моей двери; потом вот-
кнутие ключа и движение щелкнувшей замочной пру¬
жины; сердце мое билось, я вскочил с постели и стоял
в ожидании и недоумении: зачем пришли ко мне неиз¬
вестные люди?.. Чего они хотят от меня?
Отворилась дверь, и в ней показалась фигура высо¬
кого роста, бледная, худая, с прилизанными волосами
и маленькой головой; за нею стояли несколько чело¬
век и держали какие-то машины и дымящуюся посуду.
Вся эта компания двинулась на меня.
— Что вам надо?! — закричал я в испуге, отскочив
и прижавшись к окну. Молча подошли и набросились
на меня палачи и, растянув меня, положили на бок. Я
силился кричать, но был безгласен* и один из них стал
вливать мне в ухо расплавленный металл... Я почувст¬
вовал, как что-то горячее полилось в левое ухо, и, за¬
кричав, проснулся, и увидел себя лежащим на кровати,
и плошка горела на моем окне. Сердце билось сильно,
повсюду была тишина, и ужасный сон стоял перед мои¬
ми глазами. Нервы мои были сильно расстроены от бо¬
лее двухмесячного уже сидения в тюрьме, в ожидании
бог знает чего, и мне представлялась разная чепуха.
Плакать я уже перестал, но взамен плача и слез появ¬
лялся неудержимый, подобно дрожанию, хохот и затем
громкая, с продолжительным донельзя разеваньем рта,
зевота. Часто хохотал я, сидя на полу, и затем зевал
страшно. Гвоздь был при мне, и, приберегая его, я его
оттачивал на железной решетке у фортки: «Это мой
друг, мой верный друг — я им буду защищаться и без¬
наказанно не позволю себя взять!»
На дворике перед моими глазами не было ни одного
деревца, кое-где виднелась трава. Иногда показывался
кто-либо из сторожей с метлою. Часовой ходил вдоль на¬
ших окон и сменяем был другим каждые два часа. Од¬
нажды увидел я какого-то служителя на этом дворе —
за работою: он сидел, прислонившись к противополож¬
ному валу, и шил мешки из грубого холста. «Что это за
новость,— думал я,— для чего эти мешки?» Он был
усердно занят работою, вероятно спешною, и не вообра¬
жал, что стал предметом, меня заинтересовавшим, а я
на него смотрел с болезненным любопытством, и безот¬
вязно звучал во мне вопрос: «Зачем шьются эти меш¬
ки,— как раз величины человека, и всякого туда можно
запихнуть?..» Так думал я и по временам тер моего дру¬
га о железную решетку.
206
Наступил уже июль, не помню в точности, какой был
это день, кажется, в первых числах, когда однажды, под
вечер, в сумерках, я выглядывал моей замученной ро¬
жею из фортки, а часовой, прохаживаясь взад и вперед,
всякий раз смотрел мне в лицо, как бы вызывая на раз¬
говор. Я был желт и худ, и волосы длинные висели ни¬
же головы. Я смотрел на часового тоже и, видя его, ка¬
завшееся мне несомненным, сочувственное участие, не
мог не заговорить.
— Теперь не жарко, как днем? — спросил я его ти¬
хим голосом.
— Тут ничего, а вот придется надеть ранец и идти
в поход...
— Куда же в поход? — спросил я, удивленный.
— На венгра, в Австрию; туда уже много наших
пошло.
— А что же там, воюют немцы?
— Немцы и венгры бунтуются,— так их усмирять
пошли!
— А царь в городе?
— Нет, и он тоже при войсках... А может быть, и в
Варшаве... А вы давно посажены сюда?
— Я — с апреля месяца.
— Ого, давненько! — сказал он, всматриваясь в меня.
Между тем темнело все более, и разговор этот, со¬
ставлявший для меня драгоценную находку, вдруг пре¬
кратился вечернею визитациею дежурного офицера для
подачи нам вечерней пищи, а потом все было уже тем¬
но и нельзя было уже различить человека, тот ли са¬
мый, с которым я говорил. Так быстро промелькнул
для меня этот призрак утешенья, принесший мне, од¬
нако же, очень важную новость, сделавшуюся для меня
живым предметом освежающего размышления в этой
однообразной тюремной жизни.
IX
Прошло около двух с половиною месяцев нашего си¬
дения в крепости. То бодрясь, то упадая духом, прово¬
дил я кое-как дни и ночи. Я делал над собою большие
усилия, старался развлекать себя чтением книг, кото¬
рые тогда уже были мне доставляемы родными; я вы¬
тирался по утрам весь холодною водою; фортка у меня
не затворялась вовсе — ни днем, ни ночью; иногда, ста¬
раясь делать гимнастику, я махал руками, скакал до
усталости, но все это было недостаточно, чтобы поднять
207
мой павший дух, и зевота, страшная зевота одолевала
меня — я зевал во всеуслышание на весь коридор. Со¬
сед мой левый почти не был слышен; я удивлялся, что
он почти не ходил,— а правый сосед мой, Щелков, по¬
стоянно пел, и песни его доставляли и мне развлечение
и удовольствие.
По выходе моем из крепости, когда был разговор об
этом времени моего заключения, все, говорившие со
мною об этом, с первых же слов спрашивали о пище —
какова была пища в крепости, но вопрос этот, по-види¬
мому совершенно естественный, всегда меня или сердил,
или вызывал улыбку,— он казался мне странным, за¬
бавным, не стоящим ответа: сидящий в заключении до
того истомлен, что пища для него, как для индийского
брамина или фарсистанского дервиша17,— лишь бы су¬
ществовать. Аппетита у меня совсем не было, и я почти
ничего не ел — питался несколькими ложками супа, ку¬
сочком черного хлеба и чаем; воды пил довольно мно¬
го. И что бы было, если б при заключении, безвыходно
под гнетом суда, как под мечом над головой, я стал бы
есть, как на свободе,— я совсем сошел бы с ума. К пи¬
ще я был совершенно равнодушен.
Я целый день почти говорил сам с собою вполголоса.
Иногда посещал меня стихотворный бред, и я потешал¬
ся им и выскабливал его гвоздем по стенам. Книги раз¬
вертывались часто, но немного читались еще в это вре¬
мя. Душа была слишком беспокойна, и я не мог отре¬
шаться на целые часы от своего положения. Ужели еще
две недели придется сидеть в одиночном заключении и
в неизвестности, что будет потом?!
В эту пору уже и входившие к нам офицеры и слу¬
жители не оберегались нас и не убегали так быстро из
наших келий, как это было первое время. Присмотрев¬
шись к нам, они уже были не безучастны к нашему по¬
ложению, и иногда случалось слышать от них и доброе
слово участия. Я нередко спрашивал офицеров: «Не зна¬
ете ли, скоро ли кончится наше дело?» — и получал от¬
веты разные, с выражением сожаления, что они в это
дело вовсе не посвящены. В эту же пору, кажется, один
из них сказал мне, что государя в городе нет, а при нем
было бы скорее; офицеры, с течением времени более оз¬
накомившись с нами, имели к нам доверие, и потому
иногда удавалось от них услышать кое-что. Они, каза¬
лось, были отягчены трудными и многочисленными обя¬
занностями нашего содержания, и в словах их прогля¬
дывала нередко и злость на продолжительность дела.
208
Комендант Набоков посещал иногда наши кельи, же¬
лая удостовериться лично в нашем благополучном про¬
живании в командуемой им крепости и показать тем
свою заботливость о нас. При посещении своем он, од¬
нако же, ни разу не удостоил меня никаким добрым сло¬
вом участия, а только исполнялась им формальная обя¬
занность коменданта: войдя в келью, он спрашивал о
здоровье, а я при виде его спрашивал: «Скажите, пожа¬
луйста, скоро ли кончится наше дело?» На что он обык¬
новенно отвечал: «Я почем знаю? Вы лучше знаете, что
вы наделали!» И, как бы избегая дальнейшего вопроса,
он сейчас же уходил. Он посещал нас через несколько
недель, а в последние месяцы нашего пребывания в кре¬
пости визит его был редкостью. Так время шло, и до¬
жили мы до 20 июля, в который день услышал я не в
обыкновенный час хождение и шум в коридоре, затем
отворение дверей. «Комендант визитировал нас недав¬
но, что же бы это могло быть?» — думал я. Вскоре за
тем я заметил, что двери отворялись не все, а только
немногие, и моя дверь была мимо пройдена, но сосед
мой правый, Щелков, получил визит и затем уведен был
из кельи,— вероятно, к допросу, в суд, но, однако же,
прошло несколько часов, а возвращения его не после¬
довало. Меня это очень заинтересовало, куда он про¬
пал: перевели ли его в другую келью, и где он теперь,
и каково ему? Все эти вопросы вдруг возникли во мне.
При вечерней визитации обратился я с вопросом к де¬
журному офицеру — о соседе моем. Он ответил мне, что
сегодня освобождены многие, и в том числе и сосед ваш,
и что государь возвратился вчера. Может быть, его при¬
сутствие ускорит окончание нашего затянувшегося дела?
Итак, Щелков на воле! Как птица вылетел он из
своей железной клетки и исчез в воздушном пространст¬
ве! Я рад за него, но при этом мысли мои невольно об¬
ращались к себе. «А я все сижу и что будет, не знаю,—
говорил я.— Ужели еще две недели придется мне ждать
чего-то неизвестного и очень дурного?!.. Что бы ни по¬
следовало, оно будет лучше этого сидения взаперти и
ожидании. Пускай уже сошлют куда; уже и жизни, ка¬
жется, готов бы я лишиться, лишь бы быстро, не стра¬
дая; но одного я страшно боюсь и не вытерплю — вновь
назначенное наказанием заключение — одиночное, без¬
выходное в какой-либо тюрьме! Этого я перенести не
могу! Как проживу я еще две недели?!» И странно, что,
несмотря на то, что срок этот уже столько раз обманы¬
вал меня и что я соображал по количеству вопросов, по¬
209
ставленных нам всем для письменных ответов, прибли¬
зительно в какое время могут быть они написаны, а за¬
тем прочтены, и все-таки не верил продолжительности
заключения, а между тем, я помню, я сам же делал ра¬
счет такой: мне было дано 43 вопроса, я ответил на них
в два дня; положим, каждому из нас дано столько же
и всех нас приблизительно 100 человек, следовательно,
сколько же страниц должно быть, во-первых, написано
подсудимыми, а во-вторых, прочтено со вниманием су¬
дившими нас? Если в день они прочтут ответы двух, то
и тогда составит 50 дней! Мои предположения о двухне¬
дельном сроке, очевидно, были неверны, но я прогонял
от себя всякую мысль о большей продолжительности,
так она казалась мне страшною, и, утопая в этой мут¬
ной и грязной пучине, хватался за мою двухнедельную
соломинку!
В эти дни произошла внезапно большая перемена в
содержании арестованных: постель изменилась совер¬
шенно: тюфяки и подушки ветхие, жесткие были приня¬
ты и заменены новыми — чистыми, мягкими. Поданы
были новые одеяла и халаты байковые, темно-серые,
мягкие; грубое белье все заменено было более тонким,
мягким. Все это казалось мне ничтожным и вовсе не
утешительным, но когда я лег на мягкую и чистую по¬
стель, мне показалась она чудесною, и я всеми членами
отдыхал от прежнего жесткого ложа. В' это же время
последовало и изменение в пище: вместо солдатской
порции нам подавалась офицерская,— но к пище я был
гораздо более равнодушен.
Так прожил я еще несколько дней, часто думая о
вышедшем на волю Щелкове. Никто уже более не уте¬
шал меня песнями. Сожалея о себе, я вместе с тем от
души радовался его счастью: для него уже миновало
это мучительное время, и он теперь среди своей семьи
и друзей ценит еще более свободу и жизнь. Хотелось бы
очень встретиться с ним в жизни, но жизнь моя... про¬
должится ли она еще?!
Вдруг, не в обычный час, вновь хождение в коридо¬
ре, звон связки ключей и остановка у моей двери. Во¬
шел офицер — плац-майор — и сказал мне, что он при¬
шел перевесть меня в другое отделение. Меня это очень
озадачило,— я не приготовился к тому, и это было для
меня совершенною неожиданностью. «Куда, зачем, я
лучше останусь здесь... Ведь уже недолго осталось, так
зачем же это?!» К тому же возникли вдруг и смутные
догадки и опасения чего-то для меня неизвестного!..
210
«О чем вы беспокоитесь? — отвечал мне офицер.—
Там будет вам удобнее, и комната больше этой».— «Да
разве нужно? Если вы это для меня хотите, то оставьте
меня здесь до конца дела... Ведь уже осталось недол¬
го!..»
Офицер, однако же, вежливо убеждая меня, гово¬
рил настойчиво, что ему поручено меня перевести от¬
сюда в другое место и он не может не исполнить этого.
Видя, что делать нечего, я стал собирать мои книги и
боялся, чтобы не был как-нибудь обнаружен мой друг,
который был у меня бережно запрятываем под подуш¬
кой. Я уловил удобный момент и захватил тихонько мой
драгоценный гвоздь, а остальные все вещи были взяты
служителями, и мы вышли из комнаты и из коридора на
двор. Конец июля,— лето, цветущее лето в полном раз¬
гаре явилось вновь мгновенно перед моими глазами.
Мы вышли на крепостной бульвар, где росли деревья,
повернули направо, прошли весь длинный фас, парал¬
лельный Неве, выходящий окнами на большой двор, и в
конце его, дойдя до поворота налево, круто повернули
направо — прямо в темный коридор. И я введен был в
новую комнату — более просторную, чем прежняя моя
келья, с двумя окнами и потолком со сводами. Вещи все
были положены как попало, постлана постель, и я был
оставлен и заперт в этой новой комнате.
Переселение это произвело на меня большое впе¬
чатление, и новое мое жилище сделалось сейчас же
предметом моего любопытства. Я стал осматриваться,
где я и что меня окружает: два окна, более низких, но
довольно широких, с большою площадкою, где можно си¬
деть под самой форткой; фортка на правом окне, до¬
вольно низкая, легко достижимая при стоянии на коле¬
нях и немного большей величины против прежней,—
все это было для меня приятною новостью. Межокон¬
ный промежуток выполнен был круглою печью, затап¬
ливающеюся из комнаты. И это хорошо, думал я. За¬
тем открыл я фортку и увидел впереди себя длинную,
довольно широкую улицу, ведущую от моих окон к пе¬
реднему фасу собора, к его подъезду. Кроме того, под
окном проходила и другая улица, поперечная, доступ¬
ная для прохожих, по которой можно было видеть про¬
ходящих, не у самой стены, но несколько поодаль от нее.
Это приобретение было для меня тоже весьма дорогим.
Комната сама, с чистыми стенами и вдвое больше, то¬
же радовала меня. Все это было маленьким отдыхом
среди большого томления,— пока было ново,— дня два-
211
три, а затем возвратилась вся прежняя тоска, но все-та¬
ки преимущества нового жилища были мною ощущаемы
постоянно.
Перед окном моим, на другой стороне улицы, стояло
дерево, я уже забыл какое, но, кажется, береза или
ольха; оно было все густо обросшее зеленою листвою, и
вид его мне был приятен. Ветви его качались иногда по
ветру и листья дрожали, и были обливаемы обильным
дождем, и я смотрел на него с особенным чувством из
фортки, вдыхая влажный воздух и свежесть промчав¬
шейся грозы. Перед моими глазами это одно дерево бы¬
ло представителем всего лета. В; продолжение целого
дня видел я нескольких проходящих — военных, граж¬
данских, иногда женщин. Еще помню я, что на проти¬
воположной стороне улицы была какая-то покинутая
постройка и большая куча песку, к которой часто при¬
бегали мальчишки и заводили между собою разные
драки и игры, в которых, глядя, и я участвовал и знал
их всех поименно. Однажды, вспоминается мне, послал
я из окна обиженному и плачущему мальчику, остав¬
шемуся одному, какое-то ободрительное слово и сам, ис¬
пугавшись, спрятался потом за окно. Когда я посмотрел,
его уже не было, и я опасался, чтобы не возникло от
этого каких-либо для меня тягостных последствий, и
упрекал себя в столь непростительном легкомыслии...
Так началась моя жизнь в новом жилище. Воздух
в нем был чище, солнечный свет более проникал в мрач¬
ную келью, чем прежде, и созерцательное мое положе¬
ние у фортки было не столь однообразно. Часовой не
ходил у окон, а иногда лениво прохаживался сторож,
казалось, совершенно беззаботно относившийся к своей
обязанности. Колокольный звон Петропавловского со¬
бора каждые четверть часа, однообразно переливаясь
квинтами и терциями, звучал надоевшей мне песнью.
Я сидел в новом жилище моем и думал: как-нибудь
проживу еще две недели! Я спал лучше, да и мягкая по¬
стель была для меня еще новостью. В этом жилище
пришлось мне прожить остаток лета и наблюдать, как
все более желтели и опадали листья на стоявшем перед
моими глазами дереве, как наконец не осталось более
ни одного и ветви стояли голые.
В этот период времени я был несколько бодрее, более
имел развлечений извне, через окно, что отвлекало меня
от постоянных мыслей и соображений о своем положе¬
нии. Вместе с этим наступили темные вечера августа,
и я более покойно предавался чтению. В это время я чи¬
212
тал с особенным увлечением «Космос» Гумбольдта18,
романы Вальтера Скотта на французском, Гете у меня
было несколько частей, и, кроме того, я занимался анг¬
лийским и итальянским языками. На английском был у
меня роман Купера — «The Spy»*, и я понемногу читал
его; на итальянском — песни Петрарки на смерть Лау¬
ры, которые я силился перекладывать на русские песни.
Почти целый день говорил я сам с собою вполголоса,
а иногда и очень громко, и потолок сводами давал осо¬
бый резонанс всякому звуку. Иногда я был в возбуж¬
денном состоянии и говорил нараспев стихами, декла¬
мируя их; иногда же пел какие-либо старые, памятные
мне, песни или же и новосочиненные мною — на извест¬
ный какой-либо мотив. Звуковые условия моей концерт¬
ной залы я скоро изучил, становясь в различных пунк¬
тах и разыскав место наибольшего отраженного звука,
становился обыкновенно в нем, когда чувствовал при¬
звание дать себе, а также мышам, по комнате ходившим
безбоязненно, вокальный концерт. Нередко вместо кон¬
церта выходила репетиция с вытягиванием высоких нот,
все более усовершенствованным. Соседей моих я вовсе
не слышал, казалось, они отсутствовали, да иногда я по¬
лагал, что мое пение может и развлечь кого-нибудь.
«Всякая птица услаждается своим пением»,— говорит
арабская пословица. («Куллу, Тайрин ясгаллизу саута-
га»), а потому и мое пение доставляло мне удовольст¬
вие в моей клетке.
В этом жилище жизнь моя имела свои особенности,
и этот период моего заключения, продолжавшийся с
двадцатых чисел июля по первые сентября, был для
меня не столь тягостен, как предыдущий и как самые
последние месяцы. На душе было так же скверно, но
я сделался уже более вынослив и имел более силы бод¬
рить себя и забываться в различных развлечениях, к ко¬
торым благоприятствовали условия моей новой комна¬
ты; они же освежали мои мысли. Я не был здесь совер¬
шенно удален от людей, иногда даже долетали до меня
некоторые слова из разговоров проходящих мимо окна.
По большему простору кельи моей я более ходил, да и,
кроме того, случайные обстоятельства были для меня
развлечением; днем смотрел я в фортку почти постоян¬
но, тем более что можно было примоститься у нее. Ког¬
да на дворе крепости ничего не было занимательного, а
погода была облачная, я рассматривал облака в их бес¬
* «Шпион» (англ.).
213
престанно изменяющихся формах. Облака составляли
для меня предмет наблюдений и в предыдущем моем
жилище. Множество раз в течение дня влезал я на окно
и сходил с него.
Внутри самой комнаты предметом моих наблюдений
сделались мыши: они выползали беспрестанно и бегали
по комнате, подбирая крошки пищи. Они были малень¬
кие, и мордочки их нравились мне. Левое окно, с прос¬
торною площадкою, было у меня буфетом и там лежал
хлеб, и они иногда пытались вскакивать на окно, но это
им не удавалось. Все лишнее—а его было у меня много —
отдавалось мышам, и они мало-помалу все более смело
придвигались ко мне, не видя с моей стороны никакой
неприязни и не имея вовсе причины бояться меня и не
доверять мне. В' известные часы дня, соответствующие
подаче пищи, они выходили в большом числе из своих
норок и для получения пищи должны были подходить ко
мне близко. Большого движения с моей стороны они
опасались, но небольшие шевеления не тревожили их
вовсе, так же как и громкое пение, которое, казалось
мне, даже интересовало их. В это время занимался я
много чтением. С Гумбольдтом восходил я на Кордилье¬
ры и на берегу Тихого океана наблюдал зодиакальный
свет, с ним носился я по небесным пространствам и со¬
зерцал миры нашей Солнечной системы и отдаленные,
неподвижные звезды. По вечерам читал я большею ча¬
стью Вальтера Скотта, и романы его доставляли мне
большое развлечение. Читая книги, я всегда имел в ру¬
ке мой железный карандаш, который был слегка затуп¬
лен и сглажен — для отметок на полях книги. На мяг¬
кой книжной подстилке писание гвоздем очень разбор¬
чиво, и часто я писал им мои мысли. В этот период вре¬
мени предавался я часто стихотворству, и оно меня по
временам увлекало сильно. Я ходил по комнате взад и
вперед, то скоро, то тихо, и бормотал сам с собою, а
иногда громко декламировал и потом гвоздем писал на
стенах или на полях книг сочиненное. <...>
X
Был, кажется, конец августа, как однажды, вскоре
после обеда, когда вновь наступила в кельях наших
тишина и мы, томимые скукою, кто, может быть, лежал
и засыпал, а кто измышлял какие-либо развлечения вро¬
де кормления мышей и т. п.,— вдруг мы были все встре¬
вожены— и, вероятно, многие испуганы — страшным гу¬
214
лом орудии, стрелявших над нашими потолками: стекла
в окнах дрожали и из коридора потрясались двери. Вы¬
стрелы один за другим обходили кругом всей крепости.
Такое неожиданное явление, наблюдаемое и чувствуе¬
мое всеми нами, дало толчок разным догадкам: «Что
бы это значило? Зачем стреляют?» Выстрелы продолжа¬
лись, вся крепость гремела. «Да что же это такое?» Ка¬
кие мысли не приходили в голову утомленным тюрем¬
ным жителям! Казалось бы, всего проще и вероятнее
было бы сказать: «Знать, родился некий царь!» — но и
этого в голову не пришло. На дворе было все спокой¬
но, и форточный осмотр не дал никакого объяснения
столь трескучему, внезапно возникшему шуму. Я посту¬
чал в окно двери,— тряпка скоро поднялась, подошел
сторож и посмотрел на меня. «Что это значит, зачем
стреляют?» — спрашивал я. Он посмотрел, но, ничего не
ответив, опустил тряпку. Судя по неизменяемости внут¬
реннего состояния в крепости, неторопливой ходьбе,
обычной тишине, отсутствию всяких признаков тревоги,
можно было скоро прийти к положительному заключе¬
нию, что все обстоит благополучно и нерушимо, а по¬
тому и весь этот шум должен быть из пустяков. Все ка¬
залось мне в это время пустяком, что не имело какого-
либо отношения к выходу моему из крепости.
В этот же день, часа через два, в коридоре сдела¬
лось хождение, беготня со связкою ключей, и стали от¬
воряться наши кельи.
Вот и до меня дошла очередь: вошел комендант и,
устремив на меня как бы сердитый взор, сказал:
— Ну что? Здоровы? Слышали пальбу?
— Пожалуйста, скажите мне, скоро ли окончится на¬
ше дело? — спросил я его умоляющим голосом.
— А что? Сами наделали — теперь сидите, пока кон¬
чится. А вот новость вам скажу: император Нико¬
лай Павлович Европу покорил!
Это были его подлинные слова, и они врезались у
меня в памяти. Я смотрел на него, пораженный ответом
его и возвещенною им мне новостью о какой-то мне не¬
известной победе. «Это в Венгрии,— думал я,— как мне
сказал добрый часовой». Он больше сказал мне, чем
комендант. Посещение его всегда оставляло по себе еще
больший упадок духа, а, между тем, ему так легко бы¬
ло сказать мне что-либо ободряющее и оставить в серд¬
це моем навсегда доброе воспоминание.
Другое происшествие, не менее интересное, совер¬
шившееся в это время в крепости и которое судьба при¬
215
вела мне наблюдать как театральное зрелище из моей
фортки, было несколько позднее по времени. Фортка у
меня была день и ночь открытою, и я беспрестанно
смотрел в нее и иногда примащивался на площадке ок¬
на для сидения у него с книгою в руках, прислушива¬
ясь к говору проходящих вдоль крепостной стены, в ко¬
торой вделано было мое жилище. При отворенной форт¬
ке я слышал постоянно гул езды по деревянному Троиц¬
кому мосту, и для меня этот гул движенья и жизни,
долетавший в мое одинокое жилище, был приятен.
Однажды, встав утром с постели и подойдя к форт¬
ке, я был очень удивлен, не услышав этого обычного
гула: значит, моста нет? Куда же девался он? Разве¬
ли,— но для чего же? Теперь еще не время. А мост все-
таки разведен, и несомненно разведен! Обстоятельство
это не переставало меня занимать, и в то же время за¬
метил я через фортку какое-то необыкновенное движе¬
ние на крепостном дворе перед моими глазами. Многие
шли туда и сюда, появилась полиция, прохожие шли
скорее и говорили громче. Я вслушивался, и вот мне
удавалось уже не раз слышать слово «похороны». «Что
бы это такое было? Будем далее наблюдать... смотреть,
слушать»,— думал я и еще ближе уткнулся носом в
фортку. Всякое развлечение для меня было великим
благом: оно освежало мысли и давало отдых от неот¬
вязчивых дум.
Настало время утреннего чая; оно пришло даже поз¬
же обыкновенного, и при посещении меня дежурным
офицером я спросил его:
— Скажите, зачем развели сегодня Троицкий мост?
— А вы как же это знаете? — спросил меня офицер,
как бы встревожась.
Я успокоил его, объяснив, что сведение это досталось
мне совершенно невинным и дозволенным путем, и про¬
сил его ответа на мой вопрос.
— Ведь вы уже меня посещаете пятый месяц, по¬
тому уже отчасти знаете меня, и разве это тайна какая,
что мост на глазах всех развели?!
— Да, я вам скажу... только вы не говорите нико¬
му... Михаил Павлович умер в Варшаве19,— сказал он
мне почти шепотом,— и сегодня его похороны.
— Михаил Павлович умер! Что же, он болен был?
— Нет,— шептал он,— умер скоропостижно.
Больше он уже боялся продолжать этот разговор и
просил меня еще о молчании об этом, как бы мне ни¬
чего неизвестно.
216
«Так вот что,— думал я, когда остался один.— На¬
силу выпытал от него эту, известную всем не заключен¬
ным, тайну!»
Но для чего понадобилось разведение моста, это ос¬
талось мне неизвестным *.
«Но все-таки,— думал я,— он из хороших». Это был
высокий, худой офицер, который более прочих был вни¬
мателен, и, вероятно, не ко мне одному, а ко всем заклю¬
ченным. Если он жив теперь, то он должен быть очень
стар, и если прочтет эти слова, то увидит в них мое
доброе о нем воспоминание. День его дежурства был
для меня всегда желателен. В' его обращении и его сло¬
вах видел я человеколюбие, уважение к страданию и
сочувственное участие. Имя его и фамилия остались мне
неизвестными, но я отдаю ему долг мой этими словами
моего о нем воспоминания.
Оставшись один, я пригвоздился безотлучно к форт¬
ке и был зрителем сначала всей беготни, приготовле¬
ния, хождения взад и вперед одетых в траур офицеров
и затем наполнения соборной площади войсками — пе¬
хота и конница прибывала все более в крепость. Затем
послышалась музыка, погребальный марш, и показалась
из-за собора колесница, сопровождаемая высокою сви¬
тою и генералитетом. Гроб внесен был в церковь,— я ви¬
дел, как все делалось, так как подъезд собора виден
был из моего окна,— а колесница двинулась далее по
продолжению улицы и прямо по направлению к моему
окну. Доехав до конца улицы, почти перед самою форт¬
кою, она остановилась и потом стали поворачивать
запряженных цугом лошадей и везомую ими колес¬
ницу.
Колесница была роскошно убранная, огромной вели¬
чины по всем измерениям: золото блистало повсюду,
даже и колеса, массивные, помнится мне, были по виду
золотые. Она была громадна, очень тяжеловесна и не-
удобопомещаема в тесной улице. Когда завернули ло¬
шадей и дело дошло до поворота колесницы, то при кру¬
том повороте переднее колесо подвернулось круто и вы¬
сокая колесница, нагнувшись сильно, начала вдруг те¬
рять свое равновесие,— я смотрел на все это с сильней¬
шим любопытством, и при виде склонившейся к падению
величественной колесницы, готовой разбиться вдребез¬
ги, сердце мое забилось с особенным чувством какой-то
* Вероятно, мост был разведен для прохода военных кораблей.
— Примеч. Д. Д. Ахшарумова.
217
насмешливой радости,— таково было мое мрачное, бо¬
лезненное душевное состояние.
Падение, едва не совершившееся, было с трудом и с
опасностью быть задавленными предупреждено крика¬
ми остановки лошадей и подскочившими для подпора
десятками людей.
По окончании богослужения все вновь задвигалось,
слышна была пушечная пальба с кораблей, и все дви¬
нулось прочь из крепости.
Так окончился этот эпизод — редкое зрелище, кото¬
рое пришлось мне увидеть из окна моей тюрьмы. Мы все
эти часы были забыты, потому смотреть можно было
беспрепятственно.
Во время пребывания моего в этом же помещении
случилось еще одно происшествие, сохранившееся у ме¬
ня в памяти: присутствия соседей моих, заключенных, я
не ощущал вовсе, — ни голоса, ни шагов по комнате не
слышно было, но вдруг, в один день, утром, я услышал
страшный, пронзительный крик во все горло. Такой раз¬
дирающий вопль мог быть только от ужасного телесно¬
го страдания или же от жестокой душевной боли,— это
был крик отчаяния или крик галлюцинирующего что-
либо ужасное сумасшедшего. В1 продолжение четверти
часа или более кричал мой сосед слева — во все горло.
«Кто же бы это был из моих товарищей по заключе¬
нию?» — думал я. Судьба его обидела более всех нас и
довела до сумасшествия. Так, прежде он страдал вти¬
хомолку, его присутствия возле меня не было вовсе
слышно,— надо полагать, что была промежуточная
между нами келья,— а теперь вдруг обнаружилась
жизнь жестоким, нестерпимым страданием. Пронзитель¬
ный крик этот, возобновлявшийся с перерывами несколь¬
ких секунд, и теперь, при воспоминании об этом, зву¬
чит в моих ушах!..
Вскоре услышал я хождение в коридоре, суматоху,
отворение двери этой кельи и там разговоры... плач, ка¬
кая-то возня и крик другого рода, хождение вновь не¬
скольких людей в коридоре, и затем все затихло. Я бро¬
сился к фортке с величайшим любопытством узреть это¬
го страдальца, взятого, вероятно, на руки служителями
и вынесенного из его одиночного заключения. И я уви¬
дел молодого человека небольшого роста, в арестант¬
ском халате, с длинными волосами, ведомого под руки
двумя служителями при офицере. Мгновенно увидел я
его лицо: оно было маленькое, худое, бледное, с выраже¬
нием, казалось мне, страшного утомления. Его провели
218
через дорогу мимо моего окна и повернули в прямую
улицу. Я следил за его медленным шествием; по плечам
висели в беспорядке длинные волосы, и ноги его пере¬
ступали медленно.
При первом, вслед за тем, появлении ко мне дежур¬
ного офицера, я допрашивал его, убедительно прося ска¬
зать мне, что сделалось с моим соседом и кто он, не¬
счастный. Мне отвечено было, что это больной человек
и что с ним случился какой-то припадок, но фамилию
его узнать мне тогда не удалось. (Это был, как я впо¬
следствии узнал, из арестованных между нами, Катенев,
сын почетного гражданина, который и сошел с ума во
время одиночного заключения.) Дальнейшая его судьба
осталась мне неизвестною 20.
Было начало сентября; осень напоминала о своих
правах все более частыми и более продолжительными на¬
летами пасмурных, холодных, дождливых дней. Фортка
моя, однако, не закрывалась ни ночью, ни днем. Часто
садился я на подоконник или стоял на коленях, лицом
прислонясь к фортке. Движущиеся массы облаков, с их
разнообразными очертаниями, то быстро несомые ветром
в различных слоях воздуха, то медленно и незаметно
переливающиеся в какие-то туманные изображения гро¬
мадной величины одушевленных предметов, часто при¬
влекали мои взоры и перебивали однообразное течение
печальных мыслей.
«Вот и лето прошло,— думал я,— а я все сижу в
тюрьме!» Всякий день смотрел я на желтевшие все бо¬
лее листья бывшего перед глазами зеленого дерева, опа¬
давшие все большими группами, и говорил: «Хотя бы
самый последний кончик лета дал бог мне увидеть еще
на свободе!» Погода становилась все более суровою, и
ветер, холодный ветер уносил с дерева последние
листья. В1 комнате становилось уже очень свежо, и я
просил протопить печь. Несмотря на то что печь затап¬
ливалась прямо из комнаты, мне в этом отказано не
было. И вот я сижу перед горящими дровами, для по¬
мешивания которых мне дарована была деревянная пал¬
ка и предоставлено самому закрытие трубы. Топка пе¬
чи меня развлекала, и вид горящих углей был мне прия¬
тен. Вечера, темные уже, проводил я в чтении, и Валь¬
теру Скотту, преимущественно ему, обязан я многими
и многими часами отдыха, столь драгоценного в такое
тяжелое время. Ничего почти не делая целый день, я
страшно скучал и томился; зевота, громкая, продолжи¬
тельная, с судорожным раскрытием рта, нападала на
219
меня приступами, много раз в день, и она, с тех пор
отчасти, осталась у меня и на всю жизнь. Я и теперь
зеваю не так, как цельные, здоровые люди, зеваю еже¬
дневно более или менее часто и продолжительно и ни¬
как не могу избавиться от этой развившейся у меня в
тюрьме привычки. По временам нападала на меня при¬
ступами жестокая тоска и истерический хохот, при ко¬
тором я почти всегда сидел на полу. Ночи были часто
тревожные, и сновидения носили отпечаток мрачных
предчувствий и невозможности исполнения самых горя¬
чих желаний. Так, иногда видел я себя подходящим к
крыльцу дома Юнкера в 3-й линии Васильевского ост¬
рова, где жил я столько лет в родном мне семействе, и,
готовый взойти на крыльцо, я был останавливаем и
хватаем какими-то полицейскими. Иногда видел я пе¬
ред собою идущим кого-либо из близких мне друзей и
от меня убегающим. Одним словом, все любимое мною
ушло от меня и сделалось мне невидимым. Ложась
спать, говорил я себе: «Ложусь в неволе и завтра прос¬
нусь в неволе!» И это чувство глубоко отягчало меня.
Часто вращался я в догадках о предстоящем мне буду¬
щем, и мне приходило на мысль, что, может быть, я
буду прощен и освобожден, но мысль об этом не только
не утешала меня, но развивала во мне еще большие му¬
чения. «Нет,— думал я,— я хотел только избавиться от
смертной казни, но прощенным быть было бы для меня
стыдом на всю жизнь, несчастием, которое я не в со¬
стоянии буду перенесть». Мысль о возможности такого
оборота дела представлялась мне по временам и состав¬
ляла для меня особого рода пытку.
«Но когда же наконец окончится наше дело? — спра¬
шивал я себя.— Уже много времени прошло, и оно при¬
близилось, несомненно, к концу,— так что две недели
за глаза довольно им для окончания!»
Однажды я спросил одного из вошедших ко мне офи¬
церов,— сколько память не изменяет, это был рыжий,
всегда кашлявший: «Что это значит, что так затянулось
наше дело, что они там делают?» На этот вопрос я по¬
лучил ответ прямой и чистосердечный: «А бог их знает,
что они там делают! Они ведь и нас мучают!»
Время шло, и дожил я, кажется, до половины сен¬
тября, когда однажды утром, не в урочный час, отво¬
рилась моя дверь и вошел ко мне дежурный офицер.
— Я пришел перевесть вас в другое помещение,—
сказал он.
Слова его меня сильно встревожили.
220
— Зачем же? Я бы желал остаться здесь... Да разве
предполагается еще долгое сидение? Ведь уже дело на¬
ше пришло, надо полагать, к концу; стоит ли еще пере¬
ходить мне куда-либо! Оставьте меня здесь!
— Вы напрасно беспокоитесь,— там комната будет
вам лучше этой, притом же ведь это помещение лет¬
нее; здесь зимою жить нельзя.
— Да разве предполагается, что и зиму мы будем в
заключении?! — спросил я его, испуганный.
— Нет, видите, я этого ничего не знаю, но здесь ведь
и теперь уже холодно. Там вам будет гораздо удобнее.
Я не мог сопротивляться и увидел себя вновь в не¬
обходимости собраться, лишь бы захватить с собою до¬
рогой для меня мой железный карандаш. Служители
в числе трех или четырех похватали все мои вещи и
постель, и я, бросив последний взгляд, не без сожаления,
на эту, для меня более сносную, комнату, вышел из нее
с чувством немалого опасения за новое предстоящее мне
жилище.
XI
Мое шествие с офицером и служителями последова¬
ло по улице, которая вела перед моими глазами по на¬
правлению к соборной площади. Пройдя улицу эту, мы
повернули несколько влево; слева от меня я увидел тот
самый двухэтажный белый дом, в котором заседали
члены следственной комиссии, справа было крыльцо со¬
бора. Миновав его, мы направились через площадь к во¬
ротам Петербургской стороны, где была гауптвахта, и
с правой стороны от ворот вошли в узкий коридор, раз¬
деляющий два ряда казематов, вделанных в толстую
крепостную стену. Коридор этот был более узкий, чем
в предыдущих помещениях, и очень длинный и темный.
Такая узость обусловливалась двусторонними жилища¬
ми. Миновав несколько дверей, я был введен в одну из
комнат с правой стороны коридора.
. Вид ее меня обрадовал своею, сравнительно с пре¬
дыдущими моими кельями, большою величиною, и при¬
том она была опрятна и чиста, так же как и только что
оставленная мною. С нетерпением ожидал я ухода всех
моих спутников, чтобы вскочить на окно с форточкою,
которая была невысока и легко достижима при моем
росте. Комната эта была как зал,— я даже не думал,
чтобы такие обители были в мрачном царстве Набоко¬
ва. Она была вдвое длиннее моей последней кельи и
шире ее, с двумя большими окнами; на правом была
221
фортка. Вскочив на окно, я увидел перед собою ту пло¬
щадь, по которой мы шли,— всю предсоборную пло¬
щадь; вдали ряд строений и между ними знакомый мне
белый двухэтажный дом, который и сделался постоян¬
ным предметом моих наблюдений, в особенности по ве¬
черам, когда он был освещен и в нем видны были дви¬
жущиеся фигуры. Кроме того, место это было несрав¬
ненно более людным, чем предыдущее. Приведя в поря¬
док мое тюремное имущество, на больших площадках
окон положив книги и скромный мой тюремный туалет¬
ный necessaire *, я почувствовал желание воспользо¬
ваться сейчас же пространственным преимуществом этой
комнаты и стал бегать взад и вперед, пока не устал.
По прошествии 24 лет после этого, в 1873 году, вес¬
ною, посещая Шенбрунн, загородный дворец около Ве¬
ны, видел я в зоологическом отделении выпущенного на
моих глазах носорога из зимнего стойла в большое, ого¬
роженное для него помещение; первою потребностью его
было разминание ног и бег в пределах ограды. При ви¬
де этом я сейчас же вспомнил мой бег в этой комнате.
В этом жилище товарищами моими были не мыши,—
их я вовсе не видел, а большие черные тараканы и го¬
луби в амбразуре окна. Об них я расскажу в своем ме¬
сте. Колокольня Петропавловского собора еще громче
переливалась звоном в моих ушах — высокий шпиц ее
блистал перед моими глазами. Звон этот, повторявший¬
ся каждые 'А часа, в продолжение 8 месяцев, с его
timbr’oM** и мотивом, вызывается во мне и теперь при
всяком воспоминании о том. Новое жилище несколько
освежило и развлекло меня, но неужели я буду еще дол¬
го сидеть в крепости, неужели придется зимовать мне
здесь? Эта мысль меня страшно отягчала и ввергала
еще в большее уныние.
Новоизмененная тюремная жизнь моя имела свои
особенности по местности заключения и по времени те¬
чения нашего дела. Воспоминания этого периода време¬
ни столь же тяжеловесны и незабвенны для меня, как
и предыдущих двух. Первые дни занимала меня моя но¬
вая обстановка, и это меня несколько отвлекало от мрач¬
ных мыслей. В этом просторном жилище я был более
подвижен; в первой половине моего пребывания здесь,
т. е. до начала ноября, часто бегал, прыгая до устало¬
сти, скакал через табуретку, вытирался холодной водою,
* несессер (франц.),
** тембром (франц.).
222
ел, как и прежде, весьма мало; фортка окна только в
конце октября закрывалась на ночь, днем же она была
всегда открытою. Я делал все, что было в моей власти,
чтобы сохранить себя от совершенного упадка душев¬
ных и телесных сил. И мне казалось, что я отчасти до¬
стигал этого. То бегал я, то стоял у фортки, то, двига¬
ясь медленно, говорил я громко, никем не слышимый,
сам с собою, и так доживал до вечера; истинное время
хорошо я знал, часы и минуты отбивались колоколом.
Были последние числа сентября, в четвертом часу уже
смеркалось, а в восьмом утра едва рассветало, при пас¬
мурном сентябрьском небе. Вечера проводил я в чте¬
нии книг, с моим карандашом в руках, садясь так, что¬
бы сторож не заметил моего писания, если бы ему взду¬
малось взглянуть, а потом уже я даже и вовсе не при¬
нимал этих предосторожностей, так как хождение в ко¬
ридоре весьма редко было слышно, когда не было на¬
чальства. Тишина была полная. Я предавался чтению
все того же романа Купера, которое шло медленно, по
малому знанию английского языка, с отметками слов
на полях книги. В это время также были у меня сати¬
ры Ювенала и Персия — в оригиналах, и я их изучал
при помощи лексикона и точного французского перево¬
да. Также для легкого чтения были у меня два романа
Eugen’a Su *, Comedies de Moliere и другие, которые бы¬
ли мною прочтены почти все. Таким образом, развле¬
каясь, не без пользы проводя день, я и спал лучше и
просыпался бодрее. «Но для чего эти труды, для чего
эта польза,— говорил я сам себе,— человеку, которому
нет выхода никуда?» На волю выйти после всего, что
было, мне одному, тогда как прочие товарищи мои бу¬
дут присуждены к какому-либо тяжкому наказанию, бы¬
ло бы для меня величайшим несчастием, которое я, с
моим характером, пережить был бы не в состоянии.
Смертная казнь казалась мне, утомленному, замучен¬
ному тюремною жизнью, уже не столь ужасною, но я
страшно боялся быть вновь присужденным к одиночно¬
му заключению в какой-либо тюрьме,— это казалось мне
невыносимым, жесточайшим наказанием. Ссылка куда-
либо в каторгу была единственным желаемым мною ис¬
ходом из этой нависшей над головою моею со всех сто¬
рон неизбежной грозы. Думая обо всем этом, я страдал
и мучился жестоко и всею душою моею желал быть со¬
сланным в каторгу. «В Сибирь, на каторгу,— говорил
* Эжена Сю21 (франц).
223
я,— одно спасение для меня, одна отрада! Когда бы ско¬
рее она пришла!» В!се остальное казалось мне ужасным.
По временам, думая таким образом, впадал я в глубо¬
кое отчаяние и, упадая на колени, восклицал: «Госпо¬
ди! Вразуми меня!» — и потом, опустившись на пол, с
закинутой назад головою, хохотал неудержимым исте¬
рическим смехом и затем зевал до изнеможения. Слез не
было вовсе в этом периоде заключения. Бодрость моя
была напускная, кратковременная и сокрушалась в
прах возникавшими во мне все более грозными присту¬
пами неотвязных мыслей.
Продолжительное, пятимесячное, одинокое, безвы¬
ходное на воздух заключение томило меня все более.
Жизнь текла однообразно; в мыслях моих не находил я
никакого утешения. Однажды служитель, подававший
ежедневно пищу, сказал мне: «Барин, вы похудели, вы
бы приказали себе купить вина,— другие пьют вино, вы
же не пьете ничего и мало кушаете!» Слова эти, ска¬
занные с участием, меня удивили. «Друг мой,— сказал
я ему,— я не привычен пить вино и боюсь, чтобы не бы¬
ло еще хуже». Совет его, однако же, остался у меня в
памяти, и, на основании того, что другие пьют вино, я
решился попробовать тоже подкреплять свои силы не¬
большим количеством вина. «Быть может,— думал я,—
не так тяжело будет». По выраженному мною желанию
была принесена мне бутылка хорошей мадеры, откупо¬
рена и поставлена у меня на столе, рюмка считалась
лишней, так как у меня было два стакана — один чай¬
ный, другой для питья и умыванья. И вот настал вечер¬
ний час, сижу я за столом и, окончив чай, читаю «The
Spy» Купера; передо мною на столе */4 стакана мадеры,
и я, роясь в лексиконе, делаю на полях отметки моим
карандашом и маленькими глотками, по временам, от¬
ведываю налитое в стакане вино. Мне оно показывается
вкусным, и я, по слабости сил, чувствую с каждым глот¬
ком легкое, приятное оживление. Чтение романа, одна¬
ко же, замедляется, и, прерывая чтение, я разговариваю
сам с собою, потом прохаживаюсь по комнате, все в раз¬
говоре сам с собою, влезаю на окно и стою у фортки
несколько минут, чувствую леность, усталость, зачер¬
пываю из кружки полстакана свежей воды и выпиваю
его с большим удовольствием, затем ложусь и засыпаю.
Ночью просыпался я чаще обыкновенного и с биением
сердца. Меня преследовали какие-то страстные кошма¬
ры, я плакал и стонал и, проснувшись раньше обыкно¬
венного, встал усталым, с головною болью; мысли были
224
отуманены и в каком-то эротическом бреду я произво¬
дил стихи. «Вот что сделало со мною вино! — думали.—
Пожар в крови, в голове, груди, во всем теле! Нет, уже
к этой отраве больше не прикоснусь я!» На другой день
утром я отдал солдату бутылку вина, сказав ему, чтобы
он выпил ее, а я уже больше пить не буду. «А что же,
разве нехорошо?» — спросил он меня. «Нет, оно хоро¬
шее, да мне не впрок, и ты его возьми, может быть,
выпьешь»,— ответил я ему. Слова мои были, кажется,
ему не вполне понятны,— он в недоумении посмотрел
на меня и, взяв бутылку, ушел. Так кончился этот эпи¬
зод с вином, и я только спрашивал себя, как это дру¬
гие товарищи мои в заключении переносят этот вред¬
ный напиток?! Для человека, в цвете лет заключенно¬
го в тюрьме, вино — страшный яд!
XII
Беспрестанно в течение дня вскакивал я на окно и
стоял у фортки. Все прохожие по крепости на Петер¬
бургскую сторону шли мимо или против моего окна.
Я всматривался в них: не пройдет ли кто из моих зна¬
комых? В особенности хотелось мне увидеть кого-либо
из моих братьев, но, к сожалению, проходившие мимо
меня были люди все мне незнакомые. Впоследствии уз¬
нал я, что братья мои искали меня долго в различных
доступных прохожим местах крепости, высматривая все
окна казематов, но, не находя меня нигде, бросили уже
свои бесполезные поиски. Это было в первые три меся¬
ца нашего заключения, когда я был спрятан от всех
прохожих в одном из равелинов. Потом, по переходе
моем во второе помещение, я был уже доступен взорам
прохожих, но напрасные поиски в продолжение трех
месяцев отбили уже охоту и отняли всякую надежду
достичь желаемого, потому никто из людей мне близких
не считал возможным открыть место моего заключения.
Так смотрел я несколько дней, наблюдая прохожих, и
вот вижу: две женщины, прилично одетые, появились
из-за деревянного забора, выведенного, вероятно, вре¬
менно вдоль левого фаса церкви, и, поместившись в глу¬
бине выступа, образуемого более толстою стеною вход¬
ной части собора, остановились там, сокрытые от взо¬
ров посторонних людей, но перед самыми окнами наших
казематов. Они стояли там с четверть часа, по-видимо¬
му оживленно разговаривая, смотрели на тюремные ок¬
на нашего фаса и иногда делали руками какие-то зна¬
9 Зак. К! 62S
225
ки. Я смотрел с особенным вниманием и следил за все¬
ми их движениями. Вскоре одна из них отделилась и
направилась медленным шагом по направлению как бы
к воротам на Петербургскую, мимо наших окон. И вот
она медленно проходит мимо моего окна, смотря на меня
пристально, и перед глазами вдруг спала завеса. «Ва-
ринька! — воскликнул я довольно громко, изумленный
неожиданным явлением.— Это вы?» Она посмотрела на
меня со взором участия и, движением головы предупре¬
див меня быть осторожным, исчезла со взора моего за
глубокой амбразурой окна. Как мимолетное виденье
промелькнула перед моими глазами особа, любившая
одного из моих товарищей, любимая им и посещаемая
нередко нами вместе во дни свободы и счастья. Это бы¬
ла девушка лет 18-ти, небольшого роста, блондинка, до¬
вольно полненькая собою, с выразительными чертами
лица. В эту минуту она предстала передо мною поху¬
девшею, бледною, как бы заплаканною. Как часто и мно¬
го беседовали мы втроем и как беззаботно проводили
эти счастливые дни, теперь навсегда пропавшие для
нас! Все мы разлучены, она осталась на свободе одна
и долго, конечно, бродила по Петропавловской крепо¬
сти, высматривая казематы, пока доискалась того окна,
где увидела исхудавшего, замученного друга. Безмолв¬
но, украдкой, тайком разговаривала она знаками из со¬
крытого от взоров людских уголка у подъезда собора,
а затем возвращалась в город одна, одинокая, плачу¬
щая. Сколько страданий, сколько горя у нее на душе!
Любить и быть любимой, жить вместе, наслаждаться
полным счастьем и вдруг все потерять,— порвалось все,
и она осталась одна на этом свете, страдалица, скитали¬
ца, не находящая себе нигде покоя. Все мысли ее, вся
душа в тюрьме, а тело одно, как бы лишенное жизни,
бродит бесцельно, не наслаждаясь свободой. Такое раз¬
двоение ужасно, и многие не переживают его. Я стоял
у фортки, мысли мои были то у ней, то у него, я ждал,
не пройдет ли она еще, но для нее прогулки эти не обхо¬
дились без свежих горьких слез, и в этот день я боль¬
ше ее уже не дождался. Весь день я был оживлен под
влиянием нового впечатления. В течение пяти с полови¬
ною месяцев я был изолирован совершенно от всей об¬
становки моей прежней жизни и вот впервые увидел че¬
ловека мне близко знакомого,— происшествие высо¬
кой важности для одиночно-заключенного! Воспомина¬
ния драгоценных часов, прожитых нами втроем, мысли
о нем и о ней весь день переливались в различных ва¬
226
риациях в моей замученной голове. Стемнело, я сел чи¬
тать по обыкновению, но не читалось в этот вечер; я
вставал, ходил по комнате, разговаривал сам с собою
и все вращался в кругу тех же воспоминаний. Я гово¬
рил с ними, и голоса их слышались мне. Настала ночь,
и я заснул под влиянием взволновавшего меня впечат¬
ления дня. И вот мне снится сон: улица на Песках22, и
домик, знакомый мне, и я спешу туда в беспокойстве.
Вхожу в комнату и вижу какое-то разрушение, и Ва-
ринька исхудалая, бледная, сидит на полу... в сером аре¬
стантском халате; стол изломан, вещи разбросаны по
полу. Увидев меня, она вскочила и, вытаращив глаза,
воскликнула: «Это вы! Как вы пришли? А он, где же
он?» И в эту минуту, вдруг, шум, беготня со звоном
ключей и, окруженный своею свитою, как привидение,
стал перед нами Набоков! Так неразрывно в мыслях
связались вместе лучшие желания с невозможностью их
исполнения, все любимое сделалось недоступным, пред¬
ставления свободы, счастия, радости свидания заверну¬
ты были крепко в мрачный тюремный покров...
Утром проснувшись, я не мог, не желал отвязаться
от мыслей вчерашнего дня. Я видел ее вчера, быть мо¬
жет, увижу ее и сегодня! Настал час первый дня, и она
появилась вновь, в сопровождении незнакомой мне спут¬
ницы, все в том же месте, в углублении за стеной со¬
бора. Оттуда показывала она мне какие-то крупные
надписи на листе бумаги, но за дальним расстоянием —
саженей 50 — прочесть их было нельзя. Затем она вновь
отделилась от своей спутницы и скрылась за деревян¬
ным забором, откуда пришла. Я смотрел и ждал: в этот
раз она совершила обход и прошла параллельно тюрем¬
ному фасу к Петербургским воротам. Когда она прохо¬
дила мимо меня, она что-то сказала мне, но расслышать
я не мог. Два дня свидания с лицом мне близким, при¬
нимающим во мне живое участие, перебунтовали совер¬
шенно тюремную мою жизнь. Мысли были все об одном:
она приходит часто, если не ежедневно, на свидание с
своим другом и при этом и меня как бы считает долгом
Навестить.
Вечером сажусь я за чтение, но оно не идет. Различ¬
ные мысли о переговорах с нею роятся у меня в голо¬
ве, и вот зарождается смелая мысль: карандаш у меня
есть, бумага в книгах, так можно и написать ей — вы¬
кинуть из окна письмо. Мысль эта меня так заинтересо¬
вала, что, еще не вполне решившись, я отодрал заглав¬
ный лист, почти свободный от печати, лист Ювенала, на
227
веленевой бумаге, и пишу гвоздем предполагаемое пись¬
мо. Речь из глубины души сама выливается на бумагу,
железный карандаш, как электрический проводник,
быстро чертит все тончайшие представления мозгового
аппарата; легко, как слезы, льются горькие слова из
сердца, переполненного темничною тоскою. Заглавные
листы не одной книги оторваны были в этот памятный
вечер — я писал обо всем: о нашем положении в тюрь¬
ме, об ужасной тоске, о мучительной неизвестности, ког¬
да наконец окончится наше дело, и спрашивал ее, не
знает ли она чего. Утешал, ободрял ее, что мы пере¬
живем все это ужасное время и встретимся снова, как
прежде; просил ее зайти к братьям моим на Васильев¬
ский остров, в дом Юнкера, и рассказать им, где я на¬
хожусь, чтобы они пришли ко мне... Писал многое, чего
теперь и не припомню. Писать было непреодолимое же¬
лание, и мне казалось, что и для нее письмо мое полу¬
чить было бы очень интересно. Было поздно, я писал, по
временам вставал, прохаживался, бормотал слова, под¬
ходил к столу, опять писал,— наконец поставил оконча¬
тельную точку. Теперь как же мне сложить или скру¬
тить эти 4 или 5 листочков и чем закрепить, заклеить,
чтобы они составляли толстый, маленький пакет? Долго
не пришлось мне думать: волосы у меня были длинные,
густые и крепкие, я вырвал несколько волос и, сложив
бумажный пакетик в виде толстенького малень¬
кого комка, величиною с грецкий орех, приплюснул
его рукою, проткнул гвоздем насквозь и, вдев пучок из
волос, завязал его крепко. Печать вышла очень краси¬
вая, оригинальная, и пакетик был веленевой бумаги—
снежной белизны. Обращаю особое внимание читающе¬
го, ввиду последовавшего, на снежную белизну этого
пакета. В первый раз, на шестом месяце одиночного за¬
ключения, разговаривал я, хотя и письменно, с челове¬
ком мне близким, и в разговоре этом вылилась вся ра¬
дость свидания, вся скорбь измученной души — за себя
и за нее. Дело решенное, стало быть, все готово, оста¬
ется исполнить отважное предприятие... В таких мыс¬
лях лег я в постель и в соображениях и думах о завт¬
рашнем дне заснул; и вот настал следующий день: за¬
нятый одною мыслью, я стою у окна и слежу с напря¬
женным вниманием за каждым проходящим из-за забо¬
ра. Там, впереди за забором, была еще какая-то калит¬
ка, которой верхняя часть была видна. Редко кто про¬
ходил тут, но всякий раз, когда она отворялась, было
228
видно. Часу в первом дня калитка отворилась, и сейчас
же показались две знакомые мне личности и стали, как
обыкновенно, в застенку собора. Поклоны и непонятные
знаки руками передавались мне. Но вот и я прошу вни¬
мания и, выставляя в фортку мой белый пакет, держу
его, показывая и делая знак бросанья. Пакет был за¬
мечен и сказанное понято. Варинька закивала головой и
исчезла за забором. Минут через десять она, сделав об¬
ход, явилась прохожей слева вдоль фаса. И вот она
приближается к моей фортке. Готовый выкинуть пакет,
я имел осторожность подождать ее одобрительного зна¬
ка, и вдруг она махает отрицательно головою и, отвер¬
нувшись, как бы испуганная, проходит мимо. Я остался
с письмом в ожидании, досаде и неизвестности. Так, не
удалось в этот раз, надо подумать, подождать. Через
*Л часа она вновь стала в углублении собора и оттуда,
указывая рукою на гауптвахту и сторожей, знаками пе¬
редавала мне, что она не знает, как сделать, но так
нельзя. Тогда мне пришло на мысль, что теперь светло,
но когда будет смеркаться, это будет возможно; но как
ей передать это?.. И вот я показываю на колокольню и
махаю пальцем — раз, два, три, четыре, потом показы¬
ваю рукою на небо и на свои глаза, что будет темно и
не будет так видно. Повторяя знаки эти раза два, я
вдруг увидел, что она закивала головой и проделала то
же самое: показала на колокольню, махнула рукою
4 раза, затем показала на небо и на глаза и вскоре за¬
тем ушла со своею спутницею, оставив меня в надежде
и ожидании.
Для заключенного в тюрьме такие дни спаситель¬
ны — они прерывают подавляющее однообразие, отвле¬
кают от неотвязных горьких дум, освежают завядшую
жизнь заключенного. Весь поглощенный одною мыслью
исполнения задуманного, я был в возбужденном состоя¬
нии и ожидал означенного часа. «Это должно удаться,—
говорил я сам себе,— письмо будет у нее в руках. Она
в полутьме проходить будет близко, и я кину ей как раз
в ноги довольно веский пакетик». Вот пробило 3 часа,
стало смеркаться, погода была еще к тому же пасмур¬
ная, и к половине четвертого стемнело настолько, что
еще большая темнота казалась уже мне неудобною для
удачи дела. В нетерпении смотрю я на скрытый уголок
собора, и он уже едва виднеет; вот пробило 3Л четверто¬
го, и я теряю всякую надежду, даже сомневаюсь, видно
ли от собора, что я стою с открытой форткою и жду.
Соскочив с подоконника, я зажег свечу и поставил на
229
площадку окна в знак ожидания. И вот я вижу: какие-
то две тени пришли и стали в углублении собора. «Это
они, несомненно они, никого другого быть не может»,—
думал я. Одна из них отделилась и ушла. Я стоял, смот¬
рел... Настал желанный момент, сейчас я увижу ее; по
темноте уже и узнать нельзя прохожего, но эта она,—1
другой быть не может; и вот слева, медленно приближа¬
ясь, движется мимо окна какая-то женская фигура,—
она поравнялась с моей форткой и я, с непреодолимым
влечением, без страха и сомнения, как безумец, швыр¬
нул к ее ногам мой белый пакет!.. Он упал вблизи от
нее, и она, подбежав, схватила его с земли и продол¬
жала свой путь к Петербургским воротам. Было уже
так темно, что я не мог видеть, нашла ли она мое пись¬
мо и унесла с собою или же оно осталось на дороге. Б
тот момент, когда она перешла за мое окно, услышал я
озадачившие меня слова сторожа: «Сударыня, что вы
подняли?» — «Платок»,— отвечала она знакомым мне
голосом. Затем я более ничего не слышал и, задув све¬
чу, стоял у фортки. Через несколько минут вслед за
тем, я вижу, пришли двое сторожей, один из них был с
фонарем, и, остановившись у моего окна, осматривали
сомнительное место и искали, не осталось ли чего на
земле. «Она что-то подняла»,— говорил один. «Не ви¬
дать тут ничего».— «Для чего же она подбежала к ок¬
ну?» Несколько минут они осматривали землю, бормо¬
тали что-то, то приближаясь, то удаляясь от окна. Бы¬
ло совсем уже темно. Лица их освещены были фонарем
и голоса хорошо слышны, хотя и не все слова можно
было разобрать. Я видел, как один из них посматривал
с недоверием на мое окно, но не видел в нем ничего,
так как было темно и фортка имела вид закрытой, хотя
в ней была щелка, через которую я слушал. Они ушли,
не найдя моего письма, но, может быть, думал я, оно
и лежит на земле. С такою мыслью слез я с окна. Ос¬
тальную часть этого дня провел я в раздумье. «Письмо-
то я выкинул,— говорил я,— но взяла ли она его, вот
это вопрос? Темнота могла помешать и ей. Но, кажется
мне, она схватила его и вышла сейчас же, миновав
гауптвахту, из ворот крепости». Читать в этот вечер,
как и во все эти дни, я не мог, мысли заняты были од¬
ним, я весь поглощен был одною лумою, которая непре¬
одолимо влекла меня к исполнению задуманного. Когда
теперь, по прошествии 35 лет, вспоминается мне проде¬
ланное мною в этот день, то я удивляюсь не смелости,
а безумству и легкомыслию моему, с которыми было
230
совершено такое опасное для дальнейшей жизни моей
в крепости действие. После этого я был бы наверно по¬
сажен в какое-либо ужасное помещение. Рассерженное
начальство не пожалело бы у меня отнять и книги, не
говоря уже о дорогом мне гвозде, и сколько людей по¬
лучило бы из-за меня большие неприятности,— ко всему
этому отнесся я как-то совершенно беззаботно. Одиноч¬
но-заключенному в тюрьму, разлученному уже полгода
со всем живущим миром, увидеть вдруг близкого чело¬
века, иметь возможность выкинуть ему из окна письмо
и не сделать этого едва ли было возможно, если в нем
еше билось сердце и не остыла кровь. Это было сдела¬
но мною бессознательно, в каком-то безумном увлече¬
нии, и только по совершении задуманного я получил
желаемое успокоение. Оно продолжалось, однако же,
недолго. Прохаживаясь по комнате, я говорил сам с
собою: «Теперь она пришла к себе, в свою комнату, и
читает мое письмо, и плачет над ним...» Но вслед за
этим сейчас же появлялось и сомнение: «А может быть,
письмо мое и лежит у окна; искать его в темноте и
при сторожах было невозможно». Опасенье это начина¬
ло уже вечером возрастать, но я утешал себя, что пись¬
мо у нее в руках. Ночью я спал тревожно, часто слы¬
шал бой часов на колокольне и, просыпаясь, все думал
о завтрашнем дне,— что принесет он мне. Утром очень
рано вскочил я с постели, подошел к окну, отворил
фортку,— все еще темно и не видно ничего, на колоколь¬
не било 6 часов. В' этот период времени моего заклю¬
чения у меня ночью горела в умывальной чашке свеча.
Я прилег снова, но спать уже не мог и слышал все уда¬
ры колокольного гимна. «Теперь темно,— думал я,— и
на земле что лежит ничего не видно, а вот рассветет и
тогда что будет!..» Но вот светает и бьет 7 часов. Я за¬
тушил свечу, вскочил на окно и, отворив фортку, был
поражен представшею глазам моим картиною: земля
была покрыта снегом, вышиною вершка на 4. Снег за¬
крыл все, что лежало на дороге, и мое письмо. Это меня
очень успокоило. Зима, вот и зима — 4-е время года ви¬
жу я из окна тюрьмы; не напрасно меня перевели сюда,
я должен зимовать еще! Сегодня 1 октября — как рано
выпал уже снег! В таких мыслях стоял я у окна; рас¬
светало все более, и вот вижу: пришел солдат с метлою
и стал разметать дорогу. С каждым взмахом метлы ле¬
тели по сторонам мелкий снег со снежною пылью и ко¬
мочки снега величиною и белизною совершенно похожие
на мой запечатанный пакет. «Вот мое письмо, вот оно
231
лежит! А! Слава богу, что он его не видит. Когда бы он
его уже забросил!» Но вот новые комки подбрасывают¬
ся им и ложатся на боковые снежные горки.
Вот, это оно, непременно оно, а может быть, вот
это; сколько писем моих набросал он! Эта множест¬
венность писем, однако же, меня несколько утешала,
но я все еще всматривался в снежные комочки, — так
поразительно похожи они были на мое письмо, и по
временам раздумывал, какой из двух-трех комков бу¬
мажный. Вот и сторож, уже окончив свое дело, ушел,
я все посматриваю на эти валяющиеся на виду всех
мои письма. Проходят люди и не обращают внимания.
Я схожу с окна и опять влезаю и вижу: идет один из
крепостных офицеров и что-то говорит сторожу, затем
прошел еще какой-то военный, и мне думается, не оты¬
скана ли ночью улика совершенного мною по тюрем¬
ным законам преступления. Опасенья мои все усилива¬
лись, и я спрашивал себя, как мог я сделать такую
непростительную шалость, которая пользы мне не при¬
несет, а озлобит против меня всех стерегущих меня
драконов и раньше окончания дела они меня задушат
в какой-либо подвальной яме!
Был уже час двенадцатый, — день этот помнится
мне очень хорошо, — я часто вспрыгиваю на подокон¬
ник и почти не схожу с него, и на моих глазах проис¬
ходит что-то не ежедневное. Хождение сторожей бо¬
лее частое и скорое, офицер, идущий поспешно к гаупт¬
вахте, и вдруг, к моему изумлению, вижу и Набокова,
идущего мимо собора прямо к нашим окнам. Тут я
уже более не сомневался, что мое тюремное злодеяние
открыто и вся эта тревога происходит из-за меня. Те¬
перь настает расправа. Комендант вошел уже в наш
коридор с подобающим ему шумом и беготней людей;
его сопутствует, кажется, целая свита; служитель бе¬
жит впереди, гремя ключами... Идут, все идут, и ключ
воткнут как раз в мою дверь1 «Настал мой час! — ду¬
мал я. — О, я несчастный! Блудлив как кошка, скажут
мне, но далее этого, по крайней мере, чтобы не сказа¬
ли мне!» Сердце замерло при звуке повернувшегося в
замке ключа, и я покорился моей судьбе...
Дверь отворилась, вошел комендант с двумя офи¬
церами и служителем.
Устремив на меня свой взгляд, он спросил: «Ну
что? Здоровы?» Я поклонился и что-то ему ответил в
утвердительном смысле. «Ваши родные были у меня
вчера. Получили вы виноград и другие фрукты?» —
232
«Я не получил». Вопросы его немало удивляли меня.
«Как же это так? — Он посмотрел на офицеров. — Вче¬
ра доставлена ему целая корзина фруктов, и до сих пор
он еще не получил?! Кто вчера был дежурный?» Тут
он забыл меня совсем и, напустившись грозно на своих
спутников, поспешно вышел от меня. Меня заперли, и
я остался один.
В эту минуту я лучшего и не желал. Они ничего не
знают, ожидаемая гроза миновала, и я остаюсь в этой
комнате, и как-нибудь уже переживу и этот послед¬
ний, конечно, сезон моего заключения, ведь уже оста¬
ется немного — недели две самое большее. Судьи наши
уже пресытились нашими злодеяниями, им уже надое¬
ла вся эта работа, и пора уже ее кончить...
Все время моего одиночного заключения я мыслил
словами и говорил сам с собою то вполголоса, то гром¬
ко, так как никто меня не слышал, без всякого стесне¬
ния. По уходе коменданта я почувствовал успокоение —
мне даже стало смешно, что вместо ожидаемой кары,
заслуженной мною, я получаю корзину винограда и
фруктов. Прохаживаясь, я говорил: «Письмо мое по¬
лучено собственноручно и прочтено — вернее, но и опас¬
нее нашей почты нет на свете!» Я почти совсем забыл
и думать о комочках снега, летавших под метлою сто¬
рожа, и, вспомнив об них, вскочил на окно и вижу:
письма мои повсюду разбросаны по сторонам пеше¬
ходного пути, но их большое число, — эта множествен¬
ность вновь успокоила меня, хотя я все еще всматри¬
вался в них с недоверием, останавливаясь преимуще¬
ственно на одном комке.
Пришло обеденное время, принесена была мне и
корзина с фруктами, напомнившая мне хорошие отно¬
шения с тюремным начальством, но вместе с тем и
опечалившая меня своею величиною. Такой большой за¬
пас прислали мне мои милые братья и тетушка и тем
как бы сказали мне: «Ты еще не скоро выйдешь из
тюрьмы, так хоть этим утешай себя!» С грустью по¬
смотрел я на эту корзину и заглянул в нее — там были
разнообразные спелые и очень вкусные плоды, и пища
эта была в моем вкусе, и я, с горя, стал есть ее. Часу
в третьем дня, вскочив на окно, я увидел Вариньку в
углублении собора. Увидев меня, она показала мне,
развертывая по листикам, все мое письмо и потом по¬
клонилась мне несколько раз в пояс. Потом она пока¬
зала рукою по направлению к Васильевскому острову,
говоря тем, что она исполнит мою просьбу относитель¬
233
но указания моего окна моим родным, и затем, пройдя
по обычаю мимо моего окна, она ушла из крепости.
Последствием того было свидание почти со всеми
моими родными и некоторыми из знакомых. На другой
же день я увидел проходящими двух братьев. Сначала
каждый день, а потом через день-два, часу в третьем
дня, я виделся с кем-либо из моих родных или знако¬
мых, и иногда удавалось послать через окно несколь¬
ко слов. Свидания эти, хотя и минутные, меня очень
оживляли. Между близкими друзьями моими были двое
моих дядей; одного из них — Михаила Семеновича Би-
жеича — мы, то есть я и братья мои, очень любили и
уважали. Он, несмотря на свою седину и престарелый
уже возраст, сохранил всю свежесть цветущего еще
здоровьем организма; он был отзывчив ко всем совре¬
менным вопросам, и его очень интересовали социаль¬
ные веяния того времени, и в особенности учение Фу¬
рье, о котором он со мною часто беседовал и постоянно
доказывал его неприменимость к действительной жиз¬
ни. И вот однажды, когда я стоял у моей фортки, уви¬
дел я его идущим от собора к нашему тюремному фасу.
Я очень обрадовался, увидев его, и мне живо вспомни¬
лись наши с ним споры. Когда он поравнялся с моим
окном и смотрел пристальным взглядом на мое иеху-,
далое, бледное лицо с длинными волосами, я, послав
ему громкое приветствие, почти закричал и окончил
его словами: «А Фурье все-таки прав!» Он, испугав¬
шись, ответил мне: «Молчи, молчи!» — и скрылся за
амбразурой окна. Глубокая амбразура заслоняла дви¬
жение звука по сторонам, и эго давало возможность
иногда сказать несколько слов.
Варинька не переставала приходить в крепость в
иные дни и всегда проходила и мимо моего окна...
Пережитые мною происшествия этих дней запечат¬
лелись в памяти моей дорогим воспоминанием; от них
веет тихою грустью и сладостными слезами...
Но пора уже перейти к другому. Хочется мне, од¬
нако же, прибавить несколько слов о личности, которая
принимала столь живое участие в нас, заключенных, и
которую судьба разлучила навсегда с любимым ею че¬
ловеком. Впоследствии, по прошествии многих, очень
многих лет, уже проделав все мои подневольные стран¬
ствия, случайно я встретился с нею на свободе. Увидев
меня, она горько заплакала и долго не могла успокой
иться, вспомнив все пережитое ею в былые годы. По¬
дробности задушевного рассказа ее о дальнейшей ее
234
жизни я не считаю себя вправе передавать, но скажу
только, что кроме душевного горя ей пришлось пере¬
носить многие годы нужды и тяжелым трудом швеи за¬
рабатывать себе кое-какие средства жизни и что она,
вспоминая свою первую любовь, казалось, хранила ее
как святыню в своем сердце. Теперь, если она жива, то
она уже старушка, но, во всяком случае, она моложе
меня возрастом и, вероятно, переживет меня и прочтет
эти строки, вызванные столь дорогим мне воспомина¬
нием. Да не подумает она также, чтобы я мог забыть
ее истинное имя. Псевдоним казался мне уместнее по
ее и моим отношениям к, может быть, еще живущим
людям.
XIII
В этом жилище моем близкими сожителями моими
из царства животных были, как я сказал уже, черные
тараканы и голуби. В тот самый вечер, когда я начал
есть фрукты из присланной мне корзины, объедки их
бросал я вблизи круглой, обтянутой железом печи, и
вечером, при зажженной свече, увидел я, к удивлению
моему, множество больших черных тараканов; иные,
впившись в остатки яблок, груш, бергамот, пожирали
оставшуюся мякоть, другие ползали, ища пищи. Скопи¬
ща тараканов в таком размере я никогда нигде не ви¬
дел ни прежде, ни впоследствии в жизни моей, притом же
они были очень большой величины и черные, лосня¬
щиеся. Я поднес свечу ближе и рассматривал их с лю¬
бопытством. Далее печи они никогда не ползали, теп¬
лота казалась необходимым условием их жизни, и ноч¬
ная тьма для них—время бодрствования, в остальное
время дня их не было видно никогда. Ежедневно вы¬
ползали они из-за печки, и я всякий вечер любовался
ими и прикармливал их. При появлении нового куска
пищи они набрасывались на него и, обсевши кругом,
ели все вместе от одного куска, не выталкивая один
другого и не отбивая чужой пищи. Нрав их казался мне
общежительным и добродушным по взаимным их от¬
ношениям. Когда не было более плодовой пищи, они
не пренебрегали и хлебом, но мясной нищи не ели.
Каждый вечер смотрел я, сколько их пришло ко мне,
и их безвредный и тихий визит считал я благоприят¬
ным отношением моим к природе, не отчуждавшей
меня, как люди, потому приносящим мне как бы бла¬
гополучие.
Другого рода животные, принимавшие от меня
235
пищу и молчаливо вступившие со мною во взаимно вы¬
годные отношения, были из царства пернатых, приле¬
тавших к моему окну. На площадке, довольно широ¬
кой,— до 3/4 аршина шириною и l'A длиною — оконной
амбразуры моего окна ютились в продолжение всего
дня голуби, но прилет их был особенно велик в после¬
обеденный час, когда бросалась им всякая пиша. Они
клевали все. Эти, во мнении благочестивых христиан
пользующиеся таким почетом и по нравственности счи¬
таемые чистыми и целомудренными существами, по
моим продолжительным наблюдениям этого времени,
оказались самыми злыми и беспощадно жестокими по
взаимным своим друг к другу отношениям. Драки их
из-за кусочка хлеба были самые ожесточенные, и все¬
гда являлся один какой-нибудь боец, разгонявший всех
и ненасытно пожиравший бросаемую пищу. Если по¬
падались двое равных, то это был бой как бы на¬
смерть — выщипывание перьев из шеи и клевание в го¬
лову были самыми тяжелыми ударами. Этим временем
пища доставалась более слабым, или, правильнее ска¬
зать, следовавшим по силе, обитателям. Тут не было
уже никакой жалости к чужому голоду — все хвата¬
лось с бою. На окно слетались десятки, так что не было
куда стать, и одни других выталкивали с окна. Драки
эти меня развлекали ежедневно с полчаса, и я при
бросании кусочков пищи старался попадать к ногам
более слабых, что заставляло неистово метаться нена¬
сытных пожирателей, присваивающих себе одним пра¬
во насыщаться земными благами. Однажды поздно ве¬
чером, в лунную ночь, вскочив на окно подышать воз¬
духом у фортки, заметил я, что голубь сидит на желез¬
ной решетке окна, и так близко, что, протянув руку,
его можно схватить. Подумав об этом, я сейчас же
просунул руку, и, положив ладонь на спину его и за¬
мкнув пальцы, я его взял и втянул через фортку в ком¬
нату. Держа его в руке, я сел за стол и пробовал его
кормить, но он, подняв голову и отворив широко клюв,
дышал очень учащенно и, казалось мне, впал в совер¬
шенное беспамятство. Когда я его попробовал поста¬
вить на стол и разомкнуть пальцы, то он, не двигаясь,
стоял, и раскрытый рот продолжал как бы вбирать в
себя усиленно воздух, как делают птички, посаженные
под воздушный насос с разреженным воздухом.
С 'Л часа я рассматривал его, потом счел лучшим
возвратить его на прежнее место ночлега. Я пронес его
благополучно через фортку и вновь усадил на решет¬
236
ку, где он сидел. Посидев с полминуты, вероятно очнув¬
шись, он слетел на землю. Такая ловля голубей была
у меня не один раз, но потом мне уже это надоело.
Меня удивляло также, что охолоделое от мороза желе¬
зо было для них нечувствительно. Таковы были в этом
жилище мои сношения с животным царством.
XIV
Прошел месяц моего пребывания, или более, в но¬
вом моем жилище; полгода просидев в одиночестве,
стал я более вынослив, приспособившись к малой жиз¬
ни, но можно ли привыкнуть к жестокому лишению сво¬
боды и полной изоляции ото всего живого мира, не
выработав в себе особый мозговой аппарат, подавля¬
ющий все желания живого существа? Можно ли до¬
стичь такой премудрости, не разрушив в себе высшие
стремления души: потребность знания, мышления — и
все жизненные чувства, связующие нас с людьми? Мо¬
жет ли заключенный в просторную гробницу, куда до¬
ставляется пища, не утратив и телесных сил, свыкнуть¬
ся с своим положением и не ожидать с живейшим не¬
терпением своего выхода в жизнь. Если с продолжи¬
тельностью заключения и вырабатывается некоторая
выносливость у заключенного, то она поддерживается
еще не вполне утраченною надеждою, предупреждаю¬
щею совершенный упадок сил от постоянно гнетущего
глубокого чувства уныния. Чем далее продолжается от¬
чуждение от жизни и людей, тем более ожесточается
чувство скорби и проясняется сознание своего ужасного
положения. Одна надежда выйти в жизнь, какова бы и
где бы она ни была, лишь бы были люди и солнце,
поддерживала меня, и под влиянием этой надежды я
только и мог бодрить и развлекать себя чем-либо. Ка¬
торжная работа, ссылка в Сибирь казались мне вели¬
чайшим и единственно возможным будущим моим сча¬
стьем, и с трепетом сердца я жаждал скорейшего окон¬
чания нашего дела. Я уже был порядочно замучен, и
на лице моем не могли не отпечатлеться следы ужас¬
ной зевоты и судорожного смеха. В первый раз, когда
я получил зеркало, — еще в первом моем помещении,—
я был поражен, взглянув на себя. Затем, ежедневно
смотрясь, я не мог видеть резкой перемены, но я был
желт, худ, обросший небольшими усами и бородой и
длинными волосами, ни разу в крепости не стрижен¬
ными.
237
В этом помещении, как и в прежних, я целыми дня¬
ми говорил, мыслил словами и, думая о будущем, меч¬
тал о предстоящей мне, столь мною желаемой, жизни
в рудниках, вместе с другими людьми, может быть, с
некоторыми из товарищей моих: «Там отдохну я от
этого одиночества! И выживу срок, может быть, не
столь продолжительный, и буду жить поселенцем в Си¬
бири, стране, хвалимой столь многими, оттуда вернув¬
шимися». Так утешал я себя, и под влиянием таких
надежд и мысли, что дело наше наконец приблизилось
уже к самому концу, я не переставал бодрить себя. Не
каждый день, но часто мылся холодной водой, делал
гимнастику, читал книги, но большую часть дня гово¬
рил сам с собою и часто, ежедневно, много раз впадал
в стихотворный бред <...> Утром чай, затем латин¬
ские стихи Ювенала, смотрение в окно, ожидание — не
придет ли кто, стихотворный бред, обед, кормление го¬
лубей. Темнело уже в три часа пополудни, зажигание
свечи, чтение Купера, Гете... Приветствие тараканов,
вечерний чай.
И все эти занятия прерывались беспрестанно чув¬
ством томления и страшной тоски. Иные дни были
сноснее, другие едва переносимы, с трудом доживаемы
до ночи. И ложился я в постель в большом унынии и
сомнении о завтрашнем дне, зная, что утром, только
что открою глаза, вновь буду тяжко огорчен видом
тюрьмы. Да когда же наконец кончится наше нескон¬
чаемое дело?1 Сил не хватает более, все кажется уже
переносимым в сравнении с долгим одиночным заклю¬
чением. При этом моем безнадежном о завтрашнем дне
положении я как бы в насмешку повторял иногда че-
тырехстишие Гете:
Liegt dir Oestern klar und olfen
Wirst du Hei'te kraftig, frei,
Kannst aucii auf ein Morgen hoffen.
Das nicht minder glOckiich sei! * **И потом переделал его соответственно моему бед¬
ственному положению следующим образом:
Hat dich Oestern schwer getroffen,
Bist heui elend und nicht frei;
Kannst auch auf ein Morgen hoffen.
Das nicht minder traurlg set!w
* Твое вчера — ясное я открытое, сегодня ты становишы я
сильным и свободным, можешь и на чавтра надеяться, что будешь
не менее счастливым 23 (нем.).
** Твое вчера было тяжелым, сегодня гы жалкий и несвобод¬
ный, можешь надеяться, что и завтра будешь не менее печальным
(нем).
238
Но, размышляя о нескончаемости моего тюремного
заключения, вместе с тем, в это же время, повторял
и другое гетевское изречение: «Es ist dafiir gesorgt,
dass die Baume nicht in den Himmel wachsen» * **, пере¬
фразировав его, применяясь к моему положению, та¬
ким образом:
«Es ist auch dafiir gesorgt, dass die Gefangnisse
niclit in die Ewigkeit dauern!»**
Читающий эти строки благоволит обратить внима¬
ние, ввиду последующего, на немецкие слова: «Es ist
dafiir gesorgt».
XV
Однажды утром принесено было мне мое платье, и
я был вновь потребован в суд. Меня не требовали уже
три месяца, если не более, и надо было ожидать чего-
либо особенного. С беспокойством и любопытством во¬
шел я вновь в белый дом, на лестницу, в знакомую
уже мне по прежним хождениям комнату и был страш¬
но изумлен представшим глазам моим зрелищем: вме¬
сто прежних пяти судей наших за прежним малень¬
ким столом передо мной был целый ареопаг25 — чело¬
век двадцать генералов в парадном одеянии сидели за
длиннейшим, накрытым красным сукном, столом. На
одном конце его сидел высокого роста генерал с круп¬
ными чертами лица, с суровым, казалось мне, взгля¬
дом, худой, бледный, с жидкими белокурыми волоса¬
ми. Он и теперь как живой сидит перед моими глаза¬
ми. Он смотрел на меня сурово и бесчувственно (так
по крайней мере казалось мне, но, может быть, я и
ошибался в этом). Впоследствии узнал я, что это был
Лобанов-Ростовский26. На другом конце стола, спиною
к окну, за пюпитром, стоял какой-то чиновник (секре¬
тарь присутствия). Когда я вошел, взоры всех устреми¬
лись на меня. Я сделал несколько шагов и очутился
около секретаря, который тоже, обернувшись ко мне,
смотрел на меня. Окинув взором все это присутствие,
я был в страшном недоумении. «Что это?.. Зачем такая
перемена, где прежние наши судьи? Им не дали докон¬
чить нашего дела, — думал я, — их нашли слишком к
нам внимательными, и вот назначили других». Такие
мысли вдруг охватили меня. Едва успел я подумать об
* Заботятся о том, чтобы деревья не росли к небу24 (нем.),
** Заботятся о том, чтобы тюрьма не продолжалась вечно
(нем.).
239
этом, как услышал обращенный ко мне вопрос. Лоба¬
нов-Ростовский спрашивал меня, как моя фамилия, за¬
тем спросил: «Все ли вы показали на следствии, не
имеете ли чего еще прибавить?» Такой вопрос немало
удивил меня. Столько уже я говорил и писал, и теперь
вдруг еще спрашивается, не имею ли я чего прибавить!
«Как? — спросил я. — Еще прибавить?.. К тому, что я
уже говорил и писал?!» — «Я спрашиваю вас, не имее¬
те ли вы чего прибавить к тому, что вы показали по
делу вашему и в оправдание себя?» — «Нет! — отвечал
я с уверенностью. — Я все показал и больше ничего не
имею прибавить». После этого я был отпущен.
Ужасное впечатление произвело на меня это собра¬
ние генералов в торжественном облачении по случаю
несчастия, с нами случившегося!..
«Что это значит?.. — спрашивал я офицера, меня со¬
провождавшего.— Отчего эта перемена?.. Где же преж¬
ние судьи наши?» — «Это, батенька, полевой уголовный
суд под председательством Лобанова-Ростовского», —
ответил он мне. «Разве нас отдали под военный суд? —
спросил я, удивленный. — Неужели же они начнут рас¬
сматривать дело с самого начала?»
Не помню, что мне отвечал офицер; он уже не был
мне безучастный незнакомец, как прежде, но слова его
не могли ничем утешить меня. И вот я вновь один в
запертой комнате. «Суд с самого начала, тот уже не
годился, что прежде был!» Тут я пожалел и князя Га¬
гарина, и Долгорукова, и Ростовцева, и Набокова, и
Дубельта... Их нашли слишком к нам снисходительны¬
ми!.. Но что меня еще ужасно сокрушило — это вновь
отсрочка окончания нашего дела, и отсрочка не на две
недели, а на неопределенное, казалось мне, нескончае¬
мое время. Я был совершенно подавлен этою одною
мыслью. С самого начала содержания в крепости я уте¬
шал себя двухнедельным сроком и надеждою, что вот-
вот уже наступает конец дела. И вдруг передо мной
нежданно, внезапно разверзлась бездонная пропасть;
все надежды мои на скорое избавление ссылкою в Си¬
бирь рушились вдруг, и самые мрачные, зловещие мыс¬
ли зародились в голове моей. «Теперь смертная казнь
или, что еше хуже, присуждение к нескончаемому оди¬
ночному заключению!.. Уже так много страдал я, так
измучен, а какие муки предстоят еще впереди!..» Дви¬
гаясь медленно по комнате, я вдруг останавливался и,
хватаясь обеими руками за голову, произносил муче¬
нические слова.
240
«День ужасный, день самый несчастный в жизни
моей! О! Если бы я мог умереть, чтобы уже более не
думать ни о чем и перестать чувствовать жестокое мое
заключение!..» В такой глубокой тоске я незаметным
образом опускался на пол, в обычное мое сидячее на
коленях положение, и заливался судорожным смехом
до изнеможения. Поднимаясь после такого припадка, я
чувствовал себя совершенно разбитым, немыслящим,
безгласным. Невыносимо тяжко прожит был этот зло¬
счастный день. Завеса мрачного будущего приподняла-
ся передо мною, надежда, подкреплявшая меня, исчез¬
ла, и я остался без всякой нравственной поддержки!..
В этот день гвоздем написал я на стене, как мне
было тяжело, слова самые горькие человека исстрадав¬
шегося остались вырезанными моею рукою. «Пусть
прочтет,—думал я, — кто-либо, кто будет здесь поме¬
щен после меня».
В таком состоянии лег я в постель, сон одолевал
меня, и зловещие призраки, летавшие над моею голо¬
вой, сливались в какой-то давящий туман и сонный
бред. И вот снится мне: зовут меня в суд, и офицер,
сопровождающий меня, не говорит мне ни слова. Иду
молча, куда ведут, сердце сжимается предчувствием
чего-то ужасного, я иду как осужденный на гибель. Вот
белый дом, вот уже и на лестницу вхожу я, колена
дрожат; дверь отворилась — я должен в нее войти, и
я вошел: за длинным столом, накрытым красным сук¬
ном, сидят в мундирах генералы, и выпученные (каза¬
лось мне) глаза их смотрят на меня, а на председа¬
тельском месте, устремив на меня строгий взгляд, вос¬
седал Лобанов-Ростовский. Я, переступив порог, оста¬
новился; кто-то сзади подтолкнул меня вперед, и я
очутился около самого стола. «Вы призваны выслу¬
шать решение по вашему делу», — сказал председа¬
тель, затем, обратясь к секретарю, сказал: «Прочтите
ему бумагу».
Секретарь, перестав смотреть на меня, взял бумагу
и стал читать, отчеканивая медленно каждое слово.
Прочтенное было редактировано приблизительно в сле¬
дующих словах:
«Следственная комиссия по делу злоумышленников,
в котором участвовали вы, раскрыв все учиненные ими
злодеяния, представила их на заключение высочайше
назначенного над ними полевого уголовного суда, ко¬
торый, по рассмотрении вашей виновности и участия в
преступлении, приговорил вас к заключению в крепо¬
241
сти на 900 лет». Чтение это» производившееся медлен¬
но, и заключительные слова его произвели на меня по¬
трясающее впечатление, как бы мне нанес кто-либо
смертельный удар в голову. Я стоял без рассудка и па¬
мяти, как ошеломленный. «Вы поняли объявление су¬
да?»— спросил меня Лобанов-Ростовский громоглас¬
но.— «На 900... лет?! — проговорил я слабым голо¬
сом.— В крепости... на 900 лет?..» Но потом, опомнив¬
шись, спросил: «Да как же это?.. Ведь я же не буду
жить 900 лет!» — «Это не ваше дело, — сказал мне ре¬
шительным голосом Лобанов-Ростовский, злобно впив¬
шись в меня своими глазами, — мы уже позаботились
о том, чтобы вы жили 900 лет...» А потом прибавил еще
как бы для подтверждения и усиления по-немецки:
«Es ist dafiir gesorgt». И при этих словах закричал:
«Возьмите его и отведите сейчас же в тюрьму!»
Меня схватили за обе руки, я стал отбиваться но¬
гами и закричал: «Проклятые! Что вы делаете?!» В та¬
ком состоянии я проснулся. Сердце стучало, и я был
вне себя. Все было тихо, свеча, заменявшая прежнюю
плошку, поставленная на окне в глиняной посуде, за¬
ставленная книгами, слегка освещала потолок комнаты.
Увидев себя лежащим на кровати, в знакомой мне об¬
становке, я понял, что это был сон; но страшный сон
этот стоял живым видением перед глазами моими.
Я был настолько подавлен им, что громадный размер
всей этой нелепой чепухи не заставил меня ни разу ус¬
мехнуться. «900 лет, — думал я, — это только рельеф¬
ное выражение пожизненного заключения: сколько бы
ни продолжалась жизнь, — хотя бы 900 лет, — ты все
будешь в тюрьме, и никогда не выйдешь более на воз¬
дух, и не увидишь не только никого из близких людей,
но будешь уединен ото всего мира!!»
Так лежал я, смотря на освещенный потолок. Я был
очень утомлен, глаза смыкались. «Сон-то и исчез как
сон, — думал я, — а вчерашнее мое видение — то дей¬
ствительность неудалимая, неотступная!» И она-то ту¬
манным призраком носилась перед сонными моими гла¬
зами... И кажется мне—я засыпаю снова, брежу о
чем-то ни во сне ни наяву; какие-то лица с самыми
разнообразными рожами и разноцветными головными
нарядами мелькают перед глазами, вытесняя одни дру¬
гих, они гримасничают, пучат глаза... откуда-то слы¬
шится шум как бы большого пильного завода в пол¬
ном ходу, и затем ритм этого шума превращается в
дыхательное храпение какого-то привязанного к кро¬
242
вати спящего страдальца-великана, и все становится
громче и страшнее; я просыпаюсь с биением сердца,
лежу, смотрю на потолок; перед глазами мелькают раз¬
ноцветные переливы огней, и слышатся перекликаю¬
щиеся голоса, свист и шум в ушах. «Что же это та¬
кое?— думал я. — Сплю я или не сплю?» Голова у
меня болит, во рту сухо, как бы от внутреннего жара,
мне хочется пить, — я встаю. Какая-то горечь во рту,
давление под ложечкой, и вдруг голова закружилась.
Схватившись за стол, я опустился на табурет, меня
сильно затошнило и вырвало, потом из носа закапала
кровь, и я оставался в сидячем положении у стола,
придерживая голову облокотившеюся на нем рукою.
Чувствуя себя облегченным, я пошел к окну, напил¬
ся воды, потом добрался до постели и заснул уже не
столь тревожным сном. Утром проснулся более утом¬
ленным, чем в какой-либо день пребывания моего в
крепости. Голова была тяжела, и в ушах звенело. Я на¬
пился воды, отворил фортку, облил голову водой и
стоял на окне, дыша холодным ноябрьским воздухом.
В этот день я часто ложился на постель и засыпал;
аппетита не было, и я до вечернего чая ничего не ел.
Вспоминая теперь все со мною происходившее в эту па¬
мятную ночь, я вижу ясную картину острой гипере¬
мии 27 мозга, развившейся вследствие душевного воз¬
мущения предшествовавшего дня, и затем благополучно
миновавшей.
XVI
Последующие за сим дни я чувствовал себя слабым;
упадок духа выражался еще большею бездеятельно¬
стью, даже обыкновенные вседневные дела были в заб¬
вении, — я мылся кое-как, не вытирался холодной во¬
дой, гимнастические движения не производились, голу¬
би и тараканы были совсем забыты в эти дни. Книги,
раскрытые, то та, то другая, лежали на столе, но не чи¬
тались. Такое угнетенное состояние продолжалось не¬
сколько дней, но оно мало-помалу стало проходить.
Новый, и военный, суд, вдруг так нежданно нависший
над нами, породил во мне две подавляющие мысли:
1) вместо ежедневно ожидаемого окончания дела я
вдруг увидел, что оно сызнова начинается, и 2) мень¬
шая надежда на столь горячо желаемое мною избав¬
ление от одиночного заключения и от казни ссылкою в
Сибирь. По прошествии нескольких дней мысли мои
243
мало-помалу облегчались следующими соображениями.
Суд военный должен быть скорый — они не будут меш¬
кать, да, кроме того, меня спрашивали, не имею ли я
чего прибавить к тому, что мною уже показано, а по¬
тому я сообразил из этих слов, что прежний разбор
дела не заброшен и, вероятно, они будут руководство¬
ваться им, что ускорит дело. Размышляя таким обра¬
зом, я вновь прибег к моему неизбежному ложному
предположению о достаточности двухнедельного срока.
Другое же предположение мое — о неблагополучном
исходе дела — не переставало сокрушать меня все
остальное время моего пребывания в крепости, но и об
этом думая, я склонен был утешать себя, что я, может
быть, и ошибаюсь. Думая о возможности смертной каз¬
ни по военному суду, я тоже утешал себя, что это бу¬
дет не веревка, а огнестрельное оружие. Очень скверно,
тяжело жилось. Был уже конец ноября, 7 месяцев уже
сидел я, и, озираясь назад, я видел длинный ряд про¬
житых мною скорбей и мук и удивлялся, как это мои
двухнедельные сроки могли затянуться на столь дол¬
гое время, и говорил себе: какое счастье доставил мне
этот самообман и каково было бы мне с самого начала,
если бы я знал, что и в 7 месяцев дело наше не кон¬
чится. «Теперь, — думал я, — несомненно, после столь
долгого времени, оно должно быть уже пришедшим к
истинному и действительному концу, которого самый
поздний срок две недели». Вот наступил уже и декабрь.
Погода была снежная и морозная, но в комнате было
тепло, и сильно нагреваемая печь радовала приютив¬
шихся около нее тараканов. Я стоял часто у фортки.
Прохожих было мало: в праздничные же дни от обед¬
ни шло довольно много, но из знакомых я никого не
заметил. Иногда часу в третьем дня я видел, однако
же, проходящего мимо моего окна кого-либо из братьев
или моего дядю М. С. Бижеича. Варинька приходила
тоже в свой уголок у собора часто, утирала слезы
платком и всегда проходила мимо моего окна. Одно об¬
стоятельство, о котором забыл я упомянуть: из окна
моего виден был белый дом, в котором разбиралось
наше дело, и я нередко смотрел, как подъезжали к
нему экипажи. Вечером экипажей не видно было, но
окна в помещении второго этажа были сильно освеще¬
ны и видимы были сначала движущиеся фигуры, потом
они усаживались и движение заметно было только по
временам. Видно даже было, как по истечении неко¬
торого времени проходил мимо окна то тот, то другой
244
подсудимый. Если б у меня была подзорная труба или
хороший бинокль, то я увидел бы, без сомнения, мно¬
гих моих товарищей и рассматривал бы целые часы с
любопытством лица компетентных ценителей наших
деяний, или, лучше сказать, наших помышлений, но,
видя перед собою только мелькавшие части облика
этого зрелища, я смотрел на него недолго, предаваясь
при этом разным размышлениям. Такое мое созерца¬
тельное, глубоко закулисное положение продолжалось
обыкновенно не более 10—20 минут, после чего я утом¬
лялся и сходил с окна, нередко произнося стихи Лер¬
монтова: «Кипел, сиял уж в полном блеске бал!» —
сперва дословно, потом в измененном виде, применяясь
к настоящему случаю, заменив слово «бал» словом
«суд».
XVII
Декабрь месяц был совершенно бесцветен и не был
прерываем никакими новыми освежающими или отяг¬
чающими впечатлениями. Все выгоды, какие можно
было извлечь из новой местности моего помещения,
были уже исчерпаны мною, более нельзя было выду¬
мать, и оставалось ожидать пришествия чего-либо сна¬
ружи, извне в мою тюремную гробницу, где я пропа¬
дал с тоски и терял, казалось мне, мои последние жиз¬
ненные силы. И теперь, когда я вспоминаю это ужас¬
ное мое положение, и теперь, по прошествии стольких
лет, кажется мне, что без тяжелого повреждения или
увечья на всю жизнь в моем мозговом органе я не мог
бы долее выносить одиночного заключения, а между
тем известно же, что многие и прежде и после меня
выносили еще и дольшие таковые же. Переносчивость
у людей, конечно, различна; вообще здоровый человек
живуч, и жизнь нас убеждает нередко, что мы на са¬
мом деле можем перенести гораздо более, чем пола¬
гаем. Сидение мое перешло уже на 8-й месяц, томле¬
ние и упадок духа были чрезвычайные, занятия не шли
вовсе, я не мог более оживлять себя ничем; перестал
говорить сам с собою, как-то машинально двигался по
комнате или лежал на кровати в апатии. По временам
являлись приступы тоски невыносимые, и чаше и доль¬
ше прежнего сидел я на полу. Сон был тревожный, сно¬
видения все в том же печальном кругу и с кошмарами.
Так дожито было до 22 декабря 1849 года. В этот день,
как во все прочие дни, проведя ночь беспокойно, до
245
света, часов в шесть я поднялся с постели и, по устано¬
вившемуся уже давно разумному обычаю, инстинктив¬
но направился к окну, стал на подоконник, отворил
фортку, дышал свежим воздухом, а вместе с тем и
воспринимал впечатления погоды нового дня. И в этот
день я был в таком же упадке духа, как и во все про¬
чие дни.
Было еще темно, на колокольне Петропавловского
собора прозвучали переливы колоколов и за ними бой
часов, возвестивший половину седьмого. Вскоре разгля¬
дел я, что земля покрыта была новым выпавшим сне¬
гом. Послышались какие-то голоса, и сторожа, каза¬
лось, чем-то были озабочены. Заметив что-то новое, я
дольше остался на окне и все более замечал какое-то
происходящее необыкновенное движение туда и сюда
и разговоры спешивших крепостных служителей. Меж¬
ду тем рассветало все более, и хождение, и озабочен¬
ность крепостного начальства обозначались все явст¬
веннее. Это продолжалось с час времени. При виде та¬
кого небывалого еще никогда явления в крепости, не¬
смотря на упадок духа, я вдруг оживился, и любопыт¬
ство, и внимание ко всему происходившему возрастали
с каждой минутой. Вдруг вижу, из-за собора выезжа¬
ют кареты — одна, две, три... и все едут и едут, без
конца, и устанавливаются вблизи белого дома и за со¬
бором. Потом глазам моим предстало еще новое зре¬
лище: выезжал многочисленный отряд конницы, эскад¬
роны жандармов следовали один за другим и устанав¬
ливались около карет... Что бы это все значило? Уж не
похороны ли снова какие? Но для чего же пустые ка¬
реты?! Уж не настало ли окончание нашего дела?..
Сердце забилось... Да, конечно, эти кареты приехали
за нами!.. Неужели конец?! Вот и дождался я послед¬
него дня!.. С 22 апреля по 22 декабря, 8 месяцев, сидел
я взаперти. А теперь что будет?!
Вот служители в серых шинелях несут какие-то пла¬
тья, перекинутые через плеча, они идут скоро вслед за
офицером, направляясь к нашему коридору. Слышно,
как они вошли в коридор; зазвенели связки ключей, и
стали отворяться кельи заключенных. И до меня дошла
очередь; вошел один из знакомых офицеров с служите¬
лем; мне принесено было мое платье, в котором я был
взят, и, кроме того, теплые, толстые чулки. Мне сказа¬
но, чтобы я оделся и надел чулки, так как погода мо¬
розная. «Для чего это? Куда нас повезут? Окончено
наше дело?» — спрашивал я его, на что мне дан был
246
ответ уклончивый и короткий при торопливости уйти.
Я оделся скоро, чулки были толстые, и я едва мог на¬
тянуть сапоги. Вскоре передо мною отворилась дверь,
и я вышел. Из коридора я выведен был на крыльцо, к
которому подъехала сейчас же карета, и мне предло¬
жено было в нее сесть. Когда я вошел, то вместе со
мною влез в карету и солдат в серой шинели и сел ря¬
дом — карета была двухместная. Мы двинулись, коле¬
са скрипели, катясь по глубокому, морозом стянутому,
снегу. Оконные стекла кареты были подняты и сильно
замерзлые, видеть через них нельзя было ничего. Была
какая-то остановка: вероятно, поджидались остальные
кареты. Затем началось общее и скорое движение. Мы
ехали, я ногтем отскабливал замерзший слой влаги от
стекла и смотрел секундами — оно тускнело сейчас же.
— Куда мы едем, ты не знаешь? — спросил я.
— Не могу знать, — отвечал мой сосед.
— А где же мы едем теперь? Кажется, выехали на
Выборгскую?
Он что-то пробормотал. Я усердно дышал на стек¬
ло, отчего удавалось минутно увидеть кое-что из окна.
Так ехали мы несколько минут, переехали Неву; я бес¬
престанно скоблил ногтем или дышал на стекло.
Мы ехали по Воскресенскому проспекту, повернули
на Кирочную и на Знаменскую28, — здесь опустил я
быстро и с большим усилием оконное стекло. Сосед мой
не обнаружил при этом ничего неприязненного, — и я
с полминуты полюбовался давно не виданной мною
картиной пробуждающейся в ясное зимнее утро столи¬
цы; прохожие шли и останавливались, увидев перед со¬
бою небывалое зрелище — быстрый поезд экипажей,
окруженный со всех сторон скачущими жандармами с
саблями наголо! Люди шли с рынков; над крышами
домов поднимались повсюду клубы густого дыма толь¬
ко что затопленных печей, колеса экипажей скрипели
по снегу. Я выглянул в окно и увидел впереди и сзади
карет эскадроны жандармов. Вдруг скакавший близ
моей кареты жандарм подскочил к окну и повелитель¬
но и грозно закричал: «Не оттуливай!» Тогда сосед мой
спохватился и поспешно закрыл окно. Опять я должен
был смотреть в быстро исчезающую шелку! Мы выеха¬
ли на Лиговку и затем поехали по Обводному каналу.
Езда эта продолжалась минут тридцать. Затем повер¬
нули направо и, проехав немного, остановились; карета
отворилась предо мною, и я вышел.
247
Посмотрев кругом, я увидел знакомую мне мест¬
ность — нас привезли на Семеновскую площадь. Она
была покрыта свежевыпавшим снегом и окружена вой¬
ском, стоявшим в каре. На валу вдали стояли толпы
народа и смотрели на нас; была тишина, утро ясного
зимнего дня, и солнце, только что взошедшее, большим
красным шаром блистало на горизонте сквозь туман
сгущенных облаков.
Солнца не видел я 8 месяцев, и представшая глазам
моим чудесная картина зимы и объявший меня со всех
сторон воздух произвели на меня опьяняющее действие.
Я ощущал неописанное благосостояние и несколько
секунд забыл обо всем. Из этого забвенья в созерца¬
нии природы выведен я был прикосновением посторон¬
ней руки: кто-то взял меня бесцеремонно за локоть с
желанием подвинуть вперед и, указав направление, ска¬
зал мне: «Вон туда ступайте!» Я подвинулся вперед,
меня сопровождал солдат, сидевший со мною в карете.
При этом я увидел, что стою в глубоком снегу, утонув
в него всею ступнею; я почувствовал, что меня обни¬
мает холод. Мы были взяты 22 апреля в весенних пла¬
тьях и так в них и вывезены 22 декабря на площадь.
Направившись вперед по снегу, я увидел налево от
себя, среди площади, воздвигнутую постройку — под¬
мостки, помнится, квадратной формы, величиною в 3—•
4 сажени, со входною лестницею, и все обтянуто было
черным трауром — наш эшафот. Тут же увидел я куч¬
ку товарищей, столпившихся вместе и протягивающих
друг другу руки и приветствующих один другого после
столь насильственной злополучной разлуки. Когда я
взглянул на лица их, то был поражен страшною пере¬
меной; там стояли: Петрашевский, Львов, Филиппов,
Спешней и некоторые другие. Лица их были худые, за¬
мученные, бледные, вытянутые, у некоторых обросшие
бородой и волосами. Особенно поразило меня лицо
Спешнева: он отличался от всех замечательною красо¬
тою, силою и цветущим здоровьем. Исчезли красота и
цветущий вид; лицо его из округленного сделалось
продолговатым; оно было болезненно, желто-бледно,
щеки похудалые, глаза как бы ввалились и под ними
большая синева; длинные волосы и выросшая большая
борода окружали лицо.
Петрашевский, тоже сильно изменившийся, стоял
нахмурившись, — он был обросший большой шевелю¬
рою и густою, слившеюся с бакенбардами, бородою.
«Должно быть, всем было одинаково хорошо», — ду'
248
мал я. Все эти впечатления были минутные; кареты все
еще подъезжали, и оттуда один за другим выходили за¬
ключенные в крепости. Вот Плещеев, Ханыков, Каш¬
кин, Европеус... все исхудалые, замученные, а вот и ми¬
лый мой Ипполит Дебу, увидев меня, бросился ко мне
в объятия: «Ахшарумов! И ты здесь!» — «Мы же все¬
гда вместе!» — ответил я. Мы обнялись с особенным
чувством кратковременного свидания перед неизвест¬
ной разлукой. Вдруг все наши приветствия и разгово¬
ры прерваны были громким голосом подъехавшего к
нам на лошади генерала, как видно, распоряжавшего¬
ся всем, увековечившего себя в памяти всех нас... сле¬
дующими словами:
— Теперь нечего прощаться! Становите их, — за¬
кричал он.
Он не понял, что мы были только под впечатлением
свидания и еще не успели помыслить о предстоящей
нам смертной казни; многие же из нас были связаны
искреннею дружбою, некоторые родством — как двое
братьев Дебу. Вслед за его громким криком явился пе¬
ред нами какой-то чиновник со списком в руках и, чи¬
тая, стал вызывать нас каждого по фамилии.
Первым поставлен был Петрашевский, за ним Спеш¬
нев, потом Момбелли и затем шли все остальные — всех
нас было 23 человека29 (я поставлен был по ряду вось¬
мым). После того подошел священник с крестом в
руке и, став перед нами, сказал: «Сегодня вы услыши¬
те справедливое решение вашего дела, — последуйте за
мною!» Нас повели на эшафот, но не прямо на него, а
обходом, вдоль рядов войск, сомкнутых в каре. Такой
обход, как я узнал после, назначен был для назидания
войска, и именно Московского полка, так как между
нами были офицеры, служившие в этом полку, — Мом¬
белли, Львов30... Священник с крестом в руке выступал
впереди, за ним мы все шли один за другим по глубо¬
кому снегу. В каре стояли, казалось мне, несколько
полков, потому обход наш по всем 4 рядам его был до¬
вольно продолжительный. Передо мною шагал высокий
ростом Павел Николаевич Филиппов, впоследствии
умерший от раны, полученной им при штурме Карса в
1854 году31, сзади меня шел Константин Дебу. Послед¬
ними в этой процессии были Кашкин, Европеус и
Пальм. Нас интересовало всех, что будет с нами далее.
Вскоре внимание наше обратилось на серые столбы,
врытые с одной стороны эшафота; их было, сколько мне
помнится, много... Мы шли, переговариваясь: «Что с
249
нами будут делать?» — «Для чего ведут нас по снегу?»—
«Для чего столбы у эшафота?» — «Привязывать будут,
военный суд, — казнь расстрелянием». — «Неизвестно,
что будет, — вероятно, всех на каторгу»...
Такого рода мнения высказывались громко, то спе¬
реди, то сзади от меня, и мы медленно пробирались по
снежному пути и подошли к эшафоту. Войдя на него,
мы столпились все вместе и опять обменялись несколь¬
кими словами. С нами вместе взошли и нас сопровож¬
давшие солдаты и разместились за нами. Затем распо¬
ряжались офицер и чиновник со списком в руках. На¬
чались вновь выкликивание и расстановка, причем по¬
рядок был несколько изменен. Нас поставили двумя ря¬
дами перпендикулярно к городскому валу. Один ряд,
меньший, начинавшийся Петрашевским, был поставлен
с левого фаса эшафота, там были: Петрашевский,
Спешнев, Момбелли, Львов, Дуров, Григорьев, Толль,
Ястржембский, Достоевский...
Другой ряд начинался кем не помню, но вторым
стоял Филиппов, потом я, подле меня Дебу-старший, за
ним его брат Ипполит, затем Плещеев, Тимковский, Ха¬
ныков, Головинский, Кашкин, Европеус и Пальм. Всех
нас было 23 человека, но я не могу вспомнить осталь¬
ных... Когда мы были уже расставлены в означенном
порядке, войскам скомандовано было: «На караул!»
И этот ружейный прием, исполненный одновременно
несколькими полками, раздался по всей площади свой¬
ственным ему ударным звуком. Затем скомандовано
было нам: «Шапки долой!», но мы к этому не были
подготовлены и почти никто не исполнил команды, то¬
гда повторено было несколько раз: «Снять шапки, бу¬
дут конфирмацию читать», — и с запоздавших прика¬
зано было стащить шапку сзади стоявшему солдату.
Нам всем было холодно, и шапки на нас были хотя и
весенние, но все же закрывали голову. После того чи¬
новник в мундире стал читать изложение вины каж¬
дого в отдельности, становясь против каждого из нас.
Всего невозможно было уловить, что читалось, — чита¬
лось скоро и невнятно, да и притом же мы все содро¬
гались от холода. Когда дошла очередь до меня, то сло¬
ва, произнесенные мною в память Фурье, «о разруше¬
нии всех столиц и городов» занимали видное место в
вине моей.
Чтение это продолжалось добрых полчаса, мы все
страшно зябли. Я надел шапку и завертывался в хо¬
лодную шинель, но вскоре это было замечено и шапка
250
с меня была сдернута рукою стоявшего за мною сол¬
дата. По изложении вины каждого конфирмация окан¬
чивалась словами: «Полевой уголовный суд приговорил
всех к смертной казни — расстрелянием, и 19-го сего
декабря государь император собственноручно написал:
„Быть по сему”».
Мы все стояли в изумлении; чиновник сошел с эша¬
фота. Затем нам поданы были белые балахоны и кол¬
паки, саваны, и солдаты, стоявшие сзади нас, одевали
нас в предсмертное одеяние. Когда мы все уже были
в саванах, кто-то сказал: «Каковы мы в этих одеяниях!»
Взошел на эшафот священник — тот же самый, ко¬
торый нас вел, — с евангелием и крестом, и за ним при¬
несен и поставлен был аналой. Поместившись между
нами на противоположном входу конце, он обратился
к нам с следующими словами: «Братья! Пред смертью
надо покаяться... Кающемуся спаситель прощает гре¬
хи... Я призываю вас к исповеди...»
Никто из нас не отозвался на призыв священника,—•
мы стояли молча, священник смотрел на всех нас и по¬
вторно призывал нас к исповеди. Тогда один из нас —
Тимковский — подошел к нему и, пошептавшись с ним,
поцеловал Евангелие и возвратился на свое место. Свя¬
щенник, посмотрев еще на нас и видя, что более никто
не обнаруживает желания исповедаться, подошел к Пе¬
трашевскому с крестом и обратился к нему с увещани¬
ем, на что Петрашевский ответил ему несколькими сло¬
вами. Что было сказано им, осталось неизвестным: сло¬
ва Петрашевского слышали только священник и весьма
немногие, близ него стоявшие, а даже, может быть,
только один сосед его, Спешнев. Священник ничего не
ответил, но поднес к устам его крест, и Петрашевский
поцеловал крест. После того он молча обошел с кре¬
стом всех нас, и все приложились к кресту. Затем свя¬
щенник, окончив дело это, стоял среди нас как бы в
раздумье. Тогда раздался голос генерала, сидевшего на
коне возле эшафота: «Батюшка! Вы исполнили все, вам
больше здесь нечего делать!»
Священник ушел, и сейчас же взошли несколько че¬
ловек солдат к Петрашевскому, Спешневу и Момбел¬
ли32, взяли их за руки и свели с эшафота, они подвели
их к серым столбам и стали привязывать каждого к от¬
дельному столбу веревками. Разговоров при этом не
было слышно. Осужденные не оказывали сопротивле¬
ния. Им затянули руки позади столбов и затем обвяза¬
ли веревки поясом. Потом отдано было приказание:
251
«Колпаки надвинуть на глаза», после чего колпаки опу¬
щены были на лица привязанных товарищей наших.
Раздалась команда: «Клац», и вслед за тем группа сол¬
дат— их было человек 16, — стоявших у самого эша¬
фота, по команде направила ружья к прицелу на Пет¬
рашевского, Спешнева и Момбелли... Момент этот был
поистине ужасен. Видеть приготовление к расстреля¬
нию, и притом людей близких по товарищеским отно¬
шениям, видеть уже наставленные на них почти в упор
ружейные стволы и ожидать — вот прольется кровь и
они упадут мертвые, было ужасно, отвратительно,
страшно... Сердце замерло в ожидании, и страшный
момент этот продолжался с полминуты. При этом не
было мысли о том, что и мне предстоит то же самое, но
все внимание было поглощено наступающею кровавою
картиною. Возмущенное состояние мое возросло еще
более, когда я услышал барабанный бой, значение ко¬
торого я тогда еще, как не служивший в военной служ¬
бе, не понимал. «Вот конец всему!..» Но вслед за тем
увидел я, что ружья, прицеленные, вдруг были подняты
стволами вверх. От сердца отлегло сразу, как бы сва¬
лился тесно сдавивший его камень! Затем стали отвя¬
зывать привязанных Петрашевского, Спешнева и Мом¬
белли и привели снова на прежние места их на эша¬
фоте. Приехал какой-то экипаж, оттуда вышел офи¬
цер— флигель-адъютант — и привез какую-то бумагу,
поданную немедленно к прочтению. В ней возвещалось
нам дарование государем императором жизни и, вза¬
мен смертной казни, каждому, по виновности, особое
наказание.
Конфирмация эта была напечатана в одном из де¬
кабрьских номеров «Русского инвалида» 1849 года, ве¬
роятно в следующий день, 23 декабря, потому распро¬
страняться об этом считаю лишним, но упомяну вкрат¬
це. Сколько мне помнится, Петрашевский ссылался в
каторжную работу на всю жизнь. Спешнев — на
20 лет33, и затем следовали градации в нисходящем,
по степени виновности, порядке. Я был присужден к
ссылке в арестантские роты военного ведомства на
4 года, а по отбытии срока — рядовым в Кавказский
отдельный корпус. Братья Дебу ссылались тоже в аре¬
стантские роты, а по отбытии срока — в военно-рабочие
роты. Кашкин и Европеус назначались прямо рядовы¬
ми в Кавказский корпус, а Пальм переводился тем же
чином в армию. По окончании чтения этой бумаги с нас
сняли саваны и колпаки.
252
Затем взошли на эшафот какие-то люди, вроде па¬
лачей, одетые в старые цветные кафтаны, — их было
двое, — и, став позади ряда, начинавшегося Петрашев¬
ским, ломали шпаги над головами поставленных на
колени ссылаемых в Сибирь, каковое действие, совер¬
шенно безразличное для всех, только продержало нас,
и так уже продрогших, лишние */4 часа на морозе. По¬
сле этого нам дали каждому арестантскую шапку, ов¬
чинные, грязной шерсти, тулупы и такие же сапоги. Ту¬
лупы, каковы бы они ни были, нами были поспешно на¬
деты, как спасение от холода, а сапоги велено было са¬
мим держать в руках.
После всего этого на середину эшафота принесли
кандалы и, бросив эту тяжелую массу железа на до¬
щатый пол эшафота, взяли Петрашевского и, выведя
его на середину, двое, по-видимому кузнецы, надели на
ноги его железные кольца и стали молотком заклепы¬
вать гвозди. Петрашевский сначала стоял спокойно, а
потом выхватил тяжелый молоток у одного из них и,
сев на пол, стал заколачивать сам на себе кандалы.
Что побудило его накладывать самому на себя руки,
что хотел он выразить тем — трудно сказать, но мы
были все в болезненном настроении или экзальтации.
Между тем подъехала к эшафоту кибитка, запря¬
женная курьерской тройкой, с фельдъегерем и жандар¬
мом, и Петрашевскому было предложено сесть в нее,
но он, посмотрев на поданный экипаж, сказал:
— Я еще не окончил все дела!
— Какие у вас еще дела? — спросил его, как бы с
удивлением, генерал, подъехавший к самому эшафоту.
— Я хочу проститься с моими товарищами! — отве¬
чал Петрашевский.
— Это вы можете сделать, — последовал велико¬
душный ответ.
(Можно полагать, что и у него сердце было не ка¬
менное, и он по своему разумению исполнял выпавшую
на его долю трудную служебную обязанность, но под
конец уже и его сердцу было нелегко.)
Петрашевский в первый раз ступил в кандалах; с
непривычки ноги его едва передвигались. Он подошел
к Спешневу, сказал ему несколько слов и обнял его,
потом подошел к Момбелли и также простился с ним,
поцеловав и сказав что-то. Он подходил по порядку,
как мы стояли, к каждому из нас и каждого поцело¬
вал, молча или сказав что-нибудь на прощание. Подой¬
дя ко мне, он, обнимая меня, сказал: «Прощайте, Ах-
253
шарумов, более уже мы не увидимся!», на что я отве¬
тил ему со слезами: «А может быть, и увидимся еще!»
Только на эшафоте впервые полюбил я его!
Простившись со всеми, он поклонился еще раз всем
нам и, сойдя с эшафота, с трудом передвигая непри¬
вычные еще к кандалам ноги, с помощью жандарма и
солдата сошел с лестницы и сел в кибитку; с ним ря¬
дом поместился фельдъегерь и вместе с ямщиком жан¬
дарм с саблею и пистолетом у пояса; тройка сильных
лошадей повернула шагом и затем, выбравшись мед¬
ленно из кружка столпившихся людей и за ними сто¬
явших экипажей и повернув на Московскую дорогу, ис¬
чезла из наших глаз.
Слова его сбылись, — мы не увиделись более; я еще
живу, но его доля была жесточе моей и его уж нет на
свете!
Ои умер скоропостижно от болезни сердца 7 декаб¬
ря 1868 года в городе Минусинске Енисейской губер¬
нии, и похороны его были 4 января 1869 года.
В 1882 году на могиле его поставлен временно де¬
ревянный крест проживавшим с ним вместе в Бельском
господином] Никитою Всеволожским. Заметка о смер¬
ти его и о последнем годе его тяжелой ссылки в Мину¬
синском округе напечатана в «Русской старине» (1889,
май), за подписью М. Маркса, и оканчивается словами:
«Gravis fuit vita, laevis sit ei terra!» («Тяжела была
жизнь его, пусть будет легка ему земля!»)
Пораженные всем, что происходило на наших гла¬
зах, по отъезде Петрашевского, стояли мы еще на сво¬
их местах, закутавшись в шубы, отдававшие против¬
ным запахом. Дело было кончено. Двое или трое из на¬
чальствующих лиц взошли на эшафот и возвестили
нам, по-видимому с участием, о том, что мы не уедем
прямо с площади, но еще прежде отъезда возвратимся
на свои места в крепость и, вероятно, позволят нам
проститься с родными. Тогда мы все перемешались и
стали говорить один с другим...
Впечатление, произведенное на нас всем пережитым
нами в эти часы совершения обряда смертной казни и
затем объявления заменяющих ее различных ссылок,
было столь же разнообразно, как и характеры наши.
Старший Дебу стоял в глубоком унынии и ни с кем не
говорил; Ипполит Дебу, когда я подошел к нему, ска¬
зал: «Лучше бы уж расстреляли!»
Что касается до меня, то я чувствовал себя вполне
удовлетворенным, как тем, что просьба моя о проще¬
254
нии, меня столь после мучившая, не была уважена, так
и тем, что я выпущен наконец из одиночного заключе¬
ния, жалел только, что назначен был в арестантские
роты куда-то неизвестно, а не в далекую Сибирь, куда
интересовало меня дальнее весьма любопытное путеше¬
ствие. Сожаление мое оправдалось впоследствии горь¬
кою действительностью: сосланным в Сибирь, в обще¬
ство государственных преступников, в страну, где уже
привыкли к обращению с ними, было гораздо лучше,
чем попавшим в грубые, невежественные арестантские
роты, в общество воров и убийц и при начальстве, все¬
го боящемся.
Я был все-таки счастлив тем, что тюрьма миновала,
что я сослан в работы и буду жить не один, а в обще¬
стве каких бы то ни было, но людей, загнанных, не¬
счастных, к которым я подходил по моему расположе¬
нию духа.
Другие товарищи на эшафоте выражали тоже свои
взгляды, но ни у кого не было слезы на глазах, кроме
одного из нас, стоявшего последним по виновности, из¬
бавленного от всякого наказания, — я говорю о Паль¬
ме. Он стоял у самой лестницы, смотрел на всех нас,
и слезы, обильные слезы текли из глаз его; прибли¬
жавшимся же к нему, сходившим товарищам он гово¬
рил: «Да хранит вас бог!»
Стали подъезжать кареты, и мы, ошеломленные всем
происшедшим, не прощаясь один с другим, садились и
уезжали по одному. В это время один из нас, стоя у
схода с эшафота в ожидании экипажа, закричал: «По¬
давай карету!» Дождавшись своего экипажа, я сел в
него. Стекла были заперты, конные жандармы с обна¬
женными саблями точно так же окружали наш бы¬
стрый возвратный поезд, в котором недоставало одной
кареты — Михаила Васильевича Петрашевского! '<...>,
[ЧАСТЬ 2]
I
Наш утренний, возвратный поезд, сопровождаемый
вооруженным конвоем, въехал во двор Петропавлов¬
ской крепости. Был уже час десятый дня. Карета, в ко¬
торой я сидел с солдатом, остановилась, и по открытии
дверцы я увидел подъезд знакомой мне тюрьмы. Как
бы встречая нас, стоял у самой дверцы кареты знако¬
мый мне крепостной офицер — тот самый рыжий, все-
255
гда кашлявший, описанный мною в первой части моих
записок, но в этот раз он был не похож на себя: лицо
его было покрасневшее, заплаканное, и слезы текли
из глаз. Увидев его таким, я спросил:
— Вы плачете!.. О чем же это?...
— Об вас, — отвечал он взволнованным голосом, —
что сделали с вами!..
Он, казалось, совсем забыл и крепость, и свои обя¬
занности и едва говорил. Этот человек, казавшийся мне
бесчувственным, произвел на меня неизгладимое впе¬
чатление..
Я вошел в подъезд и был отведен в свою прежнюю
келью и заперт в ней. На мне был мерзейший тулуп.
Сбросив его, я остался в своем платье. Вскоре потом обхо¬
дил нас, в сопровождении дежурного офицера, доктор,
осведомляясь у каждого о здоровье, — забота крепост¬
ного начальства о нашем состоянии после произнесен¬
ного над нами приговора с обрядом смертной казни...
Спрошенный о здоровье, я отвечал, что здоров. Три
или четыре дня прожил я еще в крепости. Через не¬
сколько минут пребывания моего в запертой теплой
комнате я почувствовал удушливый запах грязной от¬
вратительной шубы, пожалованной мне на дорогу. За¬
пах этот был мне невыносим, и при первом же отворе-
нии двери для подачи пищи я просил дежурного офи¬
цера принять от меня куда-либо эту вонючую шубу,
пока она не понадобится для дороги. Но куда ссылают
меня, мне не было еще известно, и я не мог этого узнать
от входивших ко мне по службе офицеров. Какое-то
спокойствие вдруг водворилось в душе, — все исполни¬
лось по моему желанию: главные опасения — быть про¬
шенным или быть снова одиночно-заключенным—сня¬
лись с моих плеч. Во весь этот день мысли мои часто
возвращались к вопросу, увижу ли я прежде отъезда
моих братьев и тетушку. Вечером поздно было хожде¬
ние по коридору в неурочный час, и из нескольких ке¬
лий выводимы были поодиночке заключенные товари¬
щи. Я смотрел в фортку и видел впотьмах подъезжав¬
шие к крыльцу кибитки и затем сейчас же уезжавшие;
их было немного в эту ночь; слышались отчасти и го¬
лоса.
Я лег поздно в постель, и при засыпании два во¬
проса сменялись во мне: куда меня повезут, будет ли
дозволено свиданье с родными?
Я ссылался куда-то, в какие-то арестантские роты,—
следовательно, я выйду из этой проклятой одиночной
256
тюрьмы и буду все же жить с людьми — с арестантами.
По моему образу мыслей, я считал их жертвами наше¬
го общественного строя, не считал их дурными и гово¬
рил себе: я буду не один, но с людьми, может быть,
ничуть не худшими тех, которые окружали меня в ми¬
нувшей моей жизни, даже я чувствовал к ним какое-то
влечение, как к людям страждущим, несчастным, за¬
гнанным судьбою и во многом подходящим к моему
душевному состоянию; я желал их увидеть скорее и
размышлял о моем сближении с ними. Веселая, сме¬
ющаяся компания, по совершившемся со мной, была
уже мне не по душе, тогда как сообщество людей, ду¬
шевно отягченных, привлекало меня. И чем более ду¬
мал я об этом, тем более отдыхал ото всех тягостных
мыслей, столь долго меня отягчавших, и в думах об
этом я заснул спокойно после впечатлений дня...
Утром, проснувшись, я был приятно поражен моим
новым положением: да, вчерашний день внес в жизнь
мою спокойствие и совершенно новые элементы раз¬
мышления. Он разрешил столь долго мучившие меня
грозные вопросы именно так, как я желал, и я чувство¬
вал себя как бы счастливым.
Утром этого дня было необычное хождение в кори¬
доре, и ко мне вошел дежурный офицер и принес мне
распечатанный уже конверт. Там были письма всех
моих братьев, сестры и тетушки, и я с жаром накинул¬
ся читать их. В письмах этих, в словах самых задушев¬
ных, выражалась скорбь за меня и горячее желание и
надежда возвращения моего в прежнюю жизнь. Я чи¬
тал их с особенным чувством любви и дружбы... и пла¬
кал, читая. В особенности растрогала меня как бы пла¬
менная, со слезами обращенная ко мне речь брата Ни¬
колая34, которою он напутствовал меня, утешая, обод¬
ряя и обещая всюду найти меня, куда бы ни завезла
меня курьерская тройка. Письма эти хранились у меня
всю последующую жизнь, и на них была надпись моею
рукою: «Письма, самые дорогие для меня». Они храни¬
лись у первой жены моей. По смерти ее в 1882 году, нахо¬
дясь в особом настроении, при глубоком упадке духа, я
решился сжечь многие дорогие мне письменные воспо¬
минания как никому не нужные, меня же только всегда
волновавшие до слез. И эти письма, вместе с прочими
моими драгоценностями, были похоронены кремацией,
и пепел их хранится в моем сердце как святыня.
Не помню, как провел я этот день, но вечером,
поздно, возобновились вновь хождения по коридору и
Ю Эак. № 528
257
было отправление новой группы ссылаемых товарищей.
Подъезжали вновь к крыльцу санные кибитки, сколь¬
зившие по снегу полозьями, и слышались вновь голоса,
к которым я прислушивался, стоя у открытой фортки.
«Неужели уезжают они, не простившись один с другим,
неужели никто не зайдет ко мне проститься?»
Между голосами у подъезда услышал я и мне хо¬
рошо знакомый голос Ипполита Дебу. Им сказано было
кому-то: «Прощайте». Удивленный, огорченный таким
с его стороны забвением, я закричал ему: «Ипполит!
Ты уезжаешь, не простившись со мною?» Ответа не
было, полозья заскрипели, и кибитки двинулись. Я со¬
шел с окна. Много огорчений и обид перенесено было
мною в минувшие месяцы, но все это было наносимо
мне людьми чужими, которых я до того и не знал во¬
все, а в этот раз я был глубоко оскорблен забвением
моего лучшего, столь любимого мною друга. Да что же
это, разве он с ума сошел?.. Несчастный! Потерял рас¬
судок! Не зайти ко мне, чтобы проститься, может быть,
навсегда!..
Я подошел к двери, стал стучать из всей мочи, что¬
бы осведомиться, кто уехал. Когда поднялась тряпка и
я увидел бессмысленную рожу сторожа, я понял то¬
гда, что вопросы мои о личности уехавшего будут на¬
прасны, и я отошел вновь от двери, не сказав ничего...
Так кончился этот день.
На другой день, утром, мне принесено было платье
и возвещено о дозволении свидания с родными, кото¬
рые уже пришли и ждут меня. Я поспешно оделся и
спешил к ним с горячим чувством увидеть и обнять их.
В том самом белом доме, куда водим я был на допро¬
сы, в одной из комнат, увидел я у стола сидевшими
всех моих братьев (их было четверо), сестру и старуш¬
ку тетушку... и, крепко прижав к груди, обнимал я их!..
Офицер, сопровождавший меня, удалился, оставив
нас, — по крайней мере его присутствие в ближней, ве¬
роятно, комнате не было ощущаемо никем из нас, и мы
говорили не стесняясь. Я жил с ними неразлучно всю
жизнь, и восемь месяцев разлуки с ними, независимо
от тюремного заключения, казались мне бесконечными.
Взаимным расспросам не было конца, и много домаш¬
них новостей узнал я от них, но наконец спохватился
спросить: «Да куда же меня ссылают? Не знают ли
они?» Им это было известно, и я получил ответ:
«В Херсон». Новость эта меня очень обрадовала: к бе¬
регам Черного моря! Это хорошо; я очень интересо¬
258
вался Югом России, никогда еще мною не виданным.
Присутствие при свидании моей сестры Любови Дми¬
триевны, которую я вовсе не надеялся видеть, так как
она жила в Ковно, придало свиданию нашему еще
большую полноту и сердечное довольство. Их лица ка¬
зались мне необыкновенно милыми, драгоценными, и,
вглядываясь в них, я отдыхал взором от чужих, безу¬
частно окружавших меня лиц, но с горестным чувством
о том, что я потеряю их вновь на неизвестное, быть мо¬
жет, весьма долгое время, быть может, навсегда!.. Да,
этот час, проведенный мною с ними (кажется, 24 де¬
кабря 1849 г.), живо сохраняется в памяти моей и со¬
ставляет едва ли не самое драгоценное воспоминание
изо всей моей жизни! Радость такого свидания может
измерить сердцем, почувствовать только тот, кто вы¬
терпел долгую мучительную разлуку с людьми, горячо
любимыми, разлуку, отягчаемую ежеминутно безнадеж¬
ностью свидания!.. Но час этот скоро прошел, и офи¬
цер, провожавший меня, как вестник судьбы, пришел
меня разлучить, может быть навсегда, с людьми мне
милыми. Так пишу я, а между тем это был — я помню
хорошо — тот самый добрый офицер, который плакал
об нас. Казнить смертью он не был бы в состоянии,
хотя бы это было поставлено ему в обязанность служ¬
бы, — в этом я вполне уверен, но прийти и объявить
мне: «Время уже вам пожаловать обратно в тюрьму,
там я вас запру на ключ, да и все тут» — это для него
было ничего не значащим делом, и никто не может его
обвинить в том, что он занимает должность крепост¬
ного офицера, пока существуют, для порядка людских
дел, крепости. Нечего было делать — надо было ухо¬
дить; обняв крепко моих милых друзей, я простился с
ними и, уходя, со слезами на глазах, обернулся еше
раз взглянуть на них и затем, выйдя на двор, еще раз
обернулся посмотреть на окно той комнаты, где оста¬
вил их.
Вечером в этот день мне принесены были дорожные
вещи: чемодан, шуба, теплая шапка, рукавицы и теп¬
лые сапоги. В чемодане было старательно уложено мое
белье и разные нужные для жизни вещицы, чай и са¬
хар для дороги и на первое время по прибытии на ме¬
сто в особом пакете. Вид этих вещей, столь заботливо
приготовленных, погружал меня в глубокую грусть о
разлуке, может быть навсегда, с милыми мне людьми,
и я предавался излияниям моих чувств, говоря заочно
то со всеми вместе, то с каждым в отдельности. Мысли
259
мои были с ними, и я нашел возможным написать им
письмо помимо крепостной цензуры, на полях большой
книги, тем же самым гвоздем, который был еще при
мне. И я сажусь и пишу, тихо беседую с ними и плачу.
Окончив письмо, я стал отбирать немногие книги, ко¬
торые полагал взять с собою, прочие же все сложил
вместе на окно для возвращения их родным и книгу с
оттиском гвоздя положил в середку. Впоследствии уже
узнал я, что это клинообразное письмо мое достигло1
своего назначения и было разобрано и воспроизведено
чернилами на бумаге рукою брата моего Николая. Ру¬
копись эта хранилась у меня с вышеупомянутыми пись¬
мами как дорогое воспоминание и разделила общую
с ними судьбу, о чем я теперь очень горюю. Это были
живые оттиски пережитых в то время излияний взаим¬
ных мыслей и чувств разлучаемых старых друзей.
В этот вечер, поздно, уже к ночи, было вновь хождение
в коридоре, беготня с ключами и отворение дверей ке¬
лий, и выводимы были поодиночке заключенные това¬
рищи. Отправка нас была в ночное время, неторопли¬
вая, небольшими группами, и, надо полагать, отправи¬
тели руководились глубокомысленным соображением —
именно тем, что по одной дороге отправляемые не
должны были встретиться, а потому вывозимы были
сутками раньше или позже. Ночное же время отправки
объясняется скрытностью, вообще негласностыо дей¬
ствий правительства.
Мне не было известно, когда, по их расчету, я дол¬
жен был быть отправлен, между тем вдруг, во время
хождения, остановка у моей кельи: открылась дверь, и
я увидел входящего ко мне Алексея Николаевича Пле¬
щеева. Он был одет в шубу и с шапкою в руке. Его я
знал давно как товарища по университету; встречи с
ним и беседы наши в жизни были недолгие, но много¬
численные, и между нами сохранялись самые искрен¬
ние товарищеские чувства. Его посещение перед отъ¬
ездом с желанием проститься отозвалось в сердце моем
самым дружеским приветствием и сочувствием. Свида¬
ние было минутное, но сердечное, — мы обнялись, и,
когда он ушел и шум шагов его замолк в коридоре, я
заплакал и со слезами провожал его, стоя у фортки.
«Но почему же не зашел ко мне Ипполит Дебу, когда
можно было проститься?!» Это огорчение стало чув¬
ствоваться еще живее после посещения меня Плещее¬
вым.
Впоследствии, уже по истечении многих лет, когда
260
увидал я вновь Ипполита Дебу и сделал ему этот уп¬
рек, он ответил мне: «Ах, друг мой| Да разве мы были
тогда в состоянии вменяемости! Все мы потеряли голо¬
ву, я и с братом моим не простился, — разве ты не по¬
мнишь, в каком состоянии мы были?! Ведь я же тебя
не переставал любить и теперь люблю, как прежде!»
Так разрешаются многие загадки в жизни. Но еще
осталась неразрешенною другая загадка, касающаяся
нашего дела: встретившиеся впоследствии в жизни то¬
варищи, рассказывая о своих странствиях, неохотно ка¬
сались времени заключения в крепости, как бы избегая
этого, ничего не расспрашивали один другого об этом
периоде времени, — как они проживали в одиночных
заключениях и каковы были их отношения к суду. Они,
конечно, были столь же различны, как и характеры
каждого, смотря по впечатлительности, переносчиво-
сти и степени умственной зрелости, возрастающей не
всегда равномерно с годами.
В первое время, пока все были еще не измучены, по
всей вероятности, сохранялась бодрость духа и само¬
обладание, а после, судя по читанной уже на Семенов¬
ском плацу о каждом конфирмации, этого нельзя было
сказать по крайней мере о большей части подсудимых.
Что касается меня, то на моем сердце тяжким упре¬
ком легло, как в последние месяцы пребывания моего
в крепости, так и во все последующее время, отречение
мое от своих убеждений в надежде на помилование
(т. е. избавление от смертной казни), каковое, как я
узнал впоследствии, было заявлено почти всеми в раз¬
личных выражениях, — этим, может быть, объясняется
и неоставление никем из нас каких-либо мемуаров по
нашему делу, несмотря на то что многие могли бы это
исполнить и в более совершенной форме, чем я теперь
стараюсь воспроизвести пережитое мною. Я говорю
«может быть», потому что наверное этого сказать не
могу.
Эти последние дни пребывания моего в крепости
беспрестанно мысли мои вращались в соображениях и
догадках о предстоящей мне жизни в Херсоне, и, все¬
гда сожалея о несостоявшемся путешествии в Си¬
бирь, я утешался мыслью, что местом ссылки назначе¬
на мне не северная, а южная окраина России и город,
примыкающий,— так полагал я,— к Черному морю, ко¬
торое интересовало меня как любителя природы, и
притом мною еще не виданной. О Кавказе, куда я на¬
значен был по миновании срока пребывания в аре¬
261
стантской роте, я почти не помышлял, — так назначен¬
ные четыре года казались мне долгими и неизвестно
как еще переживаемыми.,
н
Наконец настала ночь и моего отправления, и я пе¬
реступил навсегда порог запиравшей меня двери и вы¬
шел из стен душной тюрьмы. Это было, сколько мне
помнится, 27 декабря35. Я сел в стоявшие у крыльца
крытые сани и с сопровождавшим меня крепостным
конвоем подвезен был через крепостную площадь в зна¬
комый мне белый дом. Я введен был не вверх, как
прежде, а в помещение нижнего этажа, в комнату, пол¬
ную людьми. Там было все крепостное начальство с ко¬
мендантом, несколько фельдъегерей, незнакомые мне
лица, казалось, генералы, и несколько статских, тоже
незнакомых мне людей.
За маленьким столом, к которому я был подведен,
сидел чиновник и записывал что-то. Нас сдавали
фельдъегерям; они получали инструкции и запечатан¬
ные конверты. В это время подошел ко мне один из
статских и, приветствуя меня, назвал по фамилии.
Взглянув на него, я увидел лицо, мне знакомое, бывав¬
шее на собраниях Петрашевского, но фамилии его не
мог вспомнить; тогда он сказал мне: «Я Щелков». Этим
именем он мне сказал все, возбудив во мне ряд вос¬
поминаний: это был мой сосед по тюремной келье, в
равелине первого моего помещения, с которым удалось
мне обменяться через окно только несколькими слова¬
ми, — певец, столь привлекавший и развлекавший меня
своими песнями в мрачном уединении нашего общего
помещения, — он был настоящий «певец любви, певец
своей печали»36. Приветствие его отозвалось в моем
сердце самым живым отголоском благодарности и удо¬
вольствием видеть его на свободе.
Мы обменялись несколькими словами сочувствия и
участия и простились с ним сердечно. Он был выпущен
из крепости 23 июля со многими другими, по след¬
ствию оказавшимися невиновными, — как это описано
в первой части моих воспоминаний. С тех пор опустела
келья, в которой на весь коридор раздавались столь
звучные, столь задушевные русские песни, и наступила
совершенная тишина, порою прерываемая только гром¬
кими вздохами и другими наводившими уныние звука¬
ми. Где теперь Щелков и жив ли еще? Встреча с ним
262
теперь была бы для меня несказанно желательна и при¬
ятна. В эти часа я был еще представлен какому-то
генералу, который молча рассматривал меня. Впослед¬
ствии я узнал, что это был Игнатьев — дежурный гене¬
рал Главного штаба, принимавший в судьбе моей уча¬
стие. В этом же помещении я увидел еще одного из от¬
правляемых товарищей, с которым я лично не был зна¬
ком прежде, — это был Дуров.
Без всякого напутствия и участия я был выведен из
этой передаточной станции и сел в кибитку. Фельдъ¬
егерь поместился со мною рядом, и в это время, заме¬
тил я, что что-то тяжелое, железное опущено было к
ногам ямщика. Было темно, и я не мог разглядеть, что
это, но мне показалось, что это были кандалы, как впо¬
следствии я и убедился в этом...
Начались новые и еще не изведанные мною душев¬
ные отягчения. Их так много в жизни, они бесконечно
разнообразны, и нет числа измышленным пыткам, ис¬
тязаниям и злодействам всякого рода, которыми отяг¬
чил свою собственную жизнь человек! <...>
П. А. Кузмин
ИЗ ЗАПИСОК
В ночь на 23 апреля 1849 года, часу в
четвертом, стучатся в дверь комнаты,
в которой я спал, в квартире брата; я
спрашиваю: что надобно? Лакей моего
брата отвечает, что какой-то офицер
желает меня видеть (эту ночь я провел у брата Алек¬
сея *, квартировавшего в гостинице Klee, против дома
Дворянского собрания, мое же местожительство было
вместе с Белецким2 в доме Траншеля, в 11-й линии Ва¬
сильевского острова). Отворяю дверь и вижу жандарм¬
ского офицера, при нем квартального и еще двух жан¬
дармов.
Посещение такой компании в то суровое время было
понятно, хотя случилось со мной в первый раз. «Вот
тебе, бабушка, и Юрьев день», — подумал я, но все-
таки спрашиваю: что угодно этим господам? «Вас при¬
казано арестовать», — отвечает жандармский офицер.
«По чьему приказанию? Покажите бумагу». — «По осо¬
бому повелению». И вместе с тем показывает предпи¬
сание за подписью графа Орлова, бывшего тогда ше¬
фом жандармов.
Нечего делать. Надобно сдаваться как потому, что
сопротивление было бы бесполезно, так и потому, что,
не чувствуя за собою никакой вины и тем более пре¬
ступления, полагал, что достаточно будет личного объ¬
яснения для опровержения какого-нибудь ложного до¬
носа...
Выйдя в залу, вижу, что и брат мой собирается в
дорогу. «А ты куда?» — спрашиваю я. «Да, должно
264
быть, поедем вместе, видишь, забирают запрещенные
книги», — отвечает брат, показывая на представите¬
лей полиции, старательно набивавших чемоданы курса¬
ми астрономии, навигации, кораблестроения и иными
руководствами, потребными моряку (брат служил пре¬
жде во флоте), а также томами свода законов Россий¬
ской империи (незадолго перед этим брат служил уезд¬
ным судьей по выборам дворянства).
Окончив недолгие сборы, уселись мы в извозчичью
карету вместе с офицером и квартальным; жандармы
расположились один на козлах, другой на запятках.
Скоро довезли нас до III отделения, помещавшегося
главным фасадом на Фонтанке и выходившего разны¬
ми дворами и переходами в Пантелеймоновский пере¬
улок.
В коридорах, по которым мы проходили, была боль¬
шая суета и беготня; я не приписывал этого какой-
либо особенности, полагая, что в этом заведении всегда
таково, но чем дальше мы шли, тем было люднее; на¬
конец, кабинет Леонтия Васильевича Дубельта (на¬
чальник штаба корпуса жандармов, он же управляю¬
щий III отделением) и предшествовавшая кабинету
зала были полны народа; были и статские, и военные,
и, кроме того, очень много полицейских. Рассматриваю
публику и вижу, что большинство ее (без сомнения,
кроме полицейских) принадлежит к числу посетителей
вечеров М. В. Буташевича-Петрашевского.
Состав арестованной публики показывал ясно, что
сделан был донос на вечера Петрашевского; я посещал
эти вечера, бывавшие по пятницам, с весны 1848 года,
и по совести можно было сказать, что беседы на этих
вечерах были небезынтересны для каждого из присут¬
ствовавших. Да и могло ли быть иначе, когда тут со¬
бирался народ молодой, образованный, читающий, мыс¬
лящий; впечатления принимались живо, всякая неспра¬
ведливость, злоупотребления, стеснения, самоуправство
глубоко возмущали душу каждого; напротив, всякое
стремление к благу общественному или частному вызы¬
вало сочувствие, в какой бы форме стремление это ни
высказывалось. Цензура, убивавшая в то время всякую
здравую мысль, не только не допускала гласного об¬
суждения печатно предметов общего интереса, но вос¬
прещала даже малейший намек на то, что могло бы
быть лучше, если бы было иначе; а [как] в это именно
время самоуправство всех и каждого из второстепен¬
ных агентов дошло до высшей степени: злоупотребле-
265
ния, лихоимство не имели границ, то нет ничего естест¬
веннее, что везде, где бывали люди разбора, выше оп¬
ределенного, они прямо высказывали свои убеждения,
совершенно противоположные грустному положению
дел; когда же собиралось их по нескольку человек, на¬
пример, по пятницам у Петрашевского, то они, как
люди одинакового направления, свободно разменива¬
лись идеями, новостями, доходившими до каждого в ли¬
тературе, политике, происшествиях, столичных и про¬
винциальных; с каким интересом следили за происше¬
ствиями на Западе! Припомним, что пятое десятилетие
нашего века отличалось направлением к социальным
реформам; такое повсеместное направление высказа¬
лось наконец в февральской революции, объявшей всю
Западную Европу. С такою любознательностью выслу¬
шивались на вечерах у Петрашевского изложения со¬
чинений новейших реформаторов; но как все эти тро¬
гательные описания блаженствующих фаланстеров и
иных ассоциаций были только увлекательные, но не¬
применимые к осуществлению теории, нам же, живу¬
щим в среде мира действительного, необходимо было
знакомиться ближе с тем, что существует на нашей
матушке-Руси, то с общего согласия принято было
предложение разделить вечера наши таким образом,
что до ужина один из присутствующих будет излагать
какой-либо общественный вопрос, в каком виде осуще¬
ствляется он ныне в России; удобства или неудобства,
осязаемые от такого, а не иного положения дела, и, на¬
конец, изыскание, и если возможно, то указание средств
к заменению неудобных порядков удобнейшими; а по¬
сле ужина могло бы продолжаться изложение социаль¬
ных теорий, которое тогда делалось Ник. Як. Данилев¬
ским *. При окончании каждого вечера объявлялось, о
каком предмете, касающемся России, будет говорено в
следующую пятницу и кем именно; кроме того, всегда
находилось время побеседовать о текущих событиях
как в России, так и за границею.
Так велись вечера до отъезда моего в Тамбов в
июне 1848 года для составления военно-статистического
описания губернии; так же продолжались они во время
моего отсутствия, с июня 1848 года по 1 апреля 1849 го¬
да и до самого дня ареста, случившегося, как выше
сказано, 23 апреля.
* Впоследствии тайный советник, знаменитый публицист и уче¬
ный. (Подстрочные примечания сделаны П. А. Кузминым. — Сост.)
266
Я возвратился в С.-Петербург к 1 апреля 1849 года
по предписанию генерал-квартирмейстера Берга, кото¬
рый имел намерение дать мне назначение в штаб гре¬
надерского корпуса. В тот же день (страстная пятни¬
ца), посвященный утром представлениям к началь¬
ству, отправился я вечером к Петрашевскому; из 20
или 30 человек, которых я там нашел, большинство со¬
стояло из старых моих знакомых; но было несколько
новых лиц, между прочими один блондин, небольшого
роста, с довольно большим носом, с глазами светлыми,
не то чтобы косыми, но избегающими встречи, в крас¬
ном жилете. Этот господин, судя по участию, какое
принимал он в разговорах, был не без образования, ли¬
берален во мнениях, но участие его было по преимуще¬
ству вызывающее других к высказыванию. Особенное
внимание его ко мне, потчевание заграничными сига¬
рами и вообще нечто вроде ухаживания заставило меня
спросить в конце вечера Александра Пантелеевича Ба¬
ласогло3 об этом господине; он отвечает, что это италь-
янчик Антонелли *, способный только носить на голове
гипсовые фигурки. «Для чего он здесь бывает?»—спро¬
сил я. «Да вы знаете, что Михаил Васильевич распо¬
ложен принять и обласкать каждого встречного на
улице».
На мой звонок Петрашевский по обыкновению сам
отворил мне дверь; после первых приветствий, расспро¬
сов о пребывании моем в Тамбове Петрашевский гово¬
рит, чго так как на этот вечер никто не вызван гово¬
рить о каком-либо предмете, то он изложит мнение свое
о трех предметах, настоятельно и неотлагательно не¬
обходимых быть введенными для блага общего; пред¬
меты эти: уничтожение крепостного состояния, свобода
книгопечатания и улучшение судопроизводства и судо¬
устройства. Доказывать необходимость разрешения
этих вопросов не было надобности в круге люден, со¬
вершенно проникнутых убеждениями, что крепостное
право, запретительная цензура и закрытое бумажное су¬
допроизводство суть тормозы к развитию; следователь¬
но, речь Петрашевского была направлена к доказанию,
на основании статистических данных, в какой последо¬
вательности было бы необходимо решить эти важные
вопросы. Он доказывал, что надобно было придержи¬
ваться того именно порядка, в каком вопросы эти выше
поименованы: сочувствие к участи миллионов белых
* Ныне давно уже умерший.
237
негров имело влияние к постановлению на первый
план вопроса об уничтожении крепостного права4
(Петрашевский сам был помещик С.-Петербургской гу¬
бернии, Ладожского уезда).
После Петрашевского я говорил о том же предмете
и доказывал, что первее всего необходимо бы было ре¬
шить вопрос об улучшении судопроизводства и судо¬
устройства, потому что от неустройства этой части стра¬
дает все общество и каждый из членов его, за исклю¬
чением небольшого числа привилегированных и денеж¬
ных лиц, выигрывающих насчет тех, которые именно и
заслуживают большого сочувствия, и как предмет этот
не может быть решен иначе, как учреждением публич¬
ного и гласного судопроизводства, с необходимым раз¬
бором хода дел в газетах и журналах, то это самое,
естественным образом, парализуя строгость цензуры,
последовательно ведет к свободе книгопечатания; затем
уже общество, подготовленное двумя предыдущими ме¬
рами, легко перейдет к уничтожению крепостного
права *.
В следующую пятницу (8 апреля 1849 г.) я приехал
к Петрашевскому с братом Алексеем; гостей было не¬
много, вероятно, по случаю святой недели. Хотя в на¬
стоящее время (1874 г.), спустя слишком 25 лет, и не
припомню, что именно было предметом беседы, но, как
высказано уже мною в начале описания этих вечеров,
беседа была оживлена интересом современности и была
проникнута гуманностью мнений.
Я уже упомянул, что Берг выписал меня из Там¬
бова в Петербург, намереваясь назначить на службу в
гренадерский корпус; вскоре я должен был отправить¬
ся в Новгород; я хотел проститься с добрыми моими
знакомыми и для того решился пригласить кое-кого к
себе на вечер и выбрал для того 16 апреля — день,
празднуемый в нашем семействе.
15 апреля я поехал к Петрашевскому. Так как это
была пятница, то он наверное был дома, и, кроме удо¬
вольствия, в котором я был уверен, я хотел пригласить
к себе Петрашевского и некоторых других, с которыми
был ближе знаком, на вечер к себе, на 16 апреля. Го¬
стей у Петрашевского было довольно много.
* В настоящее время (в 1874 году), спустя тринадцать лет
по освобождении крестьян и десять лет по издании новых судебных
уставов, мы еще далеки до отмены цензуры, и главное управление
по делам печати проявляет иногда суровость, достойную времен
давно минувших.
268
Здесь необходимо сказать еще несколько слов об
Антонелли, о котором я упоминал при рассказе о ве¬
чере 1 апреля.
Тогда, как я сказал, на меня неприятно подейство¬
вало его как будто ухаживанье за мной; впоследствии
я заметил, что он вообще очень предупредителен: на¬
пример, Феликсу Толлю *, который с трудом выбрался
в Петербург из старших учителей Оренбургской (ка¬
жется) гимназии, обещал доставить приватные уроки,
сблизился с ним до того, что они заняли вместе chambre
garnie** в доме Штрауха на Гороховой.
Вскоре по моем приезде Петрашевский уводит меня
в другую комнату и показывает записку, которую пе¬
редал ему Антонелли от Толля. В записке Толль изви¬
няется, что он по причине головной боли не может
быть в этот день на вечере; далее, что он переехал в
дом Штрауха, где квартирует вместе с Антонелли, при¬
глашает на другой день, т. е. на 16 апреля, к себе на
новоселье, просит пригласить меня и еще некоторых,
уверяя, что кроме наших никого не будет. Нам обоим,
Петрашевскому и мне, показалась очень странна вся
эта записка, начиная с извинения, что Толль не мог
быть на вечере по случаю головной боли, до выраже¬
ния кроме наших; какая надобность в извинениях, ко¬
гда вечера по пятницам не были ни для кого обяза¬
тельны, а отсутствие Толля не было ни для кого ве¬
сьма чувствительно, потому что он был по преимуще¬
ству молчалив; выражение же наших было даже не¬
уместно, намекая как будто на членов какого-то орга¬
низованного общества, чего решительно не было и в
помине...
Петрашевскому не хотелось быть на другой день у
Толля, и как он не дал еще Антонелли обещания, то я
и говорю, что прошу его к себе на вечер, он соглашает¬
ся; мы входим в общую комнату, и Антонелли, под¬
тверждая приглашение своего сожителя, получает от
Петрашевского ответ, что он дал уже мне слово быть
на другой день у меня; тогда Антонелли обращается ко
мне тоже с приглашением. Я отвечаю, что не могу
быть, потому что у меня будут гости.
— Так нельзя ли и с гостями вашими, — говорит
Антонелли.
* Впоследствии известный писатель-педагог, ныне давно по¬
койный.
** меблированную квартиру (франц.).
269
Мне показался так странен такой способ составлять
вечера, что взглянул вопросительно на Антонелли и, не
встретив его взора, говорю, что не полагаю удобным
предложить моим гостям подобное предложение.
— Так нельзя ли вам отложить свой вечер?
— Я не могу отложить своего вечера как потому,
что у меня приглашены уже гости, а также и потому,
что я живу на Васильевском острове, и ежели чрез не¬
сколько дней разведут мосты, то я не в состоянии буду
проститься перед моим отъездом с добрыми знако¬
мыми.
— Отчего же вам не отложить своего вечера? Вы
можете предупредить приглашенных вами; вероятно,
все ваши гости теперь здесь.
— Кроме моих гостей будут гости моих товарищей
по квартире, потому что я живу не один; а из находя¬
щихся здесь будут весьма немногие.
— Кто же будет у вас из здешних?
— Будут Михаил Васильевич, Валасогл'о, Момбел¬
ли, и ежели вы сделаете мне честь посещением и пере¬
дадите мое приглашение Толлю.
— Кто будет еще у вас?
— Будет мой брат, которого вы здесь как-то видели.
— А из гостей ваших товарищей?
— Будет один господин, хотя и светский, но служа¬
щий в духовном ведомстве, человек не без влияния на
своем месте.
— Ах, это верно такой-то (причем назвал какую-то
немецкую фамилию)—адъютант графа Протасова (то¬
гда обер-прокурор Синода).
— Нет, это статский, некто Шрамченко, секретарь
здешней консистории; еще бывши ребенком, он мечтал
занимать подобное место и теперь занимает его, как я
говорю, с успехом.
На этом разговор наш кончился. Потом читано было
вслух письмо Белинского к Гоголю, написанное по по¬
воду преисполненной ханжества «Переписки с друзья¬
ми», — письмо, известное теперь всему читающему
люду, но тогда ходившее в рукописи. Не припомню, в
этот ли вечер или на другой день бывший у меня Анто¬
нелли просил к себе на воскресенье, т. е. 17 апреля ве¬
чером. Ассамблея, состоявшаяся 16 апреля у меня,
была довольно многолюдна: Антонелли и Толль яви¬
лись оба; особенно выдающейся темы разговора не при¬
помню, да, кажется, и не было, но общее направление
было, без сомнения, не ретроградное. Потолковали, за-
270
кусили и разошлись. Считаю необходимым прибавить,
что, так как комнаты были небольшие (числом четы¬
ре), собравшихся довольно много и многие, даже боль¬
шинство, встретились здесь в первый раз, то естествен¬
но, что разговор не мог быть общим, а был веден в не¬
больших кружках во всех комнатах. Утром на другой
день пошел лед, а потому были разведены мосты на
Неве (Николаевский мост5 не был еще открыт). Дав¬
ши слово Толлю и Антонелли быть у них, я, для очи¬
щения совести, бродил часа два по набережной Невы,
ожидая, не будут ли перевозить на ту сторону, но пере¬
воза ие было. Чрез день после того, когда сообщение
через Неву было установлено, я встретил, кажется, на
Гороховой Антонелли и высказал ему причину, воспре¬
пятствовавшую мне быть у него в прошлое воскресенье.
Антонелли выразил нечто более сожаления, что по при¬
чине перенесения его пира с субботы на воскресенье и
случившегося затем разведения мостов не были у него
на вечере все живущие за Невою и что вследствие того
вечер его не только расстроился, но совсем не удался.
После того, чуть ли не на другой день, я встретил
Петрашевского, и он сообщил мне, что вечер у Толля
с Антонелли был какой-то странный, было несколько
совершенно новых лиц, возбуждались беседы о пред¬
метах в направлениях весьма радикальных и т. п.
Слышать это от Петрашевского было для меня тем бо¬
лее удивительно, что сам он никак не принадлежал к
числу людей весьма сдержанных и осторожных в бе¬
седе, значит, должно быть, речи были весьма демагоги¬
ческого6 направления. В этот день, в среду, мы обе¬
дали вместе на углу Гороховой и Большой Морской
в table d’hotes* (против дома Штрауха), куда пришел
обедать и Антонелли; послеобеденный чай мы пили у
Антонелли и пошли вдвоем с Петрашевским по Горо¬
ховой по направлению к Семеновскому мосту; тут мы
должны были расстаться. Петрашевскому надобно было
идти, кажется, к Дурову или к кому-то другому, жи¬
вущему у Владимирской; мы постояли несколько вре¬
мени, он пожалел, что я не бываю там, куда он шел,
чтобы мы могли провести вечер вместе. Это было наше
последнее свидание. Я пошел к ДЦабише^вым.
Необходимо сделать небольшое отступление, чтобы
рассказать, что это за Ш[абише]вы, когда и как я по¬
знакомился с ними.
• ресто-ранс (франц.).
271
II
Приехав в 1845 году в Петербург, чтобы вновь по-
ступить на службу в военную академию Генерального
штаба, не припомню, где именно встретился с Алек¬
сандром Павловичем Н[икити]ным, в то время подпо¬
ручиком лейб-гвардии Московского полка, которого я
оставил при выходе моем из Павловского кадетского
корпуса, в начале 1838 года, маленьким кадетиком. Са¬
мое производство его в офицеры гвардии доказывает,
что в корпусе он учился хорошо, и действительно, был
он мальчик способный. Когда я поступил в военную
академию, то от времени до времени я встречался с
Н[икити]ным, который очень усердно звал меня посе¬
щать вечера, составлявшиеся у него и у однополчан
его Кармалина (ныне ген[ерала] от инфан[терии]) 7 с
Момбелли; но занятия по академии поглощали все мое
время, и я положительно отказывался, кажется, до на¬
чала 1847 года, когда приехал однажды на вечер к
Н[икити]ну, где встретил в числе прочих гостей одного
статского с бородой. Ношение бороды в те времена
преследовалось едва ли не строже, чем при Петре I,
хотя по поводам диаметрально противоположным, а
потому человек, владеющий свободно французским язы¬
ком, принадлежащий к классу людей образованных и
носящий (да еще в Питере) окладистую бороду, обра¬
щал невольно на себя внимание и вызывал сочувствие,
как выразитель протеста против регламентирования
того, какие классы населения (не состоящие даже ни¬
где на службе) имеют право носить усы, бороду, а ка¬
кие не имеют этого права. -Н[икити]н знакомит меня с
этим бородачом — Николаем Николаевичем Ш[абише]-
вым, отставным инженером путей сообщения, — членом
довольно большой семьи. Ш[абише]вы жили в собствен¬
ном доме на углу Большой Садовой и Вознесенского
проспекта. Хотя Н[икити]н и новый мой знакомый очень
уговаривали меня познакомиться в семействе ПЦабише]-
вых, но ранее масленицы 1847 года мне не удалось сде¬
лать туда визит. Первое впечатление, испытанное мною,
было не из лучших. В верхнем этаже, в низеньких тес¬
ных комнатах, содержимых весьма грязно, нашел я се¬
мейство, состоящее из матери — Екатерины Никитич¬
ны, женщины лет за пятьдесят, с простыми, радуш¬
ными приемами, — высказавшей, что она много наслы¬
шана обо мне от Александра Павловича Н[икити]на,
которого она любит, как сына, зная его с малых лет; об
272
одном из ее сыновей, Николае Николаевиче, я упоми¬
нал; другой из состоявших в наличности — Арсений,
бывший офицер лейб-гренадерского полка, но в то вре¬
мя в отставке, потому что против желания матери же¬
нился па Любови Дмитриевне Добржанской, красавице
собой, но бедной, и мать вследствие того прекратила
субсидии (прибавлю, между прочим, что у Ш[абише]-
вых кроме 3-этажного дома было еще семьсот душ в
Калужской губернии, село Трубецкое на р. Оке); на¬
ружность Арсения была некрасива и простовата; не
припомню, ожидал ли он в то время или уже поступил
рисовальщиком при комиссии для разбора расколь¬
ничьих дел, состоявшей под председательством Ивана
Петровича Липранди; третий наличный мужской эк¬
земпляр, Егорушка, красивее других двух братьев, но
очень недалекий; наконец, сестра Надина, младшая в се¬
мье, девочка лет 16—17, со свеженьким личиком, очень
маленького роста. Н[икити]н был там действительно как
свой. Бывши кадетом, он ходил в отпуск к Ш[абише]-
вым, офицером также, только не квартировал у них;
любя поигрывать в картишки, не имея никаких средств,
кроме жалованья, Н[икити]н частенько бывал без денег,
а любил иметь обстановку порядочную, и без сомне¬
ния, безденежье, когда оно случалось, выражалось на
лице юноши; старуха, подметив это, тотчас начинала за
ним ухаживать: «Да что с вами, Александр Павлович?
Здоров ли? Не неприятности ли какие по службе?» —
и так далее. Выпытавши якобы невольное признание,
что денег нет, а предстоит уплата, старуха начинает
пенять, что, кажется, она имеет право на его откровен¬
ность и оченно огорчена, что он скрытничает; тотчас
предлагает деньги и, гак сказать, навязывает их Н[ики-
ти]ну без всяких расписок и обязательств. Из семей¬
ства этого я сблизился с Николаем (бородачом), это
был человек неглупый, образованный, прекрасно играл
на фортепьяно, французским языком владел совершен¬
но свободно, но имел наклонность к чарочке и нередко
напивался в одиночку.
Для большего уяснения моих отношений к семей¬
ству Ш[абише]вых вообще и к Николаю Николаевичу в
особенности я должен сказать, что, по просьбе его ма¬
тери и согласно желанию Николая, я два раза хлопо¬
тал о принятии его на службу, и оба раза было обеща¬
но это сделать, но оба раза Ш[абише]в сам отклонялся
от поступления (особенные хлопоты были необходимы,
потому что в его указе об отставке было сказано: не
273
аттестован к производству за нерадение). Кроме того,
отправляясь в 1848 году в Тамбов, я на собственный
счет завез его к ним в деревню, что было мне вовсе не
но пути. Семейство Ш[абише]вых жило (в описываемое
время, весна 1849 года) не в своем доме, а на Фонтан¬
ке, в доме Степанова, близ Измайловского моста; но
Николай Николаевич занимал премилою свою комнату
(особняк, выходящий во двор) в доме Ш[абише]вых.
С ним я виделся весьма часто и в семействе его, в на¬
значенные у них дни, кажется по средам, бывал непре¬
менно и, кроме того, обедал иногда как короткий зна¬
комый.
После этого необходимого перерыва возвращаюсь к
моему рассказу.
Придя к Ш[абише]вым, нахожу всех членов семей¬
ства в сборе. Не видев Николая Николаевича с пред¬
шествовавшей субботы, я, подойдя к нему, говорю, что
накануне, проезжая мимо его квартиры, видел стояв¬
шего у его подъезда лихача, но, торопясь по делу, имен¬
но посмотреть дрожки, которые хотел приобрести, в
ожидании привода купленных в Тамбове лошадей, я
тогда не остановился, на обратном же пути лихача
уже не было у подъезда, и, зайдя наверх, узнал от ла¬
кея, что был у него Арсений Николаевич и они вместе
уехали на том именно лихаче, что пред тем стоял у
подъезда. Оба Ш[абише]вы, Николай и Арсений, рас¬
сказывают мне, что они заезжали ко мне и к брату
моему Алексею с тем, чтобы звать нас ужинать у Клее.
Я, зная, что они оба всегда почти были без денег, не¬
вольно спросил;
— С чего это, господа, вам вздумалось вчера ку¬
тить?
Николай говорит:
— Да это Арсений получил вчера деньги и хотел
непременно угостить вас и Алексея Алексеевича.
— Верно, много получили, — говорю я, — из каких
же благодетельных источников, смею спросить?
— Какое—много, всего двадцать пять рублей вы¬
дал ему Липранди не в счет жалованья.
— Что же это вздумалось вам разыскивать меня с
братом?
— Приезжает ко мне Арсений такой озабоченный и
говорит: «Я на извозчике, поедем к Павлу Алексеевичу
Кузмину». Так как я всегда рад вас видеть, то тотчас
собрался и поехал к вам на остров и спрашиваю Арсе¬
ния дорогой, с чего это он катается на лихачах? Он
274
мне говорит: «Молчи, я только за тобой заезжал, а
мне, главное, надобно Павла Алексеевича и Алексея
Алексеевича Кузминых, хочу их угостить. Я двадцать
пять рублей получил». Остальное вы знаете, мы сказа¬
ли и у вас, и у Алексея Алексеевича, что ждем вас ужи¬
нать у Клее, ждали до второго часа, поужинали вдвоем
и уехали.
Тогда, в простоте сердечной, я и не подозревал ло¬
вушки, подстраиваемой мне Ш[абише]выми по прика¬
занию Ивана Петровича Липранди. Да по правде ска¬
зать, я тогда и не предполагал в Липранди лица, из¬
мыслившего все дело Петрашевского, я и не подозре¬
вал, что гроза готова разразиться и что главным за¬
правляющим доносом на Петрашевского и К° был Лип¬
ранди *. Но впоследствии для меня выяснилась та роль,
которую Ш[абише]вы брали на себя и которую не уда¬
лось им привести в исполнение по причинам, от них не
зависевшим (не застали дома ни меня, ни брата).
На другой день, в четверг, я, встретясь с Николаем
Ш[абише]вым, зашел с ним вместе к брату Алексею; тут
обедали, ужинали, да и ночевали. В пятницу, 22 апре¬
ля 1849 года, тоже не выходя из квартиры, пообедали,
поужинали, а ночевать остался я с... Прочие, т. е. Ш[а-
бише]в и Ф. П. Майст, отправились по домам.
В эту же ночь, с 22 на 23 апреля 1849 года, произ¬
ведены аресты.
Ill
В начале моих воспоминаний рассказано, как я был
арестован в квартире брата... Для арестования соб¬
ственно меня был послан на мою квартиру полковник
Брянчанинов, и так как он не нашел меня дома, то
оставался в моей квартире, пока не получил уведомле¬
ния, что я уже забран; тогда только поехал он в жан¬
дармское управление, прихватив все мои книги, бумаги
и собранные мною материалы для составления марш¬
рутной карты и статистического описания Тамбовской
губернии.
Рассказав процесс арестования, прибытия нашего в
III отделение и некоторые из обстоятельств, предше¬
ствовавших тому, перехожу к тому, что последовало за¬
тем. Меня приказано было отвести в зеркальную ком¬
* См.: Записки по делу Петрашевского. — Ив. Петров. Лип¬
ранди, в «Русской старине», изд. 1872 г., т, VI.
275
нату; идучи туда в сопровождении, как помнится, жан¬
дармского штаб-офицера, молодой и проворный жан¬
дармский унтер-офицер на ходу ощупал мои карманы
(нет ли оружия), и сделал это так быстро и ловко, что
я, удивленный, успел только выговорить: «Что это?»—
как унтер-офицер исчез, а штаб-офицер говорит мне:
«У нас такой порядок».
«Зеркальная» — это была у Дубельта небольшая
проходная комната в два окна, с паркетным полом, й
в этой комнате, кроме простеночного зеркала, были
вставлены зеркала в переплеты на манер оконных две¬
рей, была кровать и прочая мебель. Наслышавшись
разных неосновательных рассказов про эту комнату,
ходил я все время около стен, боясь вступать на сред¬
ние квадраты паркета... Из прочих товарищей моих по
аресту некоторые, считавшиеся важнейшими, были рас¬
сажены поодиночке; остальные гуртом были в одной
или в двух залах, и при поверке арестованных в спи¬
ске чиновника, делавшего перекличку, против подчерк¬
нутой фамилии (покойного) Антонелли было написано
«агент».
В мою комнату заходил Дубельт и выразил не то
удивление, не то сожаление, что я арестован; потом за¬
ходил сам Орлов и на просьбу мою скорее допросить
меня, чтоб разъяснить недоразумения, вследствие ко¬
торых я арестован, Орлов сказал, что я арестован по
особому повелению и что допрос будет сделан в свое
время.
Стены и подоконники были покрыты нацарапанны¬
ми надписями на разных языках, преимущественно на
русском и французском; было бы небезынтересно со¬
брать эти выражения впечатлений... Когда я увидел из
окон моей комнаты несколько фур с книгами и бума¬
гами, привезенных во двор, то подумал, что, чего доб¬
рого, придется подождать не один день, пока разберут
весь этот материал; я никак не воображал, чтобы дело
это могло затянуться на несколько месяцев, но в тот же
день пришлось убедиться, что дело принято всерьез...
Вечером я прилег отдохнуть не раздеваясь. Часу в
12-м меня разбудили и повели в кабинет Дубельта;
этот серый кот, посмотрев на меня и в разные бумаги,
извинился, что меня обеспокоили, и меня опять отвели
в зеркальную комнату. Я снова заснул и спал слад¬
чайшим сном часов до трех за полночь, когда опять
разбудили и привели к Дубельту. На этот раз не ошиб¬
лись: в одно время со мной подведен был к письмен¬
276
ному столу Кайданов8, нам обоим предложено отпра¬
виться с каким-то жандармским штаб-офицером, кото¬
рый вывел нас во двор; мы сели в четвероместную ка¬
рету, куда поместились жандармские штаб-офицер и
унтер-офицер, и на козлы сел еще один рядовой. Про¬
ходя из кабинета Дубельта, я видел некоторых знако¬
мых, ожидавших очереди к отправлению. Карета по¬
ехала чрез Исаакиевский мост (до открытия Никола¬
евского моста нынешний Дворцовый мост был наведен
ниже и назывался Исаакиевским) и далее по Кадет¬
ской линии Васильевского острова; я говорю Кайда-
нову:
— Вы, кажется, живете на Васильевском острове,
как и я, то за сделанное нам беспокойство нас, без со¬
мнения, развозят по домам на жандармский счет?
Жандармский штаб-офицер ухмыльнулся и перегля¬
нулся с другим, сидевшим в карете. Нас повезли через
Тучков мост в Петропавловскую крепость. Карета
остановилась у каменного двухэтажного флигеля, стоя¬
щего влево от дороги, ведущей от собора к Монетному
двору. В верхнем этаже нас принял комендант Иван
Александрович Набоков, спросил фамилии и поручил
плац-майору, полковнику Лесникову, отвести нас. Как
раз напротив этого флигеля, через площадку, тянулось
длинное, каменное, красное двухэтажное здание, име¬
нуемое «Никольская куртина»; туда-то нас и повели,
где возле караульной платформы была входная дверь
и лестница во второй этаж. Лесников передал нас ка¬
кому-то инвалидному солдатику или унтер-офицеру, со¬
стоявшему, вероятно, в должности каптенармуса этого
отделения. Отворили № 4, мы вошли, и Кайданову
предложили переодеться. Каземат № 4 состоял из
большой комнаты в два окна, проделанные в стене по¬
чти саженной толщины; амбразуры окон в средине сво¬
ей глубины имели железные решетки из дюймовых бру¬
сков и двойные рамы с мелким переплетом, замазан¬
ным грязно-белою краскою до половины верхних кле¬
ток, остальная часть была матовая от нечистоты; вод¬
ной из верхних клеток одного окна сделана форточка.
Посредине комнаты деревянная кровать, стол и табу¬
рет, в углу деревянный ящик. Толстая дверь, отворяю¬
щаяся внутрь нумера, покрыта листовым железом,
окаймлена и перекрещена по диагоналям железом; в
средине двери небольшое четырехугольное окошечко со
стеклом, завешенным со стороны коридора грязною
тряпкою. С Кайданова сняли все собственное платье и
277
белье и надели арестантское. Тяжело было мне видеть
это в ожидании того же для себя. Когда переодеванье
кончилось, я простился с Кайдановым и, выйдя в ко¬
ридор, дождался, пока инвалид запирал дверь на два
замка: внутренний и висячий; замечу, что со стороны
коридора дверь была скреплена двумя толстыми по¬
перечными железными полосами, вместо шпонок, кон¬
цы которых завертывались кольцеобразно и с одного
края надевались как дверные петли на крючья, вде¬
ланные в стену, а с другого края подходили к массив¬
ным пробоям, вделанным в стену для висячих замков.
Затем я спрашиваю:
— Куда же мне идти?
— Пожалуйте налево, ваше благородие.
Пройдя коридор, инвалид, указывая опять налево,
говорит:
— Теперь сюда, вниз.
Спустившись с указанной лестницы, вхожу в отво¬
ренную передо мною дверь и вижу себя опять на плат¬
форме, через которую входил в Никольскую куртину;
оглядываюсь, чтобы спросить у инвалида, куда мне
дальше идти, полагая, что меня, вероятно, посадят в
другую постройку, но инвалида нет... Ночь была доволь¬
но теплая для апреля, звезды бледнели перед прибли¬
жением утра. Догадавшись, что инвалид, не признав
мок физиономию подлежащею арестованию, указал
мне выход, я, не желая подводить бедного инвалида
под шпицрутены, а также уверенный, что все эти аре¬
сты и перевозки в крепость есть не что иное, как недо¬
разумение, которое должно вскоре разъясниться пого¬
ловным освобождением всех забранных, и сообразив
также, что всякое покушение к побегу было бы не толь¬
ко самообвинением, но и обвинением других невинных
в чем-то, должно быть, очень важном и политическом,
по чего я даже и не мог подозревать за отсутствием
исяких к тому условий, а потому я, вернувшись в ту же
дверь и поднявшись на лестницу, сказал инвалиду:
«Отведи, брат, и мне нумерок». Не знаю, сознавал ли
вполне бедный солдатик, какой ужасной участи под¬
вергся бы он, если бы я воспользовался его оплошно¬
стью и скрылся, но благодарность выразилась на его
лице, и он отвел мне № 5 рядом с Кайдановым, пола¬
гая, вероятно, сделать этим мне особое удовольствие,
а может быть и без всякой мысли, ни передней, ни
задней, а так, по какому-нибудь порядку, определенно¬
му начальством.
278
Теперь (1874 г.), спустя двадцать пять лет, мороз
подирает по коже, вспоминая впечатление, испытанное
мною при переодеванье в арестантское платье. Так как
надобно было сменить не только платье, но и белье, то
опишу все по порядку: рубашка из толстого холста,
чуть ли не подкладочного или торбочного; вместо ниж¬
него белья широкие мешки холщовые же, или, точнее
сказать, состоящие из нескольких слоев заплат; мешки
эти заменяли чулки, но так как они были весьма ши¬
роки и подвязок не было, то надобно было скручивать
край и затыкать, чтоб мешки не сваливались; подштан¬
ников не полагалось... Обувь довершалась войлочными
туфлями без задников — туфли старые и огромных раз¬
меров. Халат — из толстого солдатского шинельного
сукна, совершенно старый, пожелтевший, с засохшими
на нем пятнами. Размер комнаты и меблировка — та¬
кие же, как в комнате Кайданова; на кровати соломен¬
ный матрац и подушка из торбочного холста, без про¬
стыни и наволочки, покрыты одеялом такого же мате¬
риала, как халат, и такой же чистоты. По отобрании
собственного платья сторож поставил деревянную
кружку с водой на нижнюю доску стола, а на самый
стол — черепок с фонарным маслом и опущенным в
него бумажным фитилем, зажженный конец которого
прислонен к краю черепка, и лучинку для поправки
фитиля, когда он будет нагорать. Сторож вышел, за¬
пер дверь на два замка, и я остался один в каземате,
облаченный в арестантское платье, подвергаясь таким
образом наказанию не только моральному, но и физи¬
ческому.
Усталость взяла свое, и я заснул крепчайшим сном;
долго ли спал я — не знаю, но стук в стекло двери раз¬
будил меня; фитиль ночника нагорел, и сторож, добу¬
дившись меня, говорит: «Поправьте ночник». Сознавая
необходимость сна для того, чтобы не быть усталым
при предстоящих допросах, я выбранил разбудившего
меня и повернулся на другой бок, решившись не отве¬
чать при возобновлении стука в дверь.
В шесть часов отворилась дверь каземата, вошел
плац-адъютант и с ним сторожа; один метлою помел
в комнате, другой принес чайник с чаем, каменную
кружку и булку, и, кажется, этот же переменил воду в
деревянной кружке, не выполаскивая кружки, выплес¬
нув в ушат воду, а третий, вынув из деревянного ящи¬
ка, стоявшего в углу, металлическую посудину в фор¬
ме усеченного конуса, вылил содержимое в ушат, вста¬
279
вил посудину, не ополоснув ее, на прежнее место.
Плац-адъютант спросил, не желаю ли я на деньги,
отобранные у меня (рублей триста), иметь чай, булки или
курительные припасы и какие именно? Я изъявил на все
это согласие и вместе с тем просил на мой же счет достав¬
лять эти предметы и брату моему, у которого, может
быть, не случилось с собой денег при арестовании его, и
вообще я желал бы, чтобы мои деньги пошли в общую
складчину,так как, вероятно, у некоторых из арестован¬
ных наличные средства оказались настолько умеренными,
что им пришлось бы быть без чаю и без курева. Я про¬
бовал также позондировать плац-адъютанта насчет
других арестованных и вообще побеседовать о настоя¬
щем деле — не знает ли он чего-либо? Но тот в самой
вежливой форме высказал, что они не имеют права
вступать в какие-либо беседы с арестованными, кроме
касающегося службы. Часов в десять комендант обо¬
шел арестованных. В двенадцать часов разносили обед,
состоявший из мутного супа, ломтя черного хлеба и на
второе кушанье вываренной в супе говядины, искро¬
шенной (так как вилок арестантам не полагается) и
приправленной густоватым соусом со специями, веро¬
ятно для того, чтобы отбить запах в случае несвеже¬
сти мяса. В шесть часов вечера разносили чай и ужин,
состоявший из одного только супа. Все эти кормления
происходили в сопровождении плац-адъютанта и повто¬
рялись ежедневно в те же часы. При первом посеще¬
нии (т. е. при разноске утреннего чая) плац-адъютанта
отобраны все металлические и ценные вещи: часы,
кольца и даже очки.
Не помню, на который день, но вскоре после аре¬
стования начались заседания секретной следственной
комиссии, высочайше учрежденной для разъяснения
этого дела. Заседания происходили в верхнем этаже
того самого двухэтажного дома, в котором первона¬
чально принимал нас комендант по привозе в крепость;
следовательно, против окон моего каземата и при хо¬
рошем зрении я мог узнавать в лицо тех из приводи¬
мых к допросу, с которыми я был знаком.
Комиссия, под председательством коменданта гене¬
рал-адъютанта Набокова, состояла из князя Павла
Павловича Гагарина, Ростовцева, Дубельта и князя
Долгорукова (Василия Андреевича), бывшего тогда то¬
варищем военного министра; делопроизводителем был
статский советник Шмаков из аудиториатского депар¬
тамента.
280
Процедура вождения к допросу состояла в том, что
плац-адъютант, придя в коридор, командовал: «Номер
такой-то!» По этой команде сторож, заведовавший цейх¬
гаузом, брал из цейхгауза платье арестанта названного
номера и нес в соответствующий каземат, арестант на¬
девал свое платье и шел вместе с плац-адъютантом в
помещение комиссии; но принимаемы были меры, что¬
бы арестанты не встречались, так что ежели допраши¬
вавшийся до сего не был еще уведен, когда приводили
следующего, то сего последнего вводили в те комнаты
верхнего этажа, которые были налево от верхней пло¬
щадки лестницы, так как заседания комиссии были в
комнатах направо от площадки.
Чтобы покончить с рассказом об обстоятельствах,
предшествовавших допросу, я должен упомянуть еще о
том, что брат мой Алексей, в квартире которого я был
арестован и который и сам не миновал ареста, был по¬
сажен в Алексеевский равелин вместе с теми, которых
считали главнейшими виновниками. Брат мой навлек
против себя подозрение в большей неблагонадежности,
нежели я, вероятно, потому, что он был в отставке, а в
те времена (1849 г.) каждый неслужащий предпола¬
гался более свободомыслящим, нежели служащий, осо¬
бенно в военной службе (впрочем, Генеральный штаб
составлял в этом отношении исключение из общего пра¬
вила, вследствие того, что некоторые офицеры этого
рода службы, бывшие воспитанники Муравьевской
школы, попали в число декабристов). Сравнивая мое
помещение с помещением в Алексеевском равелине (по
рассказам брата), оказывается, что содержавшихся в
равелине выпускали поодиночке гулять, — нас же про¬
ветривали только при вождении к допросу; первых во¬
дили в баню чуть ли не каждую неделю, — нас же не
водили ни разу во все время заключения, так что все
тело покрылось черно-грязной корой вроде шелухи.
Чтобы впоследствии не прерывать повествования о хо¬
де допроса, расскажу о порядке содержания нас в
1849 году в Никольской куртине. Первое время не да¬
вали ничего читать; времени, следовательно, было в
избытке, чтобы проникнуться всем нерасположением
к тогдашнему порядку вещей (в тюрьме)... Весьма
естественно, я стал думать, какой предпринять образ
действий в случае допроса. Я лично остановился на
том, что так как не чувствую за собой никакой про¬
винности, и вместе с тем соображая, что жандармское
управление 1840-х годов, ставившее себя непогреши¬
281
мым, так как не допускало никакого обсуждения своих
действий, вряд ли выпустит на волю тех, которые раз
захвачены, а потому следует, не стесняясь, воспользо¬
ваться случаем высказать свои взгляды, отнюдь не пу¬
тая других. Хотя такой образ действий не обещал ни¬
какой практической пользы, но, так сказать, отводил
душу. Не помню, сколько времени спустя после ареста,
дали для чтения Евангелие, потом том IX «Истории го¬
сударства Российского» Карамзина, где был изложен
мрачный период царствования Иоанна Грозного... По¬
сле этих двух книг давали читать журналы без всякого
порядка нумеров, и то слава богу, и тогда самая тол¬
стая книжка журнала прочитывалась в один день. То¬
гда я на опыте узнал, что для человека здорового, но
не имеющего моциона, невозможно спать более семи
часов в сутки, — затем оставалось семнадцать часов не¬
вольного (вернее противожеланного) бодрствования и
сознания беспомощности.
Иногда, желая выгадать несколько времени от ча¬
сов бодрствования, вздремнешь днем, полагая, что но¬
чью проспишь само по себе; не тут-то было, сколько
времени проспишь днем, ровно столько же недоспишь
ночью, а это ночное бдение еще хуже дневного, так как
при ночнике читать невозможно. А как это было досад¬
но: для арестанта сон — это величайшее благодеяние;
в течение почти полугодового заключения я только два
раза видел во сне, что я в крепости: один раз в нача¬
ле моего там пребывания, а другой — незадолго до мо¬
его освобождения, чуть ли не накануне; прочие же ночи
я видел такие обыкновенные, а иногда и приятные сны,
что минута пробуждения была очень скверною мину¬
тою, возвращающею к действительности весьма непри¬
гожей. Сигар выкуривалось не более семи, за исключе:
нием тех немногих дней, когда приходилось в каземате
составлять письменные ответы: тогда сигар выкурива¬
лось более. Еще одно развлечение, которое было до¬
ступно,— это кормление голубей остатками хлеба от
обеда и ужина: голуби прилетали к открытой форточ¬
ке и садились на железную полосу, сквозь которую
пропущены были железные брусья решетки; впослед¬
ствии голуби приручились до того, что влетали в ком¬
нату и даже давались в руки.
Затем перехожу к допросу. ,
282
IV
Через несколько дней по заключении нашем в один
из прекрасных вечеров съехалось несколько экипажей
к двухэтажному каменному дому, что против Николь¬
ской куртины: то были члены следственной комиссии.
Началось вождение туда заключенных поодиночке;
кроме того, из моих окон, т. е. из форточки моего ка¬
земата, видны были приходившие в комиссию пешком
не из казематов в партикулярной одежде, то были или
шпионы-доносчики (Антонелли, Кош-ский), или шпио¬
ны-свидетели Ш[абише]в).
Пришла и моя очередь идти к допросу. Плац-адъю¬
тант провозгласил: «Номер 5!» Забрякали ключи и зам¬
ки у моих дверей, каземат отворился, сторож внес мое
платье, я переоделся в присутствии плац-адъютанта и
сторожа и в сопровождении плац-адъютанта отправил¬
ся через двор в двухэтажный дом. По входе в комнату
заседания комиссии князь Гагарин, как старший, да и
самый дельный член, начал допрос.
Князь Г агарин. «Правительству сделалось известно
либеральное направление ваших мнений».
Я. «Мне неизвестно, в каких именно поступках под¬
метили либеральное направление моих мнений, потому
что я мнений своих никому не навязывал, а в служеб¬
ной деятельности я исполнителен до пунктуальности и
никогда не подвергался не только замечаниям, но даже
намекам, чтоб я был заподозрен в вольнодумстве».
Князь Гагарин. «Вас и не обвиняют в манкирова¬
нии по службе, но в увлечениях социальными, комму¬
нистическими, республиканскими идеями».
Я. «Из чего же это могли заключить?»
Князь Гагарин. «А. ваше знакомство с Петрашев¬
ским?»
Я. «Но я не вижу связи между моим знакомством с
Петрашевским и обвинением меня в республиканских и
коммунистических увлечениях».
Князь Гагарин. «Вы не хотите понимать меня. Вы
бывали у него на заседаниях по пятницам?»
Я. «По пятницам я бывал у Петрашевского, но за¬
седаний при мне не бывало».
Князь Гагарин. «Как не бывало при вас заседаний5
А 1-го, 8-го и 15 апреля и 16 апреля у вас? Это были
положительно клубные заседания».
Я. «Какие же это клубные заседания? В клубах
обыкновенно играют в карты, а ни у Петрашевского,
ни у меня и помина не было об игре в карты».
283
Князь Гагарин. «Вы все уклоняетесь от прямого от¬
вета. Я не говорю об игорных клубах, а о заседаниях
клуба политического. Так, в заседании 1 апреля вы
сами принимали участие в прениях по вопросам, по¬
ставленным председательствовавшим Петрашевским: об
освобождении крестьян, изменении судопроизводства,
свободе книгопечатания; а 15 числа сами объявили,что
у вас председательствовать будет некто Шрамченко,
который держит в руках всю иерархию, все перевернул
вверх дном».
Я- «Как жаль, что доносчики, может быть, в надеж¬
де получить большой гонорар, за неимением материа¬
ла сочиняют и клевещут на людей, которые, к сожа¬
лению, ничем не ограждены от их гнусных вторжений
в самый кружок благонамеренный».
Князь Гагарин. «Правительство своими агентами
ограждает общество от распространения в нем вредных
идей. Вот что правительственный агент говорит, между
прочим, об вашем участии в прениях и прочее».
И Гагарин, прочитав о вечере 1 апреля, беседу
Петрашевского о поименованных выше трех вопросах,
о моих замечаниях на выводы Петрашевского, спраши¬
вает меня: «Кто вас уполномочил обсуждать публично,
потому что это было в присутствии большого общества,
вопросы, которые, ежели и могут подлежать обсужде¬
нию, то по высочайшему повелению высшими государ¬
ственными чинами?»
Я. «Небольшой кружок знакомых, при которых шла
беседа о предметах, вами названных, близких чувству
каждого человека, мало-мальски любящего свою ро¬
дину, чувствующего ее больные места, я не могу счи¬
тать преступным, тем более что вопрос не сходил с тео¬
ретической точки, и, что касается меня, то я, соглаша¬
ясь в несомненной полезности всех этих улучшений, вы¬
сказал только свое мнение относительно порядка, в ка¬
ком было бы удобнее осуществить их, если бы и пра¬
вительство признало полезными их, в чем никто из
нас не сомневался, и вопрос только был во времени».
Считаю необходимым сделать однажды то общее за¬
мечание, что, восстановляя в своей памйти устные во¬
просы и ответы, равно письменные объяснения по не¬
которым предметам, писанные в каземате (без остав¬
ления копий), и показания, писанные в присутствии
комиссии, также словесные объяснения на разные за¬
мечания гг. членов, спустя почти тридцать лет, не могу
передать с фотографическою точностию, ни в порядке,
284
в котором переходили от одного предмета к другому,
ни самого текста речей как моих, так вопрошателей и
возражателей; но могу поручиться, что сущность со¬
хранена неуклонно везде, а в некоторых случаях вос¬
произведены и объяснения слово в слово.
Кроме того, продолжительных допросов в комиссии
по главным предметам обвинения, с чтением отрывков
из доноса, было два, и два же раза поручалось мне пи¬
сать в каземате объяснения, для чего давали бумагу по
счету листов, которая и должна быть сдана в том же
количестве. Кажется, раза два пришлось в комиссии
писать ответы на вопросные пункты, составленные за¬
благовременно, и еще несколько раз бывали объясне¬
ния в комиссии.
При первом же допросе князь Гагарин предложил
мне разъяснить, каким образом я в самый день приез¬
да попал к Петрашевскому. Я рассказал, как это из¬
ложено выше, с объяснением, что, имея карету на це¬
лый день, не зная, куда девать вечер, так как в семей¬
ные знакомые дома не приходилось же ехать с визи¬
том вечером в страстную пятницу, я и отправился к
Петрашевскому, полагая, ежели у него и никого нет,
то, может быть, он сам дома.
Князь Долгорукий, не поняв моего объяснения (как
не понимал он весьма многого из самых простых вещей),
с улыбкой возразил: «Так вы потому и поехали к Пет¬
рашевскому с визитом, что это была страстная пятни¬
ца?» Я серьезно посмотрел на него и сказал: «Ежели
ваше сиятельство не поняли, так смеяться-то не об
чем».
Князь Гагарин объяснил ему, в чем дело.
При первом же допросе князь Гагарин спросил
меня:
— Вы читали Фурье, Прудона и других социали¬
стов, какого вы мнения об их теориях?
Я ответил, что ежели не читал всех сочинений но¬
вейших социалистов, то понятие об их учениях имею и
нахожу, что теории их увлекательны, как стремящиеся
достигнуть всеобщего благоденствия, но все они стра¬
дают одним общим недостатком, именно: все построе¬
ны не на практической, существующей почве, хотя пи¬
саны для существующего общества; во всех их человек
сочинен вроде ангела, а для ангелов вовсе не нужно
таких кодексов и регламентаций. Хотя у Фурье призна¬
ются классы и не ангельского типа, но все-таки сочи¬
ненные, деланные, а не настоящие; вообще читать эти
285
произведения небесполезно, как образцы теоретиче¬
ских стремлений идеалистов; воображать же, что они
могли бы иметь практическое применение, есть великое
заблуждение, что подтверждается и опытом.
Затем меня отпустили в свой номер, снабдив не¬
сколькими листами бумаги для письменного изложе¬
ния и объяснений на разные вопросы.
Так как я уже сказал, что не могу с точностью рас¬
пределить, что писано было мною в первый раз и что
написано, когда дали мне бумаги для писания, во вто¬
рой раз, то прежде, нежели приступлю к воспроизведе¬
нию писанного мною в 1849 году без разделения, а в
мере восстановления в памяти, полагаю удобным дого¬
ворить в настоящее время, о каких предметах и в ка¬
ком духе предлагаемы были мне вопросы, сообразно
тексту доноса.
О вечере, на котором было читано письмо Белин¬
ского к Гоголю, меня спрашивали, какое впечатление
произвело содержание этого письма на меня и на про¬
чих и правда ли, что Ястржембский выразился: «О, то
так и надобно»? Прочитан был донос о разговоре моем
с Антонелли по поводу приглашения его на празднова¬
ние 16 апреля новоселья его, в меблированные комна¬
ты в доме Штрауха на углу Морской и Гороховой, и
будто бы я говорил, что председателем заседания у
меня будет некто Шрамченко, который держит в руках
всю иерархию и все перевернул вверх дном. Потом от¬
чет (полагаю, отрывки отчета) Антонелли о моем вече¬
ре 16 апреля: чего-чего он не наговорил, чтоб предста¬
вить в самых грязных и вместе с тем красных красках
все общество, бывшее у меня; насколько припомню, он
выразился, что это сборище людей дышало разбоем и
водкою, водкою и разбоем, что это антиподы, выходцы
с того света, что вообще заметил отсутствие здравого
смысла, и. если он делал исключение из этого огуль¬
ного обвинения, так это в пользу хозяев и тех, кото¬
рые бывали у Петрашевского, а между прочим про од¬
ного из хозяев, именно про Белецкого, выразился, что
он или кандидат на виселицу, или сорвался с висели¬
цы, что-то в этом роде9.
Хотя Гагарин, читая эти отрывки, не называл авто¬
ра, но я сам назвал Антонелли как доносчика.
По всем этим предметам, кроме данных уже словес¬
ных объяснений, я должен был написать обдумавши.
В то время, как, помнится, нам не давали еще читать,
а потому возможность заняться хотя писанием меня
286
весьма обрадовала; но необходимо было зрело обду¬
мать решение этой задачи, и я пришел к следующим
заключениям: излагать свою «profession de foi»* было
бы по крайней мере бесполезно; стараться привести в
свою веру гг. членов комиссии было бы даже смешно;
оставалось доказывать всеми разумными доводами свое
право на беседу без особого разрешения о предметах,
которое, по мнению тогдашнего правительства в лице
его агентов, может быть предоставляемо только выс¬
шим государственным сановникам, и, наконец, опровер¬
жение нелепых измышлений доносчика. Я старался за¬
учивать написанное мною, и память моя долго сохра¬
няла все написанное мною, но [как] теперь уже июль
1877 года, то, естественно, многое испарилось в эти по¬
чти три десятка лет, но во многих местах текст моих
письменных объяснений воспроизведен, и именно на¬
чало вступления:
«Истина одна и вечна, но понятия о ней различны:
Христос, спаситель мира, распят на кресте за пропове-
дание слова божия, учения о любви к ближнему и ра¬
венстве всех пред богом, а ныне более половины насе¬
ления всего земного шара исповедует его учение. В на¬
стоящее время ученик младших классов гимназии
знает, что земля вертится около своей оси и обходит
вокруг солнца; а с небольшим три века тому назад Га¬
лилей был приговорен к сожжению на костре за выска-
зание этой истины10. Не утруждая внимания г[оспод]
членов комиссии другими примерами, решаюсь выска¬
зать, что, по моему личному мнению, следует осторож¬
но относиться и к учениям новейших социалистов, тем
более что все учения их проникнуты кротостью и лю¬
бовью к ближнему и, как я имел случай объяснять сло¬
весно, что слабая сторона всех этих учений та, что
они воображают людей лучше, нежели они в действи¬
тельности, а потому теории эти неприменимы к прак¬
тике; но нельзя же утверждать, что люди никогда не
будут лучше, нежели теперь, и что же может быть пре¬
ступного в чтении и беседе о воображаемом устройстве
такого общества, в котором все люди хороши, или по
крайней мере лучше тех, из которых общество ныне со¬
ставлено.
О характере вечеров у Петрашевского и вечера, быв¬
шего у меня, могу сказать, что они действительно рез¬
ко отличались от так называемых «вечеров» тем, что на
* Исповедание веры, мировоззрение (франц.).
287
них не играли в карты, и действительно странно было
видеть, как молодые (и даже не совсем молодые) люди,
собравшись, не играют в карты, когда мы видим юно¬
шей, едва покинувших школьную лавку, охотно прини¬
мающих предлагаемую карточку и с важностью заседа¬
ющих за зеленым столом, теряя деньги, здоровье, время,
а главное, отказываясь добровольно от великого дара,
данного ему провидением, — дара слова, потому что
карточные так называемые переговоры можно с успе¬
хом заменить условными знаками или марками. Что
может быть обиднее для гостя, когда хозяин думает,
что его иначе занять нельзя, как составить для него
партию, т. е. обратив хотя на время в бессловесное.
Итак, за неигранием в карты, проводили время в бе¬
седе; но по взгляду, высказанному господами членами
комиссии, беседа-то и была преступна, потому что
была ведена о таких предметах, о которых не спросясь
нельзя говорить, и такими лицами, которым это не пре¬
доставлено.
Сам сознаю, что не совсем точно выразил смысл ко¬
миссии о причинах преступности беседы, но действи¬
тельно затрудняюсь формулировать положение, для
подтверждения которого не умею найти ни одного сло¬
ва, а против него — тысяча доводов. Неоспоримо, что
всякое гражданское общество состоит из слоев, или,
точнее выразить, расположено слоями, различающими¬
ся правами сословными, имущественными, по своему
образованию, положению в иерархическом отношении
и проч., и проч. Трудно, почти невозможно перечис¬
лить все те оттенки общественного наслоения, которые
при всем своем различии так тесно слиты, что не име¬
ется возможности резко отграничить их, и, кроме того,
лица, стоящие по некоторым отношениям в одном раз¬
ряде, могут в других отношениях принадлежать к со¬
вершенно иному слою, и так как у нас не существует
каст, то нередок переход из одного общественного со¬
словия в другие. Принимая все это в соображение, кто
возьмет на себя смелость разграничить, что такие-то
слои имеют право говорить о таких-то предметах, та¬
кие о таких-то и т. д., но вот еше вопрос: что принять
за масштаб при этом распределении? Разве табель о
рангах! Но и в этом случае встретится такого рода не¬
удобство— всякий, прошедший низшие классы табели
о рангах, под влиянием запрещения беседовать о боль¬
шинстве предметов интереса общественного, дойдя до
высших рангов, дойдет вместе с тем до неспособности не
288
только беседовать, но даже думать о предметах, выхо¬
дящих из круга их физических потребностей. А потому
я не могу признать даже тени преступности в обсу-
живании предметов, близких сердцу каждого и доступ¬
ных пониманию. Комиссии также угодно, чтоб я дал
объяснение о предметах беседы на вечере у Петрашев¬
ского, 1 апреля: об улучшении судопроизводства и су¬
доустройства, о свободе книгопечатания и уничтожении
крепостного состояния. Разберу эти предметы по по¬
рядку.
1. Улучшение судопроизводства и судоустройства.
Этот предмет меня мало занимал, так как сам я в су¬
дах не служил и дел в судах не имел; но знаю, что за¬
кон допускает, что могут быть неправильные решения,
потому что позволяет переносить дела на апелляцию,
и ежели решения разных инстанций бывают не только
не сходны, но прямо противоположны, значит, одна из
инстанций применила законы правильно, другая — не¬
правильно. Без сомнения, в высших и высших инстан¬
циях заседают люди с большею и большею опытно¬
стью, ю не всегда неправильное применение законов
можно приписывать неблагонамеренности. Но всякий
ли проигравший дело может воспользоваться правом
перенести свое дело на апелляцию? Иногда средства его
так ограниченны, что он не только не может довести
его до столицы, т. е. до Правительствующего Сената,
но даже до губернских присутственных мест.
Ужели сочувствие к этому можно считать преступ¬
ным, и сочувствие, высказанное в небольшом круге зна¬
комых?
2) Свобода книгопечатания. Совершенной свободы
книгопечатания не существует нигде; даже во Фран¬
ции, где теперь (1849 года) республика, иногда отби¬
рают нумера газет с почты. Может ли же быть совер¬
шенная свобода книгопечатания у нас, в государстве
самодержавном? Но излишнее стеснение его не может
быть безвредно.
3) Уничтожение крепостного состояния. Само пра¬
вительство вело к тому: а) учреждение обязанных кре¬
стьян; б) право, данное крестьянам выкупаться на
волю в имениях, продаваемых с публичного торга,
ежели крестьяне внесут в месячный срок ту сумму, на
которой состоялся аукцион; в) право, данное крестья¬
нам, приобретать недвижимую собственность. В этом
последнем законе даже сказано: «Если существовали
подобного рода собственности, купленные крестьянами
11 3 ак. № 628
289
на имя помещиков, то предоставляется помещикам
право передавать эти собственности крестьянам купчи¬
ми крепостями на бумаге низшей ценности в течение
десятилетнего срока».
Кто будет восставать против благодетельности этих
мер, ведущих к цели высокой, путем последователь¬
ным?.. Разве было говорено вопреки этих мер?»
Переходя к объяснению той части доноса Антонел¬
ли, где я будто бы ему сообщил, что Шрамченко дер¬
жит в руках всю иерархию и все перевернул вверх
дном, я, повторив мой разговор с ним, изложенный
выше, сказал: «Чтоб вывести из этого разговора, что
такой-то секретарь консистории держит в руках всю
иерархию и все перевернул вверх дном, надобно
иметь слишком пылкое воображение, мало опытности,
совершенное незнание наших учреждений и совершен¬
ное неведение того, что делается в России. Пылкость
воображения свойственна ему, господину Антонелли,
как итальянцу; неопытен он по юности; что в России
консисторий столько, сколько епархий и каждая из
них имеет свой отдельный круг действий и что все э го
сосредоточивается в святейшем Правительствующем
Синоде, Антонелли мог не знать, как иноверец и чуже¬
странец; что в последнее время не выходило никаких
узаконений, которые бы изменяли основания, на кото¬
рых существует наше духовенство, господин Антонелли
мог также не знать, как иноверец и чужестранец, не
интересующийся следить за ходом узаконений в Рос¬
сии, а направляющий свою деятельность на предметы,
лично для него более выгодные.
Итак господин] Толль и гфосподин] Антонелли были
у меня 16 апреля (и они только двое были во фраках),
а на другой день развели мосты, и я, несмотря на все
мое желание, не мог к ним попасть в воскресенье 17 ап¬
реля. Встретив через несколько дней после того Анто¬
нелли, я выразил сожаление, что не мог быть у него
вследствие разведения мостов. Антонелли высказал,что
вследствие этого вечер у него совершенно не удался.
Мне тогда показалось странно, как отсутствие некото¬
рых живущих за Невою могло расстроить целый ве¬
чер. Вероятно, готовился действительно какой-нибудь
бенефис гостям господина] Антонелли, расстроенный
предварительно отложением вечера с субботы на вос¬
кресенье и окончательно разведением мостов; этим
только я объясняю себе теперь все негодование, изли¬
тое им на меня и всех бывших у меня 16 апреля, раз¬
290
разившись в выражениях: разбой и водка, водка и раз-
бой, антиподы, выходцы с того света... Где припомнить
все эпитеты, которыми так щедро наделил господин]
Антонелли всех бывших у меня 16 апреля? Но все это
слова, порожденные досадою, где же доказательства.1
Правда, темные краски легче ложатся на светлые тка¬
ни, но не наоборот; химия дает нам средства уничто¬
жать цвета на тканях, на руках же красильщика все¬
гда остаются следы его ремесла. И вот господин] Ан¬
тонелли принялся чернить на все стороны, правда, с
некоторыми лестными исключениями, но те, которые
не подверглись его громоносным эпитетам, что же тем
выиграли? Разберем его эпитеты порознь.
Разбой и водка, водка и разбой. Чтобы сделать за¬
ключение о целом обществе, что оно дышало разбоем
и водкой, водкой и разбоем, надобно непременно ука¬
зать хоть на некоторые проявления этого стремления,
уже не говорю целого общества, но хотя кого-нибудь,
и господин] Антонелли при своей наблюдательности
верно подметил бы это и при свойственной ему любо¬
знательности мог бы тотчас узнать и фамилию выска¬
завшего стремление к разбою и водке, водке и раз¬
бою; но если он не указывает ни на кого, то обвинение
целого общества в наклонности к разбою и водке, вод¬
ке и разбою нелепо и неосновательно потому, что ни¬
кто не сказал или сделал ничего неприличного, хотя
при закуске и был сервирован херес. Антиподы и вы¬
ходцы с того света, очевидно, поставлено... очевидно,
поставлено... право, не знаю—для красоты ли слога
пли для силы выражения. Я, признаюсь по совести,
не вижу ни того, ни другого: может быть, потому,
что не занимаюсь подобного рода изящной словесно¬
стью.
Да, вспомнил еще один из ответов г[осподина] Ан¬
тонелли обо всех бывших у меня 16 апреля, это — что
все общество отличалось отсутствием здравого смыс¬
ла. Чтоб сделать такой отзыв, необходимо участвовать
в беседе или по крайней мере внимательно к ней при¬
слушиваться. Сколько мне помнится, г[осподин] Анто¬
нелли не вставал со стула, на который сел по приезде,
и почти не принимал участия в беседе; гости же сиде¬
ли в нескольких комнатах: каким же образом Госпо¬
дин] Антонелли мог проникнуть не только черепы, но и
стены? Следовательно, и этот последний отзыв Госпо¬
дина] Антонелли я не могу признать хоть сколько-ни¬
будь похожим на справедливый.
291
Относительно впечатления, произведенного на меня
и прочих слушателей чтением письма Белинского к Го¬
голю, могу сказать, что на меня лично произвело оно
впечатление тяжелое, грустное: видно было, что пи¬
сано оно в желчном, болезненном расположении духа,
но, вспомнив евангельское выражение: «Не суди, да не
осужден будеши», или, еще вернее, евангельскую же
притчу о блуднице, которую Христос спас, сказав:
«Пусть первый камень бросит тот, кто себя считает не¬
винным», и первого камня никто не бросил».
В настоящую минуту не припомню более ничего из
своих письменных ответов.
Так как при следственной комиссии, где нас допра¬
шивали, была еще подкомиссия под начальством Лип¬
ранди для разбора бумаг, забранных у арестованных,
и всякое выражение, компрометирующее или даже
сомнительное в письмах, дневниках, даже на клочках
бумаги, было представляемо в комиссию и было пред¬
метом допросов, так следующая заметка в моем днев¬
нике вызвала тщательный допрос.
«(И. П. Д.) глуп, как сало, познаний никаких, вос¬
питывался в Иезуитском коллегиуме и оканчивал свое
образование в College royale* во Франции, но даже
не выучился говорить по-французски (переворот)».
Вот последнее-то выражение, поставленное в скоб¬
ках, и вызвало требование от меня объяснений, тем бо¬
лее что из объяснений моих по предметам, вошедшим в
донос, нельзя было вызвать ничего обвинительного про¬
тив меня; но выражение (переворот) и таинственные
буквы (И. П. Д.), по мнению остроумных членов ко¬
миссии и подкомиссии, уличали меня в намерении со¬
вершить переворот государственный или социальный.
Я сказал, что [как] буквы (И. П. Д.) суть заглавные
имени, отчества и фамилии господина, занимающего до¬
вольно высокий административный пост в Тамбовской
губернии, то невыгодная оценка этого лица, сделанная
в моем дневнике, вынуждает меня просить не настаи¬
вать на требовании назвать это лицо, тем более что вы¬
ражение «переворот» не имеет никакого значения поли¬
тического, а скорее только физический, личный перево¬
рот.
Это желание и просьба моя не были уважены, и
комиссия потребовала названия лица, значащегося под
буквами (И. П. Д.), и объяснения слова переворот.
* Королевский коллегиум (франц.).
292
Нечего делать, пришлось сказать, что речь идет о там¬
бовском вице-губернаторе И. П. Дуб[ецк]ом, о котором
мне передавали его собственный будто бы рассказ, что
«он однажды качался на качелях», и вдруг веревки обо¬
рвались, он упал торчмя головой в землю и после это¬
го переворота стал дурак дураком.
Еще выражение моего дневника, вызвавшее сильную
бурю и требование объяснения: «...что в России, госу¬
дарстве без столицы, важно было бы развитие провин¬
циальных голов».
Пришлось опять доказать, что заметки в дневнике
не должны быть предметом допроса, а гем более еже¬
ли заметки не выражают никаких преступных намере¬
ний.
Но в моей заметке находили преступность в том,
чго я, вопреки высочайше признанных Москвы и Пе¬
тербурга как столиц, как будто игнорирую это, вопре¬
ки изложенному в учебниках географии, цензурою
одобренных, и которые мне, как кончившему курс в
Императорской военной академии, должны быть из¬
вестны.
Я объяснил, что против изложенного в учебниках
не спорю и публично своего мнения не проповедую; но
заметка моя вызывается и оправдывается при иссле¬
довании, подходят ли Москва и С.-Петербург под те
понятия, которые связываются с городами, именуемыми
столицами в образованных государствах?
Под именем столицы принято разуметь центр прави¬
тельственный и общественный, т. е. место, где находят¬
ся высшие учреждения административные, законода¬
тельные, судебные, где находится двор, где как в зер¬
кале отражается общественное и интеллектуальное раз¬
витие разных мест в государстве, и как зеркало же, от¬
ражающее на эти отдаленные места всякий прогресс,
который при вышеизложенных условиях получает по¬
чин в столице же.
Который же из наших городов, именуемых столица¬
ми, удовлетворяет этим условиям? Петербург? В нем
резиденция царя, двор, министерства, Правительствую¬
щий Сенат (которого несколько департаментов имеют¬
ся в Москве и даже в Варшаве), а далее?
Никто не возразит, что Петербург наименее русский
город, следовательно, в нем и не отражается развитие
провинций; затем, так как власти административная,
законодательная, судебная сосредоточиваются в особе
государя императора, то, с выездом его величества,
293
хотя бы для смотра войск, не остается в Петербурге
ничего, кроме канцелярий, никакой законной власти
не имущих, напрасно громко называемых министер¬
ствами.
Москва? Да ведь ее справедливо называют боль¬
шая деревня, там происходит коронация по вступ¬
лении государей на царство, да разве это обязательно
и не может подлежать изменению по воле государя,
затем не остается никакого признака, присущего сто¬
лице. Скажут пожалуй: «Ее дворец?» Да дворцы име¬
ются и в Царском Селе, в Петергофе и в Гатчине, сверх
того, многие из станционных домов на шоссейных до¬
рогах называются дворцами, не говоря уже о тех горо¬
дах и местечках, где бывают сборы войск, там везде
почти понастроены дворцы.
Следовательно, по моему мнению, и высказанному
только в дневнике, Москва также не заслуживает ти¬
тула столицы.
Вспомнил еще один из предметов, выкопанных под¬
комиссией, вызвавших допрос: в одном из писем ко
мне от некоего Михайлова он, между прочим, говорит,
что его управляющий всякий вечер вспоминает об ад¬
ском зажигателе. Это последнее выражение вызвало
требование объяснений об зажигателе и в прямом и в
переносном смысле: в прямом — не имел ли этот за-
жпгатель какого-либо отношения к пожарам, свиреп¬
ствовавшим тогда в разных местах России, а в пере¬
носном — не идет ли речь об адском зажигателе пла¬
мени бунта.
Я прямо сказал, что адским зажигателем тот управ¬
ляющий называл меня, показывавшего в его присут¬
ствии непонятную для него штуку зажигания снега, и
я полагаю, что каждый из г[оспод] членов комиссии
знает этот простой фокус, состоящий в том, что в снег
надобно положить кусок камфоры и зажечь его.
В этом заключается альфа и омега всех обвинений,
падавших на меня. Ежели и были, может быть, еще
какие-либо мелочные подробности, о которых меня
спрашивали, то, вероятно, это были такие пустяки,,что
не сохранились и не оставили никакого следа в моей
памяти.
Спустя некоторое время после письменных и словес¬
ных объяснений я был потребован в комиссию для
письменных ответов по вопросным пунктам, составлен¬
ным предварительно по форме. Я не помню подробного
изложения вопросов и ответов, но из вышеизложепно-
294
го можно видеть, в каком духе могли быть мои отве¬
ты. Но не могу не рассказать эпизода, при этом слу¬
чившегося.
Так как вопросы все-таки выпытывали, нет ли ка¬
кого-либо злокачественного, неблагонамеренного на¬
правления, стремления и проч., то я наконец выска¬
зал, что из моих откровенных, по совести, объяснений
и показаний они (члены комиссии) могут ясно видеть,
что ежели считать преступным понимание того, что
дурно, и как необходимое последствие этого понима¬
ния — желание улучшений, а для усвоения этого на¬
добно только взглянуть внимательно на то или другое
учреждение, то, заарестовавши несколько сот людей,
далеко не всех заарестовали: по моему мнению, из
70000000 населения следовало бы арестовать
69 999 000 и, пожалуй, еще несколько сот, затем осталь¬
ные несколько сот, неспособных понимать самых про¬
стых вещей, стерегли бы прочих. Дубельт на это воз¬
разил: «Вы думаете, что вы, молодежь, прогресс, а что
мы, старики, выжили из ума?» Я отвечаю, что никак
не считаю себя олицетворенным прогрессом, но не от¬
казываюсь от способности отличать белое от черного,
что же касается до способностей его превосходитель¬
ства и прочих, то я не беспокоил себя думать об этом.
Ростовцев на это вскричал, заикаясь: «Вместо того
чтоб говорить дерзости, вы должны бы на коленях
просить помилования!»
Я на это говорю, что могу стоять на коленях только
перед женщиною или на молитве перед богом, а в нем
я не вижу ни того, ни другого. Ростовцев спрашивает:
«А пред государем?» Я отвечаю, что его здесь нет. Ро¬
стовцев говорит: «Мы его генерал-адъютанты». Я на
это говорю: «Так не перед вами ли стать на колени1
Вы, ваше превосходительство, а не я, позволяете себе
делать дерзости человеку, который того не заслужи¬
вает и находится в состоянии бессилия».
Мне не делали очной ставки ни с кем. Много про¬
шло времени, пока переспросили всех заарестованных,
помнится, не менее месяца. Затем начали понемногу
освобождать тех, которые ни в чем непричастны; так
выпустили брата моего Алексея, Кропотова12, Белец¬
кого и еще некоторых, — как объяснено мною, из фор¬
точки моего каземата видны были все выходящие и
уходящие из дома, где помещалась комиссия.
Освобождения прекратились, члены комиссии съез¬
жались уже не каждый вечер; иногда по утрам приез-
295
жали князь Гагарин и Ростовцев; как-то раз и меня
водили утром, когда были только эти двое, и предла¬
гали мне некоторые дополнительные вопросы. Вожде¬
ние в комиссию, днем ли это бывало или вечером, было
единственным развлечением, без которого скука была
неодолимая.
Ежедневные срочные посещения плац-адъютантов в
6 часов утра, в полдень и в б часов вечера мало раз¬
влекали, хотя я и старался сам себя развлекать при
этих визитах тем, что рассказывал плац-адъютантам о
предметах допроса, смеялся, что сочинили дело, из ко¬
торого сами сочинившие не знают, как с честью вый¬
ти; плац-адъютанты говорили, что им не приказано
вступать в беседы с арестованными, кроме случаев ка¬
ких-либо необходимых заявлений; я возражал им на
это, что пусть они и не беседуют со мною, я один буду
им рассказывать об деле, чтоб они не воображали, что
мы какие-либо лютые заговорщики, а просто Антонел¬
ли понадобились деньги, или он действовал как агент
другого лица (тогда я еще не знал, что Иван Петро¬
вич Липранди — главный автор всей истории).
Бедные плац-адъютанты, они, не имея права разго¬
варивать и не имея права уйти из каземата, пока не
уберут служители в каземате, старались успокоить. Но
я, грешный, рассказывая им эти вещи, имел ту заднюю
мысль, что они хотя и плац-адъютанты, и к тому же из
немцев (один Майдель, весьма благообразный; другой,
кажется, Вильбрандт, Вильбрехт или что-то в этом
роде, с большими усами и с предоброй рожею), но
все-таки не немые же как рыбы, и через них могут
проникнуть в обращение правдивые рассказы об деле;
иначе, при отсутствии гласности и публичности веде¬
ния дела, пустят такие нелепые россказни сверху и
снизу (как это и было сделано), что не окажется ни¬
какой возможности опровергнуть слухи, как бы они
нелепы ни были.
Видя, что общие съезды членов комиссии почти пре¬
кратились, прекратилось и освобождение, которого, по
правде сказать, считал себя вправе ожидать и я, на¬
равне с другими; прекратилось и требование в комис¬
сию для объяснений или дачи показаний... Скука на¬
чала гнести неодолимо; я начал терять надежду даже
на то, что сошлют куда-нибудь, хотя и не считал себя
заслуживающим того, но ссылку предпочел бы гние¬
нию в тюрьме. Может быть, это дурное расположение
духа или дурная пища, при недостатке моциона и от-
29*
сутсгвии вентиляции, но у меня заболели глаза, потом
сделался огромный веред на шее, которого след сохра¬
няется и по сие время и который, может быть, отвлек
приток крови от глаз.
Все это вместе взятое вынудило меня сделать шаг,
который ухудшить положения моего не мог, а ежели
дело мое должно поворотить к лучшему, то могло при¬
поднять хоть краешек завесы. Я решил проситься в
солдаты.
Однажды я прошу плац-адъютанта, кажется, Май-
деля, доложить комиссии, что я имею надобность сде¬
лать объяснение. В тот же день меня ведут в комис¬
сию, где заседали князь Гагарин и Ростовцев.
На вопрос князя Гагарина, чем еще я имею допол¬
нить свои показания, я отвечаю, что дополнять моих
показаний мне нечем, потому что я высказал все, что
знал о том, о чем меня спрашивали, но, находясь
столько месяцев в заключении и сознавая, что более
не могу содействовать даже деятельности комиссии,
так как более того, что объяснил по делу, не знаю ни¬
чего, обращаюсь к комиссии с покорнейшею просьбою
исходатайствовать как милость высочайшее разреше¬
ние отправить меня рядовым на Кавказ: даже с сол¬
датским ружьем в руках я могу быть полезнее, неже¬
ли, как теперь, в каземате.
Князь Гагарин мне говорит: «Не имеете ли вы еще
чего-нибудь на совести, чего не высказали при допро¬
сах, что просите себе такого наказания, какого бы вы
никак не заслуживали по тем данным, которые об вас
имеются в деле?»
После сказанного Гагариным я бы мог, шаркнув
ножкой, поблагодарить за сообщение, что мне большой
опасности не предстоит, но хотелось позондировать по¬
глубже и вместе с тем показать, что просьба моя не
была минутной вспышкой нетерпения; а потому я и го¬
ворю: «Тем более я смею надеяться, что комиссия
уважит мою просьбу, что как я уже имел честь доло¬
жить, что прибавить к показаниям ничего не имею, а
ваше сиятельство выразились, что обвинений в таких
преступлениях против меня не имеется, которые бы
влекли разжалованье в рядовые; а я все-таки прошу
как милости взамен заключения, в котором я содер¬
жусь уже несколько месяцев, разжалованья в рядо¬
вые».
Гагарин и Ростовцев оба уговаривают меня отсту¬
питься от этой мысли, и что, во всяком случае, они
297
двое не имеют полномочия входить с подобным пред¬
ставлением, а ежели я не беру моей просьбы назад,
то они доложат комиссии.
Я прошу доложить комиссии.
Кажется, что около двух недель, но уж никак не ме¬
нее десяти дней, прошло до вызова меня в комиссию,
что было днем, но не вечером, как бывало прежде.
Гагарин, обращаясь ко мне, говорит, что мне дано
было достаточно времени обдумать просьбу, которую
я тогда-то высказал ему и генерал-адъютанту Ростов¬
цеву; в настоящее время, обдумавши все, что было ими
мне сообщено, поддерживаю ли я прежнюю просьбу
или отказываюсь от нее?
Я говорю, что полагал, что меня вызвали для объ¬
явления высочайшего соизволения на мою просьбу, а
теперь, к сожалению, вижу, что эти дни прошли для
меня бесполезно и дело остается на том же месте, как
было две недели назад, и милость, о которой я просил,
мне не оказана.
Князь Гагарин. «Ежели вы просите для себя исклю¬
чения против товарищей ваших по заключению, то по¬
чему же полагаете, что это предпочтение должно быть
вам оказано пред другими, судьба которых будет обсу¬
живаема комиссиею, и разве вы считаете себя имею¬
щим особые, на то перед другими права?»
Гагарин попал «в жилку», как говорится; я, рато¬
вавший за равноправность, буду просить исключения
для себя; а вместе с тем дело разъяснилось достаточ¬
но, и мне предоставлялось почетное отступление. Я го¬
ворю, что не имел никак намерений считать себя име¬
ющим право на исключение, а потому отказываюсь от
своего заявления, предоставляя судьбу свою в руки ко¬
миссии.
Все без исключения выразили мне свою сатисфак¬
цию (не могу приискать русского слова для выраже¬
ния того — не то одобрения, не то благоволения...) и с
приятной (насколько кто способен) улыбкой высказа¬
ли, что судьба моя в хороших руках или что-то в та¬
ком роде.
Я уже поклонился, чтоб уходить, по вдруг обраща¬
юсь к комиссии, говоря, что у меня теперь есть другая
просьба.
— Какая еше?
— У меня заарестованы деньги, на которые мне по¬
купают чай, сахар, сигары, то я прошу разрешения ку¬
пить мне на эти деньги книг и стеариновых свечей, так
298
как дни теперь короче, спать более семи часов в сутки
не могу, а читать при ночнике невозможно.
У всех членов комиссии отлегло, услышав такую
простую, легко исполнимую просьбу, а не такую ди¬
кую, по их мнению, какова была первая просьба. Без
сомнения, мне разрешили все просимое мною, но чтоб
список книг предварительно представить чрез плац-
адъютанта на усмотрение комиссии.
После рассказанного мною я мог считать свое по¬
ложение не только небезнадежным, но даже благопри¬
ятным, без сомнения, относительно. А все-таки не ви¬
дать было, когда конец и какой именно. Спустя не¬
сколько времени после этого эпизода были похороны
великого князя Михаила Павловича, церемония про¬
должалась несколько дней: это было значительное раз¬
влечение для нас, заключенных. В самый день погре¬
бения съезд был огромный, весь двор был уставлен
экипажами. Я да, без сомнения, и прочие все, чьи окна
выходили на этот двор, не отходили от отворенной
форточки. Когда началась салютационная пальба при
опускании гроба, то лошади стали биться, и многие
экипажи позапутались, — опять развлечение. При разъ¬
езде пришлось «господам» самим разыскивать свои
экипажи, и князю Гагарину пришлось как раз перед
моим окном с форточкой, у которой я стоял, дожидать¬
ся, пока подадут его коляску. Он меня узнал и, сни¬
мая треуголку, раскланялся; затем пантомимами по¬
казывая на землю и на небо, возводя очи горе и воз¬
дыхая, вероятно, хотел высказать, что тело зарыли, а
душа вознеслась, или что-либо в таком роде; я тоже
отвечал ему мимически возведением очей к небу. Я ду¬
маю, презабавно было бы подсмотреть со стороны нашу
мимику. Затем коляску подали, и Гагарин еще несколь¬
ко раз поклонился мне, снимая шляпу. Это расклани-
вание еще более убедило меня, что вопрос обо мне ско¬
ро должен быть решен и решен не весьма дурно; ина¬
че князь Гагарин стал ли бы раскланиваться с кре¬
постным арестантом по собственной своей инициативе.
А время идет своим чередом. Заседания комиссии
прекратились совершенно. Как-то проскользнуло выска-
з[ыв]ание которого-то из плац-адъютантов, что уже дру¬
гая комиссия рассматривает или будет рассматривать
эю дело.
Прекращение занятий комиссии хотя показывало,
что дело вступило в новый фазис, но не стало развле¬
299
чения смотреть, как съезжаются члены, много ли на¬
рода водят к допросу.
В один из вечеров в конце сентября после пробития
зари слышу окрик: «Номер 5!», затем по обыкновению
шаги и бряцание при отпирании дверей моего помеще¬
ния. Вносят мое платье при плац-адъютанте Вильбрех-
те, на его добродушном лице — вроде радостной
улыбки.
Я его спрашиваю: «Что, капитан, меня выпускают,
что ли, так надобно и белье свое надевать?» (После
того как нам дали вместо арестантского платья и бе¬
лья холстяное белье и проч. из офицерских госпиталь¬
ных палат, то при одевании в комиссию я белье не на¬
девал свое.)
— Нет, зачем же, впрочем, как хотите, вас требуют
в комиссию.
— Да сегодня и заседания нет, видите ли: там
темно.
— В этих окнах, что сюда, холодно, то комиссия за¬
нимается в тех задних комнатах.
— Ну, ладно, пойдемте, капитан.
Покинув статью о железных дорогах в Северной
Америке, которую я читал перед приходом плац-адъю¬
танта, пошли мы в двухэтажный дом, куда водили нас
для допроса, но везде было темно.
— Видите, капитан, нет никого, — говорю я.
— Верно, они у коменданта; пойдемте туда.
Пошли к почтенному Ивану Александровичу Набо¬
кову. Из прихожей вошли мы в комнату, из которой
направо отворенная дверь в гостиную, а налево каби¬
нет. В гостиной были гости, и когда доложили Набо¬
кову, что меня привели, то я видел, как дамы, сидев¬
шие в гостиной, с любопытством оборотились к двери.
Набоков поспешил выйти к нам и тотчас же сделал за¬
мечание плац-адъютанту: «Зачем вы через парадную
лестницу, я сказал, чтобы через черную».
Затем он пошел со мной в кабинет, взял со стола
бумагу и невнятно из нее прочитал, что я свободен от
ареста по высочайшему повелению. Я его спрашиваю,
когда же кончится рассмотрение дела судебною комис¬
сиею, а он мне говорит: «Вам какое дело?» Я отвечаю,
что не считаю себя свободным распорядиться собою до
совершенного окончания рассмотрения дела. Он мне
на это: «Да вы совершенно свободны». Тут у меня ро¬
дилась мысль, нет ли еще чего-либо в бумаге, может
быть, кроме меня выпускают и других, то не вредно
300
было бы прочитать бумагу самому. Я и говорю с са¬
мым наивным тоном, что нехорошо расслышал, как его
высокопревосходительство прочитал, и прошу позволе¬
ния прочитать самому. А он мне на это: «Нет, я сам
прочитаю», — и прочитал, насколько он мог, ясно и с
расстановкой, что по докладу комиссии о совершенной
невинности (тут видно было, что из нескольких фами¬
лий он ищет мою) государь император высочайше
или всемилостивейше, не припомню, повелеть соизволил
поименованных освободить от суда и от ареста. Не¬
чего делать — пришлось удовлетвориться.
Потом он предложил мне дать расписку, что я ни¬
кому не буду рассказывать ни того, где я был, ни о чем
меня расспрашивали, и что я отвечал, и что я всем до¬
волен. (Свежо предание, а верится с трудом.) Я спра¬
шиваю: «Зачем же эта расписка?» Набоков говорит:
«А затем, что вас без этой расписки не выпустят». Не¬
чего делать — подписал вынужденную расписку, кото¬
рую я, подписывая, считал необязательною.
Тогда он, вручив мне шпагу из коллекции разного
оружия, хранившегося в его кабинете от арестованных
офицеров, спрашивает:
— А что, будете теперь читать Фурье?
— Отчего же не читать? — отвечаю я. — Читать
только с толком и не увлекаться фантазиями.
— Нет, уж лучше не читайте. Прощайте, очень рад,
что вы свободны.
Я спрашиваю, могу ли я сейчас же получить мои
вещи (белье, книги) и деньги.
— Нет, уж вы приезжайте завтра и все свое полу¬
чите, а казенное сдадите.
Не зная, где приклонить голову, потому что, пожа¬
луй, никто из знакомых не пустит к себе, чтобы не
быть компрометированным в то время террора, и не
зная, в Петербурге ли мой брат Алексей, я выпросил у
плац-адъютанта несколько рублей до следующего дня.
V
Выйдя из крепости, я нанял извозчика в Михай¬
ловскую улицу, в гостиницу Клея (где теперь Евро¬
пейская гостиница), узнать о брате. Какова же была
моя радость, когда оказалось, что он не только квар¬
тирует в этой гостинице, но даже дома!
Номер, занимаемый братом, был в самом верхнем
этаже главного корпуса и состоял из маленькой пер-
301
вой комнаты, разделенной перегородкою на прихожую
и спальню, и второй комнаты побольше с итальянским
окном. В этой-то комнате сидел брат на диване и рас¬
кладывал пасьянс. Увидев меня, первый вопрос его
был: «Ты бежал из крепости?»
— Какое бежал, сами выпустили, значит, не ну¬
жен, признали невинным.
— Да ты меня не обманывай, лучше расскажи, в
чем дело, может быть и уладим, что не поймают.
— С чего ты выдумал, что я бежал; меня выпусти¬
ли, я же тебе не шутя говорю.
— Да, помилуй, как же тебе верить? Все говорят
положительно, что ты приговорен к расстрелянию, а
некоторые уверяют, что ты расстрелян.
— За что же? Я тебе опять повторяю, что меня при¬
знали невинным и освободили от суда и от ареста.
— Признаюсь, я долго не верил всем россказням,
но когда все в один голос, люди совершенно между со¬
бою незнакомые, твердят одно и то же, то поневоле
пришлось задуматься и полагать надвое, что или все
вздор городят, или что ты увлекался и скрывал даже
от меня заговор, в котором ты такое серьезное прини¬
мал участие. И признаюсь, как мне в комиссии пока¬
зали тетради, написанные тобою, то я подумал: ну
пропал человек; ежели писал так много, то, верно, или
проврался, или, пожалуй, вздумал этот народ в свою
веру обращать, что невыгодно для тебя, как то, так и
другое.
— Да скажи, пожалуйста, что же наконец говорят
про меня, что в пору и подстрелить.
— Ни больше, ни меньше как то, что в предполо¬
женном временном правительстве ты назначен военным
министром.
— Ах, подлецы, подлецы. Да ни о каком времен¬
ном правительстве не было и речи при допросах, даже
и намека никакого не было. Если бы что-либо похожее
на то было, то неужели выпустили бы меня, да еще без
суда? Понимаешь ли всю глубину гнусности и подло¬
сти, с которою эти рассказы пущены в ход? За невоз¬
можностью легально обвинить в чем-нибудь преступ¬
ном, распускают слухи такие, которые возмущают вся¬
кого мало-мальски человека со смыслом, к какому бы
классу он ни принадлежал, и делают того, про кого
распускают слухи, даже смешным, что еще хуже, чем
быть виновным. Да назови хоть кого-либо из расска¬
зывавших тебе. -
302
— Да вот, одного завтра ты сам увидишь, наш ку¬
зен Дмитрий Иванович, он теперь здесь с женой и
детьми; я вижу его часто, и он один из многих, от кого
я лично слышал то, что я тебе сообщил; а Дмитрии,
кроме разных своих знакомых, все это слышал и от
Настасьи Александровны Дейер, у которой знакомство
огромное и в сферах высоких; так она рассказывала
все это за положительно верное, и, кроме того, что ты
будто бы требовал смерти Казнакова 13, как человека,
соперничества которого ты боялся.
— Не знаю, право, чему удивляться: гнусности ли
вымысла или легковерности, с которою принимается и
распространяется самый пошлый и нелепый вздор.
Нужно тебе сказать, между прочим, об Казнакове, что
это самый милый человек, и я лично не только уважаю,
но люблю его.
Знаешь ли что? Приплетение Казнакова не есть
ли измышление самой Настасьи Александровны за то,
что я не поклоняюсь ее авторитету?
— Пожалуй, что так, потому что, кроме Дмитрия,
никто не называл даже фамилии Казнакова. Я, на¬
сколько тебя знаю, уверял Дмитрия, что все. это вздор,
сплетни, что меня самого допрашивали, и если бы было
что-либо похожее на эти выдумки про тебя, так, веро¬
ятно, меня, как брата твоего, пощупали бы на эту
тему, но ничего подобного не было. Так можешь себе
вообразить, Дмитрий на это улыбается, полагая, что я
или хочу его перехитрить или сам заблуждаюсь. Так
крепко убедила его Настасья Александровна.
— Ну постой же, кузинушка, я тебя проберу при
первой же встрече, будешь ты на меня сплетничать!
— Завтра утром Дмитрий Иванович будет у меня,
то не уезжай из дома, пока он не побывает.
— Ладно.
Из рассказа о пребывании моем в течение почти по¬
лугола в крепости видно, что с моей стороны была все¬
возможная забота о сохранении спокойного расположе¬
ния духа, насколько было это возможно, что и было
мною соблюдено до последней минуты; но как я уехал
из Петропавловки, вошел к брату и чувствовал, так ска¬
зать, осязательно, что я опять на свободе или, правиль¬
нее сказать, не в одиночном заключении, то меня охва¬
тило лихорадочное состояние: я не мог достаточно на¬
говориться с братом, расспрашивал его, перебивал его
своими рассказами, опять расспрашивал о всем, что
делается на белом свете, что толкуют об нашем деле.
303
Долго, долго за полночь мы беседовали, наконец брат
утомился и лег спать, я тоже лег, но почти до утра не
мог заснуть, беспрестанно вспоминал то то, то другое,
что хотел не откладывая рассказать брату, чтоб не по¬
забыть, или об чем считал необходимым расспросить
брата сейчас же, звал брата: «Ты спишь, ты спишь?..»,
добивался, что он отзовется, и начинал ему рассказы¬
вать или его расспрашивать, так что брат несколько
раз уговаривал меня спать самому и ему дать спать.
Я замолкал и снова не утерпливал и опять пускался в
расспросы или рассказы, но при рассказах не доволь¬
ствовался процессом рассказыванья, но допрашивал
брага, слышит ли он, и требовал ответов. Несмотря на
бессонную ночь, я встал рано, чуть только можно было
одеваться и умываться без огня. Начав причесывать
свои длинные кудри, отросшие за время заключения,
подметил в зеркало, что у меня начинает образовы¬
ваться просвет посредине головы.
Брат еще умывался, а я уже сидел за самоваром.
Звонок, и входит двоюродный брат Дмитрий Иванович,
об котором уже шла речь между нами. Брат Алек¬
сей говорит ему, чтоб проходил во вторую комнату, но
шепнул ему: там Фиеско14; тот входит и видит сидя¬
щего на диване плотного малого, в красной канаусовой
рубашке, с черными кудрями почти до плеч и с густой
черной бородой. Дмитрий струсил, в то время никола¬
евского террора, под влиянием рассказов о замыслах,
заговорах и прочее, неожиданно увидать у человека,
бывшего по политическому преступлению в крепости,
личность, которая, на его взгляд, не обещала ничего
успокоительного, могло действительно озадачить доб¬
рого провинциала. Он начинает семенить ножками,
раскланивается и не знает, оставаться ли ему или
удрать, чтоб не быть скомпрометированным. Я говорю
ему:
— Здравствуй, Дмитрий, или ты не узнаешь меня?
Тот, продолжая раскланиваться:
— Извините, не имею чести знать.
— Да полно притворяться, или ты под влиянием
сплетен Настасьи Александровны думаешь, что я в са¬
мом деле расстрелян? Нет, погоди, я еще с ней по¬
считаюсь, чтоб она не чесала язык на мой счет.
Тут Дмитрий узнал меня, бросился обнимать, рас¬
спрашивать, как я освобожден, и проч., и проч. Подоб¬
роте своей, он уверял, что Настасья Александровна так
жалела обо мне и ничего злого против меня не расска¬
304
зывала, а, повторяя рассказы других, только высказы¬
вала свое участие ко мне.
— Не просил и не желаю я такого иезуитского уча¬
стия; не говорю про посторонних, которые, не зная
меня вовсе, могли принимать за правду слова ее, но ты
до такой степени был ею убежден против меня, что не
хотел верить брату Алексею, бывшему ближе к делу,
чем Настасья Александровна.
— Да полно, пожалуйста, полно, успокойся, Па¬
вел,— говорит мне Дмитрий. — Я тебя уверяю, что На¬
стасья Александровна так обрадуется, узнав, что ты
свободен.
— Да, свободен, как медведь на цепи с продерну¬
тым в нос кольцом, с тою маленькою разницею, что,
чувствуя цепь и кольцо, менее считаю себя медведем,
нежели эти укротители, благополучно свирепствующие.
Взяв на целый день карету, первый визит сделал к
фотографу Таутендею и снялся, чтоб увековечить па¬
мять о всем рассказанном; потом отправился к парик¬
махеру, чтоб привести свою физиономию в форменный
вид; затем поехал на Васильевский остров, на бывшую
мою квартиру, чтобы забрать мои вещи, если они там,
или разыскать их. Вещи мои были на сохранении у хо¬
зяина дома Траншеля, но он отказался мне их выдать
без свидетельства полиции или III отделения. Возвра¬
щаясь с Васильевского острова, проехал в департамент
Генерального штаба, и теперь, чрез тридцать почти лет,
помню, какую радушную встречу сделали мне все, на-
начиная с начальствующих лиц, уже не говорю о то¬
варищах, которые встретили меня совершенно как вос¬
кресшего из мертвых родного брата, но даже до писа¬
рей, курьеров и сторожей включительно.
Расспросам не было конца. Сколько раз пришлось
мне повторять рассказ свой: начальствующим каждому
отдельно в кабинете, а товарищам — всем им, толпив¬
шимся около меня. Мое освобождение тем более было
неожиданно, что весь вздор, которым начинила Наста¬
сья Александровна Дмитрия, был распускаем и удосто¬
верялся и в департаменте Генерального штаба, и рас¬
сказ этот был внесен в департамент на другой, ежели
не в самый же день ареста. И кем же? Офицером Ге¬
нерального штаба, Циммерманом, ныне корпусным
командиром, а тогда штабс-капитаном, который в под¬
тверждение достоверности источника, из которого им
почерпнуты были эти сведения, ссылался на полицей¬
мейстера Поля (обращаю внимание на этот источяик,
305
так как полицеймейстер есть орган министерства вну¬
тренних дел). Последствием моей поездки в департа¬
мент было, что начальство уговорило меня сделать ви¬
зиты каждому из членов комиссии за ходатайство о
моем освобождении. Хотя, по правде сказать, как то¬
гда, так и теперь не понимаю, за что было благода¬
рить гг. членов комиссии; но в благодарность за ра¬
душный и сочувственный прием, сделанный мне, я со¬
гласился, тем более что к двум из них поневоле при¬
ходилось ехать: к Дубельту за свидетельством на по¬
лучение от Траншеля моих вещей, а к Набокову за
деньгами и вещами, оставленными в крепости.
Приезжаю к Дубельту. Эта старая лиса встречает
меня с распростертыми объятиями: «Как я рад, капи¬
тан, что я вижу вас свободным, у меня сердце болело,
видя вас в заключении, вы внушили во всех нас такую
к себе симпатию, как вы держали себя во все время,
что мы все были рады, получив соизволение государя
императора на ходатайство наше о вашем освобожде¬
нии от суда и ареста...»
Я воспользовался этой его фразой, чтоб сказать,
что я именно и хотел благодарить за ходатайство о
моем освобождении и вместе с тем просить о выдаче
мне какого-либо письменного удостоверения, что я имею
право получить мои вещи, хранящиеся у Траншеля.
— Вы свидетельство получите в канцелярии, но я
еще хотел высказать, каким уважением я проникнулся
к вам, и вы давно были бы выпущены, но главное —
вас компрометировало знакомство с этим мошенником
Петрашевским.
Меня возмутило это нахальство Дубельта, осмелив¬
шегося так называть человека, которого мизинца он не
стоил, и решившегося высказать это человеку, от кото¬
рого мог не получить возражения, полагая, что, проси¬
дев полгода в крепости, он не будет сейчас же опять
туда проситься, но в этом случае он ошибся. Я сообра¬
зил, что ежели по ходатайству комиссии, шесть меся¬
цев производившей следствие, я по высочайшему пове¬
лению освобожден как невинный, то на другой же день
не засадят меня снова, по единоличной воле Дубельта,
тоже участвовавшего в ходатайстве об освобождении
меня, а потому я ему и ответил:
— Может быть, ваше превосходительство считаете
себя вправе так называть Петрашевского на основании
данных, добытых следствием, но я привык знать Пет¬
рашевского как человека умного, образованного, распо¬
306
ложенного к добру и много делавшего добра, и теперь
не имею причин переменить свое мнение о нем.
— Помилуйте, это был просто начитанный дурак.
— Я не ставлю своего мнения авторитетом для дру¬
гих, по полагаю, что человек, который кончил курс в
лицее и выдержал экзамен на кандидата в универси¬
тете, дураком быть не может.
Дубельт, видя, что и полугодовое заключение не
сделало меня подлецом, переменил тему беседы и го¬
ворит:
— Прошу вас, капитан, во всех случаях жизни,
ежели вам нужна будет в чем-нибудь поддержка, об¬
ращайтесь ко мне, я за особенное удовольствие почту
быть вам полезным.
— Покорнейше благодарю, ваше превосходитель¬
ство, но я постараюсь не утруждать вас моими прось¬
бами.
И бог миловал, более я не имел объяснений с ним.
Затем меня провели, кажется, в 1-ю экспедицию
этой тайной канцелярии за получением свидетельства
на выдачу мне вещей.
Пока какой-то чиновник писал мне свидетельство па
право получения моих вещей, я, прохаживаясь из угла
в угол по комнате, успел прочитать следующую над¬
пись на одном деле: «Дело по доносу губернского сек¬
ретаря Федоровича о преступных разговорах...», затем
следует поименование нескольких фамилий, из которых
я в настоящее время припоминаю некоего Жеребцова,
девицы Фридебург и какого-то ксендза. Без сомнения,
я не замедлил сообщить моим знакомым вычитанный
мною заголовок дела, главное — в тех видах, что не
окажется лн милый губернский секретарь Федорович,
занимающийся доносами о преступных разговорах, в
числе людей, принимаемых или встречаемых кем-либо
из моих знакомых.
Приехав за своими вещами в крепость и получив
сполна деньги и вещи, не помню, заходил ли я к Набо¬
кову благодарить; вероятно, заходил, но только визит
этот не оставил никакого по себе впечатления, да и не
мог оставить.
Из прочих членов внушал некоторую симпатию
князь Павел Павлович Гагарин, как наиболее дельный
и вовсе не «солдат», как были другие. Выражение это
употреблено мной в том смысле, что Ростовцев, Ду¬
бельт и Долгорукий, как военные генералы, воспитан¬
ные в дисциплине, отрешающейся от всякого рассуж¬
307
дения о предметах, на которые не было непосредствен¬
ного указания в особом предписании, в особенности
этот догмат считали они обязательным для младших.
Но нечего делать, надобно было ехать и к остальным;
а как нарочно князя-то Гагарина я и не видел, может
быть, он и не хотел принимать. Ростовцев по своей пе¬
дагогической деятельности пустился в советование мне
проситься на Кавказ, чтобы загладить свое преступле¬
ние; но я прямо высказал, что из прочитанного мне На¬
боковым отрывка высочайшего повеления я понял, что
комиссия, исследовавшая это дело, нашла меня совер¬
шенно невинным, а потому и ходатайствовала перед
государем императором об освобождении меня от суда
и от ареста; следовательно, о заглаживании какого
преступления его превосходительство говорит — я не
знаю; да и здоровье моих глаз пострадало бы от того
климата.
По правде сказать, я и не прочь был бы послужить
на Кавказе, но, если бы я туда уехал, это могли бы
объяснить ссылкою меня туда за преступное участие в
деле Петрашевского, а наименее разумные нашли бы
в этом подтверждение рассказов, распускавшихся обо
мне; следовательно, взамен гласности, я должен был,
для опровержения нелепых россказней, оставаться в
Петербурге и показываться наиболее в публичных ме¬
стах, театрах, маскарадах и т. п., что я по возможно¬
сти и делал, хотя мне это стоило порядочных денег, но,
бывши холост и имея в руках доставшийся мне при
разделе имения капитал, я проживал его не стесняясь.
При этом расскажу практическое замечание: первые
прибывающие в каждое публичное место лица, кроме
лакеев, — это шпионы, которых иногда разом пускают
из особых, но не из общих входных дверей и, без со¬
мнения, без входных билетов, а отличаются они от ла¬
кеев тем, что лакеи в вязаных перчатках и без шляпы,
а шпионы в лайковых перчатках и со шляпами в ру¬
ках. Я, бывало, нарочно приезжал поранее, чтоб ви¬
деть впуск шпионов; но я полагаю, что это были низ¬
шие сорты их, вероятно, агенты позначительнее входи¬
ли с публикою. Видал нередко в числе впускаемых и
негодяя Антонелли, и должен сознаться, случалось, на¬
бирал я знакомых из молодежи и, взявшись с ними под
руки, подводил к Антонелли и просил их вглядывать¬
ся в его наружность, чтоб он не втерся в кружок их
знакомств, так как это тот самый шпион Антонелли, по
доносу которого выдумано дело Петрашевского и по
308
которому так много невинно пострадавших. Ни полу¬
слова возражения не произносил Антонелли; не знаю,
жаловался ли он на меня кому-либо, но мне никто не
делал даже намека на то, что на меня жаловались.
А бедный Петр Иванович Белецкий, которого выпу¬
стили из крепости, продержав не более месяца, имел
несчастье встретиться с Антонелли, и этот негодяй ос¬
меливается обратиться к Белецкому как знакомый. Бе¬
лецкий, видевший Антонелли всего один раз, когда тог
навязался, так сказать, ко мне на вечер 16 апреля, из¬
виняется, что не знает, кто он такой, и Антонелли имеет
нахальство назвать свою фамилию, напомнив, что был
в его квартире. Белецкого это взорвало, и он высказы¬
вает:
— Как! Вы, гнусный, подлый человек, осмеливае¬
тесь подходить ко мне, — прочь, негодяй1
Ударил ли Белецкий шпиона или нет, не знаю;
жаль, ежели не ударил, потому что по жалобе Анто¬
нелли Белецкого сослали в Вологду на подножный
корм, и он должен был прожить там до весны 1853 го¬
да, когда ему позволили возвратиться в Петербург.
Затем мне остался сделать еще один благодарст¬
венный визит — это к князю Долгорукому, тогда това¬
рищу военного министра и кандидату на должность
военного министра, которым он и сделан вскоре. От
этого визита нельзя было отступиться, как от визита
Гагарину, потому что «начальство», и мне хотелось
узнать, на каких условиях я возвращен в Генеральный
штаб, хотя частным образом мне это было известно
(в то нелепое время формулярные списки считались
канцелярскою тайною). После нескольких неудачных
поездок наконец успел я добиться, что Долгорукий меня
принял в канцелярии военного министерства. В то же
время являлся к Долгорукому какой-то старый высо¬
кий комиссариатский полковник с докладом о ремеш¬
ках, пряжках и проч., оставшихся по расформировании
каких-то частей после венгерской кампании. Князь
Долгорукий не имел настолько служебного смысла,
чтоб обратиться сперва к старому полковнику, и начал
было беседу со мной, но я не припомню теперь, каким
мимическим приемом уклонился от беседы, и Долгору¬
кий, выслушав доклад о ремешках, взяв меня за руку,
отвел к окну и начал что-то покровительственное про¬
поведовать. Я на это и говорю, что я отчасти рад, что
попался в эту историю. Долгорукий на это:
— Чему же тут радоваться?
309
— А тому, ваше сиятельство, что по доносу я мог
подвергнуться заключению и в одиночку, тогда могли
бы меня в кулек, да и в воду, а попавшись в эту исто¬
рию, я был включен в список, по которому требовалась
отчетность, кто куда девался, тем более что дело было
поручено особой комиссии, которая хотя сколько-ни¬
будь могла придержаться справедливости.
— Да, комиссия отнеслась к делу добросовестно.
— Жаль, ваше сиятельство, что не всех еще выпу¬
стили, мне кажется, что все они столько же невинны,
как и те, которые выпущены.
— Какое вам до этого дело? Я жалею, что вы по¬
пали в эту историю, будете вперед осторожнее.
И, пожав мне руку, ушел в кабинет. Я тоже напра¬
вился к выходу, но, вспомнив, что позабыл спросить
его, на каких условиях я выпущен, вернулся назад к
дверям кабинета, и стоявший у дверей сторож, под
впечатлением того, что я так дружно беседовал с Дол¬
горуким, без всякого доклада отворил передо мною
дверь. Я без сомнения вхожу и вижу, что директор
канцелярии барон Вревский (убитый потом при р. Чер¬
ной) стоит у стула возле окна, поставив на стул ногу,
и Долгорукий возле него, облокотись на его колено, и
ведут беседу.
С совершенно скромным видом я говорю:
— Извините, ваше сиятельство, что я решаюсь еще
раз беспокоить вас, но я упустил доложить вам об од¬
ном обстоятельстве, весьма для меня важном, и я не
знал, когда бы мне представился другой случай явить¬
ся к вашему сиятельству.
— Почему же вы взошли ко мне без доклада?
— Имею честь просить в том извинения: вследствие
полугодового заключения у меня совершенно вышли из
памяти обряды, соблюдаемые при представлениях.
— Как вы смели явиться ко мне без доклада? — по¬
вторил Долгорукий, возвыся голос.
— Я извинялся перед вами. Хотите меня слушать,
гак слушайте, а нет, так я уйду, — возразил я, глядя
на него в упор.
— Что вам угодно сказать? — продолжает он, пони-
зя тон.
— Мне хотелось бы знать, на каких условиях мне
возвращена шпага и я возвращен в прежнее место слу¬
жения.
— Вам возвратили шпагу, вот и все тут.
— Нет, не все, ваше сиятельство. Всякий служа¬
310
щий, а тем более офицер Генерального штаба, тогда
может быть полезен делу, когда он пользуется полным
доверием своего начальства, и ежели мои служебные
отношения изменятся против того, как я привык в те¬
чение одиннадцати лет, что я офицером, то я этих ве¬
щей переносить не могу.
— Я могу вам сообщить, что сделано уже распоря¬
жение, чтобы этот арест никуда не записывать и чтоб
он не имел никакого влияния на вашу службу, и я при¬
бавлю, что, при ваших способностях и познаниях, вы,
обратив теперь на себя внимание, можете только вы¬
играть по службе.
И в таком роде наговорил мне с три короба любез¬
ностей; затем мы расстались очень дружелюбно.
Для пополнения моего рассказа нельзя миновать и
первой встречи моей с милой кузиной Настасьей Алек¬
сандровной Дейер. Некоторое время я оставался жить
у брата; однажды приходит двоюродный брат Дмитрий
Иванович и просит нас к нему вечером проститься, так
как он уезжает. Брат сказал, что зайдет проститься
днем, а вечером он не свободен, я же обещал быть.
Пришел я не поздно. Через несколько времени являет¬
ся Настасья Александровна, с нею сестра — старая де¬
вица, дочь — молодая девица, один, а может быть и
два сына — не припомню. Без сомнения, она знала, что
я выпущен и что она меня в этот вечер увидит. Увидав
меня, чуть ли не бросилась в объятия; как она рада,
что видит меня, она уже отчаивалась когда-либо иметь
это удовольствие после тех рассказов, которые обо мне
ходили в обществе; неужели было какое-либо основа¬
ние для тех ужасных рассказов, но где же я был, что
со мной было; одним словом, засыпала меня вопроса¬
ми, и все это с таким любезным тоном, родственным
участием, что, право, иной бы растаял, но так как я
уже имел против этой барыни «зуб», как говорится, то
я самым любезным же тоном, к какому был способен,
отвечаю: «С меня взяли подписку не рассказыва1ь, где
я был, по какому случаю, об чем со мною беседовали,
но относительно основательности рассказов, которые
принимали за непреложную истину, то подобный слу¬
чай был в Лондоне: один господин публикует в газе¬
тах, что он изобрел стерляжьи порошки, и кто любит
стерлядей, может обращаться к нему (прописан адрес)
за порошками, по такой-то цене банка или фунт, не
припомню, затем насыпать этих порошков хоть в поло¬
скательную чашку, и сейчас же образуются стерляди,
311
которых и можете брать сколько угодно, варить уху
или приготовлять иначе, как кто любит.
На другой день с самого раннего утра осаждают
его квартиру; звонок за звонком. Часу в десятом яв¬
ляется какой-то господин и просит стерляжьих порош¬
ков.
— Извините, у меня их нет,—отвечает хозяин.
— Как, неужели я опоздал?
— Нет, вы не опоздали, но у меня их и не было.
— Как не было? Я сам читал публикацию, что по
такой-то цене такое-то количество продается стерляжь¬
их порошков.
— Действительно, публикация была, но вот здесь,
за ширмами, сидит мой приятель, с которым я держал
пари, что, какую бы нелепость ни напечатать, всему
поверят, и вы сегодня двадцать седьмой».
Предоставляю каждому вообразить, как успокои¬
тельно подействовала эта притча на барыню, но она с
улыбкой сказала:
— Как это странно: берут подписку не опровергать
нелепых слухов.
— В этом имеется логичность: ежели что нелепо, то
не заслуживает опровержения. Что же касается меня
лично, то моя наличность опровергает всякую мысль
о виновности моей в чем бы то ни было.
Так что любопытство барыни, хотя было подправлено
и участием, и желанием опровергнуть обвинения, ко¬
торые будто бы тяготели на мне, не было удовлетворе¬
но ни на сколько. Но, выслушав притчу о стерляжьих
порошках, она, без сомнения, не сделалась моим дру¬
гом.
Расскажу еще два случая, подтверждающие, в ка¬
кой мере были распространены нелепые сплетни про все
это дело, именуемое «делом Петрашевского», и про
меня в особенности, хотя из откровенного моего рас¬
сказа нет возможности вывести, да и не выведено ко¬
миссиею, каких-либо обвинений на меня. Но в распу¬
скаемых сплетнях, особенно в том, что я назначался
военным министром в предполагаемом «временном
правлении» и что я уже расстрелян, видна такая гнус¬
ная ехидность, чтобы все это дело, а меня в особенно¬
сти, право, не знаю за что, представить не только пре¬
ступным, что имело значение в наивысших и в наиниз-
ших слоях по причинам противоположным, но в глазах
средних слоев, в которых политическая преступность,
особенно в направлении прогрессивном, не роняла бы
312
людей в их мнении, создание химеры, как временное
правление, с таким персоналом, что штабс-капитан, ни¬
чем не заявивший себя, предназначался в военные ми¬
нистры,— это вызывало просто смех и унижало до
глупого, смешного сочинителей и членов такого вре¬
менного правительства.
Был в те времена в Питере премилый человек Пла¬
тон Иванович Одинцов, выпущенный из Пажеского кор¬
пуса еще во времена наполеоновских войн, а тогда слу¬
живший, кажется, смотрителем Прачешного дома15;
был он когда-то с порядочным состоянием, которое
прожил на устройство спектаклей любителей и других
провинциальных увеселений (в г. Вологде); потом же¬
нился на дочери губернатора, которая была для него
потом действительным ангелом-хранителем. В тридца¬
тых и сороковых годах несколько племянников Плато¬
на Ивановича служило в Преображенском полку, и по¬
чти весь полк звал его «дядюшкой». Я тоже звал его
«дядюшкой», потому что он по знакомству с моей ма¬
тушкой и другими моими родными брал меня, в каче¬
стве племянника, из корпуса в отпуск по праздникам,
вместе с родными племянниками своей жены. А в кон¬
це сороковых годов этот племянник его жены сам был
женат и со мною был в хороших отношениях, фамилия
его Винтер.
Однажды Платон Иванович приходит к Винтеру и
застает его с женой за обедом. Хозяева видят, что дя¬
дюшка что-то вздыхает, морщится, часто вынимает
платок... Спрашивают его: «Что с вами, дядюшка?» —
«Ох, ох, какого милого, хорошего человека мы лиши¬
лись...» И опять утирается платком. «Кого, кого?» —
спрашивают Винтеры. «Да Павла Алексеевича, его се¬
годня на крепостном валу расстреляли».
И зарыдал. За ним прослезился Владимир Ивано¬
вич Винтер, а с женой его, Елизаветой Аполлоновной,
сделалась истерика.
Это было незадолго до моего освобождения из кре¬
пости.
' ’ Другой случай. Идя по Невскому, встречаю моло¬
дого офицера Финляндского полка, Владимира Ев¬
стафьевича Фридрихса. Выходя из корпуса, я оставил
его там только что переведенным из малолетнего Алек¬
сандровского корпуса. Мы были тогда на «ты», и я его
звал Володя.
— Здравствуй, Володя, — говорю я.
313
— Здравствуйте, — отвечает тот.
Я вижу, что его что-то коробит.
— Что, был ты в походе топтания литовской грязи?
Тогда была только Царскосельская железная доро¬
га, и во время венгерской кампании гвардия была мо¬
билизована, дошла до Литвы, но за сложением оружия
Гергеем вернулась.
— Нет-с, я не был, я был нездоров и оставался
здесь.
Прошли немного молча.
Затем Фридрихе говорит:
— Вами недовольны.
— Кому это я не угодил?
— Да вы строго экзаменуете.
— Кого же и когда я экзаменовал, да еще и
строго?
— Мой товарищ Кушакевич не выдержал у вас эк¬
замена потому, что готовился по курсу своего отца.
— Ежели ваш товарищ Кушакевич далее курса сво¬
его папаши ничего не смыслит в математике, то не муд¬
рено, что он не выдержал экзамена, потому что
этот курс не годится в математические буквари. Впро¬
чем, я не экзаменовал ни Кушакевича, ни кого дру¬
гого.
— Как, разве вы не имеете лекций в академии?
.— Не имел и не имею.
— Да ведь вы Усовский?
Действительно, покойник Усовский имел сходство
со мною: мы были одного роста, оба брюнеты, оба
штабс-капитаны Генерального штаба, оба в очках; так
что раз я заезжаю к нему (он тогда жил со старшею
своей сестрой) в какой-то праздник; на звонок отво¬
ряет мне его сестра и со словами «здравствуй» чуть
меня не поцеловала, но как она была уже ие молода,
то я и уклонился.
Тогда я говорю:
— Нет, я не Усовский, ио ежели вы меня не узнае¬
те или не хотите узнать, то извините, что я вас обес¬
покоил.
И отхожу.
Фридрихе хватает меня за руку и говорит:
— Позвольте, я хочу теперь непременно узнать. Вы
удивительно похожи на одного офицера Генерального
штаба, на Кузмина, но я официально знаю, что он рас¬
стрелян.
— А я знаю в Генеральном штабе одного только
314
Кузмина, который теперь держит вас за руку, и дру¬
гого Кузмина по сие время в Генеральном штабе не
было и нет.
После того долго без улыбки мы не могли встре¬
чаться с Фридрихсом.
Все эти сплетни, выдумки и проч. и проч. могли
иметь место в то время, когда о деле ничего не было
известно; даже для членов комиссии многое могло быть
неразъясненным. Но рассказ, что я предназначался в
военные министры, продолжал возобновляться при каж¬
дом возможном и невозможном случае.
После признания меня невинным целою комиссиею
меня подвергли особому полицейскому надзору, так что
раз забрался ко мне в квартиру (в доме Котомина у
Полицейского моста) агент Павел Федорович Миллер и
начал расспрашивать кухарку о моем житье-бытье: кто
у меня бывает, много ли у меня денег, откуда я полу¬
чаю деньги и т. п.; кухарка мне рассказала, и я на
другой же день заявил об этом Бергу, бывшему тогда
генерал-квартирмейстером Главного штаба, и просил
его сношения с кем следует, для ограждения меня от
таких визитов; кроме того, я поехал к полковнику Полю
(приятелю Циммермана) и сказал ему, что в его отде¬
лении делаются набеги на квартиры людей, как выше¬
названный Миллер, пользующийся, без всякой дву¬
смысленности, дурною репутациею, то ежели Миллера
или кого подобного я застану в квартире или он су¬
нется при мне в мою квартиру, то я прошу его распо¬
ряжения, чтобы, по моему заявлению, мне оказали из
ближайшей будки содействие к задержанию, а то, чего
доброго, в виде самообороны, придется, пожалуй, рас¬
порядиться и самому, что может отозваться некоторым
неудобством для непрошеного посетителя. Поль заве¬
рял, что никаких распоряжений о выспрашивании при¬
слуги им делаемо не было и что это просто мошен¬
ники.
Но припомню, что беседу свою с Полем я начал за¬
явлением, что я штабс-капитан Кузмин, тот самый, ко¬
торый по делу Петрашевского сидел в крепости.
— Да, но вы оправданы, — говорит Поль.
— Нет, я не оправдан, а признан невинным след¬
ственною, а не судною комиссиею, по докладу которой
государю императору я освобожден от суда и от аре¬
ста, а потому, так как я не был обвиняем, то не мог
быть и оправдан. Установивши, таким образом, вопрос,
я и обращаюсь... и т. д.
315
Несколько раз я отвлекался от изложения поводов
к возбуждению дела, так называемого «дела Петра¬
шевского». Перехожу теперь непосредственно к нему,
но все-таки надобно для уяснения его сказать несколь¬
ко вступительных слов. Министром внутренних дел был
в то время Лев Алексеевич Перовский, человек, же¬
лавший быть полезным деятелем на том важном посту,
на который был поставлен, но отсутствие в нем личной
подготовки к этой деятельности, а главное, отсутствие
учреждений, контролирующих правильность деятельно¬
сти разных органов правительственных и обществен¬
ных, увлекали нередко Перовского в личную мелочную
работу, вовсе не подходящую к деятельности мини¬
стра, или на путь противозаконных мероприятий.
В те времена, весьма не блаженные, в руках адми¬
нистративных органов сосредоточивалась кроме власти
распорядительной и исполнительной еще власть и су¬
дебная, да, пожалуй, отчасти и законодательная, по¬
тому что министр внутренних дел полагал себя имею¬
щим право и осуществлял это право — предоставлять
отдельным лицам, комиссиям и председателям этих ко¬
миссий полномочия, ставящие их выше закона. Так,
около того времени была учреждена, под председатель¬
ством «прескверной памяти» Ивана Петровича Липран¬
ди, бывшего старшим чиновником особых поручений
при министре внутренних дел, комиссия для разбора
раскольничьих дел. Этому Липранди было предостав¬
лено право хватать встречного и поперечного, который,
по мнению Липранди, мог бы в каком-либо отношении
быть полезным для его дела, и полномочия эти были
изображены в особой бумаге, которою Липранди был
снабжен и по предъявлении коей всякий обязан был
оказывать содействие на каждое требование.
Так как самою денежною из всех раскольничьих сект
была секта скопцов, то за них и взялся достойный Иван
Петрович и, без сомнения, драл с живого и с мерт¬
вого. Затрещали кованые денежные сундуки. Плати¬
лись, платились скопцы, и начали жаловаться — пода-'
вать прошения; многие из жалоб не имели последствий!'
наконец одна из жалоб, сочиненная бывшим тогда в
Петербурге совестным судьею, кажется, Измайловым,
не только заслужила внимание Сената, но вызвала по¬
становление: «Перовскому сделать выговор, а Липран¬
ди отдать под суд». Это случилось в начале весны
1849 года. Липранди, как старший агент министерства
внутренних дел, еще с лета 1848 года имел, в числе зна¬
316
комых Петрашевского, своего агента Антонелли, кото¬
рый и получил приказание от своего патрона предста¬
вить ему немедленно отчет о преступных разговорах,
веденных на вечерах у Петрашевского и при других
случаях, представившихся для наблюдения Антонелли;
для этого же устраивался вечер и у Антонелли под
предлогом празднования новоселья. На основании этих
материалов, пополненных собственною фантазиею, был
составлен обстоятельный донос о заговоре, имеющем
обширные размеры и пустившем корни в различных
местностях, во всех слоях населения, и что заговор тот
настолько созрел, что назначен день и час для приве¬
дения его в исполнение, и, при успехе, — в чем заго¬
ворщики не сомневались, — долженствовало учредиться
временное правительство, в состав которого и я дол¬
жен был войти в качестве военного министра.
Диверсия эта удалась как нельзя лучше, и мини¬
стерство внутренних дел полагало, что оно делает двой¬
ной выигрыш: 1) Когда поднят вопрос о заговоре, то
можно ли обращать хоть какое-либо внимание на то,
что открыватели этого заговора притесняли каких-ни¬
будь скопцов. 2) В течение нескольких лет шла борьба
Перовского против Орлова, яко шефа жандармов, и в
борьбе этой Перовский доказывал, что вся полиция
должна сосредоточиваться в министерстве внутренних
дел, которое одно обязано охранять внутреннее спокой¬
ствие и предупреждать всякий беспорядок и следить за
настроением общества чрез своих агентов, которые мо¬
гут удобнее проникать в каждый общественный кру¬
жок, и что жандармское ведомство ничего не делает,
чему может служить лучшим доказательством то, что
обширное «общество Петрашевского», давно существу¬
ющее и пустившее свои корни по всей России, во все
общественные слои, с целью ниспровергнуть благие уч¬
реждения самодержавия и самую православную цер¬
ковь, остается неведомым для III отделения; и только
усердию и верноподданнической преданности чинов ми¬
нистерства внутренних дел, с Перовским во главе и с
подручным в лице Липранди, отечество обязано откры¬
тием этого заговора, и представляется возможность
предотвратить опасность, грозившую государству, авгу¬
стейшему дому и православной церкви.
Казалось, и этот удар неотразим. Император посы¬
лает за Орловым и спрашивает, почему он не доложил
ему, ежели знает об этом обширном заговоре, во главе
которого стоит Петрашевский, у которого заговорщики
317
собираются по пятницам, кроме того, собираются у
других соучастников. Орлов докладывает, что никакого
особого «общества» под председательством Петрашев¬
ского не существует, а что по пятницам у него действи¬
тельно собираются, как в назначенный для приема
день, и собираются молодые люди, образованные, пре¬
имущественно служащие, и надобно отдать им спра¬
ведливость, лучшие из служащих. III отделение имеет
там своего надежного агента, но из докладов его вид¬
но, что ничего мало-мальски преступного там не про¬
являлось.
— Как! — возражает император. — А разговоры!
Какое разговоры, настоящие парламентские прения об
освобождении крестьян, уничтожении цензуры, заведе¬
нии присяжных; разве имеют право эти мальчишки
рассуждать об этом?
Орлов убеждает, что ничего опасного нет, что нель¬
зя же отказать в праве разговаривать в частном доме
о предметах, доступных пониманию, и что ежели бы
существовала хотя тень опасности, то он давно принял
бы меры. Может быть, при этих объяснениях Орловым
руководило желание парализовать подходец Перов¬
ского против него, Орлова.
Но министерство внутренних дел восторжествовало;
затем надобно было наиболее распространить во всех
слоях общества рассказы о серьезности задуманного
заговора, а с тем вместе представить участников не
только преступными, но, что еще хуже со стороны ми¬
нистерства внутренних дел, представить их в глупом
или смешном виде, по дерзости задуманного; с этою-то
целью и был распространен рассказ о проектированном
будто бы составе временного правительства и поимено¬
ваны лица, входящие в него. «Как бы ни был слух не¬
леп, всему поверят», или «Calomniez, calomniez, il en
restera toujours quelque chose» *. А потому нашлись ве¬
рящие этому вздору, а неверящие все-таки в свою оче¬
редь рассказывали, может быть даже с вариациями;
хотя, как я уже говорил, об этом предмете даже не воз¬
буждалось вопроса, по крайней мере относительно меня
и тех, кого случалось мне потом встречать и говорить
с ними о предметах допроса. Кроме того, распростра¬
нение слухов, хотя и неверное, об своевременном от¬
крытии обширного заговора и принятие целесообраз¬
ных мер к совершенному искоренению преступных за¬
мыслов льстило самолюбию многих.
* Клевещите, клевещите, что-то всегда останется (франц.) |3.
И. С. Кашкин
[КАЗНЬ ПЕТРАШЕВЦЕВ]
(В ЗАПИСИ Н. Н. КАШКИНЛ)
;у
влеченный политическим учением Фу¬
рье и сблизившись с кружком лиц,
группировавшихся около его старше¬
го лицейского однокашника М. В. Бу-
1 ашевича-Петрашевского, — Ахшару-
мовым, обоими Дебу, Европеусом *, Спешневым * и
другими, — юный Николай Сергеевич (Кашкин)
устраивал и у себя собрания для мирных бесед на со¬
циальные темы и однажды сам был на «пятнице» у Пет¬
рашевского. Любопытно, что к нему Н. С. Кашкин, по
его словам, попал совершенно случайно: бал у графи¬
ни Протасовой, назначенный на 8 апреля и на кото¬
рый он был приглашен, был, но болезни хозяйки, от¬
менен, и Н. С. Кашкнн, вспомнив, что Петрашевский
накануне звал его на свою «пятницу», поехал к нему,
не зная, как иначе использовать вечер. Эти собрания,
за которыми было установлено наблюдение, а также
посещение Петрашевского и знакомство с лицами, бы¬
вавшими у последнего, послужили поводом к арестова¬
нию Н. С. Кашкина в ночь на 23 апреля 1849 г. в квар¬
тире его родителей, живших тогда в Петербурге, на
Владимирской улице, в доме генеральши Берхман **.
• 29 января 18Т9 г. Н. G. Кашкин, по рекомендации Спешпенв
и Н. А. Милютина, был избран в действительные члены Русского
географического общества. (Подстрочные примечания сделаны
Н. Н. Кашкиным. — Сост.)
•* В том же доме, во дворе, жил тогда Николай Михайлович
Орлов (сын Михаила Федоровича и Екатерины Николаевны, урожд.
319
Присланный к нему жандармский офицер, разбудив
его, сказал: «Его сиятельство шеф жандармов граф
Орлов желает с вами говорить». Кашкин надел свой
внц-мундир и отправился с жандармом, но его привез¬
ли не к Орлову, а прямо в III отделение, откуда в ночь
с 23 на 24 апреля он был перевезен, одновременно с
другими товарищами, в Петропавловскую крепость.
В мае месяце он из Трубецкого каземата был переве¬
ден в летний каземат, а в сентябре или октябре — сно¬
ва в зимний. В строгом крепостном заключении, в пол¬
ном одиночестве пробыл он в течение 8 месяцев, мучи¬
мый допросами и лишенный даже свиданий с родите¬
лями, общение с которыми поддерживалось у неголишь
перепискою, разрешенною ему, впрочем, только через
два месяца после ареста (в июне), причем ответы
свои, проходившие, конечно, через жандармскую цензу¬
ру, он должен был писать на том же листе бумаги, на
котором писано было письмо родителей (преимуще¬
ственно матери); таким образом, у него отнималась
даже радость иметь при себе и перечитывать эти до¬
рогие для него письма, исполненные любви и нежной
заботливости к юному «государственному преступнику».
«За все восемь месяцев предварительного заключе¬
ния,— по словам Н. С. Кашкина посетившему его кор¬
респонденту «Русского слова» г. А. Панкратову *2, — он
не получал никаких вестей из внешнего мира, не видал
лица родных. Солдат приносил ему пищу, офицер сто¬
ял на карауле около его камеры. Ни одного слова тю¬
ремщики не сказали с арестантом». <,„>
Приговор по этому раздутому в выгодах следовате¬
лей и из политических соображений «делу», возникше¬
му как раз в эпоху европейского революционного дви¬
жения, как известно, отличался неслыханною жестоко¬
стью, поразившею даже привыкших ко многому совре¬
менников. Наряду с другими 22 товарищами Николай
Сергеевич, как государственный преступник, пригово¬
ром 19 декабря 1849 г. был осужден на смертную казнь
Раевской), который, видя, что у Н. С. Кашкина собирается моло¬
дежь, шутя предупреждал его, что на это наверно обратят внима¬
ние, гак как в окна видно, что гостей у него много, но что они
занимаются не игрою в карты, а, — horribile dictu [страшно ска¬
зать (дот.)), — чтением и беседой...
* Ниже мы пользуемся некоторыми рассказами Н. С, Кашкина
в изложении г, Панкратова, но с поправками, внесенными в это
изложение самим Николаем Сергеевичем при личных с нами бе¬
седах,
320
через расстреляние. Приговор этот был выслушан им,
как и другими осужденными, одетыми уже в саваны,
на эшафоте на Семеновском плацу, 22 декабря, вслед
за чем объявлено ему было о всемилостивейшей замене
смертной казни разжалованием его в рядовые, с ли¬
шением дворянства и ссылкою в кавказские линейные
баталионы. «Часов в пять утра, — рассказывал
Н. С. Кашкин г. Панкратову, — отворилась дверь мо¬
его каземата. «Пожалуйте», — пригласили. Куда пове¬
зут, — не сказали. Я надел свой виц-мундир, в котором
был арестован. В карету со мной сел солдат, а сзади
следовал жандарм верхом. Хотя было раннее утро, но
масса народа шла по направлению нашего пути. Слу¬
чилось так, что меня везли по той улице, на которой
была квартира моего отца. Поравнявшись с домом, я
выглянул и увидал отца и братьев в окне выступа
дома, а около подъезда стояли запряженные сани, в ко¬
торых сидела мать. Я инстинктивно потянулся, чтобы
открыть оконце кареты, но солдат сурово сказал:
«Нельзя». Я видел только, что мать поехала за мной.
Семеновский плац обступили тысячи народа. Нас по¬
ставили кругом' на помосте и надели на нас саваны.
Аудитор обошел всех приговоренных и каждому про¬
читал формулу обвинения и наказания. Направо от
меня стоял неизвестный мне человек. Аудитор назвал
его Плещеевым. Я в первый раз увидал поэта
А. Н. Плещеева. Помню, мне аудитор прочел: «...за
участие в преступных замыслах к произведению пере¬
ворота в общественном быте России, с применением к
оному безначалия, за учреждение у себя на квартире
для этой цели собраний и произнесение преступных ре¬
чей против религии и общественного устройства под¬
вергнуть смертной казни расстрелянием». Когда он
отошел от меня к Головинскому, Плещеев обернулся
ко мне и спросил: «Так это вы Кашкин? Как вы сюда
попали?» Перед тем, как нас арестовали, вышла в свет
маленькая книжечка стихов Плещеева3, и мы с удо¬
вольствием заучивали его прекрасное стихотворение, на¬
чинающееся словами: «Вперед, без страха и сомне¬
нья...». В тоне этого стихотворения я и ответил авто¬
ру его: «Мы шли под знаменем науки. Так подадим
друг другу руки»4. Потом какой-то простенький свя¬
щенник, откуда-то приглашенный прямо на место каз¬
ни и не знавший, что мы не будем расстреляны, волну¬
ясь и дрожа, сказал нам проповедь. «Оброцы греха
есть смерть, — сказал апостол Павел»,— запомнил я его
12 Зак. № 528
321
слова. И затем, говоря трафаретное: «Если раскаетесь,
то наследуете жизнь вечную», совал каждому крест
для целования, после чего сейчас же троих из нас —
Петрашевского, Момбелли и Григорьева — отвели на
расстрел. Около меня стояли хорошо знакомые мне
лица петербургской высшей администрации; стоял,
между прочим, тогдашний обер-полицеймейстер Гала¬
хов, со мною лично знакомый. Когда меня только что
поставили на плацу, я просил его: «Тут в толпе моя
мать, успокойте ее хоть сколько-нибудь, скажите, что
я здоров». А когда повели Петрашевского к расстре¬
лу, я обратился к Галахову: «Кому я могу передать
мою последнюю просьбу, дать мне приготовиться к
смерти?» Я разумел исповедь и причастие. Генерал
сказал мне: «Государь был так милостив, что даровал
вам всем жизнь», — и пожал мне руку. Сказал он эти
слова громко, — и мы за минуту до объявления нам
воли царя знали радостное ее содержание». В заметке,
написанной самим Н. С. Кашкиным по поводу статьи
о Петрашевском С. А. Венгерова, он так рассказывает
подробности дня экзекуции (приводим эту заметку це¬
ликом, как ценный исторический документ):
«Прочитав только недавно статью С. А. Венгерова
в XXIII томе «Энциклопедического словаря Ф. А. Брок¬
гауза и И. А. Ефрона», изд. 1898 года, я, во имя исто¬
рической правды, желал бы внести в нее небольшую
поправку. В статье этой сказано: «Петрашевскому,
Момбелли и Григорьеву завязали глаза и привязали
к столбу... Один Кашкин, которому стоящий возле обер-
полицеймейстер Галахов успел шепнуть, что все будут
помилованы, знал, что все это — только церемония;
остальные прощались с жизнью и готовились к переходу
в другой мир». Описание этих тяжелых минут не вполне
точно.
Все мы, проведшие 8 месяцев в одиночном заклю¬
чении в Петропавловской крепости, были разбужены
на рассвете 22 декабря, одеты в собственное платье,
отобранное от нас при заключении в крепость, и отве¬
зены в наемных извозчичьих каретах на Семеновский
плац. С каждым из нас сидел в карете жандарм, и
каждая карета была окружена четырьмя конными жан¬
дармами. Прибыв на плац, мы были высажены из ка¬
рет и увидели выстроенный деревянный помост, окру¬
женный решеткой, на несколько ступеней возвышав¬
шийся над землей и окруженный с трех сторон войска¬
ми от всех частей Петербургского гарнизона. Мы были
322
проведены перед фронтом всех этих войск и затем во¬
шли на помост, где плац-адъютантом были расставле¬
ны в порядке, определенном приговором генерал-ауди¬
ториата, от Петрашевского до Пальма. Моим соседом
был Плещеев, с которым мы познакомились, когда
аудитор, читая приговор и обращаясь последователь¬
но к каждому из осужденных, произнес наши фами¬
лии. Ниже нас на земле, кругом помоста, стояло не¬
сколько генералов и адъютантов. Ближайшим ко мне
был действительно обер-полицеймейстер генерал Гала¬
хов, с которым я был знаком. Священник в черной
ризе произнес нам слово, начинавшееся словами: «Об-
роцы греха есть смерть, — говорит апостол Павел», и
взволнованным голосом убеждал нас, что со смертию
телесною не все будет для нас кончено и что при помо¬
щи веры и покаяния мы можем наследовать жизнь
вечную. Затем он дал нам приложиться ко кресту. По¬
сле преломления палачом шпаг над головами боль¬
шинства из дворян с нас сняли верхнюю собственную
нашу теплую одежду и взамен ее надели длинные хол¬
щовые саваны с капюшонами и длинными рукавами, в
которых мы должны были простоять довольно долго
при сильном утреннем морозе. Затем Петрашевский,
Момбелли и Григорьев были сведены с помоста и при¬
вязаны длинными рукавами к трем столбам, вкопан¬
ным впереди трех вырытых ям, и перед ними в неко¬
тором расстоянии поставлен был взвод солдат. За спи¬
нами осужденных находился существовавший в то вре¬
мя на Семеновском плацу земляной вал. Солдатам
было скомандовано заряжать, — ина глаза трех при¬
вязанных к столбам надвинуты были капюшоны сава¬
нов. Конечно, в это время все осужденные прониклись
убеждением, что казнь состоится, и тогда я не шепо¬
том, а громко обратился к стоявшему около помоста
на земле генералу Галахову на французском языке с
просьбой указать мне, к кому мы могли бы еще обра¬
титься для исходатайствования разрешения исполнить
перед смертью христианский долг, на что генерал,так
же громко, ответил мне, что государь был так мило¬
стив, что даровал всем жизнь. «Даже и тем», — доба¬
вил он, указывая на привязанных к столбам. Все сто¬
явшие близ меня услышали сказанное, и шепнуть мне
эти слова генерал Галахов не мог ввиду разделявшего
нас расстояния. Вскоре за тем, по данному сигналу, от¬
вязали от столбов Петрашевского, Момбелли и Гри¬
горьева, ввели их обратно на помост, и аудитор, снова
323
обращаясь последовательно к каждому из осужден¬
ных, прочел новый, окончательный приговор. Тогда
был снова вызван палач, Петрашевского посадили сре¬
ди всех нас и заковали в ножные кандалы, после чего
он был одет в казенный тулуп, валенки и шапку с на¬
ушниками, посажен в сани и прямо с места отправлен
с фельдъегерем в Сибирь. Рассказывали, что, когда
его везли, кто-то из толпы, стоявшей позади войск,
снял с себя шубу и бросил ему в сани. Все мы, осталь¬
ные, были снова, с жандармами, отвезены в Петропав¬
ловскую крепость и оттуда поодиночке, каждый с
фельдъегерем, отправлены к местам назначения: полови¬
на в тот же вечер, а другая — в следующий вечер. Вос¬
поминание о печальной церемонии произнесения над
нами приговора 22 декабря 1849 года так живо сохра¬
нилось в моей памяти, что я счел долгом сделать это
небольшое дополнение для восстановления истинной
картины события».
В тот же день, вечером 22 декабря, по особому все¬
подданнейшему прошению Екатерины Ивановны Каш-
киной ей и ее мужу впервые было разрешено свидеться
с сыном в крепости в течение утра 23 декабря *...
* Жестокость приговора по отношению, в частности,
« Н. С. Кашкину, без сомнения, следует приписать еще тому об¬
стоятельству, что он был сыном лица, замешанного в дело декабри¬
стов и даже пострадавшего по нему ссылкою в Архангельск. Имя
С. Н. Кашкина было записано в особый «Алфавит...», всегда на¬
ходившийся на столе императора] Николая, и было, конечно, хо¬
рошо памятно последнему.
Е. И. Ламанский
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
начале 1840 года, из V класса С.-Пе-
тербургской 2-й гимназии я поступил
кв императорский лицей, который поме¬
щался тогда в Царском Селе, а четы¬
ре года спустя был переведен в самую
столицу, в отведенную ему на Петербургской стороне
просторную усадьбу. Завершилось мое образование в
лицее к исходу 1845 года. Наш выпуск, или, по-лицей¬
ски, курс являлся XIV с основания этого учебного за¬
ведения. Таким образом, я на шесть лет моложе
М. X. Рейтерна (X курса), окончившего лицей в год
моего туда вступления и освободившего предназначен¬
ную мне казенную вакансию.
В лицейскую семью я вошел четырнадцатилетним
мальчиком, но мое развитие опередило возраст, сверст¬
ники мои оказались далеко позади меня в этом отно¬
шении, их интересы были большею частью мне чужды,
и потому первые годы я проводил свободное время
преимущественно с воспитанниками старших курсов.
При неутолимой жажде к знанию вообще, во мне до¬
вольно рано пробудилось увлечение философиею и ре¬
лигиозными вопросами, к которым я подходил главным
образом с критической стороны. В занятиях этими
предметами меня особенно вдохновлял наш священник
протоиерей Кочетов, образованнейший человек того
времени, сотрудник знаменитого московского митропо¬
лита Филарета, в бытность последнего ректором Пе¬
тербургской духовной академии. Несмотря на подчас
проявлявшийся во мне дух отрицания, о[тец] Кочетов
325
очень меня любил, постоянно восторгался моими зна¬
ниями, а на выпускном экзамене даже особо отреко¬
мендовал меня посетившему тогда лицей митрополиту
Антонию.
От религии и философии я перешел к политиче¬
ской экономии и сделался ревностным поклонником-
этой науки, курс которой нам читал И, А. Иванов¬
скийТалантливый и увлекательный, профессор Ива¬
новский принадлежал к плеяде молодых ученых, впер¬
вые посланных в 30-х годах министром народного про¬
свещения Уваровым за границу для усовершенствова¬
ния в избранной каждым из них отрасли знания. Озна¬
комившись в чужих краях с новыми открытиями евро¬
пейской научной мысли и обогатив себя обширным за¬
пасом необходимых сведений, подготовленные таким
путем профессора внесли свежую струю в господство¬
вавшие у нас тогда приемы преподавания, возбудили
и утвердили в своих слушателях пламенную любовь к
чистой науке. В частности, для нас, лицеистов, лекции
незабвенного Ивановского были даже не учением, а
просто наслаждением. Под влиянием этих лекций я
еще на школьной скамье пристрастился к изучению и
разработке различных вопросов из области политиче¬
ской экономии и финансов. Совершенно случайно мои
труды в указанном направлении получили благодатную
для своего развития почву. Около описываемого време¬
ни скончался отец одного из моих товарищей, служив¬
ший во втором отделении собственной его император¬
ского величества канцелярии и трудившийся над си-
стематизациею законов. После его смерти осталась до¬
вольно обширная библиотека, заключавшая в себе,
между прочим, полное собрание законов. Так как для ма¬
лой квартиры, в которую переселилась осиротевшая
семья, библиотека эта представляла значительную тя¬
гость, то я предложил своему товарищу временно,
впредь до продажи книг, поставить их у себя или вер¬
нее в казенной квартире моего отца, управлявшего то¬
гда кредитною канцеляриею министерства финансов.
Получив в свое распоряжение полное собрание зако¬
нов, я принялся изучать исторически различные эко¬
номические явления в нашем отечестве со времен царя
Алексея Михайловича. С этой целью мною были сде¬
ланы подробные выписки из всех обнародованных в
полном собрании правительственных актов, касающих¬
ся финансового управления, денежной системы и бан¬
кового дела. Над такого рода работою я просидел не¬
326
сколько лет, причем рвение мое было настолько силь¬
но, что я мог в течение каникул почти без отдыха тру¬
диться над поставленною себе задачею, не выходя ни
разу даже в сад.
Среди лицеистов того времени была сильно развита
страсть к чтению, но удовлетворять ее в ту пору, когда
большая часть интересовавших молодых людей книг
была запрещена, приходилось обходными путями.
Обыкновенно у каждого из нас был свой букинист, ко¬
торый отлично знал все запрещенные книги, особенно
серьезные, и время от времени наведывался к своим
покупателям, снабжая их запрещенною литературою
по интересовавшим вопросам. Наиболее известен был
своею деятельностью в этой области один из братьев
Исаковых, выдававшийся среди прочих купцов своим
развитием и державшийся нашей молодежи. Достав¬
ляемыми нам таким образом книгами мы зачитывались
по ночам. Особенно увлекалась тогдашняя молодежь
политическою экономиею и развивавшимися на Западе
социальными учениями сен-симонистов, с жадностью
поглощая произведения братьев Перейр, Мишеля Ше¬
валье и др. Но моя логическая голова удерживала
меня от чрезмерного восхищения возвышенными, но
оторванными от жизненной действительности теория¬
ми. В своих взглядах я оставался на почве строгой по¬
литической экономии, основанной на признании сво¬
бодной борьбы разных потребностей и элементов, а не
на насилии, будь то насилие единоличное или толпы.
Окончившим курс лицея предоставлено было в то
время зачисляться на государственную службу в лю¬
бое из правительственных установлений по собствен¬
ному желанию. Стремясь иметь возможно больший до¬
суг для своих научных занятий, я по выходе из лицея
поступил в Государственную канцелярию под началь¬
ство Андрея Афанасьевича Никитина, статс-секретаря
департамента Государственной экономии. Расчет мой
оказался правильным: какой-либо серьезной работы по
канцелярии мне исполнять не приходилось, большую
часть времени я проводил дома, погруженный в свои
исследования. Пребывание мое в Государственной кан¬
целярии продлилось, однако, недолго: в июле 1846 года
я был переведен в первое отделение собственной его
императорского величества канцелярии. Переходу мо¬
ему предшествовали следующие небезынтересные для
истории нашей гражданской службы обстоятельства.
В начале 40-х годов покойный император Николай
327
Павлович приказал статс-секретарю А. С. Танееву, уп¬
равлявшему первым отделением собственной его им¬
ператорского величества канцелярии, сообщить мини¬
страм, чтобы они доставляли в высочайшие руки го¬
сударя формулярные списки всех служащих в России
по гражданскому ведомству. <...> Однако количество
накопившегося таким образом материала достигло по¬
степенно столь внушительных размеров, что непосред¬
ственное ознакомление с формулярными списками, без
предварительной их разработки, встречало серьезные
затруднения. Поэтому, просматривая списки Государ¬
ственной канцелярии, государь повелел перевести из
состава последней несколько чинов в первое отделение
собственной его величества канцелярии для рассмотре¬
ния всех вообще формулярных списков. В числе коман¬
дированных шести чиновников Государственной кан¬
целярии оказался и я. Наша работа у Танеева заклю¬
чалась в подробной обработке послужных списков и,
между прочим, в составлении свода всех подсудных
чинов<...>
II
Во время моей службы под начальством А. С. Та¬
неева я был привлечен к следствию по так называемо¬
му делу Петрашевского.
В 1847 году в Петербурге началось социальное дви¬
жение. В это время здесь образовались кружки моло¬
дежи, где собирались и толковали о разных предметах:
о музыке, поэзии и о политическом состоянии европей¬
ских государств; в таких собраниях обменивались так¬
же мыслями о более свободном развитии в России, об
освобождении крестьян, о свободе торговли, о новых
судебных учреждениях. Между этими кружками был
известен кружок Петрашевского, у которого собира¬
лись разные учителя, военная и статская молодежь.
Другой кружок был у приятеля Петрашевского, Дуро¬
ва, который жил вместе с А. И. Пальмом и Щелкано¬
вым2; это была партия литературная. У Петрашевского
собрания происходили по пятницам, а у Дурова, ка¬
жется, по средам. С течением времени собрания у Пет¬
рашевского приняли более политическую окраску и
вместе с тем более систематический характер: он при¬
глашал учителей гимназий и у него была цель прово¬
дить свободные мысли между юношеством. Я лично
был ближе к кружку Щелканова и Дурова, потому что
328
меня привлекала больше изящная сторона движения —
литературная и музыкальная; к Петрашевскому ходил
мой покойный брат Порфирий3, я же был там всего раз
или два, так как мне не нравилась практическая сто¬
рона деятельности этого кружка.
Кроме названных двух кружков, под влиянием
кружка Петрашевского, образовались и в других ча¬
стях города собрания иного характера и свойства. Слу¬
хи о том, что за кружками наблюдают и что в числе
посетителей есть агенты III отделения, уже блуждали
среди молодежи. В 1849 году на одном из балов-мас¬
карадов какая-то таинстпенняя маска подошла к Паль¬
му или к кому другому и сказала: «Берегитесь, вас се¬
годня же ночью будут арестовывать»4. И действитель¬
но, на следующий день ночью последовали аресты Пет¬
рашевского, Спешнева, 'Голля и многих других5.
В это время я занимал вместе с моим братом Пор¬
фирием комнату в квартире отца в здании Главного
штаба. Вернувшись 23 апреля в шесть часов утра до¬
мой через черный ход, я сел заниматься и заварил себе
кофе в наполеоновском кофейнике. Через несколько
минут после моего прихода я услышал стук в дверь и,
отворив ее, увидал бледного и растерянного денщика
Пальма. Пальм, Дуров и Щелканов жили в одной
квартире, где и происходили наши собрания. Денщик
дрожащим голосом сказал мне: «Наших господ взяли,
и они послали сказать вам, чтоб вы припрятали, если
у вас есть какие-нибудь веши».
Я немедленно разбудил брата и сообщил ему все
переданное денщиком и, между прочим, о том, что к
брату должны прийти поутру в тот же день. Наскоро
оправившись и переговоривши, мы стали обдумывать,
что нам прятать и скрывать. Особенно подозрительного
у нас не было ничего, но были более или менее запре¬
щенные книги того времени. Приняв необходимые меры
предосторожности, мы с нетерпением ожидали прибы¬
тия полиции. Часов в 12 брат ушел на службу в депар¬
тамент внешней торговли, а я, как человек свободный,
остался дома. Действительно, в 2 часа за братом от¬
правились в департамент и привели домой для осмотра
комнаты, в которой он жил вместе со мною. Как лю¬
бопытное обстоятельство я припоминаю, что брат мой
был тогда болен и принимал какие-то капли, пропи¬
санные доктором. В то время как агенты тайной и яв¬
ной полиции с депутатами от департамента, в котором
служил брат, снимали с полок все книги нашей биб-
13
Зак. № 528
329
лиотечки, вынимали бумаги, находившиеся в шкапах и
столах, и сваливали все в один узел, брат мой захотел
принять свои капли, но жандарм с осторожностью
остановил его, говоря: «Нет, извините, я этого не могу
вам позволить».
Не буду описывать отчаяния матери и сдерживае¬
мого хладнокровия отца. Оказалось, что требовалось
взять только одного брата Порфирия; меня же оста¬
вили свободным. Как затем обнаружилось, забирались
сначала по списку агентов, сообщавших о заседании у
Петрашевского, а о собраниях у Дурова еще ничего не
знали. В числе посещавших Петрашевского я не был
намечен, так как бывал у него очень редко.
По заарестовании моего брата ни я, ни родители
мои не знали, что с ним сделалось и куда его девали.
В таком беспокойстве прошло несколько дней, и только
через неделю самых назойливых и беспрестанных хло¬
пот удалось узнать, что он содержится в крепости
впредь до рассмотрения дела и что разрешается при¬
слать ему белье и другие необходимые вещи, но ни
свиданий, ни сообщений с ним не было дозволено ни¬
кому ни под каким предлогом.
Что касается меня, то я был в первое время вполне
покоен, и чрез несколько недель у меня снова появи¬
лись и прежние и новые запрещенные книги, и точно
так же приходили ко мне тогда существовавшие буки¬
нисты, специально торговавшие книгами, на которые им
указывала русская цензура своими запрещениями.
Мало-помалу слухи о том, в чем подозревались за¬
хваченные молодые люди и какое развитие принимало
следствие, проникли в общество. Эпизоды заарестова-
ния тех или других из участвовавших в собраниях лиц
сделались общей басней в городе. Затем понемногу
стали рассказываться открытия, к которым привело
следствие, новые дополнительные аресты и более или
менее беглые сообщения из разных кружков. Кроме
того, родственники и близкие друзья заарестованных
время от времени получали сведения о ходе уголовного
следствия.
После доноса и первых докладов Липранди все
дело было поручено особой верховной следственной ко¬
миссии, состоявшей под председательством князя Гага¬
рина, из коменданта крепости генерала Набокова и
Я. И. Ростовцева.
Неожиданно для меня и для всего нашего семей¬
ства в июле месяце явился к нам освобожденный из
330
крепостного заключения брат мой Порфирий. Из рас¬
сказов его о печальном содержании в крепости, о тех
допросах, которые им делали, и об очных ставках с
другими посетителями кружков я узнал, что раскрыты
были все разветвления и что я неминуемо буду зааре¬
стован. Брат мой объяснил мне, что ни на нем, ни на
мне не лежит особенных обвинений, но что тем не ме¬
нее взят я буду для дополнения и окончания след¬
ствия. В ожидании этого момента я, разумеется, снова
прибрал все книги и бумаги и, живя тогда на Черной
речке на даче Бегрова, ожидал в спокойном far niente *
появления чинов тайной полиции.
В один прекрасный день, в пять часов утра, при¬
ехал к нам на дачу жандармский полковник и вместе
с ним вошло несколько понятых. Оказалось, что все
калитки и забор дачи, где мы жили, были тщательно
оберегаемы нижними чинами полиции. Я знал, что меня
берут только для некоторых допросов и что в скором
времени я буду освобожден, и потому не испытывал
никакого волнения. В комнате моей не нашли ничего,
кроме одного листа бумаги. Нельзя не упомянуть, что,
когда явились чины полиции и мой отец спросил, по
какому праву тревожат его покой, они предъявили ему
бумагу, что имеют приказ пригласить сына его Вале¬
риана к начальнику III отделения. Отец объяснил им,
что у него в семействе вовсе нет сына Валериана, а
есть Евгений и что, вероятно, это его приглашают или,
может быть, брата Порфирия, который был незадолго
пред этим освобожден. Цель отца моего состояла в
том, чтоб нас взяли обоих и чтоб брат Порфирий, по
освобождении, мог сказать, что сделалось со мною.
Ввиду недоразумения чины полиции на это согласи¬
лись, и я помню, как, одевшись, я сел на щегольскую
эгоистку® жандармского полковника, который, поддер¬
живая за талию, доставил меня в III отделение к ге¬
нералу Дубельту.
Тотчас же по прибытии Дубельт пригласил меня в
кабинет вместе с братом и сказал, обращаясь к нему:
«Вы, Порфирий Иванович, можете ехать домой и ска¬
зать вашей матушке, что нам нужно будет оставить
здесь брата вашего Евгения Ивановича, но чтоб ма¬
тушка ваша не беспокоилась».
Вслед за тем меня отвели в большую залу, кото¬
рую предоставили в полное мое распоряжение, разу¬
• ничегонеделания (итал.).
331
меется, приставив с наружной стороны дверей жандар¬
ма. Вскоре пришел жандармский полковник и сказал,
что все, что я желаю, будет в моем распоряжении, что,
если я хочу завтракать или обедать, мне все будет от¬
пущено.
— А через несколько времени я вам принесу неко¬
торые вопросные пункты, — прибавил полковник.
Действительно, мне подали перо, бумагу и чернила.
Вопросные пункты были довольно многочисленны, и
многие из них весьма неопределенны. В числе вопро¬
сов я помню следующие: сколько лет? где воспиты¬
вался? посещал ли Петрашевского? бывал ли у Дуро¬
ва? какие держал речи? что понимал под словом «сво¬
бода торговли»? вел ли разговоры об освобождении
крестьян и об уничтожении помещиков, о том, чтоб ос¬
вободить торговлю, и т. п. Я написал ответы на все во¬
просы и, кончив показание уже после обеда, передал
их полковнику, а сам лег спать.
На другое утро явился ко мне тот же полковник и
сказал, что генерал Дубельт просит меня поехать с ним
в комиссию. Эта последняя заседала в Петропавлов¬
ской крепости, куда я и прибыл в сопровождении пол¬
ковника. Меня тотчас же позвали в комиссию,
и я увидал там князя Гагарина, Набокова и
Ростовцева, которые начали предлагать мне раз¬
ные вопросы, ответы на которые я уже знал впе¬
ред, частию из объяснений моего брата, частию
из тех вопросных пунктов, которые были предложены
мне накануне. Вопросы касались преимущественно ос¬
вобождения крестьян и свободы торговли. Это эконо¬
мическое учение было известно генералам в смысле из¬
бавления купцов от какой-то зависимости от правитель¬
ства и чуть ли не призыва к бунту всего коммерческого
люда в России. Когда я объяснил, что учение о сво¬
боде торговли есть учение экономическое, что о нем
нам читали с кафедр профессора, что оно признается
в Европе, они заставили меня дать снова объяснение,
и с большой снисходительностью эти же самые члены
комиссии подсказывали мне выражения, служащие к
оправданию. Затем прочитав мне нотацию о доброте
государя императора, который так велик и благоду¬
шен, что снисходит к заблуждениям молодежи, члены
комиссии объяснили мне, что хотя я, по своим поступ¬
кам и идеям, заслуживаю тяжкого наказания, но что
во внимание к моей молодости и общественному поло¬
жению они вменяют мне этот выговор в наказание и
332
освобождают меня от заслуженной мною кары, но с тем
чтобы я никогда о том, что происходило, никому не
рассказывал. Вслед за сим мне сказали, что я свобо¬
ден и могу ехать домой.
Все это дело тянулось еще некоторое время, и в
конце года, в декабре, вышел подробный доклад с ре¬
золюцией государя.
Бесспорно, мой арест сделался известен, я отпра¬
вился к статс-секретарю Танееву и рассказал о слу¬
чившемся. Он был поражен этим известием и сказал,
что соберет обо мне справки. Затем, по совещании с
князем Гагариным, Танеев не встретил препятствий ос¬
тавить меня на службе, но тем не менее история эта
на долгое время, по ее окончании и после решения в
отношении всех других подсудимых, оставила за собою
влияние на мою карьеру.
Как было замечено выше, верховная следственная
комиссия вменяла, между прочим, в вину мне и дру¬
гим арестованным лицам происходившие между нами
разговоры относительно освобождения крестьян. Через
десять лет после описанного события я был назначен
членом редакционных комиссий по выработке положе¬
ний о крестьянах, освобождаемых от крепостной за¬
висимости, а один из участников следственной колле¬
гии [18]49 года—Я. И. Ростовцев состоял председате¬
лем этих комиссий, предначертавших то великое пре¬
образование, за одни рассуждения о котором приходи¬
лось еще так недавно нести ответственность чуть ли не
в государственной измене.
А. Н. Майков
[О ПЕТРАШЕВЦАХ]
Л'
гежу я утром в постели. Является
жандармский офицер и штатский
какой-то. Спрашивает:
— Вы А. Н. Майков?
А -Я.
— Извольте одеться. Мы сделаем сперва обыск, а
затем попросим вас ехать с нами. Avez-vous des livres
defendus?
— Probablement,
— Ou sont-ils?
Mais voila toute ma bibliotheque, cherchez *
и проч.
Напились чаю; перебрали книги, забрали тетради и
бумаги и отправились] в карете в III отделение. Там
отвели комнату, очень любезно обращались, подали
обед. Затем я преспокойно заснул. А в десять часов
вечера меня разбудили и повезли в крепость под охра¬
ной]. Вез какой-то офицер из бурбонов и все время
молчал. Привезли в крепость, повели по темным кори¬
дорам, наконец ввели в просторную освещенную ком¬
нату со столом, покрытым красным или зеленым сук¬
ном (не помню), за которым сидели генералы. Дубельт
очень любезно предложил сесть и предложил вопрос¬
ные пункты:
— Были ли знакомы с Петрашевским?
— Был. Он кончал курс в университете вместе со
мной, и я его знал, как и всех прочих студентов-това¬
рищей.
* — Имеются ли у вас запрещенные книги?
— Вероятно.
— Где они?
— Вот вся моя библиотека, ищите (франц.).
334
— Так и пишите —да покороче: напр[имер], «зна¬
ком по университету». Продолжали ли знакомство пе¬
том?
— Сначала нет, ибо уехал из Петербурга], был за
границей, а по возвращении мы встретились, и он меня
пригласил на свои «пятницы». Я не имел никакого по¬
вода уклоняться. У Петрашевского собиралось разно¬
родное общество; было довольно приятно и даже под¬
час забавно, ибо Петрашевский [de] vive force * прида¬
вал своим «пятницам» вид каких-то заседаний.
— И даже председательствовал с колокольчиком?
— Да. Мы с братом там бывали и часто смеялись
над ними, но продолжали ходить из любопытства и
чтобы не обидеть старого товарища.
— Так и напишите коротко: «Продолжали знаком¬
ство из вежливости». Знаете ли вы учение Фурье и
одобряете ли его?
— Конечно, знаю, но больше понаслышке. А одоб¬
ряю ли — конечно, нет. Фаланстеры представляются мне
чем-то весьма скучным, некрасивым и неудобным. Во-
первых, жаль было уничтожать города, а затем жить
в казарме, в коридоре, в номере — нет, покорно бла¬
годарю; не иметь своего дома — да это все равно что
жить на улице! Молодому человеку весьма неприятно,
чтобы все знали, кто у него бывает!
Общий смех, и, очевидно, все симпатизируют мне.
Но затем мне предложен был самый трудный, тя¬
желый и щекотливый для меня вопрос:
— Знакомы ли были с Достоевским (Фед. Мих.) и
какие имели с ним сношения?
Вопрос был тяжел потому, что я решительно не
знал, до какой степени он компрометирован, что он по¬
казал, а между тем с Достоевским был у меня один
очень важный разговор.
Приходит ко мне однажды вечером Достоевский на
мою квартиру в дом Аничкова — приходит в возбуж¬
денном состоянии и говорит, что имеет ко мне важное
поручение.
— Вы, конечно, понимаете, — говорит он, — что
Петрашевский болтун, несерьезный человек и что из
его затей никакого толка выйти не может. А потому из
его кружка несколько серьезных людей решились вы¬
делиться (но тайно и ничего другим не сообщая) и
образовать особое тайное общество с тайной типогра-
* настойчиво (франц.).
333
фней, для печатания разных книг и даже журнала, если
эго будет возможно. В вас мы сомневались, ибо вы
слишком самолюбивы... (Это Федор-то Михайлович
меня упрекал в самолюбии!)
— Как так?
— А вы не признаете авторитетов, вы, например,
не соглашаетесь со Спешневым (проповедовавшим
фурьеризм).
— Политической] экономией] особенно не интере¬
суюсь. Но, действительно, мне кажется, что Спешнев
говорит вздор; но что же из этого?
— Надо для общего дела уметь себя сдерживать.
Вот нас семь человек: Спешнев, Мордвинов, Момбел¬
ли, Павел Филиппов, Григорьев, Владимир Милютин и
я — мы осьмым выбрали вас; хотите ли вступить в об¬
щество?
— Но с какой целью?
— Конечно, с целью произвести переворот в Рос¬
сии. Мы уже имеем типографский станок, его заказы¬
вали по частям в разных местах, по рисункам Морд¬
винова1: все готово2.
— Я не только не желаю вступать в общество, но
и вам советую от него отстать. Какие мы политические
деятели? Мы поэты, художники, не практики, и без
гроша. Разве мы годимся в революционеры?
Достоевский стал горячо и долго проповедовать, раз¬
махивая руками в своей красной рубашке с расстегну¬
тым воротом.
Мы спорили долго, наконец устали и легли спать.
Поутру Достоевский спрашивал:
— Ну что же?
— Да то же самое, что и вчера. Я раньше вас про¬
снулся и думал: сам не вступлю. И повторяю: еслиеаь
еще возможность — бросьте их и уходите.
— Ну это уж мое дело. А вы знайте. Обо всем вче¬
ра [сказанном] знают только семь человек. Вы вось¬
мой, — девятого не должно быть!
— Что до этого касается, то вот вам моя рука! Буду
молчать.
Вот какой был у нас разговор, и вот почему мне
трудно было отвечать.
Я сказал, что знаю Достоевского и очень его люб¬
лю, что он человек и товарищ хороший, но страшно са¬
молюбив и неуживчив, что он перессорился со всеми
[после] успеха своих «Бедных людей» и что единствен¬
но со мною не было положительно ссоры, но что в по¬
336
следние годы (я нарочно распространил несколько вре¬
мя, ибо действительно после этого разговора мы почти
не виделись) Достоевский ко мне охладел и мы почти
не виделись.
После этого мне предложили еще несколько незна¬
чительных вопросов и объявили, что я свободен и могу
идти домой. Я вышел в темный коридор и, заблудив¬
шись, наткнулся на кого-то, который вдруг громко
спросил: «Кто тут?» Отворилась какая-то дверь, и по¬
явился генерал Набоков (добрый, но суровый старик).
— Вы зачем здесь?
Я объяснил, и меня вывели на улицу. Там я встре¬
тил провожавшего меня бурбона, который, узнав, что
меня освободили, оказался очень разговорчивым и доб¬
родушным человеком, искренне радующимся моему ос¬
вобождению. Я вернулся на квартиру, и вскоре мне
вернули мои бумаги и книги.
Знала ли следственная комиссия об этой фракции
общества Петрашевского, — не знаю. В приговоре До¬
стоевского было сказано, между прочим: «...за намере¬
ние открыть тайную типографию»3. При обыске у
Мордвинова, у которого стоял станок, на него не обра¬
тили внимания, ибо он стоял в физическом его кабинете,
где были разные машины, реторты и проч. Комнату
просто запечатали, и родные сумели, не лом[ая] печа¬
ти, снять дверь и вынести злополучный станок.
Эпилог. В 1855 году, после вступления на престол
Александра II, в один прекрасный день являет[ся] ко
мне какая-то странная и довольно неблаговидная лич¬
ность и с чем-то меня поздравляет.
— Кто вы и с чем поздравляете?
— Я агент тайной полиции и поздравляю вас со
снятием с вас полицейского надзора4.
— Разве я был под надзором?
— Конечно-с: мы об вас все писали.
— Да что же вы писали?
— Да все-с, изо дня в день, нам все было известно.
— И вы были довольны мною?
— Помилуйте-с, уже чего же довольнее?
Я дал ему рубль; он скрылся, и тем окончилось все
дело о прикосновенности моей к заговору Петрашев¬
ского.
27Ц 1887, СПб.
Ф. М. Достоевский
ПИСЬМО К М. М. ДОСТОЕВСКОМУ1
Петропавловская крепость
22 декабря [1849 г.]
. рат, любезный друг мой! все решено!
Я приговорен к 4-летним работам в кре-
I пости (кажется, Оренбургской) и потом
■ Я в рядовые2. Сегодня, 22 декабря, нас
отвезли на Семеновский плац. Там
всем нам прочли смертный приговор3, дали приложить¬
ся к кресту, переломили над головами шпаги и
устроили наш предсмертный туалет (белые рубахи).
Затем троих поставили к столбу для исполнения каз¬
ни. Вызывали по трое, след[овательно], я был во вто¬
рой очереди и жить мне оставалось не более минуты.
Я вспомнил тебя, брат, всех твоих: в последнюю ми¬
нуту ты, только один ты был в уме моем, я тут только
узнал, как люблю тебя, брат мой милый! Я успел тоже
обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и про¬
ститься с ними. Наконец ударили отбой, привязанных
к столбу привели назад, и нам прочли, что его импе¬
раторское величество дарует нам жизнь. Затем после¬
довали настоящие приговоры. Один Пальм прощен, его
тем же чином в армию.
Сейчас мне сказали, любезный брат, что нам сего¬
дня или завтра отправляться в поход. Я просил ви¬
деться с тобою. Но мне сказали, что это невозможно4;
могу только я тебе написать это письмо, по которому
поторопись и ты дать мне поскорее отзыв. Я боюсь, что
тебе был как-нибудь известен наш приговор (к смер¬
ти). Из окон кареты, когда везли на Семеновский
плац, я видел бездну народа; может быть, весть про¬
шла уже и до тебя и ты страдал за меня. Теперь тебе
338
будет легче за меня. Брат! Я не уныл и не упал ду¬
хом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во
внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком
между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то
ни было несчастьях не уныть и не пасть — вот в чем
жизнь, в чем задача ее. Я сознал это. Эта идея вошла
в плоть и кровь мою. Да, правда! Та голова, которая
создавала, жила высшею жизнью искусства, которая
сознала и свыклась с высшими потребностями духа, та
голова уже срезана с плеч моих. Осталась память и
образы, созданные и еще не воплощенные мной. Они
изъязвят меня, правда! Но во мне осталось сердце и
та же плоть и кровь, которая так же может и любить,
и страдать, и жалеть, и помнить, а это все-таки жизнь.
On voit le soleil *.
Ну, прощай, брат! Обо мне не тужи! Теперь о рас¬
поряжениях материальных: книги (Библия осталась у
меня) и несколько листков моей рукописи, чернового
плана драмы и романа (и оконченная повесть «Дет¬
ская сказка»)5 у меня отобраны и достанутся, по всей
вероятности, тебе. Мое пальто и старое платье тоже
оставляю, если пришлешь взять их. Теперь, брат, пред¬
стоит мне, может быть, далекий путь по этапу. Нужны
деньги. Брат милый, как получишь это письмо и если
будет возможность достать сколько-нибудь денег, то при¬
шли тотчас же. Деньги мне теперь нужнее воздуха (по
особенному обстоятельству). Пришли тоже несколько
строк от себя. Потом, если получатся московские день¬
ги, — похлопочи обо мне и не оставь меня. Ну вот и все!
Есть долги, но что с ними делать?!
Целуй жену свою и детей. Напоминай им обо мне;
сделай так, чтобы они меня не забывали. Может быть,
когда-нибудь увидимся мы? Брат, береги себя и семью,
живи тихо и предвиденно. Думай о будущем детей тво¬
их... Живи положительно.
Никогда еще таких обильных и здоровых запасов ду¬
ховной жизни не кипело во мне, как теперь. Но вынесет
ли тело: не знаю. Я отправляюсь нездоровый, у меня зо¬
лотуха. Но авось либо! Брат, я уже переиспытал столь¬
ко в жизни, что теперь меня мало что устрашит. Будь что
будет! При первой возможности уведомлю тебя о себе.
Скажи Майковым мой прощальный и последний привет.
Скажи, что я их всех благодарю за их постоянное уча¬
стие к моей судьбе. Скажи несколько слов, как можно
• Видно солнце (франц.).
339
более теплых, что тебе самому сердце скажет, за меня
Евгении Петровне. Я ей желаю много счастия и с благо¬
дарным уважением всегда буду помнить о ней. Пожми
руку Николаю Аполлоновичу и Аполлону Майкову, а за¬
тем и всем. Отыщи Яновского. Пожми ему руку, побла¬
годари его. Наконец, всем, кто обо мне не забыл. А кто
забыл, напомни. Поцелуй брата Колю. Напиши письмо
брату Андрею и уведомь его обо мне. Напиши дяде и
тетке. Это я прошу тебя от себя, и кланяйся им за меня.
Напиши сестрам: им желаю счастья!
А может быть, и увидимся, брат. Береги себя, дожи¬
ви, ради бога, до свидания со мной. Авось когда-нибудь
обнимем друг друга и вспомним наше молодое, наше
прежнее, золотое время, нашу молодость и надежды
наши, которые я в это мгновенье вырываю из сердца
моего с кровью и хороню их.
Неужели никогда я не возьму пера в руки? Я думаю,
через четыре года будет возможность. Я перешлю тебе
все, что напишу, если что-нибудь напишу. Боже мой!
Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, по¬
гибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разо¬
льется! Да, если нельзя будет писать, я погибну. Лучше
пятнадцать лет заключения и перо в руках.
Пиши ко мне чаще, пиши подробнее, больше, обстоя¬
тельнее. Распространяйся в каждом письме о семейных
подробностях, о мелочах, не забудь этого. Это дает мне
надежду [и] жизнь. Если бы ты знал, как оживляли меня
здесь в каземате твои письма. Эти два месяца с поло¬
виной (последние), когда было запрещено переписы¬
ваться, были для меня очень тяжелы. Я был нездоров.
То, что ты мне не присылал по временам денег, изму¬
чило меня за тебя: знать, ты сам был в большой нужде!
Еще раз поцелуй детей; их милые личики не выходят из
моей головы. Ах, кабы они были счастливы! Будь счаст¬
лив и ты, брат, будь счастлив!
Но не тужи, ради бога, не тужи обо мне! Знай, что я
не уныл; помни, что надежда меня не покинула. Через
четыре года будет облегчение судьбы. Я буду рядовой,—
это уже не арестант, и имей в виду, что когда-нибудь я
тебя обниму. Ведь был же я сегодня у смерти три чет¬
верти часа, прожил с этой мыслию, был у последнего
мгновения и теперь еще раз живу!
Если кто обо мне дурно помнит и если с кем я по¬
ссорился, если в ком-нибудь произвел неприятное впе¬
чатление,— скажи им, чтоб забыли об этом, если тебе
удастся их встретить. Нет желчи и злобы в душе моей,
340
хотелось бы так любить и обнять хоть кого-нибудь из
прежних в это мгновение. Это отрада, я испытал ее се¬
годня, прощаясь с моими милыми перед смертью. Я ду¬
мал в ту минуту, что весть о казни убьет тебя. Но теперь
будь покоен, я еще живу и буду жить в будущем мыс-
лию, что когда-нибудь обниму тебя. У меня только это
теперь на уме.
Что-то ты делаешь? Что-то ты думал сегодня? Зна¬
ешь ли ты об нас? Как сегодня было холодно!
Ах, кабы мое письмо поскорее дошло до тебя. Иначе
я месяца четыре буду без вести о тебе. Я видел пакеты,
в которых ты присылал в последние два месяца деньги:
адрес был написан твоей рукой, и я радовался, что ты
был здоров.
Как оглянусь на прошлое да подумаю, сколько даром
потрачено времени, сколько его пропало в заблужденк
ях, в ошибках, в праздности, в неуменье жить; как не
дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца мо¬
его и духа, — так кровью обливается сердце мое.
Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла
быть веком счастья. Si jeunesse savait *. Теперь пере¬
меняя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат!
Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню
дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему.
Вот вся надежда моя, все утешение мое!
Казематная жизнь уже достаточно убила во мне плот¬
ских потребностей не совсем чистых; я мало берег себя
прежде. Теперь уже лишения мне нипочем, и потому не
пугайся, что меня убьет какая-нибудь материальная тя¬
гость. Этого быть не может! Ах! кабы здоровье!
Прощай, прощай, брат! Когда-то я тебе еще напишу!
Получишь от меня сколько возможно подробнейший от¬
чет о моем путешествии. Кабы только сохранить здоро¬
вье, а там и все хорошо!
Ну, прощай, прощай, брат! Крепко обнимаю тебя,
крепко целую. Помни меня без боли в сердце. Не пе¬
чалься, пожалуйста, не печалься обо мне! В следующем
же письме напишу тебе, каково мне жить. Помни же,
что я говорил тебе: рассчитай свою жизнь, не трать ее,
устрой свою судьбу, думай о детях. Ох, когда бы, когда
бы тебя увидеть! Прощай! Теперь отрываюсь от всего,
что было мило; больно покидать его! Больно переломить
себя надвое, перервать сердце пополам. Прощай! Про¬
щай! Но я увижу тебя, я уверен, я надеюсь, не изменись,
* Если бы молодость знала (франц.).
341
люби меня, не охлаждай свою память, и мысль о любви
твоей будет мне лучшею частию в жизни. Прощай, еще
раз прощай! Все прощайте!
Твой брат Федор Достоевский
22 декабря 49-го года
У меня взяли при аресте несколько книг. Из них
только две были запрещенные6. Не достанешь ли ты
для себя остальных? Но вот просьба: из этих книг одна
была: Сочинения Валериана Майкова: его критики —
экземпляр Евгении Петровны7. Она дала мне его как
свою драгоценность. При аресте я просил жандарм¬
ского офицера отдать ей эту книгу и дал ему адрес.
Не знаю, возвратил ли он ей. Справься об этом! Я не
хочу отнять у нее это воспоминание. Прощай, прощай
еще раз.
Твой Ф. Достоевский
Не знаю, пойду ли я по этапу или поеду? Кажется,
поеду. Авось либо.
Еще раз пожми руку Эмилии Федоровне, целуй де¬
ток.
Поклонись Краевскому; может быть...
Напиши мне подробнее о твоем аресте, заключении
и выходе на свободу.
[На обороте]
Михайле Михайловичу Достоевскому
На Невском проспекте, против Грязной,
в доме Неслинда.
ПРИМЕЧАНИЯ
Федор Николаевич Львов
(1823—1885)
«Я не склонен на дерзкие предприятия, но имею довольно му¬
жества, чтобы жертвовать и собою, и своими материальными вы¬
годами для пользы общей, но только при убеждении, что я дейст-
рительно ее доставлю или, по крайней мере, что того действитель¬
но требует чувство долга. Самое же трудное для меня, это—оскор¬
бить другого человека, даже когда он этого заслуживает», — писал
о себе петрашевец Ф. Н. Львов.
После ареста большинства петрашевцев Львов целую неделю
оставался на свободе из-за случайной ошибки — вместо него 23 ап¬
реля был арестован его однофамилец, П. С. Львов,— но отказался
от возможности бежать за границу, считая своим долгом разделить
участь товарищей. Особой стойкостью отличалось и его поведение
во время следствия, когда он отверг все попытки следственной ко¬
миссии склонить его к доносительству.
Львов родился в Рязанской губернии, в дворянской семье. Об¬
разование получил в 1-м Московском кадетском корпусе. Уже в
годы учебы он особенно интересовался химией. Увлечение это со¬
хранилось у него на всю жизнь. В августе 1841 г. Львов был
произведен в прапорщики и определен в лейб-гвардии егерский
Московский полк, в котором к 1848 г. дослужился до чина штабс-
капитана. В июле 1847 г. он был прикомандирован к Павловскому
кадетскому корпусу в качестве репетитора химии. В 1847 г. бывал
на литературных вечерах у Н. А. Момбелли, а в конце октября
1848 г., познакомившись через Момбелли с Петрашевским, попал на
его «пятницы». Посещал он также и кружок Дурова. На «пятни¬
цах» Львов прочитал две статьи: о преимуществе специального об¬
разования перед энциклопедическим и о необходимости тесной связи
между промышленностью и наукой. Вместе с М. В. Петрашевским,
Н. А. Спешневым, К. М. Дебу и Н. А. Момбелли Львов участво¬
вал в окончившемся неудачей обсуждении проекта создания тайно¬
го общества — «Товарищества взаимной помощи». Был он и одним
из инициаторов состоявшегося на вечере у Дурова разговора о воз¬
можностях создания домашней литографии.
Львов был приговорен к расстрелу, а по конфирмации (окон¬
чательному приговору)—к 12 годам каторги. 23 декабря 1849 г,
он был отправлен через Тобольск в Шилинский завод Нерчинского
округа. В Тобольске в судьбе Львова приняли участие жены жив¬
ших там декабристов, и в особенности Н. Д. Фонвизина. После
трехлетнего пребывания в Шилкинском заводе Львов был переве¬
ден в Александровский завод. В Сибири он продолжал занимать¬
ся химией. В феврале 1856 г. им была подана в военное министер¬
ство записка об улучшении пороха, получившая одобрение. По ма¬
нифесту 26 августа 1856 г. Львов был выпущен на поселение и
стал служить в Главном управлении Восточной Сибири в Иркутске,
выполняя также и научные поручения.
* Автор примечаний Н. Ю. Образцова.
343
Понимая, как важно сохранить для русской истории наиболее
важные моменты следствия и суда над петрашевцами, Львов пере¬
сылал соответствующие мемуарные материалы Герцену в Лондон.
Герцен опубликовал большинство из них в «Колоколе».
Вместе с Петрашевским и Спешневым Львов сотрудничал
в «Иркутских ведомостях». В январе 1860 г. он был уволен из
управления за то, что в статье, опубликованной в «Иркутских
ведомостях», выразил протест против дуэли, на которой близкий
к генерал-губернатору Восточной Сибири Н. Н. Муравьеву чиновник
Беклемишев убил чиновника Неклюдова. Сблизившись с декабри¬
стом В. Ф. Раевским, Львов вместе с ним участвовал в устройстве
мыловаренного и свечного завода в селе Олонки. В 1861 г. Львов
снова поселился в Иркутске, давал уроки, писал корреспонденции
в «Современник». В 1862 г. он получил разрешение жить во внут¬
ренних губерниях и в июне 1863 г. вместе с женой отправился
в Полтаву через Петербург. Однако в Петербурге генерал-губер¬
натор А. А. Суворов выхлопотал ему разрешение жить в столицах
и устроил к себе на службу. В 1866 г. Львову было возвращено
потомственное дворянство.
В 1870 г. он был избран секретарем «Русского технического
общества», с которым тесно связана вся последующая его деятель¬
ность. Он становится также ответственным редактором «Записок
Императорского русского технического общества», представителем
научных обществ на русских и заграничных выставках.
Широта интересов Львова отразилась в его печатных трудах.
Наиболее значительные из них: «Заметки отставного канцелярского
служителя в поисках его за промышленностью» и «Выдержки из
записок ссыльно-каторжного», опубликованные в «Современнике»
в 1861—1862 гг„ «Из Иркутска: промышленность края и Иркутский
солеваренный завод» (Промышленность, 1863, № 4—5), «О серни¬
стом запахе, встречаемом в некоторых источниках Восточной Си¬
бири» (Записки Сибирского отделения Императорского русского
географического общества, 1864, кн. 2), «Из истории великих от¬
крытий и изобретений. Открытие кислорода» (СПб., 1874).
Особое место в наследии Львова занимает «Записка о деле
петрашевцев» — описание деятельности кружка и расправы над его
участниками. Созданная для «Колокола», она имела не только
историческое, но и пропагандистское значение и стала особенно
ярким свидетельством гражданского мужества ссыльных петра¬
шевцев.
Михаил Васильевич Петрашевский
(1821—1866)
«Да я желал... хотел, чтоб и другие разделяли мою уверен¬
ность — если хотите, детскую, утопистскую, никогда не злую, всегда
добрую, — что придет пора, когда для счастливого человечества
слова: нищета, страдание, горесть, принуждение, наказание, неспра¬
ведливость, порок и преступление — утратят свое удручительное
значение, и что будут лишь — подобно остовам допотопных вре¬
мен— напоминовением о предшествовавших эпохах бедствия и
общественного неустройства; все в обществе и природе придет
в стройную гармонию, — труда тяжкого не будет, труд будет актом
наслаждения, — и что эпоха всеобщего блаженства настанет», — пи¬
сал в своих показаниях следственной комиссии М. В. Петрашев¬
ский.
344
Он родился в семье доктора медицины, петербургского штадт-
физика В. М. Петрашевского, участника войн против Наполеона,
заведовавшего под Бородином медицинской частью всего левого
фланга русской армии.
Образование М. В. Петрашевский получил в Царскосельском
лицее, который окончил в 1839 г. За вольнолюбивые взгляды и
поступки он был выпущен с самым низшим, XIV чином. Поступив
вольнослушателем на юридический факультет Петербургского уни¬
верситета, ои уже в 1841 г. получил степень кандидата прав.
С 1840 г. М. В. Петрашевский служил переводчиком в департа¬
менте внутренних сношений министерства иностранных дел. В его
обязанности входило быть посредником между административно¬
полицейскими органами и приезжавшими в Россию иностранцами.
С 1844 г. вокруг Петрашевского начал складываться кружок
прогрессивной молодежи. В 1845 г. собрания в его доме приобрели
более упорядоченный характер. Для посетителей был выбран спе¬
циальный день — пятница. В эти годы Петрашевский занимался
разносторонней деятельностью: редактировал «Карманный словарь
иностранных слов, вошедших в состав русского языка», хлопотал
об издании журнала. В 1848 г. на дворянских выборах в Петер¬
бургской губернии он распространил литографированную записку
«О способах увеличения ценности дворянских или населенных име¬
ний», в которой им были намечены предварительные меры для
постепенного освобождения крестьян. 7 апреля 1849 г. на обеде
в честь Фурье он произнес речь, в которой говорил о важности
глубокого знания действительности для применения на практике
идей социализма, о необходимости преобразования общества. «Мы
осудили на смерть быт общественный, надо приговор наш испол¬
нить»,— сказал он (Дело петрашевцев, т. 1. М.—Л., 1937, с. 518).
В ночь на 23 апреля 1849 г. Петрашевский был арестован.
Военно-судная комиссия приговорила его к расстрелу «за преступ¬
ный замысел к ниспровержению существующего государственного
устройства», по окончательному приговору он был осужден на
бессрочную каторгу. 22 декабря 1849 г. прямо с Семеновского
плаца Петрашевский первым из осужденных в кандалах был от¬
правлен через Тобольск в Шилкинский завод, а затем в Акатуй.
По манифесту 26 августа 1856 г. он вышел на поселение в Ир¬
кутск, сотрудничал в «Иркутских ведомостях», пытался добиться
пересмотра своего приговора, указывал в многочисленных проше¬
ниях на ошибки, неправильности, допущенные при судопроизвод¬
стве. Из-за резких выступлений против сибирского начальства и
особенно протестов против убийства на дуэли чиновника Неклю¬
дова был в феврале 1860 г. выслан в село Шуша Минусинского
округа, однако вскоре добился разрешения жить в Красноярске.
После многочисленных столкновений с властями и высылок умер
в селе Бельском Енисейского округа.
«Записка о деле петрашевцев» представляет собой документ,
написанный рукой Ф. Н. Львова, с многочисленными пометками
М. В. Петрашевского. Название было дано А. И. Герценом при
публикации в «Колоколе» небольшого отрывка из рукописи — эпи¬
зода разговора Ф. Н. Львова с П. П. Гагариным (см. прим. 26).
Предположительное время датировки «Записки» указано пер¬
вым публикатором В. Р. Лейкиной-Свирской: это, по всей веро¬
ятности, ноябрь 1859 — февраль 1860 г. — время, когда Петрашев¬
ский и Львов одновременно находились в Иркутске. Она же при¬
водит ряд фактов, свидетельствующих о том, что «Записка» была
переправлена к Герцену, очевидно, с помощью известного обше-
345
ственного деятеля Н. А. Белоголового. Читая «Записку о деле
петрашевцев», следует учитывать, что в ней несколько приумень¬
шено революционное значение происходивших у Петрашевского
собраний, значительно сужено время существования кружка, дей¬
ствовавшего не с 1848 г., как это указано в «Записке», а с 1845 г.,
заметно сглажены, смягчены речи, выступления участников кружка.
По-видимому, это объясняется сложностью положения авторов
«Записки», находившихся еще в Сибири и опасавшихся новых
репрессий в случае, если бы опубликованный Герценом ее текст
попал в Россию.
Впервые «Записка о деле петрашевцев» была издана в «Лите¬
ратурном наследстве» (т. 63. М., 1956). Текст «Записки» вместе
с подстрочными примечаниями воспроизводится по этой публика¬
ции. Автограф хранится в Отделе рукописей Государственной биб¬
лиотеки СССР им. В. И. Ленина.
1 О Данилевском см. прим. 1 к мемуарам П. П. Семенова-Тян-
Шанского. — 41
2 Милль Джон Стюарт (1806—1873)—английский философ и
экономист, представитель позитивизма. — 41
3 Толль Феликс Густавович (1823—1867). Происходил из не¬
мецкой лютеранской семьи, в 1844 г. окончил Главный педагогиче¬
ский институт, служил учителем русского языка и географии
в Астраханской гимназии, был учителем русской словесности
в Финляндском кадетском корпусе, с 1848 г. стал преподавателем
Главного инженерного училища в Петербурге. Посещал собрания
у Петрашевского с 1846 г, Был арестован в ночь на 23 апреля
1849 г. Приговорен к расстрелу, по конфирмации — к двум годам
каторжных работ на заводах. 22 декабря был выведен на Семе¬
новский плац. 23 декабря вместе с Ф. Н. Львовым, Н. П. Гри¬
горьевым и Н. А. Спешневым отправлен в Тобольск. Каторгу
отбывал в Керевском заводе. В 1855 г. получил разрешение посе¬
литься в Томске, где некоторое время жил у декабриста Г. С. Ба-
тенькова. В 1857 г. ему были возвращены права состояния и раз¬
решено вернуться во внутренние губернии. С 1859 г. получил право
жить в столицах. В эти годы он публикует в журналах много
очерков о сибирской ссылке, роман «Труд и капитал» (СПб., 1861),
активно выступает в педагогических журналах со статьями на темы
о воспитании, о детской литературе, о книгах для народа. В 1863—
1866 гг. издал трехтомный «Настольный словарь». — 41
* Тимковский Константин Иванович (1814—1881). Образование
получил в Петербургском университете и в Институте восточной
словесности при министерстве иностранных дел, в 1833—1845 гг.
служил во флоте, вышел в отставку в чине лейтенанта. В 1846 г.
стал чиновником особых поручений министерства внутренних дел,
в 1848 г. был командирован в Ревель для ревизии магистрата и
городского хозяйства. Осенью 1848 г. во время отпуска посетил
несколько «пятниц» Петрашевского. На одной из «пятниц» он про¬
изнес, по отзыву петрашевца А. В. Ханыкова, «возбудительную
речь в коммунистическом духе», в которой призывал участников
кружка к активной практической деятельности. Был арестован
в Ревеле и доставлен в Петропавловскую крепость 22 мая 1849 г.
Приговорен к ссылке в Олонец под секретный надзор, по конфир¬
мации — к шести годам арестантских рот. 22 декабря выведен на
Семеновский плац. 23 декабря переведен из Петропавловской кре¬
пости в Бобруйск, в 1853 г. зачислен рядовым в Кавказский корпус
в Ставрополе, в 1855 г. — за отличие в сражениях с турками —
346
был произведен в унтер-офицеры, а за отличие в битве под Карсом
в 1857 г. получил чин прапорщика. Дворянство ему было возвра¬
щено в 1857 г. В 1859 г. вышел в отставку с производством в по¬
ручики и получил право жить в столицах. — 42
5 В подходе к вопросу о вооруженном восстании сказалось
существенное различие позиций петрашевцев и декабристов. Так,
петрашевцы придавали особое значение предшествующей восстанию
широкой пропаганде, вовлечению в революционную деятельность
масс. Петрашевский считал, что «заговор 14 декабря не мог никаким
образом иметь успеха потому, что главная его цель была известна
только очень малому числу действующих лиц, между тем как дру¬
гие действовали наобум. <...> Но для верного успеха подобного
рода предприятий должно, чтобы распоряжающиеся лица старались
сперва преодолевать самые малые препятствия, иметь всегда успех
в самых с первого взгляда незначительных обстоятельствах, и та¬
ким образом, приобретая мало-помалу доверие и внушая всем и
всякому необходимость нового порядка вещей, они могут надеяться
на самый верный, самый блистательный успех» (Дело петрашевцев,
т. 3. М,—Л., 1951, с. 394). — 42
6 Головинский Василий Андреевич (1829—?). В 1848 г. окончил
Училище правоведения, готовился к кандидатскому экзамену
в Петербургском университете. Был прикомандирован к министер¬
ству юстиции, должен был отправиться по назначению стряпчим
в Казань. Посещал кружок Дурова, вечера Плещеева, дважды был
у Петрашевского. Был арестован в ночь на 23 апреля 1849 г., при¬
говорен к расстрелу, по конфирмации определен рядовым в Орен¬
бургский линейный батальон. 22 декабря 1849 г. был выведен на
Семеновский плац и в тот же день отправлен в Троицк. В январе
1851 г. был переведен в Кавказский корпус. В 1855 г. за отличие
в сражении был произведен в унтер-офицеры, в 1857 г. вышел
в отставку, в том же году ему было возвращено дворянство.
В 1858 г. поступил на гражданскую службу в Симбирске, а в 1860—
1862 гг. жил в Петербурге и служил в акционерном обществе
«Кавказ и Меркурий». В 1862 г. он был выслан в Тверь. (До сих
пор, к сожалению, не удалось установить, что же послужило этому
причиной.) В 1863 г. за самовольное посещение Петербурга был
сослан в свое имение Ивашевка в Симбирской губернии. В апреле
1874 г. с него был снят полицейский надзор. — 43
7 По данным 10-й ревизии, в 1858 г. крепостных крестьян
было 22 563 086 человек, государственных—19 379 631 человек
(Дружинин Н. М. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Ки¬
селева, т. 2. Реализация и последствия реформы. М., 1958,
с. 294—295). — 43
8 Липранди Иван Петрович (1790—1880)—чиновник особых
поручений при министре внутренних дел Л. А. Перовском. С марта
1848 г. начал наблюдение за Петрашевским, позднее вошел в ко¬
миссию по разбору бумаг арестованных петрашевцев, неоднократно
подавал «собственное мнение», имевшее целью усиление и разду¬
вание процесса. — 44
9 Антонелли Петр Дмитриевич (1825—?)—сын академика жи¬
вописи, секретный агент Липранди, с декабря 1848 г. начал наблю¬
дения за петрашевцами. Судя по донесению Антонелли от 13 марта
1849 г., он явился на вечер к Петрашевскому без приглашения и
с Толлем в это время почти не был знаком (Дело петрашевцев,
т. 3. М,—Л., 1951, с. 413—414). — 44
10 Кардинал Антонелли Джакомо (1806—1876) — статс-секре¬
тарь папы римского Пия IX. Поддерживавший в начале своей
347
деятельности национально-освободительное движение в Италии, Ан¬
тонелли после 1848 г. резко отмежевался от него и перешел на
крайне реакционные позиции. — 44
11 Львов и Петрашевский допустили ошибку: 7 апреля 1849 г.
на квартире А. И. Европеуса был устроен обед в честь дня рож¬
дения, а не смерти Фурье. На этом обеде присутствовали: Д. Д. Ах¬
шарумов, Э. Г. Ващенко, К. М. Дебу, И. М. Дебу, А. И. Европеус,
П. И. Европеус, Е. С. Есаков, Н. С. Кашкин, М. В. Петрашевский,
Н. А. Спешнев и А. В. Ханыков. — 45
12 Григорьев Николай Петрович (1822—1886)—поручик лейб-
гвардии Конно-гренадерского полка, с 1848 г. посещал Петрашев¬
ского, входил в кружок Дурова. На обеде у Спешнева прочел свой
рассказ «Солдатская беседа». Был арестован 23 апреля 1849 г.
Приговорен военно-судной комиссией к расстрелу, по конфирма¬
ции— к 15 годам каторжных работ. 22 декабря был выведен на
Семеновский плац. 23 декабря в кандалах отправлен в Тобольск
в одной партии с Ф. Н. Львовым, Н. А. Спешневым и Ф. Г. Тол-
лем. Каторгу отбывал в Шилкинском заводе Нерчинского округа,
где окончательно впал в «меланхолическое умопомешательство»,
начавшееся у него еще в Петропавловской крепости. По мани¬
фесту 26 августа 1856 г. был выпущен на поселение. В 1857 г.
по просьбе родных был отдан под надзор семейства в Нижний
Новгород. — 45
13 «Незабвенный» — ироническое прозвище Николая I, вошед¬
шее в употребление после воцарения Александра II. — 46
14 Имеется в виду «Братство взаимной помощи», переговоры
о создании которого были начаты по инициативе Н. А. Момбелли.
В ходе переговоров вырисовалась политическая направленность
будущего тайного общества, однако стали также и особенно остро
ощутимы разногласия между участниками переговоров. Наиболее
радикальную позицию занимал Н. А. Спешнев, допускавший вос¬
стание как один из путей борьбы за отмену крепостного права. Об
этих переговорах следствию стало известно из показаний Спеш¬
нева, доказывавшего, что при столь значительной разнице во взгля¬
дах, какая была у участвовавших в обсуждении проекта «Братства
взаимной помощи», создание тайного общества было невозмож¬
но. — 46
15 Момбелли Николай Александрович (1823—1902). Образова¬
ние получил в Дворянском полку, с 1842 г. служил в лейб-гвардии
Московском полку, в 1847 г. произведен в поручики. В 1846—
1847 гг. устраивал у себя литературные собрания офицеров. Посе¬
щал Петрашевского с осени 1848 г., бывал на вечерах у Дурова.
Был инициатором переговоров о создании «Братства взаимной по¬
мощи». Арестован в ночь на 23 апреля 1849 г. Приговорен к рас¬
стрелу, замененному 15 годами каторги. 22 декабря выведен на
Семеновский плац. Из-за болезни был отправлен в Тобольск позже
остальных — 12 января 1850 г. Каторгу отбывал в Александровском
сереброплавильном заводе Нерчинского округа. По манифесту
26 августа 1856 г. вышел на поселение и отправился рядовым на
Кавказ. В 1857 г. был зачислен в Апшеронский полк, в 1859 г.
за отличие в боях был произведен в прапорщики и поступил на
службу чиновником особых поручений и начальником городского
отдела канцелярии командующего войсками Дагестанской области.
Дослужился до чина майора. Умер, будучи уже в отставке, во
Владикавказе. — 46
16 В обсуждении проекта создания «Братства взаимной помо¬
щи» принимал участие К. М. Дебу. — 47
348
17 «Вечный жид» (1845)—роман французского писателя Эже¬
на Сю (1804—1857), написанный под воздействием идей Фурье.—47
18 Аффилиация — принятие в члены какой-либо организа¬
ции. От французского глагола affilier.— 47
19 О’Коннель Даниель (1775—1847)—парламентский деятель,
борец за независимость Ирландии.—47
20 Имеется в виду манифест Николая I от 14 марта 1848 г. по
поводу революционных событий в Европе. — 50
21 Указанная дата ошибочна. Аресты петрашевцев производи¬
лись в ночь с 22 на 23 апреля 1849 г. — 51
22 Набоков Иван Александрович (1787—1852)—генерал-адъю¬
тант, участвовал в заграничных походах против Наполеона, коман¬
довал гренадерским корпусом, после увольнения от должности «по
расстроенному здоровью» был назначен комендантом Санкт-Петер¬
бургской крепости и директором Чесменской богадельни, председа¬
тель следственной комиссии по делу Петрашевского.
Гагарин Павел Павлович (1789—1872)—член Государственного
совета, впоследствии, в 1866 г., председатель Верховного уголовного
суда по делу Каракозова. Был фактическим председателем след¬
ственной комиссии по делу петрашевцев вместо формально числив¬
шегося И. А. Набокова.
Ростовцев Яков Иванович (1803—1860)—начальник штаба
управления военно-учебных заведений. Был членом Северного об¬
щества декабристов, однако за два дня до восстания донес о нем
Николаю I.
Долгоруков Василий Андреевич (1804—1868)—товарищ воен¬
ного министра, впоследствии военный министр, с 1856 г. шеф жан¬
дармов.
Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862)—начальник штаба
корпуса жандармов, управляющий III отделением, член следствен¬
ной комиссии по делу петрашевцев. — 52
23 Имеются в виду первые два пункта третьего раздела
(«О преступлениях государственных») первой главы «Уложения
о наказаниях уголовных и исправительных»: преступления против
императора и членов императорского дома и участие в заговоре
против императора или составление его. Признанный виновным по
этим пунктам приговаривался к «лишению всех прав состояния и
смертной казни». — 53
24 Ушаков Андрей Иванович (1672—1747)—начальник тайной
розыскной канцелярии в 1730—1747 гг. Соединял в себе крайнюю
жестокость с внешней светскостью и обходительностью. — 53
Шешковский Степан Иванович (1727—1794)—начальник тай¬
ной экспедиции при Екатерине II, обладавший, по ее отзыву, «осо¬
бым даром производить следствие». — 53
25 Мемуаристы ошибаются: типографский станок находился
в квартире Мордвинова и не был обнаружен, следственной комис¬
сии о нем не было известно. — 54
20 Далее в рукописи отсутствует 8 страниц. Их содержание
может быть приблизительно восстановлено по заметке, напечатан¬
ной А. И. Герценом в «Колоколе» (лист 140-й от 1 августа
1862 г.) под названием «Львов и Гагарин (Отрывок из записки
о деле Петрашевского)»:
«Раз Львов потребован был в комиссию; в комнате был один
П. П. Гагарин (нынешний председатель Совета). Он начал расспра¬
шивать Львова с участием о его летах, о семействе и т. п. и потом
сказал: «Вы штаб-офицегр, и в таких молодых летах (ему было
25 лет) потерять все — это ужасно». — «Я совершенно верю в ми¬
349
лосердие государя и в вашу справедливость», — отвечал Львов.
«Да, милость государя надобно чем-нибудь заслужить». Тут доб¬
лестный княчь указал на статью законов, которая доносчику дает
эту милость. Львов был очень удивлен этим оборотом, потому что
его спрашивали почти последним, и все было уже открыто до его
показаний; ему непонятно было, как он может быть доносчиком.
«Слушайте внимательно и не перебивайте меня, но старайтесь
хорошенько понять. Все, что вы до сих пор показывали, — пустяки;
но это дело государственное, тут никого не нужно щадить. Вы
человек умный, вы не могли надеяться на ваших товарищей; вы
должны были искать опоры для себя посильнее для осуществле¬
ния ваших идей. Скажите же, на кого вы надеялись? Не бойтесь,
это вам будет очень полезно; как бы ни было высоко поставлено
это лицо, — я, конечно, не могу его назвать по имени, — но вы
назовите, повторяю, как бы высоко, выше всех нас, исключительно
ни было поставлено это лицо, назовите его! Конечно, оно с вами,
может быть, и не имело непосредственных сношений, но тут все
важно; улыбка, одобрение, слово, полуслово, предупреждение, все
важно! Вот вам бумага, подумайте и напишите в вашем каземате».
Грустный пришел Львов в казематы, он был глубоко оскорб¬
лен, что его могли считать за доносчика. Но что такое от него
требовали? Долго он думал, вдруг стало ему все понятно; года за
два перед этим у Момбелли были литературные вечера, в которых
он участвовал. Из арестованных их только было двое, Момбелли
и он, которые о них знали. Вечера эти прекратились потому, что
наследник, нынешний император, бывший тогда дивизионным на¬
чальником, просил их прекратить на том основании, что в городе
носились слухи о их чрезвычайном либерализме, и хотя он этому
не верит, но ему будет неприятно, если до государя дойдут эти
ложные слухи. Вот чего хотелось Гагарину. Что бы последовало
за этим открытием? Повторилось ли бы дело царевича Алексея,
или просто это было лакейское желание поссорить отца с сыном?
Может быть, олигархическая партия действительно уже предви¬
дела, что сын отнимет у нее рабов, и хотела воспользоваться удоб¬
ным случаем для того, чтобы заставить его отказаться от престола.
Львов сейчас сел и написал:
«Все, что до сих пор мною было показано, сделано было для
скорейшего разъяснения дела и для того, чтобы были скорее осво¬
бождены совершенно невинные, томящиеся подобно мне в тяжком
крепостном заключении. И если комиссия из моих показаний от¬
крыла что-нибудь новое, то я покорнейше прошу не прилагать
ко мне статьи свода законов, показанные кн. Гагариным, потому
что на этом основании я милости государя императора не желаю
и не заслуживаю и к прежним показаниям ничего прибавить не
могу».
— Что вы тут паписали? Я вас не о том спрашиваю, вы меня
не поняли — не хотели понять! И к чему это неуместное самолю¬
бие; милость государя всегда прекрасна. Последнее выражение вам
много повредит, — прибавил Гагарин. Потом он как будто расчув¬
ствовался, хотел даже переписать эту бумагу, в которой можно
было бы выключить последние слова, но вдруг был остановлен
каким-то вошедшим чиновником в мундире военного министерства,
который занимал иногда место стенографа при допросах; он по¬
советовал это сделать в другой раз; тем дело и кончилось».
Следует сопоставить домогательства Гагарина с подозрениями
Николая I, отмеченными в мемуарах М. А. Корфа, «что к числу
заговорщиков, кроме захваченных офицеров, молодых чиновников,
350
литераторов и пр., может принадлежать втайне и кто-нибудь по¬
выше. По крайней мере... принимая двух членов Государственного
совета... он сказал между прочим:
— Не знаю, ограничивается ли заговор теми одними, которые
уже схвачены, или есть кроме них и другие, даже, может быть,
кто и из наших» (Из записок М. А. Корфа. — Русская старина,
1900, № 4, с. 39).
Широко известно то напряженное внимание, которым сопро¬
вождали реакционные придворные круги каждый шаг, каждое слово
подрастающего наследника Александра Николаевича, будущего
Александра II: распространялись слухи о его мягкости, о либера¬
лизме, который внушался ему добросердечным воспитателем
В. А. Жуковским. Крепостники серьезно беспокоились за судьбу
режима и готовы были любым способом оттянуть восшествие на
престол либерала (каковым они его считали), а может быть, даже
и любым способом подмочить в глазах императора репутацию его
старшего сына. На самом деле наследник был далек не только от
петрашевцев, но и от многих либеральных идей, внушавшихся ему
Жуковским: например, именно он дал санкцию на заковывание
в кандалы тех петрашевцев, которые запирались во время след¬
ствия, не отвечали должным образом на вопросы комиссии. Но сам
факт провоцирования Львова (который, естественно, отказался от
доноса) весьма знаменателен.
27 Муравьев-Амурский Николай Николаевич (1809—1881) —
генерал-губернатор Восточной Сибири, играл в либерализм, но
преследовал неугодных ему ссыльных декабристов и петрашев¬
цев. — 59
Владимир Аристович Энгельсон
(1821—1857)
Однокашник Петрашевского и Спешнева, Энгельсон получил
образование в Царскосельском лицее в 1836—1839 гг. На службу
он поступил лишь в 1845 г. и в течение нескольких лет —до
1848 г. — был чиновником министерства иностранных дел. С круж¬
ком Петрашевского он был связан на самом раннем этапе его
существования. По свидетельству самого Петрашевского, Энгельсон
посещал его только в 1845 г.
Во время следствия по делу Петрашевского он все же был
привлечен к допросу, но никаким преследованиям не подвергся и
был полностью оправдан. Вскоре Энгельсон уехал за границу.
Более в Россию он уже не возвращался.
В 1850 г. началось его знакомство и сближение с А. И. Герце¬
ном. В течение нескольких лет он был сотрудником Герцена, писал
для «Полярной звезды». В период, когда разыгрывалась семейная
драма Герцена, Энгельсон принадлежал к числу наиболее близких
к нему людей. Однако в 1854 г. между Герценом и Энгельсоном
произошло охлаждение, и прежние отношения уже не возобновля¬
лись. Впоследствии в «Былом и думах» А. И. Герцен посвятил
особую главу истории своих взаимоотношений с Энгельсоном.
В 1857 г. Энгельсон умер от чахотки на острове Джерси.
Статья о Петрашевском была написана В. А. Энгельсоном
в 1851 г. по просьбе А. И. Герцена для французского историка
Ж. Мишле, стремившегося познакомить европейскую обществен¬
ность с русским революционным движением. Опубликована она,
однако, не была и пролежала в архиве Мишле до 1908 г., когда
была впервые издана во французском журнале «La revue
Ыеие» (№ 13, 14) как сочинение Герцена. Позднее она была вос¬
351
произведена в собрании сочинений А. И. Герцена, вышедшем под
редакцией М. К. Лемке (т. 6. Пг., 1919), куда вошел и француз¬
ский оригинал, и русский перевод, сделанный М. К. Лемке. Совет¬
ские исследователи 1930-х гг. установили принадлежность текста
этой статьи Энгельсону (см. об этом в кн.: Энгельсом. В. А. Статьи.
Прокламации. Письма. М., 1934, с. 25—27).
В настоящем издании статья печатается по тексту собрания
сочинений А. И. Герцена с исправлением одной ошибки (см. при¬
мечание 26).
1 Барбье Огюст (1805—1882)—французский поэт, представи¬
тель гражданского направления в поэзии. Выражение «святая
чернь» заимствовано из его стихотворения «Собачий пир». — 60
2 По свидетельству В. И. Семевского, в «Санкт-Петербургских
ведомостях» в 1840 г. (№ 26 и 27) было напечатано письмо Петра¬
шевского, посвященное пятидесятилетию служебной деятельности
директора лицея Гольтгоера (Семевский В. И. М. В. Буташевич-
Петрашевский и петрашевцы, ч. 1. М., 1922, с. 29). — 63
• Точное название этой книги, состоящей во французском ори¬
гинале из пяти томов: «Баррюэль. Вольтерианцы, или История
о якобинцах, открывающая все противохристианские злоумышления
и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские
державы». М., 1805—1809. — 64
‘ Вейсгаупт Адам (1748—1830) — основатель тайного масон¬
ского ордена иллюминатов в Баварии. — 64
• Это утверждение неверно. По мнению Петрашевского, осу¬
ществлению революции должна была предшествовать широкая про¬
паганда идей социализма. — 64
• По мнению П. Е. Щеголева, речь идет о книготорговце Иоси¬
фе Карловиче Лури, привлекавшемся к допросу и высланном из
Петербурга за несоблюдение цензурных правил (Петрашевцы
в воспоминаниях современников. М.—Л., 1926, с. 87). См. также
упоминание о нем в донесении Антонелли (Дело петрашевцев, т, 3.
М,—Л., 1951, с. 420). — 65
1 Кабе Этьен (1788—1856)—французский утопический социа¬
лист, автор фантастического романа «Путешествие в Икарию». — 65
8 Второй выпуск «Карманного словаря иностранных слов» вы¬
шел в 1846 г. — 65
2 Ипотечные банки — кредитные учреждения для ипотеки (за¬
кладка недвижимого имущества). — 67
10 Книга «Россия и современность», вышедшая анонимно
в Лейпциге в 1851 г., принадлежала перу А. Буддеуса (1819—
1880), автора нескольких трудов о России. — 68
11 Имеется в виду французская революция 1848 г. — 68
12 Луи-Филипп (1779—1850)—король Франции в 1830—
1848 гг, — 68
13 Тьер Луи Адольф (1797—1877) — французский реакционный
историк и государственный деятель. — 68
” Меттерних Клеменс (1773—1859)—с 1821 г. глава австрий¬
ского правительства, вдохновитель «Священного союза» — коалиции
Австрии, Пруссии и России, созданной в целях борьбы с освободи¬
тельным движением. — 68
15 Нессельроде Карл Васильевич (1780—1862)—министр ино¬
странных дел в 1816—1856 гг. — 68
16 Карлье в 1849—1851 гг. был начальником парижской поли¬
ции. Его уход с этой должности современники связывали с обнару¬
жением махинаций в общественной лотерее. Карлье неоднократно
352
оказывал услуги русской полиции. В частности, им был подписан
приказ о высылке Герцена из Парижа в 1850 г. — 68
17 «Independance Beige» («Бельгийская независимость») — из¬
вестная либеральная газета на французском языке, издававшаяся
в Брюсселе. — 69
18 Газета П.-Ж. Прудона «Representant du people, journal
quotidien des travailleurs» («Представитель народа, ежедневная
газета трудящихся») выходила в апреле—августе 1848 г. Газета
имела социалистическое направление. — 69
19 Марраст Арман (1801—1852)—французский политический
деятель, журналист. После восстания 1834 г. в Лионе был привле¬
чен к судебному процессу, но бежал из тюрьмы. В 1836 г. был
амнистирован. В письмах к А. И. Герцену В. П. Боткин дал поло¬
жительную оценку статьям Марраста (Литературное наследство,
т. 62. М., 1955, с. 45). Впоследствии Марраст перешел на реакцион¬
ные позиции, участвовал в подавлении июньского восстания 1848 г.
в Париже.
Кавеньяк Луи Эжен (1802—1857)—французский генерал, бур¬
жуазный политический деятель, военный министр во временном
правительстве 1848 г., подавивший восстание в Париже.
Барбес Арман (1809—1870)—французский мелкобуржуазный
революционер-демократ, один из создателей тайных обществ
в 1830-х гг. В 1839 г. за революционную деятельность был при¬
говорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением.
Был освобожден в 1848 г., участвовал в революции, был депутатом
Учредительного собрания. В 1849 г. был снова осужден на пожиз¬
ненное заключение (два судебных процесса: в Версале и в Бурже).
Освобожден по амнистии в 1854 г. — 69
20 «La semaine» («Неделя»)—парижская республиканская га¬
зета. — 70
21 По-видимому, имеется в виду Борис Исаакович Утин (1832—
1872), арестованный 23 апреля 1849 г. и освобожденный от суда
26 сентября; впоследствии видный юрист, профессор Петербург¬
ского университета.— 71
22 Имеется в виду поход в Хиву под командованием В. А. Пе¬
ровского зимой 1839—1840 гг. Из-за страшных морозов и поваль¬
ных болезней поход был прекращен в самом начале. — 71
23 Полозов Даниил Петрович — начальник Петербургского жан¬
дармского округа. — 72
24 Речь идет о неудавшемся покушении на Николая I в поль¬
ском городе Позене (ныне г. Познань). М. К. Лемке принял назва¬
ние города за фамилию и ошибочно перевел: «покушение Позе-
на». — 72.
25 Первоначально дело петрашевцев рассматривалось в смешан¬
ной по своему составу военно-судной комиссии, приступившей
к работе 30 сентября 1849 г. Военно-судная комиссия приговорила
15 человек к расстрелу, остальных — к каторжным работам и
ссылке. Из военно-судной комиссии дело было 13 ноября 1849 г.
передано в высший военный суд — генерал-аудиториат, присудив¬
ший 19 ноября 1849 г. к смертной казни 21 человека, однако тогда
же ходатайствовавший перед императором о смягчении наказания
всем осужденным. По окончательному приговору, утвержденному
Николаем I, смертная казнь была заменена разными сроками ка¬
торги, арестантских рот и службы рядовыми в отдаленных гарни¬
зонах, причем если некоторым из петрашевцев (как, например,
Толлю или братьям Дебу) Николай I действительно смягчил при¬
говор, то другим утяжелил наказание, в частности Ястржембскому
353
было прибавлено 2 года каторги, а Тимковскому ссылка в Олонец
была заменена на 6 лет службы в арестантских ротах. — 73
2а Эпизод казни на Семеновском плацу передается с большим
количеством неточностей и искажений: ошибочно названа дата —
23 декабря вместо 22-го, упоминаются виселицы, хотя петрашевцы
были приговорены к расстрелу, а не к повешению, неверно указано
количество столбов: их было три, а не семь и т. д. — 73
27 Имеются в виду двое подсудимых, не выведенные на Семе¬
новский плац: В. П. Катенев, сошедший с ума, и Р. А. Черносвитов,
прямо из Петропавловской крепости сосланный в Кексгольмскую
крепость. — 74
28 Речь идет об «Отчете о действиях русской армии в Венгрии
под руководством фельдмаршала Паскевича, князя Варшавского,
графа Эриванского», вышедшем на французском языке в Париже
в 1849 г. Его автор, Я. Н. Толстой, был агентом III отделения.—75
29 К концу работы следственной комиссии в ее распоряжении
был список из 252 человек, не считая тех 28, чьи дела передава¬
лись военно-судной комиссии. 158 человек не были привлечены
к допросу преимущественно из-за невозможности установить их
адреса. Фактически, считая тех, с кого был снят допрос, к делу
привлекались 122 человека (Дело петрашевцев, т. 1. М.—Л., 1937,
с. XX). — 76
Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский
(1827—1914)
«Знакомы ли вы с Петром Петровичем Семеновым, который
был у нас в Сибири, после вас, — мой превосходный знакомый.
Это прекрасный человек, а прекрасных людей надо искать», — пи¬
сал в 1859 г, Ф. М. Достоевский А. Е. Врангелю о выдающемся
русском географе, путешественнике и общественном деятеле
П. П. Семенове-Тян-Шанском.
С П. П. Семеновым Достоевский был знаком еще по Петер¬
бургу, по кружку Петрашевского, на «пятницах» которого бывал
Семенов, С петрашевцами Семенов был связан не только друже¬
скими отношениями, но и общностью научных интересов: некоторые
петрашевцы, как и он, были членами Русского географического об¬
щества, К следствию по делу Петрашевского Семенов привлечен не
был. Возможно, что его спасло отсутствие упоминаний о нем в до¬
несениях Антонелли, может быть, благоприятные для него показания
петрашевцев, отрицавших (как Достоевский) или сильно преумень¬
шавших (как сам Петрашевский) степень знакомства с ним.
П. П. Семенов родился в Рязанской губернии, в семье ветерана
Отечественной войны 1812 г., участника Бородинского сражения,
награжденного за исключительную храбрость золотой шпагой. До
15 лет он жил в деревне, занимаясь самообразованием по книгам
родовой библиотеки, затем поступил в Школу гвардейских подпра¬
порщиков и кавалерийских юнкеров. Однако после окончания ее он
отказался от военной карьеры и стал вольнослушателем отделения
естественных наук физико-математического факультета Петербург¬
ского университета. В 1849 г. он был вместе с Н. Я. Данилевским
командирован Вольным экономическим обществом для ботанических
исследований черноземной полосы. По материалам этой экспедиции
Семенов в 1851 г. защитил магистерскую диссертацию по ботанике.
В 1852—1855 гг. он находился за границей, слушал лекции в Бер¬
линском университете, путешествовал по Германии, Швейцарии,
Италии. К этому же времени относится знакомство Семенова
с известными европейскими учеными К. Риттером и А. Гумбольдтом,
354
принявшими участие в разработке планов будущей его экспедиции
на Тянь-Шань. В 1856—1857 гг. Семенов совершил путешествие
на Тянь-Шань и стал первым европейцем, исследовавшим высочай¬
шую горную группу Хан-Тенгри, Заилийский Алатау, Семиречье,
Алтай, озеро Иссык-Куль. Во время этого путешествия он в Семи¬
палатинске и Барнауле встречался с Достоевским, читавшим ему
отрывки из «Записок из Мертвого дома».
По возвращении в Петербург Семенов принимал деятельное
участие в подготовке реформы 19 февраля 1861 г., заведовал де¬
лами Редакционной комиссии, вырабатывавшей положение об осво¬
бождении крестьян. В 1873 г. за труд «Статистика поземельной
собственности в России» он получил звание почетного члена Ака¬
демии наук. В 1874 г. за выпущенную им книгу «Этюды по истории
нидерландской живописи» был избран почетным членом Академии
художеств. В 1880-е гг. он путешествовал по Закаспийскому крага
и Туркестану.
Начиная с 1849 г. вся научная деятельность Семенова была
тесно связана с Русским географическим обществом, бессменным
вице-председателем которого он был с 1873 г. на протяжении более
чем 40 лет. Он участвовал в подготовке таких экспедиций, как
экспедиция по исследованию Центральной Азии Н. М. Пржеваль¬
ского, экспедиция в Новую Гвинею Н. Н. Миклухо-Маклая. Дея¬
тельность Семенова получила широкое признание: в 1906 г., в пя-
тидесятилетнюга годовщину его первого путешествия на Тянь-
Шань, к его фамилии была сделана прибавка «Тян-Шанский». Впо¬
следствии Академия наук СССР учредила в его честь золотую
медаль. Именем его назван ряд местностей в Центральной и Сред¬
ней Азии, на Кавказе, Аляске, Шпицбергене.
В конце жизни Семенов написал четырехтомные «Мемуары»,
в которых создал яркую картину современной ему эпохи. Воспо¬
минания о петрашевцах, вошедшие в них, представляют большой
интерес, невзирая на субъективность оценок Семенова, особенно
заметно сказавшуюся в характеристиках, данных им Петрашев¬
скому, Дурову и Плещееву. Впервые воспоминания Семенова были
опубликованы в книге: «Мемуары П. П. Семенова-Тян-Шанского,
т. 1. Детство и юность» (1827—1855) (Пг., 1917). Впоследствии
отрывки из них воспроизводились в сборниках «Петрашевцы в вос¬
поминаниях современников» (М., 1926) и «Достоевский в воспоми¬
наниях современников», т. 1 (М., 1964). В настоящем томе текст
воспоминаний Семенова приводится по изданию 1917 г.
■Данилевский Николай Яковлевич (1829—1885)—известный
естествоиспытатель, философ и публицист, впоследствии видный
представитель неославянофильства, автор труда «Россия и Евро¬
па». Окончил Александровский лицей в 1842 г. и Петербургский
университет в 1846 г., в 1849 г. выдержал магистерский экзамен
по ботанике. Вместе с П. П. Семеновым был послан Вольным
экономическим обществом для исследования границ черноземной
полосы. Посещал Петрашевского с 1844 до мая 1848 г., читал
у него на «пятницах» лекции по фурьеризму. Арестован в Тульской
губернии, доставлен в Петропавловскую крепость 22 июня 1849 г.
По ходатайству военно-судной комиссии освобожден 10 ноября и
выслан в Вологду, под секретный надзор. В дальнейшем, начиная
с 1853 г., неоднократно принимал участие в экспедициях по иссле¬
дованию состояния рыболовства в России. — 77
1 Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826—1889), Был со¬
слан в Вятку в 1848 г. за повесть «Запутанное дело». Привлекался
355
24 сентября 1849 г. в Вятке к допросу по делу Петрашевского.—78
3 Беклемишев Александр Петрович (1824—1877). По окончании
в 1841 г. Александровского лицея служил в министерстве внутрен¬
них дел, в 1842 г. был откомандирован для изучения и ревизии
народного хозяйства Лифляндской и Эстляндской губерний. В фев¬
рале 1848 г. посетил одну из «пятниц» Петрашевского. Написал
«Переписку двух помещиков» об организации крестьянского труда
по системе Фурье. Арестован 23 мая в Ревеле, выпущен под сек¬
ретный надзор 27 сентября 1849 г. В 1851 г. был назначен кур¬
ляндским вице-губернатором, в 1858—1868 гг. был могилевским
губернатором. — 78
4 Милютин Владимир Алексеевич (1826—1855)—выдающийся
русский экономист, представитель социалистической мысли в Рос¬
сии, автор выходивших в конце 1840-х гг. работ «Мальтус и его
противники», «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции»
и др., сотрудник «Отечественных записок» и «Современника». Полу¬
чил образование в Петербургском университете. Впоследствии был
профессором Петербургского университета и Александровского ли¬
цея. Посещал Петрашевского с 1847 г. К следствию не привле¬
кался. — 78
5 См. прим. 22 к воспоминаниям Ф. Н. Львова и М. В. Бута-
шевича-Петрашевского. — 79
8 Особым указом от 2 апреля 1837 г. гражданским чиновникам
было запрещено носить усы, бороды, бакенбарды. Нарушение это¬
го указа считалось признаком вольномыслия. О четырехугольном
цилиндре Петрашевского пишет в своих воспоминаниях и К. С. Ве¬
селовский: «Однажды какой-то тароватый француз привез из Па¬
рижа модную новинку, которую надеялся пустить в ход в Петер¬
бурге,— мужские шляпы, у которых верх тульи состоял не из
круга, как у теперешних цилиндров, а из квадратного четверо¬
угольника, как у уланских шапок, — и первым явившимся в такой
смешной обновке на Невском в часы наибольшего там оживления
был, конечно, не кто иной, как Петрашевский» (Петрашевцы в вос¬
поминаниях современников, с. 101). — 79
7 Вопрос об освобождении крестьян был поднят наиболее даль¬
новидными государственными деятелями в связи с резким обнища¬
нием деревни, вызванным частыми неурожаями и обезземеливанием
крестьян, а также усилением крестьяских волнений, грозивших
перейти в восстания. По поручению Николая I П. Д. Киселевым
был разработан в 1835 г. проект реформы, предполагавшей
некоторое облегчение положения крестьян и в то же
время сохранение значительной части помещичьих привилегий. По
плану Киселева реорганизация деревни должна была осуществ¬
ляться в два этапа. Первоначально предусматривалось улучшение
быта и условий жизни государственных крестьян, а затем уже
приближение жизни крепостных крестьян к состоянию государствен¬
ных, уничтожение личного рабства и ограничение законом произ¬
вола помещиков. Однако из-за сопротивления помещиков и двой¬
ственности позиции самого Николая I, признававшего необходи¬
мость отмены крепостного права, но вместе с тем не желавшего
ущемлять интересы крупных землевладельцев, реформа не была
полностью проведена. Несмотря на свою противоречивость, проект
Киселева имел большое значение для подготовки крестьянской
реформы 1861 г.
Секретная записка «О крепостном состоянии в России» была
составлена А. П. Заблоцким-Десятовским в 1841 г. по материалам
проведенного им по поручению П. Д. Киселева обследования поло-
356
женпя крепостных крестьян. В записку был включен ряд фактов, об¬
личающих произвол помещиков, их злоупотребление властью, и тем
самым обосновывалась небходимость отмены крепостного права.—80
8 Н. А. Спешнев провел за границей 1842—1846 гг., жил в ос¬
новном в Италии и Германии. — 81
9 Институт мировых посредников был учрежден в 1861 г., сразу
же после отмены крепостного права. В их обязанности входило
осуществление крестьянской реформы на местах, работа по разме¬
жеванию земельных наделов, составление актов, определяющих
хозяйственное положение крестьян, решение спорных вопросов
в их взаимоотношениях с помещиками и т. д. Мировые посредники
выбирались из дворянского сословия сроком на три года. Особенно
значительную роль играли мировые посредники первого призыва,
действовавшие в 1861—1863 гг., которые часто критиковали прави¬
тельственную программу с демократических позиций. Должность
мирового посредника сохранилась до 1874 г., однако последующие
призывы уже не оказывали существенного влияния на жизнь
крестьян. — 82
10 Стихотворение П. Л. Лаврова «Отзыв на манифест», оши¬
бочно приписанное Семеновым Аксакову, представляет собой отклик
на обнародованный 29 января 1855 г. манифест Николая I о Крым¬
ской войне. Стихотворение не было опубликовано и распространя¬
лось в списках. — 83
11 Из стихотворения А. С. Пушкина «Разговор книгопродавца
с поэтом». — 84
12 Шенье Андре (1762—1794) — французский поэт и публицист,
прославившийся своими элегиями. Во время французской буржуаз¬
ной революции казнен за выступления против диктатуры якобин¬
цев. — 87
13 Дуров Сергей Федорович (1816—1869)—поэт, литератор.
Получил образование в Университетском благородном пансионе
в Петербурге. По окончании в 1833 г. пансиона служил сперва
в коммерческом банке, затем в канцелярии морского министерства.
В 1847 г. вышел в отставку в чипе коллежского асессора. С 1847 г.
посещал Петрашевского. В марте 1849 г. устроил свой собственный
кружок. Был арестован 23 апреля. Военно-судной комиссией при¬
говорен к расстрелу, по окончательной резолюции — к четырем
годам каторги с последующей службой рядовым. 22 декабря был
выведен на Семеновский плац, 24 декабря в кандалах отправлен
в Омский острог через Тобольск, где произошло его знакомство
с женой декабриста Н. Д. Фонвизиной, оказавшей ему сущест¬
венную поддержку. 23 января 1854 г. — по окончании срока ка¬
торги— был зачислен рядовым в 3-й линейный батальон Отдель¬
ного сибирского корпуса в Петропавловске. В марте 1855 г. был
уволен по болезни и поступил на гражданскую службу. В апреле
1857 г. ему было возвращено дворянство, в мае он, тяжело боль¬
ной, с параличом ног и болезнью глаз, уехал в Одессу к А. И. Паль¬
му. Жить в столицах ему было разрешено в 1863 г. — 88
14 Семенов-Тян-Шанский излагает взгляды Дурова и историю
создания его кружка крайне тенденциозно. Первоначально кружок
носил характер литературно-музыкальных вечеров и, как утверж¬
дали на следствии его участники, возник в противовес политиче¬
ским по своей направленности «пятницам» Петрашевского. Соци¬
ально-политическую окраску кружок Дурова приобрел лишь позд¬
нее. — 88
15 Отношения Достоевского и Дурова хотя и не отличались
особенной близостью, но не были и враждебными. Поставленные
357
рядом на Семеновском плацу, они затем были отправлены в одной
партии в Тобольск, вместе отбывали каторгу в Омском остроге,
по выходе из каторги некоторое время вместе жили в доме
О. И. Ивановой, дочери декабриста И. А. Анненкова. Дружествен¬
ные упоминания о Дурове встречаются в письмах Достоевского
к Ч. Ч. Валиханову и П. Е. Анненковой. — 88
16 Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912)—с 1845 г. про¬
фессор военной географии и статистики в Военной академии,
в 1861—1881 гг. военный министр. — 90
11 Беклемишева Вера Николаевна — невеста Н. Я. Данилевско¬
го.— 91
Владимир Рафаилович Зотов
(1821—1896)
Литератор, драматург, поэт, фельетонист, театральный рецен¬
зент и политический обозреватель, писавший обо всем на свете
почти во всех жанрах, Зотов за годы своей деятельности сотруд¬
ничал почти во всех изданиях, существовавших в то время в Рос¬
сии. Он оставил огромное литературное наследие, большая часть
которого, однако, не имеет особой художественной ценности. Во
второй половине 1850-х гг. он был одним из главных сотрудников
журнала «Сын отечества», а с 1858 г. стал редактором журнала
«Иллюстрация», в котором вел политический и литературно-крити¬
ческий разделы. В литературной и журнальной деятельности ему
были свойственны эклектизм, колебания в оценках, непоследователь¬
ность взглядов, часто отражавшиеся на его общественной позиции.
В. Р. Зотов был потомком Бату-хана, брата последнего крым¬
ского хана Шагин-Гирея, крещенного в детстве Екатериной II.
В 1836—1841 гг. он учился в Александровском лицее. По оконча¬
нии лицея служил чиновником в военном министерстве, но в сущ¬
ности занимался уже исключительно литературной деятельностью
и к своим служебным обязанностям относился настолько прене¬
брежительно, что за нерадивость чуть не был отправлен рядовым
на Кавказ. Спасли его только связи отца с Л. В. Дубельтом.
Именно в канцелярии военного министерства он сблизился со своим
однокашником, служившим там же, — М. Е. Салтыковым-Щедри¬
ным. В 1848 г. Зотов был переведен в министерство финансов, где
его служба носила чисто формальный характер. Это позволило ему
окончательно стать профессиональным литератором. В 1849 г. Зо¬
тов, бывавший на собраниях у Петрашевского, знакомого ему еще
по лицею, был привлечен к допросу, но не подвергся никаким
взысканиям и был полностью оправдан. В 1857 г. Зотов отправился
за границу. В Лондоне он посетил Герцена, с которым был знаком
с 1846 г., и передал ему тексты собранных в России нелегальных
произведений, которые Герцен использовал впоследствии для сбор¬
ника «Русская потаенная литература XIX столетия» (Лондон,
1861). Связь с Герценом Зотов сохранил и в дальнейшем. В 1867 г,
весной, в Женеве произошла их вторая встреча. По-видимому,
в этот раз Герцен через Зотова искал возможностей печататься
в России. Контакты Зотова с русскими революционными деятелями
не ограничивались посещением Герцена. Впоследствии он общался
и с членами «Народной воли» и даже, по свидетельству народо¬
вольца Н. А. Морозова, принял на хранение архивы «Земли и
воли» и «Народной воли» (см. об этом в кн.: Морозов Н. А. Пове¬
сти моей жизни, т. 2. М., 1961, с. 354).
Воспоминания В. Р. Зотова «Петербург в сороковых годах»
были впервые опубликованы в «Историческом вестнике» (1890,
358
№ 1—6). Отрывок из них, посвященный Петрашевскому, вошел впо¬
следствии в сборник «Петрашевцы в воспоминаниях современни¬
ков» (М.—Л., 1926). Текст этого отрывка приводится по первому
изданию автобиографических заметок Зотова.
1 Зотов имеет в виду революционные события в Европе 1848—
1849 гг. — 97
2 Своекоштный — находящийся на собственном содержа¬
нии. — 98
3 Зотов ошибается: М. В. Петрашевский окончил лицей
в 1839 г. вместе с X курсом, с чином XIV класса. — 98
4 Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875) — историк, биб¬
лиограф, в 1840-х гг. — либеральный чиновник, впоследствии на¬
чальник управления по делам печати, крайний реакционер. — 98
6 Намек на выражение «Ад вымощен добрыми намерения¬
ми», приписываемое английскому богослову XVII в. Дж. Гербер¬
ту. — 100
6 В «Материалах для жизнеописания Ф. М. Достоевского»
О. Ф. Миллера такого свидетельства Достоевского не приводится.
Напротив, О. Ф. Миллер указывает, что Петрашевский считал во¬
просами первостепенной важности реформу суда и отмену крепост¬
ного права (Миллер О. Ф. Материалы для жизнеописания Ф. М. До¬
стоевского.— В кн.: Биография, письма и заметки из записной
книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883, с. 89). —100
7 Рассказ Зотова представляет собой единственное дошедшее
до нас свидетельство о попытке Петрашевского создать фаланстер
в своем имении в Новоладожском уезде Петербургской губернии
(ныне — усадьба Деморовка Волховского района). Ряд исследова¬
телей (В. Р. Лейкина-Свирская, Н. Ф. Бельчиков и др.) выражают
сомнение в достоверности этого эпизода. Между тем, в усадьбе
сохранился фундамент фаланстера, и рассказ о пожаре, уничтожив¬
шем здание, до сих пор бытует среди окрестного населения
(см.: Саруханян Е. Достоевский в Петербурге. Л., 1972, с. 71).
Местность, где расположена Деморовка, лишь исторически при¬
надлежала к Великому Новгороду, поэтому выражение Зотова
«новгородские леса» употреблено скорее всего в нарицательном
смысле. — 100
8 Выражение из басни И. А. Крылова «Осел и соловей».—101
9 Цитата из стихотворения А. А. Григорьева «Когда колокола
торжественно звучат» (Григорьев А. А. Избр. произведения. М.,
1959, с. 121—122). — 101
10 Зотов неточно цитирует труд В. И. Семевского «Крестьян¬
ский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века» (Спб.,
1888, с. 371). — 103
11 Оценка, данная Зотовым «Карманному словарю иностранных
слов», крайне тенденциозна и несправедлива. В действительности
«Карманный словарь» был высоко оценен передовой русской обще¬
ственностью. В. Г. Белинский писал о нем: «Он составлен умно,
с знанием дела, словом, столько удовлетворителен, сколько от
первого опыта и ожидать нельзя. Есть, конечно, недостатки, так,
например, неполнота; нет слов: грамматика, ерамота — но, несмотря
на то, этот словарь, как первый опыт, все-таки превосходен. Когда
он выйдет вполне, мы еще скажем о нем несколько слов, а пока
советуем запасаться им всем и каждому» (Белинский В. Г. Поли,
собр. соч., т. 9. М., 1955, с. 61—62).
12 Имеются в виду отмена крепостного права в 1861 г. и су¬
дебная реформа 1864 г.— 104
359
13 Зотов ошибся: Липранди упоминает Черносвитова как «мис-
сионера»-петрашевца, действовавшего в провинции, но не сообщает
о получении им записки Петрашевского. —104
Ф. Н. Львов
Письмо к Д. И. Завалишину [о Петрашевском]
Письмо Ф. Н. Львова к Д. И. Завалишину было впервые опуб¬
ликовано в «Сборнике старинных бумаг, хранящихся в музее имени
Щукина» (ч. 10. М., 1902). Выдержки из письма вошли также
в сборник «Петрашевцы в воспоминаниях современников» (М.—Л.,
1926). В настоящем издании отрывки из письма приводятся по
тексту первой публикации.
Завалишин Дмитрий Иринархович (1804—1892)—декабрист,
был приговорен к смертной казни, замененной пожизненной катор¬
гой. С 1839 г. жил на поселении в Чите, в 1856 г. был амнистиро¬
ван. В ссылке сблизился с петрашевцами.
1 Судебные дела, затевавшиеся Петрашевским, носили глубоко
принципиальный характер, так как он видел в них средство про¬
паганды, орудие в легальной борьбе с правительством. В донесения:7
Антонелли приведены слова Петрашевского, сказанные им об одной
из его ранних тяжб: «В отношении к правительству должно выка¬
зывать как можно более пауперизма, выставляя ?му напоказ
все его неправильные действия и показывая несообразность его
установлений, делая таким образом его смешным в глазах обще¬
ства. По этому случаю я и затеваю дело с с.-петербургским пред¬
водителем дворянства» (Дело петрашевцев, т. 3. М.—Л., 1951,
с. 387).
Одним из таких протестов стало его столкновение с министром
внутренних дел Л. А. Перовским в 1848 г., вызванное стремлением
Петрашевского помешать петербургскому дворянству подать
Николаю I верноподданнический адрес, осуждающий революцион¬
ные события в Европе. Позднее, на эшафоте, он пытался разобла¬
чить явное нарушение законности, допущенное по отношению
к нему: дворяне не подлежали телесным наказаниям, а следова¬
тельно, не должны были носить кандалы. В упоминаемых Львовым
протестах из Шилки и Нерчинска Петрашевский ставил своей
задачей доказать незаконность приговора, вынесенного ему и его
товарищам, наглядно продемонстрировать допущенные в ходе веде¬
ния дела петрашевцев судебные ошибки. Первое из таких проше¬
ний было подано им в Сенат еще до выхода из каторги, в 1855 г.
Вместе с тем протесты Петрашевского не ограничивались толь¬
ко попытками добиться справедливости в собственной судьбе. Не
менее важным мотивом его деятельности стала и борьба со зло¬
употреблениями сибирского начальства. Особое место в этой борьбе
занял эпизод так называемой «иркутской дуэли» — дуэли между
чиновниками генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравь¬
ева М. Неклюдовым и Ф. Беклемишевым в 1859 г. Протесты Пе¬
трашевского, доказывавшего, что во время дуэли не были соблю¬
дены правила, его речь на могиле убитого Неклюдова вызвали
широкий общественный резонанс. Под его влиянием Иркутский
окружной суд приговорил Ф. Беклемишева к 20 годам каторги,
обвинив в преднамеренном убийстве, однако позднее этот при¬
говор был отменен. В 1860 г. Петрашевский был выслан из Иркут¬
ска в село Шушу Минусинского округа. — 107
2 Сервилизм — раболепие, лакейство. — 107
360
Николай Александрович Спешнев
(1821—1882)
«Сегодня я, для своих именин, был порадован не одним Вашим
письмом, но еще приездом одного очень дорогого моему, сердцу
человека — Спешнева; он едет из Сибири с Муравьевым и будет
непременно у Чернышевского, с которым желает познакомиться.
Я дал ему и Ваш адрес. Рекомендую Вам этого человека, который,
кроме большого ума, обладает еще качеством, к несчастью, слиш¬
ком редким у нас; у него всегда слово шло об руку с делом
в жизнь. Это в высокой степени честный характер и сильная воля.
Можно сказать положительно, что из всех наших — это самая за¬
мечательная личность» — так в письме к Н. А. Добролюбову от
12 февраля 1860 г. поэт-петрашевец А. Н. Плещеев охарактеризовал
одного из самых значительных участников кружка Петрашевского.
Н. А. Спешнев родился в богатой помещичьей семье, владев¬
шей имениями в нескольких губерниях России. В детстве он вос¬
питывался в Петербурге, во французском пансионе Журдана,
Позднее поступил в Александровский лицей, где учился одновре¬
менно с М. В. Петрашевским, В. А. Энгельсоном, В. Р. Зотовым.
Однако курса в лицее он не закончил, так как из-за конфликта
с преподавателями был исключен в апреле 1839 г. Вскоре он стал
вольнослушателем восточного факультета Петербургского универ¬
ситета, но, несмотря на чрезвычайно интенсивные занятия, отка¬
зался от своих первоначальных планов держать экзамен на сте¬
пень кандидата. Причиной такой резкой перемены была его
любовь к А. Ф. Савельевой, вместе с которой он в 1842 г. уехал
за границу. После смерти А. Ф. Савельевой в 1844 г. Спешнев
ненадолго приезжал в Россию, однако вскоре снова уехал за
границу, где оставался до 1846 г. В этот период, ставший для него
временем углубленных занятий, изучения социализма, истории ран¬
него христианства, он сблизился с польской революционной эми¬
грацией, в особенности с К.-Э. Хоецким, знакомцем А. И. Герцена
и сотрудником П.-Ж. Прудона, печатавшимся под псевдонимом
Шарль-Эдмон. Отношения с Хоецким сохранялись у Спешнева и
после возвращения в Россию. Именно с ним, по-видимому, Спеш¬
нев связывал планы издания за границей нелегальной литературы.
Поселившись в Петербурге, Спешнев уже с начала 1847 г. стал
посетителем «пятниц» Петрашевского. Позже он вошел также
в кружки Н. С. Кашкина и С. Ф. Дурова, бывал и на собраниях
у А. Н. Плещеева, присутствовал на обеде у Европеуса в честь
дня рождения Фурье. В апреле 1849 г. на обеде у Спешнева
Н. П. Григорьев читал свою «Солдатскую беседу». Вместе
с П. Н. Филипповым Спешнев участвовал в приобретении принад¬
лежностей для тайной типографии.
В ночь на 23 апреля 1849 г. он был арестован. Ему инкрими¬
нировалось многое: участие в «преступных заговорах» у Петрашев¬
ского, речь об атеизме, участие в обсуждении проекта тайной лито¬
графии. Особо тяжким было обвинение в «замысле составить тай¬
ное общество в России, с целью произвести реформу всех сосло¬
вий», в участии в переговорах с Н. А. Момбелли, М. В. Петрашев¬
ским, Ф. Н. Львовым и К. М. Дебу о создании тайного общества,
или — как это было названо в докладе генерал-аудиториата —
в «злоумышленных совещаниях, которые происходили в квартире
его, Спешнева, об учреждении тайного общества под названием
товарищества, или братства взаимной помощи».
14 Зак. № 528
361
Спешнев был приговорен к «смертной казни расстрелянием»,
по конфирмации замененной десятью годами каторги. 22 декабря
он был среди выведенных на Семеновский плац, а 23 декабря
в одной партии с Н. П. Григорьевым, Ф. Н. Львовым и Ф. Г. Тол-
лем был, отправлен в Тобольск. То обстоятельство, что во время
чтения приговора петрашевцы должны были стоять при двадцати¬
градусном морозе без верхнего платья, в покаянных рубахах, па¬
губно отразилось на здоровье Спешнева. Уже в Тобольске декаб¬
рист доктор Ф. Б. Вольф определил у него чахотку. Впоследствии,
однако, ему удалось оправиться от нее благодаря целебному воз¬
духу сибирской тайги. В Тобольске произошла встреча Спешнева и
его товарищей с женами декабристов, оказавшими им существенную
поддержку.
Из Тобольска Спешнев был переправлен в Александровский
завод Нерчинского округа, где оставался до самого выхода на по¬
селение в 1856 г. В декабре 1856 г. по ходатайству генерал-губер¬
натора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева Спешнев был принят
на службу в Забайкальское областное управление. В феврале
1857 г. он был переведен в Главное управление Восточной Сибири,
в распоряжение военного губернатора Забайкальской области.
В конце марта 1857 г. Спешнев был назначен начальником газет¬
ного стола Иркутского губернского правления. Он стал одним из
организаторов «Иркутских губернских ведомостей», которые редак¬
тировал с мая 1857-го по март 1859 г. К участию в газете Спешнев
старался привлечь живших в Сибири декабристов и петрашевцев.
В апреле 1859 г., назначенный начальником путевой канцелярии
Н. Н. Муравьева, Спешнев был произведен в коллежские регистра¬
торы. Как начальник путевой канцелярии он сопровождал
Н. Н. Муравьева во время его поездок в Китай и Японию. В на¬
чале 1860 г. Н. Н. Муравьев увез его с собой в Петербург, где
добился возвращения ему дворянства. Получив право жительства
в центральной России, Спешнев поселился в Островском уезде
Псковской губернии, в своем имении. В 1861 г. он стал мировым
посредником первого призыва. Занимался земской деятельностью и
в последующие годы, был почетным мировым судьей, гласным
уездного земского собрания. В одно,м из жандармских донесений
о нем было сказано, что он «твердо стоит за интересы крестьян
и равнодушен к интересам помещиков, очень усиленно хлопочет
о сближении с простым сословием». Для крестьян своего Остров¬
ского уезда Спешнев добился самых больших земельных наделов
во всей России. Раздал он крестьянам и большую часть своего
имения. Умер Н. А. Спешнев 17 марта 1882 г. в Петербурге.
Писарская копия показания Спешнева о Р. А. Черносвитове
сохранилась в бумагах следственного дела в виде выписки, при¬
ложенной к еженедельным отчетам о ходе следствия, представ¬
лявшимся наследнику. Этот документ представляет особый инте¬
рес, так как позволяет судить о существенном эпизоде из истории
кружка Петрашевского, о взаимоотношениях между некоторыми
наиболее яркими его участниками. Достоверность рассказа под¬
тверждается показаниями как Петрашевского, так и Черносвитова.
Вместе с тем это один из немногих дошедших до нас документов,
непосредственно связанных с деятельностью Спешнева-петрашевца,
так как следственное дело его не сохранилось, а местонахождение
воспоминаний о деле Петрашенского, которые он в последний год
жизни продиктовал А. Г, Достоевской, неизвестно.
Текст рассказа о Черносвитове приводится по изданию: Дело
петрашевцев, т. 3. М.—Л., 1951,
362
1 Черносвитов Рафаил Александрович (1810—1868). В начале
своей деятельности, в 1826—1832 гг„ был на военной службе, до¬
служился до чина подпоручика, в 1831 г. был ранен в Польше,
потерял ногу, попал в плен. Позднее, вернувшись в Россию, служил
исправником, участвовал в подавлении крестьянских волнений
в Пермской губернии в 1841—1842 гг. В 1840-х гг. стал сибирским
золотопромышленником. Будучи в Петербурге, в конце 1848 г,
посещал собрания у Петрашевского. По донесению Антонелли,
Черносвитов — «человек с необыкновенно либеральными мнениями,
говорил чрезвычайно смело до того, что прослыл агентом III отде¬
ления». Однако арестован он был лишь после «откровенного пока¬
зания» Спешнева, сделанного им 2 июня 1849 г.
Тот факт, что Спешнев так подробно изложил перед след¬
ственной комиссией свои разговоры с Черносвитовым, имеет, по-ви¬
димому, двоякое объяснение. Во-первых, Спешнев, как и Петра¬
шевский, считал Черносвитова агентом III отделения. Во-вторых,
после того как в следственную комиссию были доставлены бумаги
Спешнева, среди которых был «Проект обязательной подписки для
членов тайного общества», его целью было заставить следственную
комиссию поверить в «искренность» своих показаний об отсутствии
тайной организации среди петрашевцев. Возможны и другие предпо¬
ложения (см. с. 34 настоящего издания).
Арестованный в Томской губернии, Черносвитов 21 июля
1849 г. был доставлен в Петропавловскую крепость. Генерал-ауди¬
ториат приговорил его к ссылке в Вятку, по конфирмации он был
отправлен в Кексгольмскую крепость. На Семеновский плац он
выведен не был. В 1854 г. его перевели в Вологду. В 1856 г.
с него сняли надзор, и ему разрешено было жить во внутренних
губерниях, а затем и в столицах. В 1858 г. он уехал в Сибирь,
там жил в Иркутске и Красноярске; умер в тайге, на прииске.—109
2 Мальтус Томас Роберт (1766—1834)—английский вульгар¬
ный экономист, один из создателей теории падения жизненного
уровня в связи с ростом народонаселения, подвергнутой критике
К. Марксом, Н. Г. Чернышевским, П.-Ж. Прудоном, В, А. Милю¬
тиным. —109
3 См. прим. 4 к «Записке о деле петрашевцев» Ф. Н. Львова,
М. В. Петрашевского. — 110
1 Басня «Запасные магазины» была прочитана Ф. Н. Львовым
на одной из «пятниц» Петрашевского в ноябре 1848 г. Автор басни
неизвестен, текст сохранился в искаженном виде в показаниях
Ф. Н. Львова следственной комиссии (Дело петрашевцев, т. 1. М,—
Л., 1937, с. 412—413). — 110
5 Низовые губернии — т. е. губернии, расположенные в нижнем
течении Волги (Самарская, Саратовская, Астраханская), —111
Александр Иванович Пальм
(1822—1885)
«Андрюша Мориц, кроме занятий по службе, очень в то время
утомительных, не пропускал публичных лекций, хотя они были
в то время очень неутомительны, успевал брать уроки в языках,
ходил к учителю пения и не прочь был проплясать всю ночь на
бале или в маскараде дворянского собрания. <...>
Андрюша, более развитой, нервный и самолюбивый, как будто
363
чувствовал зародыш своей силы, горячо отстаивал свои иллюзии
и часто обнаруживал упрямство избалованного ребенка. <...>
Он был восторженный поклонник Жоржа Занда, посвящал
даже стихотворения этой далекой звезде какого-то нового мира» —
таким многие годы спустя в автобиографическом романе «Алексей
Слободин» изобразил себя под именем Андрюши Морица писатель-
петрашевец А. И. Пальм.
Он родился в Пензенской губернии. Отец его был сперва лес¬
ничим, после служил чиновником особых поручений Вятской казен¬
ной палаты. Мать Пальма была простой крестьянкой. Образование
Пальм получил в Дворянском полку. В 1842 г. он был выпущен
в лейб-гвардии егерский полк в чине прапорщика, а к 1849 г. стал
поручиком. Вскоре после выхода из Дворянского полка он начал
публиковать свои первые литературные опыты, в те годы большей
частью стихотворные, сочувственно встреченные Ф. А. Кони, его
бывшим преподавателем. Стремление печататься у Пальма, помимо
любви к литературе, было обусловлено и тем, что, не имея никаких
средств к существованию, он после смерти отца в 1846 г. должен
был содержать всю семью — мать и двух братьев.
В августе 1847 г. произошло его знакомство с Петрашевским,
а с осени 1847 г. Пальм стал посещать его «пятницы», пользо¬
ваться библиотекой. Из петрашевцев особенно тесной дружбой он
был связан с С. Ф. Дуровым, с которым вместе жил с первой
половины 1840-х гг. Пальм был участником дуровского кружка,
посещал собрания у Плещеева, Присутствовал он и при чтении
Н. П. Григорьевым «Солдатской беседы» на обеде у Спешнева.
Пальм был арестован в ночь на 23 апреля 1849 г. и пригово¬
рен к смертной казни, но по конфирмации, так как он «принес
в необдуманных поступках своих раскаяние», ему было засчитано
за наказание восьмимесячное пребывание в крепости, и он был
переведен тем же чином (поручиком), но без права повышения по
службе, в армию, в Литовский егерский полк в Одессу. Участво¬
вал он в военных действиях на Дунае в 1853—1854 гг., в осаде
Силистрии, в обороне Севастополя.
В 1856 г. с Пальма были сняты все ограничения в правах,
и он вскоре вышел в отставку в чине майора. Весной 1867 года
Пальм взял к себе Дурова, уже тяжело больного, с параличом
ног и болезнью глаз, и ухаживал за ним до самой его смерти. По
смерти Дурова в 1869 г. Пальм стал его душеприказчиком, соби¬
рал и публиковал его литературное наследие. С 1870-х гг. Пальм
занялся исключительно литературой. В это время им были напи¬
саны комедии «Старый барин», «Наш друг Неклюжев», снискавшие
ему известность в театральном мире. В одной из них — «Старый
барин» — любил играть знаменитый актер В. В. Самойлов. В 1872—
1873 гг. в «Вестнике Европы» был опубликован автобиографический
роман Пальма «Алексей Слободин», в котором были выведены его
товарищи — участники «пятниц» Петрашевского. Написанная им
незадолго до смерти повесть «Последний сон» была запрешейа
цензурой, рукопись ее конфискована. Умер Пальм в Петербурге.
Воспоминания А. И. Пальма о Ф. Н. Львове были опублико¬
ваны в газете «Новое время» (1885, 4(16) июня). Позднее не
переиздавались. Текст воспоминаний приводится по единственной
публикации.
1 Бурбон — здесь: офицер, выслужившийся из солдат.— It?
г Степанов Петр Александрович (1805—1891) —брат известного
художника Н. А. Степанова. Вступил на службу в лейб-гвардии
364
егерский полк в 1825 г. В последние годы — царскосельский комен¬
дант. Умер в чине генерала.— 118
3 Кастриот-Дреколович-Скандербек Владимир Георгиевич — пра¬
порщик, служил в полку в 1839—1841 гг. — 118
4 Федотов Павел Александрович (1815—1852) — один из осно¬
воположников критического реализма в русской живописи, в своих
картинах изображавший городские и жанровые сцены. — 118
6 Булгаков Константин Александрович (1812—1862) — прапор¬
щик лейб-гвардии Московского полка, друг Лермонтова. — 118
’Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — генерал, вид¬
ный русский военный деятель, полководец, участник освобождения
Болгарии в период русско-турецкой войны 1877—1878 гг. —119
7 Речь идет о Крымской войне 1853—1856 гг.— 119
’ Роман А. Дюма «Три мушкетера» появился в печати
в 1844 г, — 119
9 Кони Федор Алексеевич (1809—1879)—писатель, драматург,
театральный деятель, отец известного юриста А. Ф. Кони.—119
10 Анфантен Бартолеми Проспер (1796—1869) — французский
социалист-утопист, последователь Сен-Симона, один из его ближай¬
ших учеников. — 121
" Имеется в виду Суворов Александр Аркадьевич (1804—
1882)—внук А. В. Суворова, в 1861—1866 гг. — генерал-губернатор
Петербурга. —124
Иван Иванович Венедиктов
(1820—1894)
Скромный чиновник, не посещавший собраний у Петрашевского
и относившийся к ним не без опасения, И. И. Венедиктов стал оче¬
видцем событий, связанных с делом петрашевцев. На его глазах
был арестован Ф. Н. Львов, вместе с которым он жил. Воспо¬
минания Венедиктова безыскусно передают тревожную атмосферу
петербургской жизни в апрельские дни 1849 г.
И. И. Венедиктов родился в Москве, в семье известного
хирурга. Образование получил в 1-м Московском кадетском кор¬
пусе и Дворянском полку, откуда он был выпущен в лейб-гвардии
Волынский полк. В 1847 г. вышел в отставку, однако вскоре по¬
ступил на гражданскую службу — сперва в департамент полиции
исполнительной, потом в Главное управление путей сообщения,
а еще некоторое время спустя в Государственный контроль. Позд¬
нее перешел на службу в военно-учебное ведомство.
Венедиктов был автором работ по физике и пиротехнике.
В конце жизни он написал воспоминания, не предназначавшиеся
им для публикации. Однако обилие в них интересных подробностей
и наблюдений побудило сына Венедиктова нарушить волю отца
и издать его записки.
Впервые отрывок из воспоминаний И. И. Венедиктова был
Опубликован в журнале «Русская старина» в 1901 г. (№ 4).
Полностью воспоминания И. И. Венедиктова «За шестьдесят
лет» появились в журнале «Русская старина» (1905, № 8—10).
Часть из них впоследствии вошла в сборник «Петрашевцы в вос¬
поминаниях современников» (М.—Л., 1926). В настоящем издании
выдержки из воспоминаний Венедиктова о Ф. Н. Львове приво¬
дятся по первой публикации.
1 Речь идет о танцевальном вечере, устроенном в 1847 г.
хозяевами квартиры, в которой снимал комнату Венедиктов. — 126
365
8 На углу Малой Морской и Вознесенского проспекта (ныне
проспект Майорова, д. 8/23) находился дом Шиля, в котором
с 1847 г. до самого своего ареста в 1849 г. жил также Ф. М. До¬
стоевский. —127
’Мертвый дом — намек на книгу Достоевского «Записки
из Мертвого дома». Судьба Львова в Сибири сложилась благо¬
приятнее, чем судьба многих других петрашевцев, например До¬
стоевского и Дурова. Судя по его воспоминаниям, напечатанным
в «Современнике» (1862, февраль), ему было дозволено жить не
в самой тюрьме, а на квартире по соседству. Существенное облег¬
чение принесли ему и его познания в области химии, широко ис¬
пользовавшиеся местным начальством. — 129
’Пробирное управление — учреждение, занимающееся
надзором за правильностью определения лигатуры драгоценных
металлов и их соответствием установленным нормам.—130
6 Венедиктов ошибся: Львов должен был ехать не в Рязань,
а в Полтаву. — 130
6 В 1863 г. Львову было разрешено жительство в столицах,
а в 1866 г. — возвращено потомственное дворянство. — 130
7 Витт Николай Иванович (1808—1872) — профессор химии
в Технологическом институте. Посещал литературные вечера, уст¬
раивавшиеся в 1846—1847 гг. Н. А. Момбелли. Судя по донесению
Антонелли, Витт был у Петрашевского один раз, на самой послед¬
ней «пятнице», 22 апреля 1849 г. По-видимому, он был в достаточ¬
ной степени далек от волновавших участников кружка проблем.
«...Баласогло и Момбелли говорили, что это человек совершенно
ортодоксальный, что он враг всех социальных вопросов и совер¬
шенно идет противу ныне господствующих в Европе идей», — доно¬
сил о нем Антонелли (Дело петрашевцев, т. 3. М.—Л., 1951, с. 41),
Арестован он не был, но к допросу привлекался, —130
Александр Петрович Милюков
(1817—1897)
«Если назвать либеральным направлением мои мысли о кре¬
постном состоянии и желание его освобождения как источник
образования и счастья для моего народа — то это направление
проявилось во мне давно», — писал в своих показаниях по делу
Петрашевского литератор и педагог А. П. Милюков.
Он родился в Москве, в семье конторщика. В 1839 г. закончил
Петербургский университет. С 1840 г, стал преподавателем — сперва
в уездных училищах, потом во 2-й Петербургской гимназии и Си¬
ротском институте, а до июня 1849 г. — также и в Дворянском
полку. В 1847 г. им были изданы «Очерки по истории русской
поэзии», написанные под воздействием взглядов В. Г. Белинского.
Милюков был участником кружка И. И. Введенского, в который
входил также и молодой Н, Г. Чернышевский. Сблизившись с ря¬
дом петрашевцев, Милюков посещал собрания у С. Ф, Дурова и
А. Н. Плещеева, однако на «пятницах» у Петрашевского не был
ни разу.
Следственная комиссия не проявила большого интереса
к Милюкову. Арестован он не был, лишь привлекался к допросу
29 августа 1849 г. Однако его все же подвергли секретному над¬
зору. Милюков присутствовал при прощальном свидании Ф. М. До¬
стоевского с братом и Дуровым перед отправкой их в Сибирь.
Именно ему Дуров передал текст написанного в крепости стихо¬
творения «Из апостола Иоанна». Впоследствии, в декабре 1859 г.,
366
Милюков вместе с М, М. Достоевским встречал на Николаевском
вокзале возвращавшегося в Петербург Ф. М. Достоевского. Дру¬
жеские отношения между Милюковым и Ф. М. Достоевским сохра-
нялись до 1867 г., в дальнейшем наступило заметное охлаждение.
В течение более чем 30 лет Милюков сотрудничал во многих
журналах, таких, как «Сын отечества», «Отечественные записки»,
«Библиотека для чтения», «Светоч». Публиковался он и в журна¬
лах братьев Достоевских «Время» и «Эпоха»,
Воспоминания А. П. Милюкова о Достоевском впервые были
напечатаны в журнале «Русская старина» (1881, № 3 и 5). Позд¬
нее они вошли в его книгу «Литературные встречи и знакомства».
В советское время опубликованы в сборнике «Достоевский в вос¬
поминаниях современников», т. 1 (М., 1964). В настоящем издании
воспоминания Милюкова приводятся по книге: Милюков А. П. Ли¬
тературные встречи и знакомства. СПб., 1890.
1 Пий IX, папа римский (1792—1878), ставший после 1848 г.
одним из вдохновителей европейской реакции, начал свое правле¬
ние в 1846 г. с создания комиссии для выработки новых, либераль¬
ных реформ, разрешения промышленных ассоциаций и на)ганых
съездов, с амнистии политическим заключенным. В дальнейшем
объявил свою реформаторскую деятельность вынужденной и вы¬
ступал против народной борьбы за объединение Италии. —131
2 «Франкфуртский съезд» представителей германской либераль¬
ной буржуазии и интеллигенции (так называемый «Предваритель¬
ный парламент») собрался 31 марта 1848 г. на волне европейских
революционных событий февраля—марта 1848 г. Съезд постановил
созвать парламент, избранный во всех германских государствах
всеобщим голосованием.—131.
3 Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824—1880)—литера¬
тор, журналист, редактор демократических журналов «Русское сло¬
во» (1860—1866) и «Дело» (1866—1880). — 132
‘Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893)—русский поэт.
Получил образование в школе гвардейских подпрапорщиков, затем
учился на восточном факультете Петербургского университета. По¬
сещал с 1845 г. Петрашевского, позднее, в 1848—1849 гг., входил
в кружок Дурова. Зимой 1848—1849 гг, устроил у себя несколько
вечеров. Был арестован 28 апреля 1849 г. в Москве. Военно-судной
комиссией приговорен к четырем годам каторги. 22 декабря выве¬
ден на Семеновский плац. По конфирмации определен рядовым
в Оренбургские линейные батальоны. За отличие во время осады
Ак-Мечети (ныне г. Кзыл-Орда) в декабре 1853 г. произведен
в унтер-офицеры, затем в прапорщики. Дворянство ему возвращено
в 1857 г. В 1859 г. разрешено жить в Москве. —132
6 Стихотворение «Вперед! без страха и сомненья...» вошло
в первый сборник А. Н. Плещеева, вышедший в 1846 г. Впослед¬
ствии стало революционной песней. — 132
6 Т, е. в казармах Московского полка в Петербурге, располо¬
женных в квартале между Фонтанкой, Загородным проспектом и
Гороховой улицей (ныне ул. Дзержинского). — 133
1 Это утверждение не соответствует действительности. Харак¬
терно, что, по свидетельству О. Ф. Миллера, оно было опровергнуто
И. М. Дебу (Биография, письма и заметки из записной книжки
Ф. М. Достоевского. СПб., 1883, с. 91). — 133
8 Щелков Алексей Дмитриевич (1825—?)—кандидат Харьков¬
ского университета, с 1846 г. чиновник канцелярии петербургского
губернатора. Посещал Петрашевского с 1847 г. Был арестован
367
23 апреля, выпущен 6 июля 1849 г., отдан под секретный над¬
зор. —133
9 Милюков цитирует последнее четверостишие стихотворения
А. С. Пушкина «Деревня» (1819), вошедшего (не полностью) в из¬
дание стихотворений поэта 1826 г. под названием «Уединение».
Полный текст стихотворения с заключительной строфой «Увижу ль,
о друзья...» распространялся в списках. —134
10 «Ода к Фелице» была написана Г. Р. Державиным в 1782 г.
Под именем киргиз-кайсацкой царевны Фелицы в ней прославля¬
лась Екатерина II. — 135
11 Нью-Ланарк — фабрика в Шотландии, директором и со¬
владельцем которой был Р. Оуэн. На этой фабрике был осуществ¬
лен ряд преобразований: сокращен рабочий день, организованы
школа и детский сад для детей рабочих и т. д. Икария— вы¬
мышленное утопическое государство, описанное Э. Кабе в романе
«Путешествие в Икарию» (1840). — 135
12 Прудон Пьер Жозеф (1809—1865)—французский социалист,
теоретик анархизма. Теория прогрессивного налога — одно из ос¬
новных положений прудонизма — доктрины мелкобуржуазного со¬
циализма и анархизма. В книгах «Что такое собственность?» (1840),
«Система экономических противоречий, или Философия нищеты»
(1846) и других Прудон предлагал путь мирного переустройства
капиталистического общества посредством реформы кредита и об¬
ращения, уничтожения классовой эксплуатации чисто экономиче¬
скими реформами в сфере обращения, кредита, безденежного обме¬
на товаров. Особое внимание Прудон уделял налоговой системе,
в частности использованию прогрессивного налога — такого, когда
налоговая ставка, т. е. величина налога на единицу обложения,
увеличивается по мере роста размера облагаемого дохода. Налоги
рассматривались Прудоном как некая «полиция» для уравновеши¬
вания конкуренции и монополизации. Прудонизм, ведущий к отказу
от политической борьбы и от института государства, явился осно¬
вой анархо-синдикалистского движения в Европе и Америке
в 20-х гг. XX в. К. Маркс подверг уничтожающей критике систему
взглядов Прудона в работе «Нищета философии» (1848), а также
в ряде других статей и публичных выступлений в конце
1840-х гг. —135
13 Подобное изложение Милюковым суждений Достоевского
вызывало сомнения у многих исследователей (например, у А. С. До¬
линина), считавших, что оно объясняется стремлением «увязать»
взгляды молодого Достоевского с его более поздней позицией.
Возможно, приведенная Милюковым точка зрения отражает интерес
части петрашевцев, особенно тех, кто входил в кружок Н. С. Каш¬
кина, к устройству русской крестьянской общины, в которой они
видели зародыш социалистической организации труда, сближаясь
в этом с А. И. Герценом. Достоевский не был непосредственным
членом этого кружка, однако мог быть знаком с волновавшими
его проблемами. ■
14 Имеется в виду Филиппов Павел Николаевич (1825—1855) —
студент физико-математического факультета Петербургского универ¬
ситета, уволенный в 1845 г. за «беспорядок во время перемены».
В 1846 г. был вновь принят сначала вольнослушателем, а затем
действительным студентом. С 1848 г. посещал Петрашевского, бы¬
вал на вечерах у Дурова. Арестован 23 апреля 1849 г., приговорен
военно-судной комиссией к расстрелу, по конфирмации осужден
па четыре года военно-арестантских рот с последующим определе¬
нием рядовым на Кавказ. Был выведен на Семеновский плац
368
22 декабря 1849 г., в тот же день отправлен из Петропавловской
крепости в Измаил. В марте 1850 г. из-за упадка, сил и изнурения
был переведен в военно-рабочую роту. В декабре 1853 г. был
отправлен рядовым в Кавказский линейный 9-й батальон в кре¬
пость Грозную. В феврале 1855 г. послан в действующую армию.
Умер 17 сентября 1855 г. от раны, полученной при штурме Кар¬
са. —136
15 Речь идет о «Солдатской беседе» Н, П. Григорьева. Опуб¬
ликована в материалах его следственного дела (Дело петрашев¬
цев, т. 3. М,—Л„ 1951, с. 233—237). — 136
18 Ламенне Фелисите Робер (1782—1854)—представитель фран¬
цузского христианского социализма. Его памфлет «Слова верую¬
щего» (1834), запрещенный в России цензурой, был, несмотря на
это, хорошо известен прогрессивной русской общественности. По
предположению Ф. Г. Никитиной, перевод Милюкова, носивший
название «Новое откровение митрополиту Антонию Новгородскому»,
представлял собой вольное изложение введения к нему (Никити¬
на Ф. Г. Петрашевцы и Ламенне.— В кн.: Достоевский. Исследо¬
вания и материалы, т. 3. Л., 1978, с. 257). Перевод остальной
части памфлета был сделан А. Н. Плещеевым и Н. А. Мордвино¬
вым. В 1855 г. этот текст (за исключением уже утраченного к тому
времени введения), предназначавшийся для пропаганды, был изъят
у Н. А. Мордвинова во время его ареста в Тамбове. Впоследствии,
в 1870-х гг. вольный перевод памфлета, сделанный С. М. Степияком-
Кравчинским, использовался в революционной пропаганде народни¬
ками. —136
17 Список письма Белинского к Гоголю привез А. Н. Пле¬
щеев. Оценка, данная мемуаристом этому письму, обусловлена бо¬
лее поздними взглядами Милюкова, сложившимися под воздей¬
ствием реакции 1880-х гг.— 137
18 Статья А. И. Герцена «Москва и Петербург» была прочитана
А. П. Милюковым на вечере у А. Н. Плещеева. — 137
19 Краевский Андрей Александрович (1810—1889) — издатель
«Отечественных записок». —139
20 Свидание М. М. Достоевского с братом и С. Ф. Дуровым
состоялось 24 декабря 1849 г. — 140
21 Стихотворение С. Ф. Дурова «Из апостола Иоанна» было
издано в Лейпциге в 1874 г., в сборнике запрещенных стихотво¬
рений «,,Лютня". Собрание свободных русских песен и стихотворе¬
ний». В России впервые появилось в 1881 г. в «Русской старине»
(№ 3), в статье А. П. Милюкова «Федор Михайлович Достоевский.
(К его биографии). 28 января 1881 г.». —142
22 Впоследствии Ф. М. Достоевский так вспоминал об этом
эпизоде в письме к брату Михаилу от 22 февраля 1854 г.: «По¬
мнишь ли, как мы расстались с тобой, милый мой, дорогой, воз¬
любленный мой? Только что ты оставил меня, нас повели, троих —
Дурова, Ястржембского и меня — заковывать. Ровно в 12 часов,
т. е. ровно в рождество, я первый раз надел кандалы. В них было
фунтов 10, и ходить чрезвычайно неудобно. Затем нас посадили
в открытые сани, каждого особо, с жандармом, и на 4 санях,
фельдъегерь впереди, мы отправились из Петербурга. У меня было
тяжело на сердце и как-то смутно, неопределенно jjt многих разно¬
образных ощущений. Сердце жило какой-то суетой, и потому ныло
и тосковало глухо. Но свежий воздух оживлял меня, и так как
обыкновенно перед каждым новым шагом в жизни чувствуешь
какую-то живость и бодрость, то я в сущности был очень спокоен
и пристально глядел на Петербург, проезжая мимо празднично
369
освещенных домов и прощаясь с каждым домом в особенности»
(Достоевский Ф. М. Письма, т. 1. М.—Л., 1928, с, 133—134). — 143
Николай Петрович Баллин
(1829—1904)
Общественный деятель, теоретик кооперативного социализма,
автор статей о кооперативной системе, Н. П. Баллин родился
в Петербурге в семье дворянина. Образование он получил в Учи¬
лище правоведения, к поступлению в которое его готовил извест¬
ный переводчик Диккенса И. И. Введенский. В 1842—1849 гг.—
годы учения в Училище правоведения — Баллин увлекся трудами
Фурье, Сен-Симона, Кабе, Луи Блана. Баллин был в приятельских
отношениях с петрашевцами В. А. Головинским и П. Н. Филиппо¬
вым. Собраний у Петрашевского он не посещал и по делу Петра¬
шевского не привлекался, однако казнь петрашевцев произвела на
него чрезвычайно сильное впечатление. В последующие годы Бал¬
лин служил губернским стряпчим в Симбирске, где распространял
произведения Герцена. В дальнейшем жил в Ярославле, Костроме,
Харькове, всюду проповедуя идеи Фурье, занимаясь общественной
и литературной деятельностью. Несмотря на некоторые неточности
и ошибки памяти Баллина, в целом его воспоминания представляют
несомненный интерес.
Отрывок из рукописи воспоминаний Н. П. Баллина <50 лет
моей жизни» под названием «Петрашевцы и их время в воспоми¬
наниях Н. П. Баллина» был впервые опубликован в журнале «Ка¬
торга и ссылка» (1930, № 2) и более не перепечатывался. По
этому же изданию с некоторыми сокращениями приводится текст
воспоминаний и в настоящем томе.
'Ковалевский Михаил Евграфович (1830—1884) — судебный
деятель, обер-прокурор уголовного кассационного департамента Се¬
ната, член Государственного совета.— 144
2 Невахович Михаил Львович (1817—1850) — издатель иллю¬
стрированного журнала «Ералаш», карикатурист.— 144
3 Имеется в виду буржуазно-демократическое временное пра¬
вительство, созданное в результате февральской революции 1848 г,
во Франции. —145
4 Принц Ольденбургский Петр Георгиевич (1812—1881) — осно¬
ватель и попечитель Училища правоведения. —145
6 Горегорецкое училище (правильно: Горыгорецкое)—един¬
ственный сельскохозяйственный институт в России, находился
в г. Горки Могилевской губернии. — 145
3 Благоутробие — милосердие, доброта. — 146
7 Барановский Николай Иванович — чиновник Сената, к след¬
ствию не привлекался. —147
3 Сведения о скорой смерти В. А. Головинского ошибочны.
О его судьбе см. прим. 6 к «Записке о деле петрашевцев»
Ф. Н. Львова и М. В. Петрашевского. —148
9 Баллин ошибся: Достоевский был приговорен к четырем го¬
дам каторги.—148
10 22 декабря 1849 г. был 21° мороза (см.: Миллер О. Ф. Ма¬
териалы для жизнеописания Ф, М. Достоевского. — В кн.: Биогра¬
фия, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского,
СПб., 1883, с. 122), — 149
11 Шпаги ломали над осужденными в каторжные работы дво¬
рянами, лишаемыми сословных прав, —149
370
Федор Михавлович Достоевский
(1821—1881)
«...Если желать лучшего есть либерализм, вольнодумство, то
в этом смысле, может быть, я вольнодумец. Я вольподумец в том
же смысле, в котором может быть назван вольнодумцем и каждый
человек, который в глубине сердца чувствует себя вправе желать
добра своему отечеству, потому что находит в сердце своем и
любовь к отечеству, и сознание, что никогда ничем не повредил
ему. <...> Но в чем же обвиняют меня? В том, что я говорил
о политике, о Западе, о цензуре? и прочее. Но кто же не говорил
и не думал в наше время об этих вопросах? Зачем же я учился,
зачем наукой во мне возбуждена любознательность, если я не
имею права сказать моего личного мнения или не согласиться с та¬
ким мнением, которое само по себе авторитетно?» — писал в своем
объяснении следственной комиссии Ф. М. Достоевский.
Среди участников кружка Петрашевского Ф. М. Достоевский
занимает особое место. Ставший впоследствии одним из величай¬
ших русских писателей, он завоевал себе литературное имя уже
в 1840-х гг. и пользовался наибольшей известностью из всех петра¬
шевцев. Он родился в Москве, в семье штаб-лекаря Мариинской
больницы для бедных, образование получил в Петербурге, в Глав¬
ном инженерном училище. В 1843 г., после окончания училища,
был зачислен в инженерный корпус. Однако служебная карьера
мало привлекала стремившегося к литературной деятельности До¬
стоевского, и в 1844 г. он вышел в отставку. Уже самая первая
его повесть «Бедные люди» обратила на себя внимание литератур¬
ной критики и была высоко оценена Н. А. Некрасовым и особенно
В. Г. Белинским.
Познакомившись весною 1846 г. е Петрашевским, Достоевский
стал посещать его собрания, позднее ои входил также в кружок
Дурова, бывал на вечерах у Плещеева. Присутствовал он и на
обеде у Спешнева во время чтения Н. П. Григорьевым «Солдатской
беседы». Арестованный в ночь на 23 апреля 1849 г., Достоевский
был обвинен в обсуждении проекта создания домашней литографии
и в чтении им на «пятнице» у Петрашевского письма Белинского
Гоголю. Военно-судной комиссией он был приговорен к расстрелу,
по конфирмации присужден к четырем годам каторги и последую¬
щей службе рядовым. 22 декабря он был выведен на Семеновский
плац, а 24 декабря 1849 г, в кандалах отправлен в Тобольск в од¬
ной партии с С. Ф. Дуровым и И. Л. Ястржембским.
После четырехлетней каторги в Омском остроге, где он содер¬
жался вместе с Дуровым, Достоевский был в 1854 г. зачислен
рядовым в 7-й линейный батальон Отдельного сибирского корпуса
в Семипалатинске. В начале 1856 г. произведен в унтер-офицеры,
в октябре—в прапорщики. В 1857 г. ему было возвращено дво¬
рянство, а в 1859 г. по ходатайству Э. И. Тотлебена, старшего
'брата товарища Достоевского по Инженерному училищу, Достоев¬
скому было разрешено уйти в отставку с правом жить в централь¬
ной России, но без въезда в столицы. Тогда же разрешено ему
было печататься на общих основаниях. Осень 1859 г. он провел
в Твери, выбранной им за близость и к Москве, и к Петербургу,
а в декабре того же года, получив право жительства в столицах,
вернулся в Петербург. Начинался новый этап его жизни и твор¬
чества...
В своем творчестве писатель неоднократно возвращался к вос¬
поминаниям о деле Петрашевского, его участниках, своих пережи¬
371
ваниях в крепости и во время казни на Семеновском плацу.
Эти воспоминания получили отражение и в его романах, и
в «Дневнике писателя», и в рассеянных по его записным тетрадям
беглых упоминаниях о «давно прошедшем» деле. Не случайно
много лет спустя, размышляя о судьбе молодого поколения, До¬
стоевский записал: «Мы стояли на эшафоте с верою... уезжали
с надеждою».
Рассказ Ф. М. Достоевского об аресте был записан после воз¬
вращения из ссылки 24 мая 1860 г. в альбом О. А. Милюковой,
дочери А. П. Милюкова. Альбом О. А. Милюковой хранится
в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинском доме).
Впервые этот текст был опубликован О. Ф. Миллером в книге
«Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоев¬
ского» (СПб., 1883). Воспроизведен он также и А. П. Милюковым
в «Литературных встречах и знакомствах» (СПб., 1890). В на¬
стоящем томе текст рассказа приводится по изданию: Достоев¬
ский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти томах, т. 18. М., 1978.
1 Мундиры жандармов Отдельного корпуса были голубого цве¬
та. —150
2 У Цепного моста через Фонтанку (ныне мост Пестеля) нахо¬
дилось III отделение. —151
8 Поговорка возникла, когда при Борисе Годунове было отме¬
нено сохранившееся за крепостными крестьянами право переходить
от одного помещика к другому в Юрьев день. Переходы обычно
происходили 26 ноября, с «Холодного Юрья», однако в церковном
календаре было несколько дней памяти святого Георгия-Юрия,
в том числе и 23 апреля — «Юрий вешний». — 151
‘ Корректность обращения Дубельта с подследственными от¬
мечалась и другими петрашевцами. Возможно, это объяснялось
тем, что дело было поднято помимо III отделения. Существенную
роль в поведении Дубельта, по-видимому, играло и нежелание
жестоким обращением вызвать сочувствие русского общества к аре¬
стованным петрашевцам (см. об этом также: Достоевский Ф. М.
Поли. собр. соч., т. 18, с. 361). —151
Иван (Фердинанд) Львович Ястржембский
(1814-1886)
«В кругу знакомых Рудковского „паном" звали Теофила
Осиповича Горжельского, преподавателя в одном учебном заведе¬
нии, человека не первой молодости, весьма умного, но милейшего
чудака...» Таким изобразил впоследствии А. И. Пальм в своем
романе «Алексей Слободин» И. Л. Ястржембского, участника круж¬
ка Петрашевского.
Родился И. Л. Ястржембский в Минской губернии, в польской
дворянской семье. Учился в Виленском университете, был принят
на казенный счет в Киевский университет, а кончил курс в Харь¬
ковском университете в 1841 г.
С мая 1843 г. Ястржембский начал службу в Санкт-Петербург¬
ском технологическом институте в качестве помощника инспектора
классов и преподавателя политической экономии. Был он также
учителем в Институте корпуса путей сообщения и в Дворянском
полку. Познакомившись в мае 1848 г. с Петрашевским, посещал
его «пятницы». У Петрашевского Ястржембский читал доклад
о статистике как науке, в котором доказывал ее общественно-со¬
циальный характер. В ночь на 23 апреля 1849 г. Ястржембский
372
был арестован. В ходе следствия ему инкриминировалось участие
в «преступных рассуждениях о религии, правительстве и об изме¬
нении некоторых государственных учреждений», чтение на вечерах
у Петрашевского «записок своего сочинения о статистике и поли¬
тической экономии, написанных во вредном духе», «дерзкие выра¬
жения» насчет высших сановников и императора. Ястржембский
был приговорен к смертной казни, а по конфирмации — к шести
годам каторжных работ на заводах, причем два года были ему
добавлены к предложенному генерал-аудиториатом сроку самим
Николаем I. 22 декабря 1849 г. Ястржембский был вместе с дру¬
гими петрашевцами выведен на Семеновский плац, а 24 декабря
отправлен в Тобольск в одной партии с С. Ф. Дуровым и Ф. М. До¬
стоевским. В Тобольске ему, как и другим петрашевцам, оказали
поддержку и помощь жены декабристов. Из Тобольска Ястржемб¬
ский был переправлен в Екатерининский винокуренный завод Тар¬
ского округа. По манифесту 26 августа 1856 г. вышел на поселе¬
ние. В 1857 г. ему было возвращено дворянство и разрешено вер¬
нуться во внутренние губернии. В последующие годы Ястржембский
жил у родных в Речицком уезде Минской губернии, в большой
бедности. Секретный надзор с него был снят только в 1872 г.,
а жить в столицах ему было разрешено лишь D феврале 1874 г.
Воспоминания И. Л. Ястржембского впервые были напечатаны
в журнале «Минувшие годы» (1908, № 1). Позднее они вошли
в сборник «Петрашевцы в воспоминаниях современников»(М.—Л.,
1926). В настоящем издании они воспроизводятся по первой пуб¬
ликации с некоторыми сокращениями.
1 Цитата из «Од» Горация (III, 2).
2 Куафюра (франц., устар.) — пышная прическа. — 154
8 Учрежденный в 1769 г. орден святого Георгия давался за
военные заслуги. Он имел четыре степени, отличавшиеся по способу
ношения знаков отличия. В петлице помещали награды младших —
III и IV степени. — 155
4 Стоячий красный воротник мундира означал принадлежность
к полиции. — 157
6 Орден святой Анны — голштинский орден, включенный в чис¬
ло русских наград при Павле I, в 1797 г., давался за отличия на
государственной службе, имел четыре степени, из которых значи¬
тельной считалась только первая.
Орден Станислава, учрежденный первоначально в Польше, стал
знаком отличия в России с 1831 г. Был одной из самых незначи¬
тельных наград, присуждавшихся за государственную службу.—157
6 П.-Ж. Прудон был арестован в марте 1849 г. за статью об
ответственности президента перед республикой, присужден к трем
годам тюрьмы и штрафу в 3000 франков. —159
7 По-видимому, Ястржембский имеет в виду Ахенвалля Гот¬
фрида (1719—1772) — немецкого ученого, одного из создателей
теории статистики как науки о государстве. — 162
8 Кетле Ламберт Адольф (1796—1874) — один из создателей
современной статистики, математик, физик. — 162
9 О Манифесте см. прим. 20 к «Записке о деле петрашевцев»
Ф. Н. Львова, М. В. Буташевича-Петрашевского. — 165
10 Ж а к е р и я — название крестьянских восстаний во Франции,
образованное от насмешливого прозвища, данного крестьянам дво¬
рянами: Жак-простак. — 165
11 Синедрион (греч.)—высшее судебно-административное
учреждение в эпоху III в. до н. э. — I в. н. э.— 166
373
12 См. прям. 22 к воспоминаниям В. А. Энгельсона.—166
13 Аудитор — представитель закона при военных судах, сов¬
мещавший обязанности судьи, секретаря и прокурора. Должность
была упразднена в 1867 году.
Орден святого Владимира, учрежденный в 1782 г., давался за
гражданские заслуги. Различались четыре его степени. Крест на
шее означал вторую из них. — 166
Дмитрий Дмитриевич Ахшарумов
(1823—1910)
«Монархическое неограниченное [правление уместно] только
тогда, когда будет на престоле человек любознательный, благона¬
меренный и преданный благу всего человечества. Но с нашими
негодными, недоверчивыми, всего опасающимися царями и много¬
численным их семейством, в котором ни один из членов не обещает
ничего доброго, с невежеством министров и всего правительства,
решительно нет надежды на такое нововведение», — писал в своих
автобиографических заметках петрашевец Д. Д. Ахшарумов. Эти
записи, хранившиеся среди бумаг петрашевца И. М. Дебу, оказа¬
лись в руках следственной комиссии, посчитавшей их «в высшей
степени преступными», что несомненно повлияло на решение участи
Д. Д. Ахшарумова.
Д. Д. Ахшарумов родился в семье генерал-майора Дмитрия
Ивановича Ахшарумова, участника Отечественной войны 1812 г.,
издавшего в 1819 г. ее первое систематическое описание.
Дмитрий Дмитриевич Ахшарумов получил образование в 1-й
Санкт-Петербургской гимназии и Петербургском университете, ко¬
торый он закончил в 1846 г. по разряду восточной словесности со
степенью кандидата. С февраля 1847 г. он стал чиновником в учеб¬
ном отделении восточных языков при Азиатском департаменте
министерства иностранных дел, где в это время служили также
братья Дебу и Н. С. Кашкин. Увлекшись под влиянием своего
ближайшего друга И. М. Дебу идеями Фурье, Ахшарумов начал
посещать кружок, собиравшийся у Н. С. Кашкина с осени 1848 г.
Несколько позже—в декабре 1848 г.— он попал и на «пятницы»
Петрашевского. Однако особого сближения с Петрашевским у Ах¬
шарумова не произошло. По словам Ахшарумова, его привлекала
главным образом возможность пользоваться обширной библиотекой.
Тем не менее 7—8 раз он присутствовал на «пятницах».
Ахшарумов — один из участников обеда в честь Фурье, со-
стоявшегоя 7 апреля 1849 г. На этом обеде он произнес речь,
в которой говорилось, по собственному определению Ахшарумова,
«о счастии человечества», «о великом преобразовании всей земли,
в котором природа избрала нас действователями». Такими словами
Ахшарумов собирался попрощаться с товарищами: через две недели
он должен был отправиться на службу в Константинополь. Планам
его не суждено было осуществиться. В ночь на 23 апреля 1849 г.
он был арестован и заключен в Петропавловскую крепость.
В ходе следствия ему особо инкриминировалась речь на обеде
в честь Фурье, названная в докладе генерал-аудиториата «самой
преступной речью против религии, семейного быта и государствен¬
ного устройства». Сыграли свою роль и попавшие в распоряжение
следственной комиссии его бумаги: стихотворение «Европа в 1845
году», записная книга 1848 г, и тетрадь с автобиографическими
заметками, найденная у И. М. Дебу. За «непосредственное уча¬
стие в.., преступных намерениях к произведению реформы быта
374
общественного» и «дерзкие выражения против правительства» Ах¬
шарумов был приговорен к расстрелу, по конфирмации — к четы¬
рем годам арестантских рот, а затем — к службе рядовым на Кав¬
казе. 24 декабря он был отправлен в Херсон в арестантские роты
инженерного ведомства, где пробыл полтора года, и в 1851 г. по
просьбе родных переведен рядовым в 17-й линейный батальон
Отдельного Кавказского корпуса. В 1853 г. он был произведен
в унтер-офицеры, в октябре 1856 г. — в прапорщики. По указу
от 17 апреля 1857 г, ему было возвращено дворянство. В сентябре
того же года Ахшарумов был уволен в отставку и поступил на
медицинский факультет Дерптского университета, а в ноябре ему—
первому из сосланных петрашевцев — было разрешено жить в сто¬
лицах. В 1862 г. Ахшарумов закончил Петербургскую медико-хи¬
рургическую академию и вскоре стал доктором медицины. Он
работал врачом в различных городах Юга России, с 1873 г. до
выхода в 1882 г. в отставку был губернским врачебным инспекто¬
ром в Полтаве. Д. Д. Ахшарумов — автор многочисленных исследо¬
ваний по санитарии и социальной гигиене. Дожил он до глубокой
старости и сочувственно встретил революцию 1905 г.
Свои записки Ахшарумов начал писать только в 1870 г., од¬
нако вскоре прервал работу над ними и возобновил ее лишь
в 1884 г. В 1887 г. редактор журнала «Русская старина» М. И. Се¬
мевский предпринял попытку опубликовать отрывок из его воспо¬
минаний, посвященный кружку Петрашевского. Однако из-за цен¬
зурного запрета публикация не была осуществлена. Воспоминания
Ахшарумова были частично напечатаны в 1900 г. в ноябрьском
и декабрьском номерах журнала «Вестник Европы». Полный же
текст воспоминаний увидел свет только в 1905 г., когда они были
выпущены отдельным изданием. В советское время книга была
переиздана в сокращенном виде под названием «Д. Д. Ахшарумов.
Записки петрашевца» (М., 1930). Отрывки из воспоминаний вошли
также в сборники «Петрашевцы в воспоминаниях современников»
(М.—Л., 1926) и «Достоевский в воспоминаниях современников»,
т. 1 (М., 1964). В настоящем издании публикуется ряд глав из
мемуаров по книге: Ахшарумов Д. Д. Из моих воспоминаний
(1849—1851), СПб., 1905.
1 Дебу Ипполит Матвеевич (1824—1890)—кандидат юридиче¬
ского факультета Петербургского университета, чиновник Азиат¬
ского департамента министерства иностранных дел. С зимы 1847 г.
посещал Петрашевского, входил также в кружок Н. С. Кашкина,
присутствовал на обеде в честь Фурье. Арестован 23 апреля 1849 г.
Военно-судной комиссией приговорен к расстрелу, по конфирмации
был осужден на два года военно-арестантских рот. 22 декабря
был выведен на Семеновский плац, 23-го — отправлен в Килию
на Дунае, в арестантские роты инженерного ведомства. В 1852 г.
по просьбе родных переведен в Севастополь. В 1853 г. произведен
в унтер-офнцеры, во время осады Севастополя в 1855—1856 гг.
находился в составе гарнизона. В 1856 г. произведен в прапор¬
щики. В 1857 г. ему было возвращено дворянство, он вышел в от¬
ставку, поселился в Одессе, служил секретарем «Общества русского
пароходства и торговли». В 1862 г. ему было разрешено жить
в Петербурге.
Дебу Константин Матвеевич (1810—1868). Образование полу¬
чил в Институте корпуса инженеров путей сообщения. В 1830 г.
вышел в отставку в чине прапорщика, служил в Азиатском депар¬
таменте министерства иностранных дел. С зимы 1848 г. посещал
375
Петрашевского и кружок Кашкина. Был на обеде в честь Фурье.
Арестован 23 апреля 1849 г. Приговорен военно-судной комиссией
к расстрелу, по конфирмации — к четырем годам арестантских рот
с последующей службой рядовым. 22 декабря был выведен на
Семеновский плац. В тот же день отправлен на Аландские острова.
В 1851 г. по просьбе родных переведен в рабочую роту, в 1853 г.
был произведен в унтер-офицеры, в 1856 г. — в прапорщики.
В 1856 г. ему было возвращено дворянство. В августе 1860 г.
вышел в отставку в чине подпоручика. В 1861 г. получил разреше¬
ние жить в столицах. С 1862 г. служил старшим ревизором Новго¬
родского питейно-акцизного управления. —174
2 Кандидат университета — ученая степень, присуждавшаяся
лучшим из сдавших экзамены за университетский курс в том слу¬
чае, если они представляли письменное сочинение на выбранную
ими тему. Низшая степень — действительный студент — присужда¬
лась за сдачу только устных экзаменов, самые высокие — магистр
и доктор — за работы, представлявшие специальный научный инте¬
рес. По «Уставу о службе гражданской», изданному в 1842 г., при
поступлении на службу действительный студент получал чин
XII класса — губернского секретаря, кандидат — чин коллежского
секретаря X класса, магистр и доктор соответственно чины титу¬
лярного советника (IX класса) и коллежского асессора (VIII клас¬
са).—/77
3 Имеется в виду пожар 1862 г., во время которого горел
Апраксин двор, в том числе и та часть, где размещались лавки
букинистов. — 177
4 Консидеран Виктор (1808—1893), Туссенель Альфонс (1803—
1885)—известные французские общественные деятели, фурьери¬
сты. —178
6 Правильно — эндемические растения — т. е. растения, встре¬
чающиеся только в данной местности. — 180
6 Ко времени ареста М. В. Петрашевскому было 27 лет. — 180
1 М. В. Петрашевский умер 7 декабря 1866 г.—181
8 Европеус Александр Иванович (1826—1885). После оконча¬
ния Александровского лицея в 1847 г. готовился к магистерскому
экзамену по политической экономии в Петербургском университете,
посещал кружок Кашкина. На его квартире 7 апреля 1849 г. со¬
стоялся обед в честь Фурье. Был арестован 7 мая 1849 г.
Военно-судной комиссией приговорен к расстрелу, генерал-аудито-
рнат ходатайствовал о ссылке его в Вятку, по конфирмации опре¬
делен рядовым в Кавказский линейный батальон без лишения
дворянства. 22 декабря 1849 г. был выведен на Семеновский плац.
В тот же день отправлен в Ставрополь, в 3-й линейный батальон
Отдельного Кавказского корпуса. В 1856 г. был произведен в пра¬
порщики, в 1857 г. вышел в отставку, жил в Тверской губернии,
был одним из руководителей либерального тверского дворянства.
В 1860-х гг. сотрудничал в «Современнике».
Ханыков Александр Владимирович (1825—1853)—с 1845 г.
участник собраний у Петрашевского, позднее вошел в кружок
Кашкина. На обеде в честь Фурье произнес речь о его системе.
В 1845 г. ХаЧЯыков был студентом восточного факультета Петер¬
бургского университета, после увольнения за неблагонадежность
в 1847 г. стал вольнослушателем юридического факультета. 2 мая
1849 г. был арестован. Генерал-аудиториат приговорил его к рас¬
стрелу, но ходатайствовал о замене его десятью годами каторги.
По конфирмации был отправлен рядовым в первый линейный ба¬
тальон, в Орскую крепость, где умер от холеры. В Орской крепости
376
А. В. Ханыков сблизился с отданным в солдаты Т. Г. Шевченко.
А. В. Ханыков оказал заметное влияние на молодого Н. Г. Черны¬
шевского. с которым познакомился в конце 1840-х гг.
Ващенко Эраст Герасимович (1825—?)—чиновник Азиатского
департамента министерства иностранных дел. Учился . а—вдееавв»»
Ришельевском лицее, но курса не кончил. Посещал Кашкина и
Дебу. Арестован 18 мая, от суда освобожден 27 сентября 1849 г.
под секретный надзор.
Европеус Павел Иванович (1829—1872)—студент Петербург¬
ского университета. Был привлечен к допросу 3 августа 1849 г.,
взят под секретный надзор.
Есаков Евгений Семенович (1825—?). Окончил Александров¬
ский лицей в 1844 г., чиновник Азиатского департамента министер¬
ства иностранных дел, посещал Петрашевского с 1845 г., был на
собраниях у Кашкина. Арестован 18 мая 1849 г., 27 сентября осво¬
божден под секретный надзор. — 182
8 По-видимому, это самый ранний опыт перевода стихотворе¬
ния «Безумцы» на русский язык. До нашего времени не сохра¬
нился. — 182
10 Н. Я. Данилевский умер в 1885 г.— 183
11 Компликация — осложнение. — 187
12 Начальные слова «Марсельезы» (1792), французской рево¬
люционной песни, -позднее ставшей национальным гимном Фран¬
ции. — 192
13 Антонелли не был родственником Ф. Г. Толля, а лишь сни¬
мал с ним общую квартиру. — 197
14 Судя по следственному делу Д. Д. Ахшарумова, имеется
в виду Д. А. Кропотов (Дело петрашевцев, т. 3. М.—Л., 1951,
с. 140). Упоминая о Московском полку, Ахшарумов ошибаетсяз
Кропотов был дежурным офицером при 1-м Кадетском корпу¬
се. — 198
15 Имеется в виду наиболее популярный в то время табак
фабрики Жукова. — 198
19 Пахитоса — папироса с соломенным мундштуком.— 199
17Фарсистанский дервиш — странствующий монах из
южной Персии. — 208
18 «Космос» — многотомный энциклопедический свод знаний,
труд знаменитого немецкого ученого Александра фон Гумбольдта
(1769—1859). Ахшарумов мог читать лишь первые два тома (вы¬
шли в 1845 и 1847 гг.). — 213
19 Великий князь Михаил Павлович (1798—1849) умер в Вар¬
шаве 28 августа. Тело его было перевезено в Петропавловский со¬
бор 16 сентября, погребение состоялось 18 сентября. — 216
20 Это был Катенев Василий Петрович (1830—1856)—литера¬
тор. Сотрудничал в «Литературной газете» и в «Ведомостях санкт-
петербургской полиции», в 1846—1849 гг. был вольнослушателем
юридического факультета Петербургского университета. Арестован
23 апреля 1849 г., 30 августа с признаками умопомешательства
отправлен в больницу. Предание его военному суду было отложено
до выздоровления. Умер в больнице. — 219
21 Сю Эжен (1804—1857)—французский писатель. В то время
наиболее популярными его романами были «Матильда» (1841) и
«Парижские тайны» (1843). — 223
22 Пес к и — окраина Петербурга, район нынешнего Суворов¬
ского проспекта и Советских улиц. — 227
23 Ахшарумов цитирует стихотворение И.-В. Гете из , цишш-
«Кроткие ксенин» («Lahme Xenien». — J. W. Goethes Wefike -ln
377
zwel Banden, Band 1. Stuttgart, 1836, S. 126). По всей вероятно¬
сти, Ахшарумов пользовался именно этим, наиболее компактным,
двухтомным изданием И.-В. Гете, включающим оба приводимые
им текста. — 238
24 Эпиграф к III части «Поэзии и правды» И.-В. Гете
(J. W. Goethes Werke in zwel Banden, Band 2. Stuttgart, 1837,
S. 141).— 239
25 Ареопаг — высший орган судебной и политической власти
в древних Афинах. — 239
29 Лобанов-Ростовский Иван Александрович (1789—1869) —
сенатор, член военно-судной комиссии. — 239
27 Гиперемия — избыточный приток крови. — 243
28 Д. Д. Ахшарумова везли на Семеновский плац (ныне Пио¬
нерская площадь) по Воскресенскому проспекту (ныне проспект
Чернышевского), затем по Кирочной (ныне улица Салтыкова-Щед¬
рина), по Знаменской (ныне улица Восстания), по Литовскому
проспекту и по Обводному каналу. — 247
29 На Семеновский плац был выведен 21 человек, так как
В. П. Катенев был в больнице, а Р. А. Черносвитова отправили
в Кексгольм прямо из Петропавловской крепости. — 249
30 На Семеновском плацу кроме Московского полка были так¬
же лейб-гвардии Егерский, в котором служил А. И. Пальм, и Кон¬
но-гренадерский, в котором служил Н. П. Григорьев. — 249
31 П. Н. Филиппов умер 17 сентября 1855 г. от раны, получен¬
ной им при штурме Карса. — 249
32 Ахшарумов ошибается: к столбам были привязаны М. В. Пе¬
трашевский, Н. А. Момбелли, Н. П. Григорьев. — 251
33 При окончательной резолюции Спешнев был приговорен
к десяти годам каторги. — 252
34 Ахшарумов Николай Дмитриевич (1819—1893)—писатель.
Окончил Александровский лицей в 1839 г., в 1840—1845 гг. служил
в канцелярии военного министерства. Посещал кружок Кашкина.
Привлекался к допросу 29 августа 1849 г., оставлен под секретным
надзором. — 257
35 Д. Д. Ахшарумов был отправлен в Херсон 24 декабря
1849 г, — 262
89 Строка из стихотворения А. С. Пушкина «Певец» («Слыхали
ль вы?..»).
Павел Алексеевич Кузмин
(1819—1885)
Мужественное и чрезвычайно умное поведение во время след¬
ствия сделало П. А. Кузмипа, безусловно, одной из интереснейших
и наиболее ярких фигур среди петрашевцев.
П. А. Кузмин родился в Ярославской губернии, учился в Пав¬
ловском кадетском корпусе. По окончании корпуса в 1838 г. Куэ-
мин был произведен в прапорщики конной артиллерии. Через неко¬
торое время вышел в отставку, около двух лет жил в Ярославской
губернии, занимаясь хозяйством.
В 1845 г. Кузмин поступил в Военную академию и в 1847 г.
окончил ее. В 1848 г. Кузмин — уже штабс-капитан Генерального
штаба. Познакомившись через А. П. Баласогло с Петрашевским
весной 1848 г., он начал посещать его «пятницы». 23 апреля 1849 г.
Кузмин был арестован, а 26 сентября 1849 г. освобожден от суда,
ио оставлен под секретным надзором. В дальнейшем Кузмин дослу¬
жился до чина генерал-лейтенанта. В последние годы жизни он
был председателем Киевского окружного суда.
378
В своих воспоминаниях, написанных спустя много лет (он
закончил их в 1877 г.), Кузмин с удивительной точностью, поразив¬
шей ряд исследователей, в частности В. И. Семевского и В. Р. Лей-
кину-Свирскую, воспроизводит и самый ход следствия, и вопросы
судей, и свои ответы. По мнению В. И. Семевского, близость изло¬
жения допросов в записках Кузмина к сохранившемуся следствен¬
ному делу свидетельствует о том, что в 1870-х гг. Кузмин имел
возможность использовать подлинные материалы следствия (Дело
петрашевцев, т, 2. М,—Л., 1941, с. 232).
Воспоминания П. А. Кузмина были опубликованы в 1895 г.
в журнале «Русская старина» (февраль — апрель). Отрывки из них
вошли также в сборник «Петрашевцы в воспоминаниях современ¬
ников» (М.—Л., 1926). В настоящем издании текст воспоминаний
приводится полностью по публикации «Русской старины».
1 Кузмин Алексей Алексеевич (1812—?)—отставной капитан-
лейтенант, окончивший Морской кадетский корпус, в 1849 г. посе¬
щал Петрашевского. Был арестован 23 апреля 1849 г., освобожден
17 июня. — 264
2 Белецкий Петр Иванович (1819—?). В 1844 г, окончил юри¬
дический факультет Петербургского университета, преподавал исто¬
рию в 1-м и 2-м кадетских корпусах. Был арестован 23 апреля,
освобожден 9 июля с отдачей под секретный надзор и запрещением
преподавать в военных и гражданских учебных заведениях. За
публичное оскорбление Антонелли был 23 июля 1849 г. выслан
в Вологду, где, не имея возможности поступить на службу, жил
в большой нужде. С 1859 г. ему было разрешено служить в граж¬
данских учебных заведениях. — 264
3 Баласогло Александр Пантелеймонович (1813—1880). Был гар¬
демарином черноморского флота, участвовал в русско-турецкой вой¬
не 1828 г. В 1830-х гг. вышел в отставку, служил в архиве Азиат¬
ского департамента министерства иностранных дел. Посещал Петра¬
шевского с 1845 г. Арестован 23 апреля 1849 г., освобожден
9 ноября. Отправлен на гражданскую службу в Петрозаводск и
отдан под секретный надзор. — 267
4 Кузмин ошибся: Петрашевский на первое место выдвигал
судебную реформу. — 268
6 Николаевский мост (ныне мост Лейтенанта Шмидта) строил¬
ся в 1842—1850 гг. — 27/
• Выражение «демагогическое направление» употреблено здесь
в смысле «радикальное», «революционное». — 271
7 Кармалин Николай Николаевич' (1824—1900)—офицер Мо¬
сковского полка, преподаватель Военной академии, в 1846—1847 гг.
совместно с Момбелли устраивал литературные вечера. Инфанте¬
рия — пехота. — 272
8 Кайданов Николай Иванович (1821—1894). Окончил в 1839 г.
Александровский лицей, три года учился на математическом фа¬
культете Петербурского университета, затем служил переводчиком
в министерстве иностранных дел. Петрашевского посещал с 1846 г.
23 апреля 1849 г. был арестован, 6 июля выпушен под секретный
надзор. — 277
’ В донесении Антонелли о вечере у Кузмина о Белецком ска¬
зано: «Белецкий — это такое существо, которое так и напраши¬
вается на оплеуху или петлю» (Дело петрашевцев, т. 3. М.—Л.,
1951, с. 438). — 286
10 Кузмин ошибается: Галилео Галилей (1564—1642) в 1633 г.
был присужден инквизицией к публичному покаянию и отречению
379
от своих взглядов. Сожжен на костре был Джордано Бруно (1548—
1600). — 287
" Епархия — церковно-административный округ. Консисто¬
рия — учреждение, через которое производится управление епар¬
хией. — 290
12 Кропотов Дмитрий Андреевич (1818—1875). Окончил 1-й
Кадетский корпус в 1835 г. С 1840 г. служил в нем дежурным
офицером. С середины 1848 г. посещал Петрашевского, участвовал
в составлении «Карманного словаря иностранных слов». Был аре¬
стован 23 апреля 1849 г., 6 июля выпущен под секретный над¬
зор. — 295
13 Казнаков — капитан гвардии Генерального штаба, — 303
14 Фиеско Джиованни Луиджи де (1524—1547)—политический
деятель. Возглавил заговор против правителя Генуи Андреа Дорна
и погиб во время его осуществления. — 304
15Прачешный дом — помещение для обслуживания цар¬
ских дворцов (наб. р. Фонтанки, 4). —3/3
16 Крылатое выражение, приписываемое Бомарше.— 3/3
Николай Сергеевич Кашкин
(1829—1914)
«Вера в будущее —наше благороднейшее право, наше неотъем¬
лемое благо; веруя в него, мы полны любви к настоящему.
И эта вера в будущее спасет нас в тяжкие минуты отчаяния,
и эта любовь к настоящему будет жива благими деяниями» — та¬
кими словами кончалась речь Н. С. Кашкина, сказанная им на
одном из собраний его кружка. Эта речь была охарактеризована
председателем комиссии по разбору бумаг А. Ф. Голицыным как
«написанная в самом вредном духе, как в гражданском, так и
в религиозном отношении».
Н. С. Кашкин принадлежал к старинному роду, известному
с XV в., когда в свите греческой княжны Софии Палеолог предки
Кашкиных приехали в Россию. При Петре I Кашкины выдвину¬
лись, при Екатерине II были близки ко двору. Участвовали они
и в Отечественной войне 1812 г. Совсем юный, тринадцатилетний
Сергей Николаевич Кашкин (1799—1868) вступил в ополчение,
в полк своего отца Н. Е. Кашкина. В 1823 г. С. Н. Кашкин всту¬
пил в тайное общество, куда был принят своим двоюродным бра¬
том, декабристом Е. П. Оболенским. Он стал членом Московской
управы тайного общества, председателем которой был И. И. Пу¬
щин. Сближала его с Пущиным и общая служба в Московском
надворном суде, куда он поступил, оставив лейб-гвардии Павлов¬
ский полк. После восстания 14 декабря 1825 г. С. Н. Кашкин был
сослан в Архангельск.
Его сын, Николай Сергеевич Кашкин, родился в Калуге. Обра¬
зование он получил в Александровском лицее, который закончил
в 1847 г. с серебряной медалью. С весны 1848 г. Н. С. Кашкин
служил в Азиатском департаменте министерства иностранных дел.
С октября 1848 г. у Н. С. Кашкина собирался кружок так на¬
зываемых «чистых фурьеристов», занимавшихся главным образом
изучением трудов Фурье. В кружок входили А. В. Ханыков, братья
Дебу, Д. Д. Ахшарумов, А. И. Европеус, Н. А. Спешнев и др. На
одном из собраний Н. С. Кашкин читал речь, основанную на поло¬
жениях труда А. И. Герцена «Дилетантизм в науке». С Петрашев¬
ским Н. С. Кашкин особенно близок не был. По его утверждениям,
380
он познакомился с Петрашевским только на обеде в честь Фурье
и на вечере у Петрашевского был лишь однажды.
Арестованный 23 апреля 1849 г., Н. С. Кашкин был пригово¬
рен военно-судной комиссией к четырем годам каторги; генерал-
аудиториат, однако, ходатайствовал о высылке его с лишением
всех прав в Архангельскую губернию, в Холмогоры. По конфир¬
мации Н. С. Кашкин был присужден к отправке рядовым в Кав¬
казские линейные батальоны. 22 декабря 1849 г. он был выведен
вместе с другими петрашевцами на Семеновский плац, а 23 дека¬
бря отправлен в Ставрополь, в 4-й линейный батальон. Он участво¬
вал в боевых операциях, а впоследствии, в 1858 г., получил орден
с надписью «За храбрость». В 1853 г., находясь на лечении в Же-
лезноводске, Н. С. Кашкин познакомился с Л. Н. Толстым, друже¬
ские отношения с которым сохранял долгие годы. В апреле 1857 г.
Кашкину было возвращено дворянство, в сентябре он вышел
в отставку, поселился в Калуге, управлял имением отца. В 1859 г.
Кашкин был избран в члены Калужского губернского комитета
по устройству быта помещичьих крестьян. Как и ряд других петра¬
шевцев, он стал мировым посредником первого призыва. В мае
1860 г. Кашкину было разрешено жить в столице, а в 1865 г.
с него был снят полицейский надзор. В последующие годы он
занимался земской и судебной деятельностью.
Николай Николаевич Кашкин (1869—1909), сын петрашевца и
внук декабриста, в 1889 г. закончил с золотой медалью Александ¬
ровский лицей. Он служил в министерстве государственных иму¬
ществ, много занимался улучшением быта крестьян, работал в ко¬
миссии по борьбе с чумой, принимал участие в борьбе с голодом
в Подольской губернии. В 1898 г. Н. Н. Кашкин был команди¬
рован для исследования положения ссыльных и каторжных
в Сибири и на Сахалине. По возвращении он продолжал бороться
за улучшение положения заключенных в тюрьме и на каторге,
несколько раз избирался почетным мировым судьей Козельского
уезда.
Особое место в деятельности Н. Н. Кашкина занимали архив¬
ные разыскания, начатые им еще в лицейские годы. Основная его
работа — «Родословные разведки», значительная часть которой
посвящена истории рода Кашкиных. Вошла в «Родословные раз¬
ведки» и сделанная Н. Н. Кашкиным запись рассказа Н. С. Каш¬
кина о деле петрашевцев. Этот рассказ был воспроизведен также
в сборнике «Петрашевцы в воспоминаниях современников» (М.—
Л., 1926). В настоящем издании текст рассказа приводится по
книге: Кашкин Н. Н. Родословные разведки, т. 2. СПб., 1913. На¬
звание дано составителем настоящего тома.
1 О них см. прим. 1, 8 к воспоминаниям Д. Д. Ахшарумо¬
ва.— 319
2 «Русское слово» (1895—1917)—либеральная московская га¬
зета. В номере от 31 декабря 1910 г. была опубликована
статья А. Панкратова «Последний петрашевец», включавшая
беседы с Н. С. Кашкиным. Панкратов Александр Саввич (1872—
1922)—журналист, многолетний сотрудник «Русского сло¬
ва».— 320
8 Первый сборник А. Н, Плещеева «Стихотворения 1845—
1846» —вышел в 1846 г. в Петербурге. — 321
4 Н. С. Кашкин весьма неточно цитирует стихотворение Пле¬
щеева «Вперед! без страха и сомненья...» (1846). — 321
381
Евгений Иванович Ламанский
(1824-1902)
Е. И. Ламанский, впоследствии видный русский экономист,
посещал как «пятницы» Петрашевского, так и собрания у Дурова,
но к числу активных участников кружков не принадлежал. Воз¬
можно, это обстоятельство и было причиной того, что он не был
арестован, а лишь привлекался к допросу. По-видимому, не вы¬
звали особого интереса следственной комиссии и его показания.
Е. И. Ламанский родился в Петербурге. Его отец был дирек¬
тором особой канцелярии по кредитной части. Образование Ламан¬
ский получил в Александровском лицее. После окончания лицея
в 1845 г. служил в Государственном совете, а с 1847 г. был столо¬
начальником инспекторского департамента гражданского ведом¬
ства. 2 августа 1849 г. он был привлечен к допросу по делу петра¬
шевцев и оставлен под секретным надзором. С 1860 г. до выхода
в отставку в 1882 г. Ламанский служил в Государственном банке:
сперва товарищем управляющего, а позже — управляющим.
В 1863 г. им было основано 1-е Общество взаимного кредита. Ла-
манскому принадлежат также исследования по истории денежного
обращения и кредитных учреждений в России.
Воспоминания Ламанского были впервые напечатаны в жур¬
нале «Русская старина» (1915, № 1). Впоследствии отрывок из них
был включен П, Е. Щеголевым в сборник «Петрашевцы в воспоми¬
наниях современников» (М.—Л., 1926). В настоящем издании вы¬
держки из воспоминаний Ламанского приводятся по первой публи¬
кации,
1 Ивановский Игнат Иакинфович (1807—1886)—профессор
права в Петербургском университете и политической экономии
в Александровском лицее; любимец студентов. — 326
! Ламанский исказил фамилию А. Д. Щелкова. О нем см.
прим. 8 к воспоминаниям А. П. Милюкова в настоящем томе. — 328
8 Ламанский Порфирий Иванович (1824—1875). После оконча¬
ния Института корпуса горных инженеров служил в Петербургской
палате государственных имуществ, с 1846 г. — в департаменте
внешней торговли. Посещал с 1847 г. Петрашевского, входил
в кружок Дурова. Был арестован 23 апреля 1849 г., выпущен под
секретный надзор 6 июля 1849 г. — 329
* Этот факт, упоминавшийся также в следственном деле
А. И. Пальма, был использован им впоследствии в романе «Алек¬
сей Слободин». — 329
8 Ламанский ошибся: маскарад был 10 апреля 1849 г., аресты
петрашевцев — 23 апреля (Дело петрашевцев, т. 3. М.—Л., 1951,
с. 432). — 329
8 Эгоистка —легкий одноместный экипаж. — 331
Аполлон Николаевич Майков
(1821—1897)
Поэт А. Н. Майков посещал собрания у Петрашевского лишь
до 1847 г., на ранней стадии деятельности кружка. После ареста
петрашевцев был привлечен к допросу. Его показания не заинте¬
ресовали следственную комиссию, тем не менее он был оставлен
под секретным надзором. Лишь в 1880-х гг. впервые заговорил
А. Н. Майков о том, о чем хранил молчание не одно десятилетие:
382
о споем ночном разговоре с Ф. М. Достоевским незадолго до его
ареста...
А. Н. Майков родился в Москве, в старой дворянской семье,
несколько поколений которой были связаны с искусством. Извест¬
ный писатель XVIII в. Василий Майков, автор комической поэмы
«Елисей, или Раздраженный Вакх», был братом его прадеда. Дед
A. Н. Майкова был директором императорских театров, отец —
Н. А. Майков — художник-самоучка, стал академиком живописи,
Детские годы А. Н. Майкова прошли в имении его отца близ
Загорска. Позднее, в 1834 г., семья Майковых переехала в Петер¬
бург, где их дом стал одним из центров художественной жизни
города. Среди постоянных посетителей Майковых были И. А. Гон¬
чаров, И. И. Папаев, И. С. Тургенев. Д. В. Григорович, Ф. М. До¬
стоевский.
В 1837 г. Майков поступил на юридический факультет Петер¬
бургского университета. В университетские годы он проявил осо¬
бенный интерес к античности, изучал греческую и римскую историю
и литературу. Это увлечение, сохранившееся у Майкова на всю
жизнь, оказало существенное воздействие на его творчество.
В 1841 г. Майков закончил университет. В 1842 г. вышел его пер¬
вый сборник стихов, получивший положительную оценку В. Г. Бе¬
линского. Написанная им для получения степени кандидата диссер¬
тация «О характере первоначальных законов по источникам сла¬
вянского права» была его первым опытом обращения к славянской
культуре. В том же году А. Н. Майков уехал за границу. Вместе
с младшим братом, В. Н. Майковым, слушал лекции в Сорбонне,
побывал в Италии, посетил Прагу. По возвращении на родину
в 1844 г. стал библиотекарем при находившемся тогда в Петер¬
бурге Румянцевском музее. На этой должности он оставался вплоть
до перевода Румянцевского музея в Москву в 1852 г. В 1844 г.
произошло сближение Майкова с кружком Белинского. Важную
роль в формировании интересов Майкова сыграл его брат — лите¬
ратурный критик В. Н. Майков, редактор 1-го выпуска «Карман¬
ного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского язы¬
ка». Не случайно именно во второй половине 1840-х гг. А. Н. Май¬
ков создал ряд произведений, тесно связанных с прогрессивными
реалистическими традициями, таких, как поэмы «Машенька», «Ба¬
рышне».
Познакомившись еще в университете с Петрашевским, А. Н. Май¬
ков периодически бывал на его собраниях. Однако после смерти
B. Н. Майкова летом 1847 г. он постепенно отошел от кружка
Петрашевского и после декабря 1847 г. уже более не посещал его.
Последующая жизнь Майкова не богата событиями. С 1852 г.
в течение 45 лет он служил в Комитете иностранной цензуры,
в 1858 г. участвовал в морской экспедиции в Грецию. В 1882 г.
за опубликованную в 1880 г. драму «Два мира» ему была при¬
суждена Пушкинская премия.
Рассказ А. Н. Майкова представляет исключительный интерес
как прямое свидетельство существования тайного общества, орга¬
низованного частью петрашевцев с революционными целями, Он
сохранился в виде карандашной записи, сделанной близким другом
Майкова А. А. Голенищевым-Кутузовым в своей черновой тетради,
ныне хранящейся в ЦГАЛИ (ф. 143, on. 1, д. 158, л. 17 23).
Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов (1848—1913)—известный
русский поэт, в начале своей деятельности близкий к композито¬
рам «Могучей кучки», и в особенности к М. П. Мусоргскому, авто¬
ром ряда текстов к романсам которого он был.
383
Впервые рассказ: о петрашевцах был опубликован Н. П. Ов¬
сянниковой в журнале «ИсторичеекиЯ1 архив» (1956, № 3). Текст
рассказа приводится по этому изданию.
■Мордвинов Николай Александрович (1827—1884)—участник
кружка Дурова. Окончил восточный факультет Петербургского
университета. В конце 1840-х гг. чиновник министерства внутренних
дел. Привлекался к допросу по делу Петрашевского, оставлен под
секретным надзором. Впоследствии, в 1855 г., был арестован
в Тамбове за чтение и распространение сочинений Герцена. При
обыске у него были также найдены посвященное ему стихотворение
А. Н. Плещеева и сделанный им совместно с Плещеевым перевод
памфлета Ф. Ламенне «Слова верующего». После освобождения
в 1856 г. был оставлен под секретным надзором. Был одним из
корреспондентов «Колокола». В 1859 г. в Саратове произошло его
знакомство с Н. Г. Чернышевским. В 1860-х гг, сблизился с чле¬
нами «Земли и воли». — 336
3 Возможно, что именно этот эпизод из деятельности петра¬
шевцев имел в виду Ф. М. Достоевский, заметивший в разговоре
с А. Г. Достоевской по поводу изданного в Лейпциге в 1875 г.
сборника материалов по делу петрашевцев «Общество пропаганды
в 1849 г.»: «Многие обстоятельства совершенно ускользнули, целый
заговор пропал» (Биография, письма и заметки из записной книж¬
ки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883, с. 90). В письме к известному
историку русской литературы П. А. Висковатову (1842—1905) этот
эпизод излагается А. Н. Майковым несколько иначе: «Впоследствии
я узнал, что типографский ручной станок был заказан по рисунку
Филиппова в разных частях города и за день, за два до ареста
был снесен и собран в квартире одного из участников, М[ордвино]-
ва, которого я, кажется, и не знал» (Покровская Е. Б. Достоевский
и петрашевцы. — В сб.: Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы,
Пг., 1922, с. 268). — 336
8 В приговоре речь шла не о типографии, а о литографии:
весь эпизод с типографией остался неизвестен следствию и су¬
ду,— 337
* Надзор с Майкова был снят в 1856 г. по манифесту, данному
в день коронации Александра II, 26 августа 1856 г. — 337
Ф. М. Достоевский
Письмо к М. М. Достоевскому
Письмо Ф. М. Достоевского к М. М. Достоевскому, написанное
им в крепости по возвращении с Семеновского плаца, приводится
по изданию: Достоевский Ф. М. Письма, т. 1. М.—Л., 1928. Под¬
линник хранится в Отделе рукописей Государственной библиотеки
СССР им. В. И. Ленина.
■Достоевский Михаил Михайлович (1820—1864)—старший
брат Ф. М. Достоевского, литератор, переводчик, в конце 1840-х гг.
был обозревателем «Отечественных записок». С 1847 г. посещал
М. В. Петрашевского, входил в кружок Дурова. 23 апреля 1849 г.
вместо него был арестован младший брат, Андрей Михайлович
Достоевский. Невзирая на то что ошибка вскоре выяснилась,
А. М. Достоевского продержали в крепости до самого ареста
М. М. Достоевского 6 мая 1849 г. 24 июня М, М. Достоевский
был освобожден под секретный надзор. — 338
384
2 Ф. М. Достоевский отбывал каторгу в Омском остроге. — 333
3 Впоследствии, вспоминая эпизод казни петрашевцев, Ф. М. До¬
стоевский писал в «Дневнике писателя за 1873 год» в статье
«Одна из современных фальшей»: «Мы, петрашевцы, стояли на
эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния.
Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех; но думаю,
что не ошибусь, сказав, что тогда, в ту минуту, если не всякий, то
по крайней мере чрезвычайное большинство из нас почло бы за
бесчестье отречься от своих убеждений. <...> Приговор смертной
казни расстреляньем, прочтенный всем нам предварительно, про¬
чтен был вовсе не в шутку, почти все приговоренные были уве¬
рены, что он будет исполнен, и вынесли по крайней мере десять
ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. В эти по¬
следние минуты некоторые из нас (я знаю положительно) инстинк¬
тивно углублялись в себя и, проверяя мгновенно всю свою столь
юную еще жизнь, может быть, и раскаивались в иных тяжелых
делах своих (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат
на совести); но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те
понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не
только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим,
мученичеством, за которое многое нам простится1» (Достоев¬
ский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти томах, т. 21, Л., 1980,
с. 133). — 338
4 Свидание Ф. М. и М. М. Достоевских состоялось 24 декабря.
Об этом рассказывает А. П. Милюков в своих воспоминаниях
«Федор Михайлович Достоевский», см. с. 141—143 настоящего из¬
дания. — 338
6 Повесть «Детская сказка» была опубликована под названием
«Маленький герой (из неизвестных мемуаров)» в 1857 г. в «Отече¬
ственных записках», № 8, за подписью М—ий. — 339
6 Этими запрещенными книгами были: сочинение Э. Сю «Пастух
из Кравана, или Демократические беседы о республике, претен¬
дентах и предстоящем президентстве» (в двух частях, 1848—1849),
взятое Достоевским накануне ареста у Н. П. Григорьева, и «Празд¬
нование воскресения» Прудона, взятое им у В. А. Головинского
(Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти томах, т. 18. Л.,
1978, с. 165). — 342
7 Первое отдельное издание сочинений В. Н. Майкова «Крити¬
ческие опыты 1845—1847 гг.» появилось только в 1889 г. По пред¬
положению Н. Ф. Бельчикова, речь идет о журнальных оттисках
статей, собранных Евгенией Петровной Майковой — матерью
А. Н. и В. Н. Майковых (Бельчиков Н. Ф. Достоевский в процессе
петрашевцев. М., 1971, с. 263). — 342
ИМЕННОИ УКАЗАТЕЛЬ*
Аксаков И. С. 83
Аксаков К. С. 8, 10
Александр I 63
Александр II 13, 82, 337
Алексей Михайлович, царь 326
Алексей Петрович, царевич 13
Андрей, крепостной слуга Н. Я.
Данилевского 91—92
Аничков И. В. 335
Антонелли Д. И. 28
Антонелли П. Д. 18, 19, 28—31,
37, 44, 52, 69, 151, 162, 163,
174, 196, 267, 269—271, 276,
283, 286, 290, 291, 308, 309,
316, 317
Антоний, митрополит 326
Анфантен Б.-П. 121
Арсеньев, учащийся Училища
правоведения 145
Афанасьев А. Н. 37
Ахенбах см. Ахенваль Г.
Ахенваль Г. 162
Ахшарумов Д. Д. 17, 26, 27, 37,
38, 97, 195, 249, 254, 319
Ахшарумов Н. Д. 260
Байрон Дж.-Г.-Н. 145, 146
Бакунин М. А. 69
Баласогло А. П. 17, 19, 36, 267,
270
Баллин Н. П. 16, 38
Бантыш-Каменский А. 27
Барановский Н. И. 16, 147, 149
Барбес А. 69
Барбье О. 60, 137
Баррюэль 64
Бастиа К.-Ф. 165
Бегров И. П. 331
Бекетов Ал. Н. 12
Бекетов Ан. Н. 12
Бекетов Н. Н. 12
Беклемишев А. П. 31, 78, 89, 99
Беклемишева В. Н. 91
Белецкий П. И. 97, 172, 173,
264, 286, 295, 309
Беликович М. И. 146, 147
Белинский В. Г. 7, 9—11, 15, 19,
24, 34, 36, 38, 78, 83, 89,
119, 137, 148, 179, 270, 286,
292
Белозерский В. М. 13
Бенедиктов В. Г. 10
Бентам Дж. 144
Беранже П.-Ж. 65, 82, 84, 144,
182
Берви-Флеровский В. В. 12
Берг Ф. Ф. 267, 268, 315
Берестов А. И. 18
Бернардский Е. Е. 18
Берхман, домовладелица 319
Бижеич М. С. 234, 244
Благовещенский Н. М. 18
Благосветлов Г. Е. 132
Блай, генерал 152
Блаи Л. 40, 65, 85, 121, 144
Боткин В. П. 9
Бремме, хозяйка квартиры 127
Брюллов К. П. 118
Булгаков К. А. 118
Булгарин Ф. В. 63
Бунины 92
Бурдин Ф. А. 18
Буташевич-Петрашевский М. В,
11, 13-22, 24—34, 36-52,
54, 55, 57—67, 69—71, 73-
75, 78—85, 87—89, 91, 92.
94—100, 102—104, 105—108,
109—111, 113, 114, 120, 121,
126-128, 133, 134, 137—140,
147, 149, 153, 156, 157, 159,
161—163, 165, 167, 173, 174,
179-184, 190, 191, 195, 197,
198, 203-205, 248—255, 262,
265—269, 270, 271, 275,
283—287, 289, 306, 308, 312,
315—317, 319, 322—324,
328—330, 332, 334, 335-337
Ванновский П. С. 130
Варинька, знакомая Д. Д. Ах¬
шарумова 226, 227, 229, 230,
233, 244
Васильев, жандармский полков¬
ник 128, 129
Ващенко Э. Г. 26, 182
Введенский И. И. 132, 140
Вейсгаупт А. 64
Венгеров С. А. 322
Веревкин П, В. 18
* Составлен Н. 10. Образцовой.
386
Вернадский И. В. 18
Вильбрандт (или Вильбрехт),
плац-адъютант 296
Винтер В. И. 313
Винтер Е. А. 313
Висковатов П. А. 23
Витт Н. И. 130
Возный А. Ф. 28, 29, 31
Вольтер Ф.-М.-А. 13, 64
Востров В. В. 34
Вревский П. А. 310
Вронченко Ф. П. 161
Всеволожский Н. 254
Гагарин Н. В. 146, 147
Гагарин П. П. 52—54, 139,156—
164, 166, 168, 195, 202, 240,
280, 283—286, 296—299,
307-309, 330, 332, 333
Галахов А. П. 322, 323
Галилей Г. 287
Гартонг Н. П. 122
Герцен А. И. 6, 7, 9—11, 19, 22,
25, 31, 36-38, 69, 137
Гершель Дж. 178
Гете И.-В. 84, 199, 213, 238
Гире А. К. 92
Гирсы 92
Глинка М. И. 18, 118
Гоголь Н. В. 10, 24, 34, 85, 89,
110, 137, 145, 148, 179, 270,
286, 292
Голенищев-Кутузов А. А. 23
Голицын А. Ф. 32, 90
Голицын Н. С. 145
Головинский В. А. 16, 19, 21, 43,
44, 104, 147—149, 250, 321
Гольбах П.-А. 65
Грановский Т. Н. 8
Греч П. И. 75
Григорович Д. В. 11, 12, 36, 78,
85
Григорьев А. А. 17
Григорьев Н. П. 17, 23, 25, 32,
34, 35, 36, 37, 45, 46, 54—
57, 87, 88, 94, 97, 150, 250,
322, 323, 336
Грот К. К. 92
Гулак Н. И. 13
Гумбольдт А. 213, 214
Гуффеланд Х.-В. 178
Гюго В. 58, 84, 135, 145
Данилевский Н. Я. 17, 25, 31,
35, 41, 77, 78, 80, 84, 86,
90—94, 179, 183, 198, 266
Дантон Ж.-Ж. 145
Даргомыжский А. С. 118
Дебу И. М. 17, 26, 78, 82, 83,
174, 182, 205, 249, 250, 254,
258, 260, 261
Дебу К. М. 17, 26, 47, 48, 78,
82, 83, 182, 183, 200, 249,
250 254
Дебу, братья 97, 174, 183, 252,
319
Дейер Н. А. 303—305, 311
Державин Г. Р. 135
Дерикер В. В. 132
Дершау Ф. К. 18
Диккенс Ч. 132
Дмитрий Иванович, кузен П. А.
Кузмина 303—305, 311
Добржанская Л. Д. 273
Добролюбов Н. А. 38, 149
Долгоруков (Долгорукий) В. А.
52, 139, 156, 158, 163, 164,
190, 240, 280, 285, 307, 309,
310
Достоевская Э. Ф. 342
Достоевский А. М. 85, 138, 340
Достоевский М. М. 24, 25, 31,
133, 137—140, 142, 342
Достоевский Н. М. 340
Достоевский Ф. М. 12, 17, 23,
24, 25, 31, 36, 45, 58, 78, 80,
83-89, 95, 97, 100, 105, ПО,
111, 127, 131, 133—137, 140,
141, 142, 143, 147, 148, 179,
250, 335—337, 342
Дубельт Л. В. 27, 30, 31, 35, 52,
54, 61, 62, 70, 123, 139, 153,
156, 164, 190, 240, 265, 276,
277, 280, 295, 306, 307, 331,
332 334
Дубецкой И. П. 292, 293
Дуров G. Ф. 16, 17, 23—25, 27,
31, 36, 78, 84, 88, 95, 97,
120, 133, 134, 137, 138, 141,
143, 159, 168, 250, 263, 328—
330, 332, 338
Евграфов В. Е. 37
Европеус А. И. 26, 27, 97, 182,
200, 249, 250, 252, 319
Европеус П. И. 182
Есаков Е. С. 26, 182
Жемчужников А. М. 78
Заболоцкий-Десятовский А. П.
80, 89, 90
Загорский П. А. 178
Зимин, знакомый Венедиктова
127
Зотов В. Р. 16, 39
387
Иван, денщик А. И. Пальма 124
Ивановский И. А. 326
Игнатьев П. Н. 263
Измайлов, судья 316
Иноземцев, адъютант Полозова
72
Иоанн Грозный 282
Исаков, купец 327
Кабе Э. 65, 100, 121, 135, 144
Кавелин К. Д. 8
Кавеньяк Г. 69
Казнаков, капитан Генерального
штаба 303
Кайданов В. И. 18, 104
Кайданов Н. И. 277—279
Канкрин Е. Ф. 68
Карамзин Н. М. 282
Карлье П. 68, 69
Кармалин Н. Н. 272
Кастриот-Дреколович-Скандербек
В. Г. 118
Катенев В. П. 30, 34, 35, 55,
219
Кашевский Н. А. 137
Кашкин Н. Н. 319
Кашкин Н. С. 26, 27, 36, 45, 78,
87, 89, 97 181, 182, 249, 252;
319—322, 324
Кашкин С. Н. 324
Кетле А. 162
Киреевский И. В. 5, 8
Киреевский П. В, 8
Кирилов Н. С. 14, 65, 81, 89
Киселев П. Д. 80, 89, 90
Киттель 178
Клее А. И. 264, 274, 301, 304,
305
Клейнмихель П. А. 160
Ковалевский М. Е. 144, 145
Комарович В. Л. 37
Кони Ф. А. 119
Консидеран В. 178
Константинов В, 27
Конт О. 82, 85
Костомаров Н. И. 13
Котомин, домовладелец 315
Кочубей П. А. 130
Кош-ский, агент III отделения
283
Краевский А. А. 78, 86, 139, 342
Критские, братья 6
Кропотов Д. А. 32, 97, 295
Крылов А. Л. 15, 65
Кудрявцев П. Н. 8
Кузмин А. А. 264, 268, 274, 275,
281, 295, 301
Кузмин П. А. 17, 18, 28, 34, 38,
104, 266, 274, 275, 314, 315
Кукольник Н. В. 10
Купер Д.-Ф. 145, 213, 223, 224,
238
Кювье Ж. 175, 178
Лавров П. Л. 36
Ламанский Е, И. 24, 39, 78, 331
Ламанский П. И. 24, 133, 329—
331
Ламартин А. 84, 146
Ламенне Ф.-Р. 20, 24, 25, 121,
136
Лейкина-Свирская В. Р. 37
Ленин В. И. 7—9, 12, 13
Лермонтов М. Ю. 118, 123, 245
Леру П, 17
Лесников, полковник 277
Ливий Тит 159
Липранди И. П. 27—31, 35, 44,
49, 51, 53, 70, 71, 76, 103,
104, 121, 273—275, 292, 296,
316, 317, 330
Лобанов-Ростовский И. А. 239—
242
Лонгинов М. Н. 98
Лонгинова М. А. 98
Лорис-Меликов М. Т. 183
Луи-Филипп 68
Львов П. С. 122—124, 127, 128
Львов Ф. Н. 13, 17, 24, 25, 33,
34, 36, 38, 40—42, 46—48,
51, 54, 59, 87, 97, 110, 116,
119, 120, 122, 124—130,
248—250
Любецкой, князь 67
Майдель, плац-адъютант 141,
144 9Qfi 9Q7
Майков’А. Н. 17, 23, 39, 78, 334,
340
Майков В. Н. 14, 16, 17, 23, 24,
78, 89, 342
Майков Н. А. 340
Майкова Е. П. 342
Майковы 339
Майст Ф. П. 275
Мальтус Т. Р. 109
Марат Ж.-П, 145
Маркс К. 22
Маркс М. 254
Марраст А. 69
May Э. 178
Мей Л. А. 78
Меншиков А. С. 67
Меттерних К-В. 68
388
Миллер О. Ф. 84, 100, 104
Миллер П. Ф. 315
Милль Д. С. 41
Милюков А. П. 18, 24, 39
Милютин В. А. 23—25, 30, 78,
89, 336
Милютин Д. А. 90
Милютин Н. А. 90, 319
Минье Ф. 85
Михаил Павлович, великий князь
65, 68, 81, 160, 162, 216, 299
Михайловский Н. К. 36
Мицкевич А. 146
Мишле Ж. 37
Молинари Г. 165
Мольер Ж.-Б. 199, 223
Момбелли Н. А. 12, 13, 17, 19,
23, 34, 36, 46—48, 55, 57, 76,
87, 97, 127, 133, 138, 149,
249—253, 270, 272, 322, 323,
336
Монтень М, 144
Монтескье Ш.-Л. 144
Мордвинов Н. А. 23—25, 78, 336,
337
Муравьев Н. Н. 59, 130
Мясников, золотопромышленник
49
Набоков И. А. 32, 52, 75, 76,
129, 139, 155, 156, 158, 159,
175, 190, 200, 201, 209, 221,
227, 240, 277, 280, 300, 301,
306—308, 330, 332, 337
Надеждин Н. И. 5, 7
Назимов, жандармский полков¬
ник 90, 91
Наполеон III 68
Наумов Н. Ф. 30
Невахович М. Л. 144, 149
Некрасов Н, А. 10, 85
Нессельроде К. В. 68
Никитин А. А. 327
Никитин А. П. 272, 273
Никитин, домовладелец 149
Никитина Ф. Г, 25
Николай I 5—7, 16, 20, 32, 34,
35, 37, 49, 50, 53, 58, 63, 65,
80, 90, 124, 128, 160, 161,
165, 215, 324, 327
Носов 1-й, воспитатель Училища
правоведения 145
Огарев Н. П. 6, 9, 16, 36
Одипцов П. И. 313
Одоевский В. Ф. 8
О’Коннель Д. 47
Ольденбургский П. Г. 145
Орлов А. Ф. 27, 28, 30, 49, 70,
71, 75, 76, 123, 153, 172, 173,
264, 317, 318, 320
Орлов М. Ф. 71
Орлов Н. М. 319
Отт О. Ф. 26
Оуэн Р. 13, 14, 19, 77, 82, 100,
103, 135
Пальм А. И. 16, 17, 23—25, 27,
36, 38, 58, 78, 87, 88, 94, 97,
133, 138, 149, 249, 250, 252,
255, 323, 328, 329, 338
Панаев И. И. 10, 78, 85
Панкратов А. С. 320, 321
Паскевич И. Ф. 74
Перейр, братья 327
Перовский В. А. 35, 71, 73, 166,
167
Перовский Л. А. 27, 28, 30, 35,
49, 50, 69—71, 76, 161, 316-
318
Петр I 160, 272
Петр III 13
Петрарка Ф. 178, 213
Петрашевский М. В. см. Бута¬
шевич-Петрашевский М. В.
Петров А. М. 13
Печкин А. М. 132, 133
Пий IX 131
Писарев Д. И. 38
Плещеев А. Н. 12, 17, 18, 24, 25,
36, 78, 85, 87, 89, 97, 132,
133, 249, 250, 260, 321, 323,
338
Плутарх 159
Полевой Н. А. 5
Политковский Д. Ф. 146, 147
Полозов Д. П. 72
Поль, полковник 305, 315
Потемкин А. М. 16, 104
Протасов Н. А. 270
Протасова, графиня 319
Прудон П.-Ж. 22, 39, 69, 97,
135, 144, 145, 159, 285
Пузанов, учащийся Училища
правоведения 145
Пушкин А. С. 9, 63, 84, 123, 134,
135
Разумовский А. К. 71
Распайль Ф.-В. 178
Рейтерн М. X. 325
Ришелье А.-Ж. 32, 54
Робеспьер М. 64, 145
389
Ростовцев Я. И. 52, 79, 93, 128,
139, 156-158, 162, 164, 165,
190, 195, 197, 202, 280, 295-
298, 307, 308, 330, 332, 333
Рубинштейн А, Г. 18
Руссо Жг-Ж. 64, 144
Саблин В. М. 37
Савельев], муж А. Ф. Савелье¬
вой 81
Савельева] А. Ф. 81
Сагтынский А. А. 31, 68
Салтыков-Щедрин М. Е. 16, 17,
23, 24, 36, 78, 89, 93
Самарин Ю. Ф. 8, 10
Санд Ж. 17, 20, 82, 84
Семевский В. И. 29, 37, 103, 104
Семенов Н. Н, 93
Семенов-Тян-Шанский П. П. 38,
39
Сен-Симон К. А. 8, 9, 14, 19, 65,
77, 82, 85, 121, 136, 144
СиБОконев, унтер-офицер 120
Скобелев М. Д. 119
Скотт В. 145, 199, 213, 214, 219
Соллогуб В. А. 85
Спешнев Н. А. 17, 19, 21—27,
32, 34, 38, 41, 45—48, 52, 54,
55, 58, 78, 81, 82, 87, 89, 97,
ПО, 133, 138, 182, 248—253,
319, 329, 336
Стасов В. В. 23
Степанов П. А. 118
Степанов, домовладелец 274
Суворов А. А. 124, 130
Сунгуров Н. Г. 6
Сю Э. 223
Танеев А. С. 328, 333
Таутендей, фотограф 305
Тацит П. К. 159
Тимковский К. И. 18, 31, 42, 57,
104, 109, 111, 112, 250
Толбин В. В. 18
Толль Ф. Г. 19, 29—31, 36, 41,
42, 44, 197, 250, 269-271,
290, 329
Толстов А. Д. 30
Толстой А. К. 85
Толстой Я. Н. 74, 75
Толстой, чиновник 147
Траншель И, И. 264, 305, 306
Тургенев И, С. 11, 25, 83, 85
Туссенель Л.-А, 178
Тьер Л.-А. 68, 85, 144
Уваров С. С. 6, 15
Унковский А. М. 27
Усовский Н. И. 314
Утин Б. И. 18
Ушаков А. И. 53
Федотов П. А. 18, 118
Фейербах Л. 13, 65
Фиеско Дж.-Л. 304
Филарет, митрополит 325
Филиппов П. Н. 17, 23, 24. 31,
32, 36, 104, 134, 138, 147,
149, 248—250, 336
Фонвизин М. А. 36
Фонвизина Н. Д. 33
Фридрикс В. Е. 313—315
Фурье Ш. 9, 12—14, 17, 19, 26,
27, 45, 48, 65, 77. 82, 85, 93,
100, 103, 121, 135, 144, 159,
165, 166, 178, 179, 182, 183,
195, 234, 250, 285, 301, 335
Хаджи-Мурат 183
Ханыков А. В. 17, 19, 26, 27, 36,
37, 182, 196, 249, 250
Хоецкий К.-Э. 22
Хомяков А. С. 7
Циммерман А. Э. 305, 315
Чаадаев П. Я. 7—9
Чаплин, купец 41
Черносвитов Р. А. 18, 21, 31, 35,
36, 38, 42, 46, 104, 109—115,
202-204
Чернышевский Н. Г. 12, 17, 36,
38, 132, 149
Шабишев А. Н. 273, 274
Шабишев Е. Н. 273
Шабишев Н. Н. 272—275, 283
Шабишева Е. Н. 272
Шабишева Н. Н. 273
Шабишевы 271, 275
Шапошников В. М. 30
Шапошников П. Г. 30
Шевалье М. 327
Шевченко Т. Г. 13
Шенье А. 87
Шешковский С. И. 53
Шиллер Фр. 84
Ширинский-Шихматов П. А. 15
Шмаков А. В, чиновник III от¬
деления 280
390
Шрамченко А
290
Штрандман Р
Штраух Л. И
Щеголев П. I
Щелков А. Д
200, 208—
Эйдельман Н.
Энгельгардт Е
Энгельсон В. .
. В. 270, 284, 286,
Р. 23
['. 269, 271, 286
•. 37, 38
18, 97, 133, 138,
-210, 262, 328, 329
Я. 37
1. Ф. 160
А. 37, 67
Ювенал 223, 227, 238
Юнкер, домовладелец 228
Яблонский К. И. 154, 155, 164,
166, 168
Языков П. А. 128
Ямонд 2-й, учащийся Училища
правоведения 145
Яновский С. Д. 340
Ястржембский И. Л. 17, 19, 31,
38, 41, 104, 152, 153, 156,
157, 162, 167, 168, 179, 250
СОДЕРЖАНИЕ
Возникновение социалистической мысли в России ... 5
Ф. Н. Львов, М. В. Буташевич-Петрашевский. [ЗАПИСКА
О ДЕЛЕ ПЕТРАШЕВЦЕВ] 40 343
В. А. Энгельсон. ПЕТРАШЕВСКИЙ 60 351
П. П. Семенов-Тян-Шанский. МЕМУАРЫ 77 354
В. Р. Зотов. ПЕТЕРБУРГ В 40-х ГОДАХ 97 358
Ф. Н. Львов. ПИСЬМО К Д. И. ЗАВАЛИШИНУ [О ПЕ¬
ТРАШЕВСКОМ] 105 360
И. А. Спешнев. [О ЧЕРНОСВИТОВЕ] 109 361
А. И. Пальм. ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ ЛЬВОВ. ИЗ СТА¬
РЫХ ВОСПОМИНАНИИ 116 363
И. И. Венедиктов. ЗА ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ 126 365
А. П. Милюков. ФЕДОР МИХАИЛОВИЧ ДОСТОЕВ¬
СКИЙ 131 366
Н. П. Баллин. 50 ЛЕТ МОЕЙ ЖИЗНИ 144 370
Ф. М. Достоевский. [ОБ АРЕСТЕ] 150 371
И. Л. Ястржембский. МЕМУАР ПЕТРАШЕВЦА ... 152 372
Д. Д. Ахшарумов. ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ ... 169 374
П. А. Кузмин. ИЗ ЗАПИСОК 264 378
Н. С. Кашкин. [КАЗНЬ ПЕТРАШЕВЦЕВ] 319 380
Е. И. Ламанский. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 325 382
А. Н. Майков. [О ПЕТРАШЕВЦАХ] 334 382
Ф. М. Достоевский. Письмо к М. М. Достоевскому . . 338
Примечания 343
Именной указатель 386
ПЕРВЫЕ
РУССКИЕ
СОЦИАЛИСТЫ
Воспоминания участников
кружков петрашевцев в Петербурге
Составитель Борис Федорович Егоров
Заведующий редакцией Ю. А. Васильев. Редакторы Б. Б. Никанорова,
С. А. Прохввтилова. Художник Л. А. Яценко. Художественный редактор
А. К. Тиьюшевский. Технический редактор А. И. Сергеева. Корректор
Л. М. Ван-Заам
ИБ № 2981
Сдано в набор 26.06.84. Подписано к печати 04.12.84. М-37517. Формат
84х108’/з2. Бумага тип. № 1. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л.
20,58+вкл. Усл. кр.-отт. 21,84. Уч.-иэд. л. 24,10+0,57=24,67. Тираж 50 000 экэ.
Заказ № 528. Цена 1 р. 20 к.
Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград. Фон¬
танка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володар¬
ского Лениздвте,- Ж023,-Ленинград, Фонтанка, 57.