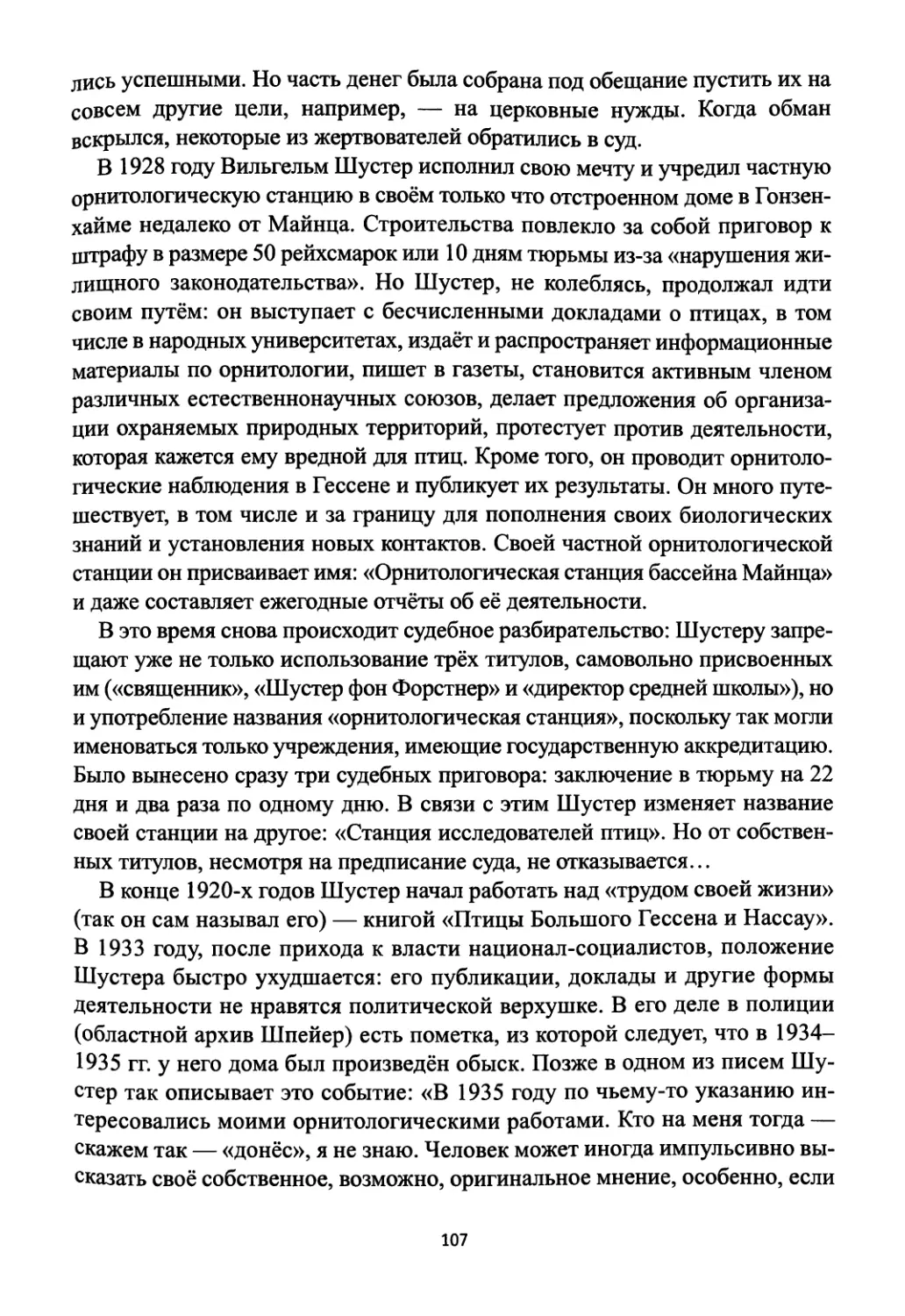Text
... ничего не скрывайте, ибо время, которое
всё видит и всё слышит, откроет всё.
Софокл, Ув. до н.э.
Еугениуш Новак
Учёные
в вихре времени
Воспоминания об орнитологах,
защитниках природы
и других натуралистах
Перевод с немецкого кандидата биологических наук
И. М. Маровой
Редактор доктор биологических наук
М. В. Калякин
Товарищество научных изданий КМК
Москва ♦ 2009
Первое издание этой книги опубликовано в 2005 г. на
немецком языке в издательстве Stock&Stein в Шверине под
названием: «Wissenschaftler in turbulenten Zeiten. Erinnerungen an Or-
nithologen, Naturschutzer und andere Naturkundler» (432 pp.,
ISBN 3-937447-16-4).
Настоящий перевод на русский язык сделан со второго
издания книги, существенно изменённого, переработанного и
дополненного новыми биографиями (на немецком языке это
издание ещё не опубликовано).
Перевод книги на русский язык и её издание осуществлено при
финансовой поддержке Немецкого федерального Фонда по
охране окружающей среды.
Die Ubersetzung ins Russische und Herausgabe der russischen
Edition des Buches wurde durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt
gefordert
I UdU ^gr OtuedutundiHtnungUrmMtt
Поддержка оказана также Фондом Альфреда Тёпфера Ф.Ф.С.
(Гамбург), Фондом ЕВРОНАТУР (Бонн) и Союзом саксонских
орнитологов.
Das Vorhaben wurde auch von der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.
(Hamburg), der Stiftung EURONATUR (Bonn) sowie dem Verein
Sachsischer Ornithologen unterstiitzt.
Все авторские права принадлежат Товариществу научных
изданий КМК. Никакая часть издания не может быть
воспроизведена в любой множительной системе, использована или
передана в любой форме и любыми средствами: электронными,
механическими, фотокопировальными, записывающими и
другими, без письменного разрешения издателя.
ISBN 978-5-87317-575-8
© Перевод: И.М. Марова, 2009
© Предисловие переводчика: И.М. Марова, 2009
© От редактора: М.В. Калякин, 2009
© Издание на русском языке: Товарищество
научных изданий КМК, 2009
Предисловие автора к русскому изданию
В основу этой книги положены материалы
биографий 55 учёных-натуралистов. Это
орнитологи, зоологи, экологи, деятели охраны
природы, которые работали в XX и, частично, в XIX
■ веке. Большинству из них выпало жить в пору
I 4 ' господства фашистских и коммунистических ре-
1 жимов и встречать в своей работе множество
препятствий, порождённых
общественно-политической обстановкой той эпохи. Их судьбы
зачастую бывали тяжёлыми и даже трагическими.
Многим пришлось пережить политически
обусловленные преследования, увольнения,
общественные унижения, слежку органов
безопасности, аресты, пребывание в тюрьмах и лагерях. Некоторые покончили жизнь
самоубийством или были казнены по приговору суда. Но были и такие, кто
неплохо приспособился к существующему строю и даже сумел извлечь для себя
определённые преимущества, весьма способствовавшие их личному
преуспеванию и успешной научной деятельности.
После того, как противостояние между Западом и Востоком в Европе с
начала 1990-х годов пошло на убыль, у меня всё в большей степени стало
складываться впечатление, что учёные нового поколения имеют весьма
смутное представление о том, в каких условиях приходилось работать их
старшим коллегам. Поэтому после выхода на пенсию я решил критически
переосмыслить и опубликовать накопившиеся у меня материалы об
учёных-натуралистах той эпохи, в особенности о тех, кого я знал лично или
биографии которых были известны мне из частных бесед, рассказов и
публикаций. Предлагаемая книга — результат моих усилий в этом направлении.
Работа над книгой протекала нелегко. Прежде всего, на основании
имеющихся документов мне пришлось заново проверить и дополнить все сведения
из моего личного архива. Материалы из некрологов и биографий,
опубликованных в разное время другими авторами, нуждались в критическом
пересмотре, так как приведённые в них сведения зачастую страдали неполнотой,
тенденциозностью, а иногда и вовсе оказывались неверными или чересчур
приукрашенными. Необходимой частью моей работы были кропотливые
исследования в многочисленных архивах, поиски ныне живущих свидетелей
описываемых в книге событий и беседы с ними. Немало труда потребовалось для
5
того, чтобы добыть труднодоступные публикации на разных язьпсах и извлечь
из них интересующую меня информацию. Много времени ушло на поиск
наиболее интересных иллюстраций, которые призваны были дополнить и
обогатить содержание книги. Мне кажется, что в результате трудоёмкая и занявшая
много времени работа над книгой оправдала себя. В её основе лежит
уникальное собрание фактов о жизни и деятельности многих моих коллег и знакомых
— натуралистов старшего поколения. Должен признаться, что итоги моих
семилетних изысканий не раз поражали и меня самого, ибо многие приведённые
в этой книге биографии оказались куда более сложными и драматичными,
нежели они представлялись мне в самом начале работы...
Национальный состав учёных, с которыми знакомит читателей эта книга,
выглядит следующим образом: 17 немцев, 15 русских, 8 поляков, 2
француза, 2 корейца и по одному уроженцу Австрии, Англии, Дании, Чехии,
Словакии, Украины, Болгарии, Албании, Китая, Индии и США. Книга состоит
из семи глав, в пяти из них собраны биографии учёных, судьбы которых
кажутся мне в чём-то схожими друг с другом. Иными принципами я
руководствовался при написании первой и последней глав: каждая из них целиком
посвящена биографии только одного исследователя.
Биография профессора Э. Штреземанна (Глава 1) написана гораздо
подробнее остальных не только из-за его выдающихся научных достижений.
Для этого у меня имелись и личные мотивы. В конечном итоге именно
благодаря ему мне в своё время представилась возможность свести знакомство
со многими учёными с Запада и с Востока, что и послужило одной из
главных предпосылок для создания этой книги. В период раздела Германии
Штреземанн работал в Зоологическом музее университета Гумбольдта в
восточной части Берлина, то есть в столице ГДР, но жил в Западном Берлине.
Работа в ГДР при наличии западногерманского паспорта позволяли ему,
вопреки «железному» и «бамбуковому» занавесам, поддерживать контакты со
многими научными учреждениями и учёными по всему миру. Вплоть до
сооружения в 1961 году Берлинской стены особый статус Берлина позволял
учёным из различных государств без виз посещать Зоологический музей,
находившийся в восточной части города. В ту пору возглавляемый Штреземанном
орнитологический отдел этого музея не только служил научным центром,
где концентрировались достижения мировой орнитологии, но и давал
уникальную возможность для общения учёных с Востока и Запада. В 1950-х
годах я, как польский студент, проходил по обмену обучение в университете
Гумбольдта, где моей научной работой руководил Штреземанн. Это был
счастливый случай, открывший мне возможности для личного общения со
многими учёными, приезжавшими к Штреземанну, чтобы работать в музее
или обратиться к нему за советом. Позднее, в период моей дальнейшей науч-
б
ной деятельности, я проводил часть времени в Польше, а часть — в
Западной Германии, что ещё в большей степени расширило мой круг общения.
Последняя глава книги (Глава 7) также целиком посвящена весьма
известному орнитологу — профессору Шефферу. Она состоит из его
автобиографии, некролога, опубликованного в «Немецком орнитологическом
журнале», и двух других публикаций. Вместе они воспроизводят лишь канву
жизни Шеффера, но, тем не менее, делают возможным всесторонний взгляд
на личность и суть деятельности этого известного учёного.
В связи с этим уместно задаться вопросом, который, возможно, не раз
придёт на ум читателям книги: а какова мера объективности приведённых в ней
биографических очерков? Могу лишь сказать, что я прилагал очень большие
усилия для того, чтобы сделать их по возможности наиболее объективными.
Все собранные сведения, в частности, сообщения свидетелей, я старался
оценивать критически, сопоставляя их с другими высказываниями или
документами. Тем не менее, я в полной мере отдаю себе отчёт в том, что, в
зависимости от точки зрения читателя, даже самым «объективным» материалам
можно давать весьма произвольную интерпретацию. Именно поэтому
составленные мною биографии в первую очередь следует рассматривать, как
собрание твёрдо установленных фактических сведений, все проявления
своего личного отношения к которым я старался свести к минимуму.
Хотя книга уводит нас в прошлое, с её помощью я надеялся хотя бы
отчасти заглянуть в будущее. Окончание холодной войны и беспокойное начало
нового тысячелетия убеждают меня в том, что исследования истории науки
и истории жизни учёных нуждаются в критическом подходе. При этом я
считаю нужным подчеркнуть, что, рассказывая о горьких и неприятных
эпизодах в жизни моих героев, я ни в малейшей степени не стремился к тому,
чтобы судить, а тем более осуждать их. Все эти эпизоды давно стали
достоянием истории. Но я всё же полагал необходимым правдиво отобразить то
губительное влияние, которое оказали политические бури прошедшего века
на климат мировой науки и личные судьбы исследователей. Молодые
учёные, живущие среди благополучия современного мира, едва ли способны
представить себе это в полной мере, но нам всем всегда следует помнить о
том, что от политических коллизий не застраховано ни одно общество на
нашей планете. Мне остаётся лишь надеяться на то, что чтение этой книги
побуждает к размышлению и ведёт к пониманию того, насколько мал и лёгок
при стечении обстоятельств может оказаться шаг в пропасть...
И потому каждому уместно задаться вопросом: «А как поступил бы я, до-
ведись мне жить в то время?»
Выход первого издания книги не остался незамеченным в Германии,
Австрии и Швейцарии. Я получал множество писем, авторы которых предла-
7
гали свои ответы на некоторые поставленные в ней вопросы. Я вёл
бесчисленные разговоры, меня приглашали выступить с докладами, за которыми
нередко следовали увлекательные дискуссии. Читателей немецкого издания
книги в особенности интересовали биографии русских натуралистов из
бывших социалистических стран. «Без вашей книги мы никогда бы о них не
узнали», — сказал мне один учёный, много путешествовавший и
интересующийся политикой. В итоге я ещё раз убедился в том, что история, даже
история естествознания, может быть весьма поучительной...
Книга вызвала отклики и у читателей за границей Германии. Наряду с
рецензиями в Германии, появились рецензии в других странах. В частности,
меня обрадовала заметка, опубликованная в одном из выпусков
«Орнитологии» (Н.С. Чернецов, 2005, Т. 32, С. 183-184). Автор не только положительно
отозвался о книге, но и высказался в пользу целесообразности её перевода на
русский язык.
И вот теперь это пожелание, которое в полной мере соответствовало и
моим надеждам, исполнилось: моя книга выходит в России. Я надеюсь, что
русскоязычные читатели тоже найдут в ней не только новые и интересные,
но и неожиданные для них факты. Ведь вспоминая о прошлом, мы невольно
обозреваем настоящее и бросаем робкие взгляды в будущее. Мне важно было
показать, как трудны были контакты между востоком и западом в смутные
времена прошедшего века. И теперь, когда эта эпоха стала достоянием
истории, нынешним поколениям следует в полной мере усвоить трагический и
поучительный опыт прошлого столетия для того, чтобы лучше добиваться
взаимного понимания. Самая важная идея моей книги состоит в том, что
натуралистам из разных стран необходимо активнее, чем раньше,
сотрудничать друг с другом, вне зависимости от их политических воззрений. Время
для этого пришло.
Еугениуш Новак
Бонн-Бад-Годесберг, ноябрь 2008 г.
Благодарности
Я считаю своим приятным долгом высказать слова благодарности в адрес
тех людей и учреждений, без всесторонней помощи которых перевод этой
книги на русский язык и её издание в России были бы невозможны.
Самым главным моим помощником при подготовке русского издания
стала переводчица Ирина Михайловна Марова — орнитолог, кандидат
биологических наук, сотрудник биологического факультета Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова. Мы познакомились в
конце 1990-х годов в Нойбранденбурге в Германии во время конференции
Немецкого орнитологического общества, где я сделал мой первый доклад из
серии «Орнитологи, которых я знал». Тема сообщения казалась мне тогда
довольно «взрывоопасной», и я боялся, что оно вызовет недовольство и
критику со стороны некоторых участников. Но вышло иначе. Во время доклада
в зале царила тишина, а по окончании раздались дружные аплодисменты. В
перерыве ко мне подошла участница конференции из России — И.М.
Марова: её заинтересовал мой рассказ о судьбах орнитологов из СССР и
Германии. Редактор Немецкого орнитологического журнала («Journal fur Ornit-
hologie») предложил мне опубликовать доклад. Это были первые шаги и к
созданию книги, которая находится сейчас перед Вами, и к её русскому
переводу, со всей тщательностью выполненному Ириной Михайловной.
Я сердечно благодарю И.М. Марову за то, что она решилась взять на себя
трудную и требующую много времени работу по переводу книги и отлично
справилась с этим; одной из предпосылок успеха были её
естественнонаучные знания. Ирина Михайловна не только перевела текст, но и разыскала
новые факты из биографий некоторых советских учёных, что помогло мне
внести в рукопись важные дополнения и уточнения. Кроме того, она
снабдила текст многочисленными примечаниями, что сделало его более
понятным для читателя из России.
Я также хочу поблагодарить доктора биологических наук Михаила
Владимировича Калякина, сотрудника Зоологического музея МГУ имени М.В.
Ломоносова, который отредактировал переведённый текст с содержательной
и стилистической точек зрения. Он же работал над разделом «Источники» и
составил именной указатель. Мы также давно знакомы с ним, нас связывает
общий интерес к фауне птиц Вьетнама.
Никите Севировичу Чернецову, доктору биологических наук, сотруднику
Орнитологической станции «Рыбачий» (ранее немецкая станция «Росситтен»)
я признателен за то, что ему удалось найти издателя для публикации книги на
русском языке и убедить его принять на себя хлопоты по печатанию книги.
9
Кирилла Глебовича Михайлова, заместителя директора издательства КМК
в Москве, я сердечно благодарю за его всегда доброжелательное отношение
и терпеливую поддержку работы над русским изданием книги во время её
перевода и подготовки к печати. Особенно я признателен ему за его
взыскательное отношение к оформлению книги, важное и для меня, и для будущих
читателей.
Мое сотрудничество с переводчицей, редактором и издательством (я
находился в Бонне, остальные — в Москве) было осложнено большим
расстоянием между нами. Хотя мы использовали электронную почту и телефон,
важная помощь была оказана также Немецким историческим институтом в
Москве: профессор Бернд Бонвеч, директор института, любезно позволил
использовать курьерскую службу института для обмена корреспонденцией
между Германией и Россией, за что я выражаю ему глубокую
признательность.
Успех нашей работы был бы невозможен без финансовой поддержки,
которую я получил от Федерального фонда охраны окружающей среды в Ос-
набрюке (Германия). Я искренне благодарен Фонду и персонально доктору
Фрицу Брикеведде. Сотрудники Фонда и его попечительский совет в полной
мере были преисполнены пониманием того, как важно в современных
условиях не только поддерживать конкретные проекты по охране природы, но и
способствовать лучшему взаимопониманию натуралистов из разных стран.
Поэтому я выражаю особую признательность этой организации за то, что
помощью в издании моей книги она способствует углублению и
укреплению отношений между востоком и западом.
Еугениуш Новак
Предисловие переводчика
С Еугениушем Новаком я познакомилась в 1997 году на ежегодной
конференции Немецкого орнитологического общества, где автор
будущей книги выступил с интригующим докладом о судьбах некоторых
учёных-орнитологов в период Второй мировой войны. В частности, в его
докладе впервые были представлены материалы, освещающие
нацистское прошлое такого известнейшего немецкого учёного, как Гюнтер Нит-
хаммер, и пребывание в плену и службу в немецкой армии выдающегося
советского орнитолога Николая Алексеевича Гладкова.
Судьбы учёных, посвятивших себя изучению птиц и оказавшихся в
эпицентре исторических потрясений двадцатого столетия, стали темой
многолетних кропотливых изысканий Е. Новака. По их результатам была
написана эта книга, немецкое издание которой увидело свет в 2005 году.
Некоторое время спустя автор обратился ко мне с просьбой о переводе
книги на русский язык, а сам приступил к поиску возможностей и
средств для её издания в России — стране, где пришлось жить и работать
очень многим из описанных на её страницах персонажей.
Еугениуш Новак — известный учёный, зоолог, орнитолог, деятель
охраны природы, автор более 300 печатных работ, в том числе 10 книг. Он
родился в Польше, окончил Варшавский университет, в 1966-1970 годах
руководил Орнитологической станцией в Мазурах. Значительная часть
его профессиональной деятельности прошла в Германии, куда он уехал
в 1974 году. С 1975 года он работал в Федеральном исследовательском
институте по охране природы и ландшафтной экологии в Бонне.
Будучи студентом Варшавского университета, в конце 1950-х годов
Еугениуш Новак, как говорили тогда — «по обмену», был направлен для
обучения в ГДР и начал здесь самостоятельную исследовательскую
работу в Берлинском музее под непосредственным руководством самого
Эрвина Штреземанна, в то время — признанного лидера европейской и
мировой орнитологии, учителя Эрнста Майра. Таким образом, Еугениуш
Новак получил счастливую возможность не только заниматься научными
изысканиями в одной из лучших орнитологических коллекций мира, но
и общаться со многими известными орнитологами, приезжавшими к
легендарному Штреземанну со всего света, — как с «востока», так и с
«запада». Это была эпоха холодной войны, когда шансы на общение с
коллегами из стран противоположного политического лагеря выпадали
очень немногим учёным. Е. Новак оказался в эпицентре мировой
орнитологии и, наряду с интенсивной исследовательской работой, стал на-
11
капливать впечатления о своих наставниках и коллегах, которые в
будущем так пригодились ему в работе над этой книгой.
Профессиональная деятельность Е. Новака в последующие годы также
весьма способствовала расширению круга его общения и преумножению
его личных и заочных контактов с зоологами из разных стран. Он был
организатором и участником многих международных проектов по охране
птиц и в связи с этим вёл обширную переписку, много ездил по свету,
участвовал в экспедициях, неоднократно посещал нашу страну и
побывал даже на Крайнем Севере. Благодаря своей энергии, интересу к людям
и знанию нескольких европейских языков Е. Новак был близко знаком
со многими учёными-орнитологами ушедшего столетия, с некоторыми
из них его связывали многолетнее неформальное общение и дружба.
Перед нами уникальная книга, впечатляющий труд о судьбах учёных
из разных стран мира на «изломах истории», на фоне политических
катаклизмов и трагических событий XX и отчасти XIX века — эпохи
революций, войн, диктатур, разрухи, холодной войны. Перед читателем
проходит пёстрая череда человеческих характеров и судеб. Герои книги
— и профессиональные орнитологи, и орнитологи-любители, которые
могли посвящать изучению птиц лишь своё свободное время. Одни из
них были известны почти во всём мире, о других знали лишь некоторые
коллеги. Это русские и немцы, французы и англичане, китайцы и
корейцы — они жили при Сталине и Гитлере, Мао Цзедуне и Ким Ир Сене,
Брежневе и Хоннекере. Они воевали и попадали в плен, вкушали горький
хлеб оккупации, эвакуации и эмиграции, выживали или гибли в лагерях
и тюрьмах, страдали от притеснений Гестапо, НКВД или «штази»,
подвергались публичному шельмованию или же, как «невыездные»,
фигурировали в тайных списках спецслужб. Но при всей несхожести
личностей и судеб учёных, о которых рассказывает Еугениуш Новак, всех их
объединяет служение избранному делу, науке, о которой наш
соотечественник Михаил Васильевич Ломоносов писал: «Наука есть ясное
познание истины, просвещение разума, непорочное увеселение жизни,
похвала юности, старости подпора, строительница градов, полков,
крепость успеха в несчастии, в счастии украшение, везде верный и
безотлучный спутник».
Есть несколько подходов к истории науки: можно изучать мир
научных идей, а можно направить внимание на тех, кто является творцами и
носителями этих идей, на всё множество причин и обстоятельств, в той
или иной мере оказывавших влияние на их творчество. Книга Е. Новака
посвящена в первую очередь истории людей, частных судеб, которые,
может быть, и составляют главную историю человечества. Автор не ста-
12
вил перед собой задачу написать исчерпывающие биографии своих
героев, хотя большинство очерков содержит множество кропотливо
собранных и ранее совершенно неизвестных документальных свидетельств
и архивных материалов. Персонажи книги — учёные, которых автор знал
лично, или же те, о судьбах которых он узнал из «первых рук».
Постепенно, от очерка к очерку, от одной биографии к другой перед
читателем возникает впечатляющая панорама деятельности учёных из разных
стран на фоне исторических событий и потрясений ушедшего столетия
не только в Европе, но и в Азии.
Для писателя нет ничего труднее, чем сохранять объективность,
рассказывая о жизни конкретных людей, по большей части современников,
а зачастую и его собственных знакомых и друзей. В самом начале книги
автор со всей чёткостью обозначает свою позицию беспристрастного
исследователя человеческих судеб и прилагает поистине титанические
усилия ради того, чтобы не позволить чувствам сбить себя с этой позиции.
Тем не менее, автору, как мне кажется, не всегда удаётся скрыть от
читателя свои симпатии и антипатии: трудно оставаться хладнокровным
наблюдателем, если рассказываешь, например, о тех, кто «по зову
сердца» примкнул к нацистам и одновременно с изучением птиц — под
щедрым покровительством самого рейхсфюрера — занимался
исследованиями расовых проблем или же выступал в печати с профашистскими
манифестами... А ведь эти люди благополучно пережили режим,
которому присягали, сумели сделать себе имя в науке о птицах, которой были
преданы всем сердцем, и впоследствии вполне заслуженно вошли в
список ведущих орнитологов Европы. Это лишь один из примеров. К нему
можно добавить интервью с одним из палачей Заксенхаузена;
размышления о судьбе профессионального британского разведчика, попутно
ставшего орнитологом мирового уровня и одновременно заслужившего
обвинение в мошенничестве; рассказ о советском военнопленном,
который почти всю войну прослужил в Вермахте, получил звание ефрейтора,
а вскоре после возвращения на родину стал известнейшим учёным и
даже получил высшую государственную премию. Трудно сохранить
беспристрастие, если в судьбе этого военнопленного живейшее участие
принимал высокочтимый и искренне любимый научный наставник автора
книги. Но, наверное, именно в этих противоречиях и борьбе автора с
самим собой и кроется обаяние книги. Это не формальное описание
биографий, а живые, увлекательные рассказы о судьбах людей, о которых
идёт речь. Некоторые очерки читаются как захватывающий детектив. За
время работы над переводом у меня тоже появились свои симпатии и
антипатии...
13
Некоторые очерки о русских и советских учёных могут показаться
искушённому отечественному читателю неполными, чересчур
схематичными и не бесспорными, но нельзя забывать, что это взгляд «с
другой стороны», извне, который, конечно же, не может во всем совпадать
с нашим, — тем более этот взгляд интересен и ценен!
Е. Новак скрупулёзно, как профессиональный учёный, исследует
мотивы поступков своих героев, старается проникнуть в их психологию,
но он остаётся при этом не бесстрастным и беспощадным судьёй, а — за
редким исключением — «адвокатом» своих героев. Особенно это
заметно в очерках о таких неоднозначных персонажах как Г. Нитхаммер, Г.
Дате, К. Лоренц, В. Макач, А.Н. Гладков. Недаром в очерке о создателе
зоопарка в Восточном Берлине Генрихе Дате автор цитирует слова
одного своего современника: «... Мы должны благодарить судьбу за то, что
не стоим сегодня перед необходимостью таких решений, перед которыми
были поставлены многие люди как до, так и после 1945 года [...]».
В книге затронуты такие «вечные» и одинаковые для учёных из разных
стран и эпох темы, как совесть и личная ответственность, наука и власть,
конформизм, героизм и злодейство. Поэтому я надеюсь, что труд Еугениуша
Новака «Учёные в вихре времени» в нашей стране будет интересен не только
узкому кругу зоологов, но найдёт более широкую аудиторию и среди
учёных-биологов, и среди историков, и среди людей, которым небезразлично
недавнее прошлое бурного и трагического XX века.
Ни одна из судеб учёных, о которых идёт речь в этой книге, не была
лёгкой, многие были трагичны. Но тем не менее, после прочтения книги
остаётся чувство, что всё-таки, несмотря на все безумие XX столетия,
через которое пришлось пройти её героям, несмотря на многое
неосуществлённое ими и на трагизм многих судеб — несмотря на всё это
остаётся впечатление, что некая справедливость в мире, уравновешивающая
добро и зло, существует: ушли в прошлое те или иные политические
режимы и войны, стираются в памяти имена властителей и тиранов,
осыпалась мишура времени, а созидательный труд учёных, их книги,
созданные ими научные коллекции и музеи, библиотеки, орнитологические
станции, заповедники продолжают жить. Это то, в чём, наверное, можно
черпать оптимизм и веру в будущее. Мне кажется, что именно поэтому
книга Еугениуша Новака очень актуальна для нас. Уже сам по себе тот
факт, что автор решился воссоздать панораму жизни учёных-биологов
XX столетия, представляет собой огромную ценность и внушает веру в
будущее науки, в том числе и в нашей стране.
Хочу выразить сердечную признательность Владимиру Викторовичу
Ива^ицкому и Александру Николаевичу Формозову за большую помощь
14
в работе над переводом. Я благодарна также Николаю Александровичу
Формозову и Марии Георгиевне Вахрамеевой за высказанные ими
ценные замечания и уточнения.
Ирина Марова
Москва, декабрь 2008 г.
От редактора
После того, как читатель познакомился с авторским предисловием и с
обстоятельным комментарием переводчика, редактору остаётся отметить лишь
некоторые моменты.
Книга Еугениуша Новака не имеет аналогов в отечественной литературе,
касающейся истории орнитологии, а может быть — и истории науки в целом.
Собственная судьба автора поставила его в положение «специалиста по
западной и восточной орнитологии». Возможность читать и говорить на
нескольких европейских языках, в частности — прекрасное владение русским
языком, открытый и общительный характер при отсутствии какой бы то ни
было навязчивости, очевидные способности дипломата и много других
замечательных качеств, которыми обладает Еугениуш Новак, создали
уникальный плацдарм для работы над выбранной им темой. Автор не только
занял стратегически выгодное «географическое» положение. Он взял на себя
труд рассказать о людях, живших и творивших ещё совсем недавно, а часть
его героев, слава Богу, ещё с нами. Полагаю, что для этого требуется
одновременно и высокая ответственность, и особый такт, и известная отвага.
Попробуйте что-то написать об исторических событиях, давность которых
исчисляется годами или немногими десятилетиями, и перед вами сразу
возникнет масса проблем, в том числе — затронутая автором в предисловии
к русскому изданию проблема приближения к возможно более полной
объективности. Мне кажется, Еугениуш с честью вышел из сложных ситуаций, в
которые сам себя поставил, и сполна использовал все плюсы своего
положения «во времени и в пространстве».
Нельзя сказать, что мы полностью равнодушны к истории нашей науки,
однако в силу ряда причин и обстоятельств этот предмет (пока?) не
пользуется у отечественных авторов повышенной популярностью. Смею думать,
что этого не скажешь о читателях. Мне точно известны люди, живо
интересующихся даже краткими или отрывочными сведениями об истории науки,
в нашем случае — орнитологии. Рискну предположить, что
заинтересованное отношение не только к научным текстам, но и к их авторам в большой
степени связано с ответственным подходом таких людей к своей собственной
научной деятельности. Достаточно того, что преемственность —
неотъемлемая часть науки и культуры. Кроме того, у каждого орнитолога есть один
или несколько учителей, у которых, в свою очередь, тоже были учителя, и
уже простая благодарность к ним подталкивает нас к выяснению деталей их
биографий, знакомству с условиями их работы и общественной
деятельности, отношений с коллегами, и, не в последнюю очередь — знакомству с тем,
16
как они решали непростые вопросы адаптации к воздействию системы, при
которой им приходилось трудиться. Автор книги очень точно очертил её
предмет, и мне представляется излишним подчёркивать тот факт, что для
отечественных орнитологов выработка отношений с
общественно-политической системой и её носителями была и, увы, остаётся важной и сложной
проблемой. Более того, при работе с текстами Е. Новака мне порой бросался в
глаза следующий нюанс: если для немецких читателей автор книги открывал
некоторые «секреты» из жизни орнитологов на востоке Европы, то для
наших читателей его оценки или недоумения порой представляются
проявлением именно «западного» образа мышления. Полагаю, что после
знакомства с воспоминаниями Тимофеева-Ресовского, книгами Д. Гранина и С.Э.
Шноля; наконец, после появления уже весьма объёмной литературы,
рассказывающей нам о реальной ситуации в стране в XX веке, наши читатели
отметят для себя явные отличия в положении советских учёных даже в
сравнении с обстоятельствами, в которых жили и трудились их европейские
коллеги. Автор старается не выдавать своих оценок и отношений к
рассказанному, но мы, читатели, как раз свободны от таких запретов, о чём уже весьма
живо высказалась Ирина Михайловна Марова. Во многом именно для
формирования таких оценок, невольно проецируемых и на свою собственную
позицию по означенным вопросам, и стоит, по-моему, читать эту книгу.
Окончательно встав на позицию читателя, а не редактора, ответственно
заявляю — книга, безусловно, получилась интересной, важной, полезной. И —
по-хорошему провокационной. Я очень надеюсь на то, что найдутся люди,
которым очерки о наших орнитологах покажутся в чём-то неполными, и кто-
то из них не выдержит и начнёт публиковать свои воспоминания, сообщать
о важных и интересных фактах из истории отечественной орнитологии,
сохраняя тем самым для будущих поколений информацию о жизни наших
коллег, заслуживающих этого вне зависимости от их отношений с властями.
И всё-таки — несколько замечаний «от редактора». Собственно, мне не
удалось выступить редактором книги в полном смысле этого слова. Качества
авторского текста, знание автором русского языка, а также повышенная
тщательность переводчицы и её неформальный подход к выполнению своей
части работы привели к тому, что редактору досталась лишь скромная роль
корректора и технического редактора, следящего за унификацией
сокращений и обозначений, вариантов написания имён и фамилий и другой
«мелочевки». Ирина Михайловна настолько глубоко вникала в текст и так активно
привлекала дополнительную литературу, стремясь облегчить читателю
знакомство с контекстом, — особенно там, где речь идёт о реалиях жизни в
Германии, — что её примечания читаются порой с не меньшим интересом, чем
авторский текст. Могу констатировать, что значительную часть работы ре-
17
дактора (а порой — даже работы автора!) выполнил именно переводчик, мне
же оставалось местами подправить стиль или выступить в качестве
третейского судьи в случаях, когда мнения автора и переводчика о нюансах
русскоязычного изложения не совпадали.
Несколько деталей для читателей. Основной текст книги снабжён
несколькими дополнениями. Это именной указатель, при пользовании которым
надо иметь в виду, что в нём приведены все страницы, на которых упомянут
тот или иной персонаж. Приводится список литературы на языке оригинала.
Дан перечень архивов, материалы которых были использованы автором, при
этом указаны их оригинальные названия без перевода на русский язык. В
перечне лиц, помогавших так или иначе автору при работе с разнообразными
источниками, использован тот же принцип — их имена приводятся в
оригинальном написании на соответствующем языке.
Все замечания к изданию будут с благодарностью приняты редактором
(Калякин Михаил Владимирович, kalyakin@rambler.ru) и издательством
КМК (Михайлов Кирилл Глебович, mikhailov2000@gmail.com).
Михаил Калякин
Москва, январь 2009 г.
Глава 1. Профессор Эрвин Штреземанн
(1889-1972) — выдающийся биолог XX столетия,
«Римский папа» орнитологов
Становление и развитие орнитологии, как полноправной отрасли науки,
неотделимо от имени Штреземанна—одного из выдающихся биологов
двадцатого столетия. Его заслуги перед мировой наукой трудно переоценить, и
ещё при жизни его стали называть «Римским папой орнитологов». К
личности и деятельности Штреземанна мы будем обращаться во многих
биографических очерках, приводимых в этой книге.
* * *
Орнитологам, интересующимся историей своей науки, пока не удалось
установить, кто и когда впервые наградил «папским» титулом учёного,
происходившего из семьи, приверженной протестантской традиции. Но
известно, что Штреземанн очень рано получил этот титул — и как
выражение признания его высокого профессионализма, и благодаря занимаемой
должности:
• с 1921 по 1961 год он с большим успехом руководил Орнитологическим
отделом Зоологического музея Берлинского университета; после выхода
на пенсию он продолжал активно работать там до самой смерти.
• С 1922 по 1967 год он занимал ключевые позиции в главном объединении
орнитологов Германии — Немецком орнитологическом обществе (Deutsche
Ornithologen Gesellschaft, DOG): до конца Второй мировой войны — в
качестве Генерального секретаря, с 1949 года — как первый президент, и с
1967 года до самой смерти — как почётный президент.
• С 1922 по 1961 год он был бессменным редактором «Орнитологического
журнала» («Journal fur Ornithologie») — ведущего и старейшего научного
журнала по орнитологии в мире.
• В 1927-1934 годах вышла его книга «Птицы» (часть многотомного издания
«Зоология»), что выдвинуло орнитологию в один ряд с другими
биологическими науками.
• В 1930 году, в возрасте сорока лет, он был избран президентом
Международного орнитологического конгресса, который должен был состояться в
Оксфорде в 1934 году, и с огромным успехом провёл этот конгресс,
собравший орнитологов со всего мира.
19
• Он был не только разносторонним, основательным и очень продуктивным
исследователем (из-под его пера вышли более 700 публикаций), он также
содействовал научной карьере большого числа молодых одарённых
учёных.
• Под его руководством были защищены 30 диссертаций по орнитологии,
при этом многие из диссертантов внесли весьма значительный вклад как в
орнитологию (Вильгельм Майзе, Хельмут Зик, Эрнст Шутц), так и в
биологию в целом (Эрнст Майр, Бернхард Ренш).
• Он был почётным членом 15 и членом-корреспондентом 12
орнитологических и естественнонаучных обществ на четырёх континентах, а также
двух немецких и одной американской Академий.
• В его честь были названы более 70 вновь описанных форм позвоночных
животных (преимущественно птиц).
Неудивительно, что аналогия с католическим папой уже в середине 20-х
годов прошлого столетия пришла на ум молодому орнитологу-любителю из
Магдебурга, Хайнцу Тишеру. Написал он об этом, правда, много позже, в своих
воспоминаниях (Tischer, 1994: 80-81): «Если бы кто-то был удостоен
аудиенции самого Римского Папы, он не мог бы чувствовать себя более
преисполненным гордости, чем я, которому в Германии было позволено посетить
орнитологическую святыню: кабинет профессора доктора Эрвина Штреземанна.
Впервые я видел такого элегантного профессора — без окладистой бороды,
внушительного живота и, к тому же, без всяких чудачеств. То, что он называл
птиц не по-немецки, а использовал исключительно научные наименования на
латинском языке, которые ещё и сокращал, было связано с его
интернационализмом. Он был настоящим «гражданином мира», и мне оставалось только
изумляться и приходить в замешательство, когда он вскользь упомянул об
экземплярах из коллекции лорда Ротшильда в городке Тринге недалеко от
Лондона. ..». По окончании аудиенции Тишер был приглашён на общий обед.
Мне в качестве польского студента, приехавшего в Германию по обмену,
выпало счастье под руководством Штреземанна работать над моей
дипломной работой о расширении ареала кольчатой горлицы (Streptopelia decaocto)
в Азии и Европе (Nowak, 2003: 12-13), выполненной в 1956-1958 годах.
Спустя почти 30 лет после Тишера я испытал те же чувства: по прибытию
в Берлин я не без робости отправился к Штреземанну, поскольку в Варшаве
меня предупредили, что он является истым пруссаком — строгим,
недоступным, имеющим обыкновение недружелюбно рассматривать собеседника в
свой монокль. Осторожно вступив в его кабинет, я не обнаружил ничего
подобного. Меня встретил высокий, стройный профессор, в соответствующем
20
моде того времени и прекрасно сидящим на нём костюме, с обычным
галстуком, без монокля и бороды (рис. 1). Он с улыбкой пожал мне руку и
любезно пригласил сесть. Большой кабинет, заставленный книжными шкафами
и бесчисленными ящиками, где хранились оттиски, и в самом деле выглядел
как храм науки. Уже в первой беседе со Штреземанном я, как и Тишер, понял,
что он — человек, лишённый каких-либо чудачеств, профессор в самом
лучшем смысле этого слова. После короткого разговора о моём путешествии и
устройстве в Берлине он перешёл к делу: задачи моей работы были так ясно
очерчены, что я, несмотря на то, что в то время ещё недостаточно свободно
владел немецким языком, получил совершенно чёткое представление о
структуре предстоящей работы. Во всех его словах чувствовалась личная и
профессиональная уверенность в себе. В его манерах можно было усмотреть
некоторую элитарность, но отнюдь не высокомерие: беседу он вел чрезвычайно
любезно. Время от времени Штреземанн уточнял, всё ли я понимаю из того,
что он говорит; я отвечал утвердительно, но попросил его говорить «мед-
Рис. 1. Профессор Эрвин Штреземанн в своем кабинете в Зоологическом музее
университета Гумбольдта в Берлине, середина 1950-х гг.
21
ленно и громко» (под «громко» я тогда ошибочно понимал «отчётливо»).
Очень громко выговаривая слова, Штреземанн повёл беседу дальше; затем
он показал мне моё будущее рабочее место и наконец препоручил меня
заботам своего ассистента, Готтфрида Мауерсбергера, который показал мне музей,
в том числе библиотеку и коллекцию птиц (здесь мы осматривали тушки
кольчатой горлицы, которую мне тогда ещё не приходилось видеть в природе).
После разговора со Штреземанном, несколько удивлённый чересчур громким
голосом профессора, я посмотрел в словарь и выяснил значения слов
«громко» и «отчётливо»; когда я рассказал Штреземанну о моей
лингвистической ошибке, он смеялся от души; мне стало ясно, что у него есть чувство
юмора. Как и в свое время Тишер, я был приглашён на общий обед, правда,
не в день моего приезда, а несколькими неделями позже; но, в отличие от Ти-
шера, я провёл в музее не один день.
Таковы мои личные впечатления о Штреземанне, которому ко времени
нашего знакомства было уже 66 лет. Но я вижу свою задачу в том, чтобы
рассказать о всей жизни этого выдающегося учёного. Его сугубо научные
достижения подробно изложены Юргеном Хаффером (Haffer et al., 2000:
159-^46), и я не стану подробно описывать их. Как и в большинстве очерков
этой книги, я хотел бы остановиться прежде всего на влиянии общественно-
политических условий на работу и жизнь учёного. Штреземанн был одним из
тех, кому довелось пережить весь калейдоскоп сменяющих друг друга эпох
немецкой истории XX столетия: империю, Веймарскую республику, Третий
Рейх, оккупационную власть союзников, ФРГ, ГДР и
государственно-политический курьёз — «Западный Берлин».
Биография Штреземакна интересна и поучительна с разных точек зрения.
Как удавалось учёным на фоне чехарды политических режимов и
исторических событий добиться признания в своей стране и приобрести мировую
известность — причём в случае Штреземанна ещё и в молодом возрасте? Это
обсуждается в настоящем очерке (более подробно на эту тему см.: Haffer,
1997; Haffer et al., 2000 и Nowak, 2003b; большинство цитат без указания
источника заимствованы из этих работ).
Штреземанн происходил из состоятельной и образованной семьи,
проживающей в Дрездене; отец был владельцем преуспевающей аптеки.
Проявившиеся уже в юности естественнонаучные, а затем орнитологические
интересы Эрвина в семейном кругу всячески поддерживали и поощряли. Он же со
своей стороны целеустремлённо, упорно и прилежно углублял и расширял
свои орнитологические знания, причём старался получать
профессиональные советы и консультации. Довольно скоро в его деятельности проявились
черты правильного научного подхода. Он много читал. С детьми семьи Штре-
22
земаннов (у Эрвина были три сестры) занималась гувернантка-англичанка,
поэтому английский язык они в совершенстве усвоили с детства.
Ещё гимназистом (рис. 2) Штреземанн принимал участие в
познавательных экскурсиях в окрестностях Дрездена, в Альпах, на островах Гельголанд
и Борнхольм. Путешествуя, он неуклонно совершенствовал свои навыки
наблюдений за птицами. Его не смущали даже самые далёкие и утомительные
выезды, если они давали возможность увидеть что-нибудь новое: так, в 1907
году он вместе со своим школьным другом поехал к его матери, живущей в
Москве, для того, чтобы попутешествовать там по окрестностям. Из этой
поездки он привёз интересные тушки хищных птиц, которые
продемонстрировал участникам ежегодной конференции Немецкого орнитологического
общества, состоявшейся в Берлине в 1907 году. Эти тушки и поныне хранятся
в орнитологической коллекции Зоологического музея Берлина.
В 1908 году Штреземанн по совету отца начал изучать медицину в Йене
(рис. 3), где он воспользовался возможностью посещать также и лекции
Эрнста Геккеля, знаменитого зоолога и философа. Эти лекции заложили основы
широкого биологического мировоззрения Штреземанна. В 1909 году он про-
Рис. 2. выпускной класс и учителя гимназии в Дрездене; стрелка указывает на
Э. Штреземанна, 1907 или начало 1908 гг.
23
должил обучение на медицинском факультете в Мюнхене. В то время столица
Баварии была важным центром орнитологических исследований, поэтому
неудивительно, что вскоре Штреземанн установил контакт с куратором
орнитологической коллекции Баварского государственного музея Карлом Э.
Хелльмайром. Он так углубился в орнитологию, что стал несколько
пренебрегать изучением медицины. Под влиянием Хелльмайра Штреземанн начал
специализироваться в систематике птиц. Уже тогда у него возникло «чутьё»
на перспективные методы исследования: так, несмотря на то, что Иоганнес
Тинеманн, основатель орнитологической станции Росситтен, был подвергнут
суровой критике за свой «эксперимент с кольцеванием птиц» (в том числе и
со стороны писателя Германа Лонса), Штреземанн сделался одним из его со-
трудников-кольцевателей. Проснувшееся в нём научное любопытство росло
и требовало участия в настоящей, экзотической научной экспедиции.
Побуждало к этому как раз увлечение систематикой птиц (важность этого
научного направления продемонстрировали ему дебаты на 5-м Международном
орнитологическом конгрессе в Берлине в начале 1910 года). Для продолжения
работы в области систематики птиц необходимы были новые коллекции из
ещё мало исследованных регионов Земли, где можно было рассчитывать на
открытие новых видов или на описание новых подвидов.
Скоро случай для путешествия представился: доктор Карл Денингер из
Фрайбургского университета уже во второй раз собирался в экспедицию на
Молуккские острова и как раз занимался её организацией. Он согласился
взять с собой Штреземанна. Исследовательская поездка должна была
продолжаться почти два года и была не лишена опасностей, поскольку на
некоторых из островов ещё свирепствовали охотники за черепами; кроме того,
европейца поджидали тропические болезни. Но будущего путешественника всё
это не страшило. Как он заметит впоследствии, «молодой человек, не
обременённый семьей, считал себя вправе распоряжаться своей жизнью».
Три исследователя из Германии составили научное ядро экспедиции:
геолог доктор Денингер из Фрайбурга (руководитель и ответственный за
научную программу в области геологии и антропологии), физик доктор Одо Д.
Тауерн, также из Фрайбурга (задачи в области физики, географии и
этнографии) и студент Штреземанн, ответственный за зоологическую и
ботаническую программу.
Последний готовился к экспедиции весьма поспешно, но основательно:
ему удалось побывать в музеях в Лейдене, Лондоне и Тринге, где он
ознакомился с научными коллекциями и собрал немало важных и интересных
публикаций по природе Юго-Восточной Азии. В музее Ротшильда в Тринге он
нашёл всестороннюю профессиональную поддержку и помощь у доктора
24
Рис. 3. Студент Э. Штреземанн в Йене,
1909 г.
Эрнста Хартерта и владельца музея, лорда Вальтера фон Ротшильда.
Основную часть немалых расходов на экспедицию несли сами участники, но
существовала надежда на то, что коллекции позже будут проданы научным
учреждениям и музеям (зоологический материал — в основном в Англию),
и таким образом расходы будут компенсированы. Участники даже решили
обзавестись собственной мореходной парусно-моторной лодкой «Фрайбург»
(её делали в Голландии) для того, чтобы иметь возможность в любой момент
достигнуть островов, лежащих в стороне от регулярных судоходных
маршрутов.
Вначале думали направиться к цели экспедиции по транссибирской
железной дороге, но дешевле оказалось плыть морем из Италии. После
двадцатидвухдневного путешествия на пароходе «Принц Айтель Фридрих» трое
учёных и основная часть оборудования 15 сентября 1910 года достигли
Сингапура. Заказанный в Голландии моторный парусник не был построен
своевременно, его прислали только через два месяца. Тем временем
путешественники поездом добрались до Куала-Лумпура. Оттуда они совершали
сухопутные вылазки по Малайскому полуострову, которые были очень
успешны. Назад в Сингапур они с гордостью возвратились на собственном
25
«Фрайбурге». Правда, вскоре восхищение лодкой поубавилось и сменилось
опасением за собственную жизнь. «Судно» оказалось совершенно
непригодным для морских путешествий, и его пришлось продать. Несмотря на
это разочарование, трём учёным при поддержке многочисленных местных
помощников и носильщиков удалось обследовать острова Бали, Амбон,
Серам и Буру и собрать обширнейший научный материал. В экспедиции
Штреземанн проявил себе превосходным работником: кроме тысячи
зоологических и ботанических объектов, в том числе более чем 1200 тушек птиц,
он собрал также обширный этнографический материал, посвятил много
времени изучению языка островитян и сделал сотни высококачественных
фотографий.
Не обходилось и без проблем и неприятных происшествий. Несмотря на
предпринятую Денингером социо-психологическую проверку своих
спутников, один из них — доктор Тауерн, оказался по своему характеру совершенно
неподходящим участником экспедиции: его поведение доставляло остальным
столько причин для раздражения, что совместную работу с ним пришлось
прекратить.
Дважды Штреземанн был близок к смерти. Однажды ночью, при сильном
ветре, утлегарь паруса смел его с борта, однако он зацепился ногой за поручни
и спасся, самостоятельно взобравшись на борт (на палубе в этот момент никого
не было). В другой раз на острове Серам он чуть не погиб от заражения крови:
целыми днями он лежал без всякой медицинской помощи в отдалённом
биваке, но ему удалось в конце концов победить тяжёлую болезнь.
Многочисленные трудности не оказали влияния на личный и научный
энтузиазм Штреземанна: уже после полугода пребывания «в поле» он писал
родителям (21.03.1911 г.): «Я очень полюбил людей и страну, чувствую себя уже
совсем как дома среди островитян». После окончания экспедиции в начале
апреля 1912года он сообщал в письме Хартерту в Тринг (11.04.1912 г.):
«Экспедиция прошла очень удовлетворительно и, кроме того, я прибыл домой
более здоровым, чем уезжал». Позже Штреземанн частично записал свои
впечатления от путешествия (Haffer, 1997: 858-906).
После возвращения, летом 1912 года, Штреземанн вновь был зачислен на
медицинский факультет во Фрайбурге, но его орнитологические сборы,
привезённые из экспедиции, обещали так много интересного, что он сразу же
принялся за научную обработку материала. Для этой цели он снова
отправился к Хартерту в Тринг. К 1914 году вышли из печати 10 научных
публикаций Штреземанна общим объёмом около 340 печатных страниц. В них
содержались описания нескольких новых для науки видов птиц (в том числе
балийского скворца Leucopsar rothschildi, который представлял собой также
26
\
/
Ргсс. 4. Солдат Э. Штреземанн делает записи 6 дневнике, 1917 г.
и новый род), многих новых подвидов и огромное количество орнитогеогра-
фических, биологических и экологических данных. Этими публикациями
молодой учёный заложил солидный фундамент для своих будущих изысканий.
Известие о том, что во Фрайбурге и Мюнхене появился молодой,
способный и уже высоко профессиональный орнитолог, быстро распространилось
среди зоологов, что имело необыкновенные последствия: именитый
профессор Вилли Кюкенталь из Бреслау (ныне Вроцлав), инициатор и издатель
большого «Руководства по зоологии», предложил Штреземанну написать том
«Птицы».
Надо сказать, что это заманчивое и лестное предложение поступило в
очень неподходящее время: Штреземанну было уже 24 года, и пора было
думать о завершении учёбы в университете. Тем не менее, он дал согласие.
Но летом 1914 года началась война, прервавшая успешное развитие
научной карьеры Штреземанна. Можно было предположить, что такой
«рафинированный» учёный, как Штреземанн, встретит это событие без восторга
и постарается остаться в стороне от него, но этого не произошло:
Штреземанн, как и большинство немецких интеллигентов, с энтузиазмом
приветствовал войну («Свершилось! Император отдал приказ о всеобщей
мобилизации, и среди нас, молодёжи, царит неописуемое ликование...»). Уже в
сентябре он отправился на войну! Национально-патриотические
настроения, которые господствовали в то время в империи, сегодня трудно себе
представить...
27
Штреземанн оставался в армии до конца войны. Большую часть времени он
провёл на западном фронте, в сентябре 1917 года его перевели на южный фронт,
в Италию. В основном он служил в полевой артиллерии как «наводчик с
воздуха» (из привязного аэростата он корректировал целевую точность выстрелов из
пушек). Штреземанн использовал свою службу и для наблюдений за птицами, в
частности для измерения высоты полёта птиц при помощи военного дальномера.
Вообще, он пользовался любыми возможностями для орнитологических
наблюдений; даже охотился и делал тушки. Во время коротких отпусков домой он,
кроме визитов к друзьям и родственникам, занимался и научной работой.
Полевая почта давала возможность пространной корреспонденции не только с
частными адресатами — ему посылали на фронт даже корректуры его статей. Он вёл
дневник (рис. 4), в котором не только фиксировал наблюдения за птицами, но и
записывал те военные впечатления, которые не доверял полевой почте. Его
переписка и дневники свидетельствуют о том, что он принимал участие в ужасных
сражениях, в том числе под Верденом. Многие его друзья погибли,
первоначальный военный энтузиазм всё больше и больше угасал; в некоторых письмах
отразились его тоска по мирной работе и разочарование в войне.
Во время одного из отпусков, в июне 1916 года, Штреземанн женился на
Елизавете Денингер, сестре руководителя экспедиции на Молуккские
острова; она изучала медицину в Мюнхене. После перевода на итальянский
фронт (где он был штабным фотографом), Штреземанн получил тяжёлое
повреждение ноги. Но, может быть, это был как раз счастливый случай,
благодаря которому он выжил. Его деверь, Карл Денингер, который тоже воевал в
Италии, погиб в 1917 году «смертью героя».
Много лет спустя, когда Штреземанн делился своими впечатлениями о
Первой мировой войне, в его рассказах всегда чувствовалось осуждение. Но
сыновья Штреземанна, с которыми я беседовал на эту тему несколько лет
назад, считают, что их отец воспринимал исход войны не только как
катастрофу для Германии, но и как своё личное поражение, которое он глубоко
переживал всю жизнь.
После капитуляции Германии лейтенант Штреземанн возвратился в
Мюнхен к своей жене и дочери, которой уже исполнился год. Через две недели
после провозглашения республики Германии (позднее названной
Веймарской), точно к 29-летию Штреземанна, появился на свет второй ребенок, сын
Вернер. Эта радость немного скрасила ту тяжёлую ситуацию, в которой
оказался Штреземанн после войны: страну охватила политическая неразбериха,
деньги неуклонно обесценивались, от недели к неделе ухудшалось
снабжение; поездки за границу стали невозможны — музей в Тринге стал
недосягаем; из-за сохраняющейся вражды к Германии учёные из-за границы пере-
28
стали отвечать на письма. Хуже того: Британский орнитологический союз
исключил из своего состава всех своих немецких членов! Продолжение
исследований и сама возможность возобновления научной деятельности после
более чем четырёхлетнего участия в войне оказались под большим вопросом.
Заложенную всего несколько лет назад широкую программу действий
Штреземанн сократил до минимума: он восстановился в университете в
Мюнхене и, чтобы как можно скорее закончить обучение, взял в качестве
основного предмета биологию (со специализацией в зоологии), а в качестве
дополнительных — географию и антропологию; с медициной он отныне
расстался навсегда. Верный Хелльмайр, куратор орнитологической коллекции
Баварского государственного музея, давно и хорошо знавший студента Штре-
земанна, предоставил ему скудно оплачиваемую, но интересную научную
работу — ревизию большой коллекции птиц с Балкан.
Штреземанн погрузился в работу с присущей ему энергией. Годом позже,
не в последнюю очередь и благодаря поддержке жены, изучение коллекция
было завершено. Итогом стала вышедшая в 1920 году объёмная книга под
названием «Авифауна Македонии».
Учёба в университете обоих супругов также продвигалась. Тем временем
профессор Кюкенталь, который после войны стал директором Зоологического
музея при университете в Берлине, напомнил Штреземанну о «Руководстве по
зоологии», для которого он должен был писать том «Птицы». Штреземанн
подтвердил своё согласие и начал писать пробную главу. Создаётся
впечатление, что обилие дел не только не угнетало супругов, а, напротив, окрыляло
их: в марте 1920 года Штреземанн сдал профессору Рихарду фон Гертвигу
экзамен на звание доктора, а в мае того же года он уже отослал пробную главу
«Птиц» Кюкенталю; в 1921 году госпожа Штреземанн закончила
медицинский факультет университета.
От Кюкенталя пришла небывалая похвала: он принял текст Штреземанна
без изменений! Это было, правда, слабым утешением, так как теперь молодой
доктор нуждался в постоянном месте работы; при этом для него был
приемлем лишь определённый род деятельности — научно-исследовательская
работа в области орнитологии, желательно — в одном из престижных
естественнонаучных музеев при университете. Довольно-таки иллюзорное
желание в послевоенной Германии, так как все места в подобных
учреждениях были заняты. Потеряв надежду, Штреземанн строит планы эмиграции на
ставшие ему такими дорогими Молуккские острова, чтобы организовать там
частную исследовательскую станцию. Госпожа Штреземанн готова была
ехать вместе с ним, помогать в исследованиях и работать врачом.
Штреземанн написал письмо Хартерту в Тринг, чтобы посоветоваться с ним. Хар-
29
терт, уже давно превратившийся в старшего друга Штреземанна и
относившийся к нему по-отечески, воспринял его намерения весьма скептически.
Против этого плана работала и инфляция. Денег катастрофически не хватало.
В одном из писем Хартерту (4.05.1920 г.) Штреземанн пишет: «Я [...]
составляю предварительную смету — печальная история. Иногда я близок к
отчаянию».
Безнадежную ситуацию в конце марта 1921 года внезапно прерывает
телеграмма из Берлина: Кюкенталь извещает Штреземанна о том, что он может
занять место в Орнитологическом отделе Зоологического музея при
университете в Берлине в качестве преемника Антона Райхеновса! Неожиданный
поворот судьбы и достойная награда, честно заработанная предшествующими
этому трудами.
Уже 15 апреля 1921 года Штреземанн приступил к работе. Состояние
отдела не соответствовало его представлениям о том, как он должен был
выглядеть, и Штреземанн со своим обычным азартом принимается за дело
планомерного превращения вверенного ему Орнитологического отдела
Берлинского музея в то, что много лет спустя Тишер назовёт
«орнитологической святыней Германии». Он приводит в порядок запылённые тушки, за-
Рис. 5. Аоктор Эрнст Картерт из
Тринга, учитель и старший друг
Э. Штреземанна, 1926 г.
30
полняет пробелы в библиотеке, устанавливает контакты с коллегами и
будущими учениками, он берёт на себя издание «Орнитологического
ежемесячника» («Ornithologische Monatsberichte») и превращает его в первоклассный
журнал. Годом позже Штреземанн становится ещё и главным редактором
«Орнитологического журнала» («Journal fur Ornithologie»), который
издавался в Германии с 1853 года, и выводит его на новый качественный
уровень. Вскоре многие немецкие орнитологи оценили качества Штреземанна
как руководителя, и он был избран генеральным секретарем Немецкого
орнитологического общества. Но всего этого было ещё слишком мало для
такого «гражданина мира» (пользуясь определением Тишера), каким был
Штреземанн: должны были быть разрушены барьеры, отделявшие немецких
орнитологов от всё ещё враждебно настроенной заграницы. Что вскоре и
произошло, причём именно благодаря научному авторитету Штреземанна.
Письменные контакты с ведущими специалистами и нститутами других
стран возобновились, в Берлинском музее появились первые иностранцы —
Джеймс П. Чапин из Нью-Йорка и Ричард Майнертцхаген из Лондона.
Вскоре ограничения на свободу передвижения для немцев были ослаблены,
и в сентябре 1923 года Штреземанн нанёс визиты коллегам в Швеции и
Дании (его замечание того времени: «Орнитологи — лучшие из людей»). В
ноябре 1924 года он побывал в Лондоне и, наконец, снова у Хартерта в
Тринге.
В личной жизни тоже всё складывалось хорошо — госпожа Штреземанн
перебралась с детьми в Берлин и также начала работать по своей
специальности. Улучшилось и материальное положение, так как инфляция
замедлилась в результате введения в 1924 году рентной марки.1 Третьего ребёнка,
который появился на свет в 1924 году, назвали Эрнстом в честь Хартерта.
Политическое устройство Веймарской республики не вполне устраивало
Штреземанна: его взгляды были сформированы патриотическим воспитанием
в семье, школе и в студенчестве. Правда, он не состоял членом ни одного из
многочисленных в то время союзов. Штреземанн почитал «железного
канцлера» Бисмарка, которого считал мудрым государственным деятелем и
искушённым дипломатом, но во время существования республики он всё в
большей мере проникался либеральным духом. Он не разделял радикальные
лозунги различных политических группировок, которые стали заявлять о себе
в Германии, в частности, выпады против «враждебной» заграницы и «евреев».
Вместе с Хартертом он агитировал за созыв очередного Международного
орнитологического конгресса (6-й конгресс должен был состояться в 1915
1 В результате денежных реформ 1923—1924 гг. на смену бумажной марке пришла рентная
марка, а затем рейхсмарка. — прим. перев.
31
году в Сараево, чему помешало начало войны). Созыв конгресса
способствовал бы устранению или хотя бы смягчению взаимной вражды между
европейцами, по крайней мере — среди орнитологов. С большим опозданием,
только в мае 1926 года, в нейтральной Дании, в Копенгагене, всё-таки
удалось провести это мероприятие. В нём приняли участие ведущие орнитологи.
Доктор Хартерт был президентом (рис. 5). Конгресс имел не только научный
успех, о нём с похвалой отзывались и как о «конгрессе примирения».
По возвращении в Германию Штреземанн стал участником одного
инцидента, который я назову историческим: два радикальных «народных»
журнала, в том числе «Reichswart» («Страж отечества»), опубликовали в сентябре
1926 года передовицы, осуждающие министра иностранных дел того
времени, доктора Густава Штреземанна, за его симпатии к евреям. В статьях он
был назван «другом международного сионизма». Одна из статей была
озаглавлена: «Papilio Stresemanni Roth.» («Парусник Штреземанна») и содержала
цитату из «Международного энтомологического журнала», который
предлагал эту редкую, только что открытую бабочку для продажи. Автор
передовицы трактовал сокращение «Roth.» как производное от еврейской фамилии
«Ротшильд». По мнению автора, Ротшильд, присвоив наименование
«Stresemanni» новому виду насекомого, тем самым благодарил министра
иностранных дел Густава Штреземанна за его либеральную внешнюю политику и
выражал ему своё уважение. Эрвин Штреземанн (который не состоял ни в каком
родстве с министром Густавом Штреземанном) прочитал эту статью и в
начале октября 1926 года опубликовал в двух ежедневных газетах
саркастическую отповедь. В ней есть такая фраза: «... в статью «Райхсварта» вкралась
небольшая ошибка, и я хотел бы её исправить: бабочка Papilio Stresemanni была
названа лордом Вальтером Ротшильдом вовсе не в честь министра
иностранных дел доктора Штреземанна, а по имени ниже подписавшегося
автора этих строк, к высокой политике до сих пор абсолютно непричастного,
которому довелось открыть этот вид бабочки в 1911 году [...] в высокогорном
массиве острова Серан и передать его для обработки доктору зоологии лорду
Вальтеру фон Ротшильду, как одному из лучших лепидоптерологов —
знатоков фауны индо-австралийской области...». Только после этой публикации
«ошибочное нападение» на министра иностранных дел разъяснилось.
Министр пригласил однофамильца на личную беседу, о которой Штреземанн
как-то рассказывал во время моего пребывания в Берлине. У меня создалось
впечатление, что Штреземанн высоко ценил этого политика Веймарской
республики (в конце 1926 года удостоенного Нобелевской премии мира). Этот
эпизод подтверждает, что Штреземанн уже тогда пытался противостоять
поднимающейся волне антисемитизма.
32
В этот период под руководством Штреземанна в Берлинском музее уже
работали несколько аспирантов. Забота о подрастающем поколении имела две
цели: во-первых, куратор Орнитологического отдела хотел передать свой
образ мыслей и исследовательское направление молодёжи, а во-вторых —
путём предоставления соответствующих тем для диссертаций получить
необходимые новые данные для издания тома «Птицы», над которым он ещё
продолжал работать, внося в текст множество дополнений.
В середине 1920-х годов Штреземанн решил расширить сферу
деятельности Орнитологического отдела: организовать экспедиции в дальние страны
для сбора нового коллекционного материала по птицам для систематических
и других исследований. Благодаря путешествию на Молуккские острова он
обладал превосходным опытом по части организации экспедиций, для
которых, правда, не было необходимых денежных средств. Но тут снова помогли
международные связи, а именно — контакты с Музеем естественной
истории в Нью-Йорке, который также стремился к пополнению своих
зоологических коллекций — и располагал для этого соответствующими средствами.
Доктор Леонард К. Санфорд, управляющий средствами Нью-Йоркского
музея, заключил договор с Берлинским музеем: Штреземанн должен был
подобрать участников экспедиции, подготовить их профессионально и послать
в намеченные области; большинство издержек брали на себя американцы;
полученный коллекционный материал договорились разделить между двумя
музеями. Этот план был принят и функционировал вплоть до начала 1930-х
годов: Эрнст Майр в 1928 году побывал на Новой Гвинее, Герд Хайнрих в
1930 году — на Целебесе, Георг Штайн в 1931 году — на западе Новой
Гвинеи, Сумбе и Тиморе, за ними последовало ещё несколько молодых
исследователей. Результатом этих экспедиций был целый шквал публикаций
Штреземанна, который стремился как можно быстрее обработать новый материал.
В 1927 году вышла из печати первая часть тома «Птицы». Отклики
специалистов были весьма положительными, что побудило автора с удвоенной энергией
взяться за продолжение рукописи. Теперь он мог вернуться также и к
результатам работы своих докторантов. В этот период из-за обилия и многообразия задач
Штреземанн вынужден был оставаться в музее до позднего вечера, чтобы
работать над рукописью. В праздники он работал дома. Ни переутомление, ни заботы
повседневной жизни, ничто не могло оторвать его от письменного стола: «адская
работа, но очень захватывающая» отмечает он в дневнике.
В начале июня 1930 года, на 7-м Международном орнитологическом
конгрессе в Амстердаме, Штреземанн, по предложению Вальтера фон
Ротшильда, был избран президентом следующего конгресса, который должен
был состояться в Оксфорде через четыре года.
зз
Рукопись «Птиц» ещё не была завершена, а Штреземанн уже искал новые
сферы деятельности. Эрнсту Майру, своему бывшему докторанту, который
теперь работал в Нью-Йорке и из ученика превратился в друга, он писал
30.09.1932 г.: «Будущее принадлежит, без сомнения, анатомо-физиологиче-
ским исследованиям. Время систематики, основанной только на изучении
музейных экземпляров, скоро пройдёт. (К этому времени Штреземанн описал
около 20 новых видов и много подвидов птиц). Мы должны открывать новые
горизонты, вместо того чтобы заниматься эпигонством».
На период Веймарской республики пришёлся расцвет деятельности
Штреземанна: к 1933 году он был автором более 300 работ; были
опубликованы 10 диссертаций, выполненных под его руководством. В 1930 году
он получил звание профессора. К нему стремились новые докторанты и
сотрудники. Многочисленные коллеги-орнитологи из Германии и из-за
границы, в том числе и высокопоставленные гости, посещали музей, чтобы
провести ту или иную исследовательскую работу или получить
консультацию. Как никто другой, Штреземанн использовал в орнитологических
исследованиях результаты, достигнутые в других областях знания: в
функциональной анатомии, гистологии, физиологии, эмбриологии, эволюции,
поведении, экологии, теоретической биологии, а также результаты работ в
области истории науки. Все биологические направления были теперь
интегрированы в орнитологию.
Таким образом, орнитология, которая до сих пор имела дело
преимущественно с созданием коллекций, таксидермией, фаунистикой, систематикой и
морфологией, и на которую смотрели отчасти как на «феодальный спорт»
(определение Р. Гольдшмидта), заняла равноправное положение в ряду
других дисциплин современных биологических наук (Haffer, 2001).
Успехи Штреземанна на научном поприще омрачало политическое
положение в стране: демократическая сущность республики всё больше
выхолащивалась под давлением крайних левых и крайних правых течений. К началу
1930-х годов национал-социалистические течения возобладали; основанная
Гитлером партия рвалась к власти. Штреземанн уже тогда совершенно ясно
предвидел, что это политическое направление не приведёт страну ни к чему
хорошему; 14 марта 1932 года он писал своему другу Э. Майру в Америку:
«Эксперименты Гитлера полностью разорили бы нас экономически за
короткое время...». Поэтому Штреземанн был рад избранию Пауля фон Гинден-
бурга в апреле 1932 года президентом республики.2
2 Пауль фон Гинденбург (1847—1934), с 1914 г. — генерал-фелъдмаргиал, с 1916 г. —
начальник Теншпшба; 30 января 1933 г. фактически передал власть Гитлеру, поручив ему
формирование правительства. — прим. перев.
34
Политические события начала 1933 года, когда Гитлер всё же сделался
канцлером и объявил о создании Третьего Рейха, поразили не только Штрезе-
манна. Он все ещё не хотел принять происходящее всерьёз и не верил в
прочность нового политического режима, когда писал в конце мая 1933 года
Эрнсту Майру: «... всё скоро вновь войдёт в спокойное русло...». Но вскоре
стало совершенно очевидно, что в Германии установилась диктатура.
Признаки нового порядка можно было заметить и в Орнитологическом отделе,
когда некоторые из докторантов стали появляться в униформах СА, СС,
НСКК и т.п.3 В первое время настроение в отделе оставалось, тем не менее,
либеральным: безнаказанно делились даже политическими анекдотами о
новых властителях. Но это продолжалось недолго: вскоре Штреземанн (как
издатель «Орнитологического журнала») должен был присутствовать на
собрании писателей и редакторов, где министр пропаганды Йозеф Геббельс
разъяснил собравшимся новые правила любой литературно-публицистической и
издательской деятельности и указал на средства принуждения со стороны
партии, которые рна будет использовать в случае попыток сопротивления.
Одно происшествие вскоре наглядно показало Штреземанну, какие именно
средства имелись в виду. Весной 1934 года, во время одной из
орнитологических экскурсий со своими аспирантами северо-западнее Берлина, где он
уже не раз экскурсировал прежде, его группа случайно наткнулась на лагерь
с заключёнными, охраняемый штурмовыми отрядами СА (так называемый
«Лагерь арестованных по подозрению в преступлении»). Штреземанн наивно
обратился к вооружённой охране («Нельзя ли осмотреть это сооружение?»),
после чего был немедленно уведён «на проверку». По-видимому, «проверка»
продолжалась долго, поскольку в музее он появился только через день.
Штреземанн был крайне обеспокоен травлей евреев, которая в Берлине давала
о себе знать всё более отчётливо. Однако, как ни парадоксально, в университете
всё ещё работали учёные еврейского происхождения, которые пока не осознавали
серьёзности своего положения. Штреземанн, например, был дружен с
профессором Эрнстом Маркусом, специалистом по беспозвоночным из соседнего
Зоологического института. Маркус был даже обрадован, когда ему запретили читать
лекции стуцентам, считая, что теперь у него будет больше времени для научной
работы. Преисполненный радужных надежд, он шутливо приветствовал
докторантов Штреземанна: «Излечите Гитлера!» или «Выздоровления Гитлеру!».4 Про-
3 Различные военизированные формирования в составе НСДАП — национал-социалистической
партии: СА — «штурмовые отряды», СС — «охранные отряды», НСКК —
«национал-социалистический автомобильный корпус». — прим. перев.
4 Игра слов: «Ней Hitler!» — «Да здравствует Гитлер!», «HeUt Hitler!» — «Излечите Гитлера!». —
прим. перев.
35
фессор Маркус был заслуженным человеком, награжденным во время Первой
мировой войны орденом Железного Креста первого класса. Он был уволен только
в 1936 году и «добровольно» эмигрировал в Бразилию.
С удивительной мудростью описывал Штреземанн положение в Германии
и своё личное отношение к национал-социализму в одном из писем,
отправленных Эрнсту Майру в Нью-Йорк из Италии 12.04.1934 г.: «Государство
больше не служит благу человека, а наоборот, индивидуум существует только
лишь ради обеспечения государственной структуры и должен делать то, что
считает правильным руководство. Для тех людей, которые, как и я, всегда
стремились развивать собственную индивидуальность и в подавлении
образованных слоев видят гибель высокой культуры, перемена курса означает
катастрофу; так же как я, думает и преобладающее большинство учёных,
деятелей искусства, промышленников и т.д. Поддерживают новый режим,
прежде всего, средние служащие, которые приходят теперь к власти, и массы,
издавна падкие до любых примитивных и радикальных идей. Социалисты
ещё никогда не были так близки к исполнению своих основных постулатов,
как теперь; нивелирование быстро прогрессирует. На самом деле совершенно
бессмысленно внутренне сопротивляться такому развитию событий, которое
уже невозможно остановить и которое никого не оставит в стороне, но я не
могу не думать об этом, печалясь у обломков несравненно более
благоприятного для нашего образованного сословия прошлого [...]. Антисемитизмом,
доведённым до абсурда, мы восстановили против нас общественное мнение
всего мира; пассивность внешней торговли нарастает от месяца к месяцу, в то
время как бессмысленные по моему мнению военные расходы пугающе
растут. [...] Возможно, что мы вследствие этого и станем более способными к
союзу — но сама мысль о том, что война вообще может вновь приниматься в
расчёт, ужасна для любого, кто пережил 1914-1918 годы. Ты едва ли можешь
представить себе, как «ворчат» в нашем кругу — причём ведь нужно быть
предельно осторожным, поскольку тайное наблюдение (прежде всего, через
низших служащих) так же хорошо организовано, как в нынешнем Советском
государстве». О себе Штреземанн пишет: «Кто знает, что принесёт будущее
тем, кто находится под подозрением как «реакционер» и «либерал», и
каковым, без сомнения, являюсь и я». Его не оставляет тревога: «К чему
собственно, всё это нас приведёт?».
Но летом 1934 года Штреземанн переживает звёздный час своей жизни. В
июле он в качестве президента возглавил Международный орнитологический
конгресс в Оксфорде, где собралась элита орнитологов со всего мира;
присутствует и группа учёных из Германии. Штреземанна сопровождала его дочь
Роза-Мария. Незадолго до конгресса в продажу поступила книга «Птицы»
36
Рис. 6. Экскурсия во время 8-го Международного орнитологического конгресса в
Оксфорде: профессор Э. Штреземанн (слева) беседует с госпожой Теминой Али,
доктором Бернардом Решаем и его женой Эльзой; между ними стоит дочь Штреземанна
Роза-Мария, июль 1934 г.
(900 печатных страниц), которая хорошо продавалась и получила
многочисленные похвальные отзывы. Конгресс был прекрасно организован благодаря
тесному сотрудничеству Штреземанна с англичанином Ф. Иорданом,
секретарём конгресса. На церемонии открытия Штреземанн сделал на немецком
языке часовой доклад об истории международных орнитологических
конгрессов с 1884 года, в котором был дан обзор развития орнитологии от её
зарождения до самых последних достижений. На превосходном английском
языке он руководил научными дискуссиями, в которых сам принимал
активное участие. С самого начала конгресса он заслужил симпатии собравшихся
благодаря своим знаниям, интеллекту и шарму. Это образно описал Р. Норинг
(Nohring, 1973:463-464): «На этом конгрессе [...] Штреземанн оказался в
центре внимания, завоевал признание широких научных кругов и убедительно
продемонстрировал перед всеми свои выдающиеся общественные и
организаторские таланты. Необыкновенно элегантно одетый даже для Англии тех
лет, с моноклем в правом глазу, умный и любезный, остроумный и
ироничный, блестящий танцор, светящийся от внимания прекрасных женщин, он
был исключительным и в этом совершенстве, наверное, непревзойдённым
37
Рис. 7. Профессор Э. Штреземанн (справа) во время
экскурсии участников ежегодной конференции Немецкого
орнитологического общества в Мюнхене на Вендельштайн.
Слева — один из организаторов конференции доктор Вер-
нер Якобе, 7.07.1935 г.
президентом Международного орнитологического конгресса». Тем временем
даже до Оксфорда доносились отзвуки происходящего на родине: к моменту
окончания конгресса настроение было омрачено сообщениями газет об
убийстве руководства СА членами СС и Гестапо.5
Вернувшись в Берлин, Штреземанн решил сосредоточиться на обработке
материалов экспедиций, которые теперь обильно стекались в музей (до
начала войны появились 50 публикаций). От имени Немецкого
орнитологического общества он поручил Гюнтеру Нитхаммеру работу над книгой «Птицы
Германии». Кроме того, Штреземанн принимает участие в разработке
положений нового немецкого закона об охране природы и охране отдельных видов
(работа над которыми началась в последние годы существования Веймарской
республики). В середине 1930-х годов законодательство об охране природы
5 Это быламеждуусобща: штурмовые отряды «SturmabteUung», сокращённо СА, или
штурмовики, известные ещё как «коричневорубашечники», были военизированными формированиями
ИСААП, созданными в 1921 году на базе некоторых подразделений «Добровольческого корпуса»,
и позже получили название «Штурмовых отрядов». Они сыграли решающую роль при подъёме
национал-социалистов. Но руководители СА на местах постоянно вступали в конфликт с
руководством ИСААП. После прихода ИСААП к власти штурмовые отряды короткое время
имели статус вспомогательной полиции, но летом 1934 г. по приказу Титлера руководство
СА во главе с Эрнстом Рёмом было уничтожено (так называемая «ночь длинных ножей»),
после чего главной боевой организацией ИСААП стала СС. — прим. перев.
38
Германии было обновлено введением новых положений. Создание нового
законодательства происходило под патронажем Германа Геринга, так что в
тексте закона встречались идеологические пассажи, определённо исходящие не
от экспертов-учёных. Это обстоятельство сыграло не последнюю роль в том,
что многие немецкие биологи и любители природы усмотрели в новом
законе «восхищение национал-социализма идеями охраны природы» и
присоединялись к национал-социалистической партии (НСДАП). Но не Штрезе-
манн.
В конце 1935 года он отправился в пятимесячную поездку в США.
Длительное и плодотворное сотрудничество с американцами побудило хозяев
предложить ему место работы в США; незадолго до этого распался брак
Штреземанна, и американцы надеялись, что он даст согласие. Возможно, они
уже тогда предвидели, что развитие событий в Европе ведёт к катастрофе и
хотели уберечь от неё Штреземанна. Предложение было очень заманчивым,
но Штреземанн отказался. Америка была слишком чужой ему («там я мог бы
работать, но не жить», писал он). Вскоре после возвращения Штреземанна в
Германию, в ноябре 1936 года, Герман Геринг объявил его официальным
экспертом Министерства лесного хозяйства Рейха (в ведении которого
находилась охрана природы) и пожаловал ему титул «Советника Рейха по делам
охоты». В это время в Берлине полным ходом шла подготовка к большой
международной охотничьей выставке, с ней связывали надежды на
международное сотрудничество и оживление связей между европейскими государствами
в области естественных наук. Штреземанн, воодушевлённый выходом в свет
первого тома «Птиц Германии» (1937 год), всеми силами содействовал
проекту. В сентябре-октябре 1937 года он вновь посещает США, где всё чаще
слышит опасения о судьбе Европы. Вскоре после возвращения в Берлин
Штреземанн писал своему коллеге Джеймсу П. Чапину в Нью-Йорк: «И Вы,
и я однажды уже познакомились с войной, и одного раза более чем
достаточно для всей жизни». Теперь он сомневался, правильно ли поступил,
отклонив американское предложения о работе, но было слишком поздно,
приглашение не повторилось. Во время пребывания в США Штреземанн
встретил своего бывшего докторанта, Эрнста Шеффера (см. главу 7),
двукратного участника американских экспедиций в Тибет, который получил
учёную степень в Берлине, защитив диссертацию по результатам этих поездок.
Шеффер планировал новую экспедицию в Тибет; они договорились о том,
что на этот раз орнитологические сборы поступят в Берлинский музей.
Между тем, политические прогнозы американцев подтвердились уже
спустя полгода: в марте 1938 года произошло «присоединение» Австрии, в
сентябре — Судетский кризис. Отношение Штреземанна к этим событиям было
39
несколько неожиданным: хотя он был явным противником нацистской
идеологии, его неоднократно выражаемый и понятный патриотизм приобрёл
теперь националистический оттенок: он с энтузиазмом приветствовал
«присоединение», а мирное разрешение Судетского кризиса Англией принимал за
окончательное мирное урегулирование в Европе.
В начале августа 1939 года доктор Шеффер возвратился из своей третьей
поездки в Тибет и передал Берлинскому музею богатейший
орнитологический материал. С 1933 года Шеффер был членом СС, а с 1937 года — членом
национал-социалистической партии (НСДАП), в сентябре 1937 года он был
принят в личный штаб Генриха Гиммлера; таким образом, тибетские
путешествия имели и политическую подоплеку. Штреземанн всегда поддерживал
одарённых учёных без оглядки на их политические взгляды (даже в годы
войны и после неё); так и теперь он был преисполнен благодарностью к
исследователю «Крыши мира» и восхищался им.
В это время в Берлине уже запахло войной. Штреземанн писал Майру
26.08.1939 г.: «Положение шаткое и, говоря словами Вильгельма Буша,
«многие ходят озабоченными».6 Он опасался, что «если столкновение
произойдёт», то и его призовут в армию, и что «это заведение [его орнитологическое
отделение] тогда, пожалуй, закроется». На этот случай он сообщает Майру
что-то вроде завещания: «... [случись], тем временем, что лютый Орк [меня]
поглотит, [...] будь, пожалуйста, готов подхватить поводья, как только тебя
там отпустят. Я не могу пожелать себе лучшего, да и вообще, никакого
другого преемника...».
Не прошло и недели, как 1 сентября 1939 года немецкие войска напали на
Польшу! Победа была одержана быстро, и это отчасти успокоило Штрезе-
манна. Пакт о ненападении между Германией и Советским Союзом сделал
возможным контакты с русскими орнитологами (в частности, с Дементьевым
и Гладковым в Москве, — последний публиковал свои работы в журнале
«Journal fur Ornithologie»), Развитию этого сотрудничества Штреземанн
придавал большое значение, поскольку он задумал новый проект — «Атлас птиц
Палеарктики». Установление хороших отношений с Москвой он использовал
и по другому поводу: по просьбе польского графа Дзедушицкого Штреземанн
с успехом заступился за сохранение Естественнонаучного музея во Львове
/Лемберге, который оказался в оккупированной Советским Союзом части
Польши. Такие благородные поступки Штреземанна сопровождались, однако,
его непонятным (по крайней мере, для меня) отношением к агрессивным
захватническим действиям немецкой армии. В одном из писем в начале лета 1940
Вилъгелъм Буш (1832—1908), — немецкий поэт-сатирики художник. — прим. перев.
40
года он писал по поводу победы над Францией: «Это беспрецедентный
триумф наших солдат и нашего превосходного руководства...». Такой образ
мыслей описал в пророческих словах философ Эрнст Юнгер ещё после Первой
мировой войны: «[...] дух [этой войны] живет в её слугах и никогда уже не
освободит их от службы»...
В феврале 1941 года Штреземанна, несмотря на то, что ему был уже 51
год, призвали в армию. Некоторые из сотрудников и докторантов также
получили повестки или ушли воевать добровольно. Научная работа в музее
фактически прекратилась. Штреземанн был призван лейтенантом резерва в
Люфтваффе (военную авиацию) и служил писарем при штабе в Германии, Греции,
Италии и Франции. Там он пребывал в тесном контакте с высшими
офицерскими чинами, что позволило ему, между прочим, выступить в защиту
повреждённого немецкими бомбардировками зоопарка его французского друга
Делакура. Тем не менее, настрой Штреземанна оставался
националистическим. Когда немецкие войска продвинулись вглубь территории Советского
Союза уже на значительное расстояние, он писал (15.11.1941 г.): «И тогда я
вновь смотрю на это маленькое пятно на карте — Германию, которая привела
в движение гигантский мир и готовится его перестраивать, и чувствую свою
долю ответственности в достижении этой грандиозной цели». При этом
поступки Штреземанна по-прежнему сильно противоречили его взглядам: когда
орнитолог Гладков, как солдат Красной Армии, попал в плен и попросил
Штреземанна о помощи, тот сделал всё, что было в его силах, чтобы
облегчить его участь.
Он исполнял просьбы и оказывал щедрую помощь и другим «врагам»:
двум английским военнопленным, находящимся в лагере Айхштатт/Франкен
— лейтенанту Д. Бакстону и Г. Ватерстону он посылал орнитологические
публикации и даже кольца для проведения наблюдений за размножением
гнездящихся в лагере ласточек...
Во время Второй мировой войны Штреземанну не пришлось участвовать в
боевых действиях, его служба проходила во вполне спокойной атмосфере
штабов. Генерал Люфтваффе Ульрих Кесслер писал ему после войны из Уругвая:
«С удовольствием вспоминаю непринужденные беседы с Вами у французского
камина. [...] А вспоминаете ли Вы наши орнитологические прогулки в парке
Бандериона и огромное количество различных уток?». Штреземанн
использовал время для орнитологических целей. Он добился того, что в самый
разгар войны на Крите Г. Зиверт и X. Зильманн снимали фильм о природе острова,
а доктор Макач по поручению Вермахта мог исследовать птиц Македонии.
И здесь мы сталкиваемся с настоящим парадоксом: учёный с мировым
именем, с многочисленными международными, в том числе и глубокими лич-
41
V
Рис. 8. Профессор Э. Штреземанн (справа) и доктор Оскар Хейнрот в саду на Ка-
миллен-штрассе (Ромашковой улице) в Берлине, 1943 г.
ными дружескими связями, с благородными манерами и некогда
консервативными взглядами, противник нацизма, теперь был заворожен быстрыми
военными успехами немецких армий и утратил трезвый взгляд на реальность,
а именно — на преступные идеологические цели фашизма в этой войне.
Трагические воспоминания о Первой мировой войне, очевидно, поблёкли и ушли
на задний план. Штреземанн приветствовал преступную захватническую
войну, и это навсегда останется чёрным пятном в его биографии. Можно ли
после этого сомневаться в том, что националистическая пропаганда или
националистическое воспитание в детстве (безразлично при какой
политической системе) могут оказывать опустошительное влияние даже на столь
высокообразованных и умных людей. Поиск защиты от подобных влияний не
потерял своей актуальности и в наши дни...
Короткие отпуска позволяли выполнять только самое необходимое на его
рабочем месте в музее. Во время одного из отпусков в сентябре 1941 года он
снова сочетался браком. Его вторая жена, Веста Хойхекорне, урожденная
Гроте, в течение нескольких семестров изучала зоологию и позднее стала
помощницей Штреземанна в его исследовательской работе.
В конце 1942 года Штреземанн был уволен из армии в должности гаупт-
мана (капитана). Он перебрался в дом своей новой жены на Камилленштрассе
42
в Берлине (Лихтерфельде-Вест) и пытался, насколько это было возможно в
условиях военного времени, работать в музее. Положение не было
благоприятным, поскольку на фронтах военное счастье начало изменять немцам, а
бомбардировщики союзников всё чаще появлялись над Берлином. Тем не
менее, в июне 1943 года Штреземанну удалось организовать годовое
собрание Немецкого орнитологического общества (почти 140 участников!). На этом
собрании он предложил избрать замечательного датского орнитолога Ф. Са-
ломонсена членом-корреспондентом общества (поступок незаурядный,
поскольку Саломонсен был евреем).
Постепенно Штреземанн начал осознавать ужасы войны и нацистского
режима. Его восхищение немецкими победами давно прошло, некоторые
представления изменились. Даже в относительно спокойном музее имелись
теперь причины для этого: в ночь с 22 на 23 ноября 1943 года часть музея была
разрушена бомбами, а некоторое время спустя это обстоятельство получило
неожиданные последствия: профессор Вальтер Арндт, один из сотрудников
музея, к которому Штреземанн питал глубокое уважение, был арестован
Гестапо по обвинению в пораженческих настроениях (он сказал, что
бомбардировки свидетельствуют «... о конце Третьего Рейха, и речь идёт лишь о
наказании виновных»). Штреземанну приходилось опасаться и за собственную
судьбу, так как он узнал, что один из его прежних докторантов (член
национал-социалистической партии и СА) осудил избрание Саломонсена членом-
корреспондентом Немецкого орнитологического общества, поскольку
Саломонсен в разговоре с упомянутым докторантом «сам подчеркнул, что является
евреем». Теперь Штреземанн опасался за своё положение и участь своего
отдела (к счастью, инцидент не имел последствий). Но вскоре пришло
кошмарное известие о том, что Народный суд приговорил к смерти профессора
Арндта и приговор приведён в исполнение 26 июня 1944 года! (Между
прочим, его семья должна была оплатить счёт по расходам на исполнение
приговора).
В ночь на 29 января 1945 года Штреземанн был призван в народное
ополчение и размещён в казарме. Его жена с дочерью Амели тайком покинули
Берлин и бежали на запад, в Бремен. Народное ополчение должно было
задержать советские танки у канала Тельтов... Третьего февраля в здание музея
снова попали бомбы, пострадало правое крыло постройки. В середине марта
Штреземанн писал своему другу Хейдеру в Саксонию: «В скором времени
мы будем полностью закрыты, конечно, если не произойдёт чуда — одного из
многих, которых мы до сих пор напрасно ждали!». В конце марта он получил
от коменданта народного ополчения короткий отпуск и решил отправиться в
крайне опасную поездку: он добрался до одной из деревень на Одере, где, как
43
он знал, была выгружена библиотека музея. Местность уже находилась под
обстрелом советских орудий, тем не менее он спас почти всю библиотеку и
переправил её в Берлин (Stresemann, 1991)! Теперь он прятался дома, где
пережил период тяжёлых сражений, проходивших вокруг города; при взятии
Берлина в начале мая 1945 года дом почти не пострадал.
Развалины сильно разрушенного города были заполнены тысячами солдат
оккупационных армий. Повсюду развевались знамёна победителей; издалека
был виден советский флаг на Бранденбургских воротах и польский на
Колонне победы. В день капитуляции город ликовал — радовались, правда,
только победители в военной форме. Они мародёрствовали, особенно в
престижных кварталах Берлина. Дом Штреземанна также посетили
вооруженные красноармейцы, но хозяину, благодаря дипломатичному обращению с
«гостями», удалось избежать убытков. Только через несколько недель, после
получения из Москвы приказа верховного командования дисциплинировать
войска, положение в городе улучшилось; тем не менее, не везде это
распоряжение дошло «донизу». Для жителей западной части Берлина положение
значительно улучшилось после того, как город (как и вся Германия) был
разделён на четыре оккупационных сектора, и в западной части Берлина появились
американцы, англичане и французы.
Теперь Штреземанн жил в американском секторе города, но
Зоологический музей — предмет всех его мыслей и забот, остался в советском секторе.
Приходилось ходить туда пешком, что занимало около трёх часов. Многое в
Орнитологическом отделе было опустошено. Он привёл в порядок всё, что
оставалось, и устроил себе рабочую комнату в подвале. Все основные
орнитологические сокровища (тушки, книги и проч.) были положены на хранение
почти 4 года назад в бронированный сейф одного из банков на Вильгельмплатц.
Не было известно, пережили ли они грабежи, которые последовали за
взятием города. В опустевшем здании банка Штреземанн нашёл казначея,
который, сияя улыбкой, приветствовал его сообщением о том, что сейф с вещами
из музея — единственное, что не было найдено и разграблено
красноармейцами (сейф стоял в укромном месте за винтовой лестницей). Постепенно в
университетском музее на Инвалиденштрассе всё было возвращено на свои
прежние места. В октябре 1945 года «комната исследований» — кабинет
заведующего, был снова готов к работе.
Страсть Штреземанна к работе всегда разгоралась, когда его окружали
знакомые и необходимые для работы вещи; и вот теперь он снова почувствовал
себя в привычной обстановке. Он погрузился в планомерную деятельность:
посредством личных контактов и переписки он разыскивал прежних научных
партнёров в Германии; он посылал письма коллегам в те страны, связь с ко-
44
торыми была в то время возможна; он спас почти 20 000 тушек и чучел птиц
из повреждённой бомбами части музея. Вскоре почти все члены Немецкого
орнитологического общества, которым удалось пережить войну, сообщили о
себе. Откликнулись и несколько учёных из-за границы: уже в конце 1945 года
— Эрнст Майр, а затем Джеймс П. Чапин из США. Майру Штреземанн писал
15.12.1945 года, после гибели Третьего Рейха: «Стыдно, что мы не смогли
своими силами освободиться от этих подлецов и дожидались, пока нас
освободят другие». По почте из-за границы через знакомых приходили всё новые
и новые публикации военных лет (их практически невозможно было
получить другим путём). Штреземанн радовался большому прогрессу
орнитологии за прошедшие пять лет за границей, но был огорчён её застоем на родине.
С захватывающим интересом он читал книгу Майра «Систематика и
происхождение видов» (вышла в Нью-Йорке в 1942 году) и сетовал, что это как раз
та тема, над которой он сам хотел работать. Он посылал короткие резюме
иностранных публикаций, что-то вроде открытых писем, своим самым
важным корреспондентам в Германии. Для научной работы оставалось только
небольшое время; тем не менее, он просмотрел коллекцию и отобрал тушки
для продолжения своей начатой ранее работы о мутациях; он рылся в архиве
музея, где обнаружились ценные материалы для научно-исторических
исследований.
Всё осложнялось ежедневной борьбой с бытовыми трудностями: не
хватало продуктов, в доме у Штреземанна были разбиты стёкла, почти
невозможно было достать топливо и, самое главное, — его жена всё еще
находилась на западе, за границей советской оккупационной зоны. Для Штреземанна
начиналось время взлётов и падений как в частной, так и в профессиональной
жизни.
Он был весьма обрадован тем, что в августе в его доме были
расквартированы два американских армейских врача. Они вставили стёкла,
позаботились о топливе, приглашали его поесть и просто были приятными
собеседниками. В апреле 1946 года Штреземанна в музее посетил его старый друг,
англичанин Ричард Майнерцхаген, орнитолог и высокопоставленный офицер
британской армии в одном лице! Ему удалось нарисовать оптимистичную
перспективу дальнейшего развития Германии, что весьма ободрило хозяина.
О перепадах в своем настроении Штреземанн писал в письме одному из
друзей 27.07.1946 г.: «... каждая поездка в переполненной электричке или
трамвае настраивает меня на печальный лад и угнетает, но, начав работу в моём
орнитологическом отделе, я вскоре вновь обретаю равновесие [...]. В моём
маленьком кругу я вновь и вновь нахожу достаточно поводов для радости
[...], пусть бы только и дальше постоянно развивался милый моему сердцу
45
орнитологический отдел, который вышел из военного времени с гораздо
меньшими потерями, чем другие наши отделы [...]. Постепенно всё вновь
станет на своё место в соответствии с внутренней силой и энергией и во
всемирном устройстве; это моя непоколебимая вера». К сожалению, период
относительного благополучия под покровительством армейских врачей уже в
августе закончился, поскольку дом на Камилленштрассе конфисковали у
американцев, а Штреземанна выселили. После многих недель, проведённых
«приживальщиком» у знакомых, ему удалось, наконец, снять двухкомнатную
квартиру в Берлине-Айхкампе. Теперь старые друзья из Америки и Англии
помогали посылками с продуктами (Эрнст Майр организовывал широкую
акцию помощи продовольствием для немецких орнитологов). Как всегда,
Штреземанн вёл активную переписку; на адрес музея приходили письма из
советской оккупационной зоны, на его домашний адрес в Западном Берлине
— из западных зон и заграницы. Преобладала специальная
корреспонденция, отзвуки военных лет: лейтенант Бакстон из Англии благодарил за
поддержку своей научной работы во время нахождения в немецком плену в
Германии; Саломонсен из Дании писал об ужасах немецкой оккупации, но
предлагал, тем не менее, Штреземанну возобновить «нормальные связи».
Восточно-берлинский университет снова функционировал, Штреземанн
получил преподавательскую нагрузку и начал читать лекции по зоогеографии
и орнитологии. Осенью 1946 года жене Штреземанна удалось нелегально
перейти границу оккупационной зоны и пробраться в Берлин («ей удалось
избавить меня от тяжёлой депрессии» — писал он). Позже оба они
нелегально поехали на Запад, поскольку госпожа Веста хотела забрать свою дочь
Амели и некоторые вещи. Штреземанн погрузился в науку: в конце 1946 года
он посетил многих учёных, живущих в «западной» зоне, и нашёл в Штутт-
гарте издателя для первого послевоенного научного орнитологического
журнала «Орнитологические сообщения» («Ornithologische Mitteilungen»);
соиздателем журнала стал Густав Крэмер.
Штреземанн не был доволен американской демократией в американском
секторе оккупированной Германии, что имело отчасти причины личного
характера (прежде всего, выселение из собственного дома). Но он хорошо знал,
что происходит в Восточной Германии, где политическая система была
установлена Советским Союзом. Он писал Майру 7.05.1946 г.: «... крошечное
меньшинство господствует над беспомощным большинством. Наши люди
умоляют: «Всемогущий Бог, даруй нам Пятый Рейх, так как Четвёртый ничем
не отличается от Третьего».
В начале 1947 года жена и дочь Штреземанна наконец въехали в
маленькую берлинскую квартиру, семья снова была вместе. Женщины были огор-
46
Рис. 9. Э. Штреземанн в
путешествии, Фрайбург, 1952 г.
чены убогой квартирой и условиями существования в Берлине, но надо было
жить дальше; у американских поставщиков посылок госпожа Веста
заказывала шнурки для ботинок, булавки и носовые платки. Постепенно люди
привыкают к новому...
Летом 1947 года в Эдинбурге ожидалась ежегодная конференция
Британского орнитологического союза, в который по традиции входило много
иностранных членов. Конференция была призвана оживить научную кооперацию
орнитологов из разных стран. Но в Берлин пришло неожиданное известие:
немецких учёных не пригласили на встречу. Для Штреземанна, почётного
члена Британского орнитологического союза с 1929 года, это было непонятно
и горько.
Но неприятности на этом не закончились. Неудержимо приближалась
эпоха Холодной войны, и вскоре она принесла ещё более драматические
события: в связи с проведением валютно-финансовой реформы в западной
части Германии и Берлина (в зоне ответственности западных держав), а также
по ряду других причин с июня 1948 года началась блокада западной части
города, продолжавшаяся по май 1949 года. Это повлекло за собой огромные ос-
47
ложнения для всех жителей западного сектора. Штреземанн, правда,
получил пропуск и мог ежедневно ходить на работу в восточную часть Берлина;
тем не менее, новая ситуация не добавляла уверенности в будущем. В это
время он начал работу над книгой по истории орнитологии: архив и
библиотека музея располагали достаточным для этого материалом.
В 1949 году на карте Европы появились два немецких государства. Теперь
Штреземанн проживал в Западном Берлине, находящемся под юрисдикцией
ФРГ, но расположенном вне её основной территории, а работал в Восточном
Берлине, в столице ГДР. Весьма двусмысленное положение, которое, однако,
позволяло ему выполнять миссию, которой он целенаправленно занимался с
самых первых послевоенных месяцев — быть в своей области связующим
звеном между востоком и западом, чтобы смягчить разделение страны.
В декабре 1949 года возродилось Немецкое орнитологическое общество, и
Штреземанн был избран его президентом. Хотя общество официально было
зарегистрировано на западе, оно считалось общегерманским. Вскоре немцы
смогли начать вновь выезжать за границу. В 1949 году Штреземанн посетил
Англию, летом 1950 года он принимал участие в 10-м Международном
орнитологическом конгрессе в Упсале. Отношения с иностранными коллегами-
орнитологами нормализовались, причём значительно быстрее, чем после
Первой мировой войны. Разумеется, уже начала проявлять себя обособленность
орнитологов, проживающих в ГДР. Несмотря на то, что многие из них были
членами Немецкого орнитологического общества, большинство рабочих
групп действовало под эгидой идеологизированного «Культурного союза по
демократическому обновлению Германии», который с 1947 года был
запрещён на западе. Кроме того, для восточных немцев всё больше
ограничивались заграничные поездки, — не только по политическим причинам, но и в
связи с отсутствием западной валюты. Частные поездки в «братские страны»
Восточной и Юго-Восточной Европы также ещё не были возможны.
Значение возглавляемого Штреземанном Орнитологического отдела
Восточно-берлинского музея, как места соприкосновения Востока и Запада,
теперь ещё больше возросло. Особый статус Берлина позволял учёным с Запада
въезжать в Восточный Берлин. Как ни парадоксально, учёным из «восточного
блока» требовалась виза, но многим из них удавалось получать разрешения
на научные командировки и посещать знаменитую ещё с предвоенного
времени «Мекку орнитологии» и «Римского папу орнитологов». Штреземанн не
только руководил Немецким орнитологическим обществом. В качестве
профессора университета Гумбольда он участвовал и в орнитологических
заседаниях «Культурного союза» в ГДР. С 1951 года он снова начал издавать
«Journal fur Omithologie». В журнале публиковались работы и «западных», и
48
«восточных» учёных. В том же году вышла известная работа Штреземанна
«Развитие орнитологии от Аристотеля до настоящего времени». В конце мая
— начале июня 1954 года Штреземанн принимал участие в 11-м
Международном орнитологическом конгрессе в Базеле, где он встретился и с
советскими учёными. Беседа с ними стала одним из импульсов к возобновлению
научной работы на бывшей орнитологической станции Росситтен на Куршской
косе. Он пригласил профессора Московского университета Дементьева
посетить Берлин, и тот действительно приехал в ГДР в ноябре 1954 года. Таким
образом, возглавляемый Штреземанном отдел в середине 1950-х годов стал
всемирным центром орнитологии. В письме от 7.01.1955 г. он сообщал: «...
мой [Орнитологический] отдел — место встречи людей со всего земного шара,
сюда прибывают из Москвы и из Вашингтона, из Бомбея и из Чили...» (позже
я встречал здесь учёных из Китая, Индонезии, Южной Африки и из других
стран). Музей в Восточном Берлине функционировал так, как будто бы не
было ни «железного», ни даже «бамбукового» занавеса. В 1955 году
Штреземанна избирают членом Немецкой академии наук Берлина (сфера действия —
ГДР). Это дало ему возможность начать осуществление запланированного ещё
перед войной крупного проекта — создания «Атласа распространения птиц
Палеарктики». С этого времени он координировал также выпуск издающейся
в ГДР трёхтомной сводки «Экскурсионная фауна Германии», в написании
которой участвовали также авторы из Западной Германии. Как и перед войной,
к нему снова собирались докторанты, причём не только из Восточного
Берлина и ГДР, среди них было двое и из Западного Берлина. Штреземанн
посещал научные конференции в СССР, Чехословакии, в Западной Европе и США.
В конце 1950-х годов Штреземанн заинтересовался новой обширной темой —
линькой птиц. Он также использовал свои возможности для поддержки
немецких участников экспедиции в Китай и Монголию.
Тем временем, Штреземанн приближался к пенсионному возрасту. Хотя в
ГДР было принято предоставлять ведущим учёным возможность активной
работы и после выхода на пенсию, он опасался, что университетские власти
всё же отправят его в отставку как жителя Западного Берлина. Благодаря
своим дипломатическим способностям, ему удалось продлить работу в музее
на несколько лет.
Как член Академии наук в конце 1957 года он ходатайствовал об
основании зоологического исследовательского центра в созданном профессором
Дате зоопарке в Восточном Берлине, где он надеялся консультировать
молодых зоологов и после неминуемого увольнения на пенсию в университете;
его стараниями это учреждение при академии было создано уже осенью 1958
года. Штреземанн стал научным руководителем новоой организации.
49
Рис. 10. Э. Штреземанн со своей женой
Вестой и шнаущром Путци в Берлине,
1960 г.
Но вскоре всё было перечёркнуто личным конфликтом с Дате и
строительством Берлинской стены в середине августа 1961 года. Политическое
положение резко обострилось, и университетское начальство воспользовалось
этим для того, чтобы отправить Штреземанна на пенсию. Это произошло в
конце августа. Заведующим Орнитологическим отделом в музее был
назначен его ассистент Готтфрид Мауерсбергер. Академия хотела оставить
Штреземанна научным консультантом Зоологического исследовательского центра
в должности председателя научного совета; ему обеспечили пропуск; как
пенсионеру, ему сохранили также рабочее место в музее. Но не утихающие
конфликты с Дате принудили его, тем не менее, к сложению с себя также и этой
функции. В это время он с горечью писал мне в Варшаву (6.10.1961 г.): «Я
всё-таки совсем иначе представлял себе последние годы жизни [...]».
Физически Штреземанн несколько постарел, но оставался молод духом и
решил, вопреки всему, продолжать научные исследования. Членство в
Академии давало для этого возможность. Он и его .жена получили пропуска и
50
могли посещать «музей за стеной». Более того, руководство музея
позаботилось о том, чтобы его кабинет, его секретарша, его научная библиотека и
архив неограниченное время находились в его пользовании. Теперь он мог
возвратиться к старым планам и сосредоточиться на изучении линьки птиц.
Поездки в иностранные музеи, особенно в Нью-Йорк, добавляли материал
для исследований. Госпожа Веста вела протоколы, он резюмировал
результаты. В 1966 году они вместе опубликовали фундаментальный труд «Линька
птиц» («пожалуй, последняя большая публикация на основе музейных
материалов», — сказал он мне). Позже Штреземанн написал дополнения к этой
книге, но в основном его интересы сместились в сторону исторических тем.
В ГДР он сохранял все права члена Академии наук, в частности, Академия
продолжала оплачивать работу его секретарши. В 1967 году Штреземанн
сложил с себя полномочия президента Немецкого орнитологического общества,
но как почётный президент продолжал посещал все годовые собрания
«своего» общества. На международных орнитологических конгрессах
Штреземанн всегда был окружён молодыми коллегами, которые обращались к
маститому учёному из Берлина с вопросами и сообщениями.
Никто не мог предполагать, что приближается конец многогранной и
активной деятельности Штреземанна, когда в начале осени 1972 года он попал
в одну из берлинских клиник в связи с сердечной недостаточностью.
Состояние улучшилось, и он надеялся отпраздновать свой 83-й день рождения
дома, но внезапный инфаркт оборвал его жизнь.
Урна с прахом Штреземанна была захоронена на кладбище в Берлине-Да-
леме, в одной могиле с Эрнстом Хартертом. На траурной церемонии
присутствовала его семья и некоторые из его западных коллег и почитателей. С
востока смогла прибыть лишь госпожа Феликс, его верная секретарша. Остальным
преграждала путь Берлинская стена — им не разрешено было приехать.
Появилось много некрологов с самой высокой оценкой научной
деятельности Эрвина Штреземанна. Но должно быть оценено не только научное
наследие Штреземанна и его личный вклад в науку. Для многих и многих людей
Штреземанн в своей области всю жизнь был доброжелательным советчиком
и человеком, всегда готовым оказать помощь. Со многими учёными,
независимо от их возраста и жизненных путей, без оглядки на их титулы,
происхождение, национальность, взгляды или уровень профессионализма, его
связывала настоящая дружба. С некоторыми из них близкие личные отношения
длились десятилетиями и были опорой в его частной жизни и
профессиональной деятельности. К их числу принадлежал Эрнст Майр, один из первых
докторантов Штреземанна в Берлине, который позже переехал в США и стал
всемирно известным биологом-эволюционистом и теоретиком науки.
51
Штреземанн очень критически воспринял строительство Берлинской
стены и, составляя в свою научную биографию, с горечью писал: «... своим
служебным положением в [Восточно-]Берлинском университете я старался
способствовать тому, чтобы понятие целостной Германии не погибло и чтобы
политические трения не отражались на сфере науки. Эти мои старания, как я
всё больше и больше убеждаюсь, оказались напрасными». Только после
объединения страны стало, наконец, ясно, что это не так: немного найдётся
маститых немецких учёных, которые, несмотря на политическое давление того
времени, так настойчиво и эффективно сотрудничали с обоими немецкими
государствами, как Штреземанн. Он твёрдо настаивал на сотрудничестве
вопреки многим трудностям и неприятностям! То же самое можно сказать и о
его международной деятельности на протяжении всех исторических периодов
и двух мировых войн. Эрнст Майр оценил заслуги Штреземанна в следующих
словах: «Можно сказать, что научная орнитология — его детище, топитеп-
tum aere perennius» [«Памятник более долговечный, чем сделанный из
бронзы», Гораций].
Глава 2. Восточная Пруссия, Сибирь, Освенцим,
Заксенхаузен — судьбы орнитологов в самые
тяжёлые годы
Возникновение в Европе двух крупнейших диктатур XX столетия —
коммунистической в Россини национал-социалистической в Германии, не просто
создало препятствия для деятельности большинства учёных, для многих из
них тоталитарные режимы обернулись трагедией. Вторая мировая война
усугубила ситуацию. Немногим лучше стало и в условиях наступившей вслед за
этим холодной войны, хотя и в иной форме. Среди учёных той эпохи были не
только те, кого лишь коснулись её жернова, или те, кому суждено было стать
её жертвами. Были и те, кто извлёк для себя пользу из создавшихся условий.
В некоторых случаях трудно судить, были ли эти «умело воспользовавшиеся
временем» победителями или в конечном итоге тоже оказались жертвами...
Примерами могут служить следующие биографические очерки.
* * *
Много лет я провёл в Мазурах (северо-восточная Польша, прежде южная
часть Восточной Пруссии), где возглавлял небольшую биологическую
станцию. В мои задачи входило и изучение птиц, в связи с чем мне довелось
познакомиться с научными публикациями доктора Фридриха Тишлера/ Frie-
drich Tischler (1881-1945). Этот человек, которого к тому времени уже давно
не было в живых, благодаря своим научным работам на долгие годы стал
моим самым важным советчиком и помощником. Есть и ещё одна причина,
по которой моё отношение к Тишлеру носит очень личный характер: я был
первым учёным, нашедшим его могилу.
Благодаря своим научным, прежде всего орнитологическим работам Тиш-
лер приобрел известность ещё при жизни (Sanden-Guja, 1953; Gebhardt, 1964:
362-363; Nowak, 1987; Tischler, 1992; Hinkelmann, 2000). Тишлер происходил
из древнего рода, основатели которого заселили Восточную Пруссию
несколько столетий назад. В противоположность преобладающему
консервативному окружению, семья придерживалась либеральных традиций; из рода
Тишлеров вышли многие известные учёные. Фридрих изучал
юриспруденцию; он учился в Кенигсберге, Мюнхене и Лейпциге.
Почти всю жизнь он проработал участковым судьей в городке Хайльсберге
(ныне Лидцбарк Вармински). Всего в 20 км от него было расположено
родовое имение Лосгенен, которым семья Тишлеров владела с 1821 года. Тишлер
53
управлял имением от лица коллектива наследников. Здесь он родился, здесь
с самого детства пробудился его интерес к познанию местной флоры и фауны.
Ещё до того, как Тишлер начал изучать юриспруденцию, домашний учитель
Карл Боровский преподавал ему биологию, благодаря чему Тишлер получил
зна ния, по уровню соответствующие знаниям студента-биолога первого
семестра. В центре интересов Тишлера была орнитология. В 1908 году он
становится членом Немецкого орнитологического общества. Орнитология
перестаёт быть просто увлечением, «хобби», — деятельность Тишлера по всем
критериям соответствует солидной научной работе. Все выходные дни он
проводил в Лосгенене, где создал библиотеку, научный архив и обширную
орнитологическую коллекцию. Кроме того, он собрал гербарий и
энтомологическую коллекцию. Почти все свои отпуска Тишлер тратил на поездки в
Зоологический институт Альбертины (университет Кенигсберга) и научные
стажировки у профессора Иоганнеса Тинеманна, основателя и руководителя
орнитологической станции Росситтен на Куршской косе.
В 1914 году вышла в свет замечательная книга Тишлера «Птицы
Восточной Пруссии», В предисловии он скромно написал, что его работа «... может
представлять собой основу для дальнейших исследований наших птиц» и
Рис. 11. Доктор Фридрих Тишлер на
веранде своего дома в Аосгенене,
1938 г.
54
приглашал всех заинтересованных лиц к сотрудничеству. Вскоре стало
очевидным, что Тишлер рассматривает свою профессиональную деятельность
лишь как средство для заработка, для осуществления своей основной цели —
исследования населения птиц отдалённой немецкой провинции. Смену
профессиональной деятельности он отверг, поскольку это было бы связано с
изменением места жительства. Тишлер не делал тайны из своих либеральных
настроений и отрицания нацистской идеологии, что ещё сильнее привязало
его к «малой родине» и занятию орнитологией. В 1941 году вышла из печати
его двухтомная книга «Птицы Восточной Пруссии и сопредельных
территорий» (1304 страницы). В длинном перечне лиц из самых разных частей
Германии, которые принимали участие в работе вместе с автором, названы Влод-
зимеж Пухальский, известный польский орнитолог и фотограф-анималист
из Варшавы. Профессор Эрвин Штреземанн так отозвался об этой
публикации Тишлера: «Книга — самое зрелое произведение, которое до сих пор
появлялось на горизонте немецкой фаунистики — действительно необходимое
справочное пособие для орнитологов по обе стороны наших границ; как
зоогеограф, так и исследователь миграций птиц найдёт в книге бесценную
информацию». В том же году Немецкое орнитологическое общество избрало
Тишлера своим почётным членом. Автор, однако, продолжал оставаться
скромным и невзыскательным человеком — и не только в повседневной
жизни; он избегал участия в конгрессах, разного рода общественных
выходов, официальных выступлений и чествований. Систематическая и
эффективная научная работа была тем, что приносило ему истинную радость. Но
«научный вес» исследователя-любителя был всё же признан и оценён
профессионалами: в 1941 году Тишлер был избран научным членом Общества
Кайзера Вильгельма (впоследствии Общества Макса Планка), а кёнигсберг-
ский университет Альбертина присвоила ему звание почётного доктора.
Успех опубликованной в 1941 году книги вызвал оживление
орнитологических исследований в Восточной Пруссии; многие люди искали в
орнитологии удалённую от политики «нишу», где можно было укрыться от известий
бушующей войны. Таким был и сам Тишлер: он собирал обширный материал
— новые данные и дополнения для III тома своей книги. В мае 1942 года, в
самый разгар войны против Советского Союза, Тишлер на неделю
отправляется в девственный реликтовый лес Беловежской Пущи (в оккупированной
Польше) для обследования местной фауны птиц и сравнения видового
разнообразия с таковым в Роминской Пуще. В это время Беловежская Пуща
находилась уже «под опекой» главного егермейстера Рейха Германа Геринга,
целые деревни были выселены, действительные и мнимые участники
Сопротивления убиты (Gautschi, 1999: 211-221, 305-308). Немецкая админи-
55
страция позаботилось, однако, о том, чтобы Тишлеру не удалось узнать о
преступных действиях оккупантов: его поместили в главные апартаменты
бывшего царского дворца, оградив от действительности; было разрешено только
смотреть на птиц. Очевидно, ему всё-таки что-то рассказали об успешной
«борьбе с бандами», поскольку в письме своим родственникам в Киль он
сообщил, что пребьюание в Беловеже «было окрашено романтикой в духе Карла
Мея»1, «которую в управлении переносят с юмором...»(корреспонденция из
архива проф. В. Тишлера). В 1944 году готовые корректуры его обширного
труда по фауне Беловежской Пущи погибли во время бомбардировок
Кенигсберга. Только теперь Тишлер осознал серьёзность положения: часть
своих научных материалов он передал для хранения и возможной эвакуации
профессору Эрнсту Шутцу — в то время директору орнитологической
станции Росситтен. Впоследствии стало известно, что часть научных материалов
из Росситтена действительно была переправлена на запад, но не материалы
Тишлера (Nowak, 1985; и др.). Вышедшая в 1941 году в количестве всего 500
экземпляров книга Тишлера вскоре превратилась в библиографическую
редкость, поскольку большая часть экземпляров погибла во время войны. В
послевоенные годы в Мазурах мне пришлось очень долго разыскивать эту
работу. В начале 1960-х годов я посетил в Лидцбарке Вармински (Хайльсберг)
монастырь Сестер Катарины, в котором жили и немецкие монахини (да, в
коммунистической Польше!). У монастырских ворот говорящая по-немецки
настоятельница сказала мне, что я могу прекратить поиски, поскольку все
книги из немецких библиотек в 1945 году были выброшены советскими
солдатами в реку Лыну. Велика же была моя радость, когда несколькими годами
позже я нашёл книгу Тишлера в одной из антикварных лавок Варшавы! На
книге был штемпель библиотеки гимназии Хайльсберга! (Отмечу: в 2002 году
в Германии вышло репринтное из дание книги Тишлера).
Но вернёмся ко времени окончания войны в Восточной Пруссии. В это
время произошло самое важное, что я хочу рассказать о Тишлере. Это
касается последних недель его жизни, когда фронт в начале 1945 года
вплотную приблизился к его родине. Тишлер был оптимистом: ещё 15 января он
пишет из Лосгенена своему племяннику Вольфгангу Тишлеру (позднее
профессору экологии в Киле): «У нас здесь всё хорошо и мы спокойно ожидаем
новое наступление». Но это было лишь действие вводящей в заблуждение
пропаганды тогдашнего гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха,
который ещё в начале года с гордостью заверял население провинции в том, что
русские никогда не войдут в Восточную Пруссию, так как им преграждают
1 Популярный в то время немецкий писатель, автор приключенческих романов. — прим. перев.
56
путь 22 875 км защитных траншей и противотанковых рвов! В конце января,
однако, Красная Армия стояла уже в Лосгенене. Друг Тишлера Вальтер фон
Занден, который жил в имении Гуйа, примерно в 50 км восточнее Лосгенена,
бежал на запад на велосипеде (Sanden-Guja, 1985) и хотел заехать к Тишлеру,
чтобы разъяснить тому серьёзность положения. Продвижение линии фронта
принудило его выбрать другое направление. Позднее сосед Тишлера,
владелец соседнего имения, рассказал, что он заехал к Тишлеру на своем фургоне
и предлагал ему ехать вместе с ним, но Тишлер отказался. Всеми
покинутый, он стоял с биноклем на веранде своего дома и наблюдал птиц. Это
должно было быть около 23 января 1945 года, судя по дате на почтовой
открытке, отправленной примерно в это время родственникам в Киль. В ней
Тишлер сообщал, что он и его жена остаются в Лосгенене и покончат с собой
прежде, чем советские солдаты приблизятся к ним. Он (юрист) предлагал
сохранить эту почтовую карточку, что важно для последующего
официального выяснения обстоятельств их смерти. Только много лет спустя удалось
восстановить то, что произошло в следующие несколько дней после
отправки этой открытки: знакомый врач из соседнего городка Бартенштайн,
которому Тишлеры доверяли, снабдил их ядом; Карлу Хартвигу, кучеру
имения, было поручено выкопать могилу. Вероятно, всё произошло вечером в
понедельник, 29 января: Тишлер принял яд прямо в выкопанной могиле, его
жена Роза (урожденная Ковальски) покончила с собой, сидя на краю
сооруженного из кирпичей фамильного надгробья (Эрих Кох умер только в 1986
году, в возрасте 90 лет, в польской тюрьме Барчево в Мазурах). Об
обстоятельствах смерти Тишлера сообщил в Киль его кучер почтовой открыткой
из советского плена только в 1947 году, подробности он рассказал уже после
своего возвращения из плена в Германию.
Я посетил Лосгенен (переименованный между тем в Лузины) летом 1962
года и нашёл там деревенскую женщину-немку, которая пережила
наступление советских войск. Я думал узнать у неё о том, что, может быть,
самоубийство Тишлера не было необходимостью — ведь как раз в армейской части,
вступившей на территорию Восточной Пруссии, воевали такие высоко
порядочные и, кроме того, знающие немецкий язык офицеры, как Копелев и
Солженицын. Рассказ женщины, однако, не просто разочаровал меня, но и
потряс: по её словам, солдаты, войдя в деревню, сразу же расстреляли всех
оставшихся в ней мужчин — это были старики и подростки! Когда я покачал
головой в знак того, что в это трудно поверить, она тихо сказала: «Это война»2.
2 В феврале 1945 года Солженицын уже был арестован; причиной ареста Копелева послужил
как раз рапорт командованию о недостойном поведении советских солдат в восточной
Пруссии. — прим. перев.
Ъ1
Рис. 12. Бернд Холфтер из Заксена обновляет надпись на памятном камне супругов
Тигилер в Аузинах/Аосгенене, октябрь 2004 г.
Недалеко от фамильной могилы Тишлера в 1962 году был едва заметен
поросший травой холмик. Теперь он больше не существует. Могила заросла
лесом. В 1999 году на обочине просёлочной дороги, ведущей в Лузины/Лос-
генен, по инициативе польских и немецких орнитологов был поставлен
памятный камень с надписью на двух языках (рис. 12; Nowak, 2001b).
* * *
Для многих людей, интересующихся живой природой, орнитологическая
станция Росситтен, прекратившая своё существование в результате Второй
мировой войны, стала легендой. Для меня это легенда с двойным именем:
«Росситтен/Рыбачий». Деревня на Куршской косе, где в 1901 году Немецкое
орнитологическое общество основало первый в мире научный центр для
изучения миграций птиц, после войны получила название «Рыбачий». С 1956
года там возобновилось изучение миграций птиц. Новым основателем
научного центра, который ныне носит название «Биологическая станция
Зоологического института Российской Академии наук», был профессор Лев
Осипович Белопольский (1907-1990). Воссоздание станции послужило
58
установлению прочных связей между российской и немецкой орнитологией.
На фронтоне здания большими чёрными буквами каллиграфическим
почерком вывели прежнее немецкое и новое русское название станции. Когда
некачественная советская краска облупилась, над входом укрепили две
прочных мраморных таблички со старым немецким и новым русским названиями
(рис. 15;Nowak, 1991;Паевский, 1992).
С профессором Белопольским я познакомился в августе 1959 года на 2-й
Всесоюзной Орнитологической конференции в Москве. Он посетил меня в
моей комнате в общежитии МГУ, мы пили армянский коньяк и подружились,
после чего он рассказал мне историю своей жизни и историю
восстановления орнитологических исследований на Куршской косе.
Лев Осипович принадлежал к последней генерации учёных, которые ещё
успели принять участие в путешествиях эпохи «географических открытий»:
в 1932 году он был членом экспедиции на ледоколе «Сибиряков», который
впервые за 62 дня, то есть за одну навигацию, прошёл Северным морским
путём из Архангельска во Владивосток. В 1933-1934 гг. Белопольский
принял участие в ставшей впоследствии знаменитой экспедиции на ледоколе
«Челюскин», который должен был пройти тем же путем из Мурманска. Как
известно, это не удалось, судно было затёрто льдами в Беринговом проливе,
дрейфовало со льдами до Чукотского моря, 13 февраля 1934 года было
раздавлено льдами и затонуло. Прошло два месяца до тех пор, пока последний
из пострадавших был вывезен на большую землю советским самолётом 13
апреля 1934 года. Всё это время 103 человека — члены экипажа и участники
экспедиции, жили в палаточном лагере на льдине. В то время средства мас-
Рис. 13. Профессор Лев Осипович
Белополъский на Куршской Косе,
Рыбачий, станция кольцевания
«12-й километр», 1971г.
59
совой информации всего мира ежедневно сообщали все подробности о
катастрофе и о драматических событиях акции по спасению челюскинцев (это
событие превратилось для Советского Союза в большую пропагандистскую
компанию, пожалуй, ещё более успешную, чем олимпийские игры 1936 года
для Третьего Рейха). Белопольский получил высшую советскую награду —
звезду Героя Советского Союза, которая гарантировала самые разные
привилегии (такие, как персональную пенсию и неприкосновенность). Во время
Великой Отечественной войны Белопольский служил на флоте и был
командиром корабля; впрочем, его служба имела и некоторое отношение к
орнитологии: он командовал экспедицией в составе трёх кораблей,
отправленных на Новую Землю для сбора яиц кайр для госпиталей Северного флота!
После окончания войны он продолжил здесь научную работу, и в 1957 году
вышла его книга «Экология морских колониальных птиц Баренцова моря»
(английское издание появилось в 1961 году).
В ту августовскую ночь в Москве он рассказал мне о трагических
событиях послевоенного времени: в начале 1950-х годов был арестован его брат
и после сфабрикованного обвинения в шпионаже в пользу Англии
расстрелян (о его судьбе семья узнала лишь в конце 1950-х годов из справки о
реабилитации). После процесса над братом родители Белопольского тоже были
арестованы и приговорены к 10 годам исправительно-трудовых лагерей, а в
1952 году арестовали и самого Льва Осиповича. Он получил «только» 5 лет
(«неприкосновенность», которую обеспечивала Звезда Героя, была
официально отменена: сначала Белопольского вежливо пригласили для
подписания бумаги о лишении его награды, после чего уже менее вежливо ему был
предъявлен ордер на арест). После смерти Сталина Белопольский был
освобождён из лагеря до окончания срока и реабилитирован.
Он был свидетелем массового исхода политзаключённых из сталинских
лагерей в Сибири, хвалил Хрущёва и полагал, что он заслужил «памятник
при жизни». После небольшой паузы он добавил: «И если действительно
правда, что он стремился к миру, то памятник надо позолотить». После
реабилитации Белопольского вновь приняли на работу в Зоологический
институт Академии наук СССР в Ленинграде, где он работал до ареста. Ему
оказал сердечный приём директор института, всемогущий Е.Н. Павловский,
который спросил его, чем он намерен заниматься. Причём сразу же заверил:
«Ты можешь делать всё, что хочешь, всё, что только возможно». Лев
Осипович в тот момент больше всего нуждался в одиночестве и общении с
природой, он хотел уехать на Балтийское море, на Куршскую косу, чтобы
продолжить изучение миграций птиц, начатое там немцами. Павловский сразу же
дал на это согласие.
60
В мае 1968 года я смог посетить Рыбачий, это было для меня большим
событием. В это время станцией руководил уже В.Р. Дольник. Его
предшественник Белопольский год назад перешёл на работу в Калининградский
университет в качестве профессора и заведующего кафедрой зоологии
позвоночных.
Получение разрешения на посещение Рыбачьего и само путешествие туда
изобиловало приключениями. В то время Калининград/Кенигсберг был
запретной зоной для иностранцев; разрешалось, например, поехать в соседнюю
советскую республику Литву, но пересекать границу Калининградской области
строго воспрещалось. Из одной местной польской газеты («Газета Олыитын-
ска») я случайно узнал, что существует некий «обмен опытом» между
партийными и правительственными организациями приграничных районов, а также
научный обмен между польской Ольштынской областью и советской
Калининградской областью. Ответственной организацией по выдаче разрешений на
путешествие оказалась не паспортный стол, а ... секретариат отделов Бюро
пропаганды партийных организаций двух районов! Я не замедлил разыскать
главного пропагандиста в Ольштьше и изложил ему моё желание пригласить
двух коллег из Рыбачьего на мою научную станцию в Мазурах. Надо сказать,
что шеф пропаганды был нимало удивлён, когда я рассказал ему, что в
Советском Союзе есть серьёзные учёные, профессора, которые занимаются
изучением миграций птиц, и что я непременно хочу пригласить их в Польшу.
Мой длинный рассказ так поразил его, что я сразу же должен был написать
заявление для приглашения коллег. Уже несколько недель спустя, в марте 1968
года, Белопольский и Дольник приехали ко мне. Им пришлось преодолеть
всего около 150 км до моей станции, но это было первое заграничное
путешествие в их жизни. В мае того же года я должен был нанести ответный
научный визит, что я с радостью и сделал. На небольшом фольксвагене-«жуке» я
стартовал на север, но уже на первом погранично-контрольном пункте у Бар-
тошиц возникли трудности: жизнерадостный майор советской пограничной
службы объявил, что в разрешении польского секретаря пропаганды нигде не
указано, что я буду путешествовать на машине — для этого нужно
специальное разрешение! По полевому телефону он начал звонить какому-то генералу,
командующему пограничной группы этого района. После некоторых
переговоров с различными инстанциями в телефонной трубке раздался низкий тихий
голос: «Что?». Майор отрапортовал ситуацию, после чего в трубке раздалось
лишь одно слово «Пускай!». Когда я прибыл в Калининград, местный
секретарь пропаганды с извинениями сообщил мне, что я могу беспрепятственно
перемещаться лишь в «его» Калининградской области (именно так он сказал!),
но не имею права пересекать границу соседней Литвы...
61
Наконец, мы поехали в Рыбачий. Старое здание станции (рис. 14) было
уже разрушено, новая станция расположилась в отремонтированном здании
бывшего курзала.
Меня восхитила широта научной программы станции (Nowak, 1969):
обширные темы по изучению физиологии миграционного состояния, серия
экспериментальных работ по изучению ориентации, демография птиц. Для
обработки материала применяли современные статистические методы. Отловы
птиц для кольцевания и биометрической обработки производили огромными
сетями-ловушками, представляющими собой гигантские «сачки»3 с входом
размером 12 на 30 м и длиной 60 м, причём кольцевание птиц служило лишь
вспомогательным методом для выполнения основных научных тем.
Множество студентов из различных университетов Советского Союза проходили
практику в Рыбачьем.
Мы побывали и на деревенском кладбище, где среди могил с красными
звёздами, православными крестами и мусульманскими полумесяцами покоится и
основатель станции Росситтен, профессор Иоганнес Тинеманн, умерший в
1938 году. Когда мы стояли перед его могилой, Белопольский сказал:
«Приехав в Рыбачий, я обнаружил, что здесь практикуется разорение могил.
Поэтому я позаботился о том, чтобы вокруг могилы Тинеманна была сделана
цементная заливка весом около тонны, только тогда был снова водружён
могильный камень. Моего предшественника больше не потревожат»...
Конечно, мое посещение станции мы использовали и для того, чтобы
совершить поездки по окрестностям; к сожалению, у меня было слишком мало
времени для того, чтобы полностью использовать разрешение
беспрепятственно путешествовать по всей области. Большое впечатление произвели на
меня дюны Куршской косы и предприятие по разработке янтаря открытым
способом в Янтарном/Пальмникене (в то время ежегодно добывали 400 тонн). В
центре Калининграда/Кенигсберга ещё лежали последние остатки королевского
дворца, разрушенного во время войны и позднее снесённого. Мои русские
коллеги полагали, что в нём были глубокие тайные подвалы, в которых и была
погребена легендарная янтарная комната, и только Эрих Кох, бывший гауляйтер
Восточной Пруссии, мог бы это подтвердить (когда Белопольский и Дольник
были в Мазурах, мы проезжали с ними мимо тюрьмы, где содержался Кох).
Лев Осипович рассказал мне о том, как была возобновлена научная
работа в Рыбачьем. Первую неудачную попытку предпринял доктор О.И. Се-
мёнов-Тян-Шанский (см. стр. 309-315). Следующий импульс пришёл из
Германии: во время 2-го Международного орнитологического конгресса в Базеле
3 «Рыбачинские» ловушки были специально сконструированы Яном Якшисом, сотрудником
станции. — прим. перев.
62
Рис. 14. Последняя фотография уже сильно разрушенного здания орнитологической
станции Росситтен, 1958 г.; позднее дом был снесён.
в 1954 году немецкие профессора Шутц, Штреземанн и Кёлер
интересовались состоянием дел в Рыбачьем и спросили об этом у своих советских
коллег —Дементьева, Иванова и Рустамова. В послевоенные годы такой вопрос
был делом политическим, и он мог быть решён только в «высших сферах».
Однако, начавшаяся «оттепель» изменила ситуацию: «высшие сферы»
предоставили решение Президиуму Академии наук. Был найден подходящий
кандидат для курирования этого вопроса и вскоре получено распоряжение
на восстановление научной станции в Рыбачьем.
После возвращения в Польшу я не только составил отчёт партийному
секретарю Олынтына; я находился под большим впечатлением от научной
части поездки, но кроме того, меня не покидала мысль о янтарной комнате...
Я написал письмо в министерство юстиции в Варшаву о том, что напал на
новый след и просил разрешения показать заключённому Коху диапозитивы
о Калининграде — возможно, он откроет свою тайну. Ответ был, к
сожалению, отрицательным: «... местоположение янтарной комнаты из Царского
Села уже в течение многих лет является предметом интереса компетентных
органов, поэтому Центральное управление юстиции по вопросам отбытия
наказания не видит необходимости в проведении частных расследований в
этой связи» (21.10.1968 г.).
63
С моим другом Белопольским я встречался ещё несколько раз. В 1977 году
он ушёл на пенсию и с этого времени жил в Ленинграде. Я пытался что-то
сделать для того, чтобы его заслуги стали известны широкой общественности и
получили должную оценку. Это удалось: в 1986 году Белопольский за свои
работы был удостоен премии фонда Иоганна-Вольфганга Гёте в Базеле.
Советские власти, однако, не разрешили лауреату приехать на торжественную
церемонию вручения на остров Майнау на Боденском озере. Но вскоре после
церемонии основатель и президент фонда Альфред Топфер сам приехал в
Ленинград, чтобы вручить Белопольскому премию вместе с чеком на
торжественном заседании в Академии наук. На глазах лауреата были слезы.
Материальное положение людей в Советском Союзе к этому времени уже резко
ухудшилось, и Лев Осипович передал деньги своей жене для распределения на
всю семью. Тем самым он мог использовать теперь свою пенсию на свои
собственные нужды (в то время и его «привилегированная» персональная
пенсия уже была невысока). Больше всего он радовался тому, что теперь сможет
совершить путешествие по Волге до Астрахани на комфортабельном судне.
Лев Осипович родился в европейском центре России, его
профессиональная деятельность протекала в Арктике, на Дальнем Востоке и на
Балтийском море. Самая русская из всех русских рек восхищала его...
Немецкое орнитологическое общество допустило большую ошибку, не
приняв Белопольского в свои почётные члены. В то время холодная война была
препятствием к этому шагу, она мешала правильному пониманию истории. С тех
пор многое изменилось: вскоре после развала Советского Союза был заключён
договор о сотрудничестве между Рыбачьим и немецким преемником Росситтена
— орнитологической станцией Радольфцелль. Этот договор финансируется
немецким фондом, который основал профессор Хайнц Зильманн (он родился в
Кенигсберге и прославился на весь мир своими фильмами о природе).
G LWAR.J&
I
#4* *,че-доеде * ls
1
БИОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ
•РЫБАЧИЙ-,
рк СССР
Рис. 15. Старая немецкая и русская мраморные таблички на новом здании (прежде
курзал) Биологической станции в Рыбачьем.
64
До сих пор книга Иоганнеса Тинеманна «Росситтен» пользуется большим
спросом (в 1996 году она была переиздана). Между тем, появилась
увлекательная книга и о Рыбачьем (Паевский, 2001), которая представляет собой
«русское» продолжение «легенды Росситтена». В середине июня 2001 года
российские и немецкие учёные совместно отпраздновали 100-летний юбилей
исследований миграций птиц в Росситтене/Рыбачьем (Fiedler, 2001).
Способно ли время исцелить раны?
* * *
В октябре 1969 года на 2-й конференции по изучению и охране
водоплавающих птиц, в большом актовом зале биологического факультета
Университета имени Карла Маркса в Лейпциге, я выступил с докладом о моём
посещении Рыбачьего/Росситтена на Куршской Косе.
Помимо 320 участников из ГДР присутствовали также иностранцы, в том
числе профессор Юрий Андреевич Исаков (1912-1988) из Москвы.
Поскольку в ГДР постоянно обсуждалась тема восточных областей, потерянных
Германией в результате Второй мировой войны, я опасался, что моё
выступление будет воспринято как реваншистское. Но этого не случилось:
собравшиеся благодарили меня бурными аплодисментами. Лишь один из
функционеров «Культурного Союза» во время вечернего «дружеского ужина»
поставил мне на вид, что я неправильно употреблял слово «русский» вместо
«советский» (слово «русский» было в то время полностью «вычищено» из
немецкого языка в ГДР, поскольку в конечный период нацизма оно стало
фактически синонимом слова «унтерменш» — «человек низшей расы»). Но
Исаков успокоил меня — он не увидел в моём выступлении ничего ошибочного.
Московский профессор, выдающийся биогеограф и эколог, знаток
водоплавающих птиц — он пользовался большим уважением в
природоохранных кругах. Исаков был в числе тех, кто в 1960-е годы налаживал
эффективное научное сотрудничество между Советским Союзом и «западом» и
был первым советским учёным, который поддерживал деловые связи с
Центральной комиссией по изучению водоплавающих птиц в ГДР. Он гордился
тем, что имел полные выпуски журнала «Der Falke», который можно было
выписать в Москве (большинство западных журналов в то время для
советского читателя были недоступны). Я хорошо познакомился с Исаковым с тех
пор, как по поручению Международного Бюро по изучению водоплавающих
птиц и птиц водно-болотных угодий (IWRB), центральный совет которого
был расположен в то время в Тур де Вале на юге Франции, организовал в
сентябре 1966 года небольшую, но важную конференцию в Яблонне под Вар-
65
шавой. На этой конференции группа западных учёных в первый раз
встретилась со своими коллегами из «восточного блока» (Hoffmann, 1966). С тех
пор я часто встречался с Исаковым, мы подружились, но он никогда не
говорил со мной ни о политике, ни о своём прошлом. Только после его смерти,
когда я готовил о нём очерк, я узнал причину его сдержанности: в 1930-е
годы Юрий Андреевич был арестован по политическим причинам, а после
подобных событий советские люди, как правило, в дальнейшем избегали
политических бесед. Некоторое время назад у меня появилась возможность
обсудить эту сторону жизни Исакова в письмах и в личной беседе с его сыном
Алексеем Юрьевичем и вдовой Ольгой Николаевной Сазоновой. Я хочу
рассказать здесь о том, что мне удалось узнать.
Ещё в ученические годы Юрий Исаков был членом Кружка юных
биологов при Московском зоопарке (КЮБЗ), который возглавлял известный
биолог и талантливый педагог, профессор П.А. Мантейфель. Кружок был
настоящей кузницей советских зоологов, его участниками были одарённые,
интеллигентные и увлечённые наукой молодые люди из Москвы и
Подмосковья. После неудачной попытки Исакова поступить в Московский
университет (он не был принят из-за «неправильной» родословной — его отец,
учитель математики, происходил из дворян), он с 1928 года работал в зоопарке
сначала экскурсоводом, а позднее — лаборантом. Активная деятельность
Исакова была оценена руководством зоопарка, и его стали посылать в
экспедиции в удалённые уголки огромной страны. В 1933 году он опубликовал
свою первую научную работу о размножении белки. Новая попытка
поступить в Московский университет увенчалась успехом, и Исаков стал
студентом. В университете его особенно привлекали лекции и экскурсии в то время
ещё молодого доцента-эколога А.Н. Формозова.
Но счастливый период неожиданно оборвался. Следующий отрезок его
жизни так описан в биографическом очерке, составленном в советское время
Т.Н. Дунаевой (Дунаева и др., 1983): «В 1934 году Ю.А. Исаков вынужден
был расстаться с Московским зоопарком и переехать в Карелию, где он
работал звероводом и инструктором охоты в Повенецком пушном совхозе».
Это, однако, типичный эзопов язык времён социализма. В действительности
дело обстояло по-другому. Исаков был арестован, приговорён к трём годам
лишения свободы и отправлен в исправительно-трудовой лагерь «Карлаг»
вблизи Медвежьегорска (Карелия). Об этом периоде его жизни не много
опубликовано и после «перестройки» (Флинт, Россолимо, 1999: 160-171;
Ковшарь, 2003: 139-140). Как же всё произошло?
У некоторых членов КЮБЗа были также гуманитарные интересы, один
из них написал стихотворение, в котором содержалась политическая критика
66
существующего режима. Это стихотворение попало в руки НКВД, после чего
некоторые члены кружка были арестованы и осуждены на длительные сроки.
Среди членов кружка оказался осведомитель НКВД, благодаря полученным
от него сведениям в общей сложности были арестованы и приговорены к
разным срокам заключения тринадцать человек, имевших отношение к
кружку и зоопарку.
«Оригинальной» была формулировка вины в приговоре Исакова —
«аполитичность»! Вероятно, ему не могли предъявить никаких серьёзных
обвинений, но поскольку «органам» осудить его за что-то было необходимо, то
достаточно оказалось упрёка в том, что он не распознал «политического
преступления» других и не донёс на них4. О пребывании Ю.А. Исакова в
лагере его сын, Алексей Юрьевич, сообщил мне следующее: «Сидел отец с 1934
по 1937 годы в Карелии (Медвежья гора). Условия были довольно мягкие.
Работа — промысел белки». Это письменное сообщение он дополнил словами,
что к счастью, отец был арестован именно в это время, а не позже: «Счастье
для них всех, что эта история произошло до убийства Кирова, после него
начались массовые расстрелы». (Киров был убит 1 декабря 1934 года, как
выяснилось позднее — очевидно, по приказу Сталина. После этого начался период
массовых чисток, «врагов народа» в большинстве случаев сразу
приговаривали к расстрелу). Юрий Андреевич, который в лагере руководил бригадой
охотников по добыче белки, рассказывал после освобождения, что во время
охотничьих маршрутов, проходящих за пределами зоны, часто слышал серии
таинственных выстрелов. Его сын объясняет это так: «Недавно поблизости
обнаружили место массовых расстрелов, в том числе и под Медвежьегорском.
Там счёт идет на десятки тысяч. Так что Катынь — это не первый опыт».
В 1937 году Исаков вышел на волю. После освобождения он, как и все,
отбывшие лагерные сроки, получил значительные поражения в правах — в
частности, ему было запрещено жить в Москве и в городах, расположенных
ближе 100 км от Москвы. В народе этот указ получил название «высылка за
101-й километр». После освобождения началась кочевая жизнь на
просторах Советского Союза. Сначала Исаков путешествовал с одной из
экспедиций в степных районах среднего и нижнего Дона. Осенью 1937 года он
приехал в Туркмению, где устроился на работу в заповеднике Гасан-Кули на
южном побережье Каспия, недалеко от иранской границы. Здесь проявилась
непоколебимая воля молодого любителя-биолога стать учёным: он проводит
4 В газете. «30 Октября» № 78/2007 и № 79/2007 опубликованы документы, касающиеся «дела
КЮБЗа». Арестованные члены кружка обвинялись в антисоветской пропаганде и создании
контрреволюционной организации. Подробно об этом можно прочитать также в книге НА Шаховской «Без
четверти век. Воспоминания о КЮБЗе». М, 1999. — прим. перев.
67
регулярные систематические наблюдения за водоплавающими птицами, и
уже в 1940 году публикует большую работу: «Экология зимовки
водоплавающих птиц на южном Каспии». Из Гасан-Кули Исаков предпринимал
экспедиционные выезды в другие районы страны. В 1940 году он женился на
Ольге Николаевне Сазоновой — зоологе из Москвы. Начало войны
по-новому повернуло судьбу Исакова — по назначению военкомата его
отправляют на станцию борьбы с туляремией в Томск. Здесь ему удалось
поступить в Томский университет (позже он продолжил учёбу в качестве заочного
студента Московского университета, эвакуированного в Ашхабад и
Свердловск). В 1942 году Исакова перевели на станцию борьбы с туляремией в
Ханты-Мансийск, где он вместе с женой пробыл до конца войны. Здесь он
заболел туберкулёзом и был на волосок от смерти. Но он выжил, и из-за
перенесённой болезни был освобождён от призыва в действующую армию, что,
возможно, спасло его от гибели на фронте. В 1943 году родился сын, а в 1944
году Исакову было разрешено приехать в Московский университет для сдачи
выпускных экзаменов.
После войны Исаков вернулся на Каспийское море — он возглавил
научную работу в знаменитом Астраханском заповеднике в дельте Волги. Но в
1947 году он переехал в Дарвиновский заповедник, расположенный всего в
300 км к северу от Москвы под Весьегонском. Тогда в этом районе было
осуществлено перекрытие Волги и Шексны и тем самым создано Рыбинское
водохранилище. Исаков уже обследовал этот район прежде, теперь он
исследовал влияние затопления на экосистемы (мониторингом это назовут
позднее). В период своей ссылки — а он по-прежнему не имел возможности
жить в Москве и других крупных городах, — Исаков писал главы раздела
«Гусеобразные» для шеститомной сводки «Птицы Советского Союза». Это,
пожалуй, лучшие главы всей книги. В это время были опубликованы и
немалое число других его научных трудов.
В 1953 году, вскоре после смерти Сталина, для осуждённых по
политическим статьям были отменены ограничения на проживание в больших
городах, то есть пресловутый указ о «101-м километре», и Исаков получил
разрешение вернуться в Москву — свой родной город. Юрий Андреевич
воспользовался этой возможностью. Возвращение не было лёгким —
первые четыре года в Москве пришлось работать редактором биологического
раздела «Реферативного журнала» в Институте проблем научной и
технической информации (ВИНИТИ) и вникать в новую тематику возбудителей
болезней. Только в 1958 году учителю и другу Исакова профессору А.Н.
Формозову удалось устроить его в отдел биогеографии престижного
Института географии АН СССР. Исакову было в то время уже 46 лет. В 1962
68
году он стал заведующим отделом. В Институте географии прошли его
лучшие годы, ознаменовавшиеся подлинным расцветом научной
деятельности. Руководимая Исаковым группа работала над огромным числом
важных научных проблем (см. Дунаева и др., 1983). В 1961 году Юрий
Андреевич был официально реабилитирован. Теперь ему открылась дорога к
получению учёной степени. В 1963 году он защитил диссертацию «Ареал
и популяция у птиц и млекопитающих» и получил степень доктора
биологических наук. Звание профессора ему было присвоено только в 1967
году.
Как раз в это время, с началом хрущёвской эпохи, закончилась
политическая изоляция Советского Союза. Исаков использовал новый политический
настрой для того, чтобы установить связи между возрождающейся советской
наукой об охране природы и международным природоохранным движением.
На западе уже в течение ряда лет обсуждался проект новой Конвенции по
охране природы, которая бы позволила обеспечить охрану водно-болотных
угодий — местообитаний водоплавающих птиц и других видов животных и
растений, связанных с околоводными ландшафтами. Эта проблема была
очень актуальна именно для Советского Союза, где осушение
«неиспользуемых в народном хозяйстве болот» приобрело огромный размах. Исаков
нашёл защитника своих идей в лице влиятельного человека из аппарата
правительства — Б.Н. Богданова, начальника Главного управления по охране
природы, заповедникам и охотничьему хозяйству Министерства сельского
хозяйства (МСХ) СССР. Между Исаковым и Богдановым установились
отношения полного взаимопонимания, они вместе ездили на конференции за
границу для участия в составлении текста новой Конвенции. Вскоре
Международное бюро по изучению водоплавающих птиц и водно-болотных
угодий (IWRB) и Министерство иностранных дел Нидерландов заключили
соглашение о проведении 25-30 сентября 1968 года в Ленинграде итоговой
правительственной конференции по обсуждению Конвенции. Эту
конференцию тщательно готовили в течение почти двух лет (в частности, все
документы и доклады были переведены на три языка). Уже были получены
многочисленные заявки на участие. Казалось, успех конференции
обеспечен. Но 20 августа 1968 года началось вторжение войск Варшавского
договора в Чехословакию! Правительство Нидерландов и IWRB отказались от
участия в конференции, политические инстанции в СССР, однако, решили,
что её необходимо провести. Из-за отказа Нидерландов от участия
конференция потеряла официальный статус правительственной, поэтому
принятие Конвенции стало невозможным. Но советские организаторы возлагали
надежды на научную программу, которая должна была собрать достаточное
69
число участников. На открытии конференции присутствовало не очень много
специалистов, в том числе и я. К сожалению, не было и Богданова, который
незадолго до начала конференции, будучи на мероприятиях по её подготовке
в Швейцарии, заболел и попал в больницу. Делегация из Чехословакии, к
удивлению остальных участников, всё-таки приехала, но она состояла
совсем не из тех людей, которых ожидали. Руководитель делегации господин Р.
Бохачек из Министерства сельского хозяйства в Праге признался мне, что
практически не имеет представления, о чём будет идти речь, поскольку
получил указание прибыть на конференцию всего за несколько часов до отлёта
самолета. Я подошёл к Исакову — он был очень расстроен. Он не получил
от западных коллег официального письма с отказом от участия (вероятно,
его «перехватила» советская почтовая цензура) и узнал об этом только из
письма, которое пришло ко мне. Когда я показал ему это письмо, он не
сказал ни слова. Любая высказанная вслух точка зрения могла быть опасной.
Лишь несколько лет спустя, в феврале 1971 года, когда политическая
ситуация урегулировалась, в Иране, в городе Рамсар на южном берегу
Каспийского моря, Конвенция была принята. Исаков присутствовал при этом
событии. Конференция проходила как раз недалеко от того места, где прошло
несколько лет жизни Юрия Андреевича, и где он впервые начал заниматься
изучением водоплавающих птиц. Так случайное стечение обстоятельств —
провал конференции в Ленинграде — дало ему возможность посетить район
бывшей ссылки, только теперь уже с иранской стороны.
Возвратимся ещё раз назад в роковой 1934 год: имя осведомителя НКВД
в зоопарке уже тогда было хорошо известно. Его и сейчас помнит
большинство представителей старшего поколения московских биологов. Тем не
менее, и после смерти Исакова в некрологе, опубликованном уже в период
гласности и перестройки, когда впервые была написана правда о
трагической биографии Юрия Андреевича (Аноним, 1989), это имя не было названо.
Некоторые российские и украинские коллеги откровенно называли мне его,
но всегда с оговоркой: «Если ты собираешься что-то публиковать по этому
поводу, пожалуйста, не ссылайся на меня». Чтобы получить разрешение
публично назвать его, я обратился к семье Исакова. Алексей Юрьевич, сын
Исакова, был против, он полагал, что «отец никогда не согласился бы на это.
Этот человек уже умер, живы его родные и близкие ему люди, они не
виноваты». Вдова Исакова, Ольга Николаевна, выразилась ещё более
определенно: «Категорически нет!».
Я знал этого человека, которого вынужден назвать здесь «господин X»,
лично. Он беспрепятственно поступил в университет, учился, стал
известным учёным; в разгар войны он имел возможность заниматься изучением
70
Азии, в то время когда все другие его коллеги были на фронте. Исакову часто
приходилось встречаться с ним по различным научным и общественным
поводам после возвращения в Москву из ссылки, во второй московский период
своей жизни. Алексей Юрьевич Исаков сообщил мне, что в хрущёвское
время, когда часто обсуждались преступления сталинского времени, коллеги
не раз предлагали его отцу вернуться к этому. Он этого не сделал, он
сохранял аристократическую сдержанность. Но глубоко спрятанная горечь и
холодность к доносчику сохранялись. Приведу один эпизод, о котором
рассказал мне мой московский друг Владимир Евгеньевич Флинт: на его 50-летие
в 1974 году к нему домой было приглашено много гостей, в том числе
Исаков и «господин X». Атмосфера была приятная и непринуждённая, гости
подни мали тосты за здоровье друг друга. «Господин X» подошёл к Исакову
и сказал: «Юрий Андреевич, ты плохо выглядишь, думаю, ты умрешь
раньше, чем я». После небольшой паузы Исаков задумчиво ответил: «Это
возможно, но ты, несомненно, покинешь этот мир более подлым, чем я...».
Тему быстро сменили.
В отличие от Германии, в России в 1990-е годы не были обнародованы
дела осведомителей, сотрудничавших с советскими органами безопасности.
Тем не менее, очень многие люди знали, кто, кому, а часто даже — и что
именно донёс. Меня удивляет такое терпимое, даже почти «полное
взаимопонимания» отношение к доносчикам. Что же касается самого «господина
X», то, по-видимому, у него была собственная легенда о своём прошлом. Мне
рассказывали, что в своё время (в начале 1930-х годов) он тоже был
арестован. В то время он был крайне предприимчивым молодым человеком, всегда
готовым к самым разным экстраординарным и неблаговидным поступкам,
попросту говоря хулиганом на жаргоне того времени. Одна из таких выходок
имела серьёзные последствия. Однажды он выстрелил в воздух из
пистолета, нелегально купленного где-то на базаре в Москве, и был задержан
милицией. После ареста ему объяснили, сколько лет будет «стоить» этот
выстрел и одновременно с этим предложили возможность освобождения на
определённых условиях. Так, под давлением, он стал доносчиком. Шантаж
для вербовки осведомителей в те годы применялся широко и этим, возможно,
объясняется «понимание» многих советских людей, которые приобрели
склонность причислять доносчиков даже к своего рода «жертвам»
политического режима.
Надо заметить, что эта манера распространяется вплоть до «высших»
российских правозащитных кругов: Сергей Ковалёв, один из основателей
российской правозащитной организации «Мемориал», недавно публично
осудил молодых немцев, добровольных помощников создания мемориального
71
музея ГУЛАГа «Пермь 36», за то, что они протестовали против зачисления
в штат бывшего сотрудника охраны того же ГУЛАГа...
Остается открытым ещё один вопрос: что же это было за стихотворение,
которое так трагически отразилось на жизни Исакова и его товарищей из
КЮБЗа? Пятеро арестованных не вернулось из лагерей, только один из
арестованных — Исаков — стал учёным! К сожалению, найти в Москве это
стихотворение пока не удалось. Но, без сомнения, оно до сих пор отлеживается
где-то в архивах НКВД/КГБ: советские карательные «органы» работали
тщательно, исторически осознанно и сохраняли документы. В России поэзия до
сих пор занимает важное место в общественном сознании, возможно, когда-
нибудь будет издан объёмный том с названием «Стихи из следственных
дел»?
Рис. 16. Профессор Юрий Андреевич Исаков с женой Ольгой Николаевной Сазоновой,
Москва, 1987 г.
72
* * *
Судьбы двух учёных из Советского Союза, о которых я рассказал, могут
показаться приключенческими историями со счастливым концом. Вопреки
всем невзгодам, их жизни в конце концов сложились относительно
благополучно. Необыкновенная сила характеров Л.О. Белопольского и Ю.А.
Исакова и немного везения были, как я думаю, ключом к такому исходу. Но было
бы заблуждением полагать, что такой счастливый конец был правилом, и что
в сталинскую эпоху органы безопасности не расправлялись жестоко с теми
учёными, которые по тем или иным причинам попали в поле их зрения.
Шокирующий пример этого — судьба одного учёного из Чехословакии.
Речь пойдёт о недолго прожившем орнитологе Велеславе Вале/Veleslav
Wahl (1922-1950), авторе вышедшей в 1944 году книги о птицах Праги и
около 25 других орнитологических публикаций (Veselovsky, 1991; Mareda,
1992).
Валь был единственным сыном в хорошо обеспеченной и уважаемой
семье пражского адвоката. Он с детства увлекался наблюдениями за
природой и в возрасте 15 лет уже опубликовал свою первую работу о птицах. Он
не прервал своих занятий орнитологией и после вторжения немецких войск
в Чехословакию и начала Второй мировой войны. Но одновременно Славек
(так называли его друзья) становится активным членом Сопротивления. Его
отец и дядя из-за участия в антифашистских акциях в 1942 году, вскоре после
покушения на немецкого наместника в Чехии Рейнхарда Хайдриха, были
казнены. Одному из друзей семьи, профессору зоологии Комареку удалось
«спрятать» Славека — он устроил его ассистентом в зоопарк в Праге. В
начале мая 1945 года Велеслав Валь принял участие в Пражском восстании,
после освобождения страны он стал самым юным членом Чехословацкого
национального совета (парламента). Он начал изучать в Пражском
университете юриспруденцию и биологию. Его руководителем был доцент Вальтер
Черни, известный чешский орнитолог. Но захват власти коммунистами в
1948 году снова поверг молодого политика и орнитолога в пучину
деятельности: он был против единовластия коммунистической партии, вступил в
тайную антикоммунистическую организацию и был арестован. На
состоявшемся вскоре судебном процессе Валь был приговорен к смерти.
Люди не верили в то, что приговор над юным интеллектуалом, героем
войны и Сопротивления будет приведён в исполнение. Многие хлопотали о
смягчении приговора. Школьному другу Велеслава удалось добиться приёма
У одного из министров нового коммунистического правительства, который
знал Славека ещё со времени совместной деятельности в Сопротивлении.
73
Рис. 17. Велеслав Валь, Прага, около
1944 г.
Когда друг Славека изложил министру свою просьбу, тот ответил: «Не
суйтесь в это дело, оно находится в ведении Москвы». Мать Славека подала
прошение президенту страны Клементу Готвальду, могущественному человеку,
имевшему право помилования; ей удалось также добиться встречи с
супругой президента и просить её о поддержке. Всё было напрасно. Ранним утром
16 июня 1950 года она стояла на террасе своего дома вместе с женой Славека
Таней и ожидала звуков колокола тюрьмы Панкрац, возвещавшего о
приведении приговора в исполнение.
В завещании Валь просил свою жену пожертвовать 200 000 крон из
семейного состояния на переработку книги «Птицы Чехословакии». Он не
знал, что ей тоже придётся провести долгое время в тюрьме. Но через сорок
лет воля Велеслава была исполнена: его вдова, которой после вторжения
войск Варшавского Договора в Чехословакию удалось эмигрировать в США,
в 1990 году передала денежную компенсацию, полученную от
правительства, Чешскому орнитологическому обществу. Научная часть завещания
Велеслава Валя была исполнена ещё раньше: доктор Черни стал инициатором
фундаментального многотомного издания «Птицы» в серии «Фауна
Чехословакии». Я не успел, к сожалению, расспросить Черни — он умер в 1975
74
году. Но я, наверное, не ошибусь, если скажу, что во время работы над этой
книгой он часто думал о своём юном ученике и его завещании.
* * *
В начале 1960-х годов я вновь побывал в короткой научной командировке
в университете Гумбольдта в Берлине. Заведующий отделом орнитологии
профессор Штреземанн как раз принимал гостью из Перу — доктора Марию
Кепке (Gebhardt, 1974: 46-47; Niethammer, 1974; Nowak, 1998: 337). Она
хотела выяснить у меня, хранятся ли ещё в зоологическом музее Варшавы
коллекции тушек птиц, собранных польскими исследователями в Перу в XIX
веке и привезённых в Варшаву. Она очень хотела посмотреть в Варшаве
некоторые важные типовые экземпляры, но не знала, пережила ли коллекция
Вторую мировую войну. Я взялся разузнать это и ответить на её вопросы.
Позднее, к сожалению, выяснилось, что полученные мной сведения
оказались ложными, что имело довольно неприятные последствия. Эта история
касается трёх учёных, о которых я хочу здесь рассказать.
Информацию о судьбе зоологической коллекции в Варшаве во время
войны я получил от профессора Владислава Рыдзевского/Wladyslaw Ryd-
zewski (1911-1980), который работал в университете Вроцлава/Бреслау с
1960 года (Tomialoj, 1980; Kuhk, 1981; Zimdahl, 1982; Feliksiak, 1987: 464-
465).
Перед Второй мировой войной, начиная с 1932 года, Рыдзевский был
ассистентом в зоологическом музее в Варшаве, с 1936 года он возглавил
станцию кольцевания птиц при музее. Уже в то время он пытался наладить
сотрудничество между европейскими учёными, изучающими миграции птиц.
В 1937 году он посетил орнитологическую станцию Росситтен на Куршской
косе, где его предложения были встречены с пониманием (Rydzewski, 1938).
Но реализации планов помешала начавшаяся война.
Во время военных действий в сентябре 1939 года Рыдзевский получил
тяжёлые ранения, но, несмотря на это, в 1940 году он примкнул к подпольной
Польской армии и занимал там ответственные позиции. В 1944 году он как
офицер сражался в Варшавском восстании. После поражения восстания он
был отправлен в лагерь для военнопленных в Германию. После
освобождения из лагеря ему пришлось провести много времени в больницах и
санаториях в Италии, Египте и Ливане. Позже он нашёл пристанище в Крайдоне в
окрестностях Лондона. Ему пришлось зарабатывать на жизнь в качестве
рабочего на фабрике, однако Рыдзевский продолжал научную деятельность: в
1954 году он защитил диссертацию в университете в Лондоне и основал
75
Рис. 18. Профессор Владислав
Рыдзевский из Вроцлава, 1965 г.
\
научный орнитологический журнал «The Ring». Он принимал участие в
экспедициях по кольцеванию птиц на Тенерифе и других островах Канарского
архипелага. В 1959 году Рыдзевский защитил диссертацию в Польском
эмиграционном университете в Лондоне и годом позже вернулся на родину в
Польшу. Там он получил звание профессора. Наряду с научной,
преподавательской и музейной работой во Вроцлавском университете он продолжал
издавать журнал «The Ring» и включился в работу Европейского
координационного совета по миграциям птиц «Euring».
Ещё за несколько лет до возвращения Рыдзевского в Польшу у меня
завязалась с ним переписка, а в 1958 году мы встретились в Хельсинки на 12-м
Международном орнитологическом конгрессе. Рыдзевский всё ещё
находился под впечатлением прошедшей войны и был резко настроен против
Германии. «Я никогда не поеду в эту страну», — сказал он мне. Его разочаровала
и Англия, поскольку он не смог устроиться там на постоянное место для
научной работы. Так что, в конце концов, он преодолел свой страх перед
коммунистической системой (этому способствовали и реформы 1956 года) и в
1960 году вернулся в Польшу.
76
Чрезвычайно важные сведения о судьбе коллекции птиц в Варшаве для
фрау Кепке я получил от Рыдзевского в начале 1961 года. Впоследствии они
оказались верными только отчасти, но речь об этом пойдёт чуть позже. Не
скрывая своей неприязни, он сообщил, что вскоре после оккупации Польши
немцами в Варшавский музей явился немецкий орнитолог, доктор Гюнтер
Нитхаммер. Он был в военной форме и потребовал выдачу всех типовых
экземпляров коллекции. Музей был уже в течение нескольких месяцев закрыт,
весь научный персонал уволен оккупационными властями, оставалось лишь
несколько человек — хранителей музея. Они сообщили посетителю в
мундире, что типовые экземпляры хранились отдельно от основной коллекции
и сгорели во время бомбёжек 1939 года (это было неправдой). Немедленно
после ухода военного они информировали о происшедшем куратора
коллекции Анджея Дунаевского, который оставался в Варшаве. Хотя ему было
запрещено посещать музей, он отправился туда и принял соответствующие
превентивные меры.
* * *
Доктор Анджей Дунаевский/Andrzej Dunajewski (1908-1944) был
куратором коллекций Зоологического музея Варшавы с 1933 года (Gebhardt, 1964:
79; Szczepski, 1964; Feliksiak, 1987: 140-141).
Детство Дунаевского прошло в Вене, где его отец работал в
Министерстве торговли. Позже он жил во вновь возникшей республике Польше. Ещё
будучи гимназистом, Анджей часто ходил на охоту и приобрёл незаурядные
знания по орнитологии. Он изучал зоологию и сравнительную анатомию в
Кра ковском университете и по завершении учёбы получил звание магистра.
Хотя в семье ему прочили карьеру дипломата, он поступил на работу
ассистентом в Зоологический музей в Варшаве и специализировался в области
систематики птиц под руководством доктора Януша Доманевского. В 1936
году Дунаевский долгое время находился в Берлине на стажировке у
профессора Штреземанна. Перед началом войны он был уже сложившимся
учёным, опубликовавшим около 30 важных работ, в том числе две книги.
Дунаевский был также одарён художественно: он сам делал рисунки для своих
книг. Осенью 1939 года Дунаевский должен был защищать диссертацию, но
этому воспрепятствовала начавшаяся война (есть предположение, что
некоторое время спустя он защитил диссертацию в Подпольном университете в
Варшаве).
После увольнения из музея оккупационными властями Дунаевский нашёл
работу в рыболовном тресте в Варшаве, но продолжал заниматься орнито-
77
логией и публиковать орнитологические труды. Как и многие варшавские
учёные, он примкнул к Сопротивлению, был солдатом Подпольной армии,
участвовал в Варшавском восстании и погиб. Вероятно, это произошло в
августе 1944 года. Обстоятельства смерти жены Дунаевского и его пятилетней
дочери остались неизвестными. Возможно, они погибли при бомбардировке
под развалинами своего дома в старом городе, или же задохнулись в одном
из подземных коллекторов сточных вод, в которых многие варшавяне
пытались спастись от немецких налётов. Против прятавшихся туда людей немцы
применяли химическое оружие — в водостоки бросали концентрированный
креозот или карбид.
Рис. 19. Аоктор Анджей Дунаевский из Варшавы, около 1938 г.
Но вернёмся к событиям в Варшавском музее в первый год оккупации:
как только Дунаевский узнал, что орнитологическая коллекция находится в
опасности, он тайно проник в музей и вынес некоторые ценные тушки, в том
числе и типовые экземпляры. Согласно архивным записям музея, это были
две картонных коробки примерно со 150-180 тушками мелких видов птиц
(профессор М. Луняк, перс, сообщ.). Остальные тушки были слишком
большими, и их транспортировка была бы чересчур опасной, кроме того, негде
было их спрятать. Эти две коробки Дунаевский унёс домой, и они стали
78
жертвой бомбардировок. Парадоксальным образом основная часть
коллекции, которая оставалась в музее, сохранилась, в том числе и большинство
тушек из Перу, так как здание музея уцелело, несмотря на военный хаос. Они
снова доступны исследователям.
Рыдзевский был близким другом Дунаевского как по профессиональным
делам, так и по совместной конспиративной работе в Варшаве. Имя Нит-
хаммера, которое сообщил мне Рыдзевский, рассказывая об эпизоде в
Варшаве, он, несомненно, слышал от Дунаевского. Дунаевский же, узнав от
персонала о визите в музей информированного посетителя в военной форме,
предположил, что это был Нитхаммер, поскольку во время своей стажировки
в Берлине познакомился с ним и его семьёй и знал, что он симпатизирует
нацистам. Из одной публикации Нитхаммера, вышедшей в 1942 году,
Дунаевский также узнал, что тот стал эсэсовцем.
* * *
Фрау Кепке из Перу, которая многие годы сотрудничала с музеем
Александра Кёнига в Бонне, вскоре после нашего берлинского разговора
прилетела в Бонн, где должна была встретиться с профессором Гюнтером Нит-
хаммером/Gunther Niethammer (1908-1974). Наряду с профессиональными
контактами между ними были дружеские отношения, и она решилась
рассказать ему о происшествии в музее, о котором узнала от меня. Реакция
Нитхаммера её крайне удивила: он заверил её, что ни разу во время войны не
был в Варшаве и никогда не пытался забрать никаких тушек из Варшавского
музея!
В то время я уже был знаком с Нитхаммером, но он был так потрясён моим
обвинением, что не хотел мне больше писать. Вместо этого он предложил
моему хорошему другу, доктору Вильфриду Пшигодде из Эссена попросить
у меня объяснений по этому поводу. Я обратился с такой же просьбой к Рыд-
зевскому, но он дал мне только короткий ответ такого содержания: «Если это
был и не Нитхаммер, то значит, какой-нибудь другой немецкий орнитолог-
нацист в форме»...
Я был потрясён тем, что моя прямота привела к такой интриге! Прежде
всего, я письменно извинился перед Нитхаммером. Я опроверг также мой
рассказ об эпизоде в Варшавском музее везде, где его слышали (Штреземанн
ещё целый год был со мной холоден, но Нитхаммер простил меня). И всё-
таки перед моей следующей поездкой в Бонн я должен был выяснить правду
о Нитхаммере: наши утверждения должны основываться на проверенных
фактах. Я расспросил моих немецких коллег. По их словам, Нитхаммер в мо-
79
лодости был настроен патриотически, но мало интересовался политикой и
совершенно ею не занимался. Все в один голос рассказывали прежде всего
о его профессиональной компетенции, уме и трудолюбии, называли его
«трудоголиком» (этой характеристике соответствует и число его публикаций).
Кроме того, все характеризовали его как человека крайне порядочного.
Профессор Вильгельм Майзе, например, сообщил мне, что чуть было не потерял
своё место в Зоологическом музее в Дрездене, потому что новый директор
доктор Ганс Куммерлёве хотел принять на его место Нитхаммера (у Майзе
было трое детей). Когда Нитхаммер узнал об этом, то сразу же
категорически отказался от должности. Рассказы о его нацистском прошлом были,
однако, противоречивы и не принесли ничего нового. В то время я знал только,
что в предисловии к третьему тому «Птиц Германии» («Handbuch der De-
utschen Vogelkunde») 1942 года издания имя Нитхаммера напечатано с
приставкой «служащий войск СС» и что после окончания войны он был
арестован и провёл какое-то время в Краковской тюрьме. Необходимую
информацию должны были содержать акты судебных приговоров, поэтому
я написал в различные инстанции в Краков и в Варшаву.
Нитхаммер со своей стороны также проявил инициативу и попытался
выяснить, кем же был варшавский визитёр в форме. Подозрение пало на его
друга, доктора Куммерлёве, который не отрицал, что действительно был в
то время в Варшаве, но настаивал на том, что «никогда не требовал выдачи
коллекций из музея». По его словам, он «приехал в Варшаву только для того,
чтобы проверить, всё ли сделано для того, чтобы надежно защитить
коллекции в условиях военного времени» (письмо Пшигодды от 25.11.1962 г.).
Такое объяснение не прибавило ясности. Но то, что эта история в самом деле
имела место, подтверждает и Штреземанн: во время войны он получил
официальное предложение перевезти всю коллекцию птиц из Варшавского музея
в Берлин, но отказался. Штреземанн знал Дунаевского, куратора варшавской
коллекции, и очень ценил его.
Между тем мои поиски увенчались успехом: в одном из варшавских
архивов (Главная комиссия по расследованию гитлеровских преступлений в
Польше) был найден приговор Нитхаммеру! Нитхаммер изложил свою
историю польскому судье на допросе устно, а также представил письменно.
Кроме того, к делу приложен составленный и подписанный им документ,
носящий название: «Сообщение доктора Гюнтера Нитхаммера о его жизни в
период войны и его связях с НСДАП5» (146 машинописных страниц). Это
5 NSDAP — национал-социалистическая рабочая партия Германии, официальное название
гитлеровской партии. — прим. перев.
80
сочинение произвело на меня впечатление очень правдивого, но
одновременно и очень наивного документа (рис. 20).
Я хочу рассказать здесь о жизни Нитхаммера, особенно о её «нацистском»
периоде, на основе биографических публикаций о нём, судебных актов из
его дела и других документов из архивов (Федеральный архив в Берлине,
ранее Берлинский центр документов), архив музея Освенцим/Аушвиц-Бир-
кенау, архив Саксонсокого орнитологического общества) (см. также Nowak,
2002а: 18-27).
Нитхаммер появился на свет в Вальдхайме, в Саксонии, в семье
фабрикантов. В 1927 году он поступил в университете в Тюбингене, где изучал
биологию, в 1929 году продолжил учёбу в Лейпцигском университете. В 1932
года он получил там степень доктора. В Лейпциге он нашёл дружескую
поддержку у сокурсника, уже искушённого в орнитологии, Ганса Куммерлёве.
Счастливое стечение обстоятельств привело Нитхаммера через некоторое
время в Берлин к Штреземанну, который предложил ему заняться
переработкой книги «Птицы Германии» («Handbuch der Deutschen Vogelkunde»).
Юный, но многообещающий учёный с блеском выполнил эту задачу (Geb-
hardt, 1974: 64-66; Immelmann, 1974; Kumerloeve, 1974; Wolters, J. Nietham-
mer, 1974).
Выход в свет первого тома этой книги в 1937 году открыл Нитхаммеру
путь к профессиональной карьере, которая прервалась было из-за начала
Второй мировой войны, но вскоре целенаправленно продолжилась:
• 1937 год. Получение места куратора в Зоологическом музее при
Государственном институте Александра Кёнига в Бонне и вступление в НСДАП,
«которое мой начальник господин доктор фон Иордане (в настоящее время
директор музея в Бонне) не только одобрял, но и считал оправданным с
точки зрения успешного продолжения работы в музее», — пишет
Нитхаммер в 1946 году в своем разъяснении в тюрьме. И дальше: «В партии
я не занимал абсолютно никаких должностей, в том числе и в качестве
заместителя; я даже не имел членского билета». Дополнения можно найти
в членской карточке НСДАП Нитхаммера в федеральном архиве в
Берлине: заявление о приёме от 25.11.1937 г. и зачисление задним числом от
15.05.1937 (№5613683).
• 1939 и начало 1940 годов. Заявление о добровольном вступлении в военную
авиацию (Luftwaffe) — у Нитхаммера были права на управления
спортивным самолётом. Его заявление было, однако, отклонено ввиду возраста.
• 1.04.1940 г. Переселение в Вену; здесь он заведует отделом в Музее
Естественной истории (в одном из некрологов написано, что это произошло
«по ходатайству Куммерлёве»).
81
Zu BeajyuMt dee Kriegea war ioh ale Aeeistent am. Museum A.Ioenig in1 BontfwF
tatig.Ich war ungedient.w'ahrend meine 4 alterenBrtider Reserve-Offiziere~~»*^
waren und echon am ersten Iriegetage einrtickten.Dass ich ausgeTechnet"al»
der ^ungate (meine beiden alteren Brttder haben sohon den l.Weltkrieg mitge»
macht)zu Haus blelben sollte,erschien mlr so ungereeht,dass ich es fur meine.
Pflicht hielt,mich freiwillig zu einer Frontverwendung zu melden,Ale-alter5g*
Sportflieger stellte ich mich der Luftwaffe zur 7erfUgungfwurde aber abgelehit
da " die doutsche Luftwaffe gentigend Flieger " jhabe. Spate* um die Jah^ejfr»ae
1939/40fmeldete ich mich wiederum als Flieger und «war auf den Hat einee *
Bekannten hin dlrekt bei a Keicheluftfahrt-Ministerium'.Ton dort- erhielt ioh %
ein тот 6.1ijtrz datiertes Schreibenf in welchem aein .Gesueh aber male absohXITgig
beantwortet wurde und zwar wiSrtlich wie folgt : " Auf tnr Gesueh vom 31Л>40*
t'otr.Ausbildung sum Flugzeugftihrer ouer Hilfsbeobaob/ber wir Innen aitgeteilt,
dass bei aller Wurdigung Ihrer Einsatzbereitschaft Ihre. Uebernahme in die
fliegerieche Ausbildung wegen TJebersohreltung der Altersgrenze abgelehrit wer»
den muss."(Original dieses Bpiefes vom "Reichsminister der Luf tf ahrtL und Ober
befehlshaber der Luftwaffe" in meinem Besitz),„
Inzwisohen erhielt ich einen Ruf als Abteilungsleiter am ffaturhistori:seaen
Museum In ffien.dem ioh am 1,April 1940,Ftlge leistete,D0rt versuchte ieh; ttn*
letztenmale,bei der Luf twaffe anzukemmen,aber wiederum-ohne 2 «folg; longest/»-'
schloss mich daher,mich bei einem anderen Truppenteile zu melden.Boch'Bewehl
bei der Flak wie auch bei der Infanterie wurde ich abgelehnt,Anfang Jnniibe»
gleitete ich einen Freundfder in Aspern zur Flak einruckte,Mit Einverstttnd*
nis des Komp.Chefs schloss ich mioh dieеег Kompagnie an,wurde aber sohon am
zweiten Tage auf Einspruch des Abteilungsleiters wie der nach Haue geechiekt,
da meine Abstellung nicht ordnungsgemass d,d,Wehrbezirkskommando erfelgt war*
x Kurze Zeit spater sagten mir Bekannte,dass' die Waf fen-SS • Freiwiiligil'•
nehmen wurde.Da alle meine Beratihungen btsher. yergeblioh ^geweeen waren rmeldete
ich mich nunmehr bei der Waffen-SS fur eine Fr6n;tyerwendungfwobei airuus*'
&rucklich versprochen wurde,mioh zu einem motorisierten TpuppenteU'eu^ubei^
sullen,Auf diese Keldung hin: erhielt, ich. E»de. September 1940 einen Stellunge=
befehl nach dem K.L.Oranienburg.Als ich.. mien,Дог? -am 15 jiOkteoer* 1940 elnfand, !
wurde ich noch am gleichen Tage nach dem 1С,&,Auschwitz alitrarispor^rlert^dasi*
ich damals nicht einmal dem Namea naoh kannte.
Puc. 20. Начальные строчки личного объяснения Нитхаммера о его нацистском
прошлом.
• 1940 год. Возобновил попытку вступления в вооруженные силы —
безуспешно; после этого он вступает в войска СС (Федеральный архив в
Берлине); принят в мае 1940 г. под номером 450730.
• Конец сентября 1940 года. Приказ о зачислении в одно из подразделений
СС в Ораниенбурге; сразу же переведён в одно из подразделений СС в
оккупированной Польше, в город Освенцим (немецкое название — Ауш-
виц). Здесь проходит краткий курс военного дела.
• 16.10.1940 г. — 15.10.1941 г. Член охранного отряда СС в концен тра-
ционном лагере Аушвиц. Фактический род служебных занятий —
преимущественно в охране у главных ворот лагеря (рис. 21), только в течение
6-7 недель.
• Конец марта 1941 года. Рапорт с просьбой о получении других служебных
обязанностей, которая была удовлетворена: комендант
концентрационного лагеря Аушвиц, штурмбанфюрер СС Рудольф Гёсс разрешает Нит-
хаммеру проводить наблюдения за птицами в окрестностях лагеря и за-
82
ниматься их препарированием в целях изготовления тушек для местной
немецкой школы.
Ф Конец 1941 года. По ходатайству профессора Фрица фон Веттштейна,
директора Института Кайзера Вильгельма в Берлине-Далеме, а возможно —
и других лиц, Нитхаммер отозван из Аушвица и переведён в Отдел науки
Главного командования Вермахта. До 31 августа 1942 года он работает в
качестве зоолога в оккупированной Греции.
• Май 1942 года. В ежегоднике Музея естественной истории Вены (том 52,
стр. 164-199, издатель Г. Куммерлёве) выходит работа Нитхаммера
«Наблюдения за птицами Аушвица (восток Верхней Силезии)». Позднее
опубликовано ещё два небольших дополнения к этой работе: в «Сообщениях
Силезского орнитологического общества», 1942, том 27: 30-34, и в
«Анналах Венского музея», 1943, том 53: 337-339.
• Сентябрь — октябрь 1942 года. Новое короткое пребывание в Аушвице и
12.10.1942 г. — официальное назначение в особую команду «К» войск СС
(они же Ваффен СС) под командование штурмбанфюрера доктора Эрнста
Шеффера6.
• Середина 1944 года: Нитхаммер переслал оттиск своей работы «О птицах
Крита», опубликованной в Вене, лейтенанту Бакстону — «английскому
коллеге, который был взят в плен на Крите и находился в немецком лагере
для военнопленных в Айхштетте, земля Франкен. Благодаря лейтенанту
Бакстону и Красному Кресту я смог переслать мою работу в Англию, и её
реферат был помещён в один из английских орнитологических журналов»,
— пишет Нитхаммер в 1946 году.
• Май 1944 года. Увольнение из особой команды «К» и назначение в
Институт гигиены СС в Берлине в качестве зоолога (научная командировка
в Болгарию и Триест до начала 1945 года).
6 При германском министерстве иностранных дел по инициативе Риббентропа в 1941г. была
создана специальная «группа Кюнсберга», получившая название благодаря своему шефу штурм-
банфюреру СС, барону Эберхарду фон Кюнсбергу. Группа должна была проводить реквизицию
культурных ценностей в оккупированных странах. Риббентроп приказал основательно
«прочесать» все научные учреждения, институты, библиотеки, архивы и всё, что обнаружится
важного и ценного, реквизировать и вывезти в Германию. В 1942 г. группа Кюнсберга была
преобразована в батальон особого назначения СС. На восточном фронте действовали вторая и
четвёртая роты батальона. Именно специалистами второй роты изымались ценные книги из
коллекций пригородных дворцов Ленинграда. Четвёртая рота активно действовала на южном
направлении. О её разнообразных интересах говорит список командного состава: гаупт-
штурмфюрер Краллерт — картограф МИД, зондерфюрер Паульстен — славист, зондерфю-
рер Либен — экономист. Существовала и другая группа «К» — организационный штаб
«Кавказ», созданный в 1941 году в связи с планом «Преобразования Кавказа» после его оккупации.
См.: «Евразийский вестник», № 2, 2000. — прим. прев.
83
• 22.04-8.05.1945 г. Участие в военных действиях в Саксонии в качестве
пехотинца Вермахта в 269-й дивизии.
• Май 1945 года. Нитхаммер спасается от плена: саксонский орнитолог
Рихард Хейдер в Одеране снабжает его гражданской одеждой и
велосипедом; на этом велосипеде он достигает Марбурга в Западной
Германии.
Побег на запад имел много причин, главной был, конечно, страх перед
наступающими советскими войсками из-за принадлежности к СС: у Нит-
хаммера была соответствующая татуировка7. Но и на западе было
небезопасно: во всех трёх оккупированных зонах Германии оккупационные
власти искали людей, причастных к работе в концентрационных лагерях.
Поэтому Нитхаммер решил сначала «исчезнуть»: об этом он пишет Хей-
деру в письме от 29.01.1946 г.: «В конце мая в Марбурге я случайно
встретил на улице Иоахима Штейнбахера и вскоре после этого — Боксбергера,
который занимал должность ландрата8. С июня я получил профессию
ночного сторожа в доме сирот, который восстанавливают после разрушения.
Он расположен в живописном сельском местечке Нойхоф [окрестности
Марбурга], и у меня была возможность собрать неплохую коллекцию
мелких млекопитающих (130 тушек 19 видов). Кроме того, я работал на
поприще сельского хозяйства, превратившись в своего рода «швейцарца»,
причём в конце концов к моим обязанностям присоединились кормление и
дойка стада. Последнее оказалось не таким уж трудным делом, и я даже
прослыл опытной «дояркой», хотя мне никогда до этого не приходилось
держал в руках вымени (последнее обстоятельство я благоразумно скрыл).
Осенью я сменил профессию и устроился на фармацевтическое
предприятие Беринга [в Марбурге] на ответственную должность прокормителя вшей
[производство вакцин против сыпного тифа], причём был признан
достаточно сочным. Здесь я бы ещё долго продержался, если бы между тем не
возобновилась связь с Иордансом, который находится в Бонне. Уже в
декабре я посетил его, и мы планируем возвращение к научной деятельности
на поприще зоологии. Я разговаривал об этом и с англичанами.
Послезавтра я собираюсь ехать в Бонн...».
Профессор Адольф фон Иордане, в то время директор музея Александра
Кёнига в Бонне, проконсультировался с английскими оккупационными
властями и получил от них рекомендацию и неопределённое обещание:
Нитхаммер должен явиться в соответствующие инстанции для проверки и
затем будет освобождён. Об этом Иордане пишет Хейдеру: «С разрешения
7 Все эсесовцы имели подмышкой специальную татуировку. — прим. перев.
8 Начальник окружной администрации. — прим. перев.
84
Рис. 21. «Обыску ворот лагеря». Концентрационный лагерь Аушвиц, слева вверху
видна команда охраны у главных ворот; акварель бывшего заключенного В. Сивека из
музея Аушвиц/Биркенау (Освенцим).
Нита я вскрыл адресованное ему письмо от Вас от 16.11, которое получил
вчера. Он приехал три недели назад и пробыл у нас 10 дней, прежде чем
уехал снова. Теперь он ни для кого не доступен — очень надеюсь, что не
больше чем на 6-8 недель. Я сам посоветовал и подготовил ему это
окончательное «урегулирование», верю и надеюсь, что это для него самый
лучший выход».
Следующий период жизни Нитхаммера можно восстановить по
документам из Варшавского архива: в начале февраля 1946 года Нитхаммер
обратился в 320-й отдел безопасности Британских войск в Бонне; 11 февраля он
был отправлен в лагерь для интернированных Реклингхаузен (4.ICIC) под №
410448 (рис. 22), затем переведён в лагерь Ноенгамме (6.ICIC); 22 ноября
того же года, на основании договора между союзными войсками (и вопреки
обещанию англичан, данному Иордансу) Нитхаммер был выслан морским
путём через Любек в Польшу. Здесь его поместили как подозреваемого в
тюрьму Монтелупих в Кракове. Только через год, 11 ноября 1947 года, было
выдвинуто обвинение против группы охраны СС в концентрационном
лагере Аушвиц. Нитхаммеру в числе прочего были предъявлены следующие
85
обвинения: служба в войсках СС, «имеет соответствующую татуировку»;
«служба в вооруженной охране в концентрационном лагере и пособничество
совершённым там преступлениям; при прибытии в Аушвиц ему было
известно, что там происходит». В результате судебного процесса Окружного
суда Кракова 4 марта 1948 года был вынесен приговор: обвиняемый
Нитхаммер приговорён к 8 годам тюремного заключения, 8 годам поражения в
общественных и гражданских правах и изъятию имущества (минимальный
срок на этом процессе составлял 5 лет, максимальный — 10).
Приговор был суровым (по крайней мере, с сегодняшней точки зрения)!
Конечно, последовали прошения о смягчении приговора и о помиловании.
Фрау Нитхаммер (оставшаяся в Бонне с четырьмя детьми) предлагала
допросить в качестве свидетеля доктора Дунаевского и подавала прошение
президенту Польши. Сам Нитхаммер обращался в прокуратуру с просьбой
разыскать бывшего заключенного по фамилии Грембоцки, который
помогал ему в орнитологической работе в концентрационном лагере —
препарировал птиц — и определённо не может сказать о нём ничего плохого.
(Суд отклонил просьбу, но я проследил судьбу этого человека. Его имя было
Ян Грембоцки, 1908 года рождения, лесничий, политический заключенный
под номером 136, позже переведён в концентрационный лагерь Нойен-
гамме9под номером 18434, где его след в конце 1944 года теряется.
Возможно, он погиб на одном из кораблей «Кэп Аркона» или «Тильбек»,
затонувших в результате бомбардировок союзными войсками в бухте у Любека
3 мая 1945 года...).
Тогда Нитхаммер обратился в Кракове к адвокату, который послал запрос
о пересмотре приговора в Верховный суд Польской республики.
Осенью 1948 года дело Нитхаммера было принято к пересмотру, и вскоре
Верховный суд на заседании в Каракове отменил приговор и принял решение
о пересмотре дела. В обосновании было указано, что районный суд Кракова
не принял во внимание или недостаточно учёл смягчающие обстоятельства.
Было особо подчёркнуто, что Нитхаммер, после того как лично узнал
полную правду об Аушвице, настойчиво просил о переводе на другую службу и
действительно был переведён. Новый приговор Окружного суда Кракова был
вынесен 7 декабря 1948 года: 3 года тюремного заключения с учётом
предварительного следственного заключения с 29 сентября 1946 года; 3 года
поражения в общественных и гражданских правах, изъятие имущества (его
портмоне с несколькими банкнотами есть в деле). Вскоре Нитхаммер был
отправлен в тюрьму Мокотов в Варшаве и между 10 и 12 ноября 1949 года
9 Окрестности Гамбурга. — прим. перев.
86
Рис. 22. Аоктор Гюнтер Нитхаммер, фотография в
британском лагере для интернированных Реклингхаузен,
1946 г.
освобождён и выслан из Польши железнодорожным транспортом; 14 ноября
он прибыл в Ганновер. В начале 1950 года он снова приступил к работе в
музее Александра Кёнига в Бонне.
Почти двадцать лет спустя я пил кофе с Нитхаммером и его женой в саду
при музее в Бонне. Наш разговор был довольно откровенным. Фрау
Нитхаммер (которая знала польский) рассказывала о тяжёлых послевоенных
годах. Она хвалила многих людей, которые помогли её мужу, и сетовала на
английских коллег, которые даже не отвечали на её письма. Она не мота,
конечно, тогда знать, что материалы судебного дела свидетельствуют совсем о
другом: мнения немцев в те годы судом во внимание обычно не
принимались, и инициаторами пересмотра приговора были как раз англичане!
Англичане, правда, не обращались к польскому суду и не представили никаких
свидетельств. Вместо этого они привлекли Генерального адвоката
Британской армии, и он обратился с просьбой о справке по делу Нитхаммера в
Комиссию объединённых наций по расследованию военных преступлений
(UNWCC) в Лондоне, состоящей из представителей разных стран. Польского
делегата этой комиссии полковника доктора М. Мушката просили
установить степень личной вины Нитхаммера. Были привлечены также британские
органы власти в Германии: шефу польской военной миссии в Бад Зальцуф-
лене капитану Р. Спасовскому они сообщили о намерении дистанцироваться
от британского решения выдачи Нитхаммера в Польшу, если не придёт
удовлетворительный ответ (в скобках замечу: этот самый Спасовский был
послом Польши в США и в конце 1981 года, после возникновения кризиса в
87
N
Рис. 23. Уже летом 1951 года доктор Нитхаммер (слева) принялучастие
в научной экспедиции в Боливию (на фотографии с местным
орнитологом Дон Карлосом в горном лесу в окрестностях Кокабамбы).
Польше, просил у президента Рональда Рейгана политического убежища). С
некоторым опозданием был получен ответ в виде нового судебного
приговора. Британцы были удовлетворены.
Но был и ещё один человек, сыгравший важную роль в деле Нитхаммера:
доктор Влодзимеж Марцинковский из Кракова, тюремный врач (он был
также психологом, и опубликовал свои впечатления о немецких
заключённых в одной из краковских газет). С Нитхаммером он свёл более близкую
дружбу и — как он рассказывал одному своему краковскому знакомому —
заботился «о немецком орнитологе» (Я. Пиновский, перс, сообщ.). Во время
судебного процесса он в качестве свидетеля выступал в защиту Нитхаммера;
в протокол внесены следующие его высказывания: «Из разговоров, которые
я вёл с ним, я вынес убеждение, что он хороший человек и добросовестный
учёный. Будучи немцем, он в полной мере разделяет вину за все жестокости
немцев, но при этом не чувствует за собой личной вины. Он рассказывал
мне, что во время своего пребывания в Аушвице, где он некоторое время
служил в охране, вместо того, чтобы издеваться над поляками, он проводил
много численные орнитологические наблюдения в окрестностях и
препарировал птиц. Я хочу ещё подчеркнуть, что в тюрьме обвиняемый ведёт себя
по отношению к другим немецким и польским заключённым очень вежливо
и корректно. На мой вопрос обвиняемому о том, знал ли он, что предста-
88
вляет собой Аушвиц, он ответил — в противоположность другим немцам из
заключённых, что достаточно оказаться там на одно мгновение, чтобы
понять, что там происходит и какое это огромное преступление». Позже Нит-
хаммер рассказывал мне, что Марцинковский сделал его тюремным
аптекарем, что, конечно, очень помогло ему выжить, так как работы, на которых
использовали заключённых (добыча угля в Яворно), были очень тяжёлыми.
Нитхаммер и Марцинковский сохраняли дружеские отношения и
переписывались до начала 1960-х годов.
Был ещё один человек, который готов был дать чрезвычайно позитивные
показания — профессор Я. Соколовский, орнитолог из университета в
Познани (ср. стр. 240), но он не был допущен судом в качестве свидетеля.
В конце 1960-х годов я познакомился с доктором Анджеем Заорским,
врачом из Варшавы, который рассказал мне кое-что интересное об аушвицкой
публикации Нитхаммера. Вскоре после освобождения заключённых из
концентрационных лагерей Красной Армией 27 января 1945 года, Заорский был
направлен с группой врачей польского Красного Креста в Аушвиц
(Освенцим) для спасения ещё остававшихся в живых узников, которые находились
в особых постройках, так называемых «лагерных больницах». Он
рассказывал ужасные вещи (Bellert, 1977: 263-271). Заорский обследовал весь лагерь,
в том числе и жилые постройки персонала, где он с удивлением нашёл
многочисленные дуплянки для птиц. В служебном кабинете коменданта Гесса в
уже открытом сейфе он обнаружил оттиск статьи Нитхаммера «Птицы Ауш-
вица» с благодарственной надписью Рудольфу Гёссу от автора. Он был
потрясён этими открытиями.
Здесь уместно, наконец, задаться несколькими вопросами: 1) Почему
Нитхаммер так настойчиво стремился на военную службу и в конце концов
поступил в СС? 2) Что он вынес из этой службы? 3) Какую карьеру сделал? 4)
Как понимать его благодарность в адрес Рудольфа Гёсса?
Настойчивость Нитхаммера в его стремлении стать солдатом объяснить
нелегко. Война против Польши, Франции, Дании и других европейских
стран очень быстро закончились, а с Советским Союзом в то время
Германию ещё связывала «крепкая дружба». В 1946 году Нитхаммер объяснял
свою настойчивость тем, что «четверо старших братьев были офицерами
резерва и их мобилизовали уже в первые дни войны». Возможно, что это
так. Но возникает подозрение, не надеялся ли Нитхаммер на то, что
военная форма откроет ему более широкие возможности в плане научных
экспедиций? Воодушевляющий пример был перед глазами — экспедиция в
Тибет Эрнста Шеффера, состоящего на службе в СС. Куммерлёве, друг
Нитхаммера и директор музея, как раз настаивал на усилении экспеди-
89
ционной деятельности музея. Организованная им в 1942 году из Вены
экспедиция в Пелопоннес и на Крит, в которой принял участие и Нитхаммер,
выполняла в числе прочих также и задачи командования Вермахта.
Возможно, что Нитхаммер решился поступить в СС из конформизма или же
по совету или под давлением коллег, которые в большей степени, чем он,
восприняли фашистский режим. В конце концов, не имеет значения, из
каких соображений он исходил — конформизма, семейной солидарности
или патриотизма: это был опрометчивый шаг, и человек с его уровнем
интеллекта не мог не понимать уже тогда, о какой войне и о каком
политическом режиме идёт речь!
На суде в Польше Нитхаммер подтвердил, что ещё до прибытия в Аушвиц
знал, что представляет собой концентрационный лагерь. Но никаких знаний
и даже богатой фантазии в 1940 году было недостаточно для того, чтобы
представить себе, что же на самом деле происходит в Аушвице и что там
будет происходить в ближайшем будущем. Как сотрудник охраны главных
ворот лагеря (пост «Г») и как наблюдатель птиц в районе площадью 40 км2,
в котором как раз в период службы Нитхаммера было начато строительство
нового лагеря Аушвиц II, называемого также «Биркенау», он очень скоро
должен был узнать правду: как раз напротив поста охраны «Г», где был карьер
для добычи гравия, убивали заключённых; у главных ворот разыгрывались
драматические сцены при возвращении рабочих колонн в лагерь (рис. 21);
уже с августа 1941 года в основном лагере людей сотнями убивали в газовых
камерах; во второй половине 1941 года 9 000 советских военнопленных
(политработников?) были размещены на стройке у главных ворот возле поста
охраны, почти все они умерли от голода. Но и это ещё не всё: недалеко от
деревни Биркенау, где Нитхаммер проводил свои орнитологические
наблюдения, в первой половине 1942 года началось массовое уничтожение людей в
газовых камерах; с сентября 1942 года трупы сжигали прямо на открытых
территориях. Непосильные штрафные работы, которые выполняли и
заключённые из соседнего женского лагеря, производились как раз вблизи рыбо-
разводных прудов, которые особенно интересовали исследователя птиц. (В
ходе работ пруды «модернизировали», в числе прочего их дно выравнивали
человеческим пеплом!). И хотя четыре высокопроизводительные
«современные» газовые камеры (каждая по 237 м2, то есть примерно на 2 000
человек) были введены в действие в Биркенау уже после того, как Нитхаммер
покинул лагерь, он не мог не успеть основательно ознакомиться со всеми
методами массового уничтожения людей.
Возможно, под влиянием этих впечатлений Нитхаммер не захотел делать
карьеру в СС. Только однажды он получил повышение: комендант лагеря за-
90
читал ему приказ от 2 июля 1941 года о присвоении ему звания штурмана
СС (ефрейтор). В объяснении, которое Нитхаммер написал
допрашивающему его судье, он упомянул, что ему два раза предоставлялась возможность
стать кандидатом на должность командного состава СС (унтерофицера или
офицера) с тем условием, что он порвёт с верой, но он отклонил это
предложение. После ухода из Аушвица он получил в декабре 1942 года воинское
звание унтерштурмфюрера (унтерофицер или младший лейтенант), а 1 мая
1944 года — оберштурмфюрера (оберлейтенант или старший лейтенант) в
области своей научной специальности, но в войсках СС он остался
штурманом. Его учётная карточка (Федеральный архив, Берлин) не содержит больше
никаких примечательных записей, и 12-я графа, в которую вносили награды
и чествования, не содержит никаких записей, кроме отметки о двух
бронзовых наградах за спортивные достижения.
Одну обязанность в Аушвице Нитхаммер, однако, исполнял с
удовольствием, о чём он пишет 25 августа 1941 года в письме Штреземанну (Haffer
et al., 2000: 128): «Я здесь своего рода СС-егермейстер концлагеря, у меня
есть ружье, с которым я езжу на велосипеде по окрестностям». Сохранился
и опубликован особый приказ коменданта от 9 июня 1941 года о том, что
Нитхаммер «назначается ответственным за отстрел дичи и хищников на
прудах в окрестностях Аушвица» (Frei et al., 2000: 45). Для начальства это
направление его деятельности, конечно, было более важным, чем
препарирование птиц и изучение авифазшы окрестностей лагеря: в бумагах Нитхаммера
(архив музея Александра Кёнига) я нашёл квитанции, счета и расписки, из
которых следует, что он обеспечивал дичью эсэсовский коллектив лагеря.
Особенным спросом пользовались дикие утки: их Нитхаммер отдавал
бесплатно или за плату. Так, например, комендант лагеря Гёсс получил
(бесплатно) «76 больших уток и 2 маленьких»; список других клиентов
включает 42 персоны.
Перейдём к четвёртому вопросу. Гёсс, находясь в польской следственной
тюрьме, написал о себе и своей деятельности в Аушвице книгу (она была
издана позднее: Hoess/Hoss, 1956, 1958)10. Он описывает множество
незначительных эпизодов, но нигде не упоминает Нитхаммера. Возможно, Гёсс
не хотел привлекать к нему внимание (он не знал, что Нитхаммер сам
заявил о своей службе в СС и уже находился в тюрьме). Есть, по крайней мере,
одно заслуживающее доверия свидетельство о том, что Нитхаммер только
в оккупированной Польше понял, что же представляет собой СС, и поэтому
10 В 1947 году, после «освещимского прогресса», несколько десятков нацистов из обслуживающего
персонала были приговорены к смертной казни и повешены, в их числе — комендант лагеря Р.
Гёсс. Подробнее см. книгу Г. Ионкис «Евреи и немцы», СПб., 2006. — прим. перев.
91
стал искать пути освобождения от службы. В 1941 или 1942 году он
посетил интересующегося орнитологией немецкого врача Отто Наторпа,
который жил в местечке Мысловице, примерно в 30 км от Аушвица, и рассказал
ему о своем положении. Об этом я узнал от дочери Наторпа, фрау Эльзы
Наторп (Марквартштейн); она рассказала, что когда гость пришёл к ним, то
был в таком состоянии, что первые полчаса не мог произнести ни слова:
«Ничего не говорил, ни слова». К сожалению, Нитхаммер ничего не писал
об этом эпизоде своей жизни, хотя возможность для этого была: в 1956 году
в «Journal fur Ornithologie» был опубликован некролог Нитхаммера об Отто
Наторпе, в котором вскользь упомянут этот визит в Мысловицы, но
Нитхаммер не приводит ни дату, ни содержание разговора. Определённо он не
хотел отклоняться от темы (что по-человечески очень понятно). Но я думаю,
что самую важную роль сыграл другой фактор: в процветающей,
самоуверенной Западной Германии слово Аушвиц не принято было произносить «в
высшем» обществе, никто не хотел ни слышать, ни даже читать его11!
Служба в Аушвице стала для Нитхаммера поворотным пунктом в
политическом и мировоззренческом смысле. Я думаю, что благодарственная
надпись на оттиске Рудольфу Гёссу — это и выражение признательности за
свои личные льготные условия, и попытка симулировать верность, и
надежда на то, что удастся избежать подобного в будущем. Одним словом,
смесь конформизма и страха.
Но не только сам Нитхаммер в послевоенные годы неоднократно порицал
своё прошлое (в частности — в разговорах со мной), но и прошлое не
оставляло его самого: его желание занять место директора музея Александра Кё-
нига в Бонне, совершенно оправданное с точки зрения его научных
достижений и профессионализма, не смогло осуществиться. В 1967 году он был
избран президентом Немецкого орнитологического общества, но ввиду его
нацистского прошлого это вызвало протесты со стороны некоторых членов
общества. Как раз в это время у Нитхаммера взял интервью австриец Герман
11 В конце 1950-х годов в Западной Германии было прекращено судебное преследование за
преступления времён национал-социализма. Страна поднялась из руин, и западные немцы
готовились пережить «экономическое чудо». Национальная самокритика была не по душе
большинству немцев. «Жестяной барабан» Гюнтера Грасса, ныне Нобелевского лауреата, а в
то время молодого и никому неизвестного писателя вызвал скандал и негодование в обществе.
Демонстрация многосерийного американского фильма «Холокост» была ещё впереди. Только в
1963 году, благодаря усилиям выживших узников Освенцима и при активном содействии
прокурора земли Гессен Фрица Бауэра, к суду были привлечены 22 эсэсовца из лагерной
администрации. Судебное разбирательство длилось два года и сыграло роль катализатора в
процессе покаяния немецкого общества. См. Г. Ионкис «Евреи и немцы», СПб., 2006. См. также
примечание к очерку о Конраде Лоренце. — прим. перев.
92
Рис. 24. Профессор Гюнтер Нитхам-
мер из Бонна, около 1965 г.
Лангбайн, бывший заключенный Аушвица, и затем опубликовал короткую
заметку с оценкой деятельности Нитхаммера в концентрационном лагере и
его последующей службы в СС (Langbein, 1972: 571) — вскоре после этого
у Нитхаммера случился инфаркт. Всё забытое вновь вернулось. Возможно,
он вспоминал об охотах в окрестностях Аушвица: в бумагах Нитхаммера
есть заметки о совместной охотничьей вылазке с комендантом лагеря Гёс-
сом и о многих походах на охоту с сыном Гёсса — Клаусом. В списке
потребителей диких уток, добытых Нитхаммером на прудах в окрестностях
Биркенау, есть имена таких нацистских преступников, как Бюргер, Грабнер,
Аумауер, Паличс, Клаузенс...
В возрасте всего 65 лет, 14 января 1974 года, Нитхаммер умер от
сердечного приступа во время одной из одиноких охотничьих прогулок в лесу Мо-
ренховен в окрестностях Бонна.
В целом ряде вышедших до сих пор публикаций отрезок жизни
Нитхаммера, о котором я рассказал, обозначается короткими фразами, такими как:
«служба в армии» или «пребывание в польском плену», хотя авторам было
хорошо известно, что всё было не совсем так. Я попытался рассказать правду
ещё и для того, чтобы на основании фактов ему, может быть, что-то прости-
93
лось. В моем очерке, конечно, есть предмет для критики. Думаю, о личности
Нитхаммере будут ещё долго спорить...
* * *
В рассказе о Нитхаммере уже несколько раз было упомянуто имя доктора
Ганса Куммерлёве или Кумерлове/Hans Kummerlowe или Hans Kumer-
loeve (1903-1995)12. В некрологе о Куммерлёве сказано, что ещё при жизни
он превратился в легенду. Это действительно так. Об этом свидетельствует
и многосторонность его научной работы, и многообразие его деятельности
(Naumann, 1997). Куммерлёве с юности интересовался орнитологией и в 1923
году, ещё будучи студентом университета в Лейпциге, вступил в Немецкое
орнитологическое общество. Несмотря на то, что в 1930 году он блестяще
сдал выпускные экзамены, профессор Иоганнес Майзенхаймер, заведующий
кафедрой зоологии в Лейпциге, не оставил его при кафедре в качестве
ассистента (источник: Федеральный архив, Берлин). В результате Куммерлёве
пришлось стать учителем и лишь по личной инициативе, от случая к
случаю, ему удавалось заниматься научной работой. Тем не менее, из печати
одна за другой выходят его публикации по орнитологии (в 1935 году он
пишет: «К настоящему времени вышли 52 публикаций различного объема, 7-
8 находится в работе»). В одной из анкет 1935 года он обозначает свою
профессию: «зоолог и путешественник-натуралист», а род занятий:
«руководитель исследований» и «писатель». Но с при ходом к власти Гитлера
Куммерлёве сделал стремительную карьеру: в 32 года он становится
директором Государственного зоологического музея в Дрездене, а всего три года
спустя ему доверяют должность «Главного директора» музеев (всех музеев!)
в Вене.
Моему поколению орнитологов имя Куммерлёве знакомо прежде всего по
конференциям Немецкого орнитологического общества и Между народным
орнитологическим конгрессам (начиная с конгресса в Оксфорде в 1934 году,
он принимал участие почти во всех из них). На конгрессах он неизменно
находился в центре всех общественных мероприятий. Я вспоминаю приём в
посольстве ФРГ по случаю открытия 18-го Орнитологического конгресса в
Москве. На приём была приглашена в том числе группа советских учёных,
и после приветствия одного из дипломатов (фамилия которого как нарочно
12 После окончания войны и открытия нацистских архивов Куммерлёве изменил написание
своей фамилии на Кумерлове — так поступали в Западной Германии многие бъившие нацисты.
— прим. перев.
94
Рис 25. Аоктор Ганс Куммерлёве из
Мюнхена-Грефелъфинга, около 1975 г.
была «Маркс») Куммерлёве практически взял на себя роль хозяина.
Поскольку в Польше незадолго до этого было введено военное положение,
ситуация поразительно напоминала 1940-й год!
Но это всё внешняя сторона жизни Куммерлёве. О её «другой стороне» и
о прошлом этого человека я узнал из документов Федерального архива в
Берлине (фонды Берлинского центра документов и Министерства
государственной безопасности ГДР), а также из рассказов старшего поколения
учёных и из его собственных писем. Вот перечень основных событий его
биографии 1919-1944 годов (тексты в кавычках представляют собой цитаты):
• С 1919/1920 гг. «в народном и в антиеврейском движении»; «СА в начале
периода борьбы»13.
• 1925 год. Вступление в отделение НСДАП в Лейпциге с «номером
членского билета № 100 по области Саксония».
• Ноябрь 1925 года. «Один из основателей национал-социалистической
студенческой группы в университете Лейпцига, самой первой во всей
Германии».
13 Штурмовые отряды, отряды штурмовиков в фашистской Германии. — прим. перев.
95
• Июнь 1926 года. «Участие в первом съезде НСДАП в Веймаре».
• 8.07.1926 г. «Вступление в члены НСДАП в Мюнхене, членский билет №
40157».
• 1.04.1934 г. «Кандидат на место в школе Петри в Лейпциге».
• 16.06.1934 г.: «Штудиендиректор14 в школе Гельмгольца в Лейпциге
(разряд 76 с зарплатой 400 рейхсмарок15».
• Почтовая открытка от 16.12.1934 г. в редакцию одной из партийных газет:
«... имею золотые и серебряные знаки отличия ветерана Старой Гвардии16».
• С 1935 года — эксперт Главного управления Рейха по воспитанию и
эксперт в Объединении учителей. (В характеристике сотрудников
«Управления по воспитанию областного отделения национал-социалистической
партии Саксонии» о Кумерлёве написано: «Очень хорошо подходит для
этой работы»).
• 11.12.1935 г. Назначение «от имени Рейха» директором Государственного
зоологического музея в Дрездене; приказ о назначении подписан: «Адольф
Гитлер».
• С летнего семестра 1937 года к должности директора Зоологического
музея прибавляется должность «директора Института зоологии при
Высшей технической школе Дрездена, чтение лекций и проведение
семинаров».
• Май 1938 г. Участие в 9-м Международном орнитологическом конгрессе,
проходившем во Франции (Руан). Профессор Вильгельм Майзе рассказал
мне следующее: «Куммерлёве явился на праздничный банкет с золотыми
знаками отличия национал-социалистической партии на груди. Штрезе-
манн, который был руководителем делегации, подошёл к нему и сказал:
«Немедленно снимите это!». Куммерлёве повиновался».
• 14.08.1940 г. Назначение «от имени немецкого народа» Главным
директором научных музеев Вены «с разрядом А 1а по тарифной сетке Рейха»,
назначение подписано: «Адольф Гитлер» (фактически исполнял
обязанности уже с 1.06.1939 г.).
• 1936-1944 годы. Под руководством Куммерлёве начинается «нацифика-
ция» выставочного зала Зоологического музея в Дрездене и научных
музеев в Вене.
Другие стороны политической активности Куммерлёве в эти годы пока
неизвестны (в Музее естественной истории в Вене только недавно начата ра-
14 Директор полной средней школы. — прим. перев.
15 Рейхсмарка — германская марка — денежная единица Германии до 1948 г. — прим. перев.
16 Имеется в виду «костяк» национал-социалистической партии, аналог «старого большевика»
в СССР. — прим. перев.
96
бота по изучению нацистского прошлого музея, в первую очередь —
отделения антропологии, которое особенно интересовало директора).
Свое «научно-политическое» кредо Куммерлёве обозначил в двух
пространных публикациях 1939 и 1940 годов. Забегая вперед замечу, что первая
из них, при неизвестных обстоятельствах, исчезла из большинства
немецких библиотек или местами заклеена! К моему глубокому удивлению, текст
оказался частично заклеенным даже в библиотеке Зоологического института
Варшавы! Во многих библиотеках обе публикации отсутствуют! Одну
публикацию мне удалось разыскать в университетской библиотеке Копенгагена.
Эти сочинения пестрят ссылками на Адольфа Гитлера и партию, в них
употребляются такие выражения как «защита чистогы нашей крови», «сознание
ответственности народа», «борьба за существование нашего народа» и т.п.
Автор «сознательно воздержался» от более детального развития «этих
заданий и целевых установок», «поскольку многое ещё находится в процессе
планирования, продумывания, брожения и созревания» (1940: XXXVI). Для
Куммерлёве само собой разумеется, что победоносное «окончание войны, к
которой принудила нас Англия» будет служить «самой ответственной
проверкой нашего мировоззрения» (1940: XXXVIII). Всё сочинение пронизано
идеей о «навеки Великой Германии» (1940: XXXIX).
В одной из анкет 1940 года Куммерлёве обозначил свою принадлежность
к религиозному направлению таким образом: «ранее (до марта 1937 г.)
протестант-лютеранин, после этого — «верующий»17».
Куммерлёве был очень тщеславен. И не только в отношении числа
публикаций. В феврале 1934 года, например, он ведёт переписку с секретарем
национал-социалистической партии в Лейпциге, в том числе и по вопросу о
мундире для себя: «Как продвигается дело с новой партийной формой,
обещанной политическим руководством партии? В конце концов, моя
профессия путешественника-исследователя — большое исключение, и я считаю
совершенно несправедливым и даже недопустимым, что я — заслуженный
национал-социалист, несмотря на все мои наградные знаки, не могу носить
форму, в то время как любой рядовой нацист «поколения 1933 года»
пользовался этим правом, как само собой разумеющимся».
После войны Куммерлёве поселился в Оснабрюке (Западная Германия),
где у него были контакты с Музеем естественной истории и где он состоял
членом правления регионального Естественнонаучного общества (он стал
ответственным за библиотеку общества).
17 В фашистской Германии так обозначали лиц, не входящих ни в одну из религиозных общин.
— прим. перев.
97
К этому времени относится один эпизод, о кагором мне рассказал про фес-
сор Тадеуш Ячевски из Варшавы: в 1945 или 1946 году он случайно
встретил Куммерлёве в Оснабрюке на улице (они знали друг друга по довоенному
времени). Ячевский сообщил об этом в британскую службу безопасности,
указав на Куммерлёве как на важного деятеля в нацистской партии.
Ячевский принимал участие в Варшавском восстании, после его поражения был
отправлен в Германию и здесь, после освобождения, служил офицером в
Польской миссии по репатриации при британских оккупационных органах
власти и отвечал за возвращение награбленного в Польше имущества (Fe-
liksiak, 1987: 220-221). Британцы сразу же вызвали Куммерлёве и допросили.
Через несколько дней Ячевскому сообщили, что, несмотря на то, что на
Куммерлёве лежит большая вина как на идеологе фашизма, он не принимал
участия ни в каких акциях, за которые британские власти могли бы подвергнуть
его наказанию...
После этого случая Куммерлёве (уже с изменённой фамилией) с мая по
октябрь 1948 года работал на орнитологической станции на уединённом и без
людном острове Амрум18. После возникновения ФРГ его не приняли на
государственную службу (возможная причина: его разряд по тарифной сетке во
время «Третьего Рейха» был таким высоким, как ни в одном из музеев ФРГ,
понижение же ставки не допускалось рабочим законодательством). Однако
ему была назначена государственная пенсия. В 1964 году Куммерлёве
перебрался в Мюнхен, в 1970 году был принят в Зоологический институт и Музей
Александра Кёнига в Бонне «на общественных началах». Многочисленные
исследования и научные экспедиции учёного-пенсионера финансировались
различными организациями, главным образом «Немецким
научно-исследовательским обществом», ННО («Deutsche Forschungsgemeinschaft — DFG»),
и Куммерлёве пополнил наши знания о птицах и млекопитающих
«юго-восточных окраин Европы и Ближнего Востока» примерно двумя сотнями статей.
После одного из моих докладов, позже опубликованного (Nowak, 1998:
343-346), в котором шла речь и о Куммерлёве, я получил множество писем
с дополнительной и самой разнообразной информацией о его личности.
Опираясь на пёструю палитру полученных сведений, я хочу подробнее
остановиться здесь только на двух темах: о таинственном исчезновении идеолого-
политических публикаций Куммерлёве и о финансовой поддержке его
научной работы в послевоенные годы.
По первому вопросу мне написал профессор Йохен Мартене из Майнца:
«Совсем маленькое добавление к Куммерлёве, о котором Вы подробно рас-
В Северном море, недалеко от о. Гельголанд. — прим. перев.
98
сказали. Вы совершенно справедливо упомянули оба его программных
сочинения 1939 и 1940 гг. в дрезденском и венском журналах. Вместе с
господином Зигфридом Экком (куратором орнитологической коллекции в
Дрездене) я долго разыскивал полный экземпляр дрезденского сочинения.
Из библиотеки своего университета [Майнц] через межбиблиотечный
абонемент я «обследовал» все библиотеки — безрезультатно. Всегда
приходили ответы «нет на месте» или «в настоящее время недоступна» [...]. Я
сделал запрос через одного из коллег в Париж — оказалось, что работа
вырезана из тома [...].
Я неоднократно обсуждал этот «курьёз» с господином Экком и
склоняюсь к мысли, что Куммерлёве после войны сам, собственной персоной
объездил библиотеки и позаботился об уничтожении улик».
Удивительнейшим образом у «библиотечного червя», по-видимому, оказались
помощники и среди органов цензуры в Советском Союзе: профессор
Мартене написал мне также, что он просил своих коллег в Москве и
Санкт-Петербурге навести справки об искомых статьях. Оказалось, что они
отсутствуют в библиотеках! Вот что пишет Мартене по этому поводу: «В
экземпляр журнала в Москве вклеена записка, в которой сказано, что
отсутствующая работа находится в библиотеке КГБ и может быть
затребована. От этого, однако, мой друг воздержался». Мартене комментирует этот
факт следующим образом: «В Советском Союзе КГБ [...] держал такие
вещи под строгим контролем и «грязь коричневого цвета» изымал из
обращения». Не подлежит сомнению, что трудности доступа к работам
Куммерлёве, о которых идёт речь, не случайность и не происки цензуры. Я
согласен с предположением профессора Мартенса. Если это действительно
так, то речь идёт о невероятно кропотливой и объёмной «работе», которая
должна была потребовать много денег и времени.
И теперь я хочу перейти ко второй теме, которая тоже была затронута во
многих письмах. Речь как раз идёт о деньгах. Надо сказать, что
финансовая поддержка, которую Куммерлёве получал в послевоенные годы,
поистине беспрецедентна для «частного» учёного, нигде не состоящего на
службе. Одним из источников денежных средств (но не единственным)
было Общество взаимопомощи немецких учёных, в 1950 году
переименованное в Немецкое научно-исследовательское общество. Поскольку в
полученных мной письмах содержалась неполная информация, то я
обратился за более подробными разъяснениями в ННО в Бонн. Я получил для
ознакомления распечатки ежегодных отчётов, в которых отражены
удовлетворенные запросы на финансирование — в том числе и от
Куммерлёве. Уже в 1949 году, когда финансовая поддержка учёных в ФРГ только
99
началась, он получил деньги для обработки своих орнитологических
наблюдений на острове Амрум. В общей сложности в отчётах отражены 23
случая (!) финансирования Куммерлёве: 7 раз — на разработку
определённых тем (предметные пособия), 13 раз — на путешествия и 3 раза —
на издание работ. Суммы, выделенные на путешествия, позволили ему
посетить Бельгию, Францию (3 раза, в том числе Естественнонаучный музей
в Париже), Англию (многие научные музеи), Турцию (7 раз), Сирию и
Ливан, а также Марокко (2 раза). Таким образом, его поездки по
иностранным библиотекам прекрасно финансировались. Последний раз он
получил предметное пособие в 1987 году, то есть в возрасте 84 лет!
Интересно, было ли тогда у ННО больше денег, чем в настоящее время? Или
именно этот проситель был удачливее других?
Учёные нашего времени могут только мечтать о таком финансировании!
Я тоже рассчитывал на поддержку Немецким научно-исследовательским
обществом моих биографических изысканий и обращался с подробным
запросом, в том числе для наведения справок о деятельности Куммерлёве в Вене.
В ответе, содержащем отказ на мою просьбу, меня просили с пониманием
отнестись к отказу, причем не только ввиду «ограниченности средств» ННО;
было высказано также опасение, что я не собираюсь применять
«современные критерии живой истории» и что не справлюсь с «тяжёлыми подшивками
документов в архивах».
В этом месте моего повествования пришло время ещё раз упомянуть Нит-
хаммера, с которым Куммерлёве связывала тесная дружба. В варшавском
деле хранится документ, подписанный Нитхаммером во время пребывания
его в следственной тюрьме в Кракове 15 февраля 1948 года (рис. 26), из
которого следует, что он только после прочтения обвинительного заключения
узнал, в какой ситуации находится. Нитхаммер от руки пишет записку в
прокуратуру, в которой сообщает следующее: «В обвинительном заключении от
11.09.1947 г., VII к 989/47, сказано, что я дал показания о том, что
добровольно вступил в СС. Это недоразумение, которое я хотел бы разъяснить: в
СС я был зачислен без моего согласия моим начальником, директором музея
в Вене. Сам же я хотел поступить на службу в Люфтваффе19, но отнюдь не в
СС»... Вначале я счёл это просто отговоркой, попыткой защитить себя, но на
меня произвело большое впечатление собственное признание Куммерлёве в
том, что ещё в 1931 году он, ничего не сказав Нитхаммеру, послал от его
имени заявление для вступления в Немецкое орнитологическое общество и
затем поздравил с этим своего друга! (Kumerloeve, 1974: 18). Вообще, по-
Военно-воздугиные силы. — прим. перев.
100
Рис. 26. Первая часть записки Нит-
хаммера в прокуратуру Кракова,
касающаяся его вступления в СС.
■ ^^ . '£*', \ *.>-ад/«|
I . .Л, %^^+ри $'*<*«■ °к,ЧК?У
<У- . А,, Аь. /h>
J-'^+lcylt
'"l-H^^ fo^a^&C*** <и^.'Ъ^л^фл~ с(*ъ
видимому, два этих случая не исчерпывают поступки Куммерлёве подобного
рода (Nowak, 2002a: 28).
Я начал свой рассказ о Куммерлёве с цитаты из его некролога о том, что
он ещё при жизни превратился в легенду. Легенда эта не выглядит особенно
привлекательной. Это понимал даже не имеющий непосредственного
отношения к орнитологии богатый восточногерманский барон, А. фон Фиртинг-
хофф-Рич, который в 1934 году принимал участие в 8-м Международном
орнитологическом конгрессе в Оксфорде. Вспоминая об этом событии, в 1950-е
годы он написал (ViertinghofF-Riesch, 1958: 206): «В немецкой делегации был
один «ветеран» [...] — он не только нацепил на себя бросающиеся всем в
глаза знаки отличия его партийной принадлежности, он ещё — в качестве
гостя старинного оксфордского университета — уселся за фортепиано и
исполнял далеко разносящуюся из открытого окна песню «Хорст-Вессель»20.
«И ему тоже [...] удалось так превосходно пережить смену времён», —
удивляется бывший барон. Да, есть чему удивляться...
Гимн нацистов. — прим. перев.
101
* * *
Но вернёмся ещё раз к Аушвицу. Нитхаммер был не единственным
орнитологом в этом концентрационном лагере, я знаю ещё одного человека,
который провёл там более четырёх лет, только совершенно в другом
качестве, с «другой стороны». Это был поляк из Кракова Владислав
Сивек/Wladyslaw Siwek (1907-1983) — художник, один из лучших
рисовальщиков птиц в Европе, один из авторов книги «Птицы Европы» («Ptaki
Europy»), для которой он создал 96 замечательных цветных таблиц с
примерно 1 500 изображениями птиц (Nowak, 1984; Mateja, Siwek, 2000). Мы
называли Сивека «польским Питерсоном» (известный американский
художник-анималист).
Ещё перед войной Сивек стал вполне компетентным
орнитологом-любителем, у него накопилось множество рисунков птиц, сделанных в природе.
Его первые рисунки были в основном выполнены пером, позднее он стал
рисовать и красками. Параллельно со своей работой он учился в Академии
художеств в Кракове.
Сивек был арестован Гестапо 14 января 1940 года по подозрению в
участии в подпольной организации и заключён в тюрьму Монтелупих в
Кракове (в ту самую, где позднее оказался Нитхаммер); 8 октября 1940 года под
номером 5826 он был отправлен в только что созданный лагерь Аушвиц
(рис. 27). Через некоторое время он в качестве маляра был прико мандиро-
ван к бригаде строительства лагеря. Наряду с принудительным трудом у
него была возможность заниматься нелегальной «левой» работой: по
желанию коллег-заключённых он создал целую галерею маленьких портретов
карандашом и акварелью; позже для родственников многих заключенных
они стали последней памятью о близких. (Некоторые из этих работ были
выставлены в 2005 году в Еврейском центре в Берлине). Молва о
художественном даровании Сивека быстро распространилась и среди руководства
лагеря, и он начал рисовать картины по заказу начальства. Кроме того, он
раскрашивал игрушки, произведённые другими заключёнными
(рождественские подарки для детей служащих СС). Одним из заказчиков стал
начальник Сивека, штурмбанфюрер СС Ганс Денглер из Мюнхена, который в
конце 1930-х годов посещал в баварской столице художественное училище;
он продолжал совершенствовать там своё мастерство и во время службы в
СС. Но поскольку он не располагал досугом для создания экзаменационных
работ, «его» картины поручено было писать Сивеку. Это уже был «пропуск
в жизнь», потому что «студенту» и дальше требовались картины,
нарисованные той же рукой! Однажды в присутствии Сивека он поставил на одной
102
Рис. 27. Владислав Сивек, фотография в концентрационном лагере Аушвиц, 1940 г.
из картин («Вересковая пустошь») свою подпись с примечанием: «Твоя
жизнь и твоё имя не принадлежат тебе, если я захочу, то убью тебя».
Простые эсэсовцы из охраны были менее взыскательны: их интересовали
главным образом молодые эсэсовки-охранницы (из соседнего женского лагеря),
которых Сивек — с паспортных фотографий — должен был изображать в
голом виде в различных позах. Если картина удавалась, он получал еду из
эсэсовской столовой.
В конце октября 1944 года Сивек был переведён в концентрационный
лагерь Заксенхаузен21, где получил номер 115905. По мере приближения
фронта заключённых отправляли всё дальше на Запад; по пути они видели
отступающие автоколонны рейхсфюрера Гиммлера. Только 2 мая 1945 года,
недалеко от Любека, заключённые были освобождены. До июня 1947 года
Сивек лечился в различных больницах в Эдмундсхале и Венторфе под
Гамбургом, оттуда он инвалидом вернулся обратно в Польшу. Сначала он
работал в музее Аушвица, где наряду с прочей деятельностью создал почти
50 картин и графических работ на лагерные темы (позже они выставлялись
и за границей, в том числе в США, Англии, Японии и Западном Берлине,
см. рис. 21).
В 1953 году Сивек окончательно оставляет тему Освенцима/Аушвица и
работает уже только как художник-анималист (рис. 28). Он иллюстрирует
школьные учебники биологии, научные работы, энциклопедии, рисует боль-
21 К северу от Берлина, основан в 1936 году. — прим. перев.
103
Рис. 28. Владислав Сивек в своей
квартире в Варшаве, 1978 г.
шие школьные таблицы, а также календари и брошюры на тему об охране
природы. Его собрание зарисовок птиц в природе было уже очень полным и
позволило ему в 1969-1974 гг. (используя отчасти фотографии и музейные
тушки) завершить главный орнитологический труд своей жизни — цветные
таблицы всех европейских видов птиц.
Сивек много рассказывал мне об Аушвице и подтвердил, что среди
эсэсовцев лагеря были люди, которые тайно помогали заключенным (он
называл имена, но я, к сожалению, не записал их тогда). Сам он хотел дать
показания об одном из таких людей на процессе в Кракове, но суд не допустил его
как свидетеля. Но далеко не все служащие в Аушвице эсэсовць* были
орнитологами или студентами художественных училищ. Большинство — а их
число в лагерной команде составляло несколько тысяч — примерно
исполняли свои непосредственные обязанности.
Не * *
•
Сивеку удалось выжить в аду Аушвица. Подневольный помощник Нит-
хаммера в его орнитологических занятиях заключённый Ян Грембоцки
имел шанс остаться в живых, но погиб незадолго до освобождения. В
общей сложности в фашистских лагерях нашли свою смерть более двух
миллионов человек. Среди них был и немецкий учёный-натуралист, за-
104
щитник природы и орнитолог из Майнца Вильгельм Шустер/Wilhelm
Schuster (1880-1942). Я не знал его лично, но мне довелось встретиться с
его убийцей. Это была одна из самых тяжёлых встреч в моей жизни. Она
побудила меня к дальнейшему расследованию и восстановлению историй
жизни как жертвы, так и палача (Nowak, 2006a). Здесь я хочу коротко
рассказать то, что мне удалось узнать.
Вильгельм Шустер был своеобразным человеком. Его темпераментная
натура и неуравновешенный характер постоянно требовали разнообразной
деятельности, которая — как и его многочисленные публикации — часто
критически оценивалась его современниками или даже давала повод для
насмешек. Нельзя исключить, что снедающее его внутреннее беспокойство
было следствием психического заболевания. Сильная воля побуждала его к
новым неустанным попыткам преодолевать все трудности на
орнитологическом поприще. Этим он нажил себе много недоброжелателей. Враждебность
некоторых из этих людей и привела в конечном итоге Шустера к трагедии и
гибели. Поводом для его ареста стала опубликованная в 1941 году книга
«Орнитофауна Большого Гессена и Нассау», которая была запрещена нацистской
цензурой.
Вильгельм Шустер происходил из семьи протестантского пастора,
причём и отец, и все три брата Вильгельма интересовались орнитологией
(особенно известен был младший брат — Людвиг, см. Gebhardt, 1964: 329-330).
Вильгельм изучал различные предметы в нескольких университетах, но в
конце концов по примеру отца стал пастором. Ещё в студенческие годы
Шустер начал публиковать работы по орнитологии, а в 1905 году уже вышла его
первая книга; за ней последовали другие. В качестве пастора он сначала
служил в миссии Симанса в Ливерпуле. В Англии он посещал зоологический
музей Ротшильда в Тринге, где встречался с Эрнстом Хартертом.
Возвратившись в Германию, Шустер стал пастором на юге Германии (рис. 29), но
вскоре навлёк на себя резкую критику со стороны церковного руководства.
На него стали поступать многочисленные жалобы, писали, например, что
«он принёс церковной жизни общины и церковнослужителям больше вреда,
чем 100 фанатичных агитаторов социал-демократов». В конце концов,
деревенская община взбунтовалась против него, ив 1912 году церковная
консистория отстранила его от должности.
После этого фиаско Шустер начал работать редактором различных газет.
Занятий орнитологией он при этом не оставил, даже стал посвящать им
больше времени. В 1913 году он вступил в брак с Бертой А. Фрайин фон
Форстнер и присвоил себе двойную фамилию «Шустер фон Форстнер».
Присвоение нового титула он не оформил юридически, что позднее, после раз-
105
Рис. 29. Вильгельм Шустер в юности, 1908 г.
вода, привело к судебным разбирательствам; частые и шумные ссоры между
супругами получили огласку и вызвали много нареканий со стороны
общины. В 1915 году местный церковный совет окончательно отстранил
Шустера от церкви и запретил носить титул священника. Вскоре Шустер был
уволен и из редакций газет, поскольку «больше занимался изучением птиц,
чем своей работой». Уже в это время он вынашивал идею организовать
частную орнитологическую станцию. Но в 1916 году Шустер был призван в
прусскую армию и отправлен на западный фронт. Вскоре он дезертировал, был
пойман, но благодаря медицинской справке ему удалось избежать наказания,
и он был направлен в солдатский дом в Позене (Пруссия, после 1918 г. —
Польша). После окончания войны он решил остаться в Польше. Сначала он
работал частным учителем, потом устроился в немецкую гимназию в Лешно.
Хотя в обоих случаях его деятельность оказалась неудачной, это не
помешало ему впоследствии указывать в своем послужном списке должность
«директор средней школы» (что позднее не было оставлено без внимания
судом). Нужда в деньгах заставила Шустера вернуться обратно в Германию,
где он окончательно решил заниматься только орнитологией. Денежные
проблемы он решал своеобразным способом — путём нанесения визитов
богатым персонам в Германии и за границей — он просил их о помощи для своей
научной деятельности. Как можно заключить из много численных
благодарностей в его последней книге, акции по сбору денег таким способом оказа-
106
лись успешными. Но часть денег была собрана под обещание пустить их на
совсем другие цели, например, — на церковные нужды. Когда обман
вскрылся, некоторые из жертвователей обратились в суд.
В 1928 году Вильгельм Шустер исполнил свою мечту и учредил частную
орнитологическую станцию в своём только что отстроенном доме в Гонзен-
хайме недалеко от Майнца. Строительства повлекло за собой приговор к
штрафу в размере 50 рейхсмарок или 10 дням тюрьмы из-за «нарушения
жилищного законодательства». Но Шустер, не колеблясь, продолжал идти
своим путём: он выступает с бесчисленными докладами о птицах, в том
числе в народных университетах, издаёт и распространяет информационные
материалы по орнитологии, пишет в газеты, становится активным членом
различных естественнонаучных союзов, делает предложения об
организации охраняемых природных территорий, протестует против деятельности,
которая кажется ему вредной для птиц. Кроме того, он проводит
орнитологические наблюдения в Гессене и публикует их результаты. Он много
путешествует, в том числе и за границу для пополнения своих биологических
знаний и установления новых контактов. Своей частной орнитологической
станции он присваивает имя: «Орнитологическая станция бассейна Майнца»
и даже составляет ежегодные отчёты об её деятельности.
В это время снова происходит судебное разбирательство: Шустеру
запрещают уже не только использование трёх титулов, самовольно присвоенных
им («священник», «Шустер фон Форстнер» и «директор средней школы»), но
и употребление названия «орнитологическая станция», поскольку так могли
именоваться только учреждения, имеющие государственную аккредитацию.
Было вынесено сразу три судебных приговора: заключение в тюрьму на 22
дня и два раза по одному дню. В связи с этим Шустер изменяет название
своей станции на другое: «Станция исследователей птиц». Но от
собственных титулов, несмотря на предписание суда, не отказывается...
В конце 1920-х годов Шустер начал работать над «трудом своей жизни»
(так он сам называл его) — книгой «Птицы Большого Гессена и Нассау».
В 1933 году, после прихода к власти национал-социалистов, положение
Шустера быстро ухудшается: его публикации, доклады и другие формы
деятельности не нравятся политической верхушке. В его деле в полиции
(областной архив Шпейер) есть пометка, из которой следует, что в 1934-
1935 гг. у него дома был произведён обыск. Позже в одном из писем
Шустер так описывает это событие: «В 1935 году по чьему-то указанию
интересовались моими орнитологическими работами. Кто на меня тогда —
скажем так — «донёс», я не знаю. Человек может иногда импульсивно
высказать своё собственное, возможно, оригинальное мнение, особенно, если
107
этот человек учёный, исследователь-одиночка. Как «аутсайдер», он всегда
имеет врагов и завистников. Я тогда защитил себя как мог хорошо и
оправдался...».
В 1933 и 1935 годах в полицию поступили новые доносы на Шустера (в
том числе по поводу продолжения его сомнительных акций по сбору денег
и возобновления использования названия «орнитологическая станция»).
Штрафная палата Майнца, в то время уже довольно радикальная,
приговорила Шустера, ввиду многократных штрафов, к тюремному заключению
сроком на 2 года, который ему пришлось отбыть полностью...
Как раз в это самое время будущий убийца орнитолога Вильгельма
Шустера, который был на 37 лет моложе, чем его будущая жертва, готовился к
карьере эсэсовца. Молодого человека звали Вильгельм Шуберт (рис. 30). В
про тивоположность Шустеру, его жизненный путь отличался прямотой, а
сам он — законопослушностью. Приведу выдержки из автобиографии
Шуберта 1940 года (Федеральный архив, Берлин): «8.П.1917 г. я родился как
третий из пятерых детей в семье ремесленника [...] Эрнста Шуберта [...] в
Магдебурге. В возрасте 6 лет я поступил в протестантскую школу в Глогау и
после окончания школы обучался ремеслу моего отца. Уже в 1931 г. я
вступил в Гитлерюгенд, 9.11.1933 г. был принят в СА. С 28.01 по 28.02.1934 г. я
посещал спортивную школу СС в Глогау. 1.11.1934 г. я добровольно вступил
в пехотный полк в Глогау, откуда был демобилизован в должности
ефрейтора 31.12.1935 г. [...] 1.02.1936 г. я начал работать на вещевом складе армии
[...], там я получил также военное образование. 1.04.1936 г. я вступил в
эсэсовские отряды «Мёртвая голова», с 1.02.1937 г. по 15.02.1938 г. я посещал
школу младших командиров СС. 1.04.1938 г. был направлен в комендатуру
концентрационного лагеря Заксенхаузен, где в настоящее время исполняю
службу». Узники называли его «стрелок Шуберт», ибо он имел
обыкновение по малейшему поводу и без тени сомнения применять служебное
оружие, жертвами которого стали многие заключённые.
После освобождения из тюрьмы в конце января 1938 года Шустер сразу
же приступает к завершению труда своей жизни, рукописи «Птицы
Большого Гессена и Нассау». Но как раз незадолго до этого вступило в силу
распоряжение Прусского министра внутренних дел о «предупреждении
полицией преступных действий», которое самым непосредственным образом
коснулось Шустера из-за его многократных судимостей! В одном из
официальных документов есть пометка о том, что «Шустер находится под тайным
наблюдением уголовной полиции».
Весной 1941 года были отпечатаны первые экземпляры «труда жизни»
Шустера, которые он распространял в виде подарков или продавал. Несколько
108
Рис. 30. Вилъгелъм Шуберт, позднее — обершарфюрер СС и убийца
орнитолога Вилъгелъма Шу стера, 1936 г.
месяцев спустя, после вторжения Германии в СССР, в научном журнале «Мир
птиц Германии» («Deutsche Vogelwelt», 1941,66:110-112) была опубликована
резко отрицательная рецензия на книгу, в ней содержались и политические
выпады: «... Неудовлетворительное владение материалом — ещё не самый
большой недостаток этого сочинения. Гораздо хуже — противоречивая,
прямо-таки отталкивающая и совершенно неприемлемая позиция автора,
особенно, когда непосредственно после правильных с националистической точки
зрения суждений он вдруг начинает цитировать Ветхий Завет или Генриха
Гейне, или же позволяет себе высказывания (и это сейчас, во время войны!),
которые мы здесь даже не хотим воспроизводить». Вильгельм Петри, автор
рецензии, был школьным учителем, орнитологом-любителем и членом
Национал-социалистической партии из Бад Кройцнаха; по сути дела его
рецензия представляла собой публичный донос. Бесспорно, среди 530 страниц
труда Шустера не составляло труда найти высказывания, которые в
победоносном для Германии 1941 году пронацистски настроенному рецензенту
повторять и в самом деле не хотелось, например: «... мы, жители Майнца ...
знаем, что нет ничего более бессмысленного и бесчеловечного, чем война
между народами...». Шустер упоминает также Ромула, последнего
императора Рима, который после проигранной войны посвятил себя выведению элит-
109
ных пород кур, и замечает по этому поводу: «всё-таки гораздо лучшее и более
достойное человека и более благородное занятие, чем ведение войн и
убийство людей друг другом». В отрывке «О содержании снегирей в Фогельберге»
написано: «... в последнее время проведены эксперименты с некоторыми
птицами — их обучали насвистывать мелодию песни «Хорст-Вессель».
Некоторые прошли обучение успешно, и их можно было продать за большие деньги,
но для других мелодия оказалась чересчур трудна».
Но всё-таки Шустер отдавал себе отчёт в том, что его книга выходит в
«новые времена» и попытался до сдачи в печать придать своему труду форму,
приемлемую для нацистской цензуры: в начале книги он помещает
фотографию Адольфа Гитлера, кормящего чёрного дрозда на Оберзальцберге; он
пишет о главном егермейстере Рейха: «... можно ли не любить Германа
Геринга за его дружеский, полный участия интерес к нашему животному миру,
за жар его сердца, с которыми он употребляет свою огромную власть и свое
влияние на то, чтобы спасти нашу вымирающую фауну птиц».
Но всё это уже не могло спасти Шустера. «Оскорбительные»
высказывания, противоречащие духу нацизма, не были забыты, и власти прибегли к
новым полицейским мерам. Для начала автор получил от начальника
полиции Майнца запрет на распространение своей книги. Шустер пытается
защищаться: он посещает Государственного секретаря правительства Гессена
в Дармштадте и высказывает ему свои возражения. Государственный
секретарь наводит справки об авторе, после чего сообщает начальнику полиции:
«... в лице Шустера мы имеем многократно подвергавшегося штрафам
психопата, чьи писания подлежат упразднению».
В июне 1941 года Шустер пишет отчаянное письмо начальнику
полицейского управления Майнца: «... Я от всего сердца убедительно прошу Вас не
запрещать распространение моей книги. Это главный труд всей моей жизни,
и я уверен, что Вы не можете не согласиться со мной в том, что человек
скорее может расстаться с самой жизнью, чем пожертвовать трудом всей
жизни». Шустер ожидал ответа, не зная ещё о том, что полиция уже
предприняла шаги, неумолимо приближающие его к катастрофе: его книга была
отправлена в Берлин Главному цензору Рейха с просьбой о проверке. В июле
1941 года начальник полицейского управления в Майнце получил
следующий ответ: «... книгу, содержание которой с различных точек зрения
выглядит сомнительно [я] передал в Министерство агитации и пропаганды Рейха
[министра Йозефа Геббельса] с предложением внести её в список вредных и
нежелательных сочинений» (это были книги, подлежащие публичному
сожжению). Кроме того, в середине сентября 1941 года в правительство Гессена
в Дармштадте поступил циркуляр от Главного егермейстера Рейха, как от
но
высшего должностного лица по вопросам охраны природы, который
запрещал употребление названия «Станция исследователей птиц» под страхом
уголовного наказания. Но это распоряжение запоздало: 5 сентября 1941 года
Шустер уже был арестован и помещён в тюрьму при областном суде Майнца,
а 3 декабря местным отделением Гестапо в Майнце переведён в
концентрационный лагерь Заксенхаузен/Ораниенбург.
В результате поисков в архиве музея Заксенхаузена я узнал, что
«отстранённый от должности пастор и писатель» Вильгельм Шустер получил там
номер 040423 и уже 3 апреля 1942 года скончался. В архиве я нашёл также
более подробное описание обстоятельств смерти Шустера. Его дал судье
после войны бывший заключенный лагеря Заксенхаузен Артур фон Ланкиш-
Хернитц: «Случай истязания [...] пастора Шустера-Форстнера из Майнца
произошёл весной 1942 года. Шустер ночевал тогда со мной в одном блоке
№ 52. В тот день он стоял рядом со мной на утренней перекличке в первом
ряду моего блока. Шуберт [эсэсовец] проходил мимо и внезапно обратил
внимание на Шустера. Он принялся ругать его за то, что он пастор, а затем
стал бить его куда попало кулаками до тех пор, пока священнослужитель не
упал и остал ся лежать на полу. Шуберт кипел от ярости. Он бил лежащего
свя щеннослужителя сапогами в лицо до тех пор, пока он не умер на месте.
Он больше не двигался».
Рис. 31. Вилъгелъм Шустер, конец
1930-х гг.
111
Мне удалось проследить дальнейшую жизнь убийцы, обершарфюрера СС
Вильгельма Шуберта. В 1942 году он вступил в укомплектованную
добровольцами дивизию СС «Принц Евгений», которая воевала на различных
фронтах. Он попал в плен к американцам, из лагеря под Нюрнбергом бежал
в Лейпциг; здесь он был опознан одним из бывших заключённых, арестован
и в декабре 1946 года передан советскому НКВД, где он числился среди
разыскиваемых военных преступников. В концентрационном лагере Заксен-
хаузен были убиты несколько тысяч советских военнопленных (в том числе
лично Шубертом), и одна из следственных групп НКВД расследовала эти
преступления и искала убийц. Большинство из них было арестовано, правда,
в английской оккупационной зоне Германии, но в 1946 году все они были
отправлены в Восточный Берлин.
Осенью 1947 года военный трибунал группы Советских вооруженных сил
в Германии в здании ратуши в Берлине-Панкове огласил обвинение против
16 бывших служащих концлагеря Заксенхаузен; на скамье подсудимых
находился и Вильгельм Шуберт. Число жертв Шуберта суду точно установить
не удалось, но обвиняемый не отрицал, что он сам лично убил не менее 700
человек и принимал участие в расстрелах примерно 5 000 советских
военнопленных. Ко всеобщей неожиданности на суде не было вынесено ни
одного смертного приговора! К пожизненному заключению с
принудительными работами были приговорены 14 обвиняемых и всего к 15 годам
тюрьмы с принудительными работами — двое. Вильгельм Шуберт получил
пожизненное заключение в советском исправительно-трудовом лагере.
Причина столь мягких приговоров состояла в решении Верховного Совета СССР
от 26 мая 1947 года об отмене смертных приговоров в мирное время по
гуманитарным причинам (но уже 12 января 1950 года смертная казнь в
Советском Союзе была введена вновь!).
Прямо из тюрьмы НКВД в Берлине в конце ноября 1947 года началось
путешествие осуждённых в Советский Союз, в пользующийся печальной
известностью лагерь в Воркуте за Полярным кругом.
В 1955 году в Москву по приглашению советского правительства прибыл
федеральный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Советский Союз хотел
установить дипломатические и экономические отношения с активно
развивающейся Федеративной Республикой Германией. Канцлер был готов к этому,
но только при условии, что тысячи «немецких военнопленных и
гражданских интернированных лиц» (что он несколько раз повторил) будут
возвращены из Советского Союза на родину. Советская сторона утверждала, что
военнопленных в СССР больше нет, есть лишь некоторое количество законно
осуждённых военных преступников, которые отбывают свои сроки. В ходе
112
переговоров, проходивших в весьма драматической обстановке, канцлеру в
конце концов удалось настоять на своём.
На исходе 1955 года тысячи немецких пленных из советских лагерей
устремились в Германию. Страну захлестнули воодушевление и
национальная эйфория. А 14 января 1956 года через пограничный пункт в Херлесхау-
зене в Западную Германию проследовал и заключенный из Воркуты
Вильгельм Шуберт...
После короткого пребывания в пересыльном пункте Фридленд все были
освобождены и отправлены в различные места по их собственному выбору.
Приговоры Берлинского (советского) процесса не имели юридической силы
в ФРГ! Сколько нацистских преступников было среди действительно
невиновных освобождённых, и скольким из них удалось скрыться, не знает
никто...
Но не прошло и месяца, как на Шуберта вновь указали бывшие
заключённые Заксенхаузена, и в начале февраля 1956 года он был арестован.
Только 13 октября 1958 года в областном суде Бонна начался судебный
процесс. Это был первый большой процесс, касающийся концентрационных
лагерей в Западной Германии (так поздно!), который широко освещался
средствами массовой информации и вызвал очень большой отклик. Суд в Бонне
пригласил 161 свидетеля (их показания представляют собой впечатляющее
чтение — см. Giordano, 1962: 165-240). Присутствовало также несколько
свидетелей защиты; один из них, бывший врач СС, объявил, что знал
Шуберта как сентиментального человека, и что «он тоже своего рода жертва
Третьего Рейха». Шуберт всплакнул после этих слов... Хотя суд признал
Шуберта виновным только в 46 убийствах (в том числе и орнитолога Вильгельма
Шустера), в 8 попытках убийства и в содействии убийствам, вынесенный
приговор был много суровее, чем приговор советского суда: 46 раз
пожизненно плюс ещё 15 лет!
Шуберт отбывал наказание в различных тюрьмах Западной Германии.
Начиная с 1961 года в судебные органы поступило от его имени восемь
ходатайств о помиловании и два ходатайства о сокращении срока заключения.
Все они были отклонены. Но новое прошение от 1985 года было
удовлетворено: областной суд Вупперталя заменил оставшийся срок заключения на 5
лет условно-досрочного освобождения и, таким образом, через 27 лет после
вынесения приговора в Бонне и начала заключения Вильгельм Шуберт смог
покинуть тюрьму.
Я узнал, что Шуберт живёт в Золингене, и письменно попросил его о
личной встрече. В ответ я получил от него по почте приглашение. Я посетил
Вильгельма Шуберта 24 ноября 2005 года. Мы разговаривали в кафе больше
из
двух часов обо всех этапах его жизни, частично с привлечением архивных
документов и фотографий. Его ответы были короткими, но точными. Я
перескажу здесь лишь важнейшее.
На вопрос, почему для будущей жизни он не выбрал профессию
ремесленника, которую изучал, он, иронично улыбаясь, ответил вопросом:
«Ремесленника ?...». Тем самым он дал мне понять, что считает избранный им
путь лучшим. Я показал ему фотографию Вильгельма Шустера, и он при мне
медленно и внимательно прочитал показание свидетеля его преступления.
Потом помолчал с минуту и сказал безо всякого раскаяния: «Тогда это было
так».
Был уже вечер, когда мы приехали в квартиру Шуберта. Мне было
разрешено осмотреть обе аккуратно обставленные и чистые комнаты. На стене
над диваном висело несколько изображений: в центре фотография самого
Шуберта в форме СС с орденской лентой Железного креста, справа от неё —
Фридрих Великий, Отто Бисмарк и Кайзер Вильгельм II; слева — Адольф
Гитлер, Рудольф Гесс и Герман Геринг. Я указал на изображение Гитлера и
сказал: «Но ведь это же человек, который принёс Вам несчастье». Ответ:
«Гитлер был великим человеком, так что я придерживаюсь совсем другого
мнения, чем Вы».
Потрясённый, я ехал домой после этой встречи. Ещё долго слова Шуберта
о «великом человеке» звучали у меня в ушах. Через два месяца после моей
встречи с военным преступником, массовым убийцей, эсэсовцем Шубертом
пришло известие о его смерти. Он умер в своей квартире и был похоронен в
Золингене. Мне сообщили, что в церемонии погребения приняли участие
Вольф-Рюдигер Гесс, сын заместителя фюрера, и другие господа!
Но вернемся к орнитологу Вильгельму Шустеру. Уже в студенческие годы
он выдвинул новаторскую гипотезу, которую назвал «повторяемость эпох,
сходных с третичным периодом» и которая опиралась на результаты его
орнитологических исследований. Эта гипотеза стояла в центре его научных
интересов. Критики Шустера отвергают и эту его гипотезу. Л. Гебхардт писал
(Gebhardt, 1964: 330): «К сожалению, он предавался ошибочным идеям.
Можно назвать, например, гипотезу периодического возвращения
третичного периода. Он упрямо оставлял без внимания даже любые доброже ла-
тельные возражения...».
Я читал первую публикацию Шустера, посвященную «третичной
гипотезе», которая вызвала яростную критику (Journal fur Ornithologie, 1902, 50:
331-348). Автору был в то время 21 год. Содержание статьи удивило меня.
Там говорится: «Существует [...] по крайней мере два орнитологических
свидетельства, которые ясно доказывают, что нашей эпохе предшествовала
114
более тёплая [...] и что мы снова движемся навстречу более тёплой эпохе».
Оба «свидетельства» Шустер логично и убедительно иллюстрирует
большим числом примеров, которые не потеряли своего значения и сегодня.
Таким образом, Вильгельм Шустер был одним из первых, кто указал на
потепление климата—проблему, которая сегодня интенсивно изучается и расс-
мат ривается как угроза для нашей планеты.
Между тем, многие до сих пор думают (как и я до прочтения этой работы),
что проблема глобального потепления климата была поднята только в 1970-
е или 1980-е годы. С тех пор на эту тему ежегодно публикуются сотни работ.
Вильгельма Шустера никто не цитирует! Другие его публикации также вовсе
не так ничтожны и ошибочны, как полагают его критики. Известный
орнитолог Отто Шнурре весьма одобрительно отзывается о некоторых разделах
его книги «Птицы Большого Гессена и Нассау», особенно за богатство
приведённых национальных и культурно-исторических описаний («Vogelring»,
1953, 22: 136-139). Мне его книга тоже кажется местами очень
увлекательной, она содержит большое число важных обобщений.
Уже нет в живых орнитологов, которые лично знали Вильгельма Шустера,
но неверные и предвзятые представления о нём многолетней давности по-
прежнему живы. То, как ожесточенно против него были настроены, передаёт
замечание одного орнитолога моего поколения из Гессена, который при
упоминании имени Шустера произнёс: «А, этот уголовник, со своей
смехотворной книгой и историями с женщинами»...
«Тогда это было так», — сказал мне убийца Шустера. Но сегодня нельзя
мириться с тем, что в чём-то странный, но талантливый, активный и полный
идей человек не получил должной оценки! Да, нельзя больше привлечь к
ответственности убийцу Вильгельма Шустера, поскольку все наказания,
возможные в правовом государстве и имеющее законную силу, уже исчерпаны.
Но против неверной оценки научных и писательских трудов орнитолога со
столь трагической судьбой можно ещё многое предпринять: например, его
многочисленные публикации должны быть объективно проанализированы
и представлены в правильном свете; интересно было бы составить
антологию его культурно-исторических и зоологических сочинений с
комментариями. Исследователи климата прежде других могли бы вспомнить забытого
и оскорблённого предшественника идеи о потеплении климата.
Имя Вильгельма Шустера не должно быть забыто, он был настоящим
первооткрывателем в науке. Помните о нём — первооткрывателе, убитом
политическим режимом!
Глава 3. Беженцы, изгнанники,
переселенцы и пленники
Этой теме посвящено немало публикаций, особенно в Германии, однако
многие её этнические и географические стороны всё ещё раскрыты
недостаточно полно. Социально-политический хаос XX столетия не ограничился
только Европой. Не менее страшные события происходили, в частности, в
Восточной Азии. И в Европе, и в Азии эти события роковым образом
отражались на судьбах учёных. В этой главе речь пойдет об учёных-орнитологах,
чьи судьбы в полной мере можно считать трагическими, и о тех, чьё
бедственное положение в плену или в изгнании было смягчено человеческим
участием (к сожалению, так бывало нечасто). Случалось и так, что власти
использовали переселенцев в политико-идеологических целях.
* * *
В Подолии1 (ныне Украина, перед Второй мировой войной — Польша, до
этого Галиция — часть Австро-Венгерской империи, относящаяся к Австрии,
ещё раньше — Польша) в течение нескольких столетий был известен род
графов Дзедушицких, крупнейших землевладельцев в этой местности (Karolc-
zak, 2001; Nowak, 2002c). Выходцами из этого рода были многие выдающиеся
личности, в том числе и учёные, которые внесли большой вклад в развитие
естественных наук, в частности — в орнитологию. Трудно представить себе,
сколько гонений, побегов, арестов, ссылок, разлучений семей,
экспроприации имущества и изгнаний выпало на долю Дзедушицких в первой половине
XX столетия. Тем не менее, историю их семьи никак нельзя считать
исключительной — в эту эпоху в Подолии подобное происходило и со многими
другими семьями.
Один из представителей этого рода, граф Влодзимеж Дзедушиц-
кий/Wlodzimierz Dzieduszycki (1885-1971) закончил свою
профессиональную деятельность в должности куратора орнитологической коллекции
Зоологического музея Института Академии наук в Варшаве. О Влодзимеже
Дзедушицком я и хочу рассказать. Но сначала несколько слов о его предках и
предыстории.
В период с конца XVIII и до начала XIX века, когда польская Подолия
относился к Австро-Венгерской империи, старинная фамильная резиденция —
имение Потужица, расположенное в окрестностях города Сокаль (ныне
1 Подольская возвышенность. — прим. перев.
116
Украина, Львовская область), переживала пору расцвета. Там кипела
общественная жизнь: для участия в охотах сюда съезжалось не только высшее
окрестное дворянство, но и политики, учёные, деятели искусства и писатели.
В начале XX столетия здесь, например, часто бывал нобелевский лауреат
писатель Генрик Сенкевич, автор знаменитого романа «Камо грядеши» («Quo
Vadis»). Ход истории положил конец этой идиллии. Но ещё до этого семья
Дзедушицких успела приобрести известность благодаря многим
выдающимся личностям, среди которых были политики (один из них был
министром в Вене), учёные (историки, философы, политологи), писатели,
основатели больших библиотек, реформаторы сельского хозяйства и
промышленности.
Кроме того, ещё в XIX веке в семье появился орнитолог: граф Влодзимеж
Дзедушицкий-старший (Tyrowicz, 1946; Gebhardt, 1964: 387), дедушка Влод-
зимежа Дзедушицкого. Он основал Графский музей естественной истории
(музей Дзедушицкого) в Лемберге/Львове и был создателем большой
библиотеки в Потужице, которую позднее перевёл в Лембергский музей (в то время
это была одна из крупнейших научных библиотек региона). Дзедушицкий-
старший был пожизненным членом Верхней палаты венского парламента и
депутатом Австро-Венгерского Имперского совета; сам император Франц-
Иосиф принимал его в Вене и удостаивал своим посещением в Лемберге;
французы почтили Дзедушицкого орденом Почётного легиона. В 1893 году он
перевёл часть своих латифундий и здание музея в Лемберге в майорат2, из
которого финансировался музей — в то время один из самых значительных в
Европе (BrzQk, 1994). Основная часть музея была посвящена орнитологии; с
1852 года, то есть всего через два года после основания музея, Дзедушицкий
стал членом Немецкого орнитологического общества. В апреле 1884 года граф
Дзедушицкий-старший принял участие в Первом Международном
орнитологическом конгрессе в Вене (в протоколах конгресса он значится как «Его
Превосходительство» и «действительный тайный советник из Лемберга»). На
конгрессе Дзедушицкий предложил изучать миграции птиц в Европе путём
кооперации с уже многочисленными тогда метеорологическими станциями.
В мае 1891 года он участвовал во Втором Международном орнитологическом
конгрессе в Будапеште. У него есть публикации по орнитологии Галиции, за
научную деятельность университет Лемберга в 1894 году присвоил ему титул
почетного доктора (доктора honoris causa), а Польская Академия наук в
Кракове выбрала его членом-корреспондентом.
2 Майорат — форма наследования недвижимости, при которой она переходит полностью к
старшему из наследников. — прим. перев.
117
Его наследники также оказывали поддержку орнитологическим
исследованиям и орнитологической коллекции Лембергского музея. В независимой
Польше в период между двумя войнами семья Дзедушицких успела внести
большой вклад и в развитие культуры и экономики. Даже в
коммунистической послевоенной Польше один из Дзедушицких (Войцех) был широко
известен; хотя на этот раз и не в своем отечестве, а во Вроцлаве. Он
прославился как оперный певец, артист кабаре, а позже стал звездой телевидения.
Но вернёмся к графу Влодзимежу Дзедушицкому, младшему из
орнитологов семьи. Своё детство он провёл в имении Потужица, учился в двух
гимназиях — сначала в Кракове, а потом в элитном лицее в Царском Селе под
Петербургом, где и сдал выпускные экзамены. Царь подтвердил его графский
титул, он получил дополнительно также русское гражданство, поэтому
позднее, после окончания учёбы в Лемберге и Кракове, смог унаследовать
фамильные имения, которые после раздела Польши оказались в её русской
части.
Об этом и дальнейших отрезках жизни Влодзимежа Дзедушицкого есть
некоторые публикации (Feliksiak, 1976,1987: 148); я ознакомился также с его
личным делом в архиве Зоологического музея в Варшаве. Личное дело
относится, правда, к «коммунистическому периоду», когда многое не могло быть
высказано без вреда себе самому, умалчивалось или представлялось в
искаженном виде. Поэтому я связался с дочерьми Дзедушицкого — Марией и
Елизаветой, которые помогли мне заполнить недостающие страницы истории.
Кроме того, я предпринял поиски документов, которые могли бы
способствовать восстановлению правдивой картины жизни графа Дзедушицкого, и
в других архивах.
В 1912 году, после бракосочетания с дворянкой Вандой Сапехой, граф Дзе-
душицкий принял управление фамильным имением Ярышув (недалеко от
Могилева) в украинской части Российской империи. Беспорядки, учинённые
крайними левыми революционерами и украинскими националистами,
быстро покончили с семейным счастьем молодоженов: в 1913 году, когда на свет
только что появился их первенец, семье пришлось бежать за несколько
километров в пока ещё более или менее надёжное место — в имение графа Бра-
ницкого в Белую Церковь. Но вскоре началась Первая мировая война, и семье
снова пришлось искать убежища, на этот раз в Киеве, где граф Дзедушицкий
участвовал в работе польского комитета помощи жертвам войны от Красного
креста. Когда же война, наконец, приблизилась к концу, началась революция
в Петербурге и со скоростью гигантского пожара охватила всю Российскую
империю. Киев был оккупирован немецкими войсками; молодому графу и
его семье было позволено переселиться в Лемберг. Это произошло летом 1918
118
года. В Лемберге Дзидушицкий включился в общественную и политическую
жизнь, но находил также время, чтобы заниматься музеем. Особенный
интерес он проявлял к орнитологии.
Летом 1918 года в Лемберге умер граф Тадеуш Дзедушицкий, второй глава
майората. Наследство и, соответственно, руководство музеем перешло к его
старшему сыну Павлу, но он решил вступить в Орден иезуитов, и таким
образом четвёртым главой майората и руководителем музея стал граф Дзеду-
шицкий-младший.
Эти события совпали с судьбоносным для Польши моментом: в ноябре
1918 года была провозглашена республика Польша! Семья Дзедушицких,
всегда настроенная патриотически, теперь снова жила в собственном
государстве. Новый глава майората проводил теперь часть времени в имении За-
жече, часть — в Кракове, и вынашивал обширные планы развития музея в
новой политической обстановке. К несчастью, в начале ноября 1918 года в
Лемберге/Львове началась локальная польско-украинская война, которая
помешала возвращению Дзедушицкого в город. Как только оружие было
сложено, он снова энергично начал заниматься делами музея, но недолго. Во
время новых вооружённых схваток, на этот раз между поляками и
большевиками, победа, казалось, была на стороне Красной Армии: большевики
захватили большие территории, в феврале 1920 года линия фронта подошла к
черте города. (Одним из политических комиссаров армии, был, кстати, тогда
ещё не очень известный революционер по имени Иосиф Сталин). Главе
майората и его семье вновь пришлось спасаться бегством на запад, на этот раз в
Краков. Но тут военная удача изменила большевикам, поляки изгнали
Красную Армию, и в 1921 году в Польше вновь воцарилось спокойствие. Теперь
Дзедушицкие, уже с пятью детьми, поселились в фамильном имении Зажече
недалеко от Ярослава, примерно в 100 км к западу от Львова (ныне в
Польше). Красная Армия не доходила до этой местности, маленький замок
остался невредимым. Отсюда граф Дзедушицкий руководил майоратом и
музеем во Львове, который он регулярно посещал. Но часть земельных
владений была потеряна, так как они оказались в Советской России, и теперь
финансирование музея пришлось сократить. Несмотря на это, музей под
руководством Дзедушицкого стал одним из важнейших естественнонаучных
учреждений Польши. Будучи истинным патриотом, Дзедушицкий мечтал о
воссоединении Польши и прилагал к этому определённые усилия: в 1921
году он посылает зоологическую экспедицию в польскую часть Поморья и
в «свободный город» Гданьск/Данциг (в Гданьске Дзедушицкий
сотрудничал с Провинциальным музеем западной Пруссии, основанным в конце XIX
века доктором Гуго Конвентцем). В научных публикациях музея Дзедушиц-
119
кий помещал результаты исследований из различных областей Польши и
обменивался опытом с институтами зоологического профиля в Польше и за
рубежом. В 1929 году сотрудники музея стали участниками важного научного
открытия: они откопали полностью сохранившийся экземпляр плейстоценового
шерстистого носорога (Coleodonta antiquitatis). Это ценное чучело находится
ныне в музее в Кракове, а копия выставлена в Британском музее. Управление
земельными владениями поглощало много времени, тем не менее, Дзедушиц-
кий часто посещал Львов (в то время у него уже имелся автомобиль); особенно
по душе была ему орнитологическая часть работы. В 1930-е годы он выделил
в фамильных лесах участок площадью примерно 500 га и сделал его
орнитологическим заповедником для охраны многочисленных гнездящихся там
видов хищных птиц. В 1938 году он участвовал в 9-м Международном
орнитологическом конгрессе в Руане, где призывал к защите мигрирующих
птиц в Италии. Как и его дед, Дзедушицкий содействовал исследованиям
миграций птиц, и сам участвовал в кольцевании. На основе имеющихся
данных, в то время ещё довольно скудных, он сделал вывод о том, что важный
пролётный путь пролегает от Прибалтики через восточную часть Польши к
Балканам. Шла подготовка к организации орнитологической станции в верх-
Рис. 32. Влодзимеж Дзедушицкий с сыном Анджеем в Львове, 1931.
120
нем течении реки Буг; осенью 1939 года орнитологический отдел музея во
Львове должен был возглавить молодой, но, пожалуй, уже лучший польский
орнитолог из Варшавы Анджей Дунаевский (см. стр. 77-79). Все планы
перечеркнула Вторая мировая война.
Уже в начале августа 1939 года, когда семья возвратилась после летних
каникул в Зажече, все ясно почувствовали политические напряжение. В конце
месяца старшие сыновья были призваны в армию. Нападение немцев на
Польшу 1 сентября стало, тем не менее, неожиданностью. Но на востоке
страны вначале спокойно ожидали объявления войны союзниками Польши
— Францией и Англией. Это произошло уже 4 сентября, тем не менее, с
началом военных действий союзники явно не торопились... Когда немецкие
подразделения приблизились к Висле, вся семья бежала на двух машинах на
восток. На дорогах, кроме частей польской армии, уже было много беженцев,
начались первые бомбежки. Ночью ехать было нельзя, так как запрещено
было включать фары, поэтому ночевали в лесу. Спустя несколько дней
добрались до восточного фамильного имения Потужица. Люди ещё верили, что
«всё обойдется». Когда 17 сентября радио сообщило, что Красная Армия
перешла восточную границу Польши, некоторые ещё думали, что Советский
Союз спешит на помощь. Но граф Дзедушицкий уже имел опыт общения с
большевиками: в тот же день он погрузил всю семью в автомобили и решил
возвращаться назад, в Зажече. На дорогах беженцы двигались теперь в двух
противоположных направлениях: одни убегали от немцев, другие — от
Советской Армии. Правительственные чиновники, сопровождаемые военным
конвоем, спешили сквозь неистовый хаос в пока ещё нейтральную Румынию.
Уже 18 сентября в районе города Замосць (позже переименованном в «Ген-
рих-Гиммлер-штадт») Дзедушицкие встретили немецкие войска под
командованием генерала Евгения Риттера фон Шоберта. Его офицеры были
предупредительны и позволили семье графа, на машинах которого развевались
белые флаги, продолжать движение в сторону Зажече. В конце сентября
немцы достигли пригородов Львова/Лемберга и остановились там.
Через несколько дней стало известно, что установлена новая, курьёзная
граница — «демаркационная линия немецко-советских интересов»; теперь
немецкие войска удалились, а их место заняли советские подразделения. Они
расположились всего в 15 км к востоку от Зажече. Жители оказались в зоне
немецкой оккупации, в так называемом Генерал-губернаторстве3.
Новые власти оставили Дзедушицкому его земли для хозяйственного
использования, но установили над ним официальный контроль и обязали к по-
3 Название центральной части Польши во время немецкой оккупации 1939—1945 гг. — прим.
перев.
121
SOCiElt DES NATURAUSTES deMOSCOU
fondee 1805 Moscou Moho/aia 9
N 73 SB Jaarier 1940
Deoteche
Ornlthologlacbe Geeelleohaft
Berlin 4.Invalidenatr.43.
Herat Professor
D-r Erwln Streaemann,
HocbgeehrterTKollegs,
Hlermlt habe lch die Enre Ihnen folgeadea mitruteilen.
lfacb dem Empfang Ibree Brlefea тот • II1-39 wandte eieh «le
Uoakauer Oeeellechaft der Keturforscher ев den Volkakoaftaaeavaa
der Volkabildung der B8FSR und OSSH mit der Bitte"J>«iedtta*ycki-
ache Haturhiatoriache lloaeua" uater aeln Protektorat so nehmen.
Ala Antwort auf oaaer Xranohea erhleltea wir тот TolkakoBmieear
der Volkabildung der U88H die Zoaage daa "Dsieduazycklache
Ratarblatorlaobe Uuaeom" lu aelaen arbelten au ooterattttcen
uad ea sum Staatamueeua en ernennen.
HochaohtuagaTOll
Sekretar der Oeaellaobaft
ставке части доходов. По-видимому, немецкой администрации пришёлся по
душе надзор над графом, они относительно хорошо обращались с ним. Вести
из Львова поступали теперь только с беглецами из советской оккупационной
зоны, которые могли сообщить какую-то информацию. Одним из них был
профессор Казимеж Водзицкий (см. стр. 195-202). Осенью 1939 года он
посетил Зажече и поведал членам майората о положении дел в музее: в
частности, он сообщил, что новые власти пригласили какого-то украинца для
исполнения обязанностей директора музея, и обязали его передать часть фондов
различным научным учреждениям Советского Союза! Потрясённый этим
известием Дзедушицкий в начале ноября написал длинное письмо профессору
Штреземанну в Берлин (он знал Штреземанна лично ещё по предвоенному
времени) и просил о помощи. В качестве обоснования своей просьбы он
писал, что музей на протяжении уже почти 90 лет является «групповым
членом» Немецкого орнитологического общества (генеральным секретарем
которого был Штреземанн). В тот период отношения Третьего Рейха и
Советского Союза ещё строились на основе известного договора о дружбе и
ненападении, и Штреземанн через Министерство иностранных дел в Берлине
послал хорошо обоснованное заявление в Московское общество
испытателей природы с просьбой о сохранении музея со всеми его фондами в Лем-
берге. Ответ из Москвы, который пришёл в Берлин уже в конце января 1940
года (рис. 33), поразил всех: министр народного просвещения Советской Рес-
Рис. 33. Письмо секретаря
Московского обиуества испытателей
природы профессору Э. Штреземанну
в Берлин с обещанием сохранить
музей &едушицких в Львове.
122
публики Украины обещал всемерно поддерживать работу музея и присуждал
ему ранг государственного! Один из украинских учёных был назначен
директором, бывший польский директор оставался куратором зоологической
части музея, а персонал увеличивался на 50 человек! Это было огромным
успехом, особенно если учесть, что руководитель майората находился так
далеко от Львова.
Тем временем в начале лета 1941 года семью Дзедушицких из основного
здания усадьбы в Зажече выселили в складское помещение, а во дворец
въехали немецкие офицеры. Но в конце июня, после нападения Германии на
Советский Союз, офицеры съехали — их отправили на восток. Воцарилось
спокойствие. Но оно оказалось обманчивым. Хотя все машины в имении были
конфискованы, удалось добиться различных поблажек от органов надзора,
например, было разрешено оплачивать труд сельскохозяйственных рабочих
деньгами вместо водки (обязательные партии напитка поставляла немецкая
фирма). В имении графа на работах было занято примерно 60
рабочих-поляков, которые были выселены немцами из окрестностей Познани. Короткое
время в имении жил священник Штефан Вишиньский, позднее кардинал и
первый епископ римско-католической церкви Польши. Вскоре после
оккупации были тайно организованы школьные занятия для местных детей,
частично даже по программе гимназии. Решились пойти ещё дальше: старшие
члены семьи вступили в национальную армию (в «Армию Крайову») —
прозападно ориентированную подпольную армию польского эмигрантского
правительства, находившегося в Лондоне. Граф Дзедушицкий принял на себя
функцию уполномоченного по гражданским делам группы Армии Крайовой
в Зажече (Szczepanski, 1991). Работал даже спрятанный в усадьбе
радиопередатчик — он передавал сигналы для самолётов союзников, которые
сбрасывали оружие и боеприпасы. Положение драматично изменилось в начале
осени 1943 года: крестьянин из соседней деревни Кисилёва сообщил немцам,
что там скрывается еврей; он был схвачен и немедленно расстрелян у
деревенского кладбища. Этот человек принадлежал к еврейской семье, которая
проживала на земле графа с его согласия и даже по его приглашению с
самого начала немецкой оккупации. Семья скрывалась в убежище в лесу, где
было относительно безопасно, так как в должности лесничего служил сын
Дзедушицкого, Ян, тоже член Армии Крайовой. На одной из охот, в которой
участвовал шеф Гестапо из Ярослава и несколько функционеров, немцы
случайно наткнулись на следы убежища. Граф старался загладить происшествие,
чтобы воспрепятствовать дальнейшему поиску «унтерменшен»4: он пригла-
4 Низшие люди. — прим. перев.
123
сил высоких чинов оккупационных властей из Ярослава на великолепный
обед с разнообразными алкогольными напитками, вёл с ними светские
беседы в приятной атмосфере. Вначале казалось, что происшествие предано
забвению, но это было не так. Через несколько недель Дзедушицкий был
арестован, и из Ярослава передан в Гестапо в Пшемысл. Речь шла о евреях,
возможно, немцы получили также какие-то доносы об участии Дзедушиц-
кого в подпольной деятельности. Ему грозила смертная казнь, но примерно
через месяц он был освобождён. Семье он сообщил лишь, что освобождение
«стоило очень дорого» (оккупационные немецкие чиновники, по-видимому,
не гнушались взятками). В результате не только Дзедушицкий был
освобождён, но и еврейской семье в лесу удалось пережить оккупацию!
Тем временем тучи снова нависли и над музеем в Львове. После оккупации
города немецкими войсками летом 1941 года музей был закрыт, а персонал
распущен. Здание и научные коллекции остались без присмотра! Граф
Дзедушицкий вновь обращается к Штреземанну, а тот — к органам власти,
теперь уже немецким. Но на этот раз он не смог достичь такого же заметного
результата, как прежде у советских властей. Тем не менее, кое-что сделать
удалось: Францишек Калькус, препаратор музея (польский, некоторое время
советский гражданин австрийского происхождения) был включён в так
называемый Народный список и под именем Франца Калькуса назначен
оккупационными властями опекуном всех музеев Львова. Таким образом, он мог
охранять и сокровища музея Дзедушицких.
В последние месяцы войны граф Дзедушицкий всё ещё управлял своим
имением в Зажече. Немцы бежали; в конце июля 1944 года советские
подразделения, а несколько позже также солдаты Польской армии, воевавшей в
Советском Союзе, проходили через имение и окружающие его деревни.
Военные вели себя корректно: советские офицеры просили продукты и высылали
их полевой почтой своим семьям; один молодой офицер сказал владельцу
имения, что после войны он «хотел бы служить у него»... Но как только
«импортированное» из Советского Союза польское правительство пришло к
власти, стало ясно, что настрой по отношению к дворянству и крупным
землевладельцам не сулит ничего хорошего. Кроме того, было объявлено, что
установлена новая польско-советская «мирная граница», которая прошла
значительно западнее, чем предвоенная. С несколькими изменениями в пользу
Польши она соответствовала вышеупомянутой «демаркационной линии
немецко-советских интересов». Всё, что лежало восточнее, в том числе музей
Дзедушицких с огромной библиотекой, было потеряно!
В освобождённой стране быстро образовались новые структуры
управления и партийные инстанции коммунистического толка; кроме милиции воз-
124
никли также учреждения «общественной безопасности» (то есть
политическая полиция, коротко называемая UB); эти организации курировало НКВД.
Новое правительство провозгласило радикальную земельную реформу,
теперь на очереди были и земельные владения семьи Дзедушицких, оставшиеся
в Польше. Для обеспечения беспрепятственного процесса огосударствления,
UB города Ярослава арестовала в конце октября 1944 года самого
землевладельца, его старшего сына Тадеуша и деверя, а днём позже и второго сына,
Яна, лесничего (в день первого ареста его не оказалось дома). Ян был
доставлен в Пшемысл. Сельскохозяйственные рабочие имения и местные
крестьяне устроили демонстрацию против этих арестов, что, конечно, не
произвело никакого впечатления на новые власти. Два чиновника из UB провели в
имении основательный обыск — искали политические материалы. Хотя на
территории усадьбы всё ещё был спрятан коротковолновый
радиопередатчик, они ничего не обнаружили (один из чиновников сказал дочери Дзеду-
шицкого Елизавете, что она должна следить за работой его коллег, поскольку
он сам заботится о том, чтобы ничего не нашли)... В ноябре немногие
оставшиеся на свободе члены большой семьи были выселены из имения. Её глава
предвидел дальнейший ход событий и перед своим арестом успел
договориться с аббатом доминиканского монастыря в Ярославе о том, что он
предоставит трапезную и несколько помещений осиротевшей семинарии для
графской семьи в качестве пристанища. После конфискации имения трое
арестованных были отпущены к Рождеству в 1944 года. Они сразу же пришли в
монастырь (в монастыре Дзедушицкий начал писать научно-популярные
рассказы о птицах для одного католического журнала). Но сына Яна ожидало
«особое распоряжение» советского НКВД: оно позаботилось о том, чтобы он
провёл три года в различных исправительно-трудовых лагерях Советского
Союза (в конце срока — за Уралом). Ему посчастливилось, он оказался среди
тех, кто вернулся обратно в Польшу. О своей судьбе он рассказал в книге «Три
года, отнятых у жизни».
Гостеприимный монастырь не смог долго служить пристанищем семье
Дзедушицких: органы власти Народной республики Польши, копируя советские
законы, постановили, что бывшие владельцы отчуждённых имений не имели
права проживать ближе 50 (а в отдельных случаях и 100) км от них. Так что
весной 1946 года семье пришлось перебраться в Рабку — курортный городок
почти в 200 км к западу от бывшего имения. Здесь, для того чтобы выжить, они
открыли частный пансион для детей, больных туберкулезом, но в рамках
акции борьбы с «частной инициативой» местные власти быстро добились его
закрытия посредством высокого налогообложения. Гражданин Дзедушицкий
(не только дворянские титулы были упразднены, но и само слово «господин»
125
теперь редко можно было услышать) нашёл работу референта по
хозяйственным вопросам в государственном лечебно-курортном управлении в Рабке.
Здесь он продолжал писать рассказы, они были изданы в 1956 году отдельной
книжкой под названием «Рассказы старого лесничего».
В это время из Зажече пришло трагическое известие: еврейская семья (их
фамилия была Шлаф), которая после выхода из лесного убежища
возвратилась в деревню, была уничтожена в 1947 году! Лишь сын Иозеф, который был
в то время ещё школьником, учился в Пшемысле и жил там, уцелел. Убийство
совершили польские антисемиты. Ни отличавшиеся высокой активностью
UB, ни судебные органы так и не установили имена преступников. Это
преступление остаётся нераскрытым до сегодняшнего дня.
В июле 1949 года Влодзимеж Дзедушицкии в новой
общественно-политической действительности страны нашёл, наконец, ту работу, которая его
удовлетворяла: Анджей Дунаевский, бывший перед войной куратором
Орнитологического отдела Зоологического музея в Варшаве, был убит во время
Варшавского восстания, и место не было занято... Дзедушицкии, которому
исполнилось уже 64 года, стал его преемником. Для человека дворянского
происхождения получить такую должность в то время было непросто. Дзеду-
шицкому помог профессор Ян Носкивич из Вроцлава, который когда-то был
сотрудником музея в Львове. Он не побоялся дать Дзедушицкому
положительную характеристику. Директору Варшавского музея профессору С. Фе-
ликсиаку (Brz$k, 1995) удалось обойти дальнейшие препоны и барьеры:
«официальная» биография графа в его личном деле была изменена в соответствии
с «требованиями времени»; апогей представляет отрицательный ответ на
вопрос о деятельности в движении Сопротивления в течение военного времени!
(Дзедушицкии служил в Армии Крайовой, которая, разумеется, принимала
самое непосредственное участие в Сопротивлении. Её командование
находилось в Лондоне вместе с эмигрантским польским правительством и
придерживалось консервативных, отчасти антикоммунистичеких взглядов. Её
бывшие члены подвергались репрессиям). В коммунистическое время
приходилось идти на любые уловки, чтобы дать возможность заработка семье
Дзедушицкого в польской биологической науке...
Я начал кольцевать птиц, будучи ещё гимназистом. Во время летних
каникул в 1951 году я участвовал в экспедиции по кольцеванию птиц на
Варшавской орнитологической станции в Мазурах. Мы расположились в доме
лесничего в живописном месте Лукнайно. Там я познакомился с господином
Дзедушицким. Мои коллеги нашептали мне, что он настоящий граф (в
коммунистической Польше это слово вслух не произносили). Это меня несколько
удивило, поскольку он вовсе не был похож на то, как в то время описывали
126
Рис. 34. Граф Влодзимеж &едушицкий из
Варшавы, около 1958 г.
дворян: он вёл себя по отношению ко мне по-отцовски дружественно,
скромно и открыто. На экскурсиях он помогал мне определять птиц и
рассказывал об их биологии, сетовал, что не может научить меня различать их
голоса. Причину этого я вскоре узнал: когда мы проходили мимо старого сарая
лесничего, я услышал специфический писк, который никогда не слышал
прежде, и спросил, что это такое. Дзедушицкий, однако, не слышал никаких
звуков, только когда я подвёл его вплотную к балкам стены амбара, он узнал
голос и сказал, что там находится днёвка летучих мышей, вероятно
нетопырей-карликов (теперь я и сам не слышу голосов большинства птиц, поющих
в высокочастотном диапазоне, не говоря уже о летучих мышах). Ко времени
нашего знакомства Дзедушицкий пребывал уже в преклонном возрасте и
перестал брать в руки охотничье ружьё, но когда я однажды в конце лета
отправился охотиться на скворцов, он посоветовал мне стрелять только птиц
коричневого цвета (молодых с изысканно вкусным мясом). Однажды на озере
Лукнайно, где я на костре решил приготовить на ужин перловую кашу,
престарелый господин разгневался не на шутку: «Этой миске с кашей я бы с
удовольствием дал такого пинка, что она улетела бы на середину озера». На мой
робкий вопрос «почему?» он ответил: «Во всех тюрьмах, где мне довелось
сидеть, кормили исключительно перловкой, и я поклялся никогда больше не
брать её в рот». Только много лет спустя я в полной мере смог осознать истоки
этой кулинарной антипатии.
Дзедушицкий прекрасно чувствовал себя в должности куратора
Варшавского музея и был вполне удовлетворён жизнью в условиях социалистиче-
127
ской Польши. Он неутомимо упорядочивал и каталогизировал ценную
коллекцию птиц музея (примерно 50 000 тушек), приведённую в беспорядок
событиями военного времени. Он был незаменимым помощником руководства
музея для ведения корреспонденции на иностранных языках (кроме
польского, немецкого и русского он владел также украинским, французским,
английским и, в меньшей степени, итальянским языком). Он знал Европу и
рассказывал о ней молодым сотрудникам, которые не могли в то время посещать
заграничные научно-исследовательские институты. Каждый месяц он делал
доклады на студенческом орнитологическом кружке, которым я руководил.
Однажды он сказал мне: «Если бы у меня была волшебная палочка, и я мог
бы с её помощью восстановить своё недвижимое имущество, я сломал бы её
и выбросил...».
Много лет спустя, в марте 1994 года, я побывал на Украине, в Львове (ныне
Льв1в). Мои коллеги привели меня в музей Дзедушицких, который к счастью
почти не пострадал во время последней войны. Молодой украинский
директор показывал мне помещения. Музей десятилетиями не получал никаких
средств на реконструкцию, и его облик мало изменился со времен Австро-
Венгерской империи. Именно это и оказалось самым незабываемым
впечатлением от поездки, потому что я вдруг почувствовал себя погрузившимся в
давно прошедшие времена. На прощание я сказал директору, что был знаком
с последним главой майората семьи Дзедушицких и убеждён, что он
обязательно бы уполномочил меня поблагодарить и поздравить директора с тем,
что он является теперь хранителем их семейного достояния. Директор был
обрадован моими словами.
Со временем музей всё же был отремонтирован, ныне больше не
скрывается и имя его создателя — графа Влодзимежа Дзедушицкого, появились
посвященные ему публикации (Чернобай и др., 2000).
* * *
В январе 1959 года я присутствовал на заседании в Зоологическом
институте университета Вроцлава/Бреслау. После заседания коллеги познакомили
меня с гостем из Германии — пожилой профессор сидел за письменным
столом и усердно работал. Это был Фердинанд Пакс/Ferdinand Pax (1885-
1964) из ФРГ — один из самых известных немецких зоологов (Boettger, 1967;
Gebhardt, 1970: 97-98; Nowak, 2002a: 29-32; Wiktor, 1997). Он учился в Брес-
лау и в Цюрихе, в 1907 году получил учёную степень у Вилли Кюкенталя в
Бреслау, годом позже стал его ассистентом, в 1912 году — куратором, а в 1917
году — директором Зоологического музея университета Фридриха Виль-
128
Рис. 35. Профессор Фердинанд Паке из
Бреслау, после войны жил в Кёльне, около
1950 г.
гельма в Бреслау. Основной темой его научных исследований были губки и
кораллы, но в 1925 году он опубликовал книгу «Фауна позвоночных
Силезии», часть которой представляет собой фундаментальное исследование о
птицах региона; над этой книгой вместе с Паксом работали несколько
орнитологов из Силезии, в том числе доктор Отто Наторп (о нём я расскажу
позже). С 1914 года Паке состоял членом Немецкого орнитологического
общества.
Паке, который ко времени моего знакомства с ним был уже в весьма
преклонном возрасте, разговаривал со мной так, как будто бы не было ни Второй
мировой войны, ни её последствий, и он всю жизнь так и работал здесь за
своим письменным столом. Это очень меня удивило, и я стал расспрашивать
о нём моих польских коллег. Дело в том, что в то время между Польшей и
ФРГ дипломатических отношений не было, и поездки из Западной Германии
в Польшу, в особенности в её так называемые «вновь обретённые земли»,
были практически невозможны. Коллеги объяснили мне, что Паке приехал
по приглашению своего польского друга, директора Зоологического
института профессора Казимежа Сембрата (Mikulska, 1989) для научной работы и
чтения лекций. История дружбы двух профессоров была довольно
увлекательной, и коллеги дали мне почитать статью Пакса, в которой были описаны
истоки этой дружбы.
129
Статья, написанная в 1949 году, начинается с описания торжественного
заседания зоологов в Бреслау по поводу сорокалетия здания Зоологического
музея, построенного под руководством Кюкенталя. Заседание проходило 20
июля 1944 года и случайно совпало с другим историческим событием: как
раз в тот момент, когда Паке направлялся к кафедре, чтобы произнести свою
речь, коллега шепнул ему, что покушение на Гитлера, которое произошло
несколько часов назад, успехом не увенчалось. Паке в этот момент вспоминал
своего лучшего друга, профессора Вальтера Арндта из Берлина, который
незадолго до этого был за «пораженческие высказывания» приговорен
«народным судом» к смерти и 26 июня 1944 года обезглавлен в тюрьме Бранден-
бурга (Pax, 1952). Паке предвидел, что теперь «предстоит большое число
новых ужасных убийств». Заседание закончилось, праздник продолжился в
дружеской атмосфере уютного винного погребка, но Паке был погружён в
мрачные мысли о предстоящем будущем.
В начале 1945 года силезский фронт пал, и Красная Армия вступила в Си-
лезию. В это время Паке находился на Биологической станции университета
в предгорьях Судет, примерно в 130 км от «крепости» Бреслау, где бушевал
пожар5. Его дом и станция, в отличие от других домов в деревне, не были
разрушены и разграблены, но когда летом 1945 года он узнал, что Бреслау
передан Польше, он пешком, вместе со своей дочерью Габриелой, тогда ещё
школьницей, отправился в Бреслау. В университете он встретил польских
коллег-биологов, которые вынуждены были перебраться в Бреслау/Вроцлав из
университета Яна Казимежа в Львове/Лемберге, оказавшегося на советской
территории. Вместе с профессором Сембратом и другими учёными Паке
энергично занялся спасением научных сокровищ Зоологического музея. Дочь
помогала ему. Работа продолжалась около года. Особенно Пакса радовало,
что «осуществилась его давняя идея о том, чтобы в университете появился
ещё один орнитолог», теперь там работал профессор Казимеж Шарский из
Львова (см. стр. 133-138).
В своей статье на нескольких страницах Паке описывает состояние
научных коллекций и акцию по их спасению (в значительной степени успешную).
Приведу два впечатляющих примера. Солдаты немецкой армии,
«защищавшие» Бреслау прямо из здания Зоологического музея, расчищая для себя
пространство выбросили из окна 3200 тушек из коллекции птиц (которая бьша
куплена в 1920 году у известного коллекционера за 35 000 марок). У
красноармейцев были другие интересы: после падения «крепости» они выпили
5 В конце войны Гитлер объявил некоторые немецкие города, в том числе и Бреслау,
«крепостями». Это означало, что их нельзя было сдавать — аналогично сталинскому приказу «ни
тагу назад» в начале войны. — прим. перев.
130
спирт из влажных препаратов и тем самым погубили, в числе прочих, и
типовые экземпляры различных видов губок и кораллов. (Отмечу, что
советские солдаты, с той же целью посетившие Зоологический институт в
Варшаве, потерпели неудачу — там для хранения препаратов использовали
метиловый спирт, и два молодых красноармейца умерли в январе 1945 года
прямо в здании университета).
Через несколько месяцев после окончания военных действий, 20 декабря
1945 года, здание Биологической станции и дом семьи Паксов были сожжены;
поджигатели остались неизвестными. Перед тем, как Паке должен был
покинуть Польшу 15 марта 1946 года, он передал профессору Сембрату часть
своего личного архива, в том числе готовую к печати рукопись третьего тома
«Библиографии по зоологии Силезии». Паке писал, что «... считал своим
долгом оставаться в Силезии до тех пор, пока сохранялась хоть малейшая
надежда, что моя родина остаётся немецкой». Паке и его семья были вывезены
на вокзал на грузовике, затем их ожидала 58-часовая поездка в товарном
вагоне в лагерь Мариенталь около Хельмштадта. Тем не менее, он вспоминает,
что его выселение «сопровождалось подлинным человеческим участием со
стороны польских коллег» и происходило в формах, «принятых среди
цивилизованных людей». (Многим другим переселенцам, к сожалению, пришлось
пережить грубое нарушение своих прав и полную беззащитность — это не
должно быть забыто!).
Должность Пакса — директора Зоологического музея университета, после
войны занял энтомолог, доктор Ян Кинель, один из «поздних переселенцев»
из Львова; он прибыл во Вроцлав в июне 1946 года (Kinel, 1957). До этого он
более 20 лет был куратором, а затем директором естественнонаучного музея
Дзедушицких во Львове.
Только в 1957 году в Польше удалось издать третий том составленной Пак-
сом библиографии по зоологии Силезии (почти 2 000 названий, 187 страниц).
После выхода книги профессор Сембрат решил пригласить автора (который
в это временя работал уже в Кёльне) к себе в Зоологический институт. Это
было время, когда в Польше политическая система несколько смягчилась (как
и в СССР, наступила «оттепель»), и гражданин Западной Германии мог «в
виде исключения» получить визу в Польской военной миссии в Западном
Берлине. Однако оформление визы продолжалось почти год!
Во время нашей встречи в январе 1959 года я не осмелился спросить
профессора Пакса о его впечатлениях от Вроцлава. Но позже он подробно
описал свою поездку в Польшу (Pax, 1959). Я хочу привести здесь только
несколько отрывков из этой публикации. «Обратный путь» из Кёльна во
Вроцлав 9 января 1959 года продолжался лишь 19 часов. Профессор Сембрат
131
дал гостю ключ от института, и он, как перед войной, мог работать и вне
служебного времени. В институте он нашёл в полной сохранности оставленные
им в 1946 году папки со своим личным архивом, в том числе то, чего ему
«иногда мучительно не хватало для научной работы в Кёльне». Он был рад
тому, что восстановлено здание музея, сильно повреждённое во время войны,
и тому, что научная коллекция, спасённая много лет назад с его участием,
преумножилась и находится в хорошем состоянии; сожалел, что до сих пор не
экспонируется выставочная коллекция (экспозиция была открыта в 1965 году
и считается одной из самых лучших и представительных в Польше; Wiktor,
1997). Паке прочитал лекцию польским студентам в том самом зале, где 20
июля 1944 года праздновали 40-летие Зоологического института, и «выступал
с праздничным докладом о естественнонаучном музее как феномене эпохи
Возрождения».
В 1959 году Паке провёл во Вроцлаве несколько недель, это время он
использовал для «захватывающих бесед с коллегами», просмотра новой
литературы и встреч со старыми друзьями. В конце визита ректор университета
пригласил Пакса осмотреть актовый зал «Леопольдина», который сильно
пострадал во время войны и теперь был искусно отреставрирован («вершина
искусства барокко Силезии, [...] парадные залы, с которыми не может
соперничать ни один немецкий университет», — написал Паке.) Их вид
пробудил в престарелом учёном ностальгические воспоминания: «Во время моего
пребывания в этом зале некоторые картины далекого прошлого явственно
ожили в моей душе. Перед моим внутренним взором предстал я сам,
выступающий с докладом на защите кандидатской диссертации по проблеме
реликтовых озёр в декабре 1907 года. Я увидел себя также в 1911 году, во время
празднования столетнего юбилея университета, в числе шести самых юных
приват-доцентов перед входом в праздничный зал университета, ожидающего
прибытия почётных гостей и провожающего их к своим местам...».
Исключительные по своей доброжелательности отношения между
изгнанником, профессором Фердинандом Паксом, и его формальными
«гонителями», занявшими его место, во многом сложились вследствие
высочайших человеческих качеств всех участников этой истории. Кроме того, многие
«гонители», в сущности, тоже были «изгнанниками», а, значит, и товарищами
по судьбе. Паке пишет, что была и ещё одна причина, которая в немалой
степени способствовала таким отношениям: «Если мне всегда показывали всё,
что меня интересовало, то основой этого служили мои личные связи с
польскими учёными, восходящие ещё к 1916 году».
Профессор Сембрат тоже посещал семью Паксов в Кёльне; госпожа Габ-
риела Паке и в наши дни время от времени навещает родной Бреслау/Вроц-
132
лав. Достойно упоминания, что во Вроцлаве она всегда является желанной
гостьей Ботанического сада, который основал дедушка Пакса, Фердинанд
Пакс-старший.
* * *
В этой части моего повествования уместно вспомнить польского
орнитолога профессора Казимежа Шарского/Kazimierz Szarski (1904-1960), имя
которого уже упоминалось в рассказе о Фердинанде Паксе. Собственно
говоря, Шарский был классическим специалистом по сравнительной анатомии,
но он очень интересовался орнитологией и активно занимался ей в
послевоенные годы в Силезии (Peacock, 1960; Sembrat, 1960; Gebhardt, 1964: 353-
354; Feliksiak, 1987: 524-525). Ему мы обязаны не только продолжением
немецких орнитологический исследования в этом регионе, но и (позднее)
созданием сильной орнитологической школы во Вроцлаве. Наряду с
достоинствами учёного, Шарский отличался редкими человеческими
качествами. Он держал себя с нами, тогда ещё молодым студентами-зоологами,
как «равный с равными», его манера общения не изменилась и после того,
как он стал ректором университета. Он хвалил нас за наши весьма скромные
Рис. 36. Профессор Казимеж Шарский из
Лемберга/Львова, после войны из
Вроцлава/Бреслау, 1958 г.
133
успехи, смотрел сквозь пальцы на наши слабости, указывал, как исправить ту
или иную ошибку и как нужно продолжать работу. Он развивал в нас
уверенность и доверие к своим силам и тем самым помог нам больше, чем те
преподаватели, которые хотели достичь того же посредством
«конструктивной критики». Беседы, которые он вёл со мной более пятидесяти лет назад, я
помню и сегодня как самые яркие эпизоды моего студенчества.
Казимеж Шарский родился в Вене, в польской семье, осевшей в Австрии.
Отец его был юристом, служащим министерства финансов Австро-Венгерской
империи; когда в 1910 году его назначили директором промышленного банка в
Лемберге/Львове, семья переехала туда и осталась в этом городе после распада
Австро-Венгрии. Во вновь возникшей республике Польше отец Шарского также
занимал высокие должности: он был президентом объединения Польских
банков, членом сената, почётным консулом Бельгии. Его сын Казимеж посещал
школу в Львове и в Кракове. В 1924-1929 годах он изучал биологию в
престижном университете Яна Казимежа во Львове. Ни переезд в другой город, ни
переход Львова «от Австрии к Польше» не создавали никаких проблем. В своё
время австро-венгерский монарх пожаловал Галиции, населённой поляками,
практически полную автономию, поэтому в период Второй Польской
республики межвоенного времени здесь ещё в полной мере удерживался «дух
монархии» (я был немало удивлён, когда одна из моих коллег родом из Галиции уже
в 1959 году, во время нашего совместного посещения антикварного магазина в
Кракове, купила портрет императора Франца-Йозефа). После окончания учёбы
в университете Казимеж получил место ассистента, защитил диссертацию и
стал доцентом незадолго до начала Второй мировой войны. После захвата
восточной Польши Красной Армией в конце сентября 1939 года его родители (с
бельгийскими дипломатическими паспортами) эмигрировали на запад, но он
всё-таки решил остаться в университете, ставшим советским. После того, как
город был занят немцами, в июле 1941 года университет закрылся.
Сразу после вступления в Лемберг/Львов немецких войск, в ночь с
третьего на четвёртое июля, двадцать один польский профессор, некоторые из
которых были еврейского происхождения, были арестованы и расстреляны.
Шарский должен был подумать и о себе, поскольку в его жилах тоже текла
еврейская кровь. Его дальние предки, граждане города Кракова, имели фамилию
«Feintuch». Дедушка Казимежа (коммерсант и банкир) крестился в середине
XIX века и взял фамилию Шарский — с типично польским звучанием
(Purchla, 1985). Еврейкой была и жена Шарского, урождённая Ландау. Так что
опасность была очевидна.
Первым на помощь пришёл профессор Рудольф Вайгл (1883-1957),
который хорошо знал семью Шарских. Ещё во время Первой мировой войны
134
Вайгл создал вакцину против сыпного тифа и тем самым спас жизнь
тысячам людей. Немцы также нуждались в нём, поэтому Институт по борьбе с
тифом не только продолжал работать во время оккупации, но и был расширен.
Хотя Вайгл имел немецкое происхождение, он очень хорошо относился к
полякам, возражал против засилья Гестапо и отказался от предложения принять
немецкое гражданство (Feliksiak, 1987: 567-568). Как «исконный немец», то
есть персона «honoris causa», он сохранял привилегированное положение и
использовал его, чтобы помогать людям в оккупированном городе. Доцент
Шарский тоже нашёл убежище в его институте. Его работа состояла в том,
чтобы выращивать здесь (на собственном теле) вшей. Производство вакцины
имело важное военное значение, поэтому институт и весь его персонал были
надёжно защищены...
Но когда в Лемберге/Львове началась систематическая регистрация
еврейского населения и его преследование, институт Вайгла уже не мог более
обеспечить надёжную защиту, поскольку Шарских прекрасно знали в городе.
Семья бежала в Варшаву в надежде, что в большом чужом городе удастся
надёжнее спрятаться. Тем не менее, вскоре их арестовали. Для госпожи Шар-
ской арест означал неминуемую гибель, но супругам чудом удалось бежать из
транспорта, который вёз арестантов. После этого коллеги из Варшавского
университета позаботились о нужных документах, причём в документе жены
Шарского в графе «девичья фамилия» было «ошибочно» написано «Lande»
вместо «Landau»6. Доцент Шарский нашёл работу в фирме, которая
производила приправы и витамины; его жена до окончания войны почти не выходила
из дома. Когда в конце 1941 года в Варшавском гетто началась эпидемия
сыпного тифа, туда удалось контрабандой переправить партию вакцины Вайгла
из Львова. Как это было сделано, установить уже, по-видимому, не удастся.
Вероятно, Шарские принимали участие в этой акции. Во время Варшавского
восстания в 1944 году квартира Шарских служила убежищем для
повстанцев. После поражения восстания семье удалось спрятаться в какой-то деревне
недалеко от города. Так они пережили войну. Все родные госпожи Ландау,
которые оставались во Львове, погибли.
Сразу после окончания войны, то есть после бесповоротной потери
университета во Львове, Шарский переселился в город своих предков — Краков.
Здесь он начал работать в университете в должности доцента, но вскоре
Министерство высшего образования Польши принудило его к ещё одному
перемещению: с 1 января 1946 года Казимеж Шарский получил должность
профессора в университете Вроцлава/Бреслау и должен был переехать туда. Во
6 «Lande» — типичная немецкая фамилия. — прим. перев.
135
Вроцлаве он встретил многих своих коллег из Львова, которые были
переселены сюда после потери восточной Польши. Благодаря организаторскому
таланту и человеческим качествам Шарского сотрудники и студенты вроцлав-
ского университета очень многим обязаны своей Alma Mater. Шарский был
деканом естественного факультета, некоторое время — ректором
университета. Один из английских друзей Шарского отмечал его «высокую личную
культуру, мудрость, отзывчивость, непретенциозное обаяние и нравственную
безупречность» (Peacock, 1960). Как никто другой, он умел управлять
сотрудниками и разнородным студенчеством, с подкупающей человечностью
оказывать на них влияние и защищать в непростое «сталинское» время. Этому
он научился у Вайгла!
Оказавшись в Силезии, Шарский прежде всего занялся спасением ценной
коллекции птиц Отто Наторпа, которая во время войны оказалась в Брес-
лау/Вроцлаве и чудом уцелела во время многомесячных кровавых сражений
вокруг «крепости». Историю Наторпа и его необычной научной коллекции
птиц, насчитывавшей примерно 3 500 экземпляров, описал К. Шульц-Хаген
(Schulze-Hagen, 1997).
Отто Наторп (1876-1956) до Первой мировой войны работал главным
врачом (хирургом) больницы горняков в Мысловицах в Верхней Силезии. Он с
юных лет интересовался орнитологией и делал тушки птиц для своей личной
коллекции. Искусство препарирования птиц и изготовления тушек, которое он
освоил самостоятельно, постепенно достигло такого совершенства, какого
прежде не было в таксидермии птиц (Наторп, например, клал внутрь тушки
сформированное из торфа «ядро»). Поэтому его коллекция, наряду с научной,
имела также и большую художественную ценность. Уже в 1920-е годы
профессор Паке отозвался об этой коллекции, как о «лучшем собрании силезских
птиц», в котором есть целые «серии труднодоступных видов». В 1922 году,
когда часть территории Верхней Силезии оказалась в Польше, Наторп решил
остаться там и принял польское гражданство. Контакты с ведущим польским
орнитологом Я. Доманевским и частным коллекционером С. Зелинским, а
также путешествия способствовали расширению коллекции. В 1926 году
Наторп как член польской делегации ездил на Международный
орнитологический конгресс в Копенгаген; кроме того, он принимал участие в
конференциях Немецкого орнитологического общества, членом которого был с 1907
года (он огорчался, что коллеги из немецкой части Силезии почти не
посещают конференции общества). В 1938 году, после выхода на пенсию, Наторп
переехал в Цоппот/Сопот (в то время часть свободного города-государства
Данцига), чтобы иметь возможность получать свою польскую пенсию и
вместе с тем сохранить тесный контакт с Германией; здесь он хотел также под-
136
вергнуть свою коллекцию научной обработке. Когда началась Вторая мировая
война и «свободный город» вместе с частью Польши оказались в составе
Третьего Рейха, Наторп снова принял немецкое гражданство и вновь стал
работать хирургом в Мысловитц/Мысловицах. От приближающейся линии
фронта в 1944 году он бежал в Бреслау, прихватив с собой всю коллекцию. Но
Советская Армия наступала быстрее, чем ожидали, в городе начался хаос: на
почте больше не принимали к отправке никакие посылки. Наторп с женой
вынуждены были оставить большую часть имущества, в том числе и
бесценную коллекцию, и 20 января 1945 года спешно покинуть город, чтобы бежать
на запад, в Баварию. Эту горестную потерю Наторп так и не смог пережить,
а поскольку он не получал немецкой пенсии за то время, когда он был
польским гражданином, то остаток своей наполненной созиданием жизни он
провел в глубокой бедности.
В период с конца февраля по начало мая 1945 года Бреслау/Вроцлав был
почти полностью разрушен. Этому усиленно способствовали обе воюющие
стороны: с разрешения немецкого коменданта «крепости» были взорваны
целые улицы вместе с домами для устройства взлётно-посадочных полос для
самолётов. Ковровое бомбометание союзников приводило к тому, что
большинство городских кварталов было охвачено пожарами (я жил тогда в 60 км
к северу от Бреслау/Вроцлава и в течение многих вечеров мог наблюдать
зарево от этого ада). С начала мая 1945 года тысячи советских и польских
солдат праздновали здесь конец войны, что также не обходилось без
разрушений и пожаров. И все же в этой преисподней нашлось место чуду: дом на
окраине района Вильгельмсруе, Фрейавег, 13 (ныне Зацише, улица Яна Гло-
говчика), где хранилась коллекция Наторпа, остался невредимым! К
сожалению, сотрудники Зоологического института университета Вроцлава — теперь
польского — ничего не знали обо всем этом. Только когда новые жильцы дома
начали распродавать чудесных маленьких птичек, они случайно попались на
глаза профессору Шарскому: некоторые экземпляры были выставлены для
украшения витрины в мясной лавке! Начались поиски, которые от блошиного
рынка (где ценнейшие экземпляры из-под полы продавались за бесценок —
около двух злотых за штуку) привели в конце концов к дому Наторпа. С
помощью милиции остаток коллекции в количестве 503 тушек был конфискован
и передан Зоологическому институту. В основном это были мелкие виды
воробьиных; более привлекательные и крупные экземпляры были раскуплены
многочисленными охотниками для украшения кабинетов. Шарский написал
Наторпу о частичном успехе. Я видел остатки этой коллекции: каждая тушка
действительно представляет собой произведение орнитологического
искусства, ныне почти совершенно утраченного. Поистине, чтобы достичь таких
137
высот в таксидермии, надо было быть хирургом! В 1957 году Шарский
передал мне несколько дневников Наторпа (они были конфискованы вместе с
остатком коллекции), и я привёз их на запад. Но их автора уже не было в
живых. Профессор Нитхаммер обработал их и передал дочери Наторпа. К
сожалению, впоследствии они снова пропали. Странно, что такое могло
случиться в мирное время...
Итак, спасение коллекции Наторпа было первой орнитологической акцией
профессора Шарского в Силезии. Она послужила хорошим поводом для того,
чтобы наряду со сравнительной анатомией теперь ещё более основательно
заняться изучением птиц в природе: он опубликовал статьи о птицах
низменности равнины Барыч, Вроцлава и ряд других.
Профессор Шарский успел много сделать как для орнитологии Силезии,
так и для восстановления университета Бреслау/Вроцлава. Он придавал очень
большое значение тому, чтобы после войны мысль о примирении была
воспринята его студентами. К сожалению, лейкемия — неизлечимая в то время
болезнь — слишком рано положила конец его деятельности. Я был на
чрезвычайно многолюдной церемонии прощания с Шарским в католической
университетской церкви Вроцлава. Похоронен он был на родине, в Кракове.
* * *
На юго-востоке Европы лежит область, историческая судьба которой
отличается особенной сложностью. Это Трансильвания. Раньше она входила в
состав Австро-Венгерской империи, ныне это часть Румынии. Эта территория в
орнитологическом отношении исследована достаточно полно (см. Н. Salmen и
W. Klemm & S. Kohl: «Ornis Siebenbuergens», Vol. I—III, 1980-1988). Важный
вклад в изучение обитающих здесь птиц внёс скромный человек, который
работал учителем биологии в различных гимназиях — профессор Вернер
Клемм/Werner Klemm (1909-1990).
Трансильвания — горная страна с чудесной природой, пережившая
множество исторических потрясений, которые, к счастью, не погубили её, и
которая сохранила высокое экологическое разнообразие и фаунистическое
богатство. С XII века Трансильванию начали заселять немецкие колонисты,
потомки которых — трансильванские саксы, основали здесь много поселений
и городов и способствовали развитию страны. Войны и многократные смены
политических режимов имели разнообразные последствия для жизни
немецкого меньшинства, часто эти последствия оборачивались большими
неприятностями и даже трагедиями. В последний раз это случилось в середине XX
столетия. Жизнь учителя и натуралиста В. Клемма как раз даёт
представление о судьбе выходцев из этой этнической группы (Heltmann, 1991; Grau, 2003).
138
Рис. 37. Профессор Вернер Клемм из
Трансилъвании, Румыния, около 1980 г.
Отец будущего профессора происходил из Тюрингии, то есть
принадлежал к последней волне немецких иммигрантов в Трансильванию. Он
прибыл в эту дальнюю провинцию из Австро-Венгрии в качестве коммерсанта
и сочетался здесь браком с «настоящей» местной уроженкой —
трансильванской саксонкой. Второй ребёнок в семье — сын Вернер, появился на свет
в трансильванском Страсбурге (ныне Аюд). Уже в Брукентальской гимназии
в городе Германнштадте/Сибиу — центре немецко-трансильванской
культуры — преподаватель Альфред Камнер заразил Вернера интересом к
орнитологии. Участие в движении юных натуралистов, которым были охвачены
в то время многие области, в том числе и Трансильвания, углубило интерес
Клемма к природе. В это же время молодому Клемму представился случай
совершить путешествие в дельту Дуная в качестве помощника геодезиста,
что ещё больше укрепило его увлечение орнитологией. В 1928 году после
выпускных экзаменов в гимназии Клемм поехал в Германию и в течение двух
семестров изучал естествознание в университете Йены. Вернувшись в
Трансильванию, он до 1935 года учился в университете в Клаузенбурге/Клуже.
Из-за обострения отношений с Венгрией в 1931-1932 годах ему пришлось
прервать учёбу в связи с внезапным призывом в румынскую армию. К
счастью, положение скоро нормализовалось. В 1935 году он начал работать учи-
139
телем. Но в 1936-1937 годах ему удалось снова поехать в Германию; в
течение двух семестров он изучал в Берлине естествознание и теологию. После
этого последовали долгие годы работы учителем в различных немецких
школах в Трансильвании, и, в конце концов, судьба привела его в ту же самую
гимназию в Германштадте, где он некогда учился сам. После того, как
профессиональная и личная жизнь Клемма устроилась (бракосочетание, четыре
ребёнка), всеми уважаемый преподаватель начал заниматься научной
деятельностью: в 1939 году появились публикации Клемма о перелётах птиц на
румынском языке. Уже тогда он стал заниматься охраной природы,
наверное, под впечатлением необыкновенной красоты дельты Дуная, которую он
посещал снова и снова.
Но грянула Вторая мировая война. Румынское правительство, сначала
соблюдавшее нейтралитет, в ноябре 1940 года объявило о союзе с гитлеровской
Германией и через год вступило в войну против Советского Союза. Для
Трансильванской Саксонии началась национал-социалистская эра: национальное
немецкое меньшинство получило привилегии, в частности, молодые
мужчины могли эмигрировать в Германию и войти в состав СС. Вернер Клемм в
1942 году был призван в румынскую армию как рядовой горнострелковых
частей и принял участие в боевых действиях. Под девизом «Крестовый поход
против коммунизма» румынские подразделения вместе с немецкими армиями
воевали на юге Украины и летом 1942 года оказались под Сталинградом.
После поражения фашистской армии в этом районе многие немцы осуждали
военную слабость румын; советское же командование обходилось с ними
особенно жестоко. В боях за Сталинград немцы и румыны понесли тяжёлые
потери, но Вернер Клемм уцелел и ещё до окончания войны, в конце 1944 года,
вернулся к своей семье в Германштадт.
Счастье продолжалось недолго: в середине холодного января 1945 года, ещё
до восхода солнца, Клемм был арестован советско-румынским армейским
патрулём и депортирован в Советский Союз. В сентябре 1944 года румынский
король Михаэль I радикально изменил политику, и теперь румынские
подразделения сражались уже против немцев вместе с Красной Армией. Тем не
менее, Советский Союз требовал от румынского правительства почти 100 000
рабочих с целью восстановления разрушенной войной страны. Румынам
ничего не оставалось делать, как согласиться; договорились, однако, что
депортации подлежат только представители немецкого меньшинства. Поскольку
почти все немецкие национал-социалисты уже успели покинуть страну и
скрылись на западе, то хватали теперь каждого, независимо от его взглядов
или действительной «вины». Единственным критерием было выполнение
квоты. Так Клемм разделил судьбу многих тысяч трансильванских немцев.
140
Массовые аресты были тщательно подготовлены с помощью опытных
советских «специалистов» из НКВД: по именным спискам мужчин и женщин
арестовывали прямо в квартирах и сразу же доставляли на вокзал к уже
ожидающим их товарным вагонам. Переезд по железной дороге длился неделями,
без достаточного снабжения. Если кому-то удавалось бежать, то советские
охранники ловили первых попавшихся румынских крестьян прямо в полях и
брали их в качестве замещения сбежавших. От умерших избавлялись на
вокзалах. Местом назначения были, в основном, угольные бассейны в
восточной Украине. Размещённые в примитивных помещениях пленные должны
были сразу же приступать к работе в подземных шахтах. Условия труда и
жизни были очень тяжёлыми, в сущности, это была медленная смерть.
Клемму пришлось побывать в нескольких лагерях в окрестностях
Днепропетровска. Он принадлежал к тем, кому удалось выжить; в 1949 году он был
освобождён раньше срока и снова вернулся к семье в Сибиу/Германштадт.
Между тем, остававшейся на родине семье тоже приходилось нелегко: в
Румынии уже было провозглашено строительство социализма, граждан
немецкого происхождения подвергали дискриминации: их лишили всех
политических прав; более или менее крупная собственность, в том числе и
земельная, была национализирована. В осиротевшие дома и квартиры селили
безземельных румынских крестьян и цыган. Прежняя автономия и культурная
самостоятельность меньшинства была практически упразднена, школы
различных конфессий стали государственными, а преподавание закона божьего
запрещено. Теперь протестантская церковь, которая всегда была социальной
и культурной основой немецкой этнической группы, приобрела ещё большее
значение: в церковных общинах была организована взаимопомощь. Со
временем настойчивые усилия протестантской церкви привели к уступкам со
стороны правительства: было разрешено преподавание закона божьего в
церковных помещениях, начали выходить немецкоязычные газеты,
возобновились передачи на немецком языке по радио, а позже и по телевидению;
многие дома и квартиры возвратили законным владельцам. Стали даже снова
возможны ограниченные контакты с Германией. Жена Клемма активно
участвовала в деятельности церкви.
Сразу после возвращения из лагеря Вернер Клемм устроился на работу
преподавателем биологии в Педагогическую общую школу № 1 в Сибиу/Гер-
манштадте. Начался новый этап жизни и работы. О годах войны и
принудительного труда он писал позже, что «только существование между жизнью и
смертью позволило [ему] осознать цену человеческой жизни». Хотя Клемм
был приверженцем дарвинизма, и его понимание Бога, вероятно, не было
строго библейским, он, по примеру жены, начал участвовать в церковной дея-
141
тельности, главным образом в социальной и культурной сферах. В своей
работе Клемм научился умело обходить трудности, которые создавал ему
социалистический режим, как инакомыслящему и религиозному
преподавателю. Его профессиональную квалификацию высоко ценили; в 1952-1954
годах он даже был директором школы. В 1966 году власти пожаловали ему
титул «заслуженного профессора».
В первое время общественная научная деятельность была затруднена, так
как Трансильванское общество естествоиспытателей в Германштадте было
закрыто ещё в 1948 году. Тем не менее, преподаватели и ученики еженедельно
собирались на частных квартирах; позже эти собрания продолжились в
рамках Германштадской секции Биолого-географического общества Румынии.
Молодые учителя, которым в университетах и высших школах преподавали
главным образом мичуринскую и лысенковскую «науку», слушали лекции
Клемма по экологии и этологии; в его доме можно было просмотреть новые
журналы и книги из Германии. В то время каждый преподаватель обязательно
должен был заниматься «общественной работой». Клемм выполнял её в
области охраны природы и орнитологических исследований: он занимался
белым аистом, хищными птицами, учётами водоплавающих птиц,
разработкой предложений по организации охраняемых территорий. Особенно
успешной эта деятельность стала после того, как Комиссия по охране природы
Румынской Академии наук назначила Клемма куратором (на общественных
началах) охраны птиц дельты Дуная.
В возрасте 60 лет, в 1969 году, Клемм ушёл на пенсию; начались «годы
хлопот, годы посева и урожая», — сказал он позднее. Только теперь он получил,
наконец, возможность полностью посвятить себя научной деятельности.
Налаживание контактов с немецкими учёными-биологами в послевоенные
годы давалось трудно и ограничивалось случайной перепиской; позже стали
возможны встречи с орнитологами-любителями из ГДР, которые проводили
свои отпуска в Румынии. Только в мае 1972 года представился случай
встретиться с некоторыми профессиональными орнитологами: в Румынии, в
курортном местечке Мамайя на Черноморском побережье к северу от
Констанцы, состоялась 10-я Европейская конференция Международного совета
по охране птиц. Помимо орнитологических вопросов, Клемма интересовала
ситуация в послевоенной разделённой Германии. Он расспрашивал
приехавших орнитологов. О ГДР он уже кое-что знал. Во время банкета на закрытии
конференции один молодой орнитолог из ФРГ рассказал ему, что банкеты на
его родине, в Западной Германии, не отличаются строгостью нравов, и что
при желании на церемонию можно прийти даже в плавках. Это звучало не
очень правдоподобно, однако и в румынской прессе можно было прочитать
142
нечто похожее об «американизации» Западной Европы. Клемм был
озадачен...
В апреле 1975 года он был приглашен «Культурным Союзом» ГДР на
орнитологическую конференцию в Карл-Маркс-Штадт/Хемниц, где ему было
оказаны многочисленные знаки внимания. В октябре 1978 года он смог,
наконец, совершить путешествие «на золотой запад» (так называли тогда ФРГ)
— его пригласили на ежегодную конференцию Немецкого орнитологического
общества в Гармиш-Партенкирхен. Наконец-то он мог сам получить
представление о Германии и установить профессиональные контакты. Постепенно
дом Клемма в Трансильвании стал центром, куда приезжали все орнитологи
из-за границы. Популярными целями приезда были дельта Дуная и область
гнездования хрустана (Charadrius morinellus) в Карпатах. Таким образом,
Клемм стал одним из немногих и очень важных посредников между Западом
и Востоком, способствующим, вопреки «железному занавесу», поддержанию
контактов между учёными-натуралистами.
В 1970-е годы профессор Эрнст Шутц из Штутгарта (последний
руководитель орнитологической станции Росситтен на Куршской косе) обратился к
Клемму с предложением о сотрудничестве в издании «Ornis Siebenbuergens»
(«Орнитология Трансильвании»), начатого Хансом Зальменом, который после
войны эмигрировал в Австрию и умер там в 1961 году. Предложение было
заманчивым, и Клемм принял его, но налаживание совместной работы
оказалось непростым делом: почтовые отправления к Шутцу и обратно шли
неделями и, очевидно, перлюстрировались, поскольку Клемма начали навещать
представители румынской службы безопасности: их интересовало, почему
он принимает у себя так много иностранцев и что, собственно, является
предметом корреспонденции. Было подозрение, что это зашифрованные
послания трансильванским эмигрантам... Клемм должен был снова и снова давать
устные и письменные объяснения. Его жену раздражали нежеланные гости,
она умоляла прекратить сотрудничество. Но Клемм был твёрд и упрям: в 1980
и в 1982 годах вышли первые два тома книги, в 1988 году был издан
дополнительный том.
Это было время правления румынского диктатора Чаушеску, который
усиленно насаждал политику «романизации» немецкого меньшинства.
Правительству ФРГ путем жёстких переговоров удалось предотвратить эти попытки
и даже достичь некоторых льготных условий для этнических немцев: в
частности, трансильванским саксам и банатским швабам была разрешена
ограниченная (и оплачиваемая правительством Федеративной Республики
Германии в валюте) эмиграция в Германию. Теперь среди немецкого
меньшинства, веками жившего в Румынии, произошёл раскол. Многие были
143
сыты социализмом по горло, прельщались материальным благополучием,
обещанным им в Германии, и уезжали. Румынская протестантская церковь
настаивала на пребывании на родине. Раскол произошёл и во многих семьях,
в том числе и в семье Клемма: оба его сына эмигрировали, две дочери
остались в Румынии. В 1985 году Клемма пригласили на совещание
Международного совета по охране птиц в Вальсроде в ФРГ. Он мог бы остаться в
Германии, но возвратился домой — свои жизненные задачи он, как и прежде,
видел в Трансильвании («люди церкви не эмигрируют», сказал он).
Но в Трансильвании уже давно произошли большие изменения. Условия
жизни становились всё более трудными, почти невыносимыми. Всё меньше
молодых биологов Германштадта собиралось на еженедельные встречи и
экскурсии. Всё чаще Клемму приходилось слышать их извинения: «У нас
совершенно нет времени». Он записал: «Существование в век развития
технической цивилизации человечества прерывает нам дыхание». Его предложения
по охране природы, которые он, как признанный эксперт, направлял в
различные высокие инстанции в Бухаресте, почти не имели успеха; ощущение
своего бессилия по отношению к органам власти изнуряло его. В 1987 году
Вернер Клемм вместе с женой как «поздние переселенцы» эмигрировали в
ФРГ. Теперь они тоже решили насладиться лучшей жизнью.
Я познакомился с Клеммом в феврале 1989 года в Клеве на Нижнем Рейне,
на орнитологической конференции, посвященной экологии гусей. Он нашёл
во мне «родственную душу». У нас оказалось много времени для разговоров
из-за частных перерывов «на кофе» между докладами, связанных с
неполадками с проектором. Его новым домом стала тихая живописная местность Аль-
гой на юге Западной Германии, он мог свободно общаться теперь с
коллегами-орнитологами, но он не нашёл здесь своего счастья. Его душа была
раздвоена: в мыслях он постоянно возвращался ко всему хорошему, что
довелось пережить на родине в Трансильвании, и забывал обо всём плохом и
тяжёлом. Не так-то просто создать новое счастье. Он остался без корней, и это
тяготило его в новой благополучной и обеспеченной во всех отношениях
жизни. Его горечь не была связана с какими-либо конкретными людьми, он
не был ни на кого обижен. Источником его неистребимой печали стал сумбур
XX века, принесшего людям столько страданий и горя...
Вернер Клемм умер в возрасте 81 года в Альгое. Он оставил после себя
замечательное наследие и память, которым можно только позавидовать.
Приведу в связи с этим высказывание бывшей ученицы Клемма в Трансильвании,
ныне воспитательницы детского сада. Она написала: «Каждый нуждается в
примерах для жизни, таким примером для меня был господин Клемм».
144
* * *
С середины XX столетия и вплоть до объединения Германии в земле Ме-
кленбург (ГДР) существовала станция охраны птиц (позднее Биологическая
станция) Серран. Основными направлениями деятельности станции были
орнитология и охрана природы. Несколько сотен молодых людей из 16 стран
прошло в Серране орнитологическую практику; некоторые из них позднее
стали учёными. Особая дружеская и тёплая атмосфера, царившая на станции,
привела к нескольким бракосочетаниям. Многие из бывших практикантов до
сегодняшнего дня с восторгом вспоминают об этом времени. Душой и
сердцем станции был Губерт Вебер/Hubert Weber (1917-1997), лесничий и
орнитолог.
Я познакомился с Вебером в середине 1950-х годов, со мной он (как с
поляком) говорил по-чешски. Свое знание этого языка он объяснил тем, что
родился в Моравии и до 1946 года работал в Чехословакии. На моё замечание
о том, что все «чешские немцы» на основании декретов Бенеша сразу же
после войны были выселены, он с гордостью возразил, что не все. Тем, кто
состоял в рядах антифашистов, было позволено остаться. После этих слов он
очень вырос в моих глазах, и я обратил на него особое внимание. Постепенно
мы стали друзьями.
Когда мне захотелось составить его биографию и рассказать о его жизни и
заслугах, это оказалось очень трудным делом, которое удалось завершить
только ко второму изданию этой книги. Дело в том, что о его «прошлой
жизни», то есть о периоде до начала его деятельности в Мекленбурге, никто
не знал ничего определённого. Он появился в Серране в 1949 году,
возродившись как «феникс из пепла». Своим коллегам он рассказывал истории из
своего прошлого, зачастую весьма противоречивые, а иногда даже и не вполне
правдоподобные. Многие его современники о его заслугах отзывались с
похвалой, другие считали его авантюристом. Рассказы о его профессиональной
деятельности всегда перемежались подробностями из его частной жизни. Он
был три раза женат, имел от этих браков 11 детей; но, кроме того, у него было
несколько возлюбленных, от них он детей не признавал, и т.п. И всё же мои
старания выяснить неизвестные стороны его жизни и профессиональной
деятельности, вопреки всем трудностям, привели к определённому результату
(Nowak, 2006b).
Отец Губерта Вебера был кадровым офицером в Австро-Венгерской
империи (служил в личной охране императрицы Циты) и происходил из
немецкой семьи из Буковины. Мать была чешского происхождения, она родилась в
Моравии. Свидетельство о рождении их сына было выдано в
Австро-Венгрии. Но уже через год он вместе со своими родителями оказался жителем
145
Рис. 38. Губерт Вебер из Серрана,
1950-е годы.
провозглашённой в 1918 году Чехословацкой республики. Семья жила в
городе Опаве. Здесь Губерт посещал немецкую начальную школу с
интенсивным преподаванием чешского языка, с 1930-го года — гимназию. С этого
времени он становится гражданином Чехословакии.
Во время учёбы в гимназии началась «орнитологическая карьера» Губерта:
его учитель биологии, профессор Карл Кёлер (Gebhardt, 1970:74-75) был
сведущим орнитологом, автором многих публикаций о птицах региона; в
гимназии имелась неплохая коллекция тушек птиц. Кёлер учил Губерта
определению видов, передал ему обширные знания о биологии птиц, их миграциях,
по отлову и кольцеванию. Он рекомендовал своему ученику вести
самостоятельные систематические записи о птицах. Губерт последовал совету учителя
и в 1930-м году начал вести дневник орнитологических наблюдений,
который продолжал до самой смерти. После окончания гимназии Вебер собирался
учиться дальше, чтобы стать учёным.
Но в 1933 или в 1934 году для семьи Губерта наступили тяжёлые времена:
его родители, которые прежде ни в чем не нуждались, внезапно обеднели:
рассказывали, что отец-офицер проиграл семейное имущество... Было при-
146
нято нелёгкое решение: родители с двумя младшими детьми эмигрировали в
Румынию, где жили родственники отца. Губерт остался в Опаве под
присмотром бабушки и тёти. Когда бабушка умерла, тётя переехала в Яворник в
Чешской Силезии, где племяннику пришлось получить профессию лесничего.
Но и в это время Вебер не оставил занятия орнитологией. Он занимался
охотой и не прерывал контакт с профессором Кёлером, в 1935 году он
получил разрешение на самостоятельное кольцевание птиц7. Будучи
практикантом, он старался найти постоянное место службы в качестве лесничего, но
политические события перечеркнули его планы: после вторжения в Судеты
немецкой армии, 30 сентября 1938 года Вебер стал гражданином Германии, а
в январе 1939 года его призвали в вермахт. Вначале Вебер служил в Ной-
штрелице в Мекленбурге, летом его подразделение было переведено в
Восточную Пруссию, а оттуда 1 сентября 1939 года в 5 часов утра оно вторглось
в Польшу. Ещё через 4 часа подразделение накрыла огнём собственная
артиллерия: командир батальона, один унтер-офицер и несколько солдат были
убиты, многие получили ранения. Вебер также был ранен. Несколько месяцев
он провёл в военных госпиталях, где у него не было недостатка времени для
наблюдений за птицами и записей результатов. Ещё во время военной службы
Веберу позволили продолжить обучение лесному делу в Темплине (земля
Бранденбург). В середине 1940 года он демобилизовался, возвратился на
родину и поступил на работу лесничим.
Теперь занятиям Вебера орнитологией ничто не мешало. Вышла из
печати его первая научная публикация о птицах, он вступил в Немецкое
орнитологическое общество. На своём участке в лесу он устроил множество
ловушек для птиц и занимался их кольцеванием и другими научными
исследованиями.
В июне 1941 года Вебер женился. Между тем Чехословакия под
политическим и военным давлением национал-социалистической Германии
распалась на «протектораты Богемию и Моравию» и «Словацкую республику».
Вскоре после этого Германия напала на Советский Союз. В середине сентября
1941 года Вебера снова призвали в вермахт, на этот раз в Бреслау/Вроцлаве.
В марте 1943 года он был демобилизован, видимо вследствие ранений, и
снова смог посвятить себя орнитологии и работе лесничего на родине. Он
стал лесничим участка в Судетах. Спокойная семейная жизнь (родились два
сына) продолжалась, однако, недолго. За несколько недель до окончания
войны поблизости от места жительства семьи активизировались чешские
партизаны. Вебер узнал об их деятельности и поддержал их. Между тем, его жена
7 Во многих странах Европы орнитологи-любители получают от государства право
самостоятельно кольцевать птиц после сдачи особого экзамена. — прим. перев.
147
Ffapravni Ifstek pro odsunovanl.
TransportatJoncard for evacuees.
Transportzettet fOr Evakuanton.
Рис. 39. Чехословацкое свидетельство о рождении («заграничный паспорт»)
годовалого сына Губерта Вебера (выездные документы остальных членов семьи
пропали).
помогала немецким дезертирам. Оба рисковали жизнью — и связи с
партизанами, и помощь дезертирам карались смертью...
Зато «прочешский» настрой главы семьи нашёл признание
непосредственно после окончания войны: их не выселили. Вебер остался в
должности лесничего участка. Глава общины подтвердил, что он не поддерживал
нацистских оккупантов и вёл себя как демократ. Но обстоятельства, счастливо
сложившиеся для Вебера, совершенно не были таковыми для его жены: она
не говорила по-чешски, все немецкие соседи бежали или были насильственно
выселены, она была не в состоянии смириться с новой ситуацией и всеми
силами стремилась в Германию. Летом 1946 года это удалось: Веберам было
разрешено погрузить свои пожитки в железнодорожный вагон, все члены
семьи получили выездные документы с пометкой «антифашист» (рис. 39) и
уехали в Баварию, зону американского влияния в послевоенной Германии.
В Баварии Вебер получил место лесничего в Аммерфельде (округ Ной-
бург). Наряду с работой в лесничестве он немедленно приступил к деятель-
148
ности на орнитологическом поприще. Вместе с одним молодым человеком
из деревни он построил ловушки, кольцевал птиц, вёл наблюдения за
пролётом (позже он опубликовал работу на эту тему). Семья чувствовала себя
хорошо в новом окружении, но условия жизни были очень тяжёлыми.
Лесничему приходилось приторговывать на «чёрном рынке»: он менял древесину
лиственниц из вверенных ему лесов на мясо. В результате этих махинаций
Вебер угодил под арест. Но через 6 недель друзья помогли ему ускользнуть из
тюрьмы. На следующий день он бежал на мотоцикле к родителям жены в Гар-
витц в Мекленбурге, ту часть Германии, которая была под контролем
Советского Союза. Там он мог не опасаться баварской юстиции. Через несколько
недель в Гарвитц на поезде приехала и жена Вебера с детьми.
В Мекленбурге Вебер предъявил властям выданный в Чехии документ и
свою биографию. О причине перемены места жительства он благоразумно
умолчал. Кроме того, он немедленно вступил в СЕПГ8. Вскоре, в июле 1949
года, он получил место лесничего участка в Серране, живописной лесистой
местности, расположенной недалеко от Берлина. Он начал уверенно вести
там хозяйство. В то время, в рамках послевоенных соглашений, в Советский
Союз должна была поставляться древесина бука. Он препятствовал этому и
отклонял подобные требования и позже. Неизвестно точно, каким образом
ему это удавалось, но известно, что у него сложились очень хорошие
отношения с высшим офицерским составом Красной Армии, приезжавшим в Сер-
ран поохотиться.
В качестве меры биологической защиты леса он развесил сотни дуплянок
для насекомоядных птиц. Параллельно со своей основной работой он
конструировал разнообразные устройства для отлова птиц и продолжал изучать
их миграции. В 1952 году подведомственные ему леса были объявлены
«охраняемой территорией» и «зоной ограниченного экономического
использования».
Среди гостей Серрана бывал и профессор Ганс Штуббе, президент
немецкой Академии сельского хозяйства (ср. стр. 217-228). Незаурядные познания
в орнитологии, выказанные лесничим, привлекли его внимание, и в 1953 году
он содействовал открытию в Серране станции по охране птиц. Разумеется,
её руководителем стал Губерт Вебер. Теперь сюда приезжали студенты для
прохождения практики. Бывали здесь и иностранцы. В 1960 году станция
охраны птиц была преобразована в Биологическую станцию. Вебер оставил
место лесничего: наконец-то осуществилась мечта его юности — он стал
учёным-исследователем !
Социалистическая единая партия Германии (ГДР). — прим. перев.
149
В своей научной деятельности Вебер сосредоточился на проблеме
миграций птиц. Со временем область его интересов расширилась. С 1967 года он
участвовал в «Акции Балтика», которая проходила в ГДР, Польше и
Чехословакии (мониторинг на больших площадях пролётных видов мелких
воробьиных птиц). В 1975 году он начал сотрудничать с Военно-Воздушными силами
Национальной народной армии ГДР (NVA) и поставлял прогнозы массовых
перемещений птиц для предотвращения столкновений с самолетами. Но
наибольших успехов он добился в научно-организационной деятельности, в
частности, в содействии охране природы. За свои заслуги в этой области Вебера
многократно представляли к наградам, в частности он был награждён
медалью ГДР «За заслуги».
В марте 1955 года руководителя станции неожиданно удостоили своим
посещением два сотрудника «штази»9. После длительной беседы, план которой,
как водится, был заранее составлен письменно, им удалось склонить Вебера
к сотрудничеству. Он написал (вероятно, под диктовку) заявление о своих
обязательствах и выбрал себе «для собственной безопасности» псевдоним
«Иена». Из дела Вебера, которое я внимательно изучил, очевидно, что он
пошёл на этот шаг не по своей воле. Но он не был героем и не смог
противостоять давлению могущественного ведомства. Едва ли можно сомневаться
в том, что он пошёл на это сотрудничество ради сохранения своего
положения, достигнутого с таким трудом.
Так как Вебер регулярно получал приглашения на научные конференции и
конгрессы, в том числе и за границу, то «штази» решили использовать его для
двух направлений работы: «Западная Германия» и «Капиталистическая
заграница». Перед каждой заграничной поездкой он получал «задания» для
прочтения и подписи. При сопоставлении текстов «заданий» и «отчётов» по их
выполнению у меня сложилось впечатление, что Вебер не отличался
особенным рвением в своей новой работе и систематически саботировал задания.
Например, во время одного из научных визитов на орнитологическую
станцию Гельголанд он должен был выяснить военное значение острова. Вместо
этого Вебер сообщает в отчёте о полученном орнитологическом опыте и
добавляет, что «маяк в настоящее время находится с технической точки зрения
в значительно лучшем состоянии», а «институт [орнитологическая станция]
развивается».
Наконец, «штази» перестали доверять Веберу, к нему приставили
несколько «наблюдателей». В июле 1960 года от одного из них поступил донос,
9 «Штази», «Stasi» — общепринятое в Т№ наименование Министерства государственной
безопасности страны, «Ministeriumjur Staatssischerheit» — прим. перев.
150
касающийся его мнимых контактов с «враждебными учреждениями» в
Западном Берлине. В результате «штази» начали подозревать его в шпионаже в
пользу Запада! Он много путешествовал по области Нойбранденбург в целях
оценки площадей для создания охраняемых природных территорий, что в
принципе давало ему возможность отслеживать запретные зоны ННА10 и
Советской Армии. После посещения орнитологической станции Гельголанд
Вебер пригласил в Серран сотрудника этой станции Ганса Буба. Это
обстоятельство сразу же дало основание для подозрений Буба в том, что он должен
был переправлять в ФРГ сведения, добытые Вебером. Были проведены
всеобъемлющие мероприятия по проверке. Только в июле 1964 года в
документах дела появляется сообщение, что подозрение в шпионаже не
подтвердилось.
Между тем на станцию в Серран приезжало всё больше практикантов и
учёных, в том числе много иностранцев. Это, конечно, не ускользнуло от
внимания «штази». Хотя на станции имелся осведомитель, органы
безопасности предпочитали получать информацию от самого руководителя
станции. Хотя контакты с ним были приостановлены в 1959 году, в 1964
году он был снова призван выполнять функции осведомителя. Он
занимался этим, разумеется, против своей воли и не слишком старательно. В
документах «штази» отмечается, что его сообщения не носят
«оперативного характера» и что при «изложении событий» он часто отступает от
истины. В конце концов, «штази» отказалась от его услуг, правда, без
письменного освобождения.
В начале 1968 года, то есть с начала «Пражской весны», главным
идеологом которой был Александр Дубчек, чехословацкие практиканты начали вести
оживленные политические дебаты, рассуждали даже о «независимой
республике Серран». В августе 1968 года гостем станции был доцент Вальтер
Черни, зоолог и орнитолог из Пражского университета. Здесь он был
ошарашен сообщением, что подразделения войск Варшавского договора вторглись
в Чехословакию и что границы страны закрыты. Только спустя несколько
дней он смог на специальном поезде, в сопровождении полиции вернуться
родину.
Вебер отказался подписать заявление с осуждением
«контрреволюционного мятежа в ЧССР»... Когда политическое положение нормализовалось,
Вебер стал всё чаще ездить в Чехословакию: ему удалось установить там
деловые контакты и заключить соглашения о сотрудничестве с различными
природоохранными учреждениями. Он уже давно и многосторонне поддерживал
NVA; Национальная народная армия ГДР. — прим. перев.
151
чешских орнитологов, теперь он организовал совместные отловы птиц в
рамках программы мониторинга миграций. Он часто в разговорах называл себя
«чехом» (об этом узнали «штази», и в его деле появилась отметка: «выражает
националистические тенденции»).
Остаётся загадкой, почему всемогущие «штази» не отстранили Вебера от
должности руководителя станции. Я полагаю, что в немалой степени это
связано с общительностью и обаянием Вебера: ему удавалось привлечь в Серран
влиятельных личностей на охоту и «приятное времяпрепровождение». Сюда
наведывался даже первый секретарь СЕПГ Нойбранденбурга, который любил
петь народные песни у костра; советские офицеры высоких чинов также не
отказывались от приглашения на охоту с последующими непринуждёнными
беседами за чешским пивом. Губерт Вебер снискал симпатии многих людей,
и они создавали ему протекцию не только потому, что снова хотели приехать
в это восхитительное место, но и просто по-человечески симпатизируя его
хозяину...
В начале 1982 года Вебер ушёл на пенсию по возрасту. В его прежнем
отечестве чешские друзья предоставили ему дом для приездов, что-то вроде
деревянной башни с двумя помещениями, где он организовал свой частный
Полевой исследовательский стационар «Прадед». Он часто приезжал туда
вместе с семьей, особенно во время пролёта птиц, там он чувствовал себя
счастливым. В душе он ощущал себя чехом.
Такова вкратце настоящая биография Губерта Вебера. Она существенно
отличается от тех легенд, которые сложились вокруг личности этого человека
'благодаря его захватывающим, но зачастую вымышленным рассказам о своей
жизни. Некоторые из этих сюжетов отражены даже в публикациях о Вебере,
а многие его друзья и поныне убеждены в том, что речь идёт о подлинных
эпизодах его жизни. Приведу лишь несколько примеров.
Чешским коллегам Вебер рассказывал, что после вступления немцев в
Чехию он бежал по политическим мотивам в Югославию, оттуда в Англию и
далее в Канаду. В Канаде он проводил картирование лесных насаждений с
самолёта, частично работал там также как почтовый пилот. Канадская
индианка, его возлюбленная, родила ему дочь.
Немецким коллегам он, напротив, повествовал, что во время войны
служил в метеослужбе Люфтваффе, где и приобрёл знания по метеорологии.
Район боевых действий в разных версиях этой притчи простирался от Ливии
до Норвегии. В конце концов, он дезертировал, перелетел на самолёте линию
западного фронта и попал в плен к англичанам.
Рассказывал он и о том, как, будучи солдатом Вермахта, исполнял свою
службу в южной Франции, где его возмутила массовая ловля перепелов на
152
побережье Средиземного моря. Чтобы внести вклад в охрану этого вида, он
облил ловушки бензином и сжёг их.
Свой скромный вклад в поддержку чешского сопротивления Вебер в своей
фантазии раздул до несообразных размеров: командира чешских партизан он
будто бы перевёз в военном самолёте через линию фронта на территорию,
занятую советскими войсками...
В характере Губерта Вебера были инфантильность и тщеславие; он не
был лишён и некоторой доли самолюбования. Человеку, обременённому
подобными чертами, редко удаётся добиться постоянства в жизни, но,
быть может, именно эти черты в конечном итоге и помогли ему
преодолеть все превратности и ужасы XX века. В воспоминаниях большинства
коллег Вебер остался признанным орнитологом и деятелем охраны
природы. Его страсть к ловле птиц, приобретённая в ранней молодости, к
сожалению, не оставляла ему времени на обработку гигантского массива
полученного ценного научного материала и публикацию результатов
своих исследований.
Один из сотрудников Губерта Вебера, проработавший с ним много лет и
весьма скептически к нему относящийся, как-то сказал мне, что Вебера
можно сравнить с Гансом Фалладой11.
Когда я после этих слов с удовольствием читал увлекательнейшую,
написанную Томом Крепоном биографию Фаллады, я подумал: возможно, жизнь
моего друга Вебера была бы гораздо счастливее и ещё успешнее, если бы он
стал писателем...
* * *
Нападение Германии на Советский Союз в июне 1941 года имело тяжёлые
последствия для людей немецкого происхождения, проживающих в СССР.
Хотя они были советскими гражданами, им не доверяли — началось их
массовое переселение на восток. Среди них был зоолог, в то время уже
известный во всем мире, доктор Борис Карлович Штегман (1898-1975) из
Ленинграда.
Борис Карлович происходил из немецко-шведской семьи, многие
поколения которой жили на северо-западе России, в Пскове. С детства Борис
Карлович превосходно знал немецкий язык. Он был учеником известного
русского зоолога Петра Петровича Сушкина (Флинт, Россолимо, 1999:478-486).
В 1921 году он начал работать в Зоологическом музее (позже Зоологическом
11 Ганс Фаллада (1893—1947) — немецкий писатель, книги которого были изданы
миллионными тиражами, долгое время жил в Карвитце, совсем рядом с Серраном. — прим.
перев.
153
институте) Академии наук СССР в Ленинграде (Kumari, 1976) в качестве
препаратора, а ко второй половине 1930-х годов он уже возглавлял отдел. До
войны он много публиковался в немецких орнитологических журналах —
«Journal fur Ornithologie» и «Ornithologischen Monatsberichte». Его работы
полностью соответствовали научным представлениям Штреземанна, который
писал в 1930 году Хартерту в Тринг: «На востоке взошла новая звезда, этот
Штегман будет новым Палласом; ни с одним из систематиков у меня нет
такой интересной переписки, как с ним» (Haffer, 1997: 257). После того, как
Штреземанн встретился со Штегманом на международных орнитологических
конгрессах в Амстердаме (в 1930 году) и в Оксфорде (в 1934 году), 38-летний
Штегман в 1936 году был избран почётным членом Немецкого
орнитологического общества. Он был избран также почётным членом орнитологических
обществ Великобритании и США.
Борис Карлович является автором не только большого числа
фундаментальных работ по орнитологии, но и «первооткрывателем» типов фаун у птиц.
В 1938 году он разработал это понятие для птиц Палеарктики, описал его и
впечатляющим способом представил графически («Фауна СССР, Новая серия,
Рис. 40. Орнитологи Зоологического музея Ленинграда, 1924 г. В середине стоит
Б.К. Штегман; сидят (слева направо): П.В. Серебровский, П.П. Сушхин, А.Я.
Тугаринов, А.П. Сушкина, Е.В. Козлова; стоят (слева направо): AM. Шулъпин, А.А. Пор-
тенко; справа стоит AM. Иванов.
154
Рис. 41. Б.К. Штегман и Е.В. Козлова, Ленинград, 1958 г.
т. 1, вып. 2»). Эта работа выдвинула его в число крупнейших
учёных-зоогеографов.
Я познакомился с Б.К. Штегманом в 1959 году, во время конференции в
Москве. Он был человеком, излучавшим внутренний покой и невозмутимость
— те черты, которые способствовали его всегдашней сконцентрированной
научной работе и выработались, возможно, за время его нелёгкой жизни.
Первые неприятности начались ещё перед войной: коллеги Штегмана рассказали
мне, что как раз ожидали выдвижения его в члены-корреспонденты
Академии наук СССР, когда в 1938 году его арестовали вследствие ложного доноса.
В эти годы в СССР шли, как известно, многочисленные политические
показательные процессы с жесточайшими приговорами. Штегману повезло: после
полутора лет заключения он был освобождён. Несмотря на то, что
обвинение было снято, путь к дальнейшей научной карьере был закрыт. Это
произошло не только из-за ареста — в самом начале войны Штегман, как и все
«русские немцы», вместе с женой Татьяной Сергеевной Савельевой был
выслан в Казахстан, где им обоим пришлось оставаться до 1954 года.
Мне хотелось узнать подробности о жизни Штегмана в ссылке, но в очерке
И. А. Нейфельд и К.А. Юдина (1981), посвященном научным заслугам
Штегмана, я смог прочитать только следующее: «Борис Карлович Штегман прожил
долгую и нелёгкую жизнь, трудности которой он переносил с мужской
стойкостью и терпением». Лишь приведённый в этом очерке список публикаций
свидетельствует о том, что в Казахстане Штегман тоже занимался наукой: за
период ссылки им опубликованы более 40 работ. У Штегмана не было детей,
155
его родственников я разыскать не смог. Казалось, что о периоде ссылки Штег-
мана уже не удастся найти никаких сведений.
Но тут помог один невероятный случай. Несколько лет назад П.П.
Стрелков, сотрудник Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге, узнал,
что Штегман написал научно-популярную книгу о своей жизни и научной
работе в Казахстане «В тростниках Прибалхашья», которая была сдана в
печать, отпечатана в Алма-Ате в 1951 году, но затем набор был рассыпан, а
тираж уничтожен. Причиной послужило «клеветническое изображение»
условий жизни и работы советского учёного. К счастью, книга не была
уничтожена полностью — Штегман сохранил «сигнальный экземпляр», который
получил в издательстве, и после его смерти он хранился в семье друзей
Бориса Карловича. Этот экземпляр и попал в руки П.П. Стрелкова. Благодаря его
усилиям книга была издана (Штегман [1951], 2004).
Б.К. Штегман писал свою книгу в расцвет сталинского времени, поэтому
в ней ничего не сказано ни о причинах ссылки, ни о политически
обусловленных трудностях жизни автора. Тем не менее, хотя сам Борис Карлович
находил в своей жизни в дельте реки Или «элементы робинзонады», а книга
написана в приключенческом жанре, из её текста совершенно очевидно, какими
суровыми были условия тамошней жизни. Об этом пишет в своем
предисловии «О судьбе этой книги и её автора» и П.П. Стрелков.
Возможно, Штегман хотел поселиться в Алма-Ате, но когда супруги
прибыли в Казахстан поздней осенью или в начале зимы 1941 года, волна
репрессий против «русских немцев» докатилась уже и до столицы Казахстана,
^же началась блокада Ленинграда, немцы подступали к Москве. В этой
ситуации Штегман решил, что благоразумнее будет исчезнуть из поля зрения
властей и выбрал место жительства в местности, удалённой от Алма-Аты
больше чем на 300 км, в дельте реки Или, вблизи озера Балхаш, в
труднодоступной и малонаселённой в то время части Казахстана. Выбор места
жительства происходил по согласованию с Зоологическим институтом
Казахской академии наук, Штегману предложили изучать ондатру, незадолго до
этого завезённую в Казахстан. Из Алма-Аты приезжал директор Казахской
зональной лаборатории Аркадий Александрович Слудский — Штегман
принял у него «биопункт», «директором» которого он был назначен (состав
сотрудников в первое время исчерпывался самим Борисом Карловичем, его
женой и сторожем). Борис Карлович поддерживал контакты с Зоологическим
институтом в Алма-Ате и несколько раз ездил туда. В дельте реки Или он
провёл всесторонние исследования большой популяции обитающей там
ондатры и внёс важный вклад в изучение экологии и в разработку программ
рационального промысла этого ценного пушного зверька. Помимо этого, он вёл
156
постоянные наблюдения за птицами и другие исследования (в том числе и
геоморфологические), которые нашли отражение в цикле первоклассных
статей — они были опубликованы после окончания ссылки.
В книге Борис Карлович описывает почти пятилетнее пребывания на
«биопункте» — в маленьком посёлке в центре дельты Или, состоящем из
«несколько одиноких домиков среди тростников и чия», построенных из
тростника, с деревянным каркасом и обмазанных глиной, с земляными крышами.
Эта «фактория» стояла на солончаке, глубоко в зарослях тростника внутри
разветвлений дельты. К посёлку не вели никакие дороги, только на
вёсельной лодке и пешком можно было достичь далёких казахских аулов. В семи
километрах от «биопункта» росла «единственная в дельте Или туранговая
роща», по имени этой рощи и была названа фактория — Джелыуранга (что
означает в «вольном переводе с казахского — шелест туранговых листьев»).
Когда Б.К. Штегман и его жена зимой в конце 1941 года приехали в Джель-
турангу, там жил только один сторож, позже появилось ещё несколько людей
— охотники и рыбаки; время от времени приезжали студенты-практиканты
Зоотехнического института. На четвёртую зиму появилось даже две
монгольские лошади. В распоряжении ссыльных было лишь несколько скудных
предметов обихода. Они поселились в доме с печкой, двумя окнами и
крошечной дверью. Полезная площадь дома составляла всего около 15
квадратных метров, поэтому «каждый метр жилья [был] использован расчётливо и
продуманно». В доме пришлось разместить часть запасов продовольствия и
дров, «библиотеку» и научную лабораторию. Всё приходилось делать своими
рукам. Самой трудной бытовой заботой была заготовка топлива (температура
зимой опускалась до -30°С). Как истинный охотник, Штегман занимался и
промыслом ондатры и даже мездрением шкурок при помощи самодельных
ножей. По-видимому, в обмен на сданные шкурки он получал пшеницу и
охотничьи боеприпасы. «Заготживсырье» снабжало охотников пшеницей в
зерне, и одной из трудных хозяйственных проблем было «налаживание
мукомольного дела» и «освоение пекарского искусства». Из подручного
материала Штегман построил ручную мельницу, которая «пользовалась большой
славой в окрестностях». Мясо поставляла охота на кабанов, фазанов и
водоплавающую дичь, реже — на косуль и зайцев. Значительную долю рациона
составляла рыба, кроме того, варили суп из черепах, собирали птичьи яйца.
Важными помощниками в охоте были собаки; им в книге посвящена целая
глава. Все убитые для кулинарных целей птицы использовались и для
научных исследований. Борис Карлович нашёл в окрестностях маленький лиман,
на высохших берегах которого брали соль и соду. Осенью собирали ягоды
кончен и джигды. Разбили огород. Большинство жизненно необходимых пред-
157
метов обихода приходилось изготавливать самим. Важнейшими из таких
предметов были светильники («коптилки»), которые Штегман смастерил из
нашедшихся в хламе бутылок, консервных банок и ружейных гильз. Они
работали на керосине и были очень экономны. После истощения запасов мыла,
привезённого из Алма-Аты, пришлось разработать технологию производства
его из подручных средств. Недостаток в веревках и толстых канатах,
необходимых для рыбной ловли и транспортировки охотничьих трофеев (часто
издалека), был устранён только по прошествии некоторого времени, когда
Штегман узнал у местных жителей «технологию обработки» кендыря
(собачья капуста или собачья шерсть, Аросупит sibiricus). Каждый стебель
нужно было расщепить ножом, отделить волокна от древесины и, связав их
концами, сучить из них верёвку. Штегман с гордостью пишет, что «...
венцом творения в этой области производства был крепкий кручёный шнур в 25
метров длины для ловли османов. Он был изготовлен в течение недели в
выкроенные от другой работы часы».
В маленькой избушке тяжело было морозными зимами. Но, пожалуй, ещё
мучительней приходилось летом — из-за жары и полчищ комаров. Хотя среди
них были и анофелесы, переносчики малярии, сама малярия в дельту Или, к
счастью, занесена не была. Тем не менее, комары причиняли огромные
неприятности, поскольку из-за множественных укусов развилась повышенная
чувствительность к ним. Комары появлялись уже в середине марта, а с
середины мая до конца августа они были активны целые сутки. В июне 1942 года,
д)гда Борис Карлович отправился в двухнедельную экспедицию на лодке, его
жена вследствие укусов комаров тяжело заболела. Температура поднялась до
40 градусов. Видя, что её состояние становится критическим, семья рабочего
биопункта решила везти её на лодке в больницу в село Куйган при устье Или,
за 350 километров. К счастью, в день, назначенный для отъезда, температура
у Татьяны Сергеевны начала понижаться, и от этого плана отказались.
Увлекательно написанная книга Штегмана, кроме исчерпывающих
сведений о биологии ондатры, содержит огромное число чрезвычайно интересных,
новых наблюдений, касающихся экологии других животных, птиц и
растений. Среди них есть и настоящие открытия! Но автобиографическая,
собственно мемуарная часть, которой посвящено относительно мало места, для
нас, европейцев, никогда не испытывавших на себе таких условий, звучит
необычно: все, даже невыносимо трудные обстоятельства жизни в дикой
местности, включая опасности для жизни, изображены с таким непоколебимым
оптимизмом, что могут показаться просто увлекательными приключениями!
Конечно, Штегман по «цензурным» соображениям не хотел и не мог писать
«книгу жалоб». Но я осмелюсь предположить, что он принадлежал к плеяде
158
тех российских натуралистов, которые с такой полнотой ощущали свое
единство с природой, что могли выжить в самых тяжёлых условия, вдали от
цивилизации. Даже если это и так, пять лет ссылки — слишком высокая цена...
Нельзя не отметить тот позорный факт, что результаты исследований
ссыльного учёного не нашли никакого официального признания: П.П.
Стрелков пишет в предисловии к книге, что группа казахских зоологов получила
после войны Сталинскую премию за достижения в исследованиях и
использовании поголовья ондатры. В списке награждённых имя Штегмана,
разумеется, отсутствует. В большой монографии о млекопитающих Казахстана под
редакцией А. А. Слудского (том 1, часть 3, Алма-Ата, 1978) работы Штегмана
по ондатре даже не процитированы. После окончания войны Штегман и его
жена должны были оставаться в Казахстане ещё почти 10 лет (возможно, с
1946 года они жили в Алма-Ате). Борису Карловичу пришлось заниматься
разработкой мер борьбы с воробьями, как вредителями посевов, кроме того,
он проводил исследования в пустынях и горах республики и на озере Иссык-
Куль в соседней Киргизии. После смерти Сталина Борис Карлович смог,
наконец, вернуться в Европейскую Россию, но в Ленинграде ему пришлось
пережить ещё одно горькое разочарование: он не был восстановлен на работе в
Зоологическом институте. Он стал сотрудником Биологической станции на
Рыбинском водохранилище, почти на 400 км удалённой от Ленинграда. Он
часто приезжал в Зоологический институт, работал с коллекциями и в
библиотеке. За границу его не выпускали. В январе 1956 года во время Первой
Всесоюзной орнитологической конференции в Ленинграде он вновь
встретился со Штреземанном. Для обоих учёных эта встреча была наполнена
плодотворным научным общением, что отражается в их позднейших
публикациях.
В 1971 году Борис Карлович серьезно заболел, и его научная деятельность
больше не возобновлялась...
Кто знает, возможно, что в свое время именно ссылка спасла Штегману
жизнь, так как во время 900-дневной блокады Ленинграда в городе умерло
от голода больше полумиллиона людей, в том числе много учёных... Во
всяком случае, Борис Карлович Штегман перенёс ссылку в Казахстане с
мужеством, терпением и достоинством.
* * *
Во время моих научных командировок в Советский Союз я часто встречался
в Зоологическом музее Московского университета с профессором Николаем
Алексеевичем Гладковым (1905-1975). Он был ближайшим соратником
профессора Дементьева (ср. стр. 350-356). Они оба отличались одержимостью в
159
}
Рис. 42. Профессор НА. Гладков, Москва,
1956 г.
работе и находились во главе очень сильного в те годы коллектива московских
орнитологов. По складу характера они сильно различались: Дементьев был
человеком сдержанным, даже несколько скованным, и в большей степени
представлял интеллектуальную составляющую этого дуэта, Гладкова же отличали
прагматизм и умение приспосабливаться к обстоятельствам в сочетании с
незаурядным (почти «прусским») талантом организатора. Наверное, поэтому
разговоры с ним были всегда короткими и деловыми; только однажды он пустился
со мной в более пространную беседу. Это было во время его пребывания в
Польше — я пожаловался ему на неприятный случай, который произошёл со
мной несколько лет назад, когда меня обокрали в битком набитом автобусе в
Алма-Ате и я остался с 70-ю копейками в кармане... В продолжение этой
истории он рассказал мне, что на большой площади перед Дворцом культуры в
Варшаве вор-карманник украл у него портмоне.
Но мой рассказ пойдет о более серьёзных вещах. Ещё в 1950-е годы
профессор Штреземанн рассказывал мне, что перед войной Гладков состоял с
ним в переписке и публиковался в Орнитологическом журнале («Journal fur
Ornithologie», 1941, Vol. 89:124-156) и что вскоре после нападения Германии
на Советский Союз в 1941 году под Вязьмой Гладков попал в плен.
Штреземанн рассказал мне также о том, что принимал участие в его судьбе, но под
давлением обстоятельств многого ему тогда сделать не удалось (к
сожалению, я не спросил тогда о подробностях). В Советском Союзе (и в России) в
опубликованных некрологах и биографиях Гладкова об этом не сказано ни
160
слова (Воронов, 1967; Дроздов, 1977; Флинт, Россолимо, 1999: 100-115).
Высказывания моих русских коллег на эту тему были крайне противоречивы и
не отличались достоверностью. Только недавно после долгих поисков в
архивах (Государственная библиотека в Берлине — Прусское культурное
наследие, и архив Музея естествознания в Берлине) мне удалось пролить свет
на этот период жизни Николая Алексеевича: я нашёл переписку Гладкова со
Штреземанном военного времени! Она осуществлялась преимущественно
через немецкую полевую почту № 10.079 (до июля 1944 года) и № 36.126 (с
августа 1944 года). Результатам моих архивных изысканий я хочу
предпослать небольшой очерк жизни и деятельности Николая Алексеевича до
начала войны.
Николай Алексеевич Гладков родился в селе Кульбаки Курской губернии в
семье священника. После окончания средней школы он короткое время
работал препаратором в музее, а затем на Старо-Першинской биологической
станции Московского общества испытателей природы. МОИП командировало его
в Аральское отделение Всесоюзного научно-исследовательского института
морского рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), где он принимал
участие в ихтиологической экспедиции на Сырдарью и был назначен начальником
малькового отряда. Экспедиция прошла очень успешно, и Гладков даже был
премирован. Вероятно, это сыграло свою роль в том, что в 1926 году он,
несмотря на свое отнюдь не рабочее социальное происхождение, смог поступить
на биологический факультет Московского университета. Вероятно, под
влиянием профессора М. А. Мензбира, с которым он был давно знаком,
орнитологические интересы возобладали над ихтиологическими, и Николай Алексеевич
решил посвятить себя орнитологии и зоогеографии. В 1934 году он был уже
старшим научным сотрудником Зоологического музея МГУ; в течение
следующих лет он опубликовал большое число работ из самых разных областей
орнитологии. В 1935-1940 годах вышла серия статей об аэродинамике полёта
птиц, об адаптивном значении для полёта длины крыла, о механике движения
крыла, в частности статья «О некоторых аэродинамических свойствах птиц»
(1936) и весьма объёмная глава «Полёт» в фундаментальном «Руководстве по
зоологии» Г.П. Дементьева (1940). Некоторые материалы этих работ были
использованы авиаконструкторами. К 1941 году им была опубликована уже 41
работа, фактически подготовлена докторская диссертация о биологических
основах полёта птиц. Летом 1941 года он собирался на остров Колгуев в
Арктике, чтобы кольцевать там гусей и уток, но тут началась война. Николая
Алексеевича призвали в армию и сразу же отправили на фронт. В октябре 1941 года
артиллерийская часть, в которой он воевал, попала в окружение под Вязьмой,
и Гладков вместе со своими однополчанами был взят в плен.
161
В истории Второй мировой войны прорыв и наступление под Вязьмой
известны как одна из самых успешных боевых операций Вермахта. За
нескольких недель здесь было выведено из строя 80 дивизий Красной Армии и
около 650 000 советских солдат взято в плен! Солдатам Красной Армии был
дан приказ не сдаваться в плен, но далеко не все выполняли его (этому
приказу следовали в первую очередь офицеры и политработники, тем более что
многим уже был хорошо известен приказ немецкого командования об их
немедленном расстреле после взятия в плен). Тысячи пленных умирали от
голода и эпидемий. Немцы быстро продвигались вперёд, Москва была уже
совсем близко, вера пленных в победу СССР уменьшалась, в то время как
уверенность немцев в скорой и окончательной победе всё возрастала. Для
содержания огромного числа пленных Вермахт нуждался в помощниках и
переводчиках. Гладков очень хорошо говорил по-немецки (он выучил язык ещё
в гимназии) и стал переводчиком. Он пошёл на это, чтобы сохранить жизнь.
Его статус теперь обозначался как «помощник-доброволец немецкого
вермахта» или «вспомогательные добровольные силы немецкого Вермахта»
(Hilfswilliger der deutschen Wehrmacht, сокращенно «Hiwi»). В этом статусе
он оставался до конца войны. С советской точки зрения это была измена.
Используя переписку Гладкова военного времени и несколько
специальных публикаций (Tessin, 1973,1975,1997;Kannapin, 1980,1981), мне удалось
достаточно полно реконструировать весь период времени, проведённого
Гладковым в плену в качестве «Hiwi».
Под Вязьмой Гладков был взят в плен батальоном снабжения 247-й
пехотной дивизии Вермахта. Гладков стал переводчиком 3-й роты батальона.
Подразделения снабжения в то время должны были заниматься не только
обеспечением фронтовых частей, но и отвечали за снабжение военнопленных,
таким образом можно предполагать, что бывший красноармеец Гладков в
своём новом положении не чувствовал себя предателем, а наоборот, спас
жизни многих своих товарищей. В немецкой роте, в которой он теперь
служил, его использовали не только как помощника, его ценили и с ним хорошо
обращались. У него возникли дружеские контакты с офицерами и солдатами,
а также с другими «Hiwi». Счастливый случай ещё более улучшил положение
Гладкова: очевидно, он познакомился с немецким офицером,
интересующимся орнитологией. Тот скоро понял, что имеет дело с коллегой высокой
квалификации, и решил помочь ему. Уже летом 1942 года (на юге немцы ещё
успешно наступали, но на московском направлении царило затишье)
Гладкову разрешили написать письмо Штреземанну в Берлин с запросом о том, не
мог ли бы он использовать Гладкова как «иностранную рабочую силу» для
научных целей. Но это первое письмо Штреземанн не получил. Некоторое
162
время спустя один немецкий солдат во время отпуска на родине раздобыл
номер «Journal fur Ornithologie», в котором была опубликована работа
Гладкова о птицах Тиманской тундры. Это обстоятельство ещё больше подняло
его в глазах начальников и сослуживцев. В январе 1943 года командир роты
капитан Шмидт позволил Гладкову послать ещё одно (причём более
обстоятельное) письмо Штреземанну. В это время немецкая армия под
командованием Паулюса уже была окружена под Сталинградом. Это письмо напечатано
без единой ошибки на пишущей машинке, очевидно, ротным писарем.
Письма Гладкова Штреземанну, как и вся корреспонденция с фронта,
проходили цензуру и должны были утверждаться его непосредственным
начальником, и, конечно, содержание сохранившихся посланий не может
рассматриваться как отражение истинных представлений и взглядов Николая
Алексеевича. Тем не менее, интересно привести здесь некоторые отрывки.
В письме от 14 января 1943 года Гладков вновь интересуется, не мог бы он
выполнять для Штреземанна какие-либо научные вспомогательные работы в
месте своего пребывании или где-либо в другом месте, например, в
Орнитологическом отделе музея в Берлине. В этом письме Гладков ссылается также
на содержание предыдущего письма (которое не достигло Штреземанна), где
он сообщал ему о сроках прилёта различных видов птиц и добавляет:
«Конечно, сейчас, на фоне таких грандиозных и решающих событий, все эти
сообщения выглядят не слишком значительными, но я считаю нашим долгом не
забывать свою профессию полностью и по возможности копить материалы
для мирной работы». Гладков с горечью писал и о том, что материалы и
наброски статей его предвоенных исследований «вероятно, уже давно утеряны».
О своих подготовленных к печати статьях (которые остались в Москве) он
писал: «У меня есть очень небольшая надежда, что все эти рукописи [...] где-
нибудь сохранены». И далее: «Моя большая работа (результат многолетних
исследований полёта птиц) остаётся незаконченной». Он сообщал
Штреземанну, что «... молодой [русский] талантливый учёный Модестов, который
посылал Вам тогда [перед войной] [...] статью о зимняке, давно погиб» и что
«... такая же судьба постигла другого молодого многообещающего русского
орнитолога — Кафтановского...». Письмо заканчивается фразой: «Здесь мне
хорошо, но как я уже писал, я почти забыл, кто я по профессии, и какие
научные интересы были у меня до войны».
Штреземанн сразу отреагировал на это письмо. По телефону он связался
с особым уполномоченным по использованию рабочих из оккупированных
стран (S.B.A. — Sonderbeauftragter fur den Arbeitseinsatz) в Берлине и
составил официальный запрос от дирекции музея, где говорится следующее:
«Гладкову назначены работы, не соответствующие его профессии. Целесо-
163
образно применить его для работы в Зоологическом музее университета
Берлина, в котором в настоящее время вследствие мобилизации персонала
ощущается большой недостаток во вспомогательном научном персонале.
Гладков будет выполнять специальные задания в орнитологическом отделе».
Штреземанн ответил Гладкову уже в конце января 1943 года и сообщил, что
вышлет ему новые немецкие публикации по орнитологии. В письме от 5
февраля 1943 года Гладков, преисполненный надежд, ответил: «Я заранее рад
тому, что в самое ближайшее время смогу снова заниматься моей любимой
работой. Очень признателен Вам за Ваше любезное намерение выслать мне
орнитологическую литературу. Уже слишком долго я живу безо всяких
известий относительно нашей науки. Благодаря Вашей помощи в пересылке
литературы я смог бы постепенно получить представление о том новом, что
сделано за это время в моей любимой науке. Командир роты господин капитан
передачу литературы разрешает». Так как письма полевой почты не могли
содержать точных указаний о местопребывании отправителя, то Гладков
добавляет «орнитологический код» к географическому положению: «там, где я
теперь нахожусь, вороны — почти ежедневное явление. Жаль, что я не имею
никакой возможности изготовить Вам в подарок чучело». Значит: Восточный
фронт, северный фланг. В конце письма Гладков пишет ещё об одном своем
желании, касающемся литературы: «Особенно интересна была бы мне
монография профессора Ганса Иогансена». (Датчанин Ганс Иогансен жил в это
время в Кенигсберге и написал работу о фауне птицы Западной Сибири; см.
стр. 253-259).
^ Из дальнейшей переписки следует, что усилия Штреземанна перевести
Гладкова в Берлинский музей успеха не имели. Гладков благодарит
Штреземанна за присланные публикации и просит (письмо от 1 сентября 1943 года)
о присылке новой специальной литературы, чтобы иметь возможность идти
в ногу с развитием науки: «Может быть, Вы имеете возможность найти кого-
то, кто хорошо разбирается в нашей специальной литературе и может
осуществлять по моим просьбам покупку различных книг. Я почти уверен, что
моя старая библиотека утрачена. Поэтому у меня есть намерение, пока я
располагаю денежными средствами, использовать любую возможность снова
приобретать необходимую мне литературу. Это тем более важно, что
иностранная литература в течение военного времени практически не поступает
в наши библиотеки». И далее: «К сожалению, я не^знаю пока что надёжного
места, где я мог бы хранить книги до более спокойных времен. Нет ли
возможности хранить их пока в Берлине? Число книг не было бы слишком
большим [...], впрочем, я хотел бы подписаться на «Journal fur Ornithologie»... Но
самое удивительное стоит в конце письма: «Наконец, могу ли я просить Вас
164
ещё о справке, проводит ли Немецкое орнитологическое общество также и
теперь свои годовые собрания? Если я смогу получить отпуск, то я мог бы
организовать всё таким образом, чтобы принять участие в заседании»...
Годовое собрание Немецкого орнитологического общества (DOG) уже
состоялось в июле 1943 года в Берлине (и в период войны было последним, на
котором были заслушаны научные доклады). Штреземанн сразу же
откликнулся на просьбу приобретать литературу для Гладкова и хранить её. В
переписке по этому поводу и в приобретении книг принимал участие также Герман
Гроте (Gebhardt, 1964: 125), русскоговорящий сотрудник Штреземанна в
Берлине. Часть книг сохранялась в музее, но некоторые были посланы на
восточный фронт. До конца июля 1944 года Гладков трижды переводил Штреземанну
по 150 рейхсмарок для покупки книг. В письме от 22 октября 1943 года
Гладков писал: «Я чрезвычайно сожалею, что не смог воспользоваться
возможностью посетить Ваше годовое собрание. Я сомневался, могут ли вообще
состояться эти собрания в настоящее время. Тем с большим нетерпением я
ожидаю сборника с Вашим докладом и другими интересными сообщениями».
Ещё в одном из последующих писем (от 13 марта 1944 года) Гладков писал: «Я
был бы также благодарен Вам, если Вы сможете приобрести для меня учебник
зоологии из тех, какие обычно используются в немецких университетах. Мы
все желаем, чтобы поскорее пришло время, когда мы сможем использовать эти
труды». В конце этого письма автор обращается к Штреземанну ещё с одним
вопросом, довольно неожиданным: «Для меня была бы очень желательна
информация о том, существует ли для меня возможность провести
причитающийся мне отпуск на одной из орнитологических станций (например, в
Росситтене), чтобы познакомиться там с весенней работой и быть там полезным».
Теперь Гладков, кажется, был охвачен вдохновением от соприкосновения с
наукой. В одном из номеров «Journal fur Ornithologie» (с помощью
Штреземанна он стал подписчиком этого журнала) он прочитал работу Эриха фон
Гольста «Модели птиц как средство изучения их полёта» (Vol. 91, 1943: 406-
447) и написал на неё рецензию, состоящую из двух страниц резкой критики,
которую он послал Штреземанну в письме от 9 апреля 1944 года (и которую
издатель журнала несомненно передал автору).
Хотя устроить Гладкова на работу в Берлинский музей не удалось,
Штреземанн снова откликнулся на просьбу Николая Алексеевича и просил
доктора Эрнста Шутца, директора орнитологической станции Росситтен,
пригласить Гладкова; 27 марта 1944 года Шутц уже послал официальное
приглашение Гладкову и заверил его, что охотно примет его в Росситтене. Он
опасался только, что поездка не будет разрешена из-за строгих правил,
ограничивающих въезд иностранцев в эту область (восточный фронт, где Гладков
165
ZfoAAn/e*. ij**' '7*f.
/fcc
£*U
/7f Ш fit/ion A. £ <&<ч**<ь*
u*S iftUb. Лег fyb-Aj* *"** *'***
At /ил/ - /*f Ф'/?*-
Ф/*аЛ«С 4*.
Рис. 43. Письмо НА. Гладкова из Россит-
тена в Берлин Э. Штреземанну от 8
июня 1944 г.
все еще находился, сдвигался между тем все дальше на запад, его рота с
начала 1944 года была дислоцирована, видимо, где-то на западе Белоруссии). В
этом месте моего повествования читатель вполне может подумать, что речь
идёт о несбыточных фантазиях далекого от реальности учёного. Но это не
так! Через два месяца Штреземанн получил в Берлине (на этот раз по
обычной почте) письмо, датированное 8 июня 1944 года, от ефрейтора Гладкова из
Росситтена! (Очевидно, Гладков получил звание ефрейтора незадолго до
поездки). Письмо написано от руки (рис. 43). Он писал: «Огромное спасибо
за Вашу любезную посылку, которую я получил здесь, в Росситтене. Сюда я
приехал слишком поздно для того, чтобы наблюдать пролёт птиц, но само по
себе посещение орнитологической станции для меня очень интересно. [...] Я
могу здесь находиться до 24-го включительно». А 21 июня 1944 года (на
востоке немецкий фронт уже был прорван в нескольких местах) последовало
длинное сообщение: «Всё время, пока я здесь н^хбжусь, очень мало пришлось
наслаждаться хорошей погодой. Но это не имело никакого значения. При
дождливой погоде я сидел в библиотеке и с утра до вечера был углублен в
чтение. Нашел много интересного, но я должен с сожалением признать, что
основательно забыл английский и французский. Настолько основательно, что
не смог прочесть мою собственную статью в «The Auk» [американский
журнал]. На орнитологической станции, к счастью, есть «The Auk» 1941 года. В
1бб
первом номере всё-таки была напечатана моя статья о палеарктических
ястребах. Я до сих пор не видел её, так что это была для меня очень приятная
неожиданность. Кроме того, я участвовал в рабочих буднях станции и совершил
много экскурсий. Кольцевание молодых скворцов не требует большого
искусства, но с аистами я потерпел неудачу. Эта работа не для меня: на высоте у
меня кружится голова. В окрестностях Росситтена я нашёл не всё, что мог
ожидать по моим представлениям в подобном ландшафте. Кукушек нет,
соловья слышал только один раз и не рассмотрел». За этим описанием следуют
ещё два почтовых листа, посвященных орнитологическим темам. В конце
письма Гладков сетует: «В Кенигсберге был в самом большом книжном
магазине — купить нечего. Жаль».
В общем и целом — идиллия, которая продолжалась недолго. Уже на
обратном пути Гладкова из Росситтена в свою часть началось большое летнее
наступление Красной Армии против группы армий «Центр». Вскоре после
этого (13 июля 1944 г.) Штреземанн получил короткое, написанное от руки
письмо (вероятно, ротного «писаря-машинистки» больше не
существовало), отправленное полевой почтой. Гладков писал: «Я остался жив и
снова здоров. Но мой прежний адрес и всё, что я имел, даже книги,
которые я привёз из Росситтена, утрачено. При первой возможности я сообщу
Вам мой новый адрес». Очевидно, результат советского наступления...
За этим письмом последовало послание на двух страницах,
отправленное полевой почтой 27 июля 1944 (то есть вскоре после покушения на
Гитлера в его мазурской резиденции «Волчье логово»). Гладков писал: «Вчера
я точно узнал, что я никогда не возвращусь снова в мою старую роту. Это
очень жаль. Я чувствовал себя в эти дни так печально, словно я потерял
моих близких родственников. Всё-таки я жил вместе с моими приятелями
почти три года и испытал много хорошего и плохого. Теперь всё это
позади. Теперь у меня новый адрес [F.P. № 36126]. По всей вероятности, если
мы прибудем в предписанное нам место назначения, то мы не должны
будем там много перемещаться, и я смогу начать всё снова. Я думаю, что
смогу получить какую-нибудь книгу и углубиться в научное чтение».
Гладков в очередной раз посылает Штреземанну в Берлин 150 рейхсмарок для
покупки книг. Он также обращается к Штреземанну с новой просьбой:
«Теперь я нуждаюсь в каком-нибудь французском словаре, безразлично, что
это будет за словарь — большой или совсем краткий. Я основательно забыл
этот язык. Главное, чтобы книга пришла более или менее быстро, пока я
ещё нахожусь поблизости. Природа здесь не слишком прекрасна. Много
песка. Но я имел здесь возможность наблюдать канареечного вьюрка, птицу
мне раньше совершенно незнакомую».
167
Из этого сообщения можно заключить, что всех «Hiwi» отправили на запад.
«Поблизости», «много песка» и наблюдения канареечного вьюрка —
зашифрованная информация, адресованная орнитологу, который мог заключить из
этого письма, что транспорт, в котором находился Гладков, движется, видимо,
через землю Бранденбург; просьба о присылке французского словаря
говорит о том, место его будущего пребывания будет находиться в
оккупированной Франции или Бельгии. По новому номеру полевой почты я смог
установить, что остатки подразделения, в котором служил Гладков, были
присоединены к вновь созданной 226-й пехотной дивизии, которая была
дислоцирована в «крепости» Дюнкерк во Франции. Сам Гладков был определён
в полуроту на бойню. Поистине целевое применение зоолога!
Теперь с перепиской стало труднее: только лишь одно письмо и одна
бандероль от Гладкова достигли Берлина. Четыре письма Штреземанна
вернулись назад с пометкой «ожидайте нового адреса» или «неправильный номер
полевой почты» (вторжение союзников в Нормандию успешно развивалось,
и полевая почта больше не функционировала). Однако интересно узнать
содержание и тон последних писем Штреземанна (в архивах отсутствуют копии
его более ранних писем Гладкову, и их содержание я мог восстановить только
частично по ответам Гладкова). Так, 31 июля 1944 года Штреземанн писал:
«Глубокоуважаемый коллега! Новости, о которых Вы сообщаете мне в Ваших
обоих последних письмах [13.07 и 27.07.1944 г.], касающиеся неожиданной
перемены Вашего положения, очень огорчили меня, и я могу представить
дебе, насколько Вы страдаете от отсутствия Ваших приятелей и маленького
научного аппарата, который Вы смогли создать вокруг себя. Возместить
пропавшую литературу будет сложно. Запасами журналов («Journal ffir Ornitho-
logie» и «Ornithologische Monatsberichte») мы вынуждены теперь
распоряжаться очень экономно, и всё, что я могу сделать в данный момент, — это
прислать Вам несколько оттисков из тех, что у меня есть сейчас в наличии. Я
могу также ещё раз заказать и прислать книгу Шмидта «Перелёты птиц».
[Штреземанн предвидел, скорее всего, что и новый «аппарат» тоже
пропадёт]. Я позабочусь о присылке французского словаря, но виды на успех
небольшие. Я напишу Вам снова в ближайшее время. Господин Иогансен,
который очень сожалеет, что не имел возможности лично поговорить с Вами,
уехал между тем в Данию и продолжает там свою работу над «Птицами
Западной Сибири». (Очевидно, во время визита Гладкова в Росситтен была
запланирована его встреча со знатоком России, которая по каким-то причинам
не осуществилась).
Последнее короткое письмо от Гладкова, полученное Штреземанном,
датировано 14 августа 1944 года, на конверте штемпель полевой почты от 21
168
августа; кроме кратких сообщений и благодарности это письмо содержит
завещание Гладкова: «Глубокоуважаемый господин профессор! Из Германии
[значит, он проезжал через территорию Рейха] я послал Вам письмо, деньги
и вскоре после этого бандероль полевой почтой. К сожалению, я не вложил
марки для бандеролей, вследствие этого моя просьба насчёт присылки
словаря невыполнима. До сих пор у меня ещё нет никаких марок. [Для отправки
бандеролей полевой почтой требовались специальные марки, они были
рассчитаны на вес 1 кг.] Вы столько сделали для меня, что и я хотел бы сделать
Вам хотя бы маленький подарок. Я очень хорошо знаю, как ценно бывает
иметь пару сигарет, которые можно выкурить дома, во время работы или
отдыха. Если мне не суждено пройти через грядущие испытания, я прошу Вас
позже передать мои книги, как мою собственность, на моё прежнее место
работы. Простите, пожалуйста, что я пишу так неразборчиво. Я сижу в палатке
и держу письмо на коленях. С искренним уважением, глубоко преданный Вам
Н. Гладков».
Слова «моя собственность» и «моё старое место работы» говорят о том,
что Гладков не терял надежду на освобождение своей страны и вновь обрёл
её теперь!
К тому времени на Западном фронте, вероятно, уже царил хаос, поскольку
две почтовых открытки Штреземанна (с подтверждением получения денег и
гарантией, что он и в дальнейшем будет покупать книги) в августе
возвратились в Берлин. Вскоре вернулось и последнее письмо Штреземанна, которое
он послал Гладкову уже 4 августа. Из этого письма (рис. 44) можно узнавать,
что бандероль Гладкова с «парой сигарет» на самом деле содержала их в
немалом количестве, что привело изголодавшегося курильщика Штреземанна в
восторг (в тот период ему приходилось набивать трубку чаем из
лекарственных трав!). Теперь у Штреземанна также была просьба к своему русскому
корреспонденту: он просил Гладкова всё-таки навестить его в Берлине, что в
то время и в самом деле было утопией...
На этом закончилось удивительное трёхлетнее заочное содружество двух
учёных-биологов, находившихся в таком различном положении в период
Второй мировой войны.
Опасение Гладкова, что он не доживёт до конца войны, не подтвердилось.
Его часть оставалась в Дюнкерке вплоть до освобождения Кале и
окрестностей подразделениями союзников. К счастью, он вовремя попал на Западный
фронт, поскольку на востоке, где неудержимо наступала Советская Армия,
Hiwi, подобным Гладкову, грозила двойная опасность: иногда (но думаю, что
гораздо чаще, чем достоверно известно) их расстреливали сами немецкие
«приятели» из соображений собственной безопасности; с другой стороны
169
ЯстИа 914, ten ..
-1й"
flhiftum fue flotuebunuc
Sehr geehrter Herr Gladkow!
Heute morgen fand ich unter meiner Post ein geheimnlsvolles Pack-
chen, das von Ihnen abgesandt warfund dessen Inhalt sich tu meiner
grossen und freudlgen Uberraschung als Gegenstande entpuppte, die
dfis Raucherberz htiher schlagen lessen. Ich bin von dieser Ihrer
Aufmerkaamkelt wirkllch gerllhrt und-danke Ihnen aufs allerbest».
Ich weifl nicht, woher Sie srissen, da3 ich ein starker Saucher bin,
Jedenfalla haben Sie durchaus das rlohtlge erraten und loh hoffe
nur, daO Sie diese schSnen Dinge, die Sie mir sukoomen llessen,
nun nicht selbst entbehren werden.
Im Begriff, Ihnen eine kleine BUohersendung zu raaehen, bemerke ich.
daO ich Sie nicht ohne weiteres an Ihre Feldpoat-Nr. gelengen lassen
kann, well Ja auch Feldpostsendungen mit Zulassung&marke nur bis zu
einem Gewioht von 100 g mBglioh sind. Kttnnen Sie mir einen «eg ange-
ben, auf welchem ich die Ihnen zugedachten Schriften in Ihre Bande
gelangen lassen kdnnte, vielleicht durch einen Urlauber, der sie
hier abholt?
Es ist wirkllch schade, dafl Sie gelegentlioh Ihres letzten Ur-
laubs nicht auch einmal naoh Berlin кошшеп und mich aufsuohen
konnten. Vielleicht kSnnen Sie das aber noch einmal aachholen!
Ich wiirde mlch Jedenfalla sehr freuen, Ihre perstfnliche Bekannt-
schaft endlloh einmal zu machen.
In Erwartung b$ad wieder von Ihnen zu hUren und melnen besten
WUnschen verbleibe ich
Ihr sehr ergebener
j'-jf/r**—*—
Рис. 44. Письмо профессора Э. Штреземанна Н.А. Гладкову от 4
августа 1944 г.
фронта их ожидал СМЕРШ (подразделения Красной Армии по борьбе со
^ппионажем и изменой), который не церемонился с предателями — нередко
их расстреливали прямо на месте...
О том, что произошло с Гладковым дальше, мне довелось узнать лишь в
августе 2000 года в Москве от вдовы Николая Алексеевича, доктора Татьяны
Дмитриевны Гладковой, биолога, сотрудника кафедры антропологии
Московского университета. Она пригласила меня на чай.
Николай Алексеевич женился только после войны, в Москве, в 1949 году.
Во Франции он был освобождён английскими войсками (в зависимости от
точки зрения на эту историю можно также сказать, что он снова оказался в
плену). Он был доставлен в Англию, а оттуда морским путём через Мурманск
— в Советский Союз. По словам Татьяны Дмитриевны, в СССР он был
допрошен в различных инстанциях. Он побывал в нескольких лагерях для
военнопленных, где все проходили проверку, в частности выяснялось, был ли
нарушен, приказ от 19 апреля 1943 года (так называемый «Указ 43»), который
предусматривал суровые наказания для «пособников немецких оккупантов и
предателей Родины». Татьяна Дмитриевна сказала мне, что далеко не все
бывшие военнопленные смогли вернуться в свои родные места и продолжать ра-
170
ботать в соответствии со своей профессией. Многим из них было запрещено
жить в больших городах и работать по специальности. Многие были высланы
в Сибирь или отправлены в лагеря и тюрьмы. Кроме того, известно, что было
вынесено и приведено в исполнение множество смертных приговоров.
Гладков получил только запрет на работу в Московском университете и стал
ночным сторожем в одном из маленьких городов недалеко от Москвы.
На фоне крайне суровых наказаний в послевоенном СССР за
коллаборационизм, участь Гладкова выглядит необъяснимо лёгкой. Что знал о нем
СМЕРШ? Что он рассказал (и не рассказал) жене о своей жизни и
деятельности в военное время? Вдова Николая Алексеевича на этот последний
вопрос ответила, что муж неохотно говорил о плене и «всегда уклонялся от этой
темы». Московские коллеги знали, что Гладков переписывался со Штрезе-
манном во время войны, но никакой более точной информацией не
располагали.
В архивах Англии и России я начал разыскивать документы, из которых
можно было бы узнать подробности о периоде пребывания Гладкова во
Франции, Великобритании и в советском лагере. Сначала безуспешно. Должно
быть, для Гладкова стало радостной неожиданностью, когда он вопреки своим
опасениям в военные годы (о которых писал Штреземанну), нашёл в Москве
все свои предвоенные рукописи и библиотеку в образцовом порядке! Таким
образом, он смог параллельно со своей работой ночного сторожа заниматься
наукой в частном порядке. Очевидно, он имел также доступ к своему старому
месту работы в Зоологическом музее университета, так как уже в 1946 и 1947
годах он опубликовывал в Москве две научные работы. Его вдова рассказала
мне, что он и в это трудное время чаще бывал в Москве, чем за городом. В
1947 году университет ходатайствовал о предоставлении Гладкову
«должности, соответствующей его компетенции», и он получил разрешение снова
работать в качестве учёного. Инициаторами этого ходатайства были
профессора Г.П. Дементьев и Г.В. Никольский (ихтиолог, с которым Гладков в
1931-1934 гг. работал в экспедиции на Сырдарье). В том же году Гладков
защитил докторскую диссертацию — фундаментальный труд, посвященный
анализу полёта птиц.
Между тем, мои долгие поиски в архивах о судьбе Гладкова в конце войны
дали в итоге важные результаты (и как раз своевременно: я успел поместить
их во второе издание своей книги). В Российском государственном военном
архиве (РГВА) в Москве было найдено учётное дело № 43 333 отдела
контрразведки СМЕРШ, в котором есть опросный лист Гладкова, заполненный 23
апреля 1945 года и подписанный им. Опросный лист был заполнен в лагере,
вопросы касаются военного прошлого Гладкова. Несомненно, он понимал,
171
какой опасности подвергается. Он отвечает коротко и по-деловому;
по-видимому, чувство самосохранения помогло ему найти правильные ответы. Он
правдиво отвечает на вопрос:
— «Когда, где и при каких обстоятельствах попал в плен или окружение?»
— «7 ноября 1941 года в районе Калуги, были окружены в районе Вязьмы,
но, выходя из окружения, были взяты в плен».
Но на самый опасный вопрос:
— «Служил ли в армии противника?» он решительно даёт ложный ответ:
— «Не служил».
На вопрос о том, в каких лагерях военнопленных содержался, Гладков
отвечает:
— «Калуга, Кричев, Ярцево, Орёл, Рогачёв, Бобруйск».
Батальон снабжения-Вермахта, в котором он служил, занимался и
снабжением лагерей военнопленных, поэтому он смело называет населённые
пункты, где такие лагеря действительно существовали по достоверным
источникам. Далее Гладков сообщает, что был переведён во Францию через Германию
и там работал на бойне. И далее:
— «2 сентября 1944 года освобождён английскими войсками и 7 ноября
1944 года доставлен в г. Мурманск».
К сожалению, мне не удалось найти соответствующие документы в
английских архивах, чтобы выяснять обстоятельства встречи Гладкова с
британскими войсками во Франции. Тем не менее, можно предполагать, что
T4M он переоделся в штатский костюм или старую советскую форму и,
таким образом, британцы считали его освобождённым красноармейцем.
Таким образом, своей научной послевоенной карьере, а возможно и жизни,
Гладков обязан легковерности британской службы безопасности и
СМЕРШа!
Несколько последних вопросов опросного листа касаются прибытия
Гладкова в Советский Союз:
— «Когда, где и как освободился из лагеря противника или вышел из
окружения?».
На этот вопрос Гладков снова повторяет:
— «2 сентября 1944 года освобождён английскими войсками и 7 ноября
1944 года был доставлен в г. Мурманск».
И, наконец, последние два вопроса:
— «Фиксировались ли допросы?»
— «Не фиксировались».
— «Когда и откуда прибыл в данный лагерь?»
— «Город Таллин, военно-строительный батальон, 15 февраля 1945 года».
172
Таким образом, получается, что Гладков уже 7 ноября 1944 года, то есть
ещё задолго до окончания войны, возвратился в Советский Союз и здесь
снова стал солдатом Красной Армии! Правда, не в боевом подразделении, а
в военном строительном батальоне, дислоцированном в Таллине. СМЕРШ
допрашивал его впервые за две недели до окончания войны. К сожалению,
не сохранилось совершенно никаких документов о демобилизации Гладкова,
но вероятно, в 1945 году он был уже демобилизован. СМЕРШ не выявил
ничего предосудительного, его анкета «чиста». Возможно, причиной того, что
ему, тем не менее, не разрешено было сразу вернуться в университет и
пришлось работать ночным сторожем в провинции, послужили опасения
политических инстанций, что люди, вернувшиеся из плена в Европе и многое
видевшие, могли в своей среде рассказать нечто нежелательно позитивное о
жизни вне Советского Союза, вызвав «пораженческие настроения». Гладков
видел Германию, Францию и Англию, так что сочли уместным держать его на
некотором удалении от университетского окружения. Как мы знаем, через два
года ему удалось вернуться в университет.
Новая фаза в жизни Гладкова, начавшаяся в 1947 году, когда он был
восстановлен на работе в музее, ознаменована необычайным подъёмом в его
деятельности. Было переработано и опубликовано несколько старых рукописей,
наметились и новые темы. В 1952 году за шеститомное издание «Птицы
Советского Союза» авторский коллектив под руководством Дементьева и
Гладкова получил Сталинскую премию! Гладков стал профессором, теперь он с
увлечением и азартом посвящает себя также преподавательской работе. В
начале 1950-х годов он вступает в партию, развивает активную политическую
деятельность и ищет пути привлечения внимания политиков к
природоохранным темам посредством идеологической аргументации (см., например,
его работы «Вопросы охраны природы в свете решений XXII съезда КПСС»,
«Ленинские принципы охраны природы», «Охрана природы в первые годы
советской власти»). Изобилие этих видов деятельности создаёт впечатление,
что Гладков как будто чувствует свою вину перед государством и старается её
искупить...
Я пытался выяснить, существовала ли связь между Штреземанном и
Гладковым в послевоенные годы. Сначала Штреземанн считал своего русского
коллегу пропавшим без вести (Haffer et al., 2000: 366). О том, что он жив и
снова активно работает, Штреземанн узнал самое позднее в 1951 году, когда
вышли первые два тома «Птиц Советского Союза». В Восточном Берлине эти
книги можно было купить. В Берлинском архиве хранится переписка между
двумя учёными за 1955-1972 годы. В ней нет ни единого упоминания о
военном времени; первые письма посвящены обсуждению расширения ареала
173
кольчатой горлицы! В одном из писем Штреземанн упоминает, что послал
оттиски для Гладкова на московский адрес Дементьева ещё осенью 1954 года.
Я думаю, что тем же путем Штреземанн переправил в Москву
депонированные в Берлине книги Гладкова, приобретённые в период его службы в
Вермахте (они хранились в личной библиотеке Гладкова на географическом
факультете). В начале 1956 года Штреземанн приехал на конференцию в
Ленинград. Там, наконец, произошла личная встреча двух учёных, как этого
хотел Штреземанн ещё в августе 1944 года, когда приглашал Гладкова
«заехать» в Берлин. В архиве Штреземанна я обнаружил маленькую записную
книжку с заметками о его посещении Ленинграда. Там нет ни одного слова о
встрече с Гладковым... Я предполагаю, что она происходила тайно, чтобы не
возбуждать лишних подозрений и не давать никому повода размышлять или
что-либо разузнавать о,дружбе двух учёных во время войны. Наверняка,
режиссером этой встречи был профессор Дементьев. Я уверен, что Штреземанн
благодарил бывшего «Hiwi» за присланные ему когда-то сигареты. О чем ещё
они говорили друг с другом, мы, к сожалению, уже никогда не узнаем...
Профессор Гладков принадлежал теперь к самым признанным советским
зоологам, но где-то в соответствующих ведомствах его пребывание в плену
было определённо отмечено^ по-прежнему оставалось тёмным пятном в его
биографии. Когда он был включён в список советской делегации на 15-й
Международный орнитологический конгресс в Гааге (1970 г.), невидимое перо
вычеркнуло его имя...
От моих русских коллег я узнал, что Гладкову довелось всё-таки
совершить поездку «по следам своего военного прошлого» — в конце 1950-х годов
он посетил Биологическую станцию Рыбачий на Куршской косе, бывший Рос-
ситтен, где он провёл несколько самых прекрасных недель за время войны.
Неизлечимая болезнь слишком рано прервала жизнь Гладкова. Все его
ученики, которых я знаю, тепло отзывались о своём преподавателе. До сих пор
о жизни Н.А. Гладкова в пору превратностей XX века было мало известно.
Теперь у нас — на востоке и на западе — есть пища для размышлений. Но одно
не может быть оспорено: Николай Алексеевич Гладков оставил в науке яркий
и непреходящий след...
* * *
В Европе слишком часто забывают, что Вторая мировая война повлекла
за собой не только Холодную войну: значительно худшим её последствием
была «горячая» война в Восточной Азии, а именно корейская война 1950-
1953 годов. Эта война также вынуждала людей к бегству и со всей жесто-
174
костью коснулась некоторых учёных, в том числе двух орнитологов.
Удивительным образом судьбы обоих учёных способствовали развитию
орнитологии в Корее.
Лично меня Корея заинтересовала очень давно, когда я ещё был учеником
последнего класса гимназии: почти ежедневно я следил тогда за изменчивым
ходом войны в этой стране не только по сообщениям в польских газетах, но
и по передачам радиостанции «Свободная Европа». Это имело последствия:
цензурой было перехвачено моё письмо приятельнице, где я написал, что
американцы после вторжения в одну из провинций обнаружили могилу с
закованными в кандалы и казнёнными американскими военнопленными. После
этого польские органы безопасности (UB) арестовали меня прямо в школе, я
был помещён в тюрьму в подвале при полиции и подвергнут «проработке».
Плохое приключение кончилось, однако, хорошо. Ко мне отнеслись
снисходительно, и через две недели я смог вернуться в гимназию. Но это событие
только усилило мой интерес к дальней стране.
Когда через несколько лет я стал студентом в Варшаве, я узнал, что в
Зоологическом институте в северокорейском Пхеньяне работает орнитолог,
профессор Вон Хонг-Гу/Won Hong-Gu (1888-1970). Пропаганда дружбы между
социалистическими государствами, заполнившая в то время страницы газет,
воодушевила меня, и я планировал поездку в Корею. Мне очень хотелось
организовать экспедицию в Восточную Азию, которую можно было бы назвать,
например, «По следам польского исследователя Янковского». Из этих
намерений, разумеется, ничего не вышло, так как «дружба» была политического
характера, и для студента такая затея была нереализуема. Наивно я искал
частный путь через северокорейскую студентку Варшавского университета
(ее звали Ким Джи-Джой, и она была очень красива). Она заверила меня, что
после возвращения на родину расскажет о моих планах в Зоологическом
институте в Пхеньяне. Но после того, как она покинула Польшу, я больше
никогда не слышал о ней.
Некоторое время спустя, когда я уже закончил университет и работал, я
узнал, что профессор Вон Хонг-Гу посетил Варшаву и находился здесь в
течении несколько дней! Я был в отъезде и узнал об этом уже после того, как
он уехал. Это было в 1965 году. Он интересовался экологией питания
воробьев и консультировался с моим коллегой, доктором Яном Пиновским,
который почти всю жизнь посвятил изучению этих птиц. Я был крайне
огорчён тем, что мне не удалось воспользоваться этим случаем.
В августе 1982 года на Международном орнитологическом конгрессе в
Москве я неожиданно для себя встретил профессора Вон Пьонг-0 из Сеула
— сына северокорейского орнитолога! Вон Пьонг-0 давно жил в Южной
175
Корее. С политической точки зрения его приезд выглядел не вполне
логично. Хотя отношения Советского Союза и Северной Кореи в то время
переживали период охлаждения, эта страна оставалась в составе
«социалистического лагеря». Тем не менее, из Северной Корее не приехал никто, тогда
как из Южной Кореи, с которой у СССР ещё не было даже дипломатических
отношений, прибыла целая делегация! Мы сразу сблизились с корейцами.
Мне удалось заинтересовать Вона-младшего поисками исчезнувшего вос-
точноазиатского вида — хохлатой пеганки (Tadorna cristata), и он назначил
вознаграждение в размере 500 американских долларов за новую находку
этого самого редкого вида уток (к сожалению, найти его не удалось, и теперь
данный вид считается вымершим). Сеульский профессор чувствовал себя в
Москве не слишком свободно — он полагал, что за ним следят
северокорейские агенты. Он даже обращался к советским организаторам конгресса,
которые заверили его в том, что оснований для беспокойства нет. Позже я
встречал профессора Вон Пьонг-0 в Западной Европе и в Сеуле, в гораздо
более спокойной обстановке. Постепенно наши разговоры всё больше
удалялись от науки, и мой собеседник поведал мне поистине необычную и
увлекательную историю семьи Вон.
Его отец, Вон Хонг-Гу^ родился на северо-западе Кореи в бедной
крестьянской семье, в которой были сильны патриотические настроения. После
русско-японской войны 1904-1905 годов Корея оказалась под японским
влиянием, а в 1910 году японцы полностью оккупировали страну. Для коренного
населения это имело крайне негативные последствия: с корейцами
обращались как с примитивными туземцами, возможность получить образование для
них была ограничена, государственным языком стал японский, корейцы
могли занимать только низшие рабочие должности. Всё находилось под
официальным контролем, особенно полицейским. Однако одарённый, ещё
молодой Хонг-Гу умудрился получить образование и в оккупированной японцами
стране: в 1910 году он поступил в техникум лесного и сельского хозяйства в
Сувоне (к югу от Сеула). По-видимому, он прекрасно учился, так как после
окончания техникума был оставлен там ассистентом. Кроме того, в 1912 году
он получил стипендию японского правительства и до 1915 года смог учиться
в престижной Высшей школе лесного и сельского хозяйства в Кагосиме в
Японии. В 1916 году он вернулся на родину и стал уполномоченным
японского правительства по сельскому хозяйству в одном из районов на севере
Кореи.
Здесь у него возник интерес к исследованию местной фауны, что
повлекло за собой смену профессии: в 1920 году он стал преподавателем
естествознания в школе в Сангдо (к востоку от Пхеньяна). Ещё в период пребы-
176
Рис. 45. Семья Вон у своего дома в
Анъю, северо-западная Корея.
Профессор Вон Хонг-Гу слева, впереди
справа младший сын Пъонг-О,
1936 г.
,\
вания Вон Хонг-Гу в Японии у него возникли тесные контакты с доктором
Нагамиси Куродой, маркизом, который занимался орнитологией и обладал
большой коллекцией птиц; Вон также начал делать тушки и собирать
коллекцию. Обычно он отправлялся в экспедиции по сбору птиц во время летних
каникул, часто в сопровождении детей (у него было четыре сына и дочь). К
счастью, директором школы был американец, который не только поощрял
увлечение Вона орнитологией, но и способствовал продаже тушек в
американские музеи. Вскоре японские музеи и частные собиратели (в том числе
принц Така-Тцукаца) стали покупать у него тушки птиц.
Так Вон Хонг-Гу стал первым корейским орнитологом. Теперь он
заслужил уважение и у высокомерных японцев и даже смог работать в музее при
дворце японского принца Ли Вонга в Сеуле — исключительно редкая
привилегия для корейца в то время. Вон Хонг-Гу поддерживал профессиональные
связи даже с самым знаменитым орнитологом Японии, доктором Йосимаро
Ямасинои, племянником императора Хирохито и внуком императора Меийе
(Мутсухито) — реформатора Японии.
Теперь Вон Хонг-Гу собирал коллекцию с ещё большим усердием. У него
были честолюбивые планы собрать все обитающие в Корее виды. До сих пор
живущие в Корее птицы практически не имели корейских названий,
поскольку доминировал японский язык. Вон создавал корейское название для
каждого нового для Кореи вида. Свои знания и коллекцию он стал использо-
177
вать не только для преподавания; с 1929 года он начал публиковать статьи в
научных журналах. В 1931 году (в это время он работал уже в Высшей школе
сельского хозяйства в Анджу, на северо-западе страны; рис. 45) он
опубликовывал свой первый список птиц Кореи, включавший уже 255 видов. В
середине 1930-х годов интересы Вон Хонг-Гу распространились также и на
исследование биологии птиц (главным образом — питания различных видов),
а также на млекопитающих, в частности — грызунов. В 1935 году он
публиковал замечательную работу о неотложных мерах по охране птиц Кореи: он
требовал ограничения широко распространённой в Корее охоты на птиц и
торговли ими, создание государственного орнитологического
исследовательского центра, подготовку охотничьих инспекторов и включение предмета
охраны природы в школьную программу (Austin, 1048; Im, 1997; Won Pyong-
Oh, 1998).
Педагогическая и научная работа отца оказала влияние на его детей: они
принимали участие в его деятельности, позже все сыновья Вона решили
получить естественнонаучное образование.
Летом 1945 года японцы были изгнаны из Кореи войсками союзников
(советскими, американскими, а также отчасти китайскими). Освобождение с
ликованием встретили на всёмполуострове. Но вскоре после этого семья Вон
получила трагическое известие: один из сыновей, который занимался
исследованием мелких млекопитающих и работал в экспедиции во внутренней
Монголии (Маньчжурии), контролируемой тогда японцами, в августе 1945
щда был застрелен солдатами воюющей там китайской армии, которые
ошибочно приняли его за японца. Дочь Вона Хонг-Гу находилась в это время на
юге (в американской зоне), три сына жили на севере (в советской зоне),
младший из них, Пьонг-О, ещё учился в школе. Во время войны семье Вон
несколько раз приходилось спасаться бегством, перебираясь подальше от
театра военных действий. В 1946 году Вон перебрался в Пхеньян и стал здесь
профессором зоологии и деканом биологического факультета во вновь
основанном Ким Ир Сеном университете. Вживание подчёркнуто буржуазной
семьи в ортодоксальный коммунистический режим было непростым, но со
временем Вон приспособился к новым условиям, и всё наладилось.
Признанному преподавателю естественных наук это было намного проще, чем
специалистам, работающим в других областях.
После того, как в августе 1948 года в южной части полуострова была соз-
данц республика Корея, Ким Ир Сен, который в 1930-х годах возглавлял
борьбу корейских партизан против японских колонизаторов, провозгласил
Корейскую народно-демократическую республику на севере; страна
разделилась! Вновь созданные корейские государства относились друг к другу
178
крайне враждебно, при этом они оба пользовались неограниченной
поддержкой «великих держав»: северяне — Советского Союза, южане — США.
Конфронтация между Северной и Южной Кореей достигла апогея в июне
1950 года, когда коммунистический север начал войну против юга. В
сумятице этой войны, которая велась обеими сторонами самыми варварскими
способами (5 млн. корейцев стали беженцами, 3 млн. было убито), профессор с
женой и внуками покинул город и укрылся в близлежащей сельской
местности, а трое его сыновей бежали на юг. Когда война закончилась и положение
нормализовалось, профессор Вон возвратился в Пхеньян, но теперь он попал
в немилость из-за бегства сыновей на юг. Ситуация стала критической.
Счастливый случай помог ему остаться на прежней профессорской позиции: его
преданный ученик, Хонг Йон-Тик, стал вице-премьером северокорейского
государства, он вступился за своего учителя и всячески помогал ему. Когда в
1952 году была учреждена северокорейская Академия наук, Вон Хонг-Гу
назначали директором Зоологического института. Он передал институту свою
научную коллекцию, которая, к сожалению, пострадала во время войны: часть
тушек и научной документации, собранных за многие годы работы, погибли.
Вскоре после окончания войны профессор Вон поднялся еще выше: с 1954
года он стал постоянным членом народного собрания (парламента) Северной
Кореи. Упрочение положения Вона существенно расширило возможности для
научной работы. Его коллекция птиц состояла уже почти из 4 000
экземпляров, он опубликовал около 40 научных работ. Теперь Вон Хонг-Гу решил
обобщить результаты своей научной деятельности: в 1960-е годы вышел его
трёхтомный труд о птицах Кореи (на корейском языке) и монография о
млекопитающих страны. Вон Хонг-Гу был хорошим охотником (большинство
птиц для коллекции он добыл сам). Теперь его регулярно приглашали для
участия в охотничьих вылазках северокорейского государственного
руководителя и лидера партии Ким Ир Сена, для определения видовой
принадлежности добытых фазанов. Глава государства весьма ценил своего провожатого и
даже подарил ему охотничье ружье из Зуля12 и собаку. Институту была
выделена импортированная из Польши машина марки «Жук».
Вон Хонг-Гу умер в октябре 1970 года, он был похоронен на почётном
кладбище в Пхеньяне. В торжественно украшенной витрине Зоологического
института было выставлено охотничье ружье, ценный подарок главы
республики...
Ещё при жизни первого северокорейского орнитолога его «убежавший»
сын Вон Пьонг-0 стал профессором зоологии в университете Кьянг Хи в
12 Город в ГДР, знаменитый центр производства охотничьих ружей. — прим. перев.
179
Рис. 46. Доктор Вон Пьонг-0 из Сеула
(справа) с профессором А.А. Пор-
тенко из Аенинграда, Слимбридж,
Англия, 1966 г.
Сеуле, в Южной Корее; он занимался преимущественно орнитологией и
экологией. Знал ли об этом его отец?
^ Этот вопрос вполне правомочен, поскольку разделение Кореи на два
государства совершенно несравнимо с тем, что было в Германии, где между
людьми, проживающими по разные стороны границы, всё же допускались
переписка, телефонные разговоры и даже ограниченные посещения. Что же
касается границы, разделившей Корейский полуостров вдоль 38-го градуса
северной широты, то она была абсолютно непроницаема! Её могли пересекать
только птицы. И как раз птица принесла отцу первое известие о его сыне.
Весной 1963 года в Сеуле Вон Пьонг-0 окольцевал японским кольцом № С 7655
малого скворца Sturnus sturninus. Двумя годами позже птица была найдена в
парке Пхеньяна и доставлена в Зоологический институт. Его директор,
профессор Вон Хонг-Гу, имел право переписываться по научным вопросам с
Японией. Из письма института Ямасины в Токио (где находится японский центр
кольцевания) он узнал, что эту птицу окольцевал его сын! Сына в свою очередь
уведомили о том, что о находке кольца сообщил его отец. Это был первый
контакт Пьонг-0 с родителями после его бегства. Скоро представился ещё один
случай узнать о родителях и передать им сообщение о детях и внуках, живущих
на юге. В июле 1966 года Вон Пьонг-0 принимал участие в 14-м
Международно
;1
00
A
*
17O00 The bW «own to Of
'-
m
(leee-IQTO)
t* *4
Рис. 47. Блох: северокорейских почтовых марок 1992 года с
портретом профессора Вон Хонг-Гу, изображением малого
скворца и японского колъщ.
ном орнитологическом конгрессе в Оксфорде. Во время одного из перерывов
между заседаниями доктор Ян Пиновский из Польши расспрашивал его о
влиянии воробьев на урожай риса. Пиновский сказал, что он собирается
проводить исследования питания воробьев в Северной Корее, и что недавно у него
был гость, коллега из Пхеньяна. Когда он мимоходом назвал имя своего гостя,
Вон Пьонг-0 внезапно замолчал — он был совершенно потрясён и только
после длинной паузы заговорил снова: «За шестнадцать лет Вы — первый
человек, который лично видел моего отца и сообщает мне об этом...». Теперь у
них была неисчерпаемая тема для разговоров. В результате Пиновский для
изучения экологии воробьев смог приехать также и в Южную Корею. В
Оксфорде, наконец, представилась возможность послать в Пхеньян длинное
письмо с фотографиями: профессор Портенко (рис. 46) увёз с собой в
Ленинград толстый конверт, хотя это и было строго запрещено. Позже он передал
письмо в Северную Корею с одним советским коллегой, который летел туда в
служебную командировку (почтой отправлять такое письмо было слишком
опасно). Отец Вона Пьонг-О, полагаясь на пропаганду, считал, что в Южной
Корее царят бедствия и нищета. Когда он прочитал письмо и увидел
фотографии, он произнес: «Теперь я знаю всё и могу умереть спокойно».
Через много лет после этих событий историю жизни отца и сына
воссоздал японский писатель Кимио Эндо (Kimio Endo): в 1984 году он
опубликовал основанный на документах роман об обоих профессорах; хотя японские
оккупанты представлены в романе в чересчур светлых тонах, книга без сом-
181
нения внесла свой вклад в примирение обоих народов. В начале 1990-х годов,
когда Северная и Южная Корея заключили «договор о примирении», сюжет
был подхвачен также идеологами из Северной Кореи: в 1991 году там сняли
цветной кинофильм об истории обоих Бонов под названием «Птицы» (в
истории мирового кинематографа это, наверное, единственный художественный
фильм, который посвящен исключительно орнитологам и орнитологии!).
Создатели фильма не обошлись без политической пропаганды, тем не менее
лента имела успех — на фестивале в Токио фильм получил приз и имел
отличные кассовые сборы в массовом прокате в Юго-Восточной Азии. Не
осталась в стороне и почта Северной Кореи: была выпущена серия почтовых
марок с изображениями птиц и блок (рис. 47) с изображением малого скворца,
японского кольца с номером и портретом Вон Хонг-Гу.
* * *
История семьи Вон неотделима от Южной Кореи, поэтому я хочу ещё
коротко рассказать о жизни и карьере сына Вон Хонг-Гу — профессора Вон
Пьонг-O/Won Pyong-Oh (род. в 1929 г.), убежавшего во время войны из
Северной Кореи. Возникает вопрос, мог ли южнокорейский профессор Вон
Пьонг-0 в октябре 1970 года узнать о смерти своего отца — профессора из
Северной Кореи. Такой возможности у него, разумеется, не было: мать Пьонг-
О не смогла передать сыну сообщение в Южную Корею. Только с большим
опозданием короткое известие о кончине отца пришло в Северную Корею из
Японии, снова через институт Ямасины в Токио. Подробное сообщение о
смерти отца сын получил только через 8 лет (и через 5 лет после смерти
матери) и тоже через кого-то из учёных: в сентябре 1978 года Вон Пьонг-О, как
южнокорейский делегат, принимал участие в 14-м Общем собрании
Международного союза охраны природы (IUCN) в Ашхабаде. Северную Корею
представлял директор Ботанического института Академии наук, ученик Вона
Хонг-Гу. Он тайно (любые разговоры с «врагами» были строго запрещены)
рассказал Вону Пьонг-0 о судьбе его семьи на севере...
Вернёмся назад, к детству Вон Пьонг-О. Он пошёл на гимназию ещё во
время оккупации страны японцами. После освобождения в 1945 году и
основания Народно-демократической республики жизнь была очень трудной,
но отец заботился о том, чтобы дать детям хорошее образование: Пьонг-О,
который уже тогда интересовался орнитологией, летом 1950 года окончил
факультет животноводства Сельскохозяйственной высшей школы в Вонсане и
получил постоянное место работы и стабильное положение. Благополучие
вскоре закончилось — в июне 1950 года вспыхнула корейская война. В авгу-
182
сте его призвали в северокорейскую армию в качестве лейтенанта —
ветеринарного врача. В конце года он вместе со своим старшим братом (тоже
биологом, специалистом по млекопитающим) решил бежать «к американцам».
Бегство удалось, и 10 декабря оба были в Сеуле. Уже через пять дней Пьонг-
О был призван в южнокорейскую армию. В 1951 году он получил
офицерский чин и до конца войны сражался с объединённой корейско-китайской
армией Севера. Только в 1956 году, дослужившись до капитана, он оставил
военную службу и продолжил научную карьеру в Институте леса
южнокорейского Министерства сельского хозяйства. Теперь он занимался биологией
птиц и млекопитающих. Третьего мая 1961 года он получил степень доктора
сельскохозяйственных наук в японском университете Хоккайдо в Саппоро и
затем постоянное место работы в университете Кьянг-Хи в Сеуле. В 1962—
1963 годах он проходил стажировку в Йельском университете в США под
руководством профессора Сиднея Диллона Рипли. Так Вон Пьонг-0 стал
компетентным орнитологом и экологом. Основная сфера его деятельности лежала
в области охраны природы. Пьонг-0 принимал деятельное участие во многих
государственных и международных проектах. Он был необыкновенно
трудолюбив и обладал талантом организатора. В мае 1969 года он получил в
университете звание профессора зоологии. Он совмещал преподавательскую
работу с научными исследованиями в Юго-Восточной Азии, публиковал много
работ. В 1992 году он стал председателем Южно-Корейского общества
охраны природы.
Всё это личные заслуги Вон Пьонг-О, которых он добился собственным
трудом, но нужно упомянуть, что у него, также как и у его отца, был высокий
покровитель: во время войны (уже на южнокорейской стороне) он был
адъютантом генерала Тхиеу-Ки — в то время командующего артиллерийским
корпусом. Генерал рассчитывал, что молодой лейтенант, которому он
симпатизировал, женится на его старшей дочери, но этого не произошло. В 1961 году
Тхиеу-Ки стал президентом Южной Кореи и в течение 18 лет железной рукой
управлял страной. Он не забывал оказывать всяческую поддержку своему
бьющему адъютанту, так и не ставшему его зятем. При поддержке президента
страстный защитник птиц Вон Пьонг-0 смог, в частности, достичь того, что не
удалось в Северной Корее его отцу: распространенная более ста лет среди
корейских крестьян традиционная охота на птиц была запрещена в Южной
Корее, причём в значительной мере и по политическим мотивам — каждый,
кто имел оружие, считался северокорейским шпионом, поскольку
«южнокорейское население мирное, и никто из гражданских лиц оружия не носит»...
Жизнь сделала из Вона Пьонг-0 мыслящего политика. Как и в случае с его
отцом, средства массовой информации (в данном случае южнокорейские) ре-
183
шили, что история его жизни представляет интерес для общественности:
Сеульская ежедневная газета рассказывала о Пьонг-0 в 36 выпусках! Сам он
тоже написал две автобиографические книги для детей и юношества,
которые имели немалый успех.
Тот факт, что сын умершего в 1970 году в Пхеньяне профессора сделал
научную карьеру в Южной Корее, не ускользнул от внимания
северокорейских властей. Когда в конце 1980-х годов напряжённость в отношениях между
двумя странами несколько уменьшилась, это имело последствия и для Вона
Пьонг-О: он получил от северокорейского президента Ким Ир Сена
приглашение посетить Северную Корею! Хотя Вон Пьонг-0 резко отрицательно
относился к политической системе Северной Кореи, его тоска по родине,
возможность побывать на могилах родителей и встретиться с учениками и
последователями отца в Зоологическом институте были настолько велики,
что он всё же решил ехать. К сожалению, к этому моменту противостояние
двух стран набрало новые обороты, политический настрой Южной Кореи по
отношению к северу резко ухудшился, и южнокорейские власти поездку не
разрешили.
В августе 1994 года Вон Пьонг-0 ушёл на пенсию. Его ученики провожали
его торжественными речами, называя его создателем орнитологии в Южной
Корее. Вон Пьонг-0 подготовил множество учеников; благодаря его усилиям
орнитология Южной Кореи приобрела известность во всём мире.
Выйдя на пенсию, Вон Пьонг-0 вовсе не собирается отдыхать. Его дом в
Сеуле до отказа заполнен книгами, журналами и корреспонденцией. Тем не
менее, в нём всегда находится место для посетителей, особенно из-за
границы. Конечно, он последовал примеру своего отца и тоже опубликовал
монографию о птицах Кореи (1998).
В феврале 1999 года появилась первая возможность посетить закрытую до
сих пор от остального мира северную часть Кореи. Вон Пьонг-0 побывал в
туристической поездке в живописных горах Кымгансан на границе Северной
и Южной Кореи. Только с недавних пор «север» допускает такие
организованные визиты, и только под пристальным наблюдением. Эта поездка стала
для Вон Пьонг-0 большим переживанием, но он остался неудовлетворён
путешествием, так как ни контакты с северокорейскими коллегами, ни
посещение мест, где он родился и вырос, не были разрешены властями. В марте 2002
года в швейцарском журнале «Ornithologischer Beobachter» была
опубликована моя статья на немецком язьпсе о жизни и деятельности Вон Пьонг-0 и его
отца (Nowak, 2002b), что имело неожиданные последствия: в апреле — мае
2002 года немецкая делегация Бундестага проводила переговоры с
северокорейскими представителями парламента и правительства в Пхеньяне. Благо-
184
I
и a aa* ■ «»
Pwc. 48. Профессор Вон Пьонг-0 из Сеула перед портретом своего
отца в музее революции в Пхеньяне, 29 июня 2002 г.
даря посредничеству одного из членов делегации, который читал эту статью,
Вон Пьонг-0 получил новое официальное приглашение на двухнедельный
визит в Северную Корею (об этом даже сообщалось в газете «Korea Herald»
от 26.06.2002 г.). В конце июня — начале июля Вон Пьонг-0 снова побывал
в Северной Корее (рис. 48): по прошествии стольких лет он смог, наконец,
посетить могилы родителей, повидаться с родственниками, увидеть
основанный отцом Зоологический институт. Вместе с коллегами он
путешествовал на машине в интересные с точки зрения зоолога области севера (Nowak,
2003а). Во время путешествия его сопровождали скорбь, разочарование,
иногда отчаяние, но также надежда и радость. Были составлены планы
профессионального сотрудничества...
Незадолго до поездки Вон Пьонг-0 издал новую книгу: богато
иллюстрированную историю семьи Вон (Won, 2002). Теперь эта книга требует важного
дополнения — описания «поездки примирения» на север, планов
совместной работы с северокорейскими зоологами на будущее.
Будет ли действительно осуществлена эта кооперация? Уже много лет в
обоих корейских государства возникают инициативы к соглашению,
сближению и примирению, говорят даже о возможности мирного объединения. Но
до этого пока очень далеко. Снова и снова возникают ситуации, которые
разбивают все надежды. Тем не менее, когда-нибудь решение будет найдено. Как
оно будет осуществляться? Какие последствия будет иметь? Нужно ли
беспокоиться об участи современного поколения корейских натуралистов?
185
* * *
1960-й год я провёл во Вьетнаме. Это было короткое время
относительного мира между французской и американской войнами в этой стране. Моя
студенческая мечта осуществилась: знакомые помогли мне устроиться на
должность завхоза в составе польской делегации в Международной
комиссии по наблюдению и контролю во Вьетнаме (комиссия должна была
наблюдать за соблюдением мирных соглашений в разделённой стране после победы
вьетнамцев над французами при Дьен Бьен Фу в 1954 году). Сначала я
находился в Северном Вьетнаме, в Ханое, и здесь произошла моя первая
«встреча» с доктором Жаном Делакуром/Jean Delacour (1890-1985): у
уличного книготорговца в центре города я купил примерно за 5 американских
долларов великолепно изданный четырёхтомный труд «Птицы Французского
Индокитая» («Les Oiseaux de PIndochine Fran9aise»), который Делакур
опубликовал вместе с Пьером Жабуем в 1931 году к открытию Международной
колониальной выставки в Париже. Это было хорошим началом для
запланированной мной «побочной» работы во Вьетнаме (я намеревался собрать
коллекцию птиц). Тогда я, конечно, ещё не мог предполагать, что много лет
спустя мне представится случай лично сообщить Делакуру о моём
дипломатическом приключении и провале моей орнитологической миссии...
Но начну с рассказа о Делакуре. В ряду учёных, деятельности которых
препятствовали политические события и войны, его личность стоит несколько
особняком. В его судьбе были не только бегство и необходимость начинать всё
сначала, но и поразительные успехи и взлёты (Delacour, 1966; Dorst, 1986;
Kear, 1986; Мауг, 1986; Ripley, 1987 и «Avicultural Magazine» от 1988, Vol. 94,
№ 1-2.)
Делакур родился в Париже, в семье состоятельного промышленника.
Принадлежащие ему фабрики находились на севере страны, но Делакур
вырос в замке Вилер (Villers) около Амьена. Беззаботные детство и юность
способствовали развитию его естественнонаучных, художественных и
гуманистических интересов. Замок находился в окружении большого парка,
с причудливыми орхидеями и декоративными птицами. Щедрые
карманные деньги, которые Жан получал от матери, шли на строительство
вольеров, в которых он начал выращивать редких птиц. Обмен птицами с
другими заводчиками, покупки новых пар и расширение вольеров привели в
конце концов к тому, что рядом с замком возник большой зоопарк с
богатым набором европейских и экзотических птиц; кроме того, в коллекции
были представлены и некоторые другие животные. Учёба в Париже,
посещения столичного музея естествознания, который стал настоящей Меккой
186
для молодого студента, обучение в университете в Лилле,
самообразование и консультации с компетентными специалистами вскоре превратили
Делакура в профессионала, а его зоопарк («райский сад», как его называли)
приобрел широкую известность.
Когда в августе 1914 года началась Первая мировая война, Делакуру
пришлось впервые испытать лишения во время бегства от наступающих
немецких войск. Вскоре его призвали во французскую армию; пережитые во время
пребывания на фронте ужасы войны привели к полному изменению его
мироощущения, сложившегося в предыдущей период безоблачной и
счастливой жизни. Он решил никогда не обзаводиться семьёй, поскольку больше не
видел в этом смысла в век «трагикомического существования человечества,
мятежного разгула страстей и стихий, смятения, суеты и перенаселения», как
он писал позже в своих мемуарах. Когда он стал офицером связи с
британскими подразделениями, у него появилась возможность устранить ущерб,
нанесённый войной его зоопарку в Вил ере (в 1916-1917 годах в замке был
развёрнут штаб маршала Фердинанда Фоха, то есть служба Делакура в этот
период проходила «прямо на дому»). Но ещё до окончания войны и замок, и
парк вместе со всеми животными были уничтожены.
Восстановление их после войны было уже невозможно. Делакур уехал к
друзьям в Англию, чтобы там, вдали от родины, попытаться оправиться от
пережитого во время войны. Но вскоре он всё-таки возвращается во
Францию, чтобы продолжать делать то, чего всегда хотел, — содержать животных
и вести научно-исследовательскую работу. В Нормандии он купил замок Клер
(Cleres) с большим парком, в котором снова устроил зоопарк. В его
экспозиции были собраны несколько сотен редких и экзотических видов птиц,
причём некоторые из них жили на свободе, в открытых вольерах. Наряду с
множеством водоплавающих птиц здесь свободно существовали гиббоны, газели
и кенгуру. Зоопарк приобрёл такую известность, что 9-й Международный
орнитологический конгресс в 1938 году состоялся в близлежащем городе Руане,
чтобы орнитологи со всего мира имели возможность осмотреть созданный
Делакуром «рай на земле», как писал тогда один французский поэт. Делакур
был генеральным секретарём конгресса. К тому времени в его зоопарке
содержались почти 3 000 животных больше чем 500 видов. Это был «самый
замечательный частный зоопарк в мире» (Кеаг, 1986).
В 1922 году генерал-губернатор французской колонии в Индокитае
(современные Вьетнам, Камбоджа и Лаос) посетил зоопарк в Клере и пришёл в
такой восторг, что пригласил его владельца заняться исследованием фауны
дальнего французского владения. В течение 1923-1939 годов Делакур
организовал туда семь больших экспедиций (рис. 49). Все они были хорошо ос-
187
Рис. 49. Доктор Жан Делакур (в середине) с Пьером Жабу ем (справа от него) и
Еиллоуби П. Аоу (слева) и аннамскими помощниками в Хюэ> 1924 г.
нащены технически, не было недостатка в средствах и высокой поддержке; в
качестве подсобных рабочих было привлечено много местных жителей. В
'Общей сложности удалось собрать 30 000 тушек птиц и 8 000 тушек
млекопитающих. Были открыты несколько новых видов птиц, в частности
императорский фазан (Hierophasis imperialis), описаны несколько сотен новых
подвидов, а более половины всех видов птиц были впервые отмечены на
территории Индокитая! Таким образом, было ликвидировано ещё одно
«белое пятно» в зоогеографии. Делакур рассказывал друзьям бесчисленные
истории о своей работе в экспедициях, одну я хочу здесь пересказать (Quin-
que, 1988): в Аннаме он в первый раз увидел живого хохлатого аргуса (Rhei-
nardia ocellata), которым до тех пор мог любоваться лишь в музеях. Он
обещал своим аннамским помощникам большую денежную сумму, если они
смогут поймать редкую птицу для его зоопарка. Через 10 дней безуспешных
попыток он удвоил вознаграждение, после чего две птицы были пойманы;
вскоре после этого ещё 5 и позже ещё 10! Это принудило его немедленно
снимать лагерь экспедиции, прежде чем находящиеся в его распоряжении
средства будут полностью исчерпаны...
Во время последней экспедиции Делакура в Юго-Восточную Азию в его
замке Клер случился пожар. Делакур поспешил домой, но ещё прежде, чем он
188
смог устранить убытки, произошла ещё большая трагедия. В мае 1940 года
немецкие войска атаковали Францию, а 7 июня 1940 года замок и зоопарк
подверглись бомбардировке военной авиации! Погибли четыре человека,
многие птицы и млекопитающие, одна из лучших орнитологических
библиотек мира; множество других научных материалов и личных вещей стали
жертвами огня. Начались хаос и паника. Спешное и утомительное бегство по
дорогам, запруженным бельгийцами и французами, спасло Делакуру жизнь
(Delacour, 1941). После разгрома Франции беглец узнал, что немецкие
офицеры устроили охоту на дичь в нетронутой бомбами части зоопарка, причём
самый увлекательный аттракцион состоял в охоте на гиббонов с собаками.
Между тем, об участи зоопарка стало известно Штреземанну, поклоннику и
другу Делакура (с 1937 года Делакур был почётным членом Немецкого
орнитологического общества), ив 1941 году он начал хлопотать перед
командованием вермахта о спасении уцелевших животных и сохранившихся
сооружений (Haffer, 1997: 522; Haffer et al., 2000: 98). Старания Штреземанна
принесли некоторый успех.
Сам Делакур из оккупированной части Франции выбрался в Виши, откуда
он продолжил бегство: через Касабланку, Рабат, Танжер и Лиссабон к
рождеству 1940 года он достиг Нью-Йорка. Делакур был широко известен в
научном мире, его заслуги высоко ценились. Американские коллеги нашли ему
место работы в зоопарке Бронкса и в Музее естественной истории в Нью-
Йорке (когда я в 1974 году был в этом музее, то увидел, что на одной из
дверей этого лучшего музейного помещения в мире всё ещё висит табличка с
именем Делакура). Америка не была Делакуру чужой, раньше он уже
несколько раз бывал там, его научная интеграция в новую среду произошла
быстро и без проблем. Он создал здесь несколько фундаментальных трудов:
«Птицы Малайзии», «Птицы Филиппин» (вместе с Э. Майром), а также
монографии о фазанах мира, голубях мира и водоплавающих птицах мира
(вместе с П. Скоттом), а также монографию о гокко и родственных ему видах.
Только одно в Америке было необычно для него: первый раз в жизни
Делакур работал «по найму», он должен был зарабатывать деньги на жизнь...
Когда война в Европе закончилась, Делакур остался в США, но с 1946 года
он каждый год бывал во Франции. Как только Делакур снова смог
распоряжаться своим банковским счётом в Европе, он приступил к восстановлению
зоопарка в Клере. В мае 1947 года зоопарк был открыт. В торжестве по
случаю открытия зоопарка принимал участие даже премьер-министр Франции.
Позже Делакур передал зоопарк в дар французской нации. «Для
послевоенного поколения французских орнитологов личность Делакура была овеяна
мифами», — писал профессор Жан Дорст (Dorst, 1986).
189
Рис. 50. Жан Аелакур со своей матерью 6
Нью-Йорке, 1950 г.
v
4 >
V
Между тем, Делакур продолжил карьеру в Калифорнии. В 1952-1960 годах
он был директором Государственного музея истории, науки и искусства в Лос-
Анджелесе. После ухода на пенсию он использовал время для новых
многочисленных путешествий и деятельности по международной охране природы.
Его друзья рассказывают, что он до конца жизни сохранял феноменальную
память и ясность мысли, философскую невозмутимость и юмор. Его богатый
жизненный опыт сделал его фаталистом: свою автобиографию он
заканчивает предположением, что «развитие человечества рано или поздно приведёт
к полному уничтожению жизни на Земле»; тем не менее, сам он благодарит
судьбу, которая вопреки всем превратностям дала ему возможность
наслаждаться жизнью.
В июне 1978 года Делакур участвовал в 17-м Международном
орнитологическом конгрессе в Берлине. Ему было уже 88 лет, но он был ещё очень
жизнерадостен, всегда окружён друзьями, знакомыми и почитателями, охотно
и открыто общался с каждым, кому удавалось пробиться к нему. Он бывал в
Берлине в далёком прошлом и спрашивал одного из моих коллег о том,
существует ли ещё руины отеля «Адлон», где он любил останавливаться в
«старое доброе время». Я спросил его, интересует ли его ещё Вьетнам. Его глаза
засветились: «Да, конечно, но всё это уже очень далекое прошлое». Он
сказал, что некоторое время назад написал, тем не менее, предисловие для новой
книги Филиппа Уилдаша о птицах Южного Вьетнама (1968) и спросил, видел
ли я её? Этой книги я не видел, но вскоре разговор зашёл о тех местах, кото-
190
рые мы оба посетили: Ханой, Там-Дао, Ша-Па, залив Халонг, Хюэ, Сайгон...
Там-Дао — высокогорное плато с почти европейским климатом, недалеко
от Ханоя, где были расположены виллы высших французских колониальных
чиновников. Делакур коллектировал там птиц в 1925 году. Я вынужден был
сообщить ему, что все эти роскошные здания были взорваны партизанами
Вьет-Миня ещё в начале 1950-х годов. Теперь там стояли лишь неказистые
деревянные постройки, в которых отдыхали вьетнамские функционеры и их
семьи и дипломаты из дружественных стран, поэтому там запретили охоту. В
Ша-Па, сказочном горном массиве у китайской границы, Делакур за бесценок
скупал редчайших птиц у искусных охотников племени Мео (или Хмонг),
которые жили высоко в горах и хорошо знали всех эндемиков этой местности.
Я тоже побывал там, но вьетнамский представитель службы безопасности,
сопровождавший меня, запретил любые контакты с Мео, поскольку они
симпатизировали французам и представляли потенциальную угрозу безопасности
(корзинка встреченной на краю поселения женщины из племени Мео была
основательно досмотрена). Делакура порадовало моё сообщение о ночных
наблюдениях за бурым рыбным филином (Ketupa zeylonensis) на берегу
Красной реки в Ханое, куда меня провожал бывший солдат немецкой армии. (В
1944 году он был взят в плен французами, но из-за голода бежал из лагеря и
вступил в иностранный легион, однако после первого же боя с вьетнамцами
Вьет-Миня решил спасти свою жизнь и дезертировал снова, на этот раз
перейдя на сторону коммунистов). Я рассказывал Делакуру и о моём аресте се-
веро-вьетнамской полицией. Это произошло, когда я наблюдал с моим
большим биноклем птиц на окраине Ханоя (оказалось, что в ближайшем
кукурузном поле были скрыты посты противовоздушной обороны; к счастью,
мой дипломатический статус способствовал быстрому освобождению). Я
сообщил также о моём посещении профессора Дао Ван Тиня, заведующего
кафедрой зоологии в университете Ханоя. Он был териологом, но
интересовался также орнитологией. На кафедре была скромная коллекция птиц,
ассистент кафедры проводил орнитологические исследования в местности
Хоа-Бинь к востоку от Ханоя, где было открыто несколько новых подвидов
птиц. Но большая педагогическая нагрузка и неудовлетворительное
техническое и материальное оснащение не давали ему возможности продолжать
запланированные работы на этой территории. Дао Ван Тинь получил диплом
ещё во французское время и в 1960-х и 1970-х годах неоднократно
публиковался в престижных научных журналах в ГДР; тем не менее, у меня
сложилось впечатление, что новая политическая система не была ему по душе.
Для Делакура коммунизм был незнакомым явлением, и он интересовался
особенностями политического строя и масштабами диктатуры на севере Вьет-
191
нама. Для меня это был трудный вопрос. Я сказал ему, что в начале сентября
1960 года мне представился редкий случай лично говорить с Хо Ши Мином
и что он производил впечатление умного, осмотрительного и даже
добродушного государственного деятеля и руководителя партии. Но уровень
политического контроля за населением всё же довольно высок. Подавление или,
лучше сказать, тоталитарная опека населения охватывает все стороны жизни
и осуществляется совершенно «по-азиатски». Я пытался пояснить это
примерами. Так, в Ханое я был дружен с молодым вьетнамцем, который учился
полиграфии в Лейпциге и на родине работал в типографии. Однажды
разговор у нас зашёл о политике. Когда мы заговорили о свободе, он сказал мне, что
знает, что такое свобода, поскольку два года жил в ГДР...
Делакур спрашивал также, как обстоят дела на юге Вьетнама, в Сайгоне
(сегодня Хошимин).-Тут я не преминул рассказать историю о
таинственном исчезновении моих паутинных сетей для отлова птиц в посёлке на
окраине города, где были забронированы виллы для нашей комиссии.
Вечером я установил сети между деревьями и кустами, и хотя вся территория
охранялась южно-вьетнамской армейской полицией, рано утром их на
месте не оказалось. «Что за сети?», — удивлённо спросил полицейский.
Делакур предположил, чтЪ ЦРУ, вероятно, посчитало мои ловчие
приспособления антенной для подслушивающего устройства... Он и сам пережил
большое число подобных приключений во время своих многочисленных
экспедиций (в том числе и за пределами Индокитая). В конце нашего раз-
г- говора я рассказал ему о том, как потерпел во Вьетнаме полное крушение
своих замыслов коллекционера: однажды мои знакомые в Ханое пос4али
мне двух великолепных красноклювых зимородков (Halcyon smyrnensis) в
мой отель «Хоа-Бинь» (что переводится как «Мир») с тем, чтобы я
изготовил из них тушки на службу науке. Однако, они были ощипаны
кулинарным персоналом прежде, чем я успел вернуться домой — вечером шеф-
повар спросил меня, в каком виде подать этих жирных птиц —
поджаренных или варёных! Делакур очень смеялся и сказал, что всё же
хорошо, что он скоро возвращается в Калифорнию...
Вскоре после этого разговора я приобрёл книгу Уилдаша. Только две
страницы этого сочинения оказались действительно хороши: предисловие! В нём
Делакур пишет о том, как восхитительна фауна птиц региона и коротко
характеризует результаты своей многолетней работы в нём. Предисловие
заканчивается так: «Я желаю, чтобы другие после меня продолжали
исследование птиц Индокитая».
Эта книга вышла в свет в 1968 году и была адресована прежде всего
американским солдатам — в это время почти полмиллиона молодых американ-
192
Рис. 51. Аоктор А.С. Степанян (в переднем ряду слева) и профессор Во Ки с
помощниками и представителями племени ба-на на плато Тайнгуен в южной
части Вьетнама, январь 1980 г.
цев были расквартированы в Южном Вьетнаме: там снова шла война! Как ни
парадоксально, но пожелание Делакура исполнилось только после второй
победы коммунистов Вьетнама, на сей раз над американцами. Начиная с 1978
года (это как раз год моей встречи с Делакуром) советская Академия наук
направляла во Вьетнам научные экспедиции; даже китайско-вьетнамская война
1979 года не прервала их. Мой московский друг, орнитолог, доктор Лео Су-
ренович Степанян (1931-2003) до 1990 года успел принять участие в 11 из
этих экспедиций (рис. 51); он работал вместе с вьетнамскими коллегами (см.
его книгу «Птицы Вьетнама», М., 1995).
В Московском университете у профессора Дементьева (ср. стр. 350-356)
стажировался вьетнамский студент Во Кви. Он возвратился на родину, когда
война там ещё была в разгаре. Позже он опубликовал составленный им на
вьетнамском языке двухтомный обзор птиц страны (Vo Quy, 1975,1982), стал
профессором и продолжает заниматься орнитологией. Весьма необычный
вклад в орнитологию Вьетнама внесли американцы: на одном из вечерних
мероприятий на 18-м Международном орнитологическом конгрессе в Москве
в 1982 году они показали фильм, целиком посвященный индейке —
пернатому выходцу из Нового Света с поистине всемирной известностью. Ко все-
193
общему удивлению, фильм был посвящен вовсе не биологии этой достойной
птицы, а её кулинарной карьере, и нескончаемый ряд кадров
демонстрировал, с каким аппетитом её потребляли американские солдаты во Вьетнаме...
Определённо, индюк был вкусен, однако зрелище отличалось редким
безвкусием!
Характеризуя личность Делакура нужно, очевидно, добавить, что он
принадлежал к числу самых обеспеченных орнитологов мира; лишь в годы войны
он был относительно (и кратковременно) ограничен в средствах. Один из его
друзей так писал об этом (Goodwin, 1988): «Большинство состоятельных
людей, кажется, получают немного радости от своего богатства и извлекают
из него мало пользы. Делакур же использовал деньги для развития своих
бесспорных талантов, для того, чтобы передавать свои огромные знания и
доставлять радость другим».
В заключение обратим взгляд на современное положение вещей. В
настоящее время в Индокитае — регионе с поистине «ослепительной фауной
птиц», как писал Делакур, воцарился мир. Американские бомбы и яды
причинили огромный ущерб ландшафтам и фауне региона, не говоря уже о
бесчисленных трагедиях людей. Но, тем не менее, разнообразие фауны птиц, по-
видимому, не понесло невосполнимых утрат — по крайней мере, не исчез ни
один из эндемичных видов. Орнитологи снова активизировались: в 1995 году
ханойский орнитолог Во Кви вместе со своим учеником Нгуен Кы
опубликовал список птиц Вьетнама («Cheklist of the Birds of Vietnam»). Всемирная
организация по охране птиц (BirdLife International) посылала во Вьетнам
экспертов по биоразнообразию, туда снова ездят орнитологи из Германии,
следуя за коллегами из ГДР, которые работали в Северном Вьетнаме уже в 1960-
е годы. Во Вьетнаме ещё находят новые виды: недавно обнаружено два новых
для науки вида крупных млекопитающих! На базе Совместного Российско-
Вьетнамского Тропического центра во Вьетнаме продолжает работать
большая российская зоологическая экспедиция с участием орнитологов из
Московского государственного университета Л.П. Корзуна, М.В. Калякина и
других. С одним из них, Михаилом Калякиным, я познакомился несколько
лет назад. Он рассказал мне много нового и интересного о Вьетнаме. Для
продолжения его успешной работы по изучению птиц Вьетнама я подарил ему 4
тома «Птиц Французского Индокитая» Делакура, приобретённых мною когда-
то в Ханое...
194
* * *
В конце этой главы мы обратимся к жизни и деятельности ещё одного
биолога — поляка, для которого конечным пунктом бегства от войны стала Новая
Зеландия. Это профессор Казимеж из Гранова Водзицкий/Kazimierz z
Granowa Wodzicki (1900-1987). Он получил диплом в Кракове, занимался
сравнительной анатомией, перед войной был одним из инициаторов движения
за охрану природы в Польше и считается пионером в исследованиях
вопросов ориентации птиц. Ему пришлось побывать дипломатом на далёких
островах Антиподов, и в течении долгого времени его основной профессией стало
участие в судьбах беженцев. Когда смолк грохот орудий и в мире воцарилось
относительное спокойствие, он вновь вернулся к научной работе и приобрёл
широкую известность как исследователь фауны Новой Зеландии (Nowak,
2004).
Род Водзицких происходил из южной Польши и в XVII веке получил
дворянское звание («из Гранова»). После третьего раздела Польши потомки рода
получили также наследственный графский титул в Австро-Венгерской
империи. В XIX веке в Галиции (части Польши, аннексированной
Австро-Венгрией) работал хорошо известный в то время в Европе орнитолог граф
Казимеж Водзицкий, происходящий из этой семьи (Gebhardt, 1964: 387; Feliksiak,
Рис. 52. Доктор Казимеж Водзицкий из
Кракова, около 1925 г.
195
1987: 582-583). Он приобрёл крупные латифундии в Подолии и поселился
там (ныне это Западная Украина), где через год после его смерти родился
внук, также названный Казимежом; частью его фамилии стал старо-польский
дворянский титул «из Гранова».
Водзицкий провёл детство и юность в фамильном имении в Подолии,
воспоминания об этой счастливой и безоблачной поре согревали его на
протяжении всей жизни. Учёба в гимназии проходила в Кракове и Львове, затем
он поступил в Ягеллонский университете в Кракове (рис. 52). Его научный
руководитель, профессор Генрик Гойер, известный специалист в области
сравнительной анатомии, увлёк Водзицкого своей наукой, и он решил защищать
кандидатскую и докторскую диссертации по этому предмету. Наряду с
исследованиями в области сравнительной анатомии, Водзицкий начал в начале
1930-х годов публиковать работы по орнитологии и охране природы, то есть
последовал примеру своего деда. В 1930 году Казимеж Водзицкий стал
доцентом в Кракове, в 1934 году — в Позене, а в 1935 году — профессором в
Варшаве. Заслуживает внимания замечательная общественная деятельность
учёного-дворянина, которому были совершенно чужды классовые и
национальные предрассудки. Хотя он был верующим католиком, его отличала
религиозная терпимость. С равным вдохновением он мог вести беседы в
дворянских салонах и в польско-еврейском студенческом союзе, заседания
которого он вёл. Одним из ассистентов Водзицкого на кафедре в Варшаве был
Хельмут Лихе, немец, живущий в Польше. Он был сыном шахтёра из
Верхней Силезии и учился в Кракове. По-видимому, после начала войны он помог
бежать из оккупированной Польши жене Водзицкого с детьми.
Ещё будучи ассистентом в Кракове, Водзицкий сумел наладить
многочисленные международные научные связи. Он побывал в научных
командировках в Австрии, Чехословакии, Германии и Англии (он был полиглотом,
владел немецким, французским, английским и русским языками). В 1937 году
он стал председателями Польской секции Международного совета по охране
птиц, в том же году посетил симпозиум на орнитологической станции Рос-
ситтен на Куршской косе. В мае 1938 года он блестяще выступил с двумя
докладами на 9-м Международном орнитологическом конгрессе в Руане.
Доклады были посвящены экологии белого аиста в южной Польше и
экспериментам по изучению ориентации птиц. Последняя тема особенно
заинтересовывала участников конгресса и привела к установлению новых
научных контактов.
В 1939 году блестяще начатую карьеру профессора Водзицкого прервала
Вторая мировая война. Быстрое продвижение немецких войск застало
Водзицкого в Варшаве, а его жену — в местечке Рабка под Краковым. Ей удалось
196
найти такси, и она бежала с двумя маленькими детьми и экономкой. Через
несколько дней они уже были у родителей Казимежа в Подолии. Водзицкому
тоже удалось вовремя покинуть Варшаву и добраться до имения своего отца,
но надежда переждать угрозу в захолустье юго-восточной Польши не
осуществилась: уже во второй половине сентября эту область заняла Красная
Армия! Профессор Водзицкий и его отец были схвачены немедленно после
вступления войск; 79-летний землевладелец был отправлен в Сибирь, сына,
однако, отпустили.
Остатки большой семьи двинулись во Львов, где нашли пристанище у
родственников. Тем не менее, здесь Водзицкий и его жена решили вместе с
детьми и экономкой нелегально перейти так называемую «линию немецко-
советских интересов» и бежать в оккупированную немцами часть Польши.
Это рискованное предприятие удалось, и вскоре они нашли пристанище и
защиту у родственной семьи Дзедушицких за новой границей (см. стр. 116-
128); отсюда они двинулись обратно в Рабку.
Из Рабки профессор Водзицкий отправился «на разведку» в Краков, где
(как он отметил в своей автобиографии) «как и все [научные] сотрудники
Ягеллонского университета, был арестован и отправлен в концентрационный
лагерь около Берлина» (речь идет о так называемой «особой акции Краков»,
проведённой Гестапо и СС 6 ноября 1939 года — см. стр. 241-243). Далее в
автобиографии он пишет: «Чуть ли не ежедневно трупы некоторых более
пожилых профессоров увозили [в Краков], этот факт подтолкнул меня
предпринять усилия для получения разрешения на выезд из Польши».
Осуществить это желание было практически невозможно. Но Водзицкому
всё же удалось превратить его в реальность: высокопоставленные
итальянские орнитологи из дворян Италии уже в начале 1940 года организовали
поездку польского коллеги «для орнитологического доклада» в Будапешт. Из
Будапешта Водзицкий больше не вернулся в Польшу, он уехал в Турин. Хотя
Италия была союзницей Германии, здесь он мог участвовать в политической
деятельности. В частности, он незамедлительно сообщил Польскому
эмигрантскому правительству во Франции о репрессиях немцев в отношении
учёных Кракова и получил поручение отправиться в Рим, чтобы искать помощь
для арестованных. Он нашёл доступ к итальянскому королевскому дому, был
принят послом США и папой Пием XII. Его сообщения были опубликованы
в свободной прессе, вызвали официальные протесты против действий немцев
и способствовали освобождению большинства арестованных (см. также Sey-
farth, Pierzchala, 1992).
В начале 1940 года Водзицкий отправился во Францию, где Польское
эмигрантское правительство поручило ему (согласно автобиографии) «оказывать
197
поддержку польским учёным, оказавшимся заграницей в начале войны».
Теперь он снова осуществил невероятное: благодаря помощи
друзей-дипломатов (снова итальянцев?) его жена с детьми и экономкой смогла выбраться из
оккупированной Польши и приехать во Францию!
Имеются документы, свидетельствующие о том, что для осуществления
побега она нашла поддержку и в Польше, а именно со стороны «старого
коллеги, который был немецкого происхождения» (видимо, как раз это и был
ассистент Водзицкого, Хельмут Лихе). Последние трудности она преодолела с
помощью «подкупа одного из служащих Гестапо килограммом кофе».
Пребывание семьи во Франции продолжалось недолго, поскольку ещё до
оккупации страны немецкими войсками в мае — июне 1940 года все члены
эмигрантского правительства вместе с семьями были эвакуированы в Англию.
Здесь профессор Водзицкий продолжал работать для польского
правительства, кроме того, он получил стипендию Британского Совета, что позволило
ему продолжить научную работу в сотрудничестве с сэром Джоном
Хаммондом в Кембридже и Чарльзом Элтоном в Оксфорде. В Лондоне, где он жил, он
работал в Британском музее.
Но и пребывание профессора в Англии также продлилось недолго. В конце
1940 года Польское эмигрантское правительство решило открыть польское
консульство в Веллингтоне, в Новой Зеландии, и Казимеж Водзицкий был
назначен генеральным консулом. В Веллингтон он прибыл вместе с семьей 24
апреля 1941 года. Через несколько месяцев Мария Водзицкая была назначена
представителем Польского Красного креста.
Главной задачей консульства и Красного креста было получение
официальных разрешений на проживание польских беженцев в различных
свободных странах мира. Вскоре генеральный консул установил также тесные
контакты с естественнонаучным музеем в Веллингтоне. В выходные дни он
вместе с зоологом сэром Чарльзом Флемингом занимался изучением экологии
северной олуши (Sula bussana serrator). Но в 1942 году положение земляков
Водзицкого сильно осложнилось: вся эмиграционная польская армия,
сформированная в Советском Союзе генералом Владиславом Андерсом, вместе с
гражданскими лицами перешла в Персию (теперь Иран) и вошла в
подчинение британского командования. Участниками этого «великого переселения
народов» были почти 115 000 людей (в том числе 25 000 гражданских лиц).
Среди них были не только бывшие польские военнопленные, но и
переселенцы из восточной Польши, перевезённые в 1939 и 1940 годах вглубь
Советский Союза из областей, занятых Красной Армией. Из Персии солдаты
двигались через Ближний Восток на североафриканский и
западноевропейский фронты (по пути, в Палестине, дезертировал один унтер-офицер, по-
198
зднее ставший премьер-министром Израиля — Менахем Бегин).
Гражданские лица остались в Персии. Для генерального консула и его жены настало
время напряжённой работы, поскольку они должны были находить новые
пристанища для лишившихся отечества людей. Дипломатическим путём
удалось достичь ряда соглашений с правительствами различных государств о
поселении там беженцев. Но, пожалуй, наиболее трудным в этом отношении
оказалось положение в самой Новой Зеландии. С начала колонизации
островов здесь доминировали англичане, они были против вселения на острова
даже шотландцев и уэльсцев, не говоря уже о других иностранцах. В колонии,
а затем и в доминионе, господствовали англиканские настроения и сильные
предубеждения против всего католического. Но весной 1943 года госпоже
Водзицкой удалось достичь сенсационного успеха — она убедила Петера
Фрезера, премьер-министра Новой Зеландии, пригласить в страну 740
польских детей, преимущественно сирот. Впоследствии они стали основателями
целой когорты новозеландцев польского происхождения, весьма
многочисленных в наше время.
Но вернёмся к судьбе самого профессора Водзицкого. В 1946 году польское
консульство закрылось, так как союзные державы признали новое народно-
демократическое правительство, уже пришедшее к власти в Польше. Вод-
зицкий не хотел возвращаться на советизированную родину, кроме того, как
функционер «реакционного» эмиграционного правительства, он лишился
польского гражданства. Безработный дипломат-эмигрант и учёный без места
работы опубликовал несколько исследований о новозеландских птицах.
Британский орнитологический союз уже в 1944 году выбрал его
членом-корреспондентом, его связывали дружеские отношения с местными учёными,
премьер-министр британского доминиона также проявлял заботу о нём:
Водзицкий получил место работы в Государственном институте научных и
индустриальных исследований в Веллингтоне. Сначала он получил задание
составить сводку о неавтохтонных, то есть завезённых в Новую Зеландию
видах млекопитающих и об их влиянии на окружающую среду и экономику.
Результаты был опубликованы в 1950 году в виде книги «Интродуцирован-
ные млекопитающие Новой Зеландии: экологические и экономические
последствия». В этой работе впервые дана всесторонняя оценка убытков,
нанесённых стране легкомысленно ввезёнными видами животных из Европы и
Австралии, повредивших, в частности, сельскому хозяйству.
Вскоре после выхода книги Казимеж Водзицкий был назначен
руководителем вновь основанной секции экологии института, главной тематикой
которой была проблема чужеродных видов в стране и предотвращения их
вредных воздействий. Первыми темами исследований были разработки новых
199
Рис. 53. «Киви» — профессор Казимеж Вод-
зицкий из Новой Зеландии, 1974 г.
методов борьбы с европейскими кроликами и некоторыми другими видами.
Кроме того, занимались проблемами охраны природы. На острове Кавау Вод-
зицкий обнаружил мелкий вид кенгуру — валлаби {Macropus parma\
которого завезли на остров ещё в XIX столетии из Австралии. В стране
происхождения этот вид считался давно вымершим. Вопреки сопротивлению
местных фермеров, маленькая популяция была поставлена под охрану. За
свои научные заслуги Казимеж Водзицкий был принят в 1962 году в члены
Королевского научного общества Новой Зеландии.
После того, как британский доминион в 1947 году достиг государственной
самостоятельности, Водзицкий стал гражданином Новой Зеландии. Тем не
менее, тоска по родине не угасала: он переписывался со многими польскими
учёными, в середине 1960-х и 1970-х годов посещал Польшу. В Кракове
Водзицкий жил у Влодзимежа Пухальского, который до войны был его
ассистентом, а теперь стал известным фотографом животных, автором фильмов о
природе и писателем. В Варшаве Водзицкий посетил своё прежнее место
работы. Везде, где он появлялся, его осаждали бывшие коллеги (мне удалось
лишь попросить его о критической оценке рукописи моей работы о диком
кролике в Польше). Водзицкий пытался выяснить судьбу своего ассистента
Хельмута Лихе, но ему не удалось ничего узнать (по-видимому, он был
призван на службу в Вермахт и погиб). Водзицкий стал почётным иностранным
членом Польского Зоологического общества.
200
В Новой Зеландии Казимеж Водзицкий жил так, как будто бы он всё ещё
был генеральным консулом Польши: наряду с научной деятельностью он
беспрестанно помогал польским иммигрантам, консультировал их, во всех
сложных случаях обращался в органы власти. В частности, он заботился об
образовании молодого поколения: он часто уговаривал молодых людей получать
высшее образование. Это относилось, конечно, и к собственным детям — его
сын стал профессором в США, дочь — профессором в Австралии, а потом в
Индонезии.
В 1965 году Водзицкий ушёл на пенсию, но это никоим образом не
означало отставку. Как частный учёный он обратился к темам, которые
интересовали его лично. В 1972 году он был приглашён университетом Виктории в
Веллингтоне в качестве внештатного профессора на кафедру зоологии. Здесь
снова развернулись его оценённые ещё в Польше преподавательские
способности: множество студентов посещали его лекции, он часто бывал с ними на
экскурсиях, руководил аспирантами. На факультете он создал тёплую
непринуждённую атмосферу, его называли «доктор Вод» или просто «Казио». Один
из друзей Водзицкого написал, что «для него никто не стоял на общественной
лестнице слишком высоко или слишком низко». Университет присвоил ему в
1970 году почётную степень доктора наук. Английская королева наградила
его в 1976 году высшим орденом Британской империи и присвоила ему титул
«офицер Британской империи» («Officer of the British Empire», OBE). Он
часто бывал за границей, в 1984 году в последний раз несколько недель
провёл в Польше.
Но душа профессора Водзицкого не знала покоя и до конца его жизни
оставалась разорванной на две половины. Хотя в Новой Зеландии ему удалось
полностью реализоваться профессионально, его не покидала тоска по родине.
Правда, последнее посещение Польши, ещё социалистической, несколько
уменьшило его ностальгию и усилило отчужденность. Рассерженный
проблемами с желудком, вызванными социалистическими ресторанами, он
сказал своему другу после посадки в Новой Зеландии (рис. 53): «Теперь это моя
родина, я — киви!» (Так называют граждан Новой Зеландии на английском
жаргоне).
Профессор Казимеж Водзицкий из Гранова умер в Веллингтоне в 1987
году. На большую траурную мессу в костёле Святого Иоахима прибыл даже
англиканский священник. Друг Водзицкого, сэр Чарльз Флеминг, сказал у
гроба: «Он учил нас жить в двух культурах». Редко случается, что
колонизаторы с Альбиона говорят подобным образом о чужих иммигрантах...
Профессору Водзицкому удалось — как едва ли кому-то ещё —
организовать не только свой побег, но и жены и детей; ему удалось на чужбине не
201
только провести свою собственную жизнь в элитарном обществе, но и иметь
там влияние. Это осуществилось не только благодаря его разносторонним
талантам и трудолюбию, но также и счастливо сложившимся обстоятельствам.
Другим членам семьи не так повезло: отец Водзицкого (вместе с которым его
арестовали в 1939 году) умер в 1941 году в возрасте 81 года где-то в Сибири.
Его мать и сестра с маленьким ребёнком оставались в Львове, где Водзицкий
в последний раз попрощался с ними в 1939 году. В холодном феврале 1940
года их выслали в Сибирь; они выжили, и оттуда им удалось выбраться с
обозом армии Андерса в Персию. Но здесь их ждал удар судьбы — ребёнок умер
во время эпидемии. Мать Водзицкого уехала в Англию, сестру судьба занесла
в Бразилию. В легендарном семейном гнезде в Подолии был основан скудный
колхоз.
Но все-таки, если взглянуть на семейную хронику Водзицких с точки
зрения исторической перспективы, то можно сказать, что она обрела хороший
конец: внук профессора Водзицкого, Михал, который имеет паспорта Новой
Зеландии, США и Польши, недавно женился в Польше и поселился в стране
своих предков...
Глава 4. Жизнь и наука в мире,
полном опасностей
Эпоха авторитаризма, диктатур и войн воздвигала перед учёными
неисчислимые препятствия и самым драматическим образом повлияла на судьбы
многих из них. С одной стороны, резко ужесточались условия научной
работы вплоть до полной её невозможности, с другой — возникало
сильнейшее идеологическое давление, в ответ на которое одним учёным
приходилось приспосабливаться, а другим и вовсе «перевоспитываться».
Национал-социалистические и коммунистические режимы прошедшего
столетия породили три глубоко идеологизированных и политизированных
течения, ставших неотъемлемой частью общественной и культурной жизни
целого поколения. Речь идёт о «новой советской генетике», немецком
«национал-социалистическом учении о расах» и китайской «культурной
революции». Существовало, конечно, и множество других обусловленных
идеологией обстоятельств, осложнявших жизнь учёных в то время. В этой главе
я хочу рассказать о некоторых из них, которым довелось испытать их в
полной мере.
* * *
В Германии в течение двадцати лет работал выдающийся русский генетик
Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский (1900-1981). Орнитология
лежала на периферии широчайшей области его научных интересов.
Основные же темы исследований Тимофеева- Ресовского касались главным
образом радиобиологии (мутационный процесс), популяционной генетики и
эволюции. С 1940 по 1945 год он состоял членом Немецкого орнитологического
общества.
Ещё в середине 1950-х годов, когда я был студентом в Берлине, Штрезе-
манн обратил моё внимание на публикацию Тимофеева-Ресовского 1940 года
о расширении ареала дубровника (Emberiza aureola) в Восточной Европе. Я
спросил его тогда об авторе этой работы. Штреземанн хорошо знал
Тимофеева-Ресовского и сделал мне о нём целый доклад, не поскупившись на
самые высокие оценки. Его рассказ закончился фразой: «После войны он
пропал без вести где-то в России...»; только много позже он узнал, что
Тимофеев-Ресовский жив и находится в советских лагерях.
Спустя много лет после разговора со Штреземанном я познакомился с
профессором А.В. Яблоковым из Москвы, одарённым биологом моего
поколения, которому довелось быть учеником Тимофеева-Ресовского.
203
Рассказы Яблокова произвели на меня ещё более глубокое впечатление,
нежели информация, полученная от Штреземанна. Прежде всего, Яблоков
порекомендовал мне прочитать роман советского писателя Даниила Гранина о
Тимофееве-Ресовском, который приобрёл мировую известность (два издания
этой превосходной книги на немецком языке вышли в 1988 году на востоке и
на западе Германии!). Ныне о Тимофееве-Ресовском написано много.
А.И. Солженицын оказался сокамерником опального генетика в Бутырской
тюрьме и рассказал о встречах с ним в книге «Архипелаг ГУЛАГ» (1974), друзья
Тимофеева-Ресовского из Германии оставили о нём свои воспоминания (в том
числе Eichler, 1982; Stubbe, 1988). Найдены новые документы в архивах и новые
факты из его жизни (Deichmann [1992], 1995; Salzinger, Vogt, 2001; Шноль, 2001).
Один из учеников Тимофеева-Ресовского, известный биолог, профессор Н.Н.
Воронцов (1993) собрал воспоминания разных людей о своем учителе и
опубликовал на их основе объёмистую книгу; о Тимофееве-Ресовском написали
американцы (Paul, Krimbas, 1992). Опубликована и книга мемуаров
Тимофеева-Ресовского («Истории, рассказанные им самим...», 2000); основой её стали
магнитофонные записи И.Д. Дувакина и М.В. Радзишевской, которые в течение
пяти лет (1974-1978 гг.) ездили к Николаю Владимировичу в Обнинск и
записывали его рассказы. Изданы материалы судебного процесса над Тимофеевым-
Ресовским (Гончаров, Нехотин, 2000; Рокитянский и др., 2003), а также
документы немецкой службы государственной безопасности — «штази» (HoGfeld,
2001). В архиве Академии «Леопольдина» в Галле, членом которой был Тимо-
4>еев-Ресовский, мне позволили ознакомиться с его личным делом.
Судьба Тимофеева-Ресовского самым тесным образом переплетена с ходом
новейшей европейской истории.
Когда в 1924 году умер Ленин, советским правительством в Москву был
приглашён известный исследователь мозга, профессор Оскар Фогт из
Германии для того, чтобы провести цитологическое исследование мозга
революционера (учёный изготовил тогда около 30 000 гистологических
препаратов тканей мозга, которые и поныне хранятся в Москве в подземном
помещении мавзолея Ленина величиной примерно 3 000 м2 на Красной
площади у Кремлёвской стены; мавзолей до сих пор охраняется часовыми). Фогт
обнаружил в мозгу Ленина гипертрофированное развитие коры и
интерпретировал этот факт как причину высокой социальной активности. В период
своей работы в Москве профессор Фогт, к которому советское руководство
относилось с большим почтением, просил рекомендовать ему кого-нибудь
из молодых русских генетиков для работы в Германии. Дело в том, что
помимо исследований мозга, Фогт занимался также шмелями и искал учёного,
который смог бы начать генетические исследования этой группы насекомых
204
в его институте в Берлине. Русский коллега Фогта, профессор Н.К. Кольцов,
знаменитый генетик, рекомендовал ему своего ученика, молодого и
талантливого Тимофеева-Ресовского, потомка калужских дворян и донских
казаков, которого пока ещё называли просто Колей.
«Коля» в то время ещё не закончил учёбу, но уже успел опубликовать
несколько работ по результатам исследований дрозофилы. Одновременно он
серьёзно интересовался зоогеографией и уже неплохо разбирался в
орнитологии. В числе его учителей на этом поприще были М.А. Мензбир — в то
время глава русской орнитологической школы (Флинт, Россолимо, 1999: 322-
330) и одно время ректор Московского университета, а также А.Н. Промптов
(там же, стр. 375-399) — однокурсник Тимофеева-Ресовского, впоследствии
известный специалист по поведению птиц. «Коля» получил заграничный
паспорт и письменную рекомендацию Кольцова (вполне заменившую
отсутствующий университетский диплом) и в 1925 году вместе с женой и
ребёнком уехал в Берлин, где он получил должность в Кайзер-Вильгельм-
институте [Институте исследований мозга общества императора
Вильгельма] и квартиру в Берлин-Штеглитце. Он, однако, не стал заниматься
шмелями, ему разрешили продол жить эксперименты с дрозофилой.
Технические и финансовые возможности института содействовали быстрому
превращению вчерашнего студента в одного из виднейших генетиков. Уже в
Рис. 54. Николай Владимирович Тимофеев-
Ресовский в Берлин-Бухе, 1936 г.
205
1929 году он стал руководителем собственного научного отдела, который
был переведён в Берлин-Бух, куда он и переехал со своей семьёй. Результаты
его экспериментов по ионизирующему облучению дрозофил (совместно с
физиками К.Г. Циммером и М. Дельбрюком, которых Тимофеев-Ресовский
«переманил» в биологию) привели к формулировке знаменитого принципа
«конвариантной редупликации», связывающего матричный механизм
изменчивости и наследственности с теорией эволюции, а также к созданию
«теории мишени» и «принципа попадания». По сути дела, в этих
экспериментах радиобиологическим методом впервые был «вычислен» ген. В 1935
году Тимофеев-Ресовский (вместе с Циммером и Дельбрюком) опубликовал
большую статью «О природе генных мутаций и структуре гена», оказавшей
огромное влияние на дальнейшее развитие молекулярной генетики. Задолго
до создания атомного оружия Тимофеев-Ресовский высказал идею о том, что
ионизирующее излучение опасно не только лучевой болезнью, но и своими
отдалёнными последствиями для следующих поколений.
В 1937 году его отдел генетики был превращен в самостоятельную
структурную единицу, в 1938 году Тимофеев-Ресовский стал академиком
Немецкого научного общества имени Кайзера Вильгельма1, ещё через два года был
избран действительным членом Немецкой академии естествоиспытателей
«Леопольдина» в Галле. В это время он начал заниматься новой темой —
эволюцией: в 1938 году на годовом собрании Немецкого общества изучения
наследственности он сделал большой доклад «Генетика и эволюция —
сообщение зоолога». Этот доклад привлёк всеобщее внимание. На докладе
присутствовал молодой Эрнст Майр, который в то время жил в Берлине и
учился в аспирантуре у Штреземанна (Майр, 1993).
Тимофеев-Ресовский часто бывал за границей, организовывал семинары
по проблемам генетики и эволюции с коллегами, среди которых были и
нобелевские лауреаты. В своем институте в Берлин-Бухе он в течение
длительного времени вёл научные дискуссии с Бернхардом Реншем. Ренш
стремился экспериментально доказать свои теоретические выкладки о кольцевом
видообразовании у животных (Ренш, 1993). В это же время у Тимофеева-
Ресовского возникли тесные контакты с Э. Штреземанном, которого
интересовали вопросы эволюции и мутаций у птиц, а также проблема
возникновения «экологических типов», рас и видовых различий, над которой он как
раз работал. Тимофеев-Ресовский был одним из немногих генетиков,
интересующихся географическим аспектом мутаций, поэтому сотрудничество с
ним имело для Штреземанна большое значение.
1 После Второй мировой войны переименовано в общество имени Макса Планка. — прим. перев.
206
Тимофеев-Ресовский посещал собрания Орнитологического общества,
обсуждал со Штреземанном многие проблемы, вновь и вновь обращаясь к
орнитологии. Штреземанн в свою очередь принимал участие в семинарах
Тимофеева-Ресовского в Бухе, а Тимофеев-Ресовский бывал у Штреземанна не
только в Зоологическом музее, но и дома. В 1930-х годах
Тимофеев-Ресовский дважды проводил отпуск на Куршской косе и посещал
орнитологическую станцию Росситтен (ныне Рыбачий). В одном из писем 1944 года
Штреземанн отзывался о Тимофееве-Ресовском, как о «человеке подлинно
огненного духа, огромных знаний и большого красноречия» (Haffer, 1997:
941). В 1947 году Штреземанн и Тимофеев-Ресовский опубликовали важную
статью о систематике крупных белоголовых чаек (в 1959 году она вышла на
русском языке). Двое учёных планировали целую серию работ по изучению
других видов птиц. Но «орнитологический» период деятельности
Тимофеева-Ресовского закончился со вступлением в Берлин Красной Армии...
Сам факт работы Тимофеева-Ресовского в Берлин-Бухе вызывает ряд
вопросов, недоумение и даже недоверие к нему. Как мог гражданин СССР с
1925 по 1945 год проживать и работать в Германии? Как это было возможно
после прихода к власти Гитлера в 1933 году, а тем более после начала войны?
Но это действительно было! Германский период в жизни
Тимофеева-Ресовского был противоречивым конгломератом из научной работы,
необходимости сохранения лояльности к работодателям и соблюдения определённых
формальностей, верности Родине и, наверное, чувства самосохранения.
Молодой Тимофеев-Ресовский был одержимым учёным, политика его мало
интересовала, он ни в коей мере не считал себя коммунистом. В
послереволюционное время заниматься наукой в Советской России можно было и не будучи
коммунистом. Между тем Веймарская республика поддерживала тесные
контакты с советским правительством. Тимофеев-Ресовский был далеко не
единственным учёным, которого тогда официально командировали в Германию, а Фогт
(он был, кстати, членом-корреспондентом Академии наук СССР) — не
единственным немецким учёным, почётным гостем Советов. Ещё в 1922-м году, по
личной инициативе Ленина, было основано Общество советско-немецкого
сотрудничества. Два обстоятельства впоследствии кардинально изменили эту
благоприятную для учёных ситуацию: ужесточение политического режима с
середины 1920-х годов в Советском Союзе и возникновение «сталинизма» — с одной
стороны, и захват власти нацистами в 1933 году в Германии — с другой.
Необходимо сказать, что Тимофеев-Ресовский был истинным патриотом. Он
не просто оставался советским гражданином, он очень преданно относился к
своей Родине. Он не раз подчёркивал: «... Я родился русским и не вижу
никакого смысла в изменении этого факта». В квартире Тимофеевых-Ресовских в
207
Бухе почти ежедневно собирались коллеги и знакомые; разговоры обычно
превращались в научные дискуссии. В то время Берлин был полон русской
интеллигенции из первой волны эмиграции. Кроме русских к Тимофееву-Ресовскому
приходило всё больше немцев — «туземцев», как он их называл. Николай
Владимирович всегда рано вставал, ночные дебаты не наносили ущерба его работе
в институте. Он считал необходимым мотивировать своих сотрудников, число
которых росло, и сотрудничать с учёными из других институтов. Он уже был
интегрирован в Берлин-Бух и получил мировое признание в научной сфере.
Положение Тимофеева-Ресовского беспокоило американских коллег; в 1936 году
ему предлагали место в Институте Карнеги в Колд Спринт Харборе, но он не
воспользовался приглашением (он обосновывал свой отказ тем, что его дети
вынуждены будут бороться в школе с языковыми проблемами, а его сотрудники
потеряют свои рабочие места).
В 1937 году Тимофеева-Ресовского вызвали в советское посольство в Берлине
и приказным тоном «попросили» «срочно выехать на родину». Он отказался.
Незадолго до этого один из шведских учёных, приехавший из СССР, передал
Тимофееву-Ресовскому письмо от Кольцова. Николай Константинович
предостерегал своего ученика и советовал ни в коем случае не возвращаться,
переждать. Он писал, что в последнее время обстановка резко изменилась, настоящие
генетики уволены, многие арестованы, Лысенко заменил классическую
генетику псевдонаучными теориями, которые пользуются полной государственной
поддержкой, и возвращение было бы самоубийством. В советском консульстве
у Тимофеева-Ресовского забрали советский паспорт, немецкие органы власти
выдали «паспорт иностранного подданного». Политические инстанции и
функционеры Общества Кайзера Вильгельма в 1938 году уговаривали его принять
немецкое гражданство, но он отказался, поскольку считал себя русским,
гражданином СССР Разумеется, он не мог не замечать в национал-социализме
сходства с коммунистическим режимом на родине — и то и другое было ему
одинаково чуждо. Авторы некоторых публикаций о Тимофееве-Ресовском пытаются
упрекнуть его в конформизме и даже в сотрудничестве с нацистами (МШ1ег-НШ,
1988). Действительно, в 1938 году Тимофеев-Ресовский делал доклад об
экспериментальном изучении мутационного процесса на курсах, организованных
НСДАП и сотрудничал с коллегами из Института генетики, который
курировало СС (см. Deichmam,[ 1992], 1995:189-190 или HoBfeld, 2001:342-343). Эти
и подобные факты (а иногда и просто вымышленные истории) часто
фигурируют в полемике вокруг личности Тимофеева-Ресовского. Многие
исследователи находят эти обвинения полностью безосновательными (Маленков, Иванов,
1989; Berg, 1990, 1993; Рокитянский, 2003). Я считаю, что речь в этом случае
идёт о естественном чувстве самосохранения. Для меня совершенно очевидно,
208
что никакой политической и моральной вины он не несёт. Ясно, что без точного
знания о содержании «сотрудничества» невозможно установить, были ли
перейдены какие-либо границы2.
Когда в 1939 году началась война, научная работа, разумеется, затруднилась:
визиты иностранных коллег стали почти невозможны, сильно ограничились
контакты с научным партнёрам за границей. С лета 1941 года, после
нападения Германии на СССР, Тимофеева-Ресовского обязали раз в неделю
отмечаться в полиции. Он оказался в ловушке, контакты с заграницей
прекратились. Гестапо усилило внимание к его персоне. Хотя он был безразличен к
политике и продолжал работать, но он был патриотом, Германия была для него
чужой страной, он не верил в её победу. Известно, что он помогал немецким
учёным, которые хотели уклониться от косвенного или непосредственного
участия в войне. Работа в институте давала бронь, и он брал сотрудников на
«фиктивные» темы (Autrum, 1996: 86). Сам он, безусловно, представлял грозящую
ему опасность и готовился защититься от неё — возможно, именно поэтому он
обратился в начале 1940-х годов к орнитологии. Благодаря мировой
известности Тимофеева-Ресовского, ему было позволено продолжать работать «до
самого конца». Но его старший сын Дмитрий (Фома), студент-зоолог
Берлинского университета, стал участником Сопротивления и был в 1943 году
арестован Гестапо. Спасти его не удалось, несмотря на все усилия и
обращения к влиятельным лицам, и в начале мая 1945 года он погиб в концлагере
2 В связи с этим хотелось бы привести отрывок из книги Д. Гранина о Тимофееве-Ресовском:«...
открытое выступление Зубра против лысенковщины не могло остаться безнаказанным. В
нем учуяли противника опасного, с мировым именем [...). Пустили слух, что в Германии он
работал на гитлеровцев, занимался опытами на людях, на советских военнопленных. Пошли
анонимные письма в ЦК, в Академию наук. Фактов не приводили, клевета не нуждается в
фактах. «Как известно, был главным консультантом Гитлера по биологии» [...]. Человек,
который жил в Германии во время войны, уже за одно это принимался неприязненно. Тем более
работал, тем более русский... [...]. Наветы действовали. Тем более, что Зубр и не рвался
оправдываться, протестовать. Он молчал. Молчание усиливало подозрения. [...] Клевета
расползалась [...]. Посторонние люди в разных учреждениях встречали его недружелюбно. В те
годы ничего не было позорнее, чем быть пособником фашистов [...]. Он продолжал
отмалчиваться. Ему ничего не стоило собрать свидетельства военнопленных, которых он
спасал в Германии, прятал у себя. Живы были ещё Бируля, Борисов, был Аютц Розенкеттер,
который скрывался в Бухе у Фомы.. Можно было запросить сведения у буховских немцев,
сотрудников Кайзер-Вильгельм-Института, у многих немецких учёных, которые находились
в Т&Р или уехали в Западную Германию — все ещё были живы, переписывались: Мелхерс,
Шарлотта Ауэрбах, Борис Раевский, французы братья Перу [...]. Многие дали бы
свидетельства — и Ааурэ, и Гейзенберг, и Паули. Зубр посрамил бы клеветников и появился бы
перед ними как один из героев антифашистского Сопротивления. [...] Ничего этого сделано не
было. [...]. Не пригибая головы с лохматой, заиндевелой уже гривой, шёл он сквозь недобрые
косые взгляды, не желая отвечать тем, кто кидал ему обвинения...». — прим. перев.
209
Маутхаузен (Winkler, 2002). Тимофеев-Ресовский много помогал людям,
которые находились в опасности — остарбайтерам, беглецам, евреям, русским,
особенно в последние годы войны. Это был тяжёлый, трагический период его
жизни. Он и теперь не хотел эмигрировать на Запад, несмотря на многие
приглашения и уговоры3, он твёрдо решил остаться и ждать вступления Красной
Армии в Берлин. В то время он ещё не знал о гибели сына и надеялся, что
Фома вернется в Бух, если его освободят. Возможно, он считал, что после
грандиозной победы над агрессором политическая ситуация на его родине
изменится к лучшему. На это надеялись многие.
Вначале всё примерно так и выглядело. Советские офицеры были гостями в
его квартире, удалось договориться с одним из них, и перед дверями
осиротевшего института поставили вооружённую охрану, чтобы предотвратить
грабежи. Советская военная администрация утвердила его директором научного
учреждения в Бухе, которое теперь называлось «Институт генетики и
биофизики». Вскоре в Берлин приехал генерал Аврамий Павлович Завенягин,
который был заместителем наркома внутренних дел СССР, курировал работы по
атомной бомбе и интересовался немецкими физиками, связан ными с
атомным проектом. Его задачей была вербовка их для работы в СССР. Один из
проектов был связан с проблемой защиты от радиоактивных излучений.
Завенягин, познакомившись с Тимофеевым-Ресовским, сразу понял, что такой
человек понадобится Советскому Союзу; Тимофеев-Ресовский надеялся
применить теперь свои знания на благо родины. Но после того, как в конце лета 1945
гТода немецкие сотрудники из Буха заключили новые «трудовые договора» и
отбыли на восток, в середине сентября приехали за Тимофеевым-Ресовским —
он был арестован в Берлине советскими органами безопасности.
Предполагают, что арест произошел на основании доноса профессора Н.Н. Нуждина,
верного генетика-лысенковца из Москвы, который в это время с группой
высокопоставленных учёных находился в советской оккупационной зоне
Германии (Гершензон, 1993). В конце сентября Тимофеев-Ресовский был
переправлен в Москву и помещён на Лубянку; 10 октябре 1945 года был изготовлен
ордер на арест (рис. 55). Начались многочасовые допросы, в основном
ночные; до 18 мая 1946 года он был допрошен следователем-офицером НКВД,
майором В.А. Гарбузовым 15 раз. Тимофеев-Ресовский не признал себя
виновным по политическим пунктам обвинения, за которые полагался расстрел,
но не отрицал того, что в 1937 году отказался вернуться на родину. В
обвинительном заключении (Рокитянский и др., 2003:445-448) было сказано, что он
в 1937 году «изменил родине и остался в Германии, связан с руководителями
3 К нему даже специально приезжал сотрудник «Миссии Алсос», рассказывал про условия в
американских университетах и уговаривал уехать в Америку. — прим. перев.
210
Рис. 55. Ордер на арест Тимофеева-
Ресовского, выписанный Народным
комиссариатом государственной безопасности
10 октября 1945 года в Москве.
СССР
Народный Комиссариат Государственной Безопасности
0РДЕР*Ь5£1
Выдан -
-угт» Государственной безопасности
ncypopd? СССР
Л£ф4. *&6С&ы*4+ъу.
антисоветских организации и принимал участие в этих организациях, оказал
содействие немецким разведывательным органам в институте». (На самом
деле можно себе представить, что в немецком государственном институте в
конце войны вряд ли было возможно запретить немецким службам какую-либо
деятельность. Главное, что эти службы ничего не нашли!). Слушание дела
состоялось 4 июля 1946 года на закрытом заседании, в отсутствии подсудимого
и без защитника. Приговор гласил: 10 лет лагерей. Газета «Правда» не осталась
в стороне и сообщила, что Тимофеев-Ресовский — враг народа. В августе 1946
года он был отправлен в Казахстан, в лагерь Самарка, находившийся на юго-
западе от Караганды. Тяжёлая физическая работа и голод означали верную
смерть для многих заключенных; положение усугублялось недостатком
пресной воды в регионе. Арестантам, кроме пайки хлеба, полагалась только миска
жидкой баланды и две кружки солоноватой мутной воды в день. Недавно я
случайно узнал от Марианны Воеводской, дочери академика В.В. Воеводского,
у которого Тимофеев-Ресовский был в гостях после своего освобождения в
1960-х годах, о том, что в лагере в свободное время он изучал социальное
поведение красных муравьев {Formica uralensis), обитающих в «зоне».
(Марианна была тогда ещё ребёнком, но рассказ гостя был так увлекателен, что она
до сегодняшнего дня помнит его в подробностях).
Советские физики-атомщики сталкивались в середине 1940-х годов со всё
новыми проблемами при создании атомной бомбы, в том числе и с точки зре-
211
\ I
I t
• I
. с .
Рис. 56. Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, Москва,
Лубянская тюрьма, конец октября 1945 г.
ния воздействия радиоактивного излучения на людей. А.В. Яблоков рассказал
мне, что будто бы советские органы власти запрашивали у тогда ещё
«дружественных» американцев информацию о том, как они решают проблемы с
излучением и просили о консультации. Американцы ответили, что они сами стоят
перед этой же проблемой, и что один опытный специалист в этой области уехал
из Германии в СССР; его имя—Тимофеев-Ресовский. Тут Завенягин хватился
Тимофеева-Ресовского, и срочно был сделан запрос в НКВД. Тем не менее, его
разыскивали больше года (в лагерях находились миллионы) и нашли только в
конце ноября 1946 года. По железной дороге Тимофеева-Ресовского отправили
в Москву на лечение. Его состояние было критическим, от голода он был
поражён пеллагрой. Солженицын пишет, что офицеры НКВД несли его в машину.
В больнице МВД группе врачей удалось спасти его, но зрение так и не
восстановилось. Вскоре его перевели на Южный Урал, в Сунгуль — живописное
место на берегу озера примерно в 100 километрах к северо-западу от
Челябинска. Там в 1946 году была создана секретная лаборатория — научный центр
советской военной атомной промышленности, а в здании санатория МВД
разместился маленький секретный спецлагерь под названием «объект 0215».
Солженицын называет такие лагеря «шарашками»4. Комендантом был полковник
4 Лаборатория существовала до марта 1955 года, потом была закрыта, и на её месте был
построен новый ядерный институт, который с 1992 года называется РФЯЦ-ВНИИТФ. Вокруг
института возник закрытый город «Челябинск-70» (Снежинск). См. книгу «Раскрывая первые
страницы..», Вкатернинбург, 1997, об истории лаборатории и института. — прим. перев.
212
НКВД Александр Константинович Уралец. Заключёнными были именитые
арестанты — Тимофеев-Ресовский, группа учёных и технических сотрудников, а
также свободные специалисты — «вольняшки», в том числе несколько
сотрудников из Буха! Упакованное в ящики, здесь уже находилось техническое
оборудование, вывезенное из института в Берлин-Бухе, в том числе циклотрон.
Задача была поставлена следующим образом: радиобиологические исследования
и защита от излучения. Это было время, когда Лысенко уже полностью
искоренил классическую генетику в Советском Союзе (было выпущено
официальное распоряжение об уничтожении всех линий дрозофил). Но на Сунгуле снова
были выращены дрозофилы, правда секретно, но легально! Результаты
исследований представляли государственную тайну. А.К. Уралец доверял
Тимофееву-Ресовскому как специалисту, не вмешивался в работу и даже попросил
Николая Владимировича «образовать» его: Тимофеев-Ресовский всё лето читал
ему лекции по биологии (Гранин, 1987).
После смерти Сталина Тимофеев-Ресовский обращался письменно к разным
лицам с просьбой об освобождении его из «золотой клетки», ему хотелось
работать в академическом институте. Наконец преемник Сталина — Г.М. Маленков
отреагировал и распорядился об освобождении Тимофеева-Ресовского из
«шарашки». Это произошло в 1955 году (Маленков А.Г., 1993). Но проживать в
Москве разрешено не было. Тимофеев-Ресовский стал руководителем отдела
биофизики и радиологии Биологического института в Свердловске (ныне
Екатеринбург). Каждое лето он уезжал на Биологическую станцию лаборатории
биофизики УФАН «Миассово» на Южном Урале (Ильменский заповедник), где
регулярно проходили знаменитые школы для молодых учёных. Здесь началось
восстановление русской генетики. Участники тех семинаров, многие из которых
стали известными учёными, часто вспоминают «Миасский университет». В 1964
году Тимофеева-Ресовского перевели в Обнинск, расположенный недалеко от
Москвы, где он возглавил отдел в Институте медицинской радиологии. Он
надеялся на широкое развёртывание научной работы в этом институте, хотя сожалел
о Миассово. В 1969 году он был уволен из института по распоряжению ЦК;
исполнителем был первый секретарь Калужского обкома КПСС Кондратенков,
славившийся своим деспотизмом (Тимофеев-Ресовский, 2000: 738). Одной из
причин увольнения значилось: «негативное влияние на молодых учёных» в период
«Пражской весны» и ввода войск Варшавского договора в Чехословакию5.
Я думаю, что увольнение Тимофеева-Ресовского и прекращение работы
руководимого им отдела в немалой степени способствовали беспомощности
советских властей после аварии в Чернобыле.
5 Формально Тимофеева-Ресовского, а заодно и директора института, ГЛ. Зедгенидзе, который
пытался его защитить, просто отправили на пенсию. — прим. перев.
213
Когда Николай Владимирович остался без работы, директор московского
Института медико-биологических проблем, академик и генерал О.Г. Газенко
зачислил его в свой институт консультантом (Шноль, 2001). Тимофеев-Ресовский
продолжал читать лекции на кафедре биофизики физического факультета МГУ.
Дома, в Обнинске, вокруг Николая Владимировича клубилась молодежь. Он
организовал нечто вроде семинара по музыке и искусству. Участники собирались
раз в две-три недели, и по очереди выступали с разными сообщениями.
Николай Владимирович прожил долгую жизнь. Он умер в Обнинске в 1981
году.
Хочу бросить ещё короткий ретроспективный взгляд на жизнь и развитие
идей Тимофеева-Ресовского. Макс Дельбрюк, физик-теоретик, который под
влиянием Николая Владимировича полностью переключился на исследование
генетических механизмов, соавтор работы Тимофеева-Ресовского и Циммера
по определению размера гена, получивший в 1969 году Нобелевскую премию
за концепцию матричного принципа передачи наследственной информации,
говорил в Нобелевской лекции о Тимофееве-Ресовском как о своём учителе.
Приехав в Москву, Дельбрюк на лекции в Институте физических проблем
прямо подчеркнул определяющую роль идей Тимофеева-Ресовского для своих
открытий. Недавно стало известно, что немецкий биофизик Борис Раевский
ещё в 1950 году вносил кандидатуру Тимофеева-Ресовского в Нобелевский
комитет по этой номинации, но члены комитета в Осло и в Стокгольме в то время
не имели никаких сведений о Тимофееве-Ресовском и не верили, что он жив.
В СССР, конечно, в этом никто не сомневался, но путь к международному
признанию для него был закрыт, а его репутация в кругах «благонадёжных»
социалистических биологов Академии наук была слишком плоха—они не могли
допустить его чествования... До сегодняшнего дня бытуют изобретённые
против Тимофеева-Ресовского обвинения (вплоть до его участия в работах по
созданию немецкой атомной бомбы, за что «Гитлер лично наградил его Железным
крестом!»). В 1957 году научные советы двух академических институтов
присудили Тимофееву-Ресовскому учёную степень доктора наук по совокупности
опубликованных им работ, но это решение не было утверждено Всесоюзной
аттестационной комиссией. Только в 1964 году он получил степень доктора
наук после стандартной процедуры зашиты диссертации. Начиная с 1965 года
Тимофеева-Ресовского неоднократно выдвигали в члены Академии наук, но
безуспешно (в числе причин отказа упоминалось и то, что он не получил
законченного высшего образования и имеет судимость...). Но он давно состоял
членом Академии «Леопольдина» в Галле; в 1959 году его наградили медалью
Дарвина. Академия Наук ЧССР в начале эры Дубчека в 1965 году наградила
его медалью Менделя. На год позже Тимофеев-Ресовский стал 13-м лауреа-
214
л
Рис. 57. Александр Исаевич Солженицын (справа) в гостях у
Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского в Обнинске,
август 1968 г.
том очень престижной премии общества Национальной Академии наук США
«Kimber Genetics Award» (официальные советские инстанции хотели
принудить его к отказу от премии, но он не согласился). В 1970 году «Леопольдина»
ещё раз почтила его — на этот раз медалью Грегора Менделя. В 1973 году
Тимофеева-Ресовского избрали членом американской Академии искусств и наук.
В 1978 году он смог принять участие в Международном генетическом
конгрессе в Москве. Он радовался встрече с коллегами из предвоенного времени
и почестям, которые оказывали ему генетики более молодого поколения;
вечерами предавались воспоминаниям со старыми друзьями из Берлин-Буха.
После прихода к власти Горбачёва и наступления «перестройки» друзья и
ученики Тимофеева-Ресовского и его младший сын Андрей (физик-атомщик)
начали хлопотать о полной посмертной реабилитации учёного. Снова
включились «компетентные органы» и пришли к выводу, что в материалах дела
достаточных оснований для реабилитации не содержится. Но давление
общественности было таким сильным, что российские власти попытались
обосновывать уже подготовленное решение об отказе мнением немцев, для чего
обратились с просьбой в Государственную служба безопасности ГДР (в
Восточный Берлин был даже командирован на три недели некий полковник
КГБ). Теперь прошлое Тимофеева-Ресовского основательно исследовала
«штази»; его дело, хранящееся в Федеральном архиве документов Министер-
215
Рис. 58. Николай Владимирович Тимофеев-
Ресовский, Клязьма, июль 1966 г.
\
ства государственной безопасности6 включает 130 томов. Результаты поисков
удивили и даже разочаровал кое-кого в Москве: в документах «штази»
отсутствовали какие-либо свидетельства сотрудничества Тимофеева-Ресовского с
фашистами (HoBfeld, 2001). Офицеры «штази» искали, в частности, какие-
либо данные об участии Тимофеева-Ресовского в исследованиях в области
вооружений, однако ничего не нашли. 26 мая 1988 была допрошена госпожа
Шарлотта Треттин, живущая в ГДР и бывшая некогда секретаршей
Тимофеева-Ресовского в руководимом им отделе генетики. На вопрос майора
«штази» о том, какие эксперименты там проводились, она ответила (Рокитян-
ский и др., 2003:491-495): «[...] в мае 1944 года я поступила в отдел генетики
[...]. Я помню, что в это время я печатала для Тимофеева-Ресовского статью о
видах чаек и их образе жизни...».
Тем не менее, сообщения «штази» из ГДР не помешали Военной
прокуратуре СССР отклонить прошение о реабилитации в октябре 1989 года. Только
на основании нового закона Российской Федерации «О реабилитации жертв
политических репрессий» от 18 октября 1991 года, после очередной про-
6 «Birthler-Behorde» или «Bundesbeauftragtejur die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen De-
utschen Demokratischen Republik», коротко «Stasi». — прим. перев.
216
верки судебного дела и привлечения новых свидетелей, Генеральной
прокуратурой Российской Федерации Тимофеев-Ресовский был признан
невиновным и реабилитирован. Это произошло 23 июня 1992 года, то есть через
одиннадцать лет после смерти учёного.
Вопреки целенаправленным атакам на Тимофеева-Ресовского со стороны
официальных органов власти и их сдержанной реакции на реабилитацию
учёного, воспоминания о великом русском биологе на его родине живы до
сегодняшнего дня. Кроме уже упомянутых книг и воспоминаний, о Николае
Владимировиче рассказывает замечательный фильм — трилогия Е.С. Саканян «Рядом
с Зубром», «Охота на Зубра» и «Герои и предатели», которые показывали по
одной из центральных программ российского телевидения (Саканян, 2000)7.
Имя Тимофеева-Ресовского — необычного человека и выдающегося
учёного с исключительной судьбой, сегодня хорошо известно и дорого всем
образованным людям России.
* * *
Коллега Тимофеева-Ресовского, известный немецкий генетик, профессор Ганс
Штуббе/Hans Stubbe (1902-1989), параллельно со своей основной
исследовательской деятельностью занимался также зоологией и орнитологией. Штуббе и
Тимофеев-Ресовский дружили (Stubbe, 1988; Штуббе, 1993). Штуббе был
членом Немецкого териологического и орнитологического обществ. В 1930-х годах
он кольцевал птиц на орнитологической станции в Росситтене. Он горячо
интересовался вопросами охраны природы; в молодости увлекался охотой, в более
поздние годы изучал биологию охотничье-промысловых видов животных.
В 1920-х годах Штуббе провёл новаторские генетические эксперименты:
путём облучения он вызывал мутации у садового львиного зева (Antirrhinum
majus) — растения, которое для немецких генетиков-ботаников имело то же
значение, что дрозофила для генетиков-зоологов. Публикации Штуббе вскоре
принесли ему известность в научном мире. Уже в то время его
организаторские способности и человеческие качества позволяли предполагать, что он
станет значительным учёным-биологом.
Характер и общественно-политические взгляды Штуббе были сформированы
атмосферой Веймарской республики, первой либерально-демократической
7 О том, как это было, кто финансировал работы Тимофеева-Ресовского и кто ему
покровительствовал см. также: Е.С. Саканян «Любовь и защита» в приложении к книге
«Тимофеев-Ресовский. Истории, рассказанные им самим..», М., 2000. Саканян, в частности,
встречалась с Николаусом Рилем (1901—1990), автором известных мемуаров «десять лет в
золотой клетке» о работе в советской атомной системе. — прим. перев.
217
формой государственного правления в Германии8. Под впечатлением ужасов
Первой мировой войны он присоединился к союзу «Пан-Европа», целью
которого (уже в начале 1930-х годов!) было объединение европейских государств.
От демократических идей своей юности Штуббе не отказался и в более
поздние годы, несмотря на то, что ему пришлось жить при двух немецких
диктатурах. Неизменным оставалось и твёрдое желание заниматься наукой. Он не
присоединялся ни к одной партии: ни в Третьем Рейхе, ни в ГДР. Тем не менее,
и в тот, и в другой исторический период ему удалось не только достичь
научных успехов, но и оказывать позитивное влияние на намерения и действия
мыслящих по-другому людей. Не так давно опубликована интересная
биография Штуббе (Kandig, 1999; см. также Bohme, 1990 и Mettin, 1990).
Короткий абрис научной карьеры Штуббе выглядит следующим образом. С
1929 года он был сотрудником институтов общества Кайзера Вильгельма
(предшественника общества Макса Планка): до 1936 года в Институте
селекции в Мюнхеберге, затем в Институте биологии в Берлине-Далеме, с 1943 года
— сотрудником вновь основанного Кайзер-Вильгельм-Института изучения
культурных растений в Вене. После окончания войны под тем же названием
этот институт был переведен в Гатерслебен (Советская оккупационная зона,
ГДР). Штуббе стал его директором и существенно расширил его. В 1951-1968
годах Штуббе был президентом Академии сельскохозяйственных наук в ГДР.
Штуббе воспользовался дружескими отношениями Веймарской
республики и молодого СССР и в 1929 году нанёс визит в Ленинград, в знаменитый
Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур, директором
"которого был Николай Иванович Вавилов (с собой Штуббе привёз два
чемодана с одеждой и бельём для подарка русским коллегам). В институте была
собрана коллекция семян культурных растений и их диких родственников из
многих регионов земного шара. Это собрание восхитило Штуббе, он тоже
стал разрабатывать эту тему, которая позднее превратилась в одну из его
основных жизненных задач. Не удивительно, чтр знакомство с Вавиловым
привело к дружбе двух учёных (Stubbe, 1987).
Штуббе был решительным противником нацизма: после одной из речей
Гитлера по радио он отозвался о фюрере, как о человеке с патологическими
наклонностями, он любил анекдоты о Гитлере и поддерживал контакты с
евреями. Нацисты обвиняли его в том, что он марксист.
Когда в 1936 году у него возникли профессиональные противоречия с
руководством института (к этому времени уже «коричневым»), ему пришлось
8 Веймарская республика — парламентская конституционная республика, сменившая монархию
в 1919 г.; существовала до 1933 г., то есть до прихода к власти Гитлера. — прим. перев.
218
t
Рис. 59. Профессор Ганс Штуббе, ноябрь 1981г.
предстать перед «судом чести» из-за «нарушения производственной
дисциплины»; из судебного протокола можно без сомнения заключить, что
Штуббе уже давно находился под наблюдением Гестапо (Kading, 1999: 40-
44). В конце концов, его уволили из института. До конца войны Гестапо не
выпускало его из-под контроля.
Личные связи помогли Штуббе устроиться в Институт биологии в Берлин-
Далеме. Во время войны он начал собирать коллекцию диких
родственников (исходных форм) культурных растений. По поручению Комитета Рейха
по науке и при поддержке командования Вермахта он организовал в 1941 и
1942 годах две экспедиции в оккупированные страны Европы, из которых
привёз очень богатые сборы (во второй экспедиции принимал участие и
орнитолог Нитхаммер).
С 1943 года во вновь созданном Институте исследования культурных
растений в Вене Штуббе смог реализовать свои собственные научные идеи.
Кроме прикладных работ, были развернуты и фундаментальные
исследования. Коллекция расширялась, и Штуббе старался получить материалы из
советских исследовательских станций, расположенных в районах, уже
оккупированных Германией. Сам он не участвовал в проведении «спасательных
акций» (как это называлось тогда) — их провели другие. Только часть
захваченного материала прибыла в институт.
Нужно добавить, что институт Штуббе занимался также биологическим
оружием: на расположенных неподалеку от Вены полях ставили эксперименты по
219
массированному заражению посевов культурных растений сорняками. Учёные
выражали сомнения по поводу возможности создания и применения этого
«оружия» (опасность распространения в собственной стране и аналогичного
ответного удара «врага»), но никто открыто не протестовал, в том числе и Штуббе. Я
думаю, что вряд ли представлялось возможным отклонить эту тему,
предложенную Вермахтом, в противном случае институт и персонал лишились бы
государственной поддержки и финансирования... Однако, американская разведка
быстро узнала об этих работах (интересно — от кого?), и экспериментальные
поля были подвергнуты в июне и августе 1944 года массированным
бомбардировкам. На полях насчитали не менее 340 воронок от разорвавшихся бомб и
нашли по крайней мере три неразорвавшихся снаряда (Kading, 1999: 73-75).
К концу войны институт эвакуировали из Вены в Восточную Германию,
куда вступили американские войска; вскоре, однако, эта область была
передана Красной Армии. Штуббе стоял перед выбором: уйти в западную
оккупационную зону или остаться верным своему институту в советской
оккупационной зоне. Он решился на последнее и начал с того, что восстановил
институт в Гатерслебене и стал развивать его. Не только его неиссякаемая
трудоспособность, но и удача пришла ему в этом на помощь: когда он
посетил всемогущую советскущ областную комендатуру в Кведлинбурге, один
подполковник из Ленинграда узнал его; он был одним из тех, кому 16 лет
назад Штуббе привёз подарки! По-видимому, благодаря этому личному
знакомству Штуббе разрешили не сдавать его охотничьи ружья.
После основания ГДР институт начал получать большую поддержку; в
'частности, были продолжены сборы для пополнения коллекции семян
растений (были организованы экспедиции в Китай, Армению, Крым, на Кубу).
Штуббе возглавил также кафедру генетики в университете Мартина Лютера
в Галле-Виттенберге, был избран членом Академии «Леопольдина». Но
снова возникли политические трудности: генетика, которой он занимался, в
дружественном Советском Союзе уже давно была причислена к
«реакционным» наукам, запрещена и полностью заменена «генетикой Лысенко» (Med-
wedjew, 1971; Regelmann, 1978; Nowak, 2000:481). Теперь и Штуббе должен
был вступать на новый путь. Однако он защищался, и не только настойчиво,
но и успешно.
«Учение» Лысенко (получившее позднее наименование «новой генетики»)
принудительно вводилось в программы обучения во всех странах
«социалистического лагеря», что имело трагические последствия для многих людей.
Большинство генетиков в СССР были уволены с работы, многие из них
арестованы, многие погибли. Н.И. Вавилов, учёный с мировым именем, был
арестован ещё в 1940 году и в 1943 году умер от истощения в саратовской
220
тюрьме (см. примечание переводчика к стр. 397). Н.К. Кольцов в 1938 году
был уволен из своего института; в 1940 году он умер от инфаркта. Позже,
когда все «реакционные» генетики были устранены, начались аресты
«низшего звена», вплоть до агрономов в колхозах. В других странах восточного
блока тоже шли аресты учёных, например в ГДР в 1958 году преподаватель
Лотар Фальк был осуждён на один год тюрьмы (Jahn, 2001). Только в 1964
году закончилась «эра Лысенко», «второго Распутина». Владимир Дудинцев
(1987; немецкое издание 1990 года) написал основанный на подлинных
документах роман, в котором рассказывает о страшных последствиях лысен-
ковщины в СССР9. «Новое учение» коснулось даже орнитологии: например,
кукушки по представлениям Лысенко размножаются не путём полового
воспроизводства и откладки яиц в гнёзда других видов птиц, а путём
скачкообразной трансформации вида, и т.п. В своих лекциях Лысенко с полной
серьёзностью утверждал, что если кормить разные виды птиц волосатыми
гусеницами, то из их яиц вылупятся кукушата (Medwedjew, 1971: 146).
Профессор Штуббе принадлежал к тем немногих учёным «восточного
блока», которые последовательно возражали против учения Лысенко. После
того, как его институт, он сам и другие генетики в ГДР подверглись нападкам
прессы за свою «реакционность», он в феврале 1951 года (то есть ещё при
жизни Сталина!) поехал в Советский Союз, чтобы лично встретиться с
Лысенко. Он посетил его институт и внимательно ознакомился с результатами
исследований. После возвращения в Германию он 25 мая 1951 года в Берлине
сделал очень деловой, лишённый эмоций доклад перед участниками
конференции Центрального комитета СЕПТ, в котором уничижительно и с фактами
в руках охарактеризовал «новую советскую генетику» и решительно отверг её
(текст этого мужественного доклада был опубликован только в 1997 году
Hoxtermann, 1997). Собравшиеся чиновники и функционеры были крайне
недовольны, но мало что могли возразить. Убедившись, что критика
«реакционной генетики» в прессе ГДР не смолкла, Штуббе в 1953 году просил Вальтера
Ульбрихта об аудиенции и сообщил ему, что из-за невозможности
полноценной работы вынашивает намерение оставить пост президента Академии
сельскохозяйственных наук страны. Когда же самое могущественное лицо
государства и партии поинтересовалось его мнением о генетике Лысенко, Штуббе
сказал ему, что в Советском Союзе ему не смогли предъявить ни одного
достоверного доказательства к выдвигаемым тезисам «теории» Лысенко и что
он считает «новую генетику» псевдонаукой, оперирующей фальшивыми фак-
9 В настоящее время об этом периоде и самом Лысенко появилось очень много публикаций. В
частности, вышло уже 4-е издание исчерпывающего исследования В.Н. Сойфера «Власть и
наука. Разгром коммунистами генетики в СССР», М., изд-во «ЧеРо», 2002. — прим. перев.
221
тами. Он добавил, что применение «учения» Лысенко на практике приведёт к
отрицательным последствиям для сельского хозяйства. Ульбрихт внимательно
слушал Штуббе и заключил беседу сообщением, что его институт должен
продолжать работать дальше так же, как и до сих пор, и что критики в средствах
массовой информации больше не будет (профессор Ручке, личное сообщение
после беседы с профессором Штуббе в 1982 г.). И в самом деле, критика
прекратилась, институт продолжал работать беспрепятственно. Доверенным
знакомым и коллегам решился (письменно!) выразить свое мнение ещё более
откровенно: «Нам ясно, что Лысенко — преступник и фальсификатор»
(Hagemann, 1999). Широко развёрнутые многолетние экспериментальные
исследования в Гатерслебене (рис. 60) позволили также строго- научно
опровергнуть «теорию» Лысенко. Наверное, не будет преувеличением сказать, что
Штуббе и Тимофеев-Ресовский заложили фундамент для восстановления
генетики в Восточной Европе и в послесталинском СССР.
Примечательным является тот факт, что в непростой
общественно-политической ситуации 1951 года именно Штуббе был приглашён занять пост
президента вновь основанной Академии сельскохозяйственных наук страны в
Берлине, хотя вовсе не было недостатка в других, более верных установкам
партии кандидатов. Не его отношение к политике, а его деловые качества
послужили поводом к такому решению (Wessel, 2002). Для своей речи по
случаю вступления в должность президента академии в октябре 1951 года Штуббе
выбрал девиз: «В мире для правды и прогресса». Деловитость, сознание
ответственности, умение действовать и дипломатические способности, которые
сочетались в нём с мужеством и умением рисковать, гарантировали
стабильность его позиции. Он старался установить связи с Западной Германией путём
избрания западно-германских учёных членами «его» Академии. Ему
удавалось сглаживать все противоречия. Он заботился не только о сохранении
классической генетики в ГДР, но и о развитии других научных областей.
При этом Штуббе не скрывал своих политических пристрастий: когда я в
начале 1970-х годов шёл с ним по Берлину, он с грустью показал мне место, где
раньше был расположен магазин естественнонаучного издательства «Рагеу».
Теперь оно было замуровано... Он лично возразил Вальтеру Ульбрихту
против переименования его «Немецкой академии сельскохозяйственных наук» в
«Академию сельскохозяйственных наук ГДР» словами: «Почему? Разве
«Немецкая» не означает также и «Немецкая демократическая республика?» (Dathe,
1990). Один из симпозиумов в Гатерслебене, на котором я присутствовал,
закончился великолепным дружеским ужином, где присутствовал и Штуббе.
Рассказывали в основном политические анекдоты из жизни восточноевропейских
стран (после этого вечера один мой болгарский коллега печально спросил, что
222
Рис. 60. Профессор Штуббе со
своими ассистентами на
опытном поле томатов в ходе
проведения антилысенковских
экспериментов, начало 1960-х гг.
11 II!
!!■« Ч1
I1! Н»
же должно получиться в конце концов из социализма, если все только и делают,
что смеются над ним). Штуббе руководил персоналом института с большим
искусством, причём руководство не было чисто формальным: так, в 1953 году
(восстание в ГДР) ему удалось вызволить сотрудника института из тюрьмы; в
1961 году (строительство стены) — спасти несколько человек от увольнения
по политическим причинам (Hagemann, 1999).
Я уже упоминал о том, что Гестапо считало Штуббе марксистом. Сегодня
нетрудно выяснить, что думала об этом «марксисте» служба госбезопасности
ГДР. В ответ на мой запрос в архив документов «штази» в Берлине мне
удалось получить часть материалов дела Штуббе. Я хотел бы привести здесь
несколько цитат из этого дела.
В документе главного отдела III Министерства государственной
безопасности ГДР от 21 декабря 1955 года о Штуббе написано следующее: «Его
политическая благонадёжность такая же, как у Беккера». Профессор Густав Бек-
кер был вице-президентом академии, которой руководил Штуббе, и в том же
документе охарактеризован следующим образом:«... скрытый противник ГДР
и реакционер». Разумеется, за Штуббе, точно так же, как и при Третьем Рейхе,
шпионили. Так, например, один из «GI» (тайный информатор) с псевдонимом
«Франц» (Ханс Вильгельм Файль, 25 лет от роду, научный референт в
академии) сообщал в декабре 1958 года о содержании разговоров, которые вёл
223
Штуббе в Западной Германии. В апреле 1959 года «GI Инга» (настоящее имя:
Герхард Райхель, 29 лет, личный референт президента академии), вместе с
сотрудником «штази» тайно микрофильмировали переписку Штуббе с
«бежавшим из социалистической республики» профессором, который работал в Киле.
В январе 1960 года «Инга» представил «штази» характеристику профессора
Штуббе, где в числе прочего значится: «Он всячески избегает разговоров на
политические темы. Оценить его истинное отношение к нашему государству
трудно. Он слишком умён, чтобы дать себя легко раскусить. С осторожностью
я могу сказать, что в некоторых вопросах он стоит на «левых» позициях
(социальные вопросы, поддержка учёных), в нескольких вопросах занимает
промежуточную позицию (руководство сельским хрзяйством) — конечно, те
области, в которых он стоит на правых позициях, нелегко распознать». После
внезапного постановления о принудительной коллективизации оставшихся
частных крестьянских усадеб весной 1961 года, тайно подготовленного
партийным и государственным руководством, от информатора «Рут»
(изменённый псевдоним GI «Франц»; он поднялся теперь до «основного секретного
информатора») «штази» получили сведения из заседания президиума
Академии: «Штуббе был крайне раздосадован катастрофическим (по его мнению)
положением, в котором окажется сельское хозяйство после излишней и
поспешной коллективизации. Академия должна была бы протестовать по этому
поводу. Штуббе осуждал в этой связи, в частности, членов академии из Ро-
стока за то, что они своевременно не обратили его внимания и внимания пле-
- нума на последствия поспешной всеобщей коллективизации. (Росток был
первым районом, где сельское хозяйство было организовано полностью
социалистическим образом). Теперь время для протестов упущено».
В сообщении «штази» от 11 ноября 1958 года (то есть ещё до
строительства Берлинской стены) значится также, что Штуббе пытался вступить в
конструктивный диалог с высокими инстанциями ГДР. Во время беседы с
министром сельского и лесного хозяйства Хансом Рейхельтом «[он] говорил о
том, что органы государственной безопасности несут главную
ответственность за бегство из страны сотрудников академии» (речь шла о том, что
«штази» вербуют осведомителей). «В этом разговоре Штуббе советовал
органам государственной безопасности не входить в связь ни с научным, ни с
техническим персоналом институтов». Это сообщение «штази» кончается
фразой, что товарищ Мюкенбергер, секретарь ЦК СЕПГ по сельскому
хозяйству, «хочет обратиться в этой связи к товарищу министру
[государственной безопасности ГДР]». По-видимому, этот умный совет не принёс
никаких результатов, так как «Инга», «Рут» и прочие осведомители после
упомянутой беседы продолжали прилежно заниматься своей деятельностью.
224
Zxor Saches
Era* • St.* bat tunfangreicbe Yerbindmigen ait Wisseiiflcbaftler»
d«B kapitalistisohen Auslandes uad Westdeotecblaads imd
Tmterllee* demzoftorlg* aaflerardentli&Ii negativea BtotBtewm»
St. is* gegen die Lebrea Y«a btSSBBEO nad ЯПЗСНВВ1Я «Jag»»
stellt» la der ZfcitseteiiTt «Iter Zttcht«*% «eetderetsehtaad
(St» 1st 2itb«rsB*gefc«r dleeer ZeiteehrtTt) wird тва «JEaeehl-
etiscbem Eassemrahn imd s±eh гетеШ&ая&г gebSrdender
Xyssento>ismustt gesproebezu
Рис. 61. Ег^ё tf 1962 году «штази» отмечают отрицательное отношение
Штуббе к «новой советской генетике» — фрагмент «информационной
справки» главного управления «штази» Ш/3 от 15.02.1962 г.
«Штази» контролировали также переписку Штуббе с западом и в
«информационном сообщении» от 15 февраля 1962 года писали о том, как он
характеризуется на западе: «В различных письмах западногерманские
учёные о Шт[уббе] отзываются как о «коммунисте» и как о находящемся «под
кнутом правительства». Несколько документов содержат сведения о
многочисленных западных контактах Штуббе. В протокольной записи от 14 июня
1962 года отмечено, например: «25.5.62 его посетил профессор М. Дельбрюк,
американский гражданин, и они вместе пошли в театр».
Из двух документов (от 15.02.1962 г. и от 5.02.1963 г.) следует, что в задачи
органов государственной безопасности входила «защита» Штуббе от
«тлетворного политико-идеологического влияния капиталистической заграницы»
(рис. 61). Лично я не верил в то, что это было необходимо, или что «штази»
действительно занимались этим. Но я был поражён, когда недавно прочитал
(Heim, 2002: 37), что американская разведка также вела дело Штуббе (кстати,
исходя из некоторых ошибочных сведений о нём). Как хорошо, что «штази»
ничего не знали об этом!
Я привёл некоторые факты из жизни профессора Штуббе в сумбурные
времена XX столетия. Я думаю, они убеждают в том, что Штуббе удалось
осуществить своё стремление к научным исследованиям и к управлению наукой как
при нацистах, так и во время коммунистического периода. Его поведение с
точки зрения моральных и человеческих качеств также приводит к
заключению, что вопреки всем трудностям ему удалось сохранить верность своим
идеалам. Мое мнение, однако, не согласуется с результатами изысканий некоторых
современных немецких историков. Например, журналист, историк науки Эли-
сон Эбботт (Abbott, 2000) в своей статье, опубликованной в «Nature» и оза-
225
главленной «От лаборатории к концентрационному лагерю» (!), утверждает что
Штуббе: 1) «конформист, который без оглядки и без церемоний следовал
любым путём, который способствовал его научным исследованиям и личной
карьере», 2) «он сотрудничал с СС в грабежах ценных коллекций диких и
культурных растений во время войны с СССР» и 3) «и даже хлопотал о вступлении
в СС, чтобы облегчить себе работу». Другой немецкий историк — Сюзанна
Хайм (Heim, 2002) пытается документировать эти тезисы, но, на мой взгляд, её
изыскания ни в коей мере не доказывают ни одно из трёх приведённых
утверждений. Я считаю эти утверждения, в особенности второй тезис, — клеветой.
Известно, например, что Красная Армия в последней фазе войны в
большинстве случаев спасла немецкие художественные и научные сокровища (в том
числе и от вандализма некоторых солдат) именнотем, что они были вывезены
в СССР (то, что Россия не хочет возвращать «добычу», является совсем другой
проблемой). Такой же критерий может быть применён и по отношению к
советским ботаническим сокровищам. И Штуббе, и Вавилов были в известном
смысле «диссидентами» по отношению к политическим режимам, при
которых им пришлось жить (Вавилов — по крайней мере с 1938 года); они были
дружны друг с другом и были решительными противниками деструктивной
деятельности Лысенко; Штуббе ещё до нападения Германии на Советский
Союз был хорошо информирован о положении советской генетики, и в
последние годы войны узнал, что Вавилов был арестован и погиб. Я убеждён, что
Штуббе действовал в интересах Вавилова! Я вижу повод для дискуссии совсем
в другом месте: почему российские и немецкие ботаники — исследователи
культурных растений, не садятся сегодня за стол переговоров для того, чтобы
обсудить, как рационально использовать то, что получено — не важно каким
путем — «грабежом» или «спасением»? Это мог бы быть конструктивный
диалог, поскольку в западногерманских институтах должны находиться и другие
«спасённые» СС фонды из СССР Наверное, не надо объяснять, почему Штуббе
в 1951 году не стал передавать Лысенко немногие наличествующие в
институте в Гатерслебене сборы диких и культурных растений.
Теперь обратимся, наконец, к теме этого очерка, а именно к заслугам
Штуббе в орнитологии, зоологии и охране природы в советской
оккупационной зоне Германии и позже в ГДР. Штуббе удалось воплотить свои воззрения
экологически обоснованной охраны природы в сельскохозяйственную
политику послевоенных лет, на которую он уже тогда имел влияние. В 1948 году он
представил в правительство меморандум по теме «Охрана природы» и потре
бовал от советской военной администрации подтверждения сохранения
защитного статуса существующих заповедников (Stubbe M., 2002: 111-119). Он
был одним из первых, кто распознал конфликт между развитием сельского хо-
226
зяйства и охраной природы, его инициативе мы обязаны созданием Института
ландшафтоведения и охраны природы в Галле (который, к сожалению, после
объединения Германии был закрыт). Особенно он интересовался
орнитологической составной частью охраны природы. Он гарантировал существование
орнитологической станции Зебах и всячески содействовал орнитологическим
исследованиям, в частности — основанием станций в Штекби, Нешвитце и
Серране. В научных исследованиях на этих станциях принимал участие ряд
профессиональных орнитологов Восточной Германии и множество
любителей. Все они в значительной мере способствовали успехам восточно-немецкой
орнитологии. Е. Ручке (Rutschke, 1998) дал высокую оцеику заслугам Штуббе
в этой области. Штуббе был охотником и «внештатно» занимался биологией
промысловых животных; деятельность основанной им в 1956 году рабочей
группы охотоведов и исследователей охотничьих ресурсов базировалась на
экологических основах и учитывала в первую очередь проблематику
«пернатой дичи». Деятельность группы Штуббе способствовала тому, что конфликт
между охотой и охраной природы в Восточной Германии не достиг такой
остроты, как на западе. Штуббе содействовал многим зоологическим
исследовательским проектам и вне институтов, которые ему подчинялись. В
торжественном поздравлении по случаю его шестидесятилетия были сказаны
такие слова: «Вы сделали для зоологии больше, чем иные зоологи» (см. также
Stubbe M., 2002: 88-108). Рассказ о важной посреднической миссии Штуббе
для учёных с востока и запада в период холодной войны завёл бы нас
слишком далеко от основной темы очерка, но нужно упомянуть многочисленные
экспедиции в Монголию, организованные Штуббе, результаты которых
позволили западным учёным больше узнать об этой далекой стране.
Штуббе оказал на меня большое влияние, мне импонировала его личность.
В начале 1972 года, зимой, я ехал с ним из Берлина в Гатерслебен на «Волге»
(было очень холодно, печка находилась в середине машины и грела слабо, мы
закутались в одеяло и ехали, как в открытой карете с пологом). Мы говорили
в основном об искусстве. Он был классическим профессором в самом
хорошем смысле этого слова: необходимость исполнения многочисленных
функций и обязанностей выработала в нём особую хватку, он был всесторонне
образован и интересовался многими вещами, отличался внутренней
твёрдостью и спокойствием, которыми мог заражать и других.
Как-то в Берлине, когда я собрался идти в театр Брехта, он отговаривал меня
со словами: «Не ходите, сегодня играют «Войцеха», это слишком печально».
С моей точки зрения, увлечённость и ответственность были главными
чертами деятельности Штуббе в период обеих немецких диктатур; естественно,
что из этого следовала необходимость определённого приспособления, ко-
227
торое не мешало ему, тем не менее, во многих случаях оказывать
мужественное сопротивление обстоятельствам. В частности, это касается периода
его президентства в академии. Так что я не побоюсь утверждать, что Штуббе
нужно от нести к тем очень немногим академикам, которые отваживались
обращаться с критическими инициативами в правительство ГДР. Ему
удалось удивительно много! Этим он заслужил глубокое уважение и
благодарность.
Настоящим триумфом биологических наук, в частности, орнитологии, стало
присуждение Нобелевской премии профессору Конраду Лоренцу/Konrad Lo-
renz (1903-1989), которую он получил вместе с Нико Тинбергеном и Карлом
фон Фришем в 1973 году. Лоренц был членом Немецкого орнитологического
общества с 1927 года, в 1950 году он был избран его почётным членом.
Становление этого выдающегося учёного прошлого века началось в 1920-е
годы. В родительском доме в Альтенберге в пригороде Вены он держал ручных
воронов и наблюдал за их поведением (рис. 62). Состоятельный отец (Адольф
Лоренц, один из создателей ортопедии) был не в восторге от увлечений сьша
и отправил его изучать медицину в Нью-Йорк. Но вскоре Конрад возвратился
в Австрию и продолжил изучение этого предмета в Вене. Он, однако, не
прекратил наблюдений за птицами: продолжал держать воронов, позже гусей и
уток, а также аквариумных рыбок — все они были объектами его
наблюдений. Свои наблюдения Лоренц умел точно и образно описывать; его научные
публикации были понятны и для дилетанта. Стало очевидным, что он
обладает необыкновенной наблюдательностью; он не только видел то, что
ускользало от внимания других наблюдателей, но и умел представить поведение
разных видов в аналитической форме и сравнить друг с другом. Таким образом,
увлечённый наблюдатель птиц стал уже в 1930-е годы основателем нового
направления в биологии — сравнительной этологии (Burkhard, 2001).
Лоренц был с самого начала «одержимым исследователем» — никакие
неблагоприятные обстоятельства (Вторая мировая война, советский плен) не
могли прервать ход его научной мысли и работу. До последних дней жизни
он совершенствовал, углублял и распространял свои идеи и теории.
В сентябре 1940 года Лоренц стал ординарным профессором сравнительной
психологии в Кенигсберге и, таким образом, преемником Эммануила Канта
— он получил место на той самой кафедре, где некогда преподавал великий
философ. У Лоренца есть публикации в русле учения Канта (эволюция
теории познания), а также по философии, этике цивилизации и этологии чело-
228
Рис. 62. Конрад Лоренц с ручными
воронами в саду дома своих родителей в
Алътенберге, 1932 г.
века. Нобелевскую премию он получил по медицине и физиологии, то есть по
областям знания, имеющим отношение к человеку (в области зоологии
Нобелевские премии не присуждаются). С возрастом Лоренц включился также
в движение по охране природы. Орнитология входила в сферу основных
интересов Лоренца на протяжении всей его долгой жизни (Gwinner, 1989; Has-
senstein, 1989,2004; Wuketits, 1990; Wurdinger, 1991; Festetics, 2000).
Конечно, есть и критики учения Лоренца (см., например, Kotrschal et al.,
2001). Но даже критики, как правило, с уважением относятся к основным
идеям Лоренца, и часто конструктивная критика по сути дела представляет
собой вклад в дальнейшее развитие или совершенствование его теорий.
Сравнительная этология стала признанной составной частью биологии,
быстро распространилась и получила признание во всем мире не только у
орнитологов. Великий Джулиан Хаксли ещё до присуждения Лоренцу
Нобелевской премии ходатайствовал за эту новую науку (Huxley, 1963).
В 1973-1974 годах я работал в английском Слимбридже. Когда Лоренц
приехал туда, он посетил парк Wildfowl Trust (самый большой в мире зоопарк
водоплавающих птиц). Он осматривал его вместе с сэром Питером Скоттом,
знаменитым английским исследователем водоплавающих птиц и
основателем парка, и увлеченно обсуждал с ним научные проблемы. Вечером оба
учёных изучали зафиксированное на киноплёнках поведение уток и гусей. Я
мог наблюдать, с каким глубоким уважением Скотт беседовал с Лоренцем. В
229
июне 1978 года во время 17-го Международного орнитологического
конгресса в Берлине я видел Лоренца, который был неразлучен с 88-летним
Жаном Делакуром (ср. стр. 186-194) и оживленно обсуждал с этим знатоком
вопросы содержания и разведения водоплавающих птиц.
Бесспорно, Лоренц был гением и счастливым человеком в одном лице. Но
нельзя не сказать о том, что некоторые публикации и высказывания великого
биолога вызывали негативный политический резонанс. После присуждения
ему Нобелевской премии в средствах массовой информации вспыхнула
дискуссия об отношении Лоренца к национал-социализму, связанная с его
публикациями по теме доместикации и проблеме рас у человека и животных
(Lorenz, 1940a; см. также Lorenz, 19406 и 1943); в статье, опубликованной в
журнале «Der Biologe» (Lorenz, 1940b: 29) он написал:
«В настоящее время многое, пожалуй, зависит от решения вопроса,
научимся ли мы своевременно преодолевать признаки упадка народа и
человечества, возникшие вследствие недостатка естественного отбора. Именно в
этой гонке вокруг «быть» или «не быть» мы, немцы, находимся примерно на
тысячу шагов впереди других культурных народов». Симон Визенталь,
руководитель Центра еврейской документации в Вене, потребовал, чтобы
Лоренц отказался от Нобелевской премии! Лоренц со своей стороны считал,
что его неправильно поняли. Он жаловался: «... нельзя даже употребить слов
«неполноценный» или «полноценный» без того, чтобы тебя сразу не
заподозрили в том, что ты выступаешь за газовые камеры». Он, тем не менее, вы-
гразил «глубочайшее сожаление, что вообще пользовался терминологией
этого времени». Дискуссия закончилась безрезультатно.
Как все было в действительности? Сегодня можно ответить на этот вопрос
более точно, чем тогда: в нашем распоряжении имеются материалы из
нескольких архивов, в том числе из немецких, австрийских, американских и
российских; были опубликованы основательные исследования (Соколов, Ба-
скин, 1992; Deichmann, [1992], 1995: 279-302; Foger, Taschwer, 2001; и др.).
Нет никакого сомнения в том, что на определённом этапе своей жизни Лоренц
питал большие симпатии к национал-социализму. Уже 28 июня 1938 года, то
есть всего через три месяца после «присоединения» Австрии, он ходатайствует
о членстве в НСДАП и обосновывает свое стремление самым
недвусмысленным образом: «Будучи естествоиспытателем и человеком немецкого склада
мышления, я, разумеется, всегда был национал-социалистом и, вследствие этого,
непримиримым противником [консервативно-католического, австрийского]
режима, никогда не вывешивал флаг и не делал пожертвований. По этой причине,
а также из-за идей, содержащихся в моих работах, я имел определённые
трудности с получением звания доцента [...]. Наконец, я могу с полным основанием
230
сказать, что вся научная работа, которой посвящена моя жизнь, сосредоточена
вокруг родовых, социально-психологических и расовых проблем и потому стоит
на службе национал-социалистического мышления». Это заявление Лоренц
делает накануне его назначения доцентом Венского университета в соответствии
с процедурой, предусмотренной новым Уставом. Тем не менее, содержание этого
заявления ни в коей мере нельзя рассматривать, как проявление простого
приспособленчества. Ещё в 1937 году профессор Фриц фон Веттштайн
свидетельствовал (по поводу запроса Лоренца в Немецкое научно-исследовательское
общество о финансировании исследований), что «он [Лоренц] в Австрии никогда
не делал тайны из своей солидарности с национал-социализмом». Профессору
Штреземанну, который никогда не состоял членом НСДАП, Лоренц писал в
частном письме от 26 марта 1938 года: «Я полагаю, мы — авсярийцы — вообще
самые откровенные и убежденные национал-социалисты!». В этих и других
письмах Штреземанну встречаются антиеврейские высказывания (например,
определение евреев как «жадных и асоциальных коршунов»). Австрийский
антисемитизм, имеющий гораздо более длительную историю, чем идеология
нацистов, был, должно быть, крепко укоренён в образе мыслей Лоренца, поскольку
исследователи Фёгер и Ташвер (Foger, Taschwer, 2001: 82-95) приводят ещё
несколько подобных примеров его высказываний.
Ежемесячный журнал «Der Biologe», в редакционный совет которого
входил Лоренц и в котором он публиковал и свои работы, в то время уже не был
«нормальным» научным журналом: с 1939 года (том 8) его соучредителем
стала организация СС «Ahnenerbe» («Наследие предков»). Новый
ответственный редактор, доктор Вальтер Грайте, имел чин хауптштурмфюрера СС,
позже был повышен до штурмбанфюрера. И ещё кое-что: в пространном
«обосновании к назначению» доцента Конрада Лоренца полным
профессором в Кёнигсбергском университете от 1 февраля 1941 года в графе II
отмечено, что он является «сотрудником расово-политического ведомства с
правом голоса». В вопросах веры Лоренц, правда, остается неподкупным. В
вышеупомянутом «обосновании», в графе «вероисповедание» он написал:
«протестант» (самые надёжные и верные партийцы писали в этом месте, в
соответствии с ожиданиями со стороны партии, «верующий»).
Во время споров по поводу присуждения Лоренцу Нобелевской премии
многие из этих фактов были неизвестны. Сам Лоренц отрицал активное
сотрудничество с НСДАП, например: «... я чуждался всякой политики [...], у
меня не было времени для неё» (Brugge, 1988). Это подтверждают и другие
учёные, знавшие Лоренца в 1930-е годы (Deichmann, [1992], 1995: 284-285).
Складывается впечатление, что Лоренц был лишь слепым попутчиком
нацистов или активным конформистом, излагающим на бумаге свои мысли «в
231
духе времени» (смотри также Kalikow, 1980). Ничего хорошего, но за этим в
первое время не следовали никакие действия.
Самые неприглядные страницы биографии Лоренца стали известны только
после его смерти (Deichmann, [1992], 1995: 295-299). Оказывается, в октябре
1941 года, после призыва в армию, его послали в Позен/Познань
(оккупированная часть Польши), где он служил вначале как психолог армии, а начиная с
мая 1942 года по апрель 1944 года — как невропатолог и психиатр в резервном
военном тыловом госпитале. Как раз в это время, пожалуй, нигде не были так
отчётливо видны на практике последствия национал-социалистской
идеологии, как в Позене и Вартеланде (рис. 63). Даже человеку, располагающему лишь
самой скромной наблюдательностью, нетрудно было понять, что именно здесь
происходит! Лоренц, по всей видимости, не захотел ничего видеть. Напротив,
он установил связь с доктором Рудольфом Гиппиусом, родом из Прибалтики,
доцентом психологии университета Рейха в Позене (он был основан в 1941
году, в день рождения фюрера). Лоренц в порядке «общественной работы»
принимал участие в исследованиях Гиппиуса по «оценке психологических и
характерологических качеств немецко-польских гибридов и поляков». Эта работа
была поддержана особым фондом Рейха «Немецкие исследования на Востоке»
(«Deutsche Ostforschung»), президентом которого был гауляйтер и наместник
Рейха в Вартеланде обергруппенфюрер СС Артур Грейзер. Были обследованы
877 немецко-польских «метисов» и поляков в 15 пунктах. Работу вела группа
из десяти психологов (двое из них были на основной должности); в
специальных вопросах им помогали хауптштурмфюрер СС, дипломированный
инженер Шмидт и штурмбанфюрер СС доктор Штрикнер и другие лица. В 1943 году
результаты исследований уже были опубликованы Штутгартским
издательством в Праге при финансовой поддержке фонда Рейнхарда Хейдриха. Данное
исследование исходит из постулата о существовании некой польской и,
соответственно, немецкой специфической наследственной субстанции. Основной
результат, к которому пришёл Лоренц с коллегами: немецкая и польская
наследственная субстанция в значительной мере исключают друг друга. Харак
терологические признаки польской нации неполноценны, а признаки
немецкой нации у «метисов» в значительной степени исчезают (Hippius et al., 1943).
Исследования осуществлялись в русле деятельности «Рабочей группы по
изучению пригодности», то есть с целью внедрения результатов в практику.
Этот эпизод из жизни Лоренца буквально потряс меня. Он никогда не
упоминал о своей деятельности в Познани, и это молчание наводит на
подозрения. Разумеется, он говорил в интервью программе ZDF Германского
телевидения (Muller-Hill, 1984: ПО), что в Познани он впервые увидел
транспорты с цыганами и что только тогда впервые понял, что именно на-
232
Рис. 63. Профессор Конрад Лоренц (второй слева) с
коллективом резервного военного госпиталя Вермахта в Познани, 1942 г.
цисты имели в виду, когда рассуждали о «выбраковке» или «селекции»; у
него «волосы зашевелились на голове» от того, что до этого он был «так
наивен, глуп и доверчив». По его словам, он увидел транспорты только в 1943
году, то есть уже после того, как исследование о «метисах» было завершено
и опубликовано; таким образом, вопрос о том, прекратил ли бы он участие в
этом проекте, если бы узнал правду раньше, остаётся без ответа. Неясно
также, пошёл ли Лоренц на сотрудничество с Гиппиусом добровольно или
его принудили к этому. Сохранилось интересное свидетельство дочери
Лоренца. Однажды она посетила его в Познани и спросила, как можно
проводить исследования на «человеческих гибридах». Яростный ответ отца
ограничился словами, что она «не должна задавать глупых вопросов» (Cranach,
2001: 69). Так что будущий Нобелевский лауреат несомненно знал, в чем
участвует...
Моя личная проблема состоит в том, что я—неисправимый почитатель
этолога, философа и, позднее, — моралиста и пацифиста Лоренца. Поэтому я
пытался найти по меньшей мере смягчающие обстоятельства. Действительно,
этнические преследования поляков, включая изгнание, отправку на
принудительные работы, экзекуции и убийства в Вартеланде (где я тогда жил)
были начаты Грейзером уже осенью 1939 года и проводились в течение
следующих лет в огромных масштабах; до 1942 года «основная работа» уже была
выполнена. Таким образом, исследования, о которых рассказано выше, не
давали повода для этих преступлений, скорее они представляли собой дополни-
233
тельное, «научное» обоснование, прикрытие для них. Но я должен согласиться
— это слабый аргумент, о чём писали также Фёгер и Ташвер (Foger, Taschwer,
2001: 152-153): в связи с Вартеландом они справедливо отмечают, что
«нападение на Советский Союз в 1941 году выдвинуло новые требования к
разработкам по расовым проблемам». Гиппиус написал во вступлении к
исследованию, что оно «позволяет сделать обоснованный научный прогноз воздействий
мероприятий по управлению». И, вероятно, не случайно разработанный
Генрихом Гиммлером «генеральный план Восток», который должен был научно
обосновать и придать легитимность расово-политическому преобразованию
Европы, был одобрен в тот же самый день, когда начались исследования
Гиппиуса в Польше.
С течением времени Лоренц занял двойственную позицию по отношению
к своему нацистскому прошлому: он переформулировал некоторые спорные
высказывания, содержащиеся в его более ранних публикациях, устранил
терми ны и содержание, имеющие отношение к национал-социалистической
идеологии. Однако, он продолжал считать эти публикации и идеи,
высказанные в них, в принципе приемлемыми; на конкретные критические
замечания и упрёки политического характера он обычно отвечал уклончиво или
защищался. К сожалению, он не оставил после себя более глубокую,
самокритичную оценку своего прошлого. Можно предполагать, что причиной
этого были внешние обстоятельства того времени: реставраторский
общественно-политический настрой в Западной Германии (где Лоренц провёл
большую часть жизни в послевоенные годы) склонял его к этой
сдержанности10. Только годы спустя он позволил себе высказывания, которые
свидетельствуют об абсолютном отказе от национал-социализма.
В публикации российских авторов (Соколов, Баскин, 1992) приведены
документы, которые свидетельствуют о том, что процесс отказа от нацизма
начался, возможно, гораздо раньше, уже в советском плену. Авторам этой
публикации удалось найти дело военнопленного Лоренца в Московском архиве
(В.Е. Соколов был одним из известных советских биологов, он часто бывал в
Германии, где встречался и с Лоренцем). В деле Лоренца имеются два
протокола допросов с его ответами на вопросы и подписью — от 14.02.1945 г.
(лагерь в Кировской области) и от 5.02.1947 г. (лагерь в Армении).
Лоренц попал в плен под Витебском 28 июня 1944 года и до декабря 1947
го да находился в различных советских лагерях (рис. 64). Сначала он
работал на заводе, потом лагерным врачом. На допросе 14 февраля 1945 года он
указал, что он — австриец, родной язык — немецкий; национал-социалист;
10 Представление об обстановке в ФРГ этого времени можно также почерпнуть из книги Г.
Ионкис «Евреи и немцы», СПб., 2006. — прим. перев.
234
Рис. 64. Конрад Лоренц в советском
плену у 1947г.
верующий, а на допросе 5 февраля 1947 года: «Кандидат
национал-социалистической партии, без вероисповедания».
Из других источников известно, что Лоренц во время своего пребывания в
лагере для военнопленных в Армении находился в весьма хороших
отношениях со своим начальником — врачом, майором Иосифом Грегоряном (он был
ортопедом и знал вклад отца Лоренца в развитие этой отрасли медицины). Так
что Лоренцу даже позволялось делать доклады перед другими пленными и
работать над научной рукописью. В 1947 году Лоренца перевели в последний
лагерь (в Красногорск под Москвой) с относительно мягким режимом, где в
числе заключённых были и антифашисты. По-видимому, он оказался здесь по
рекомендации начальства армянского лагеря, которое дало ему отличную
характеристику (от 19 сентября 1947 года). В ней в числе прочего есть такие
слова: «Военнопленный Лоренц Конрад Адольфович характеризуется
положительно, дисциплинирован, к труду относится добросовестно, политически
развит, принимает активное участие в антифашистской работе и пользуется
доверием и авторитетом среди военнопленных. Прочитанные им лекции и
доклады заслушиваются военнопленными с охотой [...]. Владеет большим
кругозором в теоретических вопросах, а также в политике ориентируется
правильно («правильно» — в смысле понимания лагерного начальства — прим.
автора). Является агитатором лагерного отделения, проводит агитационно-
массовую работу среди военнопленных немецкой и австрийской националь-
235
ностей [...]. Компрометирующими материалами на Лоренца К.А. мы не
располагаем». В деле Лоренца есть также два экземпляра (копии, сделанные под
копирку) напечатанной по-немецки на пишущей машинке рукописи его
большой книги, которую ему при освобождении в 1948 году разрешили взять с
собой. Книга называется «Введение в сравнительное исследование
поведения» («Einfuehrung in die vergleichende Verhaltensforschung»).
Лоренц подробно написал об истории возникновения «русской
рукописи» и о том, как ему удалось получить согласие взять её с собой в
Австрию (см., например, Lorenz, 2003: 82-85). Свою «антифашистскую»
работу в лагере он описывает в 1973 году так: «Я имел [там] возможность
наблюдать очевидные параллели между психологическим воздействием
национал-социалистского и марксистского воспитания. Именно тогда я
начал понимать сущность [воздействия] доктрины как таковой» (Foger,
Taschwer,2001: 171).
Какие из высказываний Лоренца, иногда противоречивых, являются
правдой? Лагерная характеристика, в которой он назван чуть ли не
антифашистом, представляется мне в некоторой мере просто благожелательным
заключением, написанным в духе советской идеологии. Истинные же чувства
Лоренца, как я полагаю, в более достоверной, но, к сожалению, слишком
краткой форме, изложены в приведенном выше высказывании 1973 года о
сходстве механизмов воздействия идеологических систем на процессы
формирования личности и отражены в двух фразах: 1945 год— всё ещё «нацио-
ннал-социалист» (!), 1947 год — уже только «кандидат
национал-социалистической партии».
После возвращения на родину в Австрию Лоренц сразу же продолжил
свою научную работу и публицистическую деятельность. В 1951 году
общество Макса Планка предоставило ему институт в Германии. Интенсивная
исследовательская работа, десятки аспирантов и учеников полностью
заполняли каждый день его послевоенной жизни. Он писал новые книги, которые
всегда поставляли материал для размышлений и интеллектуальных споров.
Нобелевская премия и уход на пенсию в 1973 году нисколько не отменили его
научной и публицистической деятельности. В последующие годы он много
занимался общественной деятельностью. Его работы переводились на разные
языки, он путешествовал за границу. Правда, в Советский Союз он ехать не
хотел: В.Е. Соколов рассказывал мне, что в 1977 году, после того как вышли
переводы книг Лоренца на русский язык, он пригласил учёного в СССР. Книги
Лоренца были очень популярны в Советском Союзе, и приезд их автора стал
бы настоящей сенсацией. Но Лоренц отказался, он улыбнулся и задумчиво
ответил: «Мне уже приходилось бывать в Вашей стране...».
236
Рис. 65. Шведский король Карл XIV Густав вручает профессору
Конраду Лоренцу Нобелевскую премию, 10 декабря 1973 г.
В 1978 году я имел возможность лично поговорить с этим выдающимся
учёным, он произвёл на меня глубокое впечатление. Я беседовал также с
некоторыми его докторантами, один из них (он работал с Лоренцем пятнадцать
лет!) заверил меня, что Лоренц в послевоенные годы совершенно не
испытывал никаких симпатий к антисемитизму. Благодаря своей общественной
деятельности престарелый Лоренц заслужил в конце 1970-х — начале 1980-х
годов огромный почёт и уважение среди экологов и деятелей охраны
окружающей среды (Amberg, 1977; Weinzierl, Lotsch, 1988; Wuketits, 1990: 210).
Он снова стал проявлять интерес к политике и выражать свое отношение к
ней. Например, по поводу демократии он писал: «В сущности, эта форма
правления — жалкое, неудовлетворительное решение, но при всех возможных
формах правления — наилучшая из тех, которыми мы располагаем» (Lo-
renz/Mundl, 1991: 218). По поводу диктатур: «Силой, как известно, ничего не
добиться. Там всегда возникает эффект противодействия, и с террором мы бы
снова оказались у Адольфа Гитлера» (там же: 222). Лоренц опасался новой
войны. Он предостерегал от пагубной гипертрофии агрессивного инстинкта
и соответственно прогрессирующего снижения естественного, внутреннего
тормозного порога агрессии у современного человека, поскольку он может
путём создания «искусственного», технически всё более нового оружия
выступать против себе подобных и грозить всему человечеству. Я верю этим
высказываниям Лоренца. Он был чрезвычайно умным человеком, но даже ему
не удалось избежать некоторых фатальных заблуждений. Но он всё же сумел
преодолеть их, а ведь очень многие этого сделать так и не смогли.
237
Биография Лоренца даёт материал по важным вопросам из области
познания поведения человека. Почему большинство людей не могут честно
признать заблуждения и поступки более ранних фаз жизни и открыто
проанализировать их? Даже самые умные из нас? Лоренц даёт ответ на этот
вопрос: «Человеческий разум создаёт такие условия, которым уже не
соответствуют естественные задатки человека» (Lorenz, 1983: 13).
* * *
Познань — родной город известного учёного, профессора Яна
Соколовского/Jan Sokolowski (1899-1982), который очень много сделал для
польской зоологии и, в частности, для орнитологии. Как и Лоренц, он с 1927 года
был членом Немецкого орнитологического общества, работал в различных
областях орнитологии (он, в том числе, автор двухтомной книги «Птицы
Польши»). Кроме того, он был замечательным педагогом, опубликовал
большое число научно-популярных трудов и часто выступал в радиопередачах о
птицах, что способствовало распространению и популяризации
орнитологии в Польше. Соколовский был талантливым фотографом и художником-
анималистом. В 1917-191$ годах он учился в Мюнхене у профессора
Генриха фон Цюгеля, художника-анималиста, импрессиониста и одного из
учредителей ассоциации Мюнхенского сецессиона11. Соколовский был
знатоком и любителем музыки, прекрасно знал голоса птиц и умел подражать им.
Он закончил Биологический факультет университета Познани в 1925 году
и провёл в этом городе большую часть своей жизни. Он всегда держал дома
птиц и любил пересвистываться с ними. Содержание птиц не давало
возможности надолго отлучаться из дома, поэтому он почти не принимал участия
в конференциях и конгрессах. Соколовского интересовало поведение птиц,
он занимался этологией уток, в частности, исследовал поведение гоголя (Ви-
cephala clangula), которого Лоренц не включил в своё новаторское
исследование по сравнительному анализу движений уток (1941 год), поскольку этот
вид в то время ещё не встречался в Австрии. Соколовский мог бы стать
интересным собеседником для Конрада Лоренца по обсуждению моторики уток.
К сожалению, во время пребывания Лоренца в Познани немцы уже уволили
Соколовского из университета; в январе 1940 года у него было конфисковано
имущество, и он был выселен в так называемое Генеральное губернаторство12.
Там его определили на работу в лесничество (Szczepski, 1974; Bereszynski,
11 Объединения немецких и австрийских художников-модернистов конца XIX — начала XX века.
— прим. перев.
12 Название центральной Польши во время фашистской оккупации 1939—1945 гг. — прим. перев.
238
Рис. 66. Профессор Ян Соколовский из
Позена, 1950 г.
Wronska, 2002). В списке членов Немецкого орнитологического общества
1941 года ещё можно увидеть его имя, но уже без адреса...
Перед войной Соколовский поддерживал тесные контакты с ведущими
немецкими орнитологами. Книгу «Птицы Средней Европы» Оскара Хей-
нрота он почитал как «орнитологическую Библию»; по анатомическим и
гистологическим вопросам своей работы он консультировался со Штреземан-
ном. Весной 1927 года по приглашению Ханса фон Берлепша он посетил
Станцию охраны птиц Зебах в Тюрингии. Вернувшись в Польшу, он с
успехом пропагандировал научные основы охраны птиц, сконструировал и
запатентовал дуплянки для птиц и даже организовал производство дуплянок
Берлепша в мастерских одной из польских тюрем13. Через много лет, когда я был
студентом, Соколовский с удовольствием вспоминал, как он ехал через всю
Германию в скором поезде первого класса в Тюрингию на встречу с
престарелым фон Берлепшем и какой чудесной оказалась эта встреча.
13 Доктор Ганс фон Берлепш/Hans von Berlepsch (1857—1933) занимался проблемами
практической охраны птиц. Он разрабатывал и внедрял различные типы гнездовых ящиков,
специальные живые изгороди и т.п. для привлечения птиц на гнездование и их зимней
подкормки. Особое внимание Ъерлепш уделял защите лесов и сельскохозяйственных угодий от
насекомых-вредителей при помощи насекомоядных птиц. В 1899 году он опубликовал книгу
«Охрана птиц», которая выдержала в Германии 12 изданий. В своем замке Зебах в Тюрингии он
создал станцию охраны птиц, которая существует до сих пор. — прим. перев.
239
События военного времени и оккупации подорвали его душевные силы; но
он выжил, и в начале 1945 года возвратился на своё место работы в Познани.
Одной из его первых послевоенных публикаций была книга «К биологии птиц»
(«Z biologii ptakow»), вышедшая в свет в 1950 году. На ней выросло целое
поколение послевоенных орнитологов; я также долгое время находился под
обаянием этой книги. В неё вошло много сведений о поведении птиц. Новая
политическая ситуация в Польше отразилась и на процитированной в книге
литературе: Соколовский ссылается на многих русских и советских авторов.
Но в книгу вошли и переводы отрывков некоторых текстов Хейнрота и Штре-
земанна. В одном месте есть (заново перерисованная) иллюстрация из статьи
Лоренца «Инстинкты серого гуся» (Zeitschrift ffir Tierpsychologie, 1938),
которая дана без указания источника! Соколовский знал, что Лоренц служил в
Познани во время войны, и в послевоенное время труды учёных, которые
сотрудничали с нацистами и служили на территории Польши, не цитировали (сегодня
это трудно понять). Дело было не в цензуре, это был настрой самих учёных. С
тех пор настроение изменилось, и следующее поколение польских орнитологов
оценивает работы учёных, сотрудничавших с нацистами, прежде всего с точки
зрения их научного содержания. В качестве примера можно привести работу
Нитхаммера о птицах Освенцима (ср. стр. 82, 83), которую некоторые поляки
цитируют — например, Дирч и др. в «Птицах Силезии» (Dyrcz et al., «Ptaki
Sl^ska», 1991) и Л. Томялойч «Птицы Польши» (Tomialojc «Ptaki Polski», 1990).
У самого Соколовского, видимо, сохранялась скрытая симпатия к
немецким орнитологам, на что указывает один курьёзный факт, имеющий,
наверное, связь и с личным честолюбием (кто из нас не лишён его?). В
послевоенной Польше Соколовский оказался единственным активно работающим
орнитологом, имеющим звание профессора, кроме престарелого и больного
профессора Й. Доманевского. Видимо, по этой причине краковский суд в
1947 году обратился к Соколовскому с просьбой дать заключение о Нитхам-
мере (ср. стр. 89). В своём положительном заключении Соколовский написал,
что он не знал Нитхаммера лично, но нашёл возможным упомянуть о том,
что: «В 1936 году я получил частное письмо от господина Нитхаммера с
просьбой о некоторых научных сведениях. Мой ответ был использован Нит-
хаммером в его работе «Птицы Германии» с указанием моего имени». Судьи
в Кракове благосклонно приняли это к сведению...
* * *
Хочу немного рассказать и о судьбе ещё одного польского зоопсихолога и
орнитолога — профессора Романа Войтусяка/Roman Wojtusiak (1906-
240
Z0OLOOISCHE3 INST1TUT Mu^nT.M. *n Я'.3.*?***^ 1932
ВВЛ UNIVEftSlTAT MUNCHEN
гевмзРйвснва oioao
Eerr Dr. ffojtusiak arbeitat seit Anfang Juni in meinem Institut liber
eine sinnesphysiologieche und biologische Frage an Bienen. £r bat die
Tersuche sehr geschickt .angestellt und arbditet mit auseergewcihiilicnea
Fleias.
Рис. 67. Отзыв профессора Карла фон Фриша о Романе Войтусяке:
Зоологический институт университета Мюнхена.
13 сентября 1932 г.
(Перевод: Господин доктор Роман Войтусяк работает в моём
институте с начала июня и занимается изучением поведения пчёл. Он
ставит эксперименты с большим мастерством и работает с
выдающимся усердием).
1987) из Ягеллонского университета в Кракове (Wojtusiak, 1978; Harmata,
1989; Seyfarth, Pierzchala, 1992). Он был в числе тех учёных, которые уже в
1930-х годах начали заниматься экспериментальным исследованием
способности к ориентации у птиц, летучих мышей и насекомых. В молодости
Войтусяк немало времени провёл за границей, в частности в 1931-1932 годах
работал в Гёттингене у профессора Альфреда Кюна и в Мюнхене у
профессора Карла фон Фриша (рис. 67).
В 1939 году началась война, и его исследовательские работы были
прекращены. Вскоре, уже при немецкой оккупации, произошло худшее. Шеф Гестапо
Кракова, доктор Бруно Мюллер, предписал всем научным сотрудникам высших
учебных заведений Кракова 6 ноября 1939 года явиться на собрание, на
котором он должен был делать доклад «Отношение Третьего Рейха и
национал-социализма к науке». Около двухсот учёных последовали этому предписанию.
Доцент Войтусяк немного опоздал; перед входом в здание стояла охрана
в униформах. Войтусяк показал приглашение, и его пропустили. Вместо
доклада объявили, что все присутствующие арестованы, в зал вошли солдаты
СС, проводили всех участников «собрания» мужского пола (их было 183
человека) к заранее приготовленным грузовикам и отвезли в краковскую
тюрьму; через три дня их отправили в Бреслау (в группе арестованных были
241
КодпйнШопвкцег Фофан
А, f. Sajtembar 1940.
6ttf(affttti0*f6eiti.
3>tc edptfpftgcfimga
Roman Woytuelak
, 28.12.06
«mt
.d.Sipc uld.SD Erakau вот 1?»в»40
Sr hat aich uogehend beim Komoandeur der Sicher-
ltt Krakau, Ponoreka 2, Ziamer 302. га «elden,
V*^l GrenzUbertritt га flewllhren.
Hlhrer. \У
K-Oberaturfflftthrer.
d
Pwc. 68. Редкий документ: справка об освобождении доктора
Войтусяка из концлагеря Дахау.
22 биолога). Вскоре почти все были направлены в уже и без того
переполненный концентрационный лагерь Заксенхаузен около Берлина. Известие об
этой акции достигло многих стран: английские, французские, швейцарские
"и австралийские газеты подробно сообщали об этой экзекуции; несколько
учёных из Италии, а также и из Германии (в том числе Нобелевские лауреаты
Макс фон Лауе и Отто Хан) обращались в органы власти в Берлине. После
этого некоторые арестованные (из тех, кто ещё оставался в живых) были
отпущены. Но Войтусяка не освободили; в начале марта 1940 года он был
отправлен в концлагерь Дахау около Мюнхена.
Тогда остававшаяся в Кракове жена Войтусяка обратилась за помощью к
многочисленным знакомым и коллегам учёного в Германии. Ответил только
один человек — профессор Карл фон Фриш из Мюнхена (возможно, ещё не
предполагая, что его самого вскоре ждут репрессии). Фриш нашёл способ,
чтобы оказать Войтусяку помощь: он известил профессора Альфреда Кюна в
Гёттингене, бывший ученик которого — хауптштурмфюрер СС доктор
Вальтер Грайте — руководил в Мюнхене «Исследовательским отделом по
биологии» организации СС «Ahnenerbe» («Наследие предков») и был редактором
журнала «Der Biologe», в редакционном совете которого состоял Лоренц.
Альфреду Кюну удалось убедить своего бывшего аспиранта, офицера СС Грайте
лично обратиться в комендатуру концлагеря Дахау. Это привело к неожидан-
242
Рис. 69. Профессор Роман Войтусяк из
Кракова, 1964 г.
ному успеху: Войтусяк (и ещё несколько польских учёных) в сентябре 1940
года были освобождены (рис. 68)! Такое могло произойти только однажды,
так как многочисленные ходатайства возмутили генерал-губернатора Польши,
доктора Ганса Франка; в мае 1940 года в своем служебном журнале он
сформулировал обращение к офицерам полиции (Praeg, Jacobmeyer, 1975): «Возня
и неприятности, которые мы имели с краковскими профессорами, была
отвратительна. Если бы мы руководили делом отсюда, оно пошло бы иначе.
Обращаюсь к вам с настоятельной просьбой больше не отправлять никого в
концентрационные лагеря Рейха, а вместо этого проводить ликвидацию на местах
[то есть в Генерал-губернаторстве] или назначать иные, предписанные
законом штрафы». (И в самом деле, уже в июле 1941 года, после оккупации
Львова/Лемберга, были расстреляны без суда и следствия прямо «на месте»
профессора, среди них и биологи, всего 21 человек).
После освобождения из Дахау Войтусяк должен был регулярно отмечаться
в полиции и в СД14 в Кракове. Он поблагодарил профессора фон Фриша,
который послал ему адрес доктора Грайта с советом написать ему
благодарственное письмо. Войтусяк сделал это, причём спросил в письме, как он
может отблагодарить Грайта за помощь.
SD — служба безопасности в фашистской Германии. — прим. перев.
243
Войтусяк стал куратором коллекции в Музее естествознания, нелегально
он читал лекции по зоологии в Краковском подпольном университете. После
войны Войтусяк получил место профессора в Ягеллонском университете. К
сожалению, он прекратил орнитологические исследования и стал заниматься
насекомыми, вероятно, под влиянием своего спасителя профессора Фриша.
Ответ на благодарственное письмо Войтусяка Грайту пришёл только в 1946
году. Писала жена Грайта, которая жила в Германии, в маленькой деревне под
Гёттингеном. Она была больна, ожидала шестого ребенка и просила о
помощи: в конце августа 1946 года её мужа арестовали британские
оккупационные власти. Профессор Фриш, который теперь работал в университете
города Граца, тоже обратился к Войтусяку. Вощусяк сразу же отозвался и
написал несколько писем: польскому консулу в Брауншвейге, в Министерство
иностранных дел в Варшаве и британскому коменданту 3-го лагеря для
интернированных в Фаллингбостеле, где содержался Грайте. Тем не менее, дело
оказалось более сложным и потребовало больше времени, чем освобождение
самого Войтусяка шесть лет тому назад. Только в апреле 1948 года профессор
Войтусяк получил письмо от польской военной армейской миссии в
британской оккупационной зоне в Бад-Зальцуфлене с сообщением, что доктор
Грайте 30 января 1948 года был освобожден из лагеря. Британский суд,
который состоялся в январе 1948 года, приговорил Грайте к трём месяцам тюрьмы
с зачислением времени предварительного заключения...
Когда речь идёт об исследователях поведения животных, нельзя не
вспомнить всемирно известного зоолога, орнитолога и писателя профессора Берн-
харда Гржимека/Bernhard Grzimek (1909-1987). Его интерес к
орнитологии появился очень рано. Ещё будучи в гимназии, в своем родном городе
Найсе (ныне Ныса) в Верхней Силезии, он успешно разводил редкую породу
антверпенских карликовых кур. Он получил ветеринарное образование, с
начала 1933 года работал в Прусском министерстве сельского хозяйства в
Берлине на рутинной административной работе. Он должен был осуществлять
контроль за выполнением предписаний министерства относительно
производства и продажи куриных яиц крестьянскими хозяйствами. Это занятие
вовсе не казалось ему скучным. Напротив, он умудрился найти научный
подход к этой теме и написал три книги о домашних птицах!
После войны Гржимек начал работать в Африке и по-настоящему увлёкся
исследованиями диких млекопитающих и птиц. В 1951 году он вступил в
Немецкое орнитологическое общество, в 1954 году — в Териологическое об-
244
щество (см. его автобиографию, вышедшую в 1974 году, а также Helbok,
1987; Klos, 1988).
Будучи студентом, я с увлечением читал книги Гржимека, уже изданные к
тому времени на польском языке, а будучи в ГДР часто смотрел
телевизионные передачи с его участием. Впервые я познакомился с ним лично в 1969
году, во время Международного конгресса в Москве, и был приятно поражён,
когда он во время организованной конгрессом экскурсии в Сибирь пригласил
меня вечером за его столик в гостиничном ресторане в Иркутске. Одну из его
книг как раз перевели на русский язык, и он намеревался освободиться здесь
от весьма значительной, но не конвертируемой суммы гонорара в рублях. Он
оказался полонофилом и рассказывал мне о своих многочисленных
родственниках — Гржимеках, в том числе и о тех, что жили в Польше, и о своих
переживаниях во время поездок в эту страну. В Кракове он встретился с
профессором Йержи Гржимеком, и они установили, что их общий прапрадедушка
в 1683 году сражался под Веной с турками (Zlotorzycka et al., 1988).
В 1939 году Гржимек не верил, что дело дойдёт до войны, но вскоре,
однако, ему пришлось солдатом вступить в Польшу.
После нашего знакомства в Сибири Гржимек пригласил меня во
Франкфурт, и мы продолжали наши разговоры в его зоопарке и дома. Гржимек
увлёк меня нестандартным образом мыслей и разнообразием идей; иногда
они были весьма необычны, но ему всегда удавалось получать осязаемые
результаты из самых невероятных проектов. В осуществлении большинства
идей ему помогало свойство, которое я бы назвал «вежливой
настойчивостью» или даже «вежливым упорством». Его рассказы в непринужденной
личной беседе звучали ещё увлекательнее, чем по телевидению. Свою
необыкновенную продуктивность он объяснил мне тем, что ему просто требуется
очень мало времени для сна. Он никогда не участвовал ни в какой партийно-
политической работе, но с ранней юности у него было ясное и «здоровое»
отношение к политике. В последние месяцы существования Веймарской
республики Гржимек попал на прусскую государственную службу по протекции
одного каноника из Бреслау, который был депутатом Рейхстага. После
захвата власти Гитлером это обернулось многими трудностями. Он попал в поле
зрения Гестапо, побывал на допросах, но в конце концов его оставили в покое.
Надо заметить, что к началу 1930-х годов Гржимек уже достиг большой
популярности, что, конечно, помогало ему обходить различные политически
преграды. Более десяти лет он регулярно писал статьи о животных для
известного еженедельника «Griine Post» («Зеленая почта»), а позже для «Illu-
strierte Blatt» («Иллюстрированная страница»).
С юных лет Гржимек слыл прекрасным знатоком лошадей, поэтому
командование Вермахта, воодушевленное многочисленными победами первых лет
245
войны, решило, что он мог бы провести полезные для армии исследования по
лошадям. Он усердно взялся за это (хотя и был тайным пацифистом) и
принялся расписывать начальству свои идеи: в частности, он хотел исследовать
способность этих животных находить дорогу домой для того, чтобы
«сократить убыток армейских лошадей во время будущих победоносных сражений на
просторах степей южной России». Ему поручили провести эти исследования
на польском конном заводе Янув Подласки. Гржимек говорил мне, что с
самого начала войны никогда не верил в победу Германии; кроме того, он уже
тогда хорошо знал, что лошади не способны возвращаться домой с далёких
расстояний. Но ему удалось таким образом сохранить ценный конный завод
(там разводили арабских лошадей) и защитить часть польского персонала. Ещё
долго время после войны он поддерживал контакты с друзьями из Янува.
Но когда рейхсфюрер СС сделал ему заманчивое предложение принять
профессуру в университете Рейха в Позене/Познани и заняться изучением
поведения боевых собак, он отказался.
Рассказы Гржимека о его работе в Африке великолепны. Меньшей
известностью пользуется его деятельность в Средней и Восточной Европе (мне
кажется, он сам недооценивал её).
Политическая ситуация послевоенного времени была такова, что в
странах «восточного блока» для многих учёных-биологов, да и вообще людей,
интересующихся природой, книги и фильмы Гржимека служили настоящим
окном в мир. Примечателен в этом отношении эпизод, случившийся на
конгрессе биологов-охотоведов в Москве: один из советских функционеров
попросил Гржимека одолжить плёнку продемонстрированного им фильма об
африканских животных, чтобы его смогла посмотреть семья первого
секретаря ЦК КПСС Брежнева...
Гржимек всегда умело избегал политических тем в своих работах, поэтому
цензура обычно не имела никаких возражений против переводов его книг и
показа фильмов. Можно сказать, что он «контрабандой» провозил новые идеи
охраны природы в социалистические страны, где они в то время ещё не были так
популярны, как на Западе. Именно в 1960-е годы СССР начал осторожно
открываться для кооперации с западом в области охраны природы; может быть,
показ фильма в квартире Брежнева в Москве в какой-то мере способствовал
этому? Гржимек пользовался в СССР большим уважением. Об этом
свидетельствует тот факт, что через несколько лет после конгресса он был избран
почётным профессором Московского университета. Лоренц с полным
основанием назвал Гржимека «одним из главных проповедников охраны природы».
Гржимек играл важную роль и в «немецко-немецком» диалоге. Приведу
один пример. Я уже упоминал о том, что Гржимек пригласил меня в ресто-
246
Рис. 70. Профессор Бернхард Гржимек в
Африке, 1950-е годы.
ран в Иркутске, где мы вместе с профессором Ручке пили «Советское
шампанское». По случайному совпадению в Иркутске в это самое время
проходила «неделя культуры ГДР», и в ресторане присутствовали хористы
студенческого хора из ГДР. Увидев Гржимека, они внезапно запели «Gaudeamus
igitur» в знак радости от личной встречи с ним! В ГДР Гржимека очень
ценили: университет Гумбольдта присвоил ему в 1960 году звание почётного
доктора, а его журнал «Das Tier» был одним из немногих западных
печатных изданий, разрешённых на востоке. Это произошло благодаря тому, что
министр культуры ГДР Ганс Бентцин видел — благо, он не нуждался в
разрешениях, — все фильмы Гржимека по западному телевидению!
В жизни Гржимеку сопутствовала удача. Дома у него на книжной полке рядом
с 13-томным изданием «Жизни животных Гржимека» красовался «Оскар»,
который он получил в 1959 году за фильм «Серенгети не должен умереть». Это был
первый «Оскар», присуждённый немцу за документальный фильм. Мне
разрешено было взять в руки позолоченную статуэтку, а Гржимек в это время с
удовольствием рассказывал, что в Голливуд были приглашены все
номинированные кандидаты, но имена лауреатов должны были огласить только во время
торжественной церемонии. Один из тележурналистов изучал ещё
конфиденциальную бумагу, и Гржимек случайно услышал, как тот спросил коллегу: «Как
произносится эта фамилия?», — так он узнал, что тоже есть в списке!
247
Рис. 71. Могила профессора Бернхарда
Гржимека и его сына Михаэля на окраине
кратера Нгоронгоро в Танзании, 1998 г.
Несмотря на многочисленные успехи, жизненный путь Гржимека не был
совершенно безоблачным: например, в 1947 году ему пришлось предстать
перед американским военным судом, поскольку он не указал в анкете, что в
1937 году вступил в национал-социалистическую партию (НСДАП). После
^окончания войны картотека НСДАП в Мюнхене попала в руки американцам,
в ней была и членская карточка Гржимека. Он вступил в НСДАП отчасти под
давлением, отчасти для того, чтобы Гестапо оставило его в покое, но, во
всяком случае, не по убеждению. Кроме того, он был только «кандидатом», а не
членом. Тем не менее, в начале 1947 года в «Биржевом бюллетене немецкой
книготорговли» американцы опубликовали указание для издательств и
редакций газет: им запрещено было издавать книги и статьи Гржимека!
Правда, судебный приговор был мягким: штраф в размере одной имперской
марки. Подсудимый оправдался тем, что принимал участие в Сопротивлении.
По этому поводу он сказал мне: «Это неправда. Хотя я действительно помог
многим людям, но совершенно не был героем — я боялся за свою жизнь».
Однажды мы случайно заговорили на тему смерти, и Гржимек сообщим мне,
что он завещает, чтобы его тело было отдано на съедение хищникам в
африканской саванне. Это желание было исполнено только частично: его похоронили на
краю кратера Нгоронгоро, одного из красивейших мест Африки, рядом с его
сыном Михаэлем, который в 1959 году погиб там в авиакатастрофе (рис. 71).
248
* * *
Меня всегда привлекали истории жизни тех учёных, деятельность которых
не замыкалась в стенах лабораторий и кабинетов, а была связана с
посещением обширных, труднодоступных и плохо изученных географических
областей. В первой половине XX столетия к таким учёным относились, в
частности, орнитологи. Для некоторых из них Европа была уже слишком тесна и
скучна; их неудержимо влекли к себе неизведанные просторы далекой Азии.
В 1957 году в орнитологическом отделении Зоологического музея в Берлине
мне довелось встретиться с представителем этой плеяды исследователей. Это
был профессор Ганс Христиан Иогансен/Hans Christian Johansen (1897-
1973) из Дании, автор большого труда «Орнитологическая фауна Западной
Сибири» («Vogelfauna Westsibiriens»), над продолжением которого он тогда
ещё работал. Это был скромный человек; в музее он просматривал тушки
птиц. Сначала я принял его за посетителя из России; я не совсем ошибся, так
как, будучи датчанином, Иогансен был по своей сути настоящим
«сибиряком». Приведу здесь только краткий очерк его необычного жизненного пути
(Loppenthin, 1974; Palmer, 1975; Gebhardt, 1980: 26-27; Wolff, 1981).
Иогансен происходил из семьи датчан, проживавших в латвийском городе
Риге; Латвия в то время входила в состав Российской империи. В эстонском
Ревеле (теперь Таллинн) Иогансен посещал немецкую гимназию. Он собирался
изучать естествознание в Санкт-Петербургском университете, но
великолепные города Балтики не соответствовали его представлению о жизни и
деятельности настоящего биолога. Поэтому в 1916 году он отправился в старинный
русский город Томск, чтобы стать студентом самого старого сибирского
университета. В университете он нашёл руководителя в лице профессора
немецкого происхождения Германа Иоганзена (Hermann Johansen) (не родственника
Ганса Иогансена!)15. Г.Э. Иоганзен занимался сравнительной анатомией, его
основным объектом были птицы; он отнёсся к Г Иогансену по-отечески и очень
опекал его. Одного только обучения в университете показалось Иогансену
недостаточным, и он в 1917 году за собственный счёт отправился в свою первую
орнитологическую экспедицию в Барабинскую степь. Но вскоре наступило
трудное время: в результате революции и гражданской войны Томск оказался
отрезанным и от Европейской России, и от заграницы. От родителей не
поступало больше ни писем, ни денег, поэтому Иогансен должен был искать
заработок. Ему пришлось побывать и гардеробщиком, и лесорубом, и даже пиани-
15 В русскоязычной литературе принято написание фамилии Германа Иоганзена через «з» — в
отличие от Ганса Иогансена. — прим. переб.
249
стом-аккомпаниатором. Но вопреки всему в феврале 1918 года по его
инициативе было основано Томское орнитологическое общество. В этом же году
Красная Армия приблизилась к Томску, в городе начались беспорядки. Иогансен
продал все своё имущество и уехал на Алтай, где хотел продолжать
орнитологическую работу. Это удалось только отчасти. Ситуация сложилась таким
образом, что ему пришлось присоединиться к партизанам и провести с ними
почти целый год. Тяготы существования в тайге не пугали Иогансена, он
быстро усвоил приёмы выживания сибиряков: так, например, даже зимой
ночевали под открытым небом. Вечерами разжигали костёр между двумя большими
бревнами, а потом ложились спать у нодьи. На Алтае Иогансен одно время
работал учителем в деревенской школе, был пастухом яков и лошадей, столяром
и даже бухгалтером. Наконец, он смог присоединиться в качестве зоолога к
экспедиции из Москвы. Он работал препаратором — изготавливал тушки птиц.
В конце концов Иогансен попал в Бийск, где он организовал и возглавил
естественнонаучное отделение в местном краеведческом музее. Здесь в 1920
году его неожиданно посетил какой-то хорошо одетый господин, который
представился датским дипломатом и сообщил, что он прибыл по поручению
отца Иогансена, живущего в Эстонии (Эстония стала между тем независимой
страной), чтобы помочь ему покинуть Россию. Господин был весьма
удивлён, когда Иогансен отказался. Причиной отказа Иогансена послужило то,
что своё будущее он видел в Сибири; он полагал, что новые власти будут
больше поддерживать науку, чем старый режим. И в самом деле, в том же
году он получил вызов: его приглашали обратно в Томск, где он мог
продолжить учёбу за государственные средства. Сначала всё шло хорошо, число
членов Орнитологического общества росло, научная работа продвигалась,
коллекция тушек птиц выросла почти до 3 000 экземпляров, были начали
работы по кольцеванию птиц. Но материальные условия становились всё более
тяжёлыми, суровая зима усугубляла положение.
Когда правительство Советской России издало декрет, согласно которому
иностранцы могли покинуть страну за государственный счёт, Иогансен
решил воспользоваться этой возможностью и после долгого и
утомительного путешествия через Москву и Петроград выбрался в Эстонию. В 1921
году он снова был в Таллинне/Ревеле, в городе своей молодости. Однако
оставался он там недолго — вскоре он стал студентом в Мюнхене. В 1923
году он вступил в Немецкое орнитологическое общество и в 1925 году
защитил кандидатскую диссертацию о Байкале (наверное, лучшая тема,
которую может предложить Сибирь биологу).
В Мюнхене Иогансен познакомился со Штреземанном. Мэтр призывал
молодого исследователя продолжать работу по орнитофауне Сибири и, в част-
250
Рис. 72. Профессор Ганс Христиан
Иогансен из Копенгагена, 1961г.
ности, советовал сосредоточить внимание на подвидовой систематике
обитающих там птиц. Но Иогансен, собственно, и не нуждался в подобной
стимуляции: в Мюнхене он впервые почувствовал, насколько сильно он
«инфицирован сибирской бациллой». Вскоре с датским паспортом он возвратился в
Томск. Объявленная четыре года назад в Советской России «Новая
экономическая политика» (НЭП) значительно улучшила положение, иностранцев
встречали приветливо. В Томском университете Иогансен стал ассистентом,
позднее доцентом зоологии. По предложению Иогансена был основан журнал
«Урагус», по образцу немецкого «Journal fur Ornithologie»
(«Орнитологического журнала»). Интенсивная педагогическая и организационная работа не
могла удержать его от экспедиций, которые он целенаправленно предпринимал
в сибирские регионы, ещё не исследованные в орнитологическом отношении.
В 1926 году он работал в Уссурийском крае, в 1927 году — в долинах рек Оби
и Оми, а также (вместе со студентом Скалоном) севернее, у Нарыма.
Орнитологическое общество процветало, в журнале «Uragus » публиковались
многочисленные работы его членов. Иогансен съездил в Ленинград
(переименованный Петроград) для работы в Зоологическом музее. Эта поездка положила
начало обработке коллекционного материала из Западной Сибири.
Тем временем НЭП закончился, и обстановка резко изменилась. Отголоски
политики Сталина начали достигать Сибири, и в 1928 году Иогансен должен
был покинуть университет. Орнитологическое общество было распущено в 1929
251
году, журнал «Uragus» прекратил своё существование. Иогансен устроился на
работу консультантом охотников-промысловиков на Командорских островах и,
конечно, продолжал исследовать и коллектировать там птиц. На Командорах он
не упустил возможность посетить могилу знаменитого датского море плавателя
и первооткрывателя Витуса Беринга (1681-1741); позднее Иогансен напишет
об этом в своих воспоминаниях. В начале 1930 года в сибирской глуши Иоган-
сена нашла телеграмма с извещением о смерти профессора Германа Иоганзена
и неожиданным приглашением возглавить осиротевшую кафедру. В 1931 году
Иогансен принял приглашение и приступил к работе. Разнообразные
университетские дела больше не позволяли ему отлучаться для работы в экспедициях,
теперь орнитологическая коллекция расширялась в основном силами его
студентов и учеников, из числа которых вышли такие выдающиеся советские
зоологи, как А.Я. Янушевич, В.Н. Скалой, B.C. Красовский, И.А. Долгушин и
другие. Позже Иогансен снова стал принимать участие в экспедициях на небольшой
срок, а во время летних каникул отправлялся в Ленинград для продолжения
обработки своих сборов. Он изо всех сил пытался вновь возродить из руин
орнитологическую работу. Были организованы экспедиции в мало изученные
районы Сибири, остававшиеся белыми пятнами на карте: в Нарымский край и
Васюганье (1933 г.), на Салаир (1934 г.), в Кузнецкий Алатау (1937 г.). В 1936
году он организовал под Томском орнитологическую станцию. Но тут подоспело
время новых политических репрессий; они коснулись и профессора Иогансена.
В 1937 году он неожиданно получил предписание в течение 10 дней покинуть
Советский Союз; иностранцы больше не допускались в советские
университеты! Телеграммы в Москву от ректора остались без ответа. Так как поездка до
границы СССР занимала тогда от пяти до шести дней, то времени для
размышлений и сборов не было. Чтобы избежать ещё больших неприятностей,
Иогансен выехал из Томска и отправился в Эстонию. Коллекция птиц Западной
Сибири — его главное сокровище, а также его научная библиотека, остались в
России; он смог взять с собой только заметки и рукописи.
Из Эстонии Иогансен переселился в Ригу (столицу Латвии, ставшую
независимой), где он получил должность профессора в тамошнем Институте
Гердера (частный немецкий институт с четырьмя факультетами). Он изучал
фауну птиц Прибалтики, выступал с докладами в Тартуском обществе
естество испытателей. Но деятельность Иогансена на новом месте продолжалось
недолго, в августе 1939 года был заключен пакт Молотова-Риббентропа и
началась Вторая мировая война. Иогансен вместе с институтом переехал в
Кенигсберг. Там он получил работу по трудовому договору на четыре года в
Институте исследований Востока, тематика которого имела мало общего с
его интересами. Но он надеялся всё же на то, что в обстановке дружбы
252
Третьего Рейха с Советским Союзом ему удастся наладить сотрудничество
с ленинградскими орнитологами. Когда в июне 1941 года Германия напала на
Советский Союз, он понял, «на сколько был наивен, думая, что пакт Гитлера
с Россией действительно подразумевал дружбу»... Во время войны он
публиковал работы в немецком «Journal fur Ornithologie» и в венгерском
«Aquila»; по возможности помогал русским, пригнанным на
принудительные работы, и военнопленным и вскоре оказался в поле зрения нацистов.
Теперь он стремился «вернуться» в оккупированную Данию; это удалось
в мае 1944 года. Он получил место в Зоологическом музее университета в
Копенгагене.
После войны Иогансен начал хлопотать о возвращении своей коллекции
птиц из Советского Союза. Благодаря помощи датских дипломатов и русских
коллег, это ему удалось: в 1948 году в Копенгаген прибыли примерно 5 000
тушек птиц и коллекция яиц, а в 1957 году — почти 600 его книг! Теперь он
мог продолжать работу над «Фауной птиц Западной Сибири». В
Зоологическом музее Копенгагена он работал до своего ухода на пенсию в 1967 году.
Как складывалась личная жизнь Иогансена на фоне столь частых
переездов, смен места жительства и тому подобных событий? Надо ли говорить о
том, что она не отличалась постоянством? Иогансен три раза был женат, и все
три брака распались. Первый раз он женился в 1918 году, на Алтае, ещё
будучи студентом. От этого брака родилась дочь; позже она уехала в Эстонию,
училась в разных школах в Латвии, в 1939 году переселилась через Швецию
в Данию и в последние годы жизни отца заботилась о нём. Второй раз
Иогансен женился, когда стал профессором в Томске. Этот брак был
аннулирован советским декретом, запретившим браки с иностранцами. От этого брака
у него тоже была дочь, которую отец никогда не видел. В третий раз
Иогансен женился уже в Дании, в 1955 году. Этот брак закончился судебными
разбирательствами по обвинению в двоежёнстве, так как согласно датским
законам советский декрет был противоправен...
Как я уже писал, после войны Иогансен жил в Дании. В этот период он ни
в чём не нуждался, не испытывал никаких бытовых проблем, но всё же его
не покидало чувство глубокой неудовлетворённости своим существованием.
Он чувствовал себя чужим в благоустроенной и перенаселённой Европе.
Многое казалось ему здесь излишним, он иначе одевался, чем его сограждане,
иначе мыслил и даже по-датски говорил с акцентом. Он гасил внутреннее
беспокойство участием в экспедициях и заграничных поездках; в 1949 году он
побывал на Шпицбергене, дважды ездил в Лапландию и на побережье
Ледовитого океана в Норвегию. Дания казалась ему чересчур тесной; он купил
мотоцикл и колесил на нём не только по ещё неизвестной ему стране, но и (как
253
рассказывают его бывшие студенты) по самому Копенгагену. Свою тоску по
России он попытался избыть в конце 1940-х годов тем, что написал большую
статью для английского журнала «Ibis» (Vol. 139,1952), в которой изложил все
свои знания о российской и советской орнитологии. В 1955 году Иогансен был
выбран членом-корреспондентом Немецкого орнитологического общества. Но
самую большую радость он пережил от поездки в Советский Союз, когда в
1956 году его друзья, в том числе бывшие студенты, пригласили его на
орнитологическую конференцию в Ленинград. Советские учёные младшего
поколения, изголодавшиеся по контактам с западом, с некоторой осторожностью
относились к превосходно говорящему по-русски иностранцу, но глубокая
внутренняя привязанность его старых друзей достигла апогея во время
торжественного банкета в отеле «Астория»: Иогансена подняли со стула и
несколько раз с ликованием подбросили чуть не до зеркального потолка зала!
В 1960 году Иогансен провёл полгода в Нью-Йорке и Канаде, вероятно в
поиске сходства фаун Северной Америки и Сибири. Но в 1961 году он снова
уехал в Лапландию, в «божественную тундру», как он её называл. Доктор
Гизела Эбер, его спутница в этой поездке, вспоминала: «Благодаря его опыту
и рассказам, дни в Лапландии были наполнены ощущением гармонии того,
как человек может приспосабливаться к ландшафту и его фауне, не входя с
ними ни в малейшее противоречие. Всё вокруг казались мне неповторимым
и бесконечно далёким от реальности. У меня было чувство, что я живу в
другом мире, в эпоху великого натуралиста, находящегося в единстве с
природой и потому так тонко её понимающего».
Во второй раз Иогансен приехал в СССР в сентябре 1965 года, благодаря
приглашению своего бывшего студента из Томска, теперь профессора И.А.
Долгушина. Поводом на этот раз стала орнитологическая конференция в
Алма-Ате. Но научные заседания были второстепенным делом, так как
большую часть времени Иогансен проводил в общении со старыми друзьями:
весёлые дружеские вечера, возлияния, экскурсии в степь и в ближайшие горы,
воспоминания о прошлом были важнее. В этой конференции принимал
участие и профессор Скалой, тоже бывший студент Иогансена. Сам Иогансен
был здесь живой легендой. Трудности и несправедливости, которые ему
пришлось пережить в России, не оставили в нём никакого ожесточения. Я тоже
участвовал в алма-атинской конференции и хорошо запомнил счастливое
выражение лица Иогансена, когда он рассказывал мне, как прекрасна Сибирь,
как хорошо, что всё это есть здесь у его коллег. Было очевидно, что он очень
тоскует по этому далёкому краю...
После окончания работы над «Фауной птиц Западной Сибири» Иогансен
начал путешествовать по дальним странам: в Эквадор, Чили, на Огненную
254
Землю, в Восточную Африку, потом в Шри-Ланку, Непал, в Гонконг и
Мексику. Фауна птиц Южного полушария стала его новой страстью. В 1972 году
он в последний раз посетил Ленинград. Ещё в 1952 году Иогансен купил
большой земельный участок с домом на одиноком острове Лесе в проливе
Каттегат и поселился там после выхода на пенсию. В одном из последних
писем своему русскому ученику и другу, профессору Савве Михайловичу
Успенскому, он писал оттуда: «Теперь я провожу много времени на этом
безлюдном острове и счастлив, так как его природа чем-то напоминает мне
близкую моему сердцу Сибирь» (Успенский, 1978). Дом и земельный участок на
Лесе Иогансен завещал Копенгагенскому университету; теперь здесь
находится биологическая станция, на которой студенты проходят полевую
практику (Munster-Swendsen, 1997), и всё новые поколения не перестают
удивляться необычному жизненному пути её основателя.
* * *
В сентябре 1969 года я ехал в Монголию и по пути остановился в Иркутске,
где посетил Сельскохозяйственный институт. По счастливой случайности я
встретил здесь бывшего студента профессора Ганса Иогансена, теперь уже
маститого и уважаемого учёного и профессора Василия Николаевича Скалона
(1903-1976). В институте он руководил кафедрой биологии промысловых
животных и охотоведения, но его научные интересы были гораздо шире и
разнообразнее. Скалой известен не только как охотовед, но и как замеча тельный
знаток Сибири, териолог, орнитолог и герпетолог, этнограф, автор многих работ по
истории Сибири, деятель охраны природы. Фамилия «Скалой» уже была
знакома мне по историческим хроникам: генерал Георгий А. Скалой, состоявший
на службе у русского царя, был в начале XX столетия генерал-губернатором
Варшавы; он известен кровавым подавлением восстания 1905 года.
Генерал-губернатор действительно оказался родственником Василия Николаевича Скалона!
Люди с таким происхождением в России после революции имели очень
мало шансов обучаться в университете, не говоря уже о том, чтобы стать
потом профессором. Как же удалось это моему новому знакомому из
Иркутска? На мой вопрос он тогда уклончиво ответил, что ему пришлось стать
кочевником, обладающим искусством своевременно ускользать из поля
зрения НКВД. Лишь много лет спустя его дети, Андрей и Варвара, рассказали
мне, как обстояло дело.
Василий Николаевич Скалой родился в семье, имеющей глубокие
культурные корни. Его дед был земским деятелем, литератором, его имя можно
найти в энциклопедиях. Отец Василия Николаевича, Николай Васильевич,
255
владел большими землями в Оренбургской губернии (Штильмарк, 1978; Га-
гина, 2003). Николай Васильевич служил в Петербургском университете, был
юристом, охотником и любителем природы. В начале ноября 1918 года он был
схвачен солдатами 5-й Красной Армии и расстрелян (кстати, одним из
политических комиссаров этой армии был Ярослав Гашек, позднее всемирно
известный чешский писатель). Мать Василия Николаевича, Софья Николаевна
Скалой, была последней представительницей рода, к которому относился
известный академик екатерининских времён П.И. Рычков (Гагина, 1973).
Пятнадцатилетний Василий Николаевич с матерью и сестрами бежал в Но-
вониколаевск (ныне Новосибирск). Ему пришлось зарабатывать на жизнь,
помогая матери16. Увлечение природоведением В.НХкалон проявил ещё в 1920
году, будучи учеником реального училища. Несмотря на все трудности, ему
удалось сдать экзамены и получить аттестат зрелости. Благодаря семейным
связям он смог в 1922 году поступить на медицинский факультет Томского
университета. В ту же осень он перешёл на естественное отделение физико-
математического факультета. Но в 1924 году университет «очистили» от
«непролетарских элементов». Скалой «скрылся» с экспедицией Каменского
краеведческого музея на Алтай, затем работал в Сибирском институте защиты
растений в Новосибирском и Кузнецком округах, был агрономом в колхозах в
сибирской провинции. В 1926 ему удалось продолжить учёбу в Томске, в этом
ему помогла его старшая сестра Надежда, которая была коммунистом и
активным деятелем партии. В 1928 году Скалой закончил университет.
Уже в 1926 году он начал публиковать результаты своих исследований,
выполненных в различных регионах Сибири. Это были публикации по
позвоночным животным, экологии и этнографии. Всего им опубликовано
примерно 350 работ и более 200 газетных статей (Гагина, 1973). Нужно
подчеркнуть, что с первых же шагов научной деятельности его увлекала идея
охраны природы. Уже в 1927 году вышла статья Скалона «Весенние
хищники», посвященная борьбе с браконьерством.
Отрезок времени от окончания учёбы в университете до начала Великой
Отечественной войны был для молодого учёного периодом частых перемещений:
научную работу он начал на юге Сибири — в окрестностях Новосибирска и
Томска; работал на Алтае, на Ангаре, в Саянах, в Якутии17, на Охотском
побережье, в Забайкалье, в тундре Таймыра (его интересные орнитологические ра-
16 В 1918 году он стал помощником препаратора в Новониколаевском краеведческом музее,
которым заведовал известный литератор и художник-таксидермист М.А. Анзимиров, см.
Гагина, 1973. — прим. перев.
17 В Якутске он организовал промыслово-биолошческую станцию Всесоюзного арктического
института. — прим. перев.
256
Рис. 73. Профессор Василий Николаевич
Скалой из Иркутска, 1970 г.
боты по Таймыру опубликованы во Франции), Зауралье и в других местах. За
это время ему довелось работать в экспедициях, на противочумных станциях (в
1934—1935 годах он находился в Забайкальском очаге чумы), на станциях
защиты растений и в администрации заповедников. Серьёзной опасности он
подвергался только однажды: в 1938-м году (период апогея террора НКВД, в том
числе и против интеллигенции Сибири) он решил провести отпуск в Иркутске.
Как-то раз на улице города он встретил жену одного профессора, уже
арестованного. «Вы ещё живы?» удивилась она. После того, как она обрисовала Ска-
лону ситуацию в городе, он с помощью своих друзей «исчез» в тайге Зауралья.
Василий Николаевич никогда не терял оптимизма. Несмотря на все
обстоятельства, он продолжал работать и публиковать статьи. В 1938 году в
Московском университете ему по совокупности работ (более 90 публикаций)
была присвоена степень кандидата биологических наук.
В начале осени 1941 года, то есть вскоре после нападения Германии на СССР,
Скалой поселился в Иркутске. В ноябре он вместе со своим братом был призван
в армию и прибыл в населённый пункт Мальта примерно в 80 км от Иркутска.
Здесь были собраны тысячи молодых людей, из которых шло формирование
сибирских дивизий; новобранцев отправляли по железной дороге в европейскую
часть России. Прямо из поездов дивизии следовали на фронт к западу от Мо-
257
сквы. Братья Скалой тоже ожидали отправки, но в декабре они получили
запечатанные конверты с приказом явиться в военкомат в Иркутске. Там они были
демобилизованы из армии... Только много позже Скалой узнал, что в это
критическое время Сталин издал указ не призывать в армию представителей и
потомков бывших буржуазных и дворянских слоев населения. В октябре 1943 года
Скалой был мобилизован и командирован на противочумную станцию в
Монголию. Там он работал вместе с известным исследователем Монголии,
профессором А.Г. Банниковым (Lobacew, 1989). Банников после войны собирался сразу
же вернуться в Москву и сделать там карьеру. Это было ему не трудно, поскольку
он был членом партии и «политически благонадёжным». Беспартийному Ска-
лону с его «неправильным» социальным происхождением он помог стать своим
преемником на кафедре зоологии в университете Улан-Батора. Уже в 1946 году
Скалой защитил в Московском университете докторскую диссертацию «Речные
бобры Северной Азии» и стал профессором в университете Улан-Батора.
Василий Николаевич полностью погрузился в преподавательскую работу. В
университете он мог в полной мере проявить свой организаторский талант и обширные
знания: он читал лекции, вёл практики, работал со студентами в удалённых от
Улан-Батора степных и таёжных районах. При университете Улан-Батора он
создал зоологический музей. Правительство Монгольской народной республики
награждало его похвальными грамотами, казалось, жизнь стабилизировалась:
война закончилась, мир здесь, в сердце Азии, обеспечивал все условия для
успешной научной работы и личного спокойствия. Но спокойствие оказалось
обманчивым: установившийся мир дал возможность правящей партии снова
сделать «социалистический выбор». С 1947 года присутствие Скалона для
политических инстанций Монголии (власть теперь находилась в руках
просоветского правительства) стало нежелательным. После предупредительного
ареста ему пришлось выехать в Иркутск. Некоторое время он работал на
противочумной станции, потом вновь пришёл в Иркутский сельхозинститут и
сосредоточил все свои силы на осуществлении давней идеи — основание в
институте отделения охотоведения. Это казалось безнадёжной затеей, друзья
советовали ему «не высовываться» и не привлекать внимания. Но он не
последовал советам, писал в Москву письма с обоснованиями, пытаясь убедить власти
в том, что изучение биологии промысловых животных и охотоведение —
чрезвычайно важная область науки Советского Союза и что преподавание этих
дисциплин должно быть обязательно введено в институте. Главк, в который он
обращался, ответил отказом. Тогда Скалой решился написать статью в «Правду»;
в редакции её отклонили. Сохранилось описание этих событий самим Скало-
ном (цит. по Шгильмарк, 1996:231):«... Я написал большую статью в «Правду»,
но мне пришёл ответ, что 16 видных учёных и деятелей охотхозяйства её резко
258
раскритиковали, что само понятие об охотоведении давно, мол, растворилось в
зоотехнических и биологических дисциплинах. Было ясно, что борьба за
создания отделения есть уже дело чести, и она продолжалась: один против всех. Мне
восемь раз пришлось летать в Москву (за свой счёт), отказ был полнейший, все
поворачивали мне спины, а начальник плавка Рубанов даже отказался принять.
Встретившийся в Москве зампред облисполкома Трусков [хороший знакомый
Скалона] предложил пойти к депутату от нашей области — маршалу
инженерных войск товарищу В.П. Воробьёву». Маршал был страстным охотником и,
вероятно, мог бы помочь... Скалой последовал совету, по предварительной записи
в приёмной высокой персоны он получил аудиенцию. В назначенный день он
явился на приём и пережил нечто необычное...
Беседа с маршалом состоялась ночью (Сталин, как известно, имел
обыкновение работать по ночам, и этой манере следовали его приближённые).
Вот как сам Василий Николаевич описывает эту встречу (Штильмарк, 1996:
231): «... И вот мы в военном министерстве, причём в час ночи. Огромные
коридоры в полусвете, нигде ни души, или же отдельные фигуры. Но вот
приёмная. Обширная комната, в ней молодой офицер. Он предупреждён.
Доложил и сразу же вышел. «Маршал ждёт вас», сказал он и открыл массивную
дверь. Кабинет оказался целым залом, роскошно отделанным, с коврами на
полу. У стены напротив, за колоссальным столом, сидела, как мне
показалось, маленькая старушка в большущих очках. Это и был маршал, который
приветливо поздоровался, усадил в удивительно удобные кресла и
предложил рассказать, в чём дело. Я в кратких словах объяснил ситуацию.
Маршал слушал внимательно и не перебивал. Потом заулыбался и
добродушно расхохотался. «Так вот что, разве есть такая специальность —
охотоведы? Вот не знал... Но если они нужны, так что же там в главке валяют
дурака?» Послушал ещё и сказал, что будет завтра у Климента Ефремовича и
доложит ему всё это. «Я уверен, что он даст дрозда всем этим чиновникам.
Утром позвоните по телефону...» Позвонил в 9 часов утра, молодой голос
ответил: «Товарищ маршал приказал сообщить, что всё в порядке. Идите в главк».
В главке меня уже караулили у дверей и дружелюбно препроводили к
Рубанову. Он встретил меня, как нашалившего любимого братца. «Да где же
ты? Пропал наш Скалой, да и только. Хлопотал, хлопотал, а когда всё
решили, он вдруг исчез! Что же ты, брат?». И затем шепнул доверительно:
«Послушай, ну зачем ты вздумал жаловаться? Подумай, дурья голова, кого ты
побеспокоил? И как ты попал к Ворошилову, скажи между нами?» [...] ...
всё закружилось в радостном вихре. Мгновенно всё было решено, и
вчерашние враги только удивлялись моим достоинствам и глубине моих
мыслей... Деятелям из МПМИ оставалось только скрипеть зубами. Они потом
259
делали всё возможное, чтобы не утвердили мой план подготовки
охотоведов. Кучи кляуз и злословия затопили главк...».
Но так или иначе вопрос был решён, отделение было создано без
промедления и начало функционировать с 1950-го года. Скалой стал
заведующим кафедрой биологии промысловых животных и охотоведения
Сельскохозяйственного института.
Остальная часть жизни Скалона прошла без потрясений и больших перемен.
Он радовался послесталинской «свободе». В 1962 году он был приглашён на
должность заведующего кафедрой зоологии Казахского педагогического института
имени Абая и работал там до 1968 года. Он стремился создать там отделение по
охране природы. В 1968 году он снова вернулся в Иркутский сельхозинститут.
В середине 1950-х годов начался новый периоД и в личной жизни Василия
Николаевича. После двух неудачных браков он женился на своей ассистентке,
Татьяне Николаевне Гагиной (она также была орнитологом, защитила
диссертацию по птицам Восточной Сибири, позже была профессором в пединституте
в Кемерово). От каждого брака у Скалона было по двое детей. Все шестеро
получили солидное образование, два сына стали биологами, один — писателем.
Полная приключений жизнь Скалона в среде русских зоологов отражена в
многочисленных рассказах о нём. После распада СССР многие из них были
опубликованы. В 2003 году на научной конференции в Иркутске, посвященной
100-летию со дня рождения В.Н. Скалона, выяснилось, что ещё многое хранится
в воспоминаниях его учеников; должна быть издана книга воспоминаний о нём18.
v В заключение очерка хочу сказать, что Скалой был одним из первых
учёных, выступивших в защиту озера Байкал и осудивших строительство на его
берегу печально известного целлюлозно-бумажного комбината.
Рассказывают, что власти поставили ему тогда ультиматум: «Или ты перестаёшь
критиковать, или мы закрываем факультет и распускаем студентов». Он должен
был решать в пользу студентов. Но в своём решительном неприятии
возведения промышленного монстра на Байкале он обрёл множество
последователей не только в России, но и за рубежом, в том числе в Германии, откуда
поступали протесты и предложения о помощи.
18 О Василии Николаевиче Скалоне с благодарностью вспоминал отец Александр Мень. После
перевода факультета охотоведения Московского пушно-мехового института, где А. Мень в то
время учился, в Иркутск в 1955 г., он оказался студентом В.Н. Скалона. В одном из интервью на
вопрос «Кто из мирян, встреченных на жизненном пути, оказал на Вас влияние?», он ответил:
«[...] с благодарностью вспоминаю [...] В.Н. Скалона, специалиста по биологии и историка
одновременно. Это был замечательный человек. Я был его студентом, и мы очень дружили». В.Н.
Скалон, свидетель бесчеловечности советских властей в Сибири во время Гражданской войны и
коллективизации, не побоялся поделиться со студентом А. Менем своими воспоминаниями, см.
А. Мень «О себе...», М., 2007. — прим. перев.
260
* * *
В середине 1970-х годов мне доводилось встречаться с моим коллегой
доктором Алексеем Евгеньевичем Луговым (род. в 1930 г.). Он был
неистощимым рассказчиком увлекательных историй; например, одна из них
повествовала о том, как ему пришлось сопровождать Хрущёва в его экскурсии
по дельте Волги. Но в то время эти рассказы интересовали меня гораздо
меньше, чем его сообщения о новых фактах, касающихся распространения
кольчатой горлицы. Я тогда занимался этим видом и был поглощён
проблемой стре мительной колонизации им Восточной Европы. В то время
Алексей Евгеньевич был доцентом кафедры биологии в Педагогическом
институте в Саранске, в автономной советской республике Мордовии; как раз там
он, к моему удивлению, в мае 1973 года и обнаружил кольчатых горлиц.
Когда я начал писать очерки для первого издания этой книги, то очень
сожалел о том, что в своё время не записал истории из жизни Алексея
Лугового. Но недавно я узнал, что опубликованы его мемуары (Луговой, 1999,
2005), и таким образом у меня появилась возможность рассказать о его
необыкновенной судьбе во втором издании моей книги.
Собственно, уже родители Алексея заложили фундамент того, что ему
пришлось жить в «мире, полном опасностей». Его отец происходил из
кубанских казаков, учился в Киеве и в Москве и впоследствии работал
агрономом. После революции он эмигрировал и поселился в Ужгороде, который
в то время находился в восточной части Чехословакии, в области Рутения19.
Мать была моравского происхождения, она родилась в Вене и после распада
Австро-Венгерской империи тоже оказалась в Чехословакии. В Ужгороде
родители поженились, здесь же появились на свет Алексей и его сестра. В 1931
году вся семья получила чехословацкое гражданство; отец состоял на
государственной сельскохозяйственной службе.
Рутения, пограничный район в Закарпатье, был населён смесью народов:
кроме автохтонного населения там жили русские, словаки, евреи, украинцы,
немцы и венгры. До 1918 года область входила в состав Австро-Венгерской
империи, Ужгород носил название Унгвар. С раннего детства Алексей
одинаково хорошо говорил по-русски и по-немецки, в школе преподавание шло
на рутенском языке, который отличается и от русского, и от украинского. В
употреблении были также словацкий и в меньшей степени чешский языки.
Правительство вело образцовую политику по отношению к национальным
меньшинствам в стране; ученики школ, например, должны бьши учить три
19 Ruthenia, Рутения — Россия (позднелатинский). — прим. перев.
261
гимна: чешский, словацкий и рутенский. Семья Лугового была очень
довольна условиями жизни здесь, Рутения стала для них домом.
Вскоре после оккупации Судет немецкими войсками осенью 1938 года на
востоке Чехословакии начались беспорядки на национально-политической
почве. Когда распространился слух, что Ужгород будет занят венгерскими
войсками, отец Алексея уехал в город Севлюш примерно в 75 км юго-восточнее
Ужгорода (сегодня это Виноградов в Закарпатской области на Украине); но всего
лишь через неделю положение и здесь изменилось: украинский сепаратист,
Августин Волошин, объявил область автономией. Позднее он провозгласил здесь
даже государство, носившее название «Карпато-Украина» или Карпатская
Украина. В школах новоиспечённой автономии был введён украинский язык,
ученики должны были учить новый гимн, который, подобно гимну Польши,
начинался словами: «Ще^е вмерло Украши i слава, I воля...». Учеников в
грузовике возили в Хуст — «столицу» госуцарства-карлика, где во время
демонстраций на транспарантах красовались изречения: «Да здравствует наш отец
Волошин и наш дядя Гитлер!», эти лозунги хором должны были скандировать
дети. Волошин даже организовал по немецкому образцу концентрационный
лагерь для своих противников, в том числе для русских «московитов». Отцу
Алексея удалось своевременно переселиться в Прагу, в ещё независимую часть
Чехословакии. Но его жена и дети сначала оставались в Севлюше.
В марте 1939 года положение в Рутении снова резко изменилось:
венгерская армия заняла территорию «Карпатской Украины», и сторонники Воло-
гшина были арестованы. Жена Лугового с детьми отправилась в обратный
путь, домой в Унгвар (так теперь назывался Ужгород). Алексей снова пошёл
в свою старую школу, где преподавание шло теперь на венгерском языке.
Школьные кассы украшали портреты главы венгерского государства
адмирала Хорти, ученики должны были заучивать венгерский гимн.
Во время летних каникул госпожа Луговая получила разрешение переехать
с детьми к мужу в Прагу, которая тем времейем вошла в объявленный
немцами «протекторат Богемия и Моравия». В протекторате отец Лугового смог
снова работать по своей профессии. Нацистское господство было здесь более
мягким, чем в оккупированной позднее Польше: чехословацкие учреждения,
торговля, общественная жизнь — всё на первый взгляд функционировало по-
старому. Никого не отправляли на принудительный труд в Германию, террор
был скрытым, евреев высылали тайно, расправы над участниками чешского
сопротивления не афишировали (исключением были репрессии после
покушения на протектора Рейха Райнхарда Хейдриха в июле 1942 года).
Так что Алексей мог сам решать, какую школу посещать в Праге; он
выбрал русскую гимназию. Программа обучения мало отличалась от той, что
262
была до немецкой оккупации, но ученики были обязаны учить немецкие и
фашистские гимны: «Deutschland, Deutschland uber alles...»(«Германия,
Германия превыше всего...» и «Horst-Wessel-Lied» (песня «Хорст Вессель»:
«Наше знамя поднято высоко, ряды сомкнуты твёрдо...», и т.п.).
С момента нападения Германии на Советский Союз летом 1941 года в семье
Лугового сформировались антинемецкие настроения, которые, разумеется,
должны были скрываться. Так же было и в других семьях с русскими корнями, в
начале 1944 года эти настроения проявились и в гимназии, где учился Алексей.
Например, состоялось собрание, на котором 14-летних учеников гимназии
агитировали вступить в «Русскую освободительную армию» (РОА) генерала
Власова. Только два ученика решились на это. Об их судьбе ничего не известно...
Однажды летом 1944 года Алексей ехал куда-то по железной дороге. Его
попутчик завязал с ним разговор на политические темы, в котором Луговой
открыто излагал свои взгляды. Вскоре выяснилось, что попутчик был
провокатором. Алексей и его мать были допрошены в Гестапо. Мать принесла
извинения за «глупость ребенка», она подписала протокол допроса, и все
надеялись, что инцидент исчерпан. Но когда Алексей после каникул пришёл в
школу, его вызвал директор и сообщил, что по указанию Гестапо он
отчислен... Отец нашёл сыну место работы в сельскохозяйственной лаборатории,
но 1 мая 1945 года вечером по радио объявили, что «фюрер Адольф Гитлер
погиб на своем командном пункте в канцелярии Рейха, до последнего вздоха
сражаясь против больше виков за Германию». Когда стало известно, что
американские подразделения стоят уже в 80 км к западу от Праги, в городе
началось смятение. Утром 5 мая начальник Алексея попросил его нарисовать
на листах бумаги цветными карандашами чешские флаги и укрепить их на
окнах, после чего отослал его домой. Сам же начальник покинул рабочее
место с пистолетом в руках... Началось Пражское восстание!
Едва только Алексей успел дойти до своего дома возле Венцельплатц,
раздались первые выстрелы. Радиостанция уже была в руках повстанцев, у себя в
квартире Алексей слушал их сообщения в эфире. В частности, передали, что
немецкие войска продвигаются в направлении Праги; многие поспешили на
улицы на строительство баррикад. Алексей тоже не остался в стороне. Со всех
сторон доносилась стрельба, немецкая артиллерия и авиация обстреливали
город. Радио призывало на помощь союзников, однако ни американские, ни
советские самолёты не появились над городом. Радио сообщило также о
переходе некоторых подразделений РОА на сторону повстанцев. Прямо у своего
дома на Румынской улице Алексей был свидетелем того, как зенитные орудия
РОА вели стрельбу прямой наводкой по атакующим немецким танкам. Теперь
восстание охватило всю Прагу, 8 и 9 мая одно за другим последовали потря-
263
саюшие сообщения: Германия капитулировала, Красная Армия подошла
вплотную к Праге с восточного направления, немецкие подразделения и части РОА
покинули город и бежали на запад. Спустя несколько часов город заполнили
тысячи советских солдат; их встречали цветами и овациями. Солдаты дарили
жителям сигареты и шоколад. Так театрально закончилась здесь война...
Алексей наблюдал и менее идиллические картины, которые сопровождали
освобождение города: немца, стрелявшего из окна своей квартиры,
выволокли на улицу и линчевали самым жестоким способом; оккупантов,
независимо от того, были ли они в военной форме или в гражданском, виновны или
нет, повсюду выслеживали и убивали...
С 1 сентября 1945 года Алексей снова пошёл в русскую гимназию. Теперь
это была элитная советская школа, которая находилась под опекой советского
посольства. Само собой разумеется, теперь учили советский гимн.
Отец Алексея стал сотрудником министерства сельского хозяйства в
Праге. Сын часто разъезжал с ним, они посещали сельскохозяйственные
выставки, ходили на охоту. Это укрепляло естественнонаучные интересы
Алексея; в Праге он путешествовал по парками и наблюдал за птицами. В мае
1948 года он сдал экзамены на аттестат зрелости. В торжественном
выпускном вечере принимал участие даже советский посол Зорин, болгарское
посольство прислало вина, выступали солисты ансамбля Красной Армии
Александрова. Алексей решил изучать лесное дело, подал документы в Академию
лесного хозяйства в Праге, и в июне 1948 года начал практику в лесничестве
Окроухле Храдиште на западе Богемии. Его руководителем был лесничий
по имени Цах, который перед войной учился в Чехословакии, но работу
нашёл в Волыни на востоке Польши (теперь Украина). Там он пережил
немецкую оккупацию и женился на русской девушке, а после войны вернулся
на родину, в Чехию. С Цахом Алексей объездил богемский лес вплоть до
баварской границы. Это была бывшая область «Судеты», откуда сразу же после
войны на основании декретов Бенеша все немецкое население было
выселено. Теперь более крупные города были населены чехами, а мелкие
населенные пункты брошены, запустели и одичали. Однажды Цах и Луговой
заблудились в запущенной местности, и внезапно перед ними, как привидение,
появилась странная женщина. На вопрос о дороге к дому, заданный
по-чешски, она не ответила, когда же Алексей повторил вопрос по-немецки, её лицо
оживилось, она ответила по-немецки, показала дорогу и исчезла...
Ещё в 1946 году семья Лугового решила возвратиться в Ужгород. Но город
и вся Рутения находились теперь, после очередных изменений границы, в
Советском Союзе, на юго-западе Советской Социалистической Республики
Украина. Луговые подали запрос на получение советского гражданства и в ав-
264
густе 1948 года им было дано разрешение на возвращение «домой». В Ужгороде
сразу после войны открылся новый университет, в котором Алексей начал
изучать биологию (факультета лесоведения здесь не было). Жизнь в родном, но
теперь советском городе, была совсем другой, чем в Чехословакии, но ему
удалось хорошо приспособиться к новым условиям. Необозримые просторы СССР
и неисчерпаемое разнообразие его природы захватывали студента. Практику
он проходил в заповеднике Аскания-Нова, бескрайние степи он объезжал в
двуколке, в которую был запряжён экзотический гибрид зебры с лошадью. В 1953
году Алексей окончил университет и получил диплом биолога-зоолога.
Молодого выпускника манили далёкие земли, ему хотелось работать в
каком-нибудь из заповедников Дальнего Востока. Однако, в то время Дальний
Восток был «закрытым» регионом СССР, туда не хотели брать иммигранта
«чеха». Ему удалось устроиться на работу (в том числе и благодаря знанию
иностранных языков) в знаменитом Астраханском заповеднике,
расположенном в дельте Волги к югу от Астрахани. Кроме того, Главное управление по
заповедникам в Москве отправило его перед этим на три месяца в
Дарвиновский заповедник на Рыбинском водохранилище, чтобы он смог пройти
стажировку у известного эколога и орнитолога Ю.А. Исакова (ср. стр. 65-72).
Это было время амнистии, последовавшей вскоре после смерти Сталина,
когда на свободе оказались тысячи заключённых, причём преимущественно
из числа уголовников. Поездки стали опасными, в поездах процветало
воровство, так что Алексей зашил деньги в подкладку куртки. Ехал он в общем
вагоне; перед сном долго беседовали, любезный сосед предостерегал его от
преступников, Алексей сказал, что он хорошо подготовлен, ощупывая
потайное место своей куртки. Сосед обещал следить за чемоданом Алексея,
пока тот будет спать. Ранним утром, пока вагоны подцепляли к другому
локомотиву, оба пошли завтракать в станционный буфет. Алексей угостил
нового знакомого коньяком. Этот широкий жест растопил сердце нового
знакомого: он признался, что сам — бывший арестант и «работает» в этом поезде
вместе со своими дружками. У него было задание обокрасть Алексея, но
теперь он гарантировал ему полную безопасность до конца поездки. Алесей
ещё раз угостил своего необычного знакомого «ста граммами» коньяка.
Из Дарвиновского заповедника Алексей вернулся в дельту Волги и
приступил к работе в заповедника. Он проработал там больше десяти лет,
сначала научным сотрудником, потом заместителем директора по науке. Мне не
хватило бы здесь места, чтобы перечислить все его заслуги и научные
достижения (см., например, «Птиц дельты Волги», Астрахань, 1963 г. и другие
публикации в трудах Астраханского заповедника). Под его руководством
прошло практику множество студентов. Работа в поле часто сопровождалась
265
Рис. 74. Никита Сергеевич Хрущёв и Вальтер Ульбрихт в посёлке Дамчик в
дельте Волги, 26 июля 1960 г.
различными приключениями, авантюрными историями и встречами с
необычными людьми; об одной из таких встреч я хочу рассказать.
В конце июля 1960 года Алексей работал в поселке Дамчик в южной части
заповедника, примерно в 100 км от Астрахани. Однажды в четыре часа утра
его разбудил неистовый стук в окна и дверь. Когда он увидел в дверях высокого
офицера и сотрудника дирекции заповедника, то в первый момент подумал, что
началась война... Но неожиданный визит был обусловлен совсем другим
обстоятельством: ему сообщили, что заповедник собирается посетить Хрущёв, и
с этой минуты Алексей должен подготавливаться к специальной экскурсии.
Через полчаса всё население посёлка было на ногах. Был изготовлен
приветственный транспарант, обновлён туалет, приготовлена уха, привезена водка
из местного магазина. Алексей искал по соседям приличные штаны и рубашку,
так как он сам выехал «в поле» в рабочей одежде. С волнением ждали весь день;
только около шести часов вечера на горизонте появились три вертолёта! Из них
вышли почти тридцати персон, Алексей узнал рядом с Хрущёвым двух самых
важных: немца Вальтера Ульбрихта (рис. 74) и венгра Яноша Кадара; он
приветствовал их всех — каждого на его родном языке (чем немало удивил
Хрущёва). Хрущёв коротко побеседовал с местными жителями и распорядился,
266
Рис. 75. Алексей Евгеньевич Луговой (в середине, жестикулирует) и жители посёлка
Дамчик на пути к вертолёту с Н.С. Хрущёвым.
чтобы в экскурсию по дельте на моторной лодке отправились только четыре
человека: он, Ульбрихт, Кадар и Алексей. В пути Хрущёв живо интересовался
встреченными птицами, он неплохо знал уток; но оба гостя дружественных
государств выглядели несколько утомлённо. Хрущев, был, как известно, мастером
придумывать разного рода фантастические проекты. Во время поездки в лодке
ему в голову пришла идея о том, что нужно перегородить множество
маленьких естественных рукавов дельты дамбами и на затопленных таким образом
прибрежных зонах и островах заложить большие рисовые поля. Когда Алексей
возразил, что это будет препятствовать нересту осетров, Хрущев ответил, что
рыбы могут преодолевать такие препятствия, даже водопады, это
подтверждают фильмы о природе, которые он часто смотрит со своими внуками. В конце
концов, он решил проконсультировать по этому вопросу в Москве с
ихтиологами. Через полтора часа поездка на лодке закончилась.
На следующий день три государственных мужа отправились на утиную
охоту (вне охраняемой территории). Во время охоты Хрущёва осенила новая
идея, которую он со всей серьёзностью изложил партийным деятелям
Астраханской области. На него произвела впечатление огромная численность
267
диких уток в дельте: он решил, что было бы целесообразно весной
производить массовый выпуск утят домашних уток в дельту; они определённо
найдут там достаточно корма, а осенью можно будет отлавливать их для
продажи. Никто из специалистов не противоречил. Весной местному совхозу
были доставлены инкубаторы и яйца домашних уток. Эксперимент,
разумеется, потерпел неудачу. План закладки рисовых полей в дельте Волги был, к
счастью, отвергнут или забыт.
В 1963 году Алексей решил попробовать себя в качестве преподавателя и
подал документы на конкурс в Педагогический институт в Саранске. Он не
очень надеялся, что его возьмут туда на работу, поскольку не был членом
партии. Но пришёл положительный ответ, ставку предложили и его жене,
тоже биологу. Семья переехала в Саранск. На новом месте многое было по-
другому. Из-за многочисленных педагогических обязанностей для научной
работы в поле возможности были крайне ограничены. Но со временем
удалось изменить планы лекций, сделать полевые практики более
продолжительными и выезжать в экспедиции со студентами. Проведению экспедиций
в том числе мешало обилие в Мордовии исправительно-трудовых лагерей. В
Саранске Алексей прошёл путь от рядового преподавателя до заведующего
кафедрой зоологии позвоночных животных и декана Биологического
факультета. Под его руководством выросло поколение мордовских зоологов и
орнитологов. Там он опубликовал монографию «Птицы Мордовии» (1975).
Почти через 20 лет, когда дети уже выросли, Луговой и его супруга решили
вернуться в Карпаты. В настоящее время Алексей Евгеньевич на пенсии и
снова живёт в своем родном городе. Его жизненный опыт сделал из него
человека критически мыслящего. Он учился в школе в чешском Ужгороде, был
гимназистом в Праге, студентом снова в Ужгороде, только уже украинском,
состоял в различных молодежных организациях. Он с иронией вспоминает о
том, как в 1938 году, в восьмилетнем возрасте, принадлежал к
националистическому детскому союзу «Пластуны» и с воодушевлением скандировал вместе
с другими «Да здравствует наш отец Волошин и наш дядя Гитлер!». Теперь
Алексей Евгеньевич — гражданин Украины, его возмущает преувеличенный
национализм некоторых украинцев. Ужгород все ещё остаётся
многонациональным городом, только одна этническая группа больше не присутствует —
евреи, которые стали жертвами фашизма, расизма или национализма.
Алексей Евгеньевич активно участвует в работе Союза русской культуры, который
пытается вместе с другими организациями национальных меньшинств
распространять идеи национальной толерантности в независимой ныне Украине.
В заключении ещё несколько слов о молодости Алексея Евгеньевича, его
жизни в Праге и о необычных совпадениях. Недавно я спросил его, не был
268
ли он знаком с молодым, безвременно погибшим чешским орнитологом Ве-
леславом Валем (см. стр. 73-75). «Лично мне знать его не довелось», —
ответил он — «но у меня была книга Валя о птицах Праги». Этой книгой
Алексей Евгеньевич пользовался ещё в Саранске для подготовки к лекциям по
экологии. Он сказал, что в то время он не знал, что её автор стал жертвой
сталинизма. Иначе он рассказывал бы своим студентам, по крайней мере тем,
кому доверял, не только о научных заслугах Валя, но и о его судьбе.
* * *
Заметной фигурой среди орнитологов ГДР был доктор Вольфганг
Макач/Wolfgang Makatsch (1906-1983) из города Баутцен. В своей области
он был одним из самых продуктивных немецких учёных. Кроме 30 книг им
написаны почти 180 научных работ и научно-популярных статей. Но, может
быть, важны даже не сами эти цифры, а тот факт, что его книги были изданы
в ГДР огромными тиражами. Макач был непревзойдённым мастером выбора
актуальных тем, превосходным стилистом и мастерски иллюстрировал свои
книги, так что они привлекали тысячи покупателей. В общей сложности
почти 100 изданий его книг разошлись в числе более миллиона
экземпляров! Бесспорно, он принадлежит к небольшому кругу тех авторов научно-
популярной литературы, которые в послевоенное время способствовали
стремительному развитию интереса к орнитологии как в Германии, так и
далеко за её пределами (многие его книги были переведены на голландский,
шведский, норвежский, чешский, венгерский и польский языки).
Но одновременно с этим успехом на Макача обрушилась лавина критики,
неприятия и даже ненависти, прежде всего со стороны орнитологов
Германии. Причиной этого были не столько публикации Макача, сколько то, что
основной областью его научной деятельности было изучение гнездовой
биология птиц и связанное с этим создание своей частной научной оологической
коллекции. Я был знаком с Макачем только поверхностно и в то время
вполне разделял отрицательные суждения о нём других орнитологов. В
начале 1980-х годов у меня появилась возможность лучше узнать его — он
пригласил меня к себе в Баутцен. К сожалению, мой визит не состоялся, —
Макач внезапно умер. Так что я лишился возможности составить о нём
собственное, более объективное мнение. После смерти Макача мне ещё не раз
приходилось слышать крайне резкие и возмущённые отзывы о нём (со
временем даже «обогащенные» новыми подробностями). Всё больше у меня
складывалось чувство, что эмоции критиков маскируют действительную
личность этого учёного; это побудило меня провести изыскания в архивах и
269
опросить его современников. То, что мне удалось узнать, было ещё более
волнующим, чем те слухи, которые распространялись о Макаче. Всё, что мне
удалось выяснить, я описал почти на сорока страницах («Случай Макача»,
Nowak, 2002d). Действительно, Макача в полной мере можно отнести к тем
учёным, кому пришлось жить и работать «в мире, полном опасностей». Его
жизнь была переполнена весьма незаурядными событиями, совершенно
неизвестными до самого недавнего времени. В этом очерке я хочу собрать
воедино то, что было уже известно о нём, и то новое, что мне удалось узнать.
Начну с того периода в жизни Макача, который хотя и изобиловал
событиями, но выглядит вполне обычным для судьбы немецкого учёного-биолога
на фоне исторических событий XX века.
После окончания учёбы в Мюнхене и Лейпциге в 1931 году Макач стал
учителем в школе в Баутцене. К этому времени он уже располагал
обширными орнитологическими знаниями и опубликовал несколько значительных
статей о птицах. В 1919 году, в возрасте 13 лет, он начал собирать яйца птиц
и гнёзда с кладками. Чтобы сохранить возможность работать учителем после
захвата власти фашистами, он вступил в национал-социалистическую
партию. Членство в НСДАП помогло ему в 1938 году получить место учителя в
немецкой школе в Салониках в Греции, где он продолжил активную
научную деятельность, прежде всего составление коллекции кладок и тушек
птиц. В ноябре 1940 года, после нападения Италии на Грецию, Макача (как
и всех немецких граждан) выслали из страны. Но когда весной 1941 года
немецкие войска заняли Грецию, он через Музей и институт Александра Кё-
нига в Бонне стал хлопотать о том, чтобы возвратиться в Грецию на военную
службу с исследовательским заданием. Сначала эти хлопоты натолкнулись на
противодействие, так как члены партии немецкой школы в Салониках
сообщили в соответствующие армейские инстанции о своём недовольстве
идеологическим и политическим поведением Макача во время его
преподавательской деятельности в школе. Причиной их недовольства послужило то,
что он «не был готов искренно и открыто трудиться над выполнением целей
и задач немецкого народа». Местная партийная организация НСДАП даже
сообщала об этом в свое время в Гестапо. За этой критической оценкой
Макача следовала ясная рекомендация: «Повторный выезд [в Грецию] не
рекомендуется до дальнейшего выяснения...». Тем не менее, настойчивость
Макача всё-таки привела к успеху: летом 1942 года он высадился в Салониках
не как солдат с дополнительными исследовательскими задачами, а как член
Бюро пропаганды Вермахта. Для занятий орнитологией, однако, времени
почти не оставалось. Но вскоре его положение изменилось: по ходатайству
профессора Штреземанна из Берлина (которого Макач просил о помощи) он
270
Рис. 76. Доктор Вольфганг Макач из
Баутцена, 1970 г.
получил в октябре 1942 года от Бюро пропаганды приказ заниматься
исключительно орнитологией; более того, ему было поручено составить
«Руководство по птицам Македонии» для немецких солдат, находящихся в
северной Греции. Дальнейший ход военных действий, правда, перечеркнул
планы публикации этой работы, но научная работа Макача была так успешна,
что в июне 1943 года он представил её результаты в форме диссертации в
университете в Салониках и получил учёную степень! Во время последней
фазы войны ему было поручено бороться с малярией в окрестностях Сало-
ник, тем не менее, он всё свободное время продолжал заниматься
орнитологическими исследованиями. Их окончательные результаты Макач
опубликовал в 1950 году в книге «Птицы Македонии» («Die Vogelwelt Macedoniens»),
изданной в Лейпциге.
После краткого пребывания в английском лагере для военнопленных в
Австрии Макач в конце 1945 года вернулся в Баутцен, то есть в советскую
оккупационную зону Германии. Из-за своего членства в НСДАП он не был
принят на работу учителем в школу. Его попытки эмигрировать в Грецию
или в Югославию потерпели неудачу. Но ему удалось принять участие в
создании новой станции охраны птиц в баутцене и через некоторое время
получить там место. Он посвятил работе на новом месте весь свой опыт и
организаторские способности, но не переставал пополнять свою частную
271
коллекцию птиц и кладок (которая к этому времени уже значительно
увеличилась). Это привело к ухудшению отношений со многими коллегами,
вовлечёнными в природоохранную деятельность, в том числе и с
начальством. Когда во время одной из официальной проверок комиссия нашла
ошибку в бухгалтерских документах станции, Макач был уволен... Это
произошло в конце 1951 года.
Тем не менее, это затруднительное положение для самого Макача
обернулось счастливым случаем для орнитологии. Теперь ему поневоле
пришлось стать «частным» учёным. Он работал с невероятным усердием и
самодисциплиной. Его жена, Эльза Макач, была талантливым
фотографом-натуралистом и неутомимой помощницей в научной деятельности
мужа.
Макач создал в своей квартире подобие маленького
научно-исследовательского центра, при котором был оологический музей, большая
орнитологическая библиотека, лаборатория для научного фотографирования, отчасти
издательство, научный архив и туристическое бюро. Примерно половину всего
времени он посвящал путешествиям, исследованиям в различных районах,
сбору коллекций, а также выступлениям с докладами, особенно в Западной
Германии. Другую часть года он проводил совершенно иначе: с трёх часов
утра он был прикован к письменному столу. Всё было точно распланировано,
в том числе и время на обширную переписку (он писал по меньшей мере 1 000
писем в год!). Каждый, кто ещё помнит о том, как функционировал социализм
на востоке Германии, может представить себе, как всё это было трудно. Он
делал свою работу с отвагой! Но его научная деятельность получила
признание только за границей: в 1960 году «Jourdain Society» — элитарное британское
объединение орнитологов, занимающихся оологией, выбрало Макача своим
почётным членом. В более поздние годы он был желанным гостем в
Советском Союзе. После смерти Макача в некрологе, опубликованном в Англии,
было написано: «Его контакты с английскими и русскими друзьями
обеспечили ему уникальное положение в таких разных мирах...».
Многочисленные заграничные поездки, в том числе частые визиты в
Федеративную Республику Германию, давали некоторым немецким
орнитологам как на востоке, так и на западе, повод для подозрений (которые можно
услышать ещё и сегодня) в том, что Макач сотрудничал с государственной
службой безопасности ГДР. Многие считали, что «только таким образом он
мог получать бесчисленные разрешения на заграничные поездки».
Макач никогда не думал о чём-то вроде «отставки» или «пенсии». В
феврале 1983 года, незадолго до своего 77-летия, он отправился на научную
конференцию в Индию. Эта поездка, к сожалению, фактически стоила ему
272
жизни: при перелёте пропал чемодан, в нём в числе прочих вещей были
лекарства — сердечные средства, которые он должен был постоянно
принимать уже в течение многих лет. Болезнь принудила его к досрочному
возвращению на родину, но быпо слишком поздно: 23 февраля 1983 года он умер
в больнице в Баутцене.
Оологическую коллекцию Макача после объединения Германии
приобрёл Государственный зоологический музей в Дрездене. Она содержит почти
32 000 яиц примерно 1 200 видов птиц (преимущественно из Палеарктики)
и является одной из самых ценных научных коллекций в Европе.
Такова внешняя сторона жизни Макача. Мне удалось собрать материалы
о нём из шести различных архивов. Основная часть документов была
получена из ведомственного федерального архива документов Министерства
государственной безопасности ГДР в Берлине («штази»), из которого мне
прислали копии 213 страниц из дела Макача (общий объём его составляет 1360
страниц). В деле педантично документированы все необычные события его
жизни. Чтение документов вообще увлекательно, настоящий шпионский
триллер! Но прежде чем я изложу суть дела, хочу сразу же опровергнуть
подозрения недоброжелателей Макача: он никогда не был агентом «штази»!
Наоборот, безо всяких оснований он в течение многих лет был под
подозрением «штази», а некоторое время даже под очень сильным подозрением в
шпионаже в пользу Англии, позже — в пользу США и Франции; ему
угрожали арест и тюрьма. И ещё одно: в течение многих лет, когда за ним была
организована интенсивная слежка всеми мыслимыми способами, и позже,
вплоть до его смерти, когда «штази» лишь «вполглаза» наблюдала за ним,
он совершенно не знал, какая опасность ему угрожала. Своим спасением и
возможностью продолжения научной работы он обязан своей прямоте, силе
характера, смелости и, не в последнюю очередь, также своим
публицистическим и научным успехам.
Подозрение в шпионаже Макача возникли на почве его страсти к оологии
и непростительного легкомыслия сотрудника Службы британской разведки
(SIS — Secret Intelligence Service) Симона Холкомбе Джервиса Рида,
который с 1959 года работал в Британской штаб-квартире этого ведомства в
Западном Берлине и был орнитологом-любителем и охотником. Кроме того,
внесли свой вклад в эти подозрения и английские коллекционеры яиц, часть
из них были отставными офицерами, с которыми Макач менялся кладками
птиц. В то время такой обмен был довольно хлопотным делом, так как
англичане для своих посылок должны были приобретать официальные
разрешения, а посылки от Макача проходили затруднительный британский
таможенный контроль. Когда Рид, состоявший членом Британского
273
орнитологического общества, был переведён из Тегерана (где он шпионил,
— очевидно, успешно) в Западный Берлин, один коллега Рида по увлечению
орнитологией, британский офицер из Кента, попросил его о посредничестве.
Он хотел отправить свои посылки с яйцами птиц посредством военной
служебной почты в Западный Берлин, где их должен был забрать Макач
(Берлинской стены тогда ещё не было). Тем же способом Макач должен был
передать свои коробки английскому партнёру по обмену. Сигналом к началу
обмена должно было послужить письмо от Рида к Макачу. Письмо
необходимо было послать из Восточного Берлина, чтобы избежать опасного
почтового контроля, осуществляемого «штази». Это было в апреле 1960 года.
Так как Рид не мог посещать восточный сектор города, то из соображений
безопасности он попросил одного из своих агентов из ГДР, с которым он
встречался в Западном Берлине, взять с собой письмо и бросить на востоке в
почтовый ящик. К сожалению, Рид не знал, что имеет дело с двойным агентом,
работавшим как раз и на государственную службу безопасности ГДР (там он
имел псевдоним «Грюнберг», его настоящее имя — Август Клибенштейн,
работал официантом в ресторане в Восточном Берлине). «Грюнберг»,
конечно, немедленно передал письмо своему начальнику — офицеру в Главном
отделе контрразведки И/2 (далее НА II/2). Хотя вскрыть конверт было очень
заманчиво, «штази» не сделали этого, опасаясь, что адресат письма
(который, разумеется, с этой минуты подозревался в шпионаже в пользу Англии)
может проинформировать британцев о вскрытии и манипуляции с письмом.
^Ограничились лишь фотографированием конверта с адресом и вместе с
содержимым отнесли на почту.
Конечно, сразу же было отправлено письменное донесение Берлинского
НА И/2 в областное управление «штази» в Дрезден (BV) и в
соответствующую районную инстанцию в Баутцене (KD) с просьбой о проведении
подробнейшего разъяснения личности Макача (рис. 77).
Через месяц НА И/2 получил первое сообщение, где, в частности,
говорилось: «При важных государственных праздниках он [Макач] не считает
нужным вывешивать флаг и не украшает свои окна [sic!]. Он не посещает
никакие собрания, которые организуются NF [Национальным фронтом] и
другими организациями. Из разговоров с ним невозможно понять, какую
позицию он занимает по отношению к нашему рабоче-крестьянскому
государству. [...] С моральной точки зрения не установлено ничего порочащего.
Семейная жизнь упорядочена. В большинстве поездок его сопровождает жена
[...]. Для поездок по ГДР он использует большей частью собственный
мотоцикл. Он живёт в хороших материальных условиях. Так как он большую
часть времени разъезжает, не удаётся установить, живёт ли он по средствам
274
Dleaststelle Bautzen . Bautzen, den 22.11. i960
Sachstaadsberlcht
Betr.: Op.-Vorsaag M Hatte " Reg.Nr. 52/6o d. HA. II/2, Tell 1
K. Lekam im April i960 elnen Brief ubersandt, wiener vermutllch
personllch von elnem offizlellen Mitarbelter des englischen
Geheimdienstes ( SIS ) gesfchrieben wurde. Der Inhalt dieses Briefes
1st nicbt bekannt. Die Beforderung des Briefes erfolgte auf dem
offiziellea Postweg vom demokratischen Sektor Berlins»
Aus dea gefiihrten Ermittlungen iiber M. gent klar nervor, daB er
auf Grund se-iner Tatigkeit die Moglichkeit bat, eine umfangrelcbe
Spionagetatigkeit durcbzufiihren . hi. bereist viele Gebdete
der DDR und der Volksdemokratien und verfiigt iiber еАпед grofien
Века note акте is, vor allem innerhalb der IatelllfieJbrSl %
M. leistet keinerlel gesellschaftliche ArbaLt^^^^Sr nicht
VersanualuDgen der NF und laflt aicbt егкегщЩ^щ&сЪе Stellung
er zu unserem Staat einnimmt. - ^^ 4^p-~
Das gleiche trifft auch fiir seine^ffc^zu.^obwohl aus ihren
Brief en auch positive Momente^AmdLiire Entwicklung her v orgs hen,
tritt sie ia der OffentlUB^Killnt so auf.
Рис. 77. Первые начальные строчки донесения «шпгази» на двух
страницах с обоснованием подозрения Макача в шпионаже.
[...]. Имеет ли М. [Макач] связи с Западным Берлином, установить не
удалось». По документам быстро составили перечень заграничных поездок
Макача, что привело к следующему умозаключению: «Совершенно очевидно,
что М. [Макач] ввиду своих обширных связей внутри страны и за границей,
а также своей неконтролируемой деятельности, имеет очень хорошие
возможности для шпионажа». Дополнительно сообщается, что Макач недавно
приобрёл в личное пользование автомобиль Фольксваген-Жук в Западной
Германии и ввёз в ГДР (легально). Следователю в Дрезден вскоре ушло новое
указание: «Разъяснить личные связи в ГДР; получить сведения о
корреспондентах Макача посредством почтового контроля; перепроверить, в каких
областях ГДР Макач проводит свои научные исследования, и какое
техническое оборудование он использует для этого; выяснить увлечения Макача и
его жены, особенности образа жизни Макача и его семейного круга».
Между тем, проверка обширной переписки подозреваемого не выявила
ничего подозрительного: «... [переписка] носит исключительно характер
деловой корреспонденции между коллегами по профессии, а именно ведётся с
людьми с кругом интересов в области орнитологии», — отмечено в
донесении с орфографической ошибкой в слове «орнитология». Было решено
установить за Макачем слежку. Из числа тайных осведомителей «штази» был
выбран подходящий кандидат — GI [Geheimer Informator — тайный инфор-
275
матор] «Хайнц» из Золанда/Шпрее (настоящее имя Герхард Хорнуф). Этот
человек был охотником и незаурядным знатоком птиц. Было также решено
прослушивать разговоры в квартире Макача. Для этого с пожилых супругов,
проживающих в квартире этажом ниже Макача, взяли подписку о том, что
они не будут препятствовать «работе специалиста штази».
GI «Хайнц» посетил Макача в его квартире в Баутцене 15 февраля 1961
года. Сообщение информатора об этом визите не принесло, однако, «штази»
ничего нового. Отчёт представляет собой скорее пересказ беседы двух
бесконечно далёких от реальной жизни орнитологов. Хорнуф («Хайнц»),
например, рассказывал Макачу о том, что имел случай наблюдать необычно
окрашенную зарянку, а Макач, в свою очередь, интересовался, оседла ли
кедровка в том районе, где живёт Хорнуф. После прочтения этого отчёта у меня
сложилось впечатление, что господин Хорнуф догадался о злонамеренности
своего «заказчика», внутренне принял сторону «противника» и своим весьма
мало информативным сообщением хотел отделаться от участия в этом деле.
Усилия «штази» по подслушиванию разговоров в квартире Макача,
по-видимому, также не принесли результатов — во всяком случае, в деле не
отмечено никаких результатов этого мероприятия, а сообщается только о
трудностях. Например, была сделана попытка проникнуть в квартиру Макачей в
их отсутствие (вероятно, для установления «жучков»), но «специалисты» из
Дрездена доложили, что «не в состоянии были открыть замок (фирмы Йена-
Цейсс) входной двери квартиры М. [Макача] без оставления деконспири-
фующих следов». В конце концов вся эта возня не могла не привлечь к себе
внимания Макача (я думаю, что ему прежде всего бросился в глаза
почтовый контроль). Со свойственной ему смелостью он пошёл сначала на
разведку прямо в «логово льва», то есть в штаб-квартиру «штази» в Баутцене.
Он нашёл безобидный повод: ему нужен был гараж для новой машины;
между тем свой гараж оставил ему сосед, перед своим «побегом из
республики» на запад, так что ситуация оставалась неясной. Визит Макача
чрезвычайно обрадовал офицеров «штази». Секретарь отметил в протоколе, что
вследствие этого визита «вероятно появится возможность в дальнейшем
поддерживать с М. [Макачем] официальный контакт». Из других документов
можно заключить, что к этому времени органы безопасности уже не имели
намерения арестовывать Макача из-за его «враждебной деятельности», а
наоборот, намеревались «переориентировать» его с тем, чтобы он собирал
информацию против британских спецслужб. Так что дело о гараже быстро
решили в пользу Макача. Это было чем-то вроде задатка. Весьма любезное
отношение со стороны всемогущего ведомства обрадовало Макача ещё и
потому, что ему было хорошо известно, что каждая его заграничная поездка
276
требует утверждения со стороны «штази». Таким образом, эта первая встреча
Макача со «штази» послужила началом игры в «кошки-мышки», которая
продлилась почти десять лет и велась такими неравными партнерами, с
разными интересами и ожиданиями. Весной 1961 года Макач с женой снова
отправились в длительную исследовательскую поездку в Грецию; на этот раз
им удалось открыть там колонию редкой чайки Одуэна (Larus audouinii).
«Штази» санкционировали поездку, надеясь за время отсутствия хозяев всё-
таки проникнуть в их квартиру и установить оборудование для
прослушивания. Но ещё до возвращения Макачей произошло событие исторического
значения: 13 августа Западный Берлин был закрыт, и началось
строительство Берлинской стены. С этого момента все поездки граждан ГДР в ФРГ и
другие страны запада стали радикально ограничиваться. Не удивительно, что
сотрудники «штази» крайне обеспокоились тем, что «шпион» Макач не
вернётся обратно и останется на западе. Но этого не произошло: в конце
августа Макач с женой вернулись в закрывшуюся ГДР!
Новая политическая действительность по сути дела стала для Макача
катастрофой, поскольку его исследовательская работа была связана со
многими поездками, в том числе и в несоциалистические страны. Теперь ему
пришлось вспомнить о своих хороших (как он полагал) отношениях со
«штази», и он вступил в контакт с одним из любезных господ, с которыми он
познакомился ещё перед поездкой в Грецию (гауптман Отто из НА И/2
Берлина, в деле он фигурирует под псевдонимом «капеллан»). В переговорах с
ним Макач настойчиво просил о разрешении на поездку в Западный Берлин
и в ФРГ, где у него уже была договоренность о выступлении с 25 докладами
с показом слайдов в конце 1961 года. «Капеллан», в свою очередь, хотел
узнать, с кем Макач встречался в Греции и в других странах, спрашивал и о
связях с «английскими офицерами» из числа орнитологов-любителей.
Разговор в конце концов повернулся таким образом, что гауптман Отто почти
открыто предложил «сделку»: разрешение на поездку в ФРГ в обмен на
сведения. Макач отказывался, но в конце концов согласился составить «список
всех иностранных учёных, с которыми поддерживает контакты». И всё-таки
в последний момент он отказался дать список, несмотря на настойчивые
уговоры «капеллана». Разрешение на поездку он не получил... Это было первое
поражение для обоих сторон.
Макач, удручённый этой неудачей, попытался в конце 1961 —начале 1962
года получить поддержку своей деятельности в Отделе литературы и
издательского дела Министерства культуры ГДР и в Немецкой Академии наук в
Берлине. Он с давних пор хорошо знал трёх ведущих учёных, членов
академии: профессора Г. Штуббе, профессора К. Мотеса и профессора Э. Штре-
277
земанна. Все трое заступились за него: речь шла и о новой поездке в Грецию
с целью исследования биологии размножения чайки Одуэнна, но достичь
ничего не удалось. Положение даже ухудшилось, поскольку «штази»
посредством почтового контроля и другими методами быстро узнали, что двое
из трёх названных профессоров (Штуббе и Мотес) вели «подозрительные
переговоры» с иностранцами во время пребывания за границей. В одном из
документов «штази» это предположение обосновывается тем, что «связь
названных профессоров с доктором Макачем как раз и существует потому, что
он занимается враждебной деятельностью».
Проверка корреспонденции Макача привела также к тому, что многие книги
и научные журналы, адресованные ему с запада, стали конфисковывать. Он
обра тился с письменным заявлением к начальнику Главного почтамта в Баут-
цене, но это не помогла. Тогда в июле 1962 года он снова лично посетил
отделение «штази» в Баутцене и устроил там шум. Это возымело действие: по
прошествии некоторого времени он получил задержанные письма!
К началу 1963 года «штази» снова перехватили инициативу. Майор Клип-
пель разработал план «оперативной комбинации» против Макача. По
сценарию провокатор, работающий на «штази», должен был играть роль
западногерманского патриота, приехавшего на весеннюю ярмарку в Лейпциг. Он
должен был посетить Макача и склонить его к признанию или
содействовать сотрудникам госбезопасности в его аресте (из-за контактов с
британскими службами в Западном Берлине). Долгожданным итогом этой
операции должно было быть следующее: «Заполучить доктора Макача и заставить
работать на нас». Неблагоприятные обстоятельства предотвратили, слава
Богу, претворение этого дьявольского плана в жизнь.
1964 год принёс с собой новую угрозу: отделение госбезопасности в
Лейпциге получило новую интересную информацию о Макаче и отправила её в
отдел НА II/2 в Берлин.
Информация была добыта тайным агентом под кодовым названием
«Стилп» (настоящее имя — доктор Франц Прёглер, аптекарь из Лейпцига).
«Стилп» сообщил, что Макач до сооружения Берлинской стены имел
обыкновение покупать продукты в одном и том же продовольственном магазине
в Западном Берлине, который служил американской и французской тайной
полиции конспиративной квартирой! «Штази» внесли владелицу магазина в
список лиц, интересующих спецслужбы ГДР, чтобы арестовать её, если она
вдруг окажется однажды в Восточном Берлине. От неё надеялись получить,
наконец, одно значные доказательства соучастия Макача в шпионаже.
Тем временем ничего не подозревающий Макач в начале 1965 года
возобновил хлопоты для получения разрешения на туристическую поездку в
278
BStU j _
О06Ш fel >':*
Bauptabteilung II/3
*P
^
TgD.H":
«*>
w .Fr. 11УЗ/
18.2.1965
Tb/65
Arbeitegruppe
im H a u & e
Eeiseantrag dee Br. Haicatsch, Wolfgang - geb. 16.2.06
wh.: Bautzen
von 15.3. - 15.8.1965 naob Crlecbenland
Be wird gebeten, den angefttbrten Heieeaatrag dee Dr. И. nicbt
zu genebsigen.
Wean elne Begrflndimg erforderlieh 1st, so 1st ansugeben, dafl
die Eeioe vom Minlsterium- fOr Kultur nicbt beftlrwortet word en
iet bzw. die BefOrwortrtng zurUckgezogen nurde.
Leiter der Haupaabteilung II
"'.11 п е г t
Рис. 78. Циркуляр службы безопасности с обоснованием отказа
в разрешении на поездку доктора Макана в Грецию.
Грецию, опять-таки из-за чайки Одуэна. Ввиду новых подозрений в
шпионаже и опасения, что «шпион» может остаться на западе, в поездке ему было
отказано (рис. 78). В устном обосновании отказа сослались, однако, на
ограничения, введённые на туристические поездки в Грецию в связи с тем, что
греческое правительство отказало Вальтеру Ульбрихту и сопровождающим
его лицам в разрешении на перелет над Грецией для государственного
визита в Египет. Макач решился на смелый шаг — жаловаться непосредственно
Председателю государственного совета и Первому секретарю СЕПГ
Ульбрихту! Благодаря налаженному почтовому контролю, копию этой жалобы
длиной примерно в 100 строк «штази» получила прежде, чем она достигла
адресата; но жалоба возымела довольно неожиданное действие: 6 июня было
решено, что «доктор М. [Макач] снова может выезжать за границу». Это
была большая победа! Однако, гнездовой период у редкой чайки уже был
почти закончен, так что супруги Макач поехали в Чехословакию и в
Венгрию, а в конце года совершили длительное турне с лекциями по Западной
Германии.
В начале 1966 года у «штази» появилась надежда достичь, наконец,
важного успеха. Владелица магазина из Западного Берлина имела неосторож-
279
ность посетить «демократический сектор» города и была здесь арестована.
Она подтвердила, что доктор Макач, и иногда его жена, посещали магазин,
чтобы покупать там продукты. Тем не менее, на самый важный вопрос
допрашивавшего её офицера она ответила: «Мне неизвестно, что доктор М.
поддерживает связь с учреждениями тайной полиции или тому подобными
организациями». Теперь, возможно, «штази» начали понимать, каким
вздором они занимались в течение долгих лет, и наконец-то позволили Макачу
своевременно поехать к его колонии чаек Одуэна на Эгейское море.
Прошло ещё добрых два года, пока НА II в Берлине официально не
предложил в феврале 1969 года «закрыть дело и перевести материалы в архив
XII отделения на хранение». Основание: «... оперативная обработка всех
материалов на доктора М. не выявила никаких указаний на враждебную
деятельность М. [Макача}».
Между тем книги Макача стали занимать всё более видное место в
государственной книготорговле ГДР, теперь его деятельность поддерживало даже
Министерство культуры. Но «штази» всё ещё не утратили обеспокоенность
его многочисленными контактами с Западом. Сохранилась, например, такая
запись: «Стали известны почтовые контакты с Грецией, Данией, Австрией,
Англией, Францией, Новой Зеландией, Бельгией, Швейцарией, США, а
также имеет корреспондентов в 38 различных городах ФРГ». Когда в мае
1968 года один из офицеров «штази» предлагает отказать Макачу в
разрешении на поездку в Югославию, другой офицер приписывает на бланке: «Так
^ак в данный момент невозможно обосновать отклонение поездки М., то
несмотря на негативные моменты такой поездки, отклонять её
нецелесообразно». Это была новая большая победа! Только в августе 1969 года, то есть
после более чем девяти лет расследований, было принято решение по их
прекращению, правда, с пометкой: «Доктор Макач включён XX отделом
Дрезденского областного управления в систему контроля и безопасности MfS
[министерство государственной безопасности]».
Вопреки сомнениям «штази», Макач ездил теперь за границу почти
ежегодно, но в конечном итоге именно политические инстанции ГДР несут вину
за его преждевременную смерть. В свою последнюю поездку в Индию он
хотел взять с собой своего домашнего врача и друга, доктора Вольфганга
Гнойсса, но «компетентные органы» отказали ему...
Ещё несколько слов о коллекционной оологической деятельности Макача:
без сомнения, он часто изымал кладки птиц без специального разрешения. И
это нельзя рассматривать иначе, как серьёзное нарушение законов об охране
при роды. Но он занимался этим с сугубо исследовательскими целями, а его
собрание кладок птиц являет собой образец научной коллекции, на основе
280
которой он написал ценнейшее уникальное двухтомное руководство: «Яйца
птиц Европы» (книги вышли в 1974 и 1976 гг.). Что же касается охраны
природы, то Макач потрудился на этом поприще успешнее многих своих
критиков. Почти во всех своих книгах Макач пропагандировал охрану природы,
в частности, необходимость сохранения местообитаний птиц. В Греции, где
он собрал, пожалуй, наибольшее число кладок, он активно участвовал в
усилиях по созданию охраняемых природных территорий для птиц. Так что это
должно быть дополнительно учтено особенно рьяными деятелями охраны
природы для его реабилитации...
Ожесточенная критика Макача, исходившая от его коллег (и обоснованная
лишь отчасти) наводит меня на мысль: а не утратило бы полицейское
государство свою силу намного раньше, если бы уже в 1960-е годы больше
граждан ГДР вели себя так же смело, как он!?
* * *
Биографии многих учёных-биологов зачастую начинаются с описания
их увлечений природой уже с юности, а то и с раннего детства, например:
«... уже тогда его отличал интерес к животным, растениям или птицам...».
Лоренц называл это «запечатлением». Но иногда всё складывается совсем
по-другому. Могу привести по крайней мере один пример: профессор Ченг
Цо-Син/Cheng Tso-hsin (1906-1998), отец современной китайской
орнитологии и основоположник охраны природы в континентальном Китае,
обратился к биологии только после поступления в университет, а посвятить себя
орнитологии решил незадолго до его окончания. Ченг стал известен в
«западном мире» прежде всего благодаря публикации в 1987 году своего
фундаментального обзора всех видов птиц Китая на английском языке (в период
с 1947 года вышло несколько предшествующих изданий на китайском языке).
Этим трудом Ченг закрыл огромный пробел в исследовании палеарктиче-
ской и восточно-азиатской фауны и способствовал развитию зоогеографии (в
частности, он по-новому провёл границу между палеарктической и
восточной областями). Но в своей стране Ченг с 1930-х годов был известен прежде
всего как замечательный университетский педагог, профессор,
преподававший зоологию позвоночных животных, экологию и другие дисциплины. Он
воспитал много сотен студентов и несколько десятков аспирантов.
Значительное число китайских зоологов — его ученики. Ещё раньше им
восхищались в Соединенных Штатах: в 1930 году, в возрасте всего двадцати трёх
лет он защитил диссертацию и получил учёную степень в университете
Мичигана; до него ещё никому не удавалось получить степень в этом универ-
281
ситете в таком молодом возрасте. За исключением пребывания за границей
во время учёбы, в научных командировках и на конгрессах, Ченг всю жизнь
прожил в Китае, где ему пришлось работать при различных политических
системах, пережить войны и революции, в том числе и небезызвестную
«культурную революцию». Независимо от того, что происходило в мире в
данный момент, Ченг был занят только одним — научно-исследовательской
работой на благо своей страны.
Я познакомился с Ченгом в середине 1950-х годов; в то время это был
жизнерадостный человек, всегда готовый помочь, всегда занятый работой. Его
буквально переполняли планы новых проектов, о которых он рассказывал с
убедительным оптимизмом. Мои коллеги из Пекина говорили мне, что эти
черты характера он сохранил вплоть до конца жизни. О том же
свидетельствуют сообщения о его студенческих годах и о самом начале его карьеры
ещё в республиканском Китае. Итог деятельности Ченга выглядит
монументально: 16 монографий, в том числе несколько томов о птицах в «Фауне
Китая» («Fauna Sinica»), почти 50 книг по специальности (среди них есть
академические руководства, одно из которых выдержало восемь изданий, в
том числе на Тайване), 130 научных работ и до 250 научно-популярных
статей. Большинство работ Ченга было издано на родном языке и содержат
почти десять миллионов китайских иероглифов.
Мы, европейцы, можем только завидовать такому жизненному итогу. И
лишь после специального ознакомления с биографией Ченга начинаешь
понимать, что своих поразительных успехов этот выдающийся учёный добился
вопреки многим трудностям, а иногда й самым драматическим
обстоятельствам. В этом очерке мне хочется рассказать о его жизни, основываясь на
материалах, приведённых в ряде публикаций (Yang Qun-rong, 1995, а также
Archibald, 1998; Garson, 1998; Howman, 1998 и Zang Zeng-wang, 1998).
Ченг появился на свет в сельском пригороде большого портового
города Фучжоу, административном центре провинции Фуйзянь,
расположенной в юго-восточном Китае — как раз напротив острова Тайвань. Его
отец имел высшее образование, в то время доступное лишь немногим
китайцам, и превосходно владел английским языком; мать умерла от
туберкулёза, когда Ченгу было всего четыре года. Воспитанием детей
занималась бабушка; но отец, который по роду своей профессиональной
деятельности часто находился в разъездах, тем не менее следил за тремя
областями в воспитании сына, одарённость которого стала очевидной с
началом занятий в школе: он приучал его усердно и систематически
учиться, заниматься гимнастикой и спортом, а также следил за тем, чтобы
он выучил английский язык.
282
Когда Ченг овладел первой тысячей иероглифов, он начал много читать,
прежде всего — классическую китайскую литературу. В средней школе он
отличался не только внимательностью, но и аккуратностью: его книги,
школьные тетрадки, блокноты — всё находилось на своем месте в
образцовом порядке. Уже тогда его комната напоминала кабинет учёного. Но
мальчик часто болел, был слаб физически, поэтому отец рекомендовал ему ещё
больше физических нагрузок и занятий спортом, что он рассматривал
предпосылкой хорошего здоровья. Сын следовал этому совету, он стал много
путешествовать в ближайших горах, играл в теннис, даже занял первое место
на школьных соревнованиях по бегу на 100 метров. Его естественнонаучные
интересы носили в то время главным образом кулинарный характер: из своих
прогулок в горы и на побережье он приносил «дары моря» и другие
съедобные животные и растительные продукты, из которых бабушка готовила ужин.
Средняя школа в Фучжоу состояла из шести классов, но усердный Ченг
получил свидетельство об окончании школы уже через четыре года, в возрасте
пятнадцати лет.
Семья решила послать его в местный университет, бывший тогда одним
из лучших высших учебных заведений Китая. Он был англоязычным и
назывался до начала 1950-х годов Фуйзяньский христианский университет
(Fujian-Christian-University). Но возникли проблемы с возрастом
абитуриента; тем не менее, после строгого вступительного экзамена они были
преодолены. Ченг должен был изучать биологию и химию. На лекции
английский профессор биологии задал вопрос, какой плод содержит наибольшие
количество витаминов? Все давали ошибочный ответ, но Ченг назвал
помидор (помидоров в Китае тогда ещё не выращивали, однако он где-то
прочитал об этом). Англичанин стал внимательнее относиться к нему и
содействовал его решению выбрать в качестве основной специальности биологию.
Часто занятия проходили в природе, и молодой студент уже в то время понял,
что «Обучение и исследование должны идти рука об руку», как он любил
позже повторять. Всего лишь через семь семестров, в 1926 году, он получил
диплом бакалавра.
Ченг хотел продолжить изучение биологии в Америке, но для этого не
было средств. Помогли родственники из большой семьи Ченгов: его дядя,
работавший врачом, оплатил поездку. Был выбран Мичиганский
университет в Энн Арборе, поскольку там жил двоюродный брат Ченга, а плата за
обучение в этом университете была сравнительно небольшой. Ченг
выдержал вступительный экзамен и выбрал зоологию как основную
специальность. Он сам зарабатывал деньги на жизнь «американским» способом:
сперва мойщиком пробирок в больнице, затем лаборантом в университете,
283
позже он стал помощником ассистента с постоянной зарплатой. Но и в
Америке он оставался китайцем: наряду с учёбой постоянно занимался
китайской гимнастикой, играл в теннис. Темой диссертации было развитие
эмбрионов американской воловьей лягушки (Rana cantabrigensis). Позже эта
работа была опубликована в Германии, в «Журнале исследований клетки и
микроскопической анатомии» («Zeitschrift fur Zellforschung und Microsko-
pische Anatomie, 1932, 16: 497-596).
В июне 1930 года 23-летний Ченг получил диплом кандидата наук, при
этом Биологический факультет удостоил его особой награды — «Наградного
ключа Sigma Xi» (диплом и ключ из золота в парчовом футляре); ключ
символизирует открытие его владельцем ворот в науку. Ченгу предложили место
в научно-исследовательском институте в США.
Но у молодого учёного уже созрел другой план. Ещё когда он работал над
диссертацией, он часто отдыхал в залах Естественнонаучного музея
университета, где в числе других экспонатов стояло чучело золотого фазана
(Chrysolophus pictus). Надо сказать, что хотя Ченг на протяжении всей своей
долгой жизни никогда не занимался политикой, он был по-настоящему
патриотично настроенным человеком. «Почему все новые виды животных в
современном Китае открыты иностранцами?» — спрашивал он себя. Он знал
классическую китайскую литературу, в том числе книгу, написанную три
тысячелетия назад, в которой были упомянуты примерно сто видов птиц; были
и более поздние книги, содержащие описания многих птиц. Золотой фазан,
дикая форма которого обитает только в Китае, — одна из красивейших птиц
мира! И разве миллионы китайцев не восхищались этим чудом природы за
тысячелетия до того, как о нём узнали европейцы? Ченг отказался от
американского предложения. Он решил возвратиться в Китай и посвятить себя
изучению птиц своей родины.
Когда в сентябре 1930 года Ченг отправился из Америки в обратный путь,
его уже ожидало приглашение из Университета Фуйзянь. В это время на
севере Китая начались вооруженные столкновения, но в провинции Фуйзянь
ещё было спокойно. Почти 20 лет Ченг был профессором в этом
университете. Преподавательская деятельность и различные обязанности он
совмещал с орнитологическими экспедициями в окрестности.
На одной из вечерних прогулок по направлению к теннисной площадке
он познакомился со своей будущей женой, Ченг Лиа-Янг.
Из-за расширения японской агрессии на юг университет в 1938 году
переехал в Шаоу (примерно в 250 км к северо-западу); вместе с университетом
переехал и Ченг. После переезда он начал исследовать фауну птиц этого
горного региона.
284
В апреле 1945 года в рамках научного обмена между Китаем и США, как
приглашённый профессор, он побывал в Америке. Здесь он начал работу над
сводкой по фауне птиц Китая. В более чем десяти американских
университетах и музеях на востоке США он просмотривал в орнитологических
коллекциях экземпляры из Китая, включая и множество типовых экземпляров,
и изучал публикации по фауне Китая, недоступные на родине. В это время в
Старом Свете шла к концу Вторая мировая война, и над Китаем нависла
угроза воцарения коммунистической диктатуры. Мичиганский университет
приглашал Ченга остаться в Америке. Но в сентябре 1946 года он улетел в
Фучжоу, куда после изгнания японцев вернулся его университет. Он
возвращался не только к своей семье, он возвращался на родину, в Китай, готовый
трудиться ради блага отчизны вне зависимости от того, кто в данный момент
стоит у кормила власти.
Между тем в 1947 году гражданская война между коммунистами Мао и
партией Гоминьдан, возглавляемой Чан Кай-Ши, докатилась и до родной
провинции Ченга. Ни преподавание, ни научные исследования не были больше
возможны. Ченг переселился в Наньанг. Там он сначала работал в
университете и занялся изучением фауны птиц региона. В конце 1948 года армия Мао
одержала победу, многие люди, в том числе и из университета, бежали на
Тайвань. Поначалу Ченг также склонялся к этому шагу. Но он не питал никаких
симпатий к режиму Гоминьдана, с ужасом наблюдал за теми злодеяниями,
которые творили приспешники Чан Кай-Ши, и испытывал глубокое
отвращение к продажным органам местной власти. О коммунистах Ченг почти
ничего не знал. Однажды он спросил одного из своих университетских коллег,
члена запрещённой коммунистической партии, о том, как коммунисты
относятся к науке. Тот отвечал, что «Коммунистическая партия нуждается в науке,
и ей понадобится много учёных!». Этим ответом Ченг был удовлетворен не
вполне, поэтому он уточнил: «Нуждается ли партия также и в
орнитологах?». Положительный ответ коллеги, которого Ченг глубоко уважал,
утвердил его в намерении оставаться в городе до прихода подразделений Мао.
После того, как это произошло, он вступил в Коммунистическую партию
Китая... Теперь он снова стоял перед выбором: должен ли он следовать
приглашению безотлагательно возвратиться в Фучжоу или же ему следует
остаться в Наньанге? Все сомнения решила Коммунистическая партия: в 1950
году Ченг был переведён в столицу, в Пекин, в Китайскую Академию наук.
В Пекине Ченг первое время работал директором бюро научных
переводов Китайской Академии наук, но уже в 1953 году он занял место куратора
Орнитологического отдела Зоологического института Академии. Став
сотрудником института, он, в числе прочего, инициировал перевод книги И.
285
Штейнбахера «Исследование перелётов птиц» («Vogelzug und Vogelforschung»)
на китайский язык. В институте он оставался до конца жизни, здесь он стал
создателем современной китайской орнитологии, здесь же ему пришлось
пережить и самые тяжёлые годы своей жизни...
Но сначала всё шло хорошо: был разработан национальный план
проведения многочисленных зоологических экспедиций, который учитывал
также прикладные аспекты. Уже в 1953 году первая экспедиция
отправилась в провинцию Хэбэй (Ченг принимал в ней участие); целью экспедиции
было исследование «полезных» насекомоядных птиц. Попутно
исследовали всю фауна птиц региона и собирали коллекции. В 1955 году на
китайском языке вышел первый том книги, над которой Ченг работал уже в
течение многих лет: «Список и распространение птиц Китая» (второй том
был издан в 1958 году): Следующая экспедиция была организована в 1955
году в южную часть провинции Юньнань. В ней в 1956-1957 годах
принимали участие и советские зоологи. В 1955 году на северо-востоке Китая
начала работать большая биологическая экспедиция из ГДР (см. работу R.
Piechocki «Abhandlungen und Berichte des Museums fur Tierkunde ». Dresden,
1958,24: 105-303).
Зимой 1955 года по инициативе Министерства сельского хозяйства по всей
стране была провозглашена кампания борьбы с «Четырьмя напастями»:
воробьями, мышами, мухами и комарами. Все они подлежали уничтожению!
Миллионы людей убивали их повсюду и всеми возможными средствами; в
рельской местности все жители так долго сообща производили шум, что
воробьи (а вместе с ними, конечно, и другие певчие птицы) замертво падали на
землю. Ченг был против этой вакханалии, он пробовал призвать провести
соответствующие исследования, прежде чем приступать к акции, но только
в 1959 году к его мнению, наконец, прислушались. В перечне напастей
воробьи были заменены клопами, и кампания продолжалась с новой силой. Но
ещё до того, как воробьям было объявлено помилование, китайская
пищевая промышленность успела наладить производство консервов из
воробьиного мяса, и они даже экспортировались в Европу!
Сотрудничество Академии наук Китая и социалистических государств
дала Ченгу возможность снова путешествовать за границу. В мае 1957 года
его послали на три месяца в ГДР. Дело было в разгар «антиворобьиной»
кампании, поэтому он прежде всего посетил орнитологическую станцию Зебах,
руководитель которой — доктор К. Мансфельд — ещё в 1950 году
опубликовал работу «О научных основах борьбы с воробьями». Но большую часть
времени Ченг провел всё же в Зоологическом музее университета в Берлине
у Штреземанна (рис. 79). Я был там тогда студентом и помогал Ченгу при ра-
286
Рис. 79. Профессор Ченг Цо-Син (слева) и
профессор Э. Штреземанн в Берлине, 1957 г.
боте в коллекции птиц и в библиотеке. Его усердие в работе не знало
пределов: он тщательно исследовал все тушки из Китая и пополнял свою
орнитологическую библиографию. Штреземанн в то время трудился над
обоснованием необходимости издания «Атласа распространения палеарктических
птиц», летом 1957 года под его руководством состоялось обсуждение, в
котором принимали участие профессор Л.А. Портенко (Ленинград), доктор Ч.
Вори (Нью-Йорк), профессор Г. Нитхаммер (Бонн) и, конечно, профессор
Ченг — необычная встреча в разгар Холодной войны, которую Штреземанн
наградил наименованием «конференция Тихоокеанской Атланты» (намекая
на сильные разногласия о вступлении Западной Германии в НАТО). Тогда
мы все считали, что условия жизни в Китае катастрофические, и за чаем в
музее опрашивали гостя. Но Ченг не жаловался. Наоборот, он говорил, что
у него хорошие условия для работы и что лично он из-за своего
американского образования получает зарплату как «иностранный кадровый рабочий»,
что ему выделена большая квартира. Он указал лишь на один недостаток:
его жена, которая участвует в движении планирования семьи, часто должна
работать много месяцев подряд в отдалённых регионах страны (так
называемая кампания «врачи — в народ»). Штреземанн обычно приглашал
почётных гостей на ужин к себе домой в Западный Берлин20, но хотя
Берлинской стены тогда ещё не было, Ченг с извинениями отказался, сославшись на
то, что должен педантично соблюдать инструкцию китайского посольства в
ГДР. В ознаменование начала долгожданного сотрудничества Ченг и
Штреземанн написали совместную статью (Journal fur Ornithologie, 1961,102: 152).
Штреземанн проживал в Западном Берлине, а работал в Восточном. — прим. перев.
287
По предложению Штреземанна гостя приняли в члены-корреспонденты
Немецкого орнитологического общества.
На обратном пути в Китай Ченг посетил Зоологический музей
Московского университета и Зоологический институт АН СССР в Ленинграде. В
ЗИНе хранились обширные сборы из Китая; в 1958 году Ченг снова
приезжал на несколько месяцев в Советский Союз для работы над своей сводкой.
Но вскоре после этого произошло резкое обострение отношений
китайского и советского руководства. Всякое сотрудничество с СССР и
государствами восточного блока было полностью прекращено. Я смог убедиться в
этом лично, когда в начале марта 1960 года по пути во Вьетнам остановился
на два дня в Пекине и хотел навестить профессора Ченга в Зоологическом
институте. Все мои попытки сделать это потерпели полное фиаско, причём
мне даже не удалось заказать такси, чтобы добраться до института.
Но китайские зоологические экспедиции в различные регионы страны
(как выяснилось позже) не прекращались, и работа до поры до времени шла
по намеченному плану. Катастрофа разразилась в 1966 году, когда Мао Цзе-
дун провозгласил новый политический курс, печально известный как
«Великая пролетарская культурная революция».
Научная деятельность в Зоологическом институте прекратилась,
коллекция птиц Ченга, библиотека и все прочие отделы были закрыты, любые
публикации запрещены. Дни проходили в нескончаемых обсуждениях и
дискуссиях, в том числе и в письменной форме на страницах «стенных газет»,
^ыл провозглашён лозунг «Чем больше ты знаешь, тем больше подозрений,
что ты — реакционер!». Ченг был быстро разоблачён как «уголовный
преступник», поскольку он возражал против борьбы с воробьями и тем самым
критиковал главу государства — Великого Мао. Птицы были заклеймены как
«комнатные животные капитализма», а их изучение при социализме
квалифицировано как «проявление мещанства и ревизионизма, ведущих к
разорению государства»!
Профессор Ченг, как и многие другие учёные, должен был носить
табличку с надписью «Реакционный авторитет» и был отправлен на
перевоспитанию физической работой. В его обязанности входило подметание
коридоров и уборка туалетов. Профессор Ченг должен был пройти также
«экзамен по специальности». Ему было предложено определить видовую
принадлежность птиц, «слепленных» из разных тушек, и снять шкурку с
предоставленного ему умерщвленного голубя (как известно, голуби имеют очень
нежную кожу, которая легко рвётся при препаровке); Ченг провалился. Его
зарплата была снижена до скудного минимума. Затем он был изолирован на
полгода в коровнике с целью «перепроверки и самокритики». В августе того
288
же года «Красная гвардия» обыскала его квартиру и конфисковала почти все
имущество: часть мебели, пианино, телевизор, костюмы, бельё, личные
бумаги, в том числе и его «золотой» диплом университета Мичигана; больше
всего Ченг скорбел о своей новой пишущей машинке. Всё было погружено
на грузовик и увезено. (Жена утешала его: «На первые же деньги, которые у
нас появятся, мы купим новую машинку»). Его заставляли надевать мантию
и головной убор доктора наук, выводили на балкон. Он должен был стоять и
выслушивать насмешки сброда на улице. В 1967 году «Красная гвардия»,
вооружённая известной брошюрой «Изречения председателя Мао Цзедуна»,
разгромила «реакционный» Зоологический институт Китайской Академии
наук и основала здесь самоуправляемую коммуну под названием:
«Революционная группа мятежников».
Только в 1968 году «Красная гвардия» по приказу Мао была подавлена
при вмешательстве армии, но положение в стране ещё долго оставалось
тяжёлым.
В начале 1970-х годов, когда обстановка в Китае и в институте понемногу
начала приходить в норму, профессор Ченг возобновил работу над своей
книгой «Список и распространение птиц Китая», расширенную и дополненную
рукопись которой для второго издания он направил в издательство незадолго
до начала культурной революции. Он радовался, что успел сдать её, а не
хранил дома, поскольку ничего из конфискованного имущества ему так и не
было возвращено. После первого издания его труда уже накопилось много
новых данных; в результате пребывания Ченга в музеях Берлина, Москвы и
Ленинграда появились новые идеи, появились результаты новых
собственных исследований, в частности по подвидовой систематике фазанов. Он был
крайне обеспокоен, когда узнал в издательстве, что рукопись по требованию
«революционеров» уже давно была отправлена в институт «на проверку».
Он работал над ней 10 лет! Неужели его работа была напрасной!? Ещё
никогда Ченг не был так счастлив, как в тот день, когда один сотрудник
института сказал ему, что в запылённом складе института есть гора бумаг, может
быть, его рукопись. Ченг помчался туда: и в самом деле это была его книга,
только несколько таблиц и карты распространения отсутствовали! Этот труд
был издан в 1978 году (с датой «1976 год»). Однако, мысли Мао Цзедуна все
ещё считались великими, поэтому издательство добавило к книге длинную
цитату из Мао, напечатанную на красном форзаце.
Для многих орнитологов Европы начало 1970-х годов запомнилось
постановкой проблемы сохранения водно-болотных угодий. Рамсарская
конвенция (соглашение о выделении водно-болотных угодий, в частности,
местообитаний водоплавающих птиц и куликов международного значения)
289
It
Рис. 80. Профессор Ченг Цо-Син со своими докторантами в
Зоологическом институте Китайской Академии наук в Пекине,
1980 г.
была заключена в 1971 году в Рамсаре (Иран). Повсюду проводили
международные зимние учёты водоплавающих птиц, в этой инициативе принимал
участие и Советский Союз. Когда в 1973 году я прочитал в газетах, что
«положение в Китае нормализуется», то послал приглашение Ченгу с
предложением о сотрудничестве (в то время я руководил IWRB —
Международным бюро по исследованию водоплавающих птиц в Слимбридже, Англия).
Ответ вскоре пришёл: очень любезное, тёплое письмо, но на тему
сотрудничества было написано лишь следующее: «Все научно-исследовательские
институты нашей страны уделяют особое внимание проблематике
международных исследовательских проектов водно-болотных угодий, в частности,
местообитаниям водоплавающих птиц. Наш институт также является одним
из заинтересованных учреждений». Эту фразу можно было расшифровать
так: для начала сотрудничества ещё слишком рано. Конечно, в письме не
было ни одного слова, ни одного намека на то, что Ченгу пришлось недавно
пережить (впоследствии при встречах с иностранными коллегами он также
никогда не рассказывал об этом).
Весть о том, что Ченг пережил культурную революцию и может снова
отвечать на письма, быстро распространилась; одна группа орнитологов
встретила это сообщение с особым интересом — это были исследователи
фазанов! После смерти Мао (в 1976 году) они решились пригласить Ченга на
международный симпозиум Ассоциации исследователей фазанов мира
(World-Pheasant Association, WPA). И в ноябре 1978 года Ченг действительно
290
\
Рис. 81. Профессор Ченг Цо-Син на своём рабочем месте в Зоологическом институте
в Пекине; на заднем плане картина Б. Фауста с изображение по-видимому вымершего
вида — хохлатой пеганки, 1993 г.
приехал на два месяца в Англию! Его избрали вице-президентом WPA. Он,
конечно, не забыл о письме из Слимбриджа: он посещал сэра Питера Скотта
и профессора Г.В.Т. Мэттью, зоопарк с коллекцией водоплавающих птиц и
IWRB. Но большую часть времени он снова провёл в музеях в Тринге и
Лондоне, где кропотливо и методично искал данные о китайских птицах. По пути
на родину он посетил также Францию. Теперь он мог снова заниматься
научной деятельностью при полной поддержке Китайской Академии наук. С
величайшим усердием он пытался наверстать потерянные годы.
Возобновились работы в поле и расширение коллекции птиц. Под руководством Ченга
коллекция Зоологического института выросла до 60 000 экземпляров.
Началась работа над томом «Птицы» для 14-томного издания «Фауны Китая».
Ченг стал часто выезжать за границу: в 1980 году он побывал в Японии,
США и Австралии, в 1981 году — снова в США (он получил премию в
Мичигане), потом в Советском Союзе, в 1986 году — в Таиланде (здесь он был
избран президентом WPA). В начале 1980-х годов он способствовал
организации кольцевания птиц в Китае для исследования их миграций («Vogel-
warte», 1986, 33: 295-308). В эти годы Ченг был награждён многими нацио-
291
нальными и международными наградами. Он активно включился в мою
акцию по поиску таинственной хохлатой пеганки (Tadorna cristatd). В мае
1981 года он писал мне: «Если удастся найти этот вид уток в восточном
Китае, Вы внесёте большой вклад в китайскую орнитологию». По
инициативе Ченга в 1986 году было основано Китайское орнитологическое
общество; Ченг стал его почётным председателем. Не без содействия Ченга Китай
присоединился в 1991 году к Рамсарской конвенции, благодаря его усилиям
многие водно-болотные угодья страны были взяты под защиту. Уже в
течение многих лет Ченг снова работал над подготовкой обновлённого, теперь
уже третьего издания своей книги «Список и распространение птиц Китая»,
на этот раз на английском языке. Монументальный труд (1123 страницы, 828
карт распространения) был издан в 1987 году.
В последние годы жизни Ченг страдал от сердечного заболевания, но он
не берёг свои силы: ежедневно ранним утром он пешком направлялся в
институт, что служило ему теперь возмещением гимнастики периода
молодости. Дирекции приходилось хлопотать о его здоровье; охране института было
дано распоряжение не пускать его в здание по воскресеньям и в праздники.
Врач предписывал «щадящий режим», но Ченг возражал ему: «Если я не
смогу работать, то мне незачем дольше жить». На собственные средства,
которые он получал как премии и вознаграждения, он учредил стипендию для
награждения молодых китайских орнитологов.
В 1991 году супруги Ченг праздновали золотую свадьбу. Ченг подарил
своей верной супруге самое дорогое, что имел — золотой ключ из Мичигана
(он успел спрятать его перед приходом «Красной гвардии»), а супруга
подарила Ченгу золотой карандаш, инструмент, в котором он нуждался каждый
день. Ченг пользовался этим карандашом ещё несколько лет, до тех пор, пока
инфаркт не положил конец его работе.
Глава 5. Между внутренней эмиграцией
и приспособлением
Многие люди, вынужденные жить в условиях диктатуры или
авторитарного режима, уходили во «внутреннюю эмиграцию», стараясь не замечать
или игнорировать наиболее одиозные реалии окружающего их мира. Такое
«бегство от реальности» особенно хорошо удавалось, если человек работал
в сфере, далёкой от политики. В ГДР, например, даже сформировалось
общественное естественнонаучное движение, в которое были вовлечены
профессиональные орнитологи, орнитологи-любители и сторонники охраны
природы. (В конце концов, правда, власти начали опасаться этой
организации, поскольку её члены критиковали недостатки деятельности государства
в области охраны окружающей среды).
Среди учёных Советского Союза и других государств «восточного блока»,
хотя, разумеется, и не только там, было немало людей, которых можно
назвать «внутренними эмигрантами». Каждый из них в конечном итоге сумел
приспособиться к тем правилам жизни, которые были продиктованы
особенностями политической системы той или иной страны. Но всем им такое
приспособление далось нелегко. О судьбах и заслугах некоторых из этих
учёных я расскажу в этой главе.
* * *
Типичным «внутренним эмигрантом», реализовавшим себя в различных
свободных от идеологии «нишах», был мой болгарский коллега, доктор
Николай Боев/Nikolaj Boew (1922-1985). Его мировоззрение учёного-биолога
сформировалось в период монархии, во время правления высоко чтимого им
болгарского царя, а вся научная деятельность Боева пришлась на время
господства в Болгарии коммунистического режима.
Когда я начал заниматься проблемой расширения ареала кольчатой
горлицы в Европе, я искал встречи с Боевым, поскольку в то время он был
лучшим знатоком этого удивительного вида. Я встречался с Боевым несколько
раз за границей и посещал его в Софии. Он был интересным собеседником
— мог говорить на самые разные темы, блистал эрудицией при обсуждении
научных проблем, с большим юмором и сарказмом рассказывал истории из
современной жизни или же с неизменной ностальгией вспоминал о временах
монархии. Для последней темы имелся подходящий «профессиональный»
повод: два последних царя Болгарии, Фердинанд I (1861-1948) и его сын
Борис III (1894-1943), серьёзно интересовались орнитологией.
293
Рис. 82. Доюпор Николай Боев из Софии,
1975 г.
Николай Боев появился на свет в городке Айтос на востоке Болгарии. Его
отец владел книжным магазином и маленьким издательством в центре города,
а мать преподавала французский и русский языки. Благосостояние родителей
было скромным, но достаточным для того, чтобы послать Николая в
хорошую гимназию в Варне (Boew, 1997; Golemanski, Boschkow, 1997: 157-164;
N&nkinow, 1987). Родители Боева были уважаемыми гражданами в своём
городе, с начала 1930-х годов отец издавал местную газету «Новый Айтос»,
которая способствовала оживлению деловой жизни города: кроме предметных
статей она содержала многочисленные объявления, в том числе и немецких
фирм. Начиная с XX века болгарский царский дом имел немецкое
происхождение — от дома, именуемого «дом Сакс-Гота-Кобург». В период нацизма
связи поддерживались в основном на основании династического родства и
экономических интересов, а не из-за сходства идеологий двух государств.
Во время Второй мировой войны, в 1941 году, Николай был призван в
болгарскую армию. Сначала он служил в городе Шумене на северо-востоке
Болта рии, потом был переведён в Софию. Боев с детства интересовался
природой. Как-то он рассказал мне, что в восьмилетнем возрасте в Айтосе
вскарабкался на дерево, чтобы понаблюдать за гнездом кольчатой горлицы, но
заснул и свалился вниз.
Во время военной службы в Софии он проводил все увольнительные и
отпуска в Музее естественной истории. Уже тогда он хорошо знал птиц и
состоял в дружеской переписке с итальянским орнитологом Эдгардо Мольтони
294
из Милана (Мольтони посылал Боеву все оттиски своих работ и отчасти был
его учителем).
Музей естественной истории в Софии, позднее переименованный в
Зоологический институт и музей, обязан своим появлением болгарскому царскому
дому; он был основан царевичем Фердинандом в 1889 году и существовал под
его личным надзором (Stresemann, 1936, 1948; Gebhardt, 1964: 90-91; Korn,
1999). С 1874 года царевич был членом Немецкого орнитологического
общества. Собственно говоря, он мечтал заниматься естествознанием, но политика
времён Бисмарка потребовала от него исполнения совсем других обязанностей;
в 1908 году он был провозглашен царём Болгарии — Фердинандом I
(Stresemann, 1948). Фердинанд I передал свои орнитологические интересы и знания
сыну Борису, который принял болгарскую корону в 1918 году как Борис III.
Этот царь также поддерживал музей и участвовал в его научной работе; в
частности, за счёт королевской казны пополнял орнитологическую коллекцию.
Многочисленные обязанности не позволяли ему уделять много времени
развитию орнитологического отдела музея (отец тоже не мог этого делать — после
отречения он вернулся в Кобург в Германии; правда, в 1924 году он стал
покровителем Немецкого орнитологического общества). В конце 1920-х годов
Борис Ш рекомендовал сведущему болгарскому зоологу, Павлу Патеву,
который приобрёл известность, занимаясь зоологией простейших, переключиться
на орнитологию и взять на себя заботу о научной коллекции птиц музея. Так
Патев стал основателем современной болгарской орнитологии (Boew, 1991).
Николай Боев встречался с царём, ещё будучи солдатом в Софии: их
личная встреча состоялась в музее. Его глубокая привязанность к монарху
сильнее всего проявлялась, когда он с гневом и скорбью рассказывал мне о
последних годах его жизни: в 1941 году Болгарию принудили войти в состав
военной «оси» (Германия, Италия, Япония). По историческим причинам
болгары очень дружественно относились к России и вовсе не хотели войны с
Советским Союзом. Когда же немецкий восточный фронт был прорван, и
советские войска устремились на запад, стало очевидным, что нейтралитет по
отношению к Советскому Союзу ни в коей мере не побудит его руководство
отказаться от ввода войск на территорию Болгарии. В этих условиях царь
Борис III решил заявить о расторжении военного союза с Германией. В
августе 1943 года он летал в Берлин, где состоялось драматическое объяснение
с Гитлером. Вскоре после возвращения в Софию, 28 августа, Борис III
неожиданно скончался, а Болгария осталась союзницей Германии.
Обстоятельства смерти царя до сих пор точно не выяснены, но Николай был твердо
убеждён, что монарх был отравлен немцами. Он знал об этом от Патева,
который рассказывал ему в послевоенные годы, что Борис III всегда отличался
295
прекрасным здоровьем, но после возвращения из Берлина настолько
переменился внешне и внутренне, что только отравление могло быть причиной
его смерти. Царём — Симеоном II — был провозглашен шестилетний сын
Бориса III. Правительственные дела вёл регентский совет.
В это время Николай Боев был демобилизован и осенью 1943 года стал
студентом естественнонаучного факультета университета в Софии. Он получал
стипендию и мог теперь заниматься любимым делом. Но это продолжалось
недолго: после первого семестра бомбы западных союзников (с которыми
Болгария из-за альянса с Гитлером формально находилась в состоянии войны)
начали падать на Софию. Студентов распустили по домам. Николай отправился
в Айтос. Ещё будучи в Софии он узнал, что Патев работает над монографией
по фауне птиц Болгарии и послал ему собственный прокомментированный
список 30-и видов, впервые отмеченных для страны! Патев поблагодарил его
за этот важный вклад и включил большинство данных молодого студента в
монографию. Так была заложена солидная основа для будущего
сотрудничества с ключевой фигурой орнитологии Болгарии. Вскоре Николай смог
возвратиться в Софию, но в начале сентября 1944 года передвижение линии
фронта вызвало новые проблемы: Советский Союз объявил Болгарии войну.
В конце октября вся страна уже была занята Красной Армией, к власти пришло
прокоммунистическое правительство «Отечественного фронта Болгарии». В
1946 году Болгария была переименована в управляемую Компартией
«Народную республику», 9-летний Симеон II должен был покинуть страну.
гч Теперь и жить, и учиться стало труднее: Николая лишили стипендии,
местный орган власти «Национального фронта» в Айтосе отказался выдать
ему письменную рекомендацию для учёбы — его отец, как частный
предприниматель, попал в немилость. Вскоре произошло ещё худшее событие:
отца арестовали «за распространение фашистской пропаганды» в 1930-е и
начало 1940-х годов и посадили в тюрьму почти на год. Доказательством
вины послужили немецкие деловые объявления в его газете! Николаю было
запрещено учиться в течение длительного времени, как сыну «классово
чуждого элемента». Контакты с Мольтони стали невозможны, как и мечты
продолжить обучение в Италии, поскольку все связи частных лиц с так
называемой капиталистической заграницей были прекращены. Вскоре, правда,
положение немного нормализовалось, и Боева снова допустили к учёбе в
Софии; в 1947 году он получил университетский диплом.
К тому времени Николай Боев уже зарекомендовал себя как достаточно
квалифицированный орнитолог, и его приняли на работу лаборантом в
Зоологический институт и музей в Софии. Его первым заданием было привести в
порядок научные коллекции, пострадавшие при бомбардировках. В 1949 году
296
Боев стал ассистентом. Патев, с которым он тесно сотрудничал в
послевоенные годы, тяжело заболел, но всё же успел закончить книгу «Птицы
Болгарии». Боев был хорошим художником, он сделал большинство иллюстраций
для книги и участвовал в редакционной подготовке рукописи к печати. Первые
корректурные гранки из типографии пришли, когда Патев умер. Это
произошло в марте 1950 года. Ассистент Боев положил экземпляр гранок в его гроб.
Николай стал куратором орнитологической научной коллекции музея в Софии.
Для обеспечения научной карьеры при социализме как раз в этот момент
было бы уместно вступить в партию. Но неисправимый монархист даже не
помышлял об этом. Он твёрдо решил, что фундаментом его будущего
должны стать его собственные способности, профессионализм и упорная
работа: именно таким было его жизненное кредо. В конце его пути стало ясно,
что оно привело его к успеху...
Мне очень приятно вспоминать о наших встречах. Впервые я увидел
Николая Боева во время орнитологической конференции в Москве в 1959 году. Он
выступил там с большим докладом о биологии кольчатой горлицы, вызвавшим
много откликов. Вечером после заседаний я ещё расспрашивал его об этой
птице. Конечно, пребывание в Советском Союзе давало много поводов и к
разговорам на политические темы. Мы быстро сошлись во мнении о том, что
людям «в колыбели мирового коммунизма» живётся нисколько не лучше, чем
нам. Затем Николай рассказал мне о болгарском царе Борисе III, который был
доктором естествознания, членом Болгарской академии наук и, с 1921 года, —
членом Немецкого орнитологического общества, а с 1933 года —
пожизненным членом Британского орнитологического общества. Долгое время царь не
только заботился об орнитологической коллекции музея в Софии, но и лично
определял систематическую принадлежность новых поступлений. Кроме
орнитологии у короля было ещё одно увлечение: он был большим любителем и
знатоком локомотивов и умел ими управлять. В свободное время он старался
«поработать» машинистом; народ был в восторге, когда случалось ехать в
следующем по обычному расписанию поезде, которым управлял сам царь.
В 1965 году я снова встретился с Николаем Боевым на конференции по
водоплавающим птицам в Голландии. Он к тому времени уже обзавелся семьёй,
его профессиональные позиции укрепились, и он даже получил возможность
выезжать за рубеж, в том числе и в западные страны. В гостинице мы жили в
одном номере и вели долгие ночные беседы. В Польше в то время наметилась
тенденция к либерализации политической системы, и мы обменивались
нашими познаниями относительно различных вариантов социализма в
государствах восточного блока. Николай жаловался на болгарский вариант: его путь
к независимой научной работе и карьере был в значительной мере заблокиро-
297
ван из-за прошлого отца и его собственных политических воззрений. Он,
правда, сказал, что спокойно переносит эту ситуацию, поскольку много пишет
и публикует, и это приносит ему не только радость, но и признание.
В 1974 году я посетил Николая в Софии, он водил меня в Зоологический
институт и музей, показывал архитектурные достопримечательности города. У
себя дома он дал мне посмотреть папку со злыми карикатурами, которые он с
давних пор рисовал. Многие карикатуры изображали его противников в весьма
неприглядном виде. Он наконец-то стал старшим научным сотрудником
института, правда, только при содействии одного влиятельного академика,
которому удалось переубедить партийные инстанции. Боева ввели в члены
учёного совета института, но вскоре он без всякого обоснования был выведен
оттуда; его заменили менее квалифицированным учёным — членом партии.
Но несмотря на всё это, Боев занял прочное место в научном мире, только
материальное положение, вопреки постоянным заверениям властей, становилось
всё более затруднительным. Это проявилось и во время 18-го
Международного орнитологического конгресса в Москве. Боев хотел непременно принять
участие в этом важном научном форуме. С огромными хлопотами ему удалось
добиться согласия администрации института на оплату дороги, но без
командировочных. Среди многих парадоксов социализма был и такой: невозможно
было поменять личные деньги (болгарские или любой другой
восточноевропейской соцстраны) на советские рубли. Так что Боев вынужден был
оплачивать свое пребывание в Москве деньгами, вырученными от продажи товаров,
которые он прихватил с собой. Такие были времена...
Когда я встретился с Николаем в последний раз, он выглядел нездоровым,
но жажда работы не покинула его. В 1984 году он ушёл на пенсию и
намеревался посвятить себя публицистической деятельности. В ноябре 1985 года,
во время работы над корректурой большой книги о декоративных птицах
мира, у него случился инфаркт, и врачи не смогли его спасти...
Только много позднее я понял, в чем крылась причина неугасающего
оптимизма и внутреннего спокойствия Николая Боева: он оставил после себя
около 700 публикаций! Кроме орнитологических работ, это статьи на темы
охраны природы и защиты животных, экологии и этологии, музейного дела,
биологии охотничье-промысловых животных. Содержание этих текстов
невероятно разнообразно — от сугубо научных статей до сказок о природе для
детей. Среди его публикаций (только небольшая часть их — с соавторами) 50
научных работ, 3 учебника для школы и вузов, 27 научных и
научно-популярных книг, 10 предисловий к книгам других авторов и несколько сот
научно-популярных статей и иных публикаций (в том числе несколько
стихотворений). Многое было переведено на иностранные языки. Николай был
298
автором 10 сценариев для естественнонаучных фильмов и перевёл несколько
иностранных книг на болгарский язык.
Это достойный итог жизни и в то же время фундамент, на котором
подрастает уже новое поколение биологов. Высокие инстанции, которые так часто
вставляли ему палки в колёса, принуждены были неоднократно отличать его
заслуги; к 60-летию ему даже вручили орден «Знамя труда»!
Николай Боев ушел из жизни слишком рано. Ему не суждено было узнать о
том, что в 1986 году руководителем орнитологического отдела Зоологического
института и музея в Софии станет его сын, профессор Златозар Боев, и что
высланный из страны Симеон И, сын царя Бориса III, которого Боев так почитал,
вернулся в Болгарию под гражданским именем Симеон Сакскобургготский.
На свободных выборах в 2001 году Симеон II был избран главой
правительства своей страны, но затем потерял доверие избирателей и был
отстранён от руководства...
Начиная с 1974 года я неоднократно пытался познакомиться с албанским
зоологом и орнитологом из государственного университета в Тиране, профес
сором Фотаком Ламани/Fotaq Lamani (род. в 1923 году). Это удалось мне
лишь в 1989 году. До той поры я знал его только по публикациям. Албания
оставалась последней европейской страной, политическая система которой
была скроена по сталинскому образцу. Кроме того, её политические лидеры,
как известно, держали курс на изоляцию по отношению к большинству стран
мира. Так что попытки проникнуть в страну были почти безнадежны.
Между тем моё намерение посетить Тирану имело под собой вполне
официальные основания: в 1973-1974 годах я работал в Международном бюро
по исследованиям водоплавающих птиц (IWRB) в Слимбридже в Англии. В
1971 году состоялась международная конференция (в ней принимал участие
и СССР), на которой было заключено соглашение об охране водно-болотных
угодий, в особенности местообитаний водоплавающих птиц и куликов
мирового значения (так называемая Рамсарская конвенция). Необходимо было
пропагандировать результаты конференции и побуждать страны «восточного
блока» присоединиться к ней.
По литературе было известно, что на западе Албании находятся большие
пространства водно-болотных угодий, где останавливаются во время
пролёта и зимуют миллионы водоплавающих птиц, поэтому Албания могла бы
стать важным участником нашего проекта. Мне удалось разыскать некоторые
необходимые сведения: в библиотеке Варшавского университета я нашёл
299
научный журнал университета Тираны, который отсутствовал в западных
библиотеках, с большим, почти на 100 страницах, обзором фауны птиц
Албании («Buletin i Universitati Shteteror te Tirana», 1962 и 1963 гг.). Обзор был
составлен тремя авторами — Фотаком Ламани, Василием Пузановым и
Исламом Зеко. Один мой знакомый зоолог из Варшавы бывал в 1950-е годы в
Албании (когда власть в Польше ещё была в руках «сталинистов») и
рассказал мне, что встречался там с Фотаком Ламани — молодым орнитологом,
сотрудником Музея естествознания. Ламани попросил тогда передать
серебряное кольцо своей невесте — албанской студентке, которая по обмену
училась на географическом факультете в университете в Варшаве. После
возвращения на родину она вышла замуж за Ламани. Значит, Ламани и его жена
были «нашими людьми» в Тиране!
Президент IWRB, профессор Г.В.Т Мэттью на завершающем этапе моей
деятельности в Слимбридже, в начале 1974 года, поручил мне посетить
столицы государств Юго-Восточной, Средней и Восточной Европы, чтобы
убедить их правительства присоединиться к Рамсарской конвенции, а также
установить контакты с компетентными специалистами в области орнитологии и
охраны природы. Это дорогостоящее и длительное путешествие было, в
целом, успешным (Nowak, 2002a: 40-41). Но Тирану мне пришлось
вычеркнуть из плана: в Англии не было албанского консульства, а польский консул
в Лондоне сказал мне совершенно убеждённо: «Туда Вы не попадёте!».
Но, тем не менее, будучи в югославской столице — Белграде, я сделал ещё
'ддну попытку попасть в Албанию. Я навёл справки в посольстве Народной
республики Албании о возможности въезда в Тирану. В посольстве я встретился с
первой неожиданностью: секретарь посольства, который принимал меня, не
владел ни одним языком, кроме албанского и сербо-хорватского. Тем не менее,
он предложил вести беседу таким образом: по-польски (я) и сербо-хорватски
(он). Это удалось: с небольшими затруднениями мы понимали друг друга. И
тут выяснилась вторая неожиданность: с моим польским служебным
загранпаспортом я мог в любое время въезжать в Албанию без визы! Это меня очень
удивило, поскольку Албания уже в 1960-х годах отошла от социализма
«советской чеканки», прекратила всякое сотрудничество с Советским Союзом и
заключила идеологический и экономический пакт с Мао Цзэдуном. Но так или
иначе, любезный дипломат сообщил мне, что консульские протоколы с
Польшей (и Румынией), заключенные ещё до этого, по-прежнему действительны.
Письменно проинформировав потенциальных партнёров по переговорам
в Тиране о сроке моего прибытия, я 19 апреля 1974 года отправился из
аэропорта Будапешта на юг. Но во время промежуточной посадки самолета в
Белграде пассажирам сообщили, что в нашем Ил-18 есть повреждения, и ре-
300
монт потребует трёх дней, поскольку запасные части будут доставлены
машиной из Будапешта. Таким образом, я достиг своей цели на три дня позже.
(В маленьком аэропорту Тираны мне бросился в глаза большой
правительственный самолёт с китайскими эмблемами).
Теперь все назначенные мне сроки переговоров, разумеется, прошли.
Однако неизвестно, встретил бы я желаемых партнёров, если бы прибыл
вовремя, поскольку, когда я навёл справки, то выяснилось, что встретиться ни с
кем невозможно: Ламани «болен», другой орнитолог задерживается на
полевых работах, а с компетентными чиновниками в органах власти и в
Академии наук связаться не удаётся.
Но всё-таки мне удалось приобрести специальную литературу и
поговорить с двумя зоологами в Музее естествознания, от которых я узнал много
нового («Beitrage zur Vogelkunde», 1980,26: 65-103). Тем не менее, для IWRB
я сделать ничего не смог, хотя мне и удалось узнать, что большие
водно-болотные угодья на западе Албании практически уничтожены — с огромными
затратами они были осушены ещё в 1950-х — начале 1960-х годов. Перед
моим отъездом из Тираны я оставил письма для невстреченных мною людей
— возможных партнёров по переговорам. Сотрудники музея заверили меня,
что будут посылать мне публикации по интересующим меня темам, однако
никто из них никогда больше не писал мне. Так выглядела в то время в
Албании государственная политика изоляции.
На третий день пребывания в Тиране меня поразил размах демонстрации
в честь прибытия официальной делегации камбоджийского эмигрантского
правительства, имеющего резиденцию в Пекине (она прилетела китайским
самолётом). Главой правительства был Кью Сампа, один из трёх главных
предводителей «красных кхмеров», которые в 1975 году захватили Камбоджу
и установили там «коммунизм каменного века», уничтожив часть населения
страны, а часть превратив в рабов. (Позднее по албанскому образцу в
Камбодже были проведены в жизнь грандиозные проекты по осушению болот).
Я видел, как Сампа в сопровождении албанского диктатора Энвера Ходжа
вышел из огромного «Volvo» (в те времена единственный легковой
персональный автомобиль в стране) и направился к музею Ленина. Хотя я вырос
в социалистической Польше, но это уже был гротеск! В тот день я понял,
насколько наивно было пытаться агитировать кого-то охранять
водоплавающих птиц в этой стране... Тем не менее, возвратившись домой, «в Европу»,
я не был разочарован, скорее просвещён. Я даже обрёл симпатию к людям
этой погружённой в нелепость страны.
В начале 1989 года мне предложили сопровождать группу немецких
орнитологов-любителей в Албанию. Хотя китайцы расторгли бессмысленный
301
Рис. 83. Профессор Фотах Ламани из
Тираны, 1989 г.
союз с Тираной ещё в 1978 году, политика изоляции продолжалась. Страна,
однако, испытывала нужду в валюте, поэтому албанская фирма «Albturist»
предложил Немецкому союзу охраны птиц интересную 12-дневную поездку
ио стране на автобусе. В Тиране я встретил, наконец, доктора Ламани! У нас
была возможность обстоятельно побеседовать на разные темы. Тогда, 15 лет
тому назад, он получил все мои письма из Слимбриджа, но не имел ни
малейшей возможности ни поддержать мой план, ни даже ответить мне...
Ламани был родом из Пермети в южной Албании — области, населённой
греческим меньшинством. Из-за своих христианских воззрений он не
пользовался хорошей репутацией у властей и должен был вести себя крайне
сдержанно. Энвер Ходжа в принудительном порядке упразднил все религии и
назвал Албанию первым атеистическим государством мира; православная
Греция была провозглашена «классовым» врагом. Отец Ламани до 1944 года
был предпринимателем в Пермети, так что социальное происхождение Фо-
така тоже было «неправильным». В послевоенной Албании Фотак не
принимал участия в политической жизни, не состоял в партии; он радовался тому,
что мог спокойно заниматься наукой. Его личная жизнь сложилась неудачно:
когда дети были ещё маленькими, его постигло глубокое горе — умерла жена.
Служением родине в его понимании были работа в природе, активное
участие в создании новой зоологической и ботанической экспозиции Музея
302
естественной истории, значительно повреждённого землетрясением 1963
года, и преподавательская работа в университете. Интерес к природе он
унаследовал от своего отца, которого он в детстве сопровождал на охоту.
Разумеется, он был очень заинтересован в поддержании международных
контактов, но с 1970 года прак тически любая переписка с заграницей была
запрещена. С момента захвата власти коммунистами он ни разу не выезжал
за рубеж (только однажды ему было разрешено поехать в командировку в
Румынию, но поездка так и не осуществилась; по слухам, под его именем
поехал кто-то другой, более верный линии партии)...
Я спросил Ламани о двух соавторах его работы о птицах Албании 1962—
1963 года. Оказалось, что оба уже умерли. Пузанов был русским, офицером
добровольческой армии генерала Деникина. После победы большевиков он
в 1920 году вместе с женой и братом эмигрировал в Югославию. Он был
хорошим таксидермистом и орнитологом. В конце 1940-х годов он получил
место главного препаратора зоологического отдела Музея естественной
истории в Тиране. Зеко, коренной албанец, был знатоком хищных птиц; перед
войной он работал учителем биологии в гимназии в Тиране. После
основания университета стал профессором зоологии. Он уже был пенсионером,
когда неизвестные преступники в 1988 году ограбили и убили его (его нашли
в квартире мёртвым, привязанным к стулу).
Автобусом «Albturist» наша туристическая группа проехала через всю
страну на юг, до греческой границы. Ламани, к сожалению, не мог
сопровождать нас, в роли переводчиков и экскурсоводов выступали двое юношей. Один
назвался архитектором, другой — студентом экономического факультета.
Некоторые участники нашей группы считали, что они оба—сотрудники службы
государственной безопасности «Сигурини». Кем бы они ни были, со своими
обязанностями они справлялись отлично, мы видели много редких птиц и
получили достаточно полное представление обо всех ландшафтах страны — как
в горах, так и на равнине. Мы видели много очень бедных людей, встретились
с явной сдержанностью по отношению к иностранцам, смогли полюбоваться
темпераментными танцами албанцев на частном празднике.
В Тиране я снова встретился с Ламани. Он показал мне
достопримечательности города. Потом мы побывали с ним на большом кладбище героев,
где покоятся сотни жертв Сопротивления немецкой и итальянской оккупации
1939-1944 годов. Он останавливался перед многими могилами: это были
могилы его знакомых или знакомых его родителей, друзей и родственников.
Ламани тоже был участником албанского Сопротивления. Когда началась
война, он учился на медицинском факультете в Афинах, но после захвата
Албании войсками Муссолини вернулся в родной город Пермети и руководил
303
там военным госпиталем для партизан, был также активистом местной
молодежной организации. Во время антифашистского конгресса в 1944 году в
Пермети он единственный раз лично встречался с лидером партизан Энвером
Ходжей. С 1985 года Ходжа также покоился на кладбище героев, но его
идеологические преемники всё ещё твёрдо держали власть в стране в своих руках.
Потом мы сидели в кафе. Я спросил Ламани о том, как ему удалось
переквалифицироваться из медика в биолога. Он ответил, что как ветеран
партизанской войны в 1946 году получил право учиться в Педагогическом
институте в Тиране. Когда в городе был основан университет, он перевёлся туда,
чтобы изучать биологию и химию. Профессором зоологии в университете
был Ислам Зеко, который и увлёк студента этой дисциплиной. После
окончания университета Ламани начал работать в Музее естественной истории,
потом стал доцентом, а затем и профессором в университете. После смерти
первой жены он вновь женился, его вторая жена — историк.
Из столицы наша орнитологическая группа отправилась в северную
Албанию. Во время прощального ужина в ресторане к нам присоединился
хорошо одетый и уверенный в себе шеф-повар, в котором мы тоже заподозрили
руководителя местного «Sigurimi». Он привёл с собой слепого музыканта,
который мастерски исполнял красивые мелодии на своём аккордеоне.
В последний день нашей поездки мы посетили старинный город Шкодер
и одноимённое озеро. У границы мы сердечно попрощались с нашими
проводниками. Я попросил их взять мой цейссовский бинокль и передать его в
подарок Ламани. Это вызвало саркастические отклики у «скептического
Ядра» нашей группы и предположение, что бинокль завтра же поступит к
офицеру, руководящему экскурсоводами, и больше уже не послужит орни-/
тологии...
В конце 1980-х годов началось постепенное крушение коммунистического
господства и в Юго-Восточной Европе. Сначала казалось, что оно не
коснулось Социалистической республики Албании (официальное название страны
с 1976 года). Но в 1990 году и там начались беспорядки. В апреле 1990 года
Ламани с семьей эмигрировал в Грецию. Его приняли на работу в
Естественно-исторический музей в Афинах. Он, наконец, смог участвовать в
международных проектах по охране природы и посещать научные конференции.
Повсюду его радостно приветствовали коллеги: до сих пор он был известен
лишь по своим публикациям.
В провозглашённой в 1991 году республике Албании теперь появилось
новое поколение орнитологов и деятелей охраны природы. В феврале 1996
года страна присоединилась к Рамсарской конвенции. Но свободная ныне
Албания ещё нуждается во времени, чтобы создавать новые, более благо-
304
приятные уело вия для охраны природы и сбережения ещё сохранившихся на
её территории водно-болотных угодий.
В ноябре 1998 года я был на симпозиуме в Александрополисе в Греции.
Мы обсуждали мероприятия по охране находящегося под угрозой
вымирания тонкоклювого кроншнепа. Там я снова встретился с Ламани, теперь
пенсионером. Когда мы заметили кроншнепа на одной из экскурсий, я увидел,
что Ламани наблюдает за ним с моим биноклем! Так что наша предвзятость
в отношении незнакомой страны не всегда была оправдана, и я устыдился
того, что много лет назад мы не доверяли нашим молодым экскурсоводам...
* * *
Во второй половине 1950-х годов я посетил орнитологическую станцию
Хиддензе на одноименном острове в Балтийском море и имел возможность
несколько раз беседовать с её руководителем, профессором Гансом Шиль-
дмахером/Hans Schildmacher (1907-1976). Он играл важную роль в научном
и организационном развитии орнитологии в ГДР, так как был председателем
Центральной комиссии по орнитологии и охране птиц (ZFA) «Кулыурбунда»
(Культурного союза) ГДР. «Культурбунд» был основан в Восточной Германии
в июне 1945 года советской военной администрацией и в то время
именовался «Культурным союзом для демократического обновления Германии».
Он был задуман как некая «глобальная организация» и был призван
объединить под одной крышей всю общественную деятельность в ГДР, будь то
культура или наука. Такая «рационализация» преследовала, конечно,
политические цели: контроль над всей общественной и научной деятельностью на
основе действующих идеологических директив. Но хотя «Культурбундом»
управляли сверху, комиссии и секции «внизу» имели довольно большую
свободу маневра в своей деятельности — разумеется, если они не выходили за
рамки политически дозволенного.
В короткой биографии, опубликованной вскоре после смерти Шильдма-
хера (Gebhardt, 1980: 52-53), есть такая характеристика этого учёного:
«Он был критически настроен не только к себе самому. Он был человеком,
который пытался дойти до сути происходящего и осмыслить причины
противоречий и конфликтов своей эпохи. Обмен мыслями с другими людьми не
был его безусловной жизненной потребностью, несмотря на присущую ему
способность учить и учиться. Он умел молчать».
Это принципиальная характеристика, в верности которой я смог убедиться
во время своих встреч с Шильдмахером и позднее при изучении архивных
материалов о нём (архив Эрнст-Моритц-Арндт-Университета в Грайфсвальде).
305
Рис. 84. Профессор Ганс Шильдмахер,
руководитель орнитологической
станции Хиддензе, 1966 г.
После окончания университета в Галле Шильдмахер в 1931 году защитил
диссертацию под руководством Штреземанна в Берлине, и в период нацизма в
течение нескольких лет работал ассистентом на орнитологической станции
Гельголанд. Его спокойную научную деятельность прервала Вторая мировая
война, в которой он принимал участие солдатом на фронтах Бельгии и
Франции, а потом и в Советском Союзе. После ранения он был командирован на
борьбу с малярией в Юго-Восточную Европу, затем попал в английский плен.
В конце 1945 года Шильдмахер вернулся к своей семье в деревню недалеко от
города Хагенов в земле Мекленбург на севере Германии, то есть в советскую
оккупационную зону, и вынужден был зарабатывать на хлеб, работая лесорубом.
Своё возвращение в науку он начал с чтения лекций в региональной группе
«Культурбунда» в Хагенове. Ему повезло, так как в 1948 году один из
чиновников СЕПТ поддержал его кандидатуру для поручения ему организации
орнитологической станции на Хиддензе. В 1949 году Шильдмахер стал
доцентом, а позднее профессором в университете Грайфсвальд. Успешной
организацией орнитологической станции Шильдмахер приобрёл большой
авторитет в это трудное время, но, несмотря на вступление в СЕПТ, он держался
на большой дистанции от политики. Обязательную общественную нагрузку он
выполнял в области охраны природы и орнитологии: в 1950 году он стал одним
из организаторов 1-й Орнитологической конференции ГДР в Лейпциге. Вскоре
он стал председателем Центральной комиссии по орнитологии и охране птиц
«Культурбунда» ГДР, которой руководил вплоть до ухода на пенсию в 1972 году.
306
«Культурбунд», как уже было упомянуто, отнюдь не находился вне
государственной политики. В нашем разговоре на Хиддензе Шильдмахер
рассказал мне об одном эпизоде, который наглядно свидетельствует, каково
было его собственное отношение к политике государства в то время. Как
функционер «Кулыурбунда» он принимал однажды участие в большом
банкете (это было примерно в 1952 году), где после некоего политического тоста
кто-то внезапно воскликнул: «Да здравствует товарищ Сталин, отец
трудящихся всего мира!», после чего участники подняли бокалы с шампанским.
Шильдмахер не хотел присоединяться к тосту, но все вокруг него уже пили,
и он должен был делать то же. «Знаете, как я спасся в этой ситуации?» —
спросил он, улыбаясь. Я не знал. «Я поднял одну ногу — тогда считается,
что тост недействителен»...
Утверждения биографа о закрытости Шильдмахера верно только частично
— по отношению ко мне он был очень откровенен (его доверие ко мне
основывалось, пожалуй, на том факте, что мы оба были учениками Штрезе-
манна). Во время беседы у меня сложилось впечатление, что он сообщает
мне свои скрытые мысли в надежде, что я когда-нибудь, когда придёт время,
расскажу о них.
Будучи функционером «Кулыурбунда», Шильдмахер — как я уже
упоминал — не всегда имел возможность обойти в своей деятельности
политические вопросы. Положение в особенности обострилось после сооружения
Берлинской стены: в докладе на 8-й Орнитологической конференции ГДР в
1962 году в Гюстрове (в которой я также принимал участие) ему пришлось
высказаться по поводу стены (Schildmacher, 1963: 4): «[...] и, в конце концов,
наше правительство было вынуждено провести, в частности, мероприятия
от 13.08.1961 г., которыми бы раз и навсегда было бы предотвращено
разрушение нашей истекающей кровью экономики и был бы сохранён мир».
Симптоматично, тем не менее, что он сказал не об «антифашистском защитном
вале» (как стена официально называлась в ГДР), а об «истекающей кровью
экономике» (во что и в самом деле верили многие граждане ГДР). Остальная
часть часового доклада была посвящена исключительно научным темам.
Шильдмахер ни в коей мере не одобрял занятую руководством ГДР
политическую линию отделения от Западной Германии. Кроме руководимых им
орнитологических секций «Кулыурбунда» (насчитывающих почти 3000
членов), существовало ещё Немецкое орнитологическое общество (DO-G),
которое считалось общегерманским и в котором состояли многие орнитологи
ГДР. Шильдмахер был членом Орнитологического общества ещё с 1924 года,
а в 1950 году, когда оно было восстановлено после войны, был выбран в совет
общества. Бывший научный руководитель Шильдмахера, Э. Штреземанн
307
был в то время председателем общества. Конечно, оба они после сооружения
стены заботились о поддержании контактов между орнитологами с востока
и запада. Например, в одном из отчётов о заседания ZFA в ноябре 1964 года
(Berger, 1965: 30) написано: «Профессор Шильдмахер сообщил, что на
заседании в Веймаре между Центральной комиссией по орнитологии и охране
птиц и Немецким орнитологическим обществом заключено соглашение о
сотрудничестве, подписанное им как председателем ZFA, и президентом DOG
[Немецкого орнитологического общества], носителем национальной премии
профессором Э. Штреземанном». (Штреземанн получил в 1955 году
национальную премию ГДР). Тем не менее, усилия Шильдмахера не привели к
успеху: соглашение так и не было опубликовано, и углубление сотрудничества
с Немецким орнитологическим обществом не состоялось. Более того, в 1970
году вышло постановление, согласно которому все граждане ГДР должны
были выйти из DO-G (и всех других общегерманских союзов). Причиной
этого многие считали запрет со стороны руководящих инстанций
«Культурного союза»; но я думаю, что Штреземанн отступил от соглашения, как
только узнал о запрещении «Кулыурбунда» «на западе». Но и «на востоке»
были предприняты шаги к срыву сотрудничества.
На руководимой Шильдмахером орнитологической станции политика
отмежевания «от запада» начиная с 1964 года становилась всё более очевидной.
Например, для кольцевания были запрещены кольца западногерманских
станций и разрешено использовать только кольца с надписью «Немецкая
Демократическая Республика».
Шильдмахер болезненно воспринял историю с внедрением колец ГДР.
При нашей следующей встрече он откровенно рассказал мне подробности
этой акции. В начале 1960-х годов один высокопоставленный партийный
чиновник был на охоте в Шорфхайде (земля Бранденбург) и убил крупную
лань; при ближайшем рассмотрении трофея он обнаружил на ухе животного
метку с номером и надписью «Гёттинген». Партийный товарищ
предположил, что сделал научное открытие, а именно, что лани совершают миграции
на такие огромные расстояния. Молодой зоолог, сопровождающий
чиновника, однако, разочаровал его, сообщив, что в ГДР ушные метки просто не
производят и поэтому используют оные из ФРГ. Он добавил, что и для
кольцевания птиц в ГДР также ежегодно используют тысячи западных колец. Это
переполнило чашу терпения партийного товарища. Вскоре пришло
распоряжение «сверху» немедленно приступить к изготовлению колец,
призванных демонстрировать суверенитет ГДР на путях пролёта птиц.
Орнитологическая станция Хиддензе получила статус «Национального, центра
кольцевания птиц ГДР» (Rutschke, 1998: 122-123).
308
Уже при первом посещении Хиддензе я мог убедиться в «скрытом
чувстве юмора» Шильдмахера, о котором пишет Л. Гебхардт (Gebhardt, 1980:
52-53). Во время осмотра здания станции в деревне Клостер он рассказал
мне, что перед войной здание служило престижным пансионатом, где
проводили свои отпуска известные личности. До 1933 года здесь отдыхали
Альберт Эйнштейн и Томас Манн, первый в бельэтаже, второй этажом выше. От
бывшей хозяйки пансиона он знал, что они часто ссорились из-за туалета,
который находился на площадке между этажами. «Всегда забавно узнавать»,
— сказал Шильдмахер — «что и гениям не чуждо ничто человеческое»...
(По другой версии, Эйнштейн никогда не жил в этом пансионе. Примерно в
1924 году там поселился Герхард Гауптманн и Томас Манн — см. Р. Зейдель,
2002: Хиддензе. Истории о стране и людях. Hiddensee. 3-е издание: 270).
Два бывших сотрудника и ученика Шильдмахера опубликовали некрологи
о нём. Один из них, В. Раутенберг, ещё до строительства стены бежал на
запад. Он пишет, что основанная на Хиддензе в 1934 году орнитологическая
станция «только благодаря руководству Шильдмахера приобрела статус,
соответствующий своему названию», и что его учитель стремился сделать
Хиддензе связующим звеном между востоком и западом» (Rautenberg, 1977).
Другой ученик и сотрудник Шильдмахера, А. Сифке, остался в ГДР и
возглавил орнитологическую станцию после смерти Шильдмахера. От имени
«Кулыурбунда» он написал о своём предшественнике: «[...] многие
орнитологи в нашей республике и в соседних странах будут ещё долго помнить его.
Он останется в нашей памяти как исследователь, учитель и выдающийся
организатор, как лицо нашей науки» (Siefke, 1977).
Что же, Шильдмахеру удалось достойно пережить все драматические
коллизии эпохи, он умел проникать в суть вещей, и все успехи, выпавшие на его
долю, были заслужены и не случайны...
Не * *
Во время совещаний и конференций 1960-х — 1980-х годов в Советском
Союзе мой взгляд всегда невольно задерживался на человеке, несколько
необычно одетом для этого круга — в строгом чёрном костюме и белой
рубашке с бабочкой. Если же вечернее заседание превращалось в
«дружескую встречу», то бросались в глаза и другие особенности этого человека:
он совсем не употреблял спиртного и не курил. Это был Олег Измаилович
Семёнов-Тян-Шанский (1906-1990). Русские коллеги ещё при жизни
называли его «патриархом Лапландского биосферного заповедника и
летописцем природы русского севера». С его смертью угасла в России и сама
309
Рис. 85. Доктор Олег Измаилович Семёнов-
Тян-Шанский из Лапландского
заповедника, 1980 г.
фамилия «Семёнов-Тян-Шанский» (Klaus, 1991; Klaus, Bergmann, 1991;
Берлин, 1997).
Олег Измаилович был замечательным экологом, орнитологом и
териологом, отлично знал ботанику. Почти вся его жизнь как учёного, с 1930 года до
самой смерти, прошла в русской Лапландии на Кольском полуострове. Меня
впечатляют не только результаты его научной работы, но, пожалуй, ещё в
большей степени его необычный жизненный путь. Например, то, что он
никогда не посещал школу и не учился в университете.
Но чтобы рассказать историю его жизни, придётся сначала перенестись
вглубь веков и бросить взгляд на его родословную, хотя бы для того, чтобы
разъяснить его не совсем обычную фамилию.
Корни родословного древа Олега Измаиловича уходят в конец XIV века.
Его дальний предок Яков Каркадин, подданный Золотой орды, в период
распада этого могущественного государства пришёл на русскую землю, при
крещении принял имя Симеон и стал дружинником у одного из князей. Он
получил боярское звание и служил под фамилией Семёнов; его потомки
состояли на службе у московских царей. Один из них, Молчан Семёнов-Кар-
кадинов, стал донским атаманом, другой — Василий Васильевич Семёнов —
был членом Семибоярщины и в 1613 году участвовал в избрании на царство
Михаила Федоровича, первого царя из дома Романовых. Василий Григорье-
310
вич Семёнов в конце XVII века был Думским боярином при Софье
Алексеевне, той самой, что позднее была низложена своим подросшим младшим
братом, Петром I, и заключена в Новодевичий монастырь. В XIX веке из рода
Семёновых вышла популярная поэтесса и писательница, переводчица
Горация. Родословную Олега Измаиловича украшают также два учёных-натура-
листа. Его дядя Вениамин Петрович Семёнов был автором многотомного
труда по географии России; дедушка Петр Петрович Семёнов — знаменитый
путешественник, разносторонний учёный, собиратель художественных
коллекций, первый исследователь Тянь-Шаня. Кроме того, он был членом
Сената (в Сенате он выступил за ликвидацию крепостничества в России; это
памятное заседание запечатлено на картине Репина, хранящейся в Эрмитаже. В
Эрмитаже, кстати, находится ныне также часть обширной личной коллекции
П.П. Семёнова, главным образом голландские художники). За заслуги перед
Отечеством царь Николай II наградил П.П. Семёнова передающимся по
наследству почётным дополнением к фамилии — «Тян-Шанский». Русское
Географическое общество выпустило медаль Семёнова-Тян-Шанского, которой
награждали за выдающиеся научные заслуги. На озере Иссык-Куль до
сегодняшнего дня стоит памятник знаменитому учёному.
Олег Измаилович Семёнов-Тян-Шанский родился в Санкт-Петербурге в
1906 году, то есть в год чествования своего дедушки — случайность, но
также и некая путеводная звезда дальнейшей жизни. Отец Олега
Измаиловича был метеорологом (он руководил первой российской рабочей группой,
которая составляла прогноз погоды с помощью синоптических карт), мать
была дочерью известного московского врача.
Уже после революции в феврале 1917 года Олег и часть его семьи
переехали в фамильное имение в деревню Петровка в Тамбовской губернии. Отец
основал там метеорологическую станцию, обслуживание которой он
предоставил сыну, которому тогда было 11 лет. Олег учился дома, с большой
тщательностью отмечал метеорологические и фенологические данные, кроме
того, собирал насекомых, позже составлял коллекцию птиц и уже тогда был
увлечённым фотографом. Таким образом, сельская местность стала его
естественнонаучной учебной лабораторией. Его университетами стала природа.
Он никуда не ездил, связь со столицей поддерживалась лишь регулярной
перепиской и от случая к случаю прибывающими газетами. С этого времени
(72 года подряд!) он вёл дневник (Берлин, 1998; Штильмарк, 1999).
В сельской идиллии, вдали от Петрограда и Москвы, ещё довольно
долгое время не было окончательной ясности в том, в чьих же руках власть —
у «красных» или у «белых». Не вполне ясно было также, какая из воюющих
сторон «лучше». Гибель царской России, гражданская война и захват власти
311
большевиками только постепенно стали ощутимы в провинции, новшества
медленно проникали в имение Петровка. Передача земли крестьянам,
изъятие части инвентаря, растущая неприязнь населения деревни, разбойные
нападения, расквартировка солдат, недостаток в продуктах и в самом
необходимом, обыски с целью поимки дезертиров, административные и
политические ограничения — всё это в конце концов пришло и в Петровку.
Экономка покинула гибнущее имение. Но оставшаяся земля с садом, сбор
грибов, охота давали возможность прокормиться. Научились выпекать хлеб
и делать сахар из сахарной свёклы. Олег писал дневник заточенным пером
вороны. Но с 1929 года («год великого перелома» в советском государстве)
жизнь в Петровке стала невыносимой. Семья перебралась в Ленинград, где
отец всё ещё работал метеорологом. В начале 1930 года Олег уехал из
города и начал работать «научным наблюдателем» на метеорологической
станции в Хибинах на Кольском полуострове.
Вскоре после приезда в Хибины во время путешествия в горах Олег
Измаилович встретил Германа Михайловича Крепса (1896-1944).
Крепе приехал в Хибины с официальным поручением от правительства
организовать в советской Лапландии большой заповедник. Эта встреча была
для обоих счастливым случаем. В то время как Крепе боролся с
бесчисленными организационными трудностями, Олег вдохновенно принялся за
научную работу. Наверное, нет ни одного клочка земли в Лапландии, куда бы не
ступала его нога. Сначала он взялся за охрану популяции северного оленя
(недостаток продуктов питания после революции принуждал население к
массовому браконьерству); уже в конце 1930-х годов поголовье оленей на
охраняемой территории увеличилось в десять раз! Он проводил работы по
реинтродукции в Лапландию бобра, а также занимался акклиматизацией
ондатры — делом, которому в то время в СССР придавали очень большое
значение. Он изучал экологию лося и руководил комплексным экологическим
обследованием заповедника (Шестаков, 1995). В это время Олег
Измаилович, частично в соавторстве с Н.М. Крепсом, издал несколько монографий,
которые были признаны лучшими в советской системе заповедников.
В Москве оценили его талант и усердие, высокая государственная
комиссия позволила ему в 1940 году получить степень кандидата наук. В истории
советской науки это единственный случай, когда такое разрешение
выдавалось кому-то, кто не имел не только университетского диплома, но и
аттестата об окончании средней школы!
В тяжёлое время после нападения СССР на Финляндию (зима 1939/1940
гг.), а позже — Германии на Советский Союз, заповедник оказался в зоне
боевых действий. Олег Измаилович продолжал, насколько это было~воз-
312
можно, заботиться о соблюдении заповедного режима. За свои заслуги он в
1941 году был награжден орденом и медалью. В 1942 году его мобилизовали,
и он служил метеорологом в штабе 32-й армии. Даже здесь он продолжал
вести фенологический журнал; в 1947 году появилась его публикация о
миграции птиц в Карелии. В свободное время он давал уроки английского для
советских офицеров (британский флот поставлял в Мурманск вооружение
для советской армии). Он редактировал также солдатскую фронтовую газету.
После демобилизации Олег Измаилович уехал в Ленинград и стал сотрудни
ком Зоологического института Академии наук. Вместе с женой (ихтиологом)
он бывал в различных экспедициях, одна из которых заслуживает особого
упоминания: он побывал на Куршской косе с намерением восстановить бывшую
немецкую орнитологическую станцию. Но после подробного осмотра
станции и оценки положения он отказался от своего плана. Мне рассказывали, что
его смутило не столько плачевное состояние самой станции, сколько
множество препятствий политического характера, связанных с её пограничным
положением, которые казались ему непреодолимыми (только в 1956 году станция
была воссоздана профессором Белопольским — см. стр. 58-65).
Скоро Олег Измаилович и его жена начали тосковать по Лапландии, в
1949 году они уехали обратно в заповедник. Семенов-Тян-Шанский стал
заместителем директора заповедника по науке. Научный отдел был расширен,
исследовательская работа продолжалась с необыкновенным размахом и
энергией. Было опубликовано несколько больших статей. Между тем,
приметы сталинского периода чувствовались и здесь: контакты с заграницей
были запрещены, о личных встречах с иностранцами нечего было и думать,
публикации западных учёных стали труднодоступны. В августе 1951 года
случилось непредвиденное: решением Совета Министров СССР многие
крупные заповедники были закрыты, а их территории переданы в обычное
хозяйственное пользование. Это решение касалось и Лапландского
заповедника. На его территории почти сразу же начались лесозаготовки!
Научный персонал должен был покинуть свои рабочие места. Олег Измаилович
уехал на Урал и несколько лет работал в Печоро-Илычском заповеднике.
Началась неравная и безнадёжная борьба за сохранение Лапландского
заповедника. Олег Измаилович добился личной беседы с одним из авторов
указа в Москве, но ни эта беседа, ни обращения видных советских учёных
не дали никаких результатов. После смерти Сталина Олег Измаилович
сделал ещё одну попытку спасти заповедник: в 1954 году он написал письмо
новому партийному лидеру Н.С. Хрущёву Вначале это тоже не дало
никакого результата, но в ноябре 1957 года Лапландский заповедник был,
наконец, восстановлен.
313
Олег Измаилович начал изучать экологию и физиологию тундряной
куропатки, он был лучшим знатоком этого вида. В 1959 году в «Трудах
Лапландского заповедника» вышла его фундаментальная монография
«Экология тетеревиных птиц», которая в Швеции была переведена на немецкий
язык и таким образом открыла доступ к этой работе широкому кругу
иностранных исследователей. В 1962 году он получил учёную степень доктора
наук. Публикации Олега Измаиловича, в частности о тетеревиных птицах,
получили широкое признание за границей (Klaus et al., Neue Brehm Biische-
rei, 86/1986, Bd. 86). В 1967 году ему разрешили поехать на совещание в
Финляндию. Он смог, наконец, принять приглашение коллег из Йены и в 1974
году посетил ГДР; возникли тесные профессиональные и личные контакты,
позже он вновь ездил в Восточную Германию и в Чехословакию. Эти поездки
были очень важны для Олега Измаиловича: кроме научного общения и
ознакомления с западной литературой в библиотеках он посещал музеи,
предпринимал поездки в интересные ему ландшафты Саксонии и Тюрингии, а
также в окрестности Праги. Посещение ГДР в то время для советских людей
было «встречей с западом». С этой точки зрения ГДР невольно выполняла
позитивную функцию — во время холодной войны она служила важным
посредником между Востоком и Западом. Лапландия оставалась для
иностранцев запретной зоной СССР, поэтому ответные визиты его коллег из ГДР
и ЧССР не были возможны. (Только двум финским ботаникам однажды, на
основании «особых отношений» между Финляндией и Советским Союзом,
удалось посетить Лапландский биосферный заповедник). Но коллеги
приезжали в Ленинград, где и встречались с Семёновым-Тян-Шанским.
Последние 10 лет жизни Олег Измаилович посвятил борьбе против
загрязнения Кольского полуострова индустриальными отходами, в частности,
ядовитыми выбросами в атмосферу металлургического комбината «Северный
никель». В 1980 году ему удалось опубликовывать резкую статью на эту тему в
центральной газете «Правда». Позже он продолжал при каждой возможности
поднимать свой голос в защиту природы Кольского полуострова. За несколько
лет до смерти, в период советской «гласности» и «перестройки», он писал, что
никакие санатории в Сочи не спасут здоровье детей до тех пор, пока они в
своих домах на Кольском полуострове вынуждены дышать воздухом,
отравленным летучими соединениями серы. В июне 1990 года на волне
политической либерализации ему представилась возможность посетить Финляндию. В
Хельсинки жил его дядя (до революции 1917 года Финляндия была
провинцией Российской Империи), и поездка стала большим семейным праздником!
Только за несколько месяцев до своей смерти Олег Измаилович получил
по указу президента Михаила Горбачёва одну из высших наград Советского
314
Союза. Казалось, перед ним открываются новые возможности, но внезапная
остановка сердца прервала его жизнь 21 сентября 1990 года.
К сожалению, в постсоветской России экологическая ситуация на
Кольском полуострове не улучшилась. Дело, которое начал здесь последний
представитель рода Семёновых-Тян-Шанских, нуждается в наследнике и
продолжателе такого же масштаба, каким был Олег Измаилович.
* * *
С профессором Александром Богдановичем Кистяковским (1904-1983)
из Киева я познакомился во время одной из орнитологических конференций
в Советском Союзе в 1960-х годах. Его всегда легко было узнать в толпе
участников, так как он был очень высокого роста и обыкновенно на голову
возвышался над всеми. Кистяковский был признанным главой украинской
орнитологии. Он был сдержан и обычно молчалив. Его красноречие
проявлялось только в научных разговорах. О своей исследовательской работе он
рассказывал умно и интересно. Темы таких рассказов могли быть самыми
разными, поскольку его научные интересы охватывали широкий круг
проблем: позвоночные животные, экология, зоогеография, филогения, охрана
природы, охотоведение. В первую очередь его интересовали
орнитологические аспекты этих проблем.
Сердечный контакт с Александром Богдановичем у меня сложился только
в последние годы его жизни, когда он уже отошёл от научной работы и с
увлечением отдался ... филателии. Я послал ему французский каталог почтовых
марок и получил за это редкие русские книги из его научной библиотеки.
Кистяковский родился в наследственном имении, в типичной украинской
деревне Хатки Полтавской губернии, в семье, принадлежащей к
состоятельному роду и владевшей многими поместьями. Дети из этой семьи ещё в XIX
века получали хорошее образование, как и в других состоятельных
российских семьях того времени. Но род Кистяковских заметно выделяется:
несколько имён из него можно встретить в российских, украинских и
американских энциклопедиях!
Дедушка Кистяковского был профессором уголовного права в
университете в Киеве, автором академических руководств и фундаментальных
трудов о правовой системе Украины. Все три его сына также стали известными
учёными. Младший из них, Игорь, был доцентом по гражданскому праву в
университетах Киева и Москвы. В 1920 году, в короткое время
существования независимой Украины, поддержанной немцами, он занимал должность
министра внутренних дел в Киеве. Ещё до захвата власти красными он по-
315
кинул страну и активно действовал в рядах белоэмигрантов. Старший сын,
Владимир, был известным химиком, профессором в Санкт-Петербурге; он
сделал значительные научные открытия, был избран членом советской
Академии наук и до конца жизни жил в Петербурге (Ленинграде). Средний сын,
Богдан (отец Александра Богдановича) — юрист, социолог и философ, стал
профессором в университете Киева; среди его многочисленных публикаций
есть несколько украинских националистических и революционных статей.
Его весьма образованная и эмансипированная жена продвинулась в своей
карьере ещё на один шаг вперед: в конце Первой мировой войны она была
вовлечена в революционное движение.
В 1920 году Богдан умер, а вскоре после этого — и его жена; причины их
смерти неизвестны.
У Богдана Кистяковского тоже было трое сыновей, двое из них стали
учёными, один трагически погиб в Польше после бегства от большевиков.
Старший сын, Юрий, бежал от красных в Германию и изучал здесь, возможно под
влиянием дяди, химию и физику. В 1926 году он эмигрировал в США, стал
профессором в Гарвардском университете, членом Американской академии наук и
искусств. После начала Второй мировой войны он поднялся ещё выше: в 1940—
1944 годах был членом американского Совета обороны, в 1944—1945
годах—руководителем Отдела взрывчатых веществ в известной атомной лаборатории в
Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико; в 1957 году президент Эйзенхауэр пригласил
его занять место консультанта по науке и технологиям в правительстве США.
Таким был фамильный семейный «фон» младшего сына Богдана —
будущего зоолога Александра Богдановича Кистяковского, который во многом
определил весь последующий ход его жизни.
Александр Богданович ещё только заканчивал гимназию, когда один за
другим в Киеве умерли его революционно настроенные родители. Его братья
своевременно покинули Украину, он не успел этого сделать, вероятнее всего
просто потому, что границы нового Советского государства быстро
захлопнулись. Но была и другая причина: уже в пятнадцатилетнем возрасте у него
были серьёзные естественнонаучные интересы, он собирал коллекцию птиц
и насекомых, работал лаборантом в Зоологическом музее Академии наук в
Киеве. Вскоре начался спровоцированный новыми властями страшный голод
на Украине 1921-1922 годов; в самом Киеве положение, правда, было не
таким тяжёлым, как в провинции, кроме того, Кистяковский участвовал в это
время экспедициях в дальние регионы России. Ещё под влиянием своей
матери он начал в 1922 году получать народное образование, но вскоре учебные
занятия прервались. Оставшись сиротой, он продолжал жить в Киеве в
богато обставленной квартире своих родителей: там были картины известных
316
Рис. 86. Профессор А.Б. Кистяковский из
Киева, 1956 г.
художников, античная мебель, серебро, фарфор. Тем не менее, сам он был
крайне беден. С наступлением НЭПа в Киеве снова забурлила жизнь,
появились казино. Кистяковский играл на Крещатике в рулетку и время от
времени выигрывал. В Зоологическом музее он занимался научной работой и
принимал участие в дальних экспедициях. На способности племянника и его
успехи как зоолога-любителя обратил внимание его дядя-химик. Он привёз
Александра к себе в Ленинград, где зоолог-любитель всего за два года (1928-
1930) экстерном получил университетский диплом; после этого он вернулся
в Киев и стал работать в Зоологическом музее старшим лаборантом. Второй
период голода на Украине (1931-1932 годы, когда умерли миллионы людей)
он снова пережил в экспедиции, которая исследовала методы борьбы с чумой
на Северном Кавказе. Позже он стал научным сотрудником Киевского
университета и занимался биологической борьбой с вредителями сельского
хозяйства, а также орнитологическими исследованиями в горах Памира, на
побережье Чёрного моря, в дельте Волги и, в 1941 году, — в Восточных
Карпатах. Там в июне 1941 года его и застало известие о нападение
Германии на СССР.
Александр Богданович сразу был призван в армию и прошёл всю войну в
инженерно-сапёрном подразделении Второго Украинского фронта. Он
написал мемуары о войне, часть их опубликована. На меня произвёл большое
впечатление один из описанных им военных эпизодов. Уже после перелома
в войне в 1943 году Кистяковский командовал инженерным батальоном, ко-
317
торый должен был тайно, в ночные часы, строить понтонный мост через
Днепр к югу от Киева; необходимо было незаметно для немцев соорудить
предмостное укрепление на другой стороне реки для переправы и окружения
города. Но строительство было обнаружено, и немецкие бомбардировщики
разрушили мост. Тем не менее, Кистяковский, к своему большому
удивлению, получил за эту операцию несколько наград. Только после окончания
войны стало известно, что строительство южного моста служило лишь
обманным маневром и намеренно было открыто немцам. Форсирование
Днепра и наступление было запланировано в другом месте — к северу от города.
После войны Кистяковский вернулся в Киев и в 1946 году стал работать в
университете. Он с удовольствием занимался педагогической и научной
работой. В его личной жизни война оставила мучительный след: его жена,
остававшаяся во время оккупации в Киеве в его квартире, распродала всё
имущество его родителей, которое он сберёг в голодные двадцатые годы (например,
картины европейских экспрессионистов за бесценок были проданы немецким
оккупантам). Кистяковский развёлся с женой. Война повлекла за собой и
другие убытки: готовые к печати рукописи его работ, написанных на основе
материалов предвоенных экспедиций, в частности «Материалы по зоогеографии
Памира», пропали; он написал работу о Памире заново, на основе
сохранившихся заметок и коллекционных материалов, и она была издана в 1950 году.
Через несколько лет после войны Кистяковский женился на своей
лаборантке из университета. Они жили теперь в маленькой однокомнатной
квартире. Научная работа двигалась вперед, с 1947 года он стал работать и в
Зоологическом институте академии, участвовать в экспедициях (он
неоднократно бывал на Дальнем Востоке). Жизнь в Киеве была заполнена
университетскими лекциями, работой в лаборатории или за письменном
столом. В 1958 году Кистяковский опубликовал материалы своей диссертации
«Половой отбор и видовые опознавательные признаки у птиц». Эта работа
опирается на его долгосрочные исследования, которые были начаты ещё
перед войной, и содержит много данных о плохо исследованном в то время
турухтане. В работе приводятся новые данные об окраске оперения птиц, её
биологическом значении, даются интерпретации механизмов полового
отбора. Однажды я слышал отзыв об этой работе, свидетельствующий о том,
что она заполняет некоторые пробелы в теории Дарвина.
В 1956 году Александр Богданович стал доцентом, в 1961 году —
профессором, и вскоре после этого — заведующим кафедрой зоологии позвоночных
животных Киевского университета имени Шевченко. Он был превосходным
педагогом, посвящал студентам много времени как при составлении
дипломных работ, так и во время многочисленных учебных практик. В экспедициях,
318
по рассказам его учеников, царила свободная и весёлая атмосфера, он даже
решался рассказывать политические анекдоты, что было в то время
небезопасно. Но шутки о самом Кистяковском не допускались.
О многообразии научных интересов Кистяковского, его педагогической
деятельности, публикациях и экспедиционной работе уже рассказали его
биографы (Смогоржевский, 1974; Мельничук, 1994; Атемасова, Кривицкий,
1999: 116-120). Здесь я хочу затронуть несколько не имеющих отношения к
науке аспектов его жизни и деятельности.
Профессор Кистяковский не был членом партии, студентам и начальству
он всегда открыто высказывал собственное мнение. Это не очень нравилось
«наверху» — собственное мнение в те времена не приветствовалось. Так что
в конце концов он должен был уйти с поста заведующего кафедрой. Но для
студентов и молодых учёных кафедры он оставался главным моральным и
научным авторитетом.
Профессор Кистяковский был в значительно большей степени патриотом
Украины, чем Советского Союза, хотя он хорошо относился к России. В
своей научной деятельности он также занимался в первую очередь
проблемами Украины, а не всего Советского Союза. По-видимому, он
руководствовался интуицией, когда должен был решать, на каком языке публиковать свои
работы — на русском или на украинском. В различные периоды истории
СССР отношение к «национальному самосознанию» украинцев было
различным — от полного запрета писать на родном языке до разрешения
публиковать некоторые работы по-украински. Но «национализм» был запрещён
всегда. Например, нельзя даже было сажать жёлтые и синие цветы на
клумбах рядом, так как они составляли цвета независимой Украины!
Кистяковский не избегал «общественной» работы, необходимой при социализме,
например, читал научно-популярные лекции перед работниками заводов и
фабрик, но, если это было возможно, пренебрегал другими мероприятиями,
особенно если у него была намечена поездка на лодке по Днепру для
наблюдений за птицами и рыбной ловли.
В начале 1960-х годов, при Хрущёве, когда Советский Союз начал
активный диалог с США, с визитом в Москву приехала американская делегация
высокопоставленных учёных. Среди них был и профессор Георг
Кистяковский, брат Александра Богдановича. Ещё перед поездкой американцы могли
сообщить Советскому посольству в Вашингтоне о своих пожеланиях
относительно программы пребывания в СССР. Желание Георга было посетить в
Киеве своего брата. Вследствие этого произошёл ряд неожиданных, но
приятных событий: чете Кистяковских нанёс визит какой-то чиновник. Ему явно
не понравилась заваленная книгами однокомнатная квартира. Вскоре из му-
319
ниципалитета пришло извещение о получении новой прекрасной
трёхкомнатной квартиры! Накануне визита американца в новом жилище Кистяков-
ских появился директор «Спецмагазина» с набором дефицитных продуктов
и предложением организовывать для иностранного гостя банкет. От этого
Кистяковский отказался. Георг и в самом деле прибыл в Киев, братья
встретились и отправились к Днепру, объекту ностальгических переживаний, где
они более сорока лет назад вместе удили рыбу...
Брат-американец пригласил своего советского брата в США. Волокита с
документами на выезд продолжалась очень долго (причём не только в
советском ОВИРе, но и в консульстве США), но закончилась, казалось,
успешно. Александр Богданович уже сидел в каюте корабля в Одесской гавани,
когда его ещё раз вызвали на пограничный контрольно-пропускной пункт и
объявили, что его документы «не оформлены в установленном порядке».
Возможно, причиной послужило некоторое охлаждение отношений с США
за то время, пока длилось оформление поездки Александра Богдановича, или
же у кого-то внезапно возникло подозрение, что профессор может и не
вернуться, выбрав «свободу». Так или иначе, но КГБ в последний момент
отменило поездку. Гордый Кистяковский поклялся больше никогда в жизни не
ходатайствовать о выезде за границу.
Тем не менее, когда оба брата вышли на пенсию, их тоска друг по другу
стала расти. Оба они часто вспоминали поездку на рыбалку в окрестностях
Киева. Георг в письмах уговаривал Александра приехать к нему: у него была
хорошая пенсия, и он мог бы исполнить любое желание брата. Александр
выдвинул встречное предложение: хотя его советская пенсия не очень велика, он
имеет дополнительный доход от продажи почтовых марок и тоже может
удовлетворить все желания американского брата... В конце концов,
любопытство и желание увидеть Америку победило. К этому времени уже пожилой
Брежнев несколько смягчил правила выезда за границу. Так, будучи
пенсионером, можно было поехать в гости по частному приглашению от
родственников. Осенью 1981 года самолёт «Аэрофлота» доставил Александра
Богдановича в Америку. Ему очень понравилось у Георга; брат точно знал, с кем из
друзей следует прежде всего знакомить Александра. В письме, которое я
получил от Александра Богдановича на Рождество 1981 года, он восторженно
писал из Киева: «Я три недели путешествовал по Америке! В Кембридже я
был приглашён на «five о' clock tea» к профессору Эрнсту Майру!»...
Последнее желание профессора Кистяковского было очень необычно для
уроженца Восточной Европы: он просил развеять его прах над Днепром.
Никто не знал, каким должен быть ритуал. Друзья сплели большой венок из
веток и цветов, высыпали в него пепел из урны и осторожно опустили его в
320
воду. Маленькая группа самых близких друзей смотрела, как в волнах
огромной реки пепел постепенно опускался на дно; некоторые молились. На
кладбище была захоронена лишь урна.
* * *
В середине 1950-х годов в Восточном Берлине в районе Фридрихсфельде
возник новый развлекательный и образовательный центр — просторный
зоопарк. Его основателем был профессор Генрих Дате/Heinrich Dathe (1910—
1991), ставший одним из самых известных и уважаемых деятелей в ГДР. В
зоопарк приезжали специалисты из многих стран мира, чтобы перенять
восточно-берлинский опыт. Холодная война, «соревнование двух систем» были
в разгаре и, конечно, политические власти ГДР использовали достижения
Дате в своих целях — для демонстрации и пропаганды успехов социализма.
При этом сам Дате старался держаться в стороне от политики и отказался
вступить как в СЕПГ, так и в любую другую из «партий блока». Основными
чертами Дате были преданность своим научным интересам (орнитология,
териология, зоопарковское дело), организаторские способности,
неутомимое, почти фанатичное усердие в работе. Наградой за труд была радость от
успехов. На протяжении его достаточно благополучной жизни было два
сложных периода: первый был обусловлен крушением Третьего Рейха,
второй — закатом ГДР. Судьба распорядилась таким образом, что Дате оставил
этот мир как раз во время объединения Германии.
Всего лишь несколько лет отделяют нас от тех событий, но имеет смысл
уже оглянуться назад. Всё ещё продолжаются дискуссии по поводу оценки
периода существования двух немецких государств. В результате и жизнь
Дате оценивают по-разному. Я хочу попытаться объективно рассказать об
этом незаурядном человеке.
Дате родился в маленьком саксонском городке Рейхенбах. Ещё школьником,
с театральным биноклем, позаимствованным у бабушки, он ходил на экскурсии,
чтобы наблюдать птиц. После сдачи школьных выпускных экзаменов в
Лейпциге в 1930 году он твёрдо намеревался продолжить образование в области
естествознания. Хотя его в то время интересовали также и
общественно-политическое хитросплетения конечной фазы существования Веймарской
республики, любовь к зоологии победила, и он посвятил этой науке всю жизнь. Он рано
вступил в различные орнитологические объединения, в 1931 году он уже был
членом Немецкого орнитологического общества. Из воспоминаний самого Г.
Дате (2002) можно почерпнуть, что он с человеческой и профессиональной
точки зрения особенно высоко ценил двух своих университетских преподавате-
321
лей: профессора Георга Гримпе, который читал лекции по птицам и
млекопитающим (он придерживался национал-социалистических взглядов), и
ординарного профессора зоологии Иоганнеса Майзенхаймера (который не признавал
нацистской идеологии). Во время сбора материалов для диссертации у Дате
возникли тесные контакты с профессором Карлом Максом Шнейдером, директором
Лейпцигского зоопарка. Он уже в 1934 году пригласил одарённого и
старательного докторанта к сотрудничеству в зоопарке, а незадолго до получения учёной
степени в 1936 году принял его на работу научным ассистентом.
Когда в сентябре 1939 года Дате призвали в армию, он уже был
признанным учёным и специалистом по зоопарковскому делу. Шнейдер ценил
талант и энергию ассистента, во всём содействовал ему и видел в нём
своего преемника. Можно считать, что он определил будущее молодого
учёного.
Война прервала успешно начатую карьеру более чем на восемь лет. После
окончания войны Дате провёл два года в Италии в английском плену, причём
использовал свои ораторские и педагогические способности, чтобы делиться
своими знаниями по зоологии с другими военнопленными. В конце 1947 года
через Западную Германию он вернулся в Саксонию. Первое время ему
пришлось перебиваться случайными заработками (в 1943 году он женился, и у
него уже было двое детей). Орнитология, которой он по возможности
продолжал заниматься, помогала ему в трудное время. Он много времени
отдавал работе в Лейпцигской орнитологической рабочей группе «Культур-
бунда», основанного в советской оккупационной зоне и призванного
способствовать «демократическому обновлению Германии».
Только в начале июля 1950 года Дате смог вернуться на прежнее место
работы. Он вновь стал ассистентом у профессора Шнейдера, который
руководил Лейпцигским зоопарком, ставшим в ту пору важнейшим центром зоо-
парковского дела в ГДР, провозглашенной в 1949 году. Поэтому не
удивительно, что власти Восточного Берлина обратились именно сюда, когда
возникло намерение строить в столице страны новый зоопарк1. Во время
консультаций в Берлине быстро выяснилось, что ассистент Шнейдера как
нельзя лучше подходит для осуществления этого плана. Шеф отпустил его
неохотно, но он лучше других понимал, что предстоящая задача — именно
для Дате, и что он, вне всякого сомнения, справится с ней...
К моменту подписания решения о создании нового зоопарка, в конце
августа 1954 года, возрастающее размежевание и конфронтация двух
немецких государств усилились, холодная война обострилась.
1 «Старый» Берлинский зоопарк при делении города остался в Западном Берлине. — прим.
перев.
322
/
Рис. 87. Торжественное открытие первой очереди зоопарка в Берлин-Фридрихсфелъде:
президент Т№ Вильгельм Пик (разрезает ленту), обер-бургомистр Берлина Фридрих
Эберт, доктор Генрих Дате (в середине) и жители Берлина, 2 июля 1955 г.
Но, несмотря ни на что, учёные-специалисты зоопарковского дела были в
то время ещё едины и сплочены. Об этом красноречиво говорит тот факт, что
незадолго до того, как решение о создании нового зоопарка появилось в печати
ГДР, вновь назначенный директор вместе со своим Лейпцигским «приёмным
отцом» попросил директора зоопарка Западного Берлина, доктора Катарину
Хейнрот, приехать в Восточный Берлин, чтобы обсудить с ней некоторые
проблемы. Она не была удивлена планом создания нового зоопарка, поскольку
вскоре после окончания войны (когда союзники вместе управляли городом) к
ней уже приходили два советских офицера ветеринарной службы с
предложением основать новый берлинский зоопарк в районе Трептов (Heinroth, 1979:
155). Впрочем, план устройства второго зоопарка был вообще не нов, такое
намерение существовало ещё в 1920-е годы. Организация ещё одного зоопарка
даже давала преимущества как для запада, так и для востока. Обоим
зоопаркам в административно и политически разделённом Берлине представлялась
теперь возможность обосновывать перед своими муниципалитетами предло-
323
жения на расширение фондов или финансирование того или иного объекта
тем, что «в другом зоопарке построено то-то и то-то, так что и мы должны
иметь то же самое...»(эта уловка хорошо работала до строительства стены).
Второго июля 1955 года состоялось торжественное открытие первой
очереди зоопарка. В церемонии принимали участие Президент ГДР Вильгельм
Пик, обер-бургомистр Восточного Берлина Фридрих Эберт (рис. 87) и
профессор Шнайдер из Лейпцига. Пригласить гостей с запада Дате не разрешили, а из
«братских стран» прибыл только директор зоопарка из Софии... В
торжественных речах много говорили о значении нового культурного учреждения для
широких слоев населения, о мире; не забыли упомянуть и о росте
реваншистских настроений в Западной Германии. Поэтому не удивительно, что западная
часть города не воздержалась от критики. В частности, было высказано мнение,
что цель устройства нового зоопарка — удержать жителей восточного сектора
города от посещения Западного Берлина... Политически ангажированные
западные журналисты целиком сосредоточили свое внимание на том, чтобы
находить в новом зоопарке недостатки или даже высмеивать его. Так, кто-то
написал, что единственный живой экспонат «самого большого зоопарка
Германии» — собака директора Дате, которая извела всех своим
беспрерывным лаем. Когда же Дате и госпожа Хейнрот осуществили обмен животными
между зоопарками (маскированную свинью поменяли на осла) — тайком, так
как политическая ситуация была уже настолько накалена, что «наверху» обмен
наверняка бы запретили, — то информация просочилась к западным
журналистам, в результате чего появилась статья под любезным названием «Западный
осёл против восточной свиньи». Тем не менее, между госпожой Хейнрот и Дате
оставался доверительный контакт. В 1956 году из зоопарка Западного Берлина
исчез попугай амазон «Пущи». Он был найден благодаря сообщениям радио в
восточной части города, и Дате незамедлительно выполнил все формальности
для «обратного экспорта» птицы «за границу».
В конце 1956 года госпоже Хейнрот, несколько неожиданно для себя,
пришлось уйти на пенсию в возрасте 59 лет. Ей было позволено предложить
преемника. Она назвала четыре фамилии, на первом месте был Дате. Эту
кандидатуру наблюдательный совет зоопарка сразу же отверг. Двое других с
благодарностью отказались, четвертый, доктор Хайнц-Георг Клёс, принял
предложение и был назначен директором (Heinroth, 1979: 268).
Доверительные отношения с новым директором у Дате не сложились.
Новый, молодой шеф западноберлинского зоопарка происходил с «дальнего»
запада, у Дате теперь отсутствовала поддержка Шнейдера — его лейпцигский
шеф и учитель умер ещё в 1955 году. Хотя внешне отношения двух директоров
выглядели дружескими, на них в полной мере оказывала влияние атмосфера
324
противостояния между «востоком» и «западом». Позднее профессор Клёс
писал (Klos, 1991: 199): «Политическая действительность в расколотом
отечестве всячески противодействовала этой вполне разумной с научной и
экономической точки зрения концепции [двух зоопарков] и на протяжении многих
лет до чрезвычайности усложняла нашу жизнь и работу». Об этом же пишет и
Дате (Dathe, 1991: 215): «... конечно, и здесь и там имелись разногласия, и хотя
мы жили только в 12 километрах друг от друга, но виделись, как правило,
только в Шри-Ланке или Венесуэле». До полноценного сотрудничества между
двумя зоопарками, прежде всего до обмена животными, в эпоху существования
двух немецких государств дело так и не дошло. Политический конфликт между
«востоком» и «западом» самым парадоксальным образом сказывался на работе
обоих зоопарков. Например, в 1964 году западноберлинский зоопарк продал
молодняк индийского гаура фирме, торговавшей животными, в Ганновер за
4 000 дойчмарок; а через короткое время восточноберлинский зоопарк
приобрёл этих азиатских быков у этой же фирмы за 5 500 дойчмарок. Примечательно,
однако, что критические высказывания средств массовой информации
Западного Берлина о новом зоопарке никогда не касались лично Дате — он был
отличным специалистом, это понимали и на «западе». «Восточные» газеты всегда
отзывались о зоопарке положительно, писали о нём, как о важном достижении
социализма, и часто с похвалой упоминали его директора.
И вдруг грянул гром, причём там, где его совсем не ждали. «Следственная
комиссия свободных юристов», действовавшая в Западном Берлине с 1958 года,
опубликовала брошюру под заголовком «Бывшие национал-социалисты на
службе в Панкове»2. В третьем, дополненном издании этой публикации (1960)
было поимённо перечислены 220 человек, в том числе и (с фотографией 1934
года) «профессор Генрих Дате, директор зоопарка Берлин-Фридрихсфельде,
дата вступления в НСДАП 1.09.1932 г., партийный номер 1318 207». Большое
число экземпляров брошюры удалось контрабандой переправить на восток (в
том числе и два более поздних издания, последнее вышло в 1965 году). Эта
публикация приобрела широкую известность, несмотря на то, что органы
госбезопасности ГДР принимали меры по её конфискации. По-видимому, на
официальном уровне никаких последствий для Дате эта публикация не имела, тем
более что он и раньше не скрывал своего членства в НСДАП. Кроме того, уже
в начале 1950-х годов власти ГДР изменили политику по отношению к так
называемой «буржуазной интеллигенции» (к этой категории относились и
бывшие члены НСДАП). Теперь считалось, что эти люди тоже должны быть
использованы для построения нового общества.
Панков — район Восточного Берлина, где располагались правительственные учреждения ГДР.
— прим. перев.
325
Последствия этого политического поворота (так же как и расследования
«Свободных юристов») в общем-то не имели для граждан ГДР большого
значения. Большинство нацистских преступников (вместе со многими
невиновными) были арестованы советскими компетентными органами вскоре
после окончания войны и находились в восточногерманских и советских
лагерях и тюрьмах... Исключение составляли те, кому удалось бежать на запад.
В мемуарах Дате представляет своё членство в
национал-социалистической партии, как некое заблуждение молодости. По его словам,
патриотическая речь одного офицера Веймарской республики в конце её
существования и, пожалуй, взгляды учителя — глубоко почитаемого им профессора
Гримпе, побудили его, тогда 21-летнего, к этому шагу. Документы
федерального архива подтверждают сообщение упомянутой западной брошюры,
но открывают нечто большее: в 1938 году в личной анкете, собственноручно
подписанной Дате, он указал, что до 1933 года состоял пропагандистом
нацистского движения, затем был «руководителем блока» и «политическим
руководителем», а с августа 1937 года возглавил региональную группу НСДАП
в зоопарке Лейпцига.
Сегодня нам трудно найти оправдание или даже понимание нацистского
прошлого Дате. В архиве я обнаружил интересный документ, свидетельствующий
о том, что Дате в августе 1937 года вступил в «Колониальный союз Рейха»;
наверное, он надеялся, что в результате своей политической деятельности
попадёт однажды в экзотические страны, о чём он, как учёный-зоолог, неотступно
мечтал. В своих воспоминаниях Дате писал: «Я никогда не хотел быть
специалистом зоопарковского дела, я стремился совсем к другому. Больше всего я
хотел [...] стать учёным-путешественником»... О поведении Дате во времена
нацизма есть достоверные свидетельства: так, например, сотрудник
Зоологического института в Лейпциге, преклонного возраста технический ассистент
Герман Мюллер, называл Дате «общительным и безвредным» (профессор К.
Зенгаауб, перс, сообщ.). Курт Генц, бывший участник левого
социал-демократического молодежного движения, подвергавшийся преследованиям нацистов,
впоследствии редактор орнитологического журнала «Der Falke» в ГДР, в 1960-
е годы рассказывал мне о нацистском прошлом Дате. Генц, в частности,
сказал, что «он разгуливал в партийной форме». И всё же он ценил его.
Справедливости ради нужно отметить, что Дате поплатился за своё членство в НСДАП:
после освобождения из плена он не смог сразу занять своё место ассистента в
Лейпцигском зоопарке; это ему позволили только в середине 1950-го года.
Но вернёмся к послевоенной деятельности Дате в ГДР. Я считаю
бессмысленным критиковать его за устройство зоопарка в Берлине. Суждения многих
специалистов как из Западной, так и из Восточной Германии (например, Di-
326
Рис. 88. Профессор Генрих Дате и ,* *
доктор Катарина Хейнрот во время %.
празднования 100-летнего юбилея ^
Дрезденского зоопарка, 10 июня 1961г.
trich, 1991a,b; Seifert, 1991), а также из-за границы, содержат много похвальных
отзывов. Ко времени объединения Германии в зоопарке побывали свыше 70
миллионов посетителей, и он сделался одним из излюбленных мест отдыха
горожан! Странно было бы упрекать Дате в том, что из-за этого население
Восточного Берлина меньше посещало Западный Берлин. Напротив, можно
возразить, что он давал повод западным жителям Берлина посещать восточную
часть города, где они могли лично посмотреть на другую систему и навестить
родственников. Не его вина, что политические инстанции ГДР так
односторонне интерпретировали его достижения: «Профессор Дате не только
разработал теоретические основы и сформулировал конкретные задачи зоопарков в
условиях социалистического общества, но и воплотил их на практике на
примере зоопарка в Берлине. Это имеет большое значение не только для ГДР, но
и для всех социалистических государств. В качестве руководящего члена
Международного Союза Директоров Зоопарков (IUDZG) он с давних пор и с
большим успехом способствовал повышению влияния социалистических стран-
участниц [...]. Благодаря его активному, продолжающемуся до сегодняшнего
дня влиянию на проекты по зоопарковскому делу в братских
социалистических странах (например, в Москве) и в дружественных молодых национальных
государствах (например, в Алжире) он играет важную роль в растущем
международном признании нашей республики» (цитата из представления к
золотому «Ордену за заслуги перед Отечеством» от 7.10.1980 г.).
Обратимся теперь к отношению Генриха Дате к политике. Я не
сомневаюсь в том, что он сделал выводы из своего прошлого и осуждал нацизм и
свою причастность к нему. Что же касается его отношения к политике ГДР,
327
то, разумеется, находясь на посту директора зоопарка Дате с неизбежностью
должен был приспособиться к режиму той страны, где он жил. В связи со
своим высоким положением с одной стороны, но несколько экзотической для
политики профессией — с другой, а также благодаря большой
популярности «в народе» (которой весьма завидовали многие партийные чиновники),
Дате пользовался значительно большей свободой, чем «простые» граждане
ГДР. Надо сказать, что он никогда не отказывался от предоставленных ему
привилегий и иногда закрывал глаза на реальность. Но в некоторых областях
его лояльность к ГДР имела, однако, границы; в частности, он был
решительным противником курса на отмежевание от ФРГ, который набирал
обороты. Приведу два примера. После введения в ГДР ограничений на
получение по почте западных печатных изданий зоопарк способствовал тому, чтобы
орнитологические и другие специальные журналы всё же достигали ГДР.
Когда в 1979 году я подарил Дате только что опубликованный мною
«Каталог птиц стран Европейского Союза» (в котором восточная граница ЕС
разделяет обе Германии), он ехидно спросил, не нужно ли составить подобный
каталог для ГДР вместе с государствами Варшавского договора?
Дате возмущался тем, что он, вследствие воплощения в жизнь Халыптай-
нской доктрины3, должен был каждый раз заполнять анкеты в особом
туристическом бюро в Западном Берлине для поездок в страны, которые не
признавали паспорт ГДР. По существу там каждый раз заново производили
перепроверку его немецкого гражданства, что он считал унизительным.
Каждый раз было необходимо подтверждение его немецкой национальности, и
она вносилась в документ.
Добавлю забавный эпизод к рассказу на тему «Дате и политика»: из
бронзового монумента Сталину, который долгое время высился на аллее Сталина
в Восточном Берлине, при содействии Дате ещё во времена существования
ГДР были отлиты прекрасные скульптуры зверей, по сей день украшающие
зоопарк...
Совершенно особую главу политической истории ГДР являет собой
членство граждан ГДР в общегерманских (то есть официально
зарегистрированных в ФРГ) союзах; за этим пристально следили политические инстанции «с
глазами Аргуса». «Большую проблему» в связи с этим представляли многие
орнитологи Восточной Германии, состоящие членами Немецкого орнитоло-
3 В апреле 1954 года Бундестаг сформулировал положение, согласно которому только ФРГ
имеет законное право представлять весь немецкий народ (всю Германию) на международной
арене. Из этого положения исходит и доктрина, получившая название Халыитайнской (по
имени Вальтера Хальстайна — государственного секретаря Министерства иностранных
дел). Результатом стало непризнание в ФРГ паспортов ГДР. — прим. перев.
328
гического общества (DO-G). В начале 1960-х годов Дате на министерском
уровне узнал, что к такому членству власти относятся терпимо в том случае,
если «в союзах, в которые входят граждане ГДР, они занимают руководящие
позиции в правлении и признаются равноправными членами». Чтобы
устранить трудности для восточных орнитологов, он хлопотал об учреждении
должности вице-президента DO-G (не исключено, конечно, что его толкало на это
и собственное честолюбие). Цель была достигнута: в сентябре 1967 года
подавляющим большинством голосов на годовом собрании DO-G в Гельголанде
Дате был избран вице-президентом к обоюдному удовольствию двух стран.
Наряду со стремлением к налаживанию сотрудничества двух немецких
государств, Дате был свойствен и патриотизм по отношению к ГДР.
Однажды в 1970-е годы мы обходили с ним зоопарк, и он разразился длинным
монологом о самонадеянности западных учёных, которые «слишком часто
думают, что «восток» ни на что не способен». Монолог закончился фразой:
«Я доказал им, что это не так!».
Дате поддерживал профессиональные контакты и дружеские связи с
несколькими персонами из правящих кругов ГДР. Он успешно использовал их
для расширения зоопарка, но честолюбие заводило его иногда слишком
далеко. Например, в конце 1950-х годов случился конфликт Дате с престарелым
профессором Штреземанном (см. также стр. 49-50) по поводу руководства
Научным центром зоопарка, который был основан Берлинской Академией
наук. Научные инстанции Академии, полностью финансировавшие этот
центр, выдвинули Штреземанна на позицию научного руководителя, но
какими-то сомнительными путями Дате всё же удалось получить руководство
в свои руки. В письме своему другу доктору Рудольфу Куку на
орнитологическую станцию Радольфзелль в ФРГ он признаётся (24.04.1961 г.): «Всё-
таки мне удалось победить». Как становится ясным из этого письма, для
победы он успешно использовал «помощь верных друзей». Кем были эти
друзья, неясно. Штреземанн остался председателем попечительского совета
Научного центра, но разногласия с Дате принудили его в конце концов уйти.
Так что возможное плодотворное сотрудничество двух учёных не состоялось
и вылилось во вражду до конца их жизни...
«Верные друзья» Дате, разумеется, ожидали от него лояльности по
отношению к государству, что неизбежно делало его заложником режима.
Приведу парадоксальный пример, относящийся к концу 1960-х годов. В этот
период правительство ГДР усилило курс на суверенитет государства, что
сказалось на всех уровнях: в частности, настаивали на том, чтобы граждане
«добровольно» прекратили свое участие в общегерманских союзах. Когда
же выяснилось, что многие орнитологи отнюдь не торопятся покидать Не-
329
мецкое орнитологическое общество, то при Государственном комитете
лесного хозяйства ГДР, который одновременно служил и Высшим органом
охраны природы страны, была создана «Рабочая группа по орнитологии и
охране птиц». В эту группу вошли как специалисты, так и представители
органов власти, а председателем был назначен Дате. На заседании 4 февраля
1970 года новая корпорация приняла официальное решение, которое
обязывало всех восточногерманских членов DO-G письменно отказаться от
участия в этом обществе (Rutschke, 1998: 120-121).
Дате, конечно, хорошо понимал, какая неприглядная роль ему досталась.
Ещё до этого заседания в конце 1969 года он принимал у себя в Берлине
своего друга Рудольфа Кука с орнитологической станции Радольфцелль,
который в качестве члена совета DO-G конфиденциально обсуждал с ним
предстоящие проблемы. В письме президенту DO-G в Бонн, профессору Нит-
хаммеру, с которым он был дружен ещё с лейпцигского студенческого
времени, Дате не без оснований писал (7.09.1969 г.): «Я очень сожалею о
том, что события приняли такой оборот, но сложившаяся ситуация является
в конце концов закономерным следствием политики Аденауэра» (речь идёт
о притязаниях Федеративной республики единолично представлять
Германию на международной арене).
После «добровольного» ухода с поста вице-президента DO-G и
«добровольном» прекращения членства в Общегерманском орнитологическом
союзе, Дате утвердился в роли «главного орнитолога» ГДР. В конце 1972 года
он, как преемник профессора Шильдмахера (ср. стр. 305-309), возглавил
Центральную комиссию по орнитологии и охране птиц «Культурного союза»
ГДР (ZFA). В то время членами секции состояли почти четыре тысячи
человек! Энергия Дате, его профессионализм и его многолетнее членство в
президиуме «Культурного союза» давали надежду на оживление
орнитологической работы и на усиление влияния орнитологов ГДР на некоторые
актуальные политические вопросы.
Действительно, за то время, пока Дате был главой Центральной комиссии
по орнитологии, члены секций с большим успехом провели по всей стране
скоординированные фаунистические исследования; самые активные группы
издали региональные монографии. Когда перед органами власти ГДР встал
вопрос о возможности сотрудничества орнитологов Восточной Германии с
доктором Глутцом фон Блотцхаймом, швейцарским орнитологом, издателем
многотомного руководства «Птицы Средней Европы», Дате приложил все
усилия, чтобы сотрудничество было разрешено, и добился успеха.
Бесчисленные доклады Дате на различных конференциях и заседаниях практически
не содержали никаких идеологических или политических высказываний,
330
Рис. 89. Профессор Генрих foame во время
заседания Центральной комиссии по
орнитологии и охране птиц в Карл-
Маркс-Штадте/Хемнице, апрель 1975 г.
больше того, ему удавалось включать в программы заседаний темы и
приглашать людей, которые не пользовались расположением у руководства ГДР.
Например, благодаря его инициативе на заседаниях, посвященных Брему (в
1984-м, 1987-м и в 1989-м годах) чествовали не только зоолога Альфреда
Брема, но и с почтением вспомнили его отца, деревенского священника,
орнитолога-любителя Христиана Людвига Брема (отношение в ГДР к религии
было крайне враждебным). На первой конференции историку науки,
специалисту по Брему Хансу-Дитриху Хэммерлайну не разрешили выступить с
докладом, поскольку он был протестантским священником, но на второй
конференции Дате добился того, что выступление состоялось.
С конца 1970-х годов в работе секций на первый план всё больше выходили
вопросы охраны окружающей среды. Различные протесты (против
расширения сельскохозяйственных площадей, против применения пестицидов, против
загрязнения воды и воздуха, и проч.) направлялись в государственные
учреждения. Реакцию органов власти на это может пояснить следующий
пример: в 1984 году биолог Дитер Земанн из Карл-Маркс-Штадта (Хемниц)
заявил доклад на совещании Центральной орнитологической комиссии в Йене
под названием «Гибель леса в Рудных горах (Эрцгебирге)». Вначале ему было
предложено воздержаться от этой темы и сделать вместо этого сообщение в
честь 100-летнего юбилея доктора Гевдера... Когда же Земанн отказался снять
заявленный доклад, его обязали переслать полный текст доклада на проверку
331
в Берлин, что он и сделал. Но во время выступления доклад прозвучал совсем
в другой редакции, в частности, были показаны слайды, не прошедшие
«проверку» в Берлине. В итоге проблема была изложена с полной ясностью.
Многие члены секций выражали неудовольствие тем, что руководство
Центральной орнитологической комиссии (ZFA) не могло провести в жизнь
большинство выдвинутых ими требований. Е. Ручке (Rutschke, 1998:127) возлагает
вину за это на Дате, причём в довольно резкой форме: «Заседания ZFA
превратились по милости её руководителя в занимательные мероприятия, которые он
расцвечивал анекдотами, орнитологическими и другими воспоминаниями».
Ручке пытался поставить работу на другие рельсы и придать ей большую
боевитость, но столкнулся с сопротивлением руководителя организации.
Очевидно, люди переоценивали возможности Дате в смысле влияния на
чиновников, которые, несомненно, использовали его для собственных целей,
но едва ли считали нужным реагировать на его требования. Определённую
роль здесь, конечно, играло и честолюбие Дате, о чём он откровенно пишет
в своих мемуарах: «хотел быть только первым». Это принуждало его
«блистать на многих свадьбах», но просто из-за недостатка времени он не мог
быть настоящим победителем одновременно всюду. Многие, особенно более
молодые орнитологи, которые критически относились к режиму ГДР,
распространяли это отношение также и на Дате; один из них писал мне: «Он
[Дате] был в моих глазах надутым, переоценивающим себя самого и
действующим заодно с бюрократами ГДР человеком».
К сожалению, нередко случается, что на известных личностей
обрушиваются необоснованные упрёки. Так же было и в случае Дате: некоторые его
современники, в частности, один «хорошо информированный» житель
Западного Берлина, убеждённо доказывал мне, что Дате не только состоял
активным членом НСДАП, но и был обладателем золотого значка «Почётного
члена партии», и что звание заслуженного доктора естествознания было
«пожаловано лично Ульбрихтом». Только потратив много времени на поиски в
архивах, а также изучение литературы и консультации с историками, я смог
доказать, что эти измышления абсолютно не соответствуют истине! Нельзя
не упомянуть выдающееся чувство юмора Дате. Благодаря этому своему
дару он умел избавить от скуки заседания, которые были перегружены
докладами, умел снимать напряжение в любых разговорах и уклоняться от
надоедливых вопросов. В знакомом ему обществе он не боялся рассказывать и
политические анекдоты; но его саркастических, часто уничижительных
замечаний о людях из его окружения боялись.
Секция орнитологии и охраны птиц «Культурбунда» существовала и
работала в течение сорока лет. Почти восемнадцать лет, до февраля 1990 года,
332
Рис. 90. Профессор Генрих Дате в
зоопарке незадолго до своего 80-летия, 5
ноября 1990 г.
— под руководством Дате. Постепенно происходит интеграция активных
орнитологов бывшей ГДР в структуры объединённой Германии. В Саксонии, на
своей родине, Дате помог восстановить распущенный после войны
региональный Саксонский орнитологический союз.
Но вернёмся к зоопарку, лучшему произведению Дате, объекту
«представительского класса» в ГДР. Дате воспитал себе хорошего преемника —
Вольфганга Груммта, но слишком медлил с передачей ему руководства зоопарком;
он ни как не находил в себе сил расстаться со своим детищем. В период
объединения Германии, времени, переполненного событиями и переменами, он всё
ещё был полноправным директором зоопарка. Он объявил, что уйдёт с поста
директора в день своего 80-летия (7.11.1990 г.), правда позже, но ещё до
наступления этой даты, пересмотрел своё решение в связи с необычно быстрыми
политическими переменами в стране, которые уже 3 октября 1990 года
привели к вступлению ГДР в Федеративную Республику Германию и к
объединению Берлина. Начиналась волна реформ. У Дате и многих из его сотрудников
возникло впечатление, что их зоопарк станет лишь «приложением» к зоопарку
в Западном Берлине. Многочисленные сообщения средств массовой
информации усиливали это опасение. Было также ясно, что 80-летний директор без
опыта работы в рыночной экономике не может в новой ситуации больше
оставаться на своем посту. Но Дате был другого мнения: ссылаясь на свой
отдельный трудовой договор, он продолжал оставаться в должности, чтобы лично
бороться за сохранение зоопарка и рабочих мест его многочисленных
ззз
сотрудников. Но как раз этого-то и не хотели новые должностные лица в
муниципалитете Берлина. Отказ Дате уйти с поста директора спровоцировал
жёсткую контратаку. Один из чиновников нового Берлинского магистрата 7 декабря
1990 года (в пятницу) вынес директору (который находился в это время в
отпуске) письменное предупреждение с распоряжением снять с себя до 10 числа
того же месяца (понедельник) служебные обязанности и освободить до конца
месяца служебную квартиру. Два мира столкнулись! Но Дате не хотел уступать.
Штату зоопарка (а это почти четыреста пятьдесят сотрудников), которые были
переведены уже в так называемый «цикл ожидания», он объявил на общем
собрании: «Пока я здесь [...], никто из вас не потеряет своего рабочего места». Ни
одна из сторон не предполагала, что это обещание может быть нереальным.
Коллектив уверенно встретил Рождество. Но Дате был бессилен против более
грозного противника—собственной болезни, которая подтачивала его уже
несколько месяцев. Служебную квартиру своевременно освободить не удалось; 6
января 1991 года его жизнь оборвалась. В тот же день Берлинская вечерняя
газета сообщила огромными литерами: «Профессор Дате умер!».
На чьей стороне лежали симпатии? Об этом красноречиво говорит
поминальная церемония в протестантской церкви 17 января 1991 года, на
которую собрались тысячи людей, в том числе многие — из Западного Берлина.
Столпотворение было так велико, что не все смогли вписать свои
соболезнования в книгу (я насчитал примерно 1 300 подписей).
Сторонники Дате были с полным основанием возмущены шумихой вокруг
зоопарка и формой обращения с его основателем. Это был один из многих
крупных скандалов, сопровождавших процесс объединения. Экономические
скандалы вели к растрате денег, но этот скандал стоил гораздо дороже: в самом
начале новой эпохи немецкой истории тысячи сограждан Дате были глубоко
уязвлены унизительной процедурой увольнения старого человека, который в
течение многих лет скрашивал их не очень весёлое существование на востоке.
Извинений чиновников, которые были зачинщиками скандала, не последовало,
и множество возмущённых откликов в средствах массовой информации было
слабым утешением. В скобках замечу, что «Новая Германия» и ПДС активно
участвовали в возмущении и протестах; я подозреваю, что «вчерашние»4 тем
самым не только удовлетворяли свой моральный долг, но и ещё раз попытались
использовать заслуженного человека в своих интересах (Holm, 1991,1994).
Никто, даже самые яростные критики Дате, не отрицают, что до конца своей
жизни он отличался исключительной работоспособностью и неудержимым
4 «Вчерашние» — образное название бывших коммунистов, членов СЕПГ, основавших после
1990 партию ПАС. — прим. перев.
334
усердием — и как директор зоопарка, и как учёный. Список его публикаций
содержит несколько сот названий; он был издателем четырёх престижных научных
журналов; он читал внештатно лекции в университете в Лейпциге, а позже в
Берлинском Гумбольдтовском университете. В 1957 году Дате получил звание
профессора, а Берлинский университет наградил его званием почётного доктора
в области ветеринарии. Дате имел влияние на политику ГДР в области
культурного строительства; ему мы обязаны тем, что музей Науманна в Кётене был
отремонтирован, расширен и оснащён современной экспозицией. Многие научные
общества почтили его заслуги. Даже его «сотрудничество с бюрократами ГДР»
имело свои положительные стороны для науки: профессор Ганс Оме
(сотрудник научного отдела зоопарка с 1958 года) уверял меня, что Дате как директор
научного центра ограждал своих многочисленных сотрудников от
обыкновенного в ГДР «политического вздора» и создавал возможности для того, чтобы
заниматься темами, которые давно были запрещены в других местах.
Кроме находчивости и юмора Дате отличали также сердечность и
готовность помочь. В его окружении бытовала зарифмованная поговорка:
«Совета надо — иди к Дате!». Он использовал свою популярность и «связи»,
чтобы помогать другим. Это было очень важно в условиях ГДР.
Так что напрашивается мысль: а не реабилитировал ли себя Дате
деятельностью всей своей жизни, даже если в его биографии действительно
имели место тёмные или серые пятна...
Берлинский зоопарк, во всяком случае, вопреки всем опасениям,
выдержал объединение. Многое там изменилось, некоторые сотрудники потеряли
свои рабочие места, однако воспитанный Дате преемник стал заместителем
нового директора, назначенного магистратом. Оба не только нашли
взаимопонимание в профессиональной деятельности, но и быстро стали друзьями —
один из не очень частых примеров «братания» между Западом и Востоком...
Ныне зоопарк расширен и благоустроен. В 1995 году даже был
торжественно открыт памятник Генриху Дате в построенным во время его
директорства павильоне Альфреда Брема. Не исключено, что всё это произошло
благодаря стойкому сопротивлению Дате, оказанному им на рубеже
1990/1991 года, всего за несколько недель до смерти. Недавно долгий и
постыдный спор в муниципалитете Берлина был решён в пользу Дате: его
именем была названа одна из улиц Берлина.
По поводу дискуссии, которая была поднята вокруг имени и
деятельности Дате, один мудрый саксонец написал мне: «Вместо того, чтобы
водружать самих себя на пьедестал, мы должны бы быть благодарны судьбе за то,
что не стоим сегодня перед необходимостью таких решений, перед которыми
были поставлены многие люди как до, так и после 1945 года [...]».
335
* * *
Другой биолог из ГДР, который всегда стремился держаться как можно
дальше от политики, но достиг научных успехов и признания в круге
специалистов — мой старый друг, профессор Эрих Ручке/Erich Rutschke
(1926-1999). Он стал преподавателем высшей школы ещё в период
«развивающегося социализма» в Потсдаме и нашёл свою основную нишу в
научной деятельности в области экологии, охраны природы и орнитологии; в
конце концов, он достиг в этих областях таких успехов, что ему пришлось всё
же столкнуться с политикой.
Мы познакомились в середине 1950-х годов; хотя знакомство произошло
во время орнитологической экскурсии, между нами сразу же завязался
политический спор.
Знакомство переросло в сердечную, продолжавшуюся почти полвека
дружбу Последняя моя встреча с Эрихом Ручке состоялась за две недели до
его внезапной смерти. Никто не предвидел, что длинный разговор, который
мы вел и с ним тогда, окажется последним.
О жизни и научной деятельности Ручке неоднократно писали (например,
Naacke, 1998/1999; Kalbe, I999 a,b; Wallschlager, 1999). Поэтому в настоящем
очерке я хочу коснуться лишь тех сторон его жизни, которые меньше
известны и которые он доверял мне в различных разговорах, а также рассказать
о том, что мне удалось выяснить из его дела, заведённого «штази».
Но вначале скажу несколько слов о жизни зоолога и орнитолога Ручке в
самые тяжёлые времена новейшей немецкой истории. Ручке родился в земле
Бранденбург, в местечке Ной Хольм. Отец Эриха был рабочим на
предприятии, производящим электрическое оборудование (кабели, провода и т.п.); он
был вовлечён в политику и исповедовал левые социал-демократические и
даже коммунистические взгляды. Мать была настроена скорее либерально,
она была примерной протестанткой. Сын ходил в деревенскую школу и
должен был стать электриком. Когда ему исполнилось 10 лет, отец запретил
ему вступать в «Гитлер-югенд», но мать способствовала тому, чтобы он всё-
таки вступил туда («Ребёнок должен делать то, что делают все!»). Вскоре
дало о себе знать национал-социалистическое воспитание в школе: Эрих
протестовал, когда отец украшал свой дом красным флагом (который
закрывал свастику). Когда же Эрих однажды дома принялся напевать красивую
мелодию одной антисемитской песни, выученной в Гитлер-югенде, то
случился скандал — отец проучил его побоями. Это был его первый
политический урок, глубоко врезавшийся в память, о котором он рассказывал ещё и на
склоне лет...
336
Деревенский учитель уговорил родителей Эриха отправить одарённого
ребенка в Педагогическое училище вместо того, чтобы делать из него
электрика. В 1940 году Эрих покинул маленький родной дом в деревне и уехал в
селение Парадис недалеко от Мезеритца (ныне на западе Польши). Там в
красивых старинных постройках бывшего монастыря цистерцианцев5
разместилась одна из бранденбургских педагогических школ.
Государство полностью несло все расходы по содержанию и обучению
детей; выдавали одежду и даже ежемесячные карманные деньги. Жили в очень
хорошем общежитии, где «сила национал-социалистического общества и его
жизненного уклада стояла на службе воспитания будущих
национал-социалистических преподавателей». Через двадцать лет Эрих рассказывал мне, что
он сам впоследствии удивлялся, каким хорошим национал-социалистом он
был тогда... Но в сентябре 1944 года его призвали на фронт, в военную
авиацию. Он пережил ад наступления в Арденнах, а в феврале 1945 года получил
тяжёлое ранение. В военном госпитале за ним ухаживал голландский
персонал, впоследствии он часто рассказывал, что его удивляло, как заботливо
обращались с ним «враги». Это тоже было политическим уроком...
В конце 1945 года, когда он окончательно поправился, ему предложили
место учителя в Нижней Саксонии, в деревенской школе около Ольденбурга,
то есть в английской оккупационной зоне Германии. Но на Рождество в гости
к сыну приехал отец и убедил его вернуться в родной Бранденбург. Мать
получила от сельского священника совет пойти с его рекомендацией в
школьный совет в Бесков, и таким образом Эрих стал «новым учителем» (так
называли молодых учителей в советской оккупационной зоне) в деревне
Куммерсдорф недалеко от Бескова.
Теперь у Эриха была возможность своими глазами увидеть жизнь в зоне
советского влияния. Он начинал думать самостоятельно и сам планировать жизнь.
Никакие политические партии его не привлекали, многое слишком
противоречило его взглядам, всё чаще он возражал против взглядов отца. В этот период
он познакомился с лесничим Генрихом Биром, который хорошо знал птиц. Эрих
стал ходить с ним на экскурсии по лесу и принялся усердно изучать местную
фауну. Он был слишком целеустремлённым человеком, чтобы навечно остаться
в деревенской школе. При социализме всякий, кто имел собственные планы и
инициативу, мог и без всякой политической поддержки двигаться дальше. Ручке
поставил себе цель сначала стать преподавателем старших классов гимназии,
причём интерес к орнитологии уже определил будущую специальность. Он
начал учиться на различных курсах и в 1954 году посту пил в Бранденбургскую
Католический монашеский орден, основанный в 1098 году. — прим. перев.
337
высшую школу (позднее Педагогический институт) в Потсдаме, где получил
диплом с правом преподавания биологии в старших классах гимназий (вплоть
до экзамена на аттестат зрелости). Но когда он узнал, что при Высшей школе
возник Зоологический институт, он сделал запрос профессору Эриху Меннеру,
основателю инсппуга, не нуждается ли он в сотрудниках. Оказалось, что нужда
в сотрудниках есть, и в 1954 году Ручке стал ассистентом. С этого момента он
начал заниматься водоплавающими птицами, и они были одним из основных
объектов его исследований в будущем.
Похожим образом он поступил на год позже: он приехал в Берлин к
профессору Штреземанну и спросил, не смог ли бы тот взять на себя руководство
его диссертацией. Штреземанн дал согласие. Ручке погрузился в работу, и в
1958 году достиг своей цели, получив, после многих попыток, от Штреземанна
рукопись своей диссертации с пометкой «очень хорошо». Одним из горьких,
но важных опытов этого времени был полученный от Штреземанна первый
вариант рукописи, испещрённый бесчисленными комментариями и
поправками. «Это был жестокий удар, но Штреземанн научил меня составлению
научных текстов», — говорил Ручке впоследствии. Затем последовала защита
диссертации, получение звания доцента (1963 год) и назначение на должность
ординарного профессора зоологии (1969 год) в Педагогическом институте в
Потсдаме. Под руководством Ручке защитили диссертации 40 аспирантов.
В 1960-е годы Ручке был уже известным учёным, в частности, в области
исследований водоплавающих птиц и охраны природы. Благодаря Ручке ГДР
стала участником многих международных программ в этих областях. Теперь,
когда он получил международную известность, ему приходило много
приглашений на конференции за границей. До этого момента он мог ещё спокойно
работать в своей свободной от политики нише; теперь же его персона привлекла
к себе внимание районного управления государственной безопасности ГДР в
Потсдаме. В архиве Министерства госбезопасности в Берлине хранятся 5
томов документов «штази» (под номером ZMA РНIШ а, Ь, с, d и е). По запросу
мне были выданы из дела 160 листов (к сожалению, эти тексты были частично
замазаны чёрной тушью), на основании которых я могу рассказать кое-что о
тайной слежке за Ручке, организованной органами безопасности.
Сначала речь шла о том, должен ли Ручке быть внесён в список
привилегированных «кадровых работников», которым разрешён выезд из ГДР;
другими словами — может ли он принимать участие в научных заседаниях и
конференциях за границей, в том числе в «не социалистических зарубежных
странах». В мае 1968 года Потсдамское «штази» завело «дело объекта Ручке».
Для этого были затребованы документы из его личного дела в
Педагогическом институте и собраны конфиденциальные сведения тайных осведомите-
338
лей «штази». Девятого августа в отделении XX управления государственной
безопасности Потсдама (ответственного и за разрешения на выезд «кадровых
работников») уже лежал первый документ с оценкой кандидата: «Выяснено,
что Р. [Ручке] не является членом партии и не состоит членом ни одной
массовой организации. [...] Его политические взгляды не соответствуют
политическим установкам нашего государства [...]. В районе проживания он не
выполняет никакую общественную работу [...]. Неоднократно делались попытки
привлечь его к общественной работе, в первую очередь на политическом
уровне (в качестве помощника на избирательном участке), но тщетно.
Необходимо отметить, что Р., несмотря на индифферентное отношение к политике,
регулярно читает ND [газета «Новая Германия» — партийный орган СЕПГ]».
Но, вместе с тем, из личного дела Ручке, полученного с места работы,
следовало, что он является хорошим педагогом и успешным учёным. С тяжёлым
сердцем в «штази» приняли положительное решение.
Многие завидовали Ручке в связи с этим успехом, но нужно отметить, что
эта привилегированная позиция ни в коем случае не означала возможность
свободного международного сотрудничества. Все его запросы на поездки за
границу должны были быть снабжены подробным обоснованием от ректора
и соответствующего министерства в Берлине, а уже после этого они
поступали на рассмотрение в XX отделение «штази» в Потсдаме, которое ещё раз
осуществляло тщательную проверку и утверждало (или не утверждало —
разумеется без указания причин) очередную поездку. Даже если запрос был
отправлен за месяцы до предстоящей поездки, ответ всё равно приходил в
самый последний момент, часто всего за несколько дней до начала
мероприятия. В случае отказа в поездке Ручке должен был сам уведомить
приглашающую сторону, причём в форме, которая ни в коем случае не должна
была открывать истинную причину отказа.
Приведу один пример, который образно свидетельствует об этих трудностях
и основан на рассказе самого Ручке и нескольких документах из его дела. О
каждом контакте с западными коллегами (будь то письмо, телефонный
разговор или визит) необходимо было сообщать компетентной инстанции института;
Ручке считал это вздором и сообщал лишь о самых важных контактах.
Однажды это привело к неприятностям: в октябре 1982 года Ручке был приглашён
университетом Гёттингена на семинар, где он должен был сделать доклад на
тему об экологии и этологии гусеобразных. За три дня до мероприятия (Ручке
не имел ещё никаких сведений о том, утверждена ли поездка) профессор Ан-
таль Фестетич, организатор семинара, позвонил Ручке домой, чтобы спросить,
как обстоят дела с поездкой. Узнав, что ясности ещё нет, возмущённый
неопределённостью ситуации, он, как истинный житель запада, схватился за теле-
339
фон и тут же позвонил в представительство ГДР в Бонне, причём красноречиво
высказал всё, что он думает по поводу этого дела. Дипломаты ГДР в тот же день
навели справки, и тут выяснилось, что Ручке не сообщил «куда следует» о
важном телефонном разговоре с классовым врагом. Это повлекло за собой целую
лавину неприятностей: предупреждение от «компетентных органов»,
письменное объяснение Ручке с критической оценкой «проступка», допрос на
партбюро и, наконец, запрет на любые заграничные поездки на два года...
Ручке был человеком открытым, он делился своим возмущением с
коллегами, не предполагая, что среди них также есть осведомители «штази». Один
из них — НСОП, внештатный сотрудник для особого применения «IME
Тинко» (настоящее имя: Вольфганг Штраусе, 51 год, член СЕПТ, начальник
отдела международных связей института), передал «штази» магнитофонную
ленту с трёхчасовой записью различных сведений о Ручке. Справедливости
ради я дол жен отметить, что по поводу инцидента с Фестетичем он сообщил
«штази»: «Такие случаи приводят к бегству из республики». Ещё одна
забавная деталь, иллюстрирующая стиль и методы работы «штази»: материалы на
отслеживаемых людей (в том числе и на Ручке) зачастую были так обширны,
что ответственные офицеры не всегда были в состоянии найти среди них все
нужные документы. Вероятно, именно это произошло в отношении Ручке в
связи с рассказанным выше случаем. Ещё за шесть лет до этого происшествия,
в мае 1976 года, один из осведомителей информировал органы о контактах
Ручке с профессором Фестетичем (благодаря которым и возникло
впоследствии сотрудничество двух профессоров). В одном из документов дела читаем:
«От одного из осведомителей получена информация о том, что во время
юбилейного заседания рабочей группы «Охота и охотничьи ресурсы»,
посвященного 20-летию группы, [...] в Гартеслебене [...], профессор Эрих Ручке,
сотрудник Зоологического института в Потсдаме, руководитель рабочей группы
по водоплавающим, установил контакт с гражданином ФРГ. Имя гражданина
ФРГ — Фестетич. Беседа продолжалась около полутора часов». О Фестетиче
информатор сообщает, что «он приехал в 1956 году из Венгрии» [Ошибка: он
бежал на запад после поражения революции в Венгрии.]. Отец [Ф.] был
крупным землевладельцем в Венгрии и имел дворянский титул».
Содержание двух следующих документов из дела Ручке характеризует
разнообразие круга интересов «штази».
В апреле 1969 года семья Ручке принимала в своём частном доме в
Потсдаме «посетителя с запада», который приехал на машине.
Западноберлинский номер машины сразу же был зафиксирован осведомителем органов;
вскоре было установлено, что «западным» посетителем был профессор
Штреземанн. Для этого управление госбезопасности в Потсдаме письменно
340
затребовало, чтобы «... рабочая группа обеспечения безопасности
пассажирского движения отделения 2/2, Берлин, представила всю имеющуюся
информацию о въездах и выездах этого «гражданина Западного Берлина»,
начиная с 1960 года (!) и до настоящего времени».
Другой осведомитель (им был один из студентов Ручке) летом 1969 года
сообщил «штази», что его профессор «на мероприятии «Культурбунда»
решительно защищал США, поскольку они [американцы] располагают самыми
лучшими научными методиками». Далее тот же студент (он был членом СЕПГ)
жалуется на то, что беспартийному молодому учёному легче поступить в
аспирантуру к профессору Ручке, чем «партийному товарищу» (очевидно, этот
студент безуспешно пытался получить место в аспирантуре для себя).
«Западные» контакты политически неблагонадёжного профессора
«принудили» в начале 1970 года «штази» в Потсдаме распорядиться о проверке
корреспонденции Ручке; корреспонденцию не только прочитывали, но и частично
изымали. В деле есть несколько оригиналов его писем, которые никогда не
достигли адресатов, и наоборот. Это письма чисто научного содержания,
например, в одном из них профессор Адольф Портманн из Базеля благодарит Ручке
за присылку оттиска научной статьи и хвалит её содержание. Сам Ручке не мог
не заметить, что не все предназначенные ему отправления попадают в его руки.
Он просил некоторых западных коллег, чтобы они писали только на его
служебный адрес (а не на домашний); но далеко не все корреспонденты могли
последовать этой просьбе, поскольку многие письма самого Ручке тоже оседали
у «штази». И даже если бы они достигли западных коллег, никакой гарантии
успеха всё равно не было, так как в деле встречаются и оригиналы писем с
запада, которые были направлены как раз по служебному адресу Ручке...
В 1960-е и в начале 1970-х годов (тогда я работал в Варшавском
университете) я поддерживал тесный контакт с Ручке. Он посещал меня в Польше,
я бывал у него в Потсдаме. Мы планировали различные совместные проекты
таким образом, чтобы обходить политические препятствия. Однако, я
находился в лучшей ситуации, чем Ручке, так как польский социализм был более
либерален, чем социализм в ГДР. Я чаще, чем он, мог путешествовать за
границу, и иногда был его «послом», а также консультантом и помощником в
трудных случаях. Об одном из них я хочу рассказать.
В конце 1960-х годов в Академическом обществе издательства Франкфурта-
на-Майне появились первые три тома «эпохального руководства» Бауэра и
Глутца фон Блотцхайма «Птицы Средней Европы» (1966, 1968, 1969),
которые вызвали сильный резонанс и интерес у многочисленных орнитологов ГДР.
Многие могли и хотели поставлять издателям хороший материал для
следующих томов, но этому препятствовала проблема политического характера. Дело
341
в том, что раздел «Ареал обитания вида» содержал абзац под заголовком
«Германия», причём в границах 1937 года (том I) и, соответственно, «Восточная
Германия» и «Западная Германия», а также «Польша и бывшие восточные
немецкие области при польском управлении» (тома II и III). Это не осталось
незамеченным политическими инстанциями ГДР, и они обдумывали указ,
который должен был запретить всем научным учреждениям ГДР всякое
сотрудничество с издателями многотомного труда (предполагали издать ещё
большое число томов). Поскольку Польша также была затронута (а польские
коллеги тоже поставляли материал издателям), Ручке обратился ко мне за
помощью. Речь шла о том, чтобы убедить главного лесничего страны Ганса
Шотте, могущественного начальника высшего органа охраны природы и
охотничьего хозяйства при Государственном комитете лесного хозяйства ГДР в
Берлин-Карлсхорсте, в том, что это сотрудничество необходимо и полезно для
всех сторон. (Обращение именно к этому лицу и компетентность его в этих
вопросах выглядит несколько странно с «западной» точки зрения, но в ГДР
это было в порядке вещей). Шотте был твердокаменным социалистом, так что
и я и Ручке понимали, что игра не будет лёгкой.
Первый удобный случай поближе познакомиться с Шотте и добиться какого-
то влияния на него представился в сентябре 1968 года, после Международной
конференции о ресурсах водоплавающих птиц в Ленинграде (Nowak, 1998:
333-334). Во время заключительного банкета в охотничьем домике в пригороде
Ленинграда Эрих и я предложили советским организаторам чествовать Шотте
за его заслуги. После хвалебной речи, которая весьма подняла его настроение,
ему передали в дар рога лося! Он был так осчастливлен, что пригаасил нас (а
также госпожу Ручке) ещё раз отпраздновать событие в ресторане гостиницы.
Мы было уже совсем подружились, когда неожиданно к нашему столику
подсел молодой, несколько подвыпивший мужчина, который представился
студентом-украинцем, будущим специалистом по «ракетным технологиям»; он
непременно хотел побеседовать с немцами и просил меня об услуге переводчика.
Когда он узнал, что имеет дело с немцами из ГДР, он очень обрадовался и
просил меня перевести, что он два года служил в ГДР и знает, как немцы
ненавидят СССР... Чтобы избежать катастрофы, я заменил «ненавидят» на «любят».
Шотте с гордостью ответил на это, что его сын в эти судьбоносные дни
находится в Чехословакии с важным секретным поручением (операция по
устранению Дубчека и его сторонников в Праге). Мой перевод: «Чехи и словаки
испытывают такие же чувства». В этом стиле разговор продолжался ещё добрых
полчаса, до тех пор, пока одна прекрасная русская девушка не пригласила
Шотте на танец. Теперь мой собеседник хотел узнать, признаем ли мы, поляки,
независимую Украину, если она однажды освободится от советской оккупации.
342
Рис. 91. Профессор Эрих.Ручке из Потсдама беседует с профессором Урсом Глутцем фон
Блотцхаймом из Швейцарии во время заседания конференции по водоплавающим птицам в
Аейпцше, октябрь 1969 г.
Я должен был каким-то образом, наконец, отделаться от него, поэтому я
ответил на последний вопрос решительным «Нет!», после чего он оскорблённо
ушел. (Кстати: Польша была первой страной, которая в 1991 году признала
независимую Украину). Хотя это была несколько опасная игра (официант,
который, очевидно, понимал немецкий язык и мог быть агентом КГБ, уже вмешался
в разговор), мои переводческие услуги были вознаграждены: теперь Шотте
называл меня доверительно «товарищ Новак». Мы обсудили проблемы,
касающиеся «Птиц Средней Европы»; сначала речь зашла о спорных
географических названиях. Я разделил с Шотте возмущение, однако — в смягчённой
форме: «Названия ошибочны, но наш интерес касается главным образом
специального научного содержания книги, которые мы оцениваем очень
положительно». После короткого обсуждения Шотте решил: «Тогда я буду
протестовать от имени ГДР и Народной республики Польши против этих
ревизионистских названий». Непосредственно перед издателями он протест не
выразил, но его помощники написали доктору Глутцу в Швейцарию (27
октября 1968 года), что «усилия [...] к официальному сотрудничеству могут быть
реализованы только в том случае, если в книге будут учтены нынешние
границы государств и не будет проигнорировано государство, в котором мы
живём». Последующие месяцы показали, к сожалению, что беседа с Шотте не
привела к успеху: государственным учреждениям всё-таки было запрещено по-
343
сылать неопубликованные материалы в Швейцарию (орнитологи-любители,
тем не менее, с удовольствием делали это).
Нормализации положения способствовал личный визит доктора Глутца в
ГДР в конце октября 1969 года (рис. 91). Издатель обещал, что начиная с IV
тома географическая терминология в книге будет соответствовать
европейскому Status quo, и Шотте дал своё согласие на активную кооперацию. Тем
не менее, «хорошая погода» и на этот раз продлилась недолго — всего лишь
год. Причина нового запрета на сотрудничество опять была политического
характера — в известное международное соглашении по охране
водно-болотных угодий, позже получившее название Рамсарская конвенция, был
внесён пункт (так называемая «Венская поправка»), согласно которому ГДР, как
не члену ООН, было запрещено участие в этом соглашении. Так что
Германия была представлена только Федеративной республикой (Nowak, 2002a:
39-41). Ручке был крайне огорчён! Он написал мне в Варшаву 21 сентября
1971 года: «Будущее сотрудничество с «Птицами... [Средней Европы]»
окончательно запрещено. Я сейчас пока не вмешиваюсь в это дело, так как
имеются ещё более трудные проблемы [...]. Я полагаю, что активность с твоей
стороны могла бы принести положительные результаты в том случае, если
она будет носить официальный характер в какой-либо форме».
Я организовал официальный запрос от соответствующего польского
министерства. Месяцем позже я уже был в Восточном Берлине и отправился
прямо к Шотте. Разговор был длинным и резким. Сначала мы говорили о Рам-
сарской конвенции — я, разумеется, резко осуждал «Венскую поправку» как
«западный» политический вздор. По истечении некоторого времени мне
удалось направить разговор в сторону издания «Птиц...». Шотте обратил моё
внимание на обострение идеологической борьбы между востоком и западом
и раздраженно спросил: «Зачем вообще нужно сотрудничать с этими
капиталистами?». Одна только профессиональная польза сотрудничества его,
конечно, мало волновала, и мои аргументы он отвергал до тех пор, пока я не нашёл
подходящее обоснование: «Отказ от участия скомпрометировал бы нас в
международном плане. Лучше, если бы мы всё же участвовали в этом проекте,
но параллельно начали бы готовить и некое аналогичное или даже лучшее
издание, скажем, коллективную монографию. Например, мы могли бы издать
книгу «Позвоночные животные Восточной Европы и Северной Азии». Это
предложение Шотте принял. Я предложил, чтобы он обратился к советским
зоологам с просьбой о координации нового проекта. Шотте сдержал слово: он
отправил соответствующее предложение в Москву (из этого проекта ничего
не вышло, что я с самого начала и предвидел) и вновь разрешил
сотрудничество в написании «Птиц Средней Европы». Я не вполне уверен, было ли это
344
действительно моей заслугой, так как в начале 1972 года Шотте ушёл со своей
должности (он ослеп после попытки самоубийства — пытался застрелиться),
а его преемник был не столь ортодоксален...
Последнее событие, такое трагическое для Шотте, получило
парадоксальный отклик в деле Ручке. Осведомители поспешили сообщить
следующее: «Он [Ручке] высказывался [...], что он сам и многие его знакомые
орнитологи испытали облегчение после несчастья, которое произошло с
главным лесничим страны [фамилия замазана — прим. автора]. Он [Ручке]
всегда боялся, что [Шотте] [замазано — прим. автора] снова заступит на свой
пост. Он [Шотте] [замазано — прим. автора] был типичным представителем
застойного и жестокого времени». Собственно говоря, такие отзывы об
официальном лице должны были бы иметь в то время очень плохие последствия.
Но этому воспрепятствовала всеобщая секретность: «Информация из-за
угрозы вреда источникам не может быть официально оценена», — написал
в конце этого сообщения ответственный офицер «штази».
Тот же информатор сообщал «штази», что сказал Ручке по поводу
политических статей, которые регулярно печатались на первых страницах
орнитологических ежемесячных журналов ГДР с 1970-х годов: «Это уже
невыносимо — пичкать орнитологов, да и других читателей, идеологической чушью,
вроде той, которая была напечатана в номере 10/72 журнала «Falke»!». Тем не
менее, и это прегрешение также официально не могло быть наказано.
В 1974 году я переселился из Варшавы в Бонн и через год начал работать
в Федеральном исследовательском центре по охране природы и
ландшафтной экологии. (Для того времени это было довольно необычным событием:
учёный из «восточного блока» оказался на ответственной должности в
западногерманском государственном учреждении — мне помог профессор
Вольфганг Эрц). Кроме того, я стал и научным консультантом федерального
правительства по разработке соглашений об охране мигрирующих видов
животных. Это соглашение было заключено в 1979 году на Международной
правительственной конференции в Бонне-Бад-Годесберге (и известно под
названием «Боннская конвенция»). Я был избран председателем научного
совета бюро конвенции и должен был агитировать различные государства
присоединяться к ней. В органы власти ГДР и ведущим зоологам страны я
также послал информационные материалы и приглашение для вступления
(1974 году ГДР была принята в ООН и проблема с «Венской поправкой» была
снята). Ручке, с которым я теперь часто встречался в Восточном Берлине и
на международных конференциях, был заинтересован в присоединении ГДР
к этой конвенции. Он ожидал от участия в ней и более основательной
поддержки его собственных исследовательских проектов. Но из Восточного Бер-
345
лина не пришло никакого ответа на мои письма. Я уже собирался начать
новую «бумажную атаку», когда Ручке конфиденциально сообщил мне: «Ты
можешь больше не беспокоиться, они основательно прочитали текст и из-за
статьи V, пункт 5h, по политическим причинам полностью отказались от
какого-либо сотрудничества». В названном пункте речь шла о том, что
партнёры по договору обязуются «исключить любую деятельность, которая
создаёт препятствия, ухудшает или затрудняет миграции [животных]». Это было
расценено, как попытка поставить под вопрос существование пограничных
заграждений, которые отделяли ГДР от ФРГ...».
В 1970-е и 1980-е годы внимание к таким «объектам», как Ручке,
усилилось (в немалой степени в ответ на активизацию движения «Солидарность»
в Польше, что привело к введению в стране военного положения). Снова
была взята под контроль переписка Ручке, некоторые письма были
конфискованы. (Я нашёл в его деле и его письма ко мне и мои — к нему;
некоторые — в виде копий; технический прогресс — органы безопасности уже
получили копировальные аппараты!). Зная о неопределённой участи
корреспонденции, отправленной из ГДР, Ручке при случае опускал письма в
почтовые ящики, находясь в других странах. Один пример показывает, как
это было наивно: благодаря сотрудничеству с дружественными органами
безопасности ЧССР «штази» в Потсдаме уже через две недели получили копию
письма Ручке от 4 августа 1984 года, которое он отправил из Праги своему
коллеге в Западную Германию!
В начале 1980-х годов вновь активировались осведомители. Один из них,
некто «Пауль Мюллер» 6 апреля 1982 года сообщил «штази» о содержании
разговоров с Ручке («объект» Ручке фигурирует под псевдонимом «стриж»
или «С.»): «Из его рассказов о конгрессах за границей можно заключить, что
он ведёт себя там очень нетрадиционно. Например, недавно он был на
конференции в Венгрии. Он был приглашён сэром Вальтером Скоттом [ошибка,
это был Питер Скотт! — прим. автора] (Великобритания) вместе с
несколькими другими участниками в его комнату для того, чтобы отметить встречу
и петь («С», [то есть Ручке] имеет очень хороший голос). Затем реванш взял
«П.» [Скотт] и пригласил тот же круг людей на другой день к себе в
гостиничный номер. Он лично знаком со многими ведущими иностранными
учёными и со многими дружен». Через два года другой осведомитель сообщил,
что Ручке «действует с позиций «зелёных» и обосновал свое заключение
таким образом: «Любые изменения ландшафта, вносимые развитием
сельского хозяйства или мелиорацией, противоречащие его представлениям, он
почти что с ненавистью выносит на всеобщее обсуждение; предъявляет
претензии и ведёт себя так, как будто бы нет ничего более важного в мире, чем
346
ISlnlne Einzelhaitent
Auf der Tagirag herrechte eine etrenge Sitsordnung. A» An-
»liee-teg wtrde Prof. RUTSCHKE, der xrar Bit eiaem Redakteur
Чяшмшеп anreiste, mit Dr. Zlndahl, Redakteur der ^eitachrlft
•Юа* Palbet von dem wtstdautechen Vertreter Dr.
ttt* B**en einge laden, «a Tiech der deutachan J£al*g
flats au nehaen. Dlaae Binladmxg trug Dr.,..JBSI^K.*».
ttu Saoen im Nemo der vaatdeutachext Delegation Prof*
▼or. Prof* RUTSCHKE lehnte ab, er aagte «и Dr.
!••• дев той Teranetalter tmaerar Beobachter—
delegation siclier schon^ein ertaprechender Flatz ange-
v.ieeen wUrde. Dr. ...Б&ааЗЭ... v/ollte nicht faleeh
verstarden v/erden, er v/ollte nur vermeiden, wie er eich
susdrltckte, dn.O Prof, BVTSCHKS an eiuen "Eatson^^1*
sitzen RllCte. Deeholb die Sinladung.
Рис. 92. Часто отчёты учёных из ГДР о пребывании на зарубежных
конференциях сопровождались дополнительными сведениями от
осведомителей «штази». Здесь приведён фрагмент донесения на
пяти страницах, которое агент «Tinko» представил органам
госбезопасности об участии профессора Ручке в 9-й конференции
Международного совета по охране птиц в мае 1968 года в Венгрии
(слово, замазанное чёрной краской — фамилия «Przygodda»).
его заповедники». Следующий документ в деле Ручке свидетельствует о том,
что это последнее обвинение неожиданно помогло Ручке.
В 1980-х годах органы власти ГДР были обеспокоены тем, что в Западной
Германии активно действует несколько общественных организаций по охране
окружающей среды, интересующихся в частности тем, как обстоят дела с
охраной природы в Восточной Германии. Решили внедрить туда своего
осведомителя. Отделение XV органов госбезопасности в Потсдаме искало для этой
цели подходящую кандидатуру. Требовался человек, «который бы мог найти
подход к членам природоохранных организаций ФРГ и поддерживать с ними
контакт на основании своих личных качеств и научной специализации [...]».
Отделение XII госбезопасности, где была сосредоточена электронная
справочная база данных, извлекло из неё имя Ручке и пришло к заключению, что
«Ручке, Эрих, подходит для этой роли в силу своих профессиональных
качеств». После этого был сделан письменный запрос в отделение XX
(кадровые работники для поездок за границу и т.п.) о проверке кандидата: «...
[имеет] ли он предпосылки для сотрудничества с нашими органами...».
Очевидно, было установлено, что Ручке как нельзя меньше подходит для этой
цели, так как в деле не имеется никаких дальнейших документов по этому
347
поводу. Уже давно в его бумагах для заграничных поездок неизменно стояла
пометка: «Оперативное использование не предусмотрено».
Незнакомый с условиями жизни при социализме читатель мог бы в этом
месте спросить: «Почему таких людей как Ручке не увольняли с работы?» На
этот вопрос трудно ответить однозначно. Во-первых, едва ли можно было
найти кадры такой же высокой квалификации, пусть и с абсолютной
идеологической верностью. Кроме того, такие учёные, как Ручке, пользовались
признанием в академических и студенческих кругах; в своей профессиональной
деятельности они умели маскировать свои истинные воззрения. Так что, в
конце концов, их можно было терпеть. Старший лейтенант «штази» Шанце,
пожалуй, наиболее точно документирует эту дилемму в «неофициальном»
сообщении о профессоре Ручке в мае 1981 года: «Лекции, которые он охотно
и с вдохновением читает, всегда завораживают слушателей своей
отточенностью. Его политические и философские взгляды не угрожают государству,
хотя при случае он преподносит их таким образом, что у слушателей может
сложиться впечатление, будто бы марксистско-ленинская теория познания
имеет, всё же, границы и не может объяснить всё — прежде всего
биологические проблемы. При этом он немногословен и очень сдержан в своих
собственных оценках, и предоставляет своим студентам самостоятельно делать
соответствующие заключения. Так что он всегда может сказать, что ничего
не говорил». Автор этого текста — прямо-таки философ «штази»!
Ручке, как и многие другие немцы на востоке и западе, не верил в скорый
закат ГДР. К моим более оптимистичным прогнозам во второй половине
1980-х годов он относился скептически. Но когда мы встретились с ним в
конце ноября 1989 года в Берлине, всё ещё Восточном, на коллоквиуме по
поводу 100-летия со дня рождения профессора Штреземанна, то и для него
ситуация стала ясной. В октябре был отстранён от власти Хоннекер, а 9 ноября
началось разрушение Берлинской стены. Его занимал теперь вопрос не
«когда?», а «как?». Как всё будет происходить? Станет ли страна
«конфедерацией» или произойдёт объединение, или, может быть, аннексия?
Способность к критическому мышлению не изменила ему и теперь: в области
научных исследований и охраны природы в ГДР много достигнуто, возникли и
хорошо функционируют различные организационные структуры; многое
было сделано по-другому, чем «там», однако нисколько не хуже. Прекратят
ли теперь все эти организации своё существование? Эти проблемы очень
волновали его. В течение следующих месяцев его занимала мысль о
создании самостоятельного орнитологического союза в уходящей в историю ГДР.
Тем не менее, реальности быстрого развития политических событий не
позволили реализовать эти планы (Rutschke, 1998). После вступления восточ-
348
Рис. 93. Профессор Эрих Ручке во
время доклада на годовом собрании
Саксонского орнитологического
общества в Нэшвице, апрель 1998 г.
<
нонемецких земель в структуры «старой» Федеративной республики Ручке
совершил безболезненный переход в новое. Многое, если не всё, ему
удалось.
В сентябре 1991 года, уже в объединённой Германии, Ручке подтвердил
своё звание профессора Педагогического института (позже он был
превращен в университет). Но несколькими месяцами позднее он достиг
пенсионного возраста и был отправлен на пенсию. Однако, он не перестал работать,
а развил ещё более активную природоохранную и публицистическую
деятельность.
В этом месте я не хочу умолчать о том, что мне не раз приходилось
выслушивать критические монологи о моем друге Эрихе Ручке (как до, так и
после объединения страны). Я не буду называть здесь имена критиков. Я
разделил их на 4 группы: верные партийцы, которые ему не доверяли;
бескомпромиссные противники коммунизма, которые усматривали в нем
конформиста и коллаборациониста; умеренные коллеги, которые завидовали его
успехам; и (не в последнюю очередь) западные коллеги, которые относились
отрицательно ко всему, или почти всему, что исходило из ГДР. Можно
охарактеризовать эту критику как «нормальную», учитывая сумбур времени, о
котором идёт речь. Но эта критика неправомочна и несправедлива. С моей
точки зрения, Эрих Ручке сумел достойно прожить, много сделать и добиться
успеха в трудных обстоятельствах.
Долгая, коварная болезнь лишила его жизни 12 февраля 1999 года. В
сообщении о смерти была одна фраза из его поздней публикации, его
признание: «Если я оглядываюсь назад и спрашиваю себя, оправдали ли себя
усилия трёх последних десятилетий, то отвечаю: «Да, безусловно!»».
349
Московский профессор Георгий Петрович Дементьев (1898-1969) внёс
неоценимый вклад в познание птиц Палеарктики и развитие охраны природы
в Советском Союзе. Он бьш инициатором и одним из авторов знаменитого
шеститомного издания «Птицы Советского Союза» (1951-1954 гг.;
английский перевод появился в 1966-1970 гг.). Эта книга и поныне служит одним из
важнейших справочников для орнитологов Старого Света, поскольку
содержит бесценные данные по географическому распространению, систематике и
экологии всей фауны птиц СССР, огромная территория которого занимала
почти всю восточную половину Европы и всю Северную Азию. С 1930-х
годов Дементьев переписывался со многими западноевропейскими научно-
исследовательскими центрами, публиковал свои работы во Франции и в
Германии. С 1933 года он бьш членом Немецкого орнитологического общества
(DO-G); в послевоенные годы несколько раз посещал Штреземанна в
Берлине. В 1955 году он бьш избран почётным членом DO-G. Штреземанн, зоо-
географические интересы которого были сосредоточены прежде всего в Па-
леарктике, очень ценил Дементьева и говорил, что он своим шеститомным
изданием «Птиц СССР» поставил себе памятник уже при жизни. Сам же
Дементьев считал себя учеником Штреземанна и в своей научной деятельности
в значительной мере опирался на его работы (Дементьев, 1960).
О Георгии Петровиче опубликован ряд биографических очерков (Гладков,
1959; Stephan, 1968; Успенский, 1972; Ильичёв, 1977; Флинт, Россолимо,
1999: 116-126), где подробно рассказано о его заслугах перед наукой, но
почти ничего не говорится о том, как ему удавалось обходить
многочисленные препятствия на своём жизненном пути, в том числе и политического
характера. При чтении публикаций о Дементьеве часто складывается
впечатление, что их авторы о многом умалчивают.
В этом очерке я хочу попробовать, на основе бесед с его современниками
(в том числе с дочерью Дементьева, старшим научным сотрудником
кафедры геоботаники Биологического факультета МГУ, кандидатом
биологических наук М.Г. Вахрамеевой и его близким коллегой доктором Л.С. Степа-
няном), а также собственных впечатлений, несколько по-новому осветить
жизненный путь Дементьева. К сожалению, дополнения очень скудны, так
как одной из сторон его натуры была некоторая сдержанность, — в
частности, и по политическим вопросам6.
6Мария Георгиевна Ъахрамеева, дочь Т.П. Дементьева, пишет: «Скрытным Т.П. никогда не был,
а, напротив, общительным и откровенным с друзьями, учениками и всеми людьми,
независимо от их положения и обра зования, которых уважал и чьё мнение было для него интересно.
350
Георгий Петрович родился в Петергофе — городе на берегу Финского
залива. Его отец был врачом (он закончил Императорскую
военно-медицинскую академию); мать была очень образованным человеком, владела
несколькими иностранными языками, дома часто говорили по-французски и
по-немецки. Лето семья Дементьевых проводила в Териоках (ныне Зелено-
горек), на зиму переезжала в Санкт-Петербург, который был средоточием
культурной жизни страны. Поблизости жили два деда Дементьева. Дед по
материнской линии был известным адвокатом, а дед по отцу— известным
ветеринарным врачом. Домашним учителем Георгия Петровича и братьев
был отец. Он давал сыновьям тщательно продуманное задание на каждую
неделю по всем предметам, включая латинский и греческий языки. Георгий
Петрович и его старший брат поступили сразу в 6-й класс классической
гимназии, оба окончили гимназию с золотой медалью.
У Георгия Петровича рано пробудились естественнонаучные интересы.
Сначала он увлёкся насекомыми, но вскоре его интересы сосредоточились
на птицах. Больше всего ему нравились сокола. В 13 лет он уже составил
рукопись об этой группе птиц и о соколиной охоте (эта тема интересовала его
всю жизнь; Gutt, 1970). Отец умер, когда Дементьеву было всего 13 лет. В
1915 году он с золотой медалью окончил гимназию в Санкт-Петербурге и
поступил в университет. Дедушка (адвокат) убедил Дементьева изучать
юриспруденцию, так как считал, что орнитология не может создать никакой
материальной основы для будущей жизни. В это время уже шла Первая
мировая война, и Георгия Петровича призвали в армию, но вскоре он был
демобилизован по болезни. В Петербурге тем временем начались
революционные беспорядки, как раз в это время семья осталась без средств к
существованию: умер дед, помогавший своим оставшимся без отца внукам.
После перехода власти к большевикам все проблемы ещё больше
обострились. К счастью, болезнь спасла молодого Дементьева от участия в
гражданской войне. Студент Дементьев должен был зарабатывать на жизнь
всевозможными работами. Наступило печально известное время военного
коммунизма, усилились репрессии. Никто из семьи и раньше не участвовал
в политике; теперь необходимо было проявлять крайнюю осторожность.
Общий семейный настрой был патриотическим: ни один из членов большой
семьи не эмигрировал, но никто не включился и в большевистское движение.
К сожалению, подробности из этого периода жизни Дементьева мне
практически неизвестны, кроме одной: он успешно закончил изучение
юриспруденции в Петрограде (бывшем Петербурге).
Однако, интри ганов и провокаторов не переносил, и с ними, естественно, своими мыслями не
делился». М.Г. Дементьева. «Воспоминания об отце», рукопись. — прим. перев.
351
В 1920 году мать с тремя детьми переселилась в Москву. Причиной были
непрекращающиеся лёгочные заболевания Георгия Петровича. Врачи
рекомендовали сменить климат на континентальный. Георгий Петрович нашёл
работу в Наркомате социального обеспечения, где проработал 10 лет.
В Москве началось постепенное превращение молодого юриста и
страстного орнитолога-любителя в профессионального учёного-зоолога. Всё
свободное время Георгий Петрович проводил в Зоологическом музее Московского
университета, где работал первое время на общественных началах. Он
помогал упорядочивать коллекции и начал использовать научный материал для
собственных исследований; параллельно он учился: посещал лекции на
биологическом факультете. Всего через несколько лет бывший юрист превратился
в компетентного зоолога. Дементьев нашёл поддержку у профессора М.А.
Мензбира. Мензбир понимал необходимость инвентаризации фауны птиц всей
страны, но был уже слишком стар, чтобы браться за это большое дело. В 1931
году Дементьев получил постоянное место работы в Зоологическом музее в
качестве научного куратора коллекции, а затем и руководителя
Орнитологического отдела музея. В том же году С.А. Бутурлин (также бывший юрист,
ставший профессиональным орнитологом) предложил ему сотрудничество в
написании сводки «Полный определитель птиц СССР». Бутурлин много
путешествовал по отдалённым районам Азии и привозил для музея ценные
тушки птиц. Сводка в пяти томах была издана в течение 1934—1941 годов. В
1936 году Дементьеву на основании 50 опубликованных научных работ была
присуждена учёная степень доктора наук; в 1941 году он стал профессором.
Вернёмся в 1934 год. В это время по всей стране началась новая волна
политических репрессий и арестов, в том числе и в Московском университете.
Но Зоологический музей и самого Дементьева репрессии обошли стороной,
возможно, благодаря политической сдержанности Георгия Петровича.
Через четыре месяца после вторжения Германии в Советский Союз, в
ноябре 1941 года, Московский университет был эвакуирован в Ашхабад.
Дементьев уехал вместе со всеми. Его переезд в Ашхабад занял почти два месяца. В
эвакуации Дементьев принимал участие в научных экспедициях и разработал
программу орнитологических исследований в Туркмении. В эвакуации
оказались главным образом представители старшего поколения сотрудников
университета, вся молодежь была призвана в армию. Жаркий климат Туркмении
был довольно тяжёл для пожилых людей, многие болели. Возможно, это
послужило одной из причин для перевода университета в 1942 году в Свердловск
(ныне Екатеринбург). На Урале Дементьев переболел сыпным тифом.
В 1943 году университет вернулся в Москву. Это были тяжёлые годы, но
научные исследования и занятия в университете не прекращались. Коллек-
352
Рис. 94. Профессор Г.П. Дементьев Г
{справа) беседует с сэром Питером
Скоттом во время 5-й Генеральной
ассамблеи Международного союза охраны
природы (IUCN) в Эдинбурге, 1956 г.
\
тив понёс большие потери: два молодых талантливых сотрудника, В.М.
Модестов и Ю.М. Кафтановский, которых Дементьев прочил в свои преемники,
погибли на фронте в самом начале войны. В Ленинграде пропала
подготовленная к печати рукопись книги Дементьева о соколах и соколиной охоте,
иллюстрированная цветными рисунками известного советского анималиста
Ватагина. Позднее Георгий Петрович написал книгу заново, ив 1951 году
она была опубликована, а в 1960 году вышло её немецкое издание (Neue
Brehm-Biicherei, № 264). Орнитологическая коллекция Зоологического музея,
уже упакованная для эвакуации, была спасена—наступление немцев на
Москву было остановлено, коллекция осталась в музее.
Ещё до окончания войны Дементьев начал работать над сводкой по фауне
птиц Советского Союза. Но он задумал эту работу уже на новом уровне, гораздо
шире, чем когда-то предлагал Мензбир. Для того, чтобы справиться с этой
грандиозной задачей, он нуждался в сподвижниках в различных регионах страны. В
их поисках ему помог врождённый дар располагать к себе людей (Степанян, в
кн. Флинт, Россолимо, 1999: 127-136). Материалы, которые стекались к нему,
были так обширны, что он нуждался в компетентном помощнике для обработки
данных и издания сводки. Из тех орнитологов, которые пережили войну, для
этой цели больше всего подходил Н.А. Гладков. Но он побывал в плену (см. стр.
353
Рис. 95. Профессор Г.П. Дементьев, Москва, 1959 г.
159-174) и сразу после войны не мог вернуться в университет. Дементьев
сделал почти невозможное: уже в 1947 году он добился возвращения Гладкова. Он
был, пожалуй, единственным, кто знал всю правду о военном прошлом Николая
Алексеевича. Дементьев никогда и никому не рассказывал ни об этом, ни о том,
как ему удалось достичь реабилитации своего коллеги.
Оба редактора «Птиц Советского Союза» работали, не покладая рук: не было
ни выходных, ни отпусков; ни материальные заботы, ни стеснённые жилищные
условия не наносили ущерба работе. Они были вознаграждены: в 1952 году,
после выхода первых трёх томов, книга была отмечена Сталинской премией.
Премия, конечно, укрепила позиции Дементьева в университете. Тем не
менее, он сам оставался осторожным и дипломатичным. Обязательную в то
время «биологию Лысенко» он решительно отвергал, но избегал любых
открытых общественных оценок этого «учения». Дочь Дементьева, Мария
Георгиевна, рассказала мне, что Георгий Петрович делил всех людей, с
которыми ему приходилось иметь дело, на «порядочных» и «непорядочных».
Не только степень его открытости по отношению к представителям первой
или второй групп была различна: «непорядочным» он вообще не подавал
руки, а здоровался кивком головы. Сотрудники и ученики знали это и
внимательно наблюдали за реакцией Дементьева, когда в отделе появлялся
очередной посетитель7.
7Мария Георгиевна пишет о Георгии Петровиче:«... отец отличался большим чувством юмора
и нередко фантазировал, считая, что настоящий ученый должен обладать фантазией. Дома
отец любил сочинять рассказы с продолжением. Обычно сначала он проверял впечатление на
близких [...], а затем уже выносил их на суд более широкой аудитории. Гадостно удивлялся,
354
С 1954 года Дементьеву разрешили выезжать за границу. Он представлял
Советский Союз на международных конгрессах и конференциях. В 1956 году
в Московском университете была организована лаборатория орнитологии,
которую возглавил Дементьев. Здесь он руководил множеством дипломников
и аспирантов.
В 1960-е годы Георгий Петрович стал уделять всё больше внимания
охране природы. По его инициативе была создана Комиссия по охране природы
при Академии наук СССР и организована Национальная секция в
Международном совете по охране птиц (ICBP). За границей к нему относились с
большим уважением. Он дружил со многими иностранными учёными, в том числе
с профессором Жаном Берлиозом, сэром Питером Скоттом и профессором
Штреземанном. Он делал доклады в Сорбонне и в университете Эдинбурга,
несколько научных обществ и академий избрали его своим почётным членом.
Хотя Дементьев очень много работал, он умел и отдыхать. Его любимым
отдыхом было слушание музыки. Дома у него была большая коллекция
пластинок. Музыку слушали не только в кругу семьи, Дементьев приглашал на
домашние концерты и своих коллег. Он очень ценил Шаляпина; ещё в
молодости он приобрёл портрет великого певца, который до сих пор украшает
квартиру его семьи.
Оба брата Георгия Петровича тоже стали учёными-естественниками:
Дмитрий сначала изучал историю и философию, а потом стал зоологом, он жил в
Киргизии, во Фрунзе (ныне Бишкек), где и умер в 1955 году в возрасте 59 лет.
Пётр стал ихтиологом, он умер очень рано (Ковшарь, 2003: 81- 83).
В заключение моего очерка приведу ещё небольшой эпизод из жизни
Георгия Петровича, свидетелем которого я был. В 1958 году он принимал
участие в 12-м Международном орнитологическом конгрессе в Хельсинки, где
финские коллеги проявляли к нему очень большое внимание и уважение. По-
видимому, это было ему неудобно, так как ещё весьма свежи были
воспоминания о нападении Красной Армии на Финляндию в ноябре 1939 года.
Однажды он рассказал коллегам русскую народную сказку: «В дремучем лесу
жил старый, могучий медведь. Однажды медведь вышел на соседнее поле и
встретил там маленького крестьянина. Они разговорились, и, в конце
концов, подружились. Медведь собирал для крестьянина в лесу грибы, а кре-
когда его фантастические рассказы принимали за реальность. [...] В общении с людьми,
независимо от их чинов и званий, отец был очень вежлив и исходно доброжелателен.
Здороваясь, он всегда останавливался и снимал головной убор. Невозможно себе представить,
чтобы отец не пропустил в дверях вперед женщину или пожилого человека, либо чтобы отец
сидя разговаривал со стоящим перед ним человеком..», — М.Г. Дементьева. «Воспоминания об
отце», рукопись. — прим. перев.
355
стьянин отдавал медведю часть урожая с поля. Однажды летом они лежали
на лугу и наслаждались теплыми лучами солнца. Крестьянин задремал, и тут
медведь увидел, что большая муха ползёт по его щеке. Он ударил
крестьянина по щеке, чтобы прихлопнуть её, и убил муху. Но, к сожалению, при
этом он раскроил и череп крестьянину...».
* * *
Сэр Питер Скотт, имя которого уже несколько раз упоминалось в этой
книге, британский зоолог, деятель искусства и популяризатор знаний о
животных, достиг во второй половине прошедшего столетия огромной
известности в англоязычном мире. С его популярностью, пожалуй, можно сравнить
только популярность в России советского натуралиста профессора
Александра Николаевича Формозова (1899-1973). Обоих отличали три таланта: они
были одарёнными учёными, талантливыми писателями и замечательными
художниками. Оба вели дневники, в которых записи перемежаются с сотнями
пленительных зарисовок всего увиденного. Оба были решительными
сторонни ка ми охраны природы, избегали заниматься политикой, даже были
«аполитичны», но при необходимости вмешивались и в политику.
Александр Николаевич был выдающимся учёным, лидером советских
экологов, основоположником новых направлений в науке. В немецком
некрологе М. Клемм (Klemm, 1975), отзываясь о Формозове, как о
«замечательном зоологе, зоогеографе, художнике и педагоге», написал: «Несмотря на то,
что он был автором более 200 фундаментальных научных работ, он ещё
недооценён коллегами вне СССР; несмотря на его многочисленные статьи и
книги в области биологии птиц и млекопитающих, экологии, зоогеографии
и прикладной зоологии, которые появились по-русски и на других языках,
его имя у нас ещё мало известно. [...]. Только немногие наши зоологи знают,
что его имя уже в течение нескольких десятилетий связано с развитием
новых исследовательских направлений в экологии и зоогеографии в
Советском Союзе. Многие известные зоологи были его ученикам и продолжают
развивать созданные им направления в науке». Эти строки вышли из-под
пера компетентного учёного: немецкий биолог Клемм 25 лет жил в России,
прежде чем в 1921 году переехал в Германию.
Научные заслуги А.Н. Формозова детально описаны многими авторами
(А.А. Формозов, 1980, 2006; Матюшкин, 1999). Американский зоолог У.
Пруитт назвал А.Н. Формозова «великим русским натуралистом» (Pruitt,
1998). В этом очерке я хочу обратиться в первую очередь не к научной
деятельности Формозова, а к некоторым менее известным сторонам его жизни.
356
Рис. 96. Отец [Н.Е. Формозов] с сыном на
охоте; рисунок А.Н. Формозова пером к
Сделать это нетрудно, поскольку сын Александра Николаевича, Александр
Александрович, историк по профессии, написал подробную биографию отца
(Формозов А.А., 1980, 2006). Особенно интересно второе, более полное
издание книги А.А. Формозова (2006), в которое вошли новые материалы и
некоторые разделы, которые не были пропущены цензурой в 1980 году. Ряд
интересных сведений о жизни Александра Николаевича содержатся в
публикациях его младшего сына, тоже зоолога, Н.А. Формозова (1997,1998).
Прежде всего, ответим на вопрос, каким образом в России в первой
четверти XX века молодой человек из небогатой семьи смог получить знания
о природе и стать крупнейшим ученым-экологом своего времени?
Нижний Новгород, где родился Александр Николаевич, был в то время уже
большим губернским городом, очагом культуры на Волге. В 1909 году
Формозов поступил в гимназию, основанную ещё в 1809 году. Это было платное
учебное заведение, в котором работали хорошие преподаватели8. Вместе с тем,
знаний по биологии гимназия давала не очень много. Интерес и любовь к природе
пробудился у Александра Николаевича очень рано. Наибольшее влияние на
формирование его интереса к природе оказал отец, Николай Елпидифорович,
человек неординарный, с незаурядными способностями, «народник» и
страстный охотник. Он очень рано начал брать сына на охоту, делился с ним
сведениями о повадках зверей и птиц (рис. 96). Когда Александр получил в подарок
от отца ружьё, он начал самостоятельно ходить на охоту и увлёкся
звероловством. Вскоре наблюдения за животными в природе стали для него важнее, чем
охота. В 12 лет Александр начал вести дневник полевых наблюдений и делать
зарисовки. Знания, полученные от Николая Елпидифоровича, перестали удо-
8 В 1839—1846 гг. в этой гимназии преподавал известный писатель ПМ. Мелъников-Печерасий,
см. Формозов А.А., 2006. — прим. перев.
357
влетворять его, и он принялся искать книги о животных. Удалось найти «Из
жизни русской природы» М. Богданова, «Жизнь леса» С. Огнева. Но, пожалуй,
наибольшее впечатление произвели на него книги канадца Эрнста
Сетона-Томпсона (1860-1946), которые тогда уже переводились на русский язык9.
В 1917 году Формозов сдал выпускные экзамены в гимназии. В Нижний
Новгород в 1916 году был переведён Варшавский политехнический институт,
и Николай Елпидифорович настоял, чтобы Александр выбрал «настоящую»
специальность. При всей своей любви к природе он считал зоологию
несерьёзным занятием, так что летом 1917 года Формозов был зачислен в
институт. Наряду с учёбой он должен был зарабатывать на жизнь: средства семьи
были крайне ограничены, революция аннулировала небольшие сбережения
отца, а жизнь стремительно дорожала. Ещё до поступления в институт
Александр нанялся старшим рабочим на брандвахту и в 1917 году плавал по Сухоне
и Северной Двине, а в 1918-м году — между Костромой и Ярославлем.
В Нижнем Новгороде большевики пришли к власти в конце октября 1917
года. Хотя в семье Формозовых придерживались демократических взглядов
и не испытывали сочувствия к самодержавию, никто не питал симпатий к
большевикам и не проявил никакого стремления участвовать в политических
событиях. Вот что записал восемнадцатилетний Александр Формозов в
разгар революционных событий 27 октября 1917 года в своём дневнике: «В ночь
выпал снег, окончился он около 7 часов утра. Пороша неглубокая, мягкая и
очень неясная. [...] У Графского дола по бугру несколько заячьих следов, один
спустился вниз и здесь шёл по осокам болота, затем заяц вышел к бугру и лёг
на водомоине, густо заросшей жёлтыми травами. Оказался небольшим бе-
лячком. Вылинял, и сильно-бурый цвет только на спине и на голове, весом он
около 8 фунтов. Русак ещё линяет, на следу по кустам оставляет клочья
рыжей шерсти. Кое-где следы хорьков, горностаев и ласок. Следов мелких
грызунов мало. Утром кричали пуночки». Ни до, ни после в дневниках этого
времени нет ни слова о том, что произошла революция.
Осенью 1918 года в Нижнем Новгороде начался призыв в Красную
Армию. Мобилизации подлежали юноши 1889-1900 года рождения. Это был
критический момент в Гражданской войне. К началу осени три четверти
территории Советской республики находилось в руках белой армии. В ноябре
вышло «Постановление ЦК РКП(б) об укреплении Южного фронта», где
ситуация (для большевиков) была самой тяжёлой. Вскоре как раз туда и попал
9 Большое влияние на А.Н. Формозова оказал и Николай Александрович Покровский, заведующий
Ботанического отдела Естественно-исторического музея Нижегородского губернского земства,
основанного В.В. Докучаевым. Кнему Формозов пришёл ещё гимназистом, в 1912 году. При музее
была хорошая библиотека, см. Формозов А.А., 2006. — прим. перев.
358
19-летний Формозов. Сначала он служил в качестве чертёжника в Нижнем
Новгороде. По-видимому, под Новый год мобилизованных отправили в
Москву для подготовки в инженерно-сапёрное подразделение. Формозов
впервые оказался в Москве. В казармах он познакомился с молодым
талантливым виолончелистом-красноармейцем. В то время для красноармейцев
посещение спектаклей в театрах было бесплатным, и они вместе ходили
пешком через весь город в Большой театр слушать оперы.
Подготовка продолжалась недолго, в начале 1919 года Формозов уже был
отправлен на Южный фронт. Часть, в которой он служил, оказалась в селе
Репное, в окрестностях г. Балашова. Об этом есть запись в дневнике: «У г.
Балашова, в селе Репном наблюдал ход весны. Всю зиму здесь на дороге видел
парочку хохлатых жаворонков [...]. В холодные дни они, надувшись
комочками, бегали по дороге прямо под ногами, в солнечные утра самчик
вполголоса пел, притулившись среди отбросов так, что его даже и не заметишь»
[...]. Из весенних цветов для меня был новым подснежник. В конце апреля,
начале мая сильно пели соловьи и кричали по утрам удоды. Видел домового
сыча на ветряной мельнице. Зиму держались волки [...]».
В мае 1919 года инженерно-сапёрную часть, в которой служил Формозов,
перебросили в занятую красными немецкую колонию Сарепта на Царицынский
фронт. Зимой здесь шли ожесточённые бои с белыми, но к весне они были
отброшены. Часть, где служил Формозов, должна была заниматься здесь созданием
линии укреплений для отражения контрнаступления белых. Сохранились
дневниковые записи на новом месте: «Не доезжая Царицына [Переименован в
Сталинград, ныне Волгоград — прим. автора], примерно со станции Котлубань,
начинаются в степях большие поселения и дальше целые города сусликов,
которые сидят у своих нор при прохождении поезда. [...] Растительность совсем
иная: по степям полынь, луковичные растения (тюльпаны, чеснок и др.), ковыль
и масса мне неизвестных. [...] Здесь колонии грачей, с ними пустельга, кобчики,
у опушки сизоворонки, удоды. Щурки золотистые вечерами летали над
цветущими кустами довольно низко, днём же они держатся стаей и высоко»...
Александр Николаевич не любил вспоминать о Гражданской войне, ему
пришлось лицом к лицу столкнуться с её жестокостями, он побывал в плену
— рассказывать об этом было опасно10. Немного больше Александр Николае-
10 Старший сын Александра Николаевича, А. А. Формозов (2006), пишет: «В тридцатые годы ряд
военачальников был объявлен врагами народа, в том числе и командарм И.П. Уборевич, в штабе
которого служил одно время Формозов. Создавалась сталинская легенда об обороне Царицына,
как решающем событии, определившим победу советской власти. Участие в войне было
скромным. [...] Искусственно романтизировать пережитое отец органически не мог». —
прим. перев.
359
вич рассказывал своему младшему сыну—Н. А. Формозову, детство которого
пришлось уже на хрущёвскую оттепель. Недавно на основании этих рассказов
он опубликовал некоторые дополнительные материалы (Формозов Н.А., 1998).
В Сарепте красноармейцы были расквартированы в домах немецких
колонистов. К красным те относились без симпатии, но и без вражды. Формозов
был поражён их благосостоянием, отменным хозяйством и сытой жизнью.
Единственное сохранившееся письмо Формозова с фронта отправлено
родителям из Сарепты 21 мая 1919 года: «[...] сегодня вот уже второй день как
обретаюсь в колонии Сарепта в уютном домике немца Гауна. Прокатили поперёк
через большую часть казачьих владений. Что за места! Без границ, без конца
[...]. Трудно вообразить себе всю ширину и необъятность степей, живя в нашей
овражистой и пересечённой местности; расстояния здесь как-то скрадываются,
таз видит далеко-далеко и так хорошо потонуть в беспредельной равнине,
синеющей и дрожащей от тёплого воздуха. [...] Далее идёт описание мест, где
ещё недавно шла война между «белыми» и «красными»: «[...] Здесь война
оставила ещё больше следов, город сам хоть и цел, но зато окрестности все
изрыты окопами, избиты снарядами, всюду валяются трупы лошадей, а
местами выглядывают размозжённые черепа и обглоданные ноги плохо зарытых
«павших в борьбе роковой» и не узнаешь в этих мослах, кто это был: черная
кость или белая! Брожу по этим местам, где четыре дня шёл бой, смотрю на
валяющиеся неразорвавшиеся снаряды и нос мой морщится, слыша как чудный
запах цветущего терновника мешается с запахом разложившихся трупов.
Таково на холмах и у железной дороги, а выйдешь в степь — тишина, покой и
смирение этой невозмутимой ничем природы сразу как-то успокаивают —
волнуются по ветру ковыли, сладко пахнет мелкой степной полынью,
далеко-далеко уходят светло-серые скаты и суслики, свистнув задорно и звонко,
скрываются в норки, завидев этого странного пешего человека. Так свистели они,
когда вольные дети степей — скифы проходили вереницей со стадами, так же
прятались они, видя полки Игоря, шедшие «испить Дону великого», так
свистят они и теперь, слыша пушечную стрельбу и топот казачьих коней. Ушли с
лица земли скифы [....], бесследно сгинули полки Игоря, уйдем и мы, а степь
всё так же будет зеленеть, так же сладко будет пахнуть полынь [....]».
Летом 1919 года часть, в которой служил Формозов, попала в плен после
короткого боя. Это произошло на станции Лог, к северо-западу от Царицына.
Красноармейцев окружили «чубатые всадники». Формозов вспоминал, что его
удивило обмундирование «врагов»: все они были в форме и в сапогах (у
красноармейцев не было никакой формы, на ногах — обмотки). Пленных
разоружили, кто-то из казаков предложил им махорку. Через день или два пленных
выстроили в шеренгу, подъехали штабные офицеры, один из них — низко-
360
рослый, лысый, с неприятным, прыщавым лицом приказал: «Комиссары!
Жиды! Латыши! Эстонцы! — Два шага вперед!». Никто не вышел; тогда он
сам принялся выбирать евреев, прохаживаясь вдоль строя. Все выбранные
таким образом «жиды» были повешены на телеграфных проводах. Среди них
был и друг Формозова, еврей-виолончелист, с которым он познакомился в
казармах в Москве... Остальных пленных погнали по степи пешком в тыл, почти
без воды и еды. Тех, кто шёл слишком медленно, пристреливали. Конные
казаки раздевали мертвецов и складывали вещи на сёдла. Несколько спутников
Александра решили бежать, и он отдал им топографические карты, которые
были зашиты у него в фуражке. Одного из них Формозов случайно встретил
после освобождения из плена и тюрьмы, и тот помог ему устроиться в штаб
Уборевича. Остальные пленные после долгого пути были рассредоточены по
разным частям; казаки использовали их на вспомогательных работах.
Через много лет Формозов рассказывал младшим детям, что он пережил
этот марш потому, что как охотник был привычен скитаться целыми днями
без пищи и воды. Было ещё одно важное обстоятельство: во время пути он
непрерывно вёл наблюдения за животными и растениями в незнакомом ему
ландшафте. В его дневнике об этом тяжёлом маршруте есть такая
удивительная запись: «Прошёл походным порядком от ст[аницы] Усть-Медведиц-
кой до ст[аницы] Нижне-Чирской, но видел мало. Всё степи и степи, то
волнующиеся морем зелёной пшеницы, то серо-голубоватые от зарослей
полыни. Суслики в этих местах немногочисленны и встречаются лишь кое-
где по выгонам с полынью. У ст[аницы] Нижне-Чирской по балкам местами
золотистые щурки, сизоворонки изредка, но почти везде по вышеуказанной
дороге. Весь путь днём нам неумолчно звенели жаворонки».
О скитаниях с казачьей частью записей немного. Вот одна из них: «[...] За
рекой в степи на луговине поздними вечерами кричала на земле какая-то птица
— думаю, не авдотка ли? [...] степного ежа я видел один раз у хутора Басков-
ского [...]. Он бродил в траве у дороги, среди обширной открытой степи в
лунную ночь. В эту же ночь видел много тушканчиков, скакавших вдоль дороги,
некоторые таскали за собой метёлки недозрелого овса, которым лакомились. В
августе в лощинке с водой среди степей на склоне [...] убил степную пеструшку.
В октябре нашёл мертвую степную пеструшку где-то в степи у правого берега
Дона за станицей Зотовской. В третий раз степную пеструшку видел
задавленную копытом лошади у дороги в степи, в октябре. Когда уже выпал снег, за
станицей Арженовской. Следы пребывания стрепетов у дороги. [...]».
В конце осени 1919 года красные вновь перехватили инициативу, и началось
отступление деникинской армии на юг. Среди отступавших и пленных началась
эпидемия тифа. Заболел и Формозов. Он пытался не отстать от колонны, но
361
вскоре обессилел и был брошен вместе с другими больными и умирающими в
разбитом здании железнодорожной станции Устье Белой Калитвы (Северский
Донец). В этой местности не было ни красных, ни белых. Никакой медицинской
помощи и еды тоже не было, смерть здесь была неизбежна. Солдат Формозов
решил сделать попытку выбраться из «лазарета». Между приступами болезни он
напряг оставшиеся силы, встал и побрёл по заснеженной степи. Он понимал,
что у него мало шансов одолеть долгий путь (почти 20 км) до ближайшего
казачьего хутора; он не был уверен, что найдёт его; кроме того, не было никакой
уверенности в том, что кто-то из жителей казачьей деревни, где большинство,
вероятно, сочувствовало белым, захочет приютить умирающего красноармейца.
На рассвете Формозов услышал крик петухов — он подошёл к какой-то
деревне. Это был хутор донских казаков Кочевань станицы Екатерининской.
Он постучался в дверь какой-то бедной хаты. И ... красноармейца-«врага»
впустили. Он думал, что его могут не пустить и из страха, потому что все
боялись тифа, но его раздели и тут же сожгли одежду, вымыли прямо в сенях,
уложили на русскую печь. В этот момент Формозов потерял сознание и
пришёл в себя только через несколько дней. На хуторе Формозов провёл всю
зиму, выздоровел, дождался там прихода красных. Но когда он явился в
расположение красноармейской части, то был арестован и заключён в тюрьму.
Больше месяца он провёл в тюрьме, никаких допросов не было. Затем его
освободили, никто не объяснял, за что он сидел. (Как потом выяснилось,
Формозов был определён в часть, которая полностью погибла, попав под
прорыв белых, так что тюрьма спасла его). Освободившись из тюрьмы,
Формозов получил назначение в качестве чертёжника в штаб 9-й армии, которой
командовал И.П. Уборевич (1896-1937). Служба при штабе избавила
Формозова от непосредственного участия в военных действиях.
Весной 1920 года красные перешли в решительное наступление на юге. В
марте — апреле Формозов вместе с оперативным отделом штаба 9-й армии
продвигался на Кавказ. В конце марта он был в Екатеринодаре. В начале
апреля вновь появляются записи в дневнике: «[...] В Екатеринодаре очень
много летучих мышей, которые вылетают совсем засветло и носятся вместе
со стрижами...».
В мае 1920 года Уборевич был переведён на польский фронт. Тогда же
демобилизовался и Формозов. Как раз в это время нарком Троцкий издал указ
об увольнении из армии всех солдат, которые перед гражданской войной
работали на транспорте11. Возвращался домой он на крыше вагона и чуть не
11 А.Н. Формозов был отозван как работник отдела речных наблюдательных станций
управления водного транспорта Волжского бассейна Нижегородского совнархоза, см. Формозов
А.А., 2006. — прим. перев.
362
слетел под поезд. От армии он получил шинель из хорошего материала и
ботинки, и то и другое английского происхождения (из вещей,
конфискованных у белых); по дороге ботинки украли.
Вернувшись в 1920 году домой, в Нижний Новгород, Формозов долго не
мог освоиться в новой жизни, освободиться от пережитого. Ему помогала
охота и скитания по окрестным лесам. Груз пережитого на гражданской войне
Александр Николаевич нёс в себе всю жизнь. Из времени, проведённого на
войне, он вынес убеждение, что белое и чёрное не разделены ясной линией.
Во время моих посещений Советского Союза я не раз встречался с
Александром Николаевичем Формозовым, мы подолгу разговаривали с ним. Тогда
я ничего не знал о его прошлом, но тон и содержание наших разговоров, как я
теперь понимаю, во многом были обусловлены как раз его военным опытом.
После революции на базе Политехнического института был создан
университет. Формозов возобновил учёбу, но уже на Биологическом факультете.
В 1922 году он перевёлся в Московский университет. Повсюду ещё царила
послевоенная разруха, жить в Москве было негде, друзей и знакомых не было.
Формозов пришёл в Дарвиновский музей и предложил свои услуги в качестве
художника и таксидермиста; основатель и директор музея Александр
Фёдорович Коте взял его в штат12 и разрешил поселиться прямо в музее. Формозов
привык к трудным условиям жизни, привык работать и учиться одновременно:
учёба в университете шла очень успешно. В музее он учился рисовать
акварелью у знаменитых художников В.А. Ватагина и А.Н. Комарова.
В 1922/1923 году Формозов написал свою первую книгу, повесть «Шесть
дней в лесах». Своё произведение автор проиллюстрировал рисунками
пером. Книга была написана в промёрзшем зале Дарвиновского музея, автор
кутался в полушубок и отогревал руками чернильницу. А.Ф. Коте написал
предисловие и помог напечатать повесть в издательстве «Синяя птица» в
Ленинграде. Книга имела очень большой успех. Канадский зоолог и писатель
Э. Сетон-Томпсон, книгами которого Формозов зачитывался, ещё будучи
гимназистом, написал в ответ на присланный ему экземпляр книги
(11.08.1924 г.): «Мой дорогой юный друг, я только что получил Вашу книгу
«Шесть дней в лесах». Текст, увы, мне недоступен, но если он столь же
хорош, как иллюстрации, то это, несомненно, нечто стоящее. Я вижу душу
увлечённого натуралиста в каждом штрихе. И это больше, чем просто
интерес спортсмена-охотника, который также виден от начала до конца».
В 1925 году Формозов окончил университет и был оставлен в аспирантуре.
Во время учёбы в университете удалось побывать на Кавказе, в заповеднике
12 На должность «ассистента-инструктора по отделу монтировки биологических препаратов
и коллекций», см. Удалъцова, 2004. — прим. перев.
363
Аскания-Нова, в Присивашье. В 1926 году состоялась экспедиция в Северную
Монголию, в 1927 — на Европейский Север, в 1928 — на Дальний Восток.
В 1929 году Формозов стал доцентом, в 1935 — профессором. По итогам
монгольской экспедиции в 1929 году была опубликована монография
«Млекопитающие Северной Монголии по сборам экспедиции 1926 года» и
научно-популярная книга «В Монголии». Статья «Млекопитающие в
биоценозе степей» (1928 г.) была послана в Америку, вышла в журнале
«Экология» и получила положительные отклики. В 1936 году была издана одна из
самых знаменитых книг Формозова — «Спутник следопыта».
Лекции Формозова и полевые практики, которые он вёл, пользовались
огромной популярностью у студентов (Карасёва, 1999; Олигер, 1999; Шилов,
Шилова, 1999). Успешная карьера в Университете была прервана началом
войны. Александр Николаевич как боец МПВО дежурил в здании
Биологического факультета МГУ. Впервые в дневнике А.Н. Формозова появились записи
не только о природе. 10 августа 1941 года он писал: «Дежурил с вечера.
Летучие мыши средней величины, штук 5-7 летали над садом во дворе МГУ и
ловили ивовую волнянку, которая довольно сильно летит в последние дни [...]. В
11 часов — тревога. Зловеще завыли сирены. Торопливый топот людей к
бомбоубежищам. [...] Двенадцать, час, два—всё нет конца налёту Кончился только
к трём [...]». 11 августа он написал В.П. Теплову: «Кто знает, может быть, в одну
не прекрасную ночь все мы смешаемся в прах вместе с битым кирпичом и
известкой тех стен, среди которых мы выросли и не боимся умереть».
В ноябре университет был эвакуирован в Ашхабад. Формозов добирался
туда из Гурьева. Все его личные вещи, архивы, рукописи, рисунки остались в
Москве; семья была в Актюбинске. В сентябре 1942 года он вернулся в Москву,
где жизнь была нелёгкой; особенно тяжёлой была зима 1942/1943 года.
Александр Николаевич с достоинством перенёс все испытания, но трудные годы
войны оставили свой след13.
После войны Александр Николаевич начал работать в основанном им
отделе биогеографии в Институте географии Академии наук СССР, хотя
продолжал читать лекции на кафедре зоологии позвоночных
Биологического факультета МГУ. Его приглашали на должность заведующего
кафедрой, но он отказался. С 1949 года в университете он остался только как
совместитель.
13 Через три недели после окончания войны, 30 мая 1945 года, Александр Николаевич писал Ч. Элтону
в Англию: «Война принесла нам груз тяжёлых испытаний. Я потерял моих друзей и учеников, и сам
я серьёзно болен и едва ли могу надеяться, что смогу работать, как прежде», Формозов А. А., 2006.
— прим. перев.
364
В 1946 году была опубликована монография «Снежный покров в жизни
млекопитающих и птиц» (она должна была быть напечатана в 1941 году, но её
набор был рассыпан в ленинградском издательстве в самом начале войны). В
этой книге впервые в отечественной литературе был поставлен вопрос о роли
снежного покрова как экологического фактора. Она была переведена на
английский язык, и Чарльз Элтон отозвался о ней, как о «классическом
сочинении». Через год вышла ещё одна монография: «Очерк экологии мышевидных
грызунов — носителей туляремии» (она была написана в конце войны), а в
1948 году — очень большая по объёму статья «Мелкие грызуны и
насекомоядные Шарьинского района Костромской области за период 1930-1940 гг.».
Продолжались работы в экспедициях — в Казахстане, Средней Азии,
Северном Предкавказье. Отдел биогеографии под руководством Формозова
эффективно работал. Была создана целая школа отечественных экологов.
В 1962 году он передал заведование отделом своему ученику Ю.А.
Исакову и остался в институте старшим научным сотрудником-консультантом. В
этот период я однажды имел случай обсуждать с Александром Николаевичем
проблему расширения ареалов животных, над которой я тогда работал. Его
готовность помочь и его знания были огромны. Он поинтересовался,
существует ли ещё Варшавский политехнический институт (эвакуированный в
Нижний Новгород во время Первой мировой войны), в котором он начинал
учёбу. Я в то время жил в Варшаве непосредственно возле этого института
и мог подтвердить, что институт существует.
Благодаря своей политической умеренности А.Н. Формозов относительно
благополучно пережил мрачные и трагические 1930-е годы. В своей
биографии он нигде и никогда не указывал, что был когда-то в плену у белых.
Однажды в 1937 году он был сильно напуган внезапным и срочным вызовом на
Лубянку. Он почувствовал себя заново родившимся, когда в печально известном
учреждении выяснилось, что его вызвали для того, чтобы показать мёртвого
удода с румынским алюминиевым кольцом. Сотрудников ведомства
интересовал вопрос, что означает это номерное кольцо и не может ли оно служить каким-
либо инструментом шпионажа румын? Он прочитал целый доклад о научном
кольцевании птиц и был любезно отпущен восвояси после отрицательного
ответа на вопрос: «Не представляет ли птица угрозы для Советского Союза?»
В послевоенные годы ему, однако, не всегда удавалось оставаться вдали от
опасной пограничной области между политикой и наукой. Этому
способствовал и его неробкий характер.
В октябре 1947 года в «Литературной газете» было опубликовано интервью
с Т.Д. Лысенко, в котором он заявил, что понятие внутривидовой борьбы им
отменено, поскольку каждому понятно: «заяц зайца не ест — он ест траву».
365
Эта публикация безграмотного академика вызвала возмущение среди
биологов университета. Было принято решение провести заседание учёного совета
Биологического факультета МГУ, чтобы публично обсудить проблему
дарвинизма и внутривидовой борьбы. Партком университета дал санкцию на
проведение заседания. На этом заседании выступил А.Н. Формозов14.
Через год после этого заседания состоялась знаменитая августовская
сессия ВАСХНИЛ. Александр Николаевич находился в это время в экспедиции
в Казахстане. Когда он вернулся, сессия была завершена. Декан
Биологического факультета С.Д. Юдинцев, И.И. Шмальгаузен, Д.А. Сабинин были
уволены. Деканом Биофака был назначен ближайший сподвижник Лысенко —
И.И. Презент.
А.Н. Формозова не уволили, но его вывели из состава учёного совета
факультета, из редколлегии «Зоологического журнала», из учёного совета
Института охотничьего промысла, как «антимичуринца», старались отстранить
от участия в конференциях. Собственно, он принадлежит к немногим «ан-
тилысенковцам», которым относительно «хорошо» удалось пережить этот
период. Александр Николаевич продолжал заниматься своими темами,
печатать статьи (правда, в 1949 году ему удалось опубликовать только одну). Но
тем не менее, удар для него был тяжёлым. То здесь, то там появлялись статьи
и доклады с нападками на «идеалиста и проповедника «буржуазных идей»
Формозова». Его тяготила общая атмосфера на биологическом факультете и
в науке вообще.
В 1950 году началась новая атака на заповедники: была задумана (и
проведена) их реорганизация. В 1951 году «из 130 заповедников страны общей
площадью 125 миллионов га было оставлено только 40, а их общая площадь
уменьшилась более, чем в 10 раз» (Штильмарк, 1982). Александр
Николаевич неоднократно и энергично выступал в защиту заповедников. Он спорил
14 О том, как оно проходило, написал его старший сын, А.А. Формозов, присутствовавший там:
«Я никогда не забуду вечер 4 ноября 1947 года. Толпы народа рвались в Зоологическую
аудиторию на улицу Герцена. Студенты, сотрудники всевозможных научных учреждений
жаждали услышать свободное слово, нечасто звучавшее в те страшные времена. Зал не
вместил и десятой доли желающих, и заседание перенесли в самую большую аудиторию
университета — Коммунистическую. И её оказалось мало. Я стоял на лестнице, зажатый
среди толпы, и с замиранием сердца смотрел на кафедру. Спокойным, тихим для этой
аудитории голосом отец говорил о борьбе за существование, о науке, о методах критики.
Первым выступал академик Иван Иванович Шмальгаузен, третьим — блестящий оратор
язвительнейший Дмитрий Анатольевич Сабинин (1889—1951), но мои незнакомые соседи
нашли, что доклад Формозова — лучший, и я был горд и счастлив. [...]. Назывался он
«Наблюдения за внутривидовой борьбой за существование у позвоночных». В заключение
зачитали резолюцию заседания с тем, чтобы за подписями всех членов учёного совета Биофака
МГУ послать её в «Аитературную газету». Формозов А.А., 2006. — прим. перев.
366
Рис. 97. Профессор А.Н. Формозов,
Москва, 1960 г.
даже с В.Н. Меркуловым (бывшим сотрудником Берии), возглавлявшим в то
время Министерство государственного контроля. После смерти Сталина
Меркулов был отстранён от должности и вскоре расстрелян вместе с Берией,
но только в 1957 году удалось вернуть многим бывшим заповедникам их
статус. В 1961 году Хрущёв вновь вернулся к политике сокращения
заповедников. Снова пришлось писать письма, выступать, убеждать.
В 1968 году (14 февраля, в день своего рождения) на совещании в
Министерстве сельского хозяйства Формозов резко выступил против тех, кто в
печати позволял себе издеваться над работой биологов в заповедниках, а сами
заповедники превращал в охотничьи угодья (Формозов А.А., 2006) (ср. также
очерк о Семёнове-Тян-Шанском, стр. 309-315). А.В. Малиновский,
руководивший работой заповедниками с 1950 года, заявил, что выступления
Формозова носят антисоветский и клеветнический характер.
С 1956 года Александр Николаевич несколько раз выезжал за границу.
Самой длительной и интересной была первая поездка — на 18-й
Международный географический конгресс в Бразилию, где А.Н. Формозову был
заказан пленарный доклад. Позже он ещё несколько раз ездил на конференции
и конгрессы: в Финляндию в 1958 году на 12-й Международный
орнитологический конгресс, в ГДР в 1959 году, в Польшу в 1960 году. Но в 1963 году
367
■ " ' . ' 'l
Рис. 98. Профессор А.Н. Формозов на пенсии, 1970 г.
его имя вычеркнули из списка делегатов на 16-й Международный
зоологический конгресс в Вашингтоне. Последняя зарубежная поездка состоялась в
Хельсинки в 1967 году, больше его не выпускали.
Чтобы заполнить некоторые пробелы в биографии А.Н. Формозова, я в
марте 2001 года говорил с его младшим сыном, Николаем Александровичем
Формозовым. На мой вопрос, как его отец преодолевал политически
обусловленные трудности, которые так часто встречались на его жизненном пути,
он ответил: «Мой отец всегда страдал от них, спасаясь бегством в свою
научную работу и работу художника. Но гораздо больше его тяготили судьбы
других людей; одним из самых тяжёлых переживаний было самоубийство его
одарённого ученика Алексея Михайловича Сергеева». (А.М. Сергеев был
призван в армию, воевал, попал в плен, был освобождён, затем арестован и «за
сотрудничество с врагом» отправлен в лагерь, где он вскоре покончил с собой).
К концу нашего разговора я вернулся к самому тяжёлому, на мой взгляд,
периоду жизни Александра Николаевича, — к гражданской войне. Однако,
Николай придерживается другого мнения в оценке того, как повлияло на судьбу
его отца участие в гражданской войне. Он считает, что если бы Формозову не
пришлось пережить тяготы гражданской войны, возможно у него не хватило
бы сил сопротивляться своему отцу, считавшему профессию зоолога
«несерьёзной». Он продолжал бы учиться на химфаке Нижегородского
университета (то есть Варшавского политехнического института), не смог бы вы-
368
брать собственный, верный путь в жизни, и сделался бы посредственным
инженером. С этой точки зрения можно сказать, что гражданская война сыграла
положительную роль в жизни Александра Николаевича. К этому Николай
добавил ещё одно: сверстник А.Н. Формозова, знаменитый русский писатель
Владимир Набоков (1899-1977) считал, что если бы не революция и
вынужденная эмиграция, то, вполне вероятно, он стал бы энтомологом, а не
писателем. Об этой своей «непрожитой» судьбе он написал в романе «Дар».
Уже перед тем, как я собрался уходить, Николай рассказал мне такую
историю: А.Н. Формозов принимал участие в 13-м Международном
энтомологическом конгрессе в Москве в 1968 году. На одном из заседаний с
докладом (прочитанном на русском языке) выступал Михаэль Клемм из Берлина.
В перерыве к нему подошёл один из советских участников и тихо сказал: «Я
узнал Вас, Вы тот, кто во время войны спас мне жизнь, когда я был в
немецком плену!». (В 1968 году делать такие заявления публично было,
разумеется, слишком опасно). Клемм рассказывал в семье Формозовых, что был до
глубины души поражён этой встречей15.
И в самом деле, в некрологе, посвященном Клемму (Schulz, 1984/1985), я
прочитал: «[Он] во время войны лично заступался за русских учёных,
которые находились в немецком плену».
Опыт молодого красноармейца Формозова подтвердился снова: добро и
зло не разделены ясной линией...
* * *
Экология — молодая ветвь биологии, она начала развиваться в XX
столетии в какой-то мере как протест по отношению к засушенности
академических учреждений. Неудивительно, что в числе её основателей были и
самоучки, которые получили знания не в университетских аудиториях, а черпали
их прямо из природы. Один из них — британец Чарльз Элтон. Он взбунто-
15 Клемм был поражён этой встречей именно потому, что не знал, насколько его
деятельность помогала красноармейцам, а насколько губила их. Он спасал их от голодной
смерти в лагерях, уговаривая многих русских энтомологов и зоологов и всех, мало-мальски
причастных к медицинской зоологии, пойти на работу в немецкие дезинфекционные части
(то есть стать «Hiwi»). Он старался спасти как можно больше людей, всех, кого находил и
у кого был хоть малейший шанс вырваться на этом основании из лагеря. Но после войны
Клемм говорил А.Н Формозову, что он то пытался помочь этим людям, но все они, по его
мнению, потом попали в сталинские лагеря и погибли. В этом он, как человек очень
совестливый, винил и себя! Поэтому встреча со спасённым произвела на него не меньшее
впечатление, чем на того безымянного человека, потому что убеждала в том, что он всё-
таки старался не зря. — прим. перев. со слов НА. Формозова.
369
вался против скучного изучения сравнительной анатомии в Оксфорде и
спустя много лет путём упорного самообразования стал одной из ключевых
фигур в мировой экологии. Другой пример: американка Маргарет Найс всю
жизнь исследовала птиц на участка вокруг своего дома; в результате её
исследования стали пионерными в области популяционной экологии птиц.
Жизнь доктора Франтишека Турчека/Frantisek Ttoreek (1915-1977) из
Чехословакии (теперь республика Словакия) сложилась так, что всех своих
успехов в науке он достиг самообразованием. Он начал свою деятельность
как орнитолог-любитель и практикант в лесном хозяйстве. Надо сразу
оговориться: время, которое выпало на его долю, и условия его жизни
совершенно несопоставимы с теми, в которых жили родственные ему души в
Англии или Америке. Ему было несравненно труднее. Тем не менее, он стал
известным экологом и во многом способствовал развитию этой области
науки, в частности, лесной экологии (Gebhardt, 1980: 65; Sladek, 1992; Pi-
nowski, 1993, 2005; Steffek, 1993; и др.).
Я познакомился с Турчеком летом 1965 года в Польше, где он принимал
участие в годовом собрании Польского Зоологического общества. В глаза
бросалась его скромность и его огромный интерес к науке. Мероприятие состоялось
в Сельскохозяйственном институте, участники жили в близлежащих
студенческих общежитиях. После первой ночёвки Турчек появился в зале заседаний
орнитологической секции заметно уставшим и выглядел больным. Он ничего не
хотел говорить о причинах своего состояния и только своему старому другу, Ясю
Пиновскому, который уже собирался вызвать врача, открыл причину: в его
комнате было так много клопов, что он всю ночь не спал. В конце концов, он сел на
середину комнаты и принялся изучать ночное поведение этих насекомых...
Турчек происходил из семьи учителя, он родился ещё во времена Австро-
Венгерской монархии в местности Нитра (ныне юго-западная Словакия),
этнически смешанной области, которую населяли в основном мадьяры и
словаки. С 1918 года, после распада Австро-Венгрии, область вошла в состав
Чехословакии. Франтишеку не очень нравилось учиться в гимназии в Нитре,
и отец послал его в педагогическое училище, но профессия учителя также не
слишком привлекала Турчека. Он не мыслил жизни без тесного общения с
природой и в 1934 году нашёл место практиканта в лесном хозяйстве. В 1937
году он сдал экзамен по специальности, который давал ему шанс к
профессиональному росту. Ещё будучи практикантом, Турчек педантично вёл
научный дневник, особенно подробно он записывал всё, что касалось птиц и
млекопитающих. В 1937-1939 годах его деятельность была прервана призывом
в Чехословацкую армию. После оккупации Чехии немецкими войсками в
марте 1939 года и основания так называемой Словацкой республики ситуа-
370
ция изменилась: пришлось искать средства для существования в другом
месте. В Нитре он нашёл работу служащего в продовольственной торговой
компании.
В 1940 году Турчек женился; его жена была мадьяркой. На его родине не
утихали национальные конфликты между живущими там этническими
группами, он же был интернационалистом и оставался им всю жизнь.
С начала 1940-х годов он начал публиковать материалы из своего
научного архива. Вначале это были научно-популярные статьи о птицах и
млекопитающих и об охоте, обобщения его орнитологических наблюдений,
работы по количественным учётам птиц. Он публиковался как на словацком,
так и на венгерском языке. До 1946 года из печати вышло более пятидесяти
работ. В 1942 году Турчеку удалось вернуться на работу в лесничество, до
1944 года он был управляющим лесами в Нитре, а потом — частным лесом
в Тополчани, что позволило пополнить материалы его научного архива.
Успешная практическая и научная деятельность молодого
учёного-самоучки привела к тому, что после окончания Второй мировой войны, в октябре
1946 года, его пригласили на работу научным сотрудником в Государственный
институт леса в Банска Ставница. Это лестное приглашение позволило Тур-
чеку полностью посвятить себя научной работе. С этого времени
большинство его публикаций уже носило строго профессиональный характер. Вначале
это были статьи и книги по охотоведению, но одновременно он стал
разрабатывать новые методы количественного исследования лесных биоценозов,
начал заниматься биологической продуктивностью лесов, расширил свои
интересы на область лесной энтомологии, проводил синэкологические
исследования. Турчек руководил двумя рабочими группами, которые изучали
проблемы, связанные с лесными сообществами и мелиорацией. Он придавал
большое значение применению статистических методов оценки данных,
которые тогда ещё не имели широкого распространения. Турчек был настоящим
учёным: он не делал различия между рабочим и «свободным» временем.
Список его публикаций содержит много работ, не имеющих прямого отношения к
тематике института (см. сводный указатель в StefFek, 1993: 37-67).
Ещё в самом начале своей научной деятельности Турчек осознал важность
международного сотрудничества. В послевоенное время, в особенности после
коммунистического переворота в Чехословакии в 1948 году, поездки учёных
за границу стали почти невозможны. Однако, Турчек превосходно владел
иностранными языками (он выучил их самостоятельно), что позволяло ему вести
обширную корреспонденцию с экологами за границей и обмениваться
публикациями. Обе стороны получали пользу от этого: Турчек составлял обзоры
литературы для научных журналов в своей стране, а для иностранных жур-
371
налов он составлял рефераты отечественных работ. Вследствие этого он не
только сам прекрасно знал современную ему литературу по экологии, но и
передавал знания другим. С 1948 года он начал публиковать статьи за
границей, сначала в США, потом в Германии, в Швейцарии, в Финляндии и в
Швеции, позже и в далеком зарубежье — в Японии и Индии. В сентябре 1954 года
Британский орнитологический союз выбрал Турчека
членом-корреспондентом. Профессор Й. Балог из Венгрии пригласил его написать главу о методах
изучения позвоночных животных в биоценологических исследованиях для
своей книги «Сообщества животных» (Будапешт, 1958). Эта книга приобрела
впоследствии широкую известность. В Институте леса в Банска Ставница он
всегда был доступен для дискуссий на научные темы, которые давали поводы
для размышлений в ходе исследовательской работы других учёных. Он был
приглашён занять должность заместителя директора института по науке;
после некоторых перестановок в руководстве института кандидатуру Турчека
рассматривали на пост директора.
Но в середине 1950-х годов в центре Восточной Европы произошли
важные политические события, которые оказали влияние и на Чехословакию:
общественные беспорядки и демонстрации 1956 года в Польше привели к
ослаблению тамошней политической системы; в смежной Венгрии
произошло антикоммунистическое восстание. Чехословацкие власти реагировали
на это ужесточением политической системы и усилением контроля за всеми
сферами в государстве, в том числе и в науке. В 1958 году весь персонал
Института леса был подвергнут проверке, к беспартийному Турчеку
присматривались с особым вниманием и отметили в нём черты «сомнительного,
нонконформистского интеллигента и индивидуалиста». Немалую роль в
критической оценке сыграло то обстоятельство, что он не имел высшего
образования и академической степени. Его международные связи и заслуги, а
также большое число опубликованных за границей работ сочли его частной
деятельностью, при чём нежелательной. Заключительная оценка комиссии
была следующей: «профессиональная непригодность; годен для физической
работы». Это означало увольнение из института и перевод на работу в
промышленности или сельском хозяйстве.
От такого поворота судьбы Турчека спасло заступничество из-за границы.
Оно пришло с несколько неожиданного направления, а именно из Советского
Союза: Академия наук СССР обратилась к чехословацким властям с
просьбой о пересмотре решения, принятого относительно Турчека.
По-видимому, это обращение было организовано известным зоологом А.Н.
Формозовым. Аналогичное обращение в защиту Турчека пришло из Академии наук
Венгрии (там обращение стимулировал, по всей видимости, зоолог доктор А.
372
Рис. 99. Франтишек Турчек,
1950 г.
\
Кеве из Будапешта). Эти обращения привели к смягчению решения
чехословацких властей: Турчеку позволили заниматься наукой, но на самой
низком разряде жалованья и вне института.
С 1959 по 1964 годы Турчеку пришлось работать в очень затруднительных
условиях. Он был принят во вспомогательный научный штат в Зволене и в Лип-
товски Градок; он должен был разрабатывать методы защиты лесопосадок.
Каждый день в пять часов утра ему приходилось садиться в электричку, чтобы
успеть на работу. Возвращался домой он поздним вечером. Но он не прекращал
заниматься наукой в этой «ссылке». В электричке, например, он переводил
русскую книгу по лесоведению на английский язык. В Липтовски Градок
(примерно 120 км по железной дороге от дома) он снял, в конце концов, крошечную
комнату и жил там всю рабочую неделю. Большой радостью для него в это
мрачное время было избрание в члены-корреспонденты Американского
орнитологического общества в сентябре 1959 года. Правда, надежда на то, что
избрание в эту престижную организацию приведёт к смягчению отношения к
нему со стороны властей, не оправдалась. Тем не менее, как учёный он достиг
в этот период нового успеха: закончил рукопись одной из важнейших своих
книг: «Экологические связи птиц и лесов» (Братислава, 1961).
Сразу после увольнения из института в Банска Ставница Турчек
предпринял попытку получить академический диплом. Но поданное им заявление
в Пражский университет с просьбой экстерном сдать кандидатские экзамены
373
было отклонено с обоснованием «недостаточно активно участвует в
общественной работе». В Польше в то время был период «оттепели»; Турчек
попробовал защитить кандидатскую диссертацию в Кракове, но это оказалось
невозможным по формальным причинам.
Многим учёным на родине Турчека, конечно, было хорошо известно, что
власти обошлись с ним несправедливо, но они не могли ничего сделать (были
и те коллеги, которые не хотели вступаться). Наконец, по прошествии
некоторого времени, порядки несколько смягчились, в особенности в словацкой части
страны (в 1963 году первым секретарем партии Словакии стал Александр Дуб-
чек). Так что Словацкой Академии наук в октябре 1964 года удалось вернуть
Турчека в Банска Ставница. Он был назначен руководителем одного из
научных центров Академии, который годом позже превратился в Институт
экспериментальной биологии и экологии. Незадолго до начала «Пражской весны»
летом 1967 года он, наконец, был допущен к защите диссертации в Брно и
получил учёную степень кандидата биологических наук. Теперь он снова мог
спокойно заниматься научной работой. В это время он закончил другую свою
известную книгу «Экологические связи млекопитающих и лесов» (Братислава,
1967). Турчек смог даже участвовать в международном орнитологическом
научно-исследовательском проекте в рамках Международной Биологической
программы (IBP), которым руководил его польский друг профессор Пинов-
ский. В проекте принимали участие 150 научных партнёров из 25 стран мира.
Последующие политические события в Чехословакии — вступление в страну
войск Варшавского договора в августе 1968 года, конец «Пражской весны» и
так называемая «нормализация», к счастью, не привели ни к каким
отрицательным последствиям для самого Турчека, кроме одного: ограничения
свободы передвижения «на запад», введённые после 1968 года,
воспрепятствовали его участию во многих конференциях по проекту ШР.
Здоровье Турчека в значительной мере было подорвано за время «ссылки».
«Аттестация», хлопоты по получению академического диплома и многие
унижения доводили его временами до нервного срыва. Он был очень музыка
лен, в перерывах в работе он выбирал из своей богатой коллекции пластинок
любимые оперетты и отдыхал под звуки музыки. Он часто говорил, что
музыка для него — самое эффективное лекарство. Но он тяжело заболел и не
только музыка, но и врачи не смогли помочь ему. Турчек умер в начале марта
1977 года. Ему был только 61 год!
Турчек оставил после себя огромное научное наследие: больше 500
публикаций, в том числе 150 оригинальных научных работ и 13 книг, главным
образом посвященных лесной и общей экологии, птицам, млекопитающим и
насекомым леса. В его работах много внимания уделено прикладным аспек-
374
там — защите леса. Он посвятил сорок лет своей жизни научной
деятельности. Он многим был обязан своей жене Анне, которая не только отвечала
за бюджет семьи и полностью вела хозяйство, но и всегда была его
неутомимой помощницей в работе.
Институт в Банска Ставница, где работал Франтишек Турчек, был
расширен, и в наши дни принадлежит к важнейшим исследовательским
учреждениям Словацкой Академии наук, а имя Турчека вспоминается здесь как
образец служения науке.
* * *
Я уже достаточно сообщил об опустошительном влиянии коммунизма на
жизнь и деятельность учёных. Теперь же я хочу рассказать об одном случае,
когда влияние этой общественно-политической системы можно было
поначалу расценить как максимально положительное. Речь пойдёт о докторе
Пьере Пфеффере/Pierre Pfeffer (род. в 1927 г.), французском герпетологе,
орнитологе и териологе. Он рассказал мне о том, что в 1930-х годах посещал
в Москве школу, которая сделала из него зоолога! Педагогическая тайна этой
школы заключалась в том, что наряду с обычными уроками, которые
проходили как во всех школах, в ней было много кружков, где каждый ученик мог
найти себе занятие по душе. Был, например, кружок юных техников,
лётчиков, биологов и проч. Пьер в течение нескольких лет был активным членом
юннатского кружка, что оказало влияние на всю его последующую жизнь.
Как же случилось, что мальчик-француз, впоследствии известный
французский учёный, в 1930-е годы начал свое школьное образование в Москве,
в школе, о который позже он отзывался так высоко? История Пьера Пфеф-
фера так необычна, что я должен рассказать её с самого начала.
В перерыве одной научной конференции в Бонне в 1995 году состоялось
заседание, на которой присутствовал доктор Пфеффер, участник из
Франции. Я хотел обсудить с ним одну спорную проблему и, подойдя к нему в
перерыве, спросил (из-за его немецкой фамилии), говорит ли он по-немецки; он
ответил отрицательно и в свою очередь спросил (из-за моей фамилии),
говорю ли я по-польски. Когда я ответил утвердительно, он сразу перешёл на
польский язык, и мы обсудили проблему по-польски. Спустя время, я
приехал в Париж и нашёл случай посидеть с Пфеффером в хорошем парижском
ресторане, чтобы выведать его русско-французско-польскую тайну.
История эта восходит к началу XX века, когда его будущая мать Мария
Бейлин, полька из Варшавы (тогда российская подданная) решила после
экзамена на аттестат зрелости стать учёным. Несколькими годами раньше, в
375
1905 году, другая живущая во Франции полька, Мария Склодовская-Кюри,
стала лауреатом Нобелевской премии; это послужило импульсом к научной
карьере для многих женщин. Семья Бейлин была настроена просоциалисти-
чески и принимала участие в политической жизни. Мария находилась под
влиянием своего дяди, математика Максимилиана Валецкого, который из-за
своей революционной деятельности немало времени провёл в царских
тюрьмах. Он посоветовал Марии ехать во Францию, чтобы изучать математику в
Сорбонне. Она успешно закончила этот университет, но будучи иностранкой,
не могла найти места работы во Франции. Поэтому ещё перед началом
Первой мировой войны она возвратилась в Варшаву (Склодовская-Кюри
получила тем временем Нобелевскую премию во второй раз).
Когда в 1918 году была восстановлена независимость Польши, семья была
разочарована тем, что руководство страны враждебно отнеслось к
возникшему в России социалистическому государству. Дядя Валецкий, коммунист,
эмигрировал в Москву и в 1919 году стал работать в Центральном комитете
III Коммунистического интернационала — Коминтерна. Он жил в гостинице
«Люкс» (ныне «Центральная») и часто встречался с Лениным. Мария тоже
покинула в 1919 году Польшу и снова отправилась, теперь уже с польским
паспортом, во Францию, где левые политические течения было гораздо
сильнее, чем на родине. Она зарабатывала на жизнь частными уроками
математики и переводами (кроме польского, русского и французского языков она
владела также немецким, испанским и английским). В середине 1920-х годов
она вышла замуж за немца Адольфа Пфеффера, художественного и
литературного критика, поэта из круга Парижского Монпарнаса. Он жил во
Франции и как журналист писал время от времени статьи для немецких газет. Сам
он происходил из немецкой семьи с Украины, которая эмигрировала во время
революционных событий во Францию. От этого брака и родился в 1927 году
сын Пьер, будущий известный зоолог.
Супружеская жизнь не заладилась с самого начала, и уже вскоре после
рождения сына эмансипированная Мария выставила мужа из квартиры.
Вскоре она нашла хорошее место работы в филиале агентства печати Совет
ского Союза (ТАСС) в Париже. На работе её ценили, здесь же она встретила
своего будущего спутника жизни, Сергея Сергеевича Лукьянова, выходца из
русского дворянского рода, «белоэмигранта». Несмотря на своё
происхождение, он под влиянием советской пропаганды увлёкся идеей построения
социализма на родине. По его инициативе и при поддержке дяди Марии —
Максимилиана, оба двинулись в 1930 году в Советский Союз, в Москву, где
Мария получила хорошее место работы в агентстве ТАСС. Трёхлетнего
Пьера по пути в СССР оставили на попечении бабушки в Варшаве.
376
В 1932 году Пьера привезли к матери в Москву (теперь она носила
фамилию Шпер; многие иностранцы работали в СССР под другими фамилиями).
Первые месяцы после приезда Пьер жил с мамой в гостинице «Люкс», но
вскоре им выделили другое жильё — комнату в коммуналке, потом они
переехали в другую комнату—в доме журналистов. Вначале Пьер был несколько
разочарован столицей мировой революции, и не только из-за квартиры. Уже вовсю
шла коллективизация, и доведённые до отчаяния люди бежали в город: повсюду
кишели крестьяне, какие-то ходоки в лаптях, бездомные, голодные, одетые в
лохмотья дети; все просили милостыню на хлеб. На свои недоуменные вопросы
Пьер получал ответ, что это «нетрудовые элементы». Но через год облик
города внезапно изменился: все бездомные и нищие куда-то исчезли. Мать Пьера
была вполне довольна жизнью, она разъясняла сыну, что это только начало
строительства социализма — нового справедливого общества. Исчезновение
нищих с улиц города подтверждало её слова; конечно, в то время Пьер не имел
никакого понятия о том, что людей отлавливали и выселяли, а детей забирали
в детские дома. Сразу после приезда в Москву Пьера отдали в детский сад, где
он выучил русский язык. Однажды мать взяла его с собой на работу в здание
ТАСС. Он испытал необыкновенную гордость: на большой доске с
фотографиями ударников труда был и портрет его матери.
Пьер с матерью жили хорошо. Они не только не голодали, его мать могла
даже позволить себе покупать продукты в великолепном, построенном ещё
при царе Елисеевском магазине на улице Горького. В Торгсине, где Пьер
бывал с матерью, он однажды видел, как старая женщина обменяла
серебряный крестик на несколько апельсинов...
В восемь лет Пьера определили в школу. Языковых трудностей он
практически не испытывал благодаря посещению детского сада и хорошему
владению польским языком (правда, французский он почти забыл). В кружке
молодых биологов он отвечал за террариум, в котором жили змеи. Однажды
он пытался накормить их специально купленными для этого конфетами. Из
терпеливого объяснения учителя он узнал много нового о питании
рептилий. В московских книжных магазинах можно было найти немало
интересных книг о животных, в том числе и специальные дешёвые издания для
детей, так что Пьер мог покупать их. Мать подарила ему многотомное
русское издание «Жизни животных» Брема, которое он читал с большим
удовольствием. В школе не только был высокий педагогический уровень;
ученикам, разумеется, умело прививали основы идеологии. В памяти осталась
известная история о сознательном мальчике Павлике Морозове, который
донёс на собственных родителей (что, правда, уже тогда вызвало у Пьера
неприятное чувство). Пищу для размышлений давали ему также высказывания
377
его школьных товарищей: «Твоя мать — буржуйка!». (Госпожа Бейлин
носила элегантную одежду, привезённую ещё из Парижа и Варшавы, которая,
разумеется, сильно отличалась от той, в которую одевались матери
одноклассников Пьера). Но, тем не менее, Пьер привык к новой жизни, у него
было много друзей. В доме журналистов, где он жил, все относились к нему
хорошо, беседовали с ним. Особенно хорошо запомнились разговоры с
молодым, спортивным и элегантным журналистом из Канады по фамилии
Джексон, который беседовал с Пьером как со взрослым.
К началу второй половины 1930-х годов в жизни успешной сотрудницы
ТАСС, ударника социалистического труда, возникли неожиданные
трудности, а именно, — она была уволена! Но Марии удалось найти место в
редакции «Le Journal de Moscou». В 1937 году произошло трагическое событие:
её дядя Валецкий был арестован и вскоре расстрелян, а его семья выслана в
Сибирь! Был арестован также её друг Лукьянов: о его судьбе узнать ничего
не удалось... Мать Пьера в мае 1937 года вызвали в ГПУ и допросили. Ей
сообщили, что хотя против неё лично никаких обвинений нет, но поскольку
она вращалась в кругу троцкистов, то должна немедленно покинуть
Советский Союз, иначе ГПУ будет вынуждено арестовывать и её.
Госпожа Бейлин/Шпер всё ещё имела польское гражданство и польский
паспорт, поэтому она направилась в польское консульство в Москве с
просьбой о разрешении вернуться на родину (авторитарный польский режим
тех лет держал под строгим контролем все перемещения граждан между
Польшей и СССР). Любезный служащий польского консульства, к которому
она обратилась, взял у неё паспорт, убрал его в ящик своего письменного
стола и сообщил, что раз она добровольно эмигрировала в Советский Союз,
то должна теперь оставаться на своей второй, вновь избранной родине...
Таким образом, мать Пьера осталась без гражданства. Она решила сама
пойти в ГПУ с вопросом, что она должна теперь делать? Там ей, по всей
видимости, повезло, и она попала к гуманному служащему, так как вместо того,
что бы арестовать её, он посоветовал ей обратиться в консульство Франции,
так как её сын — французский гражданин. Ей посчастливилось:
десятилетнему Пьеру был выдан французский паспорт, а в графу «сопровождающее
лицо» (в которую обычно вносят имена несовершеннолетних детей) консул
внёс имя его лишившейся гражданства матери. Редакция «Le Journal de
Moscou» выразила готовность оплатить Пьеру и его «спутнице» билет 1-го класса
на пароход из Ленинграда в Лондон. Они в спешке собрались и вскоре уже
поднимались на палубу советского пассажирского парохода «Кооперация».
Десятилетний Пьер был полон социалистических идеалов; он рассказывал
мне, что когда они проплывали мимо берегов Германии, он кинул в море бу-
378
тылку с запиской, в кото рой содержался боевой призыв помочь защитникам
республики в Испании (в это время там шла гражданская война между
республиканцами, которых поддерживал СССР, и сторонниками генерала
Франко, ставленником немецких национал-социалистов). Об этом морском
путешествии у Пьера сохранились самые лучшие воспоминания: жизнь в
каюте была гораздо приятнее, чем в московской коммуналке, обслуживание
и еда были замечательными (с грустью во время нашей трапезы он отметил,
что не любил тогда икру, которую подавали на стол в неограниченном
количестве).
Но после переезда из Лондона в Париж Пьер столкнулся с первыми труд
ностями: он почти забыл французский язык и должен был учить его заново;
занятия в школе были скучными, преподаватели строгими и авторитарными;
необходимость зубрежки и частые физические наказания быстро
выработали в нем антипатию, а потом и ненависть к школе. Надежды на поддержку
его естественнонаучных интересов не оправдались...
У матери Пьера возникли свои проблемы. Она открыто возмущалась
арестами, показательными процессами и казнями в Москве и рассказывала о
них своим парижским друзьям. Но с их стороны она встречала только
недоверие; некоторых её рассказы даже возмущали их как вымышленные.
Некоторые друзья называли ее контрреволюционеркой и предательницей
коммунистических идеалов. Сама же она продолжала придерживаться крайних
левых революционных взглядов. Она активно включилась в поддержку
испанских республиканцев в гражданской войне в качестве посредницы
советских поставок оружия и доставки раненых советских офицеров и
гражданских лиц.
Всё изменилось с началом Второй мировой войны. В июне 1940 года
Франция была оккупирована фашистами, и госпожа Бейлин присоединилась
к коммунистическому движению Сопротивления. Прежние идеологические
разногласия с французскими товарищами были забыты перед
необходимостью борьбы с агрессором; здесь она, благодаря знанию языков и опыту
работы в журнале, была незаменимой: она слушала иностранные
радиостанции и составляла сообщения о фактическом положении дел на фронтах. В
конце лета 1940 года Пьер узнал от матери сенсационную новость: газеты
поместили фотографию убийцы высланного русского революционера Л.Д.
Троцкого — человека по имени Рамон Меркадер. Пьер узнал «канадского
журналиста», который так часто и так мило беседовал с ним в Москве!
Несколько позже госпожа Бейлин начала участвовать в выпуске
немецкоязычной подпольной газеты для солдат Вермахта с пораженческим содержанием.
Подготовкой номеров занимались прямо на квартире. Пьер также включился
379
в эту работу как курьер; когда в 1943 году Гестапо напало на след
издательской группы, он должен был скрыться. Он присоединился к
коммунистической боевой группе. Благодаря знанию польского языка он стал связным с
польской группой Сопротивления (в неё входили и солдаты из Верхней Си-
лезии, дезертировавшие из Вермахта). В это время он получил трагическое
известие: его отец, Адольф Пфеффер, был убит из-за оскорбления немецкого
офицера в лагере для военнопленных. В середине 1944 года войска
союзников нанесли удар в направлении Тулона, где действовала группа
Сопротивления, в которую входил Пьер, и он в возрасте шестнадцати лет вступил в
регулярную французскую армию. Он воевал в долине Роны, в Эльзасе и в
Южной Германии; 8 мая 1945 года, в день капитуляции Германии, его
воинская часть находилась во Фридрихсхафене.
Первый мирный год Пьер провёл солдатом французской оккупационной
зоны на юге Германии и в Австрии, настроение в войсках было приподнятым.
Почти все солдаты его части под влиянием личности своего командующего
были готовы идти с ним в Индокитай, чтобы подавить там восстание против
французской колониальной власти. Пьер тоже вместе со всеми собирался
отправиться туда. В начале 1947 года он решил воспользоваться своим отпуском,
чтобы съездить в Париж и попрощаться с матерью. Она была счастлива вновь
увидеть сына. Её положение после окончания войны улучшилось: теперь она
стала не только гражданкой Франции и сотрудницей в Министерстве
информации, но и была награждена высокой французской наградой — Орденом
республики (позже она получила и польский орден). Она была решительно
против плана Пьера воевать от имени Франции против освободительного
движения в Индокитае. Ей удалось убедить сына, и он уволился из армии...
Как участнику Сопротивления и солдату армии ему была положена учебная
стипендия на пять лет. Он сдал экзамены на аттестат зрелости в Париже,
поступил в Сорбонну и начал изучать биологию. Но после сумбурных лет войны
учиться было трудно: изучение теорий казалось скучным и сложным, как и
жизнь в большом городе. Летом 1949 года он решил покинуть Европу и
уехать в Африку. Он поселился в маленькой деревне в одной из французских
колоний. Он охотился, наблюдал за животными в природе. Положение местных
жителей в колониях убедило его в несправедливости колониального
господства; он часто и открыто говорил об этом. Пьер не предвидел, что в его
окружении имелся осведомитель, который донёс о его высказываниях
французским колониальным органам безопасности. Пьер был арестован, три дня
провёл в заключении. Но со временем жизнь молодого переселенца
стабилизировалась: он наладил связи с Парижским музеем естественной истории,
продолжил учёбу и в 1958 году получил в Париже университетский диплом и стал
380
Рис. 100. Доктор Пьер Пфеффер (справа) и Роберт Этчекопар в национальном парке
Беловежская Пуща, Польша, 1960 г.
сотрудником Зоологического отделения Парижского музея естественной
истории. С этого момента началась успешная научная карьера Пьера Пфеффера: он
участвовал во многих экспедициях в Африку и в Юго-Восточную Азию. Время
между экспедициями было заполнено обработкой собранного материала в
музее. В середине 1960-х годов он женился на уроженке Камбоджи.
Пьер Пфеффер опубликовал более сотни научных работ и несколько
важных книг по зоологии. Много времени и энергии он посвящал участию в
разработке, координации и реализации национальных и международных
проектов по охране природы.
Но и эта часть «нормальной» жизни Пьера Пфеффера была наполнена
различными событиями, в том числе и трагическими: во второй половине 1970-
х годов его дочь, проживавшая в Камбодже, оказалась под господством
режима Пол Пота и стала заложницей коммунистического режима «каменного
века». К счастью, ей удалось пережить этот кровавый «эксперимент».
В 1960 году Пьер предпринял путешествие в своё прошлое, в Польшу и в
Советский Союз. Вместе с ним ездил известный французский орнитолог
Роберт Этчекопар (рис. 100). В Варшаве, где в это время состоялась 7-я Ас-
381
самблея Международного союза охраны природы, он навестил своих
родственников и побывал в местах своего детства. Он хорошо помнил Москву
1930-х годов; социалистическая Польша показалась ему оплотом
либерализма. В Москве он, к сожалению, не смог найти никого из своих школьных
друзей, но встречался с московскими биологами. Один из них, профессор
А.Г. Банников, расспрашивал Пьера о его предвоенной жизни в Москве,
причём предложил вести разговор где-нибудь на улице, опасаясь чужих ушей.
Пьер и его спутник побывали также в Алма-Ате — Этчекопар
интересовался аридными зонами Азии. Пьера удивило, что в Зоологическом
институте Казахской Академии наук он увидел только учёных русской
национальности, и спросил, не является ли такая ситуация свидетельством
колониального режима. Саркастическую усмешку вызвало у него замечание
одного профессора института о том, что Польша своим
национал-либеральным путём к социализму («период Гомулки») угрожает миру во всем мире!
Жизненный опыт Пьера сформировал весьма критическую точку зрения на
сущность коммунистической системы...
В 1993 году Пьер ушёл на пенсию. Когда я беседовал с ним в январе 2003
года в его парижской квартире, телефонный звонок из Либревиля прервал
наш разговор: Пьер был избран президентом сети охраняемых природных
территорий Центральной Африки (к которой присоединились 8 африканских
государств), и его приглашали на очередное заседание.
Уже с 1971-го года Пьер Пфеффер начал заниматься охраной слонов в 14
государствах Африки; он стал борцом за запрет торговли слоновой костью.
Пожалуй, Пьер является единственным европейцем, который имеет шансы
на успех в этом трудном деле, так как его многолетнее пребывание в Африке
и его отношение к африканцам завоевали ему уважение на континенте, и к
его словам прислушиваются. В нем видят не только учёного, но и хорошего
друга и справедливого человека, и высоко ценят.
Глава 6. Взгляд в прошлое,
в мир шпионов и в современность
Всё, о чем я писал до сих пор, не должно вводить нас в заблуждение
относительно времён более отдалённых, потому что и в XIX веке было немало
натуралистов с тяжёлыми и даже трагическими судьбами, обусловленными
политическими причинами. Теперь я расскажу о некоторых из них. В
предыдущих очерках я уже затрагивал тему «орнитология и шпионаж». В этой
главе я снова коснусь этой темы.
Из последней биографии этой главы становится ясным, что разрушение
диктаторской системы, к сожалению, не всегда приводит к восстановлению
нормальных условий жизни и труда учёного.
* * *
Я хочу начать эту главу с истории семьи Янковских. Эта фамилия известна
каждому орнитологу, энтомологу и ботанику, поскольку она употребляется
в названиях множества видов и подвидов, например: овсянка Янковского
(Emberizajankowskii), восточноазиатские подвиды малого лебедя (Cygnus be-
wickiijankowskyi) и сороки (Pica pica jankowskii), голубянка Янковского (Zep-
hyrus jankowskii); помимо этого можно назвать ещё примерно 20 видов
бабочек и несколько видов растений.
В естественнонаучной литературе Михал Янковский/Michat Jankowski
(1842-1912) известен как исследователь природы Российской Азии (Geb-
hardt, 1964:173; Feliksiak, 1987:226-227); он снабжал множество музеев
зоологическими и, отчасти, ботаническими материалами. Но его чрезвычайно
успешная научная деятельность, в сущности, стала результатом
политического преследования. Пан Янковский был выходцем из семьи шляхтичей —
мелкопоместных дворян из северо-восточной Польши. Будучи студентом
агрономического факультета, в январе 1863 года он принял участие в
Польском восстании и после его подавления был осуждён на 8 лет каторги в
Сибири. По железной дороге арестантов везли лишь до Смоленска. Отсюда до
Нерчинской каторги в Забайкалье им предстояло двигаться пешим порядком
7 000-8 000 км в кандалах, под охраной конвоя. Чтобы представить себе, как
это происходило, обратимся к книге американского журналиста Георга Кен-
нана, который исследовал царскую систему ссылки в Сибирь в XIX веке
(книга в 1975 году вышла в немецком переводе в ГДР — по-видимому, для
смягчения впечатления от изданного на западе «Архипелага ГУЛАГ»
Солженицына).
383
Приведу несколько фрагментов из книги Кеннана (стр. 307-310): «Весь
год, неделя за неделей, идёт продвижение колонны, состоящей из трёхсот-
четырёхсот человек, в направлении от Томска к Иркутску. Люди
преодолевают пешком расстояние 1 040 миль примерно за три месяца. Этапы — так
называют отрезки пути маршрута ссыльных, — имеют протяжённость на тракте
от 25 до 40 миль. Каждый этап обслуживает своя транспортная команда,
которая состоит из офицера — «начальника этапа», двух-трёх унтер-офицеров
и приблизительно сорока солдат. [...] Колонна должна проходить за месяц не
менее 500 верст (это 330 миль); каждый третий день устраивают перерыв —
отдых на сутки. [...] Таким образом, колонна арестантов продвигается вперед
постепенно, месяцами, с отдыхом через каждые два дня, и на каждой второй
остановке сменяется охрана. Каждый арестант получает ежедневно 5 копеек
на пропитание и покупает себе еду у крестьян; крестьяне охотно продают её,
так как это их бизнес. Летняя одежда ссыльных состоит из рубашки и пары
штанов из грубого серого полотна; на ногах вместо чулок обмотки, а обувью
служат тапочки, называемые «кати», с кожаной защитой лодыжек от ножных
кандалов; шапка без козырька и длинное серое пальто. [...] Между обычными
и политическими арестантами никаких различий не делается... После
прохождения этапа арестанты отдыхают в пересыльной тюрьме с большими
общими камерами для сна. [...] В каждой такой камере имеется большая
деревянная скамья для сна, которая занимает почти половину помещения. [...]
Арестанты не имеют ни подушек, ни одеял, ни постельного белья [...]. В
камере размещают арестантов вчетверо больше, чем первоначально
предусмотрено». После передышки в тюрьме колонну готовят к следующему маршу
(стр. 312-313): «... Всё более громкое, длительное звяканье цепей с другой
стороны палисадника возвестило о том, что арестанты начали строиться в
колонну. [...] Кузнец вместе с солдатом проверял, плотно ли сидят кандалы на
ногах и не задевают ли кольца о пятки; наконец, унтер-офицер выдал
каждому арестанту 10 копеек медными деньгами на пропитание на два дня, от
одного этапа до другого. При выходе из тюремного двора каторжники
самостоятельно строились в две параллельных шеренги, чтобы их можно было
удобно пересчитать, и снимали шапки, чтобы унтер-офицер смог посмотреть,
подстрижено ли наголо полголовы [...]. Наконец, вся колонна, состоящая из
350-400 людей, собрана на улице. Каждый арестант несёт серый холщовый
мешок со скудным имуществом; у многих имеется медный котелок, висящий
на кожаном поясе, к которому прикреплена цепь, идущая к ножным
кандалам; один арестант нёс на руках маленькую коричневую собачку...». Вот ещё
несколько зарисовок по пути следования арестантов: «[...] Каждый арестант
промок под ливнем до нитки [...]. Грязь на тракте почти по колено»... (стр.
384
338). «[...] Некоторое разнообразие в монотонное движение колонны вносит
приближение к одной из сибирских деревень (стр. 339-342): староста просит
у офицера — начальника колонны разрешения запеть «песню
нищенствующих». ..». [...]. Когда колонна с песней медленно бредёт по грязи деревенской
улицы между рядами серых изб, отовсюду выходят дети и крестьянки: они
несут хлеб, мясо, яйца и другие продукты и щедро оделяют ими арестантов,
складывая всё это в шапки или котомки трёх или четырёх стриженых наголо
арестантов, которые выступают в качестве сборщиков милостыни [...]. На
первом привале после прохождения деревни все собранные продукты были
поделены между арестантами и съедены; несколько бодрее продолжали после
этого каторжники свой путь. Многие арестанты заболевают во время этапа.
[...] (стр. 348): «Большинство поправляется, но всё-таки смертность на пути
от Томска до Иркутска составляет ежегодно от 12 до 15%». «Побег —
безнадёжное дело. Однако, снова и снова появляются безумцы, которые решаются
бежать. При попытке побега охрана сразу же открывает стрельбу, и беглеца
тут же застреливают. Солдаты любят повторять (стр. 348): «Синий боб
найдет беглеца быстрее всего» и «Пуля из берданки — первое, что посылают
вслед беглецу»».
Всё это должен был испытать во время своего пути в Сибирь молодой
Михал Янковский; его путь из Смоленска в Нерчинск продолжался полтора
года! Но он осилил этот марш смерти, который был ещё только первой
ступенью его каторги. Через несколько лет тяжёлого подневольного труда, в
1868 году, он был освобождён досрочно, и ему было позволено самому
выбрать себе занятие в Сибири. Он решил стать помощником товарища по
ссылке, доктора Бенедикта Дыбовского, первооткрывателя огромного числа
видов фауны Байкала, ставшего впоследствии известным биологом (Geb-
hardt, 1964: 79-80; Feliksiak, 1987: 142-144). У Дыбовского молодой Михал
Янковский научился сбору и многообразной технике препарирования
зоологических объектов. (В это самое время на Байкале работал и Йозеф Кали-
новский, также высланный участник восстания; после возвращения в
Польшу он ушёл в монастырь; в 1991 году папа Иоанн Павел II причислил
его к лику блаженных).
Недавно я объехал Байкал на исследовательском судне и посетил
несколько мест, где работали ссыльные. Удивительная красота здешней
природы не может скрыть того, какие трудности они должны были испытывать
в этом суровом краю, особенно зимой. Изучение природы захватило
Янковского, его поразили и несметные богатства Сибири. Поэтому по прошествии
некоторого времени он без колебаний покинул исследовательскую группу
Дыбовского и сделался золотоискателем вблизи Читы! В то время жизненные
385
планы Янковского ещё не вполне определились, во всяком случае, вместо
того, чтобы попытаться вернуться на родину, он в 1872-1874 годах
участвовал в экспедиции Дыбовского. Вместе с ним он совершил более чем
тысячекилометровое путешествие на Дальний Восток по Амуру. Во время этого
путешествия Янковский принял важное решение, определившее всю его
дальнейшую жизнь: не возвращаться на родину, не участвовать больше ни в
какой политической и националистической деятельности; вместо этого
разбогатеть, приобрести независимость и продолжать исследования природы
Сибири. Вначале он поступил на службу управляющим золотыми приисками
на острове Аскольд, который находится к юго-востоку от Владивостока. В
свободное время он собирал зоологические коллекции, которые продавал
различным музеям. Кроме того, он начал вести самостоятельную научную
работу. На прииске Янковский нашел спутницу жизни (вдову солдата,
убитого шайкой беглых каторжников). Вскоре у них родился сын, ребёнка
крестили под именем Александр; но мать умерла почти сразу после родов.
Младенец нуждался в женской опеке. Янковский отправился во Владивосток, где
местный фотограф показал ему пятнадцать фотографий женщин, желающих
выйти замуж. Выбранная таким образом новая спутница жизни — Ольга
Лукинична Кузнецова, коренная сибирячка, согласилась на брак; эта
случайность обернулась впоследствии счастливой судьбой.
Теперь созревали новые планы: Янковский уже владел достаточной суммой
денег для того, чтобы вести с генерал-губернатором региона разговор о
покупке 550 гектаров земли и аренды маленького полуострова Сидеми1 к
юго-западу от Владивостока. Он хотел основать там поселение для развития
сельского хозяйства и устройства конного завода. Русская армия безотлагательно
нуждалась в лошадях, прибыль от такого предприятия казалась несомненной.
В 1879 году сделка состоялась. Строительство началось незамедлительно. В
поселке Сидеми (ныне Безверхово) разводили не только лошадей, но и
пятнистых оленей (Cervus nippori); позже там возникла плантация женьшеня. С
течением времени на свет появилось четверо сыновей и две дочери; хозяйство в
Сидеми стало образцовым. Наряду с этим была развёрнута широкая
естественнонаучная деятельность, прежде всего сбор зоологических коллекций.
Вначале Янковский поставлял зоологический и ботанический материал в
научные коллекции в Варшаве и Иркутске. Позже он стал продавать часть
своих сборов в зоологические музеи Санкт-Петербурга, Берлина и Парижа.
В 1884 году семья Браницких из Варшавы предложила Янковскому собирать
научный материал для их частной коллекции. «Дома», на Дальнем Востоке,
1 Старинное удэгейское название, ныне полуостров носит имя Янковского. — прим. перев.
386
Янковский стал активным покровителем музея Приморья во Владивостоке и
соучредителем Общества исследований Приамурья; кроме того, он снабжал
коллекционным материалом музеи во Владивостоке и Хабаровске. Больше
всего Янковского интересовала зоология, но у него есть публикации и по
истории Приамурья и по другим темам. На основе материалов, собранных
Янковским, было опубликовано множество работ по доселе почти неизвест
ному региону Восточной Азии. Важнейшая среди них — фундаментальное
сочинение о птицах Восточной Сибири, написанное Владиславом Тачанов-
ским в 1891-1893 годах и изданное на французском языке в Санкт-Петер
бурге. Французские и польские учёные публиковали сводки о
дальневосточных бабочках, перепончатокрылых и жуках, русские — по ботанике и
другим темам.
В глухом, малонаселенном, диком краю было совсем не просто создать
рентабельное хозяйство. С этой задачей мог справиться лишь тот, кто, кроме
идей, обладал необходимыми знаниями, выносливостью и жизненным опы
том. Вот что пишет о пионерской работе своего деда внук основателя
поселения в Сидеми Валерий Юрьевич Янковский (1990): «Хозяйство там
повелось с нуля. Началом «конского завода» в 1879 году явились невзрачный
российский жеребчик Атаман и десяток крохотных корейских, маньчжурских и
монгольских кобылок, четырёх из которых со всем приплодом в первую же
зиму задрал тигр. Пантовое оленеводство — с трёх забредших на полуостров
из тайги пятнистых оленей. Первая в России плантация женьшеня возникла
из горстки корешков и семян, доставленных аборигенами — тазами». Жить
и работать в Сидеми было не только тяжело, но и опасно. «Хозяева Сидеми
с первых шагов встретились, казалось, с непреодолимыми препятствиями. В
те годы, помимо четвероногих хищников — тигров, барсов, волков и
медведей, переселенцев грабили профессиональные маньчжурские разбойники
хунхузы: неохраняемая граница пролегала всего в полусотне километров.
При их зверском нападении в июне 1879 года погибла жена соседа, капитана
Гека, его рабочие и шестилетний сынишка. Янковский остался с
покалеченной рукой. Однако, это не остановило упрямых первопроходцев: Гек женился
вновь, продолжил на своей шхуне промысел китов. Янковский не оставил
идеи разводить и совершенствовать горячо любимых лошадей. Всего с одним
помощником отправился по санному ямщицкому тракту за пять с половиной
тысяч вёрст и пригнал своим ходом из Западной Сибири, не раз рискуя
жизнью, табун прекрасных производителей томской породы, затратив на это
путешествие десять месяцев!» (Янковский, 1990).
Большое впечатление производило имение Янковских в Сидеми, что-то
среднее между огромным жилым домом и крепостью. Сын Юрий (по
387
Рис. 101. Михаил Янковский, Владивосток
1895 г.
проекту брата Александра) пристроил к старому дому величавый белый
замок с башней, на флагштоке развевался голубой флаг с чёрно-золотым
гербом старинного польского рода «Новина». В советское время здание было
разграблено и разрушено, но на близлежащем мысе Гамова, недалеко от По-
сьета, сохранились руины дома Яна, другого сына Янковского, построенного
в похожем стиле (Касьянов, 2005).
Сельскохозяйственная и коневодческая деятельность основателя
поселения в Сидеми представляла собой огромный вклад в развитие российского
Дальнего Востока. Губернаторы Уссурийского края возили из Владивостока
в Сидеми высокопоставленных гостей, чтобы с гордостью
продемонстрировать им процветающее хозяйство. Кроме того, по настоянию
генерал-губернатора Дальнего Востока министр внутренних дел в Санкт-Петербурге, с
согласия царя, в 1890 году освободил Янковского от полицейского надзора
(которому подлежали все без исключения участники Польского восстания).
Так Янковский стал свободным и полноправным гражданином Российской
империи!
В семье Янковских все дружно трудились. «Приказчиков [...] не держали,
во всех делах обходились своими силами. Только пастухами растущего стада
работали в основном корейские переселенцы» (Янковский, 1990). Ольга
Лукинична выбирала домашних учителей для подрастающих детей; она не
только заботилась о семье, но и способствовала просвещению населения
посёлка. Погостить в Сидеми часто приезжали друзья и знакомые; среди них
388
были учёные и художники. Там бывали поэт Константин Бальмонт, этнограф
и писатель Владимир Клавдиевич Арсеньев, публицист и писатель
Фердинанд Оссендовский, врач и зоолог Бенедикт Дыбовский, натуралист Моль-
трехт. На безлюдном прежде полуострове закипела жизнь.
Меня лично Восточная Азия заинтересовала более двадцати пяти лет тому
назад, когда я надеялся найти редчайший вид Восточной Палеарктики —
хохлатую пеганку (Tadorna cristata). Тогда я удивлялся, что Янковский не
добывал этих уток. О моих поисках я писал в различные журналы. Однажды
я получил письмо с комментариями к моей публикации из города Владимира
в России. Его автором был Валерий Янковский, внук знаменитого польского
ссыльного, исследователя русского Дальнего Востока! Это письмо
послужило началом нашей многолетней переписки и дружбы. Я узнал, что не
только его дедушка, Михал Янковский (между тем превратившийся в
Михаила Яновича и даже Ивановича) был учёным-естествоиспытателем.
Оказывается, представители трёх поколений семьи избрали эту же
профессию и каждый так или иначе пострадал от политических преследований
(Nowak, 1988; 2000: 487-492)!
В преклонном возрасте Янковский стал плохо переносить климат
Дальнего Востока. Препоручив управление имением в Сидеми жене и сыновьям
Александру и Юрию, он сначала уехал на лечение в Семипалатинск, а
оттуда — на Кавказ. Он построил дом в Сочи и умер там в 1912 году. Россия
стала его вторым домом; от революционных идеалов его молодости
осталось только сочувствие к низшим социальным слоям общества: он завещал
дом в Сочи своему камердинеру и экономке.
* * *
Второе поколение исследователей Восточной Азии представляют
Александр Михайлович Янковский (1876-1944) и его сводный брат Юрий
Михайлович Янковский (1879-1956). Они продолжали активно собирать
научные коллекции. В 1895 году они по поручению Великого князя собирали в
Корее коллекцию бабочек и попутно добывали птиц, в 1897 году составили
большой гербарий для профессора ботаники В.Л. Комарова, ставшего позднее
президентом Академии наук. В честь братьев Янковских названы
дальневосточный подвид сороки {Pica pica jankowskii) и множество насекомых.
Незадолго до наступления нового столетия Александра, как когда-то его отца,
охватила «золотая лихорадка». Он отправился в Клондайк, но опоздал: золота
там уже больше не было. Он поехал в Панаму, надеясь заработать деньги на
строительстве шлюзов на Панамском канале, но из этого тоже ничто не
389
вышло, так как работы прервались. В конце концов он вернулся на Аляску, где
ему всё-таки удалось найти немного золота. Юрий последовал за братом в
Америку, изучал в течение нескольких семестров агрономию в Сент-Луисе,
а потом уже как простой ковбой постигал основы коневодство в Техасе.
Вскоре Юрий возвратился в Россию, причём пароходом из Сан-Франциско
он привёз домой четырёх чистокровных английских скакунов. Теперь он
фактически остался на Сидеми главным хозяином и должен был управлять
имением. Александр Михайлович был непоседой, он путешествовал по России,
побывал на Камчатке. Его брак оставался бездетным и был недолговечен. На
несколько лет он устроился на работу архитектором в Шанхае. Здесь он
продолжал собирать насекомых, в частности, бабочек, которых он продавал в
различные музеи и в частные научные коллекции; кроме того, он сам
публиковал результаты своих энтомологических исследований.
Между тем Юрий Михайлович наследовал имение на Сидеми. В 1906 году
он женился на дочери богатого судовладельца М.Г. Шевелёва. У них
родились дети — три сына и две дочери. В одиноком поселении жили ещё две
семьи с детьми; летом приезжали отдыхать гости из Владивостока. Каждый
год из Владивостока пребывала богатая семья Брюннеров — у них был на
Сидеми собственный летний дом. Их сын Юлий впоследствии стал
известным американским киноактером — Юлом Бруннером. Наряду с другими
работами, важной областью деятельности оставались сбор
естественнонаучных коллекций и отправка их в различные музеи. В Сидеми часто приезжал
зоолог Александр Черский, куратор Естественнонаучного музея из
Владивостока. Хозяйство процветало, никто не подозревал, что вскоре
политическая буря достигнет этого уединённого уголка Земли...
Это произошло к концу лета 1922 года: гражданская война в России
докатилась до окраин бывшей Российской империи, японцы заняли часть
Дальнего Востока, Белая Армия отступала в Маньчжурию, Корею и Китай. Юрий
Михайлович, разумеется, прекрасно понимал, что ждёт его как богатого
помещика в случае захвата большевиками Дальнего Востока, несмотря на все
заслуги перед краем. Он был на стороне белых и активно поддерживал их.
Когда стало окончательно ясно, что большевики одержали победу, буквально
в последний момент перед их появлением в Сидеми было решено
эмигрировать в Корею. Юрий Михайлович не раз бывал там и имел немало друзей
из числа бывших работников имения. Вся семья, рабочие и служащие,
пожелавшие ехать, пересекли пограничную реку Туманган — некоторые на
катере «Призрак», некоторые верхом. Корея уже много лет находилась под
управлением японцев, тем не менее, японцы принимали русских беглецов и
поддерживали их интеграцию в стране.
390
Рис. 102. Юрий Михайлович Янковский в
Корее, 19 30-е годы.
Первые годы в Корее были очень трудными, иногда приходилось жить в
палатках; зарабатывали на жизнь, как могли. Пришлось распродать все
имущество, которое успели захватить с собой из Сидеми. Только через несколько
лет Юрий Михайлович сумел приобрести участок земли около горячих
ключей Омпо, в 50 км к югу от Сейсина. Там он создал хутор и дачный посёлок,
который назвали «Новиной» (фамильный герб семьи Янковских). Снова
была создана оленеводческая ферма, пасека, выращен сад, завели молочных
коров. Всё это привлекало в курортный период многочисленных дачников
— культурную элиту из Шанхая, Харбина, Сеула и даже из Европы. Дачники
служили хорошим источником дохода, кроме того, Янковский по-прежнему
занимался охотой (особенно на тигра) и сбором и продажей зоологических
и ботанических научных коллекций. Детей использовали для
упорядочивания и упаковывания сборов. Из Шанхая вернулся Александр, он продолжал
собирать коллекции насекомых, а кроме того, стал выращивать из гусениц
редкие виды бабочек. К постоянным покупателям коллекций из Европы и
Америки присоединились теперь музеи и школы в Сеуле и в Японии. В
самом посёлке тоже был создан маленький музей. Иностранные учёные,
посещавшие Новину, могли воспользоваться поддержкой и помощью опытных
исследователей и знатоков Дальнего Востока — братьев Александра и Юрия.
Сюда приезжал американский исследователь Азии Рой Чапман Андрюс и
шведский зоолог Стен Бергман. Бергман, который длительное время
находился в Корее по поручению Стокгольмского естественнонаучного музея,
391
написал в своей книге (Bergman, 1938; немецкий перевод — 1944): «Ни один
европеец не пользуется такой известностью среди жителей
Северо-Восточной Кореи как Янковский». В 1944 году в Харбине вышла книга Юрия
Янковского «Полвека охоты на тигров». В начале 1940-х годов в Новине
побывало ещё немало учёных и охотников. Зимой 1944 года во время охотничьей
экспедиции в одном из глухих районов Александр заболел, медицинская
помощь пришла слишком поздно, и он скончался. Вскоре после этого
трагического события произошли не менее страшные вещи...
В августе 1945 года Советский Союз вступил в войну с Японией,
Красная Армия заняла Маньчжурию и север Кореи. Часть семьи эмигрировала
в Америку и Австралию; судьба Юрия Михайловича долгое время
оставалась неизвестной. Англичанка Мэри Тэйлор, которая долго жила в Корее и
была дружна с семьей Янковских, опубликовывала в 1956 году в Лондоне
книгу с впечатляющим описанием жизни в Новине (Taylor, 1956, немецкий
перевод — 1958). Она написала и о том, что по её сведениям Юрий
Янковский был арестован Советами. Она писала: «Насколько я знаю, ни один
человек ничего не слышал о Юрии Янковском с 1945 года. Никто не знает,
жив он ещё, или мёртв». Она вспоминает об одном давнем
непринужденном разговоре с Юрием у камина, он рассказывал ей о перестрелках с
китайскими грабителями, браконьерами и красными партизанами. Когда она
спросила, зачем он подвергает себя стольким опасностям, он ответил: «Я
— фаталист, и полагаю, что тот, кому суждено умереть в тюрьме, не будет
раньше срока застрелен, а тот, кому суждено погибнуть в когтях тигра, не
утонет раньше». После 1945 года Юрию Михайловичу не пришлось
больше ни охотиться на тигра, ни плавать. О его судьбе мне рассказал его
сын — Валерий Юрьевич Янковский (см. также: Янковский, 1990).
Первые месяцы после вступления Красной Армии в Корею Юрий
Михайлович провёл в советских тюрьмах, несколько раз бежал, был осуждён на
десять лет лагерей и этапирован в Сибирь. Богатое имение было
конфисковано, причём «непригодные предметы», к которым отнесли часть
библиотеки и архива, сожгли по приказу командования. С 1947 года
Янковский находился в лагере в Иркутской области. Только через несколько
лет он смог писать оттуда сыну Валерию. В воспоминаниях об отце
Валерий Янковский (1990) пишет: «[...] Сохранились письма отца из лагеря,
очень спокойные, философские письма. Он сообщал, что последние пять
лет работает в зоне дворником, пишет свои воспоминания о Приморье,
Корее, Америке. Получает за работу пять рублей в месяц (по теперешнему
50 копеек), но что этого на бумагу и карандаши ему хватает. Я перевёл ему
триста «тех» рублей. Он благодарил, сказал, что теперь «богат как Крез»...
392
Рис. 103. Татьяна Павловна Янковская-
Бордовская у мемориальной доски своего
дяди, ЮМ. Янковского, на заброшенном
кладбище у станции Чукша
железнодорожной магистрали Тайшет — Братск в
Иркутской области. Татьяна Павловна
— последняя из семьи, кто видел ЮМ.
Янковского в лагере. (Кладбище найдено
по просьбе Валерия Юрьевича бывшей
узницей ОЗЕРААГа, харбинкой,
переводчицей с японского языка Степанидой
Ивановной Меределиной из г. Вихоревка
под Братском).
Отец не дожил до освобождения какие-то недели, может быть, дни.
Простудился и умер в лагере в мае 1956 года [.. .]»2.
Юрий Михайлович пророчески предсказал свою смерть. Мэри Тэйлор,
автор воспоминаний о Янковском, уже не узнала об этом, но её книга стала
памятником этому легендарному человеку и исследователю. Другой
памятник установил его сын — Валерий Юрьевич (Янковский, 2000; англоязычное
издание — Yankovsky, 2001): в 1996 году на заброшенном, заросшем лесом
кладбище у станции Чукша железнодорожной магистрали Тайшет — Братск
в Иркутской области на берёзе укрепили пластину с надписью «Дворянин
Юрий Михайлович Янковский, 1879-1956, автор книги «Полвека охоты на
тигра»» (рис. 103).
Но на этом не кончается история научной деятельности семьи Янковских!
Мой друг Валерий Юрьевич Янковский (род. в 1911 г.), внук Михаила
Янковского, сын Юрия Янковского, рассказал мне и о своей судьбе.
2 Последний адрес ЮМ. Янковского на конвертах: «Иркутская область, Чунский район, п/о
Сосновка, п/я 90/2—237». — прим. перев.
393
Находясь в эмиграции в Корее, Валерий в 1924 году был зачислен как
«заочный» ученик в русскую гимназию в Харбине (Маньчжурия,
Северо-Восточный Китай) и в 1929 году сдал экзамены на аттестат зрелости. В Корее он
учился также на курсах лесоведения. В Новине он стал главным
помощником отца. «Старший сын Янковского — Валерий был в то время, пожалуй,
лучшим охотником во всей Корее. Сопровождая его, я всегда любовался его
неповторимой меткостью в стрельбе и умением выследить добычу», —
писал в своей книге С. Бергман (Bergman, 1944). Он выполнял также
большую часть заказов иностранных музеев и учёных. У японских властей (в
1932 году Япония оккупировала Северо-Восточный Китай и основывала
здесь «государство Маньчжоу-го») Валерий покупал лицензии, чтобы
охотиться в богатых дичью районах к северу от корейской границы, где
действовали вооруженные группы корейского сопротивления. Однажды
начальник местной японский полиции показал Янковскому фотографию
находящегося в розыске предводителя мятежников с предложением «убить
этого тигра» за вознаграждение в 100 000 йен (Янковский, 2000: 90; Yankov-
sky, 2001: 114-115). Но Валерий симпатизировал корейцам и отказался...
По поручениям отца Валерий часто бывал в Маньчжурии, здесь в
начале 1940-х годов он завёл самостоятельное хозяйство: взял в аренду
землю и построил большое имение с жилыми домами и хозяйственными
постройками. Были наняты рабочие и служащие. Новый посёлок получил
название «Тигровый». В 1944 году Валерий женился. В новом имении
также начали собирать зоологический материал и отправлять старым
клиентам «Новины».
Вступление Красной Армии прервало начавшуюся работу летом 1945
года. Валерий Юрьевич встретил приход советских войск без страха и даже
с определёнными надеждами: в течение длительного времени он слушал
адресованные «белым эмигрантам» передачи советского радио, которые
носили патриотически-примирительный характер. Вначале ожидания
Янковского оправдались: его пригласили на работу в качестве переводчика в штаб
25-й Армии (он свободно владел русским, японским, корейским языками и
знал также китайский). Новая служба была утомительна и требовала много
времени, но его восхищала братская атмосфера общения с советскими
офицерами и солдатами; Валерий был счастлив снова служить Родине. В своей
книге (Янковский, 2000: 90; Yankovsky, 2001: 113-114) он вспоминает о
большом митинге на стадионе в Пхеньяне в октябре 1945 года. Валерий Юрьевич
в качестве переводчика сидел между двумя советскими генералами, когда
перед собравшимися появился корейский национальный герой
антияпонского сопротивления, Ким Ир Сен. Толпа встретила его ликованием. Вале-
394
Рис. 104. Валерий Юрьевич Янковский на
охоте в горах юго-восточной
Маньчжурии, 1943 г.
рий узнал в нём того самого человека, фотографию которого японский
офицер полиции показывал ему пять лет назад...
Вскоре произошло нечто странное: приятель Валерия, советский офицер
контрразведки, во время дружеской попойки посоветовал ему бежать в
американскую оккупационную зону Кореи... Валерий счёл это провокацией, но
ошибся: в конце января 1946 года его арестовали. Военный суд приговорил
его к шести годам исправительно-трудовых лагерей за «поддержку мировой
буржуазии»! Янковский считал приговор нелепым и подал апелляцию, после
чего срок увеличили до десяти лет... Янковский был отправлен в лагерь.
Много лет спустя он вспоминал, что в пути с арестантами обращались даже
не как со скотом, а как с хищными зверями, которых следует держать за
решёткой. Тем не менее, на пути во Владивосток ему удалось совершить побег.
Валерий надеялся, что в родной, хорошо знакомой ему местности ему удастся
спрятаться. Но его схватили! На этапе он встретился с отцом... Много лет
спустя Валерий Юрьевич вспоминает: «Наша последняя встреча состоялась
в лагере на Первой речке Владивостока в мае 1947 года. Мы не смогли
обняться. Я сидел в ЗУРе — зоне особого режима, и мы сумели только пожать
друг другу руки сквозь ячейки проволочной ограды. А позднее, по
неисповедимой каторжной судьбине, отец встретился в сибирском этапе и два дня
просидел рядом на нарах с младшим сыном Юрием, которого везли в Казахстан.
395
Тем «самым маленьким» сыном, который за несколько лет до этого
пристрелил подмявшую отца тигрицу. Многое из жизни нашей, некогда большой
дружной семьи успели они вспомнить за эти два дня...» (Янковский, 1990).
Вскоре Валерию вынесли новый приговор: за попытку побега он был
осуждён на 25 лет лагерей строгого режима на приисках на Чукотке под Пе-
веком. Свой побег, пребывание в лагере и возвращение к «нормальной»
жизни он описал в документальном романе (Янковский, 1991). Читая его,
трудно представить себе, как можно было выжить! Самым страшным в
лагере и на пересылках была даже не смерть, которую он описывает так часто,
а само существование. Над арестантами издевалось не только начальство и
охрана; среди самих заключённых сложилась структура, на вершине
которой находились уголовники. Например, махорку можно было купить по цене
«один грамм золота за один грамм махорки» (цена «Джек-Лондон-
Клондайк» на лагерном жаргоне). Махорку можно было достать на складе
или у охраны, золото — из зубов арестантов. «В ЗУРе шла охота за золотыми
зубами. Блатные «шестёрки» незаметно заглядывали в рты и, заметив
золотую коронку, докладывали своим шефам. Следовало указание — добыть. В
большой зоне ещё можно как-то захорониться, бегать из барака в барак, а в
ЗУРе один-единственный барак, обречённому деваться некуда. Ночью
несчастного обладателя золотых коронок или мостиков прижимали в тёмном
углу, душили или оглушали и отпускали только тогда, когда все золото —
вместе с зубами — оказывалось в руках палачей».
У Валерия тоже были коронка и два моста из красного золота. Он не стал
дожидаться, пока станет жертвой бандитов. Вместе с тремя друзьями, с
которыми он делил все, что было, он решил «продать» золото самостоятельно.
«Мы договорились со всемогущим старшим поваром: за моё золото он до
самой отправки будет отпускать нашей компании ведёрко самой густой, со
дна, баланды».
В 1955 году, через два года после смерти Сталина, Валерий смог досрочно
покинуть места заключения, и ему, как «свободному гражданину», было
разрешено поселиться в Магадане. Вскоре ему удалось выяснить, что его жена
с сыном Сергеем, который родился в 1946 году, бежала сначала на юг Кореи,
в американскую зону, а оттуда эмигрировала в Канаду. Разумеется, он не мог
перебраться в Канаду, он не мог уехать даже из Магадана. Валерий выяснил
также, что отец жив и находится в лагере в Иркутской области. Они начали
переписываться. Так как срок заключения отца приближался к концу,
планировали привезти его в Магадан. До долгожданного освобождения
оставалось всего лишь несколько недель, может быть, несколько дней. Валерий
надеялся, что ему лично разрешат забрать отца. Но этой надежде сбыться было
396
Рис. 105. В.Ю. Янковский (справа) и
лауреат Нобелевской премии мира
профессор А.Д Сахаров (слева) во время
учредительной конференции общества
«Мемориал» в Москве, декабрь 1988 г.
\ \
не суждено. Неожиданно пришла телеграмма с извещением о смерти
77-летнего арестанта. В очерке об отце, опубликованном в 1990 году, Валерий
Юрьевич написал: «Мне не довелось поклониться его могиле. Лагерные
кладбища давно, как правило, сровняли с землёй»...
Надо было снова начинать жизнь сначала. В 1957 году Валерий Юрьевич
был реабилитирован, поступил на работу лесничим в Магадане и снова
женился. Его женой стала Ирина Пиотровская, внучка ссыльного участника
Польского восстания 1863 года! Она отсидела тринадцать лет в лагерях, куда
попала ещё школьницей3.
3 В 1941 году в саратовской тюрьме Ирина Пиотровская встретила Николая Ивановича
Вавилова. Он просил её запомнить его имя, рассказать, что в его трагедии виноват Лысенко.
Вот как она вспоминает об этой встрече: «Во время следствия я заболела. Поднялась
температура. Была зима, декабрь 1941 года. Вывели меня на тюремный двор вместе с другими
больными и поставили к забору. Стою лицом к забору и слышу шепот: «Что ты плачешь?
Сколько тебе лет»? Отвечаю: «Мне семнадцать лет... Исполнилось в тюрьме». — «Ты немного
скоси глаза и посмотри на меня». Стоит высокий человек. Очень худой. В длинном пальто. Он
говорит: «У тебя какая статья?». Отвечаю: «58-я». — «Ну так слушай! Может, ты отсюда
выйдешь. Я Вавилов, запомни, Николай Иванович Вавилов, академик. У меня высшая мера
наказания. Но сейчас почему-то везут лечить. Ты, наверное, всё-таки выживешь. И тебя
освободят. Когда приедешь в Москву, ты обязательно должна рассказать. Что виделась со мной
397
Рис. 106. Памятник ММ. Янковскому, открыт 15 сентября 1991 г.
в посёлке Сидеми/Безверхово, недалеко от Владивостока.
В 1959 году появился на свет сын Арсений. После выхода Валерия
Юрьевича на пенсию в 1966 году семья перебралась во Владивосток, но ребёнок
плохо переносил влажный климат Приморья, и в 1968 году было решено
уехать в Европейскую Россию, во Владимир. Условия жизни не позволяли
продолжить семейную традицию естествоиспытателей, и Валерий Юрьевич
стал писателем. Его первой книгой стала биография деда — Михаила
Янковского (Янковский, 1977, 2007), после этого были опубликованы
многочисленные рассказы и ещё несколько книг. В своем саду во Владимире он
начал выращивать женьшень, плантации которого украшали когда-то
имение Сидеми его деда и приносили хороший доход. В 1986 году, после прихода
к власти Горбачёва, ему позволили посетить его первую жену и сына в
Канаде, а также сестру в Калифорнии. Через два года он вместе с А.Д.
Сахаровым принимал участие в учредительной конференции общества «Мемориал»
в Москве (рис. 105).
в этой тюрьме. В моей трагедии виноват Лысенко. Повтори!». Я повторила это несколько
раз. Потом нас посадили в «чёрный ворон» и мы с ним очутились в одном боксе. Он мне ещё
рассказал анекдот, чтобы отвлечь. Замечательно держался, хотя знал, что с ним всё кончено.
Потом меня подлечили и опять отправили в камеру. Через некоторое время нам стало
известно, что академик Вавилов умер...». См. очерк «Мне страшно этих строк»,
Биобиблиографический сборник «Валерий Янковский», серия «Краеведы Приморья»,
Владивосток, 2008. — прим. перев.
398
i
Рис. 107. В.Ю. Янковский в своей квартире во Владимире, 1999 г.
В 1991 году он присутствовал на величайшем семейном торжестве: 15
сентября в посёлке Безверхово/Сидеми на полуострове Янковского был
открыт большой бронзовый памятник знаменитому деду Валерия Юрьевича
— Михаилу Ивановичу Янковскому (рис. 106).
С 1990-х годов моя переписка с Валерием Юрьевичем дополняется
телефонными разговорами с ним. Сильный, жизнерадостный голос Валерия
Юрье вича каждый раз поражает меня. Ещё несколько лет назад, когда
Валерия Юрьевича не оказывалось дома, домочадцы говорили: «Он на охоте»!
(Ныне он решается только на недалёкие прогулки).
Недавно мне представился случай посетить полуостров Янковского:
великолепный дом-замок, который построил Михаил Янковский более ста лет
назад, больше не существует. Но поблизости от нового бронзового
памятника сохранилась могила семьи Брюннеров из Владивостока, потомки
которой породнились с потомками Янковского. Пионерская деятельность семей
Янковских, Брюннеров и Геков — впечатляющий пример работы на благо
отечества, достойный материал для изучения современными поколениями
историков Дальнего Востока. Недавно появилось исследование генеалогии
семьи Янковских (Кушнарева, 2003).
Вернёмся назад, к нашему кругу интересов: к сожалению, четвёртое
поколение семьи Янковских не стало естествоиспытателями. Сыновья
Валерия в России и в Канаде избрали другие профессии.
399
Орнитологи-натуралисты, собиратели коллекций создавали основу для
исследования фауны птиц Палеарктики. Но не менее важной была роль тех
учёных, которых часто называют кабинетными — аналитиков, занятых
обработкой и осмыслением собираемых коллекций. Доктор Чарльз
Вори/Charles Vaurie (1906-1975) из Американского музея естественной
истории в Нью-Йорке принадлежал как раз к этой группе исследователей
(Etchecopar, 1975; Short, 1976; Witherby, 1976). То, что американец занимался
фауной Старого Света, кажется необычным, но имеет веские причины. Одна
из самых больших коллекций птиц Палеарктики находилась в частном музее
барона Вальтера фон Ротшильда в Тринге недалеко от Лондона. Кстати,
директором музея был Эрнст Хартерт, и именно здесь он написал в начал XX
столетия книгу «Птицы Палеарктической фауны». Когда у Ротшильда
возникли финансовые затруднения, и Министерство финансов Англии не
захотело оказать ему никакой поддержки, он распорядился упаковать 280 000
тушек птиц в 185 ящиков и в 1932 году продал коллекцию в Нью-Йорк.
Американцы, посылавшие в Азию многочисленные экспедиции, ещё увеличили
коллекцию. Таким образом, глобальный анализ фауны Старого Света без
включения материала из США невозможен и сегодня.
Доктор Вори, с которым я познакомился в 1957 году в Зоологическом
музее в Берлине, был незаурядным человеком: он неутомимо работал с
коллекциями, но в то же время был общительным, жизнерадостным,
отзывчивым человеком и превосходным рассказчиком. В то время он как раз начал
работать над «Птицами Палеарктики» («Birds of the Palearctic Fauna»).
Наряду с материалами, находящимися в США, ему, разумеется, необходимо
было просмотреть сборы, имеющиеся в европейских и азиатских музеях,
поэтому он часто приезжал в Старый Свет. Он охотно делал это, так как по
происхождению был французом: его родители эмигрировали в США перед
Первой мировой войной. Заниматься орнитологией он начал очень поздно и
необычным образом: вначале он изучал медицину, специализировался в
стоматологии и до 1956 года имел частную клинику хирургической
стоматологии в Нью-Йорке! Вместе с тем Вори интересовался орнитологией, обладал
глубокими знаниями в этой области и был одарён художественно. Джеймс П.
Чапин из Нью-Йоркского музея обратил внимание на его рисунки птиц. Вори
начал работать в музее «на общественных началах» и публиковать статьи по
систематике различных групп птиц, в том числе совместно с Эрнстом Май-
ром. Штреземанн ещё в то время распознал талант Вори и в 1950 году
написал своему другу Майру, что считает его «одним из лучших будущих ор-
400
Рис. 108. Доктор Чарльз Вори из Нью-
Йорка — «рассказчик историй», 1958 г.
нитологов-систематиков» (Haffer, 1997: 649). В 1956 году бывший зубной
врач был принят в музей на постоянное место и смог целиком посвятить себя
орнитологии. В 1961 он стал членом-корреспондентом Немецкого
орнитологического общества, с 1965 года он был избран почётным членом
Французского орнитологического общества.
Подходы к систематике птиц у Штреземанна и Вори во многом совпадали.
Они оба выступали против излишнего «дробления» родов и видов, которое
получило распространение среди некоторых европейских систематиков с
1940-х годов. Штреземанн содействовал работе Вори и помогал налаживать
контакты с орнитологами Европы, в том числе и за «железным занавесом».
В Берлине Вори в 1957 году встретился с профессором Л.А. Портенко из
Зоологического института в Ленинграде, где находилась самая богатая в
СССР коллекция птиц, и профессором Ченгом из Зоологического института
Китайской Академии наук в Пекине. Вори познакомился также с
профессором Г.П. Дементьевым из Москвы. Вори хотел работать над своей сводкой по
птицам Палеарктики в сотрудничестве с орнитологами из Старого Света.
Ченг как раз трудился тогда над вторым томом «Списка птиц Китая», но в то
время сотрудничество американца с «красным китайцем» не было
возможным по политическим причинам. Портенко сначала склонялся к
сотрудничеству (в этот период в Советском Союзе как раз наступила «оттепель»), но
затем также отказался от совместной работы. Позже он сказал мне, что
считает метод работы Вори «слишком поверхностным». Но, скорее всего, при-
401
чина состояла в том, что Вори, увидев, что Портенко как раз является пред-
ста вителем школы «дробителей» видов, отказался от мысли о
сотрудничестве. Несомненно, сыграли свою роль и политические причины —
«железный занавес» диктовал свои законы.
Однако, Вори был настойчив. Он много раз получал советскую визу,
посетил несколько институтов в СССР, побывал в Польше (по моему
приглашению) и всюду работал с коллекциями. Неоднократные приезды
американца, да ещё французского происхождения, в Советский Союз давали повод
для различных рассказов и толков. Когда я встретился с ним в 1965 году на
конференции в Алма-Ате, он поведал мне о забавном происшествии, которое
произошло накануне в центральной сберкассе города. Он хотел поменять
доллары на рубли, но это не удалось, поскольку работники сберкассы увидели,
что подпись на долларовых банкнотах, которые он хотел обменять,
отличается от той, которая стоит на образцах банкнот в их справочнике4.
Кроме того, он с возмущением рассказал о том, что несколько лет назад,
находясь с официальной визой в Ашхабаде для работы с орнитологической
коллекцией, буквально через несколько дней после приезда был вызван
местными органами КГБ и выслан из СССР по подозрению в шпионаже. (Это
произошло как раз вскоре после того, как советские ракетчики сбили
американский шпионский самолёт «Локхид У-2» в мае 1960 года; по поводу этого
события в СССР была развёрнута мощная антиамериканская кампания).
Здесь снова уместно задаться вопросом, сколько правды содержат
многочисленные фильмы и романы, в которых орнитологи (наряду с рыболовами)
выступают как шпионы? Я не думаю, что доктора Вори нужно причислять к
персонажам подобного рода. Но все же нельзя не сказать, что история
орнитологии содержит некоторые примеры по этому поводу — и вовсе не такие
безобидные, как в случае доктора Макача или Губера Вебера (ср. стр. 145—
153 и 269-281)...
* * *
Жизненный путь Вальтера Байка/Walter Beick (1883-1933) представляет
собой трагический пример из дальнего прошлого. Байк был мужественным
и успешным исследователем Центральной Азии, где он собирал коллекции
позвоночные животных, насекомых и растений, которые поставлял в
европейские музеи (Gebhardt, 1964: 30).
Байк был балтийским немцем, сыном адвоката в Верро (ныне Выру) в
Эстонии, тогда провинции Российской Империи. В семье, как в это было
4 Долларовые банкноты разного года выпуска имеют разные подписи. — прим. перев.
402
Рис. 109. Валътер Байк — выпускник
гимназии, Санкт-Петербург, 1900 г.
принято в то время, заботились о сохранении немецкого языка и культуры и
поддерживали контакты с родиной, поэтому отец отдал Вальтера сначала в
немецко-русскую гимназию в Санкт-Петербурге, а после её окончания
послал сына учиться в пользующуюся хорошей репутацией Академию
лесоведения в Эберсвальде, а затем в университет в Мюнхене. Вернувшись в
Россию, Байк начал трудовую жизнь, которая вскоре была прервана началом
Первой мировой войны. Как офицер русской армии Байк обязан был теперь
воевать против немцев. От этого двусмысленного положения его избавили
два ранения, после которых его признали непригодным к строевой службе.
Байк решил поселиться подальше от театра военных действий и в январе
1916 года уехал в русский Туркестан. Здесь он смог отдаться своей страсти
к охоте; он совершал экспедиции в горы и собирал коллекции для музея в
Верном (Алма-Ата, ныне Алматы). Во время одного киргизского мятежа ему
как офицеру пришлось командовать карательной операцией против
повстанцев. После её окончания в 1917 году он решил всецело посвятить себя
науке: «Потрясающая красота гор Ала-Тау оставила во мне такое глубокое
впечатление, что укрепила моё решение посвятить мою дальнейшую жизнь
исследованию природы Центральной Азии», — написал Байк в письме на
родину (цит. по Stresemann, 1937). Чтобы исполнить своё решение, он
работал сначала главным лесничим, потом директором Школы лесоводства в
Верном, и, наконец, стал директором городского Музея краеведения. В это время
403
большевистская революция докатилась до Центральной Азии, контакт с
Европой и с родительским домом прервался. Только много времени спустя
родители в Прибалтике получили письмо от пропавшего сына из... Ганьсу
(«Восточный Туркестан», ныне Китай), в котором он писал: «В 1920-м году
мне пришлось бежать, так как большевики хотели лишить меня жизни, я был
схвачен басмачами, арестован мусульманским «штрафным корпусом». Я
должен был бросить на произвол судьбы всё, чем я владел, все коллекции,
которые я с таким трудом собирал». В Ганьсу Байк вначале зарабатывал на
жизнь как профессиональный охотник и рыболов. По прошествии
некоторого времени ему удалось получить материальную поддержку от семьи и
друзей, которые жили теперь в независимой Эстонии. После этого он писал
своему другу на родине: «Я сразу же продолжил мою исследовательскую
деятельность и поставляю научный материал в музеи в Берлине, Амстердаме
и Копенгагене».
В 1925 году Штреземанн узнал о деятельности Байка и написал ему,
предложив сотрудничество. Из первого же письма Байка он понял, что имеет дело
с «исследователем и путешественником с большой буквы,
натуралистом-энтузиастом большого масштаба». Началось очень плодотворное
сотрудничество двух исследователей: из Китая прибывали посылки с тушками, а из
Берлина — специальные указания, необходимая научная литература и деньги.
Казалось, Байк достиг своей цели: успешного сотрудничества с хорошим
музеем под руководством авторитетного учёного.
Но ситуация в провинции, избранной Байком для орнитологических
исследований, вскоре стала ухудшаться, и на пути его деятельности стали
возникать непреодолимые препятствия. В Китайском Туркестане вспыхнули
беспорядки, то тут, то там происходили стычки между китайцами и
уйгурами, к весне 1928 года волны гражданской войны достигли провинции
Ганьсу, где собирал коллекции птиц Байк. Правительство Китая всеми
силами боролось с мятежниками. Вскоре на Байка — вооруженного
иностранца, владеющего уйгурским языком и занимающегося необычной
деятельностью, пало подозрение в симпатиях к мятежникам и в шпионаже в их
пользу! Хотя он имел все необходимые официальные бумаги, его положение
стало неустойчивым. Летом 1928 года Штреземанн получил от Байка письмо,
в котором он писал: «Несмотря на нестабильное положение, 22.VI.1928 г. я
покинул Син-Тин-Пу. Мой путь снова лежал через Лау-Ху-Ку, где я
задержался на несколько дней. На расстоянии суточного перехода до моей цели —
горного массива Тетунг, я был, как уже не раз случалось, покинут моим
китайским проводником. Но мне удалось найти другого юношу. [...] При таких
условиях работа была возможна только благодаря моим хорошим отноше-
404
ниям с тибетцами. Тем не менее, эти отношения скоро испортились из-за
множества китайских беженцев [из мусульманских областей, где сейчас
беспорядки], которые ищут убежище в горах. Эти жалкие люди ... подозревали
меня в шпионаже в пользу мусульман. [...]. Скоро они решили избавиться от
меня. После провала нескольких попыток отравления, одной попытки
подкрасться ко мне незаметно и одной попытки захватить меня врасплох ночью,
решились на открытое убийство в хижине, в которой я жил. Когда один
жёлтый (не тибетец!) вытащил свой кинжал, я взялся за мою трёхстволку. Мы
долгое время стояли друг напротив друга, до тех пор, пока мужчина не
приблизился постепенно к выходу. Я использовал благоприятный момент и
выпрыгнул через дыру, служащую окном [...]. Через 6 дней и ночей, которые я
провёл голодный и в сырой одежде под дождём (и снегом одной ночью) в
горах, я на 7-й день, едва похожий на человека, достиг миссионерского
пункта в Син-Тин-Пу в Бе-Чуань-Хо. Всемогущий и милостивый Бог снова
вырвал меня у смерти и после суровых дней проверки. Благодаря усилиям
миссии удалось спасти мои вещи, остававшиеся в горах. Пропало только
несколько мелочей. [...] Юноша, который сопровождал меня, был заодно с
этими людьми и неоднократно выдавал меня им»5.
Между тем, положение не улучшалось, наоборот, беспорядки в
провинции всё усиливались. В марте 1929 года Байк сообщает об этом своему бе-
линскому наставнику: «С начала января я не мог покинуть Хайтсютс и был
вынужден довольствоваться теми видами птиц, какие можно было найти в
ближайших окрестностях. Почти 3 недели мы были полностью привязаны к
дому. Это было в то время, когда только в одном Дангаре, удалённом от нас
примерно на 36 км, восставшими дунганами убито более 2 000 китайцев.
Можете себе представить, каково нам тут. В настоящий момент в
окрестностях 30-40 км снова более или менее спокойно». (Кстати ещё и сегодня в
китайской провинции Синьцзян снова и снова происходят мусульманские
мятежи).
Тем не менее, вопреки всем неприятностям Байк упрямо продолжал
работу. Встречи с другими научными экспедициями (он, в частности, встретил
члена экспедиции шведского исследователя Свена Гедина), пристанища в
католических миссиях и сочувственное отношение с их стороны давали ему
помощь и психологическую поддержку. Но в конце 1931 года самочувствие
Байка начало ухудшаться, и он вдруг решил возвратиться в Европу с тем,
чтобы лично привезти основную часть собранного научного материала в Бер-
5 Употребляющиеся в письмах Байка -немецкие транскрипции старых китайских названий не
значатся на современных доступных китайских картах. — прим. перев.
405
лин. Первого января 1933 года он написал Штреземанну: «Я намереваюсь
ехать в Эстонию через Германию...». Вместе со своим научным наставником
он хотел обработать материалы по птицам от северо-западного Ганьсу и
передать остальную часть своей коллекции другим отделам музея. Летом 1933
года он должен был прибыть в Берлин.
Но Штреземанну не пришлось встретить заслуженного исследователя.
Вместо этого он получил из Пекина письмо следующего содержания:
«Глубокоуважаемый господин профессор! Исполняя свой печальный долг, я
ставлю Вас в известность о том, что Ваш верный и увлечённый сотрудник,
господин Главный лесничий Вальтер Байк, скончался 25 марта 1933 г. в нашем
лагере на реке Эдсин-гол — он застрелился...». Причиной такого конца были
подозрения в шпионаже. Однако из более поздних и совершенно
достоверных источников известно, что Байк не имел к шпионской деятельности
абсолютно никакого отношения! Так что его можно считать ещё одной жертвой
страха перед тайными службами.
Совсем иначе дело обстояло в случае другого человека, о котором я хочу
рассказать в следующем очерке.
* * *
История естествознания середины XX столетия содержит свидетельство
об одном известном орнитологе, который действительно был штатным
сотрудником спецслужб: полковнике британской армии Ричарде Майнерцха-
гене/Richard Meinertzhagen (1878-1967). Многочисленные публи кации
Майнерцхагена по орнитологии свидетельствуют о его большом
трудолюбии, неоднократные чествования и множество должностей, которые он
занимал в различных британских научных объединениях, служат
красноречивым свидетельством признания, которым он пользовался при жизни (J.N.K.,
A.L.T., 1967). Только через много лет после смерти Майнерцхагена появилась
его биография под примечательным названием: «Солдат, учёный и шпион»
(Cocker, 1990).
Долгая и насыщенная событиями жизнь Майнерцхагена представляет
собой увлекательное, но большей частью загадочное приключение! Он
происходил из состоятельной британской семьи, которая создала ему
возможность уже в детстве и юности познакомиться с естествознанием;
ребёнком он имел возможность встречаться с известными британскими учёными,
видел даже самого Чарльза Дарвина! Уже тогда у Майнерцхагена была
небольшая коллекция тушек птиц, которые он получал в подарок (один из
щедрых дарителей, возможно, позаимствовал их из коллекции Британского
406
музея, как вспоминал Майнерцхаген позже). Майнерцхаген учился не только
в Англии, некоторое время он провёл в Германии: в Кёльне и Бремене. Почти
всю жизнь он вёл дневник, что позволило ему в зрелом возрасте написать
несколько интересных книг. Он был талантливым исследователем и автором
значительных сочинений, причём не только о войнах и птицах, но и
интересных воспоминаний об известных натуралистах (Meinertzhagen, 1959). Он
оставил после себя дюжины томов дневниковых записей.
Молодой Майнерцхаген, несмотря на свои естественнонаучные интересы,
в последние годы XIX века стал кадровым офицером британской армии и
дослужился до звания полковника. Один из его начальников даже писал, что
он только потому не был произведён в генералы, что относился к самым
способным и самым умным из всех известных ему офицеров. В качестве
офицера разведки Майнерцхагену довелось нести службу в Индии, Бирме,
Кении, Восточной Африке, Палестине, Сирии, а также на Британских
островах и в Европе. В частности, во время различных военных конфликтов он
был шефом военной разведки, то есть отвечал также за шпионаж и достиг в
этой области значительных успехов (например, фельдмаршал Эдмунд
Алленби отмечал, что он обязан Майнерцхагену победой над турками в
Палестине в 1917 году — см. Cocker, 1990: 105). Майнерцхаген служил офицером
в штабе разведки и сыграл важную роль при взятии Газы. Тем не менее,
Алленби впоследствии отстранил его от должности и отправил в Англию.
Майнерцхаген рассказывал: «Алленби отстранил меня после того, как я сказал
ему, что британская администрация в Палестине заражена антисемитизмом».
В дневнике он записал: «Прибыв сюда, я обнаружил, что все выступают
против сионизма — тайно или открыто». После того, как Турция в результате
Первой мировой войны потеряла Палестину, Сирию и Ирак, была принята
так называемая Декларация Бальфура, в которой от имени Великобритании
было сказано об обязанностях англичан содействовать созданию
«Национального очага для еврейского народа». Алленби же был весьма скептически
настроен к идее заселения евреями Палестины6. Одна из записей в дневнике
Майнерцхагена 1918 года содержит описание его службы в Лондоне. Эта
запись, как я вначале думал, вносит поправку в один трагический эпизод
русской истории: речь идёт о событиях последних месяцев жизни семьи царя
Николая II после её заключения в Екатеринбурге. Вот цитата из дневника
Майнерцхагена, которую приводит Кокер в своей книге (Cocker, 1990: 200):
«Во время [моей работы] в военном министерстве я должен был раз в не-
6 См., например, Ф. Канделъ. Земля под ногами. Из истории заселения и освоения Эрец Исраэлъ,
1918-1948. ^.-Иерусалим. 2008. — прим. перев.
407
делю посещать короля в Бекингемском дворце, чтобы сообщать ему о ходе
кампании в Ираке и в Восточной Германии. Однажды я встретил там моего
друга Хью Тренчарда. Частью моей работы в военном министерстве была
организация тайной службы специально для наблюдений за событиями в
России. Король Георг начал беседу с сообщения о том, что он в высшей
степени сочувствует царю (своему кузену) и спросил, возможно ли спасти его
и его семью воздушным путём, поскольку он опасался за их жизнь. Хью был
полон сомнений, так как царская семья строго охранялась, и не было
никакой информации о возможности приземления самолётов. Я сказал, что могу
выяснить это и, возможно, организовать группу спасения, чтобы вывести
пленников к самолету. Разумеется, это представляло большой риск, так как
неудача повлекла бы за собой убийство всей семьи. Хью и я обсудили всё,
через несколько дней я предпринял попытку, и мне удалось освободить
несколько детей, но царя и его супругу слишком строго охраняли. Первого
июля [1918 г.] всё было кончено. Это не было успехом по всей линии, и я
думаю, было бы слишком опасно освещать детали. Одна из дочерей царя
буквально была брошена в Екатеринбурге в самолёт и вся в синяках
привезена в Великобританию, где она до сих пор живёт. Но я уверен, что если бы
её опознали, то как наследницу русского престола выследили бы и убили».
Расследования М. Кокера в архивах пролили мало света на это сообщение,
тем не менее, он выяснил, что британская спасательная операция с
использованием самолёта в самом деле имела место!
В 1918-1919 годах Майнерцхаген был военным консультантом
британской делегации на Парижской мирной конференции. Официально он
покинул армию в 1925 году, но и позже поддерживал контакт с британской
военной администрацией, а во время Второй мировой войны даже был на
некоторое время мобилизован. Самое мучительное, что причинили ему
войны, была гибель его 19-летнего сына в начале октября 1944 года под Арн-
хемом в Голландии (впоследствии Майнерцхаген написал о нём книгу).
Армейская служба не помешала Майнерцхагену сделать блестящую
карьеру натуралиста, начало которой было положено ещё в юности. Даже в
проме жутках между боевыми действиями он использовал любую
возможность, чтобы заниматься орнитологией! Например, он пользовался самой
современной на тот период военной техникой для исследования полёта птиц
и их миграций. В мирные годы он собирал частную коллекцию птиц
(которая в конце его жизни насчитывала 20 000 тушек) и публиковал работы по
орнитологии. Майнерцхаген был заядлым охотником (большая часть птиц в
его коллекции добыта им самим); больше всего он любил охоту на крупную
дичь.
408
Рис. 110. Ричард Майнерцхаген с
супругой Анни К. Джексон, 1921г.
i
После выхода на пенсию Майнерцхаген продолжил свои занятия
орнитологией в частном порядке. Его вторая жена, Анни Джексон (первый брак
распался) тоже была орнитологом. Трёхэтажный дом Майнерцхагена в Лондоне,
построенный в викторианском стиле, поблизости от Кенсингтонского парка,
напоминал научно-исследовательский институт.
Наиболее важными сферами деятельности учёного были фаунистика
различных регионов, систематика и миграции птиц7. Вторую область его ин те
ре сов составляли пухоеды (Mallophaga). Майнерцхаген обладал коллекцией
из примерно 600 000 экземпляров этих насекомых — вероятно, самой
большой в мире. С 1912 года он опубликовывал в различных научных журналах,
в частности, в английском «Ibis», несколько десятков работ по фауне птиц
различных регионов Азии, Африки и Европы и книги о птицах Египта и
Аравии. Майнерцхаген подсчитал, что он как натуралист-путешественник
преодолел в общей сложности три четверти миллиона километров.
Теперь пришло время рассказать о менее известных сторонах жизни
Майнерцхагена. В 1925 году он распрощался с армией только как солдат, но не
7 Имя Майнерцхагена носит птица семейства Славковых «Meinerzhagen's WarUer» — Sylvia
[deserticola] tigehursti, см. Handbook of the birds of the world, 2006, 11: 703. — прим. перев.
409
как офицер разведки. Из опубликованной М. Кокером (Cocker, 1990)
биографии стало известно, что Майнерцхаген остался активно действующим
разведчиком и состоял на службе британской короны и после официального
увольнения из армии!
М. Кокер изучил все тома дневников Майнерцхагена, но пришёл к выводу
(стр. 191), что они представляют собой лишь «источник разрозненных
сведений в этой области». Кокер пишет также, что многие из друзей и
знакомых Майнерцхагена и «в том числе и те, с которыми он был знаком только
поверхностно, [...] конечно, знали о его «другой работе», как он имел
обыкновение называть её, и о том, что его орнитологические поездки служили
только предлогом для исследований совсем другого рода». М. Кокер считает,
что Майнерцхаген «обладал превосходным характером для разведчика: он
был скрытным, в высшей степени патриотичным, мужественным, отважным,
сильным, и, если необходимо, абсолютно беспощадным».
Только однажды автор дневника проявил несвойственную ему откро вен-
ность и доверил бумаге необычное признание. Это произошло в 1930 году,
вскоре после трагической смерти его супруги Анни (в присутствии мужа она
случайно выстрелила в себя из его револьвера). Вот эта странная запись (стр.
193): «Я должен был ехать в Испанию, чтобы попытаться исправить
неприемлемую ситуацию и раз и навсегда положить конец деятельности русских
революционеров в Западной Европе, [...], дело о котором я редко говорил и
о котором я до сих пор ни разу не упомянул в моём дневнике. Это строгая
тайна, известная лишь немногим, а именно, что моя основная работа на
протяжении последних семи лет состояла в преследовании большевистских
агентов в Западной Европе и наблюдении за их деятельностью. Это было
достаточно беспокойной, но также в высшей степени интересной
деятельностью, не лишённой опасности»...
М. Кокер нашёл в дневниках Майнерцхагена подробности об испанской
поездке в начале 1930 года (то есть незадолго до провозглашения
Испанской республики и ещё перед гражданской войной) и проанализировал их.
В то время тайная полиция Нидерландов по всей видимости узнала, что
группа советских агентов из Амстердама переведена в Ронду, в испанскую
Андалузию. Когда испанские службы безопасности информировали об
этом британцев, Майнерцхаген предложил свои услуги для
координирования и проведения операции по аресту группы. Его испанские друзья
пригласили его на охоту на уток в Андалузию, в водно-болотных угодьях Ма-
ризмас дельты Гвадалквивира. Он прибыл туда 23 февраля 1930 года и
обсудил положение с представителями испанской полиции. Через два дня
вся группа выехала за 130 км в Ронду, где планировалась акция. Между
410
делом Майнерцхаген и его испанские коллеги в течение целого дня
любовались весенними цветами и наблюдали птиц поблизости от дома, в
котором находилась советская резиденция. В предстоящую операцию был
посвящен испанский служащий совет ской резиденции, очевидно,
оплачиваемый испанской полицией. Захват группы планировали провести
на рассвете 4 марта. Особых проблем не ожидали. Однако, всё произошло
иначе. Советские агенты были бдительны, дело дошло до стрельбы.
Майнерцхаген в дневнике описывает это событие следующим образом (Cocker,
1990: 194-195): «Первым вышел Штегман — чернобородый гигант с
пистолетом в руке. Я крикнул: «Руки вверх!», но было уже слишком поздно,
он выстрелил в меня. Я вспоминаю о внезапно охватившем меня чувстве
удовлетворения, что первым выстрелил именно он. Тем самым он
развязал нам руки и поставил себя и свою банду в положение вне закона. Я тут
же ответил выстрелом, и он рухнул на землю с яростным рычанием, не
успев снова поднять пистолет. Как дикий зверь он распростёрся на земле —
с оттопыренными ушами, оскаленными зубами и яростно сверкающими
глазами, хотя знал, что смерть скоро одолеет его. Смотреть на это было
ужасно. Двое моих помощников лежали на земле и были, очевидно,
мертвы. Теперь закипел рукопашный бой. Двери, кажется, ходили ходуном во
всех направлениях, выстрелы гремели отовсюду и крики ярости заглушали
все команды, которые я отдавал. Я кричал моим людям, что они должны
держаться вместе, но они не слышали. Казалось, что в мире воцарились
законы джунглей. Цивилизованные господа превратились в настоящих
бестий. Мы ока зались в безраздельной власти наших самых низменных
инстинктов, и я покрылся испариной, когда понял, что это будет борьба до
горького конца; итак, я стрелял во всех направлениях и пускал пулю за
пулей в этих несчастных русских. Все покровы цивилизации внезапно
спали с нас и заменились коварством, изворотливостью и проворством
кошки, подстерегающей с нетерпением добычу, чтобы благодаря скачку и
острым зубам разорвать мгновенным ударом артерию на горле. Вскоре всё
превратилось в одну сплошную бойню, и в какой-то момент я подумал, что
мы не протянем долго, но внезапно всё смолкло, кроме нескольких
упрямых проклятий из какого-то помещения. Мы приняли вызов. Перед уходом
мы отправили в потусторонний мир тех, что ещё оставалось от этих людей.
Ещё один человек спустился, прежде чем мы сломили сопротивление
оставшихся, и затем кто-то бросил две маленькие бомбы, которые
взорвались, по-видимому, с безвредным результатом, но вскоре их назначение
стало ясным. Я задержал дыхание, как только почувствовал запах газа. Я
сделал только один вдох и почувствовал яд. Я закричал моим людям, что
411
они должны немедленно выбираться наружу, и мы тут же выскочили,
захватив с собой шестерых наших убитых и раненых».
В 6.00 схватка закончилась. Погибшие были с обеих сторон, причём
пятеро советских агентов были казнены. Трупы вместе с захваченными
документами были вывезены за 190 км в Гранаду. Сам Майнерцхаген в 7.00 уже
вернулся в отель «Виктория» в Ронду. «Охота на уток» была закончена...
Поначалу М. Кокер (Cocker, 1990:196) скептически оценивал записи Май-
нерцхагена и ставил вопрос, можно ли верить им? Не полёт ли это фантазии
известного орнитолога? Свои сомнения М. Кокер резюмирует следующим
образом (стр. 197): «В дневниках нет никаких указаний на встречи со
служащими тайной полиции, ни на дружеском, ни на официальном уровне. Совсем
наоборот, дневники Майнерцхагена характеризуют его как отставного
военного, который любит общество своей семьи и друзей и полностью [...]
отдаётся давней страсти к естествознанию». Но автор приводит также некоторые
важные контраргументы (стр. 199): к дневнику приложены фотографии,
которые подтверждают пребывание Майнерцхагена как раз в это время на
болотах Маризмас в дельте Гвадалквивира, а его заметки о птицах и растениях
соответствуют их фактическому видовому составу в этой местности. И самое
важное: в 1930 году Майнерцхаген был отмечен испанским орденом короля
Карла III. Всё правильно! Описание акции в дневнике — не фантазия!
Тем не менее, биограф Майнерцхагена пишет (стр. 199), что мы имеем
дело с человеком, чья настоящая жизнь совершенно неизвестна.
Это действительно так, поскольку совсем недавно выяснились новые
сенсационные факты из жизни Майнерцхагена, касающиеся его научной
деятельности. Оказалось, что он похищал тушки птиц из научных коллекций
музеев для своей личной коллекции! В частности, он украл тушку
вымершего сычика Блевитта (Athene blewitti) из Британского музея в Лондоне и
снабдил ценный экземпляр поддельной этикеткой (Rasmussen, Collar, 1999)!
Невероятный факт из жизни глубоко уважаемого учёного! На этом фоне
другие, более ранние сообщения о подобной же его деятельности уже не
выглядят клеветническими. Так например, Вори писал одному своему
британскому коллеге в декабре 1974 года: «Я могу поклясться, что коллекция
Майнерцхагена содержит тушки, которые были выкрадены из музея
Ленинграда [в послевоенное время Майнерцхаген как приглашённый учёный
приезжал в СССР — прим. автора], музея Парижа и из Американского музея
естественной истории, а возможно и из других музеев, во всяком случае
факты кражи из первых трёх перечисленных музеев мною доказаны. Кроме
того, он снимал настоящие этикетки и заменял их другими, подгоняя
материал под свои идеи и теории» (цитируется по: Cocker, 1990: 274).
412
Свою коллекцию Майнерцхаген завещал Британскому музею, что создало
много проблем тогдашнему куратору музея, серьёзному учёному. На вопрос,
что он собирается делать с этим наследием, он коротко ответил: «Оно должно
быть сожжено!» (см. Ibis, 1993, Vol. 135: 320-325 и Ibis, 1997, Vol. 139: 431,
а также Cocker, 1990: 274).
Ещё несколько замечаний о человеческих качествах Майнерцхагена. Веко
ре после окончания войны, весной 1946 года, он приехал в лежащий в
руинах Берлин и навестил своего старого друга Штреземанна. Он искренно
сочувствовал жестокому разрушению города и был озабочен ситуацией, в
которой оказались его старые немецкие друзья из предвоенного времени... Вот
так на настоящий момент выглядят некоторые детали биографии сотрудника
британских спецслужб и орнитолога Ричарда Майнерцхагена...
*
Очерк о Майнерцхагене был написан мной в 2003 году для первого
издания этой книги. Между тем, он успел устареть. Причина состоит в том, что
недавно была опубликована новая, чрезвычайно интересная книга
американского исследователя Б. Гарфилда (Garfield, 2007). Автор рассматривает
большую часть автобиографии Майнерцхагена и содержание его
публикаций как грандиозную мистификацию и убедительно доказывает свою точку
зрения... Приведу некоторые выдержки из этой книги.
Гарфилд провёл исследования во многих архивах и выяснил, что ряд
фактов, содержащихся в дневниках Майнерцхагена, не соответствуют
действительности. Он установил также, что некоторые страницы его дневников были
изменены им позднее или заменены.
В частности, события из военной карьеры Майнерцхагена и его
деятельности как офицера британской разведки, описанные им во многих местах
дневников, часто не совпадают с архивными документами. Например,
сенсационный обманный маневр в Палестине, который содействовал победе
фельдмаршала Алленби в 1917 году над турками, судя по документам,
найденным Гарфилдом, был проведён им без помощи Майнерцхагена. По
мнению Гарфилда, увлекательная история о попытке спасения русского царя и
его семьи посредством их вывоза на самолёте полностью придумана Май-
нерцхагеном. После увольнения из армии в 1925 году Майнерцхаген
действительно поддерживал контакты с британской антибольшевистской
контрразведкой, но его сотрудничество вовсе не было таким тесным, а тем более
таким кровавым, как это следует из его дневника. Возможно, он и в самом
деле был приглашён друзьями в 1930 году поохотиться на уток в Андалу-
413
зию, но описание сенсационной схватки с советскими агентами от начала до
конца представляет плод вымысла. Кроме того, Гарфилд сообщает, что ему
не удалось обнаружить никаких официальных доказательств представления
Майнерцхагена к Ордену Карла III (вероятно, уже в то время эту награду
можно было приобрести в антикварных магазинах — прим. автора). Записи
в дневниках о том, что в 1930-е годы он трижды лично беседовал с Гитлером
(причём однажды даже с пистолетом в кармане!) — несомненная фантазия.
Об одной из этих встреч с Гитлером рассказывают так: «Гитлер пригласил
Майнерцхагена к себе, чтобы выяснить отношения англичан к его политике.
Фюрер пошёл навстречу гостю через огромный кабинет, вскинул руку для
приветствия и воскликнул: «Хайль Гитлер!». Майнерцхаген тоже вскинул
руку и провозгласил в ответ: «Хайль Майнерцхаген!»8. Гарфилд пишет, что
Майнерцхаген был дружен с писателем Яном Флемингом, создателем
Джеймса Бонда, агента 007. Вероятно, своими сочинениями он поставлял другу
новые темы для его детективов...
В нескольких естественнонаучных публикациях Майнерцхагена Гарфилд
также обнаружил подлоги и противоречия. Гарфилд не доверяет
утверждению Майнерцхагена, что он ребёнком знал Чарльза Дарвина и доказывает,
что старинная трубка красного дерева, которую будто бы «курил сам
Дарвин, и которая ещё хранила запах его табака», преподнесённая Мейнерцаге-
ном в дар Линнеевскому обществу, в действительности была произведена
только в 1928 году! (Дарвин умер в 1882 году).
Майнерцхаген часто заимствовал тушки птиц из Британского музея, по
крайней мере, начиная с 1919-1920 годов. По мнению Гарфилда,
Майнерцхаген начал публиковать вымышленные наблюдения за птицами в журнале
«Ibis» ещё в начале своей научной деятельности, а его большая книга о
птицах Египта и Аравии отчасти представляет собой плагиат, дополненный
рядом собственных сомнительных наблюдений и находок. По-видимому, не
позднее 1927 года супруга Майнерцхагена Анни Джексон, хорошо
разбиравшаяся в орнитологии, поняла, что её муж — фальсификатор. Известно,
что это открытие возмутило её, но никто не знает, захотела ли она сделать его
достоянием общественности. Во всяком случае, оно должно было послужить
причиной серьёзных разногласий между супругами. В этой связи весьма
неопределёнными выглядят обстоятельства гибели Анни Джексон. Вопрос о
том, стала ли она в 1930 году жертвой несчастного случая или была
застрелена супругом, остаётся без ответа...
8 См. Ф. Кандель. Земля под ногами. Из истории заселения и освоения Эрец Исраэль 1918—1948.
М.-Иерусалим. 2008. — прим. перев.
414
Рис. 111. Полковник Ричард
Майнерцхаген, Англия, ок. 1960 г.
\
Во время 12-го Международного орнитологического конгресса в 1958 году
в Хельсинки я встретился с Майнерцхагеном (в то время глубоко чтимом
мною «большим» орнитологом; кстати, он и физически был очень большим,
имея рост более двух метров). Штреземанн познакомил меня с ним, но моя
попытка завязать с ним разговор не имела успеха. «Упрямый, викторианский
британец», — отметил я тогда. Похоже, такое же впечатление он вызывал не
только у меня одного. Гарфилд так описывает высокомерную манеру Май-
нерцхагена держаться (стр. 10): «Понятие [Британской] мировой империи
больше не существовало, но господствующий класс упорствовал в своем
стремлении к сохранению былого блеска». Вплоть до 1960-х годов
Майнерцхаген блистал в высших британских кругах, но этот блеск относился к
разряду фальшивых...
Майнерцхаген поддерживал прочные научные и личные контакты со
Штреземанном (ср. стр. 31 и 45), которого он считал «самым просвещённым
орнитологом в мире». Чтобы понять, не пытался ли Майнерцхаген каким-то
образом злоупотреблять дружбой со Штреземанном для своей
мошеннической деятельности, я изучил переписку двух учёных (она хранится в
государственной библиотеке в Берлине, в отделе Прусского культурного
наследия, и охватывает период с 1921 по 1962 годы). Чтение не выявило ничего
«подозрительного». Сердечный и дружеский тон писем Майнерцхагена
позволяет заключить, что он, вероятно, оставался по отношению к Штреземанну
абсолютно честным. Но всё же я хочу процитировать одно место из письма
Майнерцхагена (от 24.10.1948 г.), где он открыто сообщает о
запланированном подлоге: «Я пытаюсь послать тебе кофе, но так как это не разрешено, я
выдаю его за чай в надежде, что запах не обнаружит мой подлог»...
415
Собственно, до сих пор не ясно, почему при жизни Маинерцхаген
пользовался столь широким признанием, ведь ещё в 1926 году в Англии вышла
книга известного британского востоковеда и агента тайной полиции, Лоу-
ренса Аравийского, которая полностью дискредитировала его. Вот цитата из
немецкого издания этой книги (Lawrence, 1994: 468): «... Маинерцхаген,
попавший в солдаты орнитолог, [...] не признавал полутонов. Он объединял в
себе логическое мышление и высший идеализм и был до такой степени во
власти своих убеждений, что был готов заниматься даже хорошим делом
сомнительными средствами. Он был изобретательным, властным человеком,
любящим тайком насмехаться над другими. Ему доставляло одинаковое
удовольствие ввести в заблуждение своего врага (или друга) бессовестным
манёвром или, например, в полностью окружённой толпе немцев [во время
Первой мировой войны, в Юго-Западной Африке] одному за другим крушить
им черепа своей африканской боевой дубиной. Его инстинкты
подогревались ещё и невероятно сильным телосложением и необузданным
темпераментом, он преследовал цель кратчайшим путём, свободный от сомнений
или нравственных норм».
Вернёмся к книге Б. Гарфилда. Во многом она похожа на увлекательный
и местами смешной детектив, в котором Маинерцхаген дискредитируется и
местами высмеивается и как шпион, и как орнитолог. Но на самом деле, эта
книга затрагивает одну очень серьёзную проблему: нечистоплотность в
науке. Мошенники всё больше и больше угрожают этой важной сфере
цивилизации (новый пример: подтасовки южнокорейского специалиста по
клонированию профессора Boo Зука Хванга). В США уже работает специальная
организация «Office of Research Integrity», которая занимается разъяснением
научных подлогов. Сами учёные являются виновниками того, что дело зашло
так далеко...
Сможем ли мы справиться с этими новыми проблемами в будущем?
* * *
Теперь логично было бы совершить ещё один экскурс в сферу
взаимодействия орнитологии и тайных служб второй половины XX столетия. К
сожалению, это не так просто, поскольку документы этого периода (за
исключением архивов службы безопасности ГДР) пока не открыты. Тем не менее,
некоторые попытки вербовки орнитологов и их контактов со спецслужбами
известны.
Так, например, во время немецко-советской экспедиции на Таймыр летом
1991 года (речь о ней ещё пойдёт в конце этой главы) меня и моих коллег по-
416
сетили два офицера КГБ из Норильска; они получили сообщение, что мы
фотографировали военные объекты Советской Армии на арктическом
побережье. Мы, разумеется, не занимались этим, поэтому я попросил офицеров
показать нам карту Таймыра с тайными объектами, чтобы мы смогли
избегать их в будущем, после чего нас оставили в покое.
Очевидно, «восточные» службы безопасности тщательно изучали
сообщения орнитологов, которые принимали участие в заседаниях и конгрессах
за границей. В 1960-е и 1970-е годы я часто выезжал из Варшавы на запад.
О каждой поездке положено было отчитываться. По-видимому, мои
сообщения чем-то понравились польской службе госбезопасности, поскольку в
1974 году мне предложили «сотрудничество». Это не было для меня
неожиданностью, так как незадолго до этого ко мне с аналогичным предложением
обратился один «дипломат» из ГДР...
Немного больше удивил меня конфиденциальный рассказ моего
западногерманского друга, доктора Вилфрида Пшигодды/Wilfried Przygodda
(1916-1991), руководителя орнитологической станции в Эссене. Он родился
в живописной деревне в Мазурах, где его отец был священником. Пшигодда
принадлежал к немногим западным коллегам, которые поддерживали
интенсивные контакты с орнитологами «на востоке», за «железным занавесом».
Это имело глубокие причины. В январе 1945 года он, будучи врачом,
капитаном медицинской службы Вермахта, несколько месяцев находился в одной
из деревень в области средней Вислы. Там его застало внезапное
наступление Красной Армии. Во время бегства по занесённому снегом полю он был
взят в плен советскими танкистами. У них не было времени задерживаться
с пленными, поэтому его отправили в соседнее село, где, как он рассказывает,
работала «команда расстрела», но ему удалось бежать, и его спрятали
польские крестьяне.
Пшигодда вместе с женой несколько раз был у меня в Польше. Мы ездили
в его родную деревню Куркен (ныне Курки) и посетили дом одной женщины,
которая жила в этой деревне еще до войны. В парадной комнате, где она
угощала нас, стену украшало свидетельство о конфирмации с подписью отца
Пшигодды! Мы побывали также в «судьбоносной» деревне на Висле,
пытаясь вспомнить путь, по которому он бежал, и найти крестьянский двор, где
его спрятали (к сожалению, безуспешно). Через несколько лет я пригласил
Пшигодду на зимнюю охоту на волков на юго-восток Польши.
Пшигодда бывал и в Советском Союзе: во время конференции в Алма-Ате
он подружился с профессором И.А. Долгушиным, который во время войны
был майором Красной Армии. Выяснилось, что некоторое время они
служили в подразделениях, которые воевали на одних и тех же фронтах (я был
417
Рис. 112. Аоктор Вилфрид Пшигодда с
женой Аннемари из Эссена, 1987 г.
- f ' 5
%i
переводчиком примирённых противников). Пшигодда учил русский язык,
переписывался с Долгушиным и другими советскими и
восточноевропейскими орнитологами. Очевидно, сообщения Пшигодды вызвали
специфический интерес у служб госбезопасности, так как однажды на его
орнитологической станции в Эссене его посетил симпатичный, элегантно одетый и
хорошо говорящий по-немецки американец, который представился как
сотрудник ЦРУ и предложил ему «интересное сотрудничество», целью
которого как раз была моя персона. Я написал об отказе Пшигодды в некрологе
о нём (Nowak, 1992), но редакция «Journal fur Ornithologie » вычеркнула это
место из текста. Моё знакомство с Пшигоддой стало известно американцам,
несомненно, благодаря любезной поддержке западногерманских служб
безопасности, поскольку когда я переселился из Польши в ФРГ и получил
место работы в системе охраны природы на государственной службе, и по
закону подлежал проверке. Оказалось, что мои проверяющие даже точно
знали, какими именно видами птиц я занялся...
418
Тайные службы пытались не только вербовать орнитологов; они также
проявляли интерес к некоторым орнитологическим исследовательским темам
и, возможно, финансировали кое-какие научные проекты. В период холодной
войны в участии в одном из подобных проектов подозревали известного
орнитолога из Индии — доктора Салима Али/Salim АИ (1896-1987).
Али родился в Бомбее, в мусульманской семье, и должен был получить
профессию бухгалтера и коммерческого юриста. Но во время обучения его
заинтересовали лекции по зоологии, он стал посещать их, и вместо
бухгалтера решил стать орнитологом.
Сначала Али занимался самообразованием в избранной им области, а в
конце 1920-х годов решил предпринять путешествие в Европу для
совершенствования своего образования. Целью был, конечно, Британский музей
естественной истории в Лондоне, но как раз в это время
индийско-британские отношения стали очень напряжёнными, поэтому Али послал письмо
профессору Штреземанну с запросом, не мог ли бы он учиться в Берлине.
Такие «экзотические» вопросы всегда воодушевляли берлинского
профессора. О немедленной реакции Штреземанна Али написал позже в своих
мемуарах (АН, 1985: 57): «Его положительный ответ был таким дружелюбным
и сердечным, что я сразу же решился ехать в Берлин».
В 1929-1930 годы Али под руководством Штреземанна стал
профессиональным орнитологом. В Берлине он сотрудничал также с Бернхардом Рен-
шем, Эрнстом Майром и Оскаром Хейнротом. Вместе со Штреземанном он
ездил на орнитологическую станцию Гельголанд; там Рудольф Дрост
пробудил у него интерес к исследованию перелётов птиц. О своём пребывании
в Германии Али написал в своих воспоминаниях (стр. 58): «Без сомнения,
Берлин стал для меня самым важным и счастливейшим поворотом в моей
орнитологической карьере».
В конце Второй мировой войны Али познакомился с тогда ещё молодым
американцем Сиднеем Диллоном Рипли, выпускником биологического
факультета Йелльского университета. Их свёл случай (АН, 1985: 1751-184):
Рипли служил в это время офицером военной разведки США на Цейлоне; в
1944 году он по служебным делам находился в штаб-квартире
объединенного командования в Дели, а поскольку он интересовался орнитологией, то
посетил «главного» индийского орнитолога в Бомбее. Это знакомство
переросло в дружбу и плодотворное сотрудничество на всю жизнь (Ripley, 1988).
В частности, после того, как Рипли был демобилизован и стал профессором
зоологии Йелльского университета, а позднее влиятельным сотрудником
419
Смитсониевского института в Вашингтоне, они вместе написали десятитом
ную сводку «Птицы Индии и Пакистана» (1968-1974 гг.), которая до сих пор
представляет собой фундаментальный источник сведений по фауне птиц
этого региона.
В Индии Али на протяжении всей своей профессиональной жизни
активно работал в Естественнонаучном обществе в Бомбее, одном из ключе
вых научных учреждений страны, оснащённом лабораториями, библиотекой
и научными коллекциями. При поддержке общества Али организовывал
экспедиции в разные регионы Индии; позднее он много сил отдавал также
охране окружающей среды, считался авторитетным консультантом правитель
ства. Он охотно выезжал за границу, посещая научные конгрессы. О его
первом послевоенном визите в Европу в 1950 году ходит много рассказов, так
как он посещал своих многочисленных старых друзей в нескольких странах,
используя в качестве основного средства передвижения свой огромный
мотоцикл! Когда он появился на своей «огненной машине» в Упсале, участники
10-го Международного орнитологического конгресса решили, что он
прибыл на нём в Швецию непосредственно из Индии (рис. 113). Трудолюбие
Али и его многочисленные публикации принесли ему не только премии и
награды, он был почётным доктором трёх университетов. В некрологе о нём
написано: «Салим Али и индийская орнитология — почти синонимы» (Рег-
rins, 1988).
Я встречался с Салимом Али в Хельсинки в 1958 году, он выразил
готовность помочь мне в моей работе об экспансии кольчатой горлицы и посылал
мне многочисленные материалы. На 1960-е годы как раз пришлась первая
волна расширения ареала этой птицы, которая со временем расселилась по
Европе и по многим районам Центральной Азии.
Али преклонялся перед Штреземанном и говорил: «Он — мой научный
гуру».
В начале очерка я упомянул о причастности Салима Али к орнитологи че-
ским темами, которые могли интересовать службы безопасности. Речь шла
об исследовании перелётов птиц. Я писал уже, что эта проблематика всегда
— с момента посещения Салимом Али Гельголанда в 1929 году — была
предметом его страстного интереса.
В 1960-е годы был разработан большой многолетний проект по изучению
миграций птиц в Юго-Восточной Азии. Финансирование проекта
осуществляла Медицинская исследовательская лаборатория американской армии в
Бангкоке, которая была одним из подразделений служб СЕАТО. Проект носил
название «MAPS» (Migratory Animal Pathological Survey), его возглавлял
американский орнитолог доктор Г. Эллиот Мак-Клюр. Были окольцованы многие
420
Рис. 113. Салим Али во время прибытия на 10-й Международный
орнитологический конгресс в Упсале; справа стоят Элизабет и
АэвидАэк, 1950 г.
тысячи птиц; проблема проекта состояла в том, что из государств «за
бамбуковым занавесом» (континентальный Китай, Северная Корея и Северный
Вьетнам) не поступало абсолютно никаких сообщений о находках колец. Тем
не менее, результаты были интересными. В 1974 году Мак-Клюр опубликовал
их в книге «Миграции и выживание птиц в Азии» (Е. McClure «Migration and
survival of the birds of Asia». Bangkok. SEATO. Med.-Res Lab.). В проекте
«MAPS» участвовали и Естественнонаучное общество Бомбея, и сам Али.
Сотрудничество продолжалось до тех пор, пока некий анонимный «научный
журналист» не опубликовывал в нескольких ежедневных газетах статью об
этом проекте. В ней, в частности, говорилось, что проект направлен на
«разведку вместе с США возможности применения мигрирующих видов птиц в
биологической войне для передачи и распространения смертельных вирусов
и микробов во враждебные страны» (АН, 1985: 146). Действительно,
миграционные пути многих видов птиц Юго-Восточной Азии ведут в Китай и в
азиатскую часть бывшего СССР. Это было время, когда набирал силу
очередной виток холодной войны, и нейтральной Индии предстояло найти
приемлемое решение для непростой политико-орнитологической коллизии! В
парламентских кругах Дели газетные статьи вызвали грозу, ситуацию
исследовали несколько комиссий, участие Индии в проекте было приостановлено.
В конце концов, было решено разрешить продолжать исследования, но отка-
421
Рис. 114. Доктор Салим Али из
Бомбея, 1983 г.
заться от финансирования из Бангкока, чтобы не давать почвы для каких-либо
подозрений. Теперь проект финансировало только индийское правительство,
но, разумеется, из американских денег.
Не исключено, что в Советском Союзе в 1960-е годы тоже существовали
секретные орнитологические научно-исследовательские проекты, связанные
с изучением ориентации и навигации птиц. Заказчиков, в частности,
интересовало, каким образом магнитные аномалии Земли влияют на
миграционное поведение птиц. Об этом мне под большим секретом рассказал мой ныне
покойный друг Л.О. Белопольский (прежде я никому не рассказывал об
этом!), но сам он решительно не представлял себе, какое
военно-стратегическое значение могут иметь подобные сведения. Если инициаторы
подобных проектов действительно замышляли ведение биологической войны, то
русские, судя по всему, гораздо дальше продвинулись в этом направлении,
чем американцы! В то время как последние лишь хотели знать, какие виды
птиц пригодны для передачи смертоносного оружия, в СССР уже
исследовали, смогут ли переносчики «советского оружия» в случае биологической
войны задержаться на определённой территории (например, вследствие
аномалий земного магнетизма) и нанести здесь убытки. Надеюсь, что эти мои
спекуляции не имеют ничего общего с действительностью...
422
В конце этой главы я хочу ещё раз вернуться в Россию, где у меня был
хороший знакомый, друг — доктор Борис Михайлович Павлов (1933-1994),
жизнь которого трагически оборвалась по целому ряду личных и, возможно,
социально-политических причин.
Началу нашей дружбы с Борисом я обязан, собственно, канцлеру ФРГ
Гельмуту Колю, так как во время его государственного визита в Москву к М.С.
Горбачёву в октябре 1988 года был подписан немецко-советский договор о
сотрудничестве в области охраны окружающей среды. (Соглашения об
охране природы обычно хорошо помогают преодолеть политические
разногласия). Этот договор имел последствия и для орнитологов: мы должны были в
короткие сроки создать основательный совместный немецко-советский
научно-исследовательский проект! Такой проект был создан, и уже летом
1989 года состоялась первая совместная экспедиция на Таймыр; за ней
последовали ещё две — в 1990 и 1991 годах. Я даже не надеялся, что в зрелом
возрасте осуществится моя юношеская мечта — принять участие в
настоящей экспедиции в Азию! Я должен был лишь получить соответствующую
справку от врача, который был так покорён моими планами, что после
интересной беседы выдал мне требуемый документ без особых обследований.
Одной из научных задач экспедиции было изучение биологии
размножения гусеобразных, которые гнездятся в Сибири, на Таймыре, а зимуют на
мелководье у берегов Северного моря... (см. «Согах», 1995, Vol. 16, Sonder-
heft).
Меня интересовали причины многолетней депрессии численности чёрной
казарки {Branta bernicla) в течение 1930-х — 1950-х годов. В то время были
опасения, что этот вид может полностью исчезнуть. Я предполагал, что
резкое снижение численности вида связано с экстремально холодной погодой,
которая господствовала в северной Сибири в период гнездования казарок на
протя жении нескольких лет подряд, что, как известно, влечёт за собой
высокую смертность выводков. Я консультировался по поводу этого
предположения с Б.М. Павловым из Научно-исследовательского института сельского
хозяйства Крайнего Севера в Норильске (кстати, и сам город, и большой
металлургический комбинат были построены более чем миллионной армией
заключённых «Норлага»). Борис Михайлович был зоологом-охотоведом,
руководил отделом института, который занимался изучением и планированием
использования охотничье-промысловых видов полуострова Таймыр (350 000
км2!). Он специализировался в области орнитологии, написал отличную
диссертацию о белой {Lagopus lagopus) и тундряной (Lagopus mutus) куропатках
423
Рис. 115. Доктор БМ. Павлов из
Норильска, около 1990 г.
и собирал материал по авифауне полуострова. Наряду с качествами
настоящего учёного он имел организационный талант, был скромным человеком,
всегда готовым помочь другим. Борис посоветовал мне слетать на мыс
Стерлигова к полярной станции Стерлигова на арктическом побережье, в
центральную часть гнездового ареала чёрной казарки. Станция бьша основана в
начале 1930-х годов и должна была располагать метеорологическими
данными за длительный период. Прибыв на станцию, я был с большим
гостеприимством принят советскими полярниками, но ответ на мой вопрос о
метеоданных бьш поистине ошеломляющим: по их словам, в 1944 году немецкая
подводная лодка уничтожила станцию, причём предварительно были
похищены вся документация и несколько сотрудников...
Борис помогал мне проанализировать другие возможные причины
сокращения численности чёрной казарки: исчезновение «морской травы» или
«взморника» — зостеры (Zostera spp.) и охота в Северо-Западной Европе
были лишь побочными факторами. Несомненно, причиной критической
деградации популяции явился беспощадный отлов птиц сетями в период
линьки, когда они неспособны к полёту. В этой охоте принимали участие не
только профессиональные охотники, большую роль сыграли бригады по
отлову из многочисленных здесь лагерей. Птиц использовали в пищу, кроме
того, охота представляла развлечение в «монотонной работе» охраны (Muller,
424
Nowak, 1992). Когда я писал статью о казарке, то как-то однажды сказал
Борису, что ответ полярников со Стерлигова на мой вопрос о метеоданных —
смесь славянской фантазии, водки и остатков коммунистической
пропаганды9.
Постепенно наше общение с Борисом переросло в прочную дружбу. На
праздновании его дня рождения у него дома я познакомился с его спутницей
жизни Татьяной, они оба уже почти двадцать лет жили на Крайнем Севере.
Меня всегда интересовало, как люди попадают в эту климатическую зону
(снежный покров лежит здесь от 9 до 11 месяцев, полярная ночь длится до
70 дней) и решаются остаться жить на длительный срок. Борис очень любил
этот край, живописал мне красоты Таймыра. Тем не менее, он сказал, что не
хотел бы здесь умереть. Он поведал мне о своём пути в Арктику, позже мне
рассказы вали об этом его коллеги.
Борис Михайлович родился в деревне Владимирской области. Его
родители очень рано умерли, но он окончил десятилетку, получил аттестат
зрелости и решил стать охотоведом. Сначала он учился в Пушно-меховом
институте в Москве, потом — после разделения института — в Иркутске у
профессора Скалона. С 1957 по 1963 год он работал охотоведом в Западной
Сибири, в Тюменской области. Здесь женился, родилась дочь. В 1963 году
ему предложили перейти на работу в Институт сельского хозяйства
Крайнего Севера в Норильске. Первое «пробное» пребывание на Севере привело
9 Война в Карском море относится к малоизвестным эпизодам Великой Отечественной войны,
но по этой теме в последние десятилетия многое опубликовано. События, предшествующие
нападению на «Стерлигова», были следующими: 10 августа 1944 года в бухте Полынья, в 40 км
от /Диксона, охотники заметили корабль со свастикой и лодку. На /Диксон послали человека,
чтобы предупредить о противнике. Выла прислана поисковая группа. Тщательно прочесав всю
прибрежную полосу в бухте Полынья, краснофлотцы убедились, что немцы не высаживали
десант. Лодка вновь была замечена с катера примерно в 15 км от Диксона 13 августа (это
была лодка U-278). На поиски был послан самолёт, но обнаружить лодку не удалось. Так
начала действовать группа «Грайф» — шесть немецких подлодок, посланных патрулировать
в Карском море. Своего первого успеха группа добилась в ночь на 13 августа, когда одна из лодок,
U-365, капитан-лейтенанта Ведемайера обнаружила и атаковала в 60 милях западнее о.
Велый небольшой конвой «Велое море — Ьцксон № 5» («ВА-5»). 25 августа группой «Грайф»
было потоплено гидрографическое судно «Норд», которое имело задание зажечь огни на трассе
Севморпути от Диксона до архипелага Норденшельда.. Вскоре той же группой «Грайф» было
совершено нападение на станцию Стерлигова. См. Щипко А.М., 1985. «Защитники Карского
моря» (Хроника военных событий). Красноярск, Красноярское кн. изд-во; Велов М.И., 1969.
«История открытия и освоения Северного морского пути». Т. 4 (Научное и хозяйственное
освоение Советского Севера, 1933-1945 гг.). А., Гидрометеоиздат. «Отчёт Штаба морских
операций Западного сектора Арктики за период навигации 1943 года». Морозов С, 1975.
«Крылатый следопыт Заполярья». М., Мысль. Трешников А.Ф., 1984. «Их именами названы
корабли науки». 2-е изд., А., Гидрометеоиздат. «Аетописъ Севера», 1985. Т. 11, М., Мысль, и др.
— прим. перев.
425
его в восторг, и он принял решение остаться. Чуть позже приехали его жена
и дочь. Но жене не понравилась Арктика, и через некоторое время она уехала
в Литву, в Клайпеду, где устроилась на хорошую работу акушеркой и
получила квартиру. Расстались мирно, обе стороны неплохо устроились на новых
местах жительства.
Позиции Бориса Михайловича в институте укрепились, он стал
наставником целого поколения охотоведов, интересующихся орнитологией, и занимал
в институте всё более ответственные позиции. Москва отметила его заслуги
премией. Его сотрудники отзывались о нём как о справедливом и чутком
начальнике и душе коллектива. Мы пригласили Бориса Михайловича и двух его
сотрудников в Германию для совместной обработки результатов таймырских
экспедиций. Ему понравилось у нас, мы наслаждались его юмором, но он
тосковал по бескрайним просторам Арктики. К моему удивлению, Борис
Михайлович сообщил мне номера подводных лодок (U-957, U-711, U-739),
которые, вероятно, совершили нападение на станцию Стерлигова. Я послал
запрос в Немецкий федеральный военный архив во Фрайбурге и две недели
спустя я получил — почти невероятно!— копию бортового журнала с лодки
U-957, в котором капитан Шар, командир отряда из трёх подводных лодок
группы «Грайф», зафиксировал следующее (рис. 116):
«25.09.[19]44. В виду Стерлигова.
02.00 [Время]: Ясно. Условный знак: зелёная ракета — Стерлигова
захвачена! Обходим. Из-за освещённости посадка на судно не
производится. Лодки удаляются. Десантная группа действует согласно
приказу!
04.35: Погружение [...]
15.15: Всплытие. Связь с базой. Из-за слишком сильного волнения нельзя
и думать о посадке на судно. Выжидаем! [...]
17.10: Погружение. Легли на грунт.
20.00-23.35: Погружение. Лодка всплывает на 20 м. Всплытие.
26.09.[19]44
00.00: На берегу ещё остаётся много солдат. Дымят трубы, повсюду снуют
собачьи упряжки. Связь. Самый северо-восточный немецкий
опорный пункт. К сожалению, только очень короткое время!
04.00: Посадка всё ещё невозможна.
05.21: Погружение. [...]
426
tyrnw^- •■—-—_, j-^й--'—~- ' T^T]
•
Г
^
ф
I
Teg
Uhreeit
26«9'*4'
08.00'
*11*45
12.00
-'-
16.00
17*45
. . _
18*28
On'
Wetter
Vor Sterligowa
»-XflL?7493
» -* " . "■"
XA 749J
_—
_
XA 7493
N 2*8eeg» 1,
leic&te Dlinung*
bedectb,aich.t
7 qn«.
Vorkommnisse
-_„_./•__ " '•►
Adfgetauchti ~" ^ n
Btmai» "йЪех Waaser" IG.-Jem L. ,' -
„.. v,. »и-Gesamtv. - -„18**-em„ ■= - -
*2 560-fcm*-' N ; ' j~. - "/.;_" "_~_
t' * » <- -
* c." ~wv
*'. . .""I Ь
baufe. an geschdtzte 8/telle» Beginn lUascniffung. -c. _'J
{Siehe Bericnt;
* -. . _•_ _
i
-*.- _
•~ ' " --., - -'V£
- Alle Harm plue 3 Eunde plus Beute an Bold ^
„"( GJcdoa«anterlagen ). ,r'
Exmkstelle Btqrligo.wa>geh1; In Tlanmen au£** ."
•Jiur laming _jnit ArTjlllerie -reingftsahossen'.'
KE.*35ingang 1109/26/715*.. 1 ,.: ~ J
Euckpof-Gruppe*,,Grelf'»i- ■ •
Рис. 116. Страница 25 оригинала бортового журнала капитана
Шара с подводной лодки U-957, группа «Трайф».
11.45: Всплытие [...]
16.00: Передвигаемся на защищенное место. Начало посадки. [...]
17.45: Все люди, плюс 3 собаки, плюс добыча на борту. [...] Радиостанция
Стерлигова горит. Для маскировки ведем артиллерийский огонь. [...]
18.28: Отзыв группы Грайф.
18.53: Град, туман. Отходим. [...] Направление на Известий ЦИК.
20.38: Передача радиограмм на Улли и 500 м для введения врага в
заблуждение.
23.35: Контрольное погружение.
27.09.[19]44г.
00.00: Движемся на Известий ЦИК, там запланирована встреча с Ланге (U-
711) и Мангольдом (U-739)».
В более позднем кратком отчёте под грифом «Секретно! Только для
командования!» содержится дополнительная информация о двухдневном
пребывании десантной группы на Стерлигова: «25.09.[1944 г.] — После
внезапного и успешного захвата радиостанции [...] её работа обеспечивалась
русскими под надзором двух людей группы В» и «26.09.[1944 г.] в 18 ч. 30
мин. Стерлигова подожжена десантной группой «Шар» [капитана Шара].
427
Цистерны с бензином и оставшиеся здания расстреляны». По пути на базу в
Хаммерфесте в Тронхейме, Норвегия, капитан Шар 29 сентября 1944 года
докладывает командованию: «Операция на Стерлигова удалась. Взято в плен:
два радиста, два сигнальщика, метеоролог, конфискован журнал с много
летними метеоданными»... 1 октября 1944 г. капитан Шар отметил в бортовом
журнале: «То, что «Стерлигова» не только уничтожена, но взяты люди и
захвачены материалы, не должно стать достоянием общественности».
За этим следует телеграмма командиру подводных лодок: «Прошу
непременно обеспечить секретность операции Стерлигова. В Хаммерфесте не
выдавать добычу!». После возвращения капитан-лейтенант Герхард Шар за
операцию, проведённую подчиненными ему подводными лодками, был отмечен
Рыцарским крестом. Основание: «Ещё одна превосходная операция
отличного командира».
Разумеется, я хотел узнать об участи журнала с многолетними
метеоданными и сделал запрос о нём в военный архив. К сожалению, результат
оказался отрицательным — журнал пропал... Институт, где работал Борис
Михайлович, снабдил меня метеоданными с другой полярной станции. Они не
подтвердили мою гипотезу о похолодании. Павлов знал ещё кое-что о судьбе
погибшей станции. Не весь персонал станции был взят в плен, как отметил
в бортовом журнале капитан Шар. Одному человеку — его звали Г.В. Бух-
тияров, погонщику упряжных собак, удалось бежать, и после многодневного
маршрута он достиг Диксона. Но счастье обернулось бедой: его обвинили в
сотрудничестве с немцами и приговорили к десяти годам лагерей. Спустя
несколько лет после освобождения он умер.
В «Отчёте Штаба морских операций Западного сектора Арктики за
период навигации». 1944, стр. 118-121, читаем: « [...] после разрушения
полярной станции мыса Стерлигова немцами, избежавший плена начальник
авиабазы Бухтияров рассказывал на Диксоне об услышанном от немецкого
переводчика: «... г/с «Норд» был потоплен подводной лодкой при
следующих обстоятельствах: подводная лодка стояла у о. Каминского на зарядке,
когда экипажем подлодки был замечен силуэт судна, шедшего от о. Крав-
кова, который был принят вначале за транспорт. Увидев, что это бот, а не
транспорт, лодка на погружение не пошла. Когда г/с «Норд» подошло к лодке
(видимо с г/с «Норд» не видели подлодки), экипажу бота в мегафон было
предложено покинуть судно, которое немцы решили топить. В ответ на это
с г/с «Норд» последовал выстрел, после чего с лодки открыли огонь по боту.
Первым снарядом с бота была сбита надстройка, а вторым бот был
подожжён. Люди с г/с «Норд» бросились в воду, кроме лейтенанта, матроса, юнги
и боцмана. Первые три сели в шлюпку, а боцман остался висеть на шлюп-
428
талях. Люди со шлюпки были приняты на лодку, а боцману бросили
спасательный круг, с помощью которого его также подняли на лодку. Взятые в
плен четыре человека были доставлены в Берген, Норвегия»10.
Кавалер «Рыцарского креста» Герхард Шар прожил долгую жизнь: после
войны занял должность в западнонемецкой дипломатической службе, был
назначен послом в Лесото, где умер только в 1983 году...
Мы с Борисом Михайловичем радовались тому, что, несмотря на тяжёлое
прошлое, можем теперь успешно сотрудничать. Копия бортового журнала,
который вёл во время боевых действий подводной лодки капитан Шар, была
выставлена в музее в Диксоне. Борис Михайлович считал, что
обнародование таких документов, возможно, поможет кому-то справиться с прошлым.
Во время экспедиции на Таймыр в июле 1990 года мне представился
случай увидеть в арктической тундре развалины бывшего лагеря ГУЛАГа.
Пилот вертолета, который дружественно отнёсся ко мне (его родители зимой
1939/1940 годов были выселены из оккупированной советскими войсками
Восточной Польши в Сибирь) после вылета из Челюскина приземлился
среди руин бывшего исправительно-трудового лагеря «Рыбак» в долине реки
Ленинградская (76° с.ш.). Здесь было около двадцати бараков — место для
10 Существует несколько версий того, как происходил захват станции и как сложились судьбы,
персонала, в том числе Т.В. Бухтиярова. Вот одна из них: 26 сентября две немецких подводных
лодки «U-71 l»u «U-957» подошли к полярной станции мыса Стерлигова и высадили десант
автоматчиков, после чего лодки ушли под воду, ^сантная группа направилась к дому
зимовщиков. Сотрудник станции, участник этих событий Аев Эдуардович Венцковский
вспоминает:«[...] В июле 1943 года по окончании училища связи яприбыл на полярную станцию
«Мыс Стерлигова». [...] В то время там работали начальник полярной станции Леонид
Поблодзинский — одновременно радист и механик, метеоролог Дмитрий Марков и начальник
гидроаэродрома Тригорий Бухтияров. Вместе со мной на станцию прибыл состав учреждённого
на мысе Стерлигова поста СНИС (служба наблюдения и связи). Они должны были нести
круглосуточную дозорную службу, наблюдать за морем. Но уже к концу навигации стали
возникать конфликты из-за халатного несения этой службы. Поблодзинский вынужден был
сообщить об отсутствии наблюдения за морем начальнику штаба морских операций в Диксон,
но ответа не последовало. С начала навигации 1944 г. ситуация с дозорной службой повторилась,
несмотря на тревожные радиограммы о повыгиенной активности немецких подводных лодок в
Карском море. Поблодзинский снова несколько раз обращался в штаб к Минееву. Реакции по-
прежнему не было. В августе на гидрографическом судне «Норд» прибыла смена поста СНИС:
командир — старшина второй статьи Уткин и краснофлотцы Кондрашови Ногаев. У них были
винтовки, автомат ППШ и ящик гранат. Поблодзинский рассказал начальнику воинской
команды на «Норде» младшему лейтенанту Пелых о поведении сменяемого поста и попросил
сделать внушение новому составу. Однако старый состав успел «поделиться опытом». А новый,
видимо, этот опыт хорошо усвоил. И всё пошло по-старому. Не повлияло на доблестных
североморцев и сообщение о гибели «Норда», атакованного немецкой подводной лодкой. На этом
судне, как стало известно позже, погибла прежняя смена поста. В ответ на наши замечания и
требования командир поста Уткин только посмеивался, заявляя, что он де недавно с Карельского
429
фронта, а здесь глубокий тыл, не грех и отдохнуть от «фронтовых трудов». В последних числах
сентября с Диксона поступило указание проверить прилегающую к станции береговую полосу с
целью обнаружить и уничтожить выброшенные морем немецкие мины, а также поискать
возможно прибившиеся предметы с погибшего «Норда», выполнять это задание отправились на
собаках Ъухтияров с краснофлотцем Ногаевым. В туже ночь немцы напали на станцию. К двум
часам ночи 26 сентября 1944 года Марков принёс мне очередную сводку погоды «авиа». Передав
ее на Диксон, я стал подавать десятиминутный пеленг для судов. Только закончил и выключил
передатчик, как услышал шаги на ступеньках. ,£$ери распахнулись, и на меня набросились с
криками люди в меховых куртках, сбили с ног, затем поставили лицом к стене, что-то начали
спрашивать. Я уловил немецкую речь и понял, что это немцы. Вскоре привели Маркова и
Поблодзинского. Потом нас отвели в кают-компанию, где уже были Уткин и Кондратов в
нижнем белье. Как оказалось, на станцию напал десант с двух немецких подводных лодок —
около пятидесяти автоматчиков. Подводные лодки укрылись за небольшим мысом к востоку от
станции. Среди напавших был переводчик. [...]. Ъыл также знавгшшрусский язык латыш, радист.
Потом я узнал, что пост СНИС спал, немцы захватили Уткина и Кондрашова спящими.
Автомат и винтовки были разобраны, почищены, лежали в масле на столе. Ящик с гранатами
был не разобран и находился за перегородкой. Поднятые с коек, они от страха не могли стоять
на ногах, как с издёвкой рассказывал переводчик. Нас всех поместили в авиадомике, где
размещался пост СНИС, под охраной автоматчиков. Началась пурга. Поблодзинского и Маркова
увели. Возвратившись, они сообщили, что немцы требуют передавать штатные метеосводки
на Диксон, так как уйти со станции они смогут только с окончанием пурги. Поблодзинский
согласился — в надежде попытаться как-то сообщить о случившемся. Он вёл радиопередачи под
дулом пистолета латыша-радиста и в присутствии какого-то немецкого чина. К сожалению,
принимали на Диксоне начинающие радисты, они не сумели уловить вставлявшиеся в текст
слова «мы в плену». Тогда Поблодзинский предложил передавать мне. Однако мой диксонский
коллега-ученик тоже не понял, стал переспрашивать, за что гитлеровец ударил меня рукояткой
пистолета по голове. На этом сеансы связи были прекращены. Немцы допрашивали нас, требуя
сообщить местонахождение судов, а также код «Метель», употребляющийся, по их словам, на
Новой Земле для шифровки метеосводок. Мы отвечали, что ничего об этом не знаем. Они
захватили тома шифровальной книги, а шифровальная таблица была спрятана в тайнике. Но
немцы её не требовали и не искали. Заявили, что эти шифры давным-давно ими раскрыты. Когда
кончилась пурга, приехал на станцию на собаках Ъухтияров, привёз тушу белого медведя.
Заслышав лай собак, немцы спрятались, и Ъухтияров их не заметил. Так попал в плен и он. А
Ногаев остался в промысловой палатке. Немцы заставили Бухтиярова перевозить награбленное
продовольствие к берегу моря на собачьих упряжках. Погнав собак к реке, он оторвался от
конвоировавшего его немца и сумел под берегомуйти от выстрелов. Позже его с Ногаевым забрал
посланный с Диксона тральщик. Станцию немцы подожгли и разрушили артогнём. Нас
доставили на подлодку, привезли в Тронхейм, где поместили в тюрьму. Потом повезли в Осло.
По дороге к нам присоединили оставшихся в живых после потопления судна «Норд» f... J. Затем
мы находились в тюрьмах и концлагерях в Норвегии и Польше. В марте 1945 года нас освободили
советские войска. В 1945—1946 годах участвовал в восстановлении полярной станции «Мыс
Стерлигова» и вновь зимовал с Тригорием Ъухтияровым. А в начале пятидесятых годов встретил
Кондрашова, он и сообщил, что Уткин осуждён на десять лет заключения за воинское
преступление, совершенное им как командиром поста СНИС на мысе Стерлигова» {см.
Ярославцев В. «Фашистский десант на мысе Стерлигова». Газета «Советский Таймыр» № 28
(11767) 27.02.1996 г. [Аругие версии в книгах: Чертков В.Е. Ищу Арктику. М., Советская Россия,
1986, стр. 193, 194. Щипко А.М. Защитники Карского моря (Хроника военных событий).
Красноярск, 1985, стр. 15Ъ—155. Каневский З.М. Цена прогноза. А., Гидрометеоиздат, 1976, стр.
68—71. — прим. перев.
430
Рис. 117. Полярная станция Стерлигова на арктическом побережье, 1991г.
размещения 1 000 заключенных! На другой стороне реки стояли, отчасти ещё
неплохо сохранившиеся, дома комендатуры с остатками мощной ограды
(таким образом, охранники были надёжно защищены от опасного бунта
заключенных!). Сам лагерь был обнесён несколькими рядами колючей
проволоки с наблюдательными вышками по углам. Через это заграждение,
наверное, можно было при благоприятных условиях бежать, но на побег никто не
решался, так как до ближайшего леса нужно было бы преодолеть расстояние
в 700 км, а до ближайшей жилой деревни — не менее 1 500 км. Командир
вертолёта дал нам полчаса времени на наши «археологические»
исследования. Повсюду были разбросаны лопаты, тачки, мотки колючей проволоки,
пустые консервные банки, рваная одежда, сломанные машины. В одном
бараке лежал ящик с махоркой. Её ещё можно было курить.
Когда мы поднялись в воздух, сверху стали видны кучи вырытой земли.
Возможно, здесь заключенные искали уран.
Вернувшись в Норильск, я рассказал Борису о посещении лагеря. Он
сказал: «В тундре ещё много брошенных лагерей. В «Рыбаке» я был много
лет назад, тогда там ещё стояли деревянные бочки, наполненные свиным
жиром, в которых была законсервирована колбаса — продовольственное
снабжение для лагерного начальства; её ещё можно было есть!». В этой
книге не хватило бы места, чтобы описать всё то страшное, о чём мне
рассказали в Норильске.
431
Наша работа на Таймыре закончилась в июле 1991 года. Мы были
первыми иностранцами, которые смогли приехать в эту «запретную зону» СССР
и уехали прежде, чем там начались хаос и бедность. Стали плохо работать
почта — не все письма доходили. Только через несколько лет, во время
симпозиума в Москве, я узнал, что мой друг Борис в Норильске покончил с
собой! Что произошло?
Когда Литва в 1990 году объявила себя независимым государством, жене
Павлова пришлось бороться со всё возрастающими трудностями. В конце
концов она лишилась квартиры и в 1994 году вернулась в Норильск к мужу.
Семейные проблемы, тяжёлое материальное положение после крушения
Советского Союза, а главное, быстрое разрушение большого института очень
тяжело повлияли на Бориса Михайловича. Он не нашёл в себе сил
справиться со всем этими проблемами. К величайшему сожалению, мы ничего не
знали и не могли помочь ему. 5 октября 1994 года он ушёл из своей квартиры
и больше не возвращался. Только через год, когда короткое арктическое лето
растопило снег и лед, было найдено его тело. Татьяна получила гонорар за
его публикации, вышедшие в Германии. Мне написали, что она смогла
сделать на эти деньги ограду и памятник на кладбище.
Борис! Была ли эта смерть необходима? Отказали в помощи все друзья?
«Мы ничего не знали», — это отговорка или запоздалое признание вины?
Глава 7. Профессор Эрнст Шеффер
(1910-1992) — две биографии,
одна выставка и один комментарий
Я не знал Шеффера лично. Но в начале января 1989 года я посмотрел
телевизионную передачу, в которой он рассказывал о своих путешествиях в
Тибет (рис. 118). Мне приходилось читать книги Шеффера с
захватывающими описаниями его экспедиций, но живая речь престарелого профессора
произвела на меня более сильное впечатление, чем тома его книг. «Он не
говорит всего...» — заметил тогда один из моих старших знакомых.
Я решил не включать в эту книгу биографию Шеффера. Вместо этого я
поместил в эту книгу четыре ранее опубликованных текста и снабдил их
небольшим комментарием. В совокупности они воссоздают действительную
картину жизни Эрнста Шеффера.
* * *
Я хочу начать рассказ с официальной биографии, составленной самим
Шеффером (мне принадлежит только заглавие). Эта биография была
опубликована в первом томе его последней книги «Птицы Венесуэлы и среда их
обитания» («Die Vogelwelt Venezuelas und ihre oekologischen Bedingungen»,
Berglen Wiirtt., 1996: 5-6), Пользуясь любезным разрешением издательства,
я привожу здесь эту биографию.
«Моя биография»
Эрнст Шеффер родился 14 марта 1910 г. в Кёльне. Его детство прошло в
местечке Вальтерсхаузен в Тюрингии. У него рано появился интерес к
природе и животным. Уже в юном возрасте он работал в качестве ассистента на
орнитологических станциях в Дании и на Гельголанде.
В 1928 году Шеффер поступил в университет в Гёттингене, где изучал
зоологию, ботанику, химию, физику, геологию, минералогию и этнографию.
В 1929 году он перешёл в Высшую школу ветеринарии в Ганновере для
того, чтобы изучить также и анатомию.
Затем следуют одна за другой три Тибетских экспедиции:
1931-1932 годы. Первая экспедиция в Тибет [организована
американцами]. Шеффер становится действительным членом академии Филадельфии.
1932-1933 годы. Изучает зоологию в Британском музее в Лондоне.
433
Рис. 118. Профессор Эрнст Шеффер делится своими впечатлениями о
Тибете перед телевизионной камерой, начало января 1989 г.
1934 год. Учится в Гёттингене.
1934-1936 годы. Вторая экспедиция в Тибет [организована
американцами].
1936 год. Возвращается в Германию, учится в университете Гумбольдта
в Берлине, защищает диссертацию под руководством профессора Эрвина
Штреземанна.
1938-1939 годы. Третья экспедиция в Тибет, в Лхасу («Немецкая
экспедиция Эрнста Шеффера в Тибет»). Эту экспедицию он совершил без
организационной и финансовой помощи государства. Экспедиция прошла с
огромным успехом, Шеффер оказался первым немцем, достигшим столицы
Тибета — Лхасы. Был собран гигантский коллекционный материал по
зоологии, ботанике, этнографии; получены данные по земному магнетизму и
геофизике; кроме того, снят великолепный документальный фильм о
Тибете.
1938 год. Становится членом Британского общества изучения
Центральной Азии.
1939-1942 годы. Защищает диссертацию в Мюнхенском университете,
получает «venia legendi» и должность доцента Мюнхенского университета.
1942 год. Организует Институт имени Свена Гедина с отделениями в
Мюнхене и Зальцбурге.
1943 год. Выставка «Панорама Тибета» в Зальцбурге.
434
1949 год. Получает приглашение в Венесуэлу. Занимает должность
профессора в Каракасе. Создаёт биологическую станцию в Ранчо Гранде (Esta-
cion Biologica de Rancho Grande); в течение пяти лет занимается изучением
птиц Венесуэлы и их экологии.
1950 год. Становится членом ЮНЕСКО [на самом деле — экспертом] по
полуаридным регионам.
1955-1959 годы. Визит бывшего короля Бельгии Леопольда III на Ранчо
Гранде. Шеффер принимает его предложение работать в Бельгии и
возвращается в Европу. В течение пяти лет работает в качестве королевского
советника по науке. Снимает документальный фильм «Властелин
девственного леса» о природе, животном мире и людях Конго [находившемся тогда
под Бельгийским влиянием].
1956 год. Становится членом IRSAK — Института научных исследований
Центральной Африки.
1956-1970 годы. Работает в Нижнесаксонском естественнонаучном музее
в Ганновере.
1964 год. Путешествие в Индию, научные исследования (тигр, гаур, зам-
бар). Посещает Далай-ламу.
1974 год. Аляска: охота и научные исследования в стране снежных
баранов, лососей, медведей и лосей.
1975 год. Путешествие в Танзанию, Кению, Уганду.
1979 год. Намибия. 1980 год. Хараре, Мозамбик, водопад Виктория.
1981 год. Южная Африка, Намибия.
1984 год. Венесуэла.
* * *
Далее я привожу некролог, опубликованный в Немецком
орнитологическом журнале за 1993 г. («Journal fur Omithologie», 1993, 134: 368-369) и
ставший предметом разногласий и споров. В нем также кратко прослежен
путь профессора в науке. Этот текст я воспроизвожу с любезного
разрешения автора очерка и редактора журнала.
Эрнст Шеффер (1910-1992)
21 июля 1992 года на 83-м году жизни в Медингене [Бад Бевензен,
Нижняя Саксония] скончался профессор Эрнст Шеффер. Он вступил в
Немецкое орнитологическое общество в 1930 году и в 1939 году стал его почётным
членом.
435
Рис. 119. Доктор Эрнст Шеффер, 1936 г.
Эрнст Шеффер родился 14.03.1910 г. в Кёльне и уже в школьные годы
начал заниматься орнитологией и экологией. После сдачи выпускных
экзаменов в Маннхайме в 1928 году он короткое время работал в качестве
ассистента на орнитологических станциях в Дании и на Гельголанде.
Шеффер учился в нескольких университетах: в Гёттингене, в Ганновере
(анатомия) и в Берлине (химия, физика, геология, минералогия, ботаника,
зоология и этнография). В 1937 году он защитил кандидатскую
диссертацию (попытка защиты в 1934 году под руководством Альфреда Кюна
потерпела неудачу). В 1939-1942 годы в Мюнхенском университете он
работал над докторской диссертацией; работа завершилась получением «venia
legendi» (разрешения преподавания в высшей школе) и должности доцента.
В 1949 г. Шеффер получил приглашение в Венесуэлу на должность
профессора университета. В Венесуэле он основал биологическую станцию на
Ранчо Гранде (Estacion Biologica de Rancho Grande). С 1956 по 1970 год он
был главным хранителем Нижнесаксонского Музея естественной истории в
Ганновере.
Уже в период учёбы в университете Эрнста Шеффера манили дальние
страны. В 1931-1932 гг. он становится участником двух первых
американских экспедиций в Тибет («Brooke-Tibet-Expeditionen»). В эти экспедиции
его, кроме всего прочего, влечёт также страсть к охоте, нередкая в те вре-
436
мена у орнитологов. С этой страстью он не расстался на протяжении почти
всей жизни. В 1938-1939 гг. он совершил третье путешествие в Тибет,
известное под названием «Немецкая экспедиция в Тибет Эрнста Шеффера».
Эту экспедицию он спланировал самостоятельно и предпринял по
поручению Гиммлера. К участию в ней были допущены лишь члены СС [рис. 120].
Шеффер публично подчёркивал, что речь идёт о задании СС. По его мнению
«... как члены отряда СС, мы пройдем с открытым забралом намного
дальше и достигнем много большего для сочувствия к новой Германии,
нежели в том случае, если мы будем путешествовать — хотя и с чистой
совестью, но всего лишь под эгидой никому неизвестной, сомнительной, пусть
и нейтральной научной академии...» (Немецкое научно-исследовательское
общество (DFG) и Совет по науке Рейха финансировали экспедицию в
размере 30 000 рейхсмарок. Таким образом, наряду с научными, Шеффер
определённо преследовал также и политические цели, что не в последнюю
очередь послужило причиной возникновения осложнений с британскими
представителями в Индии. См. Ute Deichmann «Biologen unter Hitler»,
Frankfurt, 1992. — Ута Дайхманн «Биологи при Гитлере»).
За три недели до начала Второй мировой войны Шеффер вернулся в
Германию с богатейшими зоологическими, ботаническими, этнографическими
и минералогическими коллекциями (см. также: Journal fur Ornithologie,
1938, 86, Sonderband). Широкую известность получил документальный
фильм «Тайна Тибета», снятый во время экспедиции.
Этот фильм (как и одноимённая книга) изображал «государства и народы
Тибета в настолько карикатурной форме», что по соображениям
политического свойства вызвало серьезные сомнения у самого Гиммлера, который в
1943 году писал Шефферу о своих опасениях по поводу целесообразности
его публичного показа. («... Мои сомнения по поводу публичного показа
фильма всё-таки оправдались...», — сообщает рейхсфюрер СС Шефферу в
одном из писем; цит. по: Ute Deichmann, 1992).
В 1942 году Шеффер основал Государственный институт имени Свена
Гедина с отделениями в Мюнхене и Зальцбурге, в котором работали почти
30 учёных и который Шеффер возглавлял вплоть до падения Третьего Рейха.
Три года (с 1945 по 1948) Шеффер в связи со своей деятельностью в период
Третьего Рейха провёл в лагере. После этого он покинул Германию, уехал в
Венесуэлу, и в течение пяти лет интенсивно занимался изучением
орнитофауны этой страны. Затем бывший бельгийский король Леопольд III
пригласил Шеффера в Бельгию в качестве советника. Из Бельгии Шеффер
предпринял целый ряд путешествий, в основном в Бельгийское Конго. Вместе с
Хайнцем Зильманном был снят фильм «Властелин девственного леса». В
437
Рис. 120. J^oxmop Эрнст Шеффер (в центре), руководитель организованной СС
экспедиции в Тибет, во время праздничного приема в Лхасе. Справа и слева от
Шеффера — участники экспедиции и знатные тибетцы.
связи с сотрудничеством с нацистами в период Третьего Рейха Леопольд
освобождает Шеффера от обязанностей, и он получает место в Музее
Естественной истории в Нижней Саксонии. Шеффер предпринимает ещё ряд
путешествий, в том числе в Индию, Восточную Африку и на Аляску.
Последние годы своей жизни он полностью посвящает охоте, своему участку,
приведению в порядок многочисленных коллекционных сборов из
Венесуэлы и написанию мемуаров.
Эрнст Шеффер без сомнения принадлежал к плеяде выдающихся
исследователей Тибета. Одновременно с этим, его научная и исследовательская
деятельность оказалась тесно связана с планами нацистов, за что он позже
неоднократно подвергался резкой критике. Шеффер смог реализовать своё
дарование. Он воплотил свои наблюдения и впечатления в многочисленных
книгах, среди которых можно назвать: «Горы, Будда и медведи» (1933),
«Неизвестный Тибет» (1937), «Крыша мира» (1938), «Тибет зовёт» (1942),
«Таинственный Тибет» (1942), «Праздник белого линя» (1949/1988), «Через
Гималаи в страну богов» (1952/1989), «С разбойниками в Тибете»
438
(1952/1989), «На одиноких тропах и перевалах» (1960), «Охота в
современном мире» (1961), «Книга охоты» (1963). Кроме того, им написаны научные
орнитологические работы (см. перечень в Journal fur Omithologie, 1934—
1963: 82-104).
Наставником и научным руководителем диссертации Эрнста Шеффера
был Эрвин Штреземанн. Шеффер привозил ему из своих экспедиций
богатые — и не только орнитологические — материалы для Зоологического
музея при университете Гумбольдта в Берлине. Это сыграло не последнюю
роль в том, что ко дню своего бракосочетания 7.12.1939 года Шеффер
получил от Штреземанна телеграмму с известием о присвоении ему звания
почётного члена Немецкого орнитологического общества.
Р. Принцингер
* * *
Выставка «Панорама Тибета» и Свен Гедин
При возвращении Шеффера из Тибета в начале августа 1939 года его
лично встречал в аэропорту Мюнхена глава СС Генрих Гиммлер (рис. 121,
см. также: Greve, 1997). Было совершенно очевидно, что и в дальнейшей
работе Шефферу будет оказана всесторонняя поддержка. Однако до
окончания войны ему так и не удалось научно обработать привезённые
материалы и опубликовать результаты. Были опубликованы только две
объёмистые, но популярные книги. Но Шеффер всё же представил привезённые
материалы в виде большой и для того времени прекрасно оборудованной
выставки в Зальцбурге.
Ход истории создал непреодолимые препятствия для полноценной
обработки материалов и публикации общего научного труда — все книги
Шеффера о Тибете, появившиеся после войны, носят популярный характер.
Прекратил свое существование и созданный Шеффером институт по изучению
Центральной Азии имени Свена Гедина.
Кто же такой был Свен Гедин — человек, именем которого был назван
созданный Шеффером институт? В различных энциклопедиях о нём
сообщается следующее: Свен Гедин — шведский аристократ, знаменитый
путешественник, последний в плеяде выдающихся исследователей Азии.
Научные результаты его путешествий опубликованы в более чем 50 томах! Свен
Гедин некоторое время учился в Берлине и с почтением относился к
Германии. С ранней юности Гедин был приверженцем героических образов и не
признавал демократии.
439
Рис. 121. Встреча участников Тибетской экспедииии СС в аэропорту Мюнхена:
Эрнст Шеффер (в г^ентре, в штатском), слева от него рейхсфюрер СС Генрих
Гиммлер и шеф его личного штаба группенфюрер СС Карл Вольф. За Гиммлером
идётучастник экспедиции от общества «Аненербе» — Бруно Бегер (4.08.1939 г.).
Несколько больше информации можно найти в Интернете: уже в 1935 году
Гедин встретился с Гитлером, которым он восхищался, так же как и национал-
социализмом. В 1936 году во время Олимпийских игр в Берлине Гедин
произнёс речь «Спорт как воспитатель народа». После начала Второй мировой
войны он неоднократно встречался с Гитлером и другими лидерами
фашистской Германии. В 1942 году в Берлине появилась статья «Америка в борьбе
континентов» за его подписью. 16 января 1943 года Свен Гедин принимал
участие в торжествах по поводу открытия Института, названного его именем, а
Мюнхенский университет присвоил ему звание почётного доктора.
Как мы видим, присвоение имени иностранца-аристократа институту,
подчинённому СС, не было случайностью (подробнее см.: Kater, 1997:211-218).
Меня интересовали научные результаты «Немецкой экспедиции Эрнста
Шеффера», презентация которых под названием «Панорама Тибета»
состоялась в Институте имени Свена Гедина в 1943 году, поэтому я написал
директору архива Зальцбурга с просьбой о более подробной информации. К
440
сожалению, ничего конкретного найти не удалось. Но мне прислали копию
статьи из «Зальцбургской газеты» от 19 января 1943 года с репортажем об
открытии выставки. Трудно найти документ, более точно передающий
атмосферу, которая окружала Шеффера в Третьем Рейхе, чем эта небольшая
статья. Я привожу здесь первую её часть:
Доктор Свен Гедин — гость гауляйтера1
«Дух фюрера живёт во всём немецком народе»
Мы уже сообщали о том, что прославленный шведский исследователь
Тибета доктор Свен Гедин, находящийся в настоящее время в Мюнхене,
посетил Зальцбург в связи с открытием выставки, сделанной по материалам
тибетской экспедиции СС доктора Шеффера. В воскресенье вечером
гауляйтер доктор Шеель по случаю открытия выставки в «Доме природы»
устроил приём в честь шведского исследователя Тибета доктора Свена Ге-
дина в Доме кавалеров во Дворце Клайсхайм. Кроме самого доктора Свена
Гедина на приём были приглашены его сестра Анна Гедин, шведские учёные
и коллеги доктора Гедина, руководитель Тибетской экспедиции СС доктор
Эрнст Шеффер и некоторые из её участников, а также заместитель министра
науки, народного просвещения и воспитания, бригаденфюрер СС,
профессор доктор Ментцель, советник министра Министерства агитации и
пропаганды доктор Циглер и другие высокие гости, деятельность которых
связана с научной работой доктора Гедина и доктора Шеффера. На приёме
также присутствовали представители высшего командного состава
Вермахта, государственные и партийные деятели Зальцбурга — генерал Шал-
лер-Калиде, президент правительства доктор Райттер, глава
государственного отдела пропаганды доктор Вольф и другие официальные лица.
На приёме с приветственным словом в честь гостя Свена Гедина
выступил глава областной администрации, гауляйтер доктор Шеель. Он
подчеркнул значение масштабных исследований гостя, результаты которых широко
известны во всей Германии и пользуются уважением у всего немецкого
народа. Гауляйтер доктор Шеель передал доктору Свену Гедину приветствие
от немецких студентов, восхищённых достижениями доктора Свена Гедина.
Гаулейтер доктор Шеель приветствовал гостя от имени всех жителей
Зальцбурга и подчеркнул, что областная администрация Зальцбурга счастлива
приветствовать доктора Свена Гедина в качестве своего гостя.
1 Гауляйтер — национал-социалистический руководитель области в фашистской Германии.
— прим. перев.
441
Рис. 122. Доктор Эрнст Шеффер — директор Института
исследований Центральной Азии имени Свена Гедина в своём
кабинете в замке Миттерзилъ, 1943 г.
В своей продолжительной ответной речи доктор Свен Гедин
поблагодарил всех присутствующих за тёплый сердечный приём в Зальцбурге. Он
выразил свое восхищение гауляйтеру доктору Шеелю в связи с его
деятельностью в качестве государственного предводителя немецкого студенчества, и
всем немецким студентам. В этой связи доктор Свен Гедин вспомнил свои
собственные студенческие годы в Германии и своего незабвенного учителя,
профессора Фридриха фон Рихтгофена в Берлине. Доктор Гедин также
выразил восхищение сегодняшней Германией: несмотря на войну, которую
немецкое государство ведёт со всей решимостью и отдачей всех сил, оно всё-
таки находит силы и возможности не только поддерживать нормальную
жизнь в своем отечестве, но и в полной мере содействует развитию научно-
исследовательской работы. Особенно тепло Доктор Гедин отозвался о
фюрере Адольфе Гитлере, чей дух как бы витает под сводами дворца Клай-
схайм. Свен Гедин подчеркнул, что для него символично быть
приглашённым на приём именно во дворец Клайсхайм, где живёт дух
фюрера. Это символично для него потому, что он знает: дух фюрера везде — в
войне и мире — живёт во всем немецким народе, укрепляя и сплачивая его.
Далее доктор Гедин остановился на некоторых важных вопросах своей
собственной исследовательской работы, насчитывающей уже несколько
десятилетий. При этом он высоко оценил деятельность юного немецкого
исследователя Тибета, доктора Эрнста Шеффера и выразил надежду и уве-
442
ренность в том, что отныне исследование Тибета находится в надёжных
руках. Доктор Гедин выразил особое восхищение выставкой «Панорама
Тибета» в «Доме природы». Обстоятельная, яркая и убедительная речь
доктора Гедина создала у слушателей впечатление, что грандиозные картины
«Панорамы Тибета» в «Доме природы» вызвали к жизни воспоминания
доктора Гедина о его собственных путешествиях. Доктор Гедин подчеркнул,
что грандиозные картины панорамы выставки в «Доме природы» произвели
на него даже большее впечатление, чем фильм «Тайна Тибета», на премьере
которого он присутствовал в Мюнхене. Панорамные картины позволили
представить ландшафты и жителей Тибета ещё более рельефно и ярко и
создали ещё более всеобъемлющую картину
*
В тот же день обербюргермайстер Гигер пригласил на другой приём
иностранных гостей, прибывших с доктором Гединым в Зальцбург на открытие
выставки «Панорамы Тибета» и членов учебного и
научно-исследовательского общества «Наследие предков» («Ahnenerbe»)2, а также представителей
Министерства науки, народного просвещения и воспитания и
представителей Министерства агитации и пропаганды. Обербюргермайстер Гигер в
своей речи подчеркнул, что администрация и жители Зальцбурга счастливы,
что именно здесь состоялся один из первых докладов исследователя Тибета,
доктора Шеффера, и что отныне часть богатейшей научной коллекции
доктора Шеффера будет вечно храниться в «Доме природы» Зальцбурга.
*
Упомянутая мною в начале этого очерка телевизионная передача
транслировалась по второй центральной программе немецкого телевидения
2 В конце XIX — начале XX века получила распространение легенда об Агарти — древней
подземной цивилизации, находившейся в Тибете. Самыми известными искателями Агарти
были нацисты, которых чрезвычайно интересовали оккультные знания и технологии
забытых цивилизаций. Они искали подтверждения того, что являются потомками
сверхчеловеческой расы арийцев. Общество «Наследие предков» было создано для изучения
наследия и традиций немецкой цивилизации, под его эгидой в Тибет и были направлены в 1937—
1939 гг. экспедиции для поиска Агарти. Гитлер возлагал большие надежды на союз с тайными
властителями подземного мира. Одна из щлей экспедиций заключалась в измерении черепов
тибетцев для подтверждения того, что Тибет был древней родиной арийцев. Основателем
общества был Фридрих Тилыиер, друг Свена Гедина. В 1935 году общество было превращено в
государственный институт, который курировал лично Гиммлер. — прим. перев.
443
(ZDF) в цикле «Терра инкогнита» под названием «Демоны на крыше мира.
Путешествие с камерой в Восточный Тибет» 8 января 1989 г., а 20 января
обозреватель газеты «Цайт» Моника Кёлер написала по поводу этой
передачи комментарий. В нём не только уточнены некоторые из высказываний
Шеффера, но и ещё немного приоткрыта завеса тайны над его
деятельностью («Die Zeit», 4: 50). Этот комментарий, с любезного разрешения автора,
я также привожу в моём очерке.
* * *
Наука на службе у нацистов: профессор Эрнст Шеффер.
Новое о незнании
(комментарий Моники Кёлер по поводу телевизионной передачи
«Терра инкогнита»)
На экране седой господин преклонного возраста в кресле-качалке, за его
спиной рога лося, другие охотничьи трофеи, шкура леопарда. Он повествует,
сопровождая рассказ оживлёнными жестами: «... Он в трансе. У него золотой
шлем на голове, который весит 60 фунтов..., потом он мчится через весь город
на праздничную площадь, чтобы изгнать злых духов...». Кто же он, этот
господин на экране, изображающий тибетского оракула? Имя его — Шеффер. По
второй программе немецкого телевидения идёт последняя часть сериала
«Терра инкогнита» — путешествие по Восточному и Центральному Тибету.
Показывают фильм «Лхаса Ло», снятый в 1939 году, с комментарием автора.
А вот и сам автор и эксперт: исследователь Тибета профессор Эрнст Шеффер.
«... Внезапно оракул начал дрожать, цвет его кожи изменился, сделался
желтоватым, затем кроваво-красным; он продолжал кружиться в неистовом
танце... Все склонились перед ним... Наконец, он рухнул на землю, будто
в эпилептическом припадке...». Позже он, Шеффер, «снова вступил с ним
в контакт». Полностью придя в себя, оракул сказал ему убеждённо:
«Прибудут летающие люди, всё будет уничтожено, электрическая искра придёт
в Лхасу. С её приходом наша религия будет уничтожена». И «... что-то
ужасное должно произойти в Англии и Германии».
«Я был полностью отрезан от всего мира», — произносит Эрнст
Шеффер, прижимая обе руки к груди: «Да, все эти многие месяцы я был
изолирован от политики Европы, Германии, Англии, Америки, Японии — от
всего. И потому у меня, конечно, был шок, глубочайший шок. Только потом
я понял, отчего. Позже, когда я узнал правду, горькую правду... К
сожалению, всё оправдалось».
444
Профессор Шеффер ничего не знал в 1939 году, совершенно ничего не
знал! Он писал книги о своих путешествиях в Тибет, к примеру, эту: «Тайна
Тибета — первое сообщение немецкой экспедиции в Тибет Эрнста Шеф-
фера, 1938/39 — под личным патронажем рейхсфюрера СС». Опубликовано
в 1943 году. В предисловии Шеффер указывает на то, что «некоторые члены
экспедиции, оставшиеся в отечестве и занятые обработкой собранных
материалов, постоянно слали ему «новые предложения и острые критические
замечания в ту глушь, где он находился». Один из участников экспедиции
пребывал на базе в Калькутте «для поддержания» — как писал Шеффер —
«... неразрывной связи между членами экспедиции вопреки
непроходимости Тибетской горной страны». Были, однако, источники информации и
совершенно другого рода. Кое-что, что он преподнёс регенту в качестве
подарка — а именно, коротковолновый радиоприёмник.
«Полностью отрезан от всего мира», — говорит исследователь Шеффер
сегодня в передаче по центральному немецкому телевидению. Но ведь в
экспедиции в Тибет принимали участие его товарищи — геофизик и
специалист по земному магнетизму Карл Винерт, энтомолог, режиссер и оператор
фильма Эрнст Краузе, техник Эдмунд Геер, а также этнограф и антрополог
Бруно Бегер. Целью путешествия было «... доказать всему миру, как
плодотворно проводить исследования в дикой природе, руководствуясь нашим
мировоззрением...». Далеко не на последнем месте в программе
исследований стояло изучение различных характеристик этнических групп:
промеры и снятие слепков головы, ладони, ступни, лица, а также
дактилоскопия и изучение групп крови.
«Полностью отрезан от всего мира». Наконец, в руках у путешественников
приглашение тибетского правительства в Лхасу. Ещё в декабре они
отправились из Сиккима в Тибет. «... Всё было организовано таким образом, чтобы
в праздник зимнего солнцестояния 21 декабря 1938 года мы находились всего
лишь в нескольких милях от тибетской границы, на высоте 4 000 м над
уровнем моря, на горном озере, окружённом идиллическим пейзажем. Это
великий день для нас, мы сидим тесным кругом вокруг нашего маленького
радиоприёмника, чтобы не пропустить ни одного слова рейхсфюрера СС Г.
Гиммлера, который является нашим патроном и покровителем. «Полностью
отрезан от всего мира», — говорит Шеффер: «... Мы молча взяли факелы и
направились, сопутствуемые нашими верными спутниками — уроженцами
здешних мест, вниз к озеру, где при мерцающем свете огня поклялись во что
бы то ни стало не расставаться и исполнить нашу великую задачу...»
Впечатляющая сцена. Написано в 1943 году. Переписано в 1950 году. В
книге под новым названием «Через Гималаи в страну богов» эта сцена при-
445
сутствует, но без радиоприёмника и рейхсфюрера. Читатель вознагражден
описанием картин природы.
Но вернёмся к экрану телевизора.
Вот что говорит сегодня наш собеседник: «Так же, как это предсказание
Второй мировой войны, сбылись и оказались жестокой действительностью
— исторически достоверной — и другие видения оракула».
Видение, пророчество? Нет, государственное дело Рейха под грифом
«совершенно секретно». 1939 год. «Операция Тибет». Запланировано, что
хауптштурмфюрер СС, доктор Шеффер, который уже трижды бывал в
Тибете и только в июле сего года вернулся из своей последней научной
экспедиции, будет послан в Тибет с небольшим отрядом примерно из 30 человек
и вооружением на 1000-2000 человек». В 1964 году один из спутников Шеф-
фера Бегер сообщил историку Михаэлю Катеру («Das «Ahnenerbe» der SS»,
1974), что передовой отряд Шеффера имел поручение с помощью подарков
«настроить тибетскую армию против британских войск. Он должен был
обещать тибетцам свободу от английских эксплуататоров».
Несмотря на то, что группа Шеффера должна была пройти в течение двух
месяцев специальное обучение «обращению как со средним, так и тяжёлым
гранатомётом, а также с тяжёлым пулемётом...» из этого плана ничего не
вышло из-за разногласий между Гиммлером и Розенбергом.
Так или иначе, Гиммлер снова наградил Шеффера, которому он уже за
его прежние успешные экспедиции в 1936 году присвоил звание унтер-
штурмфюрера СС в своём личном штабе. В августе 1939 года, сразу же
после возвращения Шеффера из Тибета, Гиммлер вручил ему особый
перстень СС с печаткой-черепом и почётную шпагу.
Шеффер входил в общество «Ahnenerbe» («Наследие») —
псевдонаучную структуру СС, принадлежал к кругу друзей Гиммлера. Там он
показывал свой фильм о Тибете. С этим фильмом и докладами он позже совершил
турне, которое должно было служить целям просвещения групп СС. В 1943
году ему удалось превратить свой отдел «Ahnenerbe» в государственный
институт — Институт имени Свена Гедина по исследованию Центральной
Азии с центром в Мюнхене. Позже он переехал в замок Миттерзилль,
который находился в Австрии, присоединённой к Рейху. Шеффер взял на
работу своих старых товарищей по Тибету — Бегера, Геера, Винерта и Краузе.
Снова была запланирована экспедиция, на этот раз на Кавказ. Шеффер
должен был возглавить мероприятие. (В апреле 1942 года, как
свидетельствуют документы федерального архива, он получил звание штурмбанфю-
рера и короткое время спустя был введён в состав Ваффен СС — прим.
автора). Для его друга по Тибету Бегера была предусмотрена задача по
446
Рис. 123. Профессор Эрнст Шеффер в Венесуэле, 1950-е годы.
проведению антропологических измерений горных евреев, которые
значились в справочнике СС как «чужеродное тело» в кавказском регионе. Для
этого требовались приборы, хорошо вооруженные передовые отряды Ваф-
фен СС и, как писал Шеффер, — для Бегера и других антропологов «...
двадцать скальпелей различного размера, шесть больших скальпелей и пять
больших машин для мяса». Под последними следует понимать устройства
для очистки скелетов.
Но и из этого путешествия также ничего не вышло — Красная Армия
была быстрее. Тогда антрополог Бегер в июле 1943 года едет в Аушвиц,
поскольку там как раз появился «наиболее подходящий материал». Он
восхищается цветущей тополиной аллеей (о ней он вспомнит ещё и в 1970 году
во время процесса: обошлось благополучно — всего тремя годами
лишения свободы) и находит интересные типы для измерений: 79
евреев-мужчин и 30 женщин-евреек, два поляка, два узбека, один «гибрид»
узбек-таджик и один чуваш из окрестностей Казани. «... Узбек — крупный здоровый
парень, мог бы быть тибетцем. Его манера речи, его движения и походка
были просто потрясающими, всё это можно определить одним словом —
центрально- азиатский...», — в восторге пишет он Эрнсту Шефферу. «О
моих аушвицких впечатлениях я должен тебе ещё рассказать при встрече в
деталях...».
Измеренные пленные были в чистых тиковых блузах транспортированы
в концлагерь Нацвайлер в Эльзасе и там аккуратно убиты газом. Их трупы
были отправлены в анатомическую лабораторию в Страсбург в собрание
447
профессора Августа Хирта. Работы по чистке скелетов затянулись. Однако,
в 1944 году во дворце Миттерзилль уже хранились человеческие черепа [см.
H.-J. Lang. «Die Namen der Nummern». Hamburg, 2004. Х.-Д. Ланг, «Имена
номеров»].
Антрополог доктор Рудольф Тройан пишет в одном из писем Бегеру: «Что
собственно делать с человеческими черепами? Они валяются повсюду и
только занимают место. Что было изначально запланировано? Мне кажется
самым разумным отправить их — так, как есть — в Страсбург, пусть там
сами разберутся, как с ними поступить»3. «Терра инкогнита», фильм о
неизвестной стране, немецкий профессор, который был отрезан от всего мира,
человеческие черепа, которые где-то лежали в беспорядке. Они ещё где-то
лежат...
3 Ъегер отбирал, обмеривал и подвергал различным исследованиям узников Освенцима, а Хирт
потом умерщвлял их в газовой камере и препарировал трупы по собственной методике.
«Каталог» должен был стать идеальным индикатором «признаков еврейства» — даже в
третьем и четвёртом поколениях... Когда американцы в конце 1944 года захватили
Страсбург, они обнаружили в клинике Хирта плавающие в формалине, ещё «не обработанные»
до конца трупы 86 мужчин, женщин и детей. Вместе с документами «Аненербе», эта находка
стала главной уликой обвинения в делах врачей-убийц из «Наследия предков». — прим. перев.
Источники
Публикации
Аноним. 1972. Жизнь во имя науки (Георгий Петрович Дементьев, 1898-1969) //
Орнитология. Вып. 10. С. 3-5.
Аноним. 1989. Памяти Юрия Андреевича Исакова (1912-1988) // Известия АН СССР.
Серия геогр. № 1. С. 141-142.
Атемасова Т.А., Кривицкий И.А. (сост.). 1999. Александр Богданович Кистяковский //
Орнитологи Украины. Биобиблиографический справочник. Харьков. Вып. 1. С.
116-120.
Берг Р.Л. 1993. Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский // Н.Н. Воронцов (ред.).
Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. Очерки, воспоминания, материалы.
М. С. 226-239.
Берлин В.Э. 1997. Заповедникам нужны настоящие люди. О жизни и творчестве О.И.
Семёнова-Тян-Шанского // Люди заповедного дела. Бахилова поляна. Вып. 1. С. 3-
15.
Берлин В.Э. 1998. Олег Семёнов-Тян-Шанский. Дневники из Петровки (1917-1929) //
Живая Арктика. Т. 2. № 11. С. 14-31.
Боев 3. 1991.100 години от рождението на Павел Патев — основоположник на съвре-
менната орнитология в България // Historia naturalis bulgarica. T. 3. С. 111-116.
Боев 3. 1997. 75 години от рождението на Николай Боев — основоположник на съвре-
менната природозащита в България // Historia Naturalis Bulgarica. T. 8. С. 9-22.
Воронов А.Г. 1967. Николай Алексеевич Гладков (к 60-летию со дня рождения) //
Орнитология. Вып. 8. С. 405-^08.
Воронцов Н.Н. (ред.) 1993. Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. Очерки,
воспоминания, материалы. М.
Дементьев Г.П. 1960. Эрвин Штреземанн (к 70-летию со дня рождения) //
Орнитология. Вып. 3. С. 479-^81.
Дроздов Н.Н. 1977. Памяти Николая Алексеевича Гладкова // Орнитология. Вып. 13.
С. 229-131.
Дунаева Т.Н., Насимович А.А., Флинт В.Е. 1983. Юрий Андреевич Исаков (к
семидесятилетию со дня рождения) // Бюлл. Моск. о-ва испыт. природы. Отд. биол. Т. 88.
Вып. 3. С. 100-105.
Гагина Т.Н. 1973. Печатные работы профессора В.Н. Скалона (аннотированный
список). Иркутск.
Гагина Т.Н. 2003. Жизнь и научная деятельность В.Н. Скалона. Иркутск.
Гершензон Н.М. 1993. Заметки о Н.В. Тимофееве-Ресовском // Н.Н. Воронцов (ред.).
Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. Очерки, воспоминания, материалы.
М. С. 369-370.
Гладков Н.А. 1959. Георгий Петрович Дементьев (к шестидесятилетию со дня
рождения) // Орнитология. Вып. 2. С. 289-294.
Големански В., Божков Д. 1997. Бележити български зоолози. София.
Гончаров В.А., Нехотин В.В. 2000. Неизвестное об известном. По материалам
архивного следственного дела на Н.В. Тимофеева-Ресовского // Вестник РАН. Т. 70. Вып.
3. С. 249-257.
Гранин Д.А. 1987. Зубр // Новый мир. №1,2.
Ильичёв В.Д. 1977. Георгий Петрович Дементьев (1898-1969). М.
449
Карасёва Е.В. 1999. Александр Николаевич Формозов в моей жизни // Е.В. Карасёва,
А.Ю. Телицина, Б.Л. Самойлов. Млекопитающие Москвы в прошлом и настоящем.
М. С. 233-242.
Касьянов Н.В. 2005. Приморские имения в окрестностях Владивостока на рубеже
XIX-XX веков // Русская усадьба. Сборник общества изучения русской усадьбы. М.
Вып. 11 (27). С. 271-283.
Ковшарь А.Ф. (сост.) 2003. Орнитологи Казахстана и Средней Азии: XX век.
Библиографический справочник. Алматы. 248 с.
Кушнарева Т.К. 2003. Генеалогический род Янковских // Янковские чтения.
Материалы IV-V международных научно-практических конференций. 1998-2000 гг.
Владивосток. С. 11-14.
Луговой А.Е. 1994. Годы, птицы, люди... (Из воспоминаний орнитолога). Киев.
Луговой А.Е. 2005. Калейдоскоп юных лет (Воспоминания. Детские и школьные
годы). Ужгород.
Майр Э. 1993. Тимофеев-Ресовский // Н.Н. Воронцов (ред.). Николай Владимирович
Тимофеев-Ресовский. Очерки, воспоминания, материалы. М. С. 178-179.
Маленков А.Г. 1993. О Н.В. Тимофееве-Ресовском // Н.Н. Воронцов (ред.). Николай
Владимирович Тимофеев-Ресовский. Очерки, воспоминания, материалы. М. С.
281-282.
Матюшкин Е.Н. 1999. Александр Николаевич Формозов как биогеограф // Бюлл. Моск.
о-ва испыт. природы. Отд. биол. Т. 104. Вып. 5. С. 3-12.
Мельничук В.А. 1994. Александр Богданович Кистяковский (1904-1983). К 90-летию
со дня рождения // Беркут. Вып. 3. С. 71-72.
Нейфельдт И.А., Юдин К.А. 1981. Вклад в науку ленинградских орниологов Е.В.
Козловой, Л.А. Портенко и Б.К. Штегмана // Филогения и систематика птиц. Труды
Зоол. ин-та АН СССР. Т. 102. С. 3-33.
Олигер И.М. 1999. С А.Н. Формозовым в природе // Бюлл. Моск. об-ва испыт.
природы. Отд. биол. Т. 104. Вып. 5. С. 36-44.
Паевский В.А. 1992. Памяти Льва Осиповича Белопольского // Проблемы популя-
ционной экологии птиц. Труды Зоол. ин-та РАН. Т. 247. С. 3-6.
Паевский В.А. 2001. Птицеловы от науки. СПб.
Пруитт У.О.-мл. 1999. Идеи А.Н. Формозова в экологическом снеговедении Северной
Америки // Бюлл. Моск. о-ва испыт. природы. Отд. биол. Т. 104. Вып. 5. С. 13-22.
Ренш Б. 1993. Историческое развитие современного синтетического неодарвинизма в
Германии // Н.Н. Воронцов (ред.). Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский.
Очерки, воспоминания, материалы. М. С. 177-178.
Рокитянский Я.Г., Гончаров В.А., Нехотин В.В. 2003. Рассекреченный Зубр.
Следственное дело Н.В. Тимофеева-Ресовского. М. Academia. 576 с.
Саканян Е.С. 2000. Любовь и защита // Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский.
Очерки, воспоминания, материалы. Н.Н. Воронцов (ред.). М. С. 707-800.
Смирин Ю.М. 1999. Анималистическое искусство как метод зоологических
исследований: достижения и проблемы // Бюлл. Моск. о-ва испыт. природы. Отд. биол. Т.
104. Вып. 5. С. 50-60.
Смогоржевский Л.А. 1974. Александр Богданович Кистяковский (к 70-летию со дня
рождения) // Вестник зоологии. Вып. 4. С. 89-90.
Соколов В.Е., Баскин Л.М. 1992. Конрад Лоренц в советском плену // Природа. Вып.
7 (923). С. 125-128.
450
Солженицын А. 1974. Архипелаг ГУЛАГ. Париж.
Тимофеев-Ресовский Н.В. 2000. Воспоминания. Истории, рассказанные им самим с
письмами, фотографиями и документами. М.: Согласие. 880 с.
Успенский СМ. 1978. Ганс Христианович Иогансен // Сообщения Прибалтийской
комиссии по изучению миграций птиц. Вып. И. С. 166-171.
Флинт В.Е., Россолимо О.Л. (ред.). 1999. Московские орнитологи. М.: изд-во МГУ
526 с.
Формозов А.А. 1980. Александр Николаевич Формозов, 1899-1973. М.: Наука. 152 с.
Формозов А.А. 2006. Александр Николаевич Формозов. Жизнь русского натуралиста.
М.: Т-во научных изданий КМК. 208 с.
Формозов Н.А. 1997.0 моём отце, Александре Николаевиче Формозове // Охотничьи
просторы. Вып. 2. С. 29-34.
Формозов Н.А. 1998. Русский натуралист на гражданской войне (новые сведения из
биографии А.Н. Формозова) // Охотничьи просторы. Вып. 1. С. 202-226.
Чорнобай Ю.М., Климишин О.С., Бокотей А.А. 2000. Володимир Д1душицький (до
175-р1ччя з дня народжения) // Науков1 записки Державного природознавчого
музею. Вип. 15. С. 171-173.
Шестаков С. 1995. Трудно, но не теряя надежды // «Мурманский вестник» от
18.01.1995 г.
Шилов И.А., Шилова С.А. 1999. А.Н. Формозов — руководитель зимней
студенческой практики // Бюлл. Моск. о-ва испыт. природы. Отд. биол. Т. 104. Вып. 5. С.
34-35.
Шноль С.Э. 2001. Герои, злодеи, конформисты российской науки. 2-е изд. М.: КРОН^
ПРЕСС. 875 с.
Штегман Б.К. [1951] 2004. В тростниках Прибалхашья. Жизнь и приключения
ссыльного натуралиста 1941-1946 гт. М.: Т-во научных изданий КМК. 208 с.
Штильмарк Ф.Р. 1978. Василий Николаевич Скалой. К 75-летию со дня рождения //
Проблемы экологии позвоночных животных Сибири. Кемерово. С. 187-191.
Штильмарк Ф.Р. 1996. А он, мятежный, просит бури... // Охотничьи просторы. Т. 8.
Вып. 2. С. 220-236.
Штильмарк Ф.Р. 1999а. Дневники из Петровки. Лето 1919 года // Живая Арктика. Вып.
1 (15). С. 18-27.
Штильмарк Ф.Р. 19996. Александр Николаевич Формозов и заповедное дело // Бюлл.
Моск. о-ва испыт. природы. Отд. биол. Т. 104. Вып. 5. С. 23-33.
Янковский В.Ю. 1979. Нэнуни-Четырёхглазый. Ярославль. (Переиздание вышло во
Владивостоке в 2007 г. — прим. перев.)
Янковский В.Ю. 1990. Мой отец Юрий Янковский // Охота и охотничье хозяйство. №
4. С. 34-35.
Янковский В.Ю. 1991. Долгое возвращение. Автобиографическая повесть. Ярославль.
Янковский В.Ю. 2000. От Гроба господня до гроба ГУЛАГа. Быль. Ковров,
(английский перевод см. ниже Yankovsky)
Abbott A. 2000. German science starts facing up to its historical amnesia //Nature. No. 403.
R 474-475.
Ali S. 1985. The Fall of a Sparrow. Delhi.
Amberg M. 1977. Konrad Lorenz. Verhaltensforscher, Philosoph, Naturschutzer. Greven.
Amberg M. 1987. Professor Bernhard Grzimek f // Das Tier, 4 (April): Einlage 4 S.
Archibald G. 1998. A Tribute to China's Great Ornithologist // ICF Bugle. Vol. 24. No. 4. P. 8.
451
Austin O.L. 1948. The Birds of Korea. Cambridge, MA.
Autrum H. 1996. Mein Leben. Berlin.
Bauer K.M., Glutz v. Blotzheim U.N. 1966, 1968, 1969. Handbuch der Vogel Mitteleuro-
pas. Vol. 1-3. Frankfurt/M.
Bellert J. 1977. Praca polskich lekarzy i pielejmiarek w szpitalu obozu PCK w OswiQcimiu
po oswobodzeniu obozu // Okupacja i Medycyna. Warszawa. P. 263-271.
Bereszynski A., Wronska M. 2002. Jan Bogumil Sokolowski — zycie i dziela. Poznan.
Berg R.L. 1990. In Defense of N.V. Timofeeff-Ressovsky // Quart. Review of Biology. Vol.
65. P. 457^79.
Berger J. 1965. Unsere ornithologischen Aufgaben im neuen Jahr // Falke. H. 12. S. 30.
Bergman S. 1938. In Korean Wilds and Villages. London.
Bergman S. 1944. Durch Korea. Streifzuge im Lande der Morgenstille. Zurich.
Boettger C.R. 1967. Ferdinand Pax f. 1885-1964 // Verh. Dt. zool. Ges. 1966. S. 613-616.
Bohme H. 1990. Gedanken nach dem Tode von Hans Stubbe // Biol. Zentralbl. Bd. 109. S.
1-6 (auch in: Kulturpflanze. Bd. 38. S. 31-36).
Brugge P. 1988. Von der Gans aufs Ganze // Der Spiegel. Nr. 45. S. 244-263.
Brzejc G. 1994. Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie i jego Tworca. Lublin.
Brzejc G. 1995. Prof, dr hab. Stanislaw Feliksiak /1906-1992 // Przegl. zool. T. 39. P. 13-
17.
Burkhardt R.W. 2001. Konrad Zaharias Lorenz (1903-1989) //1. Jahn, M. Schmitt (Hrsg.).
Darwin & Co. Eine Geschichte der Biologie in Portraits. Munchen. S. 422-441, 551—
553.
Cocker M. 1990. Richard Meinertzhagen: Soldier, Scientist and Spy. London,
v. Cranach A. 2001. Mein Vater der Grauganse // K. Kotrschal, G. Muller, H. Winkler (Hrsg.).
Konrad Lorenz und seine verhaltensbiologischen Konzepte aus heutiger Sicht. Furth. S.
61-71.
Dathe H. 1990. Erinnerungen an Hans Stubbe // Kulturpflanze. Bd. 38. S. 28-30.
Dathe H. 1991. Worte des Dankes // Milu. Bd. 7. S. 211-216.
Dathe H. 2002. Lebenserinnerungen eines leidenschaftlichen Tiergartners (2. Auflage).
Munchen, Berlin.
Deichmann U. 1992. Biologen unter Hitler — Vertreibung, Karrieren, Forschung.
Frankfurt, New York.
Deichmann U. 1995. Biologen unter Hitler — Portrat einer Wissenschaft im NS-Staat.
Frankfurt/M. (переработанное и расширенное издание книги 1992 года. — прим.
перев.).
Delacour J. 1941. The End of Cleres //Avicult. Mag. No. 6. P. 81-84.
Delacour J. 1966. The living Air. The Memoirs of an Ornithologist. London.
Delacour J. 1968. Foreword // Birds of South Vietnam. Ph. Wildash. Rutland, Tokyo.
P. 7-8.
Dittrich L. 1991a. Zum Tod von Professor Heinrich Dathe // Der Zoofreund. Nr. 79. S. 2.
Dittrich L. 1991b. Zum Gedenken an Heinrich Dathe // Zool. Garten. Bd. 61. S. 145-148.
Dorst J. 1986. Jean Delacour (1890-1985) // L'Oiseau et R.F.O. T. 56. P. 214-218.
Dudinzew W 1990. Weifie Gewander. Berlin. (На русском языке книга В.Д. Дудинцева
«Белые одежды» опубликована в журнале «Нева», №№ 1-4 за 1987 г. — прим.
перев.).
Eichler W 1982. Zum Gedenken an N.W Timofeeff-Ressovsky (1900-1981) // Dt. Entom.
Z.S. 287-291.
Endo K. 1984. [«Голубые птицы Арирана». Токио (на японском языке).]
452
Etchecopar R.-D. 1975. Charles Vaurie (1906-1975) // Bull. Soc. Orn. de France: I—III. In:
L'Oiseau et RFO. T. 45. P. 375 etc.
Feliksiak S. 1976. Zyciorys Pawla Dzieduszyckiego (1881-1951) i Wlodzimierza Dzie-
duszyckiego (1885-1971) na tie dzialalnosci muzealnej i wydawniczej // Przegl. zool. T.
20. P. 7-30.
Feliksiak S. 1987. Slownik biologow polskich. Warszawa.
Festetics A. 2000. Zum Sehen geboren. Das Jahrhundertwerk des Konrad Lorenz. Wien.
Fiedler W. 2001. Tagung "100 Jahre Vogelzugforschung auf der Kurischen Nehrung" in Ry-
batschij (frtiher Rossitten) //Vogelwarte. Bd. 41. S. 90-91.
Foger В., Taschwer K. 2001. Die andere Seite des Spiegels. Wien.
Frei von N., Grotum Т., Parcer J., Steinbacher S., Wagner B.C. [Institut fur Zeitgeschichte]
(Hrsg.) 2000. Standort- und Kommandanturbefehle des Konzentrationslagers Auschwitz
1940-1945. Munchen.
Garfield B. 2007. The Meinertzhagen mystery: the life and legend of a colossal fraud.
Washington, D.C.
Garson P.J. 1998. Tributes to Prof. Cheng // WPA News. No. 57. P. 5.
Gautschi A. 1999. Der Reichsjagermeister. Fakten und Legenden um Hermann Goring. Su-
derburg.
Gebhardt L. 1964, 1970, 1974, 1980. Die Ornithologen Mitteleuropas. Ein Nachschlage-
werk [Vol. 1]. — Giefien; Vol. 2. — J. Ornithol., Ill, Sonderheft; Vol. 3. — J. OrnthoL,
115, Sonderheft; Band 4. — J. OrnthoL, 121, Sonderheft.
Goodwin D. 1988. A Memory of Jean Delacour //Avicult. Mag. No. 94. S. 65.
Granin D. 1988. Sie nannten ihn Ur [издание ГДР]; Der Genetiker. Das Leben des Nikolai
Timofejew-Ressowski, genannt Ur [издание ФРГ]. Berlin bzw. Koln. (русское издание
— см. Гранин, 1997).
Grau M. 2003. Werner Klemm — ein Forderer junger Naturschutzer // Naturwiss. For-
schungen uber Siebenburgen. Bd. 7 (Jubilaumsband). S. 287-303.
Greve R. 1997. Das Tibet-Bild der Nationalsozialisten // Kunst- und Ausstellungshalle der
B.R. Deutschland sowie T. Dodin, H. Rother (Hrsg.). Mythos Tibet. Koln. S. 194-213.
Grzimek B. 1974. Auf den Mensch gekommen. Munchen.
Gutt D. 1970. G.P. Dementiew f // Deutscher Falkenorden, Jahrbuch 1969. S. 110.
Gwinner E. 1989. In Erinnerung an Konrad Lorenz — 1903-1989 // Vogelwarte. Bd. 35. S.
156.
Haffer J. 1997. Ornithologen-Briefe des 20. Jahrhunderts. Ludwigsburg (Okologie der
Vogel/Ecology of Birds. Vol. 19).
Haffer J. 2001. Die "Stresemann-Revolution" in der Ornithologie des fruhen 20.
Jahrhunderts // J. Ornithol. Bd. 142. S. 381-389.
Haffer J., Rutschke E., Wunderlich K. 2000. Erwin Stresemann (1889-1972) — Leben und
Werk eines Pioniers der wissenschaftlichen Ornithologie. Halle (Acta historica Leopol-
dina, 34).
Hagemann R. 1999. GfG-Portrait: Hans Stubbe — Genetiker, Forscher, Wissenschaftsor-
ganisator, Mensch // BlOspectrum. Bd. 5. S. 306-309.
Harmata W 1989. Roman Wojtusiak // Folia Biologica. T. 37. P. 114.
Hassenstein B. 1989: Nachruf auf Konrad Lorenz // Biologie heute; Mitt. d. Verbandes
Deutscher Biologen. Nr. 363. S. 1698-1701.
Hassenstein B. 2004. Konrad Lorenz (1903-1989): Wissenschaftliches Werk und Personlich-
keit // Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Natursch. Bd. 18. H. 3. S. 179-204.
Heim S. 2002. "Die reine Luft der wissenschaftlichen Forschung". Zum Selbstverstandnis
453
der Wissenschaftler der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. — Ergebnisse. Vorabdrucke aus
dem Forschungsprogramm "Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im National-
sozialismus". Berlin. Teil 7. S. 1-47.
Heinroth K. 1979. Mit Faltern begann's. Mein Leben mit Tieren in Breslau, Munchen und
Berlin. Munchen.
Helbok M.L. 1987. Bernhard Grzimek 1909-1987 //Animal Kingdom, July/August: P. 6.
Heltmann H. 1991. Nachruf auf Werner Klemm (1909-1990) // Naturwiss. Forschungen
uber Siebenburgen. Bd. 4. S. 415^29.
Hinkelmann C. 2000. Friedrich Tischler (1881-1945) — Autor der hervorragenden Uber-
sicht uber die Vogel OstpreuBens // Bl. Naumann-Mus. Nr. 19. S. 44-58.
Hippius R., Feldmann J.G., Jelinek K., Leider K. 1943. Volksrum, Gesinnung und Charak-
ter. Bericht uber psychologische Untersuchungen an Posener deutsch-polnischen Misch-
lingen und Polen. Stuttgart, Prag.
Hoess/H6B R. 1956/1958. Wspomnienia Rudolfa Hoessa, kommendanta obozu w Oswiexn-
miu. Warszawa. / Kommandant in Auschwitz, Autobiographische Aufzeichnungen.
Stuttgart.
Hoffmann L. (Hrsg.) 1966. Proceedings of the Meeting on International Co-operation in
Wildfowl Research. Tour du Valat.
Holm K. 1991. Glanz und Elend des Prof. Dathe. Berlin.
Holm K. 1994. Leben und Erbe Prof. Dathes. Berlin.
Hofifeld U. 2001. Im "unsichtbaren Visier": Die Geheimdienstakten des Genetikers Niko-
laj V. Timofeeff-Ressovsky // Med. hist. J. Bd. 36. S. 335-367.
Howman K. 1998. Professor Cheng Tso-hsin 1906-1998 // WPANews. No. 57. P. 3.
Hoxtermann E. 1997. Zur Profilierung der Biologie an den Universitaten der DDR bis 1968
// MPI fur Wissenschaftsgeschichte. Preprint 72. Berlin.
Huxley J. 1963. Lorenzian Ethology // Zschr. f. Tierpsychol. Vol. 20. P. 402^09.
Im Jun-Hyoku. 1997. [«Современники корейского учёного», Токио (на японском
языке)].
ImmelmannK. 1974. GtintherNiethammer f. /28.9.1908-14.1.1974// J. Ornithol. Bd. 115.
S. 213-222.
Jahn I. 2001. "Minerva verhullt ihr Gesicht und schickt ihre Eulen aus, um Mause zu fan-
gen". Ein kleines Kapitel Lyssenkoismus in der DDR // Naturwiss. Rundsch. Bd. 54. S.
297-302.
J.N.K. & A.L.T. 1967. Colonel Richard Meinertzhagen C.B.E., D.S.O, 1878-1967 // Ibis.
Vol. 109. P. 617-620.
Kading E. 1999. Engagement und Verantwortung — Hans Stubbe, Genetiker und Zuchtungs-
forscher. Munchenberg (ZALF-Bericht, 36).
Kalbe L. 1999a. Erich Rutschke (1926-1999) // J. Ornithol. Bd. 140. S. 388-389.
Kalbe L. 1999b. Zur Erinnerung an Erich Rutschke (1926-1999) // Studienarchiv Umwelt-
geschichte. Nr. 5 (99). S. 31-32.
Kalikow T. 1980. Die ethologische Theorie von Konrad Lorenz: Erklarung und Ideologie,
1938 bis 1943 // H. Mehrtens, S. Richter (Hrsg.). Naturwissenschaft, Technik und NS-
Ideologie. Frankfurt/M. S. 189-214.
KannapinN. 1980, 1981. Die deutsche Feldpostubersicht 1939-1945. Bd 1,2. Osnabriick.
Karolczak K. 2001. Dzieduszyccy. Dzieje Rodu. Krakow.
Kater M.H. 1997. Das Ahnenerbe der SS 1935-1945. Munchen.
Kear J. 1986. Jean Delacour // Ibis. Vol. 128. P. 141.
Kennan G. 1975.... und der Zar ist weit; Sibirien 1885. Berlin.
454
Kinel J. 1957. W trzy lata po obj^ciu pracy w Muzeum Zoologicznym Uniwersytetu Wro-
clawskiego // Przegl. zool. T. 1. P. 305-312.
Klaus S. 1991. In memory of Oleg Ismailovich Semenov-Tjan-Shanskij // Grouse News.
No. 1(91). P. 13-14.
Klaus S., Bergmann H.-H. 1991. Oleg Ismailovich Semenov-Tjan-Schanskij // J. Ornithol.
Bd. 132. S. 344-345.
Klemm M. 1975. Professor A.N. Formosow (1899-1973) // Z. angew. Zool. Bd. 62. S. 5-8.
Klos H.-G. 1991. Festansprache // Milu. Bd. 7. S. 198-202.
KlosU.,Klos H.-G. 1988. BernhardGrzimekzumGedenken//Bongo. Bd. 14. S. 119-122.
Korn W. 1999. Ferdinand, Zar von Bulgarien, und die Naturkunde // Jahrb. Cob. Ld. Stif-
tung (Coburg). Jg. 44. S. 171-186.
Kotrschal K., Muller G., Winkler H. (Hrsg.). 2001. Konrad Lorenz und seine verhaltens-
biologischen Konzepte aus heutiger Sicht. Furth.
Kuhk R. 1981. Wladyslaw Rydzewski t // Vogelwarte. Bd. 31. S. 182.
Kumari E. 1976. Boris Karlowitsch Stegmann 1898-1975 // J. Ornithol. Bd. 117. S. 395-
396.
Kumerloeve H. 1974. Gunther Niethammer, dem Freunde und Kollegen, zum Gedachtnis //
Bonn. zool. Beitr. Bd. 25. S. 17-22.
Kummerlowe H. 1939. Geschichte und Aufgaben des Staatlichen Museums fur Tierkunde
in Dresden //Abh. u. Ber. Staatl. Mus. f. Tierkunde Dresden. Bd. 20. S. 1-15.
Kummerlowe H. 1940. Zur Neugestaltung der Wiener wissenschaftlichen Staatsmuseen //
Annalen naturhist. Mus. Wien. Bd. 50. S. XXIV-XXXIX.
Langbein H. 1972. Menschen in Auschwitz. Wien.
Lawrence Т.Е. 1994. Die sieben Saulen der Weisheit. Munchen, Leipzig.
Lobacev VS. 1989. A.G. Bannikov (1915-1985) // Erforsch. Biol. Ress. MVR. Halle (Saale).
Bd. 6. S. 123-124.
Loppenthin B. 1974. Hans Christian Johansen / 2. december 1897 - 18. december 1973 //
Dansk. orn. Foren. Tidsskr. Bd. 68. S. 71-76.
Lorenz K. 1940a. Nochmals: Systematik und Entwicklungsgedanke im Unterricht // Der
Biologe. Bd. 9. S. 24-36.
Lorenz K. 1940b. Durch Domestikation verursachte Storungen arteigenen Verhaltens // Z.
angew. Psychol, u. Charakterkd. Bd. 59. S. 2-81.
Lorenz K. 1943. Die angeborenen Formen moglicher Erfahrung // Ztschr. f. Tierpsychol.
Bd. 5. S. 235-409.
Lorenz K. 1983. Der Abbau des Menschlichen. Munchen.
Lorenz K. 2003. Eigentlich wollte ich Wildgans werden. Munchen, Zurich.
Lorenz K. (aufgezeichnet von Mundl K.) 1991. Rettet die Hoffhung! Wien, Munchen.
MalenkovA.G., Ivanov V.I. 1989. Heroes and villains //Nature. Vol. 338. No. 6217. P. 612.
Mareda L. 1992. Vzpominky na Veleslava Wahla // Zspavy CSO. T. 34. P. 71-73.
Mateja J., Siwek A. 2000. Wladyslaw Siwek — kiedys to namaluJQ. — Oswie_cim.
Mayr E. 1986. In Memoriam: Jean (Theodore) Delacour //Auk. Vol. 103. P. 603-605.
Medwedjew S.A. 1971. Der Fall Lyssenko. Eine Wissenschaft kapituliert. Hamburg.
Meinertzhagen R. 1959. Nineteenth Century Recollections // Ibis. Vol. 101. P. 46-52.
Mettin D. 1990. Wurdigung des Werkes von Hans Stubbe // Kulturpflanze. Bd. 38. S. 19-27.
Mikulska I. 1989. Kazimierz Sembrat (1902-1988) // Przegl. zool. T. 33. P. 7-16.
Muller H.H., Nowak E. 1992. Glasnost fur Ringelganse // Die Zeit. Nr. 29. S. 30.
Muller-Hill B. 1984. Todliche Wissenschaft. Reinbek b. Hamburg.
Muller-Hill B. 1988. Heroes and villains. Review of Daniil Granin: "Der Genetiker. Das
455
Leben des Nikolai Timofejew-Ressowski, genannt Ur" // Nature. Vol. 336. No. 6201. P.
721-722.
Mtinster-Swendsen M. 1997. Kobenhavens Universitets Laeso-laboratorier // Dansk Natur-
hist. Forening, Arsskrift. Bd. 8. S. 52-88.
Naacke J. 1998/99. Erich Rutschke // Bucephala. Bd. 3. S. 69-80.
Nankinov D. 1987. Nikolaj Boev verstorben // Falke. Bd. 21. S. 21.
Naumann CM. 1997. Zum Gedenken an Hans Kumerloeve // Bonn. zool. Beitr. Bd. 47. S.
189-190.
Niethammer G. 1942. Handbuch der Deutschen Vogelkunde. Bd 3. Leipzig.
Niethammer G. 1956. Otto Natorp zum Gedachtnis // J. Ornthol. Bd. 97. S. 438^40.
NiethammerG. 1974. MariaKoepke geb. Mikulicz-Radecki t //J. Ornthol. Bd. 115. S. 91-
102.
Nohring R. 1973. Erwin Stresemann f / 22.11.1889-20.11.1971 // J. Ornithol. Bd. 114. S.
455-471.
Nowak E. 1969. Stacja Biologiczna Instytutu Zoologicznego Akademii Nauk ZSSR w Ry-
baczij // Przegl. zool. T. 13. P. 289-291.
Nowak E. 1984. Wladyslaw Siwek (1907-1983) // Przegl. zool. T. 28. P. 7-16.
Nowak E. 1985. Friedrich Tischler i jego bibliografia omitologiczna Prus Wschodnich za lata
1940-1944 // Przegl. zool. T. 29. P. 415-423.
Nowak E. 1987. Z dziejow omitologii w Polsce pomocnowschodniej // Komunikaty Ma-
zursko-Warminskie. No. 1 (175). P. 33-76.
Nowak E. 1988. Trzy pokolenia Jankowskich — badaczy przyrody Azji // Wszechswiat. T.
89. P. 228-233.
Nowak E. 1991. Lew Osipowitsch Belopolskij — 1907-1990 //Vogelwarte. Bd. 36. S. 166-
167.
Nowak E. 1992. Wilfried Przygodda (1916-1991) // J. Ornithol. Bd. 133. S. 233.
Nowak E. 1998. Erinnerungen an Omithologen, die ich kannte [1. Teil] // J. Ornithol. Bd.
139. S. 325-348.
Nowak E. 2000. Erinnerungen an Omithologen, die ich kannte (2. Teil) // J. Ornithol. Bd.
141. S. 461-500.
Nowak E. 2001a. Erinnerungen an Omithologen, die ich kannte (Teil 6). [Воспоминания
об орнитологах, которых я знал (часть 6). Профессор Александр Богданович Ки-
стяковский (1904-1983)] // Беркут. Т. 10. С. 234-242.
Nowak Е. 2001b. О dr. h. с. Fryderyku Tischlerze, wybitnym omitologu // Chronmy Przyr.
ojcz. T. 57. P. 81-85.
Nowak E. 2002a. Erinnerungen an Omithologen, die ich kannte (3. Teil) // Mitt. Ver. Sachs.
Ornithol. Bd. 9. S. 1^6.
Nowak E. 2002b. Erinnerungen an Omithologen, die ich kannte (4. Teil) // Ornithol. Beob.
Bd. 99. S. 49-70.
Nowak E. 2002c. Wspomnienia о omitologach, ktorych znalem (cze_sc 5). Wlodzimierz hr.
Dzieduszycki (1885-1971) // Przegl. zool. T. 46. P. 45-57.
Nowak E. 2002d. Erinnerungen an Omithologen, die ich kannte (Teil 7). Der Fall Makatsch
//Anz. Ver. Thuring. Ornithol. Bd. 4. S. 267-304.
Nowak E. 2003a. Zum Beitrag "Erinnerungen an Omithologen, die ich kannte (4. Teil)" //
Ornithol. Beob. Bd. 100. S. 179-180.
Nowak E. 2003b. Professor Erwin Stresemann (1889-1972) — ein Sachse, der die
Vogelkunde in den Rang eine biologischen Wissenschaft erhoben hat // Hohenstein-Ernstthal
(Mitt. Ver. Sachs. Ornithol, 9, Sonderheft 2).
456
Nowak E. 2005a. Wspomnienia о ornitologach, ktorych znalem (czqsc 8). О Kazimierzu
Antonim z Granowa Wodzickim (1900-1987) i Marii z Duninow-Borkowskich Wod-
zickiej (1901-1968) // Przegl. zool. T. 48. P. 167-180.
Nowak E. 2005b. Erinnerungen an Ornithologen, die ich kannte (9. Teil). Uber Leben und
Werk von Professor Heinrich Dathe // Mitt. Ver. Sachs. Ornithol. Bd. 10. S. 427-444.
Nowak E. 2006a. Erinnerungen an Ornithologen, die ich kannte (10. Teil). Uber Leben und
Tod des Ornithologen Wilhelm Schuster // Mainzer naturwiss. Archiv. Bd. 44. S. 5-27.
Nowak E. 2006b. Erinnerungen an Ornithologen, die ich kannte (11. Teil). Uber das auBer-
ordentliche Leben und Wirken des Forsters und Ornithologen Hubert Weber // Bl. Nau-
mann-Mus. Nr. 25. S. 111-130.
PalmerR.S. 1975. Obituaries. H.Ch. Johansen//Auk. Vol. 92. P. 644-645.
Paul D.B., Krimbas C.B. 1992. Nikolai W. Timofejew-Ressowski // Spektrum d. Wiss. Jg.
4 (1992). S. 86-94.
Pax F. 1949. Erinnerungen an die Wanderjahre eines Schlesiers // Koleopter. Ztschr. Bd. 1.
S. 53-66.
Pax F. 1952. Walther Arndt. Ein Leben fur die Wissenschaft // Hydrobiologia. Bd. 4. S. 302-
331.
Pax F. 1959. Eindriicke eines Zoologen auf einer Reise nach Breslau // Orion. Bd. 14. S.
833-837.
Peacock A.D. 1960. Prof. K.W. Szarski // Nature. Vol. 186. No. 4726. P. 679.
Perrins Ch. 1988. Salim Moizuddin Abdul Ali (1896-1987) // Ibis. Vol. 130. P. 305-306.
Pinowski J. 1993. Frantisek J. Turcek — wspomnienie // Fauna Polany. Zvolen.
Pinowski J. 2005. Dr. Frantisek J. Turcek w moim zyciu i jego zwiajzki z Polska.// Tichod-
roma.T. 17. P. 134-137.
Prag W., Jacobmeyer W. (Hrsg.). 1975. Das Diensttagebuch des deutschen Generalgouver-
neurs in Polen 1939-1945. Stuttgart.
Purchla J. 1985. Z dziejow mieszczanstwa krakowskiego // Znak. T. 37. P. 109-125.
Quinque H. 1988. Jean Delacour, My Friend //Avicult. Mag. Vol. 94. P. 9-21.
Rasmussen P.C., Collar N.J. 1999. Major specimen fraud in the Forest Owlet Heteroglaux
(Athene auct.) blewitti II Ibis. Vol. 141. P. 11-21.
Rautenberg W. 1977. Hans Schildmacher 1907-1976 // J. Ornithol. Bd. 118. S. 113.
Regelmann J.-P. 1978. Die Geschichte des Lyssenkoismus. Frankfurt/M.
Ripley S.D. 1987. Jean Delacour t // Zool. Garten. Bd. 57. S. 52-53.
Ripley S.D. 1988. In Memoriam: Salim Ali, 1896-1987 //Auk. Vol. 105. P. 772.
Rutschke E. 1998. Ornithologie in der DDR — ein Ruckblick // R. Auster, H. Behrens
(Hrsg.). Naturschutz in den neuen Bundeslandern. Marburg. S. 109-133.
Rydzewski W. 1938. Die polnische Station fur Vogelzugforschung. Vortrag b. 17. Lehrgang
d. Vogelwarte Rossitten // Vogelzug. Bd. 9. S. 14-18.
v. Sanden-Guja W. 1953. Dr. h.c. Friedrich Tischler // OstpreuBenblatt Bd. 4, Folge 6 vom
25. 2. 1953. S. 10.
v. Sanden-Guja W. 1985. Schicksal OstpreuBen. Leer.
Satzinger H., Vogt A. 2001. Elena Alexandrovna Timofeeff-Ressovsky (1898-1973) und Ni-
kolaj Vladimirovich Timofeeff-Ressovsky (1900-1981) //1. Jahn, M. Schmitt (Hrsg.).
Darwin & Co. Eine Geschichte der Biologie in Portraits. Mtinchen. S. 442-470,553-560.
Schildmacher H. 1963. Der Stand der ornithologischen Arbeit und die kunftigen Aufgaben
in der DDR // Falke. Bd. 10. S. 3-9.
Schulz D. 1984/85. Michael Klemm f // Sitzungsber. Ges. naturforsch. Freunde Berlin. Bd.
24/25. S. 221-226.
457
Schulze-Hagen К. 1997. Otto Natorp und seine Vogelsammlung: Schicksal und Hintergriinde
// Mauritiana (Altenburg). Bd. 2. S. 251-279.
Seifert S. 1991. Prof. Dr. sc. Dr. h.c. Heinrich Dathe / geb. 7.11.1910 gest. 6.1.1991 / zum
Gedenken // Panthera. Jg. 1991. S. 4-6.
Sembrat K. 1960. Kazimierz Witalis Szarski (911904 - 18 I 1960) // Przegl. zool. T. 4. P.
85-90.
Seyfarth E.-A., Pierzchala H. 1992. Sonderaktion Krakau 1939 // Biologie in unserer Zeit.
Bd. 22. S. 218-225.
Short L.L. 1976. In Memoriam: Charles Vaurie //Auk. Vol. 93. P. 620-625.
Siefke A. 1977. In memoriam Hans Schildmacher // Falke. Bd. 24. S. 293.
Sladek J. 1992. Zivot a dielo lesnickeho ekologa Frantiska J. Turceka. Zvolen.
Solschenizyn A. 1974. Der Archipel GULAG. Erster Band und Folgeband. Bern.
Steffek J. 1993. Frantisek J. Turcek — life, work, message. Banska Stiavnica.
Stephan B. 1968. Wir gratulieren G.P. Dementiew zum 70. Geburtstag // Falke. Bd. 15. S.
237.
Stresemann E. 1936. Konig Ferdinand von Bulgarien zum 75. Geburtstage am 26. Februar
1936 // J. Ornith. Bd. 84. S. 1-2.
Stresemann E. 1937. Aves Beickianae // J. Ornithol. Bd. 85. S. 375-389.
Stresemann E. 1948. Nachrichten / Verstorben [Konig Ferdinand] // Ornithol. Ber. Bd. 1. S.
266.
Stresemann E. 1991. Die Odyssee einer Bibliothek [mit Anmerkungen von B. Stephan und
I. Jahn] //Mitt. Zool. Mus. Berlin. Bd. 61, Supplement: Ann. Ornithol. Bd. 15. S. 161-184.
Stubbe H. 1987. Erinnerungen an Nikolaj Ivanowi6 Vavilov // Wissenschaft u. Fortschritt.
Bd. 37. S. 284-285.
Stubbe H. 1988. Erinnerungen an Nikolai Wladimirowitsch Timofejew-Ressowski // Gra-
nin D. Sie nannten ihn Ur. Berlin bzw. Koln. S. 381-384. [русский перевод см.
Воронцов 1993. С. 180-181]
Stubbe H. 1997. Die Situation der Genetik und die Begegnung mit Lyssenko // Zur Profi-
lierung der Biologie an den Universitaten der DDR bis 1968. Hoxtermann E. MPI fur
Wissenschaftsgeschichte. Preprint 72. Berlin. S. 80-89.
Stubbe M. 2002. Hans Stubbe — im Frieden fur Wahrheit und Fortschritt — Engagement
fur Bewahrung und Nutzung von Naturressourcen // Beitr. Jagd- u. Wildforsch. Bd. 27.
S. 79-124.
Szczepanski W. 1991. Jaroslawski Obwod Armii Krajowej i jego organizacja //Armia Kra-
jowa, Obwod Jaroslaw. No. 2/1991. P. 10-14.
Szczepski J.B. 1964. Pamie_ci Andrzeja Dunajewskiego (1908-1944) // Przegl. zool. T. 8. P.
9-16.
Szczepski J.B. 1974. Profesor Jan Boguslaw Sokolowski (Na 75-lecie Jubilata) // Przegl.
zool. T. 18. P. 206-212.
Taylor M.L. 1956. The Tiger's Claw. The live-story of east Asian's mighty hunter. London.
Taylor M.L. 1958. In der Taiga. Jagden mit Georg Jankowski auf Tiger, Leoparden, Baren
und Keiler in Sibirien, Korea und der Mandschurei. Hamburg, Berlin.
Tessin G. 1973,1975,1997. Verbande und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-
SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. Bd 8,11, 16/4. Osnabruck.
Tischer H. 1994. Meine Freunde haben Flugel. Konigstein/Taunus.
Tischler W. 1992. Ein Zeitbild vom Werden der Okologie. Stuttgart, Jena.
Tomialojc L. 1980. Prof. Dr. Wladyslaw Rydzewski (1911-1980) // Ring. Vol. 9. P. 113—
115.
458
Tyrowicz M. 1948. Wlodzimierz Dzieduszycki (1825-1899) // Polski Slownik Biograficzny.
T. 6. P. 123-126.
Untersuchungsausschufi Freicheitlicher Juristen (Hrsg.). 1958-1965. Ehemelige National-
sozislisten in Pankows Diensten. Ftinf Ausgaben. Berlin (West).
Uspenski S.M. 1972. Georgij Petrovitsch Dementiev // Beitr. Vogelk. Bd. 18. S. 428^30.
Veselovsky Z. 1991. К nedozitym sedmdesatinam Veleslava Wahla /15.5.1922-16.6.1950
//Sylvia. T. 28. P. 135-137.
v. Vietinghoff-Riesch A. 1958. Letzter Herr auf Neschwitz. Ein Junker ohne Reue. Limburg
a. d. Lahn.
Wallschlager D. 1999. Prof. Dr. Erich Rutschke (1926-1999) // Ornithol. Mitt. Bd. 51. S.
391-392.
Weinzierl H., Lotsch B. 1988. Konrad Lorenz. Eine Legende wird 85 // Natur. Bd. 11. S. 28-35.
Wessel H. 2002. Hans Stubbe im Kampf gegen stalinistische Doktrinen // Beitr. Jagd- u.
Wildforsch. Bd. 27. S. 125-129.
Wiktor J. 1997. The Museum of Natural History, Wroclaw University. Wroclaw.
Winkler R.-L. 2002. Student der Berliner Universitat im Widerstand // Humboldt (Die Zei-
tung der Alma Mater Berolinensis), Ausgabe 9 vom 11. Juli 2002. S. 5.
Witherby A. 1976. Charles Vaurie. — Ibis, 118: 426-427.
Wojrusiak R.M. 1978. Przyczynek do dziejow t. zw. Sonderaktion Krakau // Przegl. Le-
karski.T. 35. P. 174-180.
Wolff T. 1981. Johansen, Hans Christian // Dansk Bibliografisk Leksikon. Kobenhaven. Vol.
7. P. 423^24.
WoltersH.E.,Niethammer J. 1974. Prof. Dr. Gunther Niethammer /28.9.1908- 14.1.1974
// Bonn, zool Beitr. Bd. 25. S. 1-16.
Won Pyong-Oh. 1998. Vogel Sudkoreas. Vol. 1 & 2. Seoul [«Птицы Южной Кореи», на
корейском языке].
Won Pyong-Oh. 2002. Die Welt, in der Vogel leben, ist schon. Seoul [«Мир, в котором
живут птицы, прекрасен», на корейском языке].
Wuketits F.M. 1990. Konrad Lorenz. Leben und Werk eines grofien Naturforschers.
Munchen, Zurich.
Wiirdinger I. 1991. Vogel als Kumpane — ein Nachruf auf Konrad Lorenz (1903-1989) //
J. Ornithol. Bd. 132. S. 115-118.
Yang Qun-rong. 1995. Cheng and the Golden Pheasant. Reading & Fujian [издание на
китайском языке вышло в Фуйане в 1993 г.].
Yankovsky V.G. 2001. From the Crusades to Gulag and beyond (translated from Russian by
M. Hintze). Sydney, (см. выше Янковский, 2000).
Zang Zeng-wang. 1998. Professor Cheng... // WPANews. No. 57. P. 5.
Zimdahl W 1982. Zum Gedenken an Prof. Dr. W Rydzewski // Falke. Bd. 29. S. 283.
Zlotorzycka J., Eichler W, Gucwinski A. 1988. Bernard Grzimek (1909-1987). Obituary //
Przegl. zool. T. 32. P. 501-509.
459
Архивы и другие организации
(названия приведены на языке соответствующих стран)
Австрия: Archiv der Stadt Linz; Archiv der Stadt Salzburg; Archiv fur Wissenschafts-
geschichte des Naturhistorischen Museums Wien.
Великобритания: Archives of the Harrison-Institute (Centre for Systematics and
Biodiversity Research), Sevenoaks; Archives of the Jourdain Society, Grateley/Andover; Archives
and library of the Natural History Museum, Bird Group, Tring.
Германия: Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin;
Archiv der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, Halle; Archiv der
Deutschen Ornithologen-Gesellschaft, Bonn; Archiv der Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifs-
wald; Archiv der Humboldt-Universitat zu Berlin; Archiv der Max-Planck-Gesellschaft,
Berlin-Dahlem; Archiv der Universitat Freiburg i. Br.; Archiv der Vogelwarte Radolfzell,
Schloss Moggingen; Archiv des Museums fur Naturkunde der Humboldt-Universitat,
Berlin; Archiv des Museums fur Volkerkunde, Berlin-Dahlem; Archiv des Museums und Insti-
tuts A. Koenig, Bonn; Archiv des Vereins Sachsischer Ornithologen, Limbach-Oberfrohna;
Archiv des Zoologischen Instituts der Marthin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg; Archiv
fur Brehmforschung (H.-D. Haemmerlein), Thiemendorf; Archiv zur Geschichte der Max-
Planck-Gesellschaft, Berlin; Bayerisches Hauptarchiv, Munchen; Bibliothek der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, Bonn-Bad Godesberg; Bundesarchiv, Berlin und Koblenz; Bun-
desarchiv/Militararchiv, Freiburg i. Br.; Der (bzw. die) Bundesbeauftragte fur die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (sog.
Gauck- bzw. Birthler-Behorde), Berlin; Gedenkstatte und Museum Sachsenhausen, Ora-
nienburg; Haus Schlesien, Konigswinter-Heisterbacherrott; Landesarchiv Speyer; Max-
Planck-Institut fur Wissenschaftsgeschichte, Berlin; Niedersachsisches Hauptstaatsarchiv,
Hannover; Niedersachsisches Staatsarchiv in Osnabriick; Privatarchiv Prof. Wolfgang Tisch-
ler, Kiel; Staatsanwaltschaft Bonn; Staatsbibliothek zu Berlin/PreuBischer Kulturbesitz;
Stadtarchiv der Landeshauptstadt Dresden; Stadtarchiv Leipzig; Stiftung Archiv der Par-
teien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv (SAPMO), Berlin;
Universitatsarchiv der Technischen Universitat Dresden.
Дания: Zoologisk Museum Kobenhavens Universitet — Biblioteket.
Польша: Archiwum Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, Warszawa; Archiwum Parafii
Rzymsko-Katolockiej, Tykocin/Podlasie; Archiwum Panstwowe, Przemysl; Archiwum
prywatne Michala Wodzickiego, Warszawa; Archiwum Szkory Glownej Gospodarstwa
Wiejskiego, Warszawa; Glowna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (новое
название: Instytut Pamie_ci Narodowej), Warszawa; Muzeum Miasta Jaroslaw; Muzeum
Przyrodnicze Uniwersytetu Wroclawskiego; Panstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau,
Oswie_cim.
Россия: Архив Научно-исследовательского института Сельского хозяйства Крайнего
Севера, Норильск; Краеведческий музей посёлка Диксон; Российский
государственный военный архив, Москва.
Чехия: Moravska Ornitologicka Stanice, Prerov.
Швейцария: Archiv des "Handbuchs der Vogel Mitteleuropas" (Dr. U. Glutz v. Blotz-
heim), Schwyz.
460
Современники
(приводятся имена героев биографических очерков в том же порядке, что и в книге;
после каждой фамилии перечислены опрошенные современники)
Глава 1
Штреземанн: Prof. Eberhard Curio, Martha Felix, Amelie Koehler, Prof. Wilhelm Meise,
Prof. Burkhard Stephan, Prof. Ernst Stresemann, Vesta Stresemann, Ing. Werner Stresemann,
Dr. Gerhard Technau.
Глава 2
Тишлер: Prof. Wolfgang Tischler. Белопольский: М.М. Белопольская, В.Р. Дольник.
Исаков: В.Е. Флинт, А.Ю. Исаков, О.Н. Сазонова, А.А. Тишков. Дунаевский: Ing.
Jan Szczepski. Нитхаммер: Use Natorp, Dr. Andrzej Zaorski. Куммерлёве: Prof. Tadeusz
Jaczewski, Prof. Wilhelm Meise. Сивек: Antoni Siwek, Janina Siwek. Шустер: Friedel
Heinrich, Edith-Ingrid Klee, Jutta Maeter-Heinrich, Wilhelm Schubert.
Глава 3
Дзедущицкий: Maria Dzieduszycka, Elzbieta Karska. Паке: Gabriele Pax. Шарский:
Prof. Andrzej Dyrcz, Prof. Henryk Szarski. Клемм: Dr. Heinz Heltmann, Werner Klemm
junior, Friedrich Philippi. Вебер (nur Auswahl): H.W Familienmitglieder, Dr. Jan Cerny, Dr.
Max Dornbusch, Walter Mahlich, Horst Ruthenberg, Hubert Schlosser. Штегман: Л.С.
Степанян. Гладков: Т.Д. Гладкова. Хонг-Гу Вон: Prof. Jan Pinowski, Prof. Won Pyong-
Oh. Пьонг-О Вон: Prof. Holmer Brochlos. Делакур: Dr. Wolfgang Grummt, Dr. Pierre
Pfeffer. Водзицкий: Michal Wodzicki, Marta Lozinska.
Глава 4
Тимофеев-Ресовский: А.В. Яблоков, М.В. Воеводская, А.Н. Тимофеев. Штуббе: Prof.
Erich Rutschke, Prof. Micheal Stubbe. Лоренц: Dr. Micheal Martys, В.Е. Соколов.
Соколовский: Prof. Boguslaw Fruzinski. Войтусяк: Prof. Janusz Wojtusiak. Гржимек:
Erika Grzimek. Иогансен: Dr. Gisela Eber, Dr. Jurgen Fog, Prof. Torben Wolff. Скалой:
Василий В. Скалой, Варвара В. Скалой. Макач: Dr. Siegfried Eck, Hans-Dietrich
Haemmerlein, Andreas Makatsch, Dr. Gottfried Mauersberger, Heinz Menzel, Rolf
Schlenker, Hans Christoph Stamm, Dr. Walther Thiede. Ченг: Dr. Xu Yan-gang.
Глава 5
Боев: Prof. Zlatozar Boew. Ламани: Niki Goulandris. Семёнов-Тян-Шанский: Л.О.
Белопольский, В.В. Бианки, Dr. Siegfried Klaus. Кистяковский: В.Я. Серебряков.
Ручке: Regina Rutschke. Дате (nur Auswahl): Siegfried Hamsch, Prof. Hans Oehme, Dr.
Wolfgang Baumgart, Dr. Max Dornbusch, Dr. Stephan Ernst, Heinz Holupirek, Prof.
Burkhard Stephan, Annerose Uhlemann. Дементьев: Л.С. Степанян, М.Г. Вахрамеева,
А.А. Винокуров. Формозов: А.А. Формозов, Н.А. Формозов. Турчек: Dr. Ludovit Ko-
cian, Prof. Jan Pinowski.
Глава 6
A.M. и Ю.М. Янковские: В.Я. Янковский. В.Ю. Янковский: Michael Hintze.
Павлов: Ю.И. Кокорев, Л.А. Колпащиков.
461
Другие информаторы и помощники
(лица, поделившиеся некоторыми сведениями или предоставившие документы,
оказавшие помощь в поиске тех или иных сведений, в переводе текстов с иностранных
языков или давшие критическую оценку тех или иных частей текста книги)
Liam Addis, Dr. Ernst Bauerfeind, Zbigniew Brinko, Dr. Chen Ling (переводы с
китайского языка), Dr. Andus Emde, Prof. Antal Festetics, Dieter Gogolin (поиски информации
в Интернете), Dr. Jtirgen Haffer, Prof. Bernd Haubitz, Brigitte Hermann, Dr. Christoph Hin-
kelmann, Heinz Holupirek, Dr. Karel Hudec, Dr. Rainer Hutterer, Stephan Jany, General
a.d. Paul Jordan (консультации по военным вопросам), Maya Jun (переводы с
корейского языка), Hans-Joachim Kalisch, Prof. Kazimierz Karolczak, Dr. Max Kasparek, Amelie
Koehler, Hartmut Koschyk (MdB), Zenon Krzanowski, Prof. Jochen Martens, Dr. Winfried
Meyer, Jadwiga Mateja, Joachim Naumann, Dr. Franciszek Piper, Prof. Roland Prinzinger,
Johannes Riegel, Rose-Marie von Schilling, Heiner Schmauder, Prof. Klaus Schmidt-
Koenig, Dr. Karl Schulze-Hagen, Frank Steinheimer, Dr. Jtirgem Stubs, Marian
Szymkiewicz, Klaus-Peter Zsivanowits, M.B. Калякин, В.В. Касьянов, В.М. Лоскот, А.Е.
Луговой, С. Шестаков и некоторые другие лица.
Источники иллюстраций
Большинство иллюстраций были любезно предоставлены следующими лицами:
Werner Stresemann (рисунки 2, 3), Ernst Stresemann (4), Amelie Koehler (7, 9), Heinz
Sielmann (8), Vesta Stresemann (10), Wolfgang Tischler (11), Bernd Holfter (12), B.A. Па-
евский (13,14), А.Ю. Исаков (16), Karel Hudec (17), Andrzej Dyrcz (18), Maciej Luniak
(19), Antoni Siwek (21), Joachim Neumann (29,31), Maria Dzieduszycka (32,34), Gabriele
Pax (35), Andrzej Wiktor (36), Heinz Heltmann (37), Eckhardt Weber (39), B.M. Лоскот
(40, 41, 42, 86), Pyong-Och Won (45^18), Л.С. Степанян (51), Wlodzimierz Puchalski
(53), B.B. Нехотин (55, 56), A.H. Тимофеев (57, 58), Michael Stubbe (59, 60), Agnes v.
Cranach (62,63,65), Boguslaw Fruzinski (66), Janusz Wojtusiak (67,68,69), Rudiger Bless
(71), Torben Wolff (72), Т.Н. Гагина (73), A.E. Луговой (74,75), Heinz Menzel (76), Yan-
Gong Xu (80, 81), Златозар Боев (82), Siegfried Klaus (85), Arndt Stiefel (89), Johannes
Fiebig (91), Reimund Francke (93), М.Г. Вахрамеева (94, 95), H.A. Формозов (96-98),
Ludovit Kocian (99), Pierre Pfeffer (100), В.Я. Янковский (101-105,107), H.B. Касьянов
(106), Л.А. Колпащиков (115), Gottfried Kirchner (118).
Некоторые иллюстрации были любезно предоставлены для копирования следующими
архивами и организациями:
Museum fur Naturkunde, Berlin (1, 5, 6, 33, 43, 44, 70, 79, 109, 110), Instytut Pami^ci
Narodowej, Warszawa (20, 22, 26), Archiv des Zoologischen Forschungsinstituts und
Museums A. Koenig, Bonn (23), Archiv der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft,
Wilhelmshaven (24), Panstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oswi^cim (27),
Bundesarchiv Berlin (30), Archiv des Neumann-Museums, Kothen (38), Archiwum Szkory
Glownej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa (52), Bibliothek und Archiv zur Geschichte
der MPG, Berlin (54), Bundesbeautragte fur Stasi-Unterlagen, Berlin (61, 77,78, 93),
Российский военный архив, Москва (64), Vogelwarte Hiddensee, Kloster (84), Bundesarchiv
Koblenz (87,88), Ullstein-Bild, Berlin (90,119-121), Bundesarchiv / Militararchiv, Freiburg
i. Br. (116), Archiv der Zoologischen Sammlung der Universitet Halle-Wittenberg (122).
462
Ряд иллюстраций был помещён в книгу с разрешения издательств или редакций из
следующих источников:
"Ibis" 1969, Vol. 109 (111); S. Ali. The Fall of a Sparrow. Delhi, 1985 (113,114); E. Schafer,
Die Vogelwelt Venezuelas. Berglen, 1996 (123). Две фотографии (49, 50) заимствованы
из книги J. Delacour, The living Air. The Memoirs. London, 1966.
Использованы также иллюстрации из личного архива автора (15,25,28,83,108,112,117).
463
Именной указатель
(перечислены лица, упомянутые в основном тексте)
Аденауэр К. 112,330
Али С. 419-422
Али Т. 37
АлленбиЭ.407,413
АндерсВ. 198
АндрюсР.Ч. 391
Анзимиров М.А. 256
АрндтВ. 43, 130
Арсеньев В.К. 389
Аумауер 93
Ауэрбах Ш. 209
Байк В. 402-406
БакстонД.41,46, 83
Балог Й. 372
Бальмонт К.Д. 389
Банников А.Г. 258, 382
Бауэр К.М. 341
Бауэр Ф. 92
Бегер Б. 440,445-448
БегинМ. 199
Бейлин М. (Шпер) 375-380
Беккер Г. 223
Белопольский Л.О. 58-62, 64, 73, 313,
422
Бенеш Э. 145,264
Бентцин Г. 247
Бергман С. 391,394
Беринг В. 252
Берия Л.П. 367
Берлепш X. фон 239
Берлиоз Ж. 355
Бир Г. 337
Бируля 209
Бисмарк О. фон 31, 114,295
Блотцхайм Г. фон 330, 341, 343, 344
Богданов Б.Н. 69, 70
Богданов М. 358
Боев 3. 299
Боев Н. 293-299
Боксбергер 84
Борис III293,295-297,299
Борисов 209
Боровский К. 54
Бохачек Р. 69, 70
Браницкие 386
БраницкийВ. 118
Брежнев Л.И. 246, 320
Брем А. 331, 377
БремХ.Л.331
Бруннер (Брюннер) Ю. 390
Брюннеры 390, 399
БубГ. 151
Бутурлин С.А. 352
Бухтияров Г.В. 428-430
Буш В. 40
Бюргер 93
Вавилов Н.И. 218, 220, 226, 397, 398
Вайгл Р. 134-136
Валецкий М. 376, 378
Валь В. 73, 74,269
Валь Т. 74
Ватагин В.А. 353, 363
ВатерстонГ. 41
Вахрамеева (Дементьева) М.Г. 350, 354,
355
Вебер Г. 145-153,402
Ведемайер 425
Венцковский Л.Э. 429
Веттштейн Ф. фон 83, 231
Визенталь С. 230
Винерт К. 445,446
Вишиньский Ш. 123
Власов А.А. 263
ВоКви193, 194
ВодзицкаяМ. 198, 199
Водзицкий Казимеж из Гранова 122,195-
202
Водзицкий Казимеж-старший 195
Водзицкий М. 202
Воеводская М.В. 211
Воеводский В.В. 211
Войтусяк Р. 240-244
Волошин А. 262, 268
Вольф 441
464
Вон Пьонг-0 175-185
Вон Хонг-Гу 175-182
ВонгЛи 177
ВооЗукХванг416
Вори 4.287,400-402,412
Воробьёв В.П. 259
Воронцов Н.Н. 204
Ворошилов К.Е. 259
ГагинаТ.Н.260
Газенко О.Г. 214
Гарбузов В.АЛЮ
Гарфилд Б. 413^16
Гаун 360
Гауптманн Г. 309
Гашек Я. 256
Геббельс Й. 35, ПО
Гебхардт Л. 114,309
ГединА. 441
Гедин С. 405,439-443
Геер Э. 445,446
Гейдер331
Гейзенберг 209
Гек 387,399
Геккель Э. 23
Генц К. 326
Геринг Г. 39, 55,110,114
Гертвиг Р. фон 29
ГессР. 114
Гёсс К. 93
ГёссР82,89,91-93
Гигер 443
Гилыпер Ф. 443
Гиммлер Г. 40, 103, 234, 437, 439, 440,
443,445,446
Гинденбург П. фон 34
Гиппиус Р. 232-234
Гитлер А. 34, 35, 38, 94, 96, 97, 110, 114,
130,167,207,209,214,218,237,245,253,
262, 263,268, 295,296,414,440,442
Гладков Н.А. 40,41, 159-174, 353, 354
Гладкова Т.Д. 170
Гнойсс В. 280
ГойерГ. 196
Гольдшмидт Р. 34
ГольстЭ. фон 165
Горбачёв М.С. 215, 314, 398,423
Готвальд К. 74
Грабнер 93
Грайте В. 231,242-244
Гранин Д. 204,209
Грасс Г. 92
Грегорян И. 235
Грейзер А. 232,233
Грембоцки Я. 86, 104
Гржимек Б. 244-248
Гржимек Й. 245
Гржимек М. 248
Гримпе Г. 322, 326
Гроте Г. 165
Груммт В. 333
Далай-Лама 435
ДаоВанТинь 191
Дарвин 4.406,414
Дате Г. 49, 50, 321-335
Делакур Ж. 41,186-194,230
Дельбрюк М. 206, 214,225
Дементьев Г.П. 40, 49, 63, 159, 160, 171,
173,174,193,350-355,401
Дементьев Д.П. 355
Дементьев П.П. 355
Деникин А.И. 303
Денингер К. 24,26
Джексон А.К. 409,410,414
Дзедушицкая Е. 118, 125
Дзедушицкая М. 118
Дзедушицкий А. 120
Дзедушицкий Влодзимеж 40, 116, 118-
128
Дзедушицкий Влодзимеж-старший 117
Дзедушицкий Войцех 118
Дзедушицкий П. 119
Дзедушицкий Т. 119, 125
Дзедушицкий Я. 123, 125
Докучаев В.В. 358
Долгушин И.А. 252,254,417,418
Дольник В.Р. 61,62
Доманевский Й. 240
Доманевский Я. 77,136
Дон Карлос 88
ДорстЖ. 189
465
ДростР.419
Дубчек А. 151,214,342,374
Дувакин И.Д. 204
ДудинцевВ.Д. 221
Дунаева Т.Н. 66
Дунаевский А. 77-80, 86,121, 126
Дыбовский Б. 385, 386, 388
ЖабуйП. 186,188
Завенягин А.П. 210, 212
Зальмен X. 143
Занден В. фон 57
Заорский А. 89
Зедгенидзе Г.А. 213
Зеко И. 300, 303, 304
Зелинский С. 136
Земанн Д. 331,332
Зенглауб К. 326
ЗивертГ. 41
ЗикХ.20
Зильманн X. 41, 64,437
Зорин 264
ИвановА.И. 63, 154
Иоанн Павел II385
Иоганзен Г.Э. 249, 252
ИогансенГ.Х. 164, 168,249-255
Иордан Ф.37
Иордане А. фон 81, 84, 85
Исаков А.Ю. 66, 67, 70
Исаков Ю.А. 65-73, 265, 365
Кадар Я. 266, 267
Кайзер Вильгельм II114
Калиновский Й. 385
Калькус Ф. 124
Калякин М.В. 194
Камнер А. 139
Кант Э. 228
КаркадинЯ. 310
Карл III412
Катер М. 446
Кафтановский Ю.М. 163, 353
Кеве А. 372/373
Кеннан Г. 383, 384
КесслерУ. 41
Кёлер К. 63,146, 147
Кёлер М. 444
Кепке М. 75, 77, 79
Ким Джи-Джой 175
Ким Ир Сен 178, 179, 184, 394
КинельЯ. 131
Киров СМ. 67
Кистяковский А.Б. 315-320
Кистяковский Б. 316
Кистяковский В. 316
Кистяковский И. 315
Кистяковский Ю.Б. (Георг) 316, 319, 320
Клаузенс 93
Клемм В. 138-144
Клемм М. 356, 369
Клёс Х.-Г. 324, 325
Клибенштейн А. 274
Клиппель 278
Ковалёв С.А. 71
Ковальски (Тишлер) Р. 57
Козлова Е.В. 154,155
Кокер М. 407-408,410,412
Коль Г. 423
Кольцов Н.К. 205,208,221
Комарек 73
Комаров А.Н. 363
Комаров В.Л. 389
КонвентцГ. 119
Кондратенков213
Кондратов 429,430
Копелев Л.З. 57
КорзунЛ.П. 194
Коте А.Ф. 363
Кох Э. 56, 57, 62, 63
Краллерт 83
Красовский B.C. 252
Краузе Э. 445,446
КрепонТ. 153
Крепе Г.М. 312
Крэмер Г. 46
Кузнецова О.Л. (Янковская) 386,388,389
Кук Р. 329, 330
Куммерлёве (Кумерлове) Г. 80,81, 83,89,
94-100
КуродаН. 177
Кью Сампа 301
Кюкенталь В. 27, 29, 30, 128, 130
466
Кюн А. 241, 242,436
Кюнсберг Э. фон 83
Ламани Ф. 299-305
Лангбайн Г. 92/93
Ланге 427
Ландау (Шарская) 134,135
Ланкиш-Хернитц А. фон 111
Лауе М. фон 242
Лаурэ 209
Ленин В.И. 204,207, 376
Леопольд III435,437,438
Либен 83
ЛихеХ. 196,198,200
Лоне Г. 24
Лоренц А. 228
Лоренц К. 228-238,240, 242,246
ЛоуВЛ. 188
Лоуренс Аравийский 416
Луговой А.Е. 261-269
Лукьянов С.С. 376, 378
Луняк М. 78
Лысенко Т. 213, 220-222, 226, 365,
397, 398
ЛэкД.421
ЛэкЭ.421
Майзе В. 20, 80, 96
Майзенхаймер И. 94, 322
Майнерцхаген Р. 31,45,406-416
Майр Э. 20,33-36,40,45,46, 51,52,
206,320,400,419
Макач В. 41, 269-281,402
Макач Э. 272
Мак-КлюрГ.Э.420,421
Маленков Г.М. 213
Малиновский А.В. 367
Малыши Э. 294-296
Мангольд 427
Манн Т. 309
Мансфельд К. 286
Мантейфель П.А. 66
Мао Цзедун 285,288-290, 300
Марков Д. 429,430
Маркус Э. 35
Мартене Й. 99,100
Марцинковский В. 88, 89
Мауерсбергер Г. 22, 50
Меийе (Мутсухито) 177
Мей К. 56
Мелхерс 209
Мельников-Печерский П.И. 357
Мензбир М.А. 161, 205, 352, 353
Меннер Э. 338
Ментцель441
Мень А. 260
Меределина СИ. 393
Меркадер Р. (Джексон) 378, 379
Меркулов В.Н. 367
Минеев 429
Михаэль 1140
Модестов В.М. 163, 353
Мольтрехт 389
Морозов П. 377
Мотес К. 277,278
Муссолини Д. 303
Мушкат М. 87
МэттьюГ.В.Т.291,300
Мюкенбергер 224
Мюллер Б. 241
Мюллер Г. 326
Набоков В.В. 369
Наторп (Марквартштейн) Э. 92
НаторпО.92,129,136-138
НгуенКы194
Николай II (Романов) 311,407
Никольский Г.В. 170
Нитхаммер Г. 38,77,79-94,100,101,104,
138,219,240,287,330
Ногаев 429,430
Норинг Р. 37
НоскивичЯ. 126
НуждинН.Н.210
Огнёв СИ. 358
Оме Г. 335
Оссендовский Ф. 389
Отто 277
Павлов Б.М. 423-426,428,429,431,432
Павлова Т. 425,426,432
Павловский Е.Н. 60
ПаксГ. 130,132
Паке Фердинанд 128-132, 136
467
Паке Фердинанд-старший 139
Паличс 93
Патев П. 295-297
Паули 209
Паульстен 83
Паулюс 163
Пелых 429
Перу 209
Пётр I (Романов П.А.) 311
Пий XII197
Пик В. 323, 324
ПиновскийЯ. 88, 175, 181, 370, 374
Пиотровская И. 397
Поблодзинский Л. 429,430
Покровский Н.А. 358
Пол Пот 381
Портенко Л.А. 154, 180, 181, 287, 401,
402
Портманн А. 341
Презент И.И. 366
Прёглер Ф. 278
Принцингер Р. 439
Промптов А.Н. 205
Пруитт У. 356
Пузанов В. 300, 303
Пухальский В. 55, 200
Пфеффер А. 376, 380
Пфеффер П. 375, 377-382
ПшигоддаА. 418
Пшигодда В. 79, 80, 347,417,418
Радзишевская М.В. 204
Раевский Б. 209,214
Райттер 441
Райхель Г. 224
Райхеновс А. 30
Раутенберг В. 309
Рейган Р. 88
Рейхельт X. 224
РеншБ.20,37, 206,419
Ренш Эльза 37
Репин И.Е. 311
Рём Э. 38
Риббентроп И. фон 83
Рид С.Х.Д. 273,274
РильН.217
РиплиСД. 183,419
Рихтгофен Ф. фон 442
Ротшильд В. фон 20, 24,25, 32, 33,400
Розенберг 446
Розенкеттер Л. 209
Романов М.Ф. 310
Романова С.А. 311
Рубанов 259
Рустамов А.К. 63
Ручке Э. 222,227,247, 332, 336-349
Рыдзевский В. 75-77, 79
Рынков П.И. 256
Сабинин Д.А. 366
Савельева Т.С. 155, 158
Сазонова О.Н. 66, 68, 70, 72
СаканянЕ.С. 217
Саломонсен Ф. 43,46
Санфорд Л.К. 33
СапехаВ. 118
Сахаров А.Д. 397, 398
Сембрат К. 129-132
Семёнов В.Г. 310,311
Семёнов В.В. 310
Семёнов В.П. 311
Семёнов (Семёнов-Тян-Шанский) П.П.
311
Семёнове. 310
Семёнов-Каркадинов М. 310
Семёнов-Тян-Шанский О.И. 62,309-315,
367
СенкевичГ. 117
Сергеев A.M. 368
Серебровский П.В. 154
Сетон-Томпсон Э. 358, 363
СивекВ. 102-104
Симеон II (Сакскобургтотский) 296,299
Сифке А. 309
Скалой А.В. 255
Скалой В.В. 255
Скалой В.Н. 251,252, 254-260,425
Скалой Г.А. 255
Скалой Н.Н. 256
Скалой Н.В. 255,256
Скалой С.Н. 256
Склодовская-Кюри М. 376
468
Скотт В. 346
Скотт П. 189,229,291, 346, 353, 355,35(
СлудскийА.А. 156, 159,
Соколов В.Е. 234, 236
Соколовский Я. 89, 238-240
Солженицын А.И. 57,204,212, 215, 383
Спасовский Р. 87
Сталин И.В. 60,67,68,119,159,213,221
251, 258, 259, 265, 307, 328, 367, 396
СтепанянЛ.С. 193,350
Стрелков П.П. 156,159
СушкинП.П. 153, 154
СушкинаА.П. 154
Така-Тцукаца 177
Тауерн О.Д. 24, 26
Тачановский В. 387
Ташвер231,234
Теплов В.П. 363
Тимофеев-Ресовский А.Н. 215
Тимофеев-Ресовский Д.Н. (Фома) 209,
Тимофеев-Ресовский Н.В. 203-217
Тинберген Н. 228
Тинеманн И. 24, 54, 62, 65
ТишерХ.20-22,30,31
Тишлер В. 56
Тишлер Ф. 53-58
Томялойч Л. 240
Топфер А. 64
Тренчард X. 408
ТреттинШ.216
Тройан Р. 448
Троцкий Л.Д. 362, 379
Трусков 259
Тугаринов А.Я. 154
Турчек А. 375
Турчек Ф. 370-375
Тхиеу-Ки 183
Тэйлор М. 392, 393
Уборевич И.П. 359, 361, 362
УилдашФ. 190,192
Ульбрихт В. 221, 222, 266, 267,279,
Уралец А.К. 213
Успенский СМ. 255
Уткин 429,430
Файль Х.В. 223
ФалладаГ. 153
Фальк Л. 221
Фауст Б. 291
Феликс 51
Феликсиак С. 126
Фердинанд I 293, 295
Фестетич А. 339, 340
Фёгер231,234
Фиртингхофф-Рич А. фон 101
Флеминг Ч. 198,201
Флеминг Я. 414
Флинт В.Е. 71
Фогт О. 204,205, 207
Формозов А.А. 357, 359, 366
Формозов А.Н. 66, 68, 356-369, 372
Формозов Н.А. 357, 360, 368, 369
Формозов Н.Е. 357, 358
ФохФ. 187
Франк Г. 243
Франко Ф. 379
Франц-Иосиф 117
Фрезер П. 199
Фридрих Великий 114
Фриш К. фон 228,241-244
Хайдрих Р. 73
Хайм С. 226
Хайнрих Г. 33
Хаксли Д. 229
Хальстайн В. 328
Хаммонд Д. 198
Хан О. 242
Хартвиг К. 57
Хартерт Э. 25,26,29-32,51,105,154,400
Хаффер Ю. 22
Хейдер Р. 43, 84
Хейндрих Р. 262
ХейнротК.323,324,327
ХейнротО.42,239,240,419
Хелльмайр К.Э. 24, 29
Хирохито 177
ХиртА.448
ХоШиМин192
Ходжа Э. 301, 302, 304
Хойхекорне (Гроте, Штреземанн) В. 42,
46,50,51
469
Холфтер Б. 58
ХонгЙон-Тик 179
Хоннекер Э. 348
Хорнуф Г. 276
Хорти 262
Хрущёв Н.С. 60, 261, 266, 267, 313, 319,
367
Хэммерлайн Х.-Д. 331
Цах 264
Циглер 441
ЦиммерК.Г.206,214
Цюгель Г. фон 238
Чан Кай-Ши 285
ЧапинД.П.31,39,45,400
Чаушеску Н. 143
Ченг Лиа-Янг 284,289, 292
Ченг Цо-Син 281-292,401
Черни В. 73, 74, 151
Черский А. 390
Шаллер-Калиде 441
Шаляпин Ф.И. 355
Шанце 348
Шар Г. 426-429
ШарскийК. 130,133-138
Шевелёв М.Г. 390
Шеель441,442
Шеффер Э. 39,40, 83, 89,433-447
Шильдмахер Г. 305-309, 330
Шлаф И. 126
Шмальгаузен И.И. 366
Шмидт 163, 232
Шнейдер К.М. 322, 324
ШнурреО. 115
Шоберт Е.Р. фон 121
Шотте Г. 342-345
Штайн Г. 33
ШтегманБ.К. 153-159
Штейнбахер И. 84, 285, 286
Штраусе В. 340
Штреземанн А. 43,46
Штреземанн В.
Штреземанн Г. 32
Штреземанн (Денингер) Е. 29, 31
Штреземанн Р.-М. 36, 37
Штреземанн Эрвин 19-52, 55, 63, 75, 77,
79-81,91,96,122,124,154,159-171,173,
174,189,203,204,206,207,231,240,250,
270,278,286-288,306-308,329,338,340,
348,350,355,400,401,404,406,413,415,
419,420,434,439
Штреземанн Эрнст 31
Штрикнер 232
Штуббе Г. 149,217-228,277,278
Шуберт В. 108, 109, 111-114
Шуберт Э. 108
ШульпинЛ.М. 154
Шульц-Хаген К. 136
Шустер (Шустер-Форстнер) В. 105-111,
113-115
Шустер Л. 105
Шугц Э. 20, 56, 63, 143, 165
Эбботт Э. 225
Эбер Г. 254
Эберт Ф. 323, 324
Эйзенхауэр Д.Д. 316
Эйнштейн А. 309
Экк 3. 99
Элтон 4.198,364,365,369
ЭндоК. 181
Эрц В. 345
ЭтчекопарР. 381
Юдинцев С.Д. 366
ЮнгерЭ.41
Яблоков А.В. 203, 204, 212
Якобе В. 38
Якшис Я. 62
ЯмасинаЙ. 177
Янковский А.В. 398
Янковский А.М. 386, 388-392
Янковский В.Ю. 387, 389, 392-399
Янковский М.(И.) 383, 385-389, 398, 399
Янковский СВ. 396
Янковский Ю.Ю. 395, 396
Янковский Ю.М. 387, 389-393, 395, 396
Янковский Я. 388
Яновская-Бордовская Т.П. 393
Янушевич А.Я. 252
Ячевски Т. 98
470
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие автора к русскому изданию 5
Благодарности 9
Предисловие переводчика 11
От редактора 16
Глава 1. Профессор Эрвин Штреземанн (1889—1972) —
выдающийся биолог XX столетия,
«римский папа орнитологов» 19
Глава 2. Восточная Пруссия, Сибирь, Освенцим,
Заксенхаузен — судьбы в самые тяжёлые годы 53
Фридрих Тишлер (1881-1945) 53
Лев Осипович Белопольский (1907—1990) 58
Юрий Андреевич Исаков (1912-1988) 65
Велеслав Валь (1922-1950) 73
Владислав Рыдзевский (1911—1980) 75
Анджей Дунаевский (1908-1944) 77
Гюнтер Нитхаммер (1908-1974) 79
Ганс Куммерлёве, или Кумерлове (1903—1995) 94
Владислав Сивек (1907-1983) 102
Вильгельм Шустер (1880-1942) 104
Глава 3. Беженцы, изгнанники, переселенцы и пленники 116
Влодимеж Дзедушинкий (1885—1971) 116
Фердинанд Паке (1885-1964) 128
Казимеж Шарский (1904-1960) 133
Вернер Клемм (1909-1990) 138
Губерт Вебер (1917-1997) 145
Борис Карлович Штегман (1898-1975) 153
Николай Алексеевич Гладков (1905—1975) 159
Хонг-Гу Вон (1888-1970) 174
471
Пьонг-0 Вон (род. в 1929) 182
Жан Делакур (1890-1985) 186
Казимеж Водзицкий из Гранова (1900—1987) 195
Глава 4. Жизнь и наука в мире, полном опасностей 203
Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский (1900—1981) 203
Ганс Штуббе (1902-1989) 217
Конрад Лоренц (1903-1989) 228
Ян Соколовский (1899-1982) 238
Роман Войтусяк (1906-1987) 240
Бернхард Гржимек (1909-1987) 244
Ганс Христиан Иогансен (1897-1973) 249
Василий Николаевич Скалой (1903—1976) 255
Алексей Евгеньевич Луговой (род. в 1930) 261
Вольфганг Макач (1906-1983) 269
ЧенгЦо-Син (1906-1998) « 281
Глава 5. Между внутренней эмиграцией и приспособлением 293
Николай Боев (1922-1985) 293
Фотак Ламани (род. в 1923) 299
Ганс Шильдмахер (1907-1976) 305
Олег Измаилович Семёнов-Тян-Шанский (1906—1990) 309
Александр Богданович Кистяковский (1904—1983) 315
Генрих Дате (1910-1991) 321
Эрих Ручке (1926-1999) 336
Георгий Петрович Дементьев (1898—1969) 350
Александр Николаевич Формозов (1899—1973) 356
Франтишек Турчек (1915-1977) 369
Пьер Пфеффер (род. в 1927) 375
Глава 6. Взгляд в прошлое, в мир шпионов и в современность 383
Михаил Янковский (1842-1912) 383
Александр Михайлович Янковский (1876—1944) 389
Юрий Михайлович Янковский (1879—1956) 389
Валерий Юрьевич Янковский (род. в 1911) 393
Чарльз Вори (1906-1975) 400
472
Вальтер Байк (1883-1933) 402
Ричард Майнерцхаген (1878-1967) 406
Вилфрид Пшигодда (1916-1991) 416
Салим Али (1896-1987) 419
Борис Михайлович Павлов (1933-1994) 423
Глава 7. Профессор Эрнст Шеффер (1910—1992) —
две биографии, одна выставка и один комментарий 433
«Моя биография» 433
Эрнст Шеффер (1910-1992).
Некролог Роланда Принцингера. 4 3 5
Выставка «Панорама Тибета» и Свен Гедин.
Статья из «Зальцбургской газеты» 439
Новое о незнании. Комментарий Моники Кёлер 444
Источники 449
Публикации 449
Архивы и другие организации 460
Современники 461
Другие информаторы и помощники 462
Источники иллюстраций 462
Именной указатель 464
473
КНИГИ ТОВАРИЩЕСТВА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ КМК
БИОЛОГИЯ
СЕРИЯ «ОПРЕДЕЛИТЕЛИ ПО ФЛОРЕ И ФАУНЕ РОССИИ»
Деревья и кустарники зимой. 2-е изд. [Вып.9]. Е.Т. Валягина-Малюти-
на. 2007. 268 с. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 220 руб. —
Булавоусые чешуекрылые Восточной Европы. [Вып.8]. А.Л.
Львовский, Д.В. Моргун. 2007.443 с, 8 цв.вкл. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл.
— Цена 400 руб. — Флора Северо-Западного Кавказа. [Вып.7]. А.С.
верное. 2006. 664 с. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 500 руб.
— Флора Нижнего Поволжья. Том 1 (споровые, голосеменные,
однодольные). [Вып.6]. А.К. Скворцов (ред.). 2006. 435 с. Формат 170 х 240
мм. Те. перепл. — Цена 400 руб. — Булавоусые чешуекрылые
Северной Азии. [Вып.4]. Ю.П. Коршунов. 2002. 424 с. с портр., илл. Формат
170 х 244 мм. Те. перепл. — Цена 300 руб. — Определитель
сосудистых растений севера Российского Причерноморья. [Вып.З]. А.С.
верное. 2002. 283 с, илл. Формат 170 х 244 мм. Те. перепл. — Цена 220 руб.
Планируется: З.Н. Рябинина, М.С. Князев. Определитель сосудистых
растений Оренбургской области.
ПРОЧИЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛИ ПО ФЛОРЕ И ФАУНЕ
Определитель грибов России. Порядок Афиллофоровые. Вып.З. И.В.
Змитрович. 2008. 278 с. Формат 145 х 218 мм. Те. перепл. — Цена 300
руб. — Иллюстрированный атлас беспозвоночных Белого моря. Н.Н.
Марфенин, С.А. Белорусцева (ред.). 2006. 312 с, цветной фотоатлас.
Бум. мелов. Формат 150х 220 мм. Те. перепл. — Цена 500 руб. — Флора
средней полосы европейской части России. 10-е изд. П.Ф. Маевский.
2006. 600 с. Формат 210 х 290 мм. Те. перепл. — Цена 500 руб. —
Определитель сосудистых растений Соловецкого архипелага. КВ.
Киселёва и др. 2004. 175 е., цв. фото. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. —
Цена 220 руб. — Иллюстрированное руководство для ботанических
практик и экскурсий в Средней России. В.Э. Скворцов. 2004. 506 с.
Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 300 руб. —
Иллюстрированный определитель растений Средней России. Том 3. И.А. Губанов и
др. 2004. 520 с. Формат 210 х 295 мм. Те. перепл. — Цена 350 руб. Том
2 (распродан) — Том 1. 2002. 526 с. с портр. — Цена 350 руб. — Флора
мхов средней части Европейской России. Том 2. М.С. Игнатов, Е.А.
Игнатова. 2004. С.609-944. Бум. мелов. Формат 195 х 270 мм. Те.
перепл. — Цена 300 руб. Том 1. 2003. С.1-608, илл. — Цена 500 руб. —
Определитель грибов России. Дискомицеты. Вып.1. Копротрофные
виды. В.П. Прохоров. 2004. 255 с. Формат 145 х 218 мм. Те. перепл. —
Цена 200 руб.
Планируется: Е.А. Коблик, Е.Н. Курочкин. Атлас птиц запада России. — И.А. Шан-
цер. Растения средней полосы европейской России. Полевой атлас. 3-е изд.
СЕРИЯ «РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ»
Пернатые многоженцы [Вып.4]. В.А. Паевский. 2007. 144 с, 12 с. цв.
вкл. Формат 145 х 205 мм. — Цена 150 руб. — Мамонт [Вып.З]. А.Н.
Тихонов. 2005. 90 с, цв. вкл. Формат 145 х 205 мм. — Цена 100 руб. —
Городские комары, или «дети подземелья» [Вып.2]. Е.Б. Виноградова.
2004. 96 с, цв. вкл. Формат 145 х 205 мм. — Цена 100 руб. — Гидра: от
Абраама Трамбле до наших дней [Вып.1]. С.Д. Степаньянц и др. 2003.
101 с. + цв.вкл. Формат 145 х 205 мм. — Цена 100 руб.
Планируется: А. Островский. Повелители бездны.
УЧЕБНИКИ ДЛЯ ВУЗОВ
Зоология беспозвоночных в двух томах. Под ред. В. Вестхайде и Р.
Ригера. Том 2: от артропод до иглокожих и хордовых. Пер. с нем. 2008.
/V + 513-935 + Hi с. Формат 215 х 290 мм. Те. перепл. — Цена 700 руб. —
Том 1: от простейших до моллюсков и артропод. 2008. /V + 1-512 + /V с.
Формат 215 х 290 мм. Те. перепл. — Цена 800 руб. — Морская биогео-
ценология. И. В. Бурковский. 2006. 285 с. Формат 170 х 240 мм. Те.
перепл. — Цена 220 руб. — Основы микологии. Л.В. Гарибова, С.Н. Ле-
комцева. 2005. 220 с. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 220 руб.
— Малый практикум по зоологии беспозвоночных. Часть 1. 2-е изд.
И.А. Тихомиров и др. 2008. 304 с, 14 ч/б вкл. Формат 170 х 240 мм. Те.
перепл. — Цена 250 руб. — Основы биогеографии. В.Г. Мордкович. 2005.
236 с, 1 цв. вкл. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 220 руб.
Планируется: И.А. Тихомиров (СПбГУ). Малый практикум по зоологии
беспозвоночных (часть 2). —И.А. Жирков. Жизнь на дне. — К. Хаусман.
Протистология (пер. с англ.).
СЕРИЯ «СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ БИОЛОГИЯ»
Экология и биогеография. Избранные работы. Ю.И. Чернов. 2008. 580
с. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 500 руб. — Избранные
труды. Н.В. Кокшайский. 2008. 410 с. с портр. Формат 170 х 240 мм. Те.
перепл. — Цена 400 руб. — Избранные труды. В.В. Кучерук. 2006. 523 с.
с портр. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 300 руб. —
Избранные труды. Е.Н. Матюшкин. 2005. 658 с. с портр. Формат 170 х 240 мм.
Те. перепл. — Цена 400 руб. — Избранные труды по эволюционной
биологии. АЛ. Расницын. 2005. /V + 347 с. с портр., 16 фототаблиц.
Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 200 руб. — Избранные
труды. Организм, геном, язык. Б.М. Медников. 2005. 452 с. с портр. Фор-
мат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 300 руб.
Планируется: СМ. Разумовский. Избранные труды.
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ
Киты и история китобойного промысла: взгляд из Японии. М. Кома-
цу С. Мисаки. 2005. 142 с, в те. перепл., цв. вкл. Формат 145 х 215 мм.
— Цена 200 руб.
Планируется: В.Н. Танасийчук. Невероятная зоология (в печати).
СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ, ИСТОРИЯ БИОЛОГИИ
Чужеродные виды млекопитающих в экосистемах России. В.В.
Бобров и др. 2008. 232 с, в обл. Формат 165 х 235 мм. — Цена 180 руб. —
Каталог биоты Беломорской биологической станции МГУ. А.В. Чесу-
ное и др. (ред.). 2008. 384 с, в те. перепл. Формат 170 х 240 мм. — Цена
500 руб. — Страна ББС. Е. Каликинская. 2008. 534 с, в те. перепл. Фор-
мат 170 х 245 мм. — Цена 500 руб. — Каталог чешуекрылых (Lepi-
doptera) России. СЮ. Синее (ред.). 2008. 424 с, е те. перепл. Формат
220 х 290 мм. — Цена 620 руб. — Растительные ресурсы России.
Дикорастущие цветковые растения, их компонентный состав и
биологическая активность. Том 1. А.Л. Буданцее (оте. ред.). 2008. 421 с, в те.
перепл. Формат 170 х 240 мм. — Цена 500 руб. — Введение в палеоэн-
томологию. В.В. Жерихин и др. 2008. 371 с, в те. перепл. Формат 170 х
240 мм. — Цена 300 руб. — Мировая коррелятивная база почвенных
ресурсов: основа для международной классификации и корреляции
почв. Пер. с англ. 2007. 278 с, е обл. Формат 145 х 215 мм. — Цена 150
руб. — Мозаика судеб биофаковцев МГУ 1930-1960 годов
поступления. Том II. 1951-1960-е годы. Л.И. Лебедева (сост.). 2007. 640 с, те.
перепл. Формат 145 х 220 мм. — Цена 300 руб. — Том I. 1930-1950-е
годы. 2007. 479 с, те. перепл. Формат 145 х 220 мм. — Цена 200 руб. —
Ваш любящий Валя. Валентин Александрович Догель (1882-1955).
Письма домой. СИ. Фокин (ред.). 2007. 266 с, + 40 с, ил., в обл.
Формат 145 х 210 мм. — Цена 150 руб. — Принципы и методы
определения возраста млекопитающих. ГА. Клевезаль. 2007. 283 с, в те.
перепл. Формат 170 х 240 мм. — Цена 220 руб. — Эрнст Майр и
современный эволюционный синтез. Э.И. Колчинский. 2006. 149 с, ч/б вкл.,
в обл. Формат 145 х215 мм. — Цена 100 руб. — Александр Николаевич
Формозов: Жизнь русского натуралиста. А.А. Формозов. 2006. 208 с, в
обл. Формат 135x203 мм. — Цена 100руб. — Пока горит свеча...
Очерки по истории кафедры зоологии беспозвоночных МГУ. 2-е изд. В.В.
Малахов. 2006. 153 с, бум. мелов., в обл. Формат 145x210 мм. — Цена 120
руб. — Конспект фауны земноводных и пресмыкающихся России. СЛ.
Кузьмин, Д.В. Семенов. 2006. 139 с, в те. перепл. Формат 145x210 мм.
— Цена 150 руб. — Список птиц Российской Федерации. Е.А. Коблик и
др. 2006. 281 с, бум. мелов., печать двухцветная, в обл. Формат 145 х
215 мм. — Цена 200 руб. — Биологический факультет МГУ. А.И.
Нетрусов и др. (ред.). 2005. 242 с, в те. перепл. Формат 170 х 240 мм. — Цена
220 руб. — Эволюционные факторы формирования разнообразия
животного мира. Э.И. Воробьева, Б.Р. Стриганова (ред.). 2005. 308 с, в
те. перепл. Формат 170 х 240 мм. — Цена 220 руб. — Каталог типовых
образцов сосудистых растений Восточной Азии, хранящихся в
Гербарии Ботанического института им. В.Л. Комарова (LE). часть 1
(Япония и Корея). В.И Грубое (ред.). 2004. 188 с, ил. Формат 140 х 205 мм.
В обл. — Цена 80 руб. — Биология гидротермальных систем. А.В. Геб-
рук (ред.). 2002. 543 с. с цв. вкл., в те. перепл. Формат 210 х 260 мм. —
Цена 400 руб.
Планируется: Г.Ю. Любарский. История Зоологического музея МГУ. — Д.Л.
Матюхин, О.С. Манина, Е.С. Сысоева. Виды и формы хвойных,
культивируемые в России. Часть 2. Picea A. Dietr., Thuja L. — М.М. Диев. Большая
энциклопедия цветочных многолетников.
НАУЧНЫЕ МОНОГРАФИИ
Каталог типовых экземпляров нематод и акантоцефал
Гельминтологического музея РАН. Н.И. Суменкова и др. 2009. 457 с, бум. мелов.
Формат 173 х 243 мм. Те. перепл. — Цена 620 руб. — Высшие базиди-
омицеты лесных и луговых систем Жигулей. В.Ф. Малышева, Е.Ф.
Малышева. 2008. 342 с, ил., 8 с. цв. вкл. Формат 145 х 220 мм. Те.
перепл. — Цена 300 руб. — Новости систематики высших растений. Том
40. ТВ. Егорова (отв. ред.). 2008. 365 с. Формат 148 х 213 мм. Те.
перепл. — Цена 300 руб. — Экосистема эстуария реки Невы:
биологическое разнообразие и экологические проблемы. 2008. 477 с.
Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 500 руб. — Пойменные луга
Северной Монголии. Часть 1. (Труды Совместной Российско-Монгольской
комплексной юиологической экспедиции. Том 49). 2008. 240 с, 16 цв.вкл.,
2 цв. карты. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 300 руб. — Звери
Алтая. Часть 1. Крупные хищники и копытные. Г.Г. Собанский. 2008.
414 с, 16 цв.вкл. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 400 руб. —
Эволюционный стазис и микроэволюция. А.С. Северцов. 2008. 176 с.
Формат 145 х 215 мм. Те. перепл. — Цена 180 руб. — Растения
Центральной Азии. Вып.146. В.И. Грубое (отв. ред.). 2008. 223 с. Формат
164 х 238 мм. В обл. — Цена 220 руб. — Виды и сообщества в
экстремальных условиях. Сборник, посвященный 75-летию академика
Юрия Ивановича Чернова. А.Б. Бабенко и др. (ред.). 2009. 494 с, ил., 16
цв. вкл. Бум. офсетн. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 500 руб.
— Периодические системы и периодический закон в биологии. И.Ю.
Попов. 2008. 223 с, ил. Формат 140 х 203 мм. В обл. — Цена 180 руб. —
Экология океанического обрастания в пелагиали. И.Н. Ильин. 2008.
241 с, ил. Формат 145x220 мм. Те. перепл. — Цена 220 руб. —
Семязачаток цветковых растений. И.И. Шамров. 2008. 350 с, ил., 8 ч/б вкл.
Бум. офсетн. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 300 руб. —
Цитологические карты политенных хромосом и некоторые
морфологические особенности кровососущих мошек России и
сопредельных стран. Атлас. Л.А. Чубарева, Н.А. Петрова. 2008. 135 с. + 218 с. ил.
Бум. офсетн. и мелов. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 400
руб. — Сцелиониды Палеарктики (Hymenoptera, Scelionidae).
Подсемейство Scelioninae. СВ. Кононова, М.А. Козлов. (Определители по
фауне, издаваемые Зоологическим институтом РАН, вып. 172). 2008. 489
с, ил. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 600 руб. — Новости
систематики низших растений. Том 41. М.П. Андреев (отв. ред.). 2007.
355 с, ил. Формат 150 х 220 мм. Те. перепл. — Цена 220 руб. —
Демографическая структура и популяционная динамика певчих птиц. В.А.
Паееский. 2008. 235 с, ил., цв.вкл. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. —
Цена 300 руб. — Хомячки рода Phodopus: систематика, филогеогра-
фия, экология, физиология, поведение, химическая коммуникация.
И.Ю. Феоктистова. 2008. 414 с, ил., цв.вкл. Формат 150 х 215 мм. Те.
перепл. — Цена 500 руб. — Эволюция экосистем Европы при
переходе от плейстоцена к голоцену (24 - 8 тыс. л.н). А.К Маркова и др. 2008.
556 с, цв., ил. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 500 руб. —
Пространственно-этологическая структура популяций грызунов. B.C.
Громов. 2008. 581 с, ил. Формат 150 х 220 мм. Те. перепл. — Цена 500
руб. — Веслоногие ракообразные отряда Harpacticoida Белого моря:
морфология, систематика, экология. ПН. Корнев, Е.С. Чертопруд. 2008.
379 с, ил., с портр. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 300 руб. —
Абрикос в Москве и Подмосковье. А.К. Скворцов, Л.А. Крамаренко. 2007.
188 с, ил, 32 цв. вкл. Формат 145 х 220 мм. Те. перепл. — Цена 200 руб.
— Активный связный мир. Опыт теории эволюции жизни. Ю.В.
Чайковский. 2008. 726 с, ил. Формат 150 х 220 мм. Те. перепл. — Цена 350
руб. — Исследования по ихтиологии и смежным дисциплинам на
внутренних водоёмах в начале XXI века (к 80-летию профессора Л.А. Ку-
дерского). 2007. 645 с, ил., с цв. портр. Формат 170 х 240 мм. Те.
перепл. — Цена 500 руб. — Флора сосудистых растений Таймыра и
сопредельных территорий. Часть 1. Аннотированный список флоры и
её общий анализ. Е.Б. Поспелова, И.Н. Поспелов. 2007. 457 с, ил. + 16 с.
цв.вкл., вложенный лазерный диск. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. —
Цена 400 руб. — Зимовка и холодоустойчивость муравьев на северо-
востоке Азии. ДМ. Берман и др. 2007. 261 с, ил. + 28 с. цв.вкл. Формат
170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 300 руб. — Паразитизм как форма
симбиотических отнощений. В.А. Ройтман, С.А. Беэр. 2008. 310 с, ил.
Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 300 руб. — Синаптонемный
комплекс - индикатор динамики мейоза и изменчивости хромосом.
Ю.Ф. Богданов, О.Л. Коломиец. 2007. 358 с, ил. Формат 170 х 235 мм.
Те. перепл. — Цена 300 руб. — Исследования по перепончатокрылым
насекомым. А.П. Расницын, В.Е. Гохман (ред.). 2007. 263 с, ил. Формат
145 х 223 мм. Те. перепл. — Цена 220 руб. — Пространственная
экология почвенных животных. А.Д. Покаржевский и др. 2007. 174 с, ил.
Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 220 руб. — Коллекция
культур базидиомицетов LE (БИН). Каталог штаммов. Н.В. Псурцева и др.
2-е изд. 2007. 116 с, цв. и ч/б вкл. 16 с. Формат 165 х 235 мм. В обл. На
англ. яз. — Цена 120 руб. — Сосудистые растения Карельского
перешейка (Ленинградская область). А.Ю. Доронина. 2007. 574 с, ил.
Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 500 руб. — Дыхание почвенных
беспозвоночных. Ю.Б. Вызова. 2007. 328 с. Формат 150 х 220 мм. Те.
перепл. — Цена 220 руб. — Новости систематики высших растений.
Том 39. ТВ. Егорова (отв. ред.). 2007. 370 с. Формат 148 х 213 мм. Те.
перепл. — Цена 220 руб. — Теоретические и практические проблемы
изучения сообществ беспозвоночных: памяти Я.И. Старобогатова.
А.И. Кафанов (отв.ред.). 2007. 306 с. с портр. Формат 145 х 220 мм. Те.
перепл. — Цена 220 руб. — Растения Центральной Азии. Вып.16. В.И.
Грубое (отв. ред.). 2007. 135 с. Формат 164 х 238 мм. В обл. — Цена 150
руб. — Паразиты рыб озера Байкал (фауна, сообщества,
зоогеография, история формирования). О.Т Русинек. 2007. 571 с, ил. + 24 с. цв.
вкл. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 500 руб. — Новости
систематики низших растений. Том 40. МЛ. Андреев (отв. ред.). 2006. 339
с, ил. Формат 150 х 220 мм. Те. перепл. — Цена 220 руб. — Состояние
и проблемы продукционной гидробиологии. К 100-летию проф. Г.Г.
Винберга. 2006. 329 с, ил., портр. Формат 150x220 мм. Те. перепл. —
Цена 220руб. — Микокалициевые грибы Голарктики. А.И. Титов. 2006.
296 с, ил. + 40 с. цв. вкл. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 220
руб. — Биология морских нематод. А.В. Чесунов. 2006. 367 с, ил.
Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 220 руб. — Пресноводные
раковинные амебы. Ю.А. Мазей, А.И. Цыганов. 2006. 300 с, ил. Формат 170
x 240 мм. Те. перепл. — Цена 220 руб. — Позвоночные животные
северо-востока центрального региона России. В.А. Зайцев. 2006. 513 с,
ил., Цв. вкл. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 300 руб. —
Семейство гвоздичные во флоре Кыргызстана. Г.А. Лазьков. 2006. 272 с, ил.
Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 220 руб. — Новости
систематики высших растений. Том 38. ТВ. Егорова (отв. ред.). 2006. 377 с.
Формат 148 х 213 мм. Те. перепл. — Цена 220 руб. — АЭволюция
биосферы и биоразнообразия. К 70-летию А.Ю. Розанова. СВ. Рожнов
(отв. ред.). 2006. 600 с. с портр. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. —
Цена 400 руб. — Флора субарктических гор Евразии и высотное
распределение её видов. В.Б. Куваев. 2006. 568 с, ч/б вкл. Формат 170
х 245 мм. Те. перепл. — Цена 400 руб. — Пластинчатоусые жуки
подсемейства Scarabaeinae фауны России и сопредельных стран. О.Н.
Кабаков. 2006. 374 с, цв. вкл. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена
400 руб. — Атлас-определитель усоногих раков (Cirripedia Thoracica)
надсемейства Chthamaloidea Мирового океана. О.П. Полтаруха. 2006.
198 с. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 200 руб. — Растения
Центральной Азии. Вып. 15. В.И. Грубое (отв. ред.). 2006. 143 с.
Формат 164 х 238 мм. В обл. — Цена 150 руб. — Млекопитающие
Вьетнама. Г.В. Кузнецов. 2006. 420 с. Формат 170x240 мм. Те. перепл. — Цена
400 руб. — Нематоды надсемейства Drilonematoidea - паразиты
дождевых червей. С.Э. Спиридонов, Е.С Иванова. 2005. 296 с. Формат 170
х 240 мм. Те. перепл. — Цена 220 руб. — Травы на градиенте
влажности почвы. СИ. Шереметьев. 2005. 271 с. Формат 170 х 240 мм. Те.
перепл. — Цена 220 руб. — Бделлоидные коловратки фауны России.
Л.А. Кутикова. 2005. 315 с. Формат 170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена
220 руб. — Кариотипы паразитических перепончатокрылых. В.Е. Гох-
ман. 2005. 185 с, бум. офсетн. и мелов. Формат 150 х 220 мм. Те.
перепл. — Цена 120 руб. — Ископаемые цветковые растения. Том 4.
Nyctaginaceae - Salicaceae. Л.Ю. Буданцев (ред.). 2005. 466 с, бум.
офсетн. и мелов. Формат 228 х 295 мм. Те. перепл. — Цена 600 руб. —
Китайская восковая пчела на Дальнем Востоке России. В.И.
Кузнецов. 2005. 111 с, бум. мелов., цв. фото. Формат 148 х 215 мм. В обл. —
Цена 100 руб. — Полорогие А.А. Данилкин. 2005. 550 с, цв. вкл. Формат
170 х 240 мм. Те. перепл. — Цена 400 руб. — Введение в современную
филогенетику. И.Я. Павлинов. 2005. 391 с. Формат 148 х 220 мм. Те.
перепл. — Цена 220 руб.
Заказать эти и другие издания (биология, география, история, медицина)
изд-ва КМК можно по адресу:
123100 Москва, а/я 16 изд-во КМК, Михайлову Кириллу Глебовичу
Комп. почта: mikhajlov2000@gmail.com
Интернет: http://avtor-kmk.ru (аннотации изданных книг)
Факс: (495) 629-4825 Тел. (495) 692-5894 раб.
Еугениуш НОВАК
УЧЁНЫЕ В ВИХРЕ ВРЕМЕНИ.
Воспоминания об орнитологах, защитниках природы
и других натуралистах.
Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2009. 473 с, ил.
при участии ИП Михайлова К.Г.
Главный редактор издательства К.Г. Михайлов
Вёрстка: М.В. Скороходова
Для заявок: 123100, Москва а/я 16, изд-во КМК
эл. почта: mikhailov2000@gmail.com
см. таксисе http://avtor-kmk.ru
Сдано в печать 22.06.2009. Формат 60x90/16. Объём 30 печ.л.
Бум. офсетн. Тираж 1500 экз. Заказ № 16772.
Отпечатано по технологии QP
в ОАО «Печатный двор» им. А. М. Горького.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.