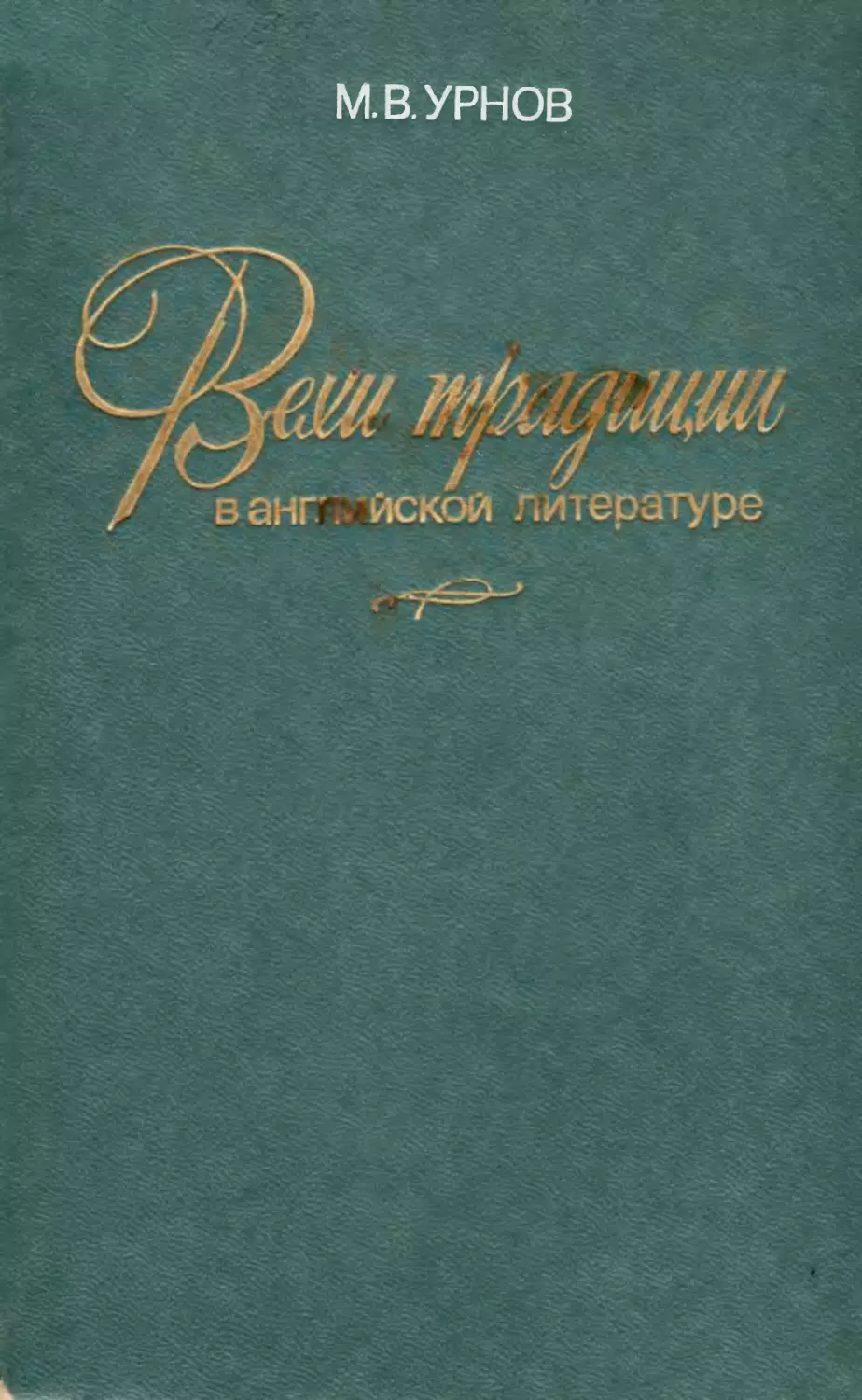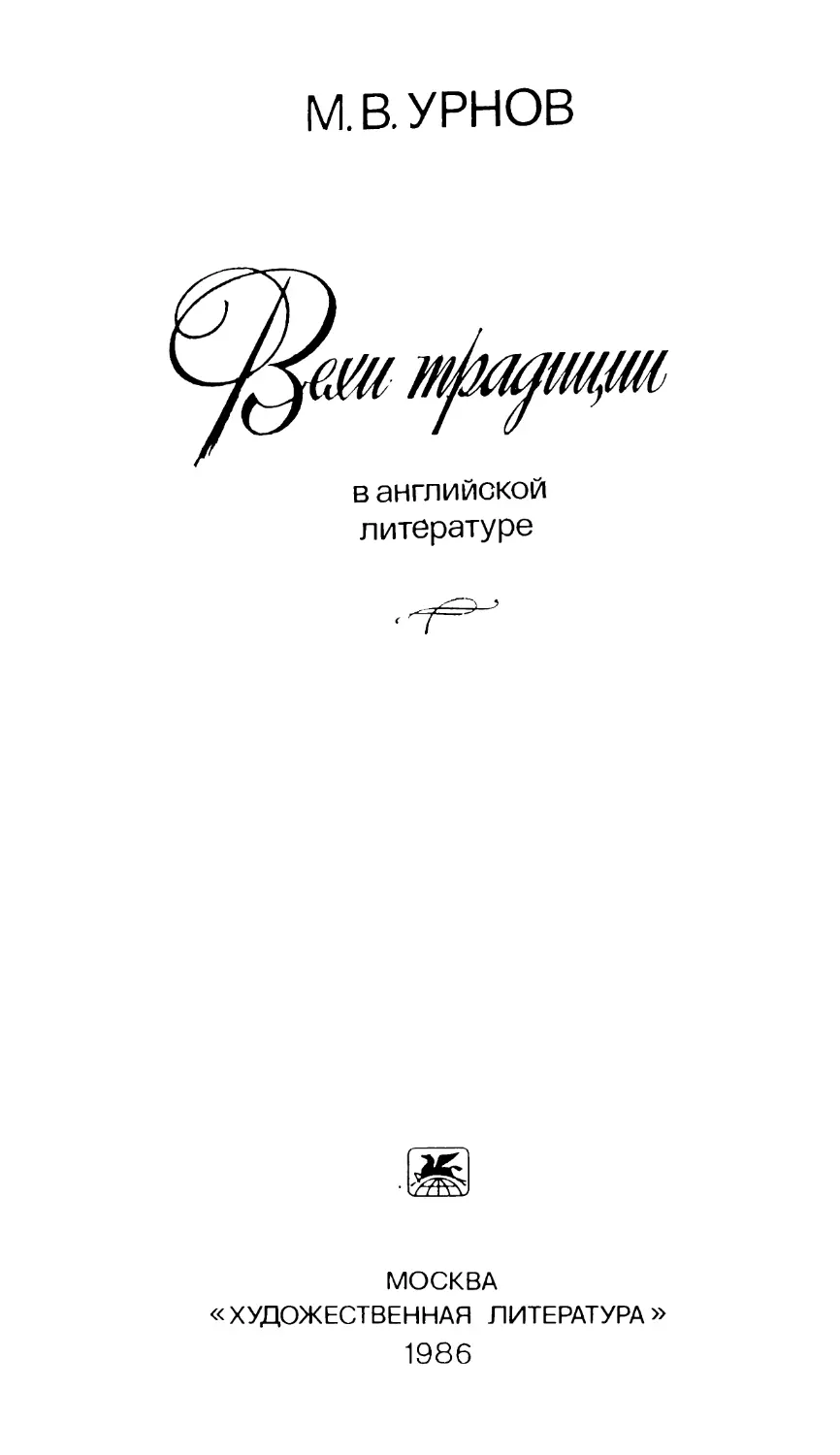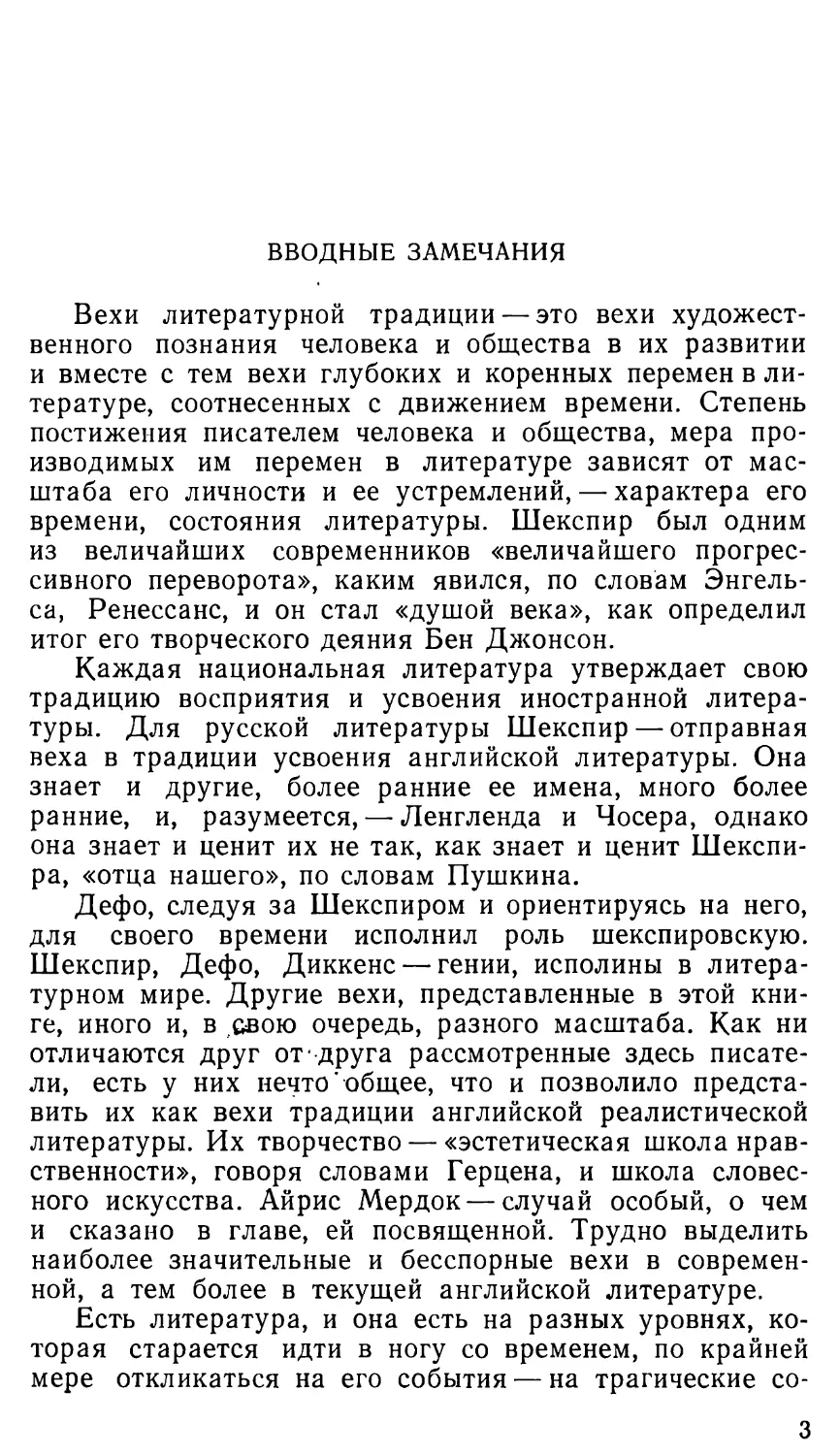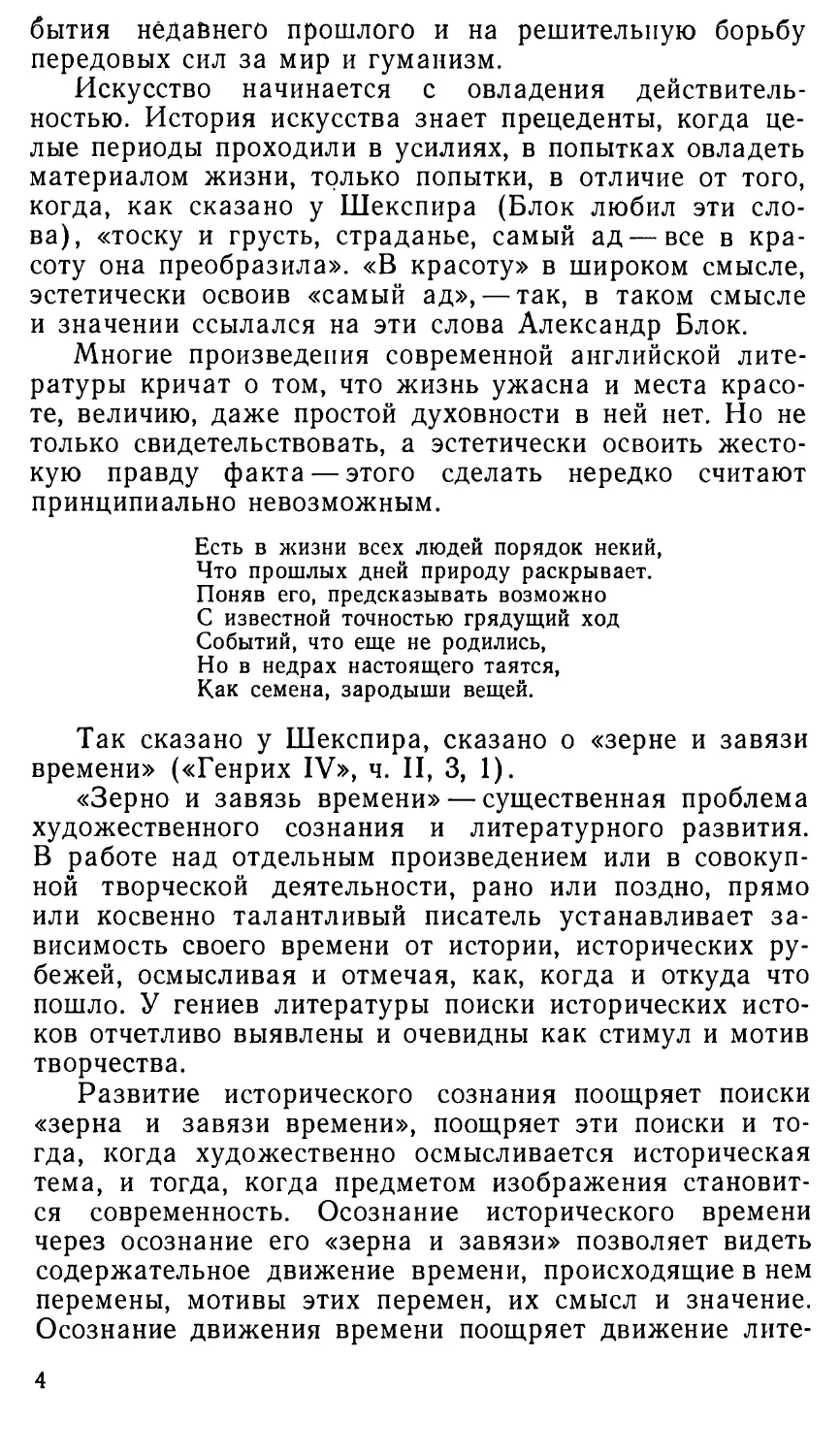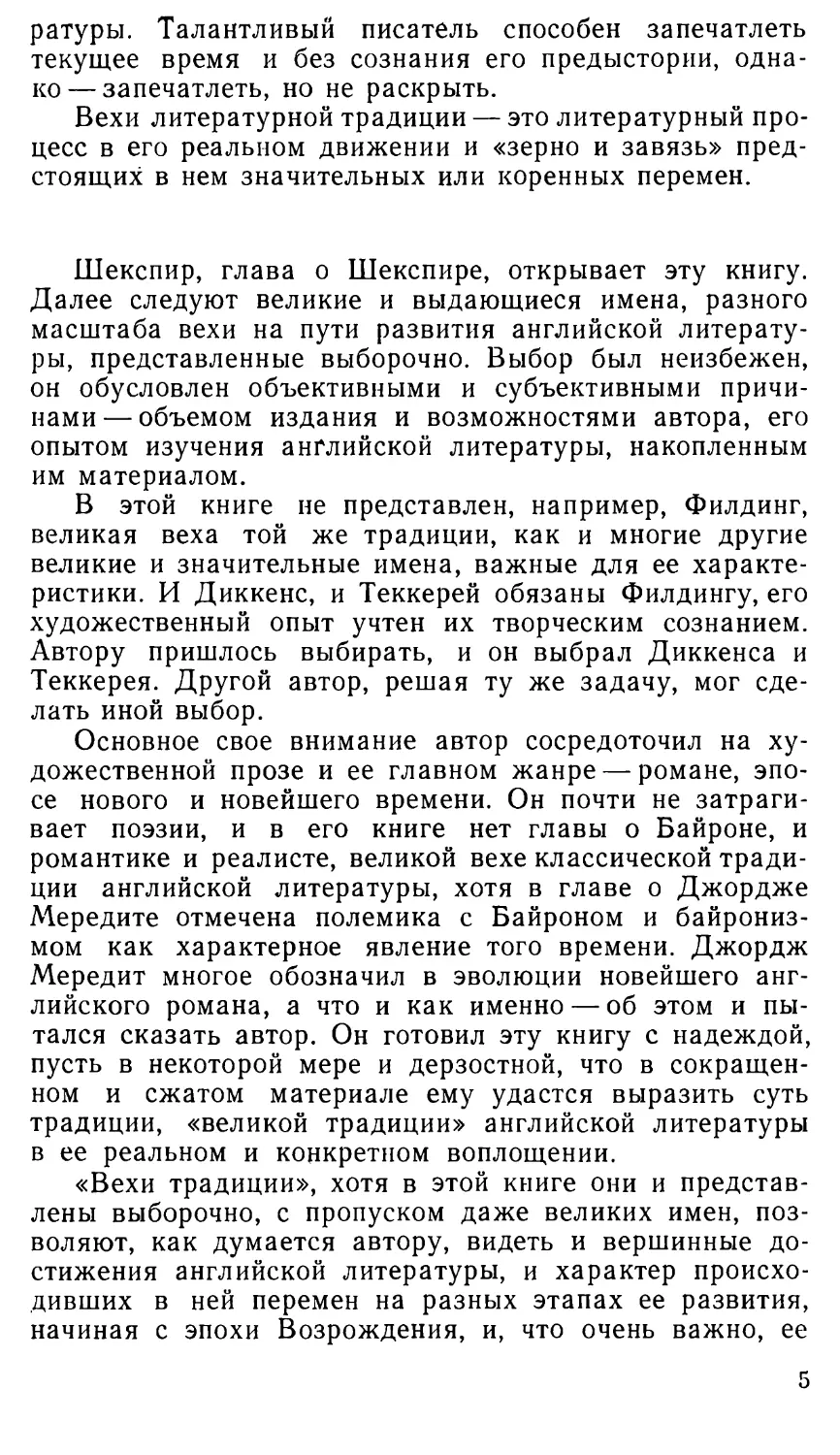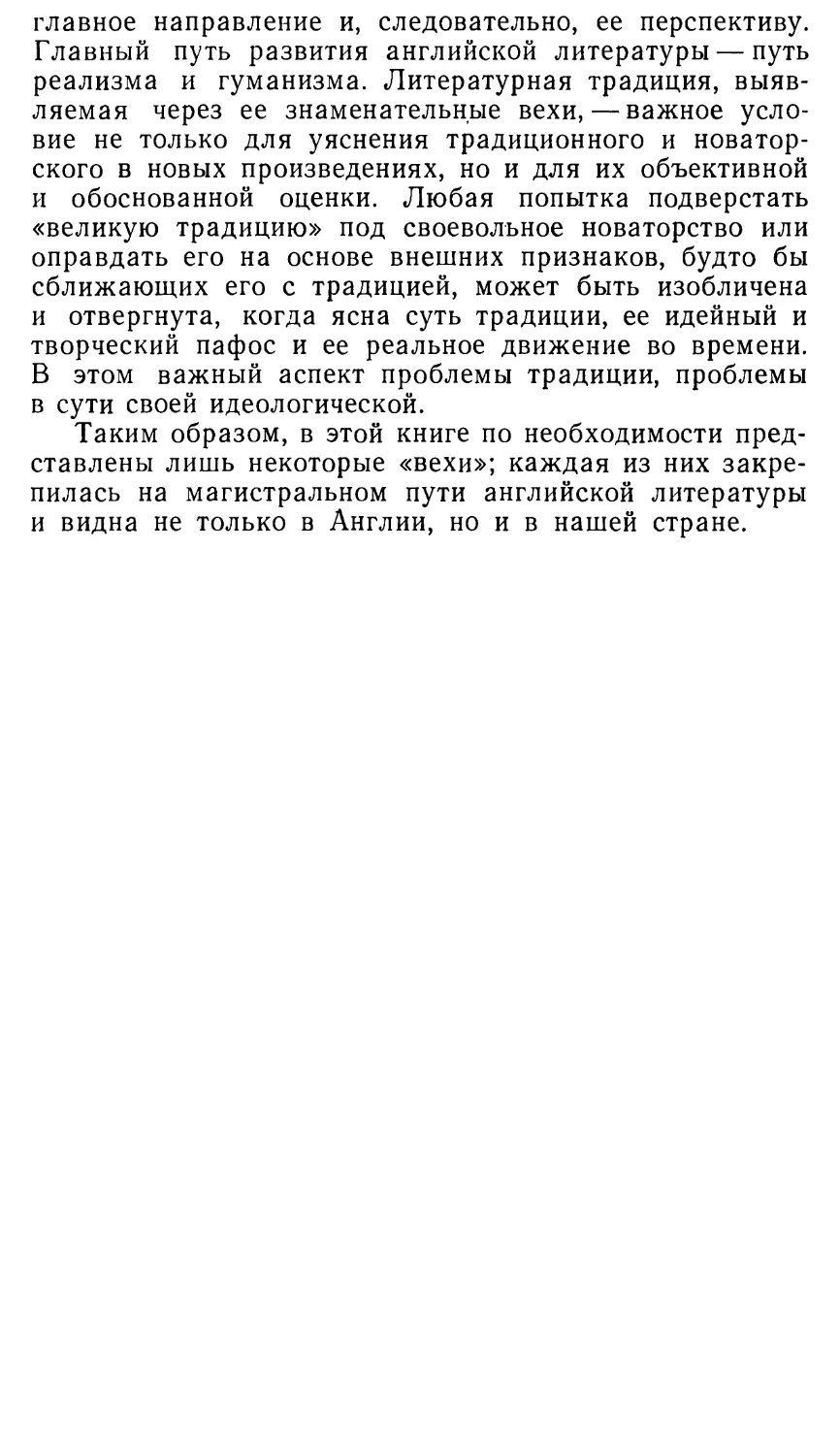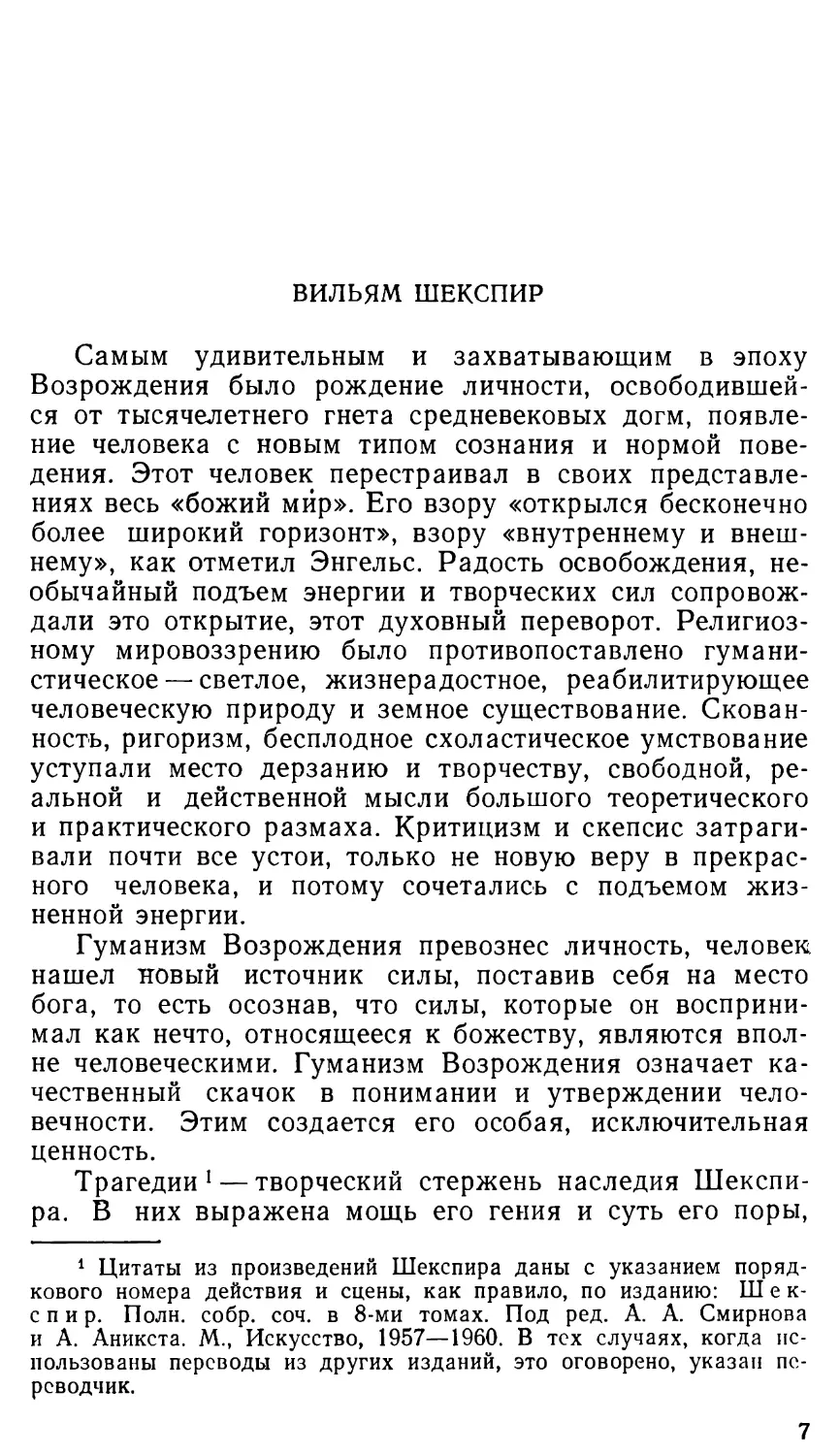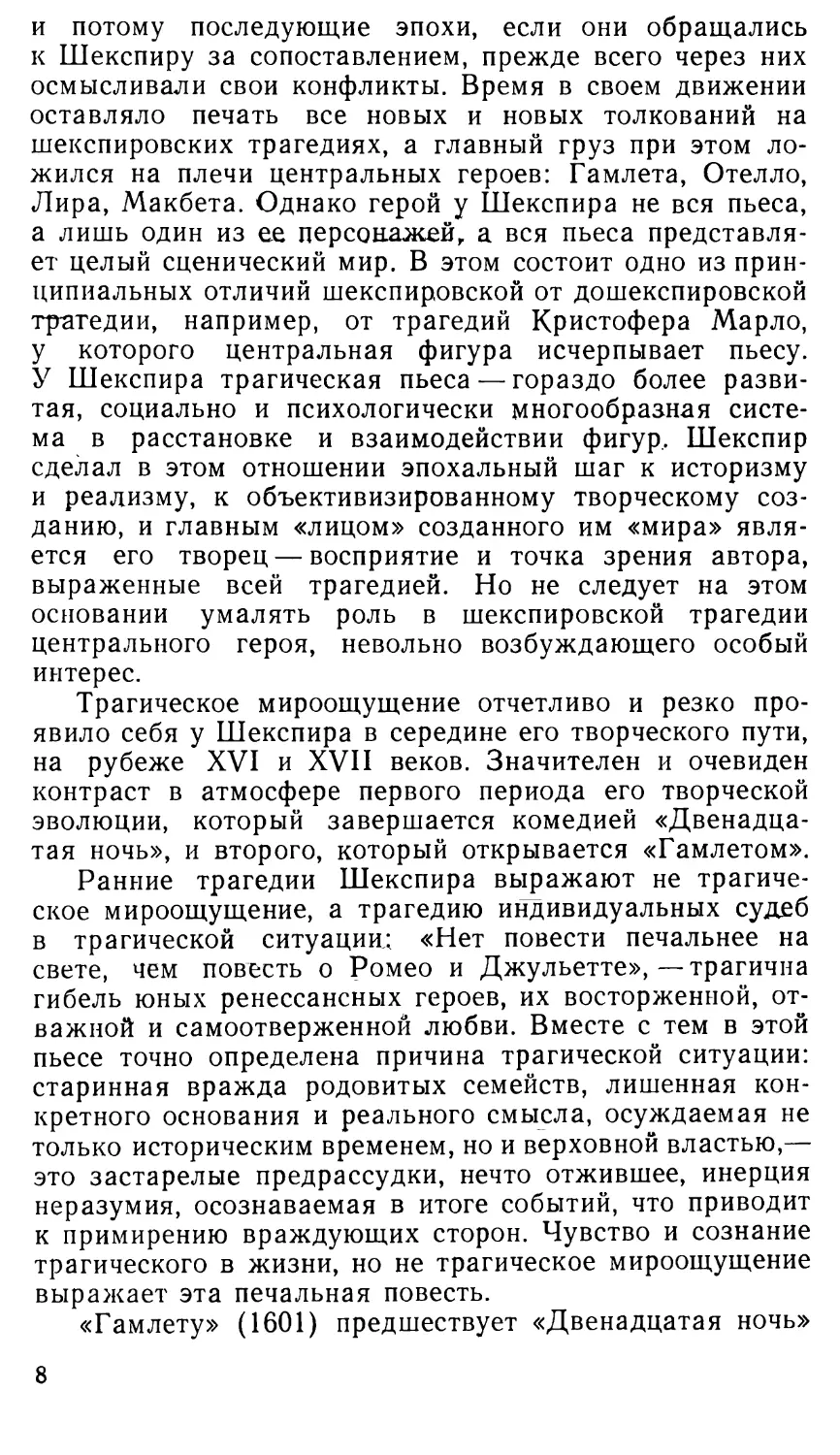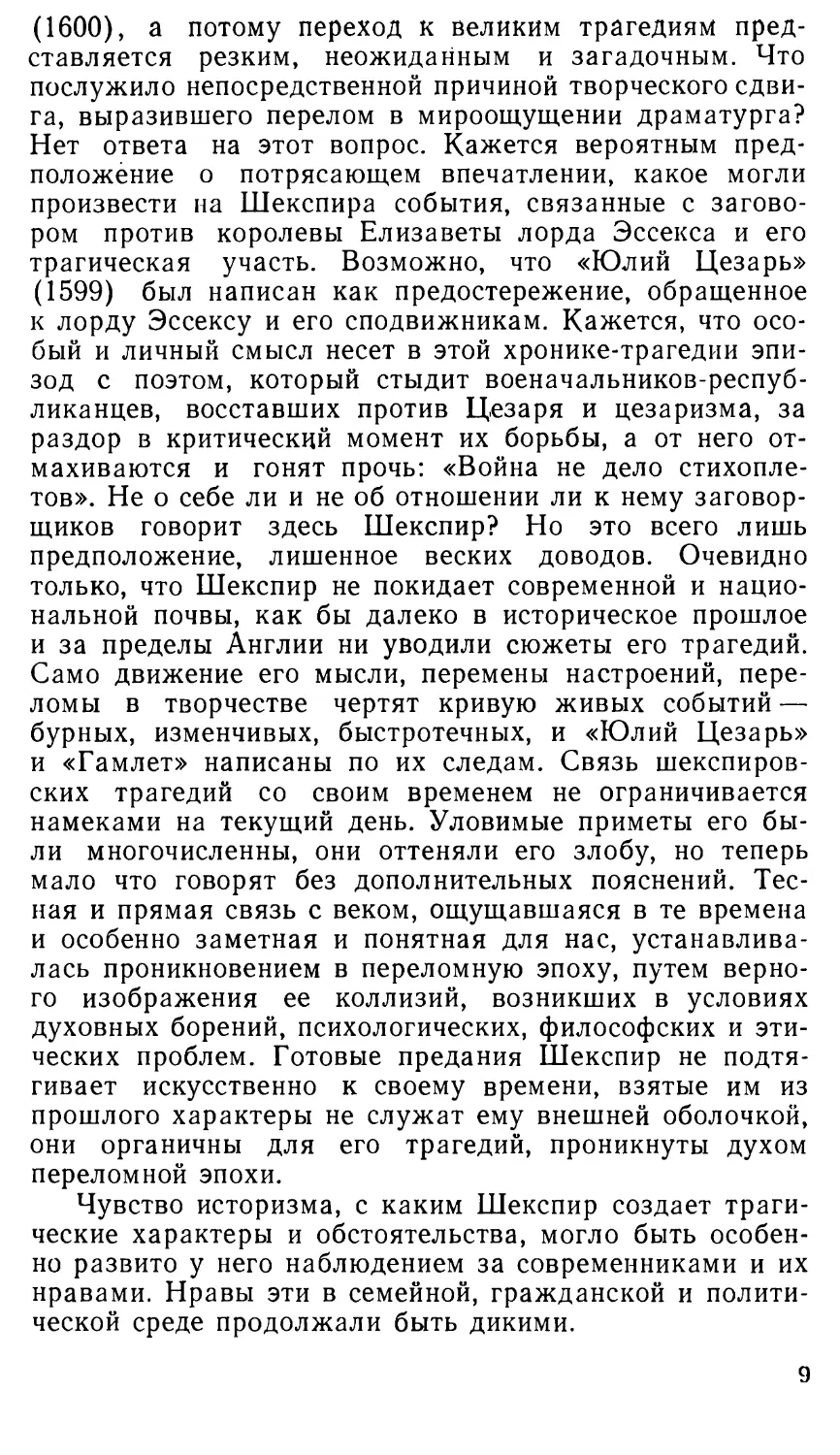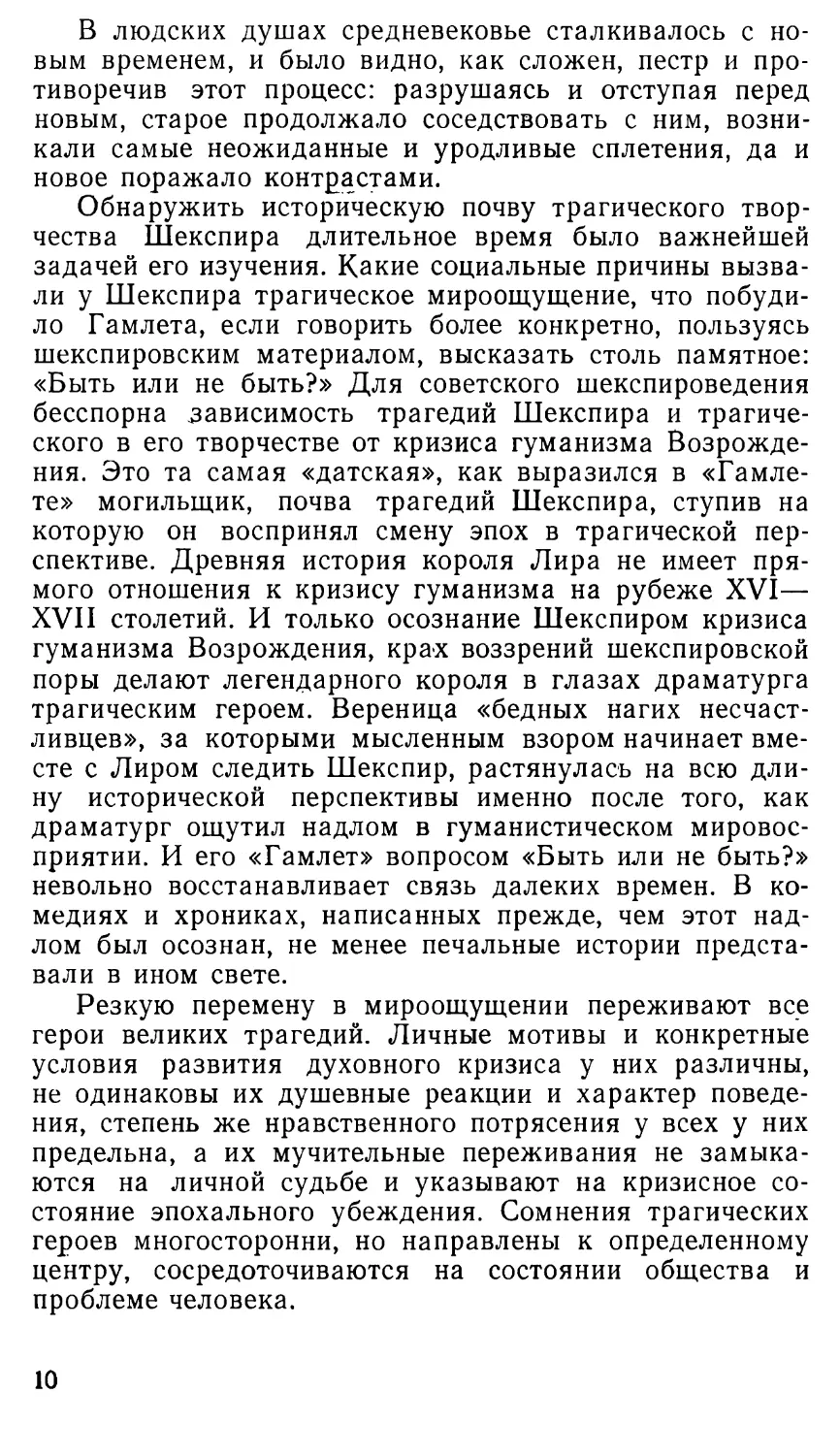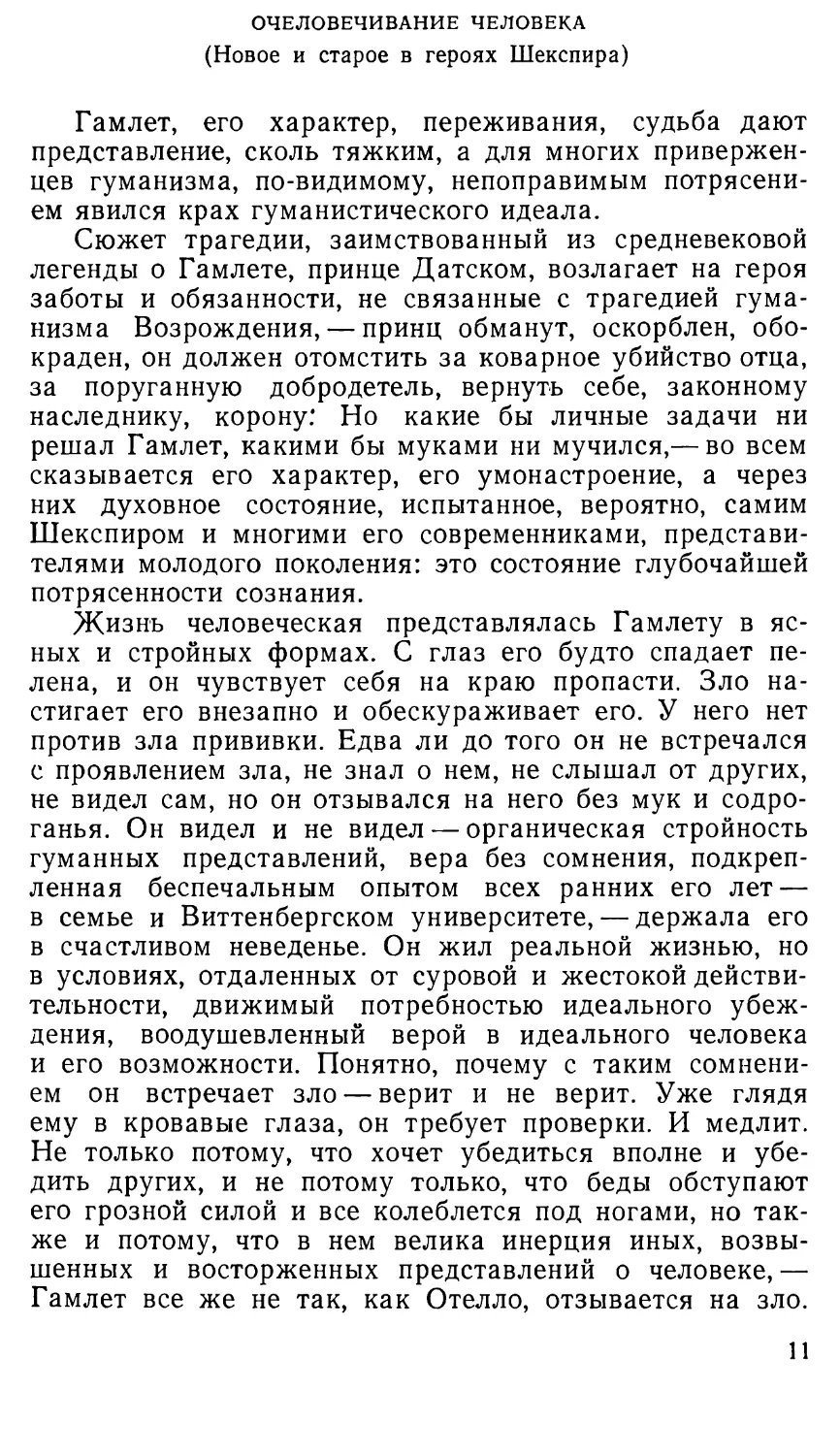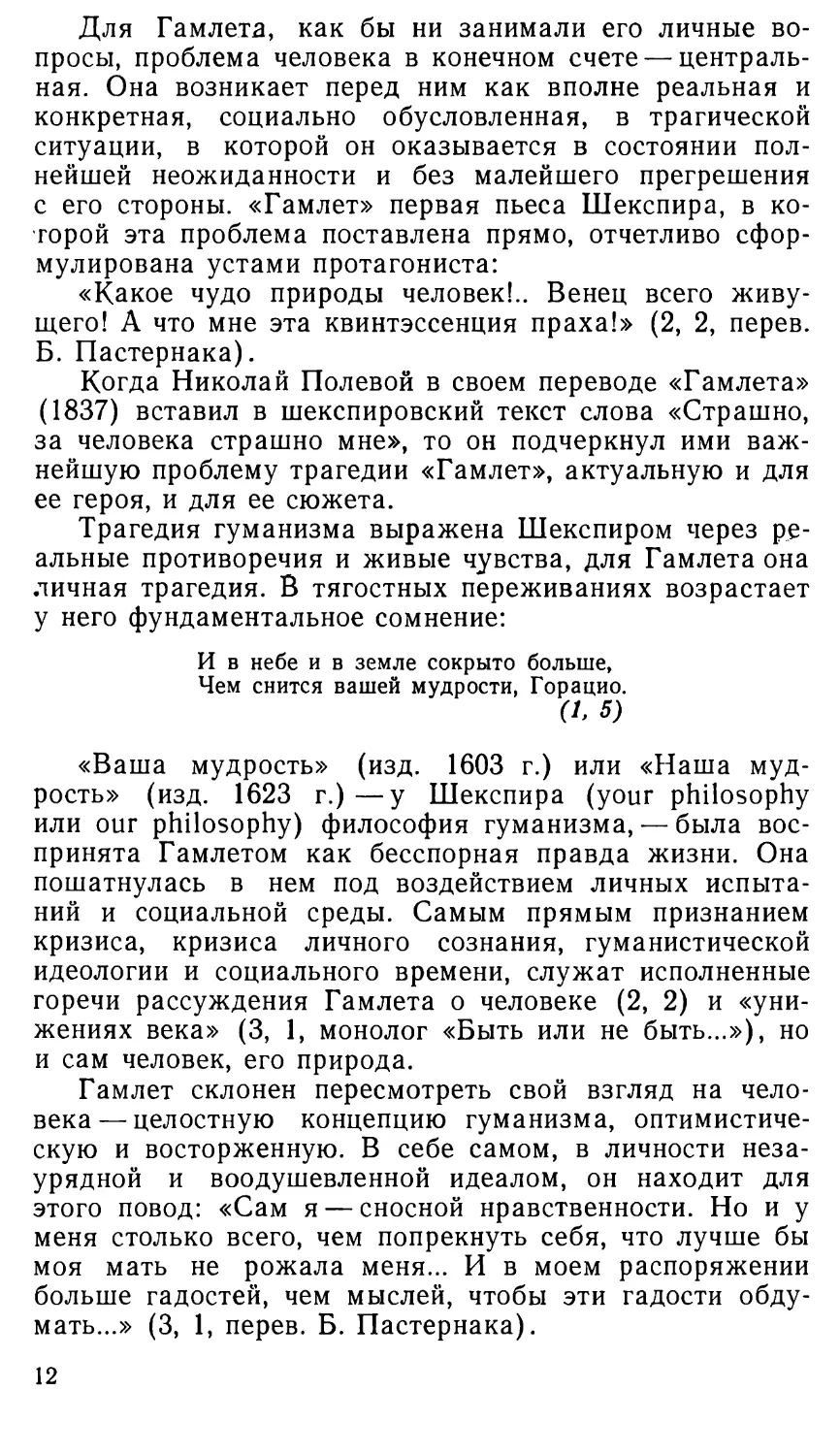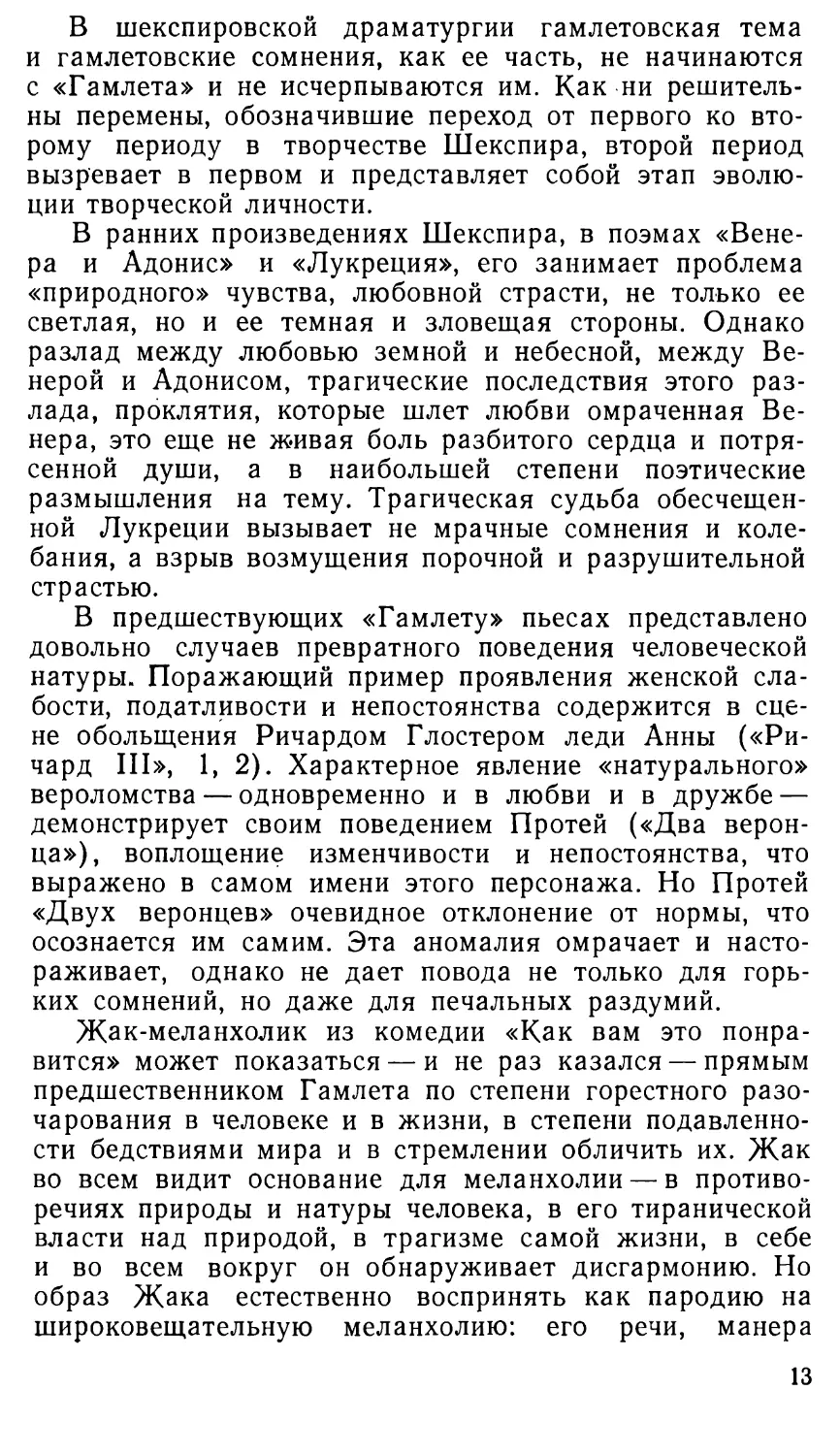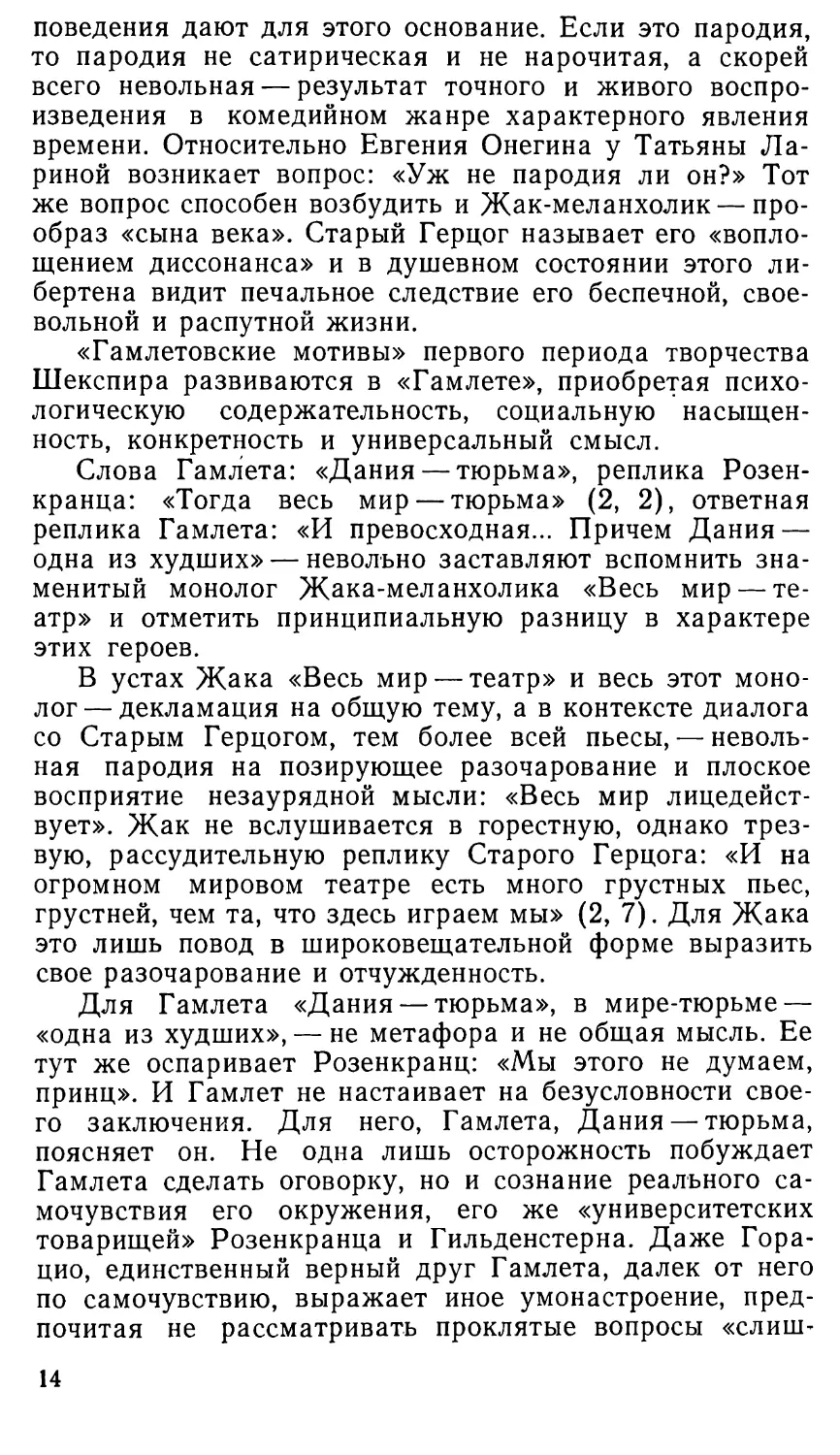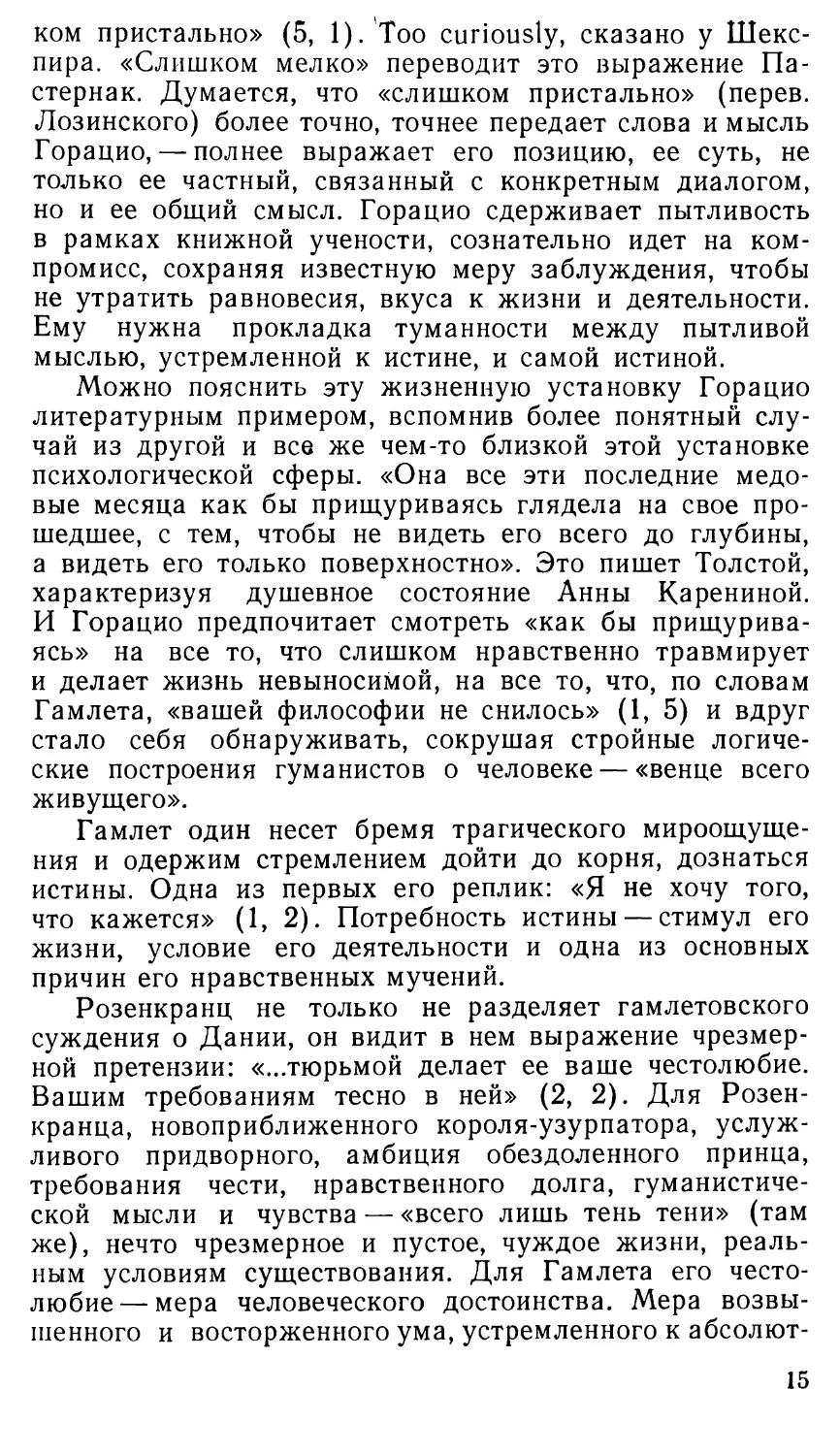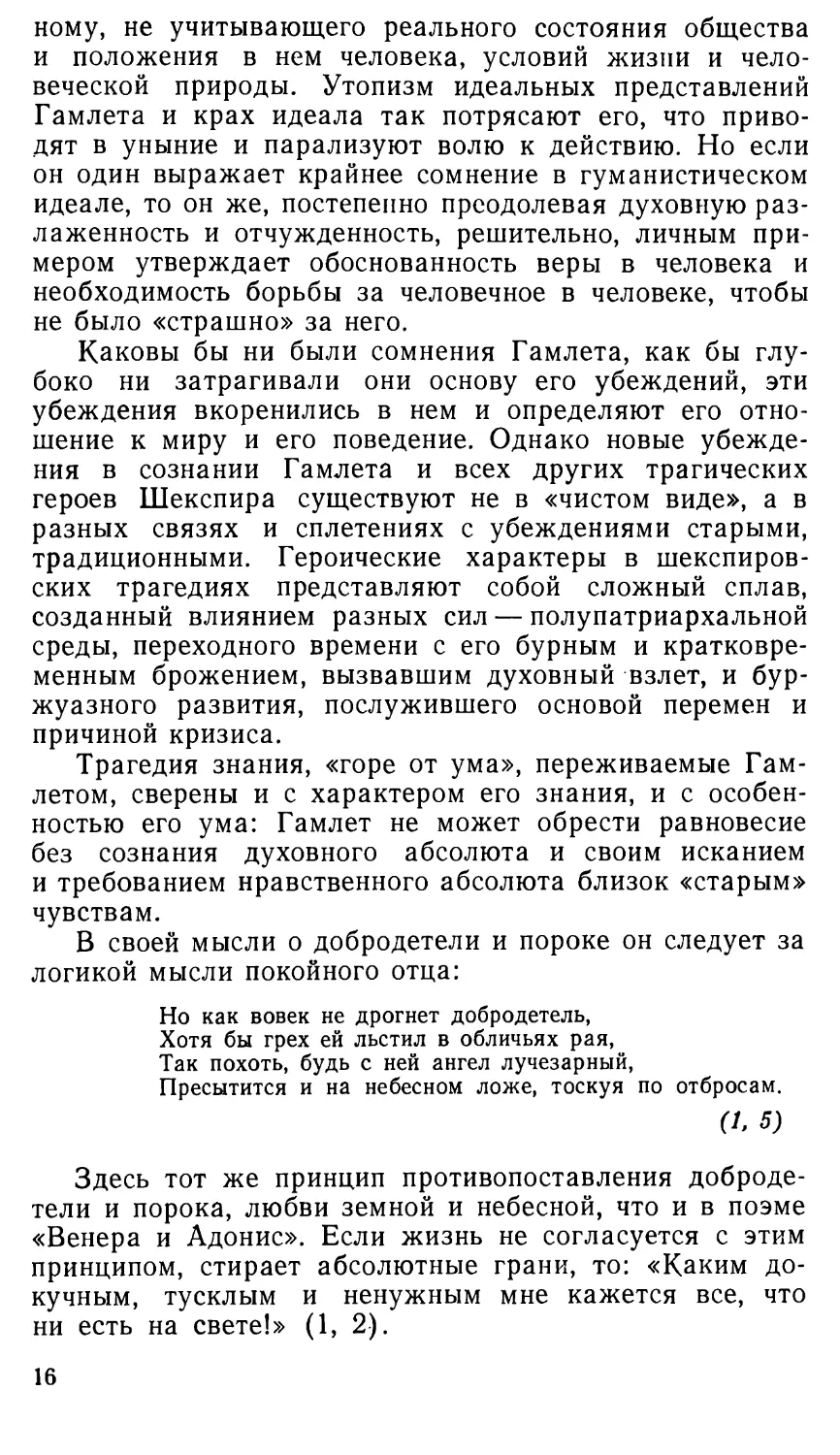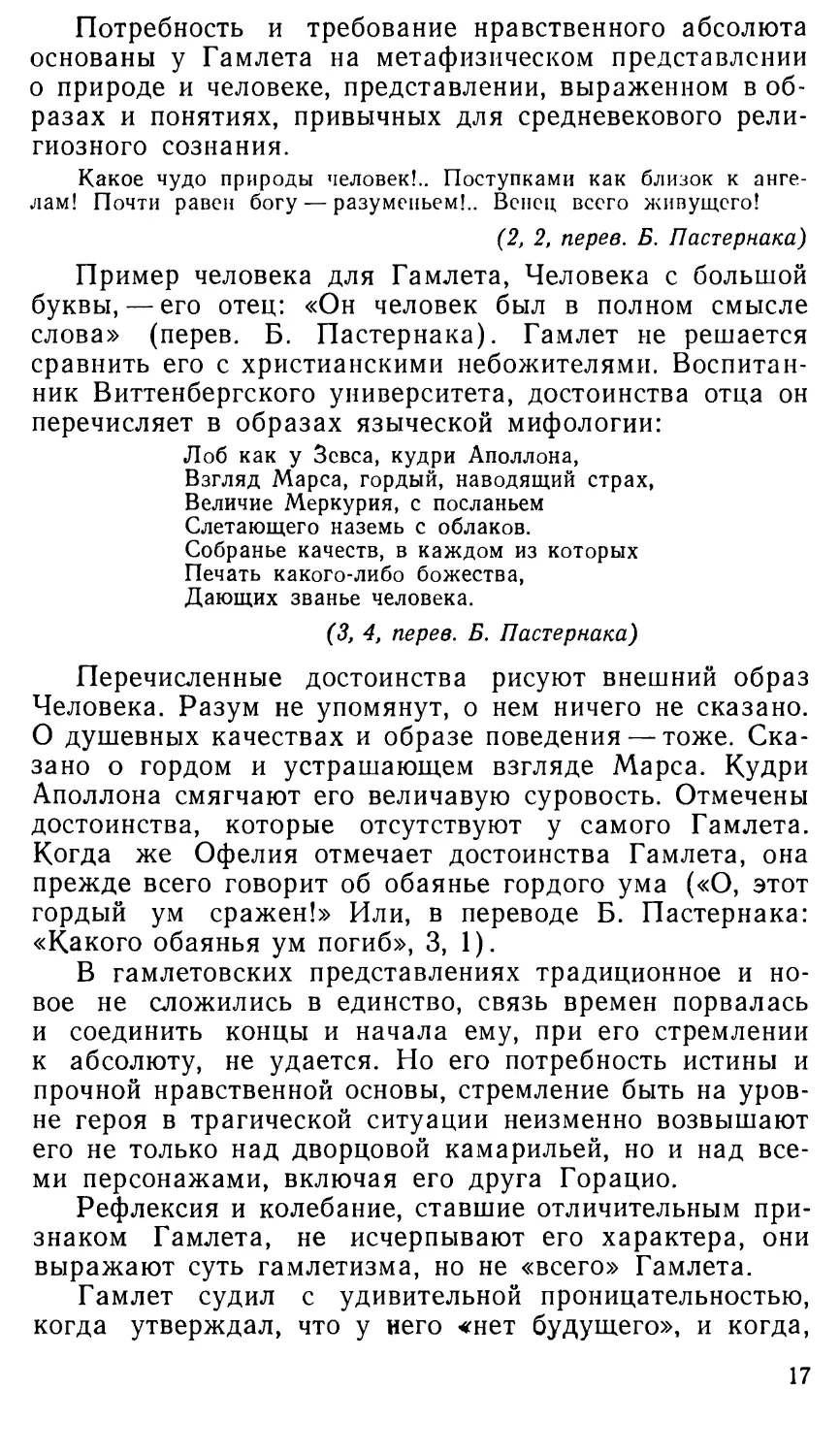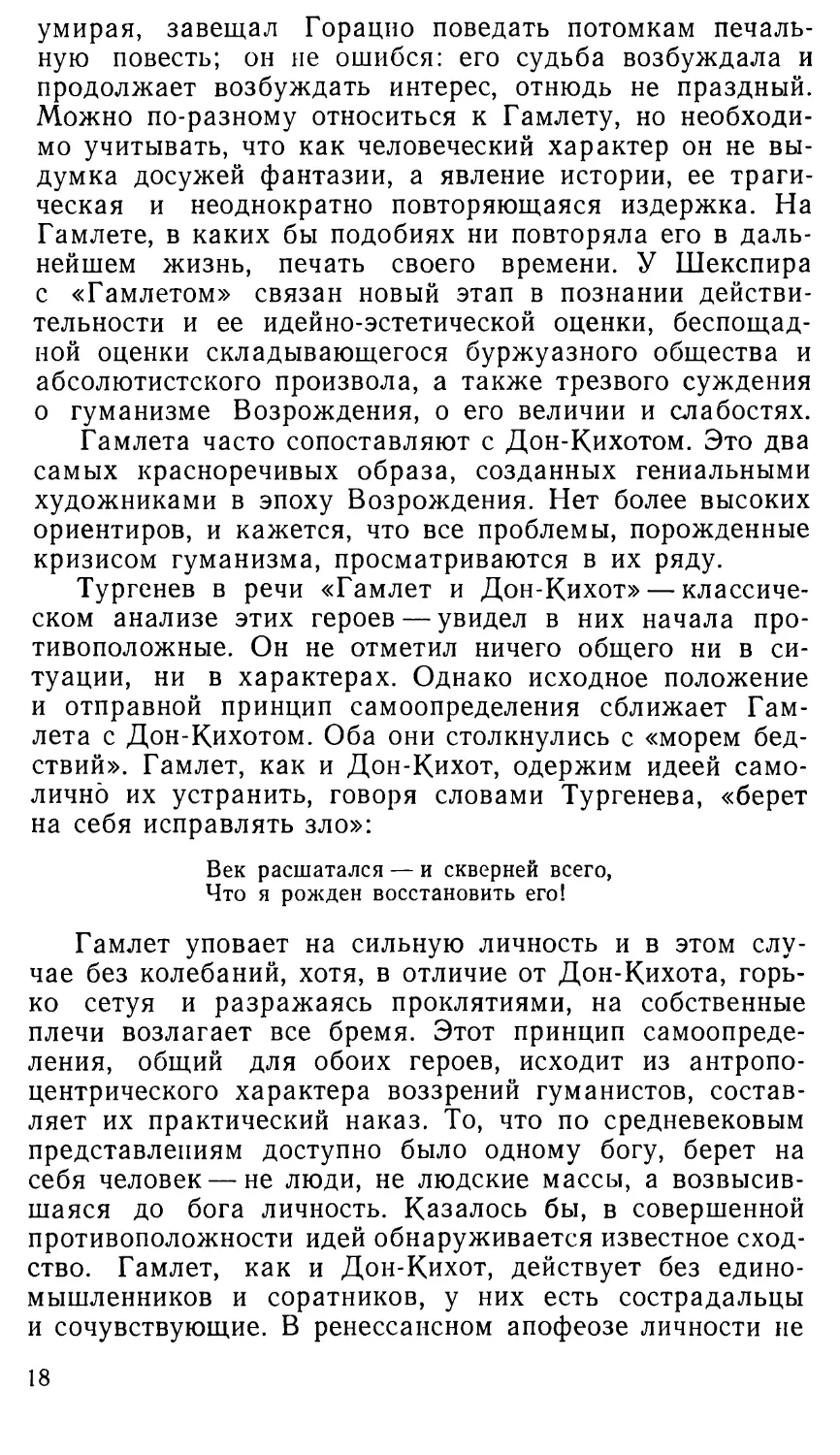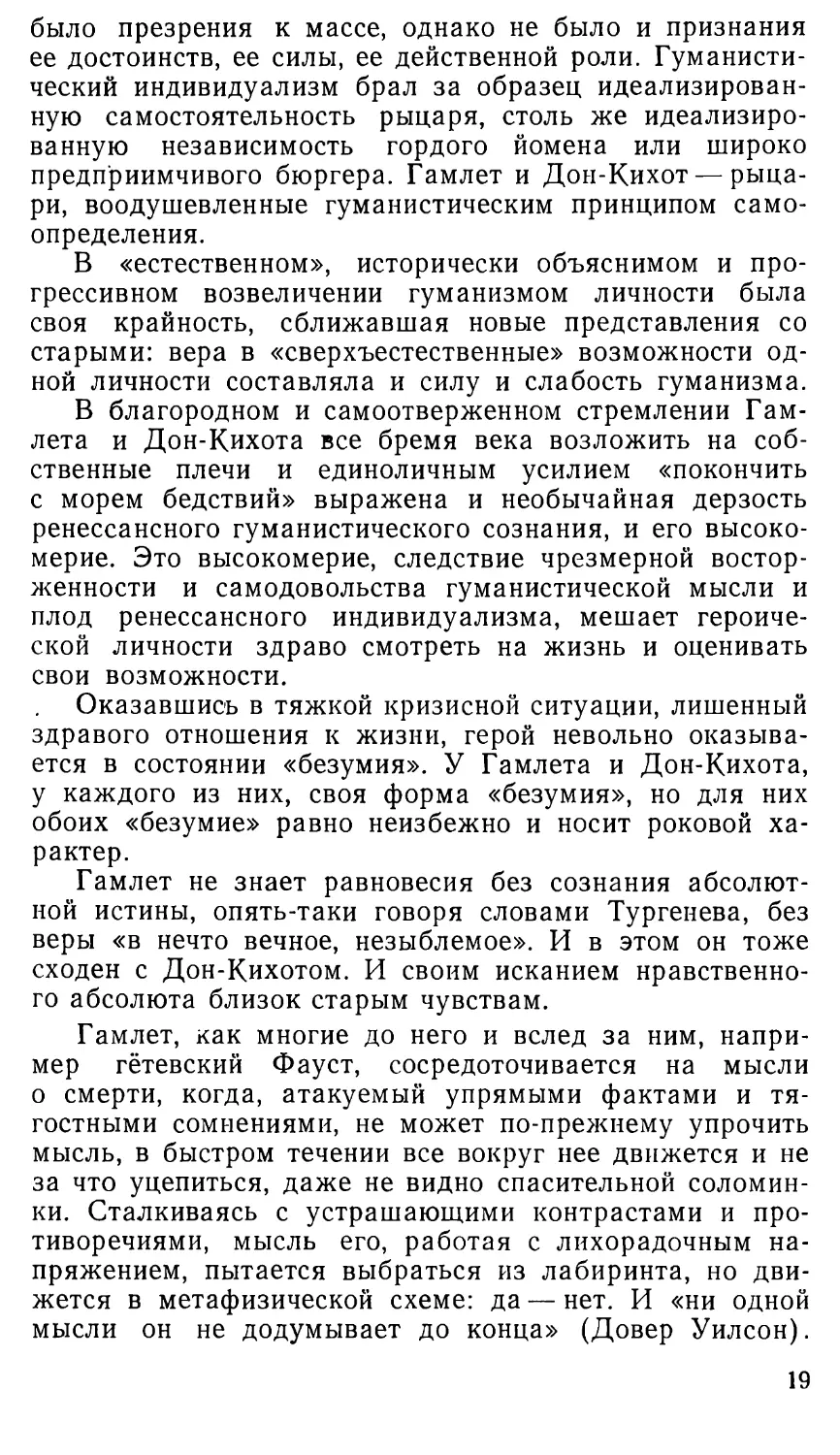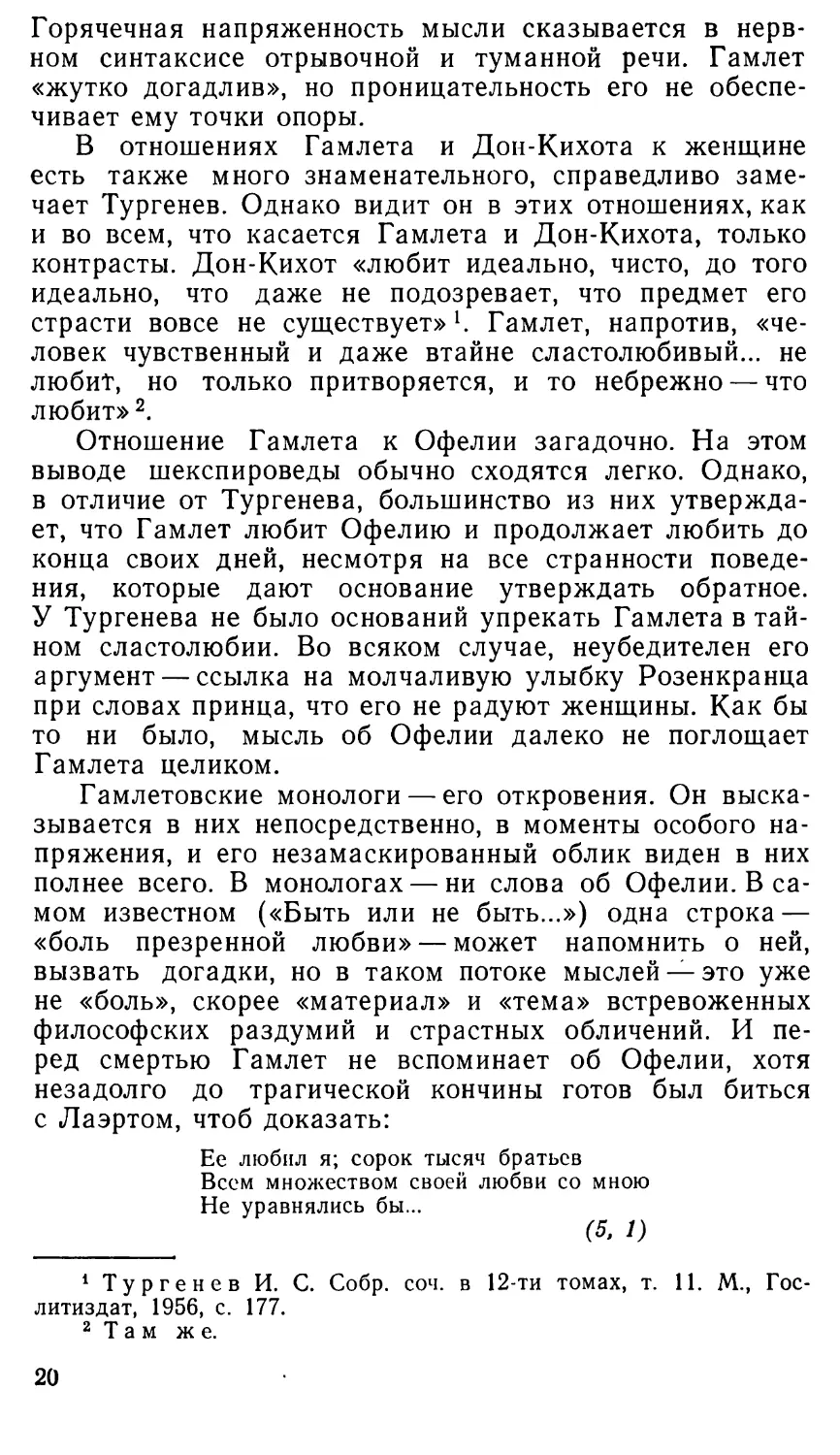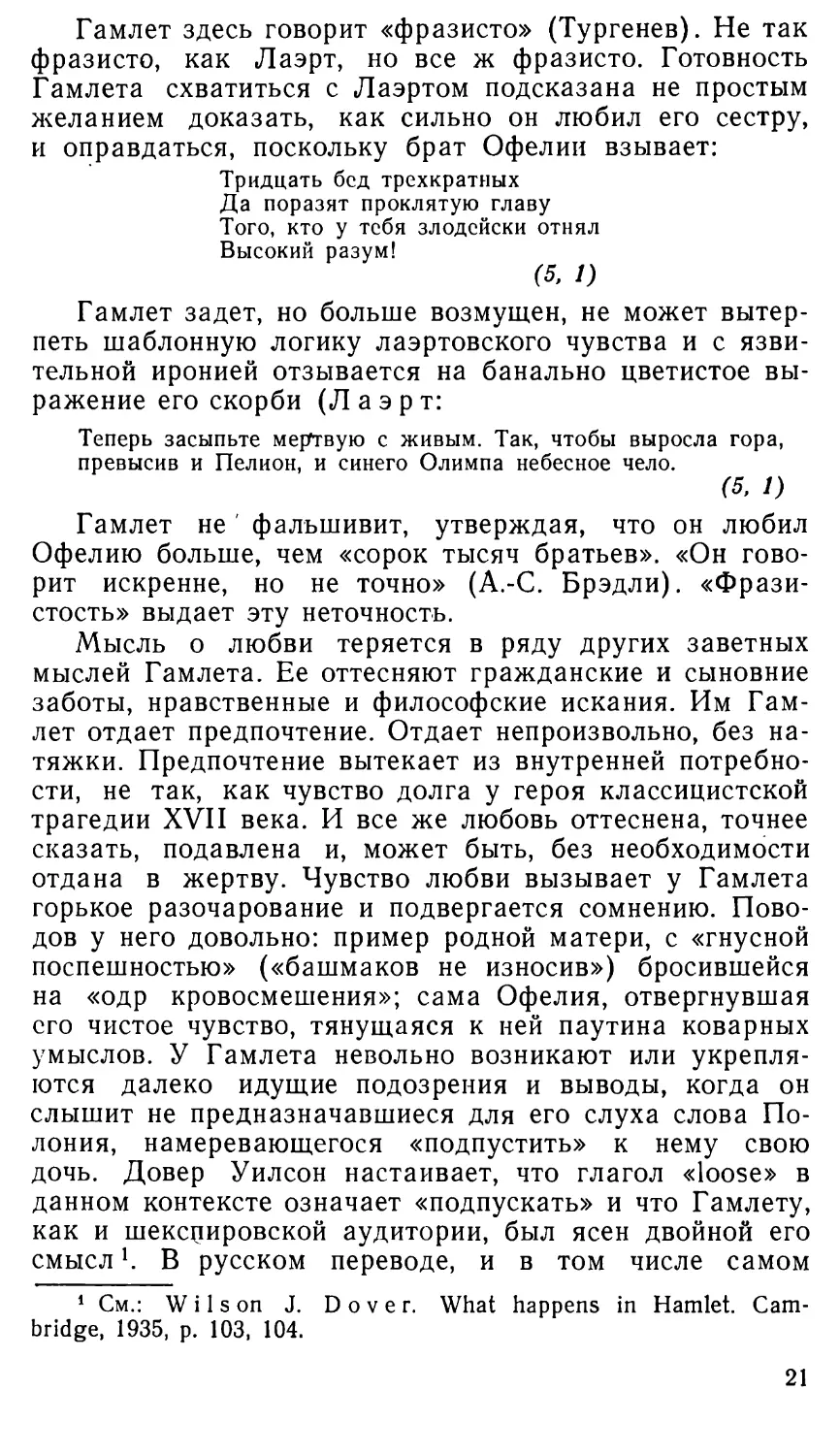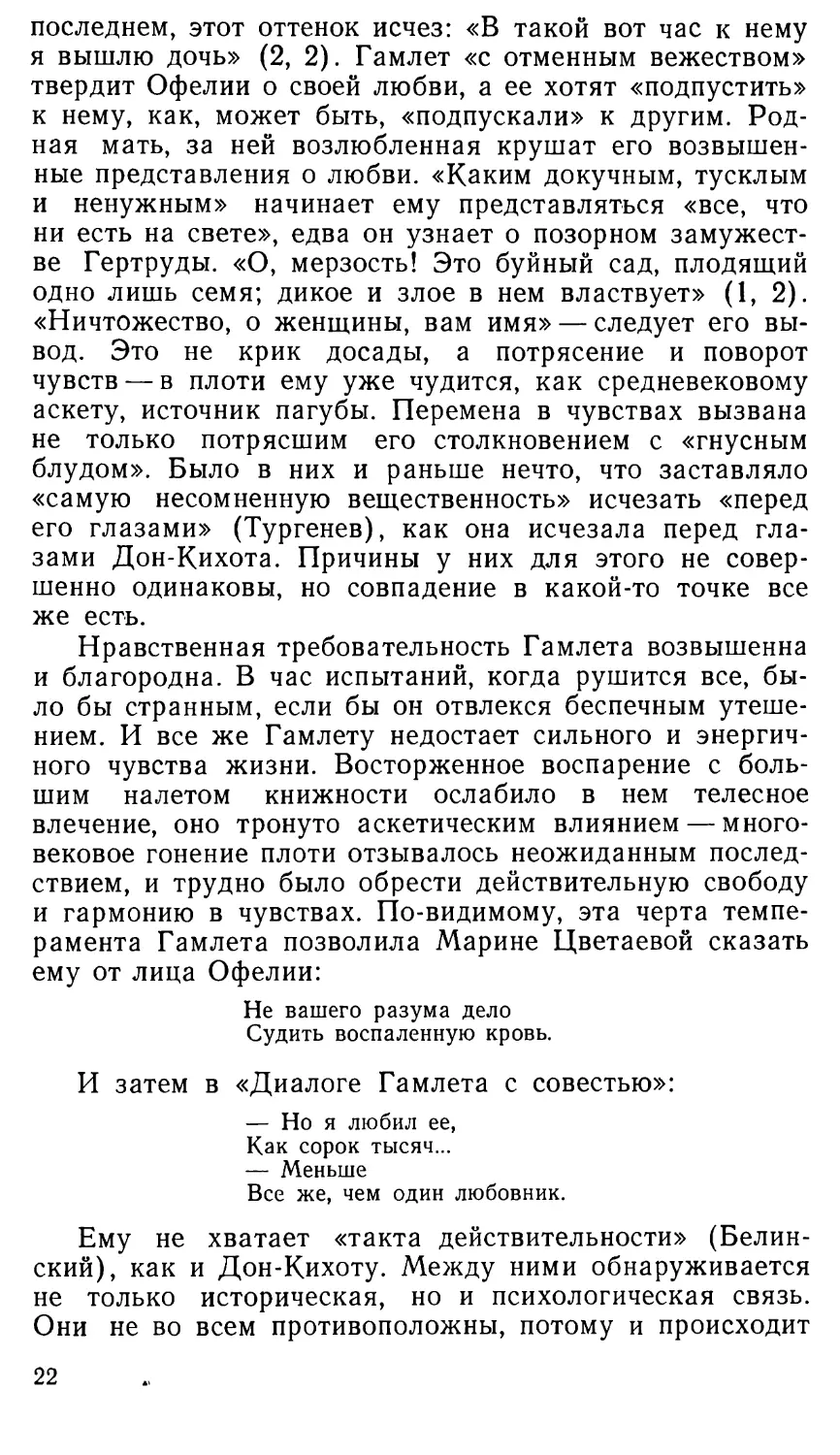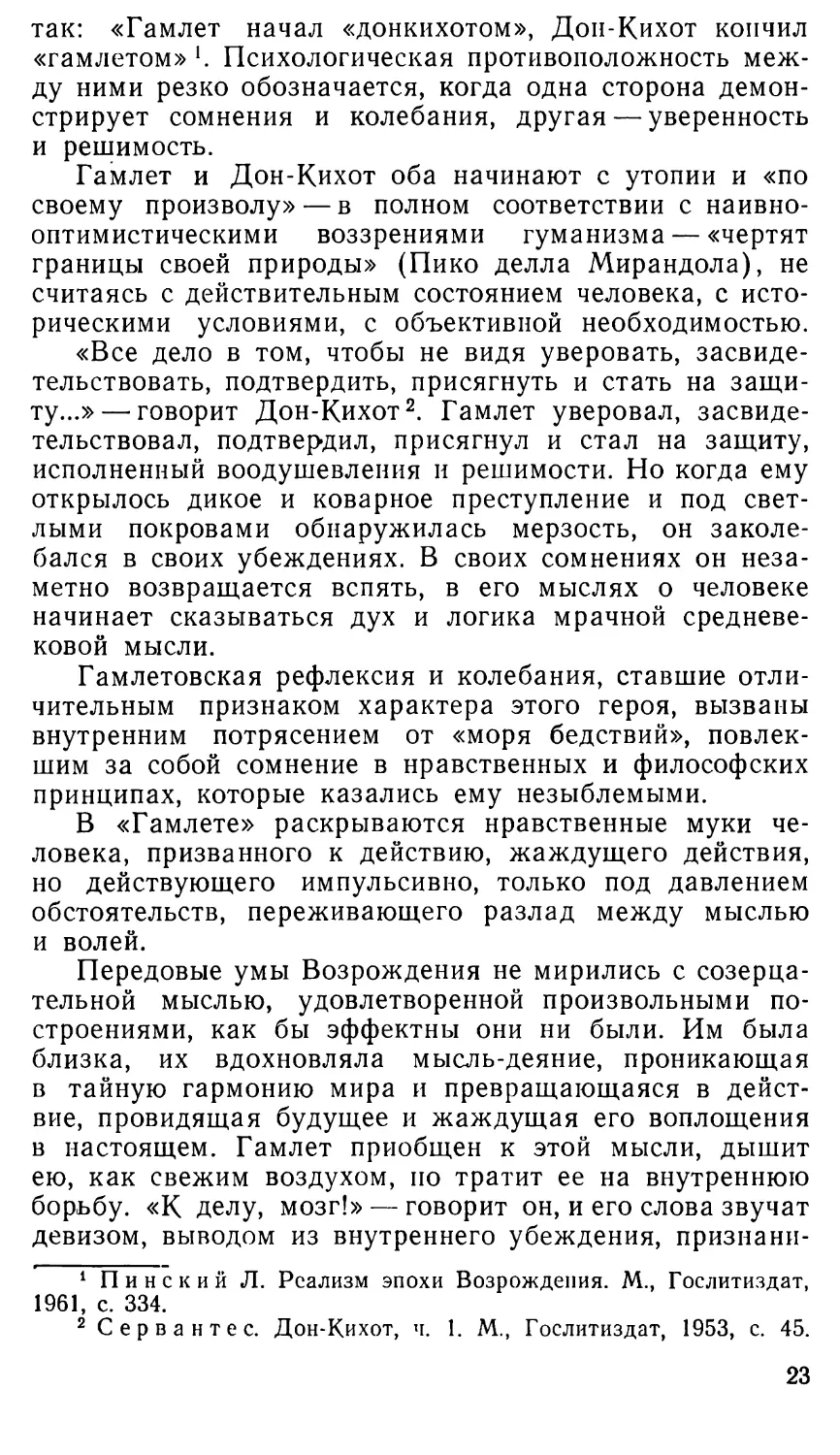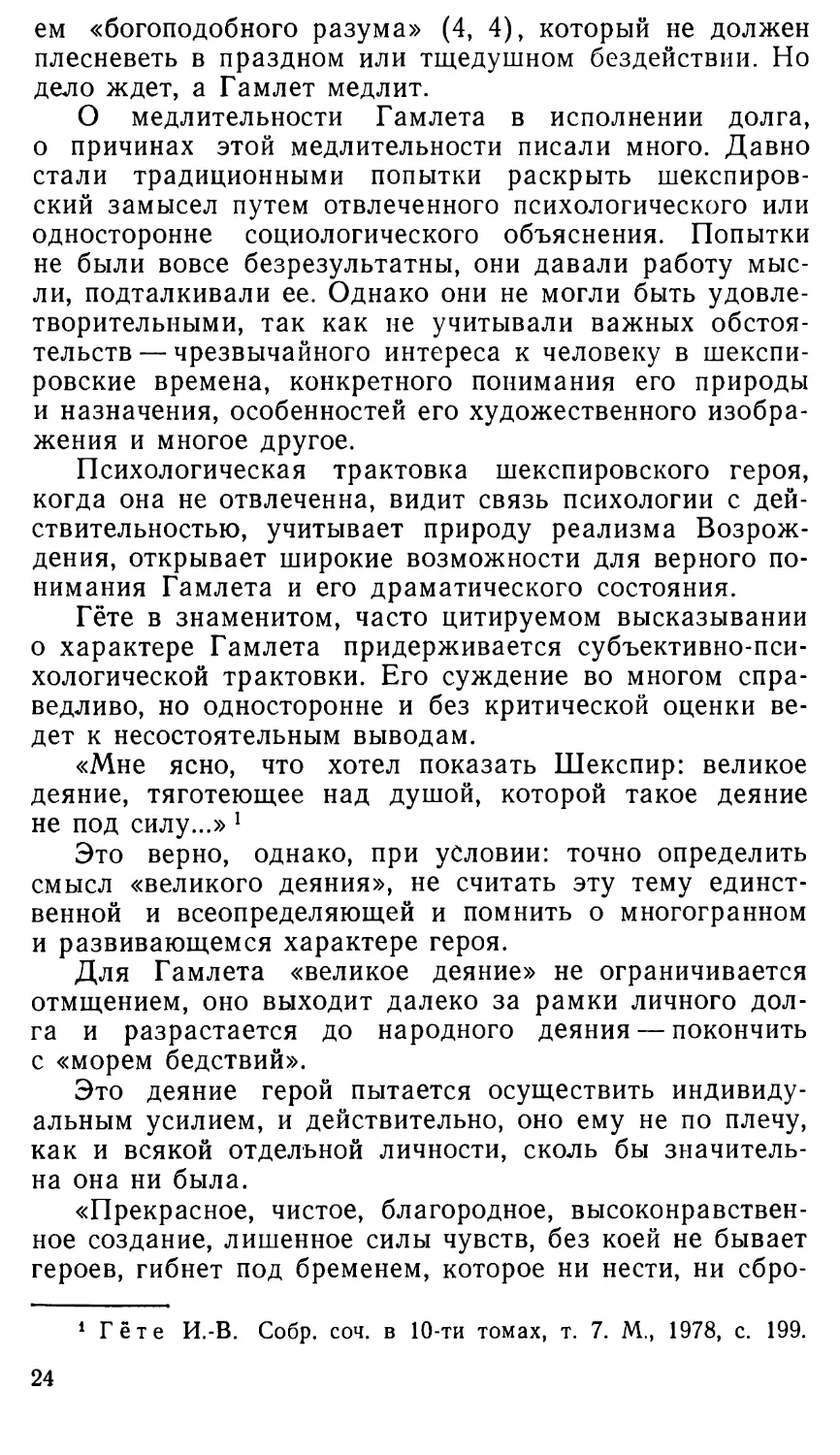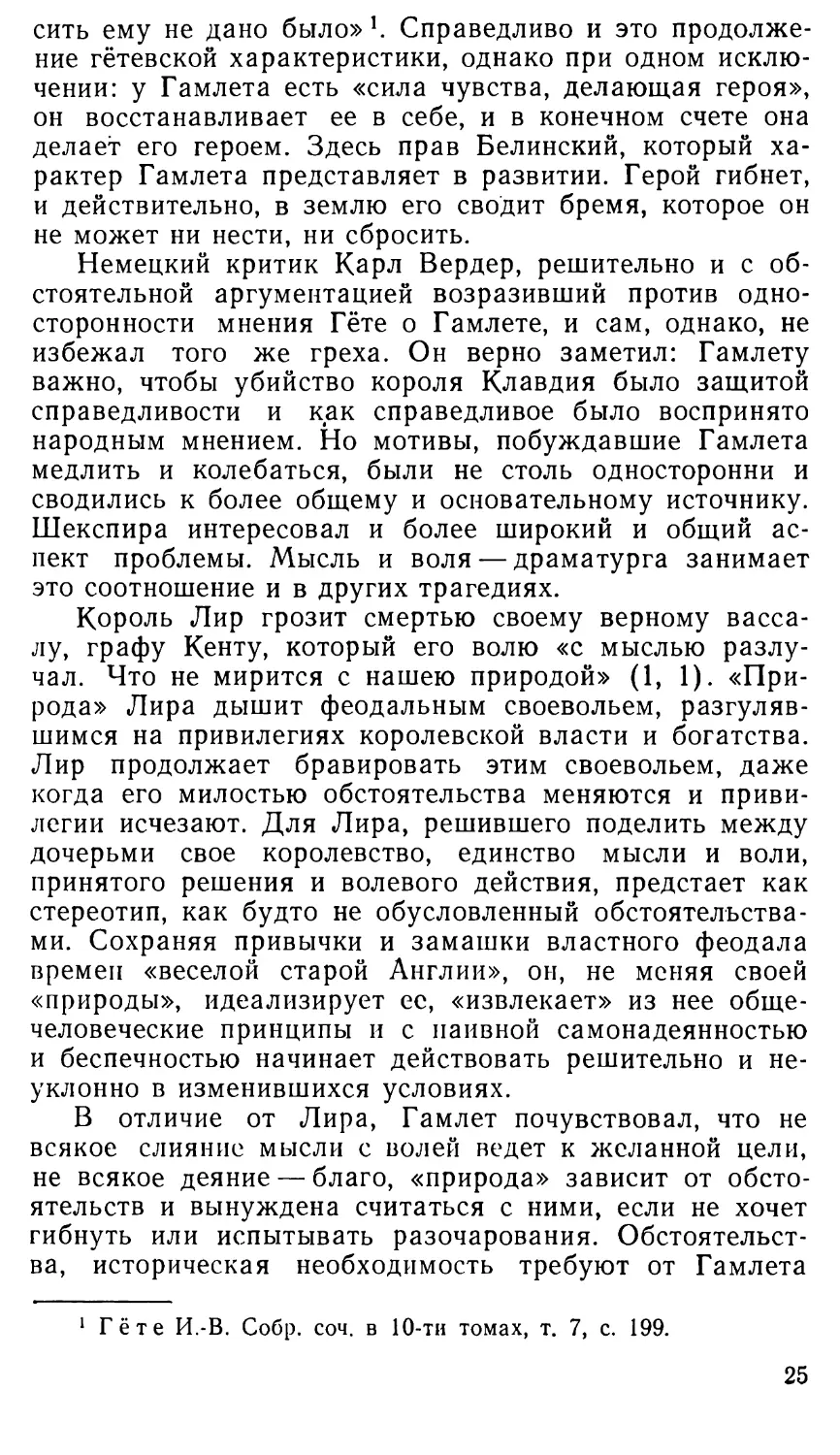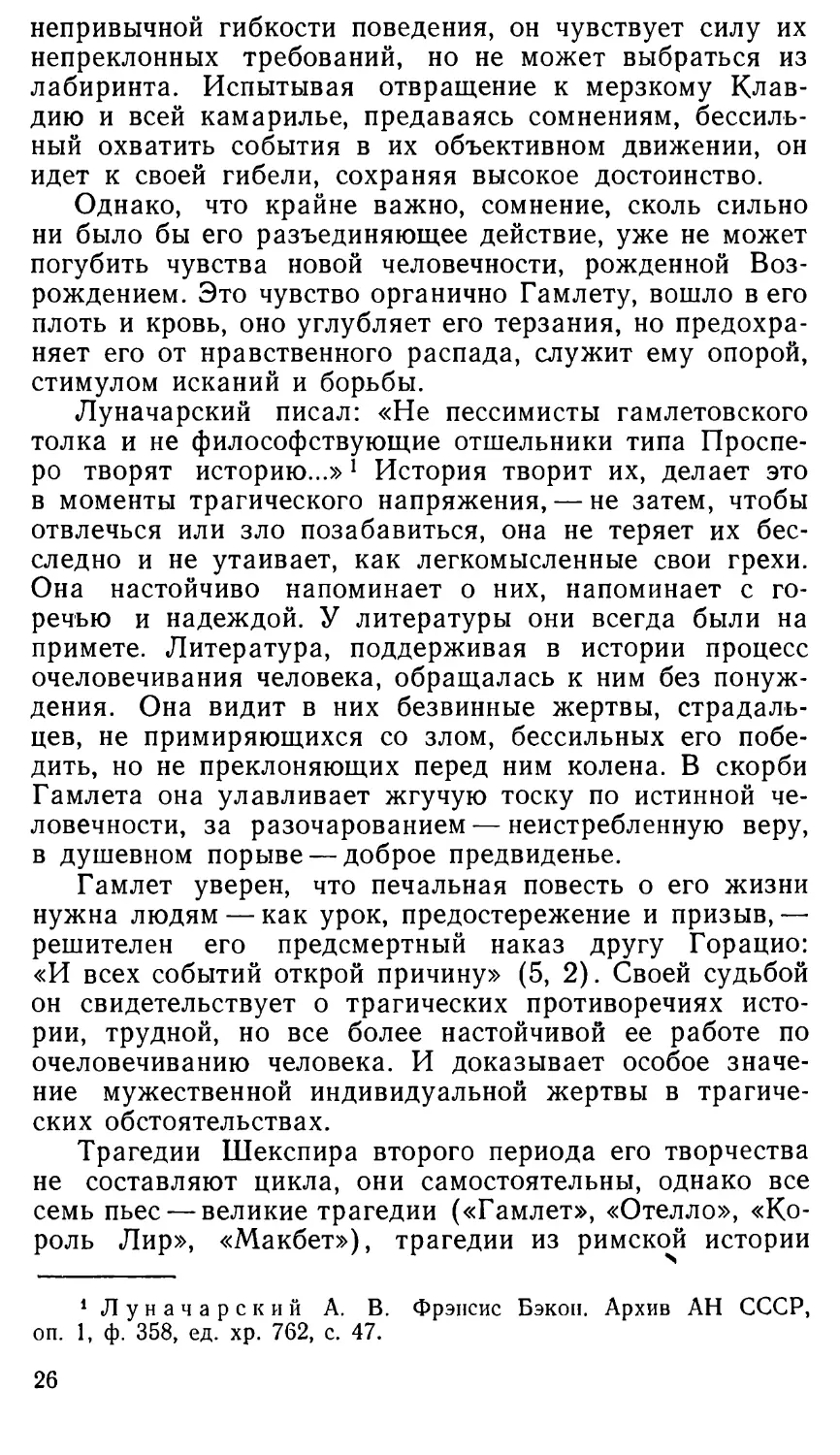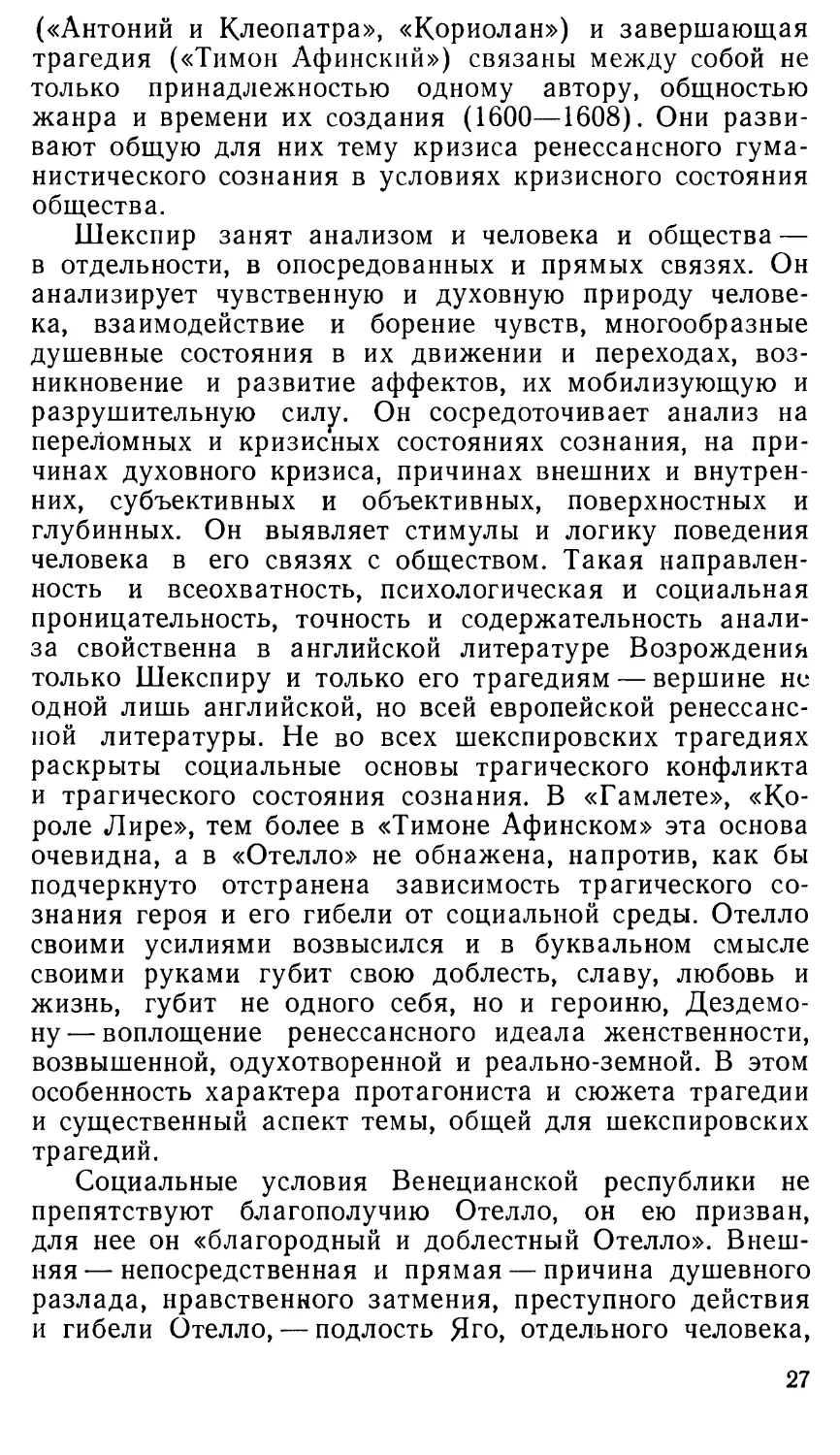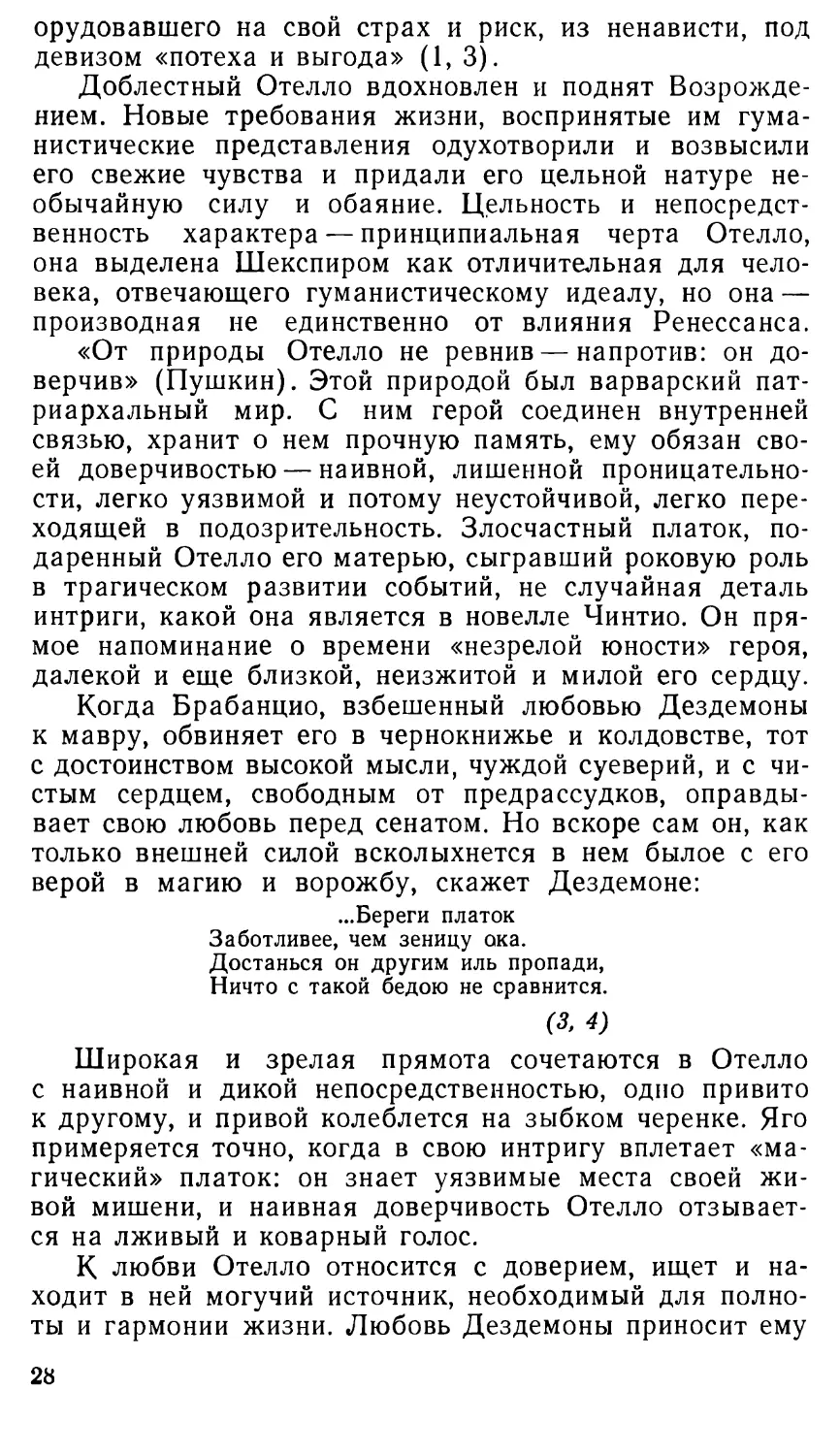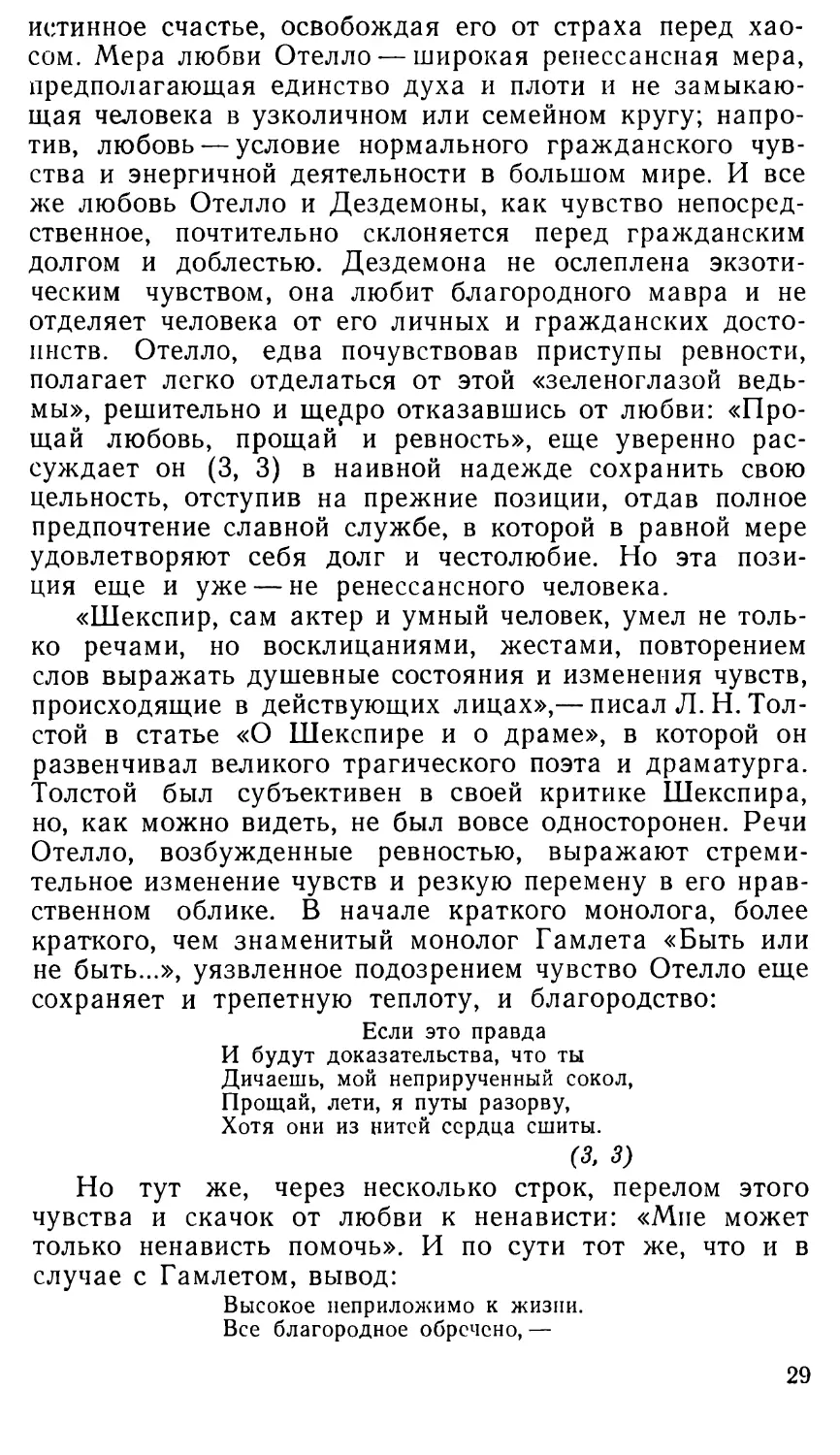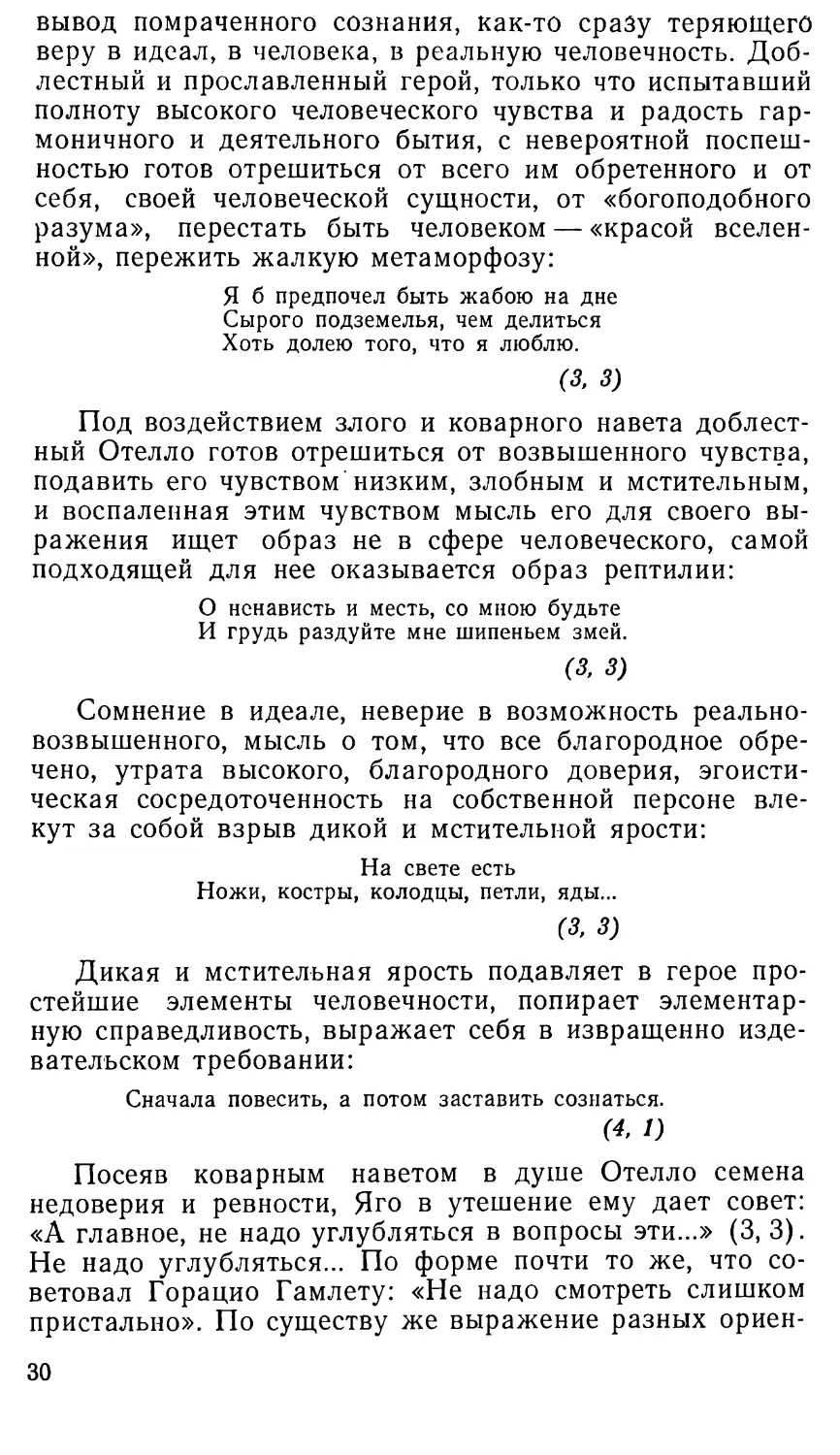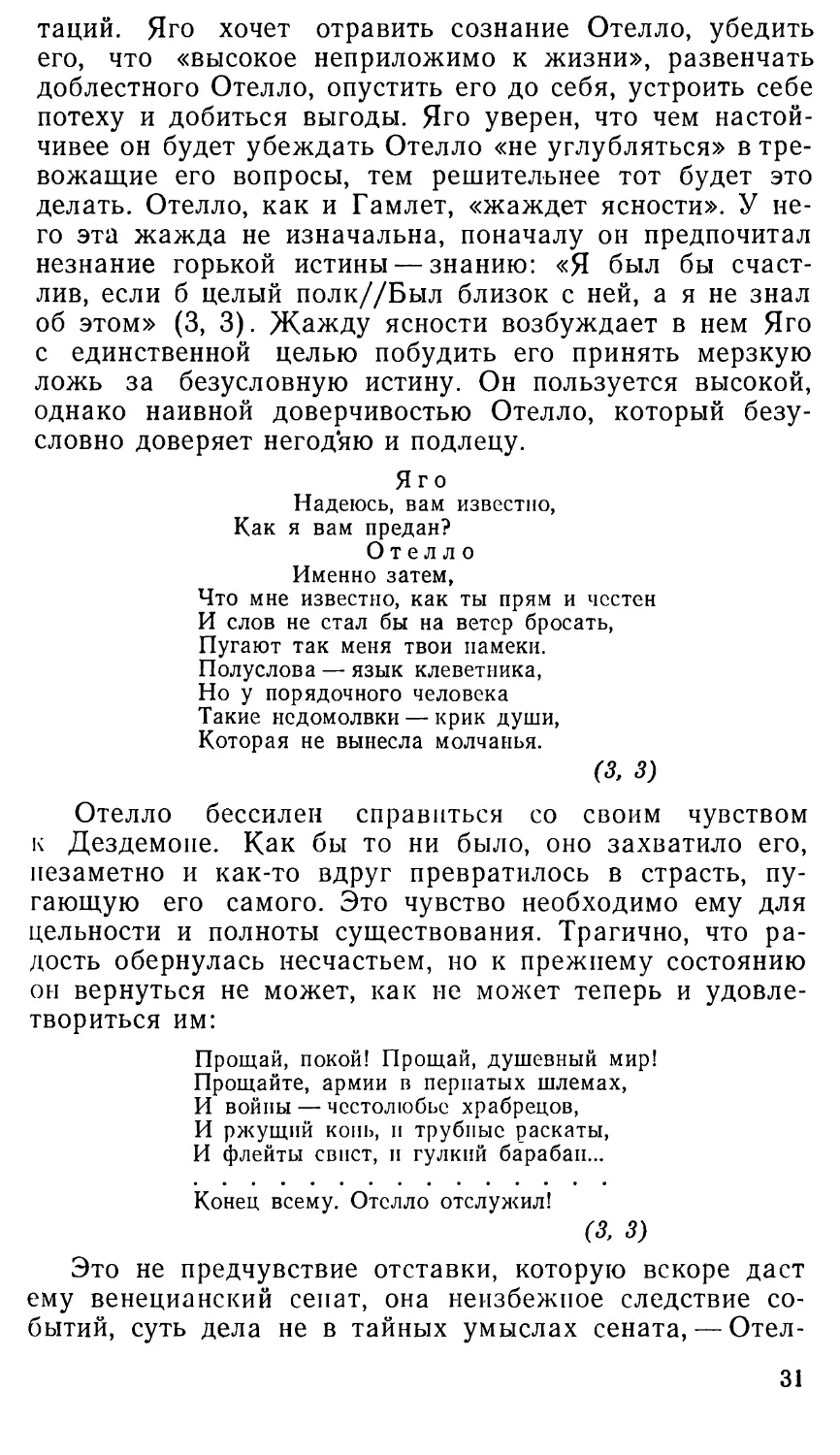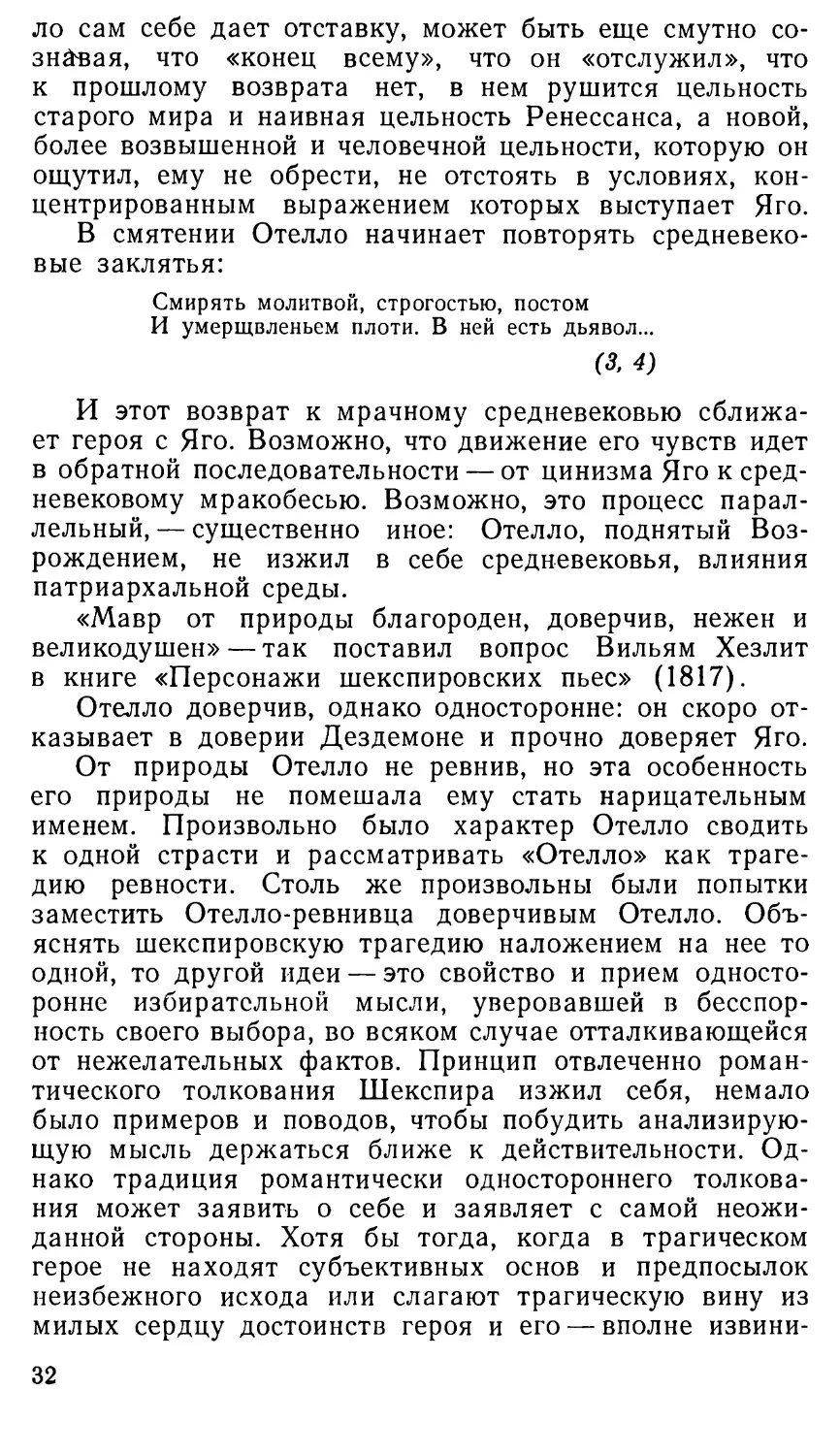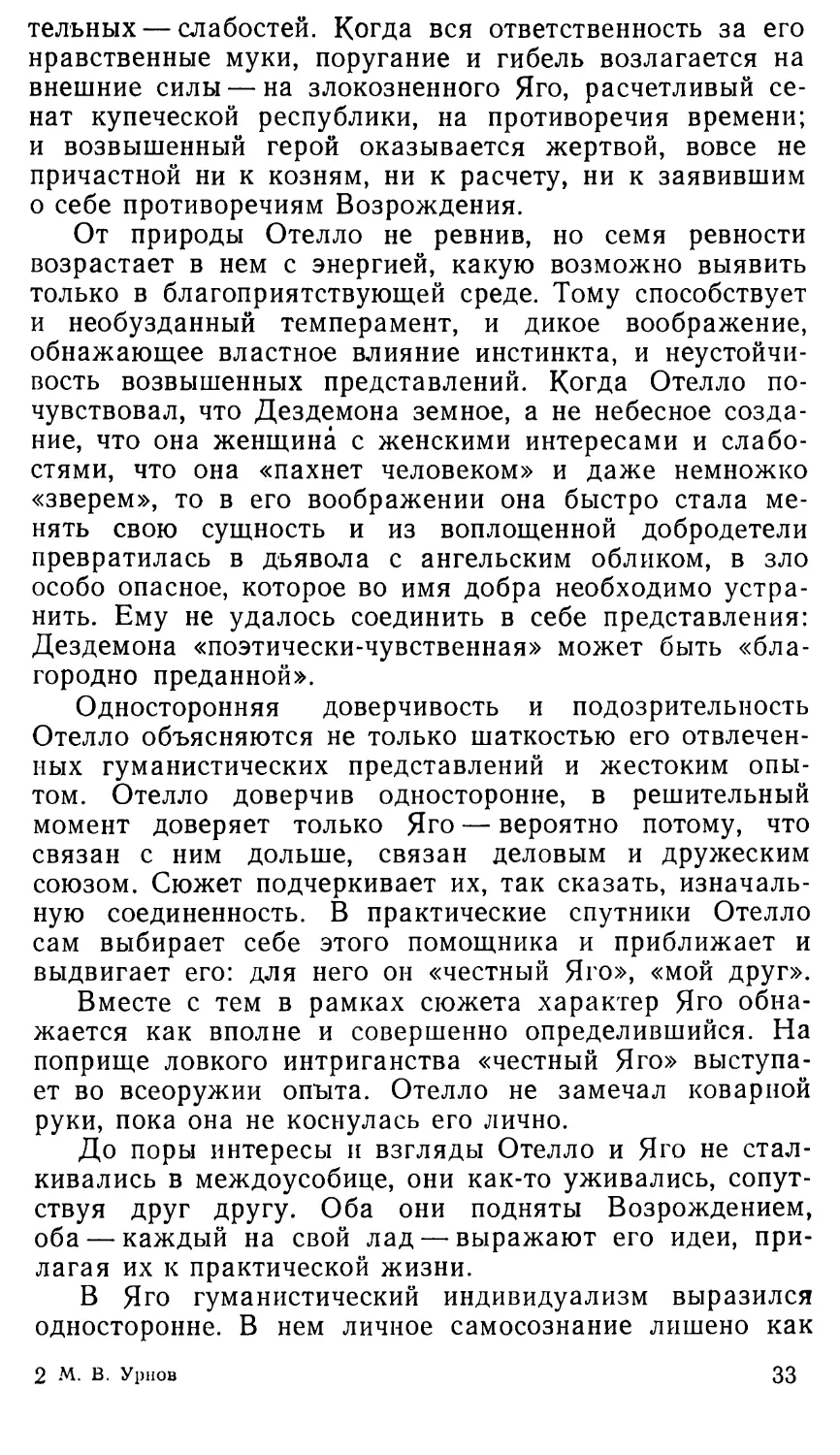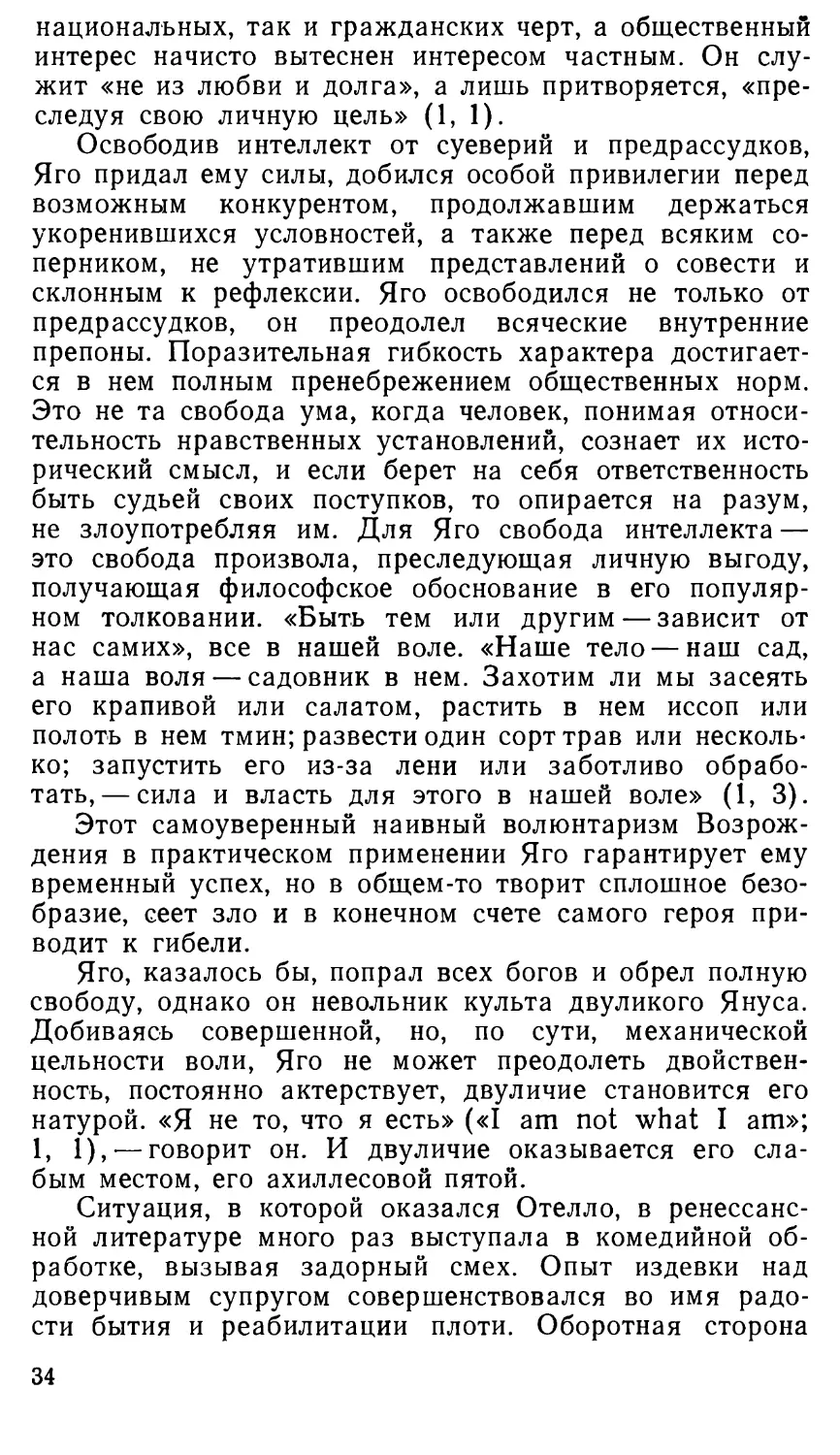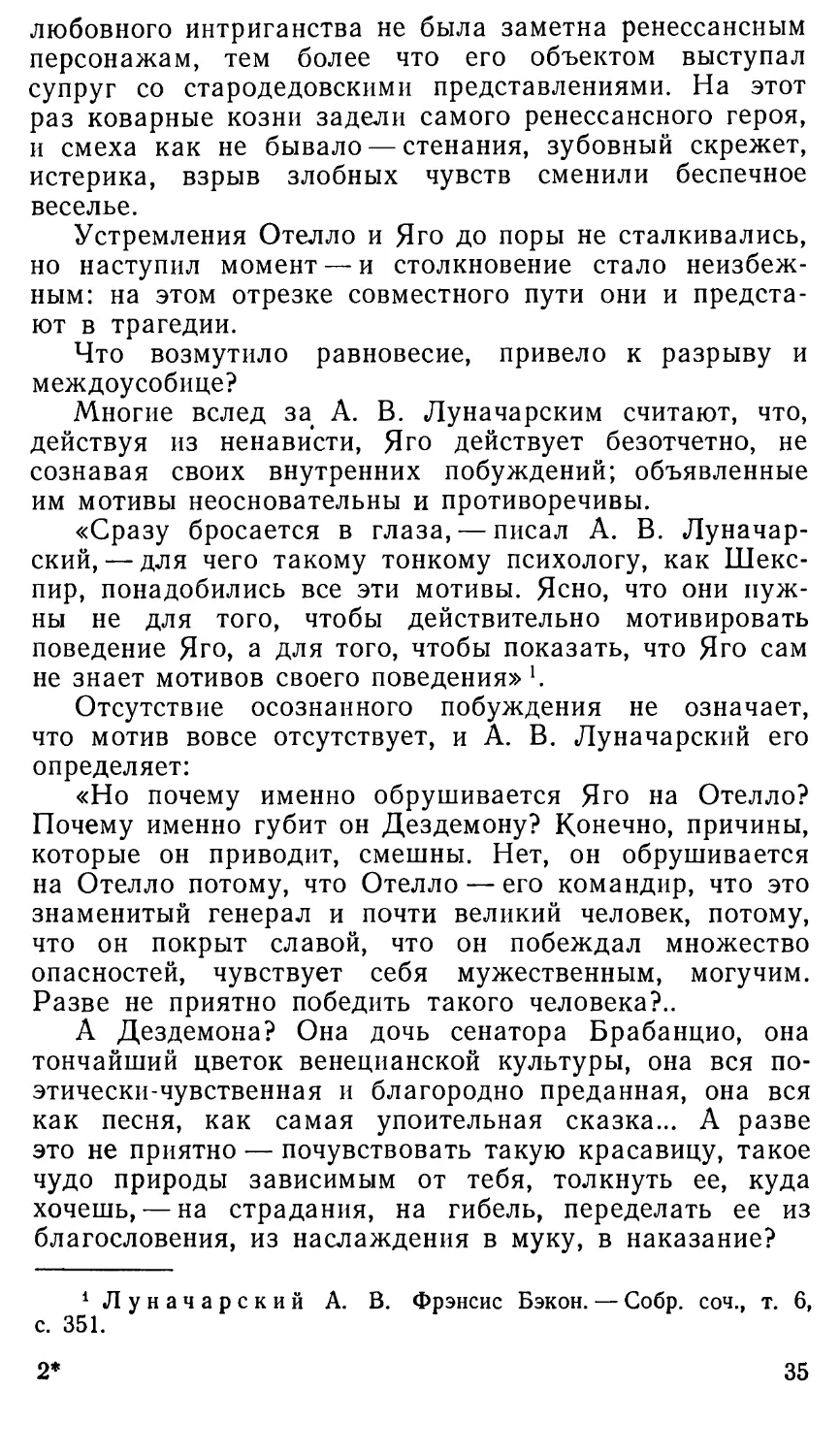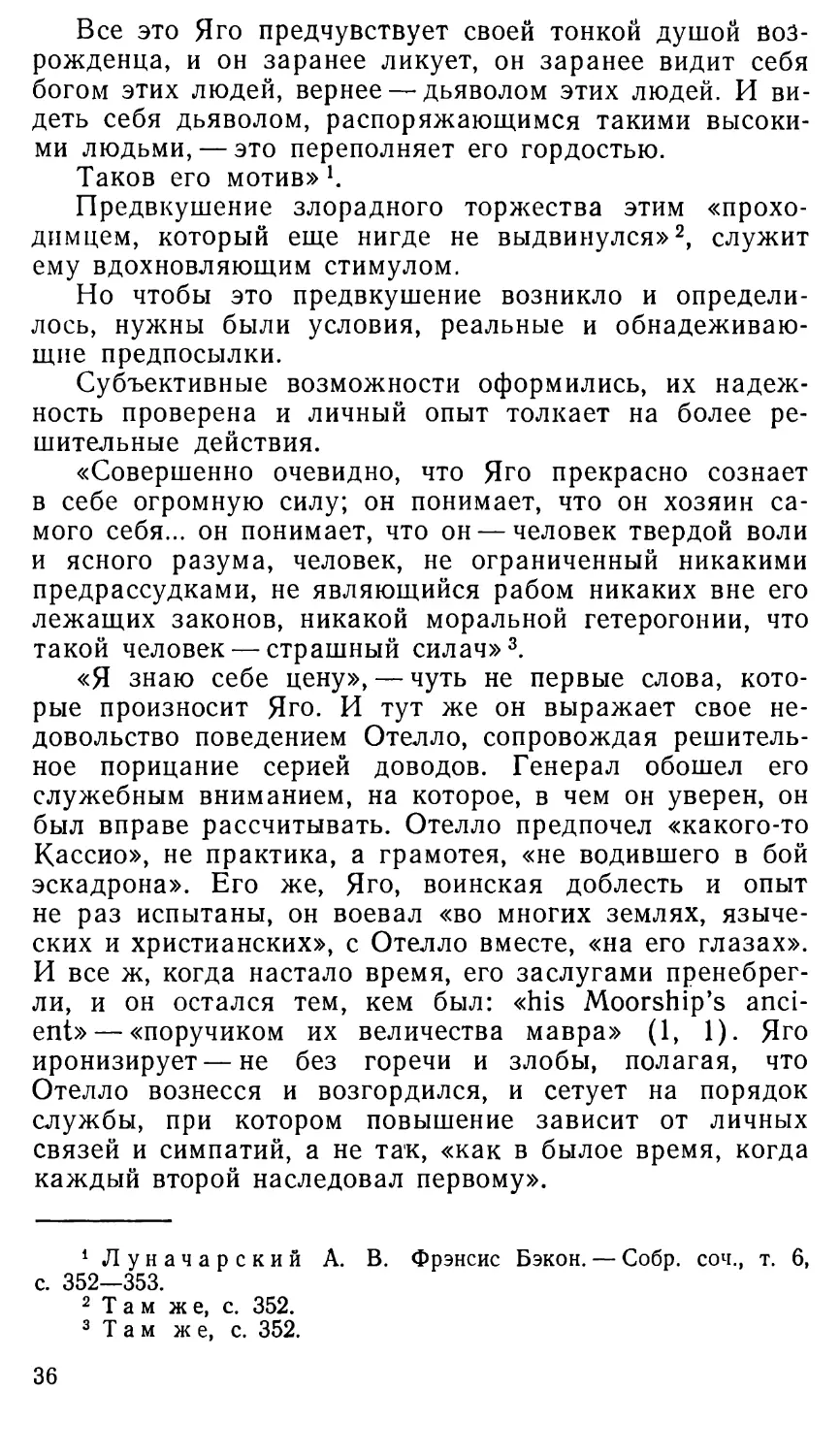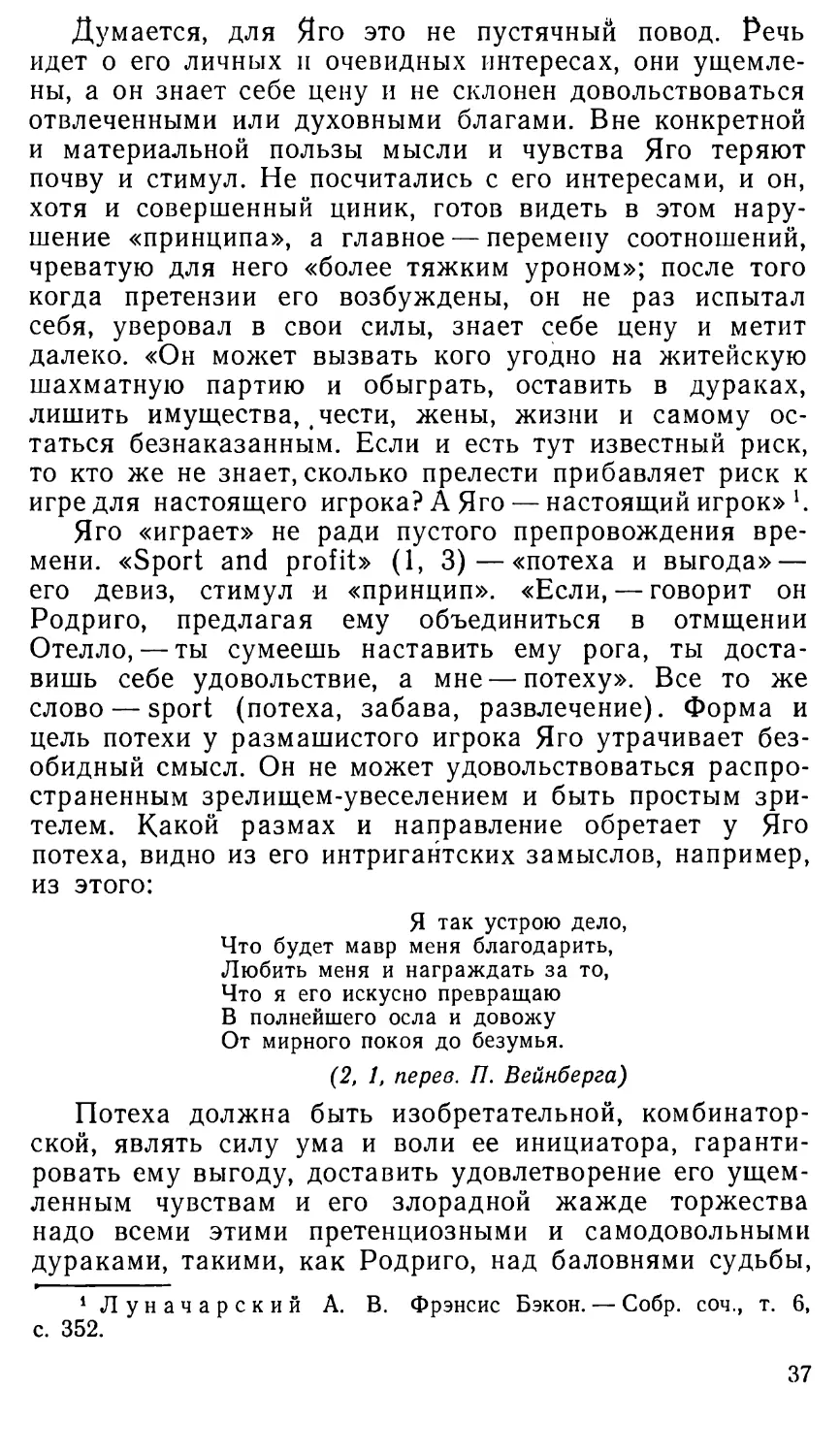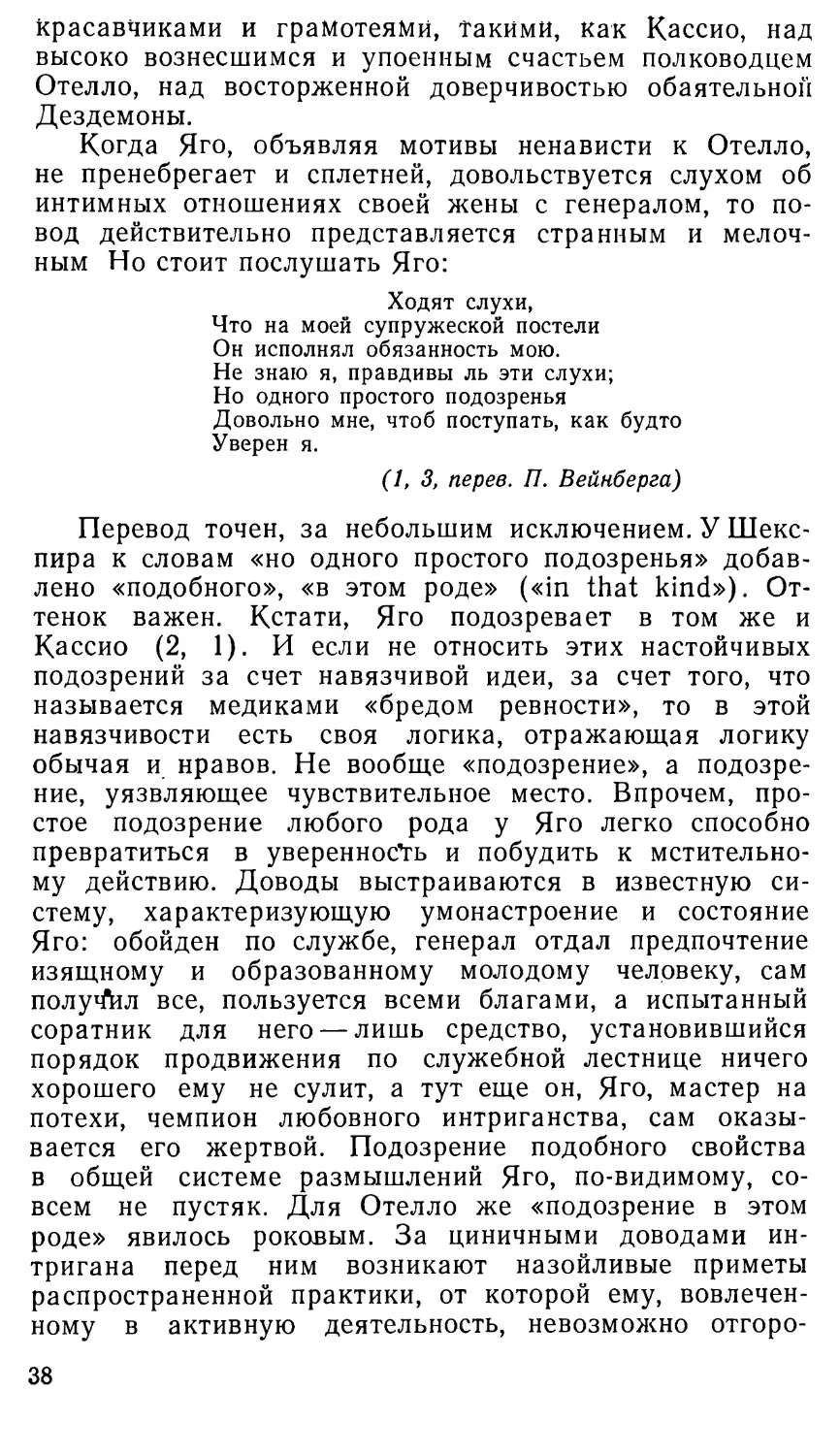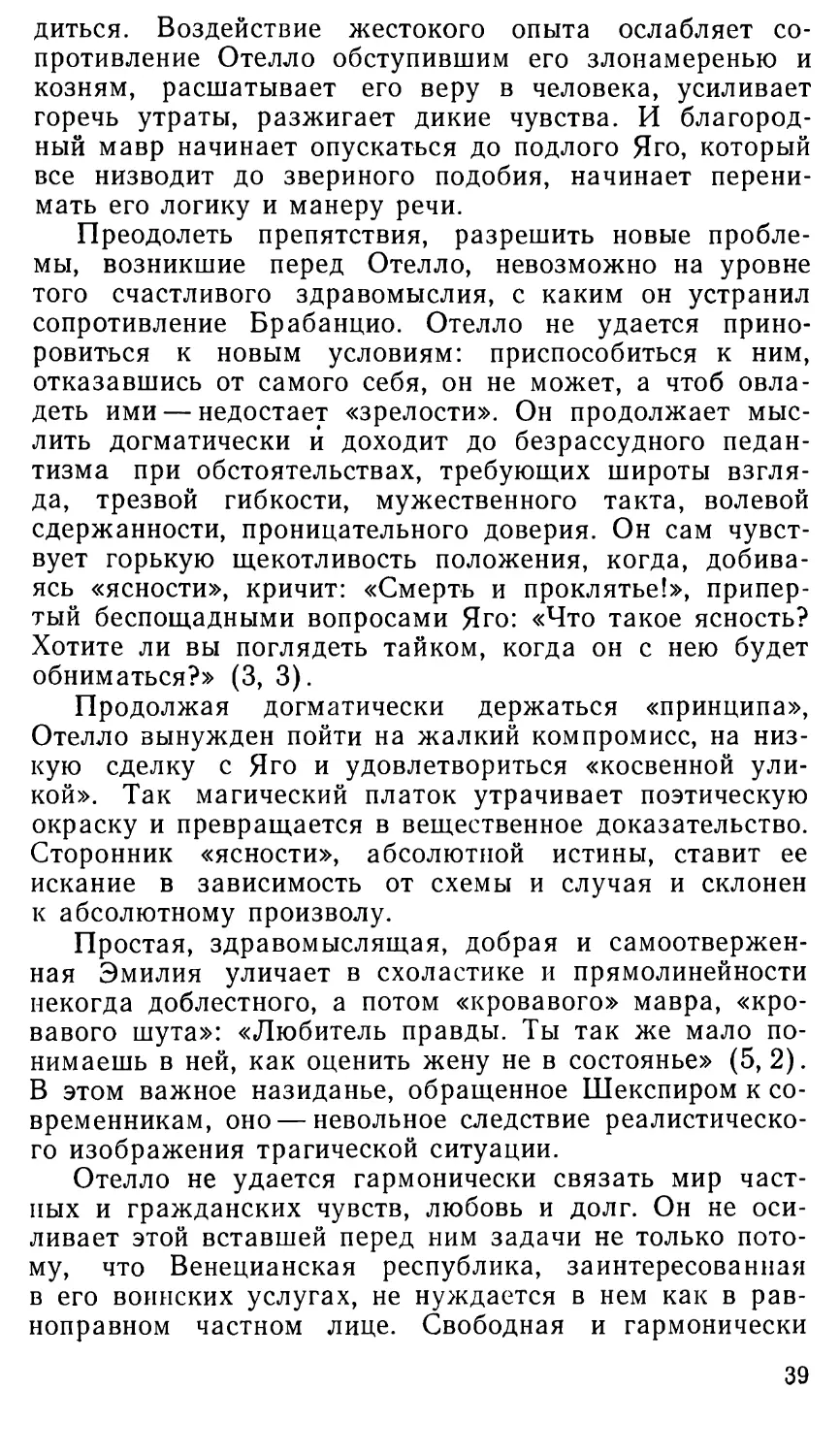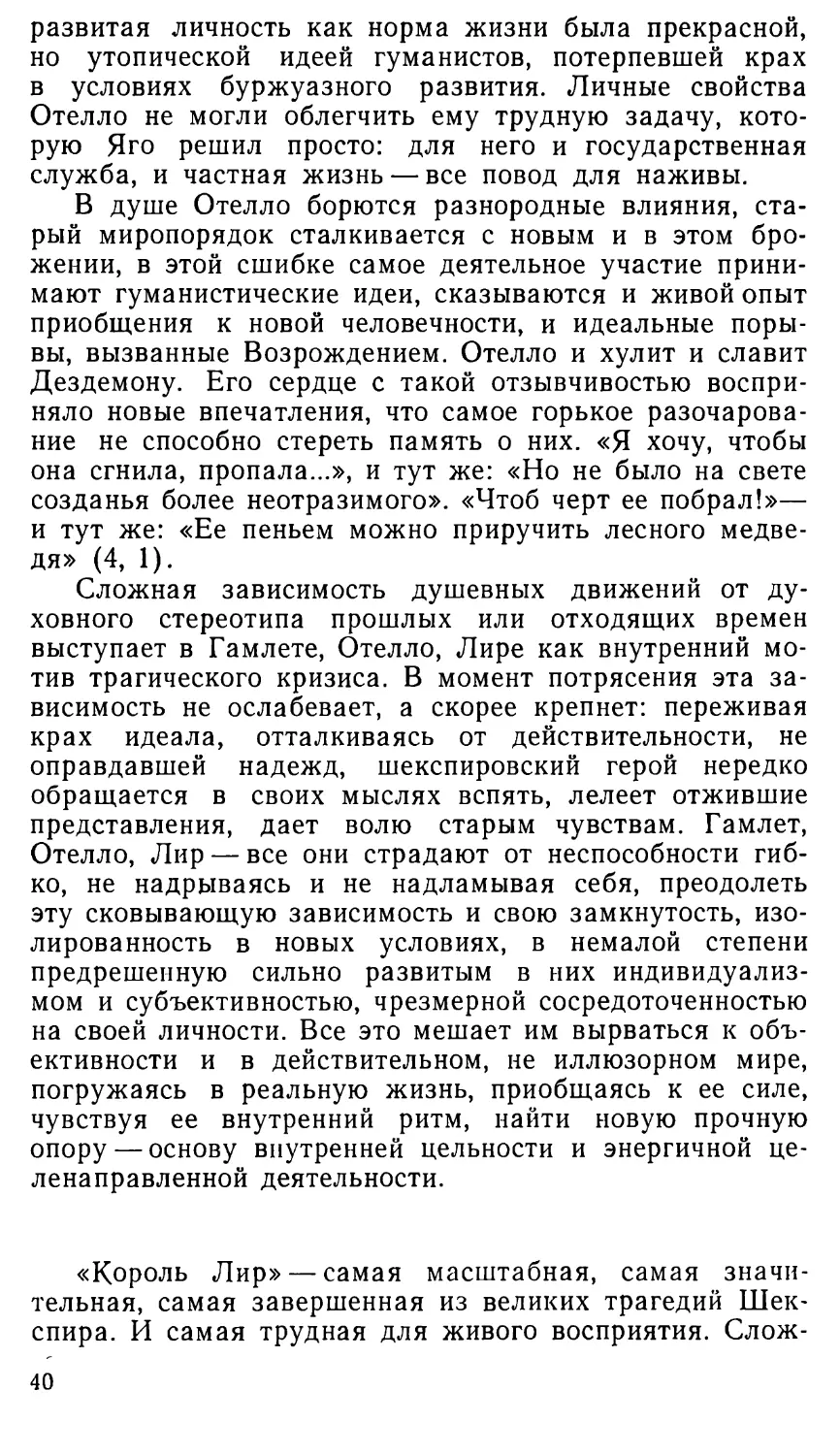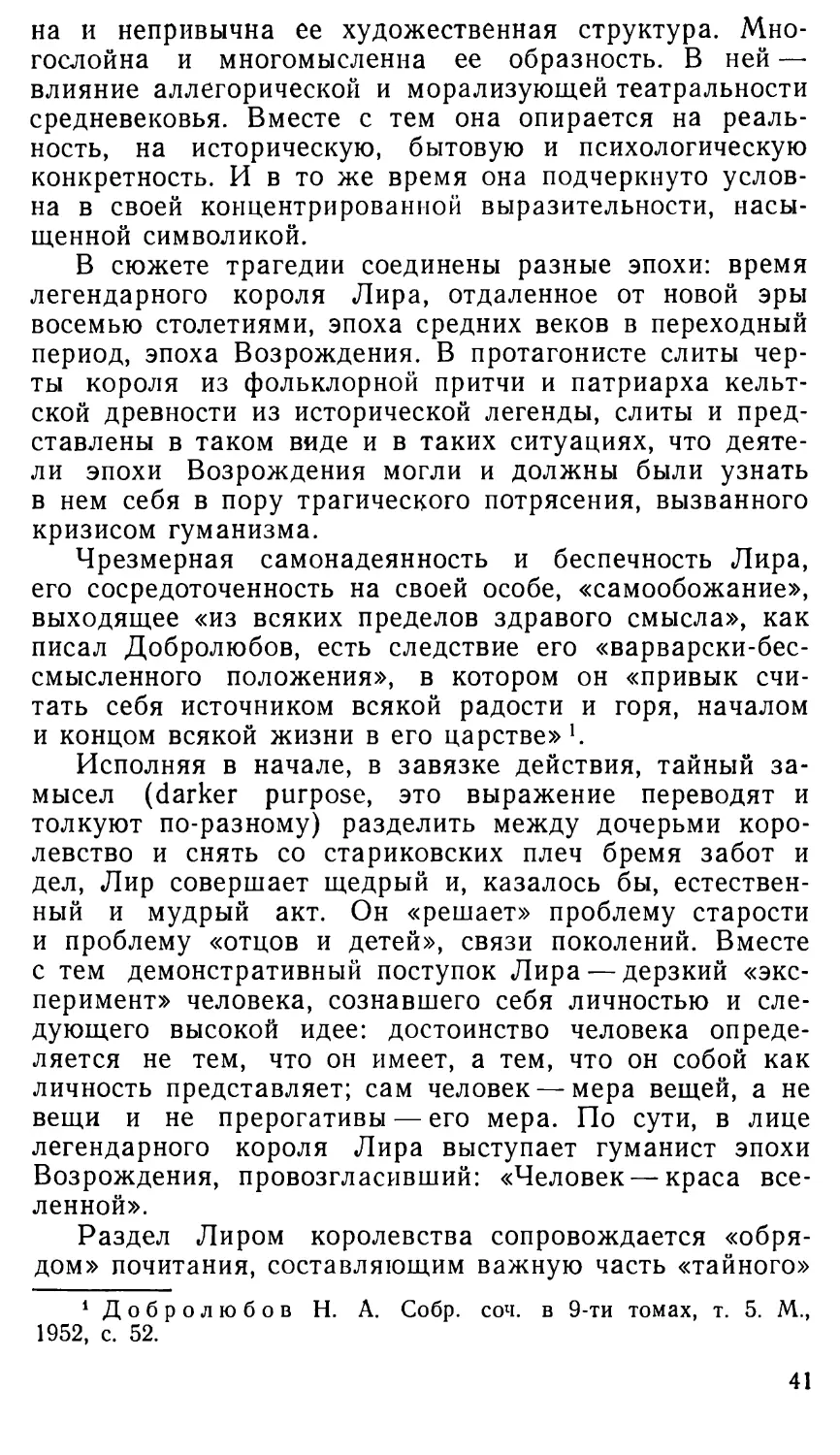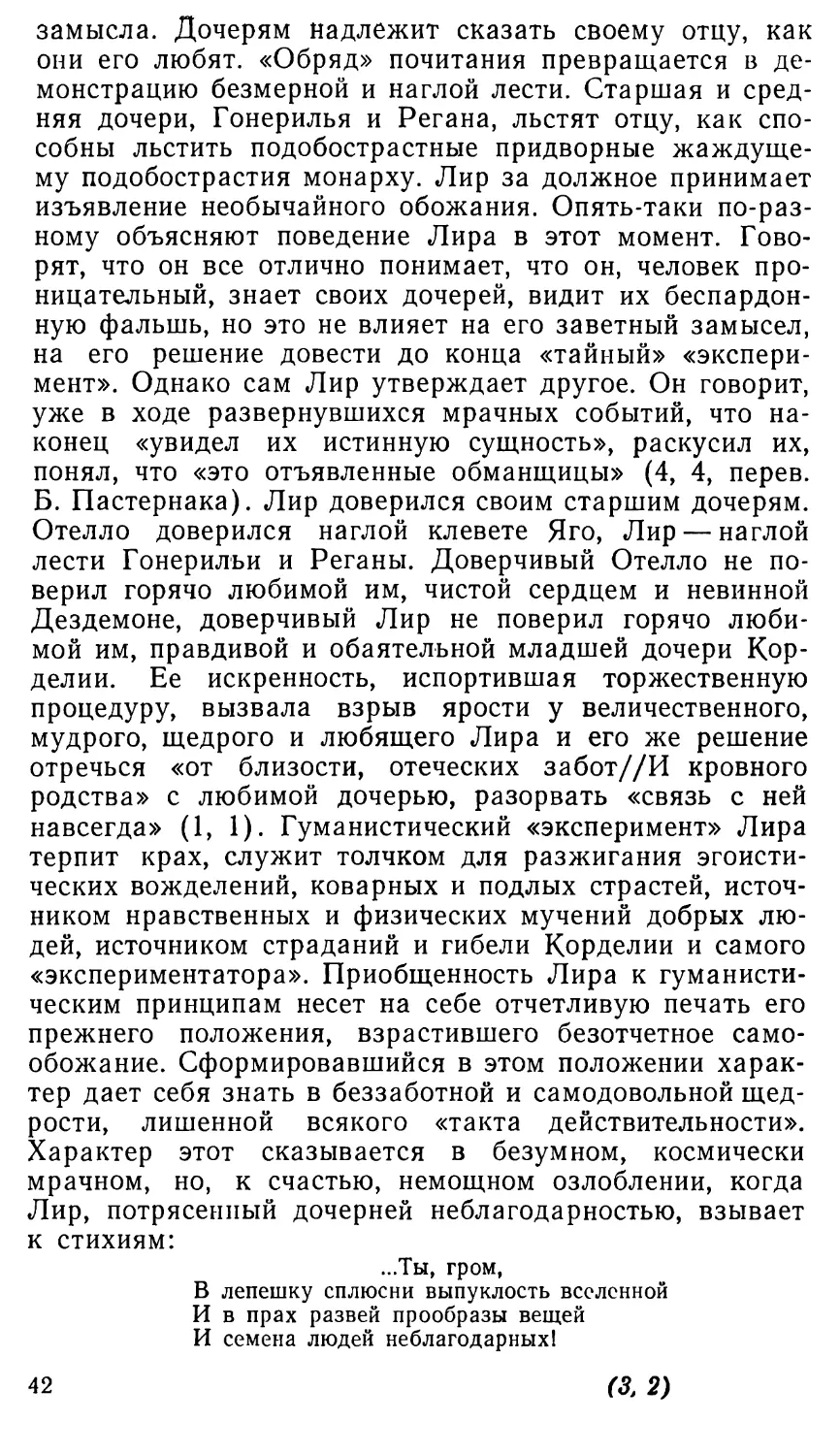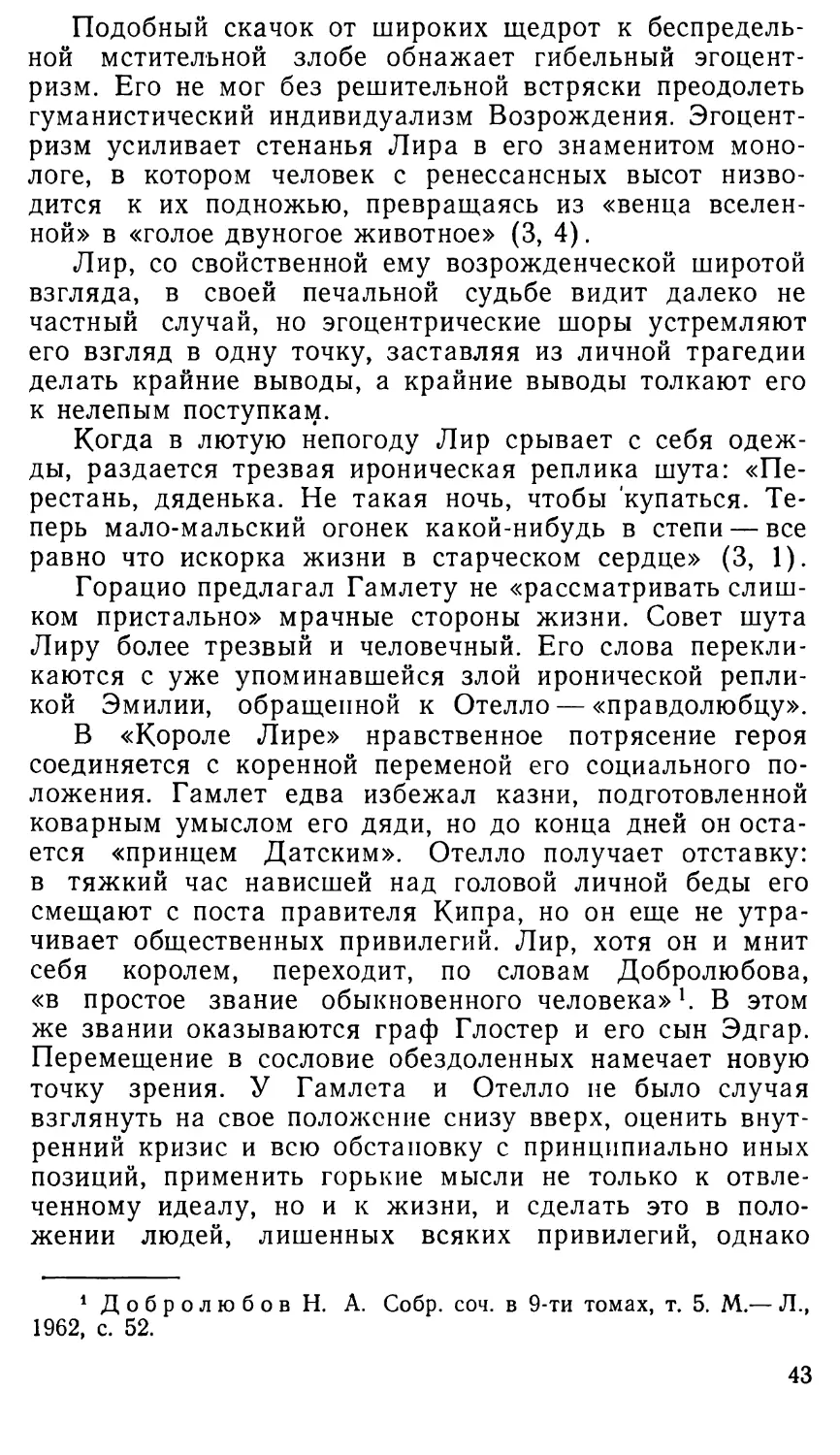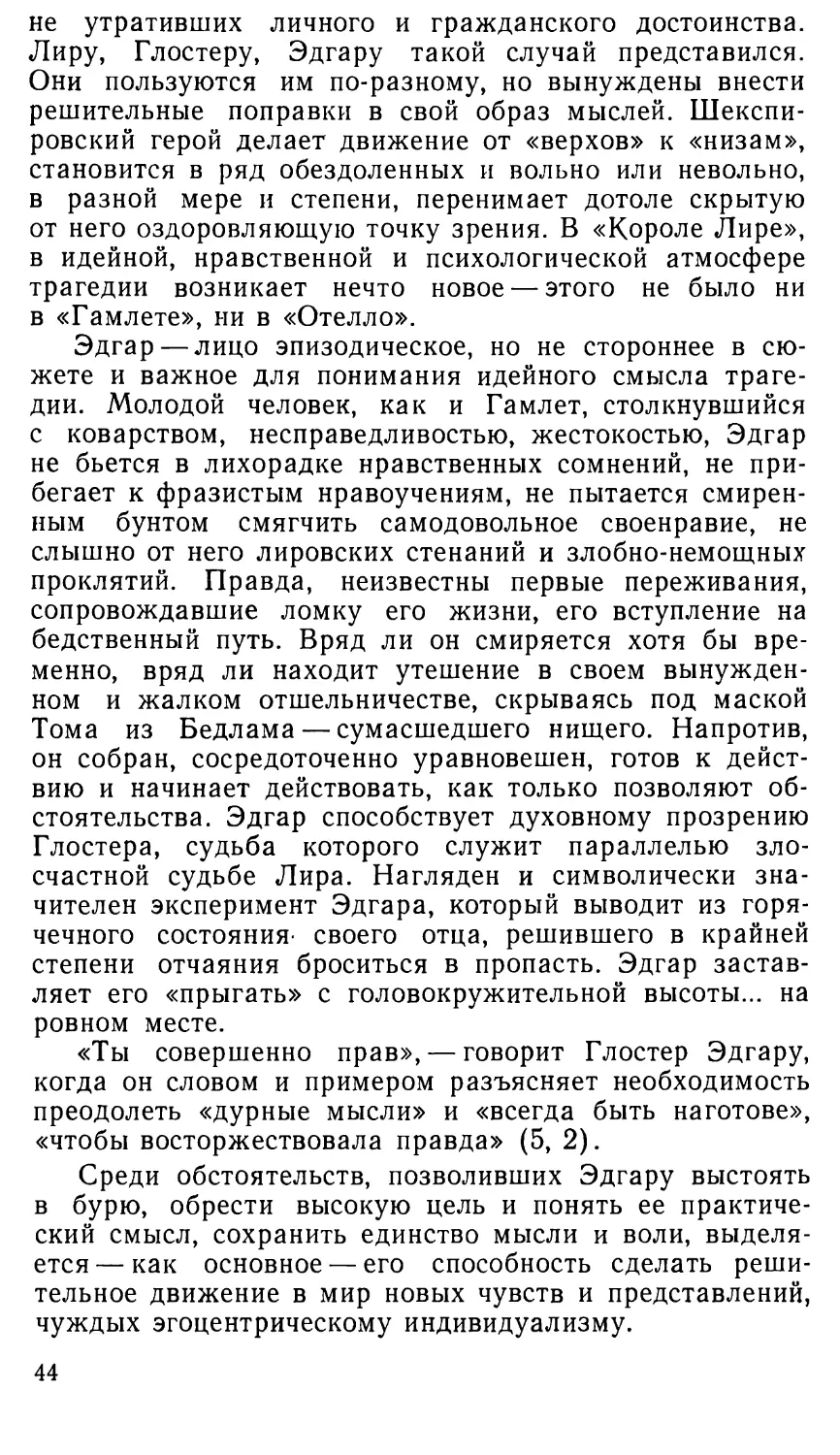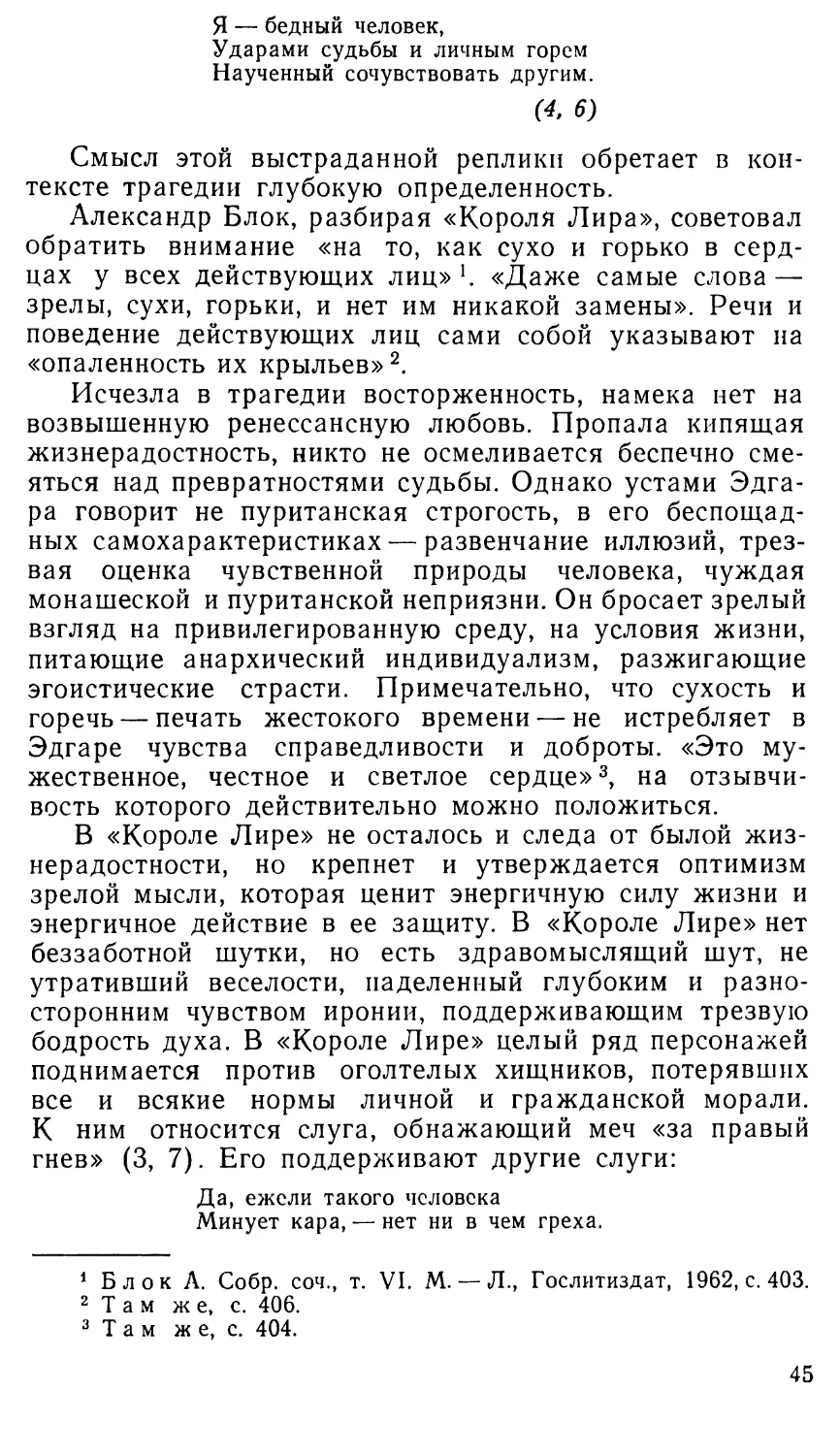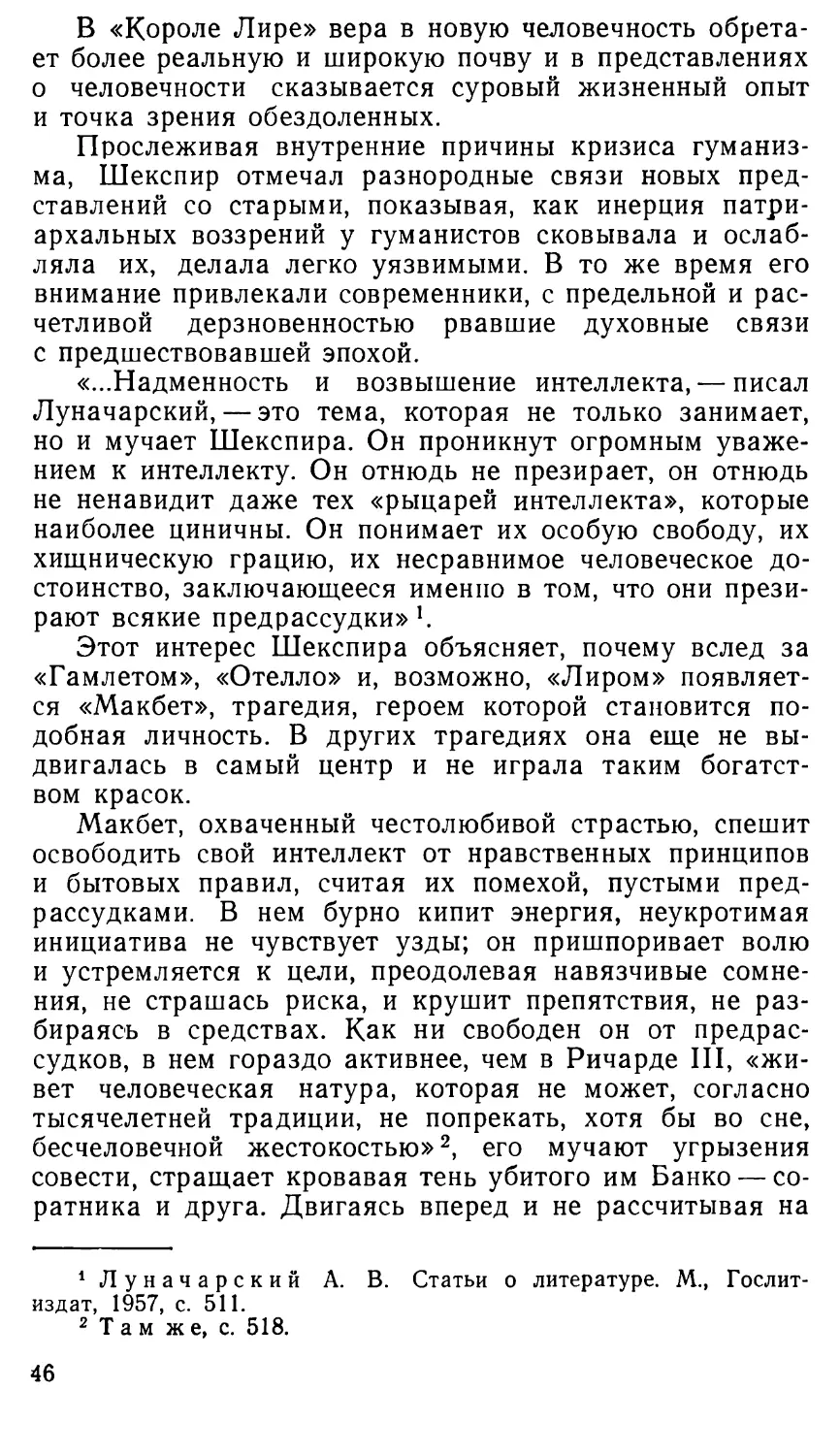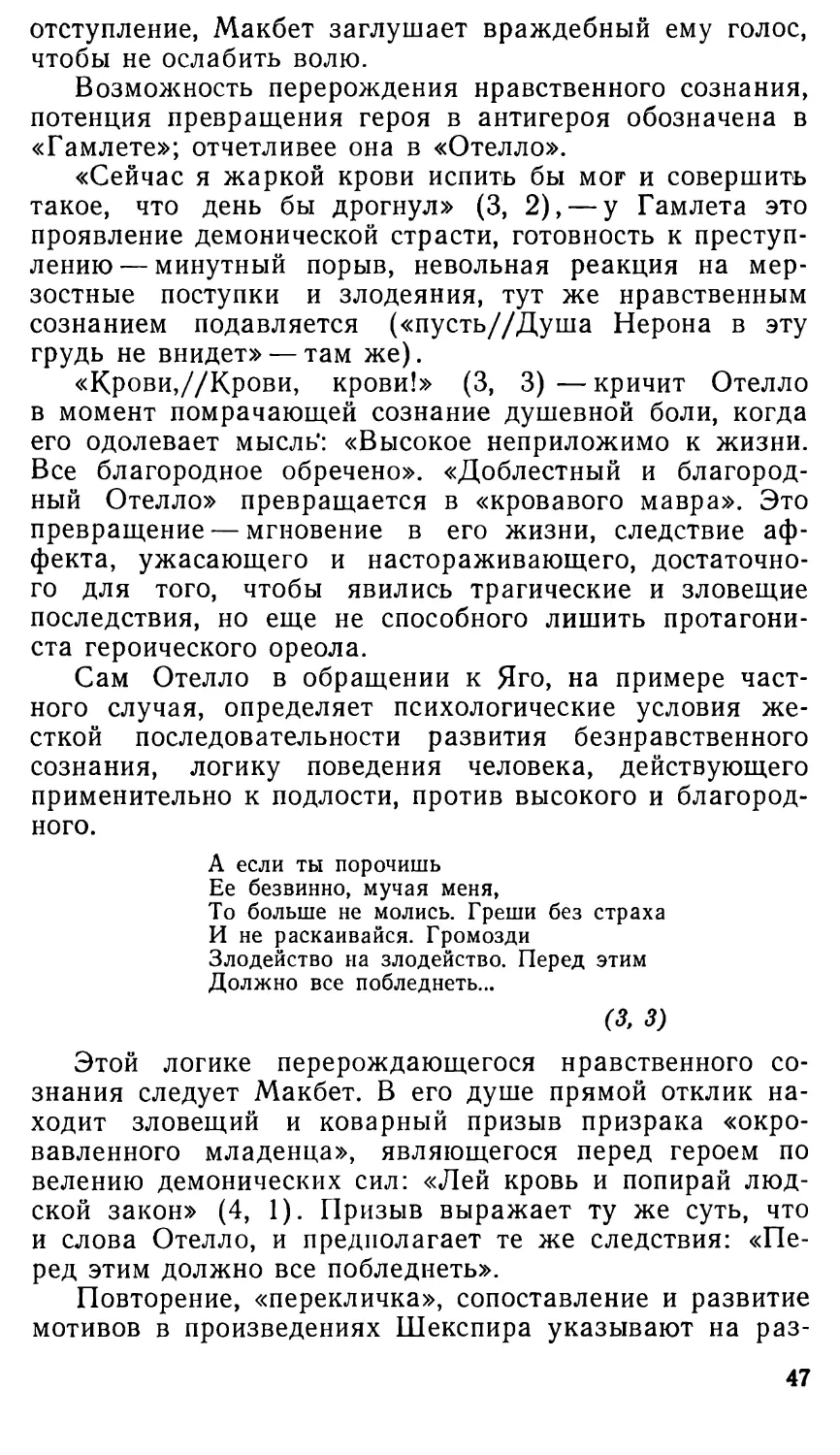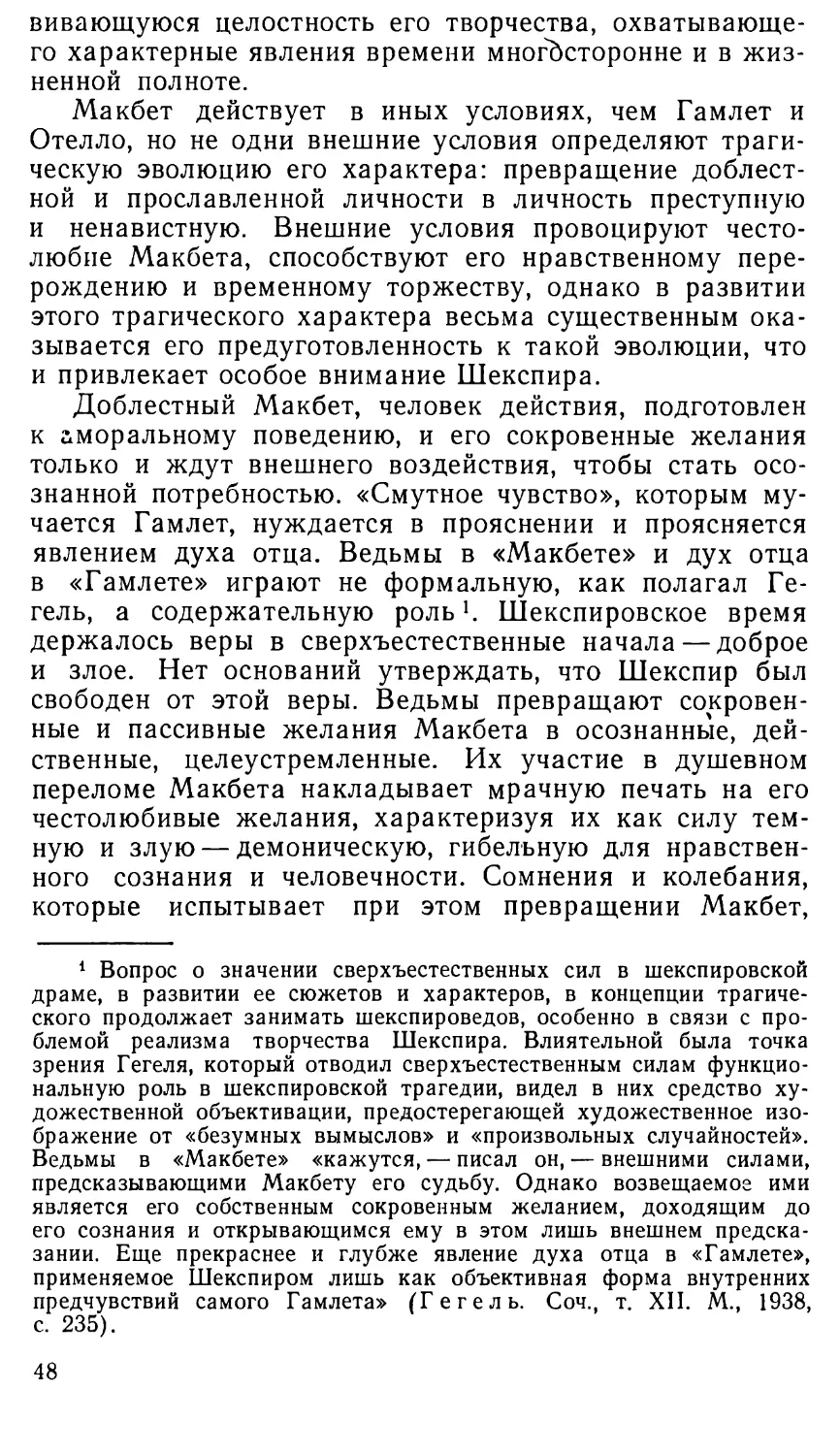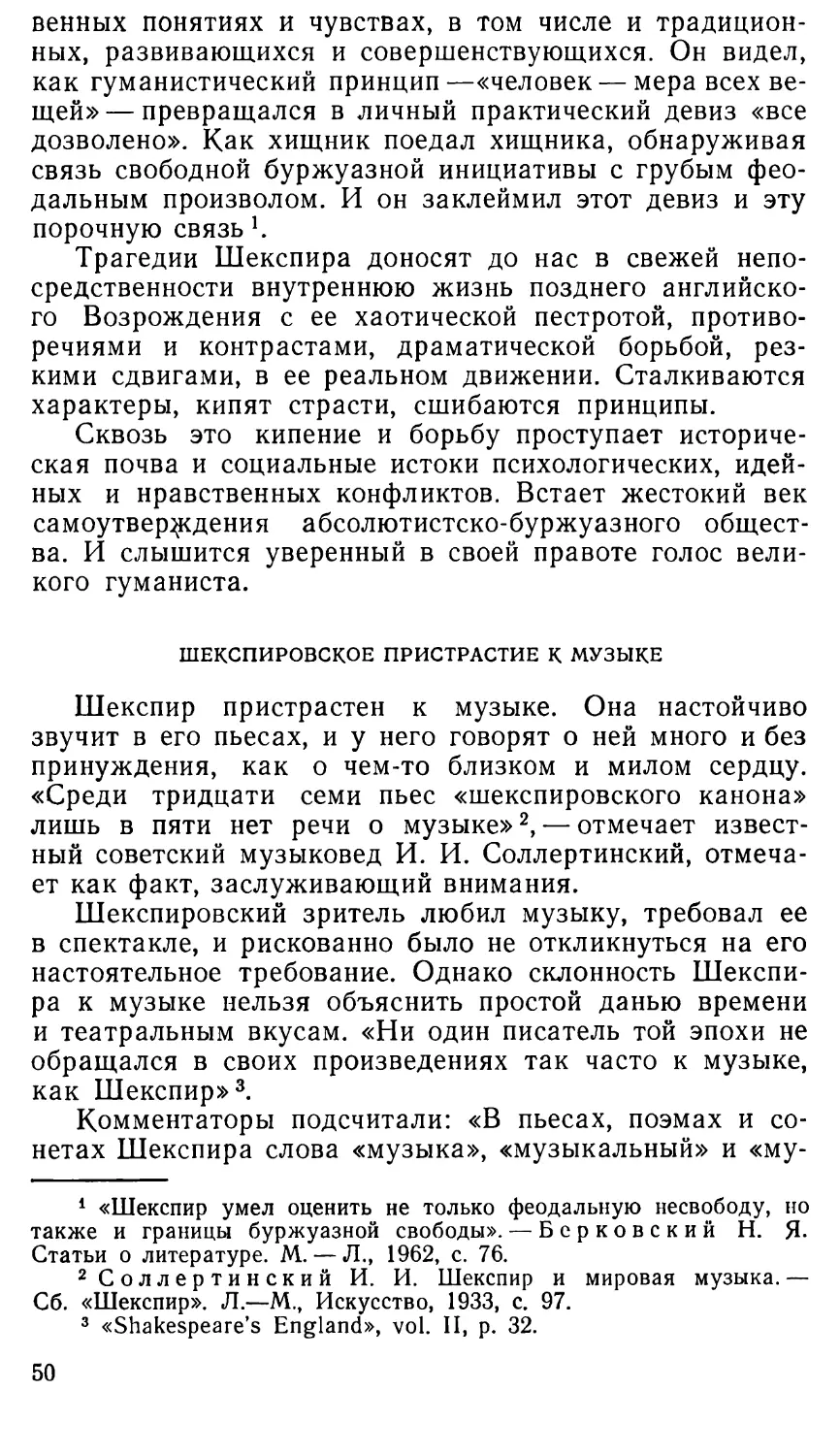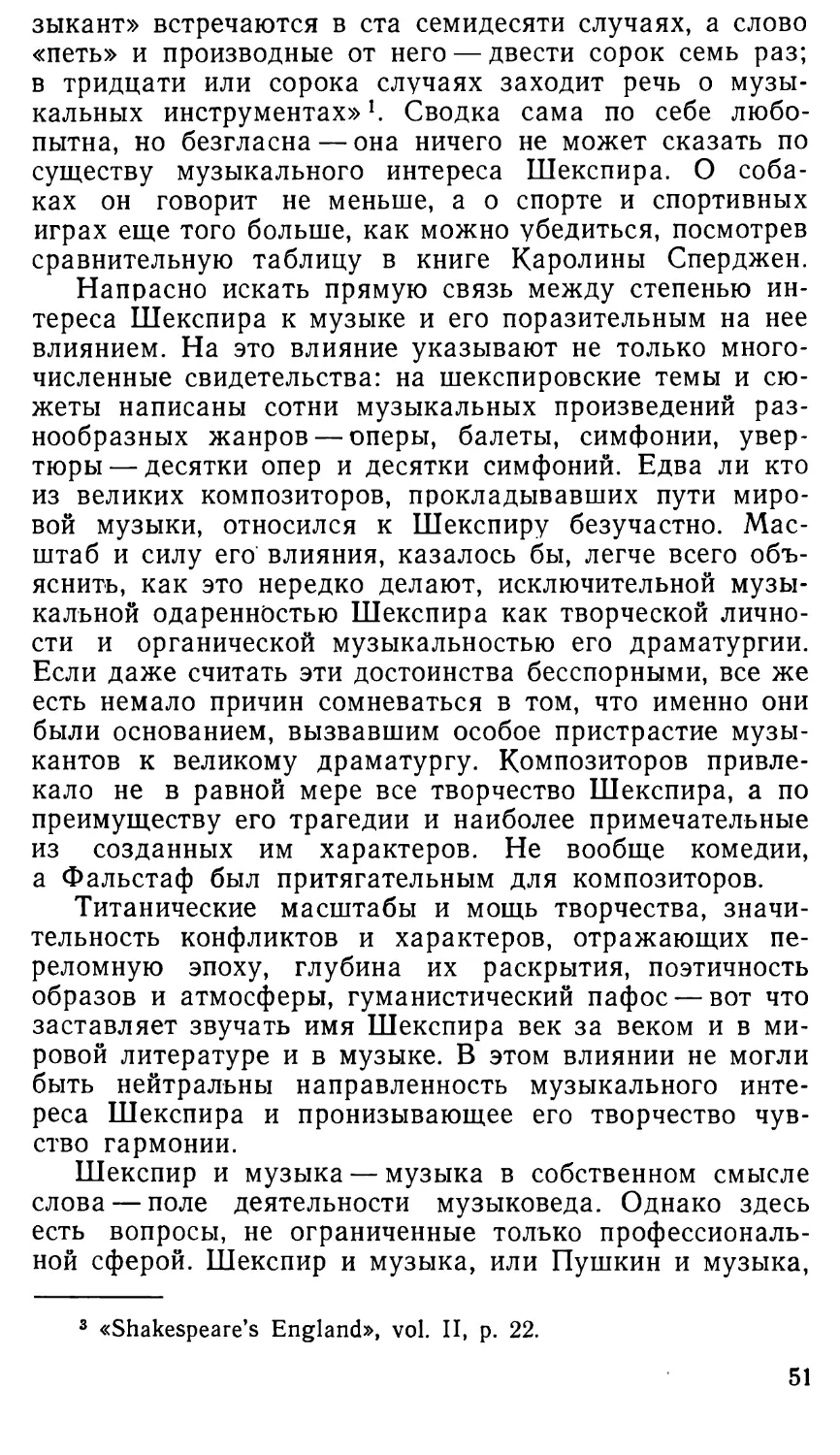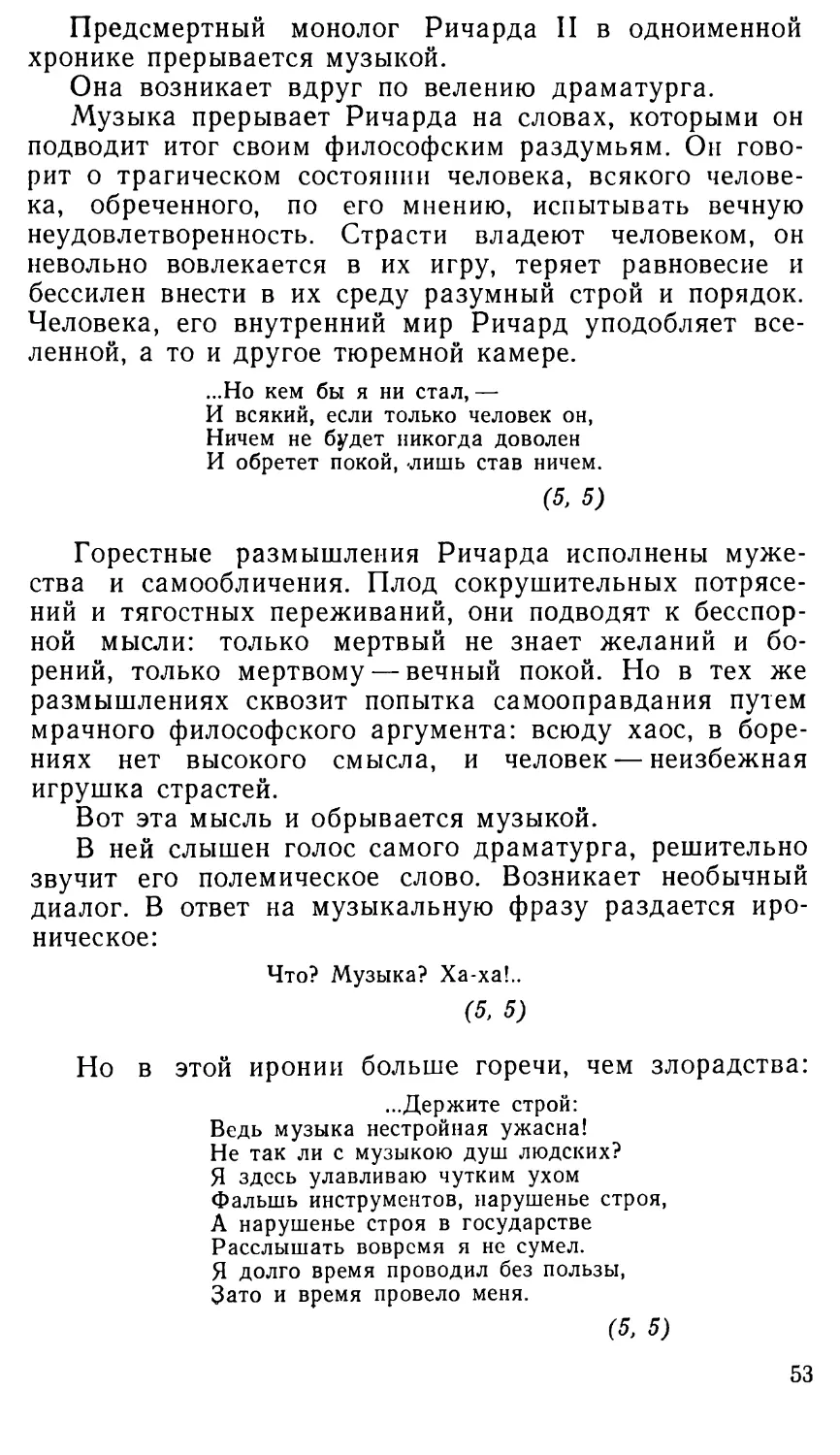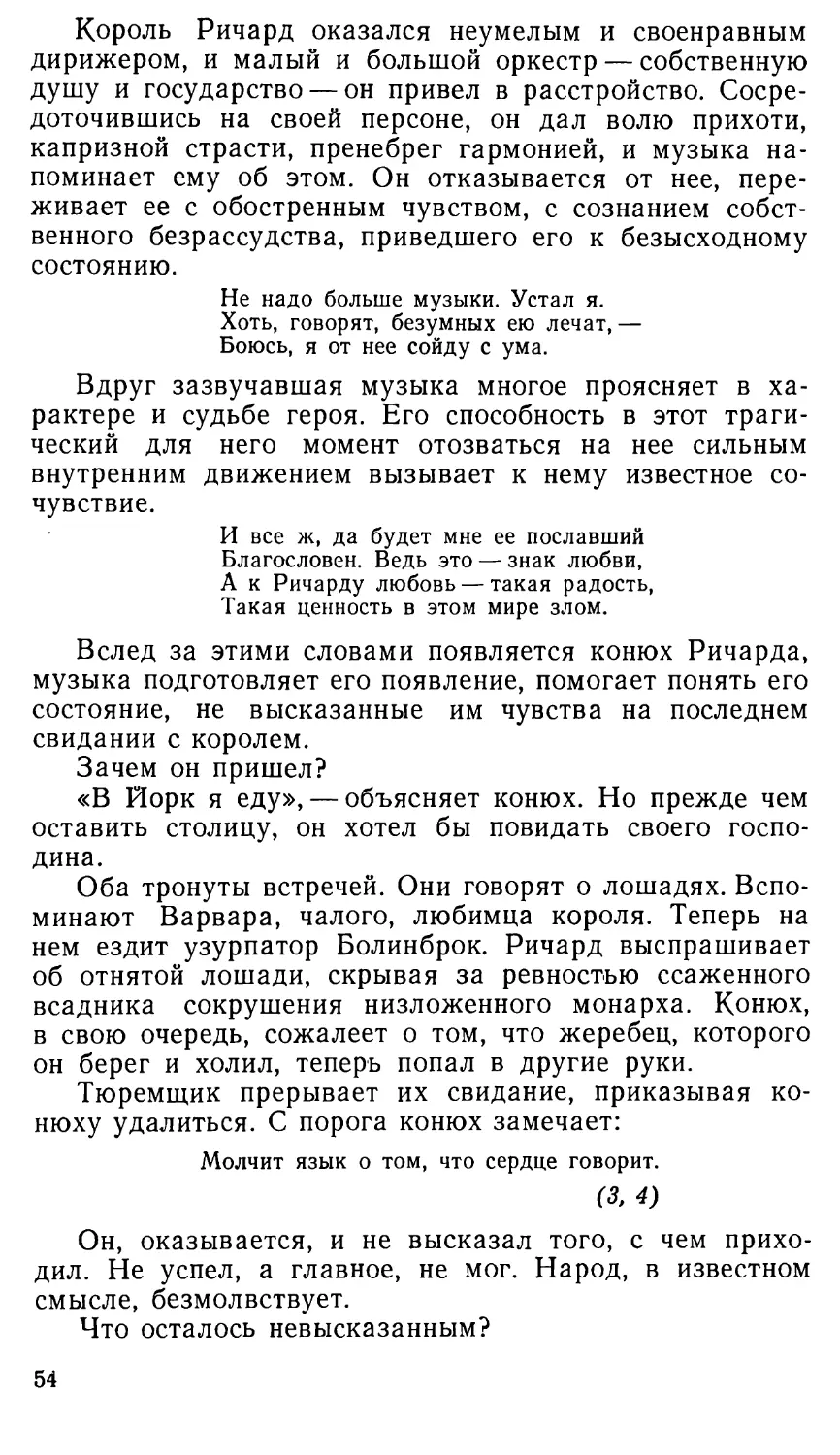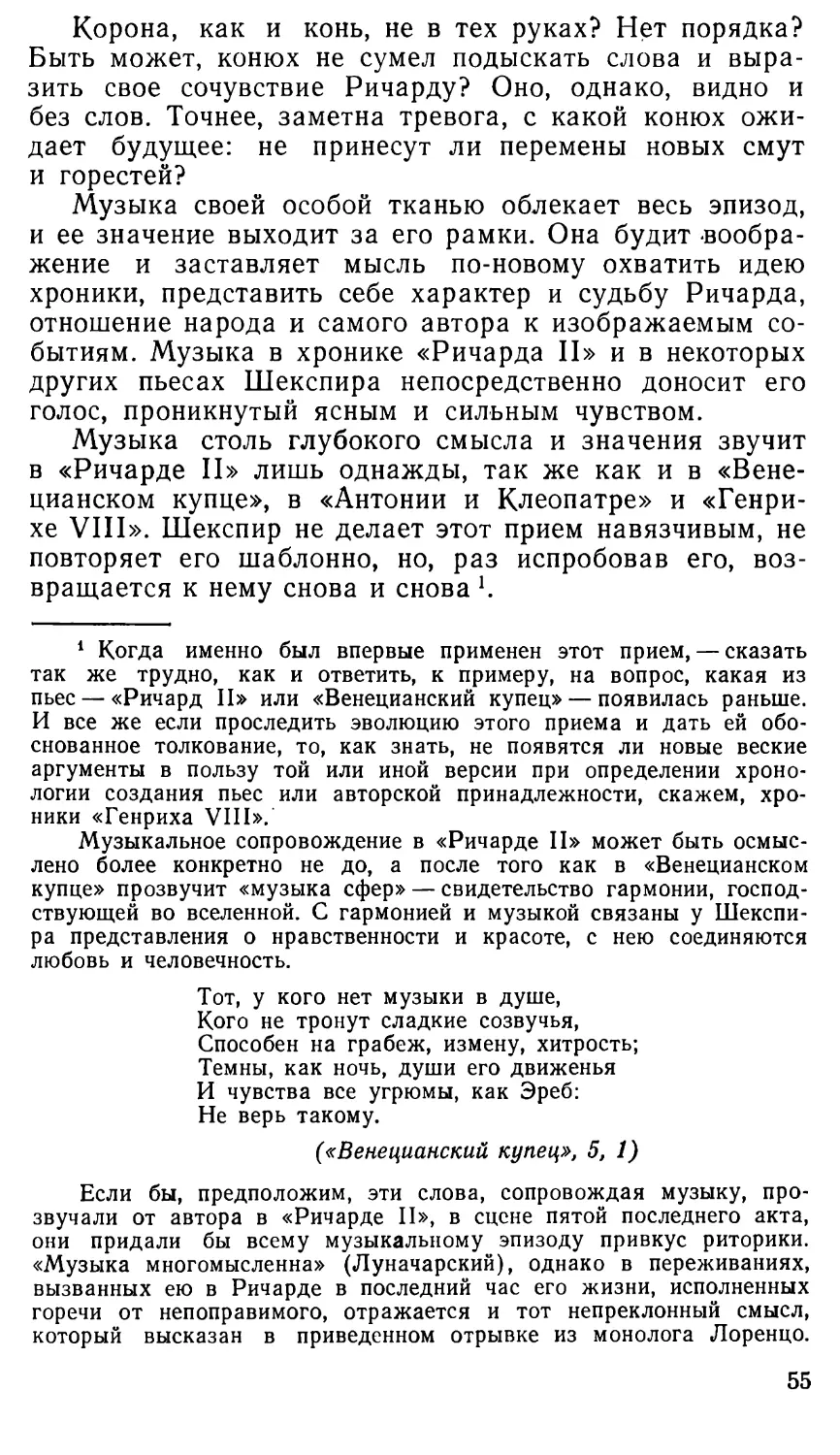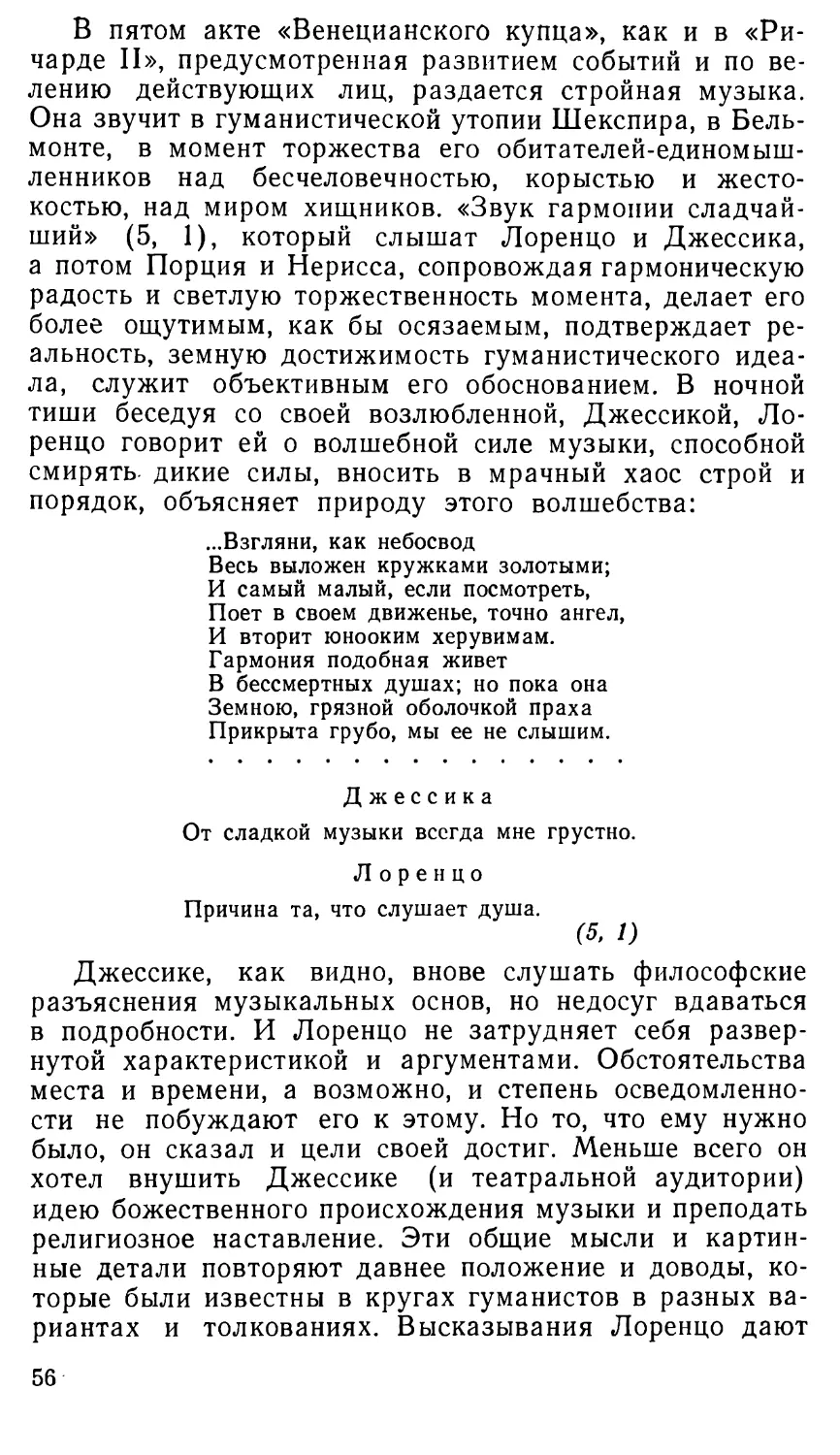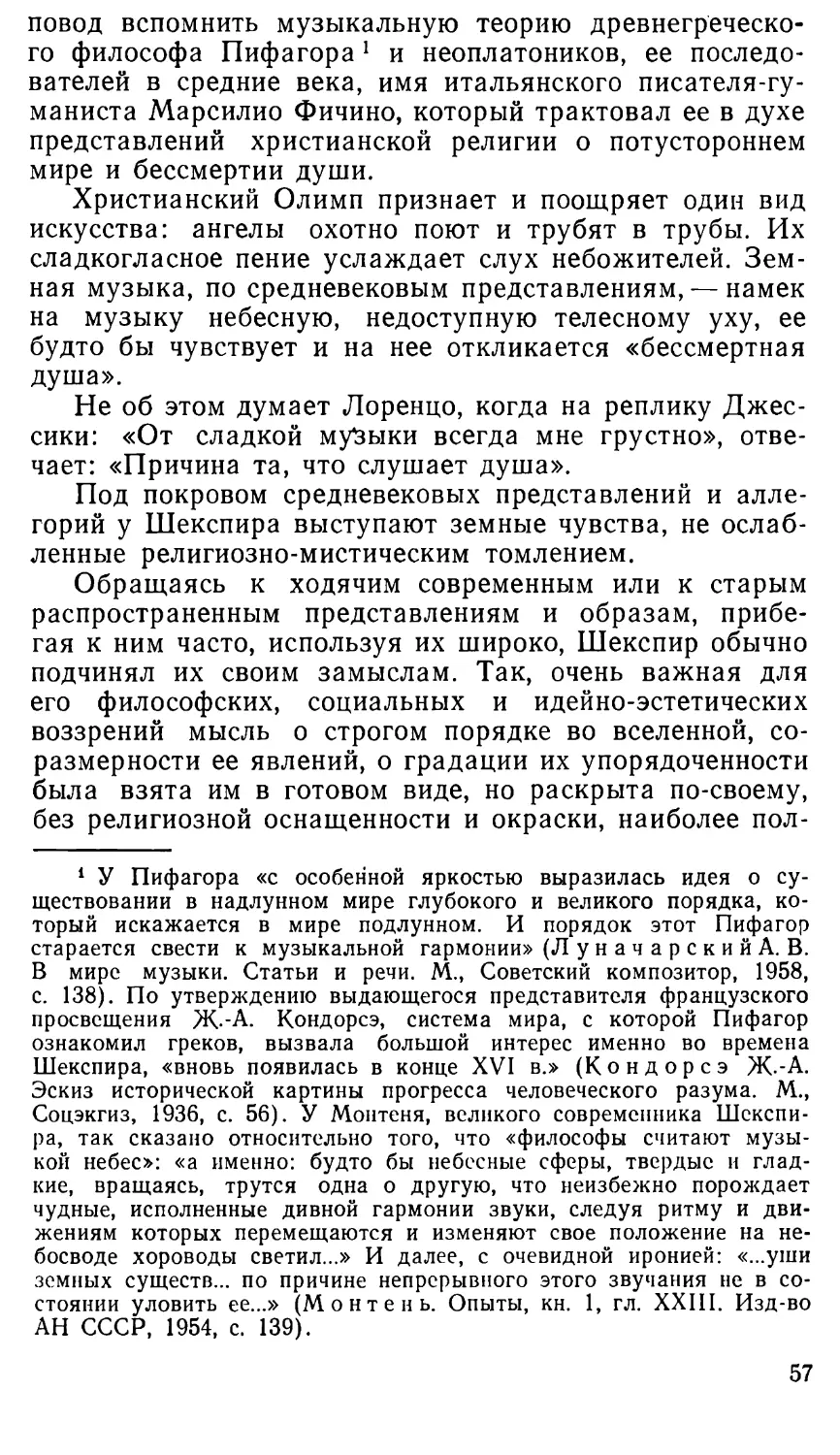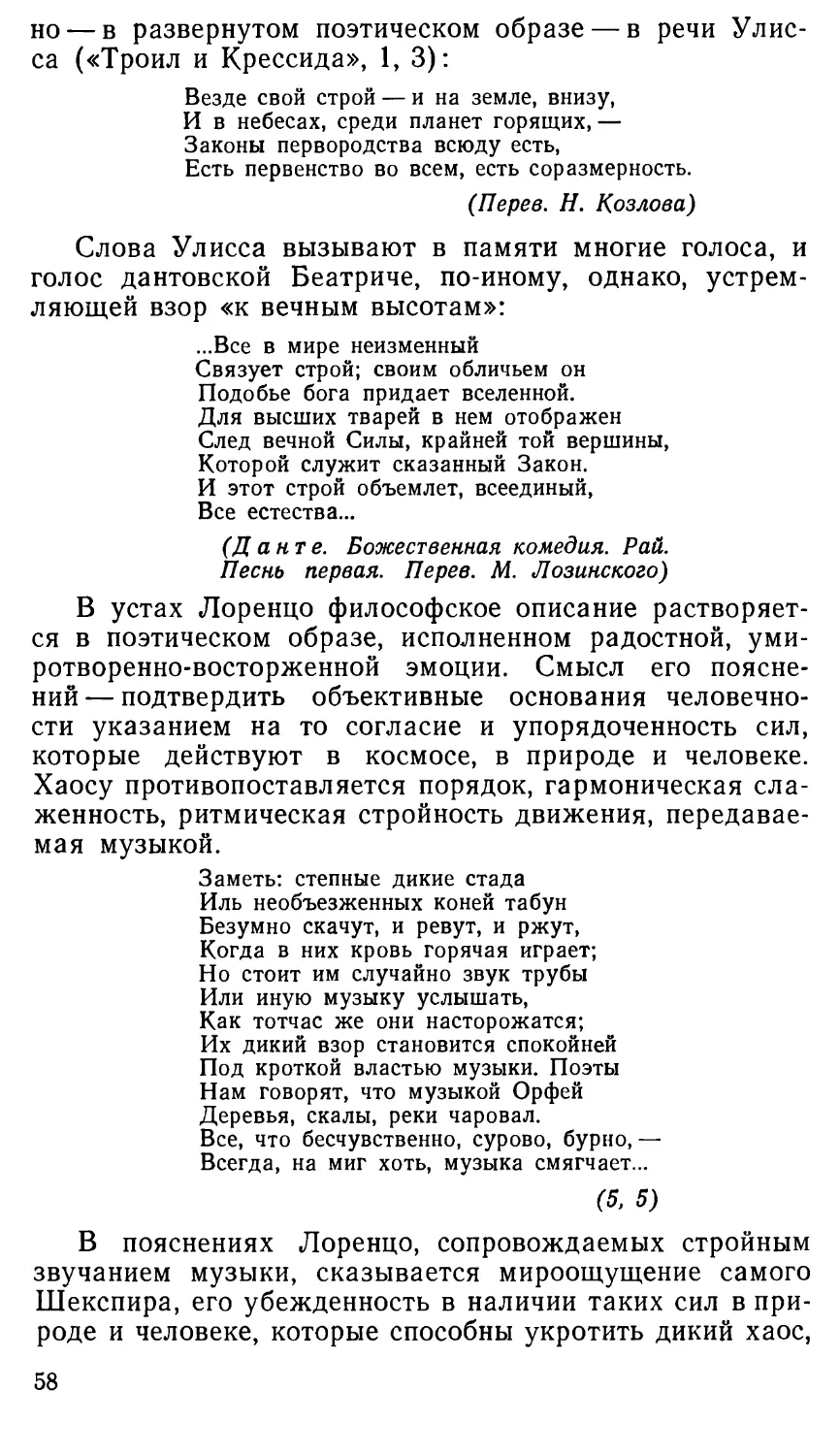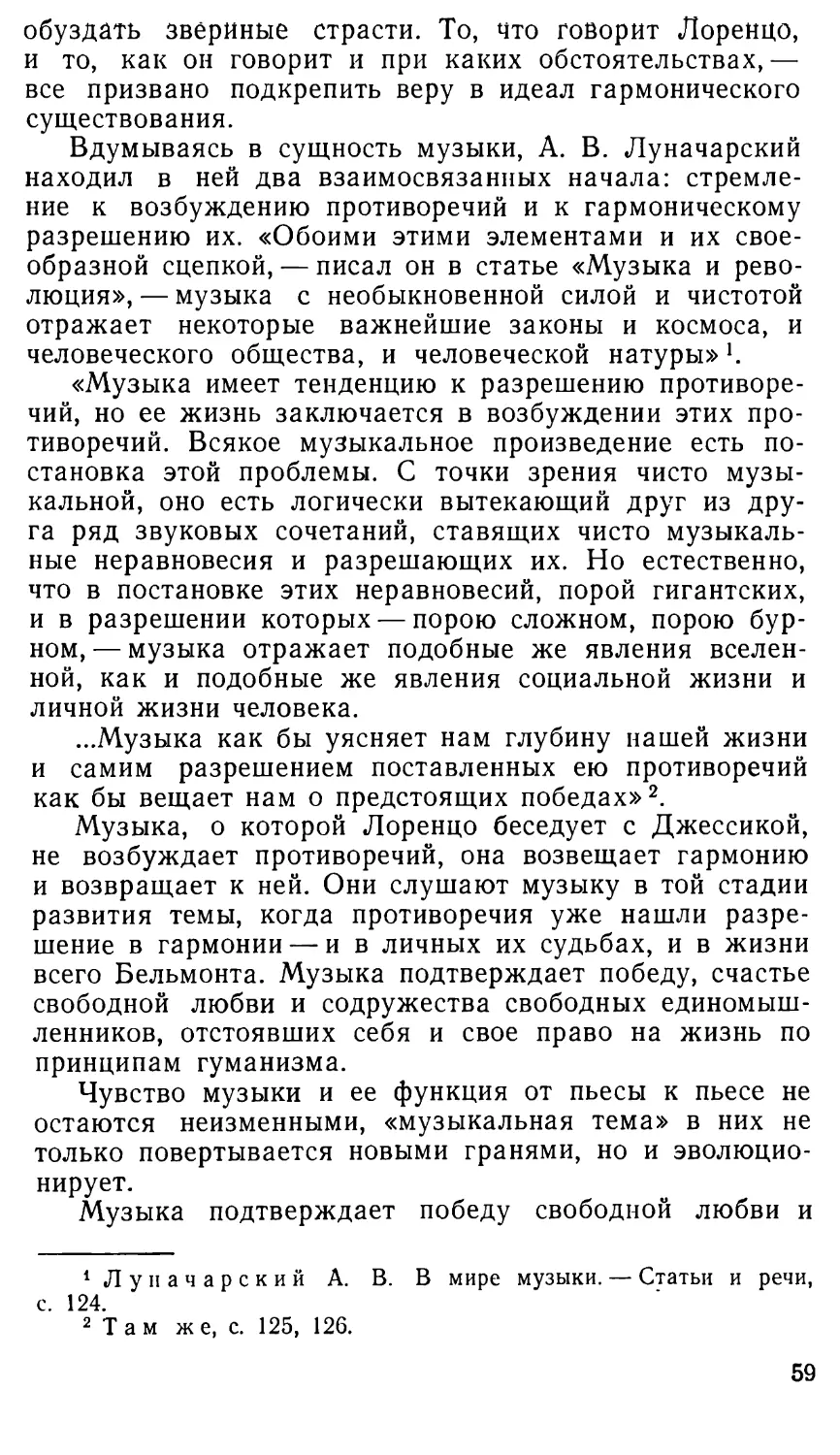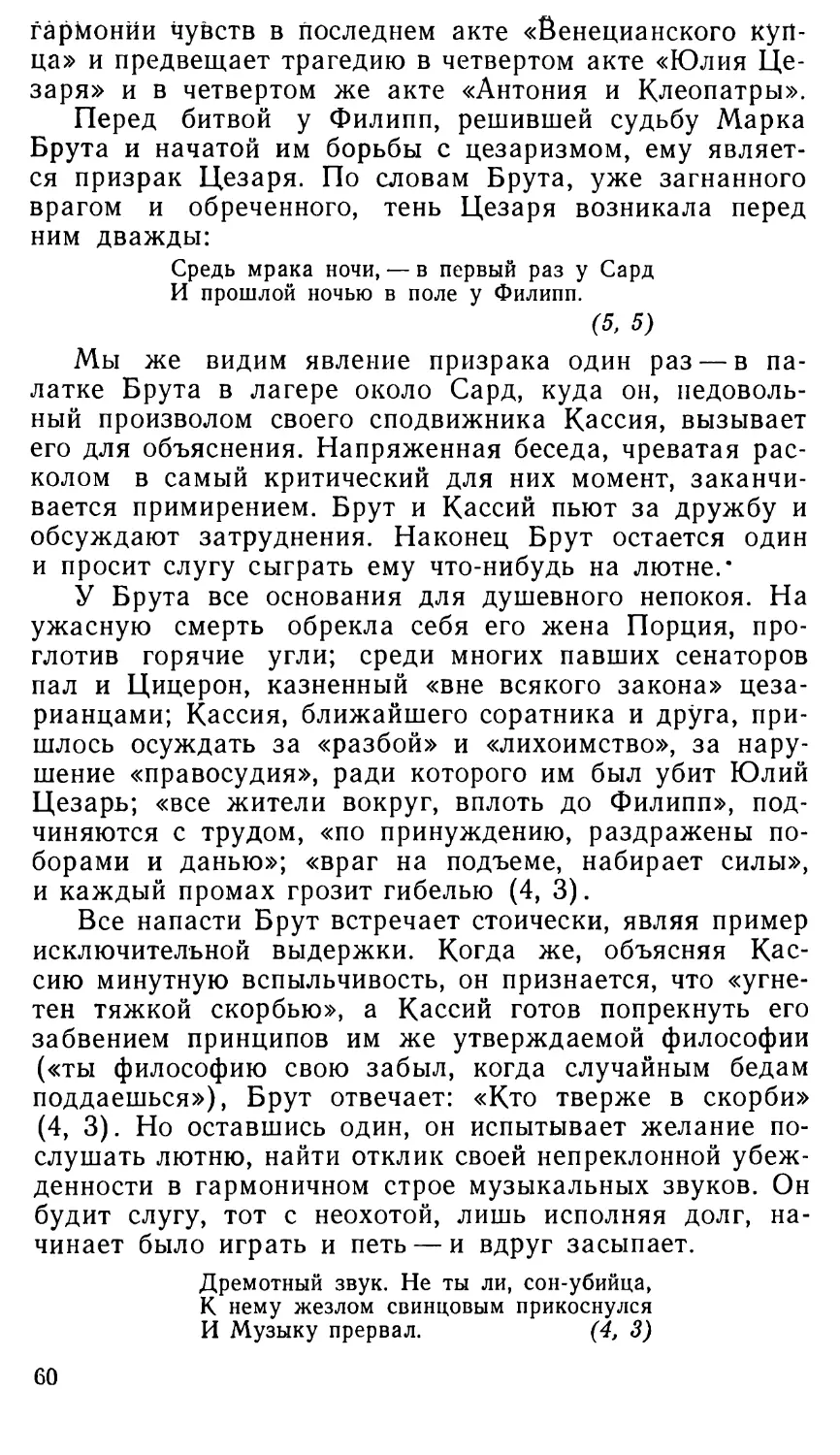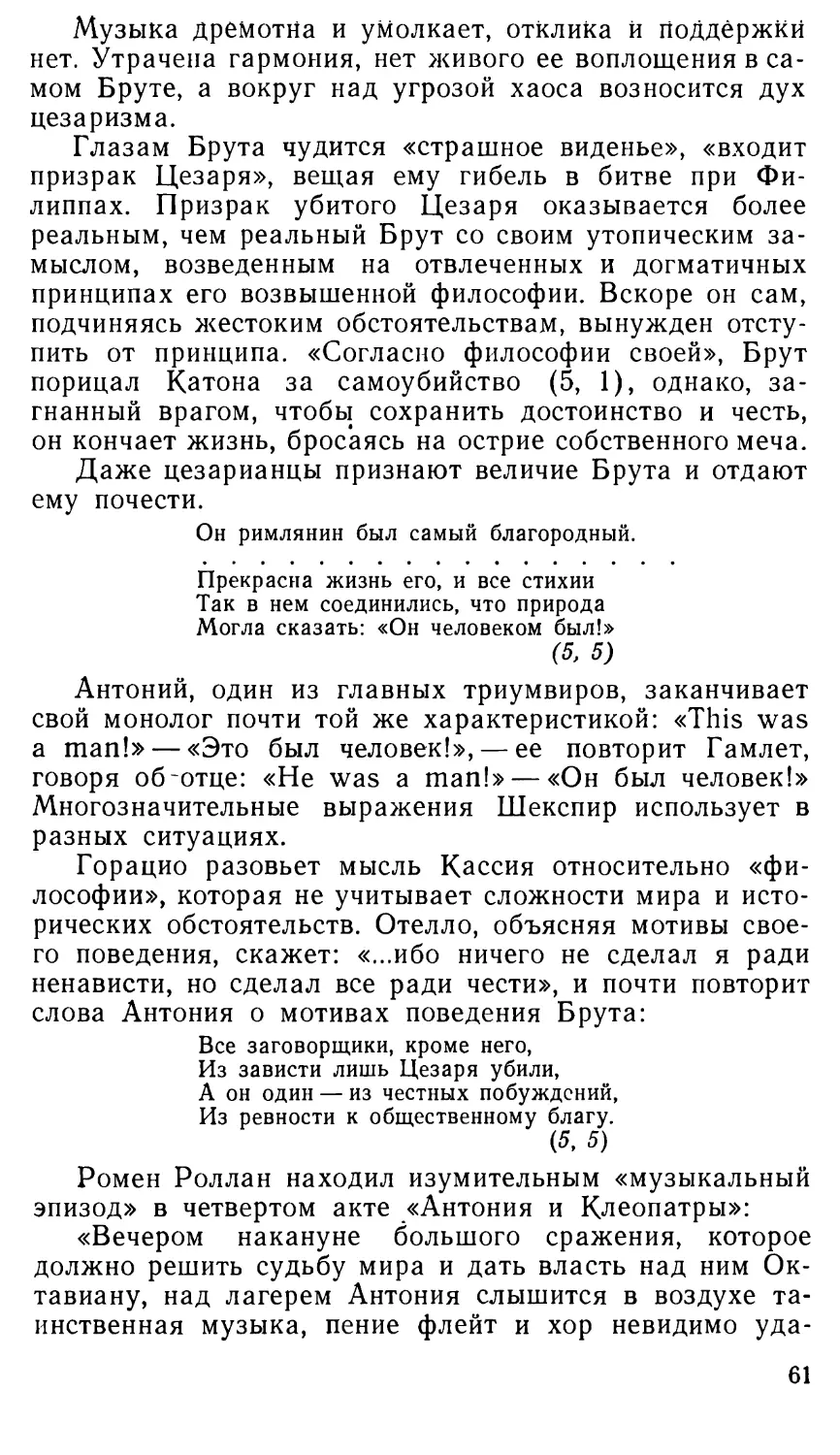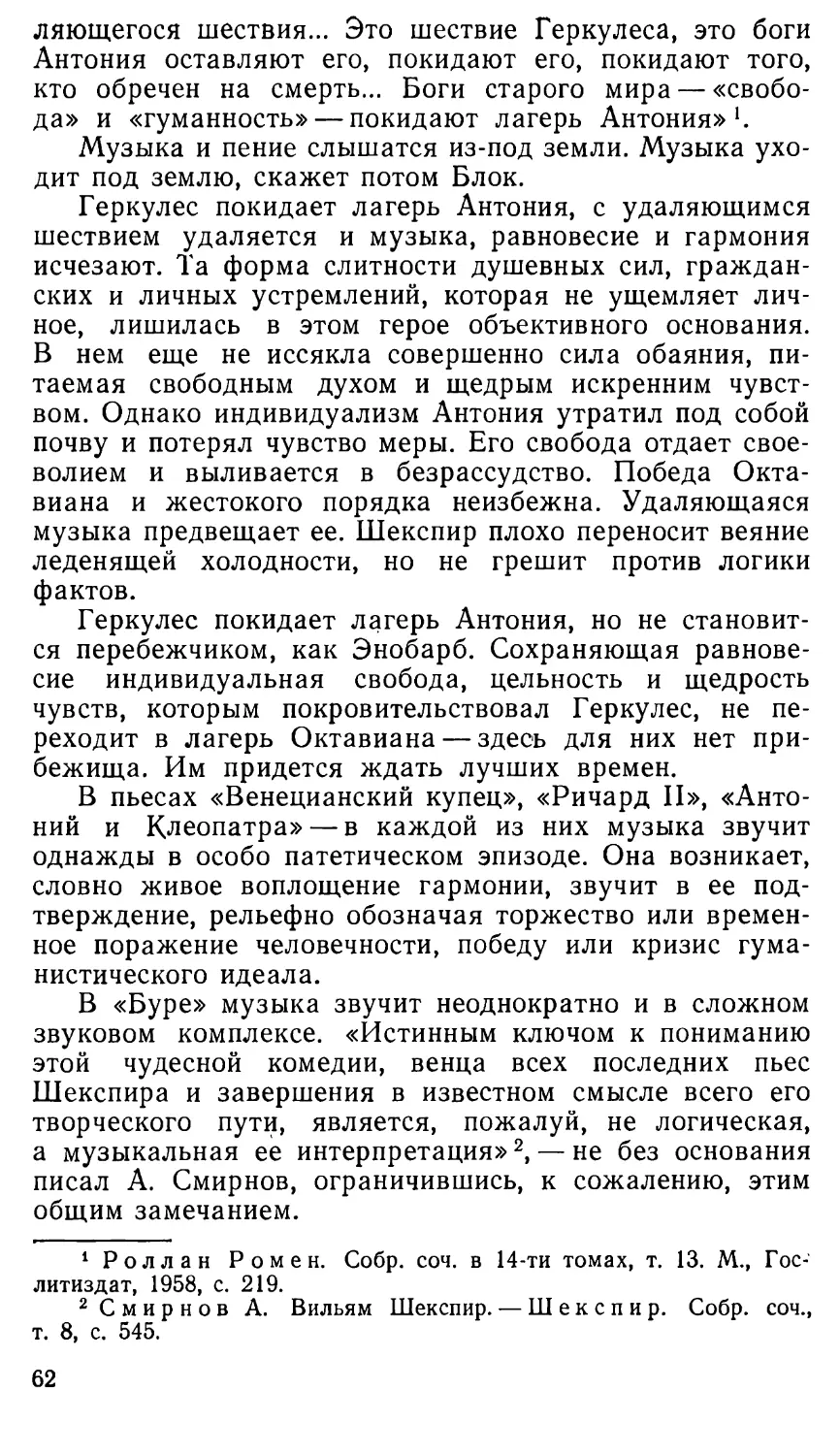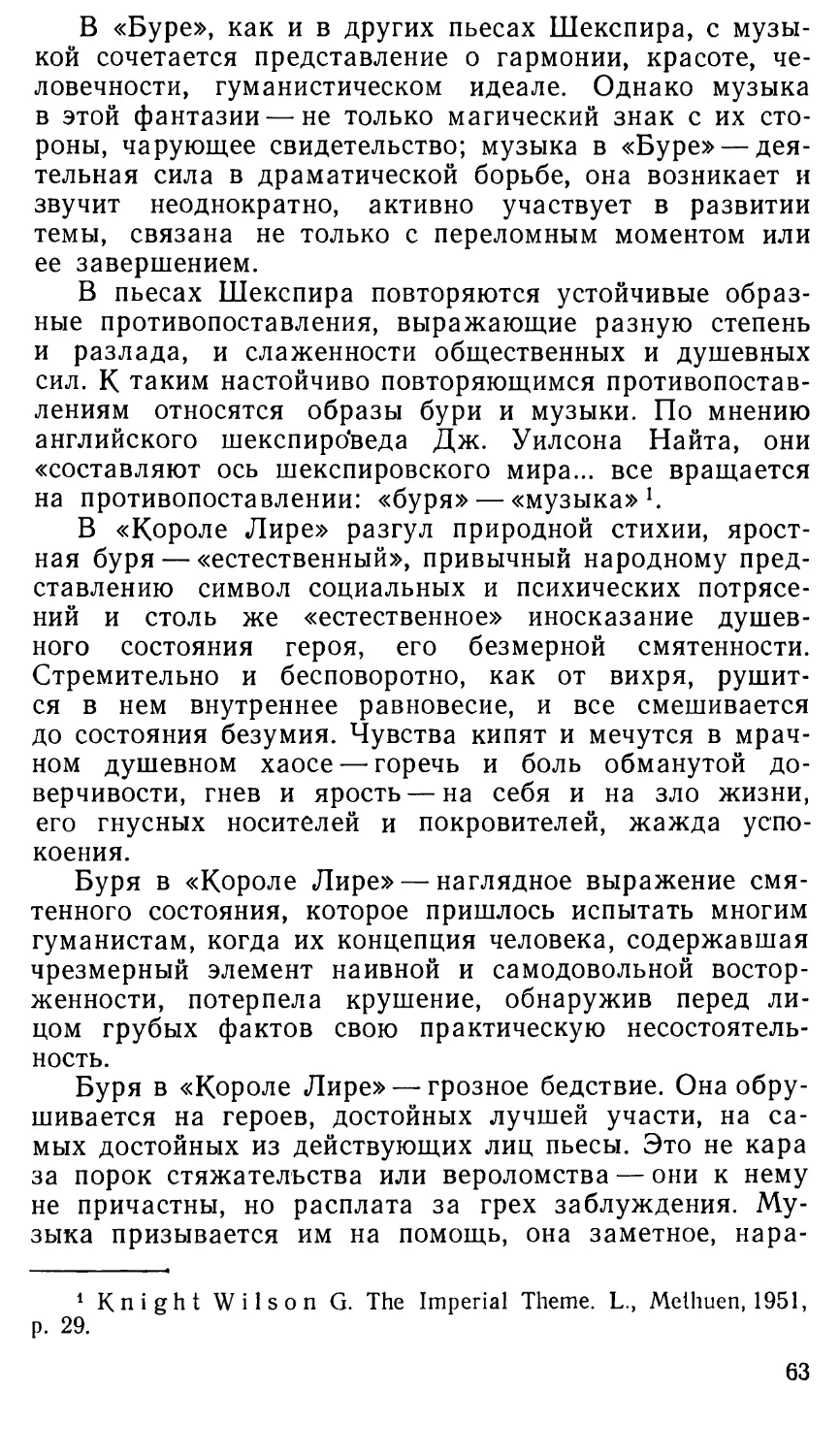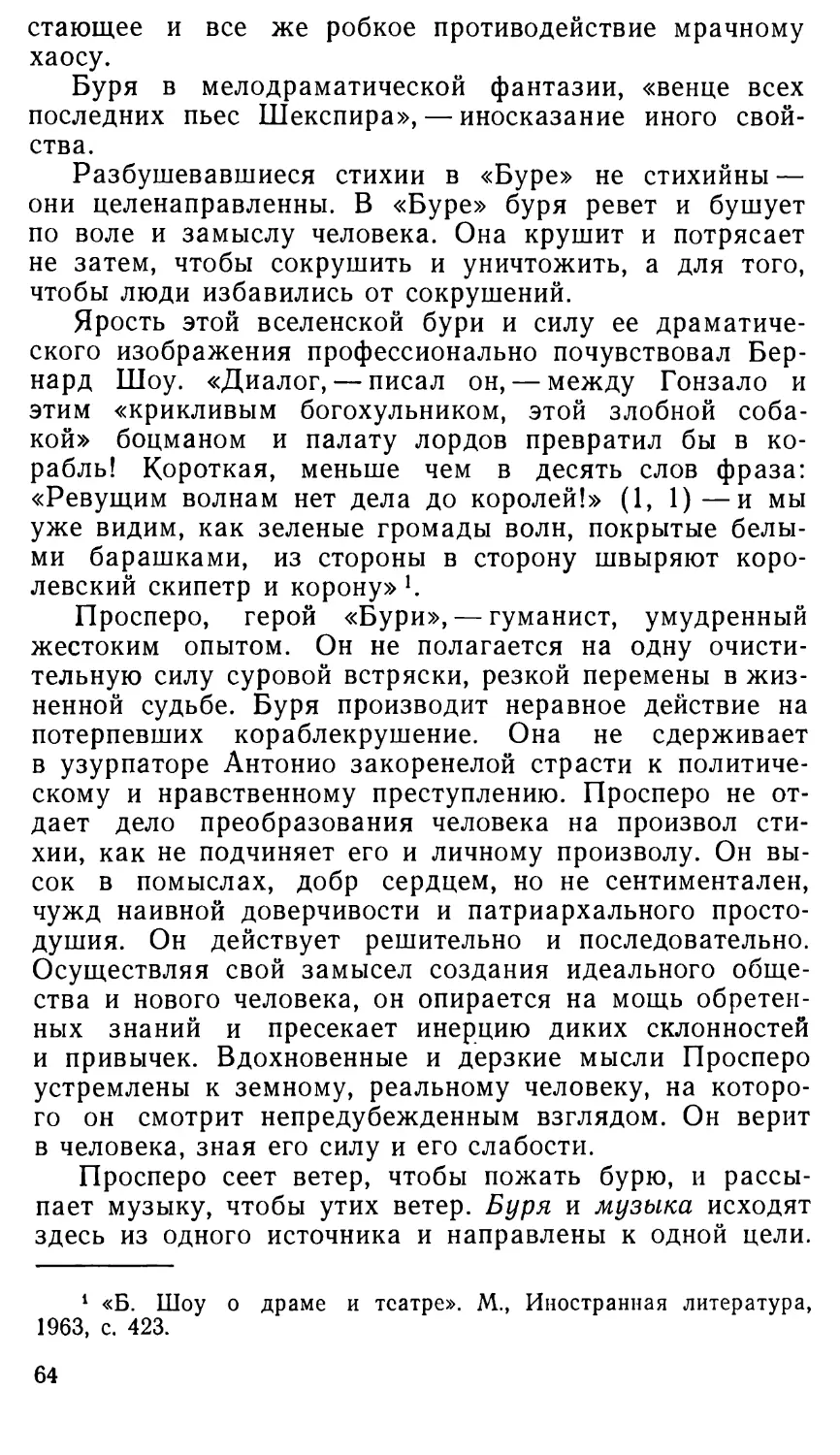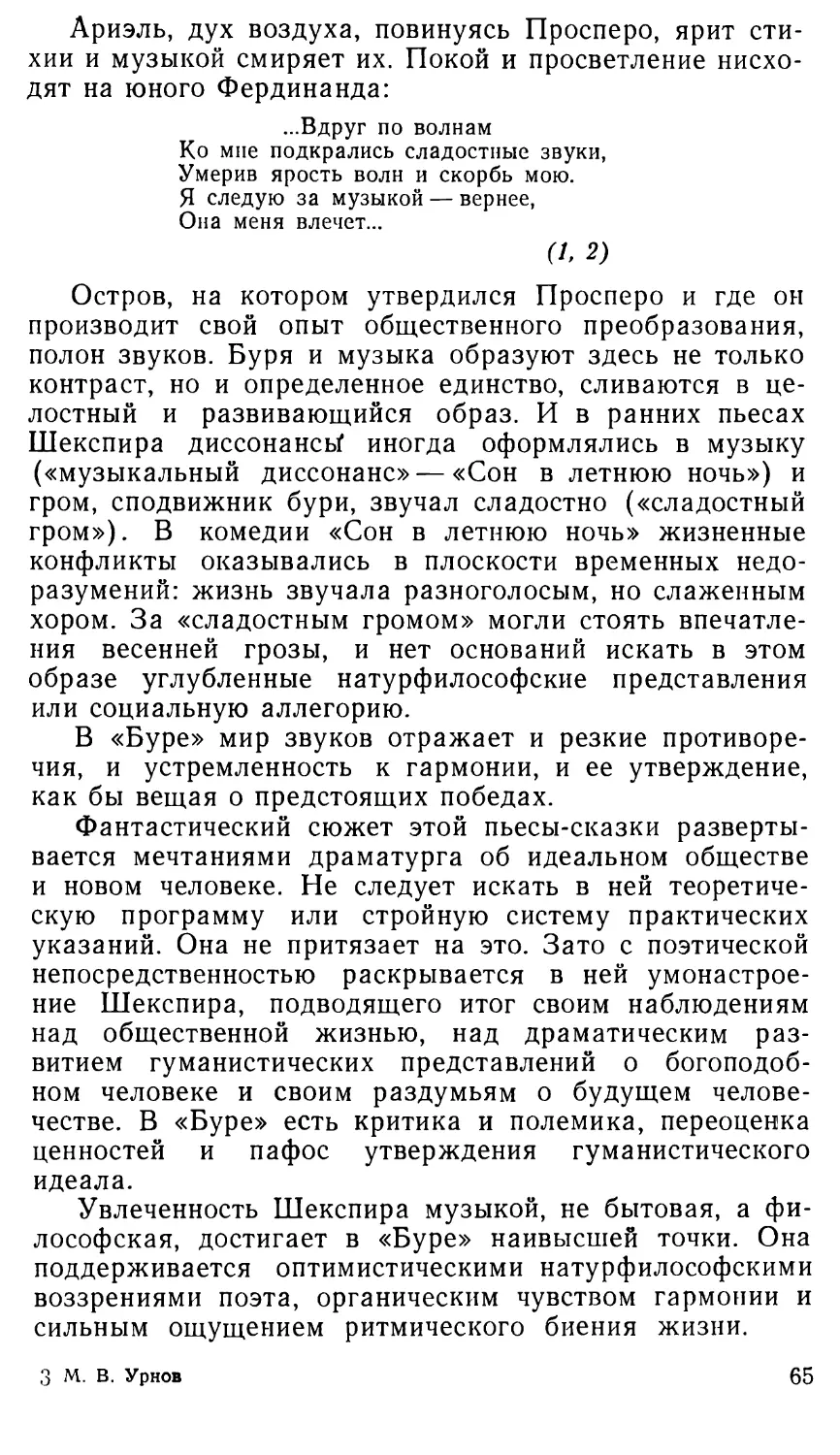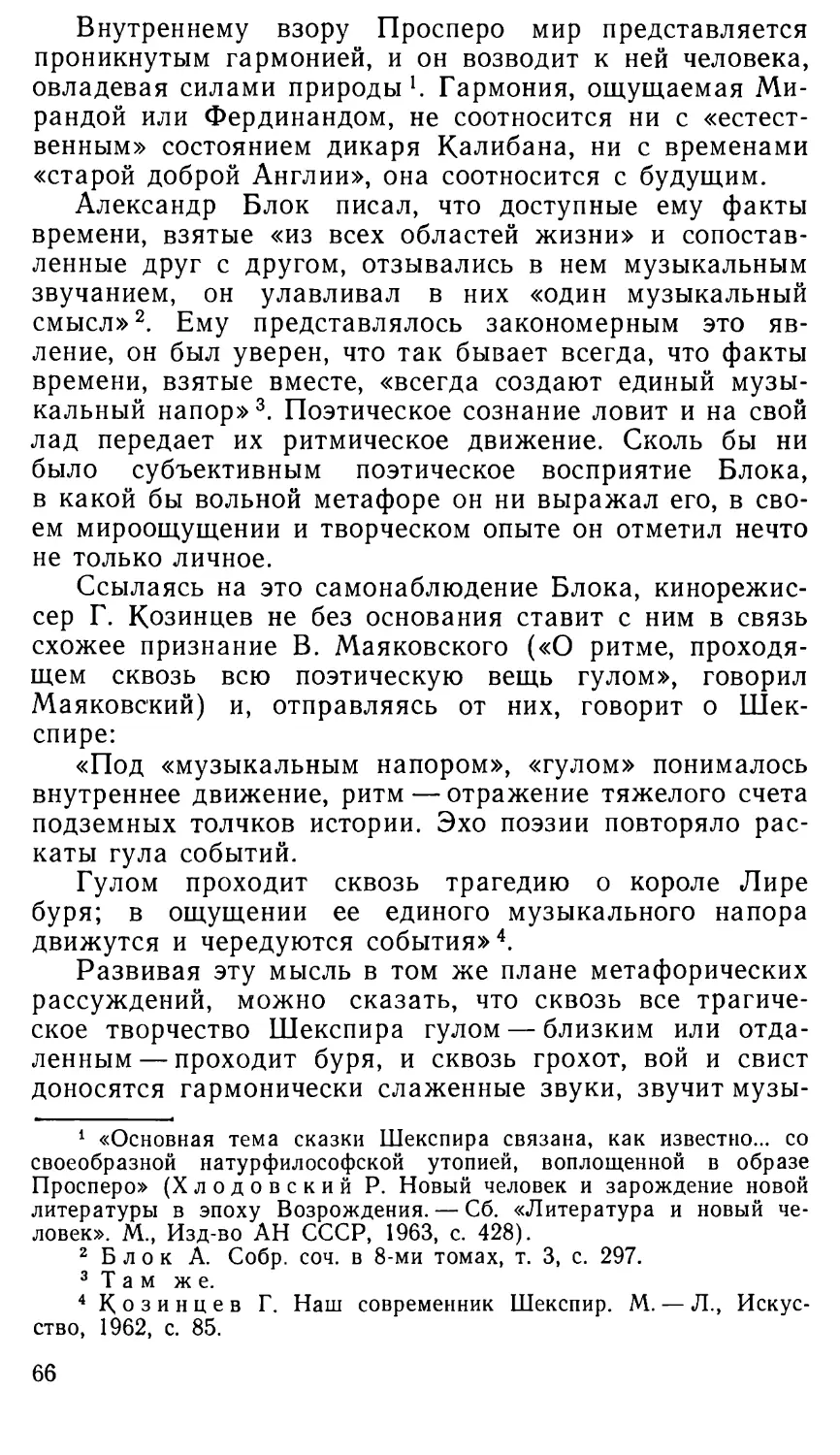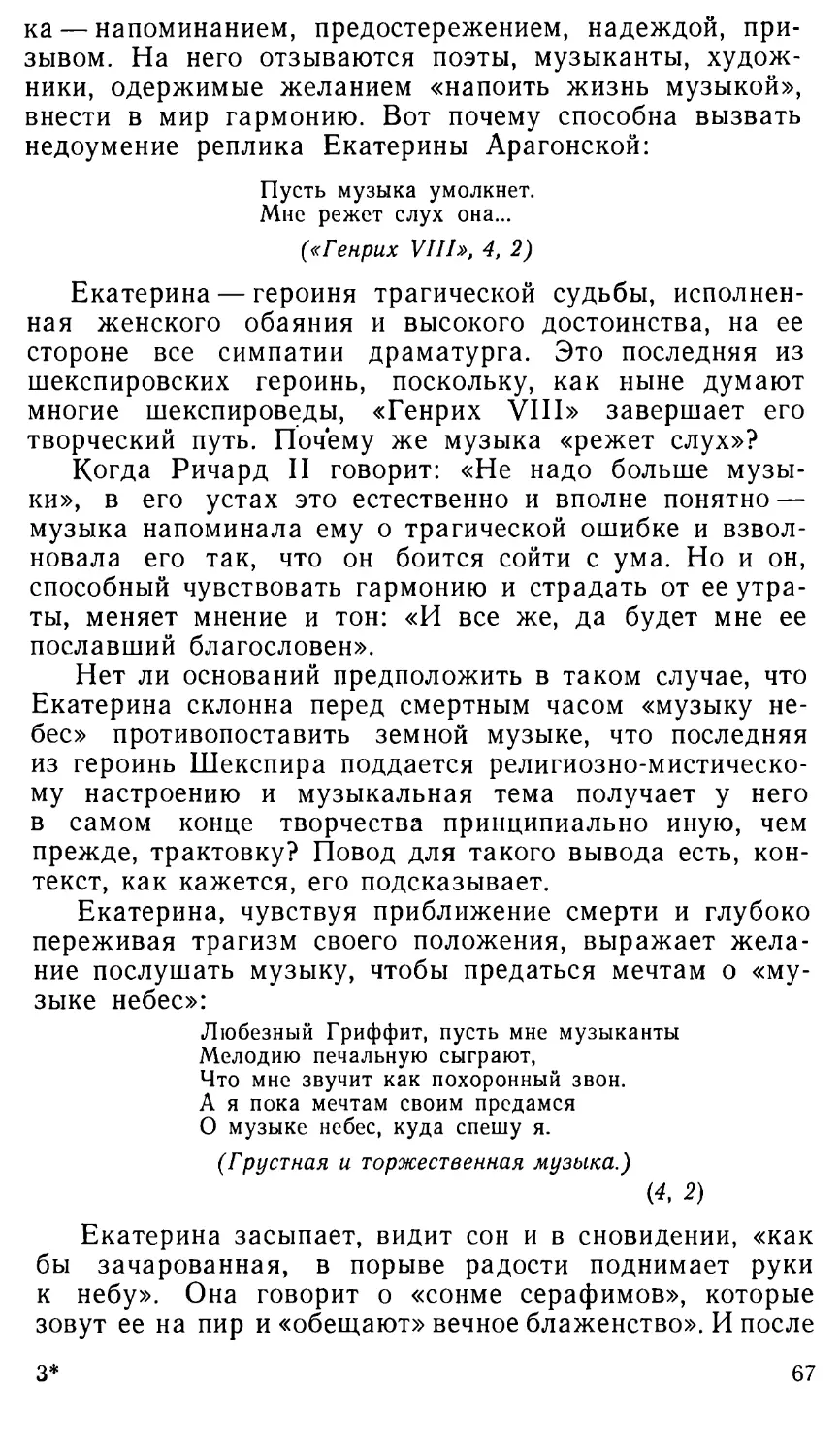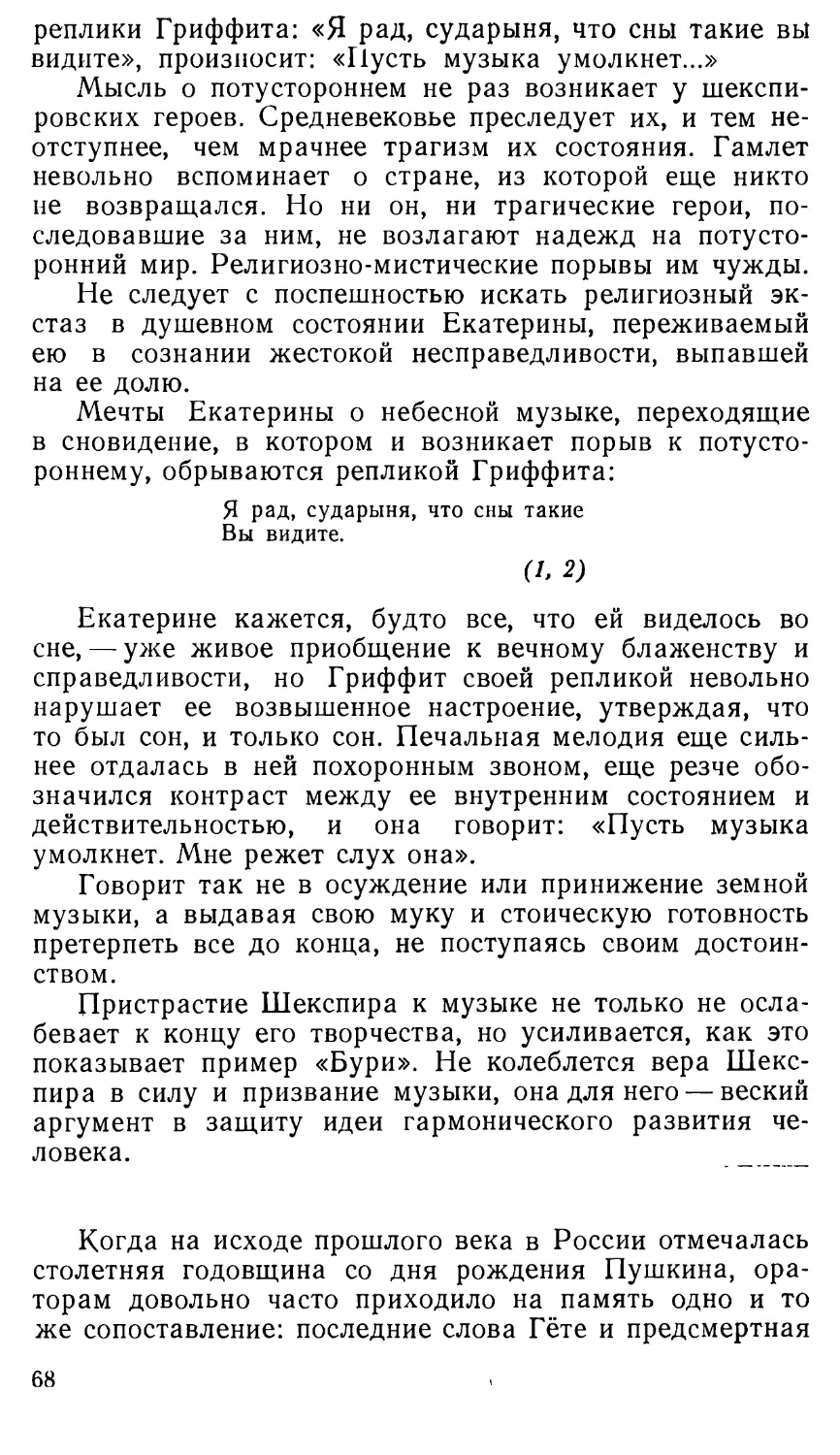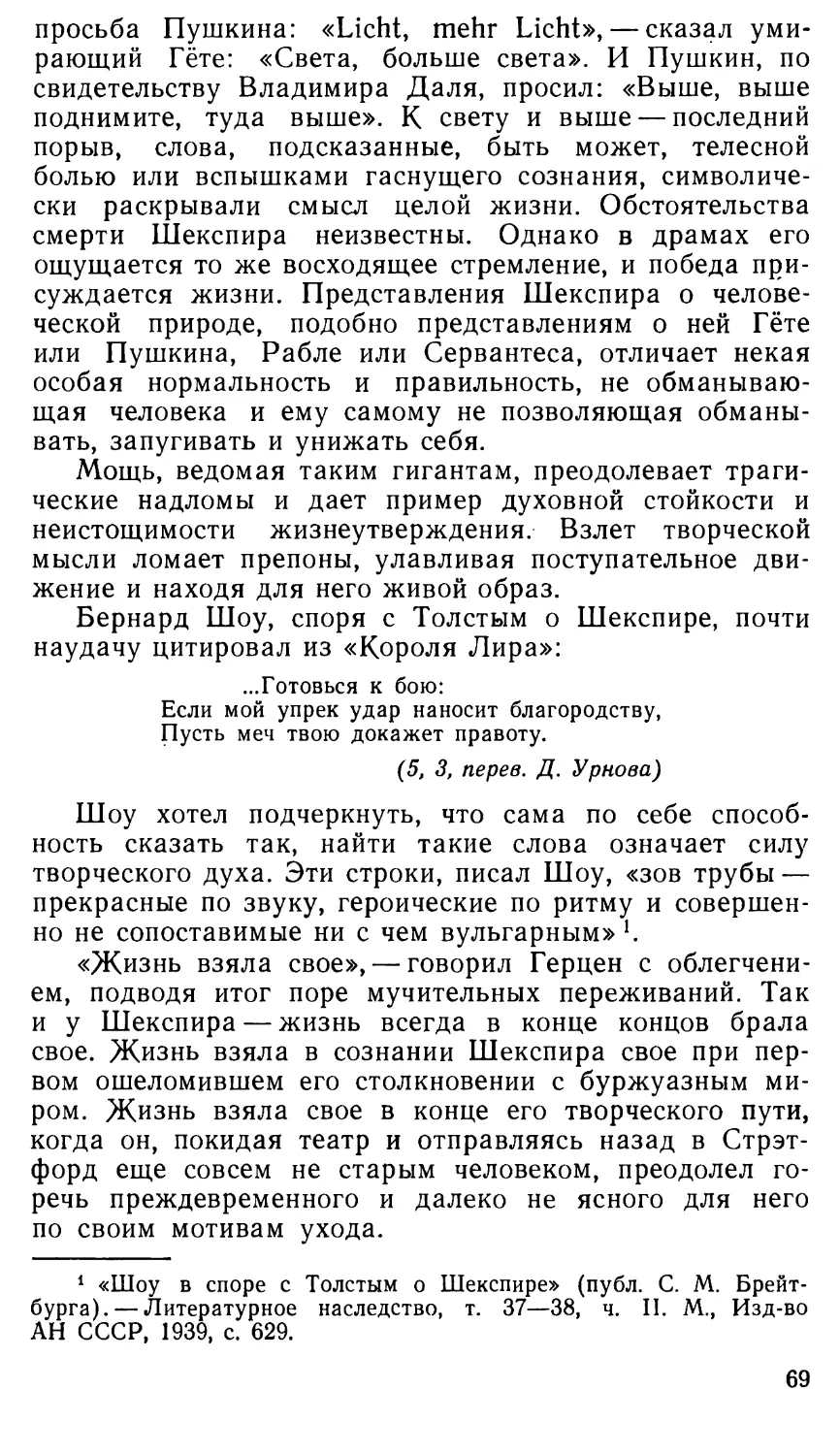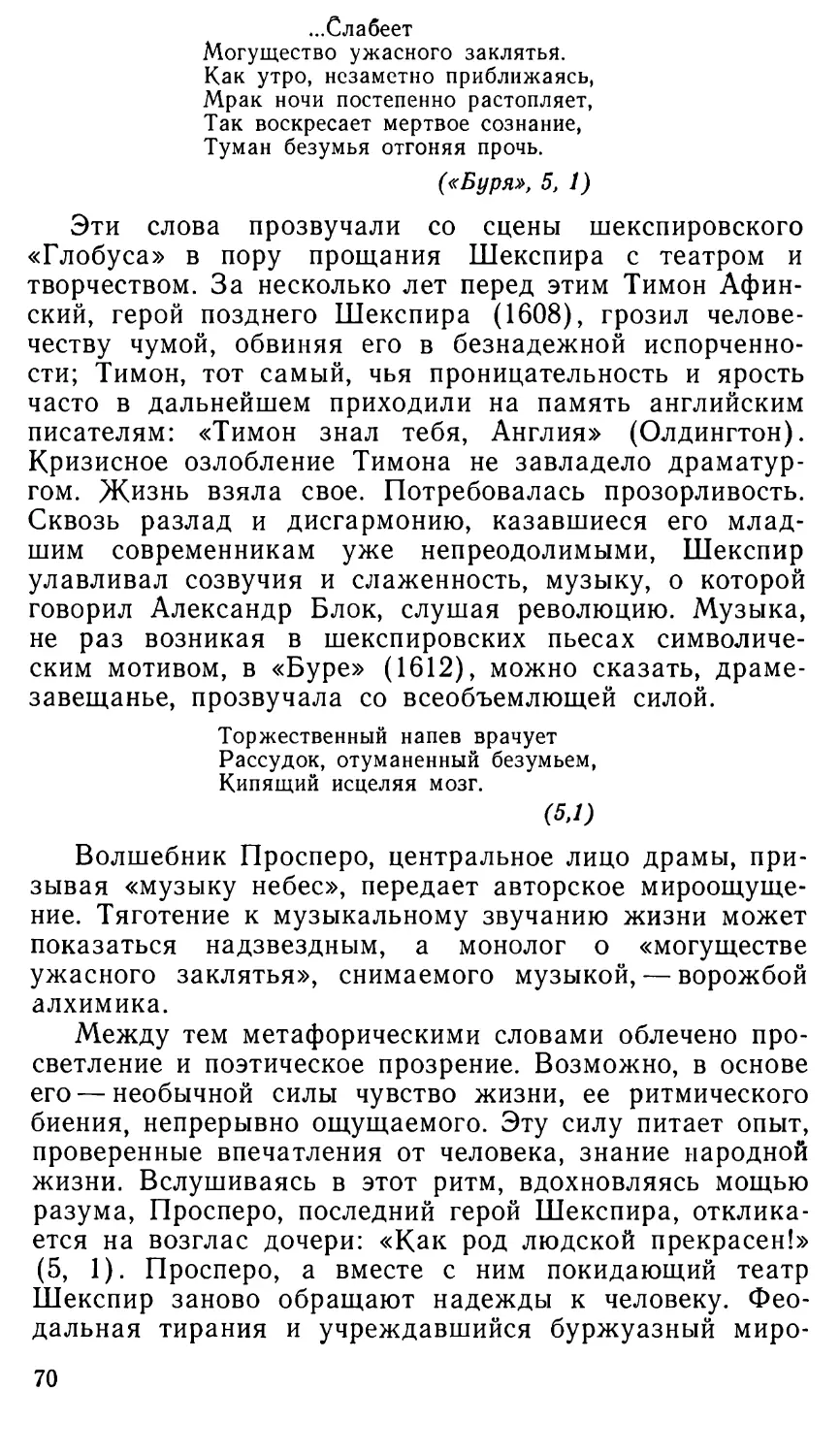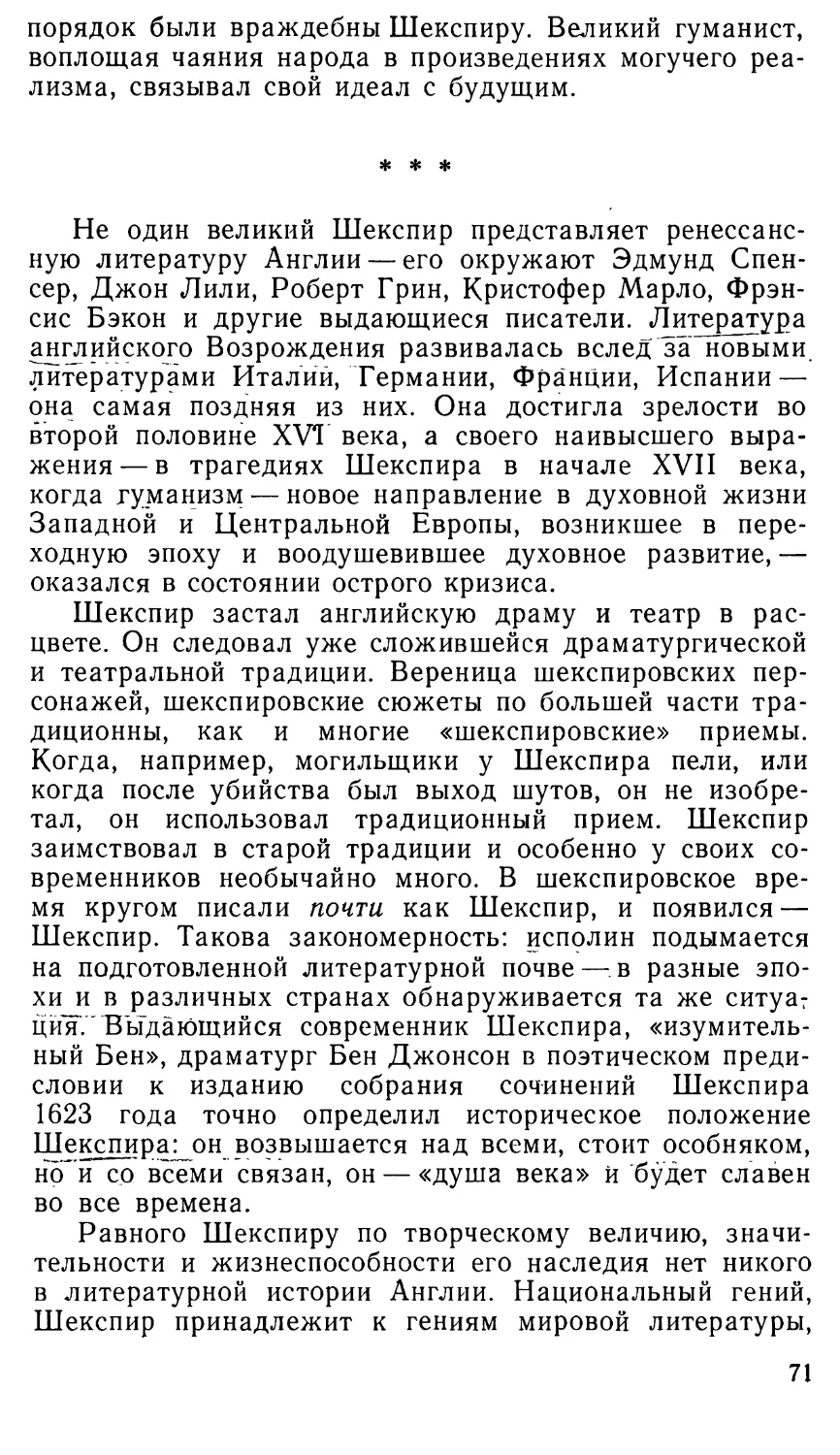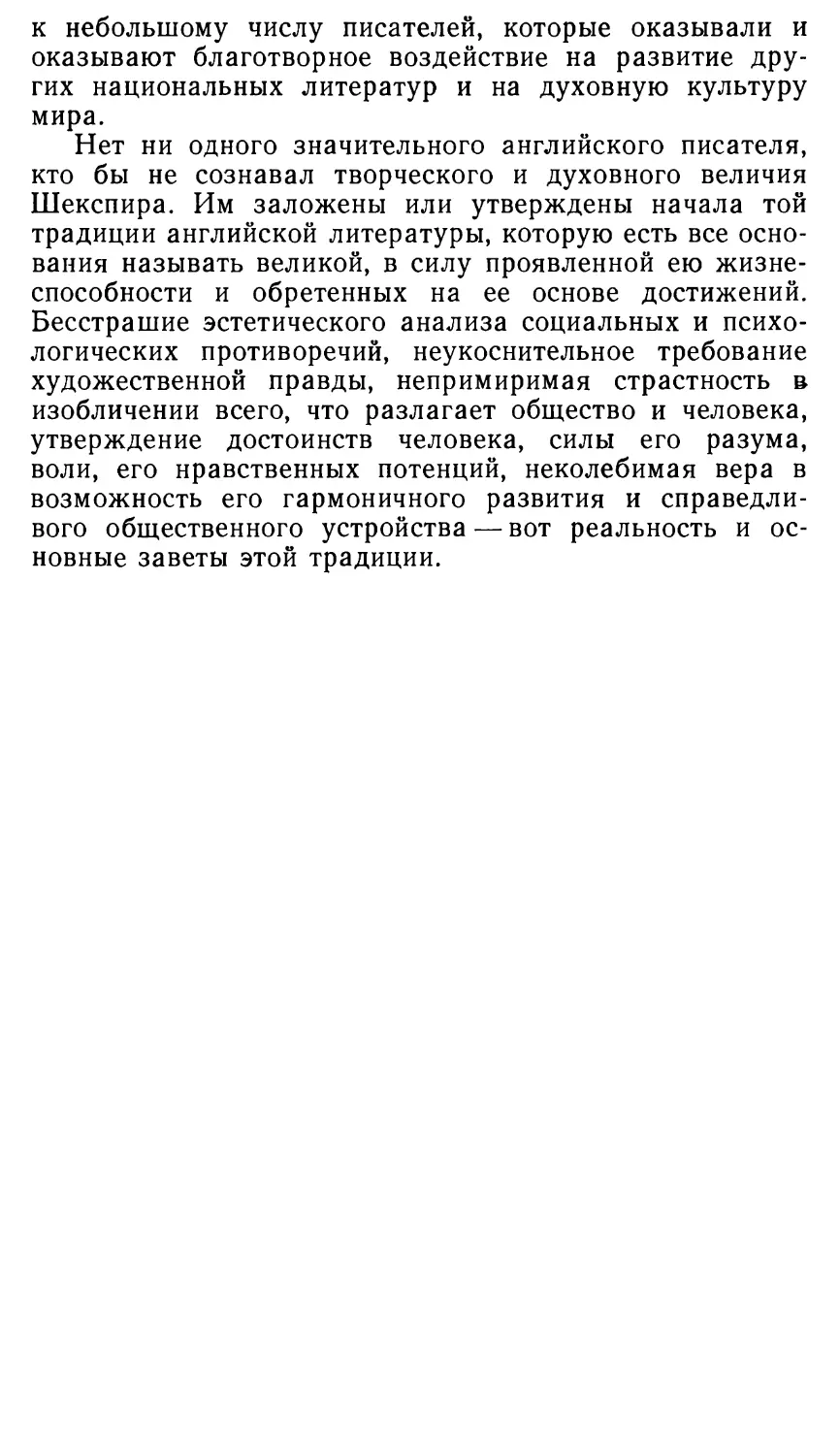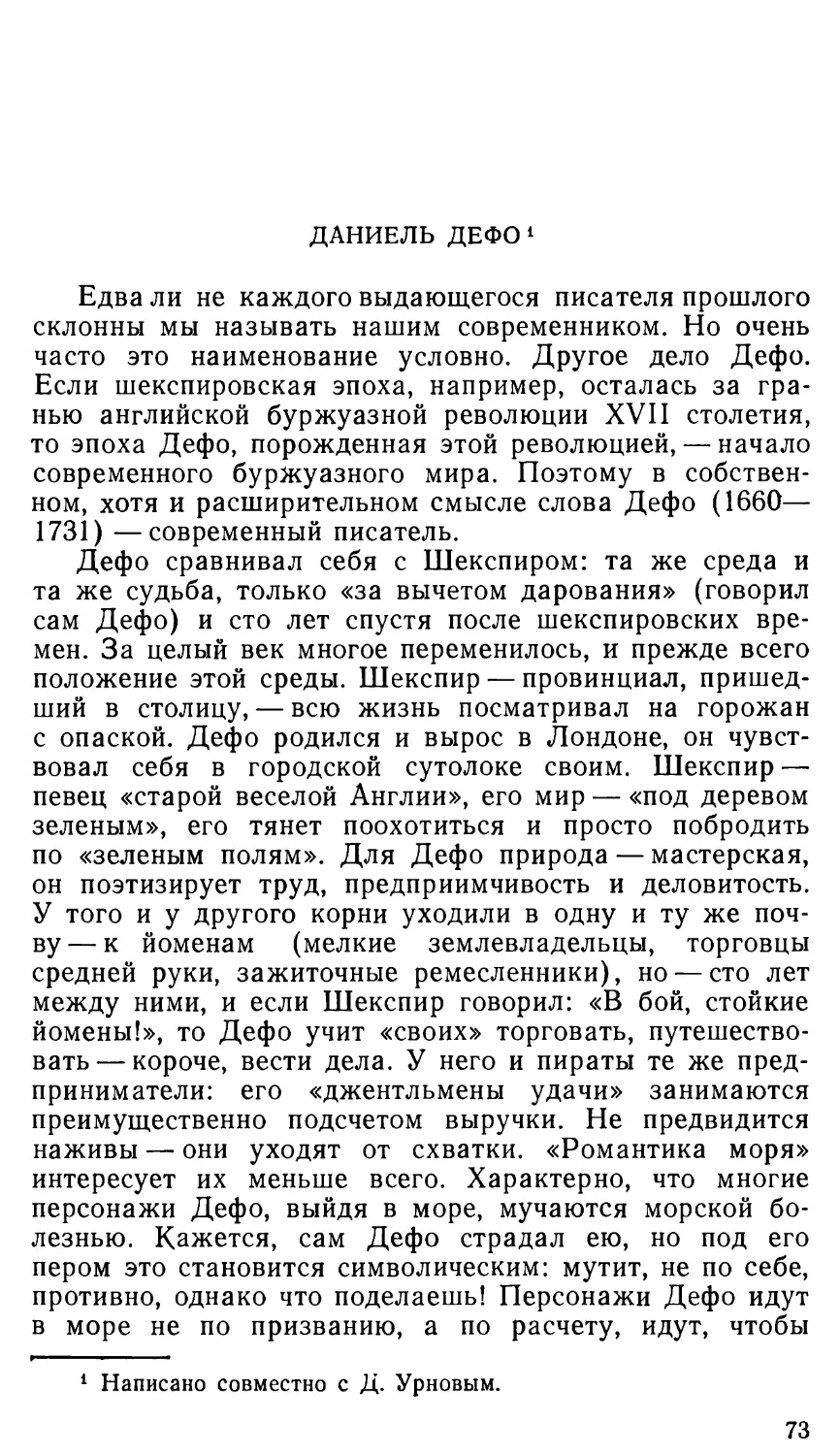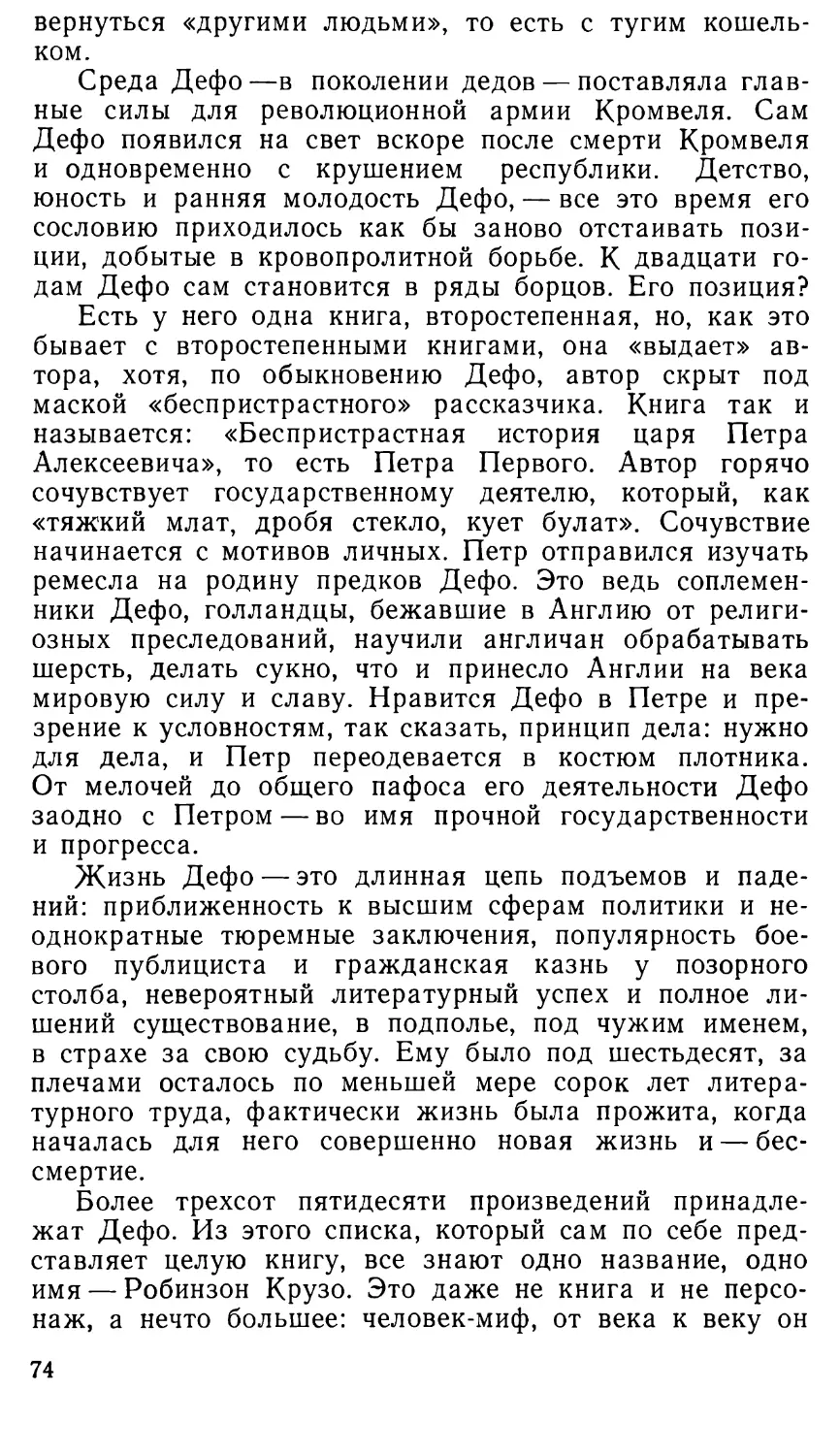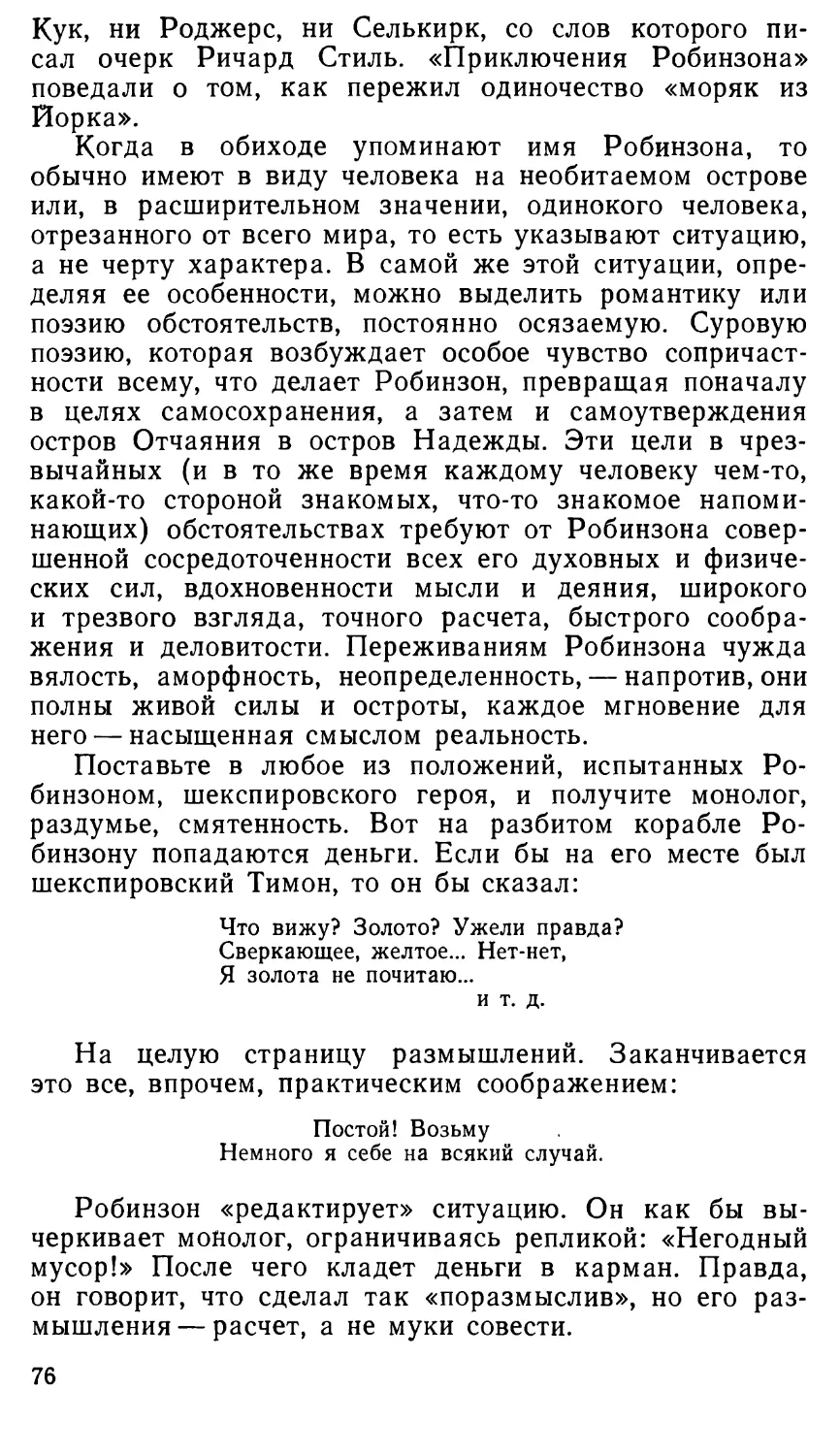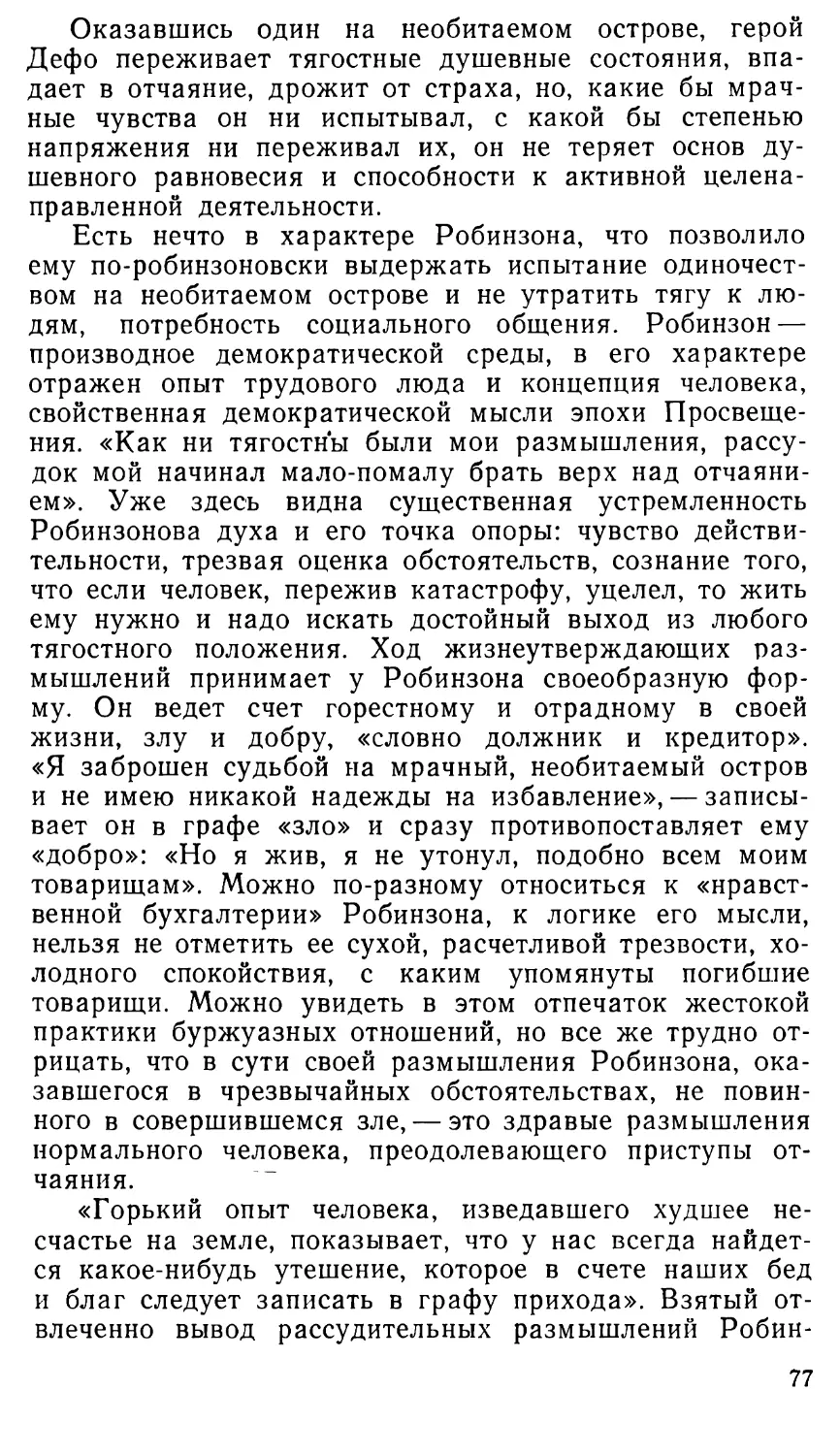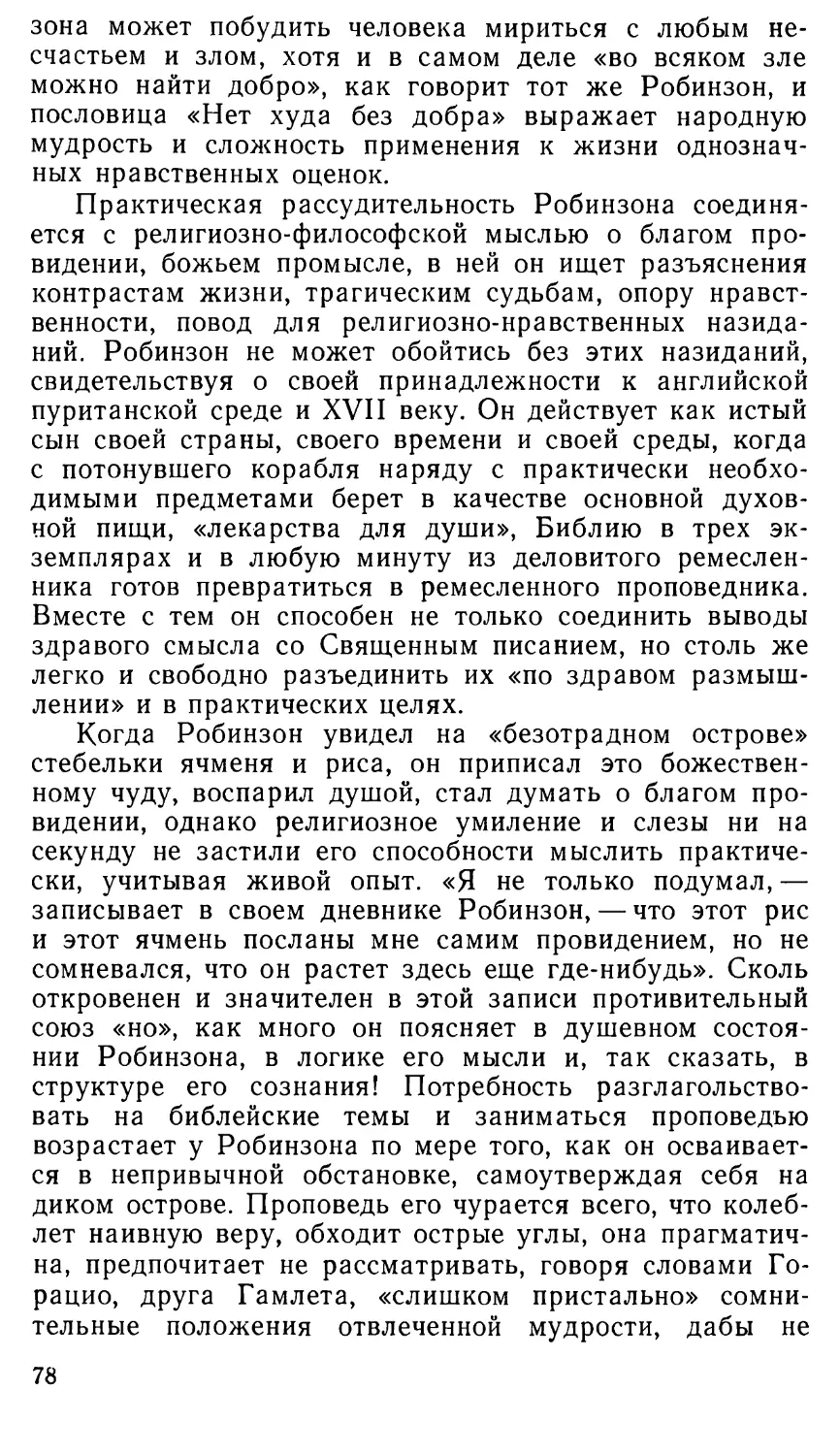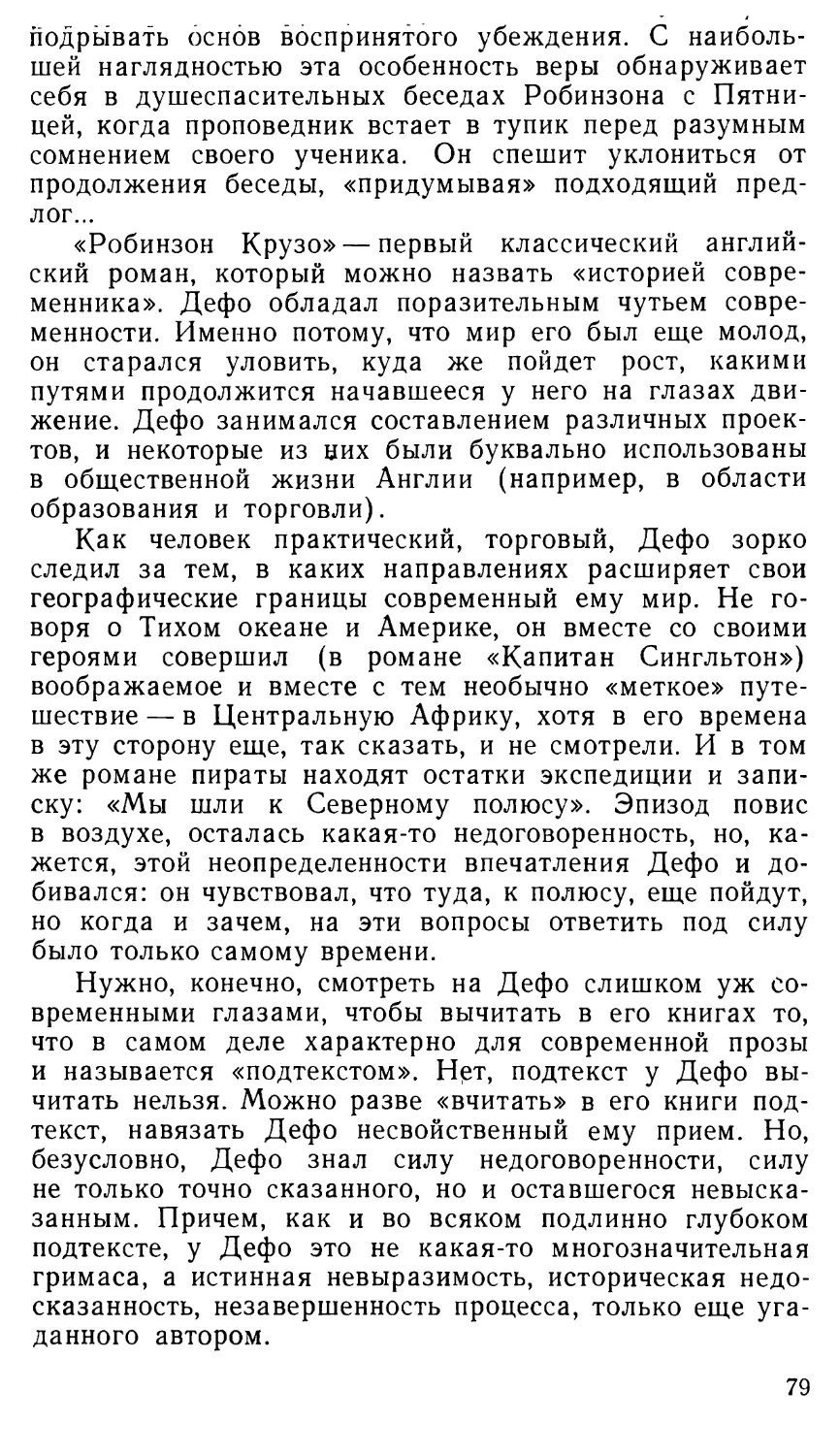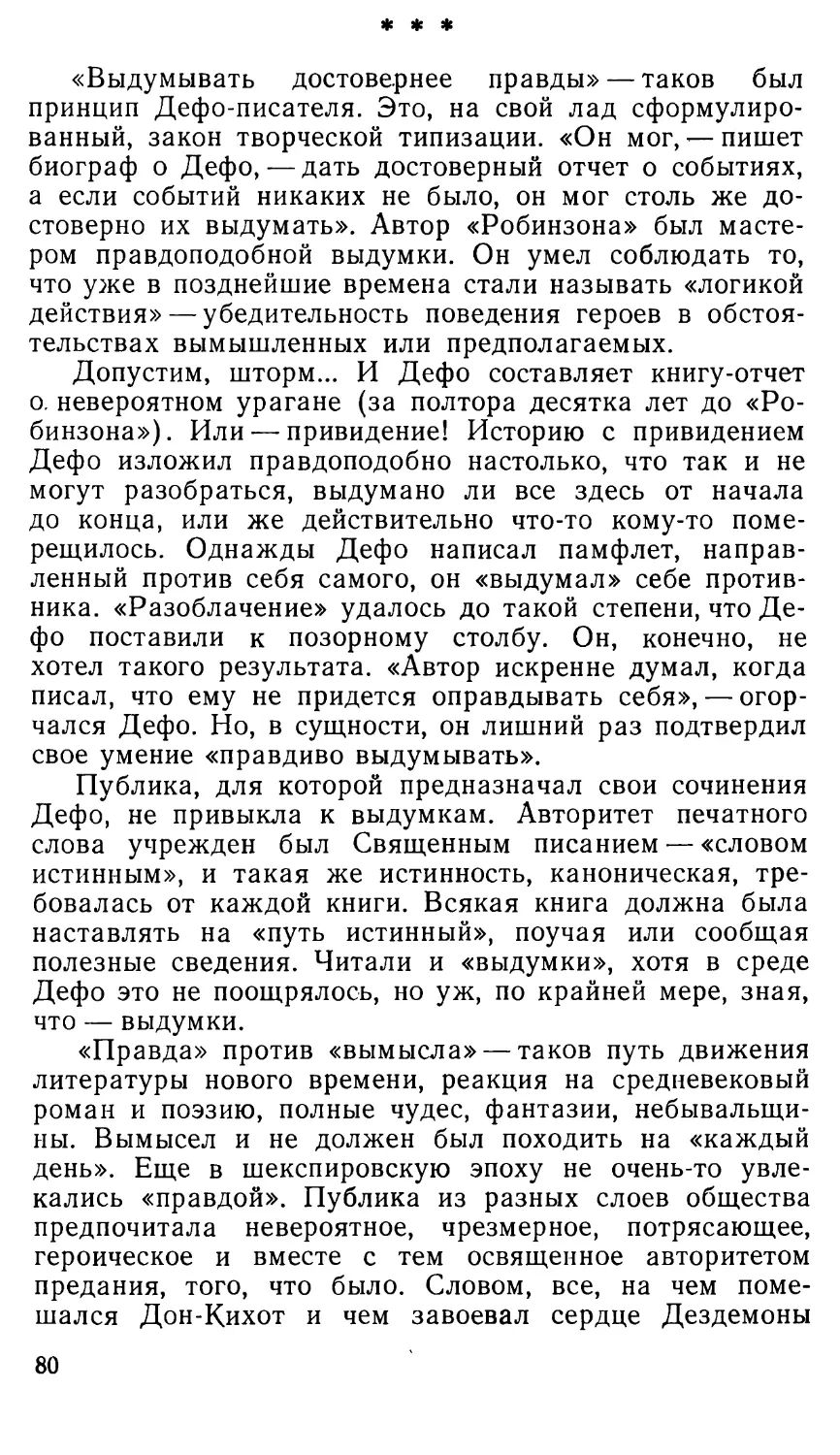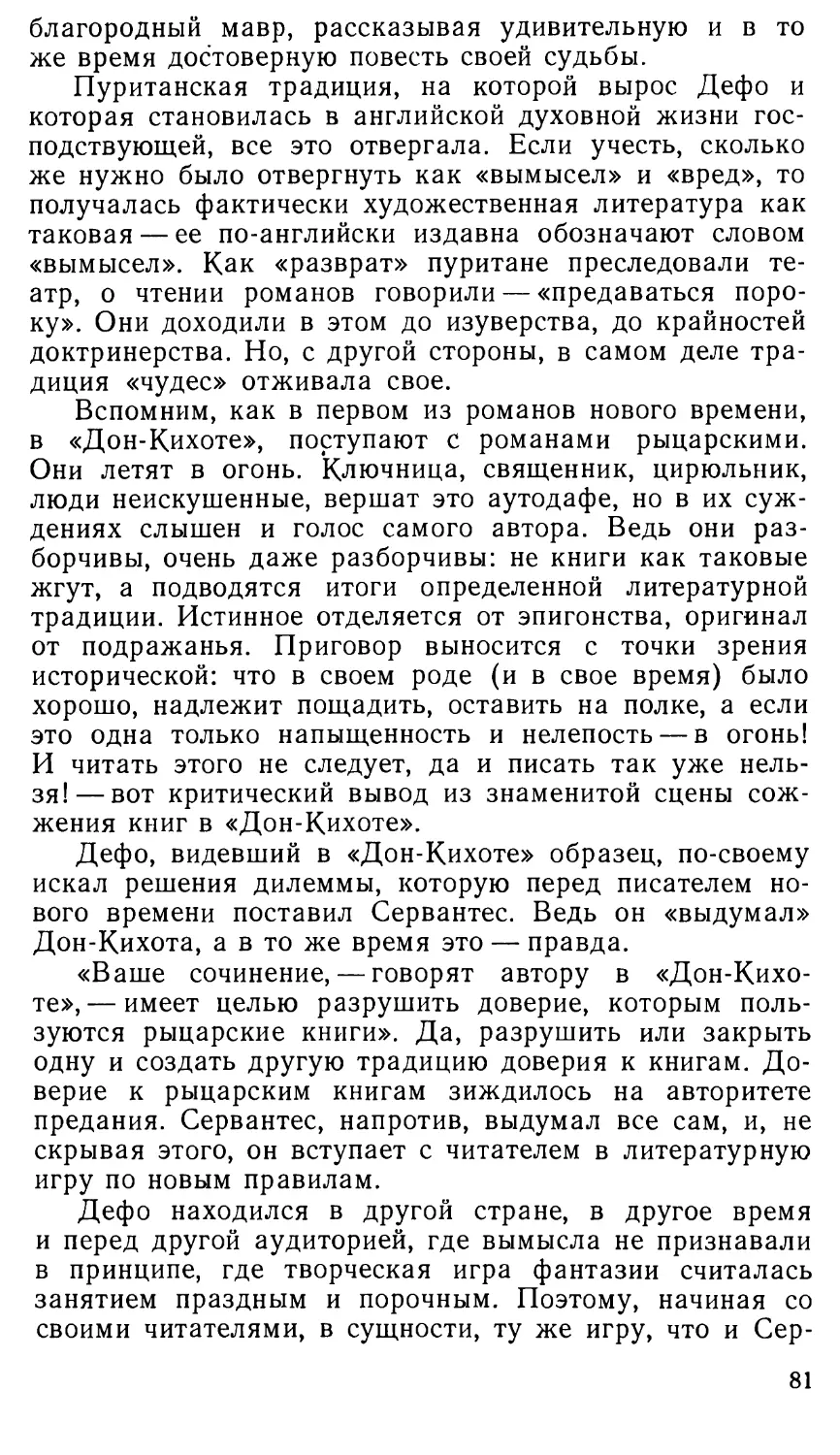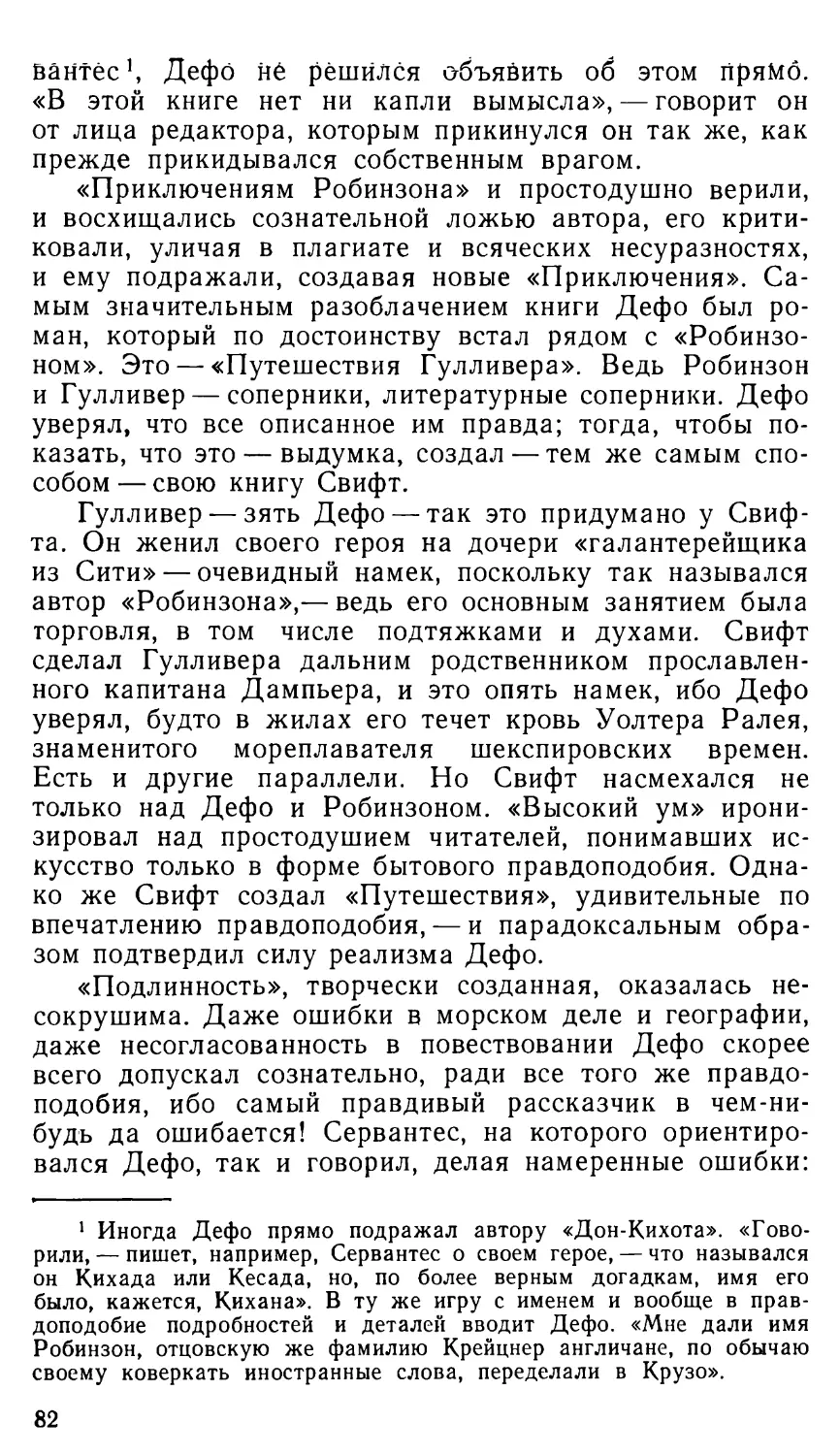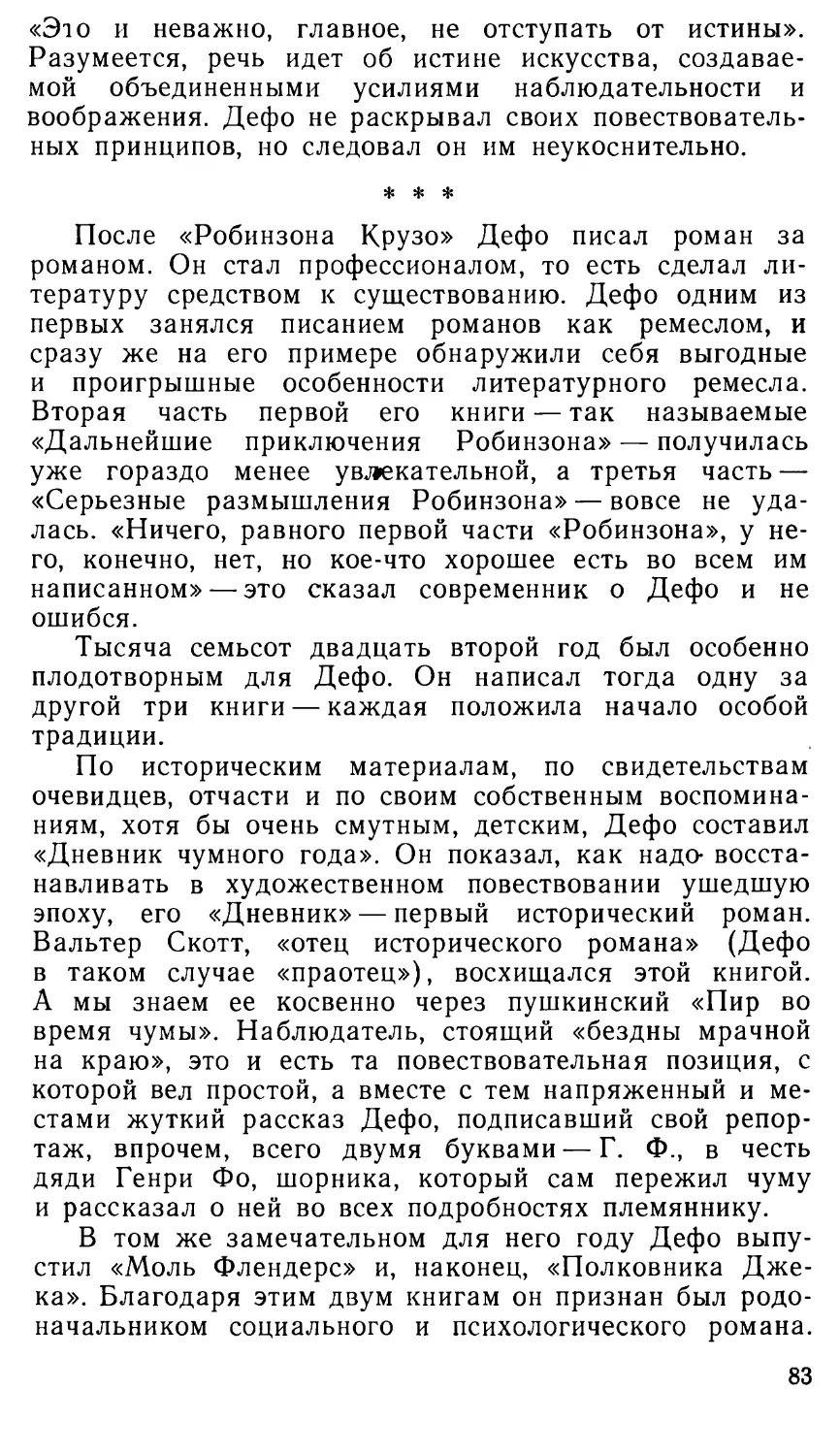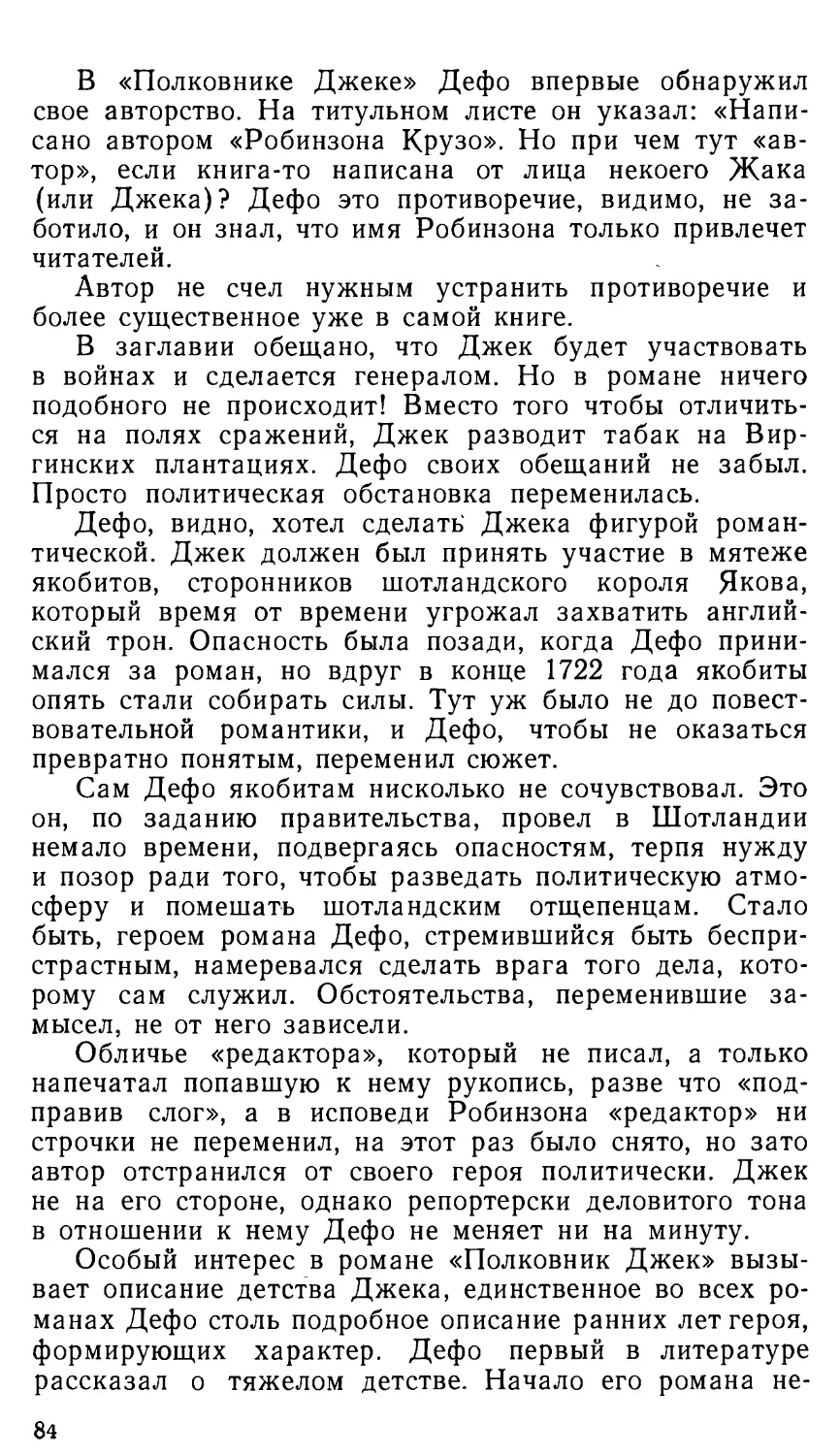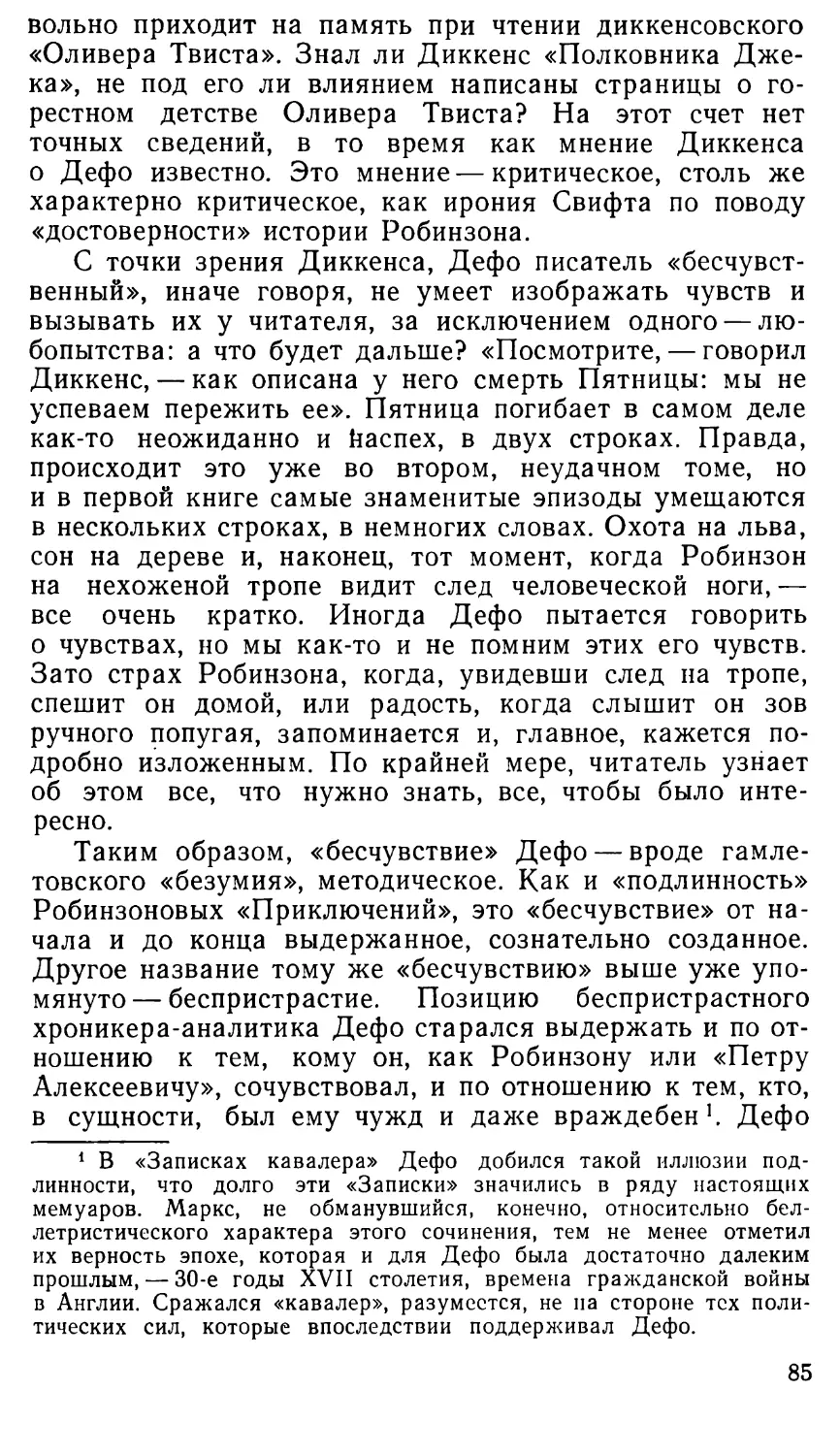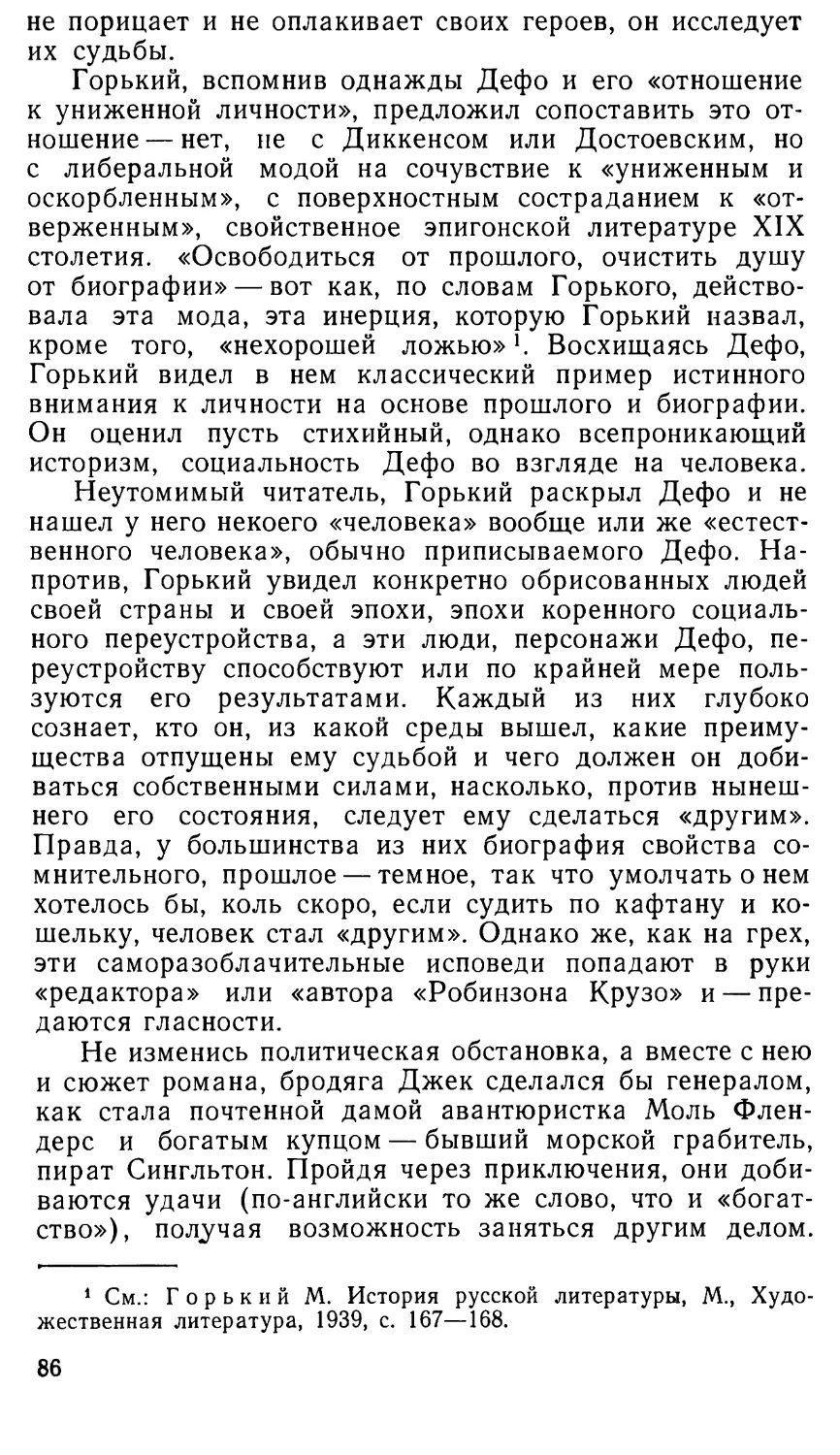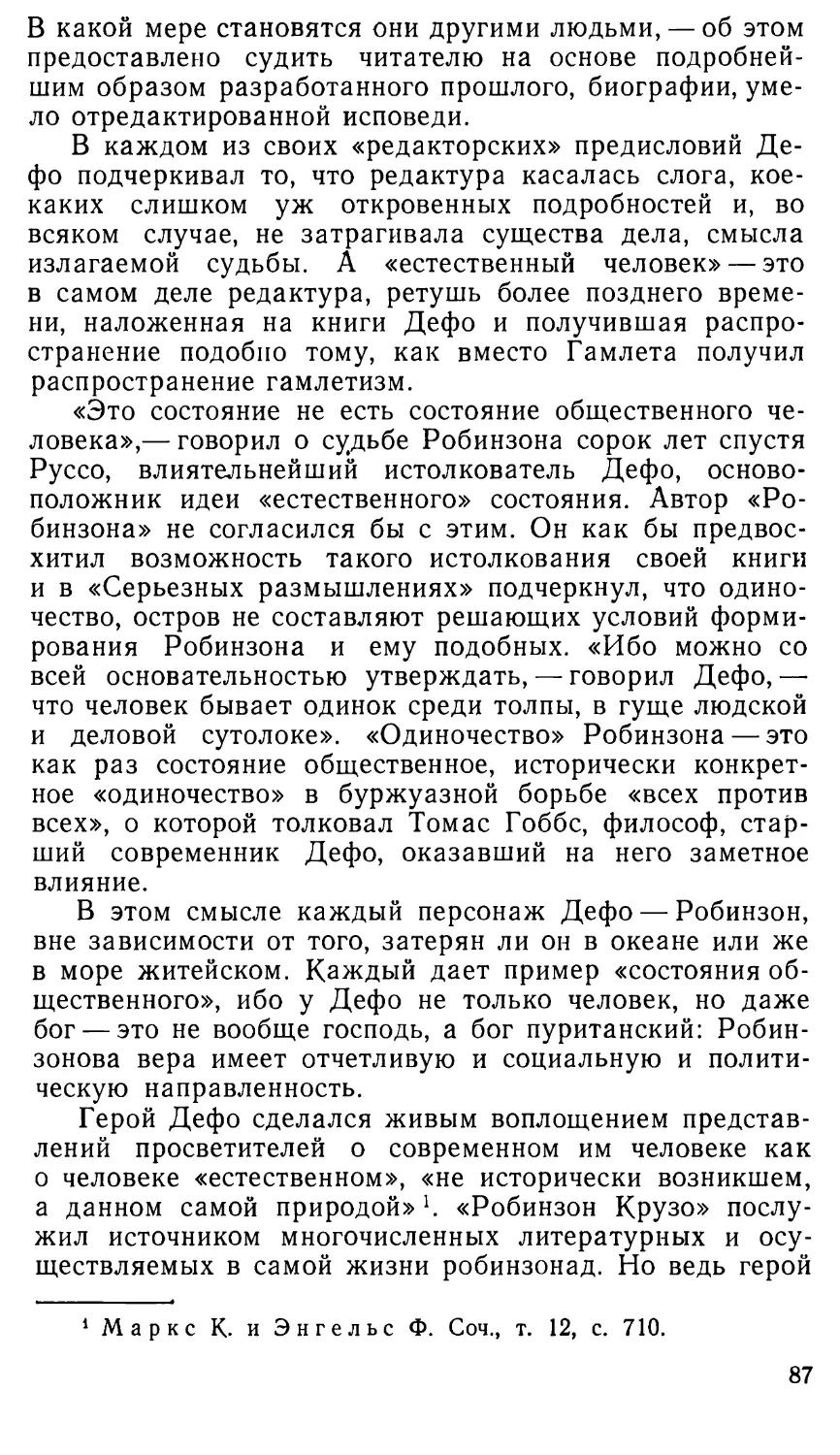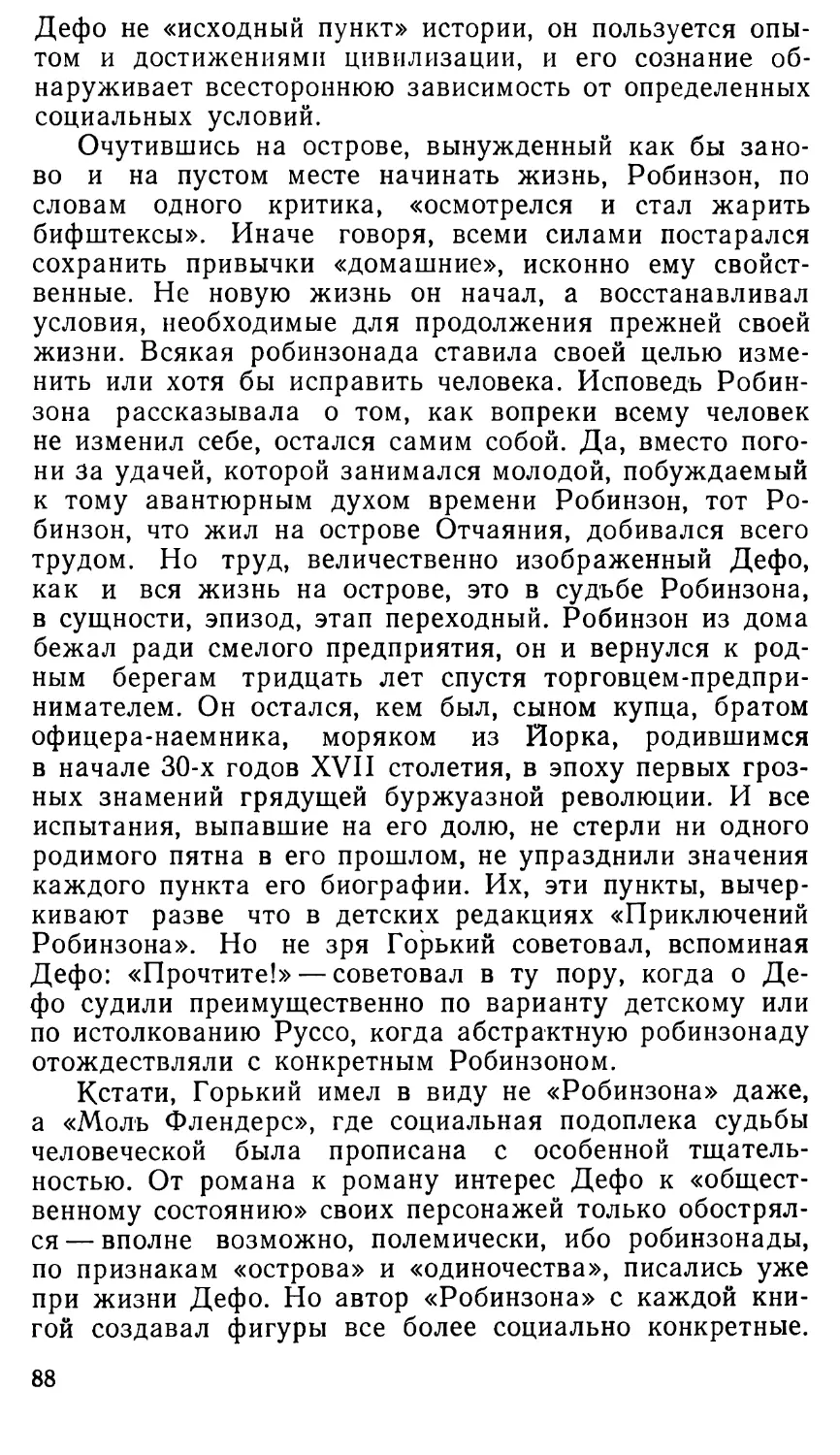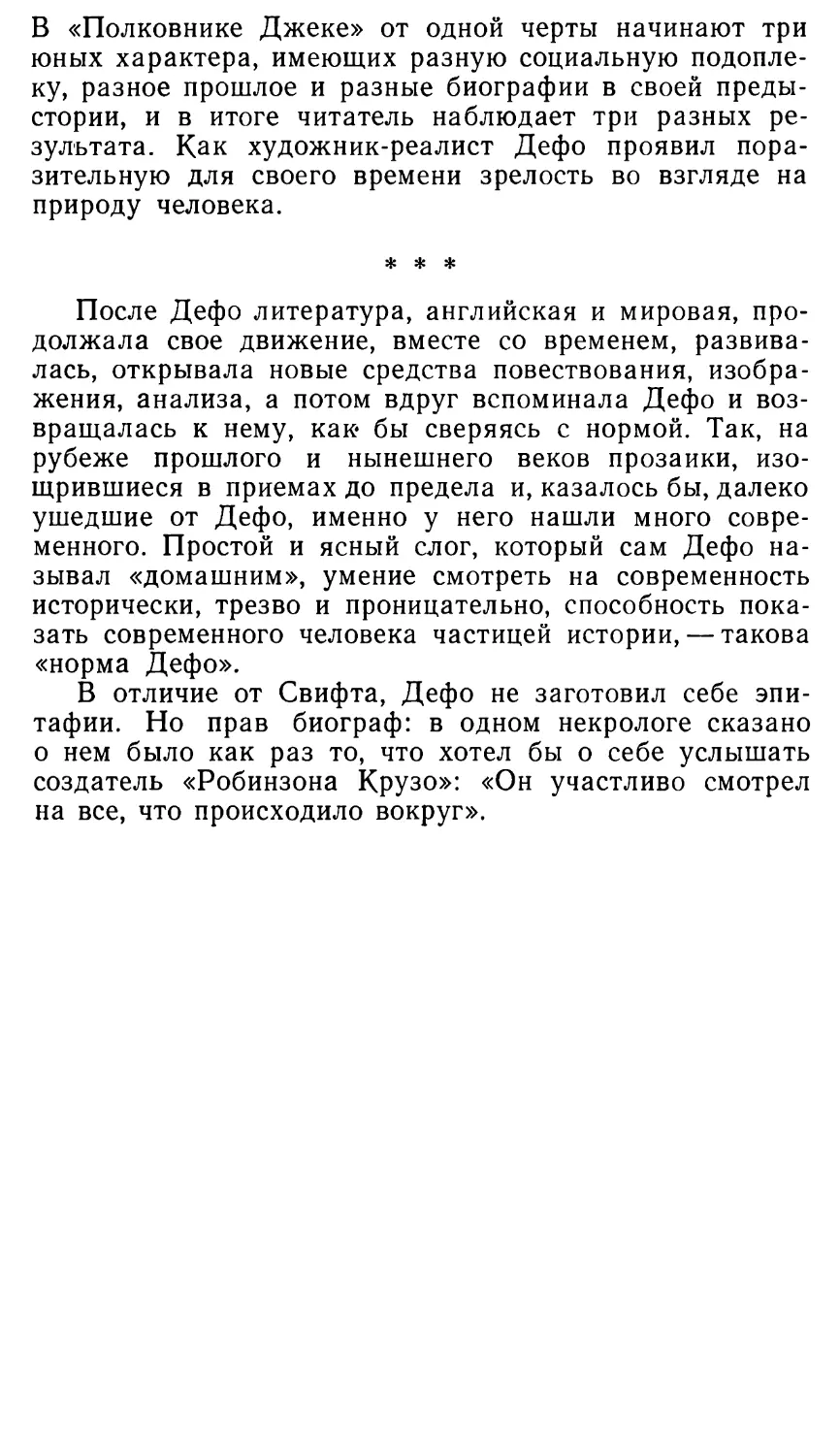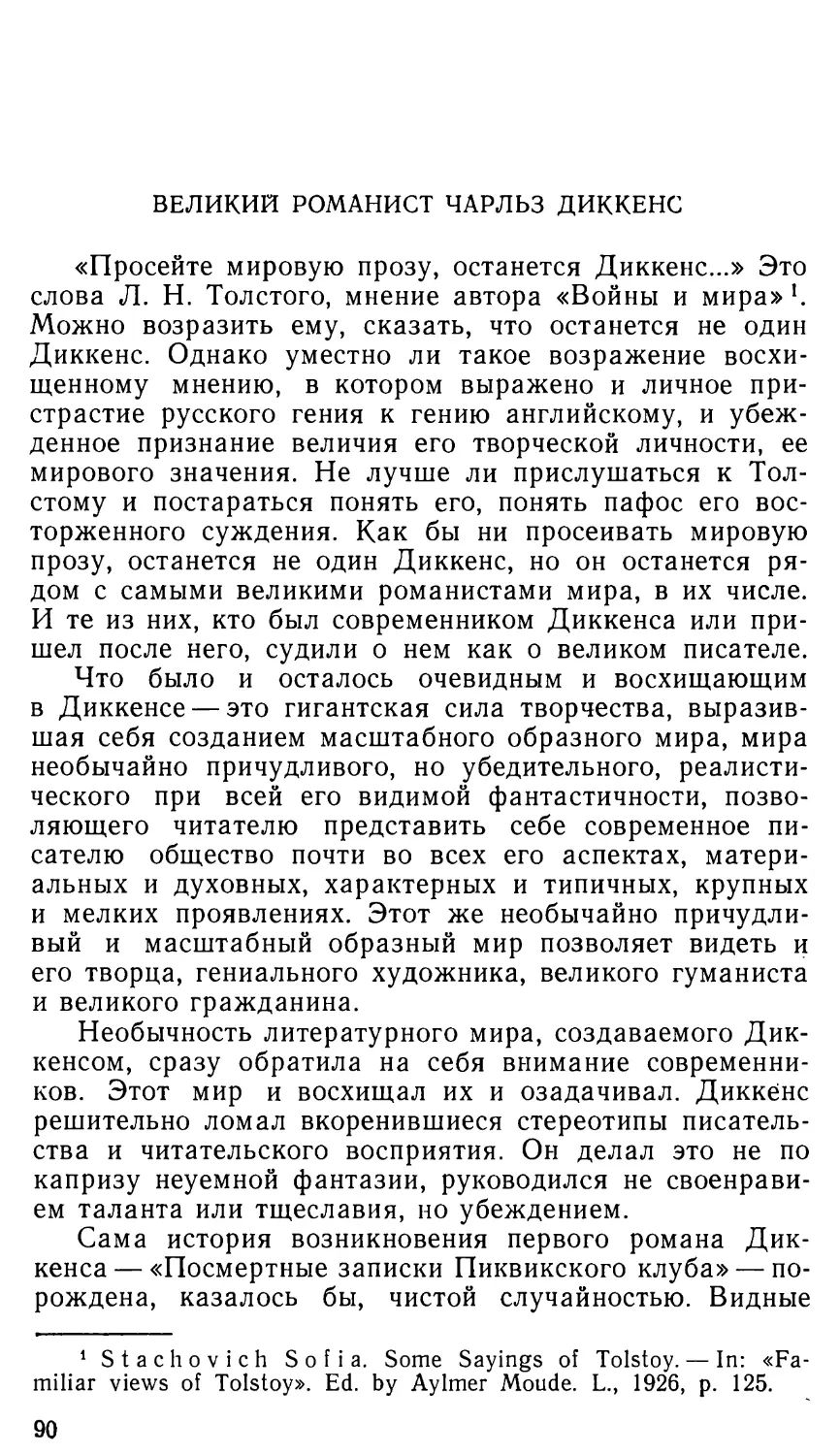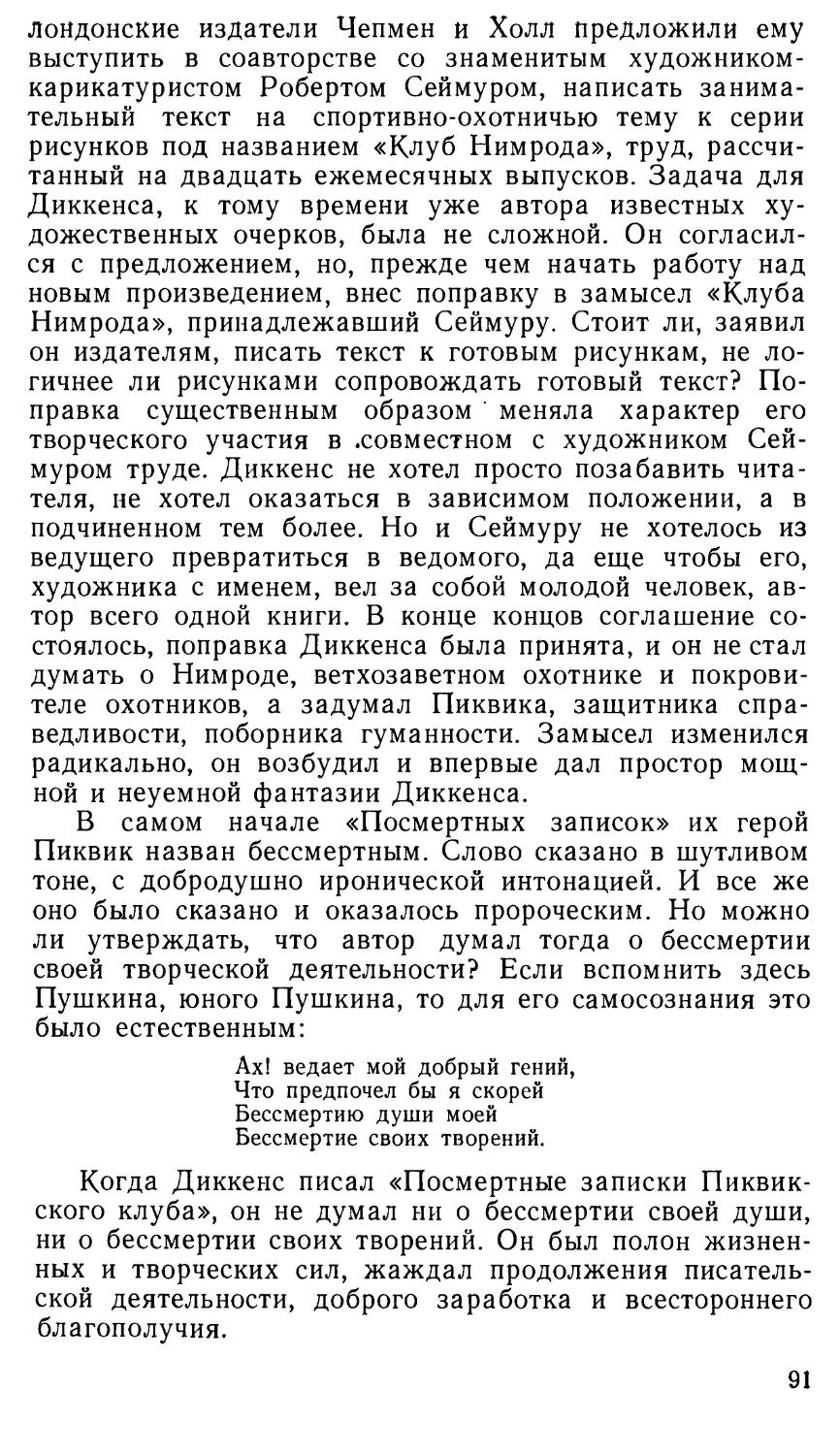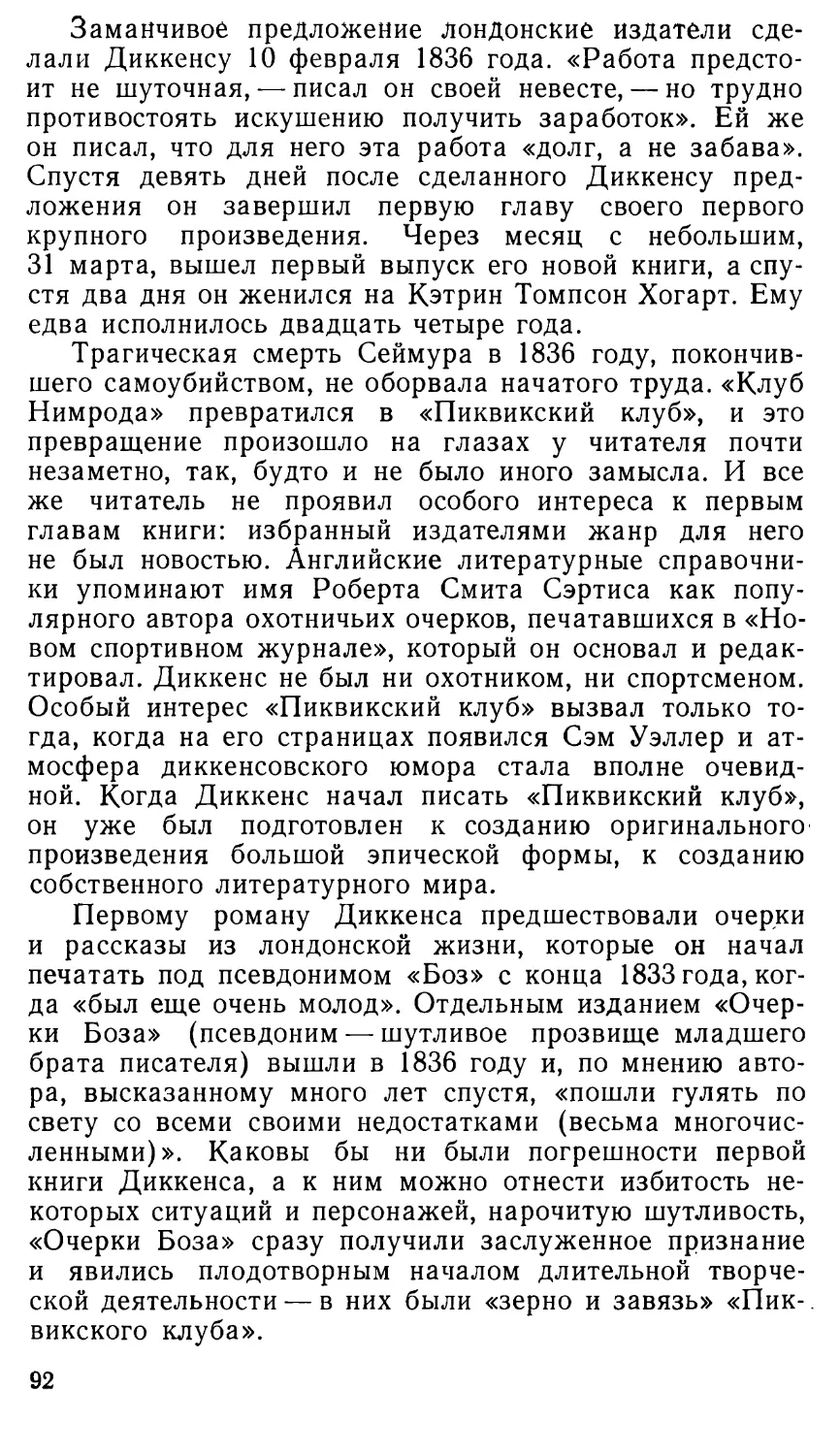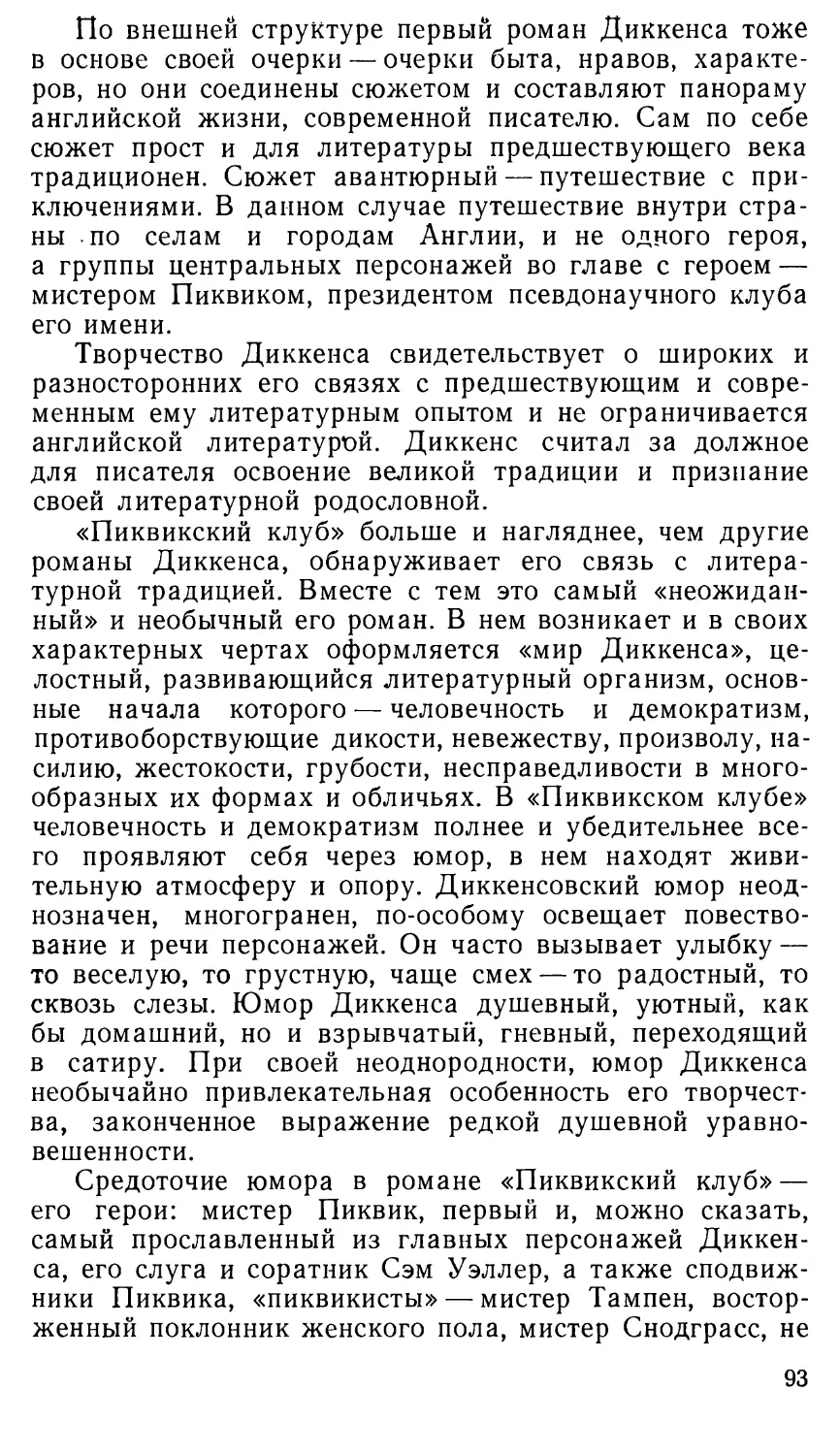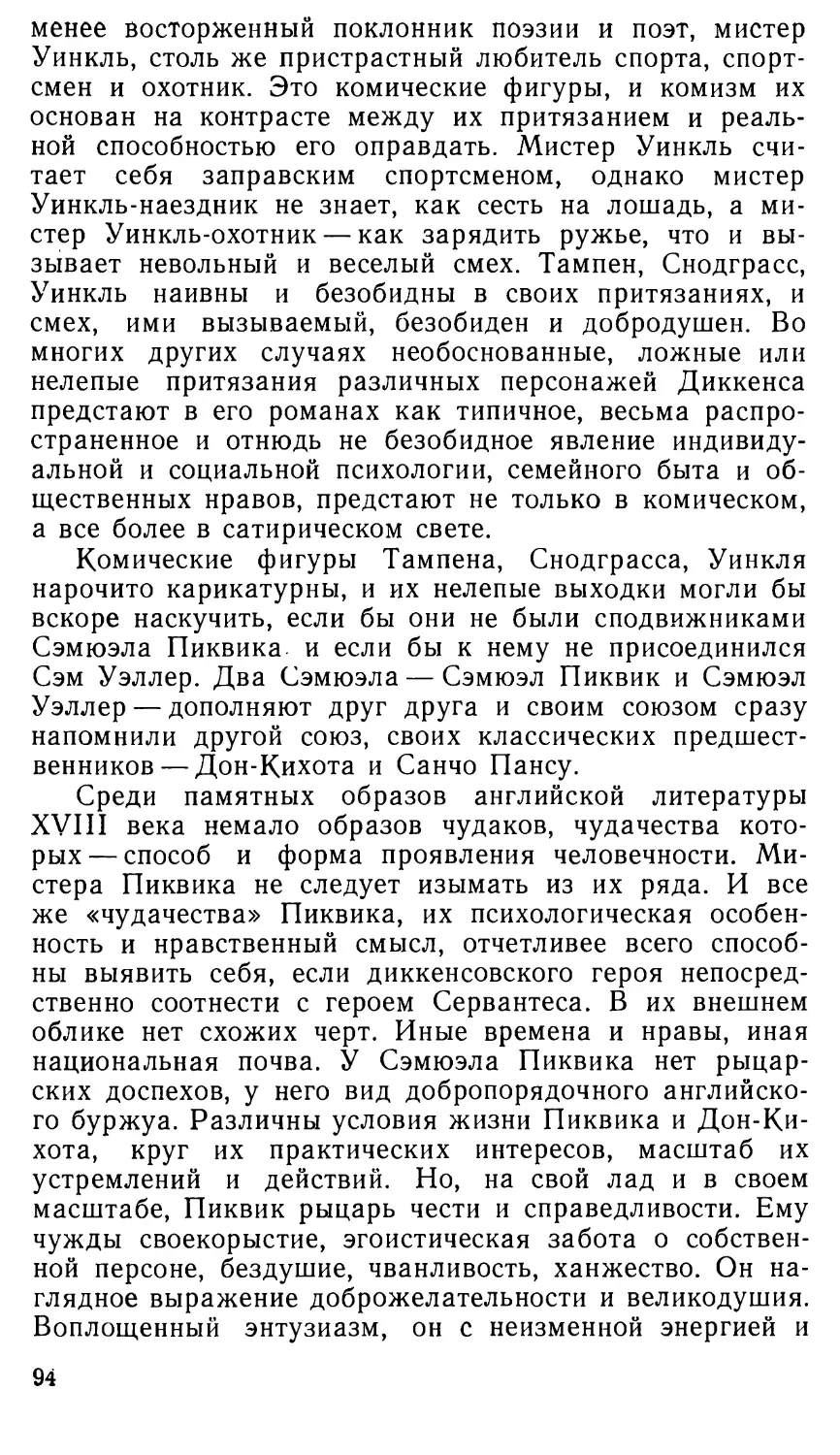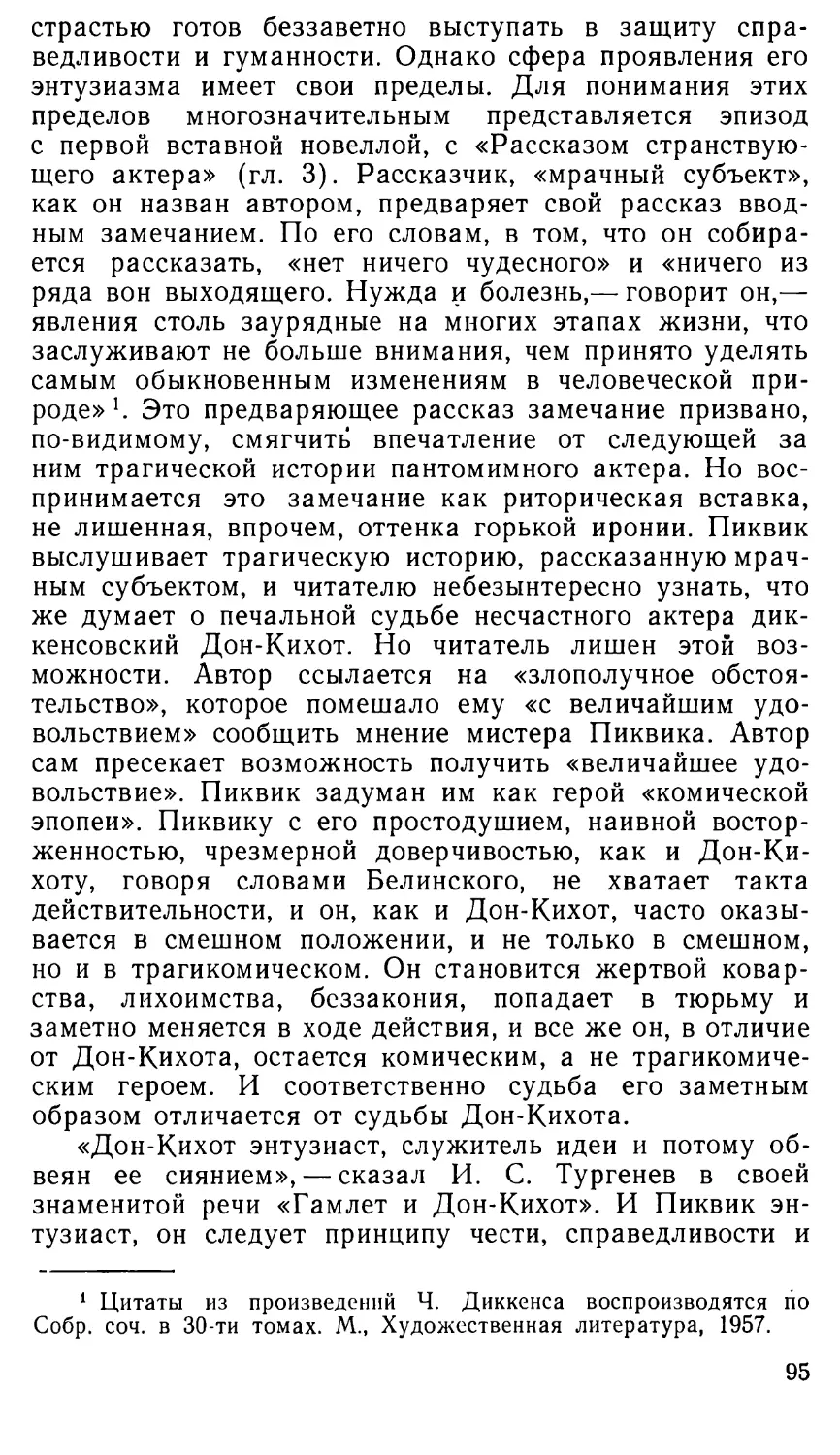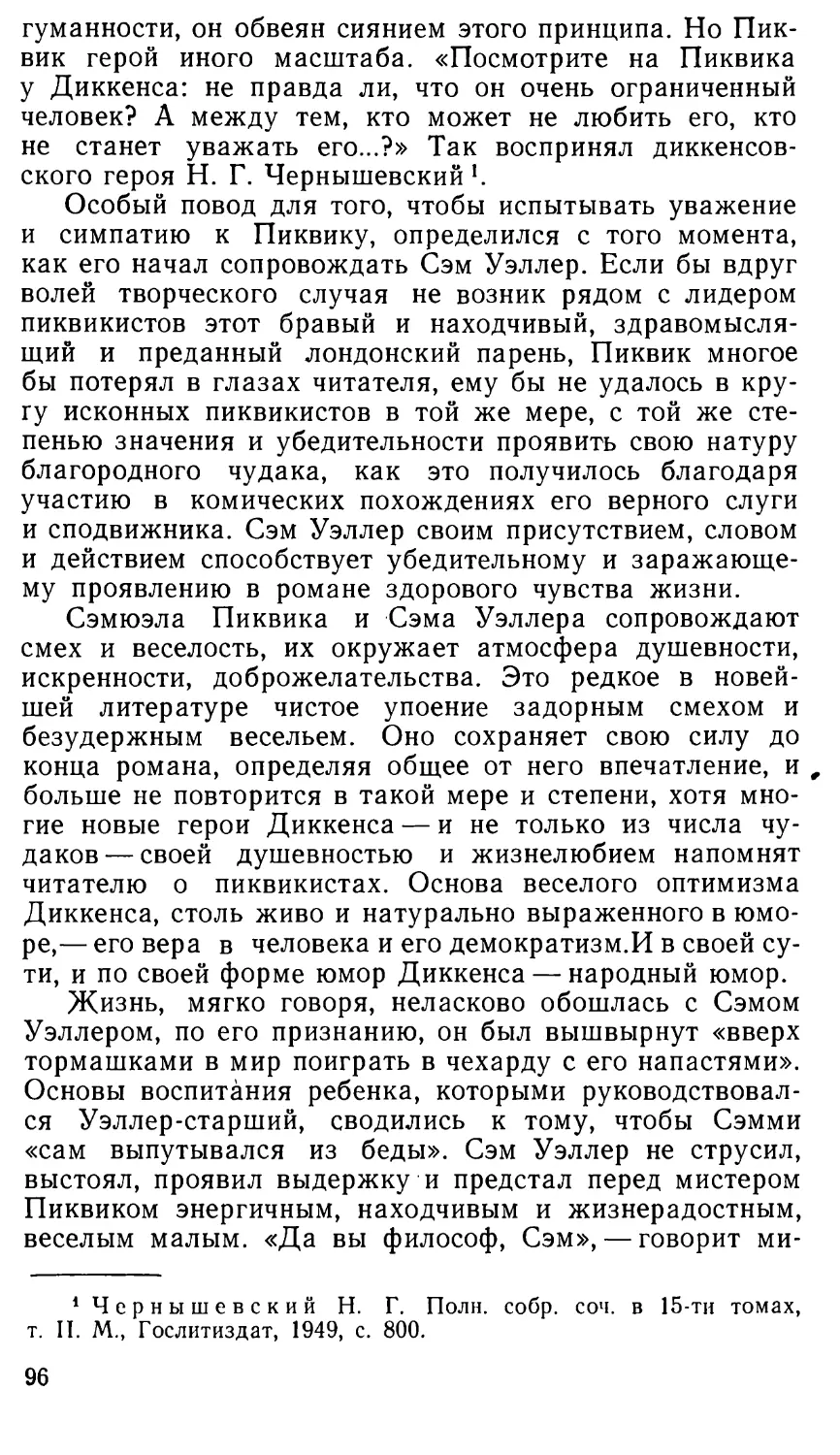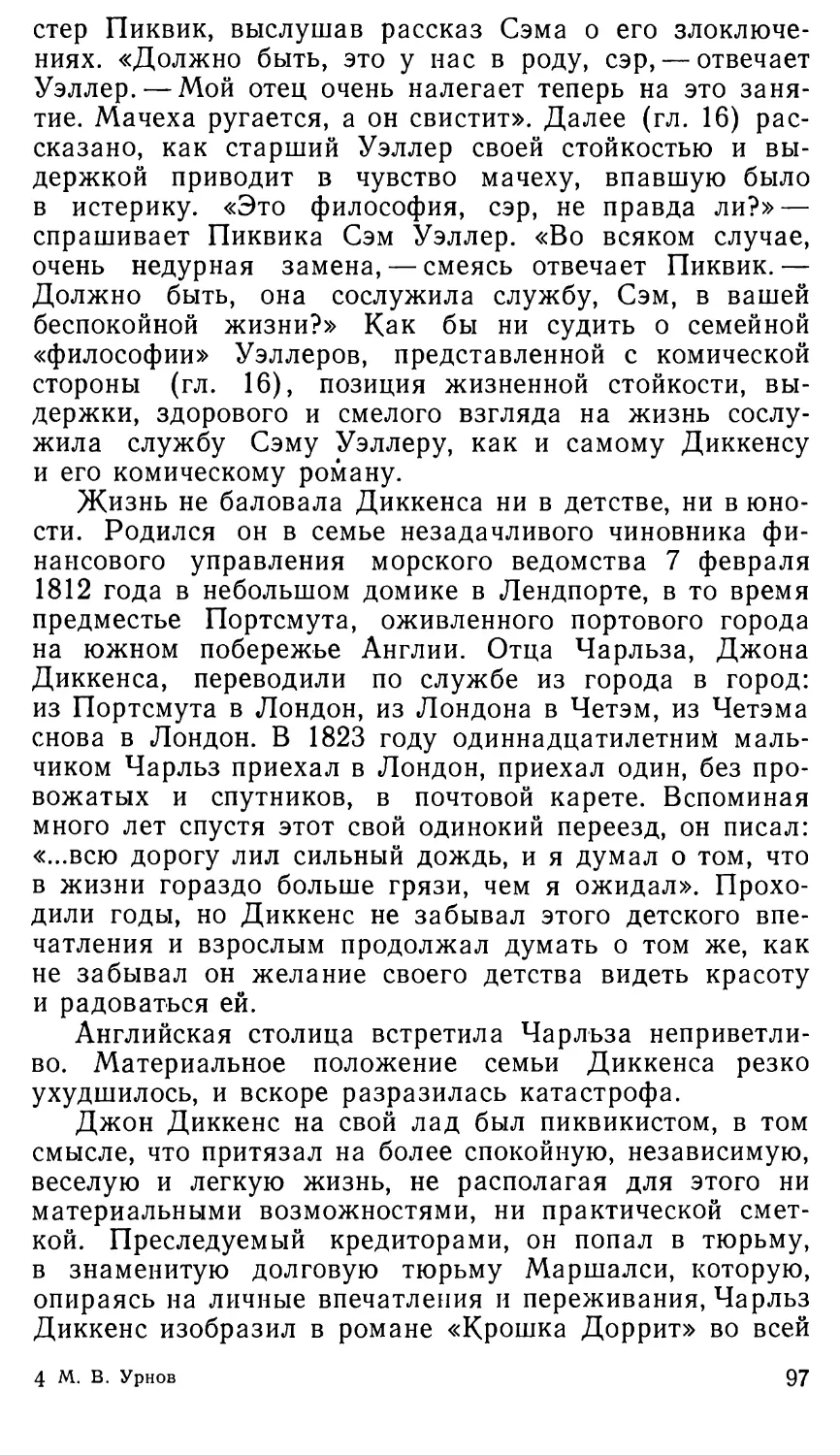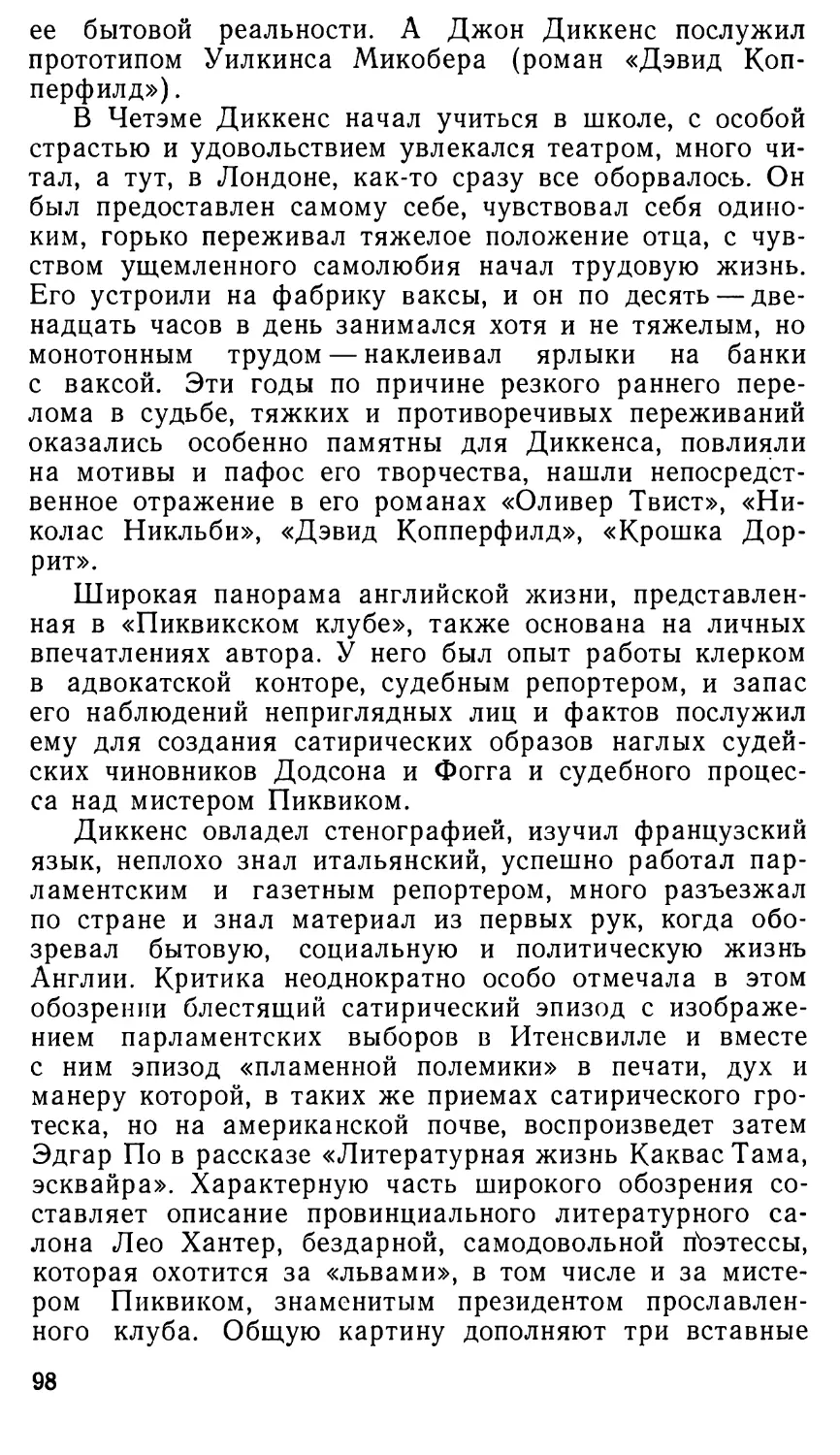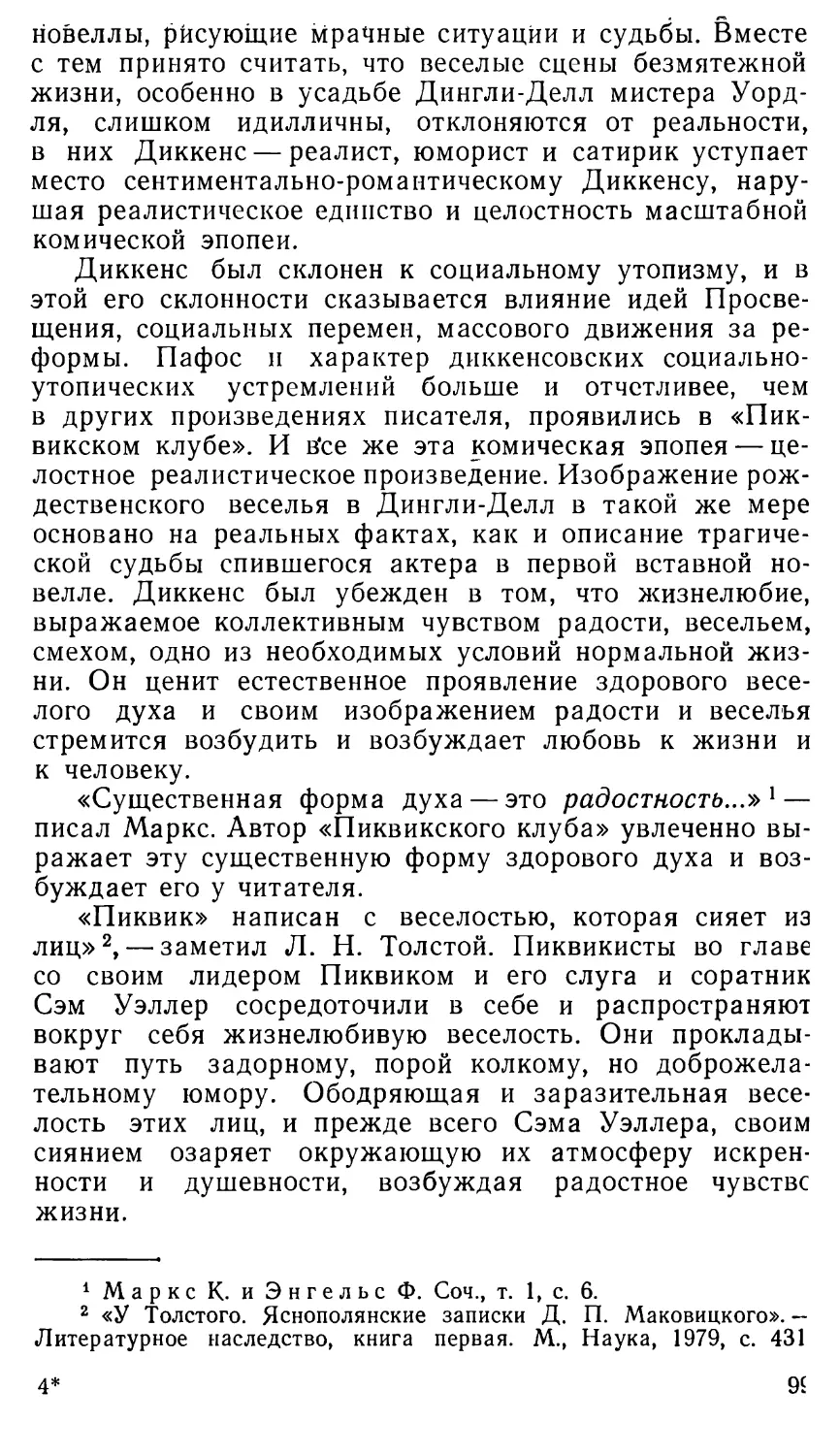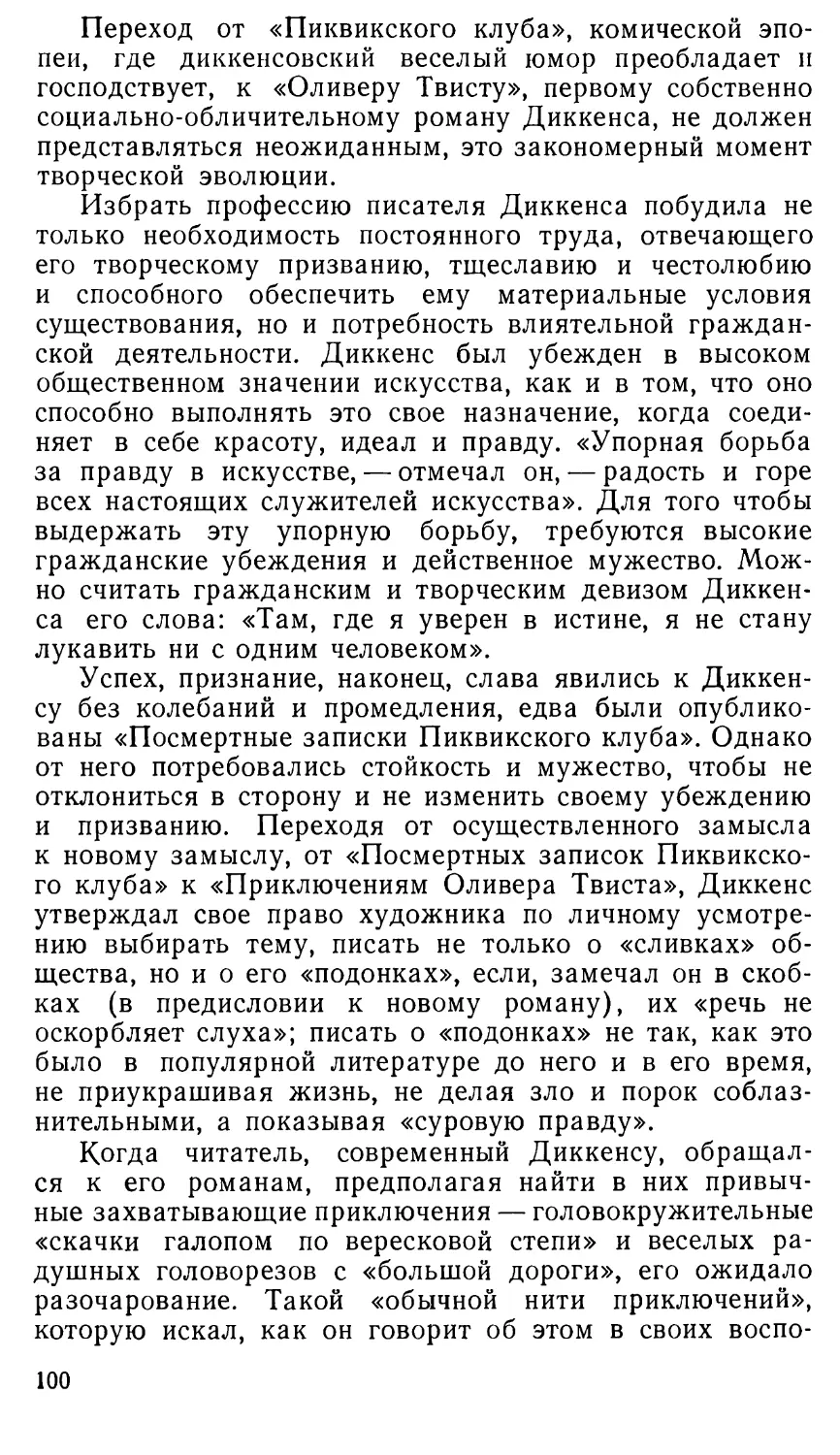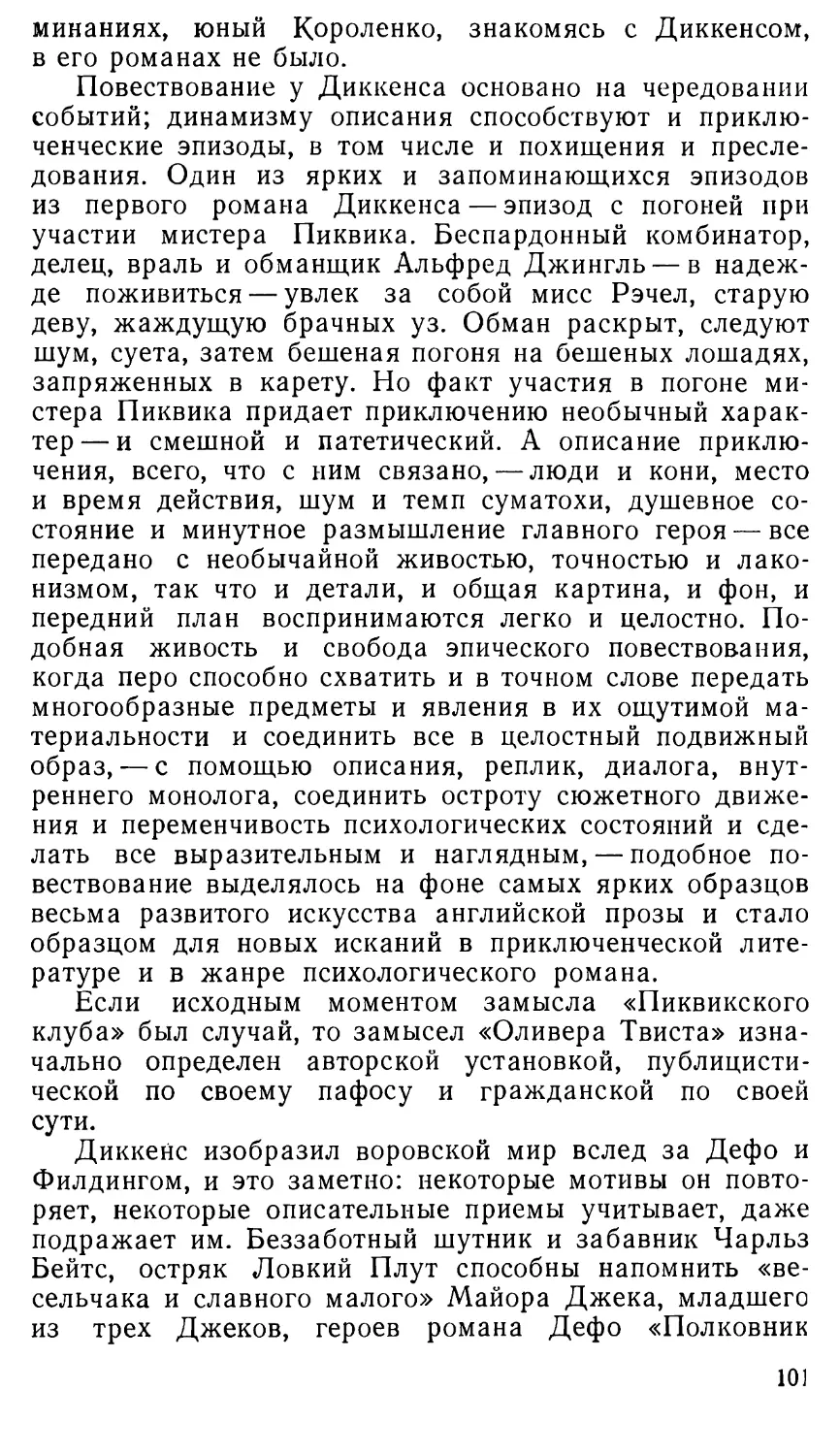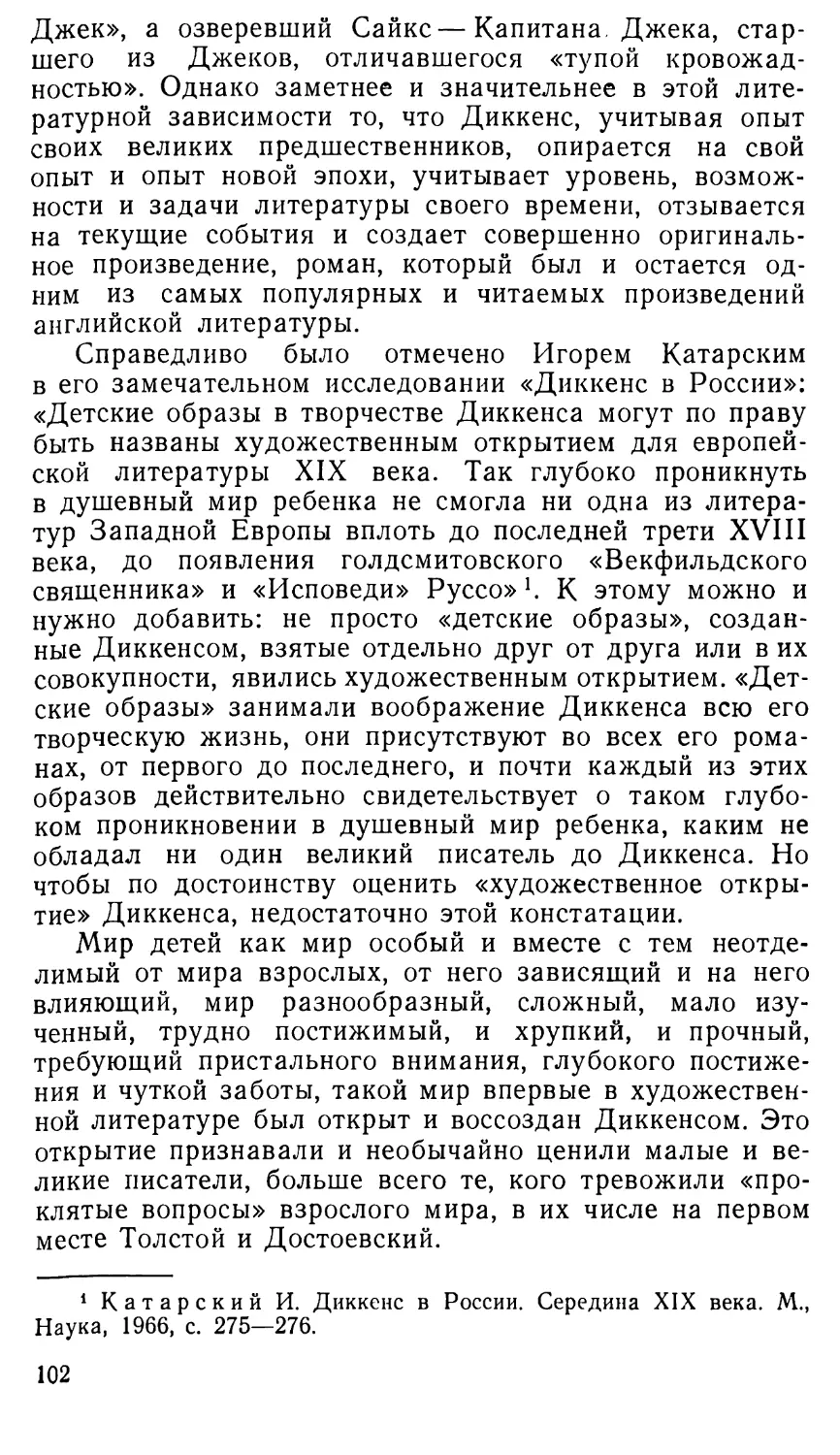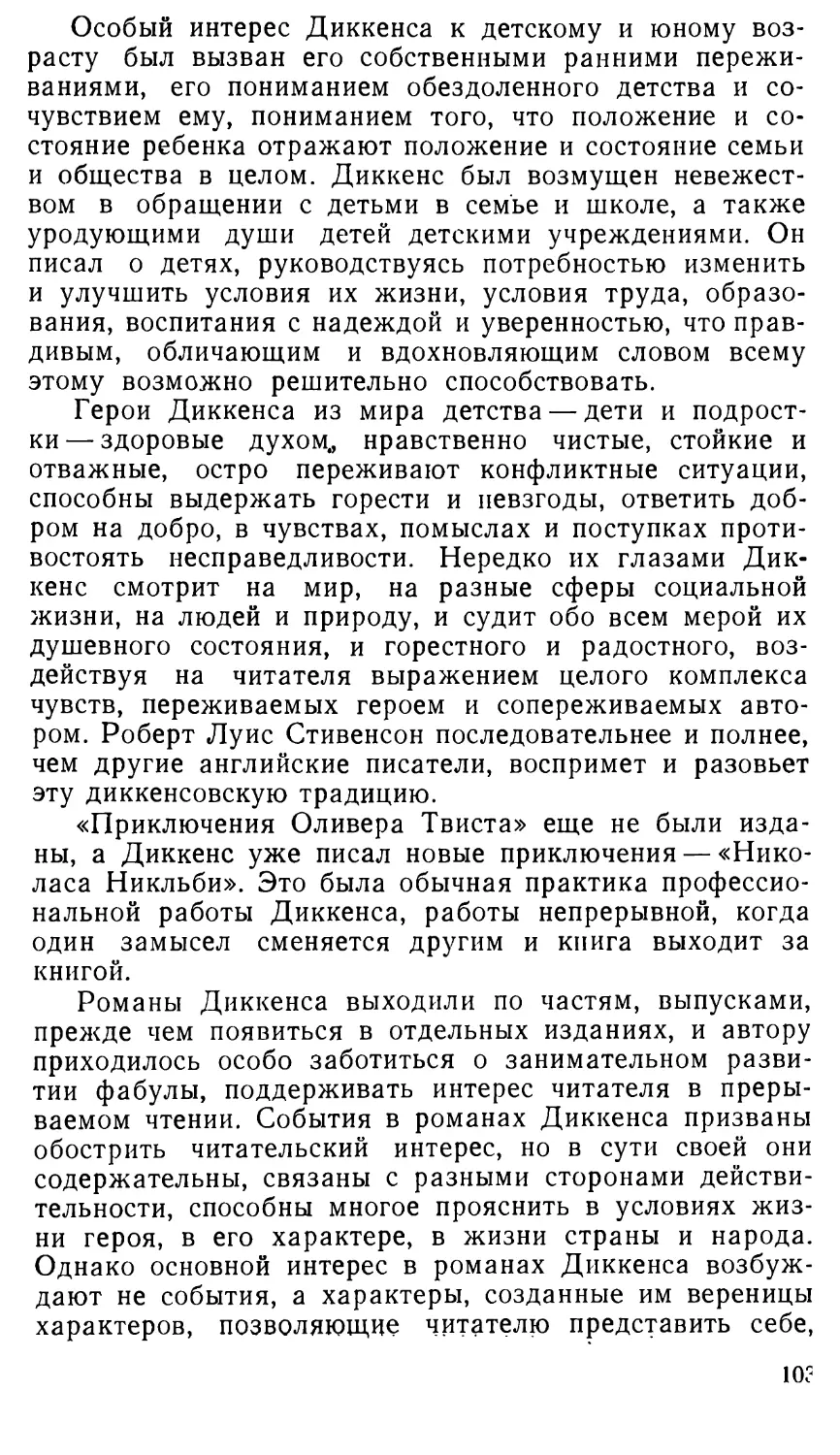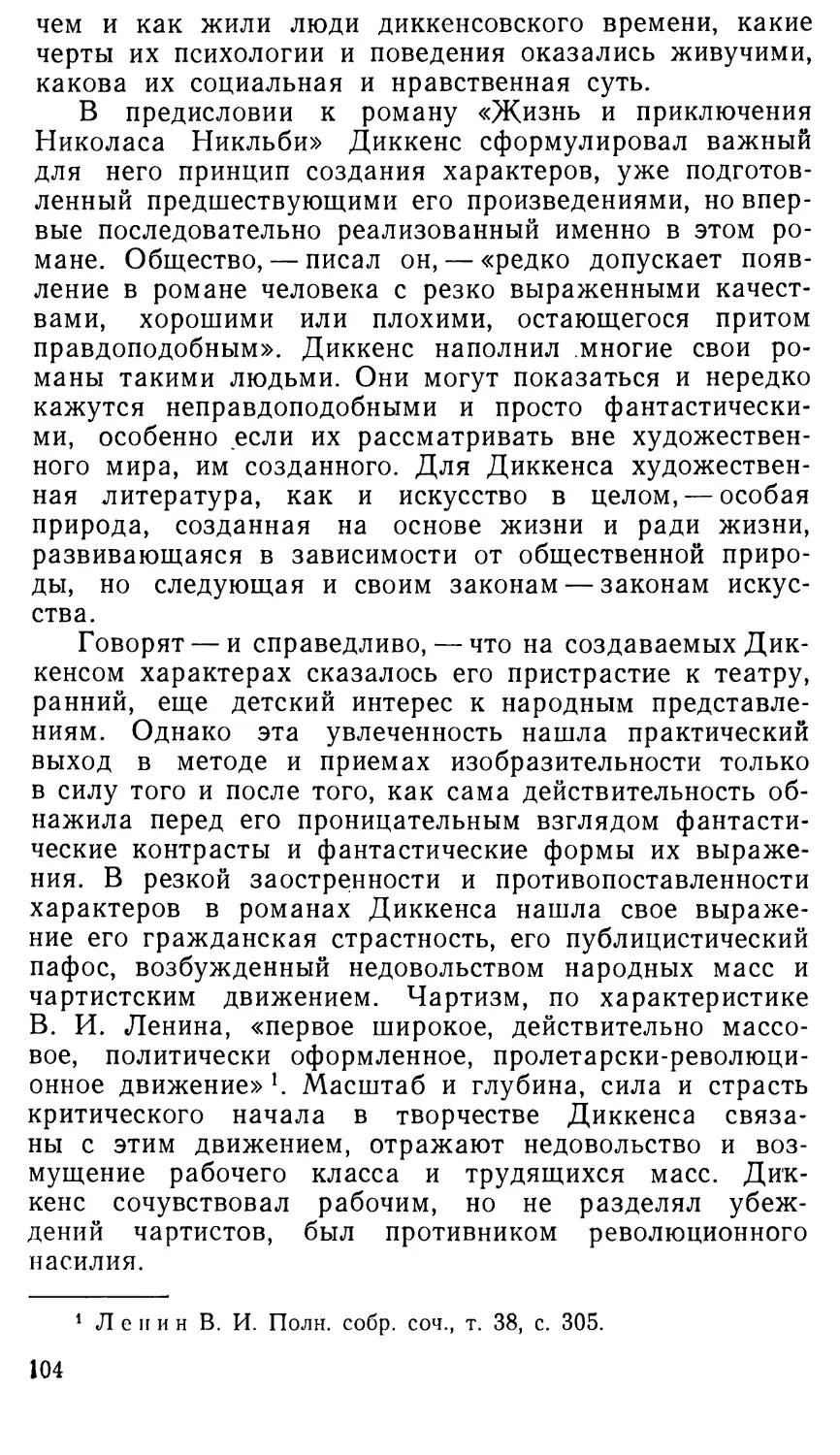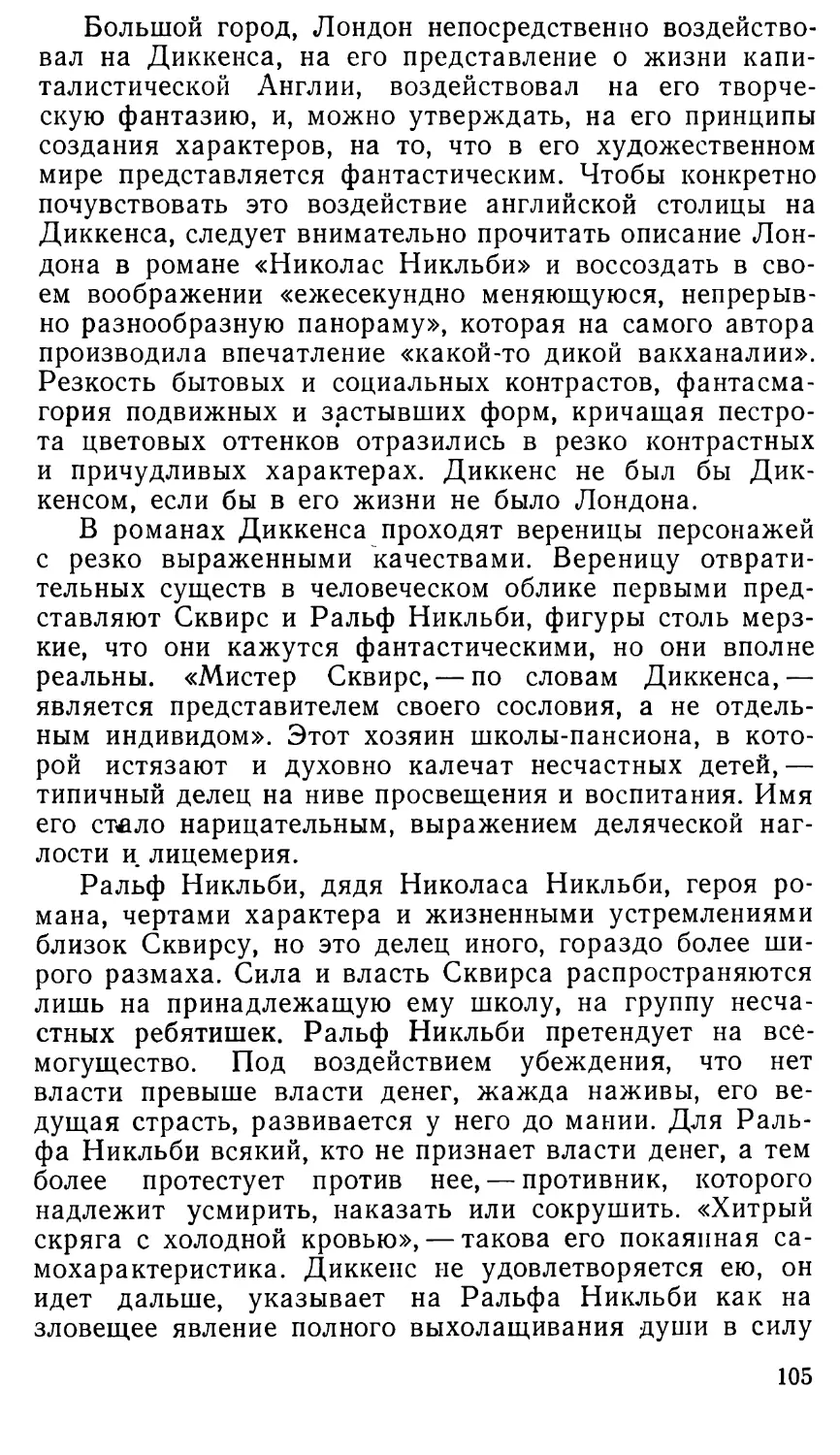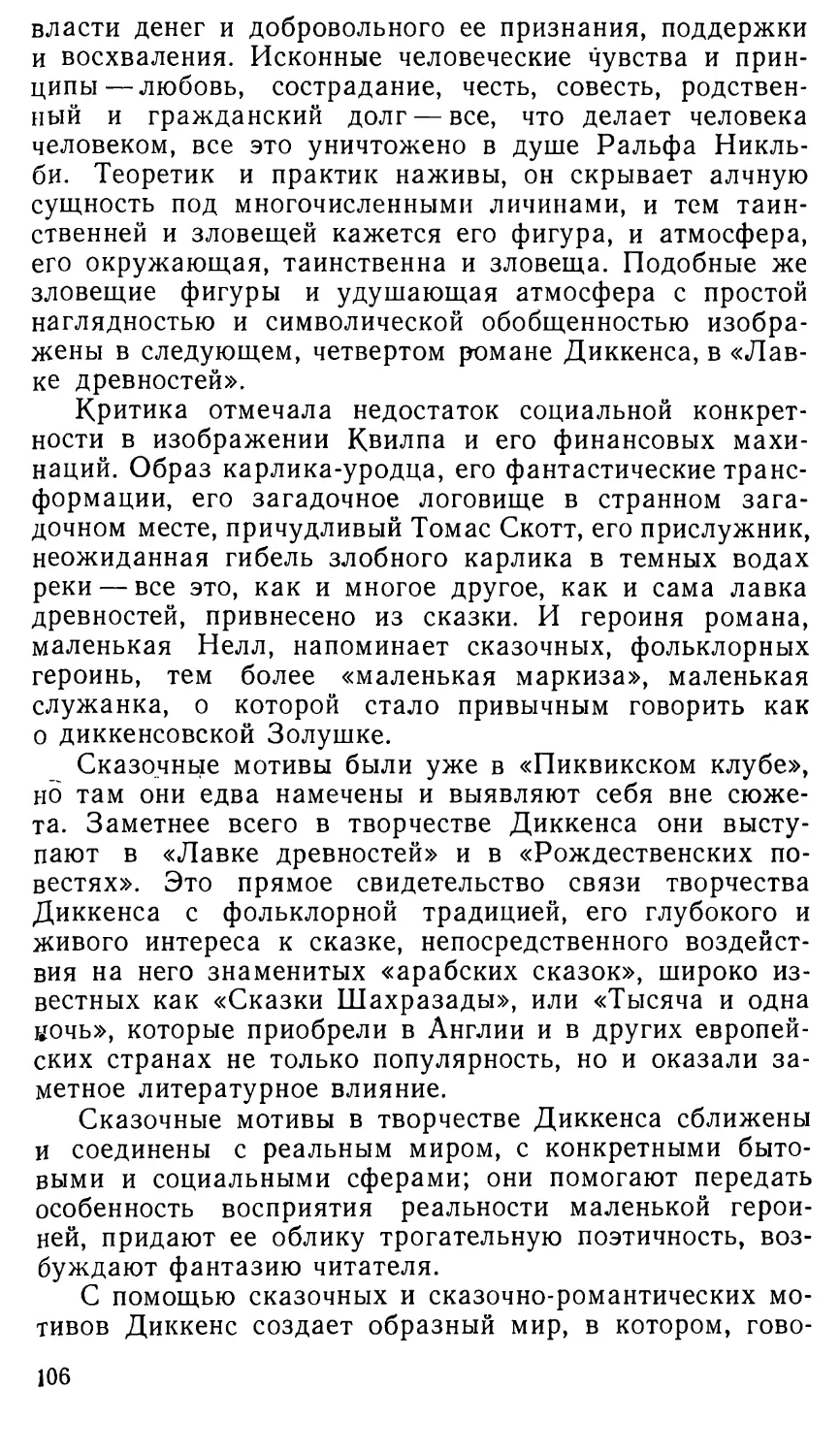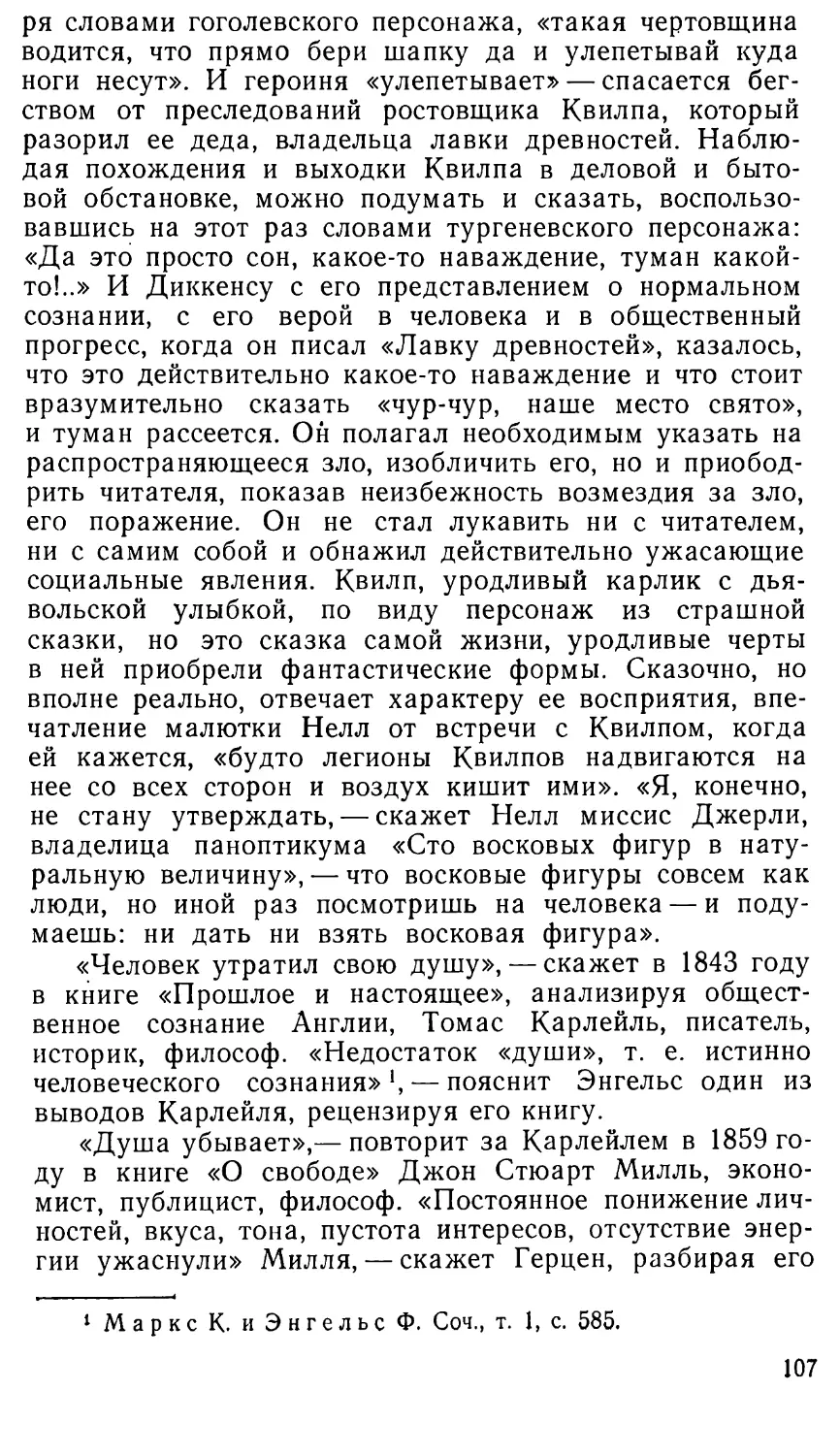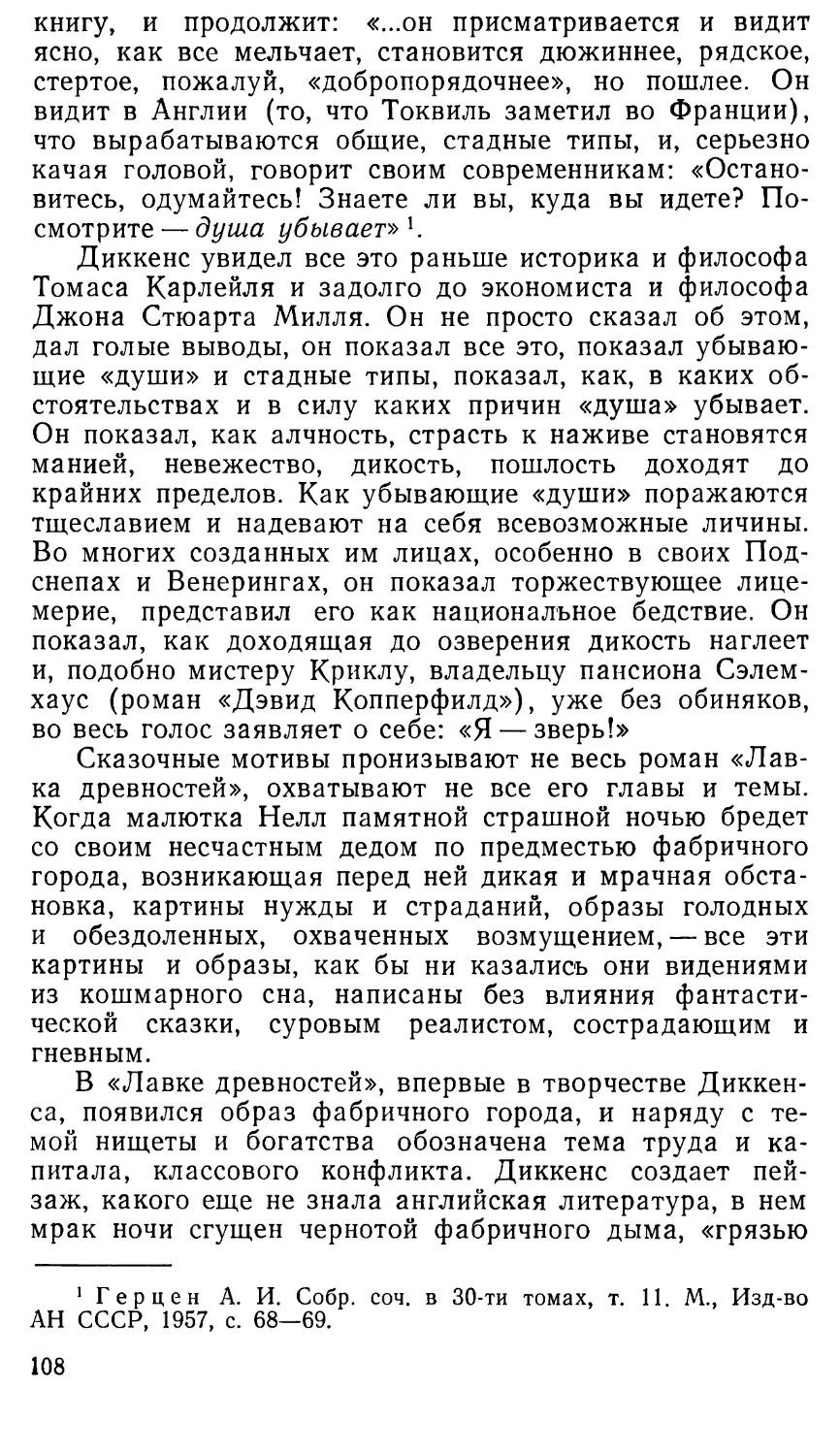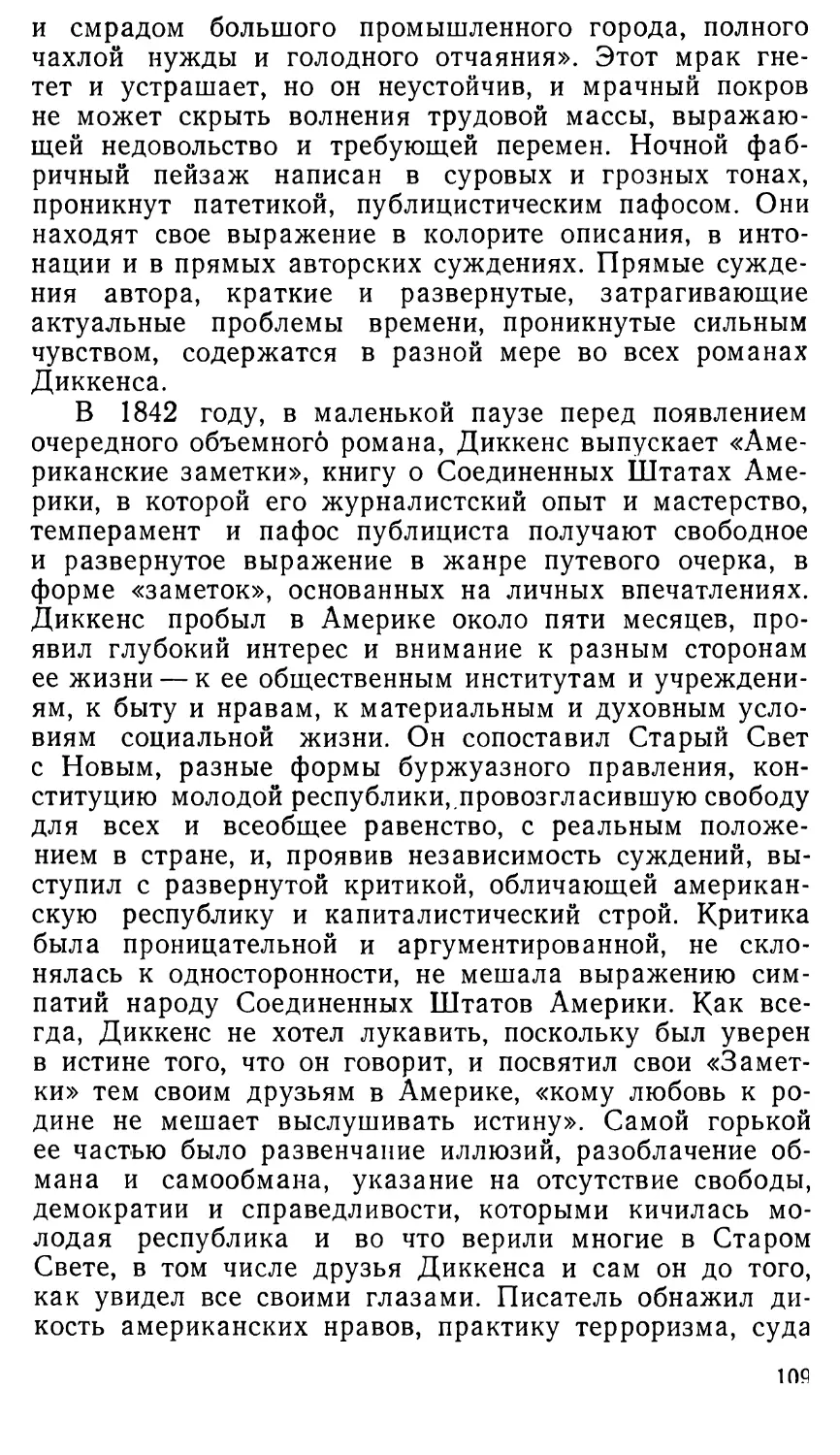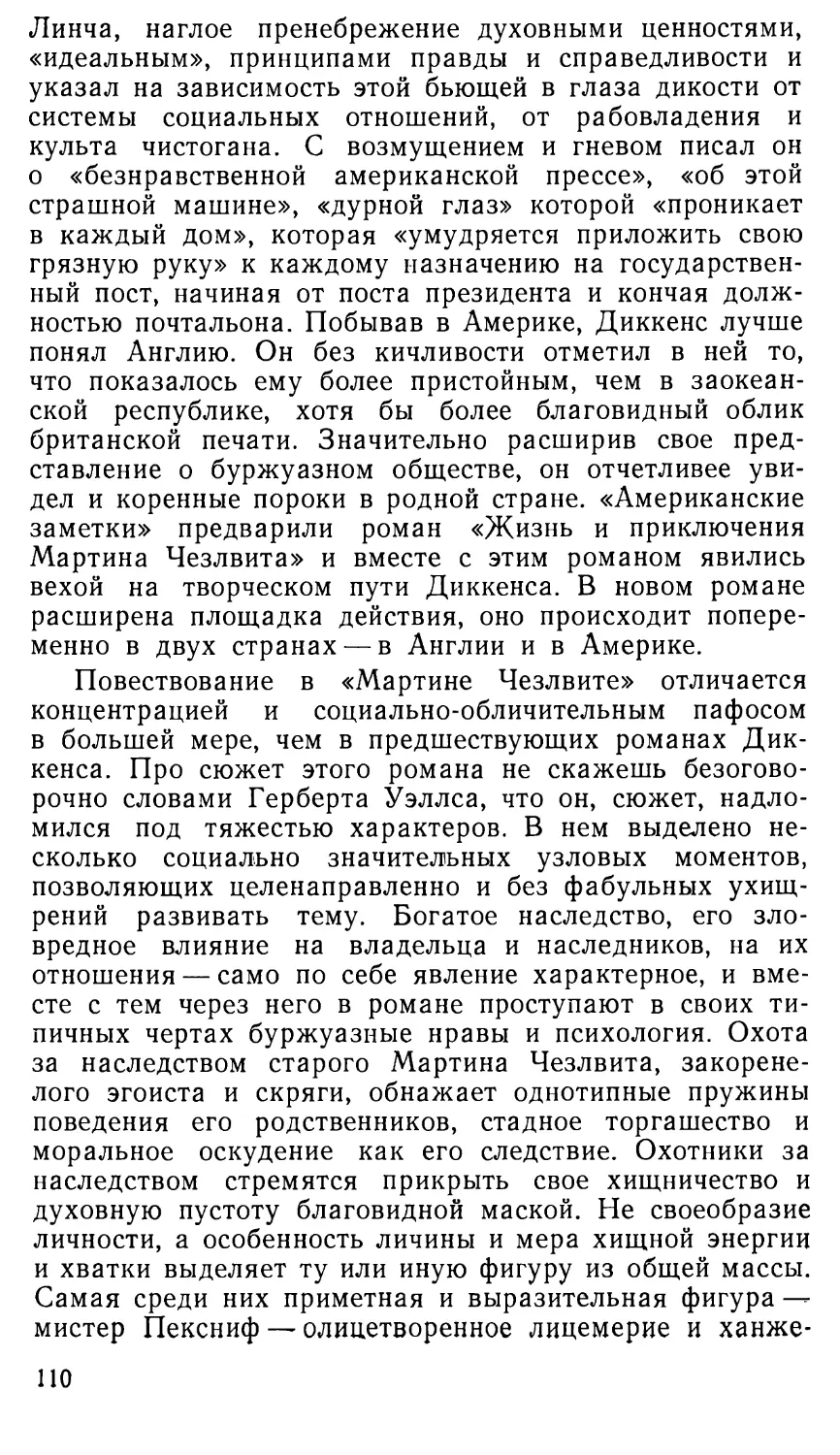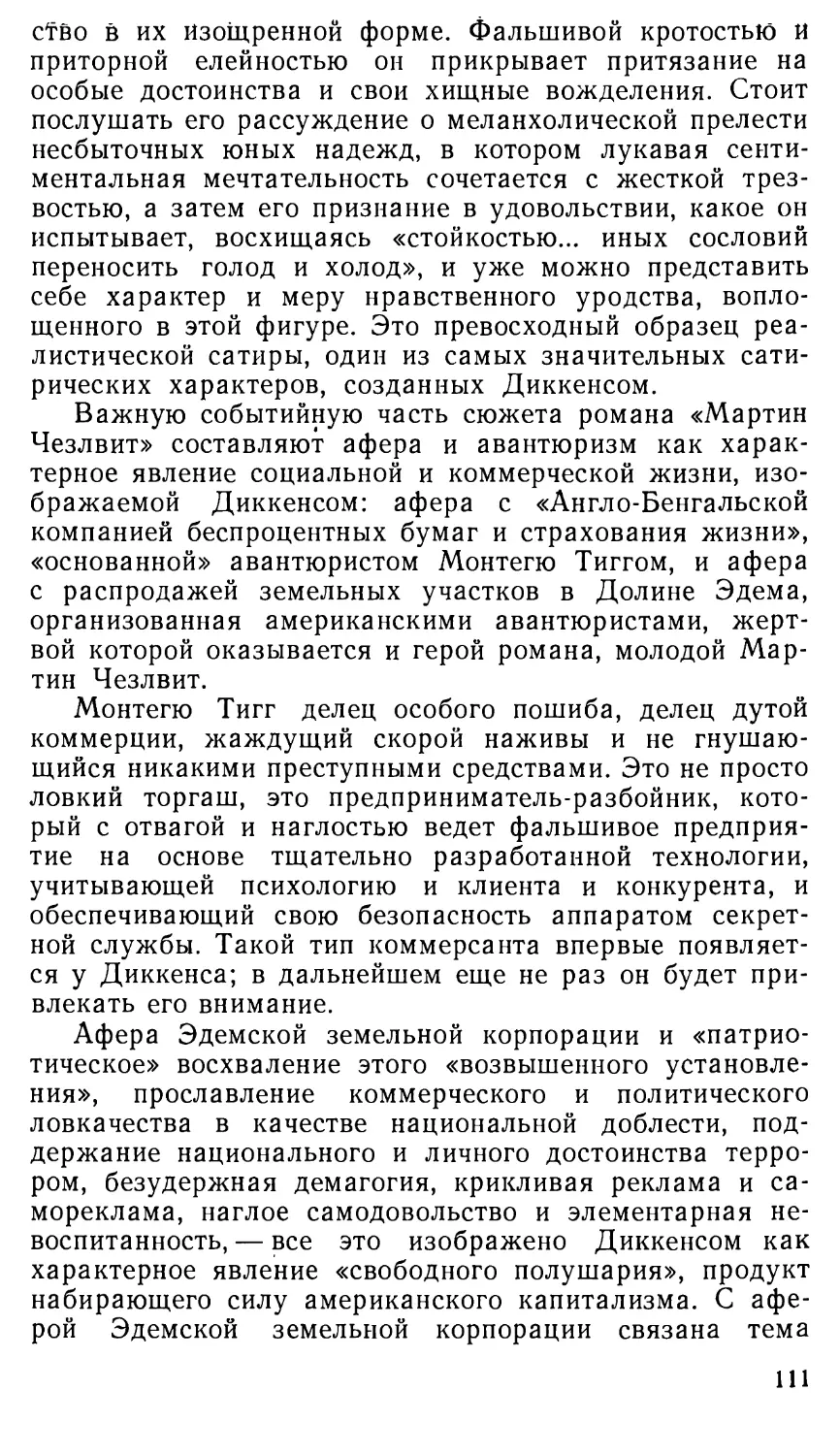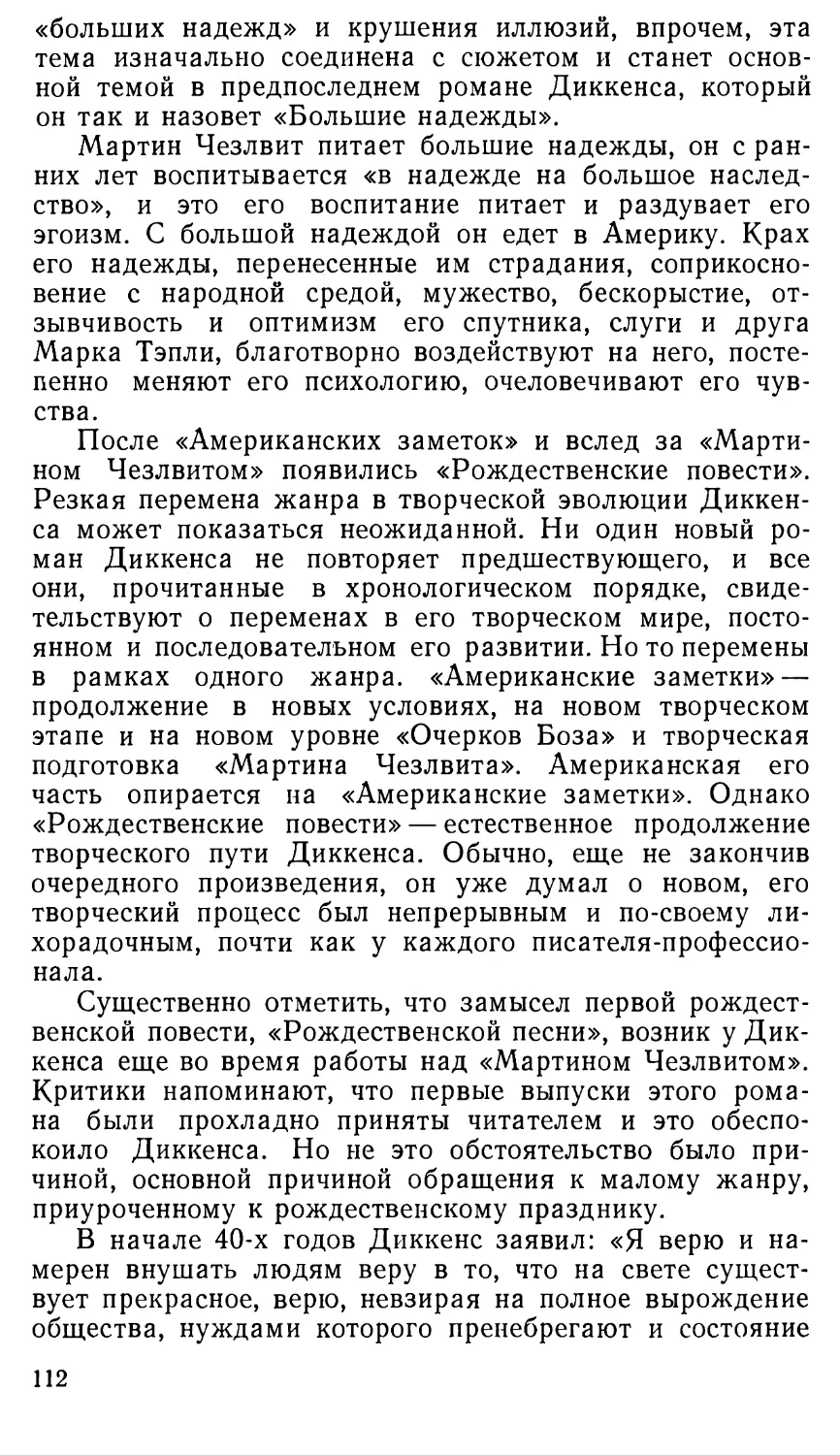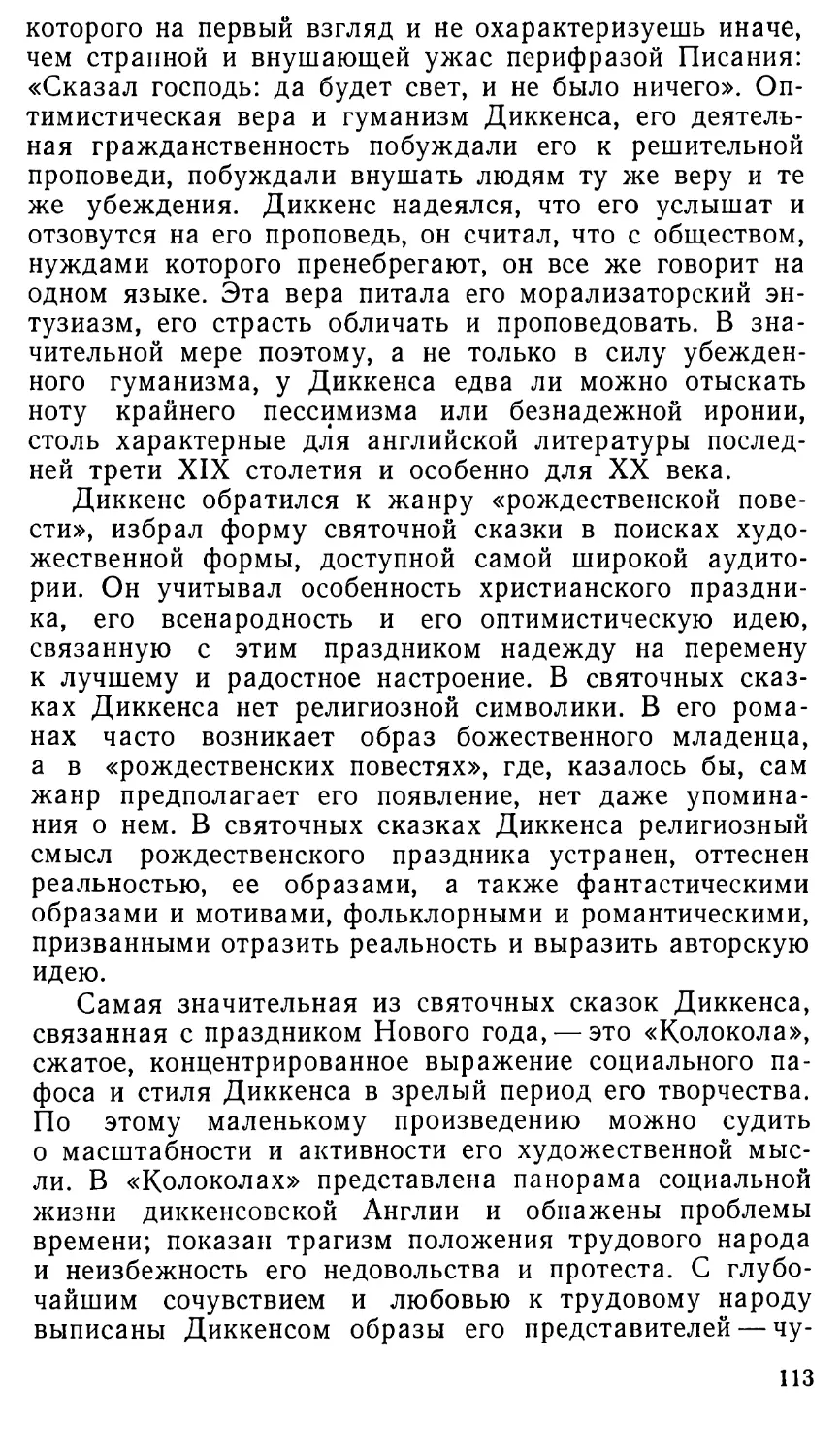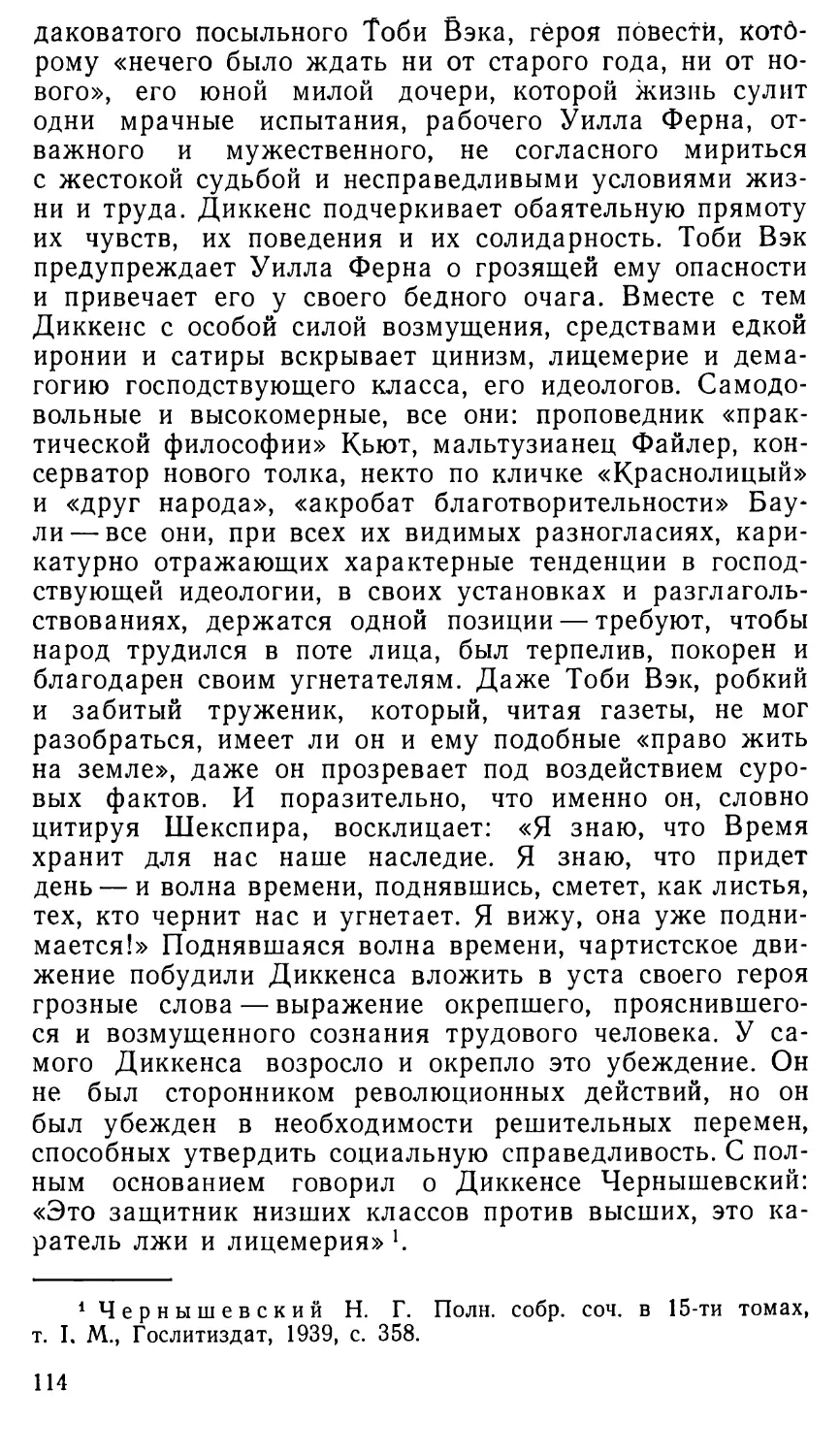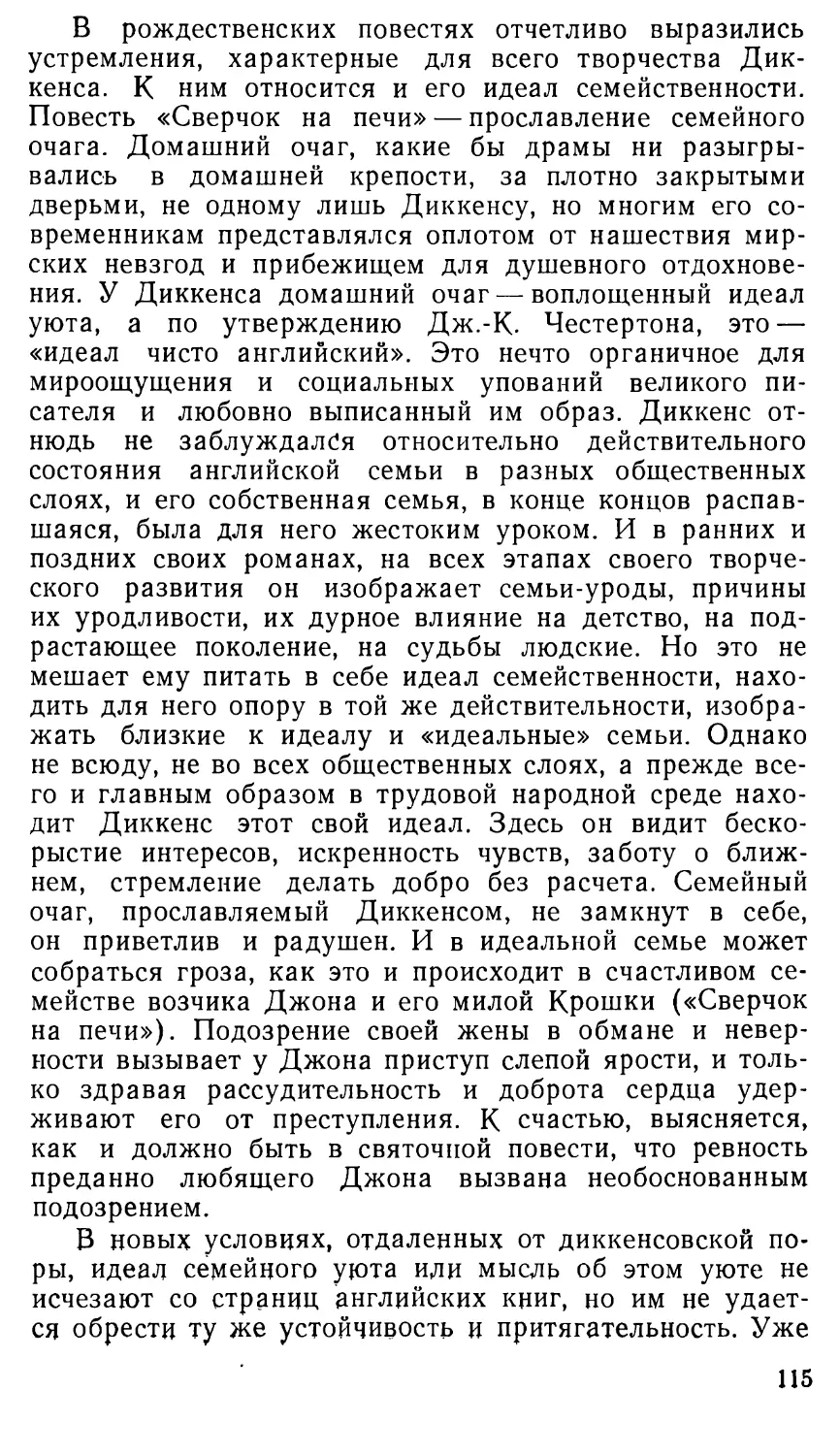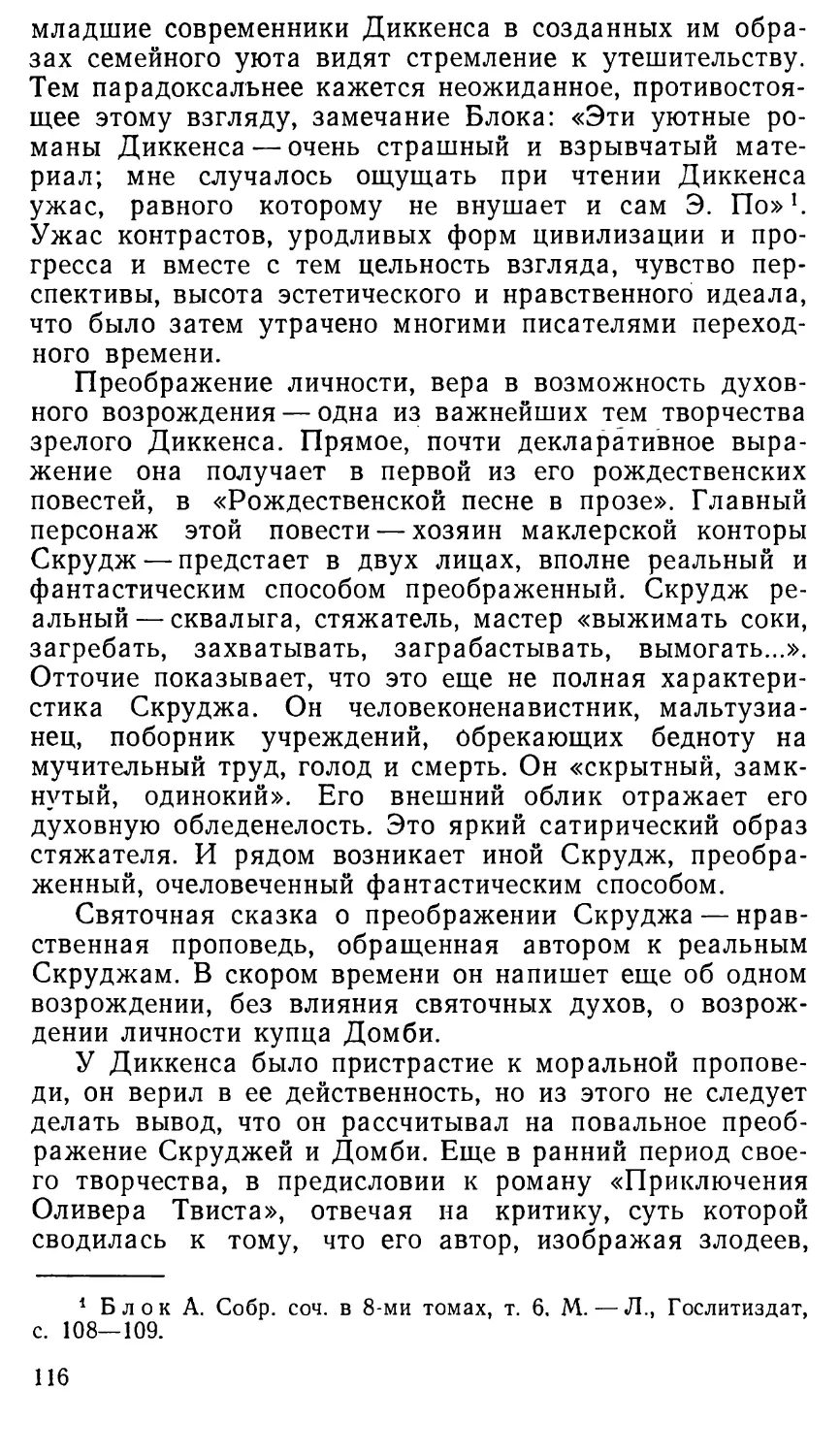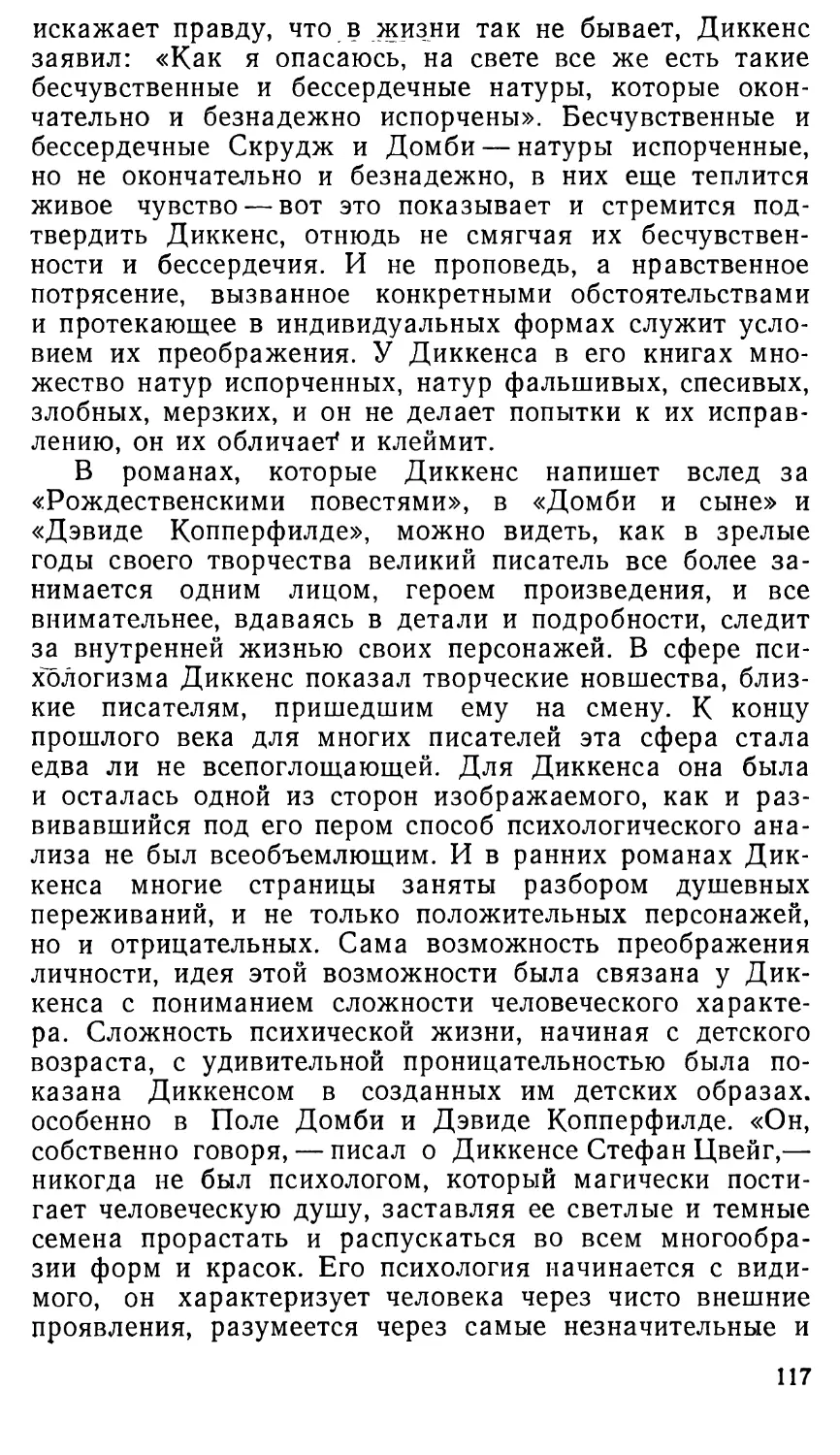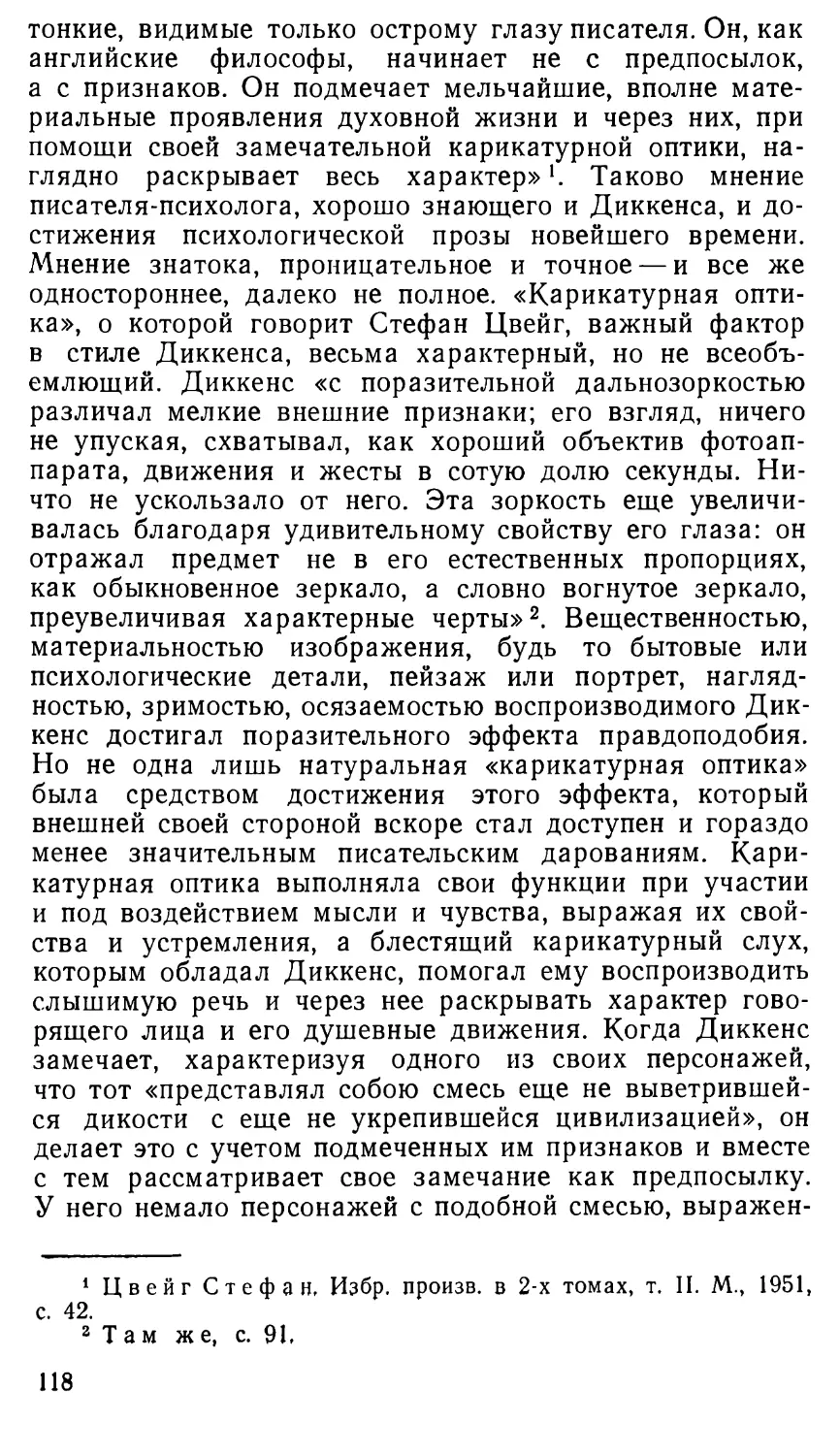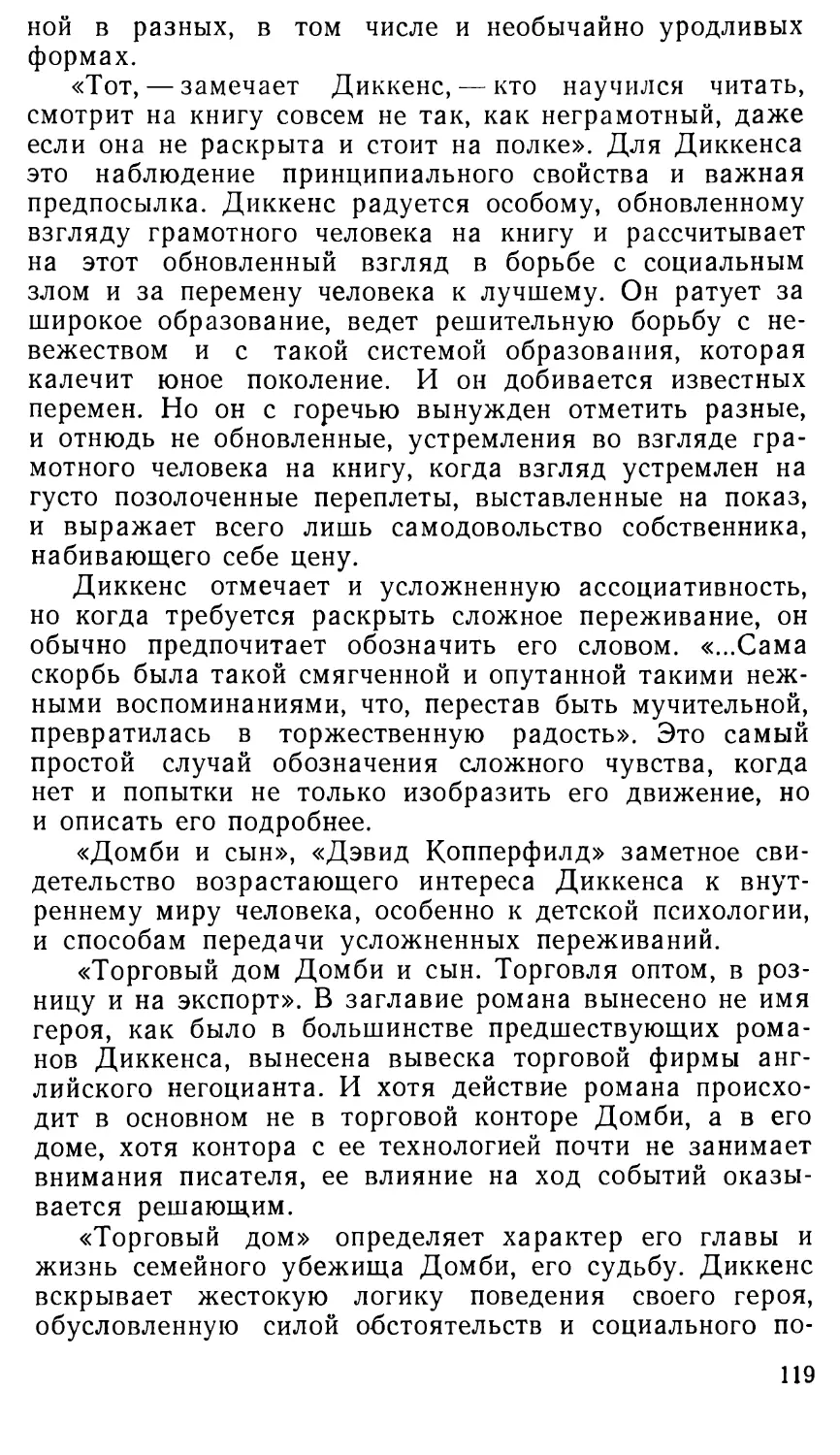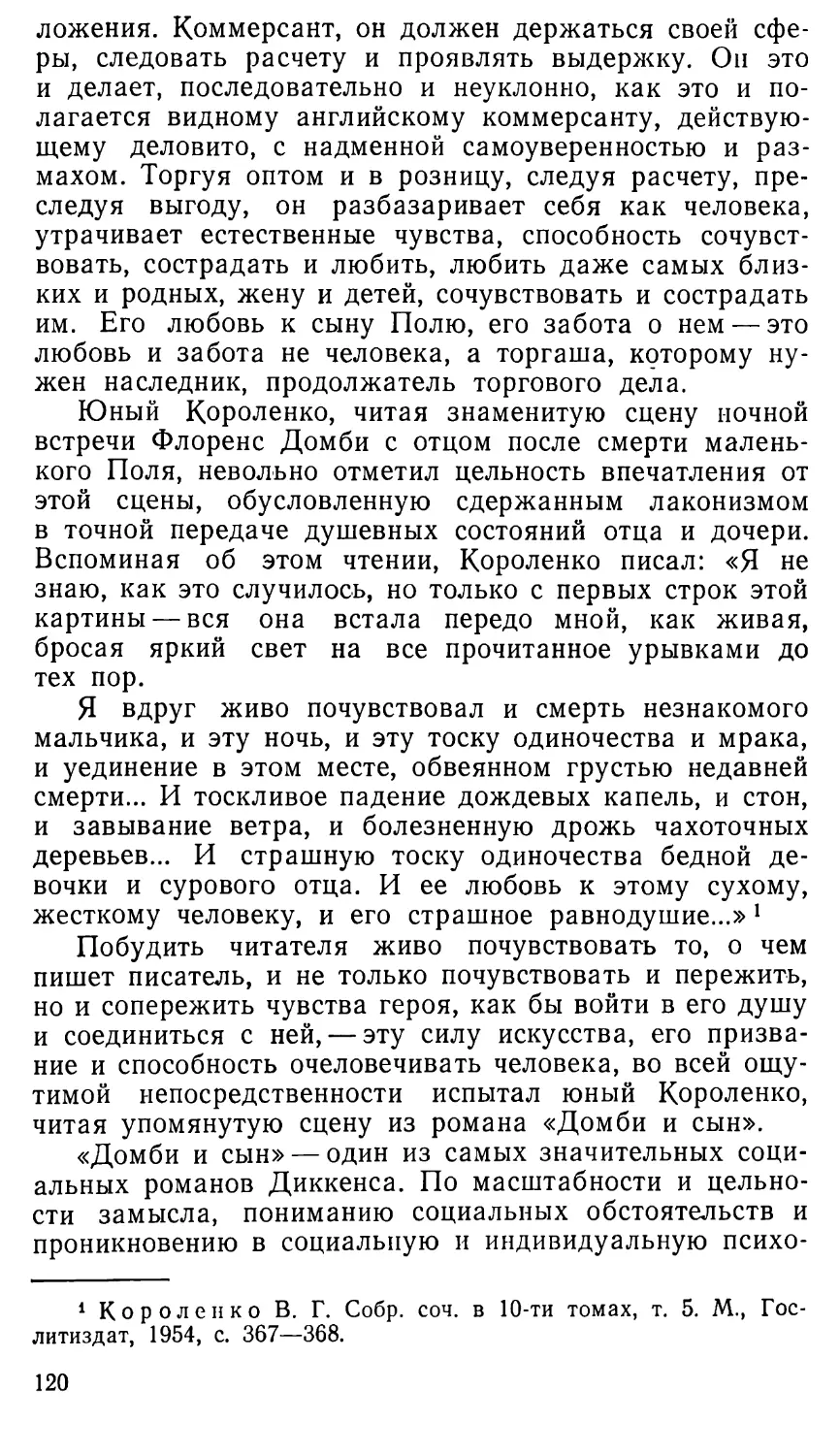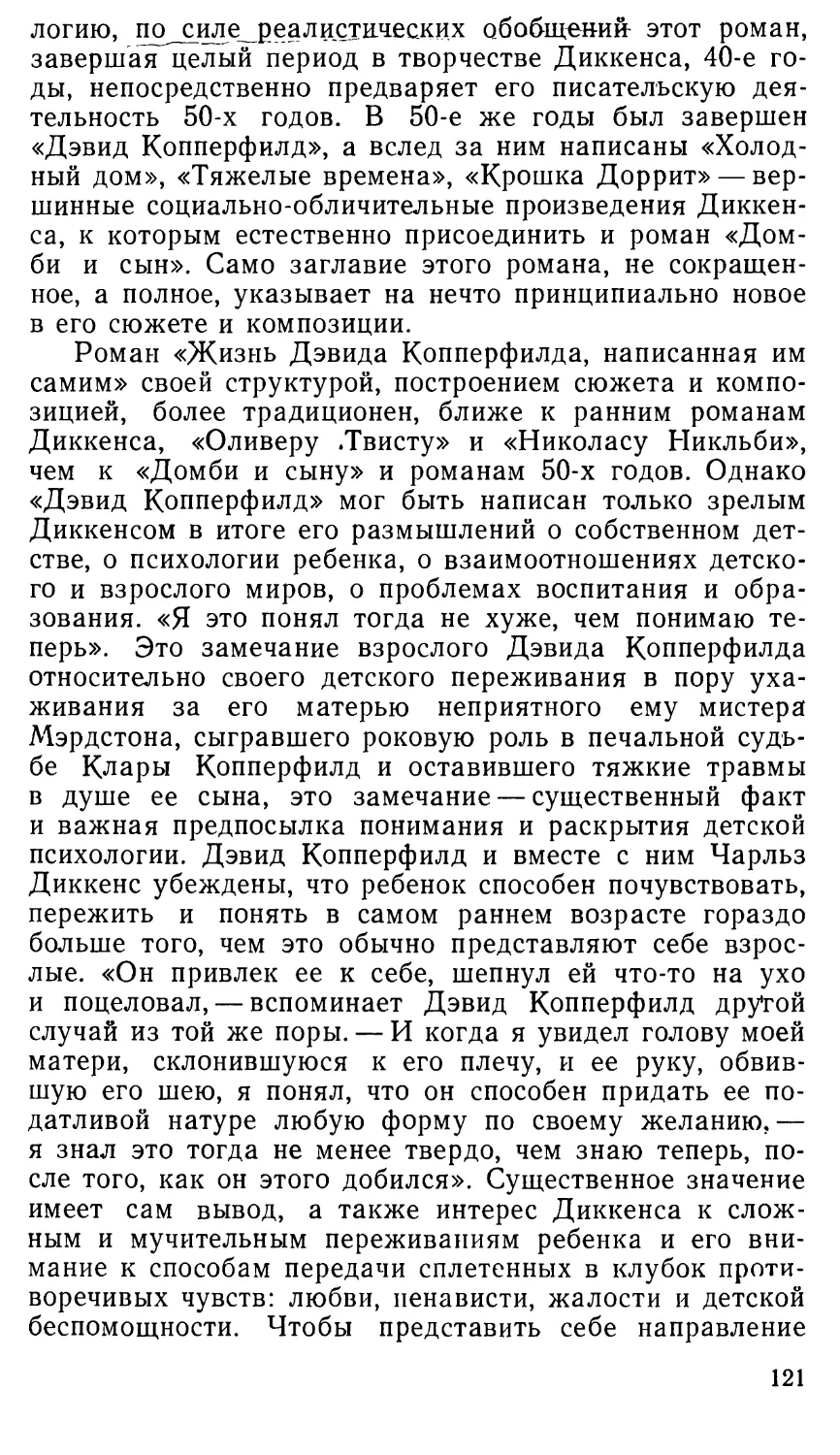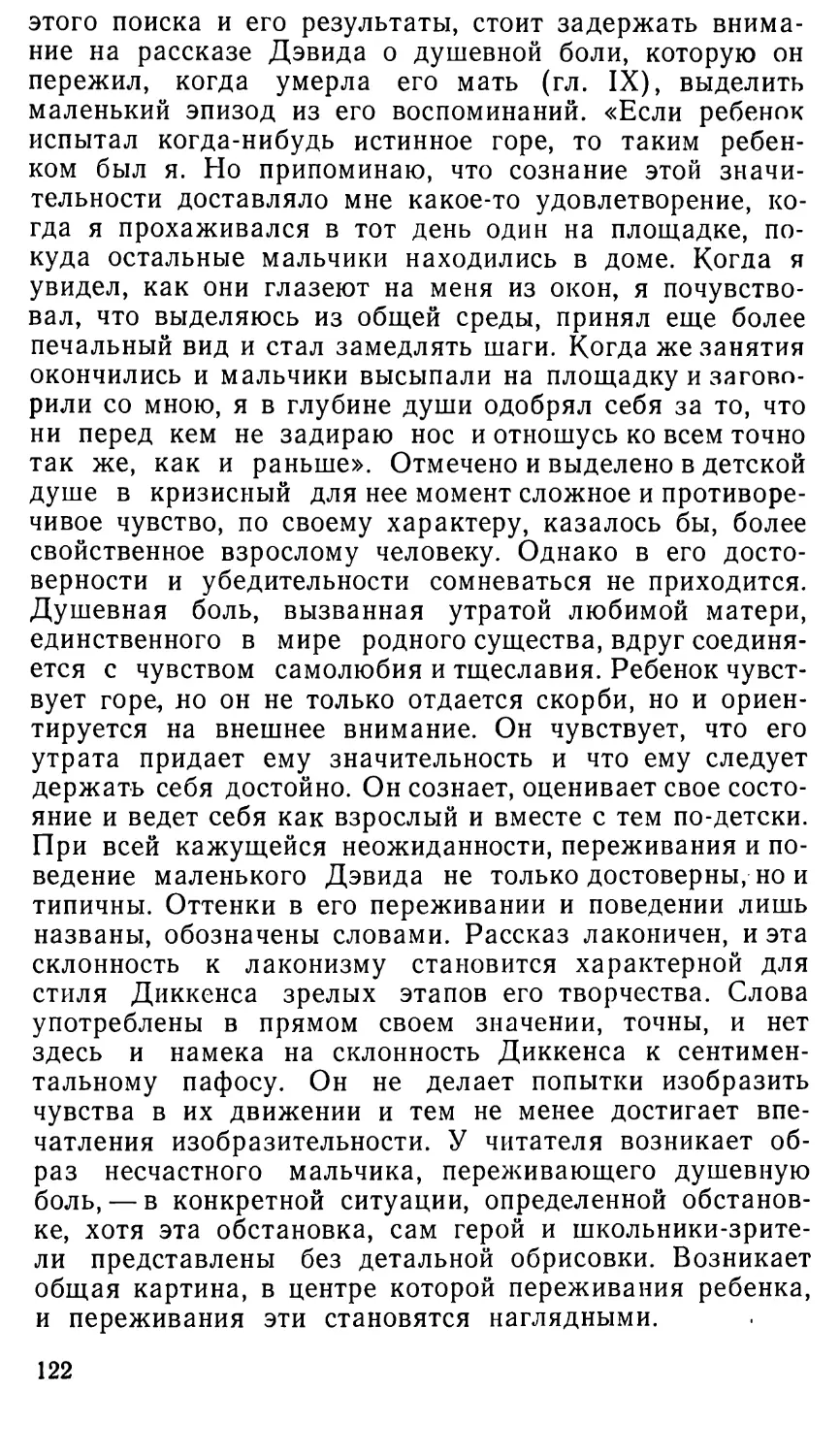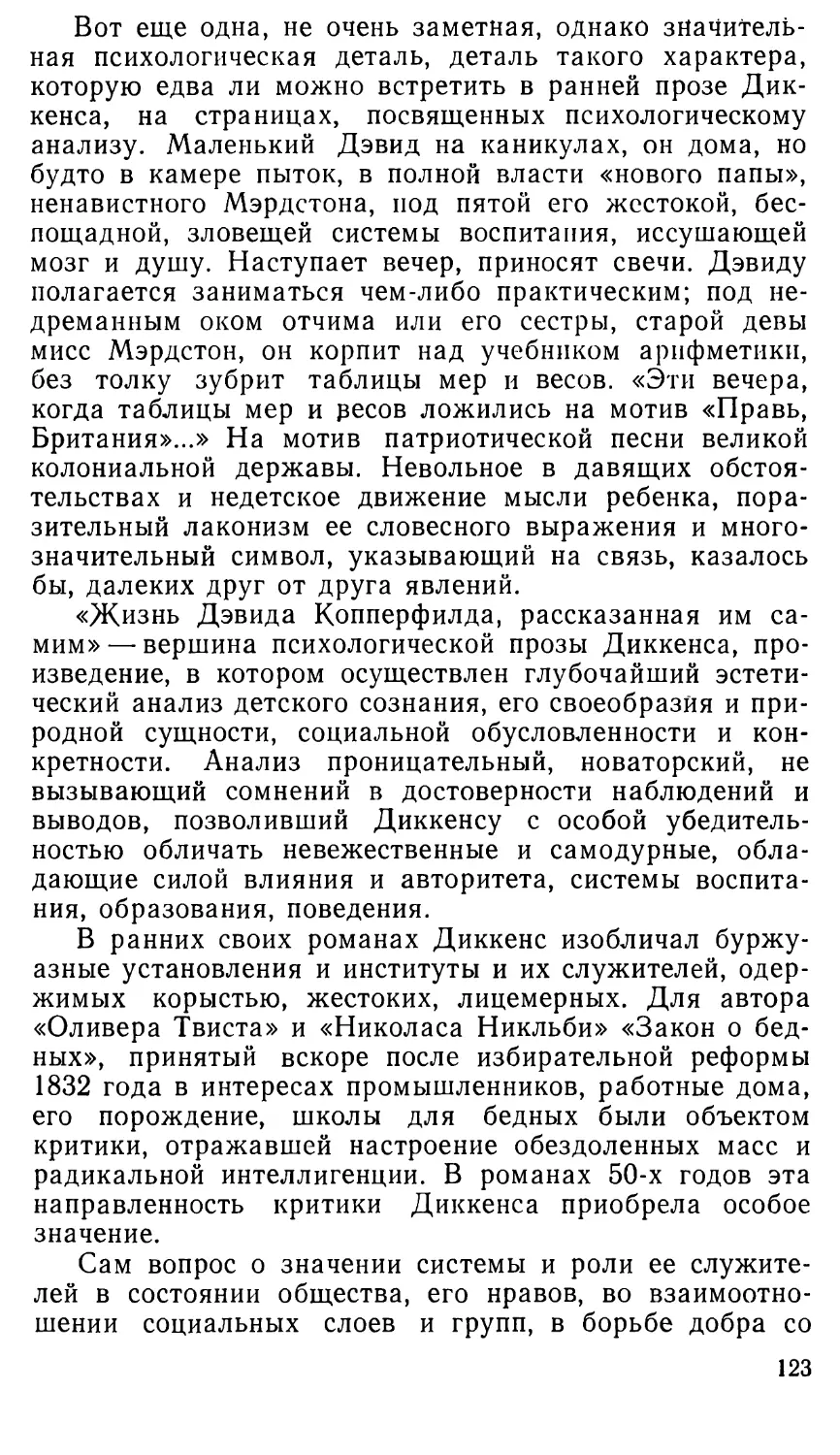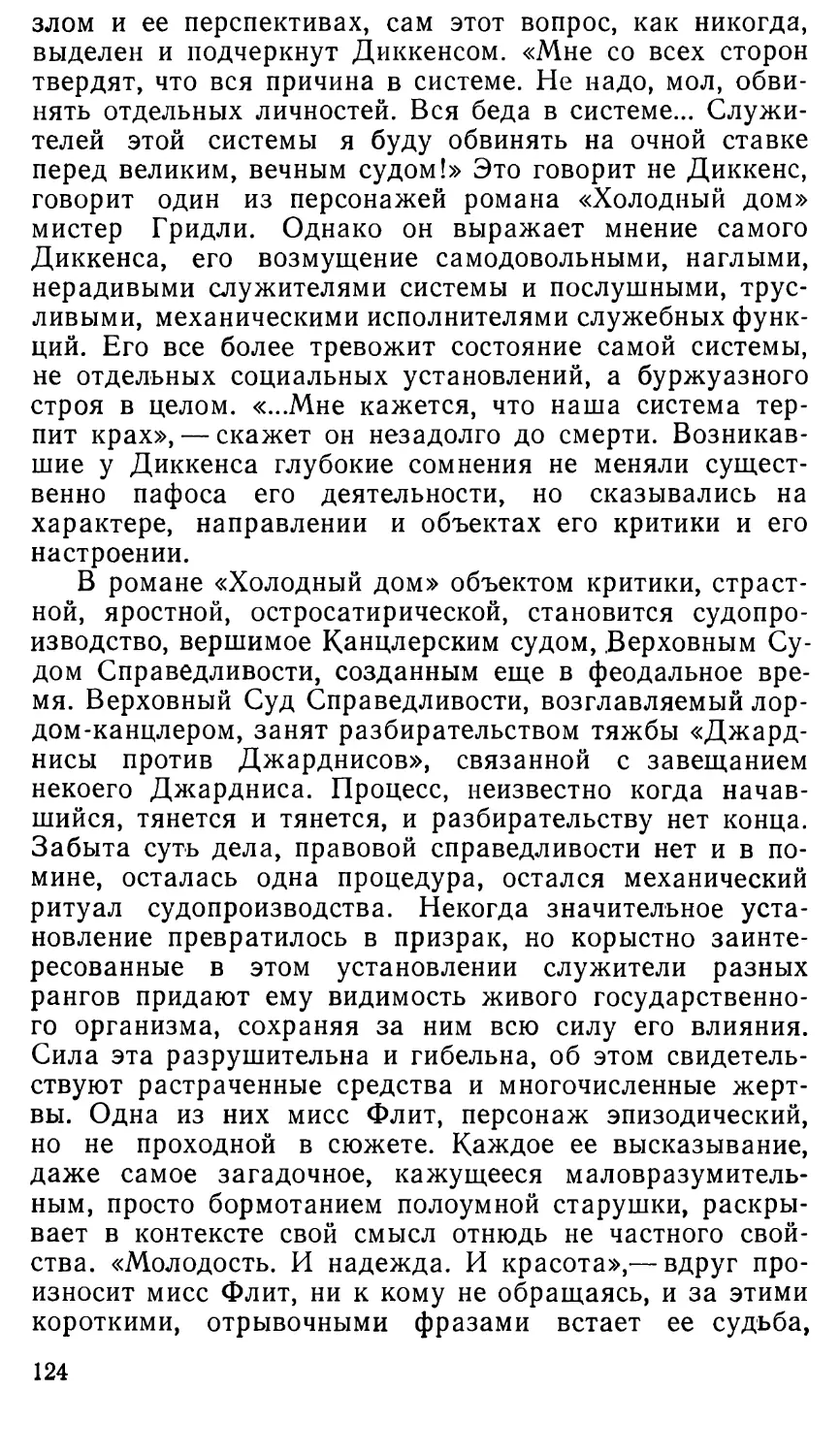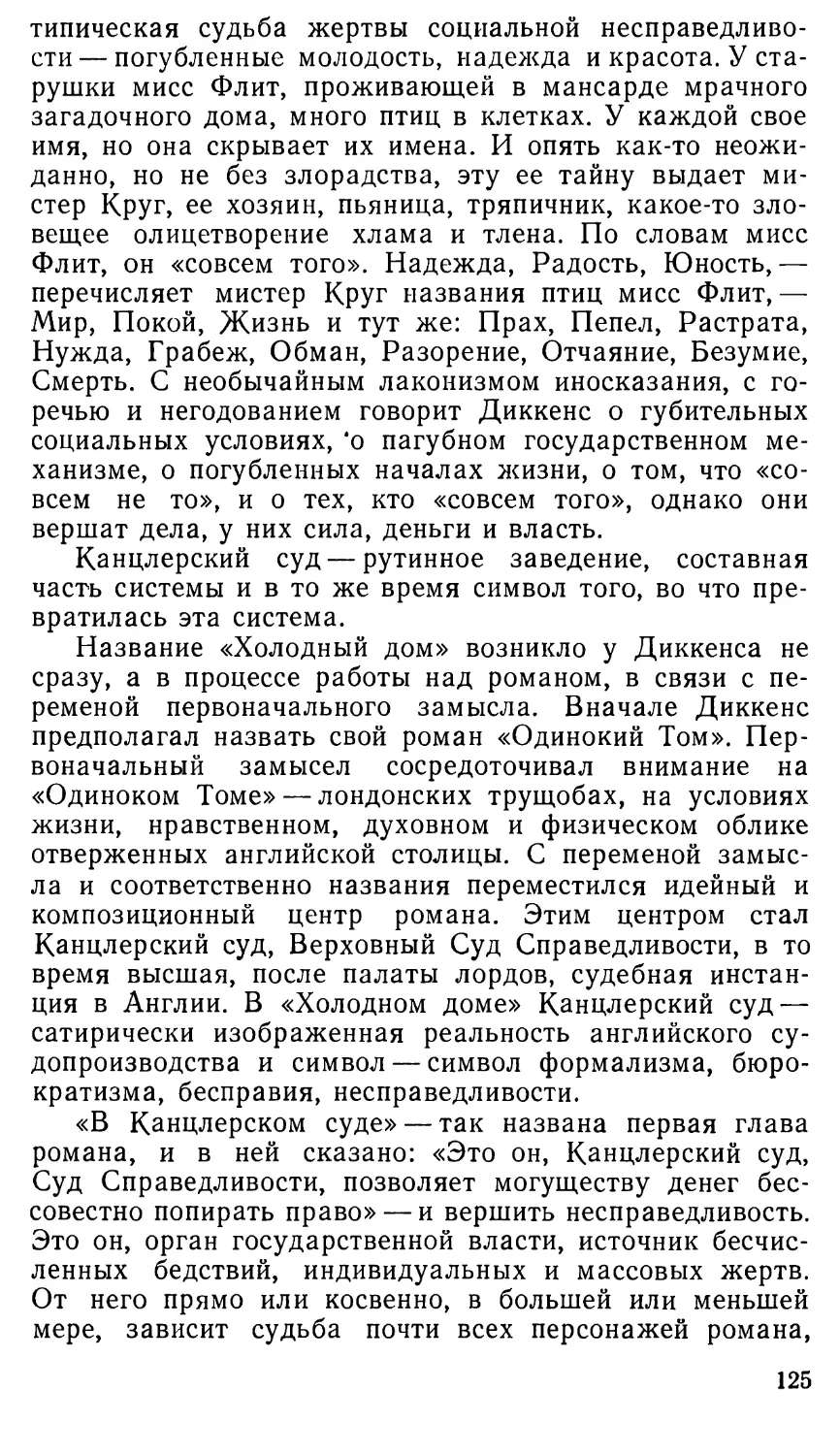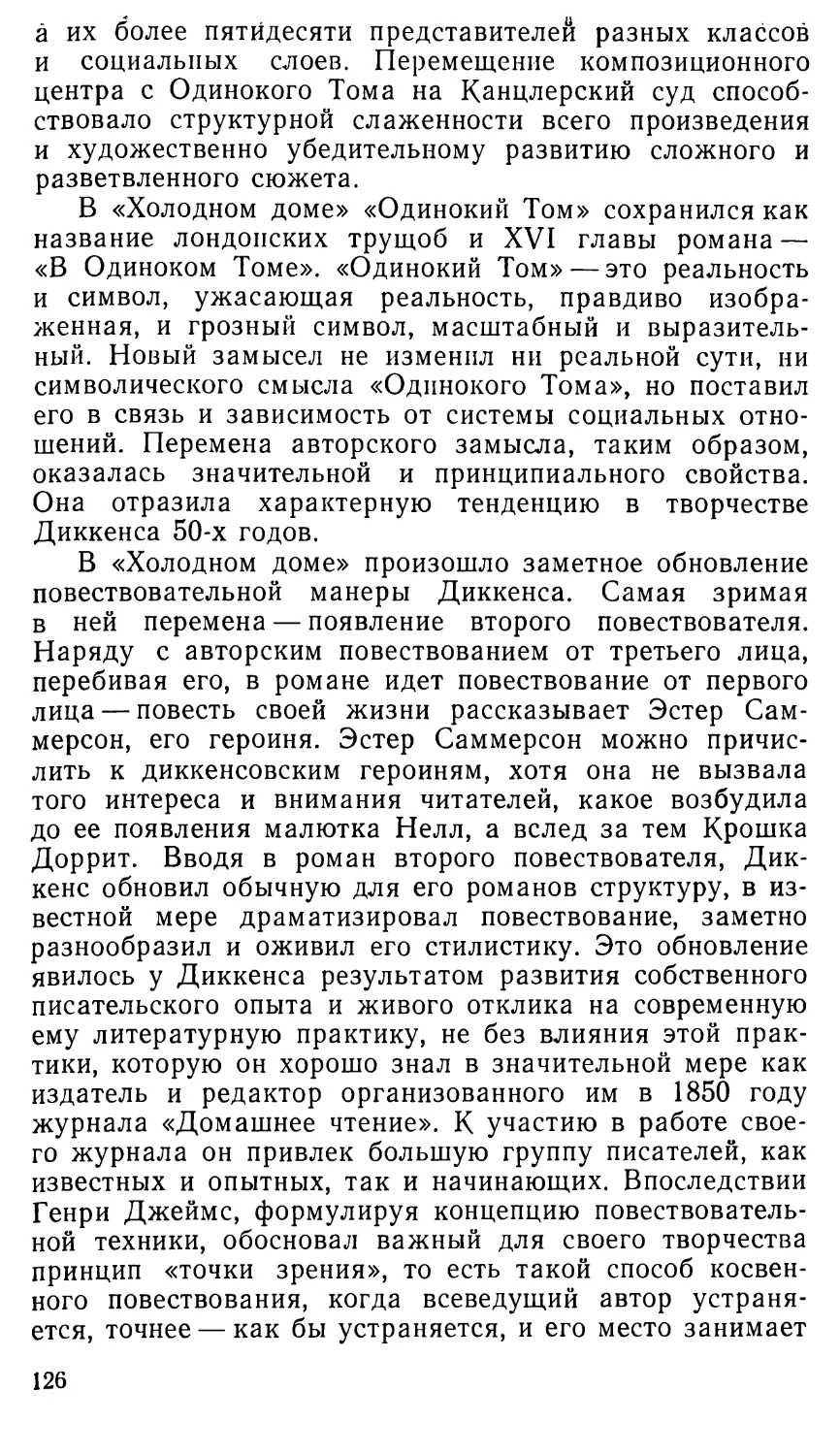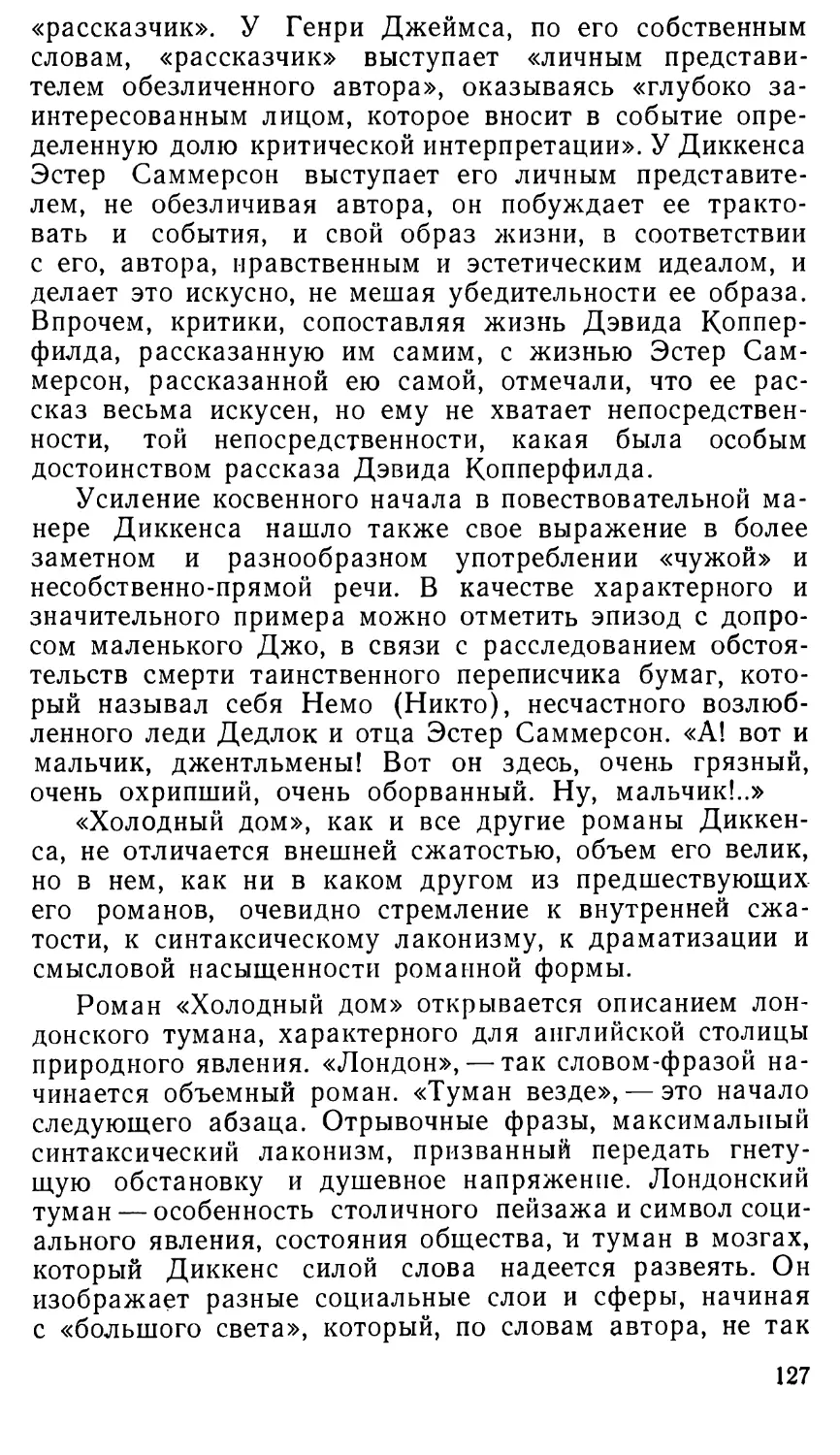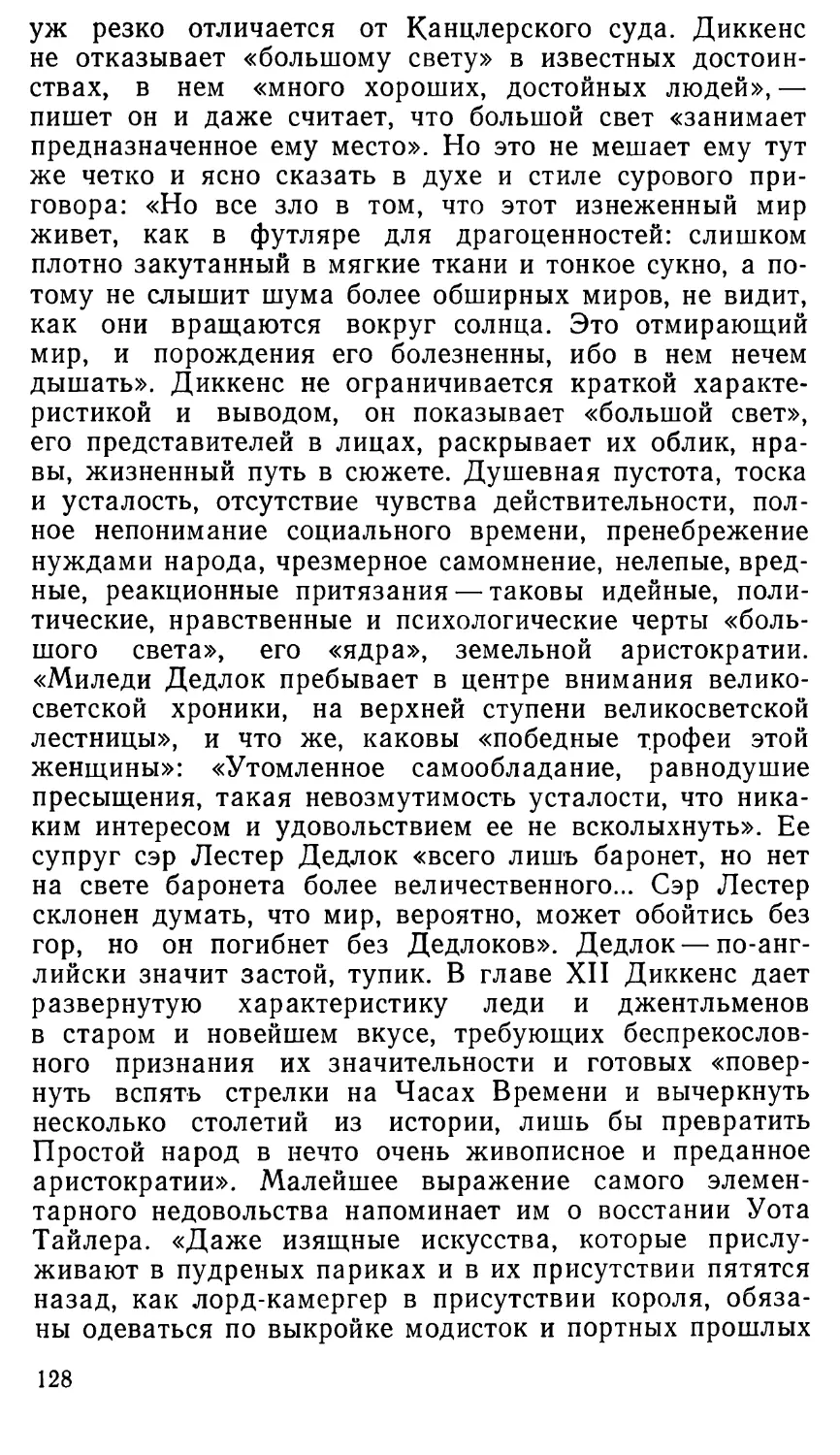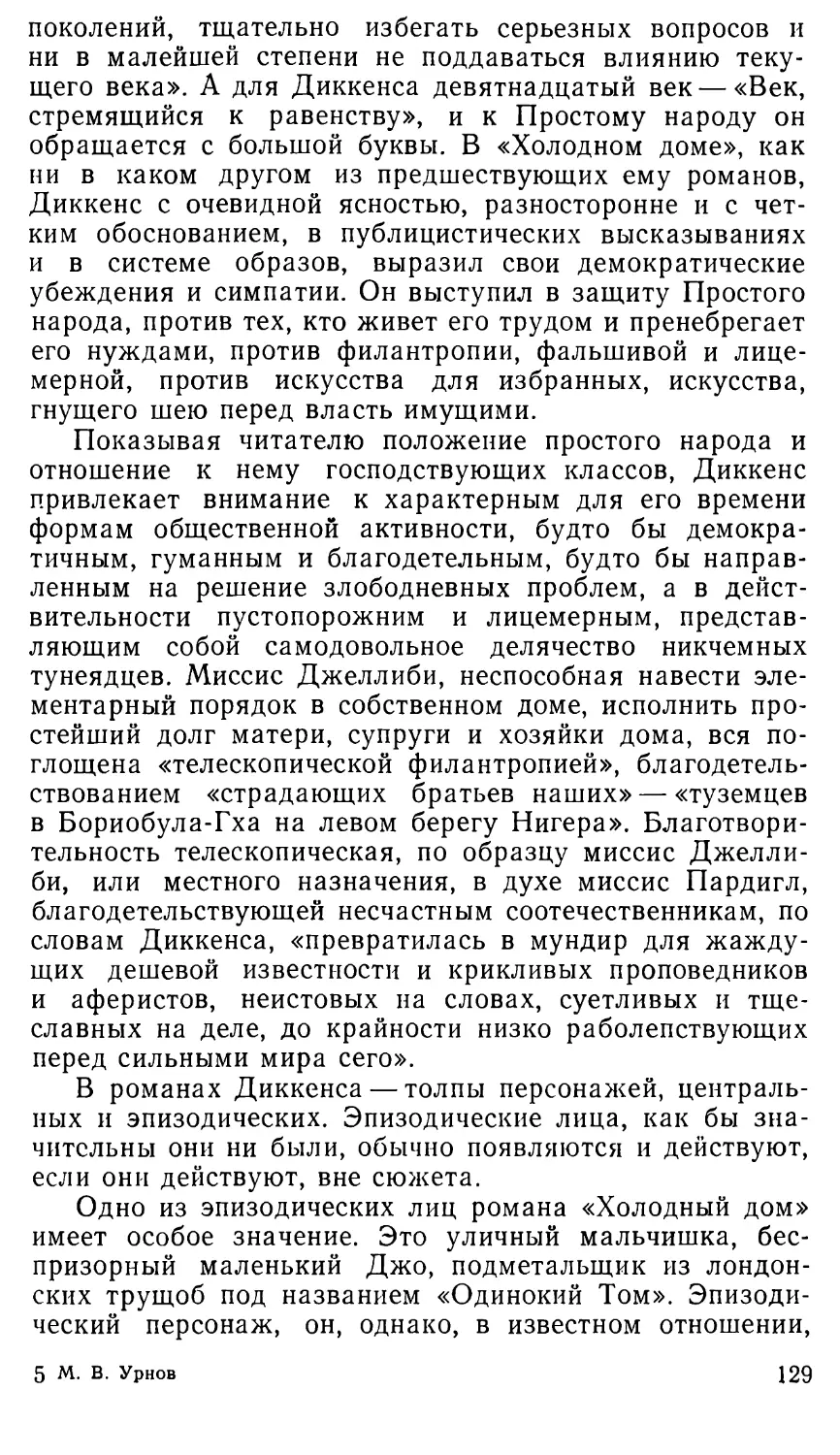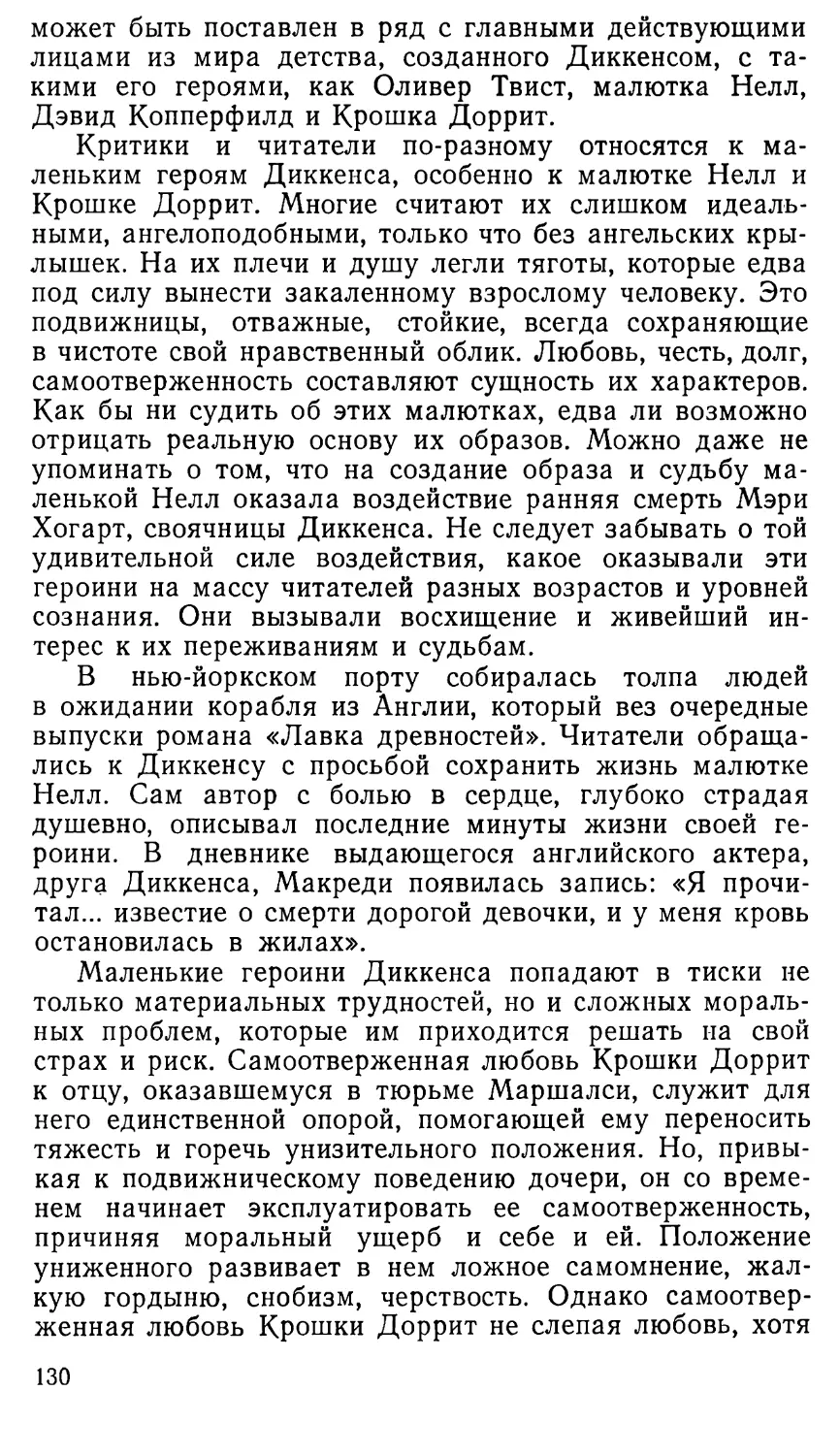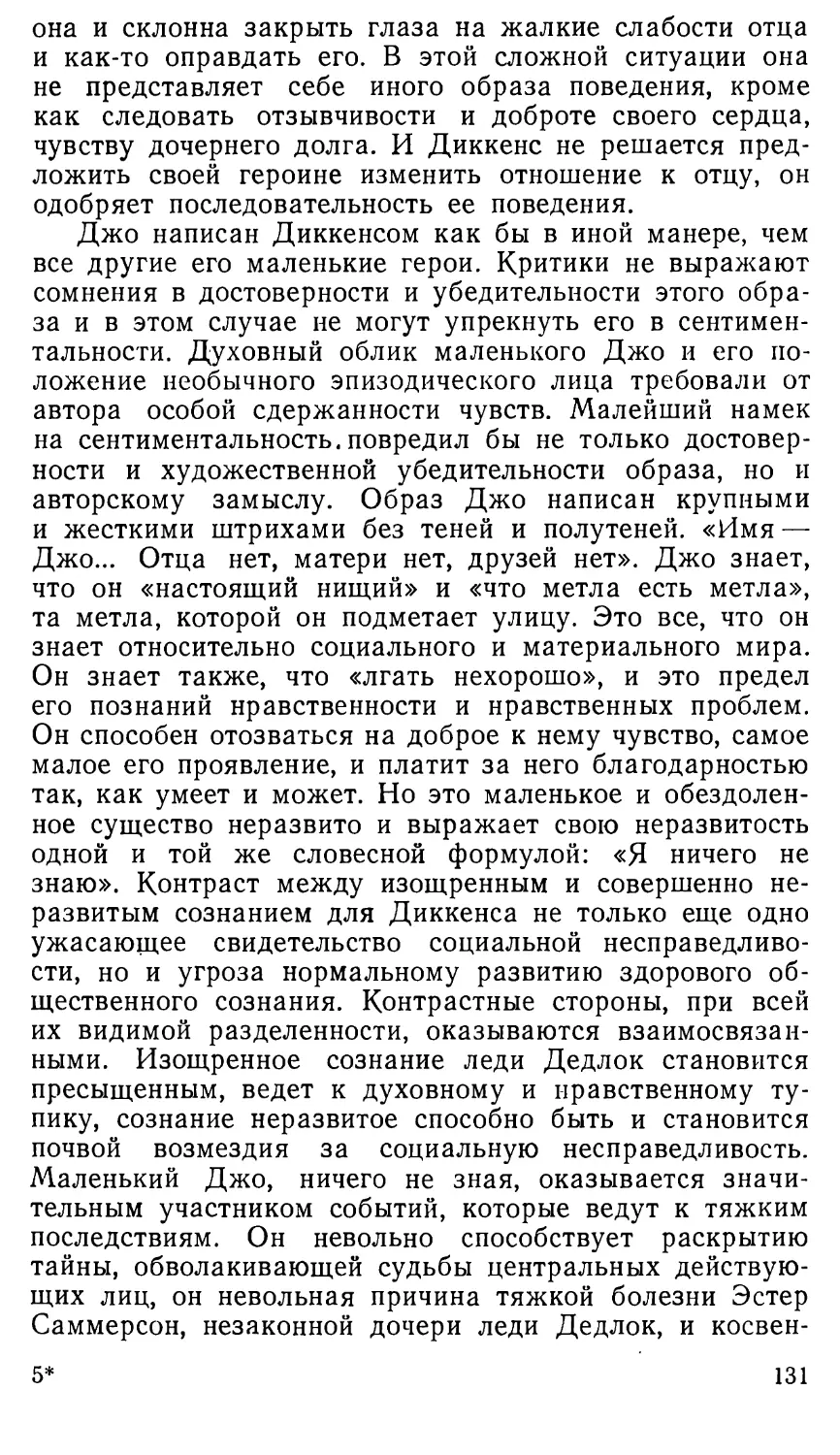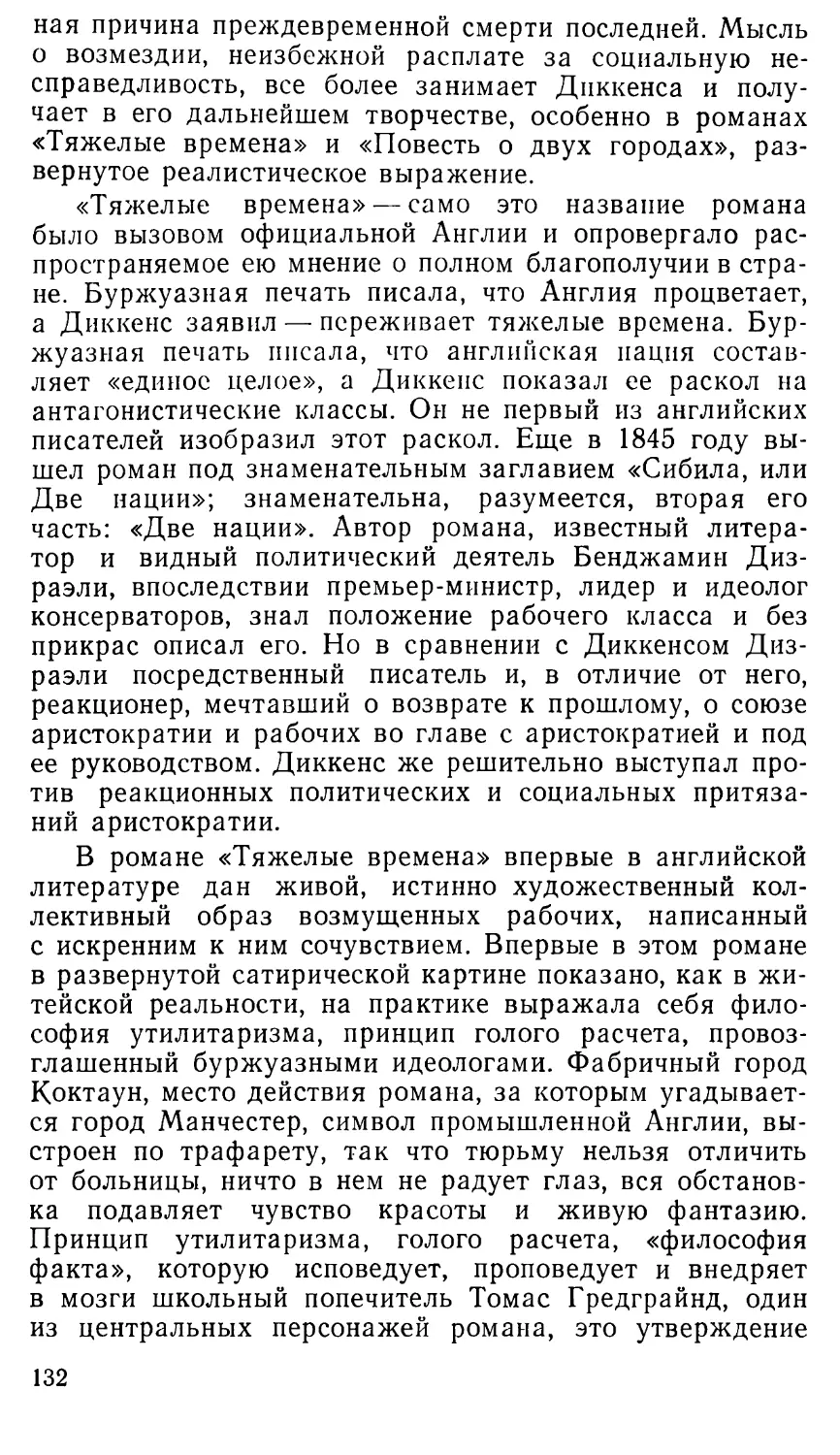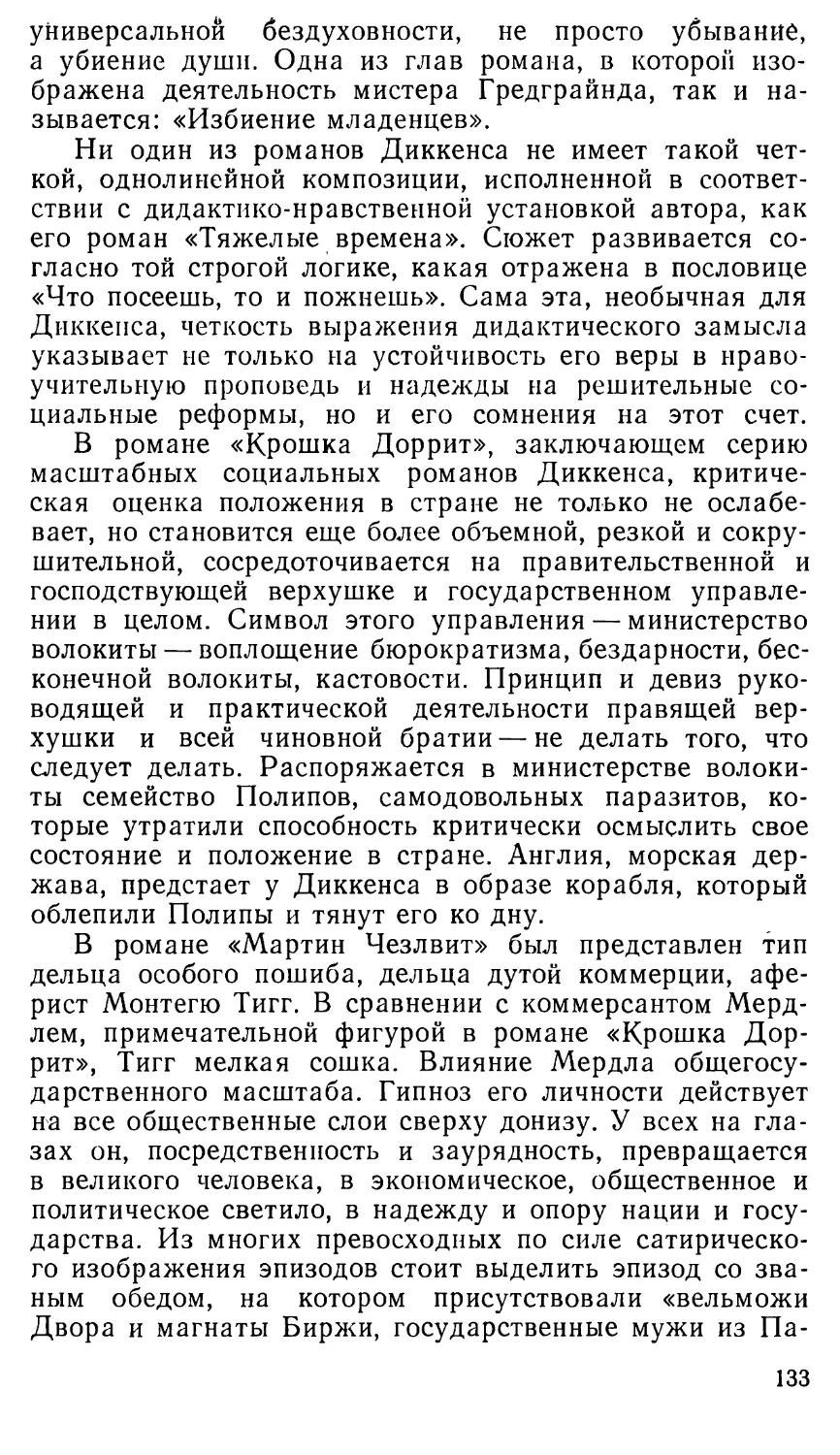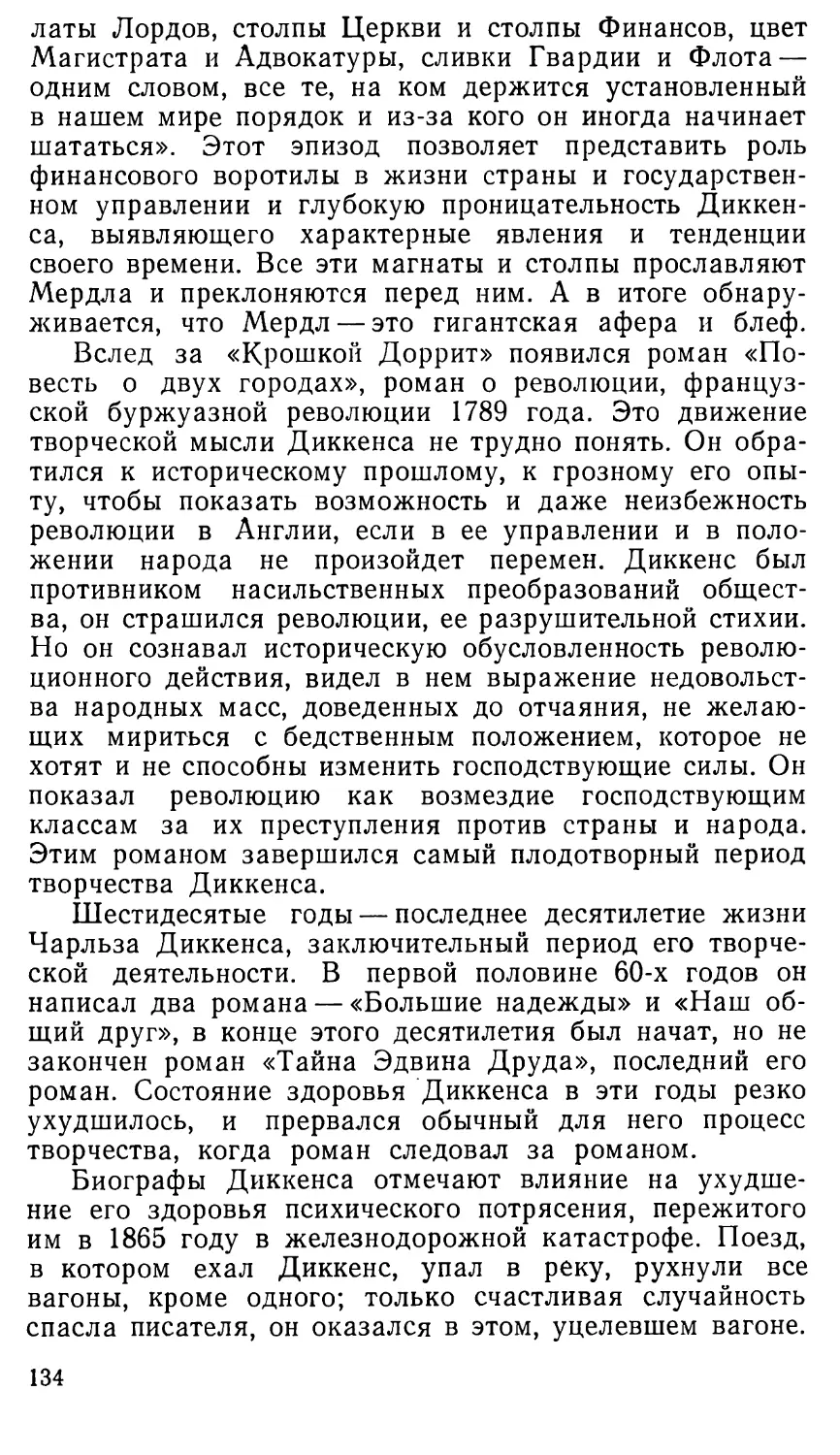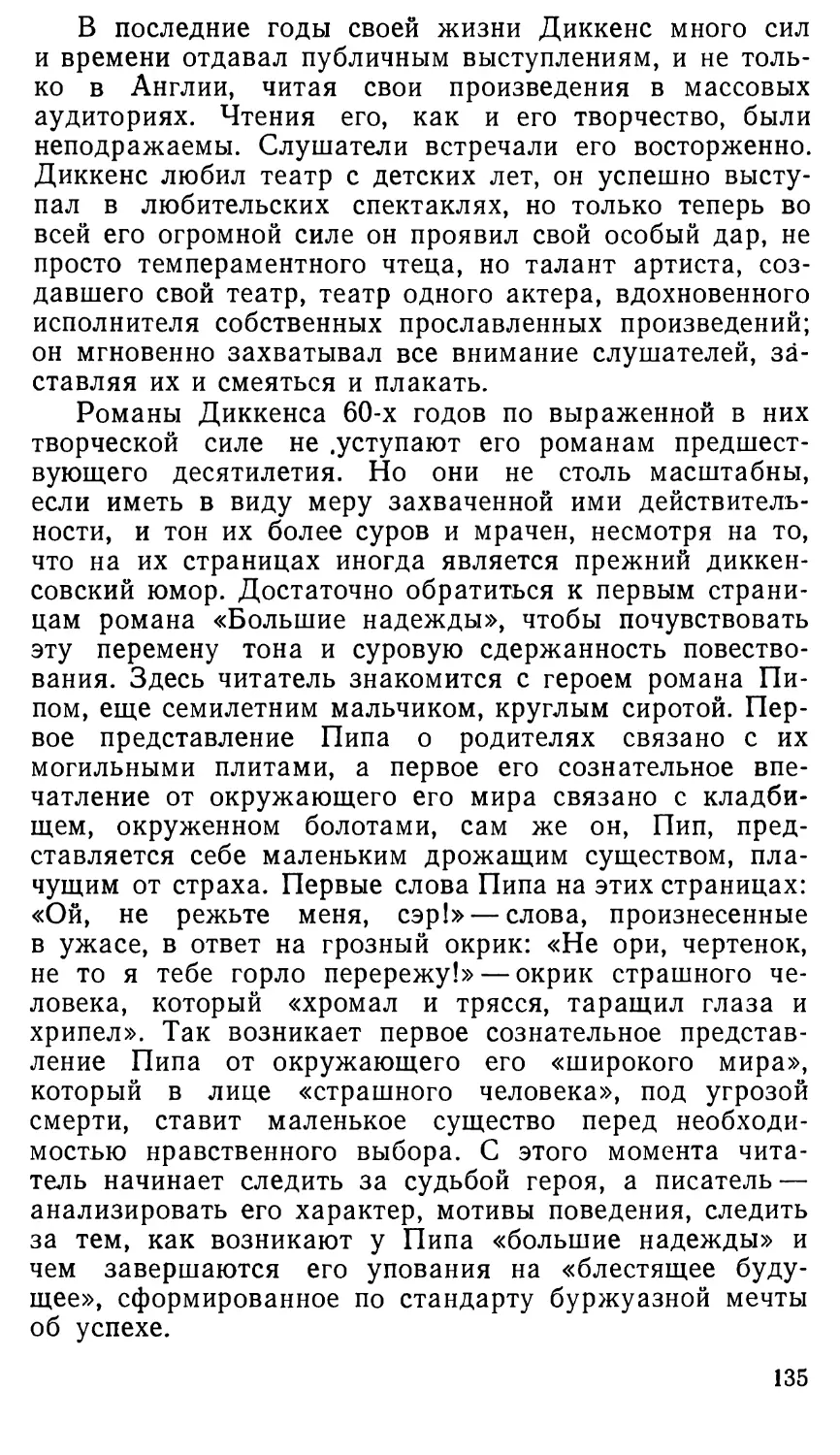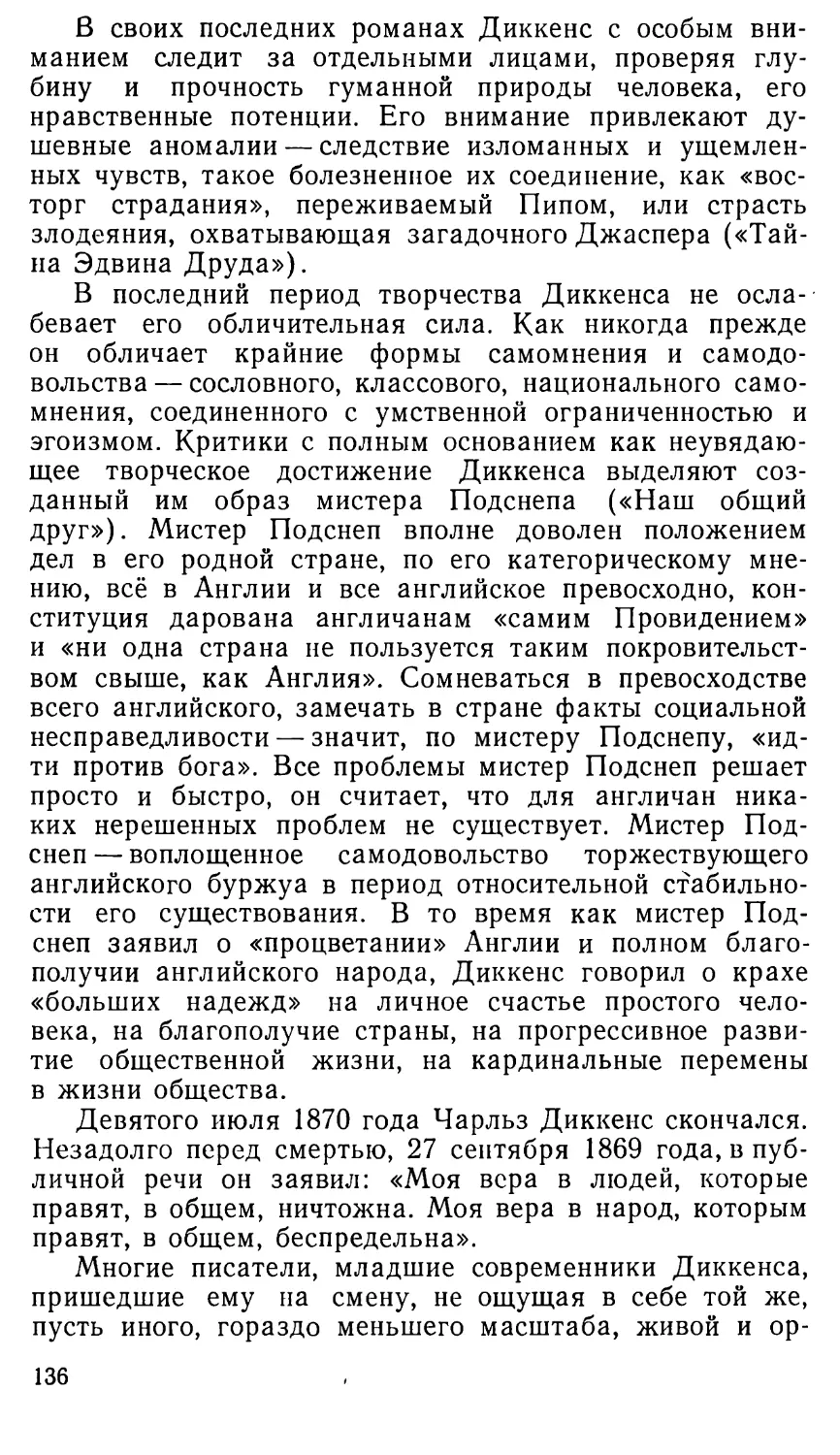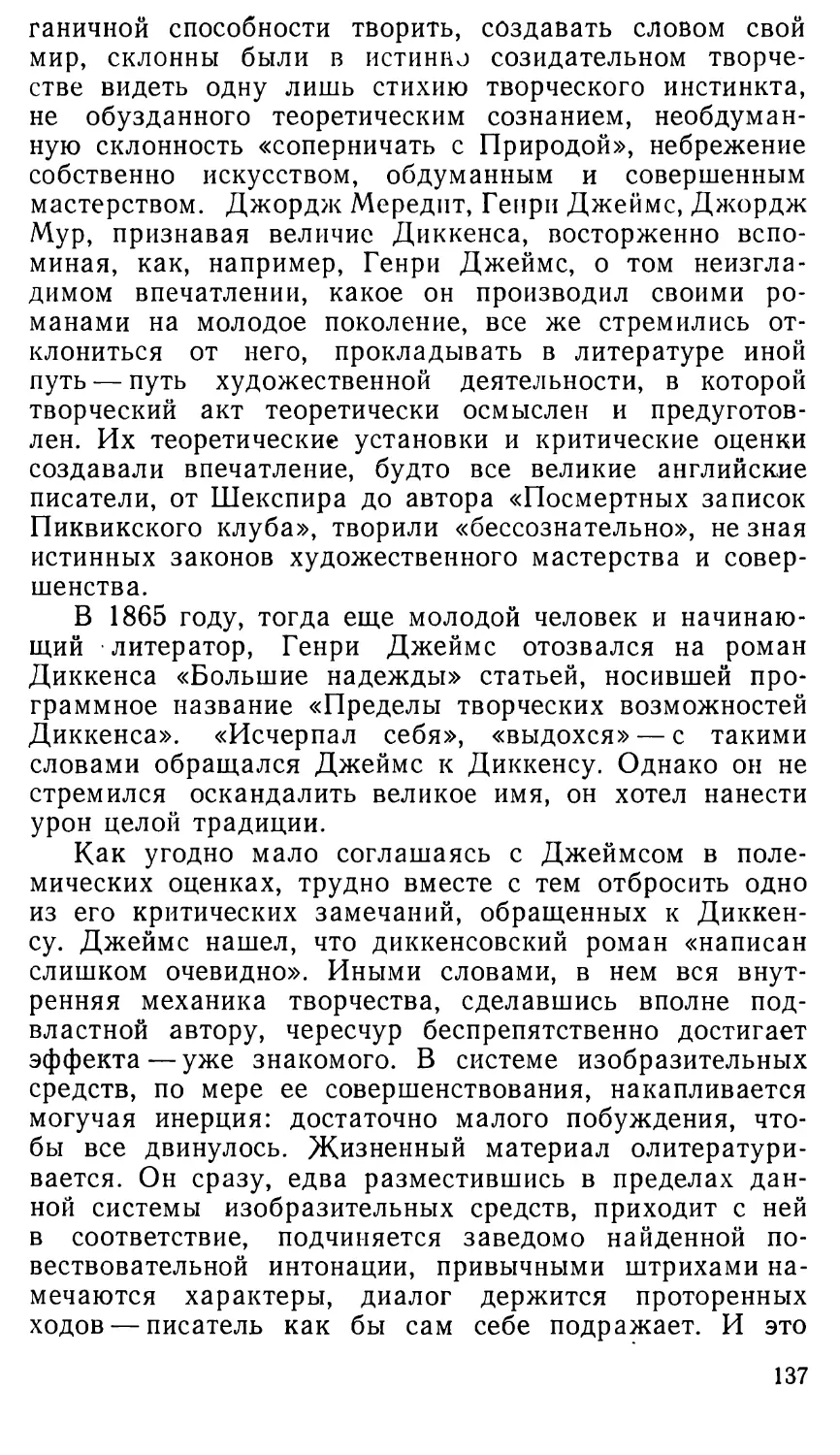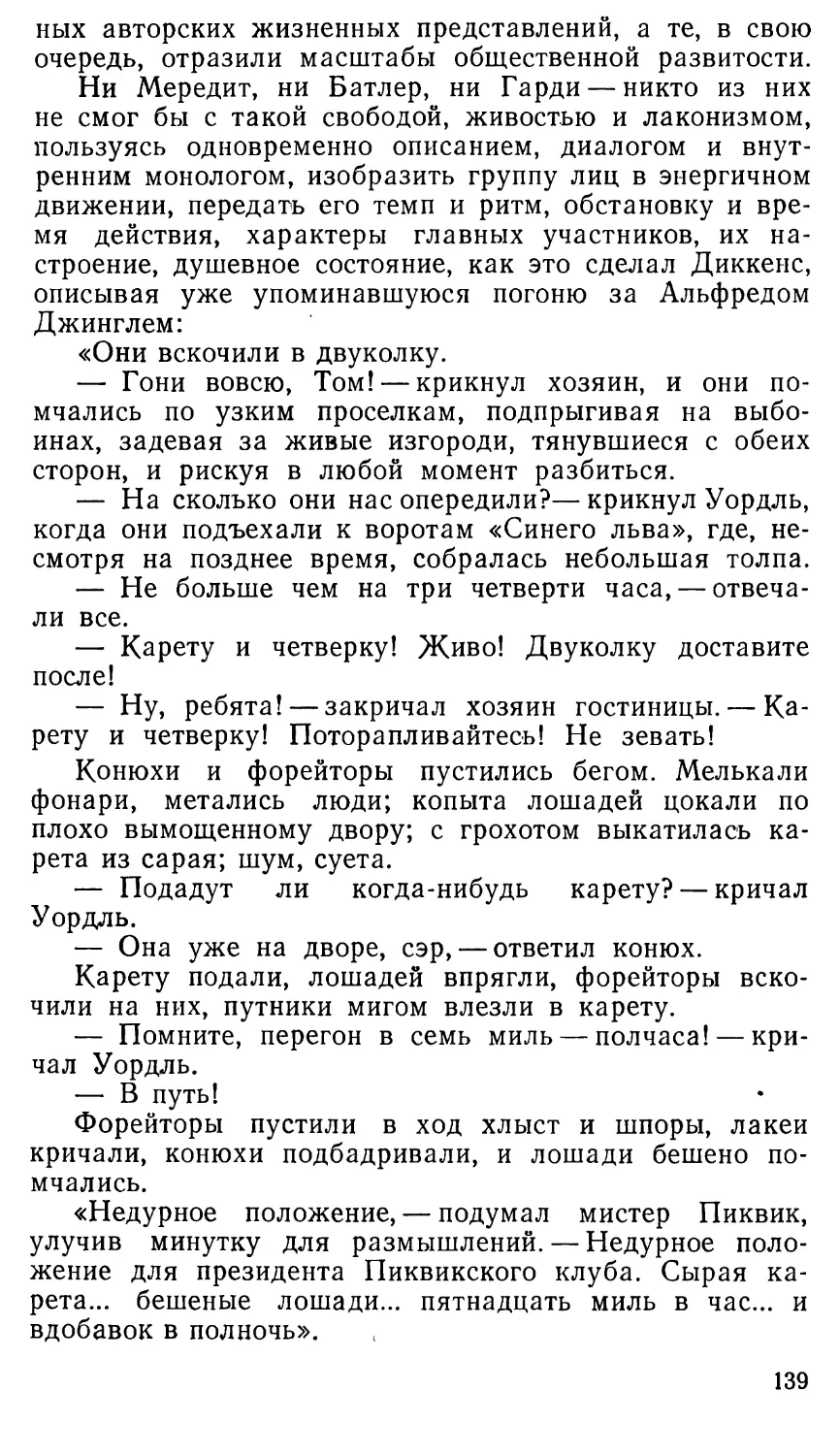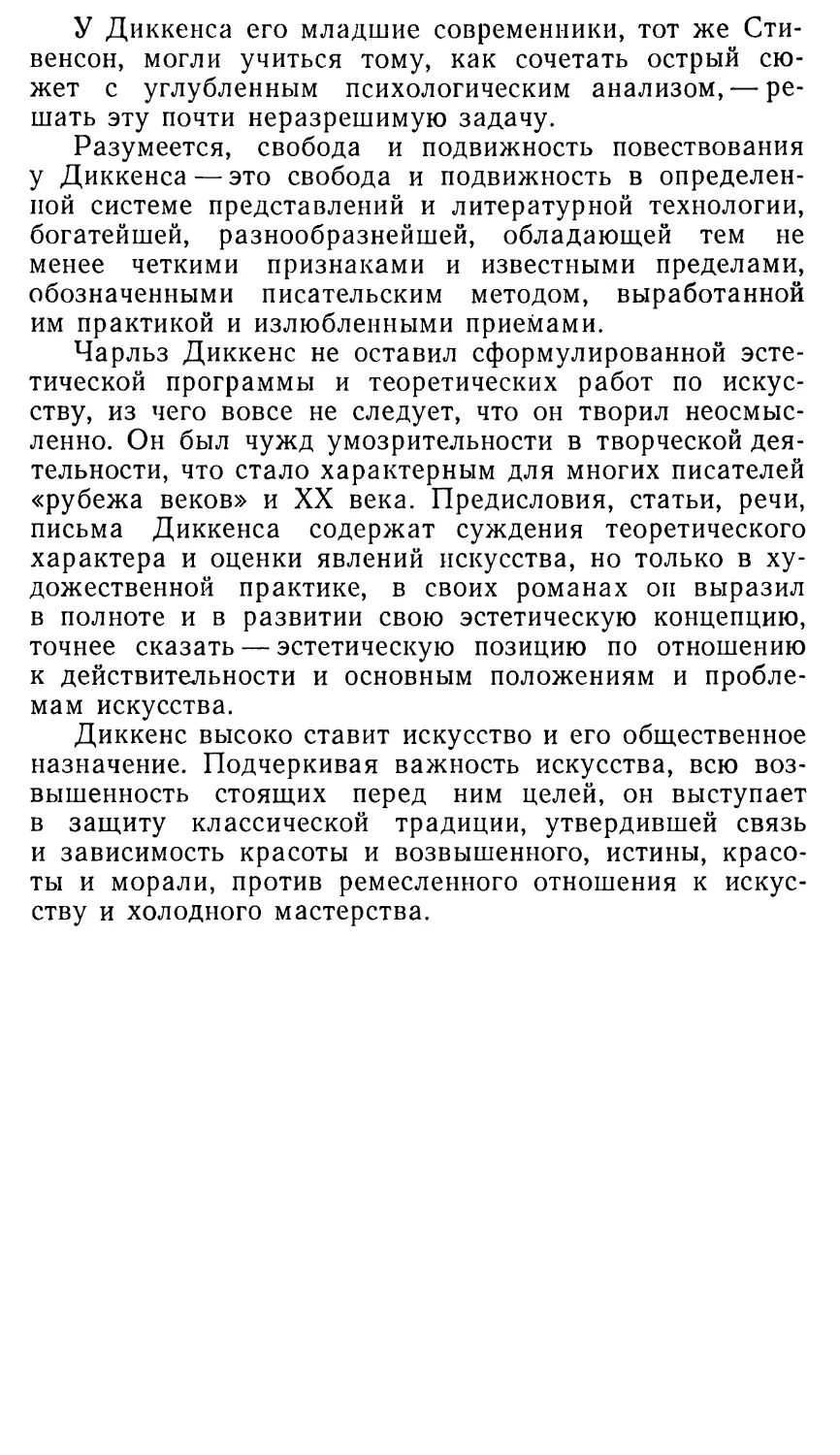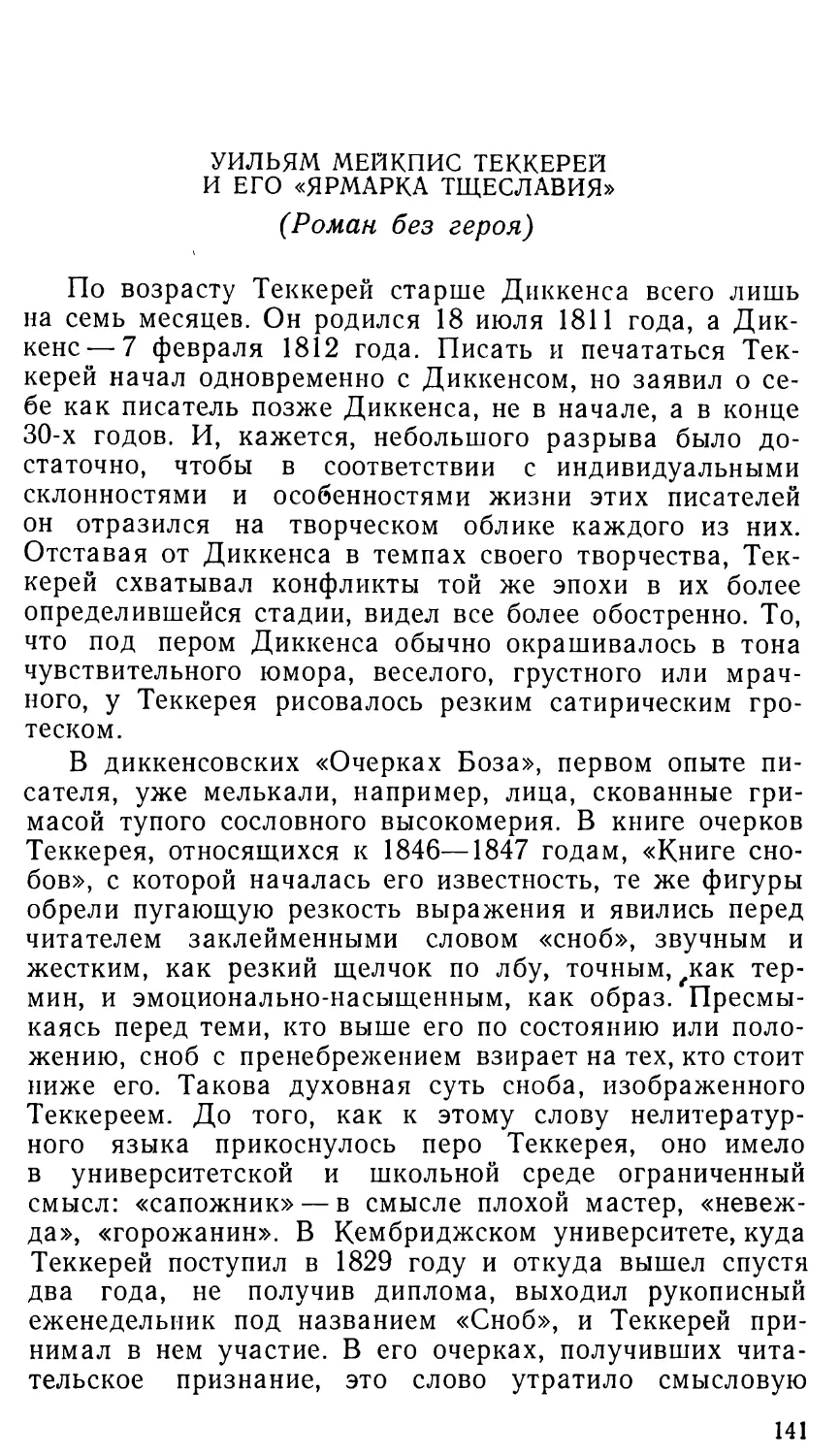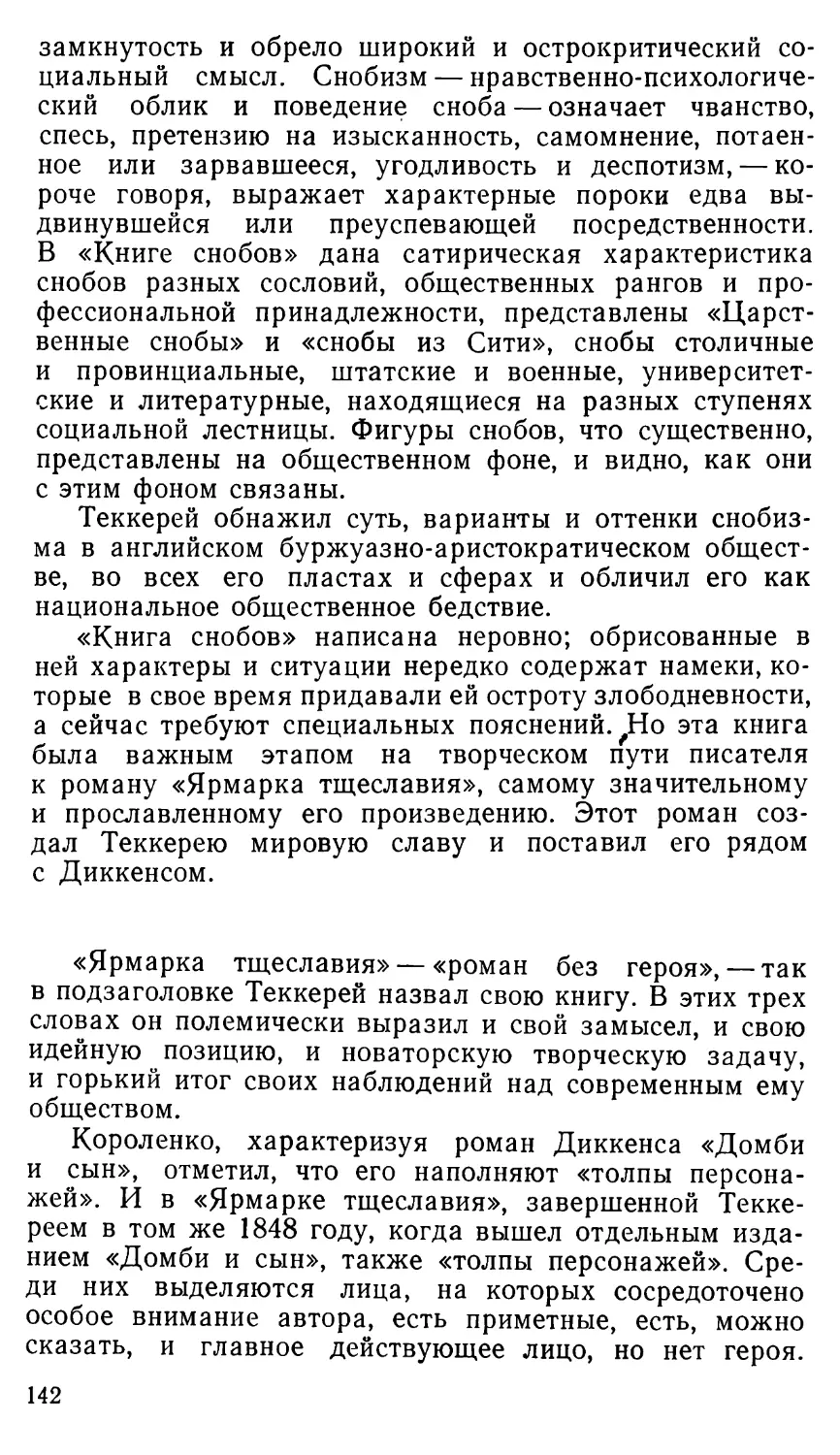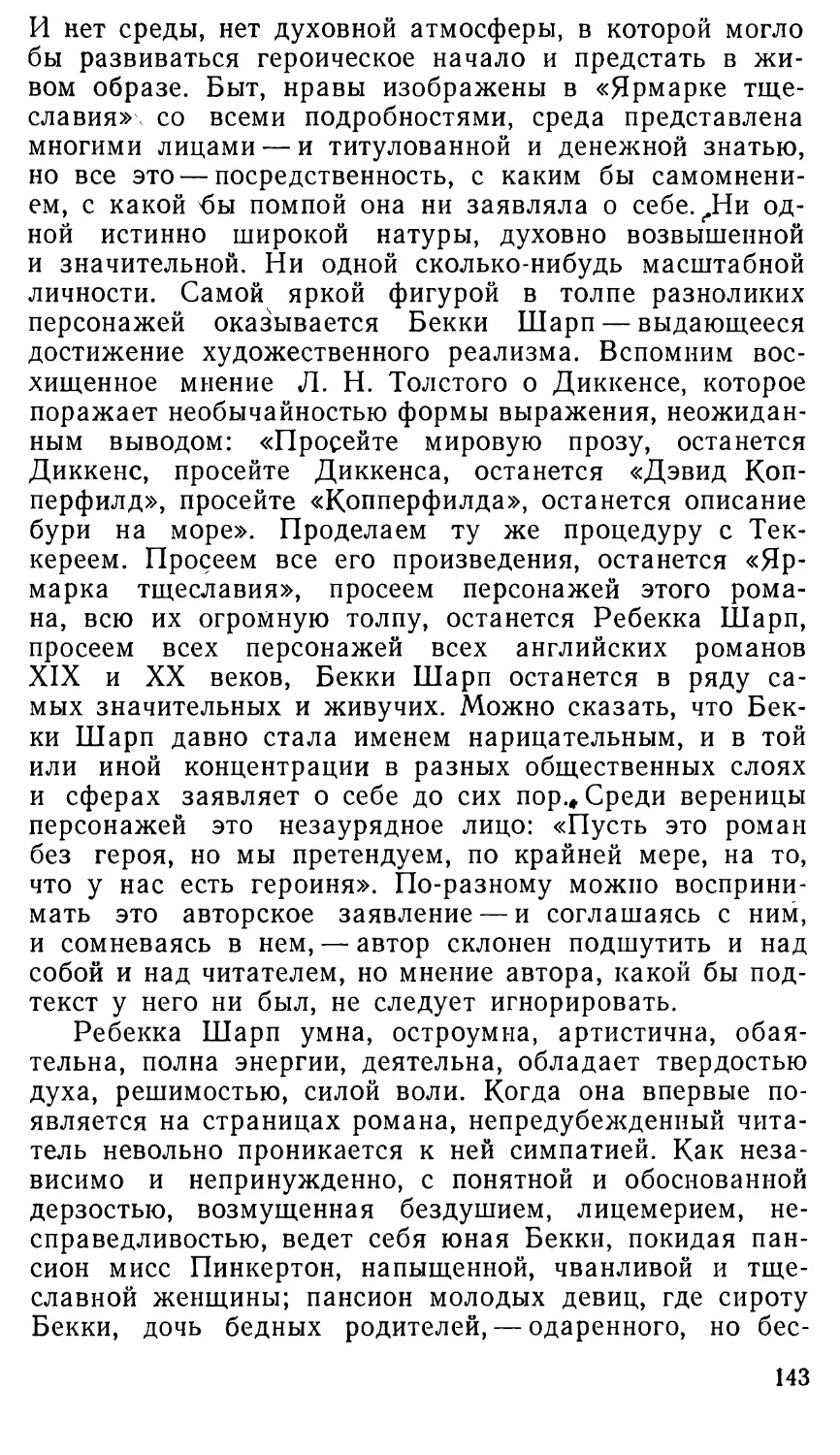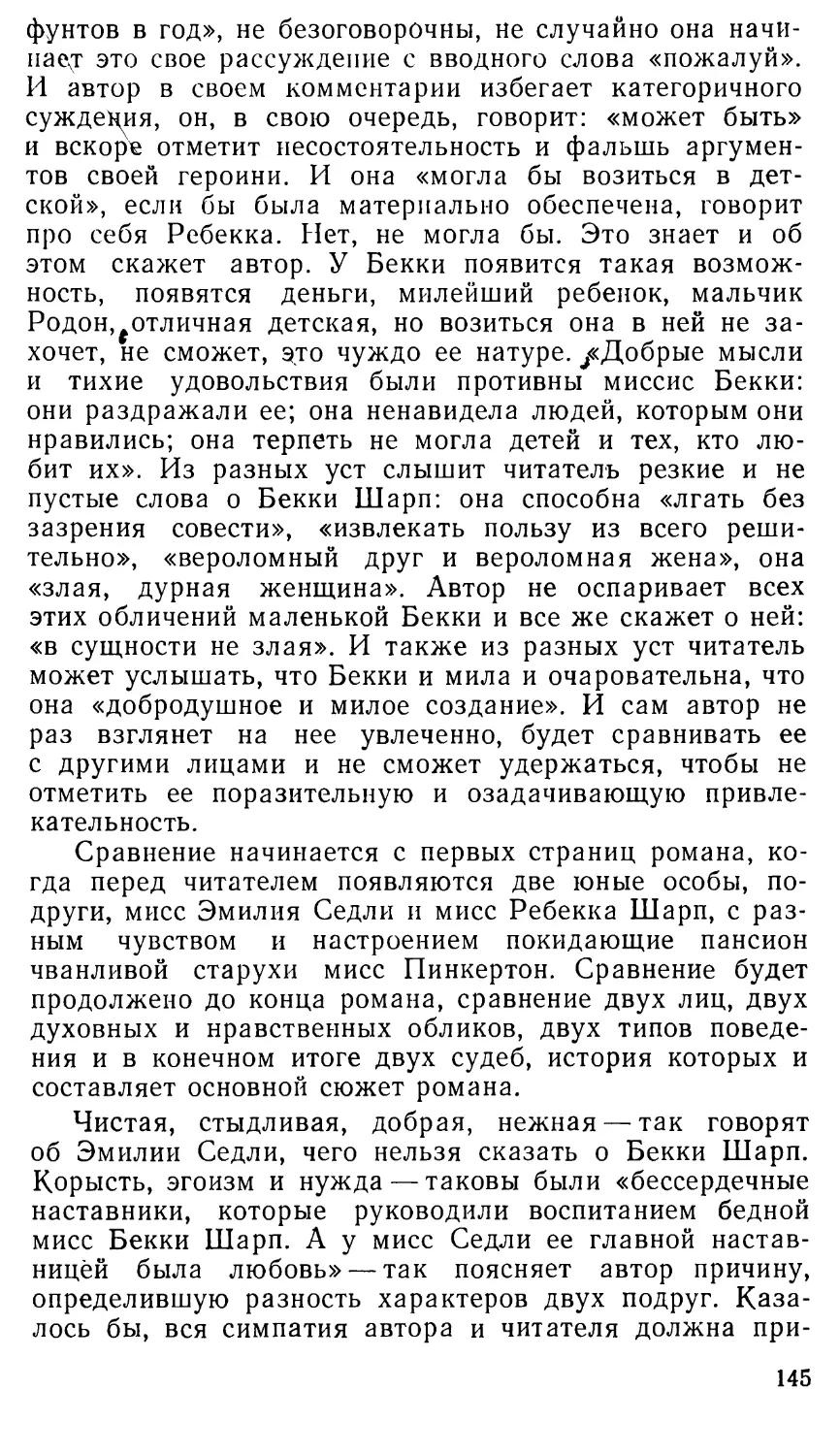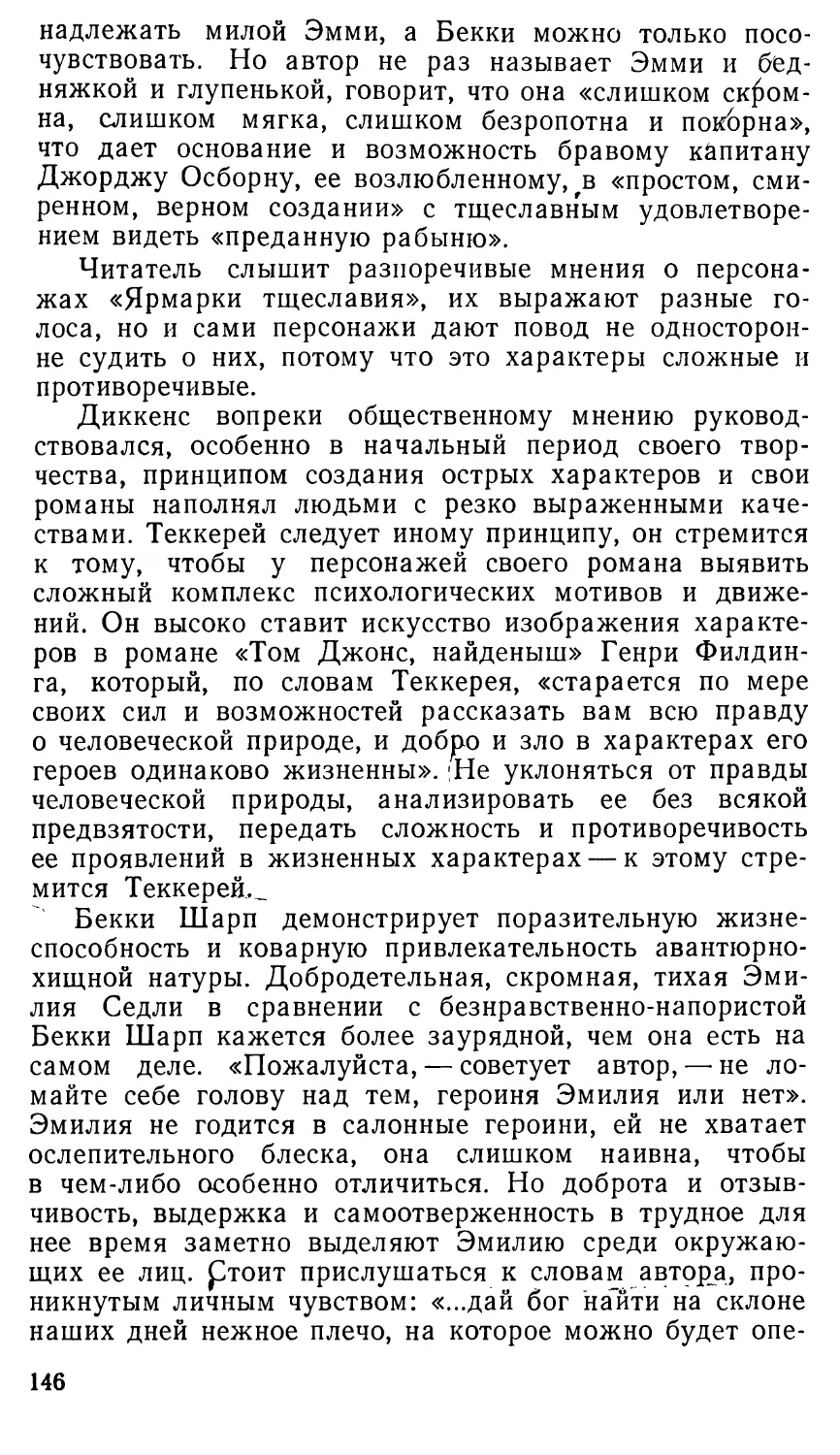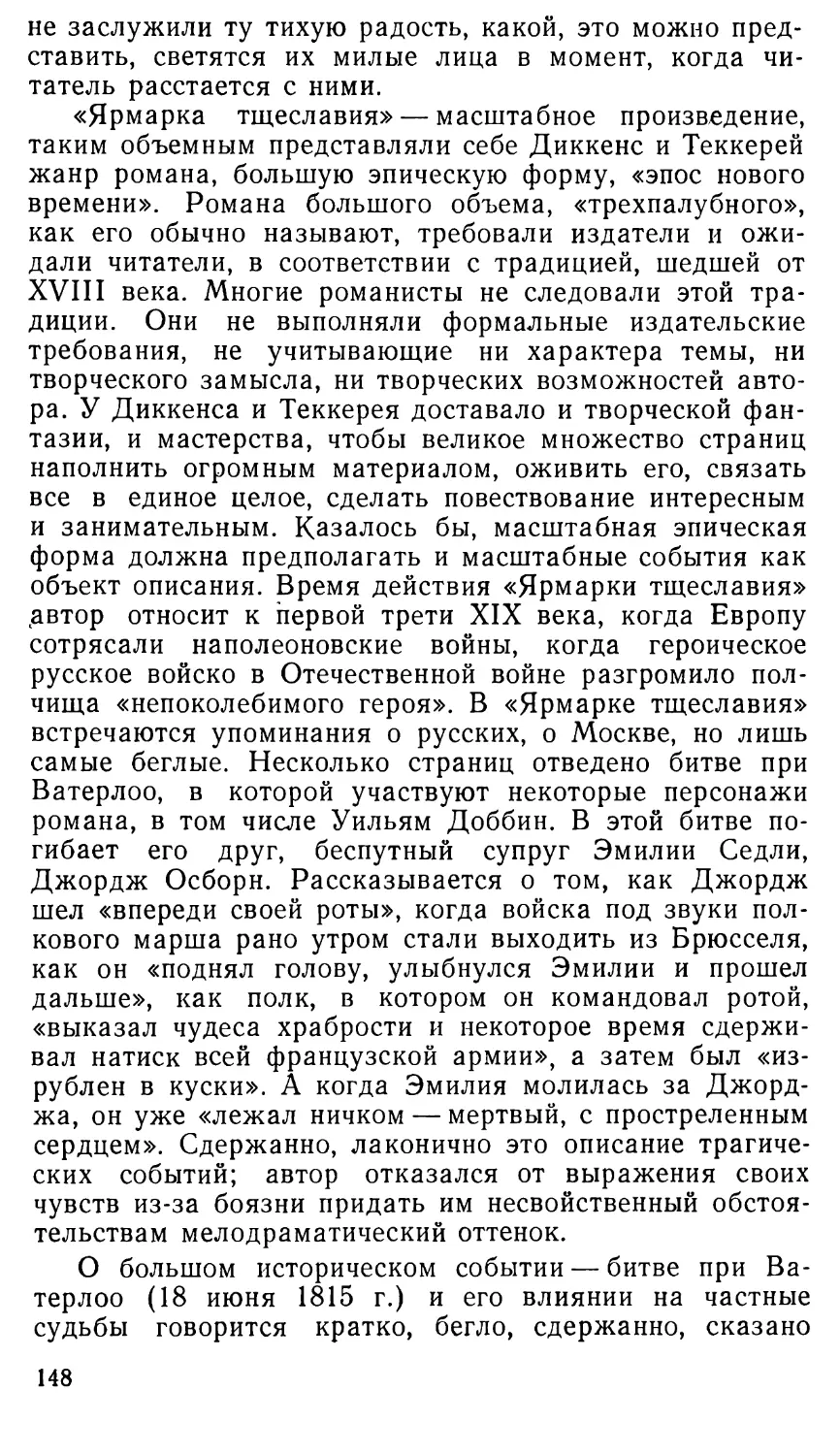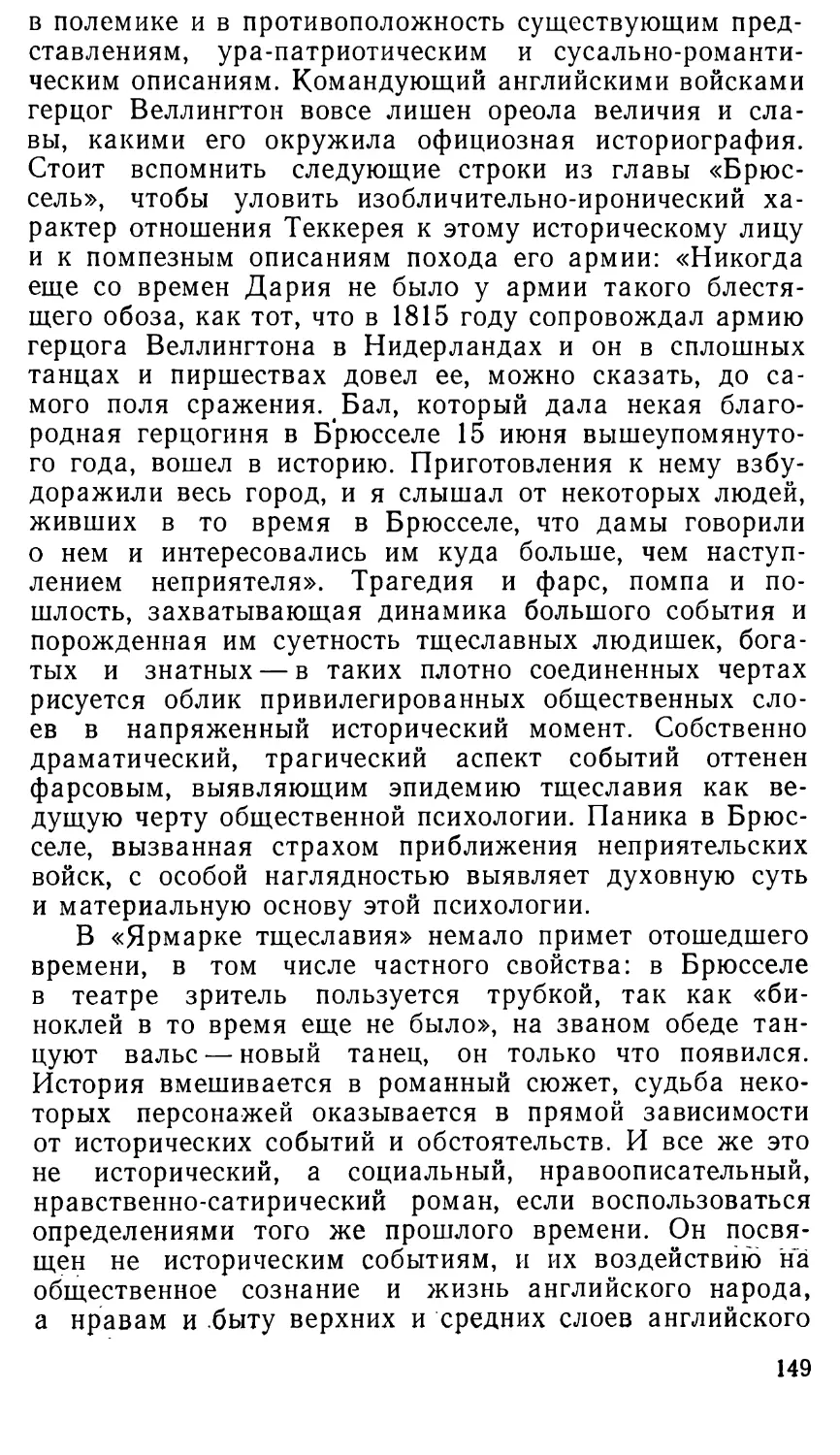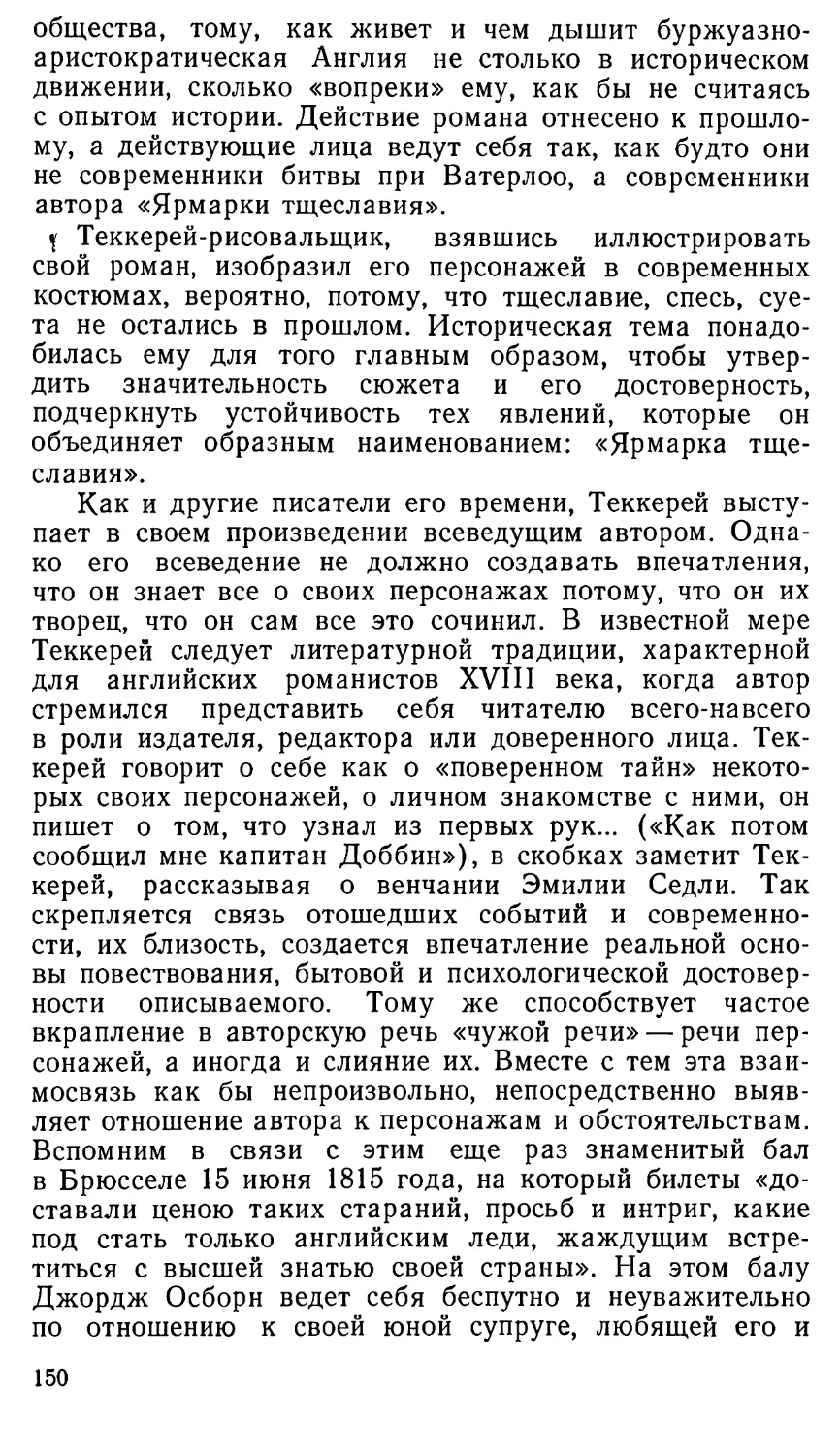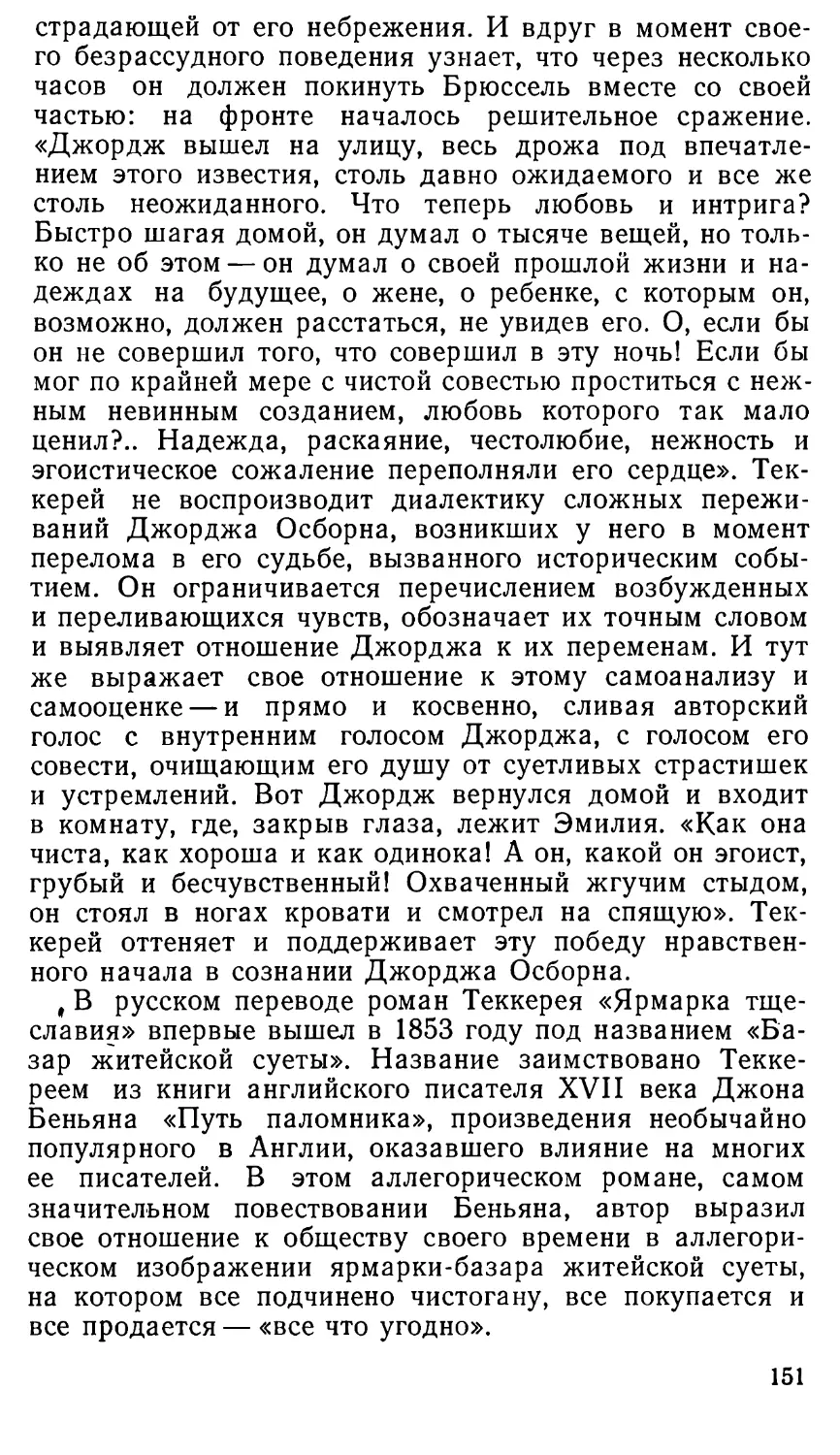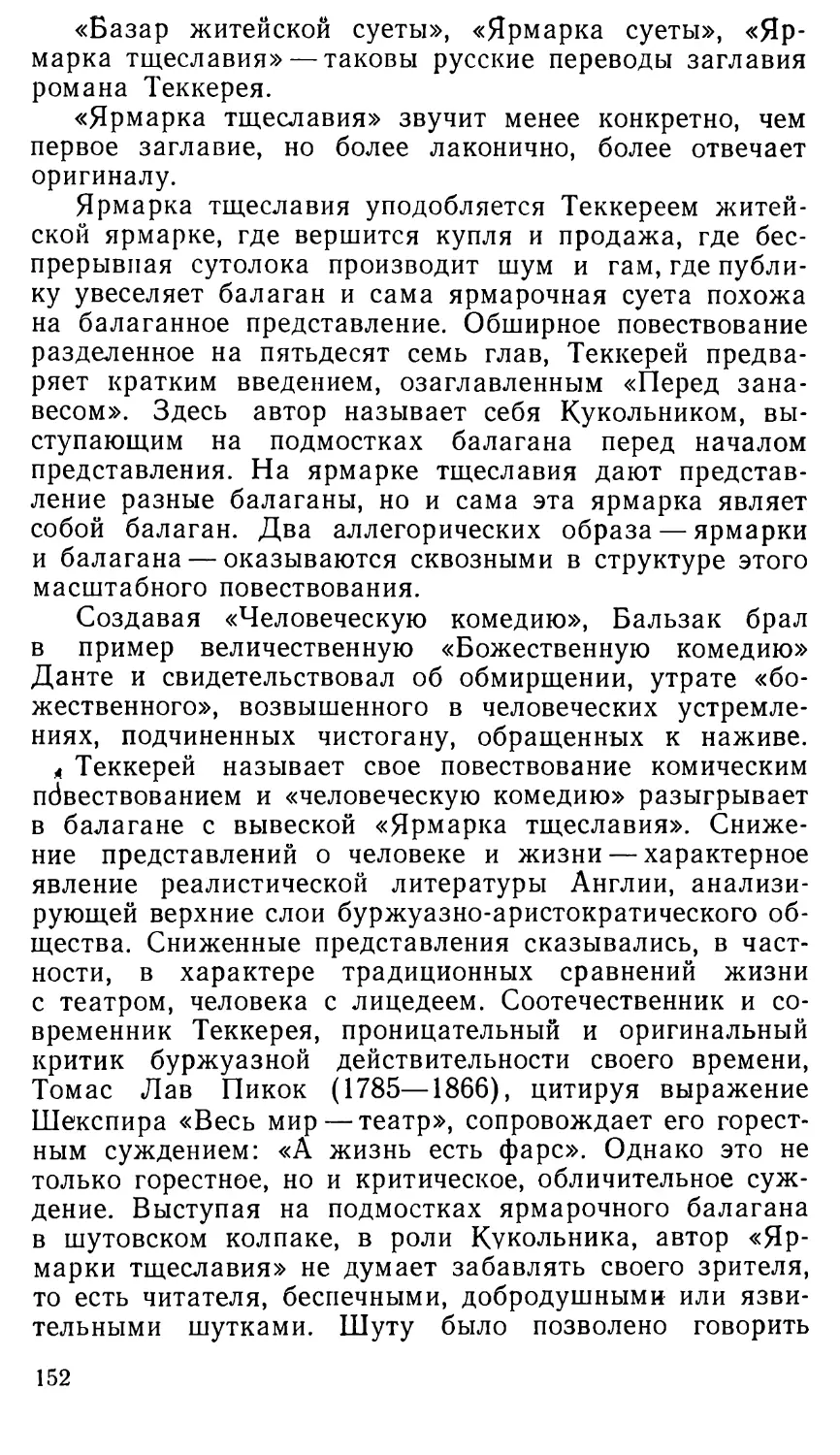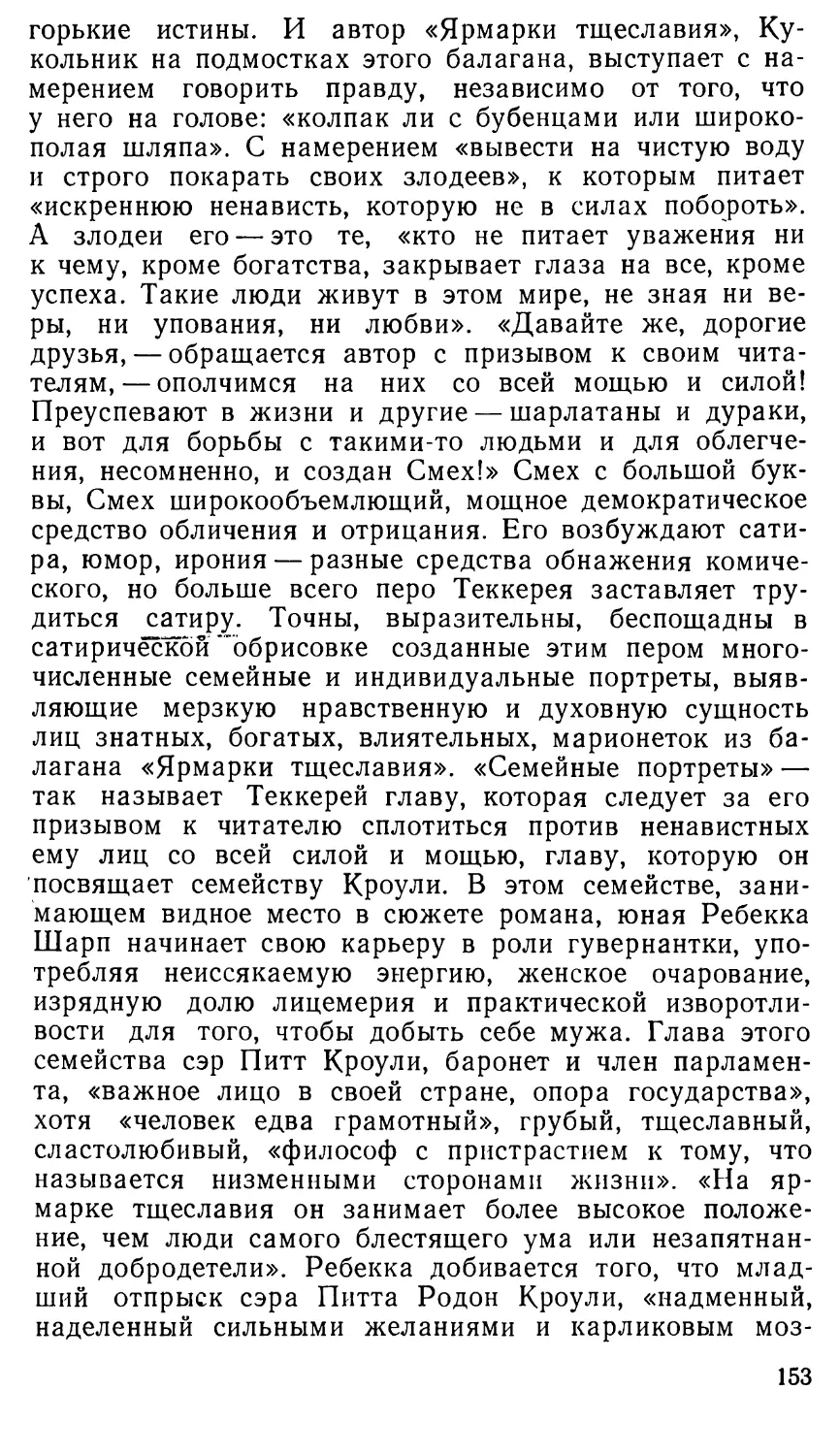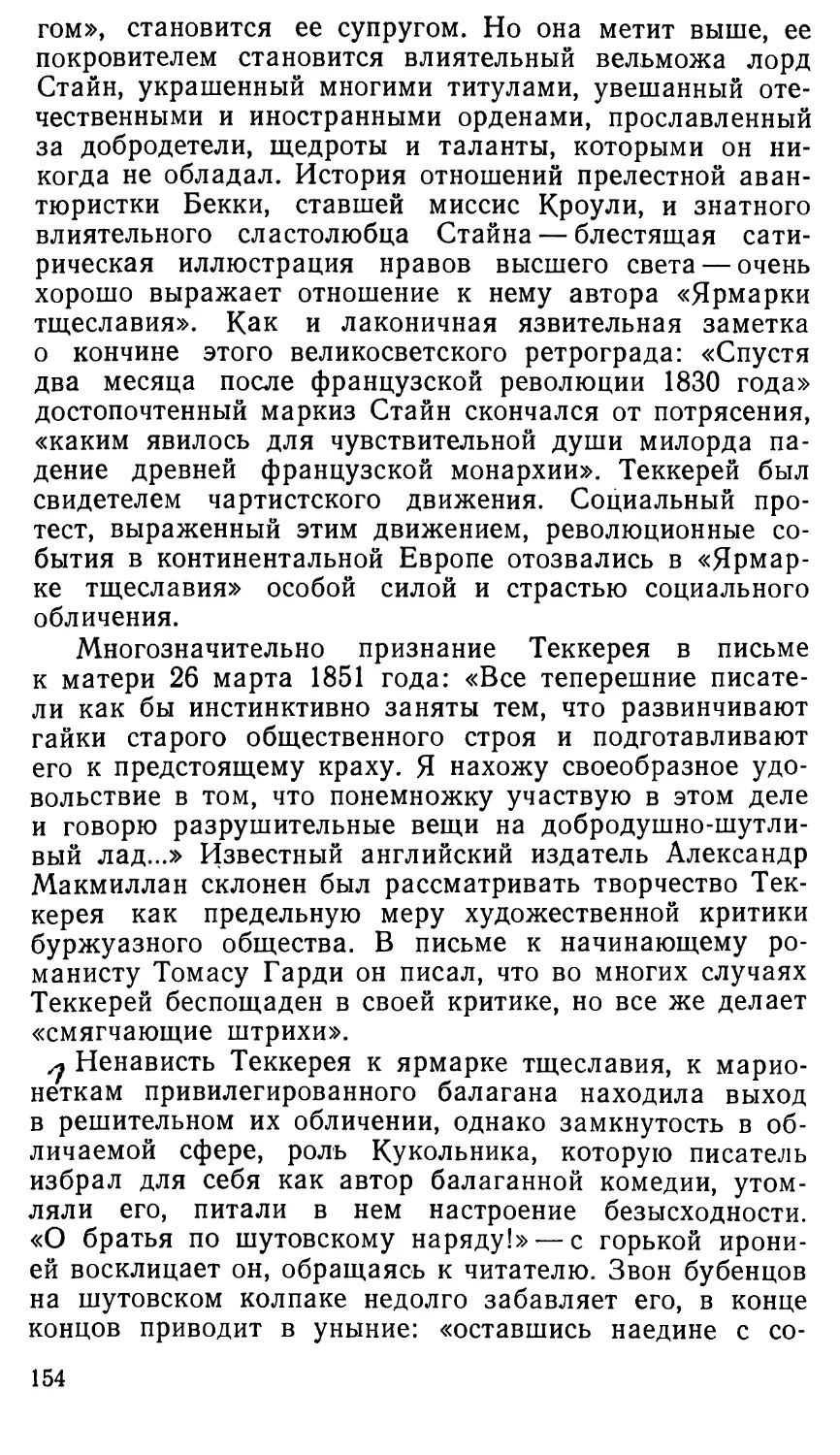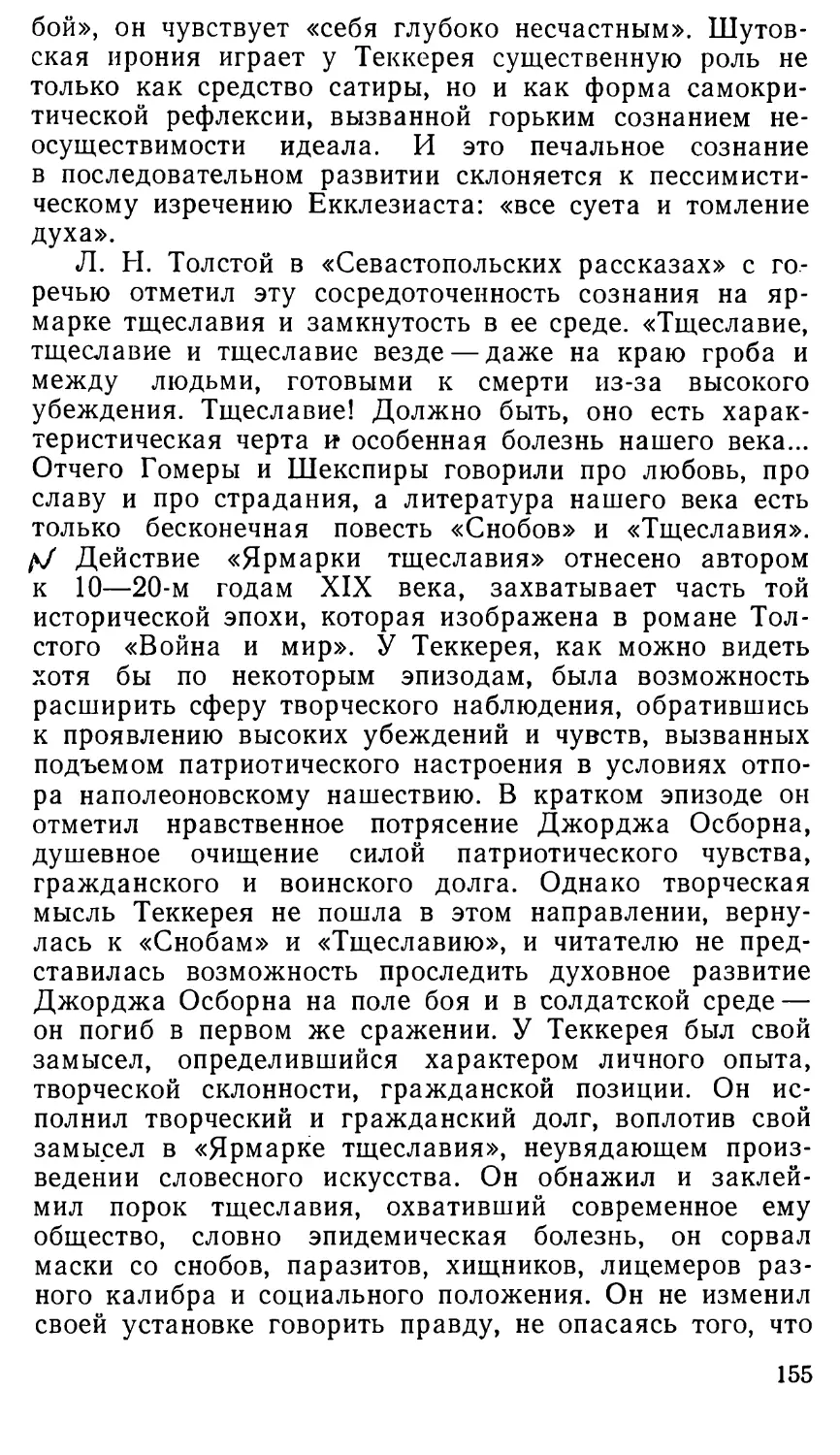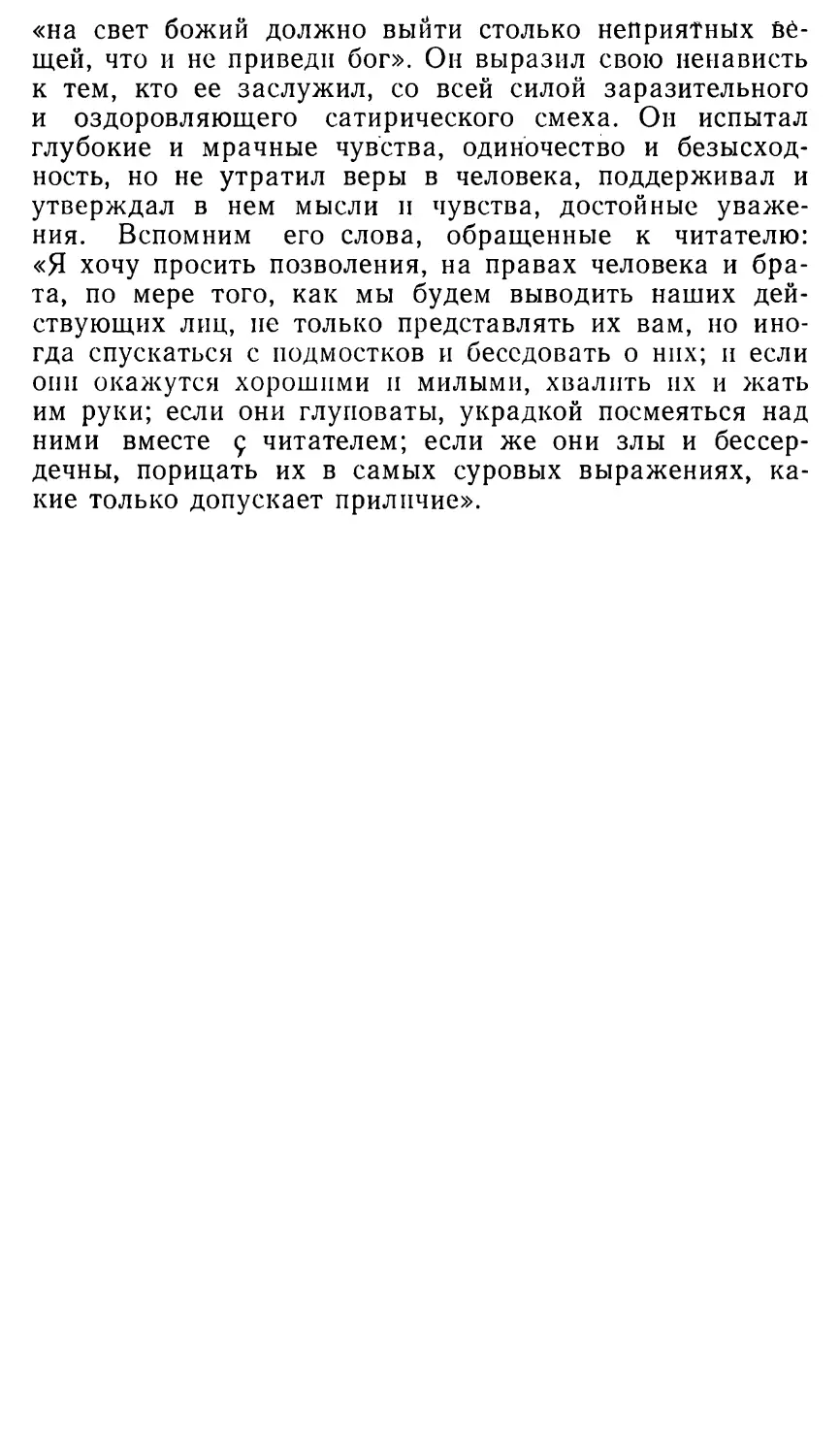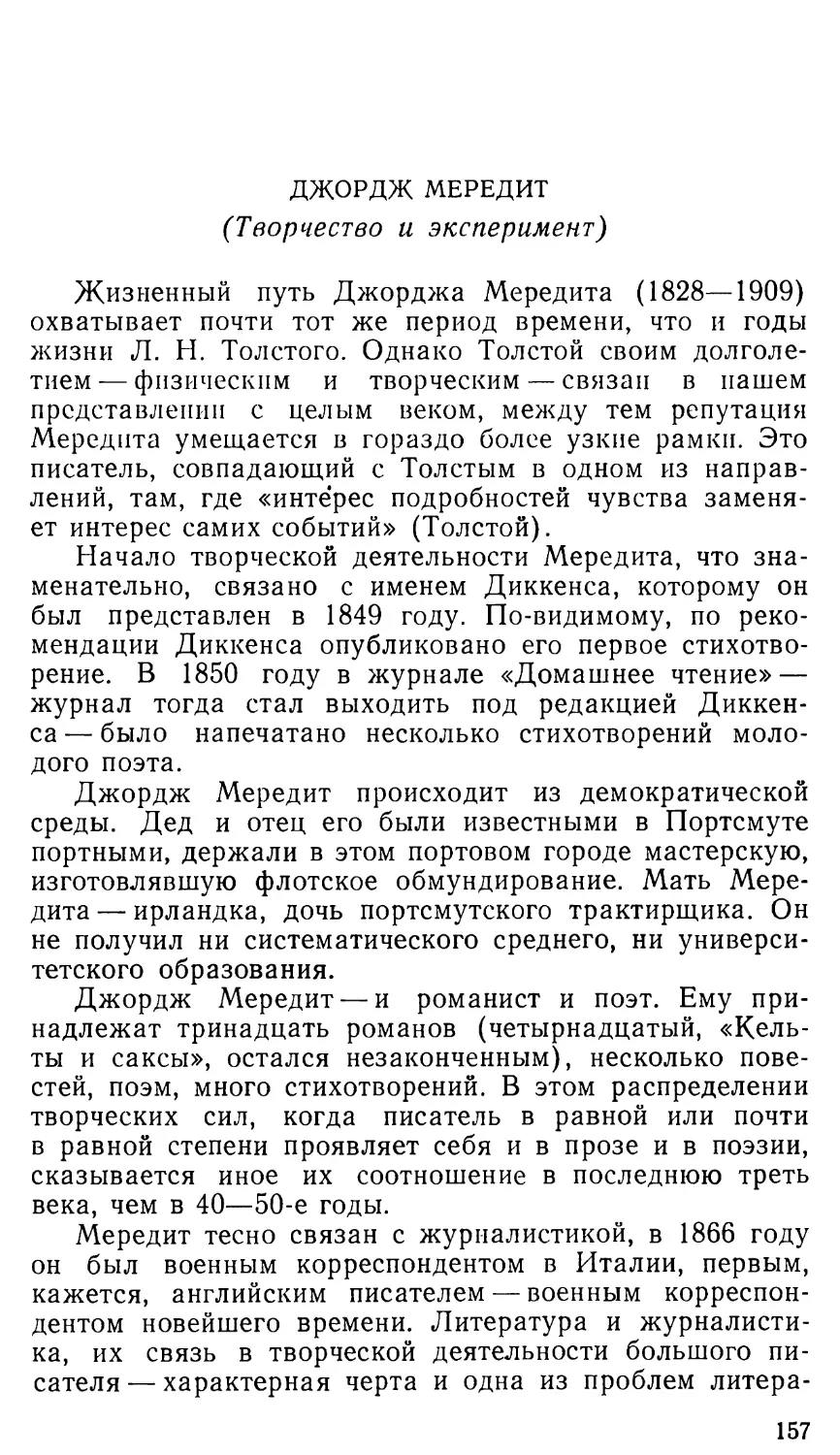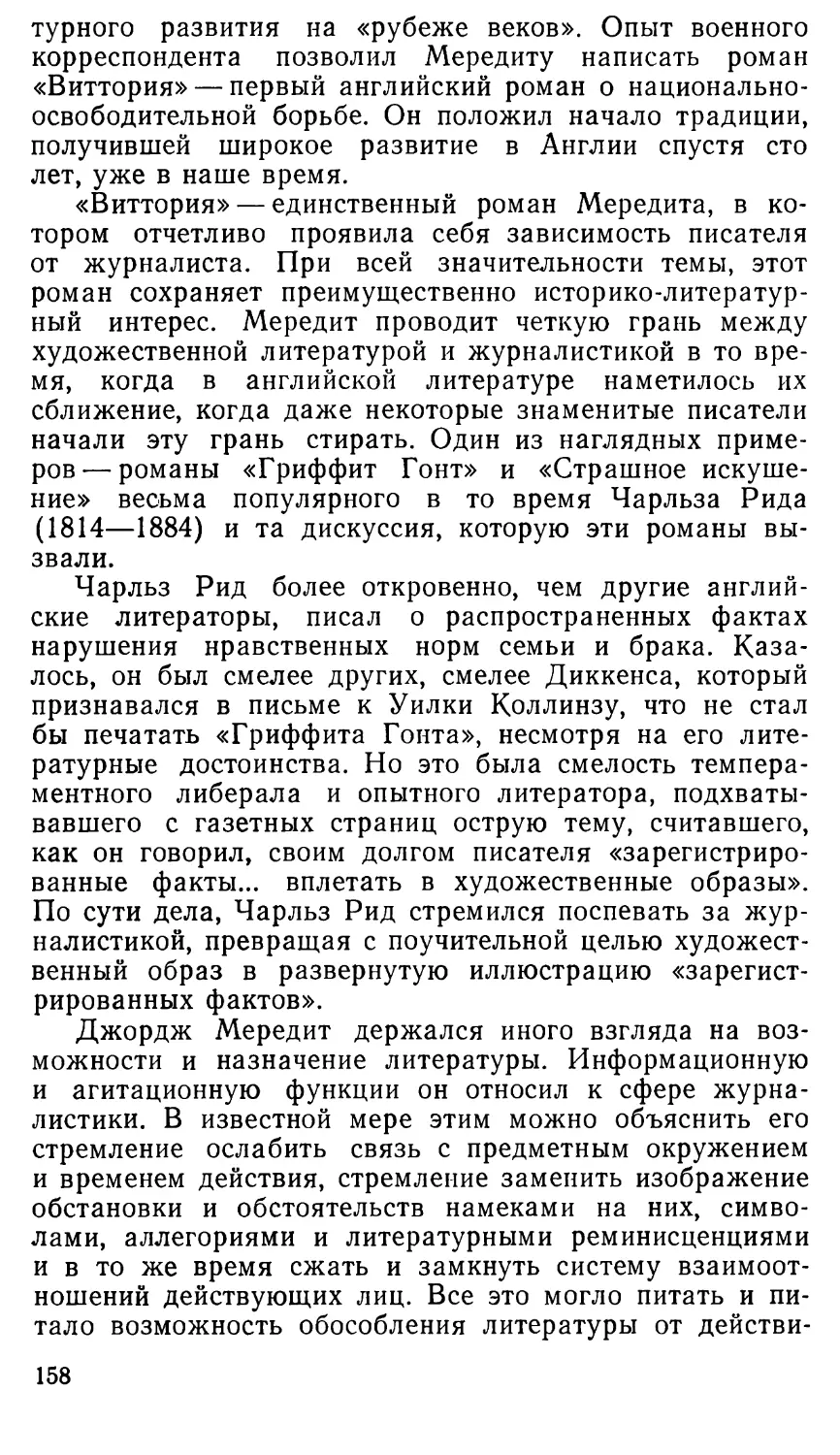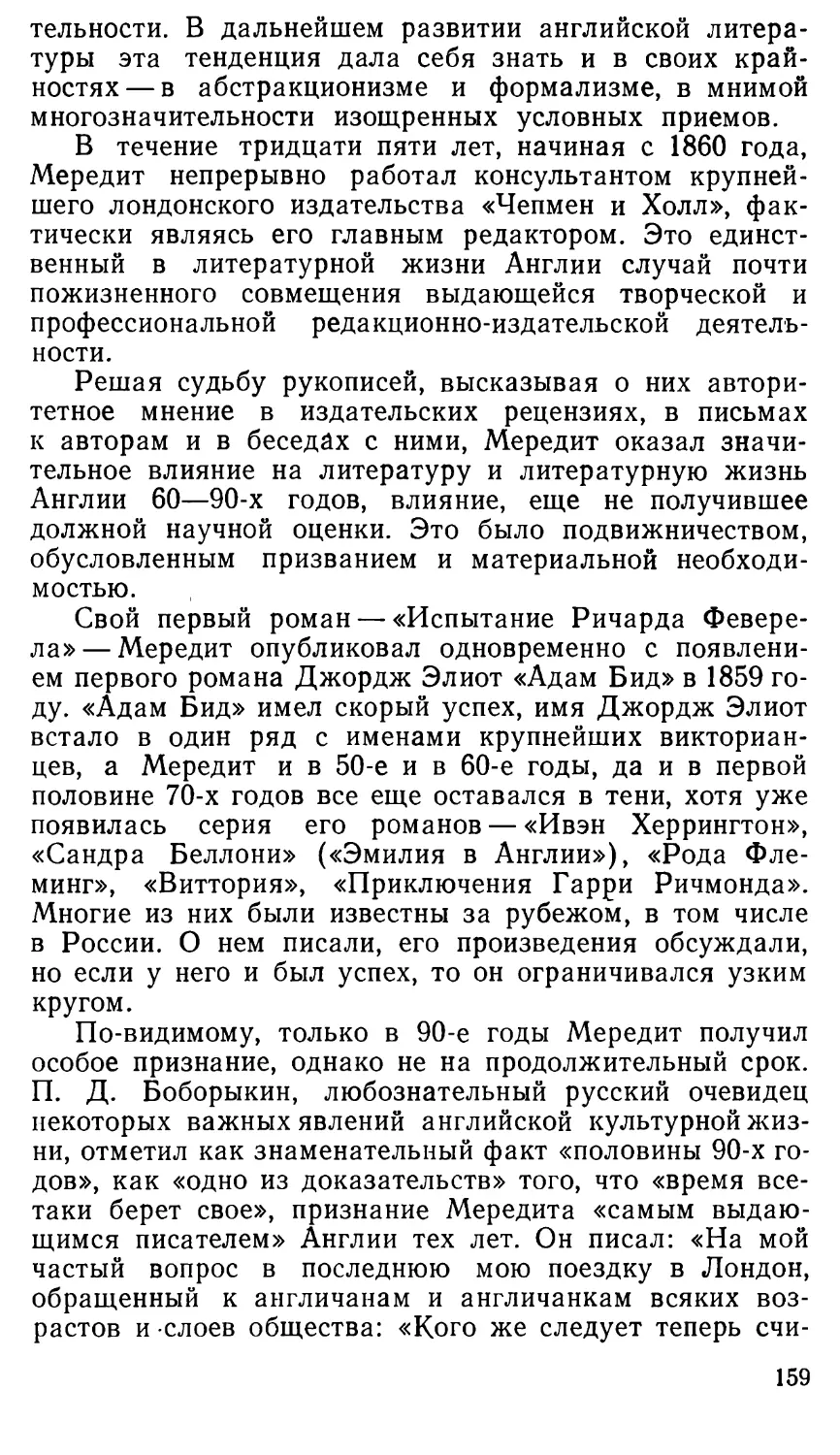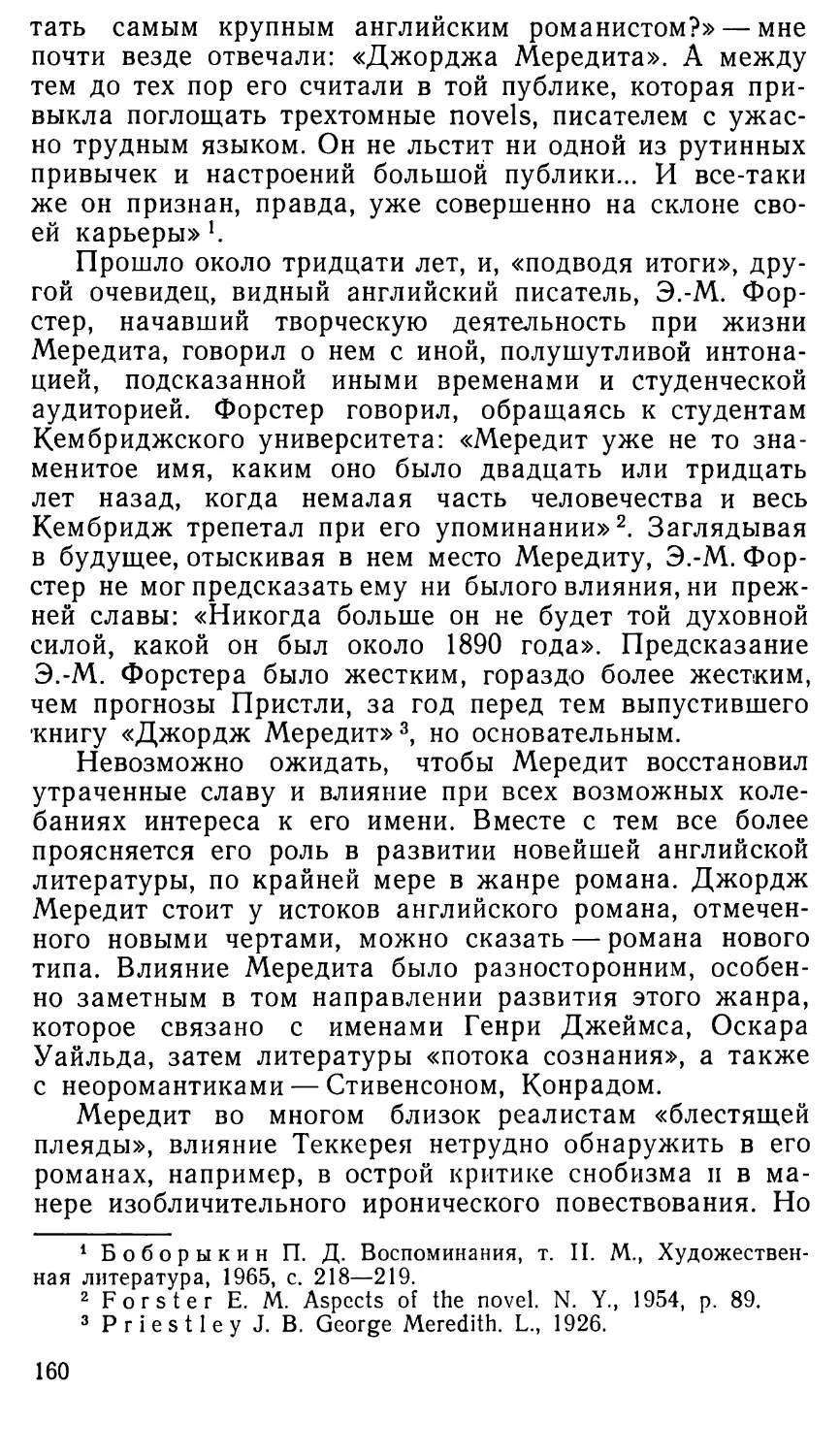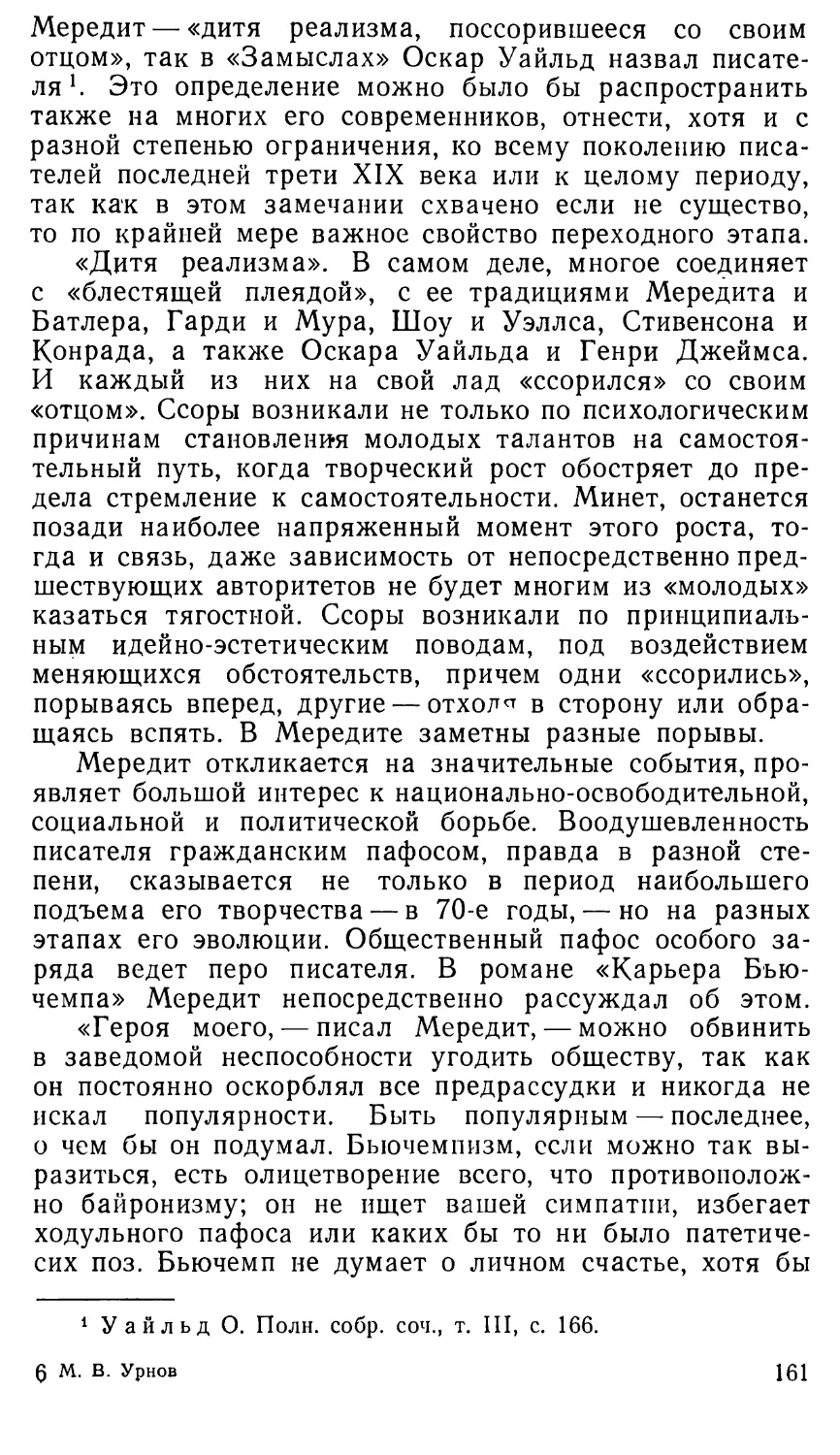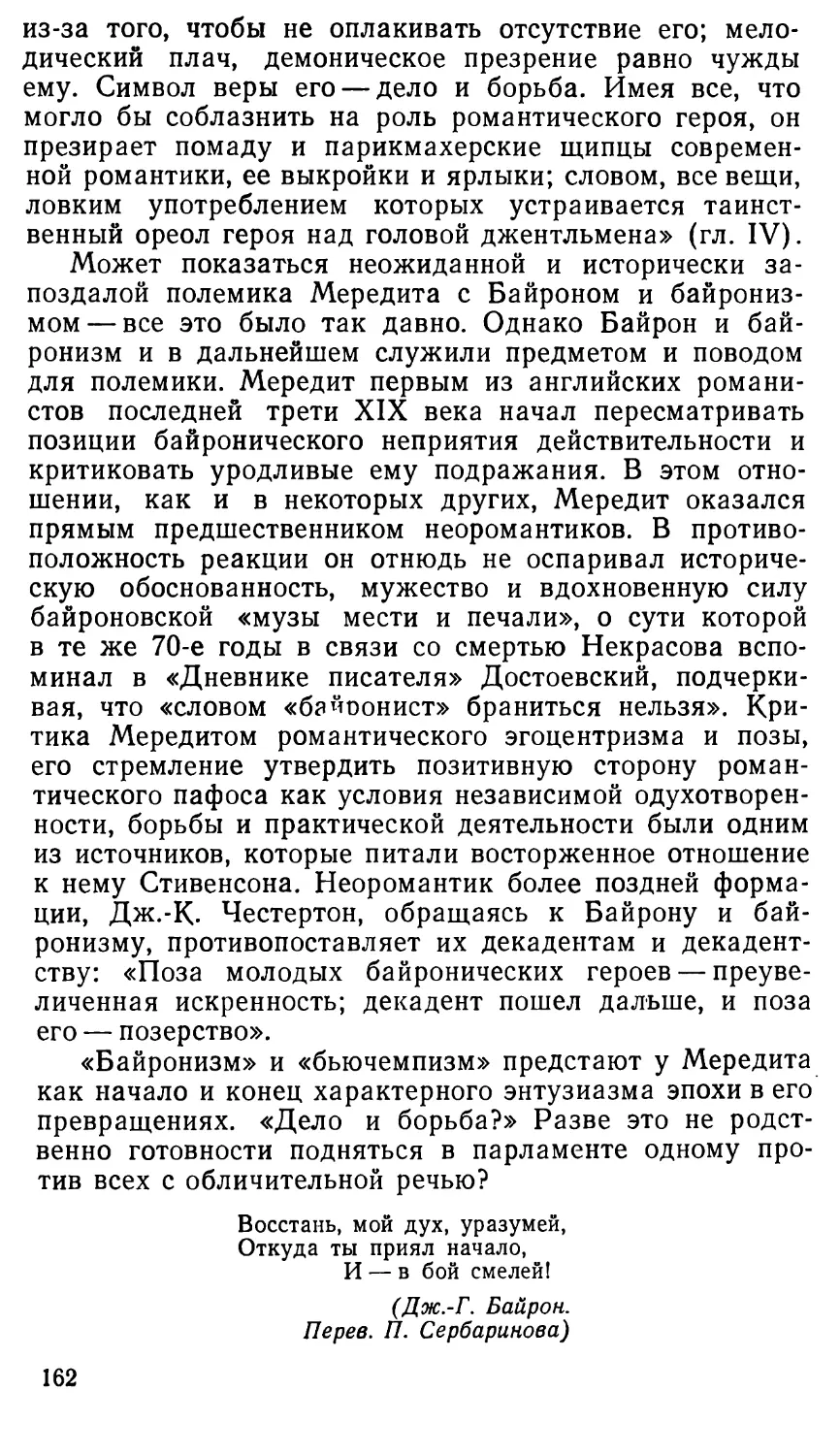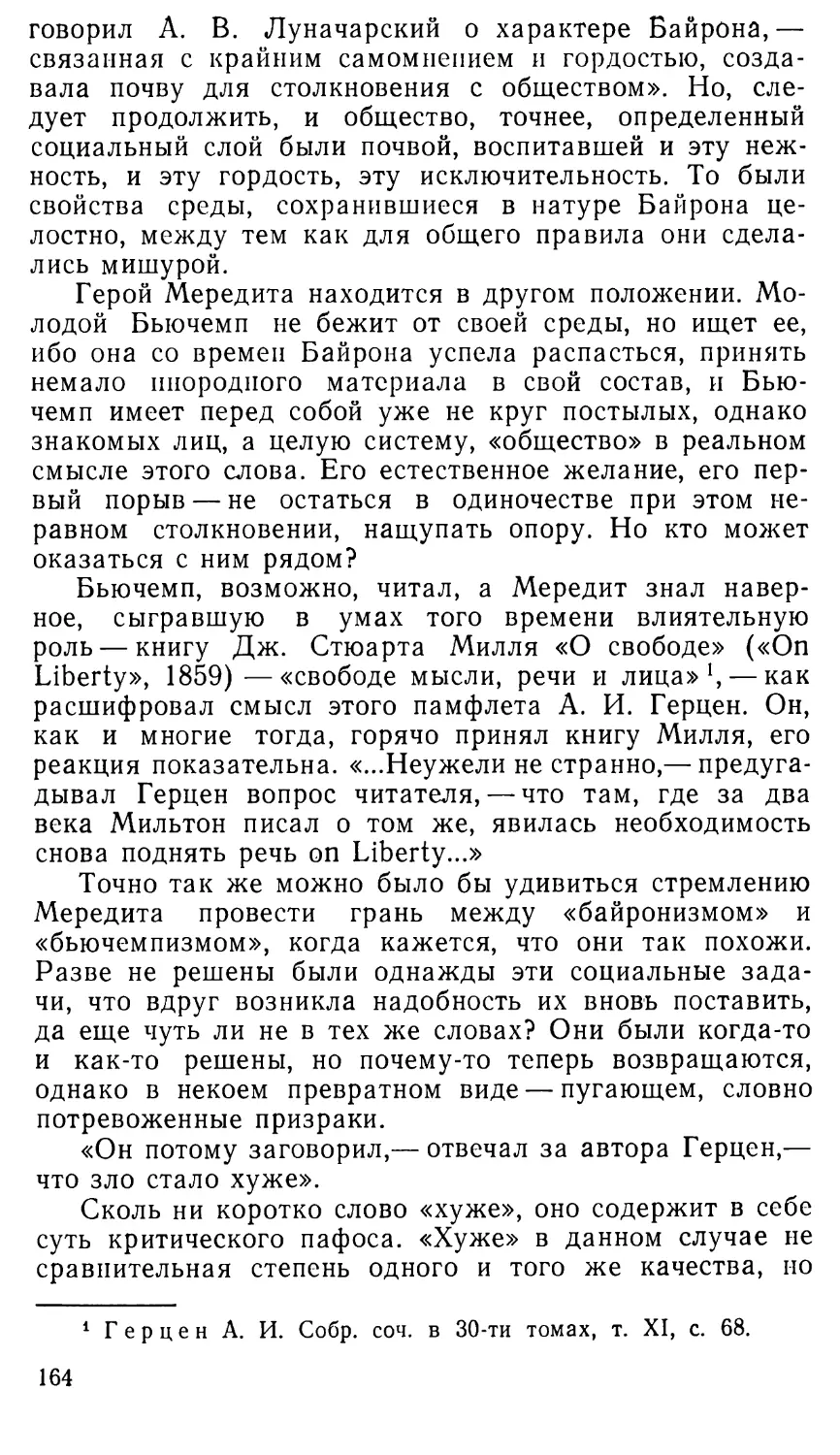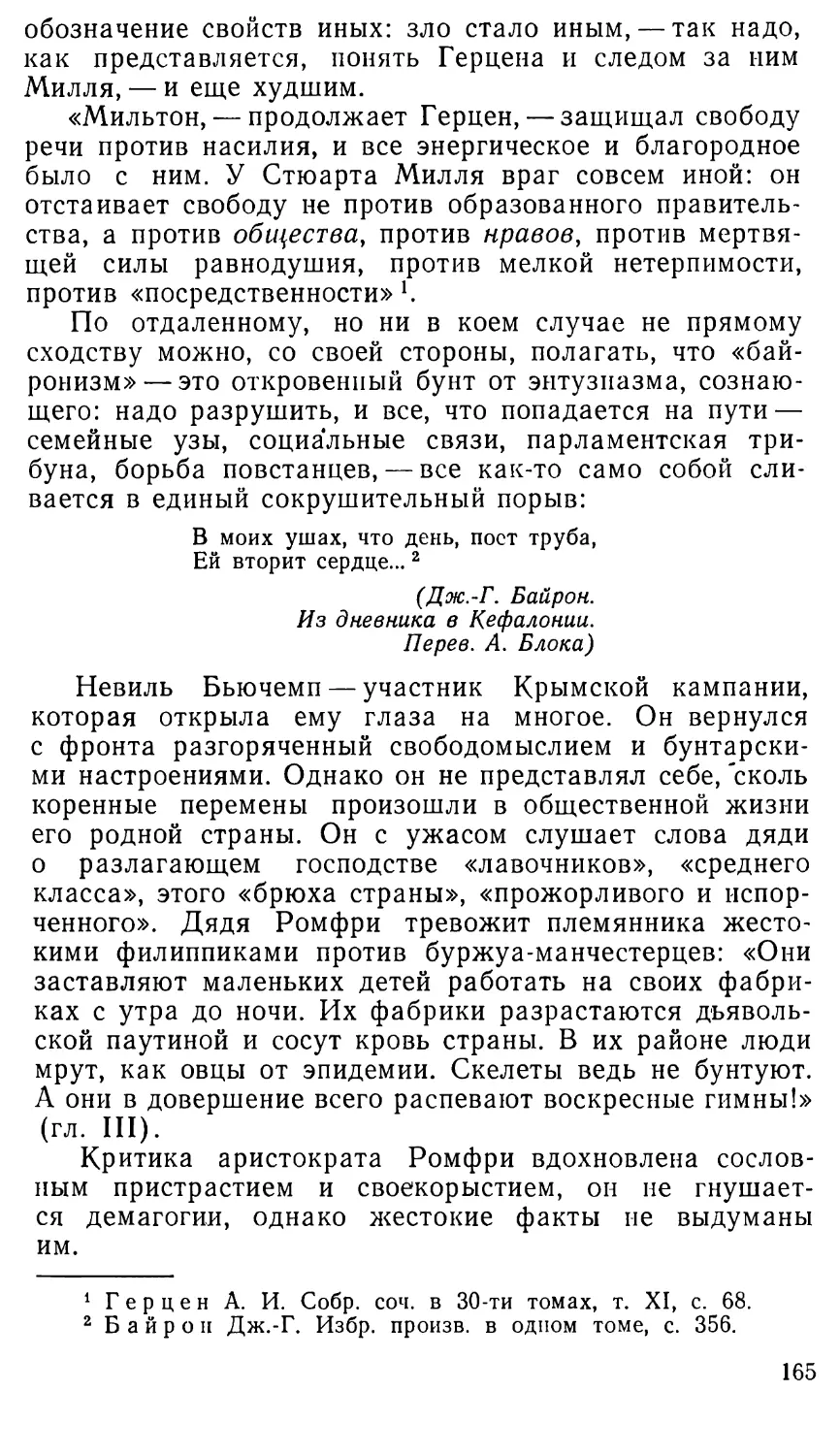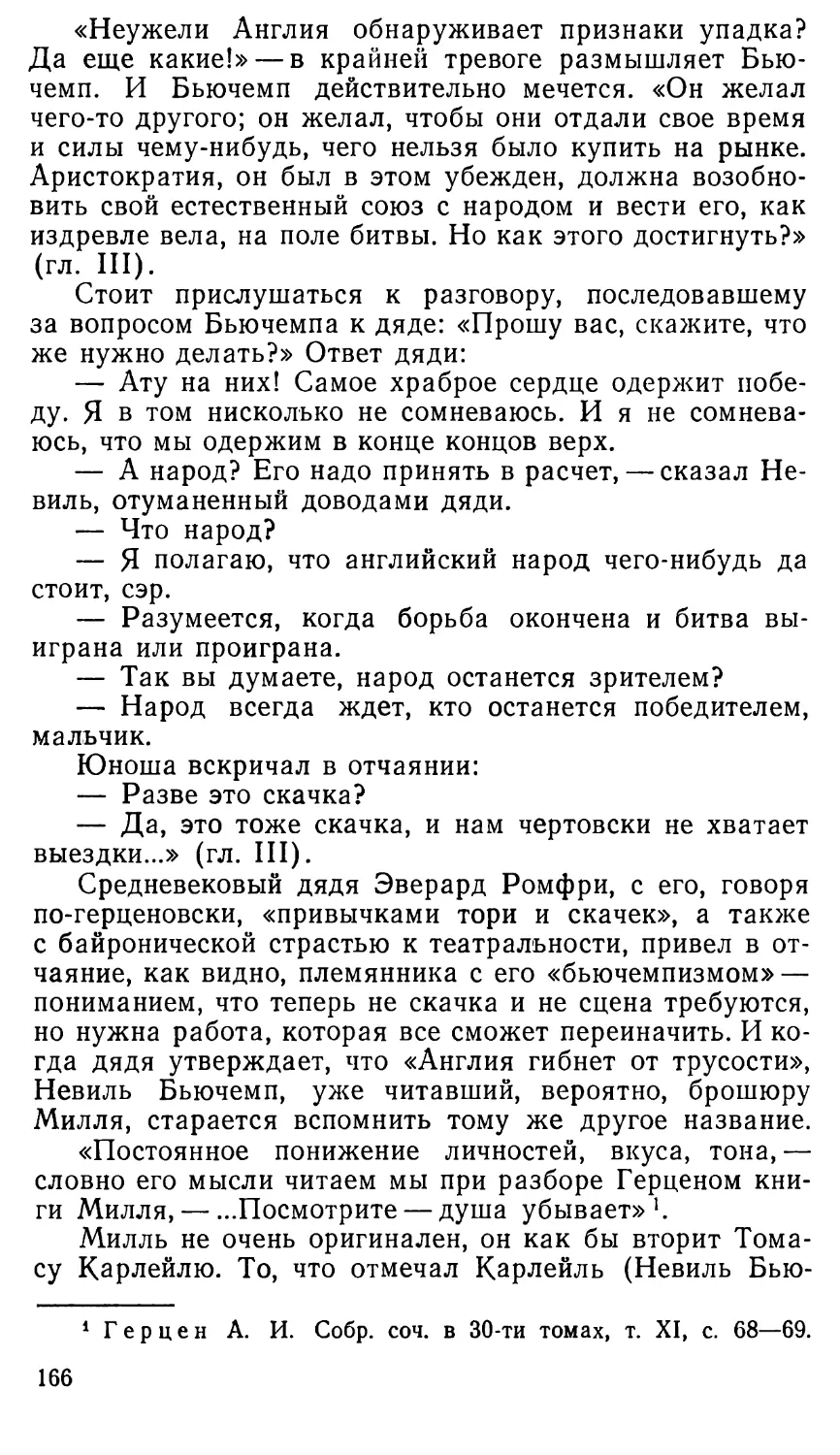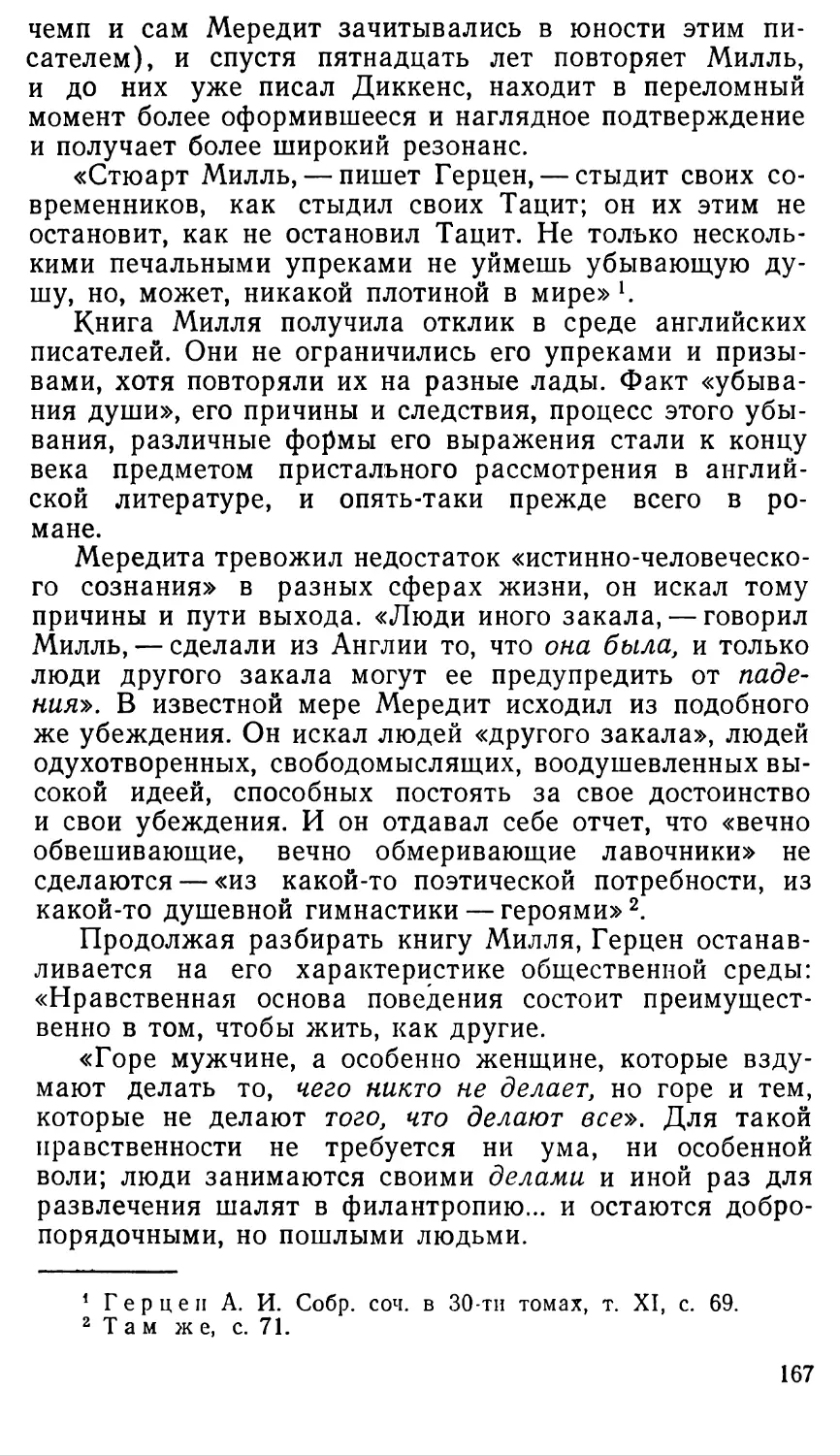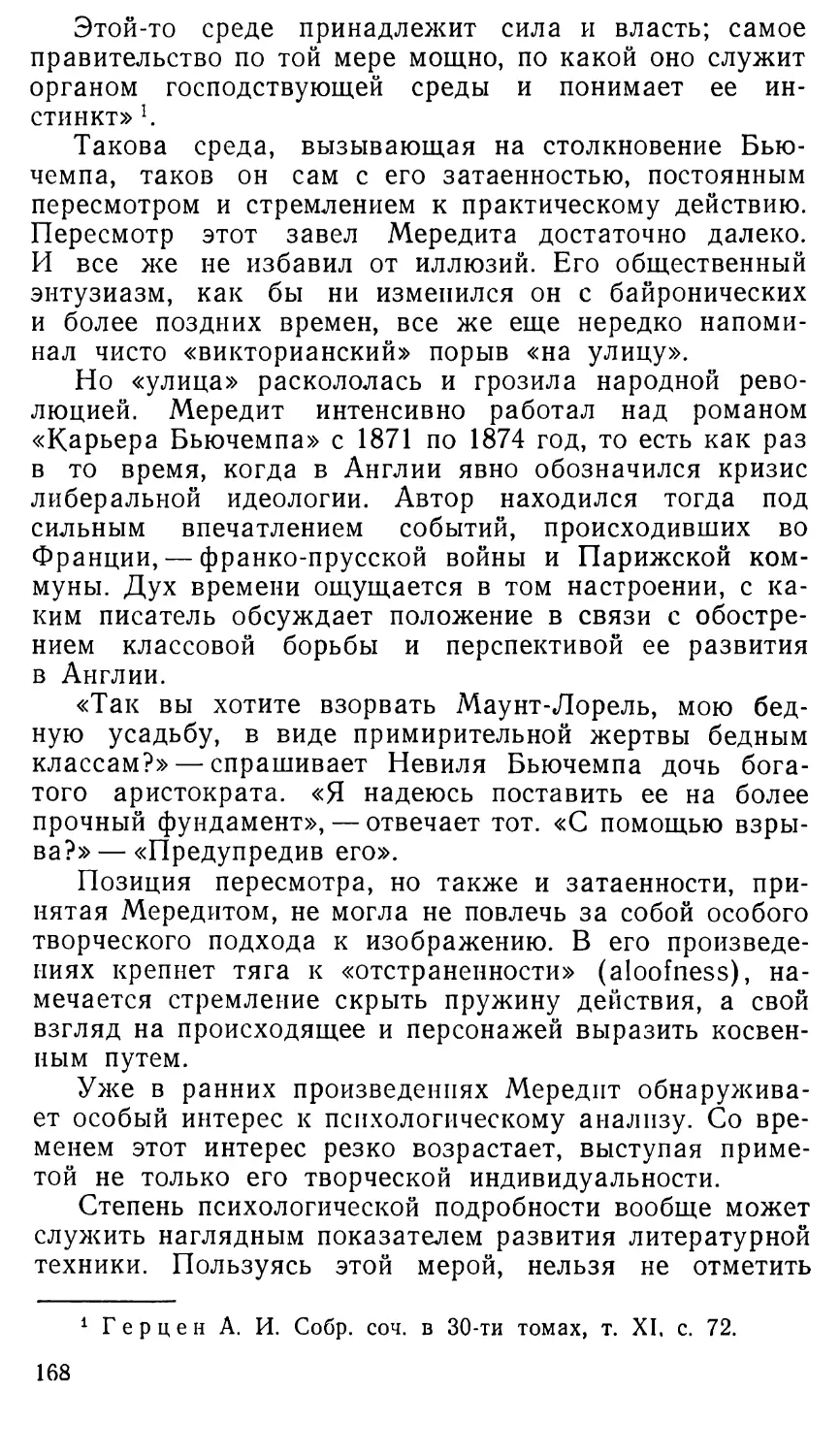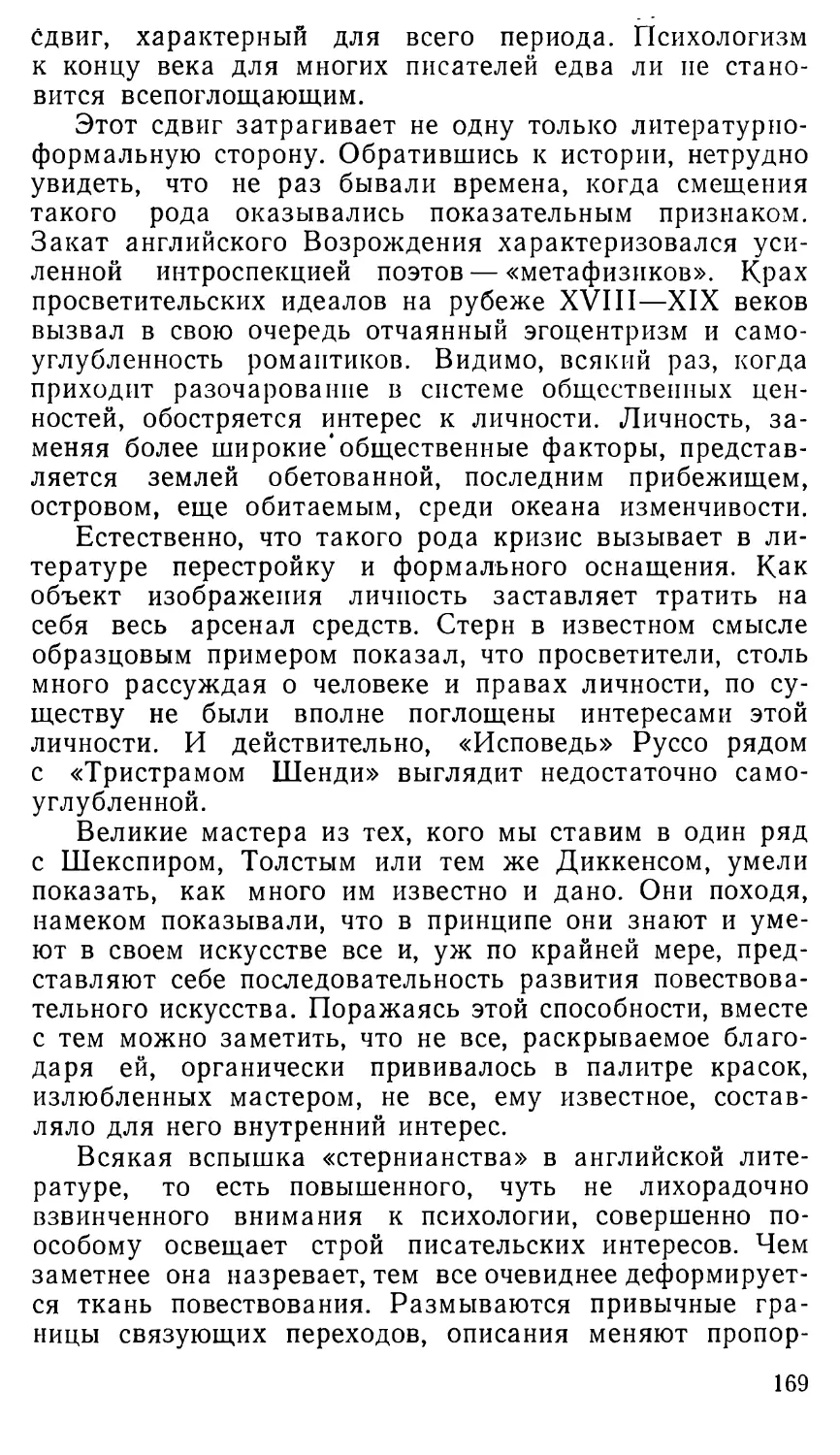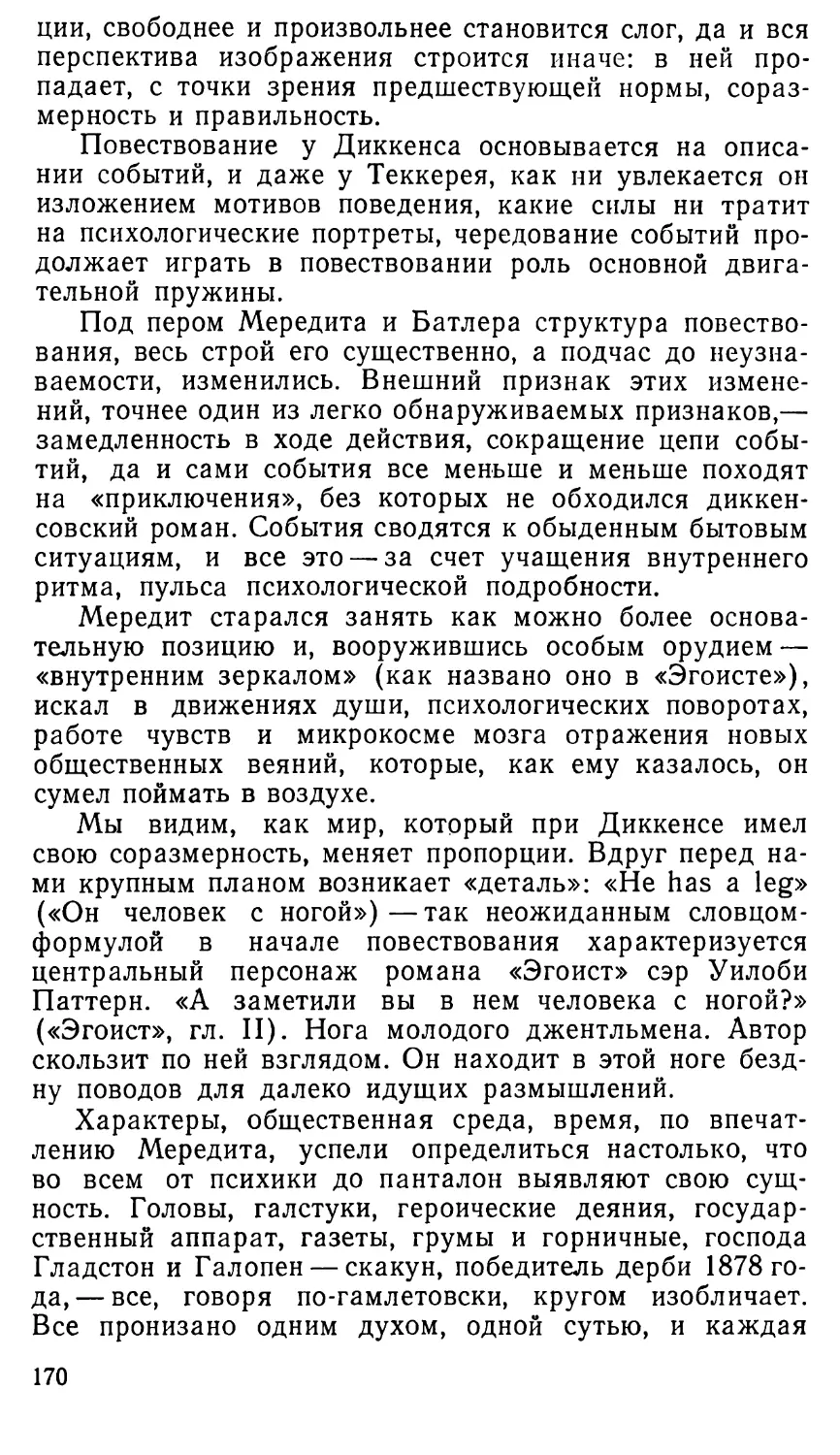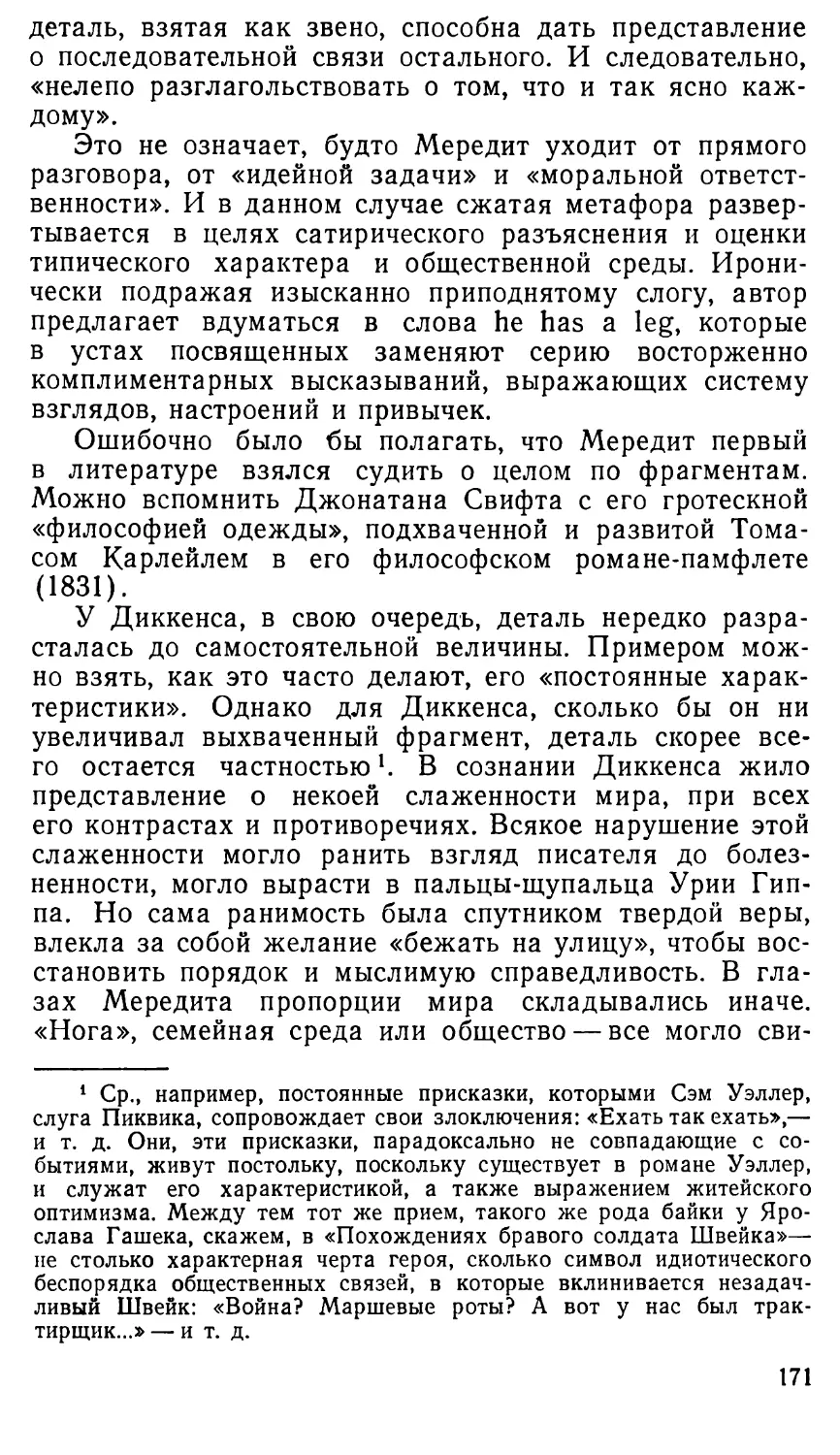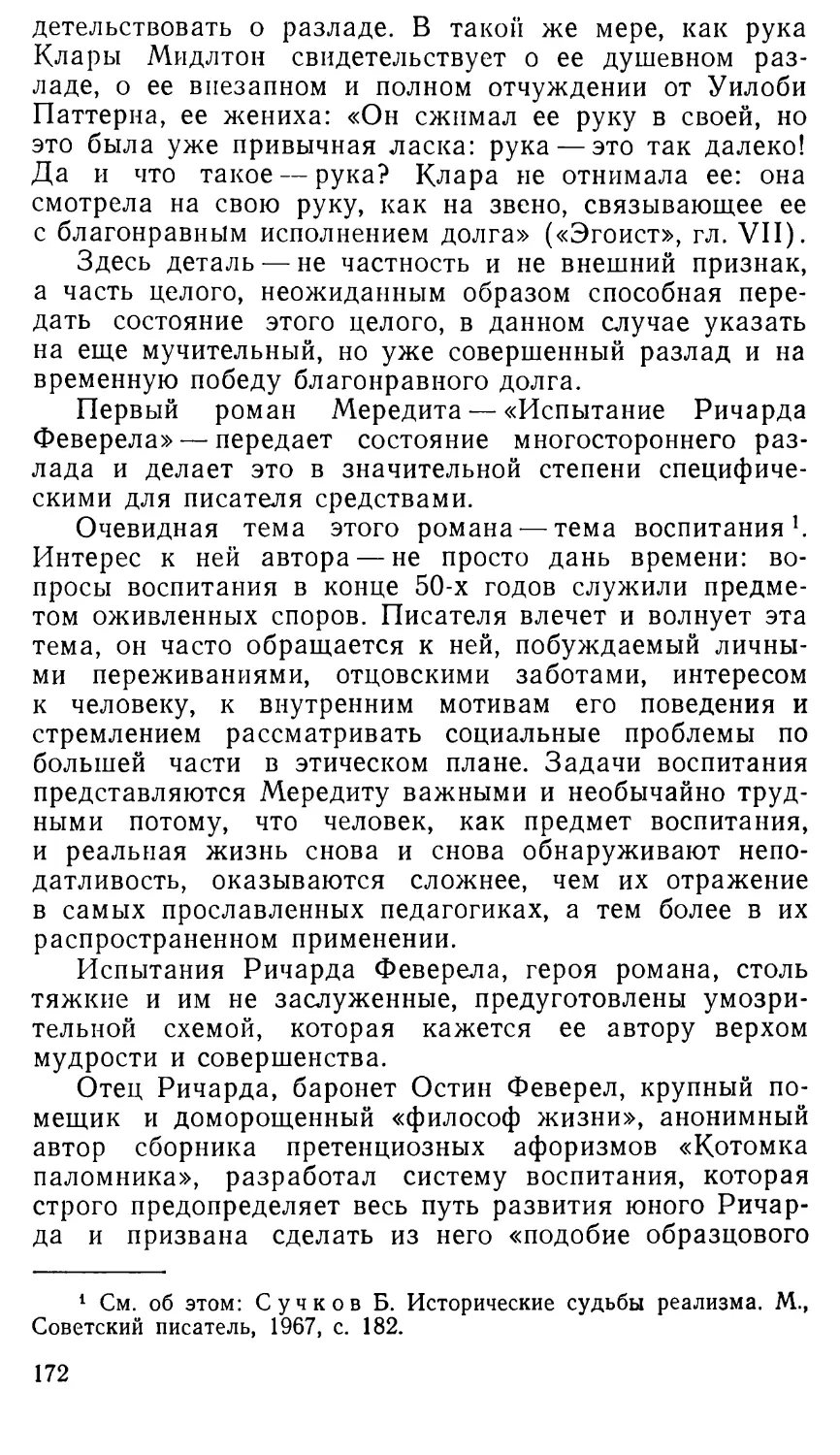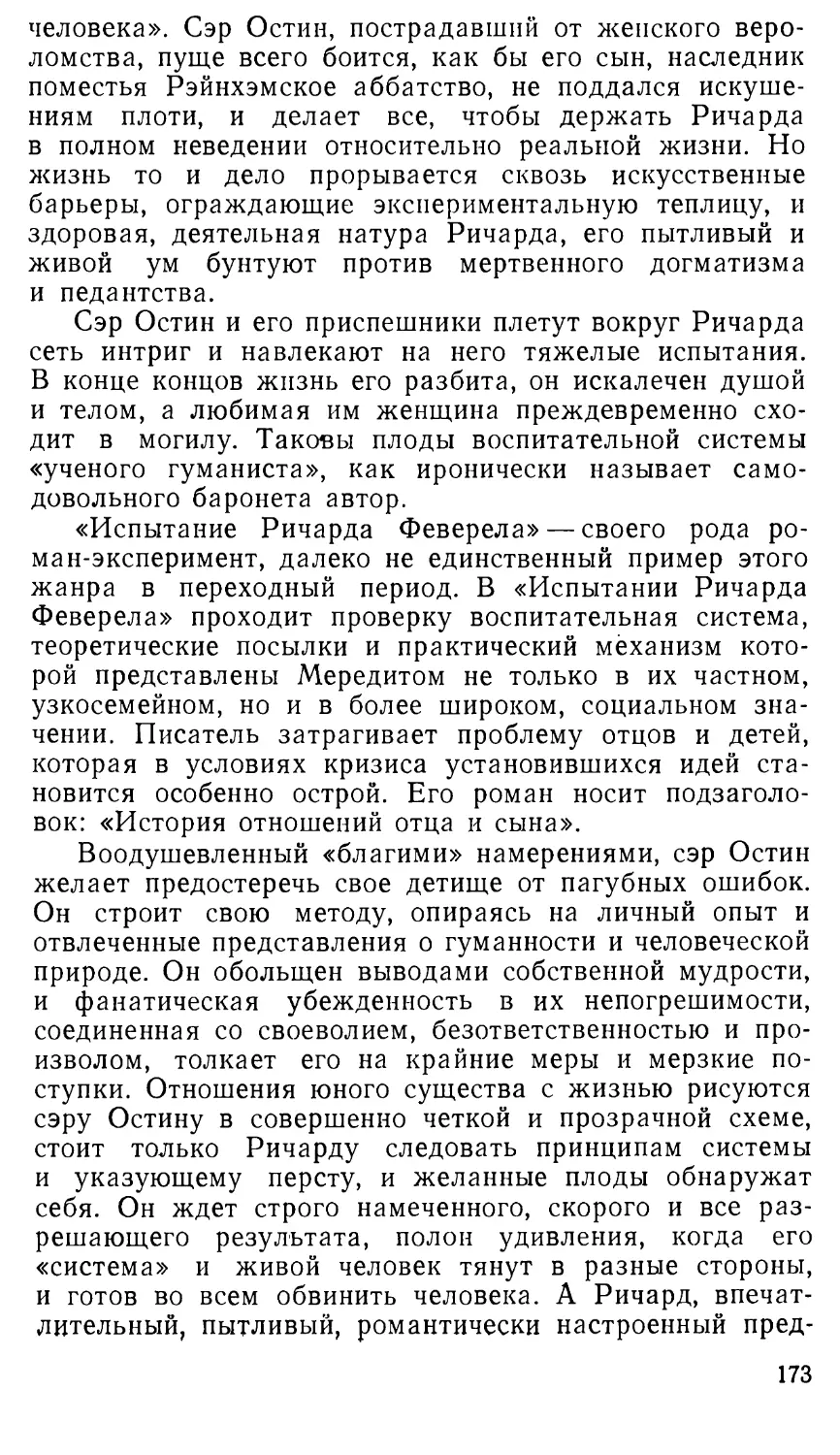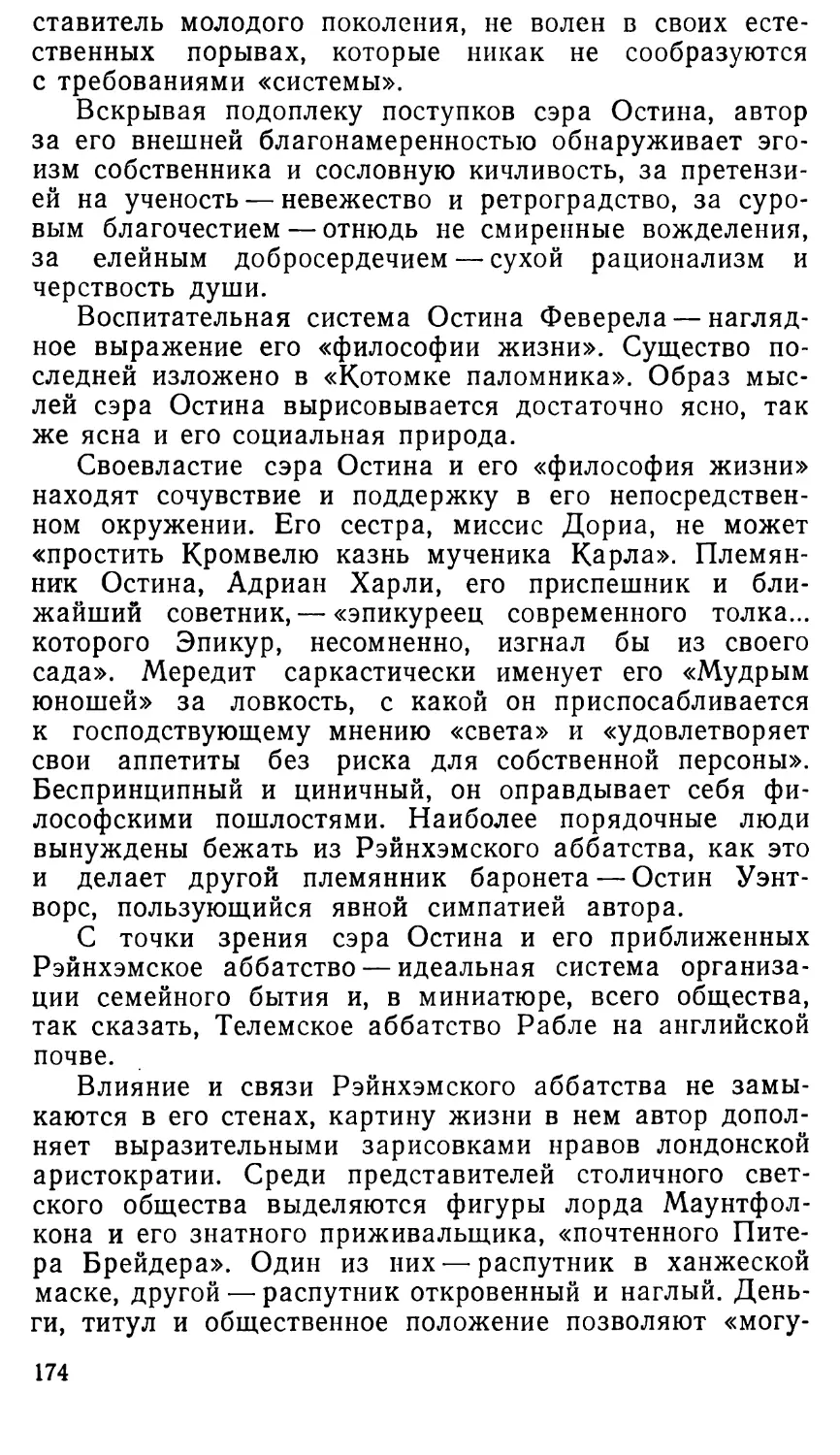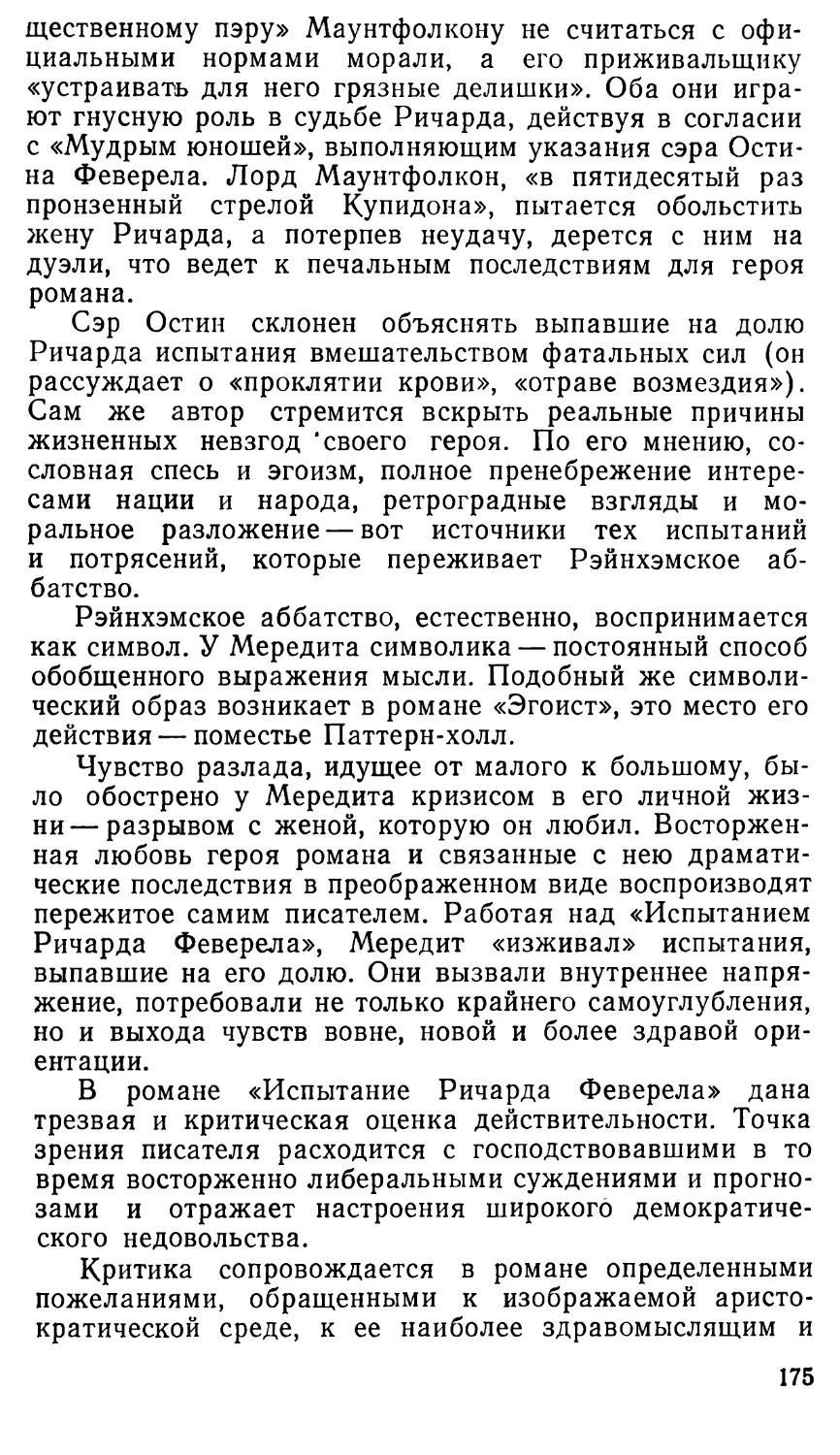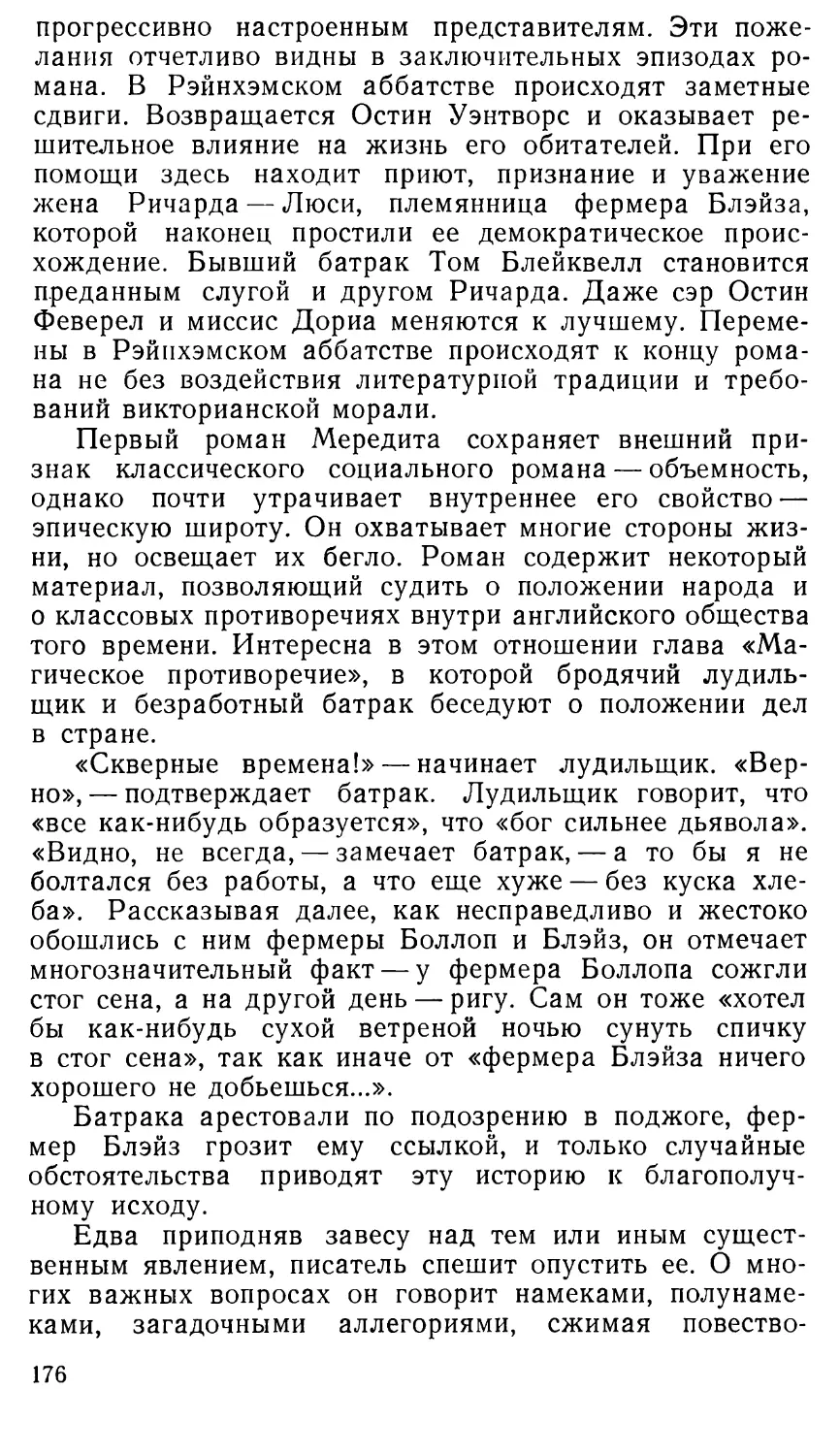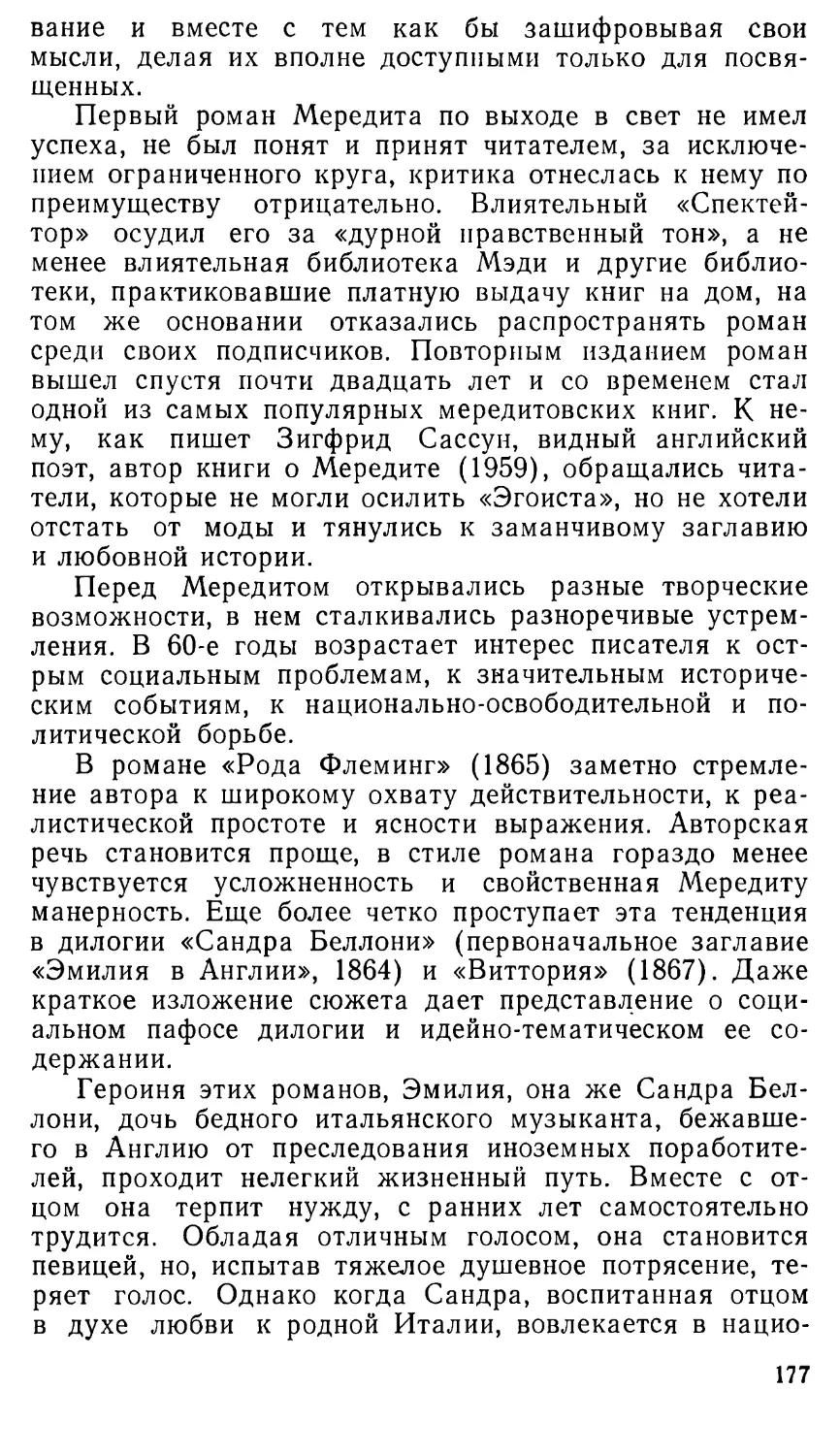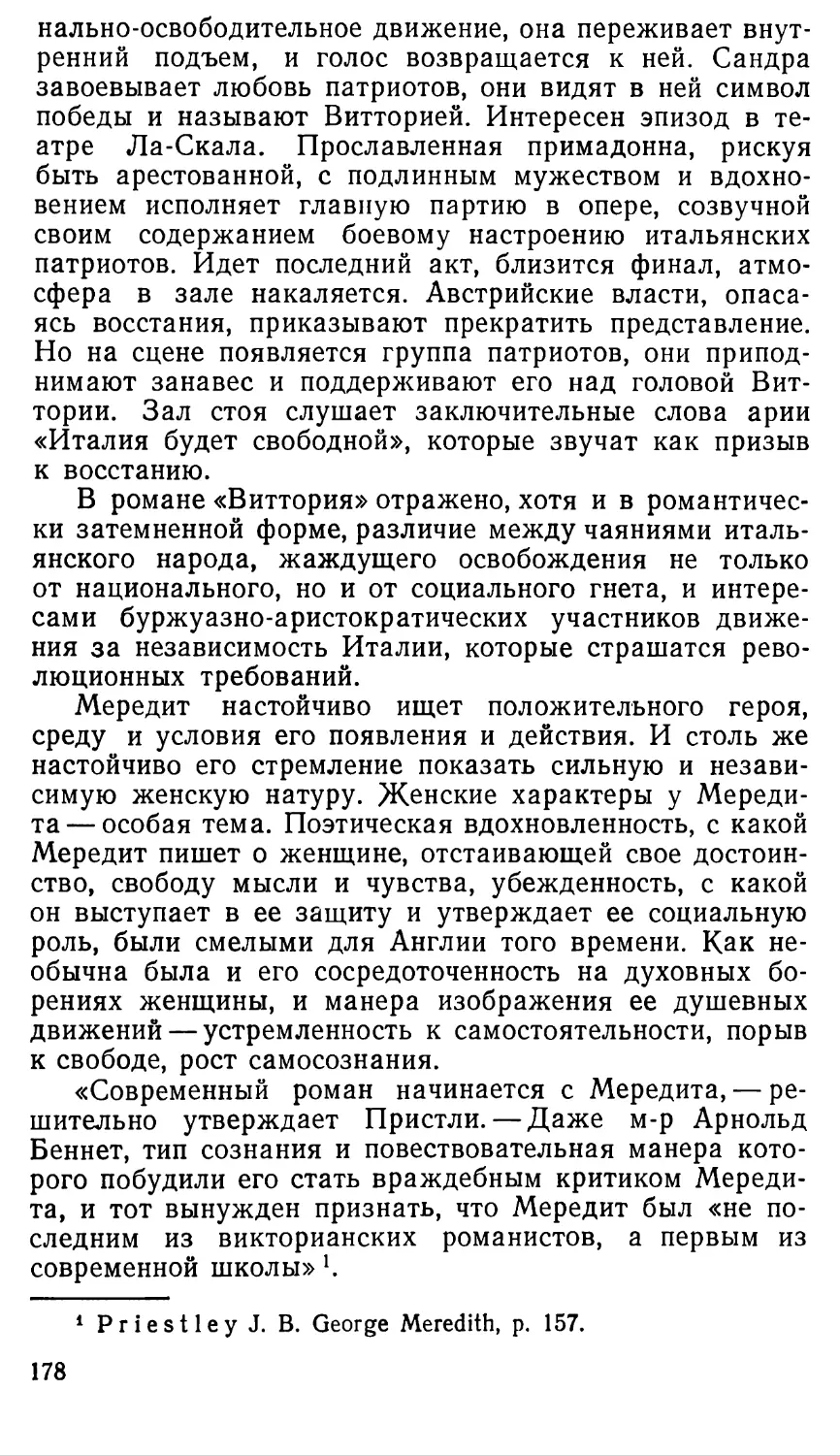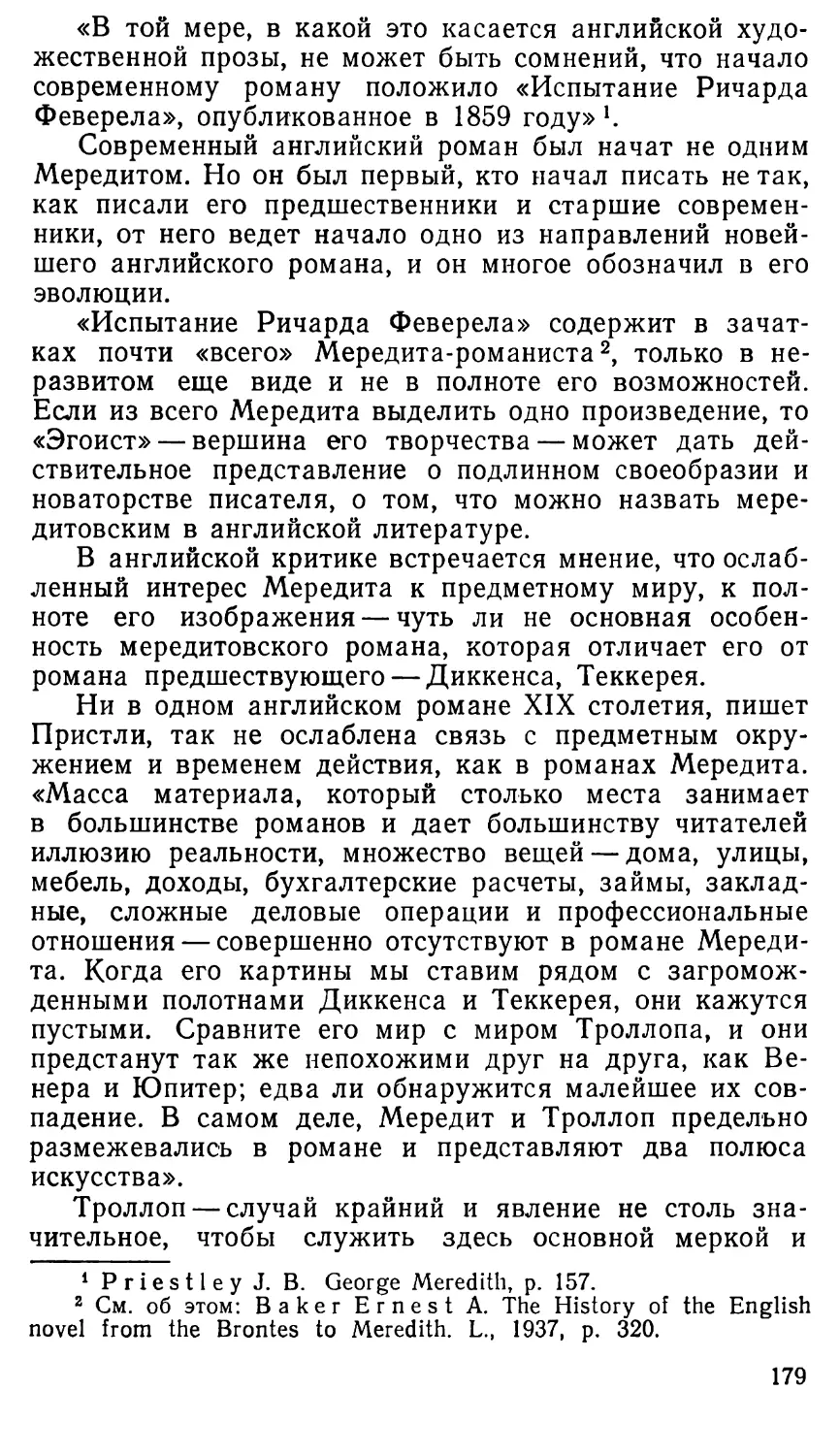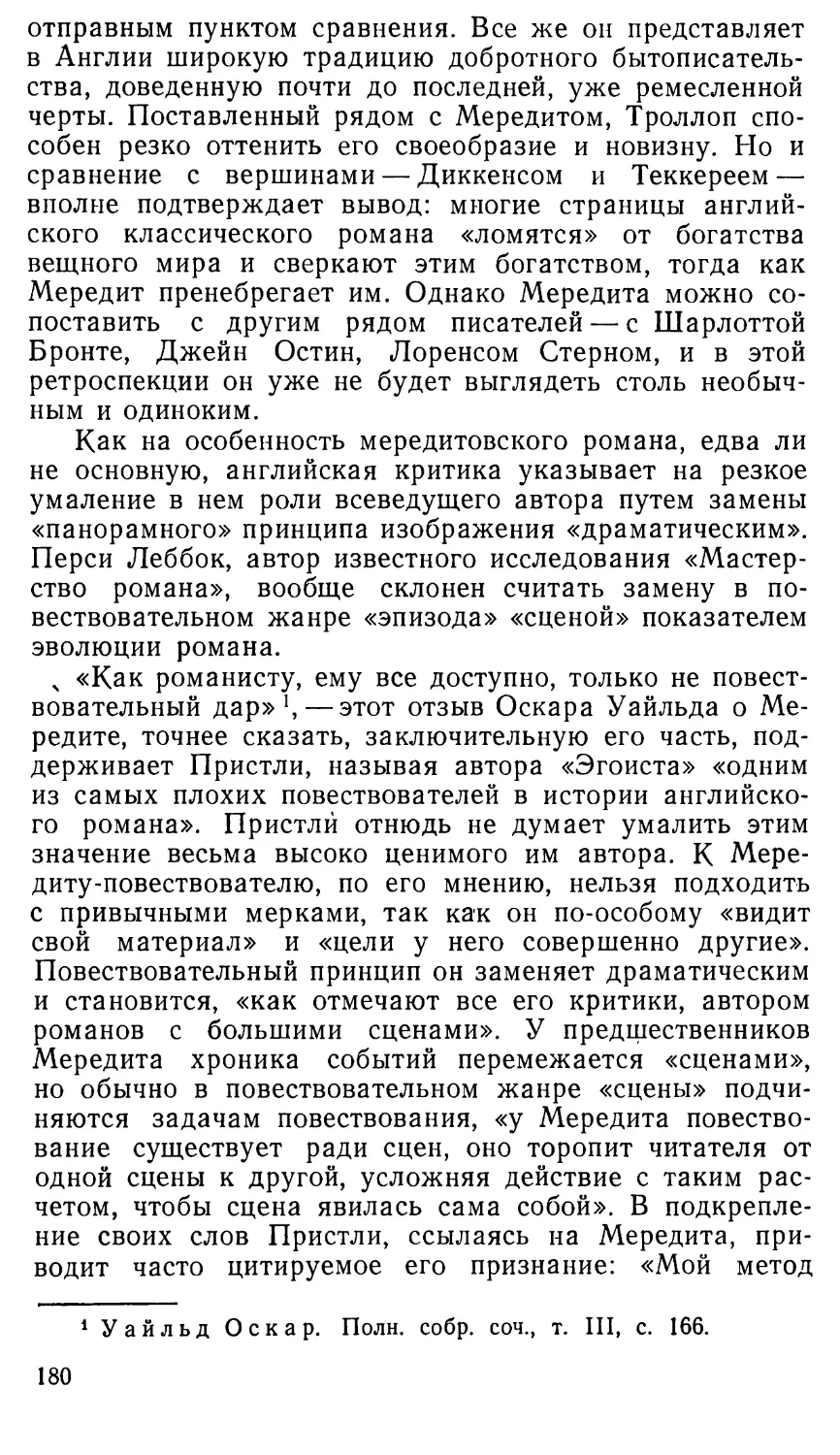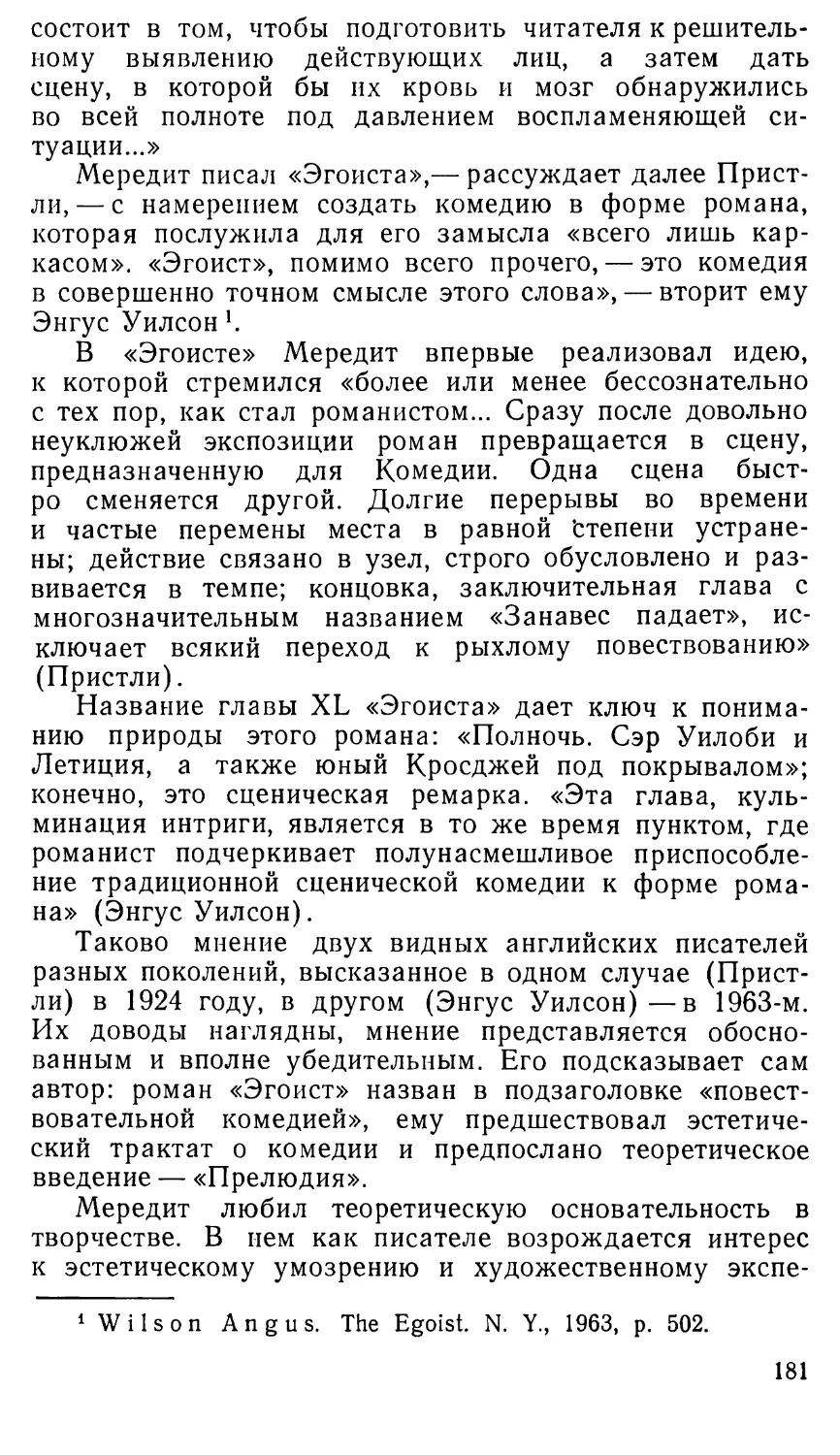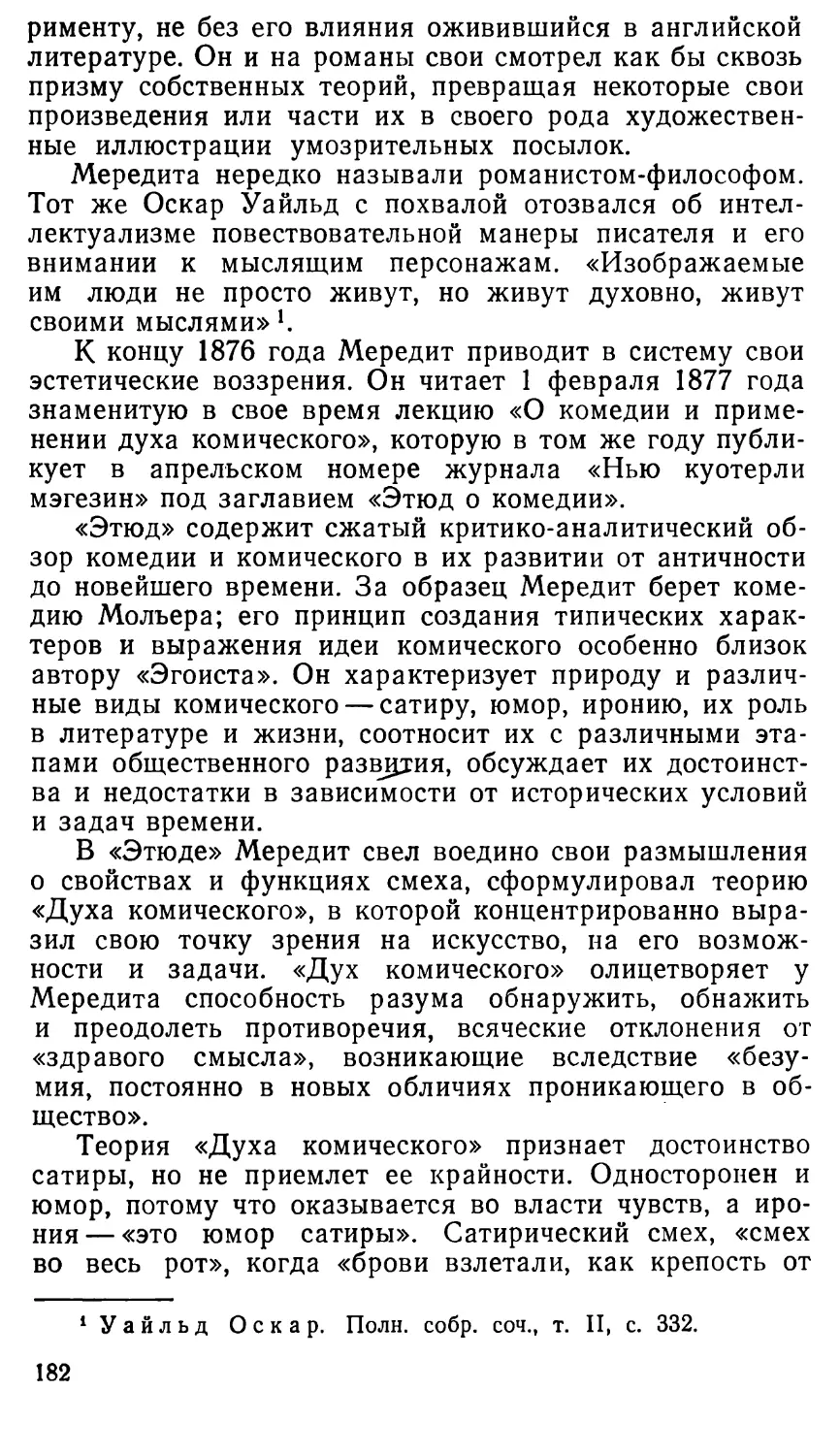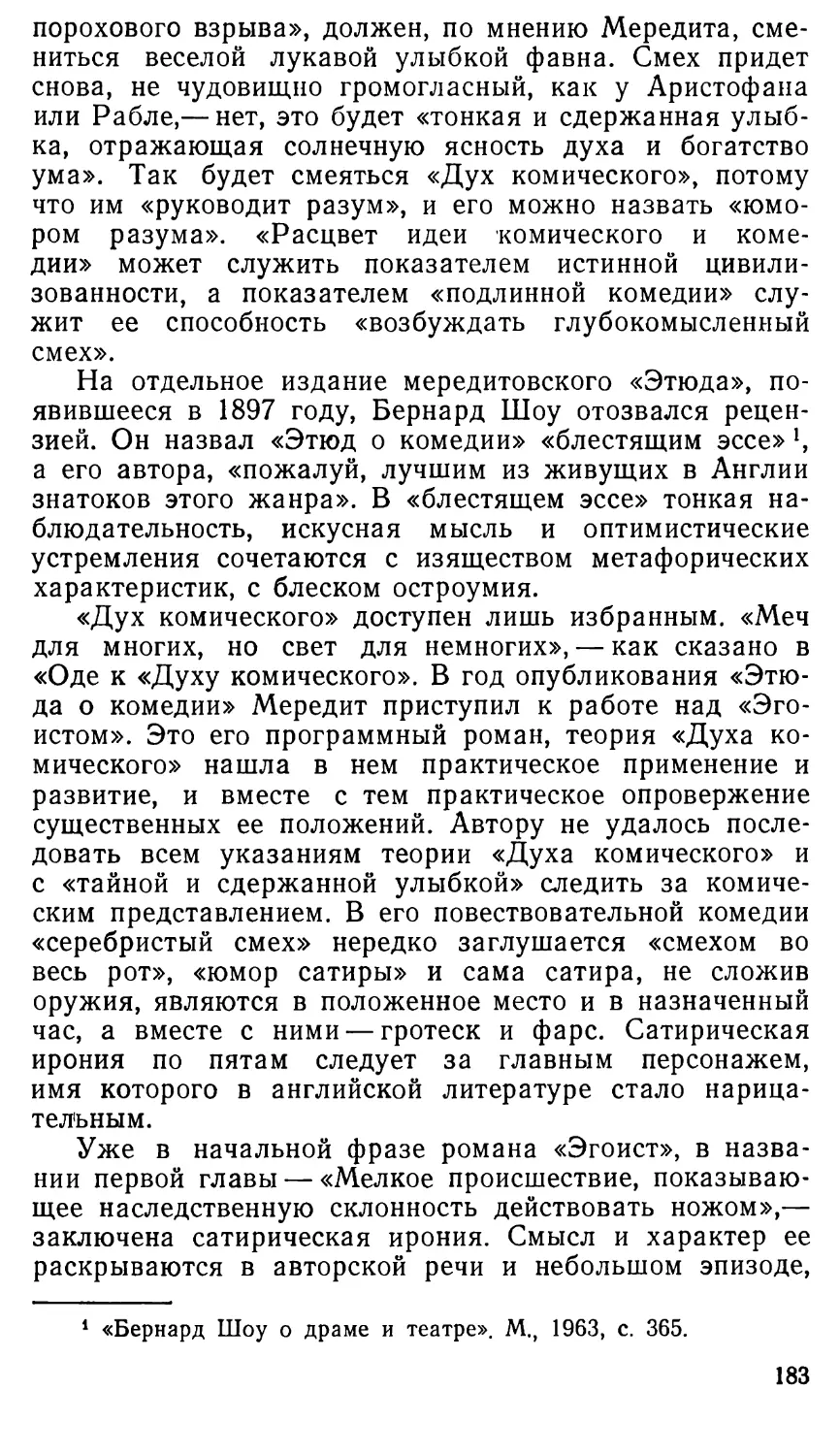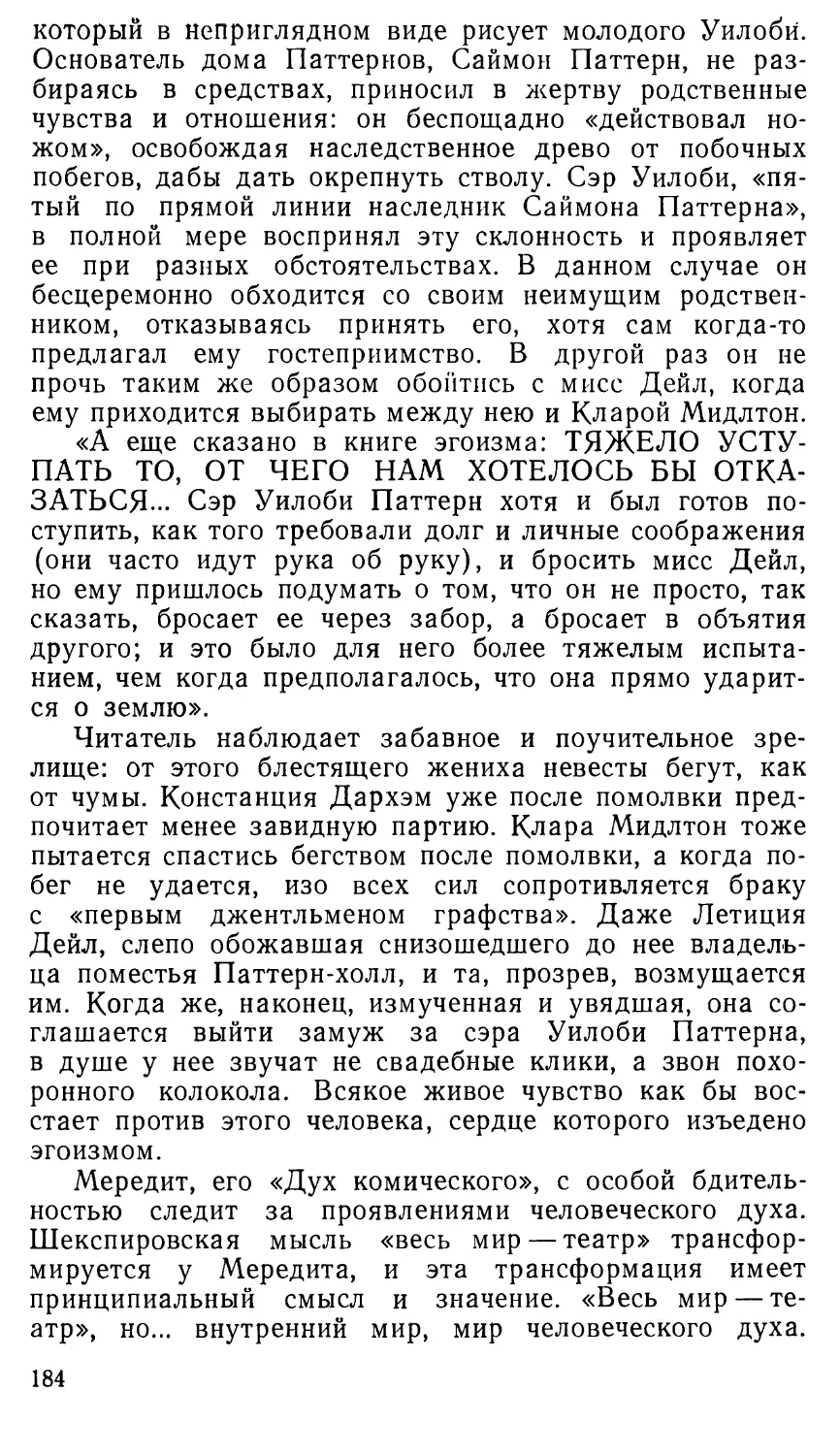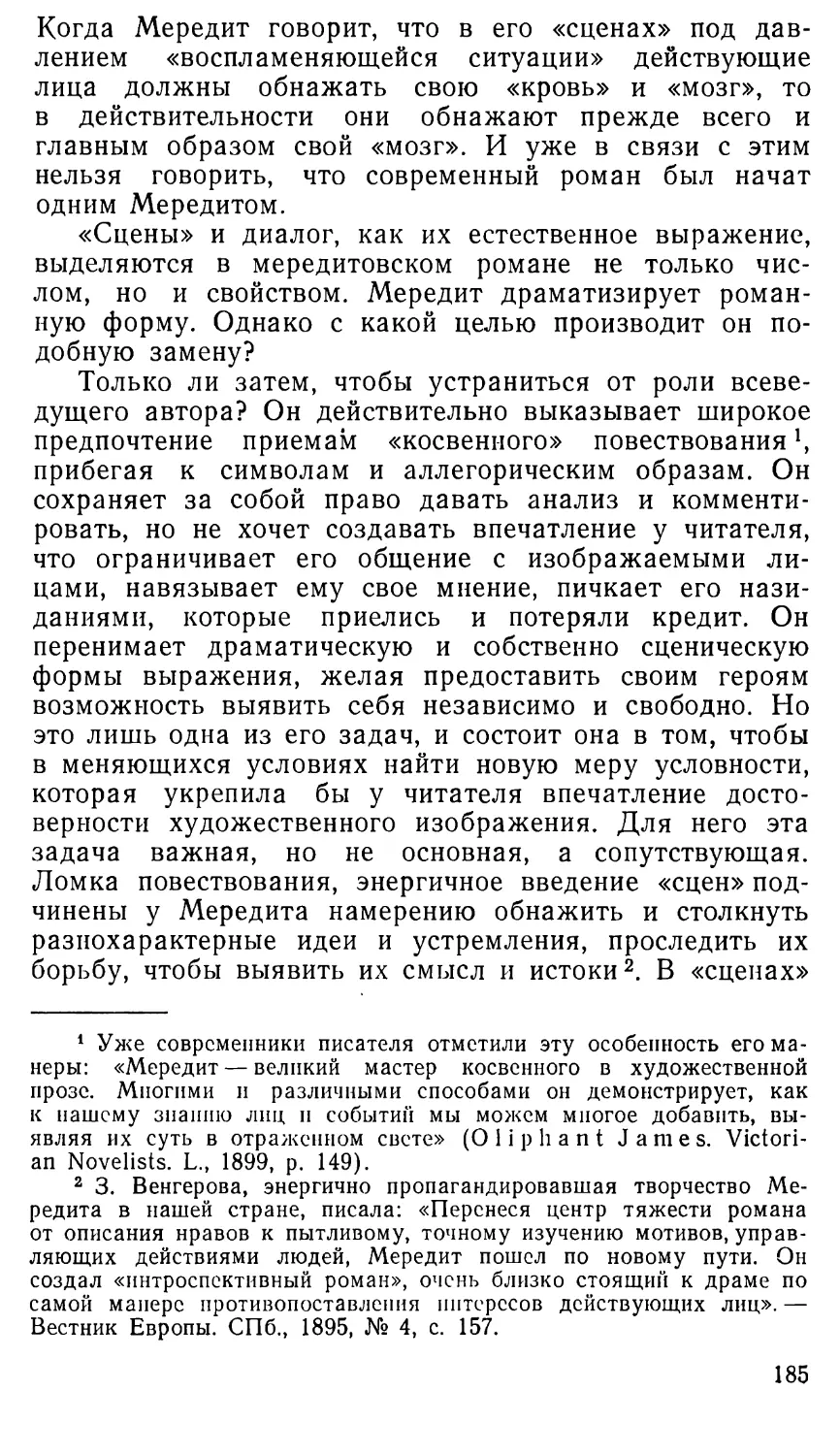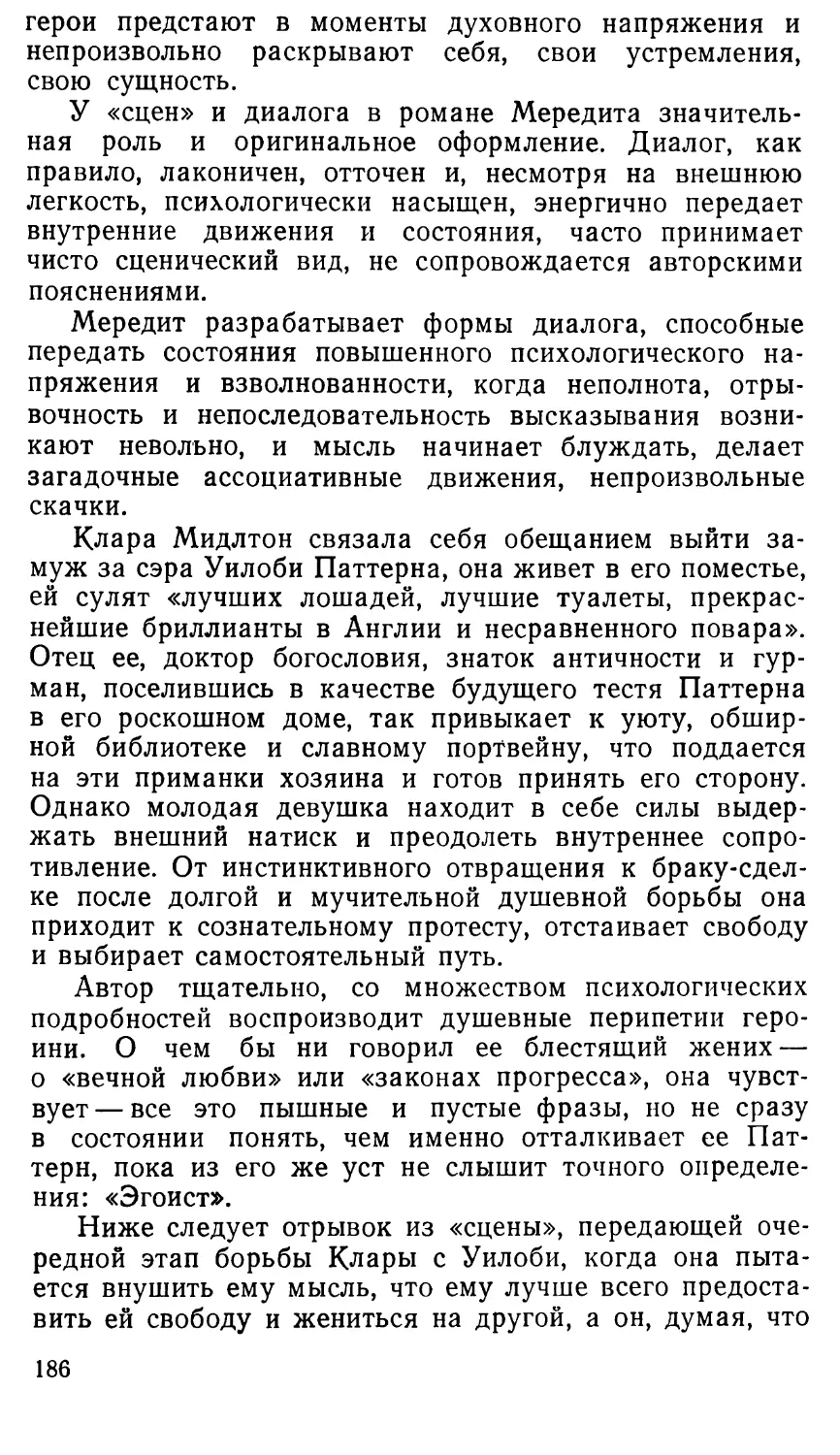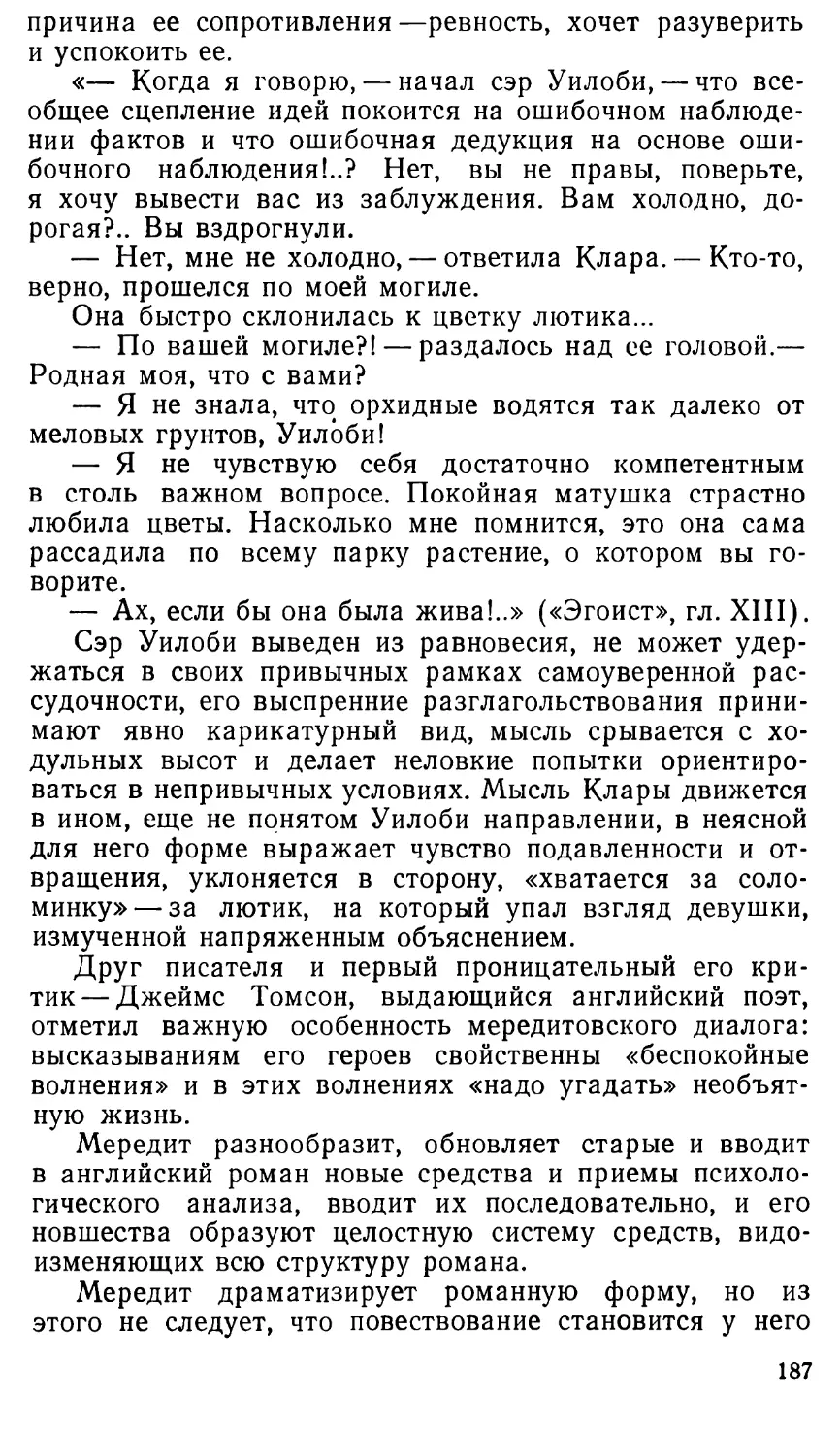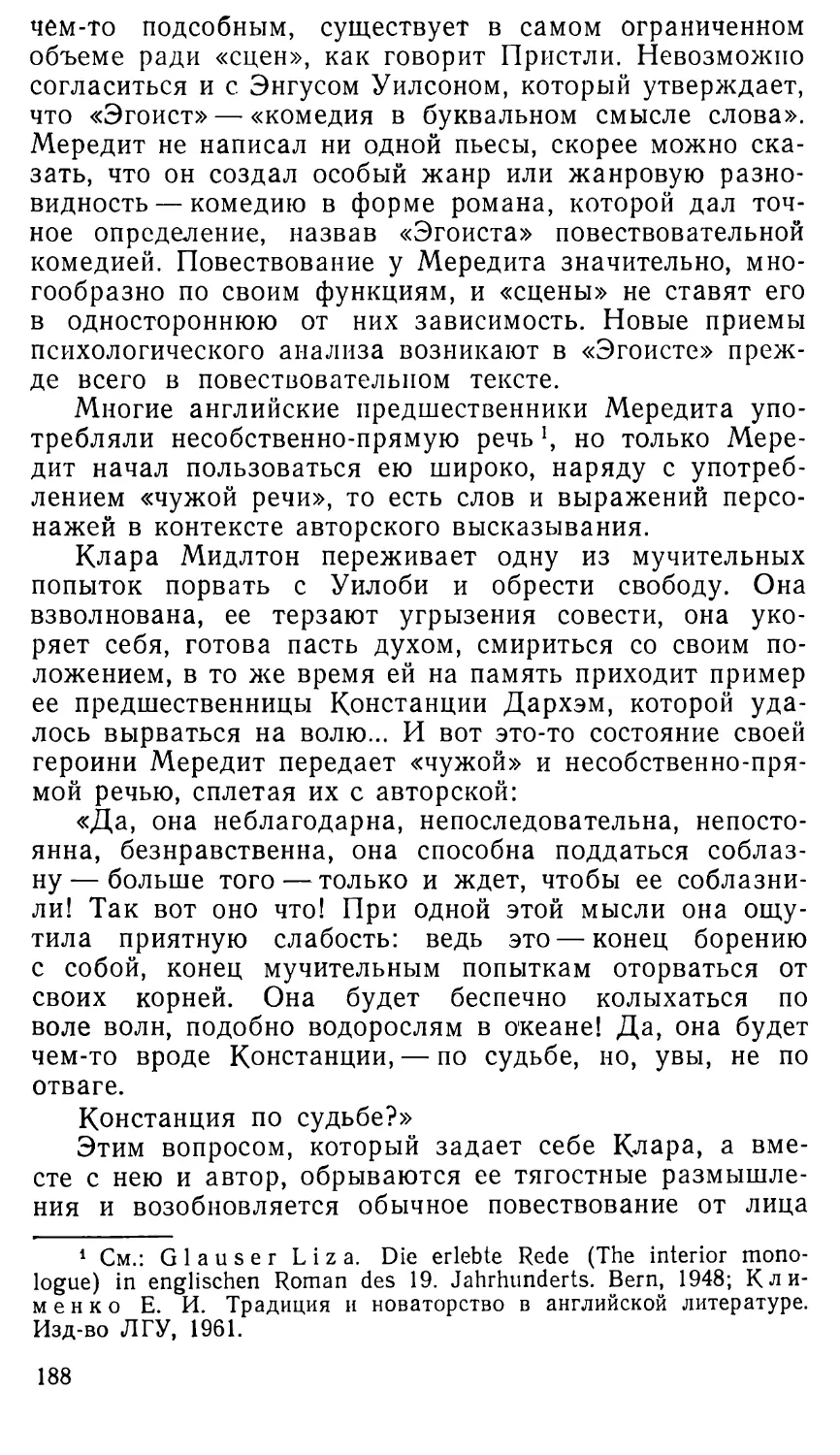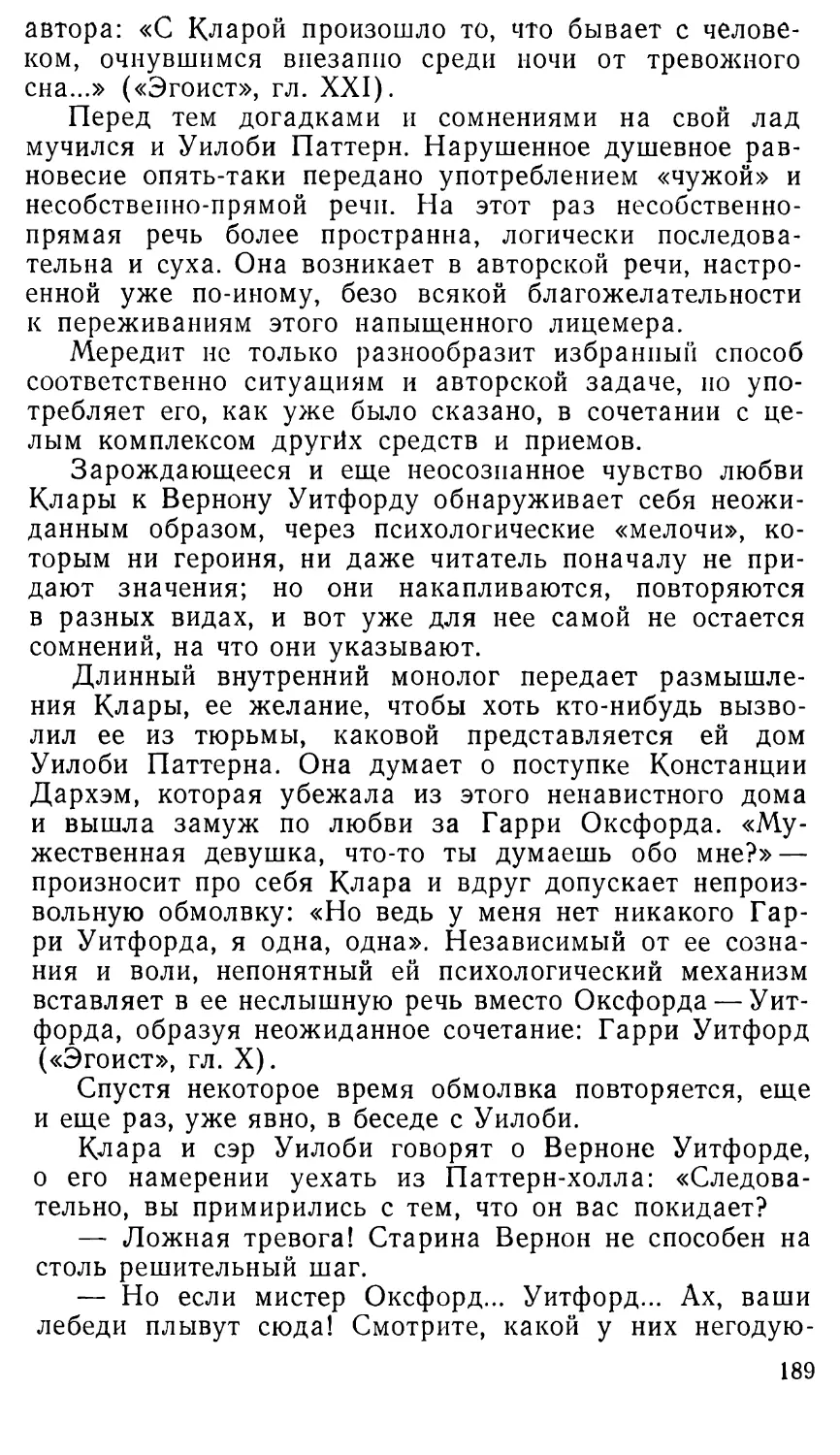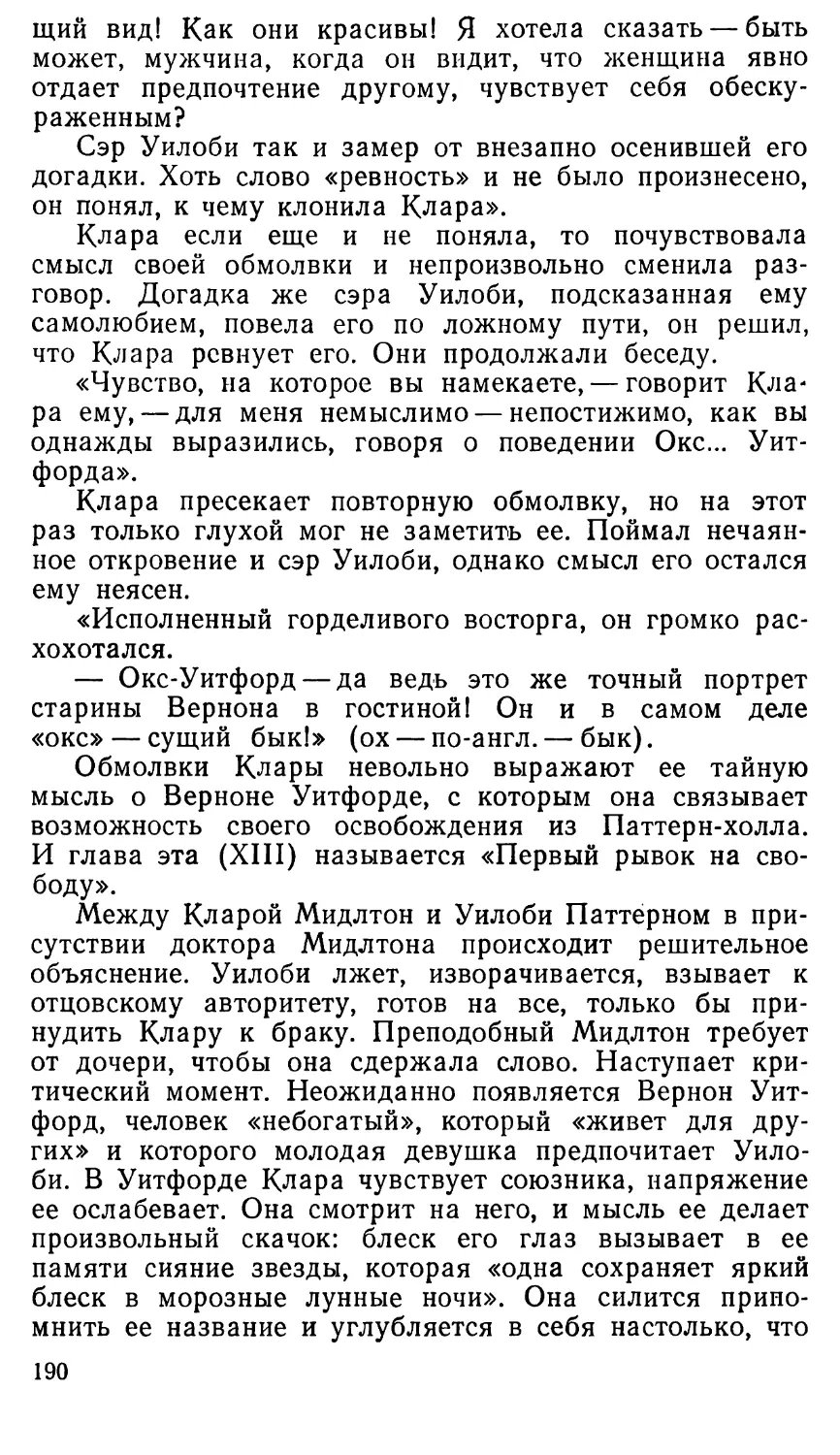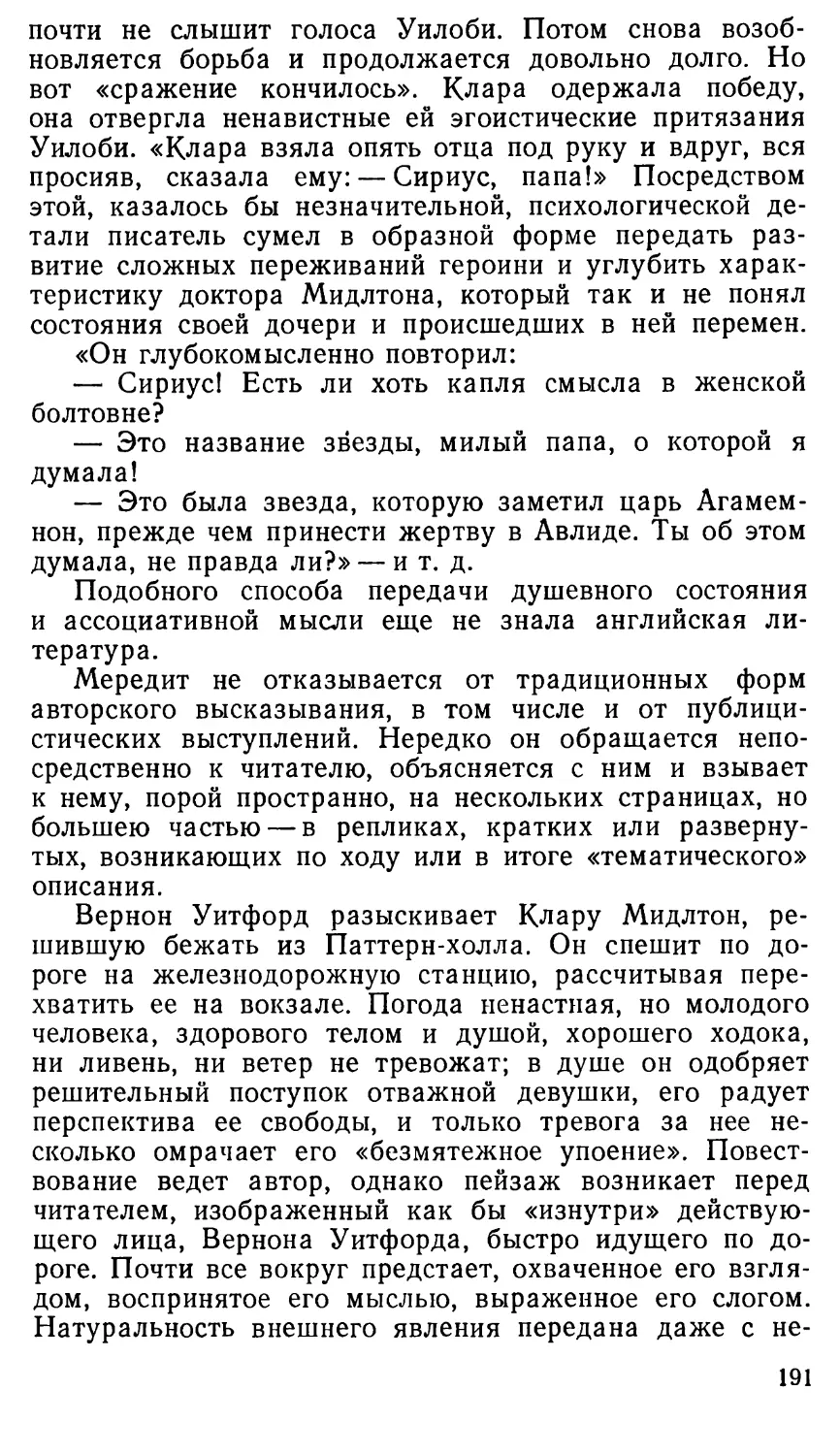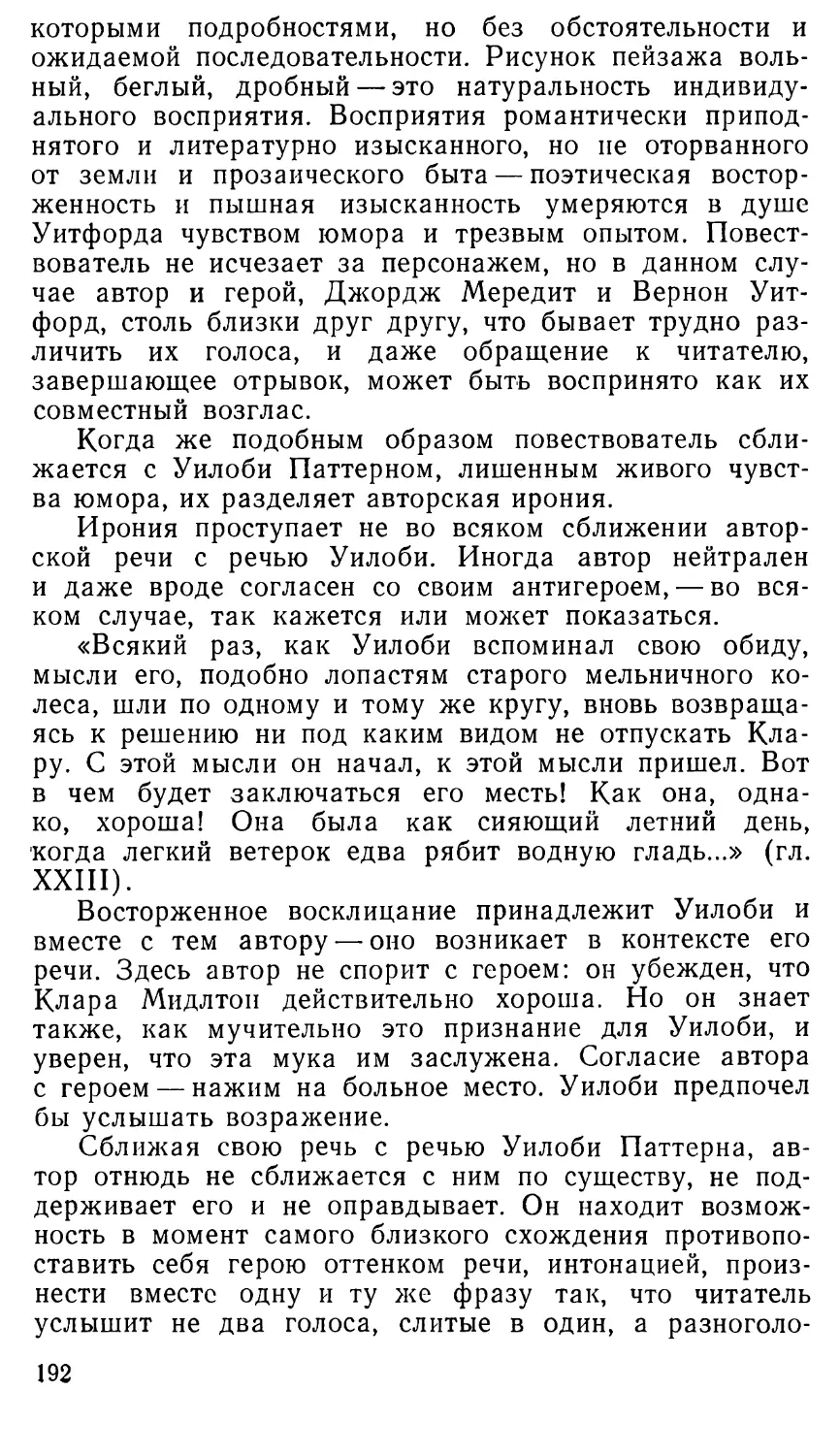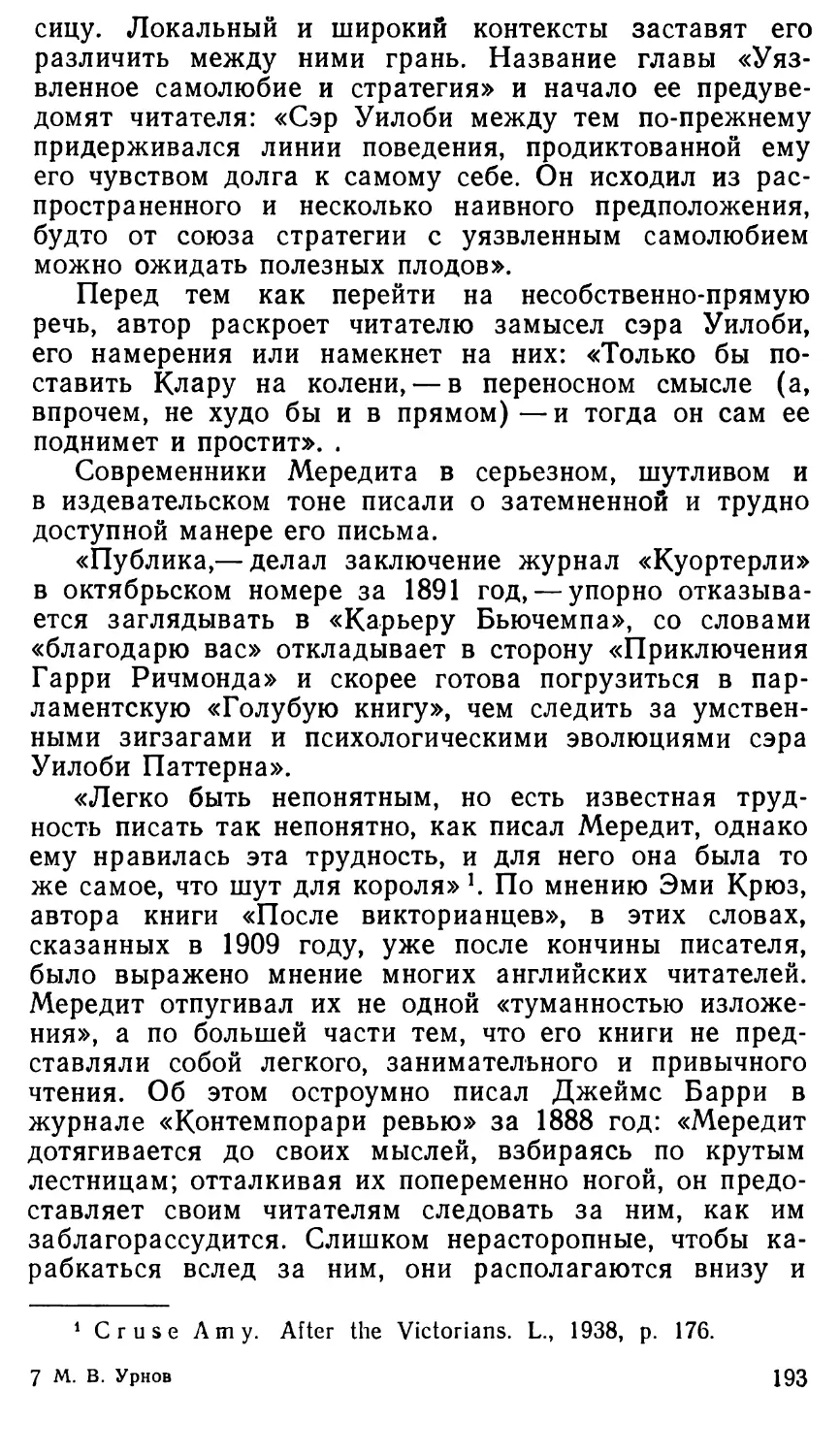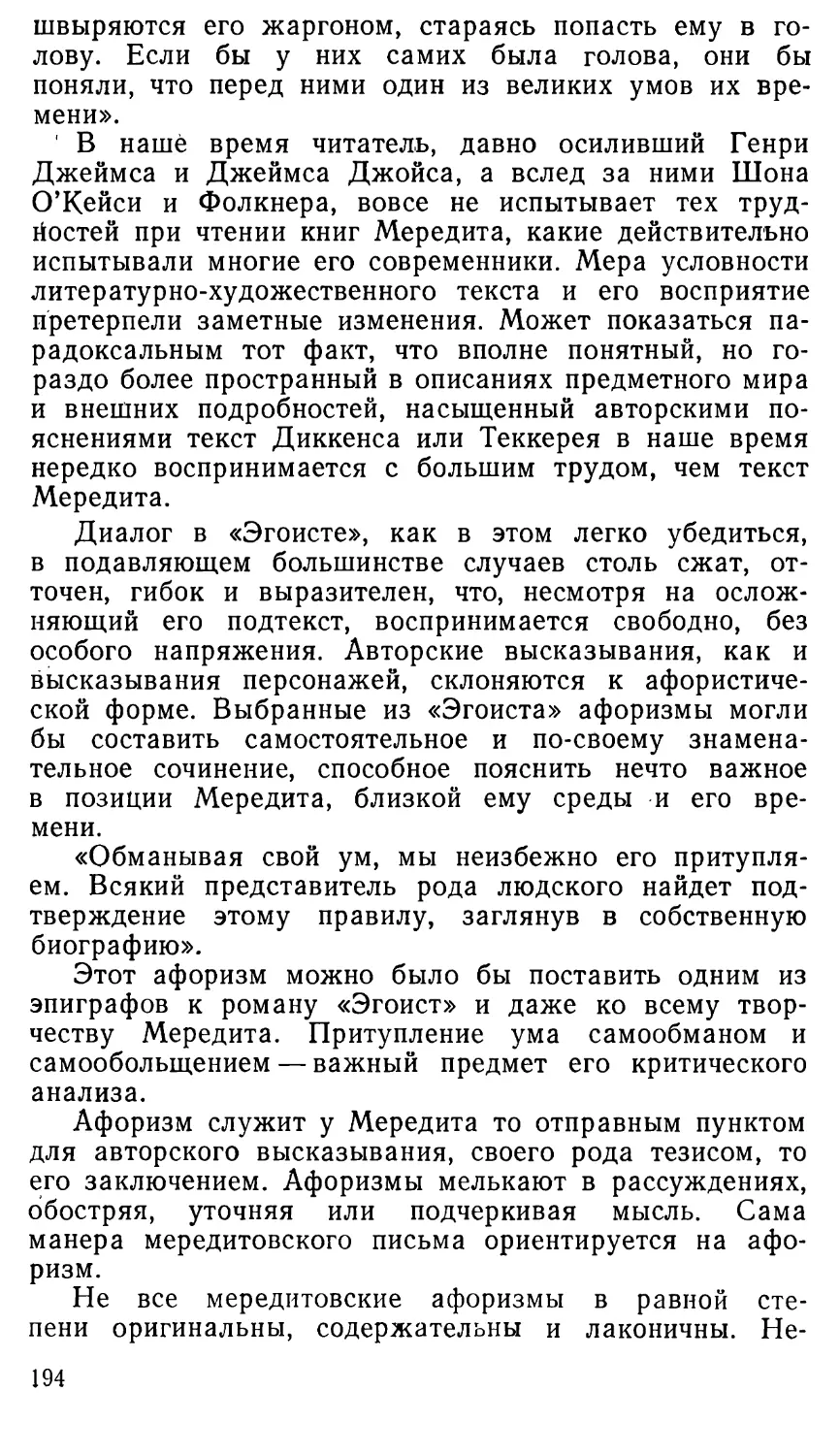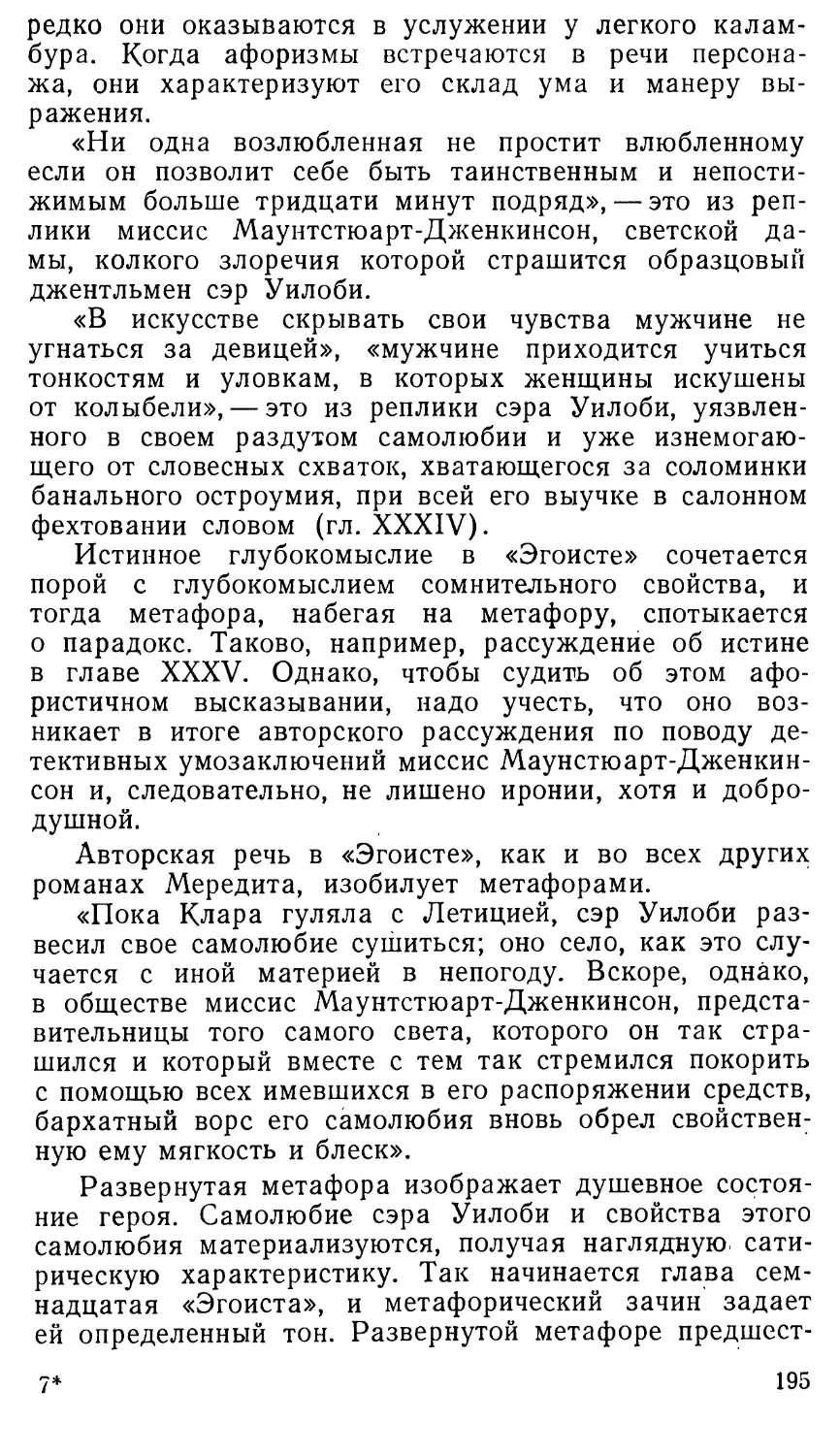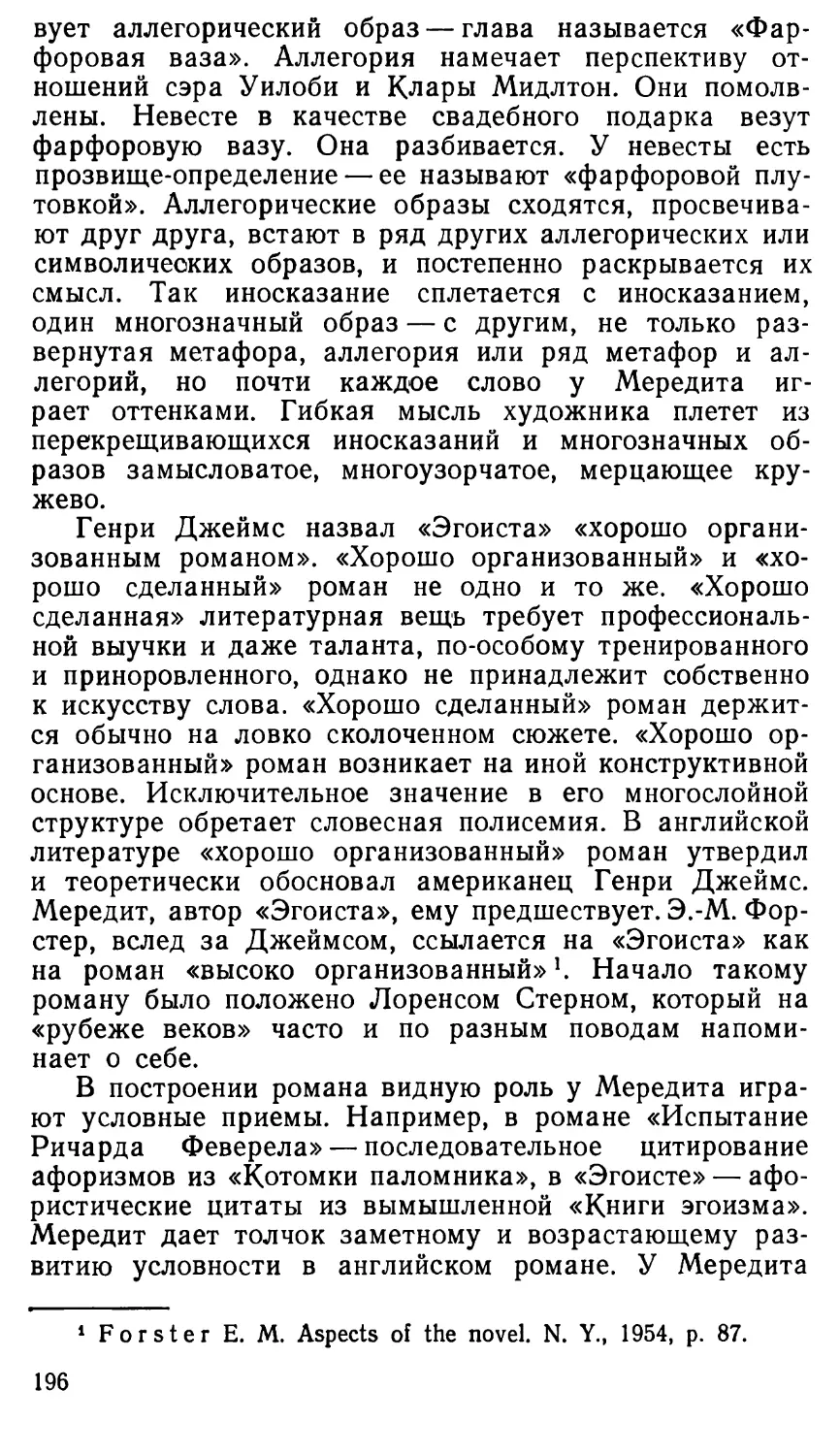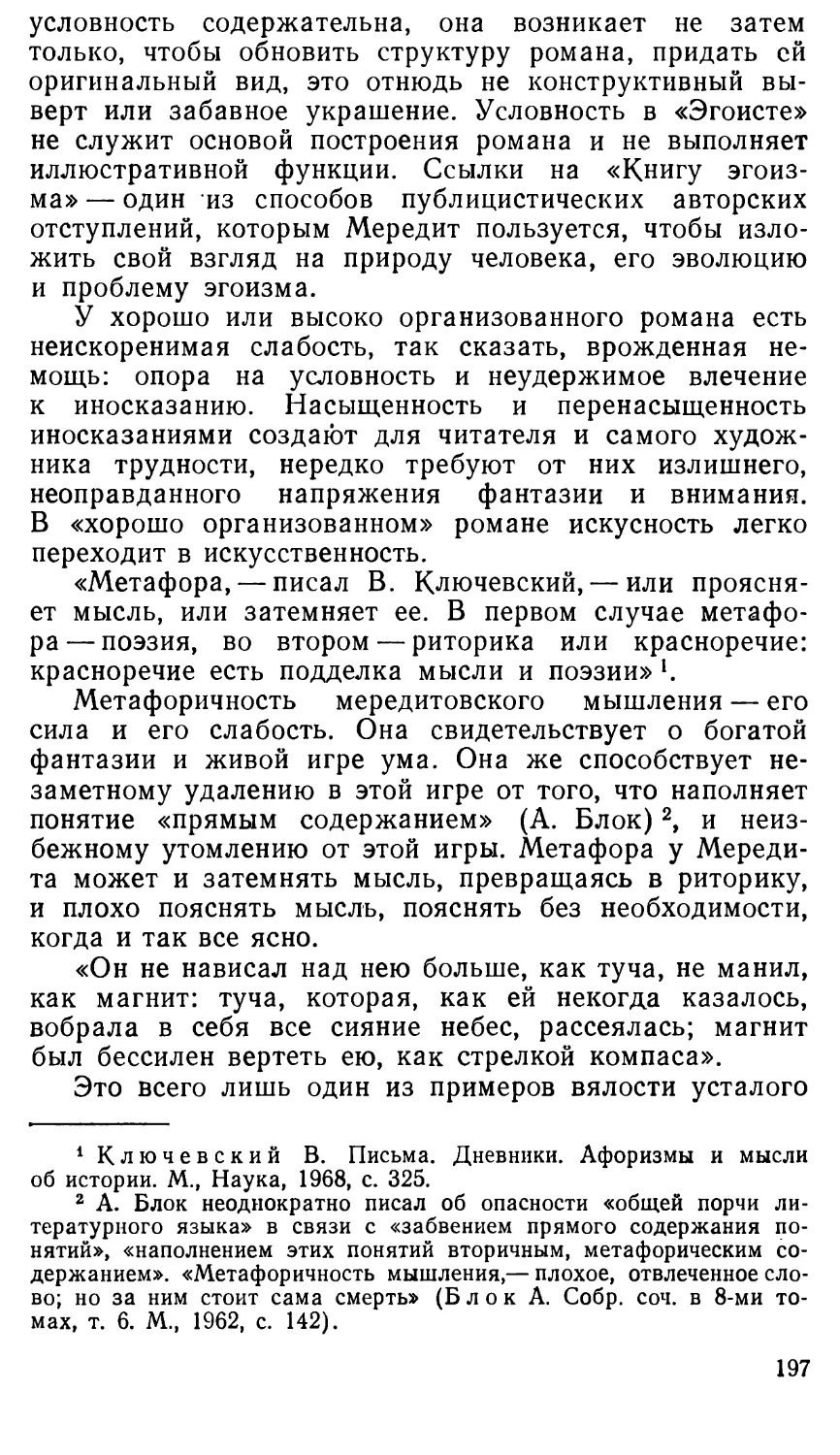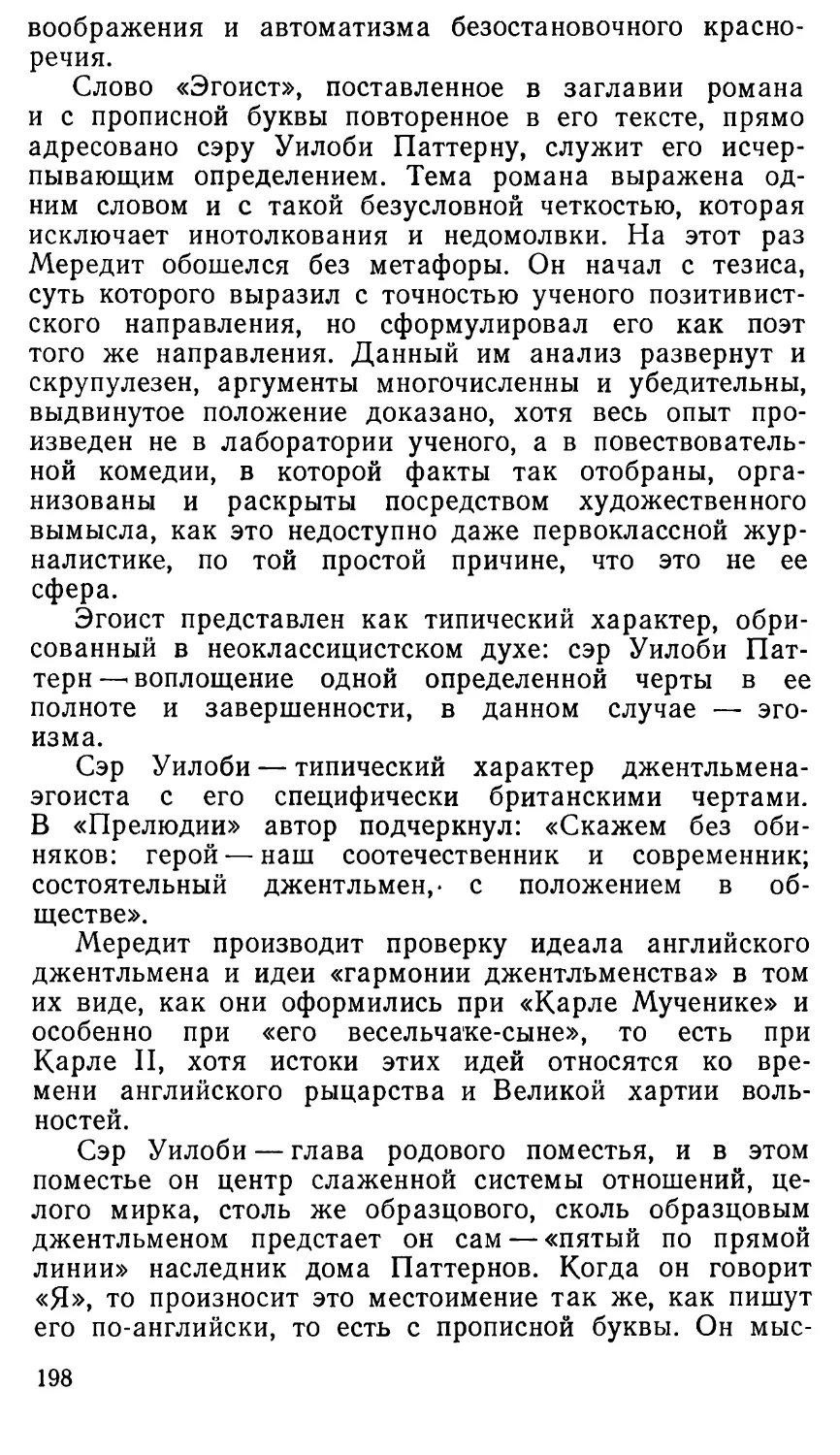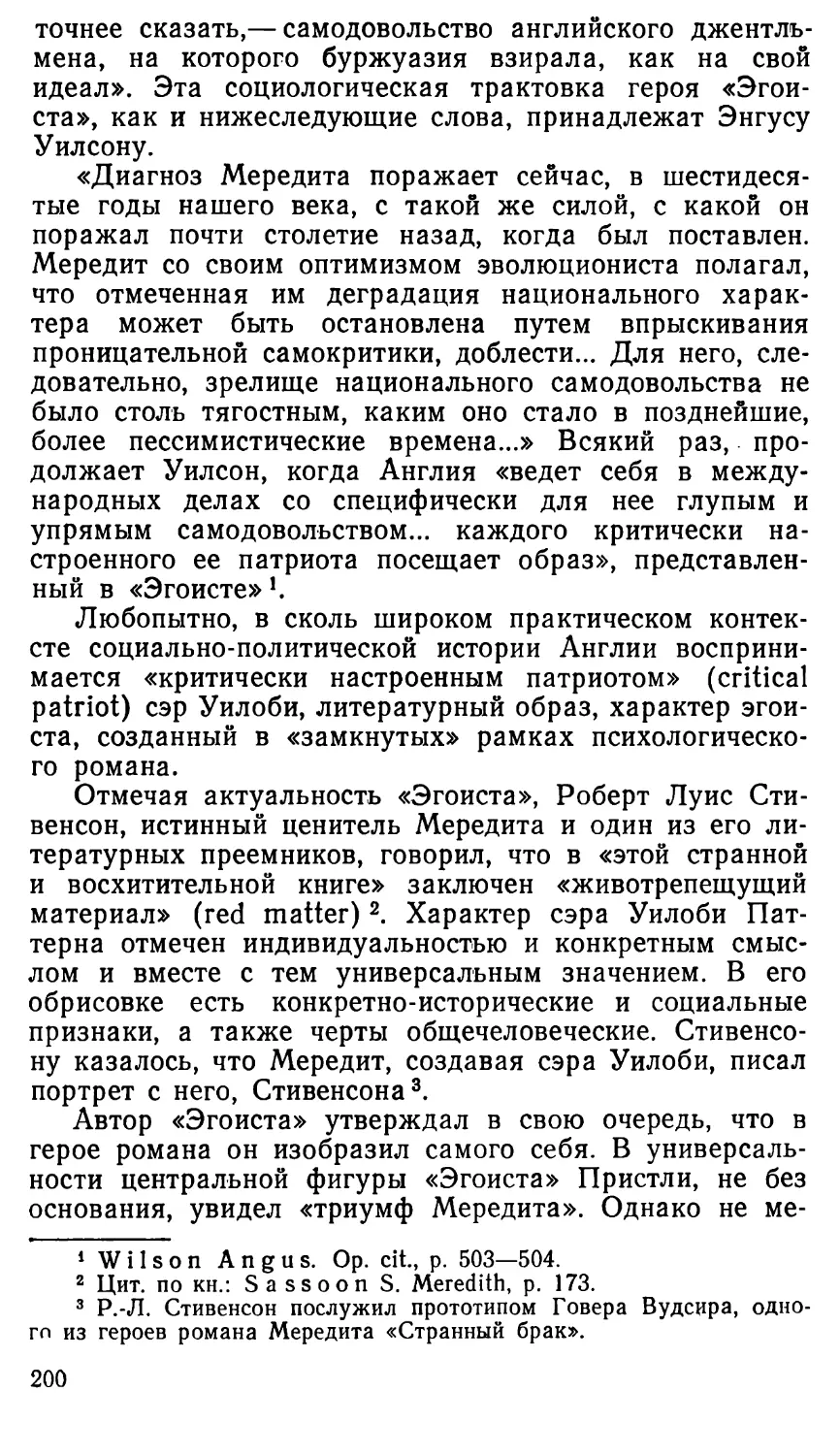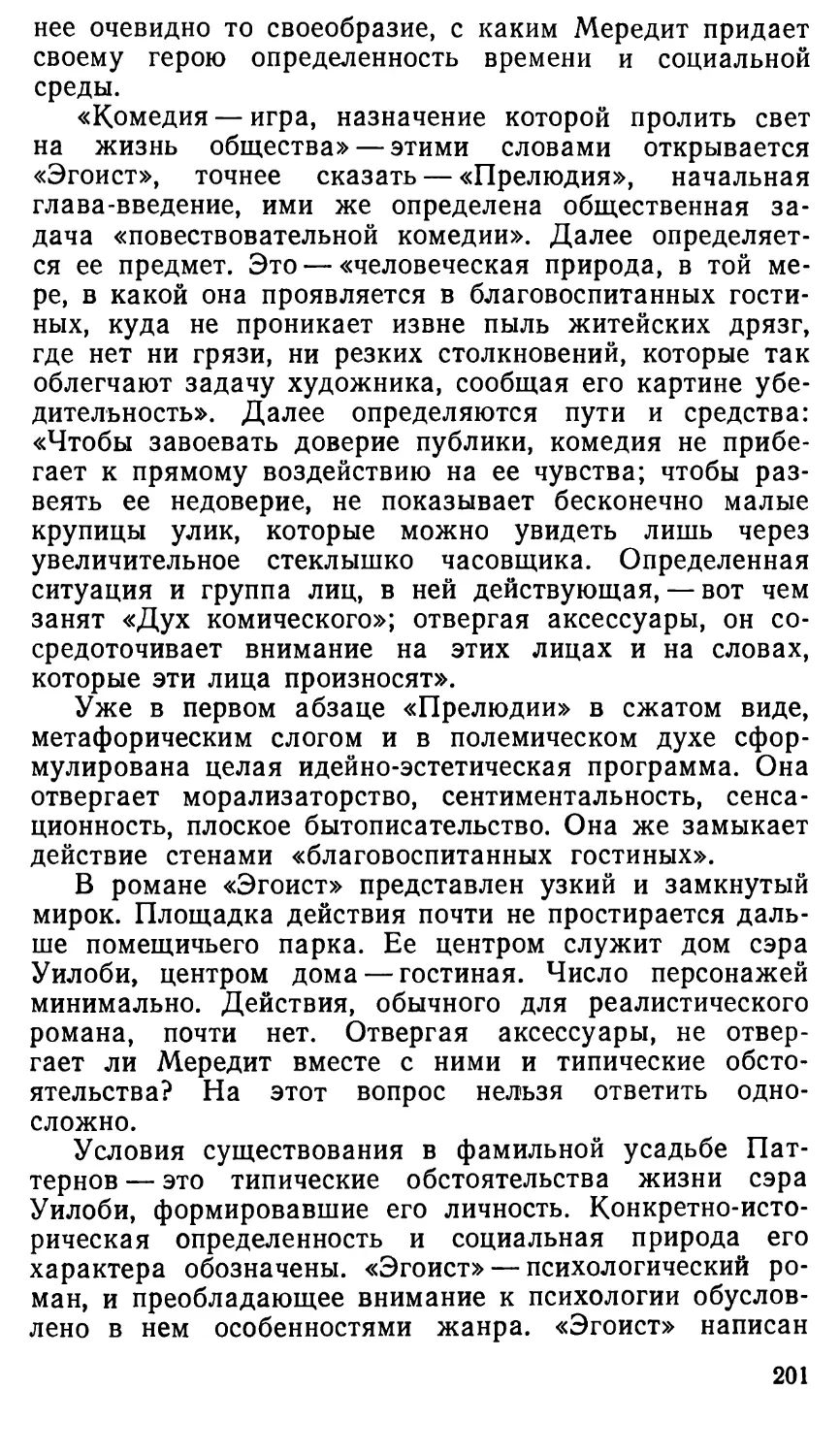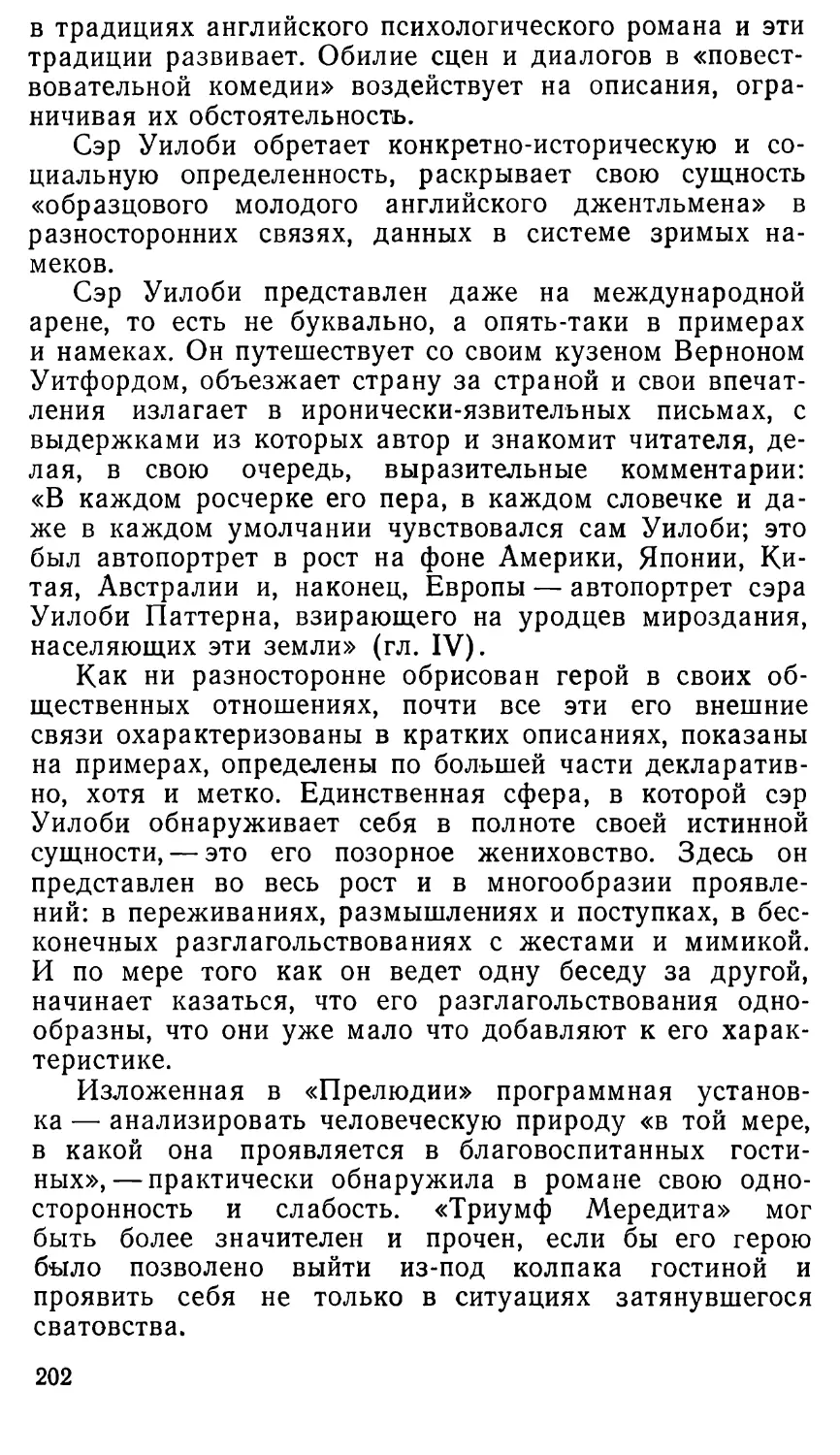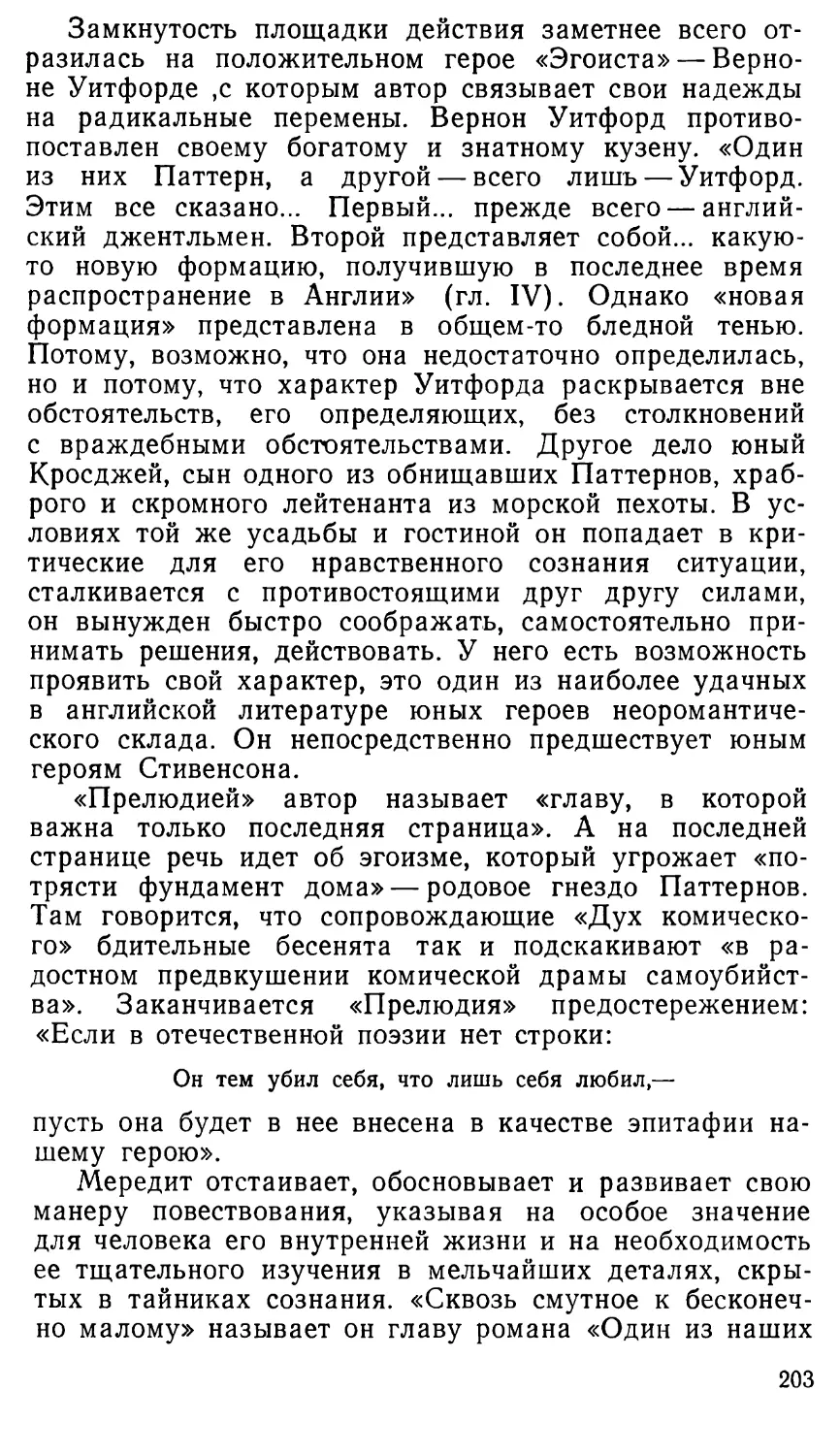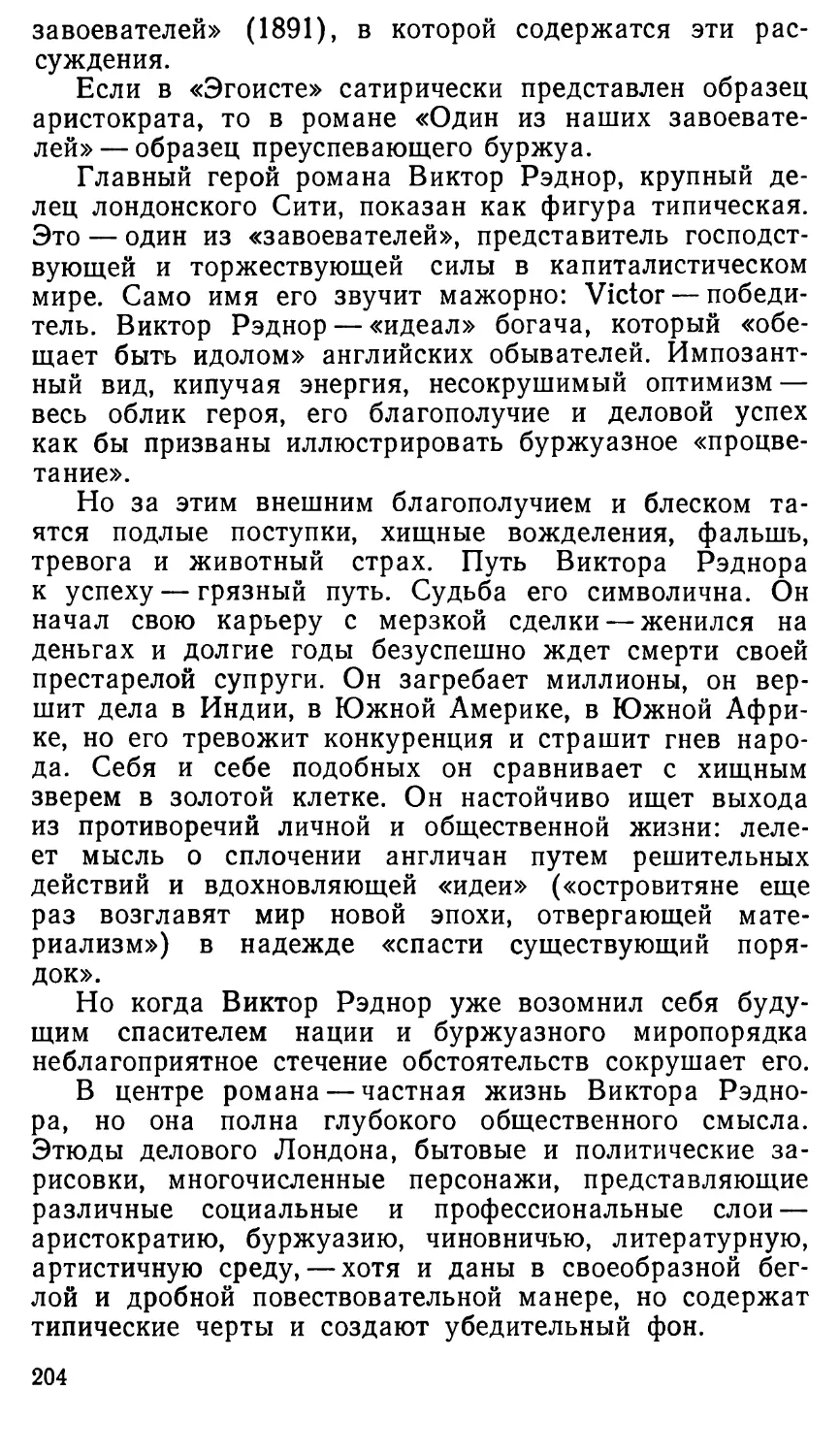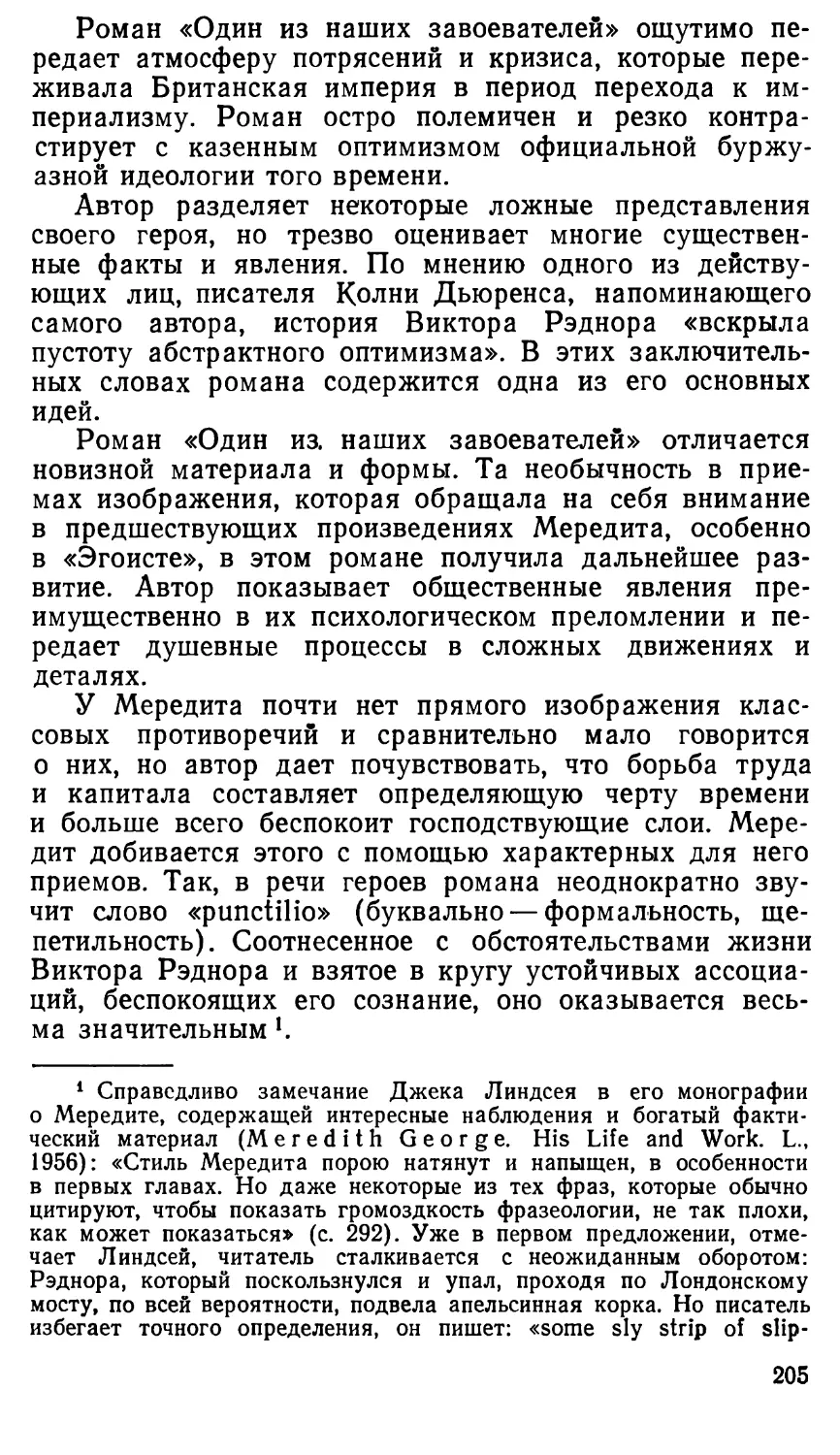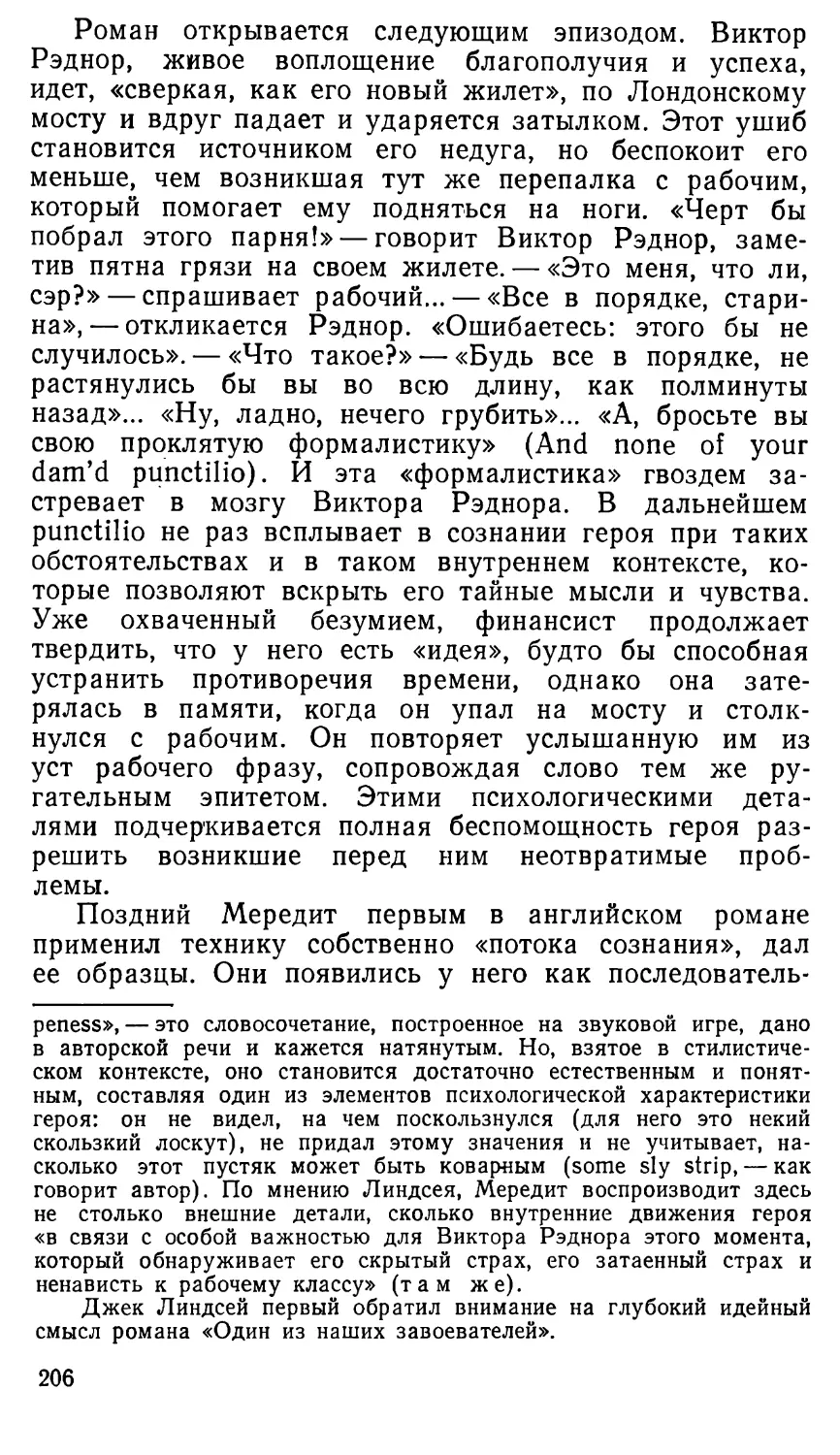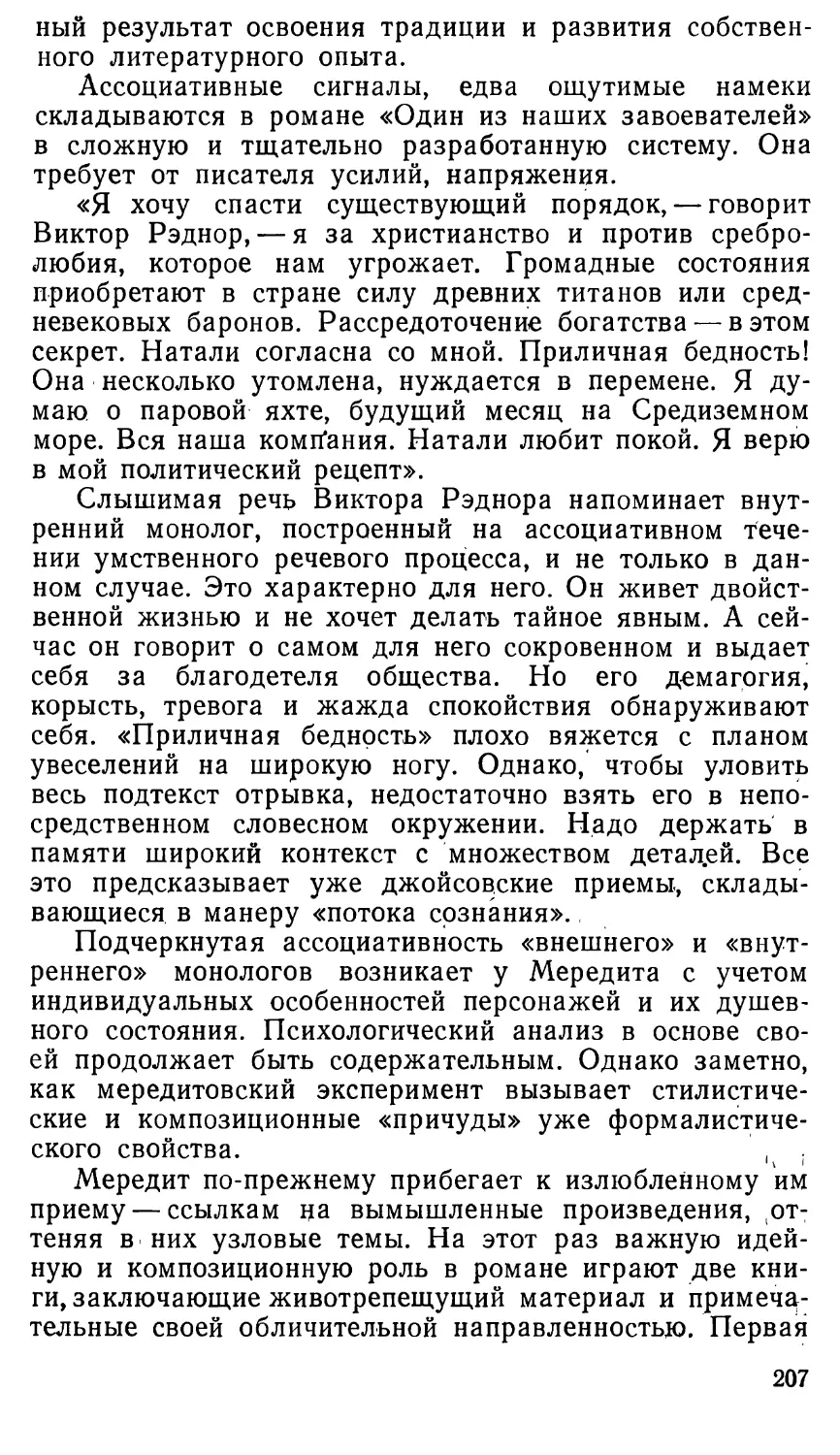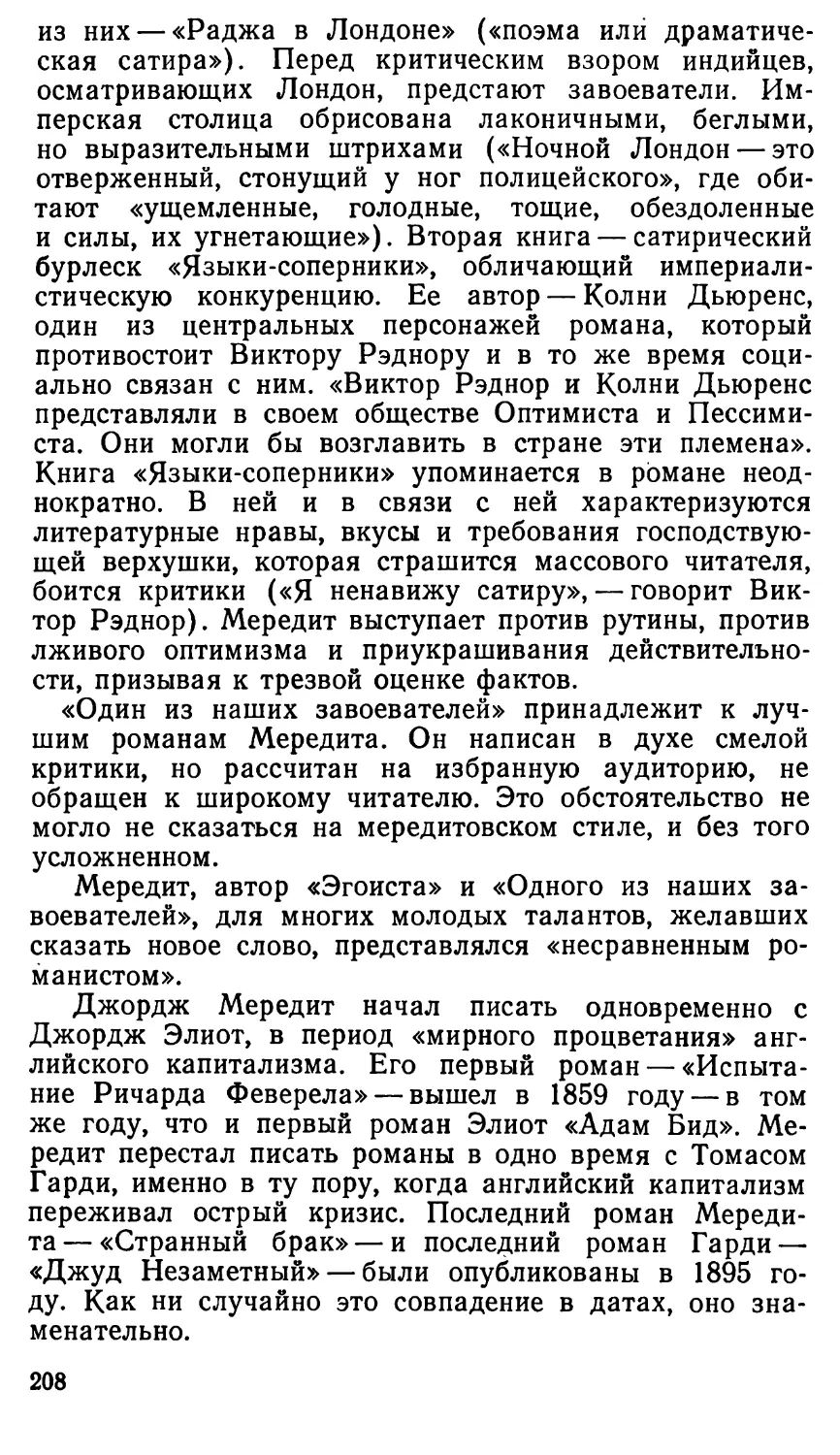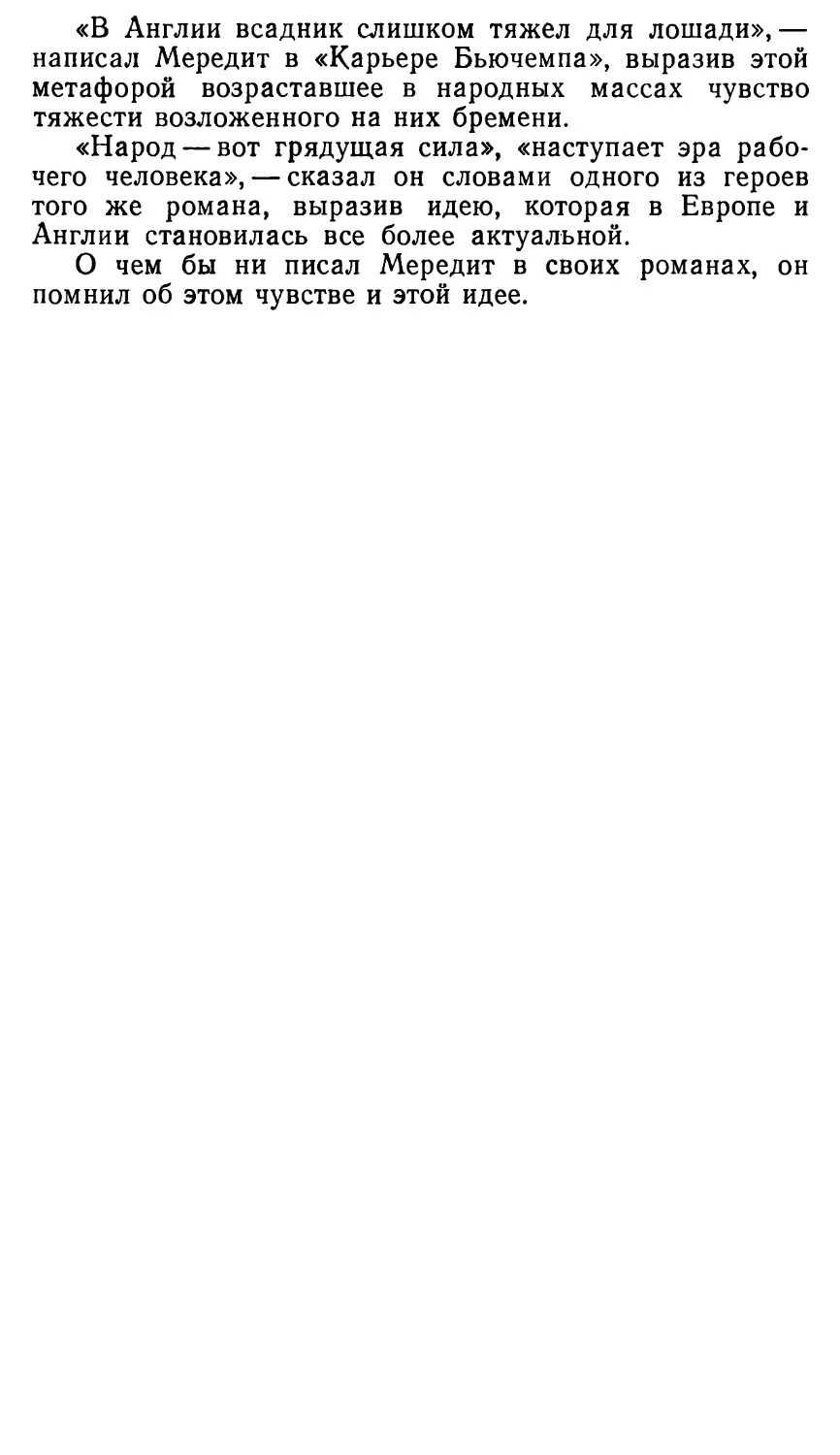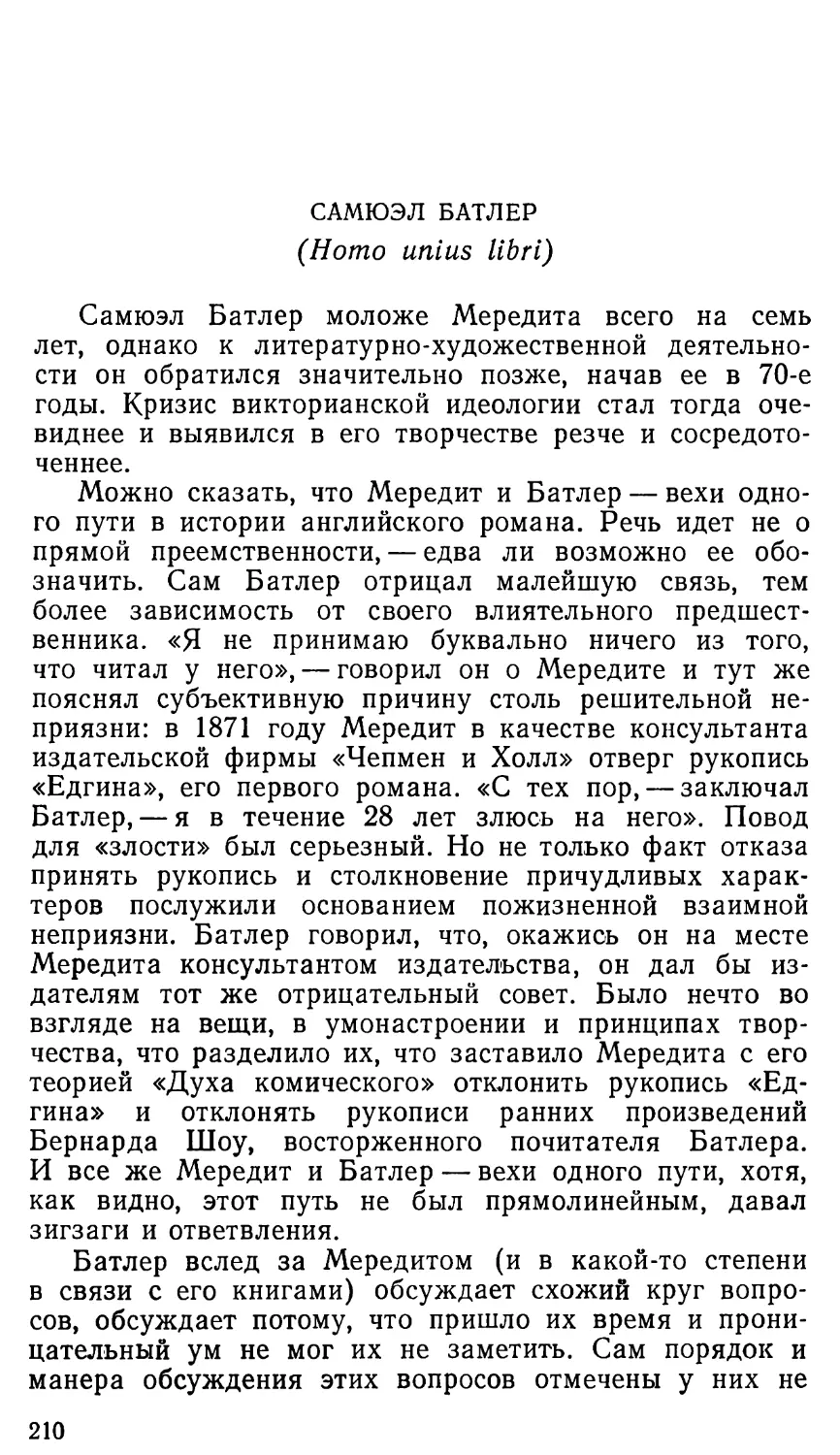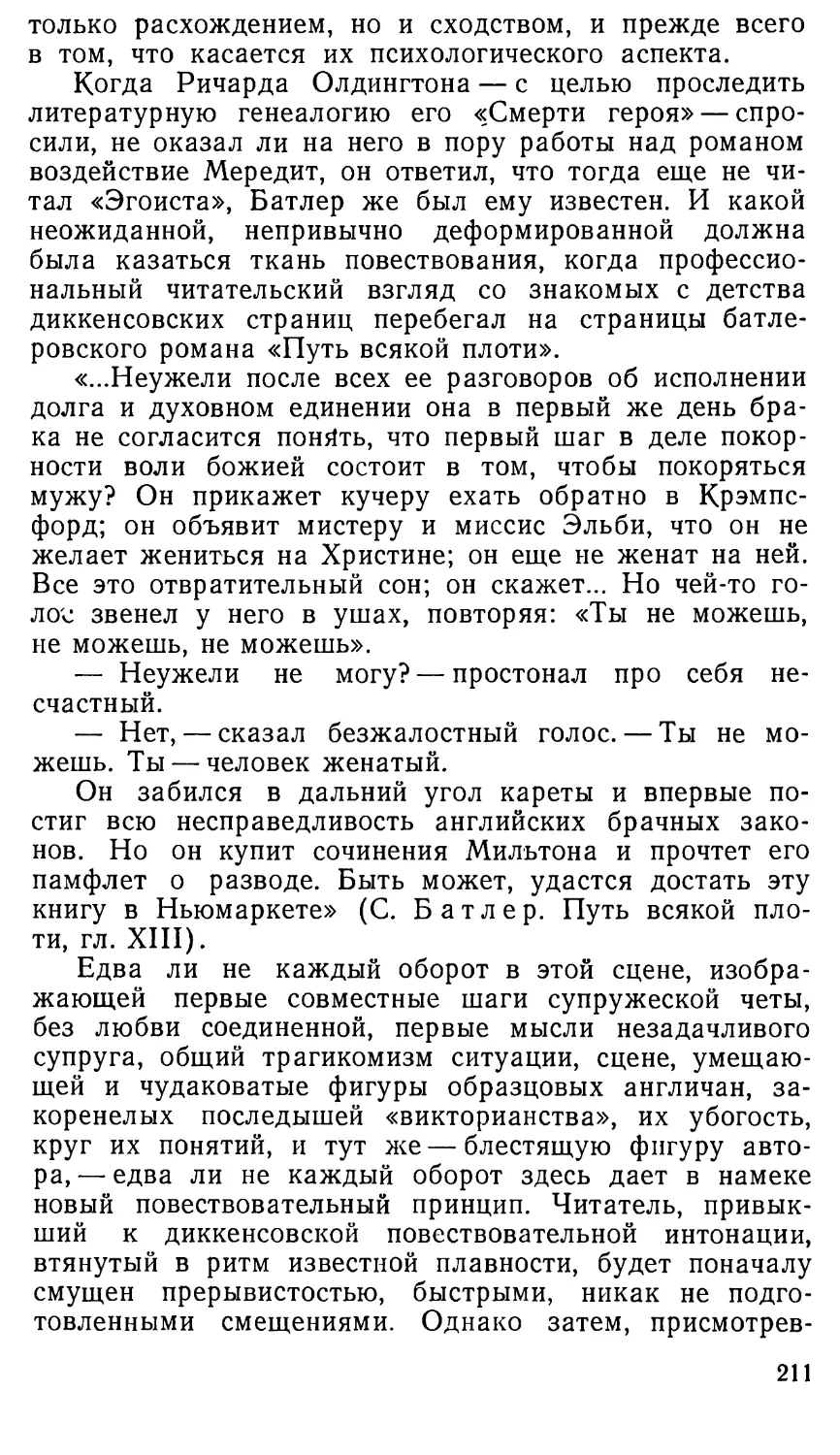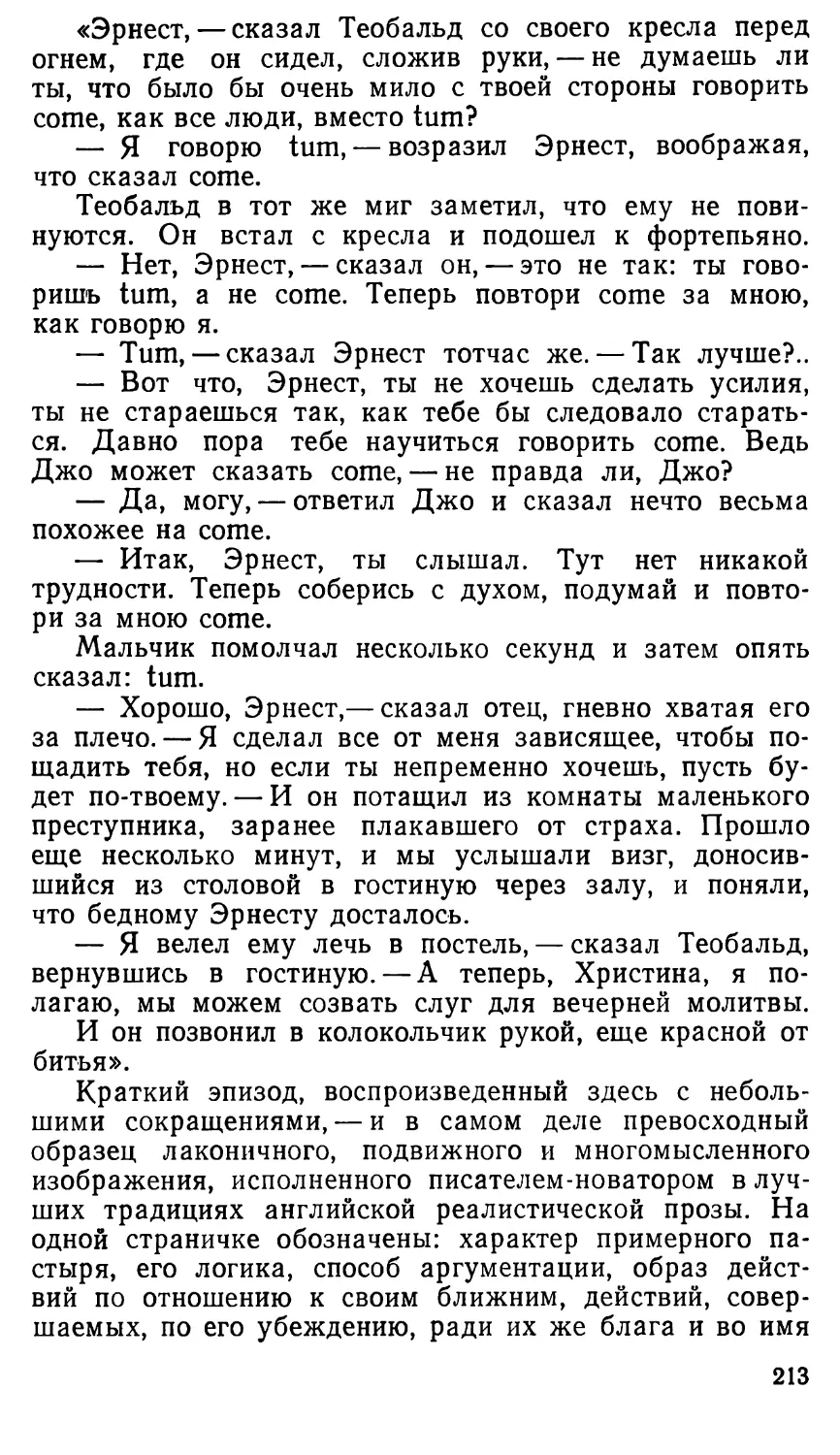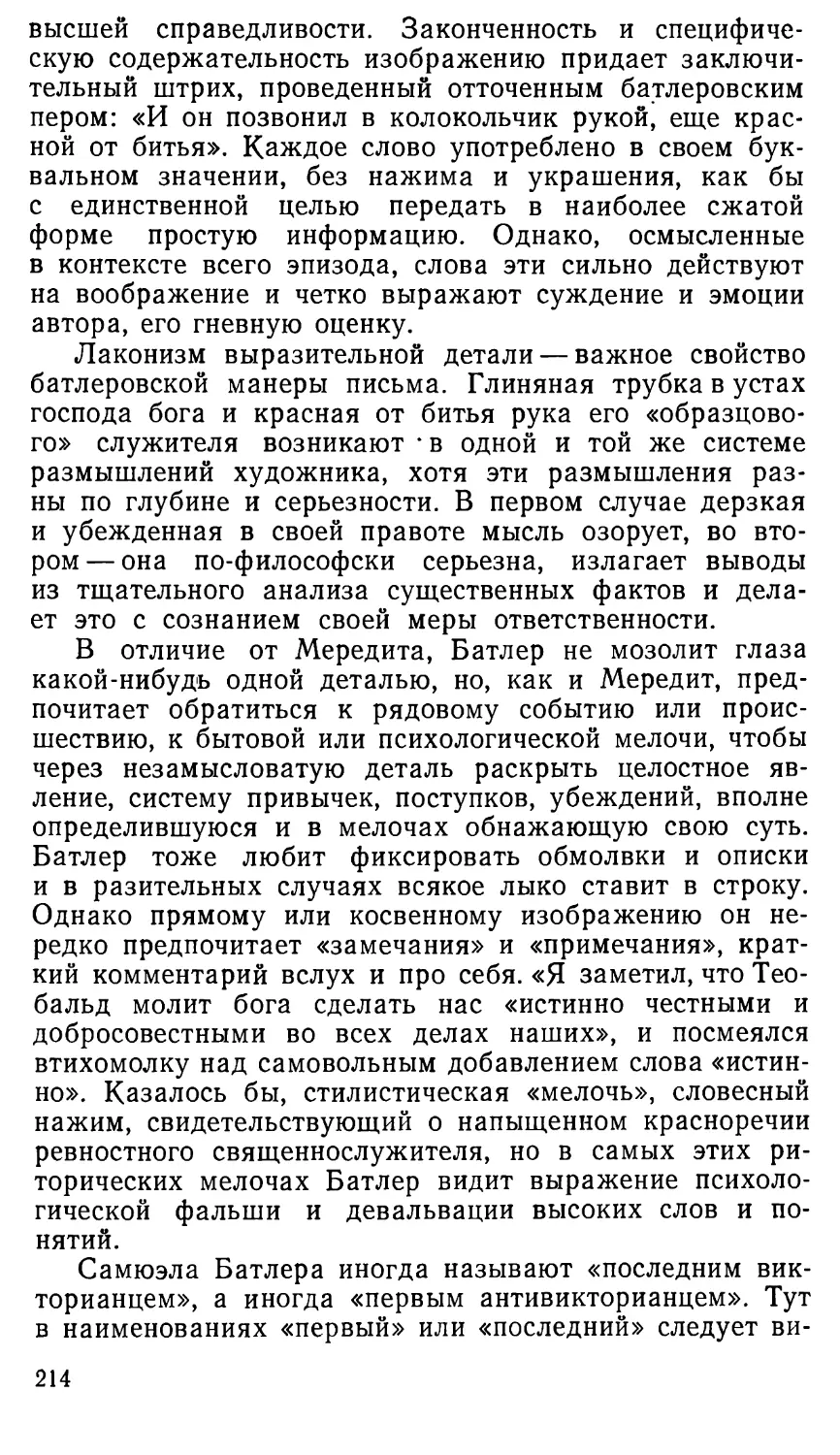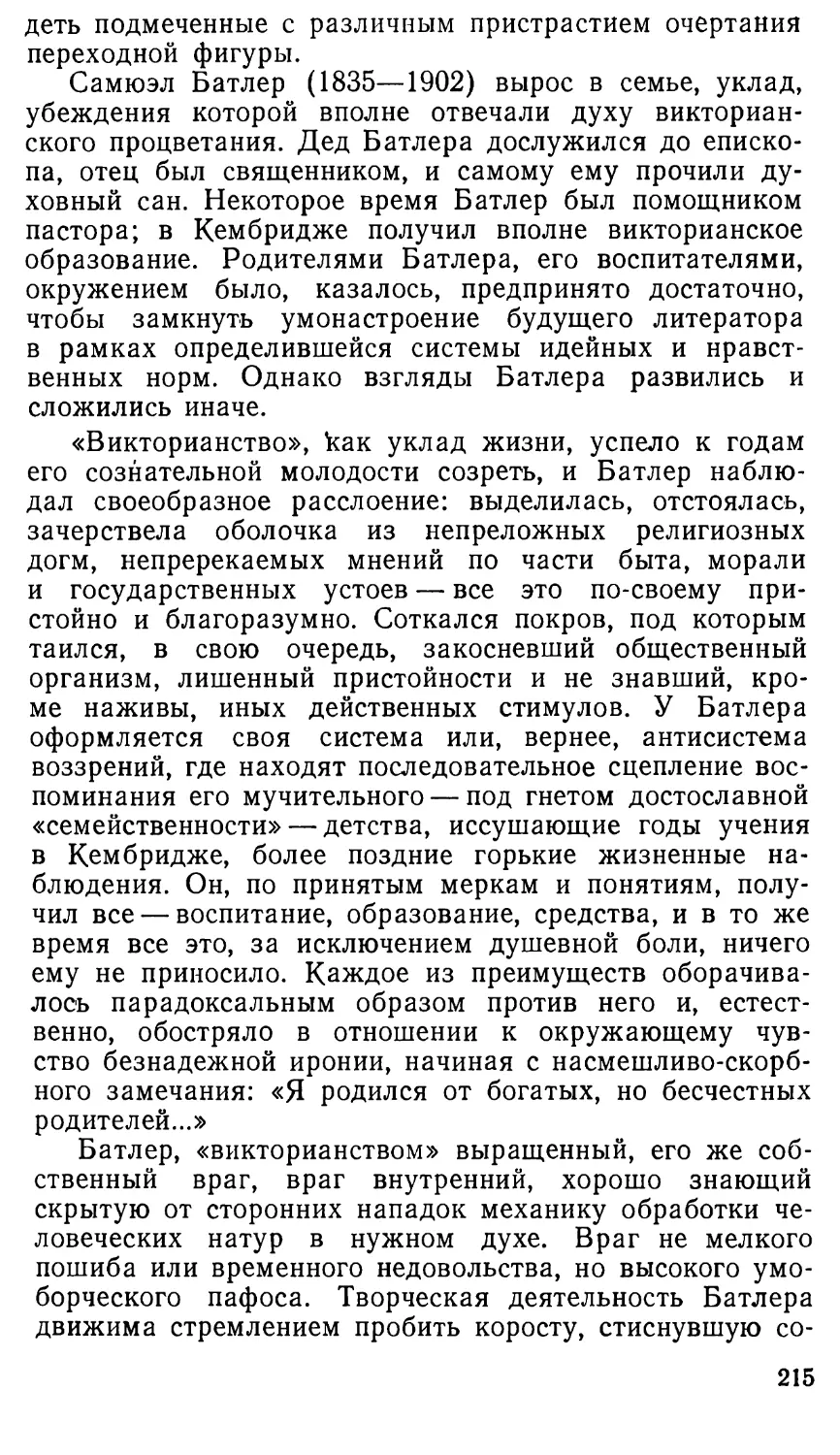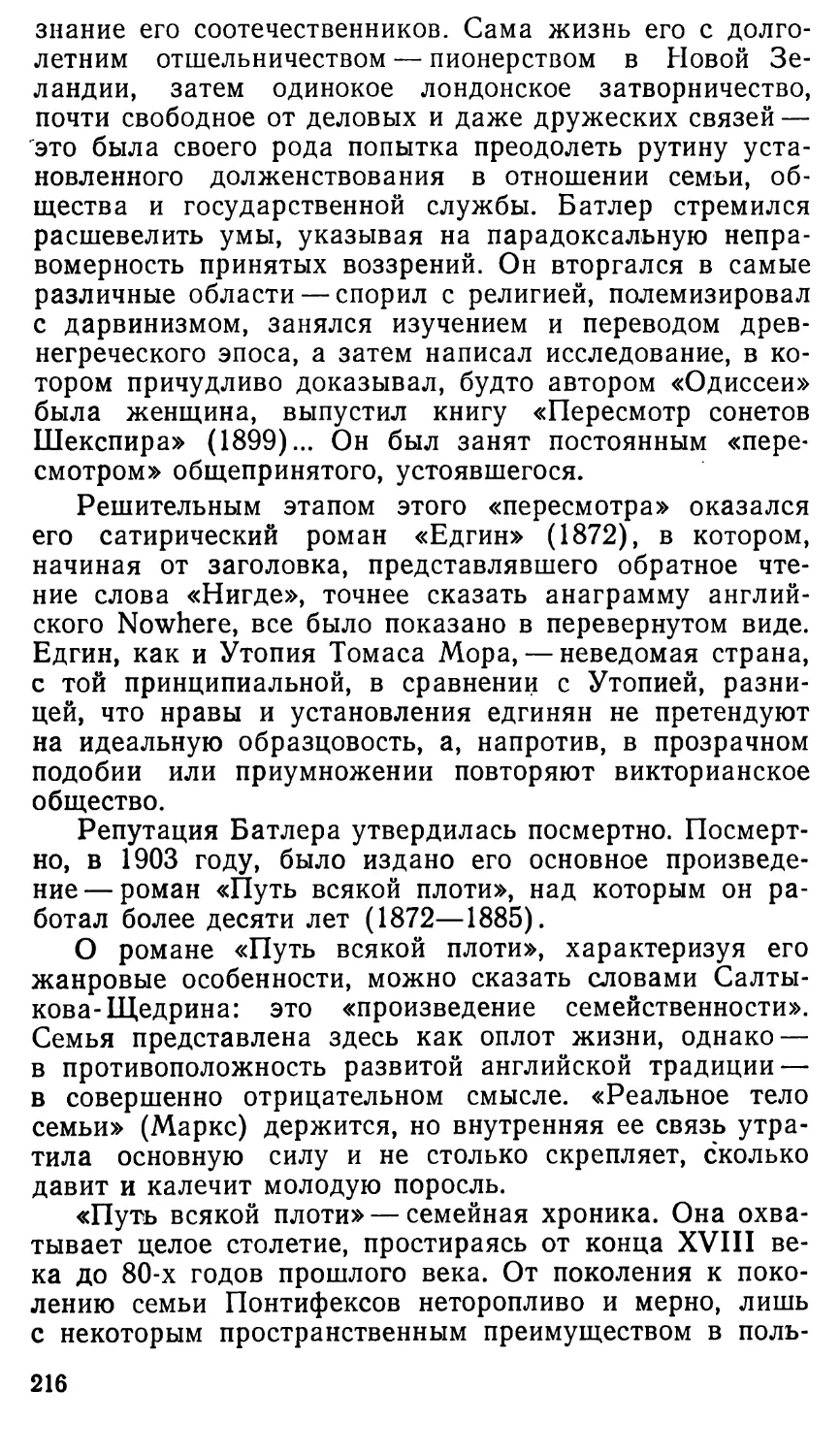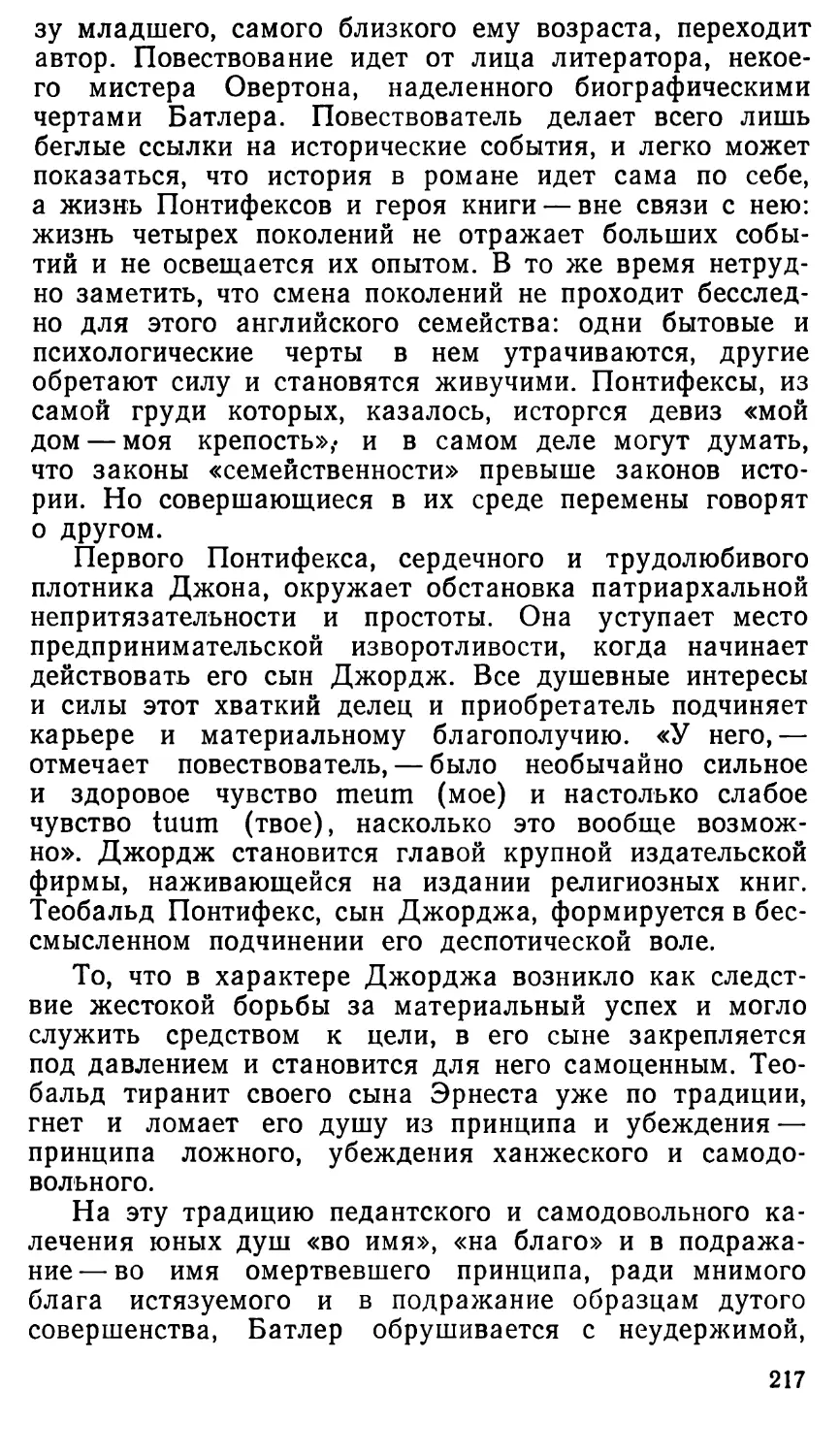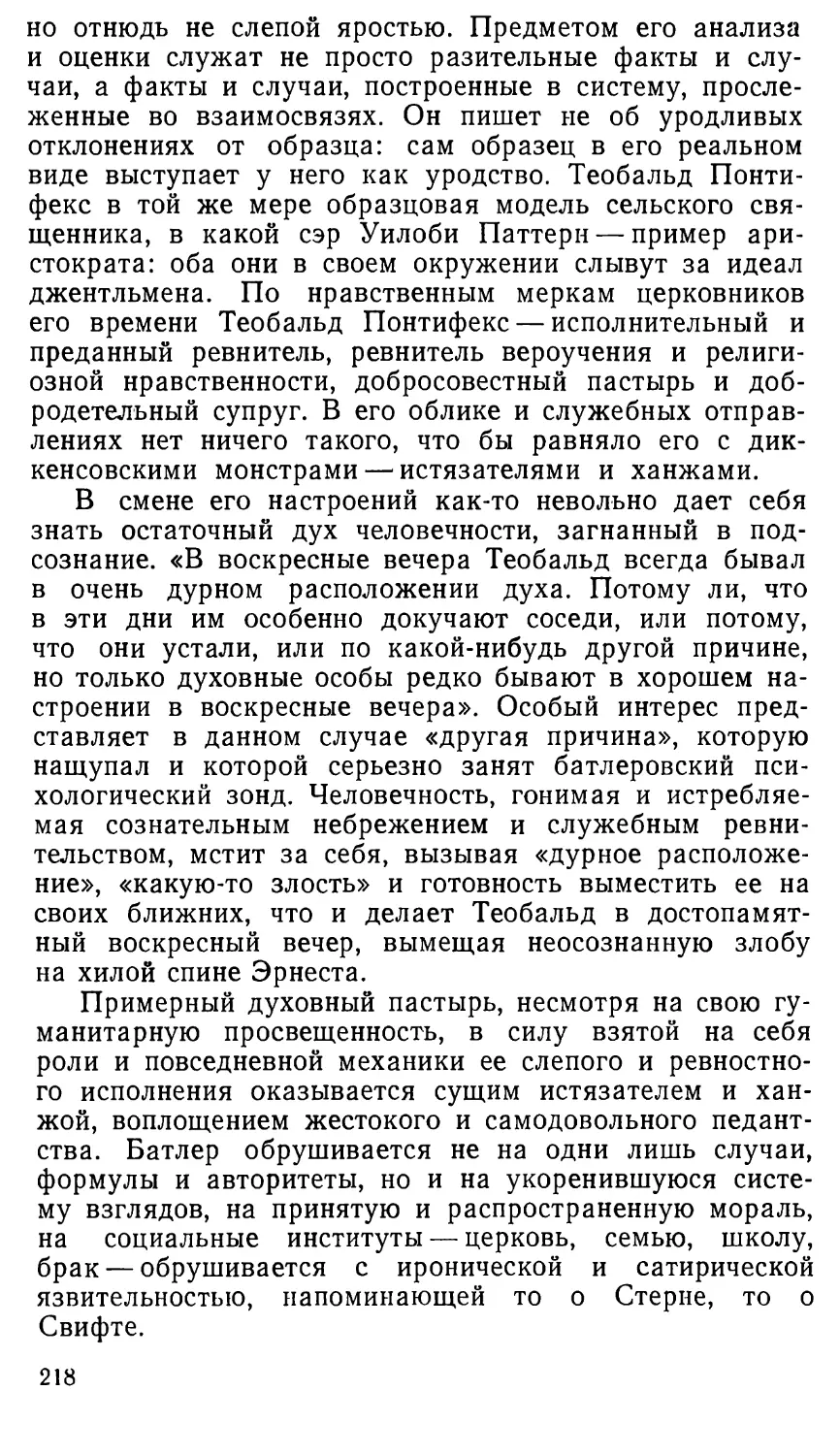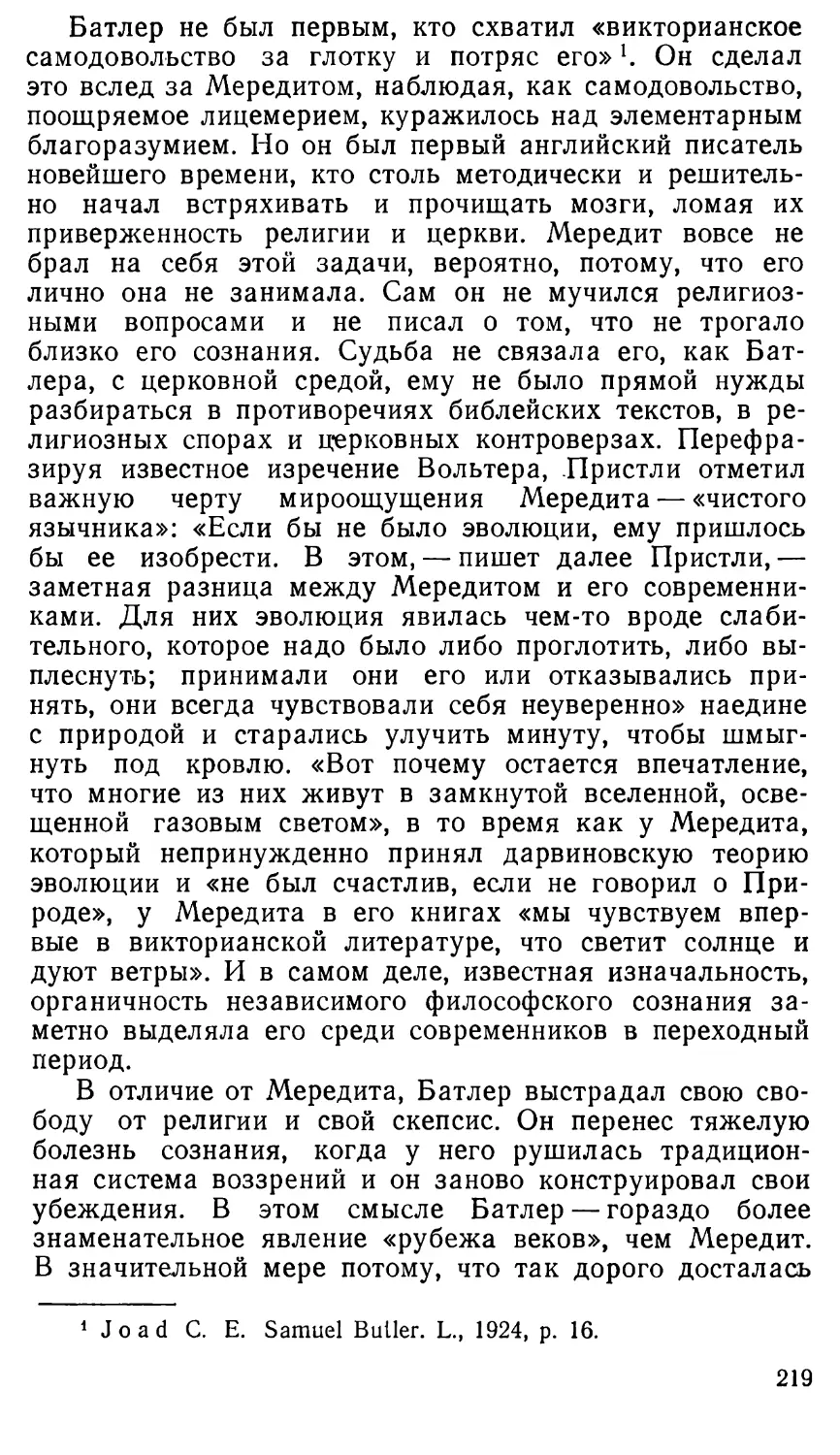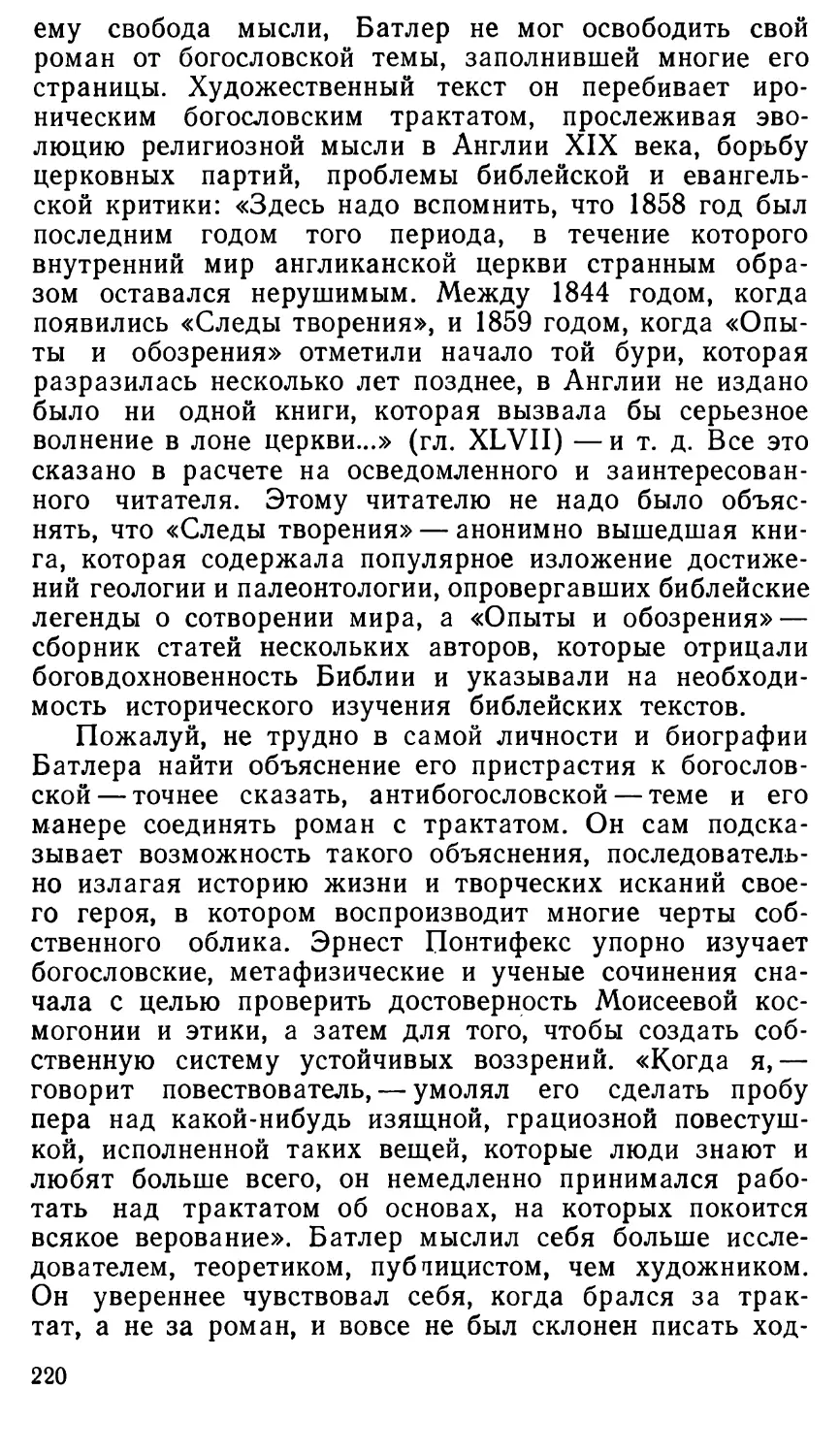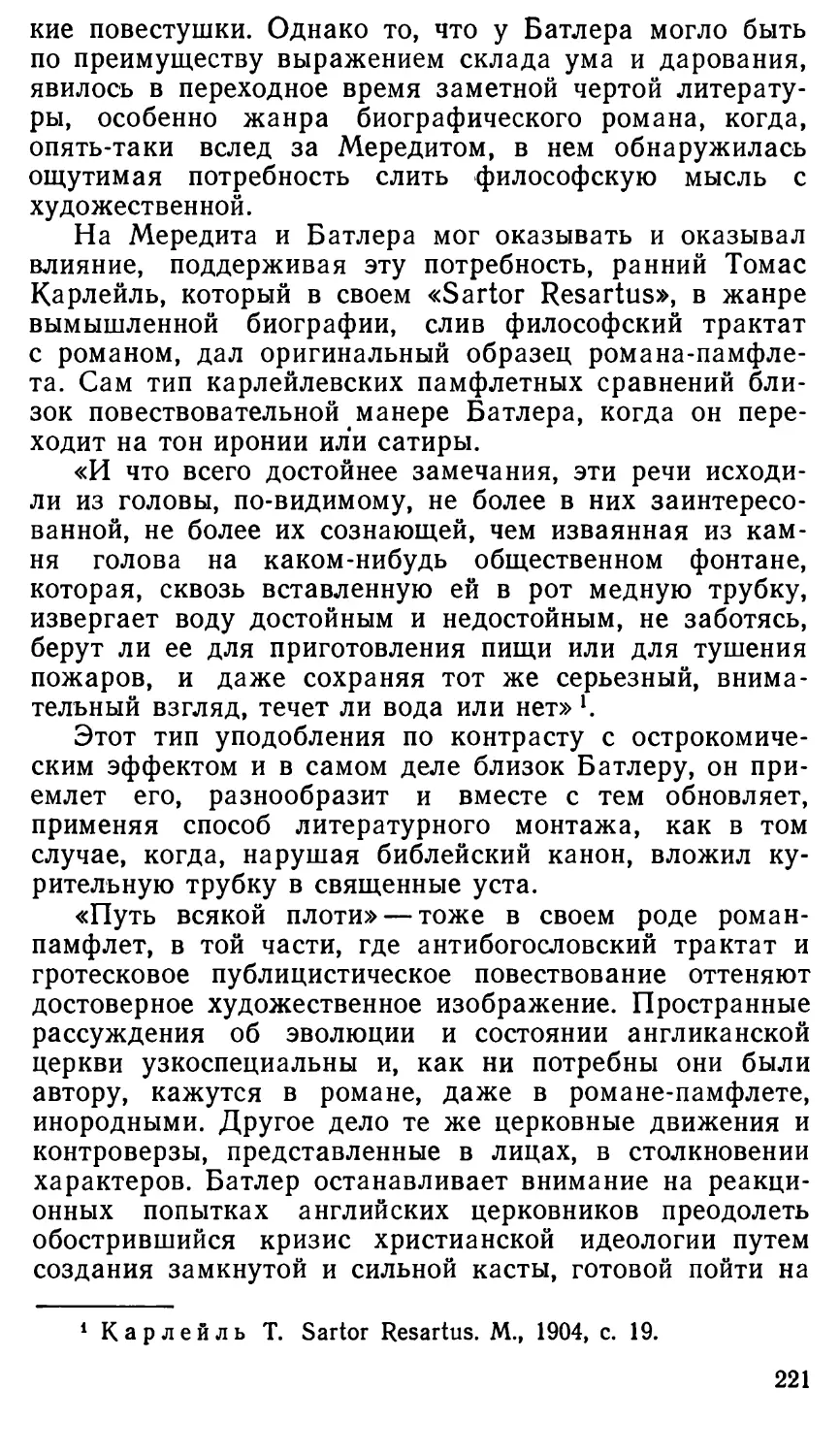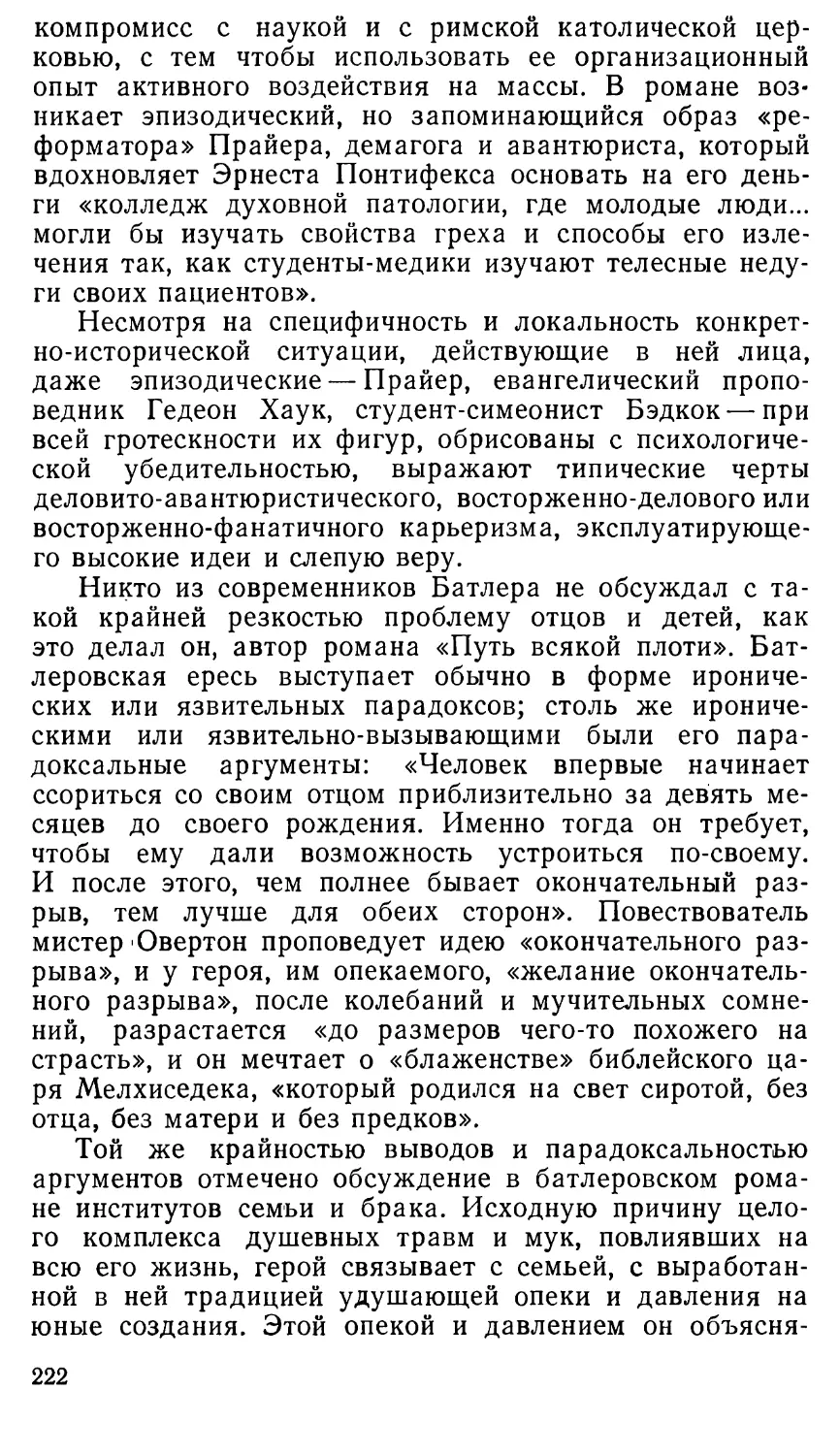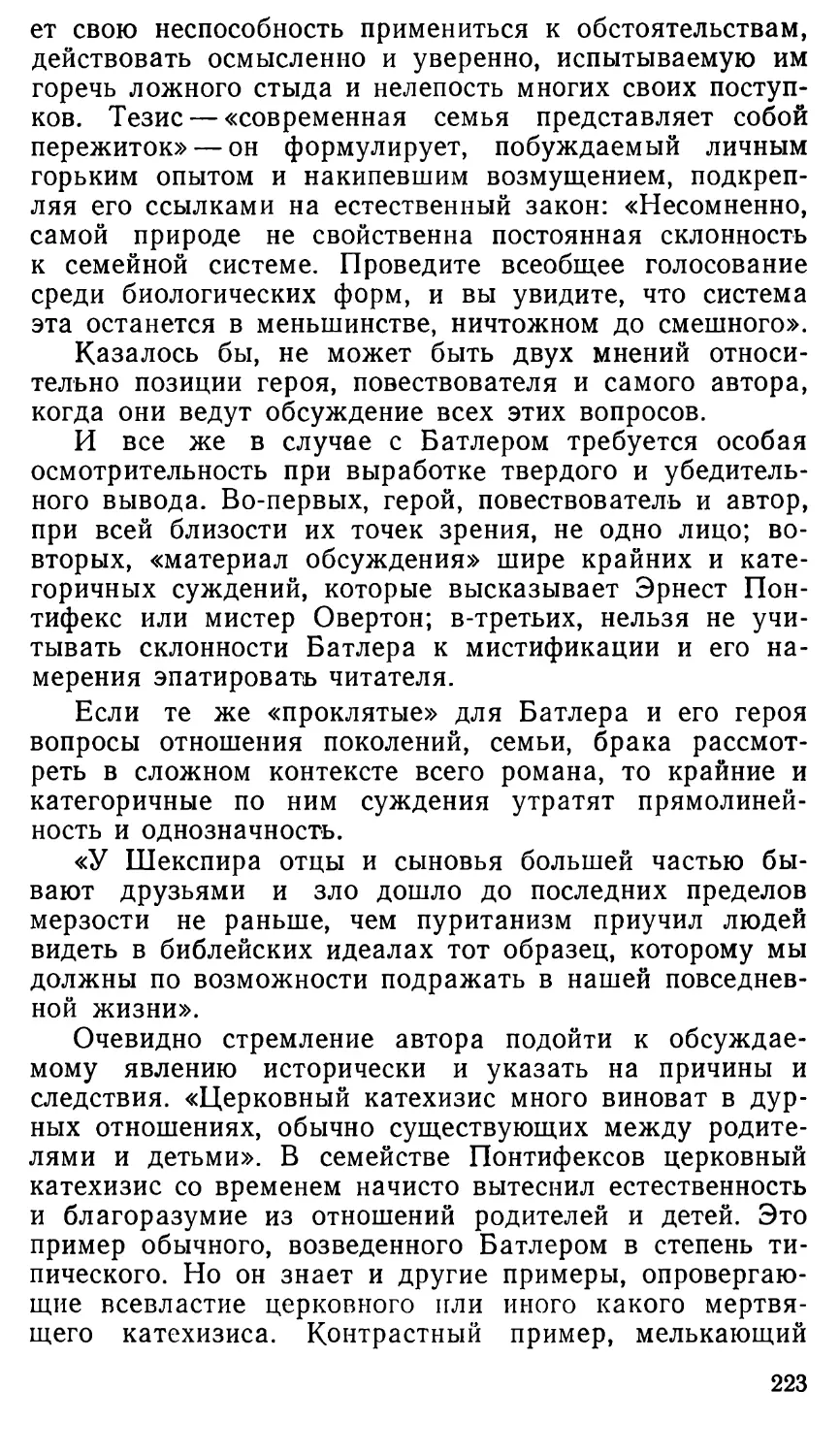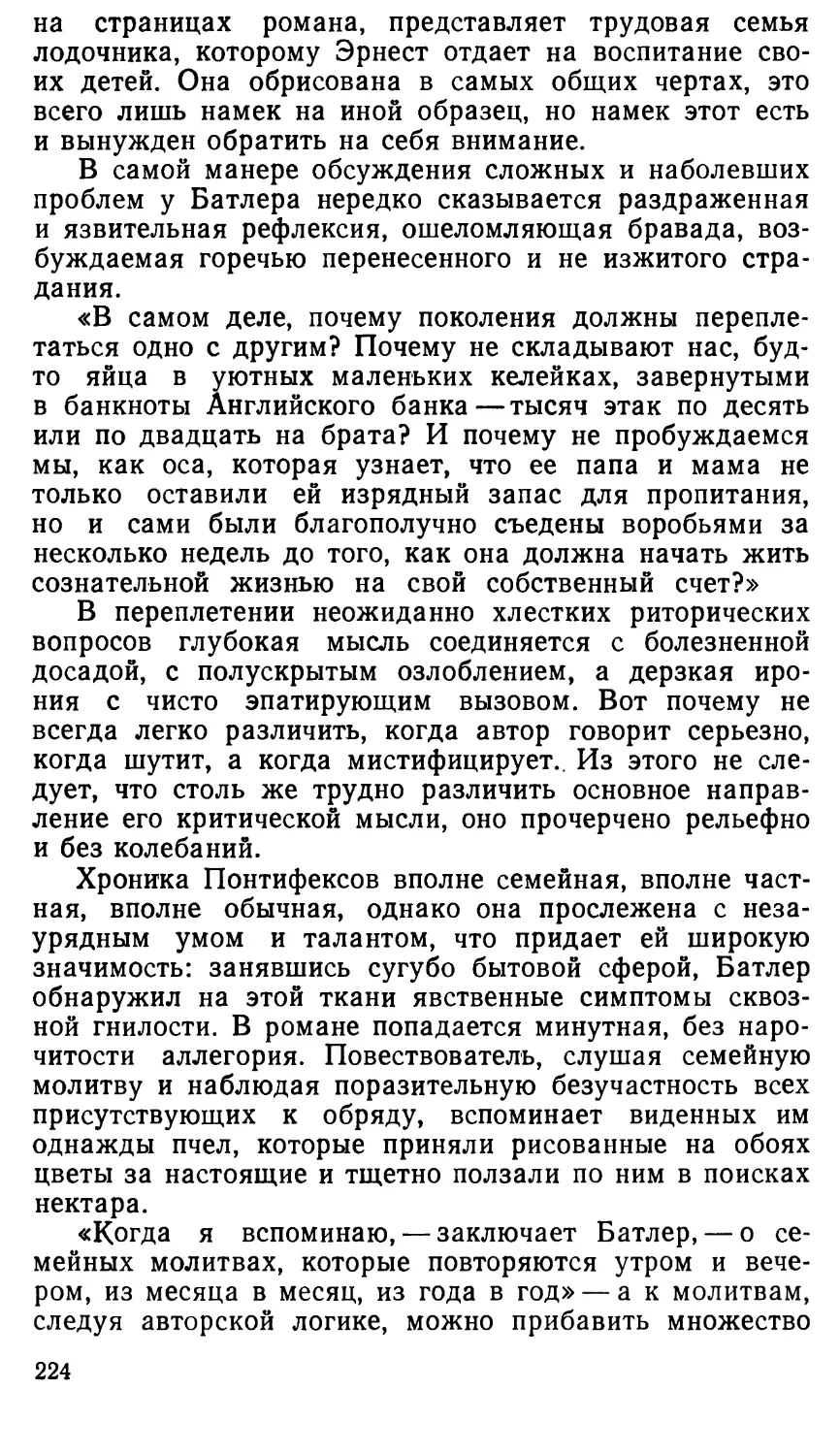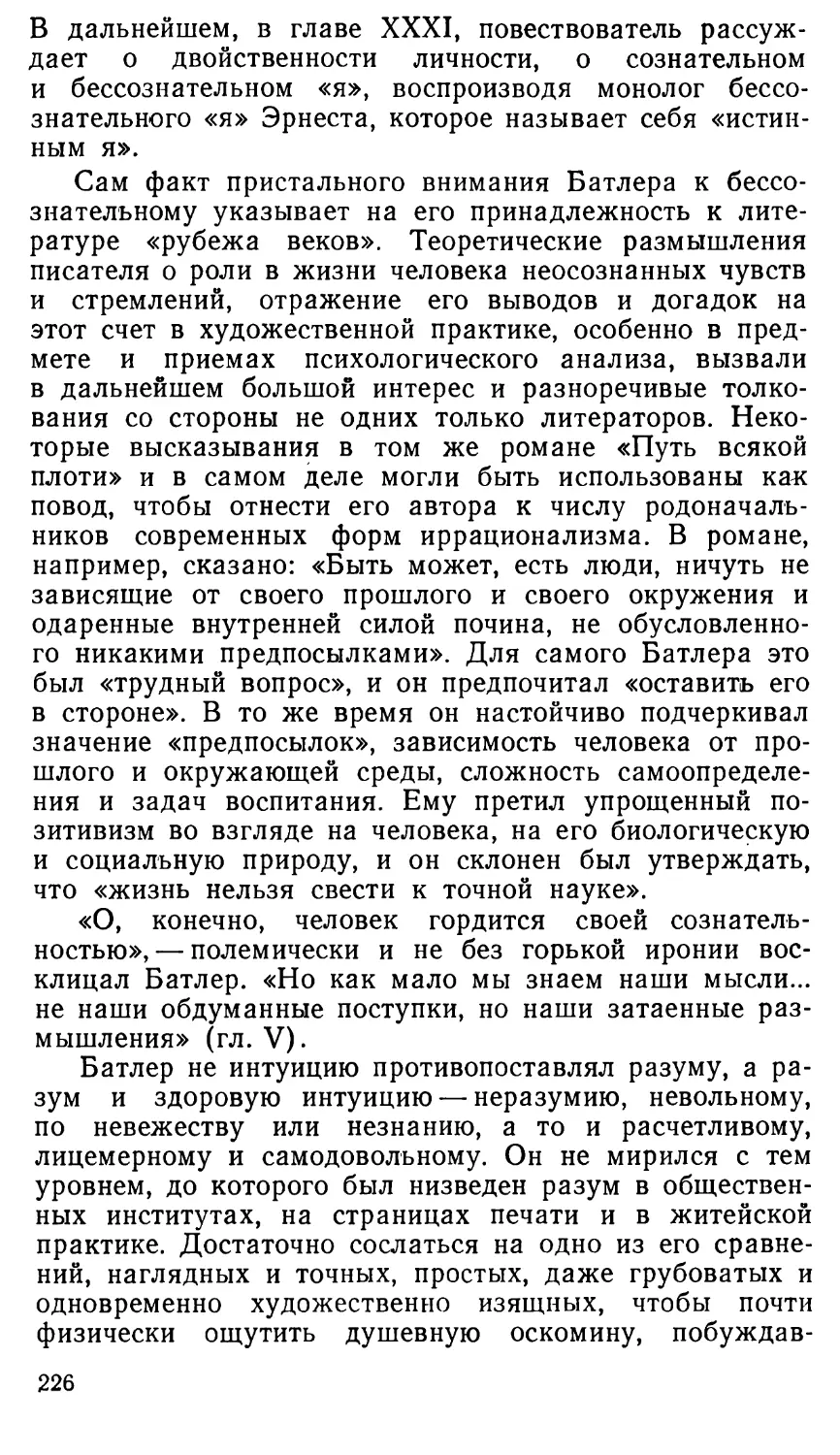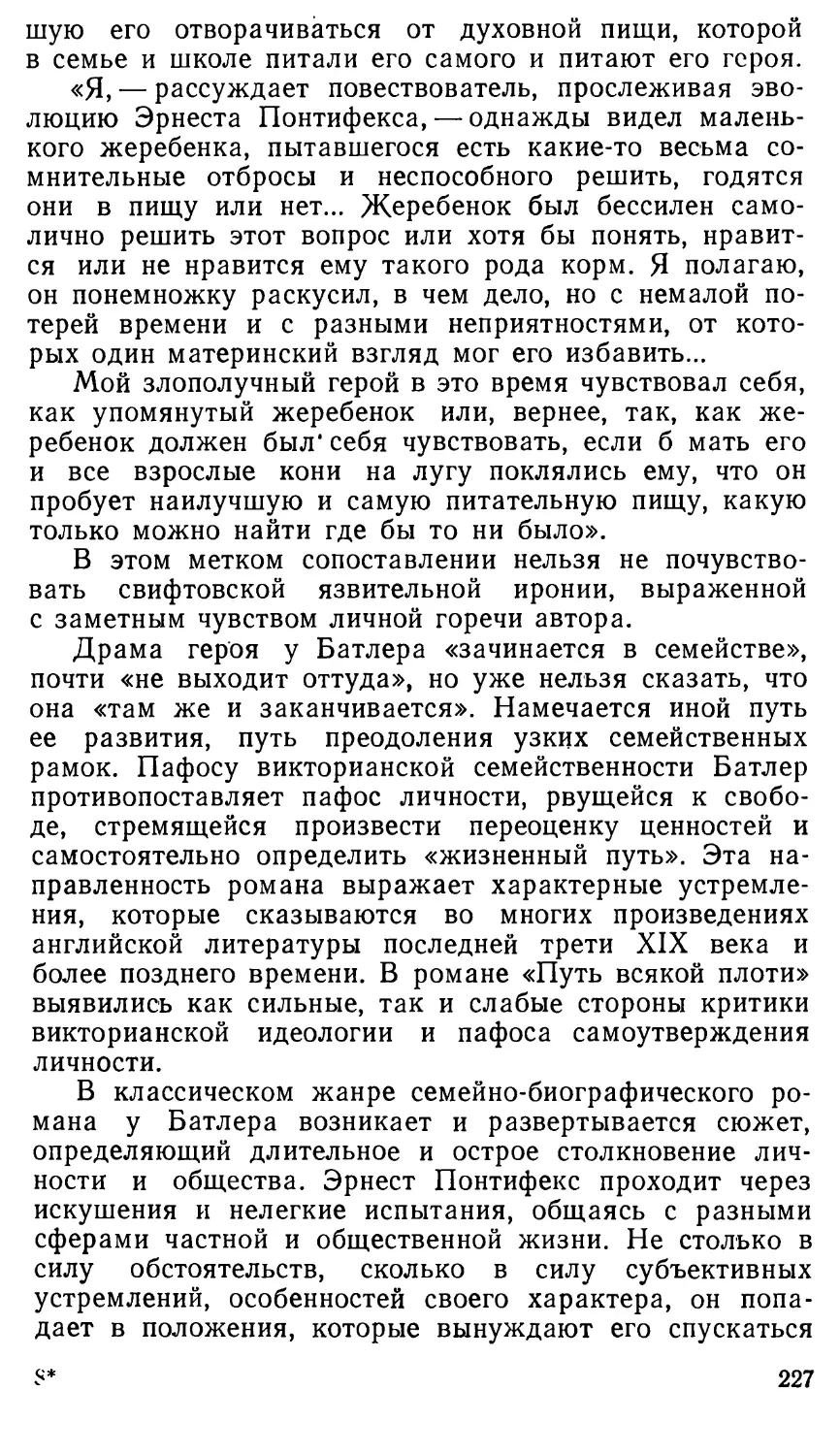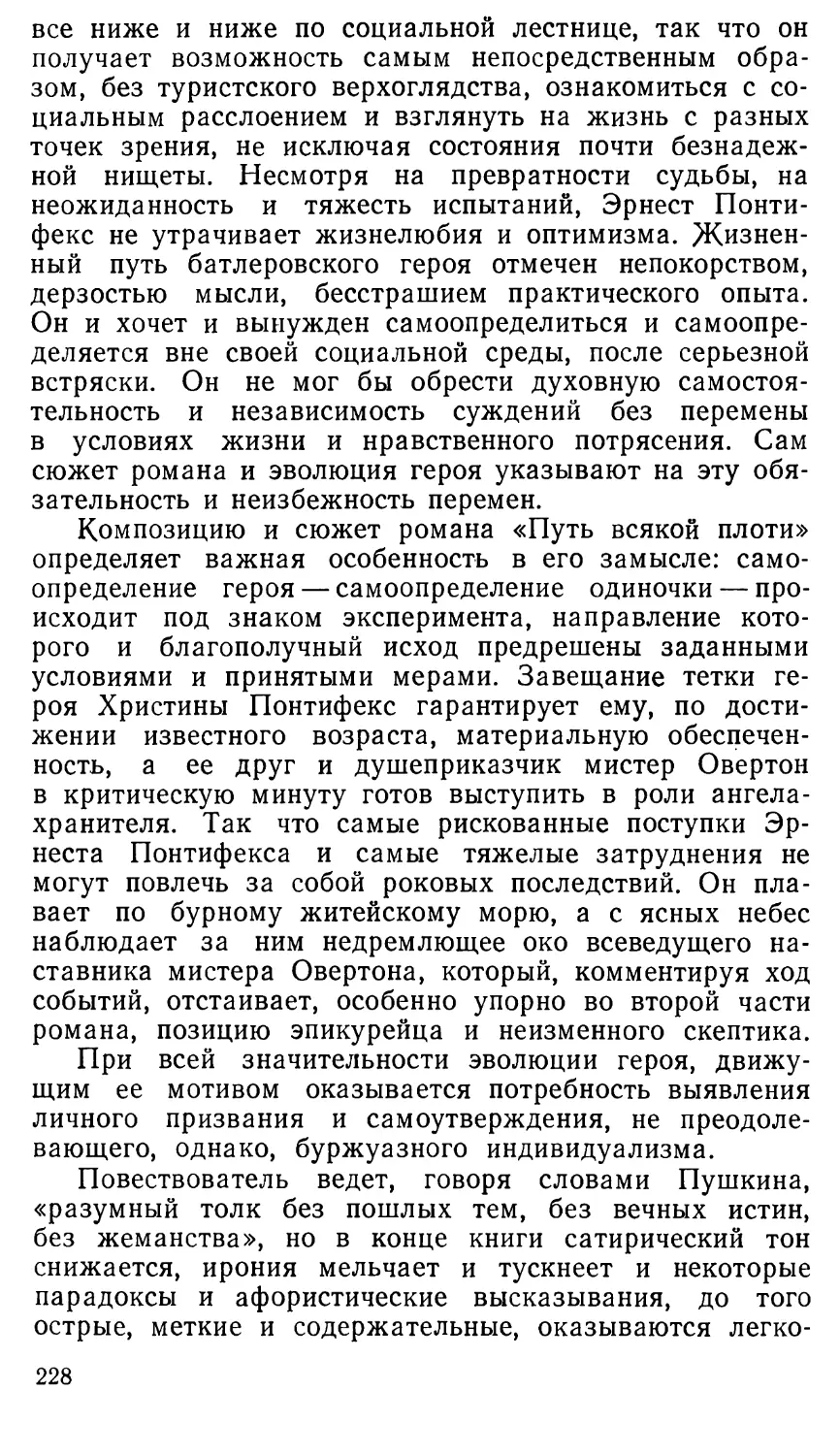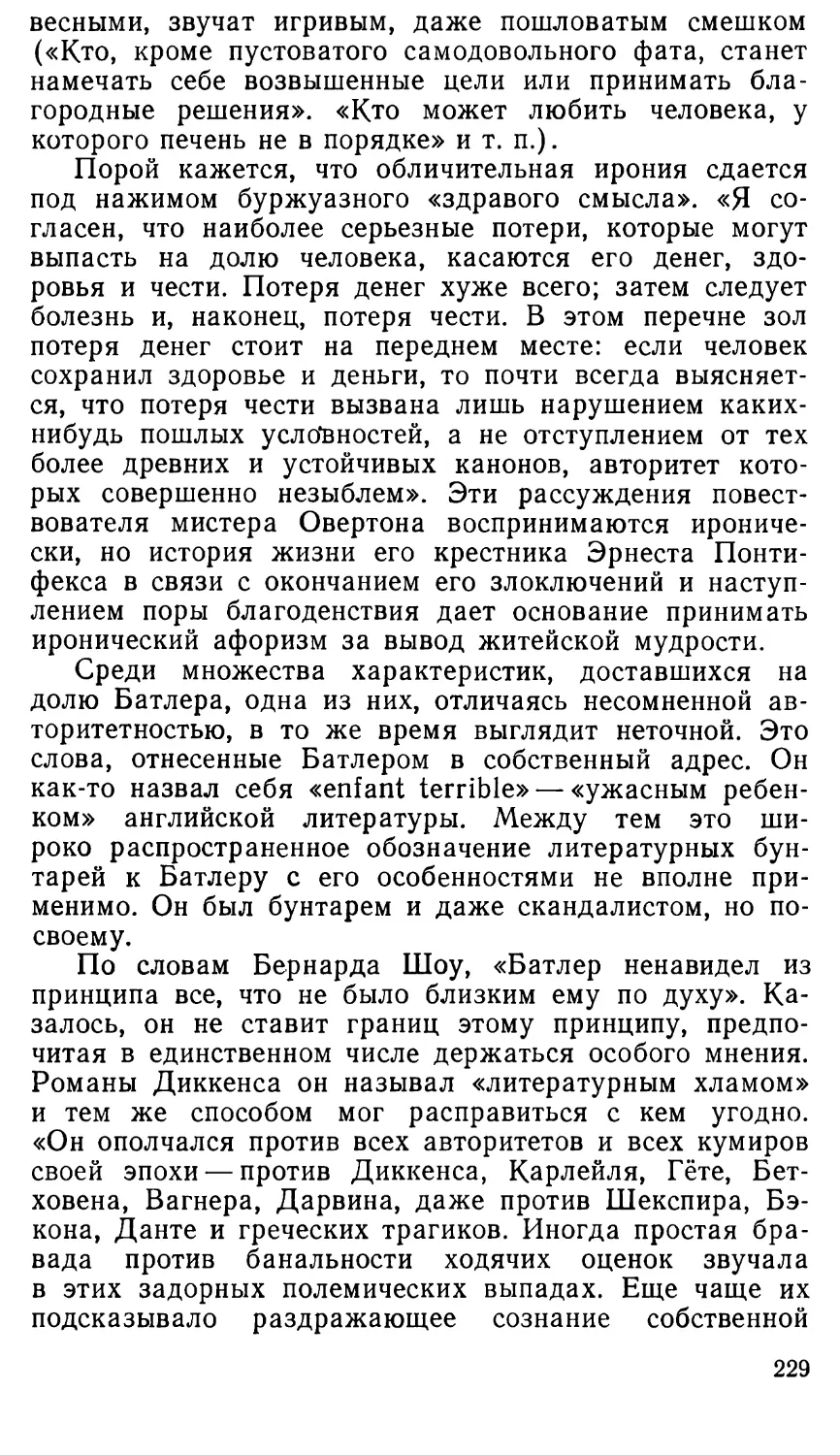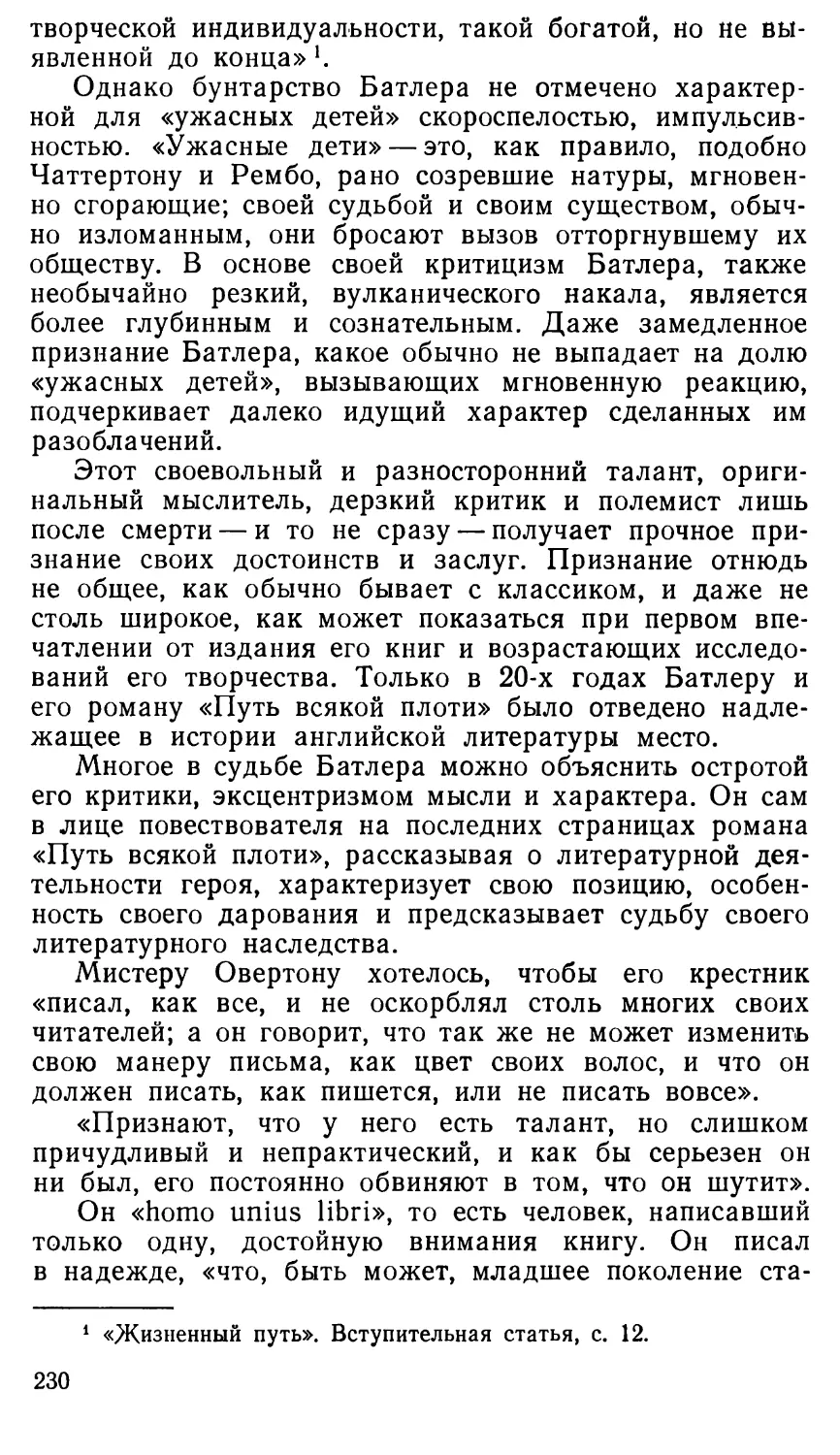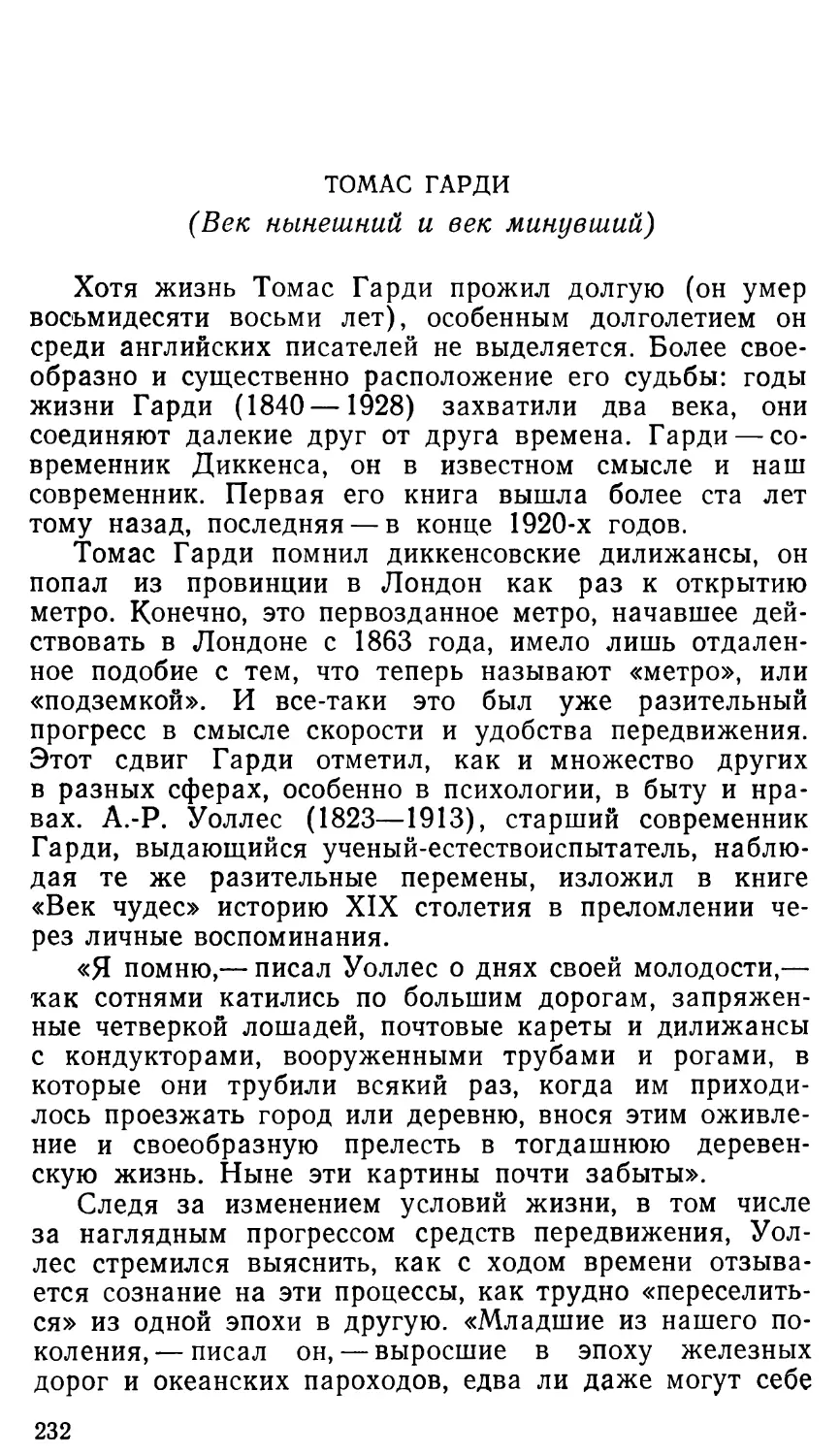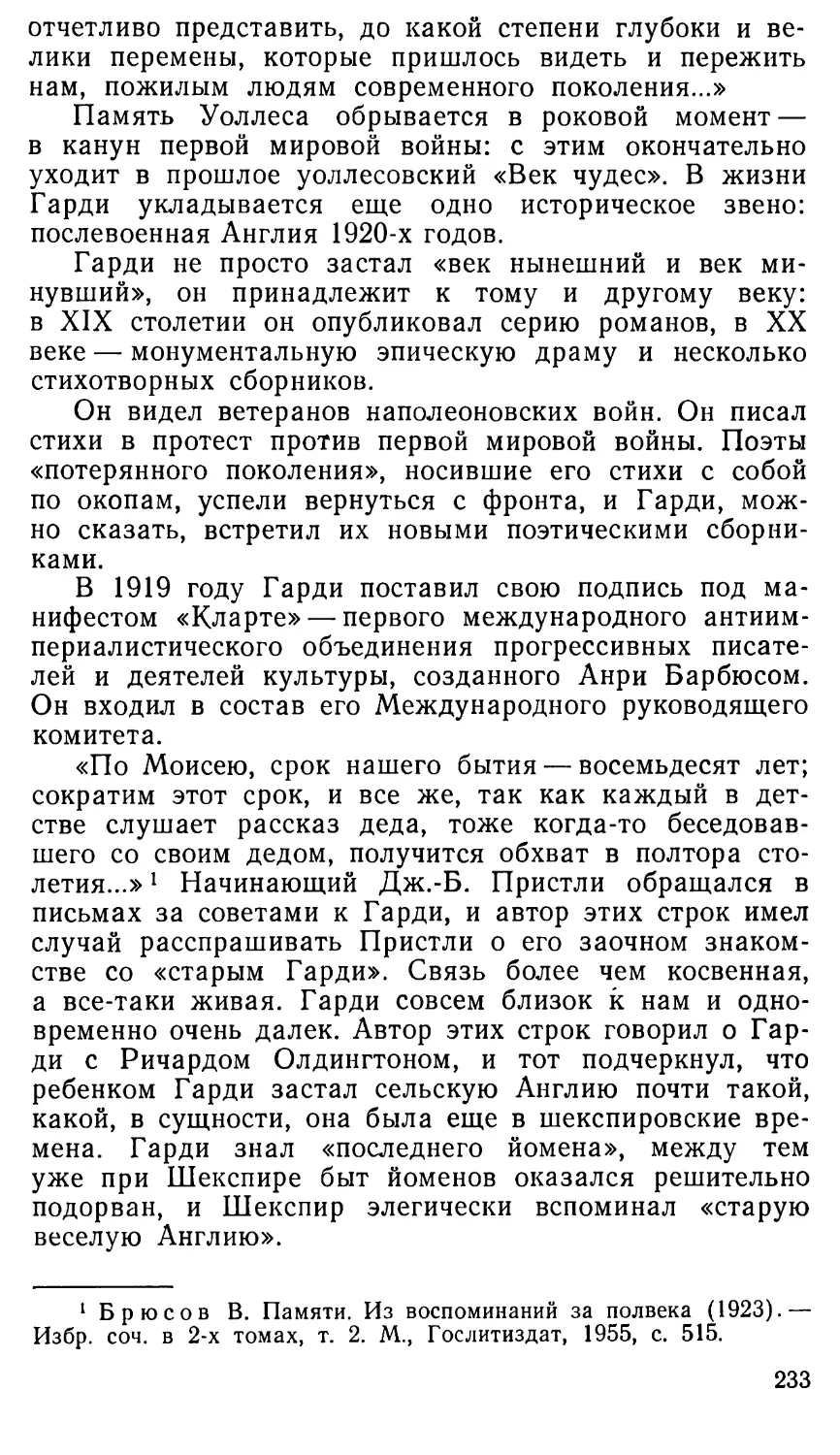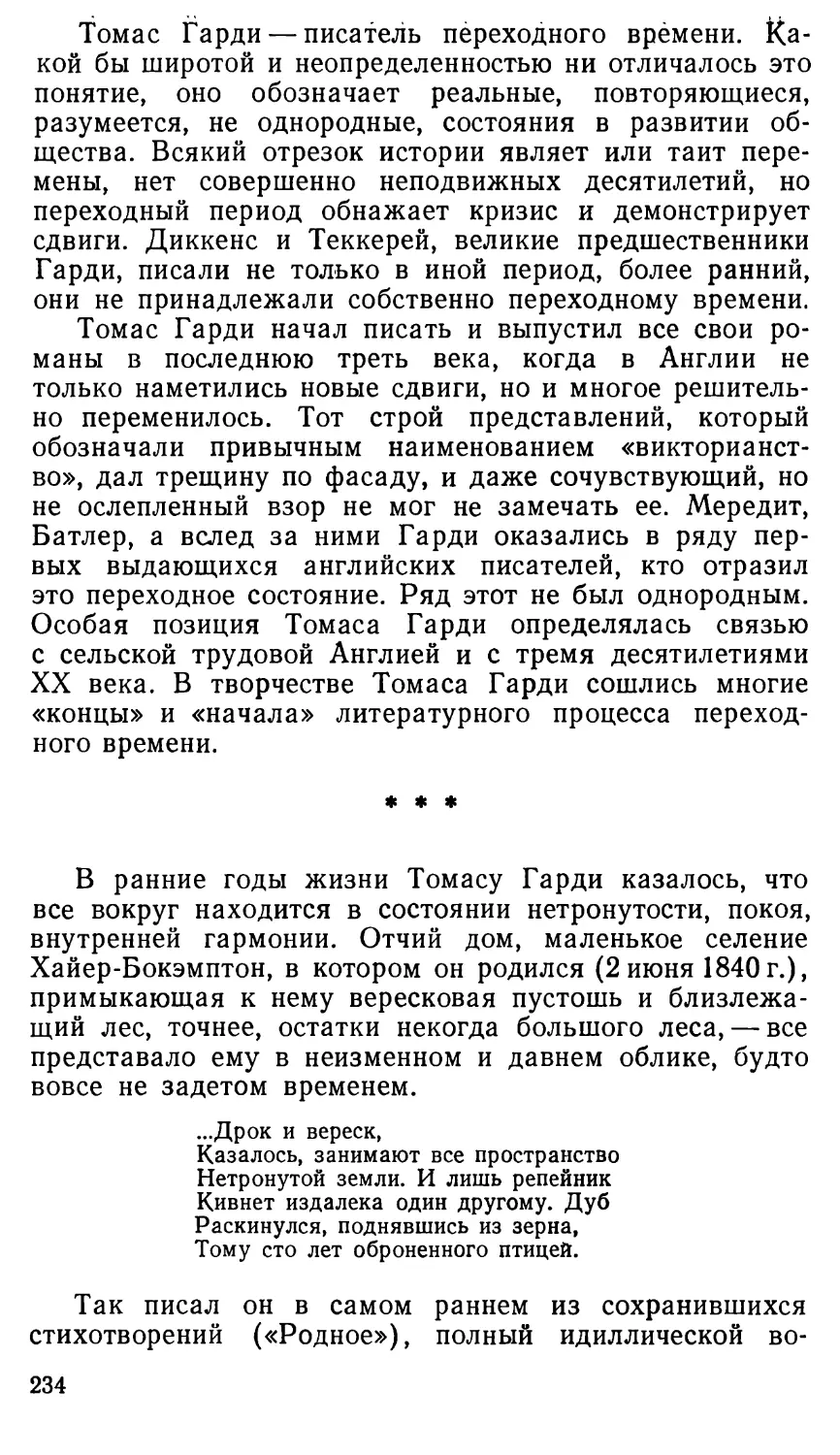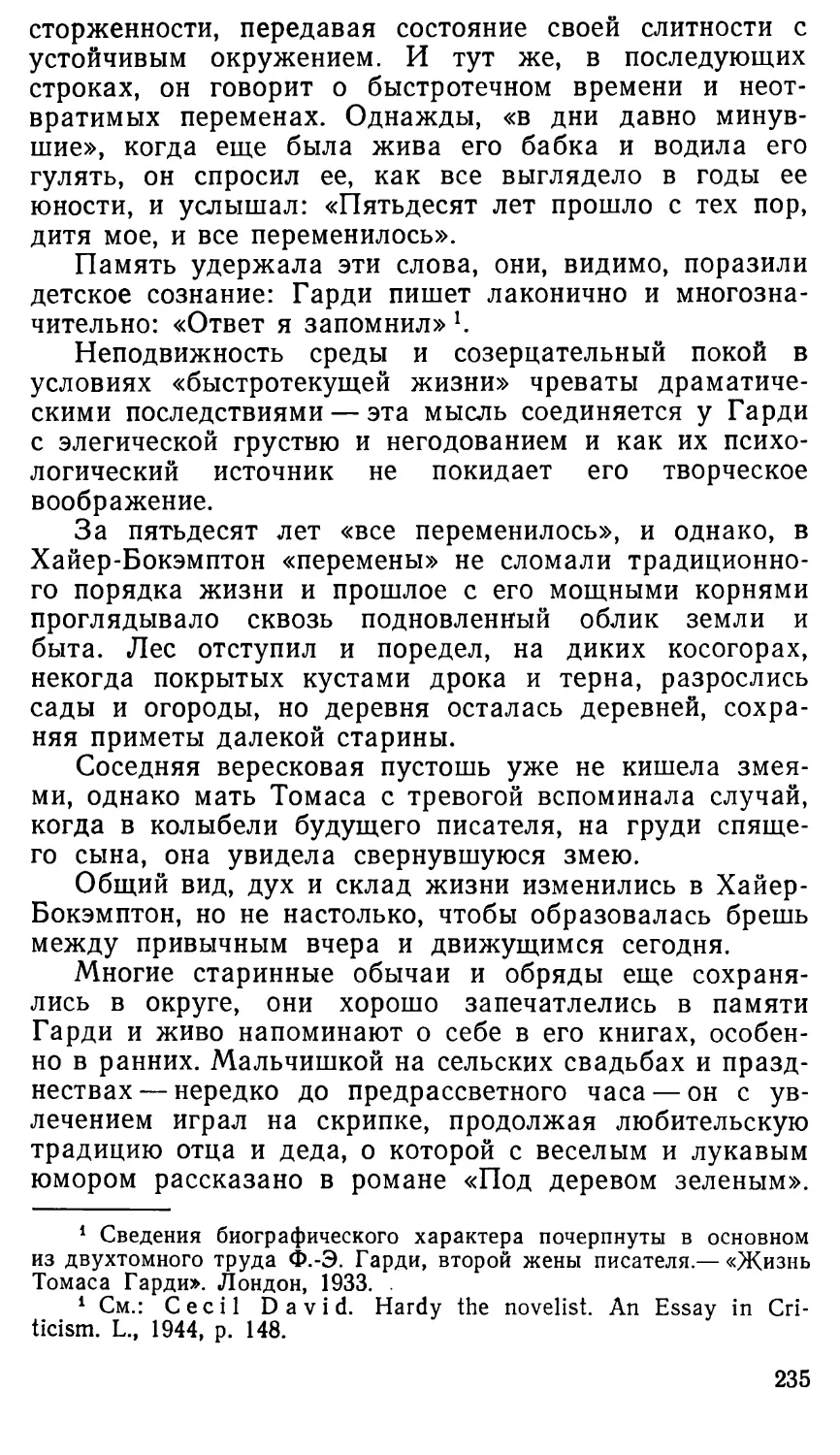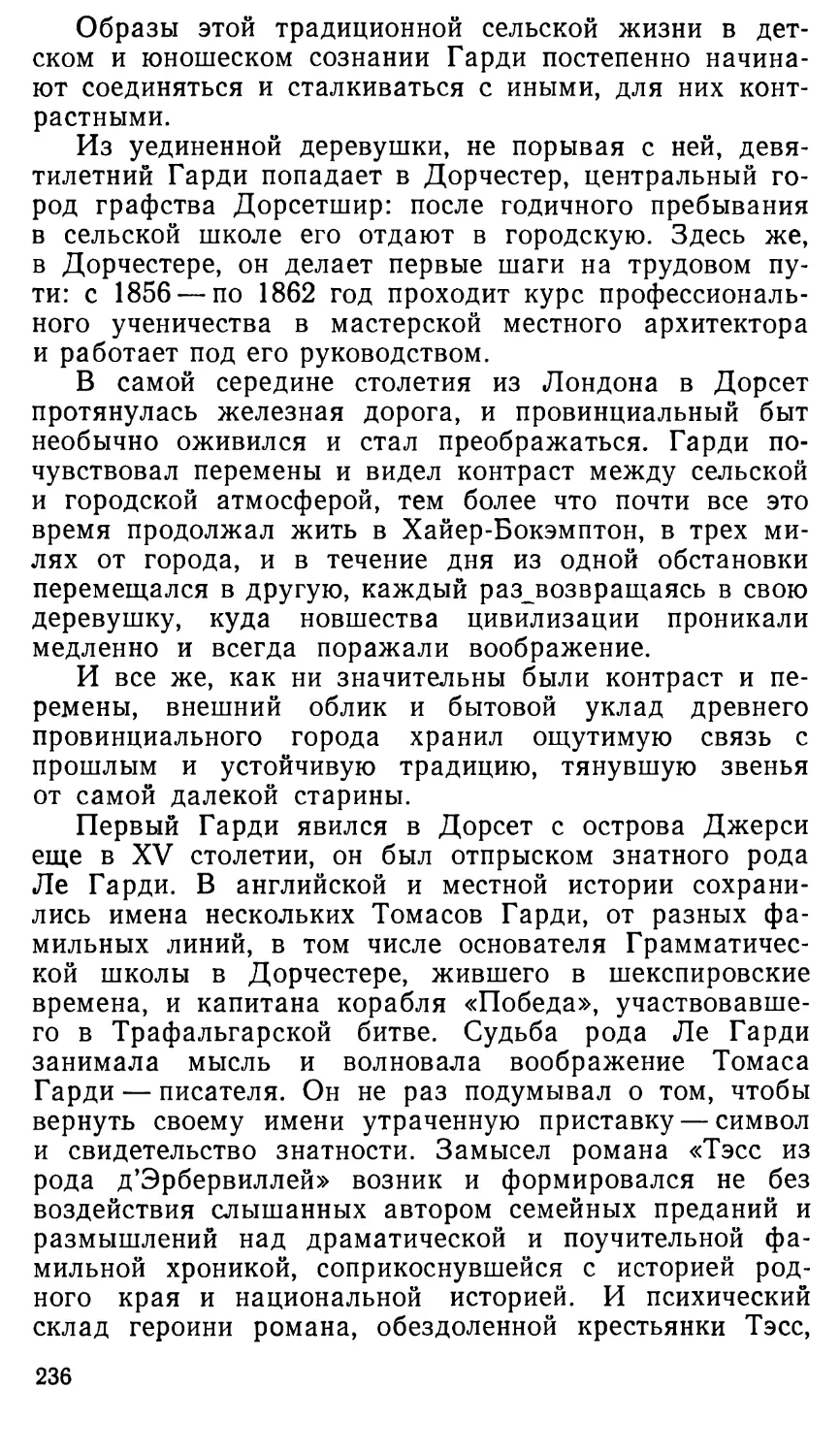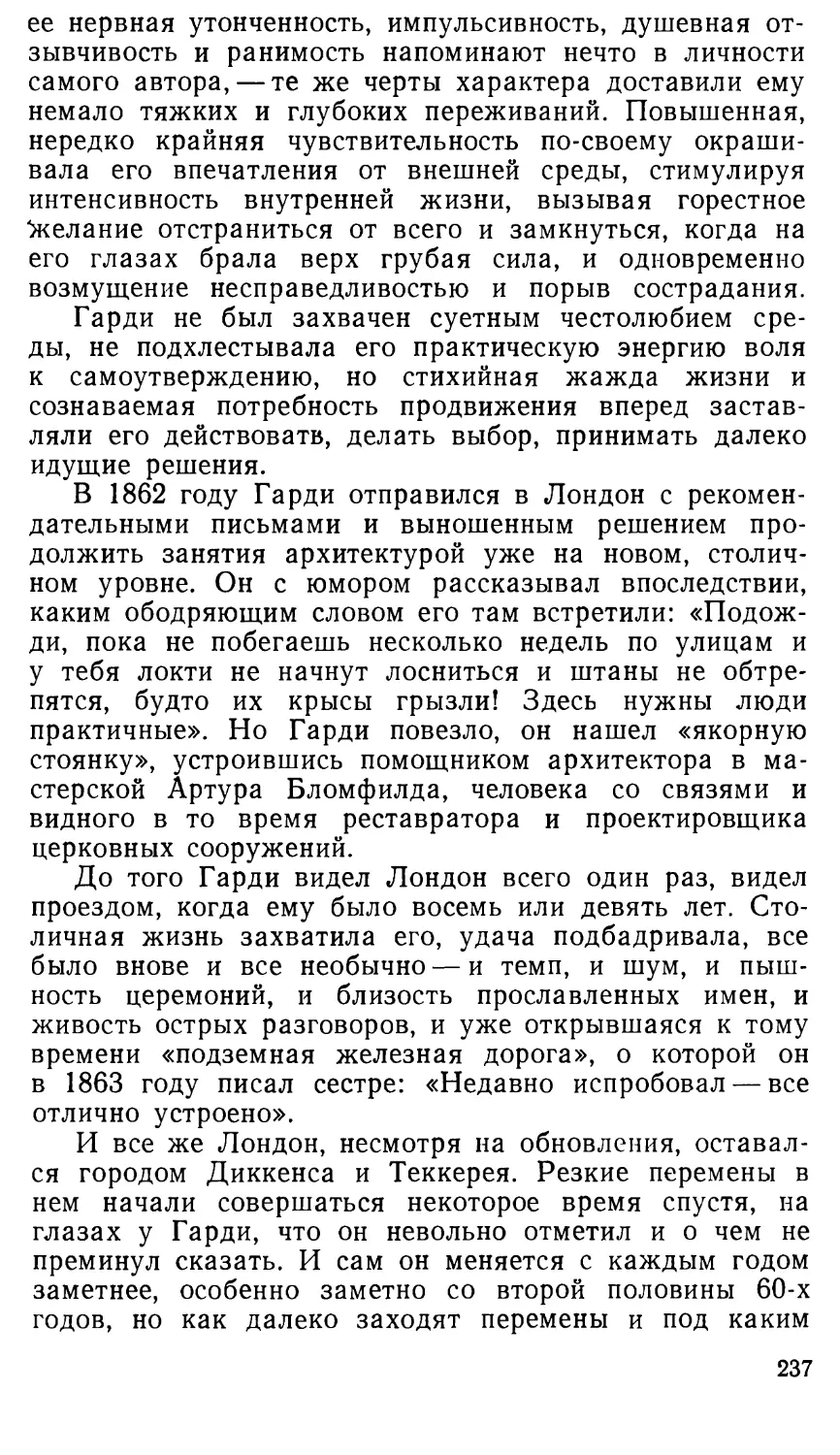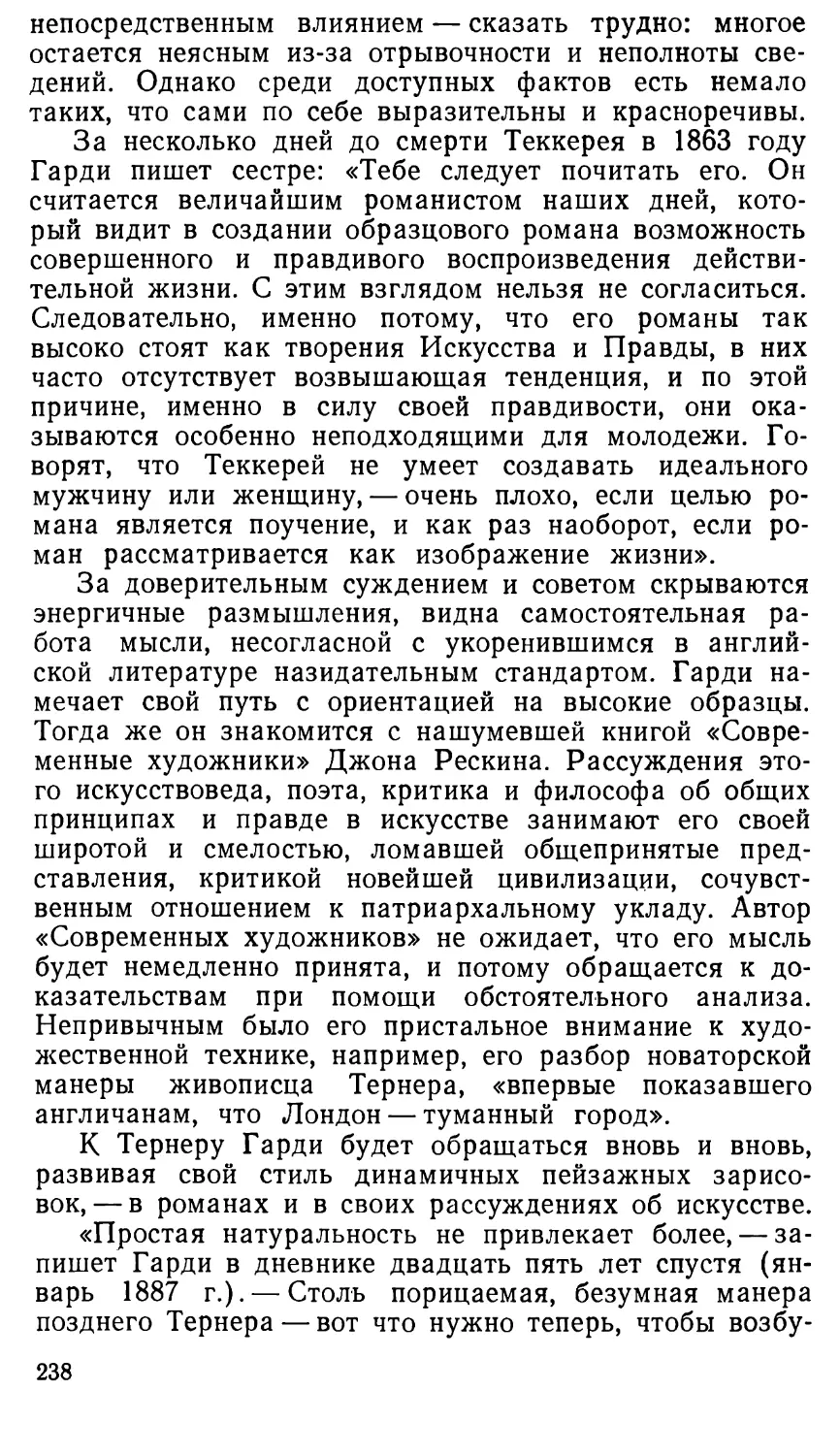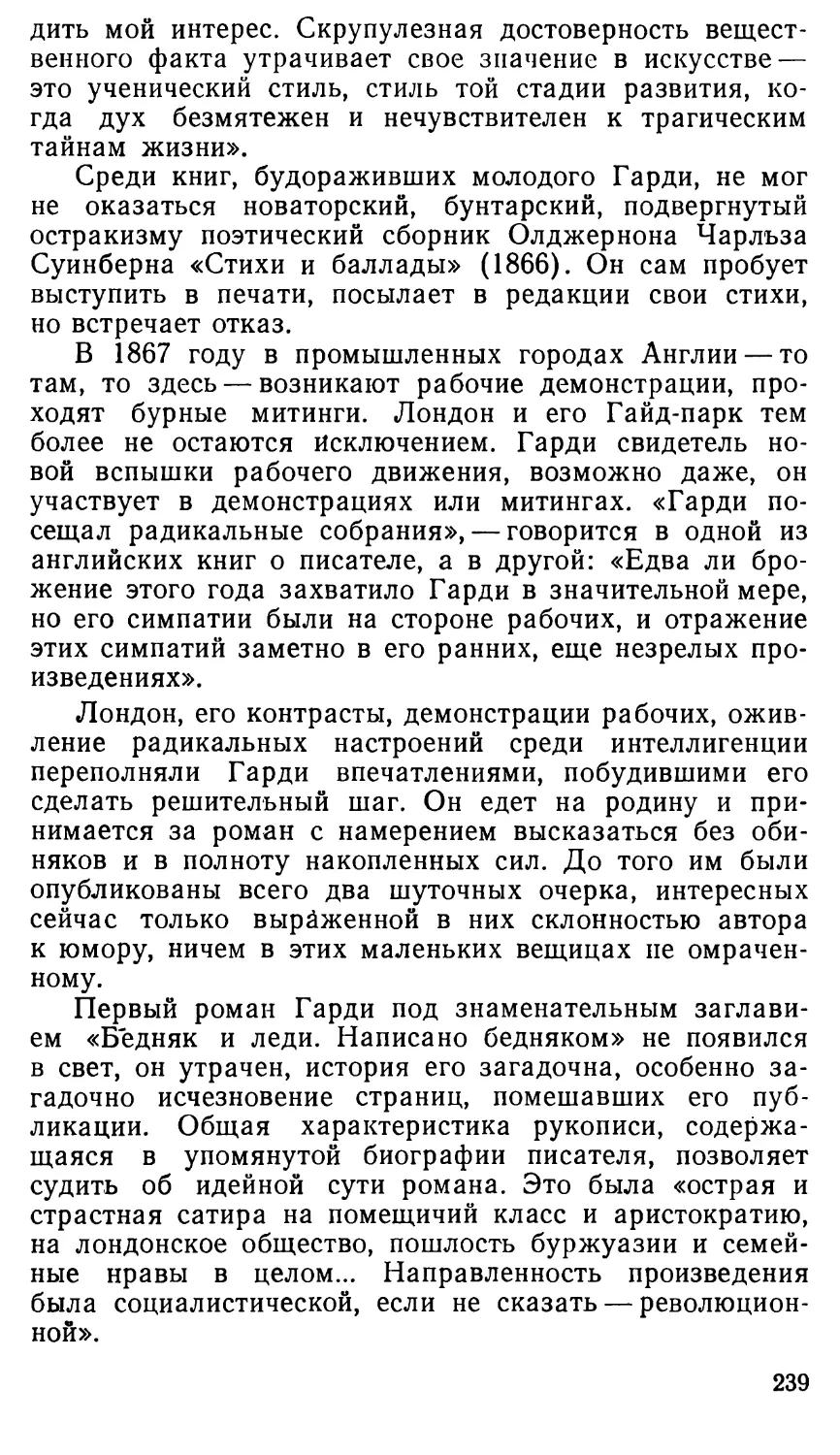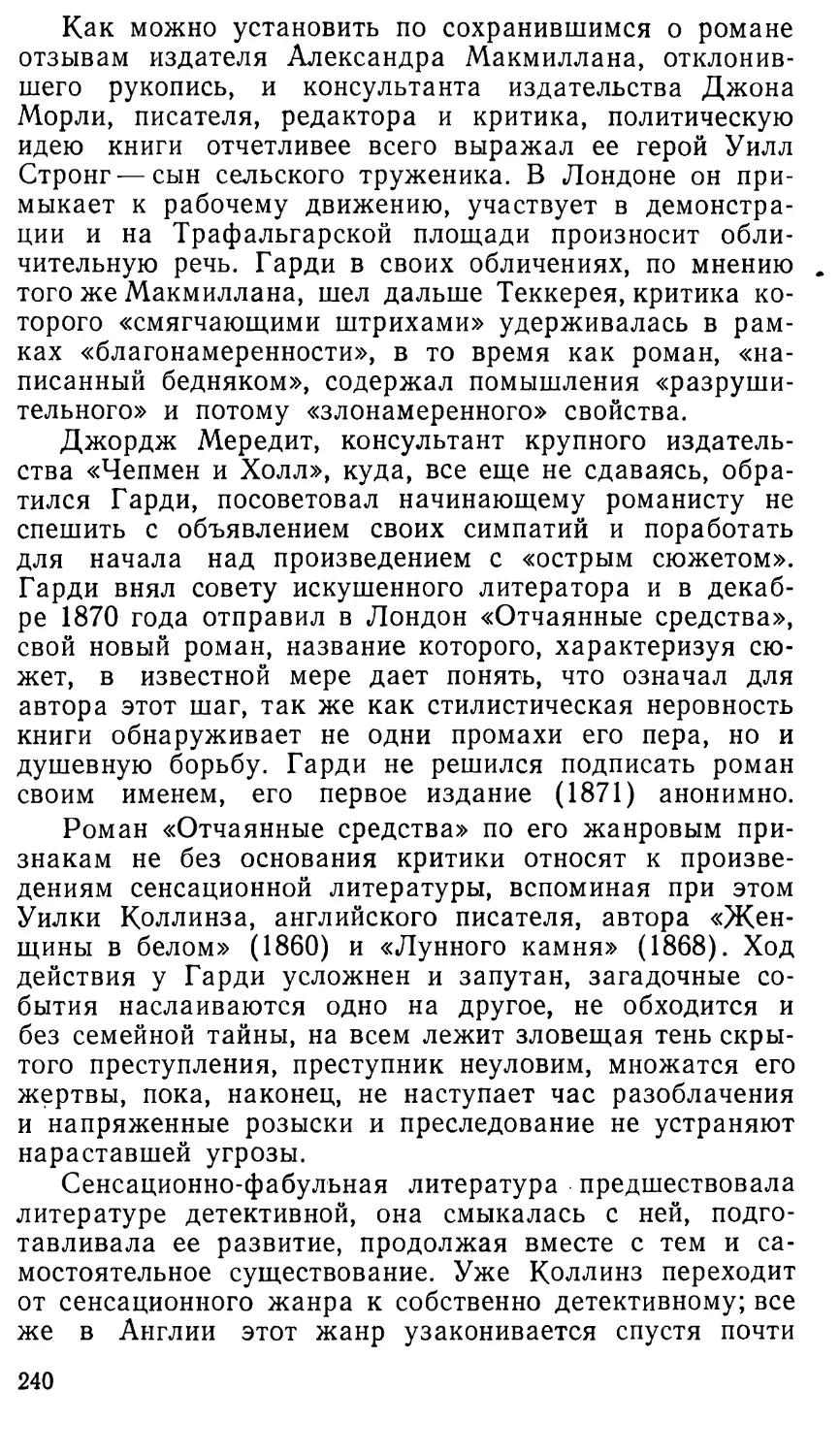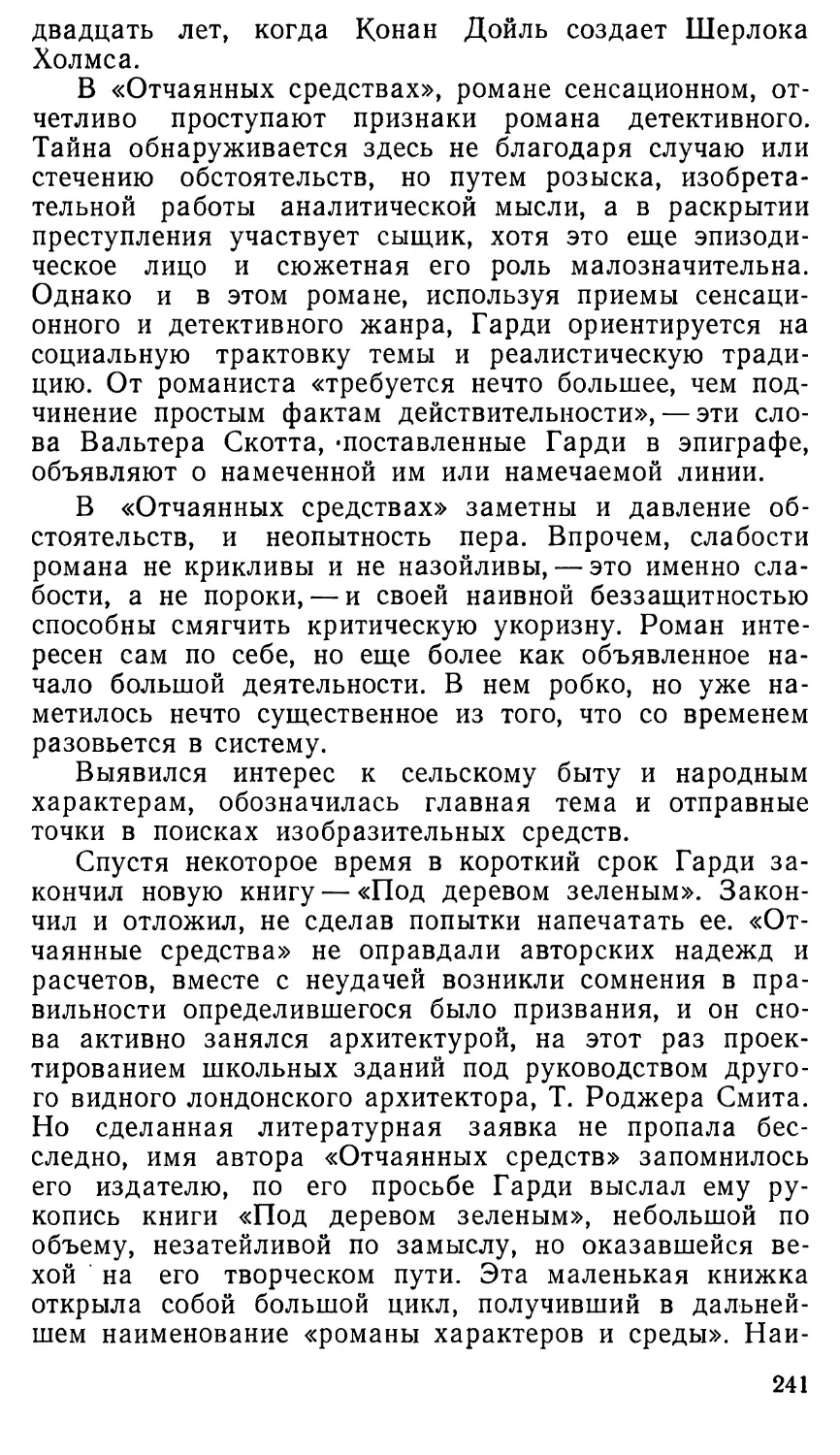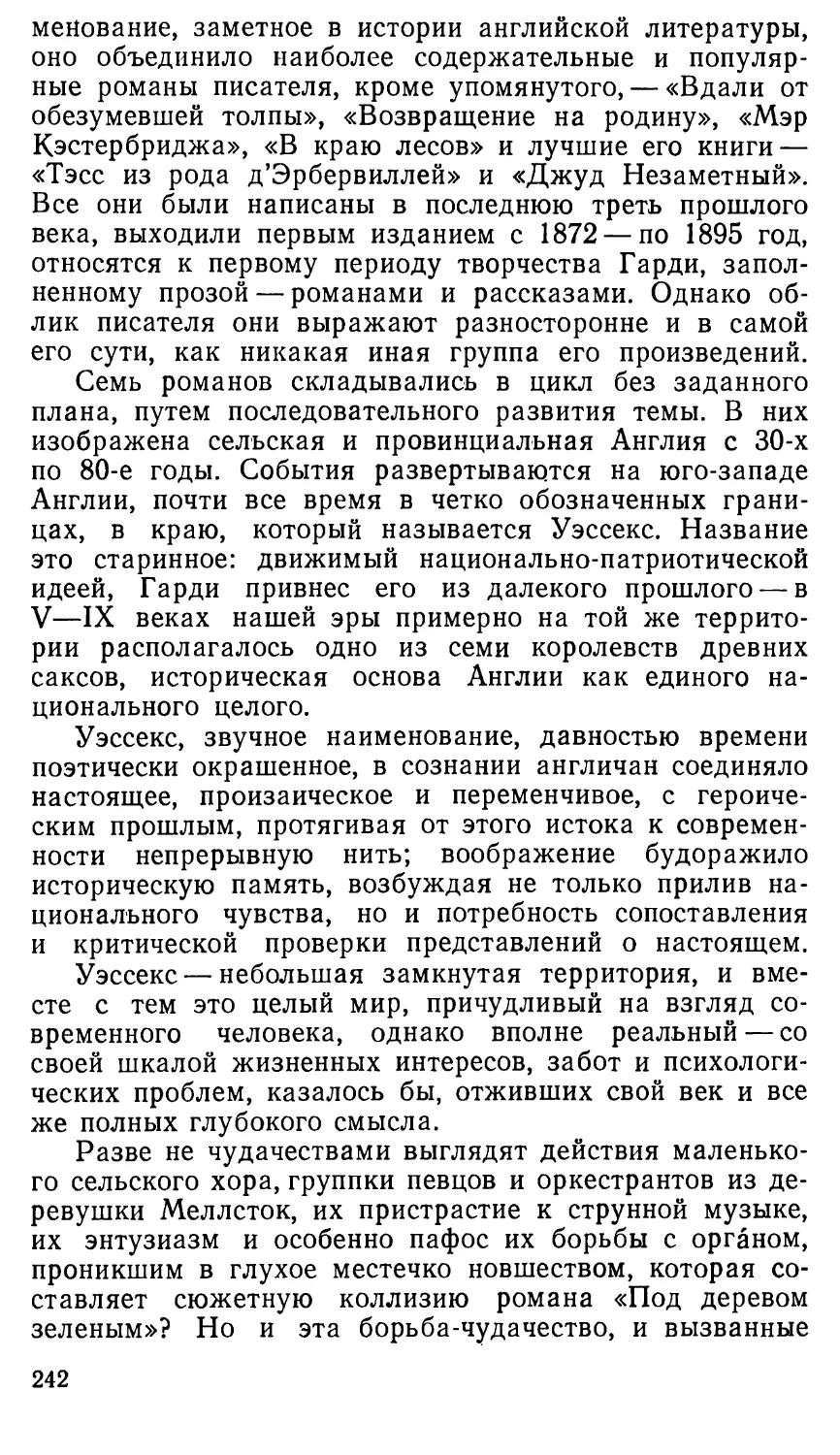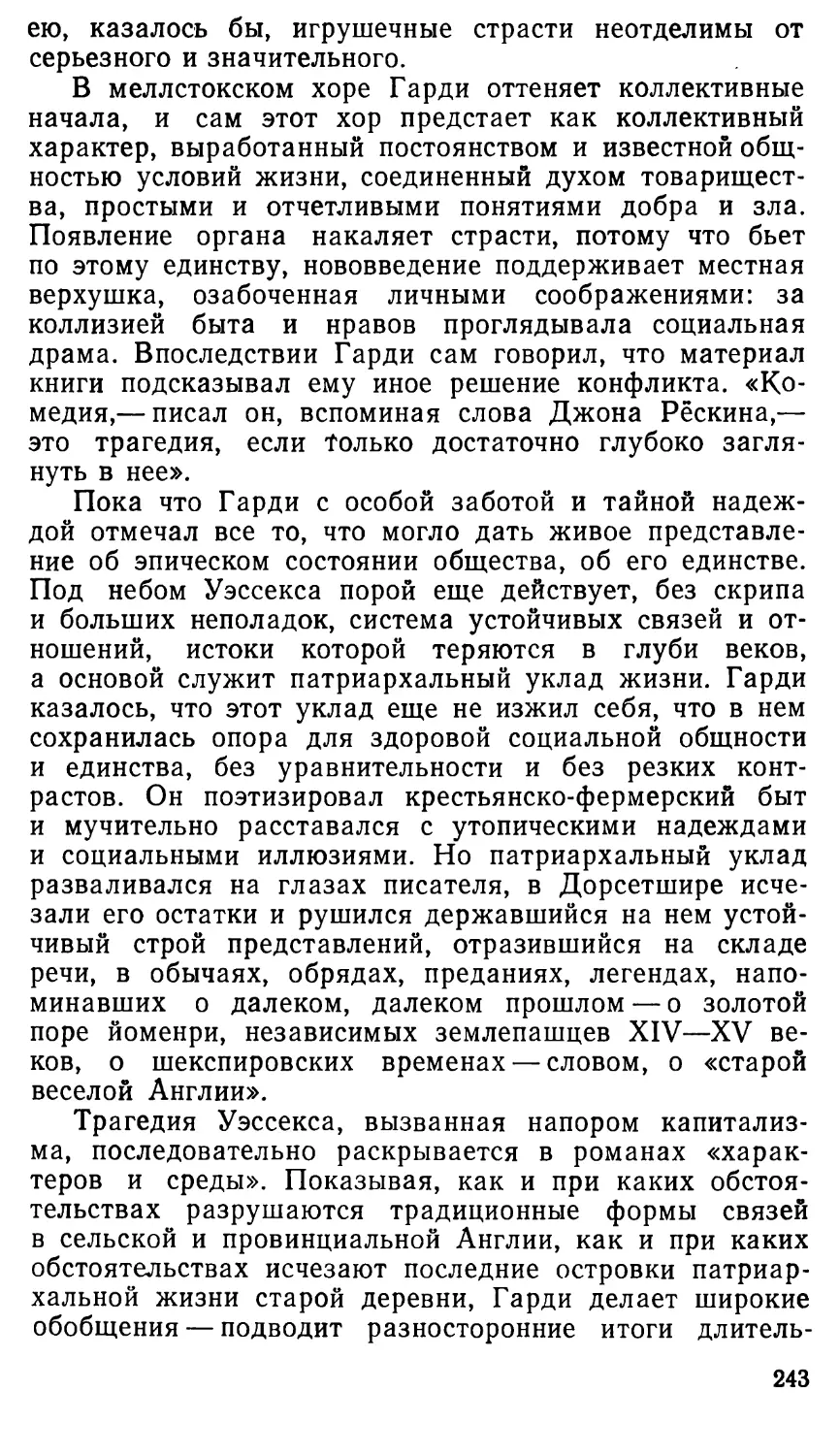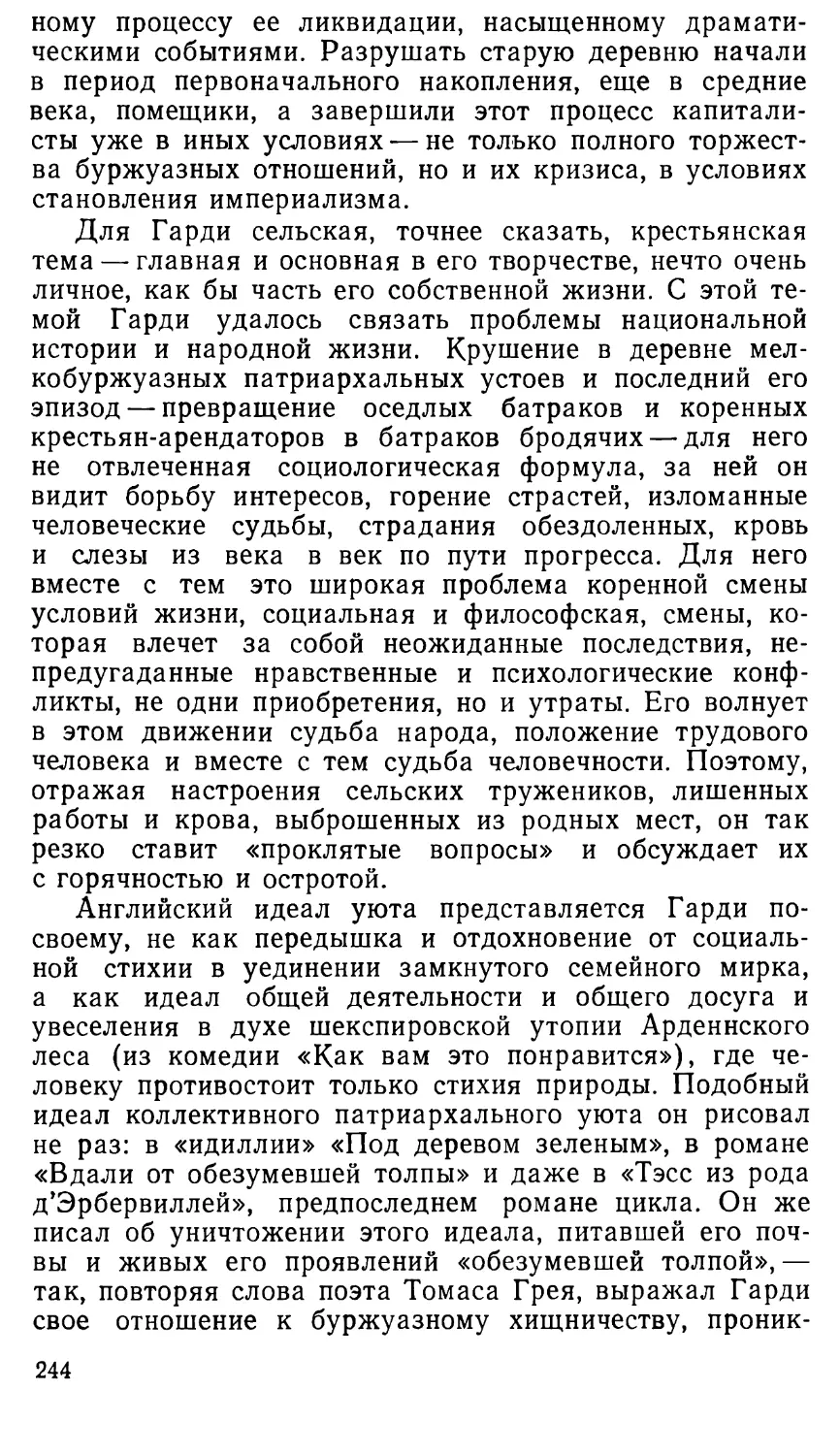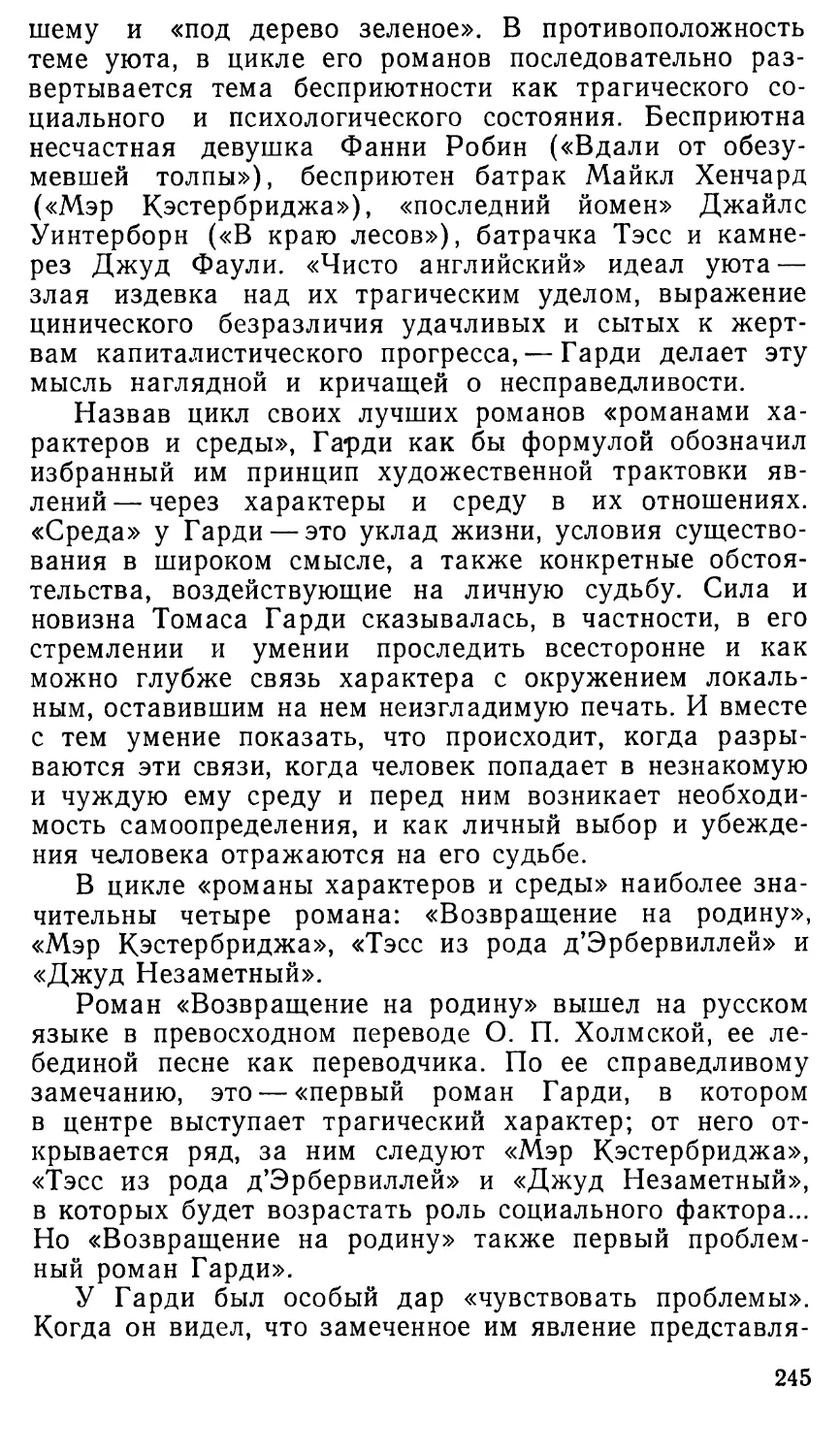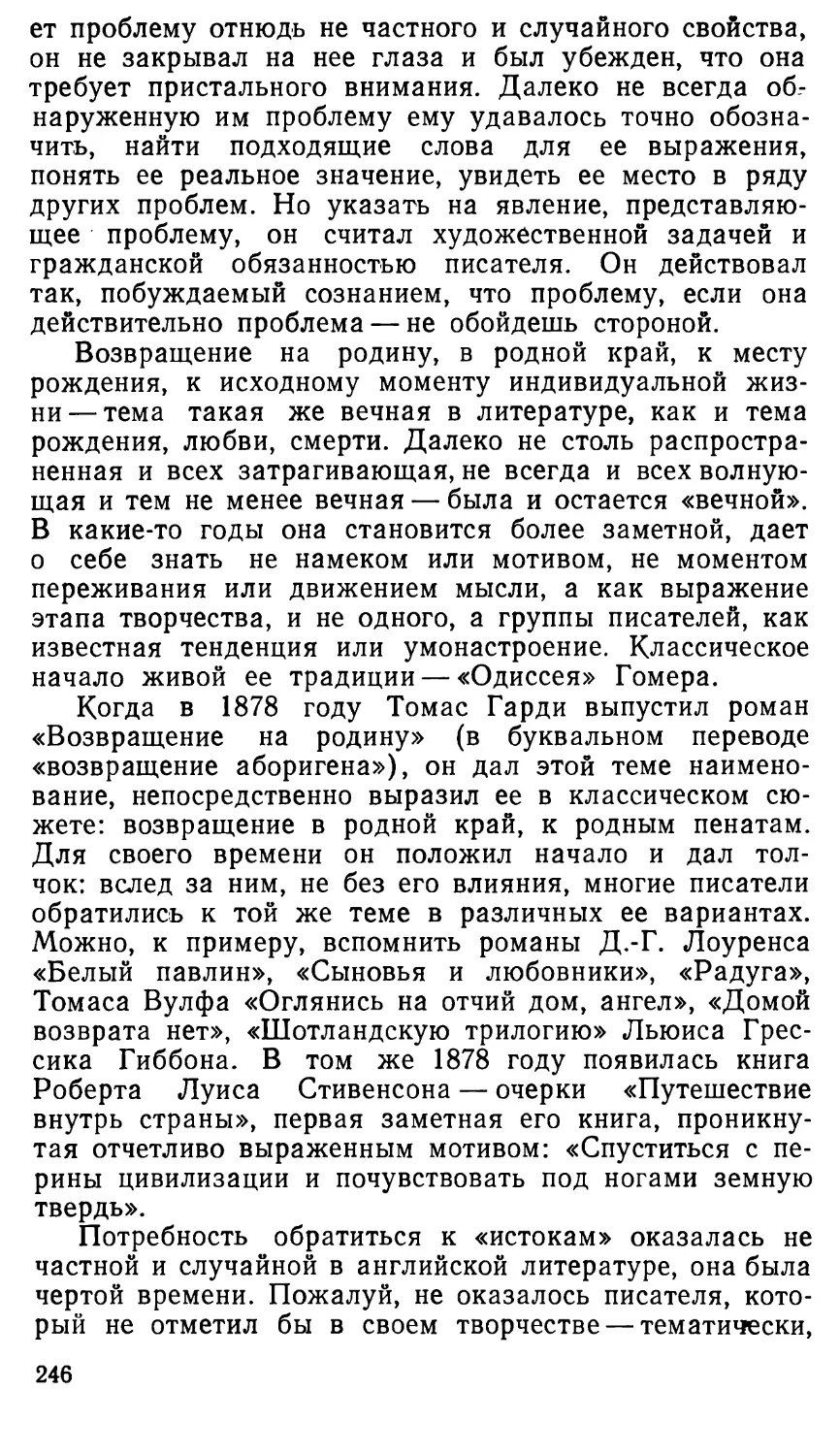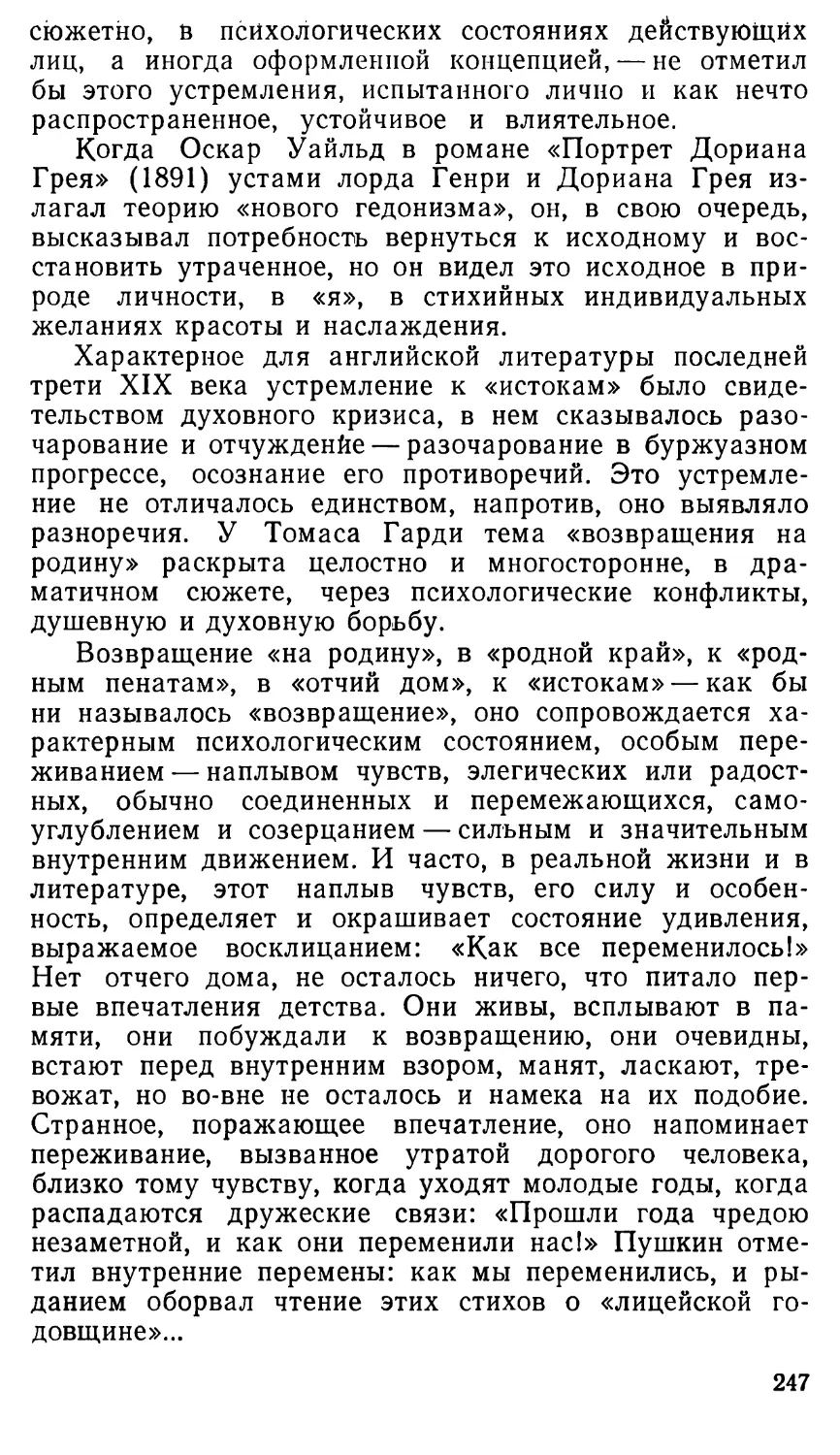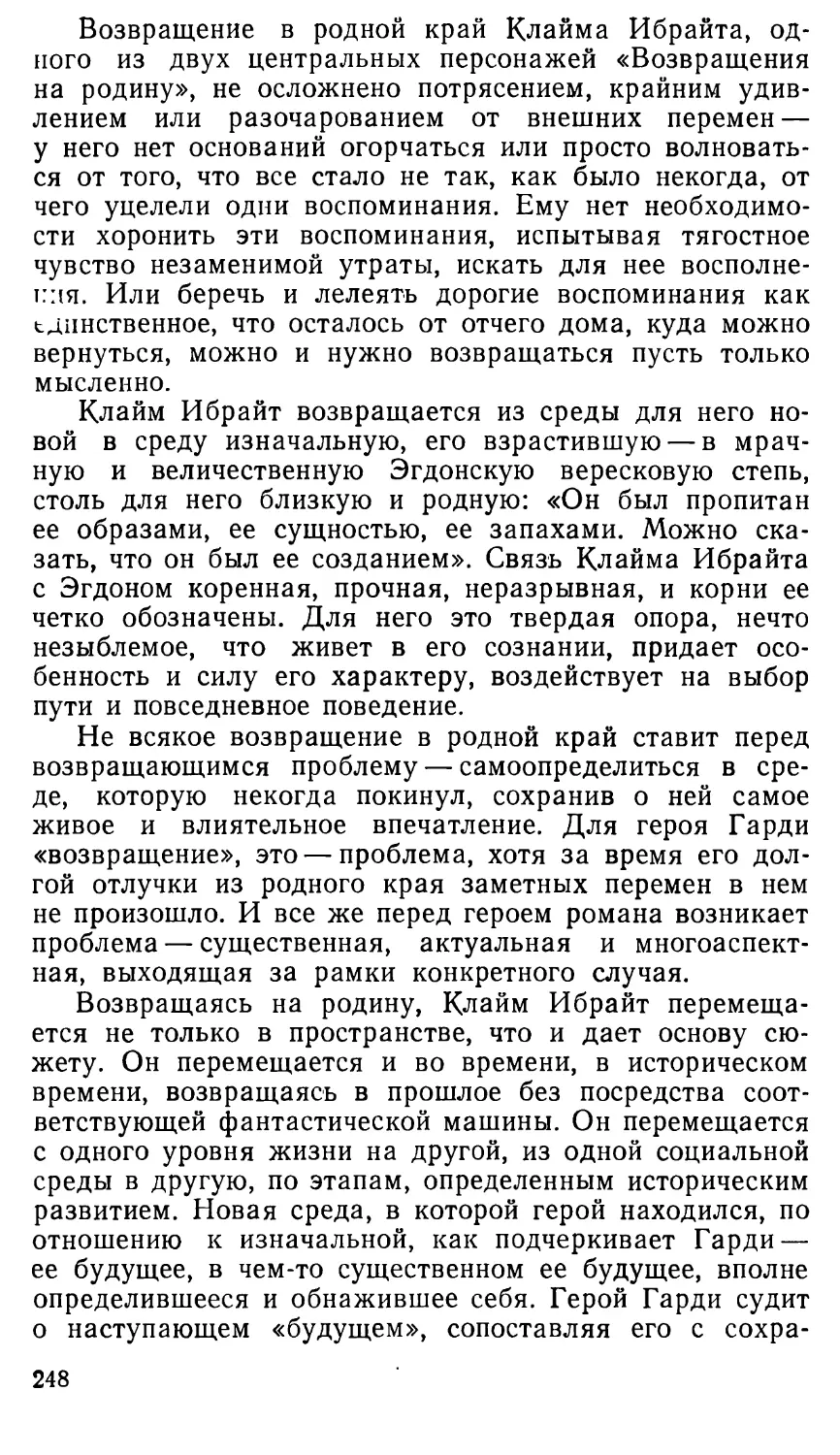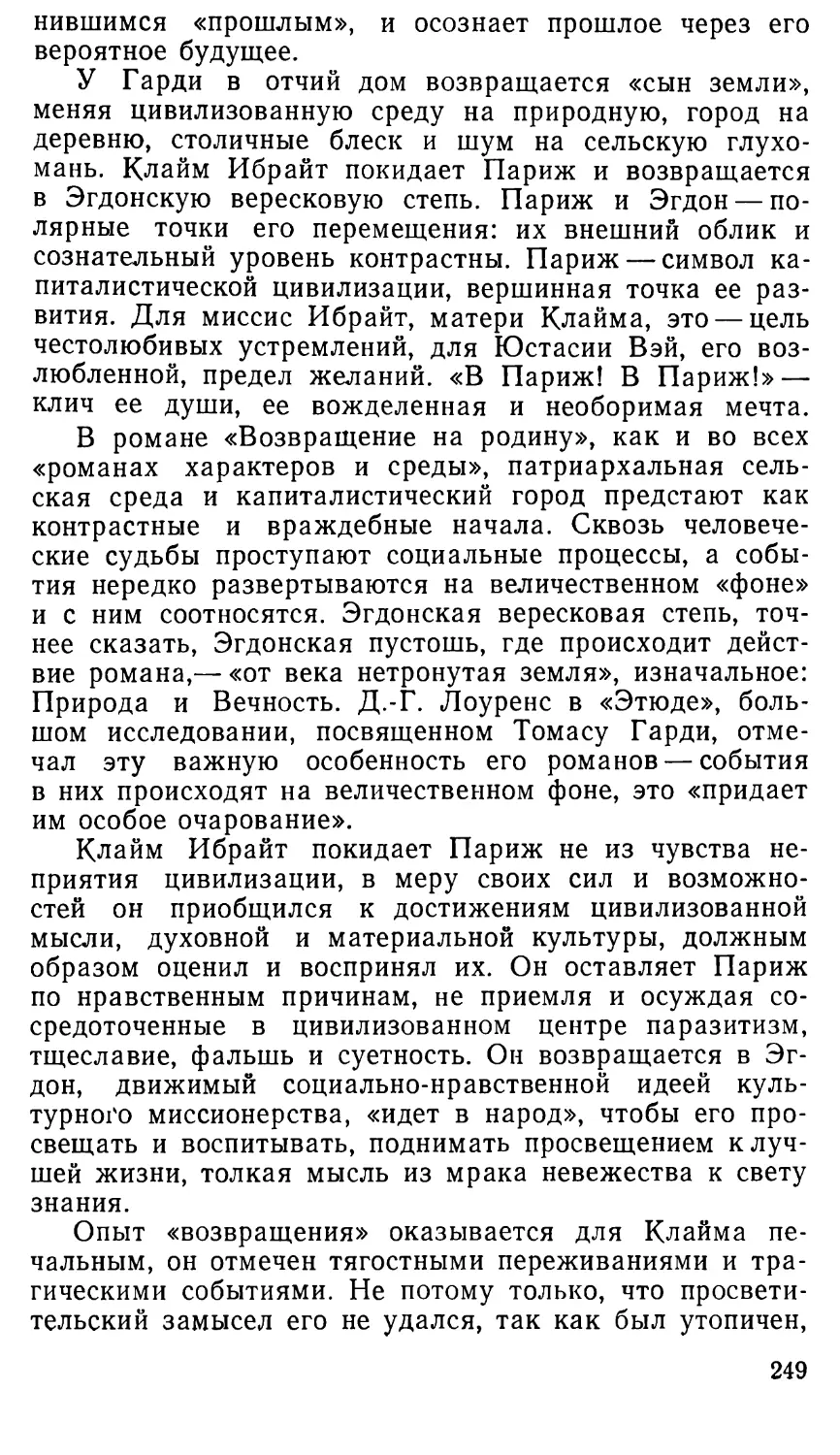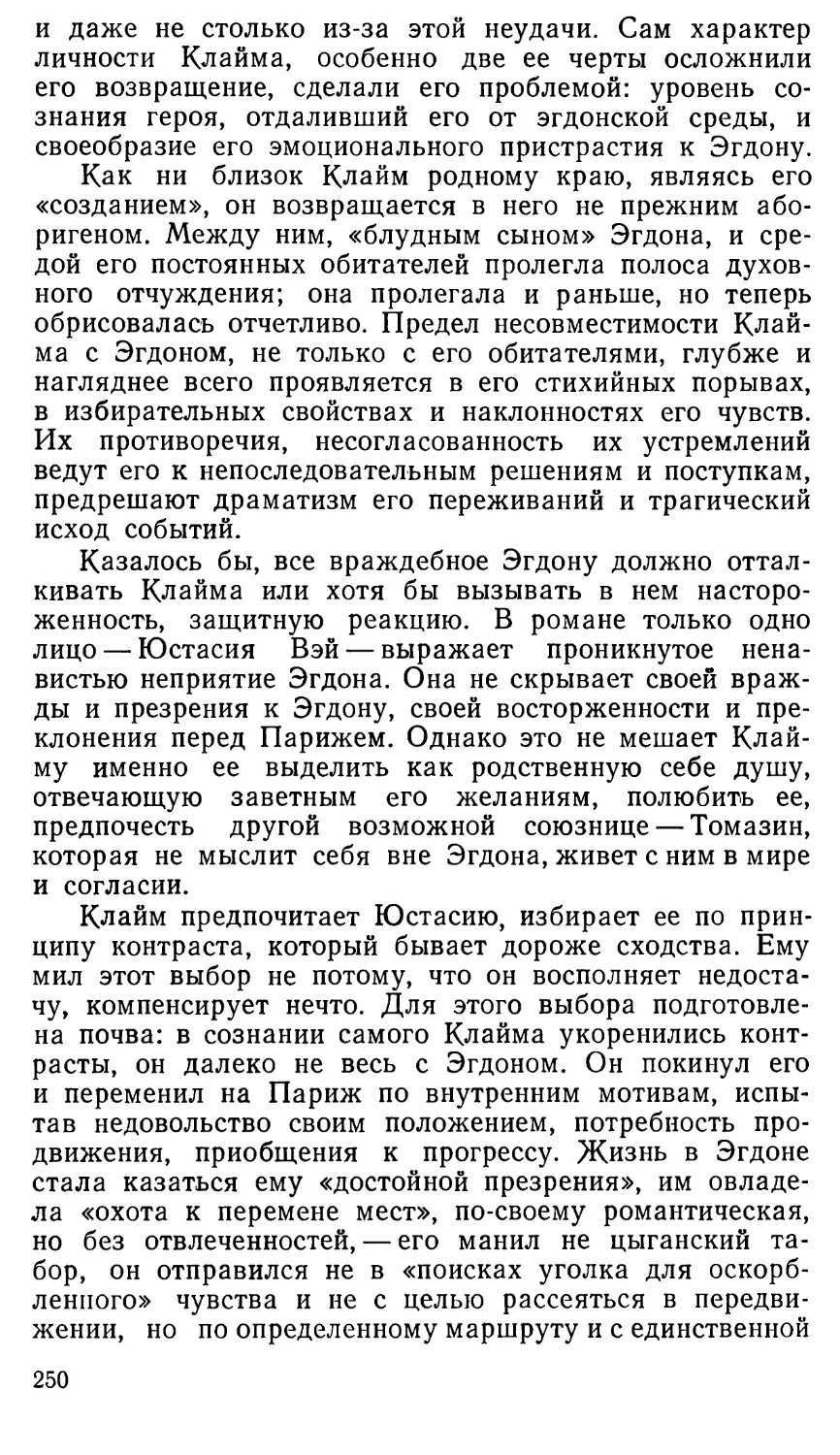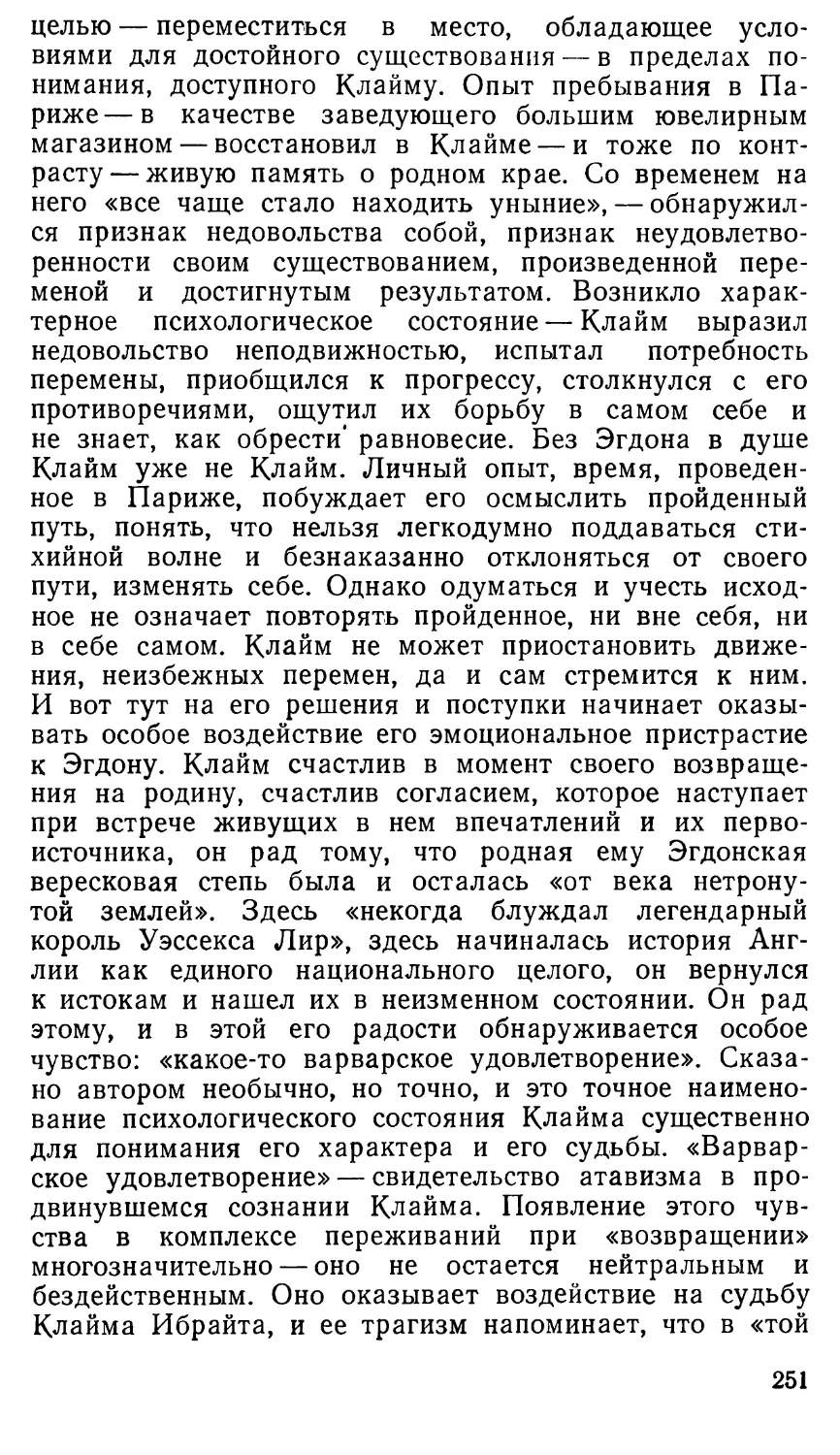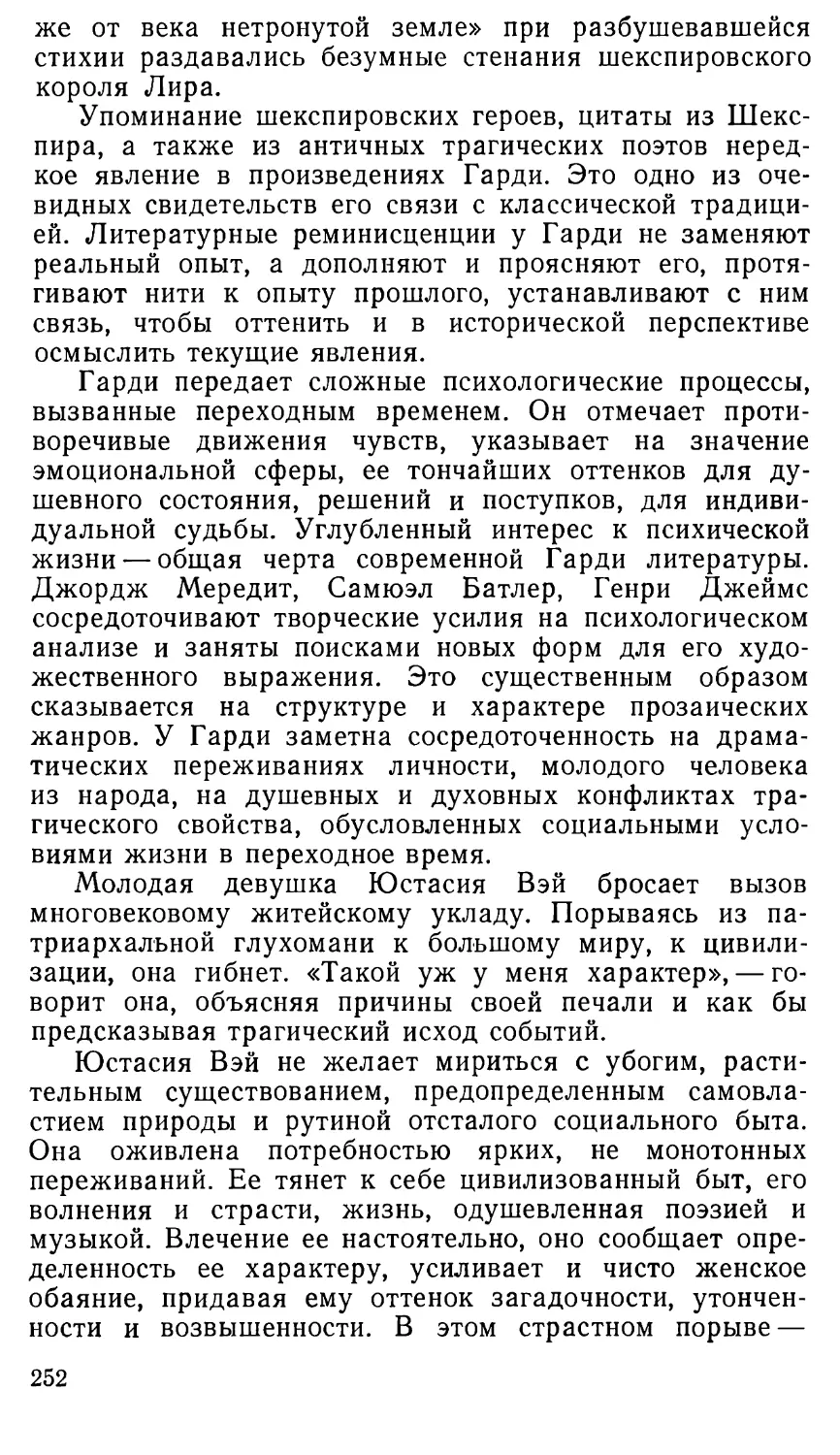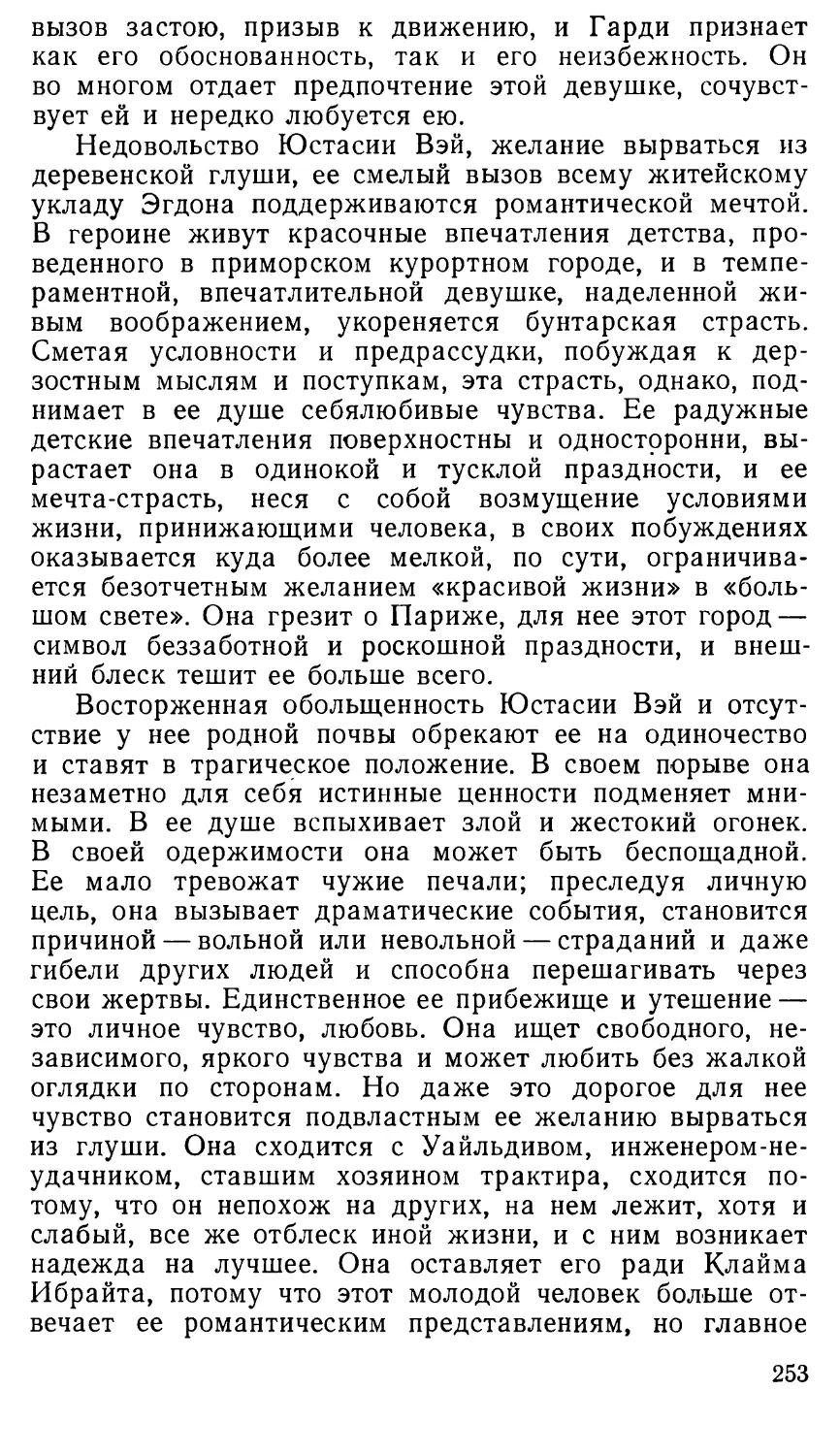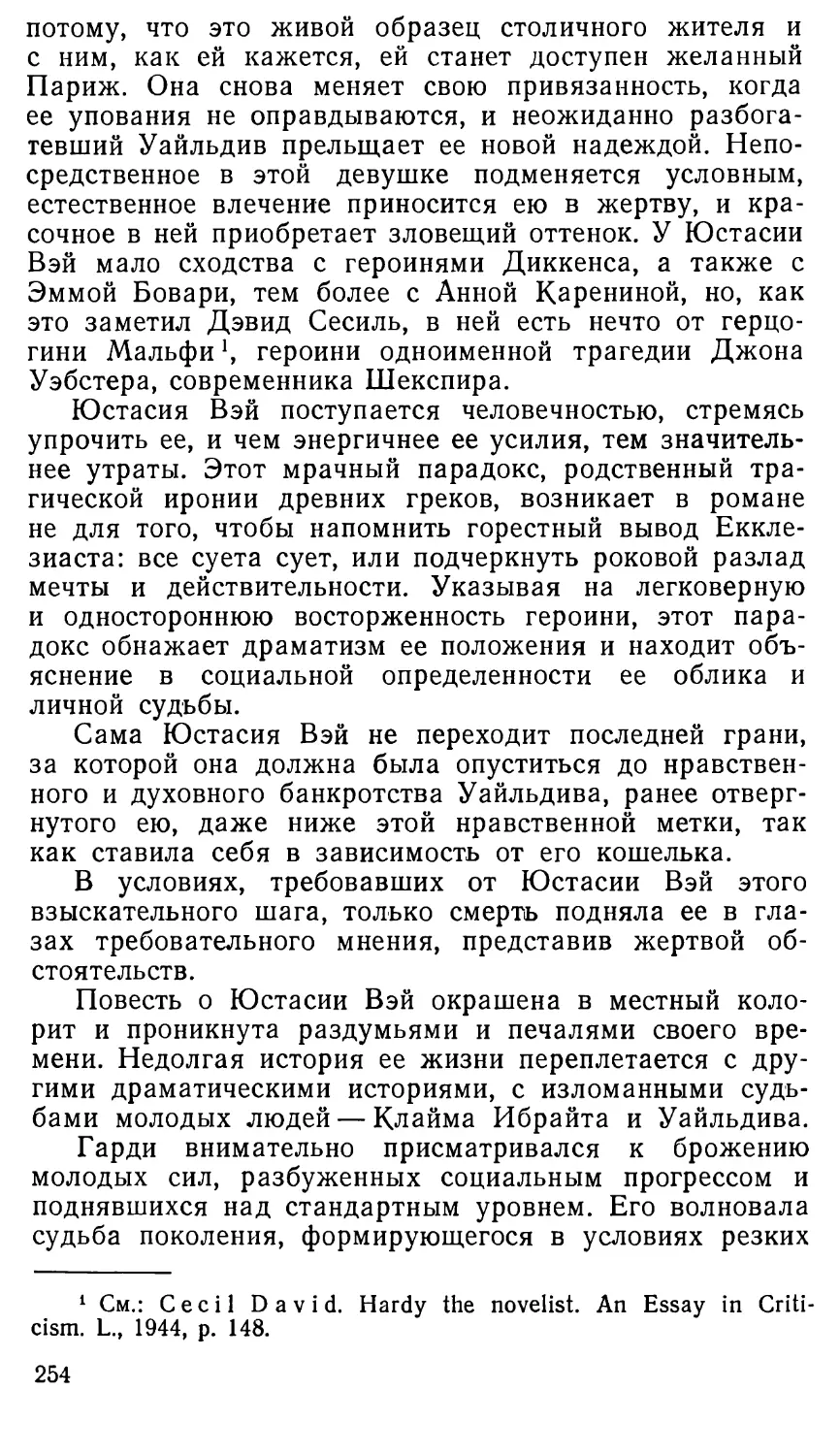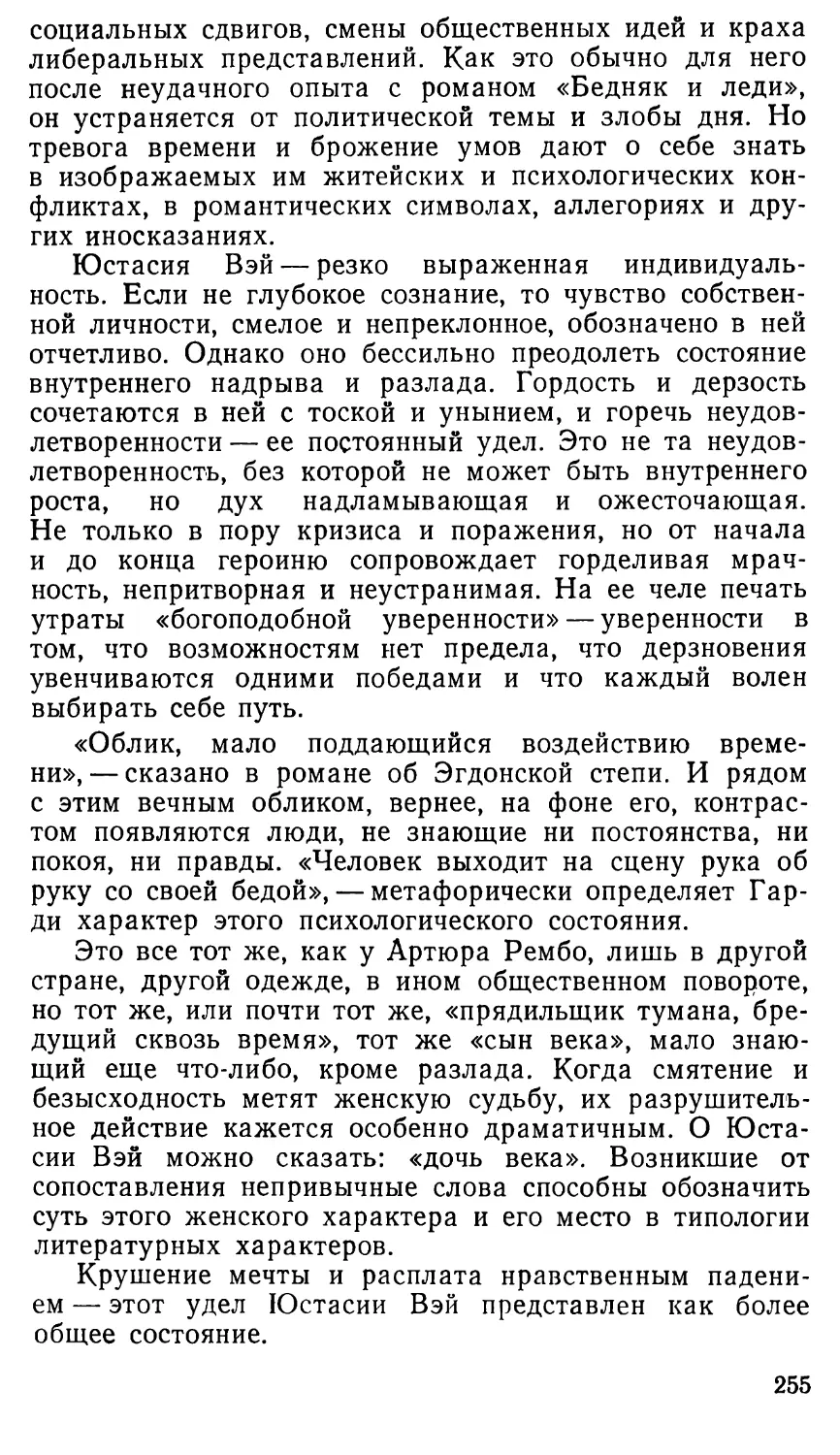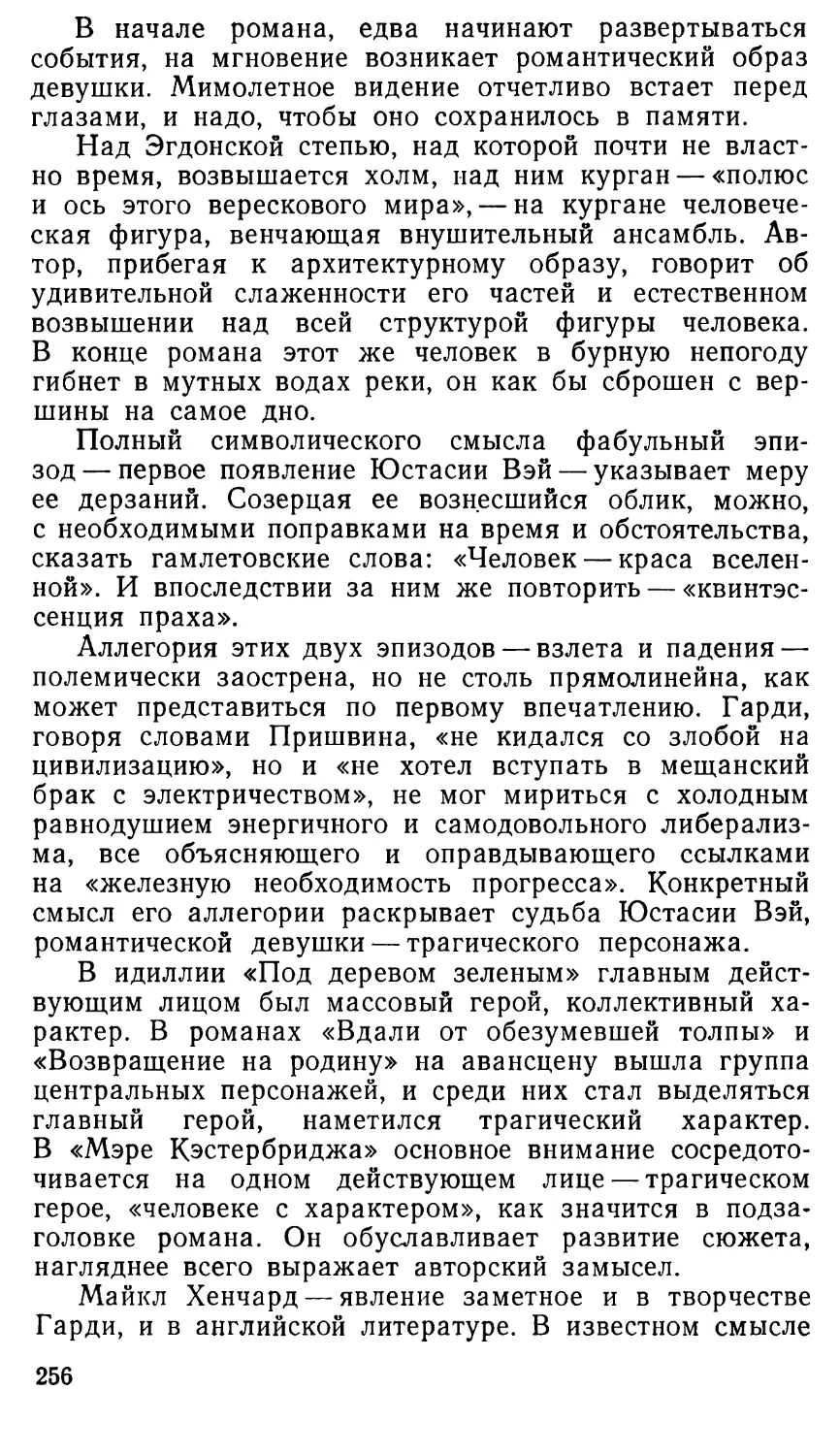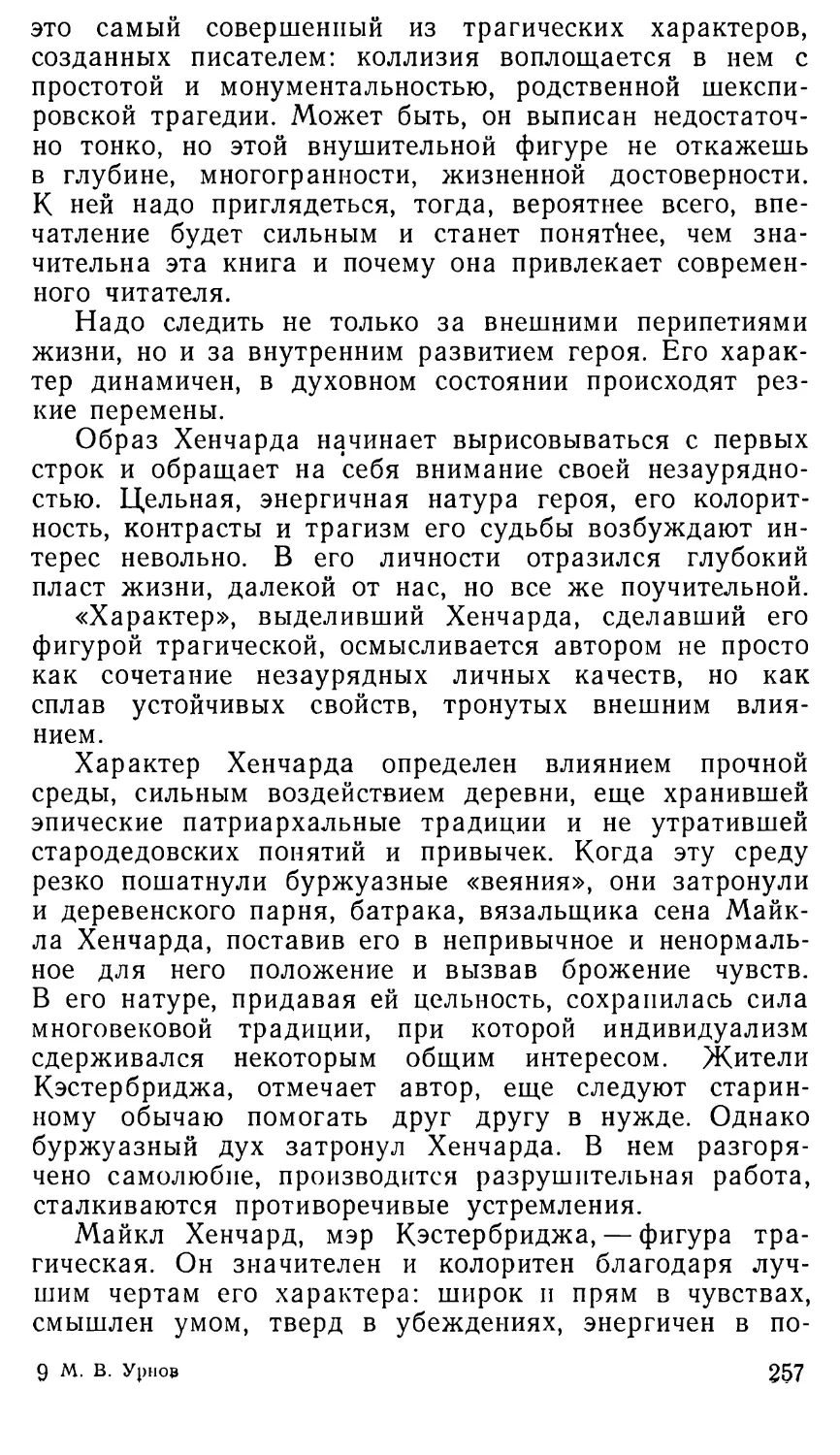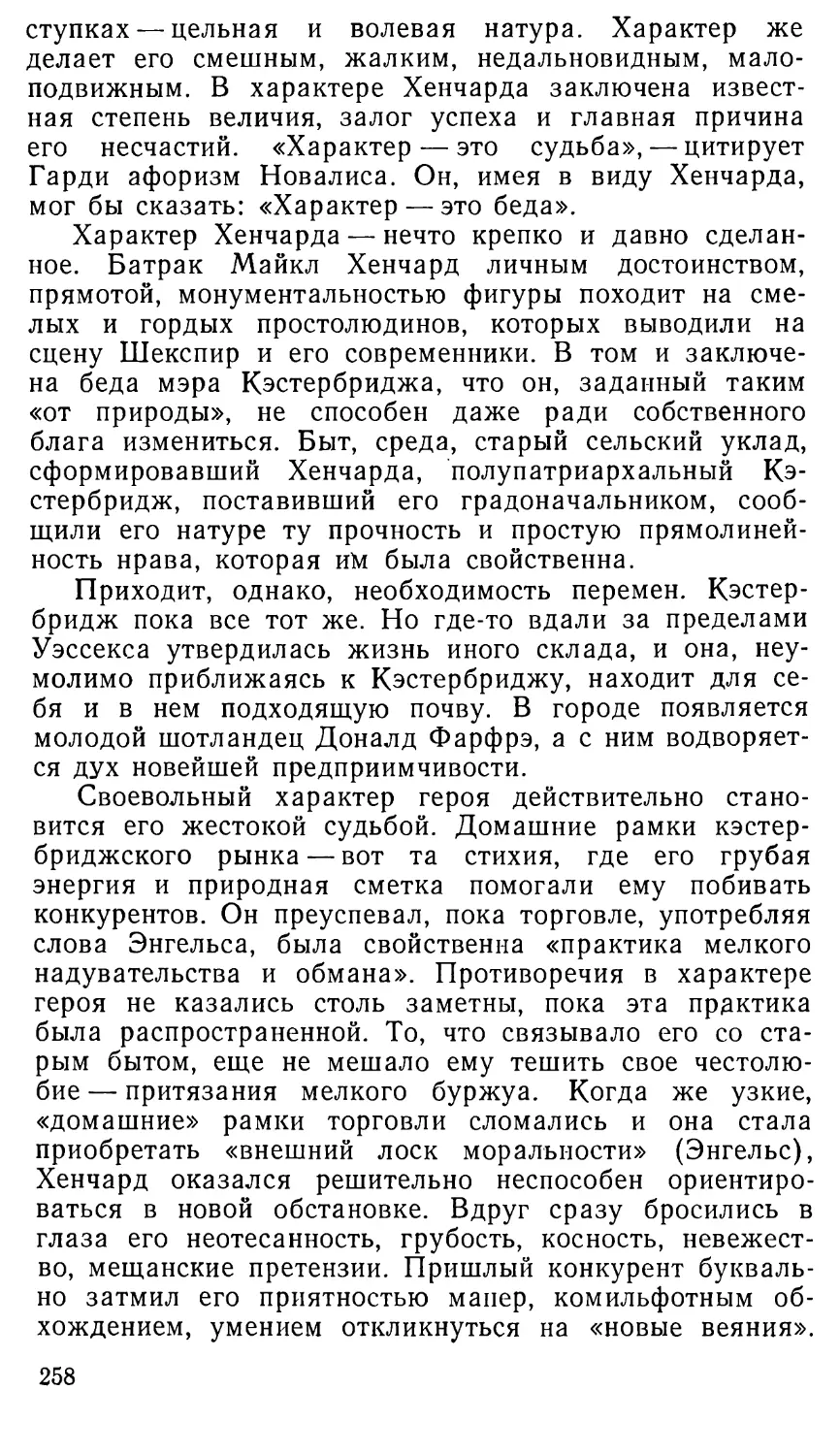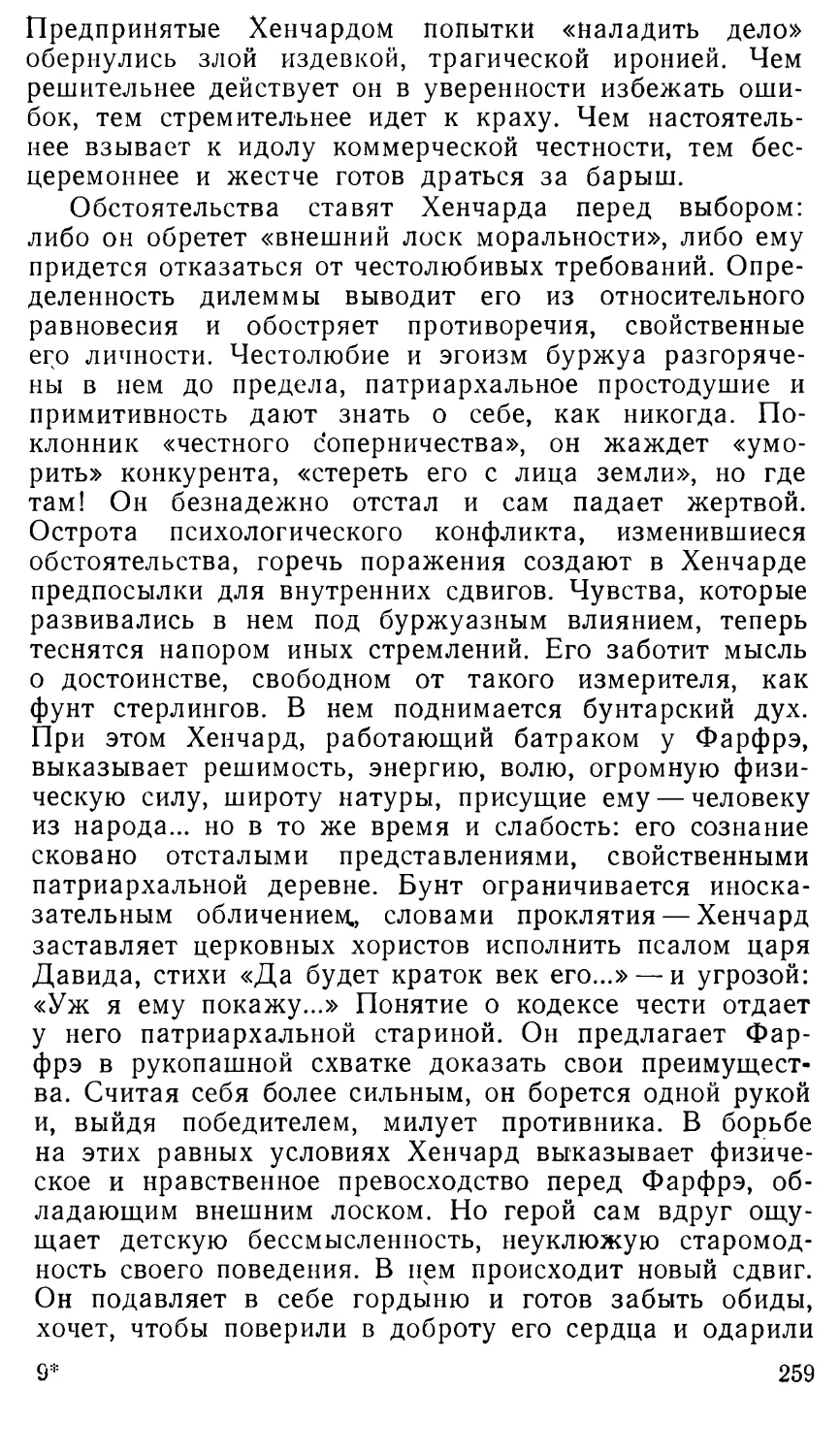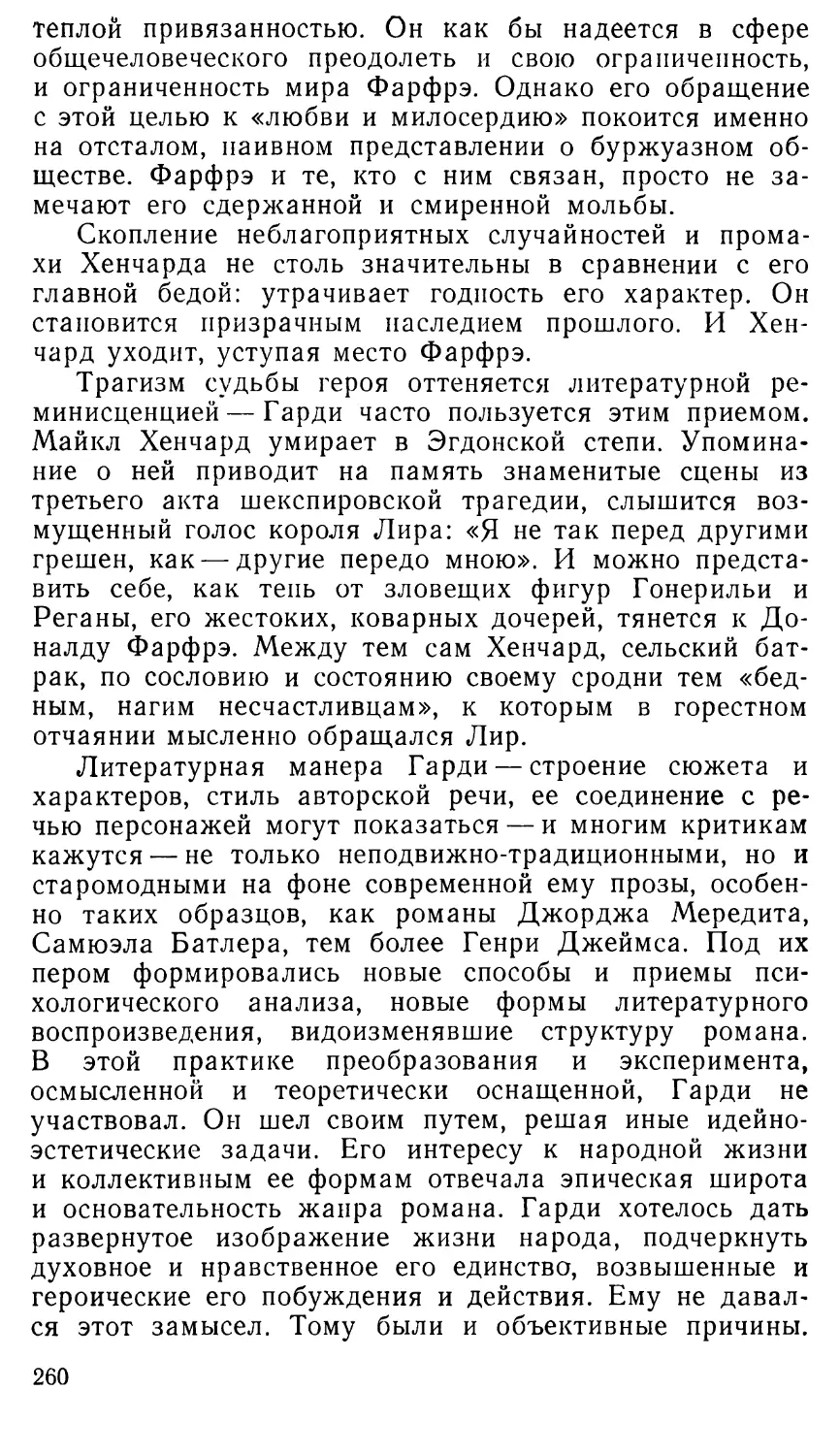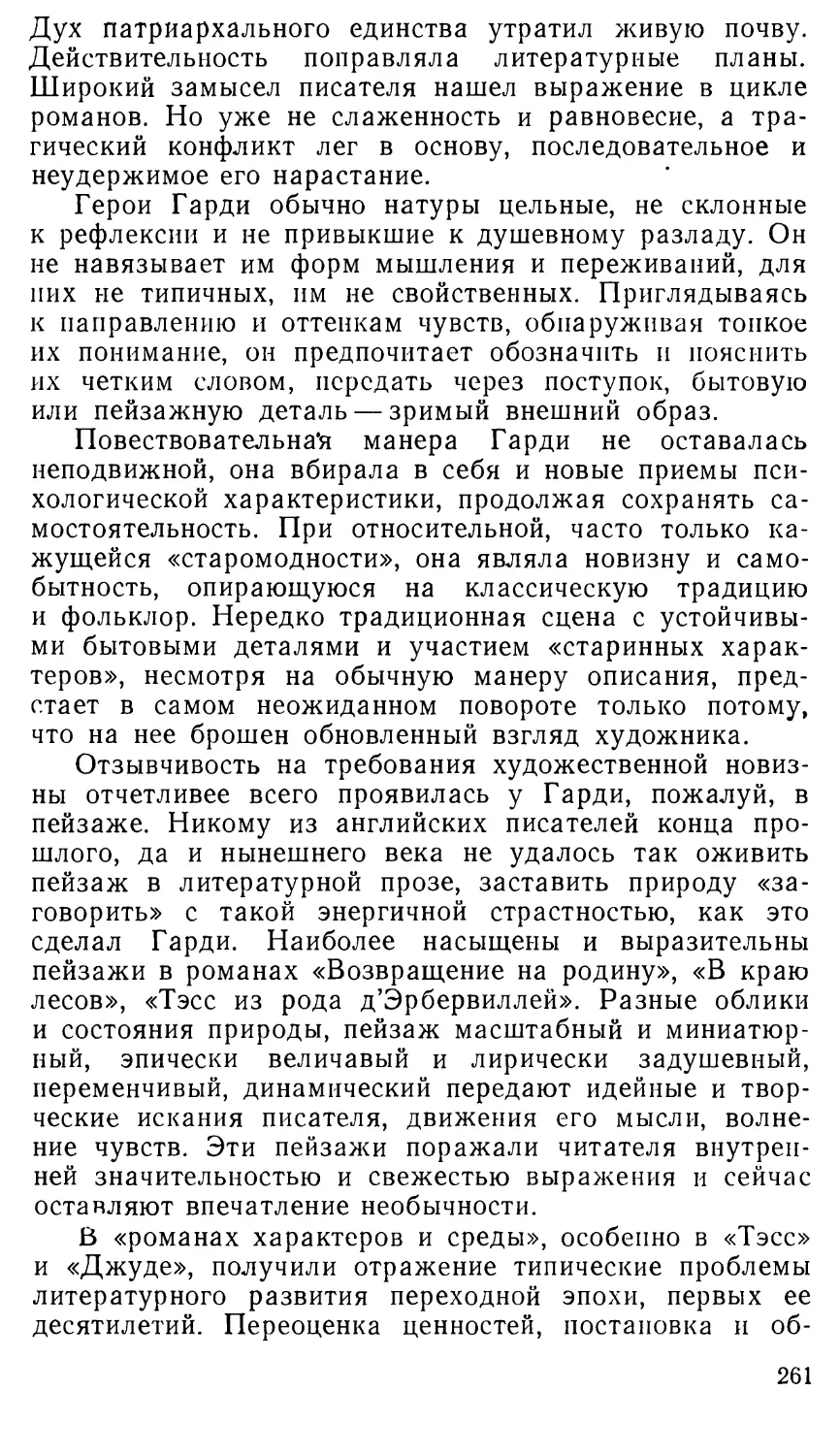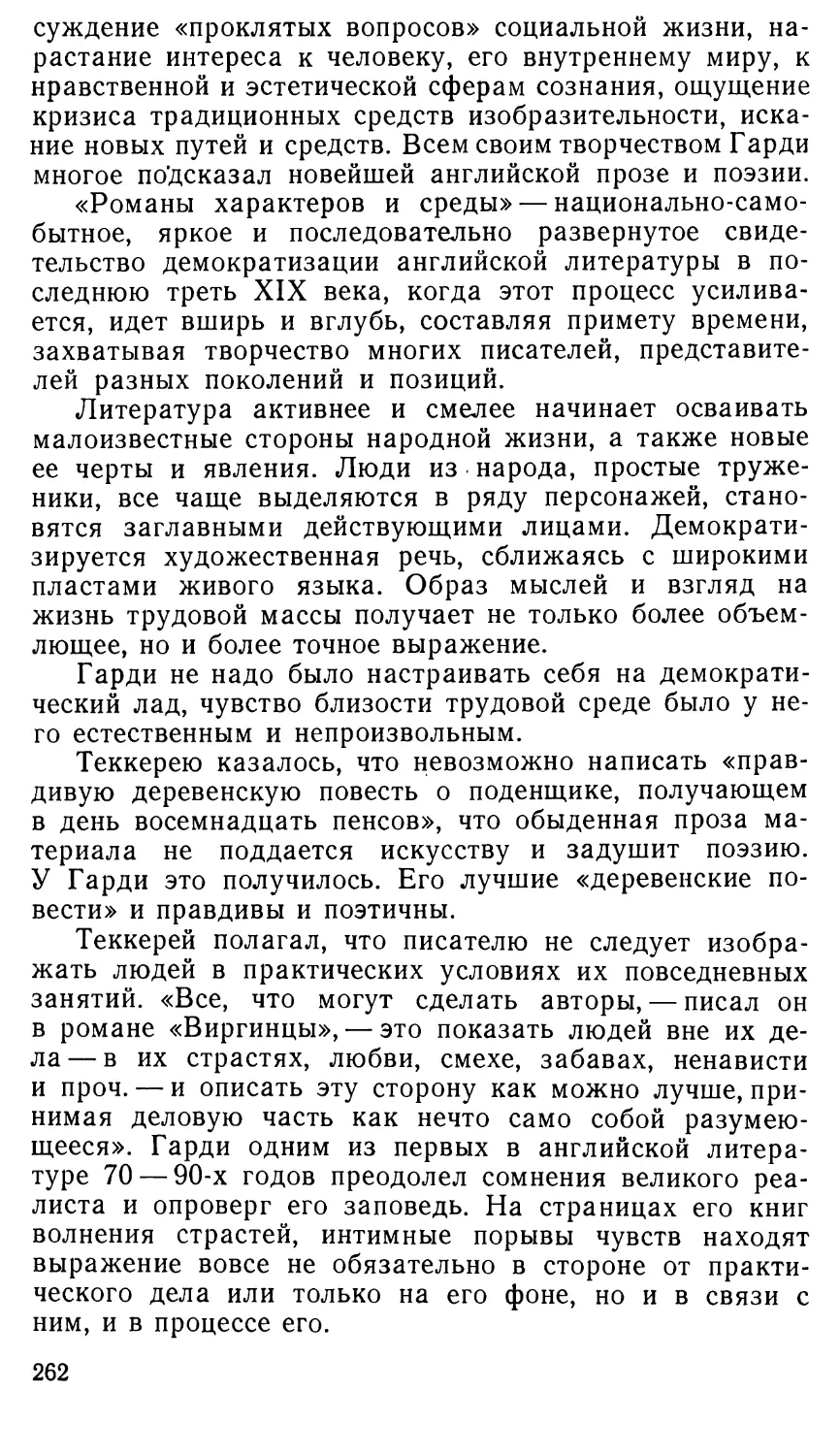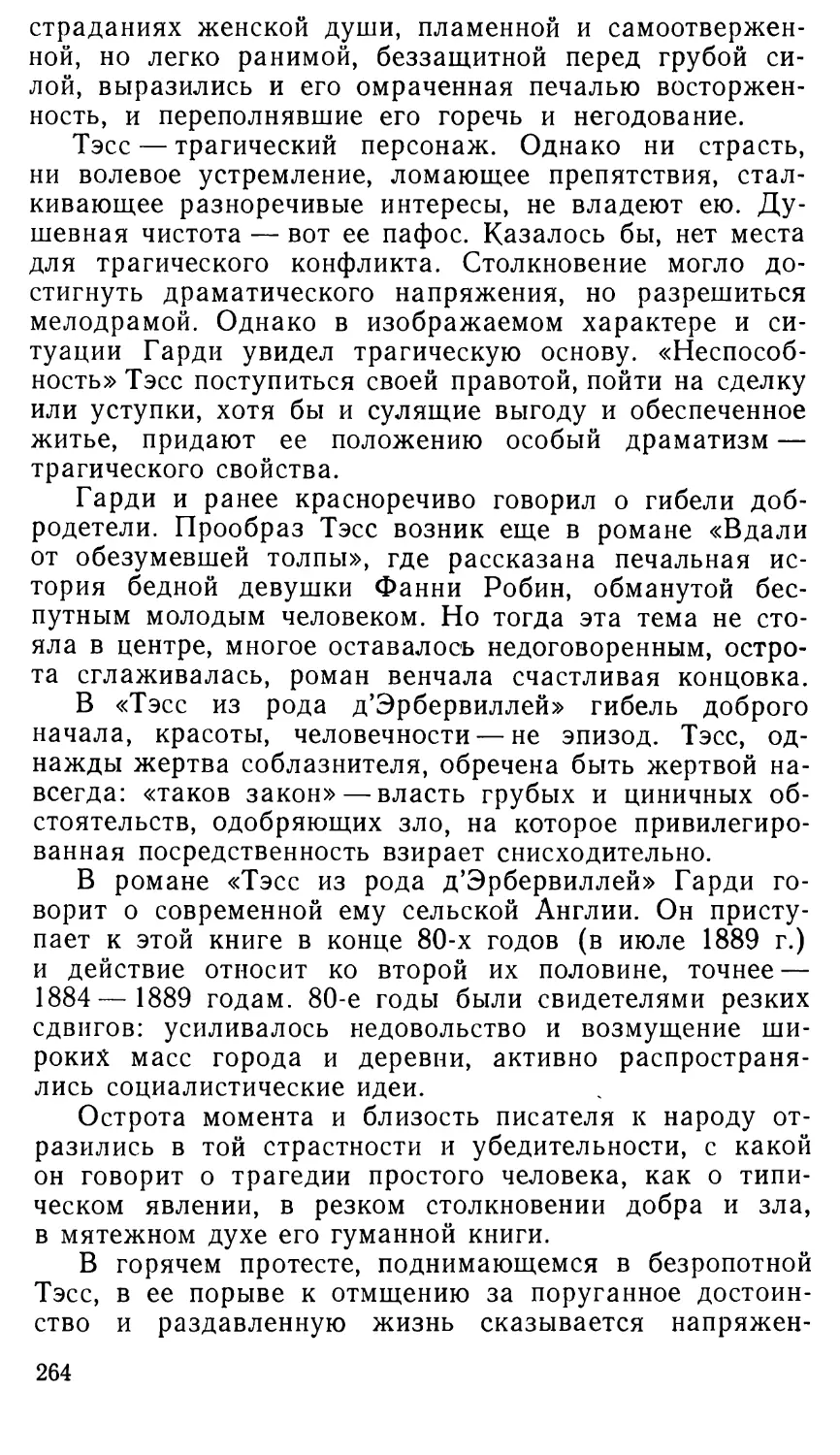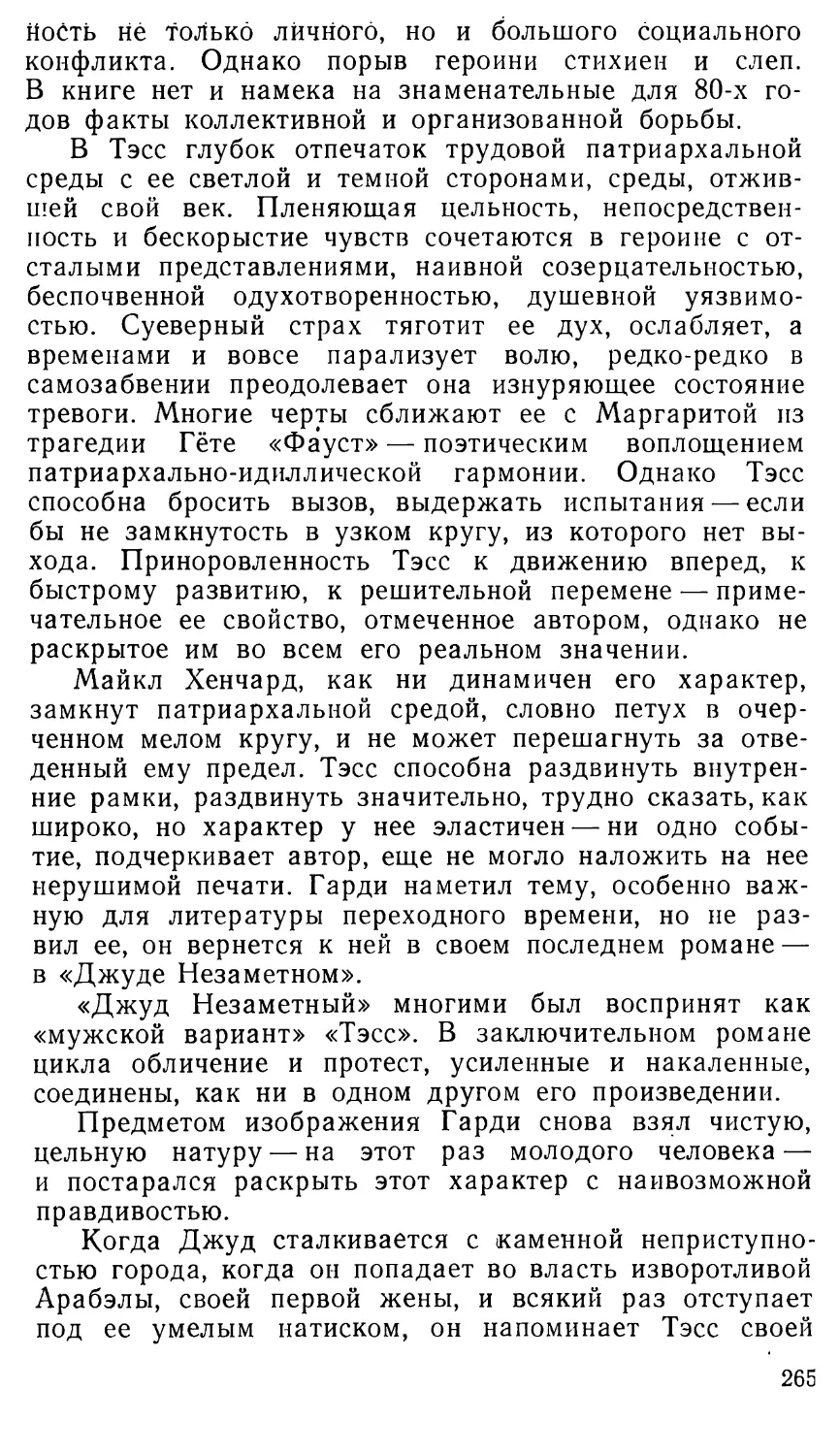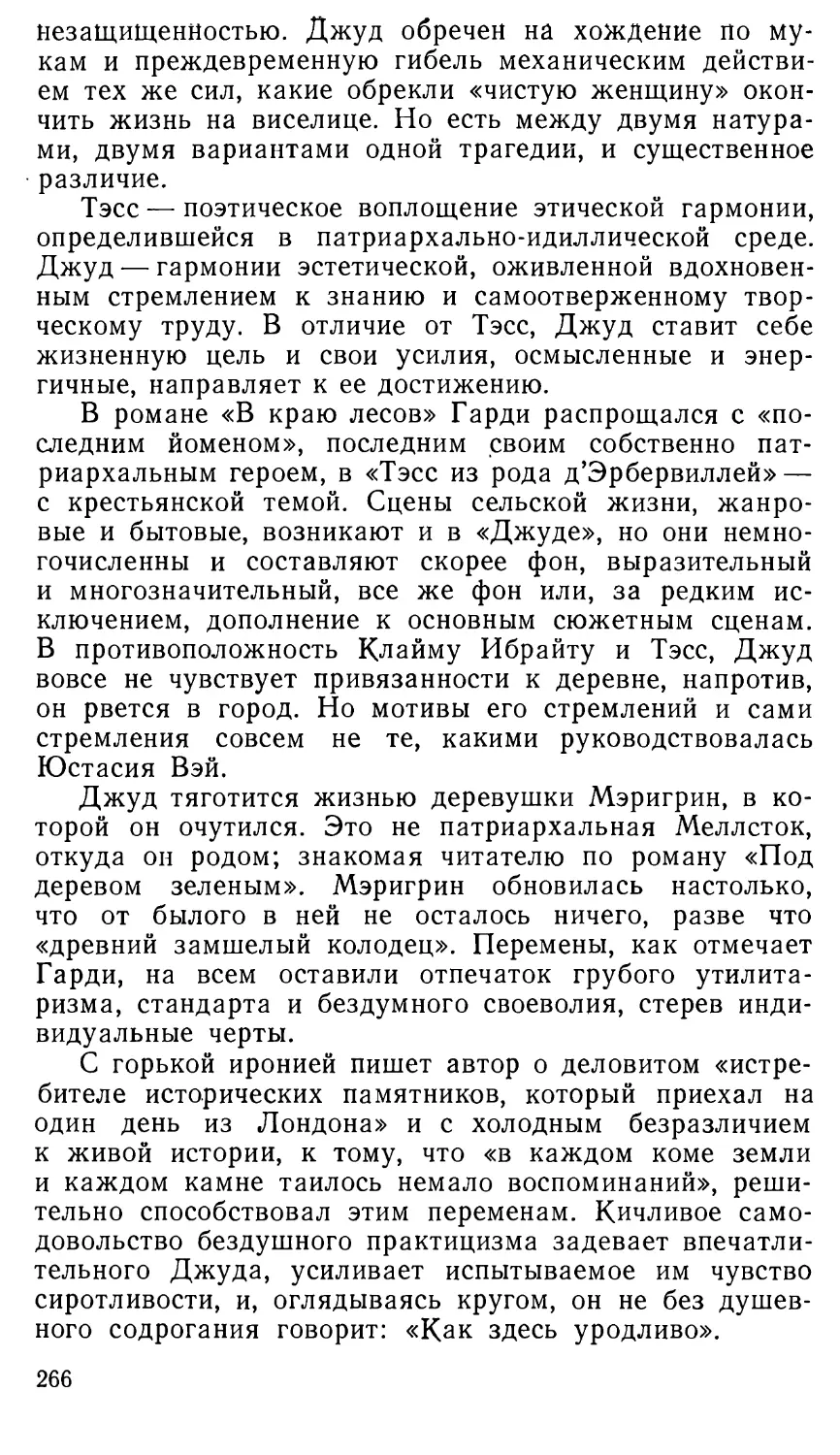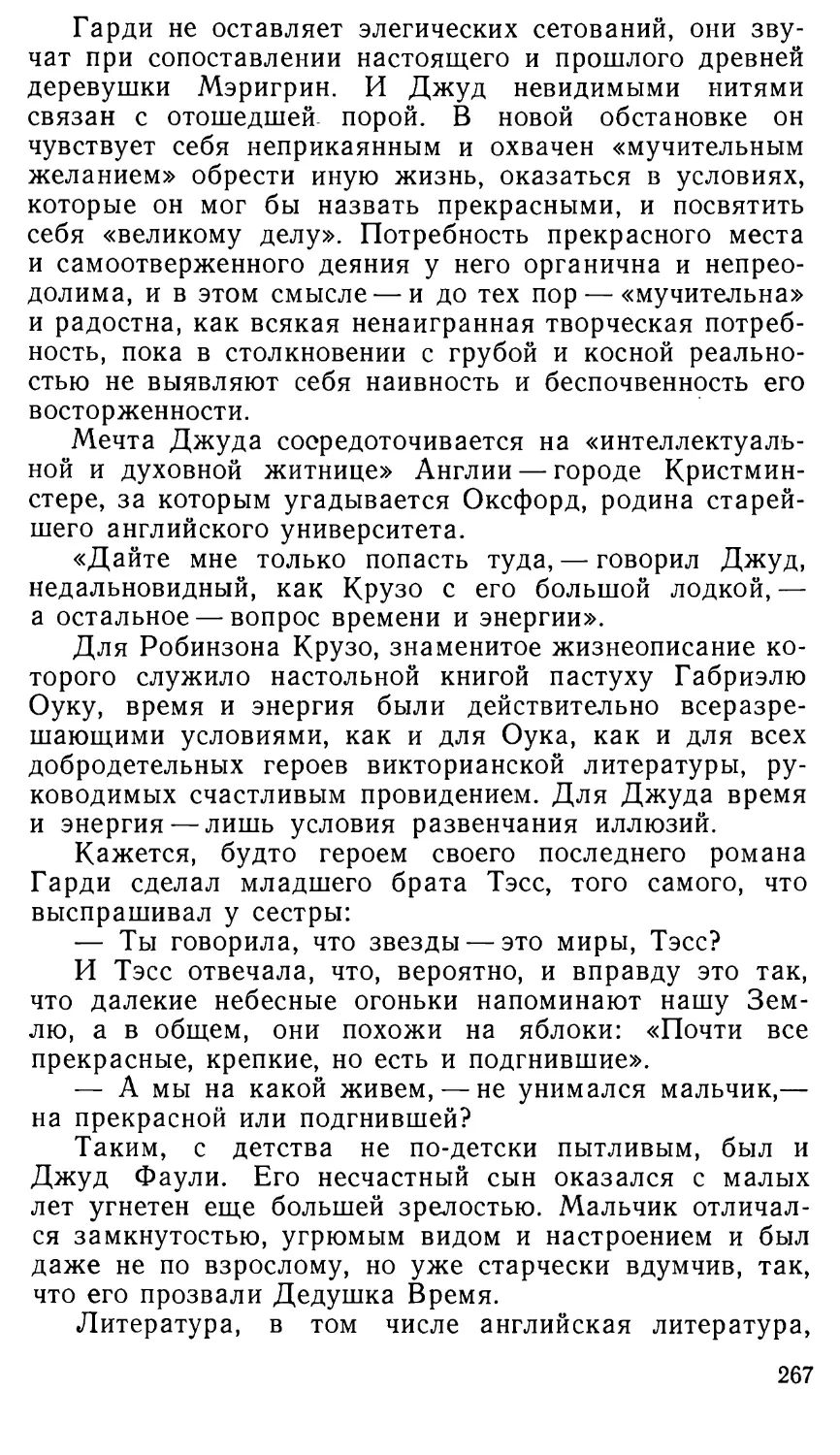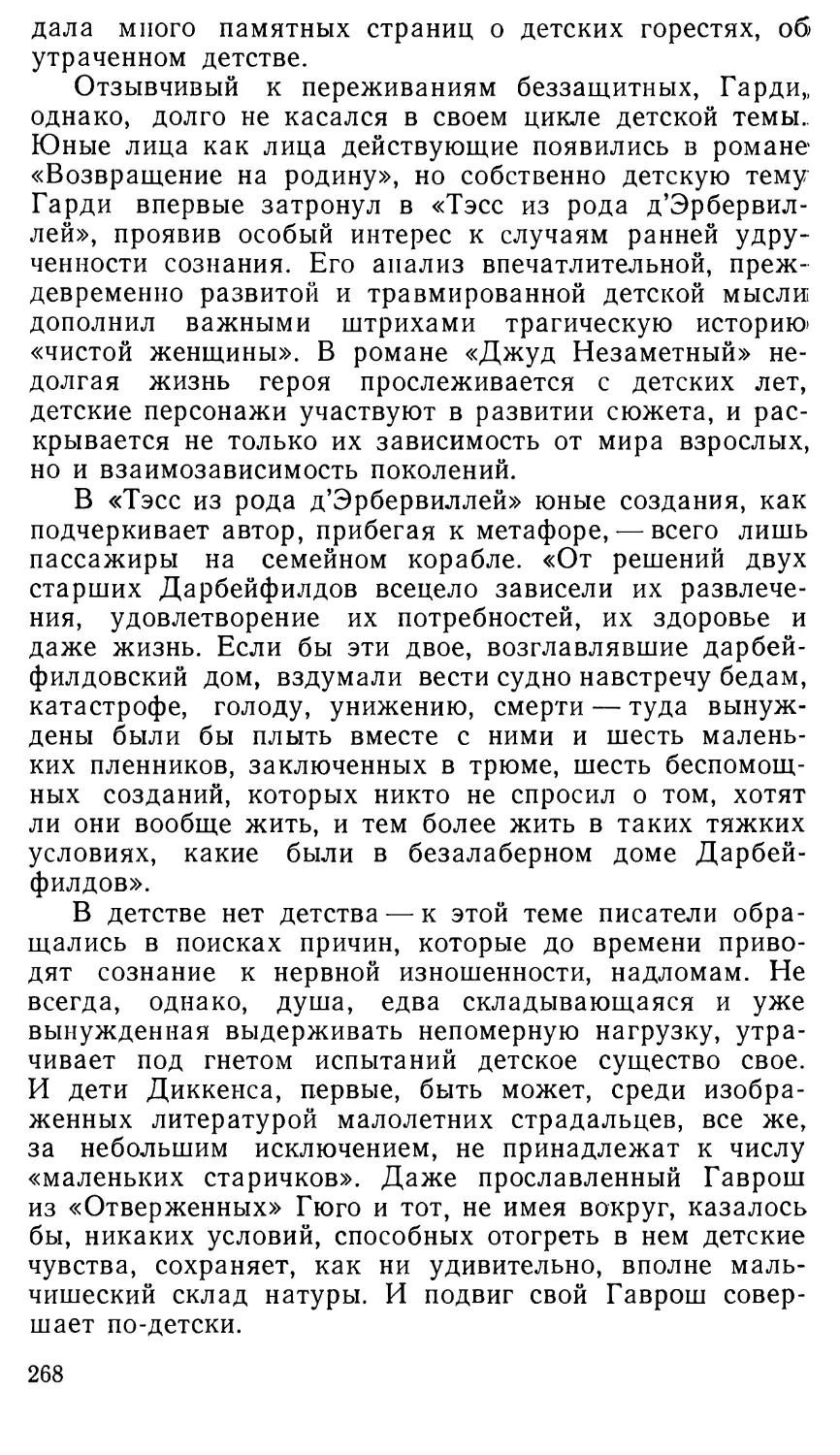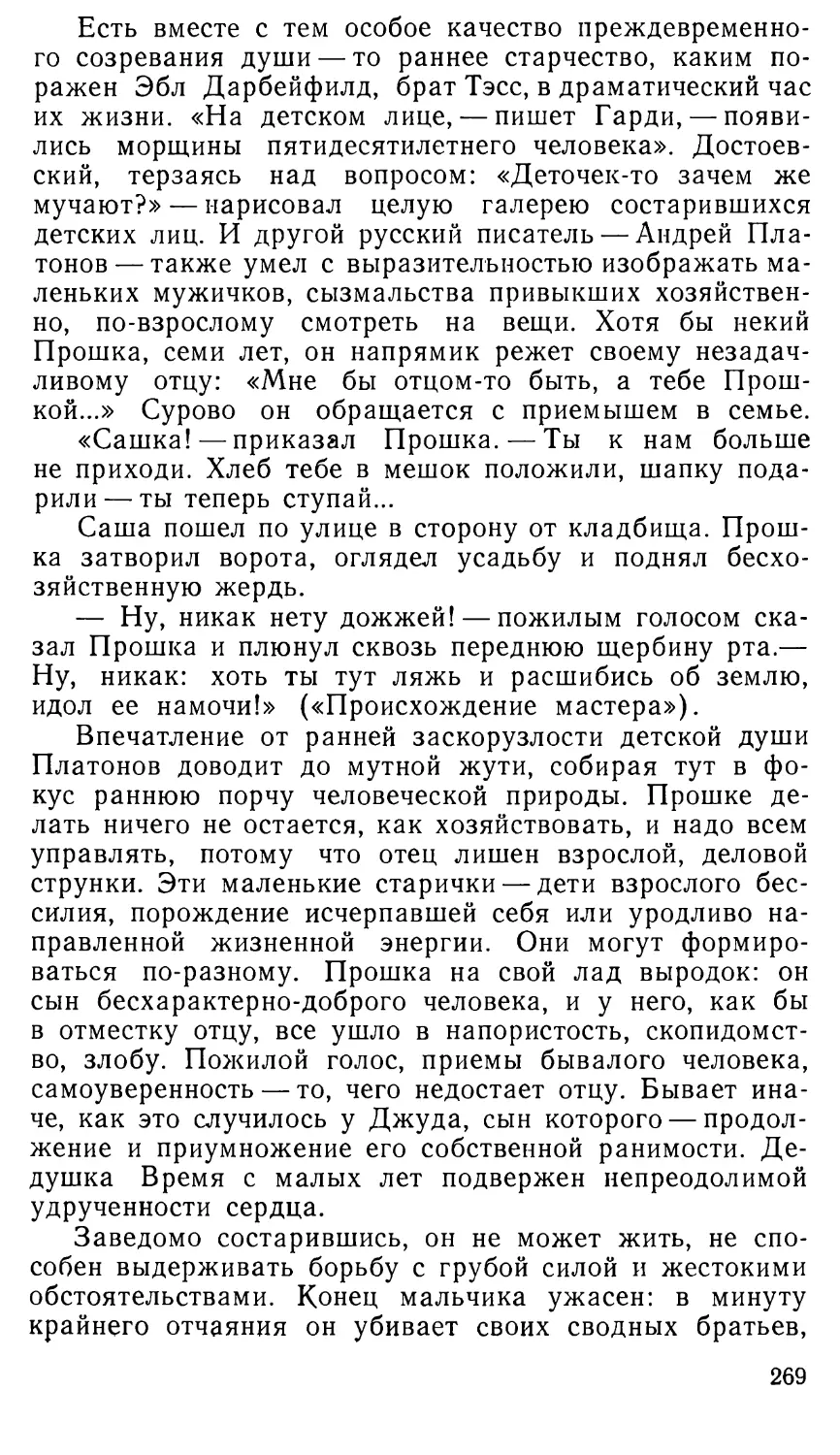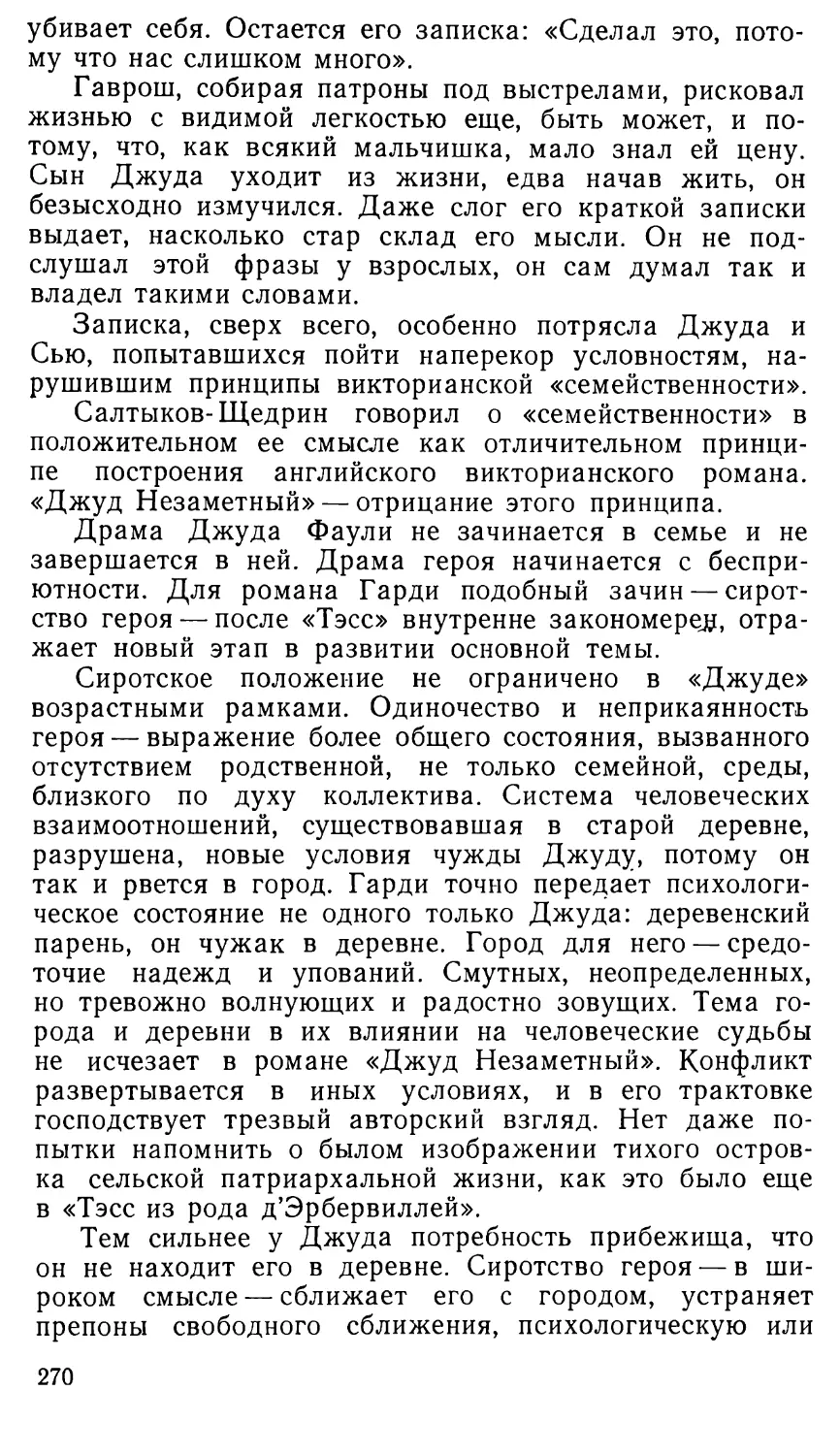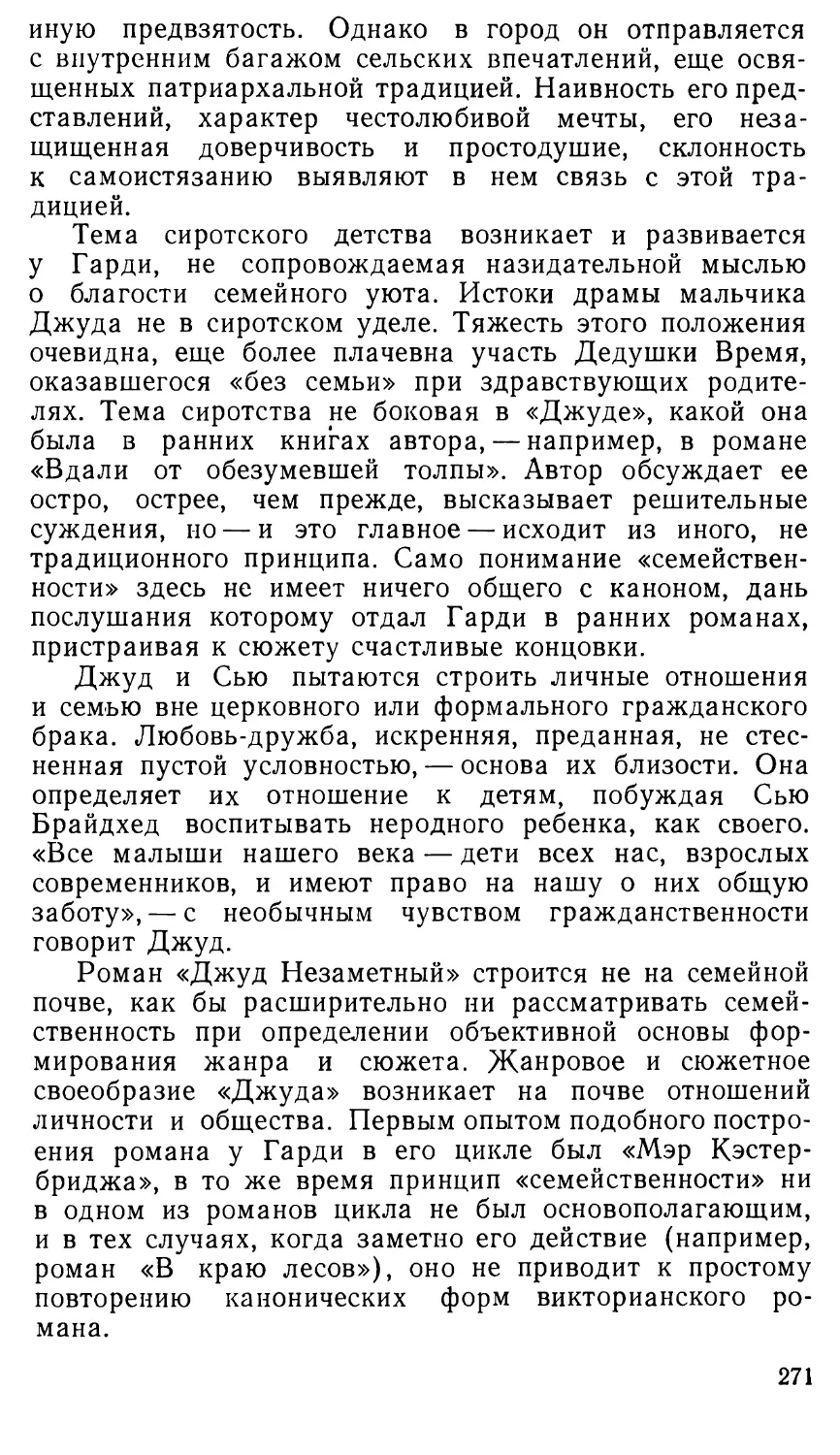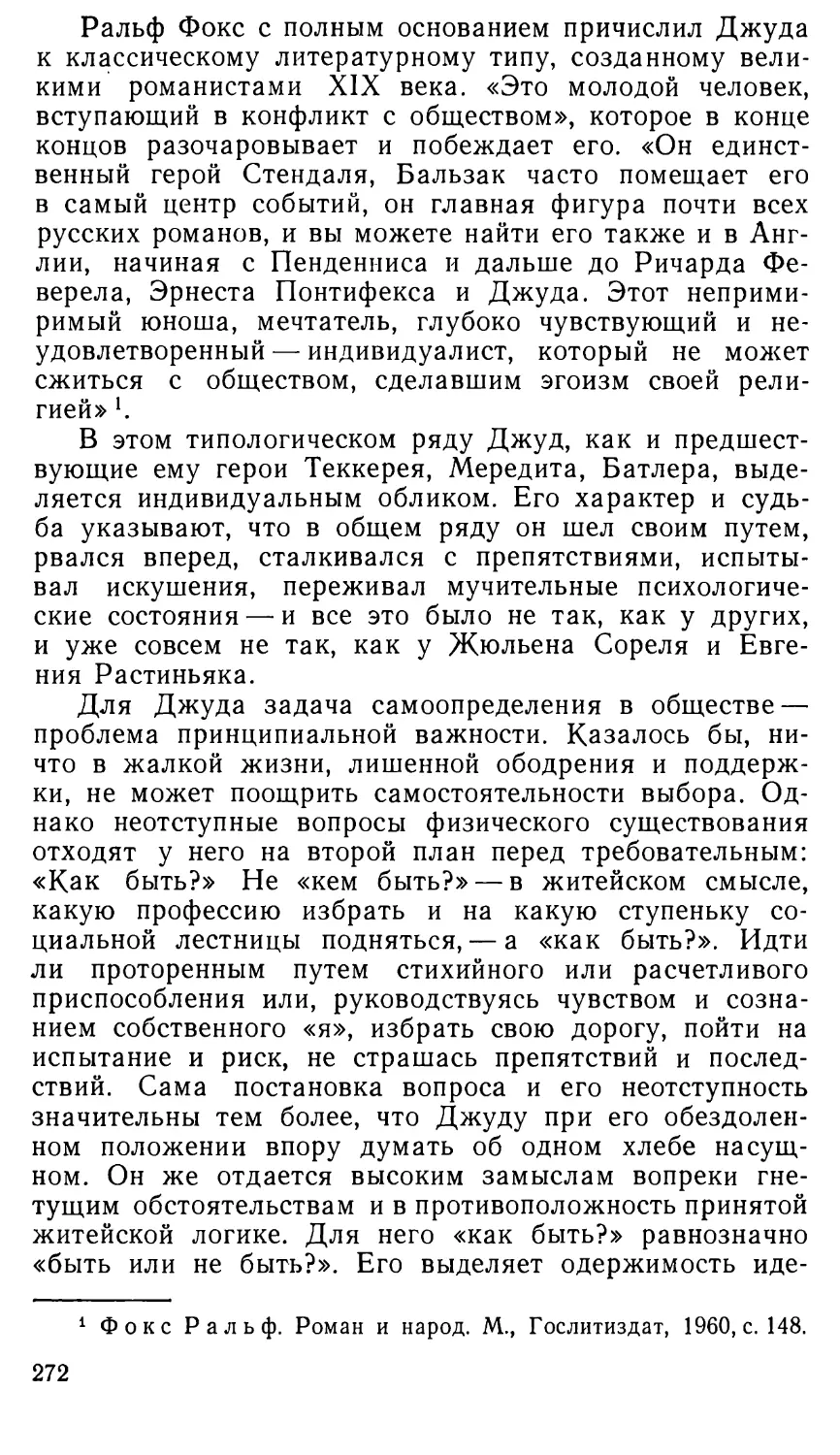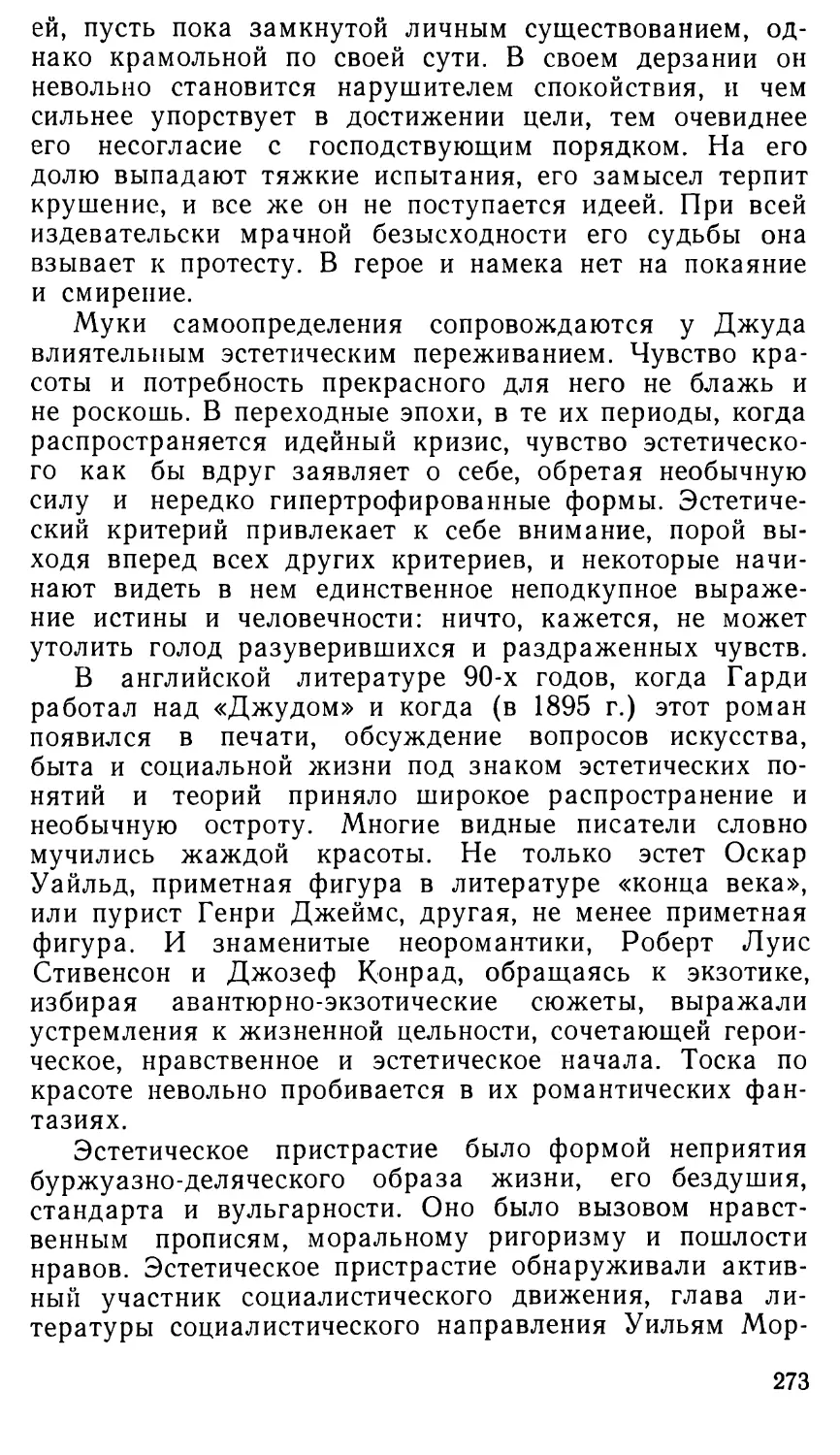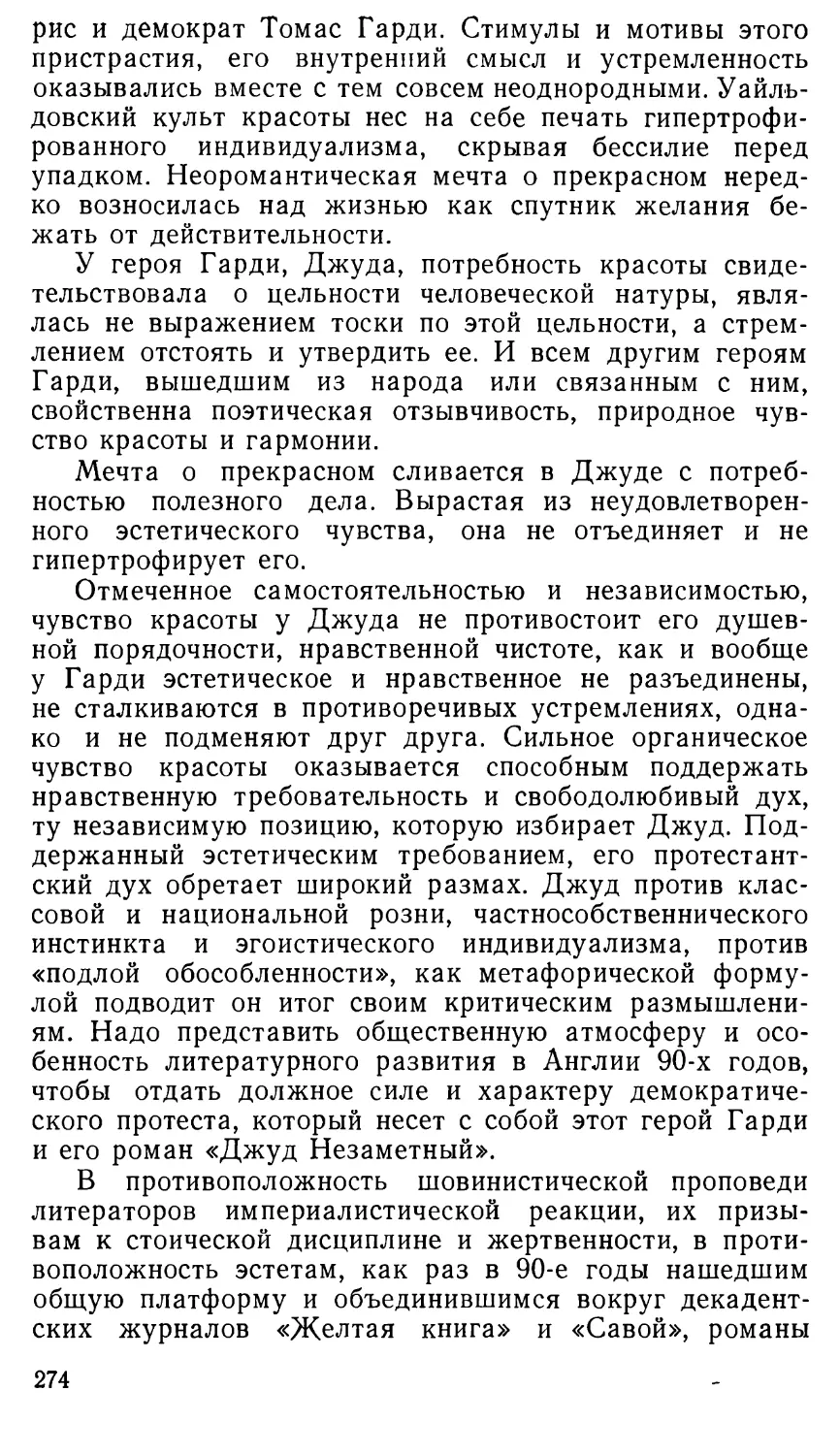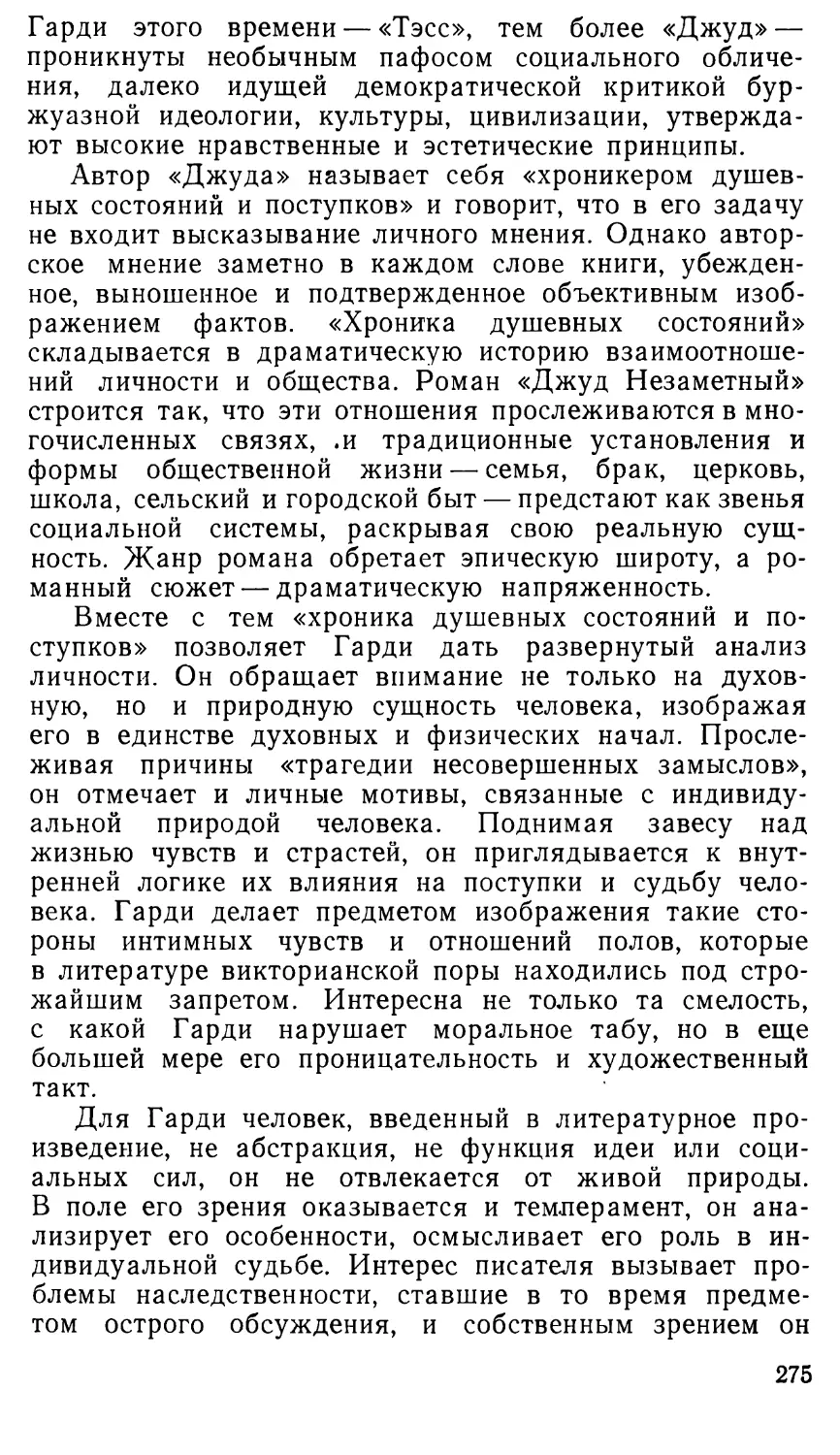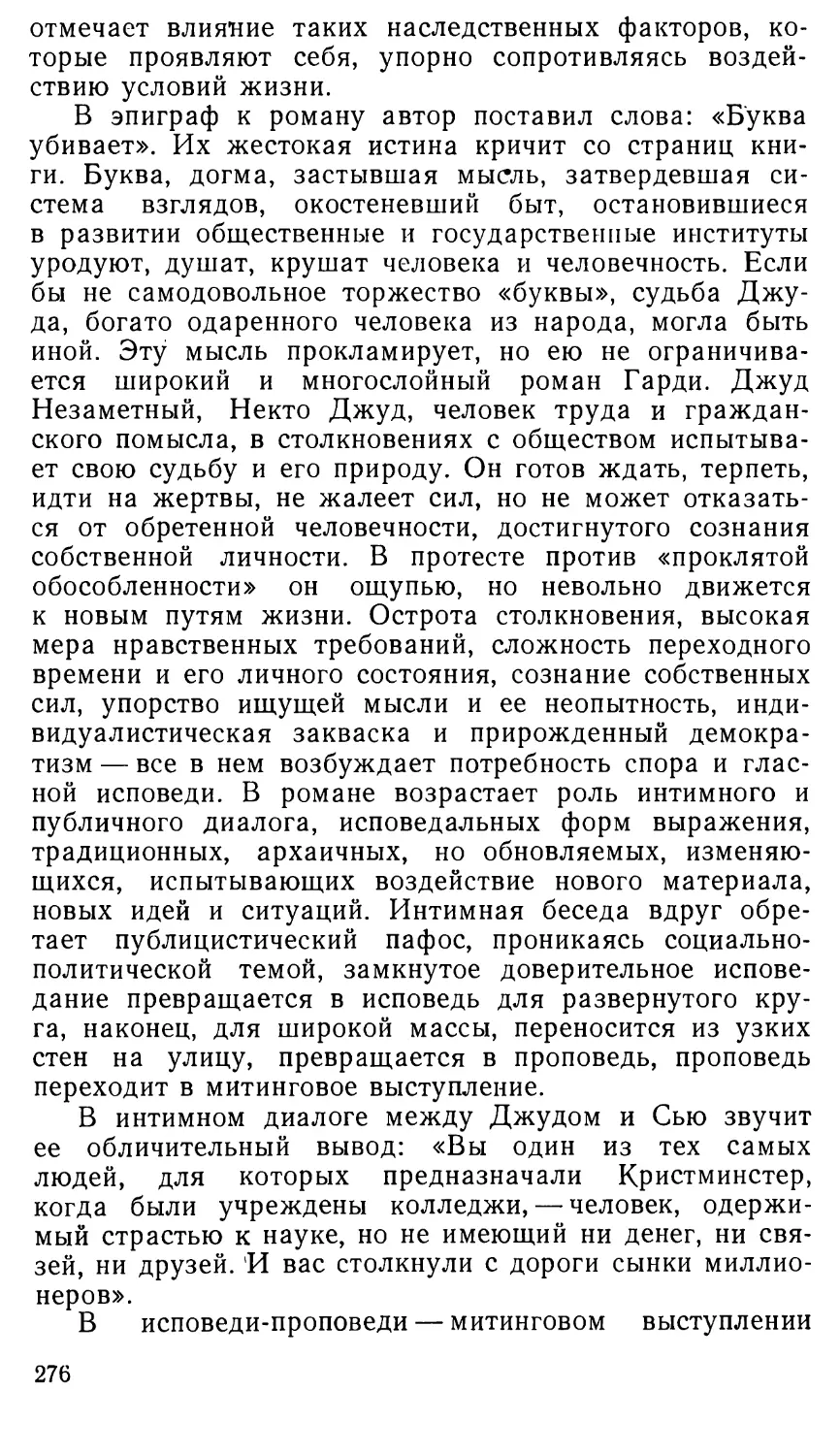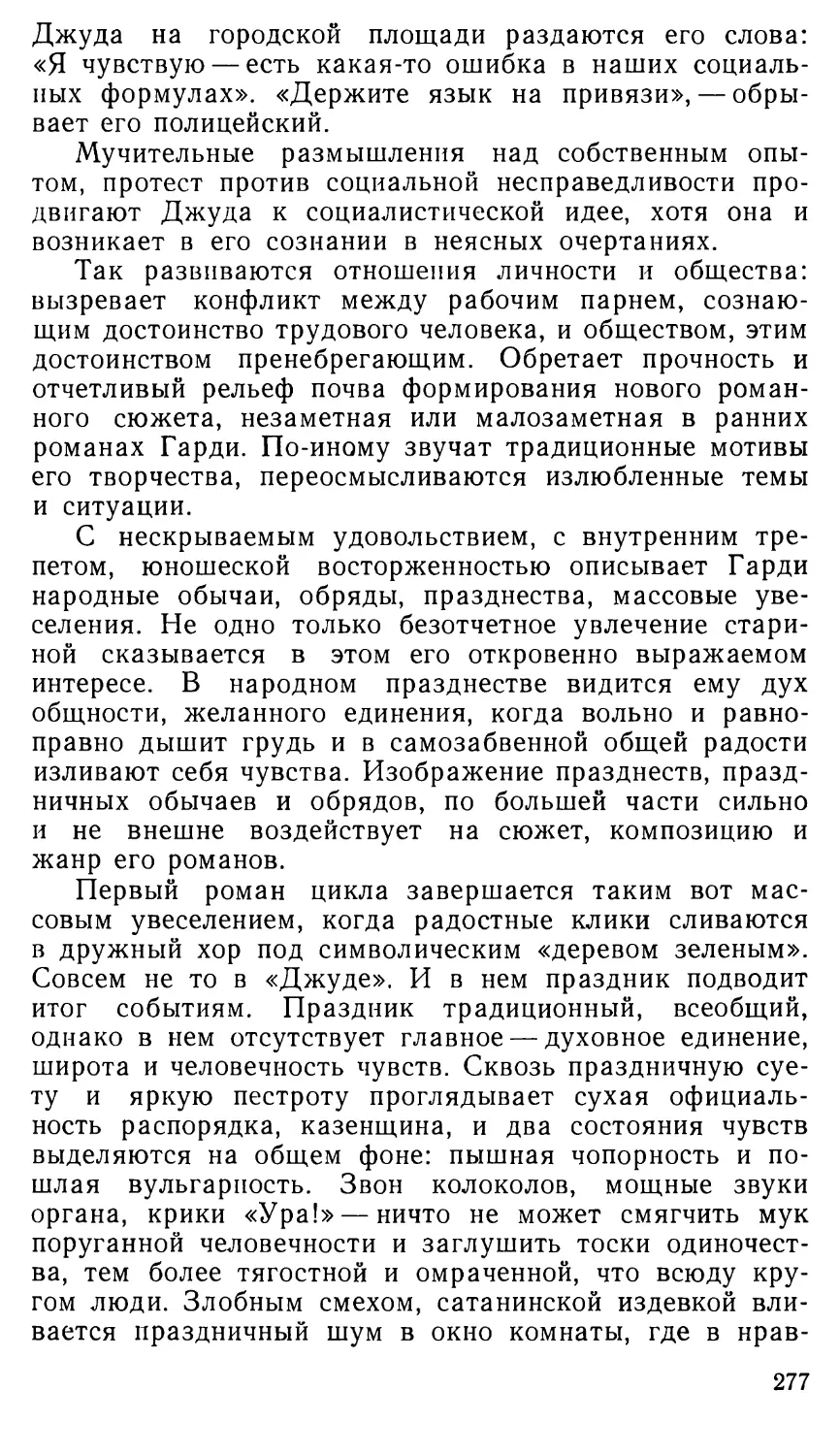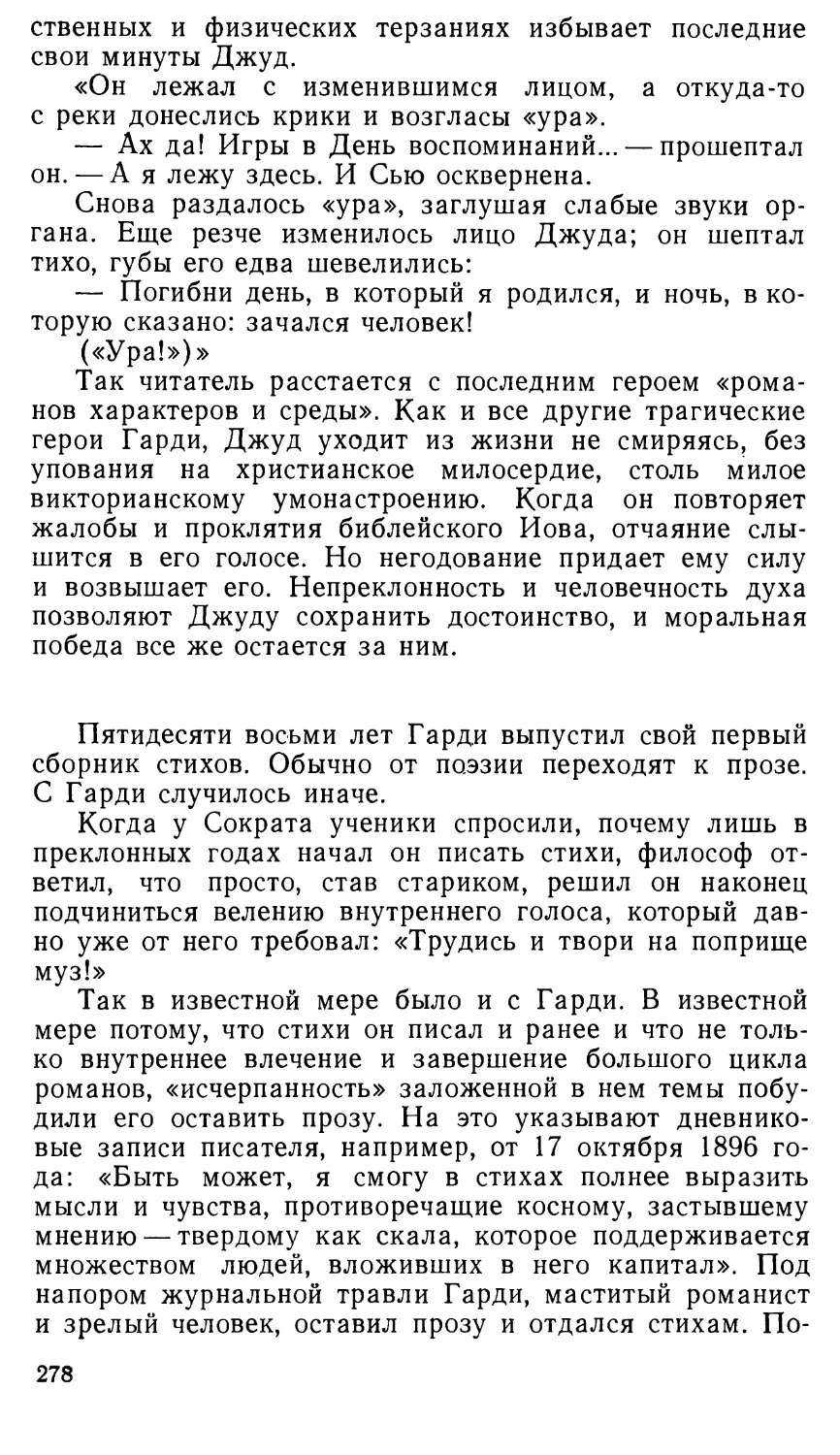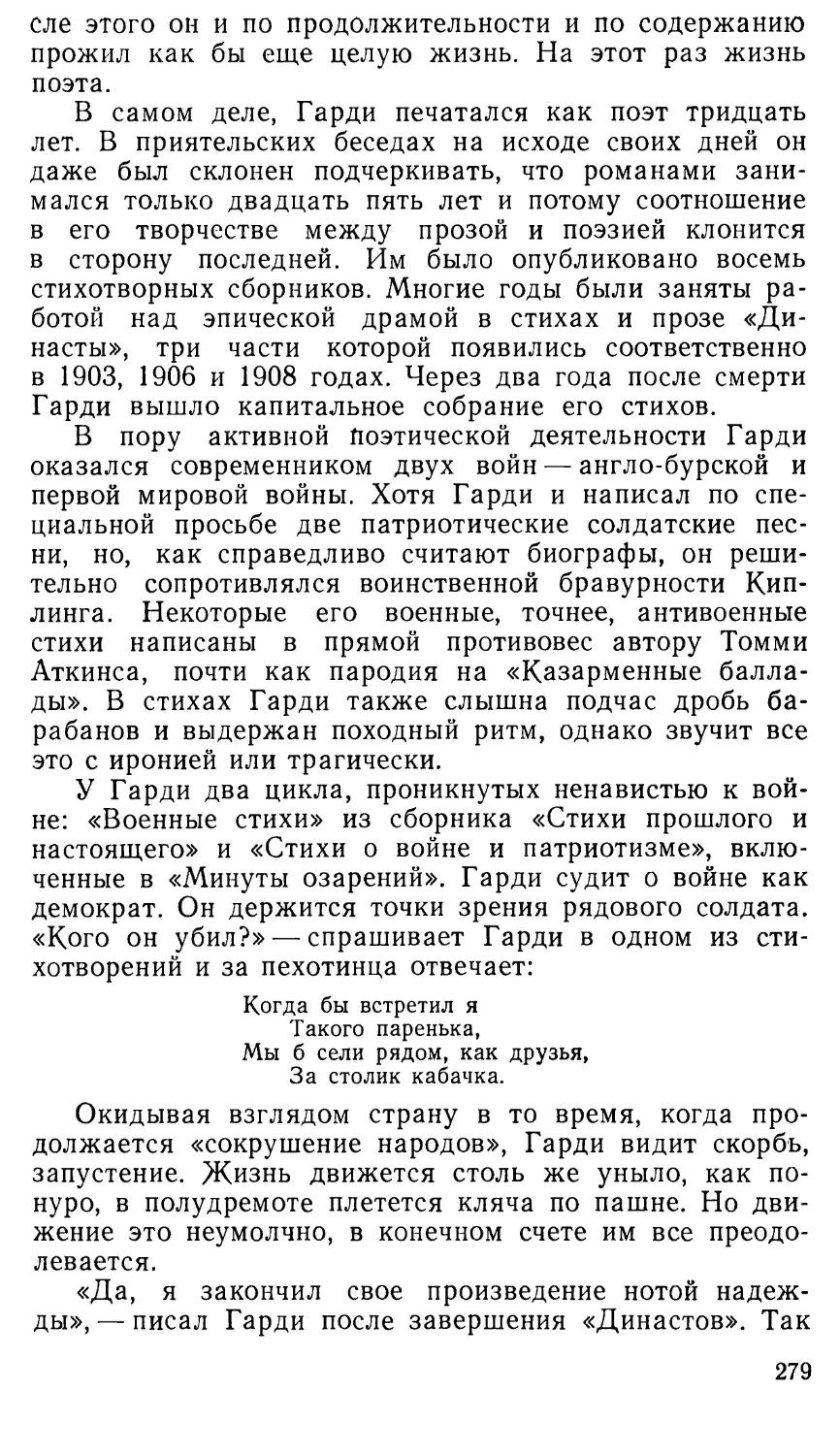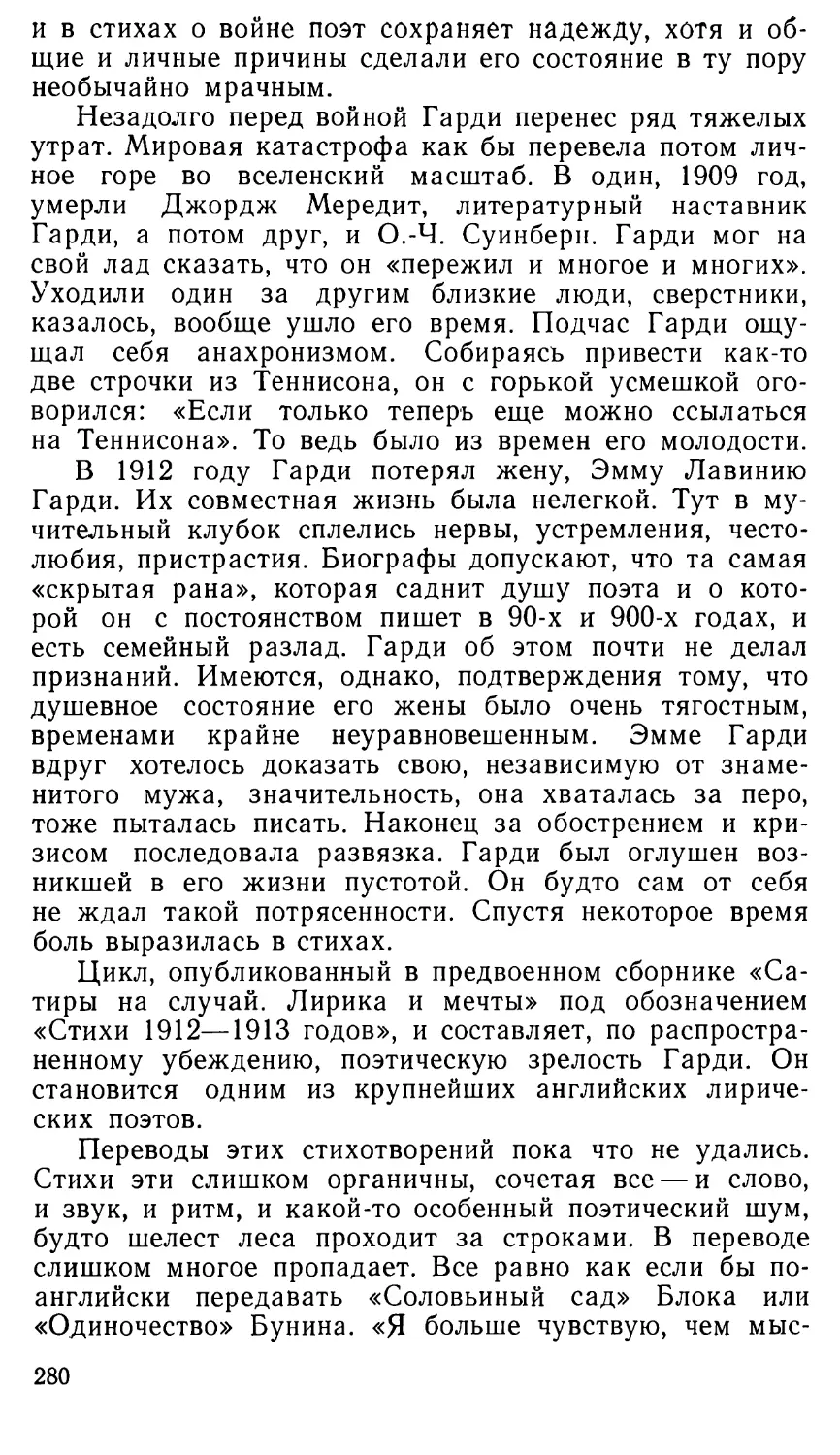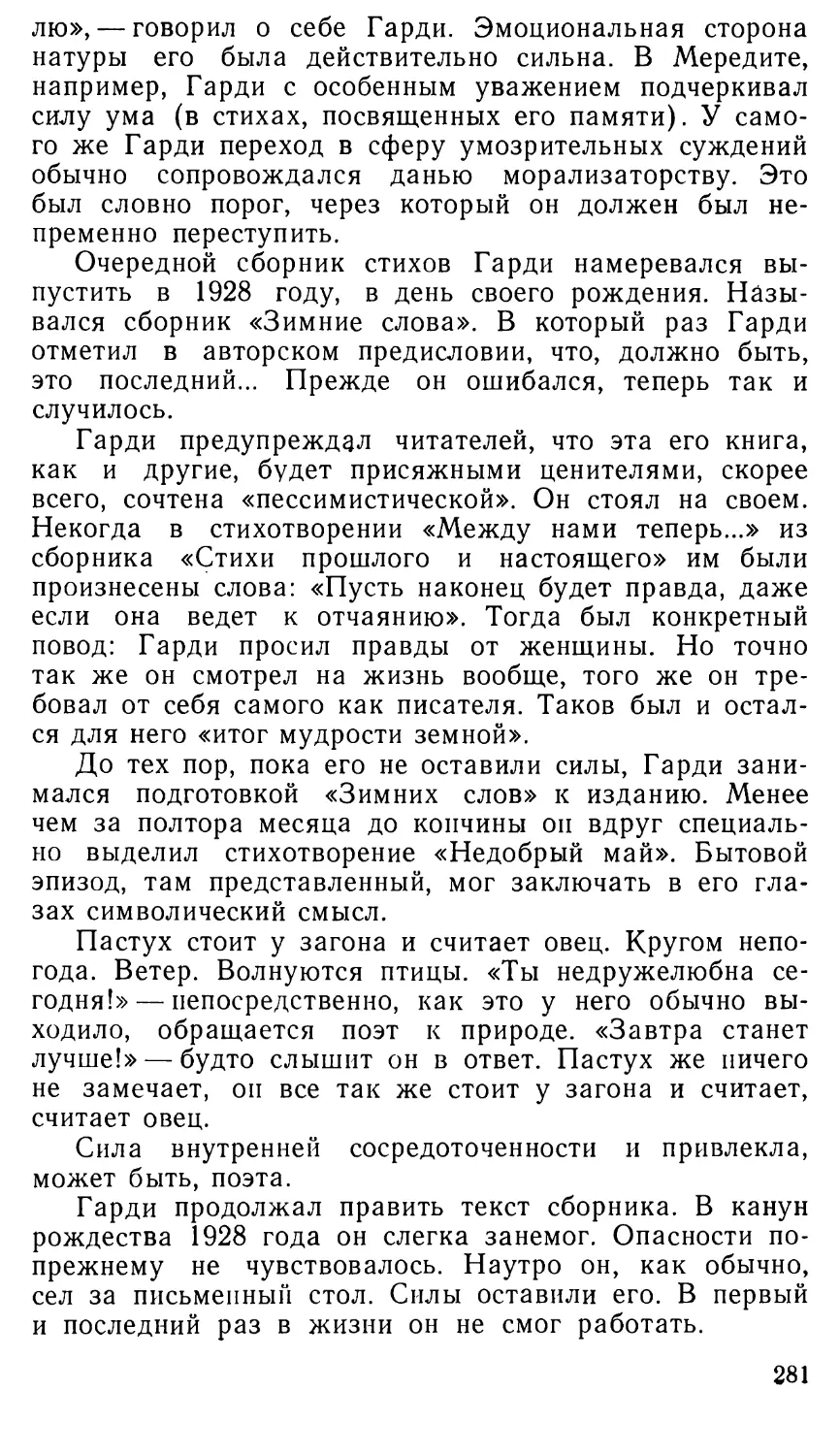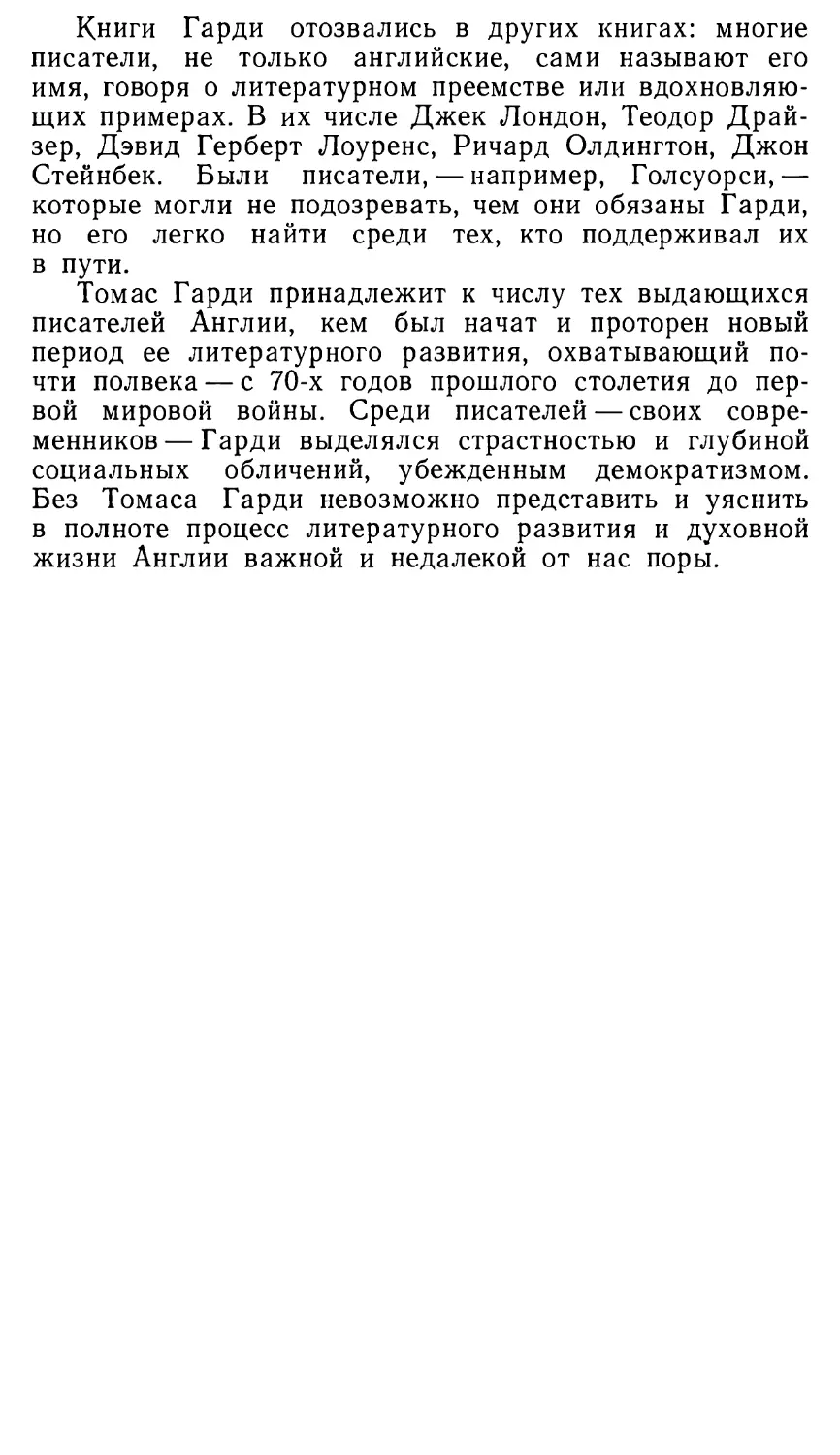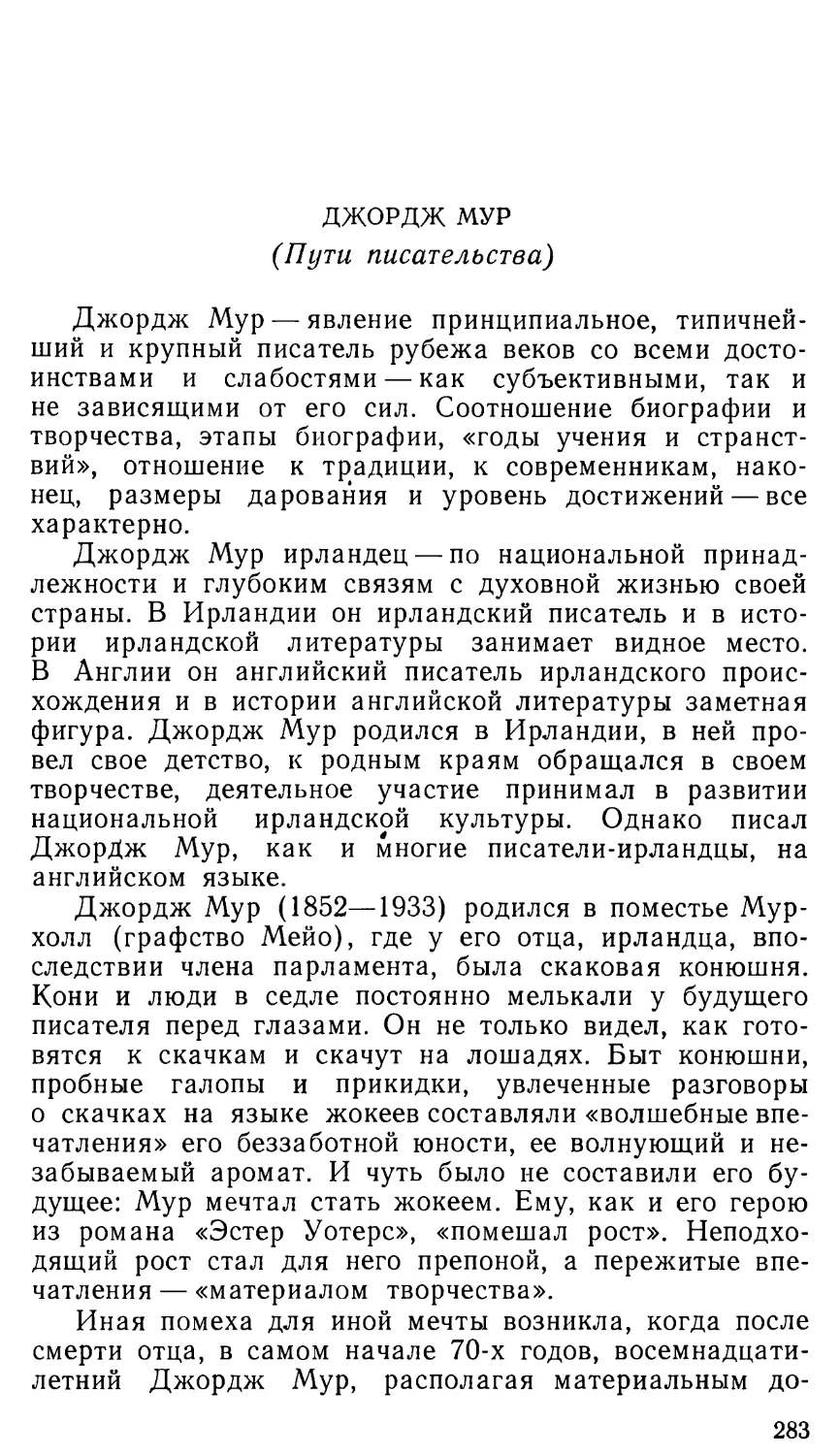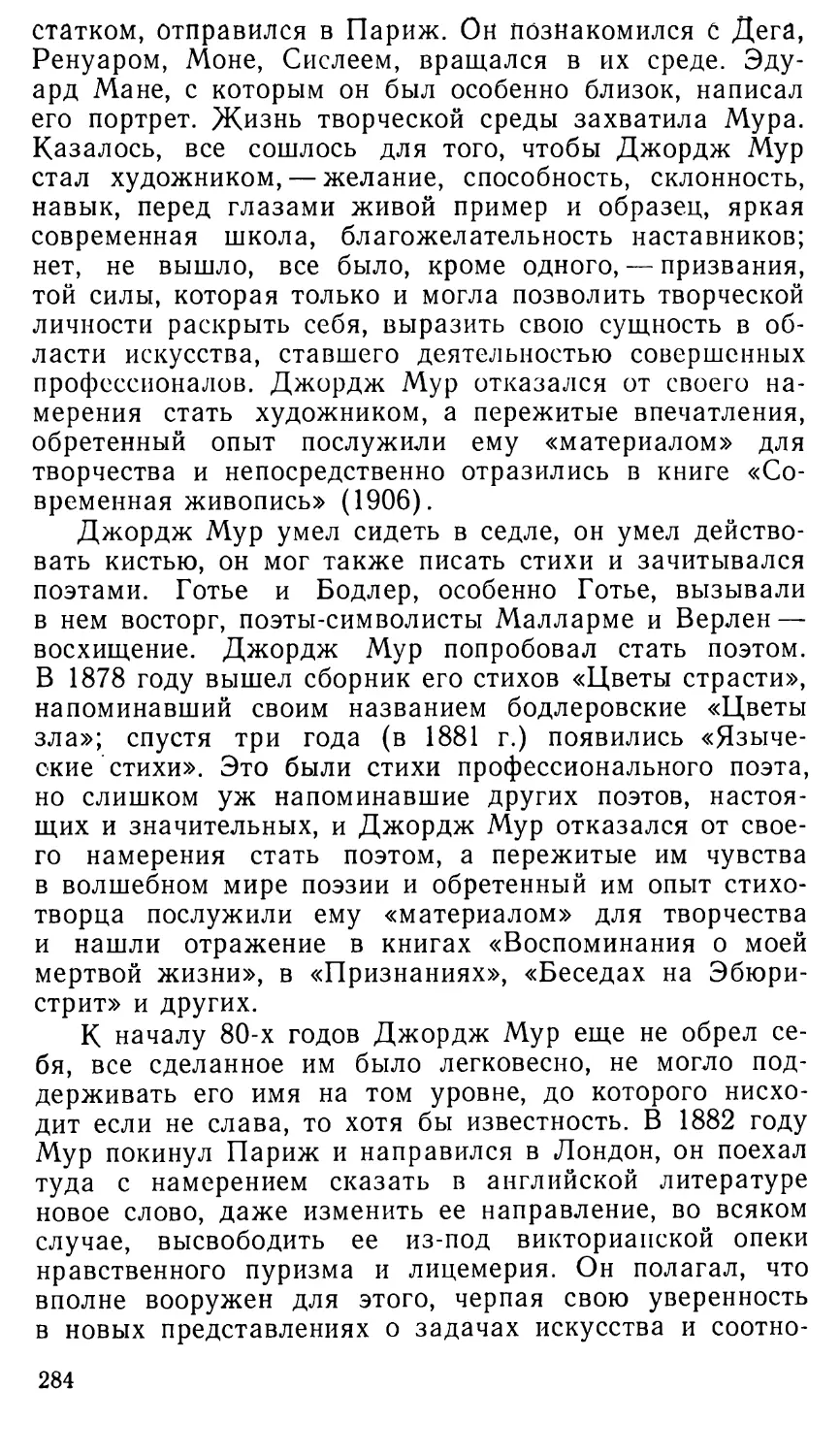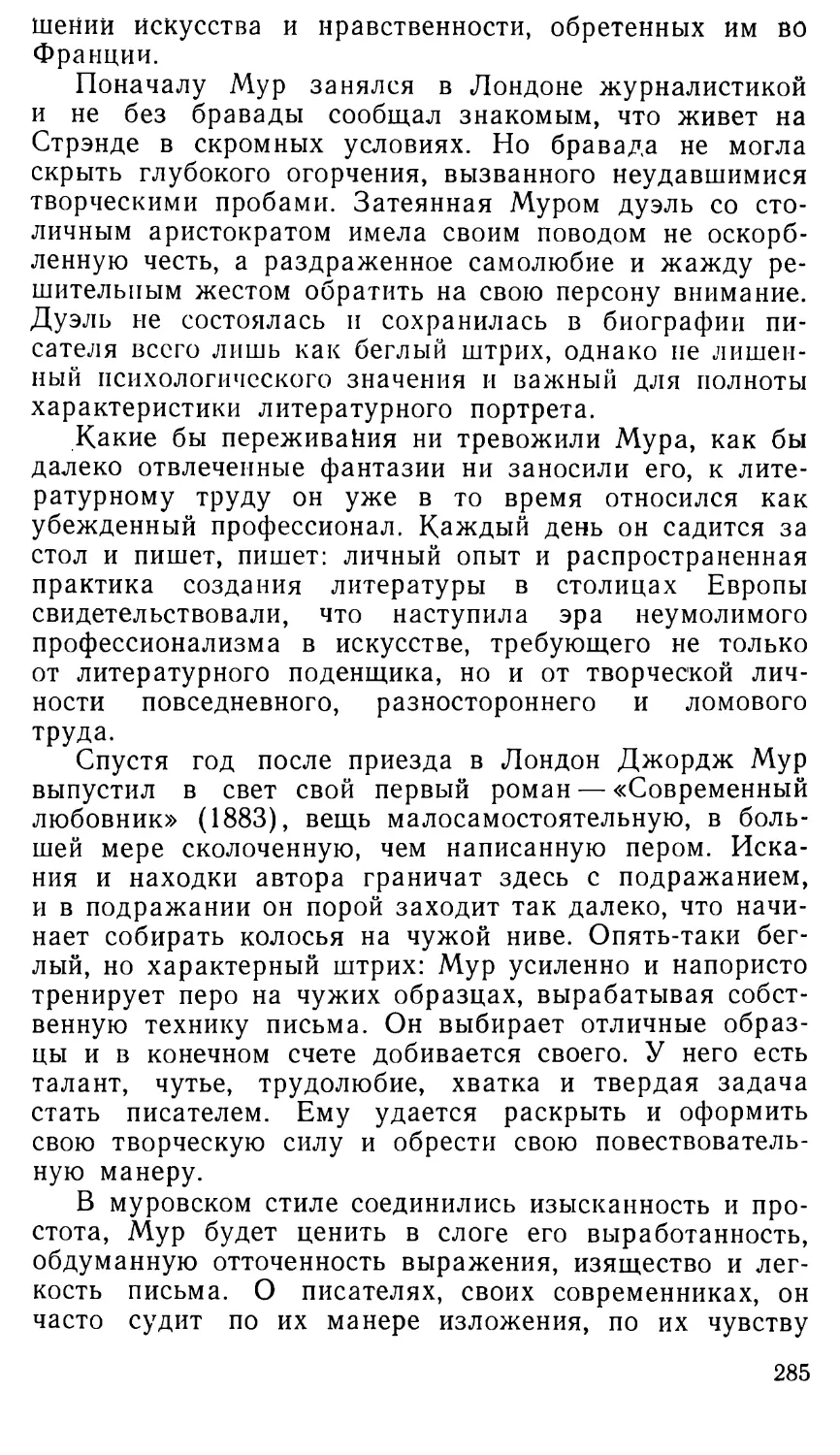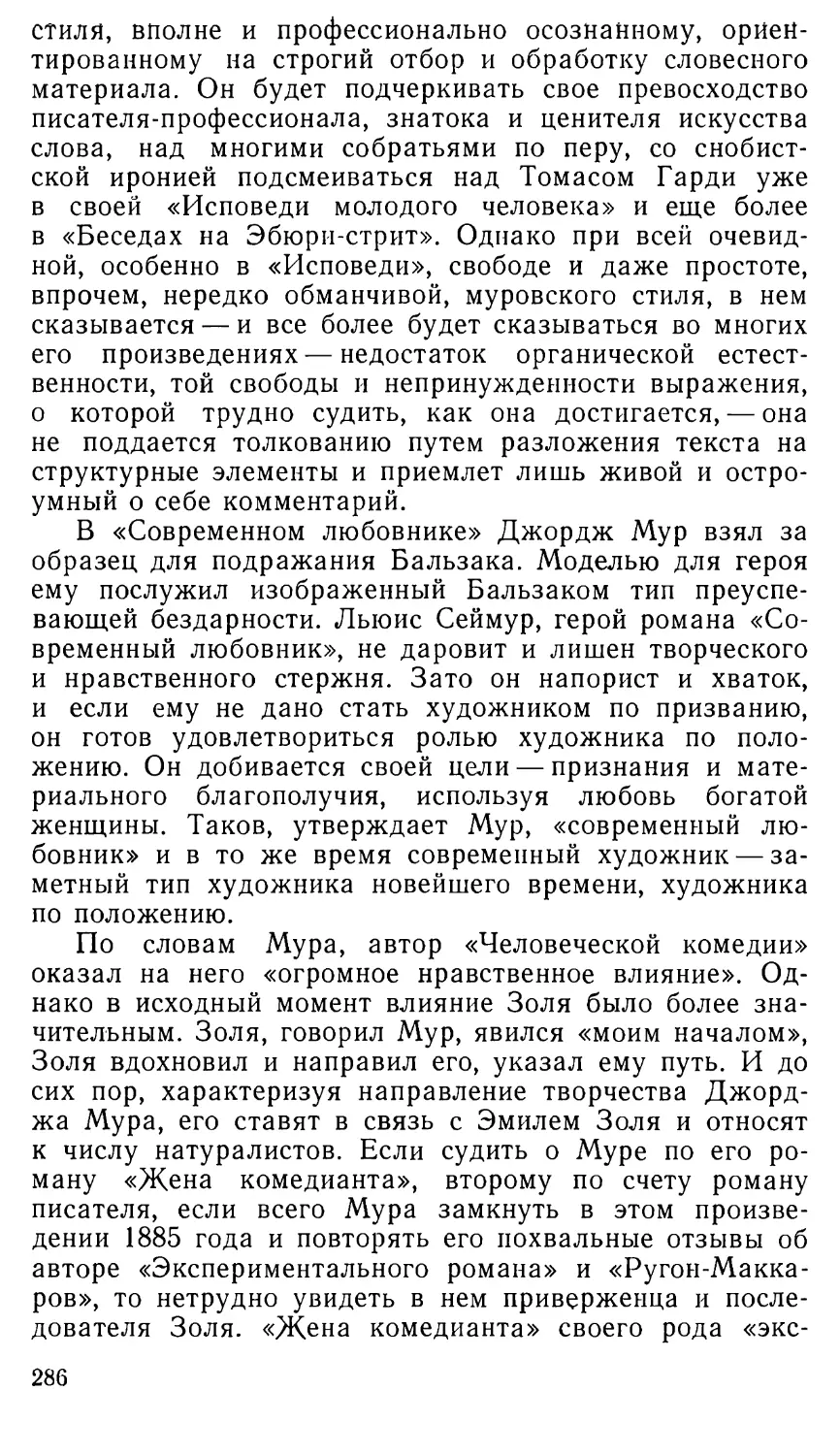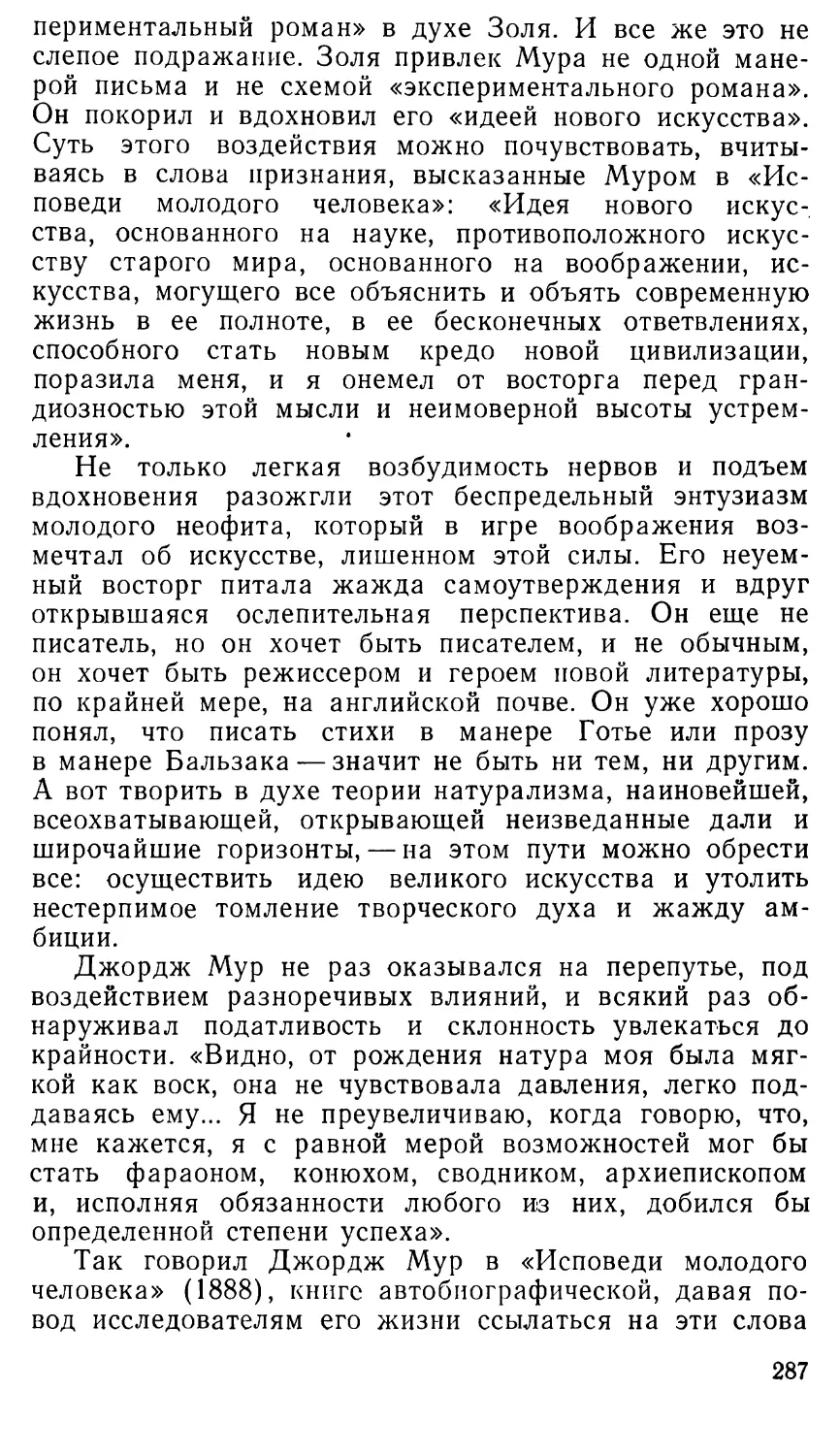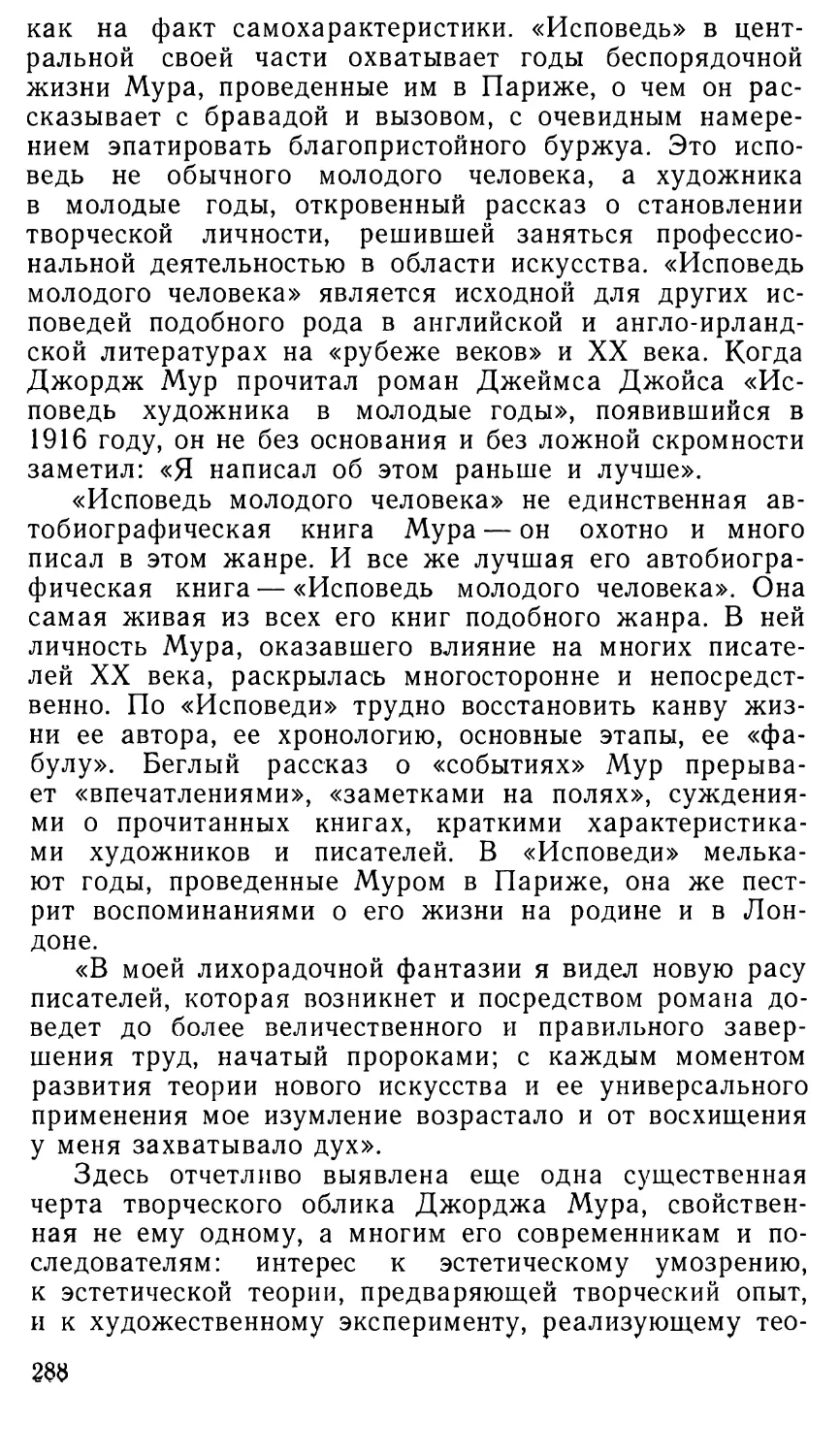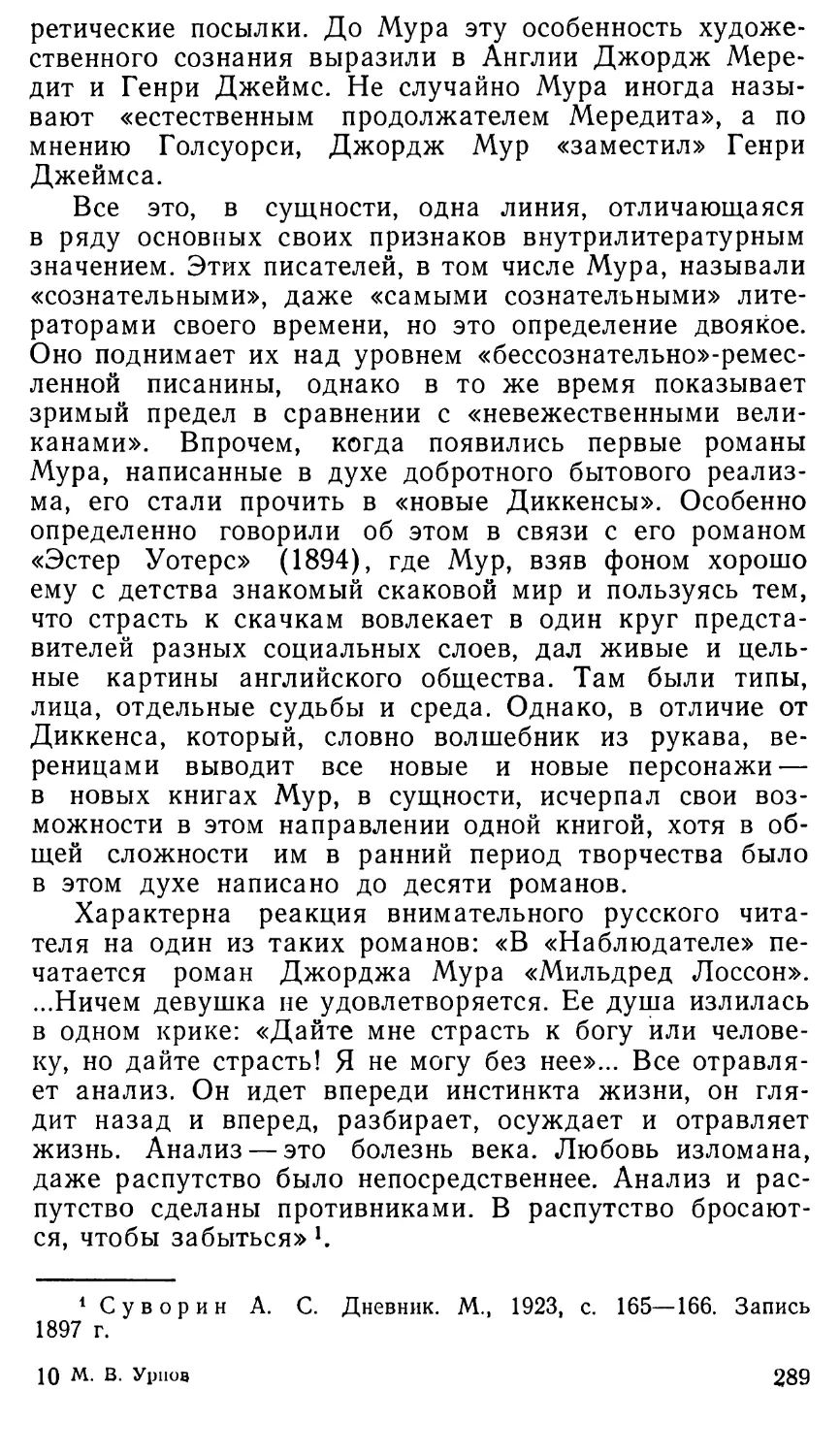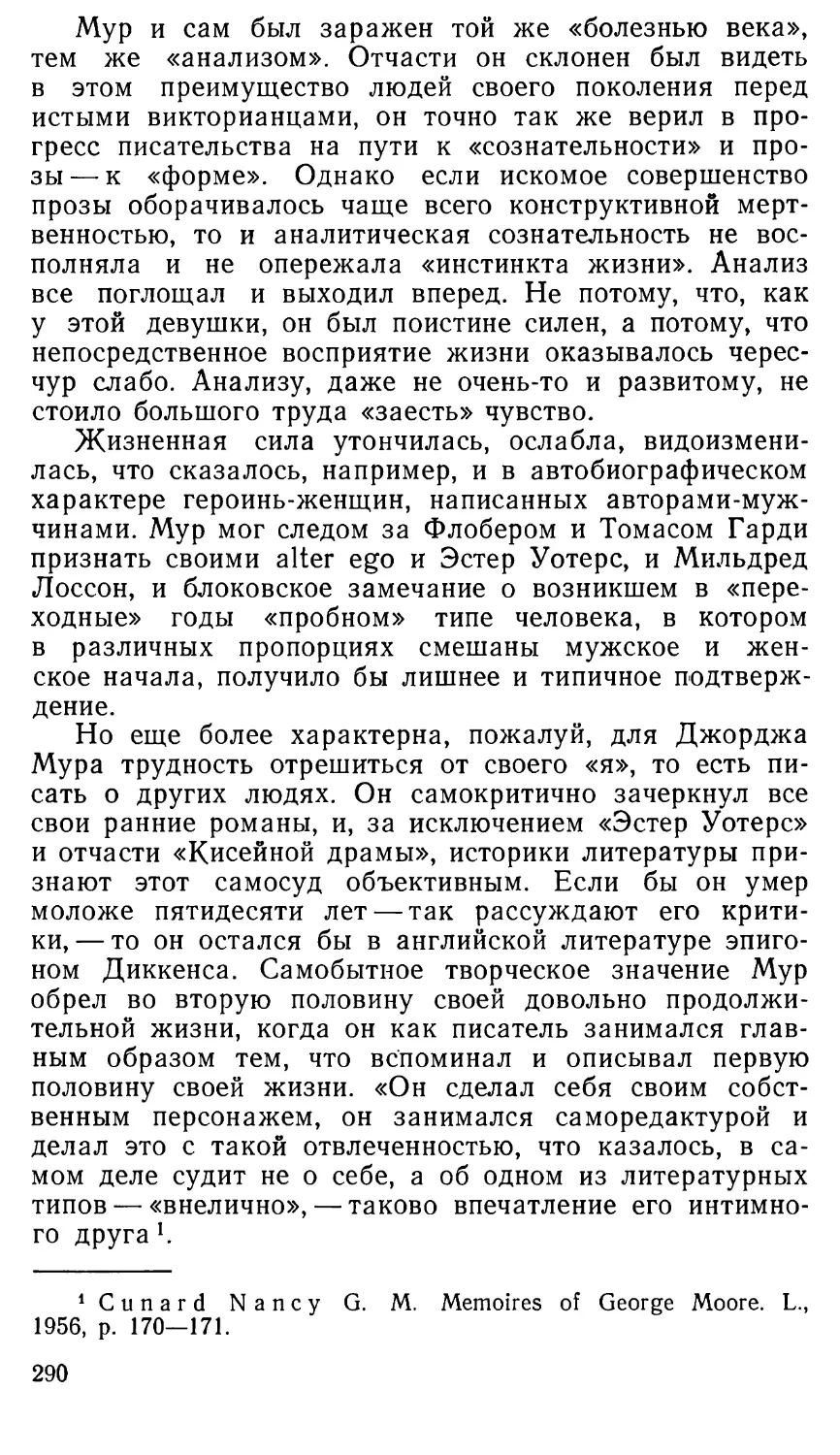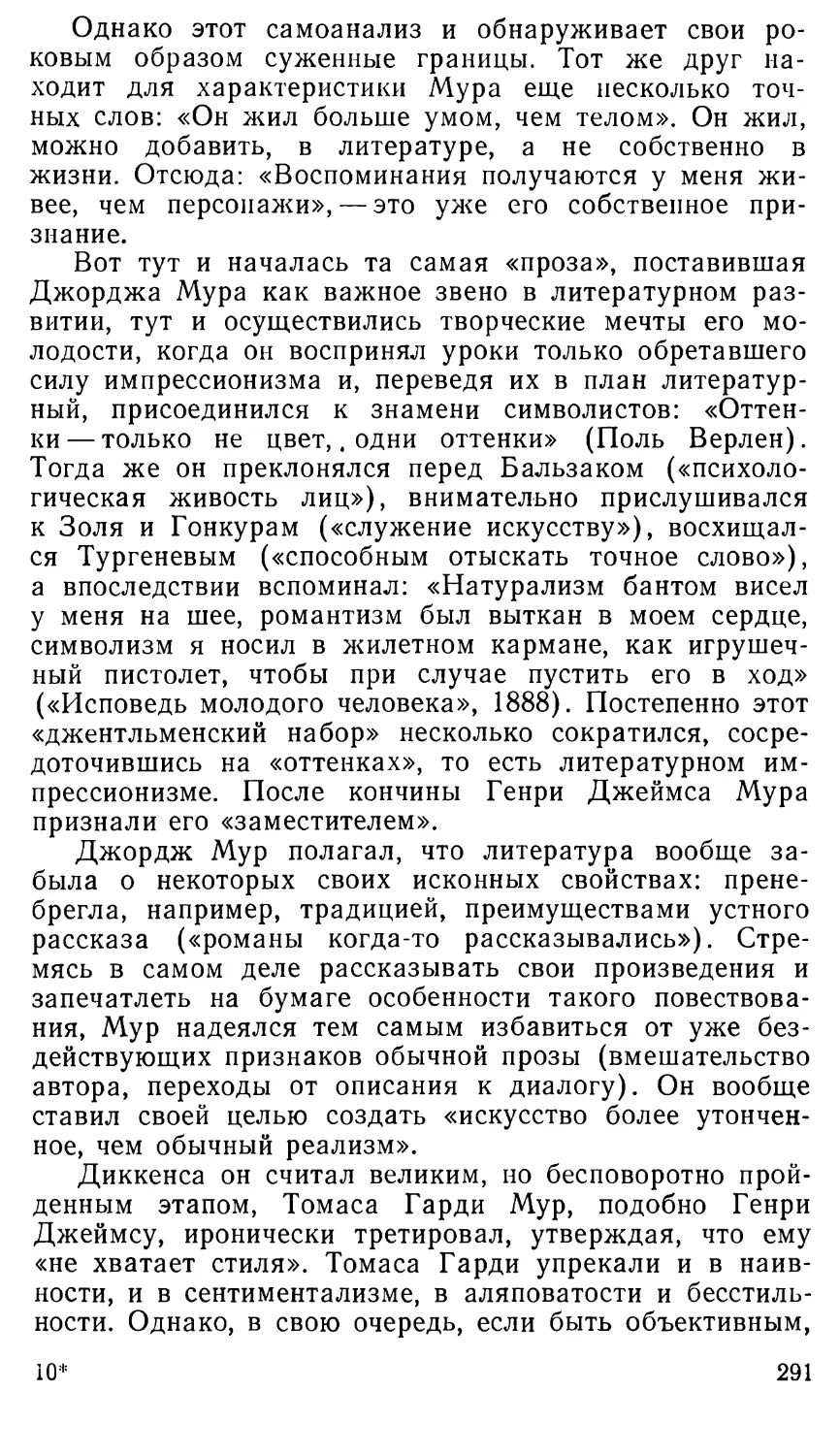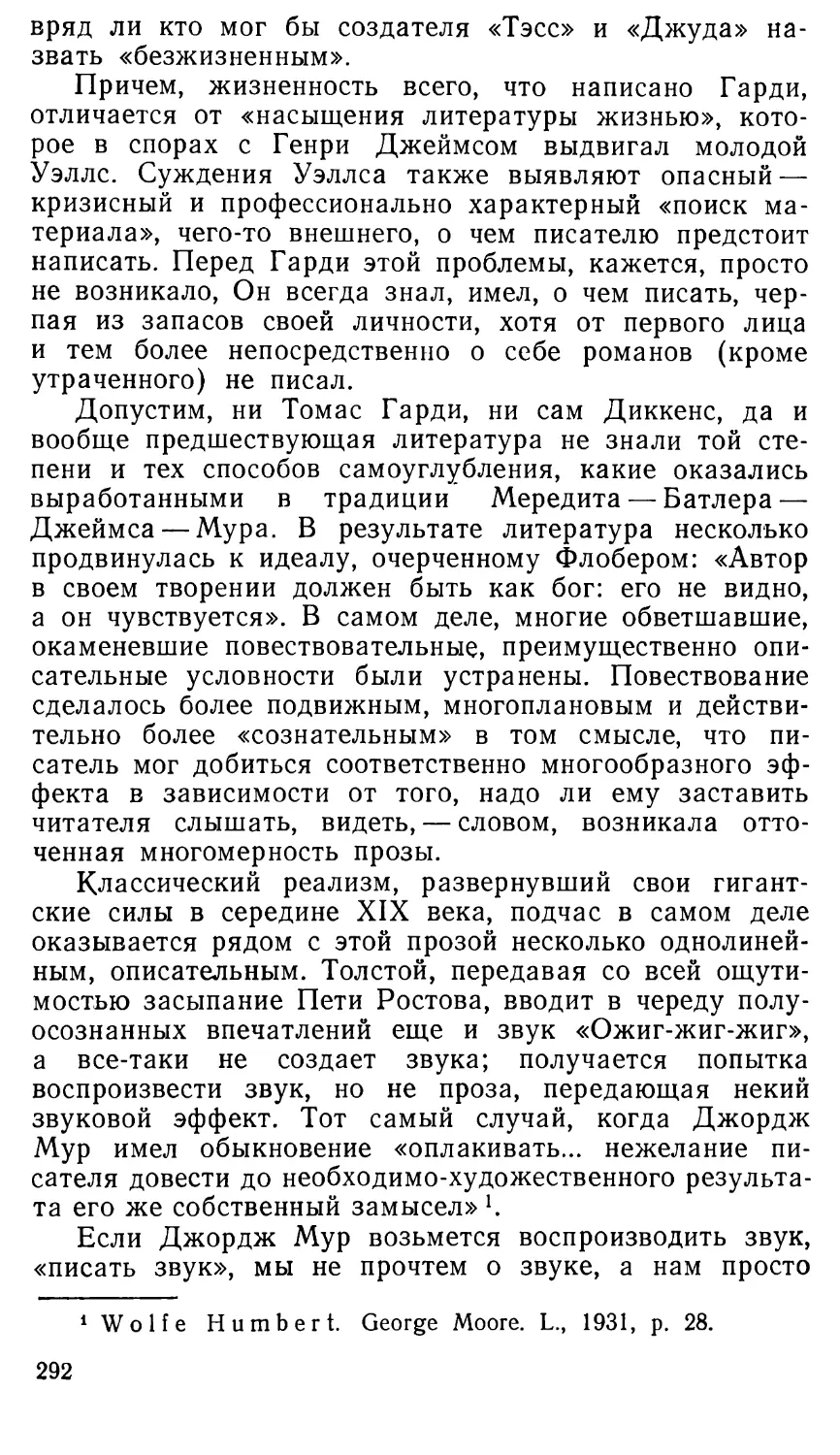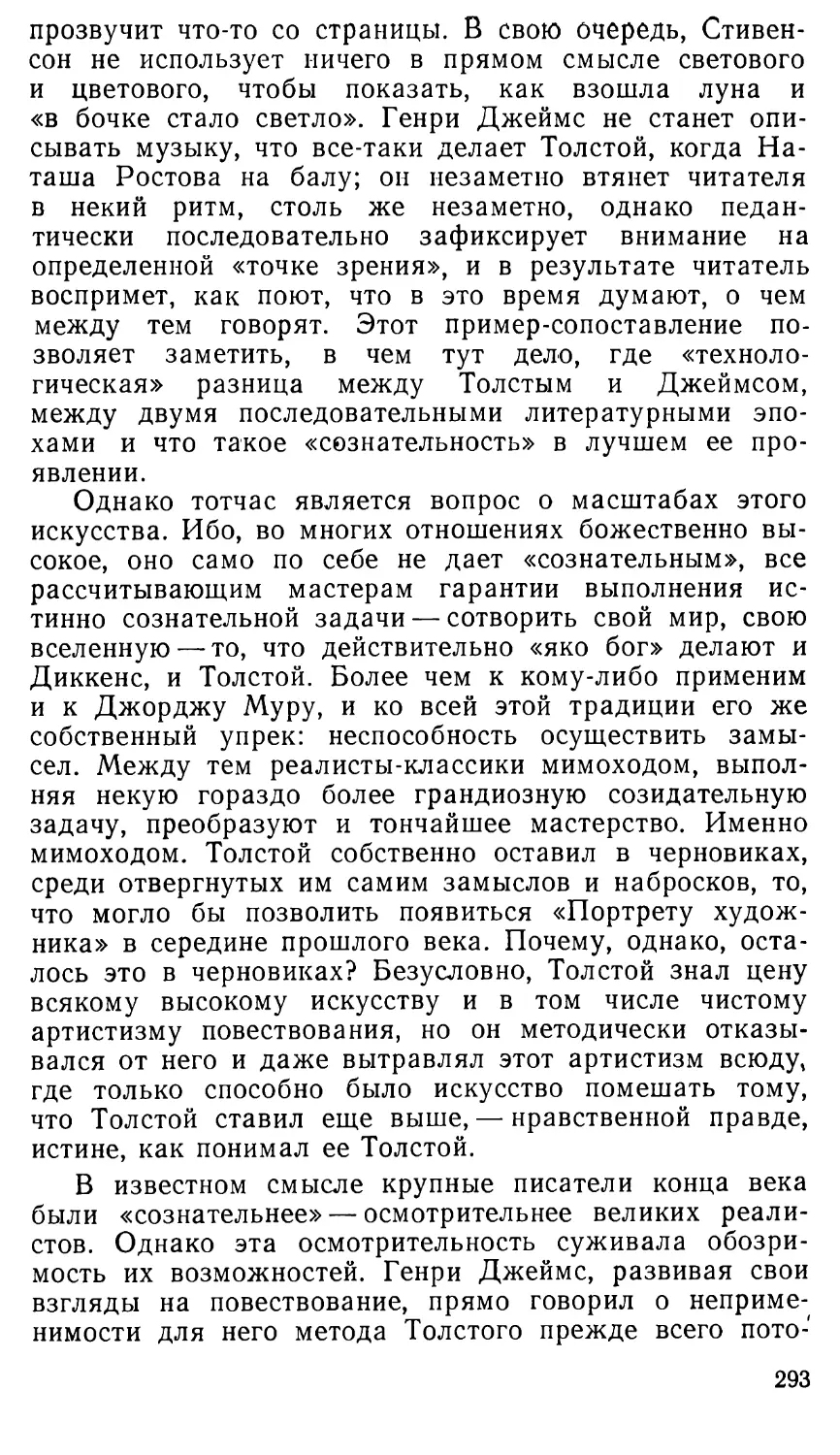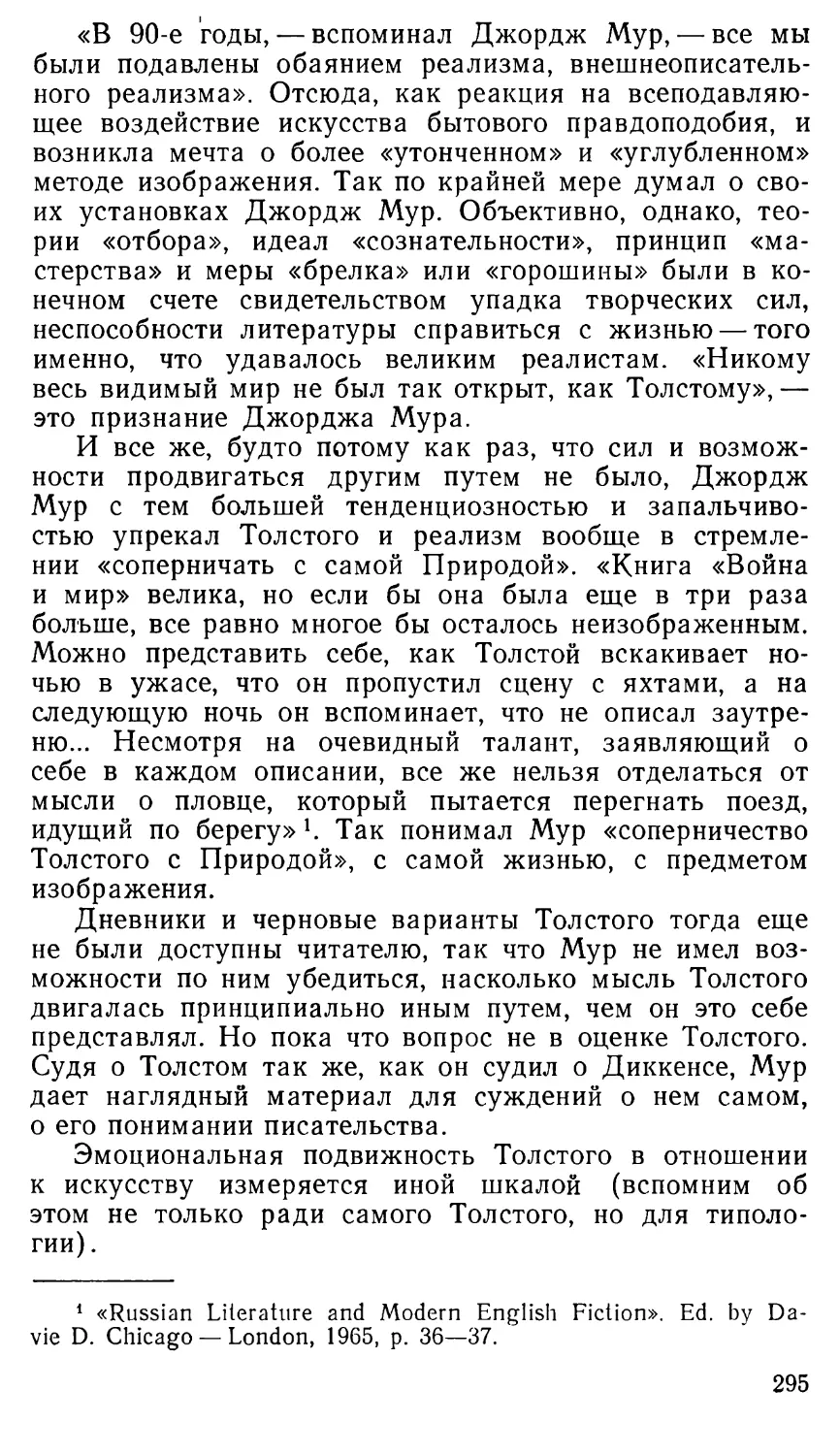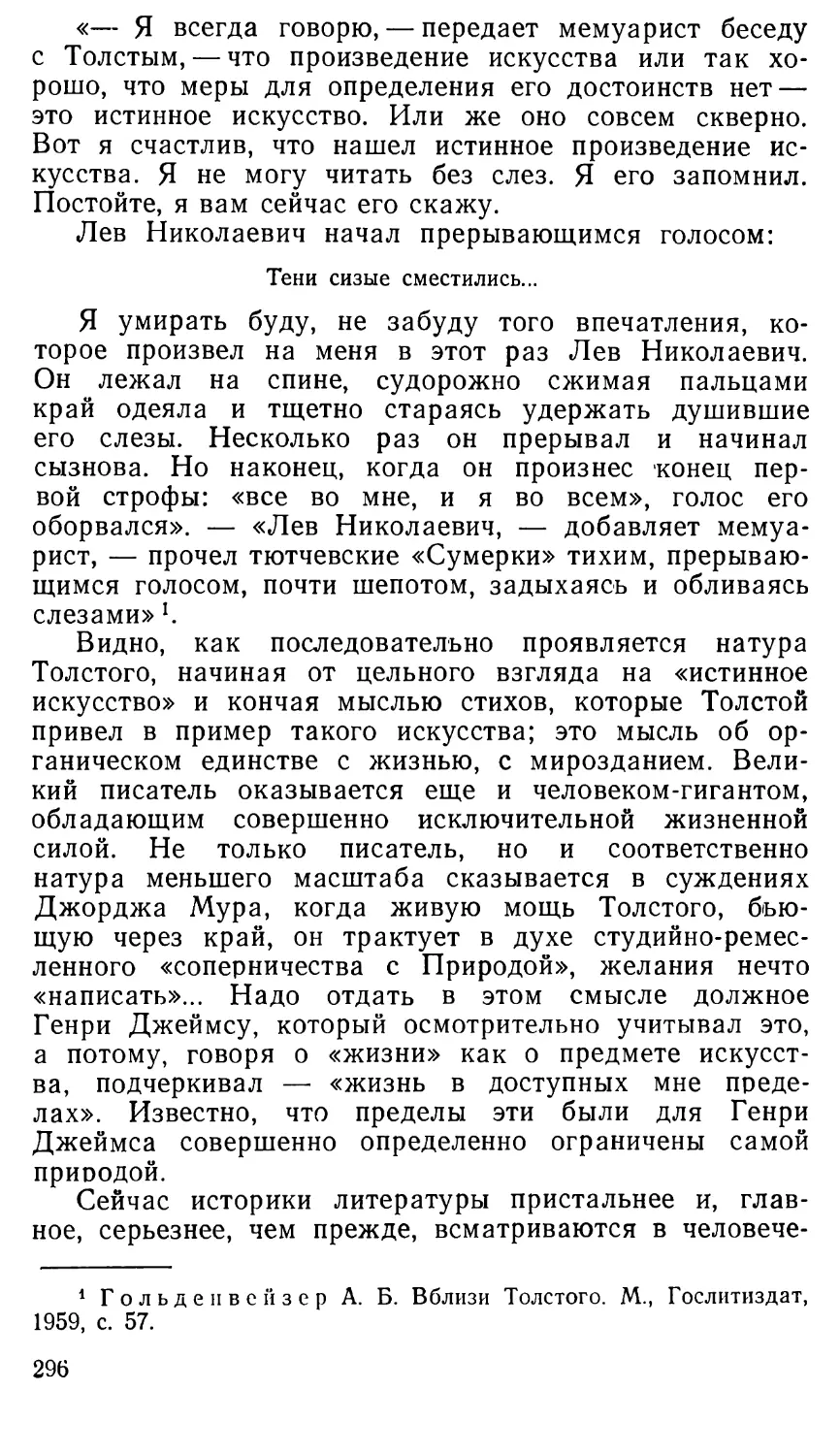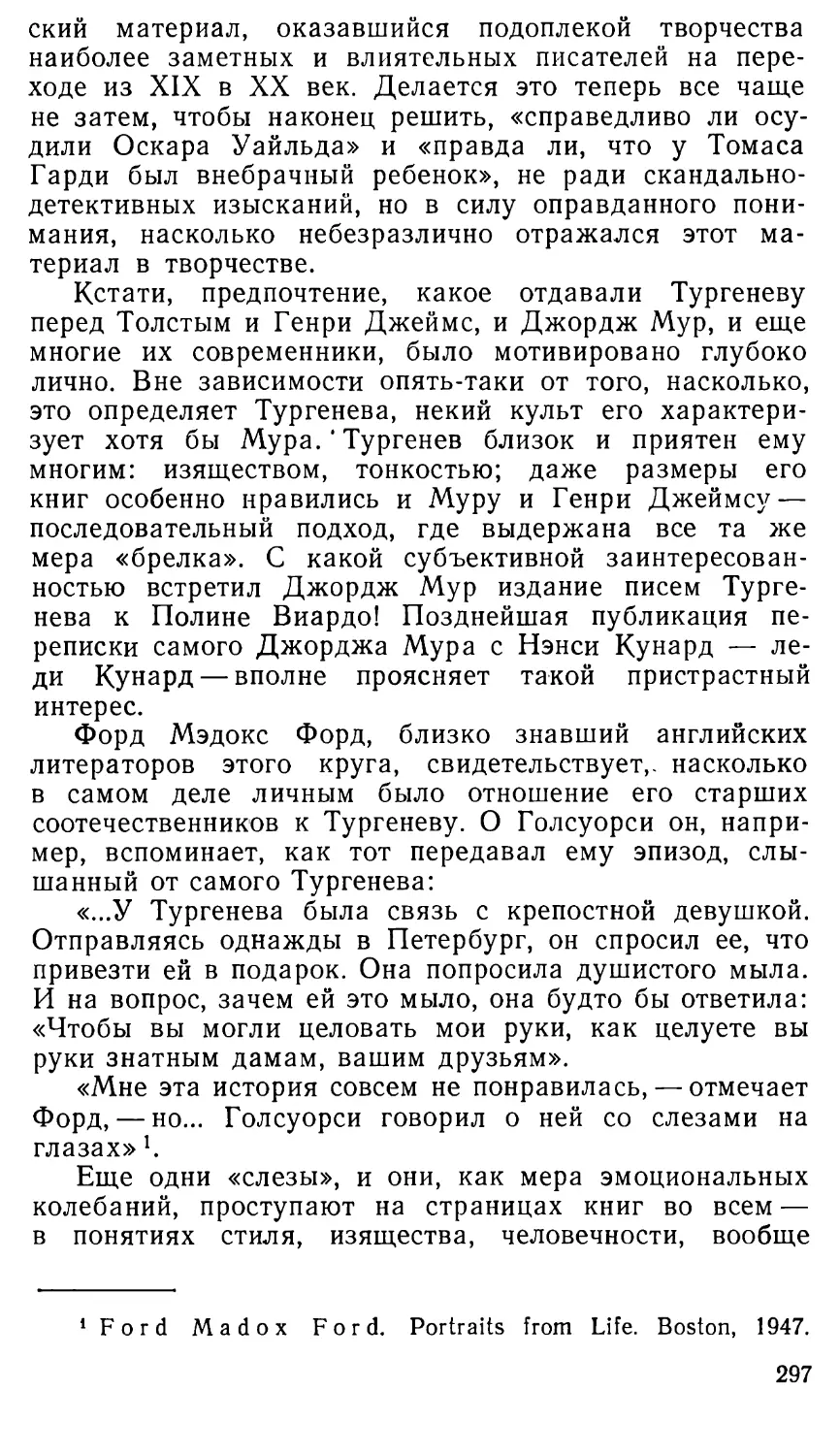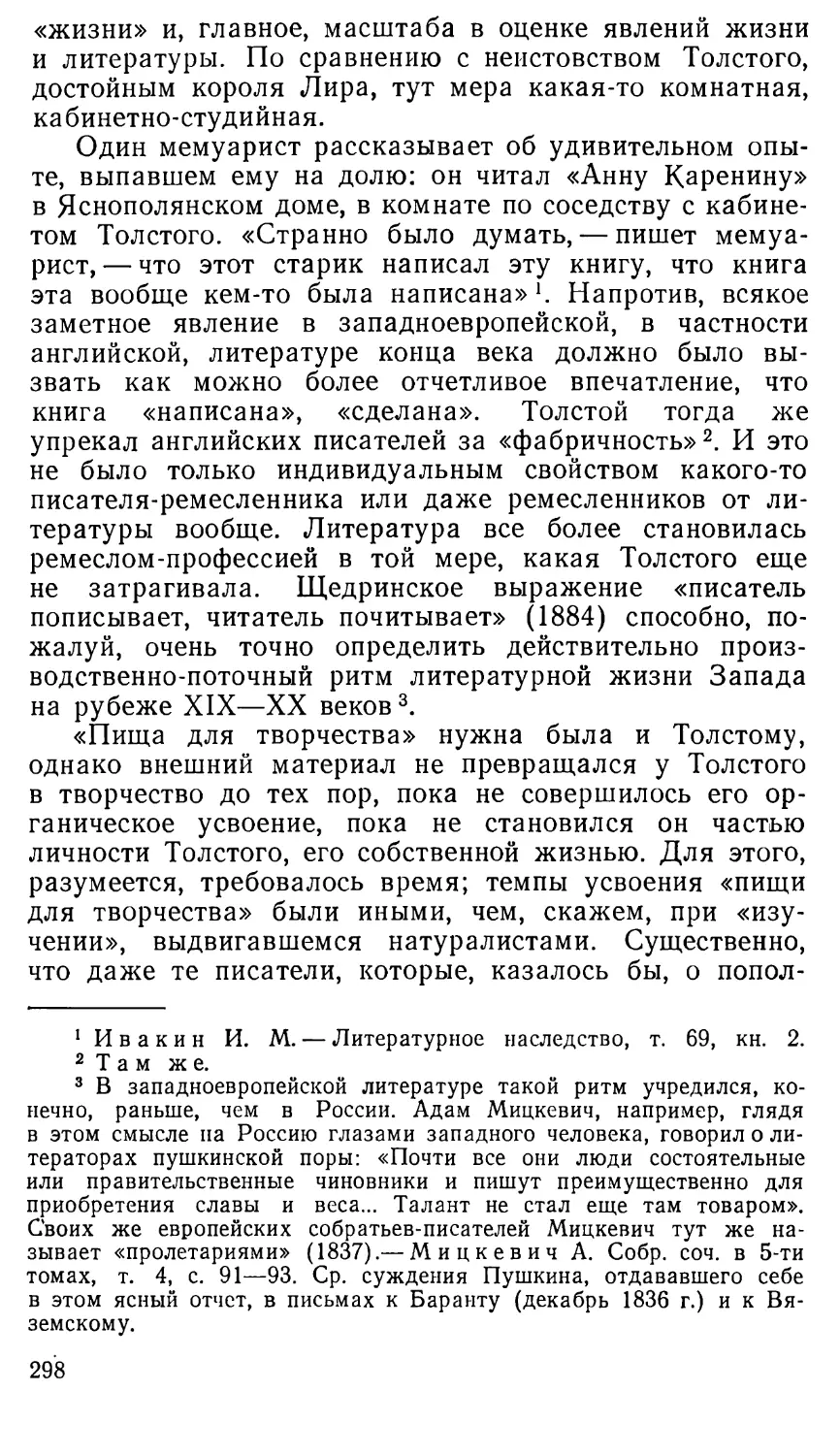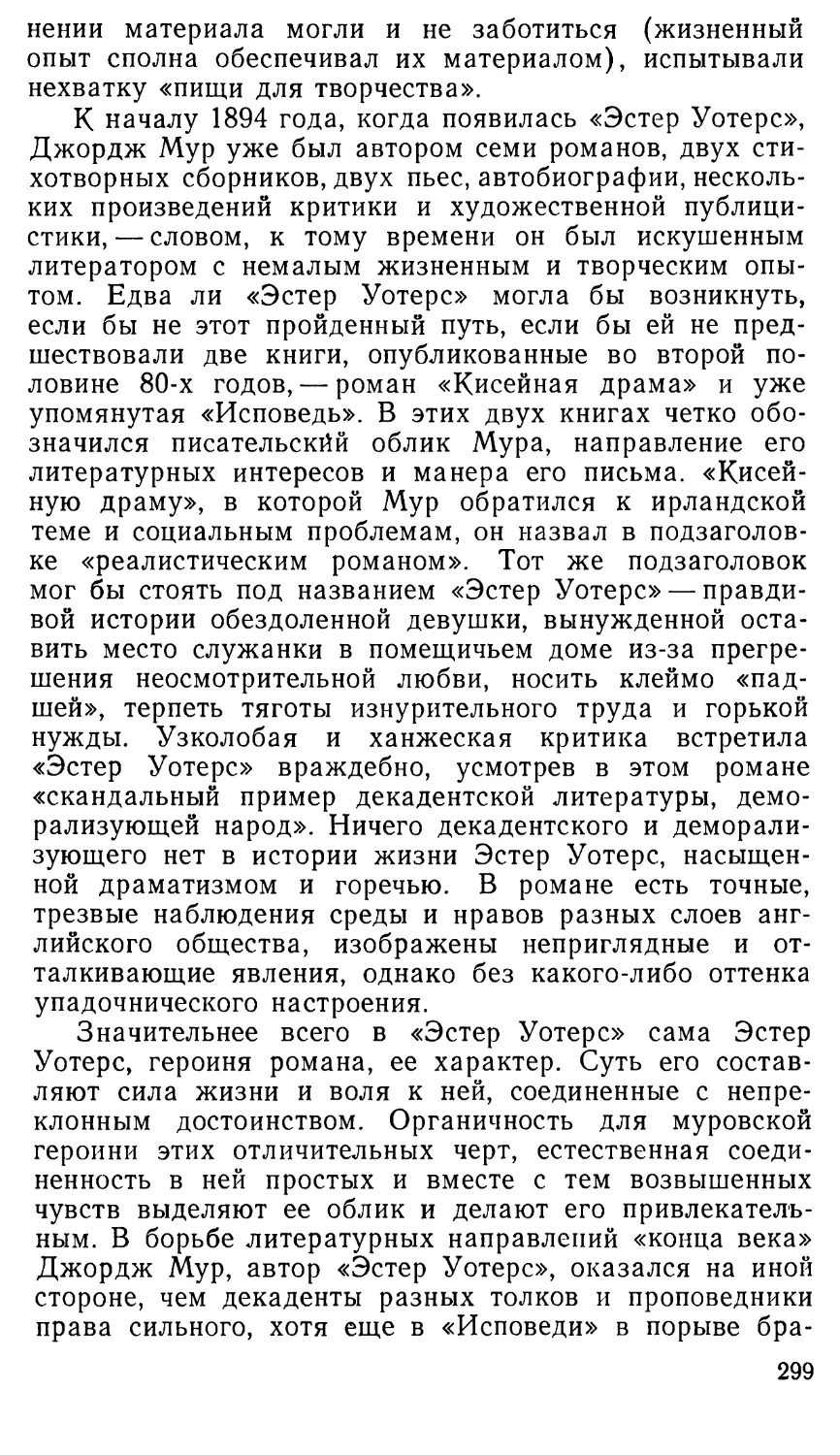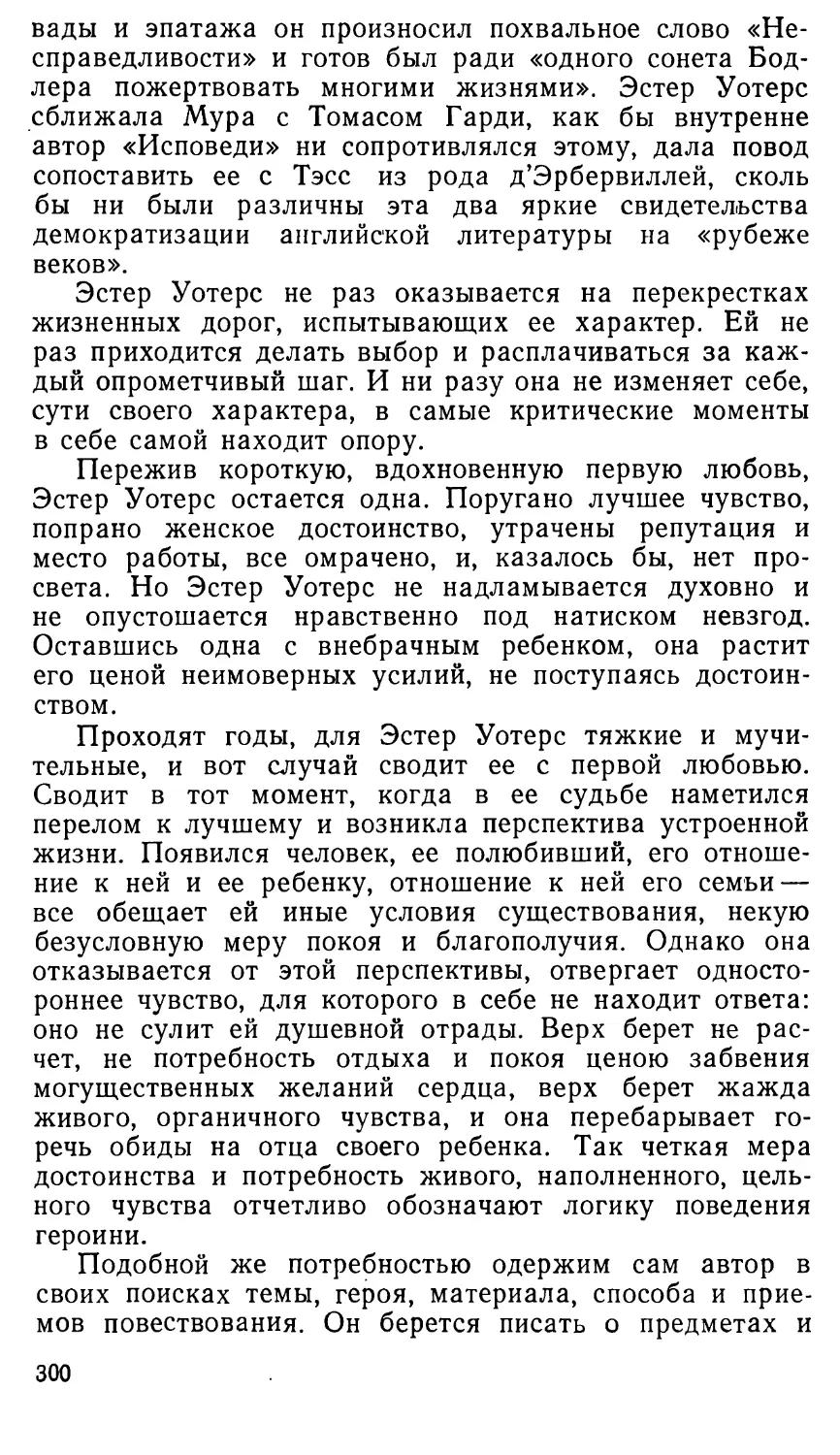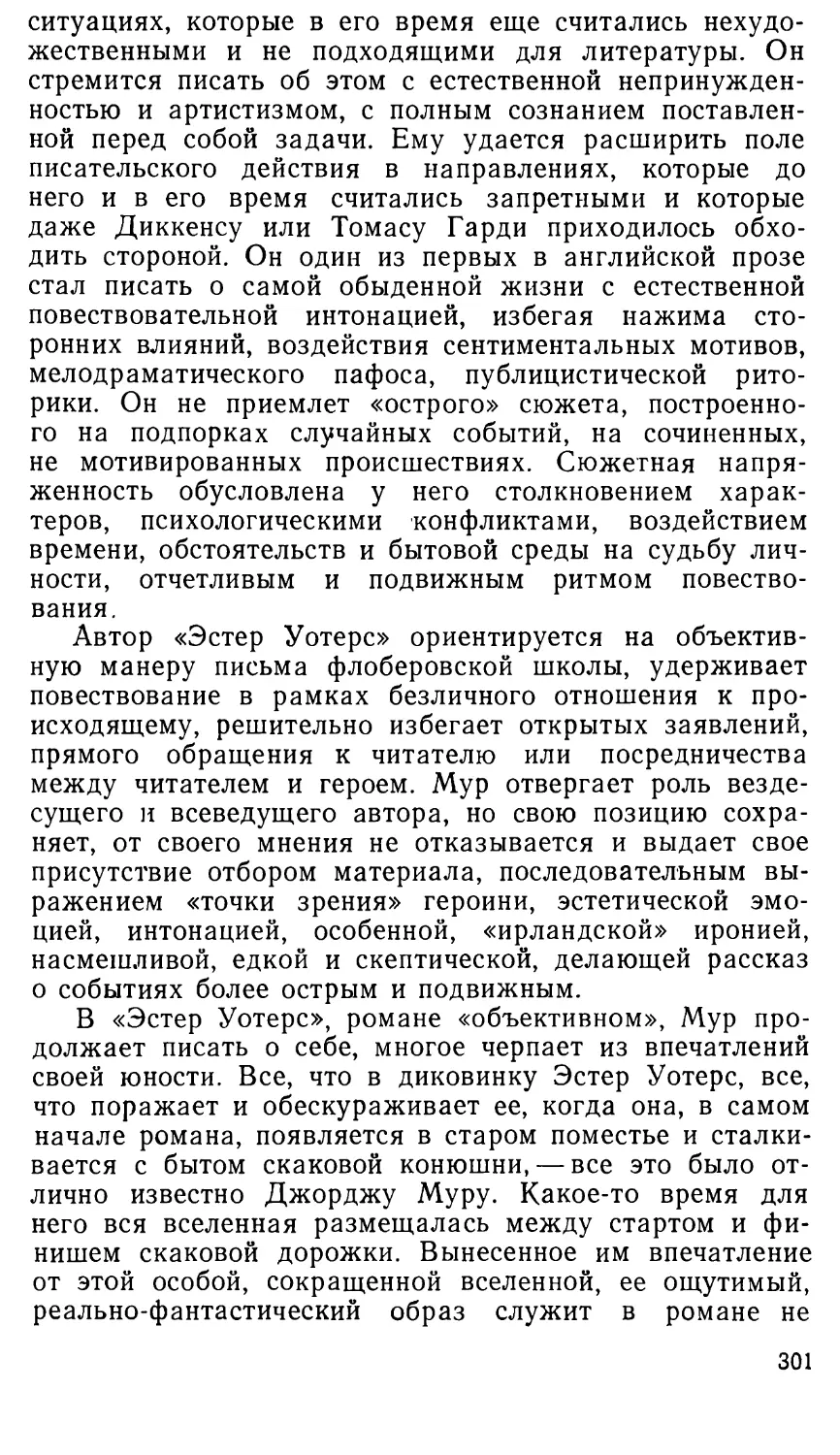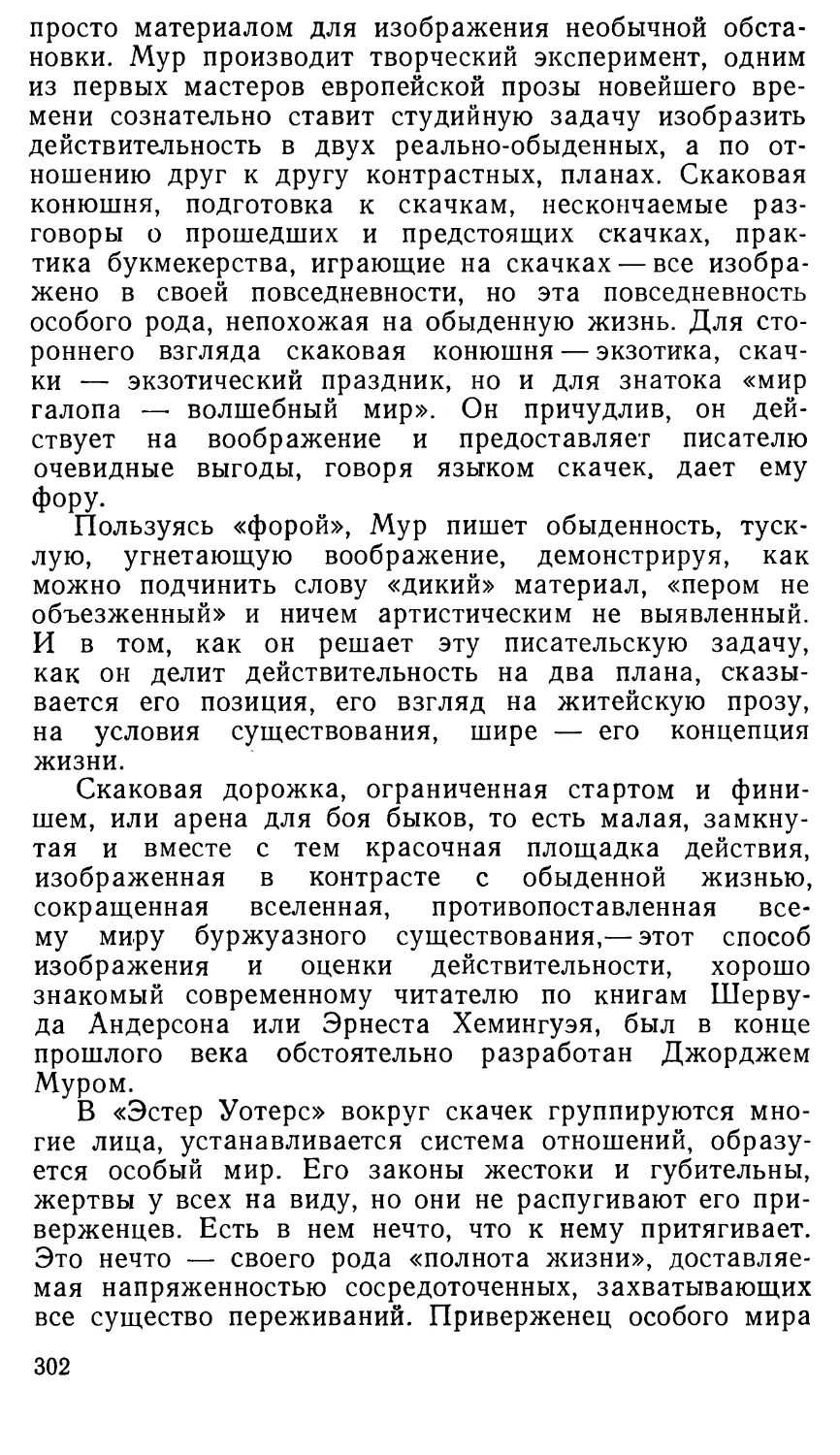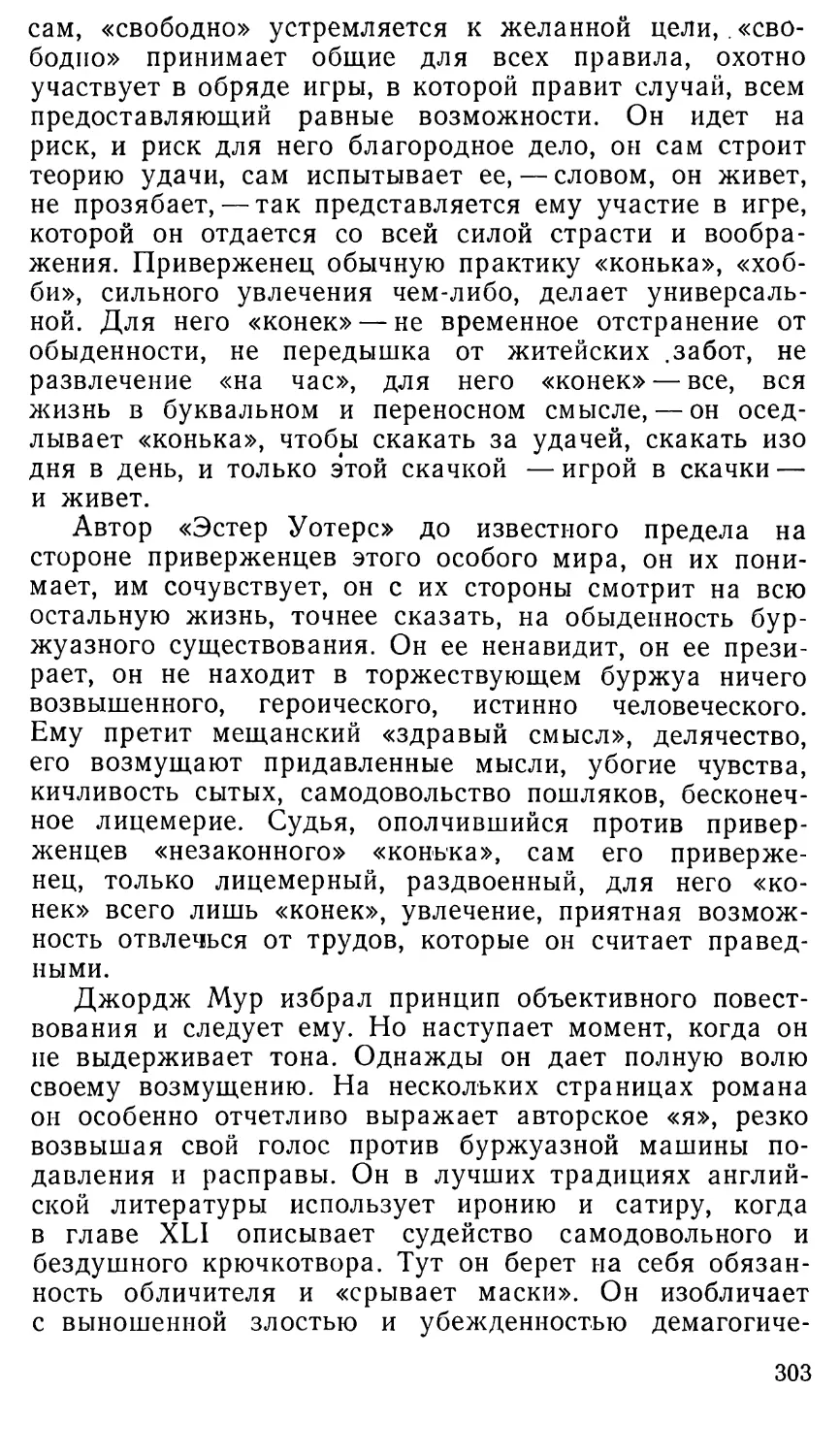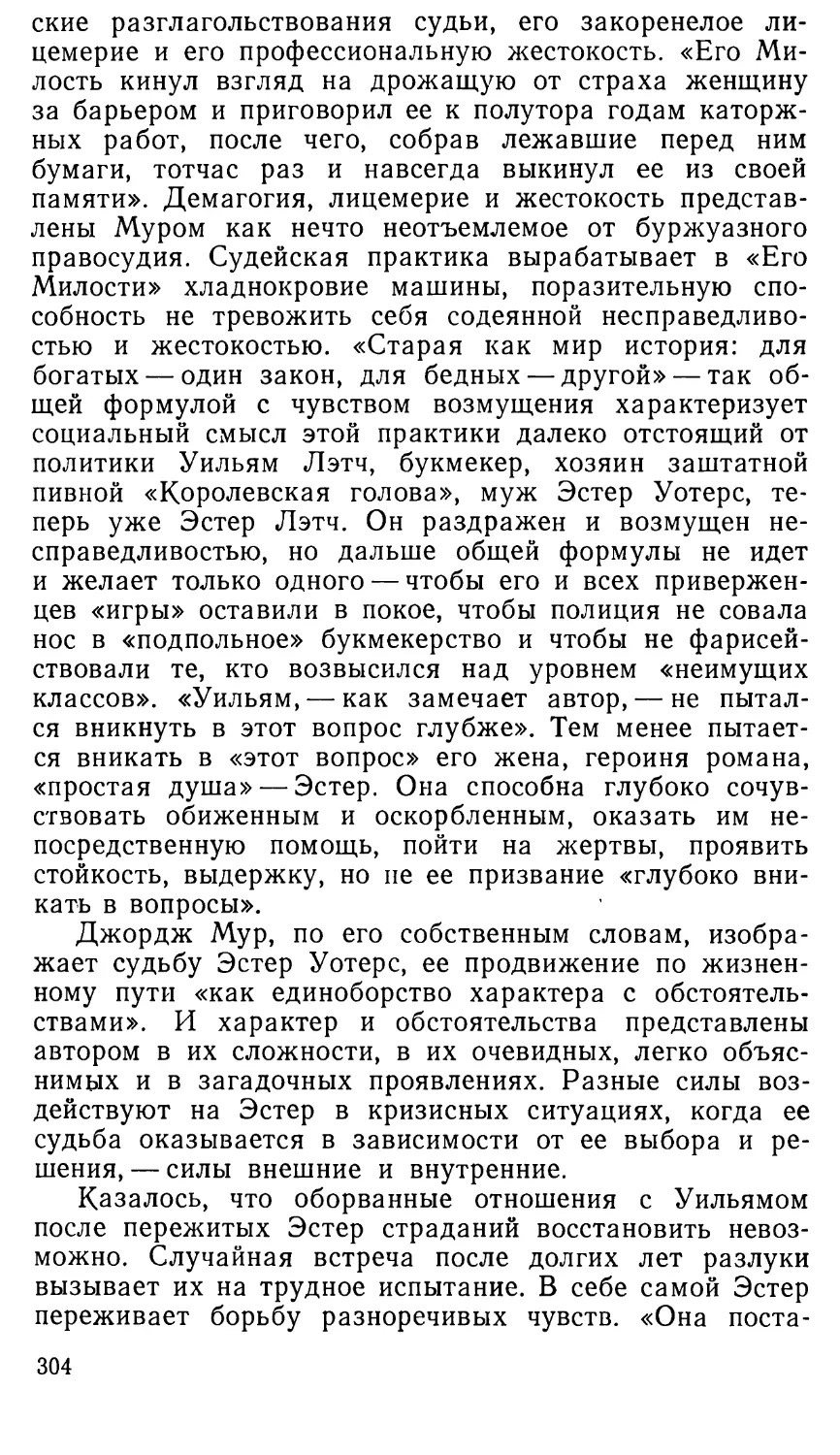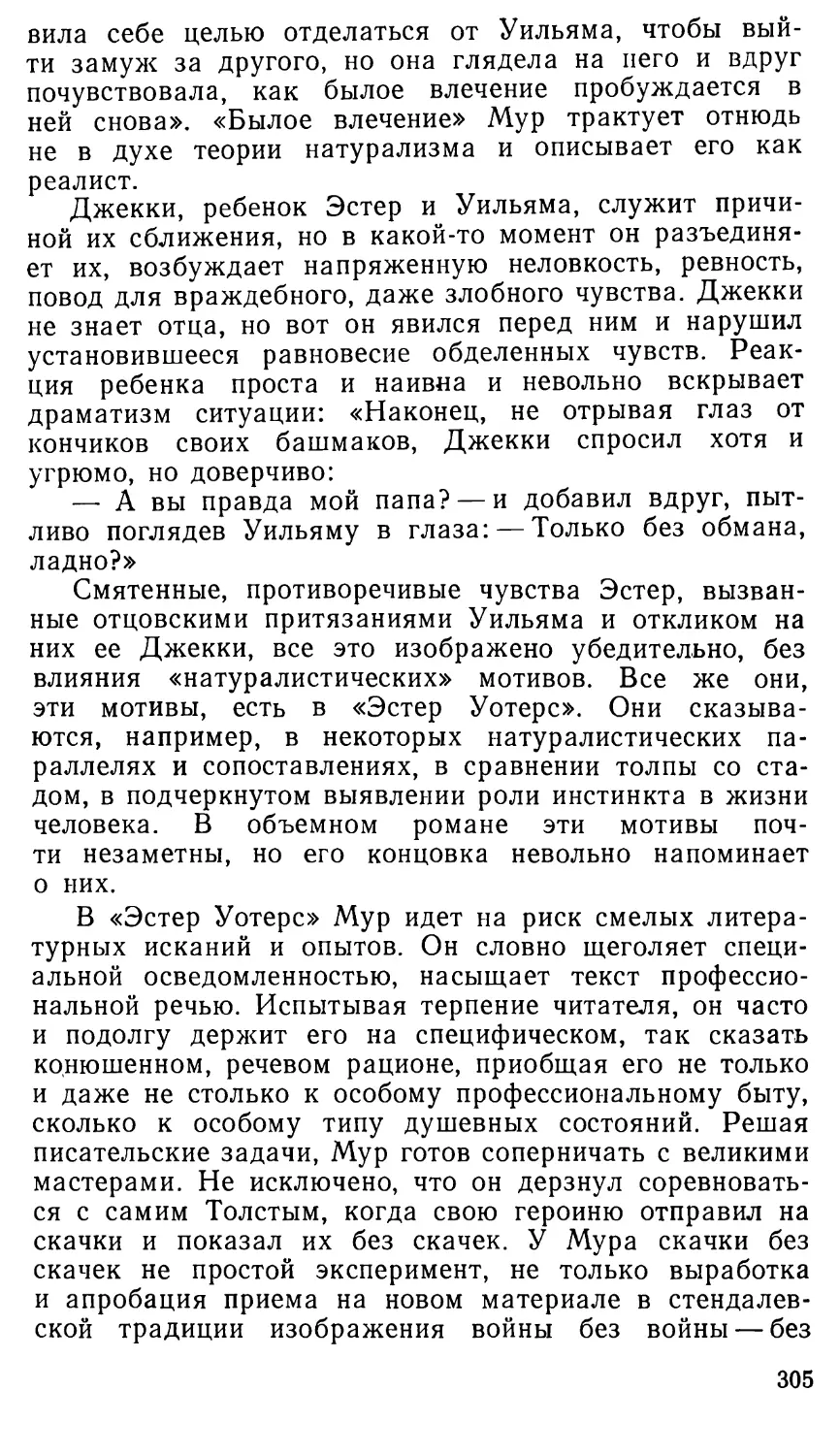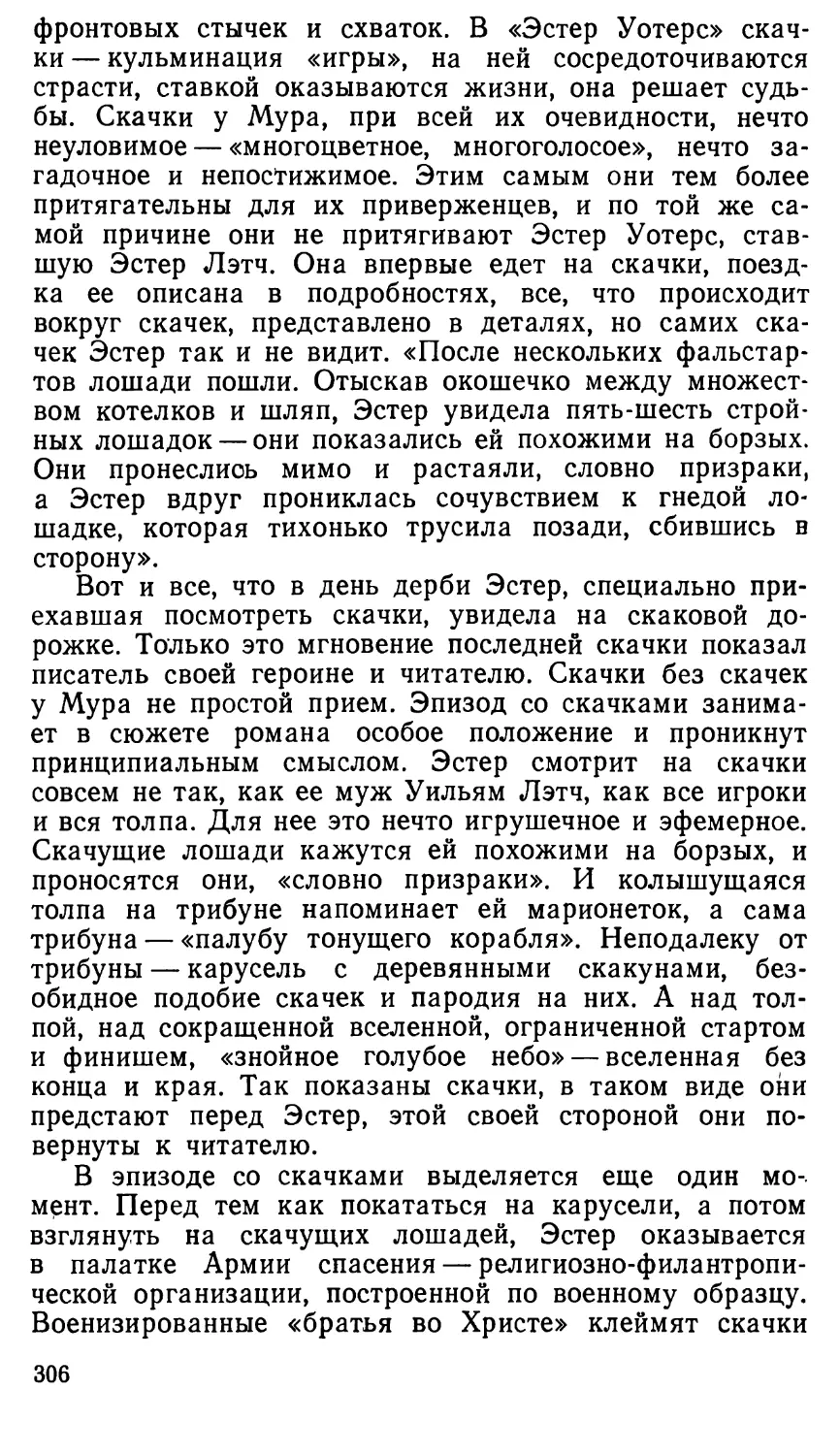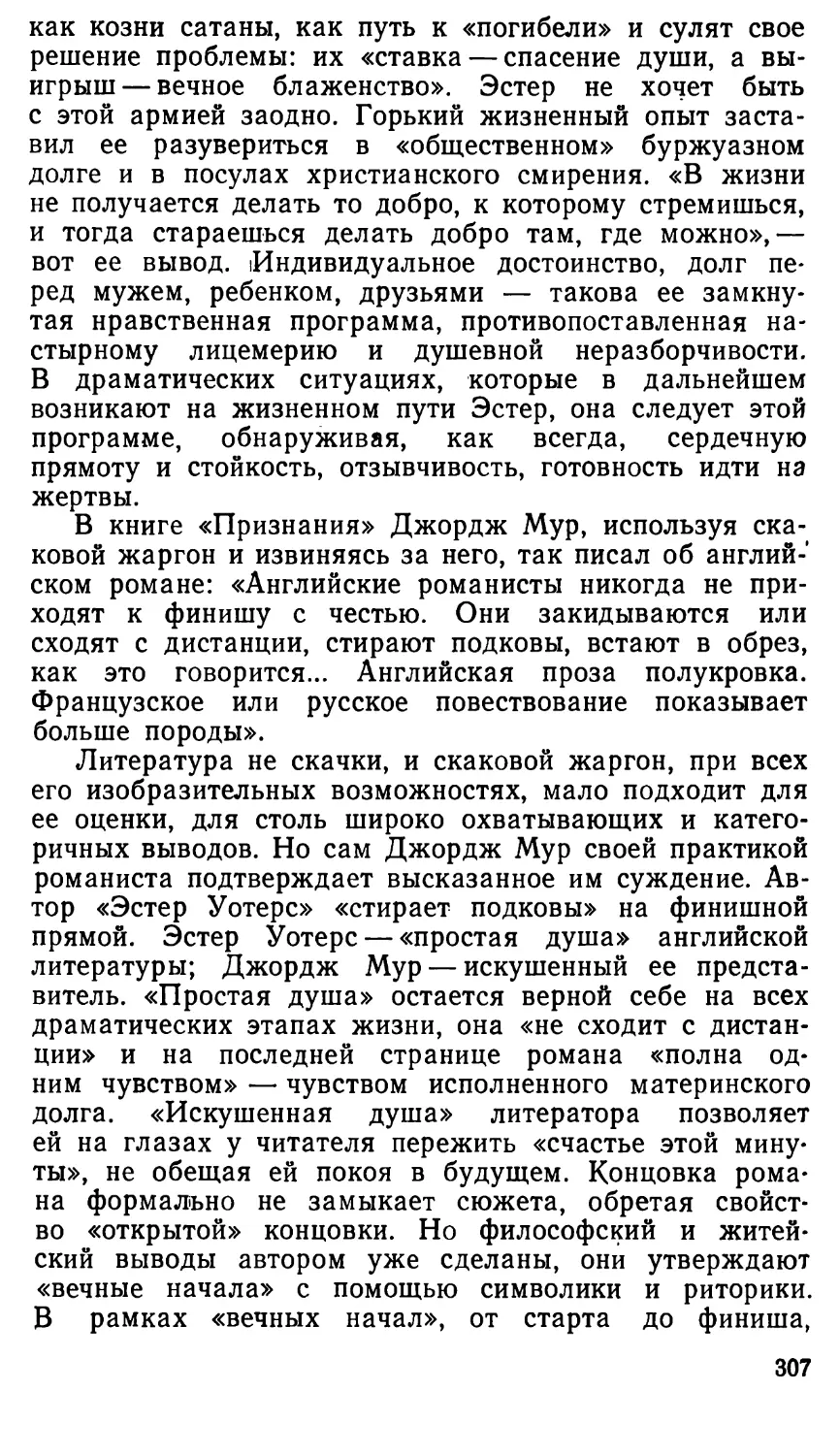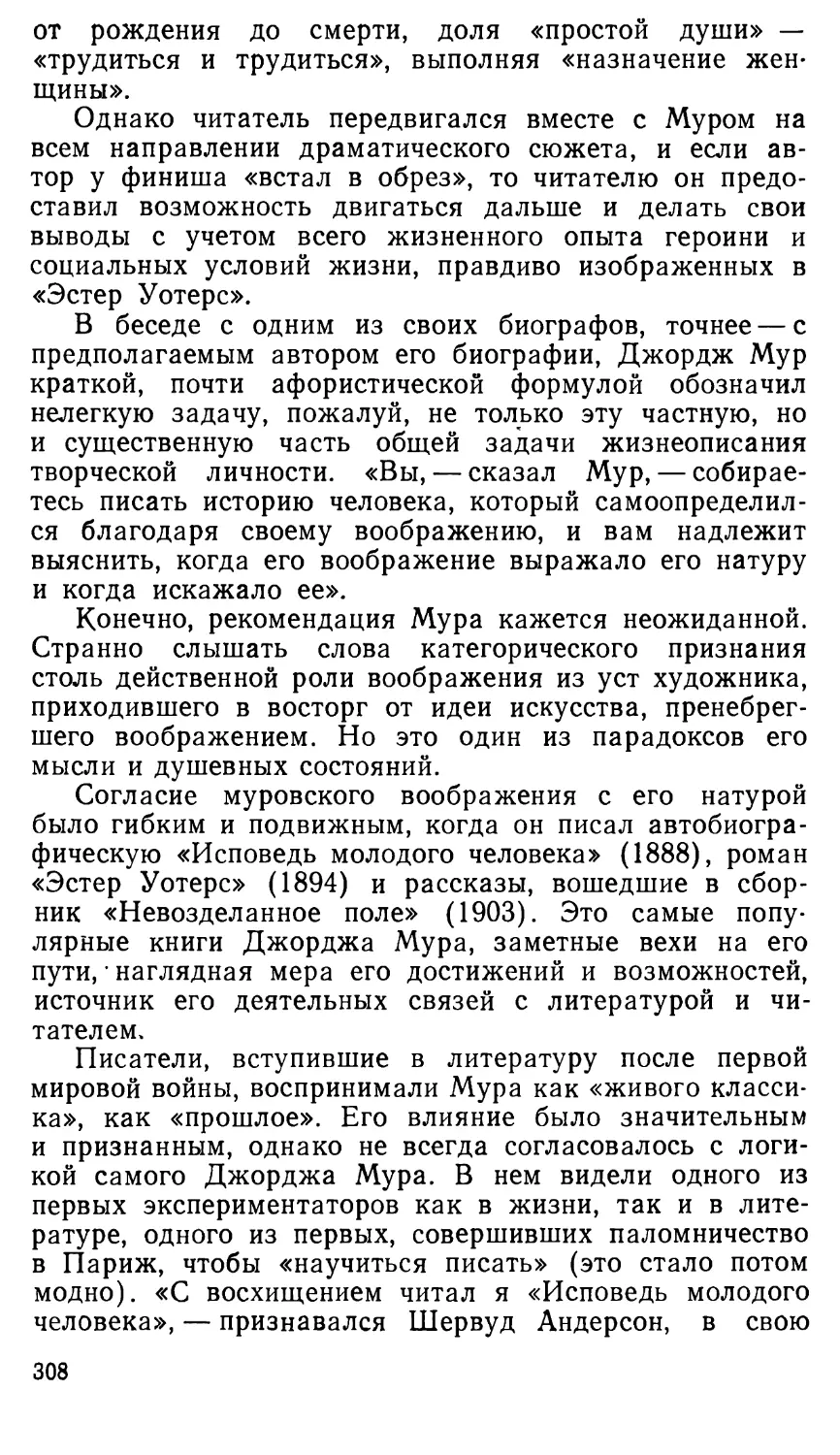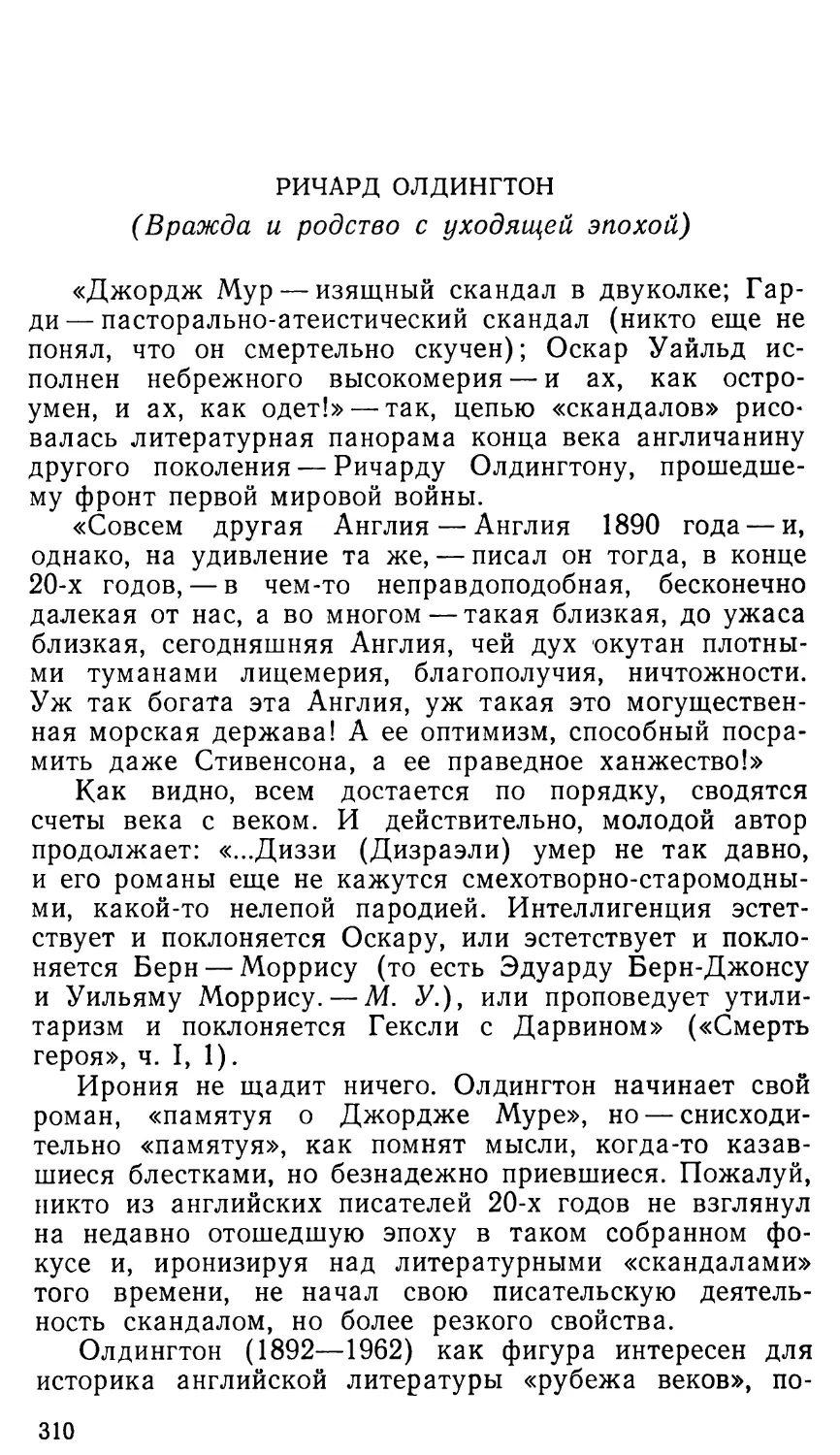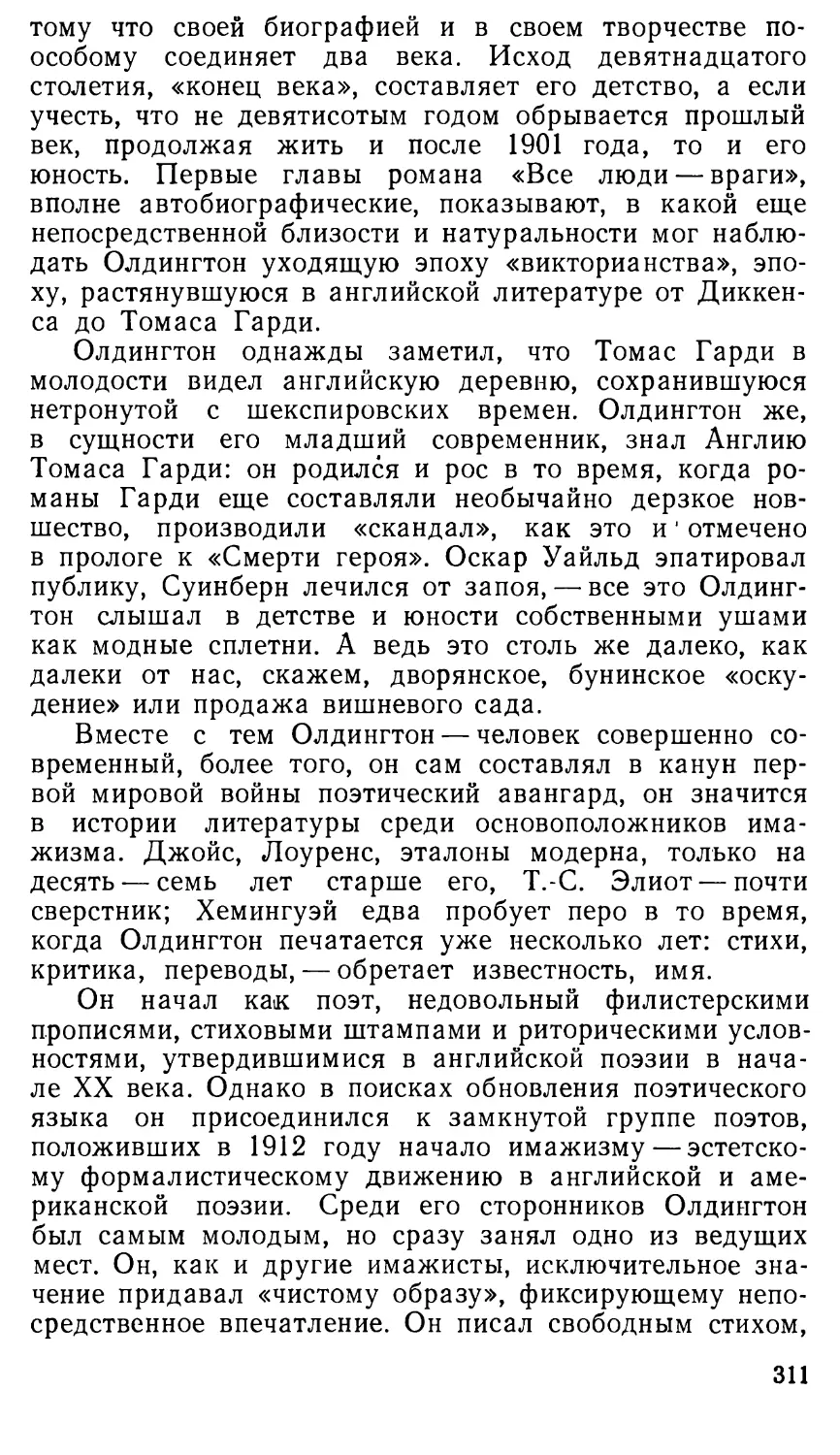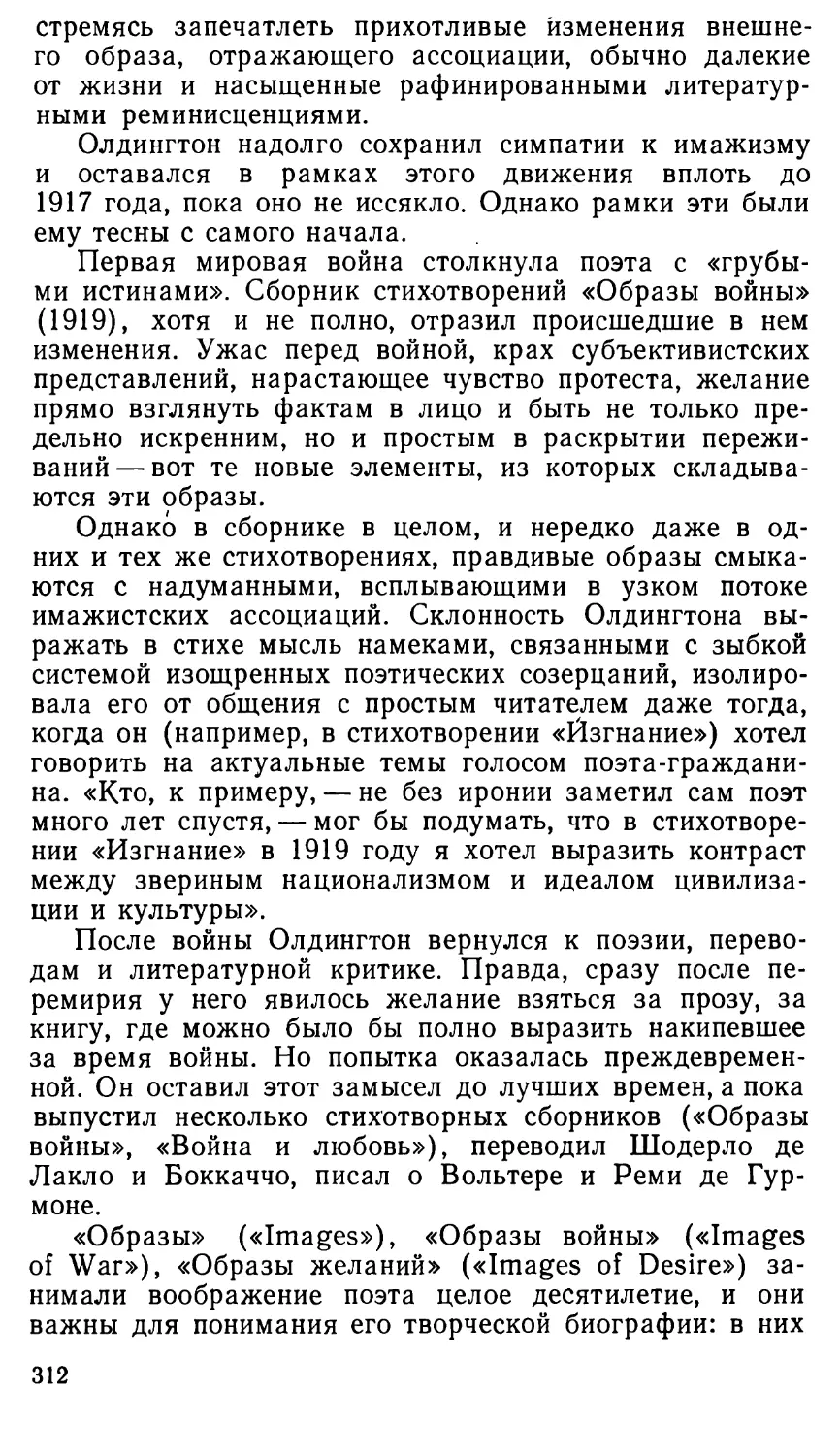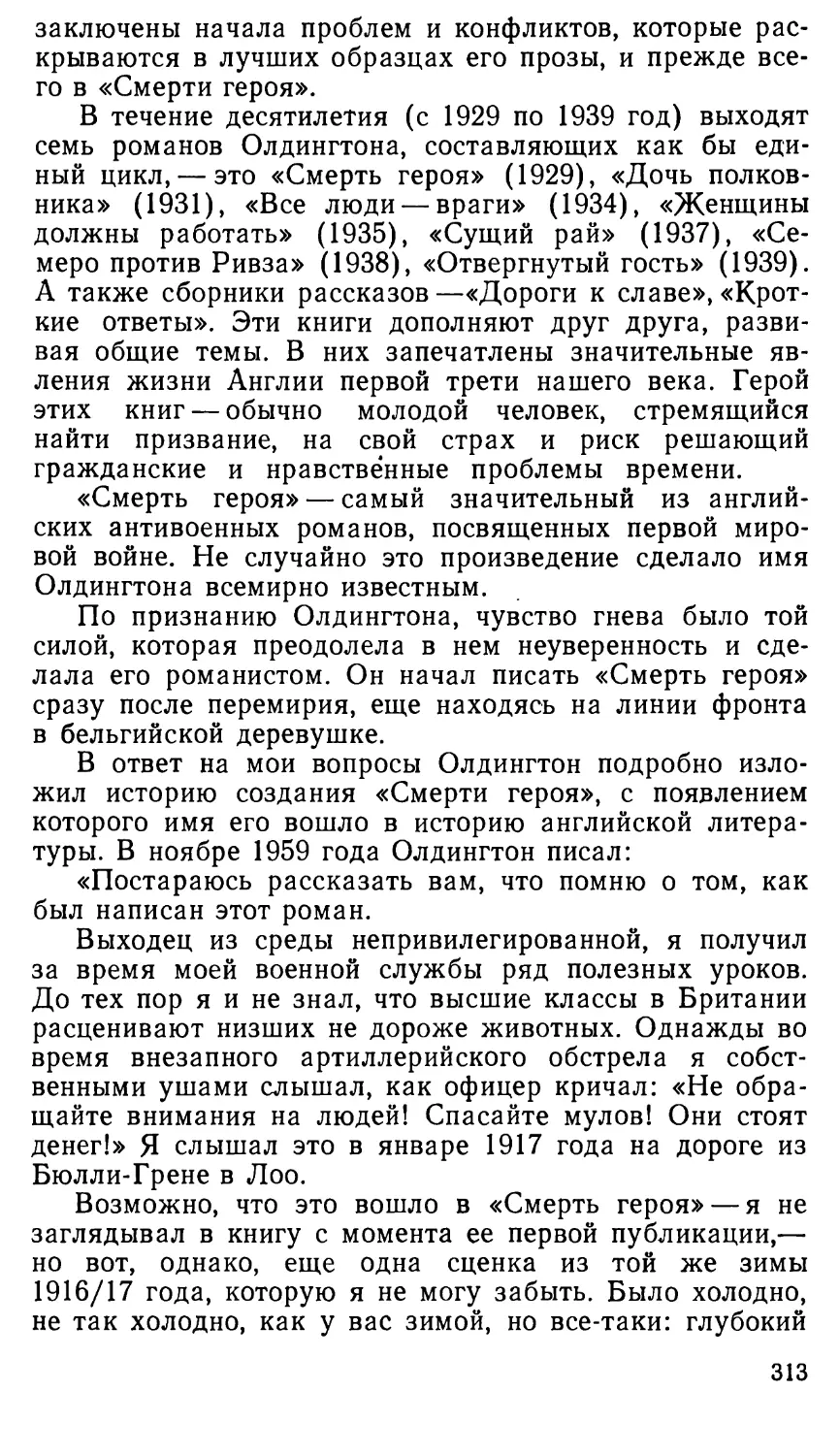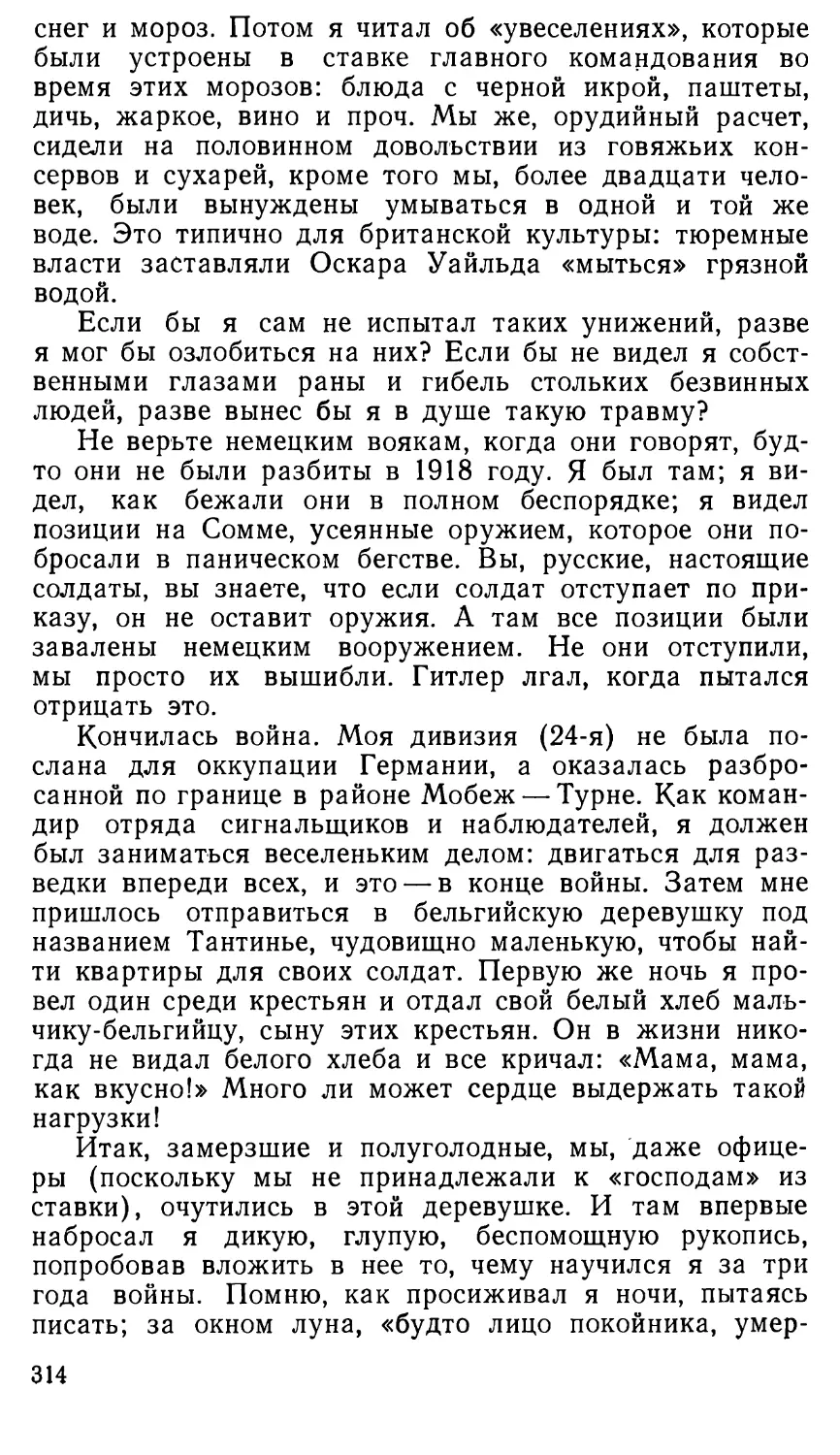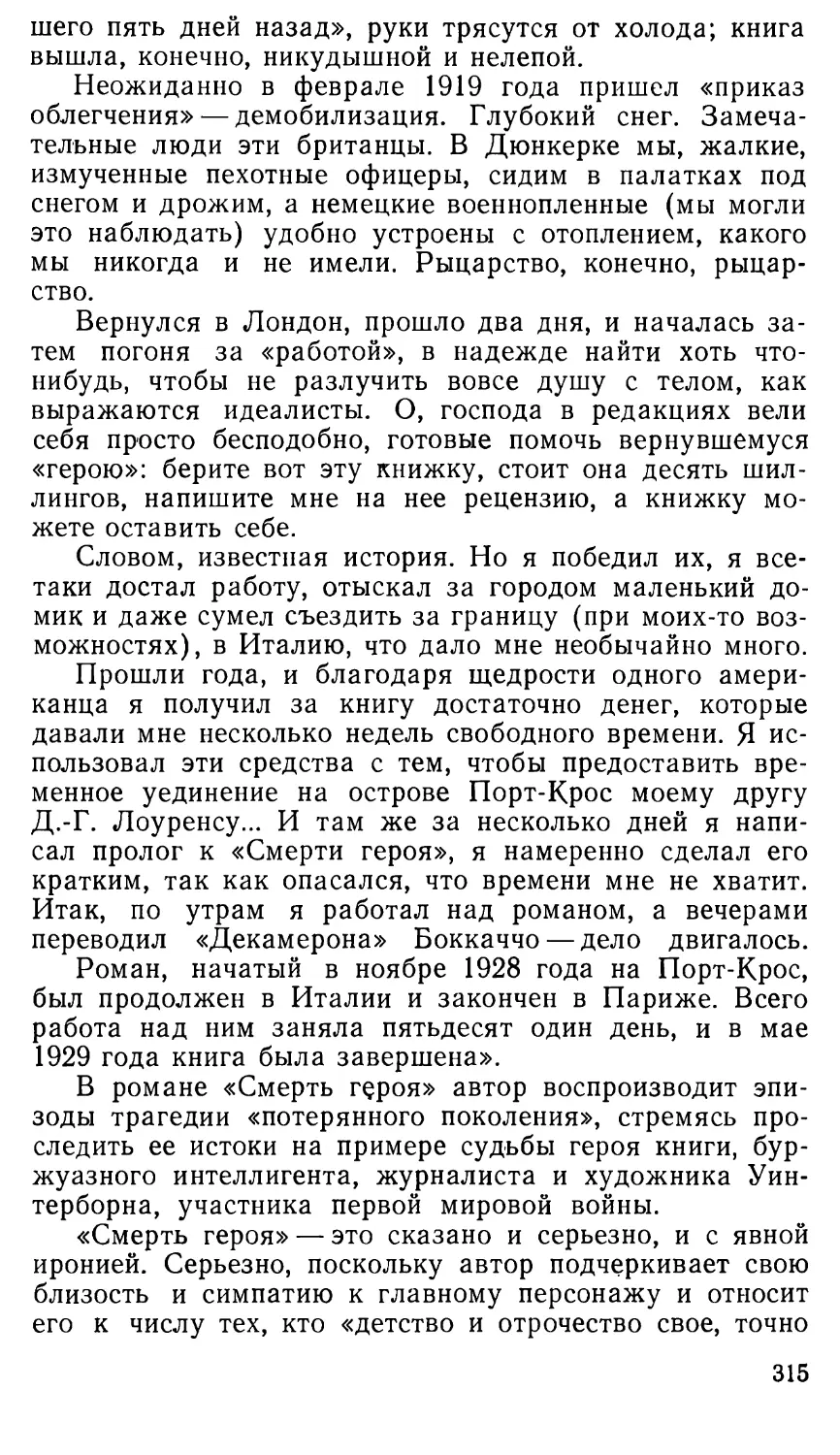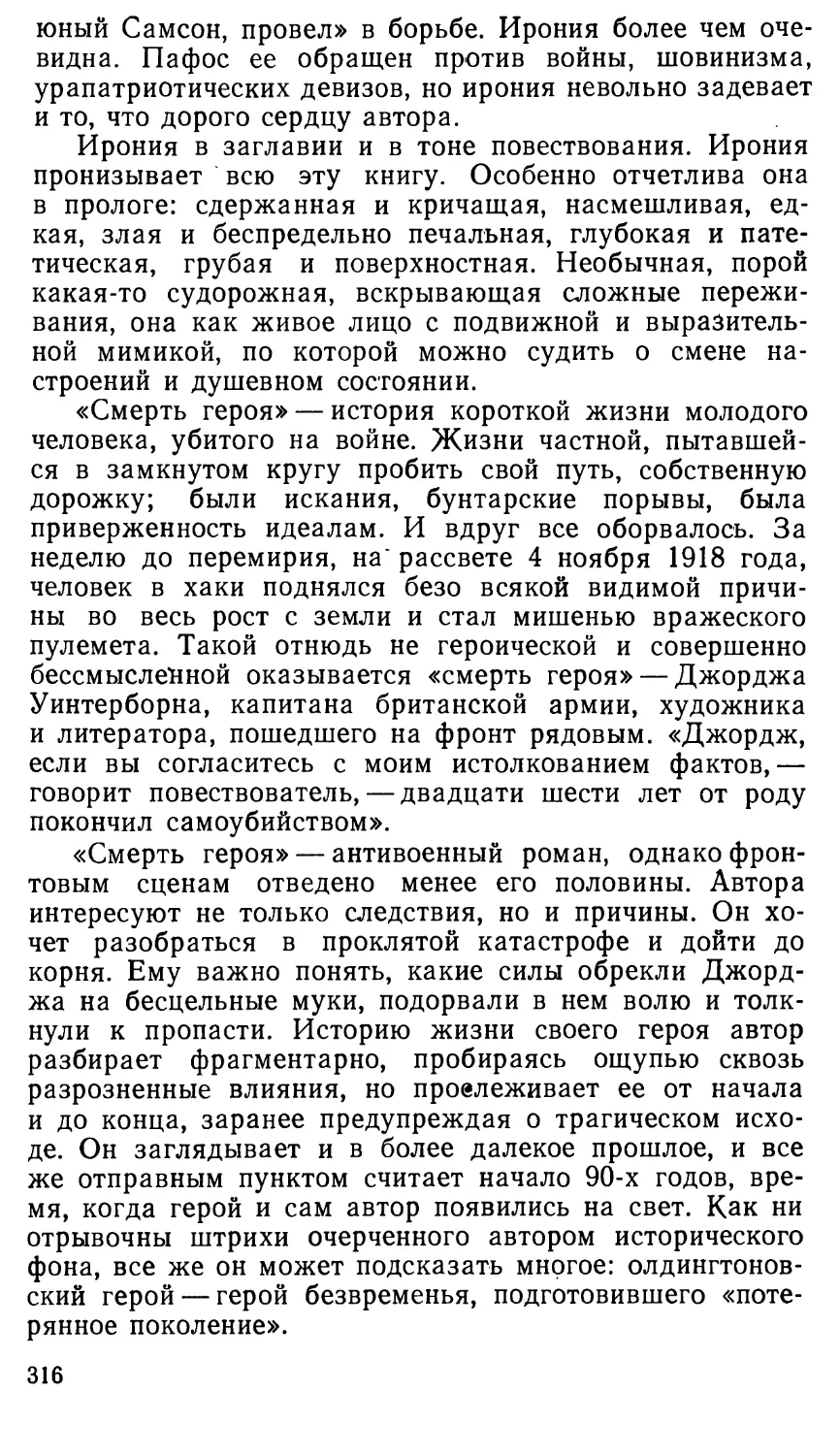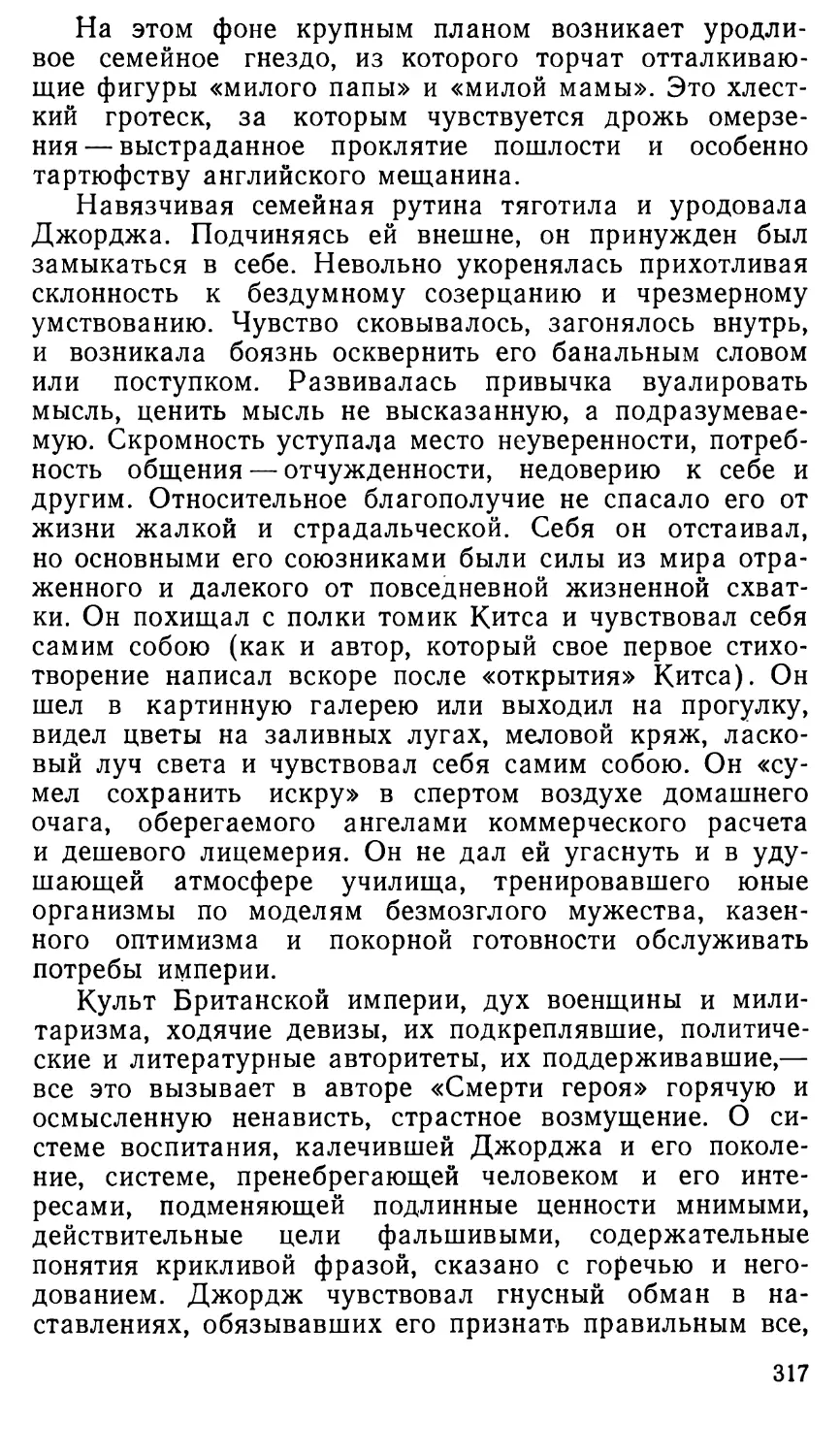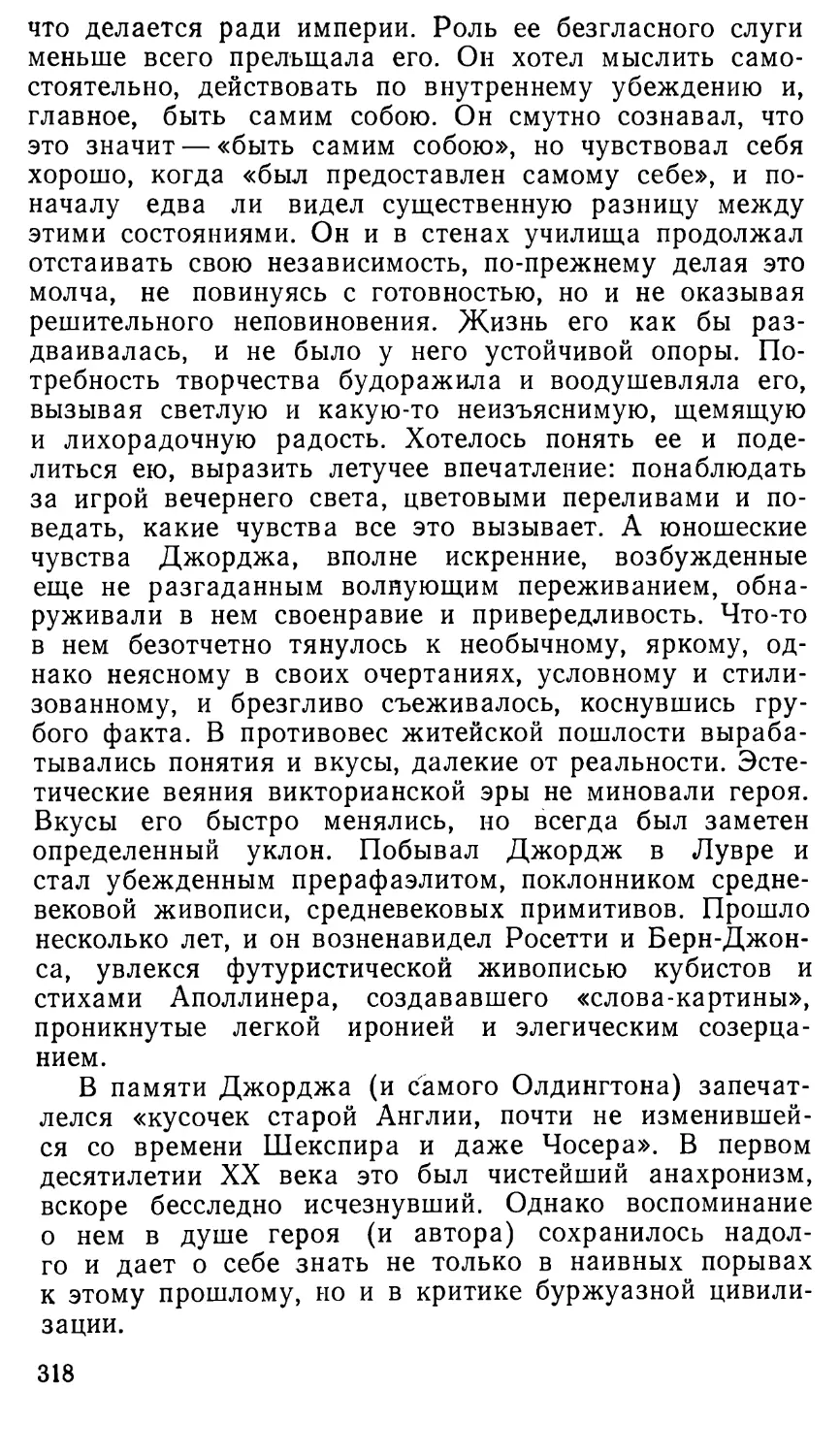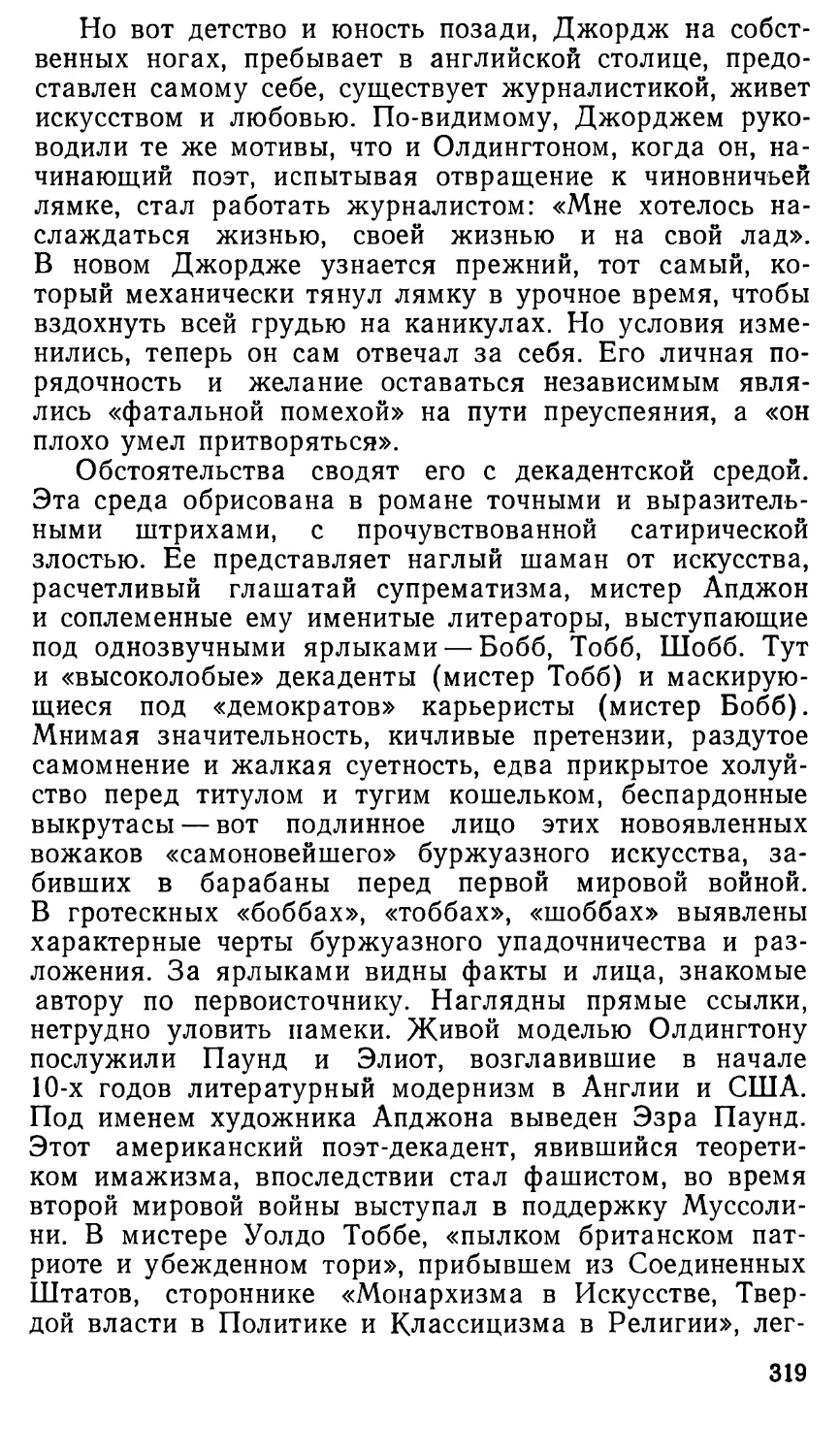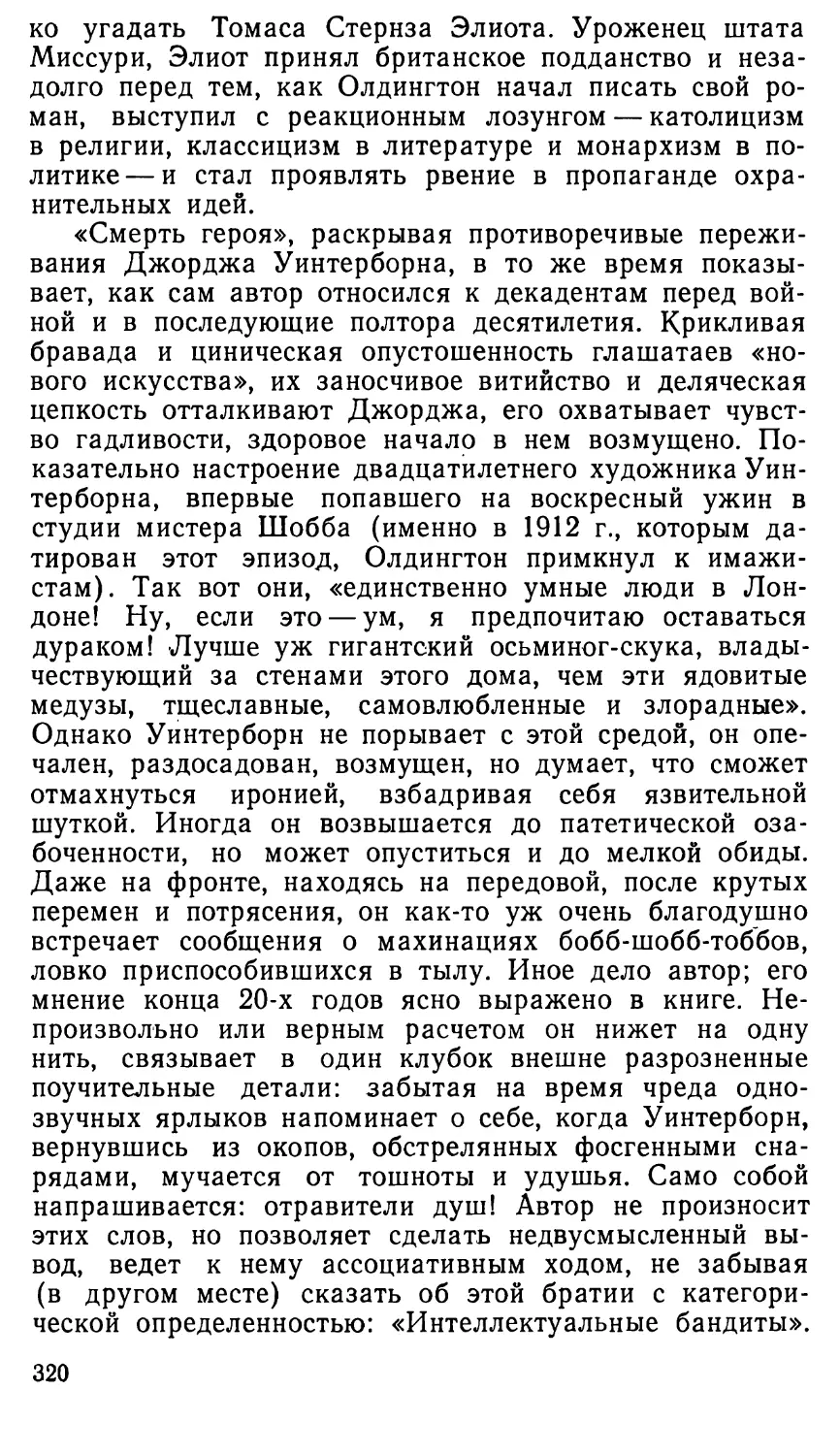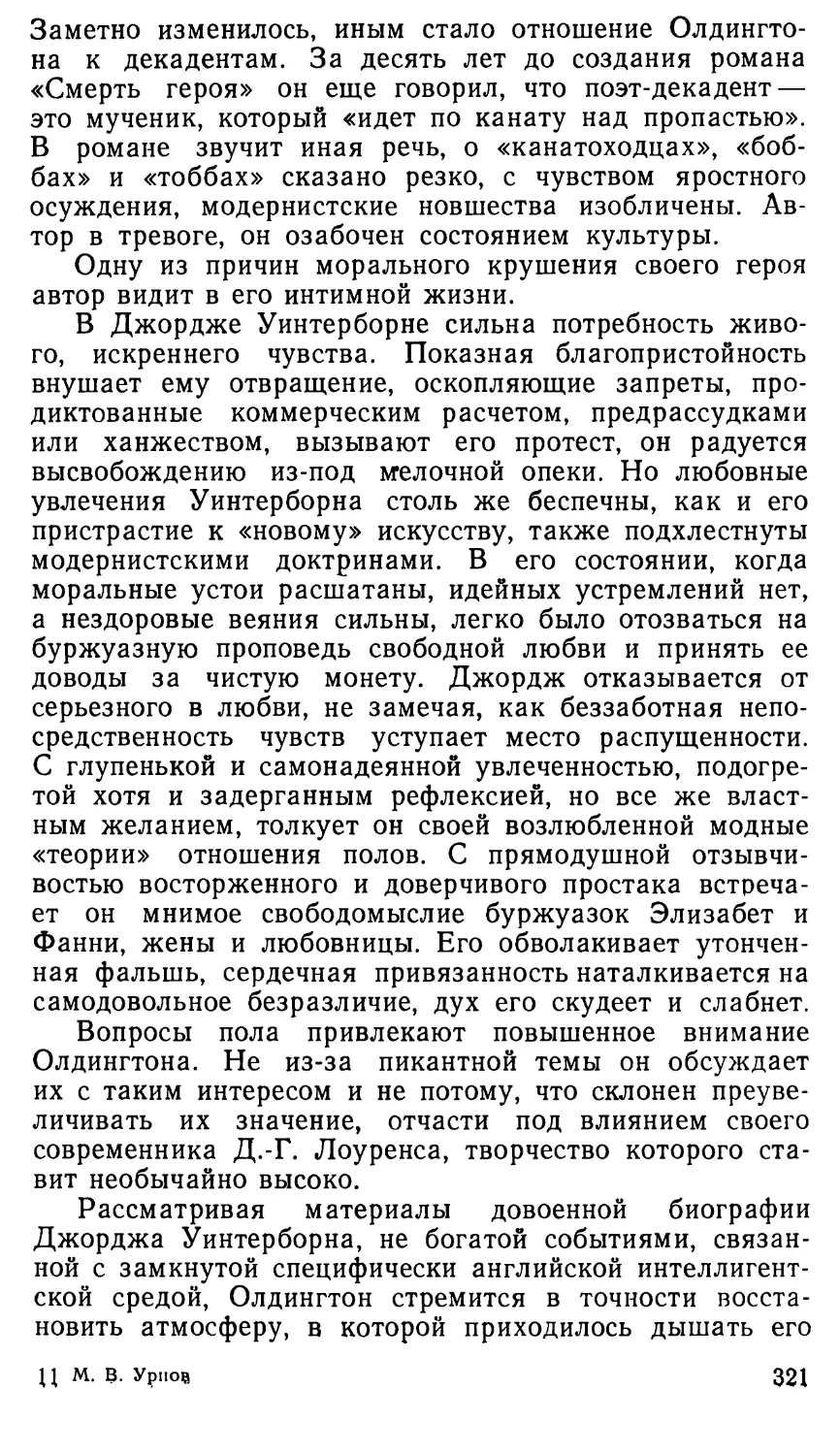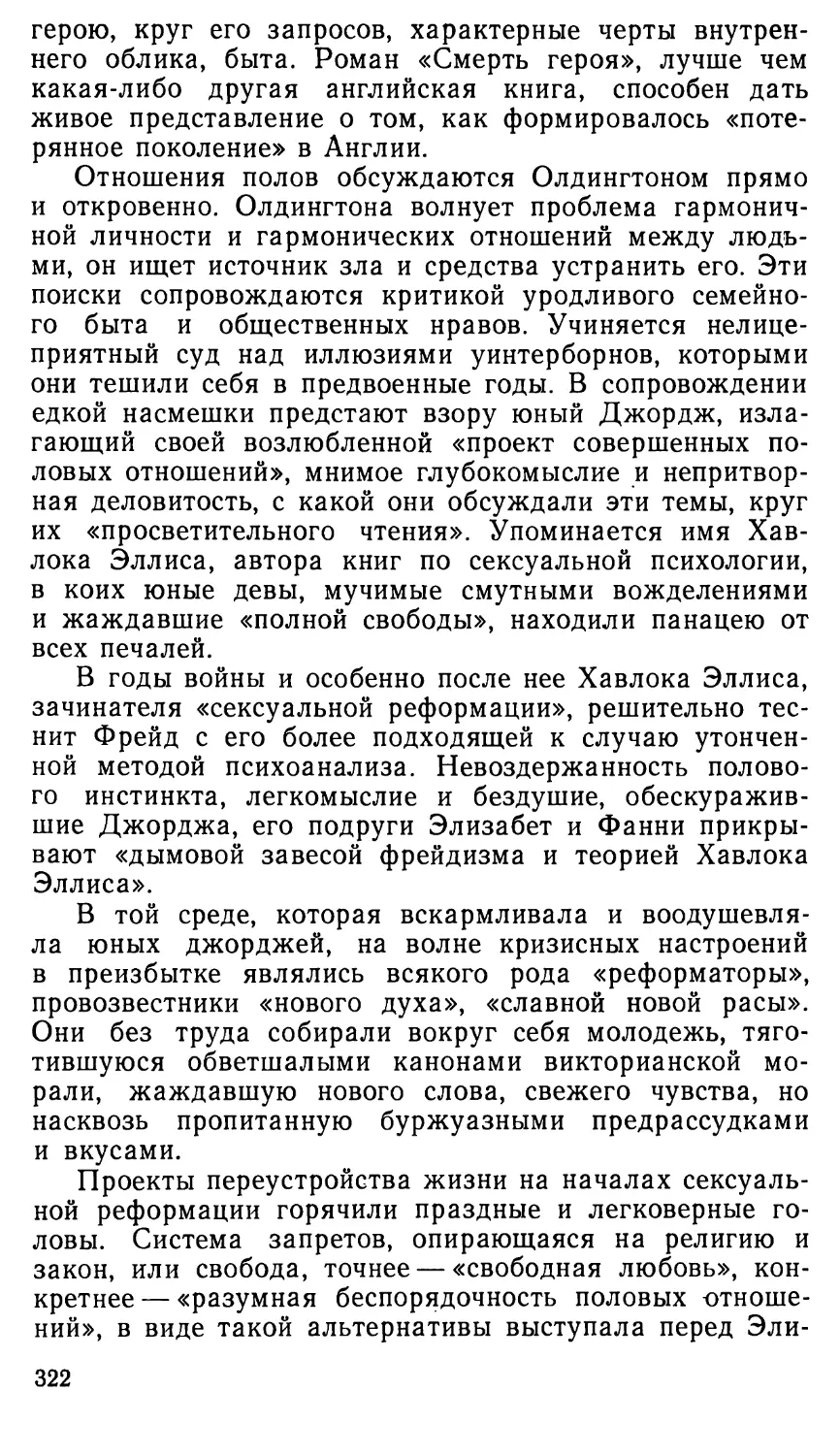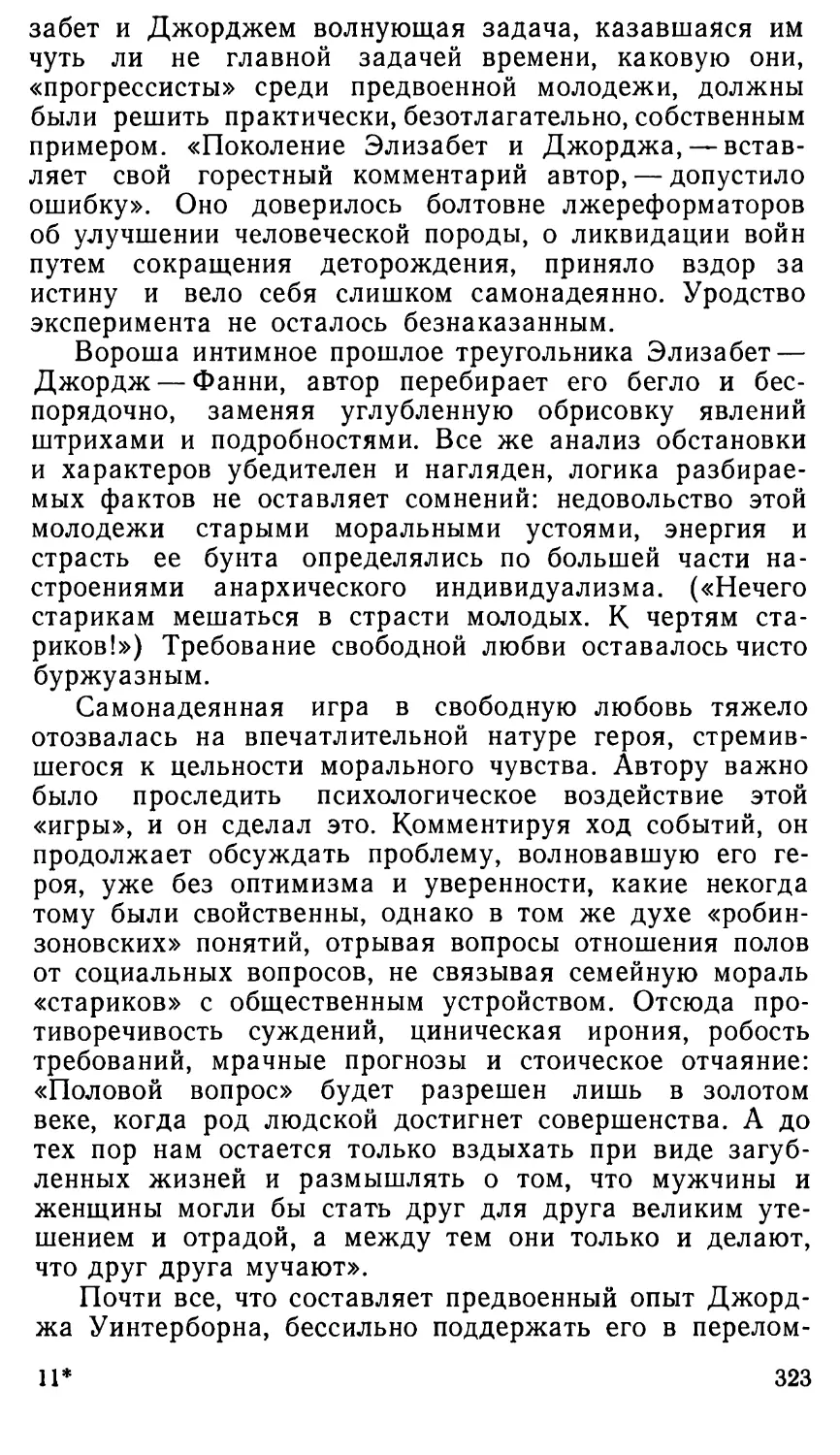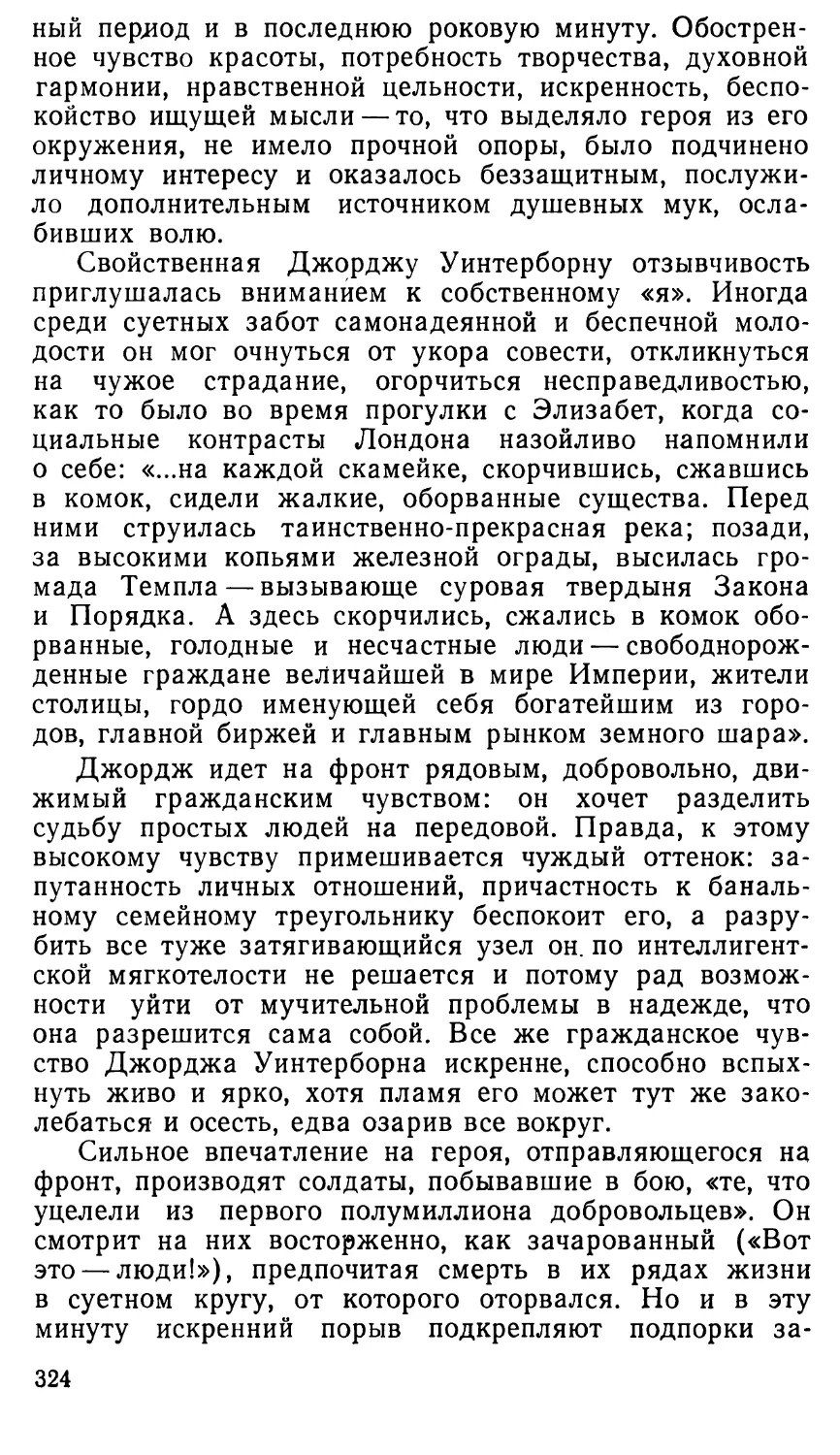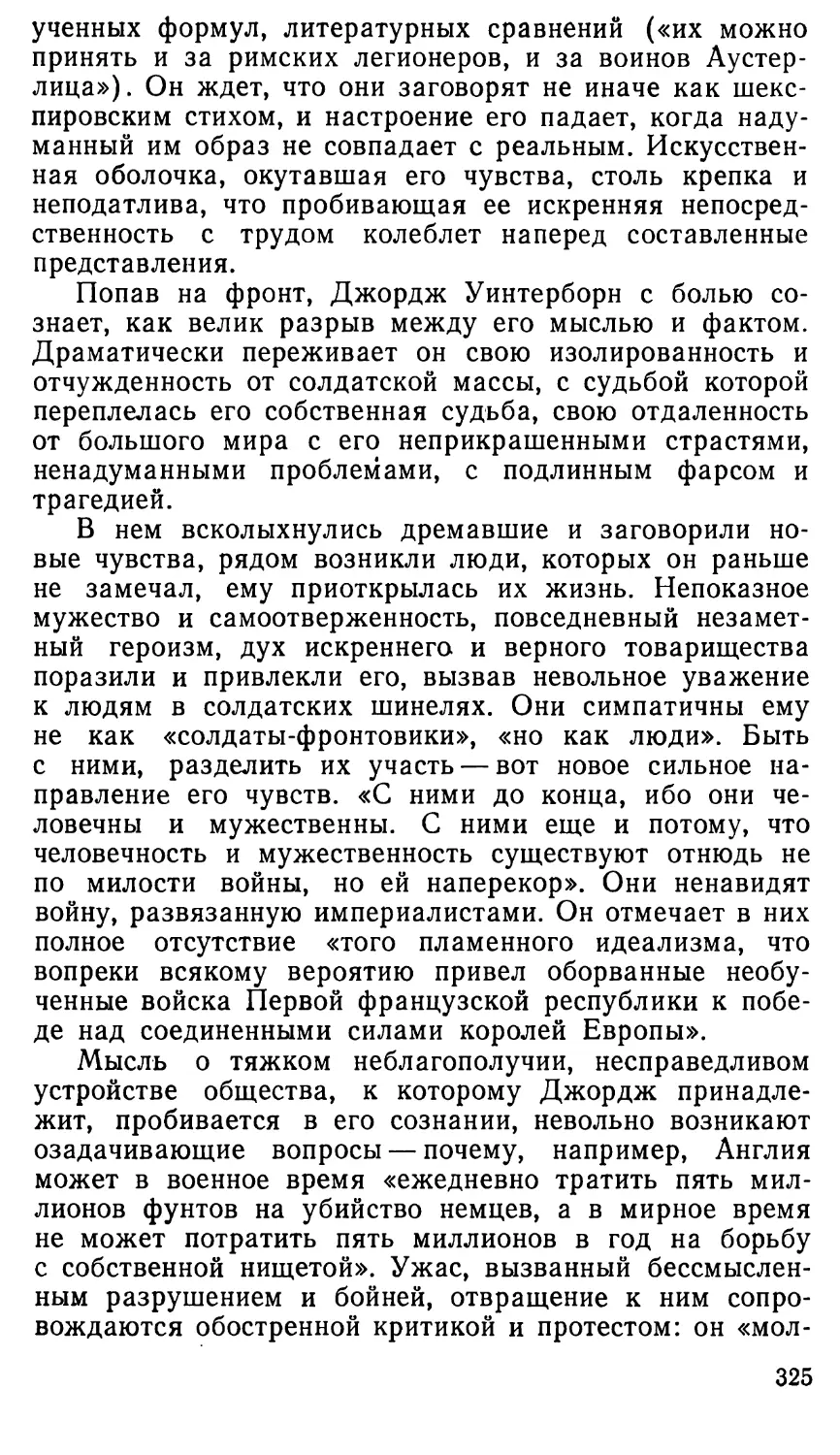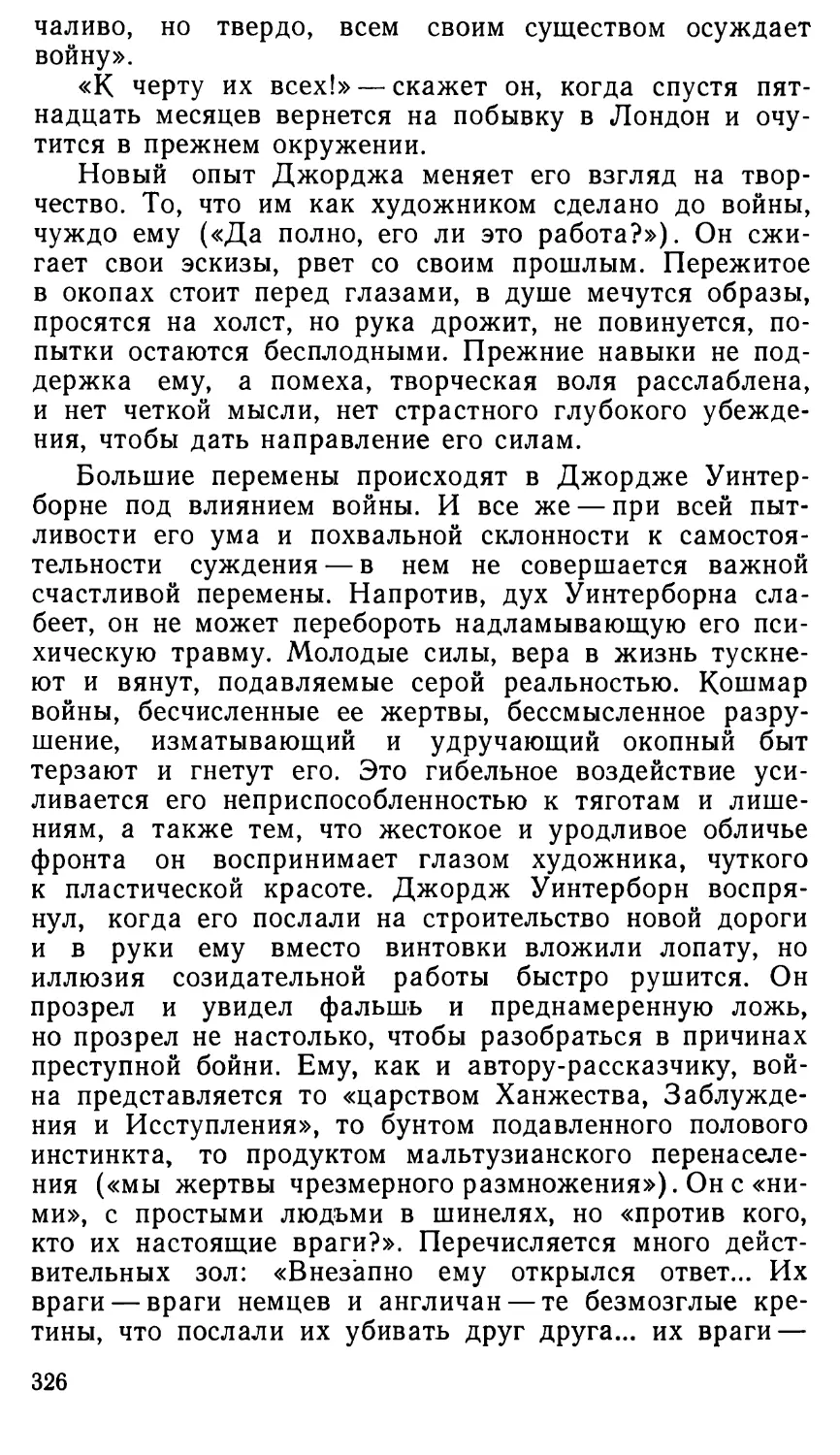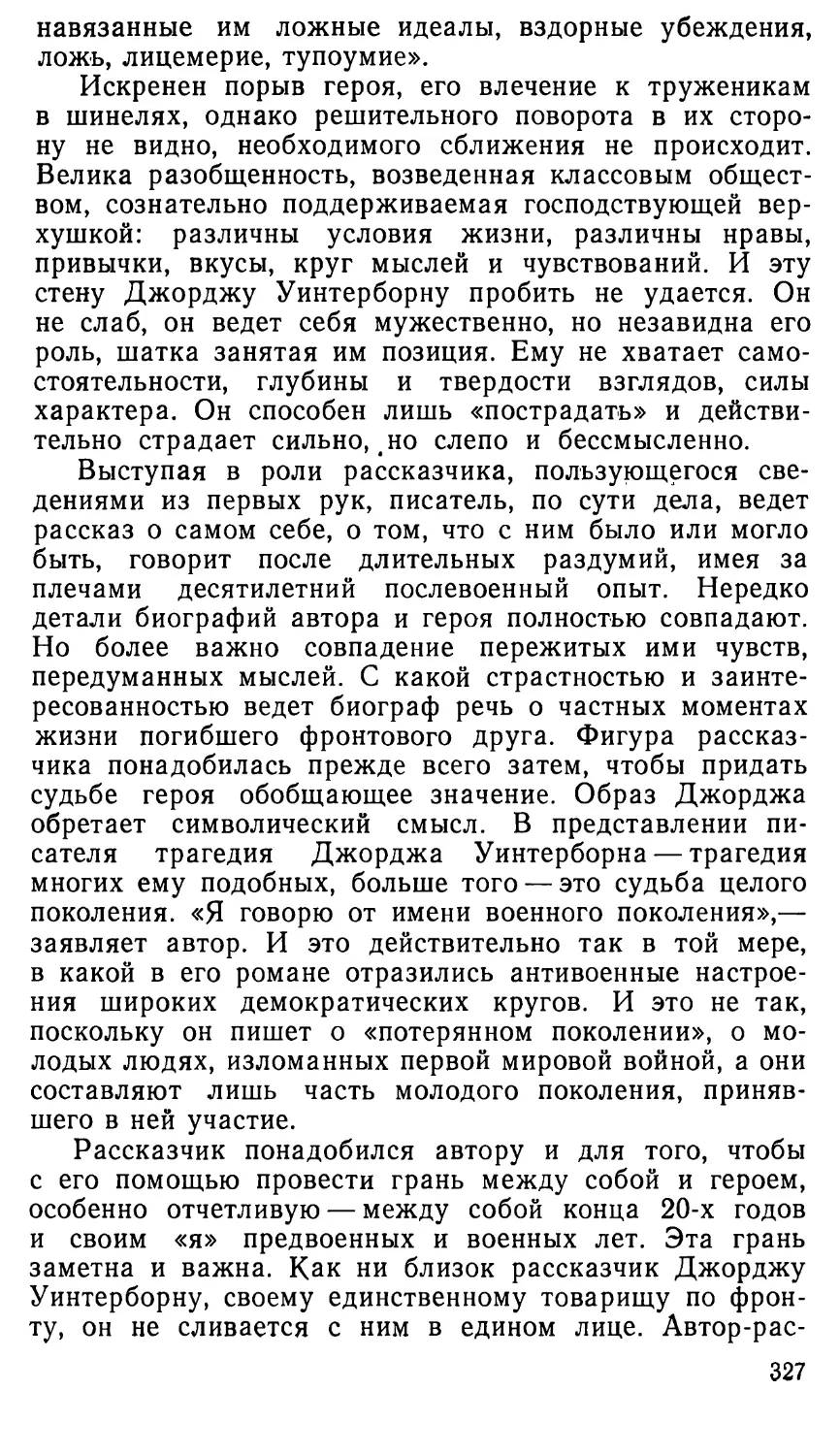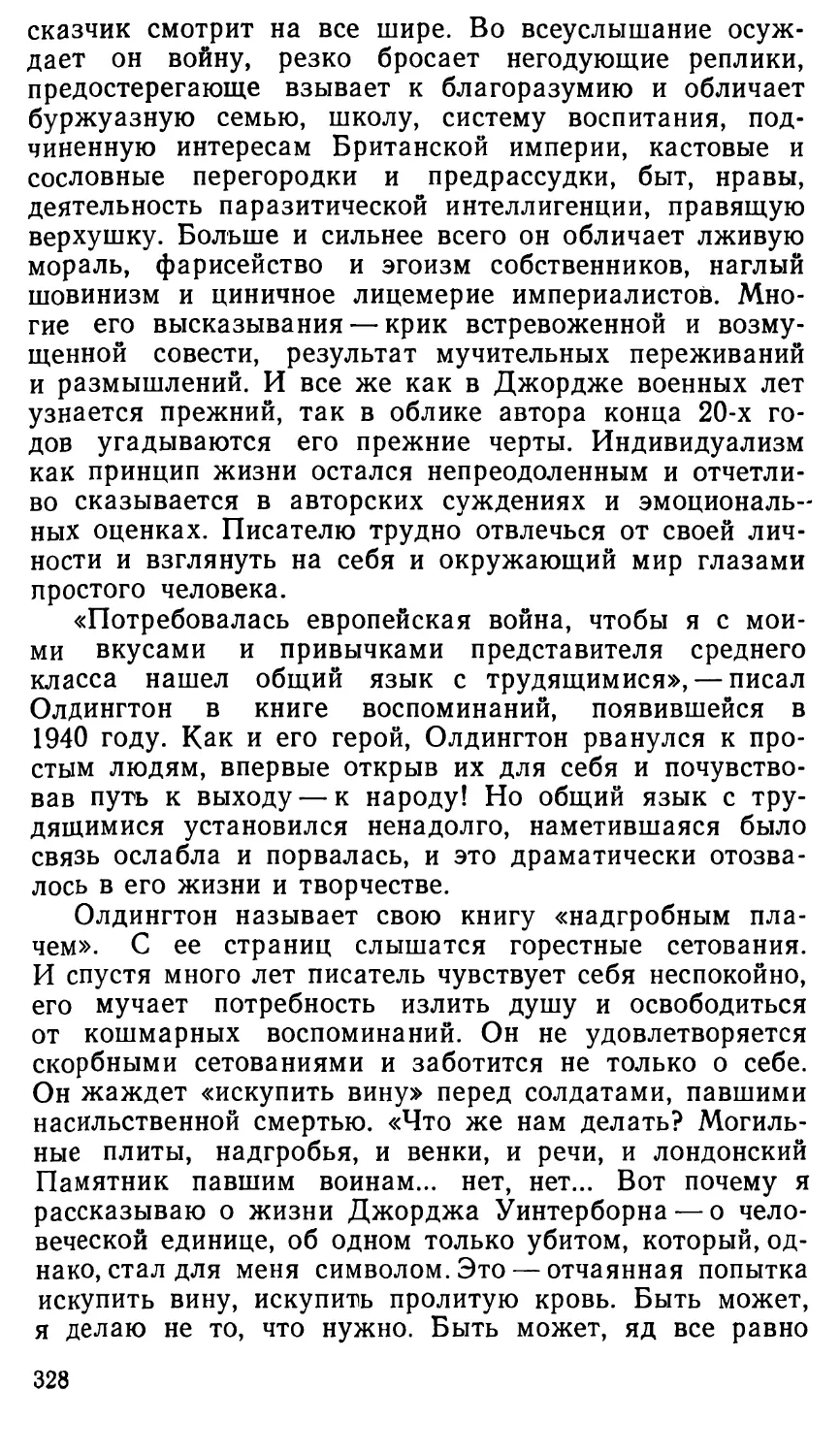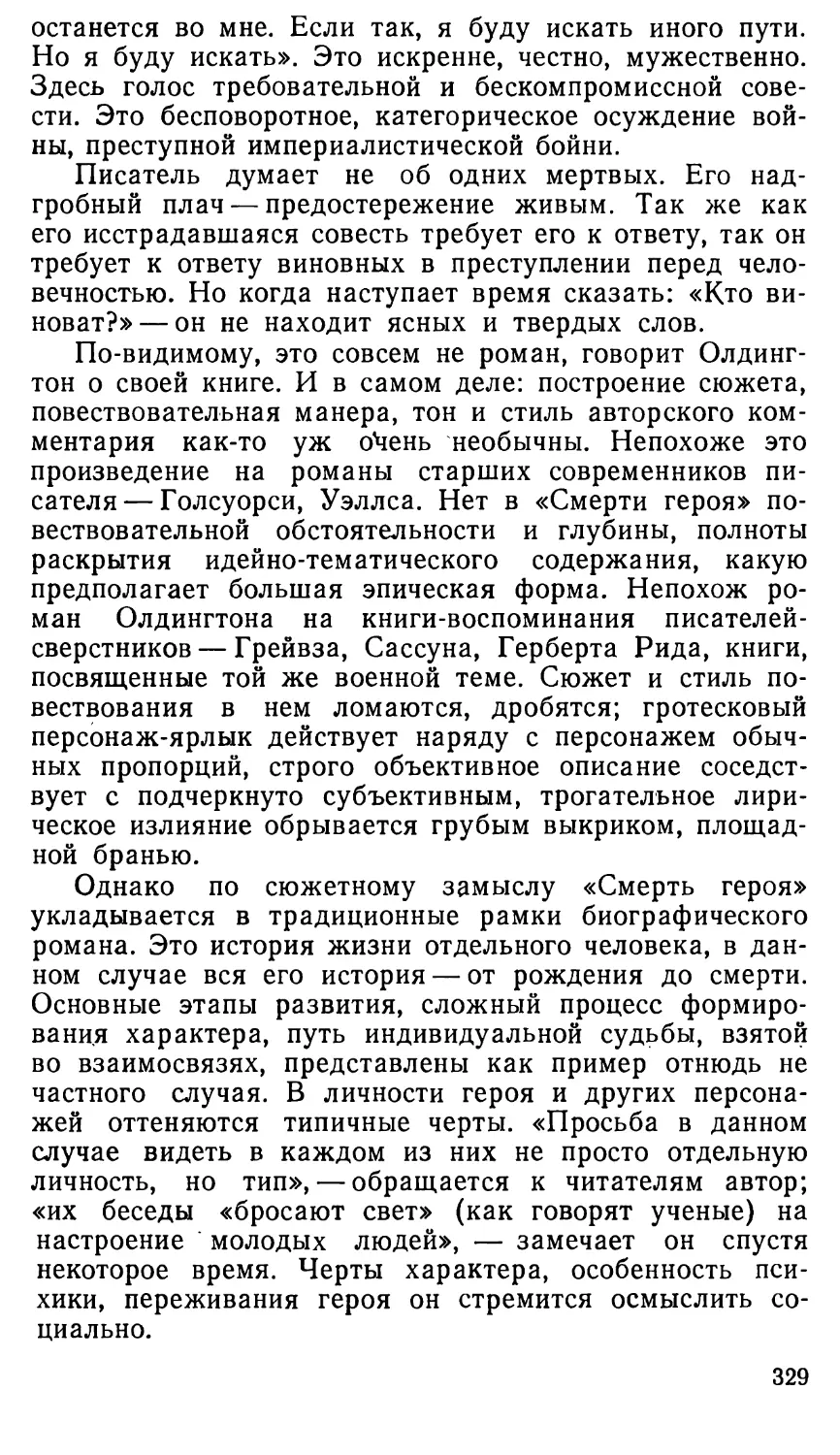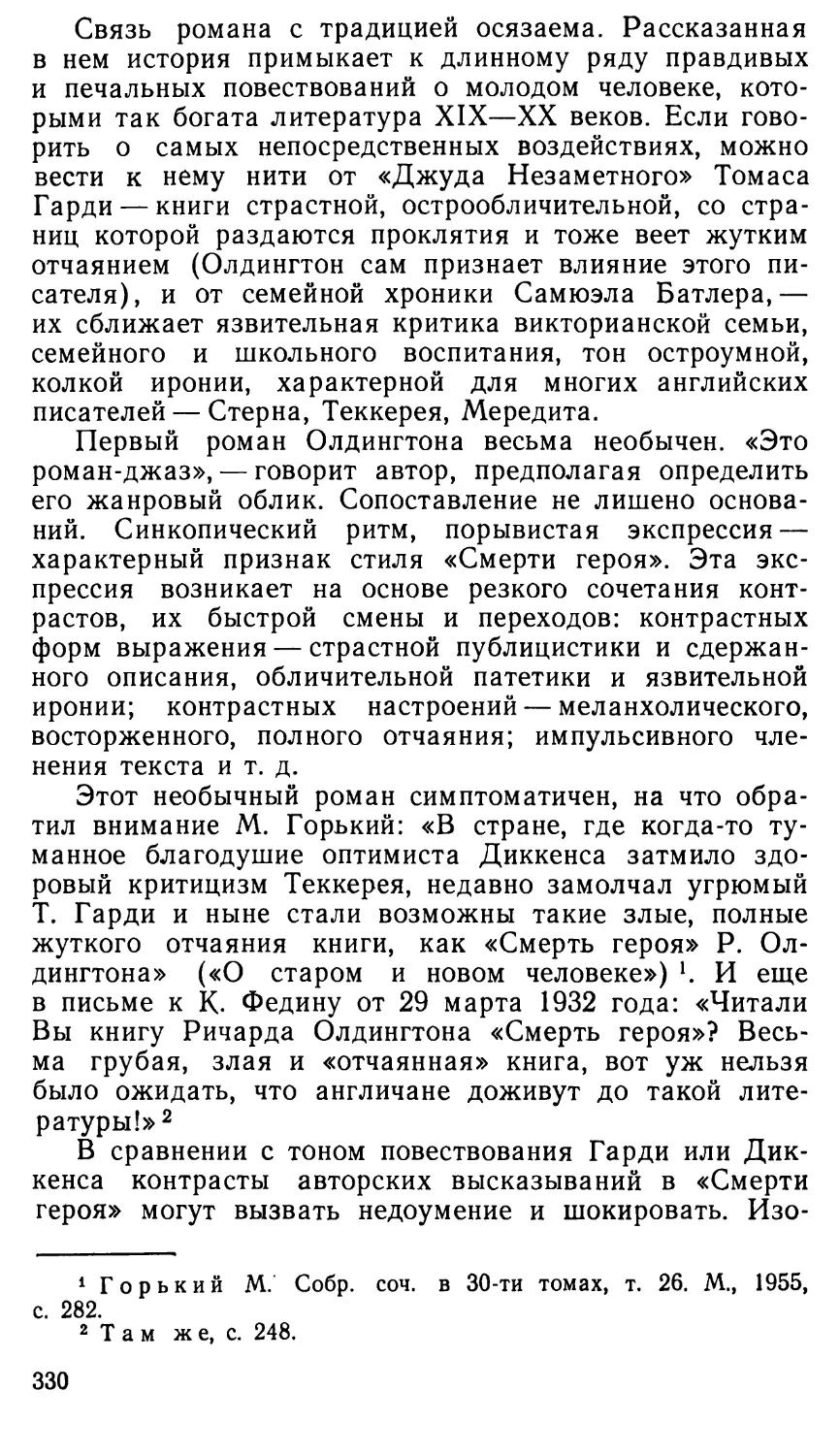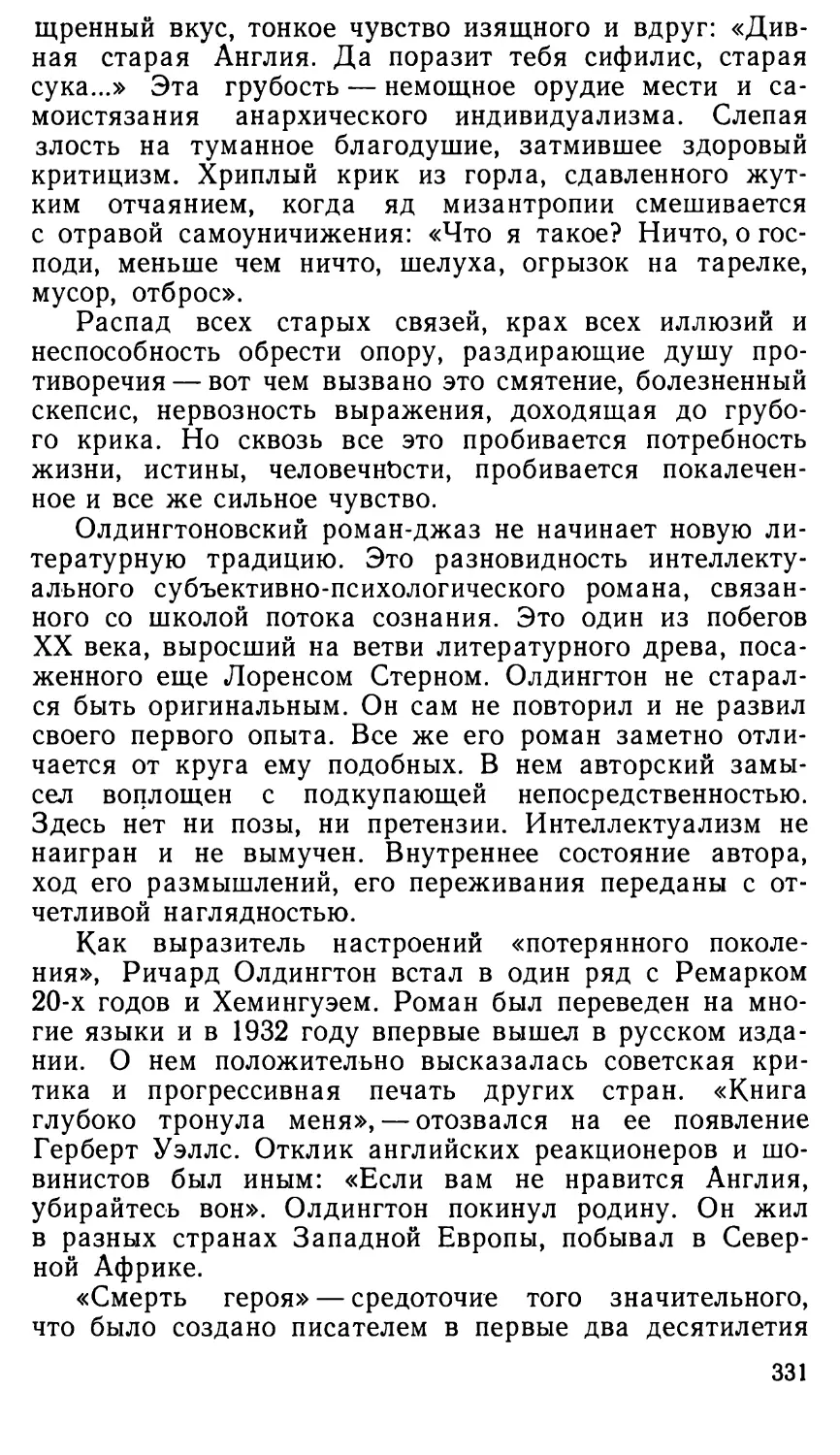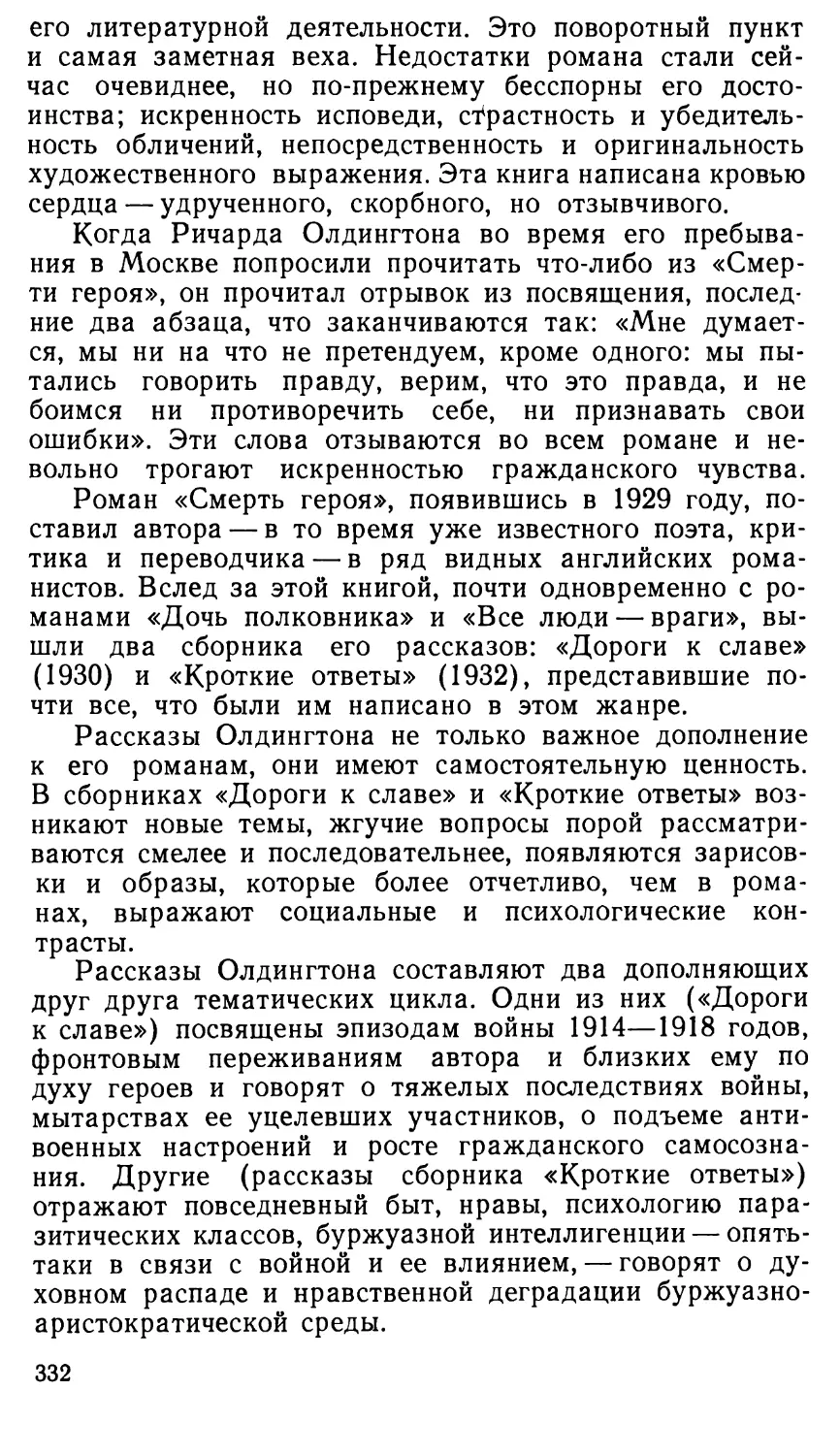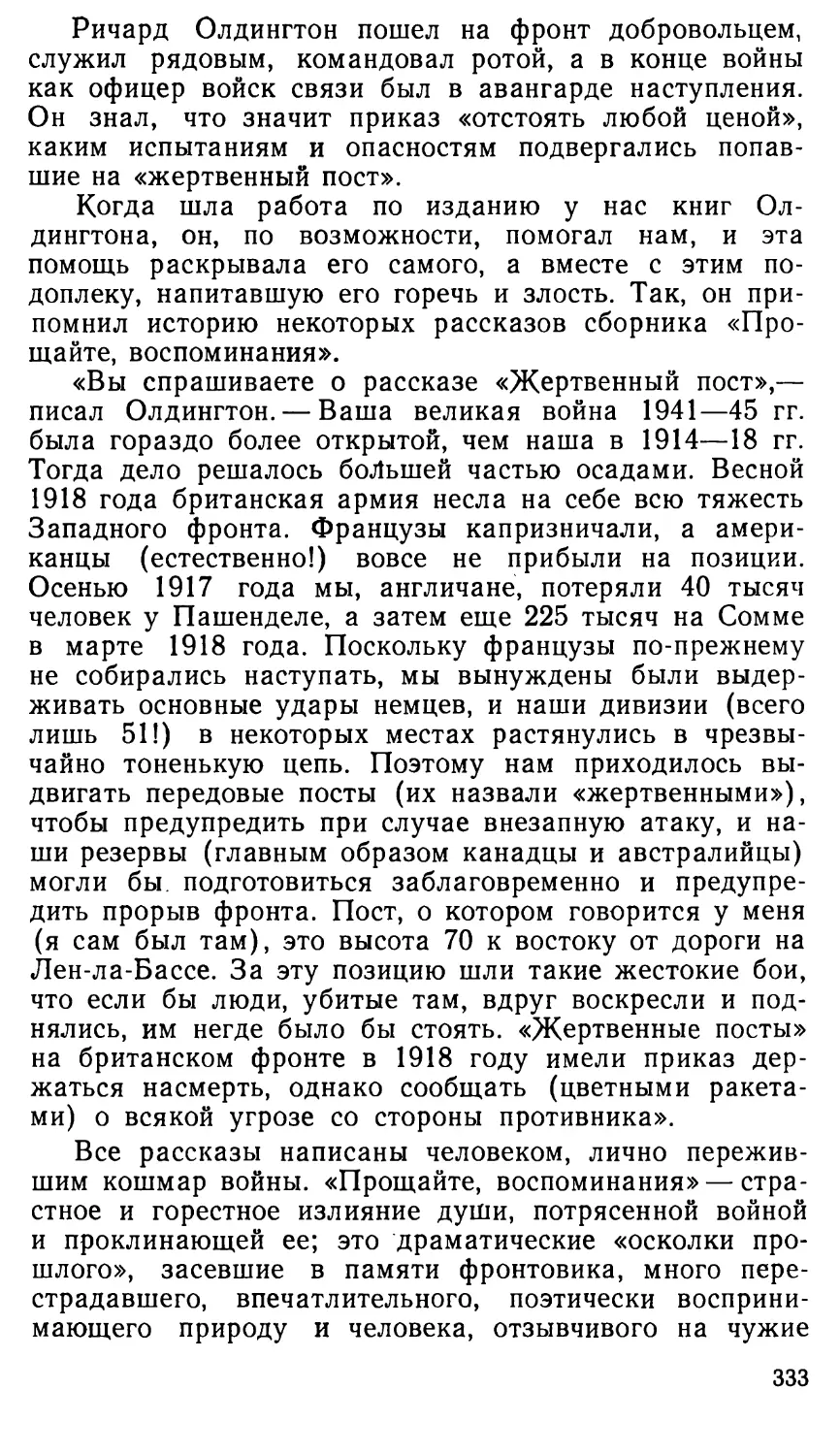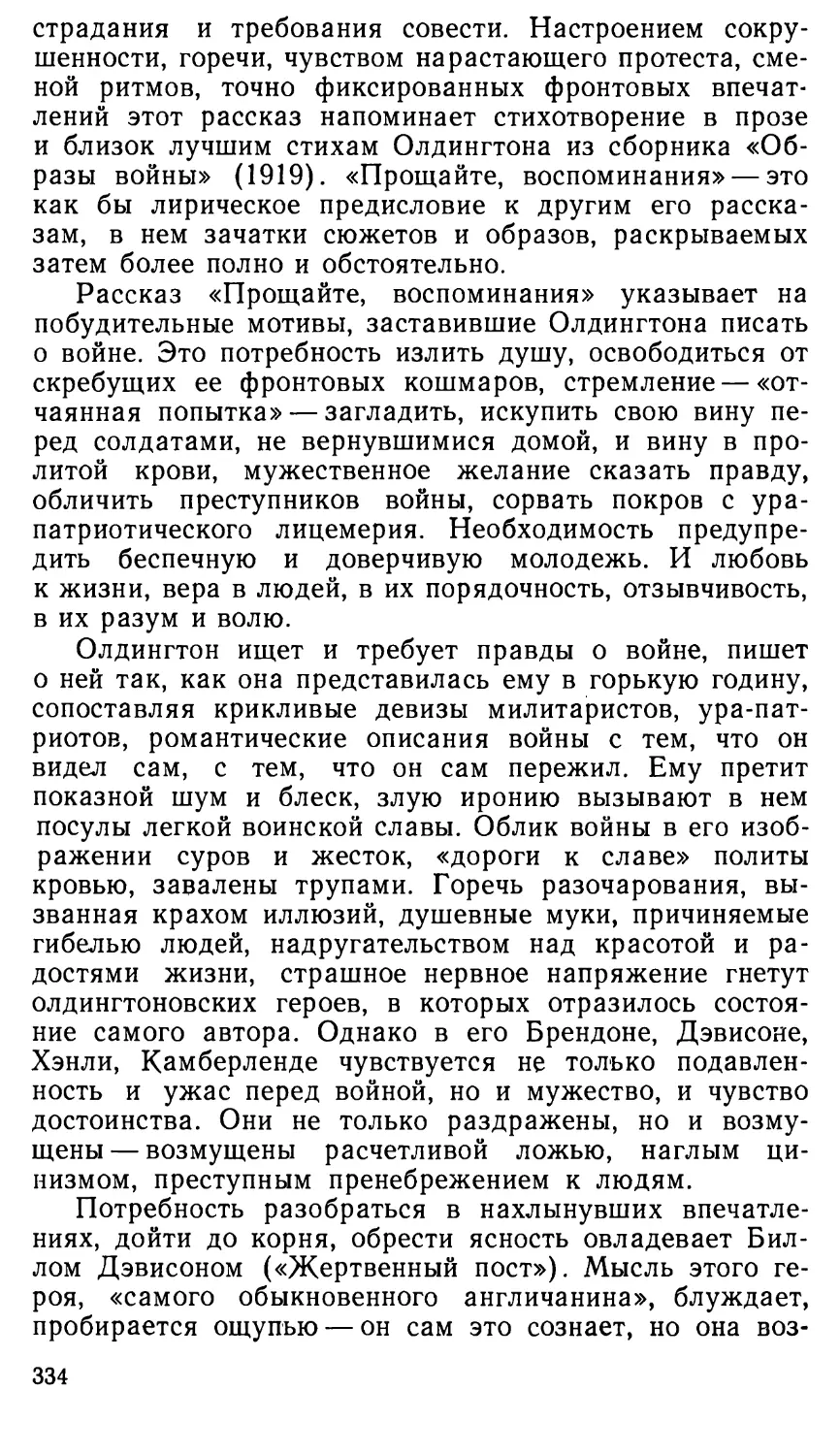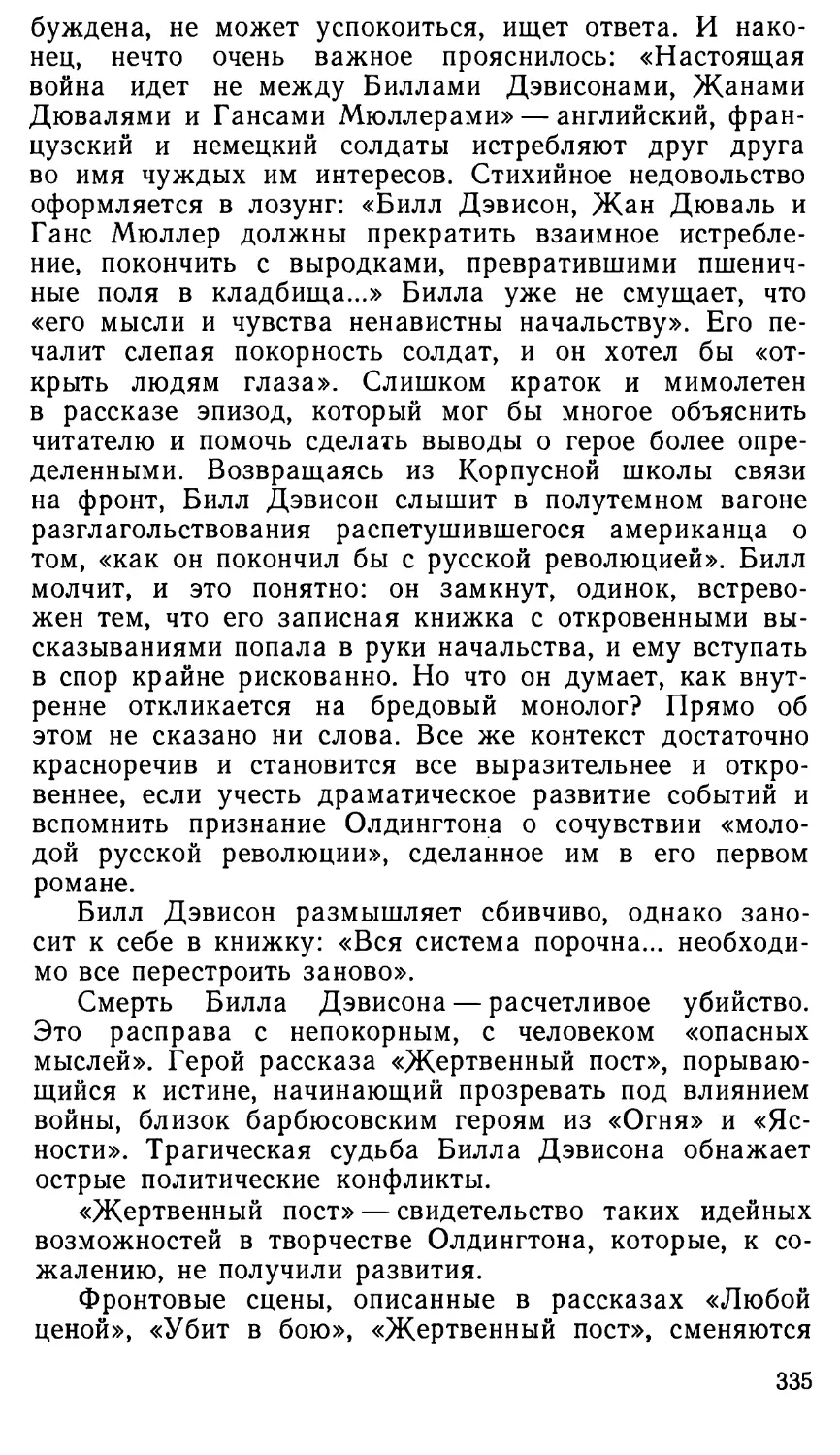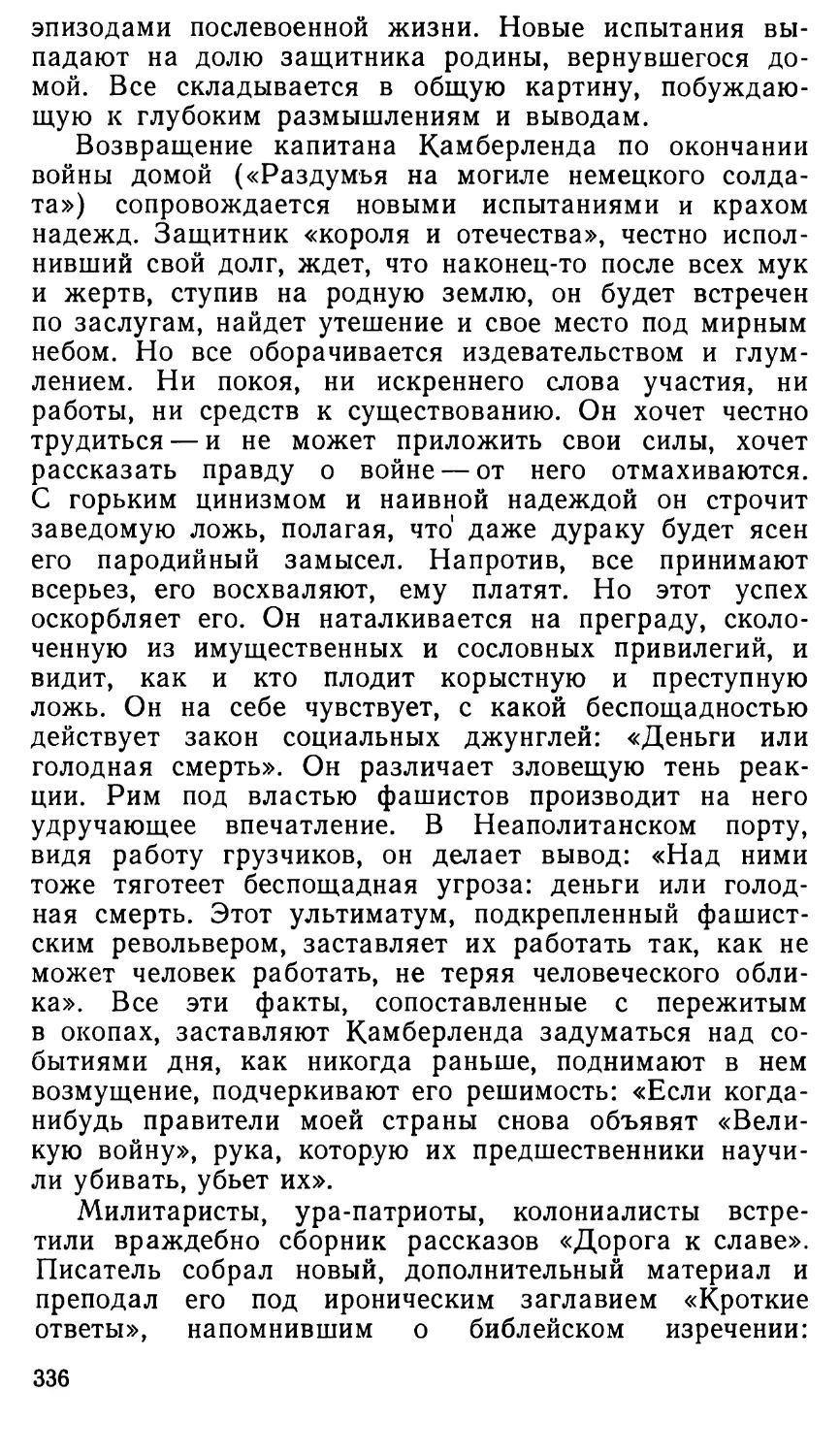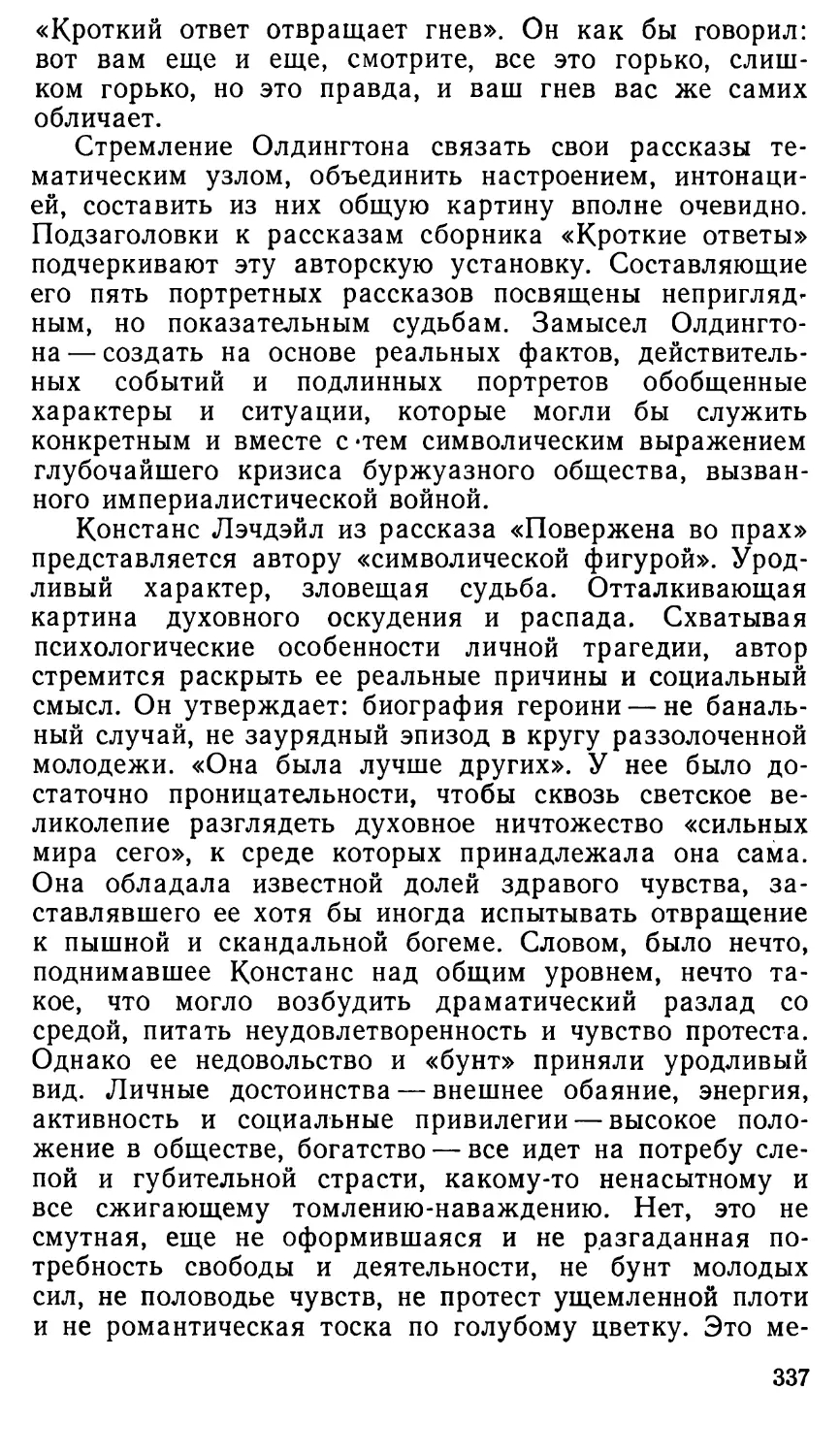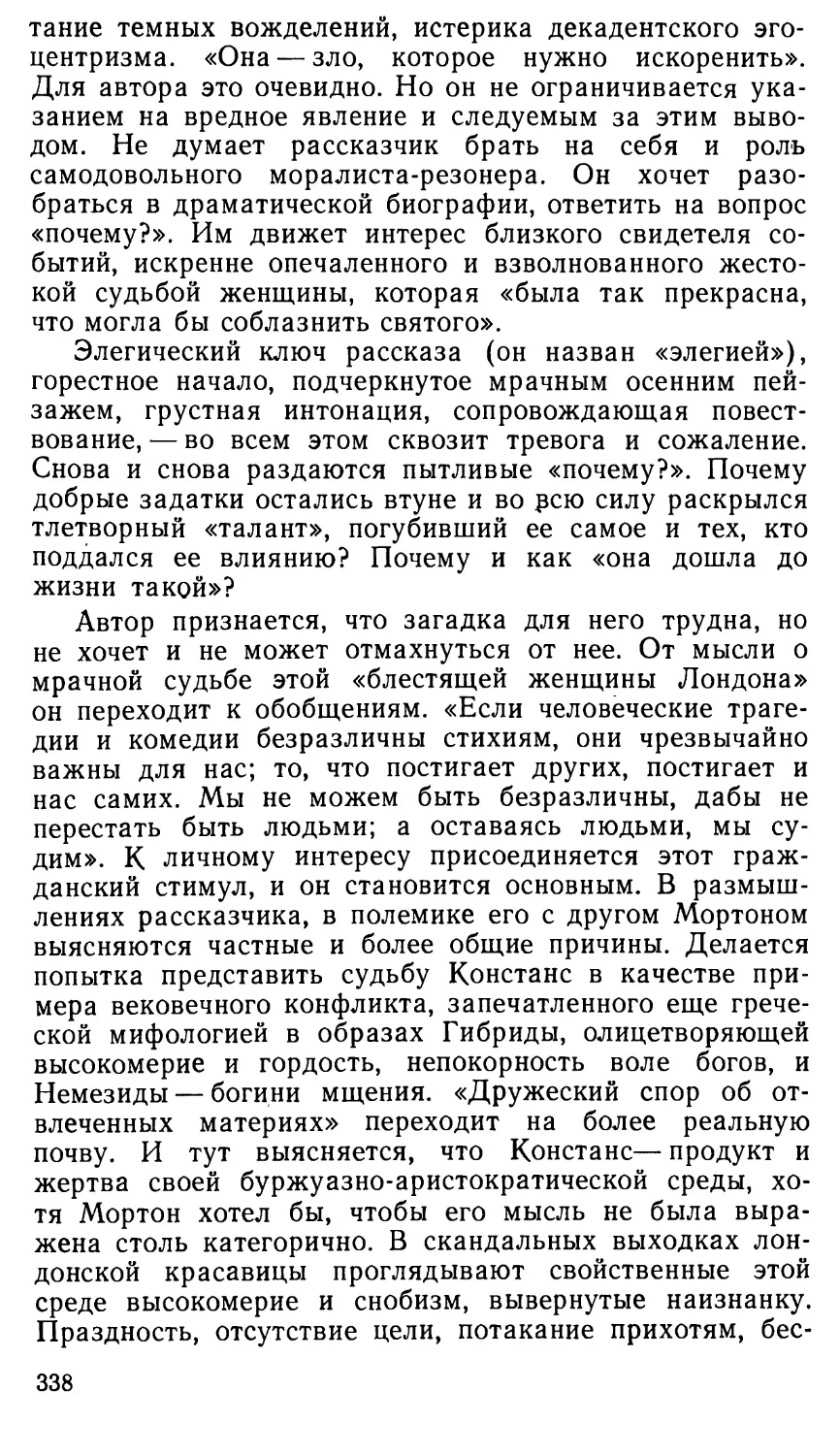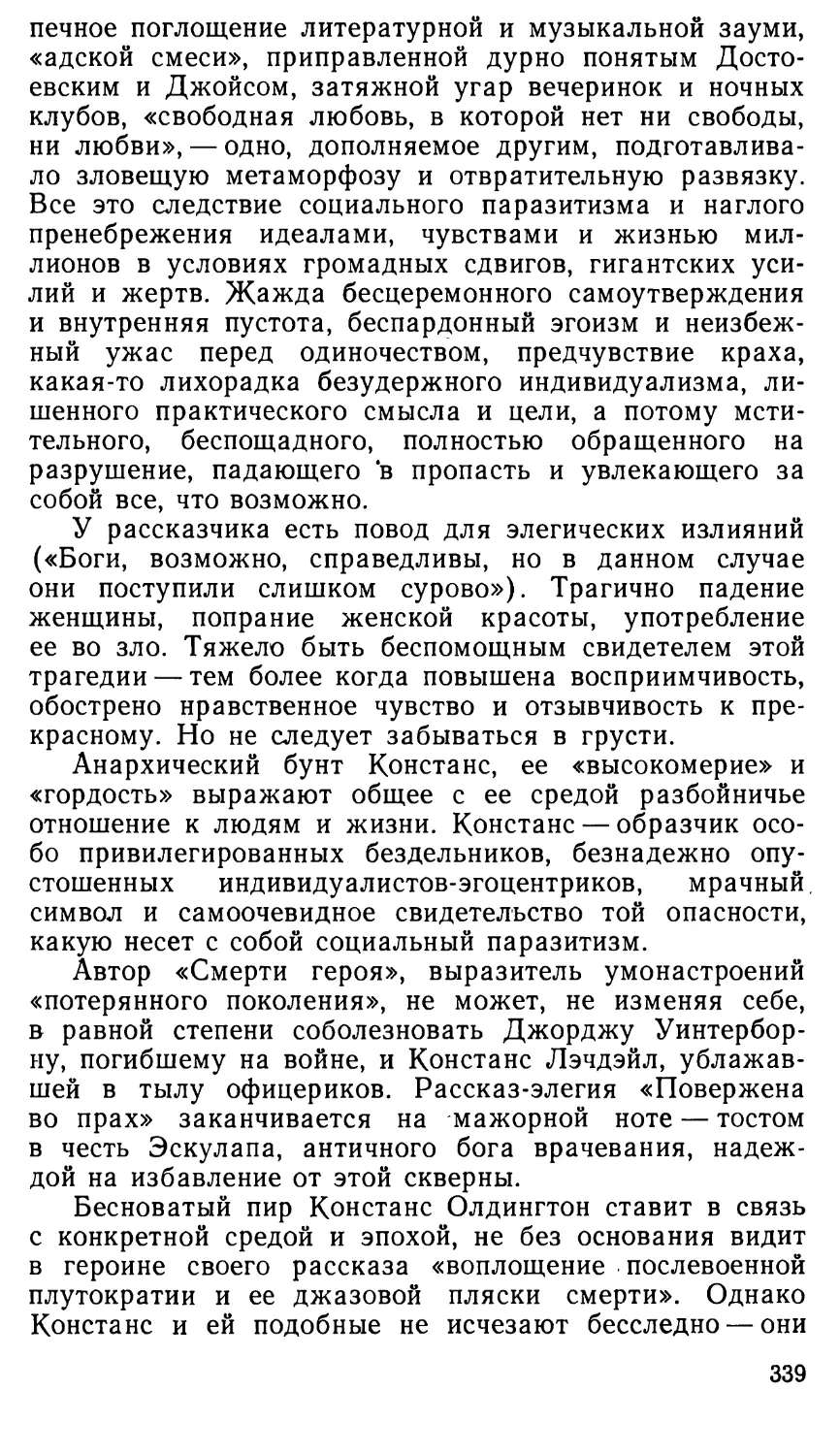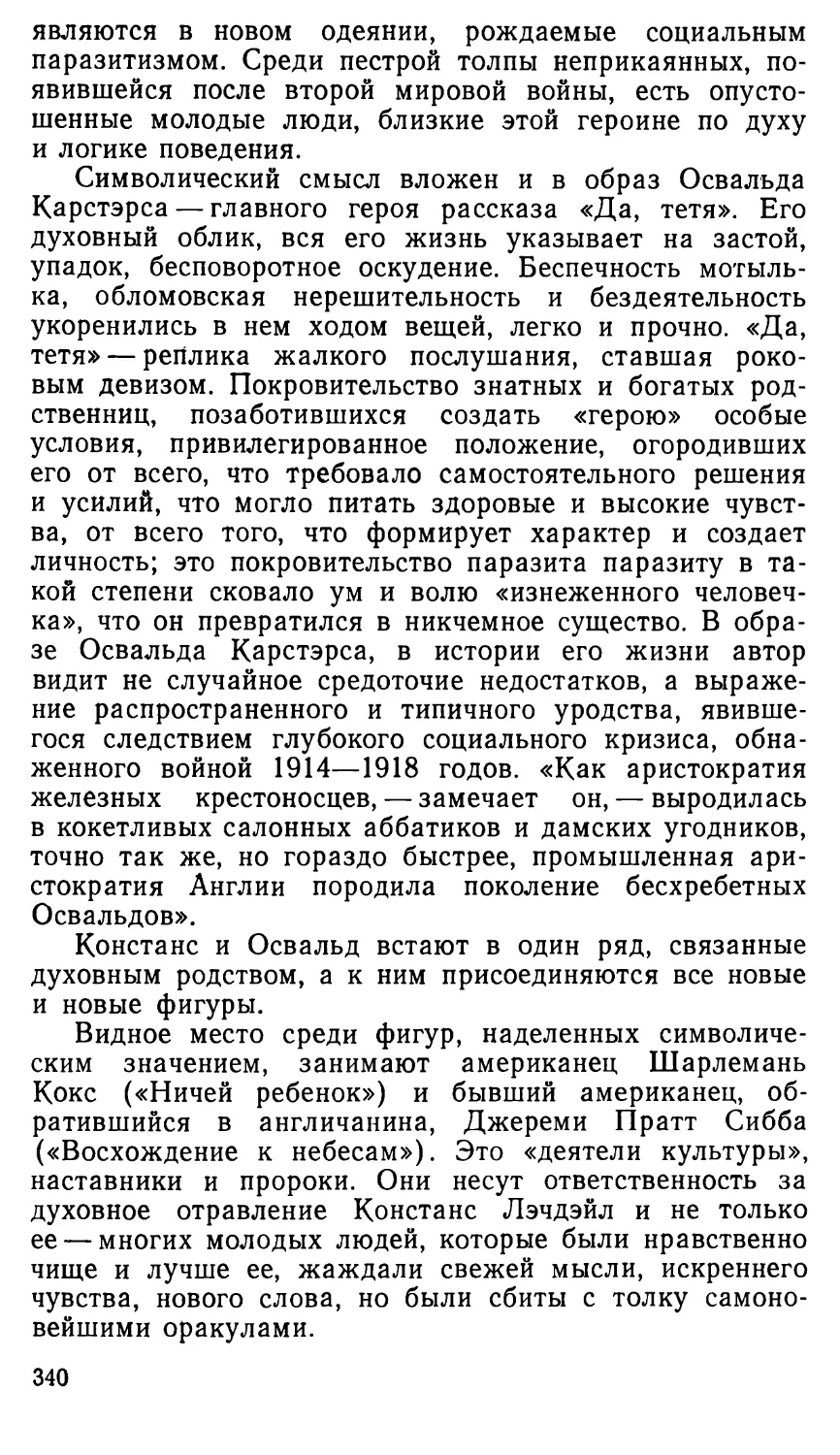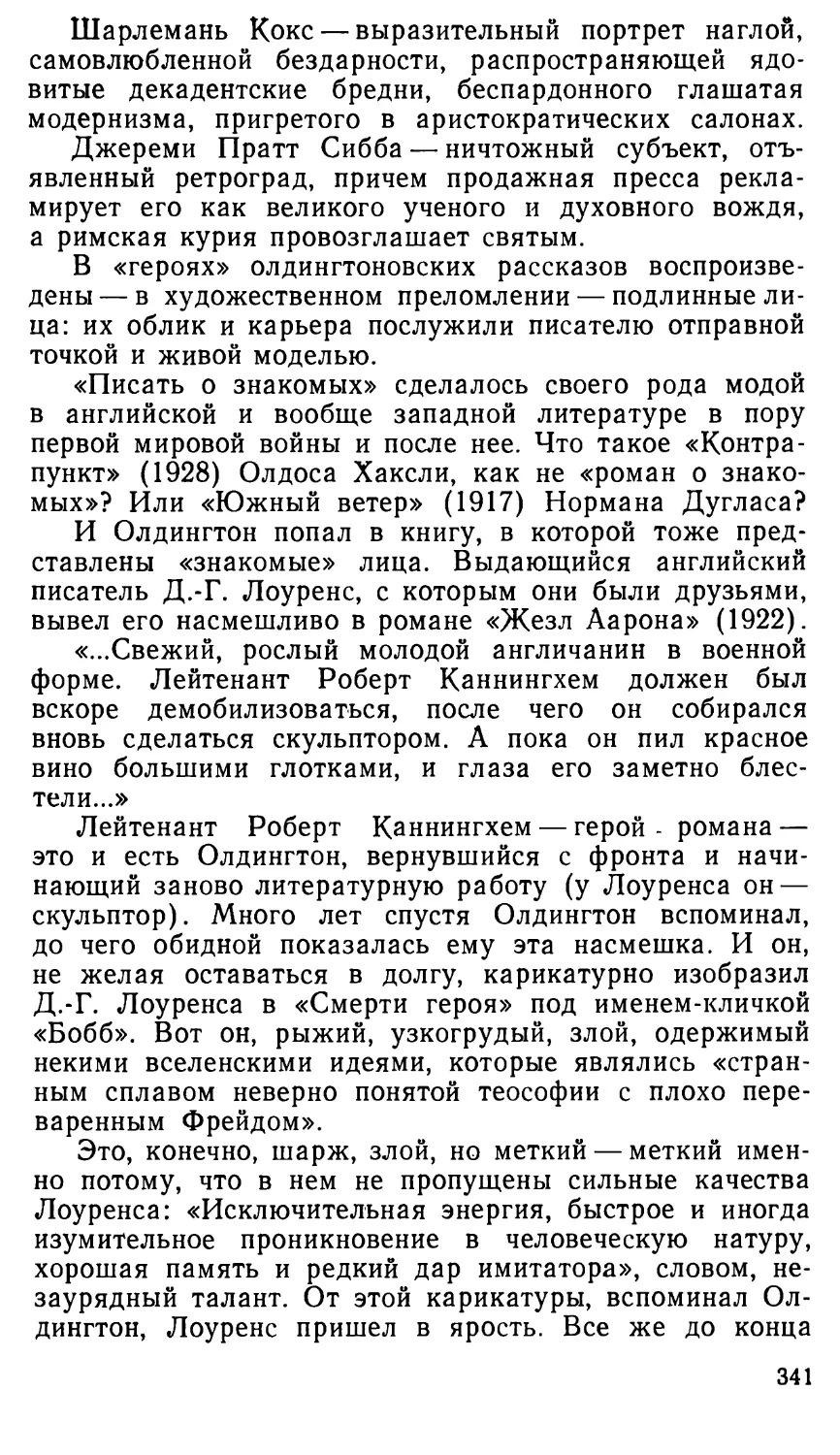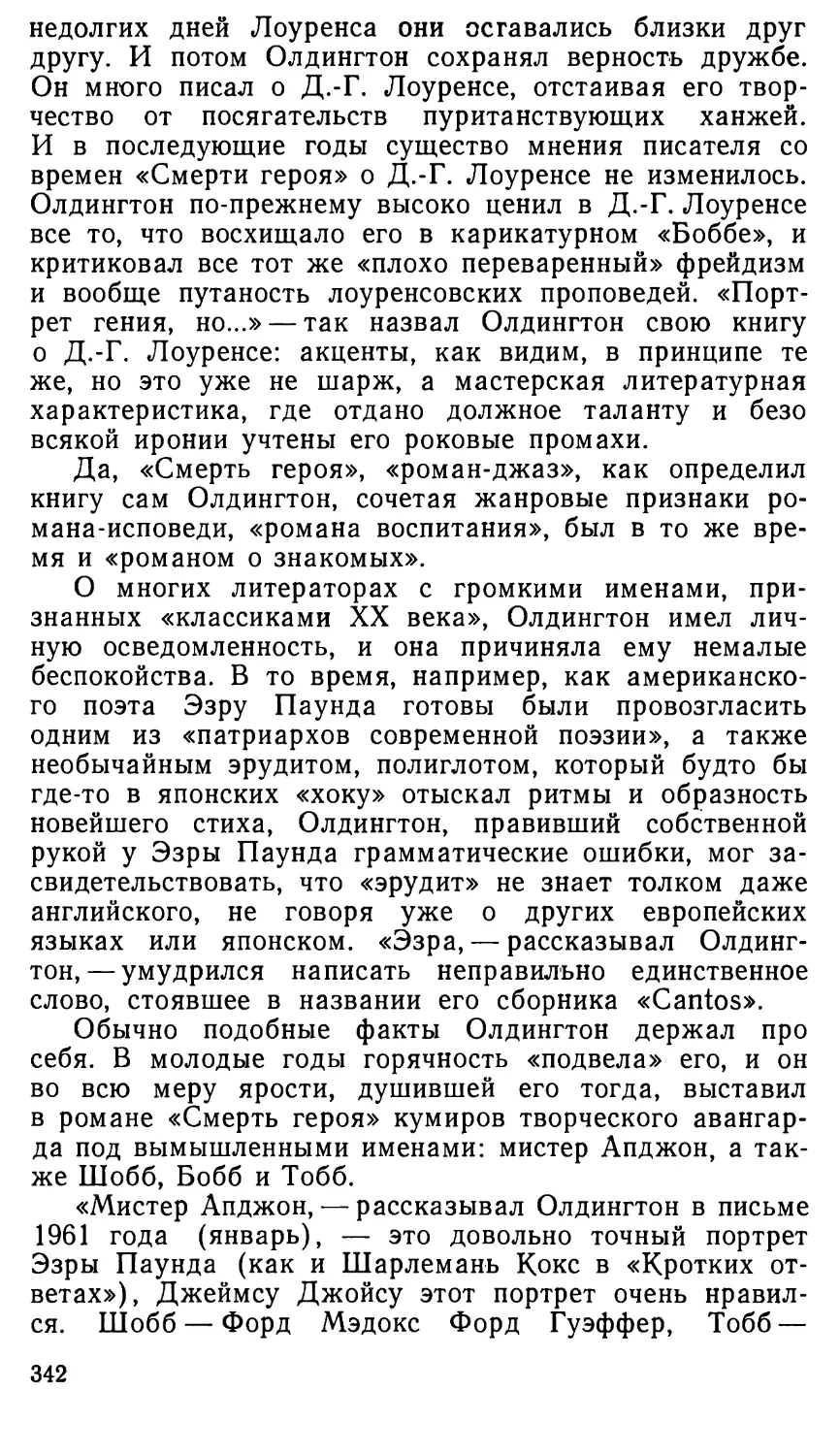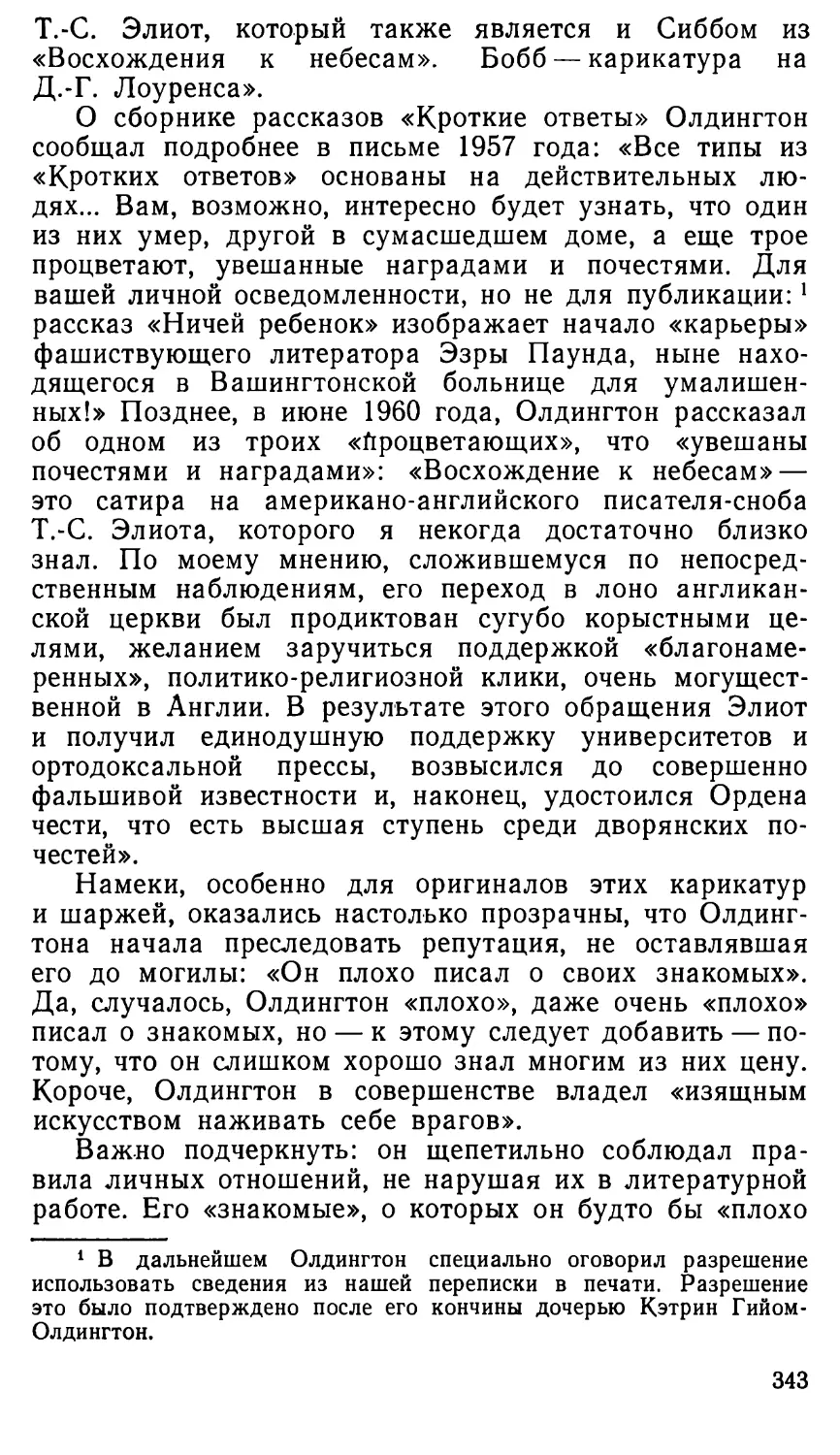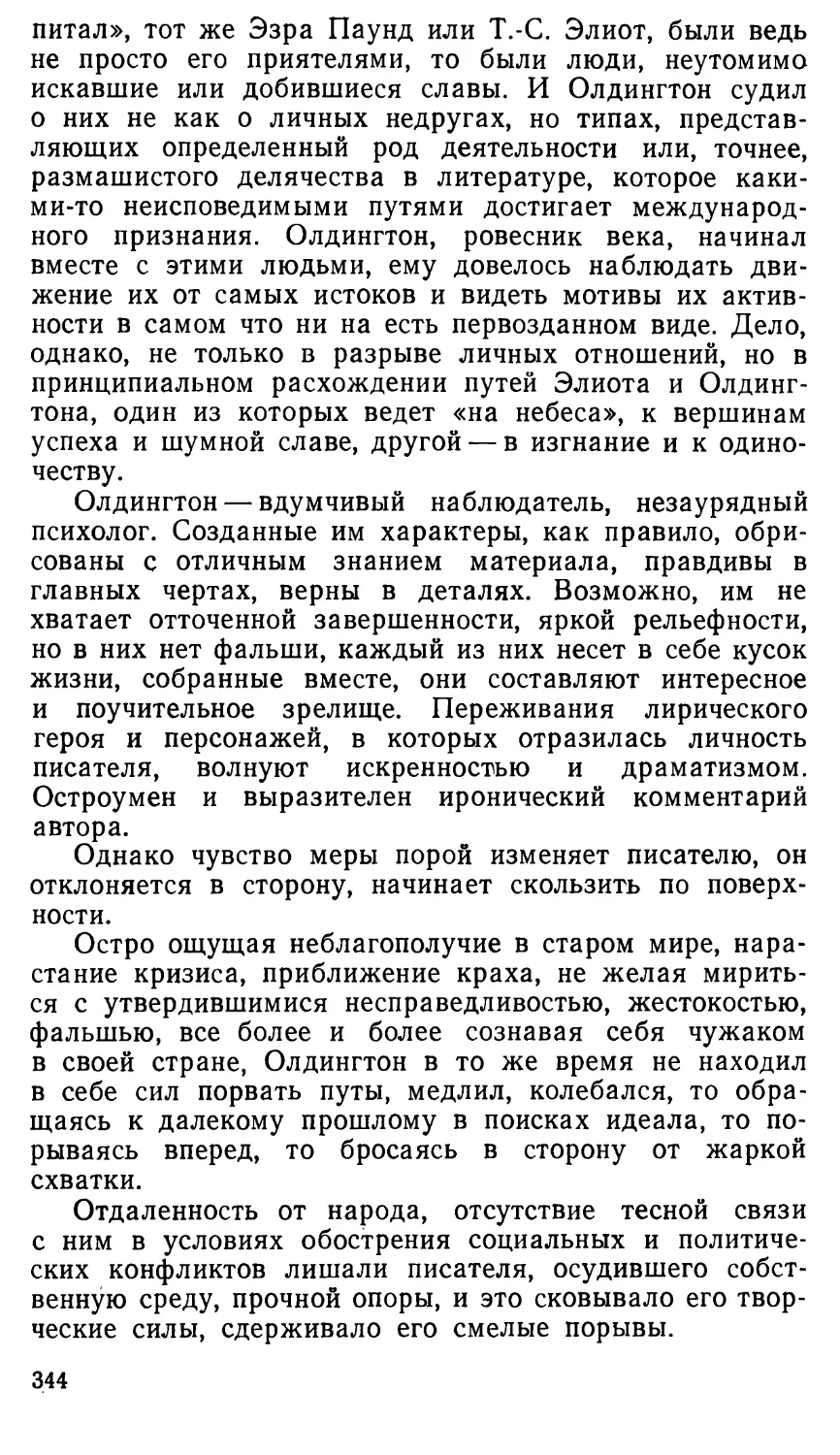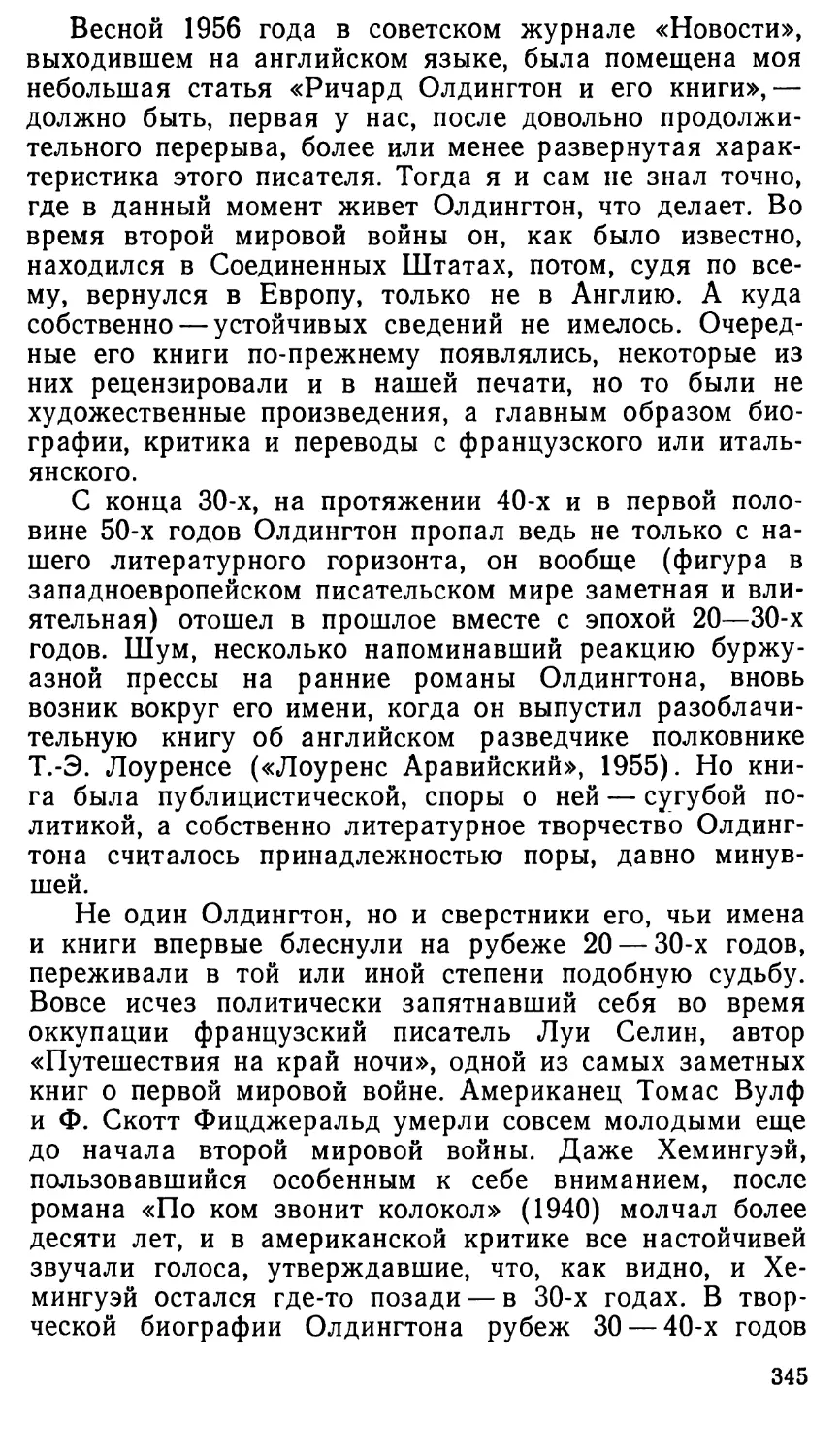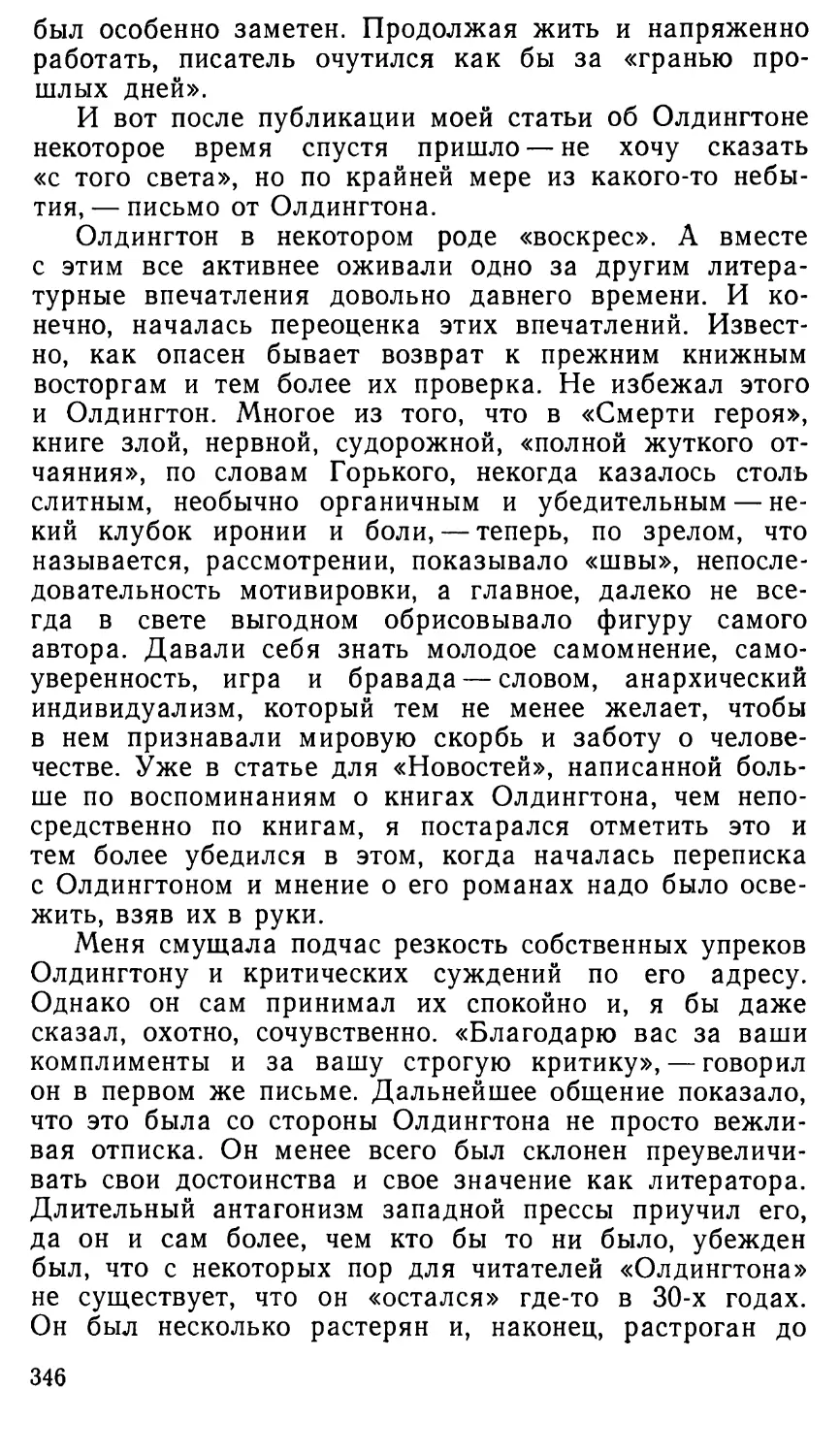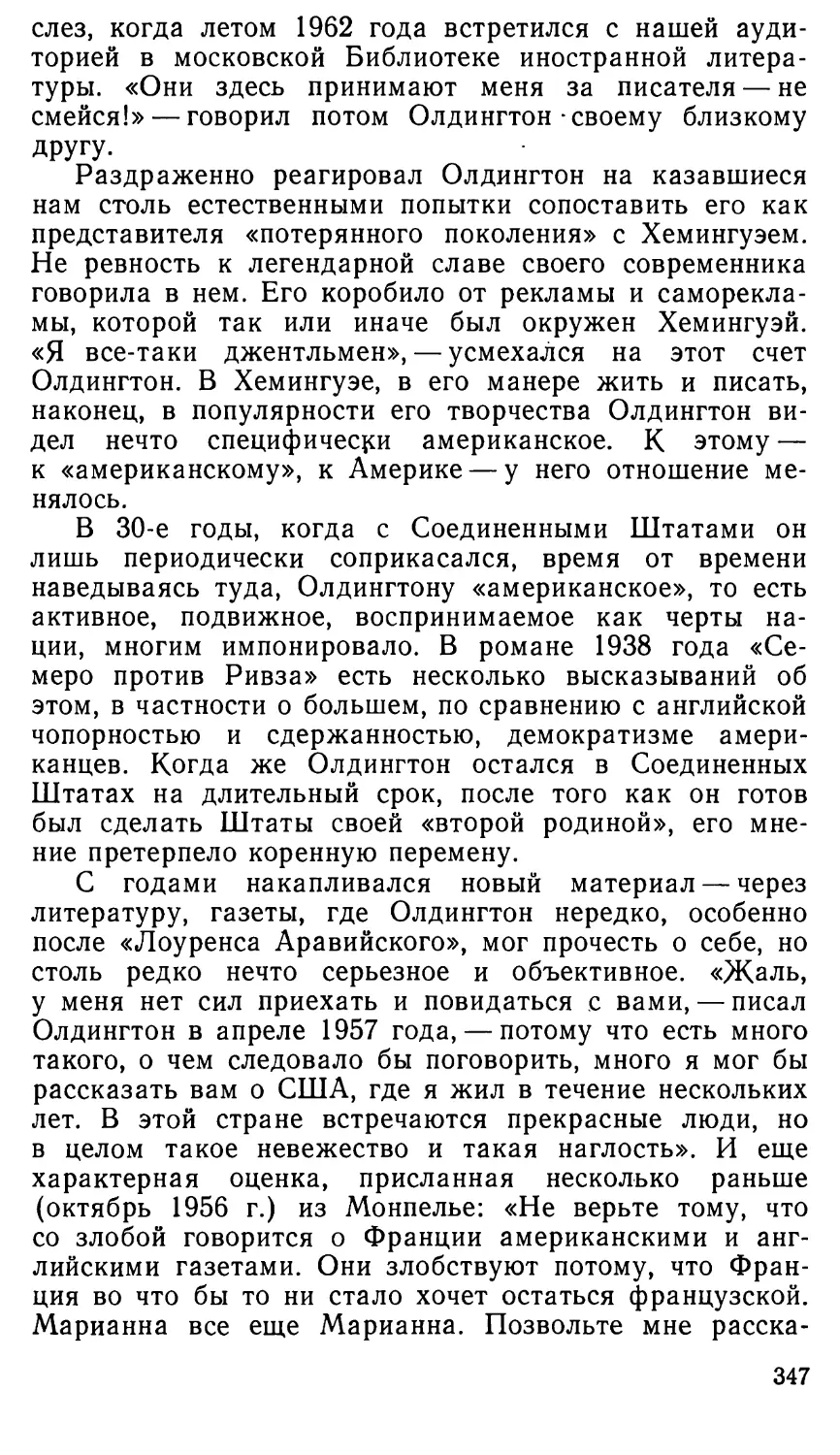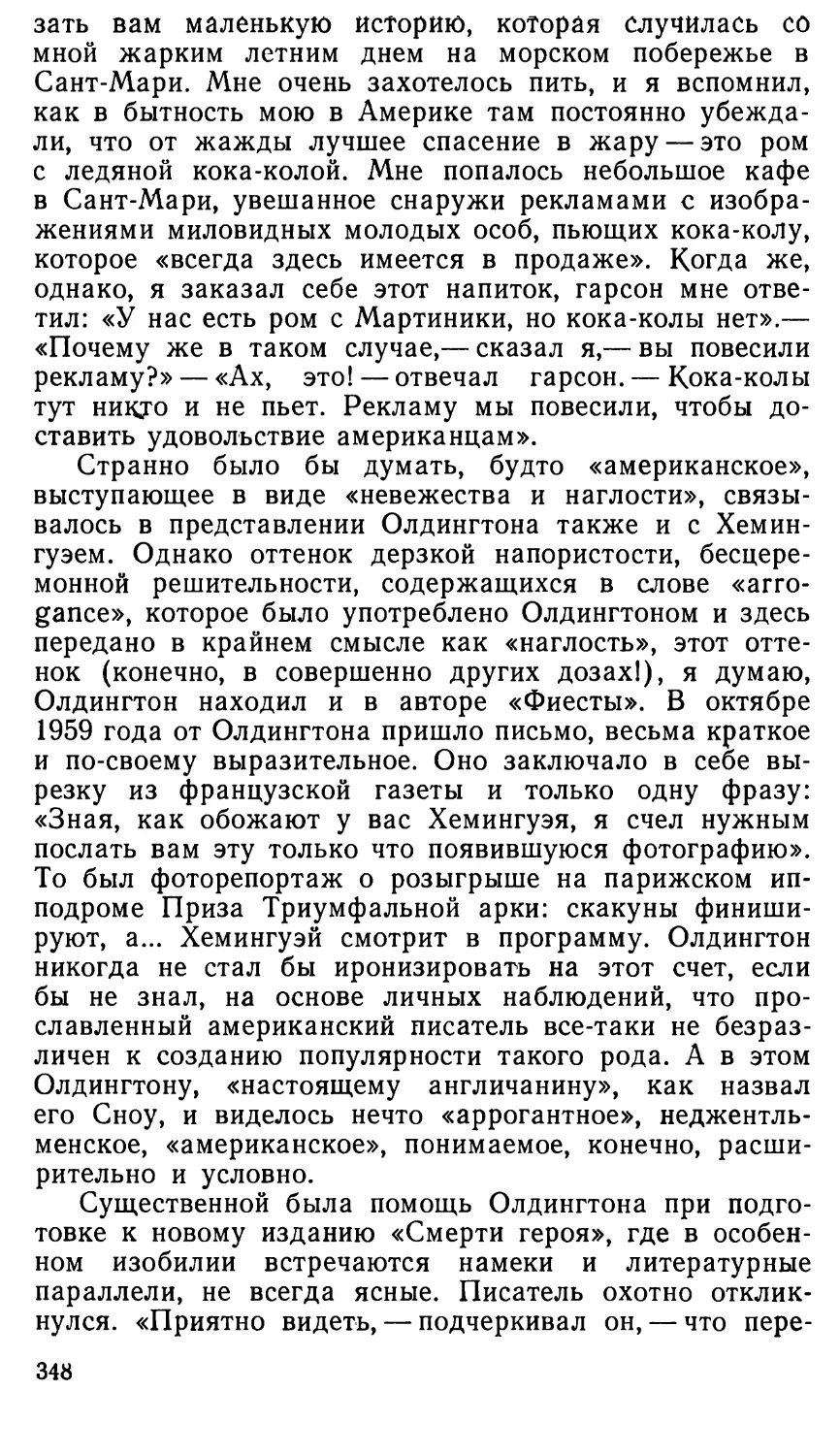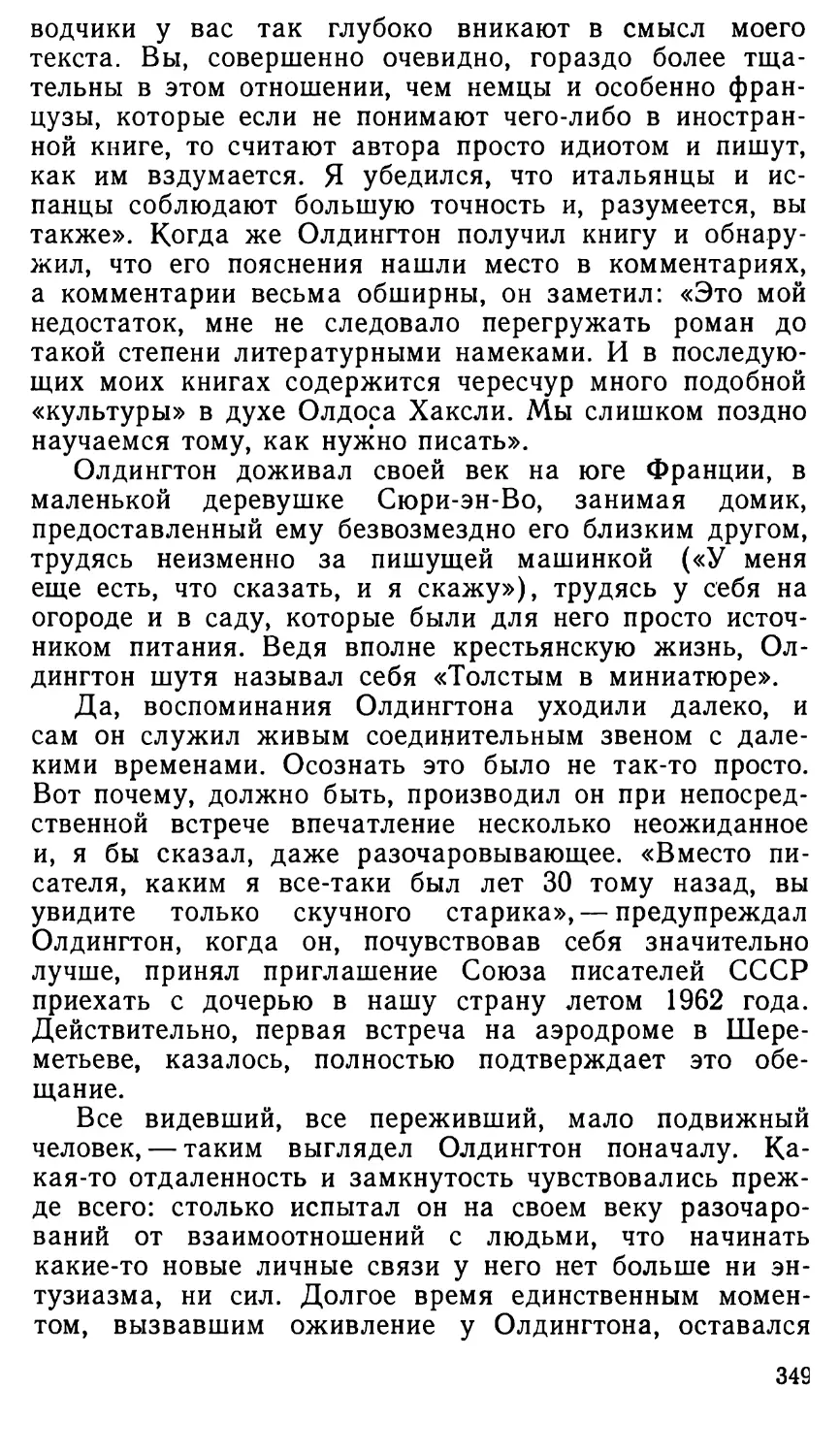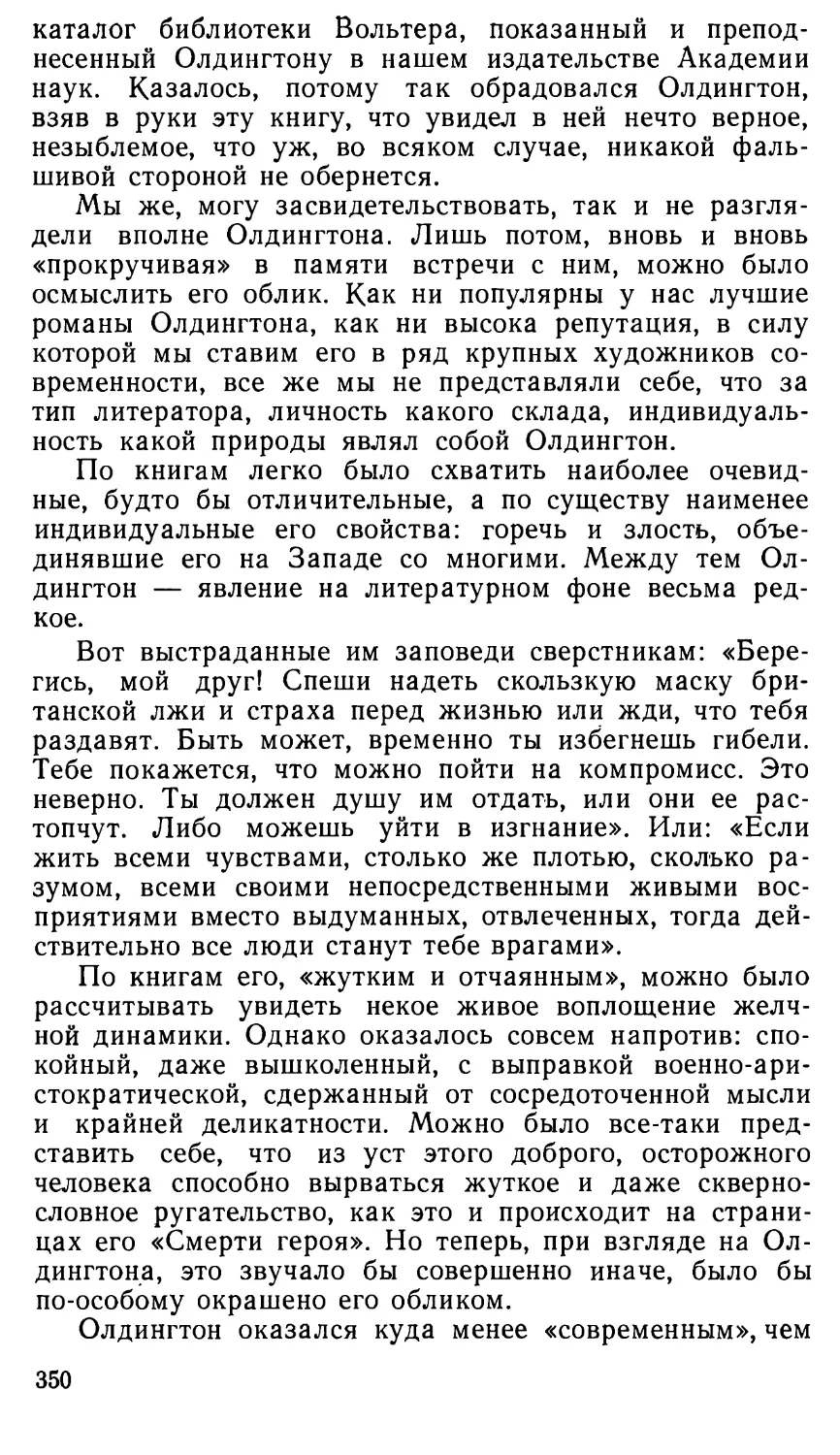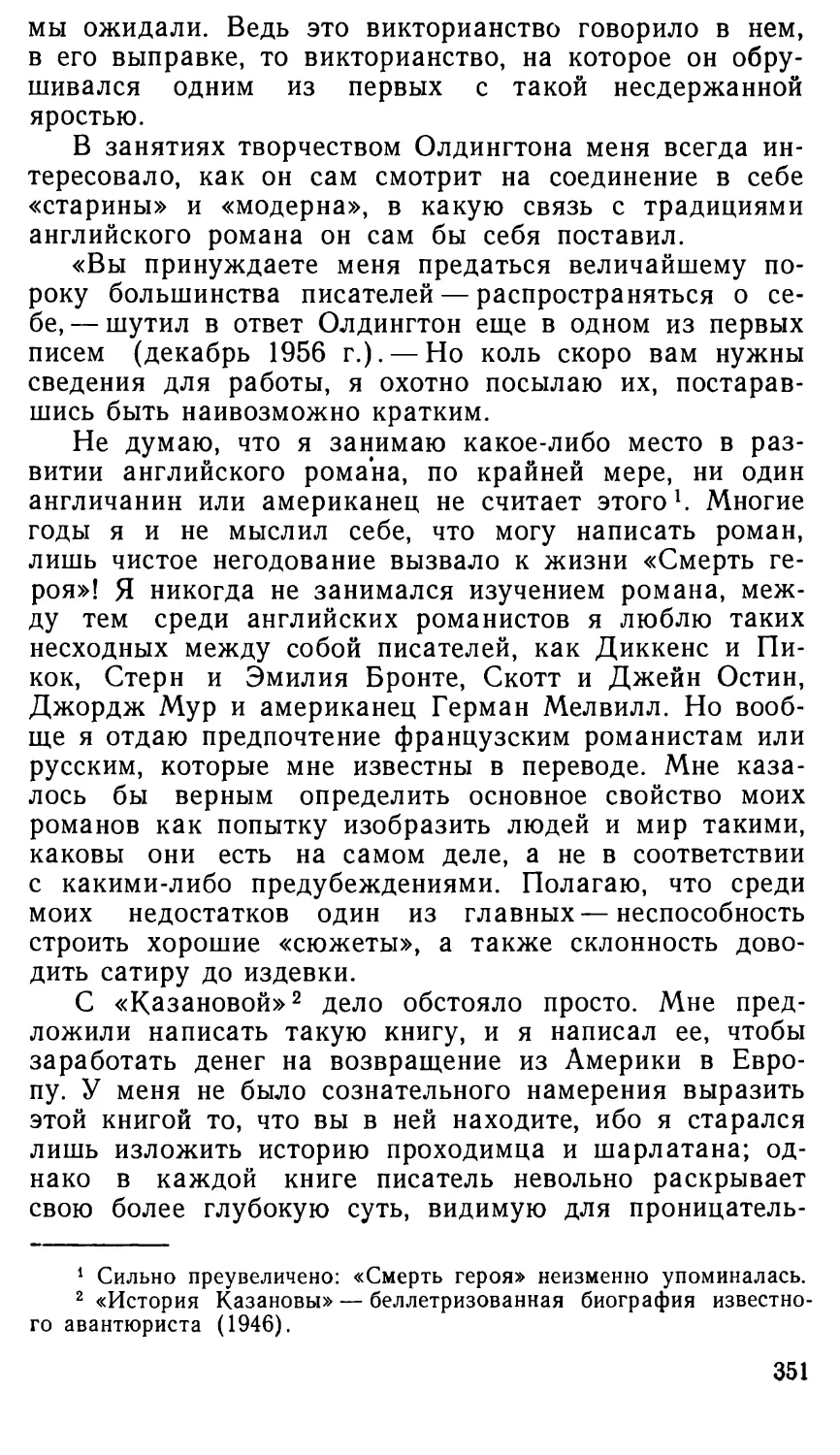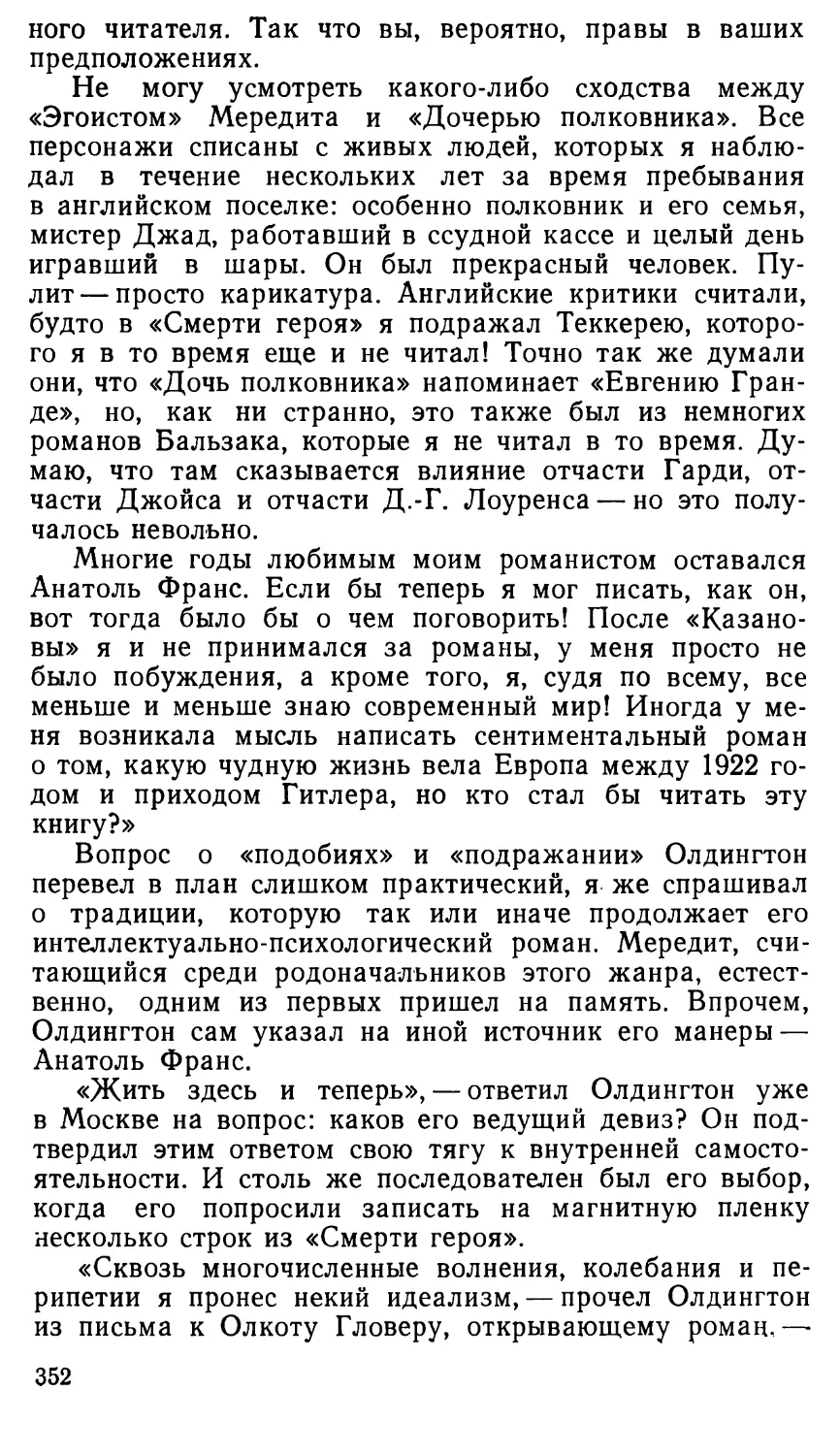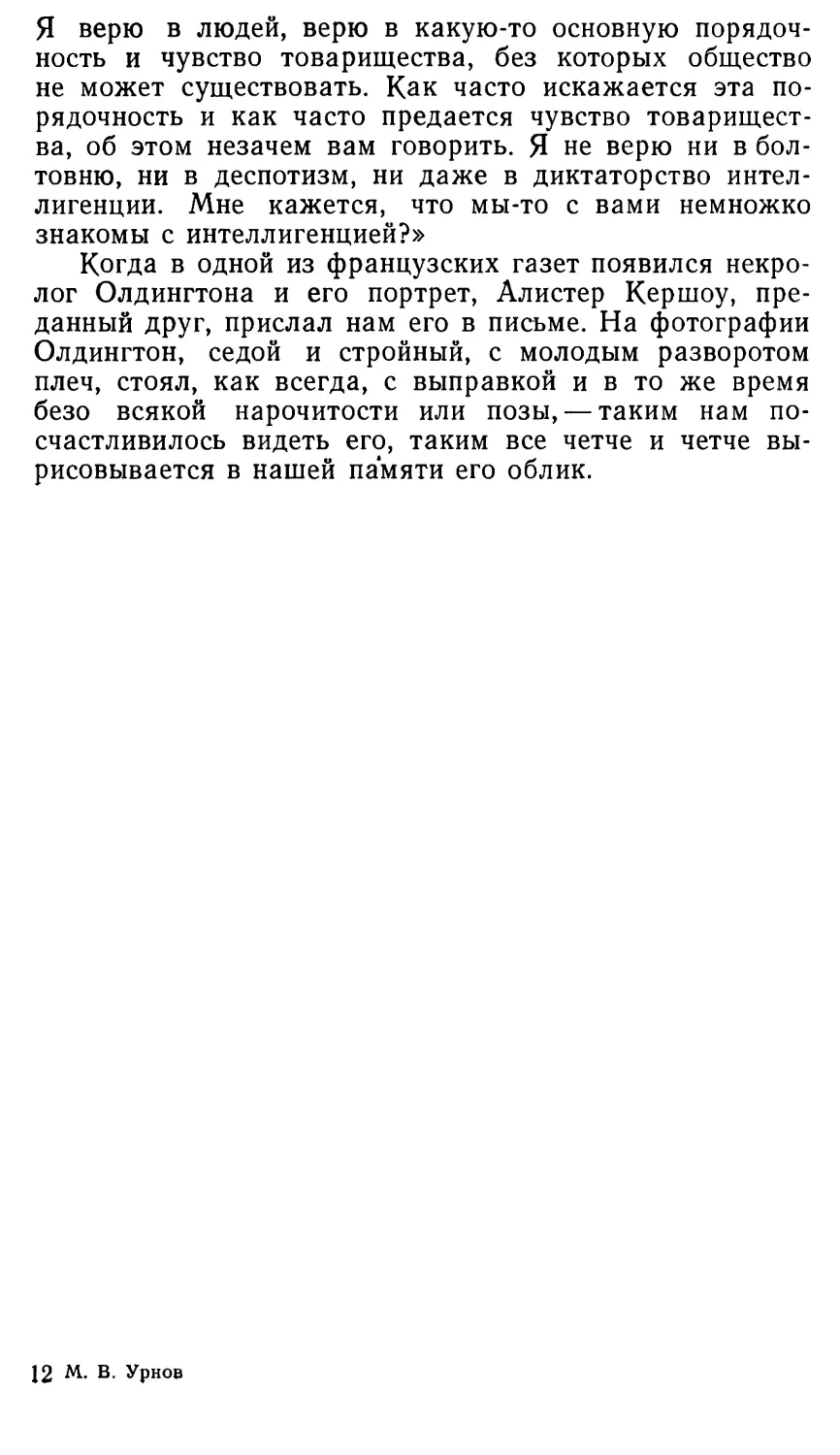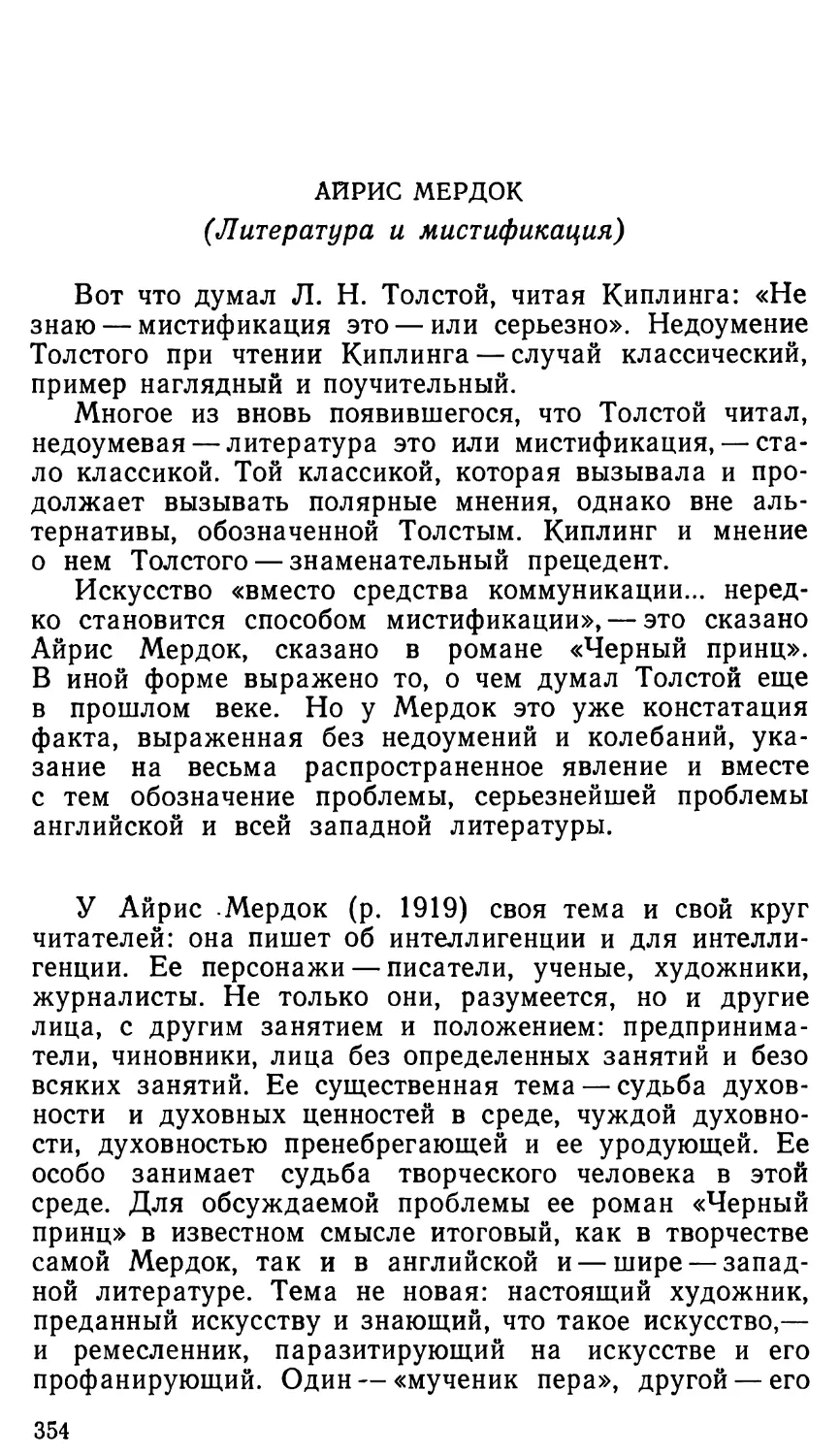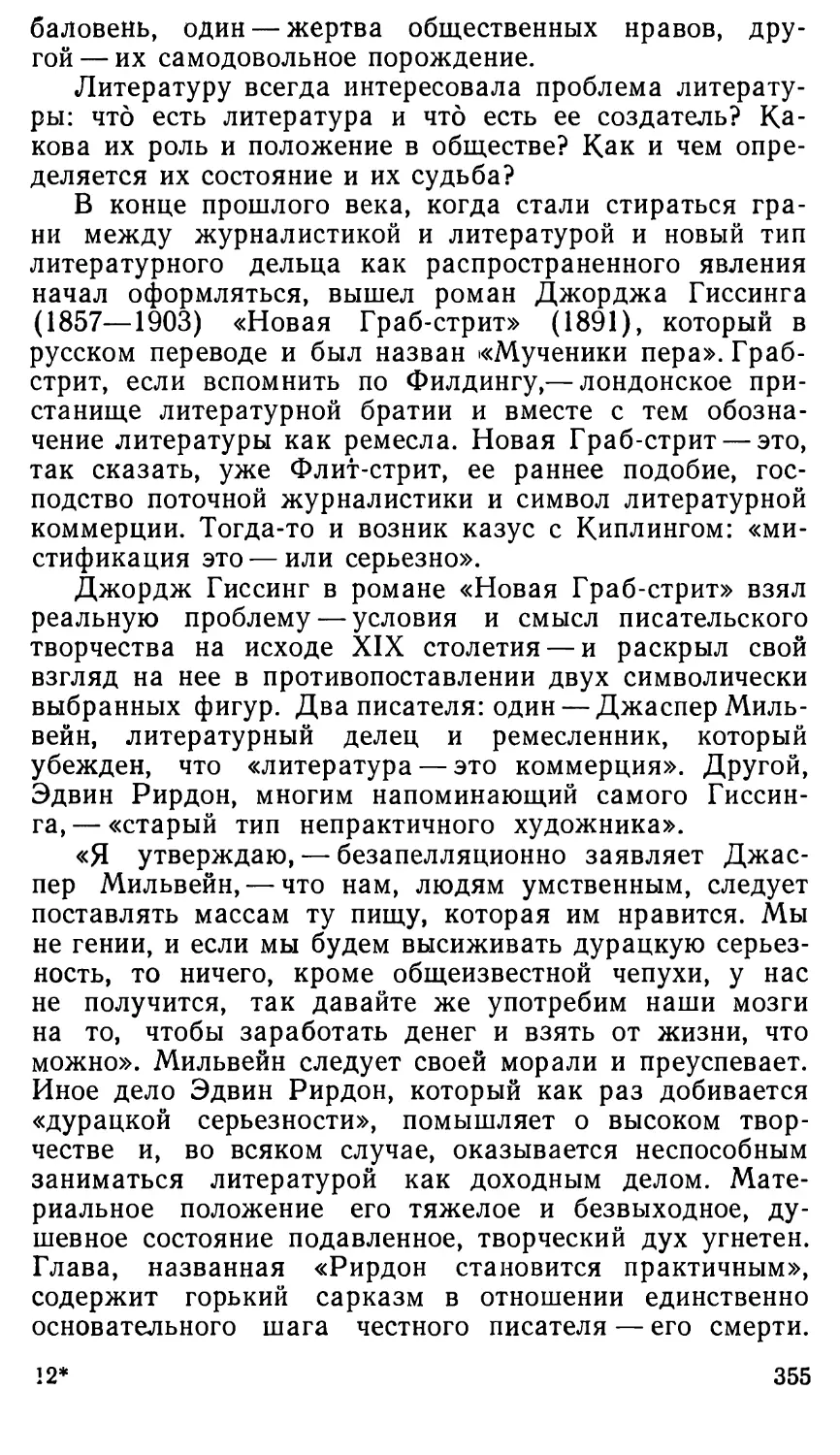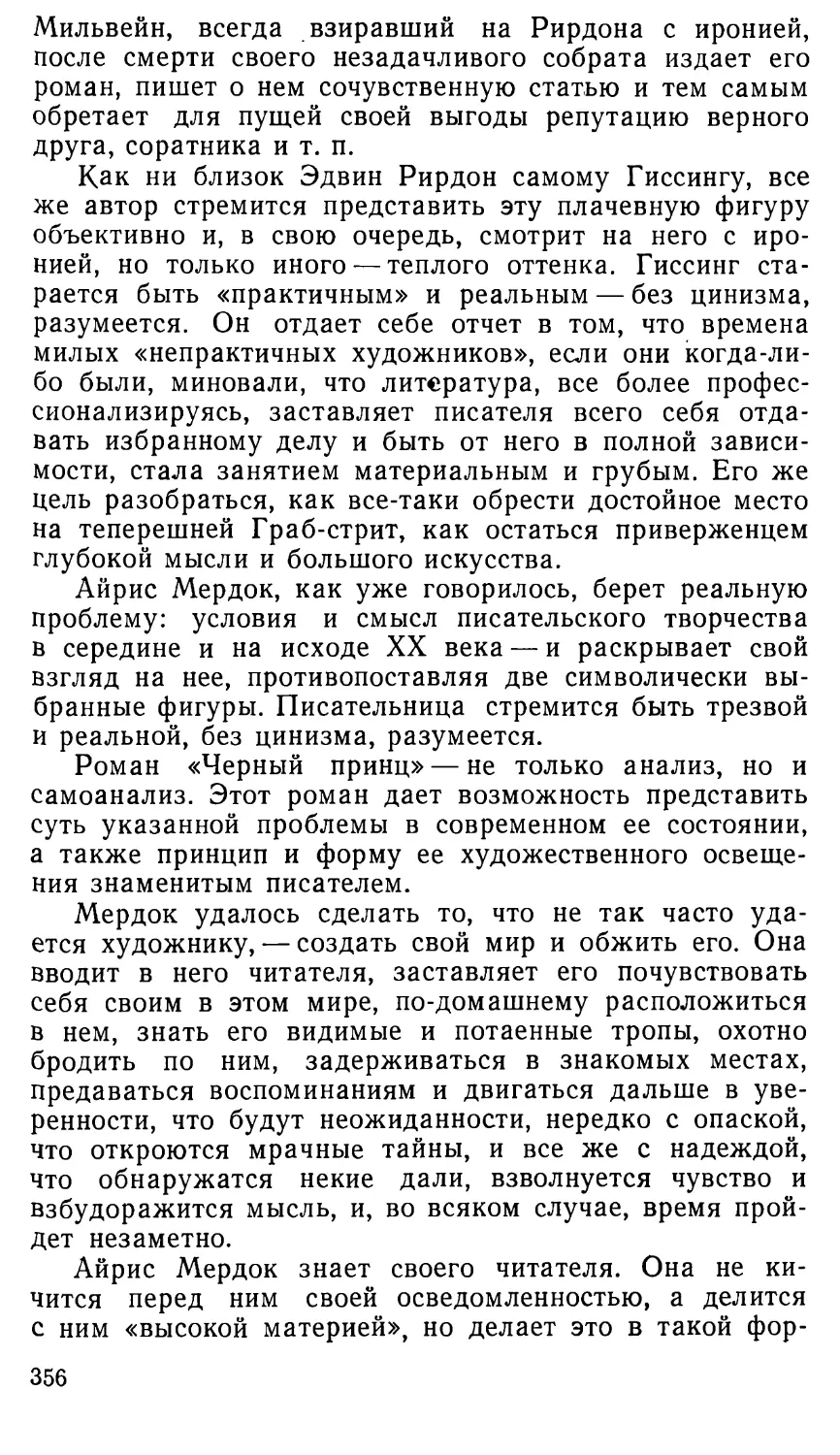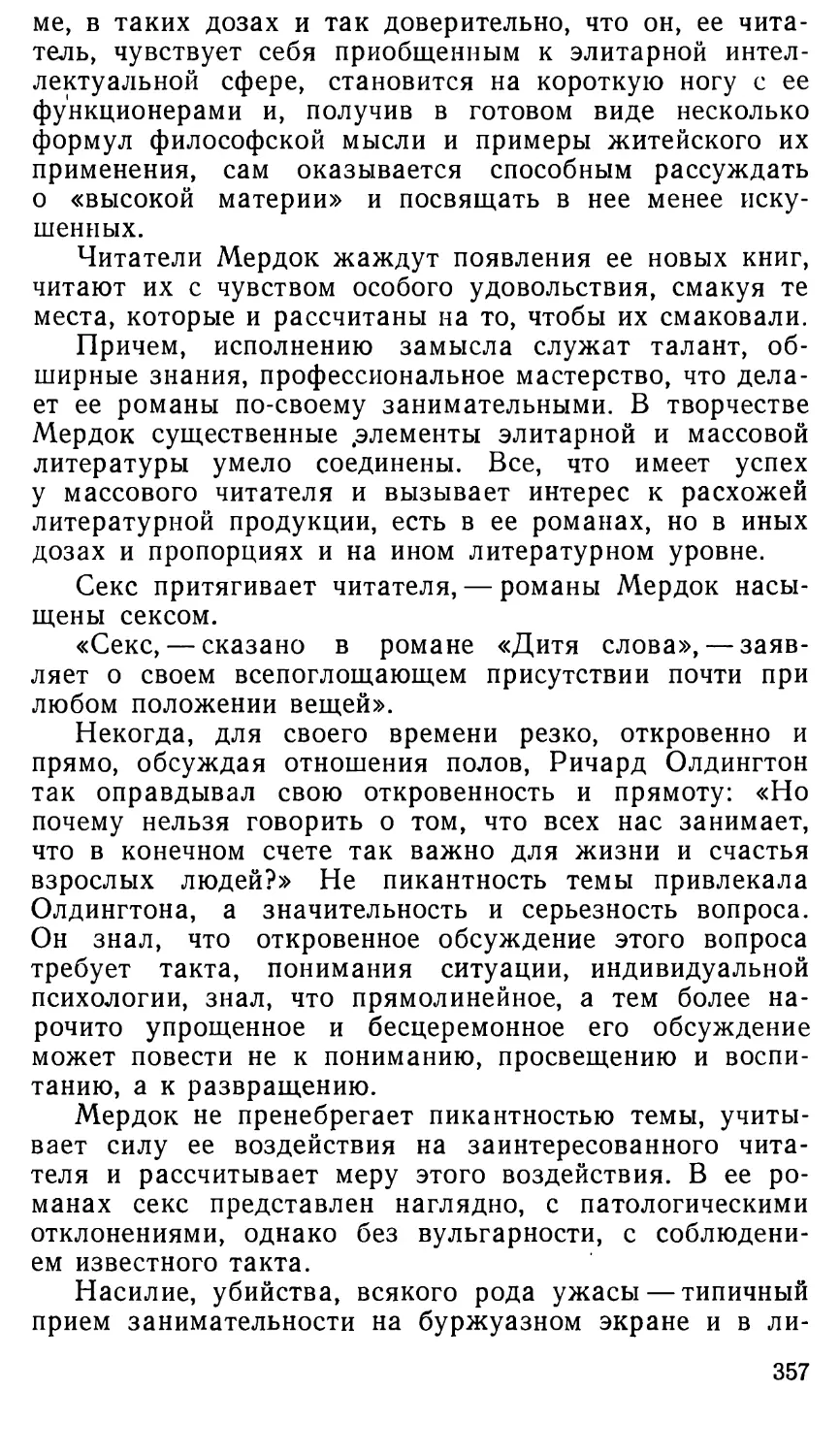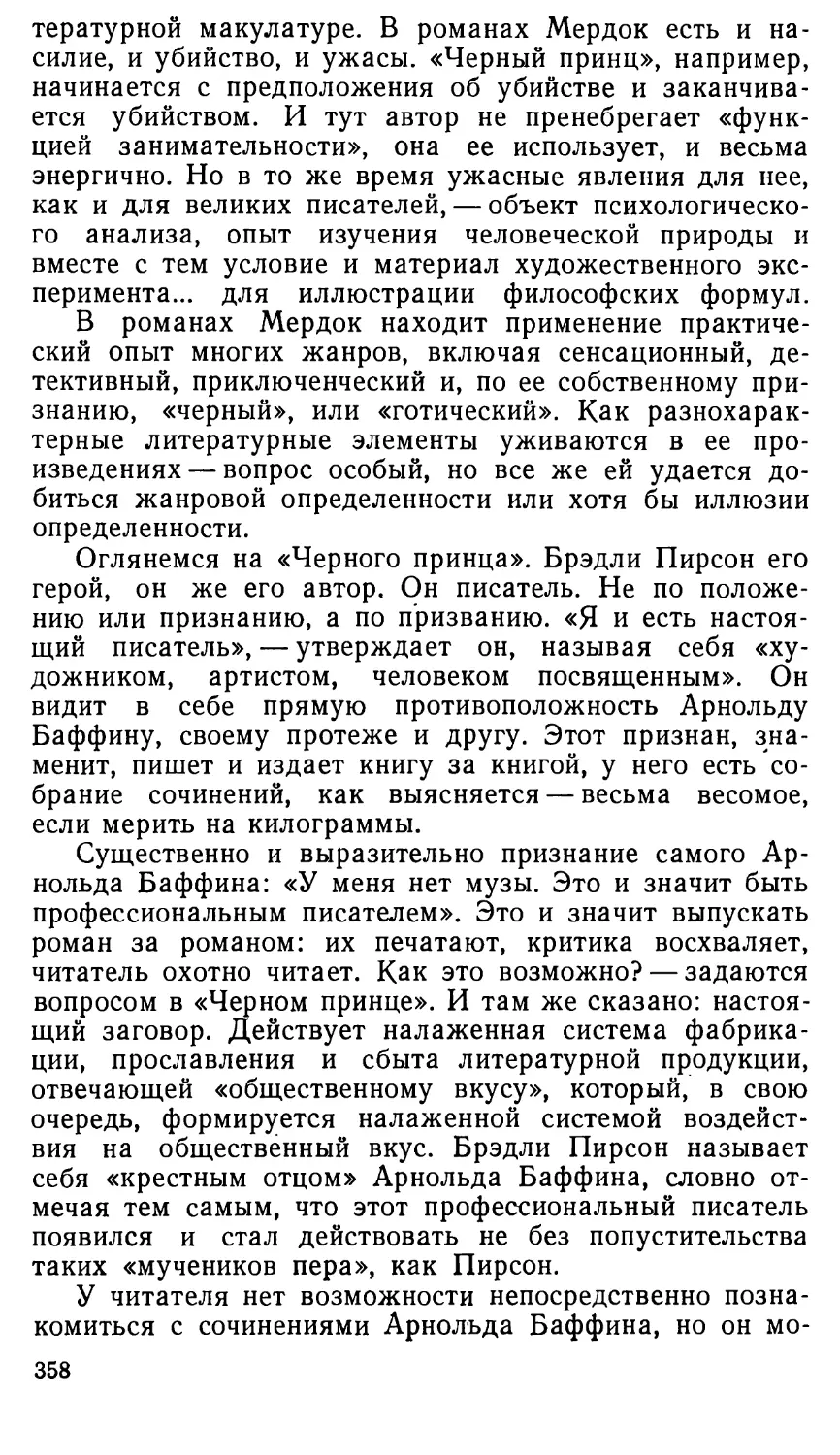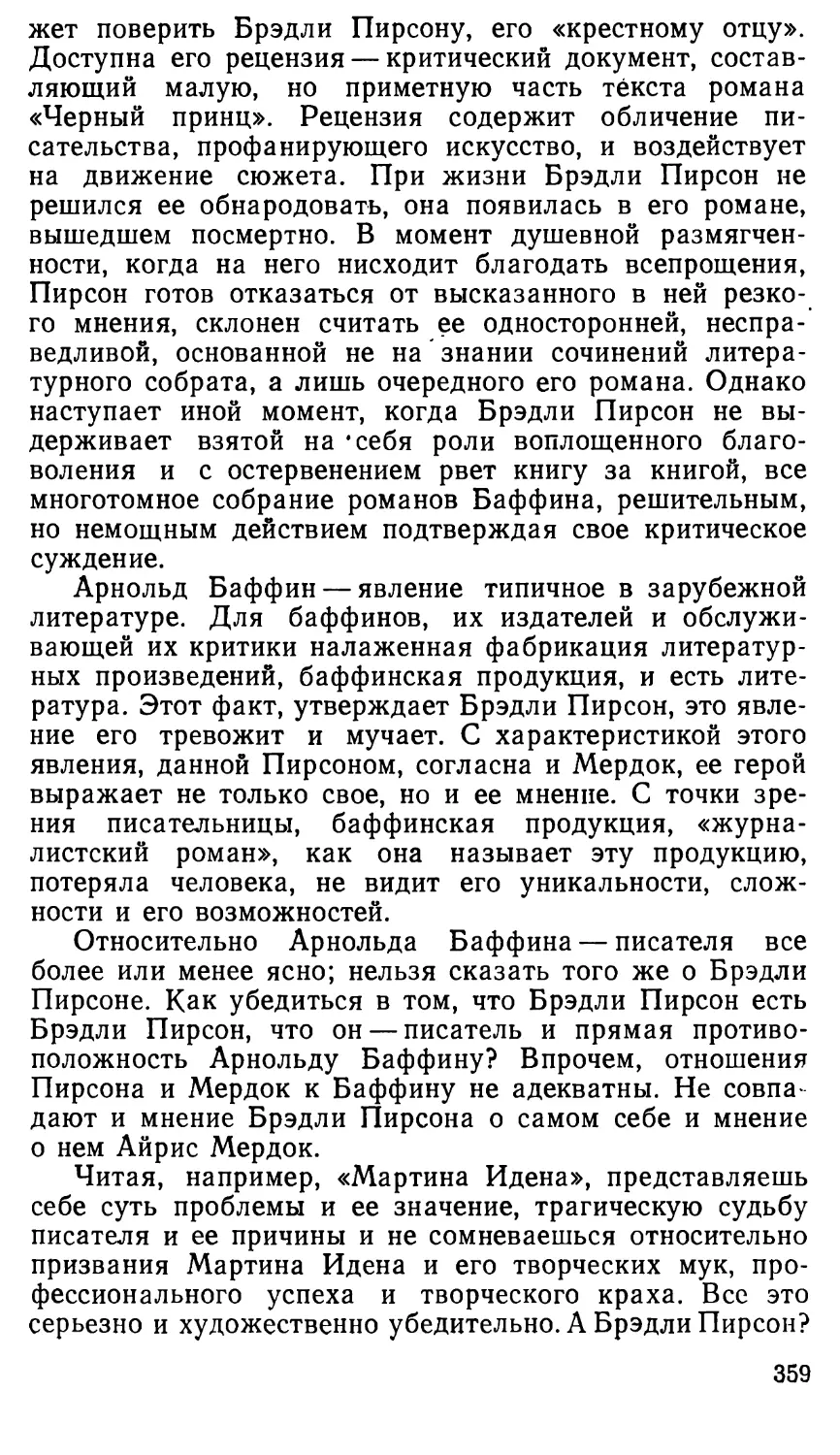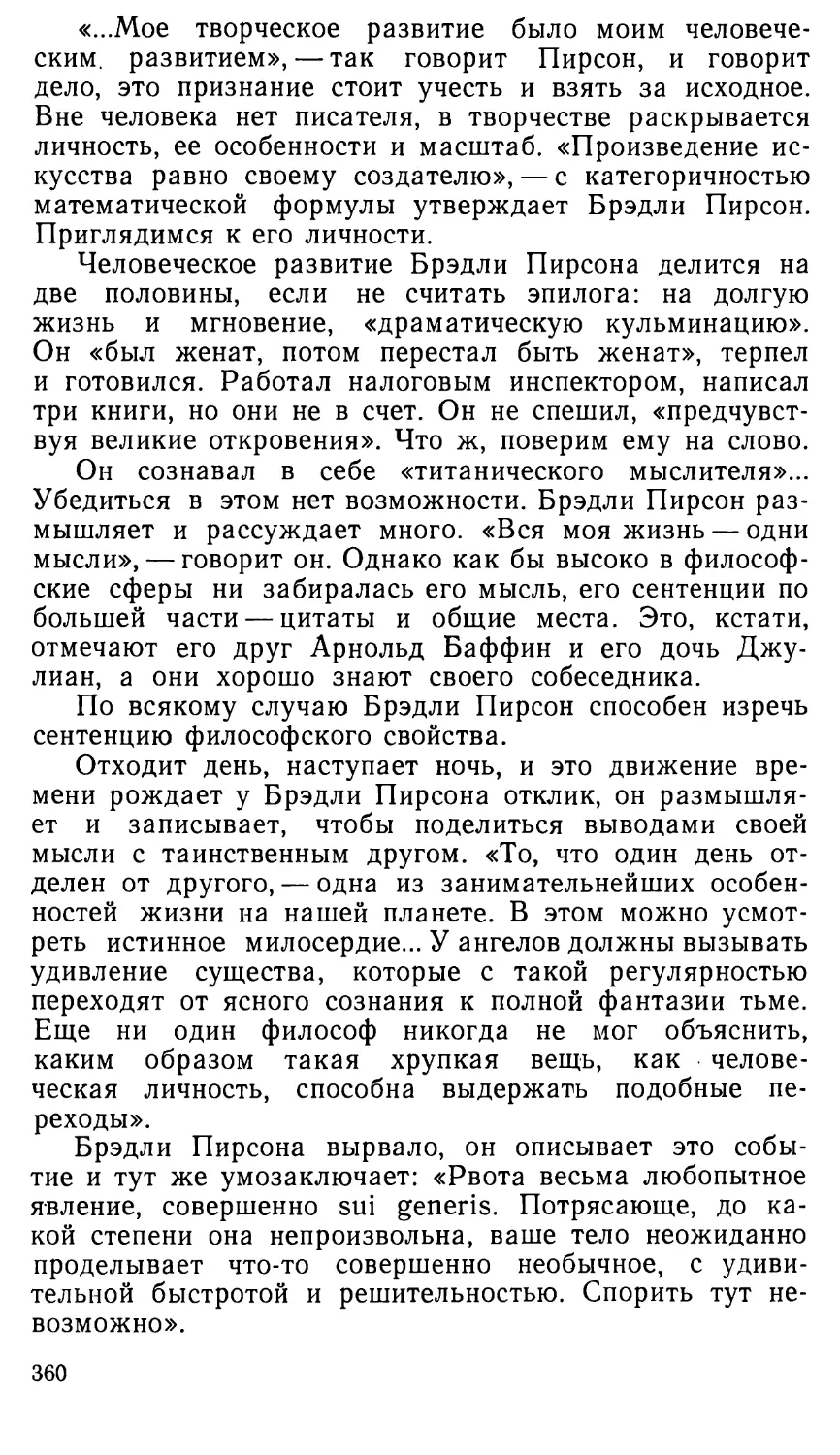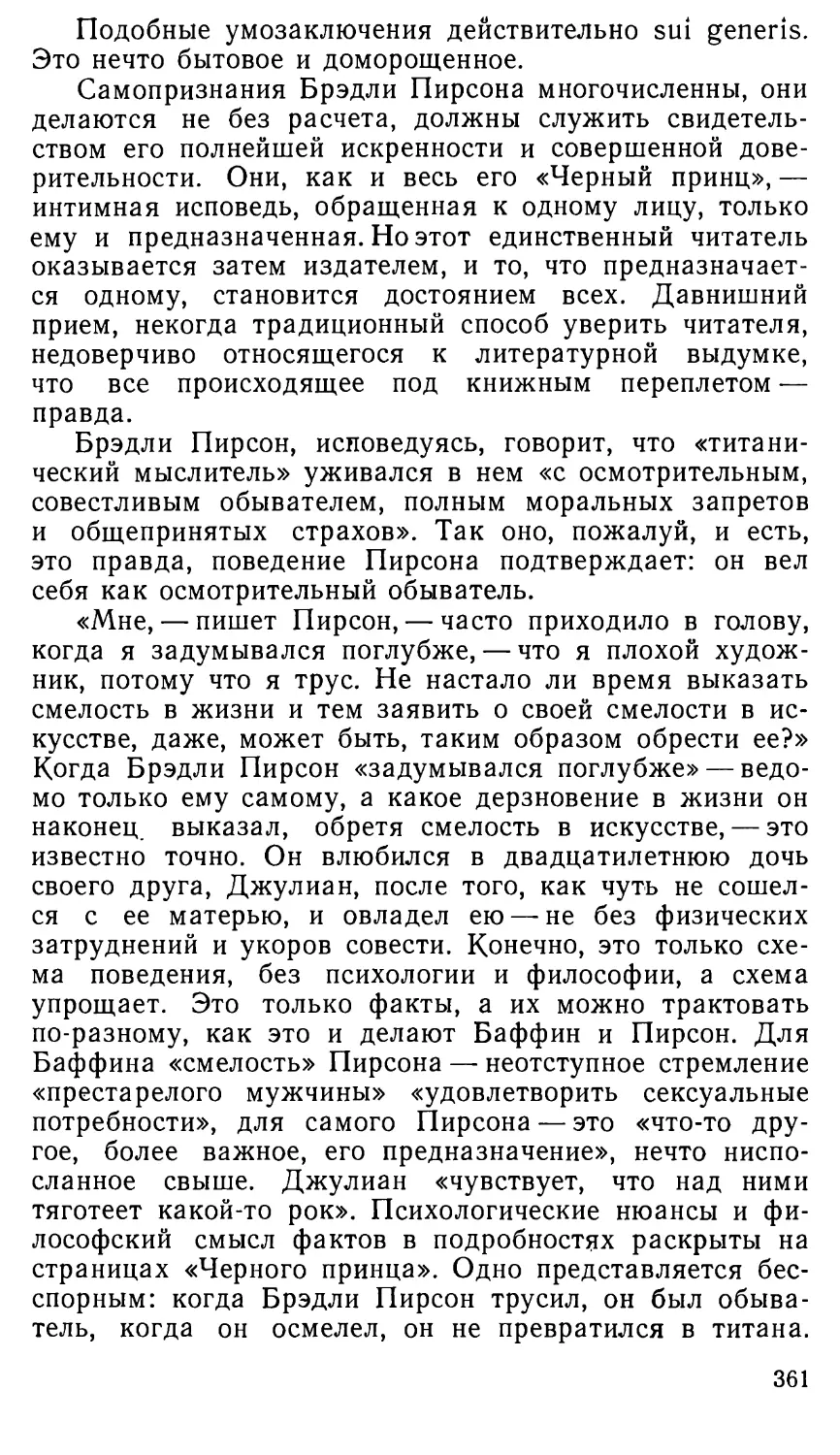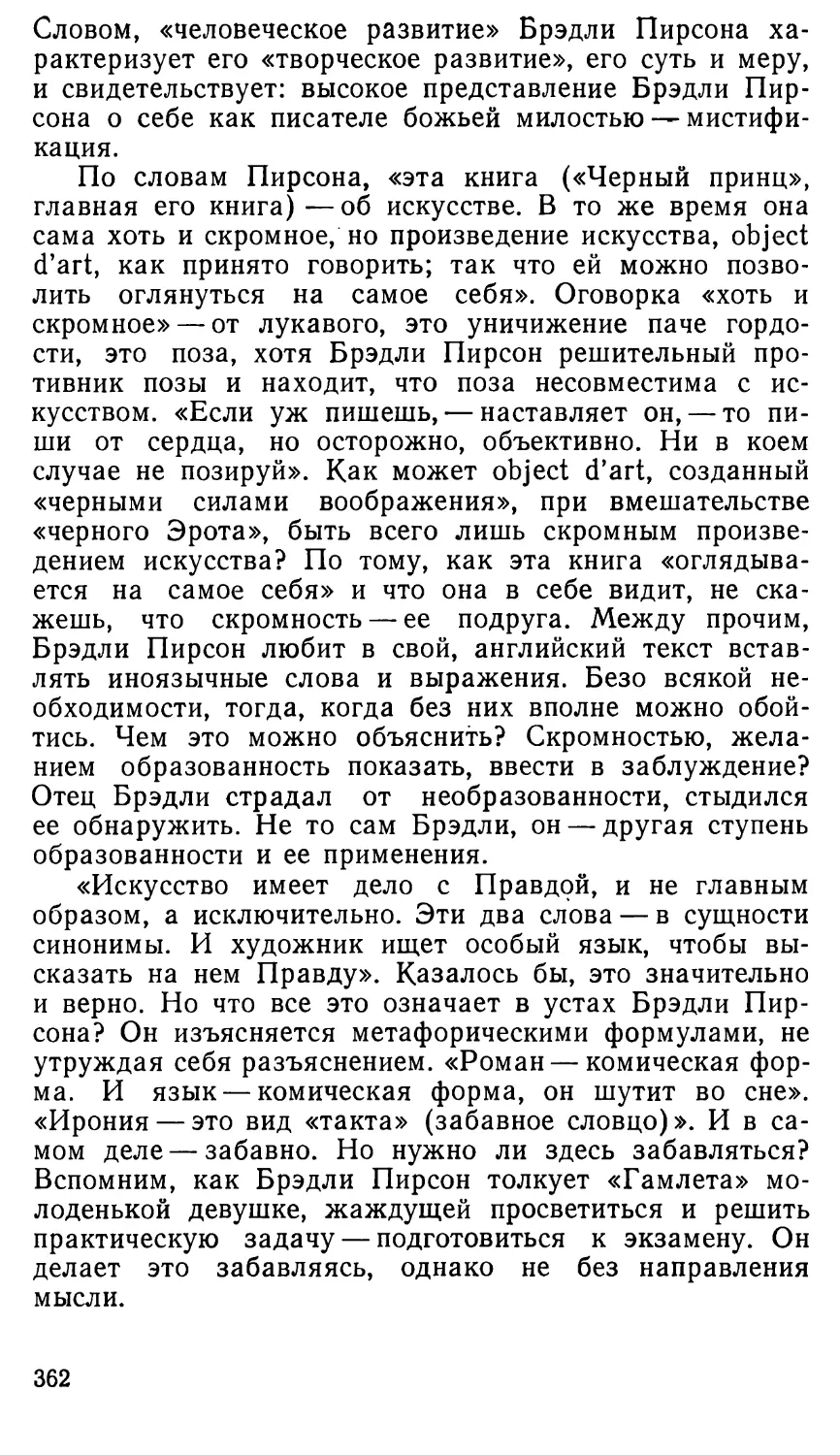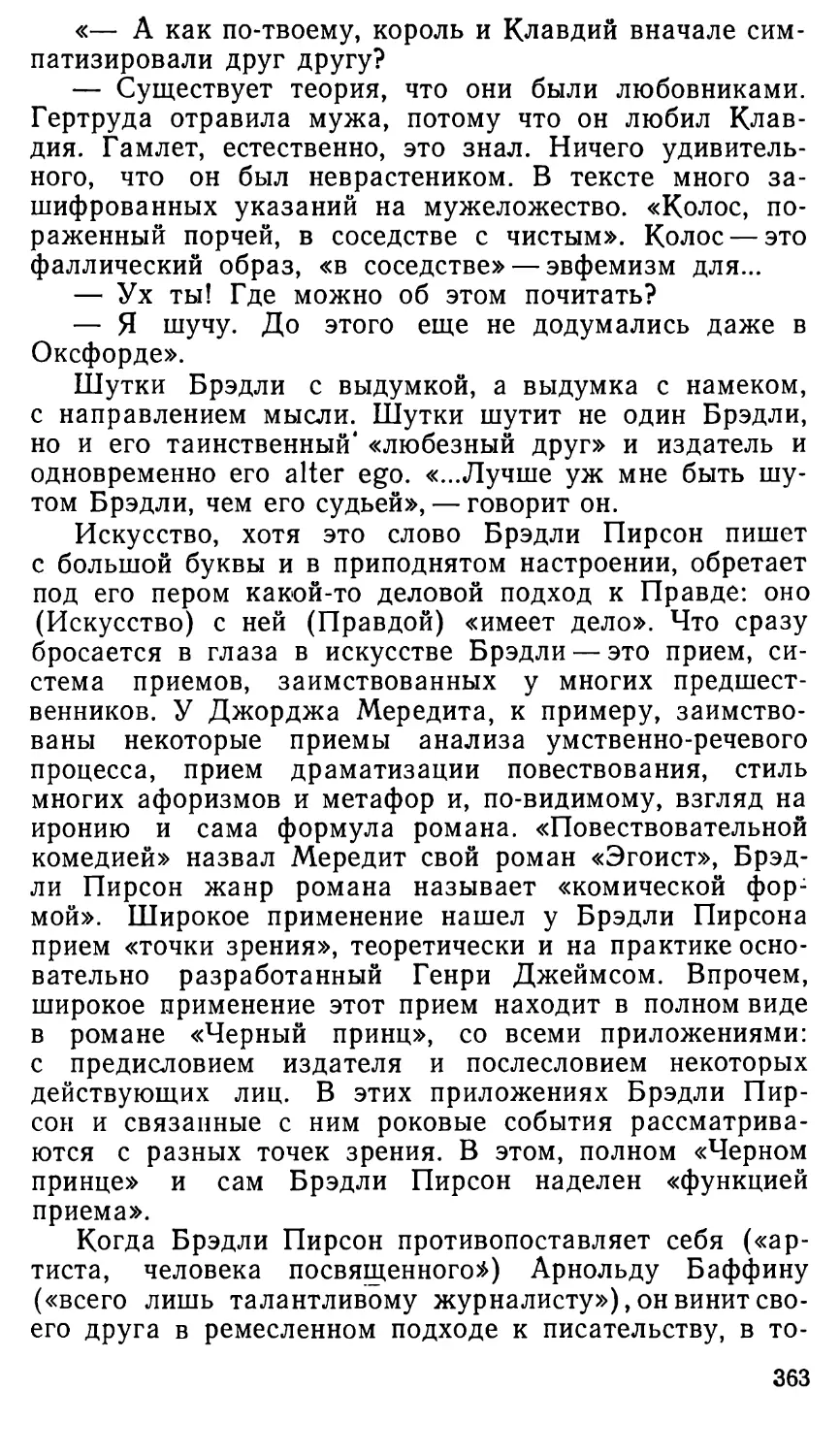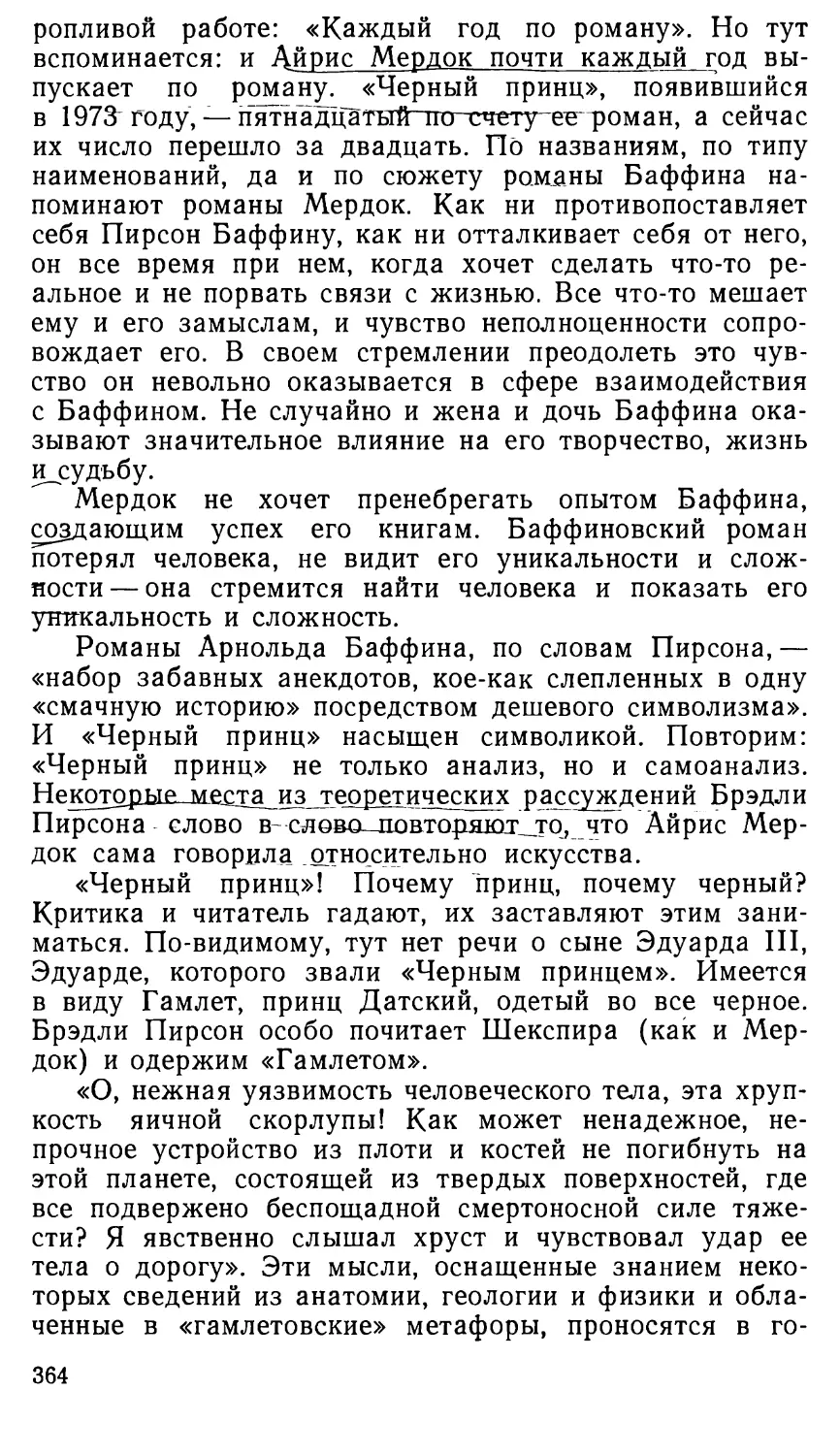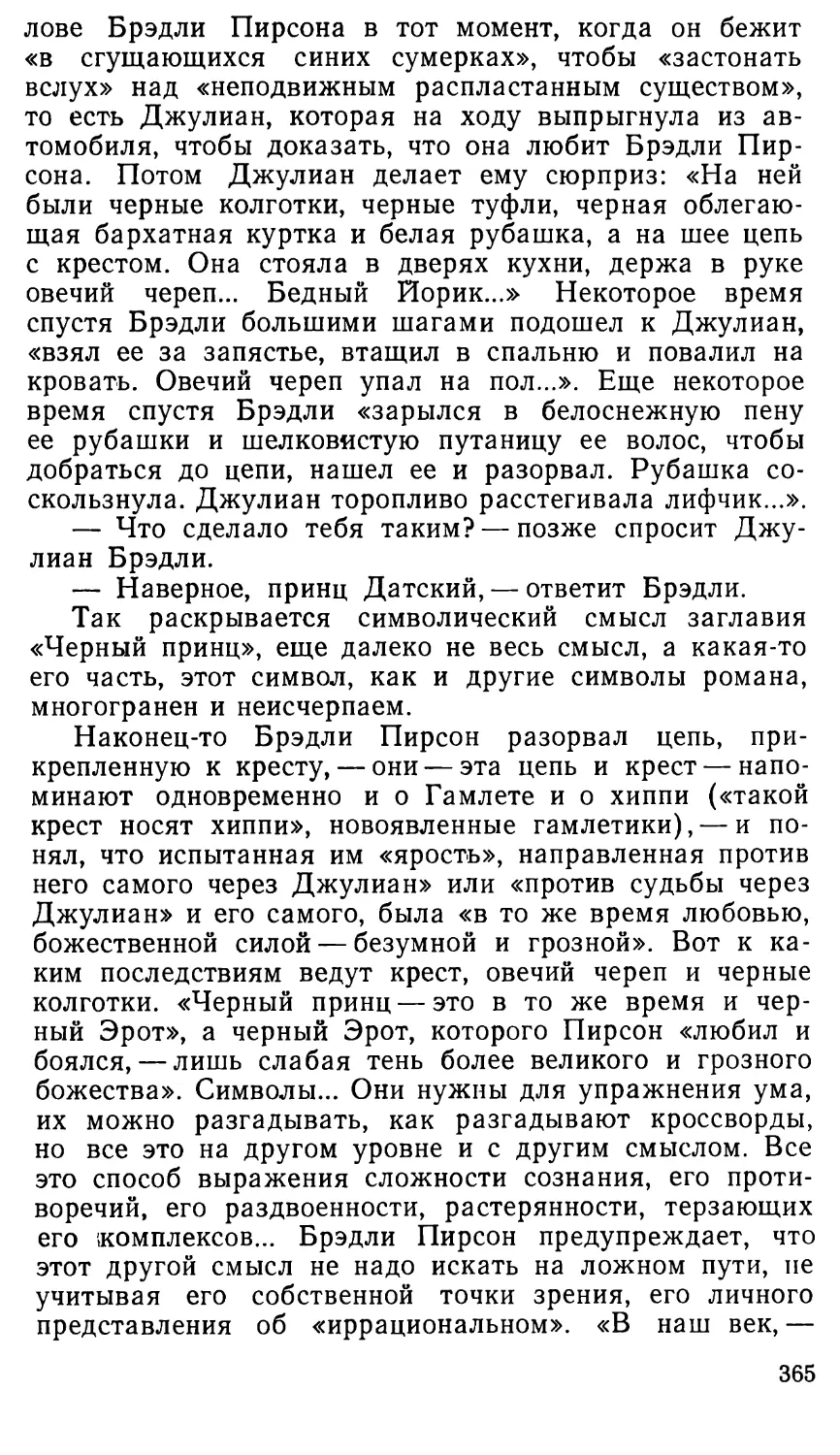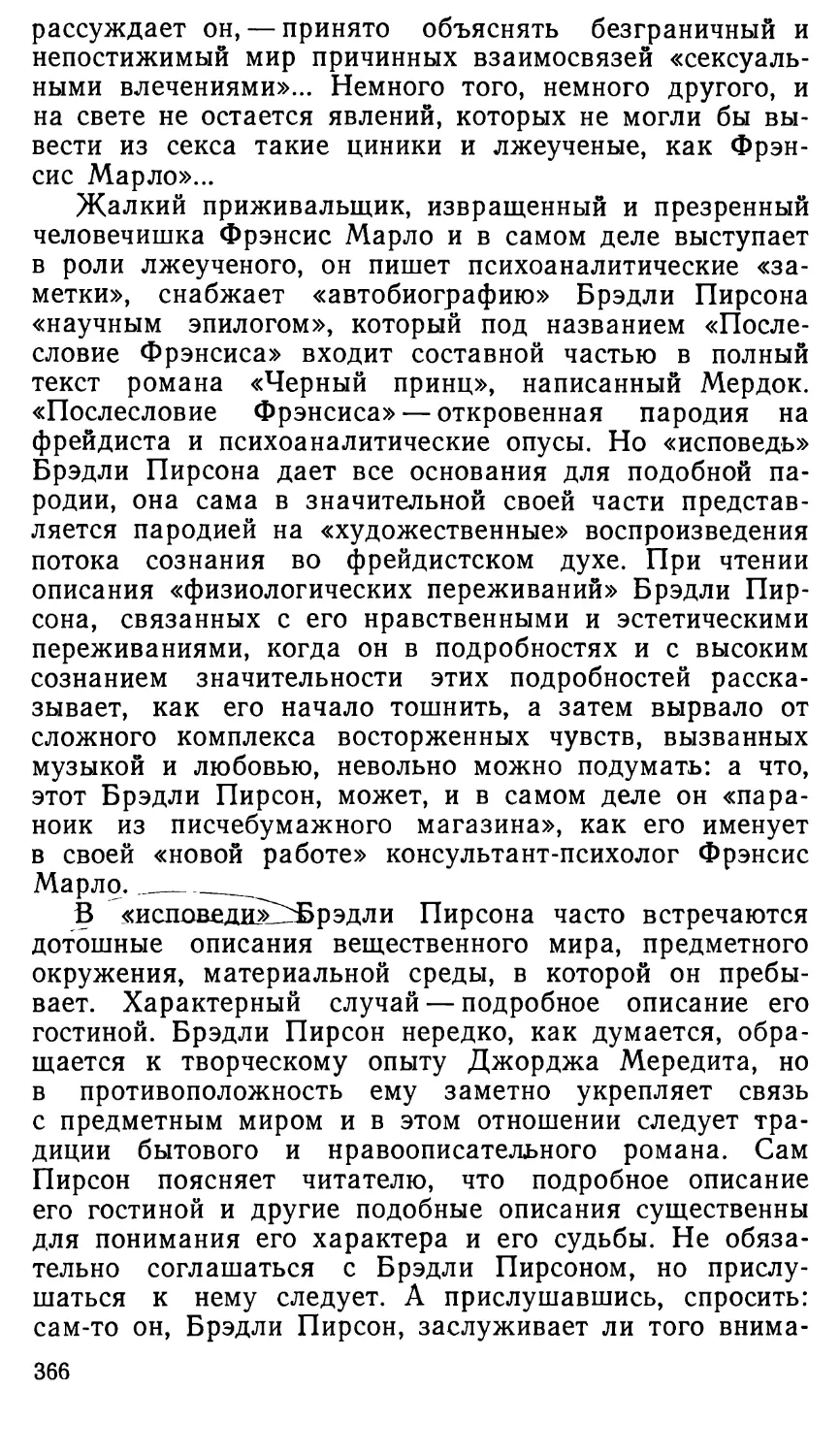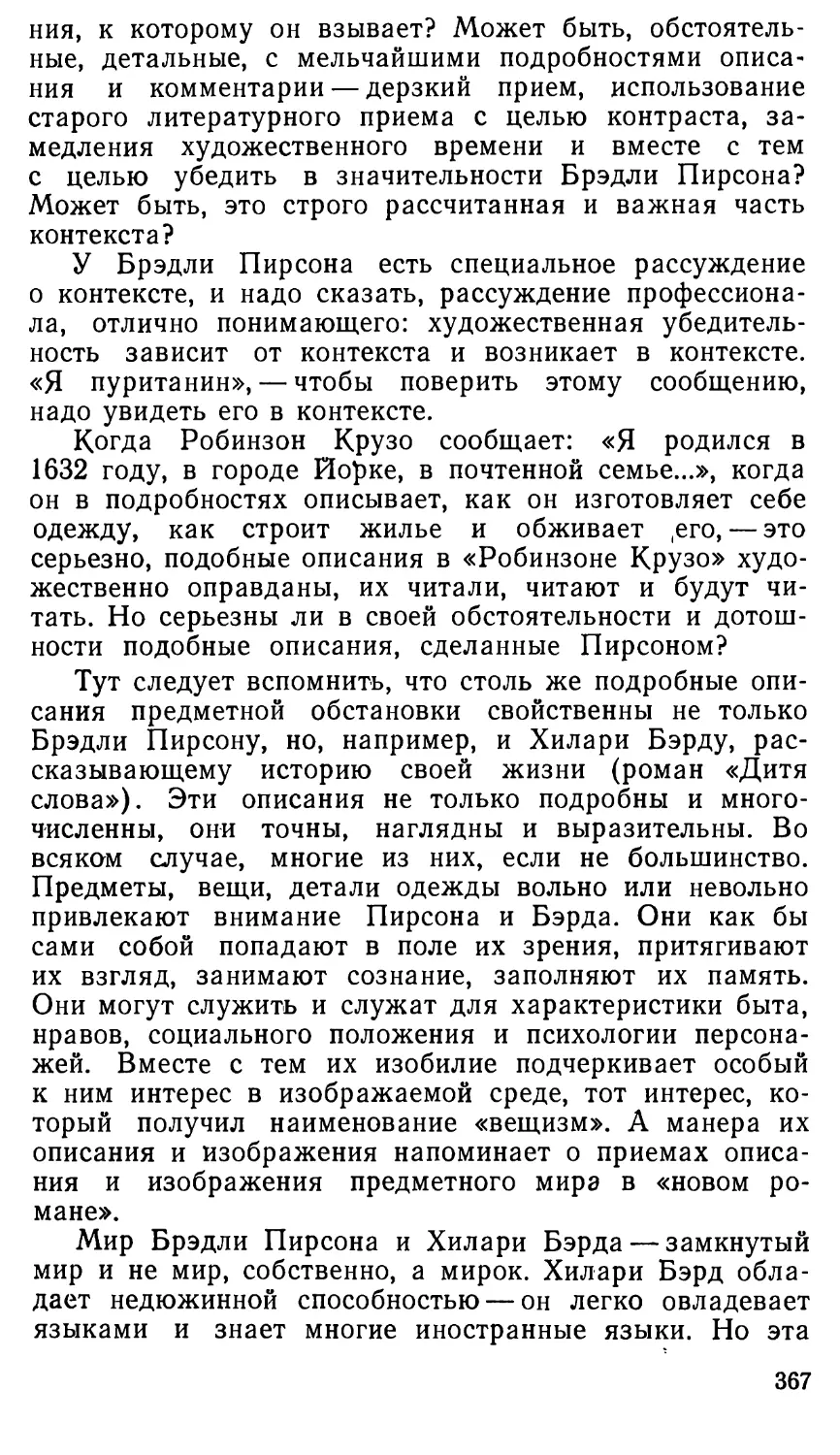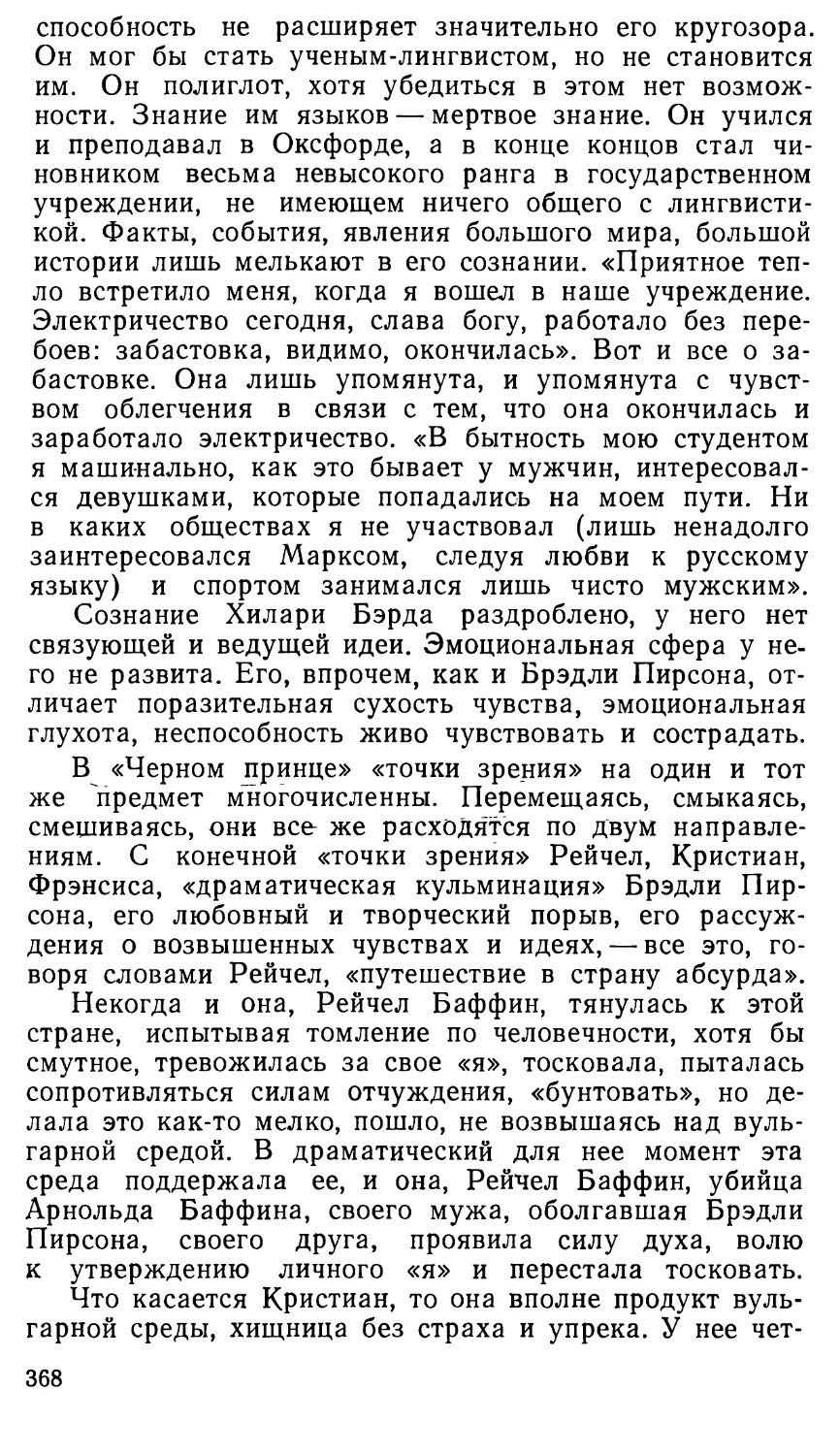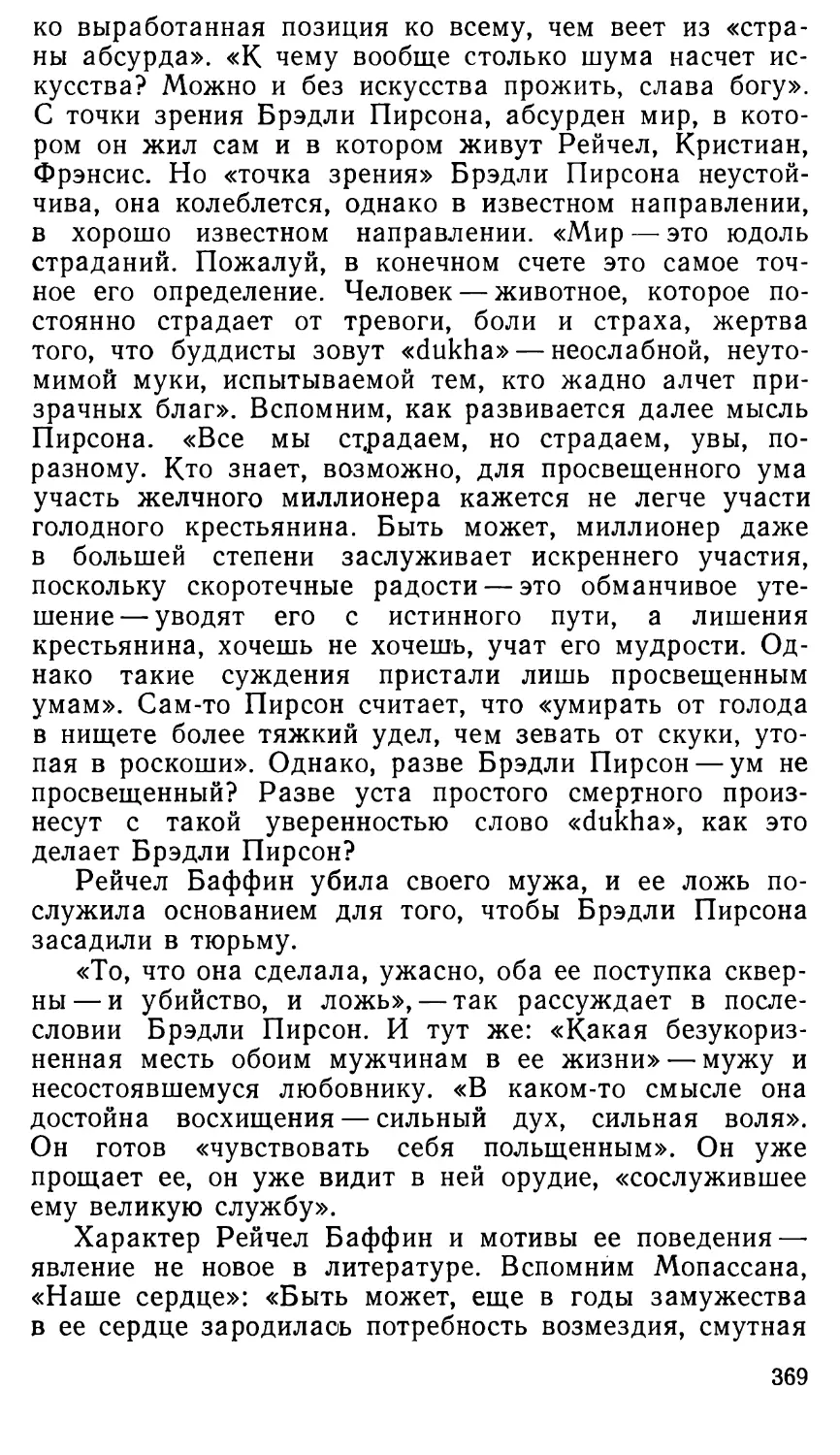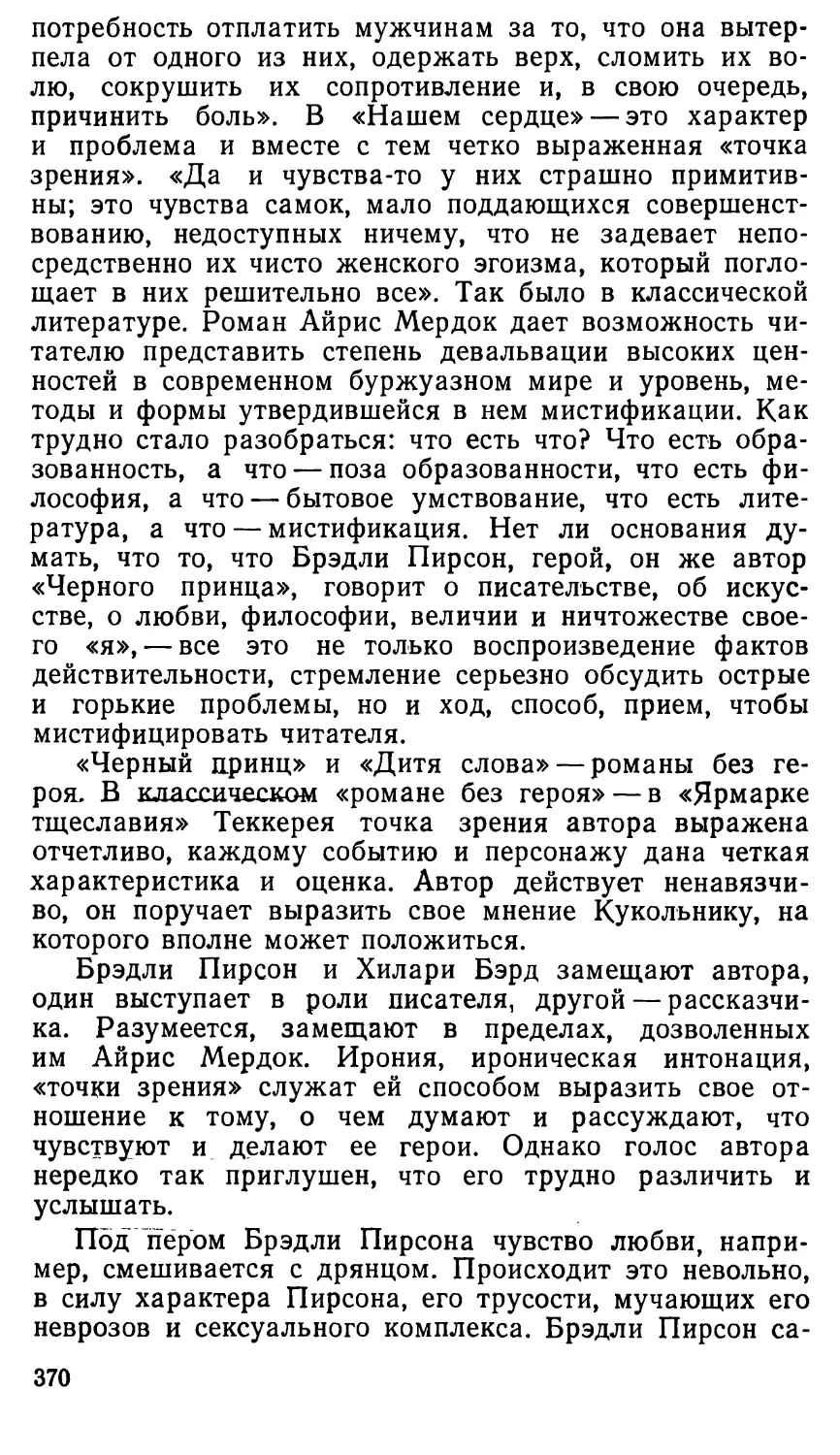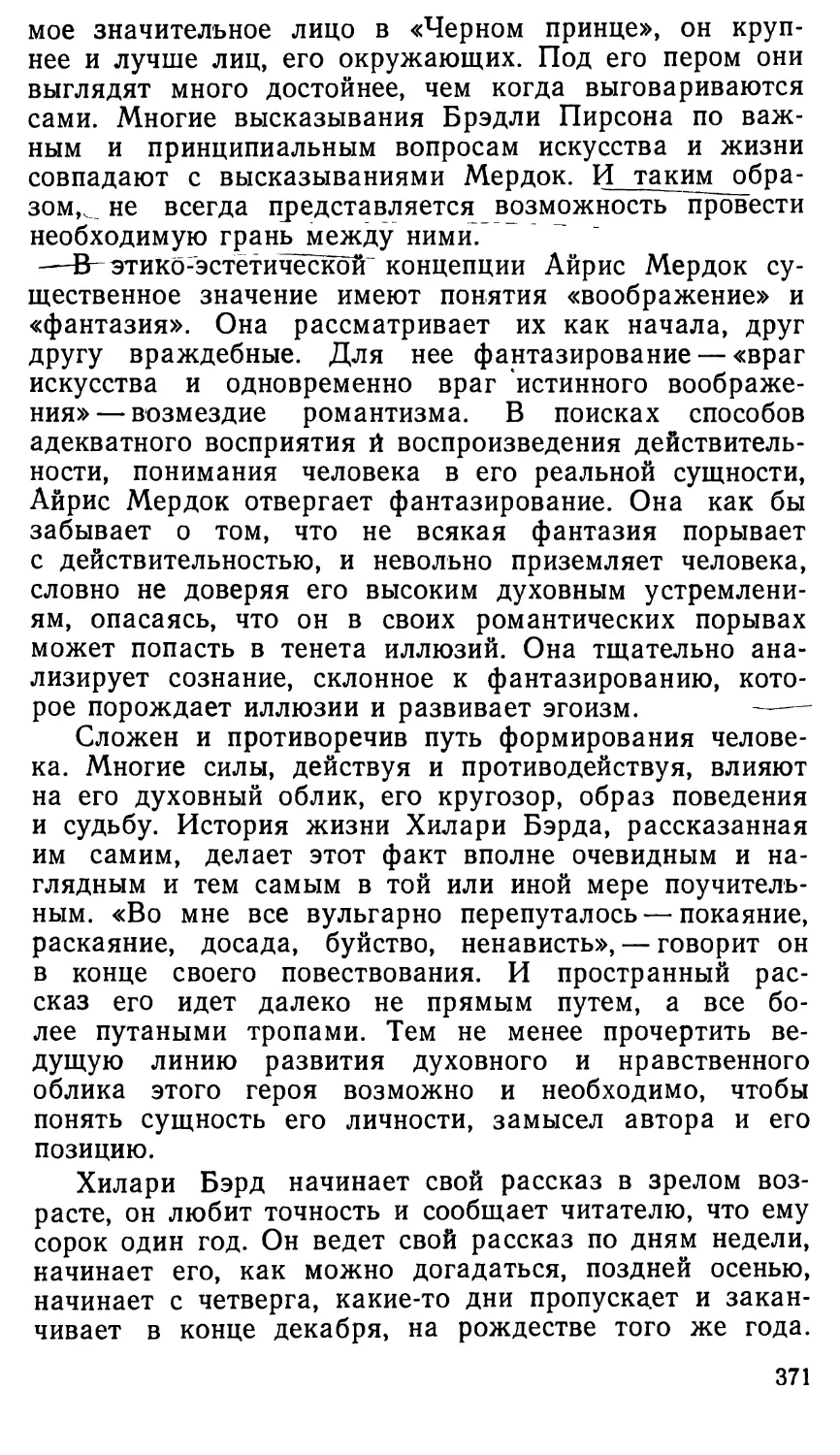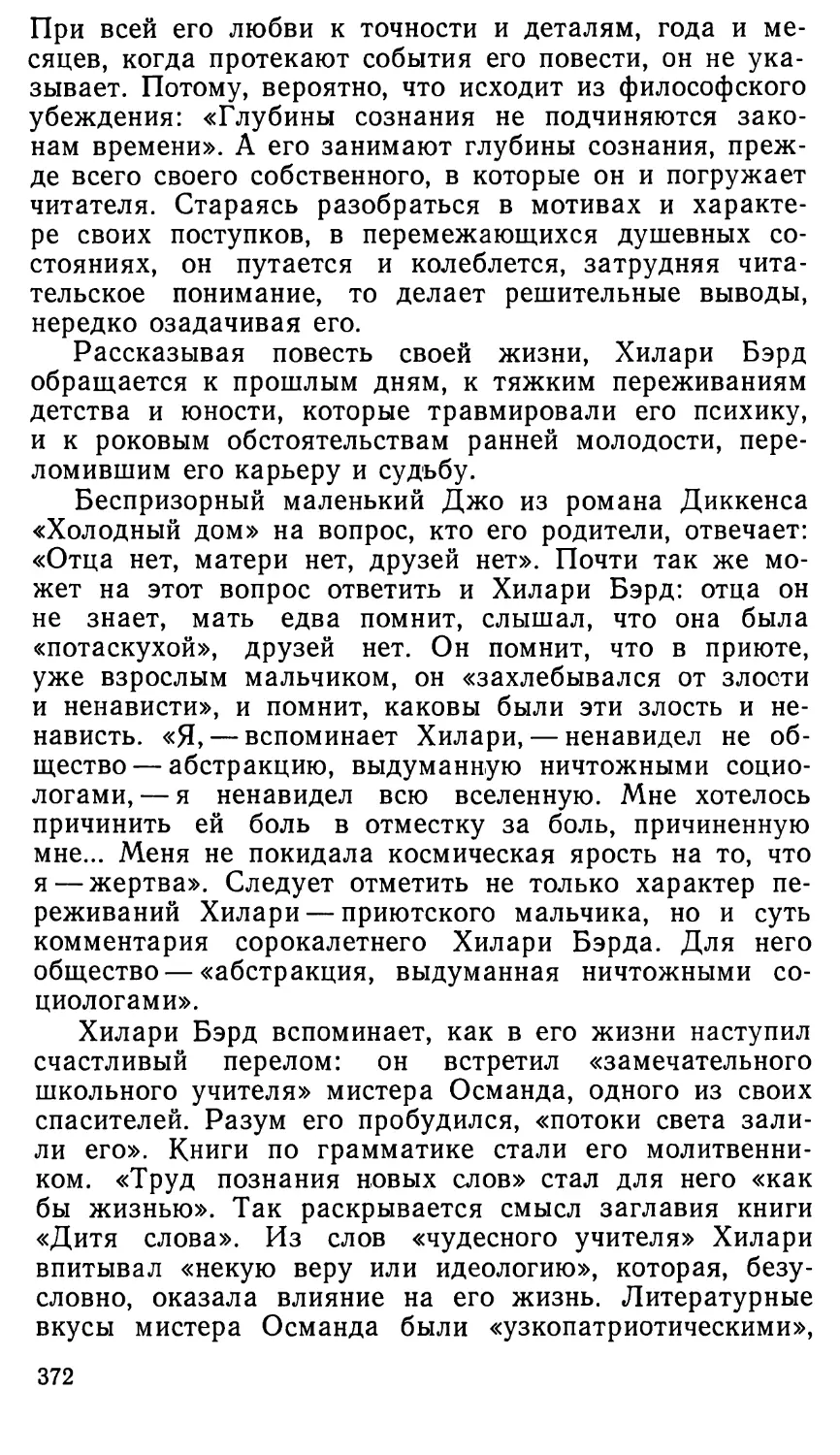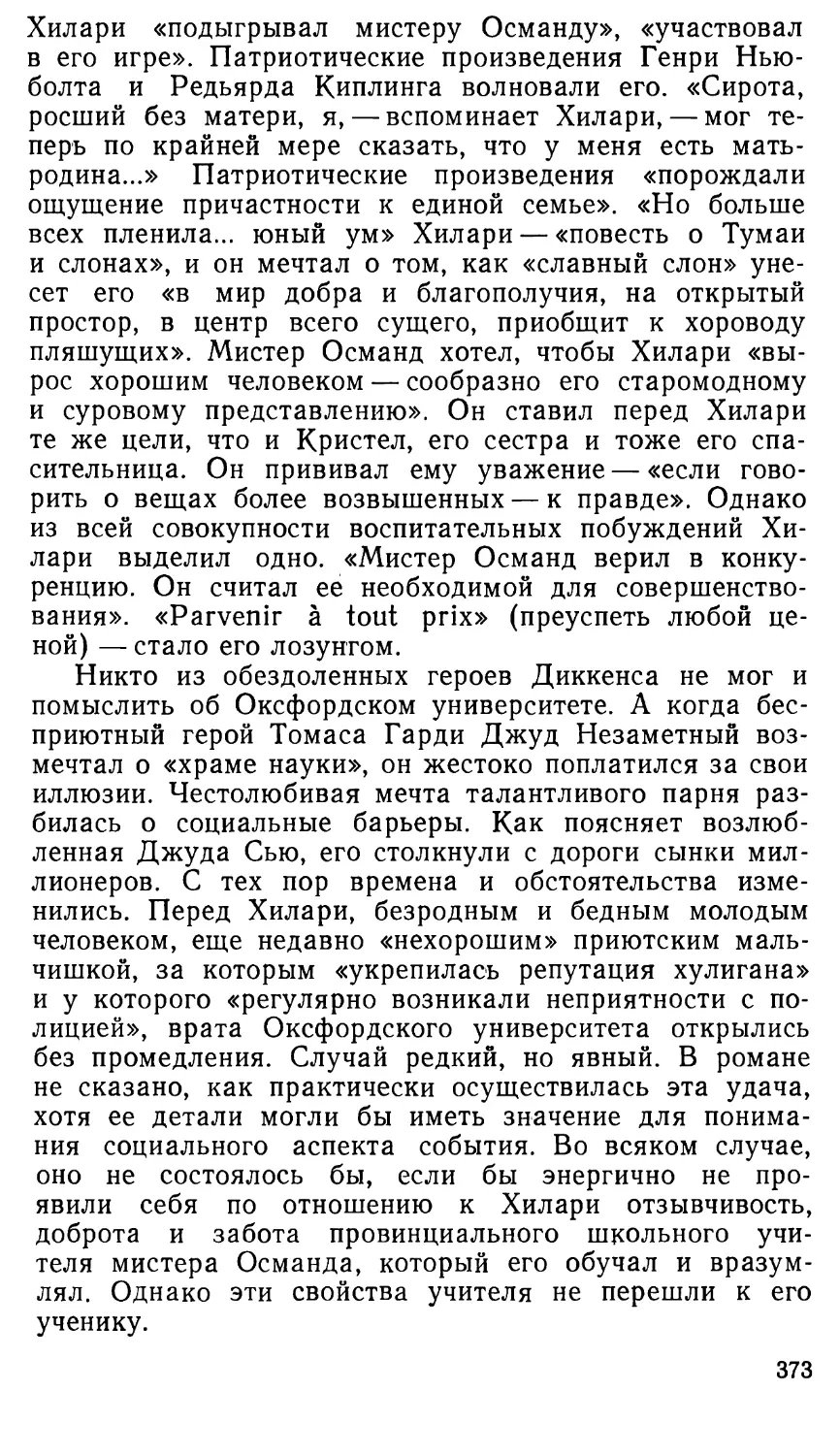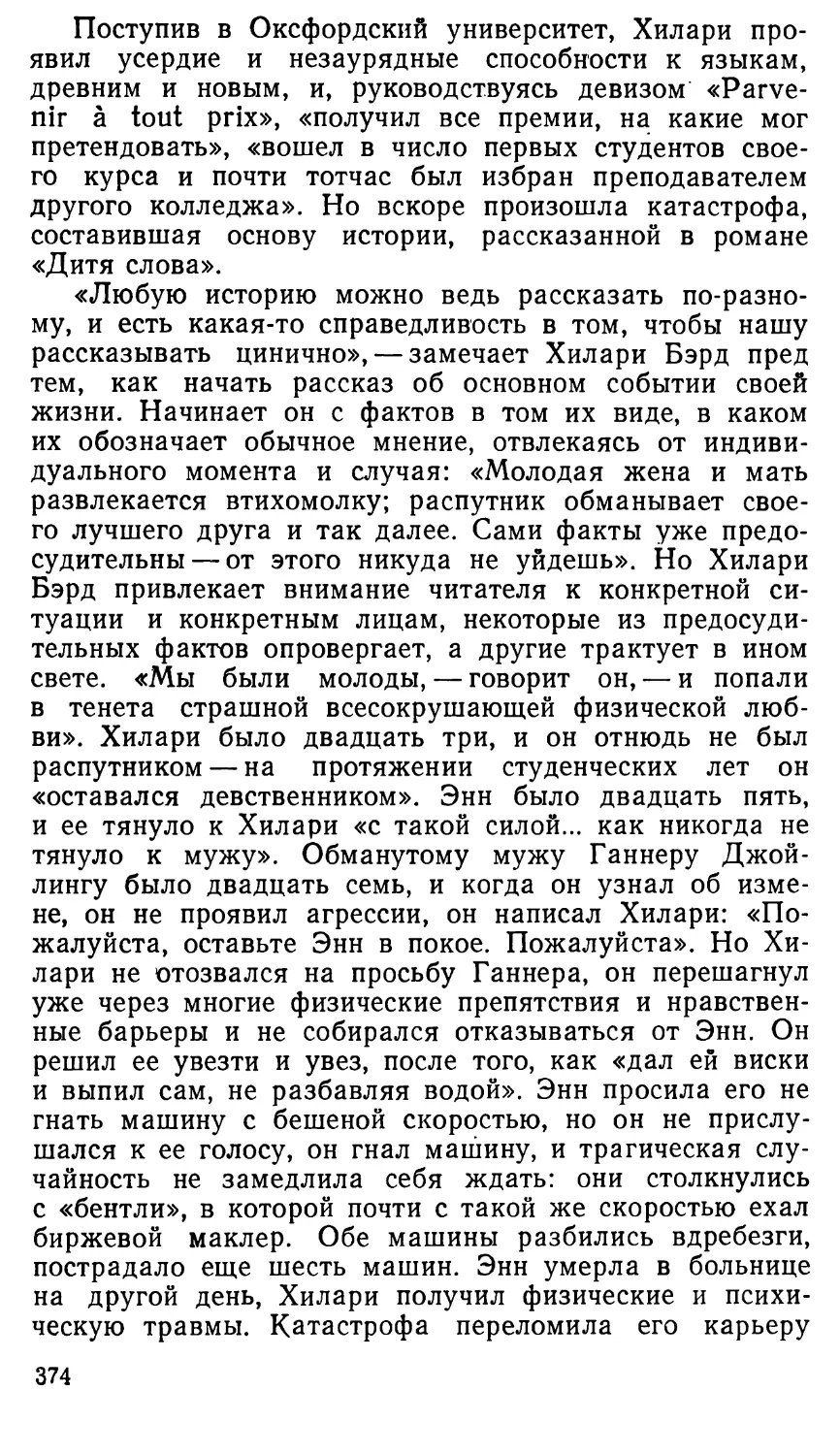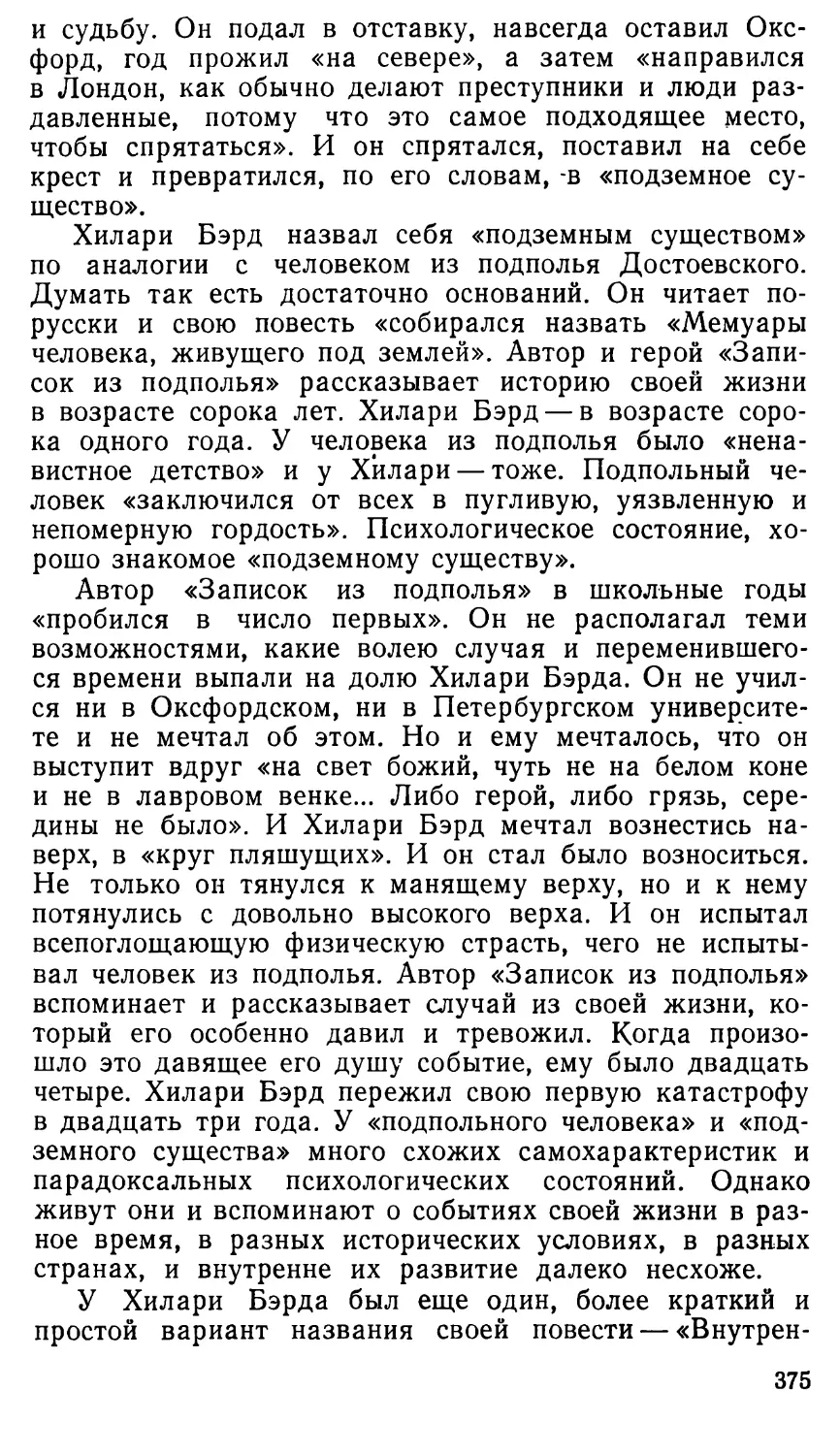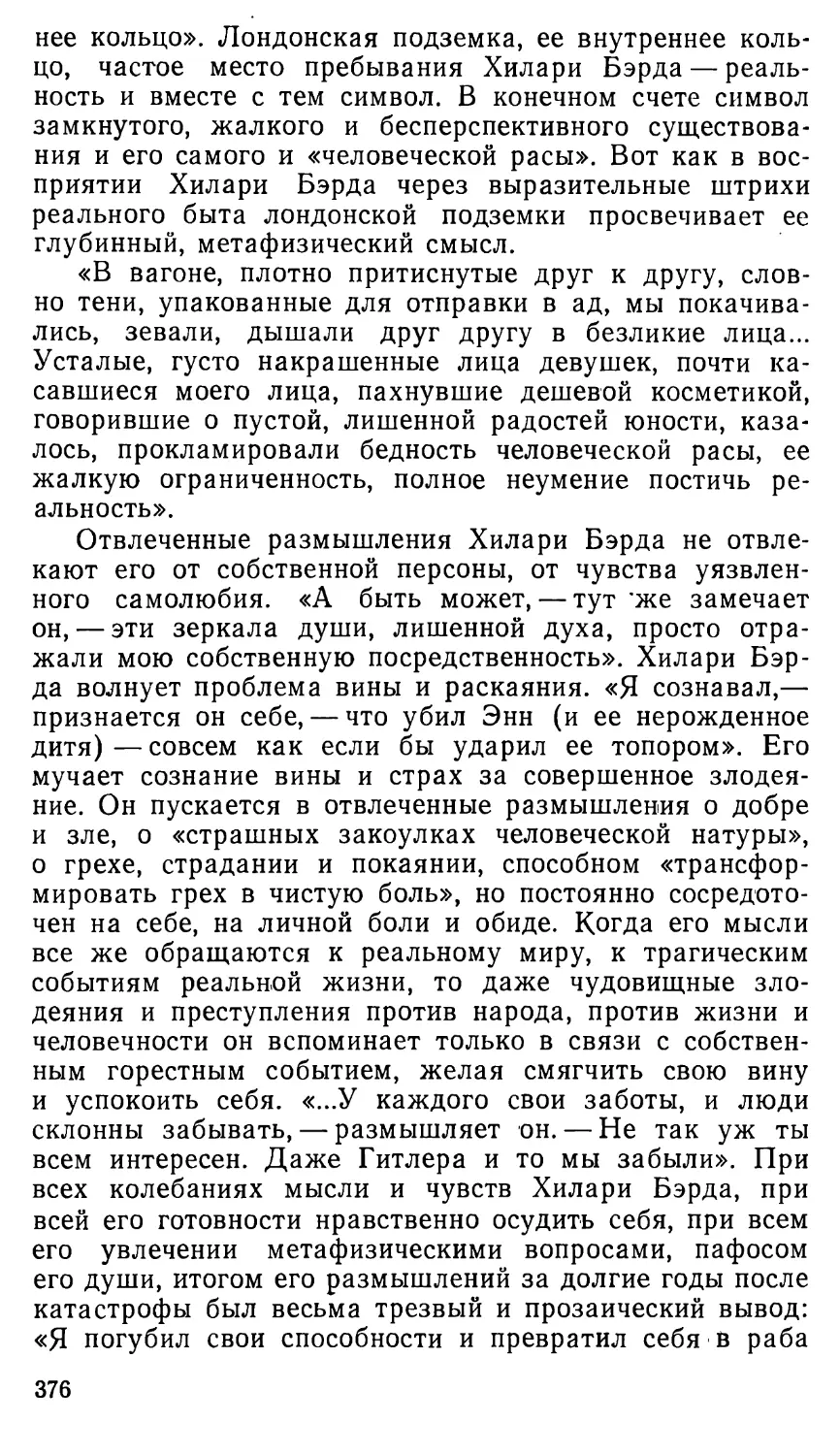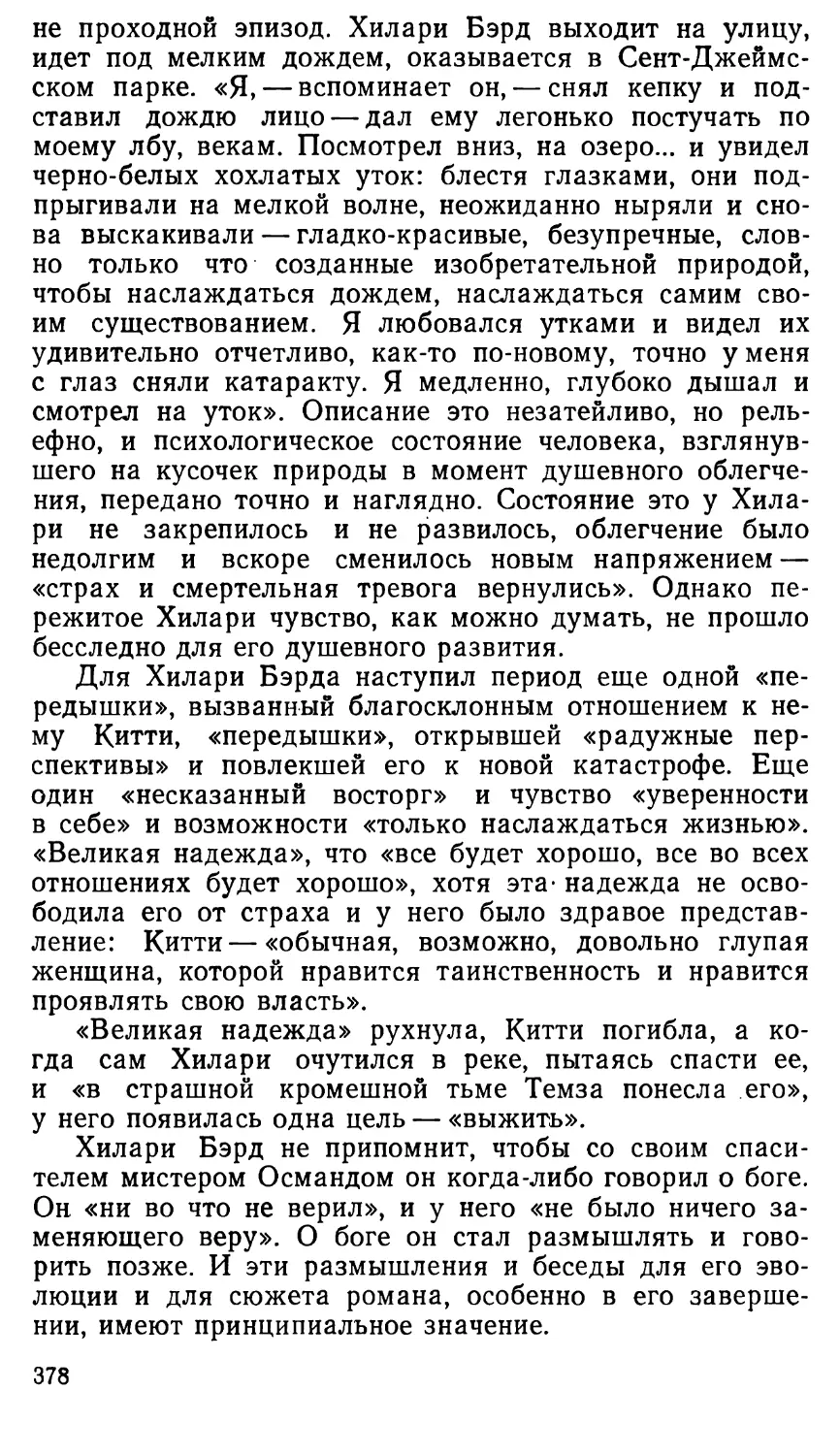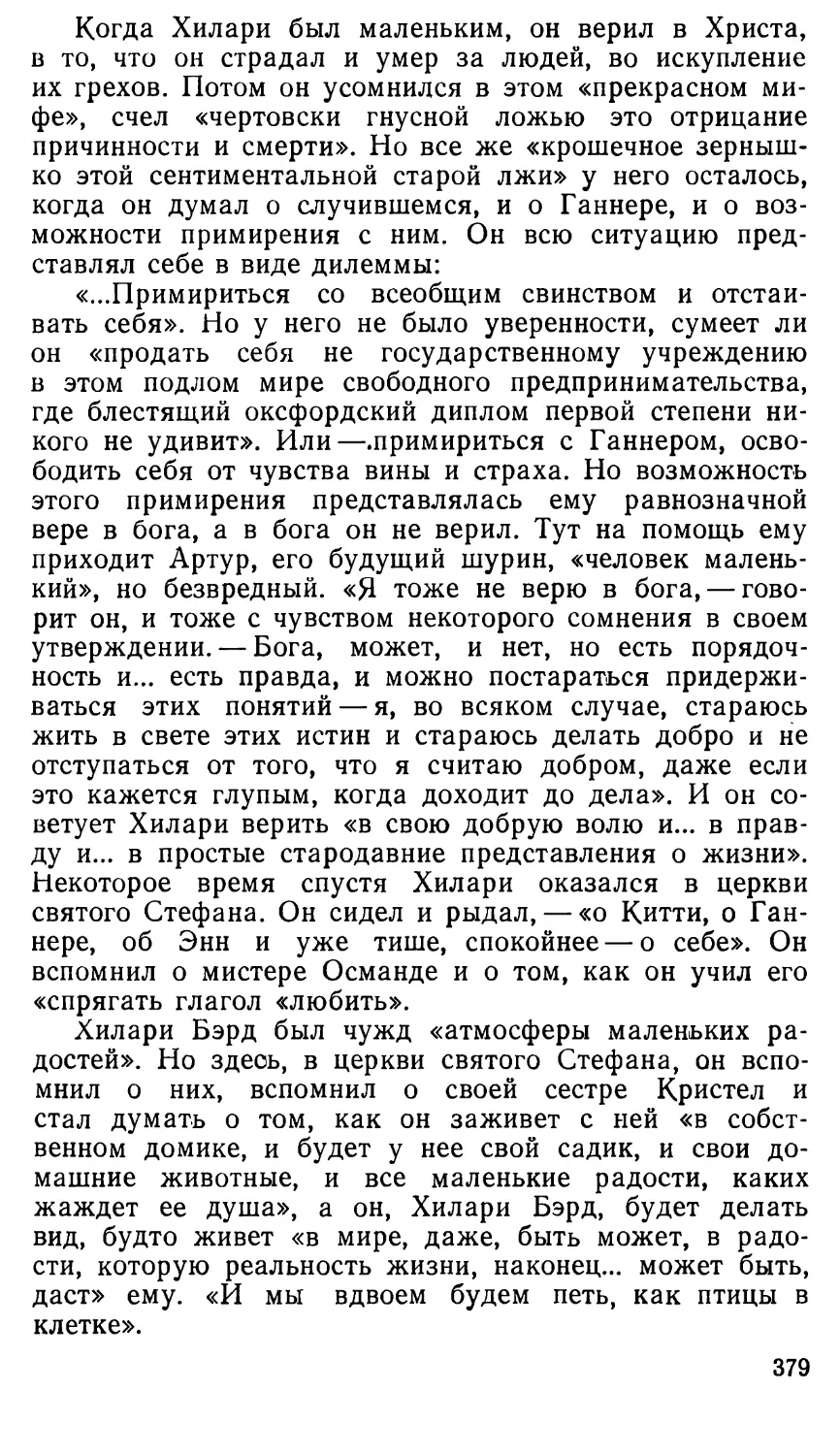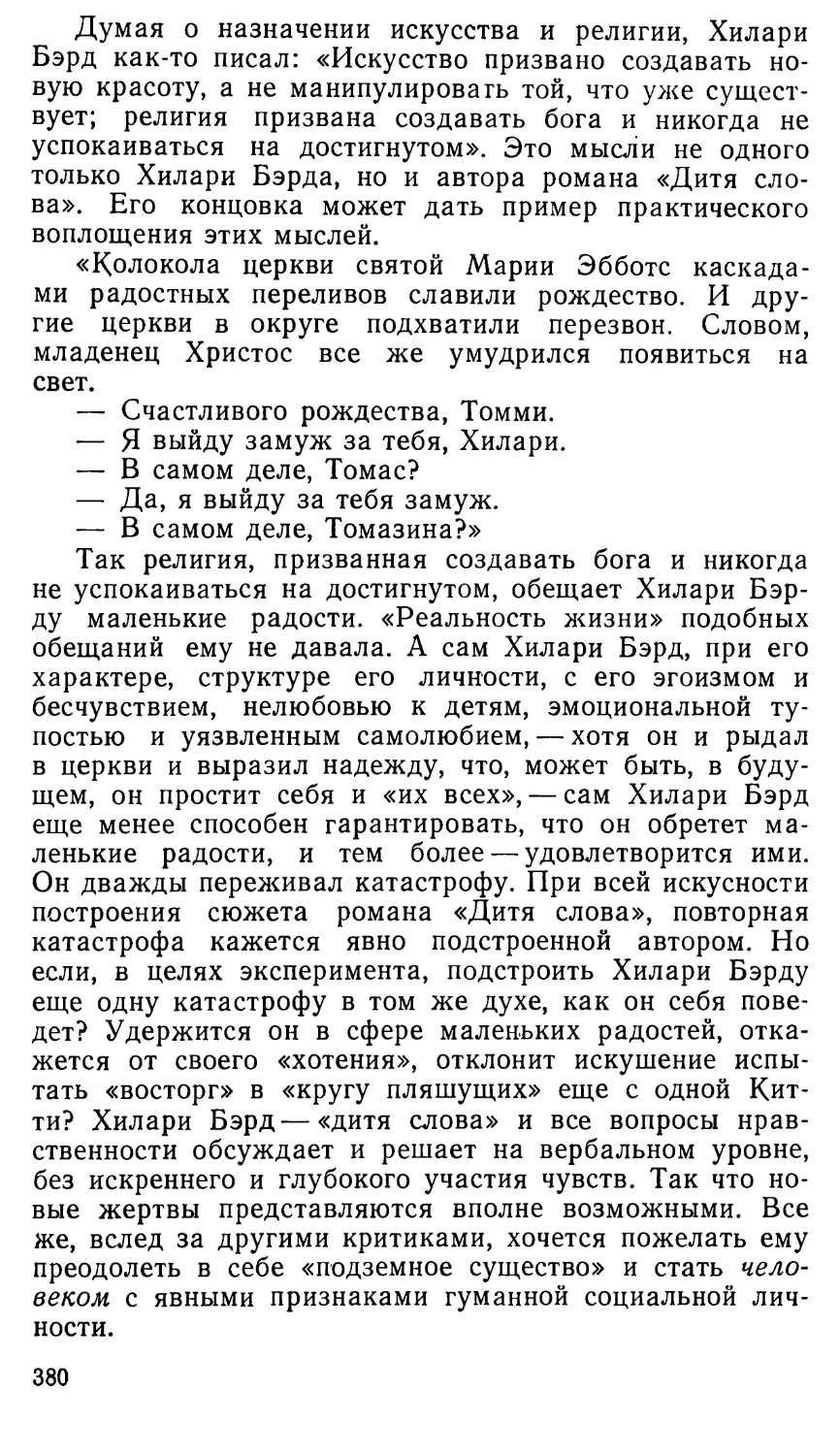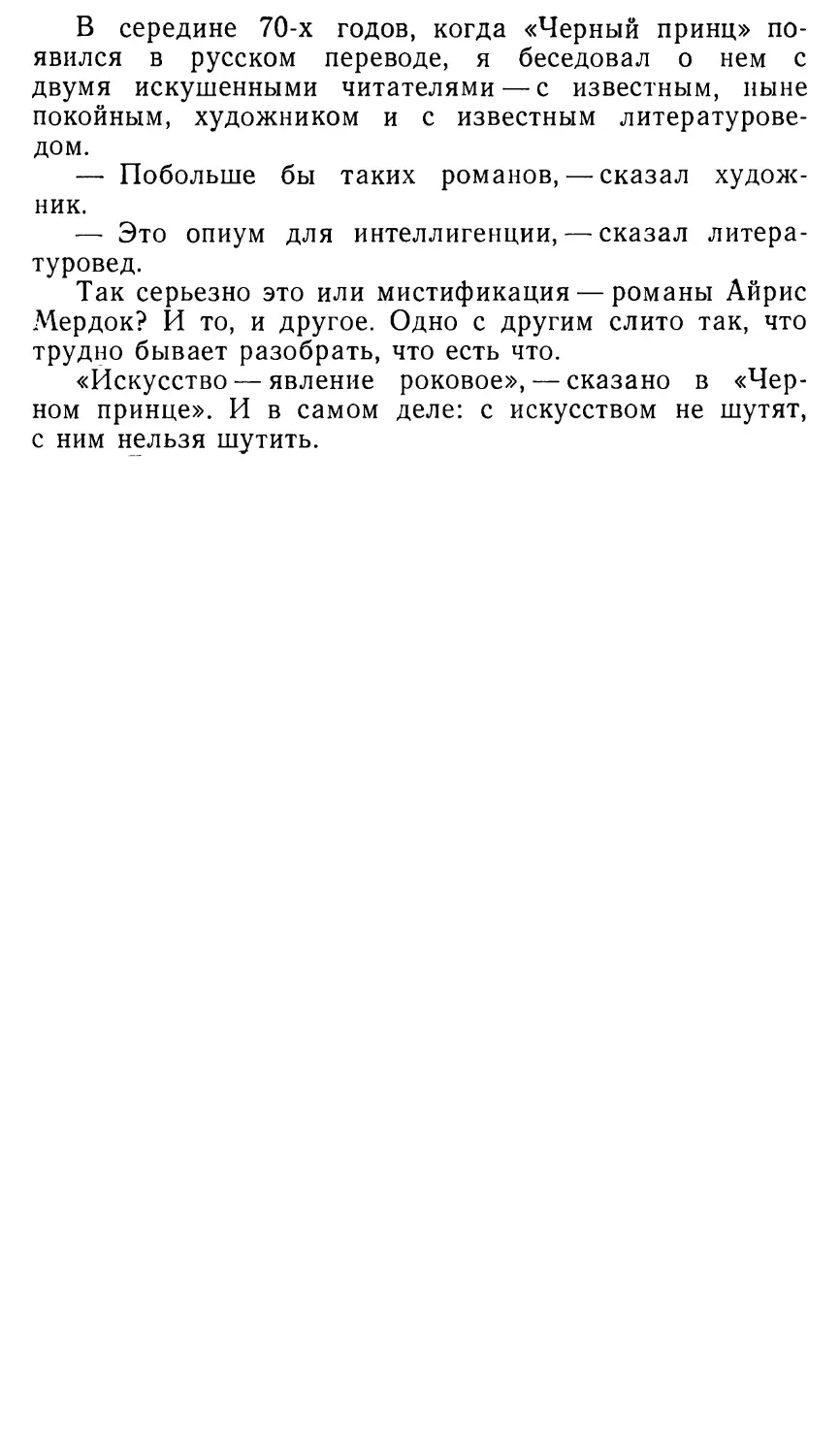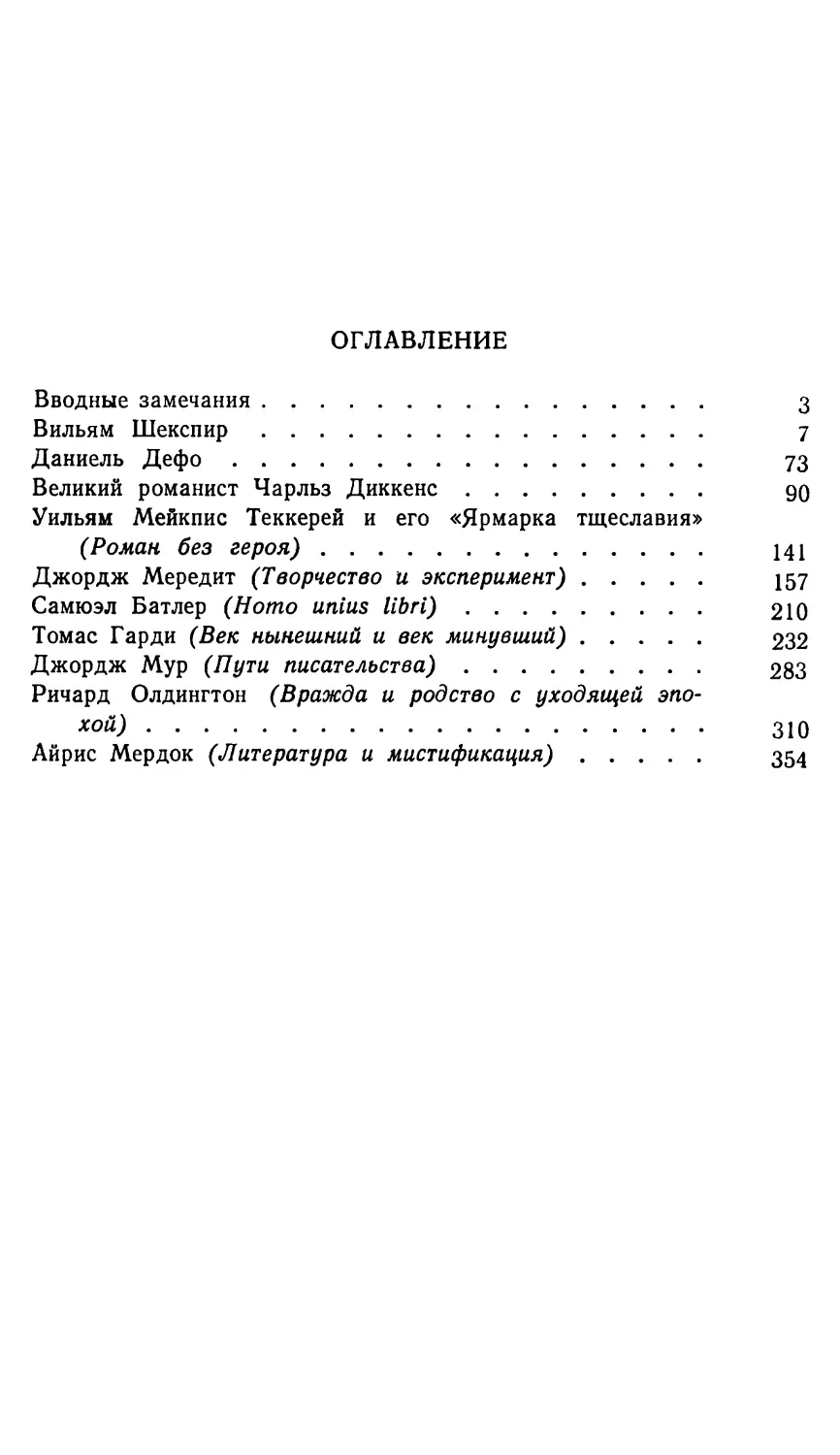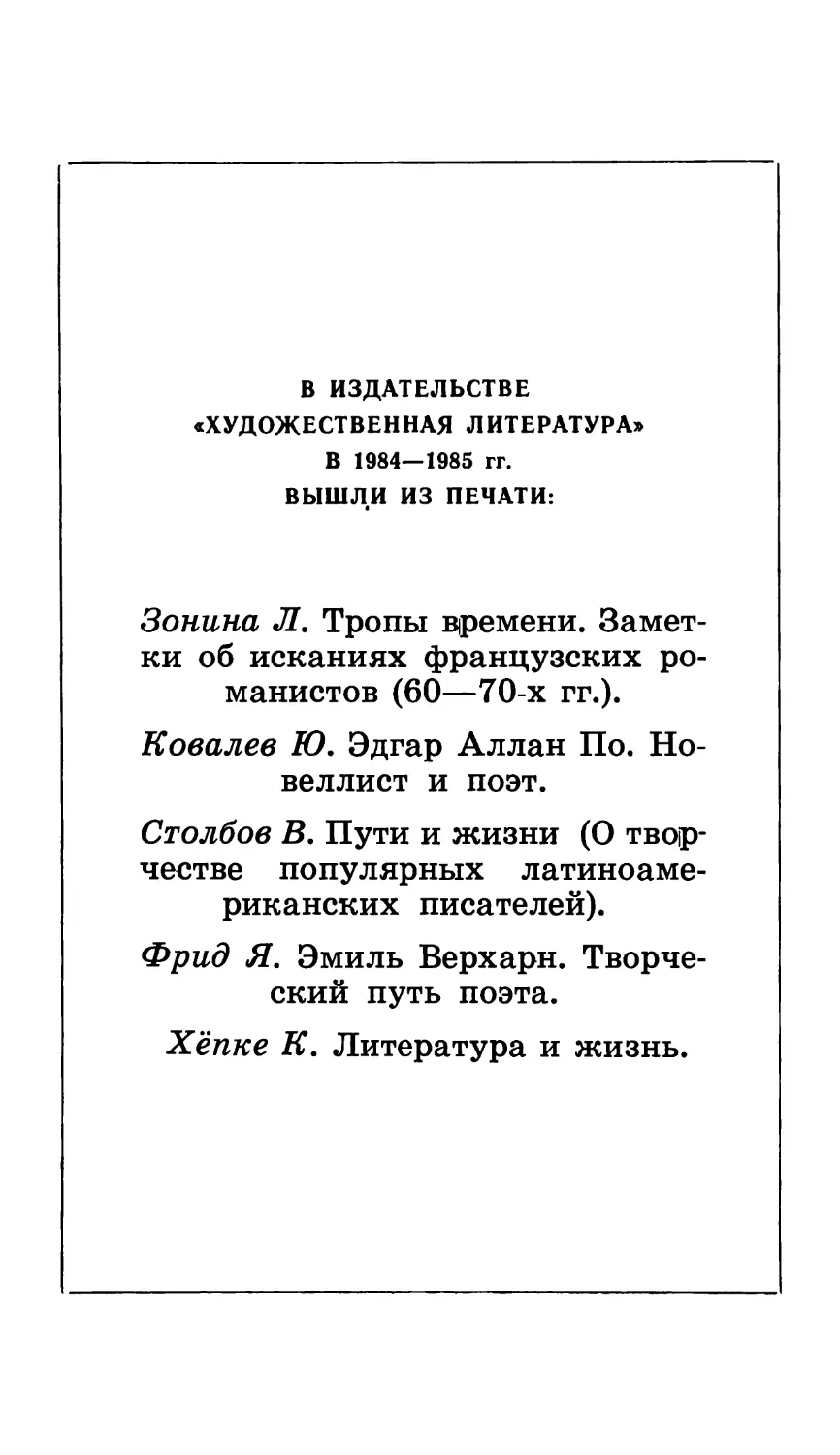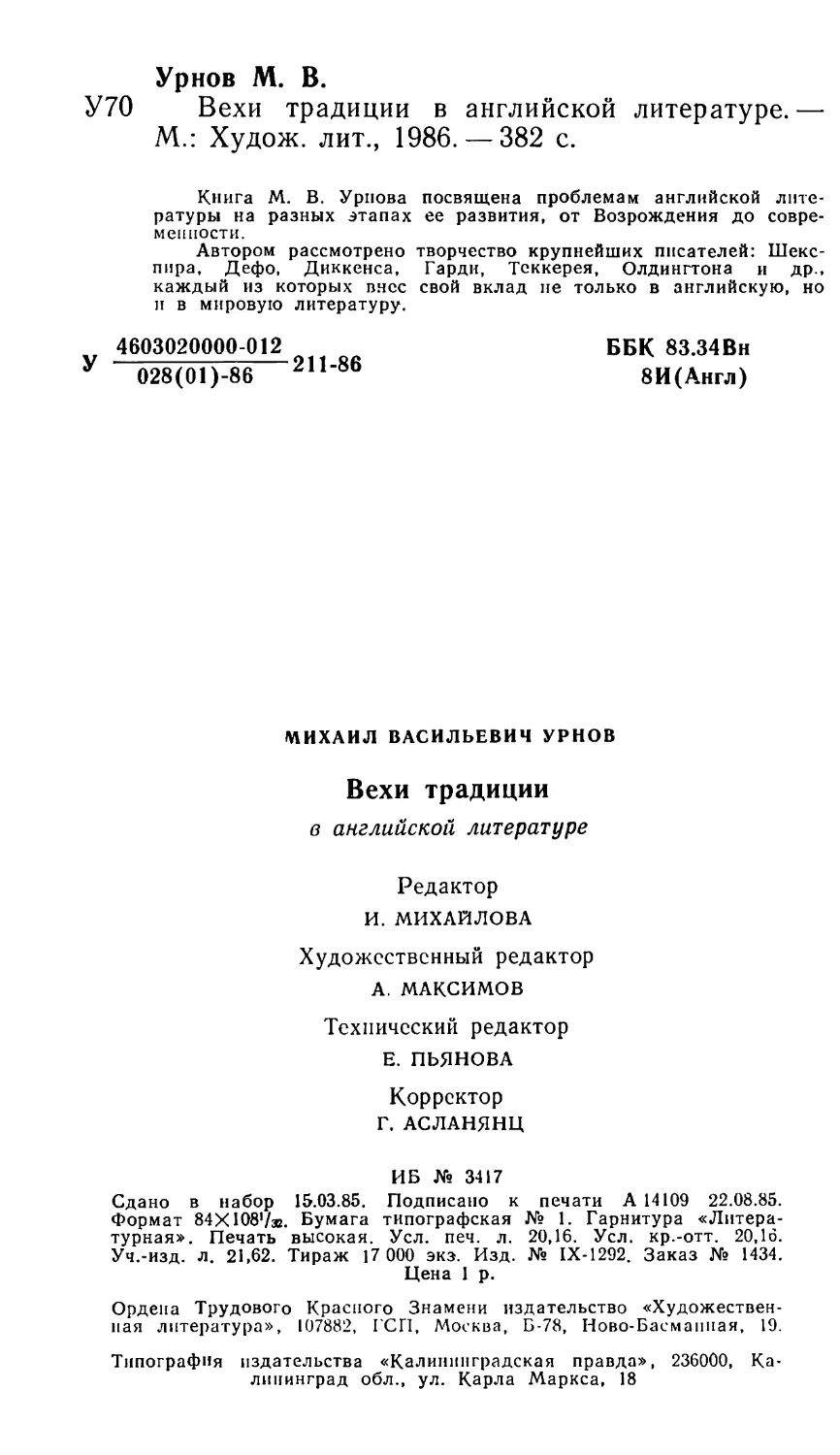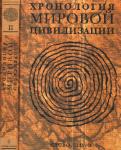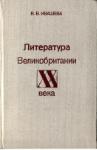Author: Урнов М.В.
Tags: история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран английская литература
Year: 1986
Text
•■••;■
Вехи традиции
в английской литературе
М.В.УРНОВ
Вехи традиции
в английской
литературе
МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986
ББК 83.34Вн
У70
РЕЦЕНЗЕНТ
Д-Р ФИЛОЛОГ. НАУК
Н. П. МИХАЛЬСКАЯ
ОФОРМЛЕНИЕ ХУДОЖНИКА
Р. ВЕЙЛЕРТА
4603020000-012 © Издательство
028(01)-86 211-86 «Художественная литература»,
1986 г.
ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Вехи литературной традиции — это вехи художест-
венного познания человека и общества в их развитии
и вместе с тем вехи глубоких и коренных перемен в ли-
тературе, соотнесенных с движением времени. Степень
постижения писателем человека и общества, мера про-
изводимых им перемен в литературе зависят от мас-
штаба его личности и ее устремлений, — характера его
времени, состояния литературы. Шекспир был одним
из величайших современников «величайшего прогрес-
сивного переворота», каким явился, по словам Энгель-
са, Ренессанс, и он стал «душой века», как определил
итог его творческого деяния Бен Джонсон.
Каждая национальная литература утверждает свою
традицию восприятия и усвоения иностранной литера-
туры. Для русской литературы Шекспир — отправная
веха в традиции усвоения английской литературы. Она
знает и другие, более ранние ее имена, много более
ранние, и, разумеется, — Ленгленда и Чосера, однако
она знает и ценит их не так, как знает и ценит Шекспи-
ра, «отца нашего», по словам Пушкина.
Дефо, следуя за Шекспиром и ориентируясь на него,
для своего времени исполнил роль шекспировскую.
Шекспир, Дефо, Диккенс — гении, исполины в литера-
турном мире. Другие вехи, представленные в этой кни-
ге, иного и, в свою очередь, разного масштаба. Как ни
отличаются друг от друга рассмотренные здесь писате-
ли, есть у них нечто общее, что и позволило предста-
вить их как вехи традиции английской реалистической
литературы. Их творчество — «эстетическая школа нрав-
ственности», говоря словами Герцена, и школа словес-
ного искусства. Айрис Мердок — случай особый, о чем
и сказано в главе, ей посвященной. Трудно выделить
наиболее значительные и бесспорные вехи в современ-
ной, а тем более в текущей английской литературе.
Есть литература, и она есть на разных уровнях, ко-
торая старается идти в ногу со временем, по крайней
мере откликаться на его события — на трагические со-
3
бытия недавнего прошлого и на решительную борьбу
передовых сил за мир и гуманизм.
Искусство начинается с овладения действитель-
ностью. История искусства знает прецеденты, когда це-
лые периоды проходили в усилиях, в попытках овладеть
материалом жизни, только попытки, в отличие от того,
когда, как сказано у Шекспира (Блок любил эти сло-
ва), «тоску и грусть, страданье, самый ад — все в кра-
соту она преобразила». «В красоту» в широком смысле,
эстетически освоив «самый ад», — так, в таком смысле
и значении ссылался на эти слова Александр Блок.
Многие произведения современной английской лите-
ратуры кричат о том, что жизнь ужасна и места красо-
те, величию, даже простой духовности в ней нет. Но не
только свидетельствовать, а эстетически освоить жесто-
кую правду факта — этого сделать нередко считают
принципиально невозможным.
Есть в жизни всех людей порядок некий,
Что прошлых дней природу раскрывает.
Поняв его, предсказывать возможно
С известной точностью грядущий ход
Событий, что еще не родились,
Но в недрах настоящего таятся,
Как семена, зародыши вещей.
Так сказано у Шекспира, сказано о «зерне и завязи
времени» («Генрих IV», ч. II, 3, 1).
«Зерно и завязь времени» — существенная проблема
художественного сознания и литературного развития.
В работе над отдельным произведением или в совокуп-
ной творческой деятельности, рано или поздно, прямо
или косвенно талантливый писатель устанавливает за-
висимость своего времени от истории, исторических ру-
бежей, осмысливая и отмечая, как, когда и откуда что
пошло. У гениев литературы поиски исторических исто-
ков отчетливо выявлены и очевидны как стимул и мотив
творчества.
Развитие исторического сознания поощряет поиски
«зерна и завязи времени», поощряет эти поиски и то-
гда, когда художественно осмысливается историческая
тема, и тогда, когда предметом изображения становит-
ся современность. Осознание исторического времени
через осознание его «зерна и завязи» позволяет видеть
содержательное движение времени, происходящие в нем
перемены, мотивы этих перемен, их смысл и значение.
Осознание движения времени поощряет движение лите-
4
ратуры. Талантливый писатель способен запечатлеть
текущее время и без сознания его предыстории, одна-
ко— запечатлеть, но не раскрыть.
Вехи литературной традиции — это литературный про-
цесс в его реальном движении и «зерно и завязь» пред-
стоящих в нем значительных или коренных перемен.
Шекспир, глава о Шекспире, открывает эту книгу.
Далее следуют великие и выдающиеся имена, разного
масштаба вехи на пути развития английской литерату-
ры, представленные выборочно. Выбор был неизбежен,
он обусловлен объективными и субъективными причи-
нами— объемом издания и возможностями автора, его
опытом изучения английской литературы, накопленным
им материалом.
В этой книге не представлен, например, Филдинг,
великая веха той же традиции, как и многие другие
великие и значительные имена, важные для ее характе-
ристики. И Диккенс, и Теккерей обязаны Филдингу, его
художественный опыт учтен их творческим сознанием.
Автору пришлось выбирать, и он выбрал Диккенса и
Теккерея. Другой автор, решая ту же задачу, мог сде-
лать иной выбор.
Основное свое внимание автор сосредоточил на ху-
дожественной прозе и ее главном жанре — романе, эпо-
се нового и новейшего времени. Он почти не затраги-
вает поэзии, и в его книге нет главы о Байроне, и
романтике и реалисте, великой вехе классической тради-
ции английской литературы, хотя в главе о Джордже
Мередите отмечена полемика с Байроном и байрониз-
мом как характерное явление того времени. Джордж
Мередит многое обозначил в эволюции новейшего анг-
лийского романа, а что и как именно — об этом и пы-
тался сказать автор. Он готовил эту книгу с надеждой,
пусть в некоторой мере и дерзостной, что в сокращен-
ном и сжатом материале ему удастся выразить суть
традиции, «великой традиции» английской литературы
в ее реальном и конкретном воплощении.
«Вехи традиции», хотя в этой книге они и представ-
лены выборочно, с пропуском даже великих имен, поз-
воляют, как думается автору, видеть и вершинные до-
стижения английской литературы, и характер происхо-
дивших в ней перемен на разных этапах ее развития,
начиная с эпохи Возрождения, и, что очень важно, ее
5
главное направление и, следовательно, ее перспективу.
Главный путь развития английской литературы — путь
реализма и гуманизма. Литературная традиция, выяв-
ляемая через ее знаменательные вехи, — важное усло-
вие не только для уяснения традиционного и новатор-
ского в новых произведениях, но и для их объективной
и обоснованной оценки. Любая попытка подверстать
«великую традицию» под своевольное новаторство или
оправдать его на основе внешних признаков, будто бы
сближающих его с традицией, может быть изобличена
и отвергнута, когда ясна суть традиции, ее идейный и
творческий пафос и ее реальное движение во времени.
В этом важный аспект проблемы традиции, проблемы
в сути своей идеологической.
Таким образом, в этой книге по необходимости пред-
ставлены лишь некоторые «вехи»; каждая из них закре-
пилась на магистральном пути английской литературы
и видна не только в Англии, но и в нашей стране.
ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР
Самым удивительным и захватывающим в эпоху
Возрождения было рождение личности, освободившей-
ся от тысячелетнего гнета средневековых догм, появле-
ние человека с новым типом сознания и нормой пове-
дения. Этот человек перестраивал в своих представле-
ниях весь «божий мир». Его взору «открылся бесконечно
более широкий горизонт», взору «внутреннему и внеш-
нему», как отметил Энгельс. Радость освобождения, не-
обычайный подъем энергии и творческих сил сопровож-
дали это открытие, этот духовный переворот. Религиоз-
ному мировоззрению было противопоставлено гумани-
стическое— светлое, жизнерадостное, реабилитирующее
человеческую природу и земное существование. Скован-
ность, ригоризм, бесплодное схоластическое умствование
уступали место дерзанию и творчеству, свободной, ре-
альной и действенной мысли большого теоретического
и практического размаха. Критицизм и скепсис затраги-
вали почти все устои, только не новую веру в прекрас-
ного человека, и потому сочетались с подъемом жиз-
ненной энергии.
Гуманизм Возрождения превознес личность, человек:
нашел новый источник силы, поставив себя на место
бога, то есть осознав, что силы, которые он восприни-
мал как нечто, относящееся к божеству, являются впол-
не человеческими. Гуманизм Возрождения означает ка-
чественный скачок в понимании и утверждении чело-
вечности. Этим создается его особая, исключительная
ценность.
Трагедии1 — творческий стержень наследия Шекспи-
ра. В них выражена мощь его гения и суть его поры,
1 Цитаты из произведений Шекспира даны с указанием поряд-
кового номера действия и сцены, как правило, по изданию: Шек-
спир. Поли. собр. соч. в 8-ми томах. Под ред. А. А. Смирнова
и А. Аникста. М., Искусство, 1957—1960. В тех случаях, когда ис-
пользованы переводы из других изданий, это оговорено, указан пе-
реводчик.
7
и потому последующие эпохи, если они обращались
к Шекспиру за сопоставлением, прежде всего через них
осмысливали свои конфликты. Время в своем движении
оставляло печать все новых и новых толкований на
шекспировских трагедиях, а главный груз при этом ло-
жился на плечи центральных героев: Гамлета, Отелло,
Лира, Макбета. Однако герой у Шекспира не вся пьеса,
а лишь один из ее персонажей, а вся пьеса представля-
ет целый сценический мир. В этом состоит одно из прин-
ципиальных отличий шекспировской от дошекспировской
трагедии, например, от трагедий Кристофера Марло,
у которого центральная фигура исчерпывает пьесу.
У Шекспира трагическая пьеса — гораздо более разви-
тая, социально и психологически многообразная систе-
ма в расстановке и взаимодействии фигур, Шекспир
сделал в этом отношении эпохальный шаг к историзму
и реализму, к объективизированному творческому соз-
данию, и главным «лицом» созданного им «мира» явля-
ется его творец — восприятие и точка зрения автора,
выраженные всей трагедией. Но не следует на этом
основании умалять роль в шекспировской трагедии
центрального героя, невольно возбуждающего особый
интерес.
Трагическое мироощущение отчетливо и резко про-
явило себя у Шекспира в середине его творческого пути,
на рубеже XVI и XVII веков. Значителен и очевиден
контраст в атмосфере первого периода его творческой
эволюции, который завершается комедией «Двенадца-
тая ночь», и второго, который открывается «Гамлетом».
Ранние трагедии Шекспира выражают не трагиче-
ское мироощущение, а трагедию индивидуальных судеб
в трагической ситуации; «Нет повести печальнее на
свете, чем повесть о Ромео и Джульетте»,—трагична
гибель юных ренессансных героев, их восторженной, от-
важной и самоотверженной любви. Вместе с тем в этой
пьесе точно определена причина трагической ситуации:
старинная вражда родовитых семейств, лишенная кон-
кретного основания и реального смысла, осуждаемая не
только историческим временем, но и верховной властью,—
это застарелые предрассудки, нечто отжившее, инерция
неразумия, осознаваемая в итоге событий, что приводит
к примирению враждующих сторон. Чувство и сознание
трагического в жизни, но не трагическое мироощущение
выражает эта печальная повесть.
«Гамлету» (1601) предшествует «Двенадцатая ночь»
8
(1600), а потому переход к великим трагедиям пред-
ставляется резким, неожиданным и загадочным. Что
послужило непосредственной причиной творческого сдви-
га, выразившего перелом в мироощущении драматурга?
Нет ответа на этот вопрос. Кажется вероятным пред-
положение о потрясающем впечатлении, какое могли
произвести на Шекспира события, связанные с загово-
ром против королевы Елизаветы лорда Эссекса и его
трагическая участь. Возможно, что «Юлий Цезарь»
(1599) был написан как предостережение, обращенное
к лорду Эссексу и его сподвижникам. Кажется, что осо-
бый и личный смысл несет в этой хронике-трагедии эпи-
зод с поэтом, который стыдит военачальников-респуб-
ликанцев, восставших против Цезаря и цезаризма, за
раздор в критический момент их борьбы, а от него от-
махиваются и гонят прочь: «Война не дело стихопле-
тов». Не о себе ли и не об отношении ли к нему заговор-
щиков говорит здесь Шекспир? Но это всего лишь
предположение, лишенное веских доводов. Очевидно
только, что Шекспир не покидает современной и нацио-
нальной почвы, как бы далеко в историческое прошлое
и за пределы Англии ни уводили сюжеты его трагедий.
Само движение его мысли, перемены настроений, пере-
ломы в творчестве чертят кривую живых событий —
бурных, изменчивых, быстротечных, и «Юлий Цезарь»
и «Гамлет» написаны по их следам. Связь шекспиров-
ских трагедий со своим временем не ограничивается
намеками на текущий день. Уловимые приметы его бы-
ли многочисленны, они оттеняли его злобу, но теперь
мало что говорят без дополнительных пояснений. Тес-
ная и прямая связь с веком, ощущавшаяся в те времена
и особенно заметная и понятная для нас, устанавлива-
лась проникновением в переломную эпоху, путем верно-
го изображения ее коллизий, возникших в условиях
духовных борений, психологических, философских и эти-
ческих проблем. Готовые предания Шекспир не подтя-
гивает искусственно к своему времени, взятые им из
прошлого характеры не служат ему внешней оболочкой,
они органичны для его трагедий, проникнуты духом
переломной эпохи.
Чувство историзма, с каким Шекспир создает траги-
ческие характеры и обстоятельства, могло быть особен-
но развито у него наблюдением за современниками и их
нравами. Нравы эти в семейной, гражданской и полити-
ческой среде продолжали быть дикими.
9
В людских душах средневековье сталкивалось с но-
вым временем, и было видно, как сложен, пестр и про-
тиворечив этот процесс: разрушаясь и отступая перед
новым, старое продолжало соседствовать с ним, возни-
кали самые неожиданные и уродливые сплетения, да и
новое поражало контрастами.
Обнаружить историческую почву трагического твор-
чества Шекспира длительное время было важнейшей
задачей его изучения. Какие социальные причины вызва-
ли у Шекспира трагическое мироощущение, что побуди-
ло Гамлета, если говорить более конкретно, пользуясь
шекспировским материалом, высказать столь памятное:
«Быть или не быть?» Для советского шекспироведения
бесспорна зависимость трагедий Шекспира и трагиче-
ского в его творчестве от кризиса гуманизма Возрожде-
ния. Это та самая «датская», как выразился в «Гамле-
те» могильщик, почва трагедий Шекспира, ступив на
которую он воспринял смену эпох в трагической пер-
спективе. Древняя история короля Лира не имеет пря-
мого отношения к кризису гуманизма на рубеже XVI—
XVII столетий. И только осознание Шекспиром кризиса
гуманизма Возрождения, крах воззрений шекспировской
поры делают легендарного короля в глазах драматурга
трагическим героем. Вереница «бедных нагих несчаст-
ливцев», за которыми мысленным взором начинает вме-
сте с Лиром следить Шекспир, растянулась на всю дли-
ну исторической перспективы именно после того, как
драматург ощутил надлом в гуманистическом мировос-
приятии. И его «Гамлет» вопросом «Быть или не быть?»
невольно восстанавливает связь далеких времен. В ко-
медиях и хрониках, написанных прежде, чем этот над-
лом был осознан, не менее печальные истории предста-
вали в ином свете.
Резкую перемену в мироощущении переживают все
герои великих трагедий. Личные мотивы и конкретные
условия развития духовного кризиса у них различны,
не одинаковы их душевные реакции и характер поведе-
ния, степень же нравственного потрясения у всех у них
предельна, а их мучительные переживания не замыка-
ются на личной судьбе и указывают на кризисное со-
стояние эпохального убеждения. Сомнения трагических
героев многосторонни, но направлены к определенному
центру, сосредоточиваются на состоянии общества и
проблеме человека.
10
ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА
(Новое и старое в героях Шекспира)
Гамлет, его характер, переживания, судьба дают
представление, сколь тяжким, а для многих привержен-
цев гуманизма, по-видимому, непоправимым потрясени-
ем явился крах гуманистического идеала.
Сюжет трагедии, заимствованный из средневековой
легенды о Гамлете, принце Датском, возлагает на героя
заботы и обязанности, не связанные с трагедией гума-
низма Возрождения, — принц обманут, оскорблен, обо-
краден, он должен отомстить за коварное убийство отца,
за поруганную добродетель, вернуть себе, законному
наследнику, корону: Но какие бы личные задачи ни
решал Гамлет, какими бы муками ни мучился,— во всем
сказывается его характер, его умонастроение, а через
них духовное состояние, испытанное, вероятно, самим
Шекспиром и многими его современниками, представи-
телями молодого поколения: это состояние глубочайшей
потрясенности сознания.
Жизнь человеческая представлялась Гамлету в яс-
ных и стройных формах. С глаз его будто спадает пе-
лена, и он чувствует себя на краю пропасти. Зло на-
стигает его внезапно и обескураживает его. У него нет
против зла прививки. Едва ли до того он не встречался
с проявлением зла, не знал о нем, не слышал от других,
не видел сам, но он отзывался на него без мук и содро-
ганья. Он видел и не видел — органическая стройность
гуманных представлений, вера без сомнения, подкреп-
ленная беспечальным опытом всех ранних его лет —
в семье и Виттенбергском университете, — держала его
в счастливом неведенье. Он жил реальной жизнью, но
в условиях, отдаленных от суровой и жестокой действи-
тельности, движимый потребностью идеального убеж-
дения, воодушевленный верой в идеального человека
и его возможности. Понятно, почему с таким сомнени-
ем он встречает зло — верит и не верит. Уже глядя
ему в кровавые глаза, он требует проверки. И медлит.
Не только потому, что хочет убедиться вполне и убе-
дить других, и не потому только, что беды обступают
его грозной силой и все колеблется под ногами, но так-
же и потому, что в нем велика инерция иных, возвы-
шенных и восторженных представлений о человеке, —
Гамлет все же не так, как Отелло, отзывается на зло.
11
Для Гамлета, как бы ни занимали его личные во-
просы, проблема человека в конечном счете — централь-
ная. Она возникает перед ним как вполне реальная и
конкретная, социально обусловленная, в трагической
ситуации, в которой он оказывается в состоянии пол-
нейшей неожиданности и без малейшего прегрешения
с его стороны. «Гамлет» первая пьеса Шекспира, в ко-
торой эта проблема поставлена прямо, отчетливо сфор-
мулирована устами протагониста:
«Какое чудо природы человек!.. Венец всего живу-
щего! А что мне эта квинтэссенция праха!» (2, 2, перев.
Б. Пастернака).
Когда Николай Полевой в своем переводе «Гамлета»
(1837) вставил в шекспировский текст слова «Страшно,
за человека страшно мне», то он подчеркнул ими важ-
нейшую проблему трагедии «Гамлет», актуальную и для
ее героя, и для ее сюжета.
Трагедия гуманизма выражена Шекспиром через ре-
альные противоречия и живые чувства, для Гамлета она
личная трагедия. В тягостных переживаниях возрастает
у него фундаментальное сомнение:
И в небе и в земле сокрыто больше,
Чем снится вашей мудрости, Горацио.
(1,5)
«Ваша мудрость» (изд. 1603 г.) или «Наша муд-
рость» (изд. 1623 г.)—у Шекспира (your philosophy
или our philosophy) философия гуманизма, — была вос-
принята Гамлетом как бесспорная правда жизни. Она
пошатнулась в нем под воздействием личных испыта-
ний и социальной среды. Самым прямым признанием
кризиса, кризиса личного сознания, гуманистической
идеологии и социального времени, служат исполненные
горечи рассуждения Гамлета о человеке (2, 2) и «уни-
жениях века» (3, 1, монолог «Быть или не быть...»), но
и сам человек, его природа.
Гамлет склонен пересмотреть свой взгляд на чело-
века— целостную концепцию гуманизма, оптимистиче-
скую и восторженную. В себе самом, в личности неза-
урядной и воодушевленной идеалом, он находит для
этого повод: «Сам я — сносной нравственности. Но и у
меня столько всего, чем попрекнуть себя, что лучше бы
моя мать не рожала меня... И в моем распоряжении
больше гадостей, чем мыслей, чтобы эти гадости обду-
мать...» (3, 1, перев. Б. Пастернака).
12
В шекспировской драматургии гамлетовская тема
и гамлетовские сомнения, как ее часть, не начинаются
с «Гамлета» и не исчерпываются им. Как ни решитель-
ны перемены, обозначившие переход от первого ко вто-
рому периоду в творчестве Шекспира, второй период
вызревает в первом и представляет собой этап эволю-
ции творческой личности.
В ранних произведениях Шекспира, в поэмах «Вене-
ра и Адонис» и «Лукреция», его занимает проблема
«природного» чувства, любовной страсти, не только ее
светлая, но и ее темная и зловещая стороны. Однако
разлад между любовью земной и небесной, между Ве-
нерой и Адонисом, трагические последствия этого раз-
лада, проклятия, которые шлет любви омраченная Ве-
нера, это еще не живая боль разбитого сердца и потря-
сенной души, а в наибольшей степени поэтические
размышления на тему. Трагическая судьба обесчещен-
ной Лукреции вызывает не мрачные сомнения и коле-
бания, а взрыв возмущения порочной и разрушительной
страстью.
В предшествующих «Гамлету» пьесах представлено
довольно случаев превратного поведения человеческой
натуры» Поражающий пример проявления женской сла-
бости, податливости и непостоянства содержится в сце-
не обольщения Ричардом Глостером леди Анны («Ри-
чард III», 1, 2). Характерное явление «натурального»
вероломства — одновременно и в любви и в дружбе —
демонстрирует своим поведением Протей («Два верон-
ца»), воплощение изменчивости и непостоянства, что
выражено в самом имени этого персонажа. Но Протей
«Двух веронцев» очевидное отклонение от нормы, что
осознается им самим. Эта аномалия омрачает и насто-
раживает, однако не дает повода не только для горь-
ких сомнений, но даже для печальных раздумий.
Жак-меланхолик из комедии «Как вам это понра-
вится» может показаться — и не раз казался — прямым
предшественником Гамлета по степени горестного разо-
чарования в человеке и в жизни, в степени подавленно-
сти бедствиями мира и в стремлении обличить их, Жак
во всем видит основание для меланхолии — в противо-
речиях природы и натуры человека, в его тиранической
власти над природой, в трагизме самой жизни, в себе
и во всем вокруг он обнаруживает дисгармонию. Но
образ Жака естественно воспринять как пародию на
широковещательную меланхолию: его речи, манера
13
поведения дают для этого основание. Если это пародия,
то пародия не сатирическая и не нарочитая, а скорей
всего невольная — результат точного и живого воспро-
изведения в комедийном жанре характерного явления
времени. Относительно Евгения Онегина у Татьяны Ла-
риной возникает вопрос: «Уж не пародия ли он?» Тот
же вопрос способен возбудить и Жак-меланхолик — про-
образ «сына века». Старый Герцог называет его «вопло-
щением диссонанса» и в душевном состоянии этого ли-
бертена видит печальное следствие его беспечной, свое-
вольной и распутной жизни.
«Гамлетовские мотивы» первого периода творчества
Шекспира развиваются в «Гамлете», приобретая психо-
логическую содержательность, социальную насыщен-
ность, конкретность и универсальный смысл.
Слова Гамлета: «Дания — тюрьма», реплика Розен-
кранца: «Тогда весь мир — тюрьма» (2, 2), ответная
реплика Гамлета: «И превосходная... Причем Дания —
одна из худших» — невольно заставляют вспомнить зна-
менитый монолог Жака-меланхолика «Весь мир — те-
атр» и отметить принципиальную разницу в характере
этих героев.
В устах Жака «Весь мир — театр» и весь этот моно-
лог— декламация на общую тему, а в контексте диалога
со Старым Герцогом, тем более всей пьесы, — неволь-
ная пародия на позирующее разочарование и плоское
восприятие незаурядной мысли: «Весь мир лицедейст-
вует». Жак не вслушивается в горестную, однако трез-
вую, рассудительную реплику Старого Герцога: «И на
огромном мировом театре есть много грустных пьес,
грустней, чем та, что здесь играем мы» (2, 7). Для Жака
это лишь повод в широковещательной форме выразить
свое разочарование и отчужденность.
Для Гамлета «Дания — тюрьма», в мире-тюрьме —
«одна из худших», — не метафора и не общая мысль. Ее
тут же оспаривает Розенкранц: «Мы этого не думаем,
принц». И Гамлет не настаивает на безусловности свое-
го заключения. Для него, Гамлета, Дания — тюрьма,
поясняет он. Не одна лишь осторожность побуждает
Гамлета сделать оговорку, но и сознание реального са-
мочувствия его окружения, его же «университетских
товарищей» Розенкранца и Гильденстерна. Даже Гора-
цио, единственный верный друг Гамлета, далек от него
по самочувствию, выражает иное умонастроение, пред-
почитая не рассматривать проклятые вопросы «слиш-
14
ком пристально» (5, 1). Too curiously, сказано у Шекс-
пира. «Слишком мелко» переводит это выражение Па-
стернак. Думается, что «слишком пристально» (перев.
Лозинского) более точно, точнее передает слова и мысль
Горацио, — полнее выражает его позицию, ее суть, не
только ее частный, связанный с конкретным диалогом,
но и ее общий смысл. Горацио сдерживает пытливость
в рамках книжной учености, сознательно идет на ком-
промисс, сохраняя известную меру заблуждения, чтобы
не утратить равновесия, вкуса к жизни и деятельности.
Ему нужна прокладка туманности между пытливой
мыслью, устремленной к истине, и самой истиной.
Можно пояснить эту жизненную установку Горацио
литературным примером, вспомнив более понятный слу-
чай из другой и все же чем-то близкой этой установке
психологической сферы. «Она все эти последние медо-
вые месяца как бы прищуриваясь глядела на свое про-
шедшее, с тем, чтобы не видеть его всего до глубины,
а видеть его только поверхностно». Это пишет Толстой,
характеризуя душевное состояние Анны Карениной.
И Горацио предпочитает смотреть «как бы прищурива-
ясь» на все то, что слишком нравственно травмирует
и делает жизнь невыносимой, на все то, что, по словам
Гамлета, «вашей философии не снилось» (1, 5) и вдруг
стало себя обнаруживать, сокрушая стройные логиче-
ские построения гуманистов о человеке — «венце всего
живущего».
Гамлет один несет бремя трагического мироощуще-
ния и одержим стремлением дойти до корня, дознаться
истины. Одна из первых его реплик: «Я не хочу того,
что кажется» (1, 2). Потребность истины — стимул его
жизни, условие его деятельности и одна из основных
причин его нравственных мучений.
Розенкранц не только не разделяет гамлетовского
суждения о Дании, он видит в нем выражение чрезмер-
ной претензии: «...тюрьмой делает ее ваше честолюбие.
Вашим требованиям тесно в ней» (2, 2). Для Розен-
кранца, новоприближенного короля-узурпатора, услуж-
ливого придворного, амбиция обездоленного принца,
требования чести, нравственного долга, гуманистиче-
ской мысли и чувства — «всего лишь тень тени» (там
же), нечто чрезмерное и пустое, чуждое жизни, реаль-
ным условиям существования. Для Гамлета его често-
любие— мера человеческого достоинства. Мера возвы-
шенного и восторженного ума, устремленного к абсолют-
15
ному, не учитывающего реального состояния общества
и положения в нем человека, условий жизни и чело-
веческой природы. Утопизм идеальных представлений
Гамлета и крах идеала так потрясают его, что приво-
дят в уныние и парализуют волю к действию. Но если
он один выражает крайнее сомнение в гуманистическом
идеале, то он же, постепенно преодолевая духовную раз-
лаженность и отчужденность, решительно, личным при-
мером утверждает обоснованность веры в человека и
необходимость борьбы за человечное в человеке, чтобы
не было «страшно» за него.
Каковы бы ни были сомнения Гамлета, как бы глу-
боко ни затрагивали они основу его убеждений, эти
убеждения вкоренились в нем и определяют его отно-
шение к миру и его поведение. Однако новые убежде-
ния в сознании Гамлета и всех других трагических
героев Шекспира существуют не в «чистом виде», а в
разных связях и сплетениях с убеждениями старыми,
традиционными. Героические характеры в шекспиров-
ских трагедиях представляют собой сложный сплав,
созданный влиянием разных сил — полупатриархальной
среды, переходного времени с его бурным и кратковре-
менным брожением, вызвавшим духовный взлет, и бур-
жуазного развития, послужившего основой перемен и
причиной кризиса.
Трагедия знания, «горе от ума», переживаемые Гам-
летом, сверены и с характером его знания, и с особен-
ностью его ума: Гамлет не может обрести равновесие
без сознания духовного абсолюта и своим исканием
и требованием нравственного абсолюта близок «старым»
чувствам.
В своей мысли о добродетели и пороке он следует за
логикой мысли покойного отца:
Но как вовек не дрогнет добродетель,
Хотя бы грех ей льстил в обличьях рая,
Так похоть, будь с ней ангел лучезарный,
Пресытится и на небесном ложе, тоскуя по отбросам.
(1, 5)
Здесь тот же принцип противопоставления доброде-
тели и порока, любви земной и небесной, что и в поэме
«Венера и Адонис». Если жизнь не согласуется с этим
принципом, стирает абсолютные грани, то: «Каким до-
кучным, тусклым и ненужным мне кажется все, что
ни есть на свете!» (1, 2).
16
Потребность и требование нравственного абсолюта
основаны у Гамлета на метафизическом представлении
о природе и человеке, представлении, выраженном в об-
разах и понятиях, привычных для средневекового рели-
гиозного сознания.
Какое чудо природы человек!.. Поступками как близок к анге-
лам! Почти равен богу — разуменьем!.. Венец всего живущего!
(2, 2, перев. Б. Пастернака)
Пример человека для Гамлета, Человека с большой
буквы, — его отец: «Он человек был в полном смысле
слова» (перев. Б. Пастернака). Гамлет не решается
сравнить его с христианскими небожителями. Воспитан-
ник Виттенбергского университета, достоинства отца он
перечисляет в образах языческой мифологии:
Лоб как у Зевса, кудри Аполлона,
Взгляд Марса, гордый, наводящий страх,
Величие Меркурия, с посланьем
Слетающего наземь с облаков.
Собранье качеств, в каждом из которых
Печать какого-либо божества,
Дающих званье человека.
(3, 4, перев. Б. Пастернака)
Перечисленные достоинства рисуют внешний образ
Человека. Разум не упомянут, о нем ничего не сказано.
О душевных качествах и образе поведения — тоже. Ска-
зано о гордом и устрашающем взгляде Марса. Кудри
Аполлона смягчают его величавую суровость. Отмечены
достоинства, которые отсутствуют у самого Гамлета.
Когда же Офелия отмечает достоинства Гамлета, она
прежде всего говорит об обаянье гордого ума («О, этот
гордый ум сражен!» Или, в переводе Б. Пастернака:
«Какого обаянья ум погиб», 3, 1).
В гамлетовских представлениях традиционное и но-
вое не сложились в единство, связь времен порвалась
и соединить концы и начала ему, при его стремлении
к абсолюту, не удается. Но его потребность истины и
прочной нравственной основы, стремление быть на уров-
не героя в трагической ситуации неизменно возвышают
его не только над дворцовой камарильей, но и над все-
ми персонажами, включая его друга Горацио.
Рефлексия и колебание, ставшие отличительным при-
знаком Гамлета, не исчерпывают его характера, они
выражают суть гамлетизма, но не «всего» Гамлета.
Гамлет судил с удивительной проницательностью,
когда утверждал, что у него «нет будущего», и когда,
17
умирая, завещал Горацио поведать потомкам печаль-
ную повесть; он не ошибся: его судьба возбуждала и
продолжает возбуждать интерес, отнюдь не праздный.
Можно по-разному относиться к Гамлету, но необходи-
мо учитывать, что как человеческий характер он не вы-
думка досужей фантазии, а явление истории, ее траги-
ческая и неоднократно повторяющаяся издержка. На
Гамлете, в каких бы подобиях ни повторяла его в даль-
нейшем жизнь, печать своего времени. У Шекспира
с «Гамлетом» связан новый этап в познании действи-
тельности и ее идейно-эстетической оценки, беспощад-
ной оценки складывающегося буржуазного общества и
абсолютистского произвола, а также трезвого суждения
о гуманизме Возрождения, о его величии и слабостях.
Гамлета часто сопоставляют с Дон-Кихотом. Это два
самых красноречивых образа, созданных гениальными
художниками в эпоху Возрождения. Нет более высоких
ориентиров, и кажется, что все проблемы, порожденные
кризисом гуманизма, просматриваются в их ряду.
Тургенев в речи «Гамлет и Дон-Кихот» — классиче-
ском анализе этих героев — увидел в них начала про-
тивоположные. Он не отметил ничего общего ни в си-
туации, ни в характерах. Однако исходное положение
и отправной принцип самоопределения сближает Гам-
лета с Дон-Кихотом. Оба они столкнулись с «морем бед-
ствий». Гамлет, как и Дон-Кихот, одержим идеей само-
лично их устранить, говоря словами Тургенева, «берет
на себя исправлять зло»:
Век расшатался — и скверней всего,
Что я рожден восстановить его!
Гамлет уповает на сильную личность и в этом слу-
чае без колебаний, хотя, в отличие от Дон-Кихота, горь-
ко сетуя и разражаясь проклятиями, на собственные
плечи возлагает все бремя. Этот принцип самоопреде-
ления, общий для обоих героев, исходит из антропо-
центрического характера воззрений гуманистов, состав-
ляет их практический наказ. То, что по средневековым
представлениям доступно было одному богу, берет на
себя человек — не люди, не людские массы, а возвысив-
шаяся до бога личность. Казалось бы, в совершенной
противоположности идей обнаруживается известное сход-
ство. Гамлет, как и Дон-Кихот, действует без едино-
мышленников и соратников, у них есть сострадальцы
и сочувствующие. В ренессансном апофеозе личности не
18
было презрения к массе, однако не было и признания
ее достоинств, ее силы, ее действенной роли. Гуманисти-
ческий индивидуализм брал за образец идеализирован-
ную самостоятельность рыцаря, столь же идеализиро-
ванную независимость гордого йомена или широко
предприимчивого бюргера. Гамлет и Дон-Кихот — рыца-
ри, воодушевленные гуманистическим принципом само-
определения.
В «естественном», исторически объяснимом и про-
грессивном возвеличении гуманизмом личности была
своя крайность, сближавшая новые представления со
старыми: вера в «сверхъестественные» возможности од-
ной личности составляла и силу и слабость гуманизма.
В благородном и самоотверженном стремлении Гам-
лета и Дон-Кихота все бремя века возложить на соб-
ственные плечи и единоличным усилием «покончить
с морем бедствий» выражена и необычайная дерзость
ренессансного гуманистического сознания, и его высоко-
мерие. Это высокомерие, следствие чрезмерной востор-
женности и самодовольства гуманистической мысли и
плод ренессансного индивидуализма, мешает героиче-
ской личности здраво смотреть на жизнь и оценивать
свои возможности.
Оказавшись в тяжкой кризисной ситуации, лишенный
здравого отношения к жизни, герой невольно оказыва-
ется в состоянии «безумия». У Гамлета и Дон-Кихота,
у каждого из них, своя форма «безумия», но для них
обоих «безумие» равно неизбежно и носит роковой ха-
рактер.
Гамлет не знает равновесия без сознания абсолют-
ной истины, опять-таки говоря словами Тургенева, без
веры «в нечто вечное, незыблемое». И в этом он тоже
сходен с Дон-Кихотом. И своим исканием нравственно-
го абсолюта близок старым чувствам.
Гамлет, как многие до него и вслед за ним, напри-
мер гётевский Фауст, сосредоточивается на мысли
о смерти, когда, атакуемый упрямыми фактами и тя-
гостными сомнениями, не может по-прежнему упрочить
мысль, в быстром течении все вокруг нее движется и не
за что уцепиться, даже не видно спасительной соломин-
ки. Сталкиваясь с устрашающими контрастами и про-
тиворечиями, мысль его, работая с лихорадочным на-
пряжением, пытается выбраться из лабиринта, но дви-
жется в метафизической схеме: да — нет. И «ни одной
мысли он не додумывает до конца» (Довер Уилсон).
19
Горячечная напряженность мысли сказывается в нерв-
ном синтаксисе отрывочной и туманной речи. Гамлет
«жутко догадлив», но проницательность его не обеспе-
чивает ему точки опоры.
В отношениях Гамлета и Дон-Кихота к женщине
есть также много знаменательного, справедливо заме-
чает Тургенев. Однако видит он в этих отношениях, как
и во всем, что касается Гамлета и Дон-Кихота, только
контрасты. Дон-Кихот «любит идеально, чисто, до того
идеально, что даже не подозревает, что предмет его
страсти вовсе не существует»1. Гамлет, напротив, «че-
ловек чувственный и даже втайне сластолюбивый... не
любит, но только притворяется, и то небрежно — что
любит»2.
Отношение Гамлета к Офелии загадочно. На этом
выводе шекспироведы обычно сходятся легко. Однако,
в отличие от Тургенева, большинство из них утвержда-
ет, что Гамлет любит Офелию и продолжает любить до
конца своих дней, несмотря на все странности поведе-
ния, которые дают основание утверждать обратное.
У Тургенева не было оснований упрекать Гамлета в тай-
ном сластолюбии. Во всяком случае, неубедителен его
аргумент — ссылка на молчаливую улыбку Розенкранца
при словах принца, что его не радуют женщины. Как бы
то ни было, мысль об Офелии далеко не поглощает
Гамлета целиком.
Гамлетовские монологи — его откровения. Он выска-
зывается в них непосредственно, в моменты особого на-
пряжения, и его незамаскированный облик виден в них
полнее всего. В монологах — ни слова об Офелии. В са-
мом известном («Быть или не быть...») одна строка —
«боль презренной любви» — может напомнить о ней,
вызвать догадки, но в таком потоке мыслей —это уже
не «боль», скорее «материал» и «тема» встревоженных
философских раздумий и страстных обличений. И пе-
ред смертью Гамлет не вспоминает об Офелии, хотя
незадолго до трагической кончины готов был биться
с Лаэртом, чтоб доказать:
Ее любил я; сорок тысяч братьев
Всем множеством своей любви со мною
Не уравнялись бы...
(5, 1)
1 Тургенев И. С. Собр. соч. в 12-ти томах, т. 11. М., Гос-
литиздат, 1956, с. 177.
2 Т а м же.
20
Гамлет здесь говорит «фразисто» (Тургенев). Не так
фразисто, как Лаэрт, но все ж фразисто. Готовность
Гамлета схватиться с Лаэртом подсказана не простым
желанием доказать, как сильно он любил его сестру,
и оправдаться, поскольку брат Офелии взывает:
Тридцать бед трехкратных
Да поразят проклятую главу
Того, кто у тебя злодейски отнял
Высокий разум!
(5, 1)
Гамлет задет, но больше возмущен, не может вытер-
петь шаблонную логику лаэртовского чувства и с язви-
тельной иронией отзывается на банально цветистое вы-
ражение его скорби (Лаэрт:
Теперь засыпьте мергтвую с живым. Так, чтобы выросла гора,
превысив и Пелион, и синего Олимпа небесное чело.
(5, 1)
Гамлет не' фальшивит, утверждая, что он любил
Офелию больше, чем «сорок тысяч братьев». «Он гово-
рит искренне, но не точно» (А.-С. Брэдли). «Фрази-
стость» выдает эту неточность.
Мысль о любви теряется в ряду других заветных
мыслей Гамлета. Ее оттесняют гражданские и сыновние
заботы, нравственные и философские искания. Им Гам-
лет отдает предпочтение. Отдает непроизвольно, без на-
тяжки. Предпочтение вытекает из внутренней потребно-
сти, не так, как чувство долга у героя классицистской
трагедии XVII века. И все же любовь оттеснена, точнее
сказать, подавлена и, может быть, без необходимости
отдана в жертву. Чувство любви вызывает у Гамлета
горькое разочарование и подвергается сомнению. Пово-
дов у него довольно: пример родной матери, с «гнусной
поспешностью» («башмаков не износив») бросившейся
на «одр кровосмешения»; сама Офелия, отвергнувшая
его чистое чувство, тянущаяся к ней паутина коварных
умыслов. У Гамлета невольно возникают или укрепля-
ются далеко идущие подозрения и выводы, когда он
слышит не предназначавшиеся для его слуха слова По-
лония, намеревающегося «подпустить» к нему свою
дочь. Довер Уилсон настаивает, что глагол «loose» в
данном контексте означает «подпускать» и что Гамлету,
как и шекспировской аудитории, был ясен двойной его
смысл К В русском переводе, и в том числе самом
1 См.: W i 1 s on J. Dover. What happens in Hamlet. Cam-
bridge, 1935, p. 103, 104.
21
последнем, этот оттенок исчез: «В такой вот час к нему
я вышлю дочь» (2, 2). Гамлет «с отменным вежеством»
твердит Офелии о своей любви, а ее хотят «подпустить»
к нему, как, может быть, «подпускали» к другим. Род-
ная мать, за ней возлюбленная крушат его возвышен-
ные представления о любви. «Каким докучным, тусклым
и ненужным» начинает ему представляться «все, что
ни есть на свете», едва он узнает о позорном замужест-
ве Гертруды. «О, мерзость! Это буйный сад, плодящий
одно лишь семя; дикое и злое в нем властвует» (1, 2).
«Ничтожество, о женщины, вам имя» — следует его вы-
вод. Это не крик досады, а потрясение и поворот
чувств — в плоти ему уже чудится, как средневековому
аскету, источник пагубы. Перемена в чувствах вызвана
не только потрясшим его столкновением с «гнусным
блудом». Было в них и раньше нечто, что заставляло
«самую несомненную вещественность» исчезать «перед
его глазами» (Тургенев), как она исчезала перед гла-
зами Дон-Кихота. Причины у них для этого не совер-
шенно одинаковы, но совпадение в какой-то точке все
же есть.
Нравственная требовательность Гамлета возвышенна
и благородна. В час испытаний, когда рушится все, бы-
ло бы странным, если бы он отвлекся беспечным утеше-
нием. И все же Гамлету недостает сильного и энергич-
ного чувства жизни. Восторженное воспарение с боль-
шим налетом книжности ослабило в нем телесное
влечение, оно тронуто аскетическим влиянием — много-
вековое гонение плоти отзывалось неожиданным послед-
ствием, и трудно было обрести действительную свободу
и гармонию в чувствах. По-видимому, эта черта темпе-
рамента Гамлета позволила Марине Цветаевой сказать
ему от лица Офелии:
Не вашего разума дело
Судить воспаленную кровь.
И затем в «Диалоге Гамлета с совестью»:
— Но я любил ее,
Как сорок тысяч...
— Меньше
Все же, чем один любовник.
Ему не хватает «такта действительности» (Белин-
ский), как и Дон-Кихоту. Между ними обнаруживается
не только историческая, но и психологическая связь.
Они не во всем противоположны, потому и происходит
22
так: «Гамлет начал «донкихотом», Дон-Кихот кончил
«гамлетом» [. Психологическая противоположность меж-
ду ними резко обозначается, когда одна сторона демон-
стрирует сомнения и колебания, другая — уверенность
и решимость.
Гамлет и Дон-Кихот оба начинают с утопии и «по
своему произволу» — в полном соответствии с наивно-
оптимистическими воззрениями гуманизма — «чертят
границы своей природы» (Пико делла Мирандола), не
считаясь с действительным состоянием человека, с исто-
рическими условиями, с объективной необходимостью.
«Все дело в том, чтобы не видя уверовать, засвиде-
тельствовать, подтвердить, присягнуть и стать на защи-
ту...»— говорит Дон-Кихот2. Гамлет уверовал, засвиде-
тельствовал, подтвердил, присягнул и стал на защиту,
исполненный воодушевления и решимости. Но когда ему
открылось дикое и коварное преступление и под свет-
лыми покровами обнаружилась мерзость, он заколе-
бался в своих убеждениях. В своих сомнениях он неза-
метно возвращается вспять, в его мыслях о человеке
начинает сказываться дух и логика мрачной средневе-
ковой мысли.
Гамлетовская рефлексия и колебания, ставшие отли-
чительным признаком характера этого героя, вызваны
внутренним потрясением от «моря бедствий», повлек-
шим за собой сомнение в нравственных и философских
принципах, которые казались ему незыблемыми.
В «Гамлете» раскрываются нравственные муки че-
ловека, призванного к действию, жаждущего действия,
но действующего импульсивно, только под давлением
обстоятельств, переживающего разлад между мыслью
и волей.
Передовые умы Возрождения не мирились с созерца-
тельной мыслью, удовлетворенной произвольными по-
строениями, как бы эффектны они ни были. Им была
близка, их вдохновляла мысль-деяние, проникающая
в тайную гармонию мира и превращающаяся в дейст-
вие, провидящая будущее и жаждущая его воплощения
в настоящем. Гамлет приобщен к этой мысли, дышит
ею, как свежим воздухом, но тратит ее на внутреннюю
борьбу. «К делу, мозг!» — говорит он, и его слова звучат
девизом, выводом из внутреннего убеждения, признани-
1 Пинский Л. Реализм эпохи Возрождения. М., Гослитиздат,
1961, с. 334.
2 Сервантес. Дон-Кихот, ч. 1. М., Гослитиздат, 1953, с. 45.
23
ем «богоподобного разума» (4, 4), который не должен
плесневеть в праздном или тщедушном бездействии. Но
дело ждет, а Гамлет медлит.
О медлительности Гамлета в исполнении долга,
о причинах этой медлительности писали много. Давно
стали традиционными попытки раскрыть шекспиров-
ский замысел путем отвлеченного психологического или
односторонне социологического объяснения. Попытки
не были вовсе безрезультатны, они давали работу мыс-
ли, подталкивали ее. Однако они не могли быть удовле-
творительными, так как не учитывали важных обстоя-
тельств— чрезвычайного интереса к человеку в шекспи-
ровские времена, конкретного понимания его природы
и назначения, особенностей его художественного изобра-
жения и многое другое.
Психологическая трактовка шекспировского героя,
когда она не отвлеченна, видит связь психологии с дей-
ствительностью, учитывает природу реализма Возрож-
дения, открывает широкие возможности для верного по-
нимания Гамлета и его драматического состояния.
Гёте в знаменитом, часто цитируемом высказывании
о характере Гамлета придерживается субъективно-пси-
хологической трактовки. Его суждение во многом спра-
ведливо, но односторонне и без критической оценки ве-
дет к несостоятельным выводам.
«Мне ясно, что хотел показать Шекспир: великое
деяние, тяготеющее над душой, которой такое деяние
не под силу...» 1
Это верно, однако, при условии: точно определить
смысл «великого деяния», не считать эту тему единст-
венной и всеопределяющей и помнить о многогранном
и развивающемся характере героя.
Для Гамлета «великое деяние» не ограничивается
отмщением, оно выходит далеко за рамки личного дол-
га и разрастается до народного деяния — покончить
с «морем бедствий».
Это деяние герой пытается осуществить индивиду-
альным усилием, и действительно, оно ему не по плечу,
как и всякой отдельной личности, сколь бы значитель-
на она ни была.
«Прекрасное, чистое, благородное, высоконравствен-
ное создание, лишенное силы чувств, без коей не бывает
героев, гибнет под бременем, которое ни нести, ни сбро-
1 Гёте И.-В. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 7. М., 1978, с. 199.
24
сить ему не дано было»1. Справедливо и это продолже-
ние гётевской характеристики, однако при одном исклю-
чении: у Гамлета есть «сила чувства, делающая героя»,
он восстанавливает ее в себе, и в конечном счете она
делает его героем. Здесь прав Белинский, который ха-
рактер Гамлета представляет в развитии. Герой гибнет,
и действительно, в землю его сводит бремя, которое он
не может ни нести, ни сбросить.
Немецкий критик Карл Вердер, решительно и с об-
стоятельной аргументацией возразивший против одно-
сторонности мнения Гёте о Гамлете, и сам, однако, не
избежал того же греха. Он верно заметил: Гамлету
важно, чтобы убийство короля Клавдия было защитой
справедливости и как справедливое было воспринято
народным мнением. Но мотивы, побуждавшие Гамлета
медлить и колебаться, были не столь односторонни и
сводились к более общему и основательному источнику.
Шекспира интересовал и более широкий и общий ас-
пект проблемы. Мысль и воля — драматурга занимает
это соотношение и в других трагедиях.
Король Лир грозит смертью своему верному васса-
лу, графу Кенту, который его волю «с мыслью разлу-
чал. Что не мирится с нашею природой» (1, 1). «При-
рода» Лира дышит феодальным своевольем, разгуляв-
шимся на привилегиях королевской власти и богатства.
Лир продолжает бравировать этим своевольем, даже
когда его милостью обстоятельства меняются и приви-
легии исчезают. Для Лира, решившего поделить между
дочерьми свое королевство, единство мысли и воли,
принятого решения и волевого действия, предстает как
стереотип, как будто не обусловленный обстоятельства-
ми. Сохраняя привычки и замашки властного феодала
времен «веселой старой Англии», он, не меняя своей
«природы», идеализирует ее, «извлекает» из нее обще-
человеческие принципы и с наивной самонадеянностью
и беспечностью начинает действовать решительно и не-
уклонно в изменившихся условиях.
В отличие от Лира, Гамлет почувствовал, что не
всякое слияние мысли с волей ведет к желанной цели,
не всякое деяние — благо, «природа» зависит от обсто-
ятельств и вынуждена считаться с ними, если не хочет
гибнуть или испытывать разочарования. Обстоятельст-
ва, историческая необходимость требуют от Гамлета
Гёте И.-В. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 7, с. 199.
25
непривычной гибкости поведения, он чувствует силу их
непреклонных требований, но не может выбраться из
лабиринта. Испытывая отвращение к мерзкому Клав-
дию и всей камарилье, предаваясь сомнениям, бессиль-
ный охватить события в их объективном движении, он
идет к своей гибели, сохраняя высокое достоинство.
Однако, что крайне важно, сомнение, сколь сильно
ни было бы его разъединяющее действие, уже не может
погубить чувства новой человечности, рожденной Воз-
рождением. Это чувство органично Гамлету, вошло в его
плоть и кровь, оно углубляет его терзания, но предохра-
няет его от нравственного распада, служит ему опорой,
стимулом исканий и борьбы.
Луначарский писал: «Не пессимисты гамлетовского
толка и не философствующие отшельники типа Проспе-
ро творят историю...» 1 История творит их, делает это
в моменты трагического напряжения, — не затем, чтобы
отвлечься или зло позабавиться, она не теряет их бес-
следно и не утаивает, как легкомысленные свои грехи.
Она настойчиво напоминает о них, напоминает с го-
речью и надеждой. У литературы они всегда были на
примете. Литература, поддерживая в истории процесс
очеловечивания человека, обращалась к ним без понуж-
дения. Она видит в них безвинные жертвы, страдаль-
цев, не примиряющихся со злом, бессильных его побе-
дить, но не преклоняющих перед ним колена. В скорби
Гамлета она улавливает жгучую тоску по истинной че-
ловечности, за разочарованием — неистребленную веру,
в душевном порыве — доброе предвиденье.
Гамлет уверен, что печальная повесть о его жизни
нужна людям — как урок, предостережение и призыв, —
решителен его предсмертный наказ другу Горацио:
«И всех событий открой причину» (5, 2). Своей судьбой
он свидетельствует о трагических противоречиях исто-
рии, трудной, но все более настойчивой ее работе по
очеловечиванию человека. И доказывает особое значе-
ние мужественной индивидуальной жертвы в трагиче-
ских обстоятельствах.
Трагедии Шекспира второго периода его творчества
не составляют цикла, они самостоятельны, однако все
семь пьес — великие трагедии («Гамлет», «Отелло», «Ко-
роль Лир», «Макбет»), трагедии из римской истории
1 Л у н а ч а р с к и й А. В. Фрэнсис Бэкон. Архив АН СССР,
он. 1, ф. 358, ед. хр. 762, с. 47.
26
(«Антоний и Клеопатра», «Кориолан») и завершающая
трагедия («Тимон Афинский») связаны между собой не
только принадлежностью одному автору, общностью
жанра и времени их создания (1600—1608). Они разви-
вают общую для них тему кризиса ренессансного гума-
нистического сознания в условиях кризисного состояния
общества.
Шекспир занят анализом и человека и общества —
в отдельности, в опосредованных и прямых связях. Он
анализирует чувственную и духовную природу челове-
ка, взаимодействие и борение чувств, многообразные
душевные состояния в их движении и переходах, воз-
никновение и развитие аффектов, их мобилизующую и
разрушительную силу. Он сосредоточивает анализ на
переломных и кризисных состояниях сознания, на при-
чинах духовного кризиса, причинах внешних и внутрен-
них, субъективных и объективных, поверхностных и
глубинных. Он выявляет стимулы и логику поведения
человека в его связях с обществом. Такая направлен-
ность и всеохватность, психологическая и социальная
проницательность, точность и содержательность анали-
за свойственна в английской литературе Возрождения
только Шекспиру и только его трагедиям — вершине не
одной лишь английской, но всей европейской ренессанс-
ной литературы. Не во всех шекспировских трагедиях
раскрыты социальные основы трагического конфликта
и трагического состояния сознания. В «Гамлете», «Ко-
роле Лире», тем более в «Тимоне Афинском» эта основа
очевидна, а в «Отелло» не обнажена, напротив, как бы
подчеркнуто отстранена зависимость трагического со-
знания героя и его гибели от социальной среды. Отелло
своими усилиями возвысился и в буквальном смысле
своими руками губит свою доблесть, славу, любовь и
жизнь, губит не одного себя, но и героиню, Дездемо-
ну— воплощение ренессансного идеала женственности,
возвышенной, одухотворенной и реально-земной. В этом
особенность характера протагониста и сюжета трагедии
и существенный аспект темы, общей для шекспировских
трагедий.
Социальные условия Венецианской республики не
препятствуют благополучию Отелло, он ею призван,
для нее он «благородный и доблестный Отелло». Внеш-
няя— непосредственная и прямая — причина душевного
разлада, нравственного затмения, преступного действия
и гибели Отелло, — подлость Яго, отдельного человека,
27
орудовавшего на свой страх и риск, из ненависти, под
девизом «потеха и выгода» (1, 3).
Доблестный Отелло вдохновлен и поднят Возрожде-
нием. Новые требования жизни, воспринятые им гума-
нистические представления одухотворили и возвысили
его свежие чувства и придали его цельной натуре не-
обычайную силу и обаяние. Цельность и непосредст-
венность характера — принципиальная черта Отелло,
она выделена Шекспиром как отличительная для чело-
века, отвечающего гуманистическому идеалу, но она —
производная не единственно от влияния Ренессанса.
«От природы Отелло не ревнив — напротив: он до-
верчив» (Пушкин). Этой природой был варварский пат-
риархальный мир. С ним герой соединен внутренней
связью, хранит о нем прочную память, ему обязан сво-
ей доверчивостью — наивной, лишенной проницательно-
сти, легко уязвимой и потому неустойчивой, легко пере-
ходящей в подозрительность. Злосчастный платок, по-
даренный Отелло его матерью, сыгравший роковую роль
в трагическом развитии событий, не случайная деталь
интриги, какой она является в новелле Чинтио. Он пря-
мое напоминание о времени «незрелой юности» героя,
далекой и еще близкой, неизжитой и милой его сердцу.
Когда Брабанцио, взбешенный любовью Дездемоны
к мавру, обвиняет его в чернокнижье и колдовстве, тот
с достоинством высокой мысли, чуждой суеверий, и с чи-
стым сердцем, свободным от предрассудков, оправды-
вает свою любовь перед сенатом. Но вскоре сам он, как
только внешней силой всколыхнется в нем былое с его
верой в магию и ворожбу, скажет Дездемоне:
...Береги платок
Заботливее, чем зеницу ока.
Достанься он другим иль пропади,
Ничто с такой бедою не сравнится.
(3,4)
Широкая и зрелая прямота сочетаются в Отелло
с наивной и дикой непосредственностью, одно привито
к другому, и привой колеблется на зыбком черенке. Яго
примеряется точно, когда в свою интригу вплетает «ма-
гический» платок: он знает уязвимые места своей жи-
вой мишени, и наивная доверчивость Отелло отзывает-
ся на лживый и коварный голос.
К любви Отелло относится с доверием, ищет и на-
ходит в ней могучий источник, необходимый для полно-
ты и гармонии жизни. Любовь Дездемоны приносит ему
28
истинное счастье, освобождая его от страха перед хао-
сом. Мера любви Отелло — широкая ренессансная мера,
предполагающая единство духа и плоти и не замыкаю-
щая человека в узколичном или семейном кругу; напро-
тив, любовь — условие нормального гражданского чув-
ства и энергичной деятельности в большом мире. И все
же любовь Отелло и Дездемоны, как чувство непосред-
ственное, почтительно склоняется перед гражданским
долгом и доблестью. Дездемона не ослеплена экзоти-
ческим чувством, она любит благородного мавра и не
отделяет человека от его личных и гражданских досто-
инств. Отелло, едва почувствовав приступы ревности,
полагает легко отделаться от этой «зеленоглазой ведь-
мы», решительно и щедро отказавшись от любви: «Про-
щай любовь, прощай и ревность», еще уверенно рас-
суждает он (3, 3) в наивной надежде сохранить свою
цельность, отступив на прежние позиции, отдав полное
предпочтение славной службе, в которой в равной мере
удовлетворяют себя долг и честолюбие. Но эта пози-
ция еще и уже — не ренессансного человека.
«Шекспир, сам актер и умный человек, умел не толь-
ко речами, но восклицаниями, жестами, повторением
слов выражать душевные состояния и изменения чувств,
происходящие в действующих лицах»,— писал Л. Н. Тол-
стой в статье «О Шекспире и о драме», в которой он
развенчивал великого трагического поэта и драматурга.
Толстой был субъективен в своей критике Шекспира,
но, как можно видеть, не был вовсе односторонен. Речи
Отелло, возбужденные ревностью, выражают стреми-
тельное изменение чувств и резкую перемену в его нрав-
ственном облике. В начале краткого монолога, более
краткого, чем знаменитый монолог Гамлета «Быть или
не быть...», уязвленное подозрением чувство Отелло еще
сохраняет и трепетную теплоту, и благородство:
Если это правда
И будут доказательства, что ты
Дичаешь, мой неприрученный сокол,
Прощай, лети, я путы разорву,
Хотя они из нитей сердца сшиты.
(3,3)
Но тут же, через несколько строк, перелом этого
чувства и скачок от любви к ненависти: «Мне может
только ненависть помочь». И по сути тот же, что и в
случае с Гамлетом, вывод:
Высокое неприложимо к жизни.
Все благородное обречено, —
29
вывод помраченного сознания, как-то сразу теряющего
веру в идеал, в человека, в реальную человечность. Доб-
лестный и прославленный герой, только что испытавший
полноту высокого человеческого чувства и радость гар-
моничного и деятельного бытия, с невероятной поспеш-
ностью готов отрешиться от всего им обретенного и от
себя, своей человеческой сущности, от «богоподобного
разума», перестать быть человеком — «красой вселен-
ной», пережить жалкую метаморфозу:
Я б предпочел быть жабою на дне
Сырого подземелья, чем делиться
Хоть долею того, что я люблю.
(3,3)
Под воздействием злого и коварного навета доблест-
ный Отелло готов отрешиться от возвышенного чувства,
подавить его чувством низким, злобным и мстительным,
и воспаленная этим чувством мысль его для своего вы-
ражения ищет образ не в сфере человеческого, самой
подходящей для нее оказывается образ рептилии:
О ненависть и месть, со мною будьте
И грудь раздуйте мне шипеньем змей.
(3,3)
Сомнение в идеале, неверие в возможность реально-
возвышенного, мысль о том, что все благородное обре-
чено, утрата высокого, благородного доверия, эгоисти-
ческая сосредоточенность на собственной персоне вле-
кут за собой взрыв дикой и мстительной ярости:
На свете есть
Ножи, костры, колодцы, петли, яды...
(3, 3)
Дикая и мстительная ярость подавляет в герое про-
стейшие элементы человечности, попирает элементар-
ную справедливость, выражает себя в извращенно изде-
вательском требовании:
Сначала повесить, а потом заставить сознаться.
(4, 1)
Посеяв коварным наветом в душе Отелло семена
недоверия и ревности, Яго в утешение ему дает совет:
«А главное, не надо углубляться в вопросы эти...» (3, 3).
Не надо углубляться... По форме почти то же, что со-
ветовал Горацио Гамлету: «Не надо смотреть слишком
пристально». По существу же выражение разных ориен-
30
таций. Яго хочет отравить сознание Отелло, убедить
его, что «высокое неприложимо к жизни», развенчать
доблестного Отелло, опустить его до себя, устроить себе
потеху и добиться выгоды. Яго уверен, что чем настой-
чивее он будет убеждать Отелло «не углубляться» в тре-
вожащие его вопросы, тем решительнее тот будет это
делать. Отелло, как и Гамлет, «жаждет ясности». У не-
го эта жажда не изначальна, поначалу он предпочитал
незнание горькой истины — знанию: «Я был бы счаст-
лив, если б целый полк//Был близок с ней, а я не знал
об этом» (3, 3). Жажду ясности возбуждает в нем Яго
с единственной целью побудить его принять мерзкую
ложь за безусловную истину. Он пользуется высокой,
однако наивной доверчивостью Отелло, который безу-
словно доверяет негодяю и подлецу.
Яго
Надеюсь, вам известно,
Как я вам предан?
Отелло
Именно затем,
Что мне известно, как ты прям и честен
И слов не стал бы на ветер бросать,
Пугают так меня твои намеки.
Полуслова — язык клеветника,
Но у порядочного человека
Такие недомолвки — крик души,
Которая не вынесла молчанья.
(3, 3)
Отелло бессилен справиться со своим чувством
к Дездемоне. Как бы то ни было, оно захватило его,
незаметно и как-то вдруг превратилось в страсть, пу-
гающую его самого. Это чувство необходимо ему для
цельности и полноты существования. Трагично, что ра-
дость обернулась несчастьем, но к прежнему состоянию
он вернуться не может, как не может теперь и удовле-
твориться им:
Прощай, покой! Прощай, душевный мир!
Прощайте, армии в пернатых шлемах,
И войны — честолюбьс храбрецов,
И ржущий конь, и трубные раскаты,
И флейты свист, и гулкий барабан...
Конец всему. Отелло отслужил!
(3, 3)
Это не предчувствие отставки, которую вскоре даст
ему венецианский сенат, она неизбежное следствие со-
бытий, суть дела не в тайных умыслах сената, — Отел-
31
ло сам себе дает отставку, может быть еще смутно со-
знавая, что «конец всему», что он «отслужил», что
к прошлому возврата нет, в нем рушится цельность
старого мира и наивная цельность Ренессанса, а новой,
более возвышенной и человечной цельности, которую он
ощутил, ему не обрести, не отстоять в условиях, кон-
центрированным выражением которых выступает Яго.
В смятении Отелло начинает повторять средневеко-
вые заклятья:
Смирять молитвой, строгостью, постом
И умерщвленьем плоти. В ней есть дьявол...
(3,4)
И этот возврат к мрачному средневековью сближа-
ет героя с Яго. Возможно, что движение его чувств идет
в обратной последовательности — от цинизма Яго к сред-
невековому мракобесью. Возможно, это процесс парал-
лельный, — существенно иное: Отелло, поднятый Воз-
рождением, не изжил в себе средневековья, влияния
патриархальной среды.
«Мавр от природы благороден, доверчив, нежен и
великодушен» — так поставил вопрос Вильям Хезлит
в книге «Персонажи шекспировских пьес» (1817).
Отелло доверчив, однако односторонне: он скоро от-
казывает в доверии Дездемоне и прочно доверяет Яго.
От природы Отелло не ревнив, но эта особенность
его природы не помешала ему стать нарицательным
именем. Произвольно было характер Отелло сводить
к одной страсти и рассматривать «Отелло» как траге-
дию ревности. Столь же произвольны были попытки
заместить Отелло-ревнивца доверчивым Отелло. Объ-
яснять шекспировскую трагедию наложением на нее то
одной, то другой идеи — это свойство и прием односто-
ронне избирательной мысли, уверовавшей в бесспор-
ность своего выбора, во всяком случае отталкивающейся
от нежелательных фактов. Принцип отвлеченно роман-
тического толкования Шекспира изжил себя, немало
было примеров и поводов, чтобы побудить анализирую-
щую мысль держаться ближе к действительности. Од-
нако традиция романтически одностороннего толкова-
ния может заявить о себе и заявляет с самой неожи-
данной стороны. Хотя бы тогда, когда в трагическом
герое не находят субъективных основ и предпосылок
неизбежного исхода или слагают трагическую вину из
милых сердцу достоинств героя и его — вполне извини-
32
тельных — слабостей. Когда вся ответственность за его
нравственные муки, поругание и гибель возлагается на
внешние силы — на злокозненного Яго, расчетливый се-
нат купеческой республики, на противоречия времени;
и возвышенный герой оказывается жертвой, вовсе не
причастной ни к козням, ни к расчету, ни к заявившим
о себе противоречиям Возрождения.
От природы Отелло не ревнив, но семя ревности
возрастает в нем с энергией, какую возможно выявить
только в благоприятствующей среде. Тому способствует
и необузданный темперамент, и дикое воображение,
обнажающее властное влияние инстинкта, и неустойчи-
вость возвышенных представлений. Когда Отелло по-
чувствовал, что Дездемона земное, а не небесное созда-
ние, что она женщина с женскими интересами и слабо-
стями, что она «пахнет человеком» и даже немножко
«зверем», то в его воображении она быстро стала ме-
нять свою сущность и из воплощенной добродетели
превратилась в дьявола с ангельским обликом, в зло
особо опасное, которое во имя добра необходимо устра-
нить. Ему не удалось соединить в себе представления:
Дездемона «поэтически-чувственная» может быть «бла-
городно преданной».
Односторонняя доверчивость и подозрительность
Отелло объясняются не только шаткостью его отвлечен-
ных гуманистических представлений и жестоким опы-
том. Отелло доверчив односторонне, в решительный
момент доверяет только Яго — вероятно потому, что
связан с ним дольше, связан деловым и дружеским
союзом. Сюжет подчеркивает их, так сказать, изначаль-
ную соединенность. В практические спутники Отелло
сам выбирает себе этого помощника и приближает и
выдвигает его: для него он «честный Яго», «мой друг».
Вместе с тем в рамках сюжета характер Яго обна-
жается как вполне и совершенно определившийся. На
поприще ловкого интриганства «честный Яго» выступа-
ет во всеоружии опыта. Отелло не замечал коварной
руки, пока она не коснулась его лично.
До поры интересы и взгляды Отелло и Яго не стал-
кивались в междоусобице, они как-то уживались, сопут-
ствуя друг другу. Оба они подняты Возрождением,
оба — каждый на свой лад — выражают его идеи, при-
лагая их к практической жизни.
В Яго гуманистический индивидуализм выразился
односторонне. В нем личное самосознание лишено как
2 М. В. Урнов
33
национальных, так и гражданских черт, а общественный
интерес начисто вытеснен интересом частным. Он слу-
жит «не из любви и долга», а лишь притворяется, «пре-
следуя свою личную цель» (1, 1).
Освободив интеллект от суеверий и предрассудков,
Яго придал ему силы, добился особой привилегии перед
возможным конкурентом, продолжавшим держаться
укоренившихся условностей, а также перед всяким со-
перником, не утратившим представлений о совести и
склонным к рефлексии. Яго освободился не только от
предрассудков, он преодолел всяческие внутренние
препоны. Поразительная гибкость характера достигает-
ся в нем полным пренебрежением общественных норм.
Это не та свобода ума, когда человек, понимая относи-
тельность нравственных установлений, сознает их исто-
рический смысл, и если берет на себя ответственность
быть судьей своих поступков, то опирается на разум,
не злоупотребляя им. Для Яго свобода интеллекта —
это свобода произвола, преследующая личную выгоду,
получающая философское обоснование в его популяр-
ном толковании. «Быть тем или другим — зависит от
нас самих», все в нашей воле. «Наше тело — наш сад,
а наша воля — садовник в нем. Захотим ли мы засеять
его крапивой или салатом, растить в нем иссоп или
полоть в нем тмин; развести один сорт трав или несколь-
ко; запустить его из-за лени или заботливо обрабо-
тать,— сила и власть для этого в нашей воле» (1, 3).
Этот самоуверенный наивный волюнтаризм Возрож-
дения в практическом применении Яго гарантирует ему
временный успех, но в общем-то творит сплошное безо-
бразие, сеет зло и в конечном счете самого героя при-
водит к гибели.
Яго, казалось бы, попрал всех богов и обрел полную
свободу, однако он невольник культа двуликого Януса.
Добиваясь совершенной, но, по сути, механической
цельности воли, Яго не может преодолеть двойствен-
ность, постоянно актерствует, двуличие становится его
натурой. «Я не то, что я есть» («I am not what I am»;
1, 1), — говорит он. И двуличие оказывается его сла-
бым местом, его ахиллесовой пятой.
Ситуация, в которой оказался Отелло, в ренессанс-
ной литературе много раз выступала в комедийной об-
работке, вызывая задорный смех. Опыт издевки над
доверчивым супругом совершенствовался во имя радо-
сти бытия и реабилитации плоти. Оборотная сторона
34
любовного интриганства не была заметна ренессансным
персонажам, тем более что его объектом выступал
супруг со стародедовскими представлениями. На этот
раз коварные козни задели самого ренессансного героя,
и смеха как не бывало — стенания, зубовный скрежет,
истерика, взрыв злобных чувств сменили беспечное
веселье.
Устремления Отелло и Яго до поры не сталкивались,
но наступил момент — и столкновение стало неизбеж-
ным: на этом отрезке совместного пути они и предста-
ют в трагедии.
Что возмутило равновесие, привело к разрыву и
междоусобице?
Многие вслед за А. В. Луначарским считают, что,
действуя из ненависти, Яго действует безотчетно, не
сознавая своих внутренних побуждений; объявленные
им мотивы неосновательны и противоречивы.
«Сразу бросается в глаза, — писал А. В. Луначар-
ский,— для чего такому тонкому психологу, как Шекс-
пир, понадобились все эти мотивы. Ясно, что они нуж-
ны не для того, чтобы действительно мотивировать
поведение Яго, а для того, чтобы показать, что Яго сам
не знает мотивов своего поведения» 1.
Отсутствие осознанного побуждения не означает,
что мотив вовсе отсутствует, и А. В. Луначарский его
определяет:
«Но почему именно обрушивается Яго на Отелло?
Почему именно губит он Дездемону? Конечно, причины,
которые он приводит, смешны. Нет, он обрушивается
на Отелло потому, что Отелло — его командир, что это
знаменитый генерал и почти великий человек, потому,
что он покрыт славой, что он побеждал множество
опасностей, чувствует себя мужественным, могучим.
Разве не приятно победить такого человека?..
А Дездемона? Она дочь сенатора Брабанцио, она
тончайший цветок венецианской культуры, она вся по-
этически-чувственная и благородно преданная, она вся
как песня, как самая упоительная сказка... А разве
это не приятно — почувствовать такую красавицу, такое
чудо природы зависимым от тебя, толкнуть ее, куда
хочешь, — на страдания, на гибель, переделать ее из
благословения, из наслаждения в муку, в наказание?
1 Луначарский А. В. Фрэнсис Бэкон. — Собр. соч., т. 6,
с. 351.
2*
35
Все это Яго предчувствует своей тонкой душой воз-
рождение, и он заранее ликует, он заранее видит себя
богом этих людей, вернее — дьяволом этих людей. И ви-
деть себя дьяволом, распоряжающимся такими высоки-
ми людьми, — это переполняет его гордостью.
Таков его мотив» 1.
Предвкушение злорадного торжества этим «прохо-
димцем, который еще нигде не выдвинулся»2, служит
ему вдохновляющим стимулом.
Но чтобы это предвкушение возникло и определи-
лось, нужны были условия, реальные и обнадеживаю-
щие предпосылки.
Субъективные возможности оформились, их надеж-
ность проверена и личный опыт толкает на более ре-
шительные действия.
«Совершенно очевидно, что Яго прекрасно сознает
в себе огромную силу; он понимает, что он хозяин са-
мого себя... он понимает, что он — человек твердой воли
и ясного разума, человек, не ограниченный никакими
предрассудками, не являющийся рабом никаких вне его
лежащих законов, никакой моральной гетерогонии, что
такой человек — страшный силач»3.
«Я знаю себе цену», — чуть не первые слова, кото-
рые произносит Яго. И тут же он выражает свое не-
довольство поведением Отелло, сопровождая решитель-
ное порицание серией доводов. Генерал обошел его
служебным вниманием, на которое, в чем он уверен, он
был вправе рассчитывать. Отелло предпочел «какого-то
Кассио», не практика, а грамотея, «не водившего в бой
эскадрона». Его же, Яго, воинская доблесть и опыт
не раз испытаны, он воевал «во многих землях, языче-
ских и христианских», с Отелло вместе, «на его глазах».
И все ж, когда настало время, его заслугами пренебрег-
ли, и он остался тем, кем был: «his Moorship's anci-
ent»— «поручиком их величества мавра» (1, 1). Яго
иронизирует — не без горечи и злобы, полагая, что
Отелло вознесся и возгордился, и сетует на порядок
службы, при котором повышение зависит от личных
связей и симпатий, а не так, «как в былое время, когда
каждый второй наследовал первому».
1 Луначарский А. В. Фрэнсис Бэкон. — Собр. соч., т. 6,
с. 352—353.
2 Т а м ж е, с. 352.
3 Т а м же, с. 352.
36
Думается, для Яго это не пустячный повод. Речь
идет о его личных и очевидных интересах, они ущемле-
ны, а он знает себе цену и не склонен довольствоваться
отвлеченными или духовными благами. Вне конкретной
и материальной пользы мысли и чувства Яго теряют
почву и стимул. Не посчитались с его интересами, и он,
хотя и совершенный циник, готов видеть в этом нару-
шение «принципа», а главное — перемену соотношений,
чреватую для него «более тяжким уроном»; после того
когда претензии его возбуждены, он не раз испытал
себя, уверовал в свои силы, знает себе цену и метит
далеко. «Он может вызвать кого угодно на житейскую
шахматную партию и обыграть, оставить в дураках,
лишить имущества, tчести, жены, жизни и самому ос-
таться безнаказанным. Если и есть тут известный риск,
то кто же не знает, сколько прелести прибавляет риск к
игре для настоящего игрока? А Яго — настоящий игрок» х.
Яго «играет» не ради пустого препровождения вре-
мени. «Sport and profit» (1, 3)—«потеха и выгода» —
его девиз, стимул и «принцип». «Если, — говорит он
Родриго, предлагая ему объединиться в отмщении
Отелло, — ты сумеешь наставить ему рога, ты доста-
вишь себе удовольствие, а мне — потеху». Все то же
слово — sport (потеха, забава, развлечение). Форма и
цель потехи у размашистого игрока Яго утрачивает без-
обидный смысл. Он не может удовольствоваться распро-
страненным зрелищем-увеселением и быть простым зри-
телем. Какой размах и направление обретает у Яго
потеха, видно из его интригантских замыслов, например,
из этого:
Я так устрою дело,
Что будет мавр меня благодарить,
Любить меня и награждать за то,
Что я его искусно превращаю
В полнейшего осла и довожу
От мирного покоя до безумья.
(2, 1, перев. П. Вейнберга)
Потеха должна быть изобретательной, комбинатор-
ской, являть силу ума и воли ее инициатора, гаранти-
ровать ему выгоду, доставить удовлетворение его ущем-
ленным чувствам и его злорадной жажде торжества
надо всеми этими претенциозными и самодовольными
дураками, такими, как Родриго, над баловнями судьбы,
1 Луначарский А. В. Фрэнсис Бэкон. — Собр. соч., т. 6,
с. 352.
37
красавчиками и грамотеями, такими, как Кассио, над
высоко вознесшимся и упоенным счастьем полководцем
Отелло, над восторженной доверчивостью обаятельной
Дездемоны.
Когда Яго, объявляя мотивы ненависти к Отелло,
не пренебрегает и сплетней, довольствуется слухом об
интимных отношениях своей жены с генералом, то по-
вод действительно представляется странным и мелоч-
ным Но стоит послушать Яго:
Ходят слухи,
Что на моей супружеской постели
Он исполнял обязанность мою.
Не знаю я, правдивы ль эти слухи;
Но одного простого подозренья
Довольно мне, чтоб поступать, как будто
Уверен я.
(7, 3, перев. П. Вейнберга)
Перевод точен, за небольшим исключением. У Шекс-
пира к словам «но одного простого подозренья» добав-
лено «подобного», «в этом роде» («in that kind»). От-
тенок важен. Кстати, Яго подозревает в том же и
Кассио (2, 1). И если не относить этих настойчивых
подозрений за счет навязчивой идеи, за счет того, что
называется медиками «бредом ревности», то в этой
навязчивости есть своя логика, отражающая логику
обычая и нравов. Не вообще «подозрение», а подозре-
ние, уязвляющее чувствительное место. Впрочем, про-
стое подозрение любого рода у Яго легко способно
превратиться в уверенность и побудить к мстительно-
му действию. Доводы выстраиваются в известную си-
стему, характеризующую умонастроение и состояние
Яго: обойден по службе, генерал отдал предпочтение
изящному и образованному молодому человеку, сам
полу^л все, пользуется всеми благами, а испытанный
соратник для него — лишь средство, установившийся
порядок продвижения по служебной лестнице ничего
хорошего ему не сулит, а тут еще он, Яго, мастер на
потехи, чемпион любовного интриганства, сам оказы-
вается его жертвой. Подозрение подобного свойства
в общей системе размышлений Яго, по-видимому, со-
всем не пустяк. Для Отелло же «подозрение в этом
роде» явилось роковым. За циничными доводами ин-
тригана перед ним возникают назойливые приметы
распространенной практики, от которой ему, вовлечен-
ному в активную деятельность, невозможно отгоро-
38
диться. Воздействие жестокого опыта ослабляет со-
противление Отелло обступившим его злонамеренью и
козням, расшатывает его веру в человека, усиливает
горечь утраты, разжигает дикие чувства. И благород-
ный мавр начинает опускаться до подлого Яго, который
все низводит до звериного подобия, начинает перени-
мать его логику и манеру речи.
Преодолеть препятствия, разрешить новые пробле-
мы, возникшие перед Отелло, невозможно на уровне
того счастливого здравомыслия, с каким он устранил
сопротивление Брабанцио. Отелло не удается прино-
ровиться к новым условиям: приспособиться к ним,
отказавшись от самого себя, он не может, а чтоб овла-
деть ими — недостает «зрелости». Он продолжает мыс-
лить догматически и доходит до безрассудного педан-
тизма при обстоятельствах, требующих широты взгля-
да, трезвой гибкости, мужественного такта, волевой
сдержанности, проницательного доверия. Он сам чувст-
вует горькую щекотливость положения, когда, добива-
ясь «ясности», кричит: «Смерть и проклятье!», припер-
тый беспощадными вопросами Яго: «Что такое ясность?
Хотите ли вы поглядеть тайком, когда он с нею будет
обниматься?» (3, 3).
Продолжая догматически держаться «принципа»,
Отелло вынужден пойти на жалкий компромисс, на низ-
кую сделку с Яго и удовлетвориться «косвенной ули-
кой». Так магический платок утрачивает поэтическую
окраску и превращается в вещественное доказательство.
Сторонник «ясности», абсолютной истины, ставит ее
искание в зависимость от схемы и случая и склонен
к абсолютному произволу.
Простая, здравомыслящая, добрая и самоотвержен-
ная Эмилия уличает в схоластике и прямолинейности
некогда доблестного, а потом «кровавого» мавра, «кро-
вавого шута»: «Любитель правды. Ты так же мало по-
нимаешь в ней, как оценить жену не в состоянье» (5,2).
В этом важное назиданье, обращенное Шекспиром к со-
временникам, оно — невольное следствие реалистическо-
го изображения трагической ситуации.
Отелло не удается гармонически связать мир част-
ных и гражданских чувств, любовь и долг. Он не оси-
ливает этой вставшей перед ним задачи не только пото-
му, что Венецианская республика, заинтересованная
в его воинских услугах, не нуждается в нем как в рав-
ноправном частном лице. Свободная и гармонически
39
развитая личность как норма жизни была прекрасной,
но утопической идеей гуманистов, потерпевшей крах
в условиях буржуазного развития. Личные свойства
Отелло не могли облегчить ему трудную задачу, кото-
рую Яго решил просто: для него и государственная
служба, и частная жизнь — все повод для наживы.
В душе Отелло борются разнородные влияния, ста-
рый миропорядок сталкивается с новым и в этом бро-
жении, в этой сшибке самое деятельное участие прини-
мают гуманистические идеи, сказываются и живой опыт
приобщения к новой человечности, и идеальные поры-
вы, вызванные Возрождением. Отелло и хулит и славит
Дездемону. Его сердце с такой отзывчивостью воспри-
няло новые впечатления, что самое горькое разочарова-
ние не способно стереть память о них. «Я хочу, чтобы
она сгнила, пропала...», и тут же: «Но не было на свете
созданья более неотразимого». «Чтоб черт ее побрал!»—
и тут же: «Ее пеньем можно приручить лесного медве-
дя» (4, 1).
Сложная зависимость душевных движений от ду-
ховного стереотипа прошлых или отходящих времен
выступает в Гамлете, Отелло, Лире как внутренний мо-
тив трагического кризиса. В момент потрясения эта за-
висимость не ослабевает, а скорее крепнет: переживая
крах идеала, отталкиваясь от действительности, не
оправдавшей надежд, шекспировский герой нередко
обращается в своих мыслях вспять, лелеет отжившие
представления, дает волю старым чувствам. Гамлет,
Отелло, Лир — все они страдают от неспособности гиб-
ко, не надрываясь и не надламывая себя, преодолеть
эту сковывающую зависимость и свою замкнутость, изо-
лированность в новых условиях, в немалой степени
предрешенную сильно развитым в них индивидуализ-
мом и субъективностью, чрезмерной сосредоточенностью
на своей личности. Все это мешает им вырваться к объ-
ективности и в действительном, не иллюзорном мире,
погружаясь в реальную жизнь, приобщаясь к ее силе,
чувствуя ее внутренний ритм, найти новую прочную
опору — основу внутренней цельности и энергичной це-
ленаправленной деятельности.
«Король Лир» — самая масштабная, самая значи-
тельная, самая завершенная из великих трагедий Шек-
спира. И самая трудная для живого восприятия. Слож-
40
на и непривычна ее художественная структура. Мно-
гослойна и многомысленна ее образность. В ней —
влияние аллегорической и морализующей театральности
средневековья. Вместе с тем она опирается на реаль-
ность, на историческую, бытовую и психологическую
конкретность. И в то же время она подчеркнуто услов-
на в своей концентрированной выразительности, насы-
щенной символикой.
В сюжете трагедии соединены разные эпохи: время
легендарного короля Лира, отдаленное от новой эры
восемью столетиями, эпоха средних веков в переходный
период, эпоха Возрождения. В протагонисте слиты чер-
ты короля из фольклорной притчи и патриарха кельт-
ской древности из исторической легенды, слиты и пред-
ставлены в таком виде и в таких ситуациях, что деяте-
ли эпохи Возрождения могли и должны были узнать
в нем себя в пору трагического потрясения, вызванного
кризисом гуманизма.
Чрезмерная самонадеянность и беспечность Лира,
его сосредоточенность на своей особе, «самообожание»,
выходящее «из всяких пределов здравого смысла», как
писал Добролюбов, есть следствие его «варварски-бес-
смысленного положения», в котором он «привык счи-
тать себя источником всякой радости и горя, началом
и концом всякой жизни в его царстве» К
Исполняя в начале, в завязке действия, тайный за-
мысел (darker purpose, это выражение переводят и
толкуют по-разному) разделить между дочерьми коро-
левство и снять со стариковских плеч бремя забот и
дел, Лир совершает щедрый и, казалось бы, естествен-
ный и мудрый акт. Он «решает» проблему старости
и проблему «отцов и детей», связи поколений. Вместе
с тем демонстративный поступок Лира — дерзкий «экс-
перимент» человека, сознавшего себя личностью и сле-
дующего высокой идее: достоинство человека опреде-
ляется не тем, что он имеет, а тем, что он собой как
личность представляет; сам человек — мера вещей, а не
вещи и не прерогативы — его мера. По сути, в лице
легендарного короля Лира выступает гуманист эпохи
Возрождения, провозгласивший: «Человек — краса все-
ленной».
Раздел Лиром королевства сопровождается «обря-
дом» почитания, составляющим важную часть «тайного»
1 Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 5. М.,
1952, с. 52.
41
замысла. Дочерям надлежит сказать своему отцу, как
они его любят. «Обряд» почитания превращается в де-
монстрацию безмерной и наглой лести. Старшая и сред-
няя дочери, Гонерилья и Регана, льстят отцу, как спо-
собны льстить подобострастные придворные жаждуще-
му подобострастия монарху. Лир за должное принимает
изъявление необычайного обожания. Опять-таки по-раз-
ному объясняют поведение Лира в этот момент. Гово-
рят, что он все отлично понимает, что он, человек про-
ницательный, знает своих дочерей, видит их беспардон-
ную фальшь, но это не влияет на его заветный замысел,
на его решение довести до конца «тайный» «экспери-
мент». Однако сам Лир утверждает другое. Он говорит,
уже в ходе развернувшихся мрачных событий, что на-
конец «увидел их истинную сущность», раскусил их,
понял, что «это отъявленные обманщицы» (4, 4, перев.
Б. Пастернака). Лир доверился своим старшим дочерям.
Отелло доверился наглой клевете Яго, Лир — наглой
лести Гонерильи и Реганы. Доверчивый Отелло не по-
верил горячо любимой им, чистой сердцем и невинной
Дездемоне, доверчивый Лир не поверил горячо люби-
мой им, правдивой и обаятельной младшей дочери Кор-
делии. Ее искренность, испортившая торжественную
процедуру, вызвала взрыв ярости у величественного,
мудрого, щедрого и любящего Лира и его же решение
отречься «от близости, отеческих забот//И кровного
родства» с любимой дочерью, разорвать «связь с ней
навсегда» (1, 1). Гуманистический «эксперимент» Лира
терпит крах, служит толчком для разжигания эгоисти-
ческих вожделений, коварных и подлых страстей, источ-
ником нравственных и физических мучений добрых лю-
дей, источником страданий и гибели Корделии и самого
«экспериментатора». Приобщенность Лира к гуманисти-
ческим принципам несет на себе отчетливую печать его
прежнего положения, взрастившего безотчетное само-
обожание. Сформировавшийся в этом положении харак-
тер дает себя знать в беззаботной и самодовольной щед-
рости, лишенной всякого «такта действительности».
Характер этот сказывается в безумном, космически
мрачном, но, к счастью, немощном озлоблении, когда
Лир, потрясенный дочерней неблагодарностью, взывает
к стихиям:
...Ты, гром,
В лепешку сплюсни выпуклость вселенной
И в прах развей прообразы вещей
И семена людей неблагодарных!
42
(3,2)
Подобный скачок от широких щедрот к беспредель-
ной мстительной злобе обнажает гибельный эгоцент-
ризм. Его не мог без решительной встряски преодолеть
гуманистический индивидуализм Возрождения. Эгоцент-
ризм усиливает стенанья Лира в его знаменитом моно-
логе, в котором человек с ренессансных высот низво-
дится к их подножью, превращаясь из «венца вселен-
ной» в «голое двуногое животное» (3, 4).
Лир, со свойственной ему возрожденческой широтой
взгляда, в своей печальной судьбе видит далеко не
частный случай, но эгоцентрические шоры устремляют
его взгляд в одну точку, заставляя из личной трагедии
делать крайние выводы, а крайние выводы толкают его
к нелепым поступкам.
Когда в лютую непогоду Лир срывает с себя одеж-
ды, раздается трезвая ироническая реплика шута: «Пе-
рестань, дяденька. Не такая ночь, чтобы 'купаться. Те-
перь мало-мальский огонек какой-нибудь в степи — все
равно что искорка жизни в старческом сердце» (3, 1).
Горацио предлагал Гамлету не «рассматривать слиш-
ком пристально» мрачные стороны жизни. Совет шута
Лиру более трезвый и человечный. Его слова перекли-
каются с уже упоминавшейся злой иронической репли-
кой Эмилии, обращенной к Отелло — «правдолюбцу».
В «Короле Лире» нравственное потрясение героя
соединяется с коренной переменой его социального по-
ложения. Гамлет едва избежал казни, подготовленной
коварным умыслом его дяди, но до конца дней он оста-
ется «принцем Датским». Отелло получает отставку:
в тяжкий час нависшей над головой личной беды его
смещают с поста правителя Кипра, но он еще не утра-
чивает общественных привилегий. Лир, хотя он и мнит
себя королем, переходит, по словам Добролюбова,
«в простое звание обыкновенного человека»1. В этом
же звании оказываются граф Глостер и его сын Эдгар.
Перемещение в сословие обездоленных намечает новую
точку зрения. У Гамлета и Отелло не было случая
взглянуть на свое положение снизу вверх, оценить внут-
ренний кризис и всю обстановку с принципиально иных
позиций, применить горькие мысли не только к отвле-
ченному идеалу, но и к жизни, и сделать это в поло-
жении людей, лишенных всяких привилегий, однако
1 Добролюбовы. А. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 5. М.— Л.,
1962, с. 52.
43
не утративших личного и гражданского достоинства.
Лиру, Глостеру, Эдгару такой случай представился.
Они пользуются им по-разному, но вынуждены внести
решительные поправки в свой образ мыслей. Шекспи-
ровский герой делает движение от «верхов» к «низам»,
становится в ряд обездоленных и вольно или невольно,
в разной мере и степени, перенимает дотоле скрытую
от него оздоровляющую точку зрения. В «Короле Лире»,
в идейной, нравственной и психологической атмосфере
трагедии возникает нечто новое — этого не было ни
в «Гамлете», ни в «Отелло».
Эдгар — лицо эпизодическое, но не стороннее в сю-
жете и важное для понимания идейного смысла траге-
дии. Молодой человек, как и Гамлет, столкнувшийся
с коварством, несправедливостью, жестокостью, Эдгар
не бьется в лихорадке нравственных сомнений, не при-
бегает к фразистым нравоучениям, не пытается смирен-
ным бунтом смягчить самодовольное своенравие, не
слышно от него лировских стенаний и злобно-немощных
проклятий. Правда, неизвестны первые переживания,
сопровождавшие ломку его жизни, его вступление на
бедственный путь. Вряд ли он смиряется хотя бы вре-
менно, вряд ли находит утешение в своем вынужден-
ном и жалком отшельничестве, скрываясь под маской
Тома из Бедлама — сумасшедшего нищего. Напротив,
он собран, сосредоточенно уравновешен, готов к дейст-
вию и начинает действовать, как только позволяют об-
стоятельства. Эдгар способствует духовному прозрению
Глостера, судьба которого служит параллелью зло-
счастной судьбе Лира. Нагляден и символически зна-
чителен эксперимент Эдгара, который выводит из горя-
чечного состояния- своего отца, решившего в крайней
степени отчаяния броситься в пропасть. Эдгар застав-
ляет его «прыгать» с головокружительной высоты... на
ровном месте.
«Ты совершенно прав», — говорит Глостер Эдгару,
когда он словом и примером разъясняет необходимость
преодолеть «дурные мысли» и «всегда быть наготове»,
«чтобы восторжествовала правда» (5, 2).
Среди обстоятельств, позволивших Эдгару выстоять
в бурю, обрести высокую цель и понять ее практиче-
ский смысл, сохранить единство мысли и воли, выделя-
ется— как основное — его способность сделать реши-
тельное движение в мир новых чувств и представлений,
чуждых эгоцентрическому индивидуализму.
44
Я — бедный человек,
Ударами судьбы и личным горем
Наученный сочувствовать другим.
(4. 6)
Смысл этой выстраданной реплики обретает в кон-
тексте трагедии глубокую определенность.
Александр Блок, разбирая «Короля Лира», советовал
обратить внимание «на то, как сухо и горько в серд-
цах у всех действующих лиц»1. «Даже самые слова —
зрелы, сухи, горьки, и нет им никакой замены». Речи и
поведение действующих лиц сами собой указывают на
«опаленность их крыльев»2.
Исчезла в трагедии восторженность, намека нет на
возвышенную ренессансную любовь. Пропала кипящая
жизнерадостность, никто не осмеливается беспечно сме-
яться над превратностями судьбы. Однако устами Эдга-
ра говорит не пуританская строгость, в его беспощад-
ных самохарактеристиках — развенчание иллюзий, трез-
вая оценка чувственной природы человека, чуждая
монашеской и пуританской неприязни. Он бросает зрелый
взгляд на привилегированную среду, на условия жизни,
питающие анархический индивидуализм, разжигающие
эгоистические страсти. Примечательно, что сухость и
горечь — печать жестокого времени — не истребляет в
Эдгаре чувства справедливости и доброты. «Это му-
жественное, честное и светлое сердце»3, на отзывчи-
вость которого действительно можно положиться.
В «Короле Лире» не осталось и следа от былой жиз-
нерадостности, но крепнет и утверждается оптимизм
зрелой мысли, которая ценит энергичную силу жизни и
энергичное действие в ее защиту. В «Короле Лире» нет
беззаботной шутки, но есть здравомыслящий шут, не
утративший веселости, наделенный глубоким и разно-
сторонним чувством иронии, поддерживающим трезвую
бодрость духа. В «Короле Лире» целый ряд персонажей
поднимается против оголтелых хищников, потерявших
все и всякие нормы личной и гражданской морали.
К ним относится слуга, обнажающий меч «за правый
гнев» (3, 7). Его поддерживают другие слуги:
Да, ежели такого человека
Минует кара, — нет ни в чем греха.
1 Блок Л. Собр. соч., т. VI. М. — Л., Гослитиздат, 1962, с. 403.
2 Т а м же, с. 406.
3 Т а м ж е, с. 404.
45
В «Короле Лире» вера в новую человечность обрета-
ет более реальную и широкую почву и в представлениях
о человечности сказывается суровый жизненный опыт
и точка зрения обездоленных.
Прослеживая внутренние причины кризиса гуманиз-
ма, Шекспир отмечал разнородные связи новых пред-
ставлений со старыми, показывая, как инерция патри-
архальных воззрений у гуманистов сковывала и ослаб-
ляла их, делала легко уязвимыми. В то же время его
внимание привлекали современники, с предельной и рас-
четливой дерзновенностью рвавшие духовные связи
с предшествовавшей эпохой.
«...Надменность и возвышение интеллекта, — писал
Луначарский, — это тема, которая не только занимает,
но и мучает Шекспира. Он проникнут огромным уваже-
нием к интеллекту. Он отнюдь не презирает, он отнюдь
не ненавидит даже тех «рыцарей интеллекта», которые
наиболее циничны. Он понимает их особую свободу, их
хищническую грацию, их несравнимое человеческое до-
стоинство, заключающееся именно в том, что они прези-
рают всякие предрассудки»1.
Этот интерес Шекспира объясняет, почему вслед за
«Гамлетом», «Отелло» и, возможно, «Лиром» появляет-
ся «Макбет», трагедия, героем которой становится по-
добная личность. В других трагедиях она еще не вы-
двигалась в самый центр и не играла таким богатст-
вом красок.
Макбет, охваченный честолюбивой страстью, спешит
освободить свой интеллект от нравственных принципов
и бытовых правил, считая их помехой, пустыми пред-
рассудками. В нем бурно кипит энергия, неукротимая
инициатива не чувствует узды; он пришпоривает волю
и устремляется к цели, преодолевая навязчивые сомне-
ния, не страшась риска, и крушит препятствия, не раз-
бираясь в средствах. Как ни свободен он от предрас-
судков, в нем гораздо активнее, чем в Ричарде III, «жи-
вет человеческая натура, которая не может, согласно
тысячелетней традиции, не попрекать, хотя бы во сне,
бесчеловечной жестокостью»2, его мучают угрызения
совести, стращает кровавая тень убитого им Банко — со-
ратника и друга. Двигаясь вперед и не рассчитывая на
1 Луначарский А. В. Статьи о литературе. М., Гослит-
издат, 1957, с. 511.
2 Там же, с. 518.
46
отступление, Макбет заглушает враждебный ему голос,
чтобы не ослабить волю.
Возможность перерождения нравственного сознания,
потенция превращения героя в антигероя обозначена в
«Гамлете»; отчетливее она в «Отелло».
«Сейчас я жаркой крови испить бы мог и совершить
такое, что день бы дрогнул» (3, 2), — у Гамлета это
проявление демонической страсти, готовность к преступ-
лению— минутный порыв, невольная реакция на мер-
зостные поступки и злодеяния, тут же нравственным
сознанием подавляется («пусть//Душа Нерона в эту
грудь не внидет» — там же).
«Крови,//Крови, крови!» (3, 3)—кричит Отелло
в момент помрачающей сознание душевной боли, когда
его одолевает мысль': «Высокое неприложимо к жизни.
Все благородное обречено». «Доблестный и благород-
ный Отелло» превращается в «кровавого мавра». Это
превращение — мгновение в его жизни, следствие аф-
фекта, ужасающего и настораживающего, достаточно-
го для того, чтобы явились трагические и зловещие
последствия, но еще не способного лишить протагони-
ста героического ореола.
Сам Отелло в обращении к Яго, на примере част-
ного случая, определяет психологические условия же-
сткой последовательности развития безнравственного
сознания, логику поведения человека, действующего
применительно к подлости, против высокого и благород-
ного.
А если ты порочишь
Ее безвинно, мучая меня,
То больше не молись. Греши без страха
И не раскаивайся. Громозди
Злодейство на злодейство. Перед этим
Должно все побледнеть...
(3,3)
Этой логике перерождающегося нравственного со-
знания следует Макбет. В его душе прямой отклик на-
ходит зловещий и коварный призыв призрака «окро-
вавленного младенца», являющегося перед героем по
велению демонических сил: «Лей кровь и попирай люд-
ской закон» (4, 1). Призыв выражает ту же суть, что
и слова Отелло, и предполагает те же следствия: «Пе-
ред этим должно все побледнеть».
Повторение, «перекличка», сопоставление и развитие
мотивов в произведениях Шекспира указывают на раз-
47
вивающуюся целостность его творчества, охватывающе-
го характерные явления времени многосторонне и в жиз-
ненной полноте.
Макбет действует в иных условиях, чем Гамлет и
Отелло, но не одни внешние условия определяют траги-
ческую эволюцию его характера: превращение доблест-
ной и прославленной личности в личность преступную
и ненавистную. Внешние условия провоцируют често-
любие Макбета, способствуют его нравственному пере-
рождению и временному торжеству, однако в развитии
этого трагического характера весьма существенным ока-
зывается его предуготовленность к такой эволюции, что
и привлекает особое внимание Шекспира.
Доблестный Макбет, человек действия, подготовлен
к аморальному поведению, и его сокровенные желания
только и ждут внешнего воздействия, чтобы стать осо-
знанной потребностью. «Смутное чувство», которым му-
чается Гамлет, нуждается в прояснении и проясняется
явлением духа отца. Ведьмы в «Макбете» и дух отца
в «Гамлете» играют не формальную, как полагал Ге-
гель, а содержательную роль1. Шекспировское время
держалось веры в сверхъестественные начала — доброе
и злое. Нет оснований утверждать, что Шекспир был
свободен от этой веры. Ведьмы превращают сокровен-
ные и пассивные желания Макбета в осознанные, дей-
ственные, целеустремленные. Их участие в душевном
переломе Макбета накладывает мрачную печать на его
честолюбивые желания, характеризуя их как силу тем-
ную и злую — демоническую, гибельную для нравствен-
ного сознания и человечности. Сомнения и колебания,
которые испытывает при этом превращении Макбет,
1 Вопрос о значении сверхъестественных сил в шекспировской
драме, в развитии ее сюжетов и характеров, в концепции трагиче-
ского продолжает занимать шекспироведов, особенно в связи с про-
блемой реализма творчества Шекспира. Влиятельной была точка
зрения Гегеля, который отводил сверхъестественным силам функцио-
нальную роль в шекспировской трагедии, видел в них средство ху-
дожественной объективации, предостерегающей художественное изо-
бражение от «безумных вымыслов» и «произвольных случайностей».
Ведьмы в «Макбете» «кажутся, — писал он, — внешними силами,
предсказывающими Макбету его судьбу. Однако возвещаемое ими
является его собственным сокровенным желанием, доходящим до
его сознания и открывающимся ему в этом лишь внешнем предска-
зании. Еще прекраснее и глубже явление духа отца в «Гамлете»,
применяемое Шекспиром лишь как объективная форма внутренних
предчувствий самого Гамлета» (Гегель. Соч., т. XII. М., 1938,
с. 235).
48
касаются нравственной сферы, вызваны сопротивлени-
ем долга и совести бесчеловечным намерениям, но так-
же сферы практически-деловой, сознанием сложности
и рискованности предстоящего деяния: «А вдруг нам не
удастся?» (1, 7).
Конфликт нравственных требований и честолюбивых
вожделений в «Макбете» исторически содержателен и
выражен в принципах и средствами ренессансного реа-
лизма. Сознание Макбета, эволюция характера героя
отражают типические черты в движении общественного
сознания и поведения в условиях перехода от средне-
вековья к новому времени. Отражают ломку вековых
нравственных норм, эпического единства долга, совести
и страсти под воздействием развития буржуазных отно-
шений. Новые общественные условия, содействуя осво-
бождению личности от предрассудков, нравственных
догм и схем, возбуждая личную инициативу и энергию,
вместе с тем разжигали индивидуалистические устрем-
ления, дух и практику авантюризма, нравственный
нигилизм и цинизм. В «Макбете» эта эволюция общест-
венного сознания и практики представлена в их кон-
кретном и универсальном значении, на материале исто-
рической хроники без конкретного социального анали-
за. В последней шекспировской трагедии — «Тимон
Афинский» — социальная сущность трагедии нравствен-
ного сознания выявлена как ни в какой другой его пье-
се. «Режьте глотки без разбору!» — кричит у Шекспира
Тимон Афинский вслед за Отелло и Макбетом, в отли-
чие от них связывая свой зловещий и мизантропический
призыв с социальным мотивом: «Вот золото еще» —
«режьте глотки без разбору» (4, 3).
Что для Макбета движущийся Бирнамский лес —
бредни патриархального ума, не более. В этом фанта-
стическом образе для него еще меньше смысла, чем
в ощутимом понятии совести. И всё же Бирнамский лес
двинулся, обернувшись коллективным умом и волей.
И Макбет пал в неравной схватке.
Чрезмерный риск честолюбивого и надменного ума,
приводящий честолюбца к гибели, не волнует в «Мак-
бете» Шекспира, хотя он над этим задумывается. Его
волнует судьба общества, заботит мера человечности
в нем, которую умаляют хищники, взявшие на вооруже-
ние освобожденный от предрассудков разум. Для Шек-
спира было ясно, что общество не может существовать
без прочных внутренних связей, выраженных в нравст-
49
венных понятиях и чувствах, в том числе и традицион-
ных, развивающихся и совершенствующихся. Он видел,
как гуманистический принцип—«человек — мера всех ве-
щей» — превращался в личный практический девиз «все
дозволено». Как хищник поедал хищника, обнаруживая
связь свободной буржуазной инициативы с грубым фео-
дальным произволом. И он заклеймил этот девиз и эту
порочную связь К
Трагедии Шекспира доносят до нас в свежей непо-
средственности внутреннюю жизнь позднего английско-
го Возрождения с ее хаотической пестротой, противо-
речиями и контрастами, драматической борьбой, рез-
кими сдвигами, в ее реальном движении. Сталкиваются
характеры, кипят страсти, сшибаются принципы.
Сквозь это кипение и борьбу проступает историче-
ская почва и социальные истоки психологических, идей-
ных и нравственных конфликтов. Встает жестокий век
самоутверждения абсолютистско-буржуазного общест-
ва. И слышится уверенный в своей правоте голос вели-
кого гуманиста.
ШЕКСПИРОВСКОЕ ПРИСТРАСТИЕ К МУЗЫКЕ
Шекспир пристрастен к музыке. Она настойчиво
звучит в его пьесах, и у него говорят о ней много и без
принуждения, как о чем-то близком и милом сердцу.
«Среди тридцати семи пьес «шекспировского канона»
лишь в пяти нет речи о музыке»2, — отмечает извест-
ный советский музыковед И. И. Соллертинский, отмеча-
ет как факт, заслуживающий внимания.
Шекспировский зритель любил музыку, требовал ее
в спектакле, и рискованно было не откликнуться на его
настоятельное требование. Однако склонность Шекспи-
ра к музыке нельзя объяснить простой данью времени
и театральным вкусам. «Ни один писатель той эпохи не
обращался в своих произведениях так часто к музыке,
как Шекспир»3.
Комментаторы подсчитали: «В пьесах, поэмах и со-
нетах Шекспира слова «музыка», «музыкальный» и «му-
1 «Шекспир умел оценить не только феодальную несвободу, но
также и границы буржуазной свободы». — Берковский Н. Я.
Статьи о литературе. М. — Л., 1962, с. 76.
2 Соллертинский И. И. Шекспир и мировая музыка.—
Сб. «Шекспир». Л.—М., Искусство, 1933, с. 97.
3 «Shakespeare's England», vol. II, p. 32.
50
зыкант» встречаются в ста семидесяти случаях, а слово
«петь» и производные от него — двести сорок семь раз;
в тридцати или сорока случаях заходит речь о музы-
кальных инструментах»1. Сводка сама по себе любо-
пытна, но безгласна — она ничего не может сказать по
существу музыкального интереса Шекспира. О соба-
ках он говорит не меньше, а о спорте и спортивных
играх еще того больше, как можно убедиться, посмотрев
сравнительную таблицу в книге Каролины Сперджен.
Напрасно искать прямую связь между степенью ин-
тереса Шекспира к музыке и его поразительным на нее
влиянием. На это влияние указывают не только много-
численные свидетельства: на шекспировские темы и сю-
жеты написаны сотни музыкальных произведений раз-
нообразных жанров — оперы, балеты, симфонии, увер-
тюры— десятки опер и десятки симфоний. Едва ли кто
из великих композиторов, прокладывавших пути миро-
вой музыки, относился к Шекспиру безучастно. Мас-
штаб и силу его влияния, казалось бы, легче всего объ-
яснить, как это нередко делают, исключительной музы-
кальной одаренностью Шекспира как творческой лично-
сти и органической музыкальностью его драматургии.
Если даже считать эти достоинства бесспорными, все же
есть немало причин сомневаться в том, что именно они
были основанием, вызвавшим особое пристрастие музы-
кантов к великому драматургу. Композиторов привле-
кало не в равной мере все творчество Шекспира, а по
преимуществу его трагедии и наиболее примечательные
из созданных им характеров. Не вообще комедии,
а Фальстаф был притягательным для композиторов.
Титанические масштабы и мощь творчества, значи-
тельность конфликтов и характеров, отражающих пе-
реломную эпоху, глубина их раскрытия, поэтичность
образов и атмосферы, гуманистический пафос — вот что
заставляет звучать имя Шекспира век за веком и в ми-
ровой литературе и в музыке. В этом влиянии не могли
быть нейтральны направленность музыкального инте-
реса Шекспира и пронизывающее его творчество чув-
ство гармонии.
Шекспир и музыка — музыка в собственном смысле
слова — поле деятельности музыковеда. Однако здесь
есть вопросы, не ограниченные только профессиональ-
ной сферой. Шекспир и музыка, или Пушкин и музыка,
3 «Shakespeare's England», vol. II, p. 22.
51
или Блок и музыка, — в этих и подобных темах есть
не только профессиональная — литературная или му-
зыкальная, но и более широкая основа для наблюде-
ний.
Через музыку и музыкальную тему открывается еще
один путь в шекспировский «драматический космос»
(Томас Манн).
Музыка включается в драматическую концепцию
Шекспира и в замыслы его пьес, вносит заметные от-
тенки в их поэтическую атмосферу, используется им для
решения идейно-эстетических задач.
Язык музыки не соперничает в пьесах с речью персо-
нажей, но дополняет ее и порой выражает нечто, о чем
молчит слово, то ли не решаясь досказать все до кон-
ца, то ли не чувствуя в себе необходимой силы и пола-
гаясь более на непосредственность музыкального выра-
жения. Эти случаи представляют о'собый интерес. О них
и пойдет речь. Ничего не будет сказано о многочислен-
ных музыкальных реалиях и том музыкальном сопро-
вождении, которое предваряется ремаркой: «Фанфары.
Входят с трубами и барабанами»; «Похоронный марш.
Вносят на парадном траурном ложе тело короля Ген-
риха V» — и т. п. И о тех разговорах на музыкальные
темы, которых немало в пьесах Шекспира.
Музыка как элемент самой драматургии — подлинно
ренессансная ее черта. Драма эпохи Возрождения — все
еще театр, а в стихию театра входит музыка. В театре
Возрождения музыка — организующая основа всего хо-
да представления: она управляет не только речью акте-
ров, но и их движением, их игрой. Шекспир перенял
и развил это свойство ренессансной драмы, и вот поче-
му прежде всего возникает ощущение органической му-
зыкальности его драматургии.
Но у Шекспира музыка становится и чем-то внеш-
ним по отношению к структуре драмы. Музыка как ил-
люстрирующий элемент и разговоры о музыке — это
уже свидетельство того, что конец ренессансной драма-
тургии наступил.
Разносторонняя увлеченность Шекспира музыкой
связана с характером его мироощущения и творческого
опыта, с его натурфилософскими представлениями и гу-
манистическим убеждением. Музыка как повторяющий-
ся структурный элемент в его пьесах выражает эволю-
цию его мысли, перемены ее состояний (однако не ее
сути), движение ее во времени.
52
Предсмертный монолог Ричарда II в одноименной
хронике прерывается музыкой.
Она возникает вдруг по велению драматурга.
Музыка прерывает Ричарда на словах, которыми он
подводит итог своим философским раздумьям. Он гово-
рит о трагическом состоянии человека, всякого челове-
ка, обреченного, по его мнению, испытывать вечную
неудовлетворенность. Страсти владеют человеком, он
невольно вовлекается в их игру, теряет равновесие и
бессилен внести в их среду разумный строй и порядок.
Человека, его внутренний мир Ричард уподобляет все-
ленной, а то и другое тюремной камере.
...Но кем бы я ни стал, —
И всякий, если только человек он,
Ничем не будет никогда доволен
И обретет покой, лишь став ничем.
(5,5)
Горестные размышления Ричарда исполнены муже-
ства и самообличения. Плод сокрушительных потрясе-
ний и тягостных переживаний, они подводят к бесспор-
ной мысли: только мертвый не знает желаний и бо-
рений, только мертвому — вечный покой. Но в тех же
размышлениях сквозит попытка самооправдания путем
мрачного философского аргумента: всюду хаос, в боре-
ниях нет высокого смысла, и человек — неизбежная
игрушка страстей.
Вот эта мысль и обрывается музыкой.
В ней слышен голос самого драматурга, решительно
звучит его полемическое слово. Возникает необычный
диалог. В ответ на музыкальную фразу раздается иро-
ническое:
Что? Музыка? Ха-ха!..
(5, 5)
Но в этой иронии больше горечи, чем злорадства:
...Держите строй:
Ведь музыка нестройная ужасна!
Не так ли с музыкою душ людских?
Я здесь улавливаю чутким ухом
Фальшь инструментов, нарушенье строя,
А нарушенье строя в государстве
Расслышать вовремя я не сумел.
Я долго время проводил без пользы,
Зато и время провело меня.
(5,5)
53
Король Ричард оказался неумелым и своенравным
дирижером, и малый и большой оркестр — собственную
душу и государство — он привел в расстройство. Сосре-
доточившись на своей персоне, он дал волю прихоти,
капризной страсти, пренебрег гармонией, и музыка на-
поминает ему об этом. Он отказывается от нее, пере-
живает ее с обостренным чувством, с сознанием собст-
венного безрассудства, приведшего его к безысходному
состоянию.
Не надо больше музыки. Устал я.
Хоть, говорят, безумных ею лечат, —
Боюсь, я от нее сойду с ума.
Вдруг зазвучавшая музыка многое проясняет в ха-
рактере и судьбе героя. Его способность в этот траги-
ческий для него момент отозваться на нее сильным
внутренним движением вызывает к нему известное со-
чувствие.
И все ж, да будет мне ее пославший
Благословен. Ведь это — знак любви,
А к Ричарду любовь — такая радость,
Такая ценность в этом мире злом.
Вслед за этими словами появляется конюх Ричарда,
музыка подготовляет его появление, помогает понять его
состояние, не высказанные им чувства на последнем
свидании с королем.
Зачем он пришел?
«В Йорк я еду», — объясняет конюх. Но прежде чем
оставить столицу, он хотел бы повидать своего госпо-
дина.
Оба тронуты встречей. Они говорят о лошадях. Вспо-
минают Варвара, чалого, любимца короля. Теперь на
нем ездит узурпатор Болинброк. Ричард выспрашивает
об отнятой лошади, скрывая за ревностью ссаженного
всадника сокрушения низложенного монарха. Конюх,
в свою очередь, сожалеет о том, что жеребец, которого
он берег и холил, теперь попал в другие руки.
Тюремщик прерывает их свидание, приказывая ко-
нюху удалиться. С порога конюх замечает:
Молчит язык о том, что сердце говорит.
(3,4)
Он, оказывается, и не высказал того, с чем прихо-
дил. Не успел, а главное, не мог. Народ, в известном
смысле, безмолвствует.
Что осталось невысказанным?
54
Корона, как и конь, не в тех руках? Нет порядка?
Быть может, конюх не сумел подыскать слова и выра-
зить свое сочувствие Ричарду? Оно, однако, видно и
без слов. Точнее, заметна тревога, с какой конюх ожи-
дает будущее: не принесут ли перемены новых смут
и горестей?
Музыка своей особой тканью облекает весь эпизод,
и ее значение выходит за его рамки. Она будит вообра-
жение и заставляет мысль по-новому охватить идею
хроники, представить себе характер и судьбу Ричарда,
отношение народа и самого автора к изображаемым со-
бытиям. Музыка в хронике «Ричарда II» и в некоторых
других пьесах Шекспира непосредственно доносит его
голос, проникнутый ясным и сильным чувством.
Музыка столь глубокого смысла и значения звучит
в «Ричарде И» лишь однажды, так же как и в «Вене-
цианском купце», в «Антонии и Клеопатре» и «Генри-
хе VIII». Шекспир не делает этот прием навязчивым, не
повторяет его шаблонно, но, раз испробовав его, воз-
вращается к нему снова и снова 1.
1 Когда именно был впервые применен этот прием, — сказать
так же трудно, как и ответить, к примеру, на вопрос, какая из
пьес — «Ричард II» или «Венецианский купец» — появилась раньше.
И все же если проследить эволюцию этого приема и дать ей обо-
снованное толкование, то, как знать, не появятся ли новые веские
аргументы в пользу той или иной версии при определении хроно-
логии создания пьес или авторской принадлежности, скажем, хро-
ники «Генриха VIII».
Музыкальное сопровождение в «Ричарде II» может быть осмыс-
лено более конкретно не до, а после того как в «Венецианском
купце» прозвучит «музыка сфер» — свидетельство гармонии, господ-
ствующей во вселенной. С гармонией и музыкой связаны у Шекспи-
ра представления о нравственности и красоте, с нею соединяются
любовь и человечность.
Тот, у кого нет музыки в душе,
Кого не тронут сладкие созвучья,
Способен на грабеж, измену, хитрость;
Темны, как ночь, души его движенья
И чувства все угрюмы, как Эреб:
Не верь такому.
(«Венецианский купец», 5, 1)
Если бы, предположим, эти слова, сопровождая музыку, про-
звучали от автора в «Ричарде II», в сцене пятой последнего акта,
они придали бы всему музыкальному эпизоду привкус риторики.
«Музыка многомысленна» (Луначарский), однако в переживаниях,
вызванных ею в Ричарде в последний час его жизни, исполненных
горечи от непоправимого, отражается и тот непреклонный смысл,
который высказан в приведенном отрывке из монолога Лоренцо.
55
В пятом акте «Венецианского купца», как и в «Ри-
чарде II», предусмотренная развитием событий и по ве-
лению действующих лиц, раздается стройная музыка.
Она звучит в гуманистической утопии Шекспира, в Бель-
монте, в момент торжества его обитателей-единомыш-
ленников над бесчеловечностью, корыстью и жесто-
костью, над миром хищников. «Звук гармонии сладчай-
ший» (5, 1), который слышат Лоренцо и Джессика,
а потом Порция и Нерисса, сопровождая гармоническую
радость и светлую торжественность момента, делает его
более ощутимым, как бы осязаемым, подтверждает ре-
альность, земную достижимость гуманистического идеа-
ла, служит объективным его обоснованием. В ночной
тиши беседуя со своей возлюбленной, Джессикой, Ло-
ренцо говорит ей о волшебной силе музыки, способной
смирять дикие силы, вносить в мрачный хаос строй и
порядок, объясняет природу этого волшебства:
...Взгляни, как небосвод
Весь выложен кружками золотыми;
И самый малый, если посмотреть,
Поет в своем движенье, точно ангел,
И вторит юнооким херувимам.
Гармония подобная живет
В бессмертных душах; но пока она
Земною, грязной оболочкой праха
Прикрыта грубо, мы ее не слышим.
Джессика
От сладкой музыки всегда мне грустно.
Лоренцо
Причина та, что слушает душа.
№ 1)
Джессике, как видно, внове слушать философские
разъяснения музыкальных основ, но недосуг вдаваться
в подробности. И Лоренцо не затрудняет себя развер-
нутой характеристикой и аргументами. Обстоятельства
места и времени, а возможно, и степень осведомленно-
сти не побуждают его к этому. Но то, что ему нужно
было, он сказал и цели своей достиг. Меньше всего он
хотел внушить Джессике (и театральной аудитории)
идею божественного происхождения музыки и преподать
религиозное наставление. Эти общие мысли и картин-
ные детали повторяют давнее положение и доводы, ко-
торые были известны в кругах гуманистов в разных ва-
риантах и толкованиях. Высказывания Лоренцо дают
56
повод вспомнить музыкальную теорию древнегреческо-
го философа Пифагора1 и неоплатоников, ее последо-
вателей в средние века, имя итальянского писателя-гу-
маниста Марсилио Фичино, который трактовал ее в духе
представлений христианской религии о потустороннем
мире и бессмертии души.
Христианский Олимп признает и поощряет один вид
искусства: ангелы охотно поют и трубят в трубы. Их
сладкогласное пение услаждает слух небожителей. Зем-
ная музыка, по средневековым представлениям, — намек
на музыку небесную, недоступную телесному уху, ее
будто бы чувствует и на нее откликается «бессмертная
душа».
Не об этом думает Лоренцо, когда на реплику Джес-
сики: «От сладкой музыки всегда мне грустно», отве-
чает: «Причина та, что слушает душа».
Под покровом средневековых представлений и алле-
горий у Шекспира выступают земные чувства, не ослаб-
ленные религиозно-мистическим томлением.
Обращаясь к ходячим современным или к старым
распространенным представлениям и образам, прибе-
гая к ним часто, используя их широко, Шекспир обычно
подчинял их своим замыслам. Так, очень важная для
его философских, социальных и идейно-эстетических
воззрений мысль о строгом порядке во вселенной, со-
размерности ее явлений, о градации их упорядоченности
была взята им в готовом виде, но раскрыта по-своему,
без религиозной оснащенности и окраски, наиболее пол-
1 У Пифагора «с особенной яркостью выразилась идея о су-
ществовании в надлунном мире глубокого и великого порядка, ко-
торый искажается в мире подлунном. И порядок этот Пифагор
старается свести к музыкальной гармонии» (Луначарский А. В.
В мире музыки. Статьи и речи. М., Советский композитор, 1958,
с. 138). По утверждению выдающегося представителя французского
просвещения Ж.-А. Кондорсэ, система мира, с которой Пифагор
ознакомил греков, вызвала большой интерес именно во времена
Шекспира, «вновь появилась в конце XVI в.» (Кондорсэ Ж.-А.
Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М.,
Соцэкгиз, 1936, с. 56). У Монтеня, великого современника Шекспи-
ра, так сказано относительно того, что «философы считают музы-
кой небес»: «а именно: будто бы небесные сферы, твердые и глад-
кие, вращаясь, трутся одна о другую, что неизбежно порождает
чудные, исполненные дивной гармонии звуки, следуя ритму и дви-
жениям которых перемещаются и изменяют свое положение на не-
босводе хороводы светил...» И далее, с очевидной иронией: «...уши
земных существ... по причине непрерывного этого звучания не в со-
стоянии уловить ее...» (М о н т е и ь. Опыты, кн. 1, гл. XXIII. Изд-во
АН СССР, 1954, с. 139).
57
но — в развернутом поэтическом образе — в речи Улис-
са («Троил и Крессида», 1, 3):
Везде свой строй — и на земле, внизу,
И в небесах, среди планет горящих, —
Законы первородства всюду есть,
Есть первенство во всем, есть соразмерность.
(Перев. Н. Козлова)
Слова Улисса вызывают в памяти многие голоса, и
голос дантовской Беатриче, по-иному, однако, устрем-
ляющей взор «к вечным высотам»:
...Все в мире неизменный
Связует строй; своим обличьем он
Подобье бога придает вселенной.
Для высших тварей в нем отображен
След вечной Силы, крайней той вершины,
Которой служит сказанный Закон.
И этот строй объемлет, всеединый,
Все естества...
(Данте. Божественная комедия. Рай.
Песнь первая. Перев. М. Лозинского)
В устах Лоренцо философское описание растворяет-
ся в поэтическом образе, исполненном радостной, уми-
ротворенно-восторженной эмоции. Смысл его поясне-
ний — подтвердить объективные основания человечно-
сти указанием на то согласие и упорядоченность сил,
которые действуют в космосе, в природе и человеке.
Хаосу противопоставляется порядок, гармоническая сла-
женность, ритмическая стройность движения, передавае-
мая музыкой.
Заметь: степные дикие стада
Иль необъезженных коней табун
Безумно скачут, и ревут, и ржут,
Когда в них кровь горячая играет;
Но стоит им случайно звук трубы
Или иную музыку услышать,
Как тотчас же они насторожатся;
Их дикий взор становится спокойней
Под кроткой властью музыки. Поэты
Нам говорят, что музыкой Орфей
Деревья, скалы, реки чаровал.
Все, что бесчувственно, сурово, бурно, —
Всегда, на миг хоть, музыка смягчает...
(5,5)
В пояснениях Лоренцо, сопровождаемых стройным
звучанием музыки, сказывается мироощущение самого
Шекспира, его убежденность в наличии таких сил в при-
роде и человеке, которые способны укротить дикий хаос,
58
обуздать звериные страсти. То, что говорит Лоренцо,
и то, как он говорит и при каких обстоятельствах,—
все призвано подкрепить веру в идеал гармонического
существования.
Вдумываясь в сущность музыки, А. В. Луначарский
находил в ней два взаимосвязанных начала: стремле-
ние к возбуждению противоречий и к гармоническому
разрешению их. «Обоими этими элементами и их свое-
образной сцепкой, — писал он в статье «Музыка и рево-
люция», — музыка с необыкновенной силой и чистотой
отражает некоторые важнейшие законы и космоса, и
человеческого общества, и человеческой натуры» К
«Музыка имеет тенденцию к разрешению противоре-
чий, но ее жизнь заключается в возбуждении этих про-
тиворечий. Всякое музыкальное произведение есть по-
становка этой проблемы. С точки зрения чисто музы-
кальной, оно есть логически вытекающий друг из дру-
га ряд звуковых сочетаний, ставящих чисто музыкаль-
ные неравновесия и разрешающих их. Но естественно,
что в постановке этих неравновесий, порой гигантских,
и в разрешении которых — порою сложном, порою бур-
ном,— музыка отражает подобные же явления вселен-
ной, как и подобные же явления социальной жизни и
личной жизни человека.
...Музыка как бы уясняет нам глубину нашей жизни
и самим разрешением поставленных ею противоречий
как бы вещает нам о предстоящих победах»2.
Музыка, о которой Лоренцо беседует с Джессикой,
не возбуждает противоречий, она возвещает гармонию
и возвращает к ней. Они слушают музыку в той стадии
развития темы, когда противоречия уже нашли разре-
шение в гармонии — и в личных их судьбах, и в жизни
всего Бельмонта. Музыка подтверждает победу, счастье
свободной любви и содружества свободных единомыш-
ленников, отстоявших себя и свое право на жизнь по
принципам гуманизма.
Чувство музыки и ее функция от пьесы к пьесе не
остаются неизменными, «музыкальная тема» в них не
только повертывается новыми гранями, но и эволюцио-
нирует.
Музыка подтверждает победу свободной любви и
1 Л у н а ч а р с к и й А. В. В мире музыки. — Статьи и речи,
с. 124.
2 Там же, с. 125, 126.
59
гармонии чу&ств в последнем акте «Венецианского куп-
ца» и предвещает трагедию в четвертом акте «Юлия Це-
заря» и в четвертом же акте «Антония и Клеопатры».
Перед битвой у Филипп, решившей судьбу Марка
Брута и начатой им борьбы с цезаризмом, ему являет-
ся призрак Цезаря. По словам Брута, уже загнанного
врагом и обреченного, тень Цезаря возникала перед
ним дважды:
Средь мрака ночи, — в первый раз у Сард
И прошлой ночью в поле у Филипп.
(5, 5)
Мы же видим явление призрака один раз — в па-
латке Брута в лагере около Сард, куда он, недоволь-
ный произволом своего сподвижника Кассия, вызывает
его для объяснения. Напряженная беседа, чреватая рас-
колом в самый критический для них момент, заканчи-
вается примирением. Брут и Кассий пьют за дружбу и
обсуждают затруднения. Наконец Брут остается один
и просит слугу сыграть ему что-нибудь на лютне.'
У Брута все основания для душевного непокоя. На
ужасную смерть обрекла себя его жена Порция, про-
глотив горячие угли; среди многих павших сенаторов
пал и Цицерон, казненный «вне всякого закона» цеза-
рианцами; Кассия, ближайшего соратника и друга, при-
шлось осуждать за «разбой» и «лихоимство», за нару-
шение «правосудия», ради которого им был убит Юлий
Цезарь; «все жители вокруг, вплоть до Филипп», под-
чиняются с трудом, «по принуждению, раздражены по-
борами и данью»; «враг на подъеме, набирает силы»,
и каждый промах грозит гибелью (4, 3).
Все напасти Брут встречает стоически, являя пример
исключительной выдержки. Когда же, объясняя Кас-
сию минутную вспыльчивость, он признается, что «угне-
тен тяжкой скорбью», а Кассий готов попрекнуть его
забвением принципов им же утверждаемой философии
(«ты философию свою забыл, когда случайным бедам
поддаешься»), Брут отвечает: «Кто тверже в скорби»
(4, 3). Но оставшись один, он испытывает желание по-
слушать лютню, найти отклик своей непреклонной убеж-
денности в гармоничном строе музыкальных звуков. Он
будит слугу, тот с неохотой, лишь исполняя долг, на-
чинает было играть и петь — и вдруг засыпает.
Дремотный звук. Не ты ли, сон-убийца,
К нему жезлом свинцовым прикоснулся
И Музыку прервал. (4, 3)
60
Музыка дремотна и умолкает, отклика и поддержки
нет. Утрачена гармония, нет живого ее воплощения в са-
мом Бруте, а вокруг над угрозой хаоса возносится дух
цезаризма.
Глазам Брута чудится «страшное виденье», «входит
призрак Цезаря», вещая ему гибель в битве при Фи-
липпах. Призрак убитого Цезаря оказывается более
реальным, чем реальный Брут со своим утопическим за-
мыслом, возведенным на отвлеченных и догматичных
принципах его возвышенной философии. Вскоре он сам,
подчиняясь жестоким обстоятельствам, вынужден отсту-
пить от принципа. «Согласно философии своей», Брут
порицал Катона за самоубийство (5, 1), однако, за-
гнанный врагом, чтобы сохранить достоинство и честь,
он кончает жизнь, бросаясь на острие собственного меча.
Даже цезарианцы признают величие Брута и отдают
ему почести.
Он римлянин был самый благородный.
Прекрасна жизнь его, и все стихии
Так в нем соединились, что природа
Могла сказать: «Он человеком был!»
(5,5)
Антоний, один из главных триумвиров, заканчивает
свой монолог почти той же характеристикой: «This was
a man!» — «Это был человек!», — ее повторит Гамлет,
говоря оботце: «Не was a man!» — «Он был человек!»
Многозначительные выражения Шекспир использует в
разных ситуациях.
Горацио разовьет мысль Кассия относительно «фи-
лософии», которая не учитывает сложности мира и исто-
рических обстоятельств. Отелло, объясняя мотивы свое-
го поведения, скажет: «...ибо ничего не сделал я ради
ненависти, но сделал все ради чести», и почти повторит
слова Антония о мотивах поведения Брута:
Все заговорщики, кроме него,
Из зависти лишь Цезаря убили,
А он один — из честных побуждений,
Из ревности к общественному благу.
(5,5)
Ромен Роллан находил изумительным «музыкальный
эпизод» в четвертом акте «Антония и Клеопатры»:
«Вечером накануне большого сражения, которое
должно решить судьбу мира и дать власть над ним Ок-
тавиану, над лагерем Антония слышится в воздухе та-
инственная музыка, пение флейт и хор невидимо уда-
61
ляющегося шествия... Это шествие Геркулеса, это боги
Антония оставляют его, покидают его, покидают того,
кто обречен на смерть... Боги старого мира — «свобо-
да» и «гуманность»—: покидают лагерь Антония»1.
Музыка и пение слышатся из-под земли. Музыка ухо-
дит под землю, скажет потом Блок.
Геркулес покидает лагерь Антония, с удаляющимся
шествием удаляется и музыка, равновесие и гармония
исчезают. Та форма слитности душевных сил, граждан-
ских и личных устремлений, которая не ущемляет лич-
ное, лишилась в этом герое объективного основания.
В нем еще не иссякла совершенно сила обаяния, пи-
таемая свободным духом и щедрым искренним чувст-
вом. Однако индивидуализм Антония утратил под собой
почву и потерял чувство меры. Его свобода отдает свое-
волием и выливается в безрассудство. Победа Окта-
виана и жестокого порядка неизбежна. Удаляющаяся
музыка предвещает ее. Шекспир плохо переносит веяние
леденящей холодности, но не грешит против логики
фактов.
Геркулес покидает лагерь Антония, но не становит-
ся перебежчиком, как Энобарб. Сохраняющая равнове-
сие индивидуальная свобода, цельность и щедрость
чувств, которым покровительствовал Геркулес, не пе-
реходит в лагерь Октавиана — здесь для них нет при-
бежища. Им придется ждать лучших времен.
В пьесах «Венецианский купец», «Ричард II», «Анто-
ний и Клеопатра» — в каждой из них музыка звучит
однажды в особо патетическом эпизоде. Она возникает,
словно живое воплощение гармонии, звучит в ее под-
тверждение, рельефно обозначая торжество или времен-
ное поражение человечности, победу или кризис гума-
нистического идеала.
В «Буре» музыка звучит неоднократно и в сложном
звуковом комплексе. «Истинным ключом к пониманию
этой чудесной комедии, венца всех последних пьес
Шекспира и завершения в известном смысле всего его
творческого пути, является, пожалуй, не логическая,
а музыкальная ее интерпретация»2, — не без основания
писал А. Смирнов, ограничившись, к сожалению, этим
общим замечанием.
1 Роллан Ромен. Собр. соч. в 14-ти томах, т. 13. М., Гос-
литиздат, 1958, с. 219.
2 Смирнов А. Вильям Шекспир. — Шекспир. Собр. соч.,
т. 8, с. 545.
62
В «Буре», как и в других пьесах Шекспира, с музы-
кой сочетается представление о гармонии, красоте, че-
ловечности, гуманистическом идеале. Однако музыка
в этой фантазии — не только магический знак с их сто-
роны, чарующее свидетельство; музыка в «Буре» — дея-
тельная сила в драматической борьбе, она возникает и
звучит неоднократно, активно участвует в развитии
темы, связана не только с переломным моментом или
ее завершением.
В пьесах Шекспира повторяются устойчивые образ-
ные противопоставления, выражающие разную степень
и разлада, и слаженности общественных и душевных
сил. К таким настойчиво повторяющимся противопостав-
лениям относятся образы бури и музыки. По мнению
английского шекспиро'веда Дж. Уилсона Найта, они
«составляют ось шекспировского мира... все вращается
на противопоставлении: «буря» — «музыка»1.
В «Короле Лире» разгул природной стихии, ярост-
ная буря — «естественный», привычный народному пред-
ставлению символ социальных и психических потрясе-
ний и столь же «естественное» иносказание душев-
ного состояния героя, его безмерной смятенности.
Стремительно и бесповоротно, как от вихря, рушит-
ся в нем внутреннее равновесие, и все смешивается
до состояния безумия. Чувства кипят и мечутся в мрач-
ном душевном хаосе — горечь и боль обманутой до-
верчивости, гнев и ярость — на себя и на зло жизни,
его гнусных носителей и покровителей, жажда успо-
коения.
Буря в «Короле Лире» — наглядное выражение смя-
тенного состояния, которое пришлось испытать многим
гуманистам, когда их концепция человека, содержавшая
чрезмерный элемент наивной и самодовольной востор-
женности, потерпела крушение, обнаружив перед ли-
цом грубых фактов свою практическую несостоятель-
ность.
Буря в «Короле Лире» — грозное бедствие. Она обру-
шивается на героев, достойных лучшей участи, на са-
мых достойных из действующих лиц пьесы. Это не кара
за порок стяжательства или вероломства — они к нему
не причастны, но расплата за грех заблуждения. Му-
зыка призывается им на помощь, она заметное, нара-
1 Knight Wilson G. The Imperial Theme. L., Methuen, 1951,
p. 29.
63
стающее и все же робкое противодействие мрачному
хаосу.
Буря в мелодраматической фантазии, «венце всех
последних пьес Шекспира», — иносказание иного свой-
ства.
Разбушевавшиеся стихии в «Буре» не стихийны —
они целенаправленны. В «Буре» буря ревет и бушует
по воле и замыслу человека. Она крушит и потрясает
не затем, чтобы сокрушить и уничтожить, а для того,
чтобы люди избавились от сокрушений.
Ярость этой вселенской бури и силу ее драматиче-
ского изображения профессионально почувствовал Бер-
нард Шоу. «Диалог, — писал он, — между Гонзало и
этим «крикливым богохульником, этой злобной соба-
кой» боцманом и палату лордов превратил бы в ко-
рабль! Короткая, меньше чем в десять слов фраза:
«Ревущим волнам нет дела до королей!» (1, 1)—и мы
уже видим, как зеленые громады волн, покрытые белы-
ми барашками, из стороны в сторону швыряют коро-
левский скипетр и корону»1.
Просперо, герой «Бури», — гуманист, умудренный
жестоким опытом. Он не полагается на одну очисти-
тельную силу суровой встряски, резкой перемены в жиз-
ненной судьбе. Буря производит неравное действие на
потерпевших кораблекрушение. Она не сдерживает
в узурпаторе Антонио закоренелой страсти к политиче-
скому и нравственному преступлению. Просперо не от-
дает дело преобразования человека на произвол сти-
хии, как не подчиняет его и личному произволу. Он вы-
сок в помыслах, добр сердцем, но не сентиментален,
чужд наивной доверчивости и патриархального просто-
душия. Он действует решительно и последовательно.
Осуществляя свой замысел создания идеального обще-
ства и нового человека, он опирается на мощь обретен-
ных знаний и пресекает инерцию диких склонностей
и привычек. Вдохновенные и дерзкие мысли Просперо
устремлены к земному, реальному человеку, на которо-
го он смотрит непредубежденным взглядом. Он верит
в человека, зная его силу и его слабости.
Просперо сеет ветер, чтобы пожать бурю, и рассы-
пает музыку, чтобы утих ветер. Буря и музыка исходят
здесь из одного источника и направлены к одной цели.
1 «Б. Шоу о драме и театре». М., Иностранная литература,
1963, с. 423.
64
Ариэль, дух воздуха, повинуясь Просперо, ярит сти-
хии и музыкой смиряет их. Покой и просветление нисхо-
дят на юного Фердинанда:
...Вдруг по волнам
Ко мне подкрались сладостные звуки,
Умерив ярость волн и скорбь мою.
Я следую за музыкой — вернее,
Она меня влечет...
(12)
Остров, на котором утвердился Просперо и где он
производит свой опыт общественного преобразования,
полон звуков. Буря и музыка образуют здесь не только
контраст, но и определенное единство, сливаются в це-
лостный и развивающийся образ. И в ранних пьесах
Шекспира диссонансе иногда оформлялись в музыку
(«музыкальный диссонанс» — «Сон в летнюю ночь») и
гром, сподвижник бури, звучал сладостно («сладостный
гром»). В комедии «Сон в летнюю ночь» жизненные
конфликты оказывались в плоскости временных недо-
разумений: жизнь звучала разноголосым, но слаженным
хором. За «сладостным громом» могли стоять впечатле-
ния весенней грозы, и нет оснований искать в этом
образе углубленные натурфилософские представления
или социальную аллегорию.
В «Буре» мир звуков отражает и резкие противоре-
чия, и устремленность к гармонии, и ее утверждение,
как бы вещая о предстоящих победах.
Фантастический сюжет этой пьесы-сказки разверты-
вается мечтаниями драматурга об идеальном обществе
и новом человеке. Не следует искать в ней теоретиче-
скую программу или стройную систему практических
указаний. Она не притязает на это. Зато с поэтической
непосредственностью раскрывается в ней умонастрое-
ние Шекспира, подводящего итог своим наблюдениям
над общественной жизнью, над драматическим раз-
витием гуманистических представлений о богоподоб-
ном человеке и своим раздумьям о будущем челове-
честве. В «Буре» есть критика и полемика, переоценка
ценностей и пафос утверждения гуманистического
идеала.
Увлеченность Шекспира музыкой, не бытовая, а фи-
лософская, достигает в «Буре» наивысшей точки. Она
поддерживается оптимистическими натурфилософскими
воззрениями поэта, органическим чувством гармонии и
сильным ощущением ритмического биения жизни.
3 М. В. Урнов
65
Внутреннему взору Просперо мир представляется
проникнутым гармонией, и он возводит к ней человека,
овладевая силами природы1. Гармония, ощущаемая Ми-
рандой или Фердинандом, не соотносится ни с «естест-
венным» состоянием дикаря Калибана, ни с временами
«старой доброй Англии», она соотносится с будущим.
Александр Блок писал, что доступные ему факты
времени, взятые «из всех областей жизни» и сопостав-
ленные друг с другом, отзывались в нем музыкальным
звучанием, он улавливал в них «один музыкальный
смысл»2. Ему представлялось закономерным это яв-
ление, он был уверен, что так бывает всегда, что факты
времени, взятые вместе, «всегда создают единый музы-
кальный напор»3. Поэтическое сознание ловит и на свой
лад передает их ритмическое движение. Сколь бы ни
было субъективным поэтическое восприятие Блока,
в какой бы вольной метафоре он ни выражал его, в сво-
ем мироощущении и творческом опыте он отметил нечто
не только личное.
Ссылаясь на это самонаблюдение Блока, кинорежис-
сер Г. Козинцев не без основания ставит с ним в связь
схожее признание В. Маяковского («О ритме, проходя-
щем сквозь всю поэтическую вещь гулом», говорил
Маяковский) и, отправляясь от них, говорит о Шек-
спире:
«Под «музыкальным напором», «гулом» понималось
внутреннее движение, ритм — отражение тяжелого счета
подземных толчков истории. Эхо поэзии повторяло рас-
каты гула событий.
Гулом проходит сквозь трагедию о короле Лире
буря; в ощущении ее единого музыкального напора
движутся и чередуются события»4.
Развивая эту мысль в том же плане метафорических
рассуждений, можно сказать, что сквозь все трагиче-
ское творчество Шекспира гулом — близким или отда-
ленным— проходит буря, и сквозь грохот, вой и свист
доносятся гармонически слаженные звуки, звучит музы-
1 «Основная тема сказки Шекспира связана, как известно... со
своеобразной натурфилософской утопией, воплощенной в образе
Просперо» (Хлодовский Р. Новый человек и зарождение новой
литературы в эпоху Возрождения. — Сб. «Литература и новый че-
ловек». М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 428).
2 Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3, с. 297.
3 Т а м же.
4 Козинцев Г. Наш современник Шекспир. М. — Л., Искус-
ство, 1962, с. 85.
66
ка — напоминанием, предостережением, надеждой, при-
зывом. На него отзываются поэты, музыканты, худож-
ники, одержимые желанием «напоить жизнь музыкой»,
внести в мир гармонию. Вот почему способна вызвать
недоумение реплика Екатерины Арагонской:
Пусть музыка умолкнет.
Мне режет слух она...
(«Генрих VIII», 4, 2)
Екатерина — героиня трагической судьбы, исполнен-
ная женского обаяния и высокого достоинства, на ее
стороне все симпатии драматурга. Это последняя из
шекспировских героинь, поскольку, как ныне думают
многие шекспироведы, «Генрих VIII» завершает его
творческий путь. Почему же музыка «режет слух»?
Когда Ричард II говорит: «Не надо больше музы-
ки», в его устах это естественно и вполне понятно —
музыка напоминала ему о трагической ошибке и взвол-
новала его так, что он боится сойти с ума. Но и он,
способный чувствовать гармонию и страдать от ее утра-
ты, меняет мнение и тон: «И все же, да будет мне ее
пославший благословен».
Нет ли оснований предположить в таком случае, что
Екатерина склонна перед смертным часом «музыку не-
бес» противопоставить земной музыке, что последняя
из героинь Шекспира поддается религиозно-мистическо-
му настроению и музыкальная тема получает у него
в самом конце творчества принципиально иную, чем
прежде, трактовку? Повод для такого вывода есть, кон-
текст, как кажется, его подсказывает.
Екатерина, чувствуя приближение смерти и глубоко
переживая трагизм своего положения, выражает жела-
ние послушать музыку, чтобы предаться мечтам о «му-
зыке небес»:
Любезный Гриффит, пусть мне музыканты
Мелодию печальную сыграют,
Что мне звучит как похоронный звон.
А я пока мечтам своим предамся
О музыке небес, куда спешу я.
(Грустная и торжественная музыка.)
(4,2)
Екатерина засыпает, видит сон и в сновидении, «как
бы зачарованная, в порыве радости поднимает руки
к небу». Она говорит о «сонме серафимов», которые
зовут ее на пир и «обещают» вечное блаженство». И после
3*
67
реплики Гриффита: «Я рад, сударыня, что сны такие вы
видите», произносит: «Пусть музыка умолкнет...»
Мысль о потустороннем не раз возникает у шекспи-
ровских героев. Средневековье преследует их, и тем не-
отступнее, чем мрачнее трагизм их состояния. Гамлет
невольно вспоминает о стране, из которой еще никто
не возвращался. Но ни он, ни трагические герои, по-
следовавшие за ним, не возлагают надежд на потусто-
ронний мир. Религиозно-мистические порывы им чужды.
Не следует с поспешностью искать религиозный эк-
стаз в душевном состоянии Екатерины, переживаемый
ею в сознании жестокой несправедливости, выпавшей
на ее долю.
Мечты Екатерины о небесной музыке, переходящие
в сновидение, в котором и возникает порыв к потусто-
роннему, обрываются репликой Гриффита:
Я рад, сударыня, что сны такие
Вы видите.
(Is 2)
Екатерине кажется, будто все, что ей виделось во
сне, — уже живое приобщение к вечному блаженству и
справедливости, но Гриффит своей репликой невольно
нарушает ее возвышенное настроение, утверждая, что
то был сон, и только сон. Печальная мелодия еще силь-
нее отдалась в ней похоронным звоном, еще резче обо-
значился контраст между ее внутренним состоянием и
действительностью, и она говорит: «Пусть музыка
умолкнет. Мне режет слух она».
Говорит так не в осуждение или принижение земной
музыки, а выдавая свою муку и стоическую готовность
претерпеть все до конца, не поступаясь своим достоин-
ством.
Пристрастие Шекспира к музыке не только не осла-
бевает к концу его творчества, но усиливается, как это
показывает пример «Бури». Не колеблется вера Шекс-
пира в силу и призвание музыки, она для него — веский
аргумент в защиту идеи гармонического развития че-
ловека.
Когда на исходе прошлого века в России отмечалась
столетняя годовщина со дня рождения Пушкина, ора-
торам довольно часто приходило на память одно и то
же сопоставление: последние слова Гёте и предсмертная
68
просьба Пушкина: «Licht, mehr Licht», — сказал уми-
рающий Гёте: «Света, больше света». И Пушкин, по
свидетельству Владимира Даля, просил: «Выше, выше
поднимите, туда выше». К свету и выше — последний
порыв, слова, подсказанные, быть может, телесной
болью или вспышками гаснущего сознания, символиче-
ски раскрывали смысл целой жизни. Обстоятельства
смерти Шекспира неизвестны. Однако в драмах его
ощущается то же восходящее стремление, и победа при-
суждается жизни. Представления Шекспира о челове-
ческой природе, подобно представлениям о ней Гёте
или Пушкина, Рабле или Сервантеса, отличает некая
особая нормальность и правильность, не обманываю-
щая человека и ему самому не позволяющая обманы-
вать, запугивать и унижать себя.
Мощь, ведомая таким гигантам, преодолевает траги-
ческие надломы и дает пример духовной стойкости и
неистощимости жизнеутверждения. Взлет творческой
мысли ломает препоны, улавливая поступательное дви-
жение и находя для него живой образ.
Бернард Шоу, споря с Толстым о Шекспире, почти
наудачу цитировал из «Короля Лира»:
...Готовься к бою:
Если мой упрек удар наносит благородству,
Пусть меч твою докажет правоту.
(5, 3, перев. Д. Урнова)
Шоу хотел подчеркнуть, что сама по себе способ-
ность сказать так, найти такие слова означает силу
творческого духа. Эти строки, писал Шоу, «зов трубы —
прекрасные по звуку, героические по ритму и совершен-
но не сопоставимые ни с чем вульгарным» {.
«Жизнь взяла свое», — говорил Герцен с облегчени-
ем, подводя итог поре мучительных переживаний. Так
и у Шекспира — жизнь всегда в конце концов брала
свое. Жизнь взяла в сознании Шекспира свое при пер-
вом ошеломившем его столкновении с буржуазным ми-
ром. Жизнь взяла свое в конце его творческого пути,
когда он, покидая театр и отправляясь назад в Стрэт-
форд еще совсем не старым человеком, преодолел го-
речь преждевременного и далеко не ясного для него
по своим мотивам ухода.
1 «Шоу в споре с Толстым о Шекспире» (публ. С. М. Брейт-
бурга). — Литературное наследство, т. 37—38, ч. II. М., Изд-во
АН СССР, 1939, с. 629.
69
...Слабеет
Могущество ужасного заклятья.
Как утро, незаметно приближаясь,
Мрак ночи постепенно растопляет,
Так воскресает мертвое сознание,
Туман безумья отгоняя прочь.
(«Буря», 5, 1)
Эти слова прозвучали со сцены шекспировского
«Глобуса» в пору прощания Шекспира с театром и
творчеством. За несколько лет перед этим Тимон Афин-
ский, герой позднего Шекспира (1608), грозил челове-
честву чумой, обвиняя его в безнадежной испорченно-
сти; Тимон, тот самый, чья проницательность и ярость
часто в дальнейшем приходили на память английским
писателям: «Тимон знал тебя, Англия» (Олдингтон).
Кризисное озлобление Тимона не завладело драматур-
гом. Жизнь взяла свое. Потребовалась прозорливость.
Сквозь разлад и дисгармонию, казавшиеся его млад-
шим современникам уже непреодолимыми, Шекспир
улавливал созвучия и слаженность, музыку, о которой
говорил Александр Блок, слушая революцию. Музыка,
не раз возникая в шекспировских пьесах символиче-
ским мотивом, в «Буре» (1612), можно сказать, драме-
завещанье, прозвучала со всеобъемлющей силой.
Торжественный напев врачует
Рассудок, отуманенный безумьем,
Кипящий исцеляя мозг.
(5.1)
Волшебник Просперо, центральное лицо драмы, при-
зывая «музыку небес», передает авторское мироощуще-
ние. Тяготение к музыкальному звучанию жизни может
показаться надзвездным, а монолог о «могуществе
ужасного заклятья», снимаемого музыкой, — ворожбой
алхимика.
Между тем метафорическими словами облечено про-
светление и поэтическое прозрение. Возможно, в основе
его — необычной силы чувство жизни, ее ритмического
биения, непрерывно ощущаемого. Эту силу питает опыт,
проверенные впечатления от человека, знание народной
жизни. Вслушиваясь в этот ритм, вдохновляясь мощью
разума, Просперо, последний герой Шекспира, отклика-
ется на возглас дочери: «Как род людской прекрасен!»
(5, 1). Просперо, а вместе с ним покидающий театр
Шекспир заново обращают надежды к человеку. Фео-
дальная тирания и учреждавшийся буржуазный миро-
70
порядок были враждебны Шекспиру. Великий гуманист,
воплощая чаяния народа в произведениях могучего реа-
лизма, связывал свой идеал с будущим.
* * *
Не один великий Шекспир представляет ренессанс-
ную литературу Англии — его окружают Эдмунд Спен-
сер, Джон Лили, Роберт Грин, Кристофер Марло, Фрэн-
сис Бэкон и другие выдающиеся писатели. Литература
английского Возрождения развивалась вслед 1за новыми
литературами Италии, Германии, Франции, Испании —
она самая поздняя из них. Она достигла зрелости во
второй половине XVI века, а своего наивысшего выра-
жения— в трагедиях Шекспира в начале XVII века,
когда гуманизм — новое направление в духовной жизни
Западной и Центральной Европы, возникшее в пере-
ходную эпоху и воодушевившее духовное развитие, —
оказался в состоянии острого кризиса.
Шекспир застал английскую драму и театр в рас-
цвете. Он следовал уже сложившейся драматургической
и театральной традиции. Вереница шекспировских пер-
сонажей, шекспировские сюжеты по большей части тра-
диционны, как и многие «шекспировские» приемы.
Когда, например, могильщики у Шекспира пели, или
когда после убийства был выход шутов, он не изобре-
тал, он использовал традиционный прием. Шекспир
заимствовал в старой традиции и особенно у своих со-
временников необычайно много. В шекспировское вре-
мя кругом писали почти как Шекспир, и появился —
Шекспир. Такова закономерность: исполин подымается
на подготовленной литературной почве — в разные эпо-
хи и в различных странах обнаруживается та же ситуа:
цшГГВЩаю'Щийся современник Шекспира, «изумитель-
ный Бен», драматург Бен Джонсон в поэтическом преди-
словии к изданию собрания сочинений Шекспира
1623 года точно определил историческое положение
Шекспира: он возвышается над всеми, стоит особняком,
нсГи со всеми связан, он — «душа века» и "будет славен
во все времена.
Равного Шекспиру по творческому величию, значи-
тельности и жизнеспособности его наследия нет никого
в литературной истории Англии. Национальный гений,
Шекспир принадлежит к гениям мировой литературы,
71
к небольшому числу писателей, которые оказывали и
оказывают благотворное воздействие на развитие дру-
гих национальных литератур и на духовную культуру
мира.
Нет ни одного значительного английского писателя,
кто бы не сознавал творческого и духовного величия
Шекспира. Им заложены или утверждены начала той
традиции английской литературы, которую есть все осно-
вания называть великой, в силу проявленной ею жизне-
способности и обретенных на ее основе достижений.
Бесстрашие эстетического анализа социальных и психо-
логических противоречий, неукоснительное требование
художественной правды, непримиримая страстность в
изобличении всего, что разлагает общество и человека,
утверждение достоинств человека, силы его разума,
воли, его нравственных потенций, неколебимая вера в
возможность его гармоничного развития и справедли-
вого общественного устройства — вот реальность и ос-
новные заветы этой традиции.
ДАНИЕЛЬ ДЕФО 4
Едва ли не каждого выдающегося писателя прошлого
склонны мы называть нашим современником. Но очень
часто это наименование условно. Другое дело Дефо.
Если шекспировская эпоха, например, осталась за гра-
нью английской буржуазной революции XVII столетия,
то эпоха Дефо, порожденная этой революцией, — начало
современного буржуазного мира. Поэтому в собствен-
ном, хотя и расширительном смысле слова Дефо (1660—
1731) —современный писатель.
Дефо сравнивал себя с Шекспиром: та же среда и
та же судьба, только «за вычетом дарования» (говорил
сам Дефо) и сто лет спустя после шекспировских вре-
мен. За целый век многое переменилось, и прежде всего
положение этой среды. Шекспир — провинциал, пришед-
ший в столицу, — всю жизнь посматривал на горожан
с опаской. Дефо родился и вырос в Лондоне, он чувст-
вовал себя в городской сутолоке своим. Шекспир —
певец «старой веселой Англии», его мир — «под деревом
зеленым», его тянет поохотиться и просто побродить
по «зеленым полям». Для Дефо природа — мастерская,
он поэтизирует труд, предприимчивость и деловитость.
У того и у другого корни уходили в одну и ту же поч-
ву— к йоменам (мелкие землевладельцы, торговцы
средней руки, зажиточные ремесленники), но — сто лет
между ними, и если Шекспир говорил: «В бой, стойкие
йомены!», то Дефо учит «своих» торговать, путешество-
вать— короче, вести дела. У него и пираты те же пред-
приниматели: его «джентльмены удачи» занимаются
преимущественно подсчетом выручки. Не предвидится
наживы — они уходят от схватки. «Романтика моря»
интересует их меньше всего. Характерно, что многие
персонажи Дефо, выйдя в море, мучаются морской бо-
лезнью. Кажется, сам Дефо страдал ею, но под его
пером это становится символическим: мутит, не по себе,
противно, однако что поделаешь! Персонажи Дефо идут
в море не по призванию, а по расчету, идут, чтобы
1 Написано совместно с Д. Урновым.
73
вернуться «другими людьми», то есть с тугим кошель-
ком.
Среда Дефо—в поколении дедов — поставляла глав-
ные силы для революционной армии Кромвеля. Сам
Дефо появился на свет вскоре после смерти Кромвеля
и одновременно с крушением республики. Детство,
юность и ранняя молодость Дефо, — все это время его
сословию приходилось как бы заново отстаивать пози-
ции, добытые в кровопролитной борьбе. К двадцати го-
дам Дефо сам становится в ряды борцов. Его позиция?
Есть у него одна книга, второстепенная, но, как это
бывает с второстепенными книгами, она «выдает» ав-
тора, хотя, по обыкновению Дефо, автор скрыт под
маской «беспристрастного» рассказчика. Книга так и
называется: «Беспристрастная история царя Петра
Алексеевича», то есть Петра Первого. Автор горячо
сочувствует государственному деятелю, который, как
«тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». Сочувствие
начинается с мотивов личных. Петр отправился изучать
ремесла на родину предков Дефо. Это ведь соплемен-
ники Дефо, голландцы, бежавшие в Англию от религи-
озных преследований, научили англичан обрабатывать
шерсть, делать сукно, что и принесло Англии на века
мировую силу и славу. Нравится Дефо в Петре и пре-
зрение к условностям, так сказать, принцип дела: нужно
для дела, и Петр переодевается в костюм плотника.
От мелочей до общего пафоса его деятельности Дефо
заодно с Петром — во имя прочной государственности
и прогресса.
Жизнь Дефо — это длинная цепь подъемов и паде-
ний: приближенность к высшим сферам политики и не-
однократные тюремные заключения, популярность бое-
вого публициста и гражданская казнь у позорного
столба, невероятный литературный успех и полное ли-
шений существование, в подполье, под чужим именем,
в страхе за свою судьбу. Ему было под шестьдесят, за
плечами осталось по меньшей мере сорок лет литера-
турного труда, фактически жизнь была прожита, когда
началась для него совершенно новая жизнь и — бес-
смертие.
Более трехсот пятидесяти произведений принадле-
жат Дефо. Из этого списка, который сам по себе пред-
ставляет целую книгу, все знают одно название, одно
имя — Робинзон Крузо. Это даже не книга и не персо-
наж, а нечто большее: человек-миф, от века к веку он
74
существует, испытывая новые приключения, обрастая
легендами.
История книги такова.
В начале XVIII столетия испытанный «морской
волк», адмирал Вильям Дампьер, отправился в Тихий
океан на типичный по тем временам промысел, который
был, в сущности, наполовину узаконенным разбоем.
Плаванье как-то не заладилось, и по возвращении один
из участников этого бурного предприятия (иначе говоря,
авантюры или «приключения») опубликовал разоблачи-
тельный отчет. Там, в частности, говорилось, что на
судах начались беспорядки и люди с них просто бежа-
ли. По своей воле на острове Мас-а-Тьерра в архипела-
ге Хуан-Фернандес, у берегов Чили, остался «штурман
Александр Селькирк. Прошло с лишком четыре года,
и в тех же водах оказалась еще одна полупиратская
флотилия под командованием капитана Вудза Роджер-
са. Александра Селькирка обнаружили случайно, зайдя
на Мас-а-Тьерра за пресной водой. О том, как все это
было, Вудз Роджерс рассказал еще три года спустя
в своих путевых записках. Рассказал о том же и ка-
питан Кук, шедший вместе с Роджерсом.
Если первое сообщение о судьбе Александра Сель-
кирка, шотландца из города Ларго в графстве Файф,
было просто сообщением, то у Роджерса и Кука это
уже целые, пусть и небольшие, повествования. Историки
литературы правы, когда говорят, что два ^капитана
взглянули на судьбу Селькирка совершенно по-разному.
«Моряк как моряк, прилагал все усилия, чтобы остать-
ся в живых», — так сказал Кук. Роджерс извлек из той
же истории определенный урок. Тем более Селькирк
превратился в «героя дня», когда за перо взялся зна-
менитый публицист Ричард Стиль, и тогда история
Селькирка стала уже законченным произведением —
очерком. Под пером опытного литератора наметился
облик человека, выдержавшего необычное испытание.
Итак, Дефо взялся за хорошо известный факт. Пе-
ременил имя героя. «Перенес остров» из Тихого океана
в Атлантический. Отодвинул время действия примерно
на пятьдесят лет назад. Увеличил срок пребывания
героя на острове в семь раз, а само повествование про-
тив прежних — на сотни страниц.
Суть, конечно, не в количестве страниц. Дефо, сам,
насколько известно, ни разу не ходивший в дальние
плавания, рассказал о том, чего не могли рассказать ни
75
Кук, ни Роджерс, ни Селькирк, со слов которого пи-
сал очерк Ричард Стиль. «Приключения Робинзона»
поведали о том, как пережил одиночество «моряк из
Йорка».
Когда в обиходе упоминают имя Робинзона, то
обычно имеют в виду человека на необитаемом острове
или, в расширительном значении, одинокого человека,
отрезанного от всего мира, то есть указывают ситуацию,
а не черту характера. В самой же этой ситуации, опре-
деляя ее особенности, можно выделить романтику или
поэзию обстоятельств, постоянно осязаемую. Суровую
поэзию, которая возбуждает особое чувство сопричаст-
ности всему, что делает Робинзон, превращая поначалу
в целях самосохранения, а затем и самоутверждения
остров Отчаяния в остров Надежды. Эти цели в чрез-
вычайных (и в то же время каждому человеку чем-то,
какой-то стороной знакомых, что-то знакомое напоми-
нающих) обстоятельствах требуют от Робинзона совер-
шенной сосредоточенности всех его духовных и физиче-
ских сил, вдохновенности мысли и деяния, широкого
и трезвого взгляда, точного расчета, быстрого сообра-
жения и деловитости. Переживаниям Робинзона чужда
вялость, аморфность, неопределенность, — напротив, они
полны живой силы и остроты, каждое мгновение для
него — насыщенная смыслом реальность.
Поставьте в любое из положений, испытанных Ро-
бинзоном, шекспировского героя, и получите монолог,
раздумье, смятенность. Вот на разбитом корабле Ро-
бинзону попадаются деньги. Если бы на его месте был
шекспировский Тимон, то он бы сказал:
Что вижу? Золото? Ужели правда?
Сверкающее, желтое... Нет-нет,
Я золота не почитаю...
и т. д.
На целую страницу размышлений. Заканчивается
это все, впрочем, практическим соображением:
Постой! Возьму
Немного я себе на всякий случай.
Робинзон «редактирует» ситуацию. Он как бы вы-
черкивает монолог, ограничиваясь репликой: «Негодный
мусор!» После чего кладет деньги в карман. Правда,
он говорит, что сделал так «поразмыслив», но его раз-
мышления — расчет, а не муки совести.
76
Оказавшись один на необитаемом острове, герой
Дефо переживает тягостные душевные состояния, впа-
дает в отчаяние, дрожит от страха, но, какие бы мрач-
ные чувства он ни испытывал, с какой бы степенью
напряжения ни переживал их, он не теряет основ ду-
шевного равновесия и способности к активной целена-
правленной деятельности.
Есть нечто в характере Робинзона, что позволило
ему по-робинзоновски выдержать испытание одиночест-
вом на необитаемом острове и не утратить тягу к лю-
дям, потребность социального общения. Робинзон —
производное демократической среды, в его характере
отражен опыт трудового люда и концепция человека,
свойственная демократической мысли эпохи Просвеще-
ния. «Как ни тягостны были мои размышления, рассу-
док мой начинал мало-помалу брать верх над отчаяни-
ем». Уже здесь видна существенная устремленность
Робинзонова духа и его точка опоры: чувство действи-
тельности, трезвая оценка обстоятельств, сознание того,
что если человек, пережив катастрофу, уцелел, то жить
ему нужно и надо искать достойный выход из любого
тягостного положения. Ход жизнеутверждающих раз-
мышлений принимает у Робинзона своеобразную фор-
му. Он ведет счет горестному и отрадному в своей
жизни, злу и добру, «словно должник и кредитор».
«Я заброшен судьбой на мрачный, необитаемый остров
и не имею никакой надежды на избавление», — записы-
вает он в графе «зло» и сразу противопоставляет ему
«добро»: «Но я жив, я не утонул, подобно всем моим
товарищам». Можно по-разному относиться к «нравст-
венной бухгалтерии» Робинзона, к логике его мысли,
нельзя не отметить ее сухой, расчетливой трезвости, хо-
лодного спокойствия, с каким упомянуты погибшие
товарищи. Можно увидеть в этом отпечаток жестокой
практики буржуазных отношений, но все же трудно от-
рицать, что в сути своей размышления Робинзона, ока-
завшегося в чрезвычайных обстоятельствах, не повин-
ного в совершившемся зле, — это здравые размышления
нормального человека, преодолевающего приступы от-
чаяния.
«Горький опыт человека, изведавшего худшее не-
счастье на земле, показывает, что у нас всегда найдет-
ся какое-нибудь утешение, которое в счете наших бед
и благ следует записать в графу прихода». Взятый от-
влеченно вывод рассудительных размышлений Робин-
77
зона может побудить человека мириться с любым не-
счастьем и злом, хотя и в самом деле «во всяком зле
можно найти добро», как говорит тот же Робинзон, и
пословица «Нет худа без добра» выражает народную
мудрость и сложность применения к жизни однознач-
ных нравственных оценок.
Практическая рассудительность Робинзона соединя-
ется с религиозно-философской мыслью о благом про-
видении, божьем промысле, в ней он ищет разъяснения
контрастам жизни, трагическим судьбам, опору нравст-
венности, повод для религиозно-нравственных назида-
ний. Робинзон не может обойтись без этих назиданий,
свидетельствуя о своей принадлежности к английской
пуританской среде и XVII веку. Он действует как истый
сын своей страны, своего времени и своей среды, когда
с потонувшего корабля наряду с практически необхо-
димыми предметами берет в качестве основной духов-
ной пищи, «лекарства для души», Библию в трех эк-
земплярах и в любую минуту из деловитого ремеслен-
ника готов превратиться в ремесленного проповедника.
Вместе с тем он способен не только соединить выводы
здравого смысла со Священным писанием, но столь же
легко и свободно разъединить их «по здравом размыш-
лении» и в практических целях.
Когда Робинзон увидел на «безотрадном острове»
стебельки ячменя и риса, он приписал это божествен-
ному чуду, воспарил душой, стал думать о благом про-
видении, однако религиозное умиление и слезы ни на
секунду не застили его способности мыслить практиче-
ски, учитывая живой опыт. «Я не только подумал, —
записывает в своем дневнике Робинзон, — что этот рис
и этот ячмень посланы мне самим провидением, но не
сомневался, что он растет здесь еще где-нибудь». Сколь
откровенен и значителен в этой записи противительный
союз «но», как много он поясняет в душевном состоя-
нии Робинзона, в логике его мысли и, так сказать, в
структуре его сознания! Потребность разглагольство-
вать на библейские темы и заниматься проповедью
возрастает у Робинзона по мере того, как он осваивает-
ся в непривычной обстановке, самоутверждая себя на
диком острове. Проповедь его чурается всего, что колеб-
лет наивную веру, обходит острые углы, она прагматич-
на, предпочитает не рассматривать, говоря словами Го-
рацио, друга Гамлета, «слишком пристально» сомни-
тельные положения отвлеченной мудрости, дабы не
78
подрывать основ воспринятого убеждения. С наиболь-
шей наглядностью эта особенность веры обнаруживает
себя в душеспасительных беседах Робинзона с Пятни-
цей, когда проповедник встает в тупик перед разумным
сомнением своего ученика. Он спешит уклониться от
продолжения беседы, «придумывая» подходящий пред-
лог...
«Робинзон Крузо» — первый классический англий-
ский роман, который можно назвать «историей совре-
менника». Дефо обладал поразительным чутьем совре-
менности. Именно потому, что мир его был еще молод,
он старался уловить, куда же пойдет рост, какими
путями продолжится начавшееся у него на глазах дви-
жение. Дефо занимался составлением различных проек-
тов, и некоторые из них были буквально использованы
в общественной жизни Англии (например, в области
образования и торговли).
Как человек практический, торговый, Дефо зорко
следил за тем, в каких направлениях расширяет свои
географические границы современный ему мир. Не го-
воря о Тихом океане и Америке, он вместе со своими
героями совершил (в романе «Капитан Сингльтон»)
воображаемое и вместе с тем необычно «меткое» путе-
шествие — в Центральную Африку, хотя в его времена
в эту сторону еще, так сказать, и не смотрели. И в том
же романе пираты находят остатки экспедиции и запи-
ску: «Мы шли к Северному полюсу». Эпизод повис
в воздухе, осталась какая-то недоговоренность, но, ка-
жется, этой неопределенности впечатления Дефо и до-
бивался: он чувствовал, что туда, к полюсу, еще пойдут,
но когда и зачем, на эти вопросы ответить под силу
было только самому времени.
Нужно, конечно, смотреть на Дефо слишком уж со-
временными глазами, чтобы вычитать в его книгах то,
что в самом деле характерно для современной прозы
и называется «подтекстом». Нет, подтекст у Дефо вы-
читать нельзя. Можно разве «вчитать» в его книги под-
текст, навязать Дефо несвойственный ему прием. Но,
безусловно, Дефо знал силу недоговоренности, силу
не только точно сказанного, но и оставшегося невыска-
занным. Причем, как и во всяком подлинно глубоком
подтексте, у Дефо это не какая-то многозначительная
гримаса, а истинная невыразимость, историческая недо-
сказанность, незавершенность процесса, только еще уга-
данного автором.
79
* * *
«Выдумывать достовернее правды» — таков был
принцип Дефо-писателя. Это, на свой лад сформулиро-
ванный, закон творческой типизации. «Он мог,— пишет
биограф о Дефо, — дать достоверный отчет о событиях,
а если событий никаких не было, он мог столь же до-
стоверно их выдумать». Автор «Робинзона» был масте-
ром правдоподобной выдумки. Он умел соблюдать то,
что уже в позднейшие времена стали называть «логикой
действия» — убедительность поведения героев в обстоя-
тельствах вымышленных или предполагаемых.
Допустим, шторм... И Дефо составляет книгу-отчет
о.невероятном урагане (за полтора десятка лет до «Ро-
бинзона»). Или — привидение! Историю с привидением
Дефо изложил правдоподобно настолько, что так и не
могут разобраться, выдумано ли все здесь от начала
до конца, или же действительно что-то кому-то поме-
рещилось. Однажды Дефо написал памфлет, направ-
ленный против себя самого, он «выдумал» себе против-
ника. «Разоблачение» удалось до такой степени, что Де-
фо поставили к позорному столбу. Он, конечно, не
хотел такого результата. «Автор искренне думал, когда
писал, что ему не придется оправдывать себя», — огор-
чался Дефо. Но, в сущности, он лишний раз подтвердил
свое умение «правдиво выдумывать».
Публика, для которой предназначал свои сочинения
Дефо, не привыкла к выдумкам. Авторитет печатного
слова учрежден был Священным писанием — «словом
истинным», и такая же истинность, каноническая, тре-
бовалась от каждой книги. Всякая книга должна была
наставлять на «путь истинный», поучая или сообщая
полезные сведения. Читали и «выдумки», хотя в среде
Дефо это не поощрялось, но уж, по крайней мере, зная,
что — выдумки..
«Правда» против «вымысла» — таков путь движения
литературы нового времени, реакция на средневековый
роман и поэзию, полные чудес, фантазии, небывальщи-
ны. Вымысел и не должен был походить на «каждый
день». Еще в шекспировскую эпоху не очень-то увле-
кались «правдой». Публика из разных слоев общества
предпочитала невероятное, чрезмерное, потрясающее,
героическое и вместе с тем освященное авторитетом
предания, того, что было. Словом, все, на чем поме-
шался Дон-Кихот и чем завоевал сердце Дездемоны
80
благородный мавр, рассказывая удивительную и в то
же время достоверную повесть своей судьбы.
Пуританская традиция, на которой вырос Дефо и
которая становилась в английской духовной жизни гос-
подствующей, все это отвергала. Если учесть, сколько
же нужно было отвергнуть как «вымысел» и «вред», то
получалась фактически художественная литература как
таковая — ее по-английски издавна обозначают словом
«вымысел». Как «разврат» пуритане преследовали те-
атр, о чтении романов говорили — «предаваться поро-
ку». Они доходили в этом до изуверства, до крайностей
доктринерства. Но, с другой стороны, в самом деле тра-
диция «чудес» отживала свое.
Вспомним, как в первом из романов нового времени,
в «Дон-Кихоте», поступают с романами рыцарскими.
Они летят в огонь. Ключница, священник, цирюльник,
люди неискушенные, вершат это аутодафе, но в их суж-
дениях слышен и голос самого автора. Ведь они раз-
борчивы, очень даже разборчивы: не книги как таковые
жгут, а подводятся итоги определенной литературной
традиции. Истинное отделяется от эпигонства, оригинал
от подражанья. Приговор выносится с точки зрения
исторической: что в своем роде (и в свое время) было
хорошо, надлежит пощадить, оставить на полке, а если
это одна только напыщенность и нелепость — в огонь!
И читать этого не следует, да и писать так уже нель-
зя!— вот критический вывод из знаменитой сцены сож-
жения книг в «Дон-Кихоте».
Дефо, видевший в «Дон-Кихоте» образец, по-своему
искал решения дилеммы, которую перед писателем но-
вого времени поставил Сервантес. Ведь он «выдумал»
Дон-Кихота, а в то же время это — правда.
«Ваше сочинение, — говорят автору в «Дон-Кихо-
те»,— имеет целью разрушить доверие, которым поль-
зуются рыцарские книги». Да, разрушить или закрыть
одну и создать другую традицию доверия к книгам. До-
верие к рыцарским книгам зиждилось на авторитете
предания. Сервантес, напротив, выдумал все сам, и, не
скрывая этого, он вступает с читателем в литературную
игру по новым правилам.
Дефо находился в другой стране, в другое время
и перед другой аудиторией, где вымысла не признавали
в принципе, где творческая игра фантазии считалась
занятием праздным и порочным. Поэтому, начиная со
своими читателями, в сущности, ту же игру, что и Сер-
81
вантёс1, Дефо не решился объявить об этом прямо.
«В этой книге нет ни капли вымысла», — говорит он
от лица редактора, которым прикинулся он так же, как
прежде прикидывался собственным врагом.
«Приключениям Робинзона» и простодушно верили,
и восхищались сознательной ложью автора, его крити-
ковали, уличая в плагиате и всяческих несуразностях,
и ему подражали, создавая новые «Приключения». Са-
мым значительным разоблачением книги Дефо был ро-
ман, который по достоинству встал рядом с «Робинзо-
ном». Это — «Путешествия Гулливера». Ведь Робинзон
и Гулливер — соперники, литературные соперники. Дефо
уверял, что все описанное им правда; тогда, чтобы по-
казать, что это — выдумка, создал — тем же самым спо-
собом— свою книгу Свифт.
Гулливер — зять Дефо — так это придумано у Свиф-
та. Он женил своего героя на дочери «галантерейщика
из Сити» — очевидный намек, поскольку так назывался
автор «Робинзона»,— ведь его основным занятием была
торговля, в том числе подтяжками и духами. Свифт
сделал Гулливера дальним родственником прославлен-
ного капитана Дампьера, и это опять намек, ибо Дефо
уверял, будто в жилах его течет кровь Уолтера Ралея,
знаменитого мореплавателя шекспировских времен.
Есть и другие параллели. Но Свифт насмехался не
только над Дефо и Робинзоном. «Высокий ум» ирони-
зировал над простодушием читателей, понимавших ис-
кусство только в форме бытового правдоподобия. Одна-
ко же Свифт создал «Путешествия», удивительные по
впечатлению правдоподобия, — и парадоксальным обра-
зом подтвердил силу реализма Дефо.
«Подлинность», творчески созданная, оказалась не-
сокрушима. Даже ошибки в морском деле и географии,
даже несогласованность в повествовании Дефо скорее
всего допускал сознательно, ради все того же правдо-
подобия, ибо самый правдивый рассказчик в чем-ни-
будь да ошибается! Сервантес, на которого ориентиро-
вался Дефо, так и говорил, делая намеренные ошибки:
1 Иногда Дефо прямо подражал автору «Дон-Кихота». «Гово-
рили, — пишет, например, Сервантес о своем герое, — что назывался
он Кихада или Кесада, но, по более верным догадкам, имя его
было, кажется, Кихана». В ту же игру с именем и вообще в прав-
доподобие подробностей и деталей вводит Дефо. «Мне дали имя
Робинзон, отцовскую же фамилию Крейцнер англичане, по обычаю
своему коверкать иностранные слова, переделали в Крузо».
82
«Это и неважно, главное, не отступать от истины».
Разумеется, речь идет об истине искусства, создавае-
мой объединенными усилиями наблюдательности и
воображения. Дефо не раскрывал своих повествователь-
ных принципов, но следовал он им неукоснительно.
* * *
После «Робинзона Крузо» Дефо писал роман за
романом. Он стал профессионалом, то есть сделал ли-
тературу средством к существованию. Дефо одним из
первых занялся писанием романов как ремеслом, и
сразу же на его примере обнаружили себя выгодные
и проигрышные особенности литературного ремесла.
Вторая часть первой его книги — так называемые
«Дальнейшие приключения Робинзона» — получилась
уже гораздо менее увлекательной, а третья часть —
«Серьезные размышления Робинзона» — вовсе не уда-
лась. «Ничего, равного первой части «Робинзона», у не-
го, конечно, нет, но кое-что хорошее есть во всем им
написанном» — это сказал современник о Дефо и не
ошибся.
Тысяча семьсот двадцать второй год был особенно
плодотворным для Дефо. Он написал тогда одну за
другой три книги — каждая положила начало особой
традиции.
По историческим материалам, по свидетельствам
очевидцев, отчасти и по своим собственным воспомина-
ниям, хотя бы очень смутным, детским, Дефо составил
«Дневник чумного года». Он показал, как надо- восста-
навливать в художественном повествовании ушедшую
эпоху, его «Дневник» — первый исторический роман.
Вальтер Скотт, «отец исторического романа» (Дефо
в таком случае «праотец»), восхищался этой книгой.
А мы знаем ее косвенно через пушкинский «Пир во
время чумы». Наблюдатель, стоящий «бездны мрачной
на краю», это и есть та повествовательная позиция, с
которой вел простой, а вместе с тем напряженный и ме-
стами жуткий рассказ Дефо, подписавший свой репор-
таж, впрочем, всего двумя буквами — Г. Ф., в честь
дяди Генри Фо, шорника, который сам пережил чуму
и рассказал о ней во всех подробностях племяннику.
В том же замечательном для него году Дефо выпу-
стил «Моль Флендерс» и, наконец, «Полковника Дже-
ка». Благодаря этим двум книгам он признан был родо-
начальником социального и психологического романа.
83
В «Полковнике Джеке» Дефо впервые обнаружил
свое авторство. На титульном листе он указал: «Напи-
сано автором «Робинзона Крузо». Но при чем тут «ав-
тор», если книга-то написана от лица некоего Жака
(или Джека)? Дефо это противоречие, видимо, не за-
ботило, и он знал, что имя Робинзона только привлечет
читателей.
Автор не счел нужным устранить противоречие и
более существенное уже в самой книге.
В заглавии обещано, что Джек будет участвовать
в войнах и сделается генералом. Но в романе ничего
подобного не происходит! Вместо того чтобы отличить-
ся на полях сражений, Джек разводит табак на Вир-
гинских плантациях. Дефо своих обещаний не забыл.
Просто политическая обстановка переменилась.
Дефо, видно, хотел сделать Джека фигурой роман-
тической. Джек должен был принять участие в мятеже
якобитов, сторонников шотландского короля Якова,
который время от времени угрожал захватить англий-
ский трон. Опасность была позади, когда Дефо прини-
мался за роман, но вдруг в конце 1722 года якобиты
опять стали собирать силы. Тут уж было не до повест-
вовательной романтики, и Дефо, чтобы не оказаться
превратно понятым, переменил сюжет.
Сам Дефо якобитам нисколько не сочувствовал. Это
он, по заданию правительства, провел в Шотландии
немало времени, подвергаясь опасностям, терпя нужду
и позор ради того, чтобы разведать политическую атмо-
сферу и помешать шотландским отщепенцам. Стало
быть, героем романа Дефо, стремившийся быть беспри-
страстным, намеревался сделать врага того дела, кото-
рому сам служил. Обстоятельства, переменившие за-
мысел, не от него зависели.
Обличье «редактора», который не писал, а только
напечатал попавшую к нему рукопись, разве что «под-
правив слог», а в исповеди Робинзона «редактор» ни
строчки не переменил, на этот раз было снято, но зато
автор отстранился от своего героя политически. Джек
не на его стороне, однако репортерски деловитого тона
в отношении к нему Дефо не меняет ни на минуту.
Особый интерес в романе «Полковник Джек» вызы-
вает описание детства Джека, единственное во всех ро-
манах Дефо столь подробное описание ранних лет героя,
формирующих характер. Дефо первый в литературе
рассказал о тяжелом детстве. Начало его романа не-
84
вольно приходит на память при чтении диккенсовского
«Оливера Твиста». Знал ли Диккенс «Полковника Дже-
ка», не под его ли влиянием написаны страницы о го-
рестном детстве Оливера Твиста? На этот счет нет
точных сведений, в то время как мнение Диккенса
о Дефо известно. Это мнение — критическое, столь же
характерно критическое, как ирония Свифта по поводу
«достоверности» истории Робинзона.
С точки зрения Диккенса, Дефо писатель «бесчувст-
венный», иначе говоря, не умеет изображать чувств и
вызывать их у читателя, за исключением одного — лю-
бопытства: а что будет дальше? «Посмотрите, — говорил
Диккенс, — как описана у него смерть Пятницы: мы не
успеваем пережить ее». Пятница погибает в самом деле
как-то неожиданно и Наспех, в двух строках. Правда,
происходит это уже во втором, неудачном томе, но
и в первой книге самые знаменитые эпизоды умещаются
в нескольких строках, в немногих словах. Охота на льва,
сон на дереве и, наконец, тот момент, когда Робинзон
на нехоженой тропе видит след человеческой ноги,—
все очень кратко. Иногда Дефо пытается говорить
о чувствах, но мы как-то и не помним этих его чувств.
Зато страх Робинзона, когда, увидевши след на тропе,
спешит он домой, или радость, когда слышит он зов
ручного попугая, запоминается и, главное, кажется по-
дробно изложенным. По крайней мере, читатель узнает
об этом все, что нужно знать, все, чтобы было инте-
ресно.
Таким образом, «бесчувствие» Дефо — вроде гамле-
товского «безумия», методическое. Как и «подлинность»
Робинзоновых «Приключений», это «бесчувствие» от на-
чала и до конца выдержанное, сознательно созданное.
Другое название тому же «бесчувствию» выше уже упо-
мянуто — беспристрастие. Позицию беспристрастного
хроникера-аналитика Дефо старался выдержать и по от-
ношению к тем, кому он, как Робинзону или «Петру
Алексеевичу», сочувствовал, и по отношению к тем, кто,
в сущности, был ему чужд и даже враждебен1. Дефо
1 В «Записках кавалера» Дефо добился такой иллюзии под-
линности, что долго эти «Записки» значились в ряду настоящих
мемуаров. Маркс, не обманувшийся, конечно, относительно бел-
летристического характера этого сочинения, тем не менее отметил
их верность эпохе, которая и для Дефо была достаточно далеким
прошлым, — 30-е годы XVII столетия, времена гражданской войны
в Англии. Сражался «кавалер», разумеется, не на стороне тех поли-
тических сил, которые впоследствии поддерживал Дефо.
85
не порицает и не оплакивает своих героев, он исследует
их судьбы.
Горький, вспомнив однажды Дефо и его «отношение
к униженной личности», предложил сопоставить это от-
ношение— нет, не с Диккенсом или Достоевским, но
с либеральной модой на сочувствие к «униженным и
оскорбленным», с поверхностным состраданием к «от-
верженным», свойственное эпигонской литературе XIX
столетия. «Освободиться от прошлого, очистить душу
от биографии» — вот как, по словам Горького, действо-
вала эта мода, эта инерция, которую Горький назвал,
кроме того, «нехорошей ложью»1. Восхищаясь Дефо,
Горький видел в нем классический пример истинного
внимания к личности на основе прошлого и биографии.
Он оценил пусть стихийный, однако всепроникающий
историзм, социальность Дефо во взгляде на человека.
Неутомимый читатель, Горький раскрыл Дефо и не
нашел у него некоего «человека» вообще или же «естест-
венного человека», обычно приписываемого Дефо. На-
против, Горький увидел конкретно обрисованных людей
своей страны и своей эпохи, эпохи коренного социаль-
ного переустройства, а эти люди, персонажи Дефо, пе-
реустройству способствуют или по крайней мере поль-
зуются его результатами. Каждый из них глубоко
сознает, кто он, из какой среды вышел, какие преиму-
щества отпущены ему судьбой и чего должен он доби-
ваться собственными силами, насколько, против нынеш-
него его состояния, следует ему сделаться «другим».
Правда, у большинства из них биография свойства со-
мнительного, прошлое — темное, так что умолчать о нем
хотелось бы, коль скоро, если судить по кафтану и ко-
шельку, человек стал «другим». Однако же, как на грех,
эти саморазоблачительные исповеди попадают в руки
«редактора» или «автора «Робинзона Крузо» и — пре-
даются гласности.
Не изменись политическая обстановка, а вместе с нею
и сюжет романа, бродяга Джек сделался бы генералом,
как стала почтенной дамой авантюристка Моль Флен-
дерс и богатым купцом — бывший морской грабитель,
пират Сингльтон. Пройдя через приключения, они доби-
ваются удачи (по-английски то же слово, что и «богат-
ство»), получая возможность заняться другим делом.
1 См.: Горький М. История русской литературы, М., Худо-
жественная литература, 1939, с. 167—168.
86
В какой мере становятся они другими людьми, — об этом
предоставлено судить читателю на основе подробней-
шим образом разработанного прошлого, биографии, уме-
ло отредактированной исповеди.
В каждом из своих «редакторских» предисловий Де-
фо подчеркивал то, что редактура касалась слога, кое-
каких слишком уж откровенных подробностей и, во
всяком случае, не затрагивала существа дела, смысла
излагаемой судьбы. А «естественный человек» — это
в самом деле редактура, ретушь более позднего време-
ни, наложенная на книги Дефо и получившая распро-
странение подобно тому, как вместо Гамлета получил
распространение гамлетизм.
«Это состояние не есть состояние общественного че-
ловека»,— говорил о судьбе Робинзона сорок лет спустя
Руссо, влиятельнейший истолкователь Дефо, осново-
положник идеи «естественного» состояния. Автор «Ро-
бинзона» не согласился бы с этим. Он как бы предвос-
хитил возможность такого истолкования своей книги
и в «Серьезных размышлениях» подчеркнул, что одино-
чество, остров не составляют решающих условий форми-
рования Робинзона и ему подобных. «Ибо можно со
всей основательностью утверждать, — говорил Дефо, —
что человек бывает одинок среди толпы, в гуще людской
и деловой сутолоке». «Одиночество» Робинзона — это
как раз состояние общественное, исторически конкрет-
ное «одиночество» в буржуазной борьбе «всех против
всех», о которой толковал Томас Гоббс, философ, стар-
ший современник Дефо, оказавший на него заметное
влияние.
В этом смысле каждый персонаж Дефо — Робинзон,
вне зависимости от того, затерян ли он в океане или же
в море житейском. Каждый дает пример «состояния об-
щественного», ибо у Дефо не только человек, но даже
бог — это не вообще господь, а бог пуританский: Робин-
зонова вера имеет отчетливую и социальную и полити-
ческую направленность.
Герой Дефо сделался живым воплощением представ-
лений просветителей о современном им человеке как
о человеке «естественном», «не исторически возникшем,
а данном самой природой»1. «Робинзон Крузо» послу-
жил источником многочисленных литературных и осу-
ществляемых в самой жизни робинзонад. Но ведь герой
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 12, с. 710.
87
Дефо не «исходный пункт» истории, он пользуется опы-
том и достижениями цивилизации, и его сознание об-
наруживает всестороннюю зависимость от определенных
социальных условий.
Очутившись на острове, вынужденный как бы зано-
во и на пустом месте начинать жизнь, Робинзон, по
словам одного критика, «осмотрелся и стал жарить
бифштексы». Иначе говоря, всеми силами постарался
сохранить привычки «домашние», исконно ему свойст-
венные. Не новую жизнь он начал, а восстанавливал
условия, необходимые для продолжения прежней своей
жизни. Всякая робинзонада ставила своей целью изме-
нить или хотя бы исправить человека. Исповедь Робин-
зона рассказывала о том, как вопреки всему человек
не изменил себе, остался самим собой. Да, вместо пого-
ни за удачей, которой занимался молодой, побуждаемый
к тому авантюрным духом времени Робинзон, тот Ро-
бинзон, что жил на острове Отчаяния, добивался всего
трудом. Но труд, величественно изображенный Дефо,
как и вся жизнь на острове, это в судьбе Робинзона,
в сущности, эпизод, этап переходный. Робинзон из дома
бежал ради смелого предприятия, он и вернулся к род-
ным берегам тридцать лет спустя торговцем-предпри-
нимателем. Он остался, кем был, сыном купца, братом
офицера-наемника, моряком из Иорка, родившимся
в начале 30-х годов XVII столетия, в эпоху первых гроз-
ных знамений грядущей буржуазной революции. И все
испытания, выпавшие на его долю, не стерли ни одного
родимого пятна в его прошлом, не упразднили значения
каждого пункта его биографии. Их, эти пункты, вычер-
кивают разве что в детских редакциях «Приключений
Робинзона». Но не зря Горький советовал, вспоминая
Дефо: «Прочтите!» — советовал в ту пору, когда о Де-
фо судили преимущественно по варианту детскому или
по истолкованию Руссо, когда абстрактную робинзонаду
отождествляли с конкретным Робинзоном.
Кстати, Горький имел в виду не «Робинзона» даже,
а «Моль Флендерс», где социальная подоплека судьбы
человеческой была прописана с особенной тщатель-
ностью. От романа к роману интерес Дефо к «общест-
венному состоянию» своих персонажей только обострял-
ся— вполне возможно, полемически, ибо робинзонады,
по признакам «острова» и «одиночества», писались уже
при жизни Дефо. Но автор «Робинзона» с каждой кни-
гой создавал фигуры все более социально конкретные.
88
В «Полковнике Джеке» от одной черты начинают три
юных характера, имеющих разную социальную подопле-
ку, разное прошлое и разные биографии в своей преды-
стории, и в итоге читатель наблюдает три разных ре-
зультата. Как художник-реалист Дефо проявил пора-
зительную для своего времени зрелость во взгляде на
природу человека.
* * *
После Дефо литература, английская и мировая, про-
должала свое движение, вместе со временем, развива-
лась, открывала новые средства повествования, изобра-
жения, анализа, а потом вдруг вспоминала Дефо и воз-
вращалась к нему, как бы сверяясь с нормой. Так, на
рубеже прошлого и нынешнего веков прозаики, изо-
щрившиеся в приемах до предела и, казалось бы, далеко
ушедшие от Дефо, именно у него нашли много совре-
менного. Простой и ясный слог, который сам Дефо на-
зывал «домашним», умение смотреть на современность
исторически, трезво и проницательно, способность пока-
зать современного человека частицей истории, — такова
«норма Дефо».
В отличие от Свифта, Дефо не заготовил себе эпи-
тафии. Но прав биограф: в одном некрологе сказано
о нем было как раз то, что хотел бы о себе услышать
создатель «Робинзона Крузо»: «Он участливо смотрел
на все, что происходило вокруг».
ВЕЛИКИЙ РОМАНИСТ ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС
«Просейте мировую прозу, останется Диккенс...» Это
слова Л. Н. Толстого, мнение автора «Войны и мира»1.
Можно возразить ему, сказать, что останется не один
Диккенс. Однако уместно ли такое возражение восхи-
щенному мнению, в котором выражено и личное при-
страстие русского гения к гению английскому, и убеж-
денное признание величия его творческой личности, ее
мирового значения. Не лучше ли прислушаться к Тол-
стому и постараться понять его, понять пафос его вос-
торженного суждения. Как бы ни просеивать мировую
прозу, останется не один Диккенс, но он останется ря-
дом с самыми великими романистами мира, в их числе.
И те из них, кто был современником Диккенса или при-
шел после него, судили о нем как о великом писателе.
Что было и осталось очевидным и восхищающим
в Диккенсе — это гигантская сила творчества, выразив-
шая себя созданием масштабного образного мира, мира
необычайно причудливого, но убедительного, реалисти-
ческого при всей его видимой фантастичности, позво-
ляющего читателю представить себе современное пи-
сателю общество почти во всех его аспектах, матери-
альных и духовных, характерных и типичных, крупных
и мелких проявлениях. Этот же необычайно причудли-
вый и масштабный образный мир позволяет видеть и
его творца, гениального художника, великого гуманиста
и великого гражданина.
Необычность литературного мира, создаваемого Дик-
кенсом, сразу обратила на себя внимание современни-
ков. Этот мир и восхищал их и озадачивал. Диккенс
решительно ломал вкоренившиеся стереотипы писатель-
ства и читательского восприятия. Он делал это не по
капризу неуемной фантазии, руководился не своенрави-
ем таланта или тщеславия, но убеждением.
Сама история возникновения первого романа Дик-
кенса— «Посмертные записки Пиквикского клуба» — по-
рождена, казалось бы, чистой случайностью. Видные
1 Stachovich Sofia. Some Sayings of Tolstoy. — In: «Fa-
miliar views of Tolstoy». Ed. by Aylmer Moude. L., 1926, p. 125.
90
лондонские издатели Чепмен и Холл предложили ему
выступить в соавторстве со знаменитым художником-
карикатуристом Робертом Сеймуром, написать занима-
тельный текст на спортивно-охотничью тему к серии
рисунков под названием «Клуб Нимрода», труд, рассчи-
танный на двадцать ежемесячных выпусков. Задача для
Диккенса, к тому времени уже автора известных ху-
дожественных очерков, была не сложной. Он согласил-
ся с предложением, но, прежде чем начать работу над
новым произведением, внес поправку в замысел «Клуба
Нимрода», принадлежавший Сеймуру. Стоит ли, заявил
он издателям, писать текст к готовым рисункам, не ло-
гичнее ли рисунками сопровождать готовый текст? По-
правка существенным образом меняла характер его
творческого участия в .совместном с художником Сей-
муром труде. Диккенс не хотел просто позабавить чита-
теля, не хотел оказаться в зависимом положении, а в
подчиненном тем более. Но и Сеймуру не хотелось из
ведущего превратиться в ведомого, да еще чтобы его,
художника с именем, вел за собой молодой человек, ав-
тор всего одной книги. В конце концов соглашение со-
стоялось, поправка Диккенса была принята, и он не стал
думать о Нимроде, ветхозаветном охотнике и покрови-
теле охотников, а задумал Пиквика, защитника спра-
ведливости, поборника гуманности. Замысел изменился
радикально, он возбудил и впервые дал простор мощ-
ной и неуемной фантазии Диккенса.
В самом начале «Посмертных записок» их герой
Пиквик назван бессмертным. Слово сказано в шутливом
тоне, с добродушно иронической интонацией. И все же
оно было сказано и оказалось пророческим. Но можно
ли утверждать, что автор думал тогда о бессмертии
своей творческой деятельности? Если вспомнить здесь
Пушкина, юного Пушкина, то для его самосознания это
было естественным:
Ах! ведает мой добрый гений,
Что предпочел бы я скорей
Бессмертию души моей
Бессмертие своих творений.
Когда Диккенс писал «Посмертные записки Пиквик-
ского клуба», он не думал ни о бессмертии своей души,
ни о бессмертии своих творений. Он был полон жизнен-
ных и творческих сил, жаждал продолжения писатель-
ской деятельности, доброго заработка и всестороннего
благополучия.
91
Заманчивое предложение лондонские издатели сде-
лали Диккенсу 10 февраля 1836 года. «Работа предсто-
ит не шуточная, — писал он своей невесте, — но трудно
противостоять искушению получить заработок». Ей же
он писал, что для него эта работа «долг, а не забава».
Спустя девять дней после сделанного Диккенсу пред-
ложения он завершил первую главу своего первого
крупного произведения. Через месяц с небольшим,
31 марта, вышел первый выпуск его новой книги, а спу-
стя два дня он женился на Кэтрин Томпсон Хогарт. Ему
едва исполнилось двадцать четыре года.
Трагическая смерть Сеймура в 1836 году, покончив-
шего самоубийством, не оборвала начатого труда. «Клуб
Нимрода» превратился в «Пиквикский клуб», и это
превращение произошло на глазах у читателя почти
незаметно, так, будто и не было иного замысла. И все
же читатель не проявил особого интереса к первым
главам книги: избранный издателями жанр для него
не был новостью. Английские литературные справочни-
ки упоминают имя Роберта Смита Сэртиса как попу-
лярного автора охотничьих очерков, печатавшихся в «Но-
вом спортивном журнале», который он основал и редак-
тировал. Диккенс не был ни охотником, ни спортсменом.
Особый интерес «Пиквикский клуб» вызвал только то-
гда, когда на его страницах появился Сэм Уэллер и ат-
мосфера диккенсовского юмора стала вполне очевид-
ной. Когда Диккенс начал писать «Пиквикский клуб»,
он уже был подготовлен к созданию оригинального
произведения большой эпической формы, к созданию
собственного литературного мира.
Первому роману Диккенса предшествовали очерки
и рассказы из лондонской жизни, которые он начал
печатать под псевдонимом «Боз» с конца 1833 года, ког-
да «был еще очень молод». Отдельным изданием «Очер-
ки Боза» (псевдоним — шутливое прозвище младшего
брата писателя) вышли в 1836 году и, по мнению авто-
ра, высказанному много лет спустя, «пошли гулять по
свету со всеми своими недостатками (весьма многочис-
ленными)». Каковы бы ни были погрешности первой
книги Диккенса, а к ним можно отнести избитость не-
которых ситуаций и персонажей, нарочитую шутливость,
«Очерки Боза» сразу получили заслуженное признание
и явились плодотворным началом длительной творче-
ской деятельности — в них были «зерно и завязь» «Пик-.
викского клуба».
92
По внешней структуре первый роман Диккенса тоже
в основе своей очерки — очерки быта, нравов, характе-
ров, но они соединены сюжетом и составляют панораму
английской жизни, современной писателю. Сам по себе
сюжет прост и для литературы предшествующего века
традиционен. Сюжет авантюрный — путешествие с при-
ключениями. В данном случае путешествие внутри стра-
ны по селам и городам Англии, и не одного героя,
а группы центральных персонажей во главе с героем —
мистером Пиквиком, президентом псевдонаучного клуба
его имени.
Творчество Диккенса свидетельствует о широких и
разносторонних его связях с предшествующим и совре-
менным ему литературным опытом и не ограничивается
английской литературой. Диккенс считал за должное
для писателя освоение великой традиции и признание
своей литературной родословной.
«Пиквикский клуб» больше и нагляднее, чем другие
романы Диккенса, обнаруживает его связь с литера-
турной традицией. Вместе с тем это самый «неожидан-
ный» и необычный его роман. В нем возникает и в своих
характерных чертах оформляется «мир Диккенса», це-
лостный, развивающийся литературный организм, основ-
ные начала которого — человечность и демократизм,
противоборствующие дикости, невежеству, произволу, на-
силию, жестокости, грубости, несправедливости в много-
образных их формах и обличьях. В «Пиквикском клубе»
человечность и демократизм полнее и убедительнее все-
го проявляют себя через юмор, в нем находят живи-
тельную атмосферу и опору. Диккенсовский юмор неод-
нозначен, многогранен, по-особому освещает повество-
вание и речи персонажей. Он часто вызывает улыбку —
то веселую, то грустную, чаще смех — то радостный, то
сквозь слезы. Юмор Диккенса душевный, уютный, как
бы домашний, но и взрывчатый, гневный, переходящий
в сатиру. При своей неоднородности, юмор Диккенса
необычайно привлекательная особенность его творчест-
ва, законченное выражение редкой душевной уравно-
вешенности.
Средоточие юмора в романе «Пиквикский клуб» —
его герои: мистер Пиквик, первый и, можно сказать,
самый прославленный из главных персонажей Диккен-
са, его слуга и соратник Сэм Уэллер, а также сподвиж-
ники Пиквика, «пиквикисты» — мистер Тампен, востор-
женный поклонник женского пола, мистер Снодграсс, не
93
менее восторженный поклонник поэзии и поэт, мистер
Уинкль, столь же пристрастный любитель спорта, спорт-
смен и охотник. Это комические фигуры, и комизм их
основан на контрасте между их притязанием и реаль-
ной способностью его оправдать. Мистер Уинкль счи-
тает себя заправским спортсменом, однако мистер
Уинкль-наездник не знает, как сесть на лошадь, а ми-
стер Уинкль-охотник — как зарядить ружье, что и вы-
зывает невольный и веселый смех. Тампен, Снодграсс,
Уинкль наивны и безобидны в своих притязаниях, и
смех, ими вызываемый, безобиден и добродушен. Во
многих других случаях необоснованные, ложные или
нелепые притязания различных персонажей Диккенса
предстают в его романах как типичное, весьма распро-
страненное и отнюдь не безобидное явление индивиду-
альной и социальной психологии, семейного быта и об-
щественных нравов, предстают не только в комическом,
а все более в сатирическом свете.
Комические фигуры Тампена, Снодграсса, Уинкля
нарочито карикатурны, и их нелепые выходки могли бы
вскоре наскучить, если бы они не были сподвижниками
Сэмюэла Пиквика, и если бы к нему не присоединился
Сэм Уэллер. Два Сэмюэла — Сэмюэл Пиквик и Сэмюэл
Уэллер — дополняют друг друга и своим союзом сразу
напомнили другой союз, своих классических предшест-
венников— Дон-Кихота и Санчо Пансу.
Среди памятных образов английской литературы
XVIII века немало образов чудаков, чудачества кото-
рых— способ и форма проявления человечности. Ми-
стера Пиквика не следует изымать из их ряда. И все
же «чудачества» Пиквика, их психологическая особен-
ность и нравственный смысл, отчетливее всего способ-
ны выявить себя, если диккенсовского героя непосред-
ственно соотнести с героем Сервантеса. В их внешнем
облике нет схожих черт. Иные времена и нравы, иная
национальная почва. У Сэмюэла Пиквика нет рыцар-
ских доспехов, у него вид добропорядочного английско-
го буржуа. Различны условия жизни Пиквика и Дон-Ки-
хота, круг их практических интересов, масштаб их
устремлений и действий. Но, на свой лад и в своем
масштабе, Пиквик рыцарь чести и справедливости. Ему
чужды своекорыстие, эгоистическая забота о собствен-
ной персоне, бездушие, чванливость, ханжество. Он на-
глядное выражение доброжелательности и великодушия.
Воплощенный энтузиазм, он с неизменной энергией и
94
страстью готов беззаветно выступать в защиту спра-
ведливости и гуманности. Однако сфера проявления его
энтузиазма имеет свои пределы. Для понимания этих
пределов многозначительным представляется эпизод
с первой вставной новеллой, с «Рассказом странствую-
щего актера» (гл. 3). Рассказчик, «мрачный субъект»,
как он назван автором, предваряет свой рассказ ввод-
ным замечанием. По его словам, в том, что он собира-
ется рассказать, «нет ничего чудесного» и «ничего из
ряда вон выходящего. Нужда и болезнь,— говорит он,—
явления столь заурядные на многих этапах жизни, что
заслуживают не больше внимания, чем принято уделять
самым обыкновенным изменениям в человеческой при-
роде»1. Это предваряющее рассказ замечание призвано,
по-видимому, смягчить впечатление от следующей за
ним трагической истории пантомимного актера. Но вос-
принимается это замечание как риторическая вставка,
не лишенная, впрочем, оттенка горькой иронии. Пиквик
выслушивает трагическую историю, рассказанную мрач-
ным субъектом, и читателю небезынтересно узнать, что
же думает о печальной судьбе несчастного актера дик-
кенсовский Дон-Кихот. Но читатель лишен этой воз-
можности. Автор ссылается на «злополучное обстоя-
тельство», которое помешало ему «с величайшим удо-
вольствием» сообщить мнение мистера Пиквика. Автор
сам пресекает возможность получить «величайшее удо-
вольствие». Пиквик задуман им как герой «комической
эпопеи». Пиквику с его простодушием, наивной востор-
женностью, чрезмерной доверчивостью, как и Дон-Ки-
хоту, говоря словами Белинского, не хватает такта
действительности, и он, как и Дон-Кихот, часто оказы-
вается в смешном положении, и не только в смешном,
но и в трагикомическом. Он становится жертвой ковар-
ства, лихоимства, беззакония, попадает в тюрьму и
заметно меняется в ходе действия, и все же он, в отличие
от Дон-Кихота, остается комическим, а не трагикомиче-
ским героем. И соответственно судьба его заметным
образом отличается от судьбы Дон-Кихота.
«Дон-Кихот энтузиаст, служитель идеи и потому об-
веян ее сиянием», — сказал И. С. Тургенев в своей
знаменитой речи «Гамлет и Дон-Кихот». И Пиквик эн-
тузиаст, он следует принципу чести, справедливости и
1 Цитаты из произведений Ч. Диккенса воспроизводятся по
Собр. соч. в 30-ти томах. М., Художественная литература, 1957.
95
гуманности, он обвеян сиянием этого принципа. Но Пик-
вик герой иного масштаба. «Посмотрите на Пиквика
у Диккенса: не правда ли, что он очень ограниченный
человек? А между тем, кто может не любить его, кто
не станет уважать его...?» Так воспринял диккенсов-
ского героя Н. Г. Чернышевский1.
Особый повод для того, чтобы испытывать уважение
и симпатию к Пиквику, определился с того момента,
как его начал сопровождать Сэм Уэллер. Если бы вдруг
волей творческого случая не возник рядом с лидером
пиквикистов этот бравый и находчивый, здравомысля-
щий и преданный лондонский парень, Пиквик многое
бы потерял в глазах читателя, ему бы не удалось в кру-
гу исконных пиквикистов в той же мере, с той же сте-
пенью значения и убедительности проявить свою натуру
благородного чудака, как это получилось благодаря
участию в комических похождениях его верного слуги
и сподвижника. Сэм Уэллер своим присутствием, словом
и действием способствует убедительному и заражающе-
му проявлению в романе здорового чувства жизни.
Сэмюэла Пиквика и Сэма Уэллера сопровождают
смех и веселость, их окружает атмосфера душевности,
искренности, доброжелательства. Это редкое в новей-
шей литературе чистое упоение задорным смехом и
безудержным весельем. Оно сохраняет свою силу до
конца романа, определяя общее от него впечатление, и ф
больше не повторится в такой мере и степени, хотя мно-
гие новые герои Диккенса — и не только из числа чу-
даков— своей душевностью и жизнелюбием напомнят
читателю о пиквикистах. Основа веселого оптимизма
Диккенса, столь живо и натурально выраженного в юмо-
ре,— его вера в человека и его демократизм.И в своей су-
ти, и по своей форме юмор Диккенса — народный юмор.
Жизнь, мягко говоря, неласково обошлась с Сэмом
Уэллером, по его признанию, он был вышвырнут «вверх
тормашками в мир поиграть в чехарду с его напастями».
Основы воспитания ребенка, которыми руководствовал-
ся Уэллер-старший, сводились к тому, чтобы Сэмми
«сам выпутывался из беды». Сэм Уэллер не струсил,
выстоял, проявил выдержку и предстал перед мистером
Пиквиком энергичным, находчивым и жизнерадостным,
веселым малым. «Да вы философ, Сэм», — говорит ми-
1 Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч. в 15-ти томах,
т. II. М., Гослитиздат, 1949, с. 800.
96
стер Пиквик, выслушав рассказ Сэма о его злоключе-
ниях. «Должно быть, это у нас в роду, сэр, — отвечает
Уэллер. — Мой отец очень налегает теперь на это заня-
тие. Мачеха ругается, а он свистит». Далее (гл. 16) рас-
сказано, как старший Уэллер своей стойкостью и вы-
держкой приводит в чувство мачеху, впавшую было
в истерику. «Это философия, сэр, не правда ли?» —
спрашивает Пиквика Сэм Уэллер. «Во всяком случае,
очень недурная замена, — смеясь отвечает Пиквик.—
Должно быть, она сослужила службу, Сэм, в вашей
беспокойной жизни?» Как бы ни судить о семейной
«философии» Уэллеров, представленной с комической
стороны (гл. 16), позиция жизненной стойкости, вы-
держки, здорового и смелого взгляда на жизнь сослу-
жила службу Сэму Уэллеру, как и самому Диккенсу
и его комическому роману.
Жизнь не баловала Диккенса ни в детстве, ни в юно-
сти. Родился он в семье незадачливого чиновника фи-
нансового управления морского ведомства 7 февраля
1812 года в небольшом домике в Лендпорте, в то время
предместье Портсмута, оживленного портового города
на южном побережье Англии. Отца Чарльза, Джона
Диккенса, переводили по службе из города в город:
из Портсмута в Лондон, из Лондона в Четэм, из Четэма
снова в Лондон. В 1823 году одиннадцатилетним маль-
чиком Чарльз приехал в Лондон, приехал один, без про-
вожатых и спутников, в почтовой карете. Вспоминая
много лет спустя этот свой одинокий переезд, он писал:
«...всю дорогу лил сильный дождь, и я думал о том, что
в жизни гораздо больше грязи, чем я ожидал». Прохо-
дили годы, но Диккенс не забывал этого детского впе-
чатления и взрослым продолжал думать о том же, как
не забывал он желание своего детства видеть красоту
и радоваться ей.
Английская столица встретила Чарльза неприветли-
во. Материальное положение семьи Диккенса резко
ухудшилось, и вскоре разразилась катастрофа.
Джон Диккенс на свой лад был пиквикистом, в том
смысле, что притязал на более спокойную, независимую,
веселую и легкую жизнь, не располагая для этого ни
материальными возможностями, ни практической смет-
кой. Преследуемый кредиторами, он попал в тюрьму,
в знаменитую долговую тюрьму Маршалси, которую,
опираясь на личные впечатления и переживания, Чарльз
Диккенс изобразил в романе «Крошка Доррит» во всей
4 М. В. Урнов
97
ее бытовой реальности. А Джон Диккенс послужил
прототипом Уилкинса Микобера (роман «Дэвид Коп-
перфилд»).
В Четэме Диккенс начал учиться в школе, с особой
страстью и удовольствием увлекался театром, много чи-
тал, а тут, в Лондоне, как-то сразу все оборвалось. Он
был предоставлен самому себе, чувствовал себя одино-
ким, горько переживал тяжелое положение отца, с чув-
ством ущемленного самолюбия начал трудовую жизнь.
Его устроили на фабрику ваксы, и он по десять — две-
надцать часов в день занимался хотя и не тяжелым, но
монотонным трудом — наклеивал ярлыки на банки
с ваксой. Эти годы по причине резкого раннего пере-
лома в судьбе, тяжких и противоречивых переживаний
оказались особенно памятны для Диккенса, повлияли
на мотивы и пафос его творчества, нашли непосредст-
венное отражение в его романах «Оливер Твист», «Ни-
колас Никльби», «Дэвид Копперфилд», «Крошка Дор-
рит».
Широкая панорама английской жизни, представлен-
ная в «Пиквикском клубе», также основана на личных
впечатлениях автора. У него был опыт работы клерком
в адвокатской конторе, судебным репортером, и запас
его наблюдений неприглядных лиц и фактов послужил
ему для создания сатирических образов наглых судей-
ских чиновников Додсона и Фогга и судебного процес-
са над мистером Пиквиком.
Диккенс овладел стенографией, изучил французский
язык, неплохо знал итальянский, успешно работал пар-
ламентским и газетным репортером, много разъезжал
по стране и знал материал из первых рук, когда обо-
зревал бытовую, социальную и политическую жизнь
Англии. Критика неоднократно особо отмечала в этом
обозрении блестящий сатирический эпизод с изображе-
нием парламентских выборов в Итенсвилле и вместе
с ним эпизод «пламенной полемики» в печати, дух и
манеру которой, в таких же приемах сатирического гро-
теска, но на американской почве, воспроизведет затем
Эдгар По в рассказе «Литературная жизнь КаквасТама,
эсквайра». Характерную часть широкого обозрения со-
ставляет описание провинциального литературного са-
лона Лео Хантер, бездарной, самодовольной пЪэтессы,
которая охотится за «львами», в том числе и за мисте-
ром Пиквиком, знаменитым президентом прославлен-
ного клуба. Общую картину дополняют три вставные
98
новеллы, рисующие мрачные ситуации и судьбы. Ёместё
с тем принято считать, что веселые сцены безмятежной
жизни, особенно в усадьбе Дингли-Делл мистера Уорд-
ля, слишком идилличны, отклоняются от реальности,
в них Диккенс — реалист, юморист и сатирик уступает
место сентиментально-романтическому Диккенсу, нару-
шая реалистическое единство и целостность масштабной
комической эпопеи.
Диккенс был склонен к социальному утопизму, и в
этой его склонности сказывается влияние идей Просве-
щения, социальных перемен, массового движения за ре-
формы. Пафос и характер диккенсовских социально-
утопических устремлений больше и отчетливее, чем
в других произведениях писателя, проявились в «Пик-
викском клубе». И в'се же эта комическая эпопея — це-
лостное реалистическое произведение. Изображение рож-
дественского веселья в Дингли-Делл в такой же мере
основано на реальных фактах, как и описание трагиче-
ской судьбы спившегося актера в первой вставной но-
велле. Диккенс был убежден в том, что жизнелюбие,
выражаемое коллективным чувством радости, весельем,
смехом, одно из необходимых условий нормальной жиз-
ни. Он ценит естественное проявление здорового весе-
лого духа и своим изображением радости и веселья
стремится возбудить и возбуждает любовь к жизни и
к человеку.
«Существенная форма духа — это радостность...»1 —
писал Маркс. Автор «Пиквикского клуба» увлеченно вы-
ражает эту существенную форму здорового духа и воз-
буждает его у читателя.
«Пиквик» написан с веселостью, которая сияет из
лиц»2, — заметил Л. Н. Толстой. Пиквикисты во главе
со своим лидером Пиквиком и его слуга и соратник
Сэм Уэллер сосредоточили в себе и распространяют
вокруг себя жизнелюбивую веселость. Они проклады-
вают путь задорному, порой колкому, но доброжела-
тельному юмору. Ободряющая и заразительная весе-
лость этих лиц, и прежде всего Сэма Уэллера, своим
сиянием озаряет окружающую их атмосферу искрен-
ности и душевности, возбуждая радостное чувстве
жизни.
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 6.
2 «У Толстого. Яснополянские записки Д. П. Маковицкого». —
Литературное наследство, книга первая. М., Наука, 1979, с. 431
4*
&
Переход от «Пиквикского клуба», комической эпо-
пеи, где диккенсовский веселый юмор преобладает и
господствует, к «Оливеру Твисту», первому собственно
социально-обличительному роману Диккенса, не должен
представляться неожиданным, это закономерный момент
творческой эволюции.
Избрать профессию писателя Диккенса побудила не
только необходимость постоянного труда, отвечающего
его творческому призванию, тщеславию и честолюбию
и способного обеспечить ему материальные условия
существования, но и потребность влиятельной граждан-
ской деятельности. Диккенс был убежден в высоком
общественном значении искусства, как и в том, что оно
способно выполнять это свое назначение, когда соеди-
няет в себе красоту, идеал и правду. «Упорная борьба
за правду в искусстве, — отмечал он, — радость и горе
всех настоящих служителей искусства». Для того чтобы
выдержать эту упорную борьбу, требуются высокие
гражданские убеждения и действенное мужество. Мож-
но считать гражданским и творческим девизом Диккен-
са его слова: «Там, где я уверен в истине, я не стану
лукавить ни с одним человеком».
Успех, признание, наконец, слава явились к Диккен-
су без колебаний и промедления, едва были опублико-
ваны «Посмертные записки Пиквикского клуба». Однако
от него потребовались стойкость и мужество, чтобы не
отклониться в сторону и не изменить своему убеждению
и призванию. Переходя от осуществленного замысла
к новому замыслу, от «Посмертных записок Пиквикско-
го клуба» к «Приключениям Оливера Твиста», Диккенс
утверждал свое право художника по личному усмотре-
нию выбирать тему, писать не только о «сливках» об-
щества, но и о его «подонках», если, замечал он в скоб-
ках (в предисловии к новому роману), их «речь не
оскорбляет слуха»; писать о «подонках» не так, как это
было в популярной литературе до него и в его время,
не приукрашивая жизнь, не делая зло и порок соблаз-
нительными, а показывая «суровую правду».
Когда читатель, современный Диккенсу, обращал-
ся к его романам, предполагая найти в них привыч-
ные захватывающие приключения — головокружительные
«скачки галопом по вересковой степи» и веселых ра-
душных головорезов с «большой дороги», его ожидало
разочарование. Такой «обычной нити приключений»,
которую искал, как он говорит об этом в своих воспо-
100
минаниях, юный Короленко, знакомясь с Диккенсом,
в его романах не было.
Повествование у Диккенса основано на чередовании
событий; динамизму описания способствуют и приклю-
ченческие эпизоды, в том числе и похищения и пресле-
дования. Один из ярких и запоминающихся эпизодов
из первого романа Диккенса — эпизод с погоней при
участии мистера Пиквика. Беспардонный комбинатор,
делец, враль и обманщик Альфред Джингль — в надеж-
де поживиться — увлек за собой мисс Рэчел, старую
деву, жаждущую брачных уз. Обман раскрыт, следуют
шум, суета, затем бешеная погоня на бешеных лошадях,
запряженных в карету. Но факт участия в погоне ми-
стера Пиквика придает приключению необычный харак-
тер— и смешной и патетический. А описание приклю-
чения, всего, что с ним связано, — люди и кони, место
и время действия, шум и темп суматохи, душевное со-
стояние и минутное размышление главного героя — все
передано с необычайной живостью, точностью и лако-
низмом, так что и детали, и общая картина, и фон, и
передний план воспринимаются легко и целостно. По-
добная живость и свобода эпического повествования,
когда перо способно схватить и в точном слове передать
многообразные предметы и явления в их ощутимой ма-
териальности и соединить все в целостный подвижный
образ, — с помощью описания, реплик, диалога, внут-
реннего монолога, соединить остроту сюжетного движе-
ния и переменчивость психологических состояний и сде-
лать все выразительным и наглядным, — подобное по-
вествование выделялось на фоне самых ярких образцов
весьма развитого искусства английской прозы и стало
образцом для новых исканий в приключенческой лите-
ратуре и в жанре психологического романа.
Если исходным моментом замысла «Пиквикского
клуба» был случай, то замысел «Оливера Твиста» изна-
чально определен авторской установкой, публицисти-
ческой по своему пафосу и гражданской по своей
сути.
Диккенс изобразил воровской мир вслед за Дефо и
Филдингом, и это заметно: некоторые мотивы он повто-
ряет, некоторые описательные приемы учитывает, даже
подражает им. Беззаботный шутник и забавник Чарльз
Бейтс, остряк Ловкий Плут способны напомнить «ве-
сельчака и славного малого» Майора Джека, младшего
из трех Джеков, героев романа Дефо «Полковник
101
Джек», а озверевший Сайке—Капитана, Джека, стар-
шего из Джеков, отличавшегося «тупой кровожад-
ностью». Однако заметнее и значительнее в этой лите-
ратурной зависимости то, что Диккенс, учитывая опыт
своих великих предшественников, опирается на свой
опыт и опыт новой эпохи, учитывает уровень, возмож-
ности и задачи литературы своего времени, отзывается
на текущие события и создает совершенно оригиналь-
ное произведение, роман, который был и остается од-
ним из самых популярных и читаемых произведений
английской литературы.
Справедливо было отмечено Игорем Катарским
в его замечательном исследовании «Диккенс в России»:
«Детские образы в творчестве Диккенса могут по праву
быть названы художественным открытием для европей-
ской литературы XIX века. Так глубоко проникнуть
в душевный мир ребенка не смогла ни одна из литера-
тур Западной Европы вплоть до последней трети XVIII
века, до появления голдсмитовского «Векфильдского
священника» и «Исповеди» Руссо»1. К этому можно и
нужно добавить: не просто «детские образы», создан-
ные Диккенсом, взятые отдельно друг от друга или в их
совокупности, явились художественным открытием. «Дет-
ские образы» занимали воображение Диккенса всю его
творческую жизнь, они присутствуют во всех его рома-
нах, от первого до последнего, и почти каждый из этих
образов действительно свидетельствует о таком глубо-
ком проникновении в душевный мир ребенка, каким не
обладал ни один великий писатель до Диккенса. Но
чтобы по достоинству оценить «художественное откры-
тие» Диккенса, недостаточно этой констатации.
Мир детей как мир особый и вместе с тем неотде-
лимый от мира взрослых, от него зависящий и на него
влияющий, мир разнообразный, сложный, мало изу-
ченный, трудно постижимый, и хрупкий, и прочный,
требующий пристального внимания, глубокого постиже-
ния и чуткой заботы, такой мир впервые в художествен-
ной литературе был открыт и воссоздан Диккенсом. Это
открытие признавали и необычайно ценили малые и ве-
ликие писатели, больше всего те, кого тревожили «про-
клятые вопросы» взрослого мира, в их числе на первом
месте Толстой и Достоевский.
1 Катарский И. Диккенс в России. Середина XIX века. М.,
Наука, 1966, с. 275—276.
102
Особый интерес Диккенса к детскому и юному воз-
расту был вызван его собственными ранними пережи-
ваниями, его пониманием обездоленного детства и со-
чувствием ему, пониманием того, что положение и со-
стояние ребенка отражают положение и состояние семьи
и общества в целом. Диккенс был возмущен невежест-
вом в обращении с детьми в семье и школе, а также
уродующими души детей детскими учреждениями. Он
писал о детях, руководствуясь потребностью изменить
и улучшить условия их жизни, условия труда, образо-
вания, воспитания с надеждой и уверенностью, что прав-
дивым, обличающим и вдохновляющим словом всему
этому возможно решительно способствовать.
Герои Диккенса из мира детства — дети и подрост-
ки— здоровые духом., нравственно чистые, стойкие и
отважные, остро переживают конфликтные ситуации,
способны выдержать горести и невзгоды, ответить доб-
ром на добро, в чувствах, помыслах и поступках проти-
востоять несправедливости. Нередко их глазами Дик-
кенс смотрит на мир, на разные сферы социальной
жизни, на людей и природу, и судит обо всем мерой их
душевного состояния, и горестного и радостного, воз-
действуя на читателя выражением целого комплекса
чувств, переживаемых героем и сопереживаемых авто-
ром. Роберт Луис Стивенсон последовательнее и полнее,
чем другие английские писатели, воспримет и разовьет
эту диккенсовскую традицию.
«Приключения Оливера Твиста» еще не были изда-
ны, а Диккенс уже писал новые приключения — «Нико-
ласа Никльби». Это была обычная практика профессио-
нальной работы Диккенса, работы непрерывной, когда
один замысел сменяется другим и книга выходит за
книгой.
Романы Диккенса выходили по частям, выпусками,
прежде чем появиться в отдельных изданиях, и автору
приходилось особо заботиться о занимательном разви-
тии фабулы, поддерживать интерес читателя в преры-
ваемом чтении. События в романах Диккенса призваны
обострить читательский интерес, но в сути своей они
содержательны, связаны с разными сторонами действи-
тельности, способны многое прояснить в условиях жиз-
ни героя, в его характере, в жизни страны и народа.
Однако основной интерес в романах Диккенса возбуж-
дают не события, а характеры, созданные им вереницы
характеров, позволяющие читателю представить себе,
ю?
чем и как жили люди диккенсовского времени, какие
черты их психологии и поведения оказались живучими,
какова их социальная и нравственная суть.
В предисловии к роману «Жизнь и приключения
Николаса Никльби» Диккенс сформулировал важный
для него принцип создания характеров, уже подготов-
ленный предшествующими его произведениями, но впер-
вые последовательно реализованный именно в этом ро-
мане. Общество, — писал он, — «редко допускает появ-
ление в романе человека с резко выраженными качест-
вами, хорошими или плохими, остающегося притом
правдоподобным». Диккенс наполнил многие свои ро-
маны такими людьми. Они могут показаться и нередко
кажутся неправдоподобными и просто фантастически-
ми, особенно если их рассматривать вне художествен-
ного мира, им созданного. Для Диккенса художествен-
ная литература, как и искусство в целом, — особая
природа, созданная на основе жизни и ради жизни,
развивающаяся в зависимости от общественной приро-
ды, но следующая и своим законам — законам искус-
ства.
Говорят — и справедливо, — что на создаваемых Дик-
кенсом характерах сказалось его пристрастие к театру,
ранний, еще детский интерес к народным представле-
ниям. Однако эта увлеченность нашла практический
выход в методе и приемах изобразительности только
в силу того и после того, как сама действительность об-
нажила перед его проницательным взглядом фантасти-
ческие контрасты и фантастические формы их выраже-
ния. В резкой заостренности и противопоставленности
характеров в романах Диккенса нашла свое выраже-
ние его гражданская страстность, его публицистический
пафос, возбужденный недовольством народных масс и
чартистским движением. Чартизм, по характеристике
В. И. Ленина, «первое широкое, действительно массо-
вое, политически оформленное, пролетарски-революци-
онное движение»1. Масштаб и глубина, сила и страсть
критического начала в творчестве Диккенса связа-
ны с этим движением, отражают недовольство и воз-
мущение рабочего класса и трудящихся масс. Дик-
кенс сочувствовал рабочим, но не разделял убеж-
дений чартистов, был противником революционного
насилия.
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 305.
104
Большой город, Лондон непосредственно воздейство-
вал на Диккенса, на его представление о жизни капи-
талистической Англии, воздействовал на его творче-
скую фантазию, и, можно утверждать, на его принципы
создания характеров, на то, что в его художественном
мире представляется фантастическим. Чтобы конкретно
почувствовать это воздействие английской столицы на
Диккенса, следует внимательно прочитать описание Лон-
дона в романе «Николас Никльби» и воссоздать в сво-
ем воображении «ежесекундно меняющуюся, непрерыв-
но разнообразную панораму», которая на самого автора
производила впечатление «какой-то дикой вакханалии».
Резкость бытовых и социальных контрастов, фантасма-
гория подвижных и застывших форм, кричащая пестро-
та цветовых оттенков отразились в резко контрастных
и причудливых характерах. Диккенс не был бы Дик-
кенсом, если бы в его жизни не было Лондона.
В романах Диккенса проходят вереницы персонажей
с резко выраженными качествами. Вереницу отврати-
тельных существ в человеческом облике первыми пред-
ставляют Сквирс и Ральф Никльби, фигуры столь мерз-
кие, что они кажутся фантастическими, но они вполне
реальны. «Мистер Сквирс, — по словам Диккенса,—
является представителем своего сословия, а не отдель-
ным индивидом». Этот хозяин школы-пансиона, в кото-
рой истязают и духовно калечат несчастных детей, —
типичный делец на ниве просвещения и воспитания. Имя
его стало нарицательным, выражением деляческой наг-
лости и лицемерия.
Ральф Никльби, дядя Николаса Никльби, героя ро-
мана, чертами характера и жизненными устремлениями
близок Сквирсу, но это делец иного, гораздо более ши-
рого размаха. Сила и власть Сквирса распространяются
лишь на принадлежащую ему школу, на группу несча-
стных ребятишек. Ральф Никльби претендует на все-
могущество. Под воздействием убеждения, что нет
власти превыше власти денег, жажда наживы, его ве-
дущая страсть, развивается у него до мании. Для Раль-
фа Никльби всякий, кто не признает власти денег, а тем
более протестует против нее, — противник, которого
надлежит усмирить, наказать или сокрушить. «Хитрый
скряга с холодной кровью», — такова его покаянная са-
мохарактеристика. Диккенс не удовлетворяется ею, он
идет дальше, указывает на Ральфа Никльби как на
зловещее явление полного выхолащивания души в силу
105
власти денег и добровольного ее признания, поддержки
и восхваления. Исконные человеческие чувства и прин-
ципы— любовь, сострадание, честь, совесть, родствен-
ный и гражданский долг — все, что делает человека
человеком, все это уничтожено в душе Ральфа Никль-
би. Теоретик и практик наживы, он скрывает алчную
сущность под многочисленными личинами, и тем таин-
ственней и зловещей кажется его фигура, и атмосфера,
его окружающая, таинственна и зловеща. Подобные же
зловещие фигуры и удушающая атмосфера с простой
наглядностью и символической обобщенностью изобра-
жены в следующем, четвертом романе Диккенса, в «Лав-
ке древностей».
Критика отмечала недостаток социальной конкрет-
ности в изображении Квилпа и его финансовых махи-
наций. Образ карлика-уродца, его фантастические транс-
формации, его загадочное логовище в странном зага-
дочном месте, причудливый Томас Скотт, его прислужник,
неожиданная гибель злобного карлика в темных водах
реки — все это, как и многое другое, как и сама лавка
древностей, привнесено из сказки. И героиня романа,
маленькая Нелл, напоминает сказочных, фольклорных
героинь, тем более «маленькая маркиза», маленькая
служанка, о которой стало привычным говорить как
о диккенсовской Золушке.
Сказочные мотивы были уже в «Пиквикском клубе»,
но там они едва намечены и выявляют себя вне сюже-
та. Заметнее всего в творчестве Диккенса они высту-
пают в «Лавке древностей» и в «Рождественских по-
вестях». Это прямое свидетельство связи творчества
Диккенса с фольклорной традицией, его глубокого и
живого интереса к сказке, непосредственного воздейст-
вия на него знаменитых «арабских сказок», широко из-
вестных как «Сказки Шахразады», или «Тысяча и одна
кочь», которые приобрели в Англии и в других европей-
ских странах не только популярность, но и оказали за-
метное литературное влияние.
Сказочные мотивы в творчестве Диккенса сближены
и соединены с реальным миром, с конкретными быто-
выми и социальными сферами; они помогают передать
особенность восприятия реальности маленькой герои-
ней, придают ее облику трогательную поэтичность, воз-
буждают фантазию читателя.
С помощью сказочных и сказочно-романтических мо-
тивов Диккенс создает образный мир, в котором, гово-
106
ря словами гоголевского персонажа, «такая чертовщина
водится, что прямо бери шапку да и улепетывай куда
ноги несут». И героиня «улепетывает» — спасается бег-
ством от преследований ростовщика Квилпа, который
разорил ее деда, владельца лавки древностей. Наблю-
дая похождения и выходки Квилпа в деловой и быто-
вой обстановке, можно подумать и сказать, воспользо-
вавшись на этот раз словами тургеневского персонажа:
«Да это просто сон, какое-то наваждение, туман какой-
то!..» И Диккенсу с его представлением о нормальном
сознании, с его верой в человека и в общественный
прогресс, когда он писал «Лавку древностей», казалось,
что это действительно какое-то наваждение и что стоит
вразумительно сказать «чур-чур, наше место свято»,
и туман рассеется. Он полагал необходимым указать на
распространяющееся зло, изобличить его, но и приобод-
рить читателя, показав неизбежность возмездия за зло,
его поражение. Он не стал лукавить ни с читателем,
ни с самим собой и обнажил действительно ужасающие
социальные явления. Квилп, уродливый карлик с дья-
вольской улыбкой, по виду персонаж из страшной
сказки, но это сказка самой жизни, уродливые черты
в ней приобрели фантастические формы. Сказочно, но
вполне реально, отвечает характеру ее восприятия, впе-
чатление малютки Нелл от встречи с Квилпом, когда
ей кажется, «будто легионы Квилпов надвигаются на
нее со всех сторон и воздух кишит ими». «Я, конечно,
не стану утверждать, — скажет Нелл миссис Джерли,
владелица паноптикума «Сто восковых фигур в нату-
ральную величину», — что восковые фигуры совсем как
люди, но иной раз посмотришь на человека — и поду-
маешь: ни дать ни взять восковая фигура».
«Человек утратил свою душу», — скажет в 1843 году
в книге «Прошлое и настоящее», анализируя общест-
венное сознание Англии, Томас Карлейль, писатель,
историк, философ. «Недостаток «души», т. е. истинно
человеческого сознания»1, — пояснит Энгельс один из
выводов Карлейля, рецензируя его книгу.
«Душа убывает»,— повторит за Карлейлем в 1859 го-
ду в книге «О свободе» Джон Стюарт Милль, эконо-
мист, публицист, философ. «Постоянное понижение лич-
ностей, вкуса, тона, пустота интересов, отсутствие энер-
гии ужаснули» Милля, — скажет Герцен, разбирая его
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 585.
107
книгу, и продолжит: «...он присматривается и видит
ясно, как все мельчает, становится дюжиннее, рядское,
стертое, пожалуй, «добропорядочнее», но пошлее. Он
видит в Англии (то, что Токвиль заметил во Франции),
что вырабатываются общие, стадные типы, и, серьезно
качая головой, говорит своим современникам: «Остано-
витесь, одумайтесь! Знаете ли вы, куда вы идете? По-
смотрите — душа убывает» *.
Диккенс увидел все это раньше историка и философа
Томаса Карлейля и задолго до экономиста и философа
Джона Стюарта Милля. Он не просто сказал об этом,
дал голые выводы, он показал все это, показал убываю-
щие «души» и стадные типы, показал, как, в каких об-
стоятельствах и в силу каких причин «душа» убывает.
Он показал, как алчность, страсть к наживе становятся
манией, невежество, дикость, пошлость доходят до
крайних пределов. Как убывающие «души» поражаются
тщеславием и надевают на себя всевозможные личины.
Во многих созданных им лицах, особенно в своих Под-
снепах и Венерингах, он показал торжествующее лице-
мерие, представил его как национальное бедствие. Он
показал, как доходящая до озверения дикость наглеет
и, подобно мистеру Криклу, владельцу пансиона Сэлем-
хаус (роман «Дэвид Копперфилд»), уже без обиняков,
во весь голос заявляет о себе: «Я — зверь!»
Сказочные мотивы пронизывают не весь роман «Лав-
ка древностей», охватывают не все его главы и темы.
Когда малютка Нелл памятной страшной ночью бредет
со своим несчастным дедом по предместью фабричного
города, возникающая перед ней дикая и мрачная обста-
новка, картины нужды и страданий, образы голодных
и обездоленных, охваченных возмущением, — все эти
картины и образы, как бы ни казались они видениями
из кошмарного сна, написаны без влияния фантасти-
ческой сказки, суровым реалистом, сострадающим и
гневным.
В «Лавке древностей», впервые в творчестве Диккен-
са, появился образ фабричного города, и наряду с те-
мой нищеты и богатства обозначена тема труда и ка-
питала, классового конфликта. Диккенс создает пей-
заж, какого еще не знала английская литература, в нем
мрак ночи сгущен чернотой фабричного дыма, «грязью
1 Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. И. М., Изд-во
АН СССР, 1957, с. 68—69.
108
и смрадом большого промышленного города, полного
чахлой нужды и голодного отчаяния». Этот мрак гне-
тет и устрашает, но он неустойчив, и мрачный покров
не может скрыть волнения трудовой массы, выражаю-
щей недовольство и требующей перемен. Ночной фаб-
ричный пейзаж написан в суровых и грозных тонах,
проникнут патетикой, публицистическим пафосом. Они
находят свое выражение в колорите описания, в инто-
нации и в прямых авторских суждениях. Прямые сужде-
ния автора, краткие и развернутые, затрагивающие
актуальные проблемы времени, проникнутые сильным
чувством, содержатся в разной мере во всех романах
Диккенса.
В 1842 году, в маленькой паузе перед появлением
очередного объемного романа, Диккенс выпускает «Аме-
риканские заметки», книгу о Соединенных Штатах Аме-
рики, в которой его журналистский опыт и мастерство,
темперамент и пафос публициста получают свободное
и развернутое выражение в жанре путевого очерка, в
форме «заметок», основанных на личных впечатлениях.
Диккенс пробыл в Америке около пяти месяцев, про-
явил глубокий интерес и внимание к разным сторонам
ее жизни — к ее общественным институтам и учреждени-
ям, к быту и нравам, к материальным и духовным усло-
виям социальной жизни. Он сопоставил Старый Свет
с Новым, разные формы буржуазного правления, кон-
ституцию молодой республики,,провозгласившую свободу
для всех и всеобщее равенство, с реальным положе-
нием в стране, и, проявив независимость суждений, вы-
ступил с развернутой критикой, обличающей американ-
скую республику и капиталистический строй. Критика
была проницательной и аргументированной, не скло-
нялась к односторонности, не мешала выражению сим-
патий народу Соединенных Штатов Америки. Как все-
гда, Диккенс не хотел лукавить, поскольку был уверен
в истине того, что он говорит, и посвятил свои «Замет-
ки» тем своим друзьям в Америке, «кому любовь к ро-
дине не мешает выслушивать истину». Самой горькой
ее частью было развенчание иллюзий, разоблачение об-
мана и самообмана, указание на отсутствие свободы,
демократии и справедливости, которыми кичилась мо-
лодая республика и во что верили многие в Старом
Свете, в том числе друзья Диккенса и сам он до того,
как увидел все своими глазами. Писатель обнажил ди-
кость американских нравов, практику терроризма, суда
ins
Линча, наглое пренебрежение духовными ценностями,
«идеальным», принципами правды и справедливости и
указал на зависимость этой бьющей в глаза дикости от
системы социальных отношений, от рабовладения и
культа чистогана. С возмущением и гневом писал он
о «безнравственной американской прессе», «об этой
страшной машине», «дурной глаз» которой «проникает
в каждый дом», которая «умудряется приложить свою
грязную руку» к каждому назначению на государствен-
ный пост, начиная от поста президента и кончая долж-
ностью почтальона. Побывав в Америке, Диккенс лучше
понял Англию. Он без кичливости отметил в ней то,
что показалось ему более пристойным, чем в заокеан-
ской республике, хотя бы более благовидный облик
британской печати. Значительно расширив свое пред-
ставление о буржуазном обществе, он отчетливее уви-
дел и коренные пороки в родной стране. «Американские
заметки» предварили роман «Жизнь и приключения
Мартина Чезлвита» и вместе с этим романом явились
вехой на творческом пути Диккенса. В новом романе
расширена площадка действия, оно происходит попере-
менно в двух странах — в Англии и в Америке.
Повествование в «Мартине Чезлвите» отличается
концентрацией и социально-обличительным пафосом
в большей мере, чем в предшествующих романах Дик-
кенса. Про сюжет этого романа не скажешь безогово-
рочно словами Герберта Уэллса, что он, сюжет, надло-
мился под тяжестью характеров. В нем выделено не-
сколько социально значительных узловых моментов,
позволяющих целенаправленно и без фабульных ухищ-
рений развивать тему. Богатое наследство, его зло-
вредное влияние на владельца и наследников, на их
отношения — само по себе явление характерное, и вме-
сте с тем через него в романе проступают в своих ти-
пичных чертах буржуазные нравы и психология. Охота
за наследством старого Мартина Чезлвита, закорене-
лого эгоиста и скряги, обнажает однотипные пружины
поведения его родственников, стадное торгашество и
моральное оскудение как его следствие. Охотники за
наследством стремятся прикрыть свое хищничество и
духовную пустоту благовидной маской. Не своеобразие
личности, а особенность личины и мера хищной энергии
и хватки выделяет ту или иную фигуру из общей массы.
Самая среди них приметная и выразительная фигура —
мистер Пексниф — олицетворенное лицемерие и ханже-
110
сТво в их изощренной форме. Фальшивой кротостью И
приторной елейностью он прикрывает притязание на
особые достоинства и свои хищные вожделения. Стоит
послушать его рассуждение о меланхолической прелести
несбыточных юных надежд, в котором лукавая сенти-
ментальная мечтательность сочетается с жесткой трез-
востью, а затем его признание в удовольствии, какое он
испытывает, восхищаясь «стойкостью... иных сословий
переносить голод и холод», и уже можно представить
себе характер и меру нравственного уродства, вопло-
щенного в этой фигуре. Это превосходный образец реа-
листической сатиры, один из самых значительных сати-
рических характеров, созданных Диккенсом.
Важную событийную часть сюжета романа «Мартин
Чезлвит» составляют афера и авантюризм как харак-
терное явление социальной и коммерческой жизни, изо-
бражаемой Диккенсом: афера с «Англо-Бенгальской
компанией беспроцентных бумаг и страхования жизни»,
«основанной» авантюристом Монтегю Тиггом, и афера
с распродажей земельных участков в Долине Эдема,
организованная американскими авантюристами, жерт-
вой которой оказывается и герой романа, молодой Мар-
тин Чезлвит.
Монтегю Тигг делец особого пошиба, делец дутой
коммерции, жаждущий скорой наживы и не гнушаю-
щийся никакими преступными средствами. Это не просто
ловкий торгаш, это предприниматель-разбойник, кото-
рый с отвагой и наглостью ведет фальшивое предприя-
тие на основе тщательно разработанной технологии,
учитывающей психологию и клиента и конкурента, и
обеспечивающий свою безопасность аппаратом секрет-
ной службы. Такой тип коммерсанта впервые появляет-
ся у Диккенса; в дальнейшем еще не раз он будет при-
влекать его внимание.
Афера Эдемской земельной корпорации и «патрио-
тическое» восхваление этого «возвышенного установле-
ния», прославление коммерческого и политического
ловкачества в качестве национальной доблести, под-
держание национального и личного достоинства терро-
ром, безудержная демагогия, крикливая реклама и са-
мореклама, наглое самодовольство и элементарная не-
воспитанность,— все это изображено Диккенсом как
характерное явление «свободного полушария», продукт
набирающего силу американского капитализма. С афе-
рой Эдемской земельной корпорации связана тема
ill
«больших надежд» и крушения иллюзий, впрочем, эта
тема изначально соединена с сюжетом и станет основ-
ной темой в предпоследнем романе Диккенса, который
он так и назовет «Большие надежды».
Мартин Чезлвит питает большие надежды, он с ран-
них лет воспитывается «в надежде на большое наслед-
ство», и это его воспитание питает и раздувает его
эгоизм. С большой надеждой он едет в Америку. Крах
его надежды, перенесенные им страдания, соприкосно-
вение с народной средой, мужество, бескорыстие, от-
зывчивость и оптимизм его спутника, слуги и друга
Марка Тэпли, благотворно воздействуют на него, посте-
пенно меняют его психологию, очеловечивают его чув-
ства.
После «Американских заметок» и вслед за «Марти-
ном Чезлвитом» появились «Рождественские повести».
Резкая перемена жанра в творческой эволюции Диккен-
са может показаться неожиданной. Ни один новый ро-
ман Диккенса не повторяет предшествующего, и все
они, прочитанные в хронологическом порядке, свиде-
тельствуют о переменах в его творческом мире, посто-
янном и последовательном его развитии. Но то перемены
в рамках одного жанра. «Американские заметки» —
продолжение в новых условиях, на новом творческом
этапе и на новом уровне «Очерков Боза» и творческая
подготовка «Мартина Чезлвита». Американская его
часть опирается на «Американские заметки». Однако
«Рождественские повести» — естественное продолжение
творческого пути Диккенса. Обычно, еще не закончив
очередного произведения, он уже думал о новом, его
творческий процесс был непрерывным и по-своему ли-
хорадочным, почти как у каждого писателя-профессио-
нала.
Существенно отметить, что замысел первой рождест-
венской повести, «Рождественской песни», возник у Дик-
кенса еще во время работы над «Мартином Чезлвитом».
Критики напоминают, что первые выпуски этого рома-
на были прохладно приняты читателем и это обеспо-
коило Диккенса. Но не это обстоятельство было при-
чиной, основной причиной обращения к малому жанру,
приуроченному к рождественскому празднику.
В начале 40-х годов Диккенс заявил: «Я верю и на-
мерен внушать людям веру в то, что на свете сущест-
вует прекрасное, верю, невзирая на полное вырождение
общества, нуждами которого пренебрегают и состояние
112
которого на первый взгляд и не охарактеризуешь иначе,
чем странной и внушающей ужас перифразой Писания:
«Сказал господь: да будет свет, и не было ничего». Оп-
тимистическая вера и гуманизм Диккенса, его деятель-
ная гражданственность побуждали его к решительной
проповеди, побуждали внушать людям ту же веру и те
же убеждения. Диккенс надеялся, что его услышат и
отзовутся на его проповедь, он считал, что с обществом,
нуждами которого пренебрегают, он все же говорит на
одном языке. Эта вера питала его морализаторский эн-
тузиазм, его страсть обличать и проповедовать. В зна-
чительной мере поэтому, а не только в силу убежден-
ного гуманизма, у Диккенса едва ли можно отыскать
ноту крайнего пессимизма или безнадежной иронии,
столь характерные для английской литературы послед-
ней трети XIX столетия и особенно для XX века.
Диккенс обратился к жанру «рождественской пове-
сти», избрал форму святочной сказки в поисках худо-
жественной формы, доступной самой широкой аудито-
рии. Он учитывал особенность христианского праздни-
ка, его всенародность и его оптимистическую идею,
связанную с этим праздником надежду на перемену
к лучшему и радостное настроение. В святочных сказ-
ках Диккенса нет религиозной символики. В его рома-
нах часто возникает образ божественного младенца,
а в «рождественских повестях», где, казалось бы, сам
жанр предполагает его появление, нет даже упомина-
ния о нем. В святочных сказках Диккенса религиозный
смысл рождественского праздника устранен, оттеснен
реальностью, ее образами, а также фантастическими
образами и мотивами, фольклорными и романтическими,
призванными отразить реальность и выразить авторскую
идею.
Самая значительная из святочных сказок Диккенса,
связанная с праздником Нового года, — это «Колокола»,
сжатое, концентрированное выражение социального па-
фоса и стиля Диккенса в зрелый период его творчества.
По этому маленькому произведению можно судить
о масштабности и активности его художественной мыс-
ли. В «Колоколах» представлена панорама социальной
жизни диккенсовской Англии и обнажены проблемы
времени; показан трагизм положения трудового народа
и неизбежность его недовольства и протеста. С глубо-
чайшим сочувствием и любовью к трудовому народу
выписаны Диккенсом образы его представителей — чу-
113
даковатого посыльного Тоби Вэка, героя повести, кото-
рому «нечего было ждать ни от старого года, ни от но-
вого», его юной милой дочери, которой жизнь сулит
одни мрачные испытания, рабочего Уилла Ферна, от-
важного и мужественного, не согласного мириться
с жестокой судьбой и несправедливыми условиями жиз-
ни и труда. Диккенс подчеркивает обаятельную прямоту
их чувств, их поведения и их солидарность. Тоби Вэк
предупреждает Уилла Ферна о грозящей ему опасности
и привечает его у своего бедного очага. Вместе с тем
Диккенс с особой силой возмущения, средствами едкой
иронии и сатиры вскрывает цинизм, лицемерие и дема-
гогию господствующего класса, его идеологов. Самодо-
вольные и высокомерные, все они: проповедник «прак-
тической философии» Кьют, мальтузианец Файлер, кон-
серватор нового толка, некто по кличке «Краснолицый»
и «друг народа», «акробат благотворительности» Бау-
ли — все они, при всех их видимых разногласиях, кари-
катурно отражающих характерные тенденции в господ-
ствующей идеологии, в своих установках и разглаголь-
ствованиях, держатся одной позиции — требуют, чтобы
народ трудился в поте лица, был терпелив, покорен и
благодарен своим угнетателям. Даже Тоби Вэк, робкий
и забитый труженик, который, читая газеты, не мог
разобраться, имеет ли он и ему подобные «право жить
на земле», даже он прозревает под воздействием суро-
вых фактов. И поразительно, что именно он, словно
цитируя Шекспира, восклицает: «Я знаю, что Время
хранит для нас наше наследие. Я знаю, что придет
день — и волна времени, поднявшись, сметет, как листья,
тех, кто чернит нас и угнетает. Я вижу, она уже подни-
мается!» Поднявшаяся волна времени, чартистское дви-
жение побудили Диккенса вложить в уста своего героя
грозные слова — выражение окрепшего, прояснившего-
ся и возмущенного сознания трудового человека. У са-
мого Диккенса возросло и окрепло это убеждение. Он
не был сторонником революционных действий, но он
был убежден в необходимости решительных перемен,
способных утвердить социальную справедливость. С пол-
ным основанием говорил о Диккенсе Чернышевский:
«Это защитник низших классов против высших, это ка-
ратель лжи и лицемерия» К
1 Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч. в 15-ти томах,
т. I, М., Гослитиздат, 1939, с. 358.
114
В рождественских повестях отчетливо выразились
устремления, характерные для всего творчества Дик-
кенса. К ним относится и его идеал семейственности.
Повесть «Сверчок на печи» — прославление семейного
очага. Домашний очаг, какие бы драмы ни разыгры-
вались в домашней крепости, за плотно закрытыми
дверьми, не одному лишь Диккенсу, но многим его со-
временникам представлялся оплотом от нашествия мир-
ских невзгод и прибежищем для душевного отдохнове-
ния. У Диккенса домашний очаг — воплощенный идеал
уюта, а по утверждению Дж.-К. Честертона, это —
«идеал чисто английский». Это нечто органичное для
мироощущения и социальных упований великого пи-
сателя и любовно выписанный им образ. Диккенс от-
нюдь не заблуждался относительно действительного
состояния английской семьи в разных общественных
слоях, и его собственная семья, в конце концов распав-
шаяся, была для него жестоким уроком. И в ранних и
поздних своих романах, на всех этапах своего творче-
ского развития он изображает семьи-уроды, причины
их уродливости, их дурное влияние на детство, на под-
растающее поколение, на судьбы людские. Но это не
мешает ему питать в себе идеал семейственности, нахо-
дить для него опору в той же действительности, изобра-
жать близкие к идеалу и «идеальные» семьи. Однако
не всюду, не во всех общественных слоях, а прежде все-
го и главным образом в трудовой народной среде нахо-
дит Диккенс этот свой идеал. Здесь он видит беско-
рыстие интересов, искренность чувств, заботу о ближ-
нем, стремление делать добро без расчета. Семейный
очаг, прославляемый Диккенсом, не замкнут в себе,
он приветлив и радушен. И в идеальной семье может
собраться гроза, как это и происходит в счастливом се-
мействе возчика Джона и его милой Крошки («Сверчок
на печи»). Подозрение своей жены в обмане и невер-
ности вызывает у Джона приступ слепой ярости, и толь-
ко здравая рассудительность и доброта сердца удер-
живают его от преступления. К счастью, выясняется,
как и должно быть в святочной повести, что ревность
преданно любящего Джона вызвана необоснованным
подозрением.
В новых условиях, отдаленных от диккенсовской по-
ры, идеал семейного уюта или мысль об этом уюте не
исчезают со страниц английских книг, но им не удает-
ся обрести ту же устойчивость и притягательность. Уже
115
младшие современники Диккенса в созданных им обра-
зах семейного уюта видят стремление к утешительству.
Тем парадоксальнее кажется неожиданное, противостоя-
щее этому взгляду, замечание Блока: «Эти уютные ро-
маны Диккенса — очень страшный и взрывчатый мате-
риал; мне случалось ощущать при чтении Диккенса
ужас, равного которому не внушает и сам Э. По»1.
Ужас контрастов, уродливых форм цивилизации и про-
гресса и вместе с тем цельность взгляда, чувство пер-
спективы, высота эстетического и нравственного идеала,
что было затем утрачено многими писателями переход-
ного времени.
Преображение личности, вера в возможность духов-
ного возрождения — одна из важнейших тем творчества
зрелого Диккенса. Прямое, почти декларативное выра-
жение она получает в первой из его рождественских
повестей, в «Рождественской песне в прозе». Главный
персонаж этой повести — хозяин маклерской конторы
Скрудж — предстает в двух лицах, вполне реальный и
фантастическим способом преображенный. Скрудж ре-
альный— сквалыга, стяжатель, мастер «выжимать соки,
загребать, захватывать, заграбастывать, вымогать...».
Отточие показывает, что это еще не полная характери-
стика Скруджа. Он человеконенавистник, мальтузиа-
нец, поборник учреждений, обрекающих бедноту на
мучительный труд, голод и смерть. Он «скрытный, замк-
нутый, одинокий». Его внешний облик отражает его
духовную обледенелость. Это яркий сатирический образ
стяжателя. И рядом возникает иной Скрудж, преобра-
женный, очеловеченный фантастическим способом.
Святочная сказка о преображении Скруджа — нрав-
ственная проповедь, обращенная автором к реальным
Скруджам. В скором времени он напишет еще об одном
возрождении, без влияния святочных духов, о возрож-
дении личности купца Домби.
У Диккенса было пристрастие к моральной пропове-
ди, он верил в ее действенность, но из этого не следует
делать вывод, что он рассчитывал на повальное преоб-
ражение Скруджей и Домби. Еще в ранний период свое-
го творчества, в предисловии к роману «Приключения
Оливера Твиста», отвечая на критику, суть которой
сводилась к тому, что его автор, изображая злодеев,
1 Б л о к А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 6. М. — Л., Гослитиздат,
с. 108—109.
116
искажает правду, что в жизни так не бывает, Диккенс
заявил: «Как я опасаюсь, на свете все же есть такие
бесчувственные и бессердечные натуры, которые окон-
чательно и безнадежно испорчены». Бесчувственные и
бессердечные Скрудж и Домби — натуры испорченные,
но не окончательно и безнадежно, в них еще теплится
живое чувство — вот это показывает и стремится под-
твердить Диккенс, отнюдь не смягчая их бесчувствен-
ности и бессердечия. И не проповедь, а нравственное
потрясение, вызванное конкретными обстоятельствами
и протекающее в индивидуальных формах служит усло-
вием их преображения. У Диккенса в его книгах мно-
жество натур испорченных, натур фальшивых, спесивых,
злобных, мерзких, и он не делает попытки к их исправ-
лению, он их oбличaef и клеймит.
В романах, которые Диккенс напишет вслед за
«Рождественскими повестями», в «Домби и сыне» и
«Дэвиде Копперфилде», можно видеть, как в зрелые
годы своего творчества великий писатель все более за-
нимается одним лицом, героем произведения, и все
внимательнее, вдаваясь в детали и подробности, следит
за внутренней жизнью своих персонажей. В сфере пси-
хологизма Диккенс показал творческие новшества, близ-
кие писателям, пришедшим ему на смену. К концу
прошлого века для многих писателей эта сфера стала
едва ли не всепоглощающей. Для Диккенса она была
и осталась одной из сторон изображаемого, как и раз-
вивавшийся под его пером способ психологического ана-
лиза не был всеобъемлющим. И в ранних романах Дик-
кенса многие страницы заняты разбором душевных
переживаний, и не только положительных персонажей,
но и отрицательных. Сама возможность преображения
личности, идея этой возможности была связана у Дик-
кенса с пониманием сложности человеческого характе-
ра. Сложность психической жизни, начиная с детского
возраста, с удивительной проницательностью была по-
казана Диккенсом в созданных им детских образах,
особенно в Поле Домби и Дэвиде Копперфилде. «Он,
собственно говоря, — писал о Диккенсе Стефан Цвейг,—
никогда не был психологом, который магически пости-
гает человеческую душу, заставляя ее светлые и темные
семена прорастать и распускаться во всем многообра-
зии форм и красок. Его психология начинается с види-
мого, он характеризует человека через чисто внешние
проявления, разумеется через самые незначительные и
117
тонкие, видимые только острому глазу писателя. Он, как
английские философы, начинает не с предпосылок,
а с признаков. Он подмечает мельчайшие, вполне мате-
риальные проявления духовной жизни и через них, при
помощи своей замечательной карикатурной оптики, на-
глядно раскрывает весь характер»1. Таково мнение
писателя-психолога, хорошо знающего и Диккенса, и до-
стижения психологической прозы новейшего времени.
Мнение знатока, проницательное и точное — и все же
одностороннее, далеко не полное. «Карикатурная опти-
ка», о которой говорит Стефан Цвейг, важный фактор
в стиле Диккенса, весьма характерный, но не всеобъ-
емлющий. Диккенс «с поразительной дальнозоркостью
различал мелкие внешние признаки; его взгляд, ничего
не упуская, схватывал, как хороший объектив фотоап-
парата, движения и жесты в сотую долю секунды. Ни-
что не ускользало от него. Эта зоркость еще увеличи-
валась благодаря удивительному свойству его глаза: он
отражал предмет не в его естественных пропорциях,
как обыкновенное зеркало, а словно вогнутое зеркало,
преувеличивая характерные черты»2. Вещественностью,
материальностью изображения, будь то бытовые или
психологические детали, пейзаж или портрет, нагляд-
ностью, зримостью, осязаемостью воспроизводимого Дик-
кенс достигал поразительного эффекта правдоподобия.
Но не одна лишь натуральная «карикатурная оптика»
была средством достижения этого эффекта, который
внешней своей стороной вскоре стал доступен и гораздо
менее значительным писательским дарованиям. Кари-
катурная оптика выполняла свои функции при участии
и под воздействием мысли и чувства, выражая их свой-
ства и устремления, а блестящий карикатурный слух,
которым обладал Диккенс, помогал ему воспроизводить
слышимую речь и через нее раскрывать характер гово-
рящего лица и его душевные движения. Когда Диккенс
замечает, характеризуя одного из своих персонажей,
что тот «представлял собою смесь еще не выветрившей-
ся дикости с еще не укрепившейся цивилизацией», он
делает это с учетом подмеченных им признаков и вместе
с тем рассматривает свое замечание как предпосылку.
У него немало персонажей с подобной смесью, выражен-
1 Цвейг Стефан, Избр. произв. в 2-х томах, т. II. М., 1951,
с. 42.
2 Там же, с. 91.
118
ной в разных, в том числе и необычайно уродливых
формах.
«Тот, — замечает Диккенс, — кто научился читать,
смотрит на книгу совсем не так, как неграмотный, даже
если она не раскрыта и стоит на полке». Для Диккенса
это наблюдение принципиального свойства и важная
предпосылка. Диккенс радуется особому, обновленному
взгляду грамотного человека на книгу и рассчитывает
на этот обновленный взгляд в борьбе с социальным
злом и за перемену человека к лучшему. Он ратует за
широкое образование, ведет решительную борьбу с не-
вежеством и с такой системой образования, которая
калечит юное поколение. И он добивается известных
перемен. Но он с горечью вынужден отметить разные,
и отнюдь не обновленные, устремления во взгляде гра-
мотного человека на книгу, когда взгляд устремлен на
густо позолоченные переплеты, выставленные на показ,
и выражает всего лишь самодовольство собственника,
набивающего себе цену.
Диккенс отмечает и усложненную ассоциативность,
но когда требуется раскрыть сложное переживание, он
обычно предпочитает обозначить его словом. «...Сама
скорбь была такой смягченной и опутанной такими неж-
ными воспоминаниями, что, перестав быть мучительной,
превратилась в торжественную радость». Это самый
простой случай обозначения сложного чувства, когда
нет и попытки не только изобразить его движение, но
и описать его подробнее.
«Домби и сын», «Дэвид Копперфилд» заметное сви-
детельство возрастающего интереса Диккенса к внут-
реннему миру человека, особенно к детской психологии,
и способам передачи усложненных переживаний.
«Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в роз-
ницу и на экспорт». В заглавие романа вынесено не имя
героя, как было в большинстве предшествующих рома-
нов Диккенса, вынесена вывеска торговой фирмы анг-
лийского негоцианта. И хотя действие романа происхо-
дит в основном не в торговой конторе Домби, а в его
доме, хотя контора с ее технологией почти не занимает
внимания писателя, ее влияние на ход событий оказы-
вается решающим.
«Торговый дом» определяет характер его главы и
жизнь семейного убежища Домби, его судьбу. Диккенс
вскрывает жестокую логику поведения своего героя,
обусловленную силой обстоятельств и социального по-
119
ложения. Коммерсант, он должен держаться своей сфе-
ры, следовать расчету и проявлять выдержку. Он это
и делает, последовательно и неуклонно, как это и по-
лагается видному английскому коммерсанту, действую-
щему деловито, с надменной самоуверенностью и раз-
махом. Торгуя оптом и в розницу, следуя расчету, пре-
следуя выгоду, он разбазаривает себя как человека,
утрачивает естественные чувства, способность сочувст-
вовать, сострадать и любить, любить даже самых близ-
ких и родных, жену и детей, сочувствовать и сострадать
им. Его любовь к сыну Полю, его забота о нем — это
любовь и забота не человека, а торгаша, которому ну-
жен наследник, продолжатель торгового дела.
Юный Короленко, читая знаменитую сцену ночной
встречи Флоренс Домби с отцом после смерти малень-
кого Поля, невольно отметил цельность впечатления от
этой сцены, обусловленную сдержанным лаконизмом
в точной передаче душевных состояний отца и дочери.
Вспоминая об этом чтении, Короленко писал: «Я не
знаю, как это случилось, но только с первых строк этой
картины — вся она встала передо мной, как живая,
бросая яркий свет на все прочитанное урывками до
тех пор.
Я вдруг живо почувствовал и смерть незнакомого
мальчика, и эту ночь, и эту тоску одиночества и мрака,
и уединение в этом месте, обвеянном грустью недавней
смерти... И тоскливое падение дождевых капель, и стон,
и завывание ветра, и болезненную дрожь чахоточных
деревьев... И страшную тоску одиночества бедной де-
вочки и сурового отца. И ее любовь к этому сухому,
жесткому человеку, и его страшное равнодушие...» 1
Побудить читателя живо почувствовать то, о чем
пишет писатель, и не только почувствовать и пережить,
но и сопережить чувства героя, как бы войти в его душу
и соединиться с ней, — эту силу искусства, его призва-
ние и способность очеловечивать человека, во всей ощу-
тимой непосредственности испытал юный Короленко,
читая упомянутую сцену из романа «Домби и сын».
«Домби и сын» — один из самых значительных соци-
альных романов Диккенса. По масштабности и цельно-
сти замысла, пониманию социальных обстоятельств и
проникновению в социальную и индивидуальную психо-
1 Короленко В. Г. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 5. М., Гос-
литиздат, 1954, с. 367—368.
120
логию, по_силе_ реалисткческих обобщений- этот роман,
заверша^Гцёлый период в творчестве Диккенса, 40-е го-
ды, непосредственно предваряет его писательскую дея-
тельность 50-х годов. В 50-е же годы был завершен
«Дэвид Копперфилд», а вслед за ним написаны «Холод-
ный дом», «Тяжелые времена», «Крошка Доррит» — вер-
шинные социально-обличительные произведения Диккен-
са, к которым естественно присоединить и роман «Дом-
би и сын». Само заглавие этого романа, не сокращен-
ное, а полное, указывает на нечто принципиально новое
в его сюжете и композиции.
Роман «Жизнь Дэвида Копперфилда, написанная им
самим» своей структурой, построением сюжета и компо-
зицией, более традиционен, ближе к ранним романам
Диккенса, «Оливеру Твисту» и «Николасу Никльби»,
чем к «Домби и сыну» и романам 50-х годов. Однако
«Дэвид Копперфилд» мог быть написан только зрелым
Диккенсом в итоге его размышлений о собственном дет-
стве, о психологии ребенка, о взаимоотношениях детско-
го и взрослого миров, о проблемах воспитания и обра-
зования. «Я это понял тогда не хуже, чем понимаю те-
перь». Это замечание взрослого Дэвида Копперфилда
относительно своего детского переживания в пору уха-
живания за его матерью неприятного ему мистера
Мэрдстона, сыгравшего роковую роль в печальной судь-
бе Клары Копперфилд и оставившего тяжкие травмы
в душе ее сына, это замечание — существенный факт
и важная предпосылка понимания и раскрытия детской
психологии. Дэвид Копперфилд и вместе с ним Чарльз
Диккенс убеждены, что ребенок способен почувствовать,
пережить и понять в самом раннем возрасте гораздо
больше того, чем это обычно представляют себе взрос-
лые. «Он привлек ее к себе, шепнул ей что-то на ухо
и поцеловал, — вспоминает Дэвид Копперфилд другой
случай из той же поры. — И когда я увидел голову моей
матери, склонившуюся к его плечу, и ее руку, обвив-
шую его шею, я понял, что он способен придать ее по-
датливой натуре любую форму по своему желанию,—
я знал это тогда не менее твердо, чем знаю теперь, по-
сле того, как он этого добился». Существенное значение
имеет сам вывод, а также интерес Диккенса к слож-
ным и мучительным переживаниям ребенка и его вни-
мание к способам передачи сплетенных в клубок проти-
воречивых чувств: любви, ненависти, жалости и детской
беспомощности. Чтобы представить себе направление
121
этого поиска и его результаты, стоит задержать внима-
ние на рассказе Дэвида о душевной боли, которую он
пережил, когда умерла его мать (гл. IX), выделить
маленький эпизод из его воспоминаний. «Если ребенок
испытал когда-нибудь истинное горе, то таким ребен-
ком был я. Но припоминаю, что сознание этой значи-
тельности доставляло мне какое-то удовлетворение, ко-
гда я прохаживался в тот день один на площадке, по-
куда остальные мальчики находились в доме. Когда я
увидел, как они глазеют на меня из окон, я почувство-
вал, что выделяюсь из общей среды, принял еще более
печальный вид и стал замедлять шаги. Когда же занятия
окончились и мальчики высыпали на площадку и загово-
рили со мною, я в глубине души одобрял себя за то, что
ни перед кем не задираю нос и отношусь ко всем точно
так же, как и раньше». Отмечено и выделено в детской
душе в кризисный для нее момент сложное и противоре-
чивое чувство, по своему характеру, казалось бы, более
свойственное взрослому человеку. Однако в его досто-
верности и убедительности сомневаться не приходится.
Душевная боль, вызванная утратой любимой матери,
единственного в мире родного существа, вдруг соединя-
ется с чувством самолюбия и тщеславия. Ребенок чувст-
вует горе, но он не только отдается скорби, но и ориен-
тируется на внешнее внимание. Он чувствует, что его
утрата придает ему значительность и что ему следует
держать себя достойно. Он сознает, оценивает свое состо-
яние и ведет себя как взрослый и вместе с тем по-детски.
При всей кажущейся неожиданности, переживания и по-
ведение маленького Дэвида не только достоверны, но и
типичны. Оттенки в его переживании и поведении лишь
названы, обозначены словами. Рассказ лаконичен, и эта
склонность к лаконизму становится характерной для
стиля Диккенса зрелых этапов его творчества. Слова
употреблены в прямом своем значении, точны, и нет
здесь и намека на склонность Диккенса к сентимен-
тальному пафосу. Он не делает попытки изобразить
чувства в их движении и тем не менее достигает впе-
чатления изобразительности. У читателя возникает об-
раз несчастного мальчика, переживающего душевную
боль, — в конкретной ситуации, определенной обстанов-
ке, хотя эта обстановка, сам герой и школьники-зрите-
ли представлены без детальной обрисовки. Возникает
общая картина, в центре которой переживания ребенка,
и переживания эти становятся наглядными.
122
Вот еще одна, не очень заметная, однако значитель-
ная психологическая деталь, деталь такого характера,
которую едва ли можно встретить в ранней прозе Дик-
кенса, на страницах, посвященных психологическому
анализу. Маленький Дэвид на каникулах, он дома, но
будто в камере пыток, в полной власти «нового папы»,
ненавистного Мэрдстона, иод пятой его жестокой, бес-
пощадной, зловещей системы воспитания, иссушающей
мозг и душу. Наступает вечер, приносят свечи. Дэвиду
полагается заниматься чем-либо практическим; под не-
дреманным оком отчима или его сестры, старой девы
мисс Мэрдстон, он корпит над учебником арифметики,
без толку зубрит таблицы мер и весов. «Эти вечера,
когда таблицы мер и ресов ложились на мотив «Правь,
Британия»...» На мотив патриотической песни великой
колониальной державы. Невольное в давящих обстоя-
тельствах и недетское движение мысли ребенка, пора-
зительный лаконизм ее словесного выражения и много-
значительный символ, указывающий на связь, казалось
бы, далеких друг от друга явлений.
«Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им са-
мим»— вершина психологической прозы Диккенса, про-
изведение, в котором осуществлен глубочайший эстети-
ческий анализ детского сознания, его своеобразия и при-
родной сущности, социальной обусловленности и кон-
кретности. Анализ проницательный, новаторский, не
вызывающий сомнений в достоверности наблюдений и
выводов, позволивший Диккенсу с особой убедитель-
ностью обличать невежественные и самодурные, обла-
дающие силой влияния и авторитета, системы воспита-
ния, образования, поведения.
В ранних своих романах Диккенс изобличал буржу-
азные установления и институты и их служителей, одер-
жимых корыстью, жестоких, лицемерных. Для автора
«Оливера Твиста» и «Николаса Никльби» «Закон о бед-
ных», принятый вскоре после избирательной реформы
1832 года в интересах промышленников, работные дома,
его порождение, школы для бедных были объектом
критики, отражавшей настроение обездоленных масс и
радикальной интеллигенции. В романах 50-х годов эта
направленность критики Диккенса приобрела особое
значение.
Сам вопрос о значении системы и роли ее служите-
лей в состоянии общества, его нравов, во взаимоотно-
шении социальных слоев и групп, в борьбе добра со
123
злом и ее перспективах, сам этот вопрос, как никогда,
выделен и подчеркнут Диккенсом. «Мне со всех сторон
твердят, что вся причина в системе. Не надо, мол, обви-
нять отдельных личностей. Вся беда в системе... Служи-
телей этой системы я буду обвинять на очной ставке
перед великим, вечным судом!» Это говорит не Диккенс,
говорит один из персонажей романа «Холодный дом»
мистер Гридли. Однако он выражает мнение самого
Диккенса, его возмущение самодовольными, наглыми,
нерадивыми служителями системы и послушными, трус-
ливыми, механическими исполнителями служебных функ-
ций. Его все более тревожит состояние самой системы,
не отдельных социальных установлений, а буржуазного
строя в целом. «...Мне кажется, что наша система тер-
пит крах», — скажет он незадолго до смерти. Возникав-
шие у Диккенса глубокие сомнения не меняли сущест-
венно пафоса его деятельности, но сказывались на
характере, направлении и объектах его критики и его
настроении.
В романе «Холодный дом» объектом критики, страст-
ной, яростной, остросатирической, становится судопро-
изводство, вершимое Канцлерским судом, Верховным Су-
дом Справедливости, созданным еще в феодальное вре-
мя. Верховный Суд Справедливости, возглавляемый лор-
дом-канцлером, занят разбирательством тяжбы «Джард-
нисы против Джарднисов», связанной с завещанием
некоего Джардниса. Процесс, неизвестно когда начав-
шийся, тянется и тянется, и разбирательству нет конца.
Забыта суть дела, правовой справедливости нет и в по-
мине, осталась одна процедура, остался механический
ритуал судопроизводства. Некогда значительное уста-
новление превратилось в призрак, но корыстно заинте-
ресованные в этом установлении служители разных
рангов придают ему видимость живого государственно-
го организма, сохраняя за ним всю силу его влияния.
Сила эта разрушительна и гибельна, об этом свидетель-
ствуют растраченные средства и многочисленные жерт-
вы. Одна из них мисс Флит, персонаж эпизодический,
но не проходной в сюжете. Каждое ее высказывание,
даже самое загадочное, кажущееся маловразумитель-
ным, просто бормотанием полоумной старушки, раскры-
вает в контексте свой смысл отнюдь не частного свой-
ства. «Молодость. И надежда. И красота»,— вдруг про-
износит мисс Флит, ни к кому не обращаясь, и за этими
короткими, отрывочными фразами встает ее судьба,
124
типическая судьба жертвы социальной несправедливо-
сти— погубленные молодость, надежда и красота. У ста-
рушки мисс Флит, проживающей в мансарде мрачного
загадочного дома, много птиц в клетках. У каждой свое
имя, но она скрывает их имена. И опять как-то неожи-
данно, но не без злорадства, эту ее тайну выдает ми-
стер Круг, ее хозяин, пьяница, тряпичник, какое-то зло-
вещее олицетворение хлама и тлена. По словам мисс
Флит, он «совсем того». Надежда, Радость, Юность, —
перечисляет мистер Круг названия птиц мисс Флит, —
Мир, Покой, Жизнь и тут же: Прах, Пепел, Растрата,
Нужда, Грабеж, Обман, Разорение, Отчаяние, Безумие,
Смерть. С необычайным лаконизмом иносказания, с го-
речью и негодованием говорит Диккенс о губительных
социальных условиях, 'о пагубном государственном ме-
ханизме, о погубленных началах жизни, о том, что «со-
всем не то», и о тех, кто «совсем того», однако они
вершат дела, у них сила, деньги и власть.
Канцлерский суд — рутинное заведение, составная
часть системы и в то же время символ того, во что пре-
вратилась эта система.
Название «Холодный дом» возникло у Диккенса не
сразу, а в процессе работы над романом, в связи с пе-
ременой первоначального замысла. Вначале Диккенс
предполагал назвать свой роман «Одинокий Том». Пер-
воначальный замысел сосредоточивал внимание на
«Одиноком Томе» — лондонских трущобах, на условиях
жизни, нравственном, духовном и физическом облике
отверженных английской столицы. С переменой замыс-
ла и соответственно названия переместился идейный и
композиционный центр романа. Этим центром стал
Канцлерский суд, Верховный Суд Справедливости, в то
время высшая, после палаты лордов, судебная инстан-
ция в Англии. В «Холодном доме» Канцлерский суд —
сатирически изображенная реальность английского су-
допроизводства и символ — символ формализма, бюро-
кратизма, бесправия, несправедливости.
«В Канцлерском суде» — так названа первая глава
романа, и в ней сказано: «Это он, Канцлерский суд,
Суд Справедливости, позволяет могуществу денег бес-
совестно попирать право» — и вершить несправедливость.
Это он, орган государственной власти, источник бесчис-
ленных бедствий, индивидуальных и массовых жертв.
От него прямо или косвенно, в большей или меньшей
мере, зависит судьба почти всех персонажей романа,
125
а их более пятидесяти представителей разных классов
и социальных слоев. Перемещение композиционного
центра с Одинокого Тома на Канцлерский суд способ-
ствовало структурной слаженности всего произведения
и художественно убедительному развитию сложного и
разветвленного сюжета.
В «Холодном доме» «Одинокий Том» сохранился как
название лондонских трущоб и XVI главы романа —
«В Одиноком Томе». «Одинокий Том» — это реальность
и символ, ужасающая реальность, правдиво изобра-
женная, и грозный символ, масштабный и выразитель-
ный. Новый замысел не изменил ни реальной сути, ни
символического смысла «Одинокого Тома», но поставил
его в связь и зависимость от системы социальных отно-
шений. Перемена авторского замысла, таким образом,
оказалась значительной и принципиального свойства.
Она отразила характерную тенденцию в творчестве
Диккенса 50-х годов.
В «Холодном доме» произошло заметное обновление
повествовательной манеры Диккенса. Самая зримая
в ней перемена — появление второго повествователя.
Наряду с авторским повествованием от третьего лица,
перебивая его, в романе идет повествование от первого
лица — повесть своей жизни рассказывает Эстер Сам-
мерсон, его героиня. Эстер Саммерсон можно причис-
лить к диккенсовским героиням, хотя она не вызвала
того интереса и внимания читателей, какое возбудила
до ее появления малютка Нелл, а вслед за тем Крошка
Доррит. Вводя в роман второго повествователя, Дик-
кенс обновил обычную для его романов структуру, в из-
вестной мере драматизировал повествование, заметно
разнообразил и оживил его стилистику. Это обновление
явилось у Диккенса результатом развития собственного
писательского опыта и живого отклика на современную
ему литературную практику, не без влияния этой прак-
тики, которую он хорошо знал в значительной мере как
издатель и редактор организованного им в 1850 году
журнала «Домашнее чтение». К участию в работе свое-
го журнала он привлек большую группу писателей, как
известных и опытных, так и начинающих. Впоследствии
Генри Джеймс, формулируя концепцию повествователь-
ной техники, обосновал важный для своего творчества
принцип «точки зрения», то есть такой способ косвен-
ного повествования, когда всеведущий автор устраня-
ется, точнее — как бы устраняется, и его место занимает
126
«рассказчик». У Генри Джеймса, по его собственным
словам, «рассказчик» выступает «личным представи-
телем обезличенного автора», оказываясь «глубоко за-
интересованным лицом, которое вносит в событие опре-
деленную долю критической интерпретации». У Диккенса
Эстер Саммерсон выступает его личным представите-
лем, не обезличивая автора, он побуждает ее тракто-
вать и события, и свой образ жизни, в соответствии
с его, автора, нравственным и эстетическим идеалом, и
делает это искусно, не мешая убедительности ее образа.
Впрочем, критики, сопоставляя жизнь Дэвида Коппер-
филда, рассказанную им самим, с жизнью Эстер Сам-
мерсон, рассказанной ею самой, отмечали, что ее рас-
сказ весьма искусен, но ему не хватает непосредствен-
ности, той непосредственности, какая была особым
достоинством рассказа Дэвида Копперфилда.
Усиление косвенного начала в повествовательной ма-
нере Диккенса нашло также свое выражение в более
заметном и разнообразном употреблении «чужой» и
несобственно-прямой речи. В качестве характерного и
значительного примера можно отметить эпизод с допро-
сом маленького Джо, в связи с расследованием обстоя-
тельств смерти таинственного переписчика бумаг, кото-
рый называл себя Немо (Никто), несчастного возлюб-
ленного леди Дедлок и отца Эстер Саммерсон. «А! вот и
мальчик, джентльмены! Вот он здесь, очень грязный,
очень охрипший, очень оборванный. Ну, мальчик!..»
«Холодный дом», как и все другие романы Диккен-
са, не отличается внешней сжатостью, объем его велик,
но в нем, как ни в каком другом из предшествующих
его романов, очевидно стремление к внутренней сжа-
тости, к синтаксическому лаконизму, к драматизации и
смысловой насыщенности романной формы.
Роман «Холодный дом» открывается описанием лон-
донского тумана, характерного для английской столицы
природного явления. «Лондон», — так словом-фразой на-
чинается объемный роман. «Туман везде», — это начало
следующего абзаца. Отрывочные фразы, максимальный
синтаксический лаконизм, призванный передать гнету-
щую обстановку и душевное напряжение. Лондонский
туман — особенность столичного пейзажа и символ соци-
ального явления, состояния общества, "и туман в мозгах,
который Диккенс силой слова надеется развеять. Он
изображает разные социальные слои и сферы, начиная
с «большого света», который, по словам автора, не так
127
уж резко отличается от Канцлерского суда. Диккенс
не отказывает «большому свету» в известных достоин-
ствах, в нем «много хороших, достойных людей», —
пишет он и даже считает, что большой свет «занимает
предназначенное ему место». Но это не мешает ему тут
же четко и ясно сказать в духе и стиле сурового при-
говора: «Но все зло в том, что этот изнеженный мир
живет, как в футляре для драгоценностей: слишком
плотно закутанный в мягкие ткани и тонкое сукно, а по-
тому не слышит шума более обширных миров, не видит,
как они вращаются вокруг солнца. Это отмирающий
мир, и порождения его болезненны, ибо в нем нечем
дышать». Диккенс не ограничивается краткой характе-
ристикой и выводом, он показывает «большой свет»,
его представителей в лицах, раскрывает их облик, нра-
вы, жизненный путь в сюжете. Душевная пустота, тоска
и усталость, отсутствие чувства действительности, пол-
ное непонимание социального времени, пренебрежение
нуждами народа, чрезмерное самомнение, нелепые, вред-
ные, реакционные притязания — таковы идейные, поли-
тические, нравственные и психологические черты «боль-
шого света», его «ядра», земельной аристократии.
«Миледи Дедлок пребывает в центре внимания велико-
светской хроники, на верхней ступени великосветской
лестницы», и что же, каковы «победные трофеи этой
женщины»: «Утомленное самообладание, равнодушие
пресыщения, такая невозмутимость усталости, что ника-
ким интересом и удовольствием ее не всколыхнуть». Ее
супруг сэр Лестер Дедлок «всего лишь баронет, но нет
на свете баронета более величественного... Сэр Лестер
склонен думать, что мир, вероятно, может обойтись без
гор, но он погибнет без Дедлоков». Дедлок — по-анг-
лийски значит застой, тупик. В главе XII Диккенс дает
развернутую характеристику леди и джентльменов
в старом и новейшем вкусе, требующих беспрекослов-
ного признания их значительности и готовых «повер-
нуть вспять стрелки на Часах Времени и вычеркнуть
несколько столетий из истории, лишь бы превратить
Простой народ в нечто очень живописное и преданное
аристократии». Малейшее выражение самого элемен-
тарного недовольства напоминает им о восстании Уота
Тайлера. «Даже изящные искусства, которые прислу-
живают в пудреных париках и в их присутствии пятятся
назад, как лорд-камергер в присутствии короля, обяза-
ны одеваться по выкройке модисток и портных прошлых
128
поколений, тщательно избегать серьезных вопросов и
ни в малейшей степени не поддаваться влиянию теку-
щего века». А для Диккенса девятнадцатый век — «Век,
стремящийся к равенству», и к Простому народу он
обращается с большой буквы. В «Холодном доме», как
ни в каком другом из предшествующих ему романов,
Диккенс с очевидной ясностью, разносторонне и с чет-
ким обоснованием, в публицистических высказываниях
и в системе образов, выразил свои демократические
убеждения и симпатии. Он выступил в защиту Простого
народа, против тех, кто живет его трудом и пренебрегает
его нуждами, против филантропии, фальшивой и лице-
мерной, против искусства для избранных, искусства,
гнущего шею перед власть имущими.
Показывая читателю положение простого народа и
отношение к нему господствующих классов, Диккенс
привлекает внимание к характерным для его времени
формам общественной активности, будто бы демокра-
тичным, гуманным и благодетельным, будто бы направ-
ленным на решение злободневных проблем, а в дейст-
вительности пустопорожним и лицемерным, представ-
ляющим собой самодовольное делячество никчемных
тунеядцев. Миссис Джеллиби, неспособная навести эле-
ментарный порядок в собственном доме, исполнить про-
стейший долг матери, супруги и хозяйки дома, вся по-
глощена «телескопической филантропией», благодетель-
ствованием «страдающих братьев наших» — «туземцев
в Бориобула-Гха на левом берегу Нигера». Благотвори-
тельность телескопическая, по образцу миссис Джелли-
би, или местного назначения, в духе миссис Пардигл,
благодетельствующей несчастным соотечественникам, по
словам Диккенса, «превратилась в мундир для жажду-
щих дешевой известности и крикливых проповедников
и аферистов, неистовых на словах, суетливых и тще-
славных на деле, до крайности низко раболепствующих
перед сильными мира сего».
В романах Диккенса — толпы персонажей, централь-
ных и эпизодических. Эпизодические лица, как бы зна-
чительны они ни были, обычно появляются и действуют,
если они действуют, вне сюжета.
Одно из эпизодических лиц романа «Холодный дом»
имеет особое значение. Это уличный мальчишка, бес-
призорный маленький Джо, подметальщик из лондон-
ских трущоб под названием «Одинокий Том». Эпизоди-
ческий персонаж, он, однако, в известном отношении,
5 М. В. Урнов
129
может быть поставлен в ряд с главными действующими
лицами из мира детства, созданного Диккенсом, с та-
кими его героями, как Оливер Твист, малютка Нелл,
Дэвид Копперфилд и Крошка Доррит.
Критики и читатели по-разному относятся к ма-
леньким героям Диккенса, особенно к малютке Нелл и
Крошке Доррит. Многие считают их слишком идеаль-
ными, ангелоподобными, только что без ангельских кры-
лышек. На их плечи и душу легли тяготы, которые едва
под силу вынести закаленному взрослому человеку. Это
подвижницы, отважные, стойкие, всегда сохраняющие
в чистоте свой нравственный облик. Любовь, честь, долг,
самоотверженность составляют сущность их характеров.
Как бы ни судить об этих малютках, едва ли возможно
отрицать реальную основу их образов. Можно даже не
упоминать о том, что на создание образа и судьбу ма-
ленькой Нелл оказала воздействие ранняя смерть Мэри
Хогарт, своячницы Диккенса. Не следует забывать о той
удивительной силе воздействия, какое оказывали эти
героини на массу читателей разных возрастов и уровней
сознания. Они вызывали восхищение и живейший ин-
терес к их переживаниям и судьбам.
В нью-йоркском порту собиралась толпа людей
в ожидании корабля из Англии, который вез очередные
выпуски романа «Лавка древностей». Читатели обраща-
лись к Диккенсу с просьбой сохранить жизнь малютке
Нелл. Сам автор с болью в сердце, глубоко страдая
душевно, описывал последние минуты жизни своей ге-
роини. В дневнике выдающегося английского актера,
друга Диккенса, Макреди появилась запись: «Я прочи-
тал... известие о смерти дорогой девочки, и у меня кровь
остановилась в жилах».
Маленькие героини Диккенса попадают в тиски не
только материальных трудностей, но и сложных мораль-
ных проблем, которые им приходится решать на свой
страх и риск. Самоотверженная любовь Крошки Доррит
к отцу, оказавшемуся в тюрьме Маршалси, служит для
него единственной опорой, помогающей ему переносить
тяжесть и горечь унизительного положения. Но, привы-
кая к подвижническому поведению дочери, он со време-
нем начинает эксплуатировать ее самоотверженность,
причиняя моральный ущерб и себе и ей. Положение
униженного развивает в нем ложное самомнение, жал-
кую гордыню, снобизм, черствость. Однако самоотвер-
женная любовь Крошки Доррит не слепая любовь, хотя
130
она и склонна закрыть глаза на жалкие слабости отца
и как-то оправдать его. В этой сложной ситуации она
не представляет себе иного образа поведения, кроме
как следовать отзывчивости и доброте своего сердца,
чувству дочернего долга. И Диккенс не решается пред-
ложить своей героине изменить отношение к отцу, он
одобряет последовательность ее поведения.
Джо написан Диккенсом как бы в иной манере, чем
все другие его маленькие герои. Критики не выражают
сомнения в достоверности и убедительности этого обра-
за и в этом случае не могут упрекнуть его в сентимен-
тальности. Духовный облик маленького Джо и его по-
ложение необычного эпизодического лица требовали от
автора особой сдержанности чувств. Малейший намек
на сентиментальность.повредил бы не только достовер-
ности и художественной убедительности образа, но и
авторскому замыслу. Образ Джо написан крупными
и жесткими штрихами без теней и полутеней. «Имя —
Джо... Отца нет, матери нет, друзей нет». Джо знает,
что он «настоящий нищий» и «что метла есть метла»,
та метла, которой он подметает улицу. Это все, что он
знает относительно социального и материального мира.
Он знает также, что «лгать нехорошо», и это предел
его познаний нравственности и нравственных проблем.
Он способен отозваться на доброе к нему чувство, самое
малое его проявление, и платит за него благодарностью
так, как умеет и может. Но это маленькое и обездолен-
ное существо неразвито и выражает свою неразвитость
одной и той же словесной формулой: «Я ничего не
знаю». Контраст между изощренным и совершенно не-
развитым сознанием для Диккенса не только еще одно
ужасающее свидетельство социальной несправедливо-
сти, но и угроза нормальному развитию здорового об-
щественного сознания. Контрастные стороны, при всей
их видимой разделенности, оказываются взаимосвязан-
ными. Изощренное сознание леди Дедлок становится
пресыщенным, ведет к духовному и нравственному ту-
пику, сознание неразвитое способно быть и становится
почвой возмездия за социальную несправедливость.
Маленький Джо, ничего не зная, оказывается значи-
тельным участником событий, которые ведут к тяжким
последствиям. Он невольно способствует раскрытию
тайны, обволакивающей судьбы центральных действую-
щих лиц, он невольная причина тяжкой болезни Эстер
Саммерсон, незаконной дочери леди Дедлок, и косвен-
5*
131
ная причина преждевременной смерти последней. Мысль
о возмездии, неизбежной расплате за социальную не-
справедливость, все более занимает Диккенса и полу-
чает в его дальнейшем творчестве, особенно в романах
«Тяжелые времена» и «Повесть о двух городах», раз-
вернутое реалистическое выражение.
«Тяжелые времена» — само это название романа
было вызовом официальной Англии и опровергало рас-
пространяемое ею мнение о полном благополучии в стра-
не. Буржуазная печать писала, что Англия процветает,
а Диккенс заявил — переживает тяжелые времена. Бур-
жуазная печать писала, что английская нация состав-
ляет «единое целое», а Диккенс показал ее раскол на
антагонистические классы. Он не первый из английских
писателей изобразил этот раскол. Еще в 1845 году вы-
шел роман под знаменательным заглавием «Сибила, или
Две нации»; знаменательна, разумеется, вторая его
часть: «Две нации». Автор романа, известный литера-
тор и видный политический деятель Бенджамин Диз-
раэли, впоследствии премьер-министр, лидер и идеолог
консерваторов, знал положение рабочего класса и без
прикрас описал его. Но в сравнении с Диккенсом Диз-
раэли посредственный писатель и, в отличие от него,
реакционер, мечтавший о возврате к прошлому, о союзе
аристократии и рабочих во главе с аристократией и под
ее руководством. Диккенс же решительно выступал про-
тив реакционных политических и социальных притяза-
ний аристократии.
В романе «Тяжелые времена» впервые в английской
литературе дан живой, истинно художественный кол-
лективный образ возмущенных рабочих, написанный
с искренним к ним сочувствием. Впервые в этом романе
в развернутой сатирической картине показано, как в жи-
тейской реальности, на практике выражала себя фило-
софия утилитаризма, принцип голого расчета, провоз-
глашенный буржуазными идеологами. Фабричный город
Коктаун, место действия романа, за которым угадывает-
ся город Манчестер, символ промышленной Англии, вы-
строен по трафарету, так что тюрьму нельзя отличить
от больницы, ничто в нем не радует глаз, вся обстанов-
ка подавляет чувство красоты и живую фантазию.
Принцип утилитаризма, голого расчета, «философия
факта», которую исповедует, проповедует и внедряет
в мозги школьный попечитель Томас Гредграйнд, один
из центральных персонажей романа, это утверждение
132
универсальной бездуховности, не просто убывание,
а убиение души. Одна из глав романа, в которой изо-
бражена деятельность мистера Гредграйнда, так и на-
зывается: «Избиение младенцев».
Ни один из романов Диккенса не имеет такой чет-
кой, однолинейной композиции, исполненной в соответ-
ствии с дидактико-нравственной установкой автора, как
его роман «Тяжелые времена». Сюжет развивается со-
гласно той строгой логике, какая отражена в пословице
«Что посеешь, то и пожнешь». Сама эта, необычная для
Диккенса, четкость выражения дидактического замысла
указывает не только на устойчивость его веры в нраво-
учительную проповедь и надежды на решительные со-
циальные реформы, но и его сомнения на этот счет.
В романе «Крошка Доррит», заключающем серию
масштабных социальных романов Диккенса, критиче-
ская оценка положения в стране не только не ослабе-
вает, но становится еще более объемной, резкой и сокру-
шительной, сосредоточивается на правительственной и
господствующей верхушке и государственном управле-
нии в целом. Символ этого управления — министерство
волокиты — воплощение бюрократизма, бездарности, бес-
конечной волокиты, кастовости. Принцип и девиз руко-
водящей и практической деятельности правящей вер-
хушки и всей чиновной братии — не делать того, что
следует делать. Распоряжается в министерстве волоки-
ты семейство Полипов, самодовольных паразитов, ко-
торые утратили способность критически осмыслить свое
состояние и положение в стране. Англия, морская дер-
жава, предстает у Диккенса в образе корабля, который
облепили Полипы и тянут его ко дну.
В романе «Мартин Чезлвит» был представлен тип
дельца особого пошиба, дельца дутой коммерции, афе-
рист Монтегю Тигг. В сравнении с коммерсантом Мерд-
лем, примечательной фигурой в романе «Крошка Дор-
рит», Тигг мелкая сошка. Влияние Мердла общегосу-
дарственного масштаба. Гипноз его личности действует
на все общественные слои сверху донизу. У всех на гла-
зах он, посредственность и заурядность, превращается
в великого человека, в экономическое, общественное и
политическое светило, в надежду и опору нации и госу-
дарства. Из многих превосходных по силе сатирическо-
го изображения эпизодов стоит выделить эпизод со зва-
ным обедом, на котором присутствовали «вельможи
Двора и магнаты Биржи, государственные мужи из Па-
133
латы Лордов, столпы Церкви и столпы Финансов, цвет
Магистрата и Адвокатуры, сливки Гвардии и Флота —
одним словом, все те, на ком держится установленный
в нашем мире порядок и из-за кого он иногда начинает
шататься». Этот эпизод позволяет представить роль
финансового воротилы в жизни страны и государствен-
ном управлении и глубокую проницательность Диккен-
са, выявляющего характерные явления и тенденции
своего времени. Все эти магнаты и столпы прославляют
Мердла и преклоняются перед ним. А в итоге обнару-
живается, что Мердл — это гигантская афера и блеф.
Вслед за «Крошкой Доррит» появился роман «По-
весть о двух городах», роман о революции, француз-
ской буржуазной революции 1789 года. Это движение
творческой мысли Диккенса не трудно понять. Он обра-
тился к историческому прошлому, к грозному его опы-
ту, чтобы показать возможность и даже неизбежность
революции в Англии, если в ее управлении и в поло-
жении народа не произойдет перемен. Диккенс был
противником насильственных преобразований общест-
ва, он страшился революции, ее разрушительной стихии.
Но он сознавал историческую обусловленность револю-
ционного действия, видел в нем выражение недовольст-
ва народных масс, доведенных до отчаяния, не желаю-
щих мириться с бедственным положением, которое не
хотят и не способны изменить господствующие силы. Он
показал революцию как возмездие господствующим
классам за их преступления против страны и народа.
Этим романом завершился самый плодотворный период
творчества Диккенса.
Шестидесятые годы — последнее десятилетие жизни
Чарльза Диккенса, заключительный период его творче-
ской деятельности. В первой половине 60-х годов он
написал два романа — «Большие надежды» и «Наш об-
щий друг», в конце этого десятилетия был начат, но не
закончен роман «Тайна Эдвина Друда», последний его
роман. Состояние здоровья Диккенса в эти годы резко
ухудшилось, и прервался обычный для него процесс
творчества, когда роман следовал за романом.
Биографы Диккенса отмечают влияние на ухудше-
ние его здоровья психического потрясения, пережитого
им в 1865 году в железнодорожной катастрофе. Поезд,
в котором ехал Диккенс, упал в реку, рухнули все
вагоны, кроме одного; только счастливая случайность
спасла писателя, он оказался в этом, уцелевшем вагоне.
134
В последние годы своей жизни Диккенс много сил
и времени отдавал публичным выступлениям, и не толь-
ко в Англии, читая свои произведения в массовых
аудиториях. Чтения его, как и его творчество, были
неподражаемы. Слушатели встречали его восторженно.
Диккенс любил театр с детских лет, он успешно высту-
пал в любительских спектаклях, но только теперь во
всей его огромной силе он проявил свой особый дар, не
просто темпераментного чтеца, но талант артиста, соз-
давшего свой театр, театр одного актера, вдохновенного
исполнителя собственных прославленных произведений;
он мгновенно захватывал все внимание слушателей, за-
ставляя их и смеяться и плакать.
Романы Диккенса 60-х годов по выраженной в них
творческой силе не .уступают его романам предшест-
вующего десятилетия. Но они не столь масштабны,
если иметь в виду меру захваченной ими действитель-
ности, и тон их более суров и мрачен, несмотря на то,
что на их страницах иногда является прежний диккен-
совский юмор. Достаточно обратиться к первым страни-
цам романа «Большие надежды», чтобы почувствовать
эту перемену тона и суровую сдержанность повество-
вания. Здесь читатель знакомится с героем романа Пи-
пом, еще семилетним мальчиком, круглым сиротой. Пер-
вое представление Пипа о родителях связано с их
могильными плитами, а первое его сознательное впе-
чатление от окружающего его мира связано с кладби-
щем, окруженном болотами, сам же он, Пип, пред-
ставляется себе маленьким дрожащим существом, пла-
чущим от страха. Первые слова Пипа на этих страницах:
«Ой, не режьте меня, сэр!» — слова, произнесенные
в ужасе, в ответ на грозный окрик: «Не ори, чертенок,
не то я тебе горло перережу!» — окрик страшного че-
ловека, который «хромал и трясся, таращил глаза и
хрипел». Так возникает первое сознательное представ-
ление Пипа от окружающего его «широкого мира»,
который в лице «страшного человека», под угрозой
смерти, ставит маленькое существо перед необходи-
мостью нравственного выбора. С этого момента чита-
тель начинает следить за судьбой героя, а писатель —
анализировать его характер, мотивы поведения, следить
за тем, как возникают у Пипа «большие надежды» и
чем завершаются его упования на «блестящее буду-
щее», сформированное по стандарту буржуазной мечты
об успехе.
135
В своих последних романах Диккенс с особым вни-
манием следит за отдельными лицами, проверяя глу-
бину и прочность гуманной природы человека, его
нравственные потенции. Его внимание привлекают ду-
шевные аномалии — следствие изломанных и ущемлен-
ных чувств, такое болезненное их соединение, как «вос-
торг страдания», переживаемый Пипом, или страсть
злодеяния, охватывающая загадочного Джаспера («Тай-
на Эдвина Друда»).
В последний период творчества Диккенса не осла-
бевает его обличительная сила. Как никогда прежде
он обличает крайние формы самомнения и самодо-
вольства— сословного, классового, национального само-
мнения, соединенного с умственной ограниченностью и
эгоизмом. Критики с полным основанием как неувядаю-
щее творческое достижение Диккенса выделяют соз-
данный им образ мистера Подснепа («Наш общий
друг»). Мистер Подснеп вполне доволен положением
дел в его родной стране, по его категорическому мне-
нию, всё в Англии и все английское превосходно, кон-
ституция дарована англичанам «самим Провидением»
и «ни одна страна не пользуется таким покровительст-
вом свыше, как Англия». Сомневаться в превосходстве
всего английского, замечать в стране факты социальной
несправедливости — значит, по мистеру Подснепу, «ид-
ти против бога». Все проблемы мистер Подснеп решает
просто и быстро, он считает, что для англичан ника-
ких нерешенных проблем не существует. Мистер Под-
снеп — воплощенное самодовольство торжествующего
английского буржуа в период относительной стабильно-
сти его существования. В то время как мистер Под-
снеп заявил о «процветании» Англии и полном благо-
получии английского народа, Диккенс говорил о крахе
«больших надежд» на личное счастье простого чело-
века, на благополучие страны, на прогрессивное разви-
тие общественной жизни, на кардинальные перемены
в жизни общества.
Девятого июля 1870 года Чарльз Диккенс скончался.
Незадолго перед смертью, 27 сентября 1869 года, в пуб-
личной речи он заявил: «Моя вера в людей, которые
правят, в общем, ничтожна. Моя вера в народ, которым
правят, в общем, беспредельна».
Многие писатели, младшие современники Диккенса,
пришедшие ему на смену, не ощущая в себе той же,
пусть иного, гораздо меньшего масштаба, живой и ор-
136
ганичной способности творить, создавать словом свой
мир, склонны были в истинно созидательном творче-
стве видеть одну лишь стихию творческого инстинкта,
не обузданного теоретическим сознанием, необдуман-
ную склонность «соперничать с Природой», небрежение
собственно искусством, обдуманным и совершенным
мастерством. Джордж Мередит, Генри Джеймс, Джордж
Мур, признавая величие Диккенса, восторженно вспо-
миная, как, например, Генри Джеймс, о том неизгла-
димом впечатлении, какое он производил своими ро-
манами на молодое поколение, все же стремились от-
клониться от него, прокладывать в литературе иной
путь — путь художественной деятельности, в которой
творческий акт теоретически осмыслен и предуготов-
лен. Их теоретические установки и критические оценки
создавали впечатление, будто все великие английские
писатели, от Шекспира до автора «Посмертных записок
Пиквикского клуба», творили «бессознательно», не зная
истинных законов художественного мастерства и совер-
шенства.
В 1865 году, тогда еще молодой человек и начинаю-
щий литератор, Генри Джеймс отозвался на роман
Диккенса «Большие надежды» статьей, носившей про-
граммное название «Пределы творческих возможностей
Диккенса». «Исчерпал себя», «выдохся» — с такими
словами обращался Джеймс к Диккенсу. Однако он не
стремился оскандалить великое имя, он хотел нанести
урон целой традиции.
Как угодно мало соглашаясь с Джеймсом в поле-
мических оценках, трудно вместе с тем отбросить одно
из его критических замечаний, обращенных к Диккен-
су. Джеймс нашел, что диккенсовский роман «написан
слишком очевидно». Иными словами, в нем вся внут-
ренняя механика творчества, сделавшись вполне под-
властной автору, чересчур беспрепятственно достигает
эффекта — уже знакомого. В системе изобразительных
средств, по мере ее совершенствования, накапливается
могучая инерция: достаточно малого побуждения, что-
бы все двинулось. Жизненный материал олитератури-
вается. Он сразу, едва разместившись в пределах дан-
ной системы изобразительных средств, приходит с ней
в соответствие, подчиняется заведомо найденной по-
вествовательной интонации, привычными штрихами на-
мечаются характеры, диалог держится проторенных
ходов — писатель как бы сам себе подражает. И это
137
почти безошибочный признак, что традиция дозрела,
сделала свое. Теперь освоенные ею средства способны
служить сколь угодно долго, однако с их помощью уже
не будет сделано творческих открытий.
Точка зрения Джеймса нашла поддержку у млад-
ших романистов — у того же Мура, у Гиссинга, Уэлл-
са, которые, каждый на свой лад, утверждали, что дик-
кенсовский роман изжил себя.
Джордж Гиссинг считал, что Диккенс послушно по-
трафляет вкусам викторианской публики, что он не вы-
разил глубинного протеста против условий жизни, не-
справедливой системы отношений, не создал героя,
воодушевленного новыми, радикальными идейными
устремлениями. Джордж Мур находил классическую
английскую литературу от Шекспира до Диккенса
«бесформенной».
Но как бы ни спорили с Диккенсом его младшие
современники, ни отрицали его, с какой бы силой от
него ни отталкивались, все они так или иначе исходили
из него, связаны с ним творческой родословной, отме-
чены его влиянием.
У Диккенса все они могли учиться свободе и по-
движности эпического описания, умению повествовать
с неуловимым сочетанием серьезности и иронии.
«Госуэлл-стрит лежала у ног его, Госуэлл-стрит
протянулась направо, теряясь вдали, Госуэлл-стрит про-
стиралась налево, и противоположная сторона Госуэлл-
стрит была перед ним».
«Таковы, — рассуждал мистер Пиквик, — и узкие го-
ризонты мыслителей, которые довольствуются изуче-
нием того, что находится перед ними, и не заботятся
о том, чтобы проникнуть в глубь вещей к скрытой там
истине. Могу ли я удовольствоваться вечным созерца-
нием Госуэлл-стрит, и не приложить усилий к тому,
чтобы проникнуть в неведомые для меня области, кото-
рые ее со всех сторон окружают?» И мистер Пиквик,
развив эту прекрасную мысль, начал втискивать самого
себя в платье и свои вещи в чемодан. Великие люди
редко обращают большое внимание на свой туалет» —
и т. д.
Тут многое схвачено как-то сразу и достигнуты ра-
зом многие эффекты: автор выбрал предмет и посмеи-
вается над ним, в то же время причудливо героизируя
его. Это богатство повествовательных оттенков явля-
лось одним из следствий многообразия индивидуаль-
138
ных авторских жизненных представлений, а те, в свою
очередь, отразили масштабы общественной развитости.
Ни Мередит, ни Батлер, ни Гарди — никто из них
не смог бы с такой свободой, живостью и лаконизмом,
пользуясь одновременно описанием, диалогом и внут-
ренним монологом, изобразить группу лиц в энергичном
движении, передать его темп и ритм, обстановку и вре-
мя действия, характеры главных участников, их на-
строение, душевное состояние, как это сделал Диккенс,
описывая уже упоминавшуюся погоню за Альфредом
Джинглем:
«Они вскочили в двуколку.
— Гони вовсю, Том! — крикнул хозяин, и они по-
мчались по узким проселкам, подпрыгивая на выбо-
инах, задевая за живые изгороди, тянувшиеся с обеих
сторон, и рискуя в любой момент разбиться.
— На сколько они нас опередили?— крикнул Уордль,
когда они подъехали к воротам «Синего льва», где, не-
смотря на позднее время, собралась небольшая толпа.
— Не больше чем на три четверти часа, — отвеча-
ли все.
— Карету и четверку! Живо! Двуколку доставите
после!
— Ну, ребята! — закричал хозяин гостиницы. — Ка-
рету и четверку! Поторапливайтесь! Не зевать!
Конюхи и форейторы пустились бегом. Мелькали
фонари, метались люди; копыта лошадей цокали по
плохо вымощенному двору; с грохотом выкатилась ка-
рета из сарая; шум, суета.
— Подадут ли когда-нибудь карету? — кричал
Уордль.
— Она уже на дворе, сэр, — ответил конюх.
Карету подали, лошадей впрягли, форейторы вско-
чили на них, путники мигом влезли в карету.
— Помните, перегон в семь миль — полчаса! — кри-
чал Уордль.
— В путь!
Форейторы пустили в ход хлыст и шпоры, лакеи
кричали, конюхи подбадривали, и лошади бешено по-
мчались.
«Недурное положение, — подумал мистер Пиквик,
улучив минутку для размышлений. — Недурное поло-
жение для президента Пиквикского клуба. Сырая ка-
рета... бешеные лошади... пятнадцать миль в час... и
вдобавок в полночь».
139
У Диккенса его младшие современники, тот же Сти-
венсон, могли учиться тому, как сочетать острый сю-
жет с углубленным психологическим анализом, — ре-
шать эту почти неразрешимую задачу.
Разумеется, свобода и подвижность повествования
у Диккенса — это свобода и подвижность в определен-
ной системе представлений и литературной технологии,
богатейшей, разнообразнейшей, обладающей тем не
менее четкими признаками и известными пределами,
обозначенными писательским методом, выработанной
им практикой и излюбленными приемами.
Чарльз Диккенс не оставил сформулированной эсте-
тической программы и теоретических работ по искус-
ству, из чего вовсе не следует, что он творил неосмыс-
ленно. Он был чужд умозрительности в творческой дея-
тельности, что стало характерным для многих писателей
«рубежа веков» и XX века. Предисловия, статьи, речи,
письма Диккенса содержат суждения теоретического
характера и оценки явлений искусства, но только в ху-
дожественной практике, в своих романах он выразил
в полноте и в развитии свою эстетическую концепцию,
точнее сказать — эстетическую позицию по отношению
к действительности и основным положениям и пробле-
мам искусства.
Диккенс высоко ставит искусство и его общественное
назначение. Подчеркивая важность искусства, всю воз-
вышенность стоящих перед ним целей, он выступает
в защиту классической традиции, утвердившей связь
и зависимость красоты и возвышенного, истины, красо-
ты и морали, против ремесленного отношения к искус-
ству и холодного мастерства.
УИЛЬЯМ МЕЙКПИС ТЕККЕРЕЙ
И ЕГО «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
(Роман без героя)
По возрасту Теккерей старше Диккенса всего лишь
на семь месяцев. Он родился 18 июля 1811 года, а Дик-
кенс— 7 февраля 1812 года. Писать и печататься Тек-
керей начал одновременно с Диккенсом, но заявил о се-
бе как писатель позже Диккенса, не в начале, а в конце
30-х годов. И, кажется, небольшого разрыва было до-
статочно, чтобы в соответствии с индивидуальными
склонностями и особенностями жизни этих писателей
он отразился на творческом облике каждого из них.
Отставая от Диккенса в темпах своего творчества, Тек-
керей схватывал конфликты той же эпохи в их более
определившейся стадии, видел все более обостренно. То,
что под пером Диккенса обычно окрашивалось в тона
чувствительного юмора, веселого, грустного или мрач-
ного, у Теккерея рисовалось резким сатирическим гро-
теском.
В диккенсовских «Очерках Боза», первом опыте пи-
сателя, уже мелькали, например, лица, скованные гри-
масой тупого сословного высокомерия. В книге очерков
Теккерея, относящихся к 1846—1847 годам, «Книге сно-
бов», с которой началась его известность, те же фигуры
обрели пугающую резкость выражения и явились перед
читателем заклейменными словом «сноб», звучным и
жестким, как резкий щелчок по лбу, точным, ^как тер-
мин, и эмоционально-насыщенным, как образ. Пресмы-
каясь перед теми, кто выше его по состоянию или поло-
жению, сноб с пренебрежением взирает на тех, кто стоит
ниже его. Такова духовная суть сноба, изображенного
Теккереем. До того, как к этому слову нелитератур-
ного языка прикоснулось перо Теккерея, оно имело
в университетской и школьной среде ограниченный
смысл: «сапожник» — в смысле плохой мастер, «невеж-
да», «горожанин». В Кембриджском университете, куда
Теккерей поступил в 1829 году и откуда вышел спустя
два года, не получив диплома, выходил рукописный
еженедельник под названием «Сноб», и Теккерей при-
нимал в нем участие. В его очерках, получивших чита-
тельское признание, это слово утратило смысловую
141
замкнутость и обрело широкий и острокритический со-
циальный смысл. Снобизм — нравственно-психологиче-
ский облик и поведение сноба — означает чванство,
спесь, претензию на изысканность, самомнение, потаен-
ное или зарвавшееся, угодливость и деспотизм, — ко-
роче говоря, выражает характерные пороки едва вы-
двинувшейся или преуспевающей посредственности.
В «Книге снобов» дана сатирическая характеристика
снобов разных сословий, общественных рангов и про-
фессиональной принадлежности, представлены «Царст-
венные снобы» и «снобы из Сити», снобы столичные
и провинциальные, штатские и военные, университет-
ские и литературные, находящиеся на разных ступенях
социальной лестницы. Фигуры снобов, что существенно,
представлены на общественном фоне, и видно, как они
с этим фоном связаны.
Теккерей обнажил суть, варианты и оттенки снобиз-
ма в английском буржуазно-аристократическом общест-
ве, во всех его пластах и сферах и обличил его как
национальное общественное бедствие.
«Книга снобов» написана неровно; обрисованные в
ней характеры и ситуации нередко содержат намеки, ко-
торые в свое время придавали ей остроту злободневности,
а сейчас требуют специальных пояснений. ^Но эта книга
была важным этапом на творческом пути писателя
к роману «Ярмарка тщеславия», самому значительному
и прославленному его произведению. Этот роман соз-
дал Теккерею мировую славу и поставил его рядом
с Диккенсом.
«Ярмарка тщеславия» — «роман без героя», — так
в подзаголовке Теккерей назвал свою книгу. В этих трех
словах он полемически выразил и свой замысел, и свою
идейную позицию, и новаторскую творческую задачу,
и горький итог своих наблюдений над современным ему
обществом.
Короленко, характеризуя роман Диккенса «Домби
и сын», отметил, что его наполняют «толпы персона-
жей». И в «Ярмарке тщеславия», завершенной Текке-
реем в том же 1848 году, когда вышел отдельным изда-
нием «Домби и сын», также «толпы персонажей». Сре-
ди них выделяются лица, на которых сосредоточено
особое внимание автора, есть приметные, есть, можно
сказать, и главное действующее лицо, но нет героя.
142
И нет среды, нет духовной атмосферы, в которой могло
бы развиваться героическое начало и предстать в жи-
вом образе. Быт, нравы изображены в «Ярмарке тще-
славия» со всеми подробностями, среда представлена
многими лицами — и титулованной и денежной знатью,
но все это — посредственность, с каким бы самомнени-
ем, с какой ^бы помпой она ни заявляла о себе.^Ни од-
ной истинно широкой натуры, духовно возвышенной
и значительной. Ни одной сколько-нибудь масштабной
личности. Самой яркой фигурой в толпе разноликих
персонажей оказывается Бекки Шарп — выдающееся
достижение художественного реализма. Вспомним вос-
хищенное мнение Л. Н. Толстого о Диккенсе, которое
поражает необычайностью формы выражения, неожидан-
ным выводом: «Просейте мировую прозу, останется
Диккенс, просейте Диккенса, останется «Дэвид Коп-
перфилд», просейте «Копперфилда», останется описание
бури на море». Проделаем ту же процедуру с Тек-
кереем. Просеем все его произведения, останется «Яр-
марка тщеславия», просеем персонажей этого рома-
на, всю их огромную толпу, останется Ребекка Шарп,
просеем всех персонажей всех английских романов
XIX и XX веков, Бекки Шарп останется в ряду са-
мых значительных и живучих. Можно сказать, что Бек-
ки Шарп давно стала именем нарицательным, и в той
или иной концентрации в разных общественных слоях
и сферах заявляет о себе до сих пор.. Среди вереницы
персонажей это незаурядное лицо: «Пусть это роман
без героя, но мы претендуем, по крайней мере, на то,
что у нас есть героиня». По-разному можно восприни-
мать это авторское заявление — и соглашаясь с ним,
и сомневаясь в нем, — автор склонен подшутить и над
собой и над читателем, но мнение автора, какой бы под-
текст у него ни был, не следует игнорировать.
Ребекка Шарп умна, остроумна, артистична, обая-
тельна, полна энергии, деятельна, обладает твердостью
духа, решимостью, силой воли. Когда она впервые по-
является на страницах романа, непредубежденный чита-
тель невольно проникается к ней симпатией. Как неза-
висимо и непринужденно, с понятной и обоснованной
дерзостью, возмущенная бездушием, лицемерием, не-
справедливостью, ведет себя юная Бекки, покидая пан-
сион мисс Пинкертон, напыщенной, чванливой и тще-
славной женщины; пансион молодых девиц, где сироту
Бекки, дочь бедных родителей, — одаренного, но бес-
143
печного и спившегося художника и незаметной танцов-
щицы,— держали по необходимости, на положении" па-
рии. ,Но сущность характера Бекки Шарн, ее жизненная
цель и средства, избираемые ею для достижения цели,
образ ее поведения отнюдь не героического /Свойства.
Бекки Шарп — воплощенный авантюризм, обусловлен-
ный корыстной целью. Пробиться вверх,/ к большим
деньгам и знатному или видному положению — вот за-
дача ее жизни. Пробиться вверх для того главным обра-
зом, чтобы иметь тщеславное удовольствие на все и
всех смотреть сверху вниз. В своих устремлениях и в
выборе средств для хищного самоутверждения эта ге-
роиня легко пренебрегает нравственностью, высокими
понятиями и человеческими чувствами, все свои досто-
инства мобилизует и расходует для достижения эгои-
стичной суетной цели. Бекки Шарп отнюдь не склонна
себя винить за безнравственный образ жизни, а всю
вину переносит на внешние обстоятельства, так сказать,
на недостатки материального обеспечения. «Пожалуй,
и я была бы хорошей женщиной, имей я пять тысяч
в год». Так рассуждает про себя Бекки. «Какой-нибудь
олдермен, возвращающийся с обеда, где его угощали
черепаховым супом, не вылезет из экипажа, чтобы
украсть баранью ногу; но заставьте его поголодать —
и посмотрите, не стащит ли он ковригу хлеба. Так уте-
шала себя Бекки, соразмеряя шансы и оценивая рас-
пределение добра и зла в этом мире». «Кто знает,—
комментирует автор «Ярмарки тщеславия», — может
быть, Ребекка и была права в своих рассуждениях и
только деньгами и случаем определяется разница меж-
ду нею и честной женщиной!» Может показаться, что
Теккерей разделяет софизмы «маленькой авантюрист-
ки», как он называет свою героиню, имея в виду не
масштабы авантюризма, а ее маленький рост. Так мо-
жет казаться, но не должно. Теккерей с глубоким инте-
ресом обращался к английской литературе XVIII века,
высоко ценил литературу эпохи Просвещения, особенно
Филдинга, опирался на традицию просветительского
романа. Он склонен был разделять взгляды просвети-
телей на прямую линейную зависимость характера от
среды. Жизнь на глазах Теккерея обнажала утопизм
многих, в том числе восторженных представлений про-
светителей.
Рассуждения Ребекки относительно того, что и она
«была бы хорошей женщиной», имей она «пять тысяч
144
фунтов в год», не безоговорочны, не случайно она начи-
нает это свое рассуждение с вводного слова «пожалуй».
И автор в своем комментарии избегает категоричного
суждения, он, в свою очередь, говорит: «может быть»
и вскоре отметит несостоятельность и фальшь аргумен-
тов своей героини. И она «могла бы возиться в дет-
ской», если бы была материально обеспечена, говорит
про себя Ребекка. Нет, не могла бы. Это знает и об
этом скажет автор. У Бекки появится такая возмож-
ность, появятся деньги, милейший ребенок, мальчик
Родон,готличная детская, но возиться она в ней не за-
хочет, не сможет, это чуждо ее натуре. /Добрые мысли
и тихие удовольствия были противны миссис Бекки:
они раздражали ее; она ненавидела людей, которым они
нравились; она терпеть не могла детей и тех, кто лю-
бит их». Из разных уст слышит читатель резкие и не
пустые слова о Бекки Шарп: она способна «лгать без
зазрения совести», «извлекать пользу из всего реши-
тельно», «вероломный друг и вероломная жена», она
«злая, дурная женщина». Автор не оспаривает всех
этих обличений маленькой Бекки и все же скажет о ней:
«в сущности не злая». И также из разных уст читатель
может услышать, что Бекки и мила и очаровательна, что
она «добродушное и милое создание». И сам автор не
раз взглянет на нее увлеченно, будет сравнивать ее
с другими лицами и не сможет удержаться, чтобы не
отметить ее поразительную и озадачивающую привле-
кательность.
Сравнение начинается с первых страниц романа, ко-
гда перед читателем появляются две юные особы, по-
други, мисс Эмилия Седли и мисс Ребекка Шарп, с раз-
ным чувством и настроением покидающие пансион
чванливой старухи мисс Пинкертон. Сравнение будет
продолжено до конца романа, сравнение двух лиц, двух
духовных и нравственных обликов, двух типов поведе-
ния и в конечном итоге двух судеб, история которых и
составляет основной сюжет романа.
Чистая, стыдливая, добрая, нежная — так говорят
об Эмилии Седли, чего нельзя сказать о Бекки Шарп.
Корысть, эгоизм и нужда — таковы были «бессердечные
наставники, которые руководили воспитанием бедной
мисс Бекки Шарп. А у мисс Седли ее главной настав-
ницей была любовь» — так поясняет автор причину,
определившую разность характеров двух подруг. Каза-
лось бы, вся симпатия автора и читателя должна при-
145
надлежать милой Эмми, а Бекки можно только посо-
чувствовать. Но автор не раз называет Эмми и бед-
няжкой и глупенькой, говорит, что она «слишком скром-
на, слишком мягка, слишком безропотна и покбрна»,
что дает основание и возможность бравому капитану
Джорджу Осборну, ее возлюбленному, гв «простом, сми-
ренном, верном создании» с тщеславным удовлетворе-
нием видеть «преданную рабыню».
Читатель слышит разноречивые мнения о персона-
жах «Ярмарки тщеславия», их выражают разные го-
лоса, но и сами персонажи дают повод не односторон-
не судить о них, потому что это характеры сложные и
противоречивые.
Диккенс вопреки общественному мнению руковод-
ствовался, особенно в начальный период своего твор-
чества, принципом создания острых характеров и свои
романы наполнял людьми с резко выраженными каче-
ствами. Теккерей следует иному принципу, он стремится
к тому, чтобы у персонажей своего романа выявить
сложный комплекс психологических мотивов и движе-
ний. Он высоко ставит искусство изображения характе-
ров в романе «Том Джонс, найденыш» Генри Филдин-
га, который, по словам Теккерея, «старается по мере
своих сил и возможностей рассказать вам всю правду
о человеческой природе, и добро и зло в характерах его
героев одинаково жизненны». ;Не уклоняться от правды
человеческой природы, анализировать ее без всякой
предвзятости, передать сложность и противоречивость
ее проявлений в жизненных характерах — к этому стре-
мится Теккерея, J
Бекки Шарп демонстрирует поразительную жизне-
способность и коварную привлекательность авантюрно-
хищной натуры. Добродетельная, скромная, тихая Эми-
лия Седли в сравнении с безнравственно-напористой
Бекки Шарп кажется более заурядной, чем она есть на
самом деле. «Пожалуйста, — советует автор, — не ло-
майте себе голову над тем, героиня Эмилия или нет».
Эмилия не годится в салонные героини, ей не хватает
ослепительного блеска, она слишком наивна, чтобы
в чем-либо особенно отличиться. Но доброта и отзыв-
чивость, выдержка и самоотверженность в трудное для
нее время заметно выделяют Эмилию среди окружаю-
щих ее лиц. £тоит прислушаться к словам автора, про-
никнутым личным чувством: «...дай бог на^йти на склоне
наших дней нежное плечо, на которое можно будет опе-
146
реться, и ласковую руку», такую, как у Эмилии Седли.
Эмилию нежно и самоотверженно любит Уильям Доб-
бин, а он, по ее словам, «является олицетворением доб-
роты и честности». И это не только слова Эмилии, кото-
рые могут показаться пристрастными, но и мнение самого
автора. В этом читателю нетрудно убедиться, но у него
все же могут возникнуть сомнения относительно досто-
верности этого характера, его соответствия действитель-
ности, возможности его пребывания в условиях «Ярмар-
ки тщеславия». Сомнения могут возникнуть и возникают,
но рассеиваются при непредвзятом отношении к Уилья-
му Доббину. Самый положительный персонаж «Ярмар-
ки тщеславия» не производит того же сильного впечат-
ления, какое производят положительные персонажи
диккенсовских романов, и не возбуждает столь же силь-
ные симпатии. Возможно, это происходит потому, что
не на Уильяме Доббине сосредоточены интересы авто-
ра, не его судьба занимает и заботит, не на нем ак-
центируется внимание читателя.
Как ни разветвлен сюжет «Ярмарки тщеславия»,
основу его составляют события из жизни Эмилии Седли
и Бекки Шарп. Эти контрастные характеры и судьбы
дают разносторонний материал и повод для размыш-
лений, нравственных суждений и выводов, чему способ-
ствуют комментарий и позиция автора. «Столько лжи
и выдумки, столько эгоизма, изворотливости, ума — и
такое банкротство!» Это о Бекки Шарп, заплатившей
за свое авантюристическое поведение полным круше-
нием своих тщеславных надежд. Ей самой, когда она
задумывается о своей долгой жизни, эта жизнь пред-
ставляется «унылой, жалкой, одинокой и неудачной».
Бекки легко преодолевает минутное желание покончить
с собой, это не только цепкий, но и жизнелюбивый ха-
рактер, устремленный к яркой жизни. Однако она про-
должает двигаться в избранном ею направлении, дей-
ствовать привычными для нее средствами и опускается
все ниже и ниже.
По-иному складывается жизнь Эмилии Седли. Много
тягостного выпало на ее долю, она вела себя и наивно
и глуповато, но думала и заботилась не только о себе.
Автор нашел возможным завершить рассказ о ней
«счастливой концовкой» — браком с любящим ее чело-
веком. И хотя устало смотрит Гименей на эту скромную
пару, он доволен и приветлив — вдова Эмилия Седли
и старый великодушный холостяк Уильям Доббин впол-
147
не заслужили ту тихую радость, какой, это можно пред-
ставить, светятся их милые лица в момент, когда чи-
татель расстается с ними.
«Ярмарка тщеславия» — масштабное произведение,
таким объемным представляли себе Диккенс и Теккерей
жанр романа, большую эпическую форму, «эпос нового
времени». Романа большого объема, «трехпалубного»,
как его обычно называют, требовали издатели и ожи-
дали читатели, в соответствии с традицией, шедшей от
XVIII века. Многие романисты не следовали этой тра-
диции. Они не выполняли формальные издательские
требования, не учитывающие ни характера темы, ни
творческого замысла, ни творческих возможностей авто-
ра. У Диккенса и Теккерея доставало и творческой фан-
тазии, и мастерства, чтобы великое множество страниц
наполнить огромным материалом, оживить его, связать
все в единое целое, сделать повествование интересным
и занимательным. Казалось бы, масштабная эпическая
форма должна предполагать и масштабные события как
объект описания. Время действия «Ярмарки тщеславия»
автор относит к первой трети XIX века, когда Европу
сотрясали наполеоновские войны, когда героическое
русское войско в Отечественной войне разгромило пол-
чища «непоколебимого героя». В «Ярмарке тщеславия»
встречаются упоминания о русских, о Москве, но лишь
самые беглые. Несколько страниц отведено битве при
Ватерлоо, в которой участвуют некоторые персонажи
романа, в том числе Уильям Доббин. В этой битве по-
гибает его друг, беспутный супруг Эмилии Седли,
Джордж Осборн. Рассказывается о том, как Джордж
шел «впереди своей роты», когда войска под звуки пол-
кового марша рано утром стали выходить из Брюсселя,
как он «поднял голову, улыбнулся Эмилии и прошел
дальше», как полк, в котором он командовал ротой,
«выказал чудеса храбрости и некоторое время сдержи-
вал натиск всей французской армии», а затем был «из-
рублен в куски». А когда Эмилия молилась за Джорд-
жа, он уже «лежал ничком — мертвый, с простреленным
сердцем». Сдержанно, лаконично это описание трагиче-
ских событий; автор отказался от выражения своих
чувств из-за боязни придать им несвойственный обстоя-
тельствам мелодраматический оттенок.
О большом историческом событии — битве при Ва-
терлоо (18 июня 1815 г.) и его влиянии на частные
судьбы говорится кратко, бегло, сдержанно, сказано
148
в полемике и в противоположность существующим пред-
ставлениям, ура-патриотическим и сусально-романти-
ческим описаниям. Командующий английскими войсками
герцог Веллингтон вовсе лишен ореола величия и сла-
вы, какими его окружила официозная историография.
Стоит вспомнить следующие строки из главы «Брюс-
сель», чтобы уловить изобличительно-иронический ха-
рактер отношения Теккерея к этому историческому лицу
и к помпезным описаниям похода его армии: «Никогда
еще со времен Дария не было у армии такого блестя-
щего обоза, как тот, что в 1815 году сопровождал армию
герцога Веллингтона в Нидерландах и он в сплошных
танцах и пиршествах довел ее, можно сказать, до са-
мого поля сражения. Бал, который дала некая благо-
родная герцогиня в Брюсселе 15 июня вышеупомянуто-
го года, вошел в историю. Приготовления к нему взбу-
доражили весь город, и я слышал от некоторых людей,
живших в то время в Брюсселе, что дамы говорили
о нем и интересовались им куда больше, чем наступ-
лением неприятеля». Трагедия и фарс, помпа и по-
шлость, захватывающая динамика большого события и
порожденная им суетность тщеславных людишек, бога-
тых и знатных — в таких плотно соединенных чертах
рисуется облик привилегированных общественных сло-
ев в напряженный исторический момент. Собственно
драматический, трагический аспект событий оттенен
фарсовым, выявляющим эпидемию тщеславия как ве-
дущую черту общественной психологии. Паника в Брюс-
селе, вызванная страхом приближения неприятельских
войск, с особой наглядностью выявляет духовную суть
и материальную основу этой психологии.
В «Ярмарке тщеславия» немало примет отошедшего
времени, в том числе частного свойства: в Брюсселе
в театре зритель пользуется трубкой, так как «би-
ноклей в то время еще не было», на званом обеде тан-
цуют вальс — новый танец, он только что появился.
История вмешивается в романный сюжет, судьба неко-
торых персонажей оказывается в прямой зависимости
от исторических событий и обстоятельств. И все же это
не исторический, а социальный, нравоописательный,
нравственно-сатирический роман, если воспользоваться
определениями того же прошлого времени. Он посвя-
щен не историческим событиям, и их воздействию на
общественное сознание и жизнь английского народа,
а нравам и быту верхних и средних слоев английского
149
общества, тому, как живет и чем дышит буржуазно-
аристократическая Англия не столько в историческом
движении, сколько «вопреки» ему, как бы не считаясь
с опытом истории. Действие романа отнесено к прошло-
му, а действующие лица ведут себя так, как будто они
не современники битвы при Ватерлоо, а современники
автора «Ярмарки тщеславия».
j Теккерей-рисовалыцик, взявшись иллюстрировать
свой роман, изобразил его персонажей в современных
костюмах, вероятно, потому, что тщеславие, спесь, суе-
та не остались в прошлом. Историческая тема понадо-
билась ему для того главным образом, чтобы утвер-
дить значительность сюжета и его достоверность,
подчеркнуть устойчивость тех явлений, которые он
объединяет образным наименованием: «Ярмарка тще-
славия».
Как и другие писатели его времени, Теккерей высту-
пает в своем произведении всеведущим автором. Одна-
ко его всеведение не должно создавать впечатления,
что он знает все о своих персонажах потому, что он их
творец, что он сам все это сочинил. В известной мере
Теккерей следует литературной традиции, характерной
для английских романистов XVIII века, когда автор
стремился представить себя читателю всего-навсего
в роли издателя, редактора или доверенного лица. Тек-
керей говорит о себе как о «поверенном тайн» некото-
рых своих персонажей, о личном знакомстве с ними, он
пишет о том, что узнал из первых рук... («Как потом
сообщил мне капитан Доббин»), в скобках заметит Тек-
керей, рассказывая о венчании Эмилии Седли. Так
скрепляется связь отошедших событий и современно-
сти, их близость, создается впечатление реальной осно-
вы повествования, бытовой и психологической достовер-
ности описываемого. Тому же способствует частое
вкрапление в авторскую речь «чужой речи» — речи пер-
сонажей, а иногда и слияние их. Вместе с тем эта взаи-
мосвязь как бы непроизвольно, непосредственно выяв-
ляет отношение автора к персонажам и обстоятельствам.
Вспомним в связи с этим еще раз знаменитый бал
в Брюсселе 15 июня 1815 года, на который билеты «до-
ставали ценою таких стараний, просьб и интриг, какие
под стать только английским леди, жаждущим встре-
титься с высшей знатью своей страны». На этом балу
Джордж Осборн ведет себя беспутно и неуважительно
по отношению к своей юной супруге, любящей его и
150
страдающей от его небрежения. И вдруг в момент свое-
го безрассудного поведения узнает, что через несколько
часов он должен покинуть Брюссель вместе со своей
частью: на фронте началось решительное сражение.
«Джордж вышел на улицу, весь дрожа под впечатле-
нием этого известия, столь давно ожидаемого и все же
столь неожиданного. Что теперь любовь и интрига?
Быстро шагая домой, он думал о тысяче вещей, но толь-
ко не об этом — он думал о своей прошлой жизни и на-
деждах на будущее, о жене, о ребенке, с которым он,
возможно, должен расстаться, не увидев его. О, если бы
он не совершил того, что совершил в эту ночь! Если бы
мог по крайней мере с чистой совестью проститься с неж-
ным невинным созданием, любовь которого так мало
ценил?.. Надежда, раскаяние, честолюбие, нежность и
эгоистическое сожаление переполняли его сердце». Тек-
керей не воспроизводит диалектику сложных пережи-
ваний Джорджа Осборна, возникших у него в момент
перелома в его судьбе, вызванного историческим собы-
тием. Он ограничивается перечислением возбужденных
и переливающихся чувств, обозначает их точным словом
и выявляет отношение Джорджа к их переменам. И тут
же выражает свое отношение к этому самоанализу и
самооценке — и прямо и косвенно, сливая авторский
голос с внутренним голосом Джорджа, с голосом его
совести, очищающим его душу от суетливых страстишек
и устремлений. Вот Джордж вернулся домой и входит
в комнату, где, закрыв глаза, лежит Эмилия. «Как она
чиста, как хороша и как одинока! А он, какой он эгоист,
грубый и бесчувственный! Охваченный жгучим стыдом,
он стоял в ногах кровати и смотрел на спящую». Тек-
керей оттеняет и поддерживает эту победу нравствен-
ного начала в сознании Джорджа Осборна.
t В русском переводе роман Теккерея «Ярмарка тще-
славия» впервые вышел в 1853 году под названием «Ба-
зар житейской суеты». Название заимствовано Текке-
реем из книги английского писателя XVII века Джона
Беньяна «Путь паломника», произведения необычайно
популярного в Англии, оказавшего влияние на многих
ее писателей. В этом аллегорическом романе, самом
значительном повествовании Беньяна, автор выразил
свое отношение к обществу своего времени в аллегори-
ческом изображении ярмарки-базара житейской суеты,
на котором все подчинено чистогану, все покупается и
все продается — «все что угодно».
151
«Базар житейской суеты», «Ярмарка суеты», «Яр-
марка тщеславия» — таковы русские переводы заглавия
романа Теккерея.
«Ярмарка тщеславия» звучит менее конкретно, чем
первое заглавие, но более лаконично, более отвечает
оригиналу.
Ярмарка тщеславия уподобляется Теккереем житей-
ской ярмарке, где вершится купля и продажа, где бес-
прерывная сутолока производит шум и гам, где публи-
ку увеселяет балаган и сама ярмарочная суета похожа
на балаганное представление. Обширное повествование
разделенное на пятьдесят семь глав, Теккерей предва-
ряет кратким введением, озаглавленным «Перед зана-
весом». Здесь автор называет себя Кукольником, вы-
ступающим на подмостках балагана перед началом
представления. На ярмарке тщеславия дают представ-
ление разные балаганы, но и сама эта ярмарка являет
собой балаган. Два аллегорических образа — ярмарки
и балагана — оказываются сквозными в структуре этого
масштабного повествования.
Создавая «Человеческую комедию», Бальзак брал
в пример величественную «Божественную комедию»
Данте и свидетельствовал об обмирщении, утрате «бо-
жественного», возвышенного в человеческих устремле-
ниях, подчиненных чистогану, обращенных к наживе.
л Теккерей называет свое повествование комическим
повествованием и «человеческую комедию» разыгрывает
в балагане с вывеской «Ярмарка тщеславия». Сниже-
ние представлений о человеке и жизни — характерное
явление реалистической литературы Англии, анализи-
рующей верхние слои буржуазно-аристократического об-
щества. Сниженные представления сказывались, в част-
ности, в характере традиционных сравнений жизни
с театром, человека с лицедеем. Соотечественник и со-
временник Теккерея, проницательный и оригинальный
критик буржуазной действительности своего времени,
Томас Лав Пикок (1785—1866), цитируя выражение
Шекспира «Весь мир — театр», сопровождает его горест-
ным суждением: «А жизнь есть фарс». Однако это не
только горестное, но и критическое, обличительное суж-
дение. Выступая на подмостках ярмарочного балагана
в шутовском колпаке, в роли Кукольника, автор «Яр-
марки тщеславия» не думает забавлять своего зрителя,
то есть читателя, беспечными, добродушными или язви-
тельными шутками. Шуту было позволено говорить
152
горькие истины. И автор «Ярмарки тщеславия», Ку-
кольник на подмостках этого балагана, выступает с на-
мерением говорить правду, независимо от того, что
у него на голове: «колпак ли с бубенцами или широко-
полая шляпа». С намерением «вывести на чистую воду
и строго покарать своих злодеев», к которым питает
«искреннюю ненависть, которую не в силах побороть».
А злодеи его — это те, «кто не питает уважения ни
к чему, кроме богатства, закрывает глаза на все, кроме
успеха. Такие люди живут в этом мире, не зная ни ве-
ры, ни упования, ни любви». «Давайте же, дорогие
друзья, — обращается автор с призывом к своим чита-
телям,— ополчимся на них со всей мощью и силой!
Преуспевают в жизни и другие — шарлатаны и дураки,
и вот для борьбы с такими-то людьми и для облегче-
ния, несомненно, и создан Смех!» Смех с большой бук-
вы, Смех широкообъемлющий, мощное демократическое
средство обличения и отрицания. Его возбуждают сати-
ра, юмор, ирония — разные средства обнажения комиче-
ского, но больше всего перо Теккерея заставляет тру-
диться сатиру. Точны, выразительны, беспощадны в
сатирической ""обрисовке созданные этим пером много-
численные семейные и индивидуальные портреты, выяв-
ляющие мерзкую нравственную и духовную сущность
лиц знатных, богатых, влиятельных, марионеток из ба-
лагана «Ярмарки тщеславия». «Семейные портреты» —
так называет Теккерей главу, которая следует за его
призывом к читателю сплотиться против ненавистных
ему лиц со всей силой и мощью, главу, которую он
посвящает семейству Кроули. В этом семействе, зани-
мающем видное место в сюжете романа, юная Ребекка
Шарп начинает свою карьеру в роли гувернантки, упо-
требляя неиссякаемую энергию, женское очарование,
изрядную долю лицемерия и практической изворотли-
вости для того, чтобы добыть себе мужа. Глава этого
семейства сэр Питт Кроули, баронет и член парламен-
та, «важное лицо в своей стране, опора государства»,
хотя «человек едва грамотный», грубый, тщеславный,
сластолюбивый, «философ с пристрастием к тому, что
называется низменными сторонами жизни». «На яр-
марке тщеславия он занимает более высокое положе-
ние, чем люди самого блестящего ума или незапятнан-
ной добродетели». Ребекка добивается того, что млад-
ший отпрыск сэра Питта Родон Кроули, «надменный,
наделенный сильными желаниями и карликовым моз-
153
гом», становится ее супругом. Но она метит выше, ее
покровителем становится влиятельный вельможа лорд
Стайн, украшенный многими титулами, увешанный оте-
чественными и иностранными орденами, прославленный
за добродетели, щедроты и таланты, которыми он ни-
когда не обладал. История отношений прелестной аван-
тюристки Бекки, ставшей миссис Кроули, и знатного
влиятельного сластолюбца Стайна — блестящая сати-
рическая иллюстрация нравов высшего света — очень
хорошо выражает отношение к нему автора «Ярмарки
тщеславия». Как и лаконичная язвительная заметка
о кончине этого великосветского ретрограда: «Спустя
два месяца после французской революции 1830 года»
достопочтенный маркиз Стайн скончался от потрясения,
«каким явилось для чувствительной души милорда па-
дение древней французской монархии». Теккерей был
свидетелем чартистского движения. Социальный про-
тест, выраженный этим движением, революционные со-
бытия в континентальной Европе отозвались в «Ярмар-
ке тщеславия» особой силой и страстью социального
обличения.
Многозначительно признание Теккерея в письме
к матери 26 марта 1851 года: «Все теперешние писате-
ли как бы инстинктивно заняты тем, что развинчивают
гайки старого общественного строя и подготавливают
его к предстоящему краху. Я нахожу своеобразное удо-
вольствие в том, что понемножку участвую в этом деле
и говорю разрушительные вещи на добродушно-шутли-
вый лад...» Известный английский издатель Александр
Макмиллан склонен был рассматривать творчество Тек-
керея как предельную меру художественной критики
буржуазного общества. В письме к начинающему ро-
манисту Томасу Гарди он писал, что во многих случаях
Теккерей беспощаден в своей критике, но все же делает
«смягчающие штрихи».
^ Ненависть Теккерея к ярмарке тщеславия, к марио-
неткам привилегированного балагана находила выход
в решительном их обличении, однако замкнутость в об-
личаемой сфере, роль Кукольника, которую писатель
избрал для себя как автор балаганной комедии, утом-
ляли его, питали в нем настроение безысходности.
«О братья по шутовскому наряду!» — с горькой ирони-
ей восклицает он, обращаясь к читателю. Звон бубенцов
на шутовском колпаке недолго забавляет его, в конце
концов приводит в уныние: «оставшись наедине с со-
154
бой», он чувствует «себя глубоко несчастным». Шутов-
ская ирония играет у Теккерея существенную роль не
только как средство сатиры, но и как форма самокри-
тической рефлексии, вызванной горьким сознанием не-
осуществимости идеала. И это печальное сознание
в последовательном развитии склоняется к пессимисти-
ческому изречению Екклезиаста: «все суета и томление
духа».
Л. Н. Толстой в «Севастопольских рассказах» с го-
речью отметил эту сосредоточенность сознания на яр-
марке тщеславия и замкнутость в ее среде. «Тщеславие,
тщеславие и тщеславие везде — даже на краю гроба и
между людьми, готовыми к смерти из-за высокого
убеждения. Тщеславие! Должно быть, оно есть харак-
теристическая черта и особенная болезнь нашего века...
Отчего Гомеры и Шекспиры говорили про любовь, про
славу и про страдания, а литература нашего века есть
только бесконечная повесть «Снобов» и «Тщеславия»,
д/ Действие «Ярмарки тщеславия» отнесено автором
к 10—20-м годам XIX века, захватывает часть той
исторической эпохи, которая изображена в романе Тол-
стого «Война и мир». У Теккерея, как можно видеть
хотя бы по некоторым эпизодам, была возможность
расширить сферу творческого наблюдения, обратившись
к проявлению высоких убеждений и чувств, вызванных
подъемом патриотического настроения в условиях отпо-
ра наполеоновскому нашествию. В кратком эпизоде он
отметил нравственное потрясение Джорджа Осборна,
душевное очищение силой патриотического чувства,
гражданского и воинского долга. Однако творческая
мысль Теккерея не пошла в этом направлении, верну-
лась к «Снобам» и «Тщеславию», и читателю не пред-
ставилась возможность проследить духовное развитие
Джорджа Осборна на поле боя и в солдатской среде —
он погиб в первом же сражении. У Теккерея был свой
замысел, определившийся характером личного опыта,
творческой склонности, гражданской позиции. Он ис-
полнил творческий и гражданский долг, воплотив свой
замырел в «Ярмарке тщеславия», неувядающем произ-
ведении словесного искусства. Он обнажил и заклей-
мил порок тщеславия, охвативший современное ему
общество, словно эпидемическая болезнь, он сорвал
маски со снобов, паразитов, хищников, лицемеров раз-
ного калибра и социального положения. Он не изменил
своей установке говорить правду, не опасаясь того, что
155
«на свет божий должно выйти столько неприятных ё6-
щей, что и не приведи бог». Он выразил свою ненависть
к тем, кто ее заслужил, со всей силой заразительного
и оздоровляющего сатирического смеха. Он испытал
глубокие и мрачные чувства, одиночество и безысход-
ность, но не утратил веры в человека, поддерживал и
утверждал в нем мысли и чувства, достойные уваже-
ния. Вспомним его слова, обращенные к читателю:
«Я хочу просить позволения, на правах человека и бра-
та, по мере того, как мы будем выводить наших дей-
ствующих лиц, не только представлять их вам, но ино-
гда спускаться с подмостков и беседовать о них; и если
они окажутся хорошими и милыми, хвалить их и жать
им руки; если они глуповаты, украдкой посмеяться над
ними вместе 9 читателем; если же они злы и бессер-
дечны, порицать их в самых суровых выражениях, ка-
кие только допускает приличие».
ДЖОРДЖ МЕРЕДИТ
(Творчество и эксперимент)
Жизненный путь Джорджа Мередита (1828—1909)
охватывает почти тот же период времени, что и годы
жизни Л. Н. Толстого. Однако Толстой своим долголе-
тием— физическим и творческим — связан в нашем
представлении с целым веком, между тем репутация
Мередита умещается в гораздо более узкие рамки. Это
писатель, совпадающий с Толстым в одном из направ-
лений, там, где «интерес подробностей чувства заменя-
ет интерес самих событий» (Толстой).
Начало творческой деятельности Мередита, что зна-
менательно, связано с именем Диккенса, которому он
был представлен в 1849 году. По-видимому, по реко-
мендации Диккенса опубликовано его первое стихотво-
рение. В 1850 году в журнале «Домашнее чтение» —
журнал тогда стал выходить под редакцией Диккен-
са — было напечатано несколько стихотворений моло-
дого поэта.
Джордж Мередит происходит из демократической
среды. Дед и отец его были известными в Портсмуте
портными, держали в этом портовом городе мастерскую,
изготовлявшую флотское обмундирование. Мать Мере-
дита— ирландка, дочь портсмутского трактирщика. Он
не получил ни систематического среднего, ни универси-
тетского образования.
Джордж Мередит — и романист и поэт. Ему при-
надлежат тринадцать романов (четырнадцатый, «Кель-
ты и саксы», остался незаконченным), несколько пове-
стей, поэм, много стихотворений. В этом распределении
творческих сил, когда писатель в равной или почти
в равной степени проявляет себя и в прозе и в поэзии,
сказывается иное их соотношение в последнюю треть
века, чем в 40—50-е годы.
Мередит тесно связан с журналистикой, в 1866 году
он был военным корреспондентом в Италии, первым,
кажется, английским писателем — военным корреспон-
дентом новейшего времени. Литература и журналисти-
ка, их связь в творческой деятельности большого пи-
сателя— характерная черта и одна из проблем литера-
157
турного развития на «рубеже веков». Опыт военного
корреспондента позволил Мередиту написать роман
«Виттория» — первый английский роман о национально-
освободительной борьбе. Он положил начало традиции,
получившей широкое развитие в Англии спустя сто
лет, уже в наше время.
«Виттория» — единственный роман Мередита, в ко-
тором отчетливо проявила себя зависимость писателя
от журналиста. При всей значительности темы, этот
роман сохраняет преимущественно историко-литератур-
ный интерес. Мередит проводит четкую грань между
художественной литературой и журналистикой в то вре-
мя, когда в английской литературе наметилось их
сближение, когда даже некоторые знаменитые писатели
начали эту грань стирать. Один из наглядных приме-
ров— романы «Гриффит Гонт» и «Страшное искуше-
ние» весьма популярного в то время Чарльза Рида
(1814—1884) и та дискуссия, которую эти романы вы-
звали.
Чарльз Рид более откровенно, чем другие англий-
ские литераторы, писал о распространенных фактах
нарушения нравственных норм семьи и брака. Каза-
лось, он был смелее других, смелее Диккенса, который
признавался в письме к Уилки Коллинзу, что не стал
бы печатать «Гриффита Гонта», несмотря на его лите-
ратурные достоинства. Но это была смелость темпера-
ментного либерала и опытного литератора, подхваты-
вавшего с газетных страниц острую тему, считавшего,
как он говорил, своим долгом писателя «зарегистриро-
ванные факты... вплетать в художественные образы».
По сути дела, Чарльз Рид стремился поспевать за жур-
налистикой, превращая с поучительной целью художест-
венный образ в развернутую иллюстрацию «зарегист-
рированных фактов».
Джордж Мередит держался иного взгляда на воз-
можности и назначение литературы. Информационную
и агитационную функции он относил к сфере журна-
листики. В известной мере этим можно объяснить его
стремление ослабить связь с предметным окружением
и временем действия, стремление заменить изображение
обстановки и обстоятельств намеками на них, симво-
лами, аллегориями и литературными реминисценциями
и в то же время сжать и замкнуть систему взаимоот-
ношений действующих лиц. Все это могло питать и пи-
тало возможность обособления литературы от действи-
158
тельности. В дальнейшем развитии английской литера-
туры эта тенденция дала себя знать и в своих край-
ностях— в абстракционизме и формализме, в мнимой
многозначительности изощренных условных приемов.
В течение тридцати пяти лет, начиная с 1860 года,
Мередит непрерывно работал консультантом крупней-
шего лондонского издательства «Чепмен и Холл», фак-
тически являясь его главным редактором. Это единст-
венный в литературной жизни Англии случай почти
пожизненного совмещения выдающейся творческой и
профессиональной редакционно-издательской деятель-
ности.
Решая судьбу рукописей, высказывая о них автори-
тетное мнение в издательских рецензиях, в письмах
к авторам и в беседах с ними, Мередит оказал значи-
тельное влияние на литературу и литературную жизнь
Англии 60—90-х годов, влияние, еще не получившее
должной научной оценки. Это было подвижничеством,
обусловленным призванием и материальной необходи-
мостью.
Свой первый роман — «Испытание Ричарда Февере-
ла» — Мередит опубликовал одновременно с появлени-
ем первого романа Джордж Элиот «Адам Вид» в 1859 го-
ду. «Адам Вид» имел скорый успех, имя Джордж Элиот
встало в один ряд с именами крупнейших викториан-
цев, а Мередит и в 50-е и в 60-е годы, да и в первой
половине 70-х годов все еще оставался в тени, хотя уже
появилась серия его романов — «Ивэн Херрингтон»,
«Сандра Беллони» («Эмилия в Англии»), «Рода Фле-
минг», «Виттория», «Приключения Гарри Ричмонда».
Многие из них были известны за рубежом, в том числе
в России. О нем писали, его произведения обсуждали,
но если у него и был успех, то он ограничивался узким
кругом.
По-видимому, только в 90-е годы Мередит получил
особое признание, однако не на продолжительный срок.
П. Д. Боборыкин, любознательный русский очевидец
некоторых важных явлений английской культурной жиз-
ни, отметил как знаменательный факт «половины 90-х го-
дов», как «одно из доказательств» того, что «время все-
таки берет свое», признание Мередита «самым выдаю-
щимся писателем» Англии тех лет. Он писал: «На мой
частый вопрос в последнюю мою поездку в Лондон,
обращенный к англичанам и англичанкам всяких воз-
растов и слоев общества: «Кого же следует теперь счи-
159
тать самым крупным английским романистом?» — мне
почти везде отвечали: «Джорджа Мередита». А между
тем до тех пор его считали в той публике, которая при-
выкла поглощать трехтомные novels, писателем с ужас-
но трудным языком. Он не льстит ни одной из рутинных
привычек и настроений большой публики... И все-таки
же он признан, правда, уже совершенно на склоне сво-
ей карьеры» К
Прошло около тридцати лет, и, «подводя итоги», дру-
гой очевидец, видный английский писатель, Э.-М. Фор-
стер, начавший творческую деятельность при жизни
Мередита, говорил о нем с иной, полушутливой интона-
цией, подсказанной иными временами и студенческой
аудиторией. Форстер говорил, обращаясь к студентам
Кембриджского университета: «Мередит уже не то зна-
менитое имя, каким оно было двадцать или тридцать
лет назад, когда немалая часть человечества и весь
Кембридж трепетал при его упоминании»2. Заглядывая
в будущее, отыскивая в нем место Мередиту, Э.-М. Фор-
стер не мог предсказать ему ни былого влияния, ни преж-
ней славы: «Никогда больше он не будет той духовной
силой, какой он был около 1890 года». Предсказание
Э.-М. Форстера было жестким, гораздо более жестким,
чем прогнозы Пристли, за год перед тем выпустившего
книгу «Джордж Мередит»3, но основательным.
Невозможно ожидать, чтобы Мередит восстановил
утраченные славу и влияние при всех возможных коле-
баниях интереса к его имени. Вместе с тем все более
проясняется его роль в развитии новейшей английской
литературы, по крайней мере в жанре романа. Джордж
Мередит стоит у истоков английского романа, отмечен-
ного новыми чертами, можно сказать — романа нового
типа. Влияние Мередита было разносторонним, особен-
но заметным в том направлении развития этого жанра,
которое связано с именами Генри Джеймса, Оскара
Уайльда, затем литературы «потока сознания», а также
с неоромантиками — Стивенсоном, Конрадом.
Мередит во многом близок реалистам «блестящей
плеяды», влияние Теккерея нетрудно обнаружить в его
романах, например, в острой критике снобизма и в ма-
нере изобличительного иронического повествования. Но
1 Боборыкин П. Д. Воспоминания, т. II. М., Художествен-
ная литература, 1965, с. 218—219.
2 Forster Е. М. Aspects of the novel. N. Y., 1954, p. 89.
3 Priestley J. B. George Meredith. L., 1926.
160
Мередит — «дитя реализма, поссорившееся со своим
отцом», так в «Замыслах» Оскар Уайльд назвал писате-
ля1. Это определение можно было бы распространить
также на многих его современников, отнести, хотя и с
разной степенью ограничения, ко всему поколению писа-
телей последней трети XIX века или к целому периоду,
так как в этом замечании схвачено если не существо,
то по крайней мере важное свойство переходного этапа.
«Дитя реализма». В самом деле, многое соединяет
с «блестящей плеядой», с ее традициями Мередита и
Батлера, Гарди и Мура, Шоу и Уэллса, Стивенсона и
Конрада, а также Оскара Уайльда и Генри Джеймса.
И каждый из них на свой лад «ссорился» со своим
«отцом». Ссоры возникали не только по психологическим
причинам становления молодых талантов на самостоя-
тельный путь, когда творческий рост обостряет до пре-
дела стремление к самостоятельности. Минет, останется
позади наиболее напряженный момент этого роста, то-
гда и связь, даже зависимость от непосредственно пред-
шествующих авторитетов не будет многим из «молодых»
казаться тягостной. Ссоры возникали по принципиаль-
ным идейно-эстетическим поводам, под воздействием
меняющихся обстоятельств, причем одни «ссорились»,
порываясь вперед, другие — отхол^ в сторону или обра-
щаясь вспять. В Мередите заметны разные порывы.
Мередит откликается на значительные события, про-
являет большой интерес к национально-освободительной,
социальной и политической борьбе. Воодушевленность
писателя гражданским пафосом, правда в разной сте-
пени, сказывается не только в период наибольшего
подъема его творчества — в 70-е годы, — но на разных
этапах его эволюции. Общественный пафос особого за-
ряда ведет перо писателя. В романе «Карьера Бью-
чемпа» Мередит непосредственно рассуждал об этом.
«Героя моего, — писал Мередит, — можно обвинить
в заведомой неспособности угодить обществу, так как
он постоянно оскорблял все предрассудки и никогда не
искал популярности. Быть популярным — последнее,
о чем бы он подумал. Быочемпизм, если можно так вы-
разиться, есть олицетворение всего, что противополож-
но байронизму; он не ищет вашей симпатии, избегает
ходульного пафоса или каких бы то ни было патетиче-
сих поз. Бьючемп не думает о личном счастье, хотя бы
1 Уайльд О. Поли. собр. соч., т. III, с. 166.
§ М. В. Урнов
161
из-за того, чтобы не оплакивать отсутствие его; мело-
дический плач, демоническое презрение равно чужды
ему. Символ веры его — дело и борьба. Имея все, что
могло бы соблазнить на роль романтического героя, он
презирает помаду и парикмахерские щипцы современ-
ной романтики, ее выкройки и ярлыки; словом, все вещи,
ловким употреблением которых устраивается таинст-
венный ореол героя над головой джентльмена» (гл. IV).
Может показаться неожиданной и исторически за-
поздалой полемика Мередита с Байроном и байрониз-
мом— все это было так давно. Однако Байрон и бай-
ронизм и в дальнейшем служили предметом и поводом
для полемики. Мередит первым из английских романи-
стов последней трети XIX века начал пересматривать
позиции байронического неприятия действительности и
критиковать уродливые ему подражания. В этом отно-
шении, как и в некоторых других, Мередит оказался
прямым предшественником неоромантиков. В противо-
положность реакции он отнюдь не оспаривал историче-
скую обоснованность, мужество и вдохновенную силу
байроновской «музы мести и печали», о сути которой
в те же 70-е годы в связи со смертью Некрасова вспо-
минал в «Дневнике писателя» Достоевский, подчерки-
вая, что «словом «байоонист» браниться нельзя». Кри-
тика Мередитом романтического эгоцентризма и позы,
его стремление утвердить позитивную сторону роман-
тического пафоса как условия независимой одухотворен-
ности, борьбы и практической деятельности были одним
из источников, которые питали восторженное отношение
к нему Стивенсона. Неоромантик более поздней форма-
ции, Дж.-К. Честертон, обращаясь к Байрону и бай-
ронизму, противопоставляет их декадентам и декадент-
ству: «Поза молодых байронических героев — преуве-
личенная искренность; декадент пошел дальше, и поза
его — позерство».
«Байронизм» и «бьючемпизм» предстают у Мередита
как начало и конец характерного энтузиазма эпохи в его
превращениях. «Дело и борьба?» Разве это не родст-
венно готовности подняться в парламенте одному про-
тив всех с обличительной речью?
Восстань, мой дух, уразумей,
Откуда ты приял начало,
И — в бой смелей!
(Дж.-Г. Байрон.
Перев. П. Сербаринова)
162
Разница между этими порывами состоит не только
в их масштабах, но и в их подоснове и направлении.
Ломая нормы, Байрон, родовитый аристократ, бунтовал
против своей среды. Среды, и без того сдававшей пози-
ции под натиском буржуазного сословия. Тем сильнее
могла быть агоническая ненависть этой среды к отще-
пенцу, но это — иная сторона проблемы. Важен сам Бай-
рон и его пафос. Вспомним «Паломничество Чайльд
Гарольда», как он покидает родину, бросая ей если не
проклятие, то, во всяком случае, последнее «прости».
Что оставляет он? Опустевшее поместье, «потухший
очаг», цепного пса с похоронным воем. Он уезжает от
развалин родового замка к руинам Эллады, Италии,
Испании, он хочет взглянуть, как прошло их живое
великолепие, чтобы освежить понимание своей собствен-
ной катастрофы, он ждет и от родных камней такого же
красноречия, как от остатков Колизея. Оскудение со-
ставляет мотив его мыслей. И поиск энергии — его
страсть.
Я мира не любил, как он — меня же;
Не льстил его порокам, не сгибал
Колен перед кумирами и даже
Улыбкой гордых уст не искривлял.
В овациях мой голос не звучал;
В толпе меня своим не почитали;
И хоть средь них, не с ними я стоял;
Их мыслей чужд, я вырвался б едва ли,
Когда б свой гордый ум не обуздал
вначале 4.
(Песнь третья, ст. CXLIII. Перев. В. Фишер)
Разве эти свойства — нелюбовь к «обществу», неже-
лание льстить сильным и подделываться под общий
тон, обособленность положения — разве все это не на-
поминает примет, подмеченных Мередитом в облике
своего героя? Разве нельзя было бы сказать о Гарольде,
как говорил Мередит о Невиле Бьючемпе, что он «не
ищет вашей (т. е. окружающих) симпатии, избегает
ходульного пафоса и т. д.»?
«Байронизм» и «бьючемпизм», как это случается
с началом и концом, с двумя сторонами медали, даже
с противниками, нередко иронически повторяют друг
Друга...
Байрон бунтует среди своих. Он провожает прошлое,
с которым кровно связан. «Эта невероятная нежность,—
1 Байрон Дж.-Г. Избр. произв. в одном томе. М., 1935, с. 7.
6*
163
говорил А. В. Луначарский о характере Байрона,—
связанная с крайним самомнением и гордостью, созда-
вала почву для столкновения с обществом». Но, сле-
дует продолжить, и общество, точнее, определенный
социальный слой были почвой, воспитавшей и эту неж-
ность, и эту гордость, эту исключительность. То были
свойства среды, сохранившиеся в натуре Байрона це-
лостно, между тем как для общего правила они сдела-
лись мишурой.
Герой Мередита находится в другом положении. Мо-
лодой Быочемп не бежит от своей среды, но ищет ее,
ибо она со времен Байрона успела распасться, принять
немало инородного материала в свой состав, и Быо-
чемп имеет перед собой уже не круг постылых, однако
знакомых лиц, а целую систему, «общество» в реальном
смысле этого слова. Его естественное желание, его пер-
вый порыв — не остаться в одиночестве при этом не-
равном столкновении, нащупать опору. Но кто может
оказаться с ним рядом?
Бьючемп, возможно, читал, а Мередит знал навер-
ное, сыгравшую в умах того времени влиятельную
роль — книгу Дж. Стюарта Милля «О свободе» («On
Liberty», 1859) —«свободе мысли, речи и лица»1, — как
расшифровал смысл этого памфлета А. И. Герцен. Он,
как и многие тогда, горячо принял книгу Милля, его
реакция показательна. «...Неужели не странно,— предуга-
дывал Герцен вопрос читателя, — что там, где за два
века Мильтон писал о том же, явилась необходимость
снова поднять речь on Liberty...»
Точно так же можно было бы удивиться стремлению
Мередита провести грань между «байронизмом» и
«бьючемпизмом», когда кажется, что они так похожи.
Разве не решены были однажды эти социальные зада-
чи, что вдруг возникла надобность их вновь поставить,
да еще чуть ли не в тех же словах? Они были когда-то
и как-то решены, но почему-то теперь возвращаются,
однако в некоем превратном виде — пугающем, словно
потревоженные призраки.
«Он потому заговорил,— отвечал за автора Герцен,—
что зло стало хуже».
Сколь ни коротко слово «хуже», оно содержит в себе
суть критического пафоса. «Хуже» в данном случае не
сравнительная степень одного и того же качества, но
1 Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XI, с. 68.
164
обозначение свойств иных: зло стало иным, — так надо,
как представляется, понять Герцена и следом за ним
Милля, — и еще худшим.
«Мильтон, — продолжает Герцен, — защищал свободу
речи против насилия, и все энергическое и благородное
было с ним. У Стюарта Милля враг совсем иной: он
отстаивает свободу не против образованного правитель-
ства, а против общества, против нравов, против мертвя-
щей силы равнодушия, против мелкой нетерпимости,
против «посредственности»1.
По отдаленному, но ни в коем случае не прямому
сходству можно, со своей стороны, полагать, что «бай-
ронизм»— это откровенный бунт от энтузиазма, сознаю-
щего: надо разрушить, и все, что попадается на пути —
семейные узы, социальные связи, парламентская три-
буна, борьба повстанцев, — все как-то само собой сли-
вается в единый сокрушительный порыв:
В моих ушах, что день, поет труба,
Ей вторит сердце...2
(Дж.-Г. Байрон.
Из дневника в Кефалонии.
Пере в. А. Блока)
Невиль Бьючемп — участник Крымской кампании,
которая открыла ему глаза на многое. Он вернулся
с фронта разгоряченный свободомыслием и бунтарски-
ми настроениями. Однако он не представлял себе, 'сколь
коренные перемены произошли в общественной жизни
его родной страны. Он с ужасом слушает слова дяди
о разлагающем господстве «лавочников», «среднего
класса», этого «брюха страны», «прожорливого и испор-
ченного». Дядя Ромфри тревожит племянника жесто-
кими филиппиками против буржуа-манчестерцев: «Они
заставляют маленьких детей работать на своих фабри-
ках с утра до ночи. Их фабрики разрастаются дьяволь-
ской паутиной и сосут кровь страны. В их районе люди
мрут, как овцы от эпидемии. Скелеты ведь не бунтуют.
А они в довершение всего распевают воскресные гимны!»
(гл. III).
Критика аристократа Ромфри вдохновлена сослов-
ным пристрастием и своекорыстием, он не гнушает-
ся демагогии, однако жестокие факты не выдуманы
им.
1 Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XI, с. 68.
2 Б а й р о и Дж.-Г. Избр. произв. в одном томе, с. 356.
165
«Неужели Англия обнаруживает признаки упадка?
Да еще какие!» — в крайней тревоге размышляет Бью-
чемп. И Бьючемп действительно мечется. «Он желал
чего-то другого; он желал, чтобы они отдали свое время
и силы чему-нибудь, чего нельзя было купить на рынке.
Аристократия, он был в этом убежден, должна возобно-
вить свой естественный союз с народом и вести его, как
издревле вела, на поле битвы. Но как этого достигнуть?»
(гл. III).
Стоит прислушаться к разговору, последовавшему
за вопросом Бьючемпа к дяде: «Прошу вас, скажите, что
же нужно делать?» Ответ дяди:
— Ату на них! Самое храброе сердце одержит побе-
ду. Я в том нисколько не сомневаюсь. И я не сомнева-
юсь, что мы одержим в конце концов верх.
— А народ? Его надо принять в расчет, — сказал Не-
виль, отуманенный доводами дяди.
— Что народ?
— Я полагаю, что английский народ чего-нибудь да
стоит, сэр.
— Разумеется, когда борьба окончена и битва вы-
играна или проиграна.
— Так вы думаете, народ останется зрителем?
— Народ всегда ждет, кто останется победителем,
мальчик.
Юноша вскричал в отчаянии:
— Разве это скачка?
— Да, это тоже скачка, и нам чертовски не хватает
выездки...» (гл. III).
Средневековый дядя Эверард Ромфри, с его, говоря
по-герценовски, «привычками тори и скачек», а также
с байронической страстью к театральности, привел в от-
чаяние, как видно, племянника с его «бьючемпизмом» —
пониманием, что теперь не скачка и не сцена требуются,
но нужна работа, которая все сможет переиначить. И ко-
гда дядя утверждает, что «Англия гибнет от трусости»,
Невиль Бьючемп, уже читавший, вероятно, брошюру
Милля, старается вспомнить тому же другое название.
«Постоянное понижение личностей, вкуса, тона,—
словно его мысли читаем мы при разборе Герценом кни-
ги Милля, — ...Посмотрите — душа убывает» 1.
Милль не очень оригинален, он как бы вторит Тома-
су Карлейлю. То, что отмечал Карлейль (Невиль Бью-
1 Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XI, с. 68—69.
166
чемп и сам Мередит зачитывались в юности этим пи-
сателем), и спустя пятнадцать лет повторяет Милль,
и до них уже писал Диккенс, находит в переломный
момент более оформившееся и наглядное подтверждение
и получает более широкий резонанс.
«Стюарт Милль, — пишет Герцен, — стыдит своих со-
временников, как стыдил своих Тацит; он их этим не
остановит, как не остановил Тацит. Не только несколь-
кими печальными упреками не уймешь убывающую ду-
шу, но, может, никакой плотиной в мире»1.
Книга Милля получила отклик в среде английских
писателей. Они не ограничились его упреками и призы-
вами, хотя повторяли их на разные лады. Факт «убыва-
ния души», его причины и следствия, процесс этого убы-
вания, различные формы его выражения стали к концу
века предметом пристального рассмотрения в англий-
ской литературе, и опять-таки прежде всего в ро-
мане.
Мередита тревожил недостаток «истинно-человеческо-
го сознания» в разных сферах жизни, он искал тому
причины и пути выхода. «Люди иного закала, — говорил
Милль, — сделали из Англии то, что она была, и только
люди другого закала могут ее предупредить от паде-
ния». В известной мере Мередит исходил из подобного
же убеждения. Он искал людей «другого закала», людей
одухотворенных, свободомыслящих, воодушевленных вы-
сокой идеей, способных постоять за свое достоинство
и свои убеждения. И он отдавал себе отчет, что «вечно
обвешивающие, вечно обмеривающие лавочники» не
сделаются — «из какой-то поэтической потребности, из
какой-то душевной гимнастики — героями»2.
Продолжая разбирать книгу Милля, Герцен останав-
ливается на его характеристике общественной среды:
«Нравственная основа поведения состоит преимущест-
венно в том, чтобы жить, как другие.
«Горе мужчине, а особенно женщине, которые взду-
мают делать то, чего никто не делает, но горе и тем,
которые не делают того, что делают все». Для такой
нравственности не требуется ни ума, ни особенной
воли; люди занимаются своими делами и иной раз для
развлечения шалят в филантропию... и остаются добро-
порядочными, но пошлыми людьми.
1 Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XI, с. 69.
2 Там же, с. 71.
167
Этой-то среде принадлежит сила и власть; самое
правительство по той мере мощно, по какой оно служит
органом господствующей среды и понимает ее ин-
стинкт» К
Такова среда, вызывающая на столкновение Бью-
чемпа, таков он сам с его затаенностью, постоянным
пересмотром и стремлением к практическому действию.
Пересмотр этот завел Мередита достаточно далеко.
И все же не избавил от иллюзий. Его общественный
энтузиазм, как бы ни изменился он с байронических
и более поздних времен, все же еще нередко напоми-
нал чисто «викторианский» порыв «на улицу».
Но «улица» раскололась и грозила народной рево-
люцией. Мередит интенсивно работал над романом
«Карьера Бьючемпа» с 1871 по 1874 год, то есть как раз
в то время, когда в Англии явно обозначился кризис
либеральной идеологии. Автор находился тогда под
сильным впечатлением событий, происходивших во
Франции, — франко-прусской войны и Парижской ком-
муны. Дух времени ощущается в том настроении, с ка-
ким писатель обсуждает положение в связи с обостре-
нием классовой борьбы и перспективой ее развития
в Англии.
«Так вы хотите взорвать Маунт-Лорель, мою бед-
ную усадьбу, в виде примирительной жертвы бедным
классам?» — спрашивает Невиля Бьючемпа дочь бога-
того аристократа. «Я надеюсь поставить ее на более
прочный фундамент», — отвечает тот. «С помощью взры-
ва?» — «Предупредив его».
Позиция пересмотра, но также и затаенности, при-
нятая Мередитом, не могла не повлечь за собой особого
творческого подхода к изображению. В его произведе-
ниях крепнет тяга к «отстраненности» (aloofness), на-
мечается стремление скрыть пружину действия, а свой
взгляд на происходящее и персонажей выразить косвен-
ным путем.
Уже в ранних произведениях Мередит обнаружива-
ет особый интерес к психологическому анализу. Со вре-
менем этот интерес резко возрастает, выступая приме-
той не только его творческой индивидуальности.
Степень психологической подробности вообще может
служить наглядным показателем развития литературной
техники. Пользуясь этой мерой, нельзя не отметить
1 Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XI, с. 72.
168
сдвиг, характерный для всего периода. Психологизм
к концу века для многих писателей едва ли не стано-
вится всепоглощающим.
Этот сдвиг затрагивает не одну только литературно-
формальную сторону. Обратившись к истории, нетрудно
увидеть, что не раз бывали времена, когда смещения
такого рода оказывались показательным признаком.
Закат английского Возрождения характеризовался уси-
ленной интроспекцией поэтов — «метафизиков». Крах
просветительских идеалов на рубеже XVIII—XIX веков
вызвал в свою очередь отчаянный эгоцентризм и само-
углубленность романтиков. Видимо, всякий раз, когда
приходит разочарование в системе общественных цен-
ностей, обостряется интерес к личности. Личность, за-
меняя более широкие* общественные факторы, представ-
ляется землей обетованной, последним прибежищем,
островом, еще обитаемым, среди океана изменчивости.
Естественно, что такого рода кризис вызывает в ли-
тературе перестройку и формального оснащения. Как
объект изображения личность заставляет тратить на
себя весь арсенал средств. Стерн в известном смысле
образцовым примером показал, что просветители, столь
много рассуждая о человеке и правах личности, по су-
ществу не были вполне поглощены интересами этой
личности. И действительно, «Исповедь» Руссо рядом
с «Тристрамом Шенди» выглядит недостаточно само-
углубленной.
Великие мастера из тех, кого мы ставим в один ряд
с Шекспиром, Толстым или тем же Диккенсом, умели
показать, как много им известно и дано. Они походя,
намеком показывали, что в принципе они знают и уме-
ют в своем искусстве все и, уж по крайней мере, пред-
ставляют себе последовательность развития повествова-
тельного искусства. Поражаясь этой способности, вместе
с тем можно заметить, что не все, раскрываемое благо-
даря ей, органически прививалось в палитре красок,
излюбленных мастером, не все, ему известное, состав-
ляло для него внутренний интерес.
Всякая вспышка «стернианства» в английской лите-
ратуре, то есть повышенного, чуть не лихорадочно
взвинченного внимания к психологии, совершенно по-
особому освещает строй писательских интересов. Чем
заметнее она назревает, тем все очевиднее деформирует-
ся ткань повествования. Размываются привычные гра-
ницы связующих переходов, описания меняют пропор-
169
ции, свободнее и произвольнее становится слог, да и вся
перспектива изображения строится иначе: в ней про-
падает, с точки зрения предшествующей нормы, сораз-
мерность и правильность.
Повествование у Диккенса основывается на описа-
нии событий, и даже у Теккерея, как ни увлекается он
изложением мотивов поведения, какие силы ни тратит
на психологические портреты, чередование событий про-
должает играть в повествовании роль основной двига-
тельной пружины.
Под пером Мередита и Батлера структура повество-
вания, весь строй его существенно, а подчас до неузна-
ваемости, изменились. Внешний признак этих измене-
ний, точнее один из легко обнаруживаемых признаков,—
замедленность в ходе действия, сокращение цепи собы-
тий, да и сами события все меньше и меньше походят
на «приключения», без которых не обходился диккен-
совский роман. События сводятся к обыденным бытовым
ситуациям, и все это — за счет учащения внутреннего
ритма, пульса психологической подробности.
Мередит старался занять как можно более основа-
тельную позицию и, вооружившись особым орудием —
«внутренним зеркалом» (как названо оно в «Эгоисте»),
искал в движениях души, психологических поворотах,
работе чувств и микрокосме мозга отражения новых
общественных веяний, которые, как ему казалось, он
сумел поймать в воздухе.
Мы видим, как мир, который при Диккенсе имел
свою соразмерность, меняет пропорции. Вдруг перед на-
ми крупным планом возникает «деталь»: «Не has a leg»
(«Он человек с ногой»)—так неожиданным словцом-
формулой в начале повествования характеризуется
центральный персонаж романа «Эгоист» сэр Уилоби
Паттерн. «А заметили вы в нем человека с ногой?»
(«Эгоист», гл. II). Нога молодого джентльмена. Автор
скользит по ней взглядом. Он находит в этой ноге безд-
ну поводов для далеко идущих размышлений.
Характеры, общественная среда, время, по впечат-
лению Мередита, успели определиться настолько, что
во всем от психики до панталон выявляют свою сущ-
ность. Головы, галстуки, героические деяния, государ-
ственный аппарат, газеты, грумы и горничные, господа
Гладстон и Галопен — скакун, победитель дерби 1878 го-
да,— все, говоря по-гамлетовски, кругом изобличает.
Все пронизано одним духом, одной сутью, и каждая
170
деталь, взятая как звено, способна дать представление
о последовательной связи остального. И следовательно,
«нелепо разглагольствовать о том, что и так ясно каж-
дому».
Это не означает, будто Мередит уходит от прямого
разговора, от «идейной задачи» и «моральной ответст-
венности». И в данном случае сжатая метафора развер-
тывается в целях сатирического разъяснения и оценки
типического характера и общественной среды. Ирони-
чески подражая изысканно приподнятому слогу, автор
предлагает вдуматься в слова he has a leg, которые
в устах посвященных заменяют серию восторженно
комплиментарных высказываний, выражающих систему
взглядов, настроений и привычек.
Ошибочно было бы полагать, что Мередит первый
в литературе взялся судить о целом по фрагментам.
Можно вспомнить Джонатана Свифта с его гротескной
«философией одежды», подхваченной и развитой Тома-
сом Карлейлем в его философском романе-памфлете
(1831).
У Диккенса, в свою очередь, деталь нередко разра-
сталась до самостоятельной величины. Примером мож-
но взять, как это часто делают, его «постоянные харак-
теристики». Однако для Диккенса, сколько бы он ни
увеличивал выхваченный фрагмент, деталь скорее все-
го остается частностью1. В сознании Диккенса жило
представление о некоей слаженности мира, при всех
его контрастах и противоречиях. Всякое нарушение этой
слаженности могло ранить взгляд писателя до болез-
ненности, могло вырасти в пальцы-щупальца Урии Гип-
па. Но сама ранимость была спутником твердой веры,
влекла за собой желание «бежать на улицу», чтобы вос-
становить порядок и мыслимую справедливость. В гла-
зах Мередита пропорции мира складывались иначе.
«Нога», семейная среда или общество — все могло сви-
1 Ср., например, постоянные присказки, которыми Сэм Уэллер,
слуга Пиквика, сопровождает свои злоключения: «Ехать так ехать»,—
и т. д. Они, эти присказки, парадоксально не совпадающие с со-
бытиями, живут постольку, поскольку существует в романе Уэллер,
и служат его характеристикой, а также выражением житейского
оптимизма. Между тем тот же прием, такого же рода байки у Яро-
слава Гашека, скажем, в «Похождениях бравого солдата Швейка»—
не столько характерная черта героя, сколько символ идиотического
беспорядка общественных связей, в которые вклинивается незадач-
ливый Швейк: «Война? Маршевые роты? А вот у нас был трак-
тирщик...» — и т. д.
171
детельствовать о разладе. В такой же мере, как рука
Клары Мидлтон свидетельствует о ее душевном раз-
ладе, о ее внезапном и полном отчуждении от Уилоби
Паттерна, ее жениха: «Он сжимал ее руку в своей, но
это была уже привычная ласка: рука — это так далеко!
Да и что такое — рука? Клара не отнимала ее: она
смотрела на свою руку, как на звено, связывающее ее
с благонравным исполнением долга» («Эгоист», гл. VII).
Здесь деталь — не частность и не внешний признак,
а часть целого, неожиданным образом способная пере-
дать состояние этого целого, в данном случае указать
на еще мучительный, но уже совершенный разлад и на
временную победу благонравного долга.
Первый роман Мередита — «Испытание Ричарда
Феверела»—передает состояние многостороннего раз-
лада и делает это в значительной степени специфиче-
скими для писателя средствами.
Очевидная тема этого романа — тема воспитания1.
Интерес к ней автора — не просто дань времени: во-
просы воспитания в конце 50-х годов служили предме-
том оживленных споров. Писателя влечет и волнует эта
тема, он часто обращается к ней, побуждаемый личны-
ми переживаниями, отцовскими заботами, интересом
к человеку, к внутренним мотивам его поведения и
стремлением рассматривать социальные проблемы по
большей части в этическом плане. Задачи воспитания
представляются Мередиту важными и необычайно труд-
ными потому, что человек, как предмет воспитания,
и реальная жизнь снова и снова обнаруживают непо-
датливость, оказываются сложнее, чем их отражение
в самых прославленных педагогиках, а тем более в их
распространенном применении.
Испытания Ричарда Феверела, героя романа, столь
тяжкие и им не заслуженные, предуготовлены умозри-
тельной схемой, которая кажется ее автору верхом
мудрости и совершенства.
Отец Ричарда, баронет Остин Феверел, крупный по-
мещик и доморощенный «философ жизни», анонимный
автор сборника претенциозных афоризмов «Котомка
паломника», разработал систему воспитания, которая
строго предопределяет весь путь развития юного Ричар-
да и призвана сделать из него «подобие образцового
1 См. об этом: Сучков Б. Исторические судьбы реализма. М.,
Советский писатель, 1967, с. 182.
172
человека». Сэр Остин, пострадавший от женского веро-
ломства, пуще всего боится, как бы его сын, наследник
поместья Рэйнхэмское аббатство, не поддался искуше-
ниям плоти, и делает все, чтобы держать Ричарда
в полном неведении относительно реальной жизни. Но
жизнь то и дело прорывается сквозь искусственные
барьеры, ограждающие экспериментальную теплицу, и
здоровая, деятельная натура Ричарда, его пытливый и
живой ум бунтуют против мертвенного догматизма
и педантства.
Сэр Остин и его приспешники плетут вокруг Ричарда
сеть интриг и навлекают на него тяжелые испытания.
В конце концов жизнь его разбита, он искалечен душой
и телом, а любимая им женщина преждевременно схо-
дит в могилу. Таковы плоды воспитательной системы
«ученого гуманиста», как иронически называет само-
довольного баронета автор.
«Испытание Ричарда Феверела» — своего рода ро-
ман-эксперимент, далеко не единственный пример этого
жанра в переходный период. В «Испытании Ричарда
Феверела» проходит проверку воспитательная система,
теоретические посылки и практический механизм кото-
рой представлены Мередитом не только в их частном,
узкосемейном, но и в более широком, социальном зна-
чении. Писатель затрагивает проблему отцов и детей,
которая в условиях кризиса установившихся идей ста-
новится особенно острой. Его роман носит подзаголо-
вок: «История отношений отца и сына».
Воодушевленный «благими» намерениями, сэр Остин
желает предостеречь свое детище от пагубных ошибок.
Он строит свою методу, опираясь на личный опыт и
отвлеченные представления о гуманности и человеческой
природе. Он обольщен выводами собственной мудрости,
и фанатическая убежденность в их непогрешимости,
соединенная со своеволием, безответственностью и про-
изволом, толкает его на крайние меры и мерзкие по-
ступки. Отношения юного существа с жизнью рисуются
сэру Остину в совершенно четкой и прозрачной схеме,
стоит только Ричарду следовать принципам системы
и указующему персту, и желанные плоды обнаружат
себя. Он ждет строго намеченного, скорого и все раз-
решающего результата, полон удивления, когда его
«система» и живой человек тянут в разные стороны,
и готов во всем обвинить человека. А Ричард, впечат-
лительный, пытливый, романтически настроенный пред-
173
ставитель молодого поколения, не волен в своих есте-
ственных порывах, которые никак не сообразуются
с требованиями «системы».
Вскрывая подоплеку поступков сэра Остина, автор
за его внешней благонамеренностью обнаруживает эго-
изм собственника и сословную кичливость, за претензи-
ей на ученость — невежество и ретроградство, за суро-
вым благочестием — отнюдь не смиренные вожделения,
за елейным добросердечием — сухой рационализм и
черствость души.
Воспитательная система Остина Феверела — нагляд-
ное выражение его «философии жизни». Существо по-
следней изложено в «Котомке паломника». Образ мыс-
лей сэра Остина вырисовывается достаточно ясно, так
же ясна и его социальная природа.
Своевластие сэра Остина и его «философия жизни»
находят сочувствие и поддержку в его непосредствен-
ном окружении. Его сестра, миссис Дориа, не может
«простить Кромвелю казнь мученика Карла». Племян-
ник Остина, Адриан Харли, его приспешник и бли-
жайший советник, — «эпикуреец современного толка...
которого Эпикур, несомненно, изгнал бы из своего
сада». Мередит саркастически именует его «Мудрым
юношей» за ловкость, с какой он приспосабливается
к господствующему мнению «света» и «удовлетворяет
свои аппетиты без риска для собственной персоны».
Беспринципный и циничный, он оправдывает себя фи-
лософскими пошлостями. Наиболее порядочные люди
вынуждены бежать из Рэйнхэмского аббатства, как это
и делает другой племянник баронета — Остин Уэнт-
ворс, пользующийся явной симпатией автора.
С точки зрения сэра Остина и его приближенных
Рэйнхэмское аббатство — идеальная система организа-
ции семейного бытия и, в миниатюре, всего общества,
так сказать, Телемское аббатство Рабле на английской
почве.
Влияние и связи Рэйнхэмского аббатства не замы-
каются в его стенах, картину жизни в нем автор допол-
няет выразительными зарисовками нравов лондонской
аристократии. Среди представителей столичного свет-
ского общества выделяются фигуры лорда Маунтфол-
кона и его знатного приживальщика, «почтенного Пите-
ра Брейдера». Один из них — распутник в ханжеской
маске, другой — распутник откровенный и наглый. День-
ги, титул и общественное положение позволяют «могу-
174
щественному пэру» Маунтфолкону не считаться с офи-
циальными нормами морали, а его приживальщику
«устраивать для него грязные делишки». Оба они игра-
ют гнусную роль в судьбе Ричарда, действуя в согласии
с «Мудрым юношей», выполняющим указания сэра Ости-
на Феверела. Лорд Маунтфолкон, «в пятидесятый раз
пронзенный стрелой Купидона», пытается обольстить
жену Ричарда, а потерпев неудачу, дерется с ним на
дуэли, что ведет к печальным последствиям для героя
романа.
Сэр Остин склонен объяснять выпавшие на долю
Ричарда испытания вмешательством фатальных сил (он
рассуждает о «проклятии крови», «отраве возмездия»).
Сам же автор стремится вскрыть реальные причины
жизненных невзгод 'своего героя. По его мнению, со-
словная спесь и эгоизм, полное пренебрежение интере-
сами нации и народа, ретроградные взгляды и мо-
ральное разложение — вот источники тех испытаний
и потрясений, которые переживает Рэйнхэмское аб-
батство.
Рэйнхэмское аббатство, естественно, воспринимается
как символ. У Мередита символика — постоянный способ
обобщенного выражения мысли. Подобный же символи-
ческий образ возникает в романе «Эгоист», это место его
действия — поместье Паттерн-холл.
Чувство разлада, идущее от малого к большому, бы-
ло обострено у Мередита кризисом в его личной жиз-
ни— разрывом с женой, которую он любил. Восторжен-
ная любовь героя романа и связанные с нею драмати-
ческие последствия в преображенном виде воспроизводят
пережитое самим писателем. Работая над «Испытанием
Ричарда Феверела», Мередит «изживал» испытания,
выпавшие на его долю. Они вызвали внутреннее напря-
жение, потребовали не только крайнего самоуглубления,
но и выхода чувств вовне, новой и более здравой ори-
ентации.
В романе «Испытание Ричарда Феверела» дана
трезвая и критическая оценка действительности. Точка
зрения писателя расходится с господствовавшими в то
время восторженно либеральными суждениями и прогно-
зами и отражает настроения широкого демократиче-
ского недовольства.
Критика сопровождается в романе определенными
пожеланиями, обращенными к изображаемой аристо-
кратической среде, к ее наиболее здравомыслящим и
175
прогрессивно настроенным представителям. Эти поже-
лания отчетливо видны в заключительных эпизодах ро-
мана. В Рэйнхэмском аббатстве происходят заметные
сдвиги. Возвращается Остин Уэнтворс и оказывает ре-
шительное влияние на жизнь его обитателей. При его
помощи здесь находит приют, признание и уважение
жена Ричарда — Люси, племянница фермера Блэйза,
которой наконец простили ее демократическое проис-
хождение. Бывший батрак Том Блейквелл становится
преданным слугой и другом Ричарда. Даже сэр Остин
Феверел и миссис Дориа меняются к лучшему. Переме-
ны в Рэйнхэмском аббатстве происходят к концу рома-
на не без воздействия литературной традиции и требо-
ваний викторианской морали.
Первый роман Мередита сохраняет внешний при-
знак классического социального романа — объемность,
однако почти утрачивает внутреннее его свойство —
эпическую широту. Он охватывает многие стороны жиз-
ни, но освещает их бегло. Роман содержит некоторый
материал, позволяющий судить о положении народа и
о классовых противоречиях внутри английского общества
того времени. Интересна в этом отношении глава «Ма-
гическое противоречие», в которой бродячий лудиль-
щик и безработный батрак беседуют о положении дел
в стране.
«Скверные времена!» — начинает лудильщик. «Вер-
но», — подтверждает батрак. Лудильщик говорит, что
«все как-нибудь образуется», что «бог сильнее дьявола».
«Видно, не всегда, — замечает батрак, — а то бы я не
болтался без работы, а что еще хуже — без куска хле-
ба». Рассказывая далее, как несправедливо и жестоко
обошлись с ним фермеры Боллоп и Блэйз, он отмечает
многозначительный факт — у фермера Боллопа сожгли
стог сена, а на другой день — ригу. Сам он тоже «хотел
бы как-нибудь сухой ветреной ночью сунуть спичку
в стог сена», так как иначе от «фермера Блэйза ничего
хорошего не добьешься...».
Батрака арестовали по подозрению в поджоге, фер-
мер Блэйз грозит ему ссылкой, и только случайные
обстоятельства приводят эту историю к благополуч-
ному исходу.
Едва приподняв завесу над тем или иным сущест-
венным явлением, писатель спешит опустить ее. О мно-
гих важных вопросах он говорит намеками, полунаме-
ками, загадочными аллегориями, сжимая повество-
176
вание и вместе с тем как бы зашифровывая свои
мысли, делая их вполне доступными только для посвя-
щенных.
Первый роман Мередита по выходе в свет не имел
успеха, не был понят и принят читателем, за исключе-
нием ограниченного круга, критика отнеслась к нему по
преимуществу отрицательно. Влиятельный «Спектей-
тор» осудил его за «дурной нравственный тон», а не
менее влиятельная библиотека Мэди и другие библио-
теки, практиковавшие платную выдачу книг на дом, на
том же основании отказались распространять роман
среди своих подписчиков. Повторным изданием роман
вышел спустя почти двадцать лет и со временем стал
одной из самых популярных мередитовских книг. К не-
му, как пишет Зигфрид Сассун, видный английский
поэт, автор книги о Мередите (1959), обращались чита-
тели, которые не могли осилить «Эгоиста», но не хотели
отстать от моды и тянулись к заманчивому заглавию
и любовной истории.
Перед Мередитом открывались разные творческие
возможности, в нем сталкивались разноречивые устрем-
ления. В 60-е годы возрастает интерес писателя к ост-
рым социальным проблемам, к значительным историче-
ским событиям, к национально-освободительной и по-
литической борьбе.
В романе «Рода Флеминг» (1865) заметно стремле-
ние автора к широкому охвату действительности, к реа-
листической простоте и ясности выражения. Авторская
речь становится проще, в стиле романа гораздо менее
чувствуется усложненность и свойственная Мередиту
манерность. Еще более четко проступает эта тенденция
в дилогии «Сандра Беллони» (первоначальное заглавие
«Эмилия в Англии», 1864) и «Виттория» (1867). Даже
краткое изложение сюжета дает представление о соци-
альном пафосе дилогии и идейно-тематическом ее со-
держании.
Героиня этих романов, Эмилия, она же Сандра Бел-
лони, дочь бедного итальянского музыканта, бежавше-
го в Англию от преследования иноземных поработите-
лей, проходит нелегкий жизненный путь. Вместе с от-
цом она терпит нужду, с ранних лет самостоятельно
трудится. Обладая отличным голосом, она становится
певицей, но, испытав тяжелое душевное потрясение, те-
ряет голос. Однако когда Сандра, воспитанная отцом
в духе любви к родной Италии, вовлекается в нацио-
177
нально-освободительное движение, она переживает внут-
ренний подъем, и голос возвращается к ней. Сандра
завоевывает любовь патриотов, они видят в ней символ
победы и называют Витторией. Интересен эпизод в те-
атре Ла-Скала. Прославленная примадонна, рискуя
быть арестованной, с подлинным мужеством и вдохно-
вением исполняет главную партию в опере, созвучной
своим содержанием боевому настроению итальянских
патриотов. Идет последний акт, близится финал, атмо-
сфера в зале накаляется. Австрийские власти, опаса-
ясь восстания, приказывают прекратить представление.
Но на сцене появляется группа патриотов, они припод-
нимают занавес и поддерживают его над головой Вит-
тории. Зал стоя слушает заключительные слова арии
«Италия будет свободной», которые звучат как призыв
к восстанию.
В романе «Виттория» отражено, хотя и в романтичес-
ки затемненной форме, различие между чаяниями италь-
янского народа, жаждущего освобождения не только
от национального, но и от социального гнета, и интере-
сами буржуазно-аристократических участников движе-
ния за независимость Италии, которые страшатся рево-
люционных требований.
Мередит настойчиво ищет положительного героя,
среду и условия его появления и действия. И столь же
настойчиво его стремление показать сильную и незави-
симую женскую натуру. Женские характеры у Мереди-
та— особая тема. Поэтическая вдохновленность, с какой
Мередит пишет о женщине, отстаивающей свое достоин-
ство, свободу мысли и чувства, убежденность, с какой
он выступает в ее защиту и утверждает ее социальную
роль, были смелыми для Англии того времени. Как не-
обычна была и его сосредоточенность на духовных бо-
рениях женщины, и манера изображения ее душевных
движений — устремленность к самостоятельности, порыв
к свободе, рост самосознания.
«Современный роман начинается с Мередита, — ре-
шительно утверждает Пристли. — Даже м-р Арнольд
Беннет, тип сознания и повествовательная манера кото-
рого побудили его стать враждебным критиком Мереди-
та, и тот вынужден признать, что Мередит был «не по-
следним из викторианских романистов, а первым из
современной школы» К
1 Priestley J. В. George Meredith, p. 157.
178
«В той мере, в какой это касается английской худо-
жественной прозы, не может быть сомнений, что начало
современному роману положило «Испытание Ричарда
Феверела», опубликованное в 1859 году» К
Современный английский роман был начат не одним
Мередитом. Но он был первый, кто начал писать не так,
как писали его предшественники и старшие современ-
ники, от него ведет начало одно из направлений новей-
шего английского романа, и он многое обозначил в его
эволюции.
«Испытание Ричарда Феверела» содержит в зачат-
ках почти «всего» Мередита-романиста2, только в не-
развитом еще виде и не в полноте его возможностей.
Если из всего Мередита выделить одно произведение, то
«Эгоист» — вершина его творчества — может дать дей-
ствительное представление о подлинном своеобразии и
новаторстве писателя, о том, что можно назвать мере-
дитовским в английской литературе.
В английской критике встречается мнение, что ослаб-
ленный интерес Мередита к предметному миру, к пол-
ноте его изображения — чуть ли не основная особен-
ность мередитовского романа, которая отличает его от
романа предшествующего — Диккенса, Теккерея.
Ни в одном английском романе XIX столетия, пишет
Пристли, так не ослаблена связь с предметным окру-
жением и временем действия, как в романах Мередита.
«Масса материала, который столько места занимает
в большинстве романов и дает большинству читателей
иллюзию реальности, множество вещей — дома, улицы,
мебель, доходы, бухгалтерские расчеты, займы, заклад-
ные, сложные деловые операции и профессиональные
отношения — совершенно отсутствуют в романе Мереди-
та. Когда его картины мы ставим рядом с загромож-
денными полотнами Диккенса и Теккерея, они кажутся
пустыми. Сравните его мир с миром Троллопа, и они
предстанут так же непохожими друг на друга, как Ве-
нера и Юпитер; едва ли обнаружится малейшее их сов-
падение. В самом деле, Мередит и Троллоп предельно
размежевались в романе и представляют два полюса
искусства».
Троллоп — случай крайний и явление не столь зна-
чительное, чтобы служить здесь основной меркой и
1 Priestley J. В. George Meredith, p. 157.
2 См. об этом: Baker Ernest A. The History of the English
novel from the Brontes to Meredith. L., 1937, p. 320.
179
отправным пунктом сравнения. Все же он представляет
в Англии широкую традицию добротного бытописатель-
ства, доведенную почти до последней, уже ремесленной
черты. Поставленный рядом с Мередитом, Троллоп спо-
собен резко оттенить его своеобразие и новизну. Но и
сравнение с вершинами — Диккенсом и Теккереем —
вполне подтверждает вывод: многие страницы англий-
ского классического романа «ломятся» от богатства
вещного мира и сверкают этим богатством, тогда как
Мередит пренебрегает им. Однако Мередита можно со-
поставить с другим рядом писателей — с Шарлоттой
Бронте, Джейн Остин, Лоренсом Стерном, и в этой
ретроспекции он уже не будет выглядеть столь необыч-
ным и одиноким.
Как на особенность мередитовского романа, едва ли
не основную, английская критика указывает на резкое
умаление в нем роли всеведущего автора путем замены
«панорамного» принципа изображения «драматическим».
Перси Леббок, автор известного исследования «Мастер-
ство романа», вообще склонен считать замену в по-
вествовательном жанре «эпизода» «сценой» показателем
эволюции романа.
ч «Как романисту, ему все доступно, только не повест-
вовательный дар»1,—этот отзыв Оскара Уайльда о Ме-
редите, точнее сказать, заключительную его часть, под-
держивает Пристли, называя автора «Эгоиста» «одним
из самых плохих повествователей в истории английско-
го романа». Пристли отнюдь не думает умалить этим
значение весьма высоко ценимого им автора. К Мере-
диту-повествователю, по его мнению, нельзя подходить
с привычными мерками, так как он по-особому «видит
свой материал» и «цели у него совершенно другие».
Повествовательный принцип он заменяет драматическим
и становится, «как отмечают все его критики, автором
романов с большими сценами». У предшественников
Мередита хроника событий перемежается «сценами»,
но обычно в повествовательном жанре «сцены» подчи-
няются задачам повествования, «у Мередита повество-
вание существует ради сцен, оно торопит читателя от
одной сцены к другой, усложняя действие с таким рас-
четом, чтобы сцена явилась сама собой». В подкрепле-
ние своих слов Пристли, ссылаясь на Мередита, при-
водит часто цитируемое его признание: «Мой метод
1 Уайльд Оскар. Поли. собр. соч., т. III, с. 166.
180
состоит в том, чтобы подготовить читателя к решитель-
ному выявлению действующих лиц, а затем дать
сцену, в которой бы их кровь и мозг обнаружились
во всей полноте под давлением воспламеняющей си-
туации...»
Мередит писал «Эгоиста»,— рассуждает далее Прист-
ли,— с намерением создать комедию в форме романа,
которая послужила для его замысла «всего лишь кар-
касом». «Эгоист», помимо всего прочего, — это комедия
в совершенно точном смысле этого слова», — вторит ему
Энгус Уилсон К
В «Эгоисте» Мередит впервые реализовал идею,
к которой стремился «более или менее бессознательно
с тех пор, как стал романистом... Сразу после довольно
неуклюжей экспозиции роман превращается в сцену,
предназначенную для Комедии. Одна сцена быст-
ро сменяется другой. Долгие перерывы во времени
и частые перемены места в равной Степени устране-
ны; действие связано в узел, строго обусловлено и раз-
вивается в темпе; концовка, заключительная глава с
многозначительным названием «Занавес падает», ис-
ключает всякий переход к рыхлому повествованию»
(Пристли).
Название главы XL «Эгоиста» дает ключ к понима-
нию природы этого романа: «Полночь. Сэр Уилоби и
Летиция, а также юный Кросджей под покрывалом»;
конечно, это сценическая ремарка. «Эта глава, куль-
минация интриги, является в то же время пунктом, где
романист подчеркивает полунасмешливое приспособле-
ние традиционной сценической комедии к форме рома-
на» (Энгус Уилсон).
Таково мнение двух видных английских писателей
разных поколений, высказанное в одном случае (Прист-
ли) в 1924 году, в другом (Энгус Уилсон)—в 1963-м.
Их доводы наглядны, мнение представляется обосно-
ванным и вполне убедительным. Его подсказывает сам
автор: роман «Эгоист» назван в подзаголовке «повест-
вовательной комедией», ему предшествовал эстетиче-
ский трактат о комедии и предпослано теоретическое
введение — «Прелюдия».
Мередит любил теоретическую основательность в
творчестве. В нем как писателе возрождается интерес
к эстетическому умозрению и художественному экспе-
1 Wilson Angus. The Egoist. N. Y., 1963, p. 502.
181
рименту, не без его влияния оживившийся в английской
литературе. Он и на романы свои смотрел как бы сквозь
призму собственных теорий, превращая некоторые свои
произведения или части их в своего рода художествен-
ные иллюстрации умозрительных посылок.
Мередита нередко называли романистом-философом.
Тот же Оскар Уайльд с похвалой отозвался об интел-
лектуализме повествовательной манеры писателя и его
внимании к мыслящим персонажам. «Изображаемые
им люди не просто живут, но живут духовно, живут
своими мыслями»1.
К концу 1876 года Мередит приводит в систему свои
эстетические воззрения. Он читает 1 февраля 1877 года
знаменитую в свое время лекцию «О комедии и приме-
нении духа комического», которую в том же году публи-
кует в апрельском номере журнала «Нью куотерли
мэгезин» под заглавием «Этюд о комедии».
«Этюд» содержит сжатый критико-аналитический об-
зор комедии и комического в их развитии от античности
до новейшего времени. За образец Мередит берет коме-
дию Мольера; его принцип создания типических харак-
теров и выражения идеи комического особенно близок
автору «Эгоиста». Он характеризует природу и различ-
ные виды комического — сатиру, юмор, иронию, их роль
в литературе и жизни, соотносит их с различными эта-
пами общественного развдд:ия, обсуждает их достоинст-
ва и недостатки в зависимости от исторических условий
и задач времени.
В «Этюде» Мередит свел воедино свои размышления
о свойствах и функциях смеха, сформулировал теорию
«Духа комического», в которой концентрированно выра-
зил свою точку зрения на искусство, на его возмож-
ности и задачи. «Дух комического» олицетворяет у
Мередита способность разума обнаружить, обнажить
и преодолеть противоречия, всяческие отклонения от
«здравого смысла», возникающие вследствие «безу-
мия, постоянно в новых обличиях проникающего в об-
щество».
Теория «Духа комического» признает достоинство
сатиры, но не приемлет ее крайности. Односторонен и
юмор, потому что оказывается во власти чувств, а иро-
ния— «это юмор сатиры». Сатирический смех, «смех
во весь рот», когда «брови взлетали, как крепость от
1 Уайльд Оскар. Поли. собр. соч., т. II, с. 332.
182
порохового взрыва», должен, по мнению Мередита, сме-
ниться веселой лукавой улыбкой фавна. Смех придет
снова, не чудовищно громогласный, как у Аристофана
или Рабле,— нет, это будет «тонкая и сдержанная улыб-
ка, отражающая солнечную ясность духа и богатство
ума». Так будет смеяться «Дух комического», потому
что им «руководит разум», и его можно назвать «юмо-
ром разума». «Расцвет идеи комического и коме-
дии» может служить показателем истинной цивили-
зованности, а показателем «подлинной комедии» слу-
жит ее способность «возбуждать глубокомысленный
смех».
На отдельное издание мередитовского «Этюда», по-
явившееся в 1897 году, Бернард Шоу отозвался рецен-
зией. Он назвал «Этюд о комедии» «блестящим эссе» !,
а его автора, «пожалуй, лучшим из живущих в Англии
знатоков этого жанра». В «блестящем эссе» тонкая на-
блюдательность, искусная мысль и оптимистические
устремления сочетаются с изяществом метафорических
характеристик, с блеском остроумия.
«Дух комического» доступен лишь избранным. «Меч
для многих, но свет для немногих», — как сказано в
«Оде к «Духу комического». В год опубликования «Этю-
да о комедии» Мередит приступил к работе над «Эго-
истом». Это его программный роман, теория «Духа ко-
мического» нашла в нем практическое применение и
развитие, и вместе с тем практическое опровержение
существенных ее положений. Автору не удалось после-
довать всем указаниям теории «Духа комического» и
с «тайной и сдержанной улыбкой» следить за комиче-
ским представлением. В его повествовательной комедии
«серебристый смех» нередко заглушается «смехом во
весь рот», «юмор сатиры» и сама сатира, не сложив
оружия, являются в положенное место и в назначенный
час, а вместе с ними — гротеск и фарс. Сатирическая
ирония по пятам следует за главным персонажем,
имя которого в английской литературе стало нарица-
тельным.
Уже в начальной фразе романа «Эгоист», в назва-
нии первой главы — «Мелкое происшествие, показываю-
щее наследственную склонность действовать ножом»,—
заключена сатирическая ирония. Смысл и характер ее
раскрываются в авторской речи и небольшом эпизоде,
«Бернард Шоу о драме и театре». М., 1963, с. 365.
183
который в неприглядном виде рисует молодого Уилоби.
Основатель дома Паттернов, Саймон Паттерн, не раз-
бираясь в средствах, приносил в жертву родственные
чувства и отношения: он беспощадно «действовал но-
жом», освобождая наследственное древо от побочных
побегов, дабы дать окрепнуть стволу. Сэр Уилоби, «пя-
тый по прямой линии наследник Саймона Паттерна»,
в полной мере воспринял эту склонность и проявляет
ее при разных обстоятельствах. В данном случае он
бесцеремонно обходится со своим неимущим родствен-
ником, отказываясь принять его, хотя сам когда-то
предлагал ему гостеприимство. В другой раз он не
прочь таким же образом обойтись с мисс Дейл, когда
ему приходится выбирать между нею и Кларой Мидлтон.
«А еще сказано в книге эгоизма: ТЯЖЕЛО УСТУ-
ПАТЬ ТО, ОТ ЧЕГО НАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ОТКА-
ЗАТЬСЯ... Сэр Уилоби Паттерн хотя и был готов по-
ступить, как того требовали долг и личные соображения
(они часто идут рука об руку), и бросить мисс Дейл,
но ему пришлось подумать о том, что он не просто, так
сказать, бросает ее через забор, а бросает в объятия
другого; и это было для него более тяжелым испыта-
нием, чем когда предполагалось, что она прямо ударит-
ся о землю».
Читатель наблюдает забавное и поучительное зре-
лище: от этого блестящего жениха невесты бегут, как
от чумы. Констанция Дархэм уже после помолвки пред-
почитает менее завидную партию. Клара Мидлтон тоже
пытается спастись бегством после помолвки, а когда по-
бег не удается, изо всех сил сопротивляется браку
с «первым джентльменом графства». Даже Летиция
Дейл, слепо обожавшая снизошедшего до нее владель-
ца поместья Паттерн-холл, и та, прозрев, возмущается
им. Когда же, наконец, измученная и увядшая, она со-
глашается выйти замуж за сэра Уилоби Паттерна,
в душе у нее звучат не свадебные клики, а звон похо-
ронного колокола. Всякое живое чувство как бы вос-
стает против этого человека, сердце которого изъедено
эгоизмом.
Мередит, его «Дух комического», с особой бдитель-
ностью следит за проявлениями человеческого духа.
Шекспировская мысль «весь мир — театр» трансфор-
мируется у Мередита, и эта трансформация имеет
принципиальный смысл и значение. «Весь мир — те-
атр», но... внутренний мир, мир человеческого духа.
184
Когда Мередит говорит, что в его «сценах» под дав-
лением «воспламеняющейся ситуации» действующие
лица должны обнажать свою «кровь» и «мозг», то
в действительности они обнажают прежде всего и
главным образом свой «мозг». И уже в связи с этим
нельзя говорить, что современный роман был начат
одним Мередитом.
«Сцены» и диалог, как их естественное выражение,
выделяются в мередитовском романе не только чис-
лом, но и свойством. Мередит драматизирует роман-
ную форму. Однако с какой целью производит он по-
добную замену?
Только ли затем, чтобы устраниться от роли всеве-
дущего автора? Он действительно выказывает широкое
предпочтение приемам «косвенного» повествования \
прибегая к символам и аллегорическим образам. Он
сохраняет за собой право давать анализ и комменти-
ровать, но не хочет создавать впечатление у читателя,
что ограничивает его общение с изображаемыми ли-
цами, навязывает ему свое мнение, пичкает его нази-
даниями, которые приелись и потеряли кредит. Он
перенимает драматическую и собственно сценическую
формы выражения, желая предоставить своим героям
возможность выявить себя независимо и свободно. Но
это лишь одна из его задач, и состоит она в том, чтобы
в меняющихся условиях найти новую меру условности,
которая укрепила бы у читателя впечатление досто-
верности художественного изображения. Для него эта
задача важная, но не основная, а сопутствующая.
Ломка повествования, энергичное введение «сцен» под-
чинены у Мередита намерению обнажить и столкнуть
разнохарактерные идеи и устремления, проследить их
борьбу, чтобы выявить их смысл и истоки2. В «сценах»
1 Уже современники писателя отметили эту особенность его ма-
неры: «Мередит — великий мастер косвенного в художественной
прозе. Многими и различными способами он демонстрирует, как
к нашему знанию лиц и событии мы можем многое добавить, вы-
являя их суть в отраженном свете» (О 1 i р h a n t James. Victori-
an Novelists. L., 1899, p. 149).
2 3. Венгерова, энергично пропагандировавшая творчество Ме-
редита в нашей стране, писала: «Перенеся центр тяжести романа
от описания нравов к пытливому, точному изучению мотивов, управ-
ляющих действиями людей, Мередит пошел по новому пути. Он
создал «интроспективный роман», очень близко стоящий к драме по
самой манере противопоставления интересов действующих лиц». —
Вестник Европы. СПб., 1895, № 4, с. 157.
185
герои предстают в моменты духовного напряжения и
непроизвольно раскрывают себя, свои устремления,
свою сущность.
У «сцен» и диалога в романе Мередита значитель-
ная роль и оригинальное оформление. Диалог, как
правило, лаконичен, отточен и, несмотря на внешнюю
легкость, психологически насыщен, энергично передает
внутренние движения и состояния, часто принимает
чисто сценический вид, не сопровождается авторскими
пояснениями.
Мередит разрабатывает формы диалога, способные
передать состояния повышенного психологического на-
пряжения и взволнованности, когда неполнота, отры-
вочность и непоследовательность высказывания возни-
кают невольно, и мысль начинает блуждать, делает
загадочные ассоциативные движения, непроизвольные
скачки.
Клара Мидлтон связала себя обещанием выйти за-
муж за сэра Уилоби Паттерна, она живет в его поместье,
ей сулят «лучших лошадей, лучшие туалеты, прекрас-
нейшие бриллианты в Англии и несравненного повара».
Отец ее, доктор богословия, знаток античности и гур-
ман, поселившись в качестве будущего тестя Паттерна
в его роскошном доме, так привыкает к уюту, обшир-
ной библиотеке и славному портвейну, что поддается
на эти приманки хозяина и готов принять его сторону.
Однако молодая девушка находит в себе силы выдер-
жать внешний натиск и преодолеть внутреннее сопро-
тивление. От инстинктивного отвращения к браку-сдел-
ке после долгой и мучительной душевной борьбы она
приходит к сознательному протесту, отстаивает свободу
и выбирает самостоятельный путь.
Автор тщательно, со множеством психологических
подробностей воспроизводит душевные перипетии геро-
ини. О чем бы ни говорил ее блестящий жених —
о «вечной любви» или «законах прогресса», она чувст-
вует— все это пышные и пустые фразы, но не сразу
в состоянии понять, чем именно отталкивает ее Пат-
терн, пока из его же уст не слышит точного определе-
ния: «Эгоист».
Ниже следует отрывок из «сцены», передающей оче-
редной этап борьбы Клары с Уилоби, когда она пыта-
ется внушить ему мысль, что ему лучше всего предоста-
вить ей свободу и жениться на другой, а он, думая, что
186
причина ее сопротивления—ревность, хочет разуверить
и успокоить ее.
«— Когда я говорю, — начал сэр Уилоби, — что все-
общее сцепление идей покоится на ошибочном наблюде-
нии фактов и что ошибочная дедукция на основе оши-
бочного наблюдения!..? Нет, вы не правы, поверьте,
я хочу вывести вас из заблуждения. Вам холодно, до-
рогая?.. Вы вздрогнули.
— Нет, мне не холодно, — ответила Клара. — Кто-то,
верно, прошелся по моей могиле.
Она быстро склонилась к цветку лютика...
— По вашей могиле?! — раздалось над ее головой.—
Родная моя, что с вами?
— Я не знала, что орхидные водятся так далеко от
меловых грунтов, Уилоби!
— Я не чувствую себя достаточно компетентным
в столь важном вопросе. Покойная матушка страстно
любила цветы. Насколько мне помнится, это она сама
рассадила по всему парку растение, о котором вы го-
ворите.
— Ах, если бы она была жива!..» («Эгоист», гл. XIII).
Сэр Уилоби выведен из равновесия, не может удер-
жаться в своих привычных рамках самоуверенной рас-
судочности, его выспренние разглагольствования прини-
мают явно карикатурный вид, мысль срывается с хо-
дульных высот и делает неловкие попытки ориентиро-
ваться в непривычных условиях. Мысль Клары движется
в ином, еще не понятом Уилоби направлении, в неясной
для него форме выражает чувство подавленности и от-
вращения, уклоняется в сторону, «хватается за соло-
минку»— за лютик, на который упал взгляд девушки,
измученной напряженным объяснением.
Друг писателя и первый проницательный его кри-
тик— Джеймс Томсон, выдающийся английский поэт,
отметил важную особенность мередитовского диалога:
высказываниям его героев свойственны «беспокойные
волнения» и в этих волнениях «надо угадать» необъят-
ную жизнь.
Мередит разнообразит, обновляет старые и вводит
в английский роман новые средства и приемы психоло-
гического анализа, вводит их последовательно, и его
новшества образуют целостную систему средств, видо-
изменяющих всю структуру романа.
Мередит драматизирует романную форму, но из
этого не следует, что повествование становится у него
187
чем-то подсобным, существует в самом ограниченном
объеме ради «сцен», как говорит Пристли. Невозможно
согласиться и с Энгусом Уилсоном, который утверждает,
что «Эгоист» — «комедия в буквальном смысле слова».
Мередит не написал ни одной пьесы, скорее можно ска-
зать, что он создал особый жанр или жанровую разно-
видность— комедию в форме романа, которой дал точ-
ное определение, назвав «Эгоиста» повествовательной
комедией. Повествование у Мередита значительно, мно-
гообразно по своим функциям, и «сцены» не ставят его
в одностороннюю от них зависимость. Новые приемы
психологического анализа возникают в «Эгоисте» преж-
де всего в повествовательном тексте.
Многие английские предшественники Мередита упо-
требляли несобственно-прямую речь *, но только Мере-
дит начал пользоваться ею широко, наряду с употреб-
лением «чужой речи», то есть слов и выражений персо-
нажей в контексте авторского высказывания.
Клара Мидлтон переживает одну из мучительных
попыток порвать с Уилоби и обрести свободу. Она
взволнована, ее терзают угрызения совести, она уко-
ряет себя, готова пасть духом, смириться со своим по-
ложением, в то же время ей на память приходит пример
ее предшественницы Констанции Дархэм, которой уда-
лось вырваться на волю... И вот это-то состояние своей
героини Мередит передает «чужой» и несобственно-пря-
мой речью, сплетая их с авторской:
«Да, она неблагодарна, непоследовательна, непосто-
янна, безнравственна, она способна поддаться соблаз-
ну— больше того — только и ждет, чтобы ее соблазни-
ли! Так вот оно что! При одной этой мысли она ощу-
тила приятную слабость: ведь это — конец борению
с собой, конец мучительным попыткам оторваться от
своих корней. Она будет беспечно колыхаться по
воле волн, подобно водорослям в океане! Да, она будет
чем-то вроде Констанции, — по судьбе, но, увы, не по
отваге.
Констанция по судьбе?»
Этим вопросом, который задает себе Клара, а вме-
сте с нею и автор, обрываются ее тягостные размышле-
ния и возобновляется обычное повествование от лица
1 См.: Glauser Liza. Die erlebte Rede (The interior mono-
logue) in englischen Roman des 19. Jahrhunderts. Bern, 1948; Кли-
менко E. И. Традиция и новаторство в английской литературе.
Изд-во ЛГУ, 1961.
188
автора: «С Кларой произошло то, что бывает с челове-
ком, очнувшимся внезапно среди ночи от тревожного
сна...» («Эгоист», гл. XXI).
Перед тем догадками и сомнениями на свой лад
мучился и Уилоби Паттерн. Нарушенное душевное рав-
новесие опять-таки передано употреблением «чужой» и
несобственно-прямой речи. На этот раз несобственно-
прямая речь более пространна, логически последова-
тельна и суха. Она возникает в авторской речи, настро-
енной уже по-иному, безо всякой благожелательности
к переживаниям этого напыщенного лицемера.
Мередит не только разнообразит избранный способ
соответственно ситуациям и авторской задаче, но упо-
требляет его, как уже было сказано, в сочетании с це-
лым комплексом других средств и приемов.
Зарождающееся и еще неосознанное чувство любви
Клары к Вернону Уитфорду обнаруживает себя неожи-
данным образом, через психологические «мелочи», ко-
торым ни героиня, ни даже читатель поначалу не при-
дают значения; но они накапливаются, повторяются
в разных видах, и вот уже для нее самой не остается
сомнений, на что они указывают.
Длинный внутренний монолог передает размышле-
ния Клары, ее желание, чтобы хоть кто-нибудь вызво-
лил ее из тюрьмы, каковой представляется ей дом
Уилоби Паттерна. Она думает о поступке Констанции
Дархэм, которая убежала из этого ненавистного дома
и вышла замуж по любви за Гарри Оксфорда. «Му-
жественная девушка, что-то ты думаешь обо мне?» —
произносит про себя Клара и вдруг допускает непроиз-
вольную обмолвку: «Но ведь у меня нет никакого Гар-
ри Уитфорда, я одна, одна». Независимый от ее созна-
ния и воли, непонятный ей психологический механизм
вставляет в ее неслышную речь вместо Оксфорда — Уит-
форда, образуя неожиданное сочетание: Гарри Уитфорд
(«Эгоист», гл. X).
Спустя некоторое время обмолвка повторяется, еще
и еще раз, уже явно, в беседе с Уилоби.
Клара и сэр Уилоби говорят о Верноне Уитфорде,
о его намерении уехать из Паттерн-холла: «Следова-
тельно, вы примирились с тем, что он вас покидает?
— Ложная тревога! Старина Верной не способен на
столь решительный шаг.
— Но если мистер Оксфорд... Уитфорд... Ах, ваши
лебеди плывут сюда! Смотрите, какой у них негодую-
189
щий вид! Как они красивы! Я хотела сказать — быть
может, мужчина, когда он видит, что женщина явно
отдает предпочтение другому, чувствует себя обеску-
раженным?
Сэр Уилоби так и замер от внезапно осенившей его
догадки. Хоть слово «ревность» и не было произнесено,
он понял, к чему клонила Клара».
Клара если еще и не поняла, то почувствовала
смысл своей обмолвки и непроизвольно сменила раз-
говор. Догадка же сэра Уилоби, подсказанная ему
самолюбием, повела его по ложному пути, он решил,
что Клара ревнует его. Они продолжали беседу.
«Чувство, на которое вы намекаете, — говорит Кла-
ра ему, — для меня немыслимо — непостижимо, как вы
однажды выразились, говоря о поведении Оке... Уит-
форда».
Клара пресекает повторную обмолвку, но на этот
раз только глухой мог не заметить ее. Поймал нечаян-
ное откровение и сэр Уилоби, однако смысл его остался
ему неясен.
«Исполненный горделивого восторга, он громко рас-
хохотался.
— Окс-Уитфорд — да ведь это же точный портрет
старины Вернона в гостиной! Он и в самом деле
«оке» — сущий бык!» (ох — по-англ. — бык).
Обмолвки Клары невольно выражают ее тайную
мысль о Верноне Уитфорде, с которым она связывает
возможность своего освобождения из Паттерн-холла.
И глава эта (XIII) называется «Первый рывок на сво-
боду».
Между Кларой Мидлтон и Уилоби Паттерном в при-
сутствии доктора Мидлтона происходит решительное
объяснение. Уилоби лжет, изворачивается, взывает к
отцовскому авторитету, готов на все, только бы при-
нудить Клару к браку. Преподобный Мидлтон требует
от дочери, чтобы она сдержала слово. Наступает кри-
тический момент. Неожиданно появляется Верной Уит-
форд, человек «небогатый», который «живет для дру-
гих» и которого молодая девушка предпочитает Уило-
би. В Уитфорде Клара чувствует союзника, напряжение
ее ослабевает. Она смотрит на него, и мысль ее делает
произвольный скачок: блеск его глаз вызывает в ее
памяти сияние звезды, которая «одна сохраняет яркий
блеск в морозные лунные ночи». Она силится припо-
мнить ее название и углубляется в себя настолько, что
190
почти не слышит голоса Уилоби. Потом снова возоб-
новляется борьба и продолжается довольно долго. Но
вот «сражение кончилось». Клара одержала победу,
она отвергла ненавистные ей эгоистические притязания
Уилоби. «Клара взяла опять отца под руку и вдруг, вся
просияв, сказала ему: — Сириус, папа!» Посредством
этой, казалось бы незначительной, психологической де-
тали писатель сумел в образной форме передать раз-
витие сложных переживаний героини и углубить харак-
теристику доктора Мидлтона, который так и не понял
состояния своей дочери и происшедших в ней перемен.
«Он глубокомысленно повторил:
— Сириус! Есть ли хоть капля смысла в женской
болтовне?
— Это название звезды, милый папа, о которой я
думала!
— Это была звезда, которую заметил царь Агамем-
нон, прежде чем принести жертву в Авлиде. Ты об этом
думала, не правда ли?» — и т. д.
Подобного способа передачи душевного состояния
и ассоциативной мысли еще не знала английская ли-
тература.
Мередит не отказывается от традиционных форм
авторского высказывания, в том числе и от публици-
стических выступлений. Нередко он обращается непо-
средственно к читателю, объясняется с ним и взывает
к нему, порой пространно, на нескольких страницах, но
большею частью — в репликах, кратких или разверну-
тых, возникающих по ходу или в итоге «тематического»
описания.
Верной Уитфорд разыскивает Клару Мидлтон, ре-
шившую бежать из Паттерн-холла. Он спешит по до-
роге на железнодорожную станцию, рассчитывая пере-
хватить ее на вокзале. Погода ненастная, но молодого
человека, здорового телом и душой, хорошего ходока,
ни ливень, ни ветер не тревожат; в душе он одобряет
решительный поступок отважной девушки, его радует
перспектива ее свободы, и только тревога за нее не-
сколько омрачает его «безмятежное упоение». Повест-
вование ведет автор, однако пейзаж возникает перед
читателем, изображенный как бы «изнутри» действую-
щего лица, Вернона Уитфорда, быстро идущего по до-
роге. Почти все вокруг предстает, охваченное его взгля-
дом, воспринятое его мыслью, выраженное его слогом.
Натуральность внешнего явления передана даже с не-
191
которыми подробностями, но без обстоятельности и
ожидаемой последовательности. Рисунок пейзажа воль-
ный, беглый, дробный — это натуральность индивиду-
ального восприятия. Восприятия романтически припод-
нятого и литературно изысканного, но не оторванного
от земли и прозаического быта — поэтическая востор-
женность и пышная изысканность умеряются в душе
Уитфорда чувством юмора и трезвым опытом. Повест-
вователь не исчезает за персонажем, но в данном слу-
чае автор и герой, Джордж Мередит и Верной Уит-
форд, столь близки друг другу, что бывает трудно раз-
личить их голоса, и даже обращение к читателю,
завершающее отрывок, может быть воспринято как их
совместный возглас.
Когда же подобным образом повествователь сбли-
жается с Уилоби Паттерном, лишенным живого чувст-
ва юмора, их разделяет авторская ирония.
Ирония проступает не во всяком сближении автор-
ской речи с речью Уилоби. Иногда автор нейтрален
и даже вроде согласен со своим антигероем, — во вся-
ком случае, так кажется или может показаться.
«Всякий раз, как Уилоби вспоминал свою обиду,
мысли его, подобно лопастям старого мельничного ко-
леса, шли по одному и тому же кругу, вновь возвраща-
ясь к решению ни под каким видом не отпускать Кла-
ру. С этой мысли он начал, к этой мысли пришел. Вот
в чем будет заключаться его месть! Как она, одна-
ко, хороша! Она была как сияющий летний день,
когда легкий ветерок едва рябит водную гладь...» (гл.
XXIII).
Восторженное восклицание принадлежит Уилоби и
вместе с тем автору — оно возникает в контексте его
речи. Здесь автор не спорит с героем: он убежден, что
Клара Мидлтон действительно хороша. Но он знает
также, как мучительно это признание для Уилоби, и
уверен, что эта мука им заслужена. Согласие автора
с героем — нажим на больное место. Уилоби предпочел
бы услышать возражение.
Сближая свою речь с речью Уилоби Паттерна, ав-
тор отнюдь не сближается с ним по существу, не под-
держивает его и не оправдывает. Он находит возмож-
ность в момент самого близкого схождения противопо-
ставить себя герою оттенком речи, интонацией, произ-
нести вместе одну и ту же фразу так, что читатель
услышит не два голоса, слитые в один, а разноголо-
192
сицу. Локальный и широкий контексты заставят его
различить между ними грань. Название главы «Уяз-
вленное самолюбие и стратегия» и начало ее предуве-
домят читателя: «Сэр Уилоби между тем по-прежнему
придерживался линии поведения, продиктованной ему
его чувством долга к самому себе. Он исходил из рас-
пространенного и несколько наивного предположения,
будто от союза стратегии с уязвленным самолюбием
можно ожидать полезных плодов».
Перед тем как перейти на несобственно-прямую
речь, автор раскроет читателю замысел сэра Уилоби,
его намерения или намекнет на них: «Только бы по-
ставить Клару на колени, — в переносном смысле (а,
впрочем, не худо бы и в прямом) —и тогда он сам ее
поднимет и простит». .
Современники Мередита в серьезном, шутливом и
в издевательском тоне писали о затемненной и трудно
доступной манере его письма.
«Публика,— делал заключение журнал «Куортерли»
в октябрьском номере за 1891 год, — упорно отказыва-
ется заглядывать в «Карьеру Бьючемпа», со словами
«благодарю вас» откладывает в сторону «Приключения
Гарри Ричмонда» и скорее готова погрузиться в пар-
ламентскую «Голубую книгу», чем следить за умствен-
ными зигзагами и психологическими эволюциями сэра
Уилоби Паттерна».
«Легко быть непонятным, но есть известная труд-
ность писать так непонятно, как писал Мередит, однако
ему нравилась эта трудность, и для него она была то
же самое, что шут для короля»1. По мнению Эми Крюз,
автора книги «После викторианцев», в этих словах,
сказанных в 1909 году, уже после кончины писателя,
было выражено мнение многих английских читателей.
Мередит отпугивал их не одной «туманностью изложе-
ния», а по большей части тем, что его книги не пред-
ставляли собой легкого, занимательного и привычного
чтения. Об этом остроумно писал Джеймс Барри в
журнале «Контемпорари ревью» за 1888 год: «Мередит
дотягивается до своих мыслей, взбираясь по крутым
лестницам; отталкивая их попеременно ногой, он предо-
ставляет своим читателям следовать за ним, как им
заблагорассудится. Слишком нерасторопные, чтобы ка-
рабкаться вслед за ним, они располагаются внизу и
1 Cruse Amy. After the Victorians. L., 1938, p. 176.
7 M. В. Урнов
193
швыряются его жаргоном, стараясь попасть ему в го-
лову. Если бы у них самих была голова, они бы
поняли, что перед ними один из великих умов их вре-
мени».
В наше время читатель, давно осиливший Генри
Джеймса и Джеймса Джойса, а вслед за ними Шона
О'Кейси и Фолкнера, вовсе не испытывает тех труд-
йостей при чтении книг Мередита, какие действительно
испытывали многие его современники. Мера условности
литературно-художественного текста и его восприятие
претерпели заметные изменения. Может показаться па-
радоксальным тот факт, что вполне понятный, но го-
раздо более пространный в описаниях предметного мира
й внешних подробностей, насыщенный авторскими по-
яснениями текст Диккенса или Теккерея в наше время
нередко воспринимается с большим трудом, чем текст
Мередита.
Диалог в «Эгоисте», как в этом легко убедиться,
в подавляющем большинстве случаев столь сжат, от-
точен, гибок и выразителен, что, несмотря на ослож-
няющий его подтекст, воспринимается свободно, без
особого напряжения. Авторские высказывания, как и
высказывания персонажей, склоняются к афористиче-
ской форме. Выбранные из «Эгоиста» афоризмы могли
бы составить самостоятельное и по-своему знамена-
тельное сочинение, способное пояснить нечто важное
в позиции Мередита, близкой ему среды и его вре-
мени.
«Обманывая свой ум, мы неизбежно его притупля-
ем. Всякий представитель рода людского найдет под-
тверждение этому правилу, заглянув в собственную
биографию».
Этот афоризм можно было бы поставить одним из
эпиграфов к роману «Эгоист» и даже ко всему твор-
честву Мередита. Притупление ума самообманом и
самообольщением — важный предмет его критического
анализа.
Афоризм служит у Мередита то отправным пунктом
для авторского высказывания, своего рода тезисом, то
его заключением. Афоризмы мелькают в рассуждениях,
обостряя, уточняя или подчеркивая мысль. Сама
манера мередитовского письма ориентируется на афо-
ризм.
Не все мередитовские афоризмы в равной сте-
пени оригинальны, содержательны и лаконичны. Не-
194
редко они оказываются в услужении у легкого калам-
бура. Когда афоризмы встречаются в речи персона-
жа, они характеризуют его склад ума и манеру вы-
ражения.
«Ни одна возлюбленная не простит влюбленному
если он позволит себе быть таинственным и непости-
жимым больше тридцати минут подряд», — это из реп-
лики миссис Маунтстюарт-Дженкинсон, светской да-
мы, колкого злоречия которой страшится образцовый
джентльмен сэр Уилоби.
«В искусстве скрывать свои чувства мужчине не
угнаться за девицей», «мужчине приходится учиться
тонкостям и уловкам, в которых женщины искушены
от колыбели», — это из реплики сэра Уилоби, уязвлен-
ного в своем раздутом самолюбии и уже изнемогаю-
щего от словесных схваток, хватающегося за соломинки
банального остроумия, при всей его выучке в салонном
фехтовании словом (гл. XXXIV).
Истинное глубокомыслие в «Эгоисте» сочетается
порой с глубокомыслием сомнительного свойства, и
тогда метафора, набегая на метафору, спотыкается
о парадокс. Таково, например, рассуждение об истине
в главе XXXV. Однако, чтобы судить об этом афо-
ристичном высказывании, надо учесть, что оно воз-
никает в итоге авторского рассуждения по поводу де-
тективных умозаключений миссис Маунстюарт-Дженкин-
сон и, следовательно, не лишено иронии, хотя и добро-
душной.
Авторская речь в «Эгоисте», как и во всех других
романах Мередита, изобилует метафорами.
«Пока Клара гуляла с Летицией, сэр Уилоби раз-
весил свое самолюбие сушиться; оно село, как это слу-
чается с иной материей в непогоду. Вскоре, однако,
в обществе миссис Маунтстюарт-Дженкинсон, предста-
вительницы того самого света, которого он так стра-
шился и который вместе с тем так стремился покорить
с помощью всех имевшихся в его распоряжении средств,
бархатный ворс его самолюбия вновь обрел свойствен;
ную ему мягкость и блеск».
Развернутая метафора изображает душевное состоя-
ние героя. Самолюбие сэра Уилоби и свойства этого
самолюбия материализуются, получая наглядную сати-
рическую характеристику. Так начинается глава сем-
надцатая «Эгоиста», и метафорический зачин задает
ей определенный тон. Развернутой метафоре предшест-
7*
195
вует аллегорический образ — глава называется «Фар-
форовая ваза». Аллегория намечает перспективу от-
ношений сэра Уилоби и Клары Мидлтон. Они помолв-
лены. Невесте в качестве свадебного подарка везут
фарфоровую вазу. Она разбивается. У невесты есть
прозвище-определение — ее называют «фарфоровой плу-
товкой». Аллегорические образы сходятся, просвечива-
ют друг друга, встают в ряд других аллегорических или
символических образов, и постепенно раскрывается их
смысл. Так иносказание сплетается с иносказанием,
один многозначный образ — с другим, не только раз-
вернутая метафора, аллегория или ряд метафор и ал-
легорий, но почти каждое слово у Мередита иг-
рает оттенками. Гибкая мысль художника плетет из
перекрещивающихся иносказаний и многозначных об-
разов замысловатое, многоузорчатое, мерцающее кру-
жево.
Генри Джеймс назвал «Эгоиста» «хорошо органи-
зованным романом». «Хорошо организованный» и «хо-
рошо сделанный» роман не одно и то же. «Хорошо
сделанная» литературная вещь требует профессиональ-
ной выучки и даже таланта, по-особому тренированного
и приноровленного, однако не принадлежит собственно
к искусству слова. «Хорошо сделанный» роман держит-
ся обычно на ловко сколоченном сюжете. «Хорошо ор-
ганизованный» роман возникает на иной конструктивной
основе. Исключительное значение в его многослойной
структуре обретает словесная полисемия. В английской
литературе «хорошо организованный» роман утвердил
и теоретически обосновал американец Генри Джеймс.
Мередит, автор «Эгоиста», ему предшествует. Э.-М. Фор-
стер, вслед за Джеймсом, ссылается на «Эгоиста» как
на роман «высоко организованный»!. Начало такому
роману было положено Лоренсом Стерном, который на
«рубеже веков» часто и по разным поводам напоми-
нает о себе.
В построении романа видную роль у Мередита игра-
ют условные приемы. Например, в романе «Испытание
Ричарда Феверела» — последовательное цитирование
афоризмов из «Котомки паломника», в «Эгоисте» — афо-
ристические цитаты из вымышленной «Книги эгоизма».
Мередит дает толчок заметному и возрастающему раз-
витию условности в английском романе. У Мередита
1 Forster Е. М. Aspects of the novel. N. Y., 1954, p. 87.
196
условность содержательна, она возникает не затем
только, чтобы обновить структуру романа, придать ей
оригинальный вид, это отнюдь не конструктивный вы-
верт или забавное украшение. Условность в «Эгоисте»
не служит основой построения романа и не выполняет
иллюстративной функции. Ссылки на «Книгу эгоиз-
ма» — один из способов публицистических авторских
отступлений, которым Мередит пользуется, чтобы изло-
жить свой взгляд на природу человека, его эволюцию
и проблему эгоизма.
У хорошо или высоко организованного романа есть
неискоренимая слабость, так сказать, врожденная не-
мощь: опора на условность и неудержимое влечение
к иносказанию. Насыщенность и перенасыщенность
иносказаниями создают для читателя и самого худож-
ника трудности, нередко требуют от них излишнего,
неоправданного напряжения фантазии и внимания.
В «хорошо организованном» романе искусность легко
переходит в искусственность.
«Метафора, — писал В. Ключевский, — или проясня-
ет мысль, или затемняет ее. В первом случае метафо-
ра— поэзия, во втором — риторика или красноречие:
красноречие есть подделка мысли и поэзии» 1.
Метафоричность мередитовского мышления — его
сила и его слабость. Она свидетельствует о богатой
фантазии и живой игре ума. Она же способствует не-
заметному удалению в этой игре от того, что наполняет
понятие «прямым содержанием» (А. Блок)2, и неиз-
бежному утомлению от этой игры. Метафора у Мереди-
та может и затемнять мысль, превращаясь в риторику,
и плохо пояснять мысль, пояснять без необходимости,
когда и так все ясно.
«Он не нависал над нею больше, как туча, не манил,
как магнит: туча, которая, как ей некогда казалось,
вобрала в себя все сияние небес, рассеялась; магнит
был бессилен вертеть ею, как стрелкой компаса».
Это всего лишь один из примеров вялости усталого
1 Ключевский В. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли
об истории. М., Наука, 1968, с. 325.
2 А. Блок неоднократно писал об опасности «общей порчи ли-
тературного языка» в связи с «забвением прямого содержания по-
нятий», «наполнением этих понятий вторичным, метафорическим со-
держанием». «Метафоричность мышления,— плохое, отвлеченное сло-
во; но за ним стоит сама смерть» (Блок А. Собр. соч. в 8-ми то-
мах, т. 6. М, 1962, с. 142).
197
воображения и автоматизма безостановочного красно-
речия.
Слово «Эгоист», поставленное в заглавии романа
и с прописной буквы повторенное в его тексте, прямо
адресовано сэру Уилоби Паттерну, служит его исчер-
пывающим определением. Тема романа выражена од-
ним словом и с такой безусловной четкостью, которая
исключает инотолкования и недомолвки. На этот раз
Мередит обошелся без метафоры. Он начал с тезиса,
суть которого выразил с точностью ученого позитивист-
ского направления, но сформулировал его как поэт
того же направления. Данный им анализ развернут и
скрупулезен, аргументы многочисленны и убедительны,
выдвинутое положение доказано, хотя весь опыт про-
изведен не в лаборатории ученого, а в повествователь-
ной комедии, в которой факты так отобраны, орга-
низованы и раскрыты посредством художественного
вымысла, как это недоступно даже первоклассной жур-
налистике, по той простой причине, что это не ее
сфера.
Эгоист представлен как типический характер, обри-
сованный в неоклассицистском духе: сэр Уилоби Пат-
терн—^воплощение одной определенной черты в ее
полноте и завершенности, в данном случае — эго-
изма.
Сэр Уилоби — типический характер джентльмена-
эгоиста с его специфически британскими чертами.
В «Прелюдии» автор подчеркнул: «Скажем без оби-
няков: герой — наш соотечественник и современник;
состоятельный джентльмен,- с положением в об-
ществе».
Мередит производит проверку идеала английского
джентльмена и идеи «гармонии джентльменства» в том
их виде, как они оформились при «Карле Мученике» и
особенно при «его весельчаке-сыне», то есть при
Карле И, хотя истоки этих идей относятся ко вре-
мени английского рыцарства и Великой хартии воль-
ностей.
Сэр Уилоби — глава родового поместья, и в этом
поместье он центр слаженной системы отношений, це-
лого мирка, столь же образцового, сколь образцовым
джентльменом предстает он сам — «пятый по прямой
линии» наследник дома Паттернов. Когда он говорит
«Я», то произносит это местоимение так же, как пишут
его по-английски, то есть с прописной буквы. Он мыс-
198
лит себя личностью, будто бы вполне сознающей свое
достоинство, независимой в своих суждениях и в своем
поведении. Его убеждения, вкусы, привычки для него,
как и для всего мирка, — закон. В то же время он по-
лагает своим долгом благодетельствовать всех, кто его
окружает, составляет звенья слаженной системы и не-
укоснительно ее поддерживает.
Сэр Уилоби Паттерн, «обладатель Ноги с большой
буквы», «воплощенный идеал молодого английского
джентльмена», наделен всеми внешними добродетеля-
ми, соответствующими его положению богатого ари-
стократа и признаваемыми светом. Фамилия Пат-
терн (Patterne) многозначительна (Pattern — обра-
зец) .
Однако образцовый джентльмен предстает перед
читателем не менее образцовым эгоистом. Понимая,
как неприятна для джентльмена процедура сдирания
масок, Мередит проделывает ее по возможности береж-
но, но старательно и не без удовольствия.
Определяющая черта характера героя — «гибель-
ный эгоизм», проникший во все поры его существа.
С нею связан целый психологический комплекс, эле-
менты которого автор рассматривает подробно и убеди-
тельно. Сэр Уилоби Паттерн самонадеян и тщеславен,
претенциозен и кичлив, он лицемер и позер, человек
пустой и педант, в душе его ни разу не шевельнулось
простое и свежее чувство.
В этом психологическом комплексе амбиция главен-
ствует надо всеми остальными чувствами, амбиция, за-
местившая собою былую рыцарскую доблесть и даже
самое обыденное личное достоинство. Амбиция сэра
Уилоби — это не то, что он о себе думает, во что себя
ценит, на что рассчитывает; это то, что о нем думают,
во что его ценят, что от него требуют — миссис Маунт-
стюарт-Дженкинсон, леди Баш и леди Калмер, знатные
дамы графства, — ходячее и вездесущее «мнение све-
та». Амбиция сэра Уилоби суетна, злонравна, жестока
и самодовольна. Он только делает вид, что свободен
в своем мнении и независим в своих поступках. В дей-
ствительности он трусит перед «светом», даже не перед
его мнением, а перед его сплетней, ведет себя как раб
условностей: коварно, лживо, опускаясь до подлости
и мелких гадостей.
«Сэр Уилоби прежде всего олицетворенное самодо-
вольство английской буржуазии викторианской эры,
199
точнее сказать,— самодовольство английского джентль-
мена, на которого буржуазия взирала, как на свой
идеал». Эта социологическая трактовка героя «Эгои-
ста», как и нижеследующие слова, принадлежат Энгусу
Уилсону.
«Диагноз Мередита поражает сейчас, в шестидеся-
тые годы нашего века, с такой же силой, с какой он
поражал почти столетие назад, когда был поставлен.
Мередит со своим оптимизмом эволюциониста полагал,
что отмеченная им деградация национального харак-
тера может быть остановлена путем впрыскивания
проницательной самокритики, доблести... Для него, сле-
довательно, зрелище национального самодовольства не
было столь тягостным, каким оно стало в позднейшие,
более пессимистические времена...» Всякий раз, про-
должает Уилсон, когда Англия «ведет себя в между-
народных делах со специфически для нее глупым и
упрямым самодовольством... каждого критически на-
строенного ее патриота посещает образ», представлен-
ный в «Эгоисте»!.
Любопытно, в сколь широком практическом контек-
сте социально-политической истории Англии восприни-
мается «критически настроенным патриотом» (critical
patriot) сэр Уилоби, литературный образ, характер эгои-
ста, созданный в «замкнутых» рамках психологическо-
го романа.
Отмечая актуальность «Эгоиста», Роберт Луис Сти-
венсон, истинный ценитель Мередита и один из его ли-
тературных преемников, говорил, что в «этой странной
и восхитительной книге» заключен «животрепещущий
материал» (red matter)2. Характер сэра Уилоби Пат-
терна отмечен индивидуальностью и конкретным смыс-
лом и вместе с тем универсальным значением. В его
обрисовке есть конкретно-исторические и социальные
признаки, а также черты общечеловеческие. Стивенсо-
ну казалось, что Мередит, создавая сэра Уилоби, писал
портрет с него, Стивенсона3.
Автор «Эгоиста» утверждал в свою очередь, что в
герое романа он изобразил самого себя. В универсаль-
ности центральной фигуры «Эгоиста» Пристли, не без
основания, увидел «триумф Мередита». Однако не ме-
1 Wilson Angus. Op. cit., p. 503—504.
2 Цит. по кн.: Sassoon S. Meredith, p. 173.
3 Р.-Л. Стивенсон послужил прототипом Говера Вудсира, одно-
го из героев романа Мередита «Странный брак».
200
нее очевидно то своеобразие, с каким Мередит придает
своему герою определенность времени и социальной
среды.
«Комедия — игра, назначение которой пролить свет
на жизнь общества» — этими словами открывается
«Эгоист», точнее сказать — «Прелюдия», начальная
глава-введение, ими же определена общественная за-
дача «повествовательной комедии». Далее определяет-
ся ее предмет. Это — «человеческая природа, в той ме-
ре, в какой она проявляется в благовоспитанных гости-
ных, куда не проникает извне пыль житейских дрязг,
где нет ни грязи, ни резких столкновений, которые так
облегчают задачу художника, сообщая его картине убе-
дительность». Далее определяются пути и средства:
«Чтобы завоевать доверие публики, комедия не прибе-
гает к прямому воздействию на ее чувства; чтобы раз-
веять ее недоверие, не показывает бесконечно малые
крупицы улик, которые можно увидеть лишь через
увеличительное стеклышко часовщика. Определенная
ситуация и группа лиц, в ней действующая, — вот чем
занят «Дух комического»; отвергая аксессуары, он со-
средоточивает внимание на этих лицах и на словах,
которые эти лица произносят».
Уже в первом абзаце «Прелюдии» в сжатом виде,
метафорическим слогом и в полемическом духе сфор-
мулирована целая идейно-эстетическая программа. Она
отвергает морализаторство, сентиментальность, сенса-
ционность, плоское бытописательство. Она же замыкает
действие стенами «благовоспитанных гостиных».
В романе «Эгоист» представлен узкий и замкнутый
мирок. Площадка действия почти не простирается даль-
ше помещичьего парка. Ее центром служит дом сэра
Уилоби, центром дома — гостиная. Число персонажей
минимально. Действия, обычного для реалистического
романа, почти нет. Отвергая аксессуары, не отвер-
гает ли Мередит вместе с ними и типические обсто-
ятельства? На этот вопрос нельзя ответить одно-
сложно.
Условия существования в фамильной усадьбе Пат-
тернов — это типические обстоятельства жизни сэра
Уилоби, формировавшие его личность. Конкретно-исто-
рическая определенность и социальная природа его
характера обозначены. «Эгоист» — психологический ро-
ман, и преобладающее внимание к психологии обуслов-
лено в нем особенностями жанра. «Эгоист» написан
201
в традициях английского психологического романа и эти
традиции развивает. Обилие сцен и диалогов в «повест-
вовательной комедии» воздействует на описания, огра-
ничивая их обстоятельность.
Сэр Уилоби обретает конкретно-историческую и со-
циальную определенность, раскрывает свою сущность
«образцового молодого английского джентльмена» в
разносторонних связях, данных в системе зримых на-
меков.
Сэр Уилоби представлен даже на международной
арене, то есть не буквально, а опять-таки в примерах
и намеках. Он путешествует со своим кузеном Верноном
Уитфордом, объезжает страну за страной и свои впечат-
ления излагает в иронически-язвительных письмах, с
выдержками из которых автор и знакомит читателя, де-
лая, в свою очередь, выразительные комментарии:
«В каждом росчерке его пера, в каждом словечке и да-
же в каждом умолчании чувствовался сам Уилоби; это
был автопортрет в рост на фоне Америки, Японии, Ки-
тая, Австралии и, наконец, Европы — автопортрет сэра
Уилоби Паттерна, взирающего на уродцев мироздания,
населяющих эти земли» (гл. IV).
Как ни разносторонне обрисован герой в своих об-
щественных отношениях, почти все эти его внешние
связи охарактеризованы в кратких описаниях, показаны
на примерах, определены по большей части декларатив-
но, хотя и метко. Единственная сфера, в которой сэр
Уилоби обнаруживает себя в полноте своей истинной
сущности, — это его позорное жениховство. Здесь он
представлен во весь рост и в многообразии проявле-
ний: в переживаниях, размышлениях и поступках, в бес-
конечных разглагольствованиях с жестами и мимикой.
И по мере того как он ведет одну беседу за другой,
начинает казаться, что его разглагольствования одно-
образны, что они уже мало что добавляют к его харак-
теристике.
Изложенная в «Прелюдии» программная установ-
ка — анализировать человеческую природу «в той мере,
в какой она проявляется в благовоспитанных гости-
ных»,—практически обнаружила в романе свою одно-
сторонность и слабость. «Триумф Мередита» мог
быть более значителен и прочен, если бы его герою
бъгло позволено выйти из-под колпака гостиной и
проявить себя не только в ситуациях затянувшегося
сватовства.
202
Замкнутость площадки действия заметнее всего от-
разилась на положительном герое «Эгоиста» — Верно-
не Уитфорде ,с которым автор связывает свои надежды
на радикальные перемены. Верной Уитфорд противо-
поставлен своему богатому и знатному кузену. «Один
из них Паттерн, а другой — всего лишь — Уитфорд.
Этим все сказано... Первый... прежде всего — англий-
ский джентльмен. Второй представляет собой... какую-
то новую формацию, получившую в последнее время
распространение в Англии» (гл. IV). Однако «новая
формация» представлена в общем-то бледной тенью.
Потому, возможно, что она недостаточно определилась,
но и потому, что характер Уитфорда раскрывается вне
обстоятельств, его определяющих, без столкновений
с враждебными обстоятельствами. Другое дело юный
Кросджей, сын одного из обнищавших Паттернов, храб-
рого и скромного лейтенанта из морской пехоты. В ус-
ловиях той же усадьбы и гостиной он попадает в кри-
тические для его нравственного сознания ситуации,
сталкивается с противостоящими друг другу силами,
он вынужден быстро соображать, самостоятельно при-
нимать решения, действовать. У него есть возможность
проявить свой характер, это один из наиболее удачных
в английской литературе юных героев неоромантиче-
ского склада. Он непосредственно предшествует юным
героям Стивенсона.
«Прелюдией» автор называет «главу, в которой
важна только последняя страница». А на последней
странице речь идет об эгоизме, который угрожает «по-
трясти фундамент дома» — родовое гнездо Паттернов.
Там говорится, что сопровождающие «Дух комическо-
го» бдительные бесенята так и подскакивают «в ра-
достном предвкушении комической драмы самоубийст-
ва». Заканчивается «Прелюдия» предостережением:
«Если в отечественной поэзии нет строки:
Он тем убил себя, что лишь себя любил,—
пусть она будет в нее внесена в качестве эпитафии на-
шему герою».
Мередит отстаивает, обосновывает и развивает свою
манеру повествования, указывая на особое значение
для человека его внутренней жизни и на необходимость
ее тщательного изучения в мельчайших деталях, скры-
тых в тайниках сознания. «Сквозь смутное к бесконеч-
но малому» называет он главу романа «Один из наших
203
завоевателей» (1891), в которой содержатся эти рас-
суждения.
Если в «Эгоисте» сатирически представлен образец
аристократа, то в романе «Один из наших завоевате-
лей» — образец преуспевающего буржуа.
Главный герой романа Виктор Рэднор, крупный де-
лец лондонского Сити, показан как фигура типическая.
Это — один из «завоевателей», представитель господст-
вующей и торжествующей силы в капиталистическом
мире. Само имя его звучит мажорно: Victor — победи-
тель. Виктор Рэднор — «идеал» богача, который «обе-
щает быть идолом» английских обывателей. Импозант-
ный вид, кипучая энергия, несокрушимый оптимизм —
весь облик героя, его благополучие и деловой успех
как бы призваны иллюстрировать буржуазное «процве-
тание».
Но за этим внешним благополучием и блеском та-
ятся подлые поступки, хищные вожделения, фальшь,
тревога и животный страх. Путь Виктора Рэднора
к успеху — грязный путь. Судьба его символична. Он
начал свою карьеру с мерзкой сделки — женился на
деньгах и долгие годы безуспешно ждет смерти своей
престарелой супруги. Он загребает миллионы, он вер-
шит дела в Индии, в Южной Америке, в Южной Афри-
ке, но его тревожит конкуренция и страшит гнев наро-
да. Себя и себе подобных он сравнивает с хищным
зверем в золотой клетке. Он настойчиво ищет выхода
из противоречий личной и общественной жизни: леле-
ет мысль о сплочении англичан путем решительных
действий и вдохновляющей «идеи» («островитяне еще
раз возглавят мир новой эпохи, отвергающей мате-
риализм») в надежде «спасти существующий поря-
док».
Но когда Виктор Рэднор уже возомнил себя буду-
щим спасителем нации и буржуазного миропорядка
неблагоприятное стечение обстоятельств сокрушает его.
В центре романа — частная жизнь Виктора Рэдно-
ра, но она полна глубокого общественного смысла.
Этюды делового Лондона, бытовые и политические за-
рисовки, многочисленные персонажи, представляющие
различные социальные и профессиональные слои —
аристократию, буржуазию, чиновничью, литературную,
артистичную среду, — хотя и даны в своеобразной бег-
лой и дробной повествовательной манере, но содержат
типические черты и создают убедительный фон.
204
Роман «Один из наших завоевателей» ощутимо пе-
редает атмосферу потрясений и кризиса, которые пере-
живала Британская империя в период перехода к им-
периализму. Роман остро полемичен и резко контра-
стирует с казенным оптимизмом официальной буржу-
азной идеологии того времени.
Автор разделяет некоторые ложные представления
своего героя, но трезво оценивает многие существен-
ные факты и явления. По мнению одного из действу-
ющих лиц, писателя Колни Дьюренса, напоминающего
самого автора, история Виктора Рэднора «вскрыла
пустоту абстрактного оптимизма». В этих заключитель-
ных словах романа содержится одна из его основных
идей.
Роман «Один из. наших завоевателей» отличается
новизной материала и формы. Та необычность в прие-
мах изображения, которая обращала на себя внимание
в предшествующих произведениях Мередита, особенно
в «Эгоисте», в этом романе получила дальнейшее раз-
витие. Автор показывает общественные явления пре-
имущественно в их психологическом преломлении и пе-
редает душевные процессы в сложных движениях и
деталях.
У Мередита почти нет прямого изображения клас-
совых противоречий и сравнительно мало говорится
о них, но автор дает почувствовать, что борьба труда
и капитала составляет определяющую черту времени
и больше всего беспокоит господствующие слои. Мере-
дит добивается этого с помощью характерных для него
приемов. Так, в речи героев романа неоднократно зву-
чит слово «punctilio» (буквально — формальность, ще-
петильность). Соотнесенное с обстоятельствами жизни
Виктора Рэднора и взятое в кругу устойчивых ассоциа-
ций, беспокоящих его сознание, оно оказывается весь-
ма значительным К
1 Справедливо замечание Джека Линдсея в его монографии
о Мередите, содержащей интересные наблюдения и богатый факти-
ческий материал (Meredith George. His Life and Work. L.,
1956): «Стиль Мередита порою натянут и напыщен, в особенности
в первых главах. Но даже некоторые из тех фраз, которые обычно
цитируют, чтобы показать громоздкость фразеологии, не так плохи,
как может показаться» (с. 292). Уже в первом предложении, отме-
чает Линдсей, читатель сталкивается с неожиданным оборотом:
Рэднора, который поскользнулся и упал, проходя по Лондонскому
мосту, по всей вероятности, подвела апельсинная корка. Но писатель
избегает точного определения, он пишет: «some sly strip of slip-
205
Роман открывается следующим эпизодом. Виктор
Рэднор, живое воплощение благополучия и успеха,
идет, «сверкая, как его новый жилет», по Лондонскому
мосту и вдруг падает и ударяется затылком. Этот ушиб
становится источником его недуга, но беспокоит его
меньше, чем возникшая тут же перепалка с рабочим,
который помогает ему подняться на ноги. «Черт бы
побрал этого парня!» — говорит Виктор Рэднор, заме-
тив пятна грязи на своем жилете. — «Это меня, что ли,
сэр?» — спрашивает рабочий... — «Все в порядке, стари-
на»,— откликается Рэднор. «Ошибаетесь: этого бы не
случилось». — «Что такое?» — «Будь все в порядке, не
растянулись бы вы во всю длину, как полминуты
назад»... «Ну, ладно, нечего грубить»... «А, бросьте вы
свою проклятую формалистику» (And none of your
dam'd punctilio). И эта «формалистика» гвоздем за-
стревает в мозгу Виктора Рэднора. В дальнейшем
punctilio не раз всплывает в сознании героя при таких
обстоятельствах и в таком внутреннем контексте, ко-
торые позволяют вскрыть его тайные мысли и чувства.
Уже охваченный безумием, финансист продолжает
твердить, что у него есть «идея», будто бы способная
устранить противоречия времени, однако она зате-
рялась в памяти, когда он упал на мосту и столк-
нулся с рабочим. Он повторяет услышанную им из
уст рабочего фразу, сопровождая слово тем же ру-
гательным эпитетом. Этими психологическими дета-
лями подчеркивается полная беспомощность героя раз-
решить возникшие перед ним неотвратимые проб-
лемы.
Поздний Мередит первым в английском романе
применил технику собственно «потока сознания», дал
ее образцы. Они появились у него как последователь-
peness», — это словосочетание, построенное на звуковой игре, дано
в авторской речи и кажется натянутым. Но, взятое в стилистиче-
ском контексте, оно становится достаточно естественным и понят-
ным, составляя один из элементов психологической характеристики
героя: он не видел, на чем поскользнулся (для него это некий
скользкий лоскут), не придал этому значения и не учитывает, на-
сколько этот пустяк может быть коварным (some sly strip, — как
говорит автор). По мнению Линдсея, Мередит воспроизводит здесь
не столько внешние детали, сколько внутренние движения героя
«в связи с особой важностью для Виктора Рэднора этого момента,
который обнаруживает его скрытый страх, его затаенный страх и
ненависть к рабочему классу» (там же).
Джек Линдсей первый обратил внимание на глубокий идейный
смысл романа «Один из наших завоевателей».
206
ный результат освоения традиции и развития собствен-
ного литературного опыта.
Ассоциативные сигналы, едва ощутимые намеки
складываются в романе «Один из наших завоевателей»
в сложную и тщательно разработанную систему. Она
требует от писателя усилий, напряжения.
«Я хочу спасти существующий порядок, — говорит
Виктор Рэднор, — я за христианство и против сребро-
любия, которое нам угрожает. Громадные состояния
приобретают в стране силу древних титанов или сред-
невековых баронов. Рассредоточение богатства — в этом
секрет. Натали согласна со мной. Приличная бедность!
Она несколько утомлена, нуждается в перемене. Я ду-
маю о паровой яхте, будущий месяц на Средиземном
море. Вся наша компания. Натали любит покой. Я верю
в мой политический рецепт».
Слышимая речь Виктора Рэднора напоминает внут-
ренний монолог, построенный на ассоциативном тече-
нии умственного речевого процесса, и не только в дан-
ном случае. Это характерно для него. Он живет двойст-
венной жизнью и не хочет делать тайное явным. А сей-
час он говорит о самом для него сокровенном и выдает
себя за благодетеля общества. Но его демагогия,
корысть, тревога и жажда спокойствия обнаруживают
себя. «Приличная бедность» плохо вяжется с планом
увеселений на широкую ногу. Однако, чтобы уловить
весь подтекст отрывка, недостаточно взять его в непо-
средственном словесном окружении. Надо держать в
памяти широкий контекст с множеством детал.ей. Все
это предсказывает уже джойсовские приемы, склады-
вающиеся в манеру «потока сознания».,
Подчеркнутая ассоциативность «внешнего» и «внут-
реннего» монологов возникает у Мередита с учетом
индивидуальных особенностей персонажей и их душев-
ного состояния. Психологический анализ в основе сво-
ей продолжает быть содержательным. Однако заметно,
как мередитовский эксперимент вызывает стилистиче-
ские и композиционные «причуды» уже формалистиче-
ского свойства. , ;
Мередит по-прежнему прибегает к излюбленному им
приему — ссылкам ца вымышленные произведения, от-
теняя в них узловые темы. На этот раз важную идей-
ную и композиционную роль в романе играют две кни-
ги, заключающие животрепещущий материал и примеча-
тельные своей обличительной направленностью. Первая
207
из них — «Раджа в Лондоне» («поэма или драматиче-
ская сатира»). Перед критическим взором индийцев,
осматривающих Лондон, предстают завоеватели. Им-
перская столица обрисована лаконичными, беглыми,
но выразительными штрихами («Ночной Лондон — это
отверженный, стонущий у ног полицейского», где оби-
тают «ущемленные, голодные, тощие, обездоленные
и силы, их угнетающие»). Вторая книга — сатирический
бурлеск «Языки-соперники», обличающий империали-
стическую конкуренцию. Ее автор — Колни Дьюренс,
один из центральных персонажей романа, который
противостоит Виктору Рэднору и в то же время соци-
ально связан с ним. «Виктор Рэднор и Колни Дьюренс
представляли в своем обществе Оптимиста и Пессими-
ста. Они могли бы возглавить в стране эти племена».
Книга «Языки-соперники» упоминается в романе неод-
нократно. В ней и в связи с ней характеризуются
литературные нравы, вкусы и требования господствую-
щей верхушки, которая страшится массового читателя,
боится критики («Я ненавижу сатиру», — говорит Вик-
тор Рэднор). Мередит выступает против рутины, против
лживого оптимизма и приукрашивания действительно-
сти, призывая к трезвой оценке фактов.
«Один из наших завоевателей» принадлежит к луч-
шим романам Мередита. Он написан в духе смелой
критики, но рассчитан на избранную аудиторию, не
обращен к широкому читателю. Это обстоятельство не
могло не сказаться на мередитовском стиле, и без того
усложненном.
Мередит, автор «Эгоиста» и «Одного из наших за-
воевателей», для многих молодых талантов, желавших
сказать новое слово, представлялся «несравненным ро-
манистом».
Джордж Мередит начал писать одновременно с
Джордж Элиот, в период «мирного процветания» анг-
лийского капитализма. Его первый роман — «Испыта-
ние Ричарда Феверела» — вышел в 1859 году — в том
же году, что и первый роман Элиот «Адам Вид». Ме-
редит перестал писать романы в одно время с Томасом
Гарди, именно в ту пору, когда английский капитализм
переживал острый кризис. Последний роман Мереди-
та— «Странный брак» — и последний роман Гарди —
«Джуд Незаметный» — были опубликованы в 1895 го-
ду. Как ни случайно это совпадение в датах, оно зна-
менательно.
208
«В Англии всадник слишком тяжел для лошади»,—
написал Мередит в «Карьере Бьючемпа», выразив этой
метафорой возраставшее в народных массах чувство
тяжести возложенного на них бремени.
«Народ — вот грядущая сила», «наступает эра рабо-
чего человека», — сказал он словами одного из героев
того же романа, выразив идею, которая в Европе и
Англии становилась все более актуальной.
О чем бы ни писал Мередит в своих романах, он
помнил об этом чувстве и этой идее.
САМЮЭЛ БАТЛЕР
(Homo unius libri)
Самюэл Батлер моложе Мередита всего на семь
лет, однако к литературно-художественной деятельно-
сти он обратился значительно позже, начав ее в 70-е
годы. Кризис викторианской идеологии стал тогда оче-
виднее и выявился в его творчестве резче и сосредото-
ченнее.
Можно сказать, что Мередит и Батлер — вехи одно-
го пути в истории английского романа. Речь идет не о
прямой преемственности, — едва ли возможно ее обо-
значить. Сам Батлер отрицал малейшую связь, тем
более зависимость от своего влиятельного предшест-
венника. «Я не принимаю буквально ничего из того,
что читал у него», — говорил он о Мередите и тут же
пояснял субъективную причину столь решительной не-
приязни: в 1871 году Мередит в качестве консультанта
издательской фирмы «Чепмен и Холл» отверг рукопись
«Едгина», его первого романа. «С тех пор, — заключал
Батлер, — я в течение 28 лет злюсь на него». Повод
для «злости» был серьезный. Но не только факт отказа
принять рукопись и столкновение причудливых харак-
теров послужили основанием пожизненной взаимной
неприязни. Батлер говорил, что, окажись он на месте
Мередита консультантом издательства, он дал бы из-
дателям тот же отрицательный совет. Было нечто во
взгляде на вещи, в умонастроении и принципах твор-
чества, что разделило их, что заставило Мередита с его
теорией «Духа комического» отклонить рукопись «Ед-
гина» и отклонять рукописи ранних произведений
Бернарда Шоу, восторженного почитателя Батлера.
И все же Мередит и Батлер — вехи одного пути, хотя,
как видно, этот путь не был прямолинейным, давал
зигзаги и ответвления.
Батлер вслед за Мередитом (и в какой-то степени
в связи с его книгами) обсуждает схожий круг вопро-
сов, обсуждает потому, что пришло их время и прони-
цательный ум не мог их не заметить. Сам порядок и
манера обсуждения этих вопросов отмечены у них не
210
только расхождением, но и сходством, и прежде всего
в том, что касается их психологического аспекта.
Когда Ричарда Олдингтона — с. целью проследить
литературную генеалогию его «Смерти героя» — спро-
сили, не оказал ли на него в пору работы над романом
воздействие Мередит, он ответил, что тогда еще не чи-
тал «Эгоиста», Батлер же был ему известен. И какой
неожиданной, непривычно деформированной должна
была казаться ткань повествования, когда профессио-
нальный читательский взгляд со знакомых с детства
диккенсовских страниц перебегал на страницы батле-
ровского романа «Путь всякой плоти».
«...Неужели после всех ее разговоров об исполнении
долга и духовном единении она в первый же день бра-
ка не согласится понять, что первый шаг в деле покор-
ности воли божией состоит в том, чтобы покоряться
мужу? Он прикажет кучеру ехать обратно в Крэмпс-
форд; он объявит мистеру и миссис Эльби, что он не
желает жениться на Христине; он еще не женат на ней.
Все это отвратительный сон; он скажет... Но чей-то го-
лос звенел у него в ушах, повторяя: «Ты не можешь,
не можешь, не можешь».
— Неужели не могу? — простонал про себя не-
счастный.
— Нет, — сказал безжалостный голос. — Ты не мо-
жешь. Ты — человек женатый.
Он забился в дальний угол кареты и впервые по-
стиг всю несправедливость английских брачных зако-
нов. Но он купит сочинения Мильтона и прочтет его
памфлет о разводе. Быть может, удастся достать эту
книгу в Ньюмаркете» (С. Батлер. Путь всякой пло-
ти, гл. XIII).
Едва ли не каждый оборот в этой сцене, изобра-
жающей первые совместные шаги супружеской четы,
без любви соединенной, первые мысли незадачливого
супруга, общий трагикомизм ситуации, сцене, умещаю-
щей и чудаковатые фигуры образцовых англичан, за-
коренелых последышей «викторианства», их убогость,
круг их понятий, и тут же — блестящую фигуру авто-
ра,— едва ли не каждый оборот здесь дает в намеке
новый повествовательный принцип. Читатель, привык-
ший к диккенсовской повествовательной интонации,
втянутый в ритм известной плавности, будет поначалу
смущен прерывистостью, быстрыми, никак не подго-
товленными смещениями. Однако затем, присмотрев-
211
шись, он уловит, что за вместимость обнаруживается
в стиле благодаря вольному скольжению авторского
взгляда. Эта повествовательная свобода не ограниче-
на лишь формальными границами. Прием передает
склад мировосприятия. Взгляд на вещи стал подвиж-
нее, поскольку были отброшены тенденциозные непре-
менности, соблюдение которых в предшествующую пору
представлялось существенным. Этот взгляд более, чем
у «викторианцев», свободен, более, чем у Диккенса,
резок в скептицизме и отрицании.
Было бы принципиальной ошибкой из этого проти-
вопоставления делать вывод, что Батлер, продвинув-
шийся в чем-то важном вперед по сравнению со своим
великим предшественником, стал «выше» его и оказал-
ся значительнее. Ни Батлер и никто из его английских
современников не встал рядом с Диккенсом, не под-
нялся до этой вершины.
«Мы можем представить себе св. Павла или даже
самого господа испивающими чашечку чая, но нельзя
и помыслить их с папиросой или с глиняной трубкой
в зубах». В библейские времена «нельзя помыслить»,
потому что «табак» (чай тоже, — М. У.) тогда еще не
был известен». У Диккенса — по иной причине: он не
мог или не считал для себя или читателя возможным
помыслить о литературном портрете всевышнего с не-
обычной бытовой деталью, разрушающей его канониче-
ский облик. Батлер мыслил об этом сам и хотел побу-
дить мыслить об этом других. Одна эта способность
мыслить дерзко о самом господе боге позволяла ему
еще более дерзко думать о его служителях и рисовать
их в сатирическом виде тем же лаконичным способом,
смещая возвышенное с привычного места необычным
движением простой детали. От только что приведен-
ной цитаты естественно и легко протягивается нить
к одному из лучших в романе обличительных мест —
к описанию воскресного вечера в доме «образцового
священника» Теобальда Понтифекса, родителя героя
романа Эрнеста Понтифекса К
Четырехлетний Эрнест не может произнести твер-
дое «к» и вместо того, чтобы сказать come, говорит
turn.
1 На эту сцену нередко ссылаются критики и литературоведы.
«Удачной во всех отношениях» считает ее, например, А. Кеттл
(см. его «Введение в историю английского романа». М., Прогресс,
1966, с. 256—258).
212
«Эрнест, — сказал Теобальд со своего кресла перед
огнем, где он сидел, сложив руки, — не думаешь ли
ты, что было бы очень мило с твоей стороны говорить
come, как все люди, вместо turn?
— Я говорю turn, — возразил Эрнест, воображая,
что сказал come.
Теобальд в тот же миг заметил, что ему не пови-
нуются. Он встал с кресла и подошел к фортепьяно.
— Нет, Эрнест, — сказал он, — это не так: ты гово-
ришь turn, а не come. Теперь повтори come за мною,
как говорю я.
— Turn, — сказал Эрнест тотчас же. — Так лучше?..
— Вот что, Эрнест, ты не хочешь сделать усилия,
ты не стараешься так, как тебе бы следовало старать-
ся. Давно пора тебе научиться говорить come. Ведь
Джо может сказать come, — не правда ли, Джо?
— Да, могу, — ответил Джо и сказал нечто весьма
похожее на come.
— Итак, Эрнест, ты слышал. Тут нет никакой
трудности. Теперь соберись с духом, подумай и повто-
ри за мною come.
Мальчик помолчал несколько секунд и затем опять
сказал: turn.
— Хорошо, Эрнест,— сказал отец, гневно хватая его
за плечо. — Я сделал все от меня зависящее, чтобы по-
щадить тебя, но если ты непременно хочешь, пусть бу-
дет по-твоему. — И он потащил из комнаты маленького
преступника, заранее плакавшего от страха. Прошло
еще несколько минут, и мы услышали визг, доносив-
шийся из столовой в гостиную через залу, и поняли,
что бедному Эрнесту досталось.
— Я велел ему лечь в постель, — сказал Теобальд,
вернувшись в гостиную. — А теперь, Христина, я по-
лагаю, мы можем созвать слуг для вечерней молитвы.
И он позвонил в колокольчик рукой, еще красной от
битья».
Краткий эпизод, воспроизведенный здесь с неболь-
шими сокращениями, — и в самом деле превосходный
образец лаконичного, подвижного и многомысленного
изображения, исполненного писателем-новатором в луч-
ших традициях английской реалистической прозы. На
одной страничке обозначены: характер примерного па-
стыря, его логика, способ аргументации, образ дейст-
вий по отношению к своим ближним, действий, совер-
шаемых, по его убеждению, ради их же блага и во имя
213
высшей справедливости. Законченность и специфиче-
скую содержательность изображению придает заключи-
тельный штрих, проведенный отточенным батлеровским
пером: «И он позвонил в колокольчик рукой, еще крас-
ной от битья». Каждое слово употреблено в своем бук-
вальном значении, без нажима и украшения, как бы
с единственной целью передать в наиболее сжатой
форме простую информацию. Однако, осмысленные
в контексте всего эпизода, слова эти сильно действуют
на воображение и четко выражают суждение и эмоции
автора, его гневную оценку.
Лаконизм выразительной детали — важное свойство
батлеровской манеры письма. Глиняная трубка в устах
господа бога и красная от битья рука его «образцово-
го» служителя возникают *в одной и той же системе
размышлений художника, хотя эти размышления раз-
ны по глубине и серьезности. В первом случае дерзкая
и убежденная в своей правоте мысль озорует, во вто-
ром— она по-философски серьезна, излагает выводы
из тщательного анализа существенных фактов и дела-
ет это с сознанием своей меры ответственности.
В отличие от Мередита, Батлер не мозолит глаза
какой-нибудь одной деталью, но, как и Мередит, пред-
почитает обратиться к рядовому событию или проис-
шествию, к бытовой или психологической мелочи, чтобы
через незамысловатую деталь раскрыть целостное яв-
ление, систему привычек, поступков, убеждений, вполне
определившуюся и в мелочах обнажающую свою суть.
Батлер тоже любит фиксировать обмолвки и описки
и в разительных случаях всякое лыко ставит в строку.
Однако прямому или косвенному изображению он не-
редко предпочитает «замечания» и «примечания», крат-
кий комментарий вслух и про себя. «Я заметил, что Тео-
бальд молит бога сделать нас «истинно честными и
добросовестными во всех делах наших», и посмеялся
втихомолку над самовольным добавлением слова «истин-
но». Казалось бы, стилистическая «мелочь», словесный
нажим, свидетельствующий о напыщенном красноречии
ревностного священнослужителя, но в самых этих ри-
торических мелочах Батлер видит выражение психоло-
гической фальши и девальвации высоких слов и по-
нятий.
Самюэла Батлера иногда называют «последним вик-
торианцем», а иногда «первым антивикторианцем». Тут
в наименованиях «первый» или «последний» следует ви-
214
деть подмеченные с различным пристрастием очертания
переходной фигуры.
Самюэл Батлер (1835—1902) вырос в семье, уклад,
убеждения которой вполне отвечали духу викториан-
ского процветания. Дед Батлера дослужился до еписко-
па, отец был священником, и самому ему прочили ду-
ховный сан. Некоторое время Батлер был помощником
пастора; в Кембридже получил вполне викторианское
образование. Родителями Батлера, его воспитателями,
окружением было, казалось, предпринято достаточно,
чтобы замкнуть умонастроение будущего литератора
в рамках определившейся системы идейных и нравст-
венных норм. Однако взгляды Батлера развились и
сложились иначе.
«Викторианство», как уклад жизни, успело к годам
его сознательной молодости созреть, и Батлер наблю-
дал своеобразное расслоение: выделилась, отстоялась,
зачерствела оболочка из непреложных религиозных
догм, непререкаемых мнений по части быта, морали
и государственных устоев — все это по-своему при-
стойно и благоразумно. Соткался покров, под которым
таился, в свою очередь, закосневший общественный
организм, лишенный пристойности и не знавший, кро-
ме наживы, иных действенных стимулов. У Батлера
оформляется своя система или, вернее, антисистема
воззрений, где находят последовательное сцепление вос-
поминания его мучительного — под гнетом достославной
«семейственности» — детства, иссушающие годы учения
в Кембридже, более поздние горькие жизненные на-
блюдения. Он, по принятым меркам и понятиям, полу-
чил все — воспитание, образование, средства, и в то же
время все это, за исключением душевной боли, ничего
ему не приносило. Каждое из преимуществ оборачива-
лось парадоксальным образом против него и, естест-
венно, обостряло в отношении к окружающему чув-
ство безнадежной иронии, начиная с насмешливо-скорб-
ного замечания: «Я родился от богатых, но бесчестных
родителей...»
Батлер, «викторианством» выращенный, его же соб-
ственный враг, враг внутренний, хорошо знающий
скрытую от сторонних нападок механику обработки че-
ловеческих натур в нужном духе. Враг не мелкого
пошиба или временного недовольства, но высокого умо-
борческого пафоса. Творческая деятельность Батлера
движима стремлением пробить коросту, стиснувшую со-
215
знание его соотечественников. Сама жизнь его с долго-
летним отшельничеством — пионерством в Новой Зе-
ландии, затем одинокое лондонское затворничество,
почти свободное от деловых и даже дружеских связей —
это была своего рода попытка преодолеть рутину уста-
новленного долженствования в отношении семьи, об-
щества и государственной службы. Батлер стремился
расшевелить умы, указывая на парадоксальную непра-
вомерность принятых воззрений. Он вторгался в самые
различные области — спорил с религией, полемизировал
с дарвинизмом, занялся изучением и переводом древ-
негреческого эпоса, а затем написал исследование, в ко-
тором причудливо доказывал, будто автором «Одиссеи»
была женщина, выпустил книгу «Пересмотр сонетов
Шекспира» (1899)... Он был занят постоянным «пере-
смотром» общепринятого, устоявшегося.
Решительным этапом этого «пересмотра» оказался
его сатирический роман «Едгин» (1872), в котором,
начиная от заголовка, представлявшего обратное чте-
ние слова «Нигде», точнее сказать анаграмму англий-
ского Nowhere, все было показано в перевернутом виде.
Едгин, как и Утопия Томаса Мора, — неведомая страна,
с той принципиальной, в сравнении с Утопией, разни-
цей, что нравы и установления едгинян не претендуют
на идеальную образцовость, а, напротив, в прозрачном
подобии или приумножении повторяют викторианское
общество.
Репутация Батлера утвердилась посмертно. Посмерт-
но, в 1903 году, было издано его основное произведе-
ние— роман «Путь всякой плоти», над которым он ра-
ботал более десяти лет (1872—1885).
О романе «Путь всякой плоти», характеризуя его
жанровые особенности, можно сказать словами Салты-
кова-Щедрина: это «произведение семейственности».
Семья представлена здесь как оплот жизни, однако —
в противоположность развитой английской традиции —
в совершенно отрицательном смысле. «Реальное тело
семьи» (Маркс) держится, но внутренняя ее связь утра-
тила основную силу и не столько скрепляет, сколько
давит и калечит молодую поросль.
«Путь всякой плоти» — семейная хроника. Она охва-
тывает целое столетие, простираясь от конца XVIII ве-
ка до 80-х годов прошлого века. От поколения к поко-
лению семьи Понтифексов неторопливо и мерно, лишь
с некоторым пространственным преимуществом в поль-
216
зу младшего, самого близкого ему возраста, переходит
автор. Повествование идет от лица литератора, некое-
го мистера Овертона, наделенного биографическими
чертами Батлера. Повествователь делает всего лишь
беглые ссылки на исторические события, и легко может
показаться, что история в романе идет сама по себе,
а жизнь Понтифексов и героя книги — вне связи с нею:
жизнь четырех поколений не отражает больших собы-
тий и не освещается их опытом. В то же время нетруд-
но заметить, что смена поколений не проходит бесслед-
но для этого английского семейства: одни бытовые и
психологические черты в нем утрачиваются, другие
обретают силу и становятся живучими. Понтифексы, из
самой груди которых, казалось, исторгся девиз «мой
дом — моя крепость»,* и в самом деле могут думать,
что законы «семейственности» превыше законов исто-
рии. Но совершающиеся в их среде перемены говорят
о другом.
Первого Понтифекса, сердечного и трудолюбивого
плотника Джона, окружает обстановка патриархальной
непритязательности и простоты. Она уступает место
предпринимательской изворотливости, когда начинает
действовать его сын Джордж. Все душевные интересы
и силы этот хваткий делец и приобретатель подчиняет
карьере и материальному благополучию. «У него,—
отмечает повествователь, — было необычайно сильное
и здоровое чувство meum (мое) и настолько слабое
чувство tuum (твое), насколько это вообще возмож-
но». Джордж становится главой крупной издательской
фирмы, наживающейся на издании религиозных книг.
Теобальд Понтифекс, сын Джорджа, формируется в бес-
смысленном подчинении его деспотической воле.
То, что в характере Джорджа возникло как следст-
вие жестокой борьбы за материальный успех и могло
служить средством к цели, в его сыне закрепляется
под давлением и становится для него самоценным. Тео-
бальд тиранит своего сына Эрнеста уже по традиции,
гнет и ломает его душу из принципа и убеждения —
принципа ложного, убеждения ханжеского и самодо-
вольного.
На эту традицию педантского и самодовольного ка-
лечения юных душ «во имя», «на благо» и в подража-
ние— во имя омертвевшего принципа, ради мнимого
блага истязуемого и в подражание образцам дутого
совершенства, Батлер обрушивается с неудержимой,
217
но отнюдь не слепой яростью. Предметом его анализа
и оценки служат не просто разительные факты и слу-
чаи, а факты и случаи, построенные в систему, просле-
женные во взаимосвязях. Он пишет не об уродливых
отклонениях от образца: сам образец в его реальном
виде выступает у него как уродство. Теобальд Понти-
фекс в той же мере образцовая модель сельского свя-
щенника, в какой сэр Уилоби Паттерн — пример ари-
стократа: оба они в своем окружении слывут за идеал
джентльмена. По нравственным меркам церковников
его времени Теобальд Понтифекс — исполнительный и
преданный ревнитель, ревнитель вероучения и религи-
озной нравственности, добросовестный пастырь и доб-
родетельный супруг. В его облике и служебных отправ-
лениях нет ничего такого, что бы равняло его с дик-
кенсовскими монстрами — истязателями и ханжами.
В смене его настроений как-то невольно дает себя
знать остаточный дух человечности, загнанный в под-
сознание. «В воскресные вечера Теобальд всегда бывал
в очень дурном расположении духа. Потому ли, что
в эти дни им особенно докучают соседи, или потому,
что они устали, или по какой-нибудь другой причине,
но только духовные особы редко бывают в хорошем на-
строении в воскресные вечера». Особый интерес пред-
ставляет в данном случае «другая причина», которую
нащупал и которой серьезно занят батлеровский пси-
хологический зонд. Человечность, гонимая и истребляе-
мая сознательным небрежением и служебным ревни-
тельством, мстит за себя, вызывая «дурное расположе-
ние», «какую-то злость» и готовность выместить ее на
своих ближних, что и делает Теобальд в достопамят-
ный воскресный вечер, вымещая неосознанную злобу
на хилой спине Эрнеста.
Примерный духовный пастырь, несмотря на свою гу-
манитарную просвещенность, в силу взятой на себя
роли и повседневной механики ее слепого и ревностно-
го исполнения оказывается сущим истязателем и хан-
жой, воплощением жестокого и самодовольного педант-
ства. Батлер обрушивается не на одни лишь случаи,
формулы и авторитеты, но и на укоренившуюся систе-
му взглядов, на принятую и распространенную мораль,
на социальные институты — церковь, семью, школу,
брак — обрушивается с иронической и сатирической
язвительностью, напоминающей то о Стерне, то о
Свифте.
218
Батлер не был первым, кто схватил «викторианское
самодовольство за глотку и потряс его» К Он сделал
это вслед за Мередитом, наблюдая, как самодовольство,
поощряемое лицемерием, куражилось над элементарным
благоразумием. Но он был первый английский писатель
новейшего времени, кто столь методически и решитель-
но начал встряхивать и прочищать мозги, ломая их
приверженность религии и церкви. Мередит вовсе не
брал на себя этой задачи, вероятно, потому, что его
лично она не занимала. Сам он не мучился религиоз-
ными вопросами и не писал о том, что не трогало
близко его сознания. Судьба не связала его, как Бат-
лера, с церковной средой, ему не было прямой нужды
разбираться в противоречиях библейских текстов, в ре-
лигиозных спорах и церковных контроверзах. Перефра-
зируя известное изречение Вольтера, Пристли отметил
важную черту мироощущения Мередита — «чистого
язычника»: «Если бы не было эволюции, ему пришлось
бы ее изобрести. В этом, — пишет далее Пристли,—
заметная разница между Мередитом и его современни-
ками. Для них эволюция явилась чем-то вроде слаби-
тельного, которое надо было либо проглотить, либо вы-
плеснуть; принимали они его или отказывались при-
нять, они всегда чувствовали себя неуверенно» наедине
с природой и старались улучить минуту, чтобы шмыг-
нуть под кровлю. «Вот почему остается впечатление,
что многие из них живут в замкнутой вселенной, осве-
щенной газовым светом», в то время как у Мередита,
который непринужденно принял дарвиновскую теорию
эволюции и «не был счастлив, если не говорил о При-
роде», у Мередита в его книгах «мы чувствуем впер-
вые в викторианской литературе, что светит солнце и
дуют ветры». И в самом деле, известная изначальность,
органичность независимого философского сознания за-
метно выделяла его среди современников в переходный
период.
В отличие от Мередита, Батлер выстрадал свою сво-
боду от религии и свой скепсис. Он перенес тяжелую
болезнь сознания, когда у него рушилась традицион-
ная система воззрений и он заново конструировал свои
убеждения. В этом смысле Батлер — гораздо более
знаменательное явление «рубежа веков», чем Мередит.
В значительной мере потому, что так дорого досталась
1 Jo ad С. Е. Samuel Butler. L., 1924, p. 16.
219
ему свобода мысли, Батлер не мог освободить свой
роман от богословской темы, заполнившей многие его
страницы. Художественный текст он перебивает иро-
ническим богословским трактатом, прослеживая эво-
люцию религиозной мысли в Англии XIX века, борьбу
церковных партий, проблемы библейской и евангель-
ской критики: «Здесь надо вспомнить, что 1858 год был
последним годом того периода, в течение которого
внутренний мир англиканской церкви странным обра-
зом оставался нерушимым. Между 1844 годом, когда
появились «Следы творения», и 1859 годом, когда «Опы-
ты и обозрения» отметили начало той бури, которая
разразилась несколько лет позднее, в Англии не издано
было ни одной книги, которая вызвала бы серьезное
волнение в лоне церкви...» (гл. XLVII) —и т. д. Все это
сказано в расчете на осведомленного и заинтересован-
ного читателя. Этому читателю не надо было объяс-
нять, что «Следы творения» — анонимно вышедшая кни-
га, которая содержала популярное изложение достиже-
ний геологии и палеонтологии, опровергавших библейские
легенды о сотворении мира, а «Опыты и обозрения» —
сборник статей нескольких авторов, которые отрицали
боговдохновенность Библии и указывали на необходи-
мость исторического изучения библейских текстов.
Пожалуй, не трудно в самой личности и биографии
Батлера найти объяснение его пристрастия к богослов-
ской — точнее сказать, антибогословской — теме и его
манере соединять роман с трактатом. Он сам подска-
зывает возможность такого объяснения, последователь-
но излагая историю жизни и творческих исканий свое-
го героя, в котором воспроизводит многие черты соб-
ственного облика. Эрнест Понтифекс упорно изучает
богословские, метафизические и ученые сочинения сна-
чала с целью проверить достоверность Моисеевой кос-
могонии и этики, а затем для того, чтобы создать соб-
ственную систему устойчивых воззрений. «Когда я,—
говорит повествователь, — умолял его сделать пробу
пера над какой-нибудь изящной, грациозной повестуш-
кой, исполненной таких вещей, которые люди знают и
любят больше всего, он немедленно принимался рабо-
тать над трактатом об основах, на которых покоится
всякое верование». Батлер мыслил себя больше иссле-
дователем, теоретиком, пубчицистом, чем художником.
Он увереннее чувствовал себя, когда брался за трак-
тат, а не за роман, и вовсе не был склонен писать ход-
220
кие повестушки. Однако то, что у Батлера могло быть
по преимуществу выражением склада ума и дарования,
явилось в переходное время заметной чертой литерату-
ры, особенно жанра биографического романа, когда,
опять-таки вслед за Мередитом, в нем обнаружилась
ощутимая потребность слить философскую мысль с
художественной.
На Мередита и Батлера мог оказывать и оказывал
влияние, поддерживая эту потребность, ранний Томас
Карлейль, который в своем «Sartor Resartus», в жанре
вымышленной биографии, слив философский трактат
с романом, дал оригинальный образец романа-памфле-
та. Сам тип карлейлевских памфлетных сравнений бли-
зок повествовательной манере Батлера, когда он пере-
ходит на тон иронии или сатиры.
«И что всего достойнее замечания, эти речи исходи-
ли из головы, по-видимому, не более в них заинтересо-
ванной, не более их сознающей, чем изваянная из кам-
ня голова на каком-нибудь общественном фонтане,
которая, сквозь вставленную ей в рот медную трубку,
извергает воду достойным и недостойным, не заботясь,
берут ли ее для приготовления пищи или для тушения
пожаров, и даже сохраняя тот же серьезный, внима-
тельный взгляд, течет ли вода или нет» К
Этот тип уподобления по контрасту с острокомиче-
ским эффектом и в самом деле близок Батлеру, он при-
емлет его, разнообразит и вместе с тем обновляет,
применяя способ литературного монтажа, как в том
случае, когда, нарушая библейский канон, вложил ку-
рительную трубку в священные уста.
«Путь всякой плоти» — тоже в своем роде роман-
памфлет, в той части, где антибогословский трактат и
гротесковое публицистическое повествование оттеняют
достоверное художественное изображение. Пространные
рассуждения об эволюции и состоянии англиканской
церкви узкоспециальны и, как ни потребны они были
автору, кажутся в романе, даже в романе-памфлете,
инородными. Другое дело те же церковные движения и
контроверзы, представленные в лицах, в столкновении
характеров. Батлер останавливает внимание на реакци-
онных попытках английских церковников преодолеть
обострившийся кризис христианской идеологии путем
создания замкнутой и сильной касты, готовой пойти на
1 Карлейль Т. Sartor Resartus. М., 1904, с. 19.
221
компромисс с наукой и с римской католической цер-
ковью, с тем чтобы использовать ее организационный
опыт активного воздействия на массы. В романе воз-
никает эпизодический, но запоминающийся образ «ре-
форматора» Прайера, демагога и авантюриста, который
вдохновляет Эрнеста Понтифекса основать на его день-
ги «колледж духовной патологии, где молодые люди...
могли бы изучать свойства греха и способы его изле-
чения так, как студенты-медики изучают телесные неду-
ги своих пациентов».
Несмотря на специфичность и локальность конкрет-
но-исторической ситуации, действующие в ней лица,
даже эпизодические — Прайер, евангелический пропо-
ведник Гедеон Хаук, студент-симеонист Бэдкок — при
всей гротескности их фигур, обрисованы с психологиче-
ской убедительностью, выражают типические черты
деловито-авантюристического, восторженно-делового или
восторженно-фанатичного карьеризма, эксплуатирующе-
го высокие идеи и слепую веру.
Никто из современников Батлера не обсуждал с та-
кой крайней резкостью проблему отцов и детей, как
это делал он, автор романа «Путь всякой плоти». Бат-
леровская ересь выступает обычно в форме ирониче-
ских или язвительных парадоксов; столь же ирониче-
скими или язвительно-вызывающими были его пара-
доксальные аргументы: «Человек впервые начинает
ссориться со своим отцом приблизительно за девять ме-
сяцев до своего рождения. Именно тогда он требует,
чтобы ему дали возможность устроиться по-своему.
И после этого, чем полнее бывает окончательный раз-
рыв, тем лучше для обеих сторон». Повествователь
мистер Овертон проповедует идею «окончательного раз-
рыва», и у героя, им опекаемого, «желание окончатель-
ного разрыва», после колебаний и мучительных сомне-
ний, разрастается «до размеров чего-то похожего на
страсть», и он мечтает о «блаженстве» библейского ца-
ря Мелхиседека, «который родился на свет сиротой, без
отца, без матери и без предков».
Той же крайностью выводов и парадоксальностью
аргументов отмечено обсуждение в батлеровском рома-
не институтов семьи и брака. Исходную причину цело-
го комплекса душевных травм и мук, повлиявших на
всю его жизнь, герой связывает с семьей, с выработан-
ной в ней традицией удушающей опеки и давления на
юные создания. Этой опекой и давлением он объясня-
222
ет свою неспособность примениться к обстоятельствам,
действовать осмысленно и уверенно, испытываемую им
горечь ложного стыда и нелепость многих своих поступ-
ков. Тезис — «современная семья представляет собой
пережиток» — он формулирует, побуждаемый личным
горьким опытом и накипевшим возмущением, подкреп-
ляя его ссылками на естественный закон: «Несомненно,
самой природе не свойственна постоянная склонность
к семейной системе. Проведите всеобщее голосование
среди биологических форм, и вы увидите, что система
эта останется в меньшинстве, ничтожном до смешного».
Казалось бы, не может быть двух мнений относи-
тельно позиции героя, повествователя и самого автора,
когда они ведут обсуждение всех этих вопросов.
И все же в случае с Батлером требуется особая
осмотрительность при выработке твердого и убедитель-
ного вывода. Во-первых, герой, повествователь и автор,
при всей близости их точек зрения, не одно лицо; во-
вторых, «материал обсуждения» шире крайних и кате-
горичных суждений, которые высказывает Эрнест Пон-
тифекс или мистер Овертон; в-третьих, нельзя не учи-
тывать склонности Батлера к мистификации и его на-
мерения эпатировать читателя.
Если те же «проклятые» для Батлера и его героя
вопросы отношения поколений, семьи, брака рассмот-
реть в сложном контексте всего романа, то крайние и
категоричные по ним суждения утратят прямолиней-
ность и однозначность.
«У Шекспира отцы и сыновья большей частью бы-
вают друзьями и зло дошло до последних пределов
мерзости не раньше, чем пуританизм приучил людей
видеть в библейских идеалах тот образец, которому мы
должны по возможности подражать в нашей повседнев-
ной жизни».
Очевидно стремление автора подойти к обсуждае-
мому явлению исторически и указать на причины и
следствия. «Церковный катехизис много виноват в дур-
ных отношениях, обычно существующих между родите-
лями и детьми». В семействе Понтифексов церковный
катехизис со временем начисто вытеснил естественность
и благоразумие из отношений родителей и детей. Это
пример обычного, возведенного Батлером в степень ти-
пического. Но он знает и другие примеры, опровергаю-
щие всевластие церковного или иного какого мертвя-
щего катехизиса. Контрастный пример, мелькающий
223
на страницах романа, представляет трудовая семья
лодочника, которому Эрнест отдает на воспитание сво-
их детей. Она обрисована в самых общих чертах, это
всего лишь намек на иной образец, но намек этот есть
и вынужден обратить на себя внимание.
В самой манере обсуждения сложных и наболевших
проблем у Батлера нередко сказывается раздраженная
и язвительная рефлексия, ошеломляющая бравада, воз-
буждаемая горечью перенесенного и не изжитого стра-
дания.
«В самом деле, почему поколения должны перепле-
таться одно с другим? Почему не складывают нас, буд-
то яйца в уютных маленьких келейках, завернутыми
в банкноты Английского банка—тысяч этак по десять
или по двадцать на брата? И почему не пробуждаемся
мы, как оса, которая узнает, что ее папа и мама не
только оставили ей изрядный запас для пропитания,
но и сами были благополучно съедены воробьями за
несколько недель до того, как она должна начать жить
сознательной жизнью на свой собственный счет?»
В переплетении неожиданно хлестких риторических
вопросов глубокая мысль соединяется с болезненной
досадой, с полускрытым озлоблением, а дерзкая иро-
ния с чисто эпатирующим вызовом. Вот почему не
всегда легко различить, когда автор говорит серьезно,
когда шутит, а когда мистифицирует.. Из этого не сле-
дует, что столь же трудно различить основное направ-
ление его критической мысли, оно прочерчено рельефно
и без колебаний.
Хроника Понтифексов вполне семейная, вполне част-
ная, вполне обычная, однако она прослежена с неза-
урядным умом и талантом, что придает ей широкую
значимость: занявшись сугубо бытовой сферой, Батлер
обнаружил на этой ткани явственные симптомы сквоз-
ной гнилости. В романе попадается минутная, без наро-
читости аллегория. Повествователь, слушая семейную
молитву и наблюдая поразительную безучастность всех
присутствующих к обряду, вспоминает виденных им
однажды пчел, которые приняли рисованные на обоях
цветы за настоящие и тщетно ползали по ним в поисках
нектара.
«Когда я вспоминаю, — заключает Батлер, — о се-
мейных молитвах, которые повторяются утром и вече-
ром, из месяца в месяц, из года в год» — а к молитвам,
следуя авторской логике, можно прибавить множество
224
других с таким же механицизмом совершаемых граж-
данских, государственных, общественных отправлений,
освященных громкими фразами, — «мне трудно отде-
латься от мысли, — продолжает автор, — что они похо-
жи на ползание пчел вверх и вниз по стене, от цветка
к цветку, причем ни одна из пчел не догадывается, что,
несмотря на наличие столь многих прочно связанных
между собою признаков, основной признак, главная
идея может отсутствовать безнадежно, исчезнуть на-
всегда» (гл. XXIII).
Именно такое умерщвляющее отсутствие главной,
руководящей, то есть жизнеспособной, идеи и обнару-
жил Батлер в «викторианском» укладе, несмотря на
внушительный, казалось бы, ряд отдельных призна-
ков— процветание, прогресс и т. п.
Сквозь детальное описание семейной жизни при-
ходского священника Теобальда Понтифекса просту-
пает не только история злоключений его сына, но так-
же его настойчивые стремления отстоять свое «я».
Батлер по-своему и по-новому определяет субъек-
тивно-психологическую основу сопротивления «катехи-
зису», внутреннюю опору бунта против омертвевшей
системы воззрений и высвобождение из-под ее власти.
Он делает это, отвечая на свой же вопрос: почему ге-
рой его романа, инфантильный, особенно поначалу
такой робкий и хилый, почему он, выращенный викто-
рианством по образцовому стандарту, оказывается,
вопреки всем расчетам и ожиданиям, его убежденным
противником и обличителем? Если бы автор исходил
из представлений эпохи Просвещения, литература ко-
торого оказала на него влияние, если бы пользовался
ее терминологией, то, вероятно, он ответил бы опреде-
лительно и отвлеченно: причина всему природа, «естест-
венное начало», оно подготовило сопротивление услов-
ному началу и одержало над ним победу. Батлер не
отвергает идею «естественного человека», но трактует
проблему по-своему и в новых понятиях — «сознатель-
ное» и «бессознательное». Уже в начале романа, в пя-
той главе, он отмечает принципиальное значение бессо-
знательного в судьбе человека и новизну этого взгляда:
«...есть некоторая доля истины в том утверждении, ко-
торое впервые было выдвинуто в наши дни и гласит,
что как раз наши наименее сознательные мысли и наи-
менее сознательные поступки преимущественно влияют
на нашу жизнь и на жизнь тех, кто произошел от нас».
8 М. В. Урнов
225
В дальнейшем, в главе XXXI, повествователь рассуж-
дает о двойственности личности, о сознательном
и бессознательном «я», воспроизводя монолог бессо-
знательного «я» Эрнеста, которое называет себя «истин-
ным я».
Сам факт пристального внимания Батлера к бессо-
знательному указывает на его принадлежность к лите-
ратуре «рубежа веков». Теоретические размышления
писателя о роли в жизни человека неосознанных чувств
и стремлений, отражение его выводов и догадок на
этот счет в художественной практике, особенно в пред-
мете и приемах психологического анализа, вызвали
в дальнейшем большой интерес и разноречивые толко-
вания со стороны не одних только литераторов. Неко-
торые высказывания в том же романе «Путь всякой
плоти» и в самом деле могли быть использованы как
повод, чтобы отнести его автора к числу родоначаль-
ников современных форм иррационализма. В романе,
например, сказано: «Быть может, есть люди, ничуть не
зависящие от своего прошлого и своего окружения и
одаренные внутренней силой почина, не обусловленно-
го никакими предпосылками». Для самого Батлера это
был «трудный вопрос», и он предпочитал «оставить его
в стороне». В то же время он настойчиво подчеркивал
значение «предпосылок», зависимость человека от про-
шлого и окружающей среды, сложность самоопределе-
ния и задач воспитания. Ему претил упрощенный по-
зитивизм во взгляде на человека, на его биологическую
и социальную природу, и он склонен был утверждать,
что «жизнь нельзя свести к точной науке».
«О, конечно, человек гордится своей сознатель-
ностью»,— полемически и не без горькой иронии вос-
клицал Батлер. «Но как мало мы знаем наши мысли...
не наши обдуманные поступки, но наши затаенные раз-
мышления» (гл. V).
Батлер не интуицию противопоставлял разуму, а ра-
зум и здоровую интуицию — неразумию, невольному,
по невежеству или незнанию, а то и расчетливому,
лицемерному и самодовольному. Он не мирился с тем
уровнем, до которого был низведен разум в обществен-
ных институтах, на страницах печати и в житейской
практике. Достаточно сослаться на одно из его сравне-
ний, наглядных и точных, простых, даже грубоватых и
одновременно художественно изящных, чтобы почти
физически ощутить душевную оскомину, побуждав-
226
шую его отворачиваться от духовной пищи, которой
в семье и школе питали его самого и питают его героя.
«Я, — рассуждает повествователь, прослеживая эво-
люцию Эрнеста Понтифекса, — однажды видел малень-
кого жеребенка, пытавшегося есть какие-то весьма со-
мнительные отбросы и неспособного решить, годятся
они в пищу или нет... Жеребенок был бессилен само-
лично решить этот вопрос или хотя бы понять, нравит-
ся или не нравится ему такого рода корм. Я полагаю,
он понемножку раскусил, в чем дело, но с немалой по-
терей времени и с разными неприятностями, от кото-
рых один материнский взгляд мог его избавить...
Мой злополучный герой в это время чувствовал себя,
как упомянутый жеребенок или, вернее, так, как же-
ребенок должен был* себя чувствовать, если б мать его
и все взрослые кони на лугу поклялись ему, что он
пробует наилучшую и самую питательную пищу, какую
только можно найти где бы то ни было».
В этом метком сопоставлении нельзя не почувство-
вать свифтовской язвительной иронии, выраженной
с заметным чувством личной горечи автора.
Драма героя у Батлера «зачинается в семействе»,
почти «не выходит оттуда», но уже нельзя сказать, что
она «там же и заканчивается». Намечается иной путь
ее развития, путь преодоления узких семейственных
рамок. Пафосу викторианской семейственности Батлер
противопоставляет пафос личности, рвущейся к свобо-
де, стремящейся произвести переоценку ценностей и
самостоятельно определить «жизненный путь». Эта на-
правленность романа выражает характерные устремле-
ния, которые сказываются во многих произведениях
английской литературы последней трети XIX века и
более позднего времени. В романе «Путь всякой плоти»
выявились как сильные, так и слабые стороны критики
викторианской идеологии и пафоса самоутверждения
личности.
В классическом жанре семейно-биографического ро-
мана у Батлера возникает и развертывается сюжет,
определяющий длительное и острое столкновение лич-
ности и общества. Эрнест Понтифекс проходит через
искушения и нелегкие испытания, общаясь с разными
сферами частной и общественной жизни. Не столько в
силу обстоятельств, сколько в силу субъективных
устремлений, особенностей своего характера, он попа-
дает в положения, которые вынуждают его спускаться
S*
227
все ниже и ниже по социальной лестнице, так что он
получает возможность самым непосредственным обра-
зом, без туристского верхоглядства, ознакомиться с со-
циальным расслоением и взглянуть на жизнь с разных
точек зрения, не исключая состояния почти безнадеж-
ной нищеты. Несмотря на превратности судьбы, на
неожиданность и тяжесть испытаний, Эрнест Понти-
фекс не утрачивает жизнелюбия и оптимизма. Жизнен-
ный путь батлеровского героя отмечен непокорством,
дерзостью мысли, бесстрашием практического опыта.
Он и хочет и вынужден самоопределиться и самоопре-
деляется вне своей социальной среды, после серьезной
встряски. Он не мог бы обрести духовную самостоя-
тельность и независимость суждений без перемены
в условиях жизни и нравственного потрясения. Сам
сюжет романа и эволюция героя указывают на эту обя-
зательность и неизбежность перемен.
Композицию и сюжет романа «Путь всякой плоти»
определяет важная особенность в его замысле: само-
определение героя — самоопределение одиночки — про-
исходит под знаком эксперимента, направление кото-
рого и благополучный исход предрешены заданными
условиями и принятыми мерами. Завещание тетки ге-
роя Христины Понтифекс гарантирует ему, по дости-
жении известного возраста, материальную обеспечен-
ность, а ее друг и душеприказчик мистер Овертон
в критическую минуту готов выступить в роли ангела-
хранителя. Так что самые рискованные поступки Эр-
неста Понтифекса и самые тяжелые затруднения не
могут повлечь за собой роковых последствий. Он пла-
вает по бурному житейскому морю, а с ясных небес
наблюдает за ним недремлющее око всеведущего на-
ставника мистера Овертона, который, комментируя ход
событий, отстаивает, особенно упорно во второй части
романа, позицию эпикурейца и неизменного скептика.
При всей значительности эволюции героя, движу-
щим ее мотивом оказывается потребность выявления
личного призвания и самоутверждения, не преодоле-
вающего, однако, буржуазного индивидуализма.
Повествователь ведет, говоря словами Пушкина,
«разумный толк без пошлых тем, без вечных истин,
без жеманства», но в конце книги сатирический тон
снижается, ирония мельчает и тускнеет и некоторые
парадоксы и афористические высказывания, до того
острые, меткие и содержательные, оказываются легко-
228
весными, звучат игривым, даже пошловатым смешком
(«Кто, кроме пустоватого самодовольного фата, станет
намечать себе возвышенные цели или принимать бла-
городные решения». «Кто может любить человека, у
которого печень не в порядке» и т. п.).
Порой кажется, что обличительная ирония сдается
под нажимом буржуазного «здравого смысла». «Я со-
гласен, что наиболее серьезные потери, которые могут
выпасть на долю человека, касаются его денег, здо-
ровья и чести. Потеря денег хуже всего; затем следует
болезнь и, наконец, потеря чести. В этом перечне зол
потеря денег стоит на переднем месте: если человек
сохранил здоровье и деньги, то почти всегда выясняет-
ся, что потеря чести вызвана лишь нарушением каких-
нибудь пошлых условностей, а не отступлением от тех
более древних и устойчивых канонов, авторитет кото-
рых совершенно незыблем». Эти рассуждения повест-
вователя мистера Овертона воспринимаются ирониче-
ски, но история жизни его крестника Эрнеста Понти-
фекса в связи с окончанием его злоключений и наступ-
лением поры благоденствия дает основание принимать
иронический афоризм за вывод житейской мудрости.
Среди множества характеристик, доставшихся на
долю Батлера, одна из них, отличаясь несомненной ав-
торитетностью, в то же время выглядит неточной. Это
слова, отнесенные Батлером в собственный адрес. Он
как-то назвал себя «enfant terrible» — «ужасным ребен-
ком» английской литературы. Между тем это ши-
роко распространенное обозначение литературных бун-
тарей к Батлеру с его особенностями не вполне при-
менимо. Он был бунтарем и даже скандалистом, но по-
своему.
По словам Бернарда Шоу, «Батлер ненавидел из
принципа все, что не было близким ему по духу». Ка-
залось, он не ставит границ этому принципу, предпо-
читая в единственном числе держаться особого мнения.
Романы Диккенса он называл «литературным хламом»
и тем же способом мог расправиться с кем угодно.
«Он ополчался против всех авторитетов и всех кумиров
своей эпохи — против Диккенса, Карлейля, Гёте, Бет-
ховена, Вагнера, Дарвина, даже против Шекспира, Бэ-
кона, Данте и греческих трагиков. Иногда простая бра-
вада против банальности ходячих оценок звучала
в этих задорных полемических выпадах. Еще чаще их
подсказывало раздражающее сознание собственной
229
творческой индивидуальности, такой богатой, но не вы-
явленной до конца» {.
Однако бунтарство Батлера не отмечено характер-
ной для «ужасных детей» скороспелостью, импульсив-
ностью. «Ужасные дети» — это, как правило, подобно
Чаттертону и Рембо, рано созревшие натуры, мгновен-
но сгорающие; своей судьбой и своим существом, обыч-
но изломанным, они бросают вызов отторгнувшему их
обществу. В основе своей критицизм Батлера, также
необычайно резкий, вулканического накала, является
более глубинным и сознательным. Даже замедленное
признание Батлера, какое обычно не выпадает на долю
«ужасных детей», вызывающих мгновенную реакцию,
подчеркивает далеко идущий характер сделанных им
разоблачений.
Этот своевольный и разносторонний талант, ориги-
нальный мыслитель, дерзкий критик и полемист лишь
после смерти — и то не сразу — получает прочное при-
знание своих достоинств и заслуг. Признание отнюдь
не общее, как обычно бывает с классиком, и даже не
столь широкое, как может показаться при первом впе-
чатлении от издания его книг и возрастающих исследо-
ваний его творчества. Только в 20-х годах Батлеру и
его роману «Путь всякой плоти» было отведено надле-
жащее в истории английской литературы место.
Многое в судьбе Батлера можно объяснить остротой
его критики, эксцентризмом мысли и характера. Он сам
в лице повествователя на последних страницах романа
«Путь всякой плоти», рассказывая о литературной дея-
тельности героя, характеризует свою позицию, особен-
ность своего дарования и предсказывает судьбу своего
литературного наследства.
Мистеру Овертону хотелось, чтобы его крестник
«писал, как все, и не оскорблял столь многих своих
читателей; а он говорит, что так же не может изменить
свою манеру письма, как цвет своих волос, и что он
должен писать, как пишется, или не писать вовсе».
«Признают, что у него есть талант, но слишком
причудливый и непрактический, и как бы серьезен он
ни был, его постоянно обвиняют в том, что он шутит».
Он «homo unius libri», то есть человек, написавший
только одну, достойную внимания книгу. Он писал
в надежде, «что, быть может, младшее поколение ста-
сЖизненный путь». Вступительная статья, с. 12.
230
нет слушать его охотнее, чем нынешнее». Предсказание
Батлера сбылось.
«В истории английской интеллигенции Батлер игра-
ет роль своего рода Иоанна Крестителя. Влияние его
было одинаково сильно на прогрессивную и на богем-
ную интеллигенцию и на широкие слои новых поколе-
ний буржуазии вообще»1.
Для многих писателей XX века Самюэл Батлер —
как бы исходная фигура. Бернард Шоу, Ричард Ол-
дингтон, Скотт Фицджеральд ссылались на Батлера
как на авторитет и своего предшественника2. Влияние
Батлера обнаруживается в романе Герберта Уэллса
«Мир Уильяма Клиссольда», в «Клейхенгере» (1910)
Арнольда Беннетта, а также у Джеймса Джойса, Со-
мерсета Моэма, Д.Т: Лоуренса.
Сколь бы ни запоздало признание Батлера, он безу-
словно принадлежит своему времени. Более того, имен-
но он в пределах намеченного периода — один из пер-
вых.
Самюэл Батлер наряду с Джорджем Мередитом
формирует новый тип английского психологического
романа, во многом предопределяя развитие английского
романа XX века.
1Мирский Д. «Интеллиджентсиа». М., Сов. лит-ра, 1934,
с. 29.
2 «Мне особенно понравилось то место, где отец Эрнеста «от-
вернулся» (см. гл. LXXXIII. — М. У.), чтобы скрыть отсутствие
чувств. Бог мой, как точно схвачена ненависть в этих строках». «Вся-
кий молодой писатель должен прочесть «Записные книжки Батлера».—
«Letters of F. Scott Fitzgerald». № 4, 1963, p. 139.
ТОМАС ГАРДИ
(Век нынешний и век минувший)
Хотя жизнь Томас Гарди прожил долгую (он умер
восьмидесяти восьми лет), особенным долголетием он
среди английских писателей не выделяется. Более свое-
образно и существенно расположение его судьбы: годы
жизни Гарди (1840 —1928) захватили два века, они
соединяют далекие друг от друга времена. Гарди — со-
временник Диккенса, он в известном смысле и наш
современник. Первая его книга вышла более ста лет
тому назад, последняя — в конце 1920-х годов.
Томас Гарди помнил диккенсовские дилижансы, он
попал из провинции в Лондон как раз к открытию
метро. Конечно, это первозданное метро, начавшее дей-
ствовать в Лондоне с 1863 года, имело лишь отдален-
ное подобие с тем, что теперь называют «метро», или
«подземкой». И все-таки это был уже разительный
прогресс в смысле скорости и удобства передвижения.
Этот сдвиг Гарди отметил, как и множество других
в разных сферах, особенно в психологии, в быту и нра-
вах. А.-Р. Уоллес (1823—1913), старший современник
Гарди, выдающийся ученый-естествоиспытатель, наблю-
дая те же разительные перемены, изложил в книге
«Век чудес» историю XIX столетия в преломлении че-
рез личные воспоминания.
«Я помню,— писал Уоллес о днях своей молодости,—
как сотнями катились по большим дорогам, запряжен-
ные четверкой лошадей, почтовые кареты и дилижансы
с кондукторами, вооруженными трубами и рогами, в
которые они трубили всякий раз, когда им приходи-
лось проезжать город или деревню, внося этим оживле-
ние и своеобразную прелесть в тогдашнюю деревен-
скую жизнь. Ныне эти картины почти забыты».
Следя за изменением условий жизни, в том числе
за наглядным прогрессом средств передвижения, Уол-
лес стремился выяснить, как с ходом времени отзыва-
ется сознание на эти процессы, как трудно «переселить-
ся» из одной эпохи в другую. «Младшие из нашего по-
коления,— писал он, — выросшие в эпоху железных
дорог и океанских пароходов, едва ли даже могут себе
232
отчетливо представить, до какой степени глубоки и ве-
лики перемены, которые пришлось видеть и пережить
нам, пожилым людям современного поколения...»
Память Уоллеса обрывается в роковой момент —
в канун первой мировой войны: с этим окончательно
уходит в прошлое уоллесовский «Век чудес». В жизни
Гарди укладывается еще одно историческое звено:
послевоенная Англия 1920-х годов.
Гарди не просто застал «век нынешний и век ми-
нувший», он принадлежит к тому и другому веку:
в XIX столетии он опубликовал серию романов, в XX
веке — монументальную эпическую драму и несколько
стихотворных сборников.
Он видел ветеранов наполеоновских войн. Он писал
стихи в протест против первой мировой войны. Поэты
«потерянного поколения», носившие его стихи с собой
по окопам, успели вернуться с фронта, и Гарди, мож-
но сказать, встретил их новыми поэтическими сборни-
ками.
В 1919 году Гарди поставил свою подпись под ма-
нифестом «Кларте» — первого международного антиим-
периалистического объединения прогрессивных писате-
лей и деятелей культуры, созданного Анри Барбюсом.
Он входил в состав его Международного руководящего
комитета.
«По Моисею, срок нашего бытия — восемьдесят лет;
сократим этот срок, и все же, так как каждый в дет-
стве слушает рассказ деда, тоже когда-то беседовав-
шего со своим дедом, получится обхват в полтора сто-
летия...» 1 Начинающий Дж.-Б. Пристли обращался в
письмах за советами к Гарди, и автор этих строк имел
случай расспрашивать Пристли о его заочном знаком-
стве со «старым Гарди». Связь более чем косвенная,
а все-таки живая. Гарди совсем близок к нам и одно-
временно очень далек. Автор этих строк говорил о Гар-
ди с Ричардом Олдингтоном, и тот подчеркнул, что
ребенком Гарди застал сельскую Англию почти такой,
какой, в сущности, она была еще в шекспировские вре-
мена. Гарди знал «последнего йомена», между тем
уже при Шекспире быт йоменов оказался решительно
подорван, и Шекспир элегически вспоминал «старую
веселую Англию».
1 Брюсов В. Памяти. Из воспоминаний за полвека (1923).—
Избр. соч. в 2-х томах, т. 2. М., Гослитиздат, 1955, с. 515.
233
Томас Гарди — писатель переходного времени. Ка-
кой бы широтой и неопределенностью ни отличалось это
понятие, оно обозначает реальные, повторяющиеся,
разумеется, не однородные, состояния в развитии об-
щества. Всякий отрезок истории являет или таит пере-
мены, нет совершенно неподвижных десятилетий, но
переходный период обнажает кризис и демонстрирует
сдвиги. Диккенс и Теккерей, великие предшественники
Гарди, писали не только в иной период, более ранний,
они не принадлежали собственно переходному времени.
Томас Гарди начал писать и выпустил все свои ро-
маны в последнюю треть века, когда в Англии не
только наметились новые сдвиги, но и многое решитель-
но переменилось. Тот строй представлений, который
обозначали привычным наименованием «викторианст-
во», дал трещину по фасаду, и даже сочувствующий, но
не ослепленный взор не мог не замечать ее. Мередит,
Батлер, а вслед за ними Гарди оказались в ряду пер-
вых выдающихся английских писателей, кто отразил
это переходное состояние. Ряд этот не был однородным.
Особая позиция Томаса Гарди определялась связью
с сельской трудовой Англией и с тремя десятилетиями
XX века. В творчестве Томаса Гарди сошлись многие
«концы» и «начала» литературного процесса переход-
ного времени.
* * *
В ранние годы жизни Томасу Гарди казалось, что
все вокруг находится в состоянии нетронутости, покоя,
внутренней гармонии. Отчий дом, маленькое селение
Хайер-Бокэмптон, в котором он родился (2 июня 1840 г.),
примыкающая к нему вересковая пустошь и близлежа-
щий лес, точнее, остатки некогда большого леса, — все
представало ему в неизменном и давнем облике, будто
вовсе не задетом временем.
...Дрок и вереск,
Казалось, занимают все пространство
Нетронутой земли. И лишь репейник
Кивнет издалека один другому. Дуб
Раскинулся, поднявшись из зерна,
Тому сто лет оброненного птицей.
Так писал он в самом раннем из сохранившихся
стихотворений («Родное»), полный идиллической во-
234
сторженности, передавая состояние своей слитности с
устойчивым окружением. И тут же, в последующих
строках, он говорит о быстротечном времени и неот-
вратимых переменах. Однажды, «в дни давно минув-
шие», когда еще была жива его бабка и водила его
гулять, он спросил ее, как все выглядело в годы ее
юности, и услышал: «Пятьдесят лет прошло с тех пор,
дитя мое, и все переменилось».
Память удержала эти слова, они, видимо, поразили
детское сознание: Гарди пишет лаконично и многозна-
чительно: «Ответ я запомнил»1.
Неподвижность среды и созерцательный покой в
условиях «быстротекущей жизни» чреваты драматиче-
скими последствиями — эта мысль соединяется у Гарди
с элегической груствю и негодованием и как их психо-
логический источник не покидает его творческое
воображение.
За пятьдесят лет «все переменилось», и однако, в
Хайер-Бокэмптон «перемены» не сломали традиционно-
го порядка жизни и прошлое с его мощными корнями
проглядывало сквозь подновленный облик земли и
быта. Лес отступил и поредел, на диких косогорах,
некогда покрытых кустами дрока и терна, разрослись
сады и огороды, но деревня осталась деревней, сохра-
няя приметы далекой старины.
Соседняя вересковая пустошь уже не кишела змея-
ми, однако мать Томаса с тревогой вспоминала случай,
когда в колыбели будущего писателя, на груди спяще-
го сына, она увидела свернувшуюся змею.
Общий вид, дух и склад жизни изменились в Хайер-
Бокэмптон, но не настолько, чтобы образовалась брешь
между привычным вчера и движущимся сегодня.
Многие старинные обычаи и обряды еще сохраня-
лись в округе, они хорошо запечатлелись в памяти
Гарди и живо напоминают о себе в его книгах, особен-
но в ранних. Мальчишкой на сельских свадьбах и празд-
нествах— нередко до предрассветного часа — он с ув-
лечением играл на скрипке, продолжая любительскую
традицию отца и деда, о которой с веселым и лукавым
юмором рассказано в романе «Под деревом зеленым».
1 Сведения биографического характера почерпнуты в основном
из двухтомного труда Ф.-Э. Гарди, второй жены писателя.— «Жизнь
Томаса Гарди». Лондон, 1933. .
1 См.: Cecil David. Hardy the novelist. An Essay in Cri-
ticism. L., 1944, p. 148.
235
Образы этой традиционной сельской жизни в дет-
ском и юношеском сознании Гарди постепенно начина-
ют соединяться и сталкиваться с иными, для них конт-
растными.
Из уединенной деревушки, не порывая с ней, девя-
тилетний Гарди попадает в Дорчестер, центральный го-
род графства Дорсетшир: после годичного пребывания
в сельской школе его отдают в городскую. Здесь же,
в Дорчестере, он делает первые шаги на трудовом пу-
ти: с 1856 — по 1862 год проходит курс профессиональ-
ного ученичества в мастерской местного архитектора
и работает под его руководством.
В самой середине столетия из Лондона в Дорсет
протянулась железная дорога, и провинциальный быт
необычно оживился и стал преображаться. Гарди по-
чувствовал перемены и видел контраст между сельской
и городской атмосферой, тем более что почти все это
время продолжал жить в Хайер-Бокэмптон, в трех ми-
лях от города, и в течение дня из одной обстановки
перемещался в другую, каждый раз_возвращаясь в свою
деревушку, куда новшества цивилизации проникали
медленно и всегда поражали воображение.
И все же, как ни значительны были контраст и пе-
ремены, внешний облик и бытовой уклад древнего
провинциального города хранил ощутимую связь с
прошлым и устойчивую традицию, тянувшую звенья
от самой далекой старины.
Первый Гарди явился в Дорсет с острова Джерси
еще в XV столетии, он был отпрыском знатного рода
Ле Гарди. В английской и местной истории сохрани-
лись имена нескольких Томасов Гарди, от разных фа-
мильных линий, в том числе основателя Грамматичес-
кой школы в Дорчестере, жившего в шекспировские
времена, и капитана корабля «Победа», участвовавше-
го в Трафальгарской битве. Судьба рода Ле Гарди
занимала мысль и волновала воображение Томаса
Гарди — писателя. Он не раз подумывал о том, чтобы
вернуть своему имени утраченную приставку — символ
и свидетельство знатности. Замысел романа «Тэсс из
рода д'Эрбервиллей» возник и формировался не без
воздействия слышанных автором семейных преданий и
размышлений над драматической и поучительной фа-
мильной хроникой, соприкоснувшейся с историей род-
ного края и национальной историей. И психический
склад героини романа, обездоленной крестьянки Тэсс,
236
ее нервная утонченность, импульсивность, душевная от-
зывчивость и ранимость напоминают нечто в личности
самого автора, — те же черты характера доставили ему
немало тяжких и глубоких переживаний. Повышенная,
нередко крайняя чувствительность по-своему окраши-
вала его впечатления от внешней среды, стимулируя
интенсивность внутренней жизни, вызывая горестное
^желание отстраниться от всего и замкнуться, когда на
его глазах брала верх грубая сила, и одновременно
возмущение несправедливостью и порыв сострадания.
Гарди не был захвачен суетным честолюбием сре-
ды, не подхлестывала его практическую энергию воля
к самоутверждению, но стихийная жажда жизни и
сознаваемая потребность продвижения вперед застав-
ляли его действовать, делать выбор, принимать далеко
идущие решения.
В 1862 году Гарди отправился в Лондон с рекомен-
дательными письмами и выношенным решением про-
должить занятия архитектурой уже на новом, столич-
ном уровне. Он с юмором рассказывал впоследствии,
каким ободряющим словом его там встретили: «Подож-
ди, пока не побегаешь несколько недель по улицам и
у тебя локти не начнут лосниться и штаны не обтре-
пятся, будто их крысы грызли! Здесь нужны люди
практичные». Но Гарди повезло, он нашел «якорную
стоянку», устроившись помощником архитектора в ма-
стерской Артура Бломфилда, человека со связями и
видного в то время реставратора и проектировщика
церковных сооружений.
До того Гарди видел Лондон всего один раз, видел
проездом, когда ему было восемь или девять лет. Сто-
личная жизнь захватила его, удача подбадривала, все
было внове и все необычно — и темп, и шум, и пыш-
ность церемоний, и близость прославленных имен, и
живость острых разговоров, и уже открывшаяся к тому
времени «подземная железная дорога», о которой он
в 1863 году писал сестре: «Недавно испробовал — все
отлично устроено».
И все же Лондон, несмотря на обновления, оставал-
ся городом Диккенса и Теккерея. Резкие перемены в
нем начали совершаться некоторое время спустя, на
глазах у Гарди, что он невольно отметил и о чем не
преминул сказать. И сам он меняется с каждым годом
заметнее, особенно заметно со второй половины 60-х
годов, но как далеко заходят перемены и под каким
237
непосредственным влиянием — сказать трудно: многое
остается неясным из-за отрывочности и неполноты све-
дений. Однако среди доступных фактов есть немало
таких, что сами по себе выразительны и красноречивы.
За несколько дней до смерти Теккерея в 1863 году
Гарди пишет сестре: «Тебе следует почитать его. Он
считается величайшим романистом наших дней, кото-
рый видит в создании образцового романа возможность
совершенного и правдивого воспроизведения действи-
тельной жизни. С этим взглядом нельзя не согласиться.
Следовательно, именно потому, что его романы так
высоко стоят как творения Искусства и Правды, в них
часто отсутствует возвышающая тенденция, и по этой
причине, именно в силу своей правдивости, они ока-
зываются особенно неподходящими для молодежи. Го-
ворят, что Теккерей не умеет создавать идеального
мужчину или женщину, — очень плохо, если целью ро-
мана является поучение, и как раз наоборот, если ро-
ман рассматривается как изображение жизни».
За доверительным суждением и советом скрываются
энергичные размышления, видна самостоятельная ра-
бота мысли, несогласной с укоренившимся в англий-
ской литературе назидательным стандартом. Гарди на-
мечает свой путь с ориентацией на высокие образцы.
Тогда же он знакомится с нашумевшей книгой «Совре-
менные художники» Джона Рескина. Рассуждения это-
го искусствоведа, поэта, критика и философа об общих
принципах и правде в искусстве занимают его своей
широтой и смелостью, ломавшей общепринятые пред-
ставления, критикой новейшей цивилизации, сочувст-
венным отношением к патриархальному укладу. Автор
«Современных художников» не ожидает, что его мысль
будет немедленно принята, и потому обращается к до-
казательствам при помощи обстоятельного анализа.
Непривычным было его пристальное внимание к худо-
жественной технике, например, его разбор новаторской
манеры живописца Тернера, «впервые показавшего
англичанам, что Лондон — туманный город».
К Тернеру Гарди будет обращаться вновь и вновь,
развивая свой стиль динамичных пейзажных зарисо-
вок,— в романах и в своих рассуждениях об искусстве.
«Простая натуральность не привлекает более, — за-
пишет Гарди в дневнике двадцать пять лет спустя (ян-
варь 1887 г.). — Столь порицаемая, безумная манера
позднего Тернера — вот что нужно теперь, чтобы возбу-
238
дить мой интерес. Скрупулезная достоверность вещест-
венного факта утрачивает свое значение в искусстве —
это ученический стиль, стиль той стадии развития, ко-
гда дух безмятежен и нечувствителен к трагическим
тайнам жизни».
Среди книг, будораживших молодого Гарди, не мог
не оказаться новаторский, бунтарский, подвергнутый
остракизму поэтический сборник Олджернона Чарльза
Суинберна «Стихи и баллады» (1866). Он сам пробует
выступить в печати, посылает в редакции свои стихи,
но встречает отказ.
В 1867 году в промышленных городах Англии — то
там, то здесь — возникают рабочие демонстрации, про-
ходят бурные митинги. Лондон и его Гайд-парк тем
более не остаются исключением. Гарди свидетель но-
вой вспышки рабочего движения, возможно даже, он
участвует в демонстрациях или митингах. «Гарди по-
сещал радикальные собрания», — говорится в одной из
английских книг о писателе, а в другой: «Едва ли бро-
жение этого года захватило Гарди в значительной мере,
но его симпатии были на стороне рабочих, и отражение
этих симпатий заметно в его ранних, еще незрелых про-
изведениях».
Лондон, его контрасты, демонстрации рабочих, ожив-
ление радикальных настроений среди интеллигенции
переполняли Гарди впечатлениями, побудившими его
сделать решительный шаг. Он едет на родину и при-
нимается за роман с намерением высказаться без оби-
няков и в полноту накопленных сил. До того им были
опубликованы всего два шуточных очерка, интересных
сейчас только выраженной в них склонностью автора
к юмору, ничем в этих маленьких вещицах не омрачен-
ному.
Первый роман Гарди под знаменательным заглави-
ем «Бедняк и леди. Написано бедняком» не появился
в свет, он утрачен, история его загадочна, особенно за-
гадочно исчезновение страниц, помешавших его пуб-
ликации. Общая характеристика рукописи, содержа-
щаяся в упомянутой биографии писателя, позволяет
судить об идейной сути романа. Это была «острая и
страстная сатира на помещичий класс и аристократию,
на лондонское общество, пошлость буржуазии и семей-
ные нравы в целом... Направленность произведения
была социалистической, если не сказать — революцион-
ной».
239
Как можно установить по сохранившимся о романе
отзывам издателя Александра Макмиллана, отклонив-
шего рукопись, и консультанта издательства Джона
Морли, писателя, редактора и критика, политическую
идею книги отчетливее всего выражал ее герой Уилл
Стронг — сын сельского труженика. В Лондоне он при-
мыкает к рабочему движению, участвует в демонстра-
ции и на Трафальгарской площади произносит обли-
чительную речь. Гарди в своих обличениях, по мнению .
того же Макмиллана, шел дальше Теккерея, критика ко-
торого «смягчающими штрихами» удерживалась в рам-
ках «благонамеренности», в то время как роман, «на-
писанный бедняком», содержал помышления «разруши-
тельного» и потому «злонамеренного» свойства.
Джордж Мередит, консультант крупного издатель-
ства «Чепмен и Холл», куда, все еще не сдаваясь, обра-
тился Гарди, посоветовал начинающему романисту не
спешить с объявлением своих симпатий и поработать
для начала над произведением с «острым сюжетом».
Гарди внял совету искушенного литератора и в декаб-
ре 1870 года отправил в Лондон «Отчаянные средства»,
свой новый роман, название которого, характеризуя сю-
жет, в известной мере дает понять, что означал для
автора этот шаг, так же как стилистическая неровность
книги обнаруживает не одни промахи его пера, но и
душевную борьбу. Гарди не решился подписать роман
своим именем, его первое издание (1871) анонимно.
Роман «Отчаянные средства» по его жанровым при-
знакам не без основания критики относят к произве-
дениям сенсационной литературы, вспоминая при этом
Уилки Коллинза, английского писателя, автора «Жен-
щины в белом» (1860) и «Лунного камня» (1868). Ход
действия у Гарди усложнен и запутан, загадочные со-
бытия наслаиваются одно на другое, не обходится и
без семейной тайны, на всем лежит зловещая тень скры-
того преступления, преступник неуловим, множатся его
жертвы, пока, наконец, не наступает час разоблачения
и напряженные розыски и преследование не устраняют
нараставшей угрозы.
Сенсационно-фабульная литература предшествовала
литературе детективной, она смыкалась с ней, подго-
тавливала ее развитие, продолжая вместе с тем и са-
мостоятельное существование. Уже Коллинз переходит
от сенсационного жанра к собственно детективному; все
же в Англии этот жанр узаконивается спустя почти
240
двадцать лет, когда Конан Дойль создает Шерлока
Холмса.
В «Отчаянных средствах», романе сенсационном, от-
четливо проступают признаки романа детективного.
Тайна обнаруживается здесь не благодаря случаю или
стечению обстоятельств, но путем розыска, изобрета-
тельной работы аналитической мысли, а в раскрытии
преступления участвует сыщик, хотя это еще эпизоди-
ческое лицо и сюжетная его роль малозначительна.
Однако и в этом романе, используя приемы сенсаци-
онного и детективного жанра, Гарди ориентируется на
социальную трактовку темы и реалистическую тради-
цию. От романиста «требуется нечто большее, чем под-
чинение простым фактам действительности», — эти сло-
ва Вальтера Скотта, «поставленные Гарди в эпиграфе,
объявляют о намеченной им или намечаемой линии.
В «Отчаянных средствах» заметны и давление об-
стоятельств, и неопытность пера. Впрочем, слабости
романа не крикливы и не назойливы, — это именно сла-
бости, а не пороки, — и своей наивной беззащитностью
способны смягчить критическую укоризну. Роман инте-
ресен сам по себе, но еще более как объявленное на-
чало большой деятельности. В нем робко, но уже на-
метилось нечто существенное из того, что со временем
разовьется в систему.
Выявился интерес к сельскому быту и народным
характерам, обозначилась главная тема и отправные
точки в поисках изобразительных средств.
Спустя некоторое время в короткий срок Гарди за-
кончил новую книгу — «Под деревом зеленым». Закон-
чил и отложил, не сделав попытки напечатать ее. «От-
чаянные средства» не оправдали авторских надежд и
расчетов, вместе с неудачей возникли сомнения в пра-
вильности определившегося было призвания, и он сно-
ва активно занялся архитектурой, на этот раз проек-
тированием школьных зданий под руководством друго-
го видного лондонского архитектора, Т. Роджера Смита.
Но сделанная литературная заявка не пропала бес-
следно, имя автора «Отчаянных средств» запомнилось
его издателю, по его просьбе Гарди выслал ему ру-
копись книги «Под деревом зеленым», небольшой по
объему, незатейливой по замыслу, но оказавшейся ве-
хой на его творческом пути. Эта маленькая книжка
открыла собой большой цикл, получивший в дальней-
шем наименование «романы характеров и среды». Наи-
241
мейованйе, заметное в истории английской литературы,
оно объединило наиболее содержательные и популяр-
ные романы писателя, кроме упомянутого, — «Вдали от
обезумевшей толпы», «Возвращение на родину», «Мэр
Кэстербриджа», «В краю лесов» и лучшие его книги —
«Тэсс из рода д'Эрбервиллей» и «Джуд Незаметный».
Все они были написаны в последнюю треть прошлого
века, выходили первым изданием с 1872 — по 1895 год,
относятся к первому периоду творчества Гарди, запол-
ненному прозой — романами и рассказами. Однако об-
лик писателя они выражают разносторонне и в самой
его сути, как никакая иная группа его произведений.
Семь романов складывались в цикл без заданного
плана, путем последовательного развития темы. В них
изображена сельская и провинциальная Англия с 30-х
по 80-е годы. События развертываются на юго-западе
Англии, почти все время в четко обозначенных грани-
цах, в краю, который называется Уэссекс. Название
это старинное: движимый национально-патриотической
идеей, Гарди привнес его из далекого прошлого — в
V—IX веках нашей эры примерно на той же террито-
рии располагалось одно из семи королевств древних
саксов, историческая основа Англии как единого на-
ционального целого.
Уэссекс, звучное наименование, давностью времени
поэтически окрашенное, в сознании англичан соединяло
настоящее, произаическое и переменчивое, с героиче-
ским прошлым, протягивая от этого истока к современ-
ности непрерывную нить; воображение будоражило
историческую память, возбуждая не только прилив на-
ционального чувства, но и потребность сопоставления
и критической проверки представлений о настоящем.
Уэссекс — небольшая замкнутая территория, и вме-
сте с тем это целый мир, причудливый на взгляд со-
временного человека, однако вполне реальный — со
своей шкалой жизненных интересов, забот и психологи-
ческих проблем, казалось бы, отживших свой век и все
же полных глубокого смысла.
Разве не чудачествами выглядят действия маленько-
го сельского хора, группки певцов и оркестрантов из де-
ревушки Меллсток, их пристрастие к струнной музыке,
их энтузиазм и особенно пафос их борьбы с органом,
проникшим в глухое местечко новшеством, которая со-
ставляет сюжетную коллизию романа «Под деревом
зеленым»? Но и эта борьба-чудачество, и вызванные
242
ею, казалось бы, игрушечные страсти неотделимы от
серьезного и значительного.
В меллстокском хоре Гарди оттеняет коллективные
начала, и сам этот хор предстает как коллективный
характер, выработанный постоянством и известной общ-
ностью условий жизни, соединенный духом товарищест-
ва, простыми и отчетливыми понятиями добра и зла.
Появление органа накаляет страсти, потому что бьет
по этому единству, нововведение поддерживает местная
верхушка, озабоченная личными соображениями: за
коллизией быта и нравов проглядывала социальная
драма. Впоследствии Гарди сам говорил, что материал
книги подсказывал ему иное решение конфликта. «Ко-
медия,— писал он, вспоминая слова Джона Рёскина,—
это трагедия, если Юлько достаточно глубоко загля-
нуть в нее».
Пока что Гарди с особой заботой и тайной надеж-
дой отмечал все то, что могло дать живое представле-
ние об эпическом состоянии общества, об его единстве.
Под небом Уэссекса порой еще действует, без скрипа
и больших неполадок, система устойчивых связей и от-
ношений, истоки которой теряются в глуби веков,
а основой служит патриархальный уклад жизни. Гарди
казалось, что этот уклад еще не изжил себя, что в нем
сохранилась опора для здоровой социальной общности
и единства, без уравнительности и без резких конт-
растов. Он поэтизировал крестьянско-фермерский быт
и мучительно расставался с утопическими надеждами
и социальными иллюзиями. Но патриархальный уклад
разваливался на глазах писателя, в Дорсетшире исче-
зали его остатки и рушился державшийся на нем устой-
чивый строй представлений, отразившийся на складе
речи, в обычаях, обрядах, преданиях, легендах, напо-
минавших о далеком, далеком прошлом — о золотой
поре йоменри, независимых землепашцев XIV—XV ве-
ков, о шекспировских временах — словом, о «старой
веселой Англии».
Трагедия Уэссекса, вызванная напором капитализ-
ма, последовательно раскрывается в романах «харак-
теров и среды». Показывая, как и при каких обстоя-
тельствах разрушаются традиционные формы связей
в сельской и провинциальной Англии, как и при каких
обстоятельствах исчезают последние островки патриар-
хальной жизни старой деревни, Гарди делает широкие
обобщения — подводит разносторонние итоги длитель-
243
ному процессу ее ликвидации, насыщенному драмати-
ческими событиями. Разрушать старую деревню начали
в период первоначального накопления, еще в средние
века, помещики, а завершили этот процесс капитали-
сты уже в иных условиях — не только полного торжест-
ва буржуазных отношений, но и их кризиса, в условиях
становления империализма.
Для Гарди сельская, точнее сказать, крестьянская
тема — главная и основная в его творчестве, нечто очень
личное, как бы часть его собственной жизни. С этой те-
мой Гарди удалось связать проблемы национальной
истории и народной жизни. Крушение в деревне мел-
кобуржуазных патриархальных устоев и последний его
эпизод — превращение оседлых батраков и коренных
крестьян-арендаторов в батраков бродячих — для него
не отвлеченная социологическая формула, за ней он
видит борьбу интересов, горение страстей, изломанные
человеческие судьбы, страдания обездоленных, кровь
и слезы из века в век по пути прогресса. Для него
вместе с тем это широкая проблема коренной смены
условий жизни, социальная и философская, смены, ко-
торая влечет за собой неожиданные последствия, не-
предугаданные нравственные и психологические конф-
ликты, не одни приобретения, но и утраты. Его волнует
в этом движении судьба народа, положение трудового
человека и вместе с тем судьба человечности. Поэтому,
отражая настроения сельских тружеников, лишенных
работы и крова, выброшенных из родных мест, он так
резко ставит «проклятые вопросы» и обсуждает их
с горячностью и остротой.
Английский идеал уюта представляется Гарди по-
своему, не как передышка и отдохновение от социаль-
ной стихии в уединении замкнутого семейного мирка,
а как идеал общей деятельности и общего досуга и
увеселения в духе шекспировской утопии Арденнского
леса (из комедии «Как вам это понравится»), где че-
ловеку противостоит только стихия природы. Подобный
идеал коллективного патриархального уюта он рисовал
не раз: в «идиллии» «Под деревом зеленым», в романе
«Вдали от обезумевшей толпы» и даже в «Тэсс из рода
д'Эрбервиллей», предпоследнем романе цикла. Он же
писал об уничтожении этого идеала, питавшей его поч-
вы и живых его проявлений «обезумевшей толпой», —
так, повторяя слова поэта Томаса Грея, выражал Гарди
свое отношение к буржуазному хищничеству, проник-
244
шему и «под дерево зеленое». В противоположность
теме уюта, в цикле его романов последовательно раз-
вертывается тема бесприютности как трагического со-
циального и психологического состояния. Бесприютна
несчастная девушка Фанни Робин («Вдали от обезу-
мевшей толпы»), бесприютен батрак Майкл Хенчард
(«Мэр Кэстербриджа»), «последний йомен» Джайлс
Уинтерборн («В краю лесов»), батрачка Тэсс и камне-
рез Джуд Фаули. «Чисто английский» идеал уюта —
злая издевка над их трагическим уделом, выражение
цинического безразличия удачливых и сытых к жерт-
вам капиталистического прогресса, — Гарди делает эту
мысль наглядной и кричащей о несправедливости.
Назвав цикл своих лучших романов «романами ха-
рактеров и среды», Гарди как бы формулой обозначил
избранный им принцип художественной трактовки яв-
лений— через характеры и среду в их отношениях.
«Среда» у Гарди — это уклад жизни, условия существо-
вания в широком смысле, а также конкретные обстоя-
тельства, воздействующие на личную судьбу. Сила и
новизна Томаса Гарди сказывалась, в частности, в его
стремлении и умении проследить всесторонне и как
можно глубже связь характера с окружением локаль-
ным, оставившим на нем неизгладимую печать. И вместе
с тем умение показать, что происходит, когда разры-
ваются эти связи, когда человек попадает в незнакомую
и чуждую ему среду и перед ним возникает необходи-
мость самоопределения, и как личный выбор и убежде-
ния человека отражаются на его судьбе.
В цикле «романы характеров и среды» наиболее зна-
чительны четыре романа: «Возвращение на родину»,
«Мэр Кэстербриджа», «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» и
«Джуд Незаметный».
Роман «Возвращение на родину» вышел на русском
языке в превосходном переводе О. П. Холмской, ее ле-
бединой песне как переводчика. По ее справедливому
замечанию, это — «первый роман Гарди, в котором
в центре выступает трагический характер; от него от-
крывается ряд, за ним следуют «Мэр Кэстербриджа»,
«Тэсс из рода д'Эрбервиллей» и «Джуд Незаметный»,
в которых будет возрастать роль социального фактора...
Но «Возвращение на родину» также первый проблем-
ный роман Гарди».
У Гарди был особый дар «чувствовать проблемы».
Когда он видел, что замеченное им явление представля-
245
ет проблему отнюдь не частного и случайного свойства,
он не закрывал на нее глаза и был убежден, что она
требует пристального внимания. Далеко не всегда об-
наруженную им проблему ему удавалось точно обозна-
чить, найти подходящие слова для ее выражения,
понять ее реальное значение, увидеть ее место в ряду
других проблем. Но указать на явление, представляю-
щее проблему, он считал художественной задачей и
гражданской обязанностью писателя. Он действовал
так, побуждаемый сознанием, что проблему, если она
действительно проблема — не обойдешь стороной.
Возвращение на родину, в родной край, к месту
рождения, к исходному моменту индивидуальной жиз-
ни— тема такая же вечная в литературе, как и тема
рождения, любви, смерти. Далеко не столь распростра-
ненная и всех затрагивающая, не всегда и всех волную-
щая и тем не менее вечная — была и остается «вечной».
В какие-то годы она становится более заметной, дает
о себе знать не намеком или мотивом, не моментом
переживания или движением мысли, а как выражение
этапа творчества, и не одного, а группы писателей, как
известная тенденция или умонастроение. Классическое
начало живой ее традиции — «Одиссея» Гомера.
Когда в 1878 году Томас Гарди выпустил роман
«Возвращение на родину» (в буквальном переводе
«возвращение аборигена»), он дал этой теме наимено-
вание, непосредственно выразил ее в классическом сю-
жете: возвращение в родной край, к родным пенатам.
Для своего времени он положил начало и дал тол-
чок: вслед за ним, не без его влияния, многие писатели
обратились к той же теме в различных ее вариантах.
Можно, к примеру, вспомнить романы Д.-Г. Лоуренса
«Белый павлин», «Сыновья и любовники», «Радуга»,
Томаса Вулфа «Оглянись на отчий дом, ангел», «Домой
возврата нет», «Шотландскую трилогию» Льюиса Грес-
сика Гиббона. В том же 1878 году появилась книга
Роберта Луиса Стивенсона — очерки «Путешествие
внутрь страны», первая заметная его книга, проникну-
тая отчетливо выраженным мотивом: «Спуститься с пе-
рины цивилизации и почувствовать под ногами земную
твердь».
Потребность обратиться к «истокам» оказалась не
частной и случайной в английской литературе, она была
чертой времени. Пожалуй, не оказалось писателя, кото-
рый не отметил бы в своем творчестве — тематически,
246
сюжетно, в психологических состояниях действующих
лиц, а иногда оформленной концепцией, — не отметил
бы этого устремления, испытанного лично и как нечто
распространенное, устойчивое и влиятельное.
Когда Оскар Уайльд в романе «Портрет Дориана
Грея» (1891) устами лорда Генри и Дориана Грея из-
лагал теорию «нового гедонизма», он, в свою очередь,
высказывал потребность вернуться к исходному и вос-
становить утраченное, но он видел это исходное в при-
роде личности, в «я», в стихийных индивидуальных
желаниях красоты и наслаждения.
Характерное для английской литературы последней
трети XIX века устремление к «истокам» было свиде-
тельством духовного кризиса, в нем сказывалось разо-
чарование и отчуждение — разочарование в буржуазном
прогрессе, осознание его противоречий. Это устремле-
ние не отличалось единством, напротив, оно выявляло
разноречия. У Томаса Гарди тема «возвращения на
родину» раскрыта целостно и многосторонне, в дра-
матичном сюжете, через психологические конфликты,
душевную и духовную борьбу.
Возвращение «на родину», в «родной край», к «род-
ным пенатам», в «отчий дом», к «истокам» — как бы
ни называлось «возвращение», оно сопровождается ха-
рактерным психологическим состоянием, особым пере-
живанием— наплывом чувств, элегических или радост-
ных, обычно соединенных и перемежающихся, само-
углублением и созерцанием — сильным и значительным
внутренним движением. И часто, в реальной жизни и в
литературе, этот наплыв чувств, его силу и особен-
ность, определяет и окрашивает состояние удивления,
выражаемое восклицанием: «Как все переменилось!»
Нет отчего дома, не осталось ничего, что питало пер-
вые впечатления детства. Они живы, всплывают в па-
мяти, они побуждали к возвращению, они очевидны,
встают перед внутренним взором, манят, ласкают, тре-
вожат, но во-вне не осталось и намека на их подобие.
Странное, поражающее впечатление, оно напоминает
переживание, вызванное утратой дорогого человека,
близко тому чувству, когда уходят молодые годы, когда
распадаются дружеские связи: «Прошли года чредою
незаметной, и как они переменили нас!» Пушкин отме-
тил внутренние перемены: как мы переменились, и ры-
данием оборвал чтение этих стихов о «лицейской го-
довщине»...
247
Возвращение в родной край Клайма Ибрайта, од-
ного из двух центральных персонажей «Возвращения
на родину», не осложнено потрясением, крайним удив-
лением или разочарованием от внешних перемен —
у него нет оснований огорчаться или просто волновать-
ся от того, что все стало не так, как было некогда, от
чего уцелели одни воспоминания. Ему нет необходимо-
сти хоронить эти воспоминания, испытывая тягостное
чувство незаменимой утраты, искать для нее восполне-
ния. Или беречь и лелеять дорогие воспоминания как
tAiiHCTBeHHoe, что осталось от отчего дома, куда можно
вернуться, можно и нужно возвращаться пусть только
мысленно.
Клайм Ибрайт возвращается из среды для него но-
вой в среду изначальную, его взрастившую — в мрач-
ную и величественную Эгдонскую вересковую степь,
столь для него близкую и родную: «Он был пропитан
ее образами, ее сущностью, ее запахами. Можно ска-
зать, что он был ее созданием». Связь Клайма Ибрайта
с Эгдоном коренная, прочная, неразрывная, и корни ее
четко обозначены. Для него это твердая опора, нечто
незыблемое, что живет в его сознании, придает осо-
бенность и силу его характеру, воздействует на выбор
пути и повседневное поведение.
Не всякое возвращение в родной край ставит перед
возвращающимся проблему — самоопределиться в сре-
де, которую некогда покинул, сохранив о ней самое
живое и влиятельное впечатление. Для героя Гарди
«возвращение», это — проблема, хотя за время его дол-
гой отлучки из родного края заметных перемен в нем
не произошло. И все же перед героем романа возникает
проблема — существенная, актуальная и многоаспект-
ная, выходящая за рамки конкретного случая.
Возвращаясь на родину, Клайм Ибрайт перемеща-
ется не только в пространстве, что и дает основу сю-
жету. Он перемещается и во времени, в историческом
времени, возвращаясь в прошлое без посредства соот-
ветствующей фантастической машины. Он перемещается
с одного уровня жизни на другой, из одной социальной
среды в другую, по этапам, определенным историческим
развитием. Новая среда, в которой герой находился, по
отношению к изначальной, как подчеркивает Гарди —
ее будущее, в чем-то существенном ее будущее, вполне
определившееся и обнажившее себя. Герой Гарди судит
о наступающем «будущем», сопоставляя его с сохра-
248
нившимся «прошлым», и осознает прошлое через его
вероятное будущее.
У Гарди в отчий дом возвращается «сын земли»,
меняя цивилизованную среду на природную, город на
деревню, столичные блеск и шум на сельскую глухо-
мань. Клайм Ибрайт покидает Париж и возвращается
в Эгдонскую вересковую степь. Париж и Эгдон — по-
лярные точки его перемещения: их внешний облик и
сознательный уровень контрастны. Париж — символ ка-
питалистической цивилизации, вершинная точка ее раз-
вития. Для миссис Ибрайт, матери Клайма, это — цель
честолюбивых устремлений, для Юстасии Вэй, его воз-
любленной, предел желаний. «В Париж! В Париж!» —
клич ее души, ее вожделенная и необоримая мечта.
В романе «Возвращение на родину», как и во всех
«романах характеров и среды», патриархальная сель-
ская среда и капиталистический город предстают как
контрастные и враждебные начала. Сквозь человече-
ские судьбы проступают социальные процессы, а собы-
тия нередко развертываются на величественном «фоне»
и с ним соотносятся. Эгдонская вересковая степь, точ-
нее сказать, Эгдонская пустошь, где происходит дейст-
вие романа,— «от века нетронутая земля», изначальное:
Природа и Вечность. Д.-Г. Лоуренс в «Этюде», боль-
шом исследовании, посвященном Томасу Гарди, отме-
чал эту важную особенность его романов — события
в них происходят на величественном фоне, это «придает
им особое очарование».
Клайм Ибрайт покидает Париж не из чувства не-
приятия цивилизации, в меру своих сил и возможно-
стей он приобщился к достижениям цивилизованной
мысли, духовной и материальной культуры, должным
образом оценил и воспринял их. Он оставляет Париж
по нравственным причинам, не приемля и осуждая со-
средоточенные в цивилизованном центре паразитизм,
тщеславие, фальшь и суетность. Он возвращается в Эг-
дон, движимый социально-нравственной идеей куль-
турного миссионерства, «идет в народ», чтобы его про-
свещать и воспитывать, поднимать просвещением к луч-
шей жизни, толкая мысль из мрака невежества к свету
знания.
Опыт «возвращения» оказывается для Клайма пе-
чальным, он отмечен тягостными переживаниями и тра-
гическими событиями. Не потому только, что просвети-
тельский замысел его не удался, так как был утопичен,
249
и даже не столько из-за этой неудачи. Сам характер
личности Клайма, особенно две ее черты осложнили
его возвращение, сделали его проблемой: уровень со-
знания героя, отдаливший его от эгдонской среды, и
своеобразие его эмоционального пристрастия к Эгдону.
Как ни близок Клайм родному краю, являясь его
«созданием», он возвращается в него не прежним або-
ригеном. Между ним, «блудным сыном» Эгдона, и сре-
дой его постоянных обитателей пролегла полоса духов-
ного отчуждения; она пролегала и раньше, но теперь
обрисовалась отчетливо. Предел несовместимости Клай-
ма с Эгдоном, не только с его обитателями, глубже и
нагляднее всего проявляется в его стихийных порывах,
в избирательных свойствах и наклонностях его чувств.
Их противоречия, несогласованность их устремлений
ведут его к непоследовательным решениям и поступкам,
предрешают драматизм его переживаний и трагический
исход событий.
Казалось бы, все враждебное Эгдону должно оттал-
кивать Клайма или хотя бы вызывать в нем насторо-
женность, защитную реакцию. В романе только одно
лицо — Юстасия Вэй — выражает проникнутое нена-
вистью неприятие Эгдона. Она не скрывает своей враж-
ды и презрения к Эгдону, своей восторженности и пре-
клонения перед Парижем. Однако это не мешает Клай-
му именно ее выделить как родственную себе душу,
отвечающую заветным его желаниям, полюбить ее,
предпочесть другой возможной союзнице — Томазин,
которая не мыслит себя вне Эгдона, живет с ним в мире
и согласии.
Клайм предпочитает Юстасию, избирает ее по прин-
ципу контраста, который бывает дороже сходства. Ему
мил этот выбор не потому, что он восполняет недоста-
чу, компенсирует нечто. Для этого выбора подготовле-
на почва: в сознании самого Клайма укоренились конт-
расты, он далеко не весь с Эгдоном. Он покинул его
и переменил на Париж по внутренним мотивам, испы-
тав недовольство своим положением, потребность про-
движения, приобщения к прогрессу. Жизнь в Эгдоне
стала казаться ему «достойной презрения», им овладе-
ла «охота к перемене мест», по-своему романтическая,
но без отвлеченностей, — его манил не цыганский та-
бор, он отправился не в «поисках уголка для оскорб-
ленного» чувства и не с целью рассеяться в передви-
жении, но по определенному маршруту и с единственной
250
целью — переместиться в место, обладающее усло-
виями для достойного существования — в пределах по-
нимания, доступного Клайму. Опыт пребывания в Па-
риже— в качестве заведующего большим ювелирным
магазином — восстановил в Клайме — и тоже по конт-
расту— живую память о родном крае. Со временем на
него «все чаще стало находить уныние», — обнаружил-
ся признак недовольства собой, признак неудовлетво-
ренности своим существованием, произведенной пере-
меной и достигнутым результатом. Возникло харак-
терное психологическое состояние — Клайм выразил
недовольство неподвижностью, испытал потребность
перемены, приобщился к прогрессу, столкнулся с его
противоречиями, ощутил их борьбу в самом себе и
не знает, как обрести* равновесие. Без Эгдона в душе
Клайм уже не Клайм. Личный опыт, время, проведен-
ное в Париже, побуждает его осмыслить пройденный
путь, понять, что нельзя легкодумно поддаваться сти-
хийной волне и безнаказанно отклоняться от своего
пути, изменять себе. Однако одуматься и учесть исход-
ное не означает повторять пройденное, ни вне себя, ни
в себе самом. Клайм не может приостановить движе-
ния, неизбежных перемен, да и сам стремится к ним.
И вот тут на его решения и поступки начинает оказы-
вать особое воздействие его эмоциональное пристрастие
к Эгдону. Клайм счастлив в момент своего возвраще-
ния на родину, счастлив согласием, которое наступает
при встрече живущих в нем впечатлений и их перво-
источника, он рад тому, что родная ему Эгдонская
вересковая степь была и осталась «от века нетрону-
той землей». Здесь «некогда блуждал легендарный
король Уэссекса Лир», здесь начиналась история Анг-
лии как единого национального целого, он вернулся
к истокам и нашел их в неизменном состоянии. Он рад
этому, и в этой его радости обнаруживается особое
чувство: «какое-то варварское удовлетворение». Сказа-
но автором необычно, но точно, и это точное наимено-
вание психологического состояния Клайма существенно
для понимания его характера и его судьбы. «Варвар-
ское удовлетворение» — свидетельство атавизма в про-
двинувшемся сознании Клайма. Появление этого чув-
ства в комплексе переживаний при «возвращении»
многозначительно — оно не остается нейтральным и
бездейственным. Оно оказывает воздействие на судьбу
Клайма Ибрайта, и ее трагизм напоминает, что в «той
251
же от века нетронутой земле» при разбушевавшейся
стихии раздавались безумные стенания шекспировского
короля Лира.
Упоминание шекспировских героев, цитаты из Шекс-
пира, а также из античных трагических поэтов неред-
кое явление в произведениях Гарди. Это одно из оче-
видных свидетельств его связи с классической традици-
ей. Литературные реминисценции у Гарди не заменяют
реальный опыт, а дополняют и проясняют его, протя-
гивают нити к опыту прошлого, устанавливают с ним
связь, чтобы оттенить и в исторической перспективе
осмыслить текущие явления.
Гарди передает сложные психологические процессы,
вызванные переходным временем. Он отмечает проти-
воречивые движения чувств, указывает на значение
эмоциональной сферы, ее тончайших оттенков для ду-
шевного состояния, решений и поступков, для индиви-
дуальной судьбы. Углубленный интерес к психической
жизни — общая черта современной Гарди литературы.
Джордж Мередит, Самюэл Батлер, Генри Джеймс
сосредоточивают творческие усилия на психологическом
анализе и заняты поисками новых форм для его худо-
жественного выражения. Это существенным образом
сказывается на структуре и характере прозаических
жанров. У Гарди заметна сосредоточенность на драма-
тических переживаниях личности, молодого человека
из народа, на душевных и духовных конфликтах тра-
гического свойства, обусловленных социальными усло-
виями жизни в переходное время.
Молодая девушка Юстасия Вэй бросает вызов
многовековому житейскому укладу. Порываясь из па-
триархальной глухомани к большому миру, к цивили-
зации, она гибнет. «Такой уж у меня характер», — го-
ворит она, объясняя причины своей печали и как бы
предсказывая трагический исход событий.
Юстасия Вэй не желает мириться с убогим, расти-
тельным существованием, предопределенным самовла-
стием природы и рутиной отсталого социального быта.
Она оживлена потребностью ярких, не монотонных
переживаний. Ее тянет к себе цивилизованный быт, его
волнения и страсти, жизнь, одушевленная поэзией и
музыкой. Влечение ее настоятельно, оно сообщает опре-
деленность ее характеру, усиливает и чисто женское
обаяние, придавая ему оттенок загадочности, утончен-
ности и возвышенности. В этом страстном порыве —
252
вызов застою, призыв к движению, и Гарди признает
как его обоснованность, так и его неизбежность. Он
во многом отдает предпочтение этой девушке, сочувст-
вует ей и нередко любуется ею.
Недовольство Юстасии Вэй, желание вырваться из
деревенской глуши, ее смелый вызов всему житейскому
укладу Эгдона поддерживаются романтической мечтой.
В героине живут красочные впечатления детства, про-
веденного в приморском курортном городе, и в темпе-
раментной, впечатлительной девушке, наделенной жи-
вым воображением, укореняется бунтарская страсть.
Сметая условности и предрассудки, побуждая к дер-
зостным мыслям и поступкам, эта страсть, однако, под-
нимает в ее душе себялюбивые чувства. Ее радужные
детские впечатления поверхностны и односторонни, вы-
растает она в одинокой и тусклой праздности, и ее
мечта-страсть, неся с собой возмущение условиями
жизни, принижающими человека, в своих побуждениях
оказывается куда более мелкой, по сути, ограничива-
ется безотчетным желанием «красивой жизни» в «боль-
шом свете». Она грезит о Париже, для нее этот город —
символ беззаботной и роскошной праздности, и внеш-
ний блеск тешит ее больше всего.
Восторженная оболыценность Юстасии Вэй и отсут-
ствие у нее родной почвы обрекают ее на одиночество
и ставят в трагическое положение. В своем порыве она
незаметно для себя истинные ценности подменяет мни-
мыми. В ее душе вспыхивает злой и жестокий огонек.
В своей одержимости она может быть беспощадной.
Ее мало тревожат чужие печали; преследуя личную
цель, она вызывает драматические события, становится
причиной — вольной или невольной — страданий и даже
гибели других людей и способна перешагивать через
свои жертвы. Единственное ее прибежище и утешение —
это личное чувство, любовь. Она ищет свободного, не-
зависимого, яркого чувства и может любить без жалкой
оглядки по сторонам. Но даже это дорогое для нее
чувство становится подвластным ее желанию вырваться
из глуши. Она сходится с Уайльдивом, инженером-не-
удачником, ставшим хозяином трактира, сходится по-
тому, что он непохож на других, на нем лежит, хотя и
слабый, все же отблеск иной жизни, и с ним возникает
надежда на лучшее. Она оставляет его ради Клайма
Ибрайта, потому что этот молодой человек больше от-
вечает ее романтическим представлениям, но главное
253
потому, что это живой образец столичного жителя и
с ним, как ей кажется, ей станет доступен желанный
Париж. Она снова меняет свою привязанность, когда
ее упования не оправдываются, и неожиданно разбога-
тевший Уайльдив прельщает ее новой надеждой. Непо-
средственное в этой девушке подменяется условным,
естественное влечение приносится ею в жертву, и кра-
сочное в ней приобретает зловещий оттенок. У Юстасии
Вэй мало сходства с героинями Диккенса, а также с
Эммой Бовари, тем более с Анной Карениной, но, как
это заметил Дэвид Сесиль, в ней есть нечто от герцо-
гини Мальфи \ героини одноименной трагедии Джона
Уэбстера, современника Шекспира.
Юстасия Вэй поступается человечностью, стремясь
упрочить ее, и чем энергичнее ее усилия, тем значитель-
нее утраты. Этот мрачный парадокс, родственный тра-
гической иронии древних греков, возникает в романе
не для того, чтобы напомнить горестный вывод Еккле-
зиаста: все суета сует, или подчеркнуть роковой разлад
мечты и действительности. Указывая на легковерную
и одностороннюю восторженность героини, этот пара-
докс обнажает драматизм ее положения и находит объ-
яснение в социальной определенности ее облика и
личной судьбы.
Сама Юстасия Вэй не переходит последней грани,
за которой она должна была опуститься до нравствен-
ного и духовного банкротства Уайльдива, ранее отверг-
нутого ею, даже ниже этой нравственной метки, так
как ставила себя в зависимость от его кошелька.
В условиях, требовавших от Юстасии Вэй этого
взыскательного шага, только смерть подняла ее в гла-
зах требовательного мнения, представив жертвой об-
стоятельств.
Повесть о Юстасии Вэй окрашена в местный коло-
рит и проникнута раздумьями и печалями своего вре-
мени. Недолгая история ее жизни переплетается с дру-
гими драматическими историями, с изломанными судь-
бами молодых людей — Клайма Ибрайта и Уайльдива.
Гарди внимательно присматривался к брожению
молодых сил, разбуженных социальным прогрессом и
поднявшихся над стандартным уровнем. Его волновала
судьба поколения, формирующегося в условиях резких
1 См.: Cecil David. Hardy the novelist. An Essay in Criti-
cism. L., 1944, p. 148.
254
социальных сдвигов, смены общественных идей и краха
либеральных представлений. Как это обычно для него
после неудачного опыта с романом «Бедняк и леди»,
он устраняется от политической темы и злобы дня. Но
тревога времени и брожение умов дают о себе знать
в изображаемых им житейских и психологических кон-
фликтах, в романтических символах, аллегориях и дру-
гих иносказаниях.
Юстасия Вэй — резко выраженная индивидуаль-
ность. Если не глубокое сознание, то чувство собствен-
ной личности, смелое и непреклонное, обозначено в ней
отчетливо. Однако оно бессильно преодолеть состояние
внутреннего надрыва и разлада. Гордость и дерзость
сочетаются в ней с тоской и унынием, и горечь неудов-
летворенности — ее постоянный удел. Это не та неудов-
летворенность, без которой не может быть внутреннего
роста, но дух надламывающая и ожесточающая.
Не только в пору кризиса и поражения, но от начала
и до конца героиню сопровождает горделивая мрач-
ность, непритворная и неустранимая. На ее челе печать
утраты «богоподобной уверенности» — уверенности в
том, что возможностям нет предела, что дерзновения
увенчиваются одними победами и что каждый волен
выбирать себе путь.
«Облик, мало поддающийся воздействию време-
ни»,— сказано в романе об Эгдонской степи. И рядом
с этим вечным обликом, вернее, на фоне его, контрас-
том появляются люди, не знающие ни постоянства, ни
покоя, ни правды. «Человек выходит на сцену рука об
руку со своей бедой», — метафорически определяет Гар-
ди характер этого психологического состояния.
Это все тот же, как у Артюра Рембо, лишь в другой
стране, другой одежде, в ином общественном повороте,
но тот же, или почти тот же, «прядильщик тумана, бре-
дущий сквозь время», тот же «сын века», мало знаю-
щий еще что-либо, кроме разлада. Когда смятение и
безысходность метят женскую судьбу, их разрушитель-
ное действие кажется особенно драматичным. О Юста-
сии Вэй можно сказать: «дочь века». Возникшие от
сопоставления непривычные слова способны обозначить
суть этого женского характера и его место в типологии
литературных характеров.
Крушение мечты и расплата нравственным падени-
ем — этот удел Юстасии Вэй представлен как более
общее состояние.
255
В начале романа, едва начинают развертываться
события, на мгновение возникает романтический образ
девушки. Мимолетное видение отчетливо встает перед
глазами, и надо, чтобы оно сохранилось в памяти.
Над Эгдонской степью, над которой почти не власт-
но время, возвышается холм, над ним курган — «полюс
и ось этого верескового мира», — на кургане человече-
ская фигура, венчающая внушительный ансамбль. Ав-
тор, прибегая к архитектурному образу, говорит об
удивительной слаженности его частей и естественном
возвышении над всей структурой фигуры человека.
В конце романа этот же человек в бурную непогоду
гибнет в мутных водах реки, он как бы сброшен с вер-
шины на самое дно.
Полный символического смысла фабульный эпи-
зод— первое появление Юстасии Вэй — указывает меру
ее дерзаний. Созерцая ее вознесшийся облик, можно,
с необходимыми поправками на время и обстоятельства,
сказать гамлетовские слова: «Человек — краса вселен-
ной». И впоследствии за ним же повторить — «квинтэс-
сенция праха».
Аллегория этих двух эпизодов — взлета и падения —
полемически заострена, но не столь прямолинейна, как
может представиться по первому впечатлению. Гарди,
говоря словами Пришвина, «не кидался со злобой на
цивилизацию», но и «не хотел вступать в мещанский
брак с электричеством», не мог мириться с холодным
равнодушием энергичного и самодовольного либерализ-
ма, все объясняющего и оправдывающего ссылками
на «железную необходимость прогресса». Конкретный
смысл его аллегории раскрывает судьба Юстасии Вэй,
романтической девушки — трагического персонажа.
В идиллии «Под деревом зеленым» главным дейст-
вующим лицом был массовый герой, коллективный ха-
рактер. В романах «Вдали от обезумевшей толпы» и
«Возвращение на родину» на авансцену вышла группа
центральных персонажей, и среди них стал выделяться
главный герой, наметился трагический характер.
В «Мэре Кэстербриджа» основное внимание сосредото-
чивается на одном действующем лице — трагическом
герое, «человеке с характером», как значится в подза-
головке романа. Он обуславливает развитие сюжета,
нагляднее всего выражает авторский замысел.
Майкл Хенчард — явление заметное и в творчестве
Гарди, и в английской литературе. В известном смысле
256
это самый совершенный из трагических характеров,
созданных писателем: коллизия воплощается в нем с
простотой и монументальностью, родственной шекспи-
ровской трагедии. Может быть, он выписан недостаточ-
но тонко, но этой внушительной фигуре не откажешь
в глубине, многогранности, жизненной достоверности.
К ней надо приглядеться, тогда, вероятнее всего, впе-
чатление будет сильным и станет понятнее, чем зна-
чительна эта книга и почему она привлекает современ-
ного читателя.
Надо следить не только за внешними перипетиями
жизни, но и за внутренним развитием героя. Его харак-
тер динамичен, в духовном состоянии происходят рез-
кие перемены.
Образ Хенчарда начинает вырисовываться с первых
строк и обращает на себя внимание своей незаурядно-
стью. Цельная, энергичная натура героя, его колорит-
ность, контрасты и трагизм его судьбы возбуждают ин-
терес невольно. В его личности отразился глубокий
пласт жизни, далекой от нас, но все же поучительной.
«Характер», выделивший Хенчарда, сделавший его
фигурой трагической, осмысливается автором не просто
как сочетание незаурядных личных качеств, но как
сплав устойчивых свойств, тронутых внешним влия-
нием.
Характер Хенчарда определен влиянием прочной
среды, сильным воздействием деревни, еще хранившей
эпические патриархальные традиции и не утратившей
стародедовских понятий и привычек. Когда эту среду
резко пошатнули буржуазные «веяния», они затронули
и деревенского парня, батрака, вязальщика сена Майк-
ла Хенчарда, поставив его в непривычное и ненормаль-
ное для него положение и вызвав брожение чувств.
В его натуре, придавая ей цельность, сохранилась сила
многовековой традиции, при которой индивидуализм
сдерживался некоторым общим интересом. Жители
Кэстербриджа, отмечает автор, еще следуют старин-
ному обычаю помогать друг другу в нужде. Однако
буржуазный дух затронул Хенчарда. В нем разгоря-
чено самолюбие, производится разрушительная работа,
сталкиваются противоречивые устремления.
Майкл Хенчард, мэр Кэстербриджа, — фигура тра-
гическая. Он значителен и колоритен благодаря луч-
шим чертам его характера: широк и прям в чувствах,
смышлен умом, тверд в убеждениях, энергичен в по-
9 М. В. Урноз
257
ступках — цельная и волевая натура. Характер же
делает его смешным, жалким, недальновидным, мало-
подвижным. В характере Хенчарда заключена извест-
ная степень величия, залог успеха и главная причина
его несчастий. «Характер — это судьба», — цитирует
Гарди афоризм Новалиса. Он, имея в виду Хенчарда,
мог бы сказать: «Характер — это беда».
Характер Хенчарда — нечто крепко и давно сделан-
ное. Батрак Майкл Хенчард личным достоинством,
прямотой, монументальностью фигуры походит на сме-
лых и гордых простолюдинов, которых выводили на
сцену Шекспир и его современники. В том и заключе-
на беда мэра Кэстербриджа, что он, заданный таким
«от природы», не способен даже ради собственного
блага измениться. Быт, среда, старый сельский уклад,
сформировавший Хенчарда, полупатриархальный Кэ-
стербридж, поставивший его градоначальником, сооб-
щили его натуре ту прочность и простую прямолиней-
ность нрава, которая им была свойственна.
Приходит, однако, необходимость перемен. Кэстер-
бридж пока все тот же. Но где-то вдали за пределами
Уэссекса утвердилась жизнь иного склада, и она, неу-
молимо приближаясь к Кэстербриджу, находит для се-
бя и в нем подходящую почву. В городе появляется
молодой шотландец Доналд Фарфрэ, а с ним водворяет-
ся дух новейшей предприимчивости.
Своевольный характер героя действительно стано-
вится его жестокой судьбой. Домашние рамки кэстер-
бриджского рынка — вот та стихия, где его грубая
энергия и природная сметка помогали ему побивать
конкурентов. Он преуспевал, пока торговле, употребляя
слова Энгельса, была свойственна «практика мелкого
надувательства и обмана». Противоречия в характере
героя не казались столь заметны, пока эта прдктика
была распространенной. То, что связывало его со ста-
рым бытом, еще не мешало ему тешить свое честолю-
бие — притязания мелкого буржуа. Когда же узкие,
«домашние» рамки торговли сломались и она стала
приобретать «внешний лоск моральности» (Энгельс),
Хенчард оказался решительно неспособен ориентиро-
ваться в новой обстановке. Вдруг сразу бросились в
глаза его неотесанность, грубость, косность, невежест-
во, мещанские претензии. Пришлый конкурент букваль-
но затмил его приятностью манер, комильфотным об-
хождением, умением откликнуться на «новые веяния».
258
Предпринятые Хенчардом попытки «наладить дело»
обернулись злой издевкой, трагической иронией. Чем
решительнее действует он в уверенности избежать оши-
бок, тем стремительнее идет к краху. Чем настоятель-
нее взывает к идолу коммерческой честности, тем бес-
церемоннее и жестче готов драться за барыш.
Обстоятельства ставят Хенчарда перед выбором:
либо он обретет «внешний лоск моральности», либо ему
придется отказаться от честолюбивых требований. Опре-
деленность дилеммы выводит его из относительного
равновесия и обостряет противоречия, свойственные
его личности. Честолюбие и эгоизм буржуа разгоряче-
ны в нем до предела, патриархальное простодушие и
примитивность дают знать о себе, как никогда. По-
клонник «честного соперничества», он жаждет «умо-
рить» конкурента, «стереть его с лица земли», но где
там! Он безнадежно отстал и сам падает жертвой.
Острота психологического конфликта, изменившиеся
обстоятельства, горечь поражения создают в Хенчарде
предпосылки для внутренних сдвигов. Чувства, которые
развивались в нем под буржуазным влиянием, теперь
теснятся напором иных стремлений. Его заботит мысль
о достоинстве, свободном от такого измерителя, как
фунт стерлингов. В нем поднимается бунтарский дух.
При этом Хенчард, работающий батраком у Фарфрэ,
выказывает решимость, энергию, волю, огромную физи-
ческую силу, широту натуры, присущие ему — человеку
из народа... но в то же время и слабость: его сознание
сковано отсталыми представлениями, свойственными
патриархальной деревне. Бунт ограничивается иноска-
зательным обличением,, словами проклятия — Хенчард
заставляет церковных хористов исполнить псалом царя
Давида, стихи «Да будет краток век его...» — и угрозой:
«Уж я ему покажу...» Понятие о кодексе чести отдает
у него патриархальной стариной. Он предлагает Фар-
фрэ в рукопашной схватке доказать свои преимущест-
ва. Считая себя более сильным, он борется одной рукой
и, выйдя победителем, милует противника. В борьбе
на этих равных условиях Хенчард выказывает физиче-
ское и нравственное превосходство перед Фарфрэ, об-
ладающим внешним лоском. Но герой сам вдруг ощу-
щает детскую бессмысленность, неуклюжую старомод-
ность своего поведения. В нем происходит новый сдвиг.
Он подавляет в себе гордыню и готов забыть обиды,
хочет, чтобы поверили в доброту его сердца и одарили
9*
259
теплой привязанностью. Он как бы надеется в сфере
общечеловеческого преодолеть и свою ограниченность,
и ограниченность мира Фарфрэ. Однако его обращение
с этой целью к «любви и милосердию» покоится именно
на отсталом, наивном представлении о буржуазном об-
ществе. Фарфрэ и те, кто с ним связан, просто не за-
мечают его сдержанной и смиренной мольбы.
Скопление неблагоприятных случайностей и прома-
хи Хенчарда не столь значительны в сравнении с его
главной бедой: утрачивает годность его характер. Он
становится призрачным наследием прошлого. И Хен-
чард уходит, уступая место Фарфрэ.
Трагизм судьбы героя оттеняется литературной ре-
минисценцией — Гарди часто пользуется этим приемом.
Майкл Хенчард умирает в Эгдонской степи. Упомина-
ние о ней приводит на память знаменитые сцены из
третьего акта шекспировской трагедии, слышится воз-
мущенный голос короля Лира: «Я не так перед другими
грешен, как — другие передо мною». И можно предста-
вить себе, как тень от зловещих фигур Гонерильи и
Реганы, его жестоких, коварных дочерей, тянется к До-
налду Фарфрэ. Между тем сам Хенчард, сельский бат-
рак, по сословию и состоянию своему сродни тем «бед-
ным, нагим несчастливцам», к которым в горестном
отчаянии мысленно обращался Лир.
Литературная манера Гарди — строение сюжета и
характеров, стиль авторской речи, ее соединение с ре-
чью персонажей могут показаться — и многим критикам
кажутся — не только неподвижно-традиционными, но и
старомодными на фоне современной ему прозы, особен-
но таких образцов, как романы Джорджа Мередита,
Самюэла Батлера, тем более Генри Джеймса. Под их
пером формировались новые способы и приемы пси-
хологического анализа, новые формы литературного
воспроизведения, видоизменявшие структуру романа.
В этой практике преобразования и эксперимента,
осмысленной и теоретически оснащенной, Гарди не
участвовал. Он шел своим путем, решая иные идейно-
эстетические задачи. Его интересу к народной жизни
и коллективным ее формам отвечала эпическая широта
и основательность жанра романа. Гарди хотелось дать
развернутое изображение жизни народа, подчеркнуть
духовное и нравственное его единство, возвышенные и
героические его побуждения и действия. Ему не давал-
ся этот замысел. Тому были и объективные причины.
260
Дух патриархального единства утратил живую почву.
Действительность поправляла литературные планы.
Широкий замысел писателя нашел выражение в цикле
романов. Но уже не слаженность и равновесие, а тра-
гический конфликт лег в основу, последовательное и
неудержимое его нарастание.
Герои Гарди обычно натуры цельные, не склонные
к рефлексии и не привыкшие к душевному разладу. Он
не навязывает им форм мышления и переживаний, для
них не типичных, им не свойственных. Приглядываясь
к направлению и оттенкам чувств, обнаруживая тонкое
их понимание, он предпочитает обозначить и пояснить
их четким словом, передать через поступок, бытовую
или пейзажную деталь — зримый внешний образ.
Повествовательная манера Гарди не оставалась
неподвижной, она вбирала в себя и новые приемы пси-
хологической характеристики, продолжая сохранять са-
мостоятельность. При относительной, часто только ка-
жущейся «старомодности», она являла новизну и само-
бытность, опирающуюся на классическую традицию
и фольклор. Нередко традиционная сцена с устойчивы-
ми бытовыми деталями и участием «старинных харак-
теров», несмотря на обычную манеру описания, пред-
стает в самом неожиданном повороте только потому,
что на нее брошен обновленный взгляд художника.
Отзывчивость на требования художественной новиз-
ны отчетливее всего проявилась у Гарди, пожалуй, в
пейзаже. Никому из английских писателей конца про-
шлого, да и нынешнего века не удалось так оживить
пейзаж в литературной прозе, заставить природу «за-
говорить» с такой энергичной страстностью, как это
сделал Гарди. Наиболее насыщены и выразительны
пейзажи в романах «Возвращение на родину», «В краю
лесов», «Тэсс из рода д'Эрбервиллей». Разные облики
и состояния природы, пейзаж масштабный и миниатюр-
ный, эпически величавый и лирически задушевный,
переменчивый, динамический передают идейные и твор-
ческие искания писателя, движения его мысли, волне-
ние чувств. Эти пейзажи поражали читателя внутрен-
ней значительностью и свежестью выражения и сейчас
оставляют впечатление необычности.
В «романах характеров и среды», особенно в «Тэсс»
и «Джуде», получили отражение типические проблемы
литературного развития переходной эпохи, первых ее
десятилетий. Переоценка ценностей, постановка и об-
261
суждение «проклятых вопросов» социальной жизни, на-
растание интереса к человеку, его внутреннему миру, к
нравственной и эстетической сферам сознания, ощущение
кризиса традиционных средств изобразительности, иска-
ние новых путей и средств. Всем своим творчеством Гарди
многое по'дсказал новейшей английской прозе и поэзии.
«Романы характеров и среды» — национально-само-
бытное, яркое и последовательно развернутое свиде-
тельство демократизации английской литературы в по-
следнюю треть XIX века, когда этот процесс усилива-
ется, идет вширь и вглубь, составляя примету времени,
захватывая творчество многих писателей, представите-
лей разных поколений и позиций.
Литература активнее и смелее начинает осваивать
малоизвестные стороны народной жизни, а также новые
ее черты и явления. Люди из народа, простые труже-
ники, все чаще выделяются в ряду персонажей, стано-
вятся заглавными действующими лицами. Демократи-
зируется художественная речь, сближаясь с широкими
пластами живого языка. Образ мыслей и взгляд на
жизнь трудовой массы получает не только более объем-
лющее, но и более точное выражение.
Гарди не надо было настраивать себя на демократи-
ческий лад, чувство близости трудовой среде было у не-
го естественным и непроизвольным.
Теккерею казалось, что невозможно написать «прав-
дивую деревенскую повесть о поденщике, получающем
в день восемнадцать пенсов», что обыденная проза ма-
териала не поддается искусству и задушит поэзию.
У Гарди это получилось. Его лучшие «деревенские по-
вести» и правдивы и поэтичны.
Теккерей полагал, что писателю не следует изобра-
жать людей в практических условиях их повседневных
занятий. «Все, что могут сделать авторы, — писал он
в романе «Виргинцы», — это показать людей вне их де-
ла— в их страстях, любви, смехе, забавах, ненависти
и проч. — и описать эту сторону как можно лучше, при-
нимая деловую часть как нечто само собой разумею-
щееся». Гарди одним из первых в английской литера-
туре 70 — 90-х годов преодолел сомнения великого реа-
листа и опроверг его заповедь. На страницах его книг
волнения страстей, интимные порывы чувств находят
выражение вовсе не обязательно в стороне от практи-
ческого дела или только на его фоне, но и в связи с
ним, и в процессе его.
262
О демократизме Гарди красноречивее всего! свиде-
тельствуют его герои. Они представляют трудовую на-
родную среду и сосредоточивают на себе читательское
внимание. И самое существенное и, пожалуй,
тельное в их облике — та сила убедительности,
они выражают достоинства своей среды, не noctyna
ими. Крестьянка Тэсс наделена редкостным обаянием
ее образ — один из самых поэтичных в английскрй
зе. Если из всех книг Томаса Гарди пришлось
брать одну — можно думать, выбор пал бы н
из рода д'Эрбервиллей». Есть нечто в тринадцатом
счету, предпоследнем его романе, что заставляем
лить его. В читательской памяти имя писателя
с этой книгой. Другие, разумеется, далеко не
уступают ей. Пейзаж полнее и лучше
в романе «Возвращение на родину»;
характеры встречались и ранее — Майкл Хенч^рд
жет поспорить с Тэсс; критический пафос более
шителен в «Джуде». И все же никакая другая
Гарди не производит столь цельного впечатлен^
Когда приходит зрелось и мастерство, то,
часто бывает, слабеет или вовсе утрачивается
поэтического чувства. Приобретение, как всегда^
вождается утратой.
Но «Тэсс» оказалась как бы не подвластной)
вию этого закона. Возникнув на самой точке перелом
она удержала творческую мысль в равновесии,
наблюдения и переживания автора переданы
с необычной свежестью поэтического восприя
только природы, что бывает нередко, но и человека
Правда, поэзия, мастерство сливаются в «Тэсс»
давляя друг друга, сливаются так, как ни в какой
книге Гарди, и это органическое единство,
всегда совершенное, наделяет роман покоряющей
и делает его наиболее разносторонним выражением
ланта и мироощущения писателя.
Особенно трогает и запечатлевается образ Героини.
Тэсс — воплощение мягкой женственности, ее трепетная
импульсивность целомудренна, внутренние порывы от-
зывчивы и великодушны. «Она натура поэтическая,
живет поэзией, если можно так выразиться. Жи^ет тем,
о чем поэты только пишут».
Пожалуй, именно женский образ способен |был во
всей непосредственности, с тончайшими оттенками пе-
редать характер переживаний Гарди. В радостях и
ртличи-
какой
ясь
ем,
про-
бы ото-
Тэсс
по
выде-
£вязано
во всем
представлен
выразительные
мо-
сокру-
книга
я.
к это
свежесть
сопро-
деист-
а,
Зрелые
в ней
1я: не
пусть
не по-
иной
не
силой
та-
страданиях женской души, пламенной и самоотвержен-
ной, но легко ранимой, беззащитной перед грубой си-
лой, выразились и его омраченная печалью восторжен-
ность, и переполнявшие его горечь и негодование.
Тэсс — трагический персонаж. Однако ни страсть,
ни волевое устремление, ломающее препятствия, стал-
кивающее разноречивые интересы, не владеют ею. Ду-
шевная чистота — вот ее пафос. Казалось бы, нет места
для трагического конфликта. Столкновение могло до-
стигнуть драматического напряжения, но разрешиться
мелодрамой. Однако в изображаемом характере и си-
туации Гарди увидел трагическую основу. «Неспособ-
ность» Тэсс поступиться своей правотой, пойти на сделку
или уступки, хотя бы и сулящие выгоду и обеспеченное
житье, придают ее положению особый драматизм —
трагического свойства.
Гарди и ранее красноречиво говорил о гибели доб-
родетели. Прообраз Тэсс возник еще в романе «Вдали
от обезумевшей толпы», где рассказана печальная ис-
тория бедной девушки Фанни Робин, обманутой бес-
путным молодым человеком. Но тогда эта тема не сто-
яла в центре, многое оставалось недоговоренным, остро-
та сглаживалась, роман венчала счастливая концовка.
В «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» гибель доброго
начала, красоты, человечности — не эпизод. Тэсс, од-
нажды жертва соблазнителя, обречена быть жертвой на-
всегда: «таков закон» — власть грубых и циничных об-
стоятельств, одобряющих зло, на которое привилегиро-
ванная посредственность взирает снисходительно.
В романе «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» Гарди го-
ворит о современной ему сельской Англии. Он присту-
пает к этой книге в конце 80-х годов (в июле 1889 г.)
и действие относит ко второй их половине, точнее —
1884—1889 годам. 80-е годы были свидетелями резких
сдвигов: усиливалось недовольство и возмущение ши-
роких масс города и деревни, активно распространя-
лись социалистические идеи.
Острота момента и близость писателя к народу от-
разились в той страстности и убедительности, с какой
он говорит о трагедии простого человека, как о типи-
ческом явлении, в резком столкновении добра и зла,
в мятежном духе его гуманной книги.
В горячем протесте, поднимающемся в безропотной
Тэсс, в ее порыве к отмщению за поруганное достоин-
ство и раздавленную жизнь сказывается напряжен-
264
Ность не только личного, но и большого социального
конфликта. Однако порыв героини стихиен и слеп.
В книге нет и намека на знаменательные для 80-х го-
дов факты коллективной и организованной борьбы.
В Тэсс глубок отпечаток трудовой патриархальной
среды с ее светлой и темной сторонами, среды, отжив-
шей свой век. Пленяющая цельность, непосредствен-
ность и бескорыстие чувств сочетаются в героине с от-
сталыми представлениями, наивной созерцательностью,
беспочвенной одухотворенностью, душевной уязвимо-
стью. Суеверный страх тяготит ее дух, ослабляет, а
временами и вовсе парализует волю, редко-редко в
самозабвении преодолевает она изнуряющее состояние
тревоги. Многие черты сближают ее с Маргаритой из
трагедии Гёте «Фауст» — поэтическим воплощением
патриархально-идиллической гармонии. Однако Тэсс
способна бросить вызов, выдержать испытания — если
бы не замкнутость в узком кругу, из которого нет вы-
хода. Приноровленность Тэсс к движению вперед, к
быстрому развитию, к решительной перемене — приме-
чательное ее свойство, отмеченное автором, однако не
раскрытое им во всем его реальном значении.
Майкл Хенчард, как ни динамичен его характер,
замкнут патриархальной средой, словно петух в очер-
ченном мелом кругу, и не может перешагнуть за отве-
денный ему предел. Тэсс способна раздвинуть внутрен-
ние рамки, раздвинуть значительно, трудно сказать, как
широко, но характер у нее эластичен — ни одно собы-
тие, подчеркивает автор, еще не могло наложить на нее
нерушимой печати. Гарди наметил тему, особенно важ-
ную для литературы переходного времени, но не раз-
вил ее, он вернется к ней в своем последнем романе —
в «Джуде Незаметном».
«Джуд Незаметный» многими был воспринят как
«мужской вариант» «Тэсс». В заключительном романе
цикла обличение и протест, усиленные и накаленные,
соединены, как ни в одном другом его произведении.
Предметом изображения Гарди снова взял чистую,
цельную натуру — на этот раз молодого человека —
и постарался раскрыть этот характер с наивозможной
правдивостью.
Когда Джуд сталкивается с каменной неприступно-
стью города, когда он попадает во власть изворотливой
Арабэлы, своей первой жены, и всякий раз отступает
под ее умелым натиском, он напоминает Тэсс своей
265
незащищенностью. Джуд обречен на хождение по му-
кам и преждевременную гибель механическим действи-
ем тех же сил, какие обрекли «чистую женщину» окон-
чить жизнь на виселице. Но есть между двумя натура-
ми, двумя вариантами одной трагедии, и существенное
различие.
Тэсс — поэтическое воплощение этической гармонии,
определившейся в патриархально-идиллической среде.
Джуд — гармонии эстетической, оживленной вдохновен-
ным стремлением к знанию и самоотверженному твор-
ческому труду. В отличие от Тэсс, Джуд ставит себе
жизненную цель и свои усилия, осмысленные и энер-
гичные, направляет к ее достижению.
В романе «В краю лесов» Гарди распрощался с «по-
следним йоменом», последним своим собственно пат-
риархальным героем, в «Тэсс из рода д'Эрбервиллей»—
с крестьянской темой. Сцены сельской жизни, жанро-
вые и бытовые, возникают и в «Джуде», но они немно-
гочисленны и составляют скорее фон, выразительный
и многозначительный, все же фон или, за редким ис-
ключением, дополнение к основным сюжетным сценам.
В противоположность Клайму Ибрайту и Тэсс, Джуд
вовсе не чувствует привязанности к деревне, напротив,
он рвется в город. Но мотивы его стремлений и сами
стремления совсем не те, какими руководствовалась
Юстасия Вэй.
Джуд тяготится жизнью деревушки Мэригрин, в ко-
торой он очутился. Это не патриархальная Меллсток,
откуда он родом; знакомая читателю по роману «Под
деревом зеленым». Мэригрин обновилась настолько,
что от былого в ней не осталось ничего, разве что
«древний замшелый колодец». Перемены, как отмечает
Гарди, на всем оставили отпечаток грубого утилита-
ризма, стандарта и бездумного своеволия, стерев инди-
видуальные черты.
С горькой иронией пишет автор о деловитом «истре-
бителе исторических памятников, который приехал на
один день из Лондона» и с холодным безразличием
к живой истории, к тому, что «в каждом коме земли
и каждом камне таилось немало воспоминаний», реши-
тельно способствовал этим переменам. Кичливое само-
довольство бездушного практицизма задевает впечатли-
тельного Джуда, усиливает испытываемое им чувство
сиротливости, и, оглядываясь кругом, он не без душев-
ного содрогания говорит: «Как здесь уродливо».
266
Гарди не оставляет элегических сетований, они зву-
чат при сопоставлении настоящего и прошлого древней
деревушки Мэригрин. И Джуд невидимыми нитями
связан с отошедшей- порой. В новой обстановке он
чувствует себя неприкаянным и охвачен «мучительным
желанием» обрести иную жизнь, оказаться в условиях,
которые он мог бы назвать прекрасными, и посвятить
себя «великому делу». Потребность прекрасного места
и самоотверженного деяния у него органична и непрео-
долима, и в этом смысле — и до тех пор — «мучительна»
и радостна, как всякая ненаигранная творческая потреб-
ность, пока в столкновении с грубой и косной реально-
стью не выявляют себя наивность и беспочвенность его
восторженности.
Мечта Джуда сосредоточивается на «интеллектуаль-
ной и духовной житнице» Англии — городе Кристмин-
стере, за которым угадывается Оксфорд, родина старей-
шего английского университета.
«Дайте мне только попасть туда, — говорил Джуд,
недальновидный, как Крузо с его большой лодкой, —
а остальное — вопрос времени и энергии».
Для Робинзона Крузо, знаменитое жизнеописание ко-
торого служило настольной книгой пастуху Габриэлю
Оуку, время и энергия были действительно всеразре-
шающими условиями, как и для Оука, как и для всех
добродетельных героев викторианской литературы, ру-
ководимых счастливым провидением. Для Джуда время
и энергия — лишь условия развенчания иллюзий.
Кажется, будто героем своего последнего романа
Гарди сделал младшего брата Тэсс, того самого, что
выспрашивал у сестры:
— Ты говорила, что звезды — это миры, Тэсс?
И Тэсс отвечала, что, вероятно, и вправду это так,
что далекие небесные огоньки напоминают нашу Зем-
лю, а в общем, они похожи на яблоки: «Почти все
прекрасные, крепкие, но есть и подгнившие».
— А мы на какой живем, — не унимался мальчик,—
на прекрасной или подгнившей?
Таким, с детства не по-детски пытливым, был и
Джуд Фаули. Его несчастный сын оказался с малых
лет угнетен еще большей зрелостью. Мальчик отличал-
ся замкнутостью, угрюмым видом и настроением и был
даже не по взрослому, но уже старчески вдумчив, так,
что его прозвали Дедушка Время.
Литература, в том числе английская литература,
267
дала много памятных страниц о детских горестях, об
утраченном детстве.
Отзывчивый к переживаниям беззащитных, Гарди»
однако, долго не касался в своем цикле детской темы..
Юные лица как лица действующие появились в романе
«Возвращение на родину», но собственно детскую тему
Гарди впервые затронул в «Тэсс из рода д'Эрбервил-
лей», проявив особый интерес к случаям ранней удру-
ченности сознания. Его анализ впечатлительной, преж-
девременно развитой и травмированной детской мысли
дополнил важными штрихами трагическую историю»
«чистой женщины». В романе «Джуд Незаметный» не-
долгая жизнь героя прослеживается с детских лет,
детские персонажи участвуют в развитии сюжета, и рас-
крывается не только их зависимость от мира взрослых,
но и взаимозависимость поколений.
В «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» юные создания, как
подчеркивает автор, прибегая к метафоре, — всего лишь
пассажиры на семейном корабле. «От решений двух
старших Дарбейфилдов всецело зависели их развлече-
ния, удовлетворение их потребностей, их здоровье и
даже жизнь. Если бы эти двое, возглавлявшие дарбей-
филдовский дом, вздумали вести судно навстречу бедам,
катастрофе, голоду, унижению, смерти — туда вынуж-
дены были бы плыть вместе с ними и шесть малень-
ких пленников, заключенных в трюме, шесть беспомощ-
ных созданий, которых никто не спросил о том, хотят
ли они вообще жить, и тем более жить в таких тяжких
условиях, какие были в безалаберном доме Дарбей-
филдов».
В детстве нет детства — к этой теме писатели обра-
щались в поисках причин, которые до времени приво-
дят сознание к нервной изношенности, надломам. Не
всегда, однако, душа, едва складывающаяся и уже
вынужденная выдерживать непомерную нагрузку, утра-
чивает под гнетом испытаний детское существо свое.
И дети Диккенса, первые, быть может, среди изобра-
женных литературой малолетних страдальцев, все же,
за небольшим исключением, не принадлежат к числу
«маленьких старичков». Даже прославленный Гаврош
из «Отверженных» Гюго и тот, не имея вокруг, казалось
бы, никаких условий, способных отогреть в нем детские
чувства, сохраняет, как ни удивительно, вполне маль-
чишеский склад натуры. И подвиг свой Гаврош совер-
шает по-детски.
268
Есть вместе с тем особое качество преждевременно-
го созревания души — то раннее старчество, каким по-
ражен Эбл Дарбейфилд, брат Тэсс, в драматический час
их жизни. «На детском лице, — пишет Гарди, — появи-
лись морщины пятидесятилетнего человека». Достоев-
ский, терзаясь над вопросом: «Деточек-то зачем же
мучают?» — нарисовал целую галерею состарившихся
детских лиц. И другой русский писатель — Андрей Пла-
тонов— также умел с выразительностью изображать ма-
леньких мужичков, сызмальства привыкших хозяйствен-
но, по-взрослому смотреть на вещи. Хотя бы некий
Прошка, семи лет, он напрямик режет своему незадач-
ливому отцу: «Мне бы отцом-то быть, а тебе Прош-
кой...» Сурово он обращается с приемышем в семье.
«Сашка! — приказал Прошка. — Ты к нам больше
не приходи. Хлеб тебе в мешок положили, шапку пода-
рили— ты теперь ступай...
Саша пошел по улице в сторону от кладбища. Прош-
ка затворил ворота, оглядел усадьбу и поднял бесхо-
зяйственную жердь.
— Ну, никак нету дожжей! — пожилым голосом ска-
зал Прошка и плюнул сквозь переднюю щербину рта.—
Ну, никак: хоть ты тут ляжь и расшибись об землю,
идол ее намочи!» («Происхождение мастера»).
Впечатление от ранней заскорузлости детской души
Платонов доводит до мутной жути, собирая тут в фо-
кус раннюю порчу человеческой природы. Прошке де-
лать ничего не остается, как хозяйствовать, и надо всем
управлять, потому что отец лишен взрослой, деловой
струнки. Эти маленькие старички — дети взрослого бес-
силия, порождение исчерпавшей себя или уродливо на-
правленной жизненной энергии. Они могут формиро-
ваться по-разному. Прошка на свой лад выродок: он
сын бесхарактерно-доброго человека, и у него, как бы
в отместку отцу, все ушло в напористость, скопидомст-
во, злобу. Пожилой голос, приемы бывалого человека,
самоуверенность — то, чего недостает отцу. Бывает ина-
че, как это случилось у Джуда, сын которого — продол-
жение и приумножение его собственной ранимости. Де-
душка Время с малых лет подвержен непреодолимой
удрученности сердца.
Заведомо состарившись, он не может жить, не спо-
собен выдерживать борьбу с грубой силой и жестокими
обстоятельствами. Конец мальчика ужасен: в минуту
крайнего отчаяния он убивает своих сводных братьев,
269
убивает себя. Остается его записка: «Сделал это, пото-
му что нас слишком много».
Гаврош, собирая патроны под выстрелами, рисковал
жизнью с видимой легкостью еще, быть может, и по-
тому, что, как всякий мальчишка, мало знал ей цену.
Сын Джуда уходит из жизни, едва начав жить, он
безысходно измучился. Даже слог его краткой записки
выдает, насколько стар склад его мысли. Он не под-
слушал этой фразы у взрослых, он сам думал так и
владел такими словами.
Записка, сверх всего, особенно потрясла Джуда и
Сью, попытавшихся пойти наперекор условностям, на-
рушившим принципы викторианской «семейственности».
Салтыков-Щедрин говорил о «семейственности» в
положительном ее смысле как отличительном принци-
пе построения английского викторианского романа.
«Джуд Незаметный» — отрицание этого принципа.
Драма Джуда Фаули не зачинается в семье и не
завершается в ней. Драма героя начинается с беспри-
ютности. Для романа Гарди подобный зачин — сирот-
ство героя — после «Тэсс» внутренне закономерен, отра-
жает новый этап в развитии основной темы.
Сиротское положение не ограничено в «Джуде»
возрастными рамками. Одиночество и неприкаянность
героя — выражение более общего состояния, вызванного
отсутствием родственной, не только семейной, среды,
близкого по духу коллектива. Система человеческих
взаимоотношений, существовавшая в старой деревне,
разрушена, новые условия чужды Джуду, потому он
так и рвется в город. Гарди точно передает психологи-
ческое состояние не одного только Джуда: деревенский
парень, он чужак в деревне. Город для него — средо-
точие надежд и упований. Смутных, неопределенных,
но тревожно волнующих и радостно зовущих. Тема го-
рода и деревни в их влиянии на человеческие судьбы
не исчезает в романе «Джуд Незаметный». Конфликт
развертывается в иных условиях, и в его трактовке
господствует трезвый авторский взгляд. Нет даже по-
пытки напомнить о былом изображении тихого остров-
ка сельской патриархальной жизни, как это было еще
в «Тэсс из рода д'Эрбервиллей».
Тем сильнее у Джуда потребность прибежища, что
он не находит его в деревне. Сиротство героя — в ши-
роком смысле — сближает его с городом, устраняет
препоны свободного сближения, психологическую или
270
иную предвзятость. Однако в город он отправляется
с внутренним багажом сельских впечатлений, еще освя-
щенных патриархальной традицией. Наивность его пред-
ставлений, характер честолюбивой мечты, его неза-
щищенная доверчивость и простодушие, склонность
к самоистязанию выявляют в нем связь с этой тра-
дицией.
Тема сиротского детства возникает и развивается
у Гарди, не сопровождаемая назидательной мыслью
о благости семейного уюта. Истоки драмы мальчика
Джуда не в сиротском уделе. Тяжесть этого положения
очевидна, еще более плачевна участь Дедушки Время,
оказавшегося «без семьи» при здравствующих родите-
лях. Тема сиротства не боковая в «Джуде», какой она
была в ранних книгах автора, — например, в романе
«Вдали от обезумевшей толпы». Автор обсуждает ее
остро, острее, чем прежде, высказывает решительные
суждения, но — и это главное — исходит из иного, не
традиционного принципа. Само понимание «семействен-
ности» здесь не имеет ничего общего с каноном, дань
послушания которому отдал Гарди в ранних романах,
пристраивая к сюжету счастливые концовки.
Джуд и Сью пытаются строить личные отношения
и семью вне церковного или формального гражданского
брака. Любовь-дружба, искренняя, преданная, не стес-
ненная пустой условностью, — основа их близости. Она
определяет их отношение к детям, побуждая Сью
Брайдхед воспитывать неродного ребенка, как своего.
«Все малыши нашего века — дети всех нас, взрослых
современников, и имеют право на нашу о них общую
заботу», — с необычным чувством гражданственности
говорит Джуд.
Роман «Джуд Незаметный» строится не на семейной
почве, как бы расширительно ни рассматривать семей-
ственность при определении объективной основы фор-
мирования жанра и сюжета. Жанровое и сюжетное
своеобразие «Джуда» возникает на почве отношений
личности и общества. Первым опытом подобного постро-
ения романа у Гарди в его цикле был «Мэр Кэстер-
бриджа», в то же время принцип «семейственности» ни
в одном из романов цикла не был основополагающим,
и в тех случаях, когда заметно его действие (например,
роман «В краю лесов»), оно не приводит к простому
повторению канонических форм викторианского ро-
мана.
271
Ральф Фокс с полным основанием причислил Джуда
к классическому литературному типу, созданному вели-
кими романистами XIX века. «Это молодой человек,
вступающий в конфликт с обществом», которое в конце
концов разочаровывает и побеждает его. «Он единст-
венный герой Стендаля, Бальзак часто помещает его
в самый центр событий, он главная фигура почти всех
русских романов, и вы можете найти его также и в Анг-
лии, начиная с Пенденниса и дальше до Ричарда Фе-
верела, Эрнеста Понтифекса и Джуда. Этот неприми-
римый юноша, мечтатель, глубоко чувствующий и не-
удовлетворенный — индивидуалист, который не может
сжиться с обществом, сделавшим эгоизм своей рели-
гией» 1.
В этом типологическом ряду Джуд, как и предшест-
вующие ему герои Теккерея, Мередита, Батлера, выде-
ляется индивидуальным обликом. Его характер и судь-
ба указывают, что в общем ряду он шел своим путем,
рвался вперед, сталкивался с препятствиями, испыты-
вал искушения, переживал мучительные психологиче-
ские состояния — и все это было не так, как у других,
и уже совсем не так, как у Жюльена Сореля и Евге-
ния Растиньяка.
Для Джуда задача самоопределения в обществе —
проблема принципиальной важности. Казалось бы, ни-
что в жалкой жизни, лишенной ободрения и поддерж-
ки, не может поощрить самостоятельности выбора. Од-
нако неотступные вопросы физического существования
отходят у него на второй план перед требовательным:
«Как быть?» Не «кем быть?» — в житейском смысле,
какую профессию избрать и на какую ступеньку со-
циальной лестницы подняться, — а «как быть?». Идти
ли проторенным путем стихийного или расчетливого
приспособления или, руководствуясь чувством и созна-
нием собственного «я», избрать свою дорогу, пойти на
испытание и риск, не страшась препятствий и послед-
ствий. Сама постановка вопроса и его неотступность
значительны тем более, что Джуду при его обездолен-
ном положении впору думать об одном хлебе насущ-
ном. Он же отдается высоким замыслам вопреки гне-
тущим обстоятельствам и в противоположность принятой
житейской логике. Для него «как быть?» равнозначно
«быть или не быть?». Его выделяет одержимость иде-
1 Фокс Ральф. Роман и народ. М., Гослитиздат, 1960, с. 148.
272
ей, пусть пока замкнутой личным существованием, од-
нако крамольной по своей сути. В своем дерзании он
невольно становится нарушителем спокойствия, и чем
сильнее упорствует в достижении цели, тем очевиднее
его несогласие с господствующим порядком. На его
долю выпадают тяжкие испытания, его замысел терпит
крушение, и все же он не поступается идеей. При всей
издевательски мрачной безысходности его судьбы она
взывает к протесту. В герое и намека нет на покаяние
и смирение.
Муки самоопределения сопровождаются у Джуда
влиятельным эстетическим переживанием. Чувство кра-
соты и потребность прекрасного для него не блажь и
не роскошь. В переходные эпохи, в те их периоды, когда
распространяется идейный кризис, чувство эстетическо-
го как бы вдруг заявляет о себе, обретая необычную
силу и нередко гипертрофированные формы. Эстетиче-
ский критерий привлекает к себе внимание, порой вы-
ходя вперед всех других критериев, и некоторые начи-
нают видеть в нем единственное неподкупное выраже-
ние истины и человечности: ничто, кажется, не может
утолить голод разуверившихся и раздраженных чувств.
В английской литературе 90-х годов, когда Гарди
работал над «Джудом» и когда (в 1895 г.) этот роман
появился в печати, обсуждение вопросов искусства,
быта и социальной жизни под знаком эстетических по-
нятий и теорий приняло широкое распространение и
необычную остроту. Многие видные писатели словно
мучились жаждой красоты. Не только эстет Оскар
Уайльд, приметная фигура в литературе «конца века»,
или пурист Генри Джеймс, другая, не менее приметная
фигура. И знаменитые неоромантики, Роберт Луис
Стивенсон и Джозеф Конрад, обращаясь к экзотике,
избирая авантюрно-экзотические сюжеты, выражали
устремления к жизненной цельности, сочетающей герои-
ческое, нравственное и эстетическое начала. Тоска по
красоте невольно пробивается в их романтических фан-
тазиях.
Эстетическое пристрастие было формой неприятия
буржуазно-деляческого образа жизни, его бездушия,
стандарта и вульгарности. Оно было вызовом нравст-
венным прописям, моральному ригоризму и пошлости
нравов. Эстетическое пристрастие обнаруживали актив-
ный участник социалистического движения, глава ли-
тературы социалистического направления Уильям Мор-
273
рис и демократ Томас Гарди. Стимулы и мотивы этого
пристрастия, его внутренний смысл и устремленность
оказывались вместе с тем совсем неоднородными. Уайль-
довский культ красоты нес на себе печать гипертрофи-
рованного индивидуализма, скрывая бессилие перед
упадком. Неоромантическая мечта о прекрасном неред-
ко возносилась над жизнью как спутник желания бе-
жать от действительности.
У героя Гарди, Джуда, потребность красоты свиде-
тельствовала о цельности человеческой натуры, явля-
лась не выражением тоски по этой цельности, а стрем-
лением отстоять и утвердить ее. И всем другим героям
Гарди, вышедшим из народа или связанным с ним,
свойственна поэтическая отзывчивость, природное чув-
ство красоты и гармонии.
Мечта о прекрасном сливается в Джуде с потреб-
ностью полезного дела. Вырастая из неудовлетворен-
ного эстетического чувства, она не отъединяет и не
гипертрофирует его.
Отмеченное самостоятельностью и независимостью,
чувство красоты у Джуда не противостоит его душев-
ной порядочности, нравственной чистоте, как и вообще
у Гарди эстетическое и нравственное не разъединены,
не сталкиваются в противоречивых устремлениях, одна-
ко и не подменяют друг друга. Сильное органическое
чувство красоты оказывается способным поддержать
нравственную требовательность и свободолюбивый дух,
ту независимую позицию, которую избирает Джуд. Под-
держанный эстетическим требованием, его протестант-
ский дух обретает широкий размах. Джуд против клас-
совой и национальной розни, частнособственнического
инстинкта и эгоистического индивидуализма, против
«подлой обособленности», как метафорической форму-
лой подводит он итог своим критическим размышлени-
ям. Надо представить общественную атмосферу и осо-
бенность литературного развития в Англии 90-х годов,
чтобы отдать должное силе и характеру демократиче-
ского протеста, который несет с собой этот герой Гарди
и его роман «Джуд Незаметный».
В противоположность шовинистической проповеди
литераторов империалистической реакции, их призы-
вам к стоической дисциплине и жертвенности, в проти-
воположность эстетам, как раз в 90-е годы нашедшим
общую платформу и объединившимся вокруг декадент-
ских журналов «Желтая книга» и «Савой», романы
274
Гарди этого времени — «Тэсс», тем более «Джуд» —
проникнуты необычным пафосом социального обличе-
ния, далеко идущей демократической критикой бур-
жуазной идеологии, культуры, цивилизации, утвержда-
ют высокие нравственные и эстетические принципы.
Автор «Джуда» называет себя «хроникером душев-
ных состояний и поступков» и говорит, что в его задачу
не входит высказывание личного мнения. Однако автор-
ское мнение заметно в каждом слове книги, убежден-
ное, выношенное и подтвержденное объективным изоб-
ражением фактов. «Хроника душевных состояний»
складывается в драматическую историю взаимоотноше-
ний личности и общества. Роман «Джуд Незаметный»
строится так, что эти отношения прослеживаются в мно-
гочисленных связях, .и традиционные установления и
формы общественной жизни — семья, брак, церковь,
школа, сельский и городской быт — предстают как звенья
социальной системы, раскрывая свою реальную сущ-
ность. Жанр романа обретает эпическую широту, а ро-
манный сюжет — драматическую напряженность.
Вместе с тем «хроника душевных состояний и по-
ступков» позволяет Гарди дать развернутый анализ
личности. Он обращает внимание не только на духов-
ную, но и природную сущность человека, изображая
его в единстве духовных и физических начал. Просле-
живая причины «трагедии несовершенных замыслов»,
он отмечает и личные мотивы, связанные с индивиду-
альной природой человека. Поднимая завесу над
жизнью чувств и страстей, он приглядывается к внут-
ренней логике их влияния на поступки и судьбу чело-
века. Гарди делает предметом изображения такие сто-
роны интимных чувств и отношений полов, которые
в литературе викторианской поры находились под стро-
жайшим запретом. Интересна не только та смелость,
с какой Гарди нарушает моральное табу, но в еще
большей мере его проницательность и художественный
такт.
Для Гарди человек, введенный в литературное про-
изведение, не абстракция, не функция идеи или соци-
альных сил, он не отвлекается от живой природы.
В поле его зрения оказывается и темлерамент, он ана-
лизирует его особенности, осмысливает его роль в ин-
дивидуальной судьбе. Интерес писателя вызывает про-
блемы наследственности, ставшие в то время предме-
том острого обсуждения, и собственным зрением он
275
отмечает влияние таких наследственных факторов, ко-
торые проявляют себя, упорно сопротивляясь воздей-
ствию условий жизни.
В эпиграф к роману автор поставил слова: «Буква
убивает». Их жестокая истина кричит со страниц кни-
ги. Буква, догма, застывшая мысль, затвердевшая си-
стема взглядов, окостеневший быт, остановившиеся
в развитии общественные и государственные институты
уродуют, душат, крушат человека и человечность. Если
бы не самодовольное торжество «буквы», судьба Джу-
да, богато одаренного человека из народа, могла быть
иной. Эту мысль прокламирует, но ею не ограничива-
ется широкий и многослойный роман Гарди. Джуд
Незаметный, Некто Джуд, человек труда и граждан-
ского помысла, в столкновениях с обществом испытыва-
ет свою судьбу и его природу. Он готов ждать, терпеть,
идти на жертвы, не жалеет сил, но не может отказать-
ся от обретенной человечности, достигнутого сознания
собственной личности. В протесте против «проклятой
обособленности» он ощупью, но невольно движется
к новым путям жизни. Острота столкновения, высокая
мера нравственных требований, сложность переходного
времени и его личного состояния, сознание собственных
сил, упорство ищущей мысли и ее неопытность, инди-
видуалистическая закваска и прирожденный демокра-
тизм — все в нем возбуждает потребность спора и глас-
ной исповеди. В романе возрастает роль интимного и
публичного диалога, исповедальных форм выражения,
традиционных, архаичных, но обновляемых, изменяю-
щихся, испытывающих воздействие нового материала,
новых идей и ситуаций. Интимная беседа вдруг обре-
тает публицистический пафос, проникаясь социально-
политической темой, замкнутое доверительное испове-
дание превращается в исповедь для развернутого кру-
га, наконец, для широкой массы, переносится из узких
стен на улицу, превращается в проповедь, проповедь
переходит в митинговое выступление.
В интимном диалоге между Джудом и Сью звучит
ее обличительный вывод: «Вы один из тех самых
людей, для которых предназначали Кристминстер,
когда были учреждены колледжи, — человек, одержи-
мый страстью к науке, но не имеющий ни денег, ни свя-
зей, ни друзей. И вас столкнули с дороги сынки миллио-
неров».
В исповеди-проповеди — митинговом выступлении
276
Джуда на городской площади раздаются его слова:
«Я чувствую — есть какая-то ошибка в наших социаль-
ных формулах». «Держите язык на привязи», — обры-
вает его полицейский.
Мучительные размышления над собственным опы-
том, протест против социальной несправедливости про-
двигают Джуда к социалистической идее, хотя она и
возникает в его сознании в неясных очертаниях.
Так развиваются отношения личности и общества:
вызревает конфликт между рабочим парнем, сознаю-
щим достоинство трудового человека, и обществом, этим
достоинством пренебрегающим. Обретает прочность и
отчетливый рельеф почва формирования нового роман-
ного сюжета, незаметная или малозаметная в ранних
романах Гарди. По-иному звучат традиционные мотивы
его творчества, переосмысливаются излюбленные темы
и ситуации.
С нескрываемым удовольствием, с внутренним тре-
петом, юношеской восторженностью описывает Гарди
народные обычаи, обряды, празднества, массовые уве-
селения. Не одно только безотчетное увлечение стари-
ной сказывается в этом его откровенно выражаемом
интересе. В народном празднестве видится ему дух
общности, желанного единения, когда вольно и равно-
правно дышит грудь и в самозабвенной общей радости
изливают себя чувства. Изображение празднеств, празд-
ничных обычаев и обрядов, по большей части сильно
и не внешне воздействует на сюжет, композицию и
жанр его романов.
Первый роман цикла завершается таким вот мас-
совым увеселением, когда радостные клики сливаются
в дружный хор под символическим «деревом зеленым».
Совсем не то в «Джуде». И в нем праздник подводит
итог событиям. Праздник традиционный, всеобщий,
однако в нем отсутствует главное — духовное единение,
широта и человечность чувств. Сквозь праздничную суе-
ту и яркую пестроту проглядывает сухая официаль-
ность распорядка, казенщина, и два состояния чувств
выделяются на общем фоне: пышная чопорность и по-
шлая вульгарность. Звон колоколов, мощные звуки
органа, крики «Ура!» — ничто не может смягчить мук
поруганной человечности и заглушить тоски одиночест-
ва, тем более тягостной и омраченной, что всюду кру-
гом люди. Злобным смехом, сатанинской издевкой вли-
вается праздничный шум в окно комнаты, где в нрав-
277
ственных и физических терзаниях избывает последние
свои минуты Джуд.
«Он лежал с изменившимся лицом, а откуда-то
с реки донеслись крики и возгласы «ура».
— Ах да! Игры в День воспоминаний... — прошептал
он. — А я лежу здесь. И Сью осквернена.
Снова раздалось «ура», заглушая слабые звуки ор-
гана. Еще резче изменилось лицо Джуда; он шептал
тихо, губы его едва шевелились:
— Погибни день, в который я родился, и ночь, в ко-
торую сказано: зачался человек!
(«Ура!»)»
Так читатель расстается с последним героем «рома-
нов характеров и среды». Как и все другие трагические
герои Гарди, Джуд уходит из жизни не смиряясь, без
упования на христианское милосердие, столь милое
викторианскому умонастроению. Когда он повторяет
жалобы и проклятия библейского Иова, отчаяние слы-
шится в его голосе. Но негодование придает ему силу
и возвышает его. Непреклонность и человечность духа
позволяют Джуду сохранить достоинство, и моральная
победа все же остается за ним.
Пятидесяти восьми лет Гарди выпустил свой первый
сборник стихов. Обычно от поэзии переходят к прозе.
С Гарди случилось иначе.
Когда у Сократа ученики спросили, почему лишь в
преклонных годах начал он писать стихи, философ от-
ветил, что просто, став стариком, решил он наконец
подчиниться велению внутреннего голоса, который дав-
но уже от него требовал: «Трудись и твори на поприще
муз!»
Так в известной мере было и с Гарди. В известной
мере потому, что стихи он писал и ранее и что не толь-
ко внутреннее влечение и завершение большого цикла
романов, «исчерпанность» заложенной в нем темы побу-
дили его оставить прозу. На это указывают дневнико-
вые записи писателя, например, от 17 октября 1896 го-
да: «Быть может, я смогу в стихах полнее выразить
мысли и чувства, противоречащие косному, застывшему
мнению — твердому как скала, которое поддерживается
множеством людей, вложивших в него капитал». Под
напором журнальной травли Гарди, маститый романист
и зрелый человек, оставил прозу и отдался стихам. По-
278
еле этого он и по продолжительности и по содержанию
прожил как бы еще целую жизнь. На этот раз жизнь
поэта.
В самом деле, Гарди печатался как поэт тридцать
лет. В приятельских беседах на исходе своих дней он
даже был склонен подчеркивать, что романами зани-
мался только двадцать пять лет и потому соотношение
в его творчестве между прозой и поэзией клонится
в сторону последней. Им было опубликовано восемь
стихотворных сборников. Многие годы были заняты ра-
ботой над эпической драмой в стихах и прозе «Ди-
насты», три части которой появились соответственно
в 1903, 1906 и 1908 годах. Через два года после смерти
Гарди вышло капитальное собрание его стихов.
В пору активной Поэтической деятельности Гарди
оказался современником двух войн — англо-бурской и
первой мировой войны. Хотя Гарди и написал по спе-
циальной просьбе две патриотические солдатские пес-
ни, но, как справедливо считают биографы, он реши-
тельно сопротивлялся воинственной бравурности Кип-
линга. Некоторые его военные, точнее, антивоенные
стихи написаны в прямой противовес автору Томми
Аткинса, почти как пародия на «Казарменные балла-
ды». В стихах Гарди также слышна подчас дробь ба-
рабанов и выдержан походный ритм, однако звучит все
это с иронией или трагически.
У Гарди два цикла, проникнутых ненавистью к вой-
не: «Военные стихи» из сборника «Стихи прошлого и
настоящего» и «Стихи о войне и патриотизме», вклю-
ченные в «Минуты озарений». Гарди судит о войне как
демократ. Он держится точки зрения рядового солдата.
«Кого он убил?» — спрашивает Гарди в одном из сти-
хотворений и за пехотинца отвечает:
Когда бы встретил я
Такого паренька,
Мы б сели рядом, как друзья,
За столик кабачка.
Окидывая взглядом страну в то время, когда про-
должается «сокрушение народов», Гарди видит скорбь,
запустение. Жизнь движется столь же уныло, как по-
нуро, в полудремоте плетется кляча по пашне. Но дви-
жение это неумолчно, в конечном счете им все преодо-
левается.
«Да, я закончил свое произведение нотой надеж-
ды», — писал Гарди после завершения «Династов». Так
279
и в стихах о войне поэт сохраняет надежду, хотя и об-
щие и личные причины сделали его состояние в ту пору
необычайно мрачным.
Незадолго перед войной Гарди перенес ряд тяжелых
утрат. Мировая катастрофа как бы перевела потом лич-
ное горе во вселенский масштаб. В один, 1909 год,
умерли Джордж Мередит, литературный наставник
Гарди, а потом друг, и О.-Ч. Суинберн. Гарди мог на
свой лад сказать, что он «пережил и многое и многих».
Уходили один за другим близкие люди, сверстники,
казалось, вообще ушло его время. Подчас Гарди ощу-
щал себя анахронизмом. Собираясь привести как-то
две строчки из Теннисона, он с горькой усмешкой ого-
ворился: «Если только теперь еще можно ссылаться
на Теннисона». То ведь было из времен его молодости.
В 1912 году Гарди потерял жену, Эмму Лавинию
Гарди. Их совместная жизнь была нелегкой. Тут в му-
чительный клубок сплелись нервы, устремления, често-
любия, пристрастия. Биографы допускают, что та самая
«скрытая рана», которая саднит душу поэта и о кото-
рой он с постоянством пишет в 90-х и 900-х годах, и
есть семейный разлад. Гарди об этом почти не делал
признаний. Имеются, однако, подтверждения тому, что
душевное состояние его жены было очень тягостным,
временами крайне неуравновешенным. Эмме Гарди
вдруг хотелось доказать свою, независимую от знаме-
нитого мужа, значительность, она хваталась за перо,
тоже пыталась писать. Наконец за обострением и кри-
зисом последовала развязка. Гарди был оглушен воз-
никшей в его жизни пустотой. Он будто сам от себя
не ждал такой потрясенности. Спустя некоторое время
боль выразилась в стихах.
Цикл, опубликованный в предвоенном сборнике «Са-
тиры на случай. Лирика и мечты» под обозначением
«Стихи 1912—1913 годов», и составляет, по распростра-
ненному убеждению, поэтическую зрелость Гарди. Он
становится одним из крупнейших английских лириче-
ских поэтов.
Переводы этих стихотворений пока что не удались.
Стихи эти слишком органичны, сочетая все — и слово,
и звук, и ритм, и какой-то особенный поэтический шум,
будто шелест леса проходит за строками. В переводе
слишком многое пропадает. Все равно как если бы по-
английски передавать «Соловьиный сад» Блока или
«Одиночество» Бунина. «Я больше чувствую, чем мыс-
280
лю», — говорил о себе Гарди. Эмоциональная сторона
натуры его была действительно сильна. В Мередите,
например, Гарди с особенным уважением подчеркивал
силу ума (в стихах, посвященных его памяти). У само-
го же Гарди переход в сферу умозрительных суждений
обычно сопровождался данью морализаторству. Это
был словно порог, через который он должен был не-
пременно переступить.
Очередной сборник стихов Гарди намеревался вы-
пустить в 1928 году, в день своего рождения. Назы-
вался сборник «Зимние слова». В который раз Гарди
отметил в авторском предисловии, что, должно быть,
это последний... Прежде он ошибался, теперь так и
случилось.
Гарди предупреждал читателей, что эта его книга,
как и другие, будет присяжными ценителями, скорее
всего, сочтена «пессимистической». Он стоял на своем.
Некогда в стихотворении «Между нами теперь...» из
сборника «Стихи прошлого и настоящего» им были
произнесены слова: «Пусть наконец будет правда, даже
если она ведет к отчаянию». Тогда был конкретный
повод: Гарди просил правды от женщины. Но точно
так же он смотрел на жизнь вообще, того же он тре-
бовал от себя самого как писателя. Таков был и остал-
ся для него «итог мудрости земной».
До тех пор, пока его не оставили силы, Гарди зани-
мался подготовкой «Зимних слов» к изданию. Менее
чем за полтора месяца до кончины он вдруг специаль-
но выделил стихотворение «Недобрый май». Бытовой
эпизод, там представленный, мог заключать в его гла-
зах символический смысл.
Пастух стоит у загона и считает овец. Кругом непо-
года. Ветер. Волнуются птицы. «Ты недружелюбна се-
годня!»— непосредственно, как это у него обычно вы-
ходило, обращается поэт к природе. «Завтра станет
лучше!» — будто слышит он в ответ. Пастух же ничего
не замечает, он все так же стоит у загона и считает,
считает овец.
Сила внутренней сосредоточенности и привлекла,
может быть, поэта.
Гарди продолжал править текст сборника. В канун
рождества 1928 года он слегка занемог. Опасности по-
прежнему не чувствовалось. Наутро он, как обычно,
сел за письменный стол. Силы оставили его. В первый
и последний раз в жизни он не смог работать.
281
Книги Гарди отозвались в других книгах: многие
писатели, не только английские, сами называют его
имя, говоря о литературном преемстве или вдохновляю-
щих примерах. В их числе Джек Лондон, Теодор Драй-
зер, Дэвид Герберт Лоуренс, Ричард Олдингтон, Джон
Стейнбек. Были писатели, — например, Голсуорси,—
которые могли не подозревать, чем они обязаны Гарди,
но его легко найти среди тех, кто поддерживал их
в пути.
Томас Гарди принадлежит к числу тех выдающихся
писателей Англии, кем был начат и проторен новый
период ее литературного развития, охватывающий по-
чти полвека — с 70-х годов прошлого столетия до пер-
вой мировой войны. Среди писателей — своих совре-
менников — Гарди выделялся страстностью и глубиной
социальных обличений, убежденным демократизмом.
Без Томаса Гарди невозможно представить и уяснить
в полноте процесс литературного развития и духовной
жизни Англии важной и недалекой от нас поры.
ДЖОРДЖ МУР
(Пути писательства)
Джордж Мур — явление принципиальное, типичней-
ший и крупный писатель рубежа веков со всеми досто-
инствами и слабостями — как субъективными, так и
не зависящими от его сил. Соотношение биографии и
творчества, этапы биографии, «годы учения и странст-
вий», отношение к традиции, к современникам, нако-
нец, размеры дарования и уровень достижений — все
характерно.
Джордж Мур ирландец — по национальной принад-
лежности и глубоким связям с духовной жизнью своей
страны. В Ирландии он ирландский писатель и в исто-
рии ирландской литературы занимает видное место.
В Англии он английский писатель ирландского проис-
хождения и в истории английской литературы заметная
фигура. Джордж Мур родился в Ирландии, в ней про-
вел свое детство, к родным краям обращался в своем
творчестве, деятельное участие принимал в развитии
национальной ирландской культуры. Однако писал
Джордж Мур, как и многие писатели-ирландцы, на
английском языке.
Джордж Мур (1852—1933) родился в поместье Мур-
холл (графство Мейо), где у его отца, ирландца, впо-
следствии члена парламента, была скаковая конюшня.
Кони и люди в седле постоянно мелькали у будущего
писателя перед глазами. Он не только видел, как гото-
вятся к скачкам и скачут на лошадях. Быт конюшни,
пробные галопы и прикидки, увлеченные разговоры
о скачках на языке жокеев составляли «волшебные впе-
чатления» его беззаботной юности, ее волнующий и не-
забываемый аромат. И чуть было не составили его бу-
дущее: Мур мечтал стать жокеем. Ему, как и его герою
из романа «Эстер Уотерс», «помешал рост». Неподхо-
дящий рост стал для него препоной, а пережитые впе-
чатления — «материалом творчества».
Иная помеха для иной мечты возникла, когда после
смерти отца, в самом начале 70-х годов, восемнадцати-
летний Джордж Мур, располагая материальным до-
283
статком, отправился в Париж. Он познакомился с Дега,
Ренуаром, Моне, Сислеем, вращался в их среде. Эду-
ард Мане, с которым он был особенно близок, написал
его портрет. Жизнь творческой среды захватила Мура.
Казалось, все сошлось для того, чтобы Джордж Мур
стал художником, — желание, способность, склонность,
навык, перед глазами живой пример и образец, яркая
современная школа, благожелательность наставников;
нет, не вышло, все было, кроме одного, — призвания,
той силы, которая только и могла позволить творческой
личности раскрыть себя, выразить свою сущность в об-
ласти искусства, ставшего деятельностью совершенных
профессионалов. Джордж Мур отказался от своего на-
мерения стать художником, а пережитые впечатления,
обретенный опыт послужили ему «материалом» для
творчества и непосредственно отразились в книге «Со-
временная живопись» (1906).
Джордж Мур умел сидеть в седле, он умел действо-
вать кистью, он мог также писать стихи и зачитывался
поэтами. Готье и Бодлер, особенно Готье, вызывали
в нем восторг, поэты-символисты Малларме и Верлен —
восхищение. Джордж Мур попробовал стать поэтом.
В 1878 году вышел сборник его стихов «Цветы страсти»,
напоминавший своим названием бодлеровские «Цветы
зла»; спустя три года (в 1881 г.) появились «Языче-
ские стихи». Это были стихи профессионального поэта,
но слишком уж напоминавшие других поэтов, настоя-
щих и значительных, и Джордж Мур отказался от свое-
го намерения стать поэтом, а пережитые им чувства
в волшебном мире поэзии и обретенный им опыт стихо-
творца послужили ему «материалом» для творчества
и нашли отражение в книгах «Воспоминания о моей
мертвой жизни», в «Признаниях», «Беседах на Эбюри-
стрит» и других.
К началу 80-х годов Джордж Мур еще не обрел се-
бя, все сделанное им было легковесно, не могло под-
держивать его имя на том уровне, до которого нисхо-
дит если не слава, то хотя бы известность. В 1882 году
Мур покинул Париж и направился в Лондон, он поехал
туда с намерением сказать в английской литературе
новое слово, даже изменить ее направление, во всяком
случае, высвободить ее из-под викторианской опеки
нравственного пуризма и лицемерия. Он полагал, что
вполне вооружен для этого, черпая свою уверенность
в новых представлениях о задачах искусства и соотно-
284
шении искусства и нравственности, обретенных им во
Франции.
Поначалу Мур занялся в Лондоне журналистикой
и не без бравады сообщал знакомым, что живет на
Стрэнде в скромных условиях. Но бравада не могла
скрыть глубокого огорчения, вызванного неудавшимися
творческими пробами. Затеянная Муром дуэль со сто-
личным аристократом имела своим поводом не оскорб-
ленную честь, а раздраженное самолюбие и жажду ре-
шительным жестом обратить на свою персону внимание.
Дуэль не состоялась и сохранилась в биографии пи-
сателя всего лишь как беглый штрих, однако не лишен-
ный психологического значения и важный для полноты
характеристики литературного портрета.
Какие бы переживания ни тревожили Мура, как бы
далеко отвлеченные фантазии ни заносили его, к лите-
ратурному труду он уже в то время относился как
убежденный профессионал. Каждый день он садится за
стол и пишет, пишет: личный опыт и распространенная
практика создания литературы в столицах Европы
свидетельствовали, что наступила эра неумолимого
профессионализма в искусстве, требующего не только
от литературного поденщика, но и от творческой лич-
ности повседневного, разностороннего и ломового
труда.
Спустя год после приезда в Лондон Джордж Мур
выпустил в свет свой первый роман — «Современный
любовник» (1883), вещь малосамостоятельную, в боль-
шей мере сколоченную, чем написанную пером. Иска-
ния и находки автора граничат здесь с подражанием,
и в подражании он порой заходит так далеко, что начи-
нает собирать колосья на чужой ниве. Опять-таки бег-
лый, но характерный штрих: Мур усиленно и напористо
тренирует перо на чужих образцах, вырабатывая собст-
венную технику письма. Он выбирает отличные образ-
цы и в конечном счете добивается своего. У него есть
талант, чутье, трудолюбие, хватка и твердая задача
стать писателем. Ему удается раскрыть и оформить
свою творческую силу и обрести свою повествователь-
ную манеру.
В муровском стиле соединились изысканность и про-
стота, Мур будет ценить в слоге его выработанность,
обдуманную отточенность выражения, изящество и лег-
кость письма. О писателях, своих современниках, он
часто судит по их манере изложения, по их чувству
285
стили, вполне и профессионально осознанному, ориен-
тированному на строгий отбор и обработку словесного
материала. Он будет подчеркивать свое превосходство
писателя-профессионала, знатока и ценителя искусства
слова, над многими собратьями по перу, со снобист-
ской иронией подсмеиваться над Томасом Гарди уже
в своей «Исповеди молодого человека» и еще более
в «Беседах на Эбюри-стрит». Однако при всей очевид-
ной, особенно в «Исповеди», свободе и даже простоте,
впрочем, нередко обманчивой, муровского стиля, в нем
сказывается — и все более будет сказываться во многих
его произведениях — недостаток органической естест-
венности, той свободы и непринужденности выражения,
о которой трудно судить, как она достигается, — она
не поддается толкованию путем разложения текста на
структурные элементы и приемлет лишь живой и остро-
умный о себе комментарий.
В «Современном любовнике» Джордж Мур взял за
образец для подражания Бальзака. Моделью для героя
ему послужил изображенный Бальзаком тип преуспе-
вающей бездарности. Льюис Сеймур, герой романа «Со-
временный любовник», не даровит и лишен творческого
и нравственного стержня. Зато он напорист и хваток,
и если ему не дано стать художником по призванию,
он готов удовлетвориться ролью художника по поло-
жению. Он добивается своей цели — признания и мате-
риального благополучия, используя любовь богатой
женщины. Таков, утверждает Мур, «современный лю-
бовник» и в то же время современный художник — за-
метный тип художника новейшего времени, художника
по положению.
По словам Мура, автор «Человеческой комедии»
оказал на него «огромное нравственное влияние». Од-
нако в исходный момент влияние Золя было более зна-
чительным. Золя, говорил Мур, явился «моим началом»,
Золя вдохновил и направил его, указал ему путь. И до
сих пор, характеризуя направление творчества Джорд-
жа Мура, его ставят в связь с Эмилем Золя и относят
к числу натуралистов. Если судить о Муре по его ро-
ману «Жена комедианта», второму по счету роману
писателя, если всего Мура замкнуть в этом произве-
дении 1885 года и повторять его похвальные отзывы об
авторе «Экспериментального романа» и «Ругон-Макка-
ров», то нетрудно увидеть в нем приверженца и после-
дователя Золя. «Жена комедианта» своего рода «экс-
286
периментальный роман» в духе Золя. И все же это не
слепое подражание. Золя привлек Мура не одной мане-
рой письма и не схемой «экспериментального романа».
Он покорил и вдохновил его «идеей нового искусства».
Суть этого воздействия можно почувствовать, вчиты-
ваясь в слова признания, высказанные Муром в «Ис-
поведи молодого человека»: «Идея нового искус-
ства, основанного на науке, противоположного искус-
ству старого мира, основанного на воображении, ис-
кусства, могущего все объяснить и объять современную
жизнь в ее полноте, в ее бесконечных ответвлениях,
способного стать новым кредо новой цивилизации,
поразила меня, и я онемел от восторга перед гран-
диозностью этой мысли и неимоверной высоты устрем-
ления».
Не только легкая возбудимость нервов и подъем
вдохновения разожгли этот беспредельный энтузиазм
молодого неофита, который в игре воображения воз-
мечтал об искусстве, лишенном этой силы. Его неуем-
ный восторг питала жажда самоутверждения и вдруг
открывшаяся ослепительная перспектива. Он еще не
писатель, но он хочет быть писателем, и не обычным,
он хочет быть режиссером и героем новой литературы,
по крайней мере, на английской почве. Он уже хорошо
понял, что писать стихи в манере Готье или прозу
в манере Бальзака — значит не быть ни тем, ни другим.
А вот творить в духе теории натурализма, наиновейшей,
всеохватывающей, открывающей неизведанные дали и
широчайшие горизонты, — на этом пути можно обрести
все: осуществить идею великого искусства и утолить
нестерпимое томление творческого духа и жажду ам-
биции.
Джордж Мур не раз оказывался на перепутье, под
воздействием разноречивых влияний, и всякий раз об-
наруживал податливость и склонность увлекаться до
крайности. «Видно, от рождения натура моя была мяг-
кой как воск, она не чувствовала давления, легко под-
даваясь ему... Я не преувеличиваю, когда говорю, что,
мне кажется, я с равной мерой возможностей мог бы
стать фараоном, конюхом, сводником, архиепископом
и, исполняя обязанности любого из них, добился бы
определенной степени успеха».
Так говорил Джордж Мур в «Исповеди молодого
человека» (1888), книге автобиографической, давая по-
вод исследователям его жизни ссылаться на эти слова
287
как на факт самохарактеристики. «Исповедь» в цент-
ральной своей части охватывает годы беспорядочной
жизни Мура, проведенные им в Париже, о чем он рас-
сказывает с бравадой и вызовом, с очевидным намере-
нием эпатировать благопристойного буржуа. Это испо-
ведь не обычного молодого человека, а художника
в молодые годы, откровенный рассказ о становлении
творческой личности, решившей заняться профессио-
нальной деятельностью в области искусства. «Исповедь
молодого человека» является исходной для других ис-
поведей подобного рода в английской и англо-ирланд-
ской литературах на «рубеже веков» и XX века. Когда
Джордж Мур прочитал роман Джеймса Джойса «Ис-
поведь художника в молодые годы», появившийся в
1916 году, он не без основания и без ложной скромности
заметил: «Я написал об этом раньше и лучше».
«Исповедь молодого человека» не единственная ав-
тобиографическая книга Мура — он охотно и много
писал в этом жанре. И все же лучшая его автобиогра-
фическая книга — «Исповедь молодого человека». Она
самая живая из всех его книг подобного жанра. В ней
личность Мура, оказавшего влияние на многих писате-
лей XX века, раскрылась многосторонне и непосредст-
венно. По «Исповеди» трудно восстановить канву жиз-
ни ее автора, ее хронологию, основные этапы, ее «фа-
булу». Беглый рассказ о «событиях» Мур прерыва-
ет «впечатлениями», «заметками на полях», суждения-
ми о прочитанных книгах, краткими характеристика-
ми художников и писателей. В «Исповеди» мелька-
ют годы, проведенные Муром в Париже, она же пест-
рит воспоминаниями о его жизни на родине и в Лон-
доне.
«В моей лихорадочной фантазии я видел новую расу
писателей, которая возникнет и посредством романа до-
ведет до более величественного и правильного завер-
шения труд, начатый пророками; с каждым моментом
развития теории нового искусства и ее универсального
применения мое изумление возрастало и от восхищения
у меня захватывало дух».
Здесь отчетливо выявлена еще одна существенная
черта творческого облика Джорджа Мура, свойствен-
ная не ему одному, а многим его современникам и по-
следователям: интерес к эстетическому умозрению,
к эстетической теории, предваряющей творческий опыт,
и к художественному эксперименту, реализующему тео-
23$
ретические посылки. До Мура эту особенность художе-
ственного сознания выразили в Англии Джордж Мере-
дит и Генри Джеймс. Не случайно Мура иногда назы-
вают «естественным продолжателем Мередита», а по
мнению Голсуорси, Джордж Мур «заместил» Генри
Джеймса.
Все это, в сущности, одна линия, отличающаяся
в ряду основных своих признаков внутрилитературным
значением. Этих писателей, в том числе Мура, называли
«сознательными», даже «самыми сознательными» лите-
раторами своего времени, но это определение двоякое.
Оно поднимает их над уровнем «бессознательно»-ремес-
ленной писанины, однако в то же время показывает
зримый предел в сравнении с «невежественными вели-
канами». Впрочем, когда появились первые романы
Мура, написанные в духе добротного бытового реализ-
ма, его стали прочить в «новые Диккенсы». Особенно
определенно говорили об этом в связи с его романом
«Эстер Уотерс» (1894), где Мур, взяв фоном хорошо
ему с детства знакомый скаковой мир и пользуясь тем,
что страсть к скачкам вовлекает в один круг предста-
вителей разных социальных слоев, дал живые и цель-
ные картины английского общества. Там были типы,
лица, отдельные судьбы и среда. Однако, в отличие от
Диккенса, который, словно волшебник из рукава, ве-
реницами выводит все новые и новые персонажи —
в новых книгах Мур, в сущности, исчерпал свои воз-
можности в этом направлении одной книгой, хотя в об-
щей сложности им в ранний период творчества было
в этом духе написано до десяти романов.
Характерна реакция внимательного русского чита-
теля на один из таких романов: «В «Наблюдателе» пе-
чатается роман Джорджа Мура «Мильдред Лоссон».
...Ничем девушка не удовлетворяется. Ее душа излилась
в одном крике: «Дайте мне страсть к богу или челове-
ку, но дайте страсть! Я не могу без нее»... Все отравля-
ет анализ. Он идет впереди инстинкта жизни, он гля-
дит назад и вперед, разбирает, осуждает и отравляет
жизнь. Анализ — это болезнь века. Любовь изломана,
даже распутство было непосредственнее. Анализ и рас-
путство сделаны противниками. В распутство бросают-
ся, чтобы забыться» К
1Суворин А. С. Дневник. М., 1923, с. 165—166. Запись
1897 г.
Ю М. В. Уриоа
289
Мур и сам был заражен той же «болезнью века»,
тем же «анализом». Отчасти он склонен был видеть
в этом преимущество людей своего поколения перед
истыми викторианцами, он точно так же верил в про-
гресс писательства на пути к «сознательности» и про-
зы— к «форме». Однако если искомое совершенство
прозы оборачивалось чаще всего конструктивной мерт-
венностью, то и аналитическая сознательность не вос-
полняла и не опережала «инстинкта жизни». Анализ
все поглощал и выходил вперед. Не потому, что, как
у этой девушки, он был поистине силен, а потому, что
непосредственное восприятие жизни оказывалось черес-
чур слабо. Анализу, даже не очень-то и развитому, не
стоило большого труда «заесть» чувство.
Жизненная сила утончилась, ослабла, видоизмени-
лась, что сказалось, например, и в автобиографическом
характере героинь-женщин, написанных авторами-муж-
чинами. Мур мог следом за Флобером и Томасом Гарди
признать своими alter ego и Эстер Уотерс, и Милъдред
Лоссон, и блоковское замечание о возникшем в «пере-
ходные» годы «пробном» типе человека, в котором
в различных пропорциях смешаны мужское и жен-
ское начала, получило бы лишнее и типичное подтверж-
дение.
Но еще более характерна, пожалуй, для Джорджа
Мура трудность отрешиться от своего «я», то есть пи-
сать о других людях. Он самокритично зачеркнул все
свои ранние романы, и, за исключением «Эстер Уотерс»
и отчасти «Кисейной драмы», историки литературы при-
знают этот самосуд объективным. Если бы он умер
моложе пятидесяти лет — так рассуждают его крити-
ки,— то он остался бы в английской литературе эпиго-
ном Диккенса. Самобытное творческое значение Мур
обрел во вторую половину своей довольно продолжи-
тельной жизни, когда он как писатель занимался глав-
ным образом тем, что вспоминал и описывал первую
половину своей жизни. «Он сделал себя своим собст-
венным персонажем, он занимался саморедактурой и
делал это с такой отвлеченностью, что казалось, в са-
мом деле судит не о себе, а об одном из литературных
типов — «внелично», — таково впечатление его интимно-
го друга К
1 С u n а г d Nancy G. М. Memoires of George Moore. L.,
1956, p. 170—171.
290
Однако этот самоанализ и обнаруживает свои ро-
ковым образом суженные границы. Тот же друг на-
ходит для характеристики Мура еще несколько точ-
ных слов: «Он жил больше умом, чем телом». Он жил,
можно добавить, в литературе, а не собственно в
жизни. Отсюда: «Воспоминания получаются у меня жи-
вее, чем персонажи», — это уже его собственное при-
знание.
Вот тут и началась та самая «проза», поставившая
Джорджа Мура как важное звено в литературном раз-
витии, тут и осуществились творческие мечты его мо-
лодости, когда он воспринял уроки только обретавшего
силу импрессионизма и, переведя их в план литератур-
ный, присоединился к знамени символистов: «Оттен-
ки— только не цвет,, одни оттенки» (Поль Верлен).
Тогда же он преклонялся перед Бальзаком («психоло-
гическая живость лиц»), внимательно прислушивался
к Золя и Гонкурам («служение искусству»), восхищал-
ся Тургеневым («способным отыскать точное слово»),
а впоследствии вспоминал: «Натурализм бантом висел
у меня на шее, романтизм был выткан в моем сердце,
символизм я носил в жилетном кармане, как игрушеч-
ный пистолет, чтобы при случае пустить его в ход»
(«Исповедь молодого человека», 1888). Постепенно этот
«джентльменский набор» несколько сократился, сосре-
доточившись на «оттенках», то есть литературном им-
прессионизме. После кончины Генри Джеймса Мура
признали его «заместителем».
Джордж Мур полагал, что литература вообще за-
была о некоторых своих исконных свойствах: прене-
брегла, например, традицией, преимуществами устного
рассказа («романы когда-то рассказывались»). Стре-
мясь в самом деле рассказывать свои произведения и
запечатлеть на бумаге особенности такого повествова-
ния, Мур надеялся тем самым избавиться от уже без-
действующих признаков обычной прозы (вмешательство
автора, переходы от описания к диалогу). Он вообще
ставил своей целью создать «искусство более утончен-
ное, чем обычный реализм».
Диккенса он считал великим, но бесповоротно прой-
денным этапом, Томаса Гарди Мур, подобно Генри
Джеймсу, иронически третировал, утверждая, что ему
«не хватает стиля». Томаса Гарди упрекали и в наив-
ности, и в сентиментализме, в аляповатости и бесстиль-
ности. Однако, в свою очередь, если быть объективным,
10*
291
вряд ли кто мог бы создателя «Тэсс» и «Джуда» на-
звать «безжизненным».
Причем, жизненность всего, что написано Гарди,
отличается от «насыщения литературы жизнью», кото-
рое в спорах с Генри Джеймсом выдвигал молодой
Уэллс. Суждения Уэллса также выявляют опасный —
кризисный и профессионально характерный «поиск ма-
териала», чего-то внешнего, о чем писателю предстоит
написать. Перед Гарди этой проблемы, кажется, просто
не возникало, Он всегда знал, имел, о чем писать, чер-
пая из запасов своей личности, хотя от первого лица
и тем более непосредственно о себе романов (кроме
утраченного) не писал.
Допустим, ни Томас Гарди, ни сам Диккенс, да и
вообще предшествующая литература не знали той сте-
пени и тех способов самоуглубления, какие оказались
выработанными в традиции Мередита — Батлера —
Джеймса — Мура. В результате литература несколько
продвинулась к идеалу, очерченному Флобером: «Автор
в своем творении должен быть как бог: его не видно,
а он чувствуется». В самом деле, многие обветшавшие,
окаменевшие повествовательные, преимущественно опи-
сательные условности были устранены. Повествование
сделалось более подвижным, многоплановым и действи-
тельно более «сознательным» в том смысле, что пи-
сатель мог добиться соответственно многообразного эф-
фекта в зависимости от того, надо ли ему заставить
читателя слышать, видеть, — словом, возникала отто-
ченная многомерность прозы.
Классический реализм, развернувший свои гигант-
ские силы в середине XIX века, подчас в самом деле
оказывается рядом с этой прозой несколько однолиней-
ным, описательным. Толстой, передавая со всей ощути-
мостью засыпание Пети Ростова, вводит в череду полу-
осознанных впечатлений еще и звук «Ожиг-жиг-жиг»,
а все-таки не создает звука; получается попытка
воспроизвести звук, но не проза, передающая некий
звуковой эффект. Тот самый случай, когда Джордж
Мур имел обыкновение «оплакивать... нежелание пи-
сателя довести до необходимо-художественного результа-
та его же собственный замысел» К
Если Джордж Мур возьмется воспроизводить звук,
«писать звук», мы не прочтем о звуке, а нам просто
1 Wolfe Humbert. George Moore. L., 1931, p. 28.
292
прозвучит что-то со страницы. В свою очередь, Стивен-
сон не использует ничего в прямом смысле светового
и цветового, чтобы показать, как взошла луна и
«в бочке стало светло». Генри Джеймс не станет опи-
сывать музыку, что все-таки делает Толстой, когда На-
таша Ростова на балу; он незаметно втянет читателя
в некий ритм, столь же незаметно, однако педан-
тически последовательно зафиксирует внимание на
определенной «точке зрения», и в результате читатель
воспримет, как поют, что в это время думают, о чем
между тем говорят. Этот пример-сопоставление по-
зволяет заметить, в чем тут дело, где «техноло-
гическая» разница между Толстым и Джеймсом,
между двумя последовательными литературными эпо-
хами и что такое «сознательность» в лучшем ее про-
явлении.
Однако тотчас является вопрос о масштабах этого
искусства. Ибо, во многих отношениях божественно вы-
сокое, оно само по себе не дает «сознательным», все
рассчитывающим мастерам гарантии выполнения ис-
тинно сознательной задачи — сотворить свой мир, свою
вселенную — то, что действительно «яко бог» делают и
Диккенс, и Толстой. Более чем к кому-либо применим
и к Джорджу Муру, и ко всей этой традиции его же
собственный упрек: неспособность осуществить замы-
сел. Между тем реалисты-классики мимоходом, выпол-
няя некую гораздо более грандиозную созидательную
задачу, преобразуют и тончайшее мастерство. Именно
мимоходом. Толстой собственно оставил в черновиках,
среди отвергнутых им самим замыслов и набросков, то,
что могло бы позволить появиться «Портрету худож-
ника» в середине прошлого века. Почему, однако, оста-
лось это в черновиках? Безусловно, Толстой знал цену
всякому высокому искусству и в том числе чистому
артистизму повествования, но он методически отказы-
вался от него и даже вытравлял этот артистизм всюду,
где только способно было искусство помешать тому,
что Толстой ставил еще выше, — нравственной правде,
истине, как понимал ее Толстой.
В известном смысле крупные писатели конца века
были «сознательнее» — осмотрительнее великих реали-
стов. Однако эта осмотрительность суживала обозри-
мость их возможностей. Генри Джеймс, развивая свои
взгляды на повествование, прямо говорил о неприме-
нимости для него метода Толстого прежде всего пото-
293
му, что он рассчитан на иные масштабы. Разграничение
стихийного «искусства» и высокоорганизованного «ма-
стерства», определявшееся в ту пору, как бы узакони-
вало отступление литературы от уровня великих реали-
стов. Подводя итоги рубежу веков, романист Э.-М. Фор-
стер сделал известное «антипатриотическое» (по его
словам) заявление, подчеркнув, что среди английских
романистов нет писателей масштаба Толстого и Досто-
евского К
К 1888 году, когда была издана «Исповедь» Мура,
относится его статья о Тургеневе — как бы дополнение
к «Исповеди» или самостоятельная ее часть. Эта ста-
тья— отлично написанное лирическое эссе и важное
свидетельство многостороннего влияния великого рус-
ского писателя на западноевропейскую литературу. Мур
был лично знаком с Тургеневым, необычайно дорожил
памятью об этом знакомстве, испытал сильное влияние
его «изумительного мастерства», восторженно отзывал-
ся о нем как о творческой индивидуальности.
Два русских писателя-классика вызывали особый
интерес Джорджа Мура — Тургенев и Толстой. Мур
предпочел первого второму.
Не было, конечно, единой меры, масштаба досто-
инств и значения литературного искусства. Джордж
Мур вспоминал свой символический разговор с Уилья-
мом Хенли, прежним другом и соавтором Стивенсона.
«Толстой, — утверждал тогда Хенли, — может носить
Тургенева на цепочке от часов». А Джордж Мур отве-
чал: «Иногда бывает, что даже брелок на цепочке цен-
нее самой цепочки»2.
Знаменателен уже тот факт, что русские имена слу-
жат на исходе прошлого века английским писателям
обозначением магистральных направлений творчества:
говоря о Толстом и Тургеневе, Мур и Хенли спорили
о том, как вообще следует писать, какими путями бу-
дет развиваться искусство повествования. «Толстой»
или «Тургенев» — это были, по их мнению, взаимоис-
ключающие принципы — «стихия» и «сознательность»,
«хаос» и «отбор», «сама жизнь» и «мастерство воспро-
изведения жизни». Характерно также, что Мур, не от-
рицая исполинских сил Толстого, переводит разговор
в другую систему оценок.
1 Forster Е. М. Aspects of the novel. N. Y., 1954, p. 7.
2 «Avowals» (1919).
294
«В 90-е годы, — вспоминал Джордж Мур, — все мы
были подавлены обаянием реализма, внешнеописатель-
ного реализма». Отсюда, как реакция на всеподавляю-
щее воздействие искусства бытового правдоподобия, и
возникла мечта о более «утонченном» и «углубленном»
методе изображения. Так по крайней мере думал о сво-
их установках Джордж Мур. Объективно, однако, тео-
рии «отбора», идеал «сознательности», принцип «ма-
стерства» и меры «брелка» или «горошины» были в ко-
нечном счете свидетельством упадка творческих сил,
неспособности литературы справиться с жизнью — того
именно, что удавалось великим реалистам. «Никому
весь видимый мир не был так открыт, как Толстому», —
это признание Джорджа Мура.
И все же, будто потому как раз, что сил и возмож-
ности продвигаться другим путем не было, Джордж
Мур с тем большей тенденциозностью и запальчиво-
стью упрекал Толстого и реализм вообще в стремле-
нии «соперничать с самой Природой». «Книга «Война
и мир» велика, но если бы она была еще в три раза
больше, все равно многое бы осталось неизображенным.
Можно представить себе, как Толстой вскакивает но-
чью в ужасе, что он пропустил сцену с яхтами, а на
следующую ночь он вспоминает, что не описал заутре-
ню... Несмотря на очевидный талант, заявляющий о
себе в каждом описании, все же нельзя отделаться от
мысли о пловце, который пытается перегнать поезд,
идущий по берегу» К Так понимал Мур «соперничество
Толстого с Природой», с самой жизнью, с предметом
изображения.
Дневники и черновые варианты Толстого тогда еще
не были доступны читателю, так что Мур не имел воз-
можности по ним убедиться, насколько мысль Толстого
двигалась принципиально иным путем, чем он это себе
представлял. Но пока что вопрос не в оценке Толстого.
Судя о Толстом так же, как он судил о Диккенсе, Мур
дает наглядный материал для суждений о нем самом,
о его понимании писательства.
Эмоциональная подвижность Толстого в отношении
к искусству измеряется иной шкалой (вспомним об
этом не только ради самого Толстого, но для типоло-
гии).
1 «Russian Literature and Modern English Fiction». Ed. by Da-
vie D. Chicago — London, 1965, p. 36—37.
295
«— Я всегда говорю, — передает мемуарист беседу
с Толстым, — что произведение искусства или так хо-
рошо, что меры для определения его достоинств нет —
это истинное искусство. Или же оно совсем скверно.
Вот я счастлив, что нашел истинное произведение ис-
кусства. Я не могу читать без слез. Я его запомнил.
Постойте, я вам сейчас его скажу.
Лев Николаевич начал прерывающимся голосом:
Тени сизые сместились...
Я умирать буду, не забуду того впечатления, ко-
торое произвел на меня в этот раз Лев Николаевич.
Он лежал на спине, судорожно сжимая пальцами
край одеяла и тщетно стараясь удержать душившие
его слезы. Несколько раз он прерывал и начинал
сызнова. Но наконец, когда он произнес конец пер-
вой строфы: «все во мне, и я во всем», голос его
оборвался». — «Лев Николаевич, — добавляет мемуа-
рист, — прочел тютчевские «Сумерки» тихим, прерываю-
щимся голосом, почти шепотом, задыхаясь и обливаясь
слезами» 1.
Видно, как последовательно проявляется натура
Толстого, начиная от цельного взгляда на «истинное
искусство» и кончая мыслью стихов, которые Толстой
привел в пример такого искусства; это мысль об ор-
ганическом единстве с жизнью, с мирозданием. Вели-
кий писатель оказывается еще и человеком-гигантом,
обладающим совершенно исключительной жизненной
силой. Не только писатель, но и соответственно
натура меньшего масштаба сказывается в суждениях
Джорджа Мура, когда живую мощь Толстого, бью-
щую через край, он трактует в духе студийно-ремес-
ленного «соперничества с Природой», желания нечто
«написать»... Надо отдать в этом смысле должное
Генри Джеймсу, который осмотрительно учитывал это,
а потому, говоря о «жизни» как о предмете искусст-
ва, подчеркивал — «жизнь в доступных мне преде-
лах». Известно, что пределы эти были для Генри
Джеймса совершенно определенно ограничены самой
природой.
Сейчас историки литературы пристальнее и, глав-
ное, серьезнее, чем прежде, всматриваются в человече-
1 Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., Гослитиздат,
1959, с. 57.
296
ский материал, оказавшийся подоплекой творчества
наиболее заметных и влиятельных писателей на пере-
ходе из XIX в XX век. Делается это теперь все чаще
не затем, чтобы наконец решить, «справедливо ли осу-
дили Оскара Уайльда» и «правда ли, что у Томаса
Гарди был внебрачный ребенок», не ради скандально-
детективных изысканий, но в силу оправданного пони-
мания, насколько небезразлично отражался этот ма-
териал в творчестве.
Кстати, предпочтение, какое отдавали Тургеневу
перед Толстым и Генри Джеймс, и Джордж Мур, и еще
многие их современники, было мотивировано глубоко
лично. Вне зависимости опять-таки от того, насколько,
это определяет Тургенева, некий культ его характери-
зует хотя бы Мура.' Тургенев близок и приятен ему
многим: изяществом, тонкостью; даже размеры его
книг особенно нравились и Муру и Генри Джеймсу —
последовательный подход, где выдержана все та же
мера «брелка». С какой субъективной заинтересован-
ностью встретил Джордж Мур издание писем Турге-
нева к Полине Виардо! Позднейшая публикация пе-
реписки самого Джорджа Мура с Нэнси Кунард — ле-
ди Кунард — вполне проясняет такой пристрастный
интерес.
Форд Мэдокс Форд, близко знавший английских
литераторов этого круга, свидетельствует,, насколько
в самом деле личным было отношение его старших
соотечественников к Тургеневу. О Голсуорси он, напри-
мер, вспоминает, как тот передавал ему эпизод, слы-
шанный от самого Тургенева:
«...У Тургенева была связь с крепостной девушкой.
Отправляясь однажды в Петербург, он спросил ее, что
привезти ей в подарок. Она попросила душистого мыла.
И на вопрос, зачем ей это мыло, она будто бы ответила:
«Чтобы вы могли целовать мои руки, как целуете вы
руки знатным дамам, вашим друзьям».
«Мне эта история совсем не понравилась, — отмечает
Форд, — но... Голсуорси говорил о ней со слезами на
глазах» !.
Еще одни «слезы», и они, как мера эмоциональных
колебаний, проступают на страницах книг во всем —
в понятиях стиля, изящества, человечности, вообще
1Ford Madox Ford. Portraits from Life. Boston, 1947.
297
«жизни» и, главное, масштаба в оценке явлений жизни
и литературы. По сравнению с неистовством Толстого,
достойным короля Лира, тут мера какая-то комнатная,
кабинетно-студийная.
Один мемуарист рассказывает об удивительном опы-
те, выпавшем ему на долю: он читал «Анну Каренину»
в Яснополянском доме, в комнате по соседству с кабине-
том Толстого. «Странно было думать, — пишет мемуа-
рист, — что этот старик написал эту книгу, что книга
эта вообще кем-то была написана»1. Напротив, всякое
заметное явление в западноевропейской, в частности
английской, литературе конца века должно было вы-
звать как можно более отчетливое впечатление, что
книга «написана», «сделана». Толстой тогда же
упрекал английских писателей за «фабричность»2. И это
не было только индивидуальным свойством какого-то
писателя-ремесленника или даже ремесленников от ли-
тературы вообще. Литература все более становилась
ремеслом-профессией в той мере, какая Толстого еще
не затрагивала. Щедринское выражение «писатель
пописывает, читатель почитывает» (1884) способно, по-
жалуй, очень точно определить действительно произ-
водственно-поточный ритм литературной жизни Запада
на рубеже XIX—XX веков3.
«Пища для творчества» нужна была и Толстому,
однако внешний материал не превращался у Толстого
в творчество до тех пор, пока не совершилось его ор-
ганическое усвоение, пока не становился он частью
личности Толстого, его собственной жизнью. Для этого,
разумеется, требовалось время; темпы усвоения «пищи
для творчества» были иными, чем, скажем, при «изу-
чении», выдвигавшемся натуралистами. Существенно,
что даже те писатели, которые, казалось бы, о попол-
1 Ивакин И. М. — Литературное наследство, т. 69, кн. 2.
2 Т а м же.
3 В западноевропейской литературе такой ритм учредился, ко-
нечно, раньше, чем в России. Адам Мицкевич, например, глядя
в этом смысле на Россию глазами западного человека, говорил о ли-
тераторах пушкинской поры: «Почти все они люди состоятельные
или правительственные чиновники и пишут преимущественно для
приобретения славы и веса... Талант не стал еще там товаром».
Своих же европейских собратьев-писателей Мицкевич тут же на-
зывает «пролетариями» (1837).— Мицкевич А. Собр. соч. в 5-ти
томах, т. 4, с. 91—93. Ср. суждения Пушкина, отдававшего себе
в этом ясный отчет, в письмах к Баранту (декабрь 1836 г.) и к Вя-
земскому.
298
нении материала могли и не заботиться (жизненный
опыт сполна обеспечивал их материалом), испытывали
нехватку «пищи для творчества».
К началу 1894 года, когда появилась «Эстер Уотерс»,
Джордж Мур уже был автором семи романов, двух сти-
хотворных сборников, двух пьес, автобиографии, несколь-
ких произведений критики и художественной публици-
стики,— словом, к тому времени он был искушенным
литератором с немалым жизненным и творческим опы-
том. Едва ли «Эстер Уотерс» могла бы возникнуть,
если бы не этот пройденный путь, если бы ей не пред-
шествовали две книги, опубликованные во второй по-
ловине 80-х годов, — роман «Кисейная драма» и уже
упомянутая «Исповедь». В этих двух книгах четко обо-
значился писательский облик Мура, направление его
литературных интересов и манера его письма. «Кисей-
ную драму», в которой Мур обратился к ирландской
теме и социальным проблемам, он назвал в подзаголов-
ке «реалистическим романом». Тот же подзаголовок
мог бы стоять под названием «Эстер Уотерс» — правди-
вой истории обездоленной девушки, вынужденной оста-
вить место служанки в помещичьем доме из-за прегре-
шения неосмотрительной любви, носить клеймо «пад-
шей», терпеть тяготы изнурительного труда и горькой
нужды. Узколобая и ханжеская критика встретила
«Эстер Уотерс» враждебно, усмотрев в этом романе
«скандальный пример декадентской литературы, демо-
рализующей народ». Ничего декадентского и деморали-
зующего нет в истории жизни Эстер Уотерс, насыщен-
ной драматизмом и горечью. В романе есть точные,
трезвые наблюдения среды и нравов разных слоев анг-
лийского общества, изображены неприглядные и от-
талкивающие явления, однако без какого-либо оттенка
упадочнического настроения.
Значительнее всего в «Эстер Уотерс» сама Эстер
Уотерс, героиня романа, ее характер. Суть его состав-
ляют сила жизни и воля к ней, соединенные с непре-
клонным достоинством. Органичность для муровской
героини этих отличительных черт, естественная соеди-
ненность в ней простых и вместе с тем возвышенных
чувств выделяют ее облик и делают его привлекатель-
ным. В борьбе литературных направлений «конца века»
Джордж Мур, автор «Эстер Уотерс», оказался на иной
стороне, чем декаденты разных толков и проповедники
права сильного, хотя еще в «Исповеди» в порыве бра-
299
вады и эпатажа он произносил похвальное слово «Не-
справедливости» и готов был ради «одного сонета Бод-
лера пожертвовать многими жизнями». Эстер Уотерс
сближала Мура с Томасом Гарди, как бы внутренне
автор «Исповеди» ни сопротивлялся этому, дала повод
сопоставить ее с Тэсс из рода д'Эрбервиллей, сколь
бы ни были различны эта два яркие свидетельства
демократизации английской литературы на «рубеже
веков».
Эстер Уотерс не раз оказывается на перекрестках
жизненных дорог, испытывающих ее характер. Ей не
раз приходится делать выбор и расплачиваться за каж-
дый опрометчивый шаг. И ни разу она не изменяет себе,
сути своего характера, в самые критические моменты
в себе самой находит опору.
Пережив короткую, вдохновенную первую любовь,
Эстер Уотерс остается одна. Поругано лучшее чувство,
попрано женское достоинство, утрачены репутация и
место работы, все омрачено, и, казалось бы, нет про-
света. Но Эстер Уотерс не надламывается духовно и
не опустошается нравственно под натиском невзгод.
Оставшись одна с внебрачным ребенком, она растит
его ценой неимоверных усилий, не поступаясь достоин-
ством.
Проходят годы, для Эстер Уотерс тяжкие и мучи-
тельные, и вот случай сводит ее с первой любовью.
Сводит в тот момент, когда в ее судьбе наметился
перелом к лучшему и возникла перспектива устроенной
жизни. Появился человек, ее полюбивший, его отноше-
ние к ней и ее ребенку, отношение к ней его семьи —
все обещает ей иные условия существования, некую
безусловную меру покоя и благополучия. Однако она
отказывается от этой перспективы, отвергает односто-
роннее чувство, для которого в себе не находит ответа:
оно не сулит ей душевной отрады. Верх берет не рас-
чет, не потребность отдыха и покоя ценою забвения
могущественных желаний сердца, верх берет жажда
живого, органичного чувства, и она перебарывает го-
речь обиды на отца своего ребенка. Так четкая мера
достоинства и потребность живого, наполненного, цель-
ного чувства отчетливо обозначают логику поведения
героини.
Подобной же потребностью одержим сам автор в
своих поисках темы, героя, материала, способа и прие-
мов повествования. Он берется писать о предметах и
300
ситуациях, которые в его время еще считались нехудо-
жественными и не подходящими для литературы. Он
стремится писать об этом с естественной непринужден-
ностью и артистизмом, с полным сознанием поставлен-
ной перед собой задачи. Ему удается расширить поле
писательского действия в направлениях, которые до
него и в его время считались запретными и которые
даже Диккенсу или Томасу Гарди приходилось обхо-
дить стороной. Он один из первых в английской прозе
стал писать о самой обыденной жизни с естественной
повествовательной интонацией, избегая нажима сто-
ронних влияний, воздействия сентиментальных мотивов,
мелодраматического пафоса, публицистической рито-
рики. Он не приемлет «острого» сюжета, построенно-
го на подпорках случайных событий, на сочиненных,
не мотивированных происшествиях. Сюжетная напря-
женность обусловлена у него столкновением харак-
теров, психологическими конфликтами, воздействием
времени, обстоятельств и бытовой среды на судьбу лич-
ности, отчетливым и подвижным ритмом повество-
вания.
Автор «Эстер Уотерс» ориентируется на объектив-
ную манеру письма флоберовской школы, удерживает
повествование в рамках безличного отношения к про-
исходящему, решительно избегает открытых заявлений,
прямого обращения к читателю или посредничества
между читателем и героем. Мур отвергает роль везде-
сущего и всеведущего автора, но свою позицию сохра-
няет, от своего мнения не отказывается и выдает свое
присутствие отбором материала, последовательным вы-
ражением «точки зрения» героини, эстетической эмо-
цией, интонацией, особенной, «ирландской» иронией,
насмешливой, едкой и скептической, делающей рассказ
о событиях более острым и подвижным.
В «Эстер Уотерс», романе «объективном», Мур про-
должает писать о себе, многое черпает из впечатлений
своей юности. Все, что в диковинку Эстер Уотерс, все,
что поражает и обескураживает ее, когда она, в самом
начале романа, появляется в старом поместье и сталки-
вается с бытом скаковой конюшни, — все это было от-
лично известно Джорджу Муру. Какое-то время для
него вся вселенная размещалась между стартом и фи-
нишем скаковой дорожки. Вынесенное им впечатление
от этой особой, сокращенной вселенной, ее ощутимый,
реально-фантастический образ служит в романе не
301
просто материалом для изображения необычной обста-
новки. Мур производит творческий эксперимент, одним
из первых мастеров европейской прозы новейшего вре-
мени сознательно ставит студийную задачу изобразить
действительность в двух реально-обыденных, а по от-
ношению друг к другу контрастных, планах. Скаковая
конюшня, подготовка к скачкам, нескончаемые раз-
говоры о прошедших и предстоящих скачках, прак-
тика букмекерства, играющие на скачках — все изобра-
жено в своей повседневности, но эта повседневность
особого рода, непохожая на обыденную жизнь. Для сто-
роннего взгляда скаковая конюшня — экзотика, скач-
ки — экзотический праздник, но и для знатока «мир
галопа — волшебный мир». Он причудлив, он дей-
ствует на воображение и предоставляет писателю
очевидные выгоды, говоря языком скачек, дает ему
фору.
Пользуясь «форой», Мур пишет обыденность, туск-
лую, угнетающую воображение, демонстрируя, как
можно подчинить слову «дикий» материал, «пером не
объезженный» и ничем артистическим не выявленный.
И в том, как он решает эту писательскую задачу,
как он делит действительность на два плана, сказы-
вается его позиция, его взгляд на житейскую прозу,
на условия существования, шире — его концепция
жизни.
Скаковая дорожка, ограниченная стартом и фини-
шем, или арена для боя быков, то есть малая, замкну-
тая и вместе с тем красочная площадка действия,
изображенная в контрасте с обыденной жизнью,
сокращенная вселенная, противопоставленная все-
му миру буржуазного существования,— этот способ
изображения и оценки действительности, хорошо
знакомый современному читателю по книгам Шерву-
да Андерсона или Эрнеста Хемингуэя, был в конце
прошлого века обстоятельно разработан Джорджем
Муром.
В «Эстер Уотерс» вокруг скачек группируются мно-
гие лица, устанавливается система отношений, образу-
ется особый мир. Его законы жестоки и губительны,
жертвы у всех на виду, но они не распугивают его при-
верженцев. Есть в нем нечто, что к нему притягивает.
Это нечто — своего рода «полнота жизни», доставляе-
мая напряженностью сосредоточенных, захватывающих
все существо переживаний. Приверженец особого мира
302
сам, «свободно» устремляется к желанной цели, «сво-
бодно» принимает общие для всех правила, охотно
участвует в обряде игры, в которой правит случай, всем
предоставляющий равные возможности. Он идет на
риск, и риск для него благородное дело, он сам строит
теорию удачи, сам испытывает ее, — словом, он живет,
не прозябает, — так представляется ему участие в игре,
которой он отдается со всей силой страсти и вообра-
жения. Приверженец обычную практику «конька», «хоб-
би», сильного увлечения чем-либо, делает универсаль-
ной. Для него «конек» — не временное отстранение от
обыденности, не передышка от житейских .забот, не
развлечение «на час», для него «конек» — все, вся
жизнь в буквальном и переносном смысле, — он осед-
лывает «конька», чтобы скакать за удачей, скакать изо
дня в день, и только этой скачкой — игрой в скачки —
и живет.
Автор «Эстер Уотерс» до известного предела на
стороне приверженцев этого особого мира, он их пони-
мает, им сочувствует, он с их стороны смотрит на всю
остальную жизнь, точнее сказать, на обыденность бур-
жуазного существования. Он ее ненавидит, он ее прези-
рает, он не находит в торжествующем буржуа ничего
возвышенного, героического, истинно человеческого.
Ему претит мещанский «здравый смысл», делячество,
его возмущают придавленные мысли, убогие чувства,
кичливость сытых, самодовольство пошляков, бесконеч-
ное лицемерие. Судья, ополчившийся против привер-
женцев «незаконного» «конька», сам его приверже-
нец, только лицемерный, раздвоенный, для него «ко-
нек» всего лишь «конек», увлечение, приятная возмож-
ность отвлечься от трудов, которые он считает правед-
ными.
Джордж Мур избрал принцип объективного повест-
вования и следует ему. Но наступает момент, когда он
не выдерживает тона. Однажды он дает полную волю
своему возмущению. На нескольких страницах романа
он особенно отчетливо выражает авторское «я», резко
возвышая свой голос против буржуазной машины по-
давления и расправы. Он в лучших традициях англий-
ской литературы использует иронию и сатиру, когда
в главе XLI описывает судейство самодовольного и
бездушного крючкотвора. Тут он берет на себя обязан-
ность обличителя и «срывает маски». Он изобличает
с выношенной злостью и убежденностью демагогиче-
303
ские разглагольствования судьи, его закоренелое ли-
цемерие и его профессиональную жестокость. «Его Ми-
лость кинул взгляд на дрожащую от страха женщину
за барьером и приговорил ее к полутора годам каторж-
ных работ, после чего, собрав лежавшие перед ним
бумаги, тотчас раз и навсегда выкинул ее из своей
памяти». Демагогия, лицемерие и жестокость представ-
лены Муром как нечто неотъемлемое от буржуазного
правосудия. Судейская практика вырабатывает в «Его
Милости» хладнокровие машины, поразительную спо-
собность не тревожить себя содеянной несправедливо-
стью и жестокостью. «Старая как мир история: для
богатых — один закон, для бедных — другой» — так об-
щей формулой с чувством возмущения характеризует
социальный смысл этой практики далеко отстоящий от
политики Уильям Лэтч, букмекер, хозяин заштатной
пивной «Королевская голова», муж Эстер Уотерс, те-
перь уже Эстер Лэтч. Он раздражен и возмущен не-
справедливостью, но дальше общей формулы не идет
и желает только одного — чтобы его и всех привержен-
цев «игры» оставили в покое, чтобы полиция не совала
нос в «подпольное» букмекерство и чтобы не фарисей-
ствовали те, кто возвысился над уровнем «неимущих
классов». «Уильям, — как замечает автор, — не пытал-
ся вникнуть в этот вопрос глубже». Тем менее пытает-
ся вникать в «этот вопрос» его жена, героиня романа,
«простая душа» — Эстер. Она способна глубоко сочув-
ствовать обиженным и оскорбленным, оказать им не-
посредственную помощь, пойти на жертвы, проявить
стойкость, выдержку, но не ее призвание «глубоко вни-
кать в вопросы».
Джордж Мур, по его собственным словам, изобра-
жает судьбу Эстер Уотерс, ее продвижение по жизнен-
ному пути «как единоборство характера с обстоятель-
ствами». И характер и обстоятельства представлены
автором в их сложности, в их очевидных, легко объяс-
нимых и в загадочных проявлениях. Разные силы воз-
действуют на Эстер в кризисных ситуациях, когда ее
судьба оказывается в зависимости от ее выбора и ре-
шения, — силы внешние и внутренние.
Казалось, что оборванные отношения с Уильямом
после пережитых Эстер страданий восстановить невоз-
можно. Случайная встреча после долгих лет разлуки
вызывает их на трудное испытание. В себе самой Эстер
переживает борьбу разноречивых чувств. «Она поста-
304
вила себе целью отделаться от Уильяма, чтобы вый-
ти замуж за другого, но она глядела на него и вдруг
почувствовала, как былое влечение пробуждается в
ней снова». «Былое влечение» Мур трактует отнюдь
не в духе теории натурализма и описывает его как
реалист.
Джекки, ребенок Эстер и Уильяма, служит причи-
ной их сближения, но в какой-то момент он разъединя-
ет их, возбуждает напряженную неловкость, ревность,
повод для враждебного, даже злобного чувства. Джекки
не знает отца, но вот он явился перед ним и нарушил
установившееся равновесие обделенных чувств. Реак-
ция ребенка проста и наивна и невольно вскрывает
драматизм ситуации: «Наконец, не отрывая глаз от
кончиков своих башмаков, Джекки спросил хотя и
угрюмо, но доверчиво:
— А вы правда мой папа? — и добавил вдруг, пыт-
ливо поглядев Уильяму в глаза: — Только без обмана,
ладно?»
Смятенные, противоречивые чувства Эстер, вызван-
ные отцовскими притязаниями Уильяма и откликом на
них ее Джекки, все это изображено убедительно, без
влияния «натуралистических» мотивов. Все же они,
эти мотивы, есть в «Эстер Уотерс». Они сказыва-
ются, например, в некоторых натуралистических па-
раллелях и сопоставлениях, в сравнении толпы со ста-
дом, в подчеркнутом выявлении роли инстинкта в жизни
человека. В объемном романе эти мотивы поч-
ти незаметны, но его концовка невольно напоминает
о них.
В «Эстер Уотерс» Мур идет на риск смелых литера-
турных исканий и опытов. Он словно щеголяет специ-
альной осведомленностью, насыщает текст профессио-
нальной речью. Испытывая терпение читателя, он часто
и подолгу держит его на специфическом, так сказать
конюшенном, речевом рационе, приобщая его не только
и даже не столько к особому профессиональному быту,
сколько к особому типу душевных состояний. Решая
писательские задачи, Мур готов соперничать с великими
мастерами. Не исключено, что он дерзнул соревновать-
ся с самим Толстым, когда свою героиню отправил на
скачки и показал их без скачек. У Мура скачки без
скачек не простой эксперимент, не только выработка
и апробация приема на новом материале в стендалев-
ской традиции изображения войны без войны — без
305
фронтовых стычек и схваток. В «Эстер Уотерс» скач-
ки — кульминация «игры», на ней сосредоточиваются
страсти, ставкой оказываются жизни, она решает судь-
бы. Скачки у Мура, при всей их очевидности, нечто
неуловимое — «многоцветное, многоголосое», нечто за-
гадочное и непостижимое. Этим самым они тем более
притягательны для их приверженцев, и по той же са-
мой причине они не притягивают Эстер Уотерс, став-
шую Эстер Лэтч. Она впервые едет на скачки, поезд-
ка ее описана в подробностях, все, что происходит
вокруг скачек, представлено в деталях, но самих ска-
чек Эстер так и не видит. «После нескольких фальстар-
тов лошади пошли. Отыскав окошечко между множест-
вом котелков и шляп, Эстер увидела пять-шесть строй-
ных лошадок — они показались ей похожими на борзых.
Они пронеслись мимо и растаяли, словно призраки,
а Эстер вдруг прониклась сочувствием к гнедой ло-
шадке, которая тихонько трусила позади, сбившись в
сторону».
Вот и все, что в день дерби Эстер, специально при-
ехавшая посмотреть скачки, увидела на скаковой до-
рожке. Только это мгновение последней скачки показал
писатель своей героине и читателю. Скачки без скачек
у Мура не простой прием. Эпизод со скачками занима-
ет в сюжете романа особое положение и проникнут
принципиальным смыслом. Эстер смотрит на скачки
совсем не так, как ее муж Уильям Лэтч, как все игроки
и вся толпа. Для нее это нечто игрушечное и эфемерное.
Скачущие лошади кажутся ей похожими на борзых, и
проносятся они, «словно призраки». И колышущаяся
толпа на трибуне напоминает ей марионеток, а сама
трибуна — «палубу тонущего корабля». Неподалеку от
трибуны — карусель с деревянными скакунами, без-
обидное подобие скачек и пародия на них. А над тол-
пой, над сокращенной вселенной, ограниченной стартом
и финишем, «знойное голубое небо» — вселенная без
конца и края. Так показаны скачки, в таком виде они
предстают перед Эстер, этой своей стороной они по-
вернуты к читателю.
В эпизоде со скачками выделяется еще один мо-
мент. Перед тем как покататься на карусели, а потом
взглянуть на скачущих лошадей, Эстер оказывается
в палатке Армии спасения — религиозно-филантропи-
ческой организации, построенной по военному образцу.
Военизированные «братья во Христе» клеймят скачки
306
как козни сатаны, как путь к «погибели» и сулят свое
решение проблемы: их «ставка — спасение души, а вы-
игрыш— вечное блаженство». Эстер не хочет быть
с этой армией заодно. Горький жизненный опыт заста-
вил ее разувериться в «общественном» буржуазном
долге и в посулах христианского смирения. «В жизни
не получается делать то добро, к которому стремишься,
и тогда стараешься делать добро там, где можно»,—
вот ее вывод. Индивидуальное достоинство, долг пе-
ред мужем, ребенком, друзьями — такова ее замкну-
тая нравственная программа, противопоставленная на-
стырному лицемерию и душевной неразборчивости.
В драматических ситуациях, которые в дальнейшем
возникают на жизненном пути Эстер, она следует этой
программе, обнаруживая, как всегда, сердечную
прямоту и стойкость, отзывчивость, готовность идти на
жертвы.
В книге «Признания» Джордж Мур, используя ска-
ковой жаргон и извиняясь за него, так писал об англий-
ском романе: «Английские романисты никогда не при-
ходят к финишу с честью. Они закидываются или
сходят с дистанции, стирают подковы, встают в обрез,
как это говорится... Английская проза полукровка.
Французское или русское повествование показывает
больше породы».
Литература не скачки, и скаковой жаргон, при всех
его изобразительных возможностях, мало подходит для
ее оценки, для столь широко охватывающих и катего-
ричных выводов. Но сам Джордж Мур своей практикой
романиста подтверждает высказанное им суждение. Ав-
тор «Эстер Уотерс» «стирает подковы» на финишной
прямой. Эстер Уотерс — «простая душа» английской
литературы; Джордж Мур — искушенный ее предста-
витель. «Простая душа» остается верной себе на всех
драматических этапах жизни, она «не сходит с дистан-
ции» и на последней странице романа «полна од-
ним чувством» — чувством исполненного материнского
долга. «Искушенная душа» литератора позволяет
ей на глазах у читателя пережить «счастье этой мину-
ты», не обещая ей покоя в будущем. Концовка рома-
на формально не замыкает сюжета, обретая свойст-
во «открытой» концовки. Но философский и житей-
ский выводы автором уже сделаны, они утверждают
«вечные начала» с помощью символики и риторики.
В рамках «вечных начал», от старта до финиша,
307
от рождения до смерти, доля «простой души» —
«трудиться и трудиться», выполняя «назначение жен-
щины».
Однако читатель передвигался вместе с Муром на
всем направлении драматического сюжета, и если ав-
тор у финиша «встал в обрез», то читателю он предо-
ставил возможность двигаться дальше и делать свои
выводы с учетом всего жизненного опыта героини и
социальных условий жизни, правдиво изображенных в
«Эстер Уотерс».
В беседе с одним из своих биографов, точнее — с
предполагаемым автором его биографии, Джордж Мур
краткой, почти афористической формулой обозначил
нелегкую задачу, пожалуй, не только эту частную, но
и существенную часть общей задачи жизнеописания
творческой личности. «Вы, — сказал Мур, — собирае-
тесь писать историю человека, который самоопределил-
ся благодаря своему воображению, и вам надлежит
выяснить, когда его воображение выражало его натуру
и когда искажало ее».
Конечно, рекомендация Мура кажется неожиданной.
Странно слышать слова категорического признания
столь действенной роли воображения из уст художника,
приходившего в восторг от идеи искусства, пренебрег-
шего воображением. Но это один из парадоксов его
мысли и душевных состояний.
Согласие муровского воображения с его натурой
было гибким и подвижным, когда он писал автобиогра-
фическую «Исповедь молодого человека» (1888), роман
«Эстер Уотерс» (1894) и рассказы, вошедшие в сбор-
ник «Невозделанное поле» (1903). Это самые попу-
лярные книги Джорджа Мура, заметные вехи на его
пути, • наглядная мера его достижений и возможностей,
источник его деятельных связей с литературой и чи-
тателем.
Писатели, вступившие в литературу после первой
мировой войны, воспринимали Мура как «живого класси-
ка», как «прошлое». Его влияние было значительным
и признанным, однако не всегда согласовалось с логи-
кой самого Джорджа Мура. В нем видели одного из
первых экспериментаторов как в жизни, так и в лите-
ратуре, одного из первых, совершивших паломничество
в Париж, чтобы «научиться писать» (это стало потом
модно). «С восхищением читал я «Исповедь молодого
человека», — признавался Шервуд Андерсон, в свою
308
очередь повлиявший затем на молодежь, — меня вос-
хищал Париж и эта жизнь богемы...»1 Вот имен-
но! Восторг безотчетный, без второго плана, без само-
оценки и переоценки во взгляде Джорджа Мура на
себя самого той поры, когда ему так нравилось брави*
ровать «бантом на шее» и «пистолетом в жилетном
кармане». Именно такое поверхностное эстетство при-
нимали за программу Джорджа Мура и ошибались, ко-
нечно.
Anderson Sherwood. Memoirs. N. Y., 1944.
РИЧАРД олдингтон
(Вражда и родство с уходящей эпохой)
«Джордж Мур — изящный скандал в двуколке; Гар-
ди — пасторально-атеистический скандал (никто еще не
понял, что он смертельно скучен); Оскар Уайльд ис-
полнен небрежного высокомерия — и ах, как остро-
умен, и ах, как одет!» — так, цепью «скандалов» рисо-
валась литературная панорама конца века англичанину
другого поколения — Ричарду Олдингтону, прошедше-
му фронт первой мировой войны.
«Совсем другая Англия — Англия 1890 года — и,
однако, на удивление та же, — писал он тогда, в конце
20-х годов, — в чем-то неправдоподобная, бесконечно
далекая от нас, а во многом — такая близкая, до ужаса
близкая, сегодняшняя Англия, чей дух окутан плотны-
ми туманами лицемерия, благополучия, ничтожности.
Уж так богата эта Англия, уж такая это могуществен-
ная морская держава! А ее оптимизм, способный посра-
мить даже Стивенсона, а ее праведное ханжество!»
Как видно, всем достается по порядку, сводятся
счеты века с веком. И действительно, молодой автор
продолжает: «...Диззи (Дизраэли) умер не так давно,
и его романы еще не кажутся смехотворно-старомодны-
ми, какой-то нелепой пародией. Интеллигенция эстет-
ствует и поклоняется Оскару, или эстетствует и покло-
няется Берн — Моррису (то есть Эдуарду Берн-Джонсу
и Уильяму Моррису. — М. У.), или проповедует утили-
таризм и поклоняется Гексли с Дарвином» («Смерть
героя», ч. I, 1).
Ирония не щадит ничего. Олдингтон начинает свой
роман, «памятуя о Джордже Муре», но — снисходи-
тельно «памятуя», как помнят мысли, когда-то казав-
шиеся блестками, но безнадежно приевшиеся. Пожалуй,
никто из английских писателей 20-х годов не взглянул
на недавно отошедшую эпоху в таком собранном фо-
кусе и, иронизируя над литературными «скандалами»
того времени, не начал свою писательскую деятель-
ность скандалом, но более резкого свойства.
Олдингтон (1892—1962) как фигура интересен для
историка английской литературы «рубежа веков», по-
310
тому что своей биографией и в своем творчестве по-
особому соединяет два века. Исход девятнадцатого
столетия, «конец века», составляет его детство, а если
учесть, что не девятисотым годом обрывается прошлый
век, продолжая жить и после 1901 года, то и его
юность. Первые главы романа «Все люди — враги»,
вполне автобиографические, показывают, в какой еще
непосредственной близости и натуральности мог наблю-
дать Олдингтон уходящую эпоху «викторианства», эпо-
ху, растянувшуюся в английской литературе от Диккен-
са до Томаса Гарди.
Олдингтон однажды заметил, что Томас Гарди в
молодости видел английскую деревню, сохранившуюся
нетронутой с шекспировских времен. Олдингтон же,
в сущности его младший современник, знал Англию
Томаса Гарди: он родился и рос в то время, когда ро-
маны Гарди еще составляли необычайно дерзкое нов-
шество, производили «скандал», как это и' отмечено
в прологе к «Смерти героя». Оскар Уайльд эпатировал
публику, Суинберн лечился от запоя, — все это Олдинг-
тон слышал в детстве и юности собственными ушами
как модные сплетни. А ведь это столь же далеко, как
далеки от нас, скажем, дворянское, бунинское «оску-
дение» или продажа вишневого сада.
Вместе с тем Олдингтон — человек совершенно со-
временный, более того, он сам составлял в канун пер-
вой мировой войны поэтический авангард, он значится
в истории литературы среди основоположников има-
жизма. Джойс, Лоуренс, эталоны модерна, только на
десять — семь лет старше его, Т.-С. Элиот — почти
сверстник; Хемингуэй едва пробует перо в то время,
когда Олдингтон печатается уже несколько лет: стихи,
критика, переводы, — обретает известность, имя.
Он начал как поэт, недовольный филистерскими
прописями, стиховыми штампами и риторическими услов-
ностями, утвердившимися в английской поэзии в нача-
ле XX века. Однако в поисках обновления поэтического
языка он присоединился к замкнутой группе поэтов,
положивших в 1912 году начало имажизму — эстетско-
му формалистическому движению в английской и аме-
риканской поэзии. Среди его сторонников Олдингтон
был самым молодым, но сразу занял одно из ведущих
мест. Он, как и другие имажисты, исключительное зна-
чение придавал «чистому образу», фиксирующему непо-
средственное впечатление. Он писал свободным стихом,
311
стремясь запечатлеть прихотливые изменения внешне-
го образа, отражающего ассоциации, обычно далекие
от жизни и насыщенные рафинированными литератур-
ными реминисценциями.
Олдингтон надолго сохранил симпатии к имажизму
и оставался в рамках этого движения вплоть до
1917 года, пока оно не иссякло. Однако рамки эти были
ему тесны с самого начала.
Первая мировая война столкнула поэта с «грубы-
ми истинами». Сборник стихотворений «Образы войны»
(1919), хотя и не полно, отразил происшедшие в нем
изменения. Ужас перед войной, крах субъективистских
представлений, нарастающее чувство протеста, желание
прямо взглянуть фактам в лицо и быть не только пре-
дельно искренним, но и простым в раскрытии пережи-
ваний— вот те новые элементы, из которых складыва-
ются эти образы.
Однако в сборнике в целом, и нередко даже в од-
них и тех же стихотворениях, правдивые образы смыка-
ются с надуманными, всплывающими в узком потоке
имажистских ассоциаций. Склонность Олдингтона вы-
ражать в стихе мысль намеками, связанными с зыбкой
системой изощренных поэтических созерцаний, изолиро-
вала его от общения с простым читателем даже тогда,
когда он (например, в стихотворении «Изгнание») хотел
говорить на актуальные темы голосом поэта-граждани-
на. «Кто, к примеру, — не без иронии заметил сам поэт
много лет спустя, — мог бы подумать, что в стихотворе-
нии «Изгнание» в 1919 году я хотел выразить контраст
между звериным национализмом и идеалом цивилиза-
ции и культуры».
После войны Олдингтон вернулся к поэзии, перево-
дам и литературной критике. Правда, сразу после пе-
ремирия у него явилось желание взяться за прозу, за
книгу, где можно было бы полно выразить накипевшее
за время войны. Но попытка оказалась преждевремен-
ной. Он оставил этот замысел до лучших времен, а пока
выпустил несколько стихотворных сборников («Образы
войны», «Война и любовь»), переводил Шодерло де
Лакло и Боккаччо, писал о Вольтере и Реми де Гур-
моне.
«Образы» («Images»), «Образы войны» («Images
of War»), «Образы желаний» («Images of Desire») за-
нимали воображение поэта целое десятилетие, и они
важны для понимания его творческой биографии: в них
312
заключены начала проблем и конфликтов, которые рас-
крываются в лучших образцах его прозы, и прежде все-
го в «Смерти героя».
В течение десятилетия (с 1929 по 1939 год) выходят
семь романов Олдингтона, составляющих как бы еди-
ный цикл, — это «Смерть героя» (1929), «Дочь полков-
ника» (1931), «Все люди —враги» (1934), «Женщины
должны работать» (1935), «Сущий рай» (1937), «Се-
меро против Ривза» (1938), «Отвергнутый гость» (1939).
А также сборники рассказов —«Дороги к славе», «Крот-
кие ответы». Эти книги дополняют друг друга, разви-
вая общие темы. В них запечатлены значительные яв-
ления жизни Англии первой трети нашего века. Герой
этих книг — обычно молодой человек, стремящийся
найти призвание, на свой страх и риск решающий
гражданские и нравственные проблемы времени.
«Смерть героя» — самый значительный из англий-
ских антивоенных романов, посвященных первой миро-
вой войне. Не случайно это произведение сделало имя
Олдингтона всемирно известным.
По признанию Олдингтона, чувство гнева было той
силой, которая преодолела в нем неуверенность и сде-
лала его романистом. Он начал писать «Смерть героя»
сразу после перемирия, еще находясь на линии фронта
в бельгийской деревушке.
В ответ на мои вопросы Олдингтон подробно изло-
жил историю создания «Смерти героя», с появлением
которого имя его вошло в историю английской литера-
туры. В ноябре 1959 года Олдингтон писал:
«Постараюсь рассказать вам, что помню о том, как
был написан этот роман.
Выходец из среды непривилегированной, я получил
за время моей военной службы ряд полезных уроков.
До тех пор я и не знал, что высшие классы в Британии
расценивают низших не дороже животных. Однажды во
время внезапного артиллерийского обстрела я собст-
венными ушами слышал, как офицер кричал: «Не обра-
щайте внимания на людей! Спасайте мулов! Они стоят
денег!» Я слышал это в январе 1917 года на дороге из
Бюлли-Грене в Лоо.
Возможно, что это вошло в «Смерть героя» — я не
заглядывал в книгу с момента ее первой публикации,—
но вот, однако, еще одна сценка из той же зимы
1916/17 года, которую я не могу забыть. Было холодно,
не так холодно, как у вас зимой, но все-таки: глубокий
313
снег и мороз. Потом я читал об «увеселениях», которые
были устроены в ставке главного командования во
время этих морозов: блюда с черной икрой, паштеты,
дичь, жаркое, вино и проч. Мы же, орудийный расчет,
сидели на половинном довольствии из говяжьих кон-
сервов и сухарей, кроме того мы, более двадцати чело-
век, были вынуждены умываться в одной и той же
воде. Это типично для британской культуры: тюремные
власти заставляли Оскара Уайльда «мыться» грязной
водой.
Если бы я сам не испытал таких унижений, разве
я мог бы озлобиться на них? Если бы не видел я собст-
венными глазами раны и гибель стольких безвинных
людей, разве вынес бы я в душе такую травму?
Не верьте немецким воякам, когда они говорят, буд-
то они не были разбиты в 1918 году. Я был там; я ви-
дел, как бежали они в полном беспорядке; я видел
позиции на Сомме, усеянные оружием, которое они по-
бросали в паническом бегстве. Вы, русские, настоящие
солдаты, вы знаете, что если солдат отступает по при-
казу, он не оставит оружия. А там все позиции были
завалены немецким вооружением. Не они отступили,
мы просто их вышибли. Гитлер лгал, когда пытался
отрицать это.
Кончилась война. Моя дивизия (24-я) не была по-
слана для оккупации Германии, а оказалась разбро-
санной по границе в районе Мобеж — Турне. Как коман-
дир отряда сигнальщиков и наблюдателей, я должен
был заниматься веселеньким делом: двигаться для раз-
ведки впереди всех, и это — в конце войны. Затем мне
пришлось отправиться в бельгийскую деревушку под
названием Тантинье, чудовищно маленькую, чтобы най-
ти квартиры для своих солдат. Первую же ночь я про-
вел один среди крестьян и отдал свой белый хлеб маль-
чику-бельгийцу, сыну этих крестьян. Он в жизни нико-
гда не видал белого хлеба и все кричал: «Мама, мама,
как вкусно!» Много ли может сердце выдержать такой
нагрузки!
Итак, замерзшие и полуголодные, мы, даже офице-
ры (поскольку мы не принадлежали к «господам» из
ставки), очутились в этой деревушке. И там впервые
набросал я дикую, глупую, беспомощную рукопись,
попробовав вложить в нее то, чему научился я за три
года войны. Помню, как просиживал я ночи, пытаясь
писать; за окном луна, «будто лицо покойника, умер-
314
шего пять дней назад», руки трясутся от холода; книга
вышла, конечно, никудышной и нелепой.
Неожиданно в феврале 1919 года пришел «приказ
облегчения» — демобилизация. Глубокий снег. Замеча-
тельные люди эти британцы. В Дюнкерке мы, жалкие,
измученные пехотные офицеры, сидим в палатках под
снегом и дрожим, а немецкие военнопленные (мы могли
это наблюдать) удобно устроены с отоплением, какого
мы никогда и не имели. Рыцарство, конечно, рыцар-
ство.
Вернулся в Лондон, прошло два дня, и началась за-
тем погоня за «работой», в надежде найти хоть что-
нибудь, чтобы не разлучить вовсе душу с телом, как
выражаются идеалисты. О, господа в редакциях вели
себя просто бесподобно, готовые помочь вернувшемуся
«герою»: берите вот эту книжку, стоит она десять шил-
лингов, напишите мне на нее рецензию, а книжку мо-
жете оставить себе.
Словом, известная история. Но я победил их, я все-
таки достал работу, отыскал за городом маленький до-
мик и даже сумел съездить за границу (при моих-то воз-
можностях), в Италию, что дало мне необычайно много.
Прошли года, и благодаря щедрости одного амери-
канца я получил за книгу достаточно денег, которые
давали мне несколько недель свободного времени. Я ис-
пользовал эти средства с тем, чтобы предоставить вре-
менное уединение на острове Порт-Крос моему другу
Д.-Г. Лоуренсу... И там же за несколько дней я напи-
сал пролог к «Смерти героя», я намеренно сделал его
кратким, так как опасался, что времени мне не хватит.
Итак, по утрам я работал над романом, а вечерами
переводил «Декамерона» Боккаччо — дело двигалось.
Роман, начатый в ноябре 1928 года на Порт-Крос,
был продолжен в Италии и закончен в Париже. Всего
работа над ним заняла пятьдесят один день, и в мае
1929 года книга была завершена».
В романе «Смерть героя» автор воспроизводит эпи-
зоды трагедии «потерянного поколения», стремясь про-
следить ее истоки на примере судьбы героя книги, бур-
жуазного интеллигента, журналиста и художника Уин-
терборна, участника первой мировой войны.
«Смерть героя» — это сказано и серьезно, и с явной
иронией. Серьезно, поскольку автор подчеркивает свою
близость и симпатию к главному персонажу и относит
его к числу тех, кто «детство и отрочество свое, точно
315
юный Самсон, провел» в борьбе. Ирония более чем оче-
видна. Пафос ее обращен против войны, шовинизма,
урапатриотических девизов, но ирония невольно задевает
и то, что дорого сердцу автора.
Ирония в заглавии и в тоне повествования. Ирония
пронизывает всю эту книгу. Особенно отчетлива она
в прологе: сдержанная и кричащая, насмешливая, ед-
кая, злая и беспредельно печальная, глубокая и пате-
тическая, грубая и поверхностная. Необычная, порой
какая-то судорожная, вскрывающая сложные пережи-
вания, она как живое лицо с подвижной и выразитель-
ной мимикой, по которой можно судить о смене на-
строений и душевном состоянии.
«Смерть героя» — история короткой жизни молодого
человека, убитого на войне. Жизни частной, пытавшей-
ся в замкнутом кругу пробить свой путь, собственную
дорожку; были искания, бунтарские порывы, была
приверженность идеалам. И вдруг все оборвалось. За
неделю до перемирия, на" рассвете 4 ноября 1918 года,
человек в хаки поднялся безо всякой видимой причи-
ны во весь рост с земли и стал мишенью вражеского
пулемета. Такой отнюдь не героической и совершенно
бессмысленной оказывается «смерть героя» — Джорджа
Уинтерборна, капитана британской армии, художника
и литератора, пошедшего на фронт рядовым. «Джордж,
если вы согласитесь с моим истолкованием фактов,—
говорит повествователь, — двадцати шести лет от роду
покончил самоубийством».
«Смерть героя» — антивоенный роман, однако фрон-
товым сценам отведено менее его половины. Автора
интересуют не только следствия, но и причины. Он хо-
чет разобраться в проклятой катастрофе и дойти до
корня. Ему важно понять, какие силы обрекли Джорд-
жа на бесцельные муки, подорвали в нем волю и толк-
нули к пропасти. Историю жизни своего героя автор
разбирает фрагментарно, пробираясь ощупью сквозь
разрозненные влияния, но прослеживает ее от начала
и до конца, заранее предупреждая о трагическом исхо-
де. Он заглядывает и в более далекое прошлое, и все
же отправным пунктом считает начало 90-х годов, вре-
мя, когда герой и сам автор появились на свет. Как ни
отрывочны штрихи очерченного автором исторического
фона, все же он может подсказать многое: олдингтонов-
ский герой — герой безвременья, подготовившего «поте-
рянное поколение».
316
На этом фоне крупным планом возникает уродли-
вое семейное гнездо, из которого торчат отталкиваю-
щие фигуры «милого папы» и «милой мамы». Это хлест-
кий гротеск, за которым чувствуется дрожь омерзе-
ния— выстраданное проклятие пошлости и особенно
тартюфству английского мещанина.
Навязчивая семейная рутина тяготила и уродовала
Джорджа. Подчиняясь ей внешне, он принужден был
замыкаться в себе. Невольно укоренялась прихотливая
склонность к бездумному созерцанию и чрезмерному
умствованию. Чувство сковывалось, загонялось внутрь,
и возникала боязнь осквернить его банальным словом
или поступком. Развивалась привычка вуалировать
мысль, ценить мысль не высказанную, а подразумевае-
мую. Скромность уступала место неуверенности, потреб-
ность общения — отчужденности, недоверию к себе и
другим. Относительное благополучие не спасало его от
жизни жалкой и страдальческой. Себя он отстаивал,
но основными его союзниками были силы из мира отра-
женного и далекого от повседневной жизненной схват-
ки. Он похищал с полки томик Китса и чувствовал себя
самим собою (как и автор, который свое первое стихо-
творение написал вскоре после «открытия» Китса). Он
шел в картинную галерею или выходил на прогулку,
видел цветы на заливных лугах, меловой кряж, ласко-
вый луч света и чувствовал себя самим собою. Он «су-
мел сохранить искру» в спертом воздухе домашнего
очага, оберегаемого ангелами коммерческого расчета
и дешевого лицемерия. Он не дал ей угаснуть и в уду-
шающей атмосфере училища, тренировавшего юные
организмы по моделям безмозглого мужества, казен-
ного оптимизма и покорной готовности обслуживать
потребы империи.
Культ Британской империи, дух военщины и мили-
таризма, ходячие девизы, их подкреплявшие, политиче-
ские и литературные авторитеты, их поддерживавшие,—
все это вызывает в авторе «Смерти героя» горячую и
осмысленную ненависть, страстное возмущение. О си-
стеме воспитания, калечившей Джорджа и его поколе-
ние, системе, пренебрегающей человеком и его инте-
ресами, подменяющей подлинные ценности мнимыми,
действительные цели фальшивыми, содержательные
понятия крикливой фразой, сказано с горечью и него-
дованием. Джордж чувствовал гнусный обман в на-
ставлениях, обязывавших его признать правильным все,
317
что делается ради империи. Роль ее безгласного слуги
меньше всего прельщала его. Он хотел мыслить само-
стоятельно, действовать по внутреннему убеждению и,
главное, быть самим собою. Он смутно сознавал, что
это значит — «быть самим собою», но чувствовал себя
хорошо, когда «был предоставлен самому себе», и по-
началу едва ли видел существенную разницу между
этими состояниями. Он и в стенах училища продолжал
отстаивать свою независимость, по-прежнему делая это
молча, не повинуясь с готовностью, но и не оказывая
решительного неповиновения. Жизнь его как бы раз-
дваивалась, и не было у него устойчивой опоры. По-
требность творчества будоражила и воодушевляла его,
вызывая светлую и какую-то неизъяснимую, щемящую
и лихорадочную радость. Хотелось понять ее и поде-
литься ею, выразить летучее впечатление: понаблюдать
за игрой вечернего света, цветовыми переливами и по-
ведать, какие чувства все это вызывает. А юношеские
чувства Джорджа, вполне искренние, возбужденные
еще не разгаданным волнующим переживанием, обна-
руживали в нем своенравие и привередливость. Что-то
в нем безотчетно тянулось к необычному, яркому, од-
нако неясному в своих очертаниях, условному и стили-
зованному, и брезгливо съеживалось, коснувшись гру-
бого факта. В противовес житейской пошлости выраба-
тывались понятия и вкусы, далекие от реальности. Эсте-
тические веяния викторианской эры не миновали героя.
Вкусы его быстро менялись, но всегда был заметен
определенный уклон. Побывал Джордж в Лувре и
стал убежденным прерафаэлитом, поклонником средне-
вековой живописи, средневековых примитивов. Прошло
несколько лет, и он возненавидел Росетти и Берн-Джон-
са, увлекся футуристической живописью кубистов и
стихами Аполлинера, создававшего «слова-картины»,
проникнутые легкой иронией и элегическим созерца-
нием.
В памяти Джорджа (и самого Олдингтона) запечат-
лелся «кусочек старой Англии, почти не изменившей-
ся со времени Шекспира и даже Чосера». В первом
десятилетии XX века это был чистейший анахронизм,
вскоре бесследно исчезнувший. Однако воспоминание
о нем в душе героя (и автора) сохранилось надол-
го и дает о себе знать не только в наивных порывах
к этому прошлому, но и в критике буржуазной цивили-
зации.
318
Но вот детство и юность позади, Джордж на собст-
венных ногах, пребывает в английской столице, предо-
ставлен самому себе, существует журналистикой, живет
искусством и любовью. По-видимому, Джорджем руко-
водили те же мотивы, что и Олдингтоном, когда он, на-
чинающий поэт, испытывая отвращение к чиновничьей
лямке, стал работать журналистом: «Мне хотелось на-
слаждаться жизнью, своей жизнью и на свой лад».
В новом Джордже узнается прежний, тот самый, ко-
торый механически тянул лямку в урочное время, чтобы
вздохнуть всей грудью на каникулах. Но условия изме-
нились, теперь он сам отвечал за себя. Его личная по-
рядочность и желание оставаться независимым явля-
лись «фатальной помехой» на пути преуспеяния, а «он
плохо умел притворяться».
Обстоятельства сводят его с декадентской средой.
Эта среда обрисована в романе точными и выразитель-
ными штрихами, с прочувствованной сатирической
злостью. Ее представляет наглый шаман от искусства,
расчетливый глашатай супрематизма, мистер Апджон
и соплеменные ему именитые литераторы, выступающие
под однозвучными ярлыками — Бобб, Тобб, Шобб. Тут
и «высоколобые» декаденты (мистер Тобб) и маскирую-
щиеся под «демократов» карьеристы (мистер Бобб).
Мнимая значительность, кичливые претензии, раздутое
самомнение и жалкая суетность, едва прикрытое холуй-
ство перед титулом и тугим кошельком, беспардонные
выкрутасы — вот подлинное лицо этих новоявленных
вожаков «самоновейшего» буржуазного искусства, за-
бивших в барабаны перед первой мировой войной.
В гротескных «боббах», «тоббах», «шоббах» выявлены
характерные черты буржуазного упадочничества и раз-
ложения. За ярлыками видны факты и лица, знакомые
автору по первоисточнику. Наглядны прямые ссылки,
нетрудно уловить намеки. Живой моделью Олдингтону
послужили Паунд и Элиот, возглавившие в начале
10-х годов литературный модернизм в Англии и США.
Под именем художника Апджона выведен Эзра Паунд.
Этот американский поэт-декадент, явившийся теорети-
ком имажизма, впоследствии стал фашистом, во время
второй мировой войны выступал в поддержку Муссоли-
ни. В мистере Уолдо Тоббе, «пылком британском пат-
риоте и убежденном тори», прибывшем из Соединенных
Штатов, стороннике «Монархизма в Искусстве, Твер-
дой власти в Политике и Классицизма в Религии», лег-
319
ко угадать Томаса Стернза Элиота. Уроженец штата
Миссури, Элиот принял британское подданство и неза-
долго перед тем, как Олдингтон начал писать свой ро-
ман, выступил с реакционным лозунгом — католицизм
в религии, классицизм в литературе и монархизм в по-
литике— и стал проявлять рвение в пропаганде охра-
нительных идей.
«Смерть героя», раскрывая противоречивые пережи-
вания Джорджа Уинтерборна, в то же время показы-
вает, как сам автор относился к декадентам перед вой-
ной и в последующие полтора десятилетия. Крикливая
бравада и циническая опустошенность глашатаев «но-
вого искусства», их заносчивое витийство и деляческая
цепкость отталкивают Джорджа, его охватывает чувст-
во гадливости, здоровое начало в нем возмущено. По-
казательно настроение двадцатилетнего художника Уин-
терборна, впервые попавшего на воскресный ужин в
студии мистера Шобба (именно в 1912 г., которым да-
тирован этот эпизод, Олдингтон примкнул к имажи-
стам). Так вот они, «единственно умные люди в Лон-
доне! Ну, если это — ум, я предпочитаю оставаться
дураком! Лучше уж гигантский осьминог-скука, влады-
чествующий за стенами этого дома, чем эти ядовитые
медузы, тщеславные, самовлюбленные и злорадные».
Однако Уинтерборн не порывает с этой средой, он опе-
чален, раздосадован, возмущен, но думает, что сможет
отмахнуться иронией, взбадривая себя язвительной
шуткой. Иногда он возвышается до патетической оза-
боченности, но может опуститься и до мелкой обиды.
Даже на фронте, находясь на передовой, после крутых
перемен и потрясения, он как-то уж очень благодушно
встречает сообщения о махинациях бобб-шобб-тоббов,
ловко приспособившихся в тылу. Иное дело автор; его
мнение конца 20-х годов ясно выражено в книге. Не-
произвольно или верным расчетом он нижет на одну
нить, связывает в один клубок внешне разрозненные
поучительные детали: забытая на время чреда одно-
звучных ярлыков напоминает о себе, когда Уинтерборн,
вернувшись из окопов, обстрелянных фосгенными сна-
рядами, мучается от тошноты и удушья. Само собой
напрашивается: отравители душ! Автор не произносит
этих слов, но позволяет сделать недвусмысленный вы-
вод, ведет к нему ассоциативным ходом, не забывая
(в другом месте) сказать об этой братии с категори-
ческой определенностью: «Интеллектуальные бандиты».
320
Заметно изменилось, иным стало отношение Олдингто-
на к декадентам. За десять лет до создания романа
«Смерть героя» он еще говорил, что поэт-декадент —
это мученик, который «идет по канату над пропастью».
В романе звучит иная речь, о «канатоходцах», «боб-
бах» и «тоббах» сказано резко, с чувством яростного
осуждения, модернистские новшества изобличены. Ав-
тор в тревоге, он озабочен состоянием культуры.
Одну из причин морального крушения своего героя
автор видит в его интимной жизни.
В Джордже Уинтерборне сильна потребность живо-
го, искреннего чувства. Показная благопристойность
внушает ему отвращение, оскопляющие запреты, про-
диктованные коммерческим расчетом, предрассудками
или ханжеством, вызывают его протест, он радуется
высвобождению из-под мелочной опеки. Но любовные
увлечения Уинтерборна столь же беспечны, как и его
пристрастие к «новому» искусству, также подхлестнуты
модернистскими доктринами. В его состоянии, когда
моральные устои расшатаны, идейных устремлений нет,
а нездоровые веяния сильны, легко было отозваться на
буржуазную проповедь свободной любви и принять ее
доводы за чистую монету. Джордж отказывается от
серьезного в любви, не замечая, как беззаботная непо-
средственность чувств уступает место распущенности.
С глупенькой и самонадеянной увлеченностью, подогре-
той хотя и задерганным рефлексией, но все же власт-
ным желанием, толкует он своей возлюбленной модные
«теории» отношения полов. С прямодушной отзывчи-
востью восторженного и доверчивого простака встреча-
ет он мнимое свободомыслие буржуазок Элизабет и
Фанни, жены и любовницы. Его обволакивает утончен-
ная фальшь, сердечная привязанность наталкивается на
самодовольное безразличие, дух его скудеет и слабнет.
Вопросы пола привлекают повышенное внимание
Олдингтона. Не из-за пикантной темы он обсуждает
их с таким интересом и не потому, что склонен преуве-
личивать их значение, отчасти под влиянием своего
современника Д.-Г. Лоуренса, творчество которого ста-
вит необычайно высоко.
Рассматривая материалы довоенной биографии
Джорджа Уинтерборна, не богатой событиями, связан-
ной с замкнутой специфически английской интеллигент-
ской средой, Олдингтон стремится в точности восста-
новить атмосферу, в которой приходилось дышать его
Ц М. В. Уриов
321
герою, круг его запросов, характерные черты внутрен-
него облика, быта. Роман «Смерть героя», лучше чем
какая-либо другая английская книга, способен дать
живое представление о том, как формировалось «поте-
рянное поколение» в Англии.
Отношения полов обсуждаются Олдингтоном прямо
и откровенно. Олдингтона волнует проблема гармонич-
ной личности и гармонических отношений между людь-
ми, он ищет источник зла и средства устранить его. Эти
поиски сопровождаются критикой уродливого семейно-
го быта и общественных нравов. Учиняется нелице-
приятный суд над иллюзиями уинтерборнов, которыми
они тешили себя в предвоенные годы. В сопровождении
едкой насмешки предстают взору юный Джордж, изла-
гающий своей возлюбленной «проект совершенных по-
ловых отношений», мнимое глубокомыслие и непритвор-
ная деловитость, с какой они обсуждали эти темы, круг
их «просветительного чтения». Упоминается имя Хав-
лока Эллиса, автора книг по сексуальной психологии,
в коих юные девы, мучимые смутными вожделениями
и жаждавшие «полной свободы», находили панацею от
всех печалей.
В годы войны и особенно после нее Хавлока Эллиса,
зачинателя «сексуальной реформации», решительно тес-
нит Фрейд с его более подходящей к случаю утончен-
ной методой психоанализа. Невоздержанность полово-
го инстинкта, легкомыслие и бездушие, обескуражив-
шие Джорджа, его подруги Элизабет и Фанни прикры-
вают «дымовой завесой фрейдизма и теорией Хавлока
Эллиса».
В той среде, которая вскармливала и воодушевля-
ла юных Джорджей, на волне кризисных настроений
в преизбытке являлись всякого рода «реформаторы»,
провозвестники «нового духа», «славной новой расы».
Они без труда собирали вокруг себя молодежь, тяго-
тившуюся обветшалыми канонами викторианской мо-
рали, жаждавшую нового слова, свежего чувства, но
насквозь пропитанную буржуазными предрассудками
и вкусами.
Проекты переустройства жизни на началах сексуаль-
ной реформации горячили праздные и легковерные го-
ловы. Система запретов, опирающаяся на религию и
закон, или свобода, точнее — «свободная любовь», кон-
кретнее — «разумная беспорядочность половых отноше-
ний», в виде такой альтернативы выступала перед Эли-
322
забет и Джорджем волнующая задача, казавшаяся им
чуть ли не главной задачей времени, каковую они,
«прогрессисты» среди предвоенной молодежи, должны
были решить практически, безотлагательно, собственным
примером. «Поколение Элизабет и Джорджа, — встав-
ляет свой горестный комментарий автор, — допустило
ошибку». Оно доверилось болтовне лжереформаторов
об улучшении человеческой породы, о ликвидации войн
путем сокращения деторождения, приняло вздор за
истину и вело себя слишком самонадеянно. Уродство
эксперимента не осталось безнаказанным.
Вороша интимное прошлое треугольника Элизабет —
Джордж — Фанни, автор перебирает его бегло и бес-
порядочно, заменяя углубленную обрисовку явлений
штрихами и подробностями. Все же анализ обстановки
и характеров убедителен и нагляден, логика разбирае-
мых фактов не оставляет сомнений: недовольство этой
молодежи старыми моральными устоями, энергия и
страсть ее бунта определялись по большей части на-
строениями анархического индивидуализма. («Нечего
старикам мешаться в страсти молодых. К чертям ста-
риков!») Требование свободной любви оставалось чисто
буржуазным.
Самонадеянная игра в свободную любовь тяжело
отозвалась на впечатлительной натуре героя, стремив-
шегося к цельности морального чувства. Автору важно
было проследить психологическое воздействие этой
«игры», и он сделал это. Комментируя ход событий, он
продолжает обсуждать проблему, волновавшую его ге-
роя, уже без оптимизма и уверенности, какие некогда
тому были свойственны, однако в том же духе «робин-
зоновских» понятий, отрывая вопросы отношения полов
от социальных вопросов, не связывая семейную мораль
«стариков» с общественным устройством. Отсюда про-
тиворечивость суждений, циническая ирония, робость
требований, мрачные прогнозы и стоическое отчаяние:
«Половой вопрос» будет разрешен лишь в золотом
веке, когда род людской достигнет совершенства. А до
тех пор нам остается только вздыхать при виде загуб-
ленных жизней и размышлять о том, что мужчины и
женщины могли бы стать друг для друга великим уте-
шением и отрадой, а между тем они только и делают,
что друг друга мучают».
Почти все, что составляет предвоенный опыт Джорд-
жа Уинтерборна, бессильно поддержать его в перелом-
11*
323
ный перлод и в последнюю роковую минуту. Обострен-
ное чувство красоты, потребность творчества, духовной
гармонии, нравственной цельности, искренность, беспо-
койство ищущей мысли — то, что выделяло героя из его
окружения, не имело прочной опоры, было подчинено
личному интересу и оказалось беззащитным, послужи-
ло дополнительным источником душевных мук, осла-
бивших волю.
Свойственная Джорджу Уинтерборну отзывчивость
приглушалась вниманием к собственному «я». Иногда
среди суетных забот самонадеянной и беспечной моло-
дости он мог очнуться от укора совести, откликнуться
на чужое страдание, огорчиться несправедливостью,
как то было во время прогулки с Элизабет, когда со-
циальные контрасты Лондона назойливо напомнили
о себе: «...на каждой скамейке, скорчившись, сжавшись
в комок, сидели жалкие, оборванные существа. Перед
ними струилась таинственно-прекрасная река; позади,
за высокими копьями железной ограды, высилась гро-
мада Темпла — вызывающе суровая твердыня Закона
и Порядка. А здесь скорчились, сжались в комок обо-
рванные, голодные и несчастные люди — свободнорож-
денные граждане величайшей в мире Империи, жители
столицы, гордо именующей себя богатейшим из горо-
дов, главной биржей и главным рынком земного шара».
Джордж идет на фронт рядовым, добровольно, дви-
жимый гражданским чувством: он хочет разделить
судьбу простых людей на передовой. Правда, к этому
высокому чувству примешивается чуждый оттенок: за-
путанность личных отношений, причастность к баналь-
ному семейному треугольнику беспокоит его, а разру-
бить все туже затягивающийся узел он. по интеллигент-
ской мягкотелости не решается и потому рад возмож-
ности уйти от мучительной проблемы в надежде, что
она разрешится сама собой. Все же гражданское чув-
ство Джорджа Уинтерборна искренне, способно вспых-
нуть живо и ярко, хотя пламя его может тут же зако-
лебаться и осесть, едва озарив все вокруг.
Сильное впечатление на героя, отправляющегося на
фронт, производят солдаты, побывавшие в бою, «те, что
уцелели из первого полумиллиона добровольцев». Он
смотрит на них восторженно, как зачарованный («Вот
это — люди!»), предпочитая смерть в их рядах жизни
в суетном кругу, от которого оторвался. Но и в эту
минуту искренний порыв подкрепляют подпорки за-
324
ученных формул, литературных сравнений («их можно
принять и за римских легионеров, и за воинов Аустер-
лица»). Он ждет, что они заговорят не иначе как шекс-
пировским стихом, и настроение его падает, когда наду-
манный им образ не совпадает с реальным. Искусствен-
ная оболочка, окутавшая его чувства, столь крепка и
неподатлива, что пробивающая ее искренняя непосред-
ственность с трудом колеблет наперед составленные
представления.
Попав на фронт, Джордж Уинтерборн с болью со-
знает, как велик разрыв между его мыслью и фактом.
Драматически переживает он свою изолированность и
отчужденность от солдатской массы, с судьбой которой
переплелась его собственная судьба, свою отдаленность
от большого мира с его неприкрашенными страстями,
ненадуманными проблемами, с подлинным фарсом и
трагедией.
В нем всколыхнулись дремавшие и заговорили но-
вые чувства, рядом возникли люди, которых он раньше
не замечал, ему приоткрылась их жизнь. Непоказное
мужество и самоотверженность, повседневный незамет-
ный героизм, дух искреннего и верного товарищества
поразили и привлекли его, вызвав невольное уважение
к людям в солдатских шинелях. Они симпатичны ему
не как «солдаты-фронтовики», «но как люди». Быть
с ними, разделить их участь — вот новое сильное на-
правление его чувств. «С ними до конца, ибо они че-
ловечны и мужественны. С ними еще и потому, что
человечность и мужественность существуют отнюдь не
по милости войны, но ей наперекор». Они ненавидят
войну, развязанную империалистами. Он отмечает в них
полное отсутствие «того пламенного идеализма, что
вопреки всякому вероятию привел оборванные необу-
ченные войска Первой французской республики к побе-
де над соединенными силами королей Европы».
Мысль о тяжком неблагополучии, несправедливом
устройстве общества, к которому Джордж принадле-
жит, пробивается в его сознании, невольно возникают
озадачивающие вопросы — почему, например, Англия
может в военное время «ежедневно тратить пять мил-
лионов фунтов на убийство немцев, а в мирное время
не может потратить пять миллионов в год на борьбу
с собственной нищетой». Ужас, вызванный бессмыслен-
ным разрушением и бойней, отвращение к ним сопро-
вождаются обостренной критикой и протестом: он «мол-
325
чаливо, но твердо, всем своим существом осуждает
войну».
«К черту их всех!» — скажет он, когда спустя пят-
надцать месяцев вернется на побывку в Лондон и очу-
тится в прежнем окружении.
Новый опыт Джорджа меняет его взгляд на твор-
чество. То, что им как художником сделано до войны,
чуждо ему («Да полно, его ли это работа?»). Он сжи-
гает свои эскизы, рвет со своим прошлым. Пережитое
в окопах стоит перед глазами, в душе мечутся образы,
просятся на холст, но рука дрожит, не повинуется, по-
пытки остаются бесплодными. Прежние навыки не под-
держка ему, а помеха, творческая воля расслаблена,
и нет четкой мысли, нет страстного глубокого убежде-
ния, чтобы дать направление его силам.
Большие перемены происходят в Джордже Уинтер-
борне под влиянием войны. И все же — при всей пыт-
ливости его ума и похвальной склонности к самостоя-
тельности суждения — в нем не совершается важной
счастливой перемены. Напротив, дух Уинтерборна сла-
беет, он не может перебороть надламывающую его пси-
хическую травму. Молодые силы, вера в жизнь тускне-
ют и вянут, подавляемые серой реальностью. Кошмар
войны, бесчисленные ее жертвы, бессмысленное разру-
шение, изматывающий и удручающий окопный быт
терзают и гнетут его. Это гибельное воздействие уси-
ливается его неприспособленностью к тяготам и лише-
ниям, а также тем, что жестокое и уродливое обличье
фронта он воспринимает глазом художника, чуткого
к пластической красоте. Джордж Уинтерборн воспря-
нул, когда его послали на строительство новой дороги
и в руки ему вместо винтовки вложили лопату, но
иллюзия созидательной работы быстро рушится. Он
прозрел и увидел фальшь и преднамеренную ложь,
но прозрел не настолько, чтобы разобраться в причинах
преступной бойни. Ему, как и автору-рассказчику, вой-
на представляется то «царством Ханжества, Заблужде-
ния и Исступления», то бунтом подавленного полового
инстинкта, то продуктом мальтузианского перенаселе-
ния («мы жертвы чрезмерного размножения»). Он с «ни-
ми», с простыми людьми в шинелях, но «против кого,
кто их настоящие враги?». Перечисляется много дейст-
вительных зол: «Внезапно ему открылся ответ... Их
враги — враги немцев и англичан — те безмозглые кре-
тины, что послали их убивать друг друга... их враги —
326
навязанные им ложные идеалы, вздорные убеждения,
ложь, лицемерие, тупоумие».
Искренен порыв героя, его влечение к труженикам
в шинелях, однако решительного поворота в их сторо-
ну не видно, необходимого сближения не происходит.
Велика разобщенность, возведенная классовым общест-
вом, сознательно поддерживаемая господствующей вер-
хушкой: различны условия жизни, различны нравы,
привычки, вкусы, круг мыслей и чувствований. И эту
стену Джорджу Уинтерборну пробить не удается. Он
не слаб, он ведет себя мужественно, но незавидна его
роль, шатка занятая им позиция. Ему не хватает само-
стоятельности, глубины и твердости взглядов, силы
характера. Он способен лишь «пострадать» и действи-
тельно страдает сильно, t но слепо и бессмысленно.
Выступая в роли рассказчика, пользующегося све-
дениями из первых рук, писатель, по сути дела, ведет
рассказ о самом себе, о том, что с ним было или могло
быть, говорит после длительных раздумий, имея за
плечами десятилетний послевоенный опыт. Нередко
детали биографий автора и героя полностью совпадают.
Но более важно совпадение пережитых ими чувств,
передуманных мыслей. С какой страстностью и заинте-
ресованностью ведет биограф речь о частных моментах
жизни погибшего фронтового друга. Фигура рассказ-
чика понадобилась прежде всего затем, чтобы придать
судьбе героя обобщающее значение. Образ Джорджа
обретает символический смысл. В представлении пи-
сателя трагедия Джорджа Уинтерборна — трагедия
многих ему подобных, больше того — это судьба целого
поколения. «Я говорю от имени военного поколения»,—
заявляет автор. И это действительно так в той мере,
в какой в его романе отразились антивоенные настрое-
ния широких демократических кругов. И это не так,
поскольку он пишет о «потерянном поколении», о мо-
лодых людях, изломанных первой мировой войной, а они
составляют лишь часть молодого поколения, приняв-
шего в ней участие.
Рассказчик понадобился автору и для того, чтобы
с его помощью провести грань между собой и героем,
особенно отчетливую — между собой конца 20-х годов
и своим «я» предвоенных и военных лет. Эта грань
заметна и важна. Как ни близок рассказчик Джорджу
Уинтерборну, своему единственному товарищу по фрон-
ту, он не сливается с ним в едином лице. Автор-рас-
327
сказчик смотрит на все шире. Во всеуслышание осуж-
дает он войну, резко бросает негодующие реплики,
предостерегающе взывает к благоразумию и обличает
буржуазную семью, школу, систему воспитания, под-
чиненную интересам Британской империи, кастовые и
сословные перегородки и предрассудки, быт, нравы,
деятельность паразитической интеллигенции, правящую
верхушку. Больше и сильнее всего он обличает лживую
мораль, фарисейство и эгоизм собственников, наглый
шовинизм и циничное лицемерие империалистов. Мно-
гие его высказывания — крик встревоженной и возму-
щенной совести, результат мучительных переживаний
и размышлений. И все же как в Джордже военных лет
узнается прежний, так в облике автора конца 20-х го-
дов угадываются его прежние черты. Индивидуализм
как принцип жизни остался непреодоленным и отчетли-
во сказывается в авторских суждениях и эмоциональ-
ных оценках. Писателю трудно отвлечься от своей лич-
ности и взглянуть на себя и окружающий мир глазами
простого человека.
«Потребовалась европейская война, чтобы я с мои-
ми вкусами и привычками представителя среднего
класса нашел общий язык с трудящимися», — писал
Олдингтон в книге воспоминаний, появившейся в
1940 году. Как и его герой, Олдингтон рванулся к про-
стым людям, впервые открыв их для себя и почувство-
вав путь к выходу — к народу! Но общий язык с тру-
дящимися установился ненадолго, наметившаяся было
связь ослабла и порвалась, и это драматически отозва-
лось в его жизни и творчестве.
Олдингтон называет свою книгу «надгробным пла-
чем». С ее страниц слышатся горестные сетования.
И спустя много лет писатель чувствует себя неспокойно,
его мучает потребность излить душу и освободиться
от кошмарных воспоминаний. Он не удовлетворяется
скорбными сетованиями и заботится не только о себе.
Он жаждет «искупить вину» перед солдатами, павшими
насильственной смертью. «Что же нам делать? Могиль-
ные плиты, надгробья, и венки, и речи, и лондонский
Памятник павшим воинам... нет, нет... Вот почему я
рассказываю о жизни Джорджа Уинтерборна — о чело-
веческой единице, об одном только убитом, который, од-
нако, стал для меня символом. Это — отчаянная попытка
искупить вину, искупить пролитую кровь. Быть может,
я делаю не то, что нужно. Быть может, яд все равно
328
останется во мне. Если так, я буду искать иного пути.
Но я буду искать». Это искренне, честно, мужественно.
Здесь голос требовательной и бескомпромиссной сове-
сти. Это бесповоротное, категорическое осуждение вой-
ны, преступной империалистической бойни.
Писатель думает не об одних мертвых. Его над-
гробный плач — предостережение живым. Так же как
его исстрадавшаяся совесть требует его к ответу, так он
требует к ответу виновных в преступлении перед чело-
вечностью. Но когда наступает время сказать: «Кто ви-
новат?»— он не находит ясных и твердых слов.
По-видимому, это совсем не роман, говорит Олдинг-
тон о своей книге. И в самом деле: построение сюжета,
повествовательная манера, тон и стиль авторского ком-
ментария как-то уж о^ень необычны. Непохоже это
произведение на романы старших современников пи-
сателя— Голсуорси, Уэллса. Нет в «Смерти героя» по-
вествовательной обстоятельности и глубины, полноты
раскрытия идейно-тематического содержания, какую
предполагает большая эпическая форма. Непохож ро-
ман Олдингтона на книги-воспоминания писателей-
сверстников— Грейвза, Сассуна, Герберта Рида, книги,
посвященные той же военной теме. Сюжет и стиль по-
вествования в нем ломаются, дробятся; гротесковый
персонаж-ярлык действует наряду с персонажем обыч-
ных пропорций, строго объективное описание соседст-
вует с подчеркнуто субъективным, трогательное лири-
ческое излияние обрывается грубым выкриком, площад-
ной бранью.
Однако по сюжетному замыслу «Смерть героя»
укладывается в традиционные рамки биографического
романа. Это история жизни отдельного человека, в дан-
ном случае вся его история — от рождения до смерти.
Основные этапы развития, сложный процесс формиро-
вания характера, путь индивидуальной судьбы, взятой
во взаимосвязях, представлены как пример отнюдь не
частного случая. В личности героя и других персона-
жей оттеняются типичные черты. «Просьба в данном
случае видеть в каждом из них не просто отдельную
личность, но тип», — обращается к читателям автор;
«их беседы «бросают свет» (как говорят ученые) на
настроение молодых людей», — замечает он спустя
некоторое время. Черты характера, особенность пси-
хики, переживания героя он стремится осмыслить со-
циально.
329
Связь романа с традицией осязаема. Рассказанная
в нем история примыкает к длинному ряду правдивых
и печальных повествований о молодом человеке, кото-
рыми так богата литература XIX—XX веков. Если гово-
рить о самых непосредственных воздействиях, можно
вести к нему нити от «Джуда Незаметного» Томаса
Гарди — книги страстной, острообличительной, со стра-
ниц которой раздаются проклятия и тоже веет жутким
отчаянием (Олдингтон сам признает влияние этого пи-
сателя), и от семейной хроники Самюэла Батлера,—
их сближает язвительная критика викторианской семьи,
семейного и школьного воспитания, тон остроумной,
колкой иронии, характерной для многих английских
писателей — Стерна, Теккерея, Мередита.
Первый роман Олдингтона весьма необычен. «Это
роман-джаз», — говорит автор, предполагая определить
его жанровый облик. Сопоставление не лишено основа-
ний. Синкопический ритм, порывистая экспрессия —
характерный признак стиля «Смерти героя». Эта экс-
прессия возникает на основе резкого сочетания конт-
растов, их быстрой смены и переходов: контрастных
форм выражения — страстной публицистики и сдержан-
ного описания, обличительной патетики и язвительной
иронии; контрастных настроений — меланхолического,
восторженного, полного отчаяния; импульсивного чле-
нения текста и т. д.
Этот необычный роман симптоматичен, на что обра-
тил внимание М. Горький: «В стране, где когда-то ту-
манное благодушие оптимиста Диккенса затмило здо-
ровый критицизм Теккерея, недавно замолчал угрюмый
Т. Гарди и ныне стали возможны такие злые, полные
жуткого отчаяния книги, как «Смерть героя» Р. Ол-
дингтона» («О старом и новом человеке») 1. И еще
в письме к К. Федину от 29 марта 1932 года: «Читали
Вы книгу Ричарда Олдингтона «Смерть героя»? Весь-
ма грубая, злая и «отчаянная» книга, вот уж нельзя
было ожидать, что англичане доживут до такой лите-
ратуры!»2
В сравнении с тоном повествования Гарди или Дик-
кенса контрасты авторских высказываний в «Смерти
героя» могут вызвать недоумение и шокировать. Изо-
1 Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 26. М., 1955,
с. 282.
2 Там же, с. 248.
330
щренный вкус, тонкое чувство изящного и вдруг: «Див-
ная старая Англия. Да поразит тебя сифилис, старая
сука...» Эта грубость — немощное орудие мести и са-
моистязания анархического индивидуализма. Слепая
злость на туманное благодушие, затмившее здоровый
критицизм. Хриплый крик из горла, сдавленного жут-
ким отчаянием, когда яд мизантропии смешивается
с отравой самоуничижения: «Что я такое? Ничто, о гос-
поди, меньше чем ничто, шелуха, огрызок на тарелке,
мусор, отброс».
Распад всех старых связей, крах всех иллюзий и
неспособность обрести опору, раздирающие душу про-
тиворечия — вот чем вызвано это смятение, болезненный
скепсис, нервозность выражения, доходящая до грубо-
го крика. Но сквозь все это пробивается потребность
жизни, истины, человечности, пробивается покалечен-
ное и все же сильное чувство.
Олдингтоновский роман-джаз не начинает новую ли-
тературную традицию. Это разновидность интеллекту-
ального субъективно-психологического романа, связан-
ного со школой потока сознания. Это один из побегов
XX века, выросший на ветви литературного древа, поса-
женного еще Лоренсом Стерном. Олдингтон не старал-
ся быть оригинальным. Он сам не повторил и не развил
своего первого опыта. Все же его роман заметно отли-
чается от круга ему подобных. В нем авторский замы-
сел воплощен с подкупающей непосредственностью.
Здесь нет ни позы, ни претензии. Интеллектуализм не
наигран и не вымучен. Внутреннее состояние автора,
ход его размышлений, его переживания переданы с от-
четливой наглядностью.
Как выразитель настроений «потерянного поколе-
ния», Ричард Олдингтон встал в один ряд с Ремарком
20-х годов и Хемингуэем. Роман был переведен на мно-
гие языки и в 1932 году впервые вышел в русском изда-
нии. О нем положительно высказалась советская кри-
тика и прогрессивная печать других стран. «Книга
глубоко тронула меня», — отозвался на ее появление
Герберт Уэллс. Отклик английских реакционеров и шо-
винистов был иным: «Если вам не нравится Англия,
убирайтесь вон». Олдингтон покинул родину. Он жил
в разных странах Западной Европы, побывал в Север-
ной Африке.
«Смерть героя» — средоточие того значительного,
что было создано писателем в первые два десятилетия
331
его литературной деятельности. Это поворотный пункт
и самая заметная веха. Недостатки романа стали сей-
час очевиднее, но по-прежнему бесспорны его досто-
инства; искренность исповеди, страстность и убедитель-
ность обличений, непосредственность и оригинальность
художественного выражения. Эта книга написана кровью
сердца — удрученного, скорбного, но отзывчивого.
Когда Ричарда Олдингтона во время его пребыва-
ния в Москве попросили прочитать что-либо из «Смер-
ти героя», он прочитал отрывок из посвящения, послед-
ние два абзаца, что заканчиваются так: «Мне думает-
ся, мы ни на что не претендуем, кроме одного: мы пы-
тались говорить правду, верим, что это правда, и не
боимся ни противоречить себе, ни признавать свои
ошибки». Эти слова отзываются во всем романе и не-
вольно трогают искренностью гражданского чувства.
Роман «Смерть героя», появившись в 1929 году, по-
ставил автора — в то время уже известного поэта, кри-
тика и переводчика — в ряд видных английских рома-
нистов. Вслед за этой книгой, почти одновременно с ро-
манами «Дочь полковника» и «Все люди — враги», вы-
шли два сборника его рассказов: «Дороги к славе»
(1930) и «Кроткие ответы» (1932), представившие по-
чти все, что были им написано в этом жанре.
Рассказы Олдингтона не только важное дополнение
к его романам, они имеют самостоятельную ценность.
В сборниках «Дороги к славе» и «Кроткие ответы» воз-
никают новые темы, жгучие вопросы порой рассматри-
ваются смелее и последовательнее, появляются зарисов-
ки и образы, которые более отчетливо, чем в рома-
нах, выражают социальные и психологические кон-
трасты.
Рассказы Олдингтона составляют два дополняющих
друг друга тематических цикла. Одни из них («Дороги
к славе») посвящены эпизодам войны 1914—1918 годов,
фронтовым переживаниям автора и близких ему по
духу героев и говорят о тяжелых последствиях войны,
мытарствах ее уцелевших участников, о подъеме анти-
военных настроений и росте гражданского самосозна-
ния. Другие (рассказы сборника «Кроткие ответы»)
отражают повседневный быт, нравы, психологию пара-
зитических классов, буржуазной интеллигенции — опять-
таки в связи с войной и ее влиянием, — говорят о ду-
ховном распаде и нравственной деградации буржуазно-
аристократической среды.
332
Ричард Олдингтон пошел на фронт добровольцем,
служил рядовым, командовал ротой, а в конце войны
как офицер войск связи был в авангарде наступления.
Он знал, что значит приказ «отстоять любой ценой»,
каким испытаниям и опасностям подвергались попав-
шие на «жертвенный пост».
Когда шла работа по изданию у нас книг Ол-
дингтона, он, по возможности, помогал нам, и эта
помощь раскрывала его самого, а вместе с этим по-
доплеку, напитавшую его горечь и злость. Так, он при-
помнил историю некоторых рассказов сборника «Про-
щайте, воспоминания».
«Вы спрашиваете о рассказе «Жертвенный пост»,—
писал Олдингтон. — Ваша великая война 1941—45 гг.
была гораздо более открытой, чем наша в 1914—18 гг.
Тогда дело решалось большей частью осадами. Весной
1918 года британская армия несла на себе всю тяжесть
Западного фронта. Французы капризничали, а амери-
канцы (естественно!) вовсе не прибыли на позиции.
Осенью 1917 года мы, англичане, потеряли 40 тысяч
человек у Пашенделе, а затем еще 225 тысяч на Сомме
в марте 1918 года. Поскольку французы по-прежнему
не собирались наступать, мы вынуждены были выдер-
живать основные удары немцев, и наши дивизии (всего
лишь 51!) в некоторых местах растянулись в чрезвы-
чайно тоненькую цепь. Поэтому нам приходилось вы-
двигать передовые посты (их назвали «жертвенными»),
чтобы предупредить при случае внезапную атаку, и на-
ши резервы (главным образом канадцы и австралийцы)
могли бы. подготовиться заблаговременно и предупре-
дить прорыв фронта. Пост, о котором говорится у меня
(я сам был там), это высота 70 к востоку от дороги на
Лен-ла-Бассе. За эту позицию шли такие жестокие бои,
что если бы люди, убитые там, вдруг воскресли и под-
нялись, им негде было бы стоять. «Жертвенные посты»
на британском фронте в 1918 году имели приказ дер-
жаться насмерть, однако сообщать (цветными ракета-
ми) о всякой угрозе со стороны противника».
Все рассказы написаны человеком, лично пережив-
шим кошмар войны. «Прощайте, воспоминания» — стра-
стное и горестное излияние души, потрясенной войной
и проклинающей ее; это драматические «осколки про-
шлого», засевшие в памяти фронтовика, много пере-
страдавшего, впечатлительного, поэтически восприни-
мающего природу и человека, отзывчивого на чужие
ззз
страдания и требования совести. Настроением сокру-
шенности, горечи, чувством нарастающего протеста, сме-
ной ритмов, точно фиксированных фронтовых впечат-
лений этот рассказ напоминает стихотворение в прозе
и близок лучшим стихам Олдингтона из сборника «Об-
разы войны» (1919). «Прощайте, воспоминания» — это
как бы лирическое предисловие к другим его расска-
зам, в нем зачатки сюжетов и образов, раскрываемых
затем более полно и обстоятельно.
Рассказ «Прощайте, воспоминания» указывает на
побудительные мотивы, заставившие Олдингтона писать
о войне. Это потребность излить душу, освободиться от
скребущих ее фронтовых кошмаров, стремление — «от-
чаянная попытка» — загладить, искупить свою вину пе-
ред солдатами, не вернувшимися домой, и вину в про-
литой крови, мужественное желание сказать правду,
обличить преступников войны, сорвать покров с ура-
патриотического лицемерия. Необходимость предупре-
дить беспечную и доверчивую молодежь. И любовь
к жизни, вера в людей, в их порядочность, отзывчивость,
в их разум и волю.
Олдингтон ищет и требует правды о войне, пишет
о ней так, как она представилась ему в горькую годину,
сопоставляя крикливые девизы милитаристов, ура-пат-
риотов, романтические описания войны с тем, что он
видел сам, с тем, что он сам пережил. Ему претит
показной шум и блеск, злую иронию вызывают в нем
посулы легкой воинской славы. Облик войны в его изоб-
ражении суров и жесток, «дороги к славе» политы
кровью, завалены трупами. Горечь разочарования, вы-
званная крахом иллюзий, душевные муки, причиняемые
гибелью людей, надругательством над красотой и ра-
достями жизни, страшное нервное напряжение гнетут
олдингтоновских героев, в которых отразилось состоя-
ние самого автора. Однако в его Брендоне, Дэвисоне,
Хэнли, Камберленде чувствуется не только подавлен-
ность и ужас перед войной, но и мужество, и чувство
достоинства. Они не только раздражены, но и возму-
щены— возмущены расчетливой ложью, наглым ци-
низмом, преступным пренебрежением к людям.
Потребность разобраться в нахлынувших впечатле-
ниях, дойти до корня, обрести ясность овладевает Бил-
лом Дэвисоном («Жертвенный пост»). Мысль этого ге-
роя, «самого обыкновенного англичанина», блуждает,
пробирается ощупью — он сам это сознает, но она воз-
334
буждена, не может успокоиться, ищет ответа. И нако-
нец, нечто очень важное прояснилось: «Настоящая
война идет не между Биллами Дэвисонами, Жанами
Дювалями и Гансами Мюллерами» — английский, фран-
цузский и немецкий солдаты истребляют друг друга
во имя чуждых им интересов. Стихийное недовольство
оформляется в лозунг: «Билл Дэвисон, Жан Дюваль и
Ганс Мюллер должны прекратить взаимное истребле-
ние, покончить с выродками, превратившими пшенич-
ные поля в кладбища...» Билла уже не смущает, что
«его мысли и чувства ненавистны начальству». Его пе-
чалит слепая покорность солдат, и он хотел бы «от-
крыть людям глаза». Слишком краток и мимолетен
в рассказе эпизод, который мог бы многое объяснить
читателю и помочь сделать выводы о герое более опре-
деленными. Возвращаясь из Корпусной школы связи
на фронт, Билл Дэвисон слышит в полутемном вагоне
разглагольствования распетушившегося американца о
том, «как он покончил бы с русской революцией». Билл
молчит, и это понятно: он замкнут, одинок, встрево-
жен тем, что его записная книжка с откровенными вы-
сказываниями попала в руки начальства, и ему вступать
в спор крайне рискованно. Но что он думает, как внут-
ренне откликается на бредовый монолог? Прямо об
этом не сказано ни слова. Все же контекст достаточно
красноречив и становится все выразительнее и откро-
веннее, если учесть драматическое развитие событий и
вспомнить признание Олдингтона о сочувствии «моло-
дой русской революции», сделанное им в его первом
романе.
Билл Дэвисон размышляет сбивчиво, однако зано-
сит к себе в книжку: «Вся система порочна... необходи-
мо все перестроить заново».
Смерть Билла Дэвисона — расчетливое убийство.
Это расправа с непокорным, с человеком «опасных
мыслей». Герой рассказа «Жертвенный пост», порываю-
щийся к истине, начинающий прозревать под влиянием
войны, близок барбюсовским героям из «Огня» и «Яс-
ности». Трагическая судьба Билла Дэвисона обнажает
острые политические конфликты.
«Жертвенный пост» — свидетельство таких идейных
возможностей в творчестве Олдингтона, которые, к со-
жалению, не получили развития.
Фронтовые сцены, описанные в рассказах «Любой
ценой», «Убит в бою», «Жертвенный пост», сменяются
335
эпизодами послевоенной жизни. Новые испытания вы-
падают на долю защитника родины, вернувшегося до-
мой. Все складывается в общую картину, побуждаю-
щую к глубоким размышлениям и выводам.
Возвращение капитана Камберленда по окончании
войны домой («Раздумья на могиле немецкого солда-
та») сопровождается новыми испытаниями и крахом
надежд. Защитник «короля и отечества», честно испол-
нивший свой долг, ждет, что наконец-то после всех мук
и жертв, ступив на родную землю, он будет встречен
по заслугам, найдет утешение и свое место под мирным
небом. Но все оборачивается издевательством и глум-
лением. Ни покоя, ни искреннего слова участия, ни
работы, ни средств к существованию. Он хочет честно
трудиться — и не может приложить свои силы, хочет
рассказать правду о войне — от него отмахиваются.
С горьким цинизмом и наивной надеждой он строчит
заведомую ложь, полагая, что даже дураку будет ясен
его пародийный замысел. Напротив, все принимают
всерьез, его восхваляют, ему платят. Но этот успех
оскорбляет его. Он наталкивается на преграду, сколо-
ченную из имущественных и сословных привилегий, и
видит, как и кто плодит корыстную и преступную
ложь. Он на себе чувствует, с какой беспощадностью
действует закон социальных джунглей: «Деньги или
голодная смерть». Он различает зловещую тень реак-
ции. Рим под властью фашистов производит на него
удручающее впечатление. В Неаполитанском порту,
видя работу грузчиков, он делает вывод: «Над ними
тоже тяготеет беспощадная угроза: деньги или голод-
ная смерть. Этот ультиматум, подкрепленный фашист-
ским револьвером, заставляет их работать так, как не
может человек работать, не теряя человеческого обли-
ка». Все эти факты, сопоставленные с пережитым
в окопах, заставляют Камберленда задуматься над со-
бытиями дня, как никогда раньше, поднимают в нем
возмущение, подчеркивают его решимость: «Если когда-
нибудь правители моей страны снова объявят «Вели-
кую войну», рука, которую их предшественники научи-
ли убивать, убьет их».
Милитаристы, ура-патриоты, колониалисты встре-
тили враждебно сборник рассказов «Дорога к славе».
Писатель собрал новый, дополнительный материал и
преподал его под ироническим заглавием «Кроткие
ответы», напомнившим о библейском изречении:
336
«Кроткий ответ отвращает гнев». Он как бы говорил:
вот вам еще и еще, смотрите, все это горько, слиш-
ком горько, но это правда, и ваш гнев вас же самих
обличает.
Стремление Олдингтона связать свои рассказы те-
матическим узлом, объединить настроением, интонаци-
ей, составить из них общую картину вполне очевидно.
Подзаголовки к рассказам сборника «Кроткие ответы»
подчеркивают эту авторскую установку. Составляющие
его пять портретных рассказов посвящены непригляд-
ным, но показательным судьбам. Замысел Олдингто-
на— создать на основе реальных фактов, действитель-
ных событий и подлинных портретов обобщенные
характеры и ситуации, которые могли бы служить
конкретным и вместе с «тем символическим выражением
глубочайшего кризиса буржуазного общества, вызван-
ного империалистической войной.
Констанс Лэчдэйл из рассказа «Повержена во прах»
представляется автору «символической фигурой». Урод-
ливый характер, зловещая судьба. Отталкивающая
картина духовного оскудения и распада. Схватывая
психологические особенности личной трагедии, автор
стремится раскрыть ее реальные причины и социальный
смысл. Он утверждает: биография героини — не баналь-
ный случай, не заурядный эпизод в кругу раззолоченной
молодежи. «Она была лучше других». У нее было до-
статочно проницательности, чтобы сквозь светское ве-
ликолепие разглядеть духовное ничтожество «сильных
мира сего», к среде которых принадлежала она сама.
Она обладала известной долей здравого чувства, за-
ставлявшего ее хотя бы иногда испытывать отвращение
к пышной и скандальной богеме. Словом, было нечто,
поднимавшее Констанс над общим уровнем, нечто та-
кое, что могло возбудить драматический разлад со
средой, питать неудовлетворенность и чувство протеста.
Однако ее недовольство и «бунт» приняли уродливый
вид. Личные достоинства — внешнее обаяние, энергия,
активность и социальные привилегии — высокое поло-
жение в обществе, богатство — все идет на потребу сле-
пой и губительной страсти, какому-то ненасытному и
все сжигающему томлению-наваждению. Нет, это не
смутная, еще не оформившаяся и не разгаданная по-
требность свободы и деятельности, не бунт молодых
сил, не половодье чувств, не протест ущемленной плоти
и не романтическая тоска по голубому цветку. Это ме-
337
тание темных вожделений, истерика декадентского эго-
центризма. «Она — зло, которое нужно искоренить».
Для автора это очевидно. Но он не ограничивается ука-
занием на вредное явление и следуемым за этим выво-
дом. Не думает рассказчик брать на себя и роль
самодовольного моралиста-резонера. Он хочет разо-
браться в драматической биографии, ответить на вопрос
«почему?». Им движет интерес близкого свидетеля со-
бытий, искренне опечаленного и взволнованного жесто-
кой судьбой женщины, которая «была так прекрасна,
что могла бы соблазнить святого».
Элегический ключ рассказа (он назван «элегией»),
горестное начало, подчеркнутое мрачным осенним пей-
зажем, грустная интонация, сопровождающая повест-
вование, — во всем этом сквозит тревога и сожаление.
Снова и снова раздаются пытливые «почему?». Почему
добрые задатки остались втуне и во рею силу раскрылся
тлетворный «талант», погубивший ее самое и тех, кто
поддался ее влиянию? Почему и как «она дошла до
жизни такой»?
Автор признается, что загадка для него трудна, но
не хочет и не может отмахнуться от нее. От мысли о
мрачной судьбе этой «блестящей женщины Лондона»
он переходит к обобщениям. «Если человеческие траге-
дии и комедии безразличны стихиям, они чрезвычайно
важны для нас; то, что постигает других, постигает и
нас самих. Мы не можем быть безразличны, дабы не
перестать быть людьми; а оставаясь людьми, мы су-
дим». К личному интересу присоединяется этот граж-
данский стимул, и он становится основным. В размыш-
лениях рассказчика, в полемике его с другом Мортоном
выясняются частные и более общие причины. Делается
попытка представить судьбу Констанс в качестве при-
мера вековечного конфликта, запечатленного еще грече-
ской мифологией в образах Гибриды, олицетворяющей
высокомерие и гордость, непокорность воле богов, и
Немезиды — богини мщения. «Дружеский спор об от-
влеченных материях» переходит на более реальную
почву. И тут выясняется, что Констанс—продукт и
жертва своей буржуазно-аристократической среды, хо-
тя Мортон хотел бы, чтобы его мысль не была выра-
жена столь категорично. В скандальных выходках лон-
донской красавицы проглядывают свойственные этой
среде высокомерие и снобизм, вывернутые наизнанку.
Праздность, отсутствие цели, потакание прихотям, бес-
338
печное поглощение литературной и музыкальной зауми,
«адской смеси», приправленной дурно понятым Досто-
евским и Джойсом, затяжной угар вечеринок и ночных
клубов, «свободная любовь, в которой нет ни свободы,
ни любви», — одно, дополняемое другим, подготавлива-
ло зловещую метаморфозу и отвратительную развязку.
Все это следствие социального паразитизма и наглого
пренебрежения идеалами, чувствами и жизнью мил-
лионов в условиях громадных сдвигов, гигантских уси-
лий и жертв. Жажда бесцеремонного самоутверждения
и внутренняя пустота, беспардонный эгоизм и неизбеж-
ный ужас перед одиночеством, предчувствие краха,
какая-то лихорадка безудержного индивидуализма, ли-
шенного практического смысла и цели, а потому мсти-
тельного, беспощадного, полностью обращенного на
разрушение, падающего 'в пропасть и увлекающего за
собой все, что возможно.
У рассказчика есть повод для элегических излияний
(«Боги, возможно, справедливы, но в данном случае
они поступили слишком сурово»). Трагично падение
женщины, попрание женской красоты, употребление
ее во зло. Тяжело быть беспомощным свидетелем этой
трагедии — тем более когда повышена восприимчивость,
обострено нравственное чувство и отзывчивость к пре-
красному. Но не следует забываться в грусти.
Анархический бунт Констанс, ее «высокомерие» и
«гордость» выражают общее с ее средой разбойничье
отношение к людям и жизни. Констанс — образчик осо-
бо привилегированных бездельников, безнадежно опу-
стошенных индивидуалистов-эгоцентриков, мрачный,
символ и самоочевидное свидетельство той опасности,
какую несет с собой социальный паразитизм.
Автор «Смерти героя», выразитель умонастроений
«потерянного поколения», не может, не изменяя себе,
в равной степени соболезновать Джорджу Уинтербор-
ну, погибшему на войне, и Констанс Лэчдэйл, ублажав-
шей в тылу офицериков. Рассказ-элегия «Повержена
во прах» заканчивается на мажорной ноте — тостом
в честь Эскулапа, античного бога врачевания, надеж-
дой на избавление от этой скверны.
Бесноватый пир Констанс Олдингтон ставит в связь
с конкретной средой и эпохой, не без основания видит
в героине своего рассказа «воплощение послевоенной
плутократии и ее джазовой пляски смерти». Однако
Констанс и ей подобные не исчезают бесследно — они
339
являются в новом одеянии, рождаемые социальным
паразитизмом. Среди пестрой толпы неприкаянных, по-
явившейся после второй мировой войны, есть опусто-
шенные молодые люди, близкие этой героине по духу
и логике поведения.
Символический смысл вложен и в образ Освальда
Карстэрса — главного героя рассказа «Да, тетя». Его
духовный облик, вся его жизнь указывает на застой,
упадок, бесповоротное оскудение. Беспечность мотыль-
ка, обломовская нерешительность и бездеятельность
укоренились в нем ходом вещей, легко и прочно. «Да,
тетя» — реплика жалкого послушания, ставшая роко-
вым девизом. Покровительство знатных и богатых род-
ственниц, позаботившихся создать «герою» особые
условия, привилегированное положение, огородивших
его от всего, что требовало самостоятельного решения
и усилий, что могло питать здоровые и высокие чувст-
ва, от всего того, что формирует характер и создает
личность; это покровительство паразита паразиту в та-
кой степени сковало ум и волю «изнеженного человеч-
ка», что он превратился в никчемное существо. В обра-
зе Освальда Карстэрса, в истории его жизни автор
видит не случайное средоточие недостатков, а выраже-
ние распространенного и типичного уродства, явивше-
гося следствием глубокого социального кризиса, обна-
женного войной 1914—1918 годов. «Как аристократия
железных крестоносцев, — замечает он, — выродилась
в кокетливых салонных аббатиков и дамских угодников,
точно так же, но гораздо быстрее, промышленная ари-
стократия Англии породила поколение бесхребетных
Освальдов».
Констанс и Освальд встают в один ряд, связанные
духовным родством, а к ним присоединяются все новые
и новые фигуры.
Видное место среди фигур, наделенных символиче-
ским значением, занимают американец Шарлемань
Кокс («Ничей ребенок») и бывший американец, об-
ратившийся в англичанина, Джереми Пратт Сибба
(«Восхождение к небесам»). Это «деятели культуры»,
наставники и пророки. Они несут ответственность за
духовное отравление Констанс Лэчдэйл и не только
ее — многих молодых людей, которые были нравственно
чище и лучше ее, жаждали свежей мысли, искреннего
чувства, нового слова, но были сбиты с толку самоно-
вейшими оракулами.
340
Шарлемань Кокс — выразительный портрет наглой,
самовлюбленной бездарности, распространяющей ядо-
витые декадентские бредни, беспардонного глашатая
модернизма, пригретого в аристократических салонах.
Джереми Пратт Сибба — ничтожный субъект, отъ-
явленный ретроград, причем продажная пресса рекла-
мирует его как великого ученого и духовного вождя,
а римская курия провозглашает святым.
В «героях» олдингтоновских рассказов воспроизве-
дены— в художественном преломлении — подлинные ли-
ца: их облик и карьера послужили писателю отправной
точкой и живой моделью.
«Писать о знакомых» сделалось своего рода модой
в английской и вообще западной литературе в пору
первой мировой войны и после нее. Что такое «Контра-
пункт» (1928) Олдоса Хаксли, как не «роман о знако-
мых»? Или «Южный ветер» (1917) Нормана Дугласа?
И Олдингтон попал в книгу, в которой тоже пред-
ставлены «знакомые» лица. Выдающийся английский
писатель Д.-Г. Лоуренс, с которым они были друзьями,
вывел его насмешливо в романе «Жезл Аарона» (1922).
«...Свежий, рослый молодой англичанин в военной
форме. Лейтенант Роберт Каннингхем должен был
вскоре демобилизоваться, после чего он собирался
вновь сделаться скульптором. А пока он пил красное
вино большими глотками, и глаза его заметно блес-
тели...»
Лейтенант Роберт Каннингхем — герой - романа —
это и есть Олдингтон, вернувшийся с фронта и начи-
нающий заново литературную работу (у Лоуренса он —
скульптор). Много лет спустя Олдингтон вспоминал,
до чего обидной показалась ему эта насмешка. И он,
не желая оставаться в долгу, карикатурно изобразил
Д.-Г. Лоуренса в «Смерти героя» под именем-кличкой
«Бобб». Вот он, рыжий, узкогрудый, злой, одержимый
некими вселенскими идеями, которые являлись «стран-
ным сплавом неверно понятой теософии с плохо пере-
варенным Фрейдом».
Это, конечно, шарж, злой, но меткий — меткий имен-
но потому, что в нем не пропущены сильные качества
Лоуренса: «Исключительная энергия, быстрое и иногда
изумительное проникновение в человеческую натуру,
хорошая память и редкий дар имитатора», словом, не-
заурядный талант. От этой карикатуры, вспоминал Ол-
дингтон, Лоуренс пришел в ярость. Все же до конца
341
недолгих дней Лоуренса они оставались близки друг
другу. И потом Олдингтон сохранял верность дружбе.
Он много писал о Д.Т. Лоуренсе, отстаивая его твор-
чество от посягательств пуританствующих ханжей.
И в последующие годы существо мнения писателя со
времен «Смерти героя» о Д.-Г. Лоуренсе не изменилось.
Олдингтон по-прежнему высоко ценил в Д.-Г. Лоуренсе
все то, что восхищало его в карикатурном «Боббе», и
критиковал все тот же «плохо переваренный» фрейдизм
и вообще путаность лоуренсовских проповедей. «Порт-
рет гения, но...» — так назвал Олдингтон свою книгу
о Д.-Г. Лоуренсе: акценты, как видим, в принципе те
же, но это уже не шарж, а мастерская литературная
характеристика, где отдано должное таланту и безо
всякой иронии учтены его роковые промахи.
Да, «Смерть героя», «роман-джаз», как определил
книгу сам Олдингтон, сочетая жанровые признаки ро-
мана-исповеди, «романа воспитания», был в то же вре-
мя и «романом о знакомых».
О многих литераторах с громкими именами, при-
знанных «классиками XX века», Олдингтон имел лич-
ную осведомленность, и она причиняла ему немалые
беспокойства. В то время, например, как американско-
го поэта Эзру Паунда готовы были провозгласить
одним из «патриархов современной поэзии», а также
необычайным эрудитом, полиглотом, который будто бы
где-то в японских «хоку» отыскал ритмы и образность
новейшего стиха, Олдингтон, правивший собственной
рукой у Эзры Паунда грамматические ошибки, мог за-
свидетельствовать, что «эрудит» не знает толком даже
английского, не говоря уже о других европейских
языках или японском. «Эзра, — рассказывал Олдинг-
тон,— умудрился написать неправильно единственное
слово, стоявшее в названии его сборника «Cantos».
Обычно подобные факты Олдингтон держал про
себя. В молодые годы горячность «подвела» его, и он
во всю меру ярости, душившей его тогда, выставил
в романе «Смерть героя» кумиров творческого авангар-
да под вымышленными именами: мистер Апджон, а так-
же Шобб, Бобб и Тобб.
«Мистер Апджон, — рассказывал Олдингтон в письме
1961 года (январь), — это довольно точный портрет
Эзры Паунда (как и Шарлемань Кокс в «Кротких от-
ветах»), Джеймсу Джойсу этот портрет очень нравил-
ся. Шобб — Форд Мэдокс Форд Гуэффер, Тобб —
342
Т.-С. Элиот, который также является и Сиббом из
«Восхождения к небесам». Бобб — карикатура на
Д.-Г. Лоуренса».
0 сборнике рассказов «Кроткие ответы» Олдингтон
сообщал подробнее в письме 1957 года: «Все типы из
«Кротких ответов» основаны на действительных лю-
дях... Вам, возможно, интересно будет узнать, что один
из них умер, другой в сумасшедшем доме, а еще трое
процветают, увешанные наградами и почестями. Для
вашей личной осведомленности, но не для публикации:1
рассказ «Ничей ребенок» изображает начало «карьеры»
фашиствующего литератора Эзры Паунда, ныне нахо-
дящегося в Вашингтонской больнице для умалишен-
ных!» Позднее, в июне 1960 года, Олдингтон рассказал
об одном из троих «йроцветающих», что «увешаны
почестями и наградами»: «Восхождение к небесам» —
это сатира на американо-английского писателя-сноба
Т.-С. Элиота, которого я некогда достаточно близко
знал. По моему мнению, сложившемуся по непосред-
ственным наблюдениям, его переход в лоно англикан-
ской церкви был продиктован сугубо корыстными це-
лями, желанием заручиться поддержкой «благонаме-
ренных», политико-религиозной клики, очень могущест-
венной в Англии. В результате этого обращения Элиот
и получил единодушную поддержку университетов и
ортодоксальной прессы, возвысился до совершенно
фальшивой известности и, наконец, удостоился Ордена
чести, что есть высшая ступень среди дворянских по-
честей».
Намеки, особенно для оригиналов этих карикатур
и шаржей, оказались настолько прозрачны, что Олдинг-
тона начала преследовать репутация, не оставлявшая
его до могилы: «Он плохо писал о своих знакомых».
Да, случалось, Олдингтон «плохо», даже очень «плохо»
писал о знакомых, но — к этому следует добавить — по-
тому, что он слишком хорошо знал многим из них цену.
Короче, Олдингтон в совершенстве владел «изящным
искусством наживать себе врагов».
Важно подчеркнуть: он щепетильно соблюдал пра-
вила личных отношений, не нарушая их в литературной
работе. Его «знакомые», о которых он будто бы «плохо
1 В дальнейшем Олдингтон специально оговорил разрешение
использовать сведения из нашей переписки в печати. Разрешение
это было подтверждено после его кончины дочерью Кэтрин Гийом-
Олдингтон.
343
питал», тот же Эзра Паунд или Т.-С. Элиот, были ведь
не просто его приятелями, то были люди, неутомимо
искавшие или добившиеся славы. И Олдингтон судил
о них не как о личных недругах, но типах, представ-
ляющих определенный род деятельности или, точнее,
размашистого делячества в литературе, которое каки-
ми-то неисповедимыми путями достигает международ-
ного признания. Олдингтон, ровесник века, начинал
вместе с этими людьми, ему довелось наблюдать дви-
жение их от самых истоков и видеть мотивы их актив-
ности в самом что ни на есть первозданном виде. Дело,
однако, не только в разрыве личных отношений, но в
принципиальном расхождении путей Элиота и Олдинг-
тона, один из которых ведет «на небеса», к вершинам
успеха и шумной славе, другой — в изгнание и к одино-
честву.
Олдингтон — вдумчивый наблюдатель, незаурядный
психолог. Созданные им характеры, как правило, обри-
сованы с отличным знанием материала, правдивы в
главных чертах, верны в деталях. Возможно, им не
хватает отточенной завершенности, яркой рельефности,
но в них нет фальши, каждый из них несет в себе кусок
жизни, собранные вместе, они составляют интересное
и поучительное зрелище. Переживания лирического
героя и персонажей, в которых отразилась личность
писателя, волнуют искренностью и драматизмом.
Остроумен и выразителен иронический комментарий
автора.
Однако чувство меры порой изменяет писателю, он
отклоняется в сторону, начинает скользить по поверх-
ности.
Остро ощущая неблагополучие в старом мире, нара-
стание кризиса, приближение краха, не желая мирить-
ся с утвердившимися несправедливостью, жестокостью,
фальшью, все более и более сознавая себя чужаком
в своей стране, Олдингтон в то же время не находил
в себе сил порвать путы, медлил, колебался, то обра-
щаясь к далекому прошлому в поисках идеала, то по-
рываясь вперед, то бросаясь в сторону от жаркой
схватки.
Отдаленность от народа, отсутствие тесной связи
с ним в условиях обострения социальных и политиче-
ских конфликтов лишали писателя, осудившего собст-
венную среду, прочной опоры, и это сковывало его твор-
ческие силы, сдерживало его смелые порывы.
344
Весной 1956 года в советском журнале «Новости»,
выходившем на английском языке, была помещена моя
небольшая статья «Ричард Олдингтон и его книги»,—
должно быть, первая у нас, после довольно продолжи-
тельного перерыва, более или менее развернутая харак-
теристика этого писателя. Тогда я и сам не знал точно,
где в данный момент живет Олдингтон, что делает. Во
время второй мировой войны он, как было известно,
находился в Соединенных Штатах, потом, судя по все-
му, вернулся в Европу, только не в Англию. А куда
собственно — устойчивых сведений не имелось. Очеред-
ные его книги по-прежнему появлялись, некоторые из
них рецензировали и в нашей печати, но то были не
художественные произведения, а главным образом био-
графии, критика и переводы с французского или италь-
янского.
С конца 30-х, на протяжении 40-х и в первой поло-
вине 50-х годов Олдингтон пропал ведь не только с на-
шего литературного горизонта, он вообще (фигура в
западноевропейском писательском мире заметная и вли-
ятельная) отошел в прошлое вместе с эпохой 20—30-х
годов. Шум, несколько напоминавший реакцию буржу-
азной прессы на ранние романы Олдингтона, вновь
возник вокруг его имени, когда он выпустил разоблачи-
тельную книгу об английском разведчике полковнике
Т.-Э. Лоуренсе («Лоуренс Аравийский», 1955). Но кни-
га была публицистической, споры о ней — сугубой по-
литикой, а собственно литературное творчество Олдинг-
тона считалось принадлежностью поры, давно минув-
шей.
Не один Олдингтон, но и сверстники его, чьи имена
и книги впервые блеснули на рубеже 20 — 30-х годов,
переживали в той или иной степени подобную судьбу.
Вовсе исчез политически запятнавший себя во время
оккупации французский писатель Луи Селин, автор
«Путешествия на край ночи», одной из самых заметных
книг о первой мировой войне. Американец Томас Вулф
и Ф. Скотт Фицджеральд умерли совсем молодыми еще
до начала второй мировой войны. Даже Хемингуэй,
пользовавшийся особенным к себе вниманием, после
романа «По ком звонит колокол» (1940) молчал более
десяти лет, и в американской критике все настойчивей
звучали голоса, утверждавшие, что, как видно, и Хе-
мингуэй остался где-то позади — в 30-х годах. В твор-
ческой биографии Олдингтона рубеж 30 — 40-х годов
345
был особенно заметен. Продолжая жить и напряженно
работать, писатель очутился как бы за «гранью про-
шлых дней».
И вот после публикации моей статьи об Олдингтоне
некоторое время спустя пришло — не хочу сказать
«с того света», но по крайней мере из какого-то небы-
тия,— письмо от Олдингтона.
Олдингтон в некотором роде «воскрес». А вместе
с этим все активнее оживали одно за другим литера-
турные впечатления довольно давнего времени. И ко-
нечно, началась переоценка этих впечатлений. Извест-
но, как опасен бывает возврат к прежним книжным
восторгам и тем более их проверка. Не избежал этого
и Олдингтон. Многое из того, что в «Смерти героя»,
книге злой, нервной, судорожной, «полной жуткого от-
чаяния», по словам Горького, некогда казалось столь
слитным, необычно органичным и убедительным — не-
кий клубок иронии и боли, — теперь, по зрелом, что
называется, рассмотрении, показывало «швы», непосле-
довательность мотивировки, а главное, далеко не все-
гда в свете выгодном обрисовывало фигуру самого
автора. Давали себя знать молодое самомнение, само-
уверенность, игра и бравада — словом, анархический
индивидуализм, который тем не менее желает, чтобы
в нем признавали мировую скорбь и заботу о челове-
честве. Уже в статье для «Новостей», написанной боль-
ше по воспоминаниям о книгах Олдингтона, чем непо-
средственно по книгам, я постарался отметить это и
тем более убедился в этом, когда началась переписка
с Олдингтоном и мнение о его романах надо было осве-
жить, взяв их в руки.
Меня смущала подчас резкость собственных упреков
Олдингтону и критических суждений по его адресу.
Однако он сам принимал их спокойно и, я бы даже
сказал, охотно, сочувственно. «Благодарю вас за ваши
комплименты и за вашу строгую критику», — говорил
он в первом же письме. Дальнейшее общение показало,
что это была со стороны Олдингтона не просто вежли-
вая отписка. Он менее всего был склонен преувеличи-
вать свои достоинства и свое значение как литератора.
Длительный антагонизм западной прессы приучил его,
да он и сам более, чем кто бы то ни было, убежден
был, что с некоторых пор для читателей «Олдингтона»
не существует, что он «остался» где-то в 30-х годах.
Он был несколько растерян и, наконец, растроган до
346
слез, когда летом 1962 года встретился с нашей ауди-
торией в московской Библиотеке иностранной литера-
туры. «Они здесь принимают меня за писателя — не
смейся!» — говорил потом Олдингтон • своему близкому
другу.
Раздраженно реагировал Олдингтон на казавшиеся
нам столь естественными попытки сопоставить его как
представителя «потерянного поколения» с Хемингуэем.
Не ревность к легендарной славе своего современника
говорила в нем. Его коробило от рекламы и саморекла-
мы, которой так или иначе был окружен Хемингуэй.
«Я все-таки джентльмен», — усмехался на этот счет
Олдингтон. В Хемингуэе, в его манере жить и писать,
наконец, в популярности его творчества Олдингтон ви-
дел нечто специфически американское. К этому —
к «американскому», к Америке — у него отношение ме-
нялось.
В 30-е годы, когда с Соединенными Штатами он
лишь периодически соприкасался, время от времени
наведываясь туда, Олдингтону «американское», то есть
активное, подвижное, воспринимаемое как черты на-
ции, многим импонировало. В романе 1938 года «Се-
меро против Ривза» есть несколько высказываний об
этом, в частности о большем, по сравнению с английской
чопорностью и сдержанностью, демократизме амери-
канцев. Когда же Олдингтон остался в Соединенных
Штатах на длительный срок, после того как он готов
был сделать Штаты своей «второй родиной», его мне-
ние претерпело коренную перемену.
С годами накапливался новый материал — через
литературу, газеты, где Олдингтон нередко, особенно
после «Лоуренса Аравийского», мог прочесть о себе, но
столь редко нечто серьезное и объективное. «Жаль,
у меня нет сил приехать и повидаться с вами, — писал
Олдингтон в апреле 1957 года, — потому что есть много
такого, о чем следовало бы поговорить, много я мог бы
рассказать вам о США, где я жил в течение нескольких
лет. В этой стране встречаются прекрасные люди, но
в целом такое невежество и такая наглость». И еще
характерная оценка, присланная несколько раньше
(октябрь 1956 г.) из Монпелье: «Не верьте тому, что
со злобой говорится о Франции американскими и анг-
лийскими газетами. Они злобствуют потому, что Фран-
ция во что бы то ни стало хочет остаться французской.
Марианна все еще Марианна. Позвольте мне расска-
347
зать вам маленькую историю, которая случилась со
мной жарким летним днем на морском побережье в
Сант-Мари. Мне очень захотелось пить, и я вспомнил,
как в бытность мою в Америке там постоянно убежда-
ли, что от жажды лучшее спасение в жару — это ром
с ледяной кока-колой. Мне попалось небольшое кафе
в Сант-Мари, увешанное снаружи рекламами с изобра-
жениями миловидных молодых особ, пьющих кока-колу,
которое «всегда здесь имеется в продаже». Когда же,
однако, я заказал себе этот напиток, гарсон мне отве-
тил: «У нас есть ром с Мартиники, но кока-колы нет».—
«Почему же в таком случае,— сказал я,— вы повесили
рекламу?» — «Ах, это! — отвечал гарсон. — Кока-колы
тут никто и не пьет. Рекламу мы повесили, чтобы до-
ставить удовольствие американцам».
Странно было бы думать, будто «американское»,
выступающее в виде «невежества и наглости», связы-
валось в представлении Олдингтона также и с Хемин-
гуэем. Однако оттенок дерзкой напористости, бесцере-
монной решительности, содержащихся в слове «arro-
gance», которое было употреблено Олдингтоном и здесь
передано в крайнем смысле как «наглость», этот отте-
нок (конечно, в совершенно других дозах!), я думаю,
Олдингтон находил и в авторе «Фиесты». В октябре
1959 года от Олдингтона пришло письмо, весьма краткое
и по-своему выразительное. Оно заключало в себе вы-
резку из французской газеты и только одну фразу:
«Зная, как обожают у вас Хемингуэя, я счел нужным
послать вам эту только что появившуюся фотографию».
То был фоторепортаж о розыгрыше на парижском ип-
подроме Приза Триумфальной арки: скакуны финиши-
руют, а... Хемингуэй смотрит в программу. Олдингтон
никогда не стал бы иронизировать на этот счет, если
бы не знал, на основе личных наблюдений, что про-
славленный американский писатель все-таки не безраз-
личен к созданию популярности такого рода. А в этом
Олдингтону, «настоящему англичанину», как назвал
его Сноу, и виделось нечто «аррогантное», неджентль-
менское, «американское», понимаемое, конечно, расши-
рительно и условно.
Существенной была помощь Олдингтона при подго-
товке к новому изданию «Смерти героя», где в особен-
ном изобилии встречаются намеки и литературные
параллели, не всегда ясные. Писатель охотно отклик-
нулся. «Приятно видеть, — подчеркивал он, — что пере-
348
водчики у вас так глубоко вникают в смысл моего
текста. Вы, совершенно очевидно, гораздо более тща-
тельны в этом отношении, чем немцы и особенно фран-
цузы, которые если не понимают чего-либо в иностран-
ной книге, то считают автора просто идиотом и пишут,
как им вздумается. Я убедился, что итальянцы и ис-
панцы соблюдают большую точность и, разумеется, вы
также». Когда же Олдингтон получил книгу и обнару-
жил, что его пояснения нашли место в комментариях,
а комментарии весьма обширны, он заметил: «Это мой
недостаток, мне не следовало перегружать роман до
такой степени литературными намеками. И в последую-
щих моих книгах содержится чересчур много подобной
«культуры» в духе Олдоса Хаксли. Мы слишком поздно
научаемся тому, как нужно писать».
Олдингтон доживал своей век на юге Франции, в
маленькой деревушке Сюри-эн-Во, занимая домик,
предоставленный ему безвозмездно его близким другом,
трудясь неизменно за пишущей машинкой («У меня
еще есть, что сказать, и я скажу»), трудясь у себя на
огороде и в саду, которые были для него просто источ-
ником питания. Ведя вполне крестьянскую жизнь, Ол-
дингтон шутя называл себя «Толстым в миниатюре».
Да, воспоминания Олдингтона уходили далеко, и
сам он служил живым соединительным звеном с дале-
кими временами. Осознать это было не так-то просто.
Вот почему, должно быть, производил он при непосред-
ственной встрече впечатление несколько неожиданное
и, я бы сказал, даже разочаровывающее. «Вместо пи-
сателя, каким я все-таки был лет 30 тому назад, вы
увидите только скучного старика», — предупреждал
Олдингтон, когда он, почувствовав себя значительно
лучше, принял приглашение Союза писателей СССР
приехать с дочерью в нашу страну летом 1962 года.
Действительно, первая встреча на аэродроме в Шере-
метьеве, казалось, полностью подтверждает это обе-
щание.
Все видевший, все переживший, мало подвижный
человек, — таким выглядел Олдингтон поначалу. Ка-
кая-то отдаленность и замкнутость чувствовались преж-
де всего: столько испытал он на своем веку разочаро-
ваний от взаимоотношений с людьми, что начинать
какие-то новые личные связи у него нет больше ни эн-
тузиазма, ни сил. Долгое время единственным момен-
том, вызвавшим оживление у Олдингтона, оставался
34S
каталог библиотеки Вольтера, показанный и препод-
несенный Олдингтону в нашем издательстве Академии
наук. Казалось, потому так обрадовался Олдингтон,
взяв в руки эту книгу, что увидел в ней нечто верное,
незыблемое, что уж, во всяком случае, никакой фаль-
шивой стороной не обернется.
Мы же, могу засвидетельствовать, так и не разгля-
дели вполне Олдингтона. Лишь потом, вновь и вновь
«прокручивая» в памяти встречи с ним, можно было
осмыслить его облик. Как ни популярны у нас лучшие
романы Олдингтона, как ни высока репутация, в силу
которой мы ставим его в ряд крупных художников со-
временности, все же мы не представляли себе, что за
тип литератора, личность какого склада, индивидуаль-
ность какой природы являл собой Олдингтон.
По книгам легко было схватить наиболее очевид-
ные, будто бы отличительные, а по существу наименее
индивидуальные его свойства: горечь и злость, объе-
динявшие его на Западе со многими. Между тем Ол-
дингтон — явление на литературном фоне весьма ред-
кое.
Вот выстраданные им заповеди сверстникам: «Бере-
гись, мой друг! Спеши надеть скользкую маску бри-
танской лжи и страха перед жизнью или жди, что тебя
раздавят. Быть может, временно ты избегнешь гибели.
Тебе покажется, что можно пойти на компромисс. Это
неверно. Ты должен душу им отдать, или они ее рас-
топчут. Либо можешь уйти в изгнание». Или: «Если
жить всеми чувствами, столько же плотью, сколько ра-
зумом, всеми своими непосредственными живыми вос-
приятиями вместо выдуманных, отвлеченных, тогда дей-
ствительно все люди станут тебе врагами».
По книгам его, «жутким и отчаянным», можно было
рассчитывать увидеть некое живое воплощение желч-
ной динамики. Однако оказалось совсем напротив: спо-
койный, даже вышколенный, с выправкой военно-ари-
стократической, сдержанный от сосредоточенной мысли
и крайней деликатности. Можно было все-таки пред-
ставить себе, что из уст этого доброго, осторожного
человека способно вырваться жуткое и даже скверно-
словное ругательство, как это и происходит на страни-
цах его «Смерти героя». Но теперь, при взгляде на Ол-
дингтона, это звучало бы совершенно иначе, было бы
по-особому окрашено его обликом.
Олдингтон оказался куда менее «современным», чем
350
мы ожидали. Ведь это викторианство говорило в нем,
в его выправке, то викторианство, на которое он обру-
шивался одним из первых с такой несдержанной
яростью.
В занятиях творчеством Олдингтона меня всегда ин-
тересовало, как он сам смотрит на соединение в себе
«старины» и «модерна», в какую связь с традициями
английского романа он сам бы себя поставил.
«Вы принуждаете меня предаться величайшему по-
року большинства писателей — распространяться о се-
бе, — шутил в ответ Олдингтон еще в одном из первых
писем (декабрь 1956 г.). — Но коль скоро вам нужны
сведения для работы, я охотно посылаю их, постарав-
шись быть наивозможно кратким.
Не думаю, что я занимаю какое-либо место в раз-
витии английского романа, по крайней мере, ни один
англичанин или американец не считает этого1. Многие
годы я и не мыслил себе, что могу написать роман,
лишь чистое негодование вызвало к жизни «Смерть ге-
роя»! Я никогда не занимался изучением романа, меж-
ду тем среди английских романистов я люблю таких
несходных между собой писателей, как Диккенс и Пи-
кок, Стерн и Эмилия Бронте, Скотт и Джейн Остин,
Джордж Мур и американец Герман Мелвилл. Но вооб-
ще я отдаю предпочтение французским романистам или
русским, которые мне известны в переводе. Мне каза-
лось бы верным определить основное свойство моих
романов как попытку изобразить людей и мир такими,
каковы они есть на самом деле, а не в соответствии
с какими-либо предубеждениями. Полагаю, что среди
моих недостатков один из главных — неспособность
строить хорошие «сюжеты», а также склонность дово-
дить сатиру до издевки.
С «Казановой»2 дело обстояло просто. Мне пред-
ложили написать такую книгу, и я написал ее, чтобы
заработать денег на возвращение из Америки в Евро-
пу. У меня не было сознательного намерения выразить
этой книгой то, что вы в ней находите, ибо я старался
лишь изложить историю проходимца и шарлатана; од-
нако в каждой книге писатель невольно раскрывает
свою более глубокую суть, видимую для проницатель-
1 Сильно преувеличено: «Смерть героя» неизменно упоминалась.
2 «История Казановы» — беллетризованная биография известно-
го авантюриста (1946).
351
ного читателя. Так что вы, вероятно, правы в ваших
предположениях.
Не могу усмотреть какого-либо сходства между
«Эгоистом» Мередита и «Дочерью полковника». Все
персонажи списаны с живых людей, которых я наблю-
дал в течение нескольких лет за время пребывания
в английском поселке: особенно полковник и его семья,
мистер Джад, работавший в ссудной кассе и целый день
игравший в шары. Он был прекрасный человек. Пу-
лит — просто карикатура. Английские критики считали,
будто в «Смерти героя» я подражал Теккерею, которо-
го я в то время еще и не читал! Точно так же думали
они, что «Дочь полковника» напоминает «Евгению Гран-
де», но, как ни странно, это также был из немногих
романов Бальзака, которые я не читал в то время. Ду-
маю, что там сказывается влияние отчасти Гарди, от-
части Джойса и отчасти Д.-Г. Лоуренса — но это полу-
чалось невольно.
Многие годы любимым моим романистом оставался
Анатоль Франс. Если бы теперь я мог писать, как он,
вот тогда было бы о чем поговорить! После «Казано-
вы» я и не принимался за романы, у меня просто не
было побуждения, а кроме того, я, судя по всему, все
меньше и меньше знаю современный мир! Иногда у ме-
ня возникала мысль написать сентиментальный роман
о том, какую чудную жизнь вела Европа между 1922 го-
дом и приходом Гитлера, но кто стал бы читать эту
книгу?»
Вопрос о «подобиях» и «подражании» Олдингтон
перевел в план слишком практический, я же спрашивал
о традиции, которую так или иначе продолжает его
интеллектуально-психологический роман. Мередит, счи-
тающийся среди родоначальников этого жанра, естест-
венно, одним из первых пришел на память. Впрочем,
Олдингтон сам указал на иной источник его манеры —
Анатоль Франс.
«Жить здесь и теперь», — ответил Олдингтон уже
в Москве на вопрос: каков его ведущий девиз? Он под-
твердил этим ответом свою тягу к внутренней самосто-
ятельности. И столь же последователен был его выбор,
когда его попросили записать на магнитную пленку
несколько строк из «Смерти героя».
«Сквозь многочисленные волнения, колебания и пе-
рипетии я пронес некий идеализм, — прочел Олдингтон
из письма к Олкоту Гловеру, открывающему роман,—
352
Я верю в людей, верю в какую-то основную порядоч-
ность и чувство товарищества, без которых общество
не может существовать. Как часто искажается эта по-
рядочность и как часто предается чувство товарищест-
ва, об этом незачем вам говорить. Я не верю ни в бол-
товню, ни в деспотизм, ни даже в диктаторство интел-
лигенции. Мне кажется, что мы-то с вами немножко
знакомы с интеллигенцией?»
Когда в одной из французских газет появился некро-
лог Олдингтона и его портрет, Алистер Кершоу, пре-
данный друг, прислал нам его в письме. На фотографии
Олдингтон, седой и стройный, с молодым разворотом
плеч, стоял, как всегда, с выправкой и в то же время
безо всякой нарочитости или позы, — таким нам по-
счастливилось видеть его, таким все четче и четче вы-
рисовывается в нашей памяти его облик.
12 М. В. Урнов
АЙРИС МЕРДОК
(Литература и мистификация)
Вот что думал Л. Н. Толстой, читая Киплинга: «Не
знаю — мистификация это — или серьезно». Недоумение
Толстого при чтении Киплинга — случай классический,
пример наглядный и поучительный.
Многое из вновь появившегося, что Толстой читал,
недоумевая — литература это или мистификация, — ста-
ло классикой. Той классикой, которая вызывала и про-
должает вызывать полярные мнения, однако вне аль-
тернативы, обозначенной Толстым. Киплинг и мнение
о нем Толстого — знаменательный прецедент.
Искусство «вместо средства коммуникации... неред-
ко становится способом мистификации», — это сказано
Айрис Мердок, сказано в романе «Черный принц».
В иной форме выражено то, о чем думал Толстой еще
в прошлом веке. Но у Мердок это уже констатация
факта, выраженная без недоумений и колебаний, ука-
зание на весьма распространенное явление и вместе
с тем обозначение проблемы, серьезнейшей проблемы
английской и всей западной литературы.
У Айрис Мердок (р. 1919) своя тема и свой круг
читателей: она пишет об интеллигенции и для интелли-
генции. Ее персонажи — писатели, ученые, художники,
журналисты. Не только они, разумеется, но и другие
лица, с другим занятием и положением: предпринима-
тели, чиновники, лица без определенных занятий и безо
всяких занятий. Ее существенная тема — судьба духов-
ности и духовных ценностей в среде, чуждой духовно-
сти, духовностью пренебрегающей и ее уродующей. Ее
особо занимает судьба творческого человека в этой
среде. Для обсуждаемой проблемы ее роман «Черный
принц» в известном смысле итоговый, как в творчестве
самой Мердок, так и в английской и — шире — запад-
ной литературе. Тема не новая: настоящий художник,
преданный искусству и знающий, что такое искусство,—
и ремесленник, паразитирующий на искусстве и его
профанирующий. Один — «мученик пера», другой — его
354
баловень, один —жертва общественных нравов, дру-
гой— их самодовольное порождение.
Литературу всегда интересовала проблема литерату-
ры: что есть литература и что есть ее создатель? Ка-
кова их роль и положение в обществе? Как и чем опре-
деляется их состояние и их судьба?
В конце прошлого века, когда стали стираться гра-
ни между журналистикой и литературой и новый тип
литературного дельца как распространенного явления
начал оформляться, вышел роман Джорджа Гиссинга
(1857—1903) «Новая Граб-стрит» (1891), который в
русском переводе и был назван «Мученики пера». Граб-
стрит, если вспомнить по Филдингу,— лондонское при-
станище литературной братии и вместе с тем обозна-
чение литературы как ремесла. Новая Граб-стрит — это,
так сказать, уже Флит-стрит, ее раннее подобие, гос-
подство поточной журналистики и символ литературной
коммерции. Тогда-то и возник казус с Киплингом: «ми-
стификация это — или серьезно».
Джордж Гиссинг в романе «Новая Граб-стрит» взял
реальную проблему — условия и смысл писательского
творчества на исходе XIX столетия — и раскрыл свой
взгляд на нее в противопоставлении двух символически
выбранных фигур. Два писателя: один — Джаспер Миль-
вейн, литературный делец и ремесленник, который
убежден, что «литература — это коммерция». Другой,
Эдвин Рирдон, многим напоминающий самого Гиссин-
га,— «старый тип непрактичного художника».
«Я утверждаю, — безапелляционно заявляет Джас-
пер Мильвейн, — что нам, людям умственным, следует
поставлять массам ту пищу, которая им нравится. Мы
не гении, и если мы будем высиживать дурацкую серьез-
ность, то ничего, кроме общеизвестной чепухи, у нас
не получится, так давайте же употребим наши мозги
на то, чтобы заработать денег и взять от жизни, что
можно». Мильвейн следует своей морали и преуспевает.
Иное дело Эдвин Рирдон, который как раз добивается
«дурацкой серьезности», помышляет о высоком твор-
честве и, во всяком случае, оказывается неспособным
заниматься литературой как доходным делом. Мате-
риальное положение его тяжелое и безвыходное, ду-
шевное состояние подавленное, творческий дух угнетен.
Глава, названная «Рирдон становится практичным»,
содержит горький сарказм в отношении единственно
основательного шага честного писателя — его смерти.
12*
355
Мильвейн, всегда взиравший на Рирдона с иронией,
после смерти своего незадачливого собрата издает его
роман, пишет о нем сочувственную статью и тем самым
обретает для пущей своей выгоды репутацию верного
друга, соратника и т. п.
Как ни близок Эдвин Рирдон самому Гиссингу, все
же автор стремится представить эту плачевную фигуру
объективно и, в свою очередь, смотрит на него с иро-
нией, но только иного — теплого оттенка. Гиссинг ста-
рается быть «практичным» и реальным — без цинизма,
разумеется. Он отдает себе отчет в том, что времена
милых «непрактичных художников», если они когда-ли-
бо были, миновали, что литература, все более профес-
сионализируясь, заставляет писателя всего себя отда-
вать избранному делу и быть от него в полной зависи-
мости, стала занятием материальным и грубым. Его же
цель разобраться, как все-таки обрести достойное место
на теперешней Граб-стрит, как остаться приверженцем
глубокой мысли и большого искусства.
Айрис Мердок, как уже говорилось, берет реальную
проблему: условия и смысл писательского творчества
в середине и на исходе XX века — и раскрывает свой
взгляд на нее, противопоставляя две символически вы-
бранные фигуры. Писательница стремится быть трезвой
и реальной, без цинизма, разумеется.
Роман «Черный принц» — не только анализ, но и
самоанализ. Этот роман дает возможность представить
суть указанной проблемы в современном ее состоянии,
а также принцип и форму ее художественного освеще-
ния знаменитым писателем.
Мердок удалось сделать то, что не так часто уда-
ется художнику, — создать свой мир и обжить его. Она
вводит в него читателя, заставляет его почувствовать
себя своим в этом мире, по-домашнему расположиться
в нем, знать его видимые и потаенные тропы, охотно
бродить по ним, задерживаться в знакомых местах,
предаваться воспоминаниям и двигаться дальше в уве-
ренности, что будут неожиданности, нередко с опаской,
что откроются мрачные тайны, и все же с надеждой,
что обнаружатся некие дали, взволнуется чувство и
взбудоражится мысль, и, во всяком случае, время прой-
дет незаметно.
Айрис Мердок знает своего читателя. Она не ки-
чится перед ним своей осведомленностью, а делится
с ним «высокой материей», но делает это в такой фор-
356
ме, в таких дозах и так доверительно, что он, ее чита-
тель, чувствует себя приобщенным к элитарной интел-
лектуальной сфере, становится на короткую ногу с ее
функционерами и, получив в готовом виде несколько
формул философской мысли и примеры житейского их
применения, сам оказывается способным рассуждать
о «высокой материи» и посвящать в нее менее иску-
шенных.
Читатели Мердок жаждут появления ее новых книг,
читают их с чувством особого удовольствия, смакуя те
места, которые и рассчитаны на то, чтобы их смаковали.
Причем, исполнению замысла служат талант, об-
ширные знания, профессиональное мастерство, что дела-
ет ее романы по-своему занимательными. В творчестве
Мердок существенные .элементы элитарной и массовой
литературы умело соединены. Все, что имеет успех
у массового читателя и вызывает интерес к расхожей
литературной продукции, есть в ее романах, но в иных
дозах и пропорциях и на ином литературном уровне.
Секс притягивает читателя, — романы Мердок насы-
щены сексом.
«Секс, — сказано в романе «Дитя слова», — заяв-
ляет о своем всепоглощающем присутствии почти при
любом положении вещей».
Некогда, для своего времени резко, откровенно и
прямо, обсуждая отношения полов, Ричард Олдингтон
так оправдывал свою откровенность и прямоту: «Но
почему нельзя говорить о том, что всех нас занимает,
что в конечном счете так важно для жизни и счастья
взрослых людей?» Не пикантность темы привлекала
Олдингтона, а значительность и серьезность вопроса.
Он знал, что откровенное обсуждение этого вопроса
требует такта, понимания ситуации, индивидуальной
психологии, знал, что прямолинейное, а тем более на-
рочито упрощенное и бесцеремонное его обсуждение
может повести не к пониманию, просвещению и воспи-
танию, а к развращению.
Мердок не пренебрегает пикантностью темы, учиты-
вает силу ее воздействия на заинтересованного чита-
теля и рассчитывает меру этого воздействия. В ее ро-
манах секс представлен наглядно, с патологическими
отклонениями, однако без вульгарности, с соблюдени-
ем известного такта.
Насилие, убийства, всякого рода ужасы — типичный
прием занимательности на буржуазном экране и в ли-
357
тературной макулатуре. В романах Мердок есть и на-
силие, и убийство, и ужасы. «Черный принц», например,
начинается с предположения об убийстве и заканчива-
ется убийством. И тут автор не пренебрегает «функ-
цией занимательности», она ее использует, и весьма
энергично. Но в то же время ужасные явления для нее,
как и для великих писателей, — объект психологическо-
го анализа, опыт изучения человеческой природы и
вместе с тем условие и материал художественного экс-
перимента... для иллюстрации философских формул.
В романах Мердок находит применение практиче-
ский опыт многих жанров, включая сенсационный, де-
тективный, приключенческий и, по ее собственному при-
знанию, «черный», или «готический». Как разнохарак-
терные литературные элементы уживаются в ее про-
изведениях— вопрос особый, но все же ей удается до-
биться жанровой определенности или хотя бы иллюзии
определенности.
Оглянемся на «Черного принца». Брэдли Пирсон его
герой, он же его автор. Он писатель. Не по положе-
нию или признанию, а по призванию. «Я и есть настоя-
щий писатель», — утверждает он, называя себя «ху-
дожником, артистом, человеком посвященным». Он
видит в себе прямую противоположность Арнольду
Баффину, своему протеже и другу. Этот признан, зна-
менит, пишет и издает книгу за книгой, у него есть со-
брание сочинений, как выясняется — весьма весомое,
если мерить на килограммы.
Существенно и выразительно признание самого Ар-
нольда Баффина: «У меня нет музы. Это и значит быть
профессиональным писателем». Это и значит выпускать
роман за романом: их печатают, критика восхваляет,
читатель охотно читает. Как это возможно? — задаются
вопросом в «Черном принце». И там же сказано: настоя-
щий заговор. Действует налаженная система фабрика-
ции, прославления и сбыта литературной продукции,
отвечающей «общественному вкусу», который, в свою
очередь, формируется налаженной системой воздейст-
вия на общественный вкус. Брэдли Пирсон называет
себя «крестным отцом» Арнольда Баффина, словно от-
мечая тем самым, что этот профессиональный писатель
появился и стал действовать не без попустительства
таких «мучеников пера», как Пирсон.
У читателя нет возможности непосредственно позна-
комиться с сочинениями Арнольда Баффина, но он мо-
358
жет поверить Брэдли Пирсону, его «крестному отцу».
Доступна его рецензия — критический документ, состав-
ляющий малую, но приметную часть текста романа
«Черный принц». Рецензия содержит обличение пи-
сательства, профанирующего искусство, и воздействует
на движение сюжета. При жизни Брэдли Пирсон не
решился ее обнародовать, она появилась в его романе,
вышедшем посмертно. В момент душевной размягчен-
ности, когда на него нисходит благодать всепрощения,
Пирсон готов отказаться от высказанного в ней резко-
го мнения, склонен считать ее односторонней, неспра-
ведливой, основанной не на'знании сочинений литера-
турного собрата, а лишь очередного его романа. Однако
наступает иной момент, когда Брэдли Пирсон не вы-
держивает взятой на *себя роли воплощенного благо-
воления и с остервенением рвет книгу за книгой, все
многотомное собрание романов Баффина, решительным,
но немощным действием подтверждая свое критическое
суждение.
Арнольд Баффин — явление типичное в зарубежной
литературе. Для баффинов, их издателей и обслужи-
вающей их критики налаженная фабрикация литератур-
ных произведений, баффинская продукция, и есть лите-
ратура. Этот факт, утверждает Брэдли Пирсон, это явле-
ние его тревожит и мучает. С характеристикой этого
явления, данной Пирсоном, согласна и Мердок, ее герой
выражает не только свое, но и ее мнение. С точки зре-
ния писательницы, баффинская продукция, «журна-
листский роман», как она называет эту продукцию,
потеряла человека, не видит его уникальности, слож-
ности и его возможностей.
Относительно Арнольда Баффина — писателя все
более или менее ясно; нельзя сказать того же о Брэдли
Пирсоне. Как убедиться в том, что Брэдли Пирсон есть
Брэдли Пирсон, что он — писатель и прямая противо-
положность Арнольду Баффину? Впрочем, отношения
Пирсона и Мердок к Баффину не адекватны. Не совпа-
дают и мнение Брэдли Пирсона о самом себе и мнение
о нем Айрис Мердок.
Читая, например, «Мартина Идена», представляешь
себе суть проблемы и ее значение, трагическую судьбу
писателя и ее причины и не сомневаешься относительно
призвания Мартина Идена и его творческих мук, про-
фессионального успеха и творческого краха. Все это
серьезно и художественно убедительно. А Брэдли Пирсон?
359
«...Мое творческое развитие было моим человече-
ским, развитием», — так говорит Пирсон, и говорит
дело, это признание стоит учесть и взять за исходное.
Вне человека нет писателя, в творчестве раскрывается
личность, ее особенности и масштаб. «Произведение ис-
кусства равно своему создателю», — с категоричностью
математической формулы утверждает Брэдли Пирсон.
Приглядимся к его личности.
Человеческое развитие Брэдли Пирсона делится на
две половины, если не считать эпилога: на долгую
жизнь и мгновение, «драматическую кульминацию».
Он «был женат, потом перестал быть женат», терпел
и готовился. Работал налоговым инспектором, написал
три книги, но они не в счет. Он не спешил, «предчувст-
вуя великие откровения». Что ж, поверим ему на слово.
Он сознавал в себе «титанического мыслителя»...
Убедиться в этом нет возможности. Брэдли Пирсон раз-
мышляет и рассуждает много. «Вся моя жизнь — одни
мысли», — говорит он. Однако как бы высоко в философ-
ские сферы ни забиралась его мысль, его сентенции по
большей части — цитаты и общие места. Это, кстати,
отмечают его друг Арнольд Баффин и его дочь Джу-
лиан, а они хорошо знают своего собеседника.
По всякому случаю Брэдли Пирсон способен изречь
сентенцию философского свойства.
Отходит день, наступает ночь, и это движение вре-
мени рождает у Брэдли Пирсона отклик, он размышля-
ет и записывает, чтобы поделиться выводами своей
мысли с таинственным другом. «То, что один день от-
делен от другого, — одна из занимательнейших особен-
ностей жизни на нашей планете. В этом можно усмот-
реть истинное милосердие... У ангелов должны вызывать
удивление существа, которые с такой регулярностью
переходят от ясного сознания к полной фантазии тьме.
Еще ни один философ никогда не мог объяснить,
каким образом такая хрупкая вещь, как челове-
ческая личность, способна выдержать подобные пе-
реходы».
Брэдли Пирсона вырвало, он описывает это собы-
тие и тут же умозаключает: «Рвота весьма любопытное
явление, совершенно sui generis. Потрясающе, до ка-
кой степени она непроизвольна, ваше тело неожиданно
проделывает что-то совершенно необычное, с удиви-
тельной быстротой и решительностью. Спорить тут не-
возможно».
360
Подобные умозаключения действительно sui generis.
Это нечто бытовое и доморощенное.
Самопризнания Брэдли Пирсона многочисленны, они
делаются не без расчета, должны служить свидетель-
ством его полнейшей искренности и совершенной дове-
рительности. Они, как и весь его «Черный принц», —
интимная исповедь, обращенная к одному лицу, только
ему и предназначенная. Но этот единственный читатель
оказывается затем издателем, и то, что предназначает-
ся одному, становится достоянием всех. Давнишний
прием, некогда традиционный способ уверить читателя,
недоверчиво относящегося к литературной выдумке,
что все происходящее под книжным переплетом —
правда.
Брэдли Пирсон, исповедуясь, говорит, что «титани-
ческий мыслитель» уживался в нем «с осмотрительным,
совестливым обывателем, полным моральных запретов
и общепринятых страхов». Так оно, пожалуй, и есть,
это правда, поведение Пирсона подтверждает: он вел
себя как осмотрительный обыватель.
«Мне, — пишет Пирсон, — часто приходило в голову,
когда я задумывался поглубже, — что я плохой худож-
ник, потому что я трус. Не настало ли время выказать
смелость в жизни и тем заявить о своей смелости в ис-
кусстве, даже, может быть, таким образом обрести ее?»
Когда Брэдли Пирсон «задумывался поглубже» — ведо-
мо только ему самому, а какое дерзновение в жизни он
наконец, выказал, обретя смелость в искусстве, — это
известно точно. Он влюбился в двадцатилетнюю дочь
своего друга, Джулиан, после того, как чуть не сошел-
ся с ее матерью, и овладел ею — не без физических
затруднений и укоров совести. Конечно, это только схе-
ма поведения, без психологии и философии, а схема
упрощает. Это только факты, а их можно трактовать
по-разному, как это и делают Баффин и Пирсон. Для
Баффина «смелость» Пирсона — неотступное стремление
«престарелого мужчины» «удовлетворить сексуальные
потребности», для самого Пирсона — это «что-то дру-
гое, более важное, его предназначение», нечто ниспо-
сланное свыше. Джулиан «чувствует, что над ними
тяготеет какой-то рок». Психологические нюансы и фи-
лософский смысл фактов в подробностях раскрыты на
страницах «Черного принца». Одно представляется бес-
спорным: когда Брэдли Пирсон трусил, он был обыва-
тель, когда он осмелел, он не превратился в титана.
361
Словом, «человеческое развитие» Брэдли Пирсона ха-
рактеризует его «творческое развитие», его суть и меру,
и свидетельствует: высокое представление Брэдли Пир-
сона о себе как писателе божьей милостью — мистифи-
кация.
По словам Пирсона, «эта книга («Черный принц»,
главная его книга)—об искусстве. В то же время она
сама хоть и скромное, но произведение искусства, object
(Tart, как принято говорить; так что ей можно позво-
лить оглянуться на самое себя». Оговорка «хоть и
скромное» — от лукавого, это уничижение паче гордо-
сти, это поза, хотя Брэдли Пирсон решительный про-
тивник позы и находит, что поза несовместима с ис-
кусством. «Если уж пишешь, — наставляет он, — то пи-
ши от сердца, но осторожно, объективно. Ни в коем
случае не позируй». Как может object (Tart, созданный
«черными силами воображения», при вмешательстве
«черного Эрота», быть всего лишь скромным произве-
дением искусства? По тому, как эта книга «оглядыва-
ется на самое себя» и что она в себе видит, не ска-
жешь, что скромность — ее подруга. Между прочим,
Брэдли Пирсон любит в свой, английский текст встав-
лять иноязычные слова и выражения. Безо всякой не-
обходимости, тогда, когда без них вполне можно обой-
тись. Чем это можно объяснить? Скромностью, жела-
нием образованность показать, ввести в заблуждение?
Отец Брэдли страдал от необразованности, стыдился
ее обнаружить. Не то сам Брэдли, он — другая ступень
образованности и ее применения.
«Искусство имеет дело с Правдой, и не главным
образом, а исключительно. Эти два слова — в сущности
синонимы. И художник ищет особый язык, чтобы вы-
сказать на нем Правду». Казалось бы, это значительно
и верно. Но что все это означает в устах Брэдли Пир-
сона? Он изъясняется метафорическими формулами, не
утруждая себя разъяснением. «Роман — комическая фор-
ма. И язык — комическая форма, он шутит во сне».
«Ирония — это вид «такта» (забавное словцо)». И в са-
мом деле — забавно. Но нужно ли здесь забавляться?
Вспомним, как Брэдли Пирсон толкует «Гамлета» мо-
лоденькой девушке, жаждущей просветиться и решить
практическую задачу — подготовиться к экзамену. Он
делает это забавляясь, однако не без направления
мысли.
362
«— А как по-твоему, король и Клавдий вначале сим-
патизировали друг другу?
— Существует теория, что они были любовниками.
Гертруда отравила мужа, потому что он любил Клав-
дия. Гамлет, естественно, это знал. Ничего удивитель-
ного, что он был неврастеником. В тексте много за-
шифрованных указаний на мужеложество. «Колос, по-
раженный порчей, в соседстве с чистым». Колос — это
фаллический образ, «в соседстве» — эвфемизм для...
— Ух ты! Где можно об этом почитать?
— Я шучу. До этого еще не додумались даже в
Оксфорде».
Шутки Брэдли с выдумкой, а выдумка с намеком,
с направлением мысли. Шутки шутит не один Брэдли,
но и его таинственный* «любезный друг» и издатель и
одновременно его alter ego. «...Лучше уж мне быть шу-
том Брэдли, чем его судьей», — говорит он.
Искусство, хотя это слово Брэдли Пирсон пишет
с большой буквы и в приподнятом настроении, обретает
под его пером какой-то деловой подход к Правде: оно
(Искусство) с ней (Правдой) «имеет дело». Что сразу
бросается в глаза в искусстве Брэдли — это прием, си-
стема приемов, заимствованных у многих предшест-
венников. У Джорджа Мередита, к примеру, заимство-
ваны некоторые приемы анализа умственно-речевого
процесса, прием драматизации повествования, стиль
многих афоризмов и метафор и, по-видимому, взгляд на
иронию и сама формула романа. «Повествовательной
комедией» назвал Мередит свой роман «Эгоист», Брэд-
ли Пирсон жанр романа называет «комической фор:
мой». Широкое применение нашел у Брэдли Пирсона
прием «точки зрения», теоретически и на практике осно-
вательно разработанный Генри Джеймсом. Впрочем,
широкое применение этот прием находит в полном виде
в романе «Черный принц», со всеми приложениями:
с предисловием издателя и послесловием некоторых
действующих лиц. В этих приложениях Брэдли Пир-
сон и связанные с ним роковые события рассматрива-
ются с разных точек зрения. В этом, полном «Черном
принце» и сам Брэдли Пирсон наделен «функцией
приема».
Когда Брэдли Пирсон противопоставляет себя («ар-
тиста, человека посвященного») Арнольду Баффину
(«всего лишь талантливому журналисту»), он винит сво-
его друга в ремесленном подходе к писательству, в то-
363
ропливой работе: «Каждый год по роману». Но тут
вспоминается: и Айрис Мердок почти каждый год вы-
пускает по роману. «Черный принц», появившийся
в 1973 году, — пятнадцаТБГЙ~Т10 счегу-еенроман, а сейчас
их число перешло за двадцать. По названиям, по типу
наименований, да и по сюжету .романы Баффина на-
поминают романы Мердок. Как ни противопоставляет
себя Пирсон Баффину, как ни отталкивает себя от него,
он все время при нем, когда хочет сделать что-то ре-
альное и не порвать связи с жизнью. Все что-то мешает
ему и его замыслам, и чувство неполноценности сопро-
вождает его. В своем стремлении преодолеть это чув-
ство он невольно оказывается в сфере взаимодействия
с Баффином. Не случайно и жена и дочь Баффина ока-
зывают значительное влияние на его творчество, жизнь
и_судьбу.
^ Мердок не хочет пренебрегать опытом Баффина,
создающим успех его книгам. Баффиновский роман
потерял человека, не видит его уникальности и слож-
ности— она стремится найти человека и показать его
уникальность и сложность.
Романы Арнольда Баффина, по словам Пирсона, —
«набор забавных анекдотов, кое-как слепленных в одну
«смачную историю» посредством дешевого символизма».
И «Черный принц» насыщен символикой. Повторим:
«Черный принц» не только анализ, но и самоанализ.
Некото|ше ме^т^^^еор^ических рассуждений Брэдли
Пирсона слово в-с-л0во-лювторяют_то,__что Айрис Мер-
док сама говорила ..„относительно искусства.
«Черный принц»! Почему принц, почему черный?
Критика и читатель гадают, их заставляют этим зани-
маться. По-видимому, тут нет речи о сыне Эдуарда III,
Эдуарде, которого звали «Черным принцем». Имеется
в виду Гамлет, принц Датский, одетый во все черное.
Брэдли Пирсон особо почитает Шекспира (как и Мер-
док) и одержим «Гамлетом».
«О, нежная уязвимость человеческого тела, эта хруп-
кость яичной скорлупы! Как может ненадежное, не-
прочное устройство из плоти и костей не погибнуть на
этой планете, состоящей из твердых поверхностей, где
все подвержено беспощадной смертоносной силе тяже-
сти? Я явственно слышал хруст и чувствовал удар ее
тела о дорогу». Эти мысли, оснащенные знанием неко-
торых сведений из анатомии, геологии и физики и обла-
ченные в «гамлетовские» метафоры, проносятся в го-
364
лове Брэдли Пирсона в тот момент, когда он бежит
«в сгущающихся синих сумерках», чтобы «застонать
вслух» над «неподвижным распластанным существом»,
то есть Джулиан, которая на ходу выпрыгнула из ав-
томобиля, чтобы доказать, что она любит Брэдли Пир-
сона. Потом Джулиан делает ему сюрприз: «На ней
были черные колготки, черные туфли, черная облегаю-
щая бархатная куртка и белая рубашка, а на шее цепь
с крестом. Она стояла в дверях кухни, держа в руке
овечий череп... Бедный Иорик...» Некоторое время
спустя Брэдли большими шагами подошел к Джулиан,
«взял ее за запястье, втащил в спальню и повалил на
кровать. Овечий череп упал на пол...». Еще некоторое
время спустя Брэдли «зарылся в белоснежную пену
ее рубашки и шелковистую путаницу ее волос, чтобы
добраться до цепи, нашел ее и разорвал. Рубашка со-
скользнула. Джулиан торопливо расстегивала лифчик...».
— Что сделало тебя таким? — позже спросит Джу-
лиан Брэдли.
— Наверное, принц Датский, — ответит Брэдли.
Так раскрывается символический смысл заглавия
«Черный принц», еще далеко не весь смысл, а какая-то
его часть, этот символ, как и другие символы романа,
многогранен и неисчерпаем.
Наконец-то Брэдли Пирсон разорвал цепь, при-
крепленную к кресту, — они — эта цепь и крест — напо-
минают одновременно и о Гамлете и о хиппи («такой
крест носят хиппи», новоявленные гамлетики), — и по-
нял, что испытанная им «ярость», направленная против
него самого через Джулиан» или «против судьбы через
Джулиан» и его самого, была «в то же время любовью,
божественной силой — безумной и грозной». Вот к ка-
ким последствиям ведут крест, овечий череп и черные
колготки. «Черный принц — это в то же время и чер-
ный Эрот», а черный Эрот, которого Пирсон «любил и
боялся, — лишь слабая тень более великого и грозного
божества». Символы... Они нужны для упражнения ума,
их можно разгадывать, как разгадывают кроссворды,
но все это на другом уровне и с другим смыслом. Все
это способ выражения сложности сознания, его проти-
воречий, его раздвоенности, растерянности, терзающих
его .комплексов... Брэдли Пирсон предупреждает, что
этот другой смысл не надо искать на ложном пути, не
учитывая его собственной точки зрения, его личного
представления об «иррациональном». «В наш век, —
365
рассуждает он, — принято объяснять безграничный и
непостижимый мир причинных взаимосвязей «сексуаль-
ными влечениями»... Немного того, немного другого, и
на свете не остается явлений, которых не могли бы вы-
вести из секса такие циники и лжеученые, как Фрэн-
сис Марло»...
Жалкий приживальщик, извращенный и презренный
человечишка Фрэнсис Марло и в самом деле выступает
в роли лжеученого, он пишет психоаналитические «за-
метки», снабжает «автобиографию» Брэдли Пирсона
«научным эпилогом», который под названием «После-
словие Фрэнсиса» входит составной частью в полный
текст романа «Черный принц», написанный Мердок.
«Послесловие Фрэнсиса» — откровенная пародия на
фрейдиста и психоаналитические опусы. Но «исповедь»
Брэдли Пирсона дает все основания для подобной па-
родии, она сама в значительной своей части представ-
ляется пародией на «художественные» воспроизведения
потока сознания во фрейдистском духе. При чтении
описания «физиологических переживаний» Брэдли Пир-
сона, связанных с его нравственными и эстетическими
переживаниями, когда он в подробностях и с высоким
сознанием значительности этих подробностей расска-
зывает, как его начало тошнить, а затем вырвало от
сложного комплекса восторженных чувств, вызванных
музыкой и любовью, невольно можно подумать: а что,
этот Брэдли Пирсон, может, и в самом деле он «пара-
ноик из писчебумажного магазина», как его именует
в своей «новой работе» консультант-психолог Фрэнсис
Марло.._
В «исповеди»^Брэдли Пирсона часто встречаются
дотошные описания вещественного мира, предметного
окружения, материальной среды, в которой он пребы-
вает. Характерный случай — подробное описание его
гостиной. Брэдли Пирсон нередко, как думается, обра-
щается к творческому опыту Джорджа Мередита, но
в противоположность ему заметно укрепляет связь
с предметным миром и в этом отношении следует тра-
диции бытового и нравоописательного романа. Сам
Пирсон поясняет читателю, что подробное описание
его гостиной и другие подобные описания существенны
для понимания его характера и его судьбы. Не обяза-
тельно соглашаться с Брэдли Пирсоном, но прислу-
шаться к нему следует. А прислушавшись, спросить:
сам-то он, Брэдли Пирсон, заслуживает ли того внима-
366
ния, к которому он взывает? Может быть, обстоятель-
ные, детальные, с мельчайшими подробностями описа-
ния и комментарии — дерзкий прием, использование
старого литературного приема с целью контраста, за-
медления художественного времени и вместе с тем
с целью убедить в значительности Брэдли Пирсона?
Может быть, это строго рассчитанная и важная часть
контекста?
У Брэдли Пирсона есть специальное рассуждение
о контексте, и надо сказать, рассуждение профессиона-
ла, отлично понимающего: художественная убедитель-
ность зависит от контекста и возникает в контексте.
«Я пуританин», — чтобы поверить этому сообщению,
надо увидеть его в контексте.
Когда Робинзон Крузо сообщает: «Я родился в
1632 году, в городе Йорке, в почтенной семье...», когда
он в подробностях описывает, как он изготовляет себе
одежду, как строит жилье и обживает (его, — это
серьезно, подобные описания в «Робинзоне Крузо» худо-
жественно оправданы, их читали, читают и будут чи-
тать. Но серьезны ли в своей обстоятельности и дотош-
ности подобные описания, сделанные Пирсоном?
Тут следует вспомнить, что столь же подробные опи-
сания предметной обстановки свойственны не только
Брэдли Пирсону, но, например, и Хилари Бэрду, рас-
сказывающему историю своей жизни (роман «Дитя
слова»). Эти описания не только подробны и много-
численны, они точны, наглядны и выразительны. Во
всяком случае, многие из них, если не большинство.
Предметы, вещи, детали одежды вольно или невольно
привлекают внимание Пирсона и Бэрда. Они как бы
сами собой попадают в поле их зрения, притягивают
их взгляд, занимают сознание, заполняют их память.
Они могут служить и служат для характеристики быта,
нравов, социального положения и психологии персона-
жей. Вместе с тем их изобилие подчеркивает особый
к ним интерес в изображаемой среде, тот интерес, ко-
торый получил наименование «вещизм». А манера их
описания и изображения напоминает о приемах описа-
ния и изображения предметного мира в «новом ро-
мане».
Мир Брэдли Пирсона и Хилари Бэрда — замкнутый
мир и не мир, собственно, а мирок. Хилари Бэрд обла-
дает недюжинной способностью — он легко овладевает
языками и знает многие иностранные языки. Но эта
367
способность не расширяет значительно его кругозора.
Он мог бы стать ученым-лингвистом, но не становится
им. Он полиглот, хотя убедиться в этом нет возмож-
ности. Знание им языков — мертвое знание. Он учился
и преподавал в Оксфорде, а в конце концов стал чи-
новником весьма невысокого ранга в государственном
учреждении, не имеющем ничего общего с лингвисти-
кой. Факты, события, явления большого мира, большой
истории лишь мелькают в его сознании. «Приятное теп-
ло встретило меня, когда я вошел в наше учреждение.
Электричество сегодня, слава богу, работало без пере-
боев: забастовка, видимо, окончилась». Вот и все о за-
бастовке. Она лишь упомянута, и упомянута с чувст-
вом облегчения в связи с тем, что она окончилась и
заработало электричество. «В бытность мою студентом
я машинально, как это бывает у мужчин, интересовал-
ся девушками, которые попадались на моем пути. Ни
в каких обществах я не участвовал (лишь ненадолго
заинтересовался Марксом, следуя любви к русскому
языку) и спортом занимался лишь чисто мужским».
Сознание Хилари Бэрда раздроблено, у него нет
связующей и ведущей идеи. Эмоциональная сфера у не-
го не развита. Его, впрочем, как и Брэдли Пирсона, от-
личает поразительная сухость чувства, эмоциональная
глухота, неспособность живо чувствовать и сострадать.
В «Черном принце» «точки зрения» на один и тот
же ^предмет многочисленны. Перемещаясь, смыкаясь,
смешиваясь, они все же расходятся по двум направле-
ниям. С конечной «точки зрения» Рейчел, Кристиан,
Фрэнсиса, «драматическая кульминация» Брэдли Пир-
сона, его любовный и творческий порыв, его рассуж-
дения о возвышенных чувствах и идеях, — все это, го-
воря словами Рейчел, «путешествие в страну абсурда».
Некогда и она, Рейчел Баффин, тянулась к этой
стране, испытывая томление по человечности, хотя бы
смутное, тревожилась за свое «я», тосковала, пыталась
сопротивляться силам отчуждения, «бунтовать», но де-
лала это как-то мелко, пошло, не возвышаясь над вуль-
гарной средой. В драматический для нее момент эта
среда поддержала ее, и она, Рейчел Баффин, убийца
Арнольда Баффина, своего мужа, оболгавшая Брэдли
Пирсона, своего друга, проявила силу духа, волю
к утверждению личного «я» и перестала тосковать.
Что касается Кристиан, то она вполне продукт вуль-
гарной среды, хищница без страха и упрека. У нее чет-
368
ко выработанная позиция ко всему, чем веет из «стра-
ны абсурда». «К чему вообще столько шума насчет ис-
кусства? Можно и без искусства прожить, слава богу».
С точки зрения Брэдли Пирсона, абсурден мир, в кото-
ром он жил сам и в котором живут Рейчел, Кристиан,
Фрэнсис. Но «точка зрения» Брэдли Пирсона неустой-
чива, она колеблется, однако в известном направлении,
в хорошо известном направлении. «Мир — это юдоль
страданий. Пожалуй, в конечном счете это самое точ-
ное его определение. Человек — животное, которое по-
стоянно страдает от тревоги, боли и страха, жертва
того, что буддисты зовут «dukha» — неослабной, неуто-
мимой муки, испытываемой тем, кто жадно алчет при-
зрачных благ». Вспомним, как развивается далее мысль
Пирсона. «Все мы страдаем, но страдаем, увы, по-
разному. Кто знает, возможно, для просвещенного ума
участь желчного миллионера кажется не легче участи
голодного крестьянина. Быть может, миллионер даже
в большей степени заслуживает искреннего участия,
поскольку скоротечные радости — это обманчивое уте-
шение— уводят его с истинного пути, а лишения
крестьянина, хочешь не хочешь, учат его мудрости. Од-
нако такие суждения пристали лишь просвещенным
умам». Сам-то Пирсон считает, что «умирать от голода
в нищете более тяжкий удел, чем зевать от скуки, уто-
пая в роскоши». Однако, разве Брэдли Пирсон — ум не
просвещенный? Разве уста простого смертного произ-
несут с такой уверенностью слово «dukha», как это
делает Брэдли Пирсон?
Рейчел Баффин убила своего мужа, и ее ложь по-
служила основанием для того, чтобы Брэдли Пирсона
засадили в тюрьму.
«То, что она сделала, ужасно, оба ее поступка сквер-
ны— и убийство, и ложь», — так рассуждает в после-
словии Брэдли Пирсон. И тут же: «Какая безукориз-
ненная месть обоим мужчинам в ее жизни» — мужу и
несостоявшемуся любовнику. «В каком-то смысле она
достойна восхищения — сильный дух, сильная воля».
Он готов «чувствовать себя польщенным». Он уже
прощает ее, он уже видит в ней орудие, «сослужившее
ему великую службу».
Характер Рейчел Баффин и мотивы ее поведения —
явление не новое в литературе. Вспомним Мопассана,
«Наше сердце»: «Быть может, еще в годы замужества
в ее сердце зародилась потребность возмездия, смутная
369
потребность отплатить мужчинам за то, что она вытер-
пела от одного из них, одержать верх, сломить их во-
лю, сокрушить их сопротивление и, в свою очередь,
причинить боль». В «Нашем сердце» — это характер
и проблема и вместе с тем четко выраженная «точка
зрения». «Да и чувства-то у них страшно примитив-
ны; это чувства самок, мало поддающихся совершенст-
вованию, недоступных ничему, что не задевает непо-
средственно их чисто женского эгоизма, который погло-
щает в них решительно все». Так было в классической
литературе. Роман Айрис Мердок дает возможность чи-
тателю представить степень девальвации высоких цен-
ностей в современном буржуазном мире и уровень, ме-
тоды и формы утвердившейся в нем мистификации. Как
трудно стало разобраться: что есть что? Что есть обра-
зованность, а что — поза образованности, что есть фи-
лософия, а что — бытовое умствование, что есть лите-
ратура, а что — мистификация. Нет ли основания ду-
мать, что то, что Брэдли Пирсон, герой, он же автор
«Черного принца», говорит о писательстве, об искус-
стве, о любви, философии, величии и ничтожестве свое-
го «я», — все это не только воспроизведение фактов
действительности, стремление серьезно обсудить острые
и горькие проблемы, но и ход, способ, прием, чтобы
мистифицировать читателя.
«Черный дринц» и «Дитя слова» — романы без ге-
роя. В классическом «романе без героя» — в «Ярмарке
тщеславия» Теккерея точка зрения автора выражена
отчетливо, каждому событию и персонажу дана четкая
характеристика и оценка. Автор действует ненавязчи-
во, он поручает выразить свое мнение Кукольнику, на
которого вполне может положиться.
Брэдли Пирсон и Хилари Бэрд замещают автора,
один выступает в роли писателя, другой — рассказчи-
ка. Разумеется, замещают в пределах, дозволенных
им Айрис Мердок. Ирония, ироническая интонация,
«точки зрения» служат ей способом выразить свое от-
ношение к тому, о чем думают и рассуждают, что
чувствуют и делают ее герои. Однако голос автора
нередко так приглушен, что его трудно различить и
услышать.
Под "пером Брэдли Пирсона чувство любви, напри-
мер, смешивается с дрянцом. Происходит это невольно,
в силу характера Пирсона, его трусости, мучающих его
неврозов и сексуального комплекса. Брэдли Пирсон са-
370
мое значительное лицо в «Черном принце», он круп-
нее и лучше лиц, его окружающих. Под его пером они
выглядят много достойнее, чем когда выговариваются
сами. Многие высказывания Брэдли Пирсона по важ-
ным и принципиальным вопросам искусства и жизни
совпадают с высказываниями Мердок. И так™ обра-
зом,^ не всегда представляется возможность провести
необходимую грань между ними.
—В-этикб-эстётичёскбй концепции Айрис Мердок су-
щественное значение имеют понятия «воображение» и
«фантазия». Она рассматривает их как начала, друг
другу враждебные. Для нее фантазирование — «враг
искусства и одновременно враг истинного воображе-
ния»— возмездие романтизма. В поисках способов
адекватного восприятия й воспроизведения действитель-
ности, понимания человека в его реальной сущности,
Айрис Мердок отвергает фантазирование. Она как бы
забывает о том, что не всякая фантазия порывает
с действительностью, и невольно приземляет человека,
словно не доверяя его высоким духовным устремлени-
ям, опасаясь, что он в своих романтических порывах
может попасть в тенета иллюзий. Она тщательно ана-
лизирует сознание, склонное к фантазированию, кото-
рое порождает иллюзии и развивает эгоизм. ——
Сложен и противоречив путь формирования челове-
ка. Многие силы, действуя и противодействуя, влияют
на его духовный облик, его кругозор, образ поведения
и судьбу. История жизни Хилари Бэрда, рассказанная
им самим, делает этот факт вполне очевидным и на-
глядным и тем самым в той или иной мере поучитель-
ным. «Во мне все вульгарно перепуталось — покаяние,
раскаяние, досада, буйство, ненависть», — говорит он
в конце своего повествования. И пространный рас-
сказ его идет далеко не прямым путем, а все бо-
лее путаными тропами. Тем не менее прочертить ве-
дущую линию развития духовного и нравственного
облика этого героя возможно и необходимо, чтобы
понять сущность его личности, замысел автора и его
позицию.
Хилари Бэрд начинает свой рассказ в зрелом воз-
расте, он любит точность и сообщает читателю, что ему
сорок один год. Он ведет свой рассказ по дням недели,
начинает его, как можно догадаться, поздней осенью,
начинает с четверга, какие-то дни пропускает и закан-
чивает в конце декабря, на рождестве того же года.
371
При всей его любви к точности и деталям, года и ме-
сяцев, когда протекают события его повести, он не ука-
зывает. Потому, вероятно, что исходит из философского
убеждения: «Глубины сознания не подчиняются зако-
нам времени». А его занимают глубины сознания, преж-
де всего своего собственного, в которые он и погружает
читателя. Стараясь разобраться в мотивах и характе-
ре своих поступков, в перемежающихся душевных со-
стояниях, он путается и колеблется, затрудняя чита-
тельское понимание, то делает решительные выводы,
нередко озадачивая его.
Рассказывая повесть своей жизни, Хилари Бэрд
обращается к прошлым дням, к тяжким переживаниям
детства и юности, которые травмировали его психику,
и к роковым обстоятельствам ранней молодости, пере-
ломившим его карьеру и судьбу.
Беспризорный маленький Джо из романа Диккенса
«Холодный дом» на вопрос, кто его родители, отвечает:
«Отца нет, матери нет, друзей нет». Почти так же мо-
жет на этот вопрос ответить и Хилари Бэрд: отца он
не знает, мать едва помнит, слышал, что она была
«потаскухой», друзей нет. Он помнит, что в приюте,
уже взрослым мальчиком, он «захлебывался от злости
и ненависти», и помнит, каковы были эти злость и не-
нависть. «Я, — вспоминает Хилари, — ненавидел не об-
щество— абстракцию, выдуманную ничтожными социо-
логами, — я ненавидел всю вселенную. Мне хотелось
причинить ей боль в отместку за боль, причиненную
мне... Меня не покидала космическая ярость на то, что
я —жертва». Следует отметить не только характер пе-
реживаний Хилари — приютского мальчика, но и суть
комментария сорокалетнего Хилари Бэрда. Для него
общество — «абстракция, выдуманная ничтожными со-
циологами».
Хилари Бэрд вспоминает, как в его жизни наступил
счастливый перелом: он встретил «замечательного
школьного учителя» мистера Османда, одного из своих
спасителей. Разум его пробудился, «потоки света зали-
ли его». Книги по грамматике стали его молитвенни-
ком. «Труд познания новых слов» стал для него «как
бы жизнью». Так раскрывается смысл заглавия книги
«Дитя слова». Из слов «чудесного учителя» Хилари
впитывал «некую веру или идеологию», которая, безу-
словно, оказала влияние на его жизнь. Литературные
вкусы мистера Османда были «узкопатриотическими»,
372
Хилари «подыгрывал мистеру Османду», «участвовал
в его игре». Патриотические произведения Генри Нью-
болта и Редьярда Киплинга волновали его. «Сирота,
росший без матери, я, — вспоминает Хилари, — мог те-
перь по крайней мере сказать, что у меня есть мать-
родина...» Патриотические произведения «порождали
ощущение причастности к единой семье». «Но больше
всех пленила... юный ум» Хилари — «повесть о Тумаи
и слонах», и он мечтал о том, как «славный слон» уне-
сет его «в мир добра и благополучия, на открытый
простор, в центр всего сущего, приобщит к хороводу
пляшущих». Мистер Османд хотел, чтобы Хилари «вы-
рос хорошим человеком — сообразно его старомодному
и суровому представлению». Он ставил перед Хилари
те же цели, что и Кристел, его сестра и тоже его спа-
сительница. Он прививал ему уважение — «если гово-
рить о вещах более возвышенных — к правде». Однако
из всей совокупности воспитательных побуждений Хи-
лари выделил одно. «Мистер Османд верил в конку-
ренцию. Он считал ее необходимой для совершенство-
вания». «Parvenir a tout prix» (преуспеть любой це-
ной) — стало его лозунгом.
Никто из обездоленных героев Диккенса не мог и
помыслить об Оксфордском университете. А когда бес-
приютный герой Томаса Гарди Джуд Незаметный воз-
мечтал о «храме науки», он жестоко поплатился за свои
иллюзии. Честолюбивая мечта талантливого парня раз-
билась о социальные барьеры. Как поясняет возлюб-
ленная Джуда Сью, его столкнули с дороги сынки мил-
лионеров. С тех пор времена и обстоятельства изме-
нились. Перед Хилари, безродным и бедным молодым
человеком, еще недавно «нехорошим» приютским маль-
чишкой, за которым «укрепилась репутация хулигана»
и у которого «регулярно возникали неприятности с по-
лицией», врата Оксфордского университета открылись
без промедления. Случай редкий, но явный. В романе
не сказано, как практически осуществилась эта удача,
хотя ее детали могли бы иметь значение для понима-
ния социального аспекта события. Во всяком случае,
оно не состоялось бы, если бы энергично не про-
явили себя по отношению к Хилари отзывчивость,
доброта и забота провинциального школьного учи-
теля мистера Османда, который его обучал и вразум-
лял. Однако эти свойства учителя не перешли к его
ученику.
373
Поступив в Оксфордский университет, Хилари про-
явил усердие и незаурядные способности к языкам,
древним и новым, и, руководствуясь девизом «Parve-
nir a tout prix», «получил все премии, на какие мог
претендовать», «вошел в число первых студентов свое-
го курса и почти тотчас был избран преподавателем
другого колледжа». Но вскоре произошла катастрофа,
составившая основу истории, рассказанной в романе
«Дитя слова».
«Любую историю можно ведь рассказать по-разно-
му, и есть какая-то справедливость в том, чтобы нашу
рассказывать цинично», — замечает Хилари Бэрд пред
тем, как начать рассказ об основном событии своей
жизни. Начинает он с фактов в том их виде, в каком
их обозначает обычное мнение, отвлекаясь от индиви-
дуального момента и случая: «Молодая жена и мать
развлекается втихомолку; распутник обманывает свое-
го лучшего друга и так далее. Сами факты уже предо-
судительны— от этого никуда не уйдешь». Но Хилари
Бэрд привлекает внимание читателя к конкретной си-
туации и конкретным лицам, некоторые из предосуди-
тельных фактов опровергает, а другие трактует в ином
свете. «Мы были молоды, — говорит он, — и попали
в тенета страшной всесокрушающей физической люб-
ви». Хилари было двадцать три, и он отнюдь не был
распутником — на протяжении студенческих лет он
«оставался девственником». Энн было двадцать пять,
и ее тянуло к Хилари «с такой силой... как никогда не
тянуло к мужу». Обманутому мужу Ганнеру Джой-
лингу было двадцать семь, и когда он узнал об изме-
не, он не проявил агрессии, он написал Хилари: «По-
жалуйста, оставьте Энн в покое. Пожалуйста». Но Хи-
лари не отозвался на просьбу Ганнера, он перешагнул
уже через многие физические препятствия и нравствен-
ные барьеры и не собирался отказываться от Энн. Он
решил ее увезти и увез, после того, как «дал ей виски
и выпил сам, не разбавляя водой». Энн просила его не
гнать машину с бешеной скоростью, но он не прислу-
шался к ее голосу, он гнал машину, и трагическая слу-
чайность не замедлила себя ждать: они столкнулись
с «бентли», в которой почти с такой же скоростью ехал
биржевой маклер. Обе машины разбились вдребезги,
пострадало еще шесть машин. Энн умерла в больнице
на другой день, Хилари получил физические и психи-
ческую травмы. Катастрофа переломила его карьеру
374
и судьбу. Он подал в отставку, навсегда оставил Окс-
форд, год прожил «на севере», а затем «направился
в Лондон, как обычно делают преступники и люди раз-
давленные, потому что это самое подходящее место,
чтобы спрятаться». И он спрятался, поставил на себе
крест и превратился, по его словам, -в «подземное су-
щество».
Хилари Бэрд назвал себя «подземным существом»
по аналогии с человеком из подполья Достоевского.
Думать так есть достаточно оснований. Он читает по-
русски и свою повесть «собирался назвать «Мемуары
человека, живущего под землей». Автор и герой «Запи-
сок из подполья» рассказывает историю своей жизни
в возрасте сорока лет. Хилари Бэрд — в возрасте соро-
ка одного года. У человека из подполья было «нена-
вистное детство» и у Хилари — тоже. Подпольный че-
ловек «заключился от всех в пугливую, уязвленную и
непомерную гордость». Психологическое состояние, хо-
рошо знакомое «подземному существу».
Автор «Записок из подполья» в школьные годы
«пробился в число первых». Он не располагал теми
возможностями, какие волею случая и переменившего-
ся времени выпали на долю Хилари Бэрда. Он не учил-
ся ни в Оксфордском, ни в Петербургском университе-
те и не мечтал об этом. Но и ему мечталось, что он
выступит вдруг «на свет божий, чуть не на белом коне
и не в лавровом венке... Либо герой, либо грязь, сере-
дины не было». И Хилари Бэрд мечтал вознестись на-
верх, в «круг пляшущих». И он стал было возноситься.
Не только он тянулся к манящему верху, но и к нему
потянулись с довольно высокого верха. И он испытал
всепоглощающую физическую страсть, чего не испыты-
вал человек из подполья. Автор «Записок из подполья»
вспоминает и рассказывает случай из своей жизни, ко-
торый его особенно давил и тревожил. Когда произо-
шло это давящее его душу событие, ему было двадцать
четыре. Хилари Бэрд пережил свою первую катастрофу
в двадцать три года. У «подпольного человека» и «под-
земного существа» много схожих самохарактеристик и
парадоксальных психологических состояний. Однако
живут они и вспоминают о событиях своей жизни в раз-
ное время, в разных исторических условиях, в разных
странах, и внутренне их развитие далеко несхоже.
У Хилари Бэрда был еще один, более краткий и
простой вариант названия своей повести — «Внутрен-
375
нее кольцо». Лондонская подземка, ее внутреннее коль-
цо, частое место пребывания Хилари Бэрда — реаль-
ность и вместе с тем символ. В конечном счете символ
замкнутого, жалкого и бесперспективного существова-
ния и его самого и «человеческой расы». Вот как в вос-
приятии Хилари Бэрда через выразительные штрихи
реального быта лондонской подземки просвечивает ее
глубинный, метафизический смысл.
«В вагоне, плотно притиснутые друг к другу, слов-
но тени, упакованные для отправки в ад, мы покачива-
лись, зевали, дышали друг другу в безликие лица...
Усталые, густо накрашенные лица девушек, почти ка-
савшиеся моего лица, пахнувшие дешевой косметикой,
говорившие о пустой, лишенной радостей юности, каза-
лось, прокламировали бедность человеческой расы, ее
жалкую ограниченность, полное неумение постичь ре-
альность».
Отвлеченные размышления Хилари Бэрда не отвле-
кают его от собственной персоны, от чувства уязвлен-
ного самолюбия. «А быть может, — тут 'же замечает
он, — эти зеркала души, лишенной духа, просто отра-
жали мою собственную посредственность». Хилари Бэр-
да волнует проблема вины и раскаяния. «Я сознавал,—
признается он себе, — что убил Энн (и ее нерожденное
дитя) — совсем как если бы ударил ее топором». Его
мучает сознание вины и страх за совершенное злодея-
ние. Он пускается в отвлеченные размышления о добре
и зле, о «страшных закоулках человеческой натуры»,
о грехе, страдании и покаянии, способном «трансфор-
мировать грех в чистую боль», но постоянно сосредото-
чен на себе, на личной боли и обиде. Когда его мысли
все же обращаются к реальному миру, к трагическим
событиям реальной жизни, то даже чудовищные зло-
деяния и преступления против народа, против жизни и
человечности он вспоминает только в связи с собствен-
ным горестным событием, желая смягчить свою вину
и успокоить себя. «...У каждого свои заботы, и люди
склонны забывать, — размышляет он. — Не так уж ты
всем интересен. Даже Гитлера и то мы забыли». При
всех колебаниях мысли и чувств Хилари Бэрда, при
всей его готовности нравственно осудить себя, при всем
его увлечении метафизическими вопросами, пафосом
его души, итогом его размышлений за долгие годы после
катастрофы был весьма трезвый и прозаический вывод:
«Я погубил свои способности и превратил себя ив раба
376
не потому, что искренне сожалел о том, что совершил,
а потому, что был донельзя возмущен тем, что мне не
повезло и я не сумел «выйти сухим из воды. Глубокое
впечатление произвело на меня не само преступление,
а мгновенное, автоматически наступившее возмездие —
утрата Оксфорда, моего «положения» и всех плодов
моего труда. Если бы я сумел выйти сухим из воды,
я, возможно, снова стал бы на ноги».
Повествование Хилари Бэрда не ограничивается са-
моанализом и самооценкой, в нем слышен голос не од-
ного лишь рассказчика, но и других лиц, выражающих
о нем свое мнение, прямо или косвенно.
«Проклятая душа» Кристофер, никчемный жилец
Хилари Бэрда, в отличие от него, отнюдь не метафизи-
чески, а вполне конкретно, с четко выраженным соци-
альным чувством вспоминает о лондонской подземке:
«Я вдруг понял, как все ужасно: столько людей без
крова, голодные, полусумасшедшие, спят прямо на тро-
туаре у станции Чэринг-кросс». Кристофер вдруг осмыс-
лил ужасный факт под непосредственным впечатлением
от жестокого, бездушного, циничного отношения Хила-
ри Бэрда к своей возлюбленной, бесконечно преданной
ему Томми. И он, представитель жалкой богемы, чело-
век, казалось бы, опустошенный, находит в себе муже-
ство и нравственное основание сказать в лицо Хилари,
хозяину жилья, в котором Кристофер обитает: «Я, во
всяком случае, не поставил на себе крест. Я стараюсь
быть добрым. А вот вы поставили. И шагаете по лю-
дям. Вы губите людей, убиваете...» Самоанализ и по-
ступки Хилари Бэрда, мнение о нем других лиц, того
же Кристофера, рисуют его эгоцентриком, эгоистом,
снобом, движимым чувством ущемленного самолюбия,
ненависти и обиды.
Но вот однажды, еще до того, как произошла новая
катастрофа, напомнившая о первой и почти повторив-
шая ее, Хилари Бэрд, под воздействием второй жены
Ганнера Китти, ее просьбы встретиться с мужем, чтобы
тот увидел, что Хилари «не призрак, не демон», а «все-
го-навсего человеческое существо», преодолев страх,
злобу, ненависть, встречается с ним, и хотя объяснения
не происходит, ему помешали, происходит еще непо-
нятная герою перемена в его душевном состоянии —
проходит раздражение и тяжкая напряженность, и ку-
сочек простой жизни светлой и многозначительной сто-
роной является перед ним. Следует краткий, но отнюдь
377
не проходной эпизод. Хилари Бэрд выходит на улицу,
идет под мелким дождем, оказывается в Сент-Джеймс-
ском парке. «Я, — вспоминает он, — снял кепку и под-
ставил дождю лицо — дал ему легонько постучать по
моему лбу, векам. Посмотрел вниз, на озеро... и увидел
черно-белых хохлатых уток: блестя глазками, они под-
прыгивали на мелкой волне, неожиданно ныряли и сно-
ва выскакивали — гладко-красивые, безупречные, слов-
но только что созданные изобретательной природой,
чтобы наслаждаться дождем, наслаждаться самим сво-
им существованием. Я любовался утками и видел их
удивительно отчетливо, как-то по-новому, точно у меня
с глаз сняли катаракту. Я медленно, глубоко дышал и
смотрел на уток». Описание это незатейливо, но рель-
ефно, и психологическое состояние человека, взглянув-
шего на кусочек природы в момент душевного облегче-
ния, передано точно и наглядно. Состояние это у Хила-
ри не закрепилось и не развилось, облегчение было
недолгим и вскоре сменилось новым напряжением —
«страх и смертельная тревога вернулись». Однако пе-
режитое Хилари чувство, как можно думать, не прошло
бесследно для его душевного развития.
Для Хилари Бэрда наступил период еще одной «пе-
редышки», вызванный благосклонным отношением к не-
му Китти, «передышки», открывшей «радужные пер-
спективы» и повлекшей его к новой катастрофе. Еще
один «несказанный восторг» и чувство «уверенности
в себе» и возможности «только наслаждаться жизнью».
«Великая надежда», что «все будет хорошо, все во всех
отношениях будет хорошо», хотя эта- надежда не осво-
бодила его от страха и у него было здравое представ-
ление: Китти — «обычная, возможно, довольно глупая
женщина, которой нравится таинственность и нравится
проявлять свою власть».
«Великая надежда» рухнула, Китти погибла, а ко-
гда сам Хилари очутился в реке, пытаясь спасти ее,
и «в страшной кромешной тьме Темза понесла его»,
у него появилась одна цель — «выжить».
Хилари Бэрд не припомнит, чтобы со своим спаси-
телем мистером Османдом он когда-либо говорил о боге.
Он «ни во что не верил», и у него «не было ничего за-
меняющего веру». О боге он стал размышлять и гово-
рить позже. И эти размышления и беседы для его эво-
люции и для сюжета романа, особенно в его заверше-
нии, имеют принципиальное значение.
378
Когда Хилари был маленьким, он верил в Христа,
в то, что он страдал и умер за людей, во искупление
их грехов. Потом он усомнился в этом «прекрасном ми-
фе», счел «чертовски гнусной ложью это отрицание
причинности и смерти». Но все же «крошечное зерныш-
ко этой сентиментальной старой лжи» у него осталось,
когда он думал о случившемся, и о Ганнере, и о воз-
можности примирения с ним. Он всю ситуацию пред-
ставлял себе в виде дилеммы:
«...Примириться со всеобщим свинством и отстаи-
вать себя». Но у него не было уверенности, сумеет ли
он «продать себя не государственному учреждению
в этом подлом мире свободного предпринимательства,
где блестящий оксфордский диплом первой степени ни-
кого не удивит». Или—.примириться с Ганнером, осво-
бодить себя от чувства вины и страха. Но возможность
этого примирения представлялась ему равнозначной
вере в бога, а в бога он не верил. Тут на помощь ему
приходит Артур, его будущий шурин, «человек малень-
кий», но безвредный. «Я тоже не верю в бога, — гово-
рит он, и тоже с чувством некоторого сомнения в своем
утверждении. — Бога, может, и нет, но есть порядоч-
ность и... есть правда, и можно постараться придержи-
ваться этих понятий — я, во всяком случае, стараюсь
жить в свете этих истин и стараюсь делать добро и не
отступаться от того, что я считаю добром, даже если
это кажется глупым, когда доходит до дела». И он со-
ветует Хилари верить «в свою добрую волю и... в прав-
ду и... в простые стародавние представления о жизни».
Некоторое время спустя Хилари оказался в церкви
святого Стефана. Он сидел и рыдал, — «о Китти, о Ган-
нере, об Энн и уже тише, спокойнее — о себе». Он
вспомнил о мистере Османде и о том, как он учил его
«спрягать глагол «любить».
Хилари Бэрд был чужд «атмосферы маленьких ра-
достей». Но здесь, в церкви святого Стефана, он вспо-
мнил о них, вспомнил о своей сестре Кристел и
стал думать о том, как он заживет с ней «в собст-
венном домике, и будет у нее свой садик, и свои до-
машние животные, и все маленькие радости, каких
жаждет ее душа», а он, Хилари Бэрд, будет делать
вид, будто живет «в мире, даже, быть может, в радо-
сти, которую реальность жизни, наконец... может быть,
даст» ему. «И мы вдвоем будем петь, как птицы в
клетке».
379
Думая о назначении искусства и религии, Хилари
Бэрд как-то писал: «Искусство призвано создавать но-
вую красоту, а не манипулировать той, что уже сущест-
вует; религия призвана создавать бога и никогда не
успокаиваться на достигнутом». Это мысли не одного
только Хилари Бэрда, но и автора романа «Дитя сло-
ва». Его концовка может дать пример практического
воплощения этих мыслей.
«Колокола церкви святой Марии Эбботс каскада-
ми радостных переливов славили рождество. И дру-
гие церкви в округе подхватили перезвон. Словом,
младенец Христос все же умудрился появиться на
свет.
— Счастливого рождества, Томми.
— Я выйду замуж за тебя, Хилари.
— В самом деле, Томас?
— Да, я выйду за тебя замуж.
— В самом деле, Томазина?»
Так религия, призванная создавать бога и никогда
не успокаиваться на достигнутом, обещает Хилари Бэр-
ду маленькие радости. «Реальность жизни» подобных
обещаний ему не давала. А сам Хилари Бэрд, при его
характере, структуре его личности, с его эгоизмом и
бесчувствием, нелюбовью к детям, эмоциональной ту-
постью и уязвленным самолюбием, — хотя он и рыдал
в церкви и выразил надежду, что, может быть, в буду-
щем, он простит себя и «их всех», — сам Хилари Бэрд
еще менее способен гарантировать, что он обретет ма-
ленькие радости, и тем более — удовлетворится ими.
Он дважды переживал катастрофу. При всей искусности
построения сюжета романа «Дитя слова», повторная
катастрофа кажется явно подстроенной автором. Но
если, в целях эксперимента, подстроить Хилари Бэрду
еще одну катастрофу в том же духе, как он себя пове-
дет? Удержится он в сфере маленьких радостей, отка-
жется от своего «хотения», отклонит искушение испы-
тать «восторг» в «кругу пляшущих» еще с одной Кит-
ти? Хилари Бэрд—«дитя слова» и все вопросы нрав-
ственности обсуждает и решает на вербальном уровне,
без искреннего и глубокого участия чувств. Так что но-
вые жертвы представляются вполне возможными. Все
же, вслед за другими критиками, хочется пожелать ему
преодолеть в себе «подземное существо» и стать чело-
веком с явными признаками гуманной социальной лич-
ности.
380
В середине 70-х годов, когда «Черный принц» по-
явился в русском переводе, я беседовал о нем с
двумя искушенными читателями — с известным, ныне
покойным, художником и с известным литературове-
дом.
— Побольше бы таких романов, — сказал худож-
ник.
— Это опиум для интеллигенции, — сказал литера-
туровед.
Так серьезно это или мистификация — романы Айрис
Мердок? И то, и другое. Одно с другим слито так, что
трудно бывает разобрать, что есть что.
«Искусство — явление роковое», — сказано в «Чер-
ном принце». И в самом деле: с искусством не шутят,
с ним нельзя шутить.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Вводные замечания 3
Вильям Шекспир 7
Даниель Дефо 73
Великий романист Чарльз Диккенс 90
Уильям Мейкпис Теккерей и его «Ярмарка тщеславия»
(Роман без героя) 141
Джордж Мередит (Творчество и эксперимент) 157
Самюэл Батлер (Homo unius libri) 210
Томас Гарди (Век нынешний и век минувший) . . . . . 232
Джордж Мур (Пути писательства) 283
Ричард Олдингтон (Вражда и родство с уходящей эпо-
хой) 310
Айрис Мердок (Литература и мистификация) 354
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
В 1984—1985 гг.
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:
Зонина Л. Тропы времени. Замет-
ки об исканиях французских ро-
манистов (60—70-х гг.).
Ковалев Ю. Эдгар Аллан По. Но-
веллист и поэт.
Столбов В. Пути и жизни (О твор-
честве популярных латиноаме-
риканских писателей).
Фрид Я. Эмиль Верхарн. Творче-
ский путь поэта.
Хёпке К. Литература и жизнь.
Урнов М. В.
У70 Вехи традиции в английской литературе.—
М.: Худож. лит., 1986. —382 с.
Книга М. В. Уриова посвящена проблемам английской лите-
ратуры на разных этапах ее развития, от Возрождения до совре-
менности.
Автором рассмотрено творчество крупнейших писателей: Шекс-
пира, Дефо, Диккенса, Гарди, Теккерея, Олдингтона и др.,
каждый из которых внес свой вклад не только в английскую, но
и в мировую литературу.
4603020000-012 ББК 83.34Вн
У 028(01 )-86 21Ь86 8И(Англ)
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ УРНОВ
Вехи традиции
в английской литературе
Редактор
И. МИХАЙЛОВА
Художественный редактор
А. МАКСИМОВ
Технический редактор
Е. пьянова
Корректор
Г. АСЛАНЯНЦ
ИБ № 3417
Сдано в набор 15.03.85. Подписано к печати А 14109 22.08.85.
Формат 84Х108'/эв. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литера-
турная». Печать высокая. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,16.
Уч.-изд. л. 21,62. Тираж 17 000 экз. Изд. № IX-1292. Заказ № 1434.
Цена 1 р.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художествен-
ная литература», 107882, ГСП, Москва, D-78, Ново-Басманная, 19.
Типография издательства «Калининградская правда», 236000, Ка-
лининград обл., ул. Карла Маркса, 18