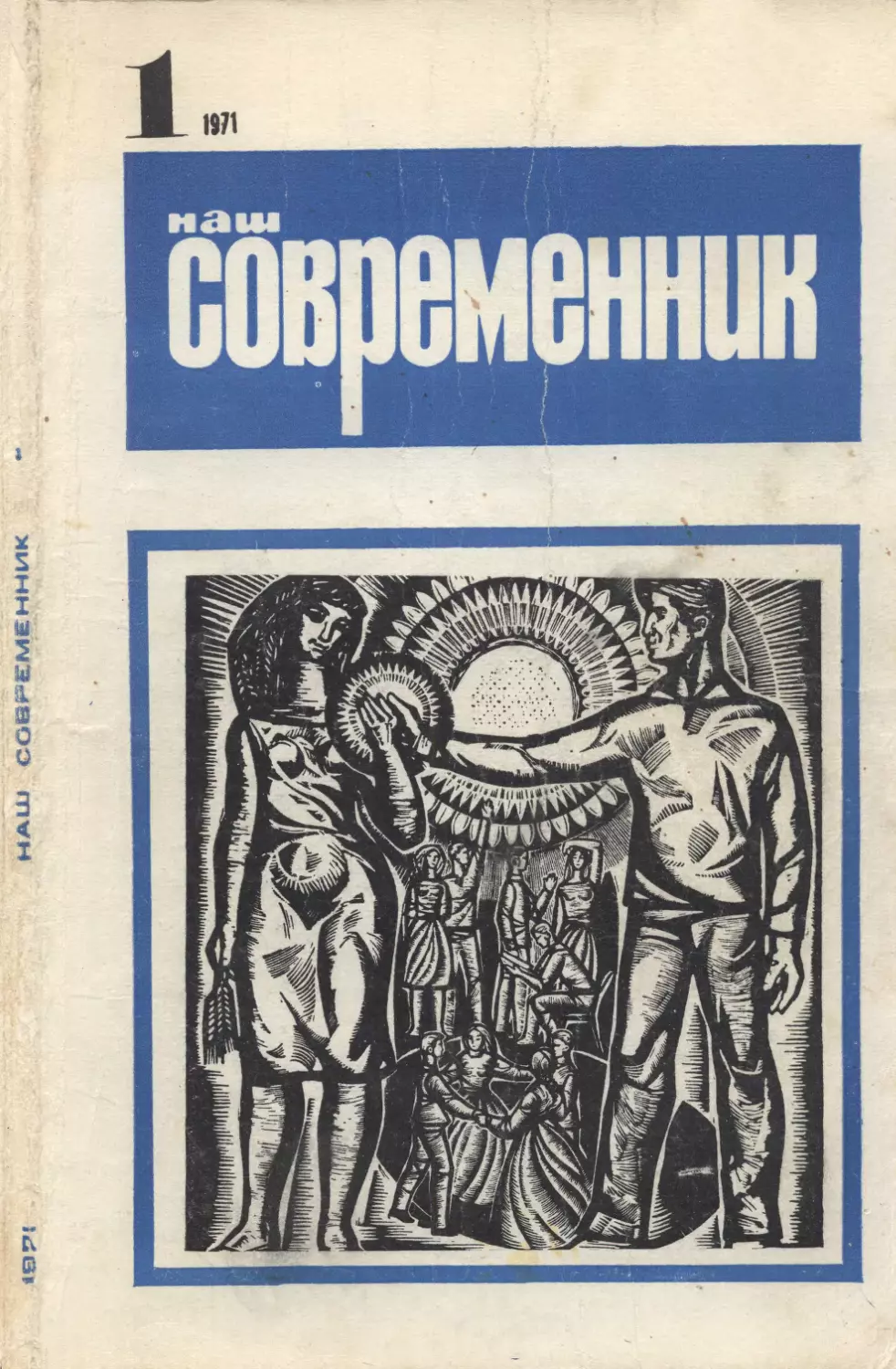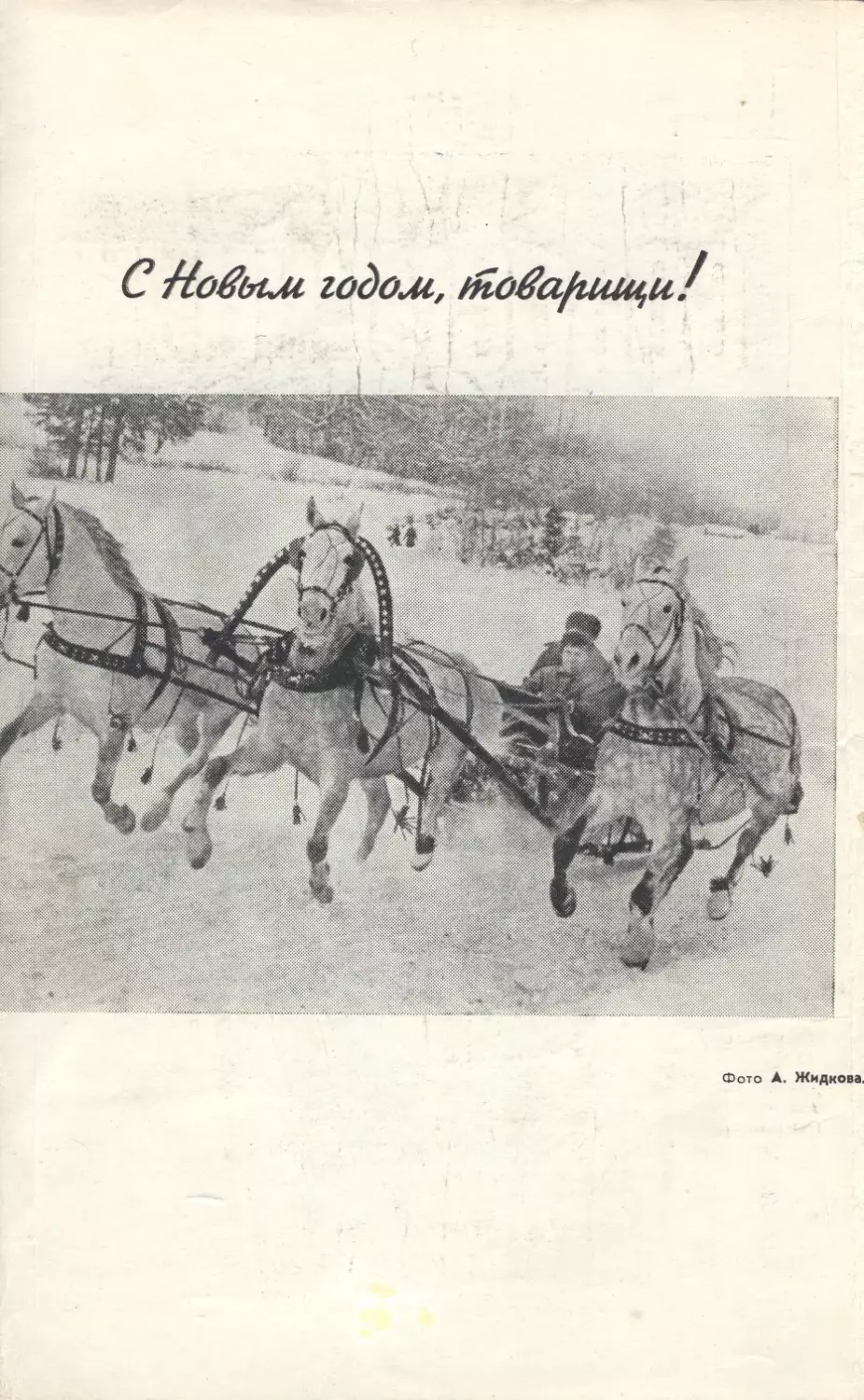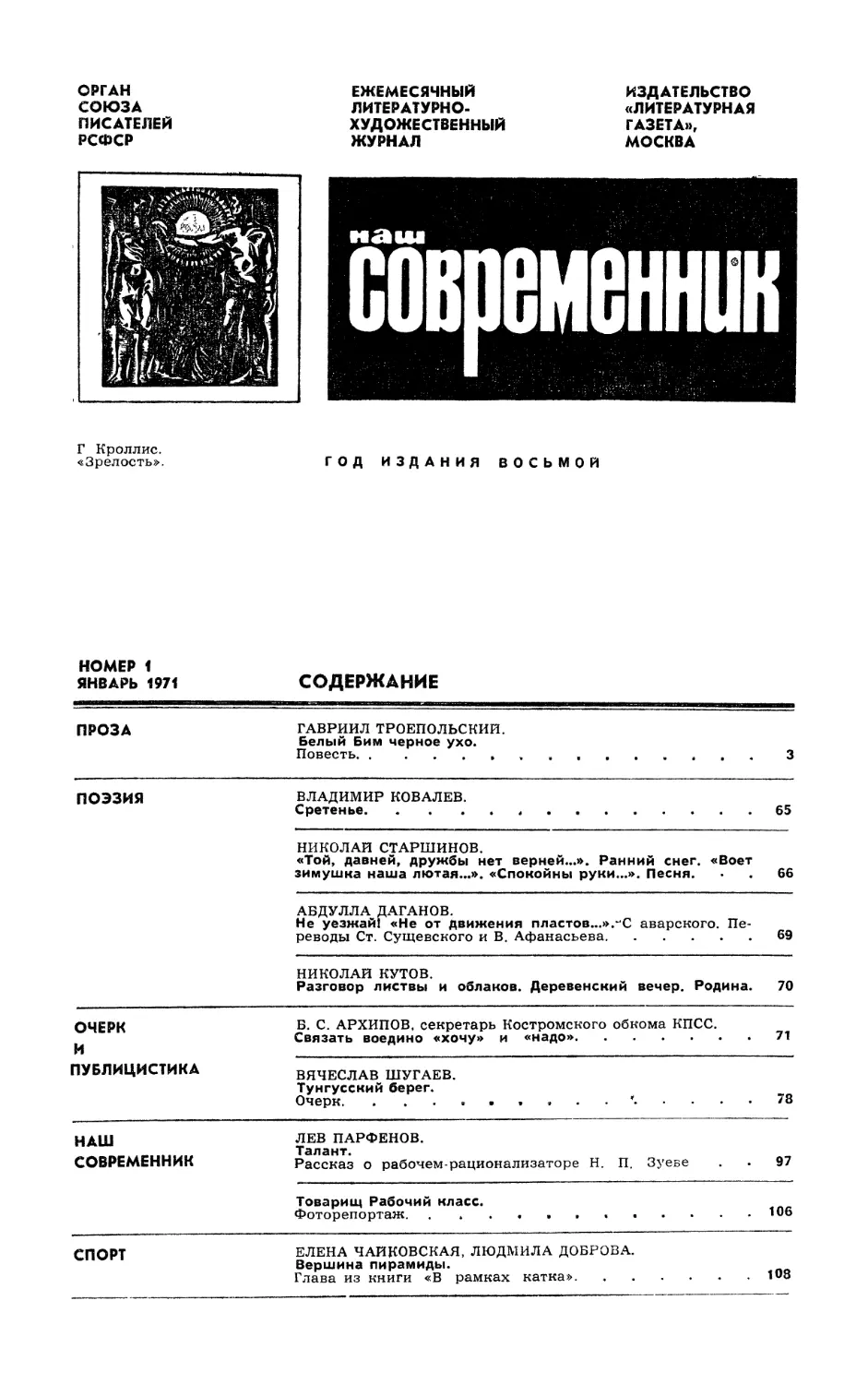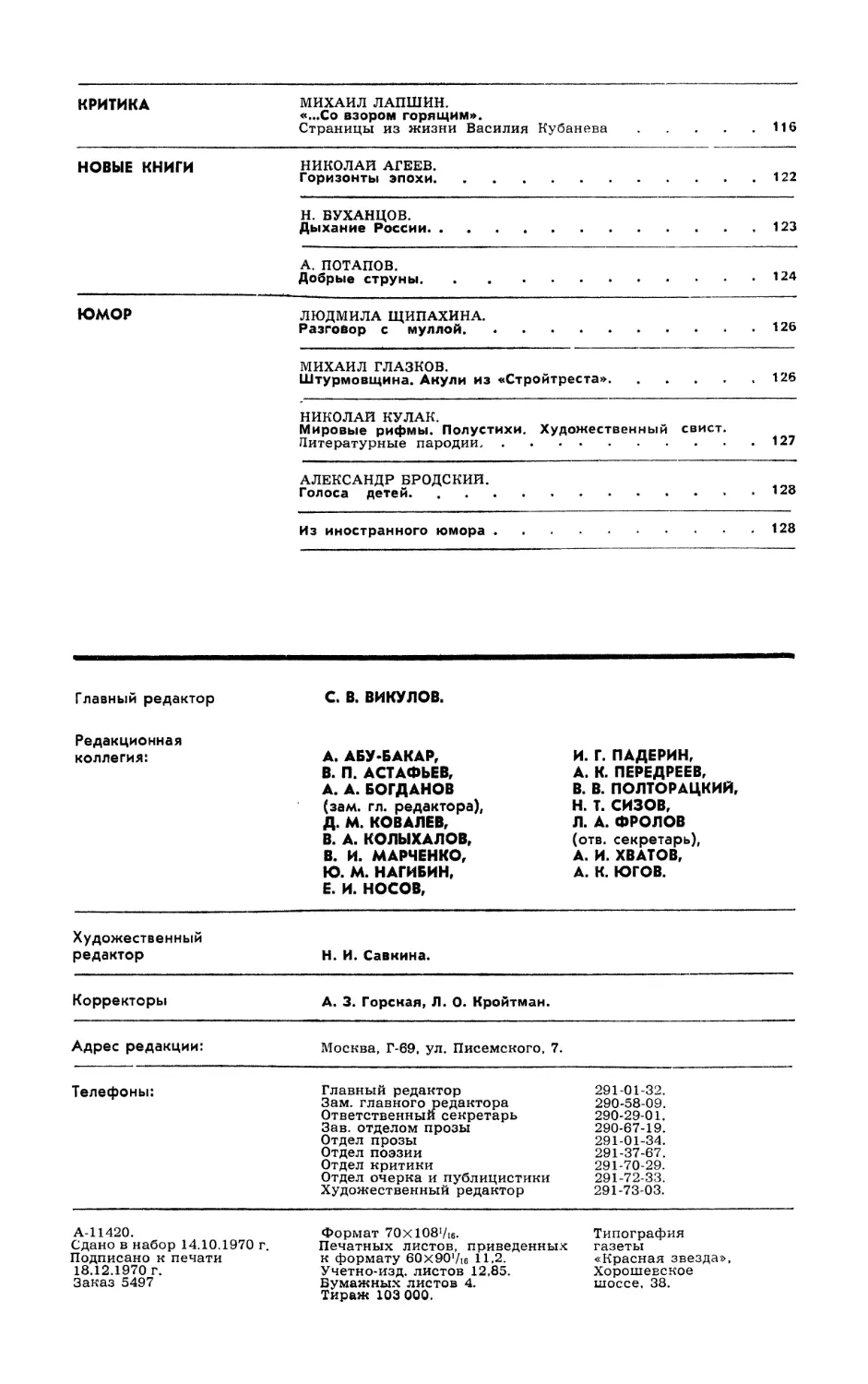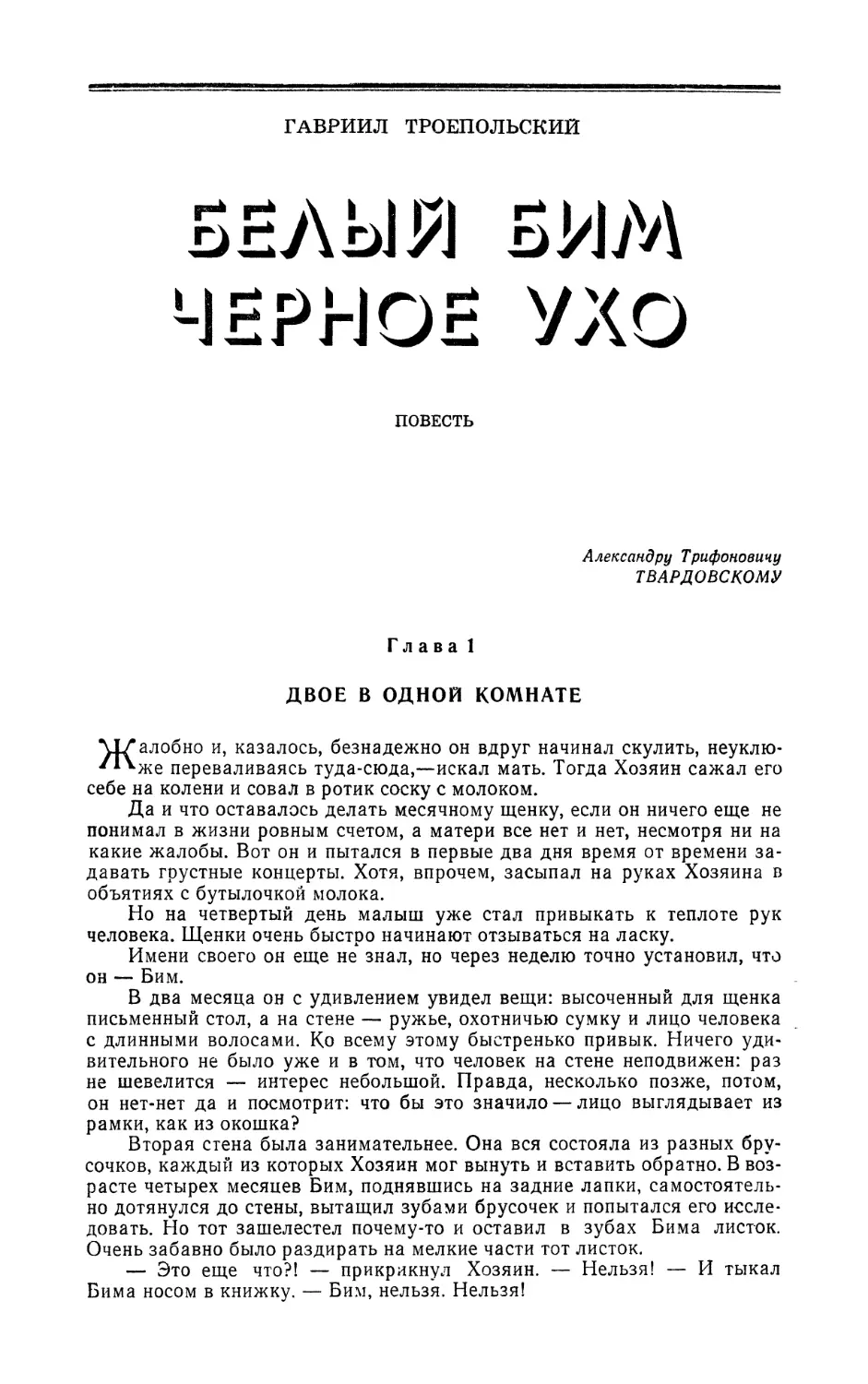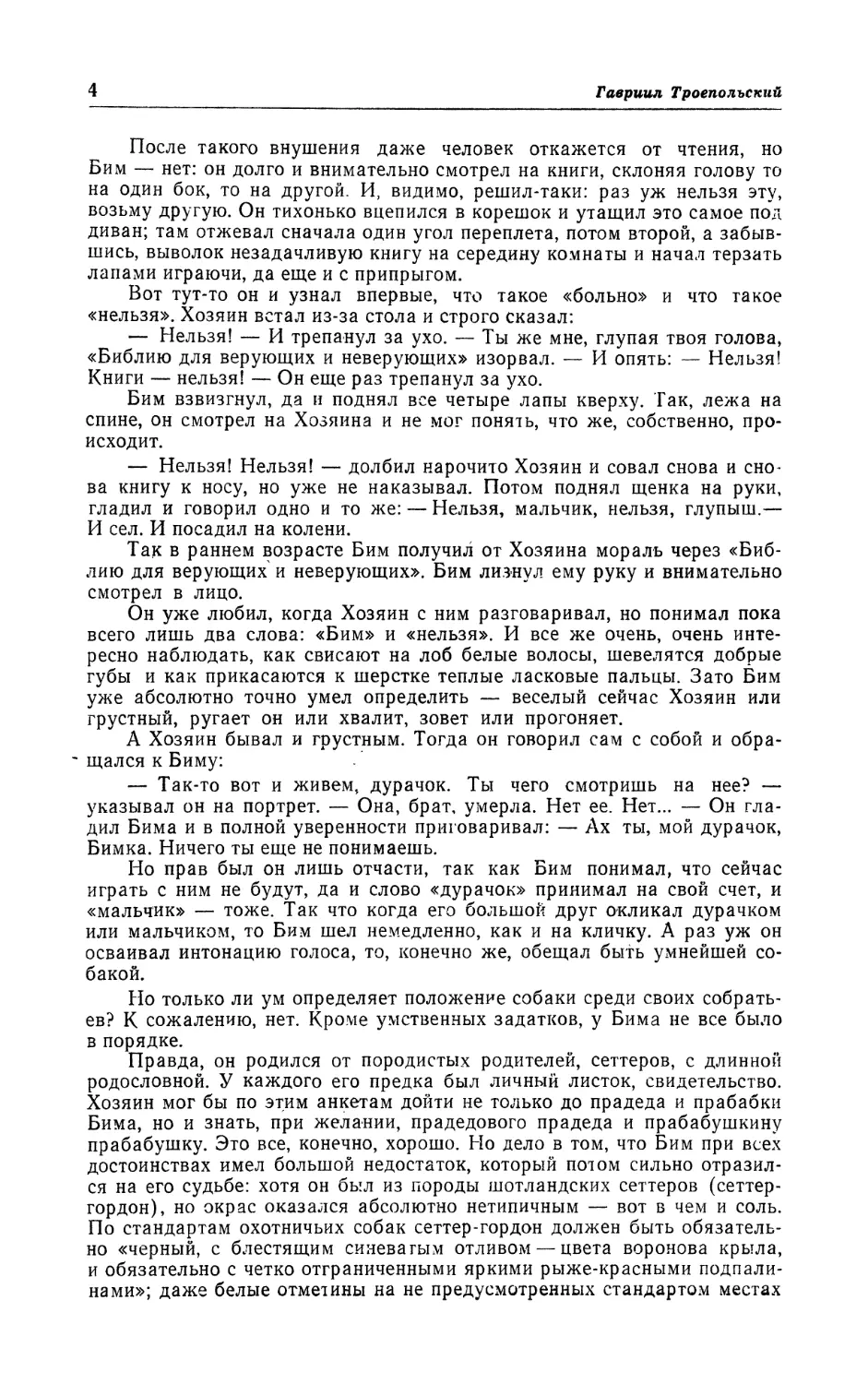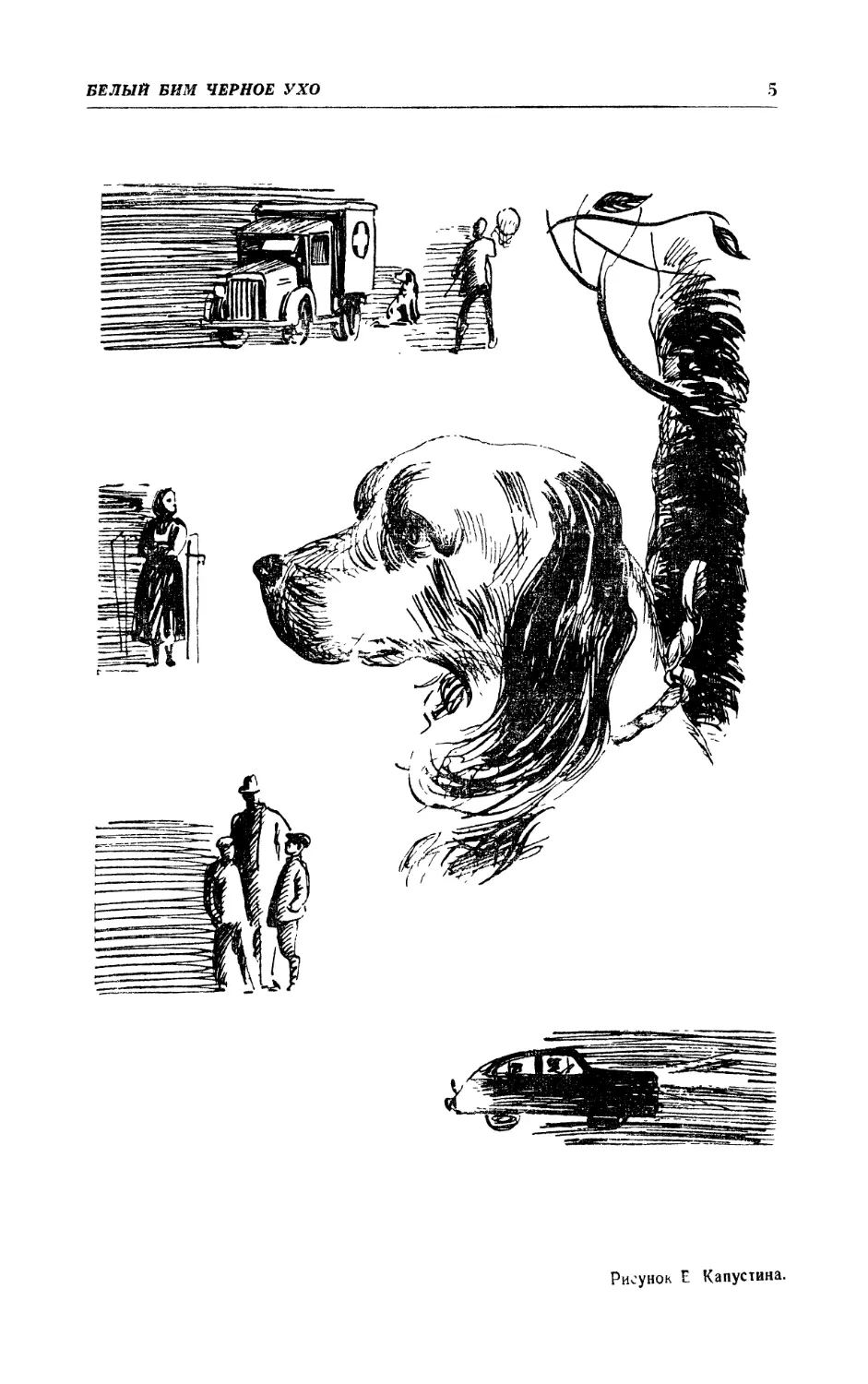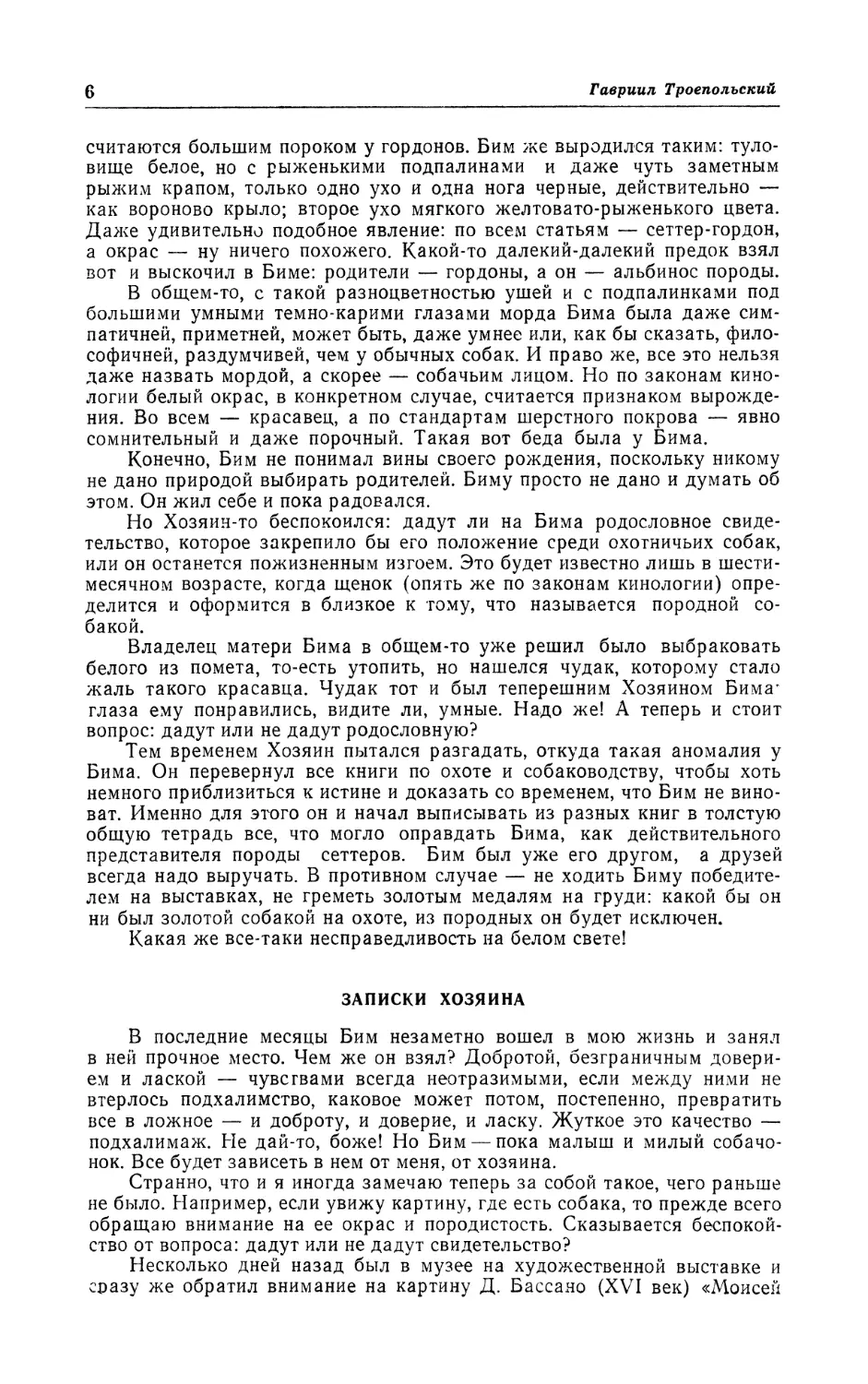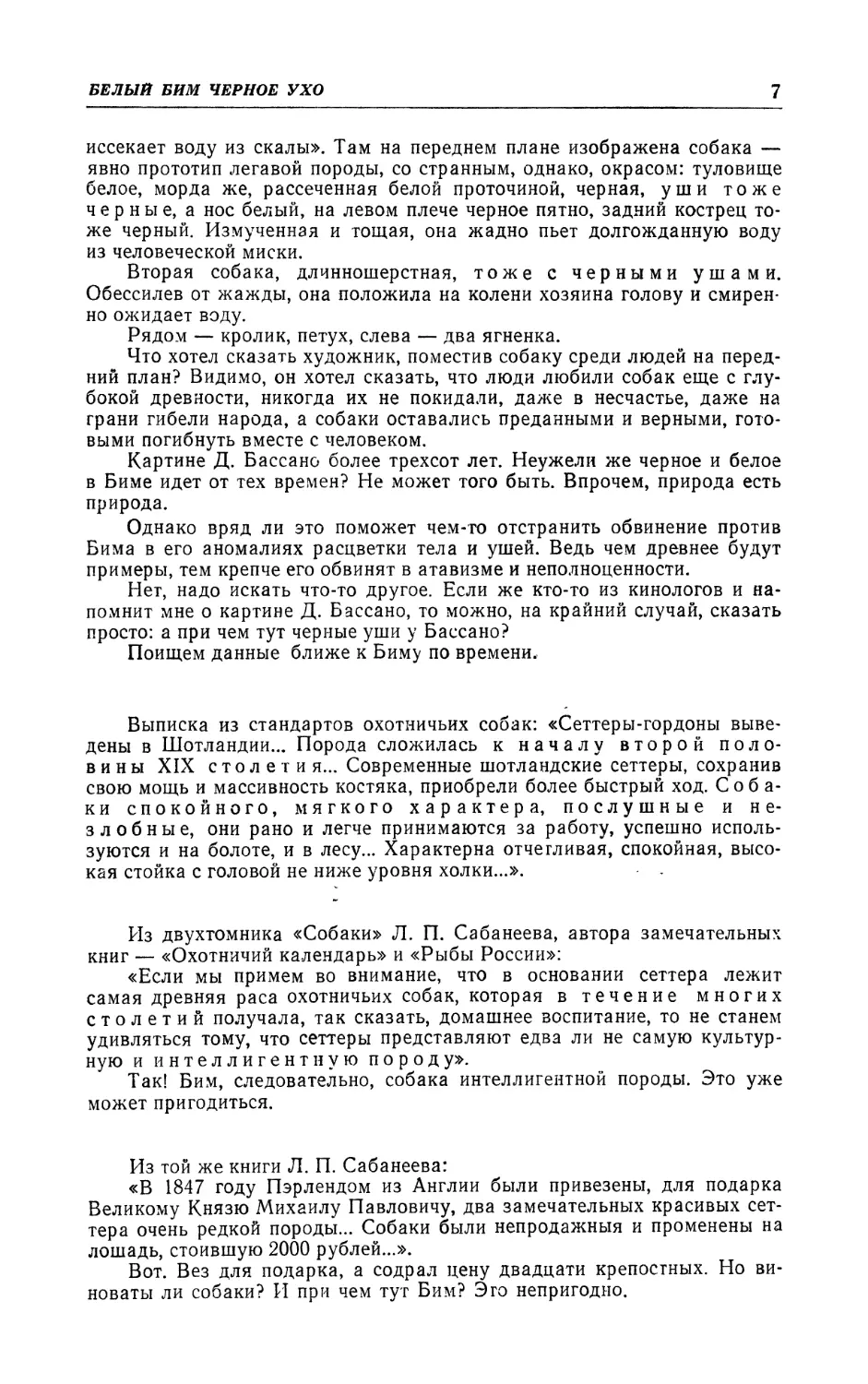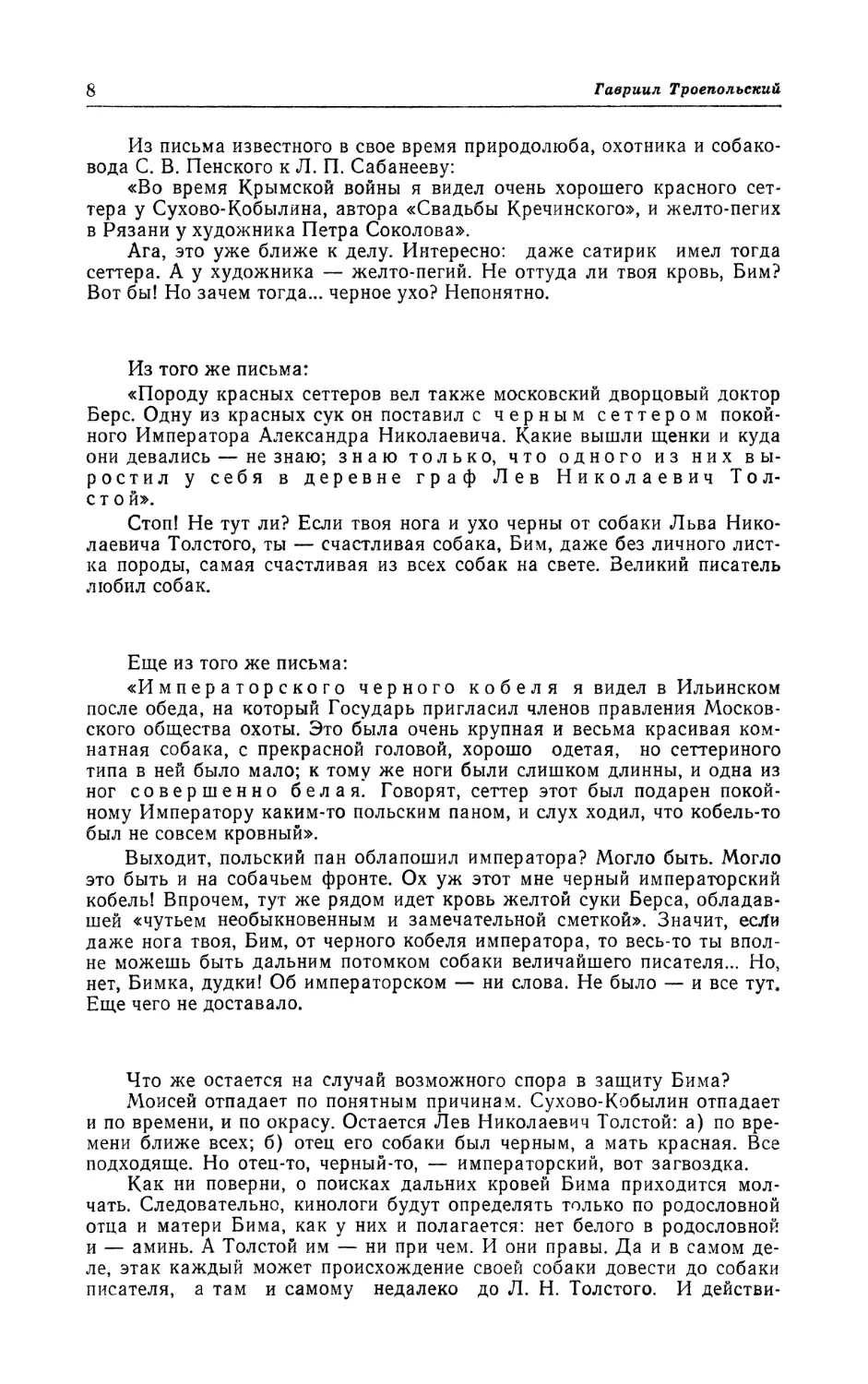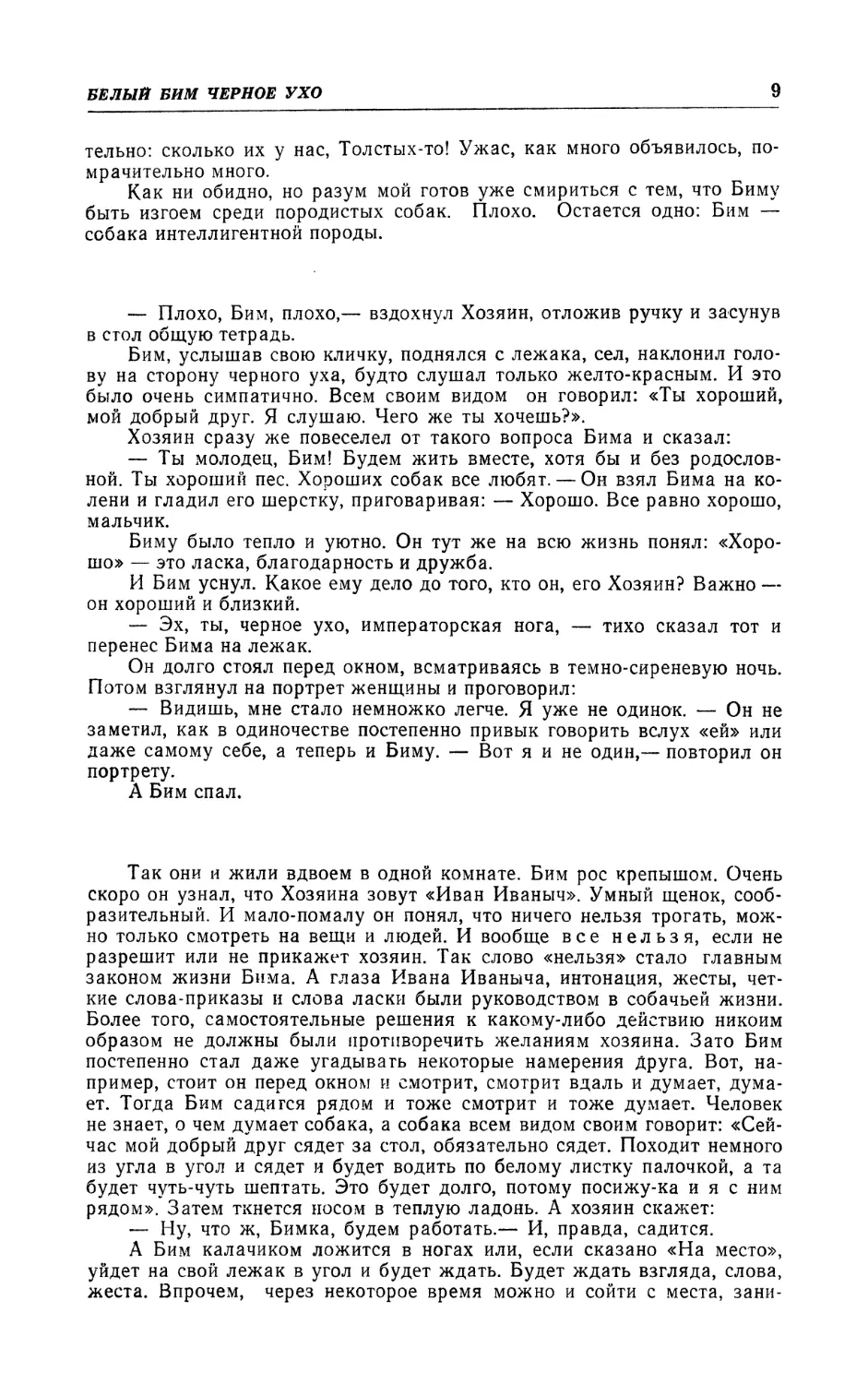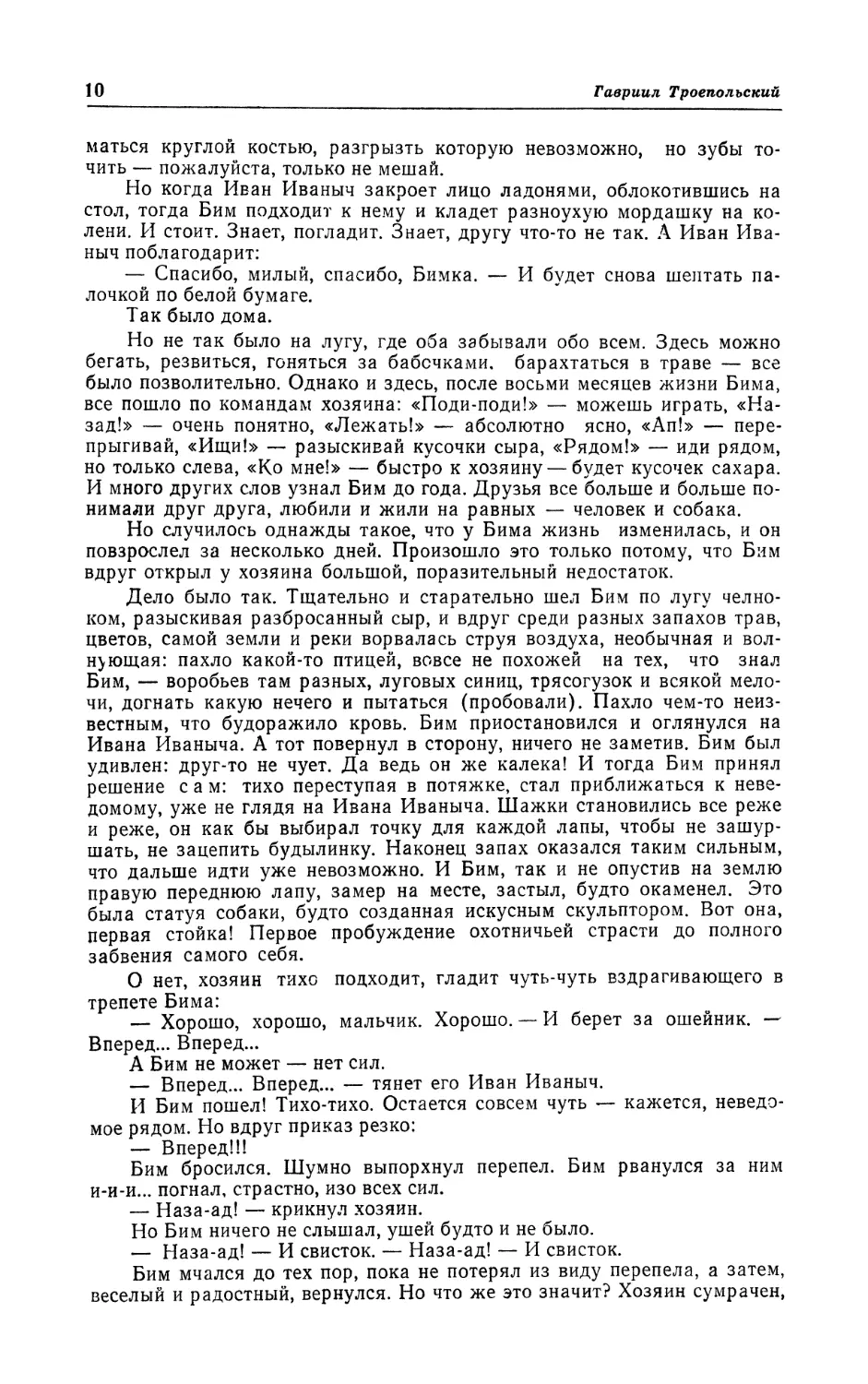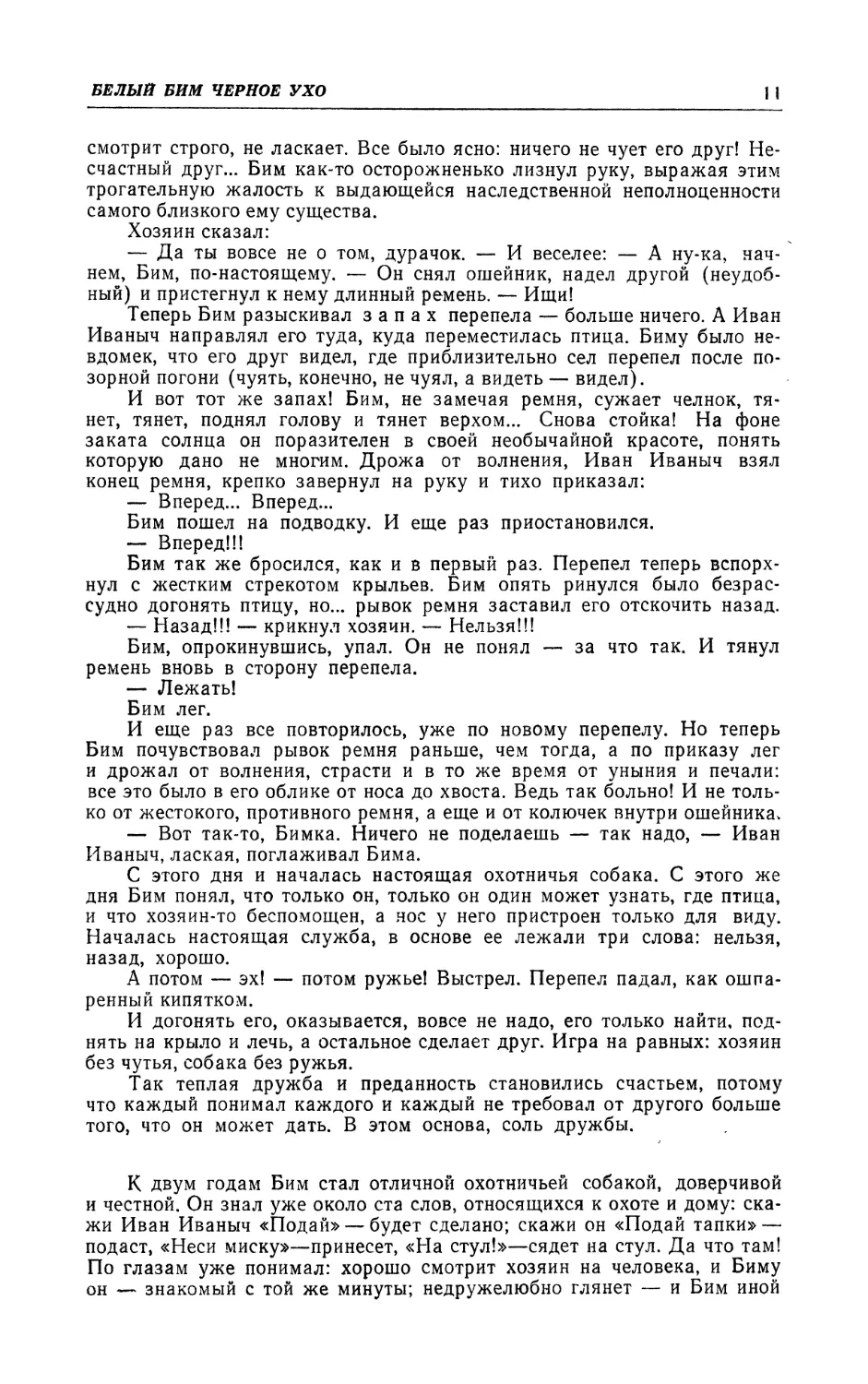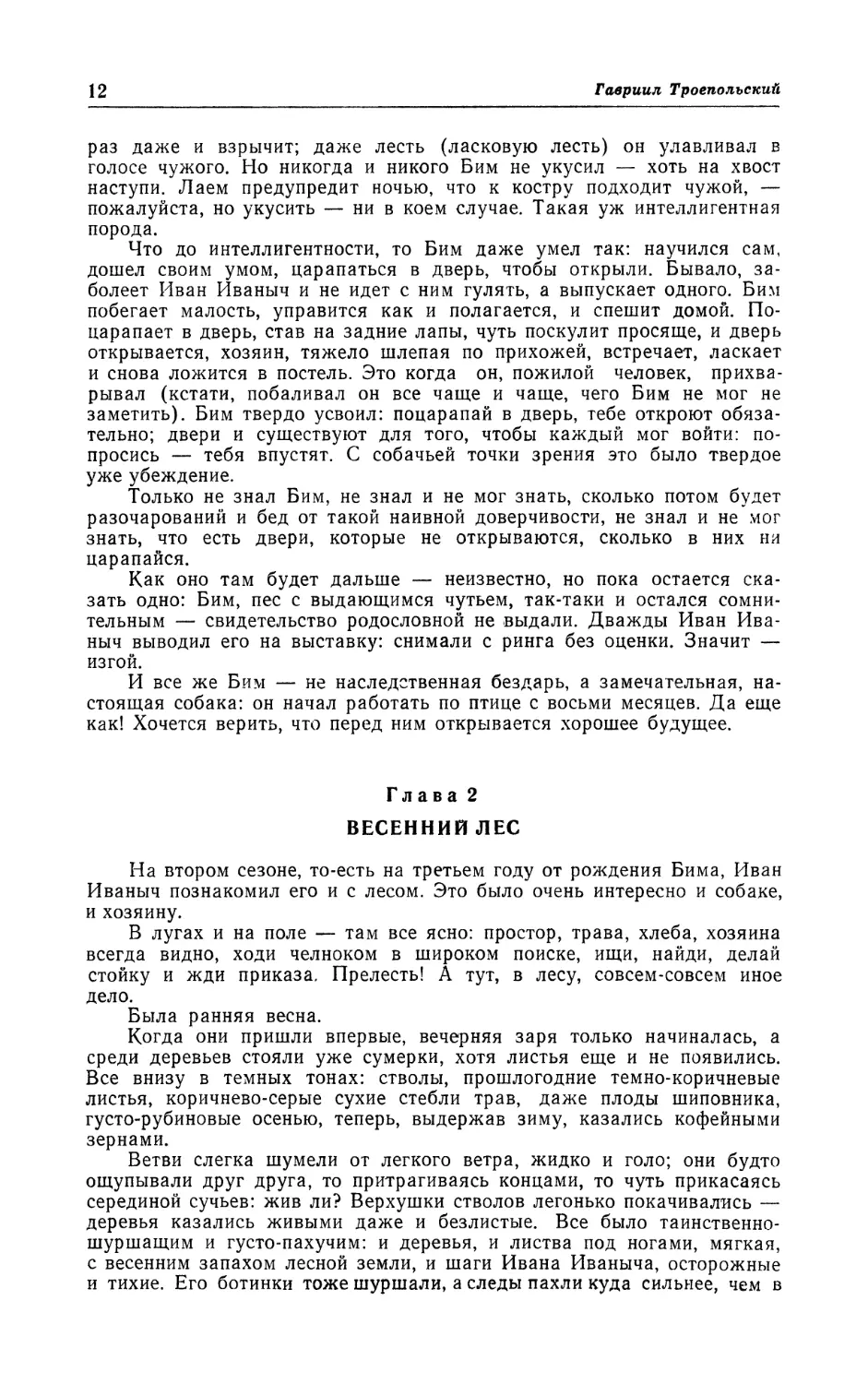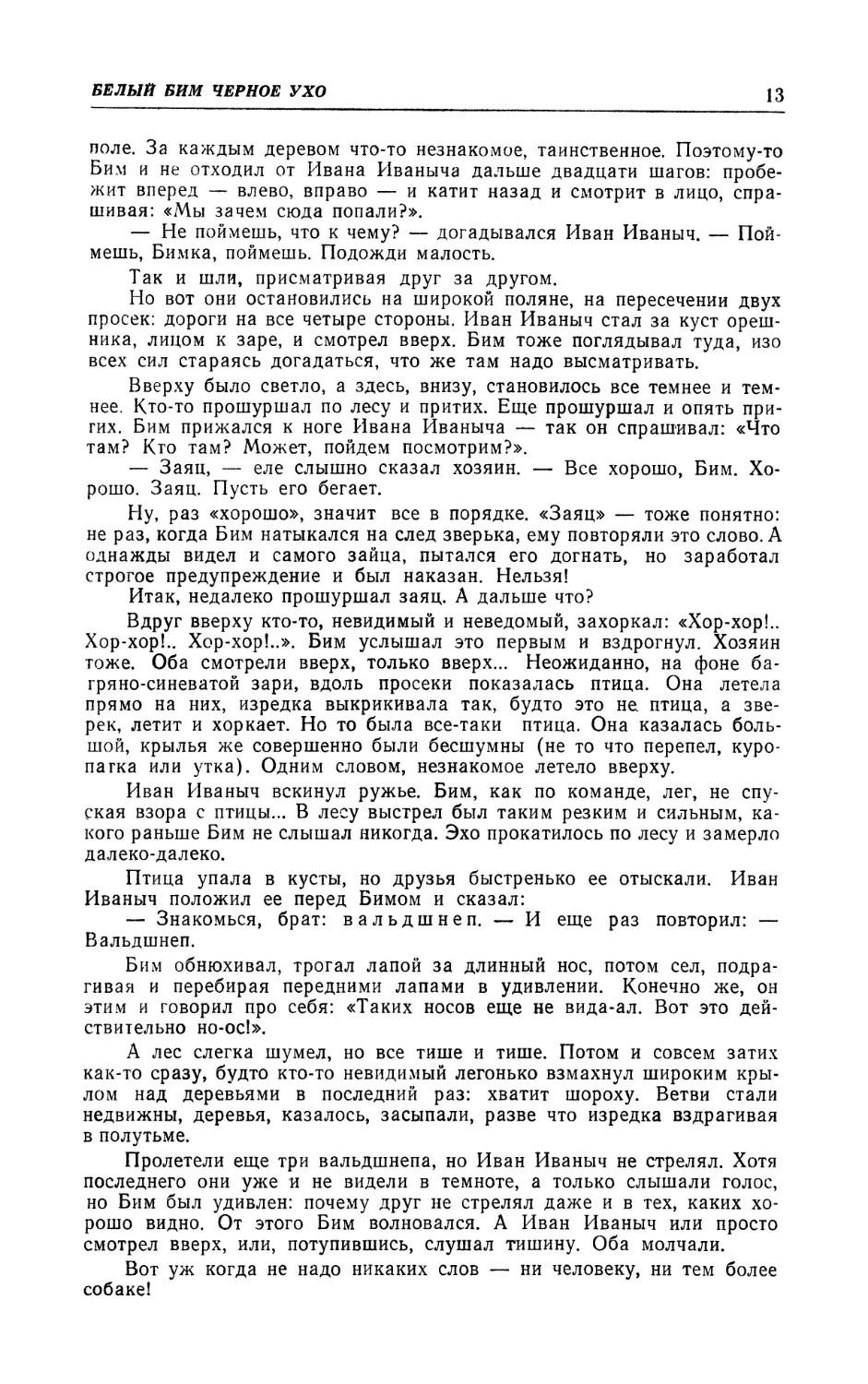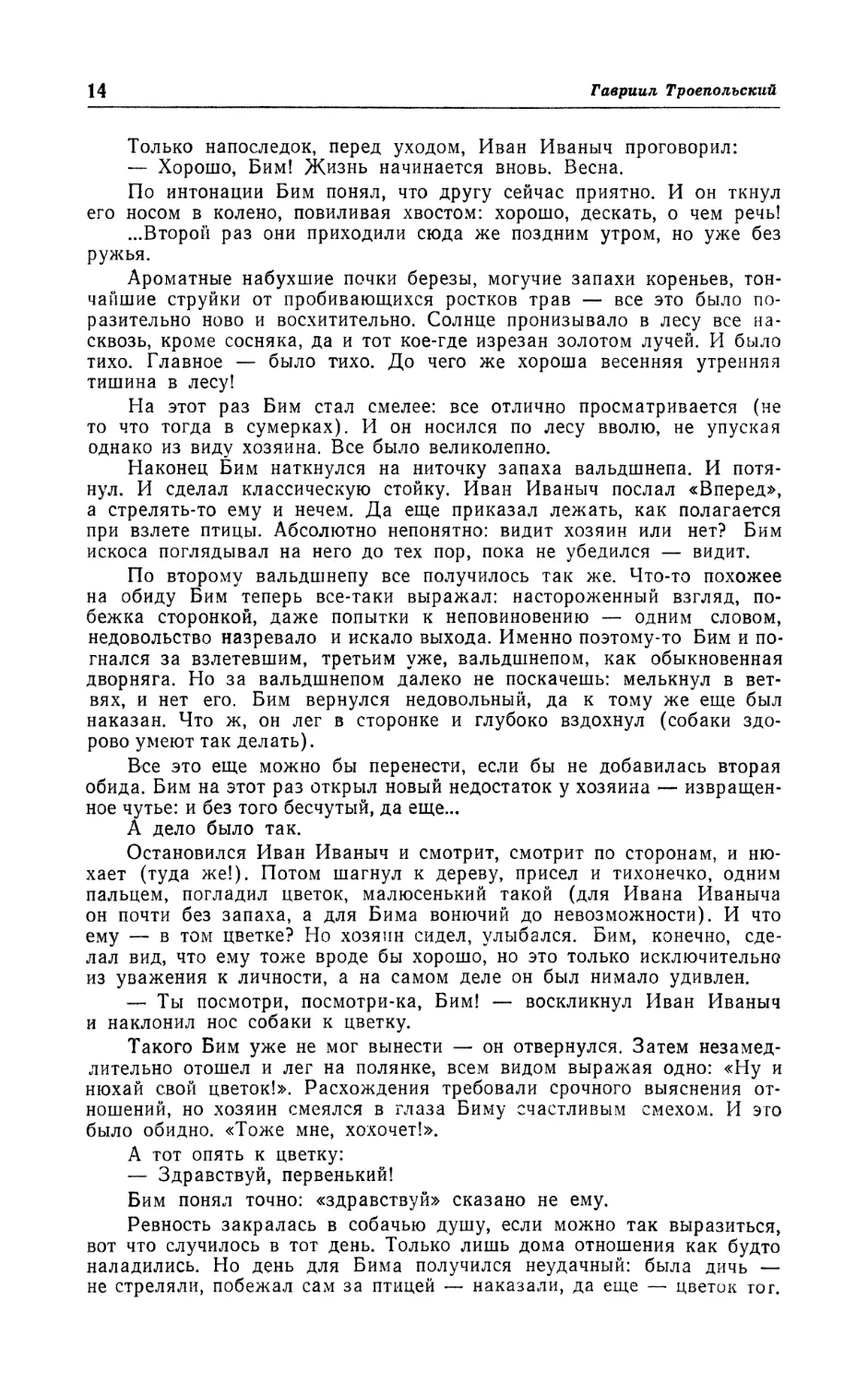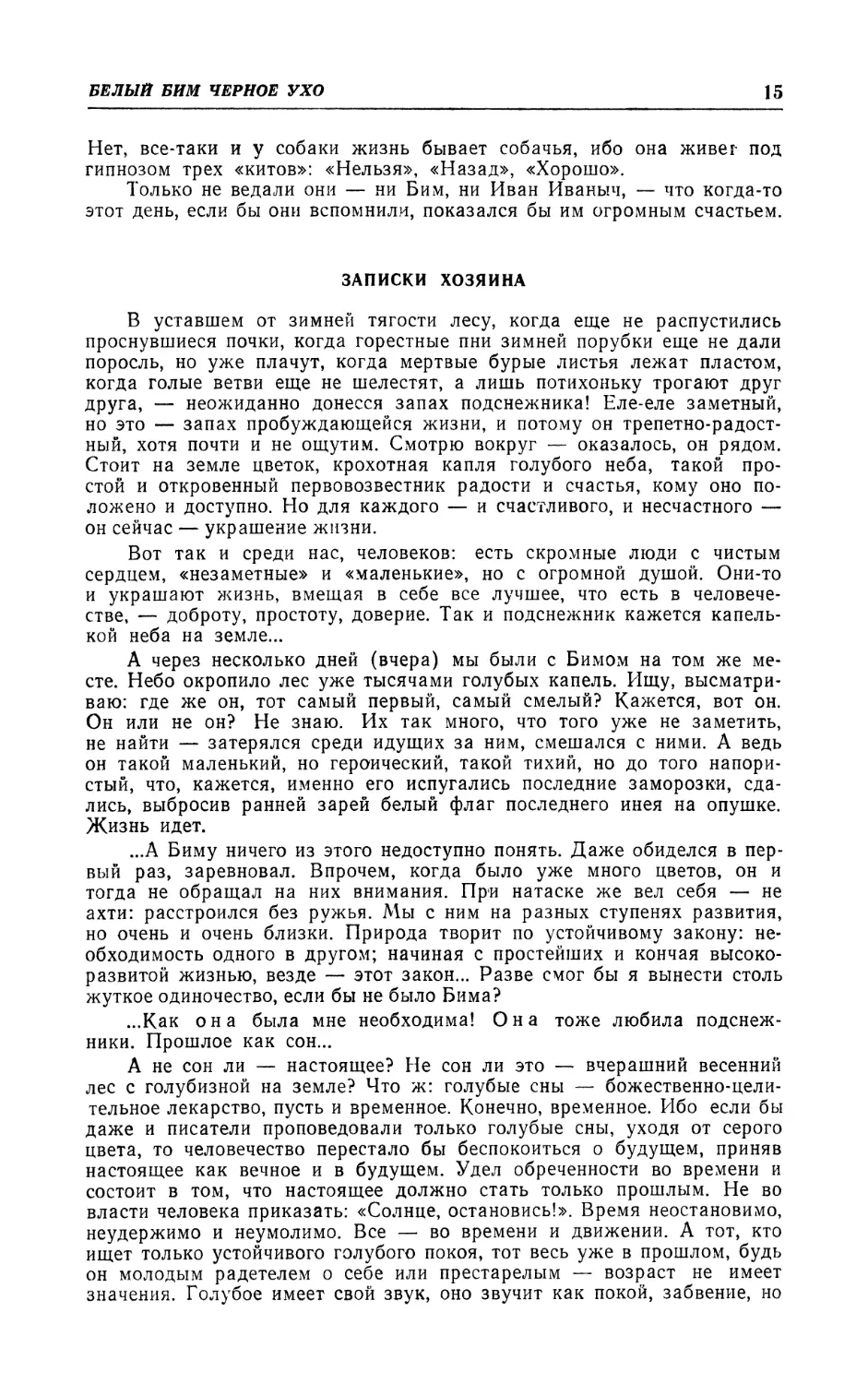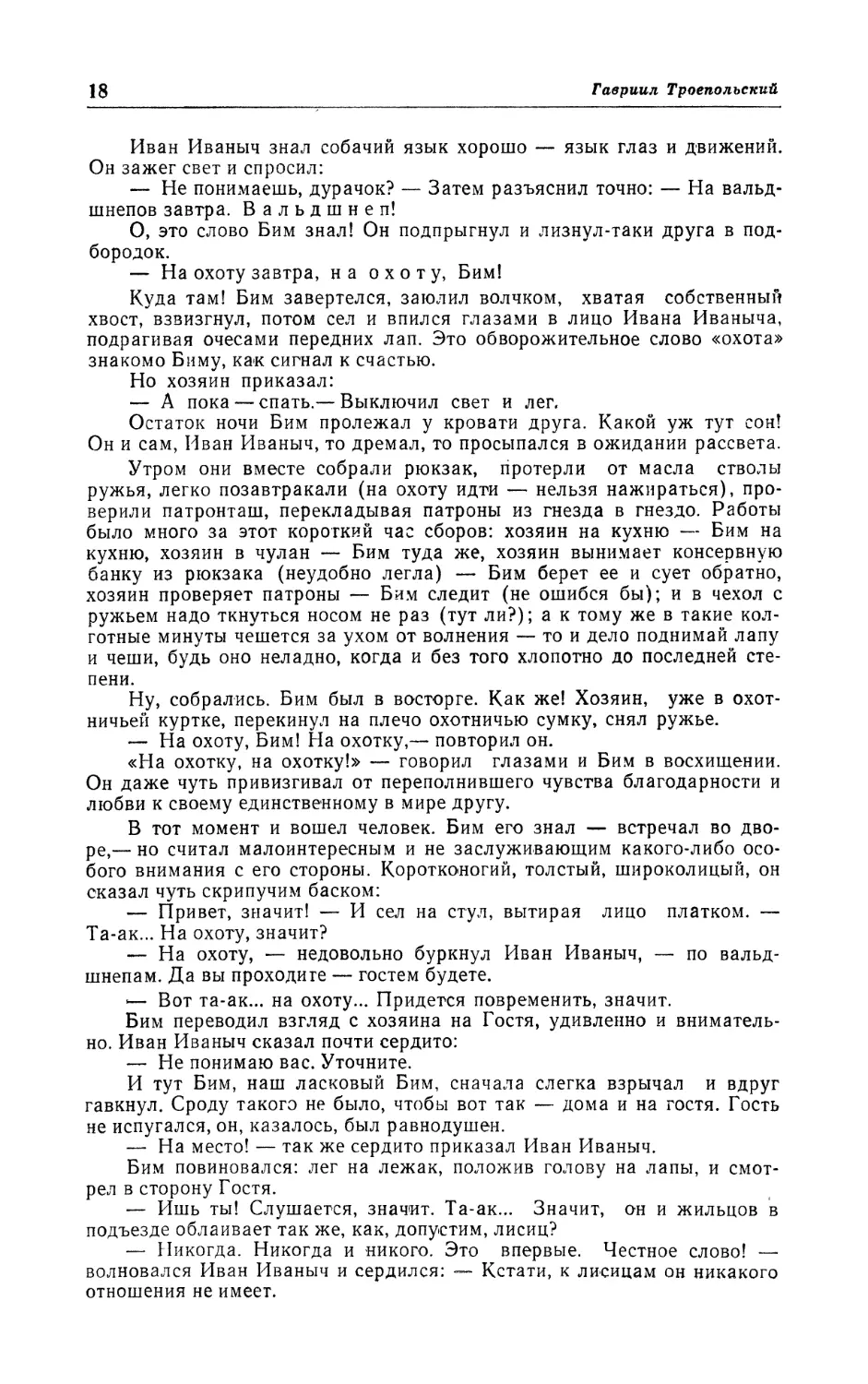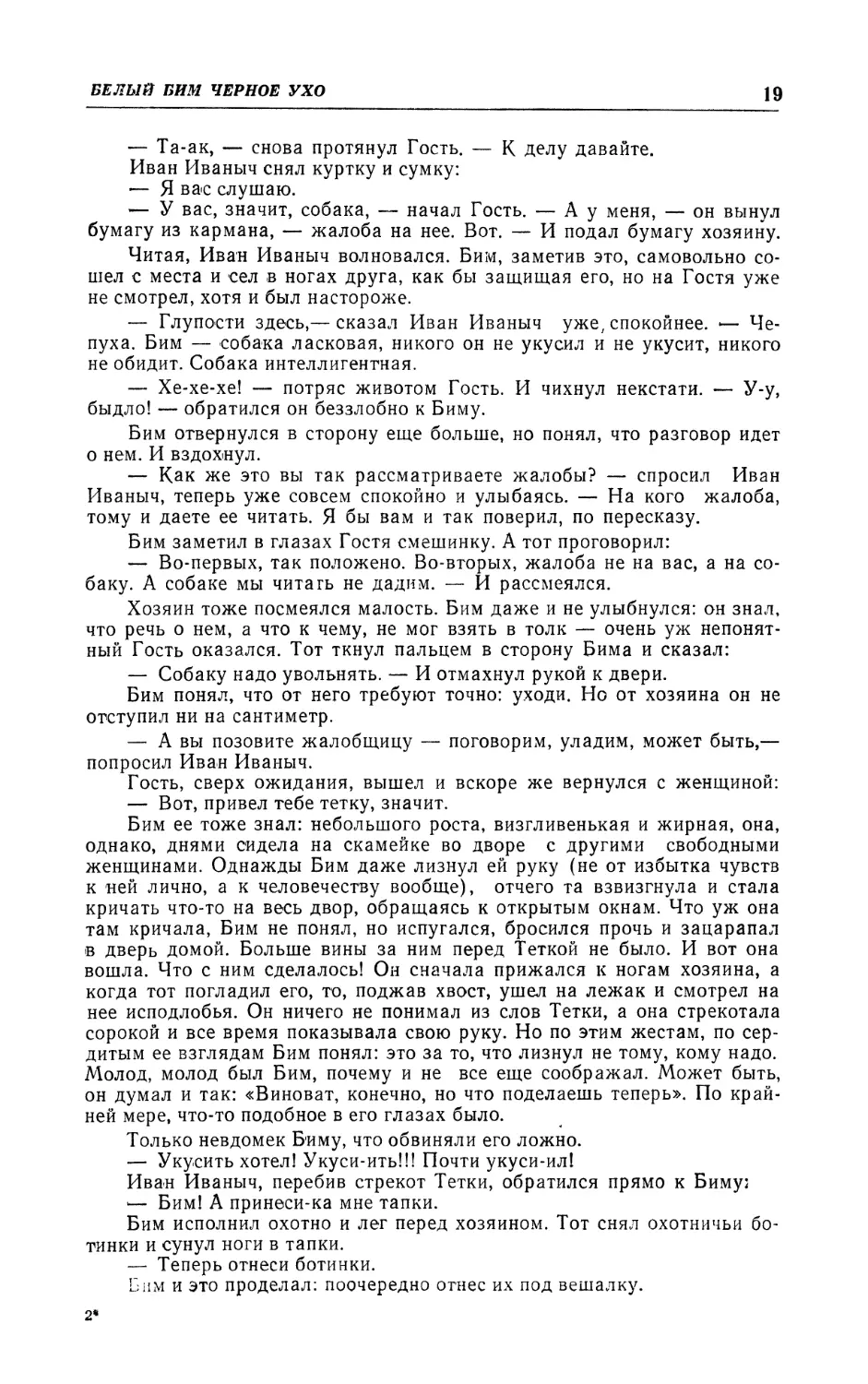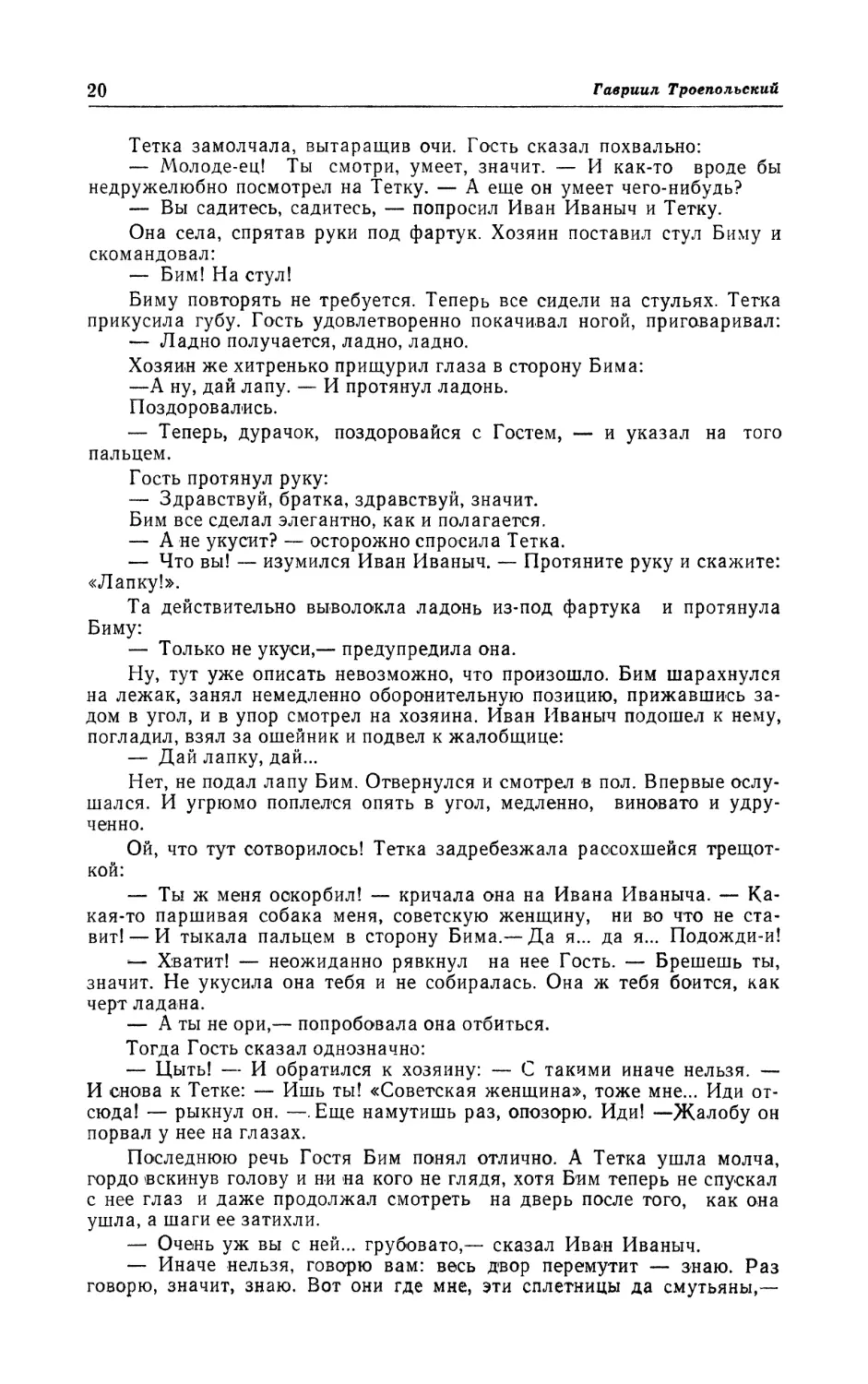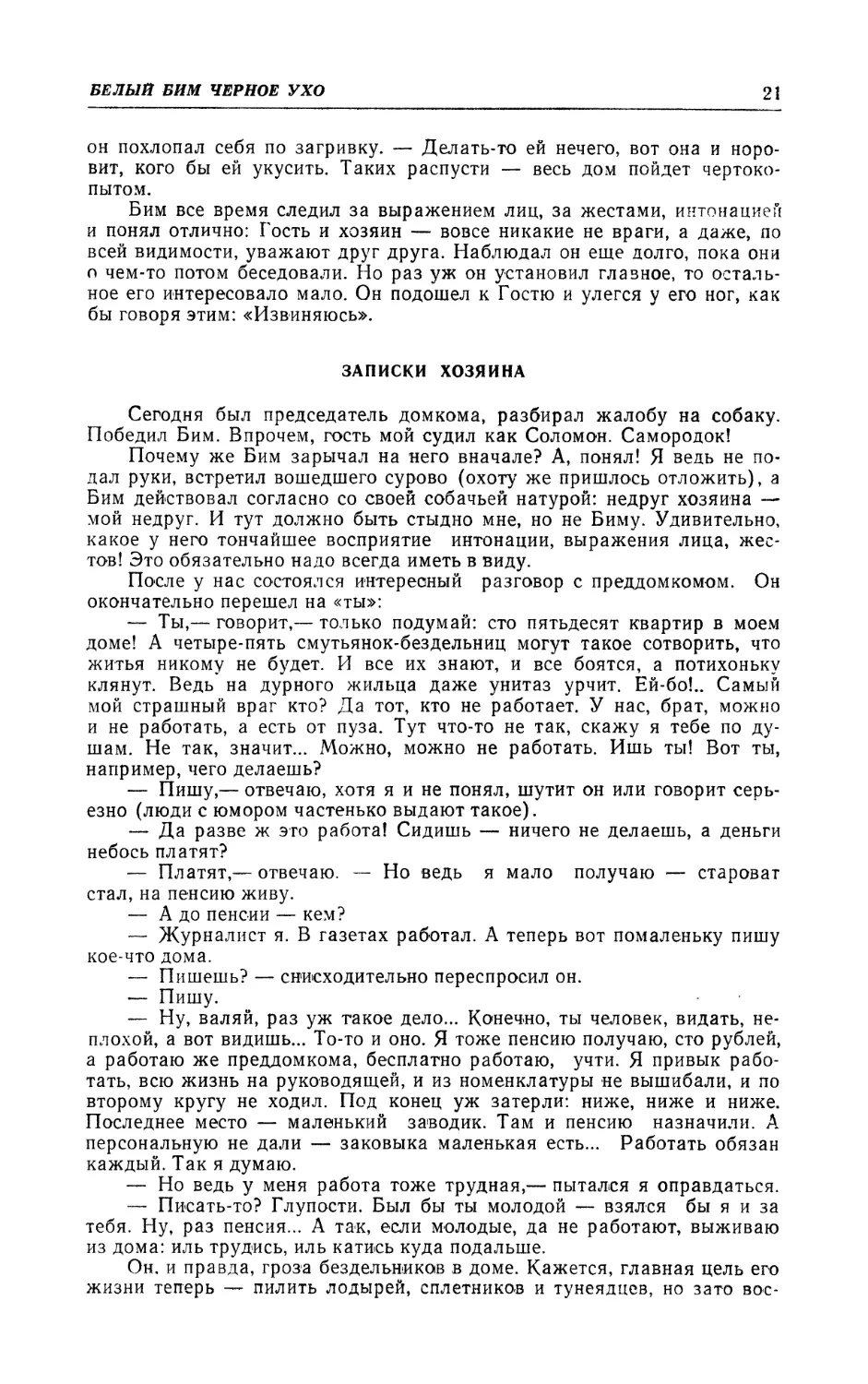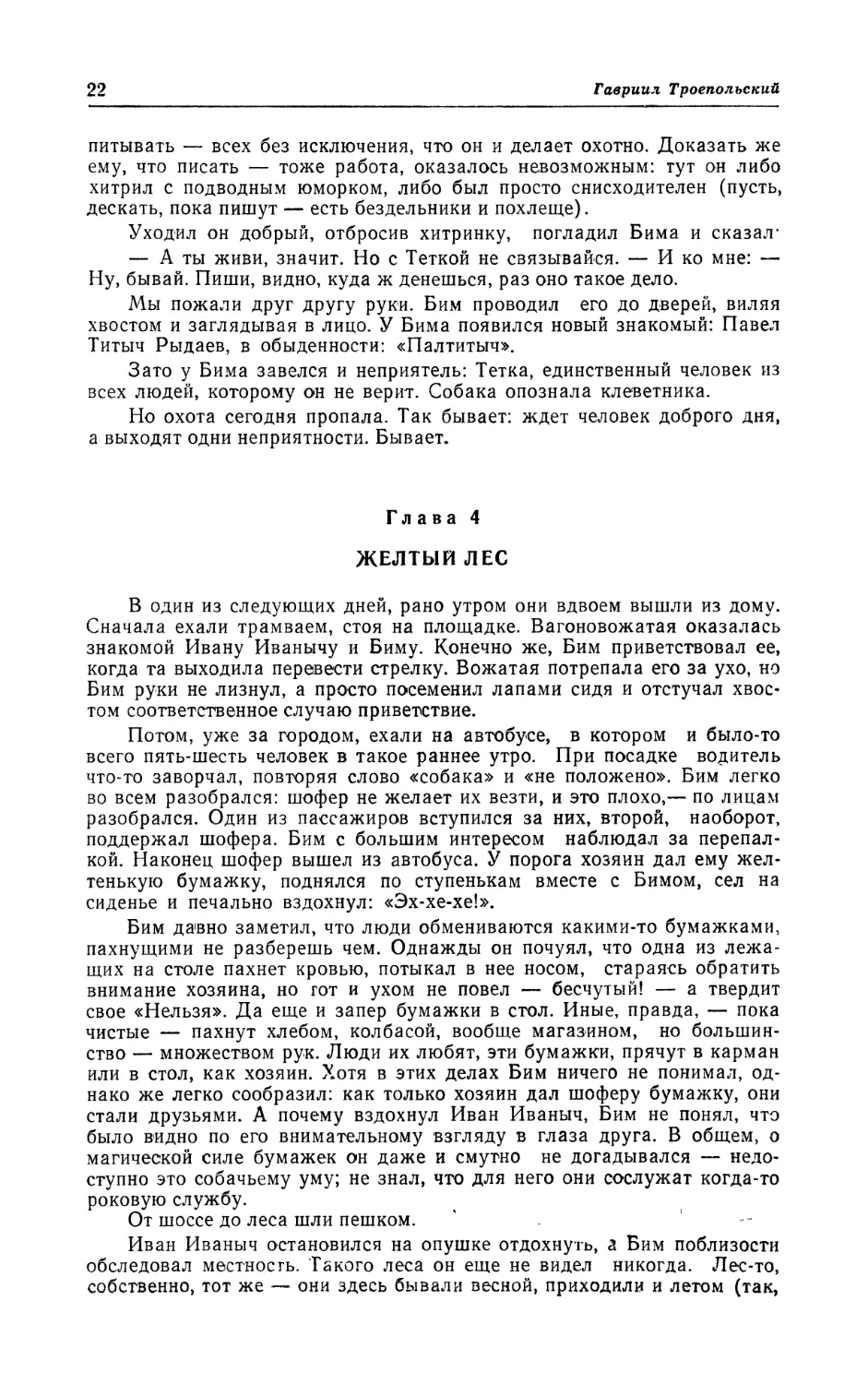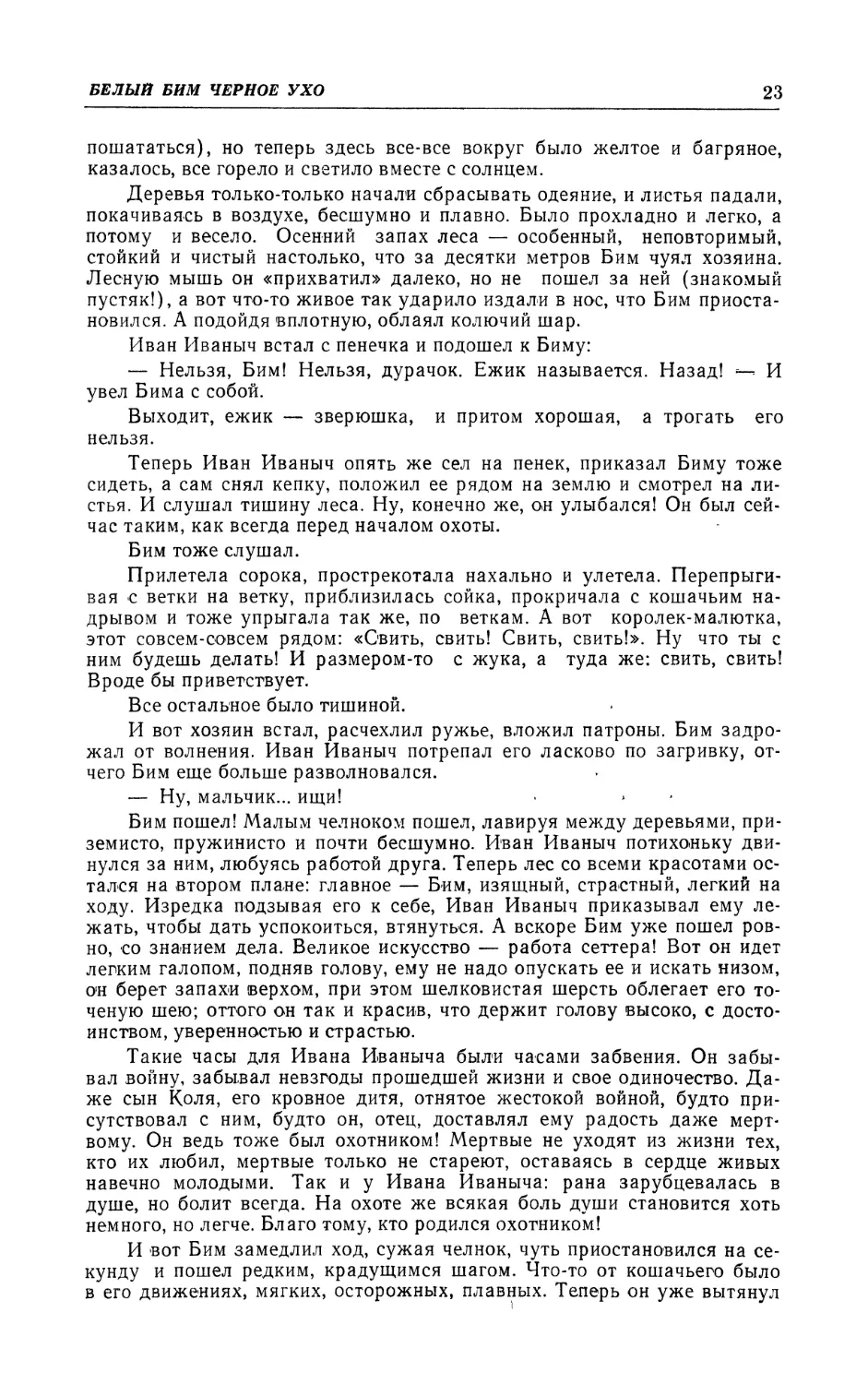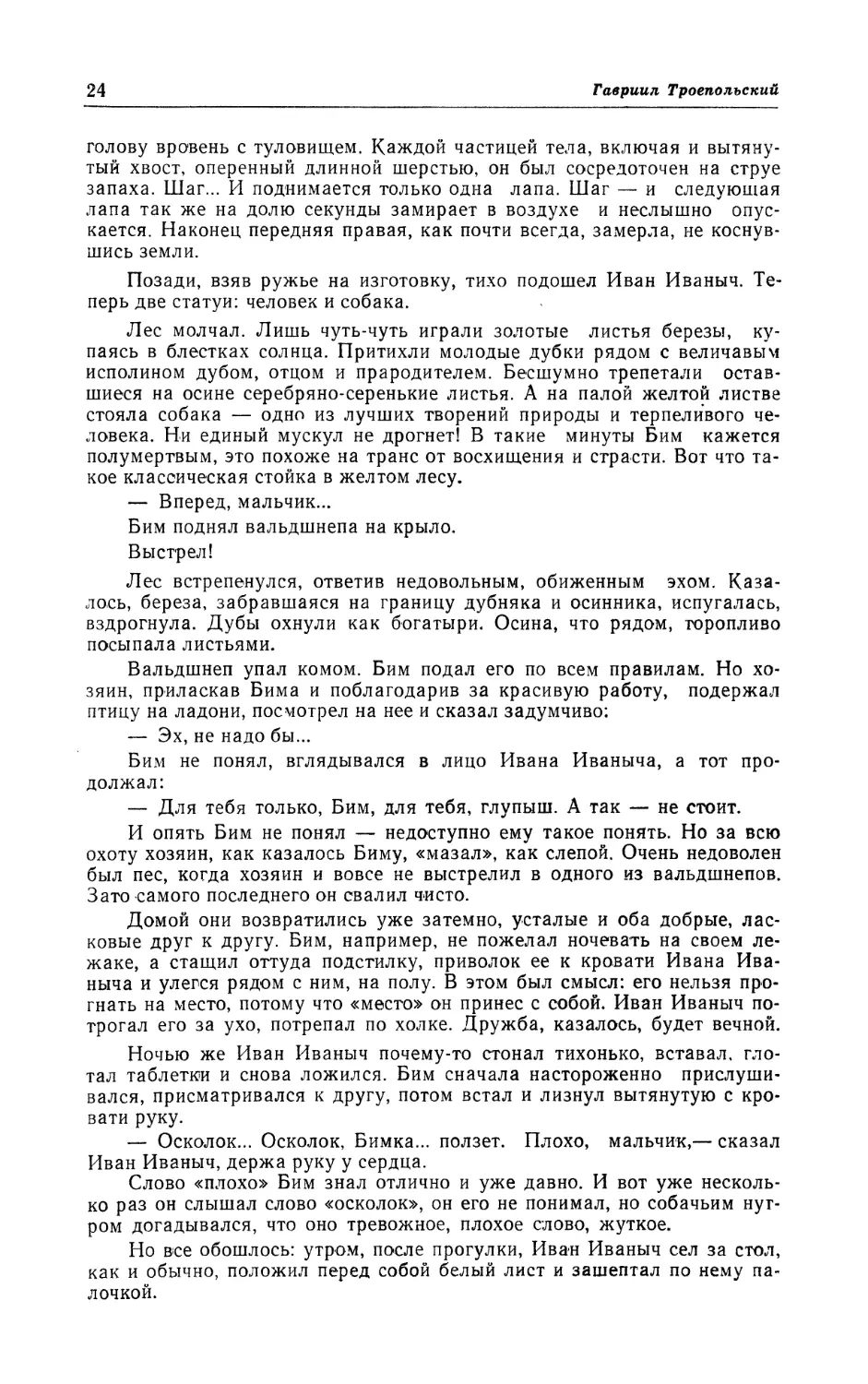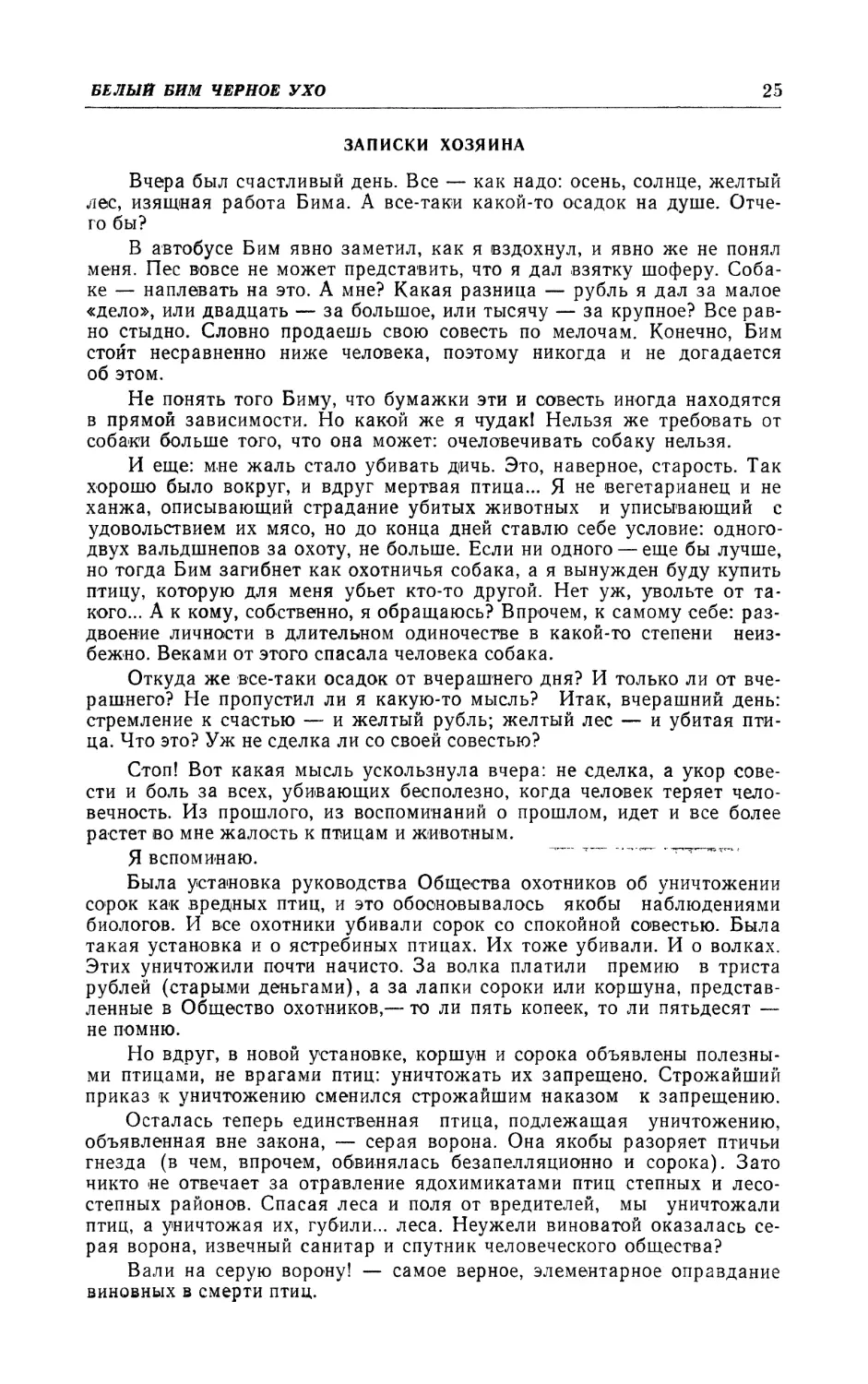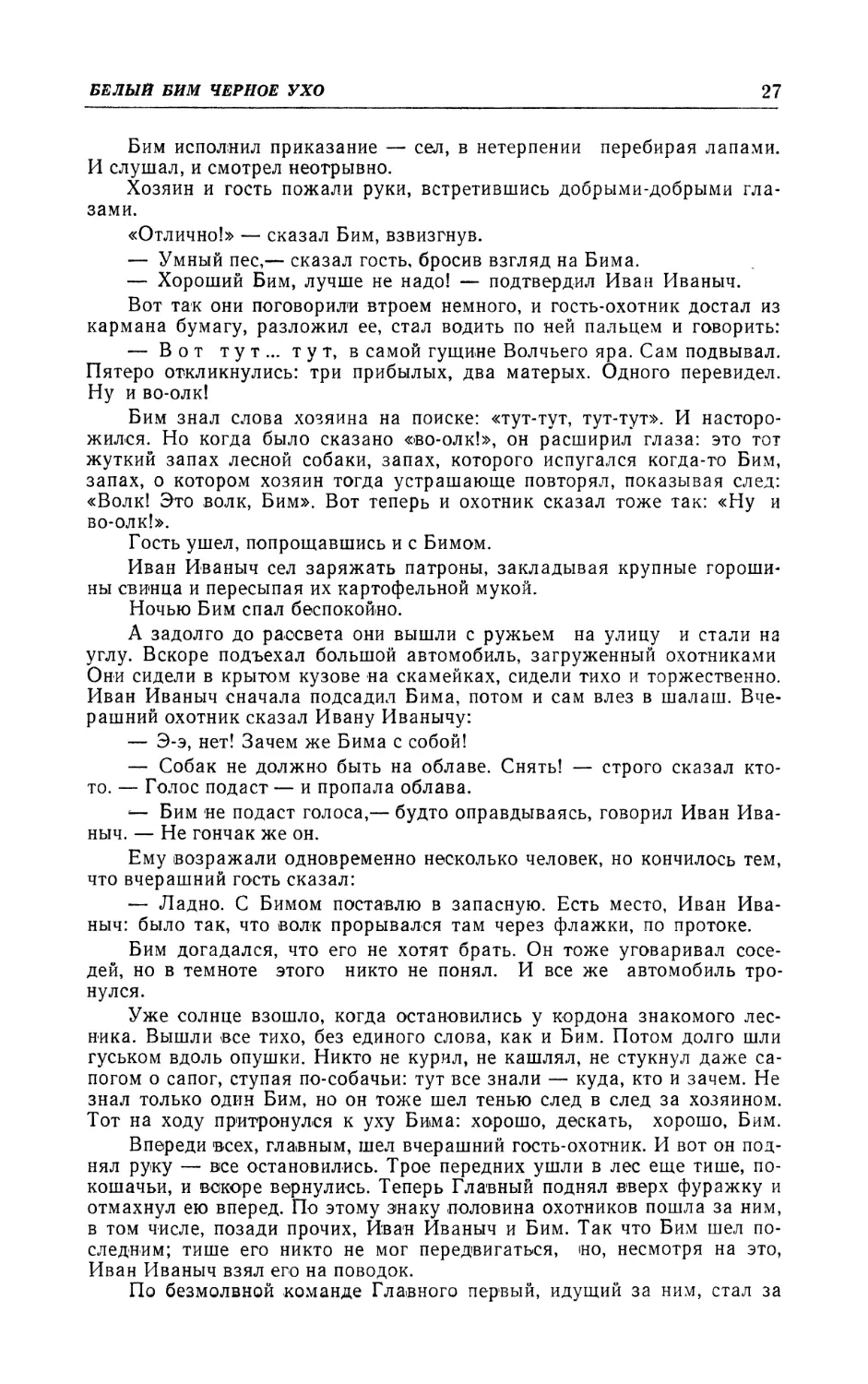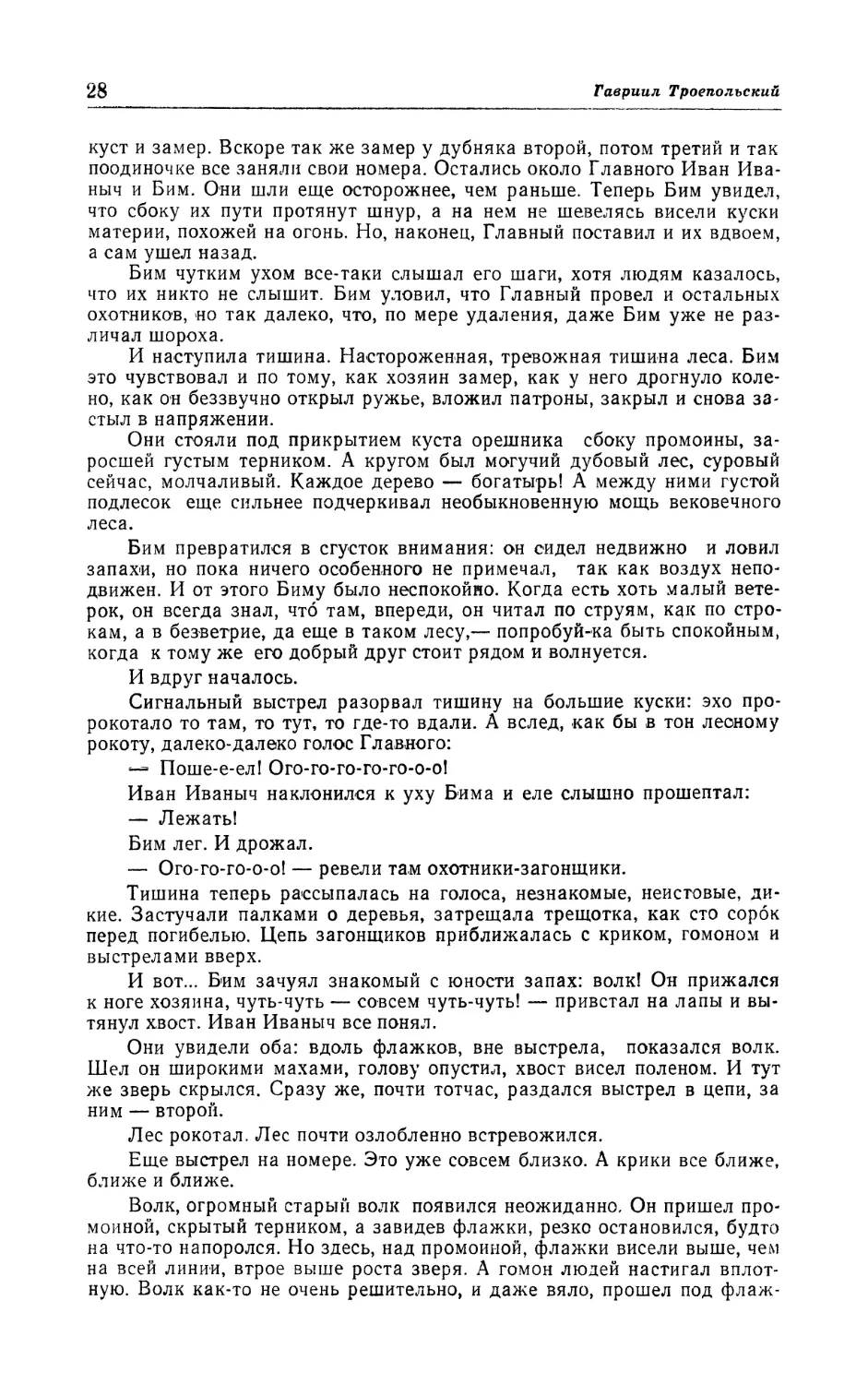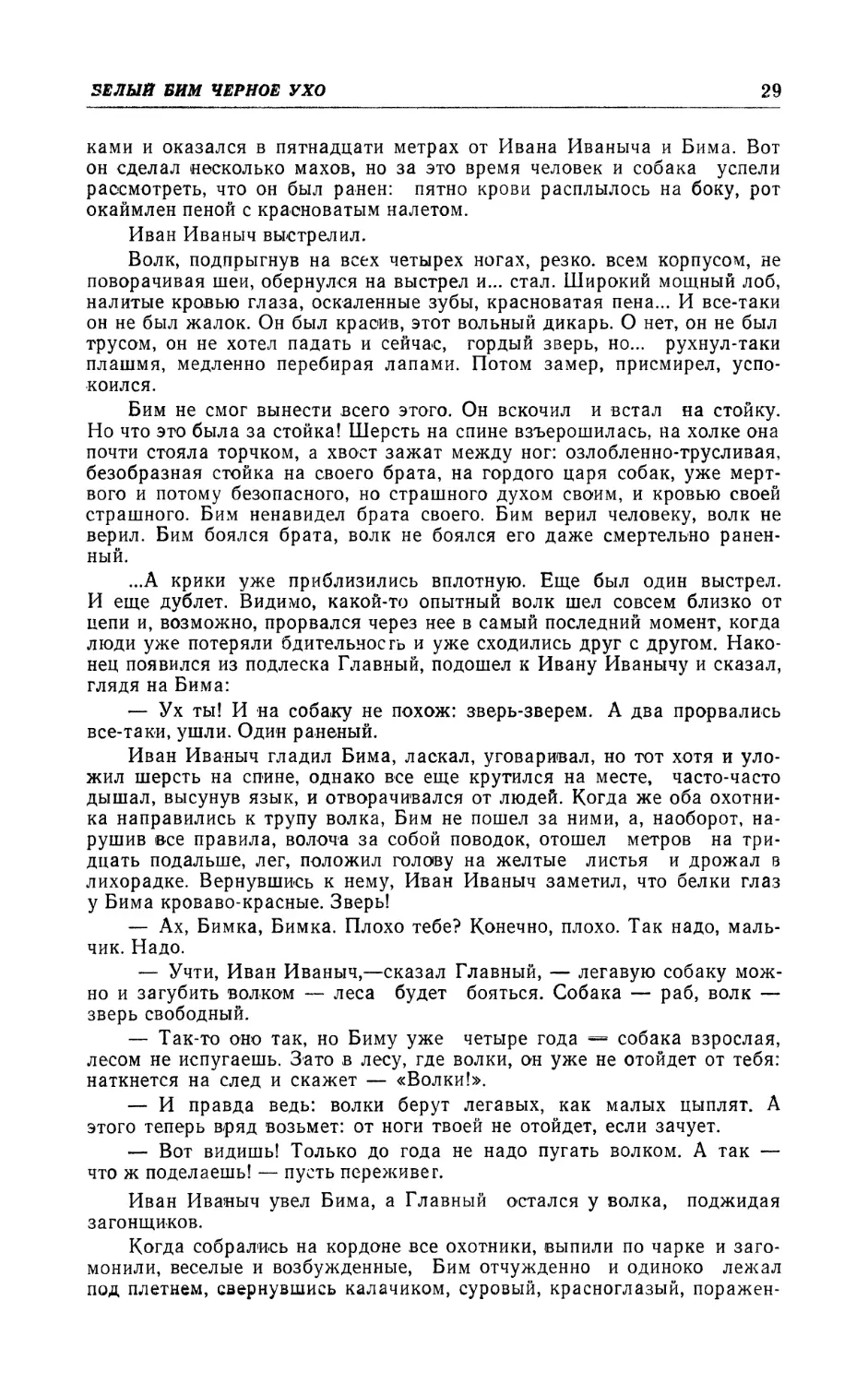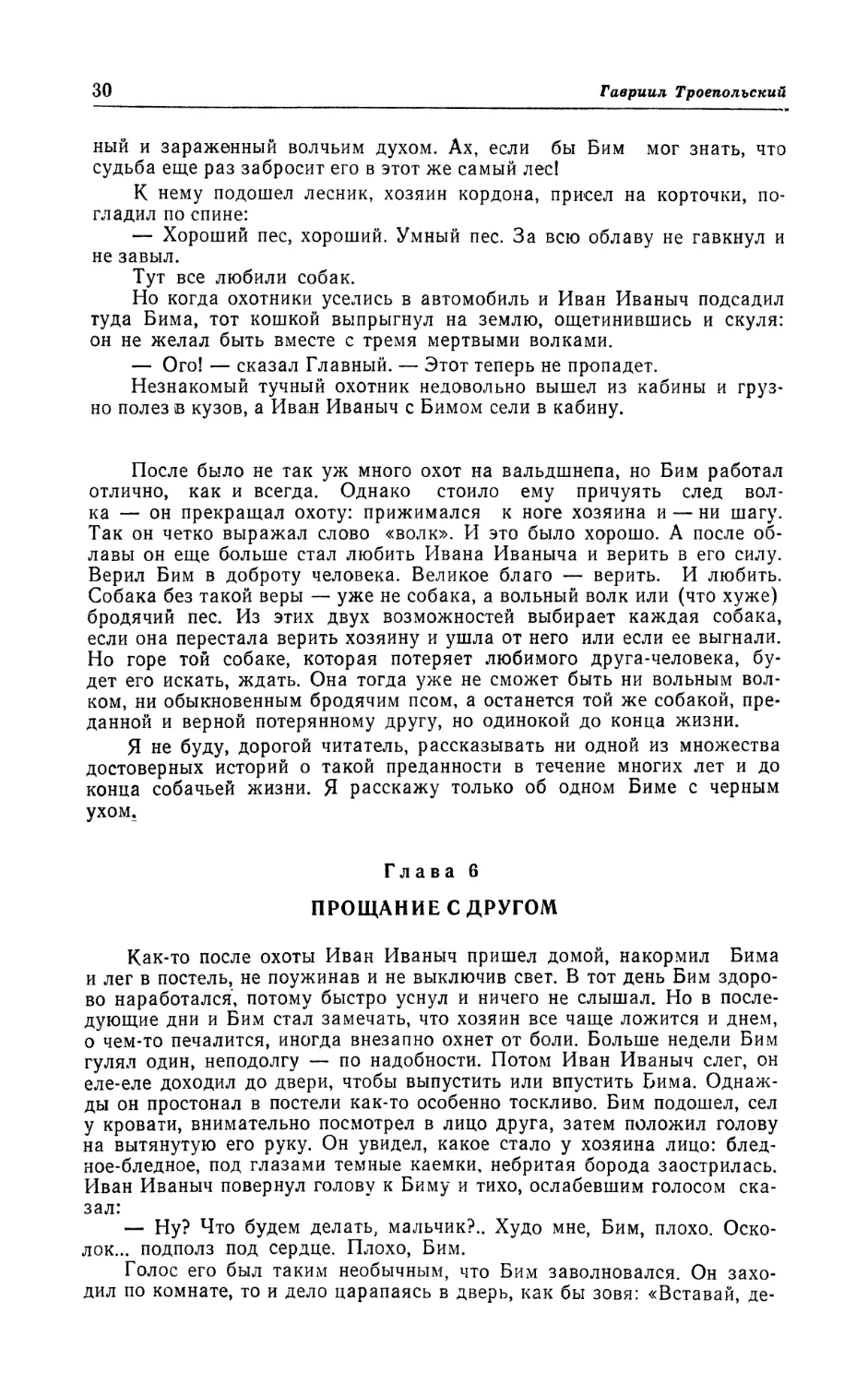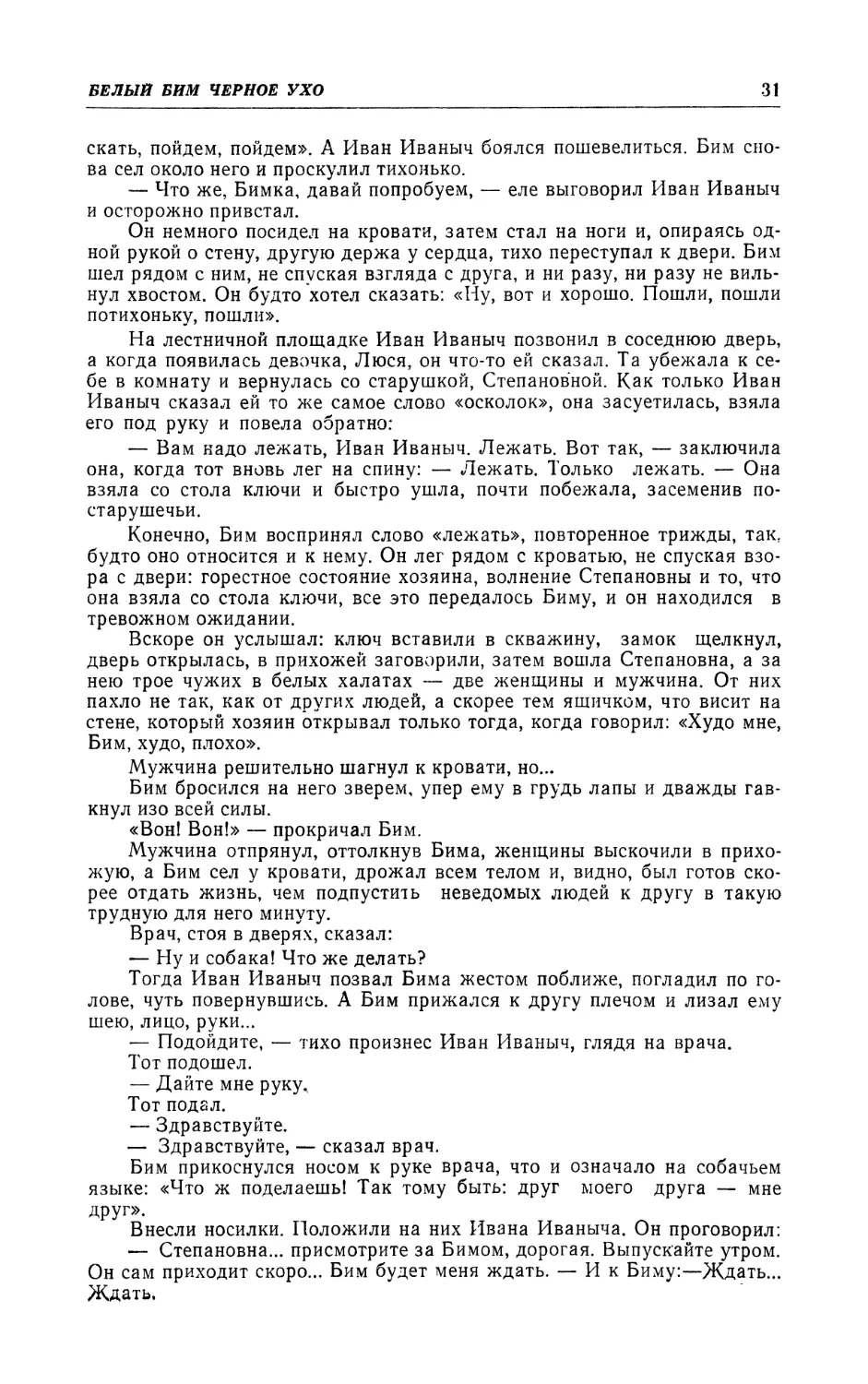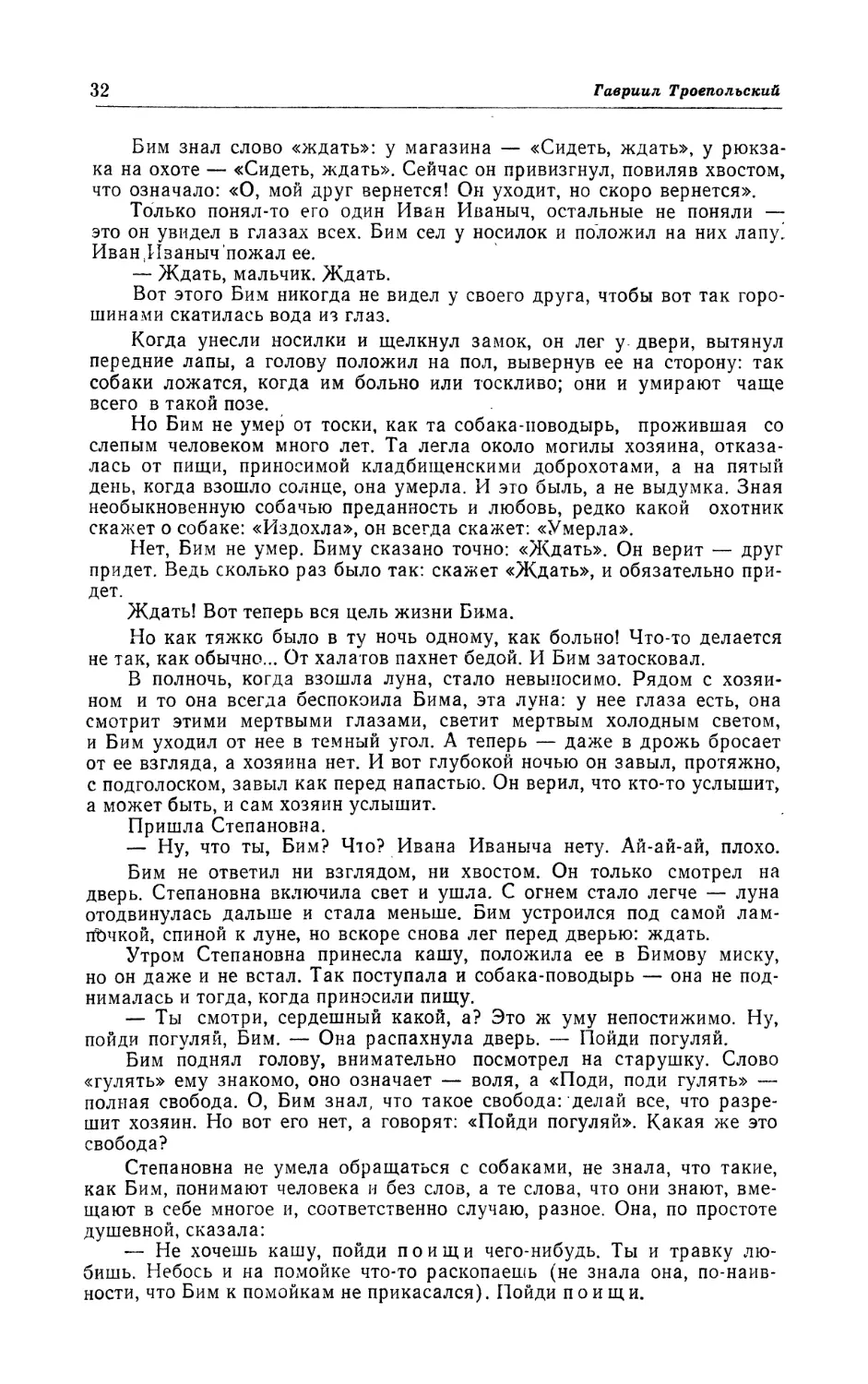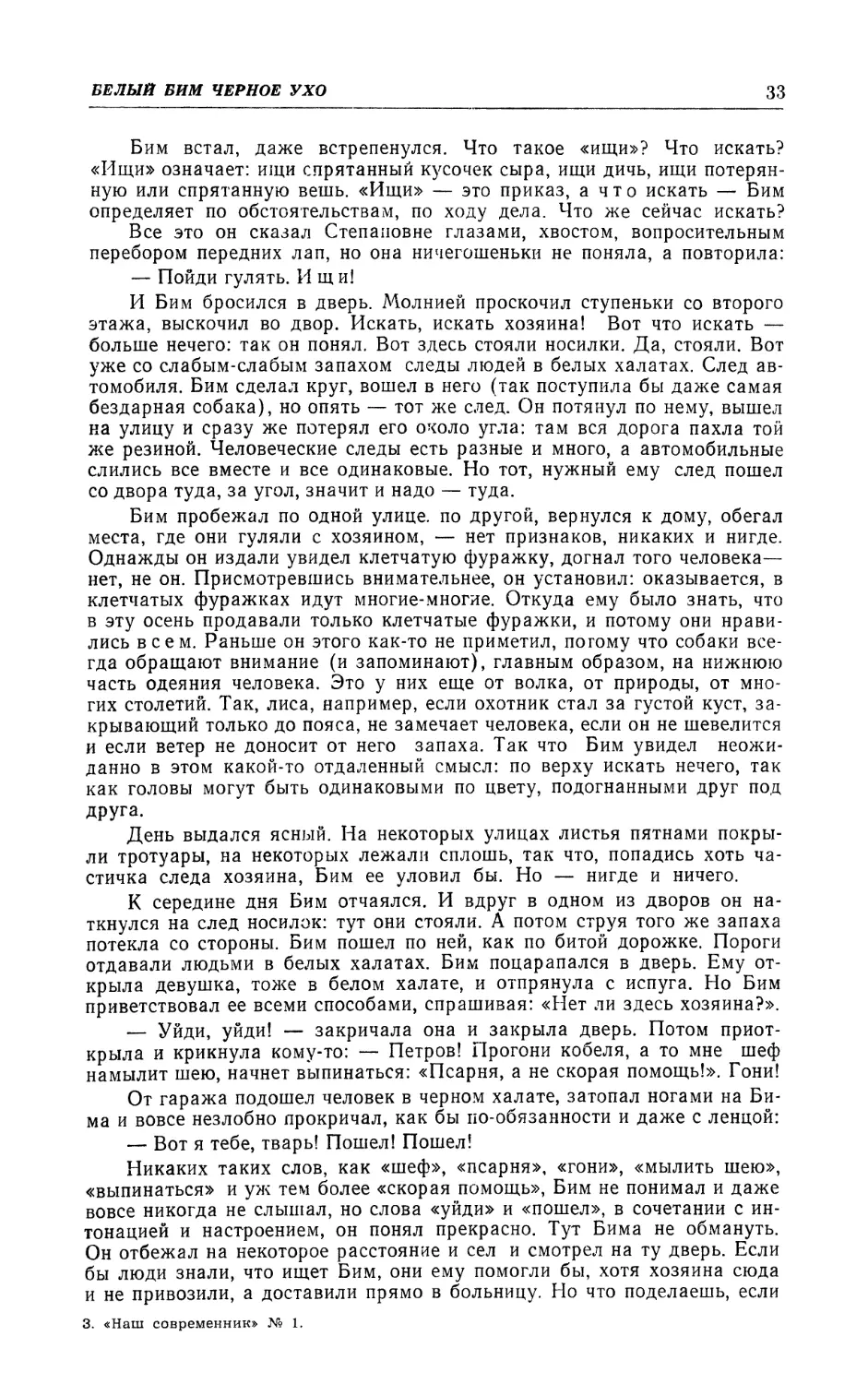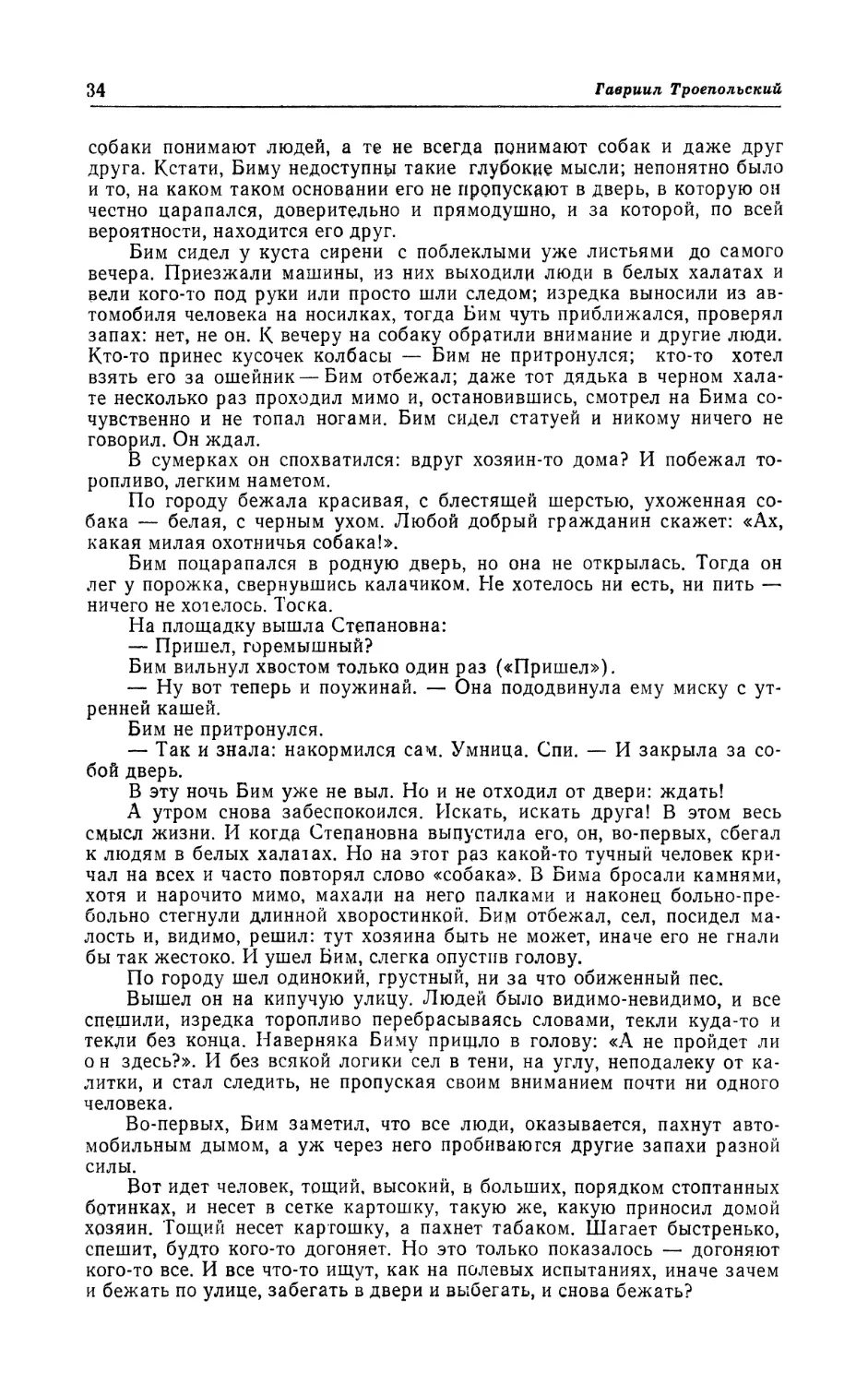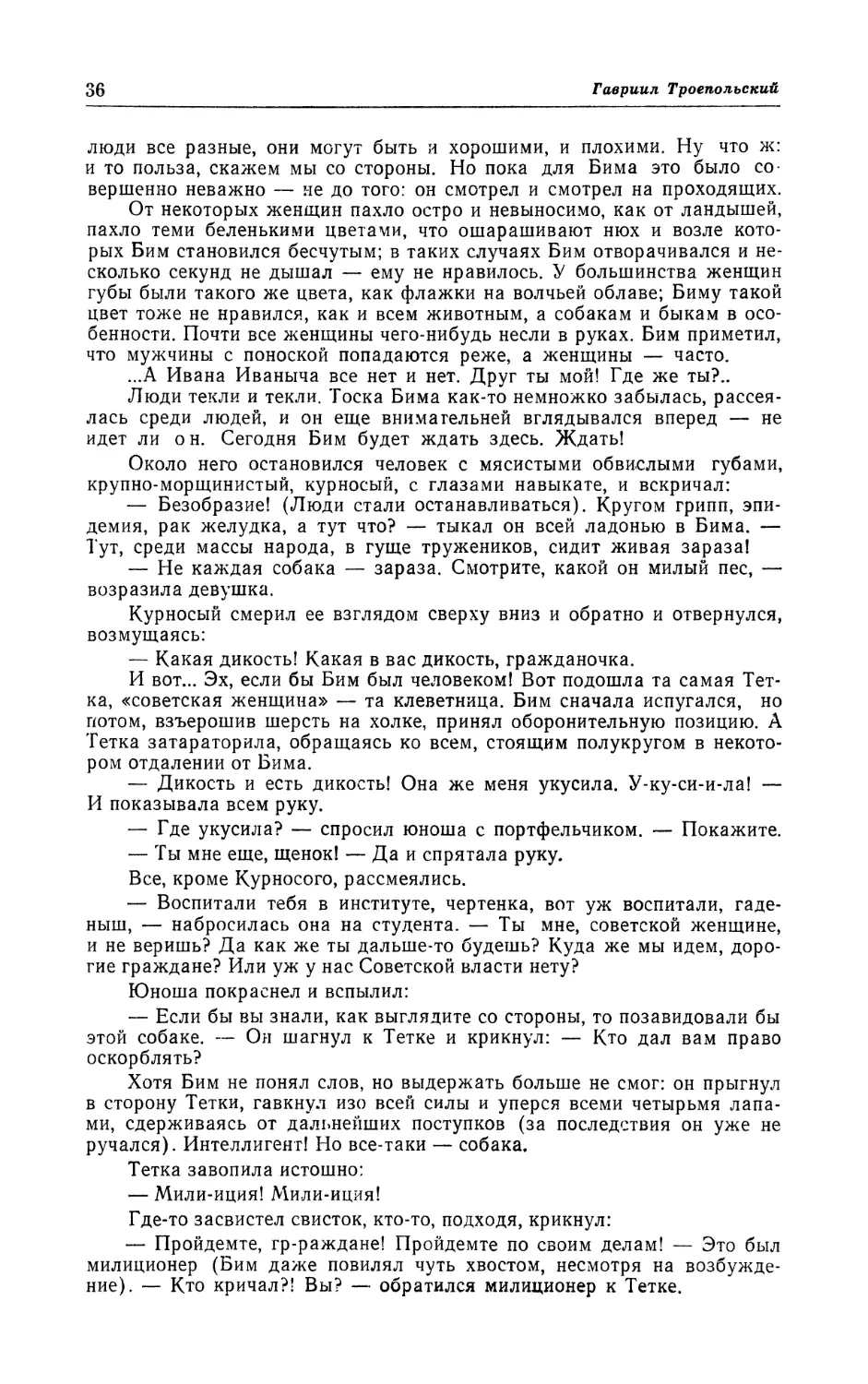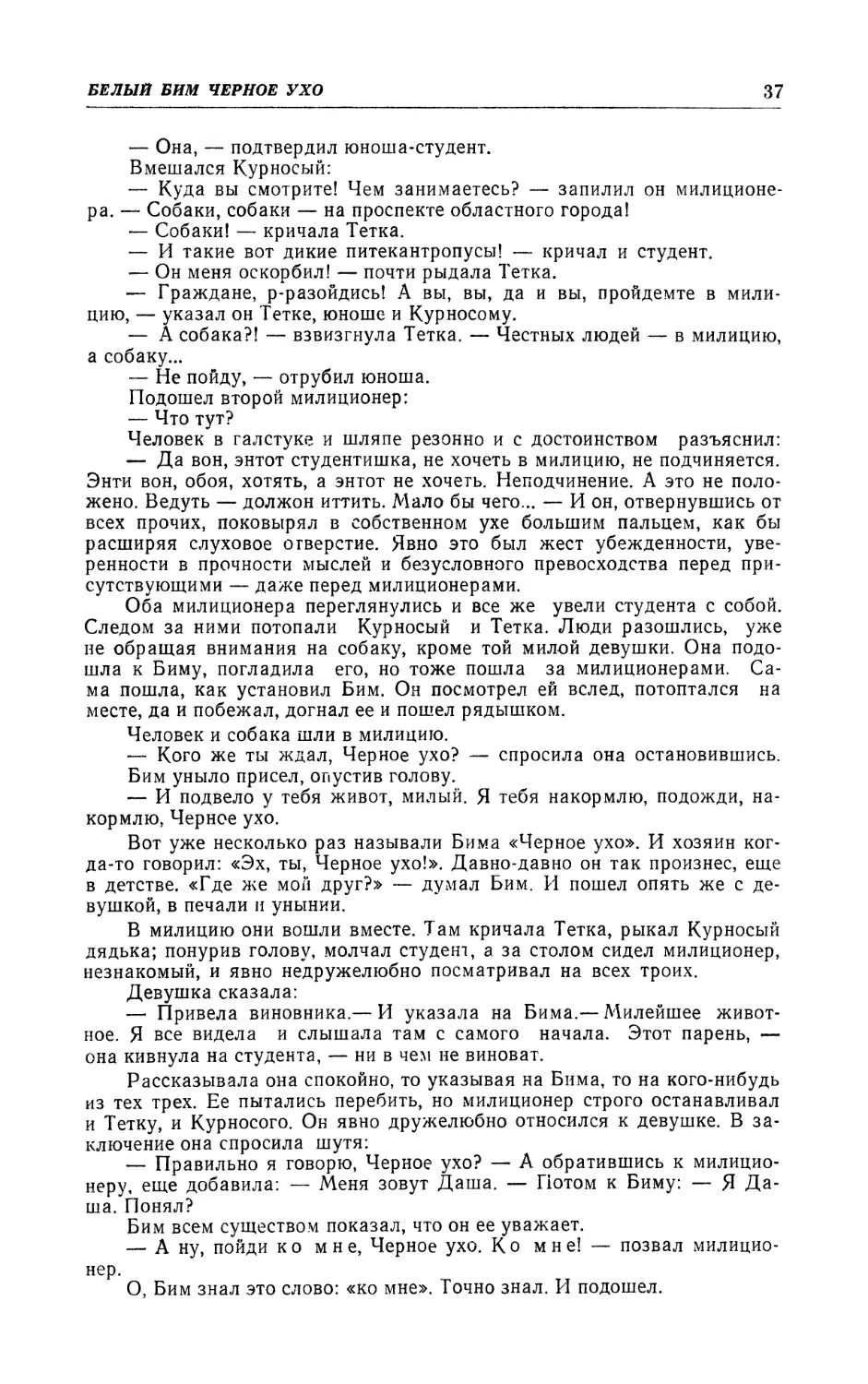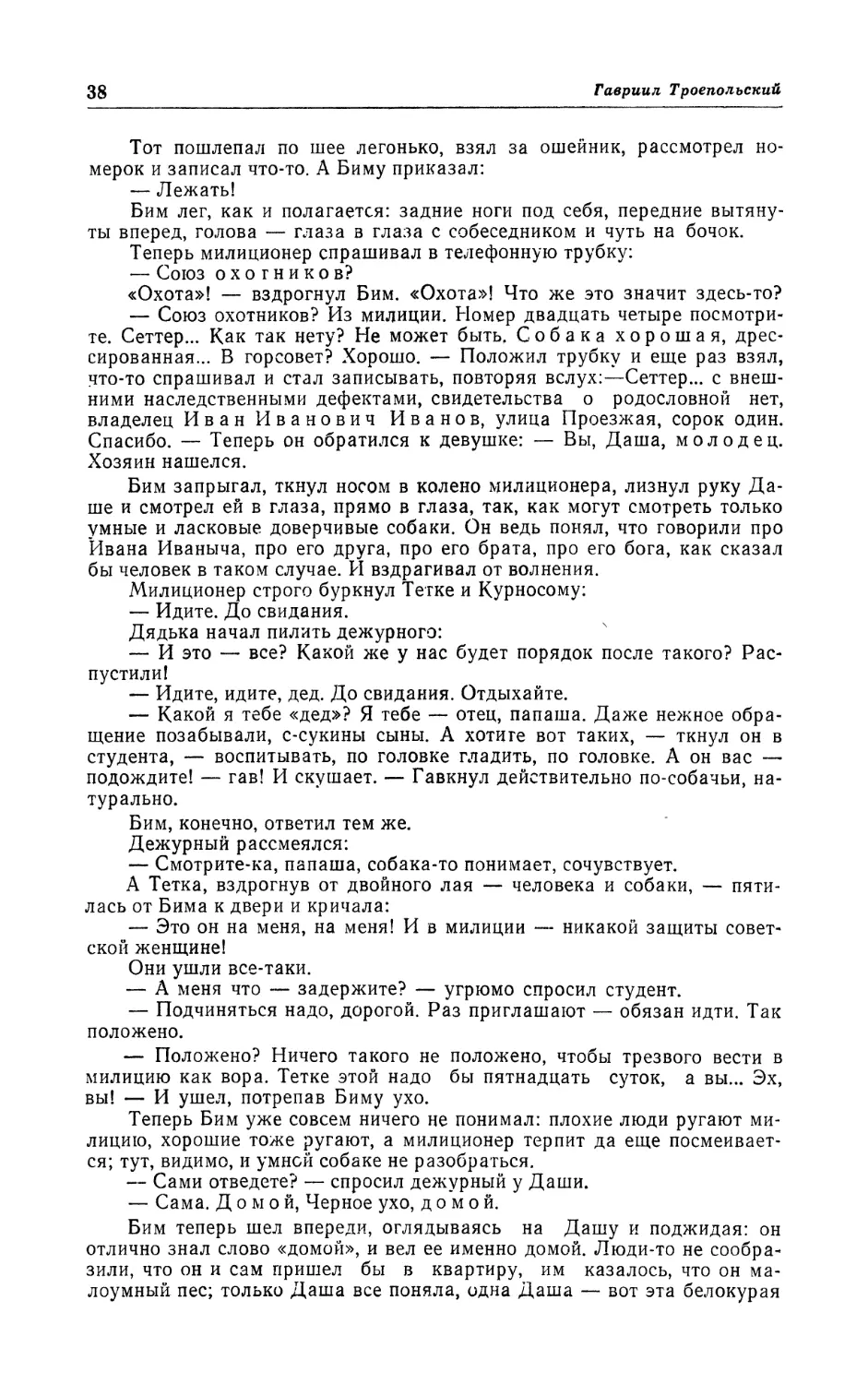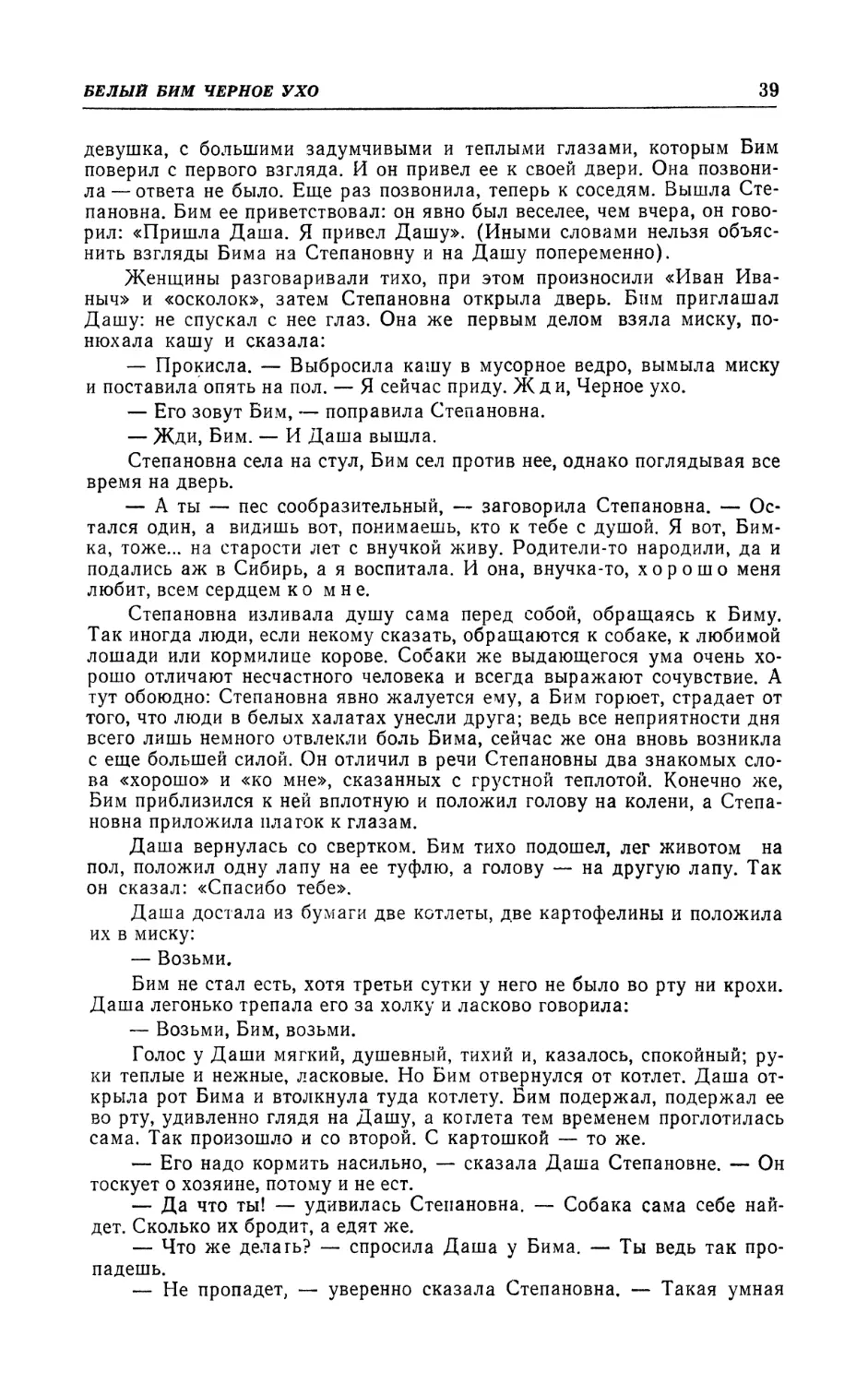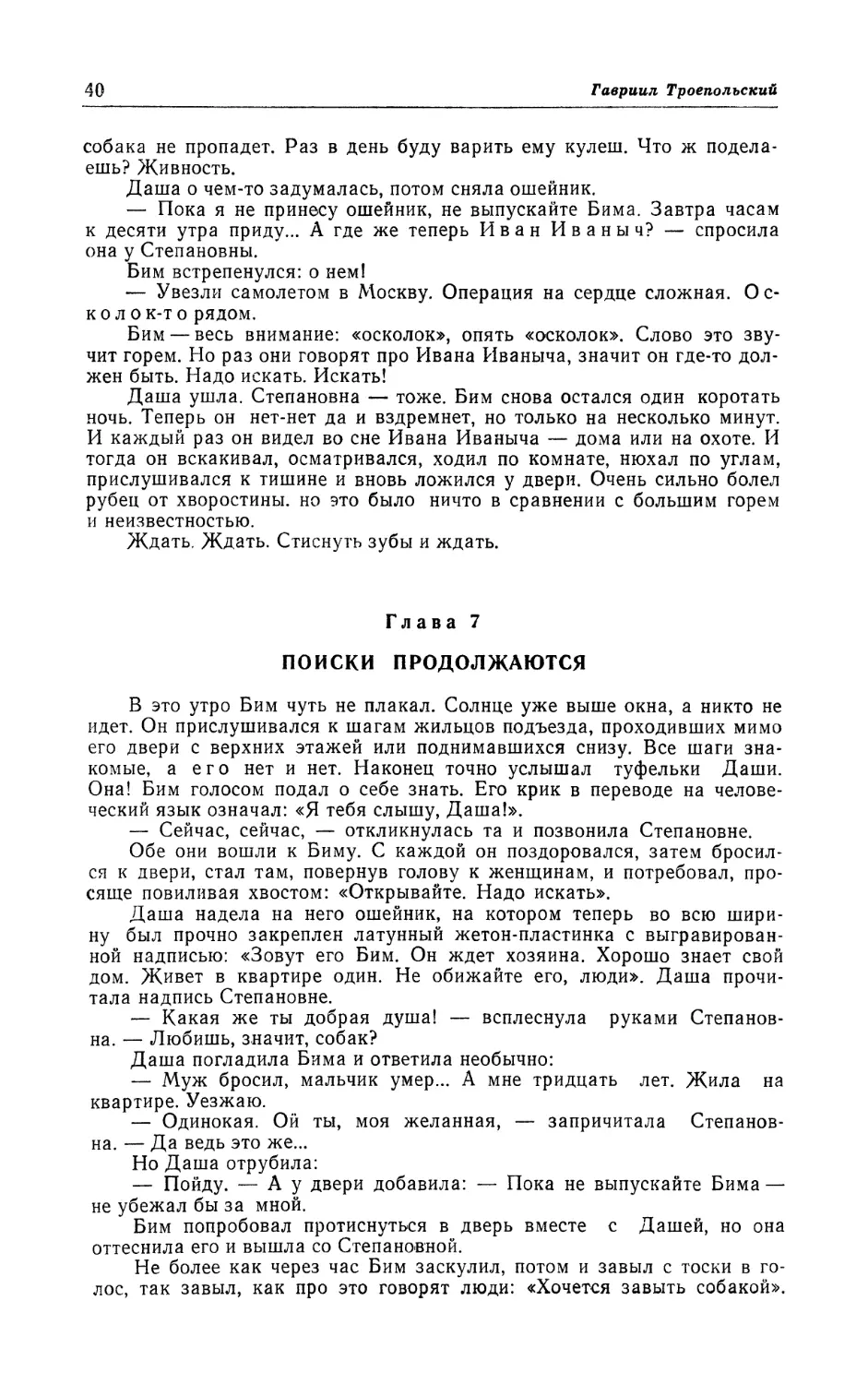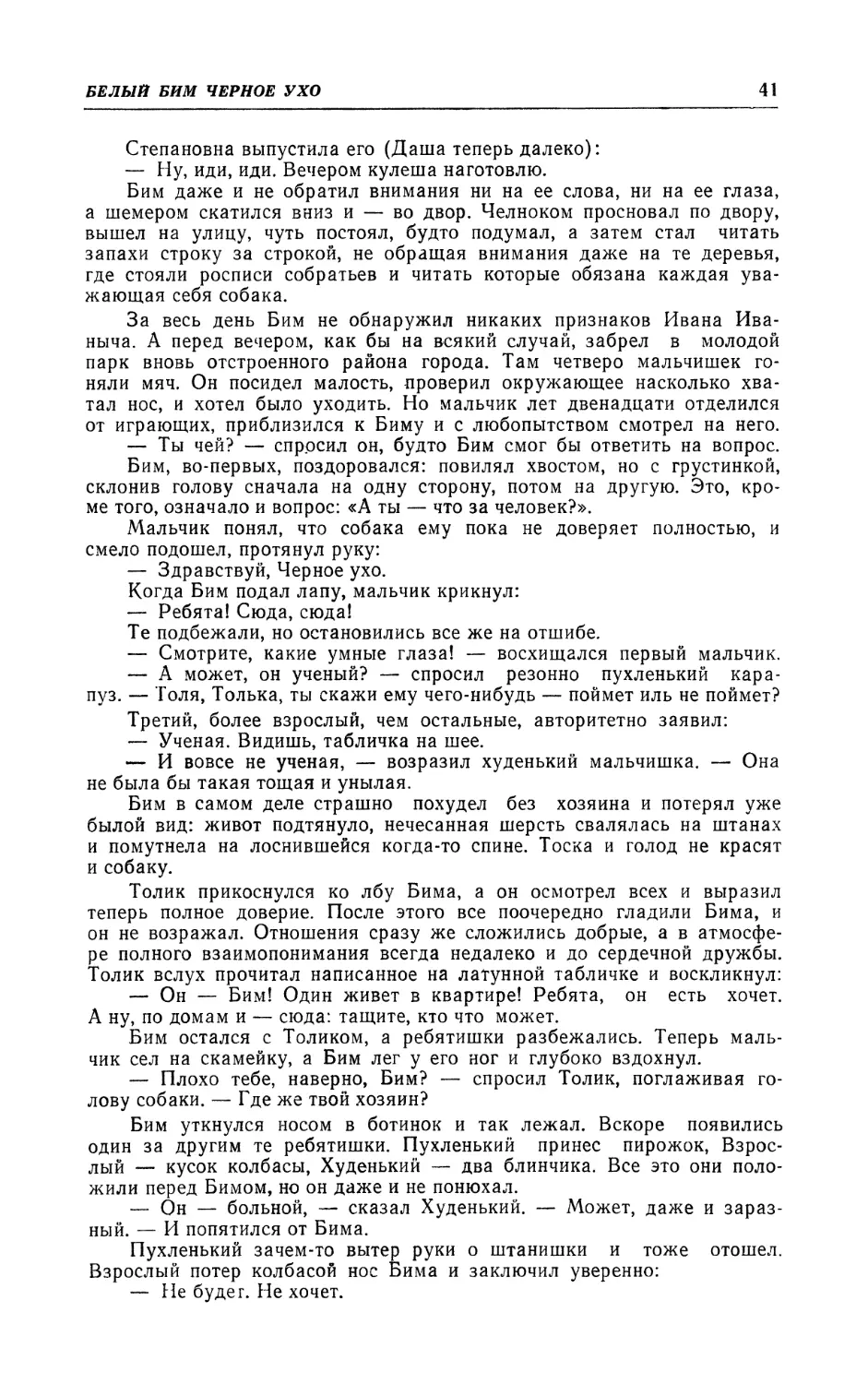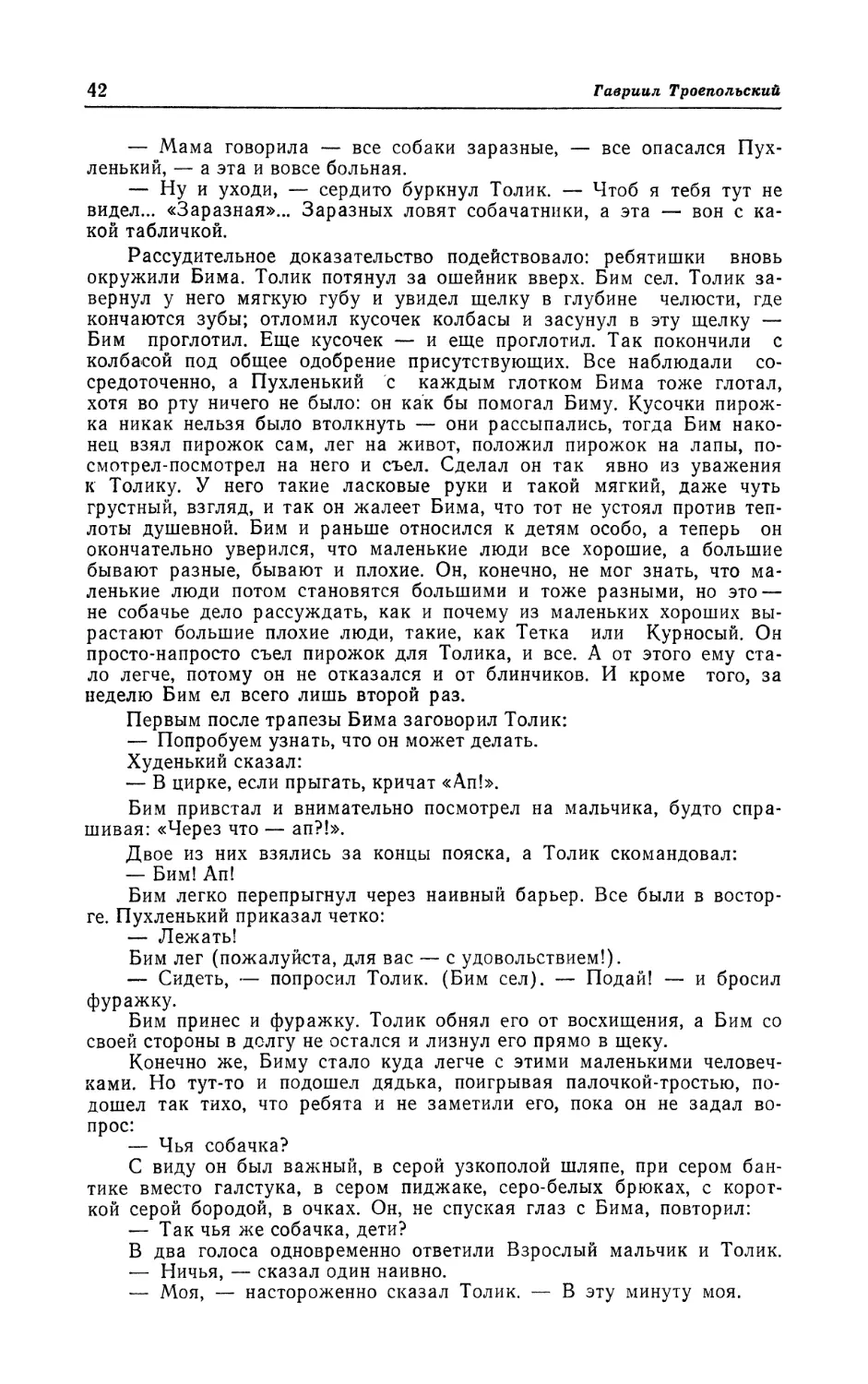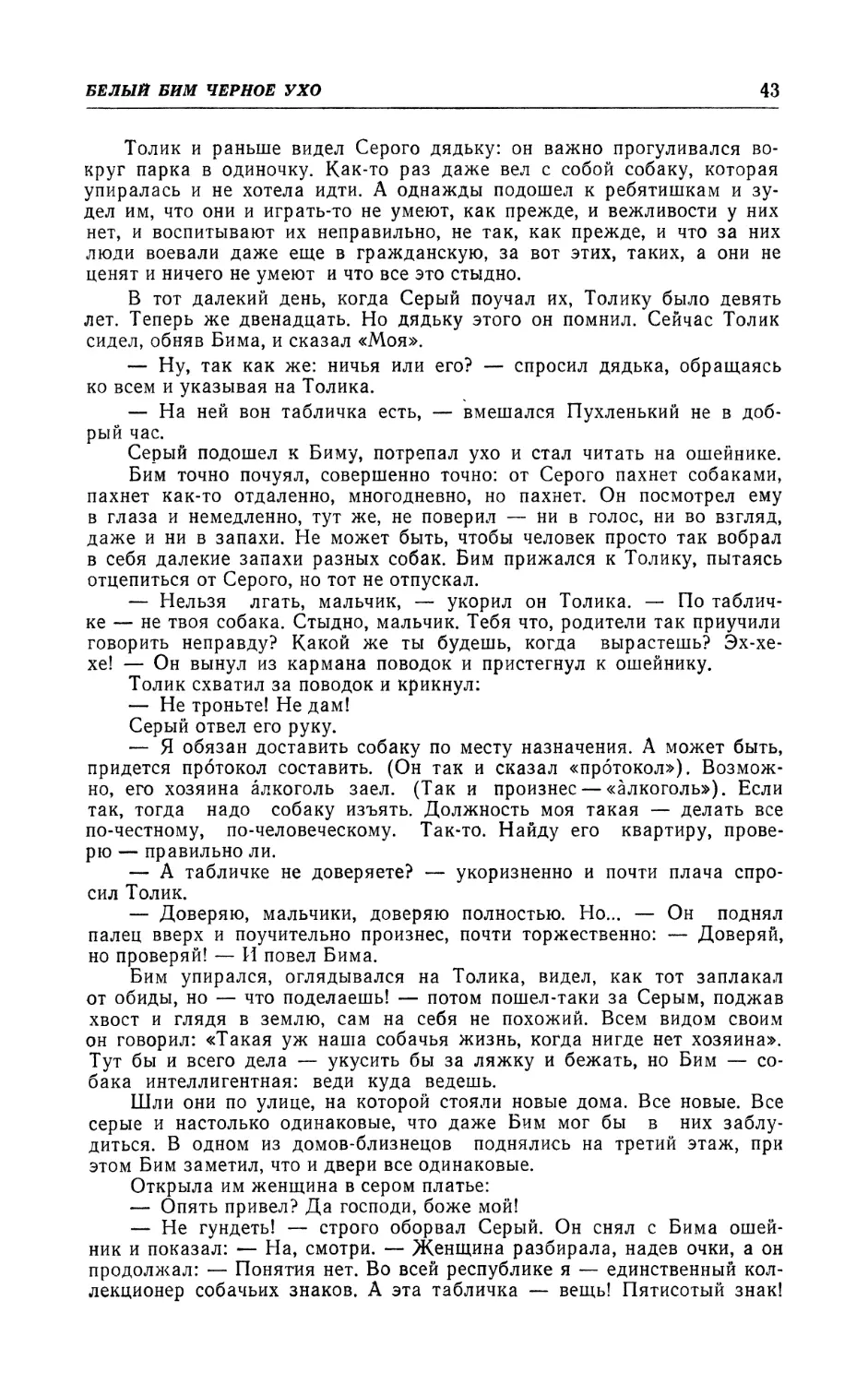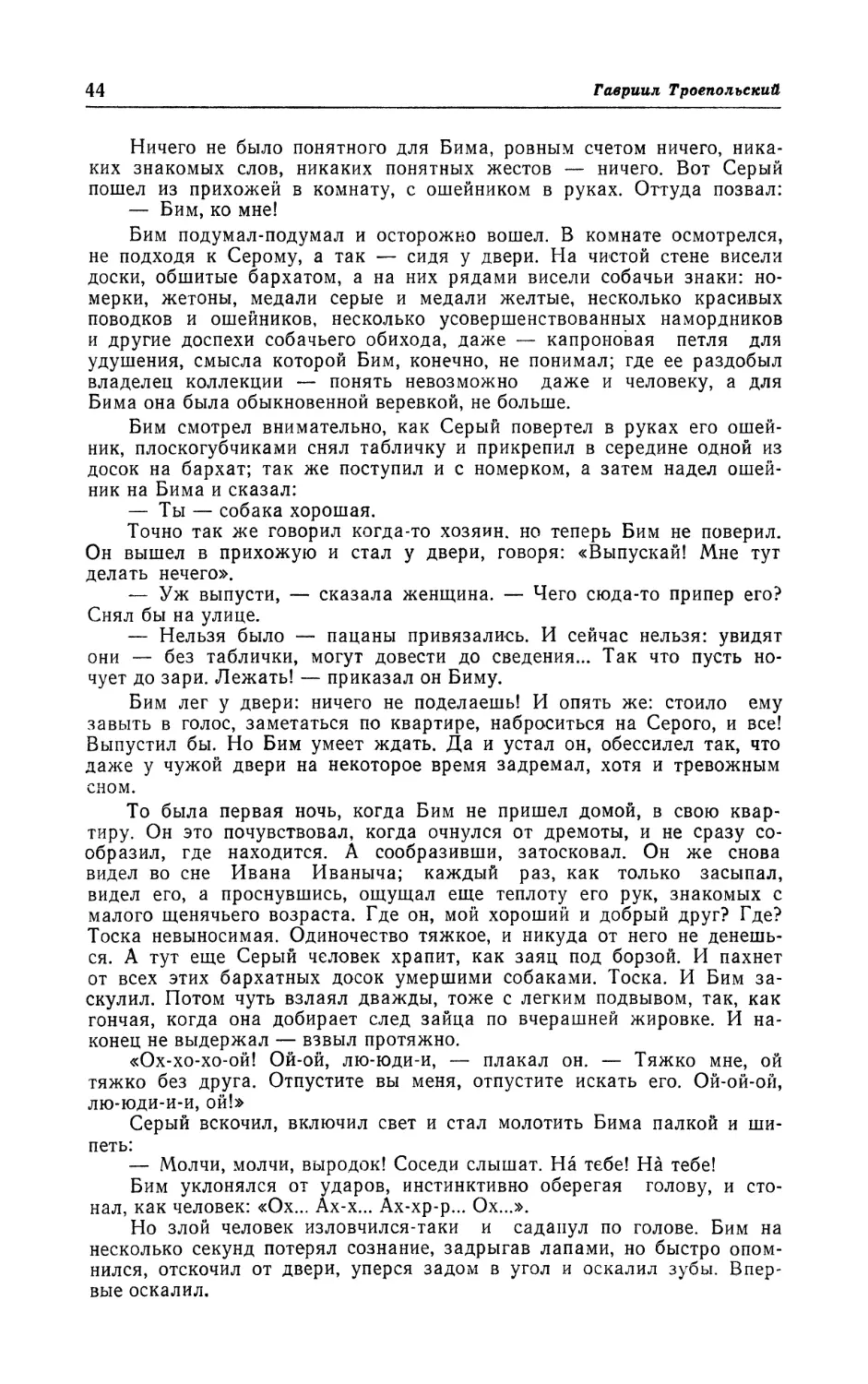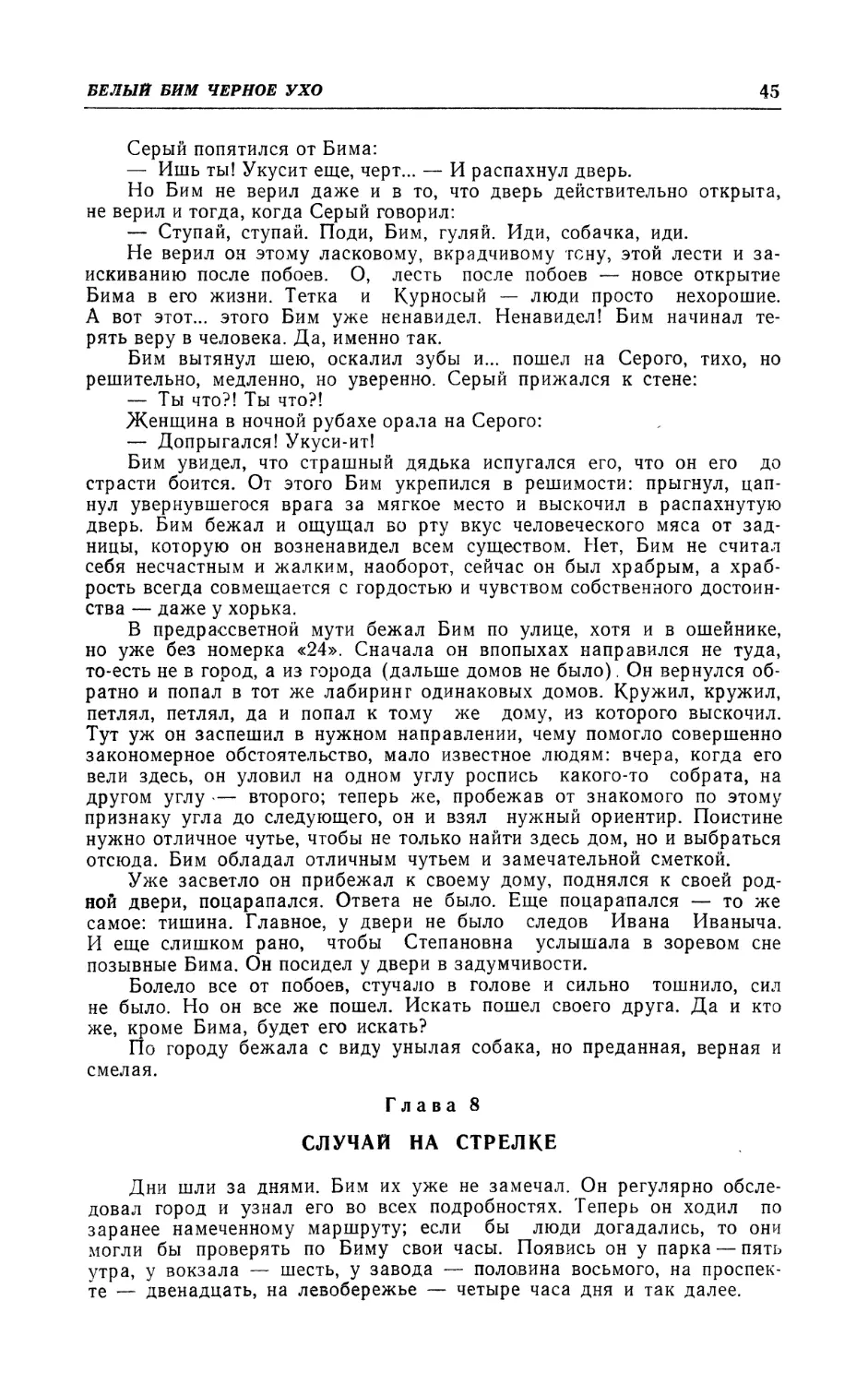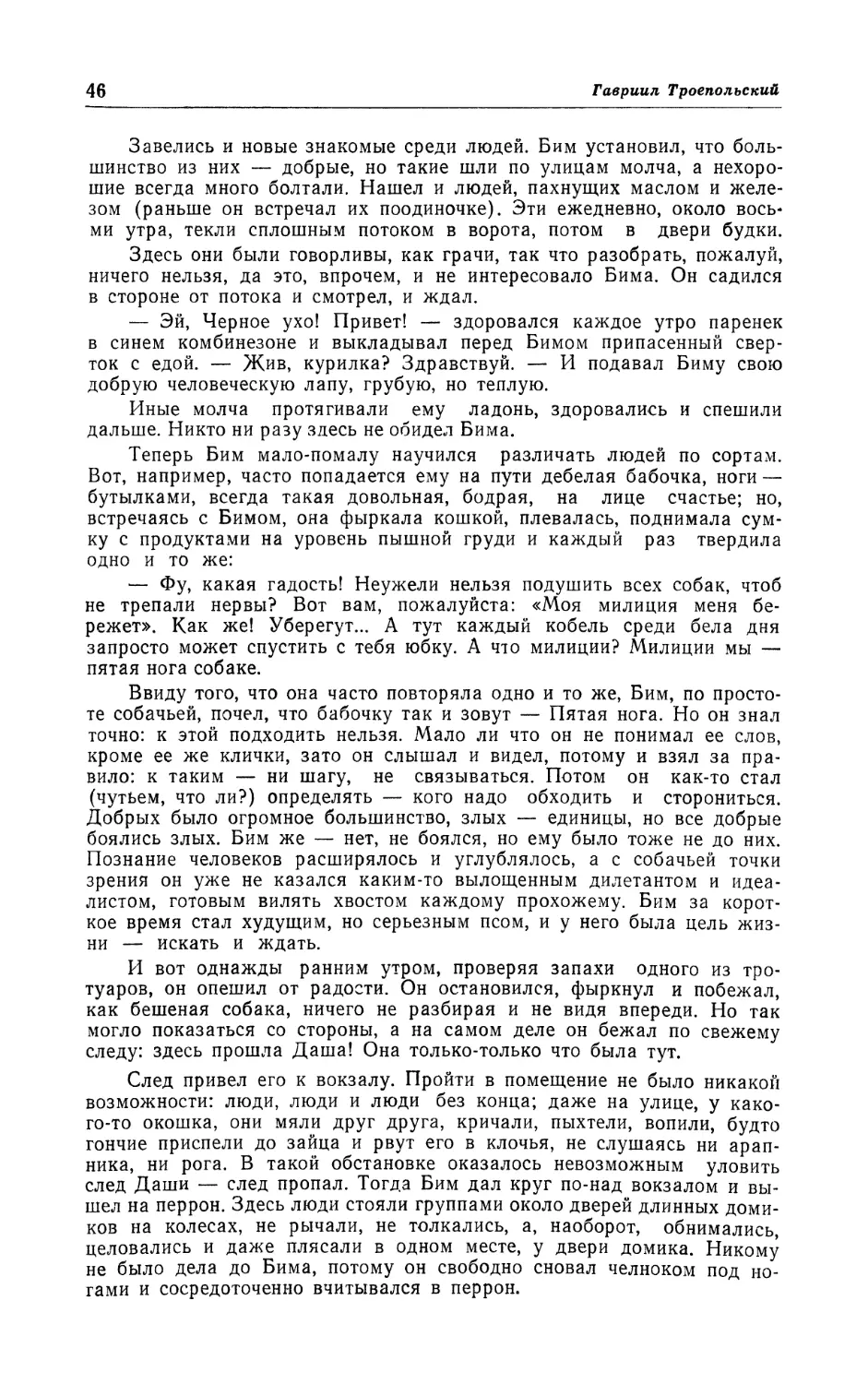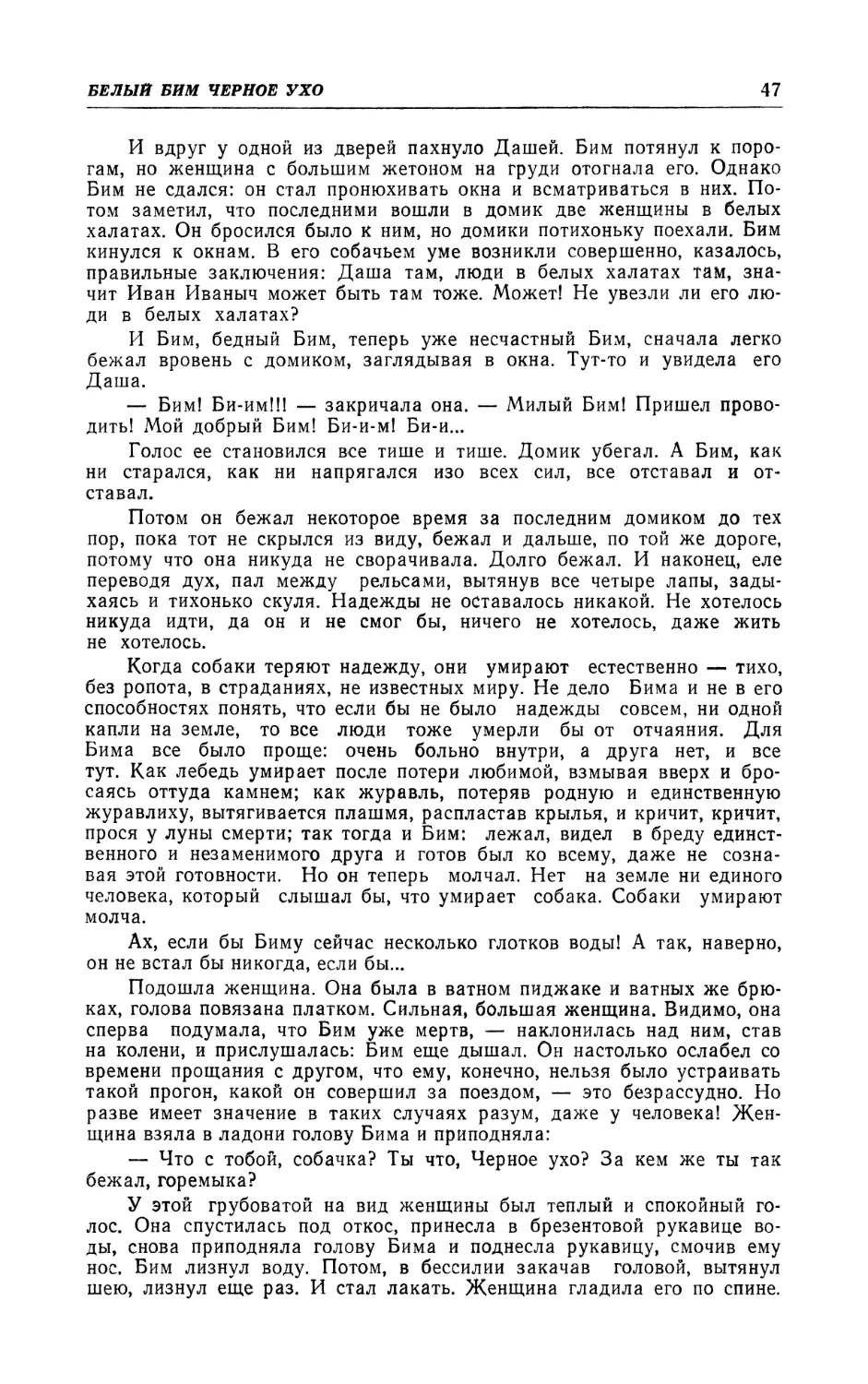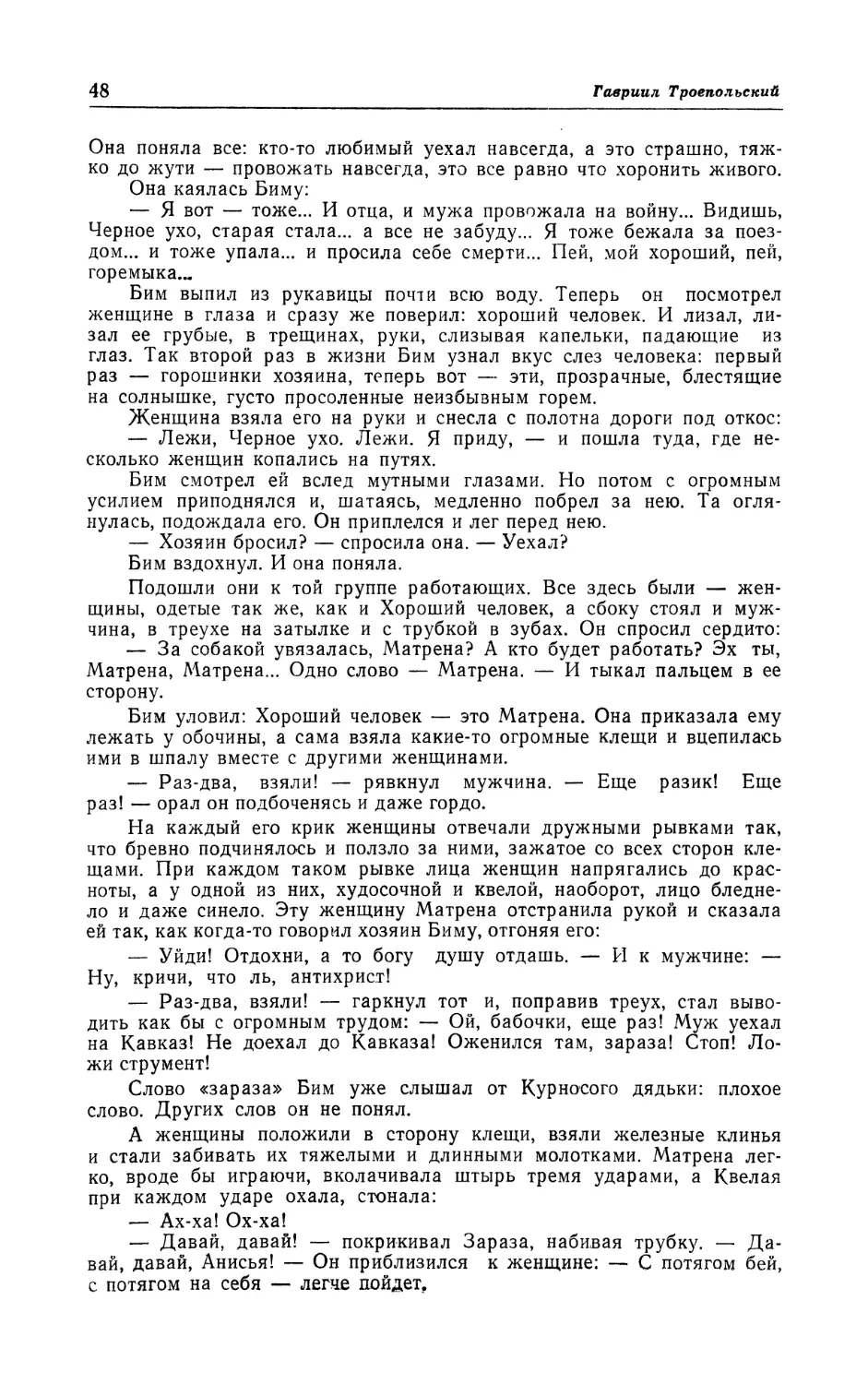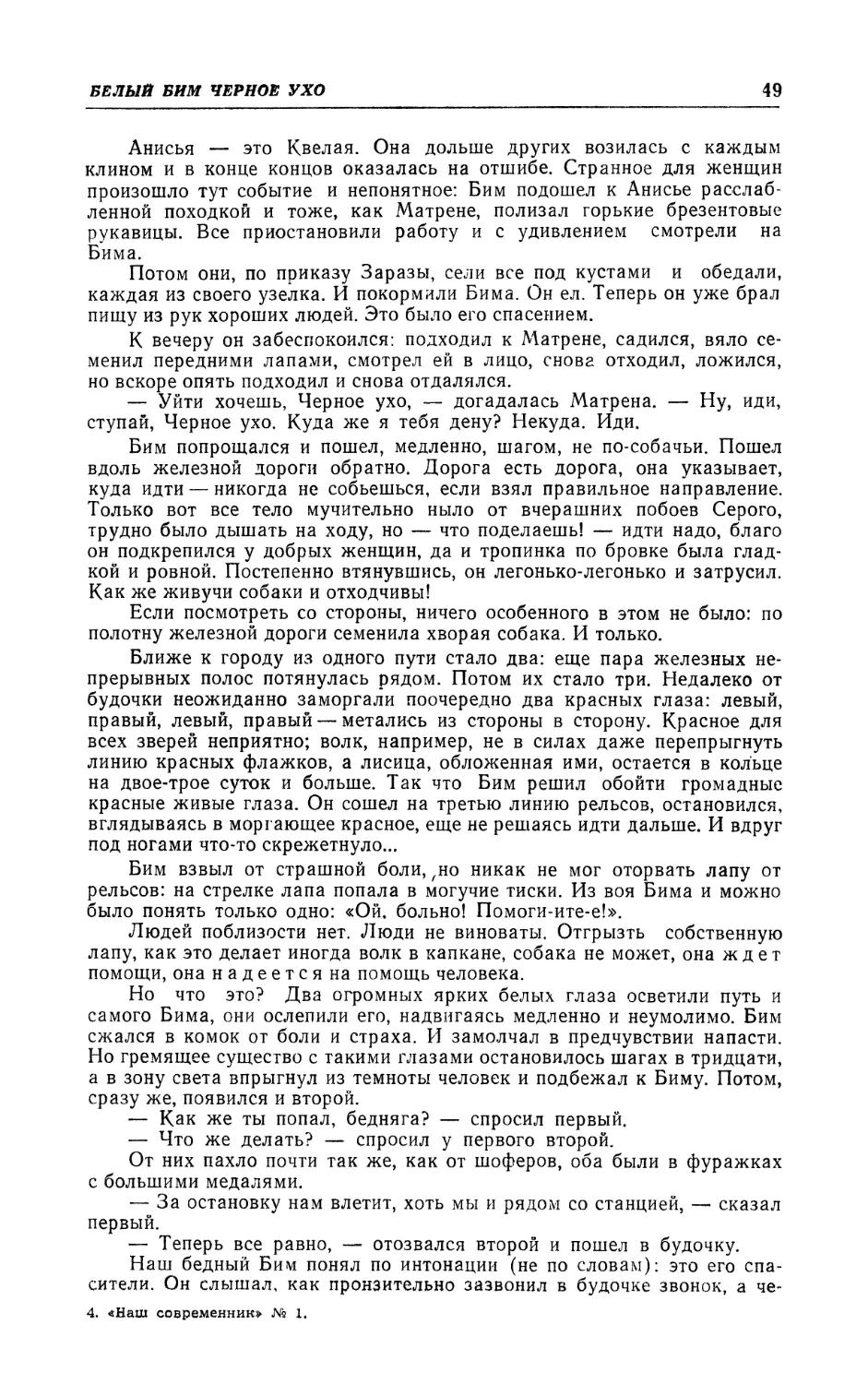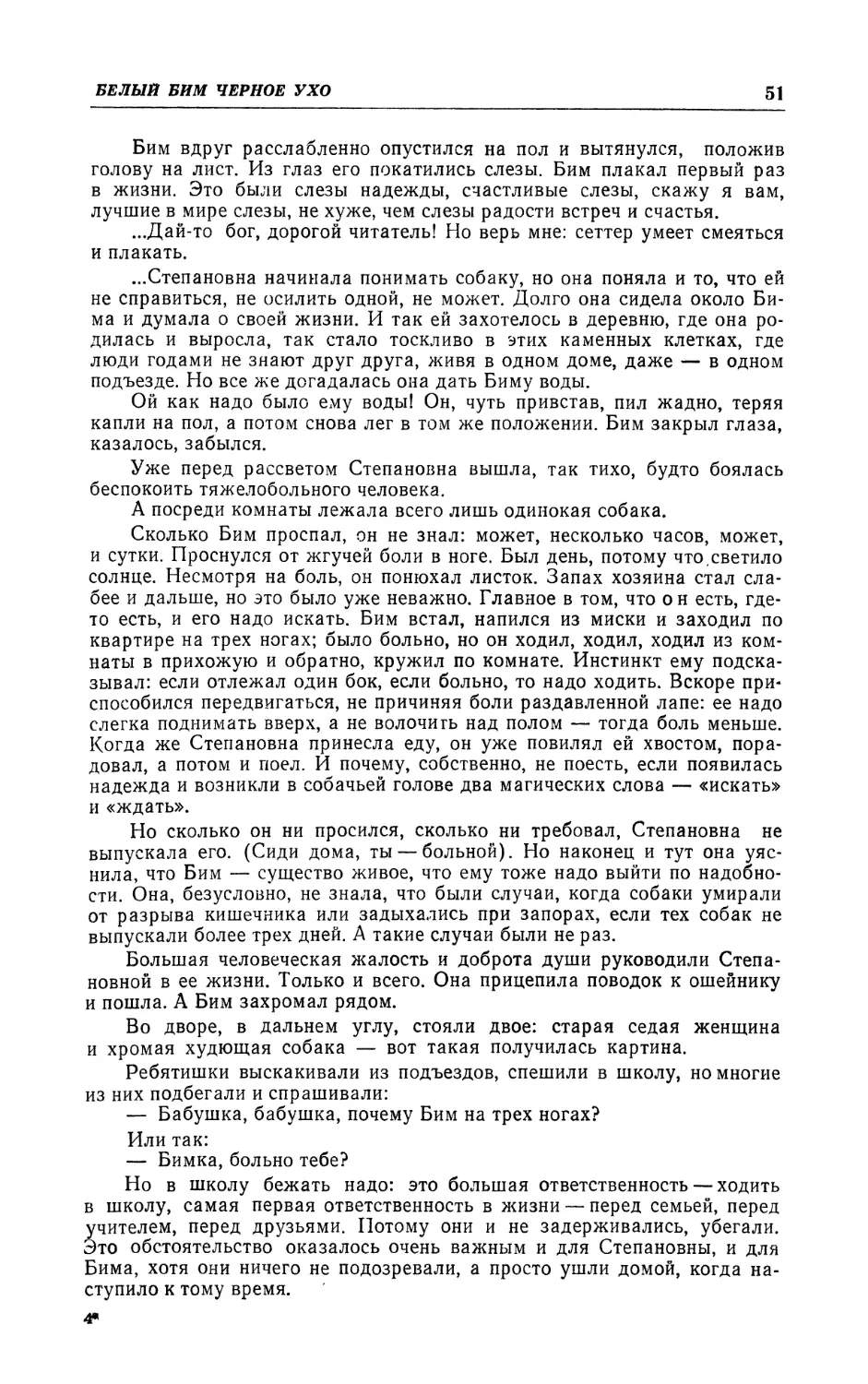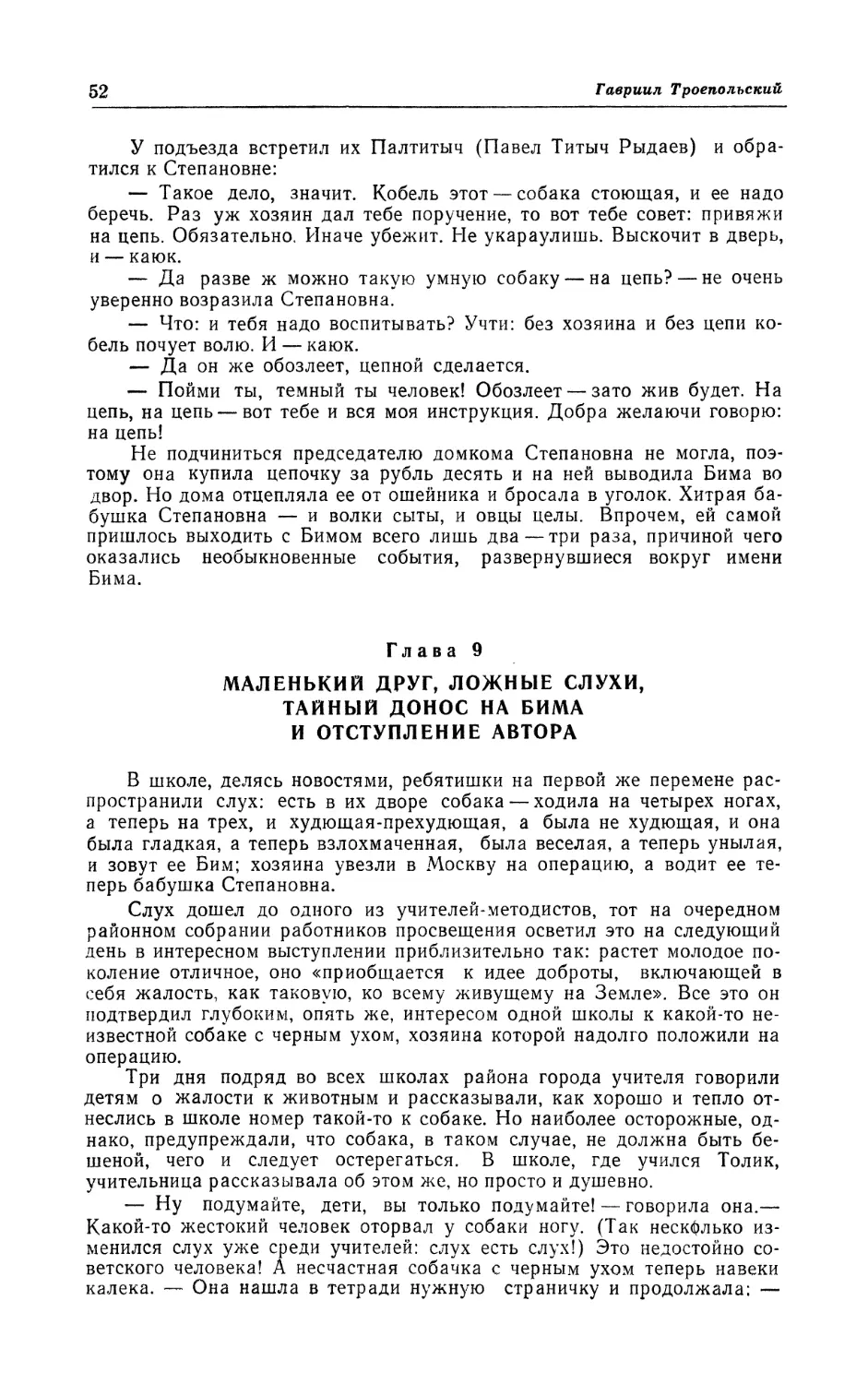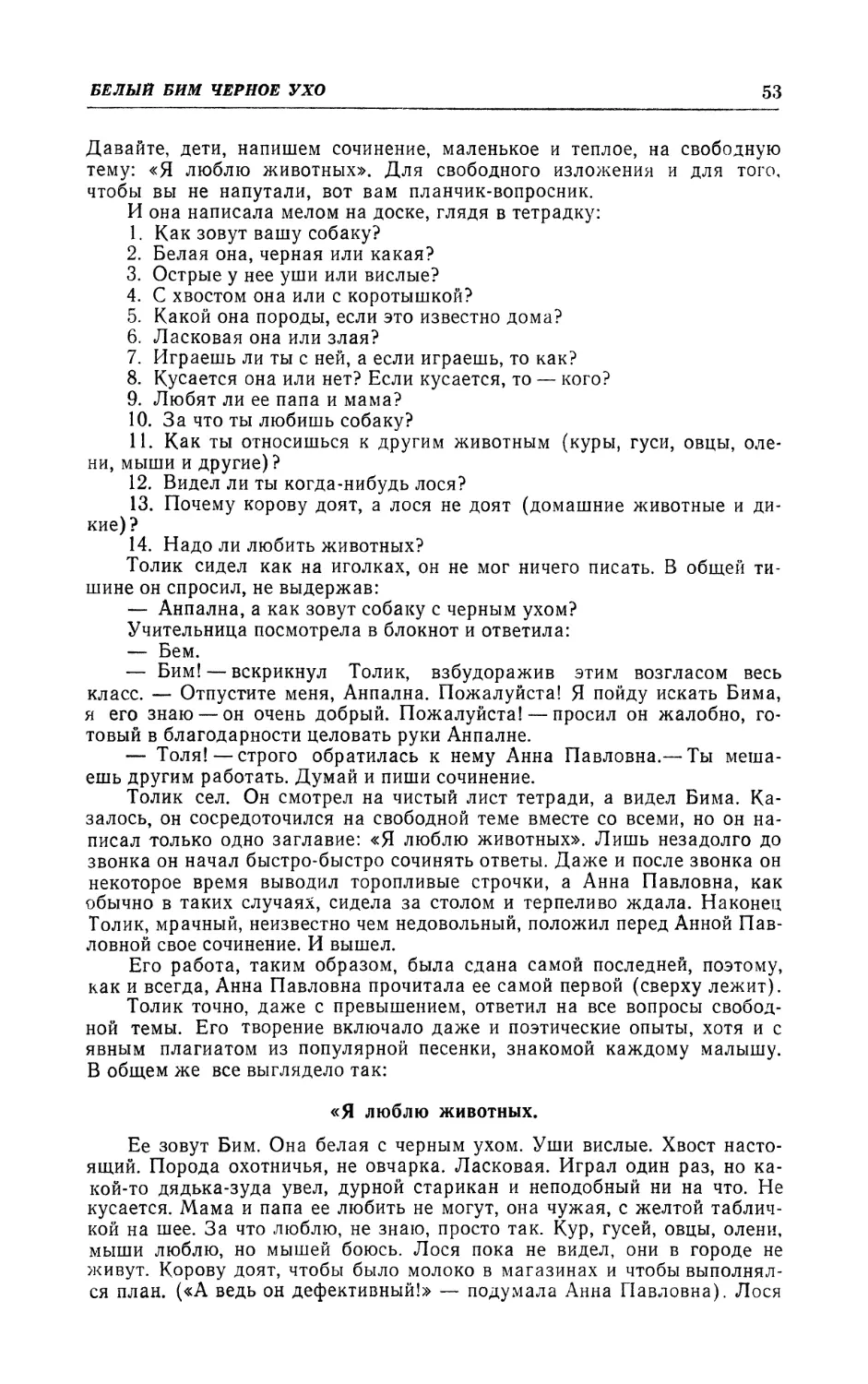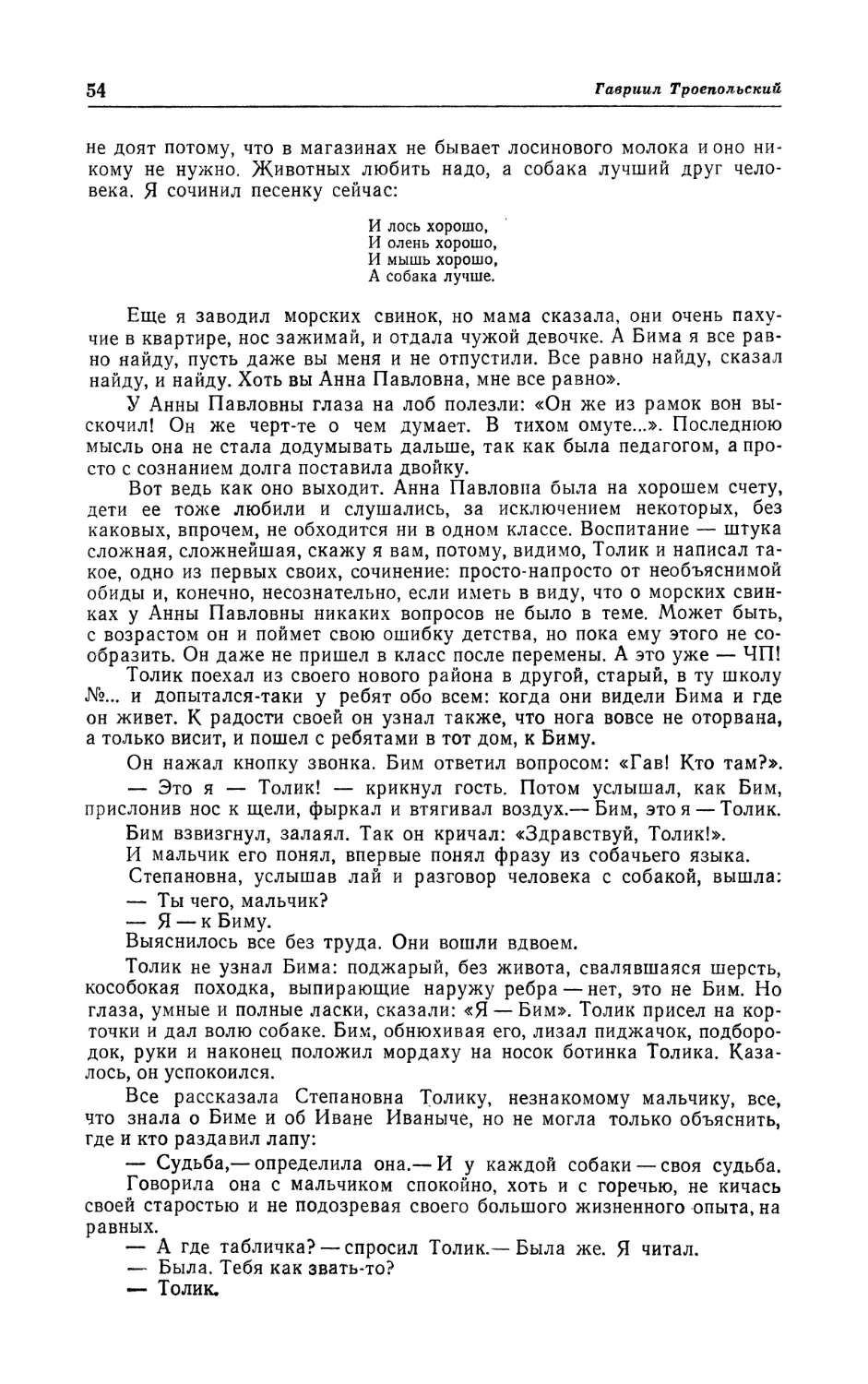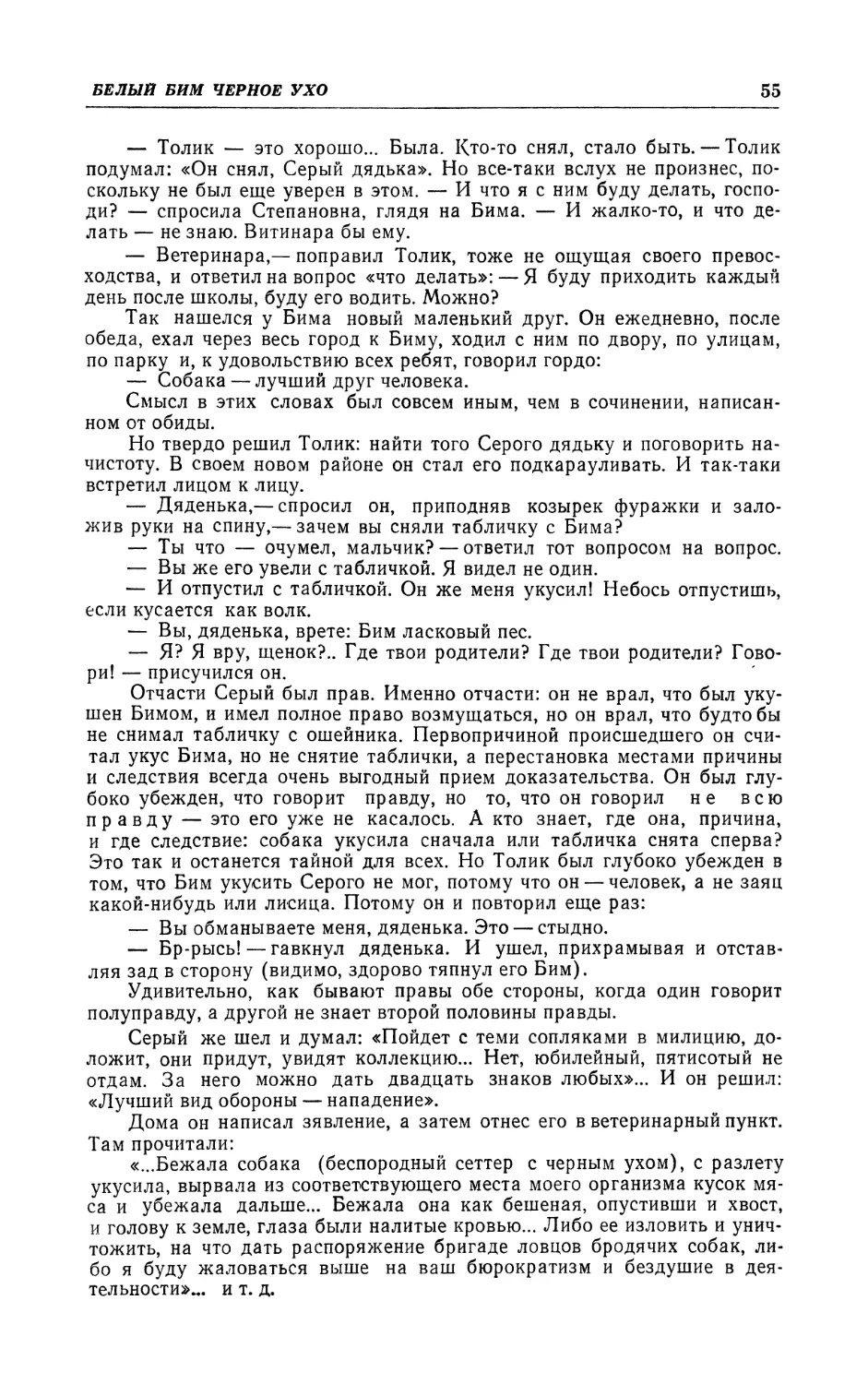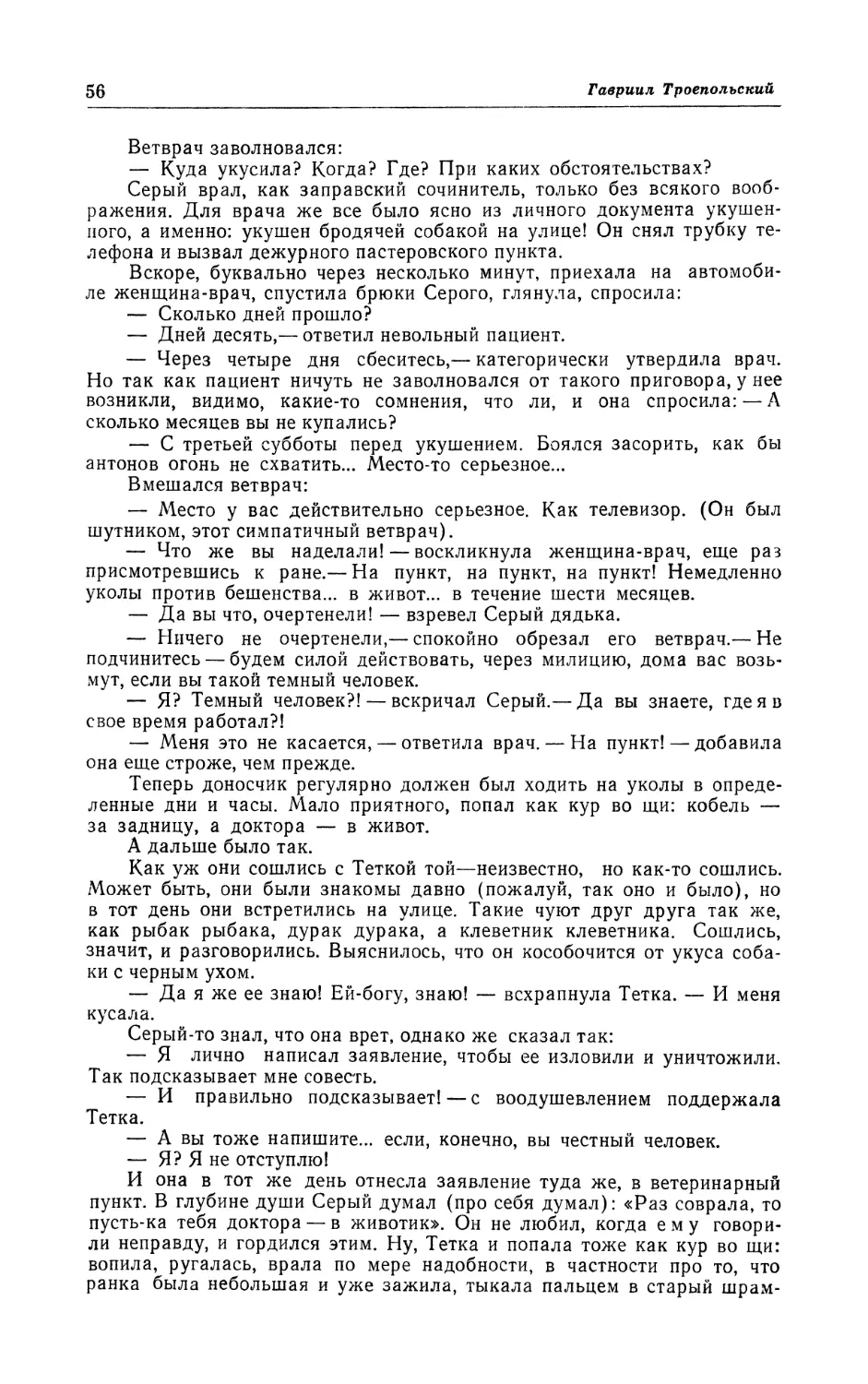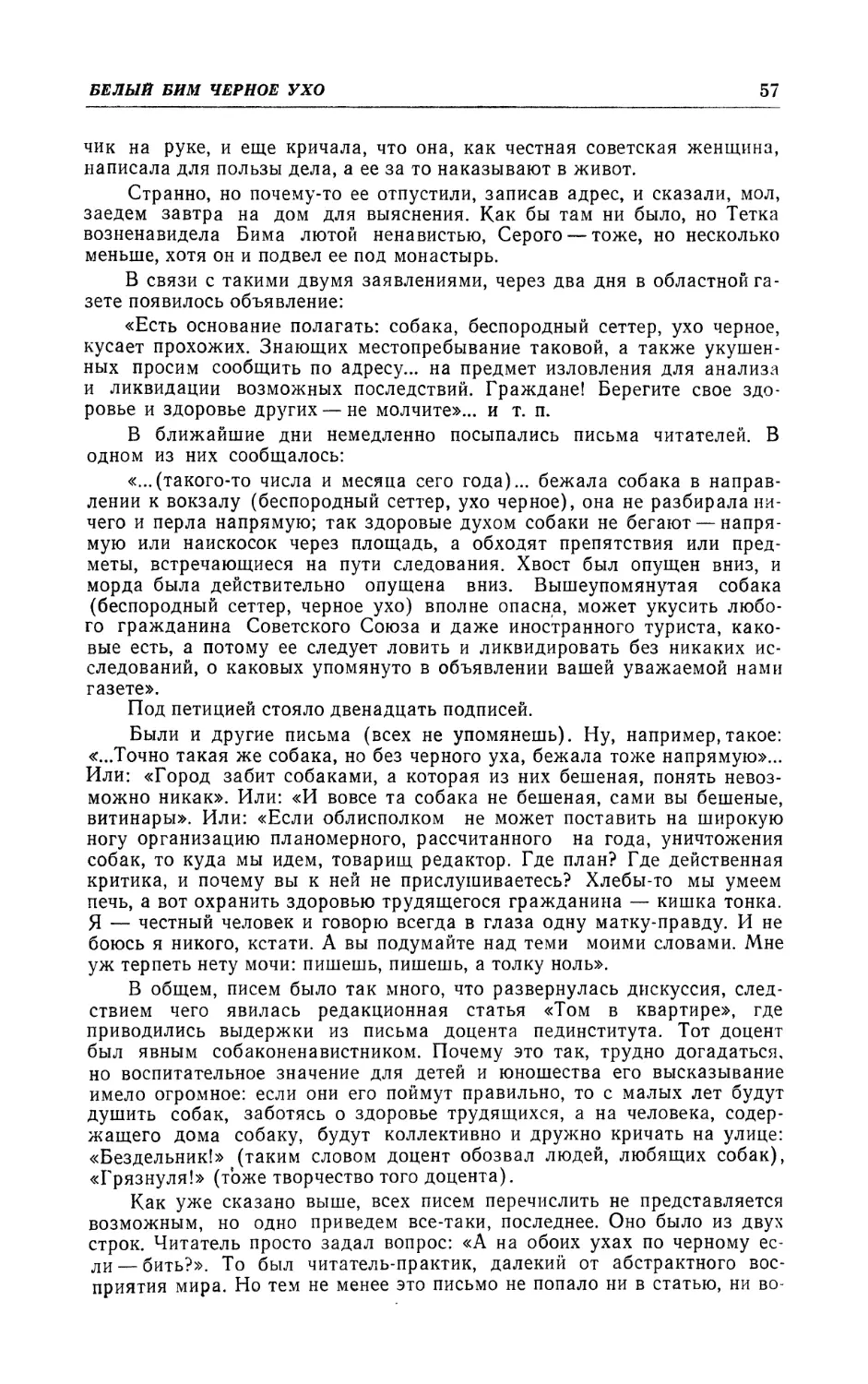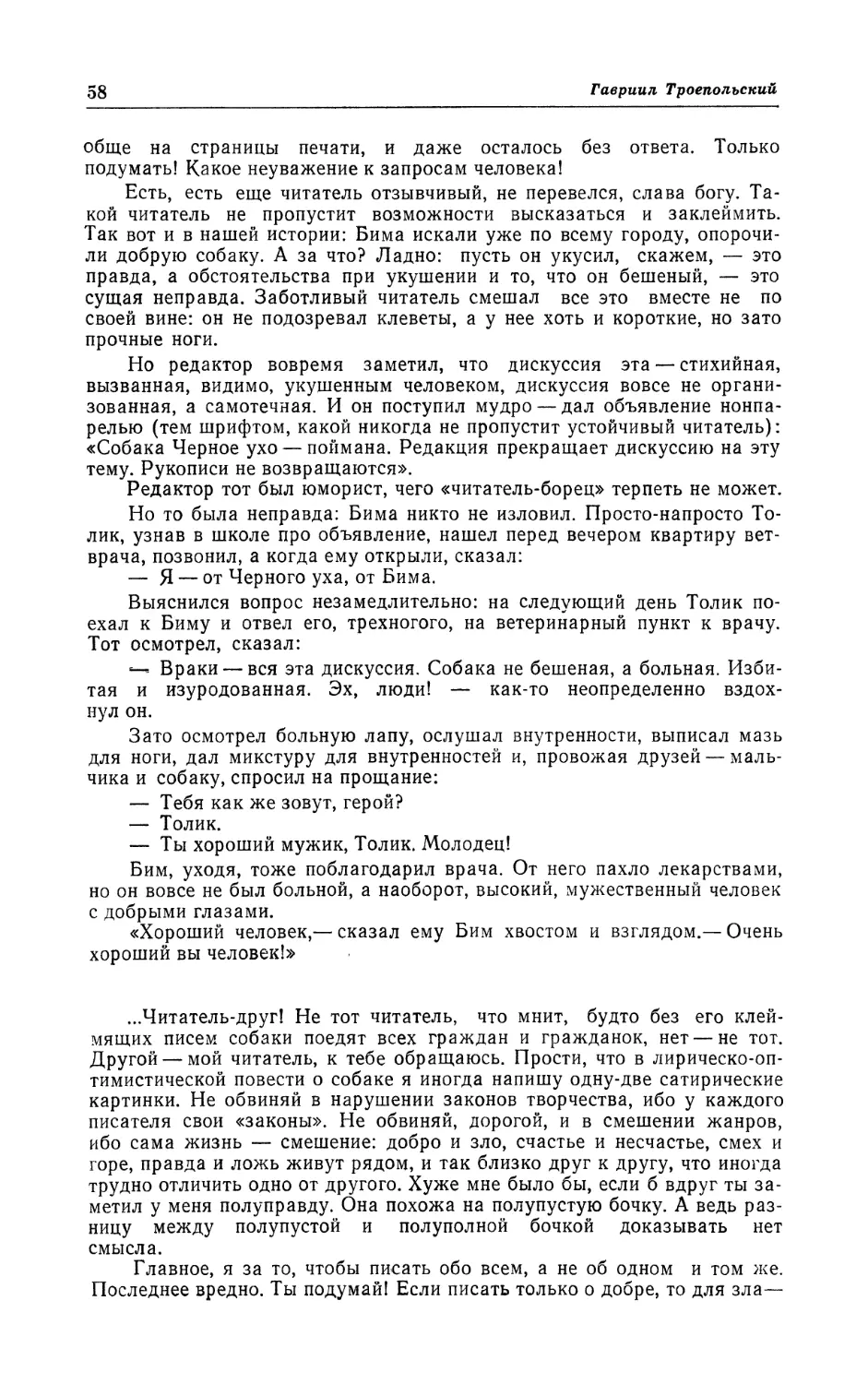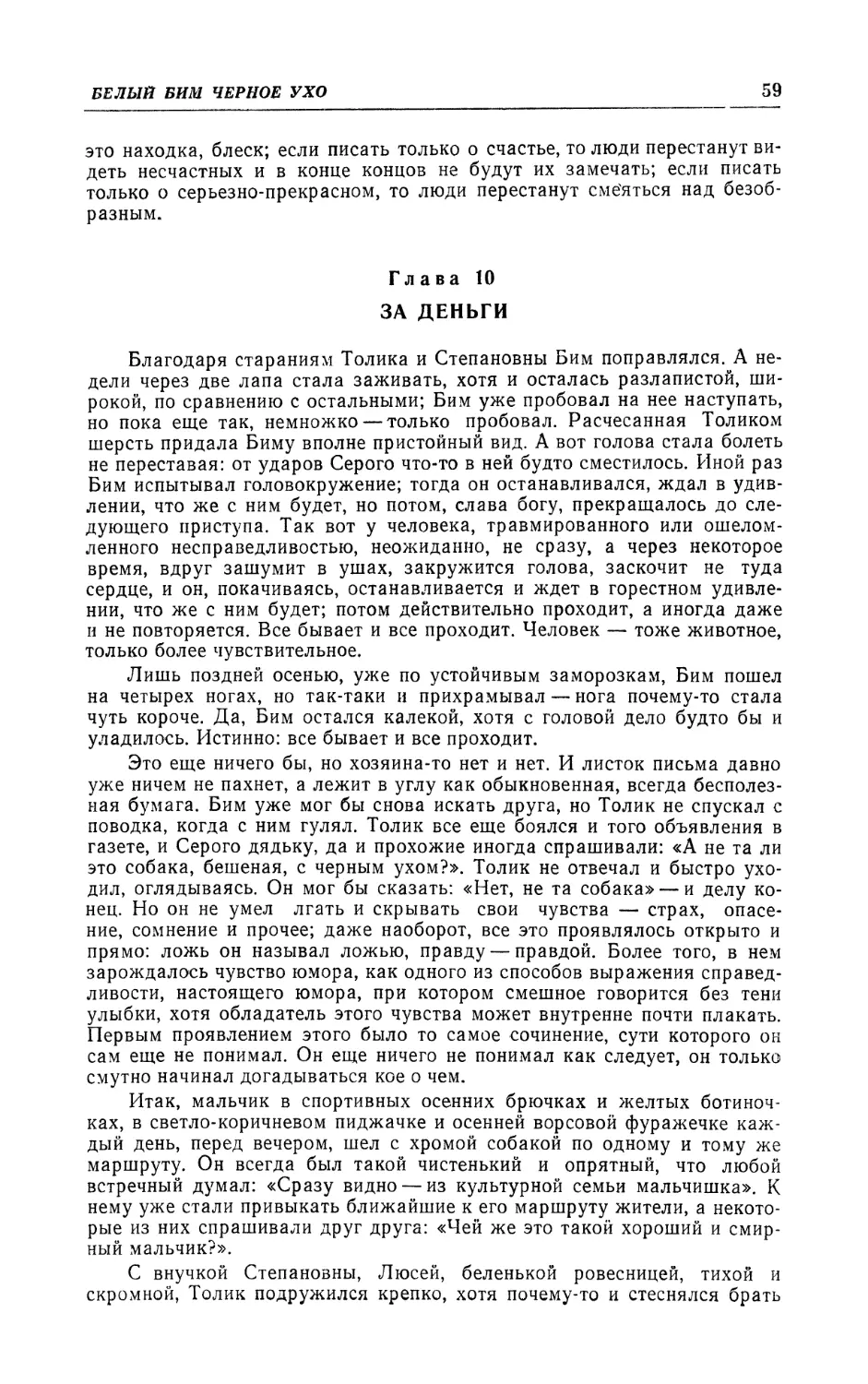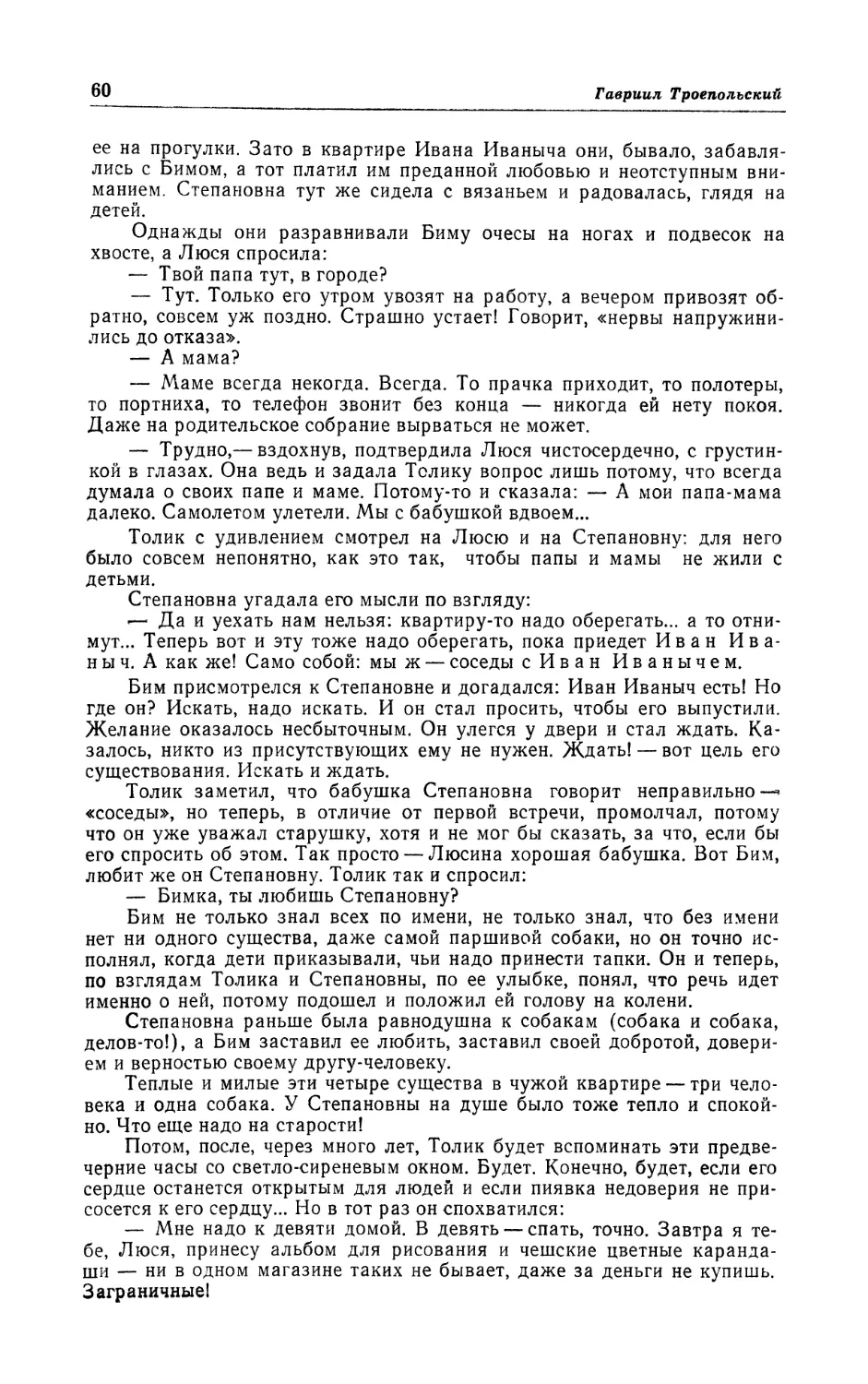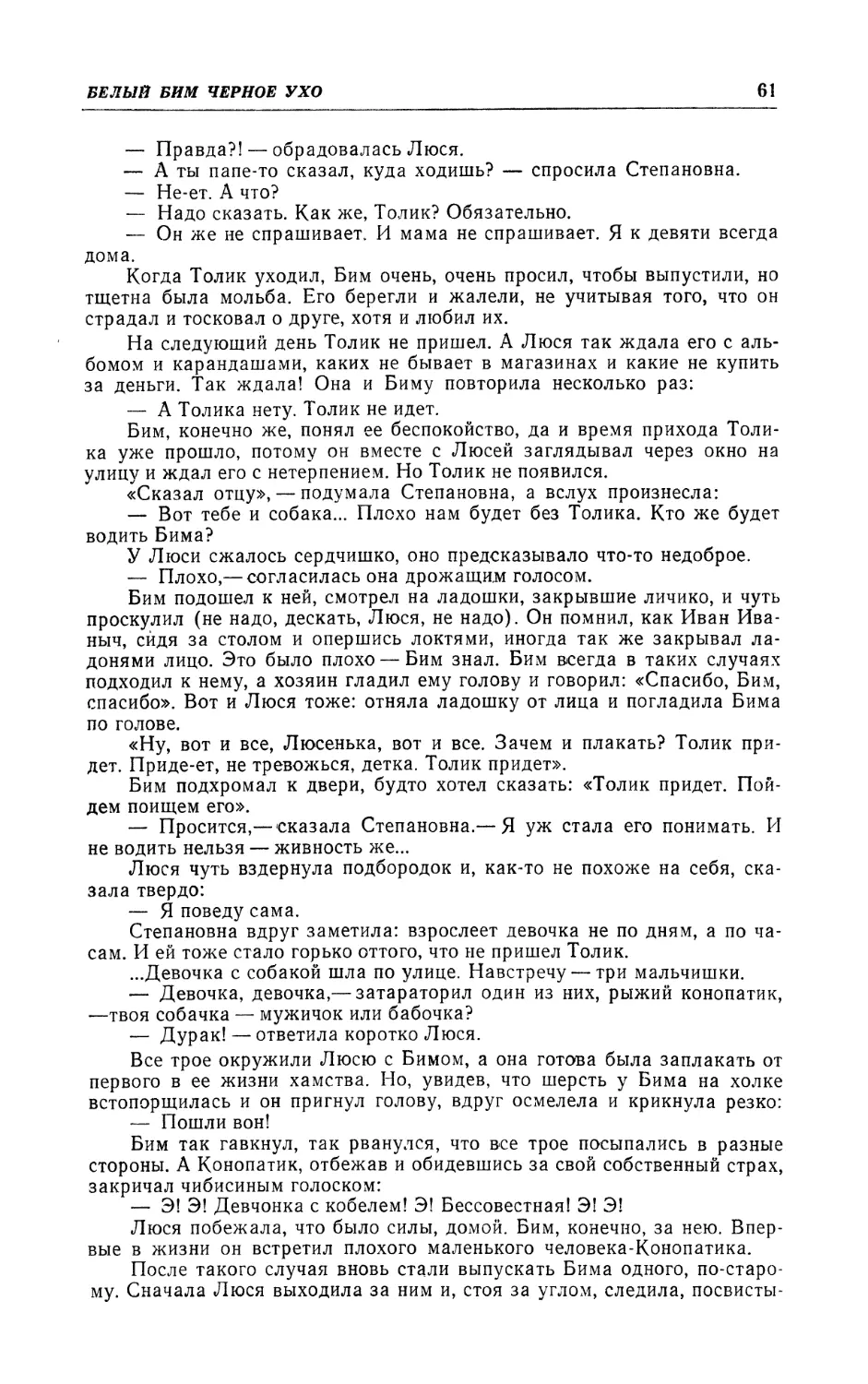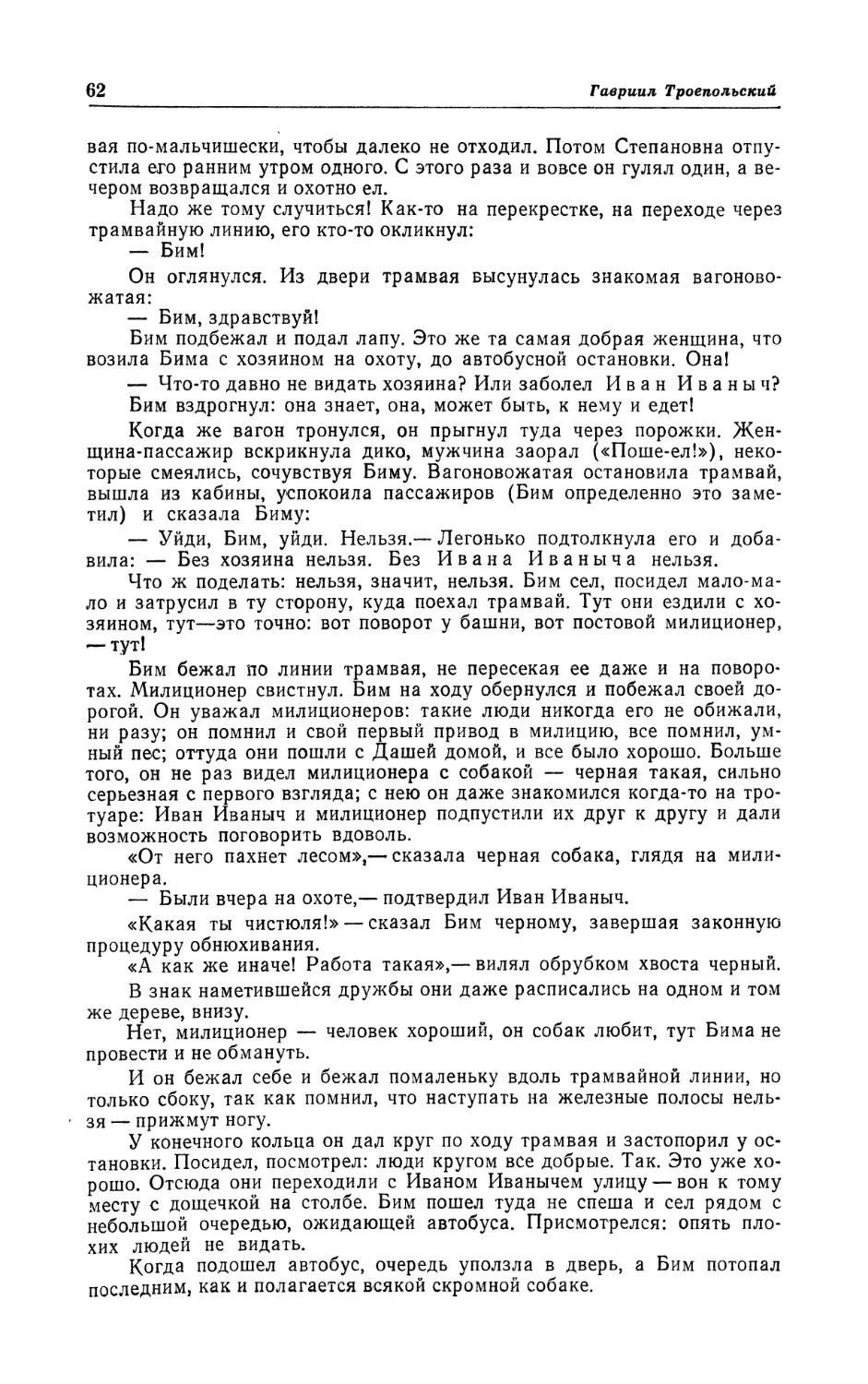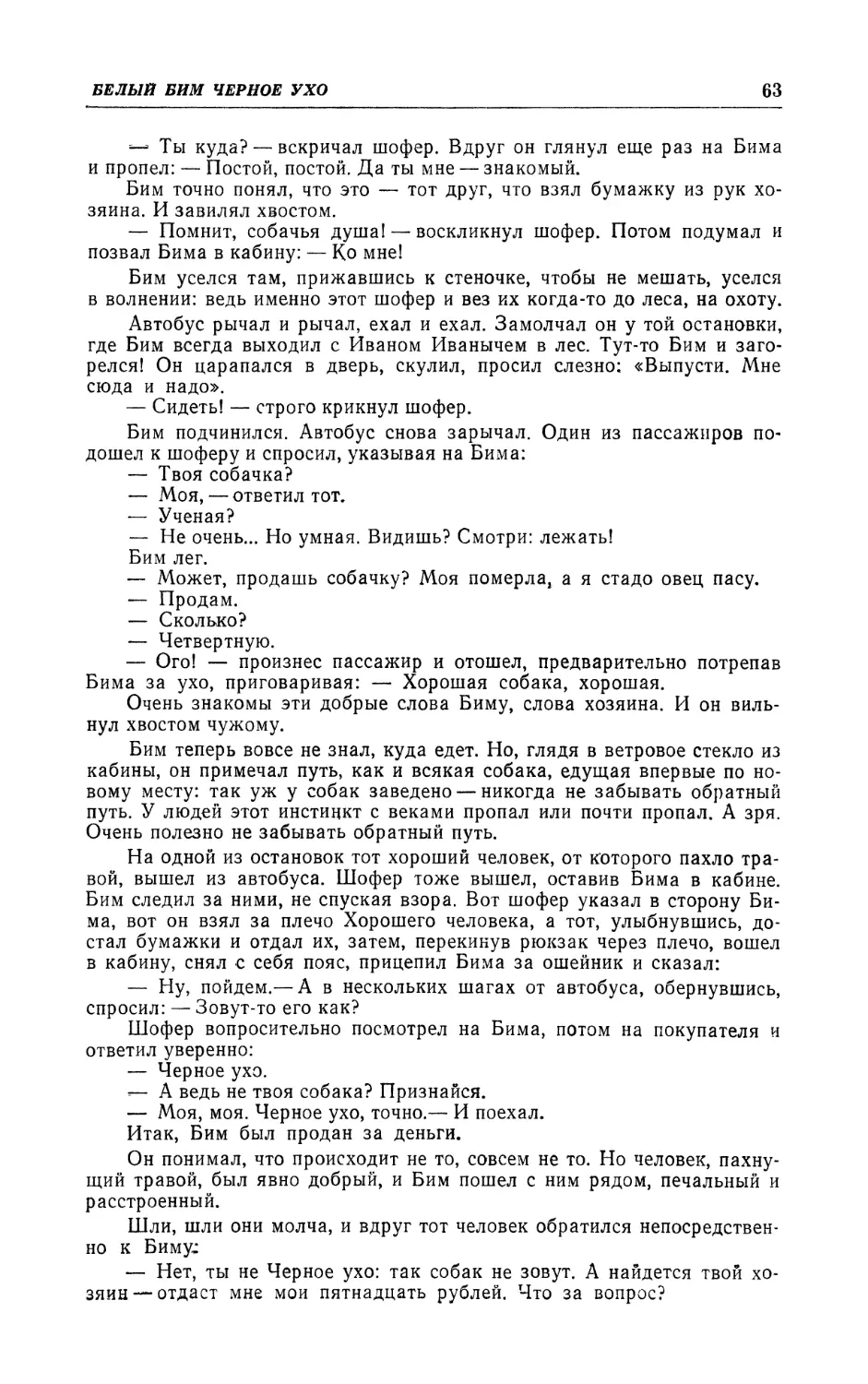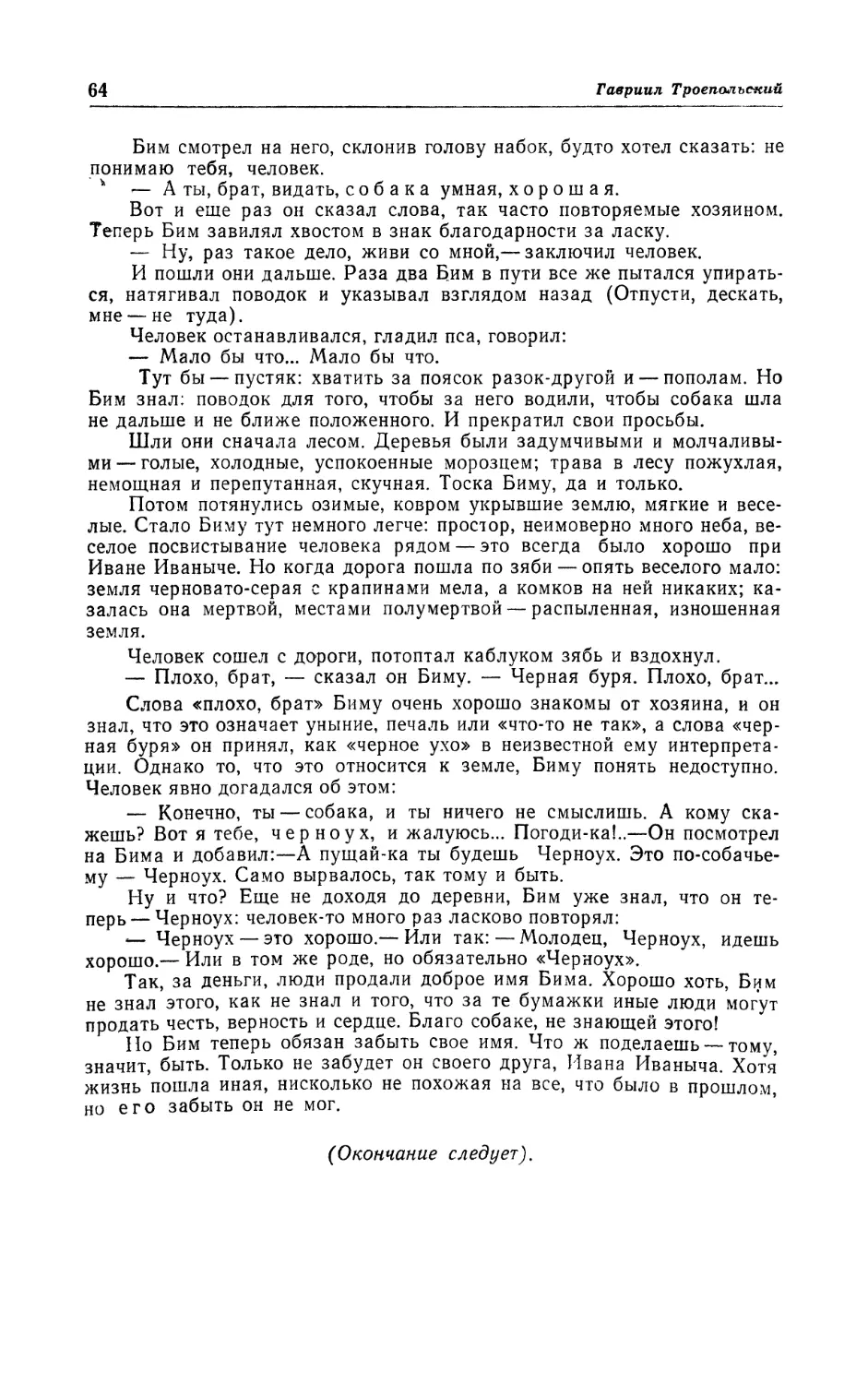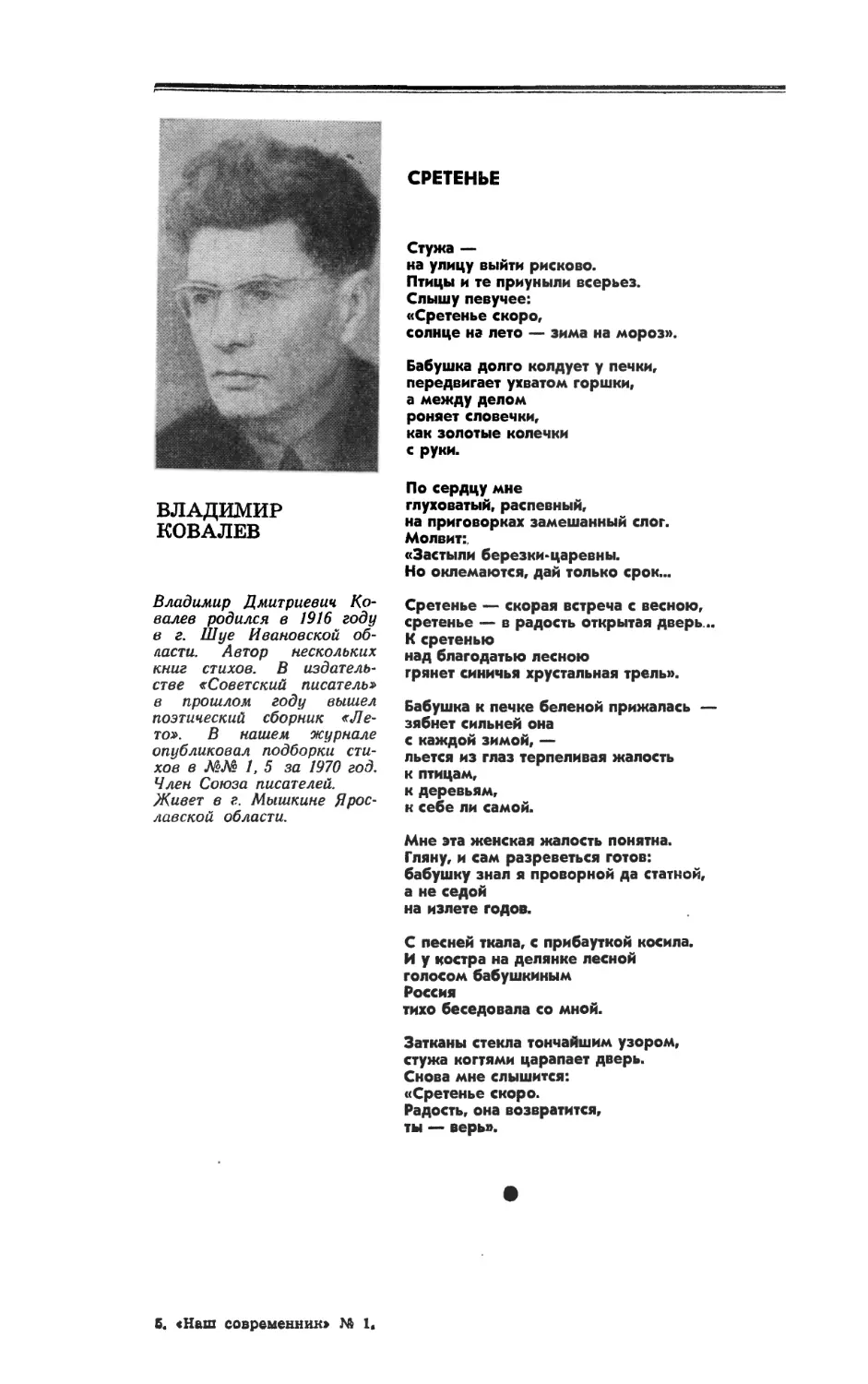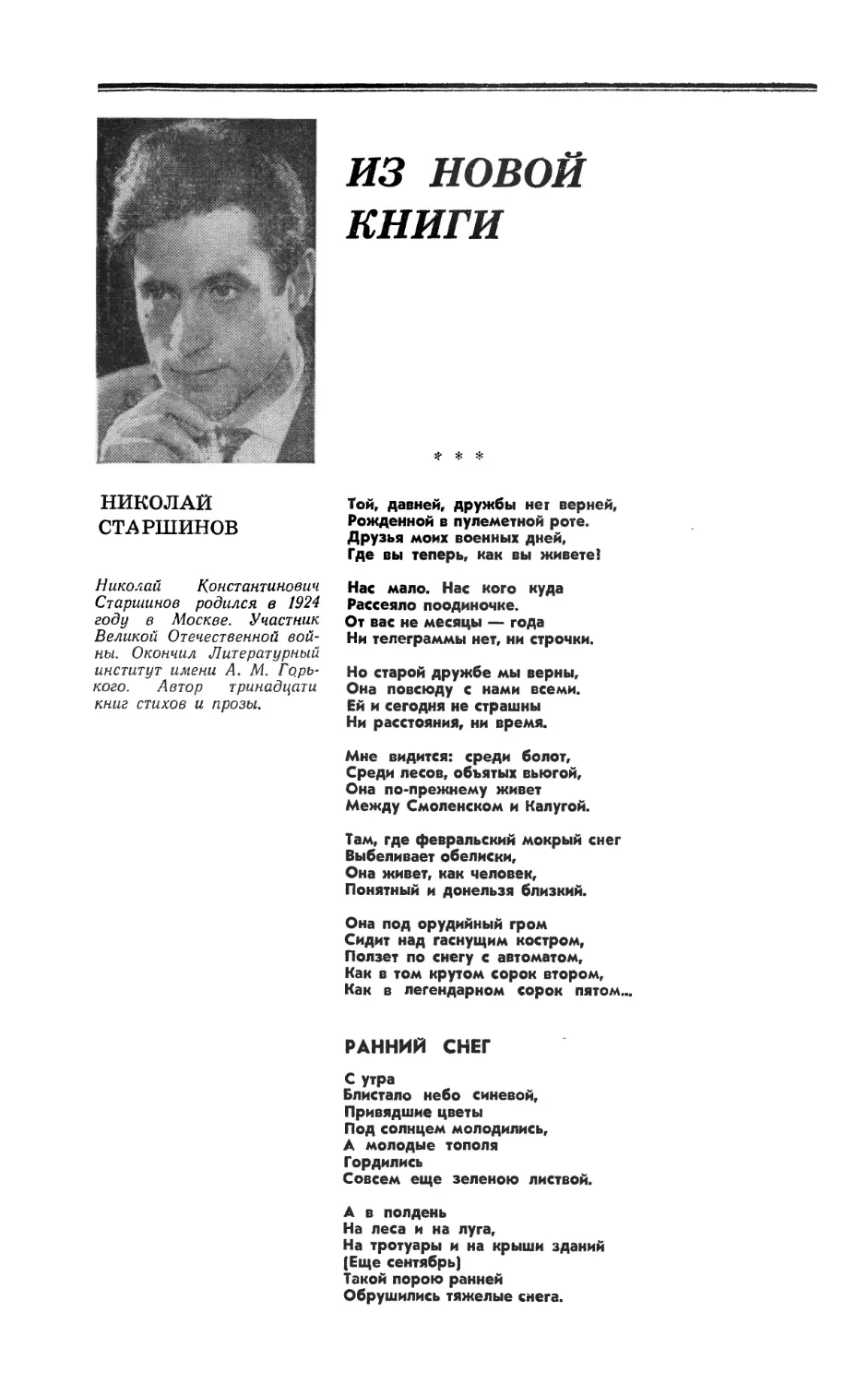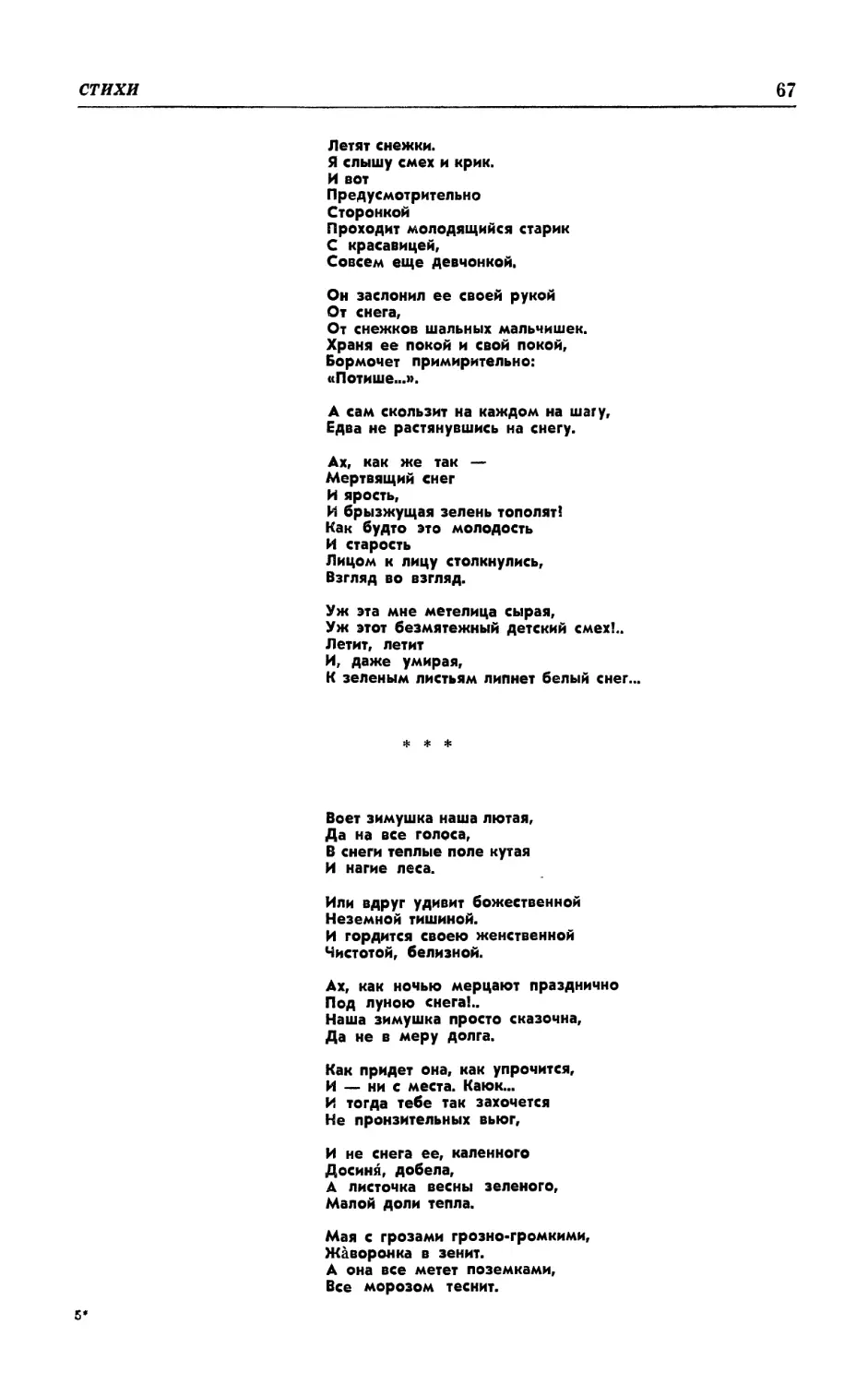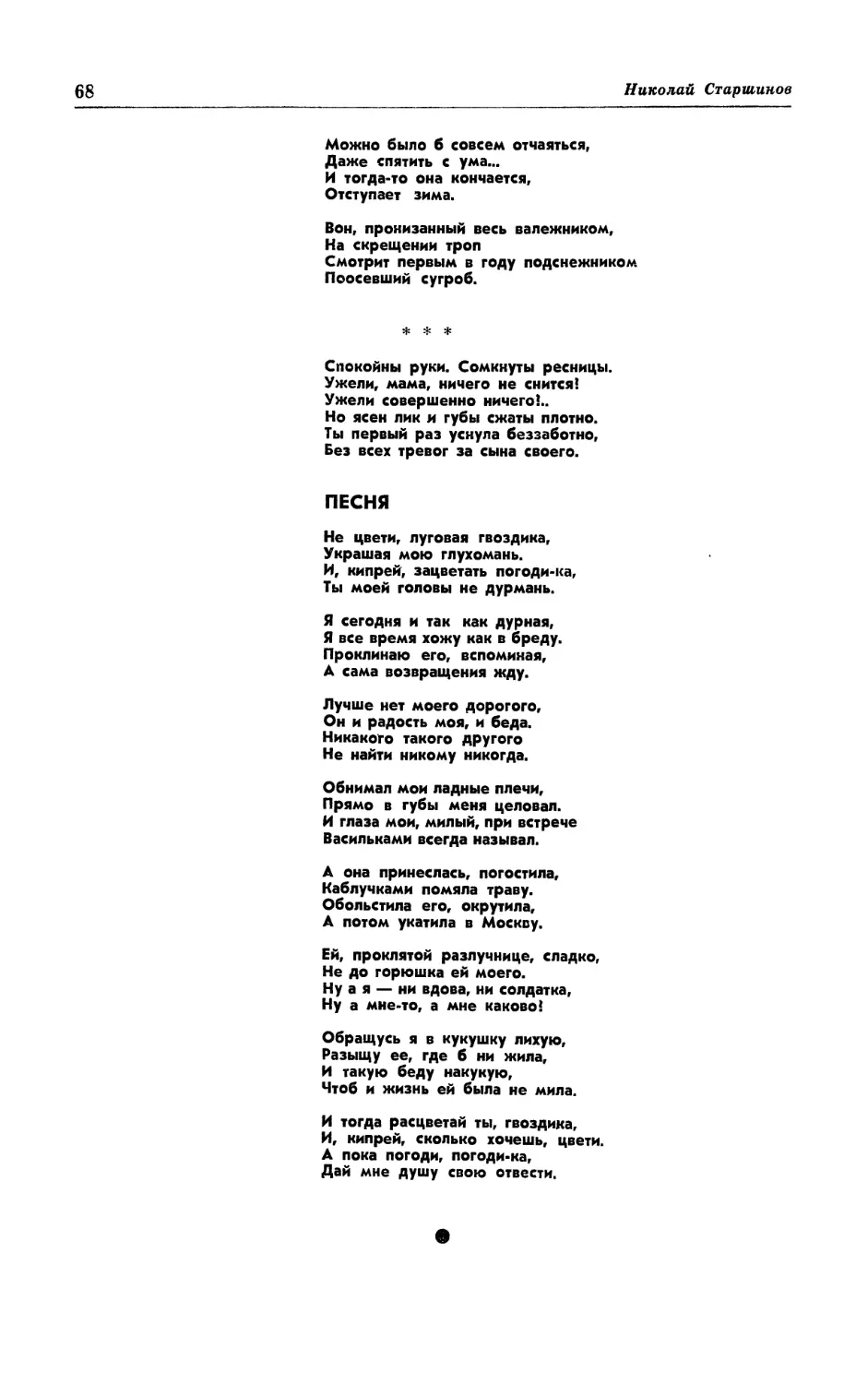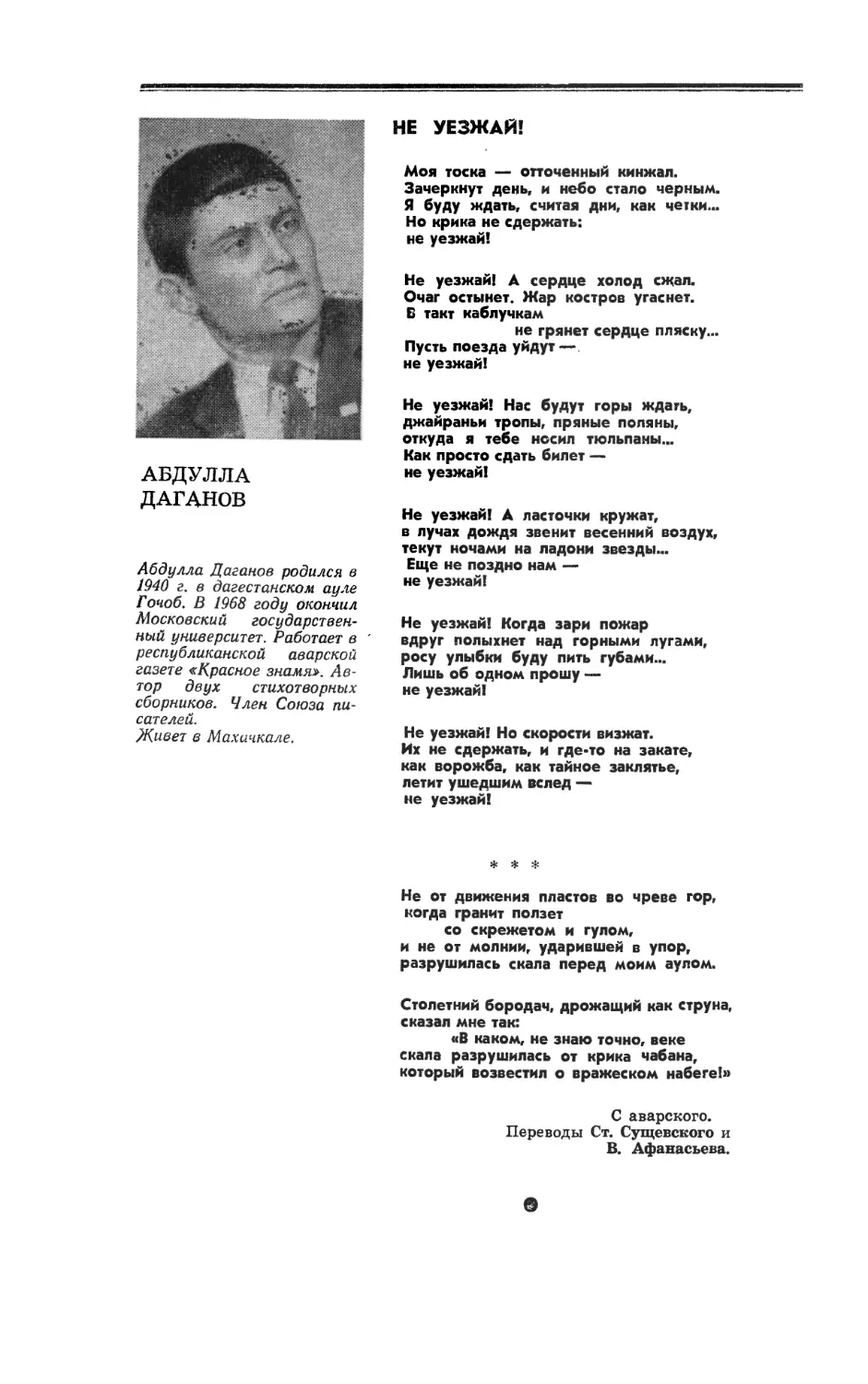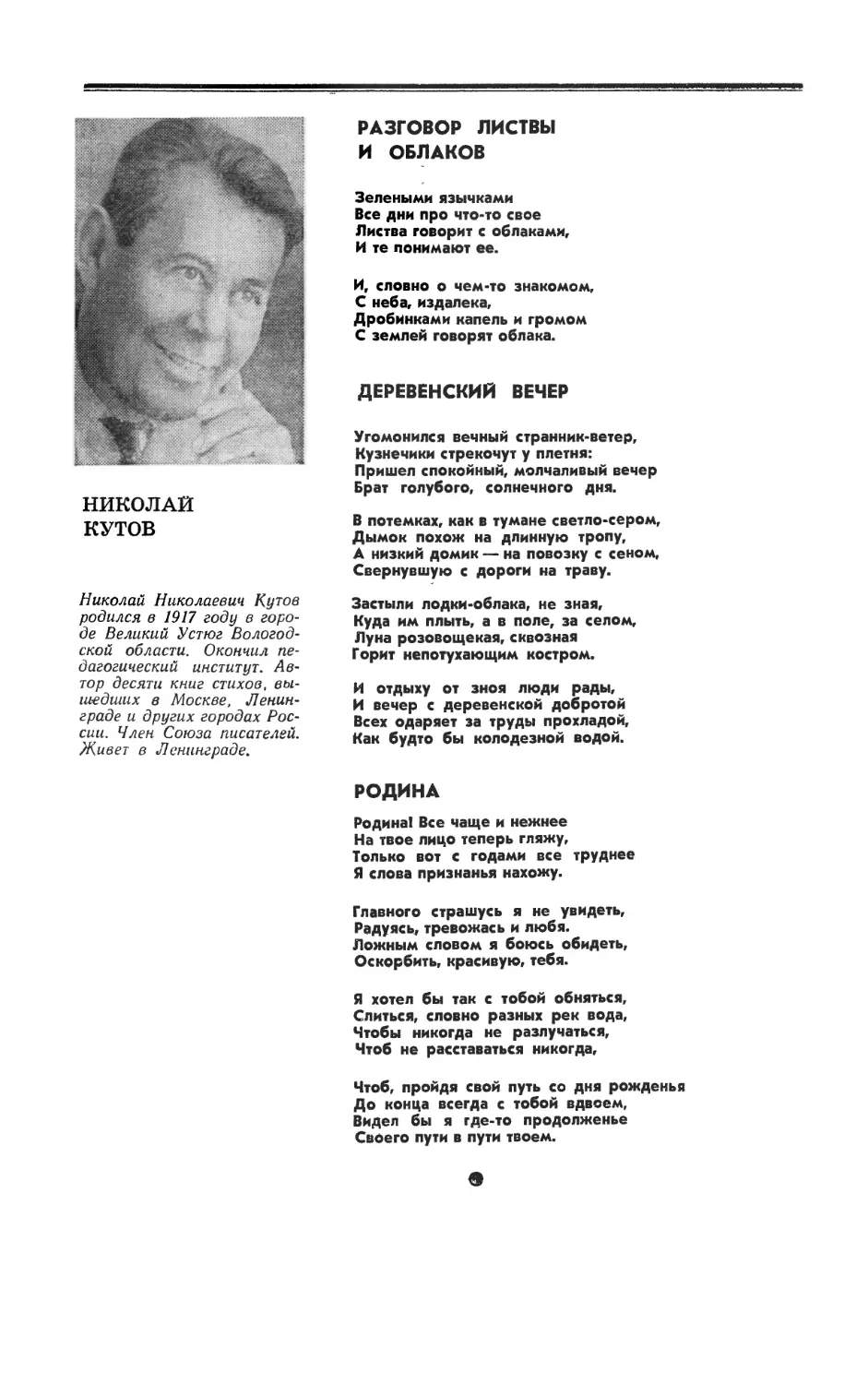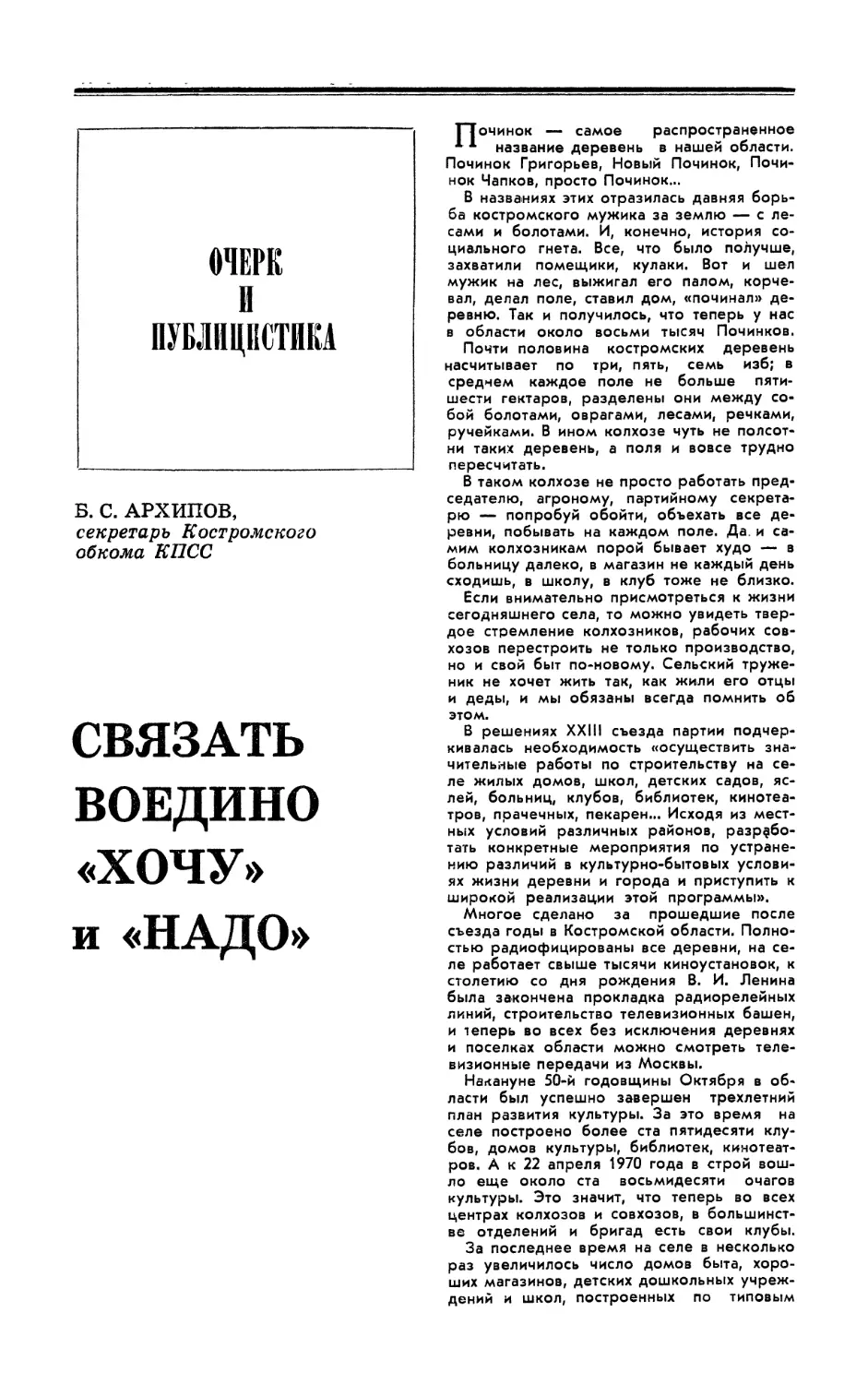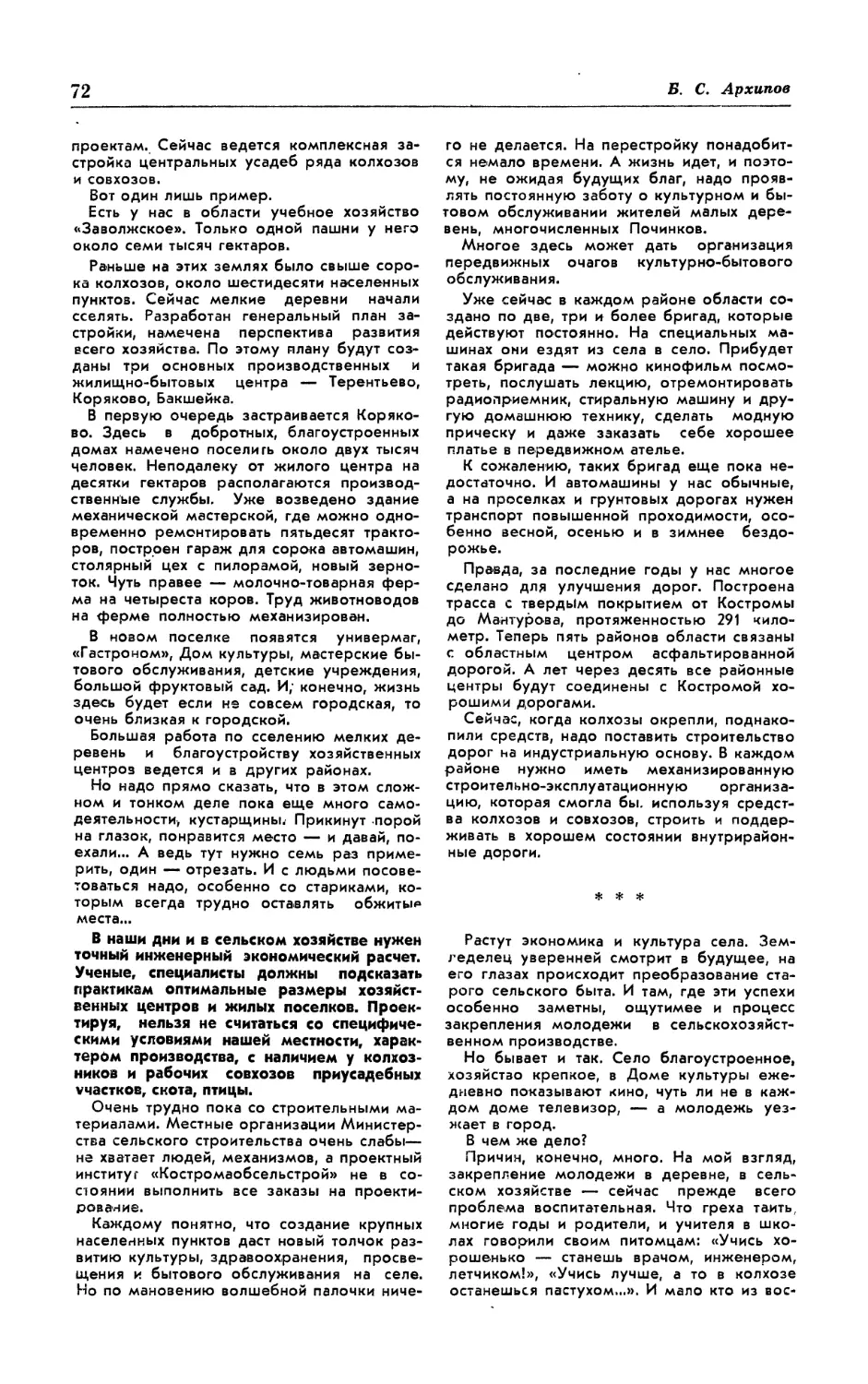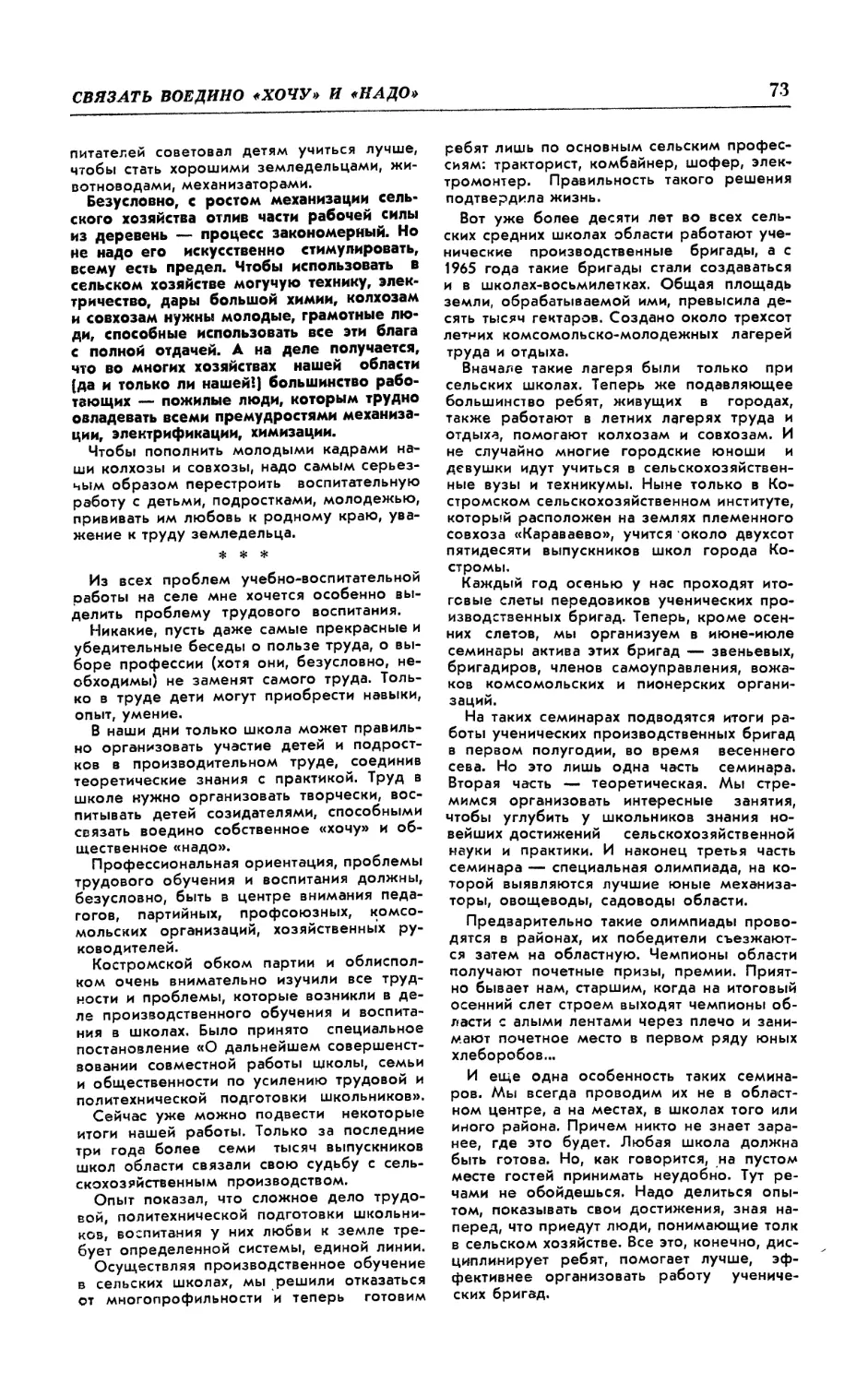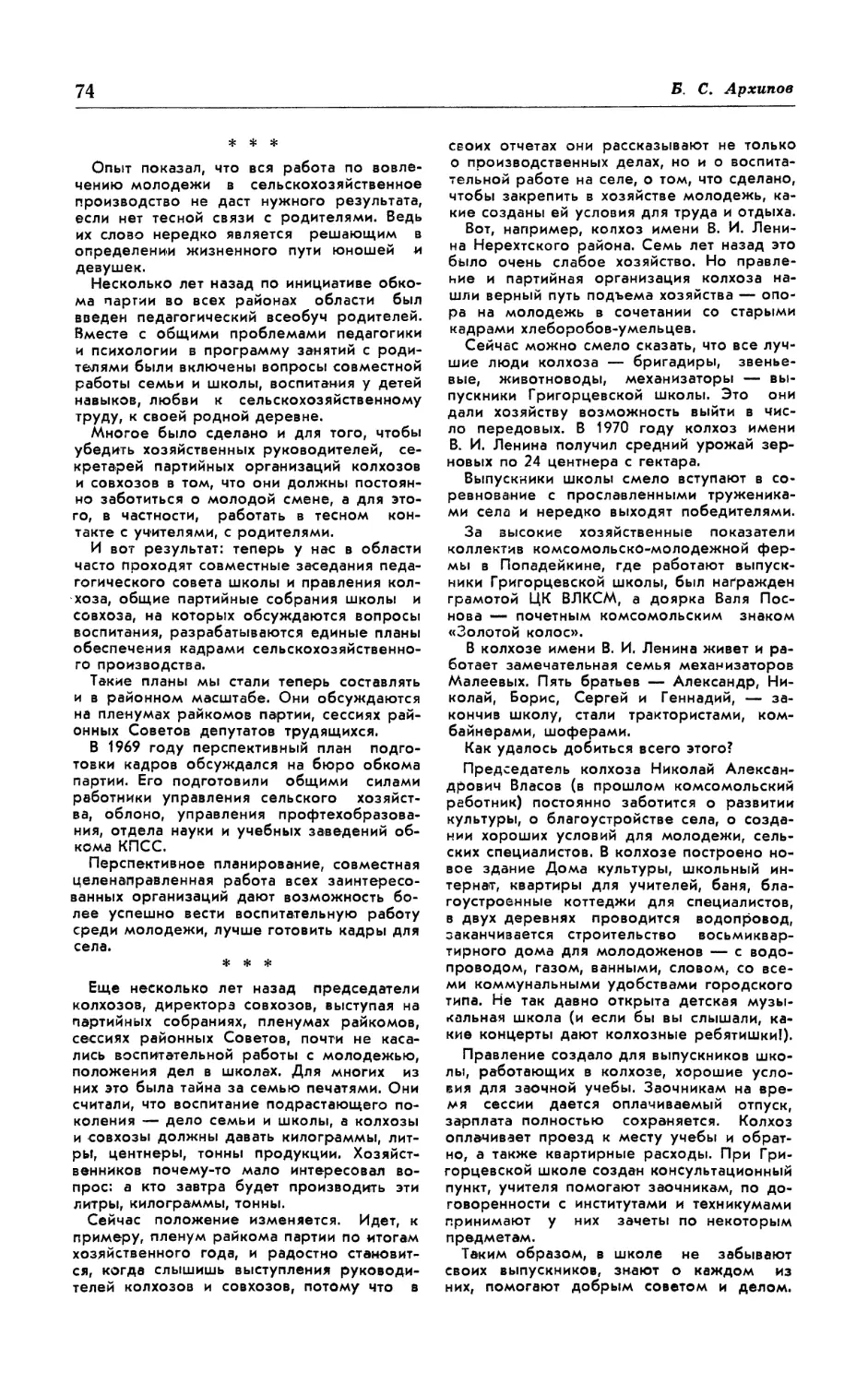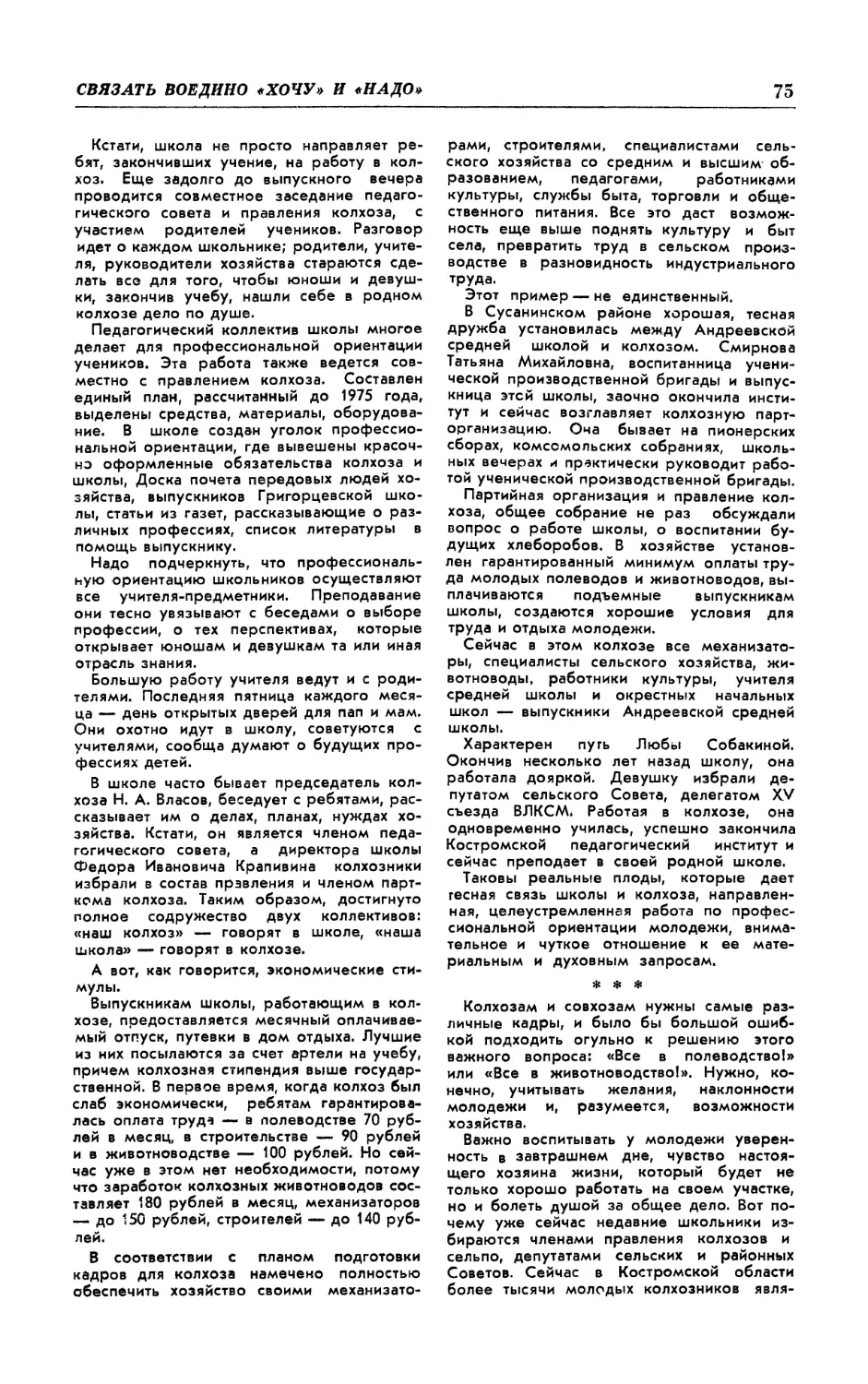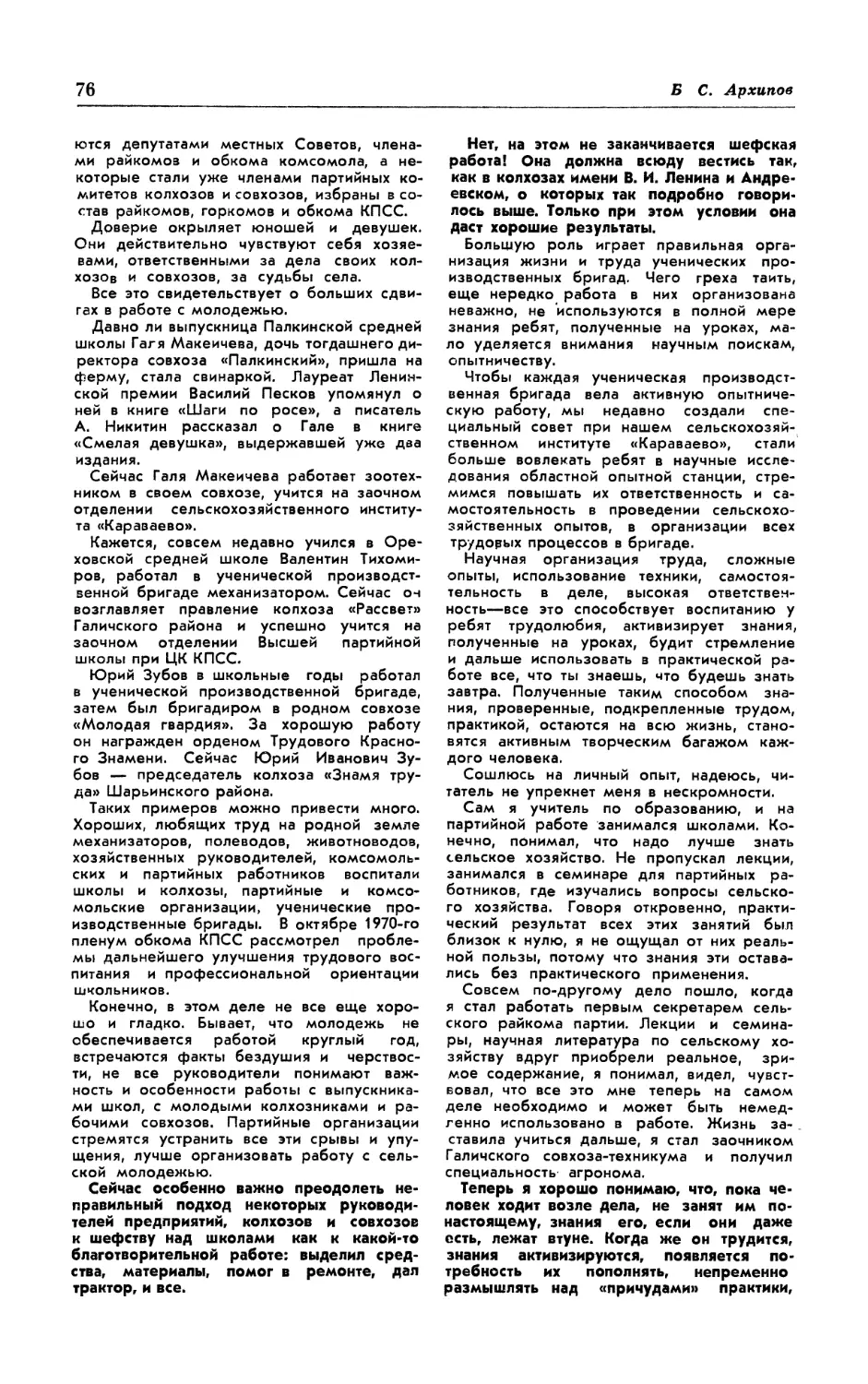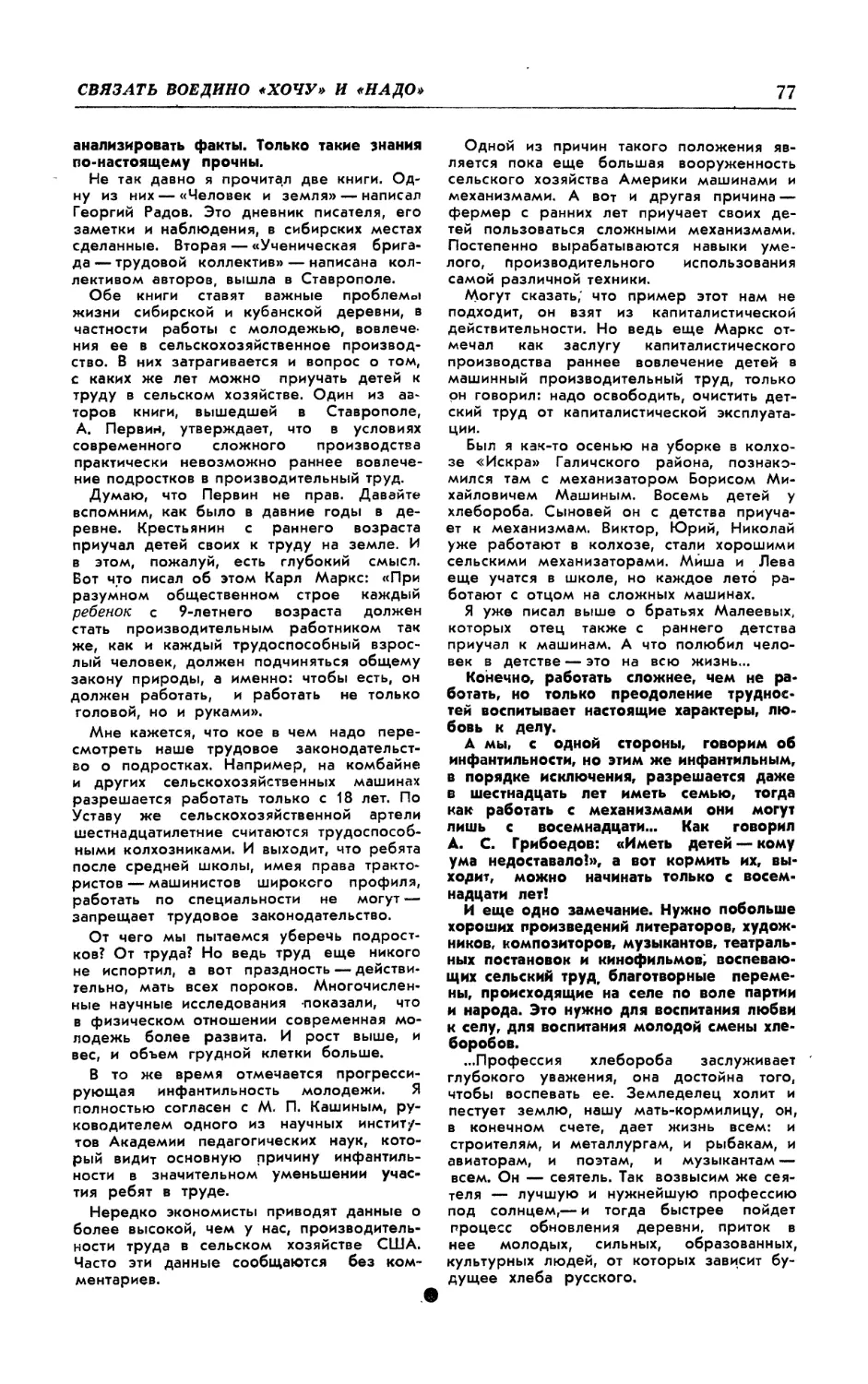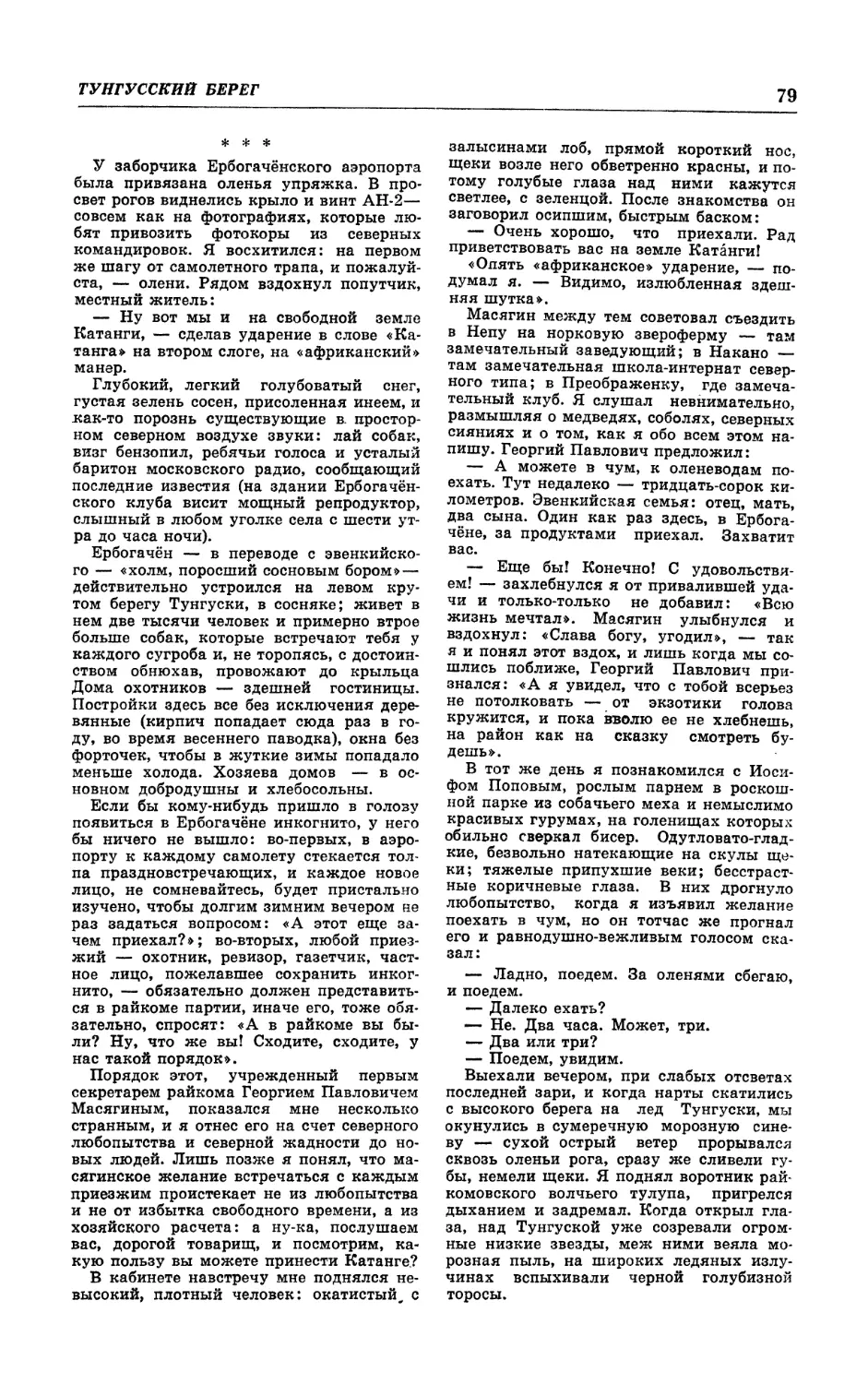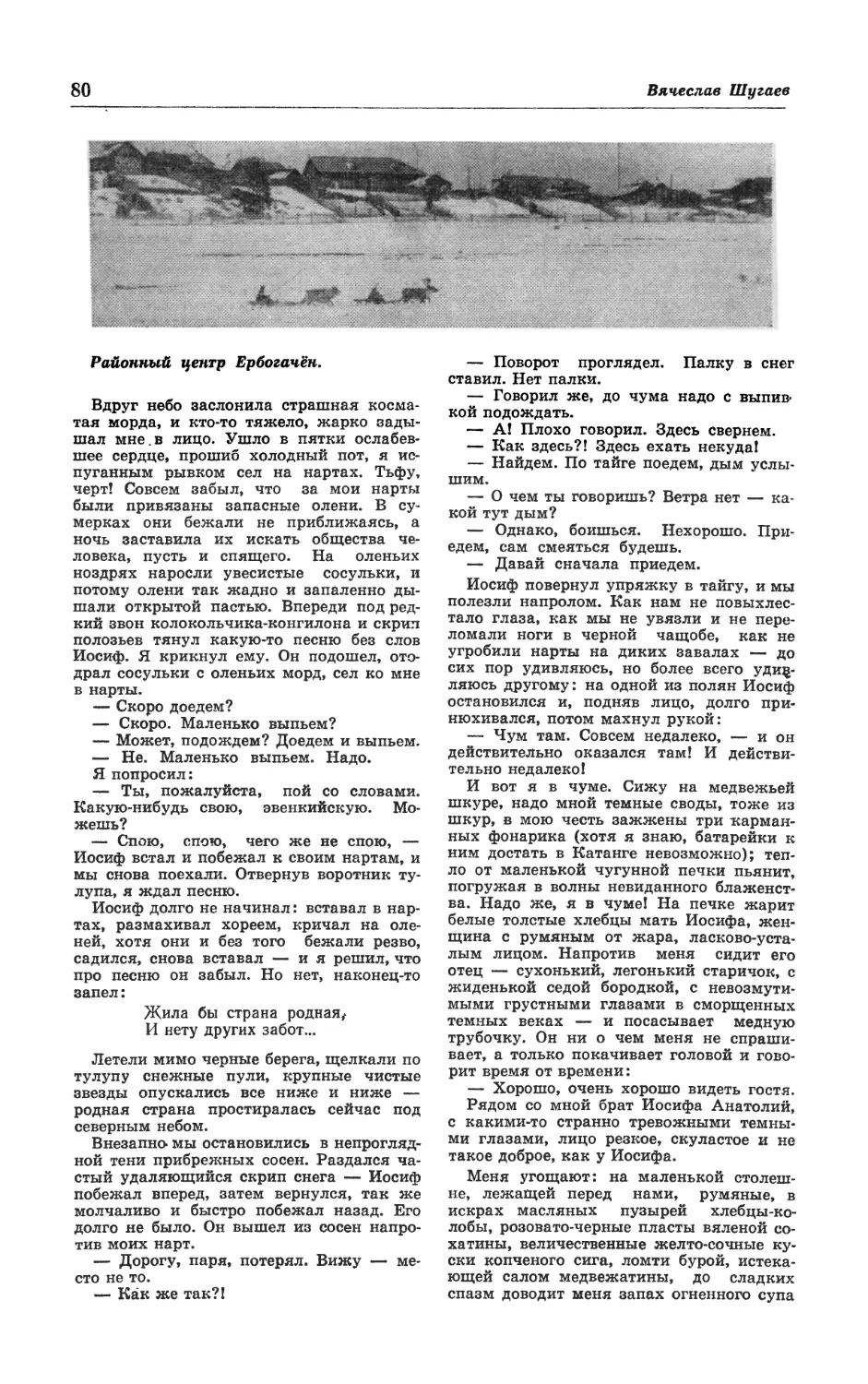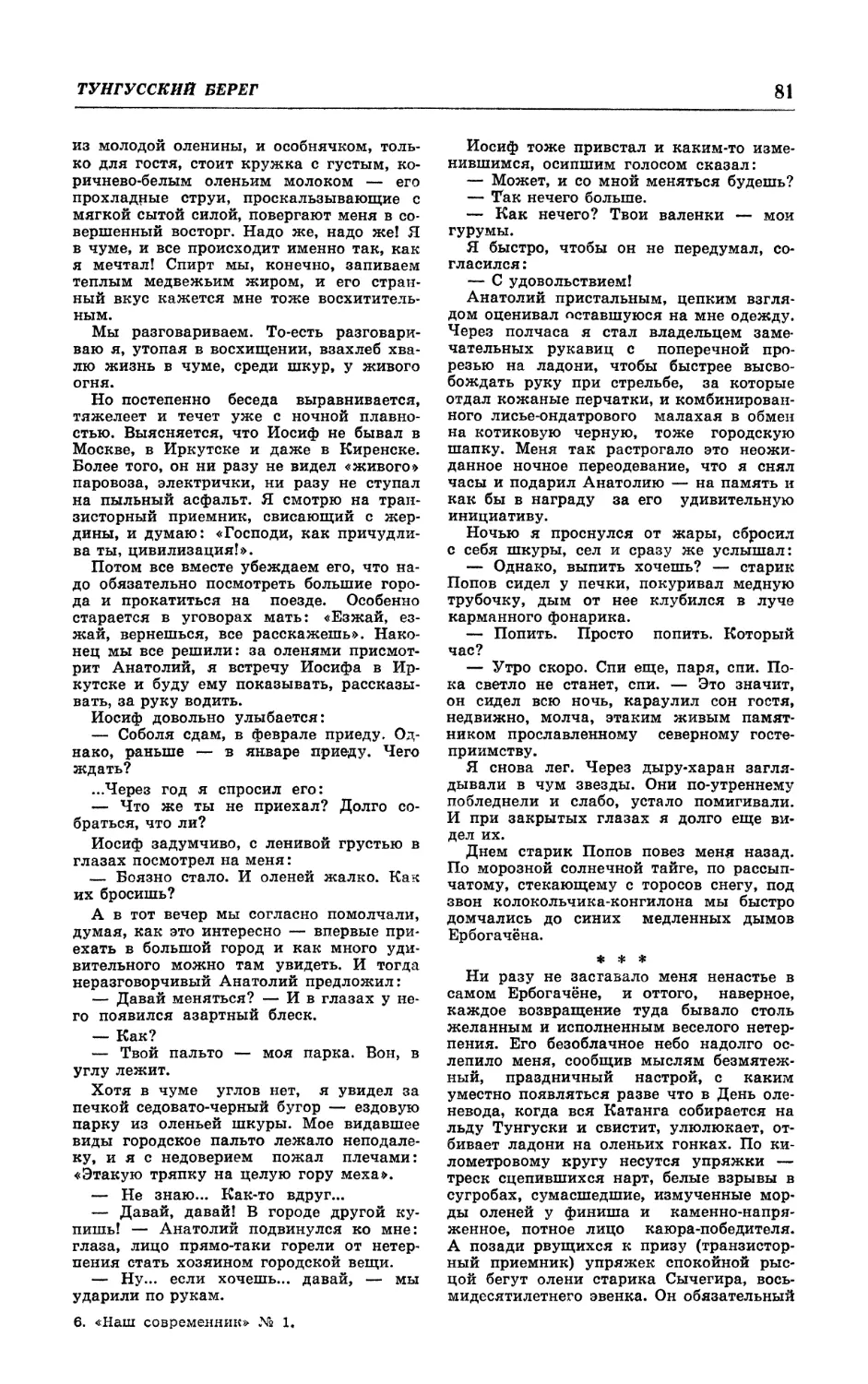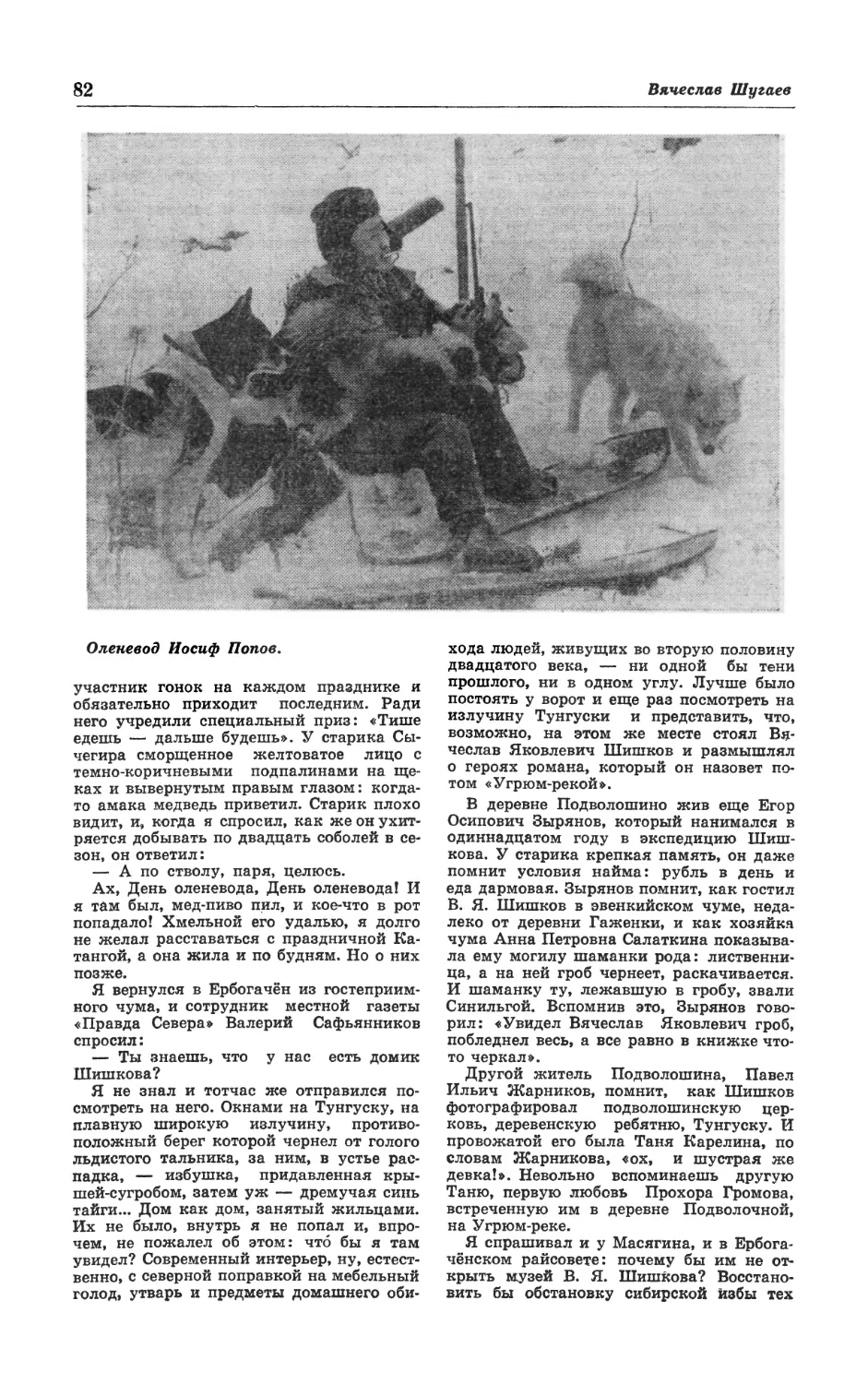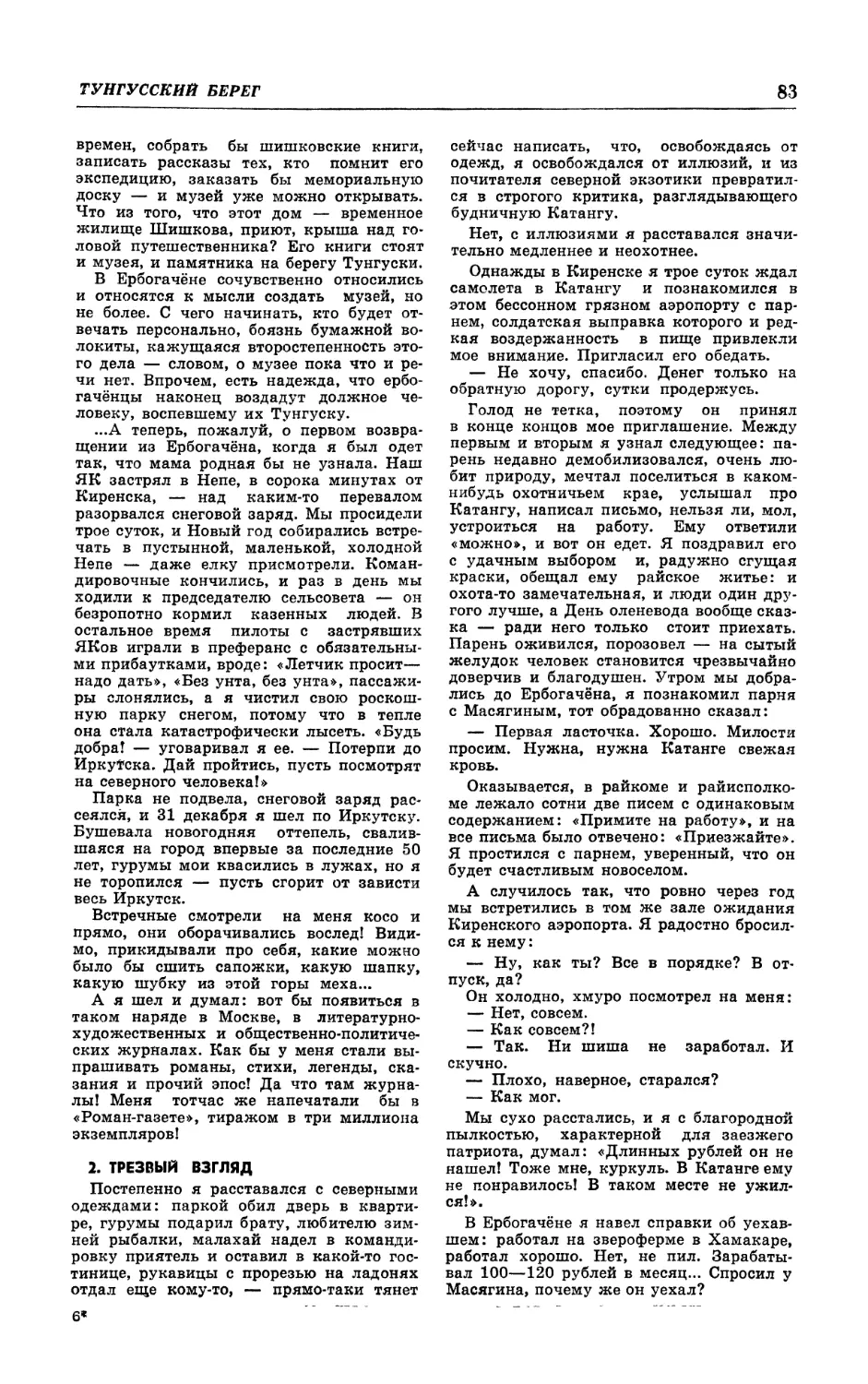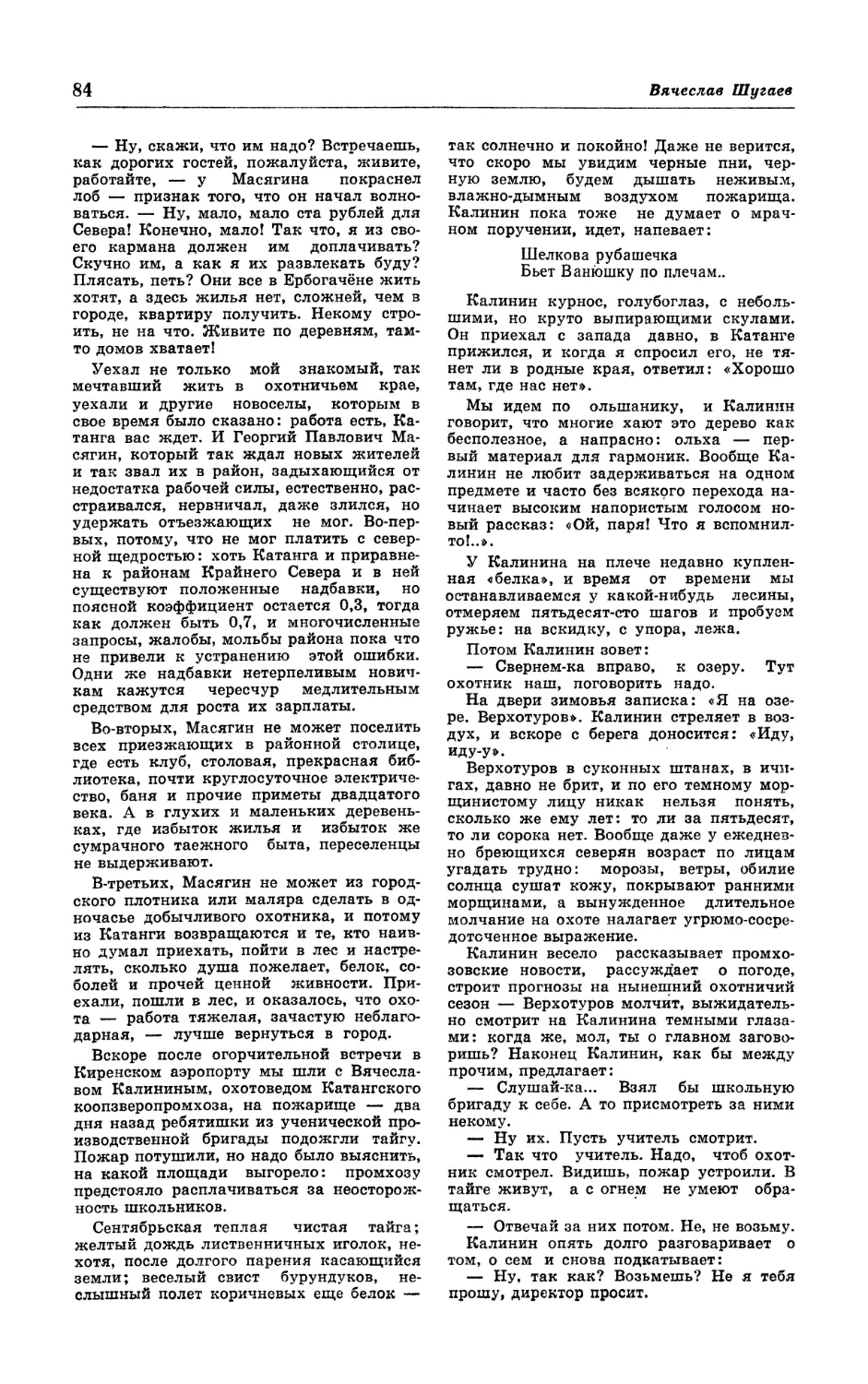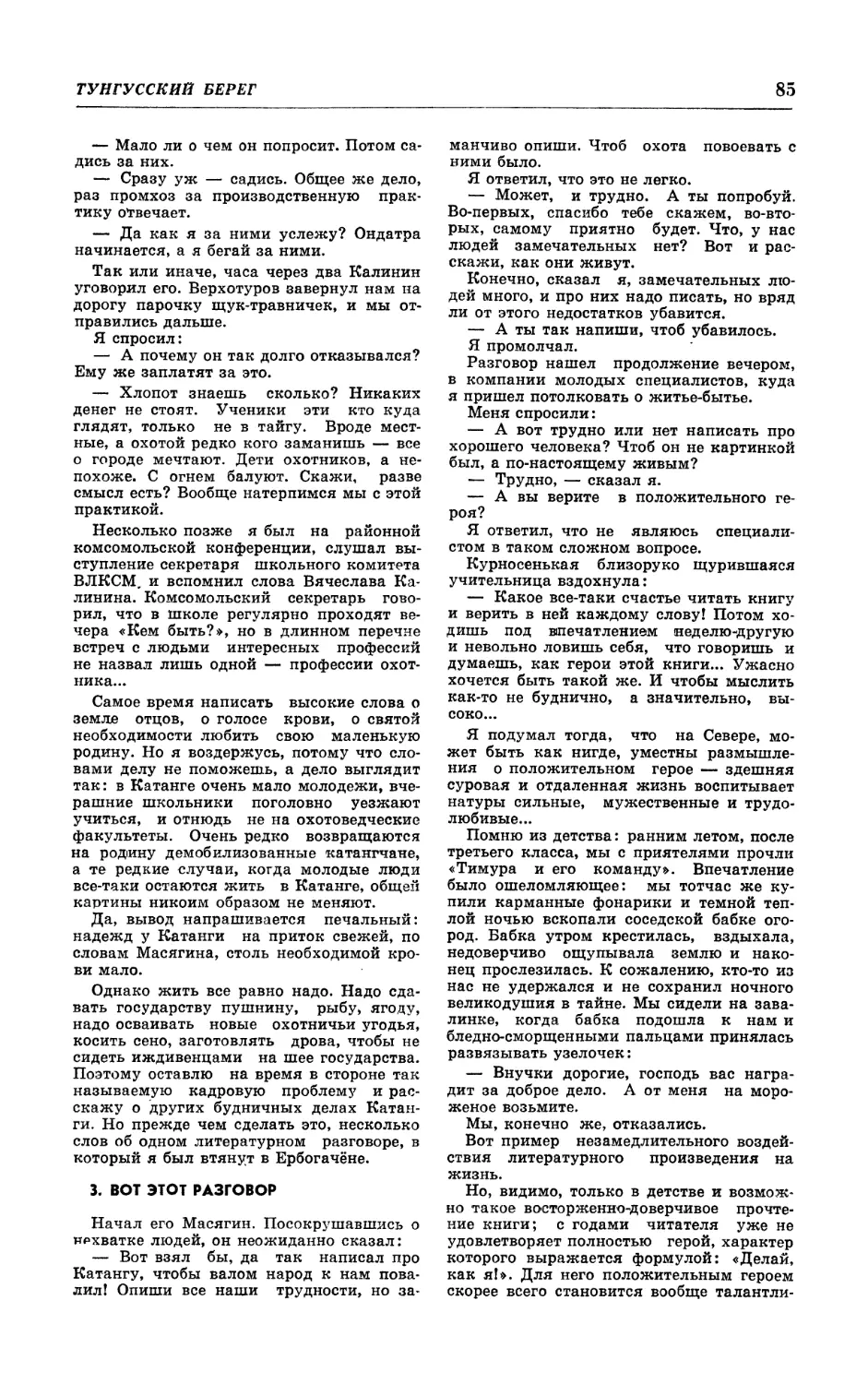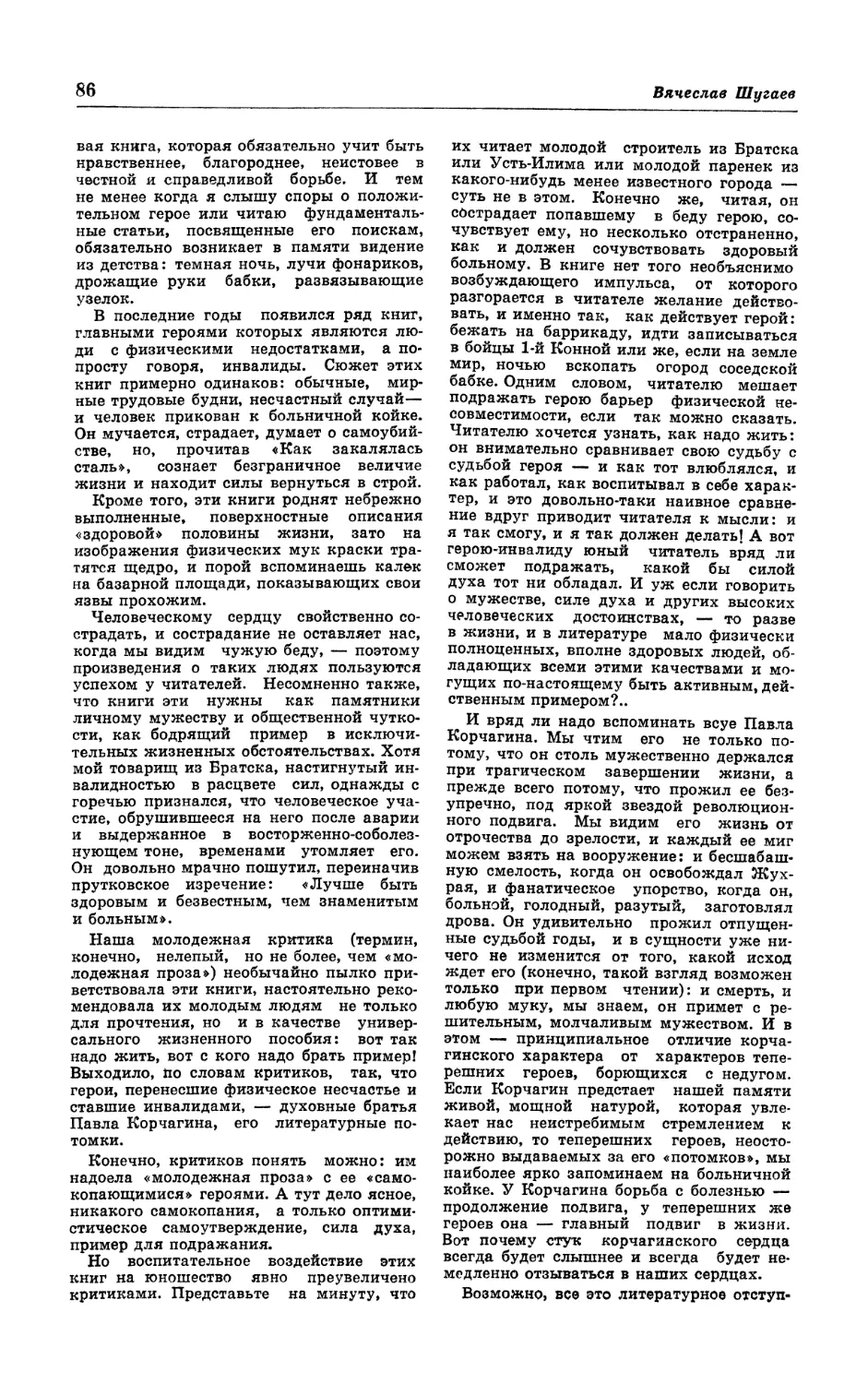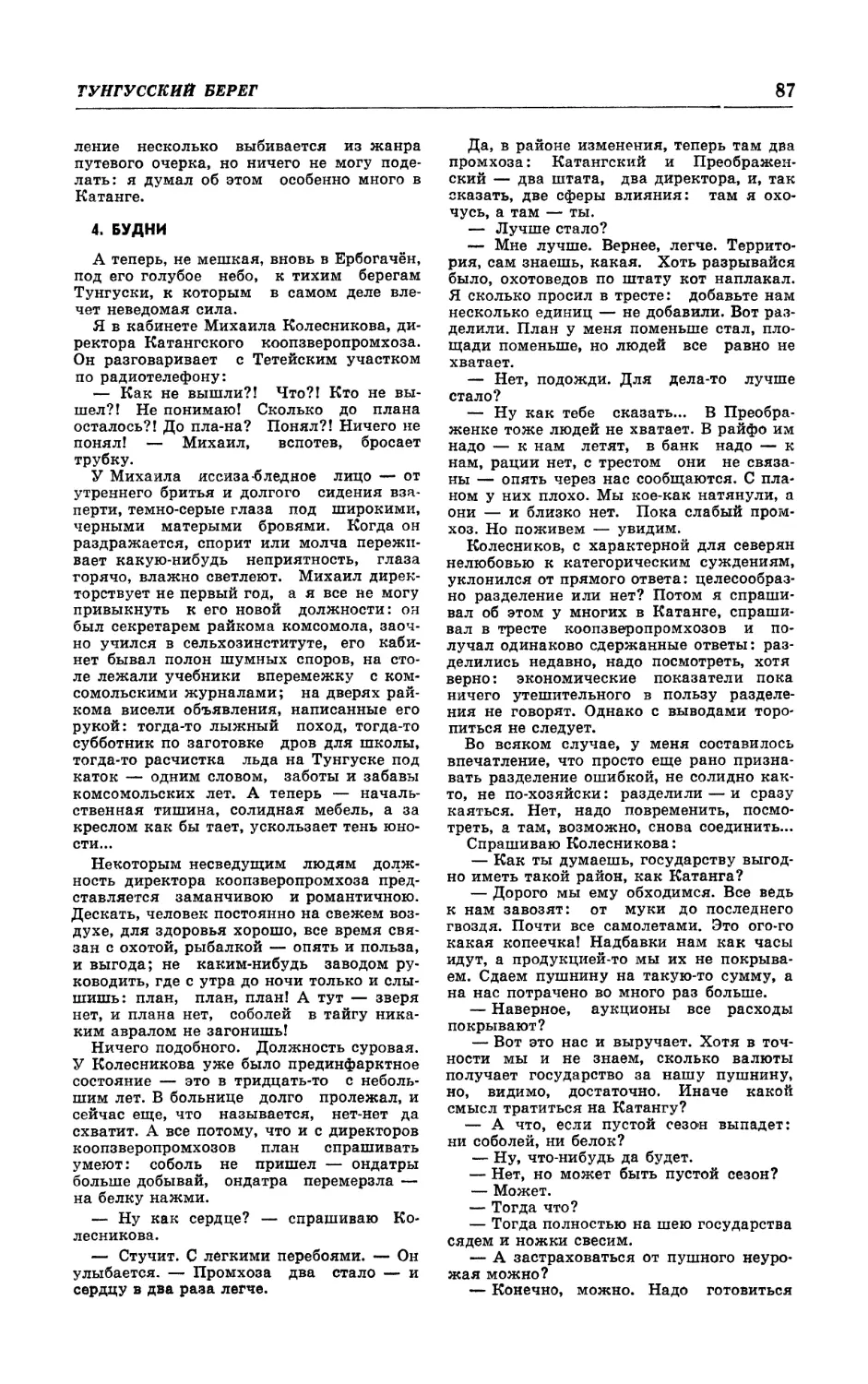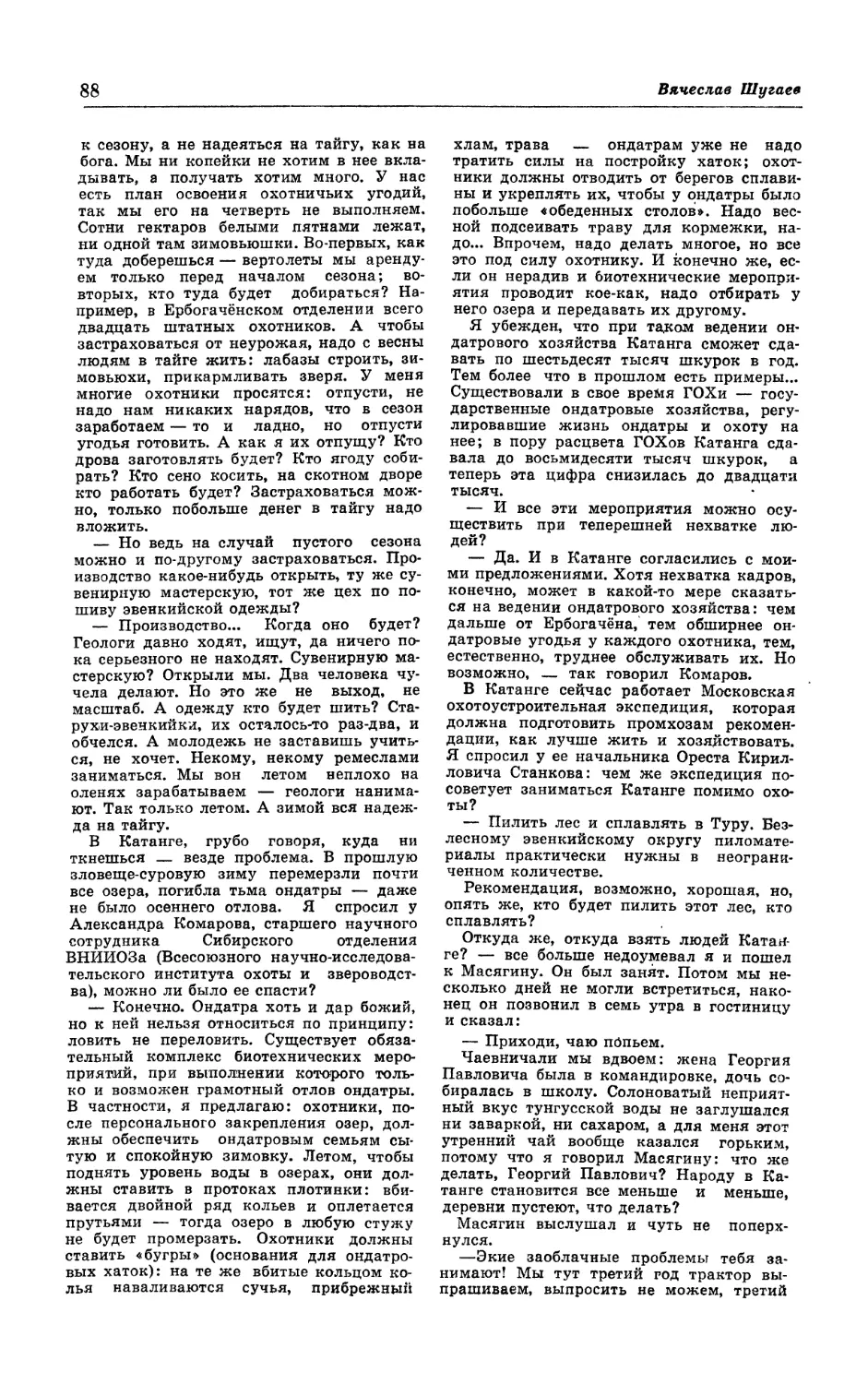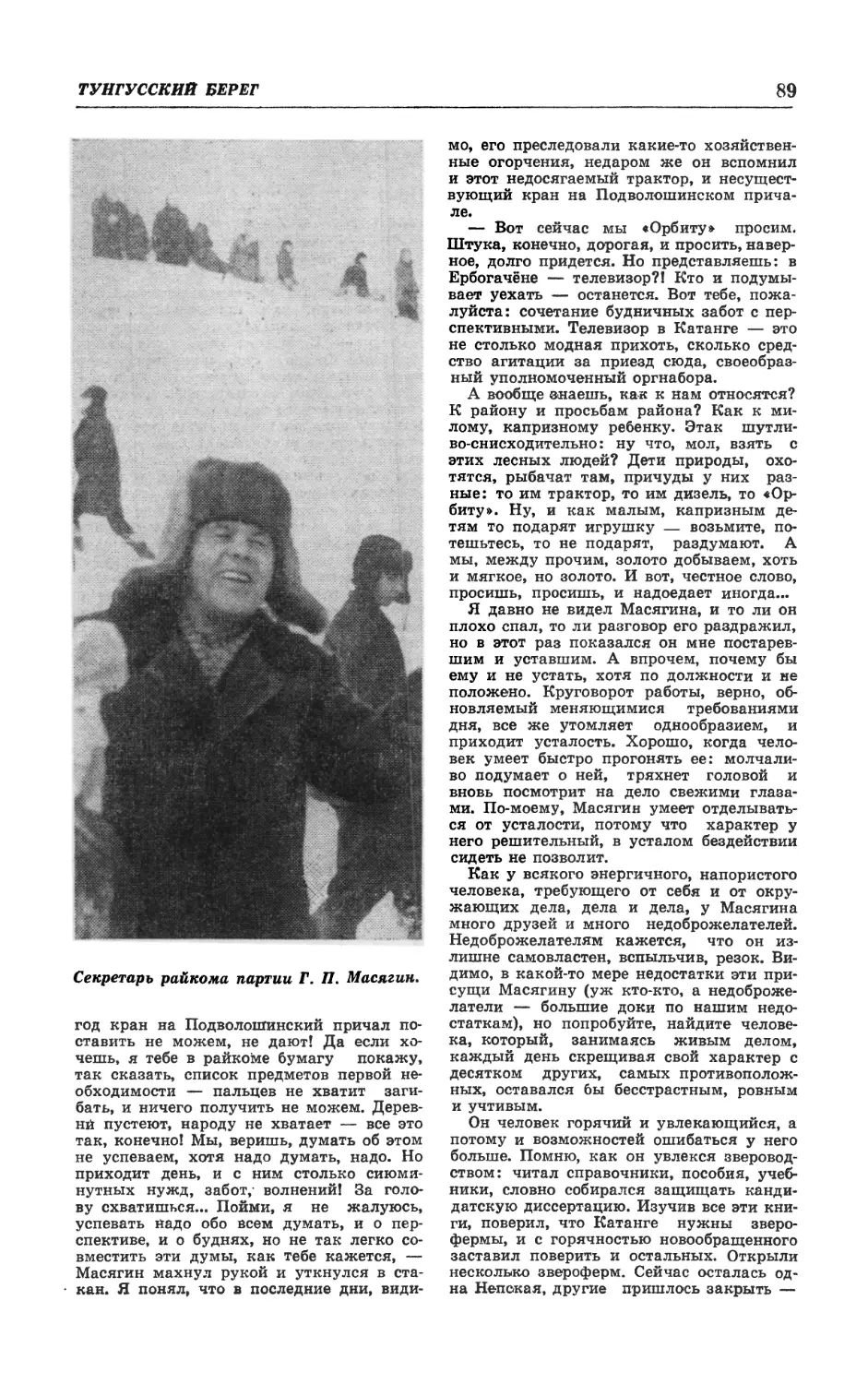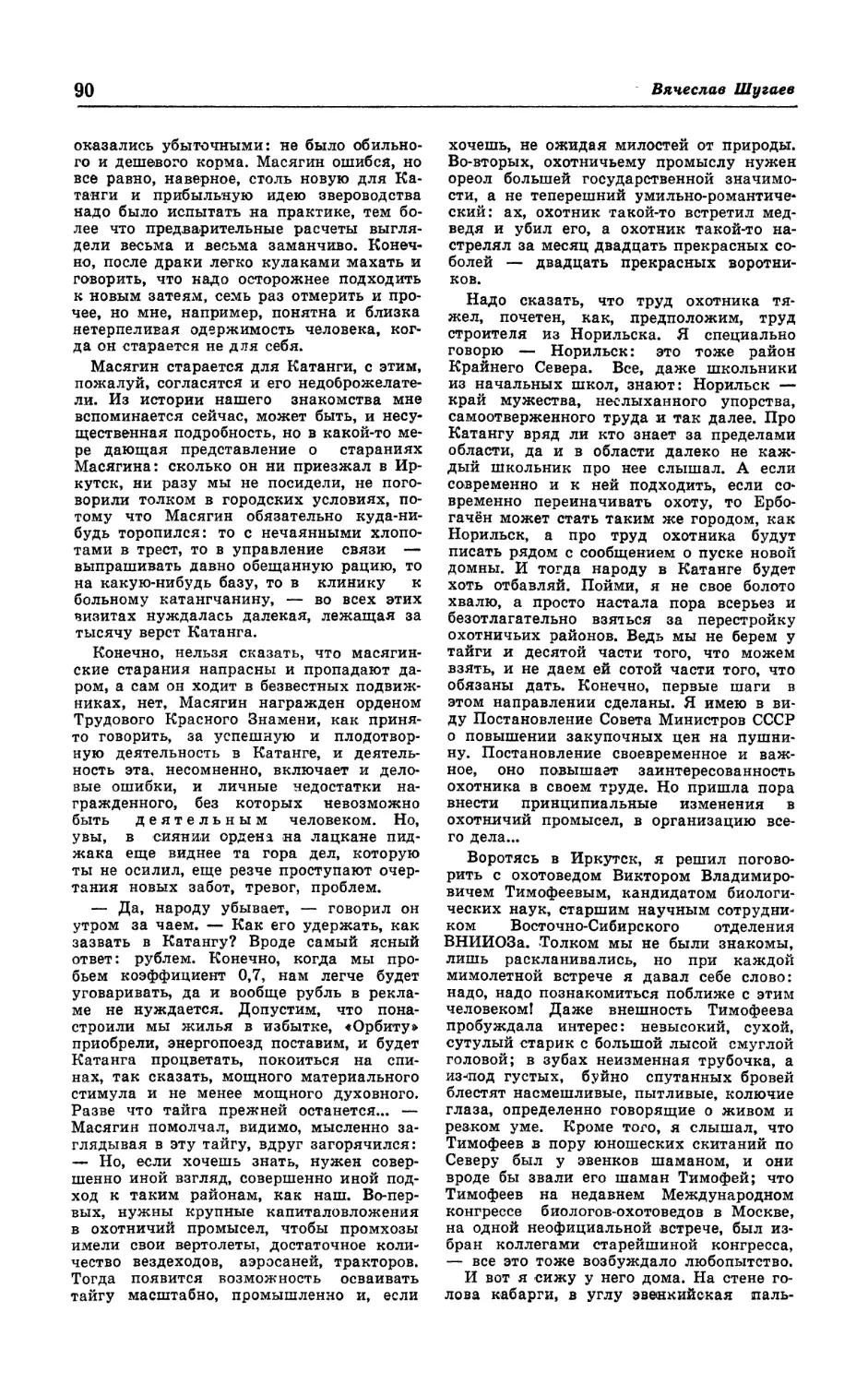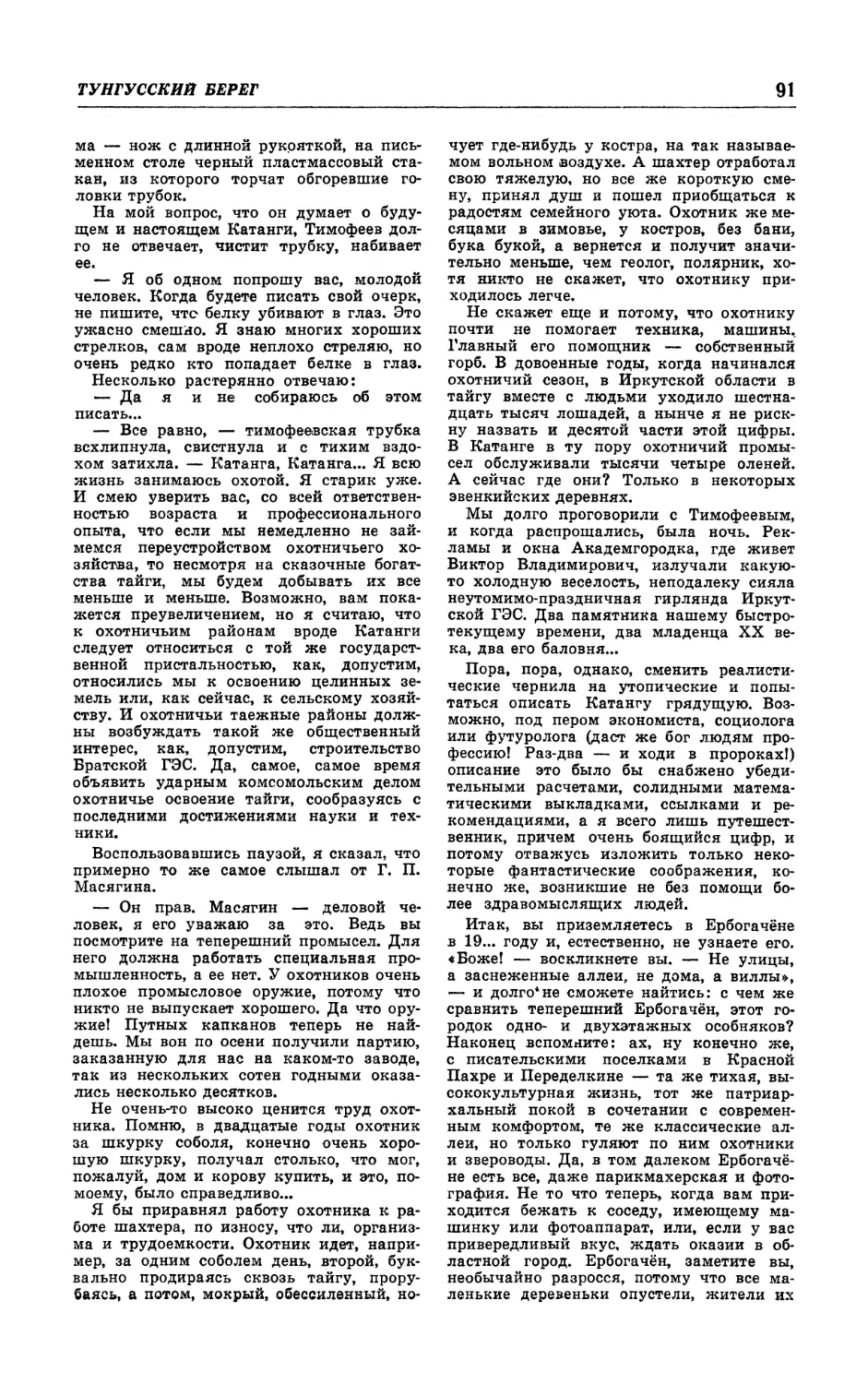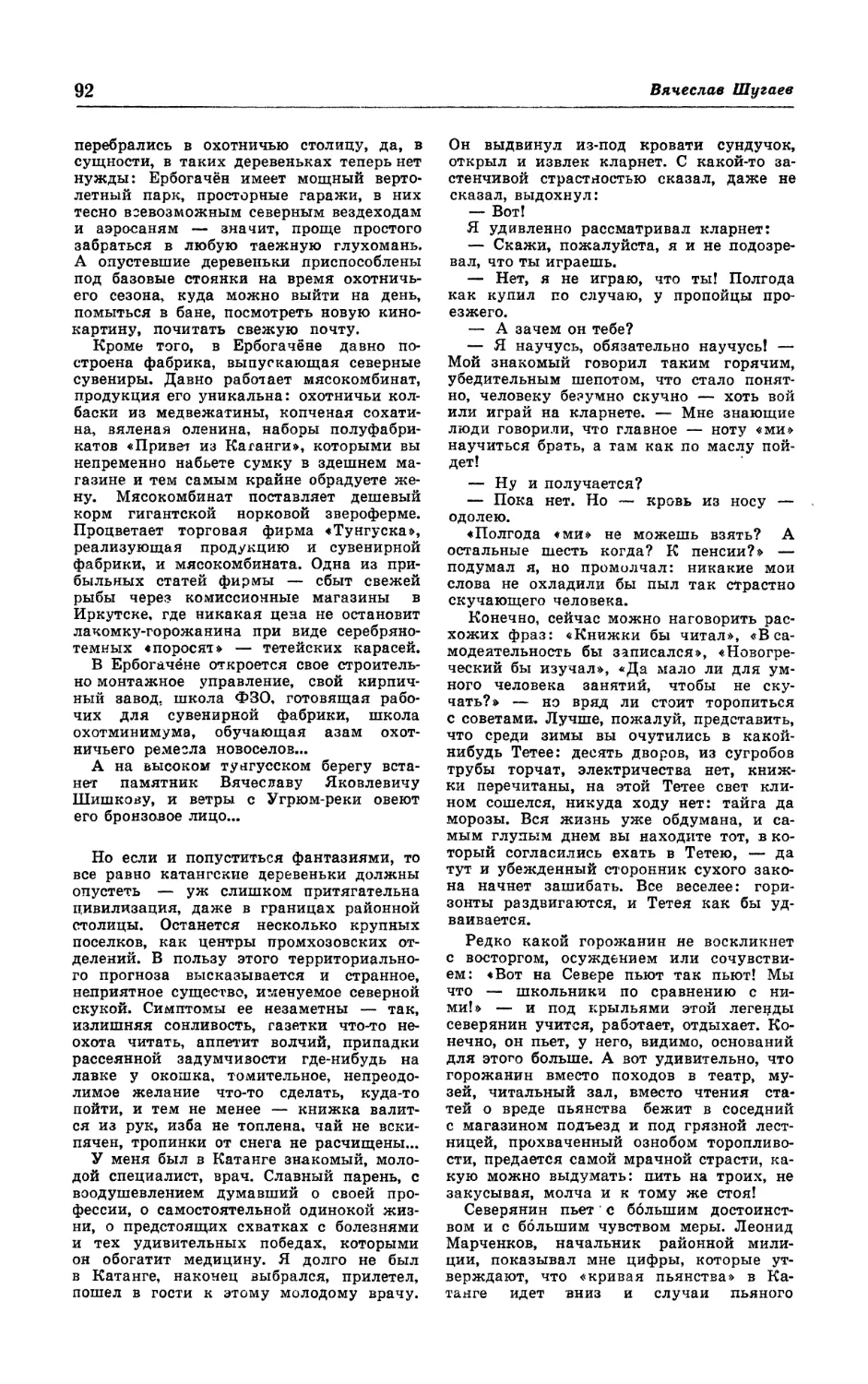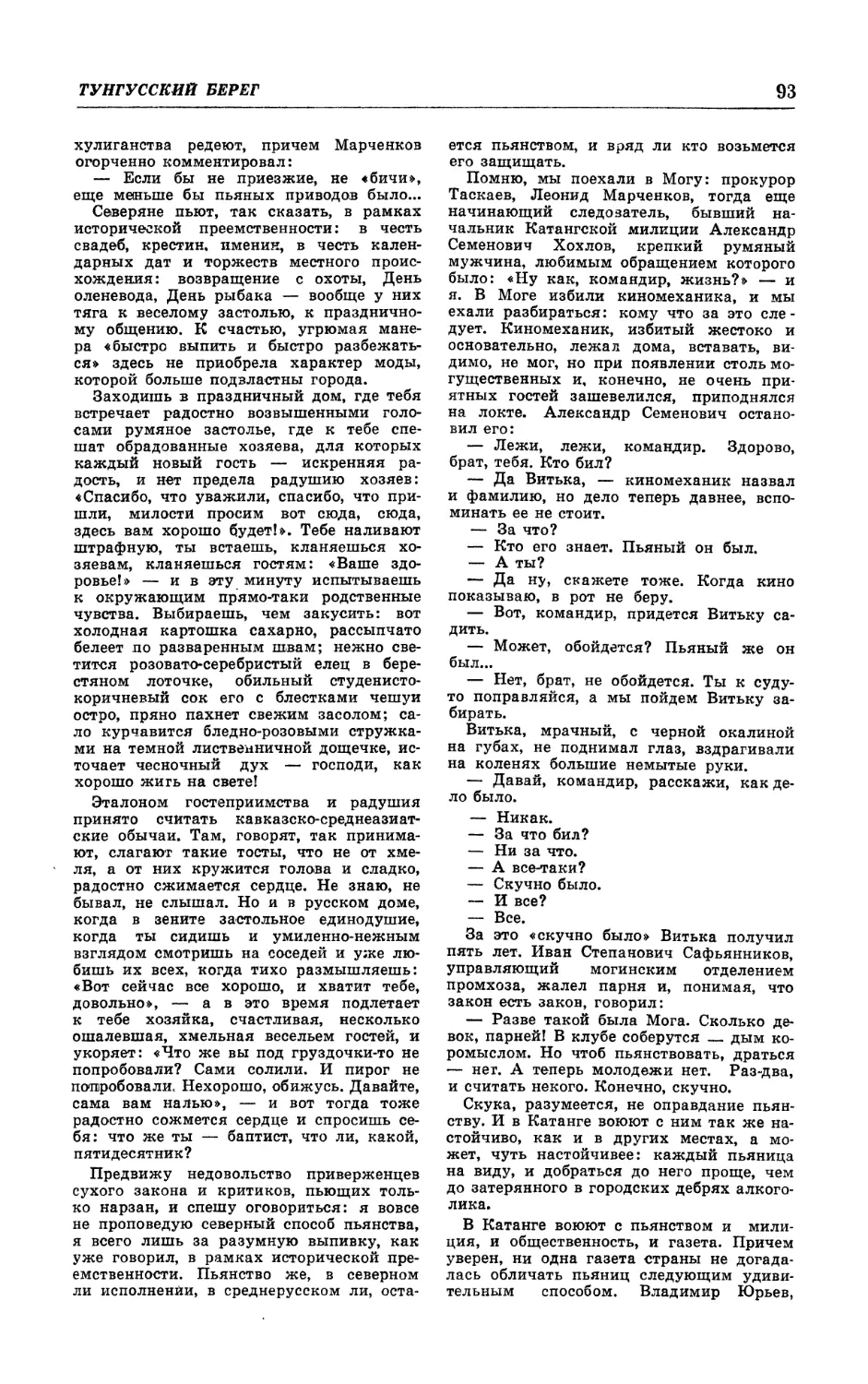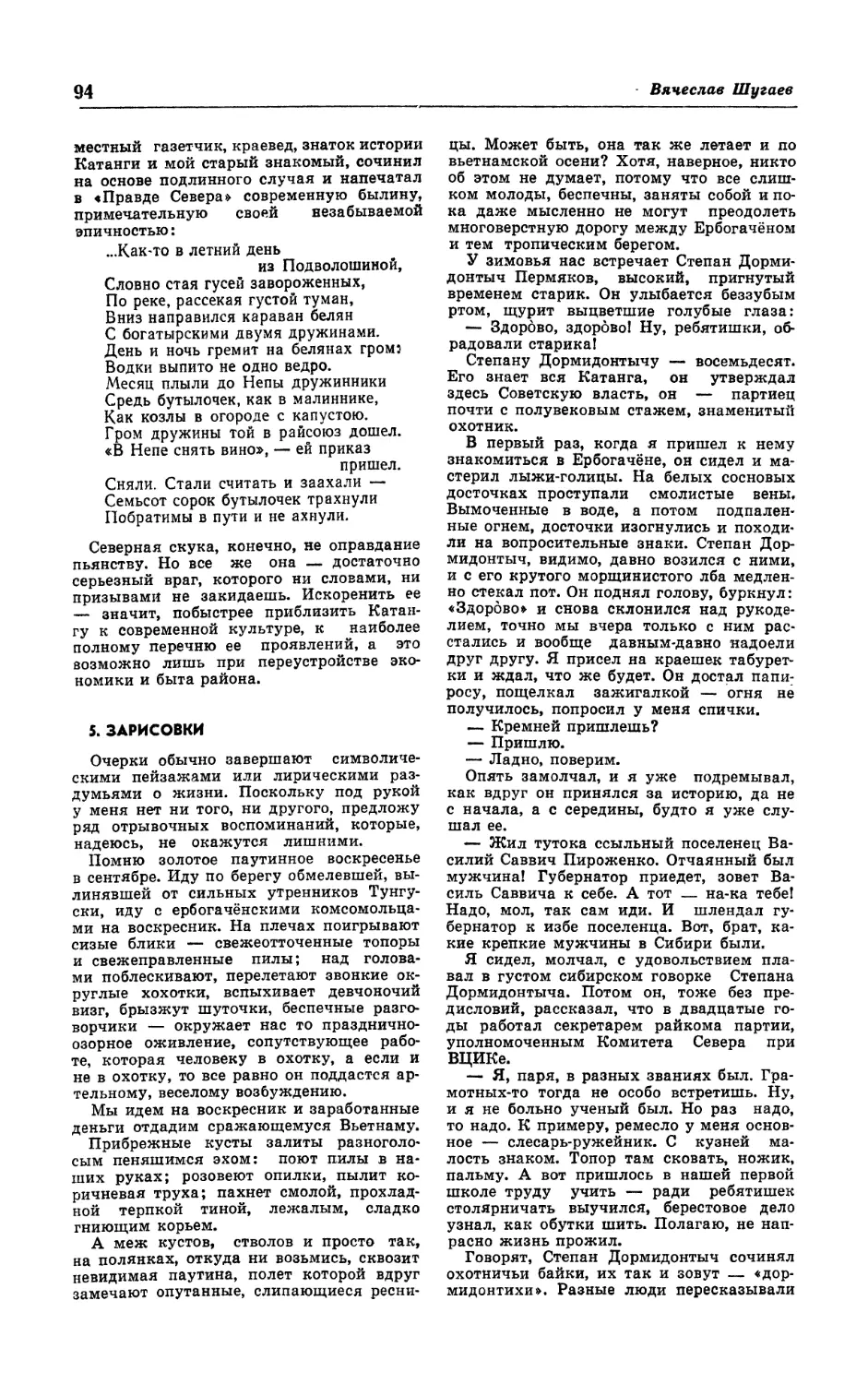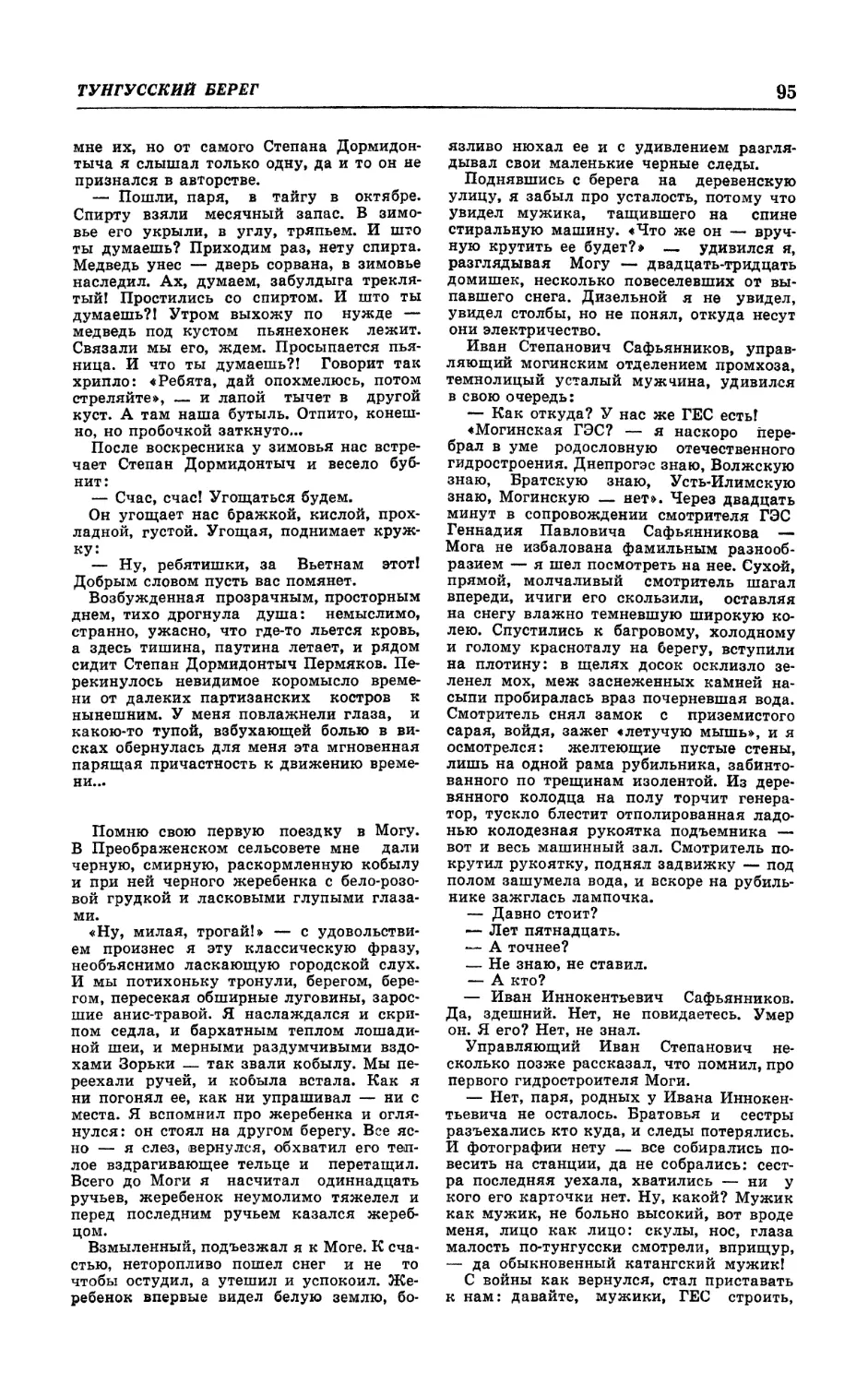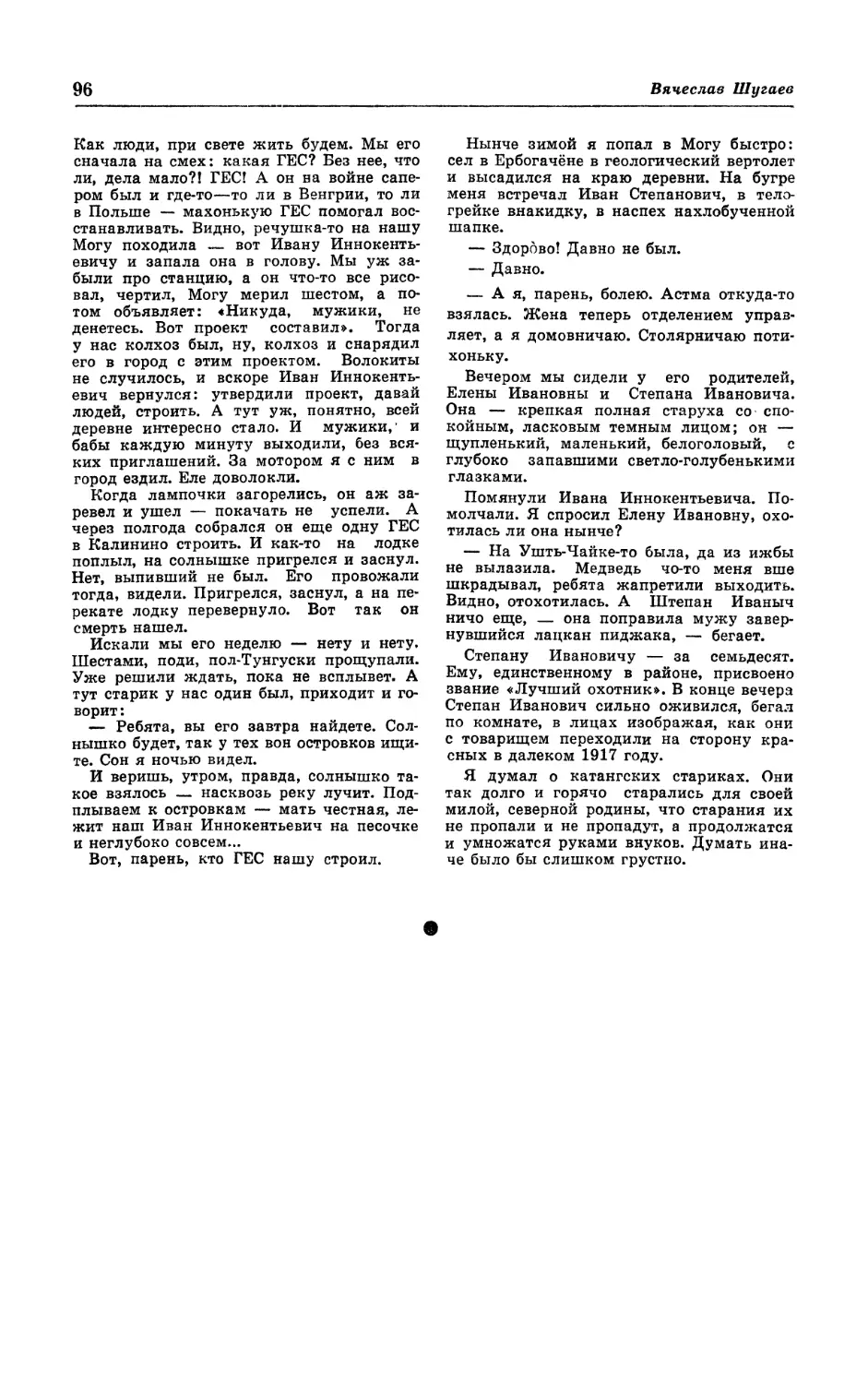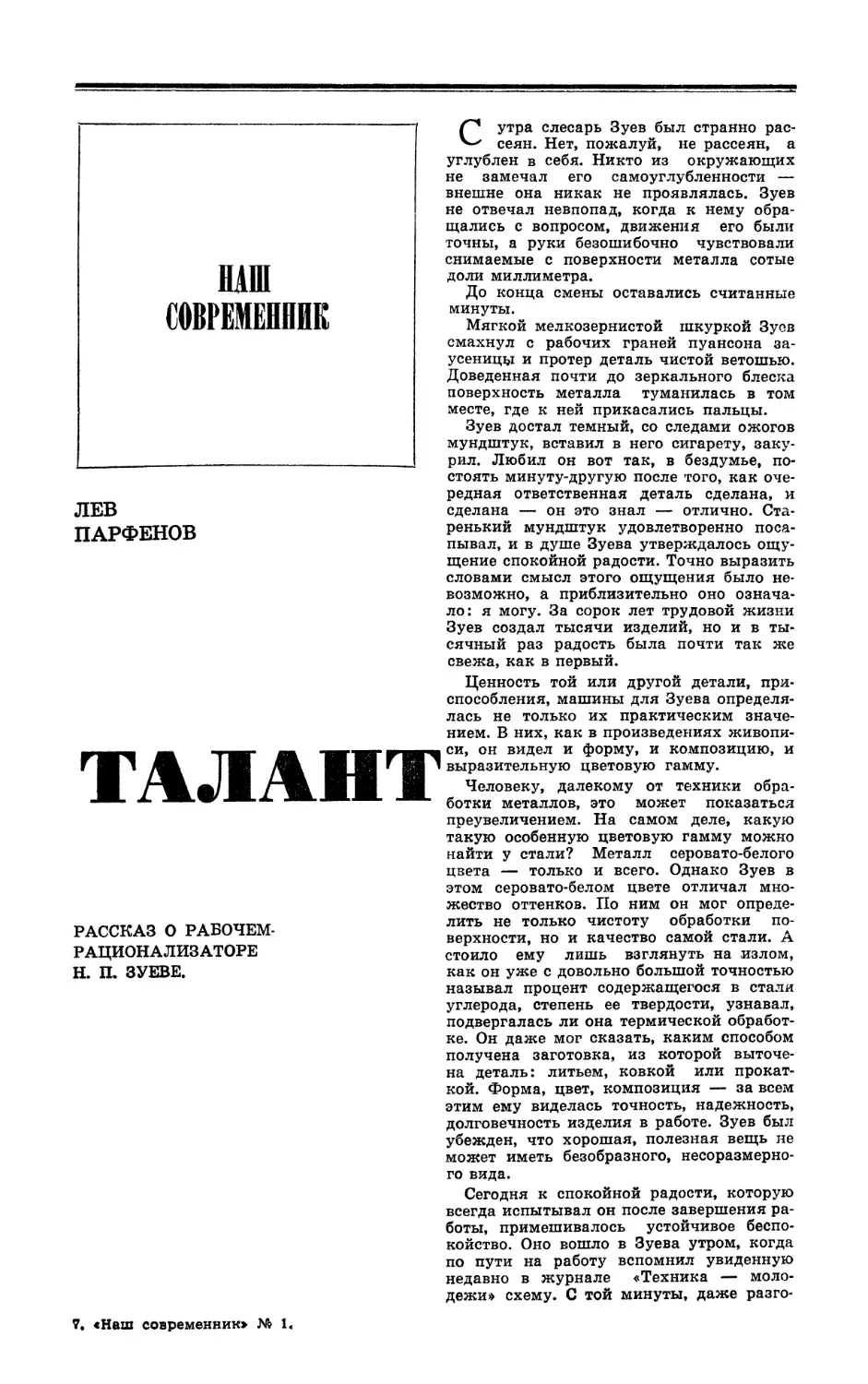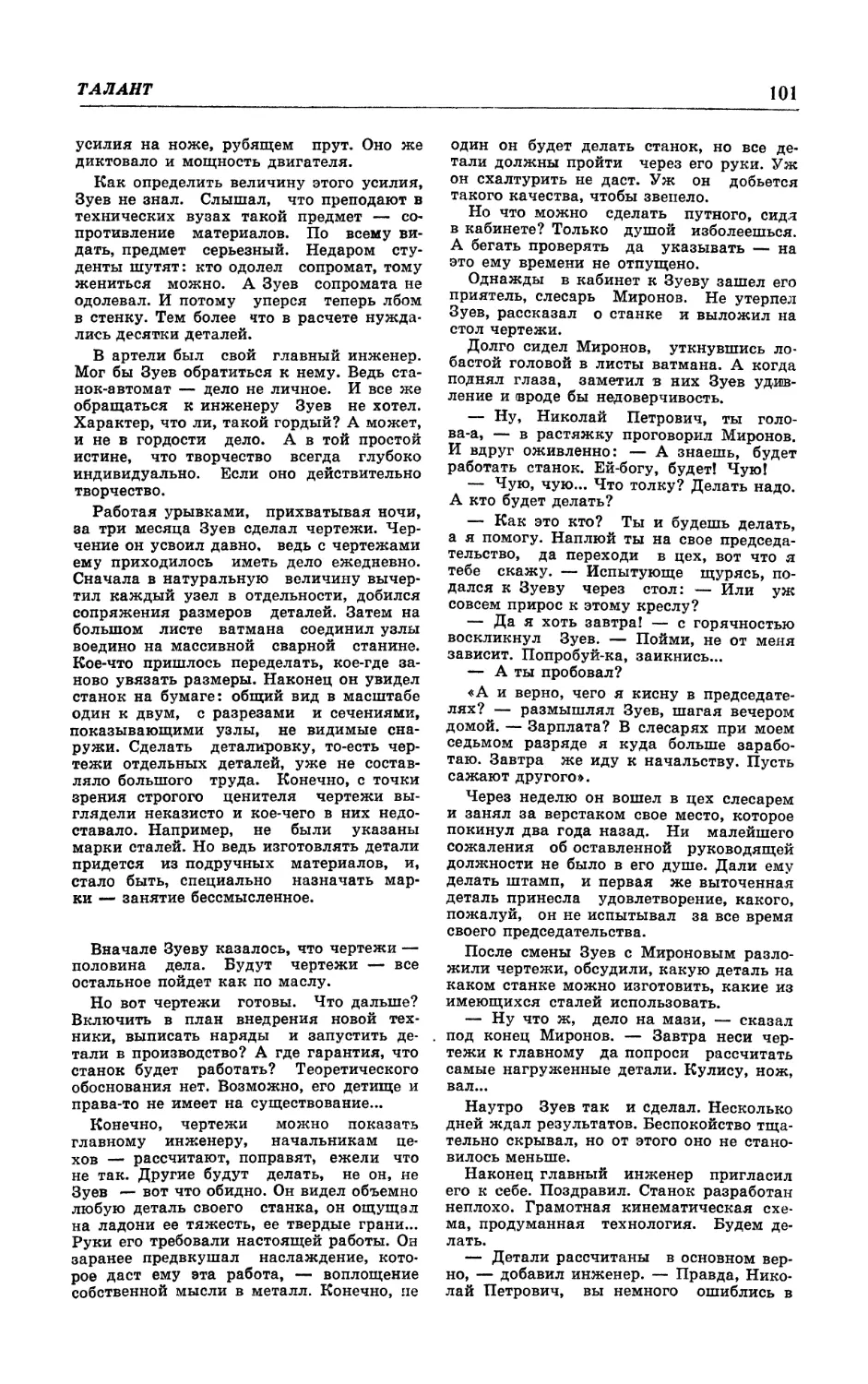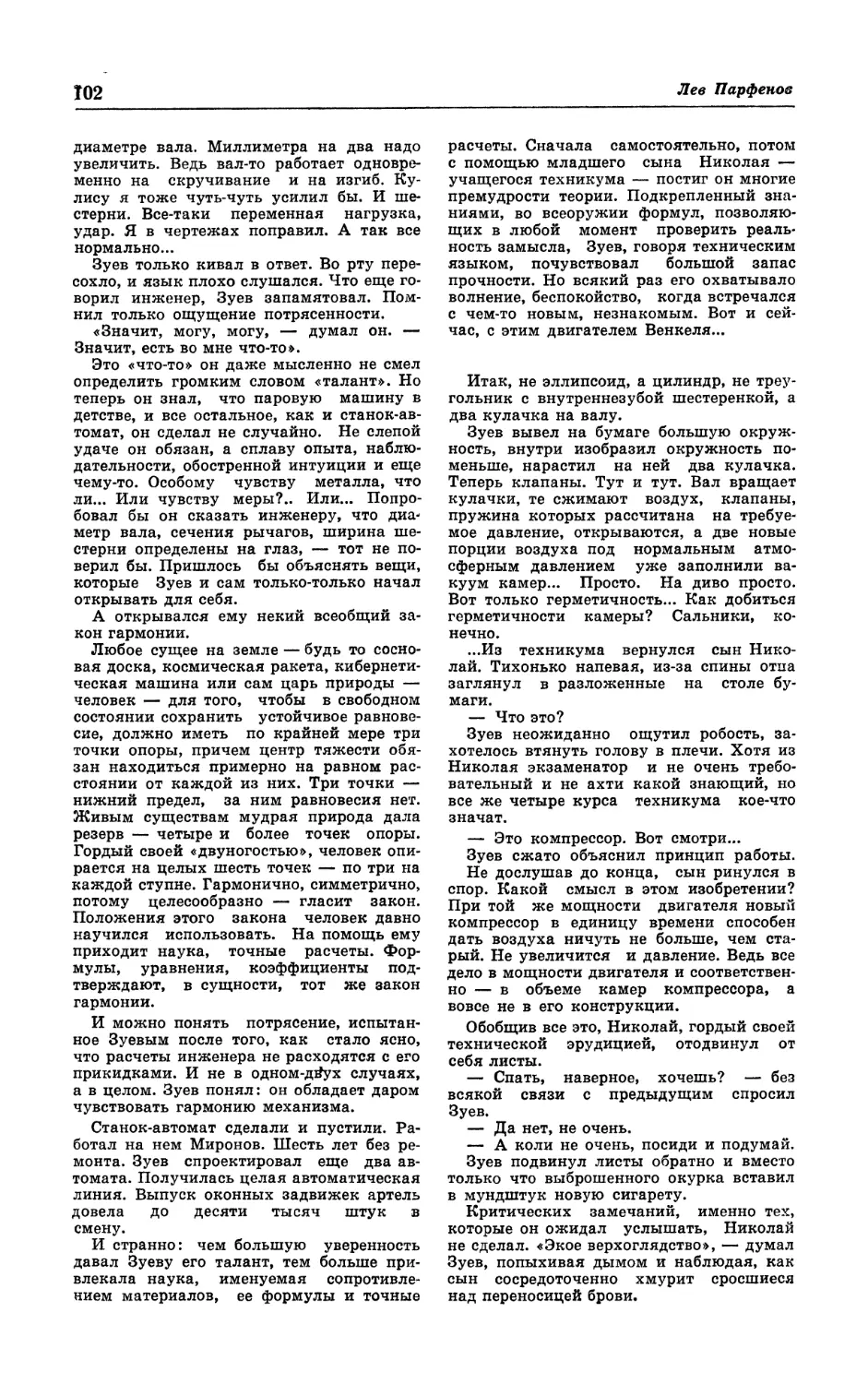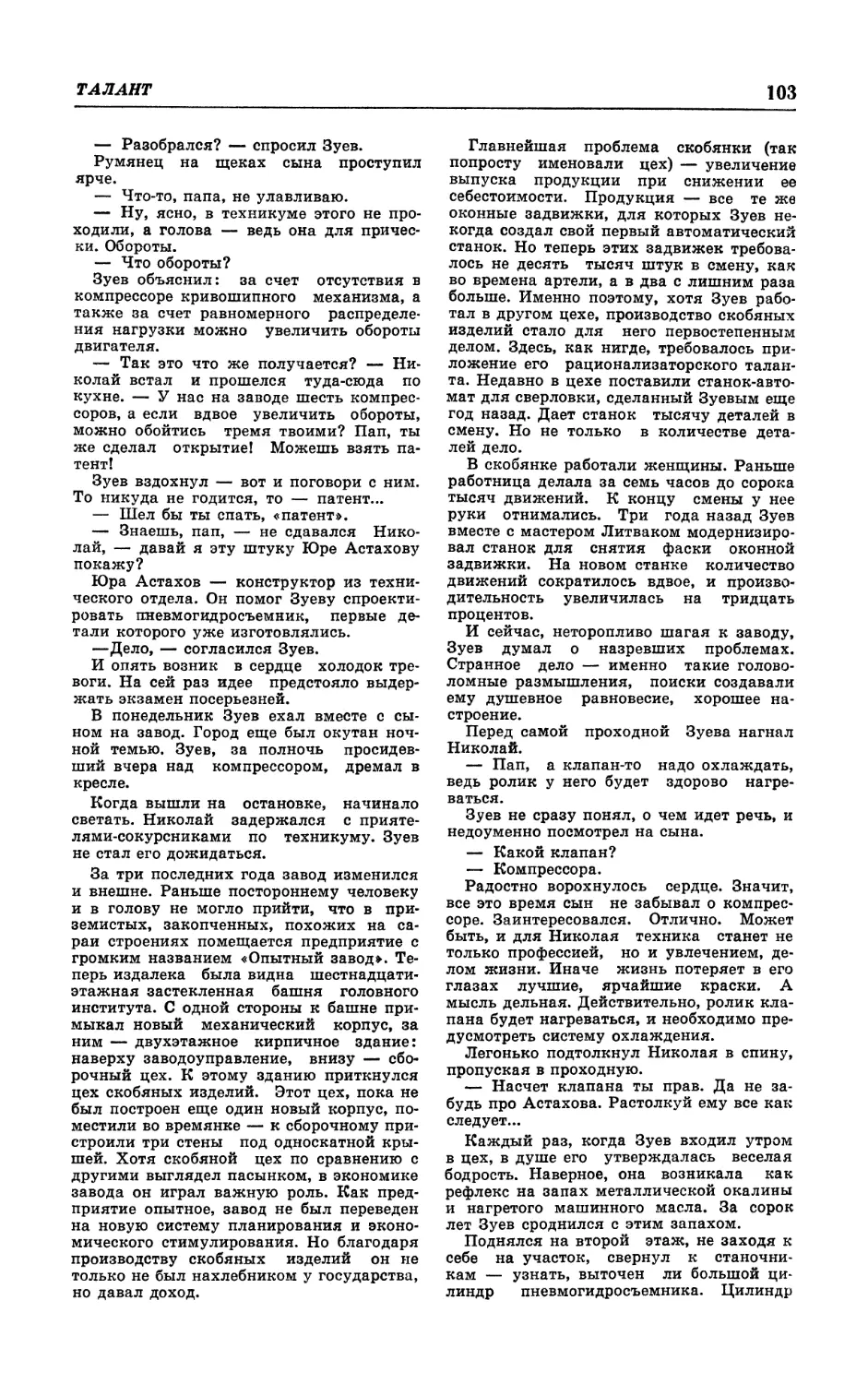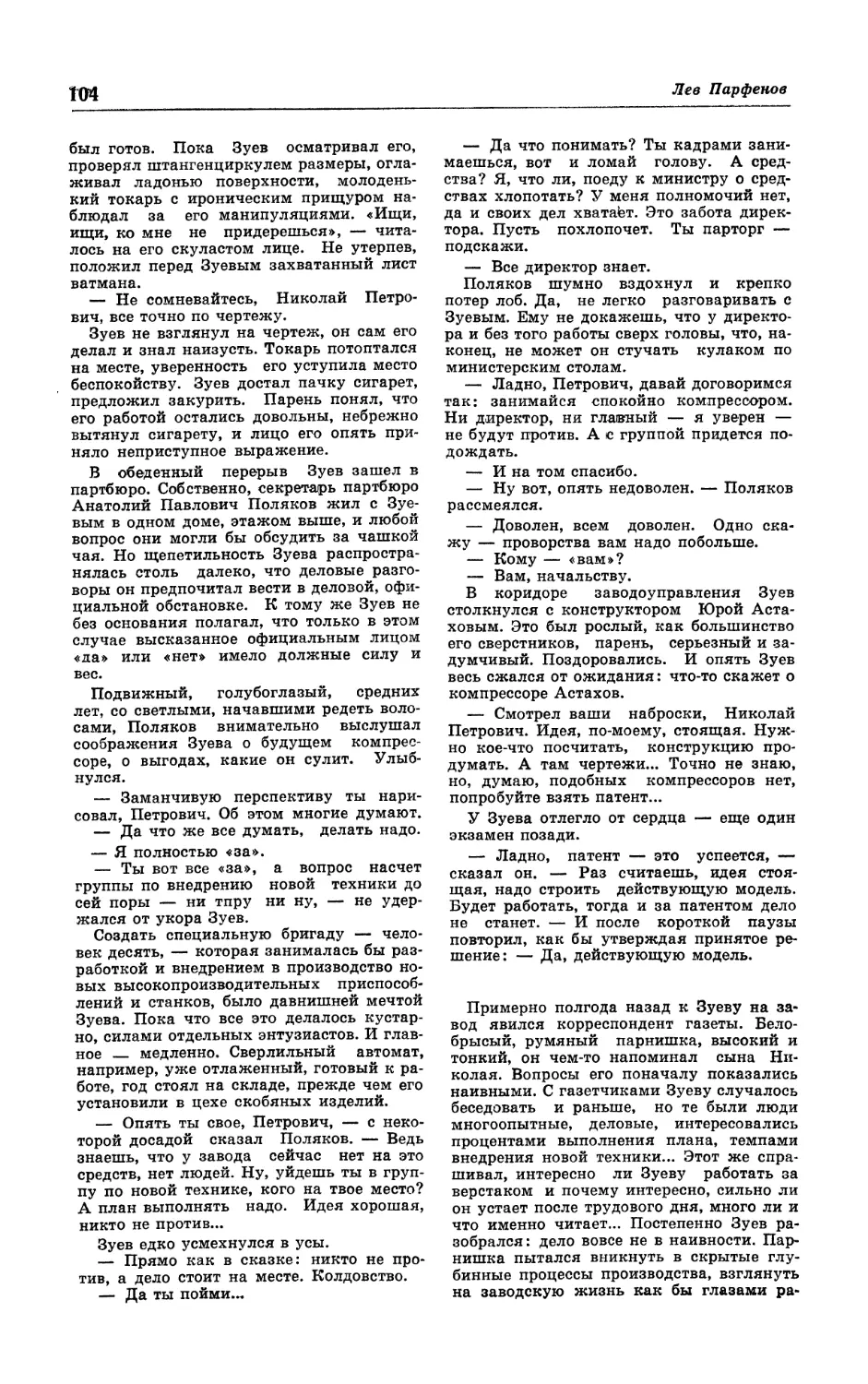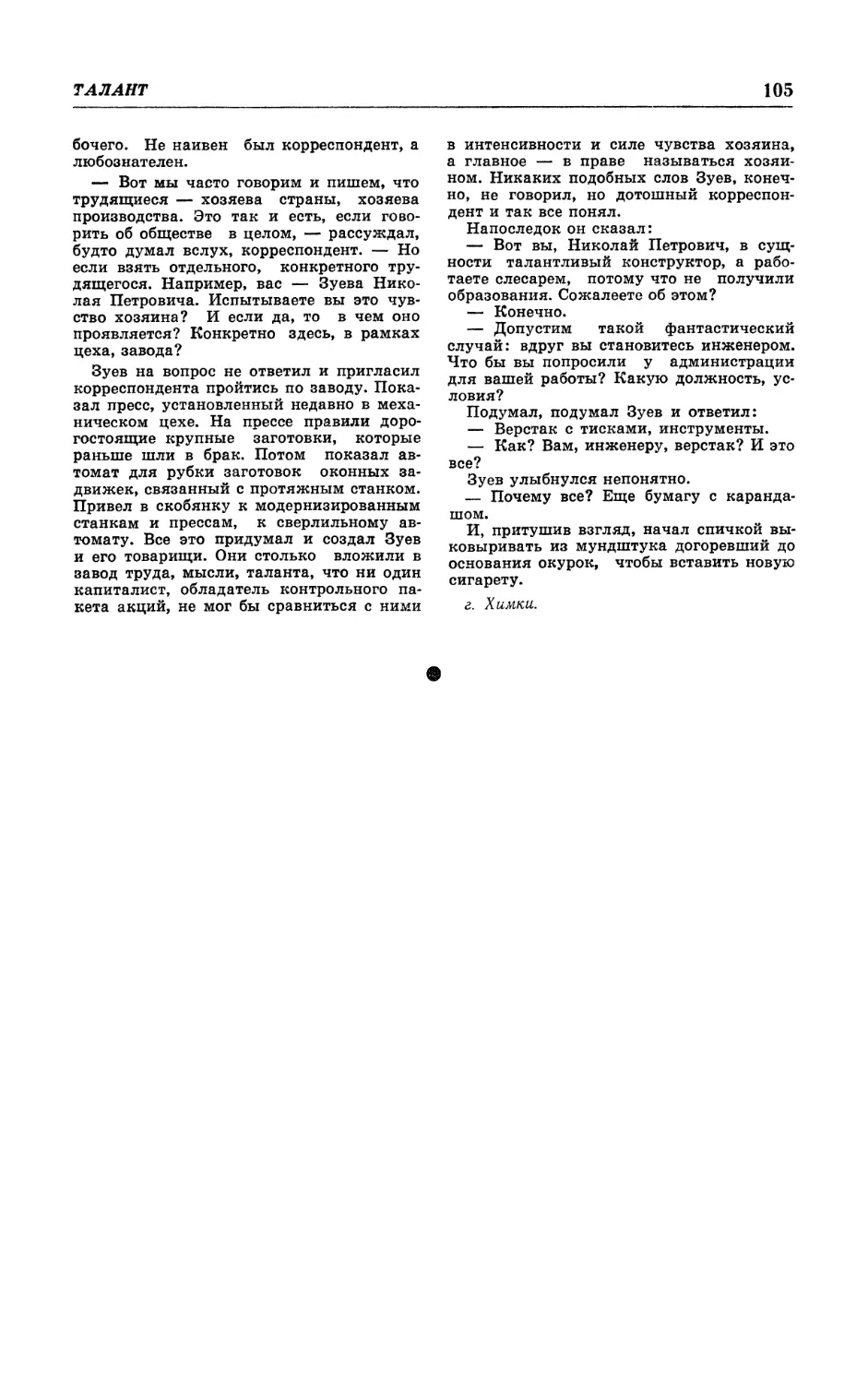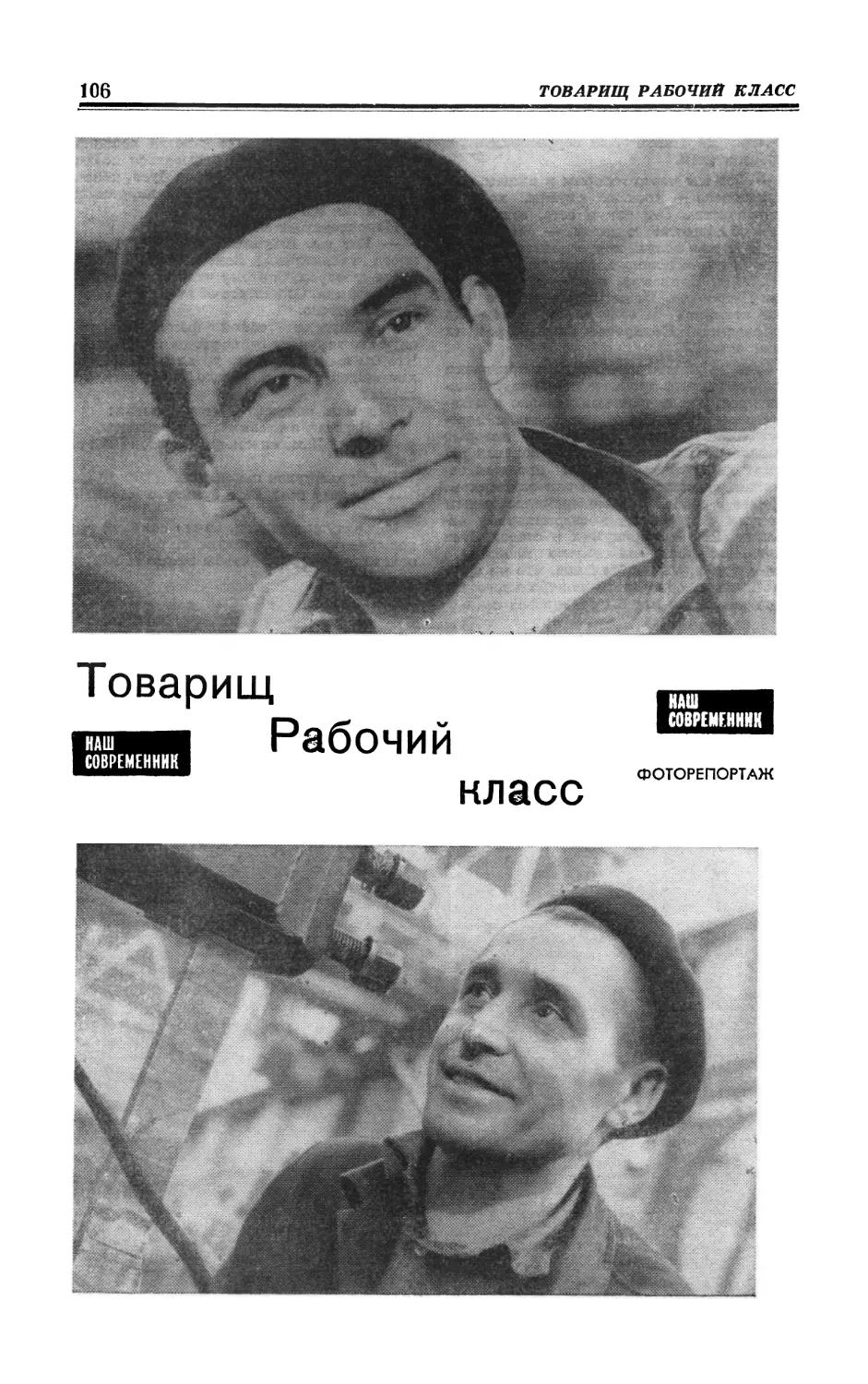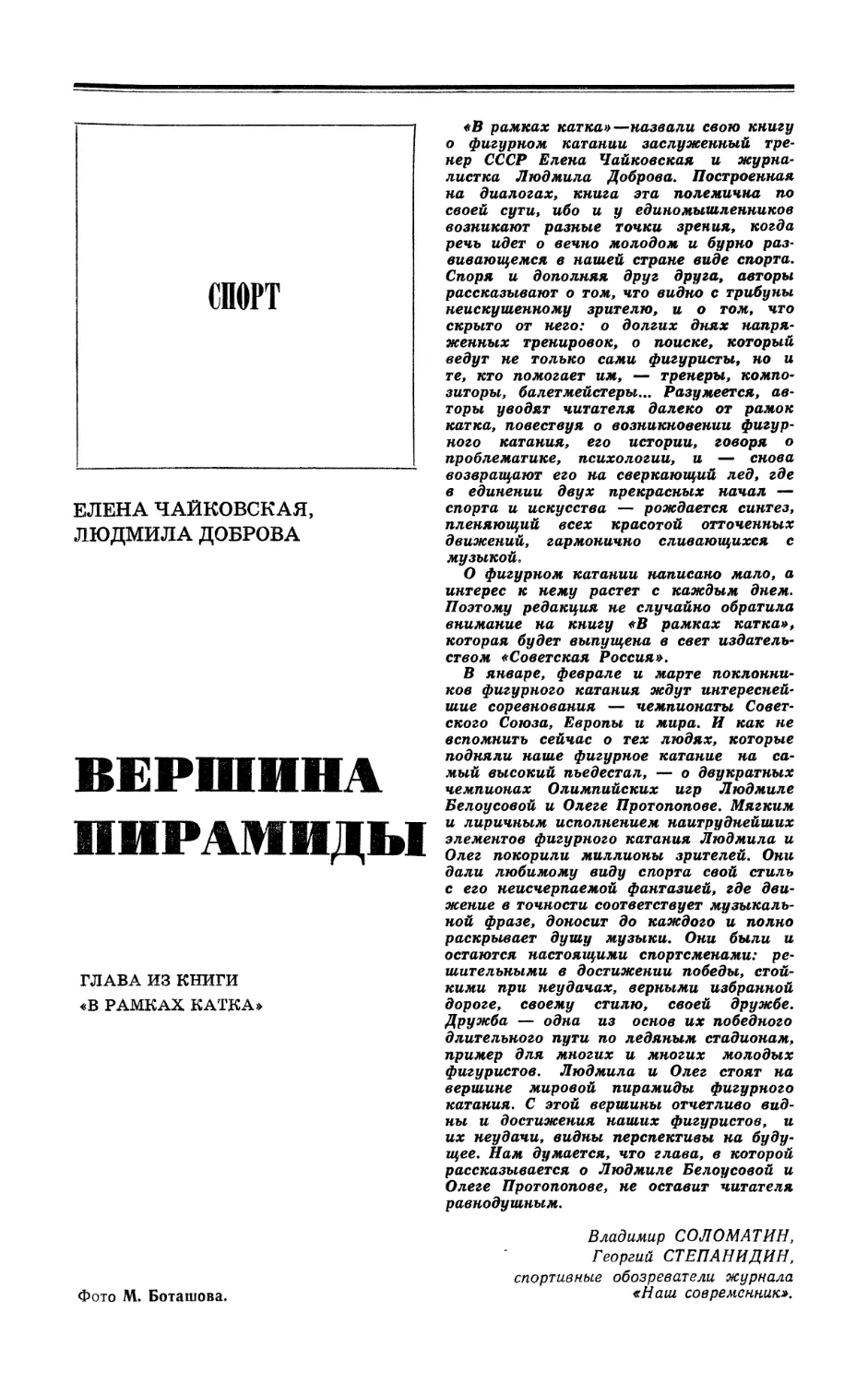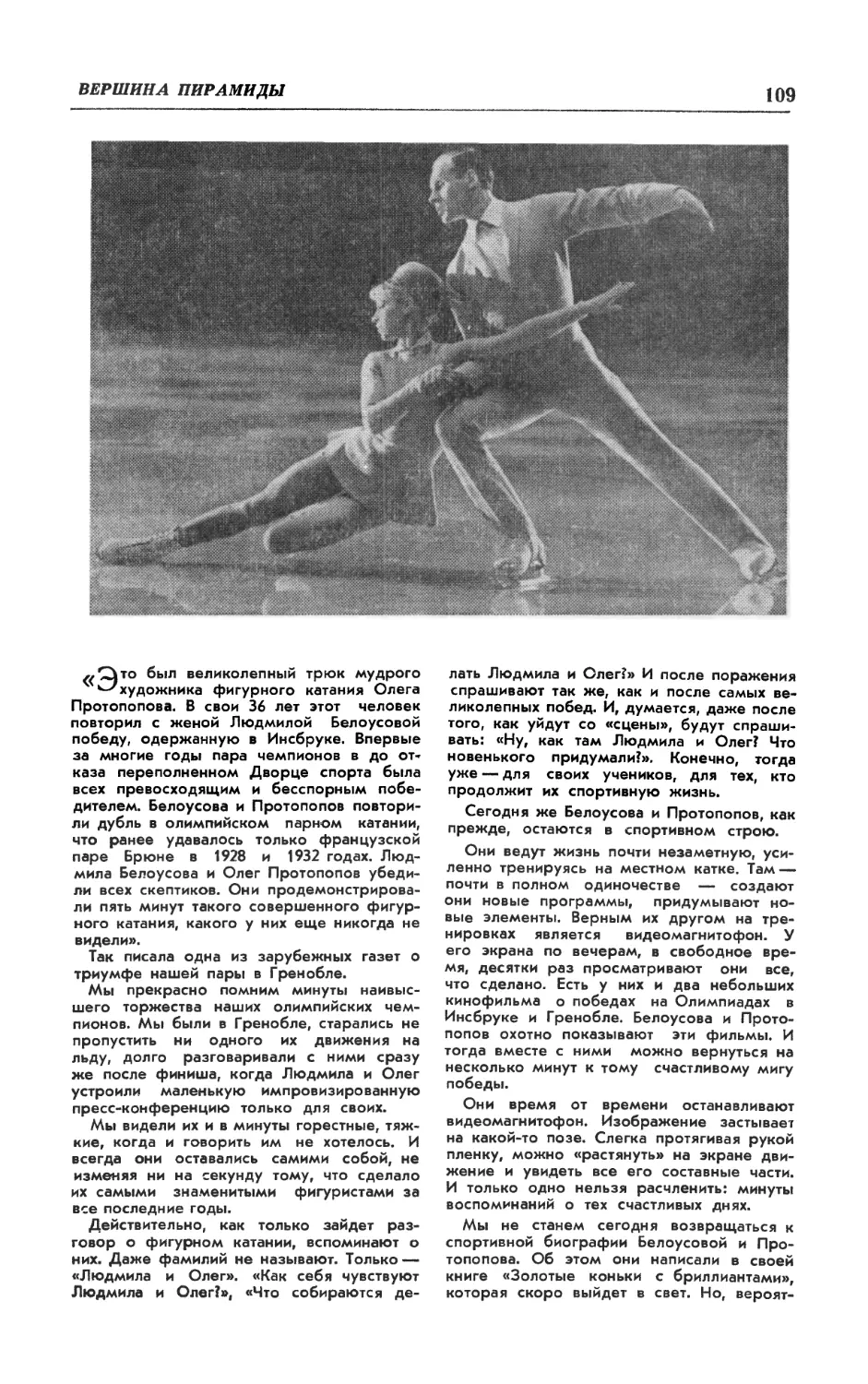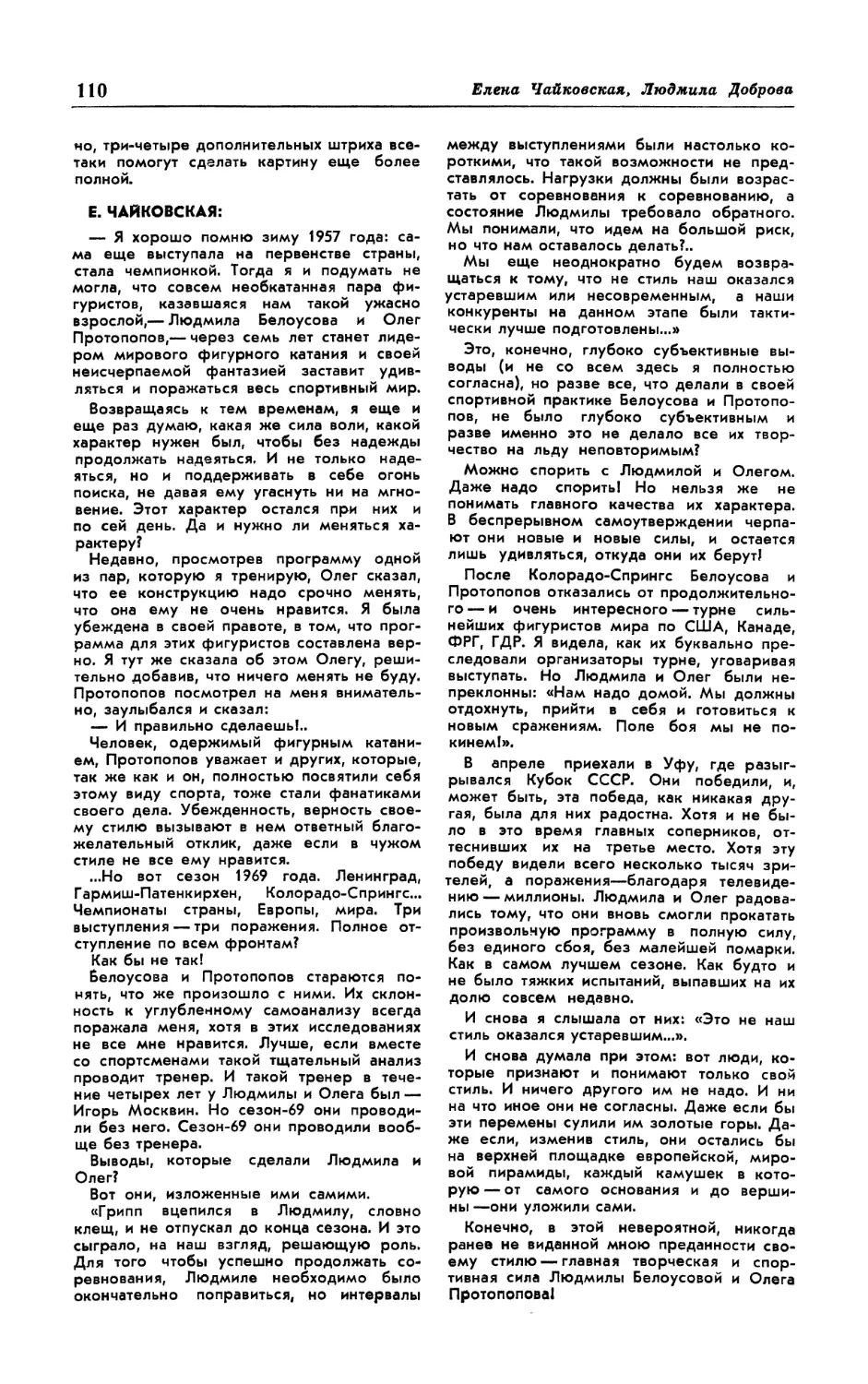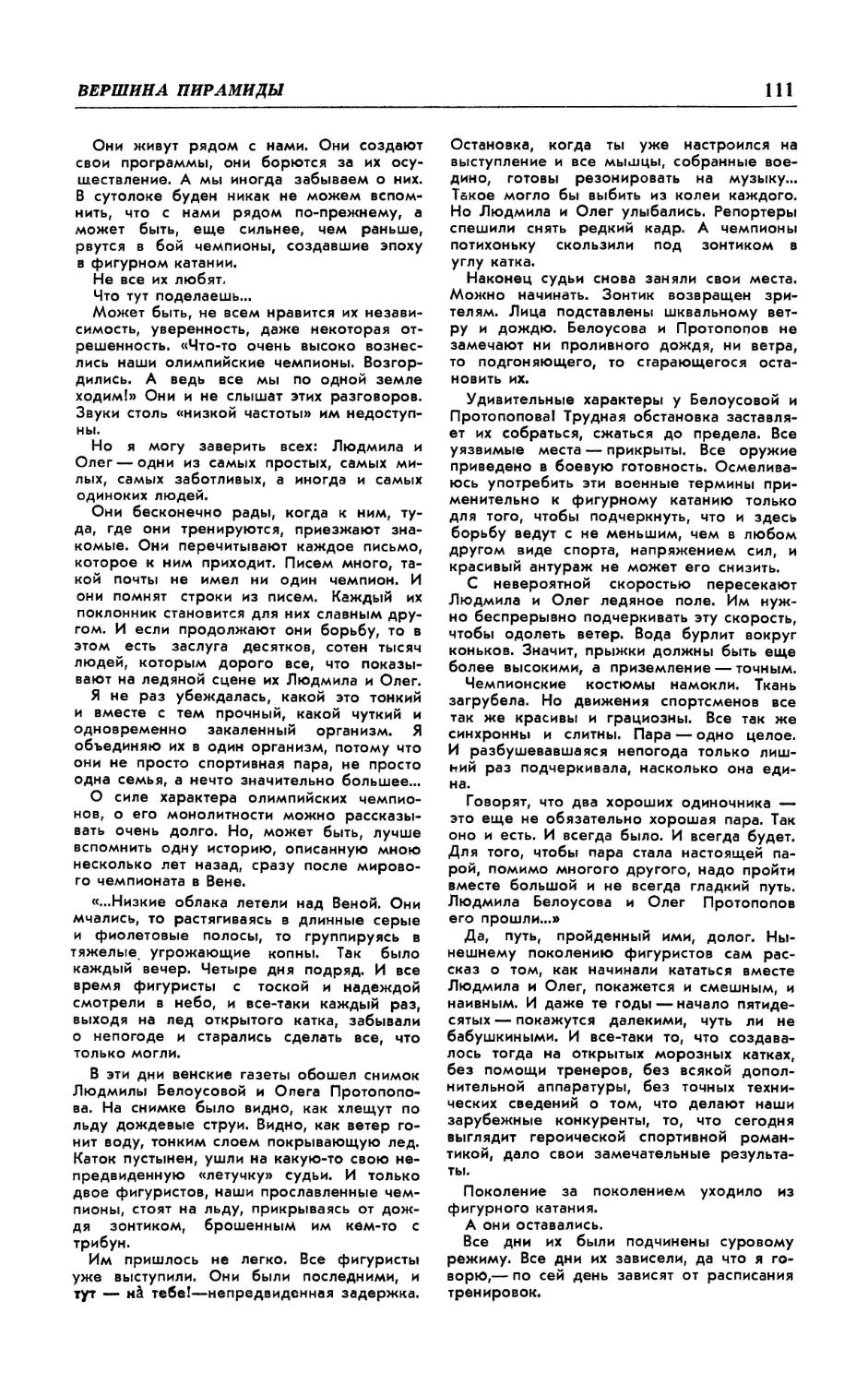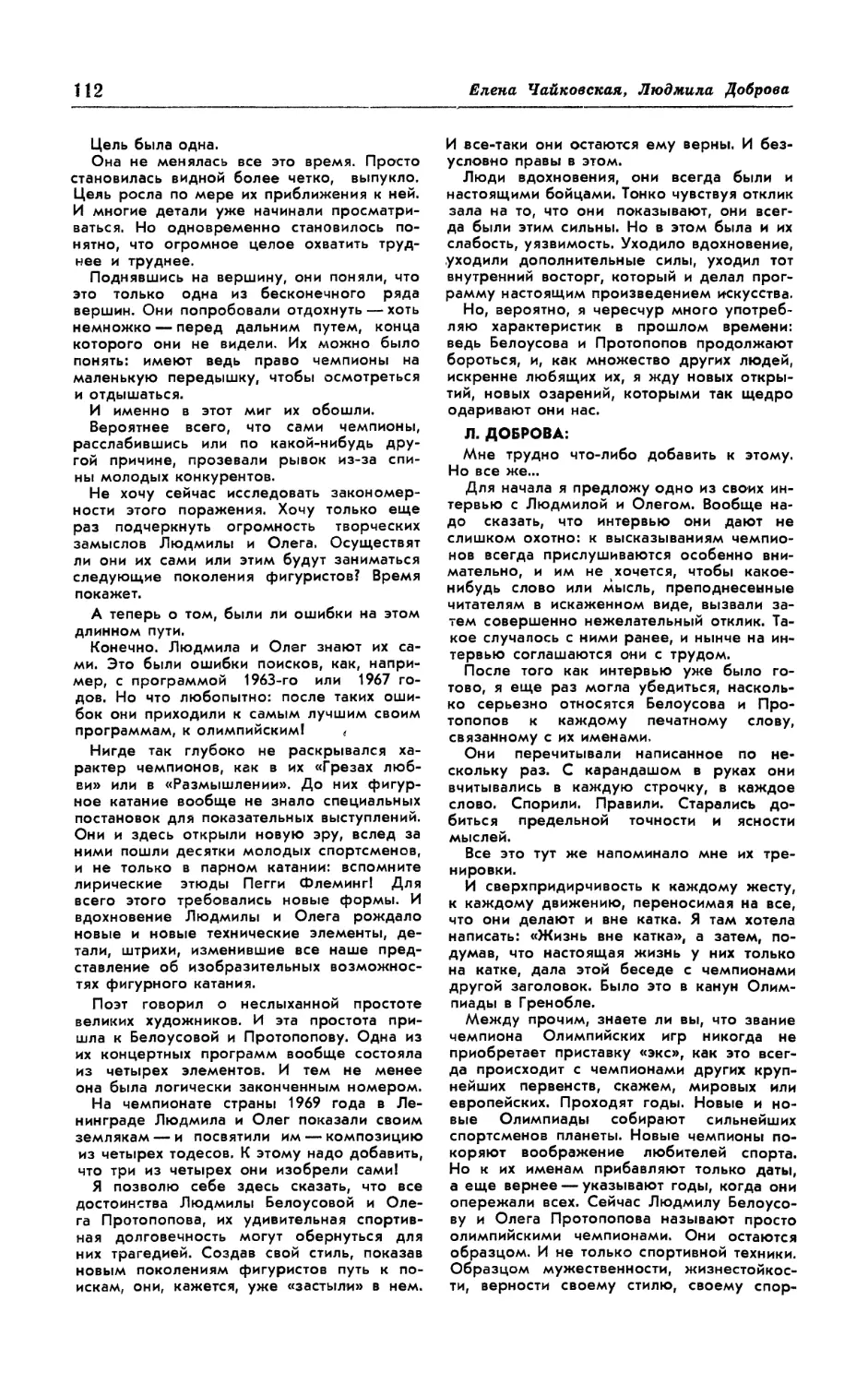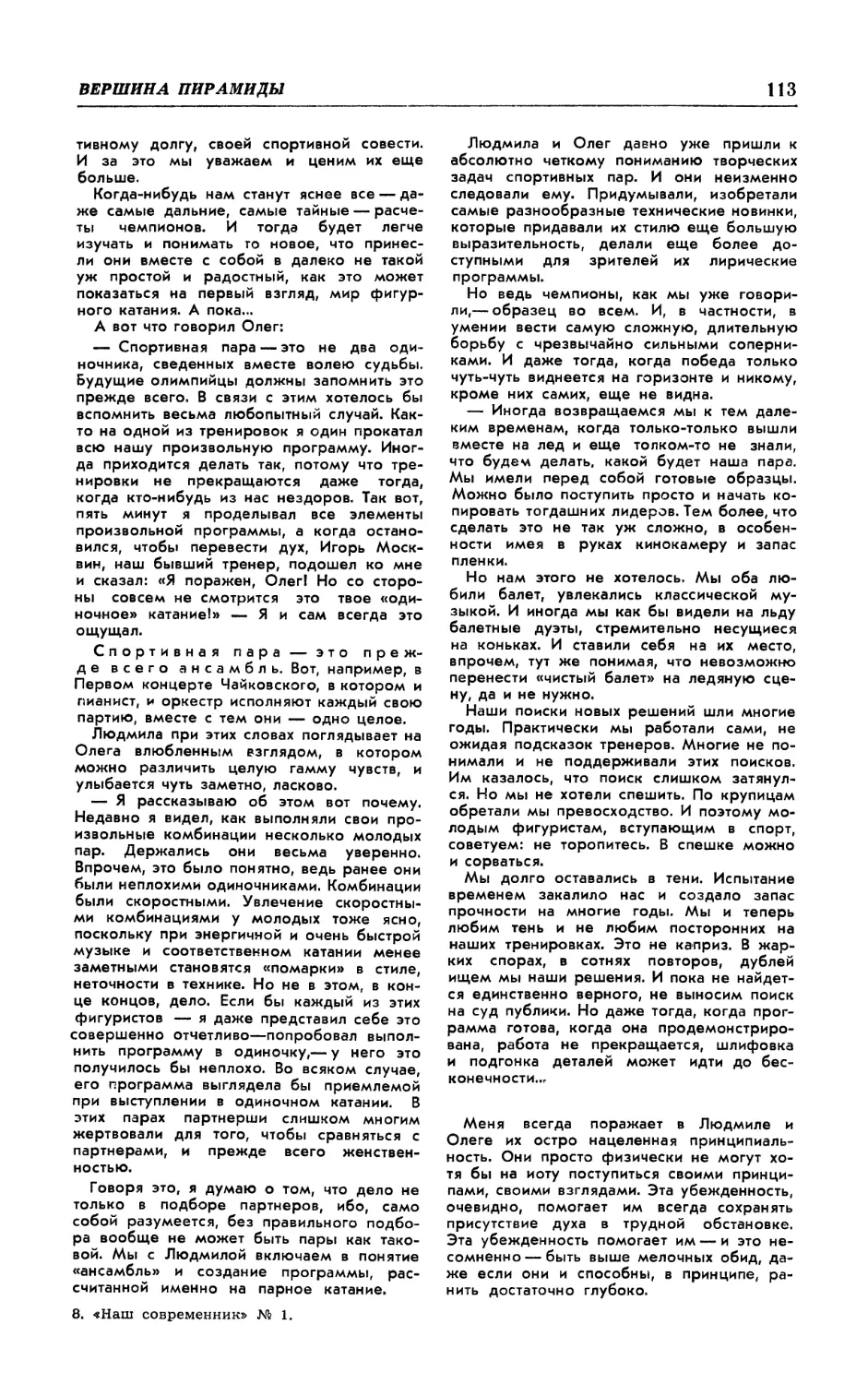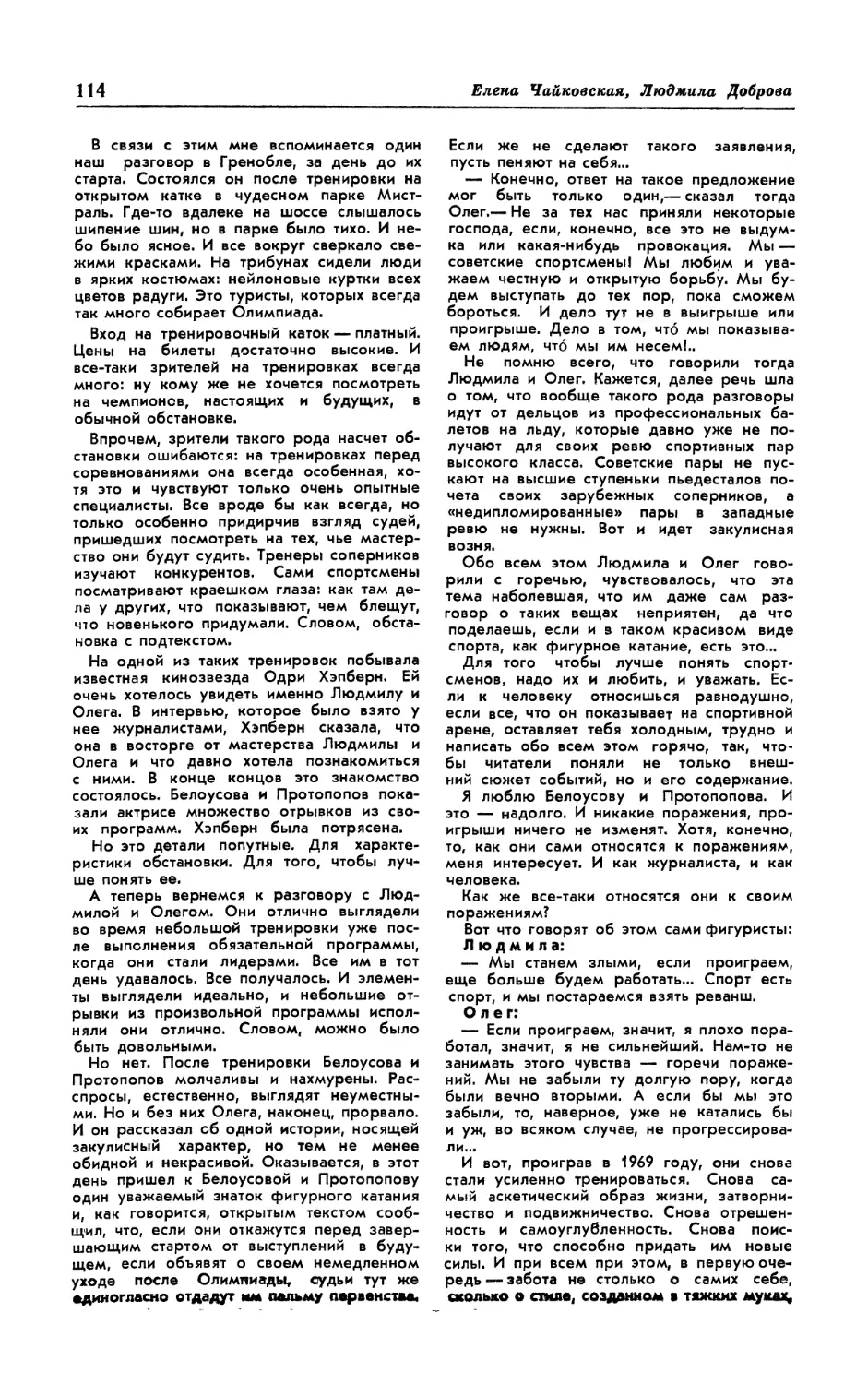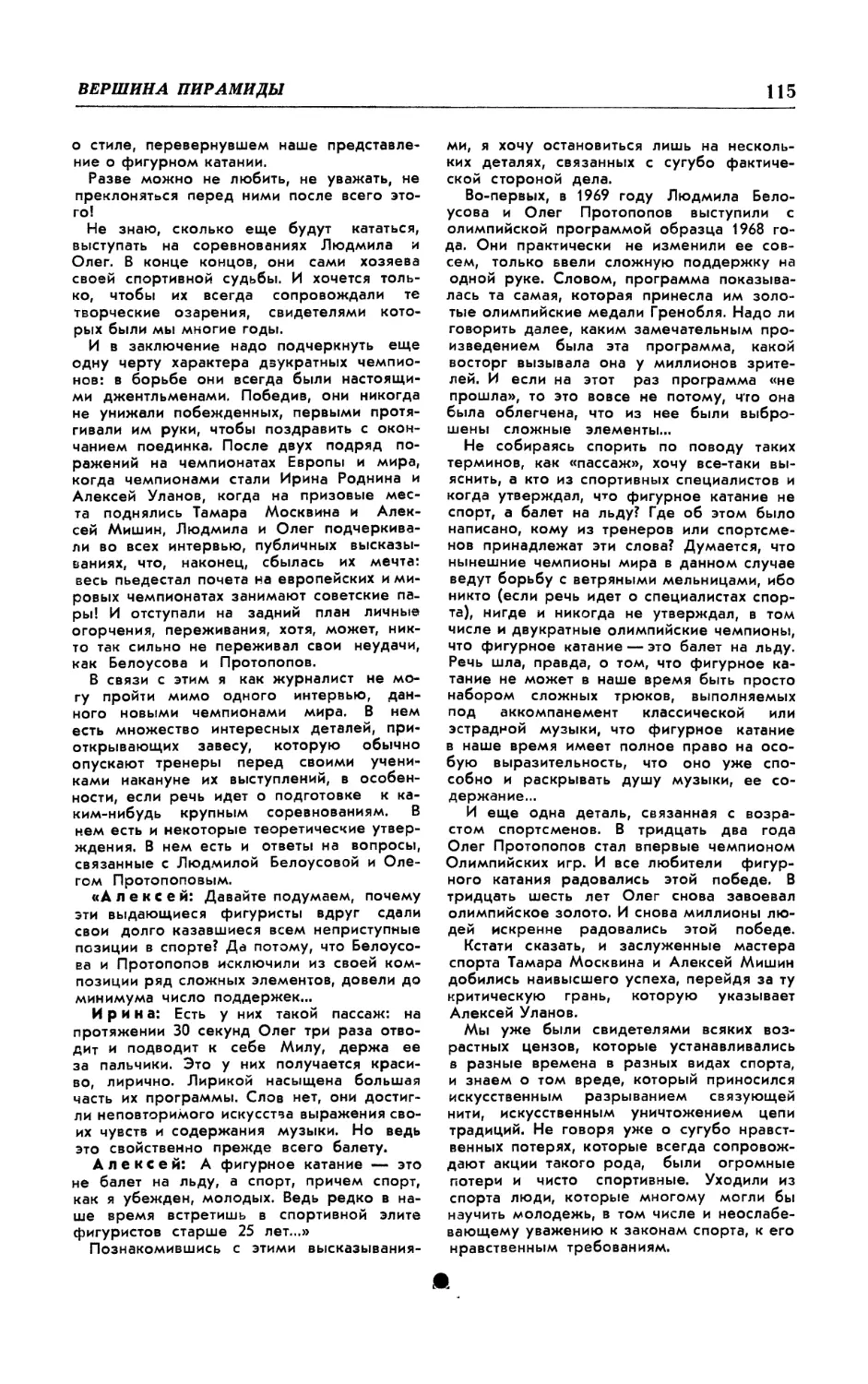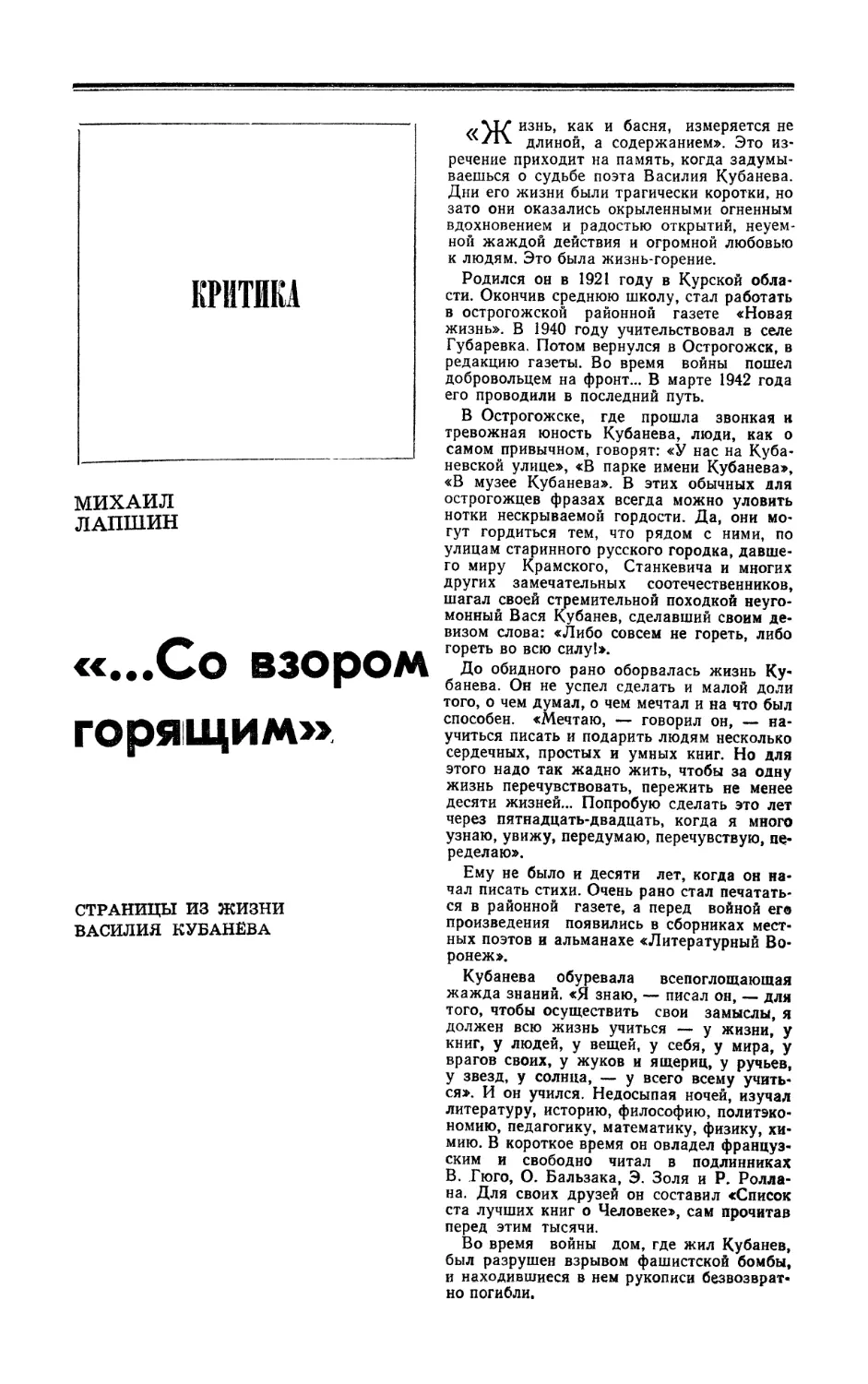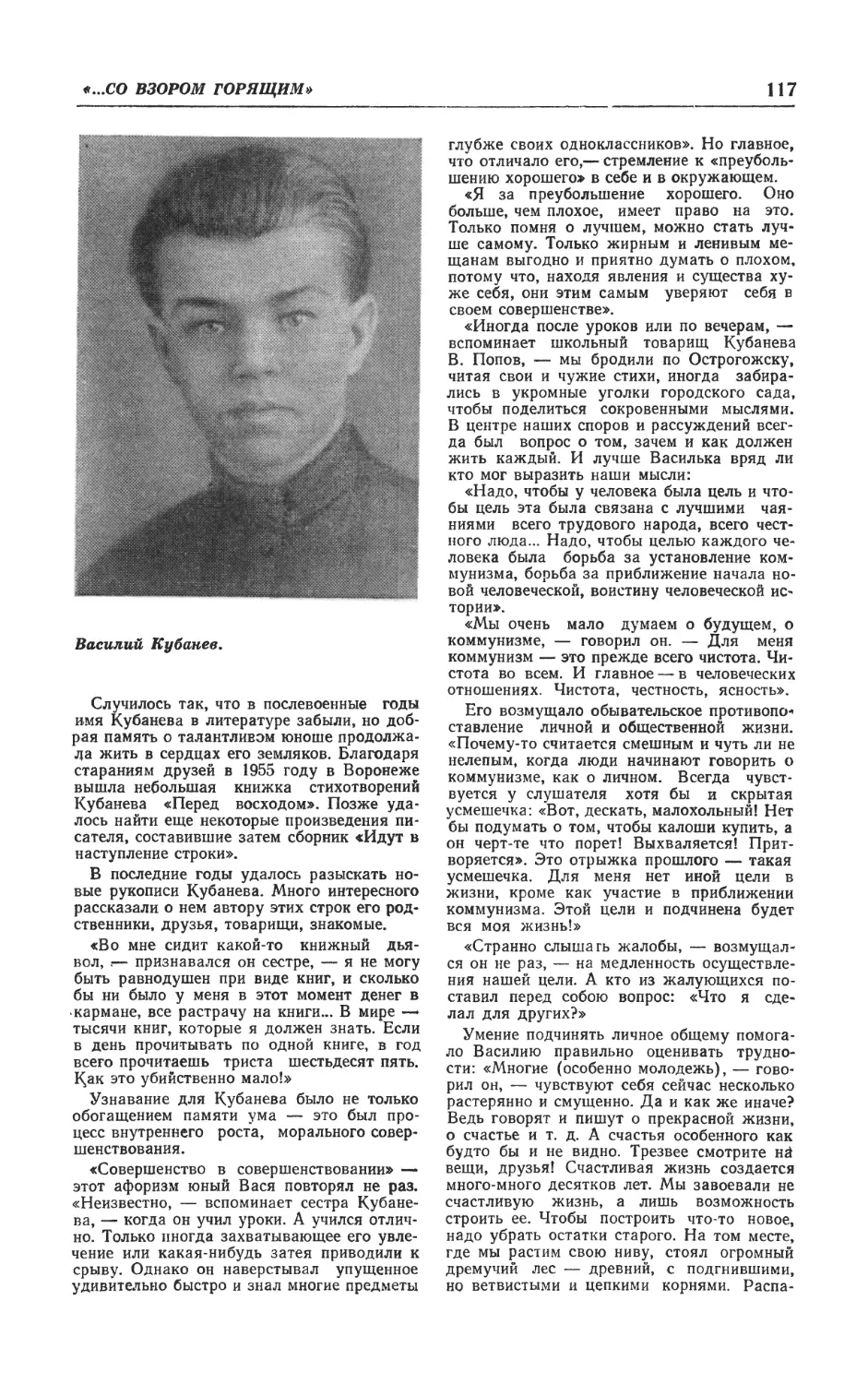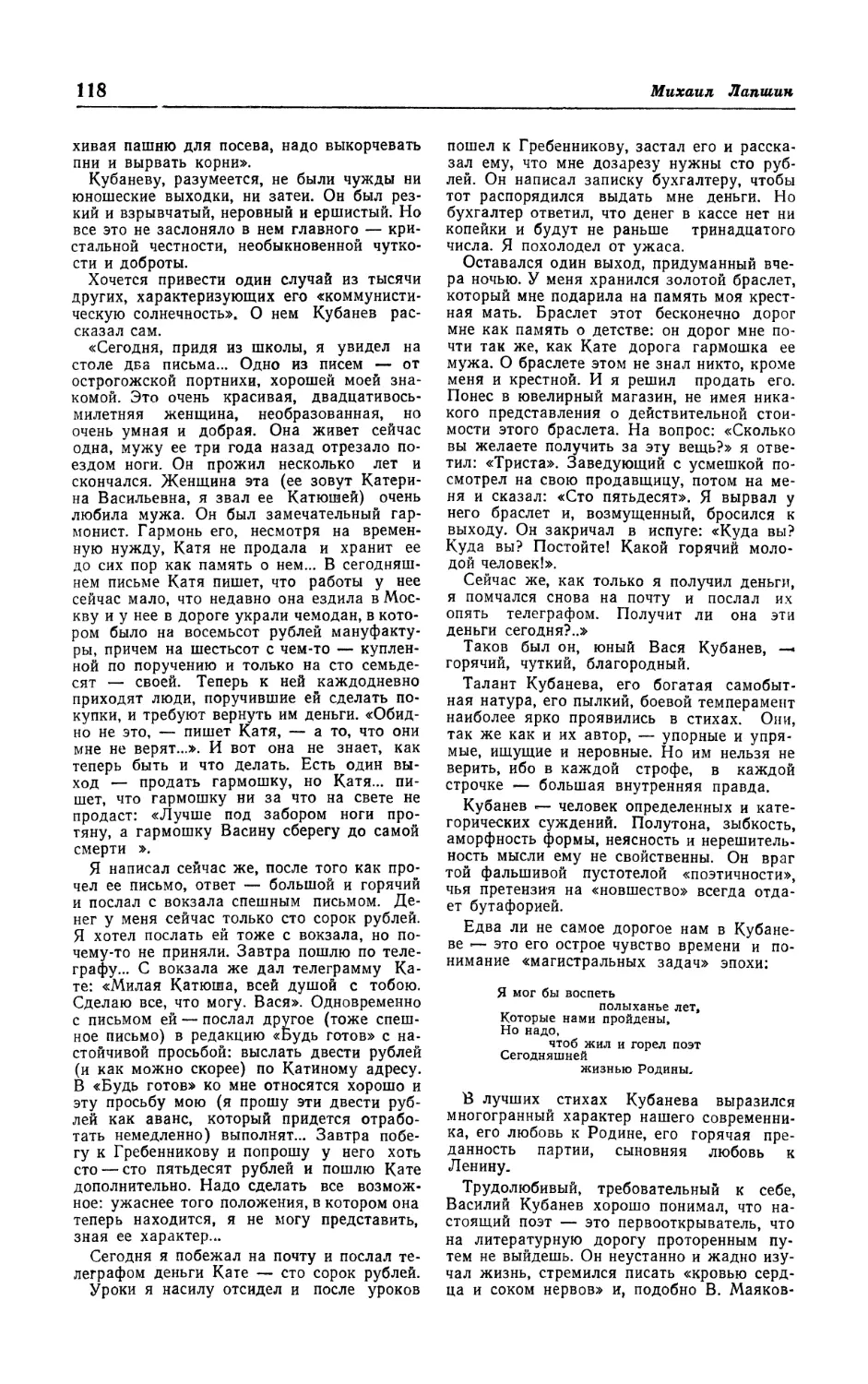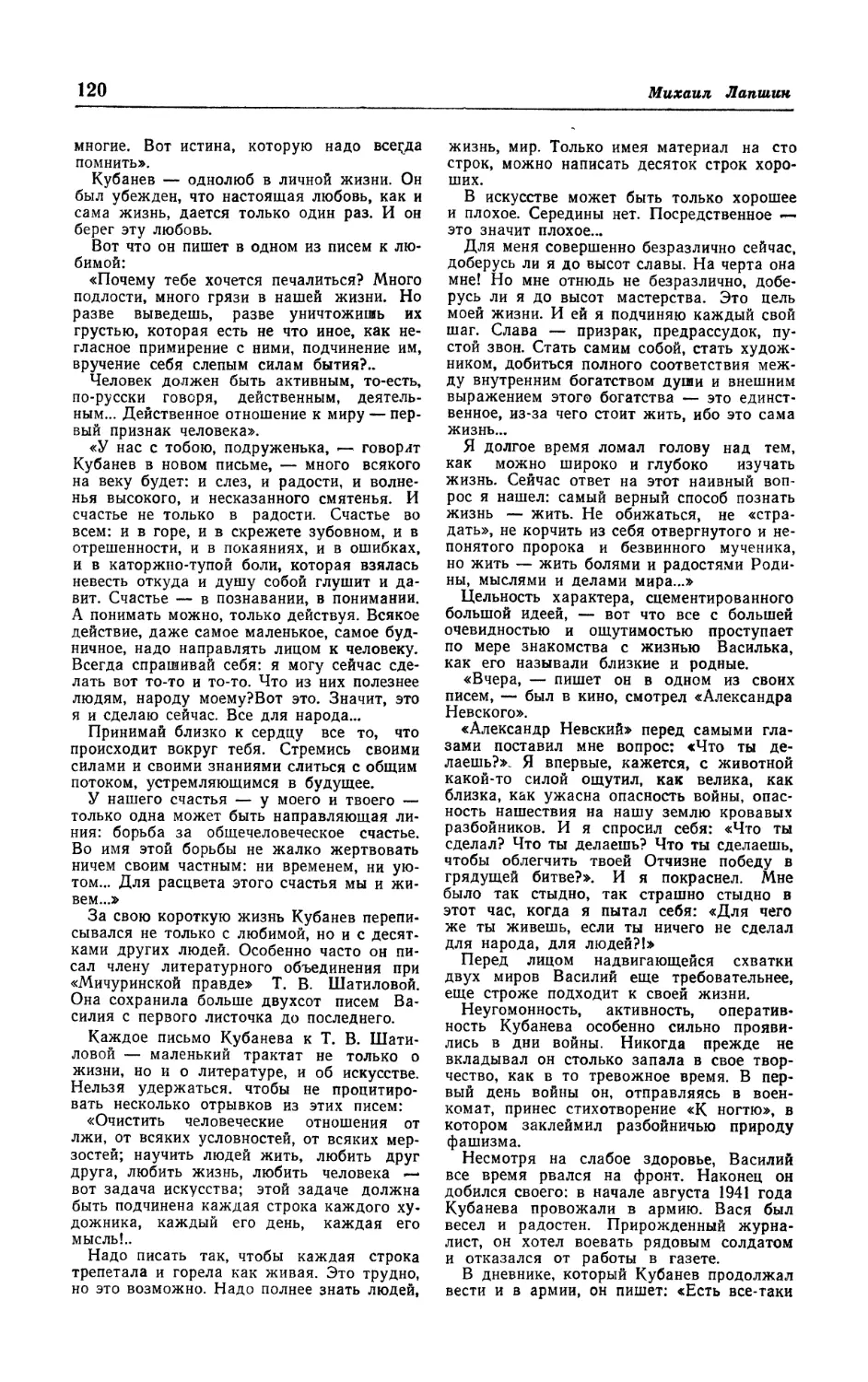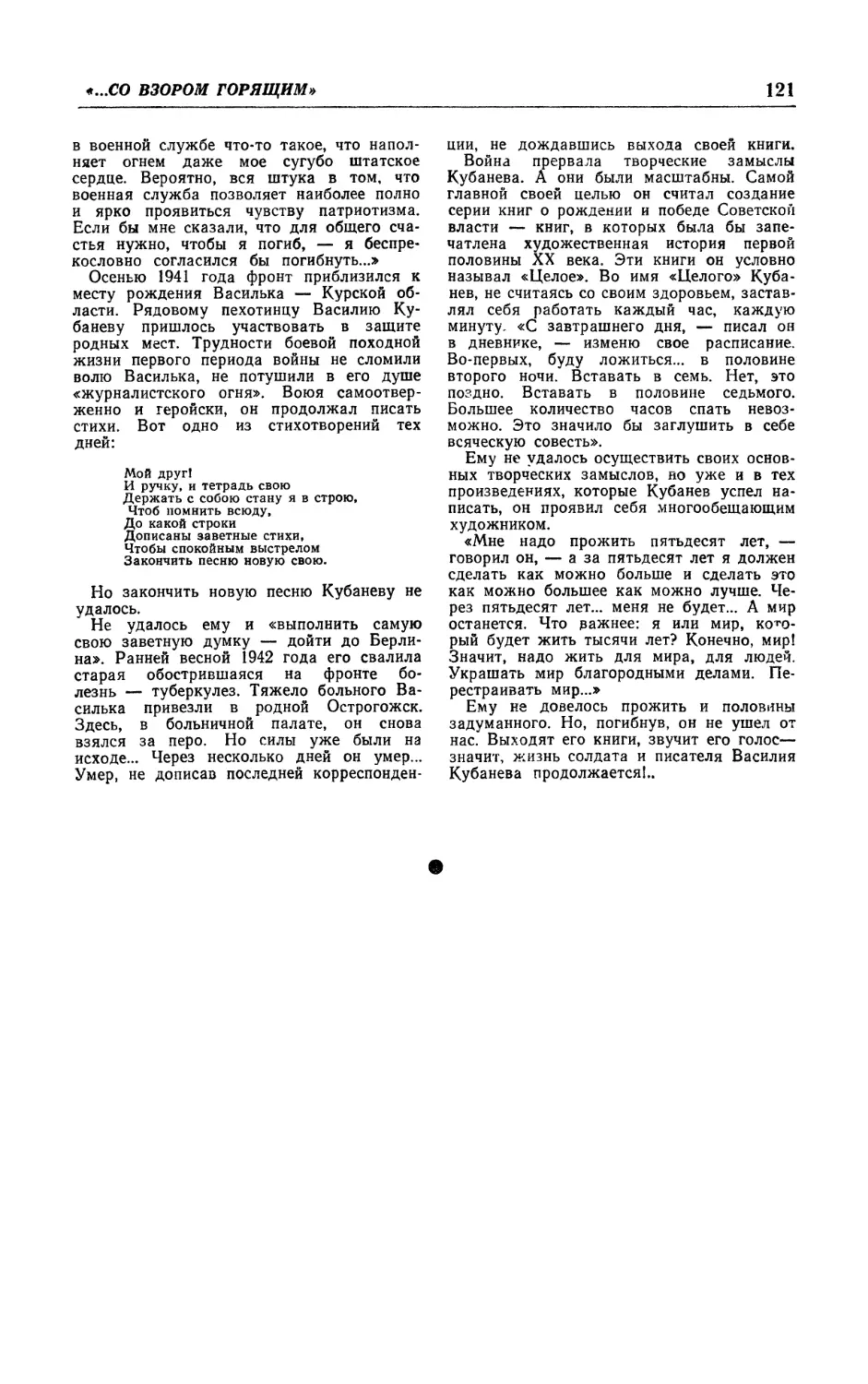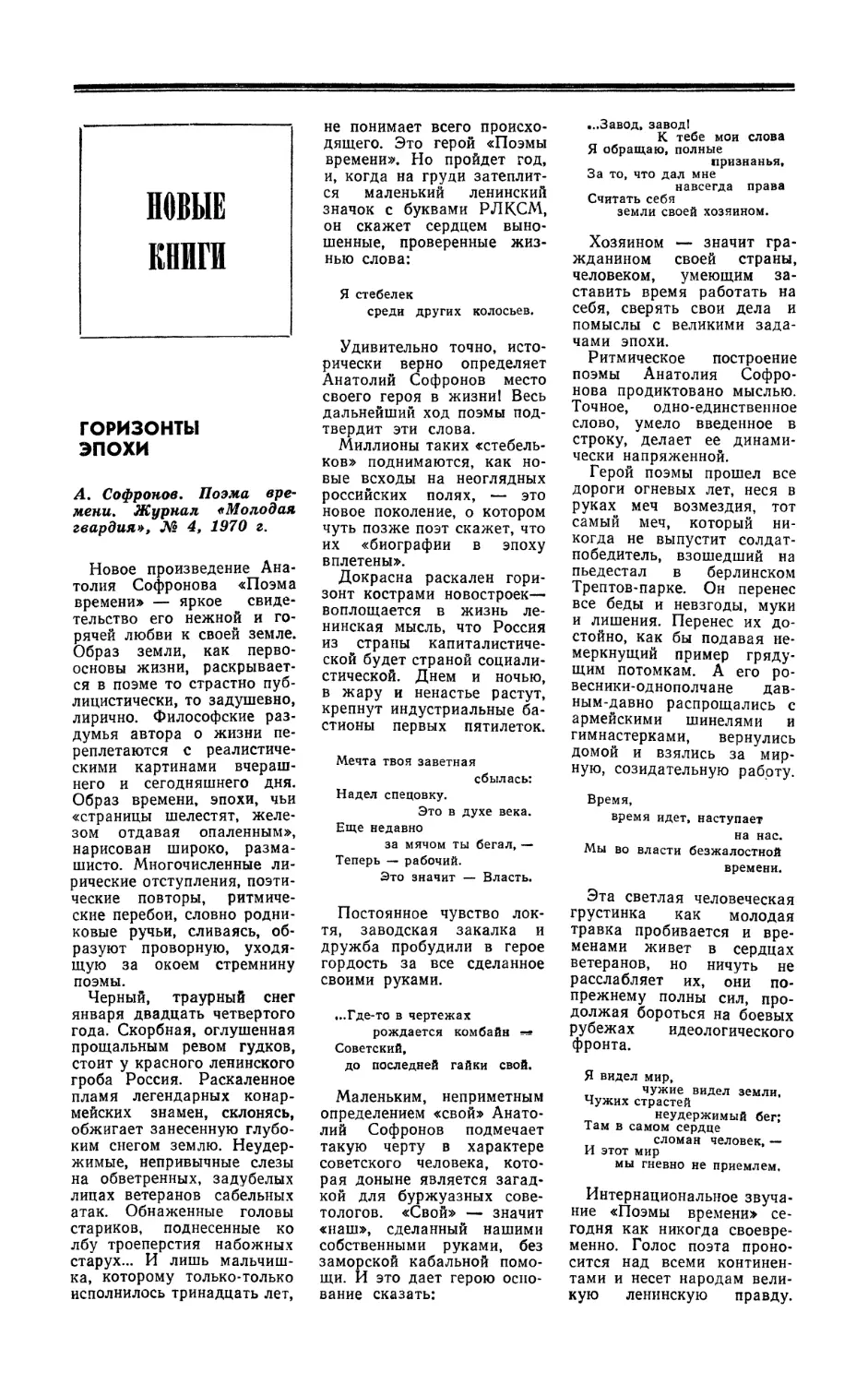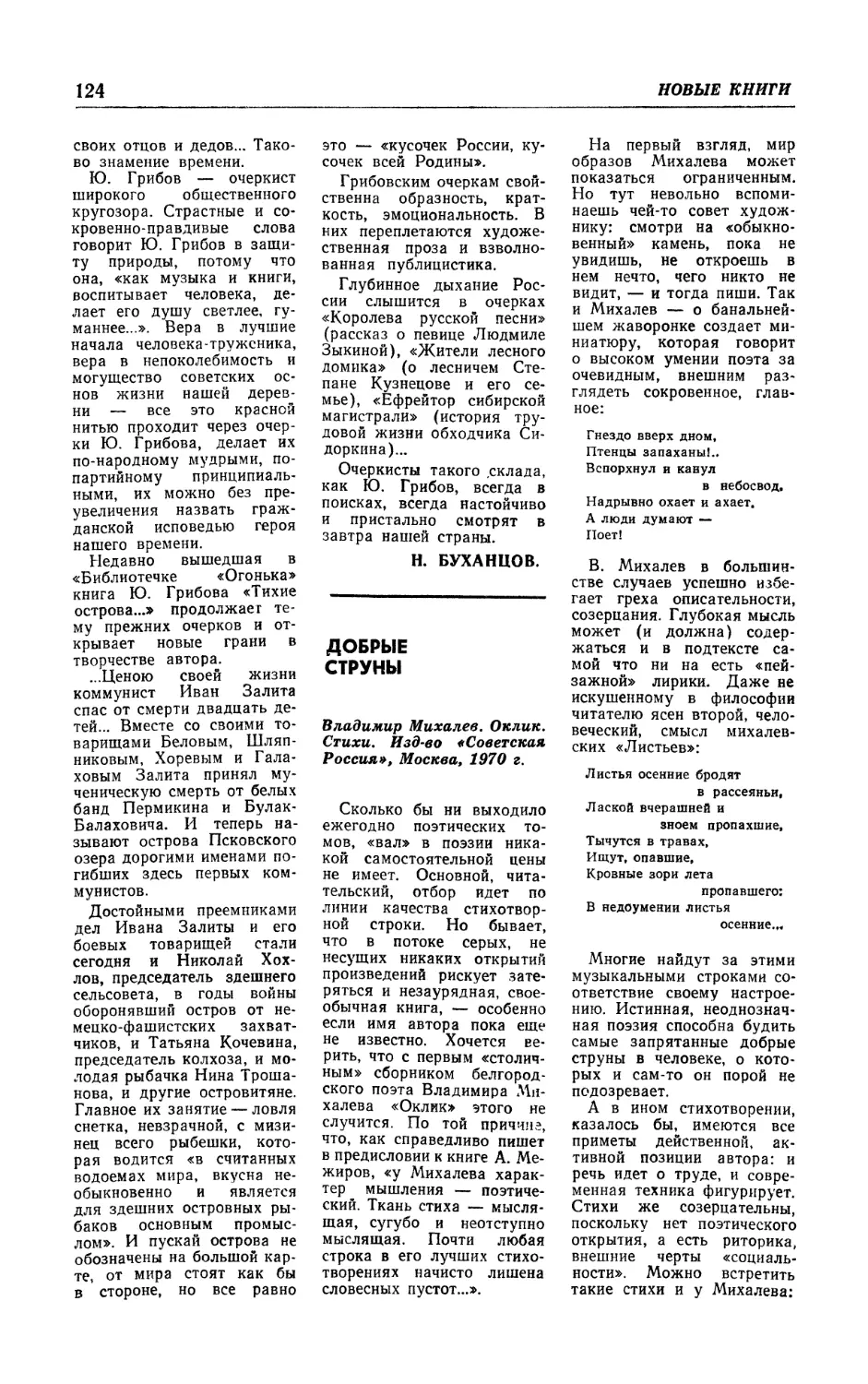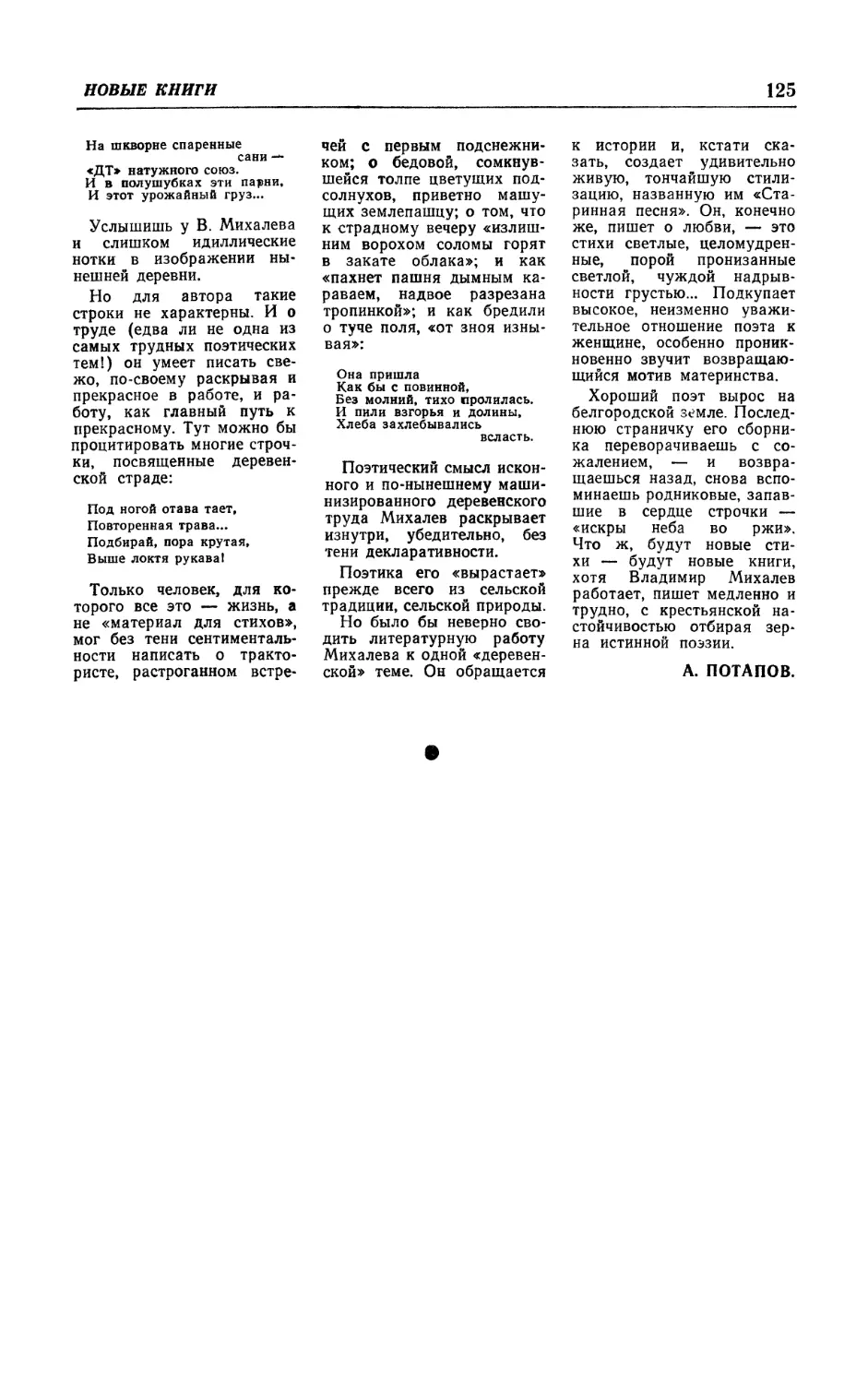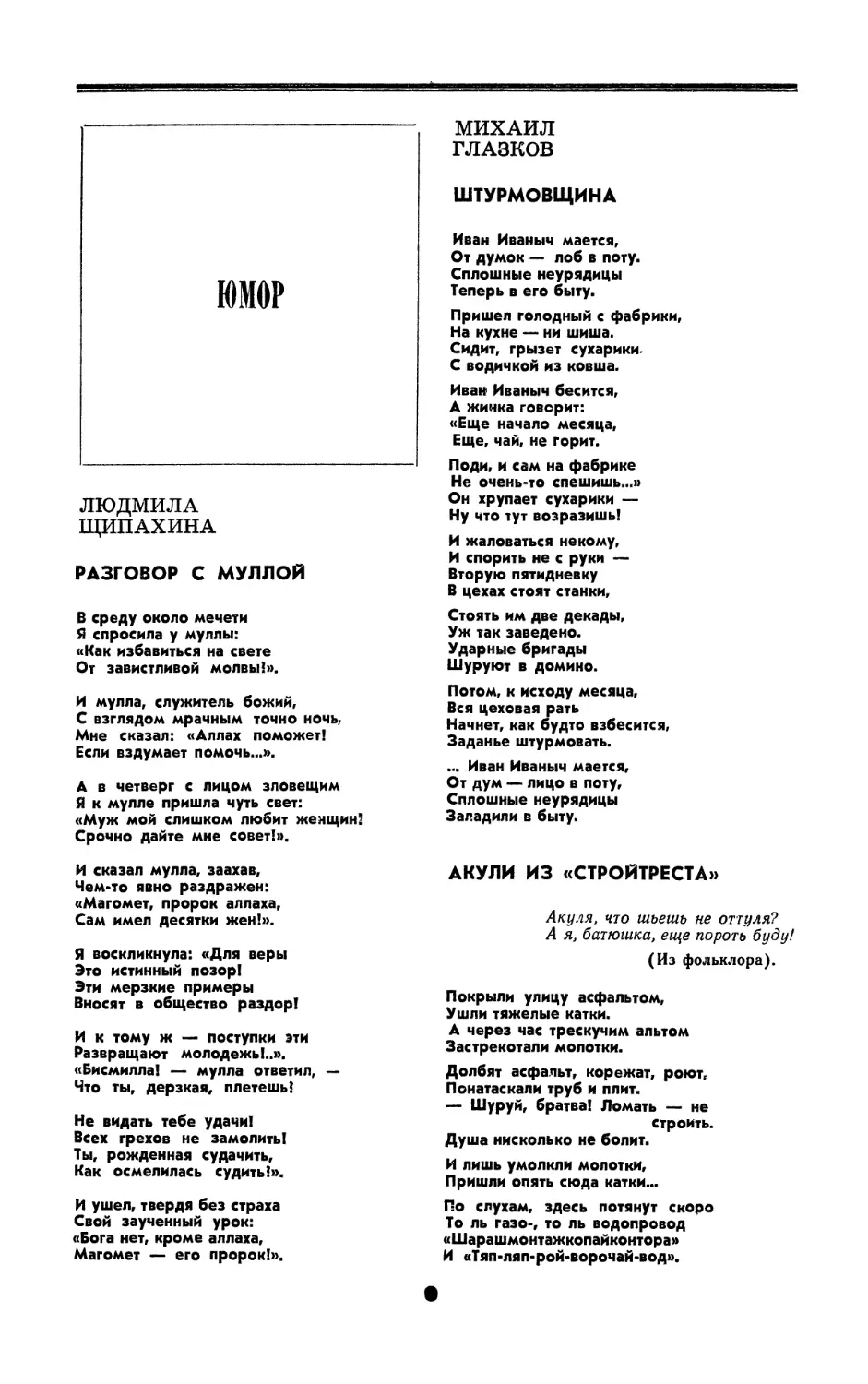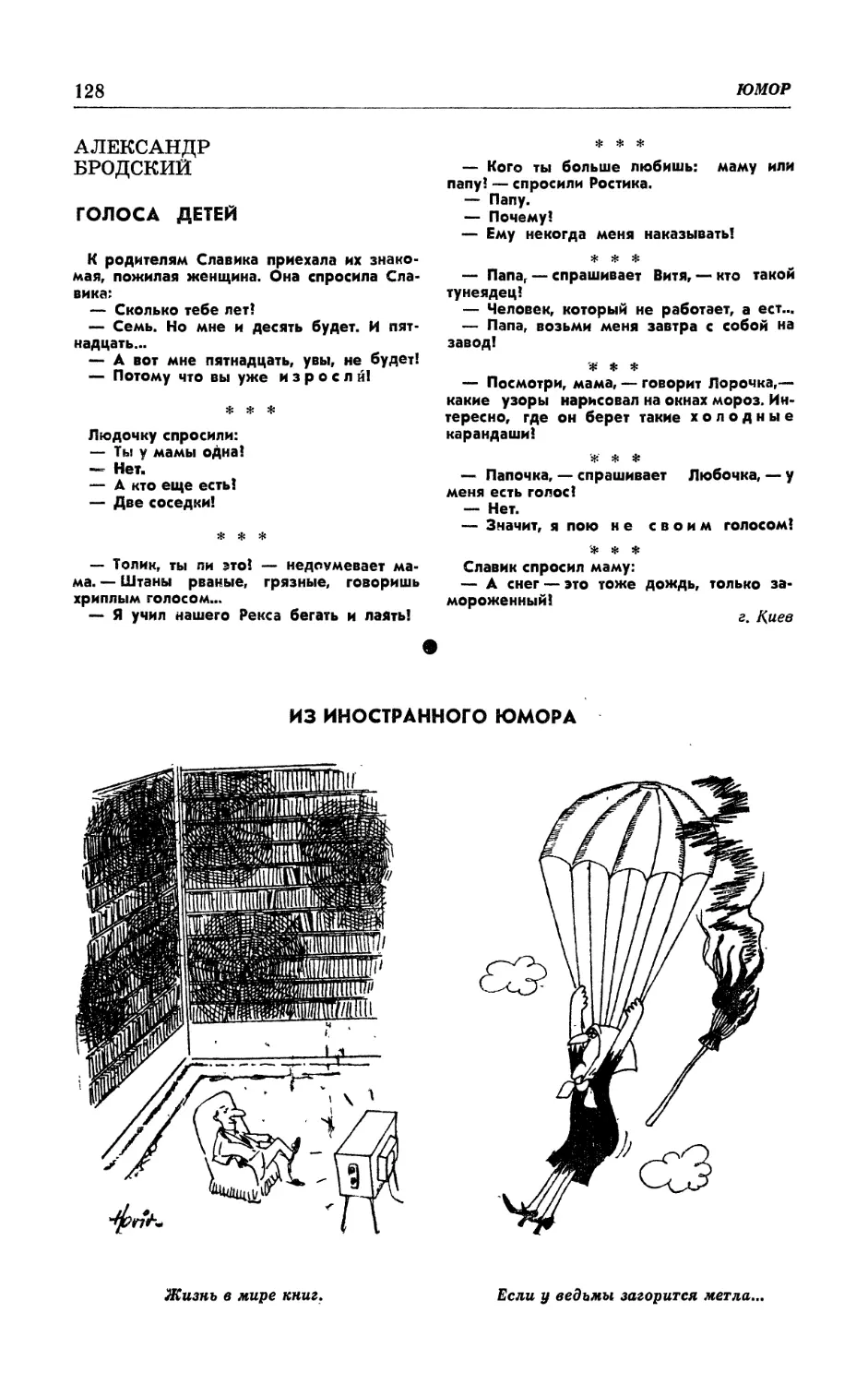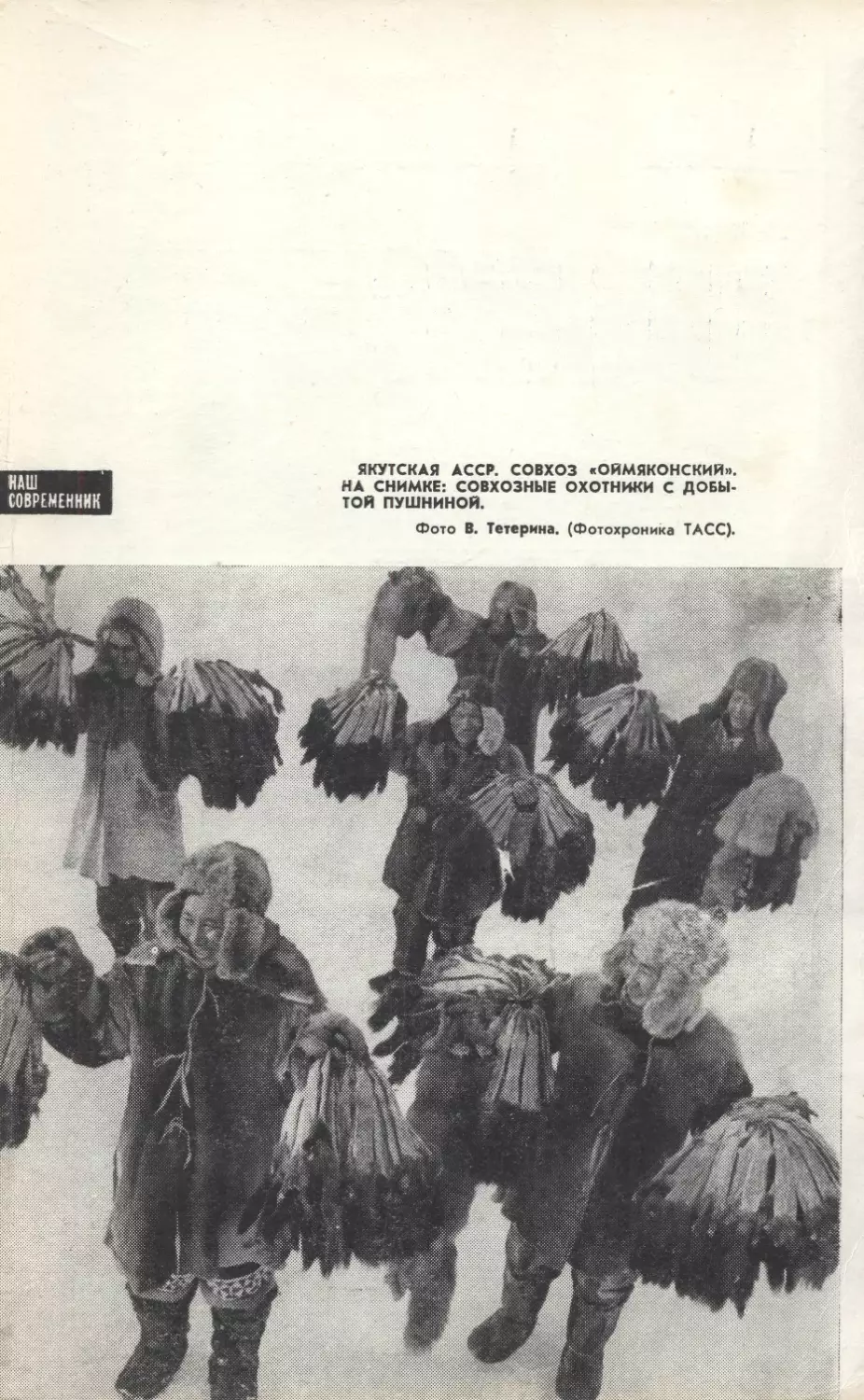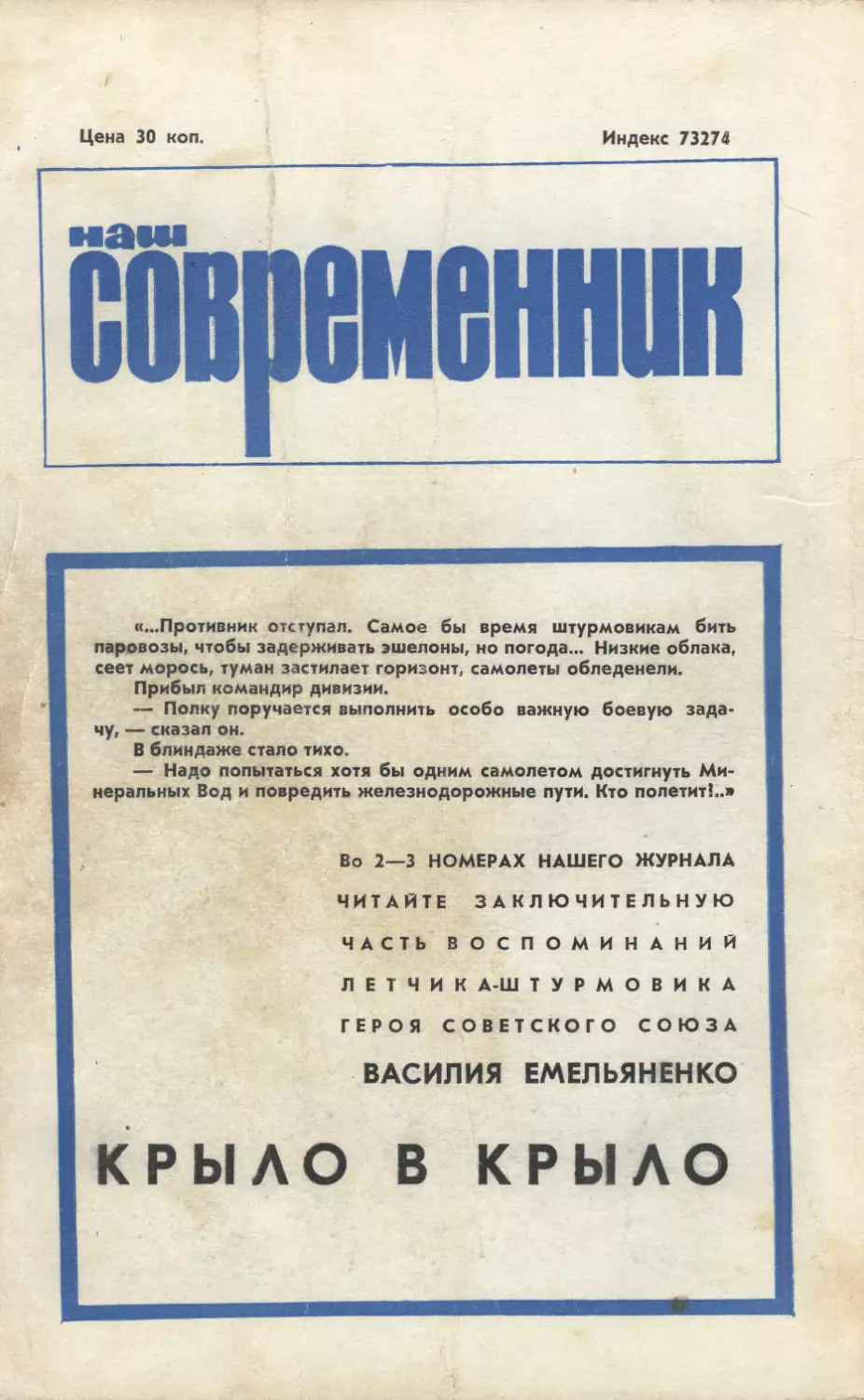Tags: журнал художественная литература журнал наш современник
Year: 1971
Text
ОРГАН
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГАЗЕТА»,
МОСКВА
Г Кроллис.
«Зрелость».
ГОД ИЗДАНИЯ ВОСЬМОЙ
НОМЕР 1
ЯНВАРЬ 1971
СОДЕРЖАНИЕ
ГАВРИИЛ ТРОЕПОЛЬСКИЙ.
Белый Бим черное ухо.
Повесть #,,....... 3
ВЛАДИМИР КОВАЛЕВ.
Сретенье. . . « 65
НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ.
«Той, давней, дружбы нет верней...». Ранний снег. «Воет
зимушка наша лютая...». «Спокойны руки...». Песня. • . 66
АБДУЛЛА ДАГАНОВ.
Не уезжай! «Не от движения пластов...».-С аварского.
Переводы Ст. Сущевского и В. Афанасьева 69
НИКОЛАЙ КУТОВ.
Разговор листвы и облаков. Деревенский вечер. Родина. 70
Б. С. АРХИПОВ, секретарь Костромского обкома КПСС.
Связать воедино «хочу» и «надо» 71
ВЯЧЕСЛАВ ШУГАЕВ.
Тунгусский берег.
Очерк * 78
ЛЕВ ПАРФЕНОВ.
Талант.
Рассказ о рабочем-рационализаторе Н. П. Зуеве . . 97
Товарищ Рабочий класс.
Фоторепортаж. . «06
ЕЛЕНА ЧАЙКОВСКАЯ, ЛЮДМИЛА ДОБРОВА.
Вершина пирамиды.
Глава из книги «В рамках катка» 1°8
ПРОЗА
ПОЭЗИЯ
ОЧЕРК
И
ПУБЛИЦИСТИКА
НАШ
СОВРЕМЕННИК
СПОРТ
КРИТИКА
НОВЫЕ КНИГИ
МИХАИЛ ЛАПШИН.
«...Со взором горящим».
Страницы из жизни Василия Кубанева . . . , .116
НИКОЛАЙ АГЕЕВ.
Горизонты эпохи 122
Н. БУХАНЦОВ.
Дыхание России 123
А. ПОТАПОВ.
Добрые струны 124
ЛЮДМИЛА ЩИПАХИНА.
Разговор с муллой . 126
МИХАИЛ ГЛАЗКОВ.
Штурмовщина. Акули из «Стройтреста» ,126
НИКОЛАЙ КУЛАК.
Мировые рифмы. Полустихи. Художественный свист.
Литературные пародии, 127
АЛЕКСАНДР БРОДСКИЙ.
Голоса детей » 128
Из иностранного юмора 128
ЮМОР
Главный редактор
С. В. ВИКУЛОВ.
Редакционная
коллегия:
A. АБУ-БАКАР,
B. П. АСТАФЬЕВ,
A. А. БОГДАНОВ
(зам. гл. редактора),
Д. М. КОВАЛЕВ,
B. А. КОЛЫХАЛОВ,
В. И. МАРЧЕНКО,
Ю. М. НАГИБИН,
Е. И. НОСОВ,
И. Г. ПАДЕРИН,
A. К. ПЕРЕДРЕЕВ,
B. В. ПОЛТОРАЦКИЙ,
Н. Т. СИЗОВ,
Л. А. ФРОЛОВ
(отв. секретарь),
А. И. ХВАТОВ,
А. К. ЮГОВ.
Художественный
редактор
Н. И. Савкина.
Корректоры
А. 3. Горская, Л. О. Кройтман.
Адрес редакции:
Москва, Г-69. ул. Писемского, 7.
Телефоны:
Главный редактор 291-01-32.
Зам. главного редактора 290-58-09.
Ответственный секретарь 290-29-01.
Зав. отделом прозы 290-67-19.
Отдел прозы 291-01-34.
Отдел поэзии 291-37-67.
Отдел критики 291-70-29.
Отдел очерка и публицистики 291-72-33.
Художественный редактор 291-73-03.
А-11420.
Сдано в набор 14.10.1970 г.
Подписано к печати
18.12.1970 г.
Заказ 5497
Формат 70xl08Vi6.
Печатных листов, приведенных
к формату 60x907i6 11.2.
Учетно-изд. листов 12,85.
Бумажных листов 4.
Тираж 103 000.
Типография
газеты
«Красная звезда»
Хорошевское
шоссе, 38.
ГАВРИИЛ ТРОЕПОЛЬСКИЙ
БЕЛЫЙ БММ
ЧЕРНОЕ УХО
ПОВЕСТЬ
Александру Трифоновичу
ТВАРДОВСКОМУ
Глава 1
ДВОЕ В ОДНОЙ КОМНАТЕ
алобно и, казалось, безнадежно он вдруг начинал скулить, неуклю-
е переваливаясь туда-сюда,—искал мать. Тогда Хозяин сажал его
себе на колени и совал в ротик соску с молоком.
Да и что оставалось делать месячному щенку, если он ничего еще не
понимал в жизни ровным счетом, а матери все нет и нет, несмотря ни на
какие жалобы. Вот он и пытался в первые два дня время от времени
задавать грустные концерты. Хотя, впрочем, засыпал на руках Хозяина в
объятиях с бутылочкой молока.
Но на четвертый день малыш уже стал привыкать к теплоте рук
человека. Щенки очень быстро начинают отзываться на ласку.
Имени своего он еще не знал, но через неделю точно установил, что
он — Бим.
В два месяца он с удивлением увидел вещи: высоченный для щенка
письменный стол, а на стене — ружье, охотничью сумку и лицо человека
с длинными волосами. Ко всему этому быстренько привык. Ничего
удивительного не было уже и в том, что человек на стене неподвижен: раз
не шевелится — интерес небольшой. Правда, несколько позже, потом,
он нет-нет да и посмотрит: что бы это значило — лицо выглядывает из
рамки, как из окошка?
Вторая стена была занимательнее. Она вся состояла из разных
брусочков, каждый из которых Хозяин мог вынуть и вставить обратно. В
возрасте четырех месяцев Бим, поднявшись на задние лапки,
самостоятельно дотянулся до стены, вытащил зубами брусочек и попытался его
исследовать. Но тот зашелестел почему-то и оставил в зубах Бима листок.
Очень забавно было раздирать на мелкие части тот листок.
— Это еще что?! — прикрикнул Хозяин. — Нельзя! — И тыкал
Бима носом в книжку. — Бим, нельзя. Нельзя!
Гавриил Троеполъский
После такого внушения даже человек откажется от чтения, но
Бим — нет: он долго и внимательно смотрел на книги, склоняя голову то
на один бок, то на другой. И, видимо, решил-таки: раз уж нельзя эту,
возьму другую. Он тихонько вцепился в корешок и утащил это самое под
диван; там отжевал сначала один угол переплета, потом второй, а
забывшись, выволок незадачливую книгу на середину комнаты и начал терзать
лапами играючи, да еще и с припрыгом.
Вот тут-то он и узнал впервые, что такое «больно» и что такое
«нельзя». Хозяин встал из-за стола и строго сказал:
— Нельзя! — И трепанул за ухо. — Ты же мне, глупая твоя голова,
«Библию для верующих и неверующих» изорвал. — И опять: — Нельзя!
Книги — нельзя! — Он еще раз трепанул за ухо.
Бим взвизгнул, да и поднял все четыре лапы кверху. Так, лежа на
спине, он смотрел на Хозяина и не мог понять, что же, собственно,
происходит.
— Нельзя! Нельзя! — долбил нарочито Хозяин и совал снова и
снова книгу к носу, но уже не наказывал. Потом поднял щенка на руки,
гладил и говорил одно и то же: — Нельзя, мальчик, нельзя, глупыш.—
И сел. И посадил на колени.
Так в раннем возрасте Бим получил от Хозяина мораль через
«Библию для верующих и неверующих». Бим лизнул ему руку и внимательно
смотрел в лицо.
Он уже любил, когда Хозяин с ним разговаривал, но понимал пока
всего лишь два слова: «Бим» и «нельзя». И все же очень, очень
интересно наблюдать^ как свисают на лоб белые волосы, шевелятся добрые
губы и как прикасаются к шерстке теплые ласковые пальцы. Зато Бим
уже абсолютно точно умел определить — веселый сейчас Хозяин или
грустный, ругает он или хвалит, зовет или прогоняет.
А Хозяин бывал и грустным. Тогда он говорил сам с собой и
обращался к Биму:
— Так-то вот и живем, дурачок. Ты чего смотришь на нее? —
указывал он на портрет. — Она, брат, умерла. Нет ее. Нет... — Он
гладил Бима и в полной уверенности приговаривал: — Ах ты, мой дурачок,
Бимка. Ничего ты еще не понимаешь.
Но прав был он лишь отчасти, так как Бим понимал, что сейчас
играть с ним не будут, да и слово «дурачок» принимал на свой счет, и
«мальчик» — тоже. Так что когда его большой друг окликал дурачком
или мальчиком, то Бим шел немедленно, как и на кличку. А раз уж он
осваивал интонацию голоса, то, конечно же, обещал быть умнейшей
собакой.
Но только ли ум определяет положение собаки среди своих
собратьев? К сожалению, нет. Кроме умственных задатков, у Бима не все было
в порядке.
Правда, он родился от породистых родителей, сеттеров, с длинной
родословной. У каждого его предка был личный листок, свидетельство.
Хозяин мог бы по этим анкетам дойти не только до прадеда и прабабки
Бима, но и знать, при желании, прадедового прадеда и прабабушкину
прабабушку. Это все, конечно, хорошо. Но дело в том, что Бим при всех
достоинствах имел большой недостаток, который потом сильно
отразился на его судьбе: хотя он был из породы шотландских сеттеров (сеттер-
гордон), но окрас оказался абсолютно нетипичным — вот в чем и соль.
По стандартам охотничьих собак сеттер-гордон должен быть
обязательно «черный, с блестящим синевагьш отливом — цвета воронова крыла,
и обязательно с четко отграниченными яркими рыже-красными
подпалинами»; даже белые отметины на не предусмотренных стандартом местах
БЕЛЫЙ ВИМ ЧЕРНОЕ УХО
Рисунок Е Капустина.
Гавриил Троеполъский
считаются большим пороком у гордонов. Бим же выродился таким:
туловище белое, но с рыженькими подпалинами и даже чуть заметным
рыжим крапом, только одно ухо и одна нога черные, действительно —
как вороново крыло; второе ухо мягкого желтовато-рыженького цвета.
Даже удивительно подобное явление: по всем статьям — сеттер-гордон,
а окрас — ну ничего похожего. Какой-то далекий-далекий предок взял
вот и выскочил в Биме: родители — гордоны, а он — альбинос породы.
В общем-то, с такой разноцветностью ушей и с подпалинками под
большими умными темно-карими глазами морда Бима была даже
симпатичней, приметней, может быть, даже умнее или, как бы сказать,
философичней, раздумчивей, чем у обычных собак. И право же, все это нельзя
даже назвать мордой, а скорее — собачьим лицом. Но по законам
кинологии белый окрас, в конкретном случае, считается признаком
вырождения. Во всем — красавец, а по стандартам шерстного покрова — явно
сомнительный и даже порочный. Такая вот беда была у Бима.
Конечно, Бим не понимал вины своего рождения, поскольку никому
не дано природой выбирать родителей. Биму просто не дано и думать об
этом. Он жил себе и пока радовался.
Но Хозяин-то беспокоился: дадут ли на Бима родословное
свидетельство, которое закрепило бы его положение среди охотничьих собак,
или он останется пожизненным изгоем. Это будет известно лишь в
шестимесячном возрасте, когда щенок (опять же по законам кинологии)
определится и оформится в близкое к тому, что называется породной
собакой.
Владелец матери Бима в общем-то уже решил было выбраковать
белого из помета, то-есть утопить, но нашелся чудак, которому стало
жаль такого красавца. Чудак тот и был теперешним Хозяином Бима*
глаза ему понравились, видите ли, умные. Надо же! А теперь и стоит
вопрос: дадут или не дадут родословную?
Тем временем Хозяин пытался разгадать, откуда такая аномалия у
Бима. Он перевернул все книги по охоте и собаководству, чтобы хоть
немного приблизиться к истине и доказать со временем, что Бим не
виноват. Именно для этого он и начал выписывать из разных книг в толстую
общую тетрадь все, что могло оправдать Бима, как действительного
представителя породы сеттеров. Бим был уже его другом, а друзей
всегда надо выручать. В противном случае — не ходить Биму
победителем на выставках, не греметь золотым медалям на груди: какой бы он
ни был золотой собакой на охоте, из породных он будет исключен»
Какая же все-таки несправедливость на белом свете!
ЗАПИСКИ ХОЗЯИНА
В последние месяцы Бим незаметно вошел в мою жизнь и занял
в ней прочное место. Чем же он взял? Добротой, безграничным
доверием и лаской — чувствами всегда неотразимыми, если между ними не
втерлось подхалимство, каковое может потом, постепенно, превратить
все в ложное — и доброту, и доверие, и ласку. Жуткое это качество —
подхалимаж. Не дай-то, боже! Но Бим — пока малыш и милый
собачонок. Все будет зависеть в нем от меня, от хозяина.
Странно, что и я иногда замечаю теперь за собой такое, чего раньше
не было. Например, если увижу картину, где есть собака, то прежде всего
обращаю внимание на ее окрас и породистость. Сказывается
беспокойство от вопроса: дадут или не дадут свидетельство?
Несколько дней назад был в музее на художественной выставке и
сразу же обратил внимание на картину Д. Бассано (XVI век) «Моисей
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО
иссекает воду из скалы». Там на переднем плане изображена собака —
явно прототип легавой породы, со странным, однако, окрасом: туловище
белое, морда же, рассеченная белой проточиной, черная, уши тоже
черные, а нос белый, на левом плече черное пятно, задний кострец
тоже черный. Измученная и тощая, она жадно пьет долгожданную воду
из человеческой миски.
Вторая собака, длинношерстная, тоже с черными ушами.
Обессилев от жажды, она положила на колени хозяина голову и
смиренно ожидает воду.
Рядом — кролик, петух, слева — два ягненка.
Что хотел сказать художник, поместив собаку среди людей на
передний план? Видимо, он хотел сказать, что люди любили собак еще с
глубокой древности, никогда их не покидали, даже в несчастье, даже на
грани гибели народа, а собаки оставались преданными и верными,
готовыми погибнуть вместе с человеком.
Картине Д. Бассано более трехсот лет. Неужели же черное и белое
в Биме идет от тех времен? Не может того быть. Впрочем, природа есть
природа.
Однако вряд ли это поможет чем-го отстранить обвинение против
Бима в его аномалиях расцветки тела и ушей. Ведь чем древнее будут
примеры, тем крепче его обвинят в атавизме и неполноценности.
Нет, надо искать что-то другое. Если же кто-то из кинологов и
напомнит мне о картине Д. Бассано, то можно, на крайний случай, сказать
просто: а при чем тут черные уши у Бассано?
Поищем данные ближе к Биму по времени.
Выписка из стандартов охотничьих собак: «Сеттеры-гордоны
выведены в Шотландии... Порода сложилась к началу второй
половины XIX столети я... Современные шотландские сеттеры, сохранив
свою мощь и массивность костяка, приобрели более быстрый ход.
Собаки спокойного, мягкого характера, послушные и
незлобные, они рано и легче принимаются за работу, успешно
используются и на болоте, и в лесу... Характерна отчетливая, спокойная,
высокая стойка с головой не ниже уровня холки...».
Из двухтомника «Собаки» Л. П. Сабанеева, автора замечательных
книг — «Охотничий календарь» и «Рыбы России»:
«Если мы примем во внимание, что в основании сеттера лежит
самая древняя раса охотничьих собак, которая в течение многих
столетий получала, так сказать, домашнее воспитание, то не станем
удивляться тому, что сеттеры представляют едва ли не самую
культурную и интеллигентную породу».
Так! Бим, следовательно, собака интеллигентной породы. Это уже
может пригодиться.
Из той же книги Л. П. Сабанеева:
«В 1847 году Пэрлендом из Англии были привезены, для подарка
Великому Князю Михаилу Павловичу, два замечательных красивых
сеттера очень редкой породы... Собаки были непродажныя и променены на
лошадь, стоившую 2000 рублей...».
Вот. Вез для подарка, а содрал цену двадцати крепостных. Но
виноваты ли собаки? И при чем тут Бим? Это непригодно.
Гавриил Троепольский
Из письма известного в свое время природолюба, охотника и
собаковода С. В. Пенского к Л. П. Сабанееву:
«Во время Крымской войны я видел очень хорошего красного
сеттера у Сухово-Кобылина, автора «Свадьбы Кречинского», и желто-пегих
в Рязани у художника Петра Соколова».
Ага, это уже ближе к делу. Интересно: даже сатирик имел тогда
сеттера. А у художника — желто-пегий. Не оттуда ли твоя кровь, Бим?
Вот бы! Но зачем тогда... черное ухо? Непонятно.
Из того же письма:
«Породу красных сеттеров вел также московский дворцовый доктор
Берс. Одну из красных сук он поставил с черным сеттером
покойного Императора Александра Николаевича. Какие вышли щенки и куда
они девались — не знаю; знаю только, что одного из них вы-
ростил у себя в деревне граф Лев Николаевич
Толсто й».
Стоп! Не тут ли? Если твоя нога и ухо черны от собаки Льва
Николаевича Толстого, ты — счастливая собака, Бим, даже без личного
листка породы, самая счастливая из всех собак на свете. Великий писатель
любил собак.
Еще из того же письма:
«Императорского черного кобеля я видел в Ильинском
после обеда, на который Государь пригласил членов правления
Московского общества охоты. Это была очень крупная и весьма красивая
комнатная собака, с прекрасной головой, хорошо одетая, но сеттериного
типа в ней было мало; к тому же ноги были слишком длинны, и одна из
ног совершенно белая. Говорят, сеттер этот был подарен
покойному Императору каким-то польским паном, и слух ходил, что кобель-то
был не совсем кровный».
Выходит, польский пан облапошил императора? Могло быть. Могло
это быть и на собачьем фронте. Ох уж этот мне черный императорский
кобель! Впрочем, тут же рядом идет кровь желтой суки Берса,
обладавшей «чутьем необыкновенным и замечательной сметкой». Значит, есЛи
даже нога твоя, Бим, от черного кобеля императора, то весь-то ты
вполне можешь быть дальним потомком собаки величайшего писателя... Но,
нет, Бимка, дудки! Об императорском — ни слова. Не было — и все тут.
Еще чего не доставало.
Что же остается на случай возможного спора в защиту Бима?
Моисей отпадает по понятным причинам. Сухово-Кобылин отпадает
и по времени, и по окрасу. Остается Лев Николаевич Толстой: а) по
времени ближе всех; б) отец его собаки был черным, а мать красная. Все
подходяще. Но отец-то, черный-то, — императорский, вот загвоздка.
Как ни поверни, о поисках дальних кровей Бима приходится
молчать. Следовательно, кинологи будут определять только по родословной
отца и матери Бима, как у них и полагается: нет белого в родословной
и — аминь. А Толстой им — ни при чем. И они правы. Да и в самом
деле, этак каждый может происхождение своей собаки довести до собаки
писателя, а там и самому недалеко до Л. Н. Толстого. И действи-
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО
тельно: сколько их у нас, Толстых-то! Ужас, как много объявилось, по-
мрачительно много.
Как ни обидно, но разум мой готов уже смириться с тем, что Биму
быть изгоем среди породистых собак. Плохо. Остается одно: Бим —
собака интеллигентной породы.
— Плохо, Бим, плохо,— вздохнул Хозяин, отложив ручку и засунув
в стол общую тетрадь.
Бим, услышав свою кличку, поднялся с лежака, сел, наклонил
голову на сторону черного уха, будто слушал только желто-красным. И это
было очень симпатично. Всем своим видом он говорил: «Ты хороший,
мой добрый друг. Я слушаю. Чего же ты хочешь?».
Хозяин сразу же повеселел от такого вопроса Бима и сказал:
— Ты хмолодец, Бим! Будем жить вместе, хотя бы и без
родословной. Ты хороший пес. Хороших собак все любят. — Он взял Бима на
колени и гладил его шерстку, приговаривая: — Хорошо. Все равно хорошо,
мальчик.
Биму было тепло и уютно. Он тут же на всю жизнь понял:
«Хорошо» — это ласка, благодарность и дружба.
И Бим уснул. Какое ему дело до того, кто он, его Хозяин? Важно —
он хороший и близкий.
— Эх, ты, черное ухо, императорская нога, — тихо сказал тот и
перенес Бима на лежак.
Он долго стоял перед окном, всматриваясь в темно-сиреневую ночь.
Потом взглянул на портрет женщины и проговорил:
— Видишь, мне стало немножко легче. Я уже не одинок. — Он не
заметил, как в одиночестве постепенно привык говорить вслух «ей» или
даже самому себе, а теперь и Биму. — Вот я и не один,— повторил он
портрету.
А Бим спал.
Так они и жили вдвоем в одной комнате. Бим рос крепышом. Очень
скоро он узнал, что Хозяина зовут «Иван Иваныч». Умный щенок,
сообразительный. И мало-помалу он понял, что ничего нельзя трогать,
можно только смотреть на вещи и людей. И вообще все нельзя, если не
разрешит или не прикажет хозяин. Так слово «нельзя» стало главным
законом жизни Бима. А глаза Ивана Иваныча, интонация, жесты,
четкие слова-приказы и слова ласки были руководством в собачьей жизни.
Более того, самостоятельные решения к какому-либо действию никоим
образом не должны были противоречить желаниям хозяина. Зато Бим
постепенно стал даже угадывать некоторые намерения друга. Вот,
например, стоит он перед окном и смотрит, смотрит вдаль и думает,
думает. Тогда Бим садится рядом и тоже смотрит и тоже думает. Человек
не знает, о чем думает собака, а собака всем видом своим говорит:
«Сейчас мой добрый друг сядет за стол, обязательно сядет. Походит немного
из угла в угол и сядет и будет водить по белому листку палочкой, а та
будет чуть-чуть шептать. Это будет долго, потому посижу-ка и я с ним
рядом». Затем ткнется носом в теплую ладонь. А хозяин скажет:
— Ну, что ж, Бимка, будем работать.— И, правда, садится.
А Бим калачиком ложится в ногах или, если сказано «На место»,
уйдет на свой лежак в угол и будет ждать. Будет ждать взгляда, слова,
жеста. Впрочем, через некоторое время можно и сойти с места, зани-
10 Гавриил Троепольский
маться круглой костью, разгрызть которую невозможно, но зубы
точить — пожалуйста, только не мешай.
Но когда Иван Иваныч закроет лицо ладонями, облокотившись на
стол, тогда Бим подходит к нему и кладет разноухую мордашку на
колени. И стоит. Знает, погладит. Знает, другу что-то не так. А Иван
Иваныч поблагодарит:
— Спасибо, милый, спасибо, Бимка. — И будет снова шептать
палочкой по белой бумаге.
Так было дома.
Но не так было на лугу, где оба забывали обо всем. Здесь можно
бегать, резвиться, гоняться за бабочками, барахтаться в траве — все
было позволительно. Однако и здесь, после восьми месяцев жизни Бима,
все пошло по командам хозяина: «Поди-поди!» — можешь играть,
«Назад!» — очень понятно, «Лежать!» — абсолютно ясно, «Ап!» —
перепрыгивай, «Ищи!» — разыскивай кусочки сыра, «Рядом!» — иди рядом,
но только слева, «Ко мне!» — быстро к хозяину — будет кусочек сахара.
И много других слов узнал Бим до года. Друзья все больше и больше
понимали друг друга, любили и жили на равных — человек и собака.
Но случилось однажды такое, что у Бима жизнь изменилась, и он
повзрослел за несколько дней. Произошло это только потому, что Бим
вдруг открыл у хозяина большой, поразительный недостаток.
Дело было так. Тщательно и старательно шел Бим по лугу
челноком, разыскивая разбросанный сыр, и вдруг среди разных запахов трав,
цветов, самой земли и реки ворвалась струя воздуха, необычная и
волнующая: пахло какой-то птицей, вовсе не похожей на тех, что знал
Бим, — воробьев там разных, луговых синиц, трясогузок и всякой
мелочи, догнать какую нечего и пытаться (пробовали). Пахло чем-то
неизвестным, что будоражило кровь. Бим приостановился и оглянулся на
Ивана Иваныча. А тот повернул в сторону, ничего не заметив. Бим был
удивлен: друг-то не чует. Да ведь он же калека! И тогда Бим принял
решение сам: тихо переступая в потяжке, стал приближаться к
неведомому, уже не глядя на Ивана Иваныча. Шажки становились все реже
и реже, он как бы выбирал точку для каждой лапы, чтобы не
зашуршать, не зацепить будылинку. Наконец запах оказался таким сильным,
что дальше идти уже невозможно. И Бим, так и не опустив на землю
правую переднюю лапу, замер на месте, застыл, будто окаменел. Это
была статуя собаки, будто созданная искусным скульптором. Вот она,
первая стойка! Первое пробуждение охотничьей страсти до полного
забвения самого себя.
О нет, хозяин тихо подходит, гладит чуть-чуть вздрагивающего в
трепете Бима:
— Хорошо, хорошо, мальчик. Хорошо. — И берет за ошейник. —
Вперед... Вперед...
А Бим не может — нет сил.
— Вперед... Вперед... — тянет его Иван Иваныч.
И Бим пошел! Тихо-тихо. Остается совсем чуть — кажется,
неведомое рядом. Но вдруг приказ резко:
— Вперед!!!
Бим бросился. Шумно выпорхнул перепел. Бим рванулся за ним
и-и-и... погнал, страстно, изо всех сил.
— Наза-ад! — крикнул хозяин.
Но Бим ничего не слышал, ушей будто и не было.
— Наза-ад! — И свисток. — Наза-ад! — И свисток.
Бим мчался до тех пор, пока не потерял из виду перепела, а затем,
веселый и радостный, вернулся. Но что же это значит? Хозяин сумрачен,
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО \ \
смотрит строго, не ласкает. Все было ясно: ничего не чует его друг!
Несчастный друг... Бим как-то осторожненько лизнул руку, выражая этим
трогательную жалость к выдающейся наследственной неполноценности
самого близкого ему существа.
Хозяин сказал:
— Да ты вовсе не о том, дурачок. — И веселее: — А ну-ка,
начнем, Бим, по-настоящему. — Он снял ошейник, надел другой
(неудобный) и пристегнул к нему длинный ремень. — Ищи!
Теперь Бим разыскивал запах перепела — больше ничего. А Иван
Иваныч направлял его туда, куда переместилась птица. Биму было
невдомек, что его друг видел, где приблизительно сел перепел после
позорной погони (чуять, конечно, не чуял, а видеть — видел).
И вот тот же запах! Бим, не замечая ремня, сужает челнок,
тянет, тянет, поднял голову и тянет верхом... Снова стойка! На фоне
заката солнца он поразителен в своей необычайной красоте, понять
которую дано не многим. Дрожа от волнения, Иван Иваныч взял
конец ремня, крепко завернул на руку и тихо приказал:
— Вперед... Вперед...
Бим пошел на подводку. И еще раз приостановился.
— Вперед!!!
Бим так же бросился, как и в первый раз. Перепел теперь
вспорхнул с жестким стрекотом крыльев. Бим опять ринулся было
безрассудно догонять птицу, но... рывок ремня заставил его отскочить назад.
— Назад!!! — крикнул хозяин. — Нельзя!!!
Бим, опрокинувшись, упал. Он не понял — за что так. И тянул
ремень вновь в сторону перепела.
— Лежать!
Бим лег.
И еще раз все повторилось, уже по новому перепелу. Но теперь
Бим почувствовал рывок ремня раньше, чем тогда, а по приказу лег
и дрожал от волнения, страсти и в то же время от уныния и печали:
все это было в его облике от носа до хвоста. Ведь так больно! И не
только от жестокого, противного ремня, а еще и от колючек внутри ошейника,
— Вот так-то, Бимка. Ничего не поделаешь — так надо, — Иван
Иваныч, лаская, поглаживал Бима.
С этого дня и началась настоящая охотничья собака. С этого же
дня Бим понял, что только он, только он один может узнать, где птица,
и что хозяин-то беспомощен, а нос у него пристроен только для виду.
Началась настоящая служба, в основе ее лежали три слова: нельзя,
назад, хорошо.
А потом — эх! —- потом ружье! Выстрел. Перепел падал, как
ошпаренный кипятком.
И догонять его, оказывается, вовсе не надо, его только найти,
поднять на крыло и лечь, а остальное сделает друг. Игра на равных: хозяин
без чутья, собака без ружья.
Так теплая дружба и преданность становились счастьем, потому
что каждый понимал каждого и каждый не требовал от другого больше
того, что он может дать. В этом основа, соль дружбы.
К двум годам Бим стал отличной охотничьей собакой, доверчивой
и честной. Он знал уже около ста слов, относящихся к охоте и дому:
скажи Иван Иваныч «Подай» — будет сделано; скажи он «Подай тапки» —
подаст, «Неси миску»—принесет, «На стул!»—сядет на стул. Да что там!
По глазам уже понимал: хорошо смотрит хозяин на человека, и Биму
он — знакомый с той же минуты; недружелюбно глянет —- и Бим иной
12 Гавриил Троеполъский
раз даже и взрычит; даже лесть (ласковую лесть) он улавливал в
голосе чужого. Но никогда и никого Бим не укусил — хоть на хвост
наступи. Лаем предупредит ночью, что к костру подходит чужой, —
пожалуйста, но укусить — ни в коем случае. Такая уж интеллигентная
порода.
Что до интеллигентности, то Бим даже умел так: научился сам,
дошел своим умом, царапаться в дверь, чтобы открыли. Бывало,
заболеет Иван Иваныч и не идет с ним гулять, а выпускает одного. Бим
побегает малость, управится как и полагается, и спешит домой.
Поцарапает в дверь, став на задние лапы, чуть поскулит просяще, и дверь
открывается, хозяин, тяжело шлепая по прихожей, встречает, ласкает
и снова ложится в постель. Это когда он, пожилой человек,
прихварывал (кстати, побаливал он все чаще и чаще, чего Бим не мог не
заметить). Бим твердо усвоил: поцарапай в дверь, тебе откроют
обязательно; двери и существуют для того, чтобы каждый мог войти:
попросись — тебя впустят. С собачьей точки зрения это было твердое
уже убеждение.
Только не знал Бим, не знал и не мог знать, сколько потом будет
разочарований и бед от такой наивной доверчивости, не знал и не мог
знать, что есть двери, которые не открываются, сколько в них ни
царапайся.
Как оно там будет дальше — неизвестно, но пока остается
сказать одно: Бим, пес с выдающимся чутьем, так-таки и остался
сомнительным — свидетельство родословной не выдали. Дважды Иван
Иваныч выводил его на выставку: снимали с ринга без оценки. Значит —
изгой.
И все же Бим — не наследственная бездарь, а замечательная,
настоящая собака: он начал работать по птице с восьми месяцев. Да еще
как! Хочется верить, что перед ним открывается хорошее будущее.
Гл а в а 2
ВЕСЕННИЙ ЛЕС
На втором сезоне, то-есть на третьем году от рождения Бима, Иван
Иваныч познакомил его и с лесом. Это было очень интересно и собаке,
и хозяину.
В лугах и на поле — там все ясно: простор, трава, хлеба, хозяина
всегда видно, ходи челноком в широком поиске, ищи, найди, делай
стойку и жди приказа. Прелесть! А тут, в лесу, совсем-совсем иное
дело.
Была ранняя весна.
Когда они пришли впервые, вечерняя заря только начиналась, а
среди деревьев стояли уже сумерки, хотя листья еще и не появились.
Все внизу в темных тонах: стволы, прошлогодние темно-коричневые
листья, коричнево-серые сухие стебли трав, даже плоды шиповника,
густо-рубиновые осенью, теперь, выдержав зиму, казались кофейными
зернами.
Ветви слегка шумели от легкого ветра, жидко и голо; они будто
ощупывали друг друга, то притрагиваясь концами, то чуть прикасаясь
серединой сучьев: жив ли? Верхушки стволов легонько покачивались —
деревья казались живыми даже и безлистые. Все было таинственно-
шуршащим и густо-пахучим: и деревья, и листва под ногами, мягкая,
с весенним запахом лесной земли, и шаги Ивана Иваныча, осторожные
и тихие. Его ботинки тоже шуршали, а следы пахли куда сильнее, чем в
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 13
поле. За каждым деревом что-то незнакомое, таинственное. Поэтому-то
Бим и не отходил от Ивана Иваныча дальше двадцати шагов:
пробежит вперед — влево, вправо — и катит назад и смотрит в лицо,
спрашивая: «хМы зачем сюда попали?».
— Не поймешь, что к чему? — догадывался Иван Иваныч. —
Поймешь, Бимка, поймешь. Подожди малость.
Так и шли, присматривая друг за другом.
Но вот они остановились на широкой поляне, на пересечении двух
просек: дороги на все четыре стороны. Иван Иваныч стал за куст
орешника, лицом к заре, и смотрел вверх. Бим тоже поглядывал туда, изо
всех сил стараясь догадаться, что же там надо высматривать.
Вверху было светло, а здесь, внизу, становилось все темнее и
темнее. Кто-то прошуршал по лесу и притих. Еще прошуршал и опять при-
гих. Бим прижался к ноге Ивана Иваныча — так он спрашивал: «Что
там? Кто там? Может, пойдем посмотрим?».
— Заяц, — еле слышно сказал хозяин. — Все хорошо, Бим.
Хорошо. Заяц. Пусть его бегает.
Ну, раз «хорошо», значит все в порядке. «Заяц» — тоже понятно:
не раз, когда Бим натыкался на след зверька, ему повторяли это слово. А
однажды видел и самого зайца, пытался его догнать, но заработал
строгое предупреждение и был наказан. Нельзя!
Итак, недалеко прошуршал заяц. А дальше что?
Вдруг вверху кто-то, невидимый и неведомый, захоркал: «Хор-хор!..
Хор-хор!.. Хор-хор!..». Бим услышал это первым и вздрогнул. Хозяин
тоже. Оба смотрели вверх, только вверх... Неожиданно, на фоне
багряно-синеватой зари, вдоль просеки показалась птица. Она летела
прямо на них, изредка выкрикивала так, будто это не птица, а
зверек, летит и хоркает. Но то была все-таки птица. Она казалась
большой, крылья же совершенно были бесшумны (не то что перепел, куро-
пагка или утка). Одним словом, незнакомое летело вверху.
Иван Иваныч вскинул ружье. Бим, как по команде, лег, не
спуская взора с птицы... В лесу выстрел был таким резким и сильным,
какого раньше Бим не слышал никогда. Эхо прокатилось по лесу и замерло
далеко-далеко.
Птица упала в кусты, но друзья быстренько ее отыскали. Иван
Иваныч положил ее перед Бимом и сказал:
— Знакомься, брат: вальдшнеп. — И еще раз повторил: —
Вальдшнеп.
Бим обнюхивал, трогал лапой за длинный нос, потом сел,
подрагивая и перебирая передними лапами в удивлении. Конечно же, он
этим и говорил про себя: «Таких носов еще не вида-ал. Вот это
действительно но-ос!».
А лес слегка шумел, но все тише и тише. Потом и совсем затих
как-то сразу, будто кто-то невидимый легонько взмахнул широким
крылом над деревьями в последний раз: хватит шороху. Ветви стали
недвижны, деревья, казалось, засыпали, разве что изредка вздрагивая
в полутьме.
Пролетели еще три вальдшнепа, но Иван Иваныч не стрелял. Хотя
последнего они уже и не видели в темноте, а только слышали голос,
но Бим был удивлен: почему друг не стрелял даже и в тех, каких
хорошо видно. От этого Бим волновался. А Иван Иваныч или просто
смотрел вверх, или, потупившись, слушал тишину. Оба молчали.
Вот уж когда не надо никаких слов — ни человеку, ни тем более
собаке!
14 Гавриил Троеполъский
Только напоследок, перед уходом, Иван Иваныч проговорил:
— Хорошо, Бим! Жизнь начинается вновь. Весна.
По интонации Бим понял, что другу сейчас приятно. И он ткнул
его носом в колено, повиливая хвостом: хорошо, дескать, о чем речь!
...Второй раз они приходили сюда же поздним утром, но уже без
ружья.
Ароматные набухшие почки березы, могучие запахи кореньев,
тончайшие струйки от пробивающихся ростков трав — все это было
поразительно ново и восхитительно. Солнце пронизывало в лесу все
насквозь, кроме сосняка, да и тот кое-где изрезан золотом лучей. И было
тихо. Главное — было тихо. До чего же хороша весенняя утренняя
тишина в лесу!
На этот раз Бим стал смелее: все отлично просматривается (не
то что тогда в сумерках). И он носился по лесу вволю, не упуская
однако из виду хозяина. Все было великолепно.
Наконец Бим наткнулся на ниточку запаха вальдшнепа. И
потянул. И сделал классическую стойку. Иван Иваныч послал «Вперед»,
а стрелять-то ему и нечем. Да еще приказал лежать, как полагается
при взлете птицы. Абсолютно непонятно: видит хозяин или нет? Бим
искоса поглядывал на него до тех пор, пока не убедился — видит.
По второму вальдшнепу все получилось так же. Что-то похожее
на обиду Бим теперь все-таки выражал: настороженный взгляд,
побежка сторонкой, даже попытки к неповиновению — одним словом,
недовольство назревало и искало выхода. Именно поэтому-то Бим и
погнался за взлетевшим, третьим уже, вальдшнепом, как обыкновенная
дворняга. Но за вальдшнепом далеко не поскачешь: мелькнул в
ветвях, и нет его. Бим вернулся недовольный, да к тому же еще был
наказан. Что ж, он лег в сторонке и глубоко вздохнул (собаки
здорово умеют так делать).
Все это еще можно бы перенести, если бы не добавилась вторая
обида. Бим на этот раз открыл новый недостаток у хозяина —
извращенное чутье: и без того бесчутый, да еще...
А дело было так.
Остановился Иван Иваныч и смотрит, смотрит по сторонам, и
нюхает (туда же!). Потом шагнул к дереву, присел и тихонечко, одним
пальцем, погладил цветок, малюсенький такой (для Ивана Иваныча
он почти без запаха, а для Бима вонючий до невозможности). И что
ему — в том цветке? Но хозяин сидел, улыбался. Бим, конечно,
сделал вид, что ему тоже вроде бы хорошо, но это только исключительно
из уважения к личности, а на самом деле он был нимало удивлен.
— Ты посмотри, посмотри-ка, Бим! — воскликнул Иван Иваныч
и наклонил нос собаки к цветку.
Такого Бим уже не мог вынести — он отвернулся. Затем
незамедлительно отошел и лег на полянке, всем видом выражая одно: «Ну и
нюхай свой цветок!». Расхождения требовали срочного выяснения
отношений, но хозяин смеялся в глаза Биму счастливым смехом. И это
было обидно. «Тоже мне, хохочет!».
А тот опять к цветку:
— Здравствуй, первенький!
Бим понял точно: «здравствуй» сказано не ему.
Ревность закралась в собачью душу, если можно так выразиться,
вот что случилось в тот день. Только лишь дома отношения как будто
наладились. Но день для Бима получился неудачный: была дичь —
не стреляли, побежал сам за птицей — наказали, да еще — цветок тог.
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 15
Нет, все-таки и у собаки жизнь бывает собачья, ибо она живег под
гипнозом трех «китов»: «Нельзя», «Назад», «Хорошо».
Только не ведали они — ни Бим, ни Иван Иваныч, — что когда-то
этот день, если бы они вспомнили, показался бы им огромным счастьем.
ЗАПИСКИ ХОЗЯИНА
В уставшем от зимней тягости лесу, когда еще не распустились
проснувшиеся почки, когда горестные пни зимней порубки еще не дали
поросль, но уже плачут, когда мертвые бурые листья лежат пластом,
когда голые ветви еще не шелестят, а лишь потихоньку трогают друг
друга, — неожиданно донесся запах подснежника! Еле-еле заметный,
но это — запах пробуждающейся жизни, и потому он
трепетно-радостный, хотя почти и не ощутим. Смотрю вокруг — оказалось, он рядом.
Стоит на земле цветок, крохотная капля голубого неба, такой
простой и откровенный первовозвестник радости и счастья, кому оно
положено и доступно. Но для каждого — и счастливого, и несчастного —
он сейчас — украшение жизни.
Вот так и среди нас, человеков: есть скромные люди с чистым
сердцем, «незаметные» и «маленькие», но с огромной душой. Они-то
и украшают жизнь, вмещая в себе все лучшее, что есть в
человечестве, — доброту, простоту, доверие. Так и подснежник кажется
капелькой неба на земле...
А через несколько дней (вчера) мы были с Бимом на том же
месте. Небо окропило лес уже тысячами голубых капель. Ищу,
высматриваю: где же он, тот самый первый, самый смелый? Кажется, вот он.
Он или не он? Не знаю. Их так много, что того уже не заметить,
не найти — затерялся среди идущих за ним, смешался с ними. А ведь
он такой маленький, но героический, такой тихий, но до того
напористый, что, кажется, именно его испугались последние заморозки,
сдались, выбросив ранней зарей белый флаг последнего инея на опушке.
Жизнь идет.
...А Биму ничего из этого недоступно понять. Даже обиделся в
первый раз, заревновал. Впрочем, когда было уже много цветов, он и
тогда не обращал на них внимания. При натаске же вел себя — не
ахти: расстроился без ружья. Мы с ним на разных ступенях развития,
но очень и очень близки. Природа творит по устойчивому закону:
необходимость одного в другом; начиная с простейших и кончая
высокоразвитой жизнью, везде — этот закон... Разве смог бы я вынести столь
жуткое одиночество, если бы не было Бима?
...Как она была мне необходима! Она тоже любила
подснежники. Прошлое как сон...
А не сон ли — настоящее? Не сон ли это — вчерашний весенний
лес с голубизной на земле? Что ж: голубые сны —
божественно-целительное лекарство, пусть и временное. Конечно, временное. Ибо если бы
даже и писатели проповедовали только голубые сны, уходя от серого
цвета, то человечество перестало бы беспокоиться о будущем, приняв
настоящее как вечное и в будущем. Удел обреченности во времени и
состоит в том, что настоящее должно стать только прошлым. Не во
власти человека приказать: «Солнце, остановись!». Время неостановимо,
неудержимо и неумолимо. Все — во времени и движении. А тот, кто
ищет только устойчивого голубого покоя, тот весь уже в прошлом, будь
он молодым радетелем о себе или престарелым — возраст не имеет
значения. Голубое имеет свой звук, оно звучит как покой, забвение, но
16 Гавриил Троепольский
только временное — всего лишь для отдыха; такие минуты никогда не
надо пропускать.
Если бы я был писателем, то обязательно обратился бы так:
«О беспокойный Человек! Слава тебе вовеки, думающему,
страдающему ради будущего! Если тебе захочется отдохнуть душой, иди
ранней весной в лес к подснежникам, и ты увидишь прекрасный сон
действительности. Иди скорее: через несколько дней подснежников
может и не быть, а ты не сумеешь запомнить волшебство видения,
подаренного природой. Иди, отдохни. Подснежники — к счастью,
говорят в народе».
...А Бим дрыхнет. И видит сон: подрыгивает ногами — бежит во
сне. Этому подснежники «до лампочки»: голубое он видит только серым
(так уж устроено зрение у собаки). Природа создала как бы
очернителя действительности. Поди убеди его, милого друга, чтобы он видел
с точки зрения человека. Хоть голову отруби, а видеть будет по-своему.
Вполне самостоятельный пес.
Глава 3
ПЕРВЫЙ НЕПРИЯТЕЛЬ БИМА
Прошло лето, веселое для Бима> радостное, заполненное дружбой
с Иваном Иванычем. Походы в луга и болота (без ружья), солнечные
дни, купание, тихие вечера на берегу реки — что еще надо любой
собаке? Ничего не надо — это точно.
При тренировке и натаске они встречались и с охотниками. С этими
знакомство происходило незамедлительно, потому что с каждым таким
человеком была собака. Еще до того, как сходились хозяева, обе собаки
бежали друг к другу и коротко беседовали на собачьем языке жестов
и взглядов:
«Ты кто: он или она?» — спрашивал Бим, обнюхивая
соответствующие места (конечно, для проформы).
«Сам видишь, чего и спрашивать», — отвечала она.
«Как жизнь?» — весело спрашивал Бим.
«Работаем!» — взвизгнув, отвечала собеседница, кокетливо
подпрыгнув на всех четырех ногах.
После этого они мчались к хозяевам и то одному, то другому
докладывали о знакомстве. Когда же оба охотника усаживались для
разговоров в тени куста или дерева, собаки резвились до того, что язык не
умещался во рту. Тогда они ложились около хозяев и слушали тихую
задушевную беседу.
Другие люди, кроме охотников, для Бима были малоинтересны:
люди, и все. Они хорошие. Но не охотники же!
А вот собаки, эти — разные.
Однажды в лугу встретился он с лохматенькой собачкой, вдвое
меньше его, чериенькая такая. Поздоровались сдержанно, без
кокетства. Да и какое уж там кокетство, если новая знакомая на обычный
для таких случаев перечень вопросов отвечала, лениво взмахивая
хвостом:
«Я есть хочу».
У нее пахло изо рта мышонком. И Бим спросил удивленно, обнюхав
ее губы:
«Ты съела мышь?»»
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 17
«Съела мышь, — ответила та. — Я есть хочу». — И принялась
грызть белый узловатый корень камыша.
Бим хотел попробовать камышовый корешок, но она, протестуя,
сказала все то же:
«Я есть хочу».
Бим подождал сидя, пока она догрызла все, и пригласил ее с собой.
Та пошла беспрекословно, притрухивая за ним, взлохмаченная, но
чистая (видимо1, любила купаться, как и большинство собак, отчего летом
они и не бывают грязными, даже бездомные). Бим привел ее к хозяину,
издали следившему за знакомством своего друга. Но Лохматка не
поверила сразу в чужого человека, а села поодаль, несмотря на то, что
Бим перебегал от хозяина к ней и обратно, зовя ее, убеждая. Иван
Иваныч снял рюкзак, достал оттуда колбаску, отрезал маленький кусочек
и бросил Лохматке:
— Ко мне, ко мне, Лохматка. Ко мне.
Кусочек упал метрах в трех от нее. Она, осторожно переступая,
дотянулась, съела его и села тут же. Со следующим кусочком
приблизилась еще. А потом ела уже у ног человека, даже позволила погладить
себя, хотя и с опаской. Бим и Иван Иваныч отдали ей все колечко
колбаски: хозяин бросал куски, а Бим не мешал Лохматке есть. Все
обыкновенно: брось кусочек — подойдет ближе, брось второй — еще ближе, с
третьим, четвертым — уже у ног окажется и будет служить верой и
правдой. Так думал Иван Иваныч. Он ощупал Лохматку, потрепал по холке
и сказал:
— Нос холодный — здоровая. Это хорошо. — И дал команду
обоим: — Поди, поди!
Лохматка не понимала таких слов, но когда увидела, как Бим
взвился челноком по траве, то сообразила: надо бегать. И конечно, они
взыграли по-собачьи так, что Бим забыл даже, зачем он тут находится.
Иван Иваныч не возражал, а шел себе и шел, посвистывая.
До города Лохматка сопровождала без никаких, но на окраине
неожиданно села сбоку дороги и — ни с места. Звали, приглашали —
не идет. Так и осталась сидеть, провожая их взглядом. Ошибся Иван
Иваныч — не каждую собаку можно купить на приманку.
Бим не знал и знать не мог, что у Лохматки тоже были хозяева,
что жили они в своем маленьком домике, что улицу ту, где был домик,
всю снесли, а хозяевам Лохматки дали квартиру на пятом этаже со
всеми удобствами.
Одним словом, Лохматку бросили на произвол судьбы. Но она
нашла-таки и тот новый дом, и дверь хозяина, а там ее побили и прогнали.
Вот она и живет одна. По городу ходит только ночью, как и
большинство бездомных собак. Иван Иваныч обо всем догадался, но Биму-то
рассказать невозможно. Бим просто не хотел ее оставлять: оглядывался
назад, приостанавливался и обращал взор к Ивану Иванычу. Но тот
шел себе и шел.
Бели бы он знал, как горькая судьба сведет Бима и Лохматку, если
бы знал, когда и где они встретятся, не шел бы он теперь так спокойно.
Но будущее неизвестно и человеку.
...Третье лето прошло. Хорошее для Бима лето, неплохое и для
Ивана Иваныча. Однажды ночью хозяин закрыл окно и сказал:
—> Морозец, Бимка, первый морозец.
Бим не понял. Он встал, ткнулся в темноте носом в колено Ивана
Иваныча, чем и сказал: «Не понимаю».
2. «Наш современник» М 1,
18 Гавриил Троепольский
Иван Иваныч знал собачий язык хорошо — язык глаз и движений.
Он зажег свет и спросил:
— Не понимаешь, дурачок? — Затем разъяснил точно: — На
вальдшнепов завтра. Вальдшнеп!
О, это слово Бим знал! Он подпрыгнул и лизнул-таки друга в
подбородок.
— На охоту завтра, на охоту, Бим!
Куда там! Бим завертелся, заюлил волчком, хватая собственный
хвост, взвизгнул, потом сел и впился глазами в лицо Ивана Иваныча,
подрагивая очесами передних лап. Это обворожительное слово «охота»
знакомо Биму, как сигнал к счастью.
Но хозяин приказал:
— А пока — спать.—- Выключил свет и лег,
Остаток ночи Бим пролежал у кровати друга. Какой уж тут сон!
Он и сам, Иван Иваныч, то дремал, то просыпался в ожидании рассвета.
Утром они вместе собрали рюкзак, протерли от масла стволы
ружья, легко позавтракали (на охоту идти — нельзя нажираться),
проверили патронташ, перекладывая патроны из гнезда в гнездо. Работы
было много за этот короткий час сборов: хозяин на кухню — Бим на
кухню, хозяин в чулан — Бим туда же, хозяин вынимает консервную
банку из рюкзака (неудобно легла) — Бим берет ее и сует обратно,
хозяин проверяет патроны — Бим следит (не ошибся бы); и в чехол с
ружьем надо ткнуться носом не раз (тут ли?); а к тому же в такие кол-
готные минуты чешется за ухом от волнения — то и дело поднимай лапу
и чеши, будь оно неладно, когда и без того хлопотно до последней
степени.
Ну, собрались. Бим был в восторге. Как же! Хозяин, уже в
охотничьей куртке, перекинул на плечо охотничью сумку, снял ружье.
— На охоту, Бим! На охотку,— повторил он.
«На охотку, на охотку!» — говорил глазами и Бим в восхищении.
Он даже чуть привизгивал от переполнившего чувства благодарности и
любви к своему единственному в мире другу.
В тот момент и вошел человек. Бим его знал — встречал во
дворе,— но считал малоинтересным и не заслуживающим какого-либо
особого внимания с его стороны. Коротконогий, толстый, широколицый, он
сказал чуть скрипучим баском:
— Привет, значит! — И сел на стул, вытирая лицо платком. —
Та-ак... На охоту, значит?
— На охоту, — недовольно буркнул Иван Иваныч, — по
вальдшнепам. Да вы проходите — гостем будете.
— Вот та-ак... на охоту... Придется повременить, значит.
Бим переводил взгляд с хозяина на Гостя, удивленно и
внимательно. Иван Иваныч сказал почти сердито:
— Не понимаю вас. Уточните.
И тут Бим, наш ласковый Бим, сначала слегка взрычал и вдруг
гавкнул. Сроду такого не было, чтобы вот так — дома и на гостя. Гость
не испугался, он, казалось, был равнодушен.
— На место! — так же сердито приказал Иван Иваныч.
Бим повиновался: лег на лежак, положив голову на лапы, и
смотрел в сторону Гостя.
— Ишь ты! Слушается, значит. Та-ак... Значит, он и жильцов в
подъезде облаивает так же, как, допустим, лисиц?
— Никогда. Никогда и никого. Это впервые. Честное слово! —
волновался Иван Иваныч и сердился: — Кстати, к лисицам он никакого
отношения не имеет.
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 19
— Та-ак, — снова протянул Гость. — К делу давайте.
Иван Иваныч снял куртку и сумку:
■— Я вас слушаю.
— У вас, значит, собака, — начал Гость. — А у меня, — он вынул
бумагу из кармана, — жалоба на нее. Вот. — И подал бумагу хозяину.
Читая, Иван Иваныч волновался. Бим, заметив это, самовольно
сошел с места и сел в ногах друга, как бы защищая его, но на Гостя уже
не смотрел, хотя и был настороже.
— Глупости здесь,— сказал Иван Иваныч уже, спокойнее. •—
Чепуха. Бим — собака ласковая, никого он не укусил и не укусит, никого
не обидит. Собака интеллигентная.
— Хе-хе-хе! — потряс животом Гость. И чихнул некстати. — У-у,
быдло! — обратился он беззлобно к Биму.
Бим отвернулся в сторону еще больше, но понял, что разговор идет
о нем.И вздохнул.
— Как же это вы так рассматриваете жалобы? — спросил Иван
Иваныч, теперь уже совсем спокойно и улыбаясь. — На кого жалоба,
тому и даете ее читать. Я бы вам и так поверил, по пересказу.
Бим заметил в глазах Гостя смешинку. А тот проговорил:
— Во-первых, так положено. Во-вторых, жалоба не на вас, а на
собаку. А собаке мы читать не дадим. — И рассмеялся.
Хозяин тоже посмеялся малость. Бим даже и не улыбнулся: он знал,
что речь о нем, а что к чему, не мог взять в толк — очень уж
непонятный Гость оказался. Тот ткнул пальцем в сторону Бима и сказал:
— Собаку надо увольнять. — И отмахнул рукой к двери.
Бим понял, что от него требуют точно: уходи. Но от хозяина он не
отступил ни на сантиметр.
— А вы позовите жалобщицу — поговорим, уладим, может быть,—■
попросил Иван Иваныч.
Гость, сверх ожидания, вышел и вскоре же вернулся с женщиной:
— Вот, привел тебе тетку, значит.
Бим ее тоже знал: небольшого роста, визгливенькая и жирная, она,
однако, днями сидела на скамейке во дворе с другими свободными
женщинами. Однажды Бим даже лизнул ей руку (не от избытка чувств
к ней лично, а к человечеству вообще), отчего та взвизгнула и стала
кричать что-то на весь двор, обращаясь к открытым окнам. Что уж она
там кричала, Бим не понял, но испугался, бросился прочь и зацарапал
в дверь домой. Больше вины за ним перед Теткой не было. И вот она
вошла. Что с ним сделалось! Он сначала прижался к ногам хозяина, а
когда тот погладил его, то, поджав хвост, ушел на лежак и смотрел на
нее исподлобья. Он ничего не понимал из слов Тетки, а она стрекотала
сорокой и все время показывала свою руку. Но по этим жестам, по
сердитым ее взглядам Бим понял: это за то, что лизнул не тому, кому надо.
Молод, молод был Бим, почему и не все еще соображал. Может быть,
он думал и так: «Виноват, конечно, но что поделаешь теперь». По
крайней мере, что-то подобное в его глазах было.
Только невдомек Биму, что обвиняли его ложно.
— Укусить хотел! Укуси-ить!!! Почти укуси-ил!
Иван Иваныч, перебив стрекот Тетки, обратился прямо к Биму:
<— Бим! А принеси-ка мне тапки.
Бим исполнил охотно и лег перед хозяином. Тот снял охотничьи
ботинки и сунул ноги в тапки.
— Теперь отнеси ботинки.
Бим и это проделал: поочередно отнес их под вешалку.
20 Гавриил Троеполъский
Тетка замолчала, вытаращив очи. Гость сказал похвально:
— Молоде-ец! Ты смотри, умеет, значит. — И как-то вроде бы
недружелюбно посмотрел на Тетку. — А еще он умеет чего-нибудь?
— Вы садитесь, садитесь, — попросил Иван Иваныч и Тетку.
Она села, спрятав руки под фартук. Хозяин поставил стул Биму и
скомандовал:
— Бим! На стул!
Биму повторять не требуется. Теперь все сидели на стульях. Тетка
прикусила губу. Гость удовлетворенно покачивал ногой, приговаривал:
— Ладно получается, ладно, ладно.
Хозяин же хитренько прищурил глаза в сторону Бима:
—А ну, дай лапу. — И протянул ладонь.
Поздоровались.
— Теперь, дурачок, поздоровайся с Гостем, — и указал на того
пальцем.
Гость протянул руку:
— Здравствуй, братка, здравствуй, значит.
Бим все сделал элегантно, как и полагается.
— А не укусит? — осторожно спросила Тетка.
— Что вы! — изумился Иван Иваныч. — Протяните руку и скажите:
«Лапку!».
Та действительно выволокла ладонь из-под фартука и протянула
Биму:
— Только не укуси,— предупредила она.
Ну, тут уже описать невозможно, что произошло. Бим шарахнулся
на лежак, занял немедленно оборонительную позицию, прижавшись
задом в угол, и в упор смотрел на хозяина. Иван Иваныч подошел к нему,
погладил, взял за ошейник и подвел к жалобщице:
— Дай лапку, дай...
Нет, не подал лапу Бим. Отвернулся и смотрел в пол. Впервые
ослушался. И угрюмо поплелся опять в угол, медленно, виновато и
удрученно.
Ой, что тут сотворилось! Тетка задребезжала рассохшейся
трещоткой:
— Ты ж меня оскорбил! — кричала она на Ивана Иваныча. —
Какая-то паршивая собака меня, советскую женщину, ни во что не
ставит!— И тыкала пальцем в сторону Бима.—Да я... да я... Подожди-и!
— Хватит! — неожиданно рявкнул на нее Гость. — Брешешь ты,
значит. Не укусила она тебя и не собиралась. Она ж тебя боится, как
черт ладана.
— А ты не ори,— попробовала она отбиться.
Тогда Гость сказал однозначно:
— Цыть! — И обратился к хозяину: — С такими иначе нельзя. —
И снова к Тетке: — Ишь ты! «Советская женщина», тоже мне... Иди
отсюда! — рыкнул он. —. Еще намутишь раз, опозорю. Иди! —Жалобу он
порвал у нее на глазах.
Последнюю речь Гостя Бим понял отлично. А Тетка ушла молча,
гордо ©скинув голову и ни на кого не глядя, хотя Бим теперь не спускал
с нее глаз и даже продолжал смотреть на дверь после того, как она
ушла, а шаги ее затихли.
— Очень уж вы с ней... грубовато,— сказал Иван Иваныч.
— Иначе нельзя, говорю вам: весь двор перемутит — знаю. Раз
говорю, значит, знаю. Вот они где мне, эти сплетницы да смутьяны,—
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 21
он похлопал себя по загривку. — Делать-то ей нечего, вот она и
норовит, кого бы ей укусить. Таких распусти — весь дом пойдет чертоко-
пытом.
Бим все время следил за выражением лиц, за жестами, интонацией
и понял отлично: Гость и хозяин — вовсе никакие не враги, а даже, по
всей видимости, уважают друг друга. Наблюдал он еще долго, пока они
о чем-то потом беседовали. Но раз уж он установил глазное, то
остальное его интересовало мало. Он подошел к Гостю и улегся у его ног, как
бы говоря этим: «Извиняюсь».
ЗАПИСКИ ХОЗЯИНА
Сегодня был председатель домкома, разбирал жалобу на собаку.
Победил Бим. Впрочем, гость мой судил как Соломон. Самородок!
Почему же Бим зарычал на него вначале? А, понял! Я ведь не
подал руки, встретил вошедшего сурово (охоту же пришлось отложить), а
Бим действовал согласно со своей собачьей натурой: недруг хозяина —
мой недруг. И тут должно быть стыдно мне, но не Биму. Удивительно,
какое у него тончайшее восприятие интонации, выражения лица,
жестов! Это обязательно надо всегда иметь в виду.
После у нас состоялся интересный разговор с преддомкомом. Он
окончательно перешел на «ты»:
— Ты,— говорит,— только подумай: сто пятьдесят квартир в моем
доме! А четыре-пять смутьянок-бездельниц могут такое сотворить, что
житья никому не будет. И все их знают, и все боятся, а потихоньку
клянут. Ведь на дурного жильца даже унитаз урчит. Ей-бо!.. Самый
мой страшный враг кто? Да тот, кто не работает. У нас, брат, можно
и не работать, а есть от пуза. Тут что-то не так, скажу я тебе по
душам. Не так, значит... Можно, можно не работать. Ишь ты! Вот ты,
например, чего делаешь?
— Пишу,— отвечаю, хотя я и не понял, шутит он или говорит
серьезно (люди с юмором частенько выдают такое).
— Да разве ж это работа! Сидишь — ничего не делаешь, а деньги
небось платят?
— Платят,— отвечаю. — Но ведь я мало получаю — староват
стал, на пенсию живу.
— А до пенсии — кем?
— Журналист я. В газетах работал. А теперь вот помаленьку пишу
кое-что дома.
— Пишешь? — снисходительно переспросил он.
— Пишу.
— Ну, валяй, раз уж такое дело... Конечно, ты человек, видать,
неплохой, а вот видишь... То-то и оно. Я тоже пенсию получаю, сто рублей,
а работаю же преддомкома, бесплатно работаю, учти. Я привык
работать, всю жизнь на руководящей, и из номенклатуры не вышибали, и по
второму кругу не ходил. Под конец уж затерли: ниже, ниже и ниже.
Последнее место — маленький заводик. Там и пенсию назначили. А
персональную не дали — заковыка маленькая есть... Работать обязан
каждый. Так я думаю.
— Но ведь у меня работа тоже трудная,— пытался я оправдаться.
— Писать-то? Глупости. Был бы ты молодой — взялся бы я и за
тебя. Ну, раз пенсия... А так, если молодые, да не работают, выживаю
из дома: иль трудись, иль катись куда подальше.
Он. и правда, гроза бездельников в доме. Кажется, главная цель его
жизни теперь — пилить лодырей, сплетников и тунеядцев, но зато вое-
22 Гавриил Троепольский
питывать — всех без исключения, что он и делает охотно. Доказать же
ему, что писать — тоже работа, оказалось невозможным: тут он либо
хитрил с подводным юморком, либо был просто снисходителен (пусть,
дескать, пока пишут — есть бездельники и похлеще).
Уходил он добрый, отбросив хитринку, погладил Бима и сказал*
— А ты живи, значит. Но с Теткой не связывайся. — И ко мне: —
Ну, бывай. Пиши, видно, куда ж денешься, раз оно такое дело.
Мы пожали друг другу руки. Бим проводил его до дверей, виляя
хвостом и заглядывая в лицо. У Бима появился новый знакомый: Павел
Титыч Рыдаев, в обыденности: «Палтитыч».
Зато у Бима завелся и неприятель: Тетка, единственный человек из
всех людей, которому он не верит. Собака опознала клеветника.
Но охота сегодня пропала. Так бывает: ждет человек доброго дня,
а выходят одни неприятности. Бывает.
Глава 4
ЖЕЛТЫЙ ЛЕС
В один из следующих дней, рано утром они вдвоем вышли из дому.
Сначала ехали трамваем, стоя на площадке. Вагоновожатая оказалась
знакомой Ивану Иванычу и Биму. Конечно же, Бим приветствовал ее,
когда та выходила перевести стрелку. Вожатая потрепала его за ухо, но
Бим руки не лизнул, а просто посеменил лапами сидя и отстучал
хвостом соответственное случаю приветствие.
Потом, уже за городом, ехали на автобусе, в котором и было-то
всего пять-шесть человек в такое раннее утро. При посадке водитель
что-то заворчал, повторяя слово «собака» и «не положено». Бим легко
во всем разобрался: шофер не желает их везти, и это плохо,— по лицам
разобрался. Один из пассажиров вступился за них, второй, наоборот,
поддержал шофера. Бим с большим интересом наблюдал за
перепалкой. Наконец шофер вышел из автобуса. У порога хозяин дал ему
желтенькую бумажку, поднялся по ступенькам вместе с Бимом, сел на
сиденье и печально вздохнул: «Эх-хе-хе!».
Бим давно заметил, что люди обмениваются какими-то бумажками,
пахнущими не разберешь чем. Однажды он почуял, что одна из
лежащих на столе пахнет кровью, потыкал в нее носом, стараясь обратить
внимание хозяина, но гот и ухом не повел — бесчутый! — а твердит
свое «Нельзя». Да еще и запер бумажки в стол. Иные, правда, — пока
чистые — пахнут хлебом, колбасой, вообще магазином, но
большинство — множеством рук. Люди их любят, эти бумажки, прячут в карман
или в стол, как хозяин. Хотя в этих делах Бим ничего не понимал,
однако же легко сообразил: как только хозяин дал шоферу бумажку, они
стали друзьями. А почему вздохнул Иван Иваныч, Бим не понял, что
было видно по его внимательному взгляду в глаза друга. В общем, о
магической силе бумажек он даже и смутно не догадывался —
недоступно это собачьему уму; не знал, что для него они сослужат когда-то
роковую службу.
От шоссе до леса шли пешком. ' . ' --
Иван Иваныч остановился на опушке отдохнуть, г Бим поблизости
обследовал местность. Такого леса он еще не видел никогда. Лес-то,
собственно, тот же — они здесь бывали весной, приходили и летом (так,
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 23
пошататься), но теперь здесь все-все вокруг было желтое и багряное,
казалось, все горело и светило вместе с солнцем.
Деревья только-только начали сбрасывать одеяние, и листья падали,
покачиваясь в воздухе, бесшумно и плавно. Было прохладно и легко, а
потому и весело. Осенний запах леса — особенный, неповторимый,
стойкий и чистый настолько, что за десятки метров Бим чуял хозяина.
Лесную мышь он «прихватил» далеко, но не пошел за ней (знакомый
пустяк!), а вот что-то живое так ударило издали в нос, что Бим
приостановился. А подойдя вплотную, облаял колючий шар.
Иван Иваныч встал с пенечка и подошел к Биму:
— Нельзя, Бим! Нельзя, дурачок. Ежик называется. Назад! -—■ И
увел Бима с собой.
Выходит, ежик — зверюшка, и притом хорошая, а трогать его
нельзя.
Теперь Иван Иваныч опять же сел на пенек, приказал Биму тоже
сидеть, а сам снял кепку, положил ее рядом на землю и смотрел на
листья. И слушал тишину леса. Ну, конечно же, он улыбался! Он был
сейчас таким, как всегда перед началом охоты.
Бим тоже слушал.
Прилетела сорока, прострекотала нахально и улетела.
Перепрыгивая с ветки на ветку, приблизилась сойка, прокричала с кошачьим
надрывом и тоже упрыгала так же, по веткам. А вот королек-малютка,
этот совсем-совсем рядом: «Овить, свить! Свить, свить!». Ну что ты с
ним будешь делать! И размером-то с жука, а туда же: свить, свить!
Вроде бы приветствует.
Все остальное было тишиной.
И вот хозяин встал, расчехлил ружье, вложил патроны. Бим
задрожал от волнения. Иван Иваныч потрепал его ласково по загривку,
отчего Бим еще больше разволновался.
— Ну, мальчик... ищи!
Бим пошел! Малым челноком пошел, лавируя между деревьями,
приземисто, пружинисто и почти бесшумно. Иван Иваныч потихоиьку
двинулся за ним, любуясь работой друга. Теперь лес со всеми красотами
остался на втором плане: главное — Бим, изящный, страстный, легкий на
ходу. Изредка подзывая его к себе, Иван Иваныч приказывал ему
лежать, чтобы дать успокоиться, втянуться. А вскоре Бим уже пошел
ровно, со знанием дела. Великое искусство — работа сеттера! Вот он идет
легким галопом, подняв голову, ему не надо опускать ее и искать низом,
о'н берет запахи верхом, при этом шелковистая шерсть облегает его
точеную шею; оттого он так и красив, что держит голову высоко, с
достоинством, уверенностью и страстью.
Такие часы для Ивана Иваныча были часами забвения. Он
забывал войну, забывал невзгоды прошедшей жизни и свое одиночество.
Даже сын Коля, его кровное дитя, отнятое жестокой войной, будто
присутствовал с ним, будто он, отец, доставлял ему радость даже
мертвому. Он ведь тоже был охотником! Мертвые не уходят из жизни тех,
кто их любил, мертвые только не стареют, оставаясь в сердце живых
навечно молодыми. Так и у Ивана Иваныча: рана зарубцевалась в
душе, но болит всегда. На охоте же всякая боль души становится хоть
немного, но легче. Благо тому, кто родился охотником!
И вот Бим замедлил ход, сужая челнок, чуть приостановился на
секунду и пошел редким, крадущимся шагом. Что-то от кошачьего было
в его движениях, мягких, осторожных, плавных. Теперь он уже вытянул
24 Гавриил Троеполъский
голову вровень с туловищем. Каждой частицей тела, включая и
вытянутый хвост, оперенный длинной шерстью, он был сосредоточен на струе
запаха. Шаг... И поднимается только одна лапа. Шаг — и следующая
лапа так же на долю секунды замирает в воздухе и неслышно
опускается. Наконец передняя правая, как почти всегда, замерла, не
коснувшись земли.
Позади, взяв ружье на изготовку, тихо подошел Иван Иваныч.
Теперь две статуи: человек и собака.
Лес молчал. Лишь чуть-чуть играли золотые листья березы,
купаясь в блестках солнца. Притихли молодые дубки рядом с величавым
исполином дубом, отцом и прародителем. Бесшумно трепетали
оставшиеся на осине серебряно-серенькие листья. А на палой желтой листве
стояла собака — одно из лучших творений природы и терпеливого
человека. Ни единый мускул не дрогнет! В такие минуты Бим кажется
полумертвым, это похоже на транс от восхищения и страсти. Вот что
такое классическая стойка в желтом лесу.
— Вперед, мальчик...
Бим поднял вальдшнепа на крыло.
Выстрел!
Лес встрепенулся, ответив недовольным, обиженным эхом.
Казалось, береза, забравшаяся на границу дубняка и осинника, испугалась,
вздрогнула. Дубы охнули как богатыри. Осина, что рядом, торопливо
посыпала листьями.
Вальдшнеп упал комом. Бим подал его по всем правилам. Но
хозяин, приласкав Бима и поблагодарив за красивую работу, подержал
птицу на ладони, посмотрел на нее и сказал задумчиво:
— Эх, не надо бы...
Бим не понял, вглядывался в лицо Ивана Иваныча, а тот
продолжал:
— Для тебя только, Бим, для тебя, глупыш. А так — не стоит.
И опять Бим не понял — недоступно ему такое понять. Но за всю
охоту хозяин, как казалось Биму, «мазал», как слепой. Очень недоволен
был пес, когда хозяин и вовсе не выстрелил в одного из вальдшнепов.
Зато самого последнего он свалил чисто.
Домой они возвратились уже затемно, усталые и оба добрые,
ласковые друг к другу. Бим, например, не пожелал ночевать на своем
лежаке, а стащил оттуда подстилку, приволок ее к кровати Ивана
Иваныча и улегся рядом с ним, на полу. В этом был смысл: его нельзя
прогнать на место, потому что «место» он принес с собой. Иван Иваныч
потрогал его за ухо, потрепал по холке. Дружба, казалось, будет вечной.
Ночью же Иван Иваныч почему-то стонал тихонько, вставал,
глотал таблетки и снова ложился. Бим сначала настороженно
прислушивался, присматривался к другу, потом встал и лизнул вытянутую с
кровати руку.
— Осколок... Осколок, Бимка... ползет. Плохо, мальчик,— сказал
Иван Иваныч, держа руку у сердца.
Слово «плохо» Бим знал отлично и уже давно. И вот уже
несколько раз он слышал слово «осколок», он его не понимал, но собачьим нуг-
ром догадывался, что оно тревожное, плохое слово, жуткое.
Но все обошлось: утром, после прогулки, Иван Иваныч сел за стол,
как и обычно, положил перед собой белый лист и зашептал по нему
палочкой.
БЕЛЫЙ ВИМ ЧЕРНОЕ УХО 25
ЗАПИСКИ ХОЗЯИНА
Вчера был счастливый день. Все — как надо: осень, солнце, желтый
лес, изящная работа Бима. А все-таки какой-то осадок на душе.
Отчего бы?
В автобусе Бим явно заметил, как я вздохнул, и явно же не понял
меня. Пес вовсе не может представить, что я дал взятку шоферу.
Собаке — наплевать на это. А мне? Какая разница — рубль я дал за малое
«дело», или двадцать — за большое, или тысячу — за крупное? Все
равно стыдно. Словно продаешь свою совесть по мелочам. Конечно, Бим
стоит несравненно ниже человека, поэтому никогда и не догадается
об этом.
Не понять того Биму, что бумажки эти и совесть иногда находятся
в прямой зависимости. Но какой же я чудак! Нельзя же требовать от
собаки больше того, что она может: очеловечивать собаку нельзя.
И еще: мне жаль стало убивать дичь. Это, наверное, старость. Так
хорошо было вокруг, и вдруг мертвая птица... Я не вегетарианец и не
ханжа, описывающий страдание убитых животных и уписывающий с
удовольствием их мясо, но до конца дней ставлю себе условие: одного-
двух вальдшнепов за охоту, не больше. Если ни одного — еще бы лучше,
но тогда Бим загибнет как охотничья собака, а я вынужден буду купить
птицу, которую для меня убьет кто-то другой. Нет уж, увольте от
такого... А к кому, собственно, я обращаюсь? Впрочем, к самому себе:
раздвоение личности в длительном одиночестве в какой-то степени
неизбежно. Веками от этого спасала человека собака.
Откуда же все-таки осадок от вчерашнего дня? И только ли от
вчерашнего? Не пропустил ли я какую-то мысль? Итак, вчерашний день:
стремление к счастью — и желтый рубль; желтый лес — и убитая
птица. Что это? Уж не сделка ли со своей совестью?
Стоп! Вот какая мысль ускользнула вчера: не сделка, а укор
совести и боль за всех, убивающих бесполезно, когда человек теряет
человечность. Из прошлого, из воспоминаний о прошлом, идет и все более
растет во мне жалость к птицам и животным.
Я вспоминаю. "" " '™~ "r-4r~~Tnt
Была установка руководства Общества охотников об уничтожении
сорок как вредных птиц, и это обосновывалось якобы наблюдениями
биологов. И все охотники убивали сорок со спокойной совестью. Была
такая установка и о ястребиных птицах. Их тоже убивали. И о волках.
Этих уничтожили почти начисто. За волка платили премию в триста
рублей (старыми деньгами), а за лапки сороки или коршуна,
представленные в Общество охотников,— то ли пять копеек, то ли пятьдесят —
не помню.
Но вдруг, в новой установке, коршун и сорока объявлены
полезными птицами, не врагами птиц: уничтожать их запрещено. Строжайший
приказ к уничтожению сменился строжайшим наказом к запрещению.
Осталась теперь единственная птица, подлежащая уничтожению,
объявленная вне закона, — серая ворона. Она якобы разоряет птичьи
гнезда (в чем, впрочем, обвинялась безапелляционно и сорока). Зато
никто не отвечает за отравление ядохимикатами птиц степных и
лесостепных районов. Спасая леса и поля от вредителей, мы уничтожали
птиц, а уничтожая их, губили... леса. Неужели виноватой оказалась
серая ворона, извечный санитар и спутник человеческого общества?
Вали на серую ворону! — самое верное, элементарное оправдание
виновных в смерти птиц.
26 Гавриил Троеполъский
Длительные эксперименты со смертью — ужасно. Уже восстают
против этого честные ученые-биологи и охотники, уже борьба за охрану
птиц и лесов идет в международном масштабе.
Поднял ли я в свое время голос против экспериментов со смертью?
Нет. И это — укор и моей совести. Как бледно и немощно прозвучал бы
мой голос теперь, если бы я сказал задним числом так:
«Спасите серую ворону — отличного санитара местожительства
людей, спасите ее от истребления, ибо она помогает очищать от нечистот
местность вокруг нас так же, как сатирик очищает общество от
духовных нечистот, спасите серую ворону за это самое; пусть она
немножко воровка птичьих яиц, но на то и серая ворона, чтобы птицы умели
строить гнезда; спасите эту колготную насмешницу, единственную
птицу, обладающую наглостью наивности настолько, что она в глаза
человеку может так и ляпнуть с дерева: «Ка-ар-р!» (Уходи дурак!). А только
вы отошли, слетит вниз и, насмешливо покрякивая, примется вновь
уплетать тухлый кусок мяса, который ни одна собака в рот не возьмет;
спасите серую ворону — сатирика птичьего мира! Не бойтесь ее.
Посмотрите, как маленькие ласточки дружно клюют ее и прогоняют
оттуда, где и без нее чистота, а она улетает от них, ехидненько покарки-
вая, туда, где пахнет тухлым. Спасите серую ворону!».
Действительно, получилось бы и немощно и бездоказательно. Но
так пусть и остается такое в этой тетрадке о Биме. Сейчас прямо и
напишу на обложке: «Б и м». Здесь все будет только для самого себя.
Ведь записки я начал ради спасения чести Бима, виновного в своем
рождении, но они разрастаются все больше, и уже обо всем том, что
связано не только с Бимом, но и со мной. Никто их, видимо, не напечатает;
да и кому интересно читать «о собаке, о себе»? Никому. Так и хочется
написать словами Кольцова:
Пишу не для мгновенной славы:
Для развлеченья, для забавы,
Для милых искренних друзей,
Для памяти минувших дней. \
...А Бим лежит и днем — наработался, дружище, нахватался
целительных запахов желтого леса.
Ах, желтый лес, желтый лес! Вот вам и кусочек счастья, вот вам и
место для раздумий. В осеннем солнечном лесу человек становится
чище.
Глава 5
НА ОБЛАВЕ В ВОЛЧЬЕМ ЯРУ
В один из осенних дней к Ивану Иванычу зашел человек, от
которого пахло ружьем и собакой. Хотя он не был в охотничьих доспехах и
одет обыкновенно, как все малоинтересные люди, но Бим уловил в нем
и тонкий запах леса, и следы ружья на ладонях, и ароматный дух
осеннего листа от ботинок. Конечно же, Бим обо всем этом сказал, обнючи-
вая гостя, бросая взгляды на хозяина и энергично работая хвостом.
Видел он его впервые, а вот сразу же признал товарищем без никаких
сомнений и колебаний.
Гость знал собачий язык, потому и сказал ласково:
— Признал, признал. Молодец, хорошо, хорошо.— Потрепал по
голове и сказал уверенно и четко: — Сидеть!
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 27
Бим исполнил приказание — сел, в нетерпении перебирая лапами.
И слушал, и смотрел неотрывно.
Хозяин и гость пожали руки, встретившись добрыми-добрыми
глазами.
«Отлично!» — сказал Бим, взвизгнув.
— Умный пес,— сказал гость, бросив взгляд на Бима.
— Хороший Бим, лучше не надо! — подтвердил Иван Иваныч.
Вот так они поговорили втроем немного, и гость-охотник достал из
кармана бумагу, разложил ее, стал водить по ней пальцем и говорить:
— Вот тут... тут, в самой гущине Волчьего яра. Сам подвывал.
Пятеро откликнулись: три прибылых, два матерых. Одного перевидел.
Ну и во-олк!
Бим знал слова хозяина на поиске: «тут-тут, тут-тут». И
насторожился. Но когда было сказано «во-олк!», он расширил глаза: это тот
жуткий запах лесной собаки, запах, которого испугался когда-то Бим,
запах, о котором хозяин тогда устрашающе повторял, показывая след:
«Волк! Это волк, Бим». Вот теперь и охотник сказал тоже так: «Ну и
во-олк!».
Гость ушел, попрощавшись и с Бимом.
Иван Иваныч сел заряжать патроны, закладывая крупные
горошины свинца и пересыпая их картофельной мукой.
Ночью Бим спал беспокойно.
А задолго до рассвета они вышли с ружьем на улицу и стали на
углу. Вскоре подъехал большой автомобиль, загруженный охотниками
Они сидели в крытом кузове на скамейках, сидели тихо и торжественно.
Иван Иваныч сначала подсадил Бима, потом и сам влез в шалаш.
Вчерашний охотник сказал Ивану Иванычу:
— Э-э, нет! Зачем же Бима с собой!
— Собак не должно быть на облаве. Снять! — строго сказал кто-
то. — Голос подаст — и пропала облава.
— Бим не подаст голоса,— будто оправдываясь, говорил Иван
Иваныч. — Не гончак же он.
Ему возражали одновременно несколько человек, но кончилось тем,
что вчерашний гость сказал:
— Ладно. С Бимом поставлю в запасную. Есть место, Иван
Иваныч: было так, что волк прорывался там через флажки, по протоке.
Бим догадался, что его не хотят брать. Он тоже уговаривал
соседей, но в темноте этого никто не понял. И все же автомобиль
тронулся.
Уже солнце взошло, когда остановились у кордона знакомого
лесника. Вышли все тихо, без единого слова, как и Бим. Потом долго шли
гуськом вдоль опушки. Никто не курил, не кашлял, не стукнул даже
сапогом о сапог, ступая по-собачьи: тут все знали — куда, кто и зачем. Не
знал только один Бим, но он тоже шел тенью след в след за хозяином.
Тот на ходу притронулся к уху Бима: хорошо, дескать, хорошо, Бим.
Впереди всех, главным, шел вчерашний гость-охотник. И вот он
поднял руку — все остановились. Трое передних ушли в лес еще тише, по-
кошачьи, и вскоре вернулись. Теперь Главный поднял вверх фуражку и
отмахнул ею вперед. По этому энаку .половина охотников пошла за ним,
в том числе, позади прочих, Иван Иваныч и Бим. Так что Бим шел
последним; тише его никто не мог передвигаться, ио, несмотря на это,
Иван Иваныч взял его на поводок.
По безмолвной команде Главного первый, идущий за ним, стал за
28 Гавриил Троеполъский
куст и замер. Вскоре так же замер у дубняка второй, потом третий и так
поодиночке все заняли свои номера. Остались около Главного Иван
Иваныч и Бим. Они шли еще осторожнее, чем раньше. Теперь Бим увидел,
что сбоку их пути протянут шнур, а на нем не шевелясь висели куски
материи, похожей на огонь. Но, наконец, Главный поставил и их вдвоем,
а сам ушел назад.
Бим чутким ухом все-таки слышал его шаги, хотя людям казалось,
что их никто не слышит. Бим уловил, что Главный провел и остальных
охотников, но так далеко, что, по мере удаления, даже Бим уже не
различал шороха.
И наступила тишина. Настороженная, тревожная тишина леса. Бим
это чувствовал и по тому, как хозяин замер, как у него дрогнуло
колено, как он беззвучно открыл ружье, вложил патроны, закрыл и снова
застыл в напряжении.
Они стояли под прикрытием куста орешника сбоку промоины,
заросшей густым терником. А кругом был могучий дубовый лес, суровый
сейчас, молчаливый. Каждое дерево — богатырь! А между ними густой
подлесок еще сильнее подчеркивал необыкновенную мощь вековечного
леса.
Бим превратился в сгусток внимания: он сидел недвижно и ловил
запахи, но пока ничего особенного не примечал, так как воздух
неподвижен. И от этого Биму было неспокойно. Когда есть хоть малый
ветерок, он всегда знал, что там, впереди, он читал по струям, к$к по
строкам, а в безветрие, да еще в таком лесу,— попробуй-ка быть спокойным,
когда к тому же его добрый друг стоит рядом и волнуется.
И вдруг началось.
Сигнальный выстрел разорвал тишину на большие куски: эхо
пророкотало то там, то тут, то где-то вдали. А вслед, как бы в тон лесному
рокоту, далеко-далеко голос Главного:
—- Поше-е-ел! Ого-го-го-го-го-о-о!
Иван Иваныч наклонился к уху Бима и еле слышно прошептал:
— Лежать!
Бим лег. И дрожал.
— Ого-го-го-о-о! — ревели там охотники-загонщики.
Тишина теперь рассыпалась на голоса, незнакомые, неистовые,
дикие. Застучали палками о деревья, затрещала трещотка, как сто сорок
перед погибелью. Цепь загонщиков приближалась с криком, гомоном и
выстрелами вверх.
И вот... Бим зачуял знакомый с юности запах: волк! Он прижался
к ноге хозяина, чуть-чуть — совсем чуть-чуть! — привстал на лапы и
вытянул хвост. Иван Иваныч все понял.
Они увидели оба: вдоль флажков, вне выстрела, показался волк.
Шел он широкими махами, голову опустил, хвост висел поленом. И тут
же зверь скрылся. Сразу же, почти тотчас, раздался выстрел в цепи, за
ним — второй.
Лес рокотал. Лес почти озлобленно встревожился.
Еще выстрел на номере. Это уже совсем близко. А крики все ближе,
ближе и ближе.
Волк, огромный старый волк появился неожиданно. Он пришел
промоиной, скрытый терником, а завидев флажки, резко остановился, будто
на что-то напоролся. Но здесь, над промоиной, флажки висели выше, чем
на всей линии, втрое выше роста зверя. А гомон людей настигал
вплотную. Волк как-то не очень решительно, и даже вяло, прошел под флаж-
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 29
ками и оказался в пятнадцати метрах от Ивана Иваныча и Бима. Вот
он сделал несколько махов, но за это время человек и собака успели
рассмотреть, что он был ранен: пятно крови расплылось на боку, рот
окаймлен пеной с красноватым налетом.
Иван Иваныч выстрелил.
Волк, подпрыгнув на всех четырех ногах, резко, всем корпусом, не
поворачивая шеи, обернулся на выстрел и... стал. Широкий мощный лоб,
налитые кровью глаза, оскаленные зубы, красноватая пена... И все-таки
он не был жалок. Он был красив, этот вольный дикарь. О нет, он не был
трусом, он не хотел падать и сейчас, гордый зверь, но... рухнул-таки
плашмя, медленно перебирая лапами. Потом замер, присмирел,
успокоился.
Бим не смог вынести всего этого. Он вскочил и встал на стойку.
Но что это была за стойка! Шерсть на спине взъерошилась, на холке она
почти стояла торчком, а хвост зажат между ног: озлобленно-трусливая,
безобразная стойка на своего брата, на гордого царя собак, уже
мертвого и потому безопасного, но страшного духом своим, и кровью своей
страшного. Бим ненавидел брата своего. Бим верил человеку, волк не
верил. Бим боялся брата, волк не боялся его даже смертельно
раненный.
...А крики уже приблизились вплотную. Еще был один выстрел.
И еще дублет. Видимо, какой-то опытный волк шел совсем близко от
цепи и, возможно, прорвался через нее в самый последний момент, когда
люди уже потеряли бдительность и уже сходились друг с другом.
Наконец появился из подлеска Главный, подошел к Ивану Иванычу и сказал,
глядя на Бима:
— Ух ты! И на собаку не похож: зверь-зверем. А два прорвались
все-таки, ушли. Один раненый.
Иван Иваныч гладил Бима, ласкал, уговаривал, но тот хотя и
уложил шерсть на сп;ине, однако все еще крутился на месте, часто-часто
дышал, высунув язык, и отворачивался от людей. Когда же оба
охотника направились к трупу волка, Бим не пошел за ними, а, наоборот,
нарушив все правила, волоча за собой поводок, отошел метров на
тридцать подальше, лег, положил голову на желтые листья и дрожал в
лихорадке. Вернувшись к нему, Иван Иваныч заметил, что белки глаз
у Бима кроваво-красные. Зверь!
— Ах, Бимка, Бимка. Плохо тебе? Конечно, плохо. Так надо,
мальчик. Надо.
— Учти, Иван Иваныч,—сказал Главный, — легавую собаку
можно и загубить волком — леса будет бояться. Собака — раб, волк —
зверь свободный.
— Так-то оно так, но Биму уже четыре года = собака взрослая,
лесом не испугаешь. Зато в лесу, где волки, он уже не отойдет от тебя:
наткнется на след и скажет — «Волки!».
— И правда ведь: волки берут легавых, как малых цыплят. А
этого теперь вряд возьмет: от ноги твоей не отойдет, если зачует.
— Вот видишь! Только до года не надо пугать волком. А так —
что ж поделаешь! — пусть переживег.
Иван Иваиыч увел Бима, а Главный остался у волка, поджидая
загонщиков.
Когда собрались на кордоне все охотники, выпили по чарке и
загомонили, веселые и возбужденные, Бим отчужденно и одиноко лежал
под плетнем, свернувшись калачиком, суровый, красноглазый, поражен-
30 Гавриил Троеполъский
ный и зараженный волчьим духом. Ах, если бы Бим мог знать, что
судьба еще раз забросит его в этот же самый лес!
К нему подошел лесник, хозяин кордона, при-сел на корточки,
погладил по спине:
— Хороший пес, хороший. Умный пес. За всю облаву не гавкнул и
не завыл.
Тут все любили собак.
Но когда охотники уселись в автомобиль и Иван Иваныч подсадил
туда Бима, тот кошкой выпрыгнул на землю, ощетинившись и скуля:
он не желал быть вместе с тремя мертвыми волками.
— Ого! — сказал Главный. — Этот теперь не пропадет.
Незнакомый тучный охотник недовольно вышел из кабины и
грузно полез в кузов, а Иван Иваныч с Бимом сели в кабину.
После было не так уж много охот на вальдшнепа, но Бим работал
отлично, как и всегда. Однако стоило ему причуять след
волка — он прекращал охоту: прижимался к ноге хозяина и — ни шагу.
Так он четко выражал слово «волк». И это было хорошо. А после
облавы он еще больше стал любить Ивана Иваныча и верить в его силу.
Верил Бим в доброту человека. Великое благо — верить. И любить.
Собака без такой веры — уже не собака, а вольный волк или (что хуже)
бродячий пес. Из этих двух возможностей выбирает каждая собака,
если она перестала верить хозяину и ушла от него или если ее выгнали.
Но горе той собаке, которая потеряет любимого друга-человека,
будет его искать, ждать. Она тогда уже не сможет быть ни вольным
волком, ни обыкновенным бродячим псом, а останется той же собакой,
преданной и верной потерянному другу, но одинокой до конца жизни.
Я не буду, дорогой читатель, рассказывать ни одной из множества
достоверных историй о такой преданности в течение многих лет и до
конца собачьей жизни. Я расскажу только об одном Биме с черным
ухом.
Глава 6
ПРОЩАНИЕ С ДРУГОМ
Как-то после охоты Иван Иваныч пришел домой, накормил Бима
и лег в постель, не поужинав и не выключив свет. В тот день Бим
здорово наработался, потому быстро уснул и ничего не слышал. Но в
последующие дни и Бим стал замечать, что хозяин все чаще ложится и днем,
о чем-то печалится, иногда внезапно охнет от боли. Больше недели Бим
гулял один, неподолгу — по надобности. Потом Иван Иваныч слег, он
еле-еле доходил до двери, чтобы выпустить или впустить Бима.
Однажды он простонал в постели как-то особенно тоскливо. Бим подошел, сел
у кровати, внимательно посмотрел в лицо друга, затем положил голову
на вытянутую его руку. Он увидел, какое стало у хозяина лицо:
бледное-бледное, под глазами темные каемки, небритая борода заострилась.
Иван Иваныч повернул голову к Биму и тихо, ослабевшим голосом
сказал:
— Ну? Что будем делать, мальчик?.. Худо мне, Бим, плохо.
Осколок... подполз под сердце. Плохо, Бим.
Голос его был таким необычным, что Бим заволновался. Он
заходил по комнате, то и дело царапаясь в дверь, как бы зовя: «Вставай, де-
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 31
екать, пойдем, пойдем». А Иван Иваныч боялся пошевелиться. Бим
снова сел около него и проскулил тихонько.
— Что же, Бимка, давай попробуем, — еле выговорил Иван Иваныч
и осторожно привстал.
Он немного посидел на кровати, затем стал на ноги и, опираясь
одной рукой о стену, другую держа у сердца, тихо переступал к двери. Бим
шел рядом с ним, не спуская взгляда с друга, и ни разу, ни разу не
вильнул хвостом. Он будто хотел сказать: «Ну, вот и хорошо. Пошли, пошли
потихоньку, пошли».
На лестничной площадке Иван Иваныч позвонил в соседнюю дверь,
а когда появилась девочка, Люся, он что-то ей сказал. Та убежала к
себе в комнату и вернулась со старушкой, Степановной. Как только Иван
Иваныч сказал ей то же самое слово «осколок», она засуетилась, взяла
его под руку и повела обратно:
— Вам надо лежать, Иван Иваныч. Лежать. Вот так, — заключила
она, когда тот вновь лег на спину: — Лежать. Только лежать. — Она
взяла со стола ключи и быстро ушла, почти побежала, засеменив по-
старушечьи.
Конечно, Бим воспринял слово «лежать», повторенное трижды, так,
будто оно относится и к нему. Он лег рядом с кроватью, не спуская
взора с двери: горестное состояние хозяина, волнение Степановны и то, что
она взяла со стола ключи, все это передалось Биму, и он находился в
тревожном ожидании.
Вскоре он услышал: ключ вставили в скважину, замок щелкнул,
дверь открылась, в прихожей заговорили, затем вошла Степановна, а за
нею трое чужих в белых халатах — две женщины и мужчина. От них
пахло не так, как от других людей, а скорее тем ящичком, что висит на
стене, который хозяин открывал только тогда, когда говорил: «Худо мне,
Бим, худо, плохо».
Мужчина решительно шагнул к кровати, но...
Бим бросился на него зверем, упер ему в грудь лапы и дважды
гавкнул изо всей силы.
«Вон! Вон!» — прокричал Бим.
Мужчина отпрянул, оттолкнув Бима, женщины выскочили в
прихожую, а Бим сел у кровати, дрожал всем телом и, видно, был готов
скорее отдать жизнь, чем подпустить неведомых людей к другу в такую
трудную для него минуту.
Врач, стоя в дверях, сказал:
— Ну и собака! Что же делать?
Тогда Иван Иваныч позвал Бима жестом поближе, погладил по
голове, чуть повернувшись. А Бим прижался к другу плечом и лизал ему
шею, лицо, руки...
— Подойдите, — тихо произнес Иван Иваныч, глядя на врача.
Тот подошел.
— Дайте мне руку.,
Тот подал.
— Здравствуйте.
— Здравствуйте, — сказал врач.
Бим прикоснулся носом к руке врача, что и означало на собачьем
языке: «Что ж поделаешь! Так тому быть: друг моего друга — мне
друг».
Внесли носилки. Положили на них Ивана Иваныча. Он проговорил:
— Степановна... присмотрите за Бимом, дорогая. Выпускайте утром.
Он сам приходит скоро... Бим будет меня ждать. — И к Биму:—Ждать...
Ждать,
32 Гавриил Троеполъский
Бим знал слово «ждать»: у магазина — «Сидеть, ждать», у
рюкзака на охоте — «Сидеть, ждать». Сейчас он привизгнул, повиляв хвостом,
что означало: «О, мой друг вернется! Он уходит, но скоро вернется».
Только понял-то его один Иван Иваныч, остальные не поняли —
это он увидел в глазах всех. Бим сел у носилок и положил на них лапу^
Иван (Изаныч пожал ее.
— Ждать, мальчик. Ждать.
Вот этого Бим никогда не видел у своего друга, чтобы вот так
горошинами скатилась вода из глаз.
Когда унесли носилки и щелкнул замок, он лег у двери, вытянул
передние лапы, а голову положил на пол, вывернув ее на сторону: так
собаки ложатся, когда им больно или тоскливо; они и умирают чаще
всего в такой позе.
Но Бим не умер от тоски, как та собака-иоводырь, прожившая со
слепым человеком много лет. Та легла около могилы хозяина,
отказалась от пищи, приносимой кладбищенскими доброхотами, а на пятый
день, когда взошло солнце, она умерла. И это быль, а не выдумка. Зная
необыкновенную собачью преданность и любовь, редко какой охотник
скажет о собаке: «Издохла», он всегда скажет: «Умерла».
Нет, Бим не умер. Биму сказано точно: «Ждать». Он верит — друг
придет. Ведь сколько раз было так: скажет «Ждать», и обязательно
придет.
Ждать! Вот теперь вся цель жизни Бима.
Но как тяжко было в ту ночь одному, как больно! Что-то делается
не так, как обычно... От халатов пахнет бедой. И Бим затосковал.
В полночь, когда взошла луна, стало невыносимо. Рядом с
хозяином и то она всегда беспокоила Бима, эта луна: у нее глаза есть, она
смотрит этими мертвыми глазами, светит мертвым холодным светом,
и Бим уходил от нее в темный угол. А теперь — даже в дрожь бросает
от ее взгляда, а хозяина нет. И вот глубокой ночью он завыл, протяжно,
с подголоском, завыл как перед напастью. Он верил, что кто-то услышит,
а может быть, и сам хозяин услышит.
Пришла Степановна.
— Ну, что ты, Бим? Что? Ивана Иваныча нету. Ай-ай-ай, плохо.
Бим не ответил ни взглядом, ни хвостом. Он только смотрел на
дверь. Степановна включила свет и ушла. С огнем стало легче — луна
отодвинулась дальше и стала меньше. Бим устроился под самой лам-
пЪчкой, спиной к луне, но вскоре снова лег перед дверью: ждать.
Утром Степановна принесла кашу, положила ее в Бимову миску,
но он даже и не встал. Так поступала и собака-поводырь — она не
поднималась и тогда, когда приносили пищу.
— Ты смотри, сердешный какой, а? Это ж уму непостижимо. Ну,
пойди погуляй, Бим. — Она распахнула дверь. — Пойди погуляй.
Бим поднял голову, внимательно посмотрел на старушку. Слово
«гулять» ему знакомо, оно означает — воля, а «Поди, поди гулять» —
полная свобода. О, Бим знал, что такое свобода: делай все, что
разрешит хозяин. Но вот его нет, а говорят: «Пойди погуляй». Какая же это
свобода?
Степановна не умела обращаться с собаками, не знала, что такие,
как Бим, понимают человека и без слов, а те слова, что они знают,
вмещают в себе многое и, соответственно случаю, разное. Она, по простоте
душевной, сказала:
— Не хочешь кашу, пойди поищи чего-нибудь. Ты и травку
любишь. Небось и на похмойке что-то раскопаешь (не знала она, по-наив-
ности, что Бим к помойкам не прикасался). Пойди поищи.
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 33
Бим встал, даже встрепенулся. Что такое «ищи»? Что искать?
«Ищи» означает: ищи спрятанный кусочек сыра, ищи дичь, ищи
потерянную или спрятанную вешь. «Ищи» — это приказ, а что искать — Бим
определяет по обстоятельствам, по ходу дела. Что же сейчас искать?
Все это он сказал Степановне глазами, хвостом, вопросительным
перебором передних лап, но она ничегошеньки не поняла, а повторила:
— Пойди гулять. И щ и!
И Бим бросился в дверь. Молнией проскочил ступеньки со второго
этажа, выскочил во двор. Искать, искать хозяина! Вот что искать —
больше нечего: так он понял. Вот здесь стояли носилки. Да, стояли. Вот
уже со слабым-слабым запахом следы людей в белых халатах. След
автомобиля. Бим сделал круг, вошел в него (так поступила бы даже самая
бездарная собака), но опять — тот же след. Он потянул по нему, вышел
на улицу и сразу же потерял его около угла: там вся дорога пахла той
же резиной. Человеческие следы есть разные и много, а автомобильные
слились все вместе и все одинаковые. Но тот, нужный ему след пошел
со двора туда, за угол, значит и надо — туда.
Бим пробежал по одной улице, по другой, вернулся к дому, обегал
места, где они гуляли с хозяином, — нет признаков, никаких и нигде.
Однажды он издали увидел клетчатую фуражку, догнал того человека—
нет, не он. Присмотревшись внимательнее, он установил: оказывается, в
клетчатых фуражках идут многие-многие. Откуда ему было знать, что
в эту осень продавали только клетчатые фуражки, и потому они
нравились всем. Раньше он этого как-то не приметил, потому что собаки
всегда обращают внимание (и запоминают), главным образом, на нижнюю
часть одеяния человека. Это у них еще от волка, от природы, от
многих столетий. Так, лиса, например, если охотник стал за густой куст,
закрывающий только до пояса, не замечает человека, если он не шевелится
и если ветер не доносит от него запаха. Так что Бим увидел
неожиданно в этом какой-то отдаленный смысл: по верху искать нечего, так
как головы могут быть одинаковыми по цвету, подогнанными друг под
друга.
День выдался ясный. На некоторых улицах листья пятнами
покрыли тротуары, на некоторых лежали сплошь, так что, попадись хоть
частичка следа хозяина, Бим ее уловил бы. Но — нигде и ничего.
К середине дня Бим отчаялся. И вдруг в одном из дворов он
наткнулся на след носилок: тут они стояли. А потом струя того же запаха
потекла со стороны. Бим пошел по ней, как по битой дорожке. Пороги
отдавали людьми в белых халатах. Бим поцарапался в дверь. Ему
открыла девушка, тоже в белом халате, и отпрянула с испуга. Но Бим
приветствовал ее всеми способами, спрашивая: «Нет ли здесь хозяина?».
— Уйди, уйди! — закричала она и закрыла дверь. Потом
приоткрыла и крикнула кому-то: — Петров! Прогони кобеля, а то мне шеф
намылит шею, начнет выпинаться: «Псарня, а не скорая помощь!». Гони!
От гаража подошел человек в черном халате, затопал ногами на Би-
ма и вовсе незлобно прокричал, как бы no-обязанности и даже с ленцой:
— Вот я тебе, тварь! Пошел! Пошел!
Никаких таких слов, как «шеф», «псарня», «гони», «мылить шею»,
«выпинаться» и уж тем более «скорая помощь», Бим не понимал и даже
вовсе никогда не слышал, но слова «уйди» и «пошел», в сочетании с
интонацией и настроением, он понял прекрасно. Тут Бима не обхмануть.
Он отбежал на некоторое расстояние и сел и смотрел на ту дверь. Если
бы люди знали, что ищет Бим, они ему помогли бы, хотя хозяина сюда
и не привозили, а доставили прямо в больницу. Но что поделаешь, если
3. «Наш современник» № 1.
34 Гавриил Троеполъский
собаки понимают людей, а те не всегда понимают собак и даже друг
друга. Кстати, Биму недоступны такие глубокие мысли; непонятно было
и то, на каком таком основании его не пропускают в дверь, в которую он
честцо царапался, доверительно и прямодушно, и за которой, по всей
вероятности, находится его друг.
Бим сидел у куста сирени с поблеклыми уже листьями до самого
вечера. Приезжали машины, из них выходили люди в белых халатах и
вели кого-то под руки или просто шли следом; изредка выносили из
автомобиля человека на носилках, тогда Бим чуть приближался, проверял
запах: нет, не он. К вечеру на собаку обратили внимание и другие люди.
Кто-то принес кусочек колбасы — Бим не притронулся; кто-то хотел
взять его за ошейник — Бим отбежал; даже тот дядька в черном
халате несколько раз проходил мимо и, остановившись, смотрел на Бима
сочувственно и не топал ногами. Бим сидел статуей и никому ничего не
говорил. Он ждал.
В сумерках он спохватился: вдруг хозяин-то дома? И побежал
торопливо, легким наметом.
По городу бежала красивая, с блестящей шерстью, ухоженная
собака — белая, с черным ухом. Любой добрый гражданин скажет: «Ах,
какая милая охотничья собака!».
Бим поцарапался в родную дверь, но она не открылась. Тогда он
лег у порожка, свернувшись калачиком. Не хотелось ни есть, ни пить —
ничего не хотелось. Тоска.
На площадку вышла Степановна:
— Пришел, горемышный?
Бим вильнул хвостом только один раз («Пришел»).
— Ну вот теперь и поужинай. — Она пододвинула ему миску с
утренней кашей.
Бим не притронулся.
— Так и знала: накормился сам. Умница. Спи. — И закрыла за
собой дверь.
В эту ночь Бим уже не выл. Но и не отходил от двери: ждать!
А утром снова забеспокоился. Искать, искать друга! В этом весь
смысл жизни. И когда Степановна выпустила его, он, во-первых, сбегал
к людям в белых халатах. Но на этот раз какой-то тучный человек
кричал на всех и часто повторял слово «собака». В Бима бросали камнями,
хотя и нарочито мимо, махали на него палками и наконец
больно-пребольно стегнули длинной хворостинкой. Бим отбежал, сел, посидел
малость и, видимо, решил: тут хозяина быть не может, иначе его не гнали
бы так жестоко. И ушел Ьим, слегка опустив голову.
По городу шел одинокий, грустный, ни за что обиженный пес.
Вышел он на кипучую улицу. Людей было видимо-невидимо, и все
спешили, изредка торопливо перебрасываясь словами, текли куда-то и
текли без конца. Наверняка Биму прищло в голову: «А не пройдет ли
о н здесь?». И без всякой логики сел в тени, на углу, неподалеку от
калитки, и стал следить, не пропуская своим вниманием почти ни одного
человека.
Во-первых, Бим заметил, что все люди, оказывается, пахнут
автомобильным дымом, а уж через него пробиваются другие запахи разной
силы.
Вот идет человек, тощий, высокий, в больших, порядком стоптанных
ботинках, и несет в сетке картошку, такую же, какую приносил домой
хозяин. Тощий несет картошку, а пахнет табаком. Шагает быстренько,
спешит, будто кого-то догоняет. Но это только показалось — догоняют
кого-то все. И все что-то ищут, как на полевых испытаниях, иначе зачем
и бежать по улице, забегать в двери и выбегать, и снова бежать?
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 35
— Привет, Черное ухо! — бросил Тощий на ходу.
«Здравствуй», — угрюмо ответил Бим, двинув по земле хвостом, не
растрачивая'сосредоточенности и вглядываясь в людей.
А вот за ним идет человек в комбинезоне, пахнет он так, как пахнет
стена, когда ее лизнешь (мокрая стена). Он почти весь серо-белый.
Несет длинную белую палку с бородкой на конце и тяжелую сумку.
— Ты чего тут? — спросил он у Бима, остановившись, — Уселся
ждать хозяина или затерялся?
«Да, ждать»,— ответил Бим, посеменив передними лапами.
— Тогда, на-ка вот тебе. — Он вынул из сумки кулек, положил
перед Бимом конфету и потрепал пса за черное ушко. — Ешь, ешь. (Бим
не прикоснулся). Дрессированный. Интеллигент! Из чужой тарелки есть
не будешь. — И пошел дальше тихо, спокойненько, не так, как все.
Кому как, а для Бима этот человек — хороший: он знает, что такое
«ждать», он сказал «ждать», он понял Бима.
Толстый-претолстый, с толстой палкой в руке, в толстых черных
очках на носу, несет толстую папку: все-все у него толстое. Пахнет он явно
бумагами, по каким хозяин шептал палочкой, и еще, кажется, теми
желтыми бумажками, какие хозяин всегда клал в карман. Он остановился
около Бима и сказал:
— Фух! Ну и ну! Дошли: кобели на проспекте.
Из калитки появился дворник с метлой и стал рядом с Толстым.
А тот продолжал, обращаясь к дворнику, указывая пальцем на Бима:
— Видишь? На твоей небось территории?
— Факт, вижу. — И оперся на метлу, поставив ее вверх бородой.
— Видишь... Ничего ты не видищь, — сказал сердито. — Даже
конфету не жрет, заелся. Как же дальше жить?! — Он злился вовсю.
— А ты не живи, — сказал дворник и равнодушно добавил: — Ишь,
как ты исхудал, бедняга.
— Оскорбляешь! — рявкнул Толстый.
Остановились трое молодых ребят и почему-то улыбались, глядя то
на Толстого, то на Бима.
— Чего вам смешно? Чего смешно? Я ему говорю... собака! Тыща
собак, по два-три кило мяса каждой — две-три тонны в день.
Соображаете, сколько получится?
Один из ребят возразил:
— Три кило и верблюд не съест.
Дворник невозмутимо внес поправку:
— Верблюды мясо не едят. — Неожиданно он перехватил метлу
поперек палки и так-то сильно замахал ею по асфальту перед ногами
Толстого. — Посторонись, гражданин! Ну? Я чего сказал!
Толстый ушел, отплевываясь. Те трое ребят тоже пошли своей
дорогой, посмеиваясь. Дворник тут же и перестал мести. Он погладил
Бима по спине, постоял немного и сказал:
— Сиди, жди. Придет. — И ушел в калитку.
Из всей этой перепалки Бим не только понял — «мясо», «собака»,
возможно, «кобели», но слышал интонацию голосов и, главное, все
видел, а этого уже достаточно для того, чтобы умной собаке догадаться:
Толстому — плохо жить, дворнику — хорошо; один — злой, другой —
добрый. Кому уж лучше знать, как не Биму, что ни свет ни заря на
улицах живут только дворники и что они уважают собак. То, что дворник
прогнал Толстого, Биму даже отчасти понравилось. А в общем-то эта
случайная пустяковая история только отвлекла Бима, хотя, может быть,
оказалась полезной в том смысле, что он начинал смутно догадываться:
36 Гавриил Троеполъский
люди все разные, они могут быть и хорошими, и плохими. Ну что ж:
и то польза, скажем мы со стороны. Но пока для Бима это было
совершенно неважно — не до того: он смотрел и смотрел на проходящих.
От некоторых женщин пахло остро и невыносимо, как от ландышей,
пахло теми беленькими цветами, что ошарашивают нюх и возле
которых Бим становился бесчутым; в таких случаях Бим отворачивался и
несколько секунд не дышал — ему не нравилось. У большинства женщин
губы были такого же цвета, как флажки на волчьей облаве; Биму такой
цвет тоже не нравился, как и всем животным, а собакам и быкам в
особенности. Почти все женщины чего-нибудь несли в руках. Бим приметил,
что мужчины с поноской попадаются реже, а женщины — часто.
...А Ивана Иваныча все нет и нет. Друг ты мой! Где же ты?..
Люди текли и текли. Тоска Бима как-то немножко забылась,
рассеялась среди людей, и он еще внимательней вглядывался вперед — не
идет ли он. Сегодня Бим будет ждать здесь. Ждать!
Около него остановился человек с мясистыми обвислыми губами,
крупно-морщинистый, курносый, с глазами навыкате, и вскричал:
— Безобразие! (Люди стали останавливаться). Кругом грипп,
эпидемия, рак желудка, а тут что? — тыкал он всей ладонью в Бима. —
Тут, среди массы народа, в гуще тружеников, сидит живая зараза!
— Не каждая собака — зараза. Смотрите, какой он милый пес, —
возразила девушка.
Курносый смерил ее взглядом сверху вниз и обратно и отвернулся,
возмущаясь:
— Какая дикость! Какая в вас дикость, гражданочка.
И вот... Эх, если бы Бим был человеком! Вот подошла та самая
Тетка, «советская женщина» — та клеветница. Бим сначала испугался, но
потом, взъерошив шерсть на холке, принял оборонительную позицию. А
Тетка затараторила, обращаясь ко всем, стоящим полукругом в
некотором отдалении от Бима.
— Дикость и есть дикость! Она же меня укусила. У-ку-си-и-ла! —
И показывала всем руку.
— Где укусила? — спросил юноша с портфельчиком. — Покажите.
— Ты мне еще, щенок! — Да и спрятала руку.
Все, кроме Курносого, рассмеялись.
— Воспитали тебя в институте, чертенка, вот уж воспитали,
гаденыш, — набросилась она на студента. — Ты мне, советской женщине,
и не веришь? Да как же ты дальше-то будешь? Куда же мы идем,
дорогие граждане? Или уж у нас Советской власти нету?
Юноша покраснел и вспылил:
— Если бы вы знали, как выглядите со стороны, то позавидовали бы
этой собаке. — Он шагнул к Тетке и крикнул: — Кто дал вам право
оскорблять?
Хотя Бим не понял слов, но выдержать больше не смог: он прыгнул
в сторону Тетки, гавкнул изо всей силы и уперся всеми четырьмя
лапами, сдерживаясь от дальнейших поступков (за последствия он уже не
ручался). Интеллигент! Но все-таки — собака.
Тетка завопила истошно:
— Мили-иция! Мили-иция!
Где-то засвистел свисток, кто-то, подходя, крикнул:
— Пройдемте, гр-раждане! Пройдемте по своим делам! — Это был
милиционер (Бим даже повилял чуть хвостом, несмотря на
возбуждение). — Кто кричал?! Вы? — обратился милиционер к Тетке.
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 37
— Она, — подтвердил юноша-студент.
Вмешался Курносый:
— Куда вы смотрите! Чем занимаетесь? — запилил он
милиционера. — Собаки, собаки — на проспекте областного города!
— Собаки! — кричала Тетка.
— И такие вот дикие питекантропусы! — кричал и студент.
— Он меня оскорбил! — почти рыдала Тетка.
— Граждане, р-разойдись! А вы, вы, да и вы, пройдемте в
милицию, — указал он Тетке, юноше и Курносому.
— А собака?! — взвизгнула Тетка. — Честных людей — в милицию,
а собаку...
— Не пойду, — отрубил юноша.
Подошел второй милиционер:
— Что тут?
Человек в галстуке и шляпе резонно и с достоинством разъяснил:
— Да вон, энтот студентишка, не хочеть в милицию, не подчиняется.
Энти вон, обоя, хотять, а энтот не хочеть. Неподчинение. А это не
положено. Ведуть — должон иттить. Мало бы чего... — И он, отвернувшись от
всех прочих, поковырял в собственном ухе большим пальцем, как бы
расширяя слуховое отверстие. Явно это был жест убежденности,
уверенности в прочности мыслей и безусловного превосходства перед
присутствующими — даже перед милиционерами.
Оба милиционера переглянулись и все же увели студента с собой.
Следом за ними потопали Курносый и Тетка. Люди разошлись, уже
не обращая внимания на собаку, кроме той милой девушки. Она
подошла к Биму, погладила его, но тоже пошла за милиционерами.
Сама пошла, как установил Бим. Он посмотрел ей вслед, потоптался на
месте, да и побежал, догнал ее и пошел рядышком.
Человек и собака шли в милицию.
— Кого же ты ждал, Черное ухо? — спросила она остановившись.
Бим уныло присел, опустив голову.
— И подвело у тебя живот, милый. Я тебя накормлю, подожди,
накормлю, Черное ухо.
Вот уже несколько раз называли Бима «Черное ухо». И хозяин
когда-то говорил: «Эх, ты, Черное ухо!». Давно-давно он так произнес, еще
в детстве. «Где же мой друг?» — думал Бим. И пошел опять же с
девушкой, в печали и унынии.
В милицию они вошли вместе. Там кричала Тетка, рыкал Курносый
дядька; понурив голову, молчал студент, а за столом сидел милиционер,
незнакомый, и явно недружелюбно посматривал на всех троих.
Девушка сказала:
— Привела виновника.— И указала на Бима.— Милейшее
животное. Я все видела и слышала там с самого начала. Этот парень, —
она кивнула на студента, — ни в чем не виноват.
Рассказывала она спокойно, то указывая на Бима, то на кого-нибудь
из тех трех. Ее пытались перебить, но милиционер строго останавливал
и Тетку, и Курносого. Он явно дружелюбно относился к девушке. В
заключение она спросила шутя:
— Правильно я говорю, Черное ухо? — А обратившись к
милиционеру, еще добавила: — Меня зовут Даша. — Потом к Биму: — Я
Даша. Понял?
Бим всем существом показал, что он ее уважает.
— А ну, пойди ко мне, Черное ухо. Ко мне! — позвал
милиционер.
О, Бим знал это слово: «ко мне». Точно знал. И подошел.
38 Гавриил Троепольский
Тот пошлепал по шее легонько, взял за ошейник, рассмотрел
номерок и записал что-то. А Биму приказал:
— Лежать!
Бим лег, как и полагается: задние ноги под себя, передние
вытянуты вперед, голова — глаза в глаза с собеседником и чуть на бочок.
Теперь милиционер спрашивал в телефонную трубку:
— Союз охотников?
«Охота»! — вздрогнул Бим. «Охота»! Что же это значит здесь-то?
— Союз охотников? Из милиции. Номер двадцать четыре
посмотрите. Сеттер... Как так нету? Не может быть, Собака хорошая,
дрессированная... В горсовет? Хорошо. — Положил трубку и еще раз взял,
что-то спрашивал и стал записывать, повторяя вслух:—Сеттер... с
внешними наследственными дефектами, свидетельства о родословной нет,
владелец Иван Иванович Иванов, улица Проезжая, сорок один.
Спасибо. — Теперь он обратился к девушке: — Вы, Даша, молодец.
Хозяин нашелся.
Бим запрыгал, ткнул носом в колено милиционера, лизнул руку
Даше и смотрел ей в глаза, прямо в глаза, так, как могут смотреть только
умные и ласковые доверчивые собаки. Он ведь понял, что говорили про
Ивана Иваныча, про его друга, про его брата, про его бога, как сказал
бы человек в таком случае. И вздрагивал от волнения.
Милиционер строго буркнул Тетке и Курносому:
— Идите. До свидания.
Дядька начал пилить дежурного:
— И это — все? Какой же у нас будет порядок после такого?
Распустили!
— Идите, идите, дед. До свидания. Отдыхайте.
— Какой я тебе «дед»? Я тебе — отец, папаша. Даже нежное
обращение позабывали, с-сукины сыны. А хотите вот таких, — ткнул он в
студента, — воспитывать, по головке гладить, по головке. А он вас —
подождите! — гав! И скушает. — Гавкнул действительно по-собачьи,
натурально.
Бим, конечно, ответил тем же.
Дежурный рассмеялся:
— Смотрите-ка, папаша, собака-то понимает, сочувствует.
А Тетка, вздрогнув от двойного лая — человека и собаки, —
пятилась от Бима к двери и кричала:
— Это он на меня, на меня! И в милиции — никакой защиты
советской женщине!
Они ушли все-таки.
— А меня что — задержите? — угрюмо спросил студент.
— Подчиняться надо, дорогой. Раз приглашают — обязан идти. Так
положено.
— Положено? Ничего такого не положено, чтобы трезвого вести в
милицию как вора. Тетке этой надо бы пятнадцать суток, а вы... Эх,
вы! — И ушел, потрепав Биму ухо.
Теперь Бим уже совсем ничего не понимал: плохие люди ругают
милицию, хорошие тоже ругают, а милиционер терпит да еще
посмеивается; тут, видимо, и умной собаке не разобраться.
— Сами отведете? — спросил дежурный у Даши.
— Сама. Домой, Черное ухо, домой.
Бим теперь шел впереди, оглядываясь на Дашу и поджидая: он
отлично знал слово «домой», и вел ее именно домой. Люди-то не
сообразили, что он и сам пришел бы в квартиру, им казалось, что он
малоумный пес; только Даша все поняла, одна Даша — вот эта белокурая
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 39
девушка, с большими задумчивыми и теплыми глазами, которым Бим
поверил с первого взгляда. И он привел ее к своей двери. Она
позвонила—ответа не было. Еще раз позвонила, теперь к соседям. Вышла
Степановна. Бим ее приветствовал: он явно был веселее, чем вчера, он
говорил: «Пришла Даша. Я привел Дашу». (Иными словами нельзя
объяснить взгляды Бима на Степановну и на Дашу попеременно).
Женщины разговаривали тихо, при этом произносили «Иван
Иваныч» и «осколок», затем Степановна открыла дверь. Бим приглашал
Дашу: не спускал с нее глаз. Она же первым делом взяла миску,
понюхала кашу и сказала:
— Прокисла. — Выбросила кашу в мусорное ведро, вымыла миску
и поставила опять на пол. — Я сейчас приду. Жди, Черное ухо.
— Его зовут Бим, — поправила Степановна.
— Жди, Бим. — И Даша вышла.
Степановна села на стул, Бим сел против нее, однако поглядывая все
время на дверь.
— А ты — пес сообразительный, — заговорила Степановна. —
Остался один, а видишь вот, понимаешь, кто к тебе с душой. Я вот, Бим-
ка, тоже... на старости лет с внучкой живу. Родители-то народили, да и
подались аж в Сибирь, а я воспитала. И она, внучка-то, хорошо меня
любит, всем сердцем ко мне.
Степановна изливала душу сама перед собой, обращаясь к Биму.
Так иногда люди, если некому сказать, обращаются к собаке, к любимой
лошади или кормилице корове. Собаки же выдающегося ума очень
хорошо отличают несчастного человека и всегда выражают сочувствие. А
тут обоюдно: Степановна явно жалуется ему, а Бим горюет, страдает от
того, что люди в белых халатах унесли друга; ведь все неприятности дня
всего лишь немного отвлекли боль Бима, сейчас же она вновь возникла
с еще большей силой. Он отличил в речи Степановны два знакомых
слова «хорошо» и «ко мне», сказанных с грустной теплотой. Конечно же,
Бим приблизился к ней вплотную и положил голову на колени, а
Степановна приложила илагок к глазам.
Даша вернулась со свертком. Бим тихо подошел, лег животом на
пол, положил одну лапу на ее туфлю, а голову — на другую лапу. Так
он сказал: «Спасибо тебе».
Даша достала из бумаги две котлеты, две картофелины и положила
их в миску:
— Возьми.
Бим не стал есть, хотя третьи сутки у него не было во рту ни крохи.
Даша легонько трепала его за холку и ласково говорила:
— Возьми, Бим, возьми.
Голос у Даши мягкий, душевный, тихий и, казалось, спокойный;
руки теплые и нежные, ласковые. Но Бим отвернулся от котлет. Даша
открыла рот Бима и втолкнула туда котлету. Бим подержал, подержал ее
во рту, удивленно глядя на Дашу, а котлета тем временем проглотилась
сама. Так произошло и со второй. С картошкой — то же.
— Его надо кормить насильно, — сказала Даша Степановне. — Он
тоскует о хозяине, потому и не ест.
— Да что ты! — удивилась Степановна. — Собака сама себе
найдет. Сколько их бродит, а едят же.
— Что же делать? — спросила Даша у Бима. — Ты ведь так
пропадешь.
— Не пропадет, — уверенно сказала Степановна. — Такая умная
40 Гавриил Троепольский
собака не пропадет. Раз в день буду варить ему кулеш. Что ж
поделаешь? Живность.
Даша о чем-то задумалась, потом сняла ошейник.
— Пока я не принесу ошейник, не выпускайте Бима. Завтра часам
к десяти утра приду... А где же теперь Иван Иваныч? — спросила
она у Степановны.
Бим встрепенулся: о нем!
— Увезли самолетом в Москву. Операция на сердце сложная.
Осколок-то рядом.
Бим — весь внимание: «осколок», опять «осколок». Слово это
звучит горем. Но раз они говорят про Ивана Иваныча, значит он где-то
должен быть. Надо искать. Искать!
Даша ушла. Степановна — тоже. Бим снова остался один коротать
ночь. Теперь он нет-нет да и вздремнет, но только на несколько минут.
И каждый раз он видел во сне Ивана Иваныча — дома или на охоте. И
тогда он вскакивал, осматривался, ходил по комнате, нюхал по углам,
прислушивался к тишине и вновь ложился у двери. Очень сильно болел
рубец от хворостины, но это было ничто в сравнении с большим горем
и неизвестностью.
Ждать. Ждать. Стиснуть зубы и ждать.
Глава 7
ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В это утро Бим чуть не плакал. Солнце уже выше окна, а никто не
идет. Он прислушивался к шагам жильцов подъезда, проходивших мимо
его двери с верхних этажей или поднимавшихся снизу. Все шаги
знакомые, а его нет и нет. Наконец точно услышал туфельки Даши.
Она! Бим голосом подал о себе знать. Его крик в переводе на
человеческий язык означал: «Я тебя слышу, Даша!».
— Сейчас, сейчас, — откликнулась та и позвонила Степановне.
Обе они вошли к Биму. С каждой он поздоровался, затем
бросился к двери, стал там, повернув голову к женщинам, и потребовал,
просяще повиливая хвостом: «Открывайте. Надо искать».
Даша надела на него ошейник, на котором теперь во всю
ширину был прочно закреплен латунный жетон-пластинка с
выгравированной надписью: «Зовут его Бим. Он ждет хозяина. Хорошо знает свой
дом. Живет в квартире один. Не обижайте его, люди». Даша
прочитала надпись Степановне.
— Какая же ты добрая душа! — всплеснула руками
Степановна. — Любишь, значит, собак?
Даша погладила Бима и ответила необычно:
— Муж бросил, мальчик умер... А мне тридцать лет. Жила на
квартире. Уезжаю.
— Одинокая. Ой ты, моя желанная, — запричитала
Степановна. — Да ведь это же...
Но Даша отрубила:
— Пойду. — А у двери добавила: — Пока не выпускайте Бима —
не убежал бы за мной.
Бим попробовал протиснуться в дверь вместе с Дашей, но она
оттеснила его и вышла со Степановной.
Не более как через час Бим заскулил, потом и завыл с тоски в
голос, так завыл, как про это говорят люди: «Хочется завыть собакой».
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 41
Степановна выпустила его (Даша теперь далеко):
— Ну, иди, иди. Вечером кулеша наготовлю.
Бим даже и не обратил внимания ни на ее слова, ни на ее глаза,
а шемером скатился вниз и — во двор. Челноком просновал по двору,
вышел на улицу, чуть постоял, будто подумал, а затем стал читать
запахи строку за строкой, не обращая внимания даже на те деревья,
где стояли росписи собратьев и читать которые обязана каждая
уважающая себя собака.
За весь день Бим не обнаружил никаких признаков Ивана
Иваныча. А перед вечером, как бы на всякий случай, забрел в молодой
парк вновь отстроенного района города. Там четверо мальчишек
гоняли мяч. Он посидел малость, проверил окружающее насколько
хватал нос, и хотел было уходить. Но мальчик лет двенадцати отделился
от играющих, приблизился к Биму и с любопытством смотрел на него.
— Ты чей? — спросил он, будто Бим смог бы ответить на вопрос.
Бим, во-первых, поздоровался: повилял хвостом, но с грустинкой,
склонив голову сначала на одну сторону, потом на другую. Это,
кроме того, означало и вопрос: «А ты — что за человек?».
Мальчик понял, что собака ему пока не доверяет полностью, и
смело подошел, протянул руку:
— Здравствуй, Черное ухо.
Когда Бим подал лапу, мальчик крикнул:
— Ребята! Сюда, сюда!
Те подбежали, но остановились все же на отшибе.
— Смотрите, какие умные глаза! — восхищался первый мальчик.
— А может, он ученый? — спросил резонно пухленький
карапуз. — Толя, Толька, ты скажи ему чего-нибудь — поймет иль не поймет?
Третий, более взрослый, чем остальные, авторитетно заявил:
— Ученая. Видишь, табличка на шее.
— И вовсе не ученая, — возразил худенький мальчишка. — Она
не была бы такая тощая и унылая.
Бим в самом деле страшно похудел без хозяина и потерял уже
былой вид: живот подтянуло, нечесанная шерсть свалялась на штанах
и помутнела на лоснившейся когда-то спине. Тоска и голод не красят
и собаку.
Толик прикоснулся ко лбу Бима, а он осмотрел всех и выразил
теперь полное доверие. После этого все поочередно гладили Бима, и
он не возражал. Отношения сразу же сложились добрые, а в
атмосфере полного взаимопонимания всегда недалеко и до сердечной дружбы.
Толик вслух прочитал написанное на латунной табличке и воскликнул:
— Он — Бим! Один живет в квартире! Ребята, он есть хочет.
А ну, по домам и — сюда: тащите, кто что может.
Бим остался с Толиком, а ребятишки разбежались. Теперь
мальчик сел на скамейку, а Бим лег у его ног и глубоко вздохнул.
— Плохо тебе, наверно, Бим? — спросил Толик, поглаживая
голову собаки. — Где же твой хозяин?
Бим уткнулся носом в ботинок и так лежал. Вскоре появились
один за другим те ребятишки. Пухленький принес пирожок,
Взрослый — кусок колбасы, Худенький — два блинчика. Все это они
положили перед Бимом, но он даже и не понюхал.
—* Он —- больной, — сказал Худенький. — Может, даже и
заразный. — И попятился от Бима.
Пухленький зачем-то вытер руки о штанишки и тоже отошел.
Взрослый потер колбасой нос Бима и заключил уверенно:
— Не будет. Не хочет.
42 Гавриил Троеполъский
— Мама говорила — все собаки заразные, — все опасался
Пухленький, — а эта и вовсе больная.
— Ну и уходи, — сердито буркнул Толик. — Чтоб я тебя тут не
видел... «Заразная»... Заразных ловят собачатники, а эта — вон с
какой табличкой.
Рассудительное доказательство подействовало: ребятишки вновь
окружили Бима. Толик потянул за ошейник вверх. Бим сел. Толик
завернул у него мягкую губу и увидел щелку в глубине челюсти, где
кончаются зубы; отломил кусочек колбасы и засунул в эту щелку —
Бим проглотил. Еще кусочек — и еще проглотил. Так покончили с
колбасой под общее одобрение присутствующих. Все наблюдали
сосредоточенно, а Пухленький с каждым глотком Бима тоже глотал,
хотя во рту ничего не было: он как бы помогал Биму. Кусочки
пирожка никак нельзя было втолкнуть — они рассыпались, тогда Бим
наконец взял пирожок сам, лег на живот, положил пирожок на лапы,
посмотрел-посмотрел на него и съел. Сделал он так явно из уважения
к Толику. У него такие ласковые руки и такой мягкий, даже чуть
грустный, взгляд, и так он жалеет Бима, что тот не устоял против
теплоты душевной. Бим и раньше относился к детям особо, а теперь он
окончательно уверился, что маленькие люди все хорошие, а большие
бывают разные, бывают и плохие. Он, конечно, не мог знать, что
маленькие люди потом становятся большими и тоже разными, но это —
не собачье дело рассуждать, как и почему из маленьких хороших
вырастают большие плохие люди, такие, как Тетка или Курносый. Он
просто-напросто съел пирожок для Толика, и все. А от этого ему
стало легче, потому он не отказался и от блинчиков. И кроме того, за
неделю Бим ел всего лишь второй раз.
Первым после трапезы Бима заговорил Толик:
— Попробуем узнать, что он может делать.
Худенький сказал:
— В цирке, если прыгать, кричат «Ап!».
Бим привстал и внимательно посмотрел на мальчика, будто
спрашивая: «Через что — ап?!».
Двое из них взялись за концы пояска, а Толик скомандовал:
— Бим! Ап!
Бим легко перепрыгнул через наивный барьер. Все были в
восторге. Пухленький приказал четко:
— Лежать!
Бим лег (пожалуйста, для вас — с удовольствием!).
— Сидеть, — попросил Толик. (Бим сел). — Подай! — и бросил
фуражку.
Бим принес и фуражку. Толик обнял его от восхищения, а Бим со
своей стороны в долгу не остался и лизнул его прямо в щеку.
Конечно же, Биму стало куда легче с этими маленькими
человечками. Но тут-то и подошел дядька, поигрывая палочкой-тростью,
подошел так тихо, что ребята и не заметили его, пока он не задал
вопрос:
— Чья собачка?
С виду он был важный, в серой узкополой шляпе, при сером
бантике вместо галстука, в сером пиджаке, серо-белых брюках, с
короткой серой бородой, в очках. Он, не спуская глаз с Бима, повторил:
— Так чья же собачка, дети?
В два голоса одновременно ответили Взрослый мальчик и Толик.
— Ничья, — сказал один наивно.
— Моя, — настороженно сказал Толик. — В эту минуту моя.
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 43
Толик и раньше видел Серого дядьку: он важно прогуливался
вокруг парка в одиночку. Как-то раз даже вел с собой собаку, которая
упиралась и не хотела идти. А однажды подошел к ребятишкам и
зудел им, что они и играть-то не умеют, как прежде, и вежливости у них
нет, и воспитывают их неправильно, не так, как прежде, и что за них
люди воевали даже еще в гражданскую, за вот этих, таких, а они не
ценят и ничего не умеют и что все это стыдно.
В тот далекий день, когда Серый поучал их, Толику было девять
лет. Теперь же двенадцать. Но дядьку этого он помнил. Сейчас Толик
сидел, обняв Бима, и сказал «Моя».
— Ну, так как же: ничья или его? — спросил дядька, обращаясь
ко всем и указывая на Толика.
— На ней вон табличка есть, — вмешался Пухленький не в
добрый час.
Серый подошел к Биму, потрепал ухо и стал читать на ошейнике.
Бим точно почуял, совершенно точно: от Серого пахнет собаками,
пахнет как-то отдаленно, многодневно, но пахнет. Он посмотрел ему
в глаза и немедленно, тут же, не поверил — ни в голос, ни во взгляд,
даже и ни в запахи. Не может быть, чтобы человек просто так вобрал
в себя далекие запахи разных собак. Бим прижался к Толику, пытаясь
отцепиться от Серого, но тот не отпускал.
— Нельзя лгать, мальчик, — укорил он Толика. — По
табличке — не твоя собака. Стыдно, мальчик. Тебя что, родители так приучили
говорить неправду? Какой же ты будешь, когда вырастешь? Эх-хе-
хе! — Он вынул из кармана поводок и пристегнул к ошейнику.
Толик схватил за поводок и крикнул:
— Не троньте! Не дам!
Серый отвел его руку.
— Я обязан доставить собаку по месту назначения. А может быть,
придется протокол составить. (Он так и сказал «протокол»).
Возможно, его хозяина алкоголь заел. (Так и произнес — «алкоголь»). Если
так, тогда надо собаку изъять. Должность моя такая — делать все
по-честному, по-человеческому. Так-то. Найду его квартиру,
проверю — правильно ли.
— А табличке не доверяете? — укоризненно и почти плача
спросил Толик.
— Доверяю, мальчики, доверяю полностью. Но... — Он поднял
палец вверх и поучительно произнес, почти торжественно: — Доверяй,
но проверяй! — И повел Бима.
Бим упирался, оглядывался на Толика, видел, как тот заплакал
от обиды, но — что поделаешь! — потом пошел-таки за Серым, поджав
хвост и глядя в землю, сам на себя не похожий. Всем видом своим
он говорил: «Такая уж наша собачья жизнь, когда нигде нет хозяина».
Тут бы и всего дела — укусить бы за ляжку и бежать, но Бим —
собака интеллигентная: веди куда ведешь.
Шли они по улице, на которой стояли новые дома. Все новые. Все
серые и настолько одинаковые, что даже Бим мог бы в них
заблудиться. В одном из домов-близнецов поднялись на третий этаж, при
этом Бим заметил, что и двери все одинаковые.
Открыла им женщина в сером платье:
— Опять привел? Да господи, боже мой!
— Не гундеть! — строго оборвал Серый. Он снял с Бима
ошейник и показал: — На, смотри. — Женщина разбирала, надев очки, а он
продолжал: — Понятия нет. Во всей республике я — единственный
коллекционер собачьих знаков, А эта табличка — вещь! Пятисотый знак!
44 Гавриил Троепольский
Ничего не было понятного для Бима, ровным счетом ничего,
никаких знакомых слов, никаких понятных жестов — ничего. Вот Серый
пошел из прихожей в комнату, с ошейником в руках. Оттуда позвал:
— Бим, ко мне!
Бим подумал-подумал и осторожно вошел. В комнате осмотрелся,
не подходя к Серому, а так — сидя у двери. На чистой стене висели
доски, обшитые бархатом, а на них рядами висели собачьи знаки:
номерки, жетоны, медали серые и медали желтые, несколько красивых
поводков и ошейников, несколько усовершенствованных намордников
и другие доспехи собачьего обихода, даже — капроновая петля для
удушения, смысла которой Бим, конечно, не понимал; где ее раздобыл
владелец коллекции — понять невозможно даже и человеку, а для
Бима она была обыкновенной веревкой, не больше.
Бим смотрел внимательно, как Серый повертел в руках его
ошейник, плоскогубчиками снял табличку и прикрепил в середине одной из
досок на бархат; так же поступил и с номерком, а затем надел
ошейник на Бима и сказал:
— Ты — собака хорошая.
Точно так же говорил когда-то хозяин, но теперь Бим не поверил.
Он вышел в прихожую и стал у двери, говоря: «Выпускай! Мне тут
делать нечего».
— Уж выпусти, — сказала женщина. — Чего сюда-то припер его?
Снял бы на улице.
— Нельзя было — пацаны привязались. И сейчас нельзя: увидят
они — без таблички, могут довести до сведения... Так что пусть
ночует до зари. Лежать! — приказал он Биму.
Бим лег у двери: ничего не поделаешь! И опять же: стоило ему
завыть в голос, заметаться по квартире, наброситься на Серого, и все!
Выпустил бы. Но Бим умеет ждать. Да и устал он, обессилел так, что
даже у чужой двери на некоторое время задремал, хотя и тревожным
сном.
То была первая ночь, когда Бим не пришел домой, в свою
квартиру. Он это почувствовал, когда очнулся от дремоты, и не сразу
сообразил, где находится. А сообразивши, затосковал. Он же снова
видел во сне Ивана Иваныча; каждый раз, как только засыпал,
видел его, а проснувшись, ощущал еще теплоту его рук, знакомых с
малого щенячьего возраста. Где он, мой хороший и добрый друг? Где?
Тоска невыносимая. Одиночество тяжкое, и никуда от него не
денешься. А тут еще Серый человек храпит, как заяц под борзой. И пахнет
от всех этих бархатных досок умершими собаками. Тоска. И Бим
заскулил. Потом чуть взлаял дважды, тоже с легким подвывом, так, как
гончая, когда она добирает след зайца по вчерашней жировке. И
наконец не выдержал — взвыл протяжно.
«Ох-хо-хо-ой! Ой-ой, лю-юди-и, — плакал он. — Тяжко мне, ой
тяжко без друга. Отпустите вы меня, отпустите искать его. Ой-ой-ой,
лю-юди-и-и, ой!»
Серый вскочил, включил свет и стал молотить Бима палкой и
шипеть:
— Молчи, молчи, выродок! Соседи слышат. На тебе! На тебе!
Бим уклонялся от ударов, инстинктивно оберегая голову, и
стонал, как человек: «Ох... Ах-х... Ах-хр-р... Ох...».
Но злой человек изловчился-таки и саданул по голове. Бим на
несколько секунд потерял сознание, задрыгав лапами, но быстро
опомнился, отскочил от двери, уперся задом в угол и оскалил зубы.
Впервые оскалил.
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 45
Серый попятился от Бима:
— Ишь ты! Укусит еще, черт... — И распахнул дверь.
Но Бим не верил даже и в то, что дверь действительно открыта,
не верил и тогда, когда Серый говорил:
— Ступай, ступай. Поди, Бим, гуляй. Иди, собачка, иди.
Не верил он этому ласковому, вкрадчивому тону, этой лести и
заискиванию после побоев. О, лесть после побоев — новое открытие
Бима в его жизни. Тетка и Курносый — люди просто нехорошие.
А вот этот... этого Бим уже ненавидел. Ненавидел! Бим начинал
терять веру в человека. Да, именно так.
Бим вытянул шею, оскалил зубы и... пошел на Серого, тихо, но
решительно, медленно, но уверенно. Серый прижался к стене:
— Ты что?! Ты что?!
Женщина в ночной рубахе орала на Серого:
— Допрыгался! Укуси-ит!
Бим увидел, что страшный дядька испугался его, что он его до
страсти боится. От этого Бим укрепился в решимости: прыгнул,
цапнул увернувшегося врага за мягкое место и выскочил в распахнутую
дверь. Бим бежал и ощущал во рту вкус человеческого мяса от
задницы, которую он возненавидел всем существом. Нет, Бим не считал
себя несчастным и жалким, наоборот, сейчас он был храбрым, а
храбрость всегда совмещается с гордостью и чувством собственного
достоинства — даже у хорька.
В предрассветной мути бежал Бим по улице, хотя и в ошейнике,
но уже без номерка «24». Сначала он впопыхах направился не туда,
то-есть не в город, а из города (дальше домов не было). Он вернулся
обратно и попал в тот же лабиринг одинаковых домов. Кружил, кружил,
петлял, петлял, да и попал к тому же дому, из которого выскочил.
Тут уж он заспешил в нужном направлении, чему помогло совершенно
закономерное обстоятельство, мало известное людям: вчера, когда его
вели здесь, он уловил на одном углу роспись какого-то собрата, на
другом углу — второго; теперь же, пробежав от знакомого по этому
признаку угла до следующего, он и взял нужный ориентир. Поистине
нужно отличное чутье, чтобы не только найти здесь дом, но и выбраться
отсюда. Бим обладал отличным чутьем и замечательной сметкой.
Уже засветло он прибежал к своему дому, поднялся к своей
родной двери, поцарапался. Ответа не было. Еще поцарапался — то же
самое: тишина. Главное, у двери не было следов Ивана Иваныча.
И еще слишком рано, чтобы Степановна услышала в зоревом сне
позывные Бима. Он посидел у двери в задумчивости.
Болело все от побоев, стучало в голове и сильно тошнило, сил
не было. Но он все же пошел. Искать пошел своего друга. Да и кто
же, кроме Бима, будет его искать?
По городу бежала с виду унылая собака, но преданная, верная и
смелая.
Глава 8
СЛУЧАЙ НА СТРЕЛКЕ
Дни шли за днями. Бим их уже не замечал. Он регулярно
обследовал город и узнал его во всех подробностях. Теперь он ходил по
заранее намеченному маршруту; если бы люди догадались, то они
могли бы проверять по Биму свои часы. Появись он у парка — пять
утра, у вокзала — шесть, у завода — половина восьмого, на
проспекте — двенадцать, на левобережье — четыре часа дня и так далее.
46 Гавриил Троепольский
Завелись и новые знакомые среди людей. Бим установил, что
большинство из них — добрые, но такие шли по улицам молча, а
нехорошие всегда много болтали. Нашел и людей, пахнущих маслом и
железом (раньше он встречал их поодиночке). Эти ежедневно, около
восьми утра, текли сплошным потоком в ворота, потом в двери будки.
Здесь они были говорливы, как грачи, так что разобрать, пожалуй,
ничего нельзя, да это, впрочем, и не интересовало Бима. Он садился
в стороне от потока и смотрел, и ждал.
— Эй, Черное ухо! Привет! — здоровался каждое утро паренек
в синем комбинезоне и выкладывал перед Бимом припасенный
сверток с едой. — Жив, курилка? Здравствуй. — И подавал Биму свою
добрую человеческую лапу, грубую, но теплую.
Иные молча протягивали ему ладонь, здоровались и спешили
дальше. Никто ни разу здесь не обидел Бима.
Теперь Бим мало-помалу научился различать людей по сортам.
Вот, например, часто попадается ему на пути дебелая бабочка, ноги —
бутылками, всегда такая довольная, бодрая, на лице счастье; но,
встречаясь с Бимом, она фыркала кошкой, плевалась, поднимала
сумку с продуктами на уровень пышной груди и каждый раз твердила
одно и то же:
— Фу, какая гадость! Неужели нельзя подушить всех собак, чтоб
не трепали нервы? Вот вам, пожалуйста: «Моя милиция меня
бережет». Как же! Уберегут... А тут каждый кобель среди бела дня
запросто может спустить с тебя юбку. А что милиции? Милиции мы —
пятая нога собаке.
Ввиду того, что она часто повторяла одно и то же, Бим, по
простоте собачьей, почел, что бабочку так и зовут — Пятая нога. Но он знал
точно: к этой подходить нельзя. Мало ли что он не понимал ее слов,
кроме ее же клички, зато он слышал и видел, потому и взял за
правило: к таким — ни шагу, не связываться. Потом он как-то стал
(чутьем, что ли?) определять — кого надо обходить и сторониться.
Добрых было огромное большинство, злых — единицы, но все добрые
боялись злых. Бим же — нет, не боялся, но ему было тоже не до них.
Познание человеков расширялось и углублялось, а с собачьей точки
зрения он уже не казался каким-то вылощенным дилетантом и
идеалистом, готовым вилять хвостом каждому прохожему. Бим за
короткое время стал худущим, но серьезным псом, и у него была цель
жизни — искать и ждать.
И вот однажды ранним утром, проверяя запахи одного из
тротуаров, он опешил от радости. Он остановился, фыркнул и побежал,
как бешеная собака, ничего не разбирая и не видя впереди. Но так
могло показаться со стороны, а на самом деле он бежал по свежему
следу: здесь прошла Даша! Она только-только что была тут.
След привел его к вокзалу. Пройти в помещение не было никакой
возможности: люди, люди и люди без конца; даже на улице, у
какого-то окошка, они мяли друг друга, кричали, пыхтели, вопили, будто
гончие приспели до зайца и рвут его в клочья, не слушаясь ни
арапника, ни рога. В такой обстановке оказалось невозможным уловить
след Даши — след пропал. Тогда Бим дал круг по-над вокзалом и
вышел на перрон. Здесь люди стояли группами около дверей длинных
домиков на колесах, не рычали, не толкались, а, наоборот, обнимались,
целовались и даже плясали в одном месте, у двери домика. Никому
не было дела до Бима, потому он свободно сновал челноком под
ногами и сосредоточенно вчитывался в перрон.
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 47
И вдруг у одной из дверей пахнуло Дашей. Бим потянул к
порогам, но женщина с большим жетоном на груди отогнала его. Однако
Бим не сдался: он стал пронюхивать окна и всматриваться в них.
Потом заметил, что последними вошли в домик две женщины в белых
халатах. Он бросился было к ним, но домики потихоньку поехали. Бим
кинулся к окнам. В его собачьем уме возникли совершенно, казалось,
правильные заключения: Даша там, люди в белых халатах там,
значит Иван Иваныч может быть там тоже. Может! Не увезли ли его
люди в белых халатах?
И Бим, бедный Бим, теперь уже несчастный Бим, сначала легко
бежал вровень с домиком, заглядывая в окна. Тут-то и увидела его
Даша.
— Бим! Би-им!!! — закричала она. — Милый Бим! Пришел
проводить! хМой добрый Бим! Би-и-м! Би-и...
Голос ее становился все тише и тише. Домик убегал. А Бим, как
ни старался, как ни напрягался изо всех сил, все отставал и
отставал.
Потом он бежал некоторое время за последним домиком до тех
пор, пока тот не скрылся из виду, бежал и дальше, по той же дороге,
потому что она никуда не сворачивала. Долго бежал. И наконец, еле
переводя дух, пал между рельсами, вытянув все четыре лапы,
задыхаясь и тихонько скуля. Надежды не оставалось никакой. Не хотелось
никуда идти, да он и не смог бы, ничего не хотелось, даже жить
не хотелось.
Когда собаки теряют надежду, они умирают естественно — тихо,
без ропота, в страданиях, не известных миру. Не дело Бима и не в его
способностях понять, что если бы не было надежды совсем, ни одной
капли на земле, то все люди тоже умерли бы от отчаяния. Для
Бима все было проще: очень больно внутри, а друга нет, и все
тут. Как лебедь умирает после потери любимой, взмывая вверх и
бросаясь оттуда камнем; как журавль, потеряв родную и единственную
журавлиху, вытягивается плашмя, распластав крылья, и кричит, кричит,
прося у луны смерти; так тогда и Бим: лежал, видел в бреду
единственного и незаменимого друга и готов был ко всему, даже не
сознавая этой готовности. Но он теперь молчал. Нет на земле ни единого
человека, который слышал бы, что умирает собака. Собаки умирают
молча.
Ах, если бы Биму сейчас несколько глотков воды! А так, наверно,
он не встал бы никогда, если бы...
Подошла женщина. Она была в ватном пиджаке и ватных же
брюках, голова повязана платком. Сильная, большая женщина. Видимо, она
сперва подумала, что Бим уже мертв, — наклонилась над ним, став
на колени, и прислушалась: Бим еще дышал. Он настолько ослабел со
времени прощания с другом, что ему, конечно, нельзя было устраивать
такой прогон, какой он совершил за поездом, — это безрассудно. Но
разве имеет значение в таких случаях разум, даже у человека!
Женщина взяла в ладони голову Бима и приподняла:
— Что с тобой, собачка? Ты что, Черное ухо? За кем же ты так
бежал, горемыка?
У этой грубоватой на вид женщины был теплый и спокойный
голос. Она спустилась под откос, принесла в брезентовой рукавице
воды, снова приподняла голову Бима и поднесла рукавицу, смочив ему
нос. Бим лизнул воду. Потом, в бессилии закачав головой, вытянул
шею, лизнул еще раз. И стал лакать. Женщина гладила его по спине.
48 Гавриил Троепольский
Она поняла все: кто-то любимый уехал навсегда, а это страшно,
тяжко до жути — провожать навсегда, это все равно что хоронить живого.
Она каялась Биму:
— Я вот — тоже... И отца, и мужа провожала на войну... Видишь,
Черное ухо, старая стала... а все не забуду... Я тоже бежала за
поездом... и тоже упала... и просила себе смерти... Пей, мой хороший, пей,
горемыка.^
Бим выпил из рукавицы почти всю воду. Теперь он посмотрел
женщине в глаза и сразу же поверил: хороший человек. И лизал,
лизал ее грубые, в трещинах, руки, слизывая капельки, падающие из
глаз. Так второй раз в жизни Бим узнал вкус слез человека: первый
раз — горошинки хозяина, теперь вот — эти, прозрачные, блестящие
на солнышке, густо просоленные неизбывным горем.
Женщина взяла его на руки и снесла с полотна дороги под откос:
— Лежи, Черное ухо. Лежи. Я приду, — и пошла туда, где
несколько женщин копались на путях.
Бим смотрел ей вслед мутными глазами. Но потом с огромным
усилием приподнялся и, шатаясь, медленно побрел за нею. Та
оглянулась, подождала его. Он приплелся и лег перед нею.
— Хозяин бросил? — спросила она. — Уехал?
Бим вздохнул. И она поняла.
Подошли они к той группе работающих. Все здесь были —
женщины, одетые так же, как и Хороший человек, а сбоку стоял и
мужчина, в треухе на затылке и с трубкой в зубах. Он спросил сердито:
— За собакой увязалась, Матрена? А кто будет работать? Эх ты,
Матрена, Матрена... Одно слово — Матрена. — И тыкал пальцем в ее
сторону.
Бим уловил: Хороший человек — это Матрена. Она приказала ему
лежать у обочины, а сама взяла какие-то огромные клещи и вцепилась
ими в шпалу вместе с другими женщинами.
— Раз-два, взяли! — рявкнул мужчина. — Еще разик! Еще
раз! — орал он подбоченясь и даже гордо.
На каждый его крик женщины отвечали дружными рывками так,
что бревно подчинялось и ползло за ними, зажатое со всех сторон
клещами. При каждом таком рывке лица женщин напрягались до
красноты, а у одной из них, худосочной и квелой, наоборот, лицо
бледнело и даже синело. Эту женщину Матрена отстранила рукой и сказала
ей так, как когда-то говорил хозяин Биму, отгоняя его:
— Уйди! Отдохни, а то богу душу отдашь. — И к мужчине: —
Ну, кричи, что ль, антихрист!
— Раз-два, взяли! — гаркнул тот и, поправив треух, стал
выводить как бы с огромным трудом: — Ой, бабочки, еще раз! Муж уехал
на Кавказ! Не доехал до Кавказа! Оженился там, зараза! Стоп!
Ложи струмент!
Слово «зараза» Бим уже слышал от Курносого дядьки: плохое
слово. Других слов он не понял.
А женщины положили в сторону клещи, взяли железные клинья
и стали забивать их тяжелыми и длинными молотками. Матрена
легко, вроде бы играючи, вколачивала штырь тремя ударами, а Квелая
при каждом ударе охала, стонала:
— Ах-ха! Ох-ха!
— Давай, давай! — покрикивал Зараза, набивая трубку. —
Давай, давай, Анисья! — Он приблизился к женщине: — С потягом бей,
с потягом на себя — легче пойдет.
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 49
Анисья — это Квелая. Она дольше других возилась с каждым
клином и в конце концов оказалась на отшибе. Странное для женщин
произошло тут событие и непонятное: Бим подошел к Анисье
расслабленной походкой и тоже, как Матрене, полизал горькие брезентовые
рукавицы. Все приостановили работу и с удивлением смотрели на
Бима.
Потом они, по приказу Заразы, сели все под кустами и обедали,
каждая из своего узелка. И покормили Бима. Он ел. Теперь он уже брал
пищу из рук хороших людей. Это было его спасением.
К вечеру он забеспокоился: подходил к Матрене, садился, вяло
семенил передними лапами, смотрел ей в лицо, снова отходил, ложился,
но вскоре опять подходил и снова отдалялся.
— Уйти хочешь, Черное ухо, — догадалась Матрена. — Ну, иди,
ступай, Черное ухо. Куда же я тебя дену? Некуда. Иди.
Бим попрощался и пошел, медленно, шагом, не по-собачьи. Пошел
вдоль железной дороги обратно. Дорога есть дорога, она указывает,
куда идти — никогда не собьешься, если взял правильное направление.
Только вот все тело мучительно ныло от вчерашних побоев Серого,
трудно было дышать на ходу, но — что поделаешь! — идти надо, благо
он подкрепился у добрых женщин, да и тропинка по бровке была
гладкой и ровной. Постепенно втянувшись, он легонько-легонько и затрусил.
Как же живучи собаки и отходчивы!
Если посмотреть со стороны, ничего особенного в этом не было: по
полотну железной дороги семенила хворая собака. И только.
Ближе к городу из одного пути стало два: еще пара железных
непрерывных полос потянулась рядом. Потом их стало три. Недалеко от
будочки неожиданно заморгали поочередно два красных глаза: левый,
правый, левый, правый — метались из стороны в сторону. Красное для
всех зверей неприятно; волк, например, не в силах даже перепрыгнуть
линию красных флажков, а лисица, обложенная ими, остается в кольце
на двое-трое суток и больше. Так что Бим решил обойти громадные
красные живые глаза. Он сошел на третью линию рельсов, остановился,
вглядываясь в моргающее красное, еще не решаясь идти дальше. И вдруг
под ногами что-то скрежетнуло...
Бим взвыл от страшной боли, ^о никак не мог оторвать лапу от
рельсов: на стрелке лапа попала в могучие тиски. Из воя Бима и можно
было понять только одно: «Ой4 больно! Помоги-ите-е!».
Людей поблизости нет. Люди не виноваты. Отгрызть собственную
лапу, как это делает иногда волк в капкане, собака не может, она ждет
помощи, она надеется на помощь человека.
Но что это? Два огромных ярких белых глаза осветили путь и
самого Бима, они ослепили его, надвигаясь медленно и неумолимо. Бим
сжался в комок от боли и страха. И замолчал в предчувствии напасти.
Но гремящее существо с такими глазами остановилось шагах в тридцати,
а в зону света впрыгнул из темноты человек и подбежал к Биму. Потом,
сразу же, появился и второй.
— Как же ты попал, бедняга? — спросил первый.
— Что же делать? — спросил у первого второй.
От них пахло почти так же, как от шоферов, оба были в фуражках
с большими медалями.
— За остановку нам влетит, хоть мы и рядом со станцией, — сказал
первый.
— Теперь все равно, — отозвался второй и пошел в будочку.
Наш бедный Бим понял по интонации (не по словам): это его
спасители. Он слышал, как пронзительно зазвонил в будочке звонок, а че-
4. «Наш современник» № 1.
50 Гавриил Троепольский
рез минуту тиски отпустили лапу. Но Бим не двигался, он оцепенел.
Тогда его взял человек и отнес за линию дороги. Там Бим закрутился
волчком на месте, зализывая раздавленные пальцы. И однако (до чего
же собаки наблюдательны!) он слышал говор из окон и дверей поезда;
теперь, не ослепленный светом, он видел поезд из темноты сбоку; разные
голоса повторяли слова «собака» и «охотничья», слова очень понятные.
Бим был благодарен хорошим, добрым людям. Вот так. Где-то, кто-
то перевел стрелку той дороги, по которой шел Бим. И никакому «кто-
то» нет теперь дела до того, что какой-то собаке защемило ногу, и она
стала калекой. Как бы там ни было, но теперь он уже никогда не
пойдет по железной дороге: это он понял так же, как понял еще в юности,
что там, где бегут автомобили, ходить нельзя.
Бим попрыгал на трех ногах, измученный, изуродованный. Он часто
останавливался и лизэл онемелые и уже припухшие пальцы больной
лапы, кровь постепенно утихла, а он все лизал и лизал до тех пор, пока
каждый бесформенный палец не стал идеально чистым. Это было очень
больно, но другого выхода не было; каждая собака это знает: больно но
терпи, больно, а ты лижи, больно, но молчи.
...К родной двери он прихромал далеко за полночь. Нет! Опять нет
следов Ивана Иваныча. Бим хотел поцарапаться в дверь, как и обычно,
но, оказалось, нельзя: с больной ногой невозможно не только встать на
задние лапы, но даже и сесть, — только стоять на трех ногах или
лежать плашмя. Тогда он уткнулся носом в угол двери и проверил
запахи внутри: хозяина не было. Значит, уехал совсем. Так он стоял долго,
как бы поддерживая головой ослабевшее тело. Затем подошел к двери
Степановны и громко, коротко, в отчаянии сказал: «Гав! Я тут».
Степановна ахнула:
— Ах, боже ж ты мой! Да где же тебя так-то? — Открыла дверь,
впустила и вошла с ним в его квартиру. — Ой ты, собака, собака,
несчастная собака, что же мне с тобой делать-то теперь? И что скажет
Иван Иваныч?
Бим только было лег посреди комнаты, вытянув ноги, но... Как так?
«Иван Иваныч»? Бим поднял голову, повернул ее с усилием к
Степановне и смотрел, смотрел на нее, не спуская глаз, он явно спрашивал:
«Иван Иваныч? Где?».
Степановна не умела обращаться с собаками, не знала, как
кормить и ухаживать, она, однако, умела жалеть. Может быть, чувство
жалости и помогло ей теперь понять Бима, догадаться, что слова «Иван
Иваныч» пробудили в больной собаке проблеск надежды.
— Да, да, Иван Иваныч, — подтвердила она. — Подожди-ка: я
сейчас приду. — Торопливо выйдя, она сразу же и вернулась с письмом в
руках, поднесла его к носу Бима: — Видишь вот? Письмо прислал Иван
Иваныч.
Бим, бедный Бим, умиравший и воскресший, раздавленный и
спасенный, больной и без капли надежды, Бим задрожал. Он уткнул нос
в письмо, потом прошелся ноздрями по краям: да, да, да... вот он
сильно провел пальцами по конверту туда-сюда... Когда Степановна
подняла конверт с пола и вынула из него письмо, Бим с усилием встал и
потянулся к ней; теперь достала из того же конверта совершенно чистый
лист бумаги и положила его перед Бимом. Он завилял хвостом: здесь
написан запах пальцев Ивана Иваныча, да, это он нарочито тер
пальцами.
— Тебе прислал-то, — сказала Степановна. — Так и пишет: дайте
Биму этот чистый лист. — Она близко указывала на бумагу,
приговаривая: — Иван Иваныч... Иван Иваныч....
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 51
Бим вдруг расслабленно опустился на пол и вытянулся, положив
голову на лист. Из глаз его покатились слезы. Бим плакал первый раз
в жизни. Это были слезы надежды, счастливые слезы, скажу я вам,
лучшие в мире слезы, не хуже, чем слезы радости встреч и счастья.
...Дай-то бог, дорогой читатель! Но верь мне: сеттер умеет смеяться
и плакать.
...Степановна начинала понимать собаку, но она поняла и то, что ей
не справиться, не осилить одной, не может. Долго она сидела около Би-
ма и думала о своей жизни. И так ей захотелось в деревню, где она
родилась и выросла, так стало тоскливо в этих каменных клетках, где
люди годами не знают друг друга, живя в одном доме, даже — в одном
подъезде. Но все же догадалась она дать Биму воды.
Ой как надо было ему воды! Он, чуть привстав, пил жадно, теряя
капли на пол, а потом снова лег в том же положении. Бим закрыл глаза,
казалось, забылся.
Уже перед рассветом Степановна вышла, так тихо, будто боялась
беспокоить тяжелобольного человека.
А посреди комнаты лежала всего лишь одинокая собака.
Сколько Бим проспал, он не знал: может, несколько часов, может,
и сутки. Проснулся от жгучей боли в ноге. Был день, потому что,светило
солнце. Несмотря на боль, он понюхал листок. Запах хозяина стал
слабее и дальше, но это было уже неважно. Главное в том, что о н есть, где-
то есть, и его надо искать. Бим встал, напился из миски и заходил по
квартире на трех ногах; было больно, но он ходил, ходил, ходил из
комнаты в прихожую и обратно, кружил по комнате. Инстинкт ему
подсказывал: если отлежал один бок, если больно, то надо ходить. Вскоре
приспособился передвигаться, не причиняя боли раздавленной лапе: ее надо
слегка поднимать вверх, а не волочить над полом — тогда боль меньше.
Когда же Степановна принесла еду, он уже повилял ей хвостом,
порадовал, а потом и поел. И почему, собственно, не поесть, если появилась
надежда и возникли в собачьей голове два магических слова — «искать»
и «ждать».
Но сколько он ни просился, сколько ни требовал, Степановна не
выпускала его. (Сиди дома, ты — больной). Но наконец и тут она
уяснила, что Бим — существо живое, что ему тоже надо выйти по
надобности. Она, безусловно, не знала, что были случаи, когда собаки умирали
от разрыва кишечника или задыхались при запорах, если тех собак не
выпускали более трех дней. А такие случаи были не раз.
Большая человеческая жалость и доброта души руководили
Степановной в ее жизни. Только и всего. Она прицепила поводок к ошейнику
и пошла. А Бим захромал рядом.
Во дворе, в дальнем углу, стояли двое: старая седая женщина
и хромая худющая собака — вот такая получилась картина.
Ребятишки выскакивали из подъездов, спешили в школу, но многие
из них подбегали и спрашивали:
— Бабушка, бабушка, почему Бим на трех ногах?
Или так:
— Бимка, больно тебе?
Но в школу бежать надо: это большая ответственность — ходить
в школу, самая первая ответственность в жизни — перед семьей, перед
учителем, перед друзьями. Потому они и не задерживались, убегали.
Это обстоятельство оказалось очень важным и для Степановны, и для
Бима, хотя они ничего не подозревали, а просто ушли домой, когда
наступило к тому время.
4*
52 Гавриил Троеполъский
У подъезда встретил их Палтитыч (Павел Титыч Рыдаев) и
обратился к Степановне:
— Такое дело, значит. Кобель этот — собака стоющая, и ее надо
беречь. Раз уж хозяин дал тебе поручение, то вот тебе совет: привяжи
на цепь. Обязательно. Иначе убежит. Не укараулишь. Выскочит в дверь,
и — каюк.
— Да разве ж можно такую умную собаку — на цепь? — не очень
уверенно возразила Степановна.
— Что: и тебя надо воспитывать? Учти: без хозяина и без цепи
кобель почует волю. И — каюк.
— Да он же обозлеет, цепной сделается.
— Пойми ты, темный ты человек! Обозлеет — зато жив будет. На
цепь, на цепь — вот тебе и вся моя инструкция. Добра желаючи говорю:
на цепь!
Не подчиниться председателю домкома Степановна не могла,
поэтому она купила цепочку за рубль десять и на ней выводила Бима во
двор. Но дома отцепляла ее от ошейника и бросала в уголок. Хитрая
бабушка Степановна — и волки сыты, и овцы целы. Впрочем, ей самой
пришлось выходить с Бимом всего лишь два —три раза, причиной чего
оказались необыкновенные события, развернувшиеся вокруг имени
Бима.
Глава 9
МАЛЕНЬКИЙ ДРУГ, ЛОЖНЫЕ СЛУХИ,
ТАЙНЫЙ ДОНОС НА БИМА
И ОТСТУПЛЕНИЕ АВТОРА
В школе, делясь новостями, ребятишки на первой же перемене
распространили слух: есть в их дворе собака — ходила на четырех ногах,
а теперь на трех, и худющая-прехудющая, а была не худющая, и она
была гладкая, а теперь взлохмаченная, была веселая, а теперь унылая,
и зовут ее Бим; хозяина увезли в Москву на операцию, а водит ее
теперь бабушка Степановна.
Слух дошел до одного из учителей-методистов, тот на очередном
районном собрании работников просвещения осветил это на следующий
день в интересном выступлении приблизительно так: растет молодое
поколение отличное, оно «приобщается к идее доброты, включающей в
себя жалость, как таковую, ко всему живущему на Земле». Все это он
подтвердил глубоким, опять же, интересом одной школы к какой-то
неизвестной собаке с черным ухом, хозяина которой надолго положили на
операцию.
Три дня подряд во всех школах района города учителя говорили
детям о жалости к животным и рассказывали, как хорошо и тепло
отнеслись в школе номер такой-то к собаке. Но наиболее осторожные,
однако, предупреждали, что собака, в таком случае, не должна быть
бешеной, чего и следует остерегаться. В школе, где учился Толик,
учительница рассказывала об этом же, но просто и душевно.
— Ну подумайте, дети, вы только подумайте! — говорила она.—
Какой-то жестокий человек оторвал у собаки ногу. (Так нескфлько
изменился слух уже среди учителей: слух есть слух!) Это недостойно
советского человека! А несчастная собачка с черным ухом теперь навеки
калека. — Она нашла в тетради нужную страничку и продолжала: —
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 53
Давайте, дети, напишем сочинение, маленькое и теплое, на свободную
тему: «Я люблю животных». Для свободного изложения и для того,
чтобы вы не напутали, вот вам планчик-вопросник.
И она написала мелом на доске, глядя в тетрадку:
1. Как зовут вашу собаку?
2. Белая она, черная или какая?
3. Острые у нее уши или вислые?
4. С хвостом она или с коротышкой?
5. Какой она породы, если это известно дома?
6. Ласковая она или злая?
7. Играешь ли ты с ней, а если играешь, то как?
8. Кусается она или нет? Если кусается, то — кого?
9. Любят ли ее папа и мама?
10. За что ты любишь собаку?
11. Как ты относишься к другим животным (куры, гуси, овцы,
олени, мыши и другие)?
12. Видел ли ты когда-нибудь лося?
13. Почему корову доят, а лося не доят (домашние животные и
дикие)?
14. Надо ли любить животных?
Толик сидел как на иголках, он не мог ничего писать. В общей
тишине он спросил, не выдержав:
— Анпална, а как зовут собаку с черным ухом?
Учительница посмотрела в блокнот и ответила:
— Бем.
— Бим! — вскрикнул Толик, взбудоражив этим возгласом весь
класс. — Отпустите меня, Анпална. Пожалуйста! Я пойду искать Бима,
я его знаю — он очень добрый. Пожалуйста! — просил он жалобно,
готовый в благодарности целовать руки Анпалне.
— Толя!—строго обратилась к нему Анна Павловна.— Ты
мешаешь другим работать. Думай и пиши сочинение.
Толик сел. Он смотрел на чистый лист тетради, а видел Бима.
Казалось, он сосредоточился на свободной теме вместе со всеми, но он
написал только одно заглавие: «Я люблю животных». Лишь незадолго до
звонка он начал быстро-быстро сочинять ответы. Даже и после звонка он
некоторое время выводил торопливые строчки, а Анна Павловна, как
обычно в таких случаях, сидела за столом и терпеливо ждала. Наконец
Толик, мрачный, неизвестно чем недовольный, положил перед Анной
Павловной свое сочинение. И вышел.
Его работа, таким образом, была сдана самой последней, поэтому,
как и всегда, Анна Павловна прочитала ее самой первой (сверху лежит).
Толик точно, даже с превышением, ответил на все вопросы
свободной темы. Его творение включало даже и поэтические опыты, хотя и с
явным плагиатом из популярной песенки, знакомой каждому малышу.
В общем же все выглядело так:
«Я люблю животных.
Ее зовут Бим. Она белая с черным ухом. Уши вислые. Хвост
настоящий. Порода охотничья, не овчарка. Ласковая. Играл один раз, но
какой-то дядька-зуда увел, дурной старикан и неподобный ни на что. Не
кусается. Мама и папа ее любить не могут, она чужая, с желтой
табличкой на шее. За что люблю, не знаю, просто так. Кур, гусей, овцы, олени,
мыши люблю, но мышей боюсь. Лося пока не видел, они в городе не
живут. Корову доят, чтобы было молоко в магазинах и чтобы
выполнялся план. («А ведь он дефективный!» — подумала Анна Павловна). Лося
54 Гавриил Троеполъский
не доят потому, что в магазинах не бывает лосинового молока и оно
никому не нужно, Животных любить надо, а собака лучший друг
человека. Я сочинил песенку сейчас:
И лось хорошо,
И олень хорошо,
И мышь хорошо,
А собака лучше.
Еще я заводил морских свинок, но мама сказала, они очень
пахучие в квартире, нос зажимай, и отдала чужой девочке. А Бима я все
равно найду, пусть даже вы меня и не отпустили. Все равно найду, сказал
найду, и найду. Хоть вы Анна Павловна, мне все равно».
У Анны Павловны глаза на лоб полезли: «Он же из рамок вон
выскочил! Он же черт-те о чем думает. В тихом омуте...». Последнюю
мысль она не стала додумывать дальше, так как была педагогом, а
просто с сознанием долга поставила двойку.
Вот ведь как оно выходит. Анна Павловна была на хорошем счету,
дети ее тоже любили и слушались, за исключением некоторых, без
каковых, впрочем, не обходится ни в одном классе. Воспитание — штука
сложная, сложнейшая, скажу я вам, потому, видимо, Толик и написал
такое, одно из первых своих, сочинение: просто-напросто от необъяснимой
обиды и, конечно, несознательно, если иметь в виду, что о морских
свинках у Анны Павловны никаких вопросов не было в теме. Может быть,
с возрастом он и поймет свою ошибку детства, но пока ему этого не
сообразить. Он даже не пришел в класс после перемены. А это уже — ЧП!
Толик поехал из своего нового района в другой, старый, в ту школу
№... и допытался-таки у ребят обо всем: когда они видели Бима и где
он живет. К радости своей он узнал также, что нога вовсе не оторвана,
а только висит, и пошел с ребятами в тот дом, к Биму.
Он нажал кнопку звонка. Бим ответил вопросом: «Гав! Кто там?».
— Это я — Толик! — крикнул гость. Потом услышал, как Бим,
прислонив нос к щели, фыркал и втягивал воздух.— Бим, это я — Толик.
Бим взвизгнул, залаял. Так он кричал: «Здравствуй, Толик!».
И мальчик его понял, впервые понял фразу из собачьего языка.
Степановна, услышав лай и разговор человека с собакой, вышла:
— Ты чего, мальчик?
— Я — к Биму.
Выяснилось все без труда. Они вошли вдвоем.
Толик не узнал Бима: поджарый, без живота, свалявшаяся шерсть,
кособокая походка, выпирающие наружу ребра — нет, это не Бим. Но
глаза, умные и полные ласки, сказали: «Я —Бим». Толик присел на
корточки и дал волю собаке. Бим, обнюхивая его, лизал пиджачок,
подбородок, руки и наконец положил мордаху на носок ботинка Толика.
Казалось, он успокоился.
Все рассказала Степановна Толику, незнакомому мальчику, все,
что знала о Биме и об Иване Иваныче, но не могла только объяснить,
где и кто раздавил лапу:
— Судьба,— определила она.— И у каждой собаки — своя судьба.
Говорила она с мальчиком спокойно, хоть и с горечью, не кичась
своей старостью и не подозревая своего большого жизненного опыта, на
равных.
— А где табличка? — спросил Толик.—Была же. Я читал,
— Была, Тебя как звать-то?
— Толик.
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 55
— Толик — это хорошо... Была. Кто-то снял, стало быть. — Толик
подумал: «Он снял, Серый дядька». Но все-таки вслух не произнес,
поскольку не был еще уверен в этом. — И что я с ним буду делать,
господи? — спросила Степановна, глядя на Бима. — И жалко-то, и что
делать — не знаю. Витинара бы ему.
— Ветеринара,— поправил Толик, тоже не ощущая своего
превосходства, и ответил на вопрос «что делать»: — Я буду приходить каждый
день после школы, буду его водить. Можно?
Так нашелся у Бима новый маленький друг. Он ежедневно, после
обеда, ехал через весь город к Биму, ходил с ним по двору, по улицам,
по парку и, к удовольствию всех ребят, говорил гордо:
— Собака — лучший друг человека.
Смысл в этих словах был совсем иным, чем в сочинении,
написанном от обиды.
Но твердо решил Толик: найти того Серого дядьку и поговорить
начистоту. В своем новом районе он стал его подкарауливать. И так-таки
встретил лицом к лицу.
— Дяденька,— спросил он, приподняв козырек фуражки и
заложив руки на спину,— зачем вы сняли табличку с Бима?
— Ты что — очумел, мальчик? — ответил тот вопросом на вопрос.
— Вы же его увели с табличкой. Я видел не один.
— И отпустил с табличкой. Он же меня укусил! Небось отпустишь,
если кусается как волк.
— Вы, дяденька, врете: Бим ласковый пес.
— Я? Я вру, щенок?.. Где твои родители? Где твои родители?
Говори! — присучился он.
Отчасти Серый был прав. Именно отчасти: он не врал, что был
укушен Бимом, и имел полное право возмущаться, но он врал, что будто бы
не снимал табличку с ошейника. Первопричиной происшедшего он
считал укус Бима, но не снятие таблички, а перестановка местами причины
и следствия всегда очень выгодный прием доказательства. Он был
глубоко убежден, что говорит правду, но то, что он говорил не всю
правду — это его уже не касалось. А кто знает, где она, причина,
и где следствие: собака укусила сначала или табличка снята сперва?
Это так и останется тайной для всех. Но Толик был глубоко убежден в
том, что Бим укусить Серого не мог, потому что он — человек, а не заяц
какой-нибудь или лисица. Потому он и повторил еще раз:
— Вы обманываете меня, дяденька. Это — стыдно.
— Бр-рысь! — гавкнул дяденька. И ушел, прихрамывая и
отставляя зад в сторону (видимо, здорово тяпнул его Бим).
Удивительно, как бывают правы обе стороны, когда один говорит
полуправду, а другой не знает второй половины правды.
Серый же шел и думал: «Пойдет с теми сопляками в милицию,
доложит, они придут, увидят коллекцию... Нет, юбилейный, пятисотый не
отдам. За него можно дать двадцать знаков любых»... И он решил:
«Лучший вид обороны — нападение».
Дома он написал зявление, а затем отнес его в ветеринарный пункт.
Там прочитали:
«...Бежала собака (беспородный сеттер с черным ухом), с разлету
укусила, вырвала из соответствующего места моего организма кусок
мяса и убежала дальше... Бежала она как бешеная, опустивши и хвост,
и голову к земле, глаза были налитые кровью... Либо ее изловить и
уничтожить, на что дать распоряжение бригаде ловцов бродячих собак,
либо я буду жаловаться выше на ваш бюрократизм и бездушие в
деятельности».,, и т. д.
56 Гавриил Троеполъский
Ветврач заволновался:
— Куда укусила? Когда? Где? При каких обстоятельствах?
Серый врал, как заправский сочинитель, только без всякого
воображения. Для врача же все было ясно из личного документа
укушенного, а именно: укушен бродячей собакой на улице! Он снял трубку
телефона и вызвал дежурного пастеровского пункта.
Вскоре, буквально через несколько минут, приехала на
автомобиле женщина-врач, спустила брюки Серого, глянула, спросила:
— Сколько дней прошло?
— Дней десять,— ответил невольный пациент.
— Через четыре дня сбеситесь,— категорически утвердила врач.
Но так как пациент ничуть не заволновался от такого приговора, у нее
возникли, видимо, какие-то сомнения, что ли, и она спросила: — А
сколько месяцев вы не купались?
— С третьей субботы перед укушением. Боялся засорить, как бы
антонов огонь не схватить... Место-то серьезное...
Вмешался ветврач:
— Место у вас действительно серьезное. Как телевизор. (Он был
шутником, этот симпатичный ветврач).
— Что же вы наделали! — воскликнула женщина-врач, еще раз
присмотревшись к ране.— На пункт, на пункт, на пункт! Немедленно
уколы против бешенства... в живот... в течение шести месяцев.
— Да вы что, очертенели! — взревел Серый дядька.
— Ничего не очертенели,— спокойно обрезал его ветврач.—Не
подчинитесь — будем силой действовать, через милицию, дома вас
возьмут, если вы такой темный человек.
— Я? Темный человек?! — вскричал Серый.— Да вы знаете, где я в
свое время работал?!
— Меня это не касается, — ответила врач. — На пункт! — добавила
она еще строже, чем прежде.
Теперь доносчик регулярно должен был ходить на уколы в
определенные дни и часы. Мало приятного, попал как кур во щи: кобель —
за задницу, а доктора — в живот.
А дальше было так.
Как уж они сошлись с Теткой той—неизвестно, но как-то сошлись.
Может быть, они были знакомы давно (пожалуй, так оно и было), но
в тот день они встретились на улице. Такие чуют друг друга так же,
как рыбак рыбака, дурак дурака, а клеветник клеветника. Сошлись,
значит, и разговорились. Выяснилось, что он кособочится от укуса
собаки с черным ухом.
— Да я же ее знаю! Ей-богу, знаю! — всхрапнула Тетка. — И меня
кусала.
Серый-то знал, что она врет, однако же сказал так:
— Я лично написал заявление, чтобы ее изловили и уничтожили.
Так подсказывает мне совесть.
— И правильно подсказывает! — с воодушевлением поддержала
Тетка.
— А вы тоже напишите... если, конечно, вы честный человек.
— Я? Я не отступлю!
И она в тот же день отнесла заявление туда же, в ветеринарный
пункт. В глубине души Серый думал (про себя думал): «Раз соврала, то
пусть-ка тебя доктора —в животик». Он не любил, когда ему
говорили неправду, и гордился этим. Ну, Тетка и попала тоже как кур во щи:
вопила, ругалась, врала по мере надобности, в частности про то, что
ранка была небольшая и уже зажила, тыкала пальцем в старый шрам-
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 57
чик на руке, и еще кричала, что она, как честная советская женщина,
написала для пользы дела, а ее за то наказывают в живот.
Странно, но почему-то ее отпустили, записав адрес, и сказали, мол,
заедем завтра на дом для выяснения. Как бы там ни было, но Тетка
возненавидела Бима лютой ненавистью, Серого — тоже, но несколько
меньше, хотя он и подвел ее под монастырь.
В связи с такими двумя заявлениями, через два дня в областной
газете появилось объявление:
«Есть основание полагать: собака, беспородный сеттер, ухо черное,
кусает прохожих. Знающих местопребывание таковой, а также
укушенных просим сообщить по адресу... на предмет изловления для анализа
и ликвидации возможных последствий. Граждане! Берегите свое
здоровье и здоровье других — не молчите»... и т. п.
В ближайшие дни немедленно посыпались письма читателей. В
одном из них сообщалось:
«...(такого-то числа и месяца сего года)... бежала собака в
направлении к вокзалу (беспородный сеттер, ухо черное), она не разбирала
ничего и перла напрямую; так здоровые духом собаки не бегают —
напрямую или наискосок через площадь, а обходят препятствия или
предметы, встречающиеся на пути следования. Хвост был опущен вниз, и
морда была действительно опущена вниз. Вышеупомянутая собака
(беспородный сеттер, черное ухо) вполне опасна, может укусить
любого гражданина Советского Союза и даже иностранного туриста,
каковые есть, а потому ее следует ловить и ликвидировать без никаких
исследований, о каковых упомянуто в объявлении вашей уважаемой нами
газете».
Под петицией стояло двенадцать подписей.
Были и другие письма (всех не упомянешь). Ну, например,такое:
«...Точно такая же собака, но без черного уха, бежала тоже напрямую»...
Или: «Город забит собаками, а которая из них бешеная, понять
невозможно никак». Или: «И вовсе та собака не бешеная, сами вы бешеные,
витинары». Или: «Если облисполком не может поставить на широкую
ногу организацию планомерного, рассчитанного на года, уничтожения
собак, то куда мы идем, товарищ редактор. Где план? Где действенная
критика, и почему вы к ней не прислушиваетесь? Хлебы-то мы умеем
печь, а вот охранить здоровью трудящегося гражданина — кишка тонка.
Я — честный человек и говорю всегда в глаза одну матку-правду. И не
боюсь я никого, кстати. А вы подумайте над теми моими словами. Мне
уж терпеть нету мочи: пишешь, пишешь, а толку ноль».
В общем, писем было так много, что развернулась дискуссия,
следствием чего явилась редакционная статья «Том в квартире», где
приводились выдержки из письма доцента пединститута. Тот доцент
был явным собаконенавистником. Почему это так, трудно догадаться,
но воспитательное значение для детей и юношества его высказывание
имело огромное: если они его поймут правильно, то с малых лет будут
душить собак, заботясь о здоровье трудящихся, а на человека,
содержащего дома собаку, будут коллективно и дружно кричать на улице:
«Бездельник!» (таким словом доцент обозвал людей, любящих собак),
«Грязнуля!» (тоже творчество того доцента).
Как уже сказано выше, всех писем перечислить не представляется
возможным, но одно приведем все-таки, последнее. Оно было из двух
строк. Читатель просто задал вопрос: «А на обоих ухах по черному
если— бить?». То был читатель-практик, далекий от абстрактного
восприятия мира. Но тем не менее это письмо не попало ни в статью, ни во-
58 Гавриил Троеполъский
обще на страницы печати, и даже осталось без ответа. Только
подумать! Какое неуважение к запросам человека!
Есть, есть еще читатель отзывчивый, не перевелся, слава богу.
Такой читатель не пропустит возможности высказаться и заклеймить.
Так вот и в нашей истории: Бима искали уже по всему городу,
опорочили добрую собаку. А за что? Ладно: пусть он укусил, скажем, — это
правда, а обстоятельства при укушении и то, что он бешеный, — это
сущая неправда. Заботливый читатель смешал все это вместе не по
своей вине: он не подозревал клеветы, а у нее хоть и короткие, но зато
прочные ноги.
Но редактор вовремя заметил, что дискуссия эта — стихийная,
вызванная, видимо, укушенным человеком, дискуссия вовсе не
организованная, а самотечная. И он поступил мудро — дал объявление
нонпарелью (тем шрифтом, какой никогда не пропустит устойчивый читатель):
«Собака Черное ухо — поймана. Редакция прекращает дискуссию на эту
тему. Рукописи не возвращаются».
Редактор тот был юморист, чего «читатель-борец» терпеть не может.
Но то была неправда: Бима никто не изловил. Просто-напросто То-
лик, узнав в школе про объявление, нашел перед вечером квартиру
ветврача, позвонил, а когда ему открыли, сказал:
— Я — от Черного уха, от Бима.
Выяснился вопрос незамедлительно: на следующий день Толик
поехал к Биму и отвел его, трехногого, на ветеринарный пункт к врачу.
Тот осмотрел, сказал:
*-* Враки — вся эта дискуссия. Собака не бешеная, а больная.
Избитая и изуродованная. Эх, люди! — как-то неопределенно
вздохнул он.
Зато осмотрел больную лапу, ослушал внутренности, выписал мазь
для ноги, дал микстуру для внутренностей и, провожая друзей —
мальчика и собаку, спросил на прощание:
— Тебя как же зовут, герой?
— Толик.
— Ты хороший мужик, Толик. Молодец!
Бим, уходя, тоже поблагодарил врача. От него пахло лекарствами,
но он вовсе не был больной, а наоборот, высокий, мужественный человек
с добрыми глазами.
«Хороший человек,— сказал ему Бим хвостом и взглядом.— Очень
хороший вы человек!»
...Читатель-друг! Не тот читатель, что мнит, будто без его
клеймящих писем собаки поедят всех граждан и гражданок, нет — не тот.
Другой — мой читатель, к тебе обращаюсь. Прости, что в лирическо-оп-
тимистической повести о собаке я иногда напишу одну-две сатирические
картинки. Не обвиняй в нарушении законов творчества, ибо у каждого
писателя свои «законы». Не обвиняй, дорогой, и в смешении жанров,
ибо сама жизнь — смешение: добро и зло, счастье и несчастье, смех и
горе, правда и ложь живут рядом, и так близко друг к другу, что иногда
трудно отличить одно от другого. Хуже мне было бы, если б вдруг ты
заметил у меня полуправду. Она похожа на полупустую бочку. А ведь
разницу между полупустой и полуполной бочкой доказывать нет
смысла.
Главное, я за то, чтобы писать обо всем, а не об одном и том же.
Последнее вредно. Ты подумай! Если писать только о добре, то для зла—
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 59
это находка, блеск; если писать только о счастье, то люди перестанут
видеть несчастных и в конце концов не будут их замечать; если писать
только о серьезно-прекрасном, то люди перестанут смеяться над
безобразным.
Глава 10
ЗА ДЕНЬГИ
Благодаря стараниям Толика и Степановны Бим поправлялся. А
недели через две лапа стала заживать, хотя и осталась разлапистой,
широкой, по сравнению с остальными; Бим уже пробовал на нее наступать,
но пока еще так, немножко — только пробовал. Расчесанная Толиком
шерсть придала Биму вполне пристойный вид. А вот голова стала болеть
не переставая: от ударов Серого что-то в ней будто сместилось. Иной раз
Бим испытывал головокружение; тогда он останавливался, ждал в
удивлении, что же с ним будет, но потом, слава богу, прекращалось до
следующего приступа. Так вот у человека, травмированного или
ошеломленного несправедливостью, неожиданно, не сразу, а через некоторое
время, вдруг зашумит в ушах, закружится голова, заскочит не туда
сердце, и он, покачиваясь, останавливается и ждет в горестном
удивлении, что же с ним будет; потом действительно проходит, а иногда даже
и не повторяется. Все бывает и все проходит. Человек — тоже животное,
только более чувствительное.
Лишь поздней осенью, уже по устойчивым заморозкам, Бим пошел
на четырех ногах, но так-таки и прихрамывал—-нога почему-то стала
чуть короче. Да, Бим остался калекой, хотя с головой дело будто бы и
уладилось. Истинно: все бывает и все проходит.
Это еще ничего бы, но хозяина-то нет и нет. И листок письма давно
уже ничем не пахнет, а лежит в углу как обыкновенная, всегда
бесполезная бумага. Бим уже мог бы снова искать друга, но Толик не спускал с
поводка, когда с ним гулял. Толик все еще боялся и того объявления в
газете, и Серого дядьку, да и прохожие иногда спрашивали: «А не та ли
это собака, бешеная, с черным ухом?». Толик не отвечал и быстро
уходил, оглядываясь. Он мог бы сказать: «Нет, не та собака» — и делу
конец. Но он не умел лгать и скрывать свои чувства — страх,
опасение, сомнение и прочее; даже наоборот, все это проявлялось открыто и
прямо: ложь он называл ложью, правду — правдой. Более того, в нем
зарождалось чувство юмора, как одного из способов выражения
справедливости, настоящего юмора, при котором смешное говорится без тени
улыбки, хотя обладатель этого чувства может внутренне почти плакать.
Первым проявлением этого было то самое сочинение, сути которого ок
сам еще не понимал. Он еще ничего не понимал как следует, он только
смутно начинал догадываться кое о чем.
Итак, мальчик в спортивных осенних брючках и желтых
ботиночках, в светло-коричневом пиджачке и осенней ворсовой фуражечке
каждый день, перед вечером, шел с хромой собакой по одному и тому же
маршруту. Он всегда был такой чистенький и опрятный, что любой
встречный думал: «Сразу видно — из культурной семьи мальчишка». К
нему уже стали привыкать ближайшие к его маршруту жители, а
некоторые из них спрашивали друг друга: «Чей же это такой хороший и
смирный мальчик?».
С внучкой Степановны, Люсей, беленькой ровесницей, тихой и
скромной, Толик подружился крепко, хотя почему-то и стеснялся брать
60 Гавриил Троеполъский
ее на прогулки. Зато в квартире Ивана Иваныча они, бывало,
забавлялись с Бимом, а тот платил им преданной любовью и неотступным
вниманием. Степановна тут же сидела с вязаньем и радовалась, глядя на
детей.
Однажды они разравнивали Биму очесы на ногах и подвесок на
хвосте, а Люся спросила:
— Твой папа тут, в городе?
— Тут. Только его утром увозят на работу, а вечером привозят
обратно, совсем уж поздно. Страшно устает! Говорит, «нервы
напружинились до отказа».
— А мама?
— Маме всегда некогда. Всегда. То прачка приходит, то полотеры,
то портниха, то телефон звонит без конца — никогда ей нету покоя.
Даже на родительское собрание вырваться не может.
— Трудно,— вздохнув, подтвердила Люся чистосердечно, с
грустинкой в глазах. Она ведь и задала Толику вопрос лишь потому, что всегда
думала о своих папе и маме. Потому-то и сказала: — А мои папа-мама
далеко. Самолетом улетели. Мы с бабушкой вдвоем...
Толик с удивлением смотрел на Люсю и на Степановну: для него
было совсем непонятно, как это так, чтобы папы и мамы не жили с
детьми.
Степановна угадала его мысли по взгляду:
— Да и уехать нам нельзя: квартиру-то надо оберегать... а то
отнимут... Теперь вот и эту тоже надо оберегать, пока приедет Иван
Иваныч. А как же! Само собой: мы ж — соседы с Иван Иванычем.
Бим присмотрелся к Степановне и догадался: Иван Иваныч есть! Но
где он? Искать, надо искать. И он стал просить, чтобы его выпустили.
Желание оказалось несбыточным. Он улегся у двери и стал ждать.
Казалось, никто из присутствующих ему не нужен. Ждать! — вот цель его
существования. Искать и ждать.
Толик заметил, что бабушка Степановна говорит неправильно—*
«соседы», но теперь, в отличие от первой встречи, промолчал, потому
что он уже уважал старушку, хотя и не мог бы сказать, за что, если бы
его спросить об этом. Так просто — Люсина хорошая бабушка. Вот Бим,
любит же он Степановну. Толик так и спросил:
— Бимка, ты любишь Степановну?
Бим не только знал всех по имени, не только знал, что без имени
нет ни одного существа, даже самой паршивой собаки, но он точно
исполнял, когда дети приказывали, чьи надо принести тапки. Он и теперь,
по взглядам Толика и Степановны, по ее улыбке, понял, что речь идет
именно о ней, потому подошел и положил ей голову на колени.
Степановна раньше была равнодушна к собакам (собака и собака,
делов-то!), а Бим заставил ее любить, заставил своей добротой,
доверием и верностью своему другу-человеку.
Теплые и милые эти четыре существа в чужой квартире — три
человека и одна собака. У Степановны на душе было тоже тепло и
спокойно. Что еще надо на старости!
Потом, после, через много лет, Толик будет вспоминать эти
предвечерние часы со светло-сиреневым окном. Будет. Конечно, будет, если его
сердце останется открытым для людей и если пиявка недоверия не
присосется к его сердцу... Но в тот раз он спохватился:
— Мне надо к девяти домой. В девять — спать, точно. Завтра я
тебе, Люся, принесу альбом для рисования и чешские цветные
карандаши — ни в одном магазине таких не бывает, даже за деньги не купишь.
Заграничные!
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 61
— Правда?! — обрадовалась Люся.
— А ты папе-то сказал, куда ходишь? — спросила Степановна.
— Не-ет. А что?
— Надо сказать. Как же, Толик? Обязательно.
— Он же не спрашивает. И мама не спрашивает. Я к девяти всегда
дома.
Когда Толик уходил, Бим очень, очень просил, чтобы выпустили, но
тщетна была мольба. Его берегли и жалели, не учитывая того, что он
страдал и тосковал о друге, хотя и любил их.
На следующий день Толик не пришел. А Люся так ждала его с
альбомом и карандашами, каких не бывает в магазинах и какие не купить
за деньги. Так ждала! Она и Биму повторила несколько раз:
— А Толика нету. Толик не идет.
Бим, конечно же, понял ее беспокойство, да и время прихода
Толика уже прошло, потому он вместе с Люсей заглядывал через окно на
улицу и ждал его с нетерпением. Но Толик не появился.
«Сказал отцу», — подумала Степановна, а вслух произнесла:
— Вот тебе и собака... Плохо нам будет без Толика. Кто же будет
водить Бима?
У Люси сжалось сердчишко, оно предсказывало что-то недоброе.
— Плохо,— согласилась она дрожащим голосом.
Бим подошел к ней, смотрел на ладошки, закрывшие личико, и чуть
проскулил (не надо, дескать, Люся, не надо). Он помнил, как Иван
Иваныч, сидя за столом и опершись локтями, иногда так же закрывал
ладонями лицо. Это было плохо — Бим знал. Бим всегда в таких случаях
подходил к нему, а хозяин гладил ему голову и говорил: «Спасибо, Бим,
спасибо». Вот и Люся тоже: отняла ладошку от лица и погладила Бима
по голове.
«Ну, вот и все, Люсенька, вот и все. Зачем и плакать? Толик
придет. Приде-ет, не тревожься, детка. Толик придет».
Бим подхромал к двери, будто хотел сказать: «Толик придет.
Пойдем поищем его».
— Просится,—сказала Степановна.— Я уж стала его понимать. И
не водить нельзя — живность же...
Люся чуть вздернула подбородок и, как-то не похоже на себя,
сказала твердо:
— Я поведу сама.
Степановна вдруг заметила: взрослеет девочка не по дням, а по
часам. И ей тоже стало горько оттого, что не пришел Толик.
...Девочка с собакой шла по улице. Навстречу — три мальчишки.
— Девочка, девочка,— затараторил один из них, рыжий конопатик,
—твоя собачка — мужичок или бабочка?
— Дурак! — ответила коротко Люся.
Все трое окружили Люсю с Бимом, а она готова была заплакать от
первого в ее жизни хамства. Но, увидев, что шерсть у Бима на холке
встопорщилась и он пригнул голову, вдруг осмелела и крикнула резко:
— Пошли вон!
Бим так гавкнул, так рванулся, что все трое посыпались в разные
стороны. А Конопатик, отбежав и обидевшись за свой собственный страх,
закричал чибисиным голоском:
— Э! Э! Девчонка с кобелем! Э! Бессовестная! Э! Э!
Люся побежала, что было силы, домой. Бим, конечно, за нею.
Впервые в жизни он встретил плохого маленького человека-Конопатика.
После такого случая вновь стали выпускать Бима одного,
по-старому. Сначала Люся выходила за ним и, стоя за углом, следила, посвисты-
62 Гавриил Троепольский
вая по-мальчишески, чтобы далеко не отходил. Потом Степановна
отпустила его ранним утром одного. С этого раза и вовсе он гулял один, а
вечером возвращался и охотно ел.
Надо же тому случиться! Как-то на перекрестке, на переходе через
трамвайную линию, его кто-то окликнул:
— Бим!
Он оглянулся. Из двери трамвая высунулась знакомая вагоново-
жатая:
— Бим, здравствуй!
Бим подбежал и подал лапу. Это же та самая добрая женщина, что
возила Бима с хозяином на охоту, до автобусной остановки. Она!
— Что-то давно не видать хозяина? Или заболел Иван Иваныч?
Бим вздрогнул: она знает, она, может быть, к нему и едет!
Когда же вагон тронулся, он прыгнул туда через порожки.
Женщина-пассажир вскрикнула дико, мужчина заорал («Поше-ел!»),
некоторые смеялись, сочувствуя Биму. Вагоновожатая остановила трамвай,
вышла из кабины, успокоила пассажиров (Бим определенно это
заметил) и сказала Биму:
— Уйди, Бим, уйди. Нельзя,—Легонько подтолкнула его и
добавила: — Без хозяина нельзя. Без Ивана Иваныча нельзя.
Что ж поделать: нельзя, значит, нельзя. Бим сел, посидел
мало-мало и затрусил в ту сторону, куда поехал трамвай. Тут они ездили с
хозяином, тут—это точно: вот поворот у башни, вот постовой милиционер,
— тут!
Бим бежал по линии трамвая, не пересекая ее даже и на
поворотах. Милиционер свистнул. Бим на ходу обернулся и побежал своей
дорогой. Он уважал милиционеров: такие люди никогда его не обижали,
ни разу; он помнил и свой первый привод в милицию, все помнил,
умный пес; оттуда они пошли с Дашей домой, и все было хорошо. Больше
того, он не раз видел милиционера с собакой — черная такая, сильно
серьезная с первого взгляда; с нею он даже знакомился когда-то на
тротуаре: Иван Иваныч и милиционер подпустили их друг к другу и дали
возможность поговорить вдоволь.
«От него пахнет лесом»,— сказала черная собака, глядя на
милиционера.
— Были вчера на охоте,— подтвердил Иван Иваныч.
«Какая ты чистюля!» — сказал Бим черному, завершая законную
процедуру обнюхивания.
«А как же иначе! Работа такая»,— вилял обрубком хвоста черный.
В знак наметившейся дружбы они даже расписались на одном и том
же дереве, внизу.
Нет, милиционер — человек хороший, он собак любит, тут Бима не
провести и не обмануть.
И он бежал себе и бежал помаленьку вдоль трамвайной линии, но
только сбоку, так как помнил, что наступать иа железные полосы
нельзя — прижмут ногу.
У конечного кольца он дал круг по ходу трамвая и застопорил у
остановки. Посидел, посмотрел: люди кругом все добрые. Так. Это уже
хорошо. Отсюда они переходили с Иваном Иванычем улицу — вон к тому
месту с дощечкой на столбе. Бим пошел туда не спеша и сел рядом с
небольшой очередью, ожидающей автобуса. Присмотрелся: опять
плохих людей не видать.
Когда подошел автобус, очередь уползла в дверь, а Бим потопал
последним, как и полагается всякой скромной собаке.
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО 63
=— Ты куда? — вскричал шофер. Вдруг он глянул еще раз на Бима
и пропел: — Постой, постой. Да ты мне — знакомый.
Бим точно понял, что это — тот друг, что взял бумажку из рук
хозяина. И завилял хвостом.
— Помнит, собачья душа! — воскликнул шофер. Потом подумал и
позвал Бима в кабину: — Ко мне!
Бим уселся там, прижавшись к стеночке, чтобы не мешать, уселся
в волнении: ведь именно этот шофер и вез их когда-то до леса, на охоту.
Автобус рычал и рычал, ехал и ехал. Замолчал он у той остановки,
где Бим всегда выходил с Иваном Иванычем в лес. Тут-то Бим и
загорелся! Он царапался в дверь, скулил, просил слезно; «Выпусти. Мне
сюда и надо».
— Сидеть! — строго крикнул шофер.
Бим подчинился. Автобус снова зарычал. Один из пассажиров
подошел к шоферу и спросил, указывая на Бима:
— Твоя собачка?
— Моя, — ответил тот.
— Ученая?
— Не очень... Но умная. Видишь? Смотри: лежать!
Бим лег.
— Может, продашь собачку? Моя померла4 а я стадо овец пасу.
— Продам.
— Сколько?
— Четвертную.
— Ого! — произнес пассажир и отошел, предварительно потрепав
Бима за ухо, приговаривая: — Хорошая собака, хорошая.
Очень знакомы эти добрые слова Биму, слова хозяина. И он
вильнул хвостом чужому.
Бим теперь вовсе не знал, куда едет. Но, глядя в ветровое стекло из
кабины, он примечал путь, как и всякая собака, едущая впервые по
новому месту: так уж у собак заведено — никогда не забывать обратный
путь. У людей этот инстицкт с веками пропал или почти пропал. А зря.
Очень полезно не забывать обратный путь.
На одной из остановок тот хороший человек, от которого пахло
травой, вышел из автобуса. Шофер тоже вышел, оставив Бима в кабине.
Бим следил за ними, не спуская взора. Вот шофер указал в сторону
Бима, вот он взял за плечо Хорошего человека, а тот, улыбнувшись,
достал бумажки и отдал их, затем, перекинув рюкзак через плечо, вошел
в кабину, снял с себя пояс, прицепил Бима за ошейник и сказал:
— Ну, пойдем.— А в нескольких шагах от автобуса, обернувшись,
спросил: — Зовут-то его как?
Шофер вопросительно посмотрел на Бима, потом на покупателя и
ответил уверенно:
— Черное ухо.
— А ведь не твоя собака? Признайся.
— Моя, моя. Черное ухо, точно.— И поехал.
Итак, Бим был продан за деньги.
Он понимал, что происходит не то, совсем не то. Но человек,
пахнущий травой, был явно добрый, и Бим пошел с ним рядом, печальный и
расстроенный.
Шли, шли они молча, и вдруг тот человек обратился
непосредственно к Биму:
— Нет, ты не Черное ухо: так собак не зовут. А найдется твой
хозяин— отдаст мне мои пятнадцать рублей. Что за вопрос?
64 Гавриил Троепалъсхий
Бим смотрел на него, склонив голову набок, будто хотел сказать: не
понимаю тебя, человек.
* -— А ты, брат, видать, собака умная, хорошая.
Вот и еще раз он сказал слова, так часто повторяемые хозяином.
Теперь Бим завилял хвостом в знак благодарности за ласку.
— Ну, раз такое дело, живи со мной,— заключил человек.
И пошли они дальше. Раза два Бим в пути все же пытался
упираться, натягивал поводок и указывал взглядом назад (Отпусти, дескать,
мне — не туда).
Человек останавливался, гладил пса, говорил:
— Мало бы что... Мало бы что.
Тут бы— пустяк: хватить за поясок разок-другой и — пополам. Но
Бим знал: поводок для того, чтобы за него водили, чтобы собака шла
не дальше и не ближе положенного. И прекратил свои просьбы.
Шли они сначала лесом. Деревья были задумчивыми и
молчаливыми— голые, холодные, успокоенные морозцем; трава в лесу пожухлая,
немощная и перепутанная, скучная. Тоска Биму, да и только.
Потом потянулись озимые, ковром укрывшие землю, мягкие и
веселые. Стало Биму тут немного легче: простор, неимоверно много неба,
веселое посвистывание человека рядом — это всегда было хорошо при
Иване Иваныче. Но когда дорога пошла по зяби — опять веселого мало:
земля черновато-серая с крапинами мела, а комков на ней никаких;
казалась она мертвой, местами полумертвой —распыленная, изношенная
земля.
Человек сошел с дороги, потоптал каблуком зябь и вздохнул.
— Плохо, брат, — сказал он Биму. — Черная буря. Плохо, брат...
Слова «плохо, брат» Биму очень хорошо знакомы от хозяина, и он
знал, что это означает уныние, печаль или «что-то не так», а слова
«черная буря» он принял, как «черное ухо» в неизвестной ему
интерпретации. Однако то, что это относится к земле, Биму понять недоступно.
Человек явно догадался об этом:
— Конечно, ты — собака, и ты ничего не смыслишь. А кому
скажешь? Вот я тебе, черноух, и жалуюсь... Погоди-ка!..—Он посмотрел
на Бима и добавил:—А пущай-ка ты будешь Черноух. Это
по-собачьему — Черноух. Само вырвалось, так тому и быть.
Ну и что? Еще не доходя до деревни, Бим уже знал, что он
теперь—Черноух: человек-то много раз ласково повторял:
-— Черноух —это хорошо.— Или так:—Молодец, Черноух, идешь
хорошо.— Или в том же роде, но обязательно «Черноух».
Так, за деньги, люди продали доброе имя Бима. Хорошо хоть, Бим
не знал этого, как не знал и того, что за те бумажки иные люди могут
продать честь, верность и сердце. Благо собаке, не знающей этого!
Но Бим теперь обязан забыть свое имя. Что ж поделаешь — тому,
значит, быть. Только не забудет он своего друга, Ивана Иваныча. Хотя
жизнь пошла иная, нисколько не похожая на все, что было в прошлом,
но его забыть он не мог.
{Окончание следует).
ВЛАДИМИР
КОВАЛЕВ
Владимир Дмитриевич Ко-
валев родился в 1916 году
в г. Шуе Ивановской
области. Автор нескольких
книг стихов. В
издательстве «Советский писатель»
в прошлом году вышел
поэтический сборник
«Лето». В нашем журнале
опубликовал подборки
стихов в ММ 1, 5 за 1970 год.
Член Союза писателей.
Живет в г. Мышкине
Ярославской области.
СРЕТЕНЬЕ
Стужа —
на улицу выйти рисково.
Птицы и те приуныли всерьез.
Слышу певучее:
«Сретенье скоро,
солнце на лето — зима на мороз».
Бабушка долго колдует у печки,
передвигает ухватом горшки,
а между делом
роняет словечки,
как золотые колечки
с руки.
По сердцу мне
глуховатый, распевный,
на приговорках замешанный слог.
Молвит:,
«Застыли березки-царевны.
Но оклемаются, дай только срок...
Сретенье — скорая встреча с весною,
сретенье — в радость открытая дверь..
К сретенью
над благодатью лесною
грянет синичья хрустальная трель».
Бабушка к печке беленой прижалась —
зябнет сильней она
с каждой зимой, —
льется из глаз терпеливая жалость
к птицам,
к деревьям,
к себе ли самой.
Мне эта женская жалость понятна.
Гляну, и сам разреветься готов:
бабушку знал я проворной да статной,
а не седой
на излете годов.
С песней ткала, с прибауткой косила.
И у костра на делянке лесной
голосом бабушкиным
Россия
тихо беседовала со мной.
Затканы стекла тончайшим узором,
стужа когтями царапает дверь.
Снова мне слышится:
«Сретенье скоро.
Радость, она возвратится,
ты — верь».
б. «Наш современник» № 1.
из новой
книги
НИКОЛАЙ
СТАРШИНОВ
Николай Константинович
Старшинов родился в 1924
году в Москве. Участник
Великой Отечественной
войны. Окончил Литературный
институт имени А. М.
Горького. Автор тринадцати
книг стихов и прозы.
Той, давней, дружбы нег верней,
Рожденной в пулеметной роте.
Друзья моих военных дней,
Где вы теперь, как вы живете!
Нас мало. Нас кого куда
Рассеяло поодиночке.
От вас не месяцы — года
Ни телеграммы нет, ни строчки.
Но старой дружбе мы верны,
Она повсюду с нами всеми.
Ей и сегодня не страшны
Ни расстояния, ни время.
Мне видится: среди болот.
Среди лесов, объятых вьюгой,
Ока по-прежнему живет
Между Смоленском и Калугой.
Там, где февральский мокрый снег
Выбеливает обелиски,
Она живет, как человек,
Понятный и донельзя близкий.
Она под орудийный гром
Сидит над гаснущим костром,
Ползет по снегу с автоматом,
Как в том крутом сорок втором,
Как в легендарном сорок пятом..
РАННИЙ СНЕГ
Сутра
Блистало небо синевой,
Привядшие цветы
Под солнцем молодились,
А молодые тополя
Гордились
Совсем еще зеленою листвой.
А в полдень
На леса и на луга,
На тротуары и на крыши зданий
(Еще сентябрь)
Такой порою ранней
Обрушились тяжелые снега.
стихи 67
Летят снежки.
Я слышу смех и крик.
И вот
Предусмотрительно
Сторонкой
Проходит молодящийся старик
С красавицей,
Совсем еще девчонкой.
Он заслонил ее своей рукой
От снега,
От снежков шальных мальчишек.
Храня ее покой и свой покой,
Бормочет примирительно:
«Потише...».
А сам скользит на каждом на шагу.
Едва не растянувшись на снегу.
Ах, как же так —
Мертвящий снег
И ярость,
И брызжущая зелень тополят!
Как будто это молодость
И старость
Лицом к лицу столкнулись,
Взгляд во взгляд.
Уж эта мне метелица сырая,
Уж этот безмятежный детский смех!..
Летит, летит
И, даже умирая,
К зеленым листьям липнет белый снег..
Воет зимушка наша лютая,
Да на все голоса,
В снеги теплые поле кутая
И нагие леса.
Или вдруг удивит божественной
Неземной тишиной.
И гордится своею женственной
Чистотой, белизной.
Ах, как ночью мерцают празднично
Под луною снега!..
Наша зимушка просто сказочна,
Да не в меру долга.
Как придет она, как упрочится,
И — ни с места. Каюк...
И тогда тебе так захочется
Не пронзительных вьюг,
И не снега ее, каленного
Досиня, добела,
А листочка весны зеленого,
Малой доли тепла.
Мая с грозами грозно-громкими,
Жаворонка в зенит.
А она все метет поземками,
Все морозом теснит.
gg Николай Старшинов
Можно было б совсем отчаяться,
Даже спятить с ума...
И тогда-то она кончается.
Отступает зима.
Вон, пронизанный весь валежником,
На скрещении троп
Смотрит первым в году подснежником
Поосевший сугроб.
Спокойны руки. Сомкнуты ресницы.
Ужели, мама, ничего не снится!
Ужели совершенно ничего!..
Но ясен лик и губы сжаты плотно.
Ты первый раз уснула беззаботно.
Без всех тревог за сына своего.
ПЕСНЯ
Не цвети, луговая гвоздика,
Украшая мою глухомань.
И, кипрей, зацветать погоди-ка,
Ты моей головы не дурмань.
Я сегодня и так как дурная,
Я все время хожу как в бреду.
Проклинаю его, вспоминая,
А сама возвращения жду.
Лучше нет моего дорогого.
Он и радость моя, и беда.
Никакого такого другого
Не найти никому никогда.
Обнимал мои ладные плечи,
Прямо в губы меня целовал.
И глаза мои, милый, при встрече
Васильками всегда называл.
А она принеслась, погостила,
Каблучками помяла траву.
Обольстила его, окрутила,
А потом укатила в Москву.
Ей, проклятой разлучнице, сладко,
Не до горюшка ей моего.
Ну а я — ни вдова, ни солдатка,
Ну а мне-то, а мне каково!
Обращусь я в кукушку лихую,
Разыщу ее, где б ни жила,
И такую беду накукую.
Чтоб и жизнь ей была не мила.
И тогда расцветай ты, гвоздика,
И, кипрей, сколько хочешь, цвети.
А пока погоди, погоди-ка.
Дай мне душу свою отвести.
АБДУЛЛА
ДАГАНОВ
Лбдулла Наганов родился, в
1940 г. в дагестанском ауле
Гочоб. В 1968 году окончил
Московский
государственный университет. Работает в
республиканской аварской
газете «Красное знамя».
Автор двух стихотворных
сборников. Член Союза
писателей.
Живет в Махачкале,
НЕ УЕЗЖАЙ!
Моя тоска — отточенный кинжал.
Зачеркнут день, и небо стало черным.
Я буду ждать, считая дни, как четки...
Но крика не сдержать:
не уезжай!
Не уезжай! А сердце холод сжал.
Очаг остынет. Жар костров угаснет.
Б такт каблучкам
не грянет сердце пляску...
Пусть поезда уйдут —
не уезжай!
Не уезжай! Нас будут горы ждагь,
джайраньи тропы, пряные поляны,
откуда я тебе носил тюльпаны...
Как просто сдать билет —
не уезжай!
Не уезжай! А ласточки кружат,
в лучах дождя звенит весенний воздух,
текут ночами на ладони звезды...
Еще не поздно нам —
не уезжай!
Не уезжай! Когда зари пожар
вдруг полыхнет над горными лугами,
росу улыбки буду пить губами...
Лишь об одном прошу —
не уезжай!
Не уезжай! Но скорости визжат.
Их не сдержать, и где-то на закате,
как ворожба, как тайное заклятье,
летит ушедшим вслед —
не уезжай!
Не от движения пластов во чреве гор,
когда гранит ползет
со скрежетом и гулом,
и не от молнии, ударившей в упор,
разрушилась скала перед моим аулом.
Столетний бородач, дрожащий как струна,
сказал мне так:
«В каком, не знаю точно, веке
скала разрушилась от крика чабана,
который возвестил о вражеском набеге!»
С аварского.
Переводы Ст. Сущевского и
В. Афанасьева.
©
НИКОЛАЙ
КУТОВ
Николай Николаевич Кутов
родился в 1917 году в
городе Великий Устюг
Вологодской области. Окончил
педагогический институт.
Автор десяти книг стихов,
вышедших в Москве, Ленин-
граде и других городах
России. Член Союза писателей.
Живет в Ленинграде,
РАЗГОВОР ЛИСТВЫ
И ОБЛАКОВ
Зелеными язычками
Все дни про что-то свое
Листва говорит с облаками,
И те понимают ее.
И, словно о чем-то знакомом,
С неба, издалека,
Дробинками капель и громом
С землей говорят облака.
ДЕРЕВЕНСКИЙ ВЕЧЕР
Угомонился вечный странник-ветер.
Кузнечики стрекочут у плетня:
Пришел спокойный, молчаливый вечер
Брат голубого, солнечного дня.
В потемках, как в тумане светло-сером,
Дымок похож на длинную тропу,
А низкий домик — на повозку с сеном,
Свернувшую с дороги на траву.
Застыли лодки-облака, не зная,
Куда им плыть, а в поле, за селом.
Луна розовощекая, сквозная
Горит непотухающим костром.
И отдыху от зноя люди рады,
И вечер с деревенской добротой
Всех одаряет за труды прохладой,
Как будто бы колодезной водой.
РОДИНА
Родина! Все чаще и нежнее
На твое лицо теперь гляжу.
Только вот с годами все труднее
Я слова признанья нахожу.
Главного страшусь я не увидеть.
Радуясь, тревожась и любя.
Ложным словом я боюсь обидеть,
Оскорбить, красивую, тебя.
Я хотел бы так с тобой обняться,
Слиться, словно разных рек вода,
Чтобы никогда не разлучаться,
Чтоб не расставаться никогда,
Чтоб, пройдя свой путь со дня рожденья
До конца всегда с тобой вдвоем,
Видел бы я где-то продолженье
Своего пути в пути твоем.
ОЧЕРК
И
ПУБЛИЦИСТИКА
Б. С. АРХИПОВ,
секретарь Костромского
обкома КПСС
СВЯЗАТЬ
ВОЕДИНО
«ХОЧУ»
и «НАДО»
Починок — самое распространенное
*• J- название деревень в нашей области.
Починок Григорьев, Новый Починок,
Починок Чапков, просто Починок...
В названиях этих отразилась давняя
борьба костромского мужика за землю — с
лесами и болотами. И, конечно, история
социального гнета. Все, что было получше,
захватили помещики, кулаки. Вот и шел
мужик на лес, выжигал его палом,
корчевал, делал поле, ставил дом, «починал»
деревню. Так и получилось, что теперь у нас
в области около восьми тысяч Починков.
Почти половина костромских деревень
насчитывает по три, пять, семь изб; в
среднем каждое поле не больше пяти-
шести гектаров, разделены они между
собой болотами, оврагами, лесами, речками,
ручейками. В ином колхозе чуть не
полсотни таких деревень, а поля и вовсе трудно
пересчитать.
В таком колхозе не просто работать
председателю, агроному, партийному
секретарю — попробуй обойти, объехать все
деревни, побывать на каждом поле. Да. и
самим колхозникам порой бывает худо — в
больницу далеко, в магазин не каждый день
сходишь, в школу, в клуб тоже не близко.
Если внимательно присмотреться к жизни
сегодняшнего села, то можно увидеть
твердое стремление колхозников, рабочих
совхозов перестроить не только производство,
но и свой быт по-новому. Сельский
труженик не хочет жить так, как жили его отцы
и деды, и мы обязаны всегда помнить об
этом.
В решениях XXIII съезда партии
подчеркивалась необходимость «осуществить
значительные работы по строительству на
селе жилых домов, школ, детских садов,
яслей, больниц, клубов, библиотек,
кинотеатров, прачечных, пекарен... Исходя из
местных условий различных районов,
разработать конкретные мероприятия по
устранению различий в культурно-бытовых
условиях жизни деревни и города и приступить к
широкой реализации этой программы».
Многое сделано за прошедшие после
съезда годы в Костромской области.
Полностью радиофицированы все деревни, на
селе работает свыше тысячи киноустановок, к
столетию со дня рождения В. И. Ленина
была закончена прокладка радиорелейных
линий, строительство телевизионных башен,
и теперь во всех без исключения деревнях
и поселках области можно смотреть
телевизионные передачи из Москвы.
Накануне 50-й годовщины Октября в
области был успешно завершен трехлетний
план развития культуры. За это время на
селе построено более ста пятидесяти
клубов, домов культуры, библиотек,
кинотеатров. А к 22 апреля 1970 года в строй
вошло еще около ста восьмидесяти очагов
культуры. Это значит, что теперь во всех
центрах колхозов и совхозов, в
большинстве отделений и бригад есть свои клубы.
За последнее время на селе в несколько
раз увеличилось число домов быта,
хороших магазинов, детских дошкольных
учреждений и школ, построенных по типовым
72
В. С. Архипов
проектам. Сейчас ведется комплексная
застройка центральных усадеб ряда колхозов
и совхозов.
Вот один лишь пример.
Есть у нас в области учебное хозяйство
«Заволжское». Только одной пашни у него
около семи тысяч гектароэ.
Раньше на этих землях было свыше
сорока колхозов, около шестидесяти населенных
пунктов. Сейчас мелкие деревни начали
сселять. Разработан генеральный план
застройки, намечена перспектива развития
всего хозяйства. По этому плану будут
созданы три основных производственных и
жилищно-бытовых центра — Терентьево,
Коряково, Бакшейка.
В первую очередь застраивается
Коряково. Здесь в добротных, благоустроенных
домах намечено поселить около двух тысяч
человек. Неподалеку от жилого центра на
десятки гектаров располагаются
производственные службы. Уже возведено здание
механической мастерской, где можно
одновременно ремонтировать пятьдесят
тракторов, построен гараж для сорока автомашин,
столярный цех с пилорамой, новый зерно-
ток. Чуть правее — молочно-товарная
ферма на четыреста коров. Труд животноводов
на ферме полностью механизирован.
В новом поселке появятся универмаг,
«Гастроном», Дом культуры, мастерские
бытового обслуживания, детские учреждения,
большой фруктовый сад. И; конечно, жизнь
здесь будет если не совсем городская, то
очень близкая к городской.
Большая работа по сселению мелких
деревень и благоустройству хозяйственных
центров ведется и в других районах.
Но надо прямо сказать, что в этом
сложном и тонком деле пока еще много
самодеятельности, кустарщины^ Прикинут порой
на глазок, понравится место — и давай,
поехали... А ведь тут нужно семь раз
примерить, один — отрезать. И с людьми
посоветоваться надо, особенно со стариками,
которым всегда трудно оставлять обжиты*
места...
В наши дни и в сельском хозяйстве нужен
точный инженерный экономический расчет.
Ученые, специалисты должны подсказать
практикам оптимальные размеры
хозяйственных центров и жилых поселков.
Проектируя, нельзя не считаться со
специфическими условиями нашей местности,
характером производства, с наличием у
колхозников и рабочих совхозов приусадебных
участков, скота, птицы.
Очень трудно пока со строительными
материалами. Местные организации
Министерства сельского строительства очень слабы—
не хватает людей, механизмов, а проектный
институт «Костромаобсельстрой» не в
состоянии выполнить все заказы на
проектирование.
Каждому понятно, что создание крупных
населенных пунктов даст новый толчок
развитию культуры, здравоохранения,
просвещения и бытового обслуживания на селе.
Но по мановению волшебной палочки
ничего не делается. На перестройку
понадобится немало времени. А жизнь идет, и
поэтому, не ожидая будущих благ, надо
проявлять постоянную заботу о культурном и
бытовом обслуживании жителей малых
деревень, многочисленных Починков.
Многое здесь может дать организация
передвижных очагов культурно-бытового
обслуживания.
Уже сейчас в каждом районе области
создано по две, три и более бригад, которые
действуют постоянно. На специальных
машинах они ездят из села в село. Прибудет
такая бригада — можно кинофильм
посмотреть, послушать лекцию, отремонтировать
радиоприемник, стиральную машину и
другую домашнюю технику, сделать модную
прическу и даже заказать себе хорошее
платье в передвижном ателье.
К сожалению, таких бригад еще пока
недостаточно. И автомашины у нас обычные,
а на проселках и грунтовых дорогах нужен
транспорт повышенной проходимости,
особенно весной, осенью и в зимнее
бездорожье.
Правда, за последние годы у нас многое
сделано для улучшения дорог. Построена
трасса с твердым покрытием от Костромы
до Мантурова, протяженностью 291
километр. Теперь пять районов области связаны
с областным центром асфальтированной
дорогой. А лет через десять все районные
центры будут соединены с Костромой
хорошими дорогами.
Сейчас, когда колхозы окрепли,
поднакопили средств, надо поставить строительство
дорог иа индустриальную основу. В каждом
районе нужно иметь механизированную
строительно-эксплуатационную
организацию, которая смогла бы. используя
средства колхозов и совхозов, строить и
поддерживать в хорошем состоянии
внутрирайонные дороги.
Растут экономика и культура села. Зем-
геделец уверенней смотрит в будущее, на
его глазах происходит преобразование
старого сельского быта. И там, где эти успехи
особенно заметны, ощутимее и процесс
закрепления молодежи в
сельскохозяйственном производстве.
Но бывает и так. Село благоустроенное,
хозяйство крепкое, в Доме культуры
ежедневно показывают кино, чуть ли не в
каждом доме телевизор, — а молодежь
уезжает в город.
В чем же дело?
Причин, конечно, много. На мой взгляд,
закрепление молодежи в деревне, в
сельском хозяйстве — сейчас прежде всего
проблема воспитательная. Что греха таить,
многие годы и родители, и учителя в
школах говорили своим питомцам: «Учись
хорошенько — станешь врачом, инженером,
летчиком!», «Учись лучше, а то в колхозе
останешься пастухом,..». И мало кто из вое-
СВЯЗАТЬ ВОЕДИНО «ХОЧУ» И «НАДО»
73
питателей советовал детям учиться лучше,
чтобы стать хорошими земледельцами,
животноводами, механизаторами.
Безусловно, с ростом механизации
сельского хозяйства отлив части рабочей силы
из деревень — процесс закономерный. Но
не надо его искусственно стимулировать,
всему есть предел. Чтобы использовать в
сельском хозяйстве могучую технику,
электричество, дары большой химии, колхозам
и совхозам нужны молодые, грамотные
люди, способные использовать все эти блага
с полной отдачей. Л на деле получается,
что во многих хозяйствах нашей области
[да и только ли нашей!) большинство
работающих — пожилые люди, которым трудно
овладевать всеми премудростями
механизации, электрификации, химизации.
Чтобы пополнить молодыми кадрами
наши колхозы и совхозы, надо самым
серьезным образом перестроить воспитательную
работу с детьми, подростками, молодежью,
прививать им любовь к родному краю,
уважение к труду земледельца.
* * *
Из всех проблем учебно-воспитательной
работы на селе мне хочется особенно
выделить проблему трудового воспитания.
Никакие, пусть даже самые прекрасные и
убедительные беседы о пользе труда, о
выборе профессии (хотя они, безусловно,
необходимы) не заменят самого труда.
Только в труде дети могут приобрести навыки,
опыт, умение.
В наши дни только школа может
правильно организовать участие детей и
подростков в производительном труде, соединив
теоретические знания с практикой. Труд в
школе нужно организовать творчески,
воспитывать детей созидателями, способными
связать воедино собственное «хочу» и
общественное «надо».
Профессиональная ориентация, проблемы
трудового обучения и воспитания должны,
безусловно, быть в центре внимания
педагогов, партийных, профсоюзных,
комсомольских организаций, хозяйственных
руководителей.
Костромской обком партии и
облисполком очень внимательно изучили все
трудности и проблемы, которые возникли в
деле производственного обучения и
воспитания в школах. Было принято специальное
постановление «О дальнейшем
совершенствовании совместной работы школы, семьи
и общественности по усилению трудовой и
политехнической подготовки школьников».
Сейчас уже можно подвести некоторые
итоги нашей работы. Только за последние
три года более семи тысяч выпускников
школ области связали свою судьбу с
сельскохозяйственным производством.
Опыт показал, что сложное дело
трудовой, политехнической подготовки
школьников, воспитания у них любви к земле
требует определенной системы, единой линии.
Осуществляя производственное обучение
в сельских школах, мы решили отказаться
от многопрофильности и теперь готовим
ребят лишь по основным сельским
профессиям: тракторист, комбайнер, шофер, элек-
тромонтер. Правильность такого решения
подтвердила жизнь.
Вот уже более десяти лет во всех
сельских средних школах области работают
ученические производственные бригады, а с
1965 года такие бригады стали создаваться
и в школах-восьмилетках. Общая площадь
земли, обрабатываемой ими, превысила
десять тысяч гектаров. Создано около трехсот
летних комсомольско-молодежных лагерей
труда и отдыха.
Вначале такие лагеря были только при
сельских школах. Теперь же подавляющее
большинство ребят, живущих в городах,
также работают в летних лагерях труда и
отдыха, помогают колхозам и совхозам. И
не случайно многие городские юноши и
девушки идут учиться в
сельскохозяйственные вузы и техникумы. Ныне только в
Костромском сельскохозяйственном институте,
который расположен на землях племенного
совхоза «Караваево», учится около двухсот
пятидесяти выпускников школ города
Костромы,
Каждый год осенью у нас проходят
итоговые слеты передовиков ученических
производственных бригад. Теперь, кроме
осенних слетов, мы организуем в июне-июле
семинары актива этих бригад — звеньевых,
бригадиров, членов самоуправления,
вожаков комсомольских и пионерских
организаций.
На таких семинарах подводятся итоги
работы ученических производственных бригад
в первом полугодии, во время весеннего
сева. Но это лишь одна часть семинара.
Вторая часть — теоретическая. Мы
стремимся организовать интересные занятия,
чтобы углубить у школьников знания
новейших достижений сельскохозяйственной
науки и практики. И наконец третья часть
семинара — специальная олимпиада, на
которой выявляются лучшие юные
механизаторы, овощеводы, садоводы области.
Предварительно такие олимпиады
проводятся в районах, их победители
съезжаются затем на областную. Чемпионы области
получают почетные призы, премии.
Приятно бывает нам, старшим, когда на итоговый
осенний слет строем выходят чемпионы
области с алыми лентами через плечо и
занимают почетное место в первом ряду юных
хлеборобов...
И еще одна особенность таких
семинаров. Мы всегда проводим их не в
областном центре, а на местах, в школах того или
иного района. Причем никто не знает
заранее, где это будет. Любая школа должна
быть готова. Но, как говорится, на пустом
месте гостей принимать неудобно. Тут
речами не обойдешься. Надо делиться
опытом, показывать свои достижения, зная
наперед, что приедут люди, понимающие толк
в сельском хозяйстве. Все это, конечно,
дисциплинирует ребят, помогает лучше,
эффективнее организовать работу
ученических бригад.
74
Б. С. Архипов
Опыт показал, что вся работа по
вовлечению молодежи в сельскохозяйственное
производство не даст нужного результата,
если нет тесной связи с родителями. Ведь
их слово нередко является решающим в
определении жизненного пути юношей и
девушек.
Несколько лет назад по инициативе
обкома партии во всех районах области был
введен педагогический всеобуч родителей.
Вместе с общими проблемами педагогики
и психологии в программу занятий с
родителями были включены вопросы совместной
работы семьи и школы, воспитания у детей
навыков, любви к сельскохозяйственному
труду, к своей родной деревне.
Многое было сделано и для того, чтобы
убедить хозяйственных руководителей,
секретарей партийных организаций колхозов
и совхозов в том, что они должны
постоянно заботиться о молодой смене, а для
этого, в частности, работать в тесном
контакте с учителями, с родителями.
И вот результат: теперь у нас в области
часто проходят совместные заседания
педагогического совета школы и правления
колхоза, общие партийные собрания школы и
совхоза, на которых обсуждаются вопросы
воспитания, разрабатываются единые планы
обеспечения кадрами
сельскохозяйственного производства.
Такие планы мы стали теперь составлять
и в районном масштабе. Они обсуждаются
на пленумах райкомов партии, сессиях
районных Советов депутатов трудящихся.
В 1969 году перспективный план
подготовки кадров обсуждался на бюро обкома
партии. Его подготовили общими силами
работники управления сельского
хозяйства, облоно, управления
профтехобразования, отдела науки и учебных заведений
обкома КПСС.
Перспективное планирование, совместная
целенаправленная работа всех
заинтересованных организаций дают возможность
более успешно вести воспитательную работу
среди молодежи, лучше готовить кадры для
села.
* * *
Еще несколько лет назад председатели
колхозов, директора совхозов, выступая на
партийных собраниях, пленумах райкомов,
сессиях районных Советов, почти не
касались воспитательной работы с молодежью,
положения дел в школах. Для многих из
них это была тайна за семью печатями. Они
считали, что воспитание подрастающего
поколения — дело семьи и школы, а колхозы
и совхозы должны давать килограммы,
литры, центнеры, тонны продукции.
Хозяйственников почему-то мало интересовал
вопрос: а кто завтра будет производить эти
литры, килограммы, тонны.
Сейчас положение изменяется. Идет, к
примеру, пленум райкома партии по итогам
хозяйственного года, и радостно
становится, когда слышишь выступления
руководителей колхозов и совхозов, потому что в
своих отчетах они рассказывают не только
о производственных делах, но и о
воспитательной работе на селе, о том, что сделано,
чтобы закрепить в хозяйстве молодежь,
какие созданы ей условия для труда и отдыха.
Вот, например, колхоз имени В. И.
Ленина Нерехтского района. Семь лет назад это
было очень слабое хозяйство. Но
правление и партийная организация колхоза
нашли верный путь подъема хозяйства —
опора на молодежь в сочетании со старыми
кадрами хлеборобов-умельцев.
Сейчас можно смело сказать, что все
лучшие люди колхоза — бригадиры,
звеньевые, животноводы, механизаторы —
выпускники Григорцевской школы. Это они
дали хозяйству возможность выйти в
число передовых. В 1970 году колхоз имени
В. И. Ленина получил средний урожай
зерновых по 24 центнера с гектара.
Выпускники школы смело вступают в
соревнование с прославленными
тружениками села и нередко выходят победителями.
За высокие хозяйственные показатели
коллектив комсомольско-молодежной
фермы в Попадейкине, где работают
выпускники Григорцевской школы, был награжден
грамотой ЦК ВЛКСМ, а доярка Валя Пос-
нова — почетным комсомольским знаком
«Золотой колос».
В колхозе имени В. И. Ленина живет и
работает замечательная семья механизаторов
Малеевых. Пять братьев — Александр,
Николай, Борис, Сергей и Геннадий, —
закончив школу, стали трактористами,
комбайнерами, шоферами.
Как удалось добиться всего этого?
Председатель колхоза Николай
Александрович Власов (в прошлом комсомольский
работник) постоянно заботится о развитии
культуры, о благоустройстве села, о
создании хороших условий для молодежи,
сельских специалистов. В колхозе построено
новое здание Дома культуры, школьный
интернат, квартиры для учителей, баня,
благоустроенные коттеджи для специалистов,
в двух деревнях проводится водопровод,
заканчивается строительство восьмиквар-
тирного дома для молодоженов — с
водопроводом, газом, ванными, словом, со
всеми коммунальными удобствами городского
типа. Не так давно открыта детская
музыкальная школа (и если бы вы слышали,
какие концерты дают колхозные ребятишки!).
Правление создало для выпускников
школы, работающих в колхозе, хорошие
условия для заочной учебы. Заочникам на
время сессии дается оплачиваемый отпуск,
зарплата полностью сохраняется. Колхоз
оплачивает проезд к месту учебы и
обратно, а также квартирные расходы. При
Григорцевской школе создан консультационный
пункт, учителя помогают заочникам, по
договоренности с институтами и техникумами
принимают у них зачеты по некоторым
предметам.
Таким образом, в школе не забывают
своих выпускников, знают о каждом из
них, помогают добрым советом и делом.
СВЯЗАТЬ ВОЕДИНО «ХОЧУ» И «НАДО»
75
Кстати, школа не просто направляет
ребят, закончивших учение, на работу в
колхоз. Еще задолго до выпускного вечера
проводится совместное заседание
педагогического совета и правления колхоза, с
участием родителей учеников. Разговор
идет о каждом школьнике; родители,
учителя, руководители хозяйства стараются
сделать все для того, чтобы юноши и
девушки, закончив учебу, нашли себе в родном
колхозе дело по душе.
Педагогический коллектив школы многое
делает для профессиональной ориентации
учеников. Эта работа также ведется
совместно с правлением колхоза. Составлен
единый план, рассчитанный до 1975 года,
выделены средства, материалы,
оборудование. В школе создан уголок
профессиональной ориентации, где вывешены
красочно оформленные обязательства колхоза и
школы, Доска почета передовых людей
хозяйства, выпускников Григорцевской
школы, статьи из газет, рассказывающие о
различных профессиях, список литературы в
помощь выпускнику.
Надо подчеркнуть, что
профессиональную ориентацию школьников осуществляют
все учителя-предметники. Преподавание
они тесно увязывают с беседами о выборе
профессии, о тех перспективах, которые
открывает юношам и девушкам та или иная
отрасль знания.
Большую работу учителя ведут и с
родителями. Последняя пятница каждого
месяца — день открытых дверей для пап и мам.
Они охотно идут в школу, советуются с
учителями, сообща думают о будущих
профессиях детей.
В школе часто бывает председатель
колхоза Н. А. Власов, беседует с ребятами,
рассказывает им о делах, планах, нуждах
хозяйства. Кстати, он является членом
педагогического совета, а директора школы
Федора Ивановича Крапивина колхозники
избрали в состав правления и членом
парткома колхоза. Таким образом, достигнуто
полное содружество двух коллективов:
«наш колхоз» — говорят в школе, «наша
школа» — говорят в колхозе.
А вот, как говорится, экономические
стимулы.
Выпускникам школы, работающим в
колхозе, предоставляется месячный
оплачиваемый отпуск, путевки в дом отдыха. Лучшие
из них посылаются за счет артели на учебу,
причем колхозная стипендия выше
государственной. В первое время, когда колхоз был
слаб экономически, ребятам
гарантировалась оплата труда — в полеводстве 70
рублей в месяц, в строительстве — 90 рублей
и в животноводстве — 100 рублей. Но
сейчас уже в этом нет необходимости, потому
что заработок колхозных животноводов
составляет 180 рублей в месяц, механизаторов
— до 150 рублей, строителей — до 140
рублей.
В соответствии с планом подготовки
кадров для колхоза намечено полностью
обеспечить хозяйство своими
механизаторами, строителями, специалистами
сельского хозяйства со средним и высшим
образованием, педагогами, работниками
культуры, службы быта, торговли и
общественного питания. Все это даст
возможность еще выше поднять культуру и быт
села, превратить труд в сельском
производстве в разновидность индустриального
труда.
Этот пример — не единственный.
В Сусанинском районе хорошая, тесная
дружба установилась между Андреевской
средней школой и колхозом. Смирнова
Татьяна Михайловна, воспитанница
ученической производственной бригады и
выпускница этсй школы, заочно окончила
институт и сейчас возглавляет колхозную
парторганизацию. Оча бывает на пионерских
сборах, комсомольских собраниях,
школьных вечерах а практически руководит
работой ученической производственной бригады.
Партийная организация и правление
колхоза, общее собрание не раз обсуждали
вопрос о работе школы, о воспитании
будущих хлеборобов. В хозяйстве
установлен гарантированный минимум оплаты
труда молодых полеводов и животноводов,
выплачиваются подъемные выпускникам
школы, создаются хорошие условия для
труда и отдыха молодежи.
Сейчас в этом колхозе все
механизаторы, специалисты сельского хозяйства,
животноводы, работники культуры, учителя
средней школы и окрестных начальных
школ — выпускники Андреевской средней
школы.
Характерен пугь Любы Собакиной.
Окончив несколько лет назад школу, она
работала дояркой. Девушку избрали
депутатом сельского Совета, делегатом XV
съезда ВЛКСМ* Работая в колхозе, она
одновременно училась, успешно закончила
Костромской педагогический институт и
сейчас преподает в своей родной школе.
Таковы реальные плоды, которые дает
тесная связь школы и колхоза,
направленная, целеустремленная работа по
профессиональной ориентации молодежи,
внимательное и чуткое отношение к ее
материальным и духовным запросам.
Колхозам и совхозам нужны самые
различные кадры, и было бы большой
ошибкой подходить огульно к решению этого
важного вопроса: «Все в полеводство!»
или «Все в животноводство!». Нужно,
конечно, учитывать желания, наклонности
молодежи и, разумеется, возможности
хозяйства.
Важно воспитывать у молодежи
уверенность в завтрашнем дне, чувство
настоящего хозяина жизни, который будет не
только хорошо работать на своем участке,
но и болеть душой за общее дело. Вот
почему уже сейчас недавние школьники
избираются членами правления колхозов и
сельпо, депутатами сельских и районных
Советов. Сейчас в Костромской области
более тысячи молодых колхозников явля-
76
Б С. Архипов
ются депутатами местных Советов,
членами райкомоз и обкома комсомола, а
некоторые стали уже членами партийных
комитетов колхозов и совхозов, избраны в
состав райкомов, горкомов и обкома КПСС.
Доверие окрыляет юношей и девушек.
Они действительно чувствуют себя
хозяевами, ответственными за дела своих
колхозов и совхозов, за судьбы села.
Все это свидетельствует о больших
сдвигах в работе с молодежью.
Давно ли выпускница Палкинской средней
школы Гагя Макеичева, дочь тогдашнего
директора совхоза «Палкинский», пришла на
ферму, стала свинаркой. Лауреат
Ленинской премии Василий Песков упомянул о
ней в книге «Шаги по росе», а писатель
А. Никитин рассказал о Гале в книге
«Смелая девушка», выдержавшей уже два
издания.
Сейчас Галя Макеичева работает
зоотехником в своем совхозе, учится на заочном
отделении сельскохозяйственного
института «Караваево».
Кажется, совсем недавно учился в
Ореховской средней школе Валентин
Тихомиров, работал в ученической
производственной бригаде механизатором. Сейчас он
возглавляет правление колхоза «Рассвет»
Галичского района и успешно учится на
заочном отделении Высшей партийной
школы при ЦК КПСС.
Юрий Зубов в школьные годы работал
в ученической производственной бригаде,
затем был бригадиром в родном совхозе
«Молодая гвардия». За хорошую работу
он награжден орденом Трудового
Красного Знамени. Сейчас Юрий Иванович
Зубов — председатель колхоза «Знамя
труда» Шарьинского района.
Таких примеров можно привести много.
Хороших, любящих труд на родной земле
механизаторов, полеводов, животноводов,
хозяйственных руководителей,
комсомольских и партийных работников воспитали
школы и колхозы, партийные и
комсомольские организации, ученические
производственные бригады. В октябре 1970-го
пленум обкома КПСС рассмотрел
проблемы дальнейшего улучшения трудового
воспитания и профессиональной ориентации
школьников.
Конечно, в этом деле не все еще
хорошо и гладко. Бывает, что молодежь не
обеспечивается работой круглый год,
встречаются факты бездушия и
черствости, не все руководители понимают
важность и особенности работы с
выпускниками школ, с молодыми колхозниками и
рабочими совхозов. Партийные организации
стремятся устранить все эти срывы и
упущения, лучше организовать работу с
сельской молодежью.
Сейчас особенно важно преодолеть
неправильный подход некоторых
руководителей предприятий, колхозов и совхозов
к шефству над школами как к какой-то
благотворительной работе: выделил
средства, материалы, помог в ремонте, дал
трактор, и все.
Нет, на этом не заканчивается шефская
работа! Она должна всюду вестись так,
как в колхозах имени В. И. Ленина и
Андреевском, о которых так подробно
говорилось выше. Только при этом условии она
даст хорошие результаты.
Большую роль играет правильная
организация жизни и труда ученических
производственных бригад. Чего греха таить,
еще нередко работа в них организована
неважно, не используются в полной мере
знания ребят, полученные на уроках,
мало уделяется внимания научным поискам,
опытничеству.
Чтобы каждая ученическая
производственная бригада вела активную
опытническую работу, мы недавно создали
специальный совет при нашем
сельскохозяйственном институте «Караваево», стали
больше вовлекать ребят в научные
исследования областной опытной станции,
стремимся повышать их ответственность и
самостоятельность в проведении
сельскохозяйственных опытов, в организации всех
трудовых процессов в бригаде.
Научная организация труда, сложные
опыты, использование техники,
самостоятельность в деле, высокая
ответственность—все это способствует воспитанию у
ребят трудолюбия, активизирует знания,
полученные на уроках, будит стремление
и дальше использовать в практической
работе все, что ты знаешь, что будешь знать
завтра. Полученные таким способом
знания, проверенные, подкрепленные трудом,
практикой, остаются на всю жизнь,
становятся активным творческим багажом
каждого человека.
Сошлюсь на личный опыт, надеюсь,
читатель не упрекнет меня в нескромности.
Сам я учитель по образованию, и на
партийной работе занимался школами.
Конечно, понимал, что надо лучше знать
сельское хозяйство. Не пропускал лекции,
занимался в семинаре для партийных
работников, где изучались вопросы
сельского хозяйства. Говоря откровенно,
практический результат всех этих занятий был
близок к нулю, я не ощущал от них
реальной пользы, потому что знания эти
оставались без практического применения.
Совсем по-другому дело пошло, когда
я стал работать первым секретарем
сельского райкома партии. Лекции и
семинары, научная литература по сельскому
хозяйству вдруг приобрели реальное,
зримое содержание, я понимал, видел,
чувствовал, что все это мне теперь на самом
деле необходимо и может быть
немедленно использовано в работе. Жизнь за-.
ставила учиться дальше, я стал заочником
Галичского совхоза-техникума и получил
специальность агронома.
Теперь я хорошо понимаю, что, пока
человек ходит возле дела, не занят им по-
настоящему, знания его, если они даже
есть, лежат втуне. Когда же он трудится,
знания активизируются, появляется
потребность их пополнять, непременно
размышлять над «причудами» практики,
СВЯЗАТЬ ВОЕДИНО «ХОЧУ» И «НАДО»
77
анализировать факты. Только такие знания
по-настоящему прочны.
Не так давно я прочитал две книги.
Одну из них — «Человек и земля» — написал
Георгий Радов. Это дневник писателя, его
заметки и наблюдения, в сибирских местах
сделанные. Вторая — «Ученическая
бригада — трудовой коллектив» — написана
коллективом авторов, вышла в Ставрополе.
Обе книги ставят важные проблеме!
жизни сибирской и кубанской деревни, в
частности работы с молодежью,
вовлечения ее в сельскохозяйственное
производство. В них затрагивается и вопрос о том,
с каких же лет можно приучать детей к
труду в сельском хозяйстве. Один из
авторов книги, вышедшей в Ставрополе,
А. Первин, утверждает, что в условиях
современного сложного производства
практически невозможно раннее
вовлечение подростков в производительный труд.
Думаю, что Первин не прав. Давайте
вспомним, как было в давние годы в
деревне. Крестьянин с раннего возраста
приучал детей своих к труду на земле. И
в этом, пожалуй, есть глубокий смысл.
Вот что писал об этом Карл Маркс: «При
разумном общественном строе каждый
ребенок с 9-летнего возраста должен
стать производительным работником так
же, как и каждый трудоспособный
взрослый человек, должен подчиняться общему
закону природы, а именно: чтобы есть, он
должен работать, и работать не только
головой, но и руками».
Мне кажется, что кое в чем надо
пересмотреть наше трудовое
законодательство о подростках. Например, на комбайне
и других сельскохозяйственных машинах
разрешается работать только с 18 лет. По
Уставу же сельскохозяйственной артели
шестнадцатилетние считаются
трудоспособными колхозниками. И выходит, что ребята
после средней школы, имея права
трактористов —■ машинистов широкого профиля,
работать по специальности не могут —
запрещает трудовое законодательство.
От чего мы пытаемся уберечь
подростков? От труда? Но ведь труд еще никого
не испортил, а вот праздность —
действительно, мать всех пороков.
Многочисленные научные исследования показали, что
в физическом отношении современная
молодежь более развита. И рост выше, и
вес, и объем грудной клетки больше.
В то же время отмечается
прогрессирующая инфантильность молодежи. Я
полностью согласен с М. П. Кашиным,
руководителем одного из научных инстит/-
тов Академии педагогических наук,
который видит основную причину
инфантильности в значительном уменьшении
участия ребят в труде.
Нередко экономисты приводят данные о
более высокой, чем у нас,
производительности труда в сельском хозяйстве США.
Часто эти данные сообщаются без
комментариев.
Одной из причин такого положения
является пока еще большая вооруженность
сельского хозяйства Америки машинами и
механизмами. А вот и другая причина —
фермер с ранних лет приучает своих
детей пользоваться сложными механизмами.
Постепенно вырабатываются навыки
умелого, производительного использования
самой различной техники.
Могут сказать; что пример этот нам не
подходит, он взят из капиталистической
действительности. Но ведь еще Маркс
отмечал как заслугу капиталистического
производства раннее вовлечение детей в
машинный производительный труд, только
он говорил: надо освободить, очистить
детский труд от капиталистической
эксплуатации.
Был я как-то осенью на уборке в
колхозе «Искра» Галичского района,
познакомился там с механизатором Борисом
Михайловичем Машиным. Восемь детей у
хлебороба. Сыновей он с детства
приучает к механизмам. Виктор, Юрий, Николай
уже работают в колхозе, стали хорошими
сельскими механизаторами. Миша и Лева
еще учатся в школе, но каждое лето
работают с отцом на сложных машинах.
Я уже писал выше о братьях Малеевых,
которых отец также с раннего детства
приучал к машинам. А что полюбил
человек в детстве — это на всю жизнь...
Конечно, работать сложнее, чем не
работать, но только преодоление
трудностей воспитывает настоящие характеры,
любовь к делу.
А мы, с одной стороны, говорим об
инфантильности, но этим же инфантильным,
в порядке исключения, разрешается даже
в шестнадцать лет иметь семью, тогда
как работать с механизмами они могут
лишь с восемнадцати... Как говорил
А. С. Грибоедов: «Иметь детей — кому
ума недоставало!», а вот кормить их,
выходит, можно начинать только с
восемнадцати лет!
И еще одно замечание. Нужно побольше
хороших произведений литераторов,
художников, композиторов, музыкантов,
театральных постановок и кинофильмов;
воспевающих сельский труд, благотворные
перемены, происходящие на селе по воле партии
и народа. Это нужно для воспитания любви
к селу, для воспитания молодой смены
хлеборобов.
...Профессия хлебороба заслуживает
глубокого уважения, она достойна того,
чтобы воспевать ее. Земледелец холит и
пестует землю, нашу мать-кормилицу, он,
в конечном счете, дает жизнь всем: и
строителям, и металлургам, и рыбакам, и
авиаторам, и поэтам, и музыкантам —
всем. Он — сеятель. Так возвысим же
сеятеля — лучшую и нужнейшую профессию
под солнцем,— и тогда быстрее пойдет
процесс обновления деревни, приток в
нее молодых, сильных, образованных,
культурных людей, от которых зависит
будущее хлеба русского.
Вячеслав Максимович Шугаев родился в 1938 году в
городе Мензелинске Татарской АССР. Окончил Уральский
государственный университет, работал в газетах
Свердловска и Иркутска.
Автор повестей «Любовь в середине лета», «Бегу и
возвращаюсь», «Осень в Майске», «Проводины» и других.
Член Союза писателей.
Живет в Иркутске.
ВЯЧЕСЛАВ
ШУГАЕВ
ТУНГУССКИЙ
БЕРЕГ
ОЧЕРК
1. ЭКЗОТИКА
Семь лет назад, в декабре, я
собрался на Тунгуску, в районный центр
Ербогачён. До него от Иркутска тыща с
лишком верст, и даже по сибирским
понятиям конец предстоял не ближний.
На Севере я еще не бывал, и потому
при сборах не давали покоя
романтические видения: в них я то нос к носу
сталкивался с медведем, то мчался на оленях,
так сказать, в белое безмолвие, то
обжигал рот ледяной сиговой расколоткой...
Одолевали и сугубо реалистические
мечты: купить бы медвежью шкуру, унты-
гурумы, расшитые бисером, или же
добыть шкурок ондатры на шапку...
Между прочим, как ни появишься в
Москве, знакомые обязательно просят:
«Слушай, закажи там у себя пыжиковую
шапку, медвежью шкуру, меховые
сапожки, пару соболишек, оленьи рога» — и
прочая и прочая. Так вот, попутно
скажу: сами не видим, сами бы рады
заказать, купить, достать — да по Иркутску
давно медведи не ходят, лоси не
заглядывают, а белки в детсадах ребятню
развлекают. Шапки же, сапожки, прочие
заманчивые вещицы, вышедшие из рук
народных умельцев, бывают раз в году — на
выставке.
Итак, я собрался на Тунгуску: взял у
приятеля валенки, пододел меховую
безрукавку, на всякий случай посмотрел еще
раз карту, запоминая звучные
эвенкийские названия — Тетея, Накано, Инарйг-
да, выяснил, по обычаю всех очеркистов,
что на территории Катангского района
поместится с пяток зарубежных стран, и
полетел — до Киренска на ИЛ-14,
дальше на АН-2.
С той поры я не раз бывал на Тунгуске,
и все эти побывки постепенно слились в
памяти в одну, довольно длительную и
довольно интересную, поэтому, для
удобства рассказа, я не стану нумеровать
воспоминания тем или иным годом, пусть
они будут итогом одного большого
путешествия*
ТУНГУССКИЙ БЕРЕГ
79
* * *
У заборчика Ербогачёнского аэропорта
была привязана оленья упряжка. В
просвет рогов виднелись крыло и винт АН-2—
совсем как на фотографиях, которые
любят привозить фотокоры из северных
командировок. Я восхитился: на первом
же шагу от самолетного трапа, и
пожалуйста, — олени. Рядом вздохнул попутчик,
местный житель:
— Ну вот мы и на свободной земле
Катанги, — сделав ударение в слове
«Катанга» на втором слоге, на «африканский»
манер.
Глубокий, легкий голубоватый снег,
густая зелень сосен, присоленная инеем, и
как-то порознь существующие в.
просторном северном воздухе звуки: лай собак,
визг бензопил, ребячьи голоса и усталый
баритон московского радио, сообщающий
последние известия (на здании
Ербогачёнского клуба висит мощный репродуктор,
слышный в любом уголке села с шести
утра до часа ночи).
Ербогачён — в переводе с
эвенкийского — «холм, поросший сосновым бором» —
действительно устроился на левом
крутом берегу Тунгуски, в сосняке; живет в
нем две тысячи человек и примерно втрое
больше собак, которые встречают тебя у
каждого сугроба и, не торопясь, с
достоинством обнюхав, провожают до крыльца
Дома охотников — здешней гостиницы.
Постройки здесь все без исключения
деревянные (кирпич попадает сюда раз в
году, во время весеннего паводка), окна без
форточек, чтобы в жуткие зимы попадало
меньше холода. Хозяева домов — в
основном добродушны и хлебосольны.
Если бы кому-нибудь пришло в голозу
появиться в Ербогачёне инкогнито, у него
бы ничего не вышло: во-первых, в
аэропорту к каждому самолету стекается
толпа праздновстречающих, и каждое новое
лицо, не сомневайтесь, будет пристально
изучено, чтобы долгим зимним вечером не
раз задаться вопросом: «А этот еще
зачем приехал?»; во-вторых, любой
приезжий — охотник, ревизор, газетчик,
частное лицо, пожелавшее сохранить
инкогнито, — обязательно должен
представиться в райкоме партии, иначе его, тоже
обязательно, спросят: «А в райкоме вы
были? Ну, что же вы! Сходите, сходите, у
нас такой порядок».
Порядок этот, учрежденный первым
секретарем райкома Георгием Павловичем
Масягиным, показался мне несколько
странным, и я отнес его на счет северного
любопытства и северной жадности до
новых людей. Лишь позже я понял, что ма-
сягинское желание встречаться с каждым
приезжим проистекает не из любопытства
и не от избытка свободного времени, а из
хозяйского расчета: а ну-ка, послушаем
вас, дорогой товарищ, и посмотрим,
какую пользу вы можете принести Катанге?
В кабинете навстречу мне поднялся
невысокий, плотный человек: окатистый, с
залысинами лоб, прямой короткий нос,
щеки возле него обветренно красны, и
потому голубые глаза над ними кажутся
светлее, с зеленцой. После знакомства он
заговорил осипшим, быстрым баском:
— Очень хорошо, что приехали. Рад
приветствовать вас на земле Катанги!
«Опять «африканское» ударение, —
подумал я. — Видимо, излюбленная
здешняя шутка».
Масягин между тем советовал съездить
в Непу на норковую звероферму — там
замечательный заведующий; в Накано —
там замечательная школа-интернат
северного типа; в Преображенку, где
замечательный клуб. Я слушал невнимательно,
размышляя о медведях, соболях, северных
сияниях и о том, как я обо всем этом
напишу. Георгий Павлович предложил:
— А можете в чум, к оленеводам
поехать. Тут недалеко — тридцать-сорок
километров. Эвенкийская семья: отец, мать,
два сына. Один как раз здесь, в
Ербогачёне, за продуктами приехал. Захватит
вас.
— Еще бы! Конечно! С
удовольствием! — захлебнулся я от привалившей
удачи и только-только не добавил: «Всю
жизнь мечтал». Масягин улыбнулся и
вздохнул: «Слава богу, угодил», — так
я и понял этот вздох, и лишь когда мы
сошлись поближе, Георгий Павлович
признался: «А я увидел, что с тобой всерьез
не потолковать — от экзотики голова
кружится, и пока вволю ее не хлебнешь,
на район как на сказку смотреть
будешь».
В тот же день я познакомился с
Иосифом Поповым, рослым парнем в
роскошной парке из собачьего меха и немыслимо
красивых гурумах, на голенищах которых
обильно сверкал бисер.
Одутловато-гладкие, безвольно натекающие на скулы
щеки; тяжелые припухшие веки;
бесстрастные коричневые глаза. В них дрогнуло
любопытство, когда я изъявил желание
поехать в чум, но он тотчас же прогнал
его и равнодушно-вежливым голосом
сказал:
— Ладно, поедем. За оленями сбегаю,
и поедем.
— Далеко ехать?
— Не. Два часа. Может, три.
— Два или три?
— Поедем, увидим.
Выехали вечером, при слабых отсветах
последней зари, и когда нарты скатились
с высокого берега на лед Тунгуски, мы
окунулись в сумеречную морозную
синеву — сухой острый ветер прорывался
сквозь оленьи рога, сразу же сливели
губы, немели щеки. Я поднял воротник рай-
комовского волчьего тулупа, пригрелся
дыханием и задремал. Когда открыл
глаза, над Тунгуской уже созревали
огромные низкие звезды, меж ними веяла
морозная пыль, на широких ледяных
излучинах вспыхивали черной голубизной
торосы.
80
Вячеслав Шугаев
ШШШШшШШШШЩШФ
ШМШШШ:ШШШШШЩШЩШШШ£ЩШШШШШ.
Районный центр Ербогачён.
Вдруг небо заслонила страшная
косматая морда, и кто-то тяжело, жарко
задышал мне.в лицо. Ушло в пятки
ослабевшее сердце, прошиб холодный пот, я
испуганным рывком сел на нартах. Тьфу,
черт! Совсем забыл, что за мои нарты
были привязаны запасные олени. В
сумерках они бежали не приближаясь, а
ночь заставила их искать общества
человека, пусть и спящего. На оленьих
ноздрях наросли увесистые сосульки, и
потому олени так жадно и запаленно
дышали открытой пастью. Впереди под
редкий звон колокольчика-конгилона и скрил
полозьев тянул какую-то песню без слов
Иосиф. Я крикнул ему. Он подошел,
отодрал сосульки с оленьих морд, сел ко мне
в нарты.
— Скоро доедем?
— Скоро. Маленько выпьем?
— Может, подождем? Доедем и выпьем.
— Не. Маленько выпьем. Надо.
Я попросил:
— Ты, пожалуйста, пой со словами.
Какую-нибудь свою, эвенкийскую.
Можешь?
— Спою, спою, чего же не спою, —
Иосиф встал и побежал к своим нартам, и
мы снова поехали. Отвернув воротник
тулупа, я ждал песню.
Иосиф долго не начинал: вставал в
нартах, размахивал хореем, кричал на
оленей, хотя они и без того бежали резво,
садился, снова вставал — и я решил, что
про песню он забыл. Но нет, наконец-то
запел:
Жила бы страна родная,-
И нету других забот...
Летели мимо черные берега, щелкали по
тулупу снежные пули, крупные чистые
звезды опускались все ниже и ниже —
родная страна простиралась сейчас под
северным небом.
Внезапно- мы остановились в
непроглядной тени прибрежных сосен. Раздался
частый удаляющийся скрип снега — Иосиф
побежал вперед, затем вернулся, так же
молчаливо и быстро побежал назад. Его
долго не было. Он вышел из сосен
напротив моих нарт.
— Дорогу, паря, потерял. Вижу —
место не то.
— Как же так?!
— Поворот проглядел. Палку в снег
ставил. Нет палки.
— Говорил же, до чума надо с
выпивкой подождать.
— А! Плохо говорил. Здесь свернем.
— Как здесь?! Здесь ехать некуда!
— Найдем. По тайге поедем, дым
услышим.
— О чем ты говоришь? Ветра нет —
какой тут дым?
— Однако, боишься. Нехорошо.
Приедем, сам смеяться будешь.
— Давай сначала приедем.
Иосиф повернул упряжку в тайгу, и мы
полезли напролом. Как нам не повыхлес-
тало глаза, как мы не увязли и не
переломали ноги в черной чащобе, как не
угробили нарты на диких завалах — до
сих пор удивляюсь, но более всего
удивляюсь другому: на одной из полян Иосиф
остановился и, подняв лицо, долго
принюхивался, потом махнул рукой:
— Чум там. Совсем недалеко, — и он
действительно оказался там! И
действительно недалеко!
И вот я в чуме. Сижу на медвежьей
шкуре, надо мной темные своды, тоже из
шкур, в мою честь зажжены три тсарман-
ных фонарика (хотя я знаю, батарейки к
ним достать в Катанге невозможно);
тепло от маленькой чугунной печки пьянит,
погружая в волны невиданного
блаженства. Надо же, я в чуме! На печке жарит
белые толстые хлебцы мать Иосифа,
женщина с румяным от жара,
ласково-усталым лицом. Напротив меня сидит его
отец — сухонький, легонький старичок, с
жиденькой седой бородкой, с
невозмутимыми грустными глазами в сморщенных
темных веках — и посасывает медную
трубочку. Он ни о чем меня не
спрашивает, а только покачивает головой и
говорит время от времени:
— Хорошо, очень хорошо видеть гостя.
Рядом со мной брат Иосифа Анатолий,
с какими-то странно тревожными
темными глазами, лицо резкое, скуластое и не
такое доброе, как у Иосифа.
Меня угощают: на маленькой столеш-
не, лежащей перед нами, румяные, в
искрах масляных пузырей хлебцы-ко-
лобы, розовато-черные пласты вяленой
сохатины, величественные желто-сочные
куски копченого сига, ломти бурой,
истекающей салом медвежатины, до сладких
спазм доводит меня запах огненного супа
ТУНГУССКИЙ БЕРЕГ
81
из молодой оленины, и особнячком,
только для гостя, стоит кружка с густым,
коричнево-белым оленьим молоком — его
прохладные струи, проскальзывающие с
мягкой сытой силой, повергают меня в
совершенный восторг. Надо же, надо же! Я
в чуме, и все происходит именно так, как
я мечтал! Спирт мы, конечно, запиваем
теплым медвежьим жиром, и его
странный вкус кажется мне тоже
восхитительным.
Мы разговариваем. То-есть
разговариваю я, утопая в восхищении, взахлеб
хвалю жизнь в чуме, среди шкур, у живого
огня.
Но постепенно беседа выравнивается,
тяжелеет и течет уже с ночной
плавностью. Выясняется, что Иосиф не бывал в
Москве, в Иркутске и даже в Киренске.
Более того, он ни разу не видел «живого»
паровоза, электрички, ни разу не ступал
на пыльный асфальт. Я смотрю на
транзисторный приемник, свисающий с
жердины, и думаю: «Господи, как
причудлива ты, цивилизация!».
Потом все вместе убеждаем его, что
надо обязательно посмотреть большие
города и прокатиться на поезде. Особенно
старается в уговорах мать: «Езжай,
езжай, вернешься, все расскажешь».
Наконец мы все решили: за оленями
присмотрит Анатолий, я встречу Иосифа в
Иркутске и буду ему показывать,
рассказывать, за руку водить.
Иосиф довольно улыбается:
— Соболя сдам, в феврале приеду.
Однако, раньше — в январе приеду. Чего
ждать?
...Через год я спросил его:
— Что же ты не приехал? Долго
собраться, что ли?
Иосиф задумчиво, с ленивой грустью в
глазах посмотрел на меня:
— Боязно стало. И оленей жалко. Как
их бросишь?
А в тот вечер мы согласно помолчали,
думая, как это интересно — впервые
приехать в большой город и как много
удивительного можно там увидеть. И тогда
неразговорчивый Анатолий предложил:
— Давай меняться? — Ив глазах у
него появился азартный блеск.
— Как?
— Твой пальто — моя парка. Вон, в
углу лежит.
Хотя в чуме углов нет, я увидел за
печкой седовато-черный бугор — ездовую
парку из оленьей шкуры. Мое видавшее
виды городское пальто лежало
неподалеку, и я с недоверием пожал плечами:
«Этакую тряпку на целую гору меха».
— Не знаю... Как-то вдруг...
— Давай, давай! В городе другой
купишь! — Анатолий подвинулся ко мне:
глаза, лицо прямо-таки горели от
нетерпения стать хозяином городской вещи.
— Ну... если хочешь... давай, — мы
ударили по рукам.
6. «Наш современник» № 1.
Иосиф тоже привстал и каким-то
изменившимся, осипшим голосом сказал:
— Может, и со мной меняться будешь?
— Так нечего больше.
— Как нечего? Твои валенки — мои
гурумы.
Я быстро, чтобы он не передумал,
согласился :
— С удовольствием!
Анатолий пристальным, цепким
взглядом оценивал оставшуюся на мне одежду.
Через полчаса я стал владельцем
замечательных рукавиц с поперечной
прорезью на ладони, чтобы быстрее
высвобождать руку при стрельбе, за которые
отдал кожаные перчатки, и
комбинированного лисье-ондатрового малахая в обмен
на котиковую черную, тоже городскую
шапку. Меня так растрогало это
неожиданное ночное переодевание, что я снял
часы и подарил Анатолию — на память и
как бы в награду за его удивительную
инициативу.
Ночью я проснулся от жары, сбросил
с себя шкуры, сел и сразу же услышал:
— Однако, выпить хочешь? — старик
Попов сидел у печки, покуривал медную
трубочку, дым от нее клубился в луче
карманного фонарика.
— Попить. Просто попить. Который
час?
— Утро скоро. Спи еще, паря, спи.
Пока светло не станет, спи. — Это значит,
он сидел всю ночь, караулил сон гостя,
недвижно, молча, этаким живым
памятником прославленному северному
гостеприимству.
Я снова лег. Через дыру-харан
заглядывали в чум звезды. Они по-утреннему
побледнели и слабо, устало помигивали.
И при закрытых глазах я долго еще
видел их.
Днем старик Попов повез меня назад.
По морозной солнечной тайге, по
рассыпчатому, стекающему с торосов снегу, под
звон колокольчика-конгилона мы быстро
домчались до синих медленных дымов
Ербогачёна.
* * *
Ни разу не заставало меня ненастье в
самом Ербогачёне, и оттого, наверное,
каждое возвращение туда бывало столь
желанным и исполненным веселого
нетерпения. Его безоблачное небо надолго
ослепило меня, сообщив мыслям
безмятежный, праздничный настрой, с каким
уместно появляться разве что в День
оленевода, когда вся Катанга собирается на
льду Тунгуски и свистит, улюлюкает,
отбивает ладони на оленьих гонках. По
километровому кругу несутся упряжки —
треск сцепившихся нарт, белые взрывы в
сугробах, сумасшедшие, измученные
морды оленей у финиша и каменно-напря-
женное, потное лицо каюра-победителя.
А позади рвущихся к призу
(транзисторный приемник) упряжек спокойной
рысцой бегут олени старика Сычегира,
восьмидесятилетнего эвенка. Он обязательный
82
Вячеслав Шугаев
Оленевод Иосиф Попов,
участник гонок на каждом празднике и
обязательно приходит последним. Ради
него учредили специальный приз: «Тише
едешь — дальше будешь». У старика Сы-
чегира сморщенное желтоватое лицо с
темно-коричневыми подпалинами на
щеках и вывернутым правым глазом: когда-
то амака медведь приветил. Старик плохо
видит, и, когда я спросил, как же он^ухит-
ряется добывать по двадцать соболей в
сезон, он ответил:
— А по стволу, паря, целюсь.
Ах, День оленевода, День оленевода! И
я там был, мед-пиво пил, и кое-что в рот
попадало! Хмельной его удалью, я долго
не желал расставаться с праздничной
Катангой, а она жила и по будням. Но о них
позже.
Я вернулся в Ербогачён из
гостеприимного чума, и сотрудник местной газеты
«Правда Севера» Валерий Сафьянников
спросил:
— Ты знаешь, что у нас есть домик
Шишкова?
Я не знал и тотчас же отправился
посмотреть на него. Окнами на Тунгуску, на
плавную широкую излучину,
противоположный берег которой чернел от голого
льдистого тальника, за ним, в устье
распадка, — избушка, придавленная
крышей-сугробом, затем уж — дремучая синь
тайги... Дом как дом, занятый жильцами.
Их не было, внутрь я не попал и,
впрочем, не пожалел об этом: что бы я там
увидел? Современный интерьер, ну,
естественно, с северной поправкой на мебельный
голод, утварь и предметы домашнего
обихода людей, живущих во вторую половину
двадцатого века, — ни одной бы тени
прошлого, ни в одном углу. Лучше было
постоять у ворот и еще раз посмотреть на
излучину Тунгуски и представить, что,
возможно, на этом же месте стоял
Вячеслав Яковлевич Шишков и размышлял
о героях романа, который он назовет
потом «Угрюм-рекой».
В деревне Подволошино жив еще Егор
Осипович Зырянов, который нанимался в
одиннадцатом году в экспедицию
Шишкова. У старика крепкая память, он даже
помнит условия найма: рубль в день и
еда дармовая. Зырянов помнит, как гостил
В. Я. Шишков в эвенкийском чуме,
недалеко от деревни Гаженки, и как хозяйка
чума Анна Петровна Салаткина
показывала ему могилу шаманки рода:
лиственница, а на ней гроб чернеет, раскачивается.
И шаманку ту, лежавшую в гробу, звали
Синильгой. Вспомнив это, Зырянов
говорил: «Увидел Вячеслав Яковлевич гроб,
побледнел весь, а все равно в книжке что-
то черкал».
Другой житель Подволошина, Павел
Ильич Жарников, помнит, как Шишков
фотографировал подволошинскую
церковь, деревенскую ребятню, Тунгуску. И
провожатой его была Таня Карелина, по
словам Жарникова, «ох, и шустрая же
девка!». Невольно вспоминаешь другую
Таню, первую любовь Прохора Громова,
встреченную им в деревне Подволочной,
на Угрюм-реке.
Я спрашивал и у Масягина, и в Ербога-
чёнском райсовете: почему бы им не
открыть музей В. Я. Шишкова?
Восстановить бы обстановку сибирской избы тех
ТУНГУССКИЙ БЕРЕГ
83
времен, собрать бы шишковские книги,
записать рассказы тех, кто помнит его
экспедицию, заказать бы мемориальную
доску — и музей уже можно открывать.
Что из того, что этот дом — временное
жилище Шишкова, приют, крыша над
головой путешественника? Его книги стоят
и музея, и памятника на берегу Тунгуски.
В Ербогачёне сочувственно относились
и относятся к мысли создать музей, но
не более. С чего начинать, кто будет
отвечать персонально, боязнь бумажной
волокиты, кажущаяся второстепенность
этого дела — словом, о музее пока что и
речи нет. Впрочем, есть надежда, что ербо-
гачёнцы наконец воздадут должное
человеку, воспевшему их Тунгуску.
...А теперь, пожалуй, о первом
возвращении из Ербогачёна, когда я был одет
так, что мама родная бы не узнала. Наш
ЯК застрял в Непе, в сорока минутах от
Киренска, — над каким-то перевалом
разорвался снеговой заряд. Мы просидели
трое суток, и Новый год собирались
встречать в пустынной, маленькой, холодной
Непе — даже елку присмотрели.
Командировочные кончились, и раз в день мы
ходили к председателю сельсовета — он
безропотно кормил казенных людей. В
остальное время пилоты с застрявших
ЯКов играли в преферанс с
обязательными прибаутками, вроде: «Летчик просит—
надо дать», «Без унта, без унта»,
пассажиры слонялись, а я чистил свою
роскошную парку снегом, потому что в тепле
она стала катастрофически лысеть. «Будь
добра! — уговаривал я ее. — Потерпи до
Иркутска. Дай пройтись, пусть посмотрят
на северного человека!»
Парка не подвела, снеговой заряд
рассеялся* и 31 декабря я шел по Иркутску.
Бушевала новогодняя оттепель,
свалившаяся на город впервые за последние 50
лет, гурумы мои квасились в лужах, но я
не торопился — пусть сгорит от зависти
весь Иркутск.
Встречные смотрели на меня косо и
прямо, они оборачивались вослед!
Видимо, прикидывали про себя, какие можно
было бы сшить сапожки, какую шапку,
какую шубку из этой горы меха...
А я шел и думал: вот бы появиться в
таком наряде в Москве, в литературно-
художественных и
общественно-политических журналах. Как бы у меня стали
выпрашивать романы, стихи, легенды,
сказания и прочий эпос! Да что там
журналы! Меня тотчас же напечатали бы в
«Роман-газете», тиражом в три миллиона
экземпляров!
2. ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Постепенно я расставался с северными
одеждами: паркой обил дверь в
квартире, гурумы подарил брату, любителю
зимней рыбалки, малахай надел в
командировку приятель и оставил в какой-то
гостинице, рукавицы с прорезью на ладонях
отдал еще кому-то, — прямо-таки тянет
6*
сейчас написать, что, освобождаясь от
одежд, я освобождался от иллюзий, и из
почитателя северной экзотики
превратился в строгого критика, разглядывающего
будничную Катангу.
Нет, с иллюзиями я расставался
значительно медленнее и неохотнее.
Однажды в Киренске я трое суток ждал
самолета в Катангу и познакомился в
этом бессонном грязном аэропорту с
парнем, солдатская выправка которого и
редкая воздержанность в пище привлекли
мое внимание. Пригласил его обедать.
— Не хочу, спасибо. Денег только на
обратную дорогу, сутки продержусь.
Голод не тетка, поэтому он принял
в конце концов мое приглашение. Между
первым и вторым я узнал следующее: ла-
рень недавно демобилизовался, очень
любит природу, мечтал поселиться в каком-
нибудь охотничьем крае, услышал про
Катангу, написал письмо, нельзя ли, мол,
устроиться на работу. Ему ответили
«можно», и вот он едет. Я поздравил его
с удачным выбором и, радужно сгущая
краски, обещал ему райское житье: и
охота-то замечательная, и люди один
другого лучше, а День оленевода вообще
сказка — ради него только стоит приехать.
Парень оживился, порозовел — на сытый
желудок человек становится чрезвычайно
доверчив и благодушен. Утром мы
добрались до Ербогачёна, я познакомил парня
с Масягиным, тот обрадованно сказал:
— Первая ласточка. Хорошо. Милости
просим. Нужна, нужна Катанге свежая
кровь.
Оказывается, в райкоме и
райисполкоме лежало сотни две писем с одинаковым
содержанием: «Примите на работу», и на
все письма было отвечено: «Приезжайте».
Я простился с парнем, уверенный, что он
будет счастливым новоселом.
А случилось так, что ровно через год
мы встретились в том же зале ожидания
Киренского аэропорта. Я радостно
бросился к нему:
— Ну, как ты? Все в порядке? В
отпуск, да?
Он холодно, хмуро посмотрел на меня:
— Нет, совсем.
— Как совсем?!
— Так. Ни шиша не заработал. И
скучно.
— Плохо, наверное, старался?
— Как мог.
Мы сухо расстались, и я с благородной
пылкостью, характерной для заезжего
патриота, думал: «Длинных рублей он не
нашел! Тоже мне, куркуль. В Катанге ему
не понравилось! В таком месте не
ужился!».
В Ербогачёне я навел справки об
уехавшем: работал на звероферме в Хамакаре,
работал хорошо. Нет, не пил.
Зарабатывал 100—120 рублей в месяц... Спросил у
Масягина, почему же он уехал?
84
Вячеслав Шугаев
— Ну, скажи, что им надо? Встречаешь,
как дорогих гостей, пожалуйста, живите,
работайте, — у Масягина покраснел
лоб — признак того, что он начал
волноваться. — Ну, мало, мало ста рублей для
Севера! Конечно, мало! Так что, я из
своего кармана должен им доплачивать?
Скучно им, а как я их развлекать буду?
Плясать, петь? Они все в Ербогачёне жить
хотят, а здесь жилья нет, сложней, чем в
городе, квартиру получить. Некому
строить, не на что. Живите по деревням, там-
то домов хватает!
Уехал не только мой знакомый, так
мечтавший жить в охотничьем крае,
уехали и другие новоселы, которым в
свое время было сказано: работа есть,
Катанга вас ждет. И Георгий Павлович Ма-
сягин, который так ждал новых жителей
и так звал их в район, задыхающийся от
недостатка рабочей силы, естественно,
расстраивался, нервничал, даже злился, но
удержать отъезжающих не мог.
Во-первых, потому, что не мог платить с
северной щедростью: хоть Катанга и
приравнена к районам Крайнего Севера и в ней
существуют положенные надбавки, но
поясной коэффициент остается 0,3, тогда
как должен быть 0,7, и многочисленные
запросы, жалобы, мольбы района пока что
не привели к устранению этой ошибки.
Одни же надбавки нетерпеливым
новичкам кажутся чересчур медлительным
средством для роста их зарплаты.
Во-вторых, Масягин не может поселить
всех приезжающих в районной столице,
где есть клуб, столовая, прекрасная
библиотека, почти круглосуточное
электричество, баня и прочие приметы двадцатого
века. А в глухих и маленьких
деревеньках, где избыток жилья и избыток же
сумрачного таежного быта, переселенцы
не выдерживают.
В-третьих, Масягин не может из
городского плотника или маляра сделать в
одночасье добычливого охотника, и потому
из Катанги возвращаются и те, кто
наивно думал приехать, пойти в лес и
настрелять, сколько душа пожелает, белок,
соболей и прочей ценной живности.
Приехали, пошли в лес, и оказалось, что
охота — работа тяжелая, зачастую
неблагодарная, — лучше вернуться в город.
Вскоре после огорчительной встречи в
Киренском аэропорту мы шли с
Вячеславом Калининым, охотоведом Катангского
коопзверопромхоза, на пожарище — два
дня назад ребятишки из ученической
производственной бригады подожгли тайгу.
Пожар потушили, но надо было выяснить,
на какой площади выгорело: промхозу
предстояло расплачиваться за
неосторожность школьников.
Сентябрьская теплая чистая тайга;
желтый дождь лиственничных иголок,
нехотя, после долгого парения касающийся
земли; веселый свист бурундуков,
неслышный полет коричневых еще белок —
так солнечно и покойно! Даже не верится,
что скоро мы увидим черные пни,
черную землю, будем дышать неживым,
влажно-дымным воздухом пожарища.
Калинин пока тоже не думает о
мрачном поручении, идет, напевает:
Шелкова рубашечка
Бьет Ванюшку по плечам..
Калинин курнос, голубоглаз, с
небольшими, но круто выпирающими скулами.
Он приехал с запада давно, в Катанге
прижился, и когда я спросил его, не
тянет ли в родные края, ответил: «Хорошо
там, где нас нет».
Мы идем по ольшанику, и Калинин
говорит, что многие хают это дерево как
бесполезное, а напрасно: ольха —
первый материал для гармоник. Вообще
Калинин не любит задерживаться на одном
предмете и часто без всякого перехода
начинает высоким напористым голосом
новый рассказ: «Ой, паря! Что я вспомнил-
то!..*.
У Калинина на плече недавно
купленная «белка», и время от времени мы
останавливаемся у какой-нибудь лесины,
отмеряем пятьдесят-сто шагов и пробуем
ружье: на вскидку, с упора, лежа.
Потом Калинин зовет:
— Свернем-ка вправо, к озеру. Тут
охотник наш, поговорить надо.
На двери зимовья записка: «Я на
озере. Верхотуров». Калинин стреляет в
воздух, и вскоре с берега доносится: «Иду,
иду-у».
Верхотуров в суконных штанах, в
ичигах, давно не брит, и по его темному
морщинистому лицу никак нельзя понять,
сколько же ему лет: то ли за пятьдесят,
то ли сорока нет. Вообще даже у
ежедневно бреющихся северян возраст по лицам
угадать трудно: морозы, ветры, обилие
солнца сушат кожу, покрывают ранними
морщинами, а вынужденное длительное
молчание на охоте налагает
угрюмо-сосредоточенное выражение.
Калинин весело рассказывает промхо-
зовские новости, рассуждает о погоде,
строит прогнозы на нынешний охотничий
сезон — Верхотуров молчит,
выжидательно смотрит на Калинина темными
глазами: когда же, мол, ты о главном
заговоришь? Наконец Калинин, как бы между
прочим, предлагает:
— Слушай-ка... Взял бы школьную
бригаду к себе. А то присмотреть за ними
некому.
— Ну их. Пусть учитель смотрит.
— Так что учитель. Надо, чтоб
охотник смотрел. Видишь, пожар устроили. В
тайге живут, а с огнем не умеют
обращаться.
— Отвечай за них потом. Не, не возьму.
Калинин опять долго разговаривает о
том, о сем и снова подкатывает:
— Ну, так как? Возьмешь? Не я тебя
прошу, директор просит.
ТУНГУССКИЙ БЕРЕГ
85
— Мало ли о чем он попросит. Потом
садись за них.
— Сразу уж — садись. Общее же дело,
раз промхоз за производственную
практику отвечает.
— Да как я за ними услежу? Ондатра
начинается, а я бегай за ними.
Так или иначе, часа через два Калинин
уговорил его. Верхотуров завернул нам на
дорогу парочку щук-травничек, и мы
отправились дальше.
Я спросил:
— А почему он так долго отказывался?
Ему же заплатят за это.
— Хлопот знаешь сколько? Никаких
денег не стоят. Ученики эти кто куда
глядят, только не в тайгу. Вроде
местные, а охотой редко кого заманишь — все
о городе мечтают. Дети охотников, а
непохоже. С огнем балуют. Скажи, разве
смысл есть? Вообще натерпимся мы с этой
практикой.
Несколько позже я был на районной
комсомольской конференции, слушал
выступление секретаря школьного комитета
ВЛКСМ, и вспомнил слова Вячеслава
Калинина. Комсомольский секретарь
говорил, что в школе регулярно проходят
вечера «Кем быть?», но в длинном перечне
встреч с людьми интересных профессий
не назвал лишь одной — профессии
охотника...
Самое время написать высокие слова о
земля отцов, о голосе крови, о святой
необходимости любить свою маленькую
родину. Но я воздержусь, потому что
словами делу не поможешь, а дело выглядит
так: в Катанге очень мало молодежи,
вчерашние школьники поголовно уезжают
учиться, и отнюдь не на охотоведческие
факультеты. Очень редко возвращаются
на родину демобилизованные катангчане,
а те редкие случаи, когда молодые люди
все-таки остаются жить в Катанге, общей
картины никоим образом не меняют.
Да, вывод напрашивается печальный:
надежд у Катанги на приток свежей, по
словам Масягина, столь необходимой
крови мало.
Однако жить все равно надо. Надо
сдавать государству пушнину, рыбу» ягоду,
надо осваивать новые охотничьи угодья,
косить сено, заготовлять дрова, чтобы не
сидеть иждивенцами на шее государства.
Поэтому оставлю на время в стороне так
называемую кадровую проблему и
расскажу о других будничных делах
Катанги. Но прежде чем сделать это, несколько
слов об одном литературном разговоре, в
который я был втянут в Ербогачёне.
3. ВОТ ЭТОТ РАЗГОВОР
Начал его Масягин. Посокрушавшись о
нрхватке людей, он неожиданно сказал:
— Вот взял бы, да так написал про
Катангу, чтобы валом народ к нам
повалил! Опиши все наши трудности, но
заманчиво опиши. Чтоб охота повоевать с
ними было.
Я ответил, что это не легко.
— Может, и трудно. А ты попробуй.
Во-первых, спасибо тебе скажем,
во-вторых, самому приятно будет. Что, у нас
людей замечательных нет? Вот и
расскажи, как они живут.
Конечно, сказал я, замечательных
людей много, и про них надо писать, но вряд
ли от этого недостатков убавится.
— А ты так напиши, чтоб убавилось.
Я промолчал.
Разговор нашел продолжение вечером,
в компании молодых специалистов, куда
я пришел потолковать о житье-бытье.
Меня спросили:
— А вот трудно или нет написать про
хорошего человека? Чтоб он не картинкой
был, а по-настоящему живым?
— Трудно, — сказал я.
— А вы верите в положительного
героя?
Я ответил, что не являюсь
специалистом в таком сложном вопросе.
Курносенькая близоруко щурившаяся
учительница вздохнула:
— Какое все-таки счастье читать книгу
и верить в ней каждому слову! Потом
ходишь под впечатлением неделю-другую
и невольно ловишь себя, что говоришь и
думаешь, как герои этой книги... Ужасно
хочется быть такой же. И чтобы мыслить
как-то не буднично, а значительно,
высоко...
Я подумал тогда, что на Севере,
может быть как нигде, уместны
размышления о положительном герое — здешняя
суровая и отдаленная жизнь воспитывает
натуры сильные, мужественные и
трудолюбивые...
Помню из детства: ранним летом, после
третьего класса, мы с приятелями прочли
«Тимура и его команду». Впечатление
было ошеломляющее: мы тотчас же
купили карманные фонарики и темной
теплой ночью вскопали соседской бабке
огород. Бабка утром крестилась, вздыхала,
недоверчиво ощупывала землю и
наконец прослезилась. К сожалению, кто-то из
нас не удержался и не сохранил ночного
великодушия в тайне. Мы сидели на
завалинке, когда бабка подошла к нам и
бледно-сморщенными пальцами принялась
развязывать узелочек:
— Внучки дорогие, господь вас
наградит за доброе дело. А от меня на
мороженое возьмите.
Мы, конечно же, отказались.
Вот пример незамедлительного
воздействия литературного произведения на
жизнь.
Но, видимо, только в детстве и
возможно такое восторженно-доверчивое
прочтение книги; с годами читателя уже не
удовлетворяет полностью герой, характер
которого выражается формулой: «Делай,
как я!». Для него положительным героем
скорее всего становится вообще талантли-
86
Вячеслав Шугаев
вая книга, которая обязательно учит быть
нравственнее, благороднее, неистовее в
честной и справедливой борьбе. И тем
не менее когда я слышу споры о
положительном герое или читаю
фундаментальные статьи, посвященные его поискам,
обязательно возникает в памяти видение
из детства: темная ночь, лучи фонариков,
дрожащие руки бабки, развязывающие
узелок.
В последние годы появился ряд книг,
главными героями которых являются
люди с физическими недостатками, а
попросту говоря, инвалиды. Сюжет этих
книг примерно одинаков: обычные,
мирные трудовые будни, несчастный случай—
и человек прикован к больничной койке.
Он мучается, страдает, думает о
самоубийстве, но, прочитав «Как закалялась
сталь», сознает безграничное величие
жизни и находит силы вернуться в строй.
Кроме того, эти книги роднят небрежно
выполненные, поверхностные описания
«здоровой» половины жизни, зато на
изображения физических мук краски
тратятся щедро, и порой вспоминаешь калек
на базарной площади, показывающих свои
язвы прохожим.
Человеческому сердцу свойственно
сострадать, и сострадание не оставляет нас,
когда мы видим чужую беду, — поэтому
произведения о таких людях пользуются
успехом у читателей. Несомненно также,
что книги эти нужны как памятники
личному мужеству и общественной
чуткости, как бодрящий пример в
исключительных жизненных обстоятельствах. Хотя
мой товарищ из Братска, настигнутый
инвалидностью в расцвете сил, однажды с
горечью признался, что человеческое
участие, обрушившееся на него после аварии
и выдержанное в
восторженно-соболезнующем тоне, временами утомляет его.
Он довольно мрачно пошутил, переиначив
прутковское изречение: «Лучше быть
здоровым и безвестным, чем знаменитым
и больным».
Наша молодежная критика (термин,
конечно, нелепый, но не более, чем
«молодежная проза») необычайно пылко
приветствовала эти книги, настоятельно
рекомендовала их молодым людям не только
для прочтения, но ив качестве
универсального жизненного пособия: вот так
надо жить, вот с кого надо брать пример!
Выходило, по словам критиков, так, что
герои, перенесшие физическое несчастье и
ставшие инвалидами, — духовные братья
Павла Корчагина, его литературные
потомки.
Конечно, критиков понять можно: им
надоела «молодежная проза» с ее
«самокопающимися» героями. А тут дело ясное,
никакого самокопания, а только
оптимистическое самоутверждение, сила духа,
пример для подражания.
Но воспитательное воздействие этих
книг на юношество явно преувеличено
критиками. Представьте на минуту, что
их читает молодой строитель из Братска
или Усть-Илима или молодой паренек из
какого-нибудь менее известного города —
суть не в этом. Конечно же, читая, он
сострадает попавшему в беду герою,
сочувствует ему, но несколько отстраненно,
как и должен сочувствовать здоровый
больному. В книге нет того необъяснимо
возбуждающего импульса, от которого
разгорается в читателе желание
действовать, и именно так, как действует герой:
бежать на баррикаду, идти записываться
в бойцы 1-й Конной или же, если на земле
мир, ночью вскопать огород соседской
бабке. Одним словом, читателю мешает
подражать герою барьер физической
несовместимости, если так можно сказать.
Читателю хочется узнать, как надо жить:
он внимательно сравнивает свою судьбу с
судьбой героя — и как тот влюблялся, и
как работал, как воспитывал в себе
характер, и это довольно-таки наивное
сравнение вдруг приводит читателя к мысли: и
я так смогу, и я так должен делать! А вот
герою-инвалиду юный читатель вряд ли
сможет подражать, какой бы силой
духа тот ни обладал. И уж если говорить
о мужестве, силе духа и других высоких
человеческих достоинствах, — то разве
в жизни, и в литературе мало физически
полноценных, вполне здоровых людей,
обладающих всеми этими качествами и
могущих по-настоящему быть активным,
действенным примером?..
И вряд ли надо вспоминать всуе Павла
Корчагина. Мы чтим его не только
потому, что он столь мужественно держался
при трагическом завершении жизни, а
прежде всего потому, что прожил ее
безупречно, под яркой звездой
революционного подвига. Мы видим его жизнь от
отрочества до зрелости, и каждый ее миг
можем взять на вооружение: и
бесшабашную смелость, когда он освобождал Жух-
рая, и фанатическое упорство, когда он,
больной, голодный, разутый, заготовлял
дрова. Он удивительно прожил
отпущенные судьбой годы, и в сущности уже
ничего не изменится от того, какой исход
ждет его (конечно, такой взгляд возможен
только при первом чтении): и смерть, и
любую муку, мы знаем, он примет с
решительным, молчаливым мужеством. И в
этом — принципиальное отличие корча-
гинского характера от характеров
теперешних героев, борющихся с недугом.
Если Корчагин предстает нашей памяти
живой, мощной натурой, которая
увлекает нас неистребимым стремлением к
действию, то теперешних героев,
неосторожно выдаваемых за его «потомков», мы
наиболее ярко запоминаем на больничной
койке. У Корчагина борьба с болезнью —
продолжение подвига, у теперешних же
героев она — главный подвиг в жизни.
Вот почему стук корчагинского сердца
всегда будет слышнее и всегда будет
немедленно отзываться в наших сердцах.
Возможно, все это литературное отступ-
ТУНГУССКИЙ БЕРЕГ
87
ление несколько выбивается из жанра
путевого очерка, но ничего не могу
поделать: я думал об этом особенно много в
Катанге.
4. БУДНИ
А теперь, не мешкая, вновь в Ербогачён,
под его голубое небо, к тихим берегам
Тунгуски, к которым в самом деле
влечет неведомая сила.
Я в кабинете Михаила Колесникова,
директора Катангского коопзверопромхоза.
Он разговаривает с Тетейским участком
по радиотелефону:
— Как не вышли?! Что?! Кто не
вышел?! Не понимаю! Сколько до плана
осталось?! До пла-на? Понял?! Ничего не
понял! — Михаил, вспотев, бросает
трубку.
У Михаила яссиза-бледное лицо — от
утреннего бритья и долгого сидения
взаперти, темно-серые глаза под широкими,
черными матерыми бровями. Когда он
раздражается, спорит или молча
переживает какую-нибудь неприятность, глаза
горячо, влажно светлеют. Михаил
директорствует не первый год, а я все не могу
привыкнуть к его новой должности: он
был секретарем райкома комсомола,
заочно учился в сельхозинституте, его
кабинет бывал полон шумных споров, на
столе лежали учебники вперемежку с
комсомольскими журналами; на дверях
райкома висели объявления, написанные его
рукой: тогда-то лыжный поход, тогда-то
субботник по заготовке дров для школы,
тогда-то расчистка льда на Тунгуске под
каток — одним словом, заботы и забавы
комсомольских лет. А теперь —
начальственная тишина, солидная мебель, а за
креслом как бы тает, ускользает тень
юности...
Некоторым несведущим людям
должность директора коопзверопромхоза
представляется заманчивою и романтичною.
Дескать, человек постоянно на свежем
воздухе, для здоровья хорошо, все время
связан с охотой, рыбалкой — опять и польза,
и выгода; не каким-нибудь заводом
руководить, где с утра до ночи только и
слышишь: план, план, план! А тут — зверя
нет, и плана нет, соболей в тайгу
никаким авралом не загонишь!
Ничего подобного. Должность суровая.
У Колесникова уже было прединфарктное
состояние — это в тридцать-то с
небольшим лет. В больнице долго пролежал, и
сейчас еще, что называется, нет-нет да
схватит. А все потому, что и с директоров
коопзверопромхозов план спрашивать
умеют: соболь не пришел — ондатры
больше добывай, ондатра перемерзла —
на белку нажми.
— Ну как сердце? — спрашиваю
Колесникова.
— Стучит. С легкими перебоями. — Он
улыбается. — Промхоза два стало — и
сердцу в два раза легче.
Да, в районе изменения, теперь там два
промхоза: Катангский и
Преображенский — два штата, два директора, и, так
сказать, две сферы влияния: там я
охочусь, а там — ты.
— Лучше стало?
— Мне лучше. Вернее, легче.
Территория, сам знаешь, какая. Хоть разрывайся
было, охотоведов по штату кот наплакал.
Я сколько просил в тресте: добавьте нам
несколько единиц — не добавили. Вот
разделили. План у меня поменьше стал,
площади поменьше, но людей все равно не
хватает.
— Нет, подожди. Для дела-то лучше
стало?
— Ну как тебе сказать... В Преобра-
женке тоже людей не хватает. В райфо им
надо — к нам летят, в банк надо — к
нам, рации нет, с трестом они не
связаны — опять через нас сообщаются. С
планом у них плохо. Мы кое-как натянули, а
они — и близко нет. Пока слабый пром-
хоз. Но поживем — увидим.
Колесников, с характерной для северян
нелюбовью к категорическим суждениям,
уклонился от прямого ответа:
целесообразно разделение или нет? Потом я
спрашивал об этом у многих в Катанге,
спрашивал в тресте коопзверопромхозов и
получал одинаково сдержанные ответы:
разделились недавно, надо посмотреть, хотя
верно: экономические показатели пока
ничего утешительного в пользу
разделения не говорят. Однако с выводами
торопиться не следует.
Во всяком случае, у меня составилось
впечатление, что просто еще рано
признавать разделение ошибкой, не солидно как-
то, не по-хозяйски: разделили — и сразу
каяться. Нет, надо повременить,
посмотреть, а там, возможно, снова соединить-
Спрашиваю Колесникова:
— Как ты думаешь, государству
выгодно иметь такой район, как Катанга?
— Дорого мы ему обходимся. Все ведь
к нам завозят: от муки до последнего
гвоздя. Почти все самолетами. Это ого-го
какая копеечка! Надбавки нам как часы
идут, а продукцией-то мы их не
покрываем. Сдаем пушнину на такую-то сумму, а
на нас потрачено во много раз больше.
— Наверное, аукционы все расходы
покрывают?
— Вот это нас и выручает. Хотя в
точности мы и не знаем, сколько валюты
получает государство за нашу пушнину,
но, видимо, достаточно. Иначе какой
смысл тратиться на Катангу?
— А что, если пустой сезо« выпадет:
ни соболей, ни белок?
— Ну, что-нибудь да будет.
— Нет, но может быть пустой сезон?
— Может.
— Тогда что?
— Тогда полностью на шею государства
сядем и ножки свесим.
— А застраховаться от пушного
неурожая можно?
— Конечно, можно. Надо готовиться
88
Вячеслав Шугаев
к сезону, а не надеяться на тайгу, как на
бога. Мы ни копейки не хотим в нее
вкладывать, а получать хотим много. У нас
есть план освоения охотничьих угодий,
так мы его на четверть не выполняем.
Сотни гектаров белыми пятнами лежат,
ни одной там зимовьюшки. Во-первых, как
туда доберешься — вертолеты мы
арендуем только перед началом сезона; во-
вторых, кто туда будет добираться?
Например, в Ербогачёнском отделении всего
двадцать штатных охотников. А чтобы
застраховаться от неурожая, надо с весны
людям в тайге жить: лабазы строить, зи-
мовьюхи, прикармливать зверя. У меня
многие охотники просятся: отпусти, не
надо нам никаких нарядов, что в сезон
заработаем — то и ладно, но отпусти
угодья готовить. А как я их отпущу? Кто
дрова заготовлять будет? Кто ягоду
собирать? Кто сено косить, на скотном дворе
кто работать будет? Застраховаться
можно, только побольше денег в тайгу надо
вложить.
— Но ведь на случай пустого сезона
можно и по-другому застраховаться.
Производство какое-нибудь открыть, ту же
сувенирную мастерскую, тот же цех по
пошиву эвенкийской одежды?
— Производство... Когда оно будет?
Геологи давно ходят, ищут, да ничего
пока серьезного не находят. Сувенирную
мастерскую? Открыли мы. Два человека
чучела делают. Но это же не выход, не
масштаб. А одежду кто будет шить?
Старухи-эвенкийки, их осталось-то раз-два, и
обчелся. А молодежь не заставишь
учиться, не хочет. Некому, некому ремеслами
заниматься. Мы вон летом неплохо на
оленях зарабатываем — геологи
нанимают. Так только летом. А зимой вся
надежда на тайгу.
В Катанге, грубо говоря, куда ни
ткнешься — везде проблема. В прошлую
зловеще-суровую зиму перемерзли почти
все озера, погибла тьма ондатры — даже
не было осеннего отлова. Я спросил у
Александра Комарова, старшего научного
сотрудника Сибирского отделения
ВНИИОЗа (Всесоюзного
научно-исследовательского института охоты и
звероводства), можно ли было ее спасти?
— Конечно. Ондатра хоть и дар божий,
но к ней нельзя относиться по принципу:
ловить не переловить. Существует
обязательный комплекс биотехнических
мероприятий, при выполнении которого
только и возможен грамотный отлов ондатры.
В частности, я предлагаю: охотники,
после персонального закрепления озер,
должны обеспечить ондатровым семьям
сытую и спокойную зимовку. Летом, чтобы
поднять уровень воды в озерах, они
должны ставить в протоках плотники:
вбивается двойной ряд кольев и оплетается
прутьями — тогда озеро в любую стужу
не будет промерзать. Охотники должны
ставить «бугры» (основания для
ондатровых хаток): на те же вбитые кольцом
колья наваливаются сучья, прибрежный
хлам, трава — ондатрам уже не надо
тратить силы на постройку хаток;
охотники должны отводить от берегов
сплавины и укреплять их, чтобы у ондатры было
побольше «обеденных столов». Надо
весной подсеивать траву для кормежки,
надо... Впрочем, надо делать многое, но все
это под силу охотнику. И конечно же,
если он нерадив и биотехнические
мероприятия проводит кое-как, надо отбирать у
него озера и передавать их другому.
Я убежден, что при та,ком ведении
ондатрового хозяйства Катанга сможет
сдавать по шестьдесят тысяч шкурок в год.
Тем более что в прошлом есть примеры...
Существовали в свое время ГОХи —
государственные ондатровые хозяйства,
регулировавшие жизнь ондатры и охоту на
нее; в пору расцвета ГОХов Катанга
сдавала до восьмидесяти тысяч шкурок, а
теперь эта цифра снизилась до двадцати
тысяч.
— И все эти мероприятия можно
осуществить при теперешней нехватке
людей?
— Да. И в Катанге согласились с
моими предложениями. Хотя нехватка кадров,
конечно, может в какой-то мере
сказаться на ведении ондатрового хозяйства: чем
дальше от Ербогачёна, тем обширнее
ондатровые угодья у каждого охотника, тем,
естественно, труднее обслуживать их. Но
возможно, — так говорил Комаров.
В Катанге сейчас работает Московская
охотоустроительная экспедиция, которая
должна подготовить промхозам
рекомендации, как лучше жить и хозяйствовать.
Я спросил у ее начальника Ореста
Кирилловича Станкова: чем же экспедиция
посоветует заниматься Катанге помимо
охоты?
— Пилить лес и сплавлять в Туру.
Безлесному эвенкийскому округу
пиломатериалы практически нужны в
неограниченном количестве.
Рекомендация, возможно, хорошая, но,
опять же, кто будет пилить этот лес, кто
сплавлять?
Откуда же, откуда взять людей
Катанге? — все больше недоумевал я и пошел
к Масягину. Он был занят. Потом мы
несколько дней не могли встретиться,
наконец он позвонил в семь утра в гостиницу
и сказал:
— Приходи, чаю пбпьем.
Чаевничали мы вдвоем: жена Георгия
Павловича была в командировке, дочь
собиралась в школу. Солоноватый
неприятный вкус тунгусской воды не заглушался
ни заваркой, ни сахаром, а для меня этот
утренний чай вообще казался горьким,
потому что я говорил Масягину: что же
делать, Георгий Павлович? Народу в
Катанге становится все меньше и меньше,
деревни пустеют, что делать?
Масягин выслушал и чуть не
поперхнулся.
—Экие заоблачные проблемы тебя
занимают! Мы тут третий год трактор
выпрашиваем, выпросить не можем, третий
ТУНГУССКИЙ БЕРЕГ
89
Секретарь райкома партии Г. П. Масягин.
год кран на Подволопгинский причал
поставить не можем, не дают! Да если
хочешь, я тебе в райкоме бумагу покажу,
так сказать, список предметов первой
необходимости — пальцев не хватит
загибать, и ничего получить не можем.
Деревни пустеют, народу не хватает — все это
так, конечно! Мы, веришь, думать об этом
не успеваем, хотя надо думать, надо. Но
приходит день, и с ним столько
сиюминутных нужд, забот,1 волнений! За
голову схватишься... Пойми, я не жалуюсь,
успевать надо обо всем думать, и о
перспективе, и о буднях, но не так легко
совместить эти думы, как тебе кажется, —
Масягин махнул рукой и уткнулся в
стакан. Я понял, что в последние дни,
видимо, его преследовали какие-то
хозяйственные огорчения, недаром же он вспомнил
и этот недосягаемый трактор, и
несуществующий кран на Подволошинском
причале.
— Вот сейчас мы «Орбиту» просим.
Штука, конечно, дорогая, и просить,
наверное, долго придется. Но представляешь: в
Ербогачёне — телевизор?! Кто и
подумывает уехать — останется. Вот тебе,
пожалуйста: сочетание будничных забот с
перспективными. Телевизор в Катанге — это
не столько модная прихоть, сколько
средство агитации за приезд сюда,
своеобразный уполномоченный оргнабора.
А вообще знаешь, как к нам относятся?
К району и просьбам района? Как к
милому, капризному ребенку. Этак
шутливо-снисходительно: ну что, мол, взять с
этих лесных людей? Дети природы,
охотятся, рыбачат там, причуды у них
разные: то им трактор, то им дизель, то
«Орбиту». Ну, и как малым, капризным
детям то подарят игрушку — возьмите,
потешьтесь, то не подарят, раздумают. А
мы, между прочим, золото добываем, хоть
и мягкое, но золото. И вот, честное слово,
просишь, просишь, и надоедает иногда...
Я давно не видел Масягина, и то ли он
плохо спал, то ли разговор его раздражил,
но в этот раз показался он мне
постаревшим и уставшим. А впрочем, почему бы
ему и не устать, хотя по должности и не
положено. Круговорот работы, верно,
обновляемый меняющимися требованиями
дня, все же утомляет однообразием, и
приходит усталость. Хорошо, когда
человек умеет быстро прогонять ее:
молчаливо подумает о ней, тряхнет головой и
вновь посмотрит на дело свежими
глазами. По-моему, Масягин умеет
отделываться от усталости, потому что характер у
него решительный, в усталом бездействии
сидеть не позволит.
Как у всякого энергичного, напористого
человека, требующего от себя и от
окружающих дела, дела и дела, у Масягина
много друзей и много недоброжелателей.
Недоброжелателям кажется, что он
излишне самовластен, вспыльчив, резок.
Видимо, в какой-то мере недостатки эти
присущи Масягину (уж кто-кто, а
недоброжелатели — большие доки по нашим
недостаткам), но попробуйте, найдите
человека, который, занимаясь живым делом,
каждый день скрещивая свой характер с
десятком других, самых
противоположных, оставался бы бесстрастным, ровным
и учтивым.
Он человек горячий и увлекающийся, а
потому и возможностей ошибаться у него
больше. Помню, как он увлекся
звероводством: читал справочники, пособия,
учебники, словно собирался защищать
кандидатскую диссертацию. Изучив все эти
книги, поверил, что Катанге нужны
зверофермы, и с горячностью новообращенного
заставил поверить и остальных. Открыли
несколько звероферм. Сейчас осталась
одна Нелокая, другие пришлось закрыть —
90
Вячеслав Шугаев
оказались убыточными: не было
обильного и дешевого корма. Масягин ошибся, но
все равно, наверное, столь новую для
Катанги и прибыльную идею звероводства
надо было испытать на практике, тем
более что предварительные расчеты
выглядели весьма и весьма заманчиво.
Конечно, после драки легко кулаками махать и
говорить, что надо осторожнее подходить
к новым затеям, семь раз отмерить и
прочее, но мне, например, понятна и близка
нетерпеливая одержимость человека,
когда он старается не для себя.
Масягин старается для Катанги, с этим,
пожалуй, согласятся и его
недоброжелатели. Из истории нашего знакомства мне
вспоминается сейчас, может быть, и
несущественная подробность, но в какой-то
мере дающая представление о стараниях
Масягина: сколько он ни приезжал в
Иркутск, ни разу мы не посидели, не
поговорили толком в городских условиях,
потому что Масягин обязательно
куда-нибудь торопился: то с нечаянными
хлопотами в трест, то в управление связи —
выпрашивать давно обещанную рацию, то
на какую-нибудь базу, то в клинику к
больному катангчанину, — во всех этих
визитах нуждалась далекая, лежащая за
тысячу верст Катанга.
Конечно, нельзя сказать, что масягин-
ские старания напрасны и пропадают
даром, а сам он ходит в безвестных
подвижниках, нет, Масягин награжден орденом
Трудового Красного Знамени, как
принято говорить, за успешную и
плодотворную деятельность в Катанге, и
деятельность эта, несомненно, включает и
деловые ошибки, и личные недостатки
награжденного, без которых невозможно
быть деятельным человеком. Но,
увы, в сиянии ордена на лацкане
пиджака еще виднее та гора дел, которую
ты не осилил, еще резче проступают
очертания новых забот, тревог, проблем.
— Да, народу убывает, — говорил он
утром за чаем. — Как его удержать, как
зазвать в Катангу? Вроде самый ясный
ответ: рублем. Конечно, когда мы
пробьем коэффициент 0,7, нам легче будет
уговаривать, да и вообще рубль в
рекламе не нуждается. Допустим, что
понастроили мы жилья в избытке, «Орбиту»
приобрели, энергопоезд поставим, и будет
Катанга процветать, покоиться на
спинах, так сказать, мощного материального
стимула и не менее мощного духовного.
Разве что тайга прежней останется... —
Масягин помолчал, видимо, мысленно
заглядывая в эту тайгу, вдруг загорячился:
— Но, если хочешь знать, нужен
совершенно иной взгляд, совершенно иной
подход к таким районам, как наш.
Во-первых, нужны крупные капиталовложения
в охотничий промысел, чтобы промхозы
имели свои вертолеты, достаточное
количество вездеходов, аэросаней, тракторов.
Тогда появится возможность осваивать
тайгу масштабно, промышленно и, если
хочешь, не ожидая милостей от природы.
Во-вторых, охотничьему промыслу нужен
ореол большей государственной
значимости, а не теперешний
умильно-романтический: ах, охотник такой-то встретил
медведя и убил его, а охотник такой-то
настрелял за месяц двадцать прекрасных
соболей — двадцать прекрасных
воротников.
Надо сказать, что труд охотника
тяжел, почетен, как, предположим, труд
строителя из Норильска. Я специально
говорю — Норильск: это тоже район
Крайнего Севера. Все, даже школьники
из начальных школ, знают: Норильск —
край мужества, неслыханного упорства,
самоотверженного труда и так далее. Про
Катангу вряд ли кто знает за пределами
области, да и в области далеко не
каждый школьник про нее слышал. А если
современно и к ней подходить, если
современно переиначивать охоту, то Ербо-
гачён может стать таким же городом, как
Норильск, а про труд охотника будут
писать рядом с сообщением о пуске новой
домны. И тогда народу в Катанге будет
хоть отбавляй. Пойми, я не свое болото
хвалю, а просто настала пора всерьез и
безотлагательно взяться за перестройку
охотничьих районов. Ведь мы не берем у
тайги и десятой части того, что можем
взять, и не даем ей сотой части того, что
обязаны дать. Конечно, первые шаги в
этом направлении сделаны. Я имею в
виду Постановление Совета Министров СССР
о повышении закупочных цен на
пушнину. Постановление своевременное и
важное, оно повышает заинтересованность
охотника в своем труде. Но пришла пора
внести принципиальные изменения в
охотничий промысел, в организацию
всего дела...
Воротясь в Иркутск, я решил
поговорить с охотоведом Виктором
Владимировичем Тимофеевым, кандидатом
биологических наук, старшим научным
сотрудником Восточно-Сибирского отделения
ВНИИОЗа. Толком мы не были знакомы,
лишь раскланивались, но при каждой
мимолетной встрече я давал себе слово:
надо, надо познакомиться поближе с этим
человеком! Даже внешность Тимофеева
пробуждала интерес: невысокий, сухой,
сутулый старик с большой лысой смуглой
головой; в зубах неизменная трубочка, а
из-под густых, буйно спутанных бровей
блестят насмешливые, пытливые, колючие
глаза, определенно говорящие о живом и
резком уме. Кроме того, я слышал, что
Тимофеев в пору юношеских скитаний по
Северу был у эвенков шаманом, и они
вроде бы звали его шаман Тимофей; что
Тимофеев на недавнем Международном
конгрессе биологов-охотоведов в Москве,
на одной неофициальной встрече, был
избран коллегами старейшиной конгресса,
— все это тоже возбуждало любопытство.
И вот я сижу у него дома. На стене
голова кабарги, в углу эвенкийская паль-
ТУНГУССКИЙ БЕРЕГ
91
ма — нож с длинной рукояткой, на
письменном столе черный пластмассовый
стакан, из которого торчат обгоревшие
головки трубок.
На мой вопрос, что он думает о
будущем и настоящем Катанги, Тимофеев
долго не отвечает, чистит трубку, набивает
ее.
— Я об одном попрошу вас, молодой
человек. Когда будете писать свой очерк,
не пишите, что белку убивают в глаз. Это
ужасно смешно. Я знаю многих хороших
стрелков, сам вроде неплохо стреляю, но
очень редко кто попадает белке в глаз.
Несколько растерянно отвечаю:
— Да я и не собираюсь об этом
писать...
— Все равно, — тимофеевская трубка
всхлипнула, свистнула и с тихим
вздохом затихла. — Катанга, Катанга... Я всю
жизнь занимаюсь охотой. Я старик уже.
И смею уверить вас, со всей
ответственностью возраста и профессионального
опыта, что если мы немедленно не
займемся переустройством охотничьего
хозяйства, то несмотря на сказочные
богатства тайги, мы будем добывать их все
меньше и меньше. Возможно, вам
покажется преувеличением, но я считаю, что
к охотничьим районам вроде Катанги
следует относиться с той же
государственной пристальностью, как, допустим,
относились мы к освоению целинных
земель или, как сейчас, к сельскому
хозяйству. И охотничьи таежные районы
должны возбуждать такой же общественный
интерес, как, допустим, строительство
Братской ГЭС. Да, самое, самое время
объявить ударным комсомольским делом
охотничье освоение тайги, сообразуясь с
последними достижениями науки и
техники.
Воспользовавшись паузой, я сказал, что
примерно то же самое слышал от Г. П.
Масягина.
— Он прав. Масягин — деловой
человек, я его уважаю за это. Ведь вы
посмотрите на теперешний промысел. Для
него должна работать специальная
промышленность, а ее нет. У охотников очень
плохое промысловое оружие, потому что
никто не выпускает хорошего. Да что
оружие! Путных капканов теперь не
найдешь. Мы вон по осени получили партию,
заказанную для нас на каком-то заводе,
так из нескольких сотен годными
оказались несколько десятков.
Не очень-то высоко ценится труд
охотника. Помню, в двадцатые годы охотник
за шкурку соболя, конечно очень
хорошую шкурку, получал столько, что мог,
пожалуй, дом и корову купить, и это, по-
моему, было справедливо...
Я бы приравнял работу охотника к
работе шахтера, по износу, что ли,
организма и трудоемкости. Охотник идет,
например, за одним соболем день, второй,
буквально продираясь сквозь тайгу,
прорубаясь, а потом, мокрый, обессиленный,
ночует где-нибудь у костра, на так
называемом вольном воздухе. А шахтер отработал
свою тяжелую, но все же короткую
смену, принял душ и пошел приобщаться к
радостям семейного уюта. Охотник же
месяцами в зимовье, у костров, без бани,
бука букой, а вернется и получит
значительно меньше, чем геолог, полярник,
хотя никто не скажет, что охотнику
приходилось легче.
Не скажет еще и потому, что охотнику
почти не помогает техника, машины.
Главный его помощник — собственный
горб. В довоенные годы, когда начинался
охотничий сезон, в Иркутской области в
тайгу вместе с людьми уходило
шестнадцать тысяч лошадей, а нынче я не
рискну назвать и десятой части этой цифры.
В Катанге в ту пору охотничий
промысел обслуживали тысячи четыре оленей.
А сейчас где они? Только в некоторых
эвенкийских деревнях.
Мы долго проговорили с Тимофеевым,
и когда распрощались, была ночь.
Рекламы и окна Академгородка, где живет
Виктор Владимирович, излучали какую-
то холодную веселость, неподалеку сияла
неутомимо-праздничная гирлянда
Иркутской ГЭС. Два памятника нашему
быстротекущему времени, два младенца XX
века, два его баловня...
Пора, пора, однако, сменить
реалистические чернила на утопические и
попытаться описать Катангу грядущую.
Возможно, под пером экономиста, социолога
или футуролога (даст же бог людям
профессию! Раз-два — и ходи в пророках!)
описание это было бы снабжено
убедительными расчетами, солидными
математическими выкладками, ссылками и
рекомендациями, а я всего лишь
путешественник, причем очень боящийся цифр, и
потому отважусь изложить только
некоторые фантастические соображения,
конечно же, возникшие не без помощи
более здравомыслящих людей.
Итак, вы приземляетесь в Ербогачёне
в 19... году и, естественно, не узнаете его.
«Боже! — воскликнете вы. — Не улицы,
а заснеженные аллеи, не дома, а виллы»,
— и долго*не сможете найтись: с чем же
сравнить теперешний Ербогачён, этот
городок одно- и двухэтажных особняков?
Наконец вспомните: ах, ну конечно же,
с писательскими поселками в Красной
Пахре и Переделкине — та же тихая,
высококультурная жизнь, тот же
патриархальный покой в сочетании с
современным комфортом, те же классические
аллеи, но только гуляют по ним охотники
и звероводы. Да, в том далеком
Ербогачёне есть все, даже парикмахерская и
фотография. Не то что теперь, когда вам
приходится бежать к соседу, имеющему
машинку или фотоаппарат, или, если у вас
привередливый вкус, ждать оказии в
областной город. Ербогачён, заметите вы,
необычайно разросся, потому что все
маленькие деревеньки опустели, жители их
92
Вячеслав Шугаев
перебрались в охотничью столицу, да, в
сущности, в таких деревеньках теперь нет
нужды: Ербогачён имеет мощный
вертолетный парк, просторные гаражи, в них
тесно всевозможным северным вездеходам
и аэросаням — значит, проще простого
забраться в любую таежную глухомань.
А опустевшие деревеньки приспособлены
под базовые стоянки на время
охотничьего сезона, куда можно выйти на день,
помыться в бане, посмотреть новую
кинокартину, почитать свежую почту.
Кроме того, в Ербогачёне давно
построена фабрика, выпускающая северные
сувениры. Давно работает мясокомбинат,
продукция его уникальна: охотничьи
колбаски из медвежатины, копченая
сохатина, вяленая оленина, наборы
полуфабрикатов «Привет из Каганги», которыми вы
непременно набьете сумку в здешнем
магазине и тем самым крайне обрадуете
жену. Мясокомбинат поставляет дешевый
корм гигантской норковой звероферме.
Процветает торговая фирма « Тунгуска»,
реализующая продукцию и сувенирной
фабрики, и мясокомбината. Одна из
прибыльных статей фирмы — сбыт свежей
рыбы через комиссионные магазины в
Иркутске, где никакая цена не остановит
лакомку-горожанина при виде серебряно-
темных «поросят» — тетейских карасей.
В Ербогачёне откроется свое
строительно монтажное управление, свой
кирпичный завод, школа ФЗО, готовящая
рабочих для сувенирной фабрики, школа
охотминимума, обучающая азам
охотничьего ремесла новоселов...
А на высоком тунгусском берегу
встанет памятник Вячеславу Яковлевичу
Шишкову, и ветры с Угрюм-реки овеют
его бронзовое лицо...
Но если и попуститься фантазиями, то
все равно катангские деревеньки должны
опустеть — уж слишком притягательна
цивилизация, даже в границах районной
столицы. Останется несколько крупных
поселков, как центры промхозовских
отделений. В пользу этого
территориального прогноза высказывается и странное,
неприятное существо, именуемое северной
скукой. Симптомы ее незаметны — так,
излишняя сонливость, газетки что-то
неохота читать, аппетит волчий, припадки
рассеянной задумчивости где-нибудь на
лавке у окошка, томительное,
непреодолимое желание что-то сделать, куда-то
пойти, и тем не менее — книжка
валится из рук, изба не топлена, чай не
вскипячен, тропинки от снега не расчищены...
У меня был в Катанге знакомый,
молодой специалист, врач. Славный парень, с
воодушевлением думавший о своей
профессии, о самостоятельной одинокой
жизни, о предстоящих схватках с болезнями
и тех удивительных победах, которыми
он обогатит медицину. Я долго не был
в Катанге, наконец выбрался, прилетел,
пошел в гости к этому молодому врачу.
Он выдвинул из-под кровати сундучок,
открыл и извлек кларнет. С какой-то
застенчивой страстностью сказал, даже не
сказал, выдохнул:
— Вот!
Я удивленно рассматривал кларнет:
— Скажи, пожалуйста, я и не
подозревал, что ты играешь.
— Нет, я не играю, что ты! Полгода
как купил по случаю, у пропойцы
проезжего.
— А зачем он тебе?
— Я научусь, обязательно научусь! —
Мой знакомый говорил таким горячим,
убедительным шепотом, что стало
понятно, человеку безумно скучно — хоть вой
или играй на кларнете. — Мне знающие
люди говорили, что главное — ноту «ми»
научиться брать, а там как по маслу
пойдет!
— Ну и получается?
— Пока нет. Но — кровь из носу —
одолею.
«Полгода «ми» не можешь взять? А
остальные шесть когда? К пенсии?» —
подумал я, но промолчал: никакие мои
слова не охладили бы пыл так страстно
скучающего человека.
Конечно, сейчас можно наговорить
расхожих фраз: «Книжки бы читал», «В
самодеятельность бы записался»,
«Новогреческий бы изучал», «Да мало ли для
умного человека занятий, чтобы не
скучать?» — но вряд ли стоит торопиться
с советами-. Лучше, пожалуй, представить,
что среди зимы вы очутились в какой-
нибудь Тетее: десять дворов, из сугробов
трубы торчат, электричества нет,
книжки перечитаны, на этой Тетее свет
клином сошелся, никуда ходу нет: тайга да
морозы. Вся жизнь уже обдумана, и
самым глупым днем вы находите тот, в
который согласились ехать в Тетею, — да
тут и убежденный сторонник сухого
закона начнет зашибать. Все веселее:
горизонты раздвигаются, и Тетея как бы
удваивается.
Редко какой горожанин не воскликнет
с восторгом, осуждением или
сочувствием: «Вот на Севере пьют так пьют! Мы
что — школьники по сравнению с
ними!» — и под крыльями этой легенды
северянин учится, работает, отдыхает.
Конечно, он пьет, у него, видимо, оснований
для этого больше. А вот удивительно, что
горожанин вместо походов в театр,
музей, читальный зал, вместо чтения
статей о вреде пьянства бежит в соседний
с магазином подъезд и под грязной
лестницей, прохваченный ознобом
торопливости, предается самой мрачной страсти,
какую можно выдумать: пить на троих, не
закусывая, молча и к тому же стоя!
Северянин пьет ' с большим
достоинством и с большим чувством меры. Леонид
Марченков, начальник районной
милиции, показывал мне цифры, которые
утверждают, что «кривая пьянства» в
Катанге идет вниз и случаи пьяного
ТУНГУССКИЙ БЕРЕГ
93
хулиганства редеют, причем Марченков
огорченно комментировал:
— Если бы не приезжие, не «бичи»,
еще меньше бы пьяных приводов было...
Северяне пьют, так сказать, в рамках
исторической преемственности: в честь
свадеб, крестин, именин, в честь
календарных дат и торжеств местного
происхождения: возвращение с охоты, День
оленевода, День рыбака — вообще у них
тяга к веселому застолью, к
праздничному общению. К счастью, угрюмая
манера «быстро выпить и быстро
разбежаться» здесь не приобрела характер моды,
которой больше подвластны города.
Заходишь в праздничный дом, где тебя
встречает радостно возвышенными
голосами румяное застолье, где к тебе
спешат обрадованные хозяева, для которых
каждый новый гость — искренняя
радость, и нет предела радушию хозяев:
«Спасибо, что уважили, спасибо, что
пришли, милости просим вот сюда, сюда,
здесь вам хорошо будет!». Тебе наливают
штрафную, ты встаешь, кланяешься
хозяевам, кланяешься гостям: «Ваше
здоровье!» — ив эту минуту испытываешь
к окружающим прямо-таки родственные
чувства. Выбираешь, чем закусить: вот
холодная картошка сахарно, рассыпчато
белеет по разваренным швам; нежно
светится розовато-серебристый елец в
берестяном лоточке, обильный студенисто-
коричневый сок его с блестками чешуи
остро, пряно пахнет свежим засолом;
сало курчавится бледно-розовыми
стружками на темной лиственничной дощечке,
источает чесночный дух — господи, как
хорошо жигь на свете!
Эталоном гостеприимства и радушия
принято считать
кавказско-среднеазиатские обычаи. Там, говорят, так
принимают, слагают такие тосты, что не от
хмеля, а от них кружится голова и сладко,
радостно сжимается сердце. Не знаю, не
бывал, не слышал. Но и в русском доме,
когда в зените застольное единодушие,
когда ты сидишь и умиленно-нежным
взглядом смотришь на соседей и уже
любишь их всех, когда тихо размышляешь:
«Вот сейчас все хорошо, и хватит тебе,
довольно», — а в это время подлетает
к тебе хозяйка, счастливая, несколько
ошалевшая, хмельная весельем гостей, и
укоряет: «Что же вы под груздочки-то не
попробовали? Сами солили. И пирог не
попробовали^ Нехорошо, обижусь. Давайте,
сама вам налью», — и вот тогда тоже
радостно сожмется сердце и спросишь
себя: что же ты — баптист, что ли, какой,
пятидесятник?
Предвижу недовольство приверженцев
сухого закона и критиков, пьющих
только нарзан, и спешу оговориться: я вовсе
не проповедую северный способ пьянства,
я всего лишь за разумную выпивку, как
уже говорил, в рамках исторической
преемственности. Пьянство же, в северном
ли исполнении, в среднерусском ли,
остается пьянством, и вряд ли кто возьмется
его защищать.
Помню, мы поехали в Могу: прокурор
Таскаев, Леонид Марченков, тогда еще
начинающий следователь, бывший
начальник Катангской милиции Александр
Семенович Хохлов, крепкий румяный
мужчина, любимым обращением которого
было: «Ну как, командир, жизнь?» — и
я. В More избили киномеханика, и мы
ехали разбираться: кому что за это
следует. Киномеханик, избитый жестоко и
основательно, лежал дома, вставать,
видимо, не мог, но при появлении столь
могущественных и, конечно, не очень
приятных гостей зашевелился, приподнялся
на локте. Александр Семенович
остановил его:
— Лежи, лежи, командир. Здорово,
брат, тебя. Кто бил?
— Да Витька, — киномеханик назвал
и фамилию, но дело теперь давнее,
вспоминать ее не стоит.
— За что?
— Кто его знает. Пьяный он был.
— А ты?
— Да ну, скажете тоже. Когда кино
показываю, в рот не беру.
— Вот, командир, придется Витьку
садить.
— Может, обойдется? Пьяный же он
был...
— Нет, брат, не обойдется. Ты к суду-
то поправляйся, а мы пойдем Витьку
забирать.
Витька, мрачный, с черной окалиной
на губах, не поднимал глаз, вздрагивали
на коленях большие немытые руки.
— Давай, командир, расскажи, как
дело было.
— Никак.
— За что бил?
— Ни за что.
— А все-таки?
— Скучно было.
— И все?
— Все.
За это «скучно было» Витька получил
пять лет. Иван Степанович Сафьянников,
управляющий могинским отделением
промхоза, жалел парня и, понимая, что
закон есть закон, говорил:
— Разве такой была Мога. Сколько
девок, парней! В клубе соберутся дым
коромыслом. Но чтоб пьянствовать, драться
— нет. А теперь молодежи нет. Раз-два,
и считать некого. Конечно, скучно.
Скука, разумеется, не оправдание
пьянству. И в Катанге воюют с ним так же
настойчиво, как и в других местах, а
может, чуть настойчивее: каждый пьяница
на виду, и добраться до него проще, чем
до затерянного в городских дебрях
алкоголика.
В Катанге воюют с пьянством и
милиция, и общественность, и газета. Причем
уверен, ни одна газета страны не
догадалась обличать пьяниц следующим
удивительным способом. Владимир Юрьев,
94
Вячеслав Шугаев
местный газетчик, краевед, знаток истории
Катанги и мой старый знакомый, сочинил
на основе подлинного случая и напечатал
в <Правде Севера» современную былину,
примечательную своей незабываемой
эпичностью:
...Как-то в летний день
из Подволошиной,
Словно стая гусей завороженных,
По реке, рассекая густой туман,
Вниз направился караван белян
С богатырскими двумя дружинами.
День и ночь гремит на белянах гром:
Водки выпито не одно ведро.
Месяц плыли до Непы дружинники
Средь бутылочек, как в малиннике,
Как козлы в огороде с капустою.
Гром дружины той в райсоюз дошел.
«В Непе снять вино», — ей приказ
пришел.
Сняли. Стали считать и заахали —
Семьсот сорок бутылочек трахнули
Побратимы в пути и не ахнули.
Северная скука, конечно, не оправдание
пьянству. Но все же она — достаточно
серьезный враг, которого ни словами, ни
призывами не закидаешь. Искоренить ее
— значит, побыстрее приблизить
Катангу к современной культуре, к наиболее
полному перечню ее проявлений, а это
возможно лишь при переустройстве
экономики и быта района.
5. ЗАРИСОВКИ
Очерки обычно завершают
символическими пейзажами или лирическими
раздумьями о жизни. Поскольку под рукой
у меня нет ни того, ни другого, предложу
ряд отрывочных воспоминаний, которые,
надеюсь, не окажутся лишними.
Помню золотое паутинное воскресенье
в сентябре. Иду по берегу обмелевшей,
вылинявшей от сильных утренников
Тунгуски, иду с ербогачёнскими
комсомольцами на воскресник. На плечах поигрывают
сизые блики — свежеотточенные топоры
и свежеправленные пилы; над
головами поблескивают, перелетают звонкие
округлые хохотки, вспыхивает девчоночий
визг, брызжут шуточки, беспечные
разговорчики — окружает нас то празднично-
озорное оживление, сопутствующее
работе, которая человеку в охотку, а если и
не в охотку, то все равно он поддастся
артельному, веселому возбуждению.
Мы идем на воскресник и заработанные
деньги отдадим сражающемуся Вьетнаму.
Прибрежные кусты залиты
разноголосым пеняшимся эхом: поют пилы в
наших руках; розовеют опилки, пылит
коричневая труха; пахнет смолой,
прохладной терпкой тиной, лежалым, сладко
гниющим корьем.
А меж кустов, стволов и просто так,
на полянках, откуда ни возьмись, сквозит
невидимая паутина, полет которой вдруг
замечают опутанные, слипающиеся
ресницы. Может быть, она так же летает и по
вьетнамской осени? Хотя, наверное, никто
об этом не думает, потому что все
слишком молоды, беспечны, заняты собой и
пока даже мысленно не могут преодолеть
многоверстную дорогу между Ербогачёном
и тем тропическим берегом.
У зимовья нас встречает Степан Дорми-
донтыч Пермяков, высокий, пригнутый
временем старик. Он улыбается беззубым
ртом, щурит выцветшие голубые глаза:
— Здорово, здорово! Ну, ребятишки,
обрадовали старика!
Степану Дормидонтычу — восемьдесят.
Его знает вся Катанга, он утверждал
здесь Советскую власть, он — партиец
почти с полувековым стажем, знаменитый
охотник.
В первый раз, когда я пришел к нему
знакомиться в Ербогачёне, он сидел и
мастерил лыжи-голицы. На белых сосновых
досточках проступали смолистые вены.
Вымоченные в воде, а потом
подпаленные огнем, досточки изогнулись и
походили на вопросительные знаки. Степан Дор-
мидонтыч, видимо, давно возился с ними,
и с его крутого морщинистого лба
медленно стекал пот. Он поднял голову, буркнул:
«Здорово» и снова склонился над
рукоделием, точно мы вчера только с ним
расстались и вообще давным-давно надоели
друг другу. Я присел на краешек
табуретки и ждал, что же будет. Он достал
папиросу, пощелкал зажигалкой — огня не
получилось, попросил у меня спички.
— Кремней пришлешь?
— Пришлю.
— Ладно, поверим.
Опять замолчал, и я уже подремывал,
как вдруг он принялся за историю, да не
с начала, а с середины, будто я уже
слушал ее.
— Жил тутока ссыльный поселенец
Василий Саввич Пироженко. Отчаянный был
мужчина! Губернатор приедет, зовет Ва-
силь Саввича к себе. А тот на-ка тебе!
Надо, мол, так сам иди. И шлендал
губернатор к избе поселенца. Вот, брат,
какие крепкие мужчины в Сибири были.
Я сидел, молчал, с удовольствием
плавал в густом сибирском говорке Степана
Дормидонтыча. Потом он, тоже без
предисловий, рассказал, что в двадцатые
годы работал секретарем райкома партии,
уполномоченным Комитета Севера при
ВЦИКе.
— Я, паря, в разных званиях был.
Грамотных-то тогда не особо встретишь. Ну,
и я не больно ученый был. Но раз надо,
то надо. К примеру, ремесло у меня
основное — слесарь-ружейник. С кузней
малость знаком. Топор там сковать, ножик,
пальму. А вот пришлось в нашей первой
школе труду учить — ради ребятишек
столярничать выучился, берестовое дело
узнал, как обутки шить. Полагаю, не
напрасно жизнь прожил.
Говорят, Степан Дормидонтыч сочинял
охотничьи байки, их так и зовут — «дор-
мидонтихи». Разные люди пересказывали
ТУНГУССКИЙ БЕРЕГ
95
мне их, но от самого Степана Дормидон-
тыча я слышал только одну, да и то он не
признался в авторстве.
— Пошли, паря, в тайгу в октябре.
Спирту взяли месячный запас. В
зимовье его укрыли, в углу, тряпьем. И што
ты думаешь? Приходим раз, нету спирта.
Медведь унес — дверь сорвана, в зимовье
наследил. Ах, думаем, забулдыга
треклятый! Простились со спиртом. И што ты
думаешь?! Утром выхожу по нужде —
медведь под кустом пьянехонек лежит.
Связали мы его, ждем. Просыпается
пьяница. И что ты думаешь?! Говорит так
хрипло: «Ребята, дай опохмелюсь, потом
стреляйте», — и лапой тычет в другой
куст. А там наша бутыль. Отпито, конеш-
но, но пробочкой заткнуто...
После воскресника у зимовья нас
встречает Степан Дормидонтыч и весело
бубнит:
— Счас, счас! Угощаться будем.
Он угощает нас бражкой, кислой,
прохладной, густой. Угощая, поднимает
кружку:
— Ну, ребятишки, за Вьетнам этот!
Добрым словом пусть вас помянет.
Возбужденная прозрачным, просторным
днем, тихо дрогнула душа: немыслимо,
странно, ужасно, что где-то льется кровь,
а здесь тишина, паутина летает, и рядом
сидит Степан Дормидонтыч Пермяков.
Перекинулось невидимое коромысло
времени от далеких партизанских костров к
нынешним. У меня повлажнели глаза, и
какою-то тупой, взбухающей болью в
висках обернулась для меня эта мгновенная
парящая причастность к движению
времени...
Помню свою первую поездку в Могу.
В Преображенском сельсовете мне дали
черную, смирную, раскормленную кобылу
и при ней черного жеребенка с
бело-розовой грудкой и ласковыми глупыми
глазами.
«Ну, милая, трогай!» — с
удовольствием произнес я эту классическую фразу,
необъяснимо ласкающую городской слух.
И мы потихоньку тронули, берегом,
берегом, пересекая обширные луговины,
заросшие анис-травой. Я наслаждался и
скрипом седла, и бархатным теплом
лошадиной шеи, и мерными раздумчивыми
вздохами Зорьки — так звали кобылу. Мы
переехали ручей, и кобыла встала. Как я
ни погонял ее, как ни упрашивал — ни с
места. Я вспомнил про жеребенка и
оглянулся: он стоял на другом берегу. Все
ясно — я слез, вернулся, обхватил его
теплое вздрагивающее тельце и перетащил.
Всего до Моги я насчитал одиннадцать
ручьев, жеребенок неумолимо тяжелел и
перед последним ручьем казался
жеребцом.
Взмыленный, подъезжал я к More. К
счастью, неторопливо пошел снег и не то
чтобы остудил, а утешил и успокоил.
Жеребенок впервые видел белую землю,
боязливо нюхал ее и с удивлением
разглядывал свои маленькие черные следы.
Поднявшись с берега на деревенскую
улицу, я забыл про усталость, потому что
увидел мужика, тащившего на спине
стиральную машину. «Что же он —
вручную крутить ее будет?» — удивился я,
разглядывая Могу — двадцать-тридцать
домишек, несколько повеселевших от
выпавшего снега. Дизельной я не увидел,
увидел столбы, но не понял, откуда несут
они электричество.
Иван^ Степанович Сафьянников,
управляющий могинским отделением лромхоза,
темнолицый усталый мужчина, удивился
в свою очередь:
— Как откуда? У нас же ГЕС естьГ
«Могинская ГЭС? — я наскоро
перебрал в уме родословную отечественного
гидростроения. Днепрогэс знаю, Волжскую
знаю, Братскую знаю, Усть-Илимскую
знаю, Могинскую — нет». Через двадцать
минут в сопровождении смотрителя ГЭС
Геннадия Павловича Сафьянникова —
Мога не избалована фамильным
разнообразием — я шел посмотреть на нее. Сухой,
прямой, молчаливый смотритель шагал
впереди, ичиги его скользили, оставляя
на снегу влажно темневшую широкую
колею. Спустились к багровому, холодному
и голому красноталу на берегу, вступили
на плотину: в щелях досок осклизло
зеленел мох, меж заснеженных камней
насыпи пробиралась враз почерневшая вода.
Смотритель снял замок с приземистого
сарая, войдя, зажег «летучую мышь», и я
осмотрелся: желтеющие пустые стены,
лишь на одной рама рубильника,
забинтованного по трещинам изолентой. Из
деревянного колодца на полу торчит
генератор, тускло блестит отполированная
ладонью колодезная рукоятка подъемника —
вот и весь машинный зал. Смотритель
покрутил рукоятку, поднял задвижку — под
полом зашумела вода, и вскоре на
рубильнике зажглась лампочка.
— Давно стоит?
— Лет пятнадцать.
— А точнее?
— Не знаю, не ставил.
— А кто?
— Иван Иннокентьевич Сафьянников.
Да, здешний. Нет, не повидаетесь. Умер
он. Я его? Нет, не знал.
Управляющий Иван Степанович
несколько позже рассказал, что помнил, про
первого гидростроителя Моги.
— Нет, паря, родных у Ивана
Иннокентьевича не осталось. Братовья и сестры
разъехались кто куда, и следы потерялись.
И фотографии нету — все собирались
повесить на станции, да не собрались:
сестра последняя уехала, хватились — ни у
кого его карточки нет. Ну, какой? Мужик
как мужик, не больно высокий, вот вроде
меня, лицо как лицо: скулы, нос, глаза
малость по-тунгусски смотрели, вприщур,
— да обыкновенный катангский мужик!
С войны как вернулся, стал приставать
к нам: давайте, мужики, ГЕС строить,
96
Вячеслав Шугаев
Как люди, при свете жить будем. Мы его
сначала на смех: какая ГЕС? Без нее, что
ли, дела мало?! ГЕС! А он на войне
сапером был и где-то—то ли в Венгрии, то ли
в Польше — махонькую ГЕС помогал
восстанавливать. Видно, речушка-то на нашу
Могу походила — вот Ивану
Иннокентьевичу и запала она в голову. Мы уж
забыли про станцию, а он что-то все
рисовал, чертил, Могу мерил шестом, а
потом объявляет: «Никуда, мужики, не
денетесь. Вот проект составил». Тогда
у нас колхоз был, ну, колхоз и снарядил
его в город с этим проектом. Волокиты
не случилось, и вскоре Иван
Иннокентьевич вернулся: утвердили проект, давай
людей, строить. А тут уж, понятно, всей
деревне интересно стало. И мужики,' и
бабы каждую минуту выходили, без
всяких приглашений. За мотором я с ним в
город ездил. Еле доволокли.
Когда лампочки загорелись, он аж
заревел и ушел — покачать не успели. А
через полгода собрался он еще одну ГЕС
в Калинино строить. И как-то на лодке
поплыл, на солнышке пригрелся и заснул.
Нет, выпивший не был. Его провожали
тогда, видели. Пригрелся, заснул, а на
перекате лодку перевернуло. Вот так он
смерть нашел.
Искали мы его неделю — нету и нету.
Шестами, поди, пол-Тунгуски прощупали.
Уже решили ждать, пока не всплывет. А
тут старик у нас один был, приходит и
говорит :
— Ребята, вы его завтра найдете.
Солнышко будет, так у тех вон островков
ищите. Сон я ночью видел.
И веришь, утром, правда, солнышко
такое взялось — насквозь реку лучит.
Подплываем к островкам — мать честная,
лежит наш Иван Иннокентьевич на песочке
и неглубоко совсем...
Вот, парень, кто ГЕС нашу строил.
Нынче зимой я попал в Могу быстро:
сел в Ербогачёне в геологический вертолет
и высадился на краю деревни. На бугре
меня встречал Иван Степанович, в
телогрейке внакидку, в наспех нахлобученной
шапке.
— Здорово! Давно не был.
— Давно.
— А я, парень, болею. Астма откуда-то
взялась. Жена теперь отделением
управляет, а я домовничаю. Столярничаю
потихоньку.
Вечером мы сидели у его родителей,
Елены Ивановны и Степана Ивановича.
Она — крепкая полная старуха со
спокойным, ласковым темным лицом; он —
щупленький, маленький, белоголовый, с
глубоко запавшими светло-голубенькими
глазками.
Помянули Ивана Иннокентьевича.
Помолчали. Я спросил Елену Ивановну,
охотилась ли она нынче?
— На Ушть-Чайке-то была, да из ижбы
не вылазила. Медведь чо-то меня вше
шкрадывал, ребята жапретили выходить.
Видно, отохотилась. А Штепан Иваныч
ничо еще, — она поправила мужу
завернувшийся лацкан пиджака, — бегает.
Степану Ивановичу — за семьдесят.
Ему, единственному в районе, присвоено
звание «Лучший охотник». В конце вечера
Степан Иванович сильно оживился, бегал
по комнате, в лицах изображая, как они
с товарищем переходили на сторону
красных в далеком 1917 году.
Я думал о катангских стариках. Они
так долго и горячо старались для своей
милой, северной родины, что старания их
не пропали и не пропадут, а продолжатся
и умножатся руками внуков. Думать
иначе было бы слишком грустно.
НАШ
СОВРЕМЕННИК
ЛЕВ
ПАРФЕНОВ
ТАЛАНТ
РАССКАЗ О РАБОЧЕМ-
РАЦИОНАЛИЗАТОРЕ
Н. П. ЗУЕВЕ.
Сутра слесарь Зуев был странно
рассеян. Нет, пожалуй, не рассеян, а
углублен в себя. Никто из окружающих
не замечал его самоуглубленности —
внешне она никак не проявлялась. Зуев
не отвечал невпопад, когда к нему
обращались с вопросом, движения его были
точны, а руки безошибочно чувствовали
снимаемые с поверхности металла сотые
доли миллиметра.
До конца смены оставались считанные
минуты.
Мягкой мелкозернистой шкуркой Зуев
смахнул с рабочих граней пуансона
заусеницы и протер деталь чистой ветошью.
Доведенная почти до зеркального блеска
поверхность металла туманилась в том
месте, где к ней прикасались пальцы.
Зуев достал темный, со следами ожогов
мундштук, вставил в него сигарету,
закурил. Любил он вот так, в бездумье,
постоять минуту-другую после того, как
очередная ответственная деталь сделана, и
сделана — он это знал — отлично.
Старенький мундштук удовлетворенно
посапывал, и в душе Зуева утверждалось
ощущение спокойной радости. Точно выразить
словами смысл этого ощущения было
невозможно, а приблизительно оно
означало: я могу. За сорок лет трудовой жизни
Зуев создал тысячи изделий, но и в
тысячный раз радость была почти так же
свежа, как в первый.
Ценность той или другой детали,
приспособления, машины для Зуева
определялась не только их практическим
значением. В них, как в произведениях
живописи, он видел и форму, и композицию, и
выразительную цветовую гамму.
Человеку, далекому от техники
обработки металлов, это может показаться
преувеличением. На самом деле, какую
такую особенную цветовую гамму можно
найти у стали? Металл серовато-белого
цвета — только и всего. Однако Зуев в
этом серозато-белом цвете отличал
множество оттенков. По ним он мог
определить не только чистоту обработки
поверхности, но и качество самой стали. А
стоило ему лишь взглянуть на излом,
как он уже с довольно большой точностью
называл процент содержащегося в сталя
углерода, степень ее твердости, узнавал,
подвергалась ли она термической
обработке. Он даже мог сказать, каким способом
получена заготовка, из которой
выточена деталь: литьем, ковкой или
прокаткой. Форма, цвет, композиция — за всем
этим ему виделась точность, надежность,
долговечность изделия в работе. Зуев был
убежден, что хорошая, полезная вещь не
может иметь безобразного,
несоразмерного вида.
Сегодня к спокойной радости, которую
всегда испытывал он после завершения
работы, примешивалось устойчивое
беспокойство. Оно вошло в Зуева утром, когда
по пути на работу вспомнил увиденную
недавно в журнале «Техника —
молодежи» схему. С той минуты, даже разго-
7, «Наш современник» № 1.
98
Лев Парфенов
Николай Петрович Зуев,
варивая или проверяя размеры детали, он
не переставал думать о странном
моторе — изобретении немецкого инженера
Венкеля. Мотор — эллипсообразный
цилиндр, внутри которого вдоль оси
вращался вал с трехкулачковым
эксцентриком, — был до такой степени прост, что
язык не поворачивался назвать его
двигателем внутреннего сгорания.
Думал о моторе Зуев по-своему. Он
видел этот мотор. И целиком. И в
разрезе по разным плоскостям. И
распавшимся на отдельные узлы. Каким хотел,
таким и видел...
Схема есть схема. В ней показан лишь
принцип работы. Детали, которые
превращают отвлеченный принцип в
конкретную, овеществленную реальность, не
показаны. Но Зуев додумал детали. Корпус,
вал, кулачки, подшипники, клапаны,
подвижная камера сгорания, система
смазки — все это он видел. Он видел даже
янтарную пленку масла на зубьях
шестерни, сцепленной с эксцентриком. А
потом мысль его заставила вал медленно
вращаться, заставила всасываться
горящую смесь в камеры сгорания. А потом
беззвучные взрывы в камере поочередно
подтолкнули кулачки, вал ускорил
вращение, зачастили синие выхлопы, и вот
уже кулачки слились в сплошное
туманное кольцо, и в бешеном темпе замигали
вспышки...
Если бы Зуева спросили, почему его за-
нимает двигатель Венкеля, он не сумел
бы ясно ответить. Конечно, его интересует
ТАЛАНТ
99
всякое простое и остроумное устройство.
Но Зуев понимал: в данном случае
интерес его к случайно увиденной схеме
вовсе не отвлеченный. Принцип двигателя
содержал в себе возможность... Зуев пока
не мог ее определить словом, но интуиция
подсказала, что такая возможность есть:
создать нечто новое и прекрасное. Это и
порождало беспокойство.
...Прозвучал сигнал об окончании
смены, Зуев быстро сложил в выдвижной
ящик верстака инструменты и поспешил
в раздевалку. Хотелось поскорее
очутиться дома, сесть с карандашом в руке над
чистым листом бумаги. Он знал: только
таким способом возможно освободиться от
беспокойства.
Когда Зуев вошел в автобус, мысли его
снова вернулись к двигателю. Он вдруг
испугался, что забыл нечто важное. Ведь
в цехе, когда прозвучал сигнал о конце
смены, ему мнилось, что он вот-вот
определит причину своего беспокойства и
поймет, из-за чего ломает голову над этим
проклятым мотором. А мотор хороший. И
шуму от него, верно, меньше, чем вот
сейчас от автобусного. Главное же —
простота. Странно, почему семьдесят лет назад,
создавая двигатель внутреннего сгорания,
инженеры вставляли между
вращающимся валом и вращающей силой — взрывом
горючей смеси — лишнее звено:
кривошипный механизм. Видно, сильна была
инерция устройства паровой машины. Три
четверти века понадобилось, чтобы
преодолеть ее. Отбросить кривошип...
Вернуться ж естественной, природной простоте.
Именно естественной... Ведь если человеку
надо повернуть бревно по продольной оси,
он обхватывает бревно ладонями и
поворачивает. Ему и в голову не приходит
приспособить для поворота бревна громоздкий
кривошипный механизм... Почему же,
когда надо создать машину, человек как бы
начисто забывает те простые и выгодные
способы работы, которым обучила его
заботливая природа? Простота, простота...
Хотя в натуре двигатель, пожалуй, не
так уж и прост. Движущаяся камера
сгорания, подача смеси, по-видимому,
сложнейший расчет разности давлений на
кулачки. Прост только принцип...
Компрессор!
Ну конечно, компрессор! Наконец-то он
выудил то, что скрывалось в схеме.
Компрессор, мощность которого при меньших
размерах в два-три раза превысит
мощность существующих. Никаких овалов и
эксцентриков. Простота. Почти
неправдоподобная простота-
Зуев нетерпеливо взглянул в окно.
Показалось, что автобус тащится еле-еле.
Руки вздрагивали от желания взять
карандаш и листок бумаги...
...У опытного завода Всесоюзного проект-
но-технологического института
Министерства строительного и дорожного
машиностроения только название велико, сам же
завод — малютка, хотя и выпускает
уникальные станки. Штатных работников —
около пятисот. Слесаря Зуева знают все.
Спросите любого, кто такой Николай
Петрович Зуев, ответят: бригадир слесарей
инструментально-приборного участка,
член партбюро, рационализатор.
Так оно, в сущности, и было —
рационализатор. Но в то же время и не так.
Рационализацию кое-кто считает чем-
то вроде увлечения в свободное от
основной работы время. Для Зуева то, что
обозначается словом «рационализация», было
главным делом жизни. В живописи,
когда-то увлекавшей его, он был лишь
копиистом, и понимал это; в технике же
сознавал себя художником. Художник —
это объясняло в Зуеве многое.
Еще учеником пятого класса сельской
школы он построил действующую модель
паровой машины. Машина приводила в
движение самопрялку. На глазах
изумленных школьников, его товарищей, из
кудели вытягивалась льняная нитка и
наматывалась на бобину. А машина как ни в
чем не бывало попыхивала паром, и
спицы маховичка сливались в кумачовый
диск. Машину возили в Гжатск на
выставку.
Отец, человек довольно начитанный,
один из организаторов
сельскохозяйственной коммуны в своей деревне, похвалил:
«Соображаешь». Беспредметность этого
слова применительно к данному случаю
способен оценить только инженер. Что
значит «соображаешь», когда надо просто
знать. Знать формулы теплотехники, по
которым можно было бы рассчитать
мощность котла, достаточную для питания
цилиндра данного объема. Знать азы
механики, чтобы привести в необходимое
соответствие движение поршня и золотника.
Наконец надо быть неплохим слесарем,
обладать определенными навыками и
сноровкой.
Пятиклассник Коля Зуев не знал ни
слесарного дела, ни формул
теплотехники. Единственное, в чем он к тому времени
преуспел, — пастушье ремесло. Все лето
общественное стадо находилось на его
попечении.
Конечно, кое-что он читал. Отец его не
терял надежды со временем приобрести
для коммуны мотор, а пока
довольствовался тем, что получал по почте
красочные проспекты паровых мельниц,
локомобилей, тракторов и прочих чудес
сельскохозяйственной техники. Проспектов в
доме было много, хоть пруд пруди, а
пастушье занятие оставляло Коле достаточно
времени, чтобы знакомиться с ними
обстоятельно и подробно. Кроме того, в его
распоряжении имелся учебник физики.
И все же построить паровую машину,
руководствуясь лишь общими
сведениями, — такое под силу не каждому.
— У тебя, Николай, талант, — сказал
школьный учитель.
100
Лев Парфенов
Учитель был ближе к истине, чем отец
Коли.
Выпади Зуеву возможность учиться
дальше, получить техническое
образование, — наверное, еще в юности он осознал
бы свое призвание. Но семья жила
трудно, на семь человек один добытчик ~-
отец. Николаю как старшему из братьев
пришлось ехать в Москву на заработки.
Сознание собственной талантливости
окрыляет человека, ускоряет творческое
возмужание личности. Никакие трудности
и препятствия в той области деятельности,
к которой приложен талант, уже не
кажутся его обладателю слишком большими
или непреодолимыми. И если процесс
творчества сопровождается минутами
неуверенности или разочарования, то это
всего лишь одно из проявлений таланта,—
ведь он ведет нехожеными тропами и
потому чужд самоуспокоенности.
Зуев нашел себя, когда ему шел пятый
десяток.
С окончанием войны штамповочно-ме-
ханическая артель, на месте которой
потом возник опытный завод, полностью
переключилась на мирсную продукцию.
Выпускали керосиновые лампы, вилки, ножи,
зам«и для дамских сумочек.
В 1953 году в артели сложилось
тяжелое положение, своего рода
экономический «кризис» в миниатюре. Продукция
не находила сбыта. Говоря коммерческим
языком, товарный вид ее и качество
перестали удовлетворять запросы потребителя.
Агент по снабжению и сбыту вовремя не
подумал о том, чтобы изучить их,
председатель артели вовремя не поставил
перед Союзом производственных
коопераций вопрос о переходе на новую
продукцию. В результате в один прекрасный день
рабочие не получили зарплату.
Председатель артели был освобожден
от должности; на его место избрали
слесаря Зуева.
Новый председатель прежде всего
сменил агента по снабжению и сбыту.
Поставил на эту должность человека
пробивного, «собаку съевшего» в кооперативно-
торговых делах.
Недели две спустя склад готовой
продукции опустел. Рабочим начали
выдавать зарплату в положенные сроки. А
через два-три месяца в банке на счету
артели появилась прибыль.
Зуев понимал, что все это лишь
полумеры. Надо выпускать другую
продукцию, причем такую, спрос на которую
повышался бы из года в год. Он добился
для артели заказа на молочные фляги и,
главное, на оконные задвижки.
Жилищное строительство расширялось из года в
год. Оконные задвижки сулили артели и
прибыль, и стабильность, о которых
раньше не приходилось и помышлять.
Ну вот, казалось бы, чем не карьера?
Зуев, дельный организатор
производства, и в этом нашел себя.
Действительно, пока шла борьба с
кризисным состоянием, пока осваивалась
новая продукция, пока требовались от
председателя артели деловая смекалка,
твердость, напряжение воли, пока Зуев был
как бы уполномоченным своих
товарищей рабочих, которые ждут от него
быстрых перемен к лучшему, он чувствовал
себя на месте.
Но когда схлынула организационная
горячка и работа вошла в нормальную
колею, Зуев почувствовал
неудовлетворенность. Его тянуло к машинам, к
производству. И вскоре мысли его получили
необходимую пищу.
Артель изготовляла полторы-две
тысячи оконных задвижек в смену. Это
была капля в сравнении со спросом. Рост
производства сдерживался устаревшим
оборудованием. Самым узким местом
была резка заготовок и проточка головки
оконной задвижки. То и другое делалось
на револьверном станке, который лет
пятнадцать назад, еще до войны, Зуев
соорудил из найденного на складе
отслужившего свой срок фрезерного.
Понаблюдав за работой револьверного
станка, Зуев понял, что необходим
высокопроизводительный автомат. А если по-
настоящему, то несколько автоматов —
целая автоматическая линия.
Кое-кто, возможно, улыбнется: ради
оконной задвижки громоздить
автоматическую линию? Не смешно ли? Но
сложность и совершенство обрабатывающей
техники диктуются вовсе не сложностью
изготовляемой продукции. Вопрос
техники обработки — это вопрос времени,
потребного на создание изделия.
Самые сложнейшие машины состоят из
более или менее простых деталей.
Поэтому в смысле технологии будет вполне
правомерно палец поршня — деталь
сложного двигателя внутреннего сгорания —
приравнять к головке элементарной
оконной задвижки. И огромный завод,
который хочет с наименьшими затратами
выпустить, скажем, сто автомобилей в
смену, непременно должен иметь
автоматическую линию для обработки пальца
поршня, и маленькой артели не обойтись без
подобной же линии, если вместо двух
тысяч потребуется выпускать десять тысяч
оконных задвижек.
Итак, автоматическая линия... И
первый шаг — автоматический станок для
рубки и обточки головки. Для инженера-
конструктора такая задача не
представлялась бы непомерно трудной. Не потому,
что давно существуют разработанные
принципы станков-автоматов, типовые
узлы и приспособления. Принципы и узлы
известны были и Зуеву, он читал
специальную литературу, да и практический
опыт немало значил. Но расчеты,
расчеты...
Каким, собственно, должен быть
станок в натуральном виде? Неизвестно. Все
зависело от размеров отдельных деталей.
А их размеры от чего? От нагрузки? От
ТАЛАНТ
101
усилия на ноже, рубящем прут. Оно же
диктовало и мощность двигателя.
Как определить величину этого усилия,
Зуев не знал. Слышал, что преподают в
технических вузах такой предмет —
сопротивление материалов. По всему
видать, предмет серьезный. Недаром
студенты шутят: кто одолел сопромат, тому
жениться можно. А Зуев сопромата не
одолевал. И потому уперся теперь лбом
в стенку. Тем более что в расчете
нуждались десятки деталей.
В артели был свой главный инженер.
Мог бы Зуев обратиться к нему. Ведь
станок-автомат — дело не личное. И все же
обращаться к инженеру Зуев не хотел.
Характер, что ли, такой гордый? А может,
и не в гордости дело. А в той простой
истине, что творчество всегда глубоко
индивидуально. Если оно действительно
творчество.
Работая урывками, прихватывая ночи,
за три месяца Зуев сделал чертежи.
Черчение он усвоил давно, ведь с чертежами
ему приходилось иметь дело ежедневно.
Сначала в натуральную величину
вычертил каждый узел в отдельности, добился
сопряжения размеров деталей. Затем на
большом листе ватмана соединил узлы
воедино на массивной сварной станине.
Кое-что пришлось переделать, кое-где
заново увязать размеры. Наконец он увидел
станок на бумаге: общий вид в масштабе
один к двум, с разрезами и сечениями,
показывающими узлы, не видимые
снаружи. Сделать деталировку, то-есть
чертежи отдельных деталей, уже не
составляло большого труда. Конечно, с точки
зрения строгого ценителя чертежи
выглядели неказисто и кое-чего в них
недоставало. Например, не были указаны
марки сталей. Но ведь изготовлять детали
придется из подручных материалов, и,
стало быть, специально назначать
марки — занятие бессмысленное.
Вначале Зуеву казалось, что чертежи —
половина дела. Будут чертежи — все
остальное пойдет как по маслу.
Но вот чертежи готовы. Что дальше?
Включить в план внедрения новой
техники, выписать наряды и запустить
детали в производство? А где гарантия, что
станок будет работать? Теоретического
обоснования нет. Возможно, его детище и
права-то не имеет на существование...
Конечно, чертежи можно показать
главному инженеру, начальникам це-
хов — рассчитают, поправят, ежели что
не так. Другие будут делать, не он, не
Зуев ■— вот что обидно. Он видел объемно
любую деталь своего станка, он ощущал
на ладони ее тяжесть, ее твердые грани...
Руки его требовали настоящей работы. Он
заранее предвкушал наслаждение,
которое даст ему эта работа, — воплощение
собственной мысли в металл. Конечно, не
один он будет делать станок, но все
детали должны пройти через его руки. Уж
он схалтурить не даст. Уж он добьется
такого качества, чтобы звенело.
Но что можно сделать путного, сидя
в кабинете? Только душой изболеешься.
А бегать проверять да указывать — на
это ему времени не отпущено.
Однажды в кабинет к Зуеву зашел его
приятель, слесарь Миронов. Не утерпел
Зуев, рассказал о станке и выложил на
стол чертежи.
Долго сидел Миронов, уткнувшись
лобастой головой в листы ватмана. А когда
поднял глаза, заметил в них Зуев
удивление и вроде бы недоверчивость.
— Ну, Николай Петрович, ты голо-
ва-а, — в растяжку проговорил Миронов.
И вдруг оживленно: — А знаешь, будет
работать станок. Ей-богу, будет! Чую!
— Чую, чую... Что толку? Делать надо.
А кто будет делать?
— Как это кто? Ты и будешь делать,
а я помогу. Наплюй ты на свое
председательство, да переходи в цех, вот что я
тебе скажу. — Испытующе щурясь,
подался к Зуеву через стол: — Или уж
совсем прирос к этому креслу?
— Да я хоть завтра! — с горячностью
воскликнул Зуев. — Пойми, не от меня
зависит. Попробуй-ка, заикнись...
— А ты пробовал?
«Аи верно, чего я кисну в
председателях? — размышлял Зуев, шагая вечером
домой. — Зарплата? В слесарях при моем
седьмом разряде я куда больше
заработаю. Завтра же иду к начальству. Пусть
сажают другого».
Через неделю он вошел в цех слесарем
и занял за верстаком свое место, которое
покинул два года назад. Ни малейшего
сожаления об оставленной руководящей
должности не было в его душе. Дали ему
делать штамп, и первая же выточенная
деталь принесла удовлетворение, какого,
пожалуй, он не испытывал за все время
своего председательства.
После смены Зуев с Мироновым
разложили чертежи, обсудили, какую деталь на
каком станке можно изготовить, какие из
имеющихся сталей использовать.
— Ну что ж, дело на мази, — сказал
под конец Миронов. — Завтра неси
чертежи к главному да попроси рассчитать
самые нагруженные детали. Кулису, нож,
вал...
Наутро Зуев так и сделал. Несколько
дней ждал результатов. Беспокойство
тщательно скрывал, но от этого оно не
становилось меньше.
Наконец главный инженер пригласил
его к себе. Поздравил. Станок разработан
неплохо. Грамотная кинематическая
схема, продуманная технология. Будем
делать.
— Детали рассчитаны в основном
верно, — добавил инженер. — Правда,
Николай Петрович, вы немного ошиблись в
102
Лев Парфенов
диаметре вала. Миллиметра на два надо
увеличить. Ведь вал-то работает
одновременно на скручивание и на изгиб.
Кулису я тоже чуть-чуть усилил бы. И
шестерни. Все-таки переменная нагрузка,
удар. Я в чертежах поправил. А так все
нормально...
Зуев только кивал в ответ. Во рту
пересохло, и язык плохо слушался. Что еще
говорил инженер, Зуев запамятовал.
Помнил только ощущение потрясенности.
«Значит, могу, могу, — думал он. —
Значит, есть во мне что-то».
Это «что-то» он даже мысленно не смел
определить громким словом «талант». Но
теперь он знал, что паровую машину в
детстве, и все остальное, как и
станок-автомат, он сделал не случайно. Не слепой
удаче он обязан, а сплаву опыта,
наблюдательности, обостренной интуиции и еще
чему-то. Особому чувству металла, что
ли... Или чувству меры?.. Или...
Попробовал бы он сказать инженеру, что
диаметр вала, сечения рычагов, ширина
шестерни определены на глаз, — тот не
поверил бы. Пришлось бы объяснять вещи,
которые Зуев и сам только-только начал
открывать для себя.
А открывался ему некий всеобщий
закон гармонии.
Любое сущее на земле — будь то
сосновая доска, космическая ракета,
кибернетическая машина или сам царь природы —
человек — для того, чтобы в свободном
состоянии сохранить устойчивое
равновесие, должно иметь по крайней мере три
точки опоры, причем центр тяжести
обязан находиться примерно на равном
расстоянии от каждой из них. Три точки —
нижний предел, за ним равновесия нет.
Живым существам мудрая природа дала
резерв — четыре и более точек опоры.
Гордый своей «двуногостью», человек
опирается на целых шесть точек — по три на
каждой ступне. Гармонично, симметрично,
потому целесообразно — гласит закон.
Положения этого закона человек давно
научился использовать. На помощь ему
приходит наука, точные расчеты.
Формулы, уравнения, коэффициенты
подтверждают, в сущности, тот же закон
гармонии.
И можно понять потрясение,
испытанное Зуевым после того, как стало ясно,
что расчеты инженера не расходятся с его
прикидками. И не в одном-дв*ух случаях,
а в целом. Зуев понял: он обладает даром
чувствовать гармонию механизма.
Станок-автомат сделали и пустили.
Работал на нем Миронов. Шесть лет без
ремонта. Зуев спроектировал еще два
автомата. Получилась целая автоматическая
линия. Выпуск оконных задвижек артель
довела до десяти тысяч штук в
смену.
И странно: чем большую уверенность
давал Зуеву его талант, тем больше
привлекала наука, именуемая
сопротивлением материалов, ее формулы и точные
расчеты. Сначала самостоятельно, потом
с помощью младшего сына Николая —
учащегося техникума — постиг он многие
премудрости теории. Подкрепленный
знаниями, во всеоружии формул,
позволяющих в любой момент проверить
реальность замысла, Зуев, говоря техническим
языком, почувствовал большой запас
прочности. Но всякий раз его охватывало
волнение, беспокойство, когда встречался
с чем-то новым, незнакомым. Вот и
сейчас, с этим двигателем Венкеля...
Итак, не эллипсоид, а цилиндр, не
треугольник с внутреннезубой шестеренкой, а
два кулачка на валу.
Зуев вывел на бумаге большую
окружность, внутри изобразил окружность
поменьше, нарастил на ней два кулачка.
Теперь клапаны. Тут и тут. Вал вращает
кулачки, те сжимают воздух, клапаны,
пружина которых рассчитана на
требуемое давление, открываются, а две новые
порции воздуха под нормальным
атмосферным давлением уже заполнили
вакуум камер... Просто. На диво просто.
Вот только герметичность... Как добиться
герметичности камеры? Сальники,
конечно.
...Из техникума вернулся сын
Николай. Тихонько напевая, из-за спины отпа
заглянул в разложенные на столе
бумаги.
— Что это?
Зуев неожиданно ощутил робость,
захотелось втянуть голову в плечи. Хотя из
Николая экзаменатор и не очень
требовательный и не ахти какой знающий, но
все же четыре курса техникума кое-что
значат.
— Это компрессор. Вот смотри...
Зуев сжато объяснил принцип работы.
Не дослушав до конца, сын ринулся в
спор. Какой смысл в этом изобретении?
При той же мощности двигателя новый
компрессор в единицу времени способен
дать воздуха ничуть не больше, чем
старый. Не увеличится и давление. Ведь все
дело в мощности двигателя и
соответственно — в объеме камер компрессора, а
вовсе не в его конструкции.
Обобщив все это, Николай, гордый своей
технической эрудицией, отодвинул от
себя листы.
— Спать, наверное, хочешь? — без
всякой связи с предыдущим спросил
Зуев.
— Да нет, не очень.
— А коли не очень, посиди и подумай.
Зуев подвинул листы обратно и вместо
только что выброшенного окурка вставил
в мундштук новую сигарету.
Критических замечаний, именно тех,
которые он ожидал услышать, Николай
не сделал. «Экое верхоглядство», — думал
Зуев, попыхивая дымом и наблюдая, как
сын сосредоточенно хмурит сросшиеся
над переносицей брови.
ТАЛАНТ
103
— Разобрался? — спросил Зуев.
Румянец на щеках сына проступил
ярче.
— Что-то, папа, не улавливаю.
— Ну, ясно, в техникуме этого не
проходили, а голова — ведь она для
прически. Обороты.
— Что обороты?
Зуев объяснил: за счет отсутствия в
компрессоре кривошипного механизма, а
также за счет равномерного
распределения нагрузки можно увеличить обороты
двигателя.
— Так это что же получается? —
Николай встал и прошелся туда-сюда по
кухне. — У нас на заводе шесть
компрессоров, а если вдвое увеличить обороты,
можно обойтись тремя твоими? Пап, ты
же сделал открытие! Можешь взять
патент!
Зуев вздохнул — вот и поговори с ним.
То никуда не годится, то — патент...
— Шел бы ты спать, «патент».
— Знаешь, пап, — не сдавался
Николай, — давай я эту штуку Юре Астахову
покажу?
Юра Астахов — конструктор из
технического отдела. Он помог Зуеву
спроектировать пневмогидросъемник, первые
детали которого уже изготовлялись.
—Дело, — согласился Зуев.
И опять возник в сердце холодок
тревоги. На сей раз идее предстояло
выдержать экзамен посерьезней.
В понедельник Зуев ехал вместе с
сыном на завод. Город еще был окутан
ночной темью. Зуев, за полночь
просидевший вчера над компрессором, дремал в
кресле.
Когда вышли на остановке, начинало
светать. Николай задержался с
приятелями-сокурсниками по техникуму. Зуев
не стал его дожидаться.
За три последних года завод изменился
и внешне. Раньше постороннему человеку
и в голову не могло прийти, что в
приземистых, закопченных, похожих на
сараи строениях помещается предприятие с
громким названием «Опытный завод».
Теперь издалека была видна
шестнадцатиэтажная застекленная башня головного
института. С одной стороны к башне
примыкал новый механический корпус, за
ним — двухэтажное кирпичное здание:
наверху заводоуправление, внизу —
сборочный цех. К этому зданию приткнулся
цех скобяных изделий. Этот цех, пока не
был построен еще один новый корпус,
поместили во времянке — к сборочному
пристроили три стены под односкатной
крышей. Хотя скобяной цех по сравнению с
другими выглядел пасынком, в экономике
завода он играл важную роль. Как
предприятие опытное, завод не был переведен
на новую систему планирования и
экономического стимулирования. Но благодаря
производству скобяных изделий он не
только не был нахлебником у государства,
но давал доход.
Главнейшая проблема скобянки (так
попросту именовали цех) — увеличение
выпуска продукции при снижении ее
себестоимости. Продукция — все те же
оконные задвижки, для которых Зуев
некогда создал свой первый автоматический
станок. Но теперь этих задвижек
требовалось не десять тысяч штук в смену, как
во времена артели, а в два с лишним раза
больше. Именно поэтому, хотя Зуев
работал в другом цехе, производство скобяных
изделий стало для него первостепенным
делом. Здесь, как нигде, требовалось
приложение его рационализаторского
таланта. Недавно в цехе поставили
станок-автомат для сверловки, сделанный Зуевым еще
год назад. Дает станок тысячу деталей в
смену. Но не только в количестве
деталей дело.
В скобянке работали женщины. Раньше
работница делала за семь часов до сорока
тысяч движений. К концу смены у нее
руки отнимались. Три года назад Зуев
вместе с мастером Литваком
модернизировал станок для снятия фаски оконной
задвижки. На новом станке количество
движений сократилось вдвое, и
производительность увеличилась на тридцать
процентов.
И сейчас, неторопливо шагая к заводу,
Зуев думал о назревших проблемах.
Странное дело — именно такие
головоломные размышления, поиски создавали
ему душевное равновесие, хорошее
настроение.
Перед самой проходной Зуева нагнал
Николай.
— Пап, а клапан-то надо охлаждать,
ведь ролик у него будет здорово
нагреваться.
Зуев не сразу понял, о чем идет речь, и
недоуменно посмотрел на сына.
— Какой клапан?
— Компрессора.
Радостно ворохнулось сердце. Значит,
все это время сын не забывал о
компрессоре. Заинтересовался. Отлично. Может
быть, и для Николая техника станет не
только профессией, но и увлечением,
делом жизни. Иначе жизнь потеряет в его
глазах лучшие, ярчайшие краски. А
мысль дельная. Действительно, ролик
клапана будет нагреваться, и необходимо
предусмотреть систему охлаждения.
Легонько подтолкнул Николая в спину,
пропуская в проходную.
— Насчет клапана ты прав. Да не
забудь про Астахова. Растолкуй ему все как
следует...
Каждый раз, когда Зуев входил утром
в цех, в душе его утверждалась веселая
бодрость. Наверное, она возникала как
рефлекс на запах металлической окалины
и нагретого машинного масла. За сорок
лет Зуев сроднился с этим запахом.
Поднялся на второй этаж, не заходя к
себе на участок, свернул к
станочникам — узнать, выточен ли большой
цилиндр пневмогидросъемника. Цилиндр
Лев Парфенов
был готов. Пока Зуев осматривал его,
проверял штангенциркулем размеры,
оглаживал ладонью поверхности,
молоденький токарь с ироническим прищуром
наблюдал за его манипуляциями. «Ищи,
ищи, ко мне не придерешься», —
читалось на его скуластом лице. Не утерпев,
положил перед Зуевым захватанный лист
ватмана.
— Не сомневайтесь, Николай
Петрович, все точно по чертежу.
Зуев не взглянул на чертеж, он сам его
делал и знал наизусть. Токарь потоптался
на месте, уверенность его уступила место
беспокойству. Зуев достал пачку сигарет,
предложил закурить. Парень понял, что
его работой остались довольны, небрежно
вытянул сигарету, и лицо его опять
приняло неприступное выражение.
В обеденный перерыв Зуев зашел в
партбюро. Собственно, секретарь партбюро
Анатолий Павлович Поляков жил с
Зуевым в одном доме, этажом выше, и любой
вопрос они могли бы обсудить за чашкой
чая. Но щепетильность Зуева
распространялась столь далеко, что деловые
разговоры он предпочитал вести в деловой,
официальной обстановке. К тому же Зуев не
без основания полагал, что только в этом
случае высказанное официальным лицом
«да» или «нет» имело должные силу и
вес.
Подвижный, голубоглазый, средних
лет, со светлыми, начавшими редеть
волосами, Поляков внимательно выслушал
соображения Зуева о будущем
компрессоре, о выгодах, какие он сулит.
Улыбнулся.
— Заманчивую перспективу ты
нарисовал, Петрович. Об этом многие думают.
— Да что же все думать, делать надо.
— Я полностью «за».
— Ты вот все «за», а вопрос насчет
группы по внедрению новой техники до
сей поры — ни тпру ни ну, — не
удержался от укора Зуев.
Создать специальную бригаду —
человек десять, — которая занималась бы
разработкой и внедрением в производство
новых высокопроизводительных
приспособлений и станков, было давнишней мечтой
Зуева. Пока что все это делалось
кустарно, силами отдельных энтузиастов. И
главное — медленно. Сверлильный автомат,
например, уже отлаженный, готовый к
работе, год стоял на складе, прежде чем его
установили в цехе скобяных изделий.
— Опять ты свое, Петрович, — с
некоторой досадой сказал Поляков. — Ведь
знаешь, что у завода сейчас нет на это
средств, нет людей. Ну, уйдешь ты в
группу по новой технике, кого на твое место?
А план выполнять надо. Идея хорошая,
никто не против...
Зуев едко усмехнулся в усы.
— Прямо как в сказке: никто не
против, а дело стоит на месте. Колдовство.
— Да ты пойми.„
— Да что понимать? Ты кадрами
занимаешься, вот и ломай голову. А
средства? Я, что ли, поеду к министру о
средствах хлопотать? У меня полномочий нет,
да и своих дел хватает. Это забота
директора. Пусть похлопочет. Ты парторг —
подскажи.
— Все директор знает.
Поляков шумно вздохнул и крепко
потер лоб. Да, не легко разговаривать с
Зуевым. Ему не докажешь, что у
директора и без того работы сверх головы, что,
наконец, не может он стучать кулаком по
министерским столам.
— Ладно, Петрович, давай договоримся
так: занимайся спокойно компрессором.
Ни директор, ни главный — я уверен —
не будут против. А с группой придется
подождать.
— И на том спасибо.
— Ну вот, опять недоволен. — Поляков
рассмеялся.
— Доволен, всем доволен. Одно
скажу — проворства вам надо побольше.
— Кому — «вам»?
— Вам, начальству.
В коридоре заводоуправления Зуев
столкнулся с конструктором Юрой
Астаховым. Это был рослый, как большинство
его сверстников, парень, серьезный и
задумчивый. Поздоровались. И опять Зуев
весь сжался от ожидания: что-то скажет о
компрессоре Астахов.
— Смотрел ваши наброски, Николай
Петрович. Идея, по-моему, стоящая.
Нужно кое-что посчитать, конструкцию
продумать. А там чертежи... Точно не знаю,
но, думаю, подобных компрессоров нет,
попробуйте взять патент...
У Зуева отлегло от сердца — еще один
экзамен позади.
— Ладно, патент — это успеется, —
сказал он. — Раз считаешь, идея
стоящая, надо строить действующую модель.
Будет работать, тогда и за патентом дело
не станет. — И после короткой паузы
повторил, как бы утверждая принятое
решение: — Да, действующую модель.
Примерно полгода назад к Зуеву на
завод явился корреспондент газеты.
Белобрысый, румяный парнишка, высокий и
тонкий, он чем-то напоминал сына
Николая. Вопросы его поначалу показались
наивными. С газетчиками Зуеву случалось
беседовать и раньше, но те были люди
многоопытные, деловые, интересовались
процентами выполнения плана, темпами
внедрения новой техники... Этот же
спрашивал, интересно ли Зуеву работать за
верстаком и почему интересно, сильно ли
он устает после трудового дня, много ли и
что именно читает... Постепенно Зуев
разобрался: дело вовсе не в наивности.
Парнишка пытался вникнуть в скрытые
глубинные процессы производства, взглянуть
на заводскую жизнь как бы глазами ра-
ТАЛАНТ
105
бочего. Не наивен был корреспондент, а
любознателен.
— Вот мы часто говорим и пишем, что
трудящиеся — хозяева страны, хозяева
производства. Это так и есть, если
говорить об обществе в целом, — рассуждал,
будто думал вслух, корреспондент. — Но
если взять отдельного, конкретного
трудящегося. Например, вас — Зуева
Николая Петровича. Испытываете вы это
чувство хозяина? И если да, то в чем оно
проявляется? Конкретно здесь, в рамках
цеха, завода?
Зуев на вопрос не ответил и пригласил
корреспондента пройтись по заводу.
Показал пресс, установленный недавно в
механическом цехе. На прессе правили
дорогостоящие крупные заготовки, которые
раньше шли в брак. Потом показал
автомат для рубки заготовок оконных
задвижек, связанный с протяжным станком.
Привел в скобянку к модернизированным
станкам и прессам, к сверлильному
автомату. Все это придумал и создал Зуев
и его товарищи. Они столько вложили в
завод труда, мысли, таланта, что ни один
капиталист, обладатель контрольного
пакета акций, не мог бы сравниться с ними
в интенсивности и силе чувства хозяина,
а главное — в праве называться
хозяином. Никаких подобных слов Зуев,
конечно, не говорил, но дотошный
корреспондент и так все понял.
Напоследок он сказал:
— Вот вы, Николай Петрович, в
сущности талантливый конструктор, а
работаете слесарем, потому что не получили
образования. Сожалеете об этом?
— Конечно.
— Допустим такой фантастический
случай: вдруг вы становитесь инженером.
Что бы вы попросили у администрации
для вашей работы? Какую должность,
условия?
Подумал, подумал Зуев и ответил:
— Верстак с тисками, инструменты.
— Как? Вам, инженеру, верстак? И это
все?
Зуев улыбнулся непонятно.
— Почему все? Еще бумагу с
карандашом.
И, притушив взгляд, начал спичкой
выковыривать из мундштука догоревший до
основания окурок, чтобы вставить новую
сигарету.
г. Химки.
106
ТОВАРИЩ РАБОЧИЙ КЛАСС
Товарищ
НАШ
СОВРЕМЕННИК
Рабочий
класс
НАШ
СОВРЕМЕННИК
ФОТОРЕПОРТАЖ
ТОВАРИЩ РАБОЧИЙ КЛАСС
107
МШ
СОВРЕМЕННИК
НАШ
СОВРЕМЕННИК
♦ Горький. За организацию массового движения молодежи Горьковского
автомобильного завода «Ни одного отстающего рядом!», получившего широкое
распространение среди комсомольцев и молодежи страны, группе рабочих предприятия присуж*
дена премия Ленинского комсомола 1969—1970 годов.
На снимке вверху слева: лучший электросварщик завода, ударник
коммунистического труда, студент-заочник 2-го курса Горьковского политехнического института,
лауреат премии Ленинского комсомола Лев Волков.
♦ Трудящиеся Ленинграда соревнуются за достойную встречу XXIV съезда КПСС.
Коллектив завода «Русский дизель» досрочно завершил выполнение пятилетнего плана.
За последние годы здесь освоен выпуск нескольких двигателей мощностью от 3,5 до
6 тысяч лошадиных сил. Два из них получили знак качества. Производительность труда
за пятилетие возросла на 35 процентов вместо намеченных 23,9 процента.
На снимке внизу слева: один из передовиков предприятия, ударник
коммунистического труда Д. М. Леонов, выполнивший с начала пятилетки более десяти годовых
норм.
ф Коми АССР. Когда говорят о рабочей гвардии Вуктыла, в числе первых
неизменно называют имя бурильщика Василия Баландина из Вуктыльской нефтеразведочной
экспедиции № 1. Его трудовая биография неотделима от коллектива, успехи которого
отмечены Ленинской юбилейной почетной грамотой.
Бурильщик Василий Баландин трудится в бригаде мастера Анатолия Малеванова.
Этот коллектив в числе первых начал бурение на Вуктыле мощных эксплуатационных
скважин с суточным дебитом 2—2,5 миллиона кубометров газа.
На снимке вверху: бурильщик, депутат Верховного Совета СССР Василий Андреевич
Баландин.
Фото В. Бойтенко, С. Губского, П. Федотова.
(Фотохроника ТАСС).
ЕЛЕНА ЧАЙКОВСКАЯ,
ЛЮДМИЛА ДОБРОВА
ВЕРШИНА
ПИРАМИДЫ
ГЛАВА ИЗ КНИГИ
«В РАМКАХ КАТКА»
Фото М. Боташова.
«В рамках катка»—назвали свою книгу
о фигурном катании заслуженный
тренер СССР Елена Чайковская и
журналистка Людмила Доброва. Построенная
на диалогах, книга эта полемична по
своей сути, ибо и у единомышленников
возникают разные точки зрения, когда
речь идет о вечно молодом и бурно
развивающемся в нашей стране виде спорта.
Споря и дополняя друг друга, авторы
рассказывают о том, что видно с трибуны
неискушенному зрителю, и о том, что
скрыто от него: о долгих днях
напряженных тренировок, о поиске, который
ведут не только сами фигуристы, но и
те, кто помогает им, — тренеры,
композиторы, балетмейстеры... Разумеется,
авторы уводят читателя далеко от рамок
катка, повествуя о возникновении
фигурного катания, его истории, говоря о
проблематике, психологии, и — снова
возвращают его на сверкающий лед, где
в единении двух прекрасных начал —
спорта и искусства — рождается синтез,
пленяющий всех красотой отточенных
движений, гармонично сливающихся с
музыкой.
О фигурном катании написано мало, а
интерес к нему растет с каждым днем.
Поэтому редакция не случайно обратила
внимание на книгу «В рамках катка»,
которая будет выпущена в свет
издательством «Советская Россия».
В январе, феврале и марте
поклонников фигурного катания ждут
интереснейшие соревнования — чемпионаты
Советского Союза, Европы и мира. И как не
вспомнить сейчас о тех людях, которые
подняли наше фигурное катание на
самый высокий пьедестал, — о двукратных
чемпионах Олимпийских игр Людмиле
Белоусовой и Олеге Протопопове. Мягким
и лиричным исполнением наитруднейших
элементов фигурного катания Людмила и
Олег покорили миллионы зрителей. Они
дали любимому виду спорта свой стиль
с его неисчерпаемой фантазией, где
движение в точности соответствует
музыкальной фразе, доносит до каждого и полно
раскрывает душу музыки. Они были и
остаются настоящими спортсменами:
решительными в достижении победы,
стойкими при неудачах, верными избранной
дороге, своему стилю, своей дружбе.
Дружба — одна из основ их победного
длительного пути по ледяным стадионам,
пример для многих и многих молодых
фигуристов. Людмила и Олег стоят на
вершине мировой пирамиды фигурного
катания. С этой вершины отчетливо
видны и достижения наших фигуристов, и
их неудачи, видны перспективы на
будущее. Нам думается, что глава, в которой
рассказывается о Людмиле Белоусовой и
Олеге Протопопове, не оставит читателя
равнодушным.
Владимир СОЛОМАТИН,
Георгий СТЕПАНИДИН,
спортивные обозреватели журнала
«Наш современник».
ВЕРШИНА ПИРАМИДЫ
109
/у О то был великолепный трюк мудрого
•^художника фигурного катания Олега
Протопопова. В свои 36 лет этот человек
повторил с женой Людмилой Белоусовой
победу, одержанную в Инсбруке. Впервые
за многие годы пара чемпионов в до от*
каза переполненном Дворце спорта была
всех превосходящим и бесспорным
победителем. Белоусова и Протопопов
повторили дубль в олимпийском парном катании,
что ранее удавалось только французской
паре Брюне в 1928 и 1932 годах.
Людмила Белоусова и Олег Протопопов
убедили всех скептиков. Они
продемонстрировали пять минут такого совершенного
фигурного катания, какого у них еще никогда не
видели».
Так писала одна из зарубежных газет о
триумфе нашей пары в Гренобле.
Мы прекрасно помним минуты
наивысшего торжества наших олимпийских
чемпионов. Мы были в Гренобле, старались не
пропустить ни одного их движения на
льду, долго разговаривали с ними сразу
же после финиша, когда Людмила и Олег
устроили маленькую импровизированную
пресс-конференцию только для своих.
tAy\ видели их и в минуты горестные,
тяжкие, когда и говорить им не хотелось. И
всегда они оставались самими собой, не
изменяя ни на секунду тому, что сделало
их самыми знаменитыми фигуристами за
все последние годы.
Действительно, как только зайдет
разговор о фигурном катании, вспоминают о
них. Даже фамилий не называют. Только —
«Людмила и Олег». «Как себя чувствуют
Людмила и Олег?», «Что собираются
делать Людмила и Олег?» И после поражения
спрашивают так же, как и после самых
великолепных побед. И, думается, даже после
того, как уйдут со «сцены», будут
спрашивать: «Ну, как там Людмила и Олег? Что
новенького придумали?». Конечно, тогда
уже — для своих учеников, для тех, кто
продолжит их спортивную жизнь.
Сегодня же Белоусова и Протопопов, как
прежде, остаются в спортивном строю.
Они ведут жизнь почти незаметную,
усиленно тренируясь на местном катке. Там —
почти в полном одиночестве — создают
они новые программы, придумывают
новые элементы. Верным их другом на
тренировках является видеомагнитофон. У
его экрана по вечерам, в свободное
время, десятки раз просматривают они все,
что сделано. Есть у них и два небольших
кинофильма о победах на Олимпиадах в
Инсбруке и Гренобле. Белоусова и
Протопопов охотно показывают эти фильмы. И
тогда вместе с ними можно вернуться на
несколько минут к тому счастливому мигу
победы.
Они время от времени останавливают
видеомагнитофон. Изображение застывает
на какой-то позе. Слегка протягивая рукой
пленку, можно «растянуть» на экране
движение и увидеть все его составные части.
И только одно нельзя расчленить: минуты
воспоминаний о тех счастливых днях.
Мы не станем сегодня возвращаться к
спортивной биографии Белоусовой и
Протопопова. Об этом они написали в своей
книге «Золотые коньки с бриллиантами»,
которая скоро выйдет в свет. Но, вероят-
по
Елена Чайковская, Людмила Доброва
по, три-четыре дополнительных штриха все-
таки помогут сделать картину еще более
полной.
Е. ЧАЙКОВСКАЯ:
— Я хорошо помню зиму 1957 года:
сама еще выступала на первенстве страны,
стала чемпионкой. Тогда я и подумать не
могла, что совсем необкатанная пара
фигуристов, казавшаяся нам такой ужасно
взрослой,— Людмила Белоусова и Олег
Протопопов,— через семь лет станет
лидером мирового фигурного катания и своей
неисчерпаемой фантазией заставит
удивляться и поражаться весь спортивный мир.
Возвращаясь к тем временам, я еще и
еще раз думаю, какая же сила воли, какой
характер нужен был, чтобы без надежды
продолжать надеяться, И не только
надеяться, но и поддерживать в себе огонь
поиска, не давая ему угаснуть ни на
мгновение. Этот характер остался при них и
по сей день. Да и нужно ли меняться
характеру?
Недавно, просмотрев программу одной
из пар, которую я тренирую, Олег сказал,
что ее конструкцию надо срочно менять,
что она ему не очень нравится. Я была
убеждена в своей правоте, в том, что
программа для этих фигуристов составлена
верно. Я тут же сказала об этом Олегу,
решительно добавив, что ничего менять не буду.
Протопопов посмотрел на меня
внимательно, заулыбался и сказал:
— И правильно сделаешь!..
Человек, одержимый фигурным
катанием, Протопопов уважает и других, которые,
так же как и он, полностью посвятили себя
этому виду спорта, тоже стали фанатиками
своего дела. Убежденность, верность
своему стилю вызывают в нем ответный
благожелательный отклик, даже если в чужом
стиле не все ему нравится.
...Но вот сезон 1969 года. Ленинград,
Гармиш-Патенкирхен, Колорадо-Спрингс...
Чемпионаты страны, Европы, мира. Три
выступления — три поражения. Полное
отступление по всем фронтам?
Как бы не так!
белоусова и Протопопов стараются
понять, что же произошло с ними. Их
склонность к углубленному самоанализу всегда
поражала меня, хотя в этих исследованиях
не все мне нравится. Лучше, если вместе
со спортсменами такой тщательный анализ
проводит тренер. И такой тренер в
течение четырех лет у Людмилы и Олега был —
Игорь Москвин. Но сезон-69 они
проводили без него. Сезон-69 они проводили
вообще без тренера.
Выводы, которые сделали Людмила и
Олег?
Вот они, изложенные ими самими.
«Грипп вцепился в Людмилу, словно
клещ, и не отпускал до конца сезона. И это
сыграло, на наш взгляд, решающую роль.
Для того чтобы успешно продолжать
соревнования, Людмиле необходимо было
окончательно поправиться, но интервалы
между выступлениями были настолько
короткими, что такой возможности не
представлялось. Нагрузки должны были
возрастать от соревнования к соревнованию, а
состояние Людмилы требовало обратного.
Мы понимали, что идем на большой риск,
но что нам оставалось делать?..
Мы еще неоднократно будем
возвращаться к тому, что не стиль наш оказался
устаревшим или несовременным, а наши
конкуренты на данном этапе были
тактически лучше подготовлены...»
Это, конечно, глубоко субъективные
выводы (и не со всем здесь я полностью
согласна), но разве все, что делали в своей
спортивной практике Белоусова и
Протопопов, не было глубоко субъективным и
разве именно это не делало все их
творчество на льду неповторимым?
Можно спорить с Людмилой и Олегом.
Даже надо спорить! Но нельзя же не
понимать главного качества их характера.
В беспрерывном самоутверждении
черпают они новые и новые силы, и остается
лишь удивляться, откуда они их берут!
После Колорадо-Спрингс Белоусова и
Протопопов отказались от
продолжительного— и очень интересного — турне
сильнейших фигуристов мира по США, Канаде,
ФРГ, ГДР. Я видела, как их буквально
преследовали организаторы турне, уговаривая
выступать. Но Людмила и Олег были
непреклонны: «Нам надо домой. 1Лы должны
отдохнуть, прийти в себя и готовиться к
новым сражениям. Поле боя мы не
покинем!».
В апреле приехали в Уфу, где
разыгрывался Кубок СССР. Они победили, и,
может быть, эта победа, как никакая
другая, была для них радостна. Хотя и не
было в это время главных соперников,
оттеснивших их на третье место. Хотя эту
победу видели всего несколько тысяч
зрителей, а поражения—благодаря
телевидению— миллионы. Людмила и Олег
радовались тому, что они вновь смогли прокатать
произвольную программу в полную силу,
без единого сбоя, без малейшей помарки.
Как в самом лучшем сезоне. Как будто и
не было тяжких испытаний, выпавших на их
долю совсем недавно.
И снова я слышала от них: «Это не наш
стиль оказался устаревшим...».
И снова думала при этом: вот люди,
которые признают и понимают только свой
стиль. И ничего другого им не надо. И ни
на что иное они не согласны. Даже если бы
эти перемены сулили им золотые горы.
Даже если, изменив стиль, они остались бы
на верхней площадке европейской,
мировой пирамиды, каждый камушек в
которую — от самого основания и до
вершины —они уложили сами.
Конечно, в этой невероятной, никогда
ранее не виданной мною преданности
своему стилю — главная творческая и
спортивная сила Людмилы Белоусовой и Олега
Протопопова!
ВЕРШИНА ПИРАМИДЫ
111
Они живут рядом с нами. Они создают
свои программы, они борются за их
осуществление. А мы иногда забываем о них.
В сутолоке буден никак не можем
вспомнить, что с нами рядом по-прежнему, а
может быть, еще сильнее, чем раньше,
рвутся в бой чемпионы, создавшие эпоху
в фигурном катании.
Не все их любят,
Что тут поделаешь...
Может быть, не всем нравится их
независимость, уверенность, даже некоторая
отрешенность. «Что-то очень высоко
вознеслись наши олимпийские чемпионы.
Возгордились. А ведь все мы по одной земле
ходим!» Они и не слышат этих разговоров.
Звуки столь «низкой частоты» им
недоступны.
Но я могу заверить всех: Людмила и
Олег — одни из самых простых, самых
милых, самых заботливых, а иногда и самых
одиноких людей.
Они бесконечно рады, когда к ним,
туда, где они тренируются, приезжают
знакомые. Они перечитывают каждое письмо,
которое к ним приходит. Писем много,
такой почты не имел ни один чемпион. И
они помнят строки из писем. Каждый их
поклонник становится для них славным
другом. И если продолжают они борьбу, то в
этом есть заслуга десятков, сотен тысяч
людей, которым дорого все, что
показывают на ледяной сцене их Людмила и Олег.
Я не раз убеждалась, какой это тонкий
и вместе с тем прочный, какой чуткий и
одновременно закаленный организм. Я
объединяю их в один организм, потому что
они не просто спортивная пара, не просто
одна семья, а нечто значительно большее...
О силе характера олимпийских
чемпионов, о его монолитности можно
рассказывать очень долго. Но, может быть, лучше
вспомнить одну историю, описанную мною
несколько лет назад, сразу после
мирового чемпионата в Вене.
«...Низкие облака летели над Веной. Они
мчались, то растягиваясь в длинные серые
и фиолетовые полосы, то группируясь в
тяжелые угрожающие копны. Так было
каждый вечер. Четыре дня подряд. И все
время фигуристы с тоской и надеждой
смотрели в небо, и все-таки каждый раз,
выходя на лед открытого катка, забывали
о непогоде и старались сделать все, что
только могли.
В эти дни венские газеты обошел снимок
Людмилы Белоусовой и Олега
Протопопова. На снимке было видно, как хлещут по
льду дождевые струи. Видно, как ветер
гонит воду, тонким слоем покрывающую лед.
Каток пустынен, ушли на какую-то свою
непредвиденную «летучку» судьи. И только
двое фигуристов, наши прославленные
чемпионы, стоят на льду, прикрываясь от
дождя зонтиком, брошенным им кем-то с
трибун.
Им пришлось не легко. Все фигуристы
уже выступили. Они были последними, и
тут — нк тебе!—непредвиденная задержка.
Остановка, когда ты уже настроился на
выступление и все мышцы, собранные
воедино, готовы резонировать на музыку...
Такое могло бы выбить из колеи каждого.
Но Людмила и Олег улыбались. Репортеры
спешили снять редкий кадр. А чемпионы
потихоньку скользили под зонтиком в
углу катка.
Наконец судьи снова заняли свои места.
Можно начинать. Зонтик возвращен
зрителям. Лица подставлены шквальному
ветру и дождю. Белоусова и Протопопов не
замечают ни проливного дождя, ни ветра,
то подгоняющего, то старающегося
остановить их.
Удивительные характеры у Белоусовой и
Протопопова! Трудная обстановка
заставляет их собраться, сжаться до предела. Все
уязвимые места — прикрыты. Все оружие
приведено в боевую готовность.
Осмеливаюсь употребить эти военные термины
применительно к фигурному катанию только
для того, чтобы подчеркнуть, что и здесь
борьбу ведут с не меньшим, чем в любом
другом виде спорта, напряжением сил, и
красивый антураж не может его снизить.
С невероятной скоростью пересекают
Людмила и Олег ледяное поле. Им
нужно беспрерывно подчеркивать эту скорость,
чтобы одолеть ветер. Вода бурлит вокруг
коньков. Значит, прыжки должны быть еще
более высокими, а приземление — точным.
Чемпионские костюмы намокли. Ткань
загрубела. Но движения спортсменов все
так же красивы и грациозны. Все так же
синхронны и слитны. Пара — одно целое.
И разбушевавшаяся непогода только
лишний раз подчеркивала, насколько она
едина.
Говорят, что два хороших одиночника —
это еще не обязательно хорошая пара. Так
оно и есть. И всегда было. И всегда будет.
Для того, чтобы пара стала настоящей
парой, помимо многого другого, надо пройти
вместе большой и не всегда гладкий путь.
Людмила Белоусова и Олег Протопопов
его прошли...»
Да, путь, пройденный ими, долог.
Нынешнему поколению фигуристов сам
рассказ о том, как начинали кататься вместе
Людмила и Олег, покажется и смешным, и
наивным. И даже те годы — начало
пятидесятых — покажутся далекими, чуть ли не
бабушкиными. И все-таки то, что
создавалось тогда на открытых морозных катках,
без помощи тренеров, без всякой
дополнительной аппаратуры, без точных
технических сведений о том, что делают наши
зарубежные конкуренты, то, что сегодня
выглядит героической спортивной
романтикой, дало свои замечательные
результаты.
Поколение за поколением уходило из
фигурного катания.
А они оставались.
Все дни их были подчинены суровому
режиму. Все дни их зависели, да что я
говорю,— по сей день зависят от расписания
тренировок.
112
Елена Чайковская, Людмила Доброва
Цель была одна.
Она не менялась все это время. Просто
становилась видной более четко, выпукло.
Цель росла по мере их приближения к ней.
И многие детали уже начинали
просматриваться. Но одновременно становилось
понятно, что огромное целое охватить
труднее и труднее.
Поднявшись на вершину, они поняли, что
это только одна из бесконечного ряда
вершин. Они попробовали отдохнуть — хоть
немножко — перед дальним путем, конца
которого они не видели. Их можно было
понять: имеют ведь право чемпионы на
маленькую передышку, чтобы осмотреться
и отдышаться.
И именно в этот миг их обошли.
Вероятнее всего, что сами чемпионы,
расслабившись или по какой-нибудь
другой причине, прозевали рывок из-за
спины молодых конкурентов.
Не хочу сейчас исследовать
закономерности этого поражения. Хочу только еще
раз подчеркнуть огромность творческих
замыслов Людмилы и Олега. Осуществят
ли они их сами или этим будут заниматься
следующие поколения фигуристов? Время
покажет.
А теперь о том, были ли ошибки на этом
длинном пути.
Конечно. Людмила и Олег знают их
сами. Это были ошибки поисков, как,
например, с программой 1963-го или 1967
годов. Но что любопытно: после таких
ошибок они приходили к самым лучшим своим
программам, к олимпийским! <
Нигде так глубоко не раскрывался
характер чемпионов, как в их «Грезах
любви» или в «Размышлении». До них
фигурное катание вообще не знало специальных
постановок для показательных выступлений.
Они и здесь открыли новую эру, вслед за
ними пошли десятки молодых спортсменов,
и не только в парном катании: вспомните
лирические этюды Пегги Флеминг! Для
всего этого требовались новые формы. И
вдохновение Людмилы и Олега рождало
новые и новые технические элементы,
детали, штрихи, изменившие все наше
представление об изобразительных
возможностях фигурного катания.
Поэт говорил о неслыханной простоте
великих художников. И эта простота
пришла к Белоусовой и Протопопову. Одна из
их концертных программ вообще состояла
из четырех элементов. И тем не менее
она была логически законченным номером.
На чемпионате страны 1969 года в
Ленинграде Людмила и Олег показали своим
землякам — и посвятили им — композицию
из четырех тодесов. К этому надо добавить,
что три из четырех они изобрели сами!
Я позволю себе здесь сказать, что все
достоинства Людмилы Белоусовой и
Олега Протопопова, их удивительная
спортивная долговечность могут обернуться для
них трагедией. Создав свой стиль, показав
новым поколениям фигуристов путь к
поискам, они, кажется, уже «застыли» в нем.
И все-таки они остаются ему верны. И
безусловно правы в этом.
Люди вдохновения, они всегда были и
настоящими бойцами. Тонко чувствуя отклик
зала на то, что они показывают, они
всегда были этим сильны. Но в этом была и их
слабость, уязвимость. Уходило вдохновение,
уходили дополнительные силы, уходил тот
внутренний восторг, который и делал
программу настоящим произведением искусства.
Но, вероятно, я чересчур много
употребляю характеристик в прошлом времени:
ведь Белоусова и Протопопов продолжают
бороться, и, как множество других людей,
искренне любящих их, я жду новых
открытий, новых озарений, которыми так щедро
одаривают они нас.
Л. ДОБРОВА:
Мне трудно что-либо добавить к этому.
Но все же...
Для начала я предложу одно из своих
интервью с Людмилой и Олегом. Вообще
надо сказать, что интервью они дают не
слишком охотно: к высказываниям
чемпионов всегда прислушиваются особенно
внимательно, и им не хочется, чтобы какое-
нибудь слово или мысль, преподнесенные
читателям в искаженном виде, вызвали
затем совершенно нежелательный отклик.
Такое случалось с ними ранее, и нынче на
интервью соглашаются они с трудом.
После того как интервью уже было
готово, я еще раз могла убедиться,
насколько серьезно относятся Белоусова и
Протопопов к каждому печатному слову,
связанному с их именами,
Они перечитывали написанное по
нескольку раз. С карандашом в руках они
вчитывались в каждую строчку, в каждое
слово. Спорили. Правили. Старались
добиться предельной точности и ясности
мыслей.
Все это тут же напоминало мне их
тренировки.
И сверхпридирчивость к каждому жесту,
к каждому движению, переносимая на все,
что они делают и вне катка. Я там хотела
написать: «Жизнь вне катка», а затем,
подумав, что настоящая жизнь у них только
на катке, дала этой беседе с чемпионами
другой заголовок. Было это в канун
Олимпиады в Гренобле.
Между прочим, знаете ли вы, что звание
чемпиона Олимпийских игр никогда не
приобретает приставку «экс», как это
всегда происходит с чемпионами других
крупнейших первенств, скажем, мировых или
европейских. Проходят годы. Новые и
новые Олимпиады собирают сильнейших
спортсменов планеты. Новые чемпионы
покоряют воображение любителей спорта.
Но к их именам прибавляют только даты,
а еще вернее — указывают годы, когда они
опережали всех. Сейчас Людмилу Белоусо-
ву и Олега Протопопова называют просто
олимпийскими чемпионами. Они остаются
образцом. И не только спортивной техники.
Образцом мужественности,
жизнестойкости, верности своему стилю, своему спор-
ВЕРШИНА ПИРАМИДЫ
113
тивному долгу, своей спортивной совести.
И за это мы уважаем и ценим их еще
больше.
Когда-нибудь нам станут яснее все —
даже самые дальние, самые тайные —
расчеты чемпионов. И тогда будет легче
изучать и понимать то новое, что
принесли они вместе с собой в далеко не такой
уж простой и радостный, как это может
показаться на первый взгляд, мир
фигурного катания. А пока...
А вот что говорил Олег:
— Спортивная пара — это не два
одиночника, сведенных вместе волею судьбы.
Будущие олимпийцы должны запомнить это
прежде всего, В связи с этим хотелось бы
вспомнить весьма любопытный случай. Как-
то на одной из тренировок я один прокатал
всю нашу произвольную программу.
Иногда приходится делать так, потому что
тренировки не прекращаются даже тогда,
когда кто-нибудь из нас нездоров. Так вот,
пять минут я проделывал все элементы
произвольной программы, а когда
остановился, чтобы перевести дух, Игорь
Москвин, наш бывший тренер, подошел ко мне
и сказал: «Я поражен, Олег! Но со
стороны совсем не смотрится это твое
«одиночное» катание!» — Я и сам всегда это
ощущал.
Спортивная пара — это
прежде всего ансамбль. Вот, например, в
Первом концерте Чайковского, в котором и
пианист, и оркестр исполняют каждый свою
партию, вместе с тем они — одно целое.
Людмила при этих словах поглядывает на
Олега влюбленным взглядом, в котором
можно различить целую гамму чувств, и
улыбается чуть заметно, ласково.
— Я рассказываю об этом вот почему.
Недавно я видел, как выполняли свои
произвольные комбинации несколько молодых
пар. Держались они весьма уверенно.
Впрочем, это было понятно, ведь ранее они
были неплохими одиночниками. Комбинации
были скоростными. Увлечение
скоростными комбинациями у молодых тоже ясно,
поскольку при энергичной и очень быстрой
музыке и соответственном катании менее
заметными становятся «помарки» в стиле,
неточности в технике. Но не в этом, в
конце концов, дело. Если бы каждый из этих
фигуристов — я даже представил себе это
совершенно отчетливо—попробовал
выполнить программу в одиночку,— у него это
получилось бы неплохо. Во всяком случае,
его программа выглядела бы приемлемой
при выступлении в одиночном катании. В
этих парах партнерши слишком многим
жертвовали для того, чтобы сравняться с
партнерами, и прежде всего
женственностью.
Говоря это, я думаю о том, что дело не
только в подборе партнеров, ибо, само
собой разумеется, без правильного
подбора вообще не может быть пары как
таковой. Мы с Людмилой включаем в понятие
«ансамбль» и создание программы,
рассчитанной именно на паркое катание.
8. «Наш современник» М> 1.
Людмила и Олег давно уже пришли к
абсолютно четкому пониманию творческих
задач спортивных пар. И они неизменно
следовали ему. Придумывали, изобретали
самые разнообразные технические новинки,
которые придавали их стилю еще большую
выразительность, делали еще более
доступными для зрителей их лирические
программы.
Но ведь чемпионы, как мы уже
говорили,— образец во всем. И, в частности, в
умении вести самую сложную, длительную
борьбу с чрезвычайно сильными
соперниками. И даже тогда, когда победа только
чуть-чуть виднеется на горизонте и никому,
кроме них самих, еще не видна.
— Иногда возвращаемся мы к тем
далеким временам, когда только-только вышли
вместе на лед и еще толком-то не знали,
что будем делать, какой будет наша пара.
Мы имели перед собой готовые образцы.
Можно было поступить просто и начать
копировать тогдашних лидеров. Тем более, что
сделать это не так уж сложно, в
особенности имея в руках кинокамеру и запас
пленки.
Но нам этого не хотелось, Мы оба
любили балет, увлекались классической
музыкой. И иногда мы как бы видели на льду
балетные дуэты, стремительно несущиеся
на коньках. И ставили себя на их место,
впрочем, тут же понимая, что невозможно
перенести «чистый балет» на ледяную
сцену, да и не нужно.
Наши поиски новых решений шли многие
годы. Практически мы работали сами, не
ожидая подсказок тренеров. Многие не
понимали и не поддерживали этих поисков.
Им казалось, что поиск слишком
затянулся. Но мы не хотели спешить. По крупицам
обретали мы превосходство. И поэтому
молодым фигуристам, вступающим в спорт,
советуем: не торопитесь. В спешке можно
и сорваться.
Мы долго оставались в тени. Испытание
временем закалило нас и создало запас
прочности на многие годы. Мы и теперь
любим тень и не любим посторонних на
наших тренировках. Это не каприз. В
жарких спорах, в сотнях повторов, дублей
ищем мы наши решения. И пока не
найдется единственно верного, не выносим поиск
на суд публики. Но даже тогда, когда
программа готова, когда она
продемонстрирована, работа не прекращается, шлифовка
и подгонка деталей может идти до
бесконечности. ,г
Меня всегда поражает в Людмиле и
Олеге их остро нацеленная
принципиальность. Они просто физически не могут
хотя бы на йоту поступиться своими
принципами, своими взглядами. Эта убежденность,
очевидно, помогает им всегда сохранять
присутствие духа в трудной обстановке.
Эта убежденность помогает им — и это
несомненно— быть выше мелочных обид,
даже если они и способны, в принципе,
ранить достаточно глубоко.
114
Елена Чайковская, Людмила Доброва
В связи с этим мне вспоминается один
наш разговор в Гренобле, за день до их
старта. Состоялся он после тренировки на
открытом катке в чудесном парке
Мистраль. Где-то вдалеке на шоссе слышалось
шипение шин, но в парке было тихо. И
небо было ясное. И все вокруг сверкало
свежими красками. На трибунах сидели люди
в ярких костюмах: нейлоновые куртки всех
цветов радуги. Это туристы, которых всегда
так много собирает Олимпиада.
Вход на тренировочный каток — платный.
Цены на билеты достаточно высокие. И
все-таки зрителей на тренировках всегда
много: ну кому же не хочется посмотреть
на чемпионов, настоящих и будущих, в
обычной обстановке.
Впрочем, зрители такого рода насчет
обстановки ошибаются: на тренировках перед
соревнованиями она всегда особенная,
хотя это и чувствуют только очень опытные
специалисты. Все вроде бы как всегда, но
только особенно придирчив взгляд судей,
пришедших посмотреть на тех, чье
мастерство они будут судить. Тренеры соперников
изучают конкурентов. Сами спортсмены
посматривают краешком глаза: как там
дела у других, что показывают, чем блещут,
что новенького придумали. Словом,
обстановка с подтекстом.
На одной из таких тренировок побывала
известная кинозвезда Одри Хэпберн. Ей
очень хотелось увидеть именно Людмилу и
Олега. В интервью, которое было взято у
нее журналистами, Хэпберн сказала, что
она в восторге от мастерства Людмилы и
Олега и что давно хотела познакомиться
с ними. В конце концов это знакомство
состоялось. Белоусова и Протопопов
показали актрисе множество отрывков из
своих программ. Хэпберн была потрясена.
Но это детали попутные. Для
характеристики обстановки. Для того, чтобы
лучше понять ее.
А теперь вернемся к разговору с
Людмилой и Олегом. Они отлично выглядели
во время небольшой тренировки уже
после выполнения обязательной программы,
когда они стали лидерами. Все им в тот
день удавалось. Все получалось. И
элементы выглядели идеально, и небольшие
отрывки из произвольной программы
исполняли они отлично. Словом, можно было
быть довольными.
Но нет. После тренировки Белоусова и
Протопопов молчаливы и нахмурены.
Расспросы, естественно, выглядят
неуместными. Но и без них Олега, наконец, прорвало.
И он рассказал сб одной истории, носящей
закулисный характер, но тем не менее
обидной и некрасивой. Оказывается, в этот
день пришел к Белоусовой и Протопопову
один уважаемый знаток фигурного катания
и, как говорится, открытым текстом
сообщил, что, если они откажутся перед
завершающим стартом от выступлений в
будущем, если объявят о своем немедленном
уходе после Олимтеизды, судьи тут же
единогласно отдадут мм пальму первенства*
Если же не сделают такого заявления,
пусть пеняют на себя...
— Конечно, ответ на такое предложение
мог быть только один,— сказал тогда
Олег.— Не за тех нас приняли некоторые
господа, если, конечно, все это не
выдумка или какая-нибудь провокация. Мы —
советские спортсмены! Мы любим и
уважаем честную и открытую борьбу. Мы
будем выступать до тех пор, пока сможем
бороться. И дело тут не в выигрыше или
проигрыше. Дело в том, что мы
показываем людям, что мы им несем!..
Не помню всего, что говорили тогда
Людмила и Олег. Кажется, далее речь шла
о том, что вообще такого рода разговоры
идут от дельцов из профессиональных
балетов на льду, которые давно уже не
получают для своих ревю спортивных пар
высокого класса. Советские пары не
пускают на высшие ступеньки пьедесталов
почета своих зарубежных соперников, а
«недипломированные» пары в западные
ревю не нужны. Вот и идет закулисная
возня.
Обо всем этом Людмила и Олег
говорили с горечью, чувствовалось, что эта
тема наболевшая, что им даже сам
разговор о таких вещах неприятен, да что
поделаешь, если и в таком красивом виде
спорта, как фигурное катание, есть это...
Для того чтобы лучше понять
спортсменов, надо их и любить, и уважать.
Если к человеку относишься равнодушно,
если все, что он показывает на спортивной
арене, оставляет тебя холодным, трудно и
написать обо всем этом горячо, так,
чтобы читатели поняли не только
внешний сюжет событий, но и его содержание.
Я люблю Белоусову и Протопопова. И
это — надолго. И никакие поражения,
проигрыши ничего не изменят. Хотя, конечно,
то, как они сами относятся к поражениям,
меня интересует. И как журналиста, и как
человека.
Как же все-таки относятся они к своим
поражениям?
Вот что говорят об этом сами фигуристы:
Людмила:
— Мы станем злыми, если проиграем,
еще больше будем работать... Спорт есть
спорт, и мы постараемся взять реванш.
Олег:
— Если проиграем, значит, я плохо
поработал, значит, я не сильнейший. Нам-то не
занимать этого чувства — горечи
поражений. Мы не забыли ту долгую пору, когда
были вечно вторыми. А если бы мы это
забыли, то, наверное, уже не катались бы
и уж, во всяком случае, не
прогрессировали...
И вот, проиграв в 1969 году, они снова
стали усиленно тренироваться. Снова
самый аскетический образ жизни,
затворничество и подвижничество. Снова
отрешенность и самоуглубленность. Снова
поиски того, что способно придать им новые
силы. И при всем при этом, в первую
очередь — забота не столько о самих себе,
сколько о стиле, созданном • тяжкмх муках.
ВЕРШИНА ПИРАМИДЫ
115
о стиле, перевернувшем наше
представление о фигурном катании.
Разве можно не любить, не уважать, не
преклоняться перед ними после всего
этого!
Не знаю, сколько еще будут кататься,
выступать на соревнованиях Людмила и
Олег. В конце концов, они сами хозяева
своей спортивной судьбы. И хочется
только, чтобы их всегда сопровождали те
творческие озарения, свидетелями
которых были мы многие годы.
И в заключение надо подчеркнуть еще
одну черту характера двукратных
чемпионов: в борьбе они всегда были
настоящими джентльменами. Победив, они никогда
не унижали побежденных, первыми
протягивали им руки, чтобы поздравить с
окончанием поединка. После двух подряд
поражений на чемпионатах Европы и мира,
когда чемпионами стали Ирина Роднина и
Алексей Уланов, когда на призовые
места поднялись Тамара Москвина и
Алексей Мишин, Людмила и Олег
подчеркивали во всех интервью, публичных
высказываниях, что, наконец, сбылась их мечта:
весь пьедестал почета на европейских и
мировых чемпионатах занимают советские
пары! И отступали на задний план личные
огорчения, переживания, хотя, может,
никто так сильно не переживал свои неудачи,
как Белоусова и Протопопов.
В связи с этим я как журналист не
могу пройти мимо одного интервью,
данного новыми чемпионами мира. В нем
есть множество интересных деталей,
приоткрывающих завесу, которую обычно
опускают тренеры перед своими
учениками накануне их выступлений, в
особенности, если речь идет о подготовке к
каким-нибудь крупным соревнованиям. В
нем есть и некоторые теоретические
утверждения. В нем есть и ответы на вопросы,
связанные с Людмилой Белоусовой и
Олегом Протопоповым.
«Алексей: Давайте подумаем, почему
эти выдающиеся фигуристы вдруг сдали
свои долго казавшиеся всем неприступные
позиции в спорте? Да потому, что
Белоусова и Протопопов исключили из своей
композиции ряд сложных элементов, довели до
минимума число поддержек...
Ирина: Есть у них такой пассаж: на
протяжении 30 секунд Олег три раза
отводит и подводит к себе Милу, держа ее
за пальчики. Это у них получается
красиво, лирично. Лирикой насыщена большая
часть их программы. Слов нет, они
достигли неповторимого искусства выражения
своих чувств и содержания музыки. Но ведь
это свойственно прежде всего балету.
Алексей: А фигурное катание — это
не балет на льду, а спорт, причем спорт,
как я убежден, молодых. Ведь редко в
наше время встретишь в спортивной элите
фигуристов старше 25 лет...»
Познакомившись с этими
высказываниями, я хочу остановиться лишь на
нескольких деталях, связанных с сугубо
фактической стороной дела.
Во-первых, в 1969 году Людмила
Белоусова и Олег Протопопов выступили с
олимпийской программой образца 1968
года. Они практически не изменили ее
совсем, только ввели сложную поддержку на
одной руке. Словом, программа
показывалась та самая, которая принесла им
золотые олимпийские медали Гренобля. Надо ли
говорить далее, каким замечательным
произведением была эта программа, какой
восторг вызывала она у миллионов
зрителей. И если на этот раз программа «не
прошла», то это вовсе не потому, что она
была облегчена, что из нее были
выброшены сложные элементы...
Не собираясь спорить по поводу таких
терминов, как «пассаж», хочу все-таки
выяснить, а кто из спортивных специалистов и
когда утверждал, что фигурное катание не
спорт, а балет на льду? Где об этом было
написано, кому из тренеров или
спортсменов принадлежат эти слова? Думается, что
нынешние чемпионы мира в данном случае
ведут борьбу с ветряными мельницами, ибо
никто (если речь идет о специалистах
спорта), нигде и никогда не утверждал, в том
числе и двукратные олимпийские чемпионы,
что фигурное катание — это балет на льду.
Речь шла, правда, о том, что фигурное
катание не может в наше время быть просто
набором сложных трюков, выполняемых
под аккомпанемент классической или
эстрадной музыки, что фигурное катание
в наше время имеет полное право на
особую выразительность, что оно уже
способно и раскрывать душу музыки, ее
содержание...
И еще одна деталь, связанная с
возрастом спортсменов. В тридцать два года
Олег Протопопов стал впервые чемпионом
Олимпийских игр. И все любители
фигурного катания радовались этой победе. В
тридцать шесть лет Олег снова завоевал
олимпийское золото. И снова миллионы
людей искренне радовались этой победе.
Кстати сказать, и заслуженные мастера
спорта Тамара Москвина и Алексей Мишин
добились наивысшего успеха, перейдя за ту
критическую грань, которую указывает
Алексей Уланов.
Мы уже были свидетелями всяких
возрастных цензов, которые устанавливались
в разные времена в разных видах спорта,
и знаем о том вреде, который приносился
искусственным разрыванием связующей
нити, искусственным уничтожением цепи
традиций. Не говоря уже о сугубо
нравственных потерях, которые всегда
сопровождают акции такого рода, были огромные
потери и чисто спортивные. Уходили из
спорта люди, которые многому могли бы
научить молодежь, в том числе и
неослабевающему уважению к законам спорта, к его
нравственным требованиям.
т
МИХАИЛ
ЛАПШИН
«...Со взором
горящим»
СТРАНИЦЫ ИЗ ЖИЗНИ
ВАСИЛИЯ КУБАНЁВА
изнь, как и басня, измеряется не
длиной, а содержанием». Это
изречение приходит на память, когда
задумываешься о судьбе поэта Василия Кубанева.
Дни его жизни были трагически коротки, но
зато они оказались окрыленными огненным
вдохновением и радостью открытий,
неуемной жаждой действия и огромной любовью
к людям. Это была жизнь-горение.
Родился он в 1921 году в Курской
области. Окончив среднюю школу, стал работать
в острогожской районной газете «Новая
жизнь». В 1940 году учительствовал в селе
Губаревка. Потом вернулся в Острогожск, в
редакцию газеты. Во время войны пошел
добровольцем на фронт... В марте 1942 года
его проводили в последний путь.
В Острогожске, где прошла звонкая и
тревожная юность Кубанева, люди, как о
самом привычном, говорят: «У нас на Куба-
невской улице», «В парке имени Кубанева»,
«В музее Кубанева». В этих обычных для
острогожцев фразах всегда можно уловить
нотки нескрываемой гордости. Да, они
могут гордиться тем, что рядом с ними, по
улицам старинного русского городка,
давшего миру Крамского, Станкевича и многих
других замечательных соотечественников,
шагал своей стремительной походкой
неугомонный Вася Кубанев, сделавший своим
девизом слова: «Либо совсем не гореть, либо
гореть во всю силу!».
До обидного рано оборвалась жизнь
Кубанева. Он не успел сделать и малой доли
того, о чем думал, о чем мечтал и на что был
способен. «Мечтаю, — говорил он, —
научиться писать и подарить людям несколько
сердечных, простых и умных книг. Но для
этого надо так жадно жить, чтобы за одну
жизнь перечувствовать, пережить не менее
десяти жизней... Попробую сделать это лет
через пятнадцать-двадцать, когда я много
узнаю, увижу, передумаю, перечувствую,
переделаю».
Ему не было и десяти лет, когда он
начал писать стихи. Очень рано стал
печататься в районной газете, а перед войной ere
произведения появились в сборниках
местных поэтов и альманахе «Литературный
Воронеж».
Кубанева обуревала всепоглощающая
жажда знаний. «Я знаю, — писал он, — для
того, чтобы осуществить свои замыслы, я
должен всю жизнь учиться — у жизни, у
книг, у людей, у вещей, у себя, у мира, у
врагов своих, у жуков и ящериц, у ручьев,
у звезд, у солнца, — у всего всему
учиться». И он учился. Недосыпая ночей, изучал
литературу, историю, философию,
политэкономию, педагогику, математику, физику,
химию. В короткое время он овладел
французским и свободно читал в подлинниках
В. Гюго, О. Бальзака, Э. Золя и Р. Ролла-
на. Для своих друзей он составил «Список
ста лучших книг о Человеке», сам прочитав
перед этим тысячи.
Во время войны дом, где жил Кубанев,
был разрушен взрывом фашистской бомбы,
и находившиеся в нем рукописи
безвозвратно погибли.
«...СО ВЗОРОМ ГОРЯЩИМ»
117
*
■ ■
;A*f 1
1
■
Василий Кубанев.
Случилось так, что в послевоенные годы
имя Кубанева в литературе забыли, но
добрая память о талантливом юноше
продолжала жить в сердцах его земляков. Благодаря
стараниям друзей в 1955 году в Воронеже
вышла небольшая книжка стихотворений
Кубанева «Перед восходом». Позже
удалось найти еще некоторые произведения
писателя, составившие затем сборник «Идут в
наступление строки».
В последние годы удалось разыскать
новые рукописи Кубанева. Много интересного
рассказали о нем автору этих строк его
родственники, друзья, товарищи, знакомые.
«Во мне сидит какой-то книжный
дьявол, ,-— признавался он сестре, — я не могу
быть равнодушен при виде книг, и сколько
бы ни было у меня в этот момент денег в
кармане, все растрачу на книги... В мире —
тысячи книг, которые я должен знать. Если
в день прочитывать по одной книге, в год
всего прочитаешь триста шестьдесят пять.
1^ак это убийственно мало!»
Узнавание для Кубанева было не только
обогащением памяти ума — это был
процесс внутреннего роста, морального
совершенствования.
«Совершенство в совершенствовании» —
этот афоризм юный Вася повторял не раз.
«Неизвестно, — вспоминает сестра
Кубанева, — когда он учил уроки. А учился
отлично. Только иногда захватывающее его
увлечение или какая-нибудь затея приводили к
срыву. Однако он наверстывал упущенное
удивительно быстро и знал многие предметы
глубже своих одноклассников». Но главное,
что отличало его,— стремление к «преуболь-
шению хорошего» в себе и в окружающем.
«Я за преубольшение хорошего. Оно
больше, чем плохое, имеет право на это.
Только помня о лучшем, можно стать
лучше самому. Только жирным и ленивым
мещанам выгодно и приятно думать о плохом,
потому что, находя явления и существа
хуже себя, они этим самым уверяют себя в
своем совершенстве».
«Иногда после уроков или по вечерам, —
вспоминает школьный товарищ Кубанева
В. Попов, — мы бродили по Острогожску,
читая свои и чужие стихи, иногда
забирались в укромные уголки городского сада,
чтобы поделиться сокровенными мыслями.
В центре наших споров и рассуждений
всегда был вопрос о том, зачем и как должен
жить каждый. И лучше Василька вряд ли
кто мог выразить наши мысли:
«Надо, чтобы у человека была цель и
чтобы цель эта была связана с лучшими
чаяниями всего трудового народа, всего
честного люда... Надо, чтобы целью каждого
человека была борьба за установление
коммунизма, борьба за приближение начала
новой человеческой, воистину человеческой
истории».
«Мы очень мало думаем о будущем, о
коммунизме, — говорил он. — Для меня
коммунизм — это прежде всего чистота.
Чистота во всем. И главное — в человеческих
отношениях. Чистота, честность, ясность».
Его возмущало обывательское противопо*
ставление личной и общественной жизни.
«Почему-то считается смешным и чуть ли не
нелепым, когда люди начинают говорить о
коммунизме, как о личном. Всегда
чувствуется у слушателя хотя бы и скрытая
усмешечка: «Вот, дескать, малохольный! Нет
бы подумать о том, чтобы калоши купить, а
он черт-те что порет! Выхваляется!
Притворяется». Это отрыжка прошлого — такая
усмешечка. Для меня нет иной цели в
жизни, кроме как участие в приближении
коммунизма. Этой цели и подчинена будет
вся моя жизнь!»
«Странно слышать жалобы, —
возмущался он не раз, — на медленность
осуществления нашей цели. А кто из жалующихся
поставил перед собою вопрос: «Что я еде*
лал для других?»
Умение подчинять личное общему
помогало Василию правильно оценивать
трудности: «Многие (особенно молодежь), —
говорил он, — чувствуют себя сейчас несколько
растерянно и смущенно. Да и как же иначе?
Ведь говорят и пишут о прекрасной жизни,
о счастье и т. д. А счастья особенного как
будто бы и не видно. Трезвее смотрите на4
вещи, друзья! Счастливая жизнь создается
много-много десятков лет. Мы завоевали не
счастливую жизнь, а лишь возможность
строить ее. Чтобы построить что-то новое,
надо убрать остатки старого. На том месте,
где мы растим свою ниву, стоял огромный
дремучий лес — древний, с подгнившими,
но ветвистыми и цепкими корнями. Распа-
118
Михаил Лапшин
хивая пашню для посева, надо выкорчевать
пни и вырвать корни».
Кубаневу, разумеется, не были чужды ни
юношеские выходки, ни затеи. Он был
резкий и взрывчатый, неровный и ершистый. Но
все это не заслоняло в нем главного —
кристальной честности, необыкновенной
чуткости и доброты.
Хочется привести один случай из тысячи
других, характеризующих его
«коммунистическую солнечность», О нем Кубанев
рассказал сам,
«Сегодня, придя из школы, я увидел на
столе два письма... Одно из писем — от
острогожской портнихи, хорошей моей
знакомой. Это очень красивая,
двадцативосьмилетняя женщина, необразованная, но
очень умная и добрая. Она живет сейчас
одна, мужу ее три года назад отрезало
поездом ноги. Он прожил несколько лет и
скончался. Женщина эта (ее зовут
Катерина Васильевна, я звал ее Катюшей) очень
любила мужа. Он был замечательный
гармонист. Гармонь его, несмотря на
временную нужду, Катя не продала и хранит ее
до сих пор как память о нем... В
сегодняшнем письме Катя пишет, что работы у нее
сейчас мало, что недавно она ездила в
Москву и у нее в дороге украли чемодан, в
котором было на восемьсот рублей
мануфактуры, причем на шестьсот с чем-то —
купленной по поручению и только на сто
семьдесят — своей. Теперь к ней каждодневно
приходят люди, поручившие ей сделать
покупки, и требуют вернуть им деньги.
«Обидно не это, — пишет Катя, — а то, что они
мне не верят...». И вот она не знает, как
теперь быть и что делать. Есть один
выход — продать гармошку, но Катя...
пишет, что гармошку ни за что на свете не
продаст: «Лучше под забором ноги
протяну, а гармошку Васину сберегу до самой
смерти ».
Я написал сейчас же, после того как
прочел ее письмо, ответ — большой и горячий
и послал с вокзала спешным письмом.
Денег у меня сейчас только сто сорок рублей.
Я хотел послать ей тоже с вокзала, но
почему-то не приняли. Завтра пошлю по
телеграфу... С вокзала же дал телеграмму
Кате: «Милая Катюша, всей душой с тобою.
Сделаю все, что могу. Вася». Одновременно
с письмом ей — послал другое (тоже
спешное письмо) в редакцию «Будь готов» с
настойчивой просьбой: выслать двести рублей
(и как можно скорее) по Катиному адресу.
В «Будь готов» ко мне относятся хорошо и
эту просьбу мою (я прошу эти двести
рублей как аванс, который придется
отработать немедленно) выполнят... Завтра
побегу к Гребенникову и попрошу у него хоть
сто — сто пятьдесят рублей и пошлю Кате
дополнительно. Надо сделать все
возможное: ужаснее того положения, в котором она
теперь находится, я не могу представить,
зная ее характер...
Сегодня я побежал на почту и послал
телеграфом деньги Кате — сто сорок рублей.
Уроки я насилу отсидел и после уроков
пошел к Гребенникову, застал его и
рассказал ему, что мне дозарезу нужны сто
рублей. Он написал записку бухгалтеру, чтобы
тот распорядился выдать мне деньги. Но
бухгалтер ответил, что денег в кассе нет ни
копейки и будут не раньше тринадцатого
числа. Я похолодел от ужаса.
Оставался один выход, придуманный
вчера ночью. У меня хранился золотой браслет,
который мне подарила на память моя
крестная мать. Браслет этот бесконечно дорог
мне как память о детстве: он дорог мне
почти так же, как Кате дорога гармошка ее
мужа. О браслете этом не знал никто, кроме
меня и крестной. И я решил продать его.
Понес в ювелирный магазин, не имея
никакого представления о действительной
стоимости этого браслета. На вопрос: «Сколько
вы желаете получить за эту вещь?» я
ответил: «Триста». Заведующий с усмешкой
посмотрел на свою продавщицу, потом на
меня и сказал: «Сто пятьдесят». Я вырвал у
него браслет и, возмущенный, бросился к
выходу. Он закричал в испуге: «Куда вы?
Куда вы? Постойте! Какой горячий
молодой человек!».
Сейчас же, как только я получил деньги,
я помчался снова на почту и послал их
опять телеграфом. Получит ли она эти
деньги сегодня?..»
Таков был он, юный Вася Кубанев, —*
горячий, чуткий, благородный.
Талант Кубанева, его богатая
самобытная натура, его пылкий, боевой темперамент
наиболее ярко проявились в стихах. Они,
так же как и их автор, — упорные и
упрямые, ищущие и неровные. Но им нельзя не
верить, ибо в каждой строфе, в каждой
строчке — большая внутренняя правда.
Кубанев — человек определенных и
категорических суждений. Полутона, зыбкость,
аморфность формы, неясность и
нерешительность мысли ему не свойственны. Он враг
той фальшивой пустотелой «поэтичности»,
чья претензия на «новшество» всегда
отдает бутафорией.
Едва ли не самое дорогое нам в Кубане-
ве — это его острое чувство времени и
понимание «магистральных задач» эпохи:
Я мог бы воспеть
полыханье лет,
Которые нами пройдены,
Но надо,
чтоб жил и горел поэт
Сегодняшней
жизнью Родины,
В лучших стихах Кубанева выразился
многогранный характер нашего
современника, его любовь к Родине, его горячая
преданность партии, сыновняя любовь к
Ленину.
Трудолюбивый, требовательный к себе,
Василий Кубанев хорошо понимал, что
настоящий поэт — это первооткрыватель, что
на литературную дорогу проторенным
путем не выйдешь. Он неустанно и жадно
изучал жизнь, стремился писать «кровью
сердца и соком нервов» и, подобно В. Маяков-
*...С0 ВЗОРОМ ТОРЯЩИМ»
119
скому, изводил «тонны словесной руды
единого слова ради»;
О, эти поиски слов-кирпичей!
Идешь, как будто слоняясь без дела,
А сам копишь, как росу ручей,
Такие слова, чтобы в гуле речей
Гроза небес загудела.
Стихи поэта просты, но не упрощенны, —
они полны огня, света, вдохновения. В
каждом из них живет большое, искреннее
чувство. В них пробивается тот же голос и
проступает тот же характер, что и в письмах, и
дневниковых записях. Работа, любовь,
стихи — все стянуто у Кубанева в один узел,
все это слито с безудержным чувством
радости, с ощущением полноты и цельности
жизни, жизни «взахлеб».
Человек редкого упорства, Кубанев все
время был в поисках. Он не искал легких
дорог, не относился по-иждивенчески к
счастью.
«Когда я говорю о том, что счастье
человека в том, чтобы приносить счастье
другим, то ведь это вовсе не значит, что
человек должен всю жизнь совершать
жертвоприношения. Нет! Задача в том, чтобы
перестроить всего себя в таком порядке, при
котором осчастливливание других
становится личной и повседневной потребностью,
условием и содержанием собственного
счастья...»
Кубанев не хочет жить только для себя,
зная, что слово «счастье — не любит
единственного числа». «Личное счастье, ■—
пишет он, ■— немыслимо вне общественного
труда, вне общего блага, вне общего
счастья... И каждый будет только тогда
счастлив, когда будут счастливы все. И каждый
должен стремиться к тому, чтобы все были
счастливы, а не к своему личному
благополучию. Личное счастье как раз и состоит в
борьбе за счастье всех... Все, что есть у
меня и во мне, — все это ваше, мои друзья!
Черпайте из меня все, что сможете найти во
мне!»
Кубанев терпеть не мог пустозвонства,
разглагольствований, общих фраз. Он
постоянно следил за «густотой и крепостью
словесного настоя». Свои мысли выражал
кратко, афористичное
«Человек тем лучше, чем лучше он
думает о других».
«Плох тот, кому везде плохо».
«Больше всего надо бояться самих себя:
самый опасный враг наш — мы сами».
«Исказить биографию можно и
действительными фактами».
«Не в силе правда, но в правде —
сила».
Кубаневу была дорога живая и
будничная конкретность, связанная с перспективой
общенародного дела. Его понимание долга
перед народом, его естественная готовность
к подвигу и самопожертвованию никогда не
декларировались, не сбивались на
краснобайство. Он говорил: «Чтобы зажечь, надо
зажечься самому...» И он горел и зажигал.
«Кубанев всегда чувствовал себя
агитатором... — вспоминает один из лучших его
друзей Б. Стукалин.—И это ни в малейшей
степени не было игрой в политику,
жонглированием трескучими фразами. Такова
потребность его души, столь же глубокая и
жгучая, как и рождение стихов».
У Кубанева было много товарищей среди
студентов педагогического училища, в
котором училась его сестра. Он частенько
посещал их, мог часами сидеть с ними в
общежитии, прислушиваться к разговорам и
спорам, бывал на уроках, толкался вместе со
студентами на переменах. Он до тонкости
знал, как живут и учатся будущие учителя,
о чем они мечтаю^ что думают о своей
профессии.
Как-то на одном из уроков учитель
спросил студентку:
«-- Вы читали «Коммунистический
манифест»?
— Немножко.
В классе послышался сдержанный смех.
Громко смеяться стеснялись: многие сами
не читали эту книгу.
Вечером в одной комнате общежития
было особенно тесно. Сгрудившись у стола,
студенты слушали «Коммунистический
манифест». Читал Кубанев.
•— Многое на первый раз показалось
сложным, — рассказывал потом сам
организатор этих чтений, — но в общем
«Коммунистический манифест» захватил всех.
Молодежи стала понятна смелость
революционеров, читавших эту же книгу
подпольно и затем воплощавших ее идеи в жизнь.
И стало неловко, что до сих пор не
прикасались к страницам книги, которую встречали
во всех библиотеках.
В 1940 году Кубанев оставляет работу в
острогожской газете «Новая жизнь» и едет
преподавателем начальных классов в
отдаленный хутор Губаревку. Перелистаем его
дневник тех лет.
«Сейчас, — пишет он, •--• стало модным
говорить о «чуткости». Меня, право,
удивляет и смешит, что в газетах пишут о случаях
чуткости и честности, как будто такая уж
редкость, что человек, найдя чужой
кошелек, занес его в милицию и отдал
дежурному!.. Нет, иная чуткость нужна. Будничная,
обыденная, постоянная, а не «специальная».
Любовь к человеку, забота о человеке
должны пропитывать каждый шаг, каждое
движение любого из нас... Облагородить
человека, человеческий быт, человеческие
отношения — вот что надо сделать
каждому... И для этого прежде всего надо
очистить себя и свои личные переживания,
стремления, мысли, чувства, отношения от
всей вековой копоти, пыли и грязи.
Искренность, прямота, правдивость — вот истинно
человеческие качества...
Не многословием, не клятвами, не
угрызениями совести и прочими красивыми
вещами выражается любовь к человеку, а
действием. Будничным действием. Не надо
смущаться, что ты не можешь совершить
мирового подвига. Мировых подвигов в
одиночку никто не совершал. Великое совершают
120
Михаил Лапшин
многие. Вот истина, которую надо всегда
помнить».
Кубанев — однолюб в личной жизни. Он
был убежден, что настоящая любовь, как и
сама жизнь, дается только один раз. И он
берег эту любовь.
Вот что он пишет в одном из писем к
любимой:
«Почему тебе хочется печалиться? Много
подлости, много грязи в нашей жизни. Но
разве выведешь, разве уничтожишь их
грустью, которая есть не что иное, как
негласное примирение с ними, подчинение им,
вручение себя слепым силам бытия?..
Человек должен быть активным, то-есть,
по-русски говоря, действенным,
деятельным... Действенное отношение к миру —
первый признак человека».
«У нас с тобою, подруженька, — говорит
Кубанев в новом письме, — много всякого
на веку будет: и слез, и радости, и
волненья высокого, и несказанного смятенья. И
счастье не только в радости. Счастье во
всем: и в горе, и в скрежете зубовном, и в
отрешенности, и в покаяниях, и в ошибках,
и в каторжно-тупой боли, которая взялась
невесть откуда и душу собой глушит и
давит. Счастье — в познавании, в понимании.
А понимать можно, только действуя. Всякое
действие, даже самое маленькое, самое
будничное, надо направлять лицом к человеку.
Всегда спрашивай себя: я могу сейчас
сделать вот то-то и то-то. Что из них полезнее
людям, народу моему?Вот это. Значит, это
я и сделаю сейчас. Все для народа...
Принимай близко к сердцу все то, что
происходит вокруг тебя. Стремись своими
силами и своими знаниями слиться с общим
потоком, устремляющимся в будущее.
У нашего счастья — у моего и твоего —
только одна может быть направляющая
линия: борьба за общечеловеческое счастье.
Во имя этой борьбы не жалко жертвовать
ничем своим частным: ни временем, ни
уютом... Для расцвета этого счастья мы и
живем...»
За свою короткую жизнь Кубанев
переписывался не только с любимой, но и с
десятками других людей. Особенно часто он
писал члену литературного объединения при
«Мичуринской правде» Т. В. Шатиловой.
Она сохранила больше двухсот писем
Василия с первого листочка до последнего.
Каждое письмо Кубанева к Т. В.
Шатиловой — маленький трактат не только о
жизни, но и о литературе, и об искусстве.
Нельзя удержаться, чтобы не
процитировать несколько отрывков из этих писем:
«Очистить человеческие отношения от
лжи, от всяких условностей, от всяких
мерзостей; научить людей жить, любить друг
друга, любить жизнь, любить человека —
вот задача искусства; этой задаче должна
быть подчинена каждая строка каждого
художника, каждый его день, каждая его
мысль!..
Надо писать так, чтобы каждая строка
трепетала и горела как живая. Это трудно,
но это возможно. Надо полнее знать людей,
жизнь, мир. Только имея материал на сто
строк, можно написать десяток строк
хороших.
В искусстве может быть только хорошее
и плохое. Середины нет. Посредственное -—
это значит плохое...
Для меня совершенно безразлично сейчас,
доберусь ли я до высот славы. На черта она
мне! Но мне отнюдь не безразлично,
доберусь ли я до высот мастерства. Это цель
моей жизни. И ей я подчиняю каждый свой
шаг. Слава — призрак, предрассудок,
пустой звон. Стать самим собой, стать
художником, добиться полного соответствия
между внутренним богатством души и внешним
выражением этого богатства — это
единственное, из-за чего стоит жить, ибо это сама
жизнь...
Я долгое время ломал голову над тем,
как можно широко и глубоко изучать
жизнь. Сейчас ответ на этот наивный
вопрос я нашел: самый верный способ познать
жизнь — жить. Не обижаться, не
«страдать», не корчить из себя отвергнутого и
непонятого пророка и безвинного мученика,
но жить — жить болями и радостями
Родины, мыслями и делами мира...»
Цельность характера, сцементированного
большой идеей, — вот что все с большей
очевидностью и ощутимостью проступает
по мере знакомства с жизнью Василька,
как его называли близкие и родные.
«Вчера, — пишет он в одном из своих
писем, — был в кино, смотрел «Александра
Невского».
«Александр Невский» перед самыми
глазами поставил мне вопрос: «Что ты
делаешь?». Я впервые, кажется, с животной
какой-то силой ощутил, как велика, как
близка, как ужасна опасность войны,
опасность нашествия на нашу землю кровавых
разбойников. И я спросил себя: «Что ты
сделал? Что ты делаешь? Что ты сделаешь,
чтобы облегчить твоей Отчизне победу в
грядущей битве?». И я покраснел. Мне
было так стыдно, так страшно стыдно в
этот час, когда я пытал себя: «Для чего
же ты живешь, если ты ничего не сделал
для народа, для людей?!»
Перед лицом надвигающейся схватки
двух миров Василий еще требовательнее,
еще строже подходит к своей жизни.
Неугомонность, активность,
оперативность Кубанева особенно сильно
проявились в дни войны. Никогда прежде не
вкладывал он столько запала в свое
творчество, как в то тревожное время. В
первый день войны он, отправляясь в
военкомат, принес стихотворение «К ногтю», в
котором заклеймил разбойничью природу
фашизма.
Несмотря на слабое здоровье, Василий
все время рвался на фронт. Наконец он
добился своего: в начале августа 1941 года
Кубанева провожали в армию. Вася был
весел и радостен. Прирожденный
журналист, он хотел воевать рядовым солдатом
и отказался от работы в газете.
В дневнике, который Кубанев продолжал
вести и в армии, он пишет: «Есть все-таки
♦...СО ВЗОРОМ ГОРЯЩИМ»
121
в военной службе что-то такое, что
наполняет огнем даже мое сугубо штатское
сердце. Вероятно, вся штука в том, что
военная служба позволяет наиболее полно
и ярко проявиться чувству патриотизма.
Если бы мне сказали, что для общего
счастья нужно, чтобы я погиб, — я
беспрекословно согласился бы погибнуть...»
Осенью 1941 года фронт приблизился к
месту рождения Василька — Курской
области. Рядовому пехотинцу Василию Ку-
баневу пришлось участвовать в защите
родных мест. Трудности боевой походной
жизни первого периода войны не сломили
волю Василька, не потушили в его душе
«журналистского огня». Воюя
самоотверженно и геройски, он продолжал писать
стихи. Вот одно из стихотворений тех
дней:
Мой друг!
И ручку, и тетрадь свою
Держать с собою стану я в строю,
Чтоб помнить всюду,
До какой строки
Дописаны заветные стихи,
Чтобы спокойным выстрелом
Закончить песню новую свою.
Но закончить новую песню Кубаневу не
удалось.
Не удалось ему и «выполнить самую
свою заветную думку — дойти до
Берлина». Ранней весной 1942 года его свалила
старая обострившаяся на фронте
болезнь — туберкулез. Тяжело больного
Василька привезли в родной Острогожск.
Здесь, в больничной палате, он снова
взялся за перо. Но силы уже были на
исходе... Через несколько дней он умер...
Умер, не дописав последней
корреспонденции, не дождавшись выхода своей книги.
Война прервала творческие замыслы
Кубанева. А они были масштабны. Самой
главной своей целью он считал создание
серии книг о рождении и победе Советской
власти — книг, в которых была бы
запечатлена художественная история первой
половины XX века. Эти книги он условно
называл «Целое». Во имя «Целого» Куба-
нев, не считаясь со своим здоровьем,
заставлял себя работать каждый час, каждую
минуту. «С завтрашнего дня, — писал он
в дневнике, — изменю свое расписание.
Во-первых, буду ложиться... в половине
второго ночи. Вставать в семь. Нет, это
поздно. Вставать в половине седьмого.
Большее количество часов спать
невозможно. Это значило бы заглушить в себе
всяческую совесть».
Ему не удалось осуществить своих
основных творческих замыслов, но уже и в тех
произведениях, которые Кубанев успел
написать, он проявил себя многообещающим
художником.
«Мне надо прожить пятьдесят лет, —
говорил он, — а за пятьдесят лет я должен
сделать как можно больше и сделать это
как можно большее как можно лучше.
Через пятьдесят лет... меня не будет... А мир
останется. Что важнее: я или мир,
который будет жить тысячи лет? Конечно, мир!
Значит, надо жить для мира, для людей.
Украшать мир благородными делами.
Перестраивать мир...»
Ему не довелось прожить и половины
задуманного. Но, погибнув, он не ушел от
нас. Выходят его книги, звучит его голос—
значит, жизнь солдата и писателя Василия
Кубанева продолжается!..
ГОРИЗОНТЫ
эпохи
А. Софронов. Поэма
времени» Журнал «Молодая
гвардия», М 4, 1970 г.
Новое произведение
Анатолия Софронова «Поэма
времени» — яркое
свидетельство его нежной и
горячей любви к своей земле.
Образ земли, как
первоосновы жизни,
раскрывается в поэме то страстно
публицистически, то задушевно,
лирично. Философские
раздумья автора о жизни
переплетаются с
реалистическими картинами
вчерашнего и сегодняшнего дня.
Образ времени, эпохи, чьи
«страницы шелестят,
железом отдавая опаленным»,
нарисован широко,
размашисто. Многочисленные
лирические отступления,
поэтические повторы,
ритмические перебои, словно
родниковые ручьи, сливаясь,
образуют проворную,
уходящую за окоем стремнину
поэмы.
Черный, траурный снег
января двадцать четвертого
года. Скорбная, оглушенная
прощальным ревом гудков,
стоит у красного ленинского
гроба Россия. Раскаленное
пламя легендарных конар-
мейских знамен, склонясь,
обжигает занесенную
глубоким снегом землю.
Неудержимые, непривычные слезы
на обветренных, задубелых
лицах ветеранов сабельных
атак. Обнаженные головы
стариков, поднесенные ко
лбу троеперстия набожных
старух... И лишь
мальчишка, которому только-только
исполнилось тринадцать лет,
не понимает всего
происходящего. Это герой «Поэмы
времени». Но пройдет год,
и, когда на груди
затеплится маленький ленинский
значок с буквами РЛК.СМ,
он скажет сердцем
выношенные, проверенные
жизнью слова:
Я стебелек
среди других колосьев.
Удивительно точно,
исторически верно определяет
Анатолий Софронов место
своего героя в жизни! Весь
дальнейший ход поэмы
подтвердит эти слова.
Миллионы таких
«стебельков» поднимаются, как
новые всходы на неоглядных
российских полях, — это
новое поколение, о котором
чуть позже поэт скажет, что
их «биографии в эпоху
вплетены».
Докрасна раскален
горизонт кострами новостроек—-
воплощается в жизнь
ленинская мысль, что Россия
из страны
капиталистической будет страной
социалистической. Днем и ночью,
в жару и ненастье растут,
крепнут индустриальные
бастионы первых пятилеток.
Мечта твоя заветная
сбылась:
Надел спецовку.
Это в духе века.
Еще недавно
за мячом ты бегал, —
Теперь — рабочий.
Это значит — Власть.
Постоянное чувство
локтя, заводская закалка и
дружба пробудили в герое
гордость за все сделанное
своими руками.
,..Где-то в чертежах
рождается комбайн =■*
Советский,
до последней гайки свой.
Маленьким, неприметным
определением «свой»
Анатолий Софронов подмечает
такую черту в характере
советского человека,
которая доныне является
загадкой для буржуазных
советологов. «Свой» — значит
«наш», сделанный нашими
собственными руками, без
заморской кабальной
помощи. И это дает герою
основание сказать:
•..Завод, завод!
К тебе мои слова
Я обращаю, полные
признанья,
За то, что дал мне
навсегда права
Считать себя
земли своей хозяином.
Хозяином — значит
гражданином своей страны,
человеком, умеющим
заставить время работать на
себя, сверять свои дела и
помыслы с великими
задачами эпохи.
Ритмическое построение
поэмы Анатолия
Софронова продиктовано мыслью.
Точное, одно-единственное
слово, умело введенное в
строку, делает ее
динамически напряженной.
Герой поэмы прошел все
дороги огневых лет, неся в
руках меч возмездия, тот
самый меч, который
никогда не выпустит солдат-
победитель, взошедший на
пьедестал в берлинском
Трептов-парке. Он перенес
все беды и невзгоды, муки
и лишения. Перенес их
достойно, как бы подавая
немеркнущий пример
грядущим потомкам. А его
ровесники-однополчане
давным-давно распрощались с
армейскими шинелями и
гимнастерками, вернулись
домой и взялись за
мирную, созидательную работу.
Время,
время идет, наступает
на нас.
Мы во власти безжалостной
времени.
Эта светлая человеческая
грустинка как молодая
травка пробивается и
временами живет в сердцах
ветеранов, но ничуть не
расслабляет их, они по-
прежнему полны сил,
продолжая бороться на боевых
рубежах идеологического
фронта.
Я видел мир,
чужие видел земли,
Чужих страстей
неудержимый бег;
1ам в самом сердце
сломан человек, —
И этот мир
мы гневно не приемлем.
Интернациональное
звучание «Поэмы времени»
сегодня как никогда
своевременно. Голос поэта
проносится над всеми
континентами и несет народам
великую ленинскую правду.
НОВЫЕ ШИГИ
123
Сбрасывают со своих плеч
вековое ярмо народы
Африки и Южной Америки.
Братскую руку нашего
народа постоянно чувствуют
освобождающиеся от
колониального гнета
государства. Эта помощь
бескорыстна и надежна. Она будит
в сердцах народов
благодарный отзвук.
Я все прошел,
изведал все пути,
Искал,
терял
и находил все снова,
Но лучшего
нигде не мог найти,
Чем дружбы слово,
чем единства слово.
Анатолий Софронов —
поэт, драматург и
публицист. Его перу
принадлежит немало произведений,
которые прочно вошли в
русскую советскую
литературу. В своем творчестве
он никогда не ищет легких
путей, всегда идет по
самым крутым перевалам
нашей жизни. Подтверждение
этому — его «Поэма
времени».
Николай АГЕЕВ.
ДЫХАНИЕ
РОССИИ
Юрий Грибов, Село
родное. Очерк. Журнал
«Октябрь», № 9, 1969 г.
Тихие острова... Очерки.
«Библиотека «Огонька».
Изд-во «Правда», М.,
1969 г.
Главная тема в
творчестве Юрия Грибова —■
жизнь и раздумья
тружеников современной
советской деревни. И пусть на
обширной сельской ниве
успешно «поработали» уже
многие известные
очеркисты, Ю. Грибов не
повторяет их, он старается
поднять новые пласты
действительности, пишет о земле
и земледельцах по-своему,
свежо и оттого —
современно.
Пристальное наблюдение
за текущей жизнью,
богатый личный опыт
позволяют Ю. Грибову делать
очерки живыми,
интересными, в них слышится
хозяйский голос хлеборобов, их
по-государственному
глубокие раздумья.
И в то же время очерки
имеют яркую
эмоциональную окраску. Автор,
рассказывая о сугубо личном
переживании, пробуждает в
душе читателя схожее с
собственным настроение:
«У каждого, наверное,
бывает в жизни такое:
встанет вдруг перед глазами
вызванное какой-то деталью
милое детство и так
всколыхнет, так растревожит,
такую сладкую боль
разбудит в душе, что ходишь
потом сам не свой, и все тебе
жалко чего-то, терзаешься
и думаешь, что вот годы
проходят, а ты на родине,
где родился и вырос, давно
не был, не радовался
узнаваниям и встречам, не стоял
у дорогих могил...». Так
начинается очерк «Село
родное».
В нем, как и в более
ранних очерках, Ю. Грибов
верен своей манере:
неторопливо, обстоятельно
сравнивает он настоящее
колхозной деревни с прошлым,
пытается всесторонне
осмыслить новые явления в
жизни нынешней деревни.
...Двадцать лет человек
не видел родного села
Бугры. И сейчас, идя по
нему, удивился и
заасфальтированной дороге, и новым
кирпичным домам, и
застекленным на дачный манер
верандам, и ухоженным
садам, телефонным проводам,
телевизионным антеннам,
медпункту, сберкассе,
почте — всего этого раньше
тут не знали... В памятном
для автора тридцать
девятом году на все село
только и был один
самодельный приемник,
установленный местным учителем.
Современный быт села еще
четче оттенил прошлое.
Нет, ничто не оказалось
забытым: ни хрустальные
родники, ни терпкий запах
парного молока по утрам,
ни привычный говор
приуставших к вечеру сельчан.
Пусть иного человека
давно уже нет в живых, но
«память о нем и труд его
живы». Например, отец
автора в свое время пол-
Бугров срубил... И все
говорили о нем ласково,
уважительно: «Золотые руки!».
Настоящими патриотами
колхоза предстают и
первый председатель артели
Комарков, и бывший
дивизионный разведчик, ныне
отец шести сыновей и двух
дочерей, Баранов, который
о наболевших проблемах
села рассуждает так:
«Каждый крестьянин должен
оставить после себя на
земле хотя бы одного
крестьянина, сына или дочь,
чтобы корень опять ветки
пустил». С таким
утверждением соглашаются
умельцы — кузнецы Фирулев и
Стрижов, механик
отделения Лощилов, остальные
колхозники. И симпатии
автора на их стороне.
Свято чтут сельчане
память тех, кто сложил
голову во имя счастья ныне
живущих. Проникновенно,
взволнованно пишет Ю.
Грибов о простом
четырехгранном обелиске, на котором
лесенкой сбегают фамилии,
выбитые золотом. Сто
двадцать дворов в деревне —
девяносто два имени на
обелиске... С болью в
сердце и глубокой верой в
торжество справедливого дела,
ради которого гибли
крестьянские парни, автор, как
на солдатской поверке,
произносит: «...и не верится
мне, что нет больше Во-
лодьки Араева. Не верится,
что где-то в далеких
землях лежат пятеро
Шолоховых, пятеро Страховых,
четверо Лощиловых, братья
Кудряшовы, отец и сын
Стрижовы, Барановы,
Курицыны, Тютеловы, Земсковы,
Фирулевы, Емельяновы, Чаг-
лавские, Шулаевы...».
Современная деревня
далеко ушла от минувшей
патриархальщины: лучина,
скрипучая телега да
глухое бездорожье... Все эти
«прелести» кондовой Руси
давно канули в прошлое.
Деревня сегодня уже
прочно и бесповоротно вступила
на рельсы
индустриализации, взяла верный курс на
освоение всех культурных
достижений эпохи. Сельские
труженики управляют ныне
не лошадьми да волами, а
умными машинами, и сами
ребята много грамотнее
124
НОВЫЕ КНИГИ
своих отцов и дедов...
Таково знамение времени.
Ю. Грибов — очеркист
широкого общественного
кругозора. Страстные и
сокровенно-правдивые слова
говорит Ю. Грибов в
защиту природы, потому что
она, «как музыка и книги,
воспитывает человека,
делает его душу светлее,
гуманнее...». Вера в лучшие
начала человека-труженика,
вера в непоколебимость и
могущество советских
основ жизни нашей
деревни — все это красной
нитью проходит через
очерки Ю. Грибова, делает их
по-народному мудрыми, по-
партийному
принципиальными, их можно без
преувеличения назвать
гражданской исповедью героя
нашего времени.
Недавно вышедшая в
«Библиотечке «Огонька»
книга Ю. Грибова «Тихие
острова...» продолжает
тему прежних очерков и
открывает новые грани в
творчестве автора.
...Ценою своей жизни
коммунист Иван Залита
спас от смерти двадцать
детей... Вместе со своими
товарищами Беловым,
Шляпниковым, Хоревым и Гала-
ховым Залита принял
мученическую смерть от белых
банд Пермикина и Булак-
Балаховича. И теперь
называют острова Псковского
озера дорогими именами
погибших здесь первых
коммунистов.
Достойными преемниками
дел Ивана Залиты и его
боевых товарищей стали
сегодня и Николай
Хохлов, председатель здешнего
сельсовета, в годы войны
оборонявший остров от
немецко-фашистских
захватчиков, и Татьяна Кочевина,
председатель колхоза, и
молодая рыбачка Нина Троша-
нова, и другие островитяне.
Главное их занятие — ловля
снетка, невзрачной, с
мизинец всего рыбешки,
которая водится «в считанных
водоемах мира, вкусна
необыкновенно и является
для здешних островных
рыбаков основным
промыслом». И пускай острова не
обозначены на большой
карте, от мира стоят как бы
в стороне, но все равно
это — «кусочек России,
кусочек всей Родины».
Грибовским очеркам
свойственна образность,
краткость, эмоциональность. В
них переплетаются
художественная проза и
взволнованная публицистика.
Глубинное дыхание
России слышится в очерках
«Королева русской песни»
(рассказ о певице Людмиле
Зыкиной), «Жители лесного
домика» (о лесничем
Степане Кузнецове и его
семье), «Ефрейтор сибирской
магистрали» (история
трудовой жизни обходчика Си-
доркина)...
Очеркисты такого .склада,
как Ю. Грибов, всегда в
поисках, всегда настойчиво
и пристально смотрят в
завтра нашей страны.
Н. БУХАНЦОВ.
ДОБРЫЕ
СТРУНЫ
Владимир Михалев. Оклик.
Стихи. Изд-во «Советская
Россия», Москва, 1970 г.
Сколько бы ни выходило
ежегодно поэтических
томов, «вал» в поэзии
никакой самостоятельной цены
не имеет. Основной,
читательский, отбор идет по
линии качества
стихотворной строки. Но бывает,
что в потоке серых, не
несущих никаких открытий
произведений рискует
затеряться и незаурядная,
своеобычная книга, — особенно
если имя автора пока еще
не известно. Хочется
верить, что с первым
«столичным» сборником
белгородского поэта Владимира
Михалева «Оклик» этого не
случится. По той причину
что, как справедливо пишет
в предисловии к книге А. Ме-
жиров, «у Михалева
характер мышления —
поэтический. Ткань стиха —-
мыслящая, сугубо и неотступно
мыслящая. Почти любая
строка в его лучших
стихотворениях начисто лишена
словесных пустот...».
На первый взгляд, мир
образов Михалева может
показаться ограниченным.
Но тут невольно
вспоминаешь чей-то совет
художнику: смотри на
«обыкновенный» камень, пока не
увидишь, не откроешь в
нем нечто, чего никто не
видит, — и тогда пиши. Так
и Михалев — о
банальнейшем жаворонке создает
миниатюру, которая говорит
о высоком умении поэта за
очевидным, внешним
разглядеть сокровенное,
главное:
Гнездо вверх дном,
Птенцы запаханы!..
Вспорхнул и канул
в небосвод,
Надрывно охает и ахает.
А люди думают —
Поет!
В. Михалев в
большинстве случаев успешно
избегает греха описательности,
созерцания. Глубокая мысль
может (и должна)
содержаться и в подтексте
самой что ни на есть
«пейзажной» лирики. Даже не
искушенному в философии
читателю ясен второй,
человеческий, смысл михалев-
ских «Листьев»:
Листья осенние бродят
в рассеяньи,
Лаской вчерашней и
зноем пропахшие,
Тычутся в травах,
Ищут, опавшие,
Кровные зори лета
пропавшего:
В недоумении листья
осенние. „
Многие найдут за этими
музыкальными строками
соответствие своему
настроению. Истинная,
неоднозначная поэзия способна будить
самые запрятанные добрые
струны в человеке, о
которых и сам-то он порой не
подозревает.
А в ином стихотворении,
казалось бы, имеются все
приметы действенной,
активной позиции автора: и
речь идет о труде, и
современная техника фигурирует.
Стихи же созерцательны,
поскольку нет поэтического
открытия, а есть риторика,
внешние черты
«социальности». Можно встретить
такие стихи и у Михалева:
НОВЫЕ КНИГИ
125
На шкворне спаренные
сани —
«ДТ> натужного союз.
И в полушубках эти парни,
И этот урожайный груз...
Услышишь у В. Михалева
и слишком идиллические
нотки в изображении
нынешней деревни.
Но для автора такие
строки не характерны. И о
труде (едва ли не одна из
самых трудных поэтических
тем!) он умеет писать
свежо, по-своему раскрывая и
прекрасное в работе, и
работу, как главный путь к
прекрасному. Тут можно бы
процитировать многие
строчки, посвященные
деревенской страде:
Под ногой отава тает.
Повторенная трава...
Подбирай, пора крутая,
Выше локтя рукава!
Только человек, для
которого все это — жизнь, а
не «материал для стихов»,
мог без тени
сентиментальности написать о
трактористе, растроганном
встречей с первым
подснежником; о бедовой,
сомкнувшейся толпе цветущих
подсолнухов, приветно
машущих землепашцу; о том, что
к страдному вечеру
«излишним ворохом соломы горят
в закате облака»; и как
«пахнет пашня дымным
караваем, надвое разрезана
тропинкой»; и как бредили
о туче поля, «от зноя
изнывая»:
Она пришла
Как бы с повинной,
Без молний, тихо пролилась.
И пили взгорья и долины,
Хлеба захлебывались
всласть.
Поэтический смысл
исконного и по-нынешнему
машинизированного деревенского
труда Михалев раскрывает
изнутри, убедительно, без
тени декларативности.
Поэтика его «вырастает»
прежде всего из сельской
традиции, сельской природы.
Но было бы неверно
сводить литературную работу
Михалева к одной
«деревенской» теме. Он обращается
к истории и, кстати
сказать, создает удивительно
живую, тончайшую
стилизацию, названную им
«Старинная песня». Он, конечно
же, пишет о любви, — это
стихи светлые,
целомудренные, порой пронизанные
светлой, чуждой надрыв-
ности грустью... Подкупает
высокое, неизменно
уважительное отношение поэта к
женщине, особенно
проникновенно звучит
возвращающийся мотив материнства.
Хороший поэт вырос на
белгородской земле.
Последнюю страничку его
сборника переворачиваешь с
сожалением, — и
возвращаешься назад, снова
вспоминаешь родниковые,
запавшие в сердце строчки —
«искры неба во ржи».
Что ж, будут новые
стихи — будут новые книги,
хотя Владимир Михалев
работает, пишет медленно и
трудно, с крестьянской
настойчивостью отбирая
зерна истинной поэзии.
А. ПОТАПОВ.
ЛЮДМИЛА
ЩИПАХИНА
РАЗГОВОР С МУЛЛОЙ
В среду около мечети
Я спросила у муллы:
«Как избавиться на свете
От завистливой молвы!».
И мулла, служитель божий,
С взглядом мрачным точно ночь,
Мне сказал: «Аллах поможет!
Если вздумает помочь...».
А в четверг с лицом зловещим
Я к мулле пришла чуть свет:
«Муж мой слишком любит женщин2
Срочно дайте мне совет!».
И сказал мулла, заахав.
Чем-то явно раздражен:
«Магомет, пророк аллаха,
Сам имел десятки жен!».
Я воскликнула: «Для веры
Это истинный позор!
Эти мерзкие примеры
Вносят в общество раздор!
И к тому ж — поступки эти
Развращают молодежь!..».
«Бисмилла! — мулла ответил, —
Что ты, дерзкая, плетешь!
Не видать тебе удачи!
Всех грехов не замолить!
Ты, рожденная судачить.
Как осмелилась судить!».
И ушел, твердя без страха
Свой заученный урок:
«Бога нет, кроме аллаха,
Магомет — его пророк!».
МИХАИЛ
ГЛАЗКОВ
ШТУРМОВЩИНА
Иван Иваныч мается,
От думок — лоб в поту.
Сплошные неурядицы
Теперь в его быту.
Пришел голодный с фабрики.
На кухне — ни шиша.
Сидит, грызет сухарики
С водичкой из ковша.
Иван Иваныч бесится,
А жичка говорит:
«Еще начало месяца,
Еще, чай, не горит.
Поди, и сам на фабрике
Не очень-то спешишь...»
Он хрупает сухарики —
Ну что тут возразишь!
И жаловаться некому,
И спорить не с руки —
Вторую пятидневку
В цехах стоят станки,
Стоять им две декады,
Уж так заведено.
Ударные бригады
Шуруют в домино.
Потом, к исходу месяца,
Вся цеховая рать
Начнет, как будто взбесится.
Заданье штурмовать.
... Иван Иваныч мается,
От дум — лицо в поту.
Сплошные неурядицы
Заладили в быту.
АКУЛИ ИЗ «СТРОЙТРЕСТА»
Акуля, что шьешь не оттуля?
А я, батюшка, еще пороть буду!
(Из фольклора).
Покрыли улицу асфальтом.
Ушли тяжелые катки.
А через час трескучим альтом
Застрекотали молотки.
Долбят асфальт, корежат, роют.
Понатаскали труб и плит.
— Шуруй, братва! Ломать — не
строить.
Душа нисколько не болит.
И лишь умолкли молотки.
Пришли опять сюда катки...
По слухам, здесь потянут скоро
То ль газо-, то ль водопровод
«Шарашмонтажкопайконтора»
И «Тяп-ляп-рой-ворочай-вод».
ЮМОР
127
НИКОЛАЙ
КУЛАК
Николай Сидорович Кулак родился в селе
Белоцерковцы Полтавской области в 1930
году. Окончил факультет журналистики
Киевского университета. Печатался в
журналах «Молодая гвардия», «Нева»,
«Крокодил», «Наш современник».
Живет во Фрунзе,
Литературные пародии
МИРОВЫЕ РИФМЫ
На станции Семхоз
Я увидел
Семь коз.
...просто рифма мировая
На короткой шла волне .
.. Сам Андрюша Вознесенский
Позавидует такой:,
Семхоз —
Семь коз!
Марк Лисянский.
Еду ночью в электричке
В Люберцы — недалеко.
Заполняются странички
И свободно, и легко.
Вдохновенье не впервые
Путешествует со мной.
Рифмы просто мировые
Шли могучею волной:
Пень — • корова,
Лапоть — груша.
Атом — черт,
Коза — штаны.
Роберт, Женя и Андрюша
Черной зависти полны!
ПОЛУСТИХИ
О вековая наша участь =*
полубеда, полувина.
>..Полусомненье, полупоиск...
Татьяна Кузовлева.
Полуищу, попутеряю,
Полубреду, полудыша.
В полубеду полуныряет
Полуневинная душа.
Полугляжу полуукрадкой
В полусвое полутрюмо,
Полупишу в полутетрадке
Полутатьянино письмо.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СВИСТ
Припоминаю, это было,
когда осенний падал лист,
я повстречалась, полюбила
и выбежала на свист.
...И что-то вслед кричала
мама
на древнерусском языке.
.. Потянуло о простом
сложно говорить.
Лариса Васильева.
Осень... Первая любовь
С Ваней-трактористом.
Обходилась я без слов,
Говорила свистом.
— Любишь? Любишь или нет! —
Он спросил по-русски.
— Да! — свистела я в ответ
Сложно, по-зулусски.
В свисте был буту, санскрит,
Вахехе, кикуба...
Кру... А Ваня говорит:
— Ну зачем так грубо!
— Да, люблю! — свищу ему
Проще, по-хакасски.
Он же молвил:
— Не пойму
Этой свистопляски!
Пруд осенний замерзал...
Ваня огорчился.
— Эх, свистулька ты! — сказал
И навеки скрылся.
Я грущу, его ищу
И зимой, и летом.
Уж по-всякому свищу —
А Ванюшки нету...
128
ЮМОР
АЛЕКСАНДР
БРОДСКИЙ
ГОЛОСА ДЕТЕЙ
К родителям Славика приехала их
знакомая, пожилая женщина. Она спросила
Славика;
— Сколько тебе лет!
— Семь. Но мне и десять будет. И
пятнадцать...
— А вот мне пятнадцать, увы, не будет!
— Потому что вы уже изрослй!
Людочку спросили:
— Ты у мамы одна!
— Нет.
— А кто еще есть!
— Две соседки!
— Толик, ты ли это! — недоумевает
мама. — Штаны рваные, грязные, говоришь
хриплым голосом...
— Я учил нашего Рекса бегать и лаять!
— Кого ты больше любишь: маму или
папу! — спросили Ростика.
— Папу.
— Почему!
— Ему некогда меня наказывать!
* * *
— Папаг — спрашивает Витя, — кто такой
тунеядец!
— Человек, который не работает, а ест...
— Папа, возьми меня завтра с собой на
завод!
# * *
— Посмотри, мама, — говорит Лорочка,—
какие узоры нарисовал на окнах мороз.
Интересно, где он берет такие холодные
карандаши!
# * *
— Папочка, — спрашивает Любочка, — у
меня есть голос!
— Нет.
— Значит, я пою не своим голосом!
* * *
Славик спросил маму:
— А снег — это тоже дождь, только
замороженный!
г. Кцев
ИЗ ИНОСТРАННОГО ЮМОРА
Жизнь в мире книг.
Если у ведьмы загорится метла,,